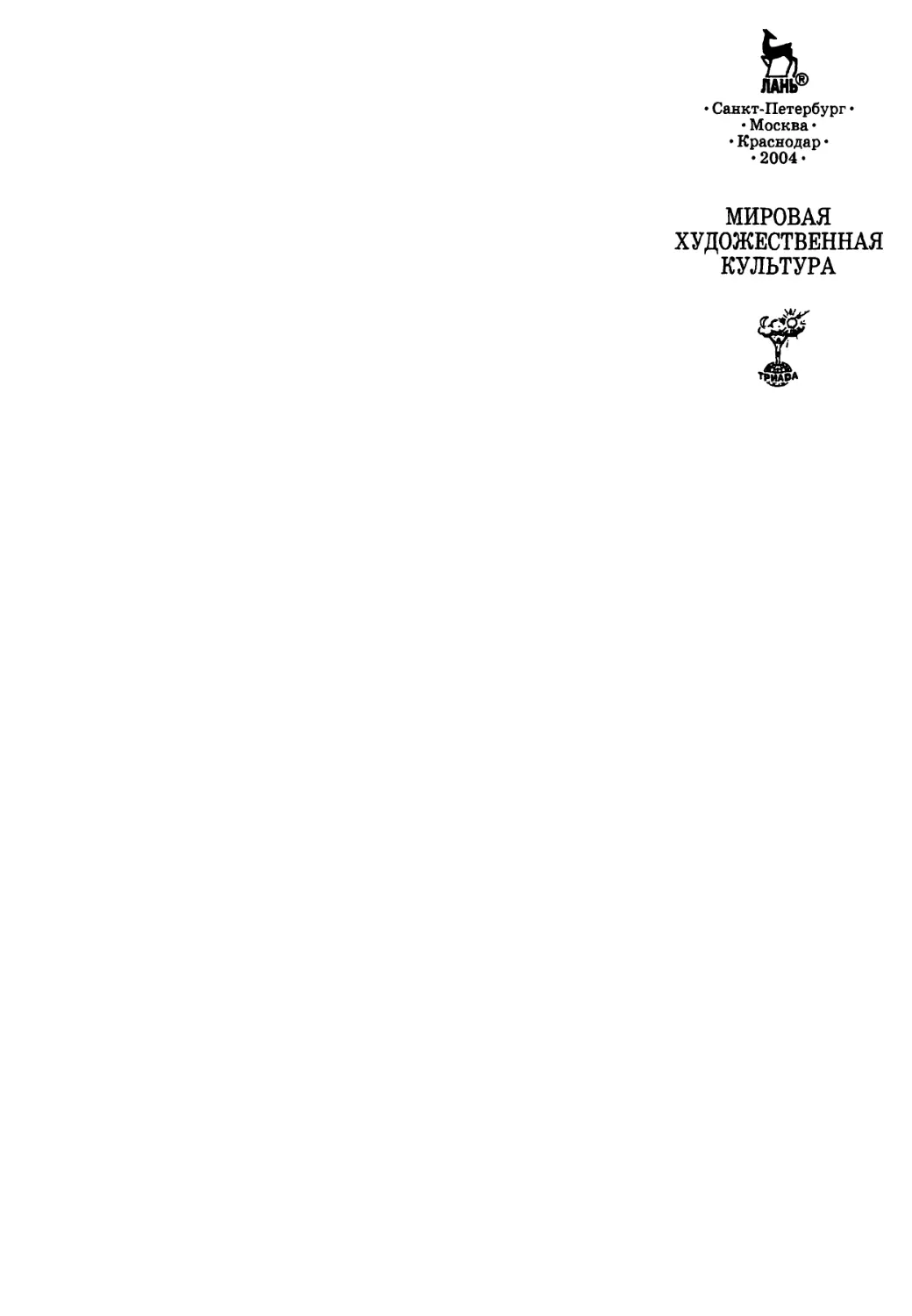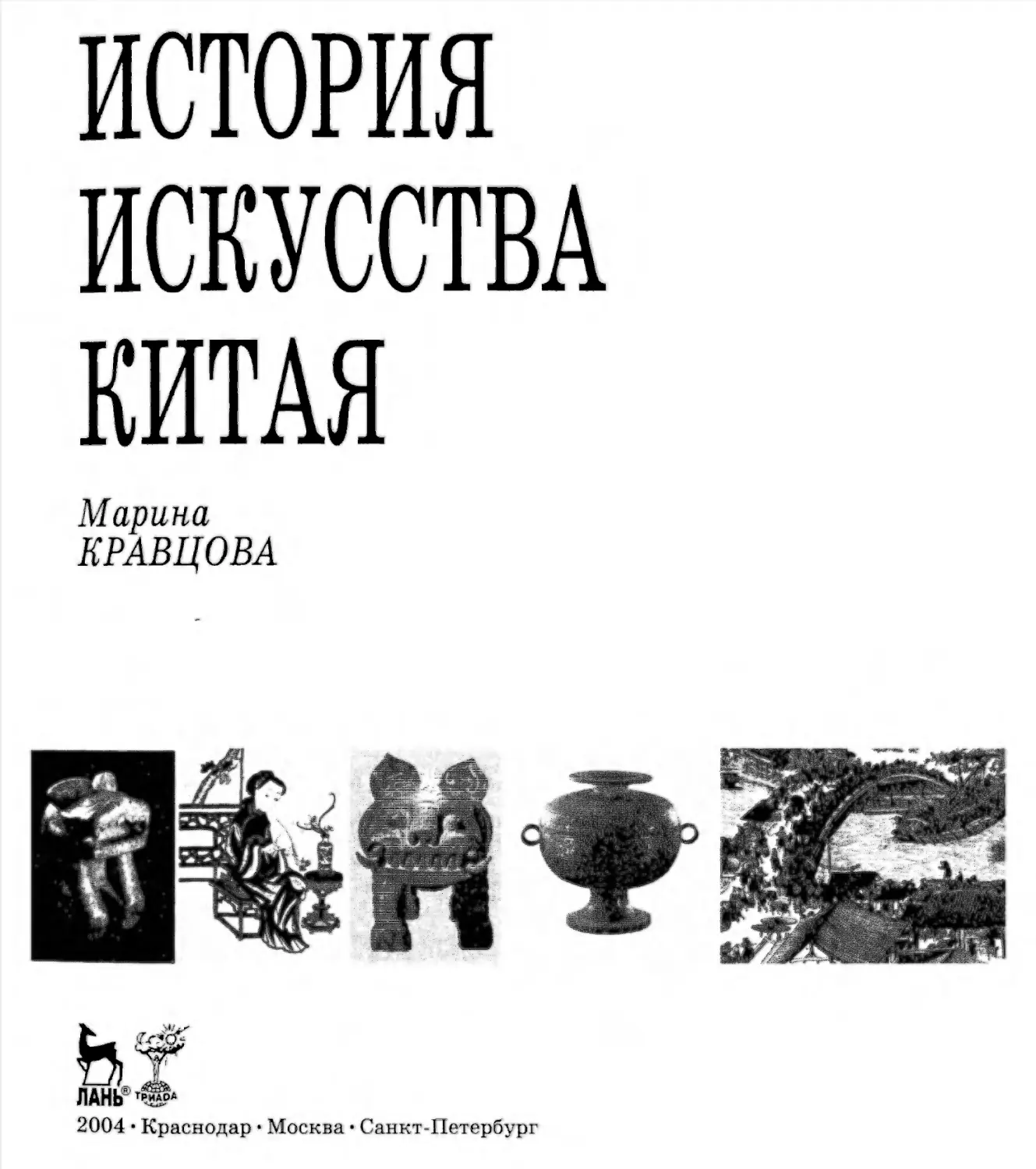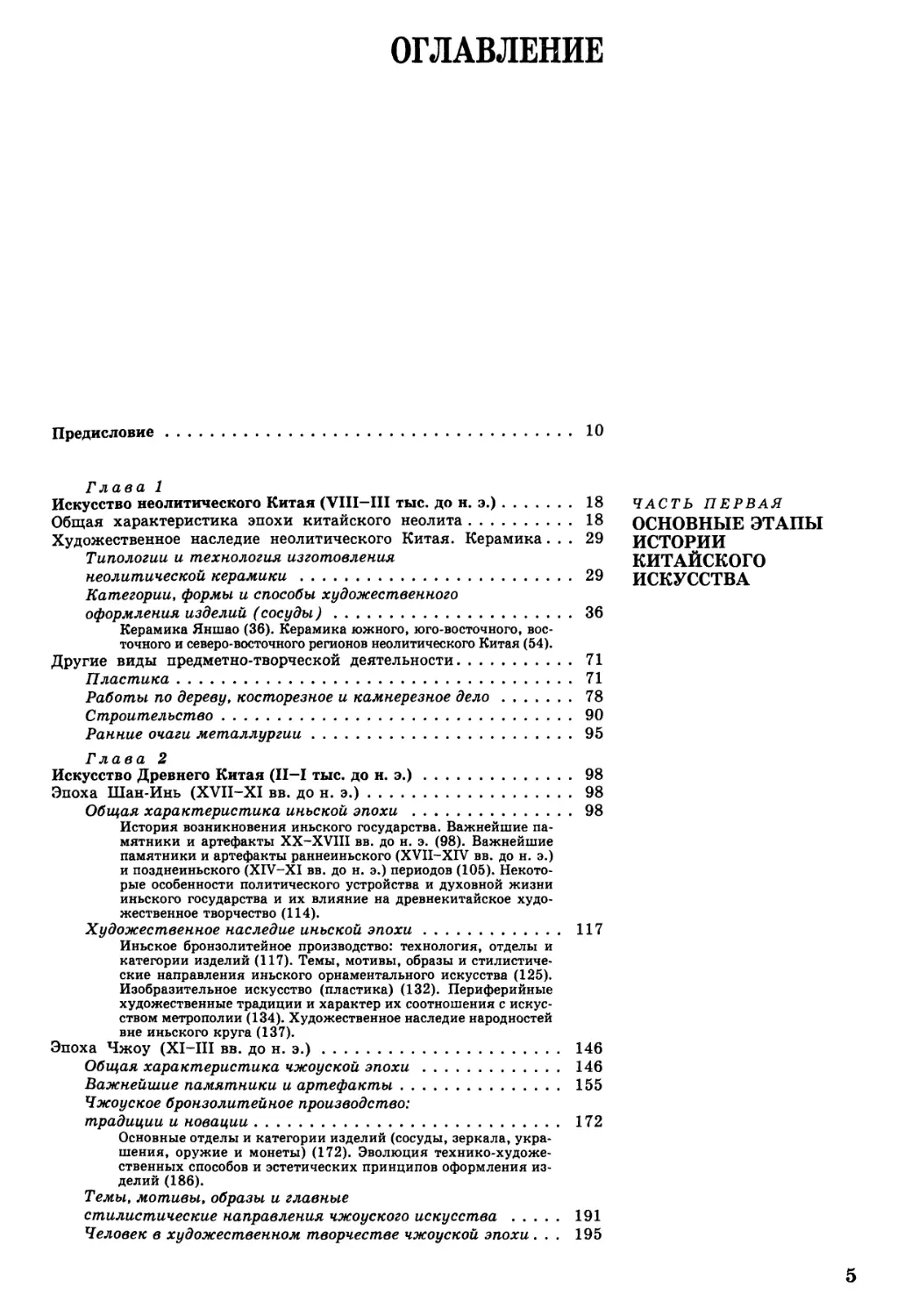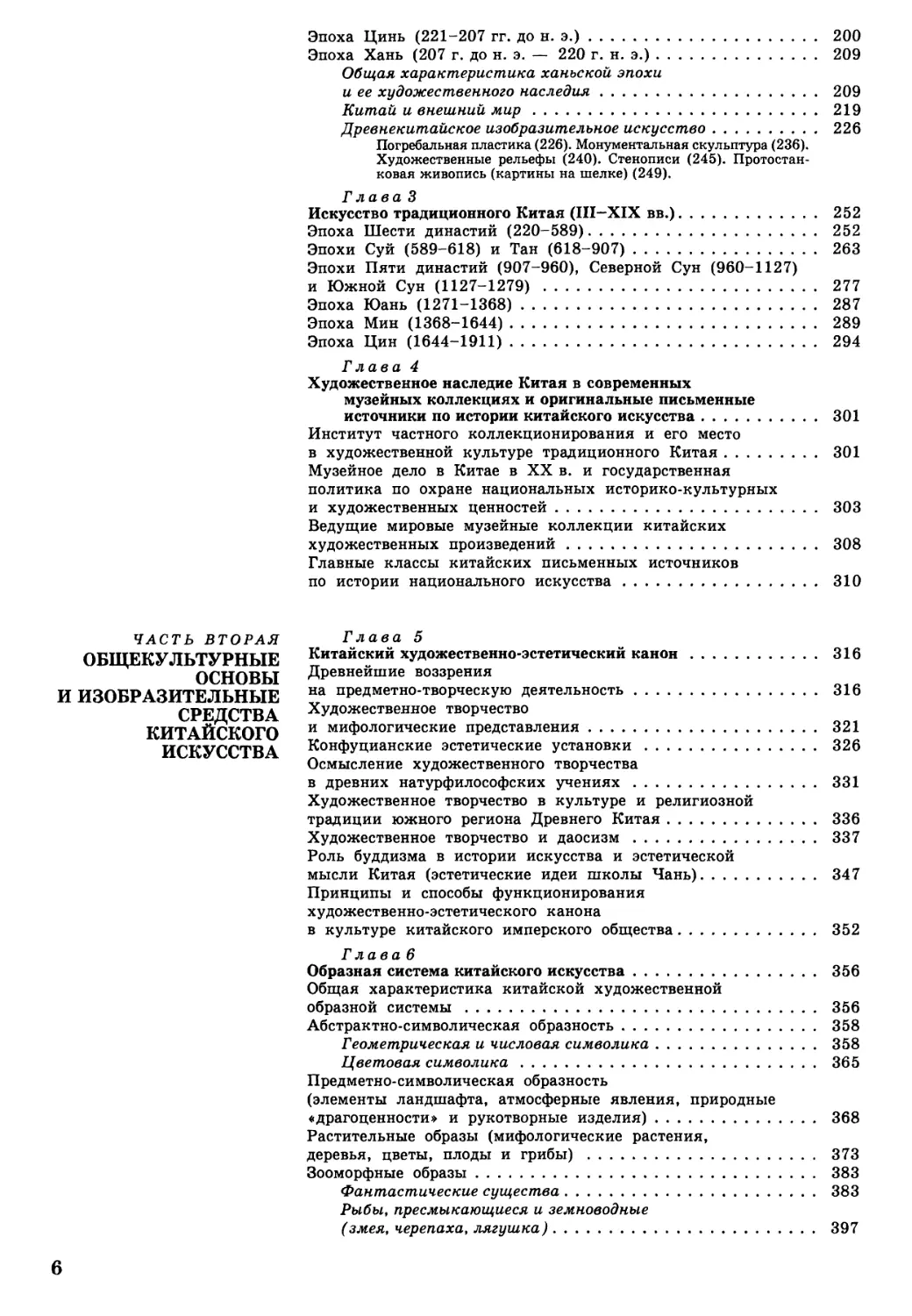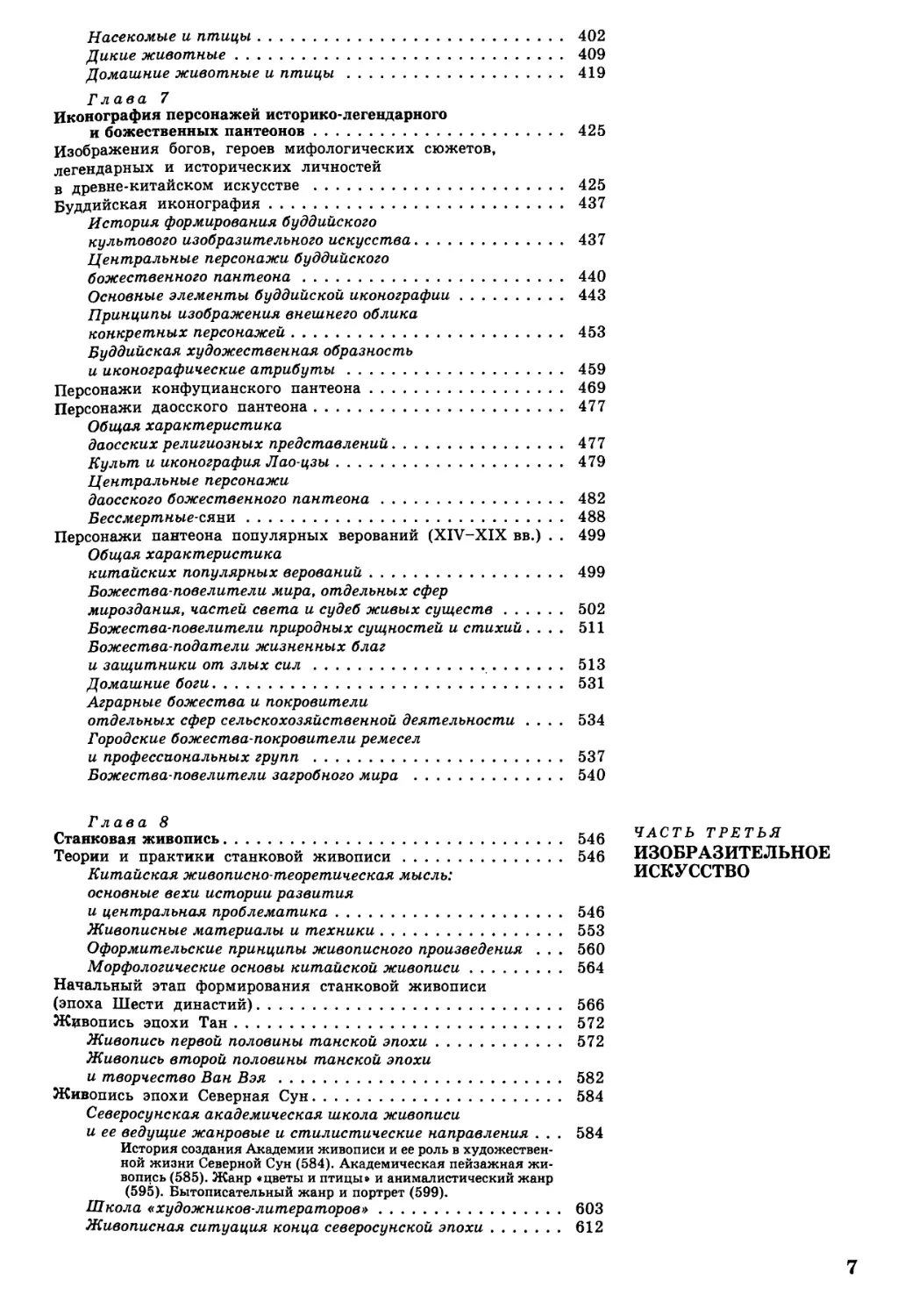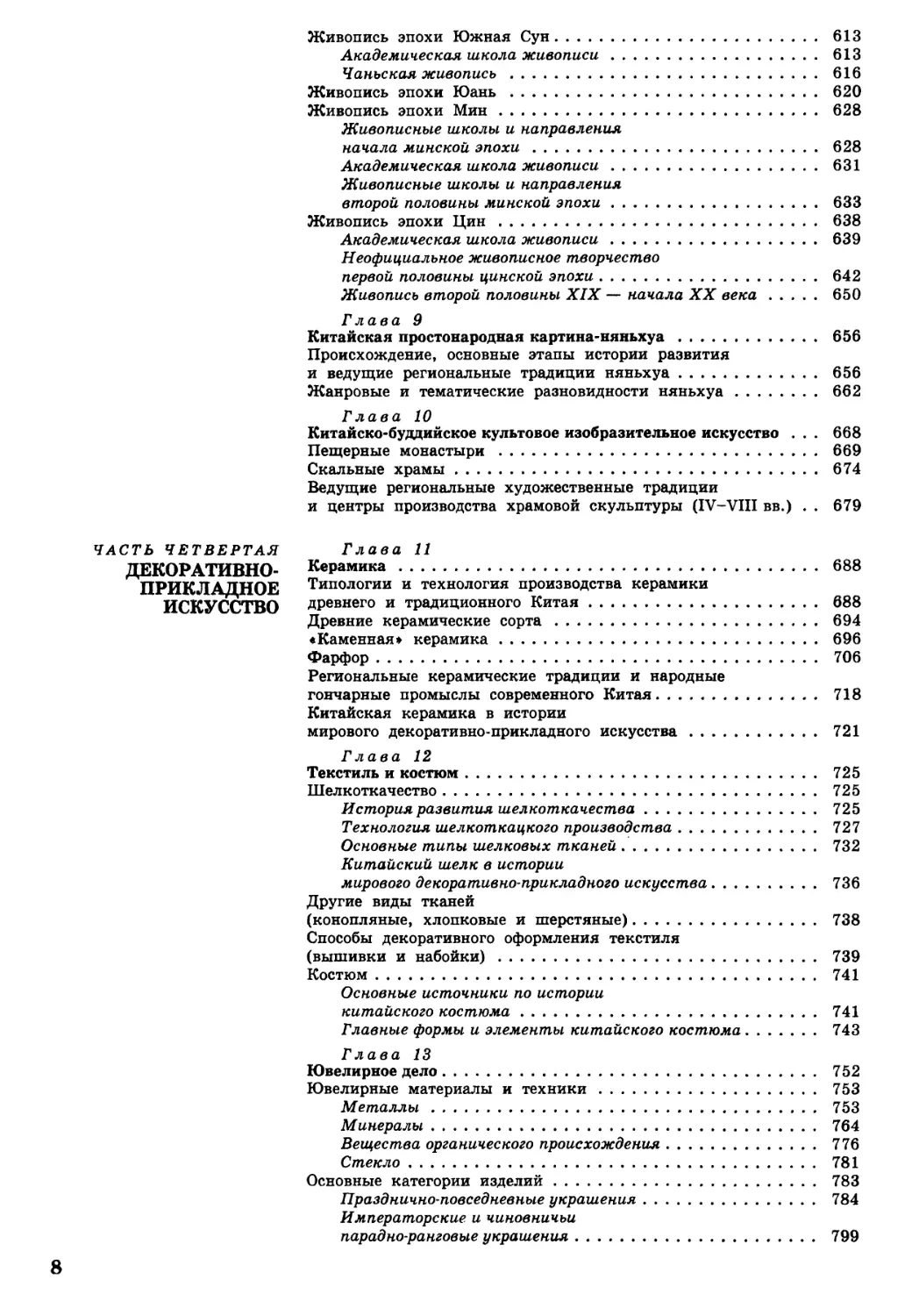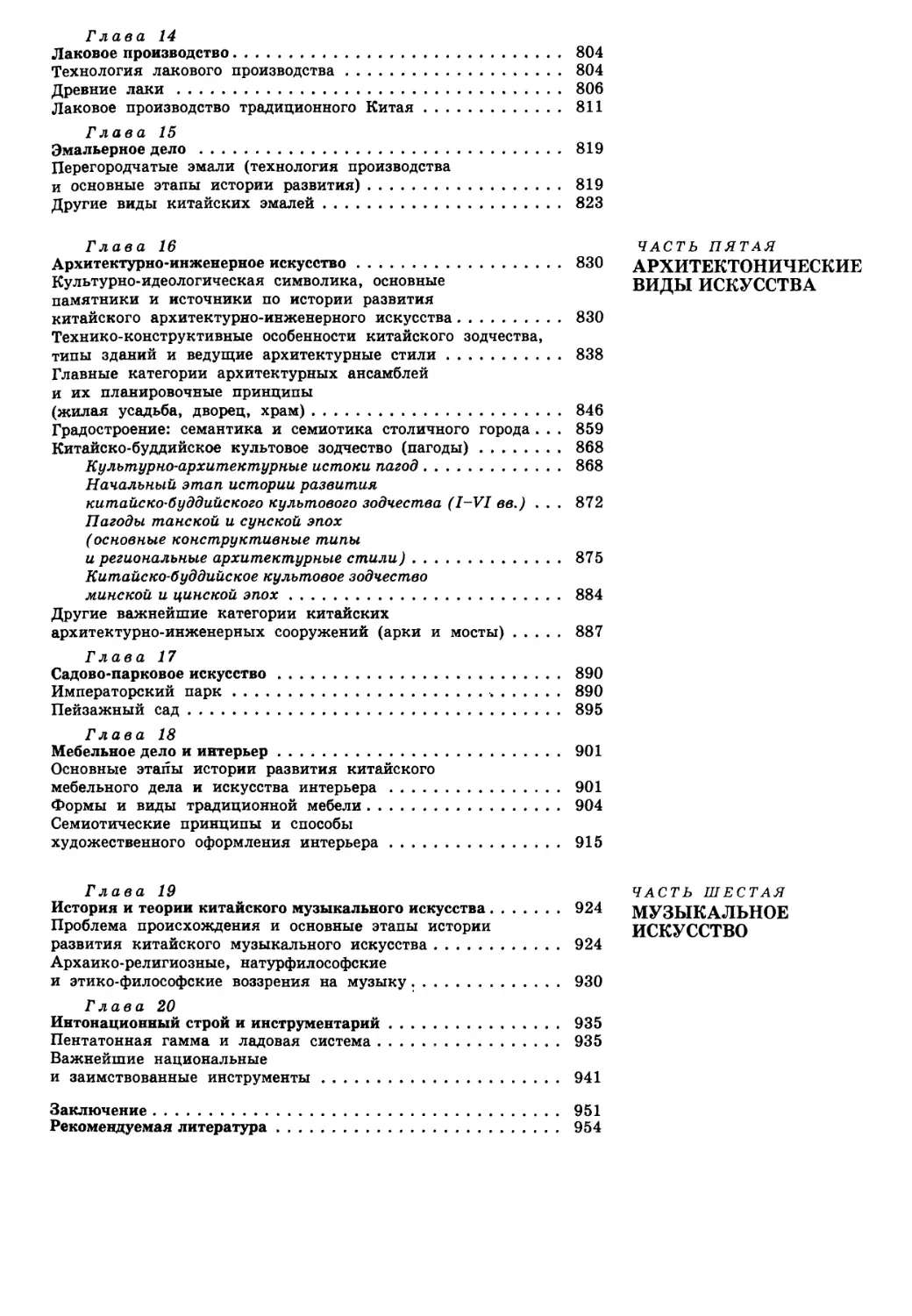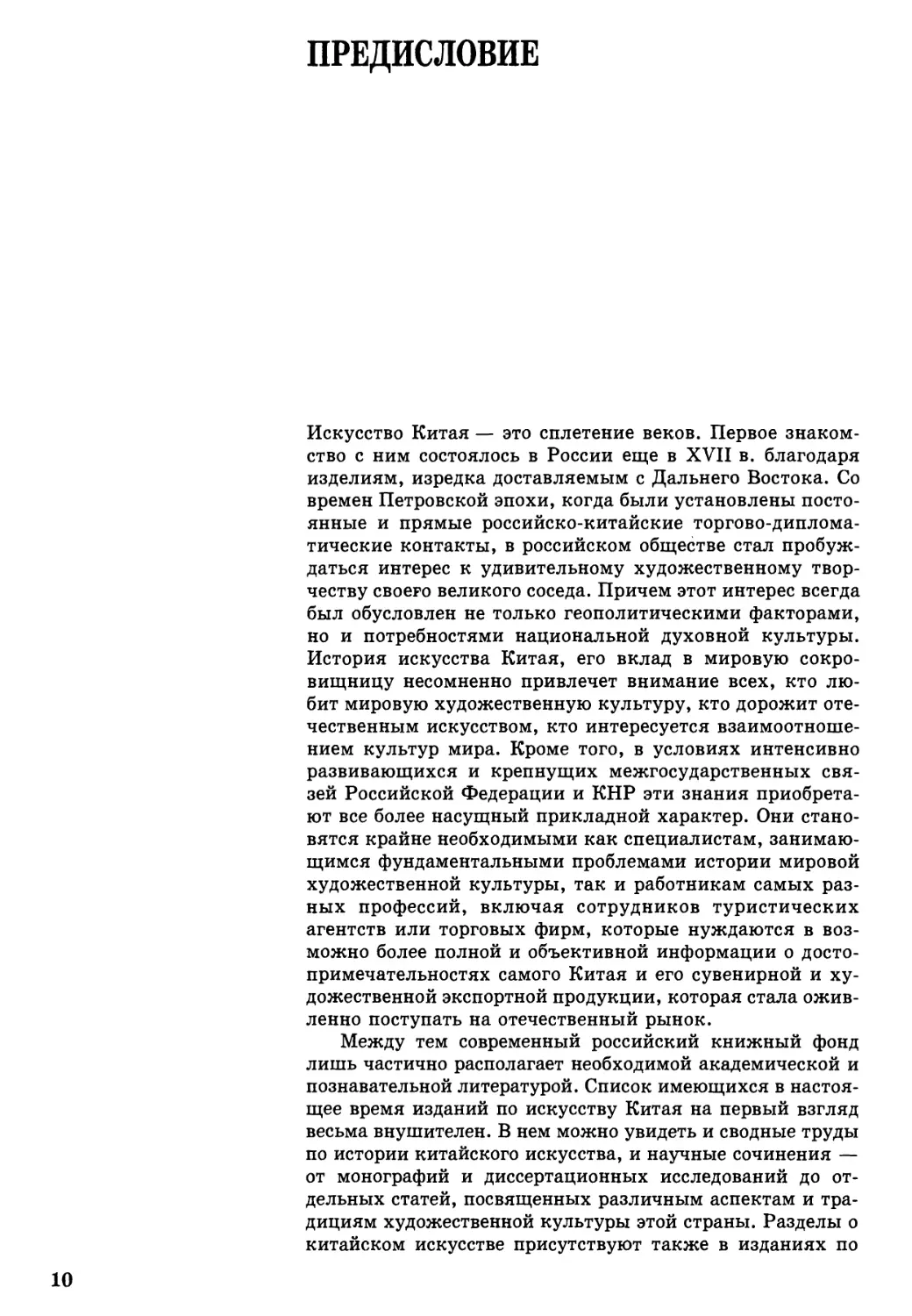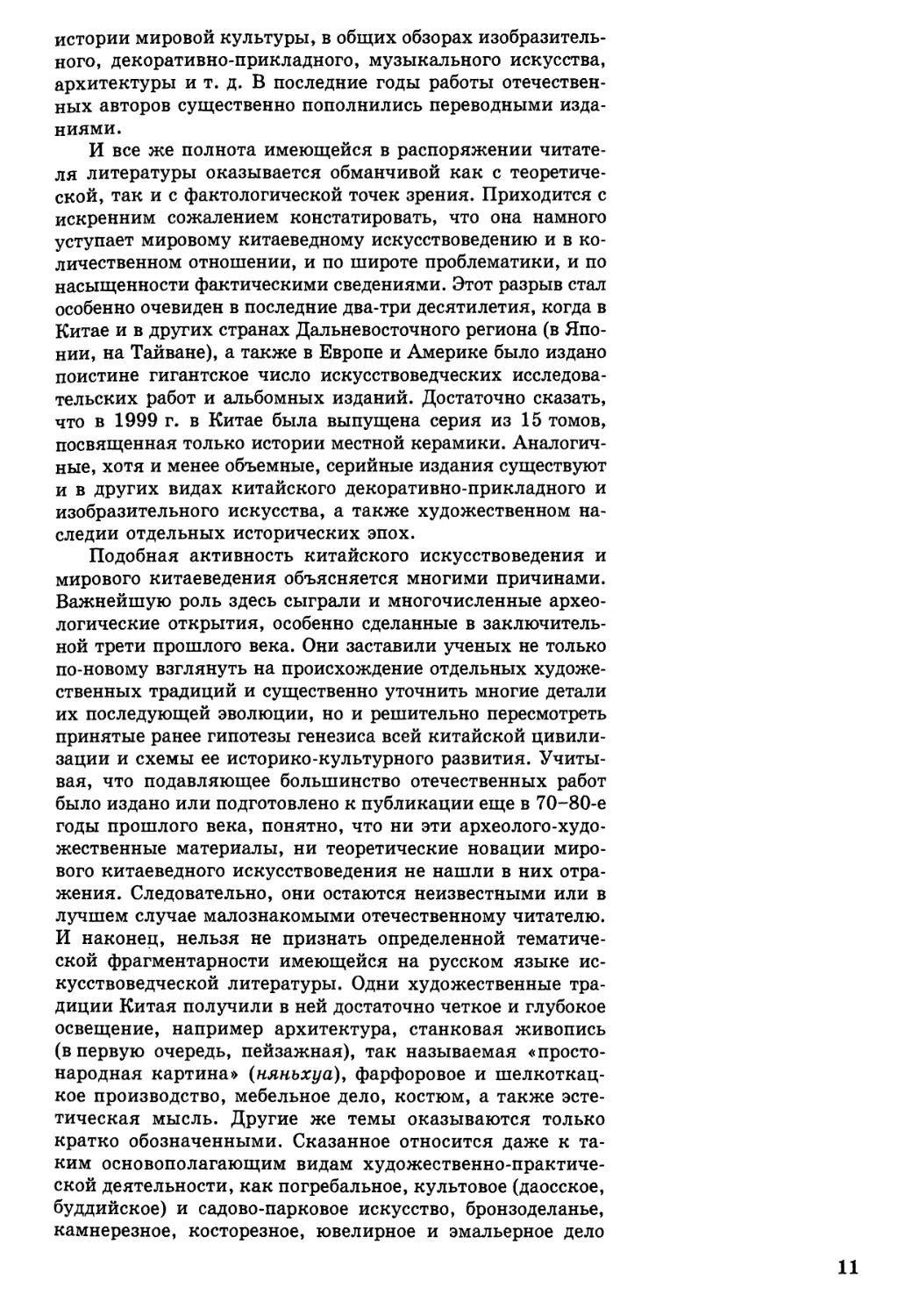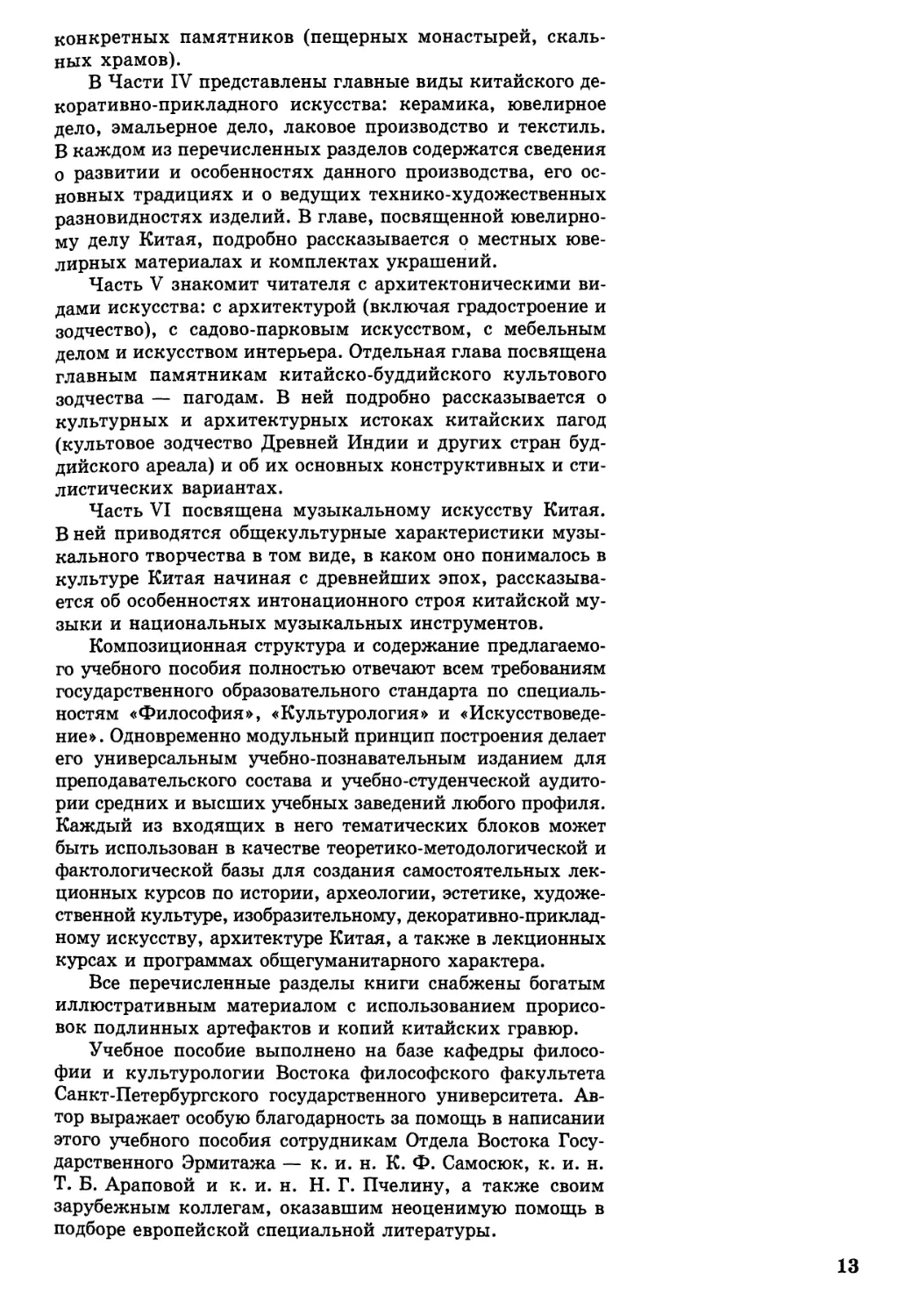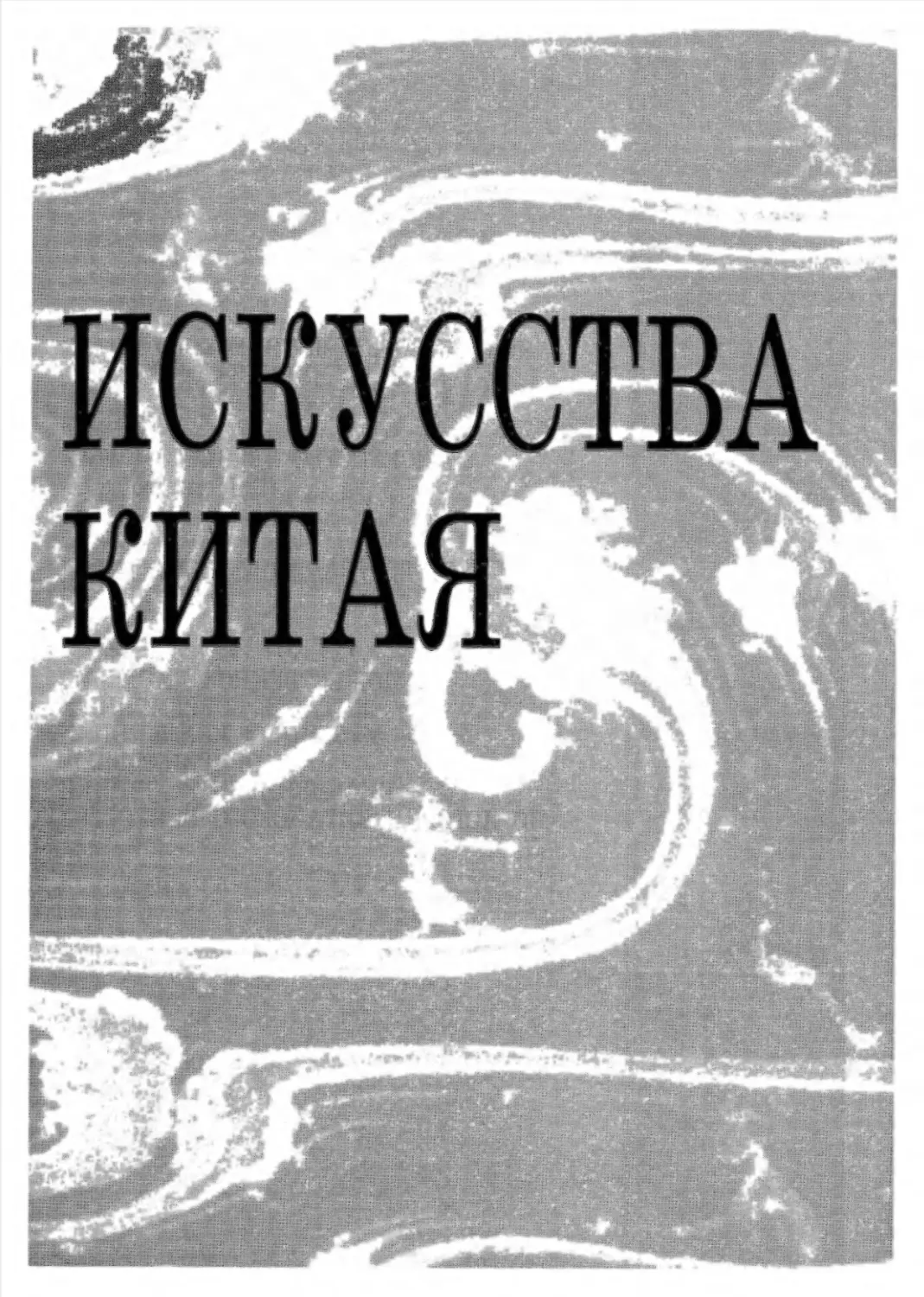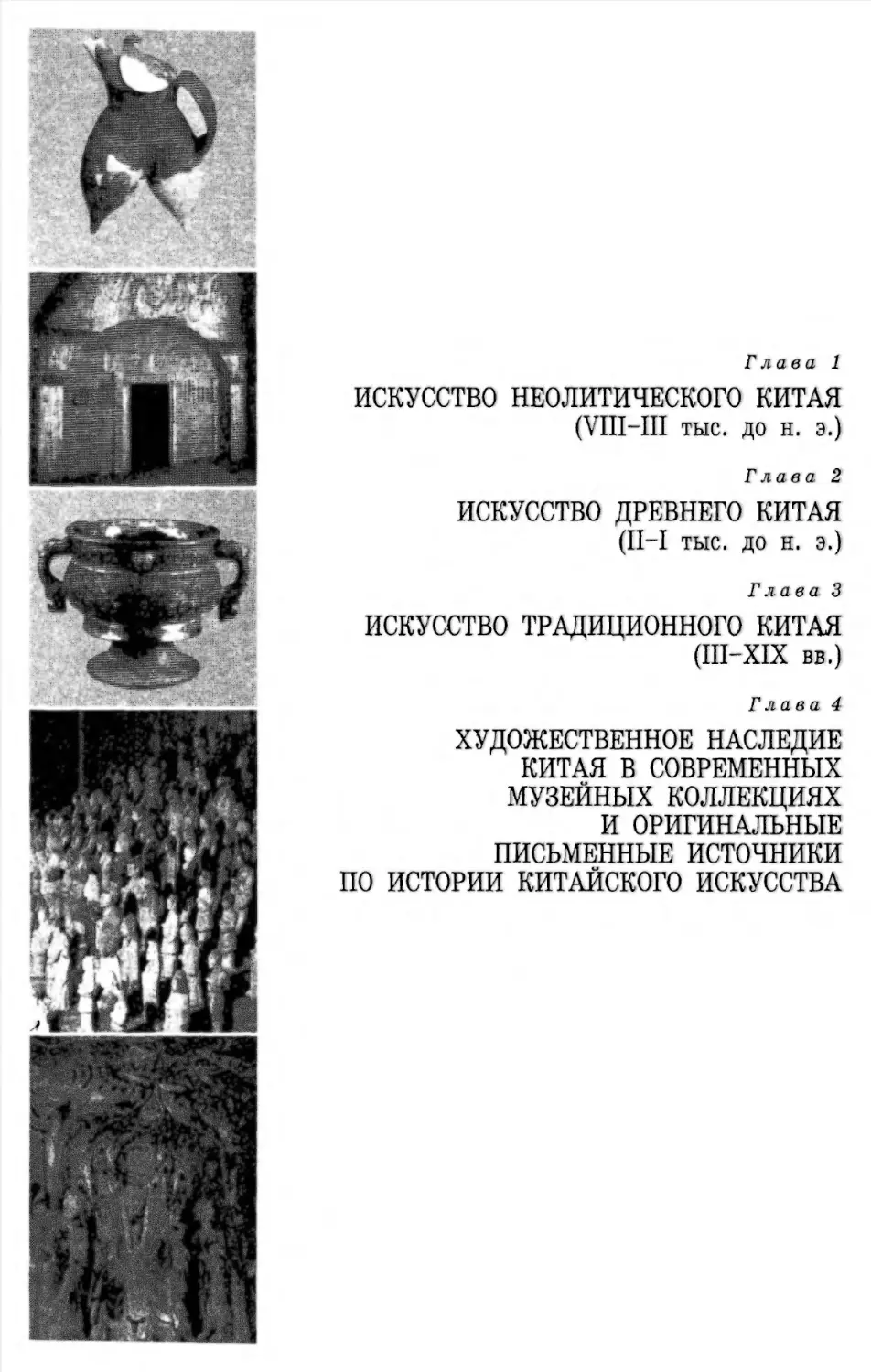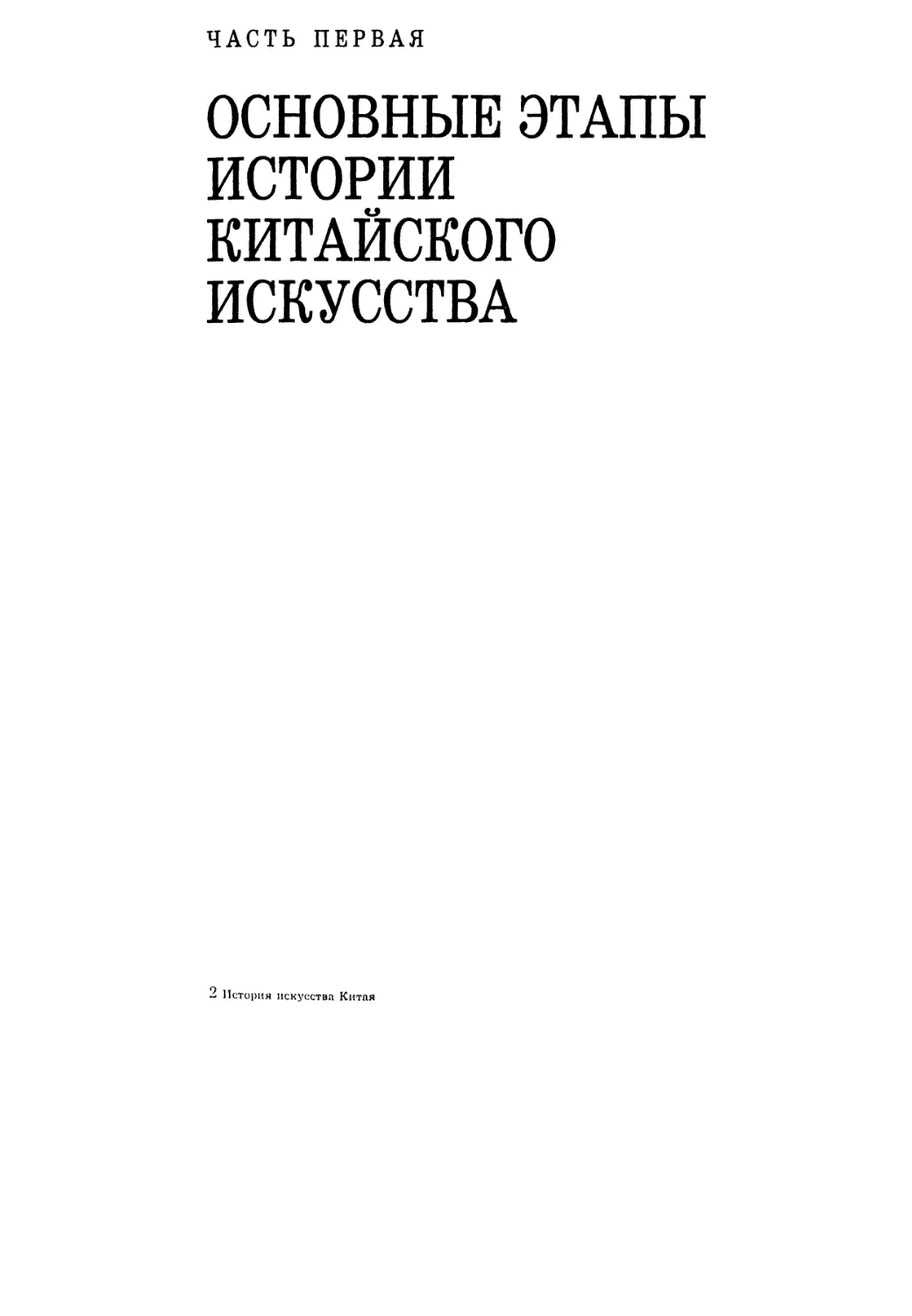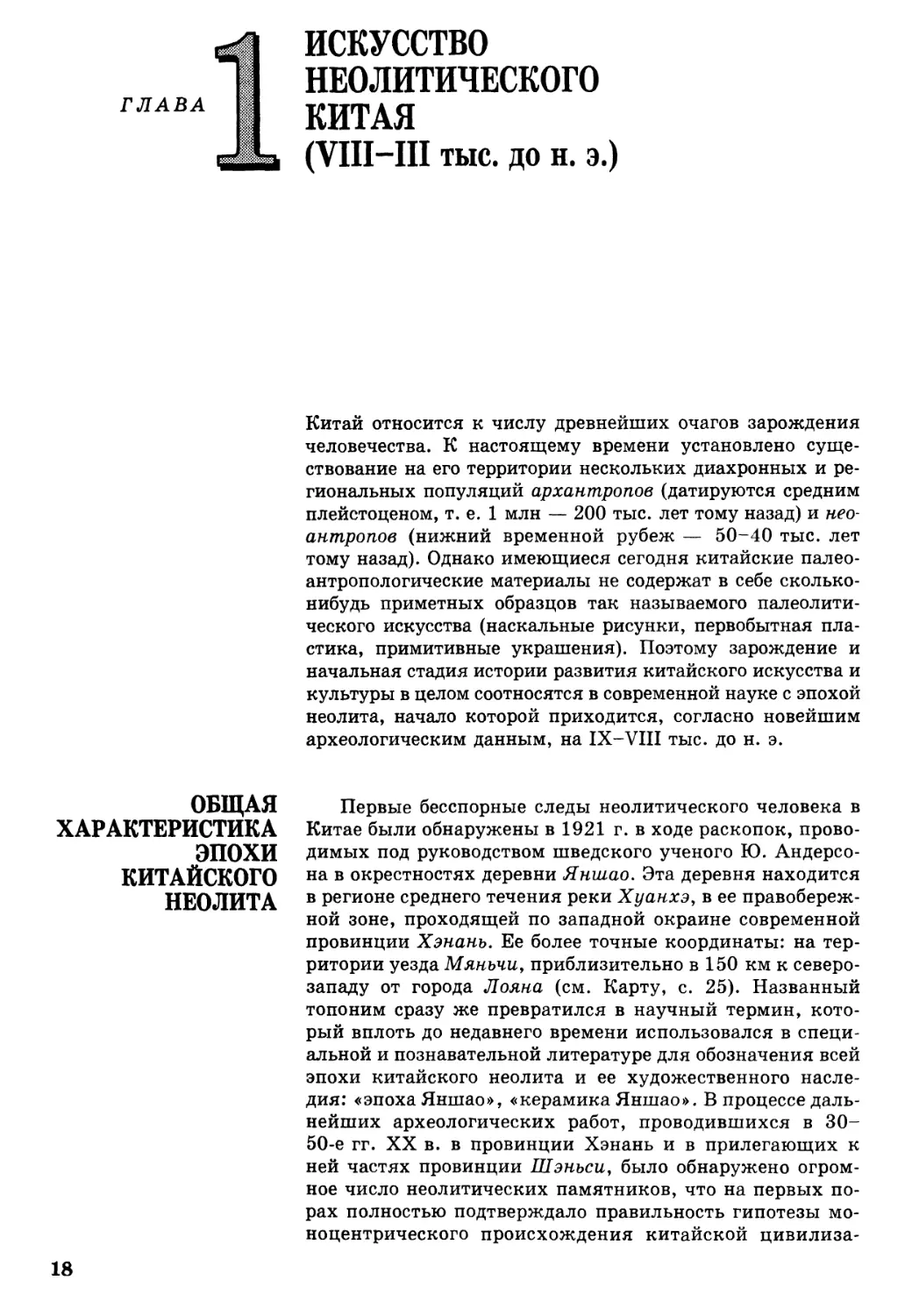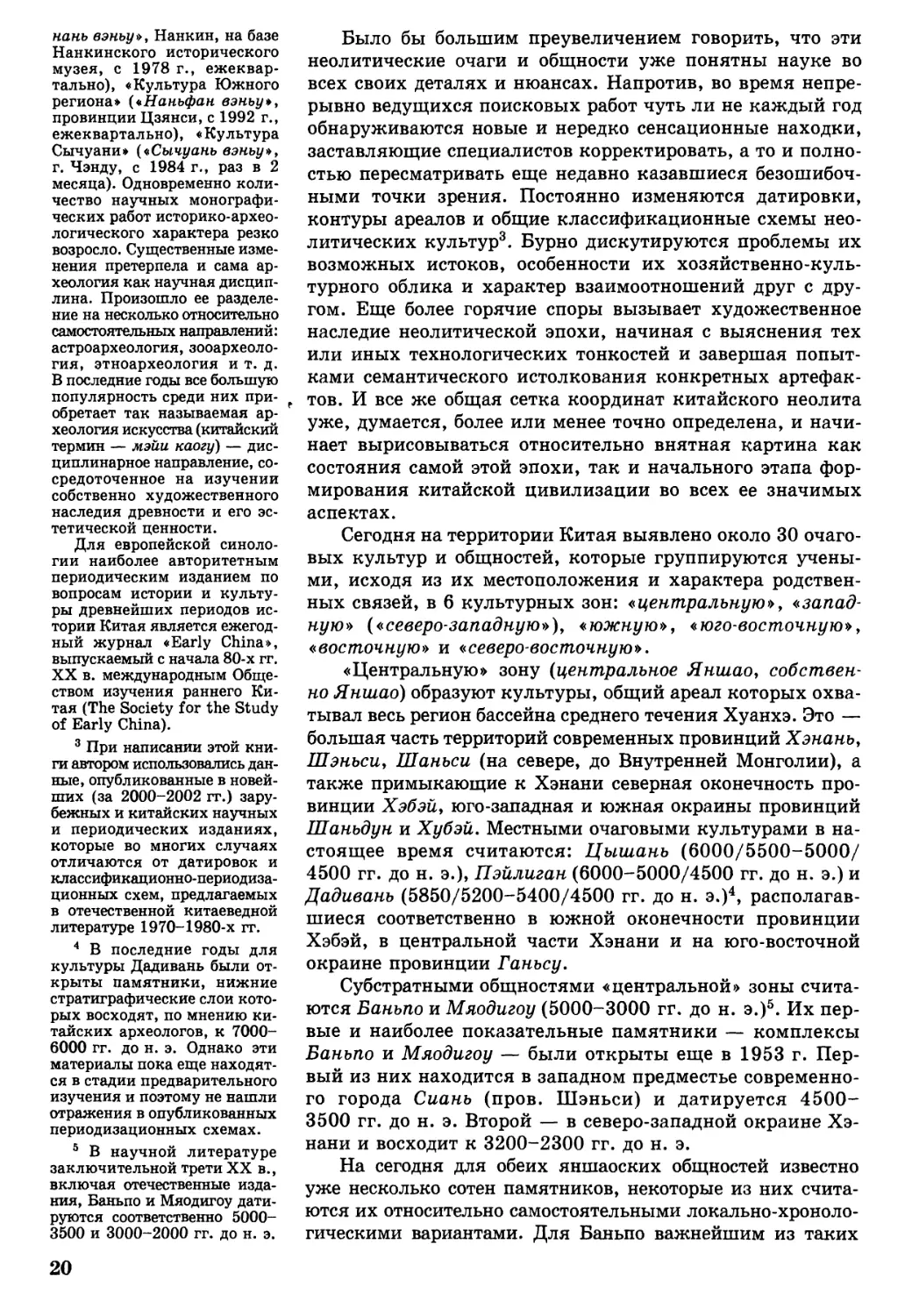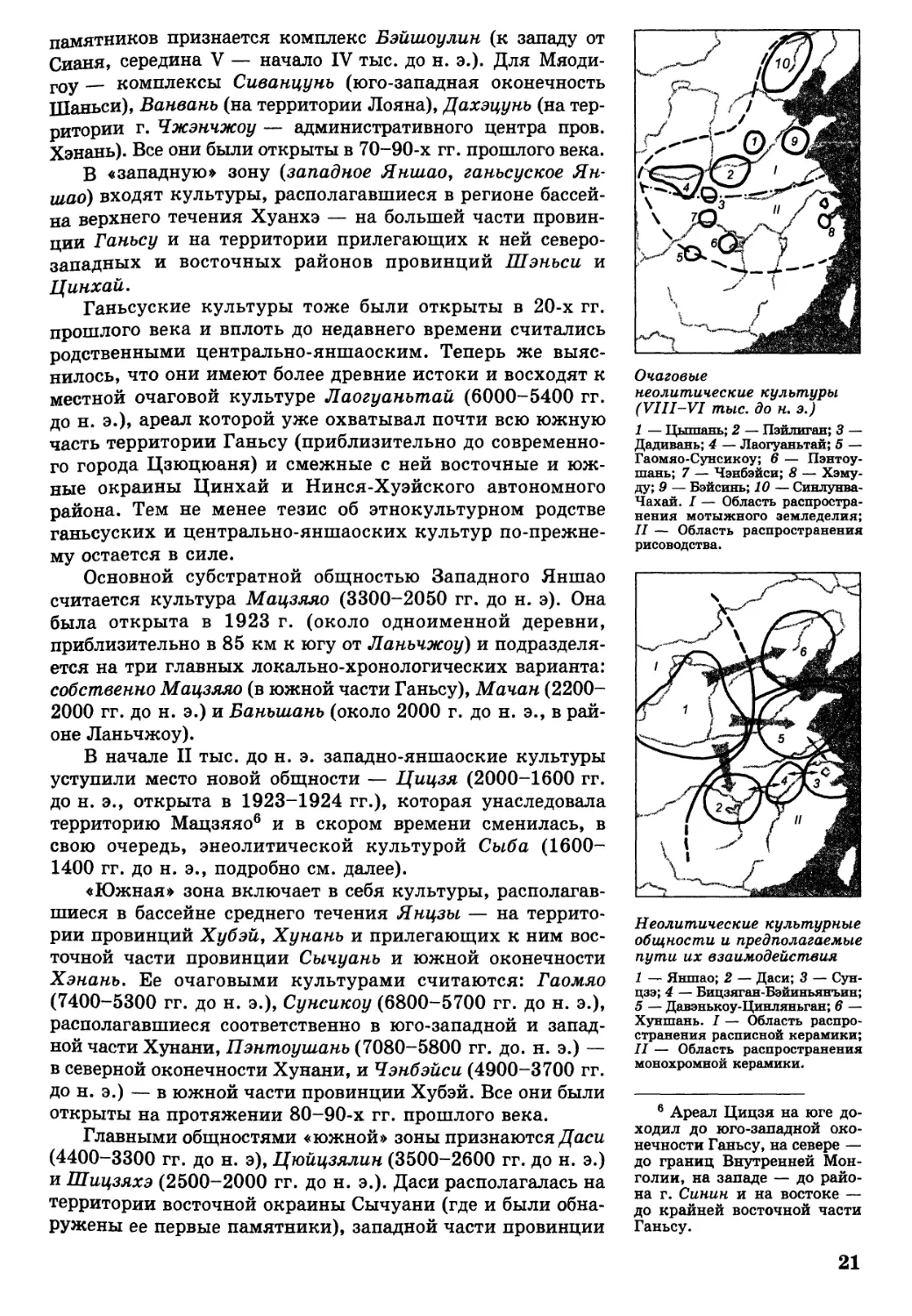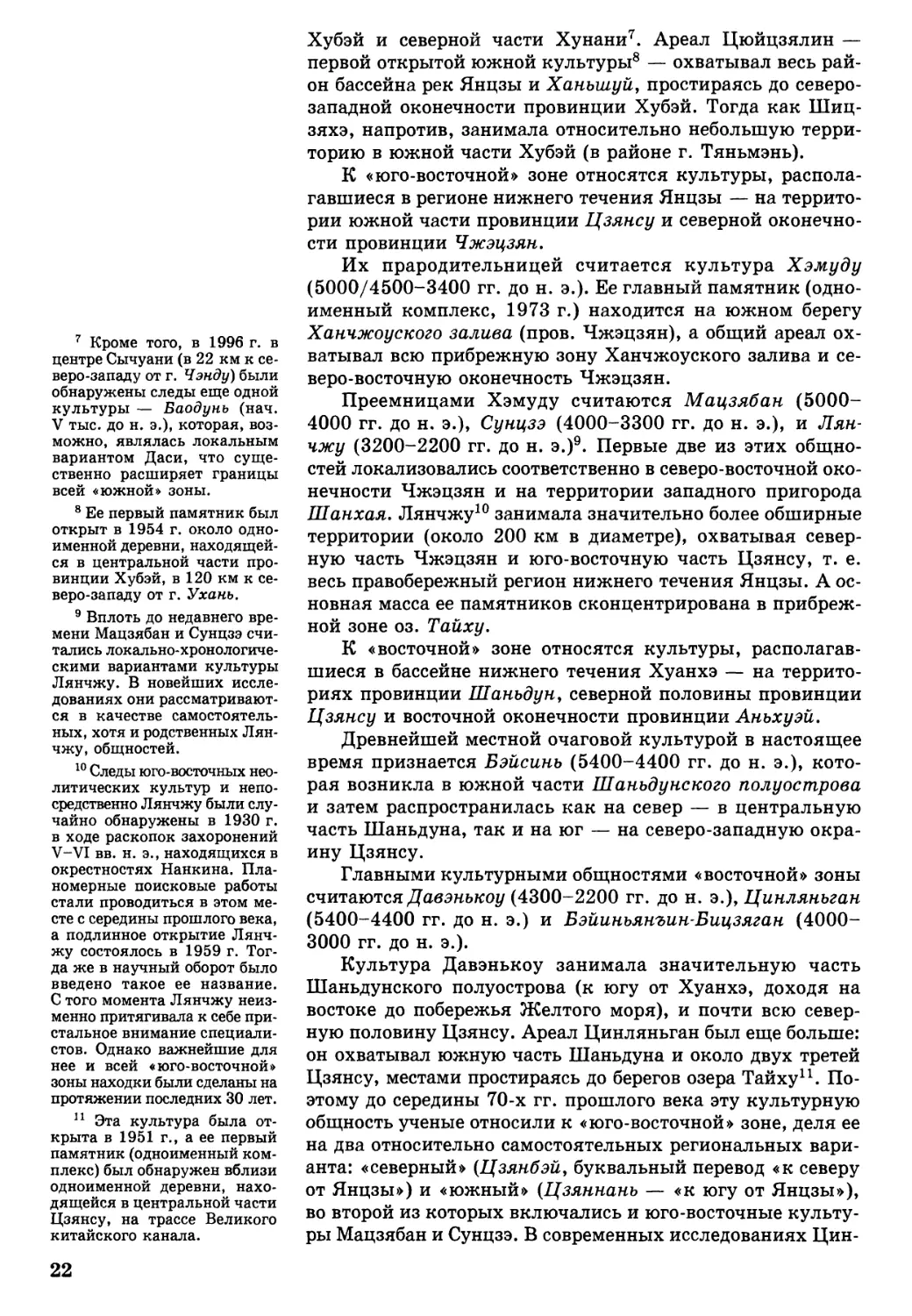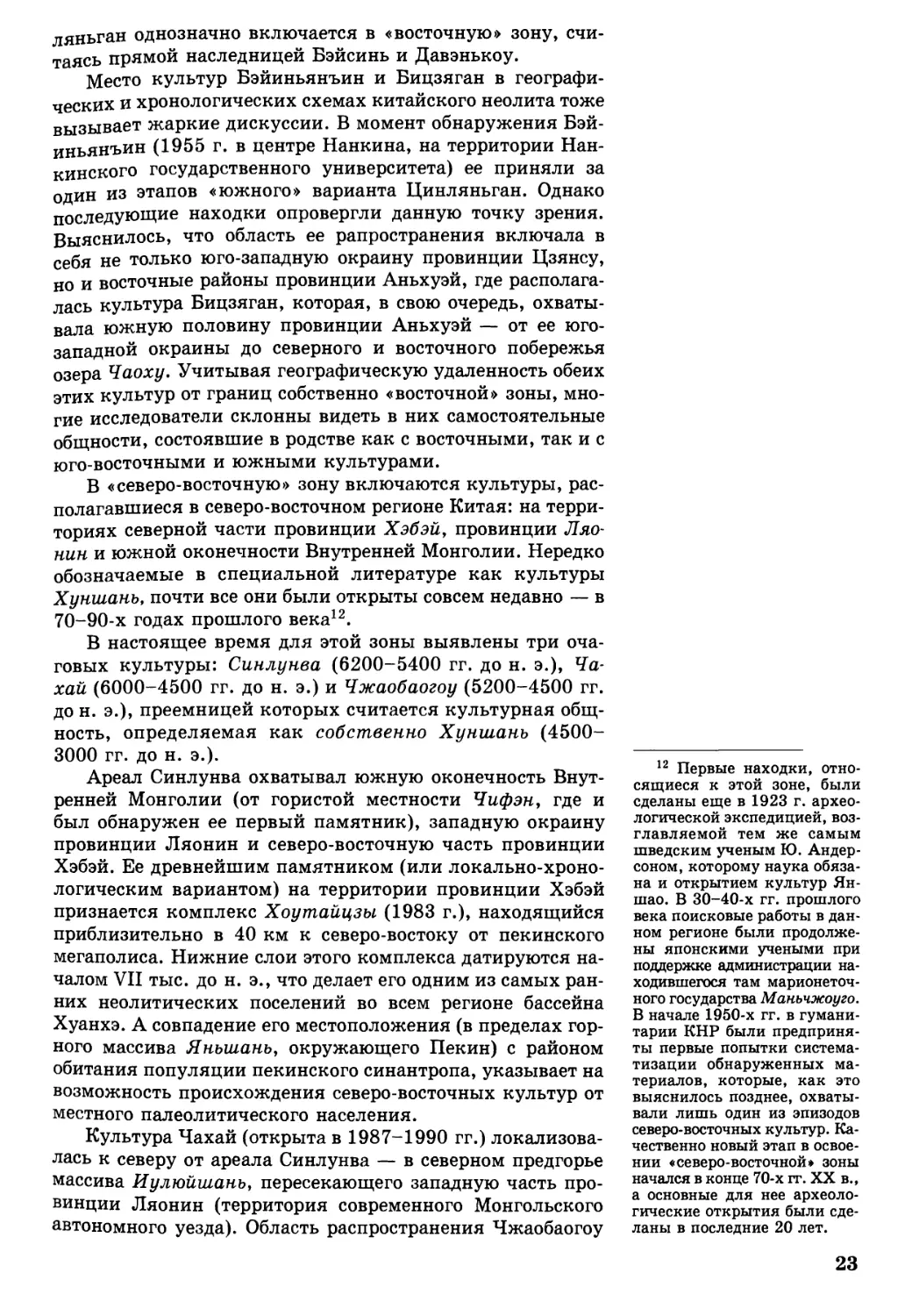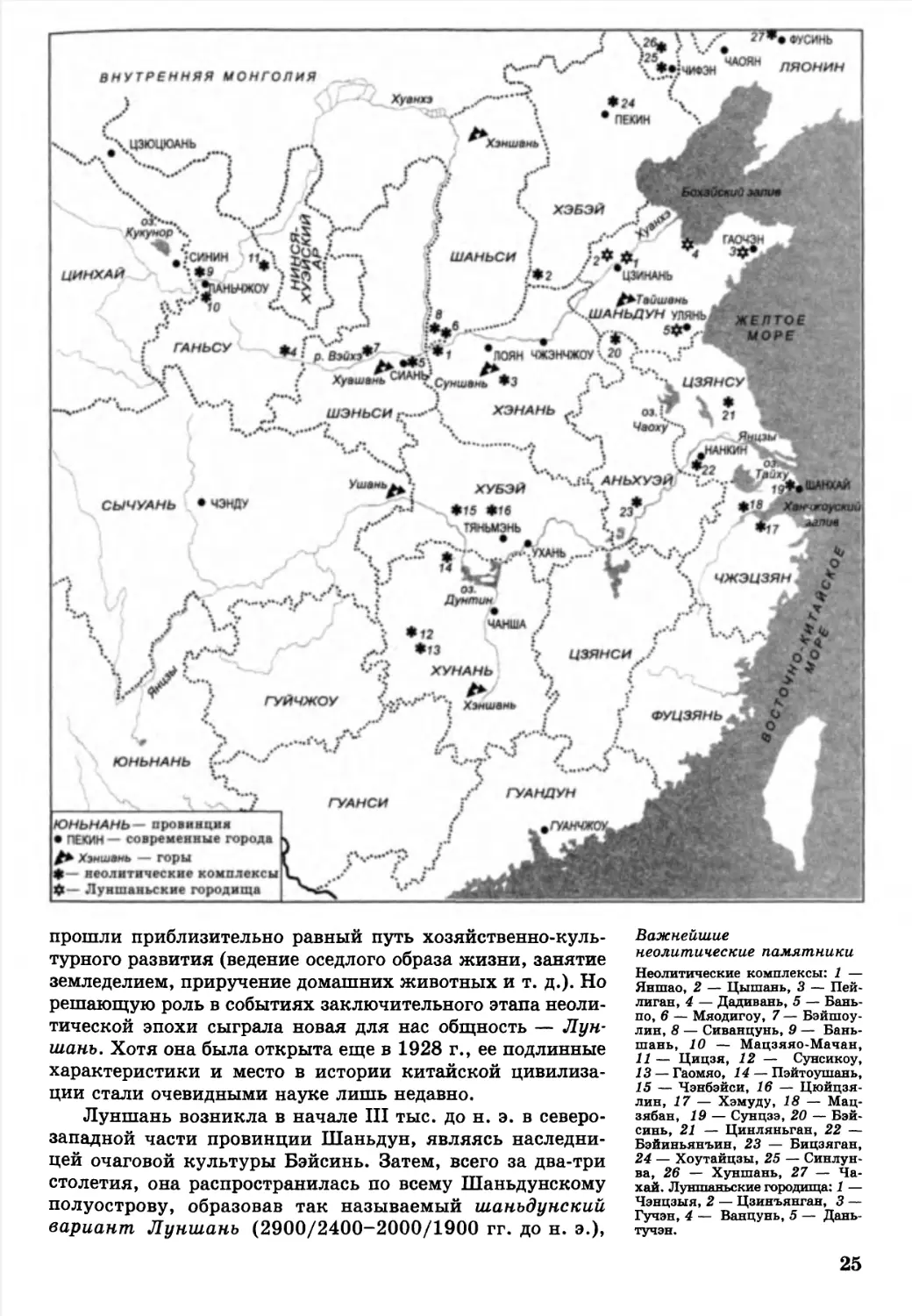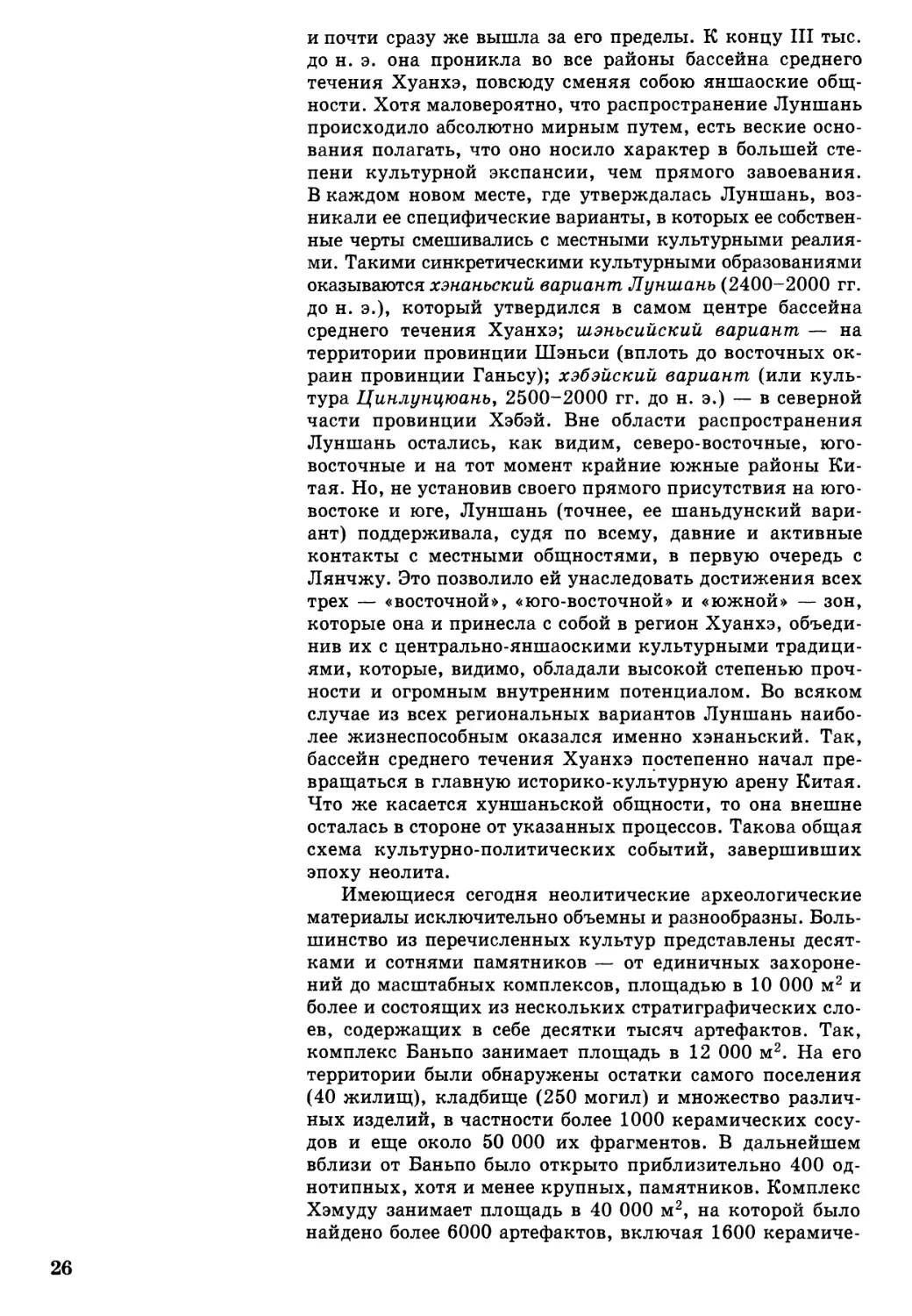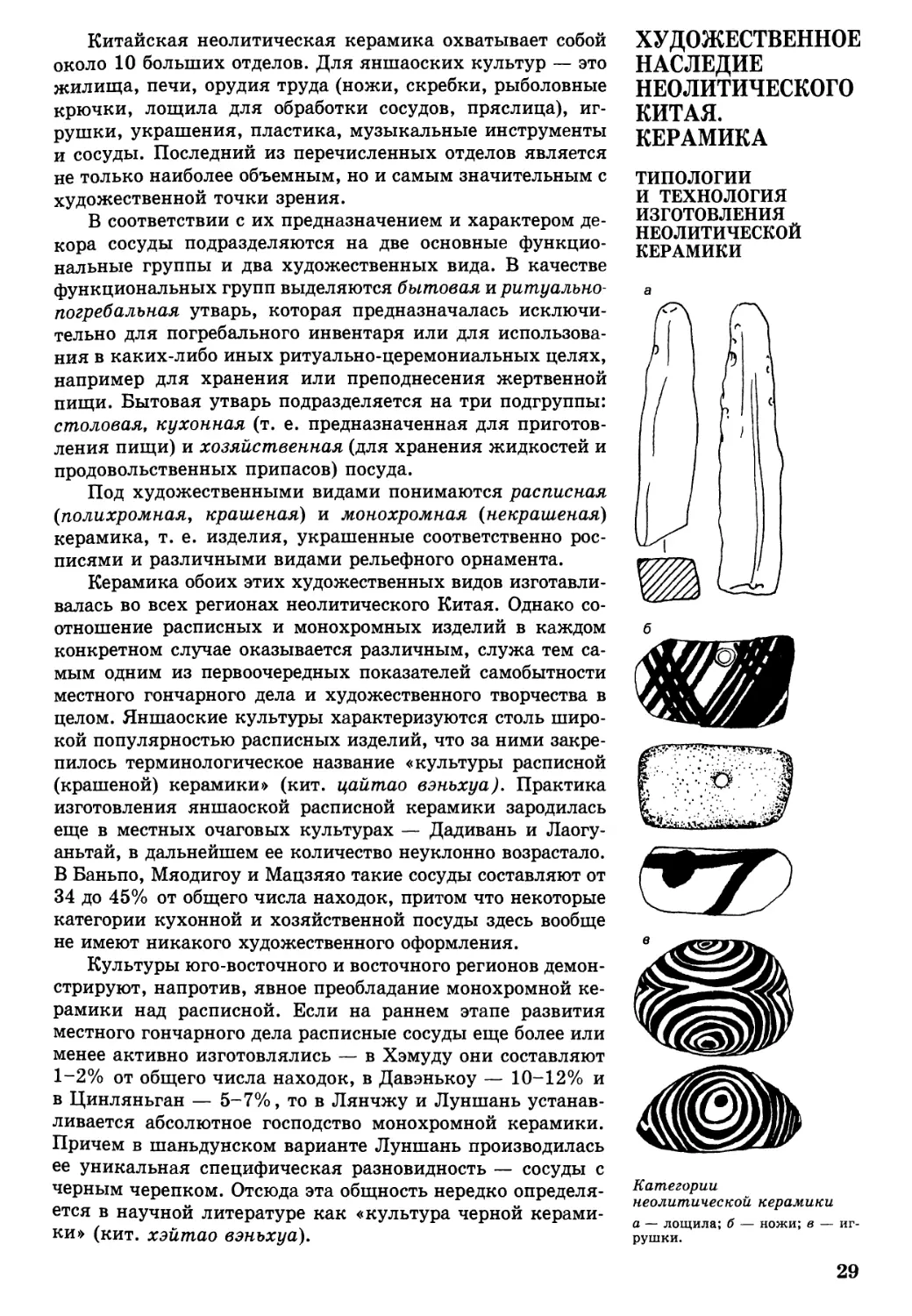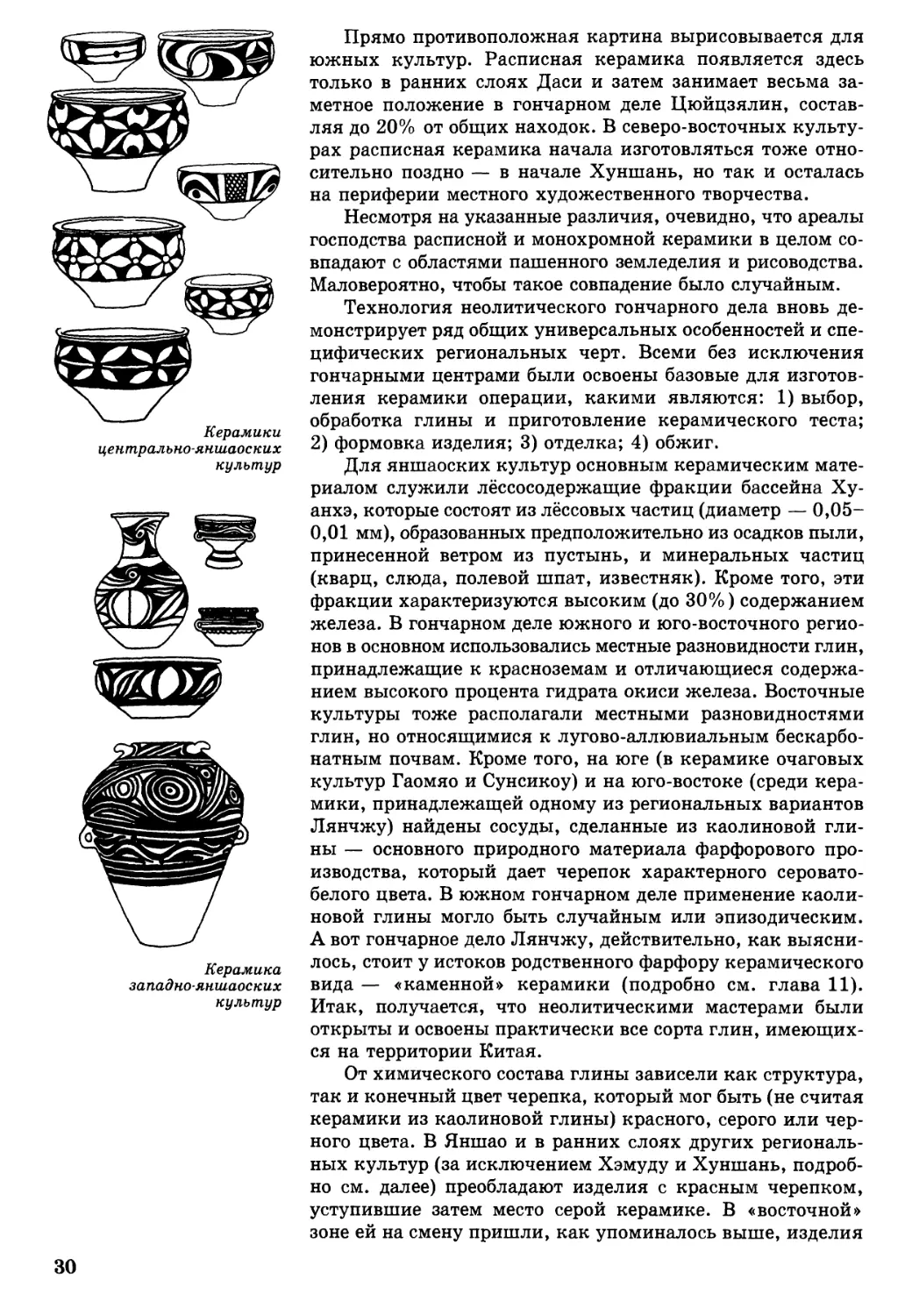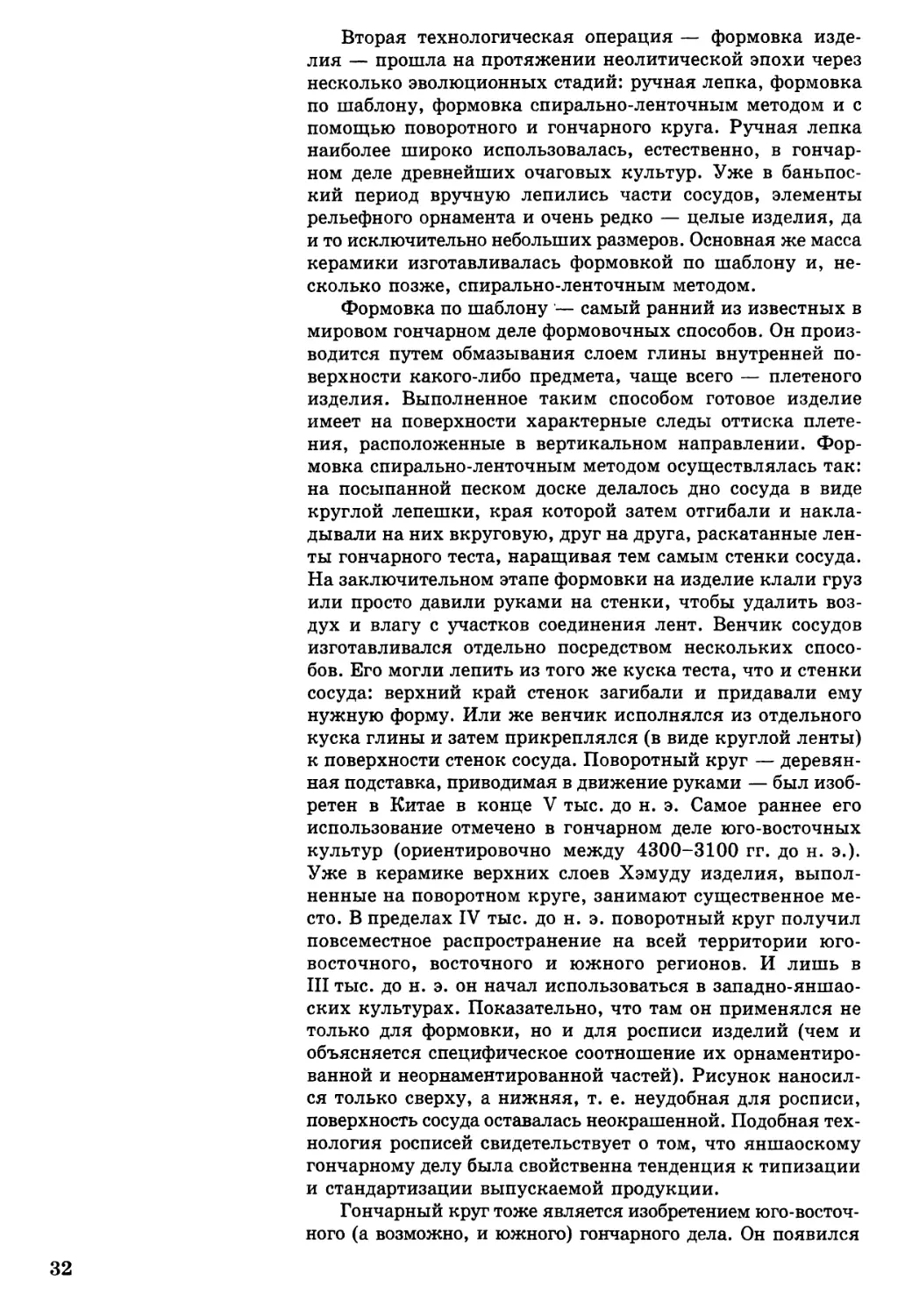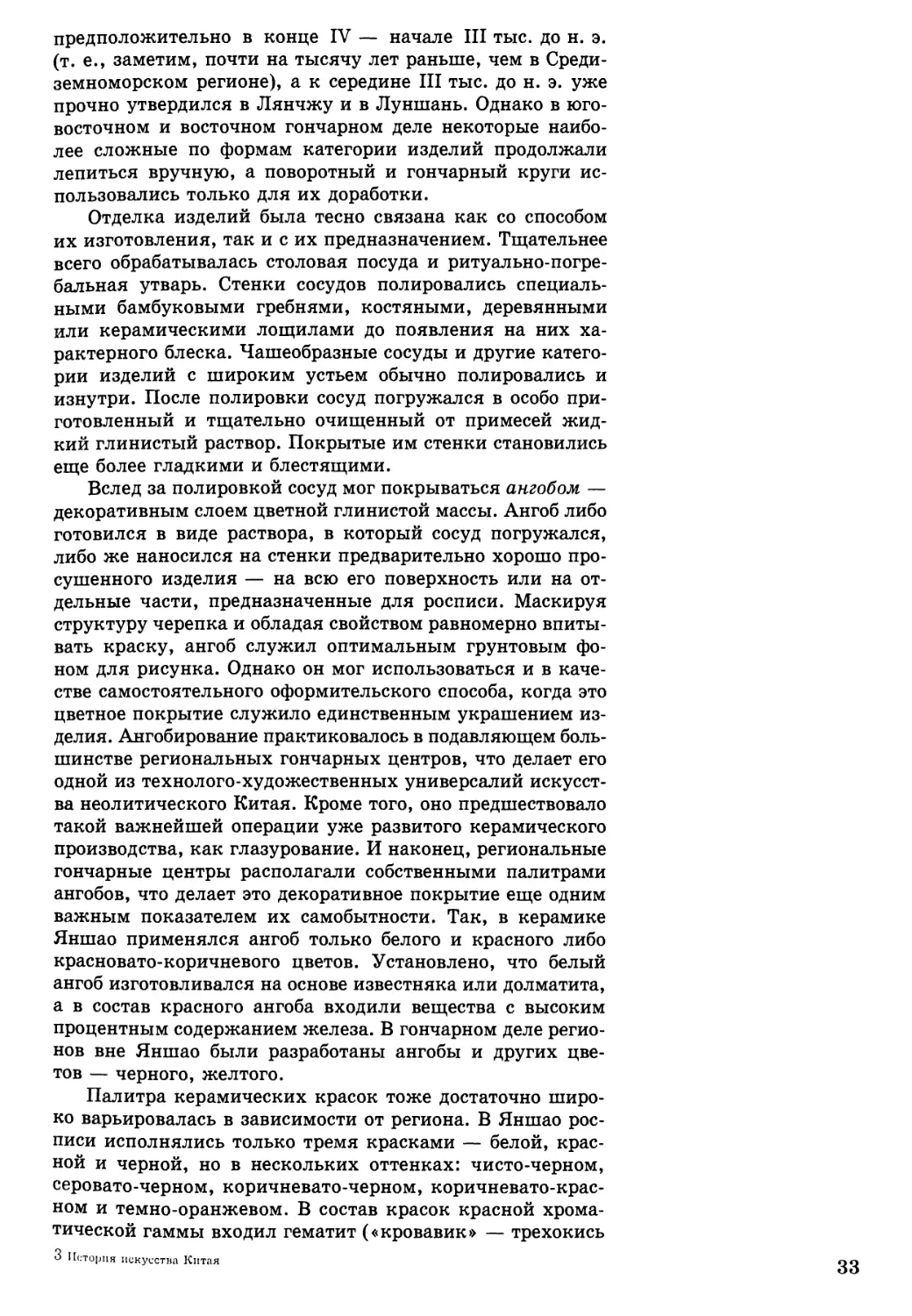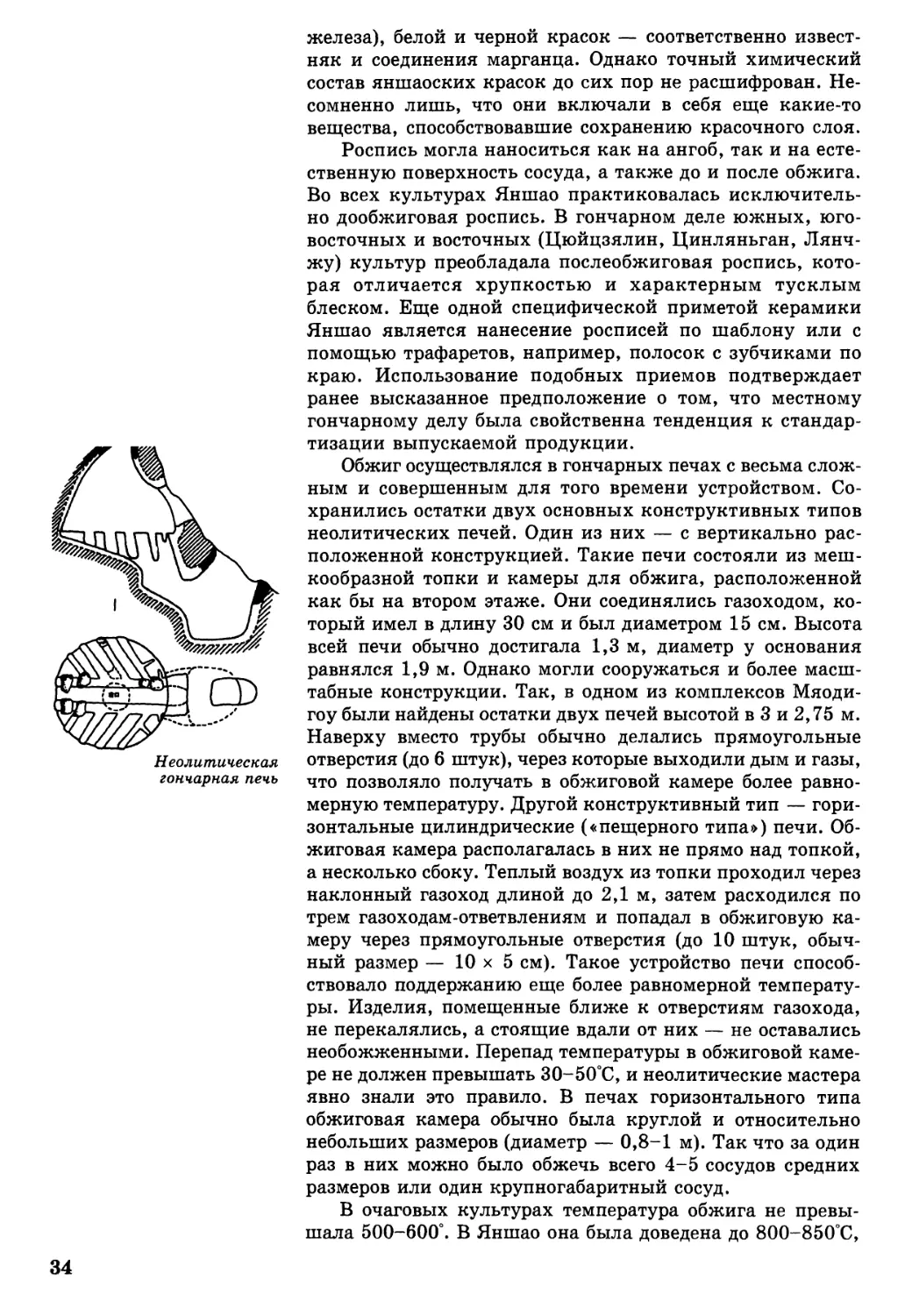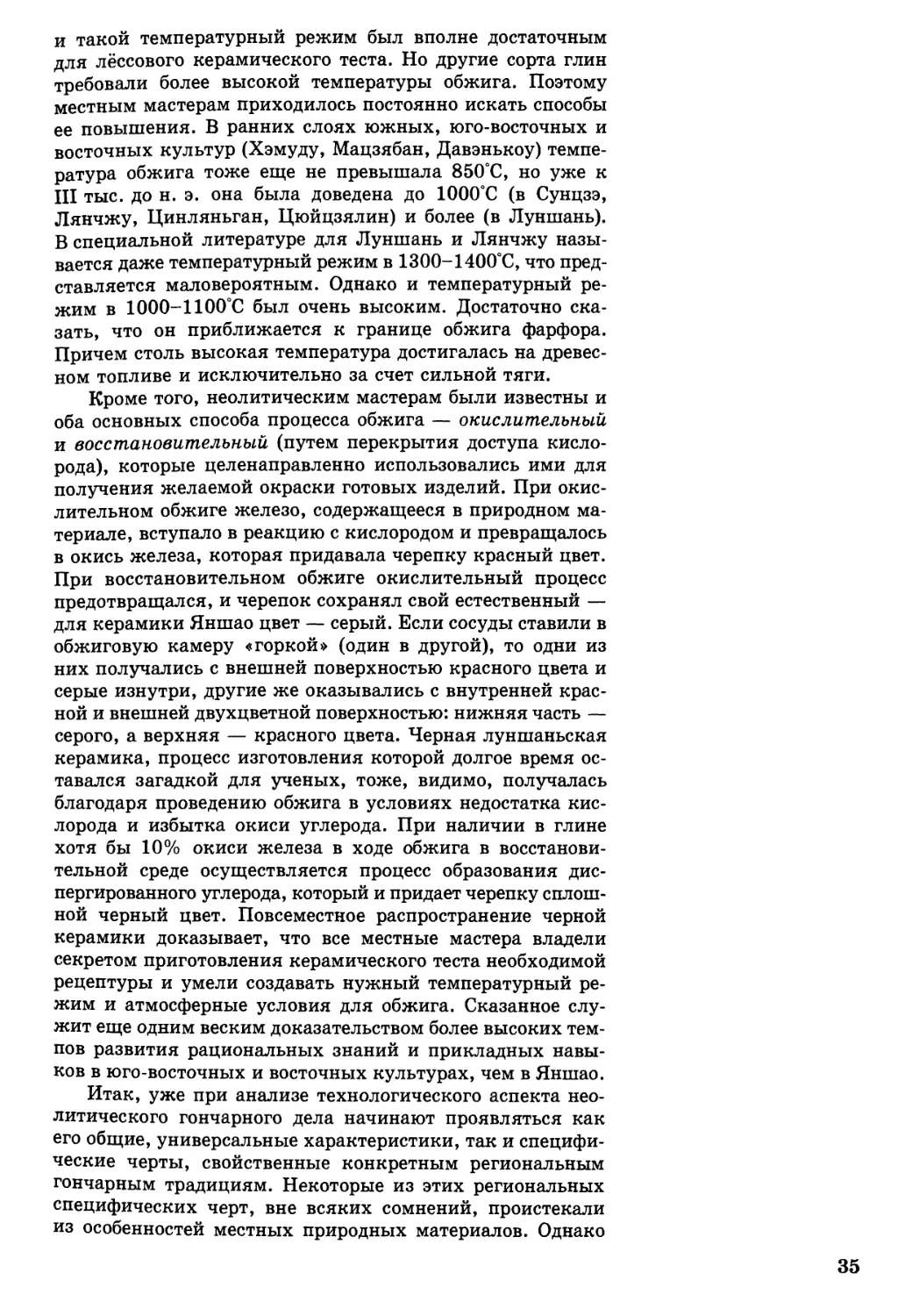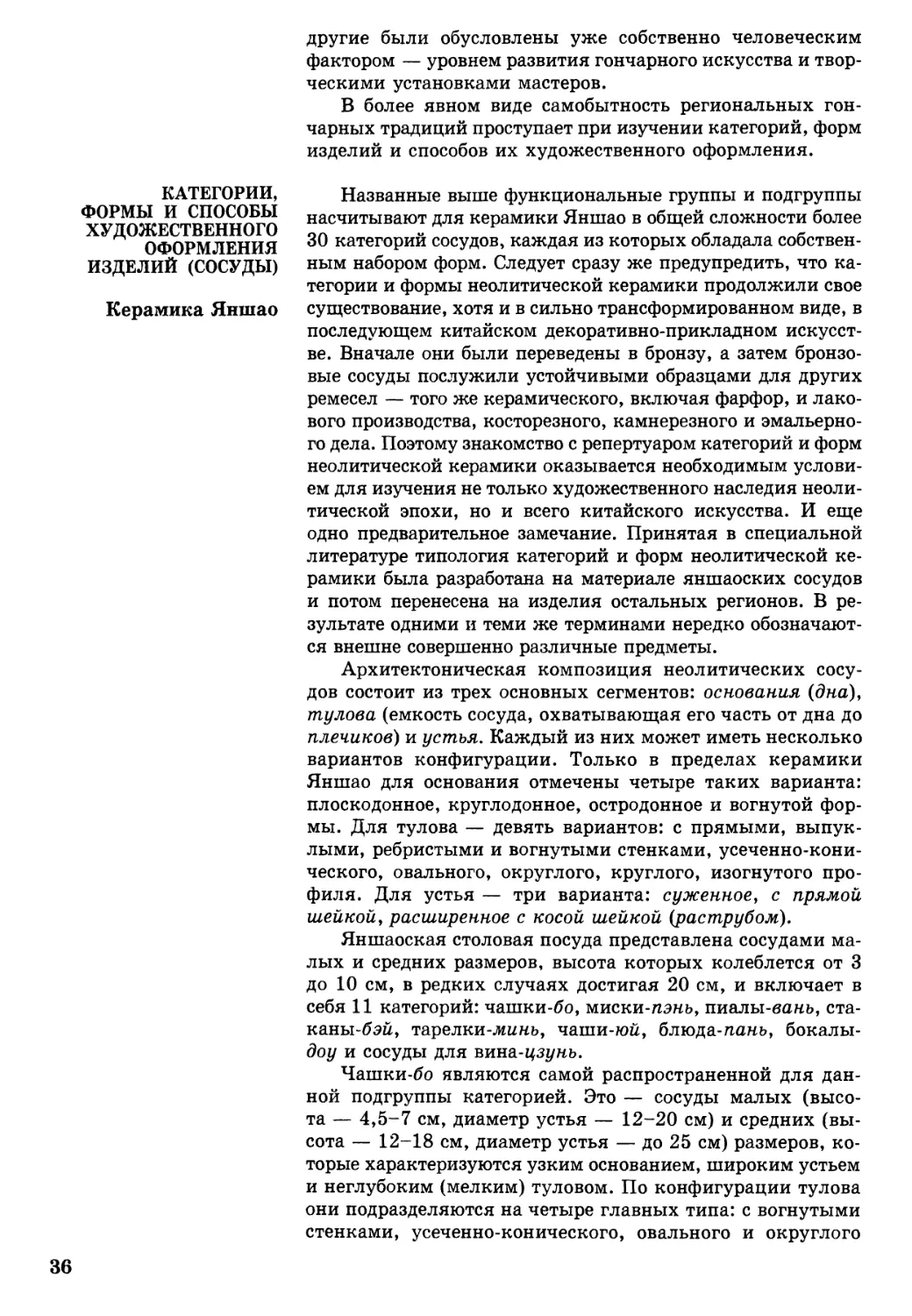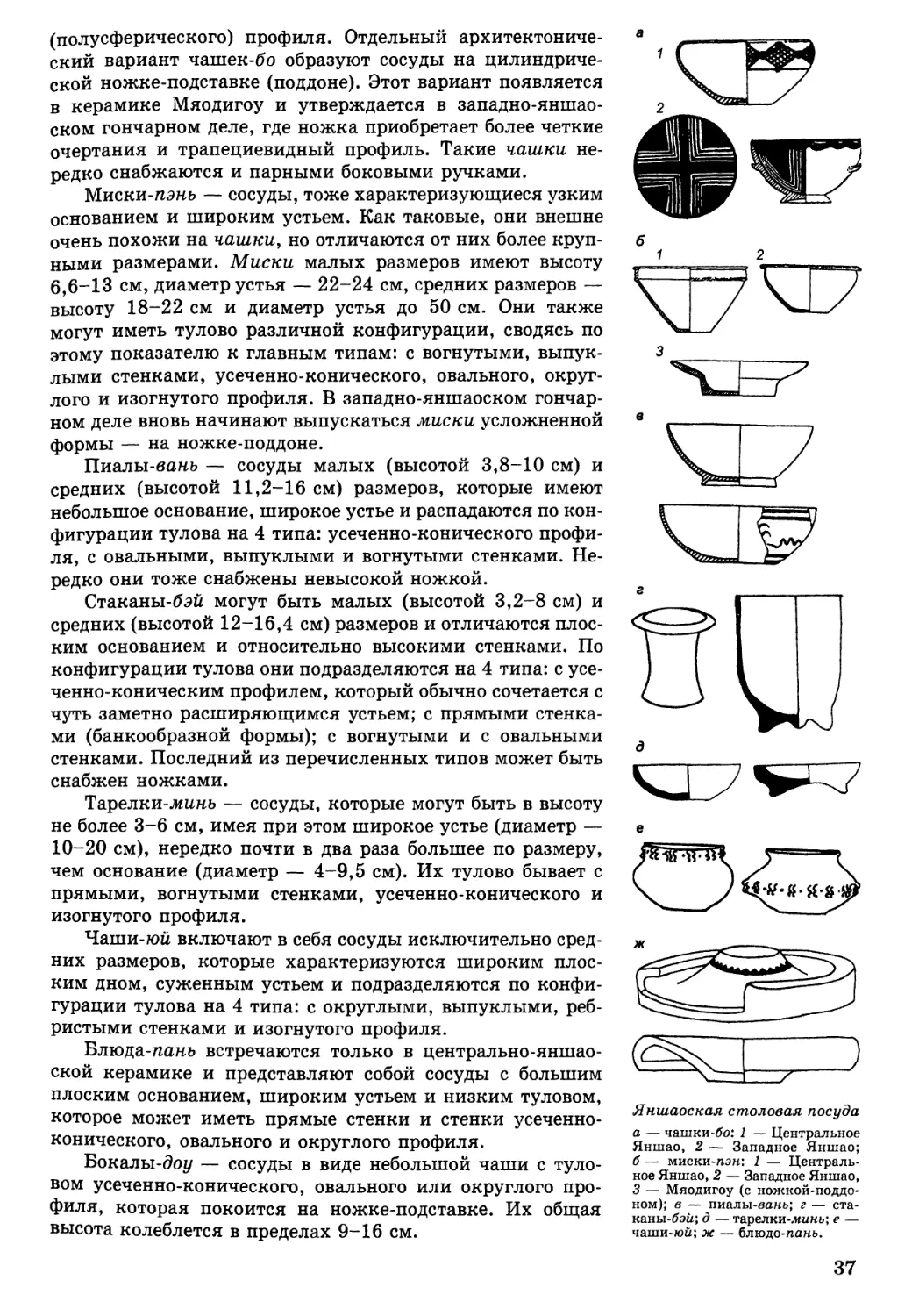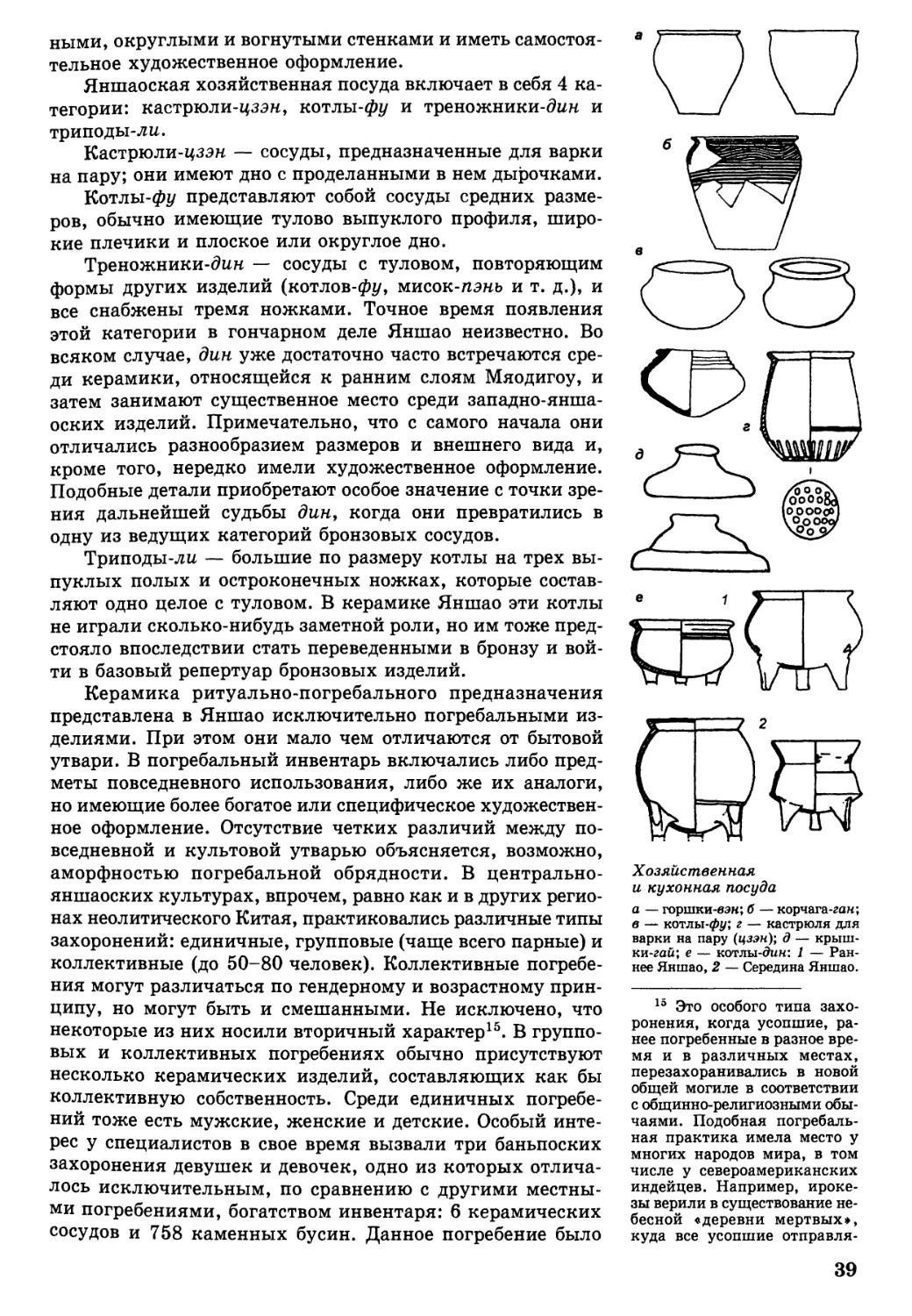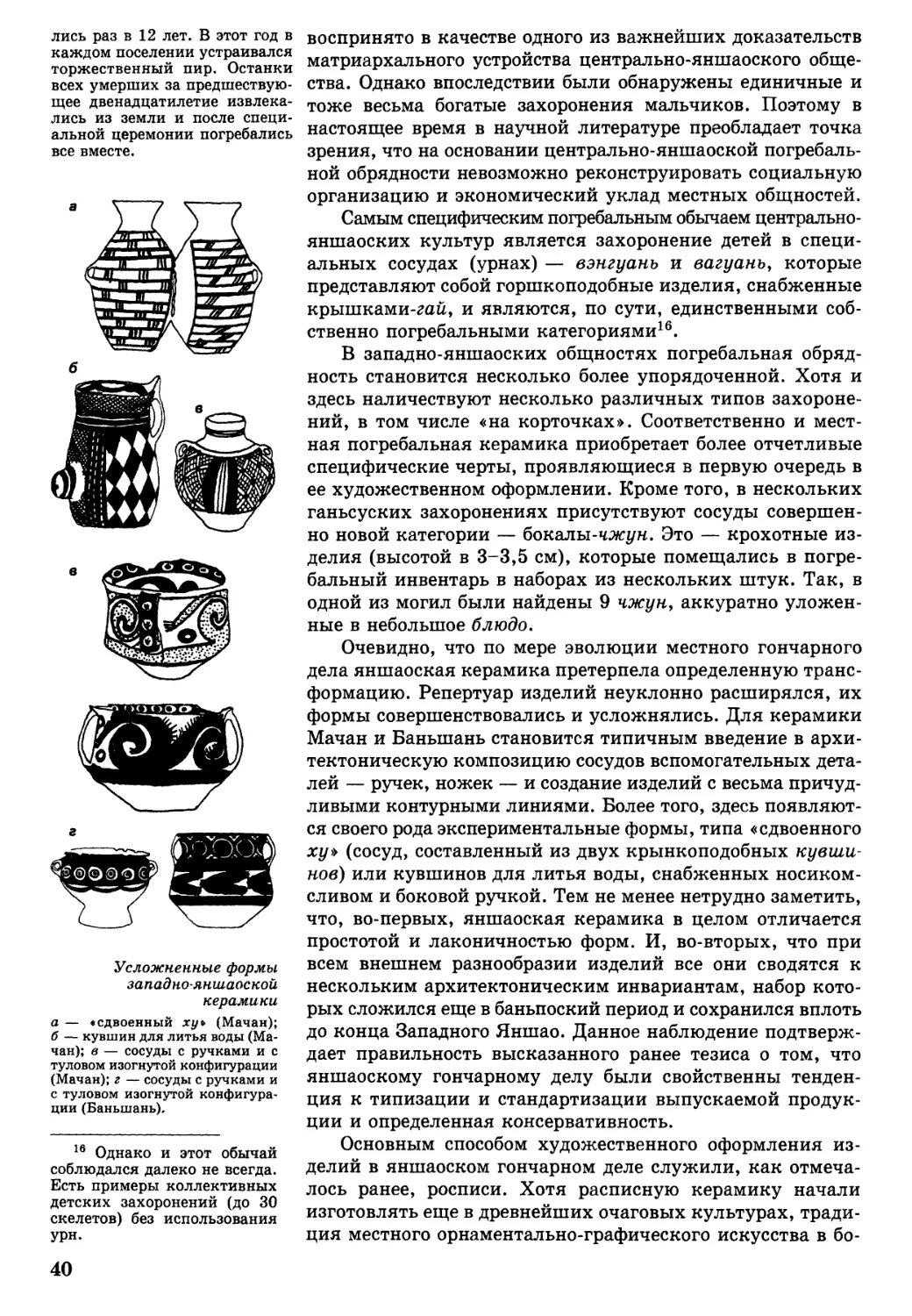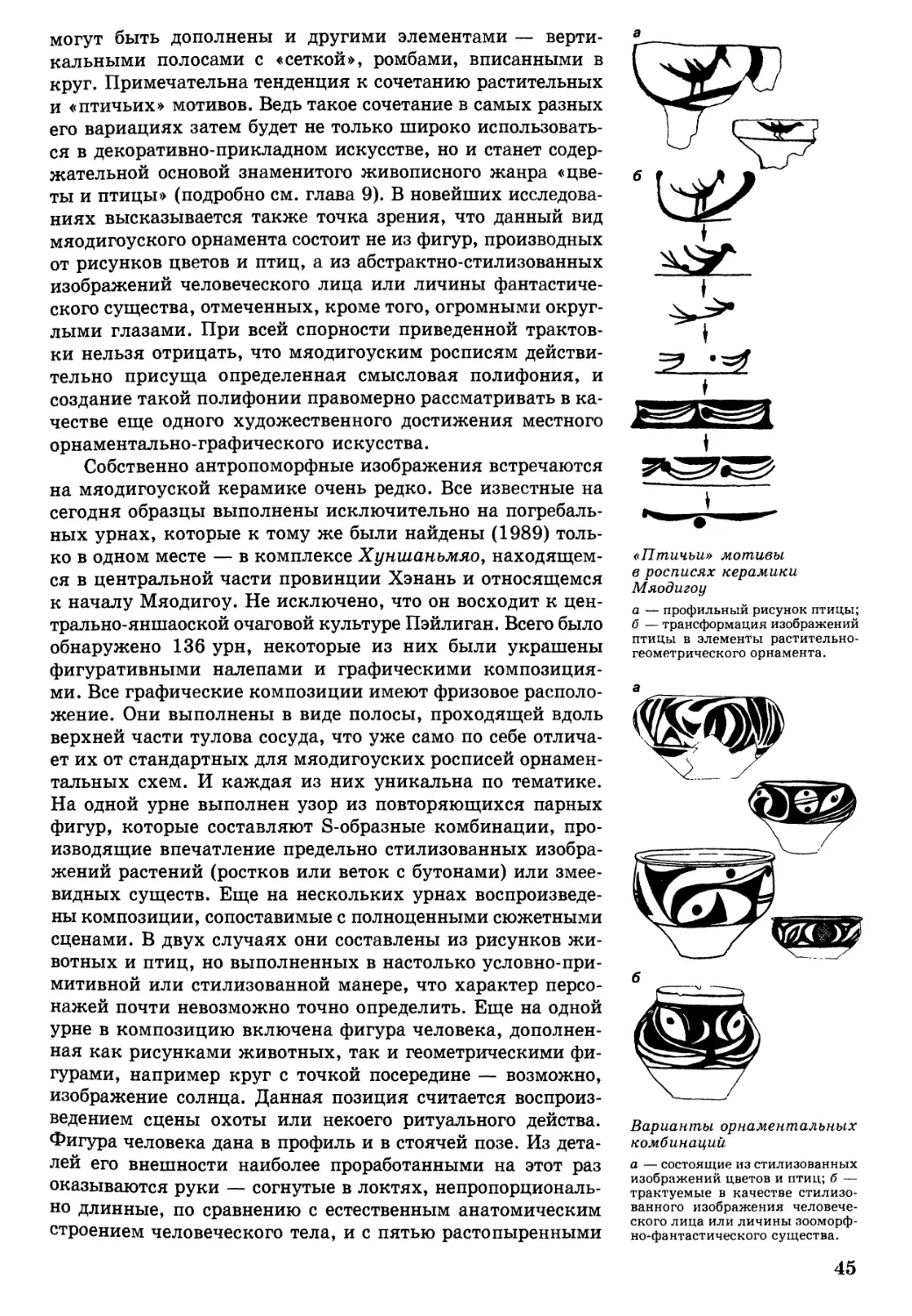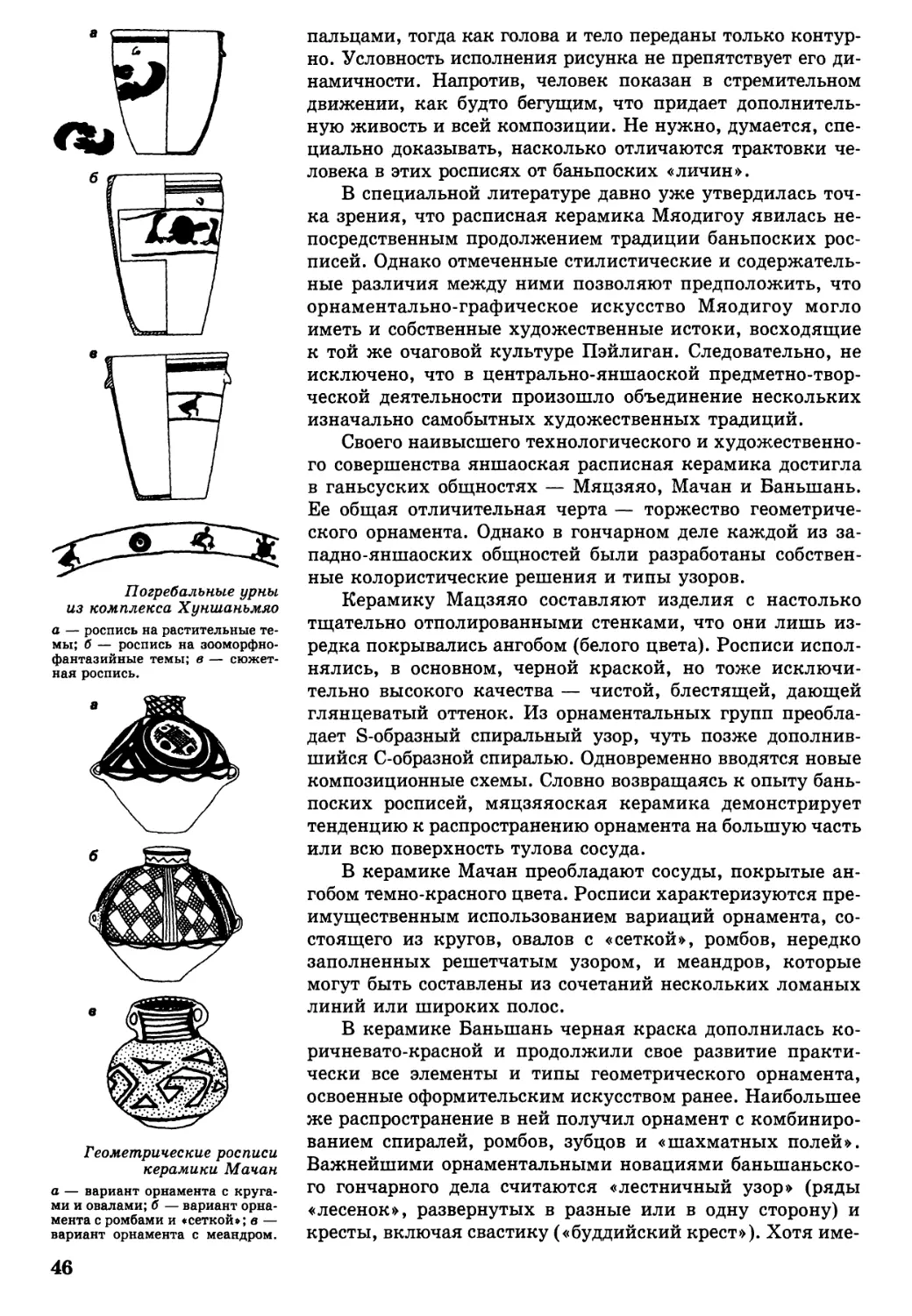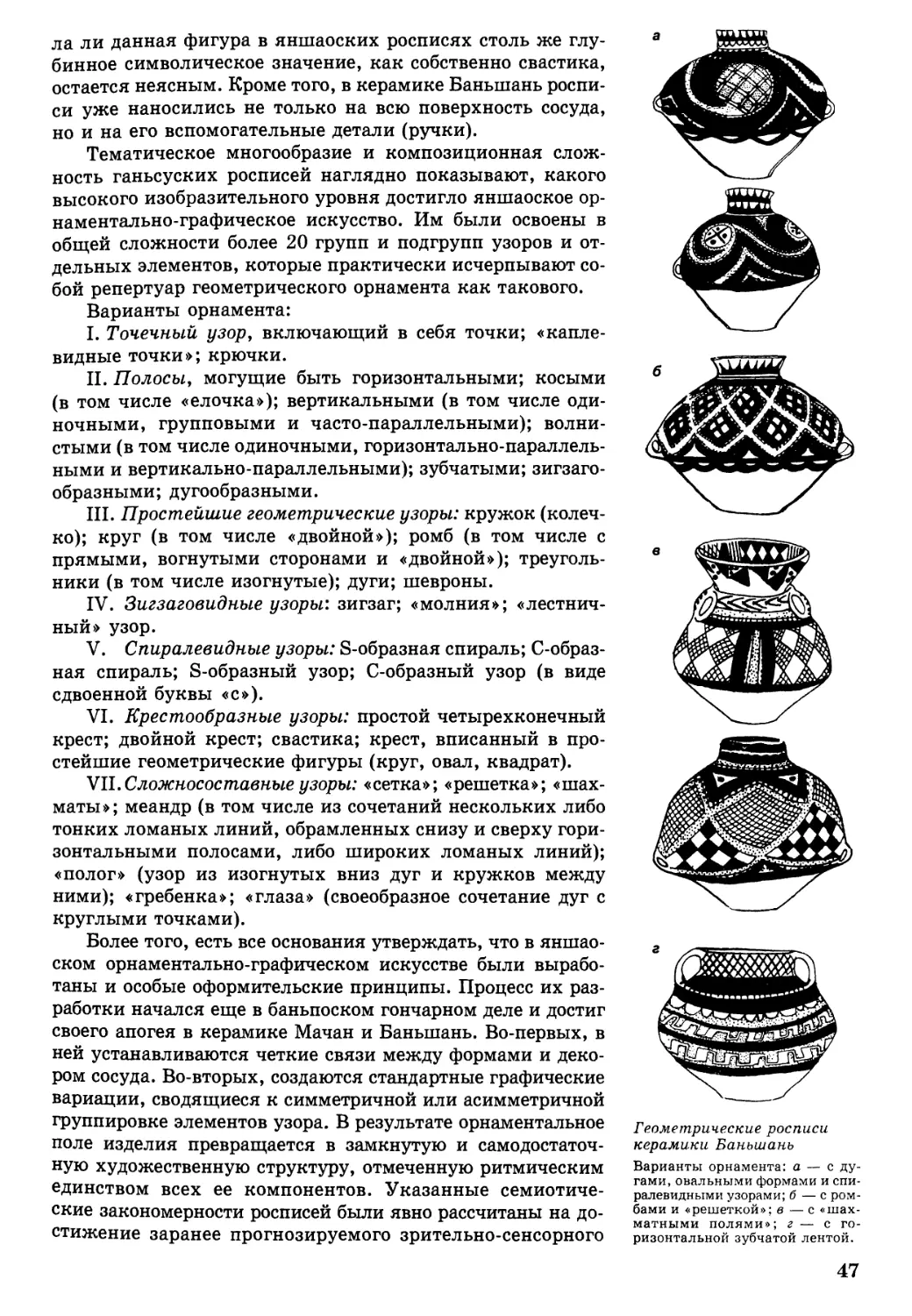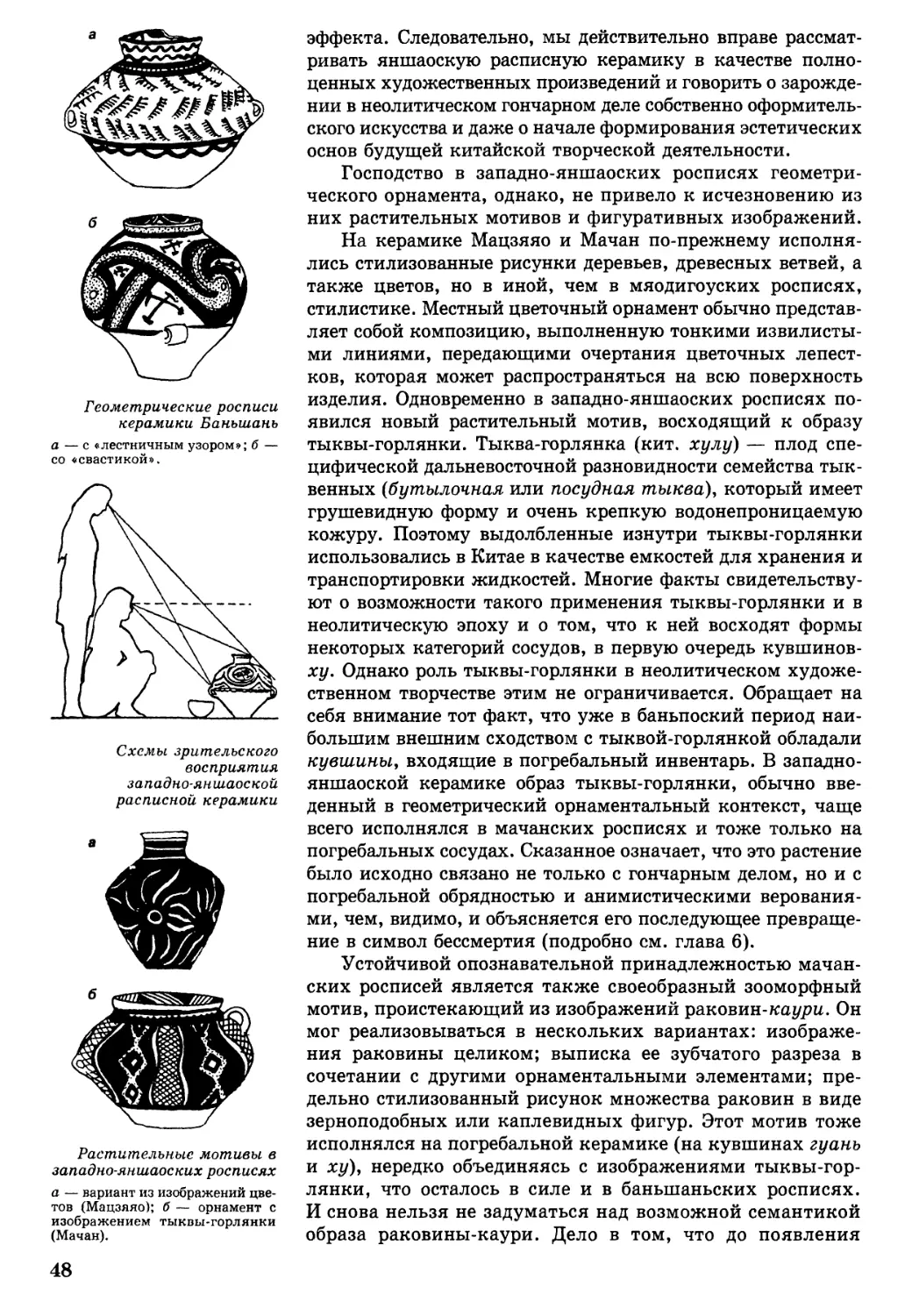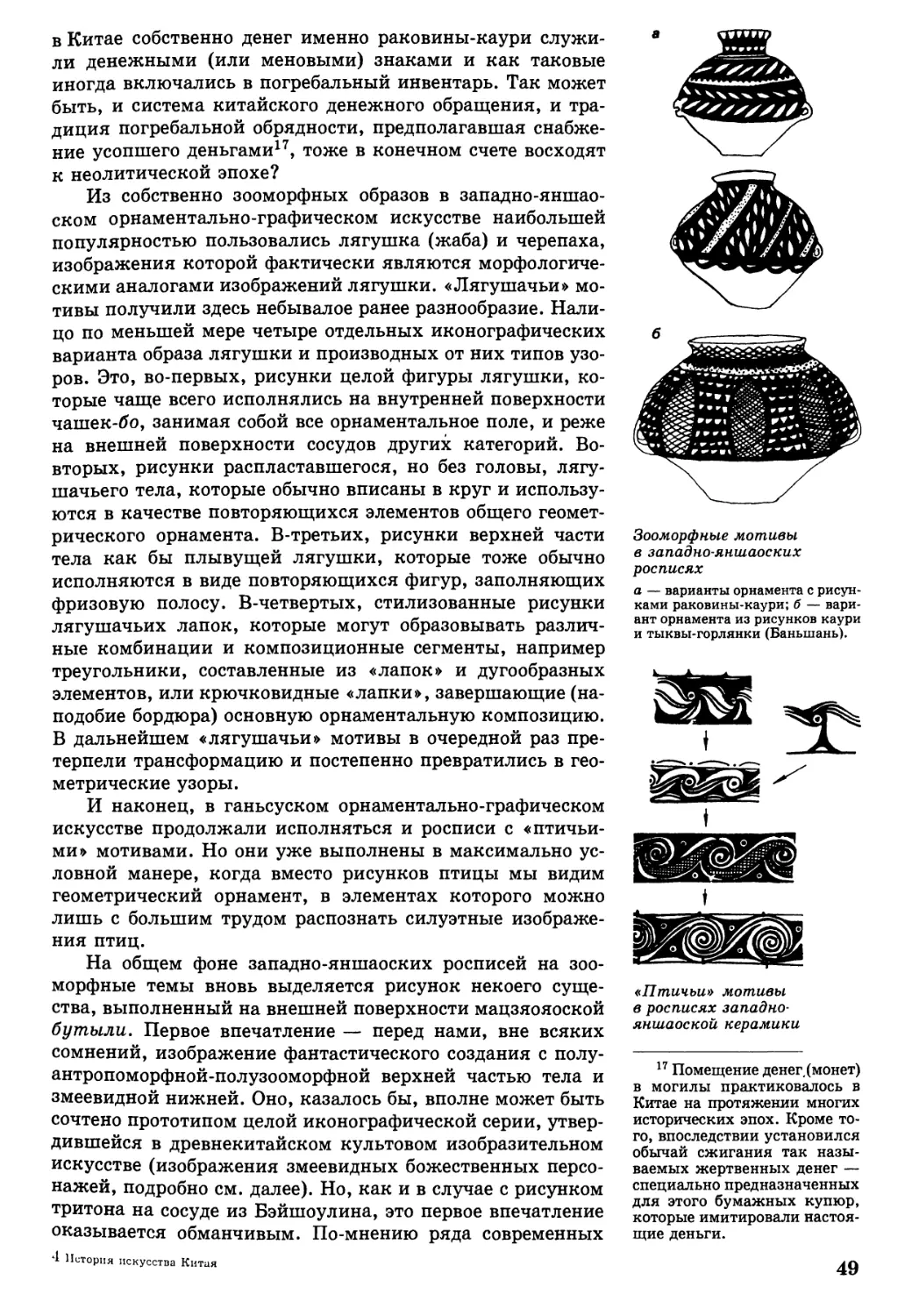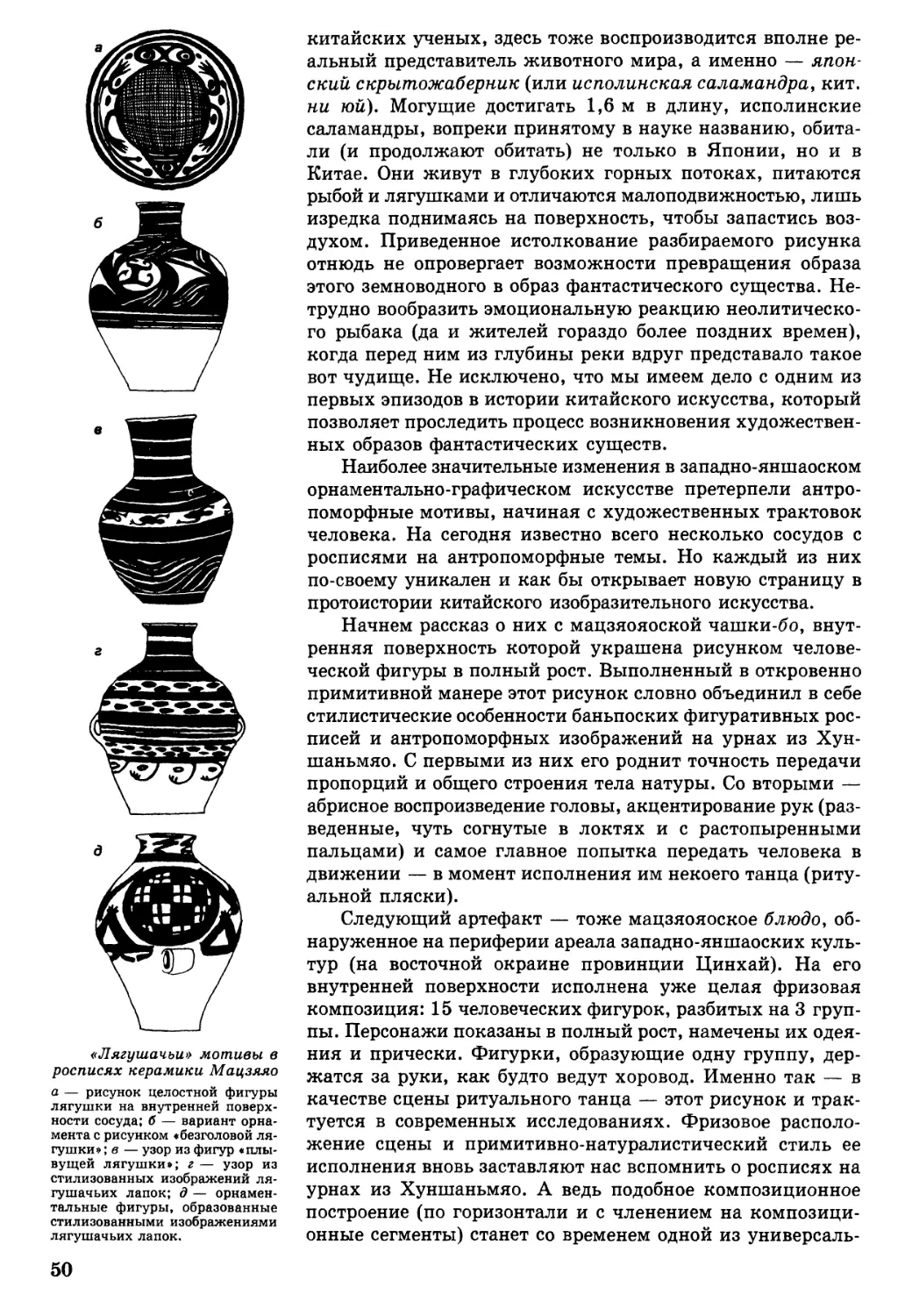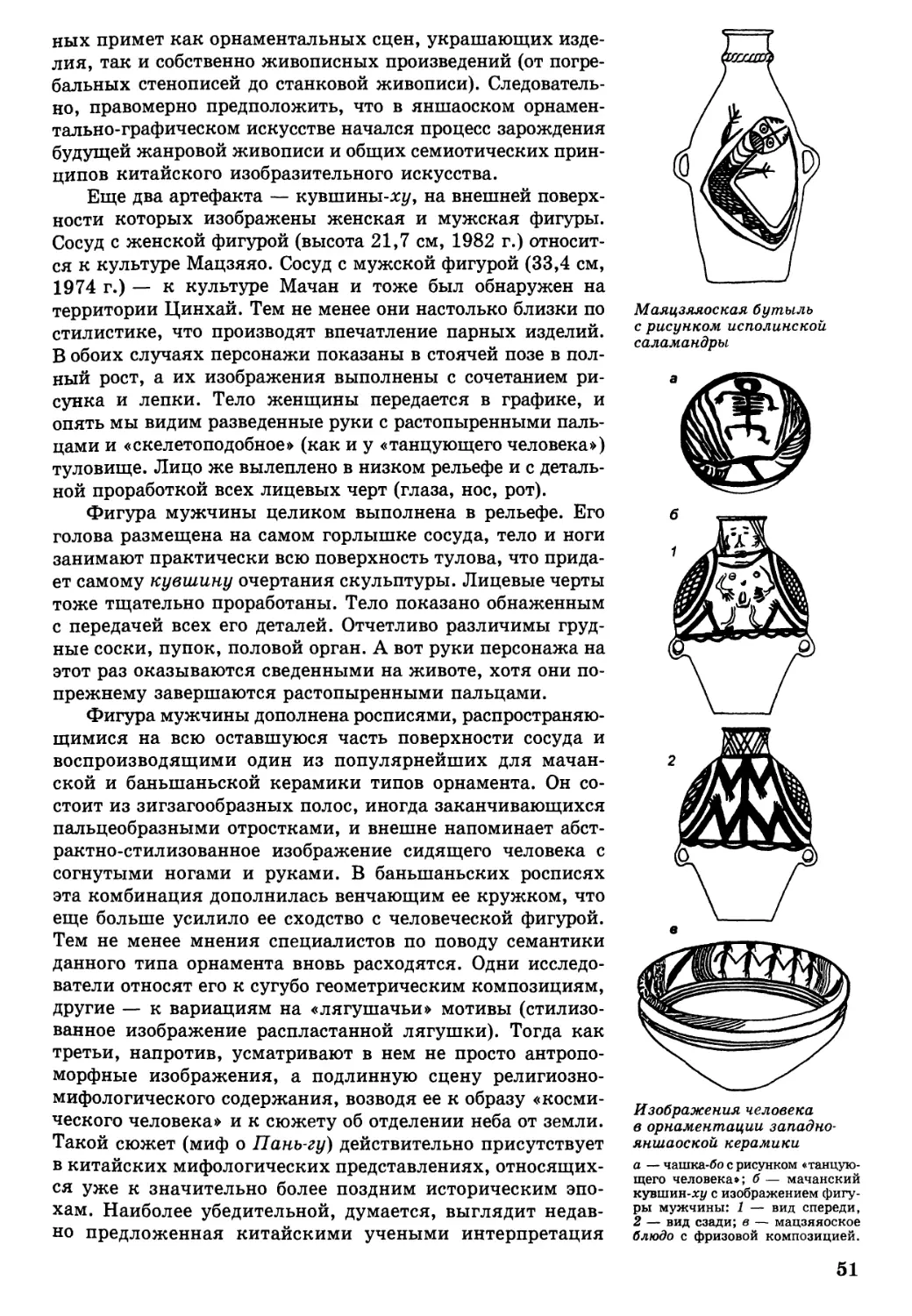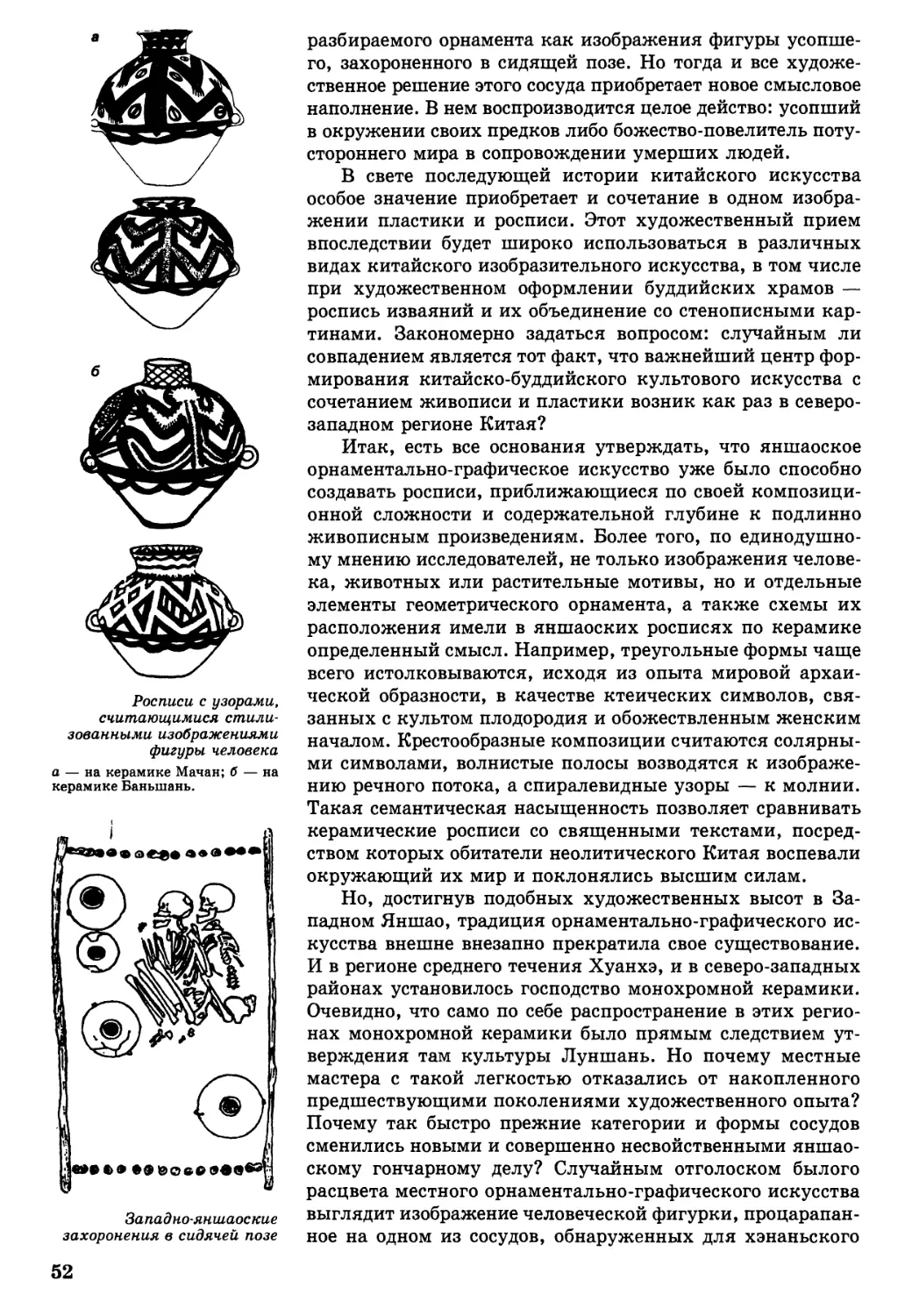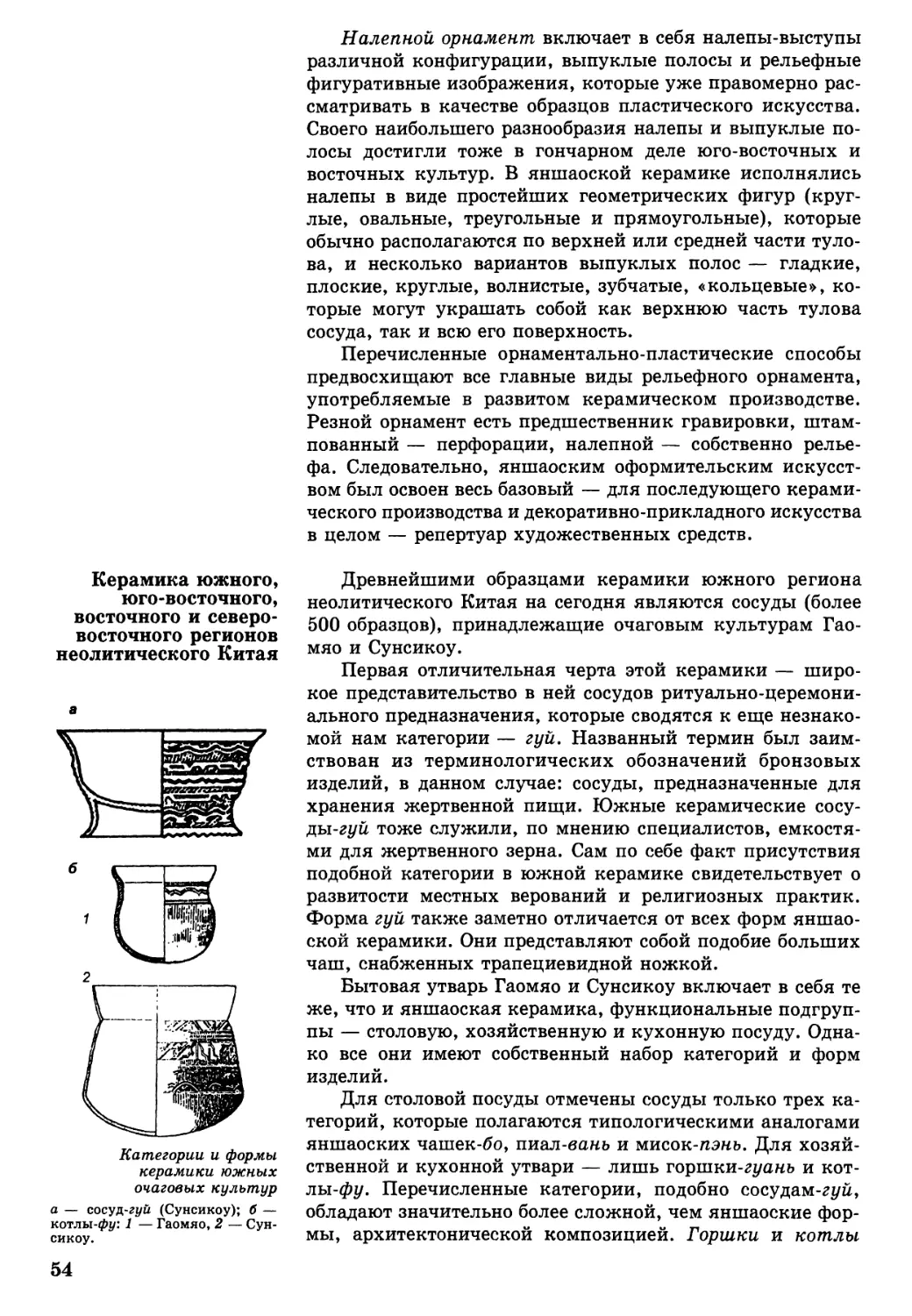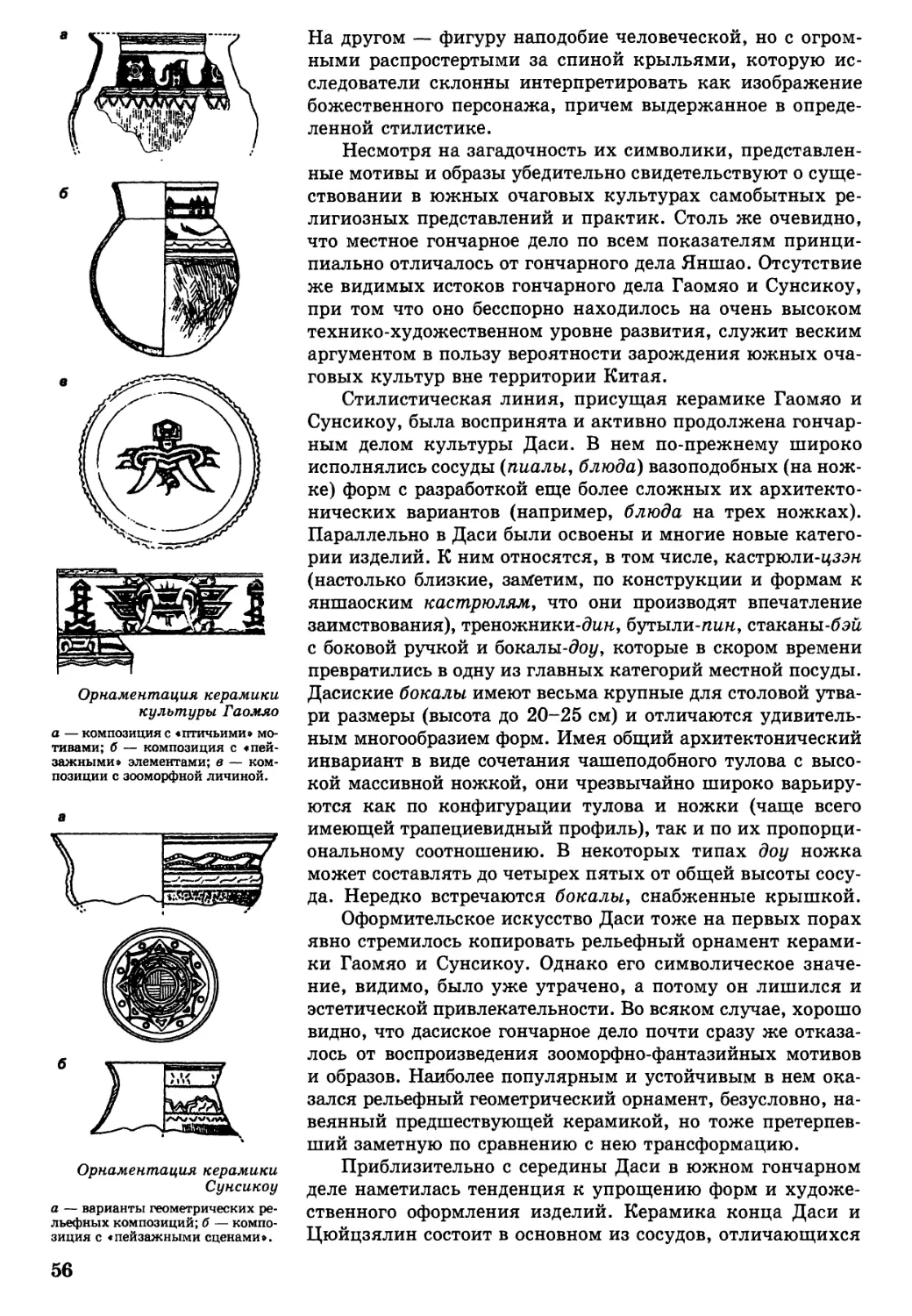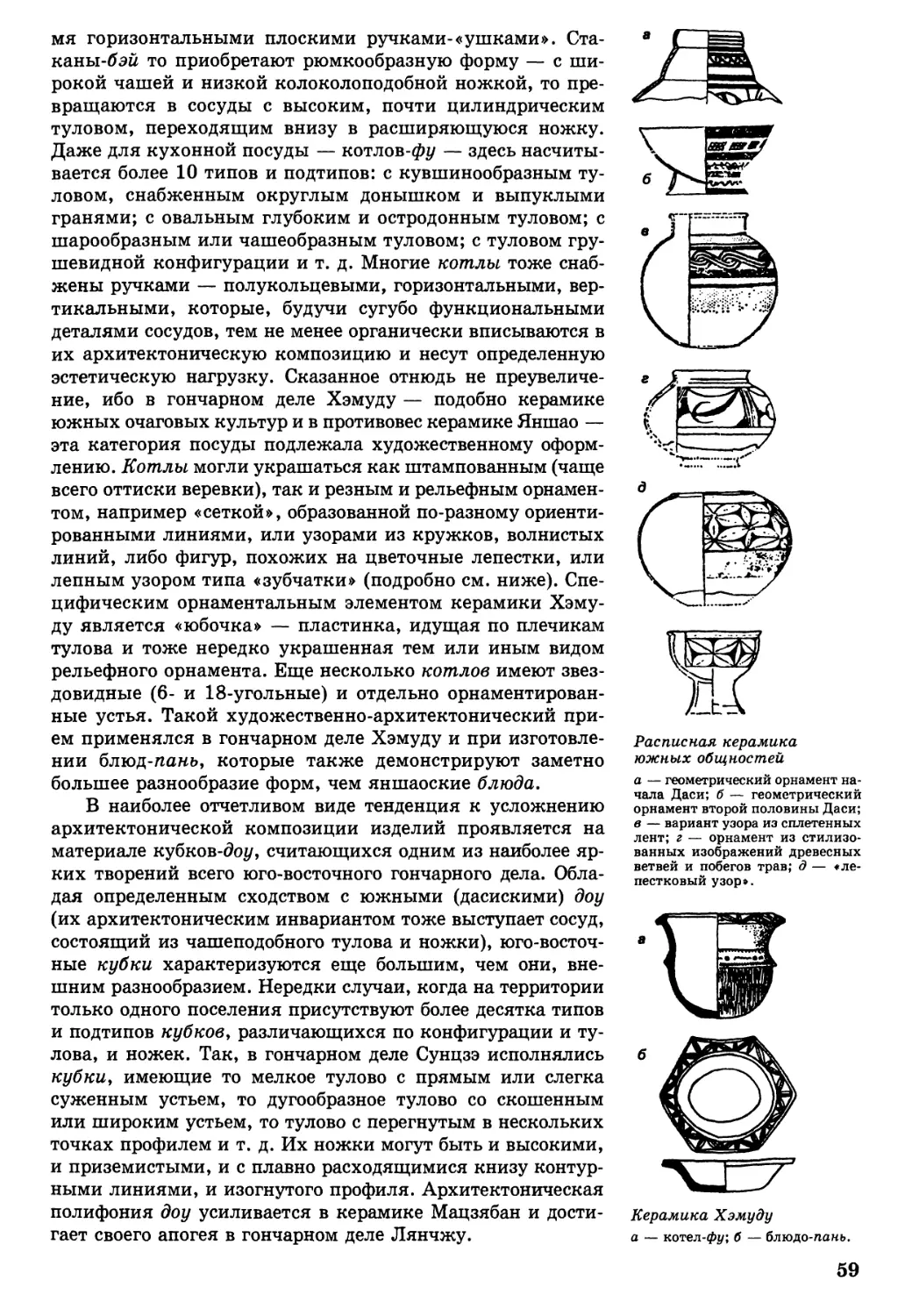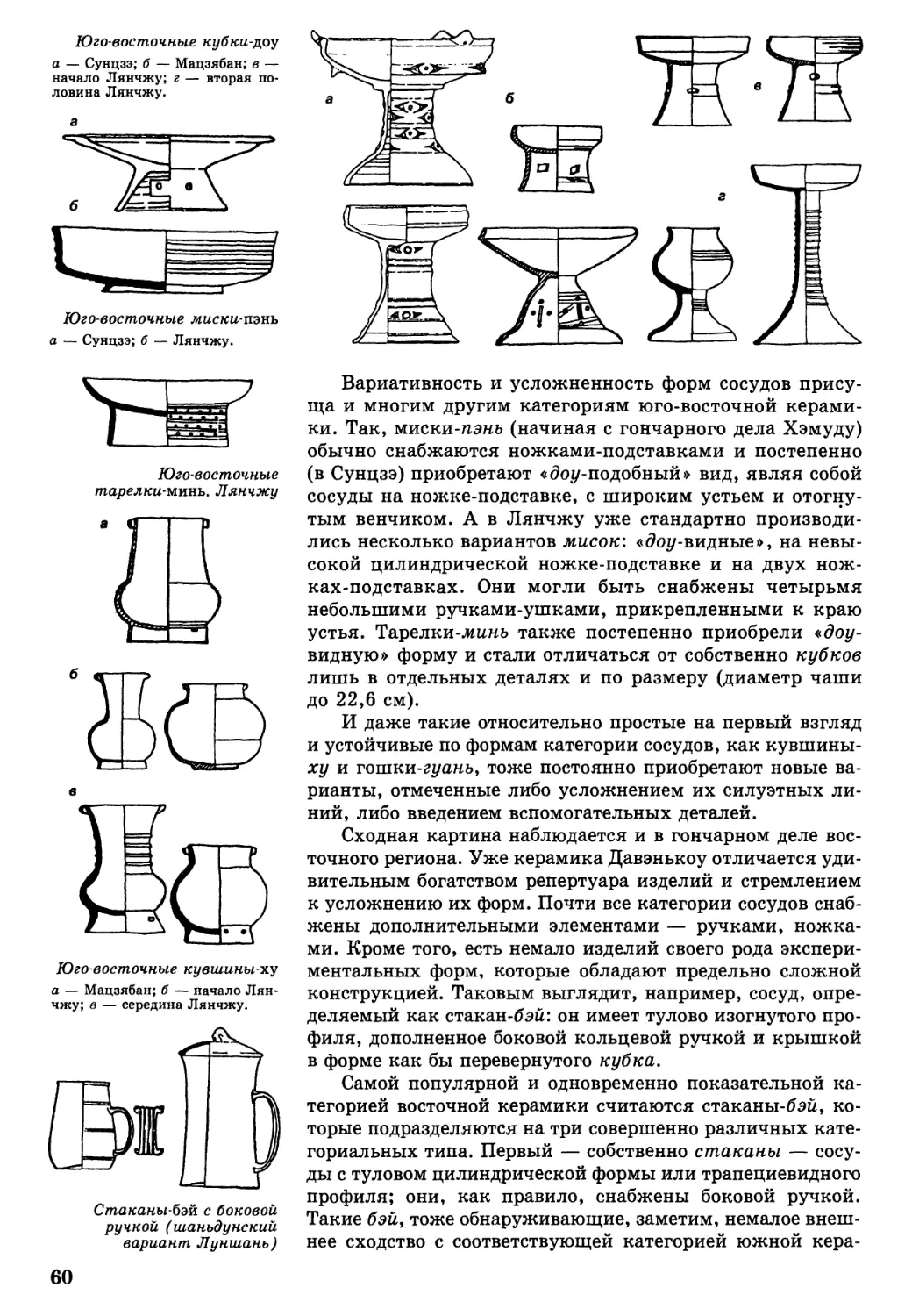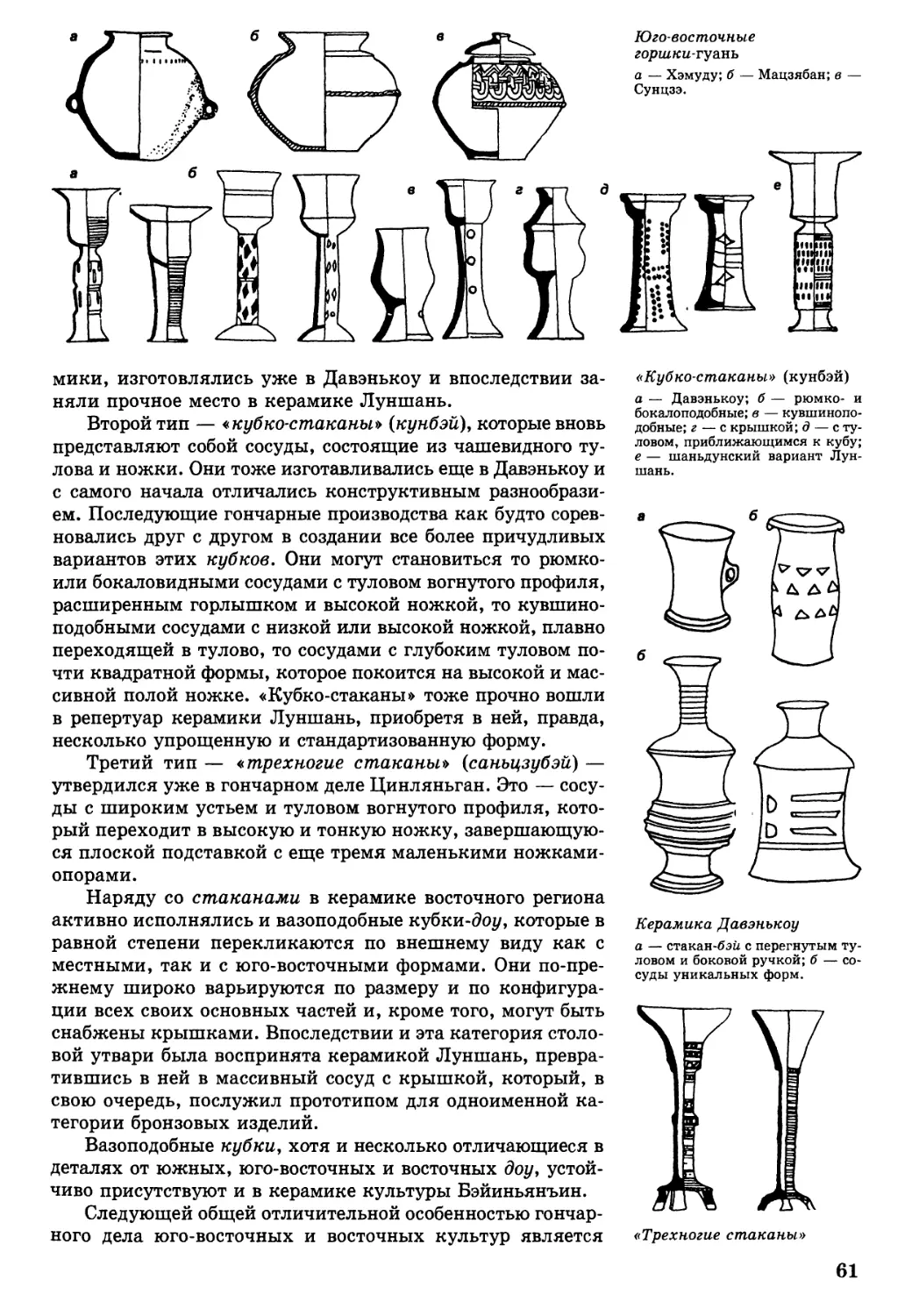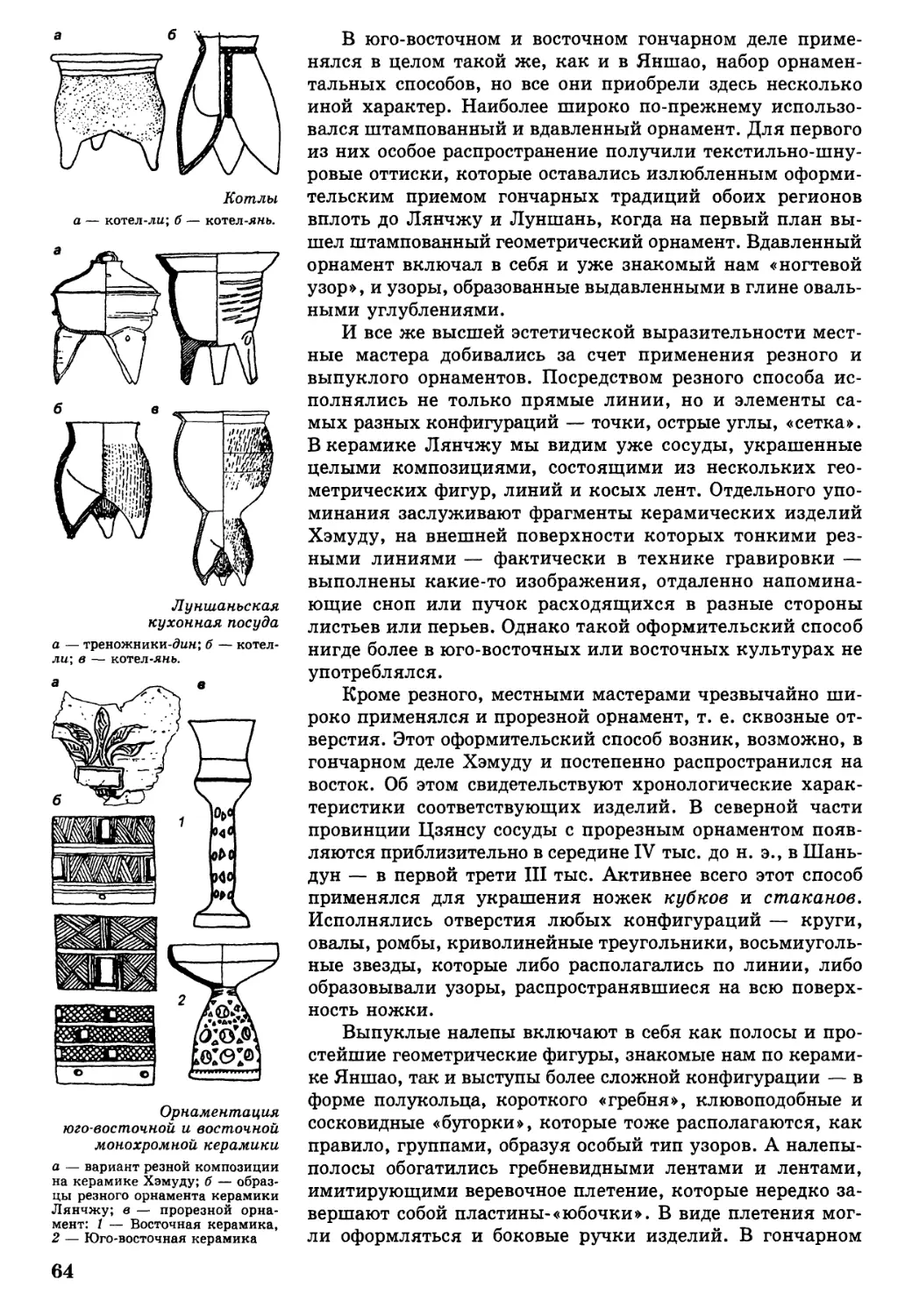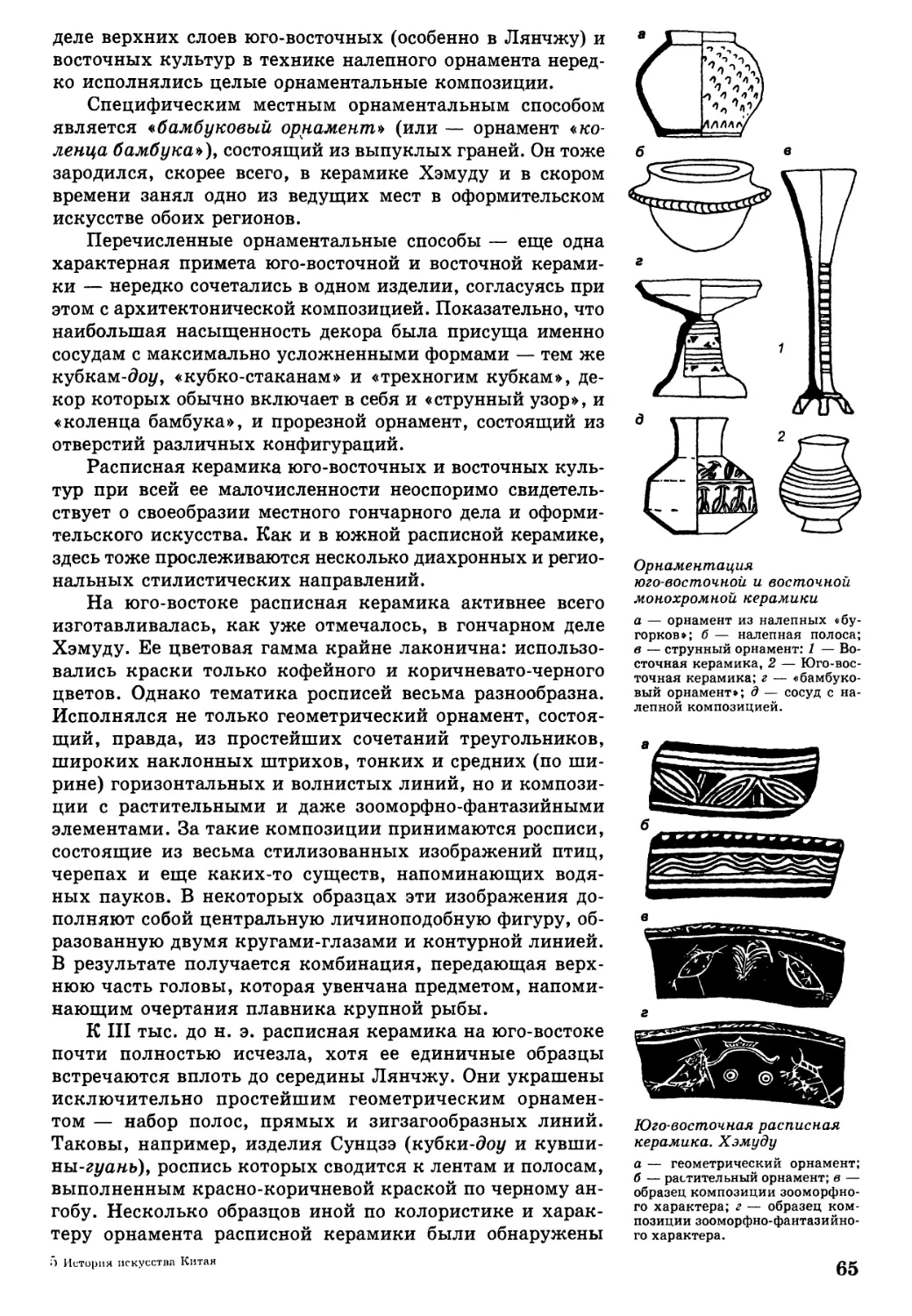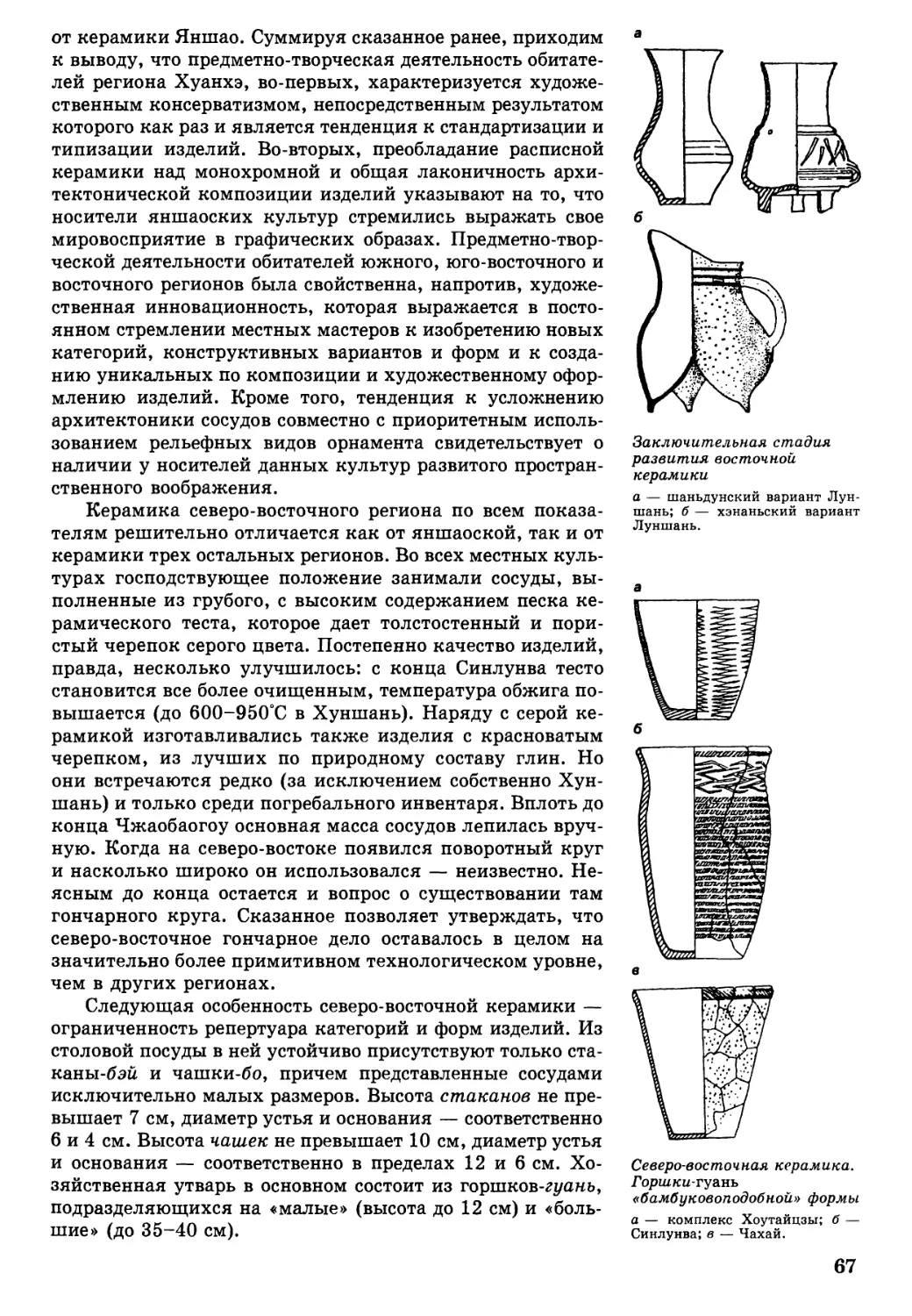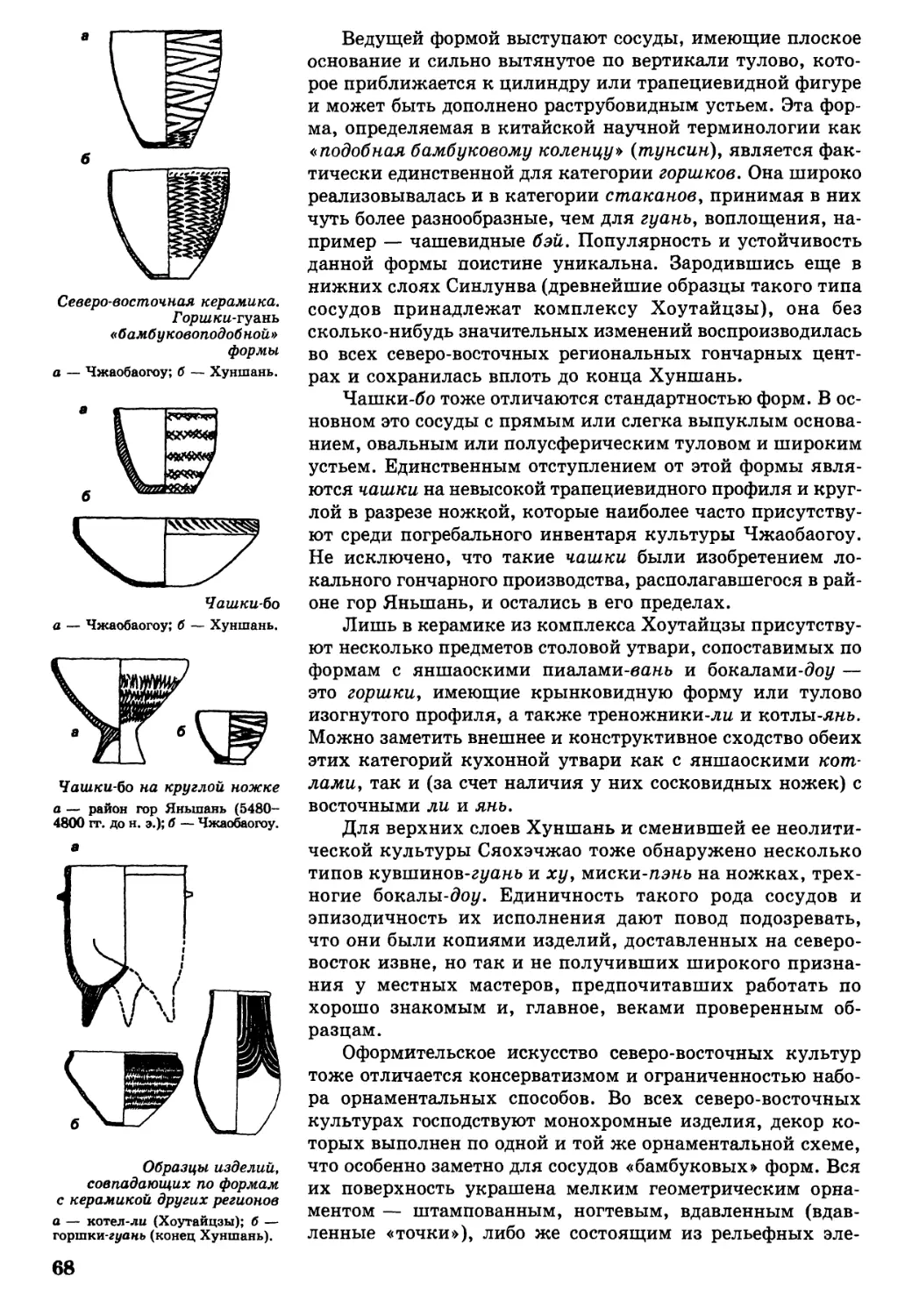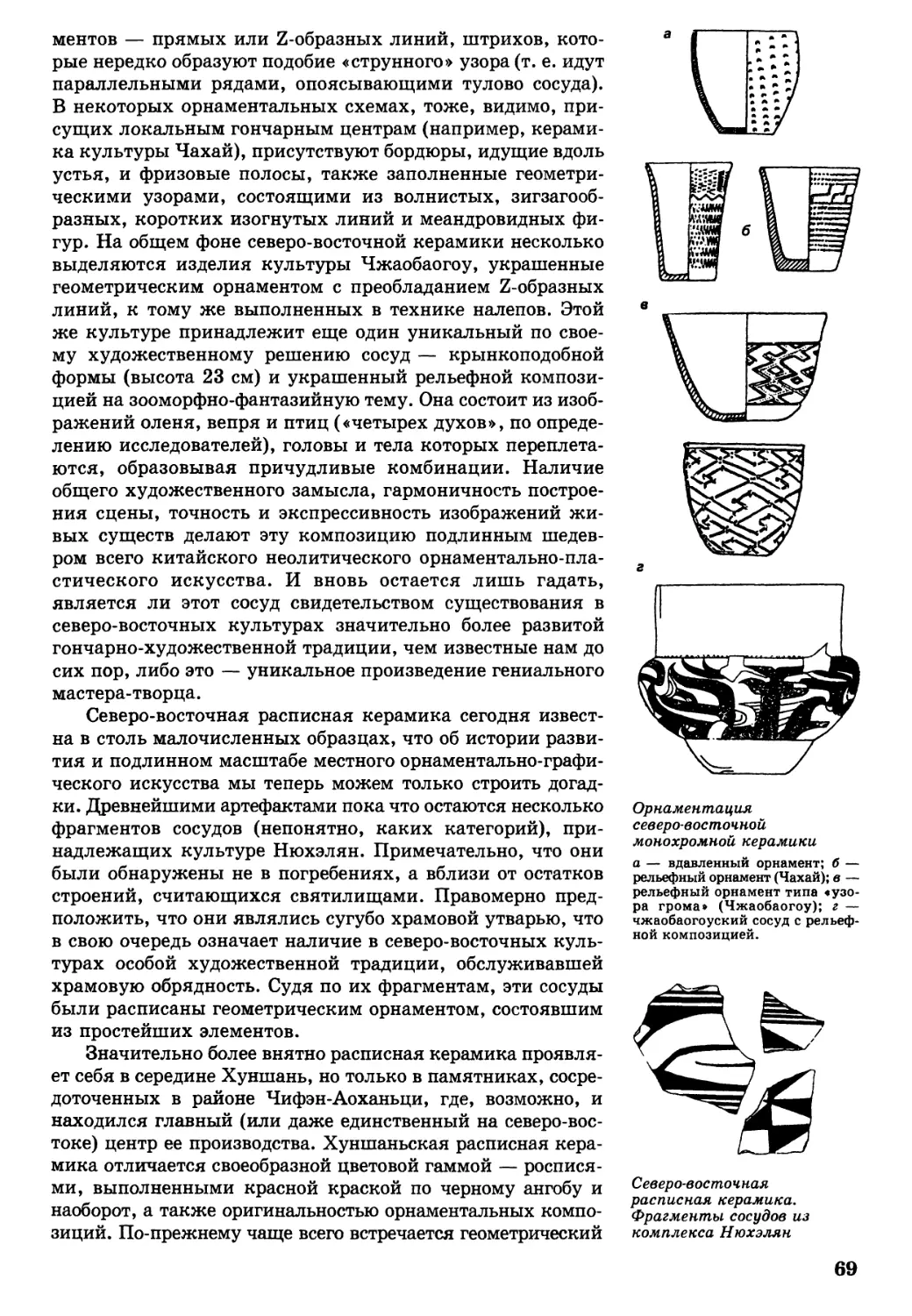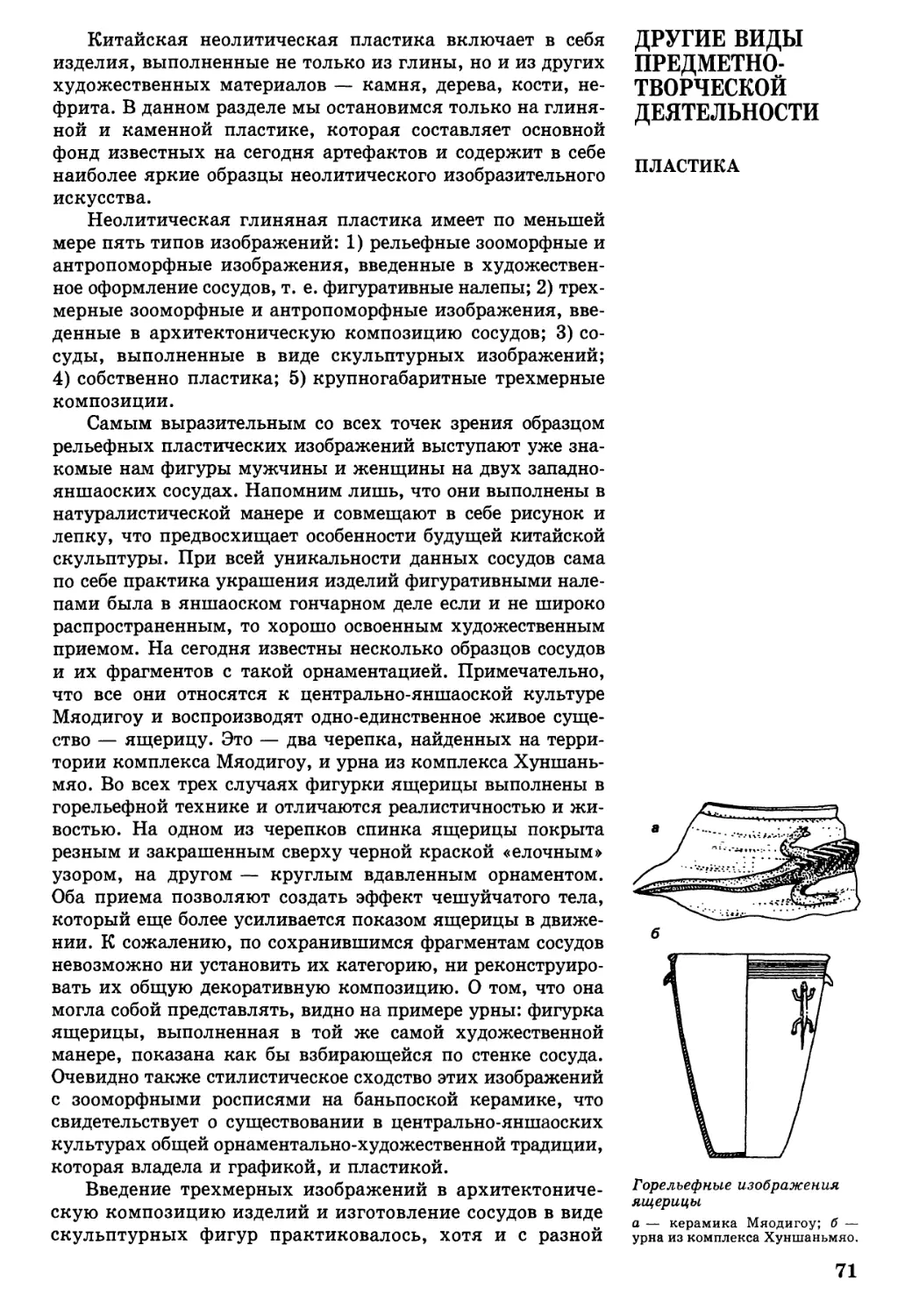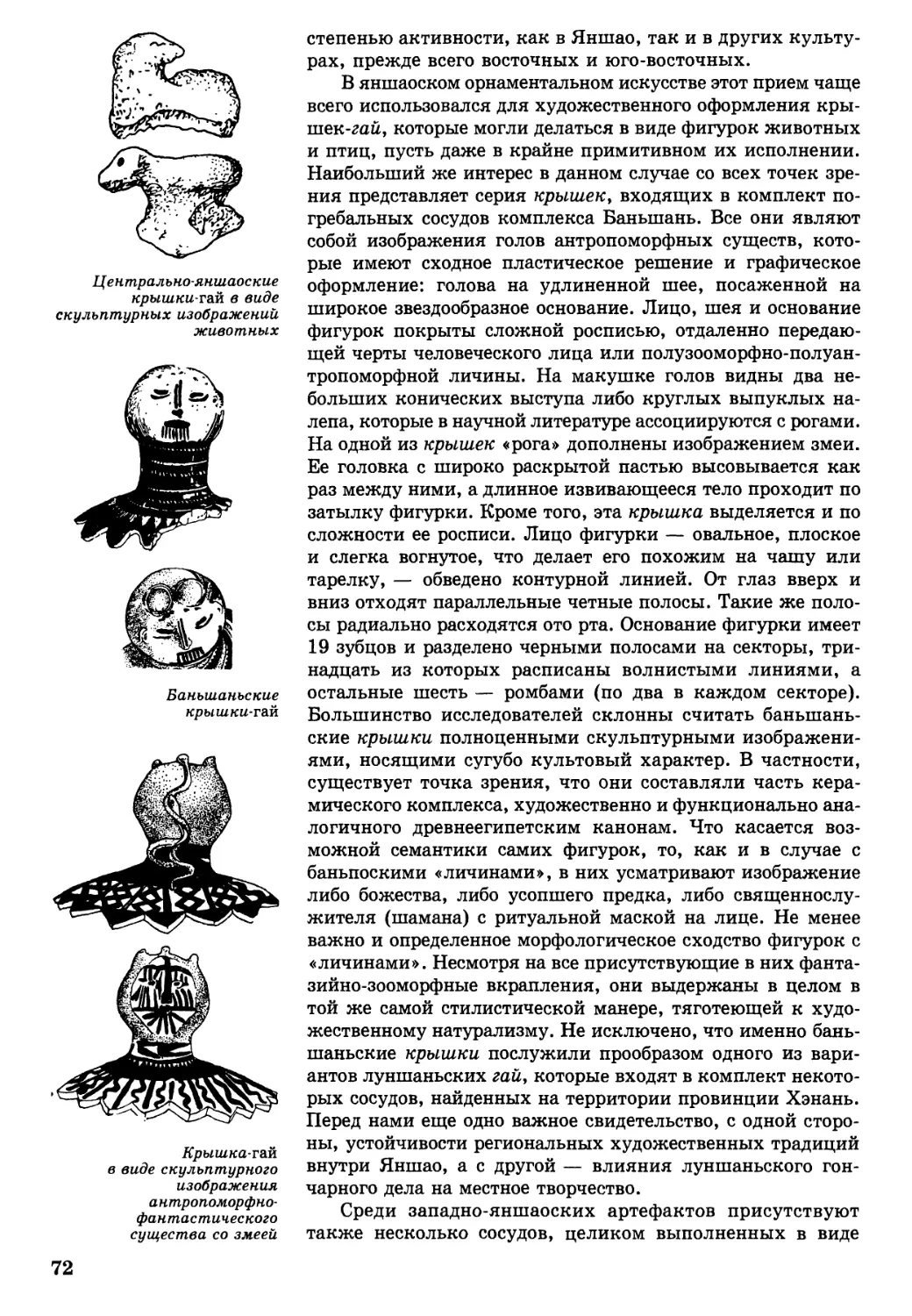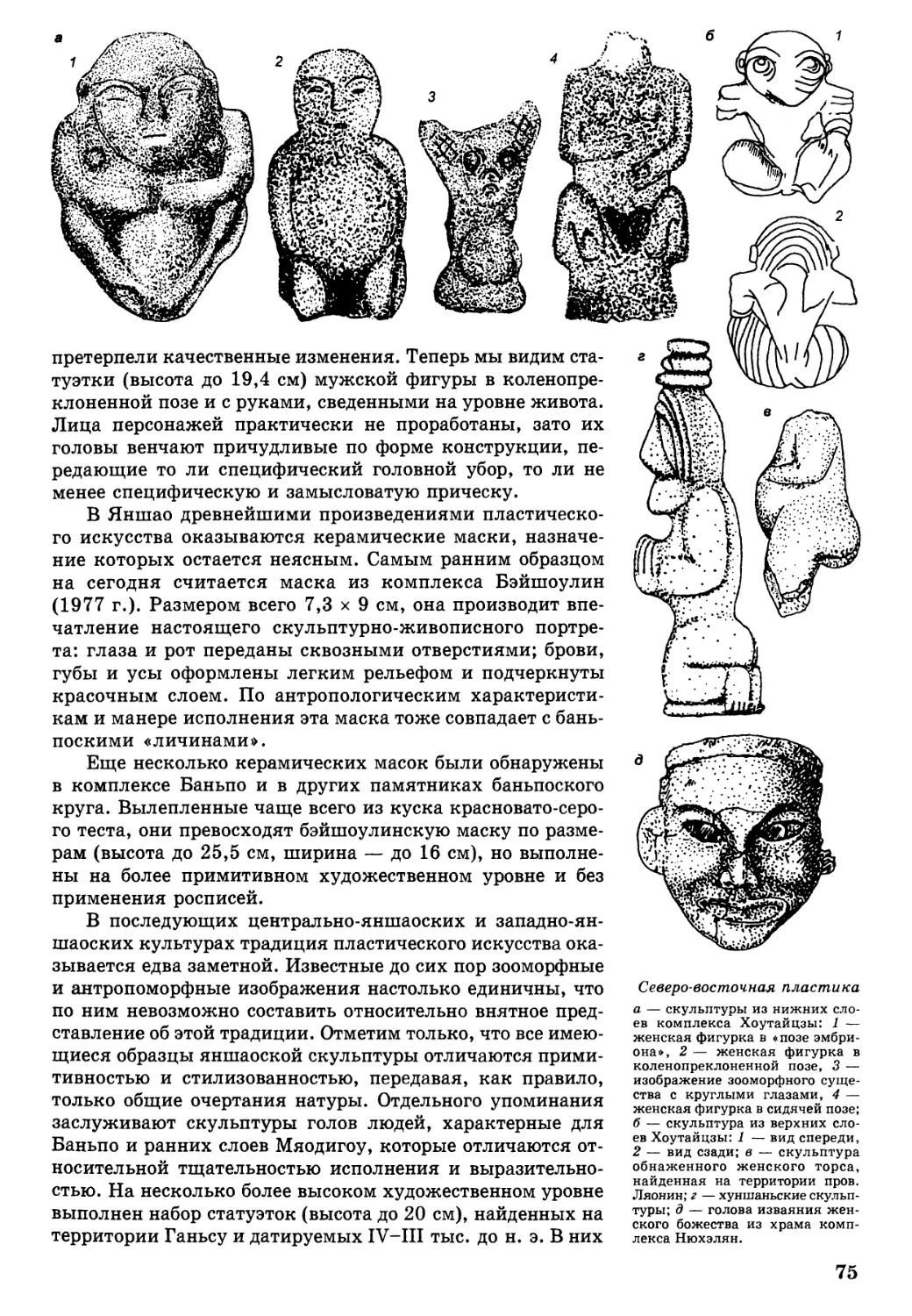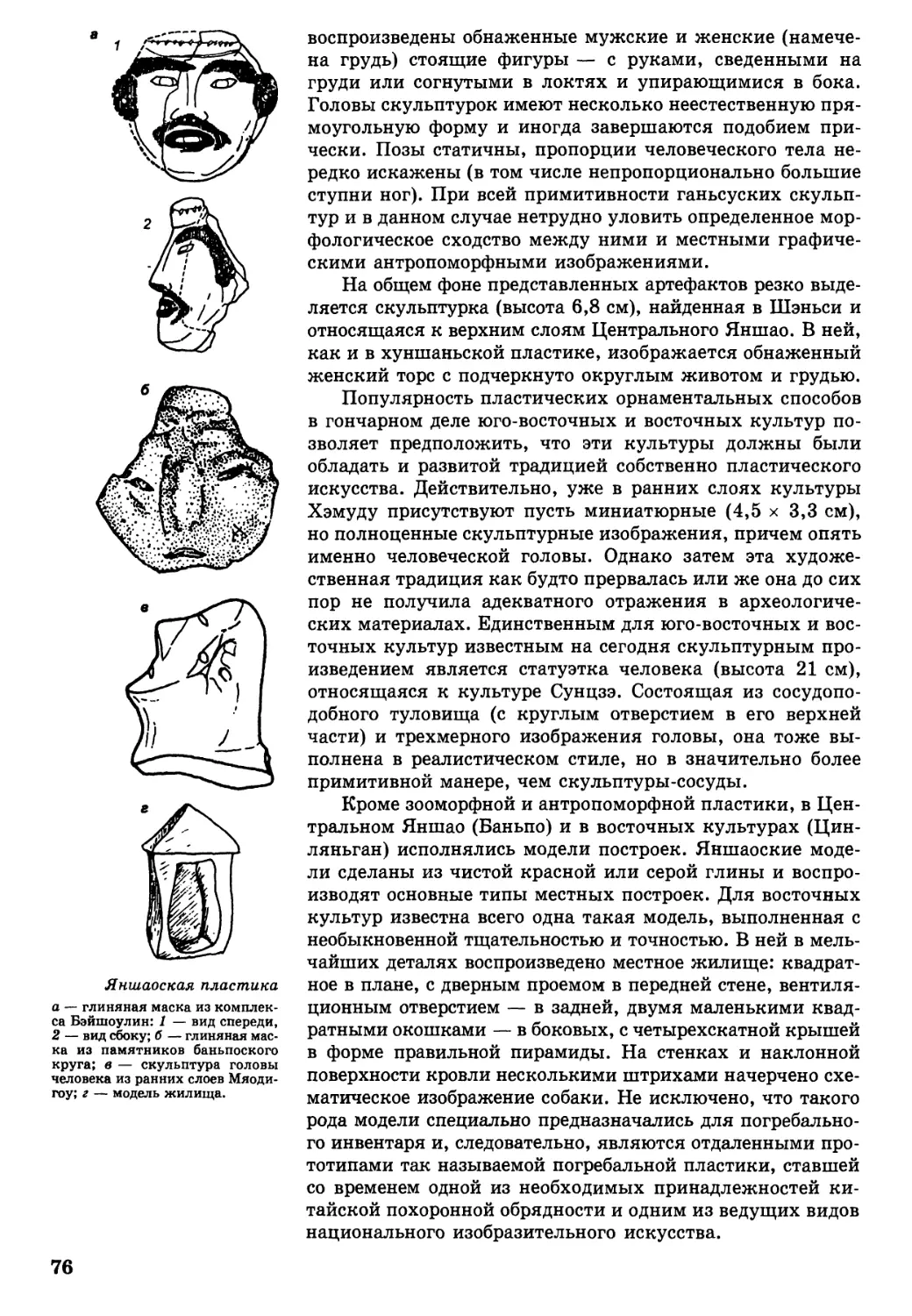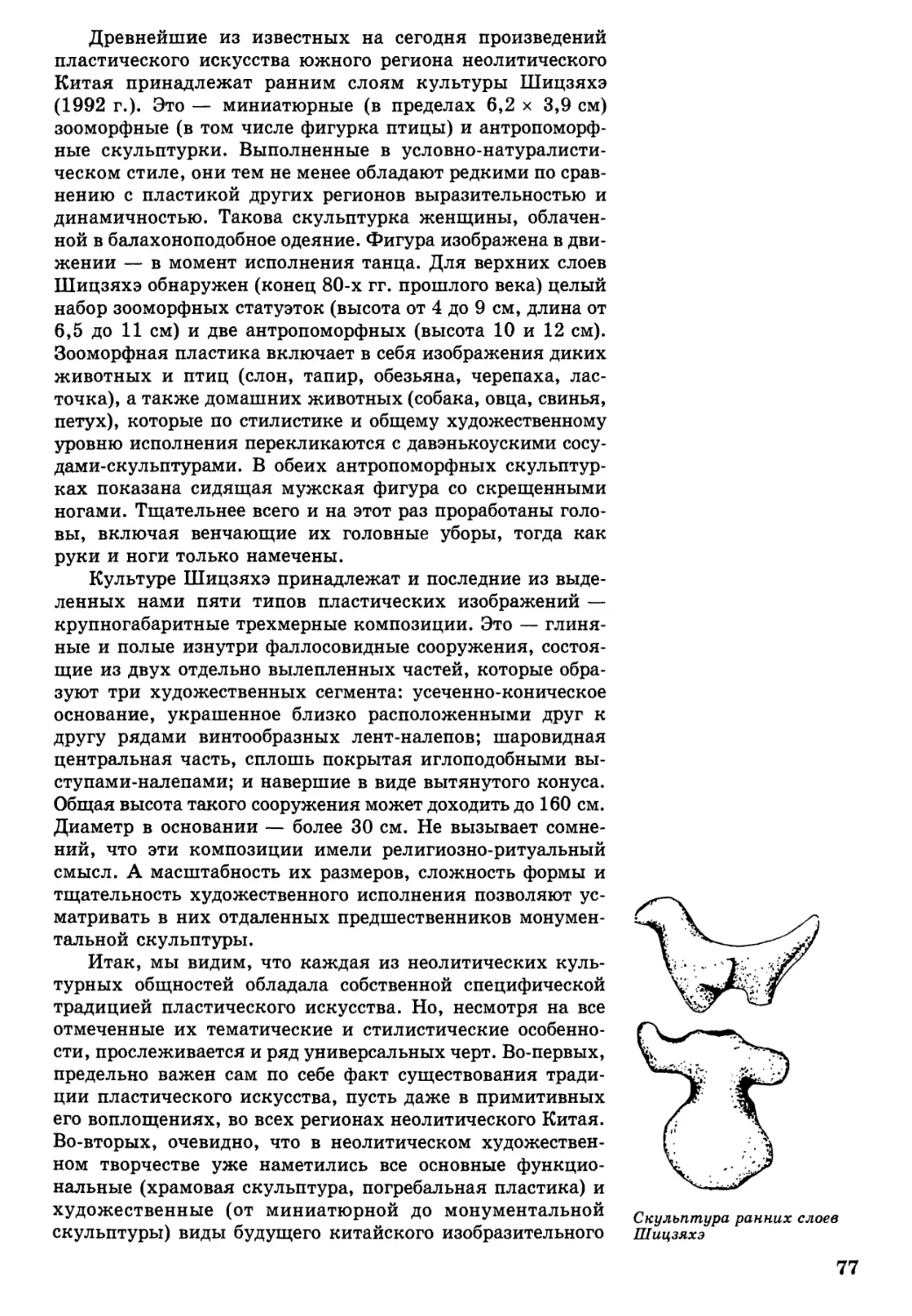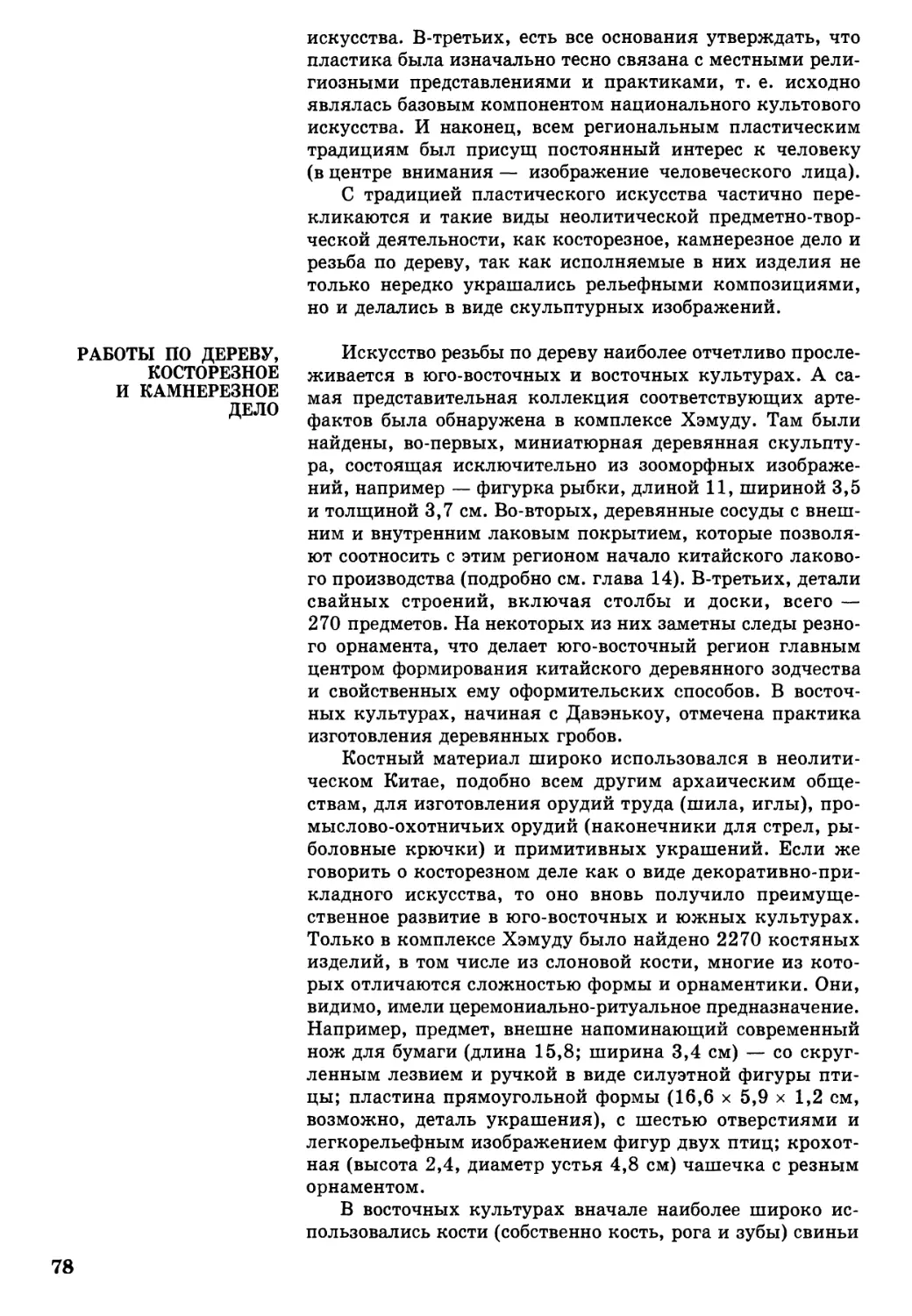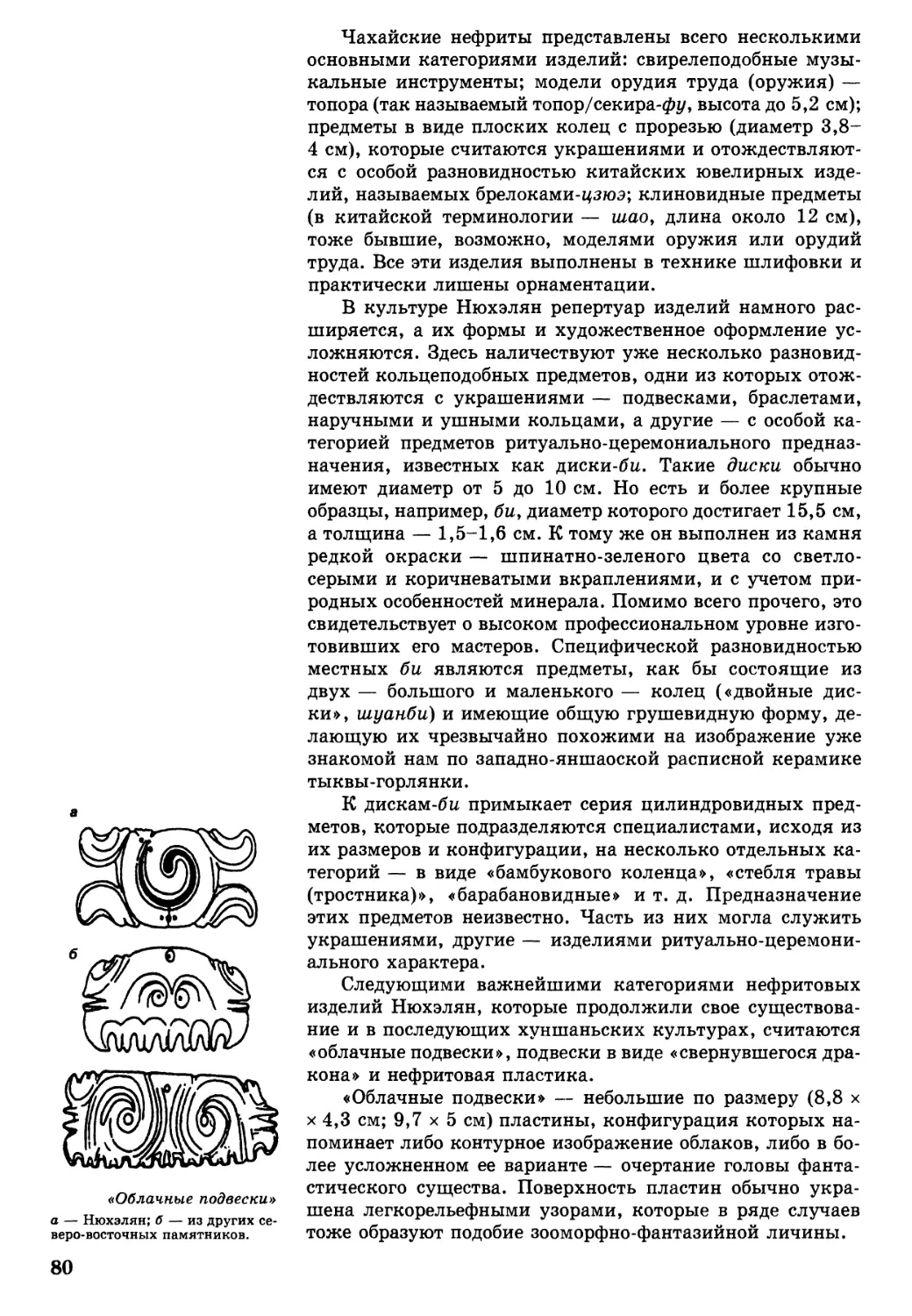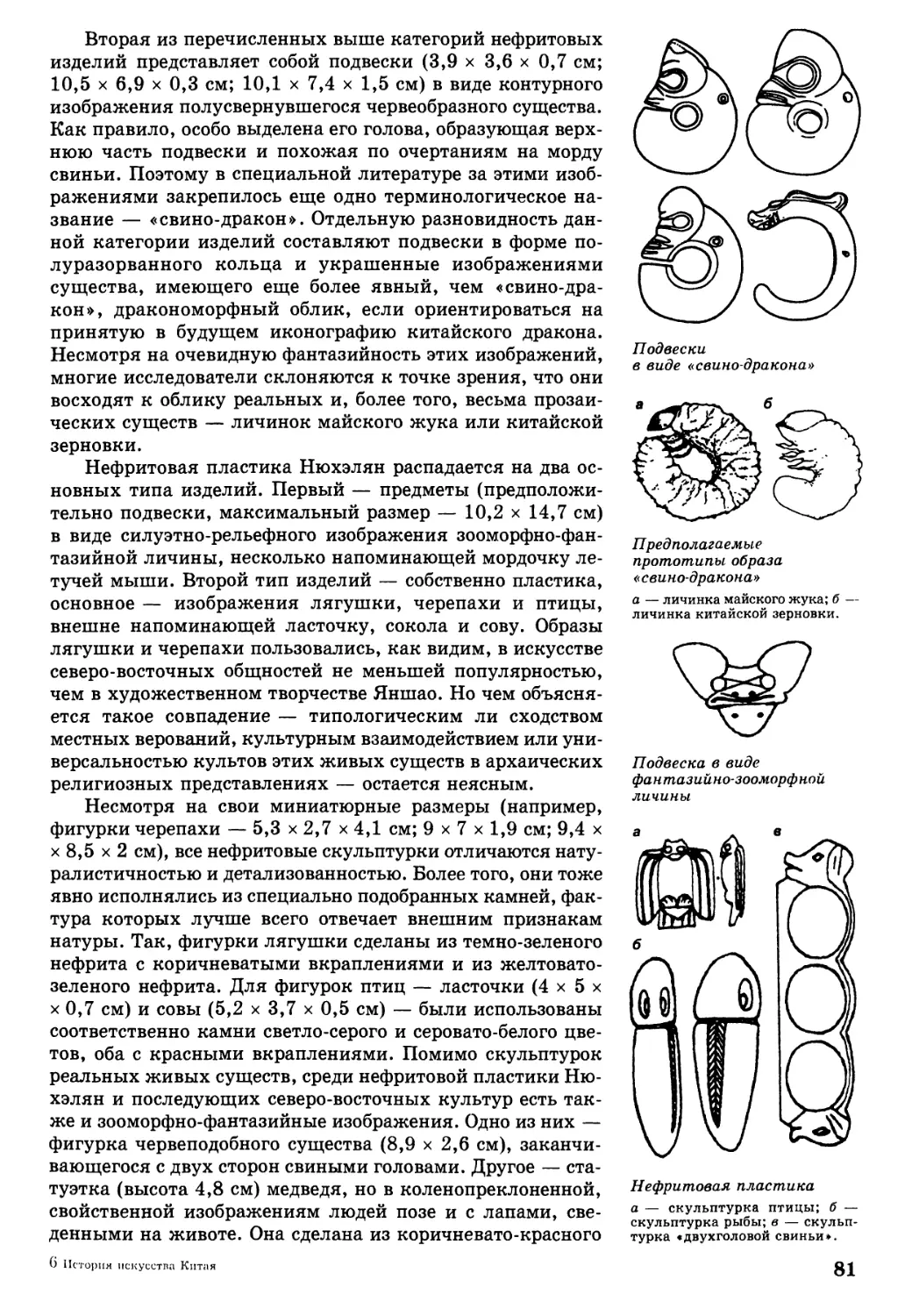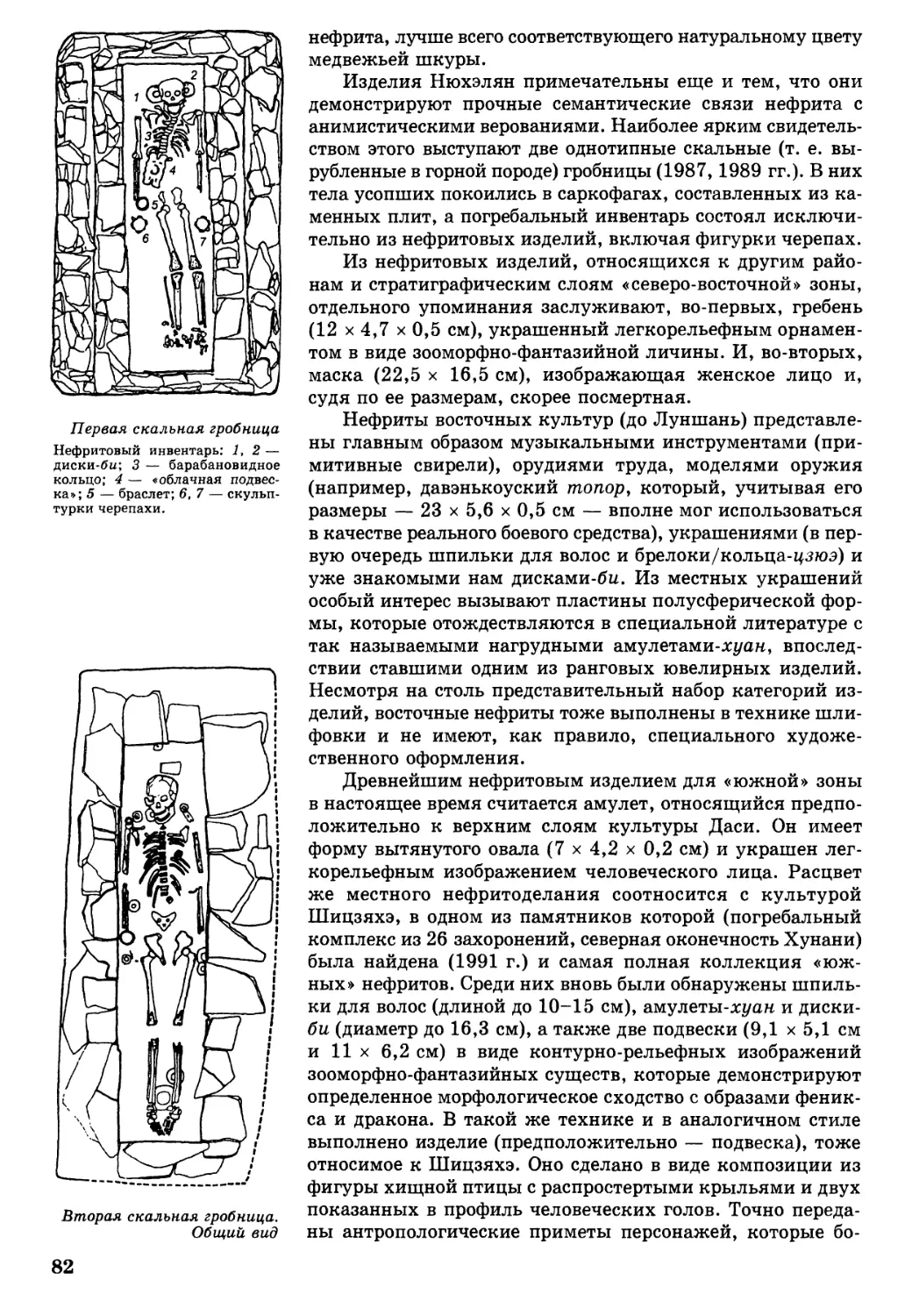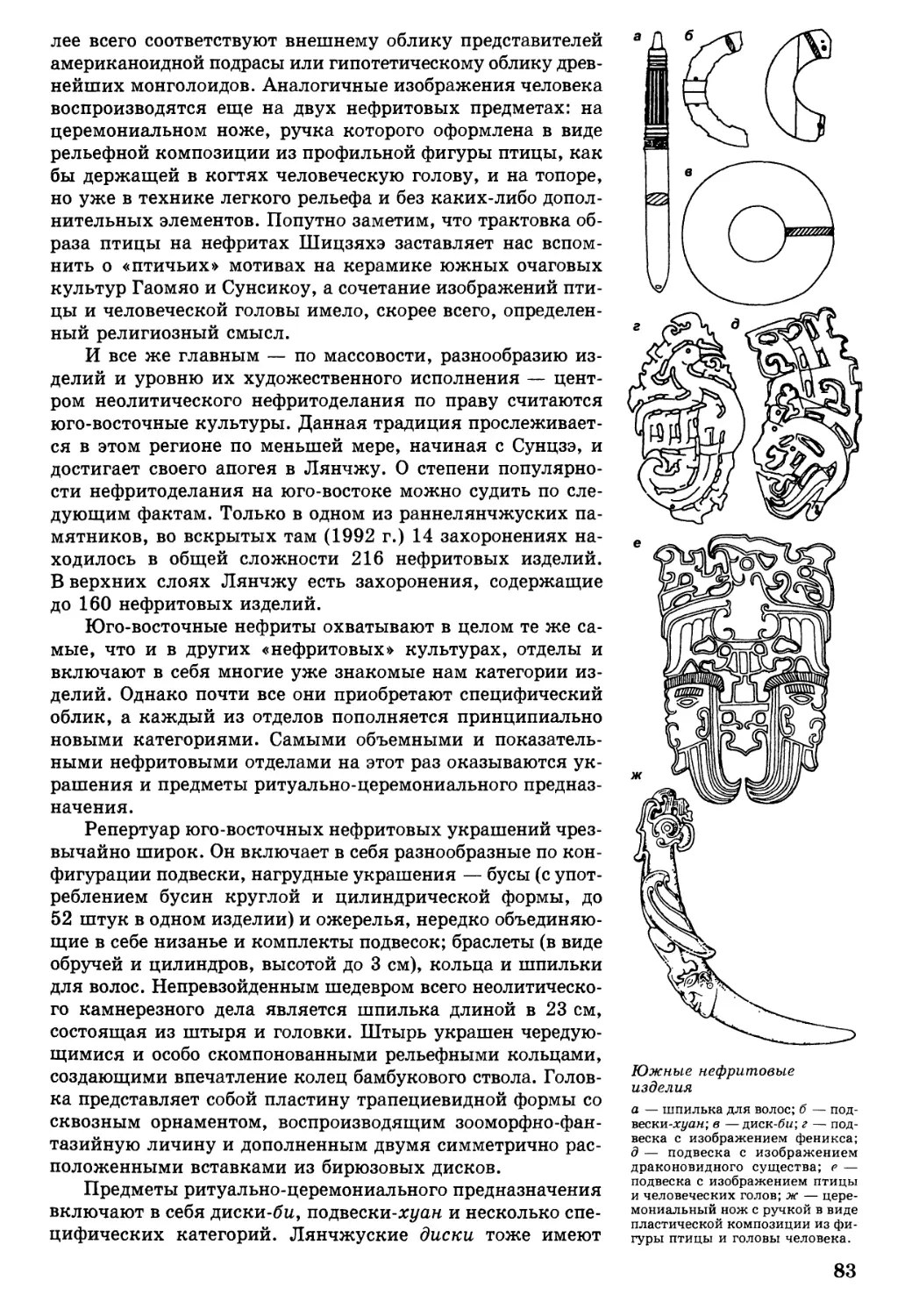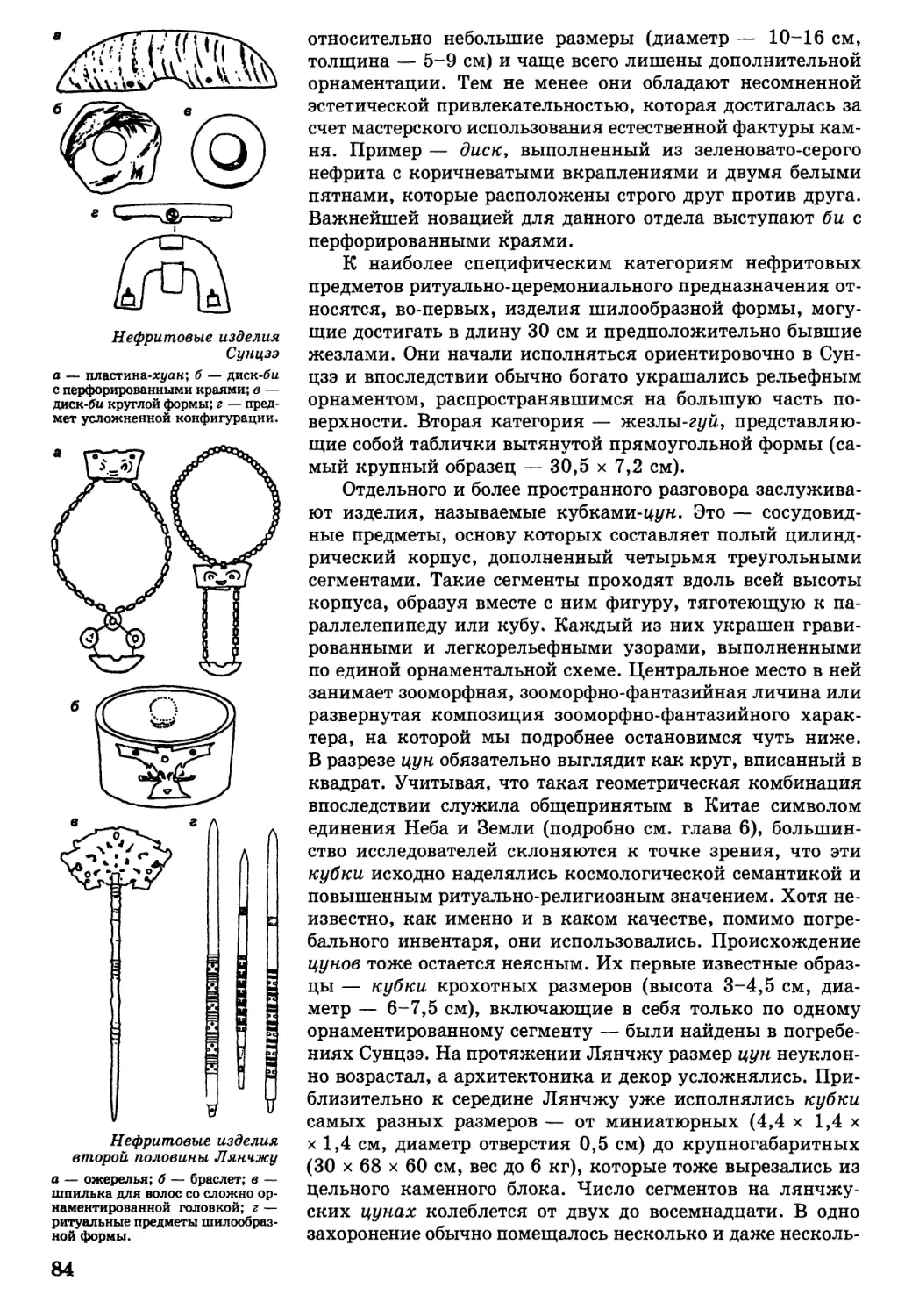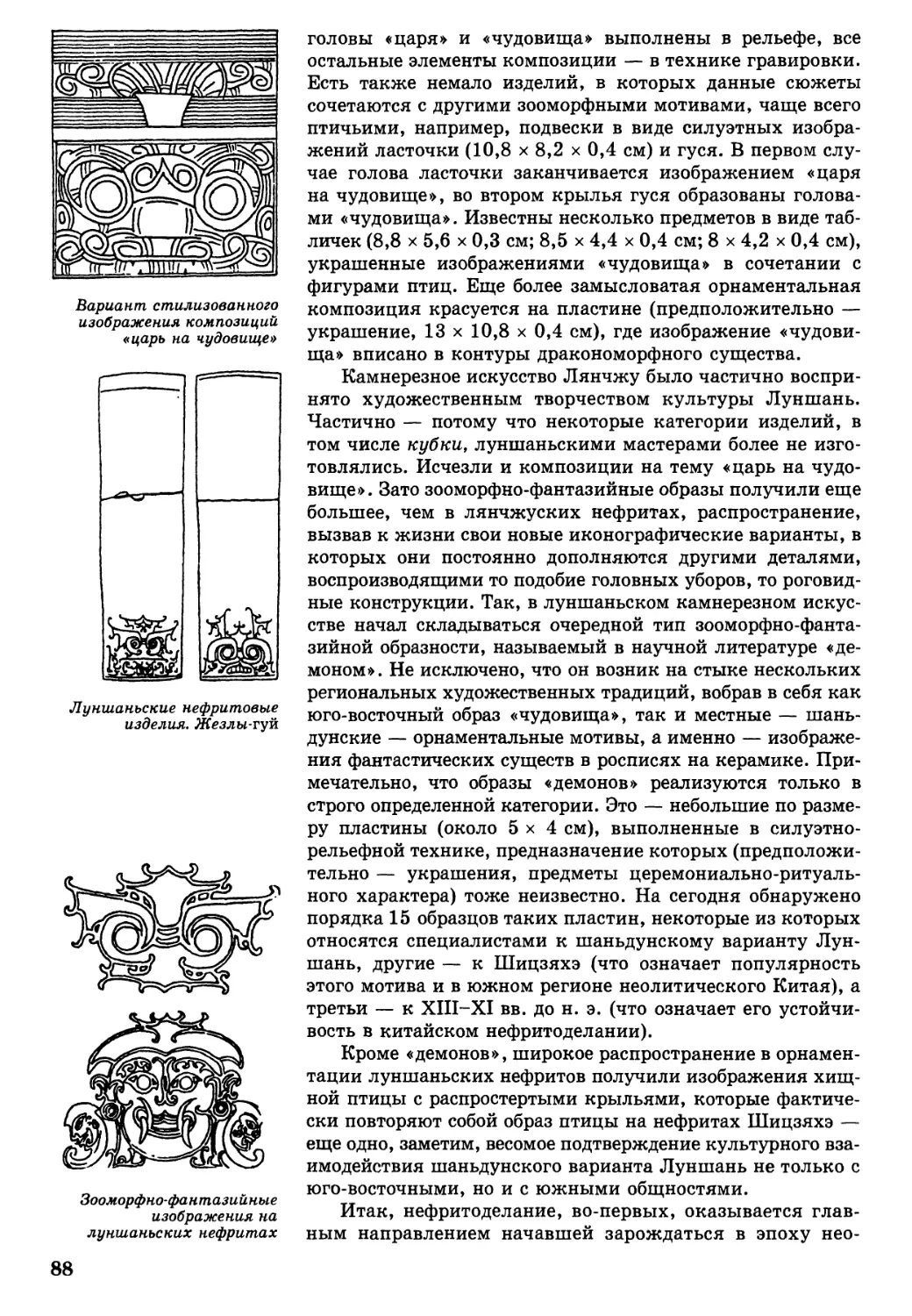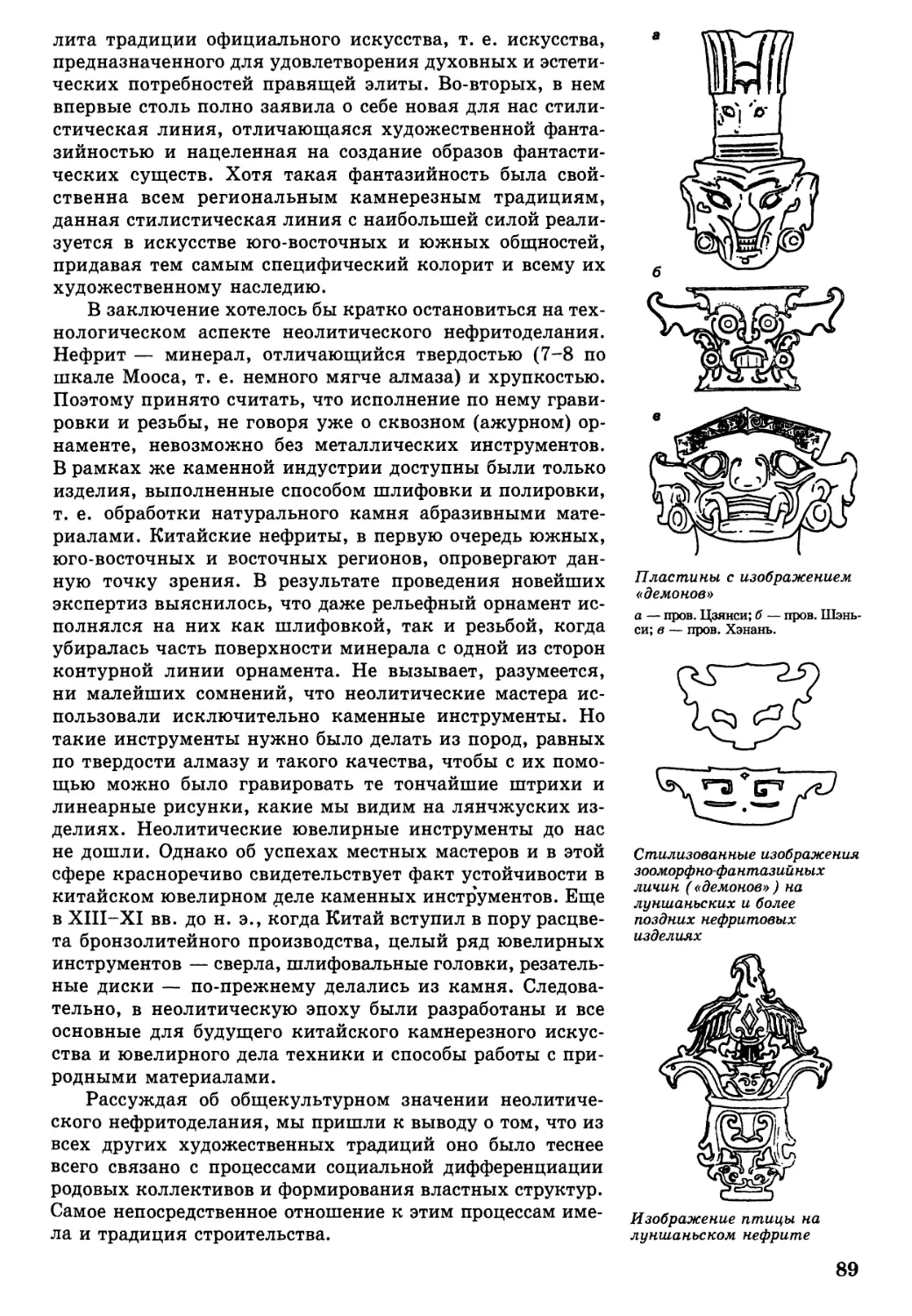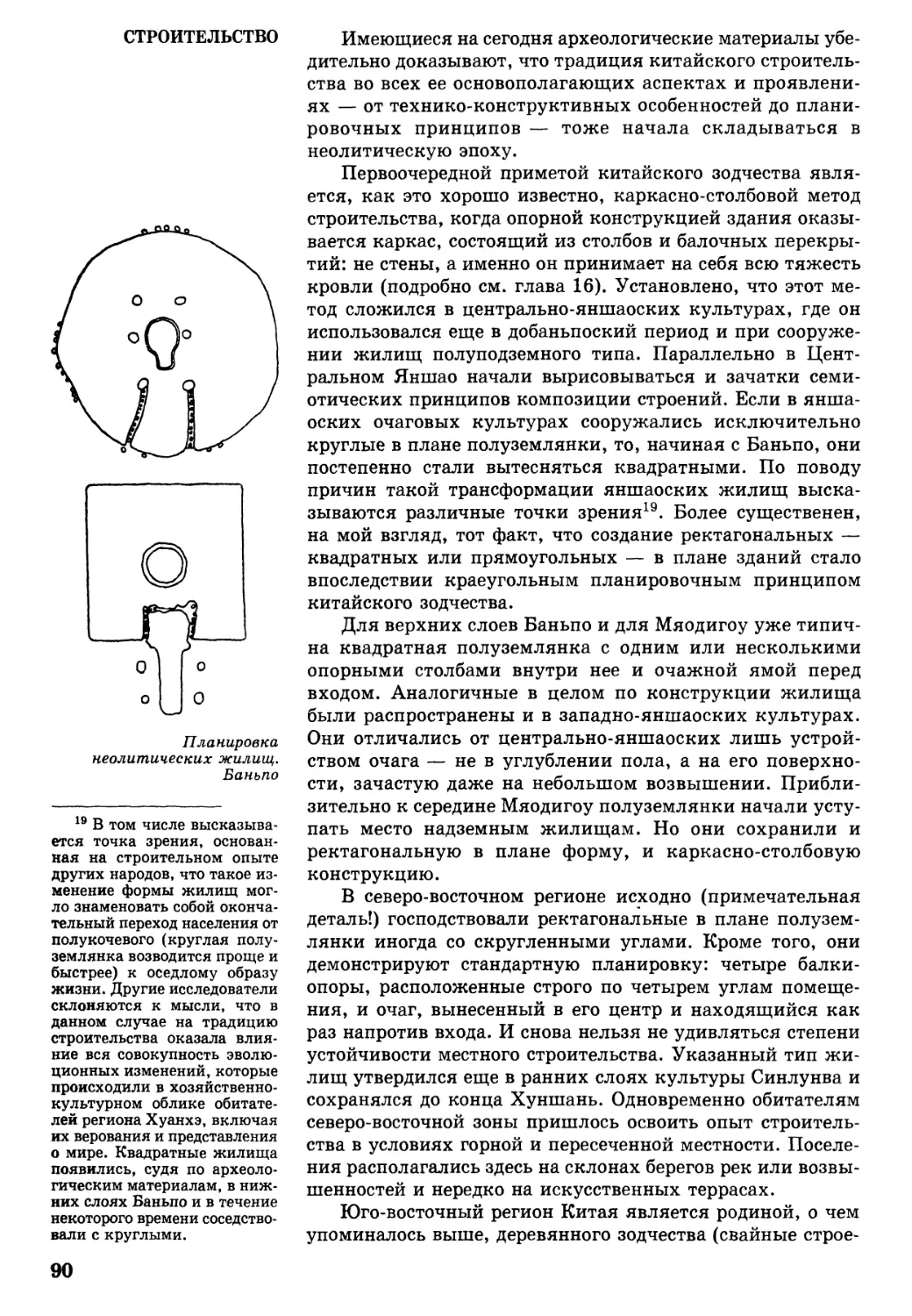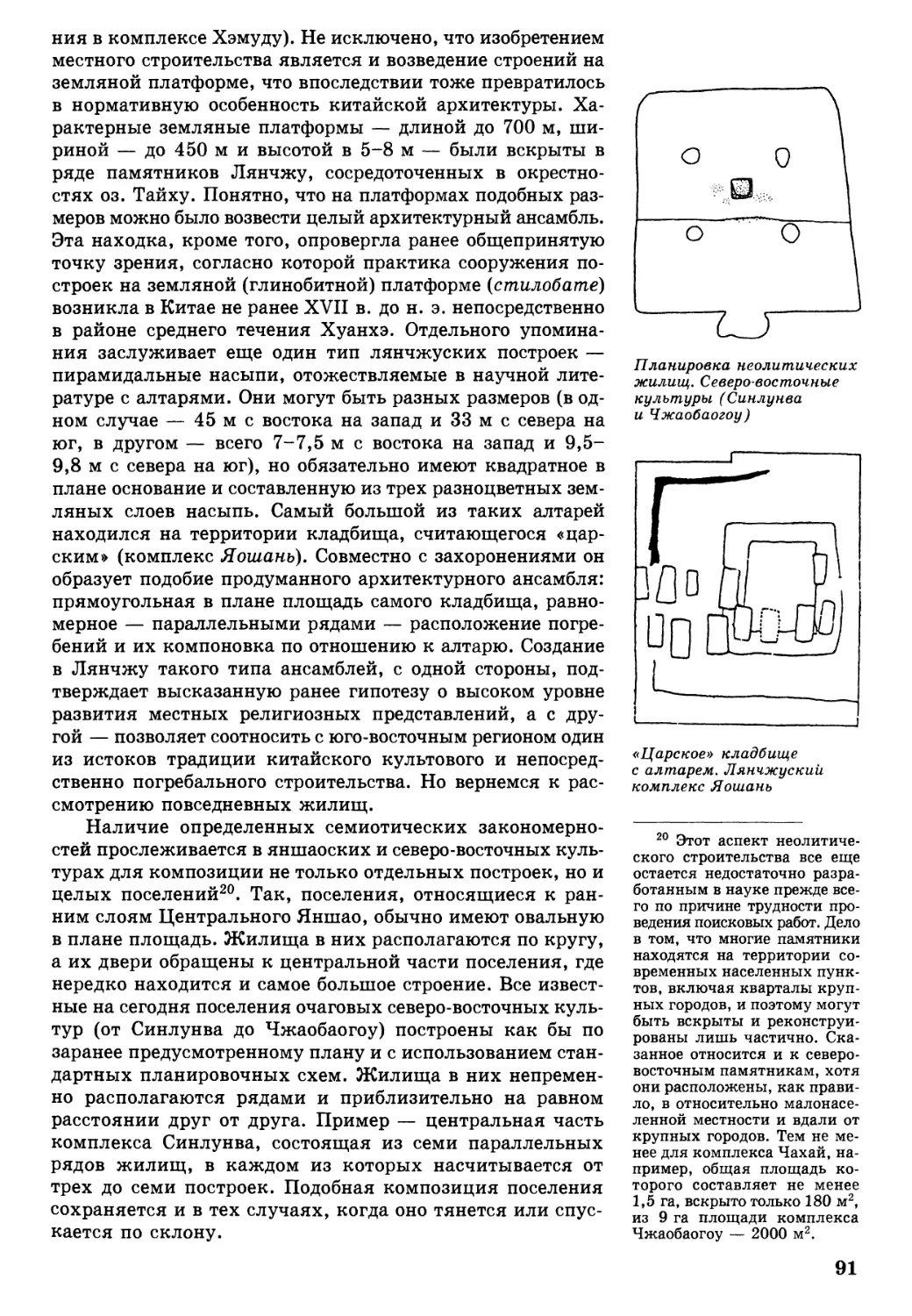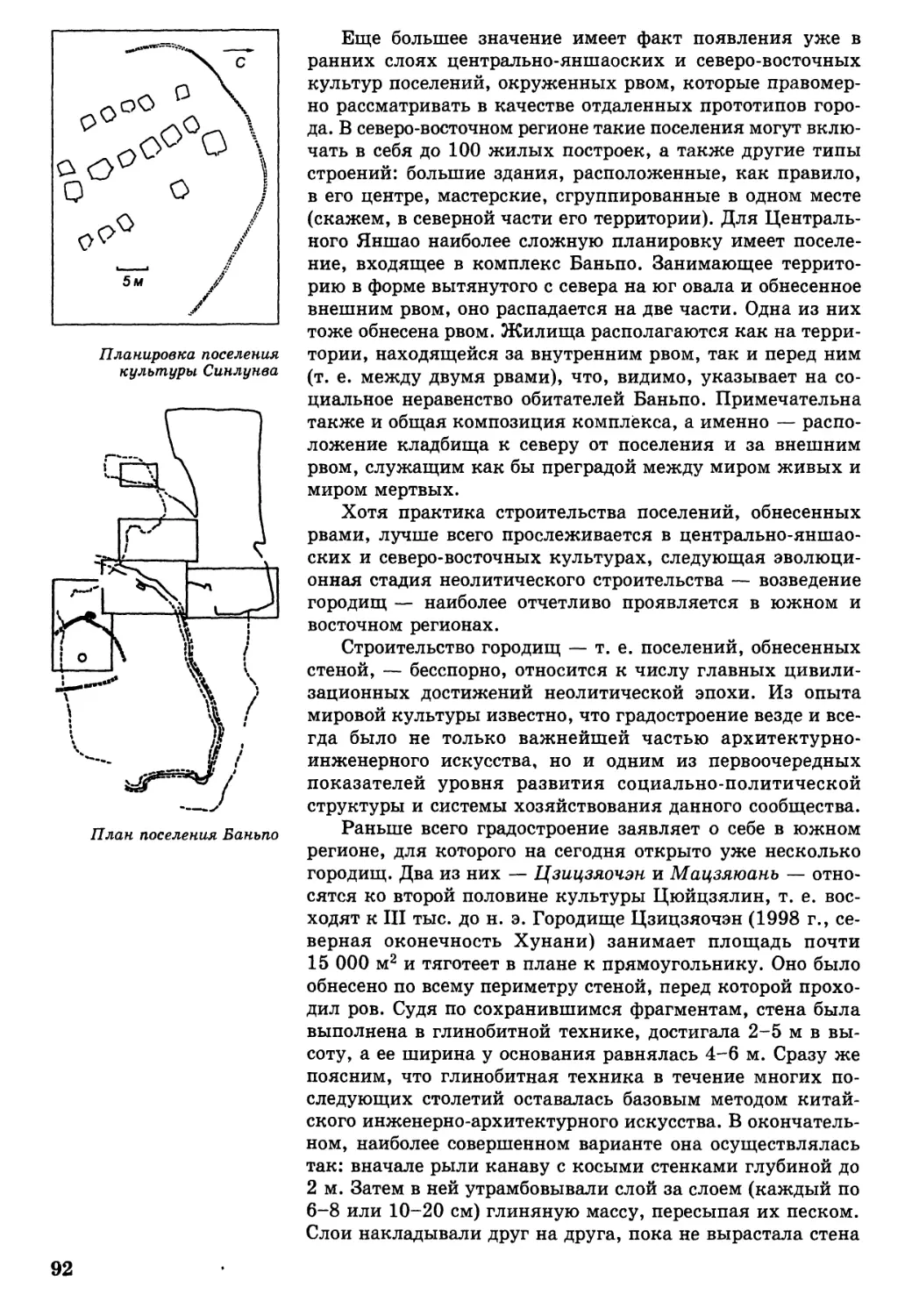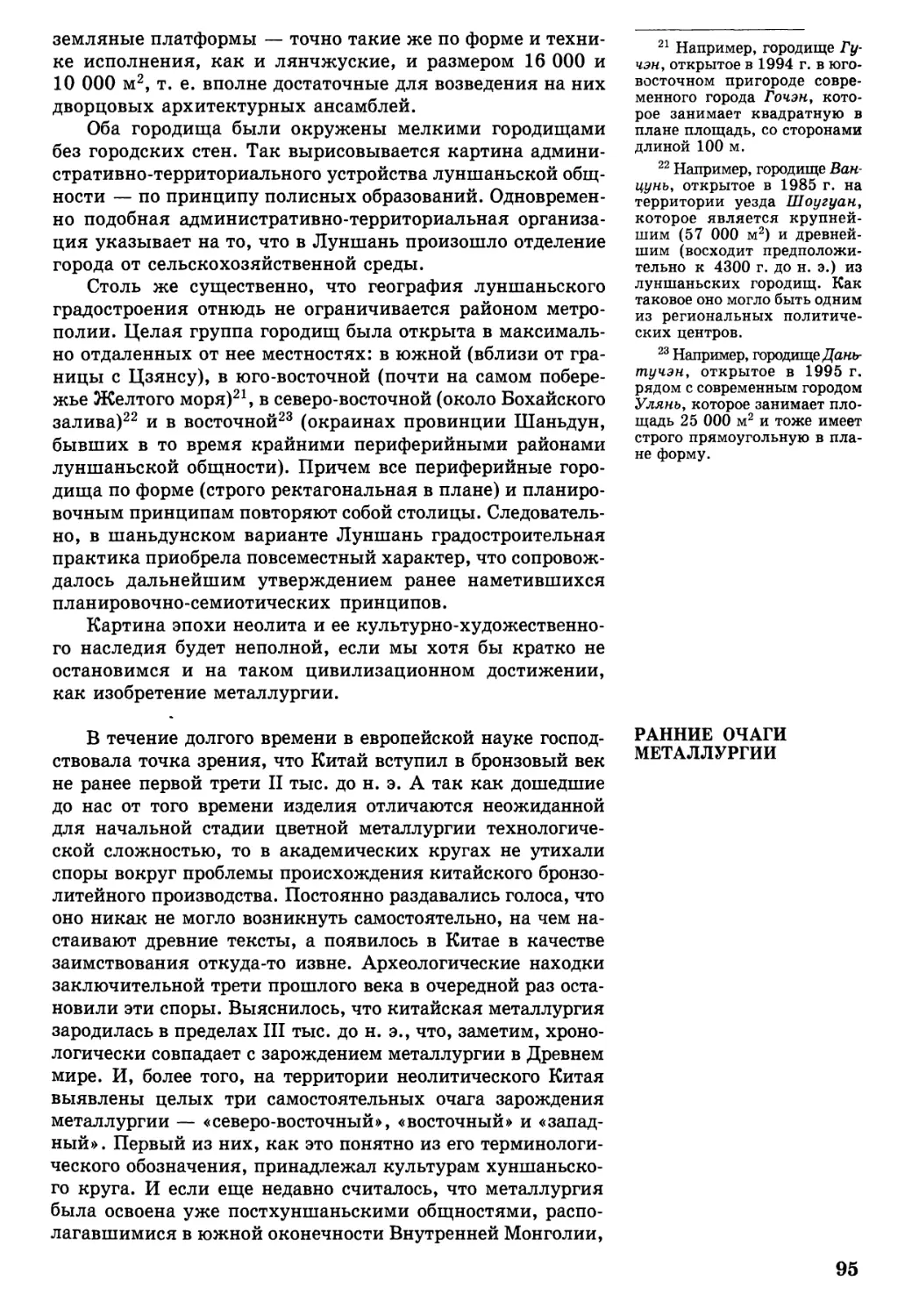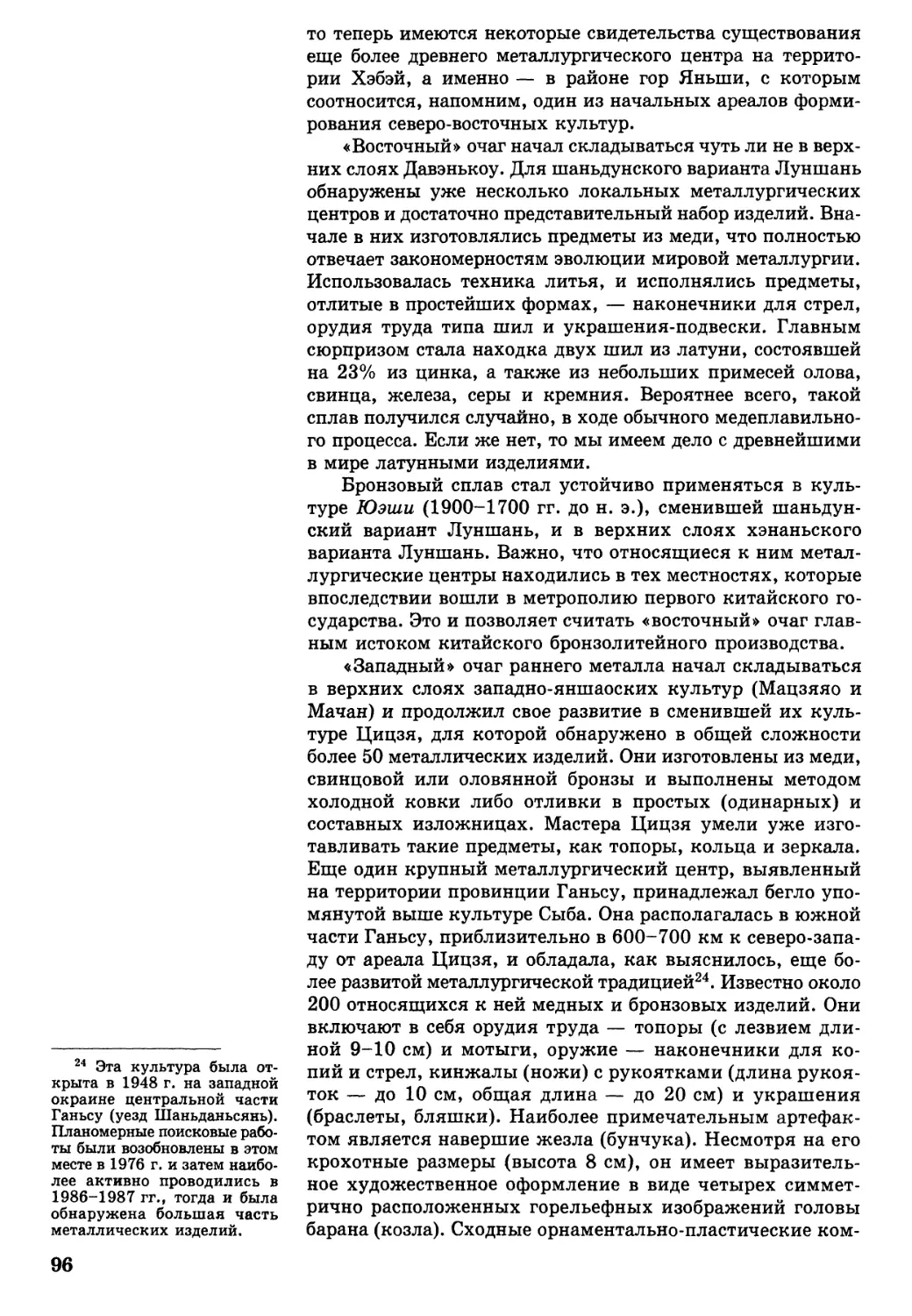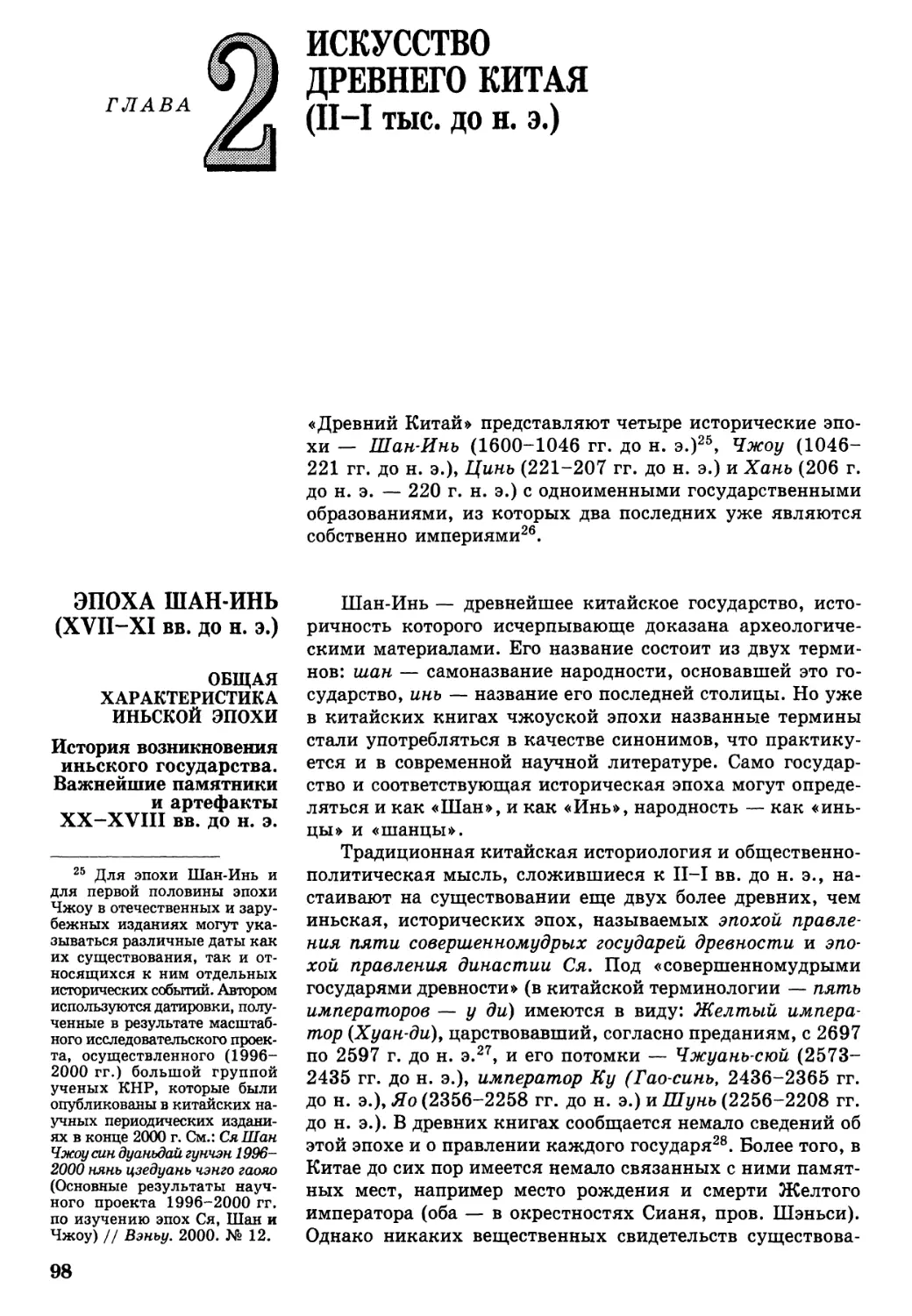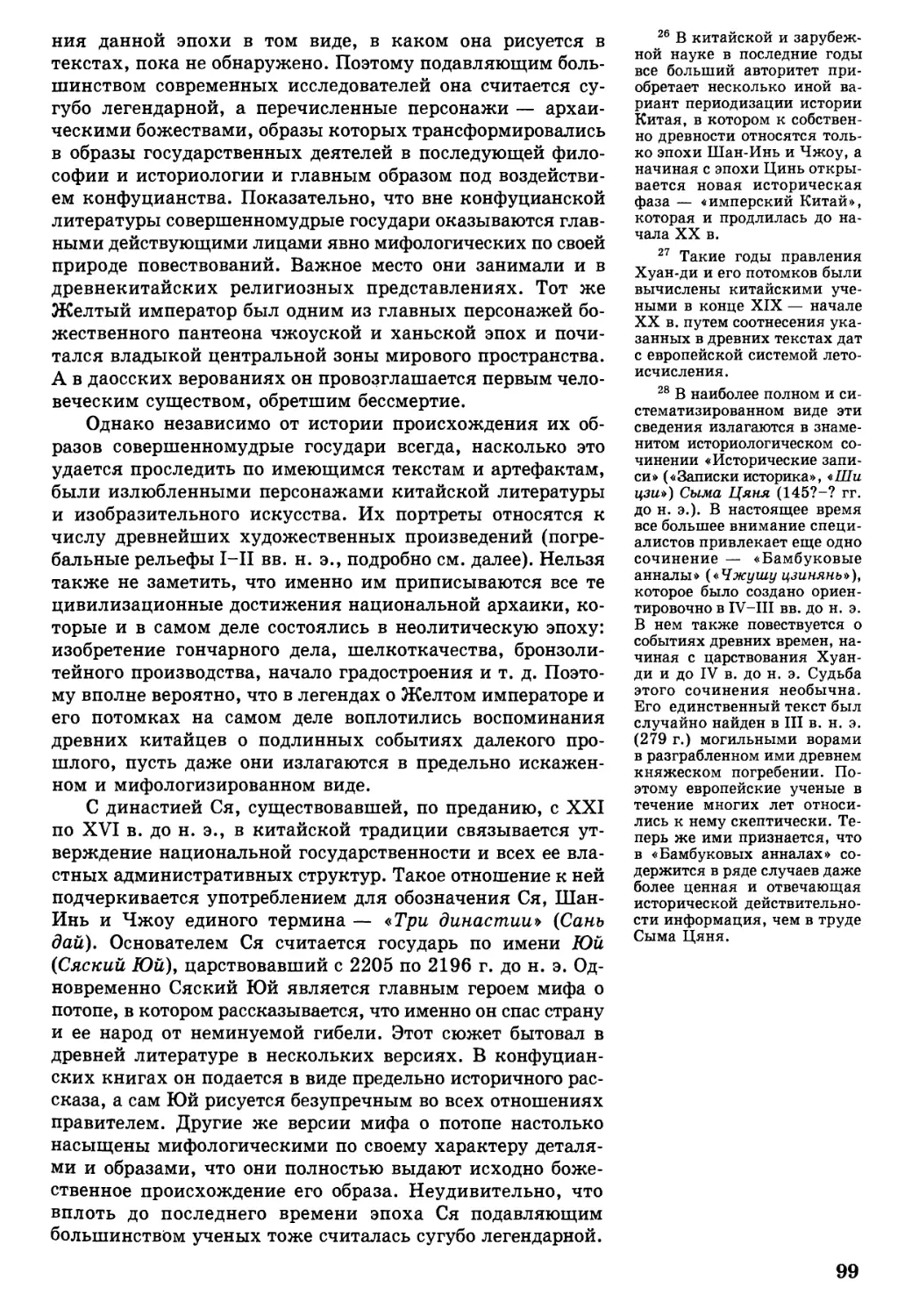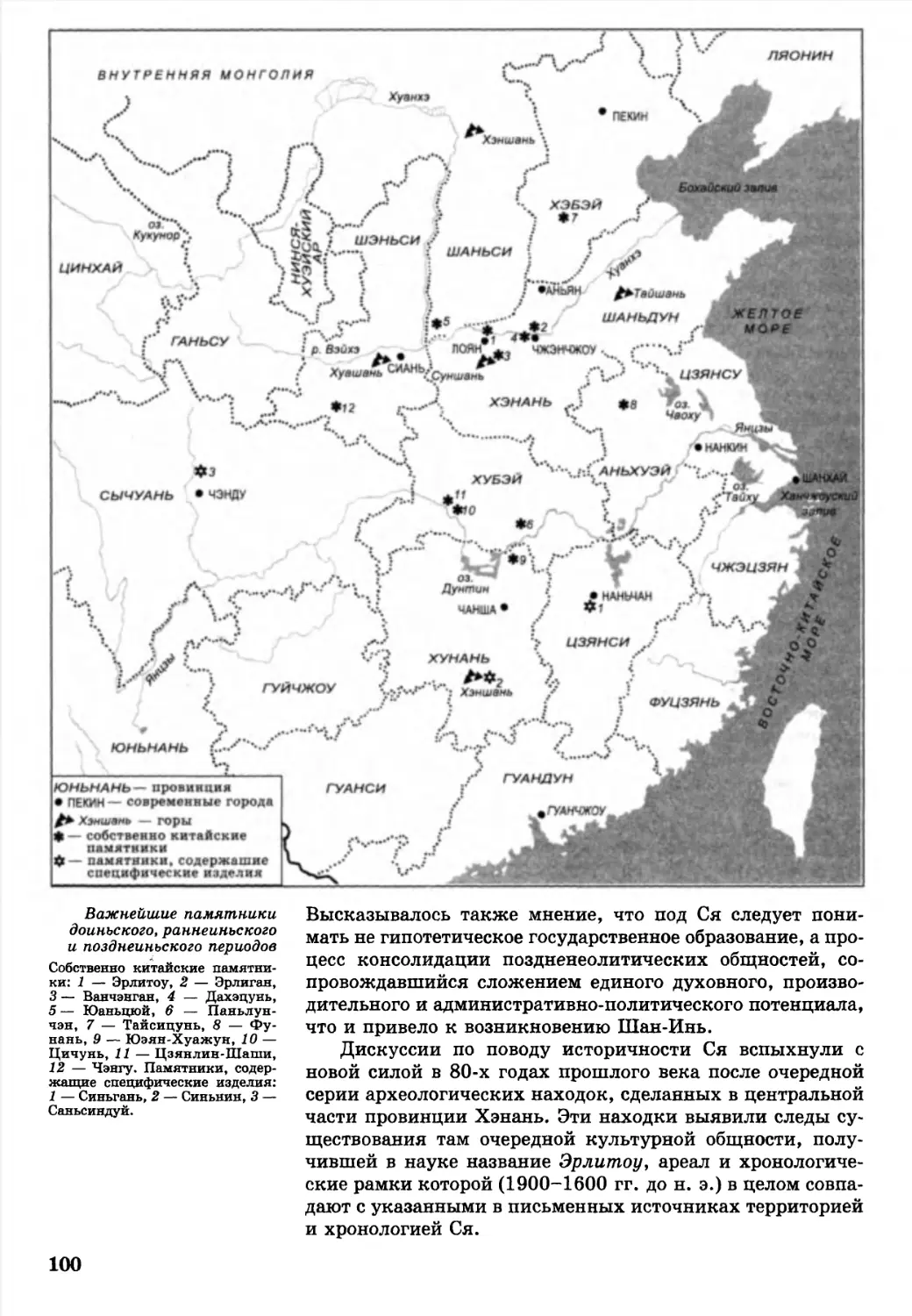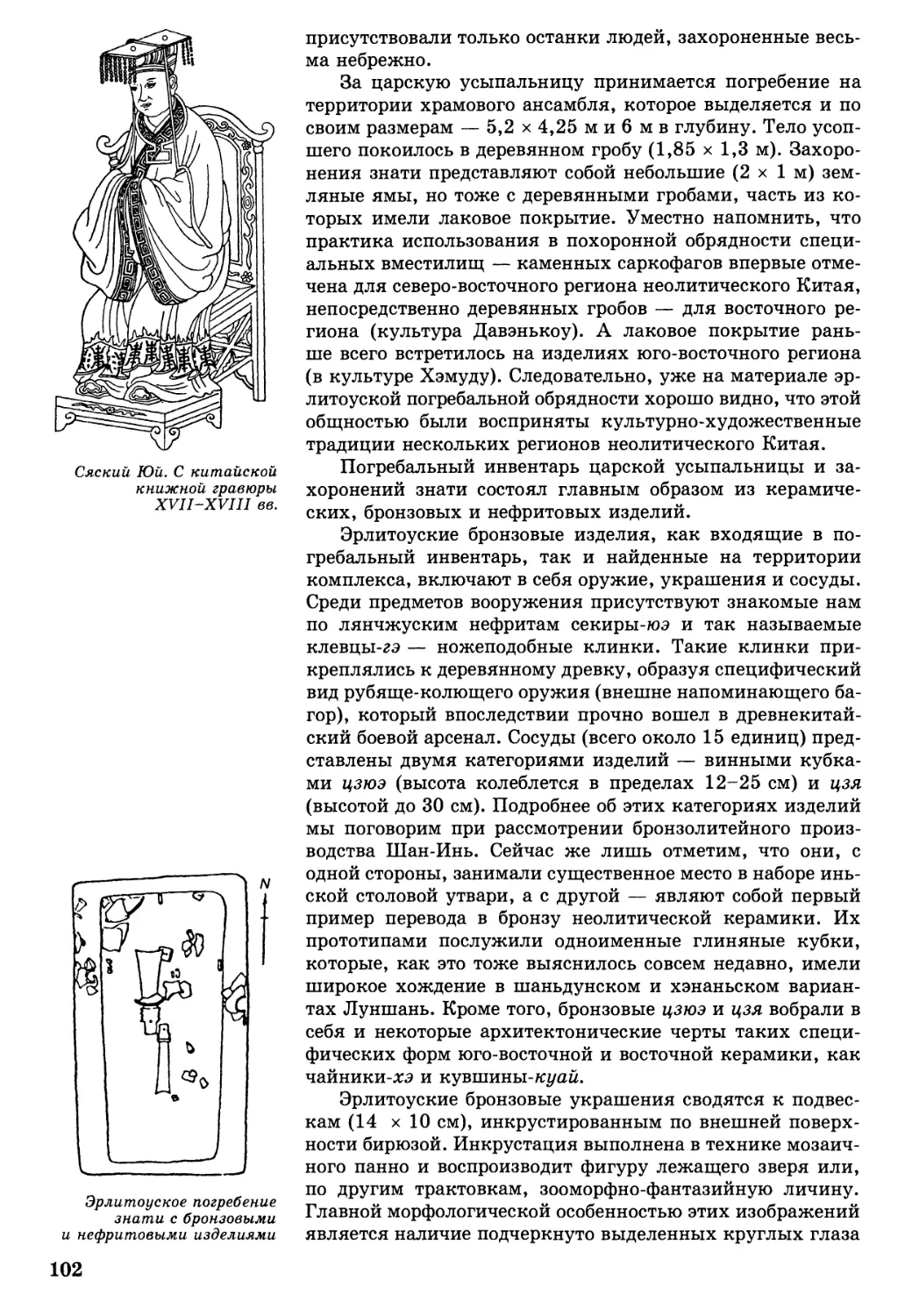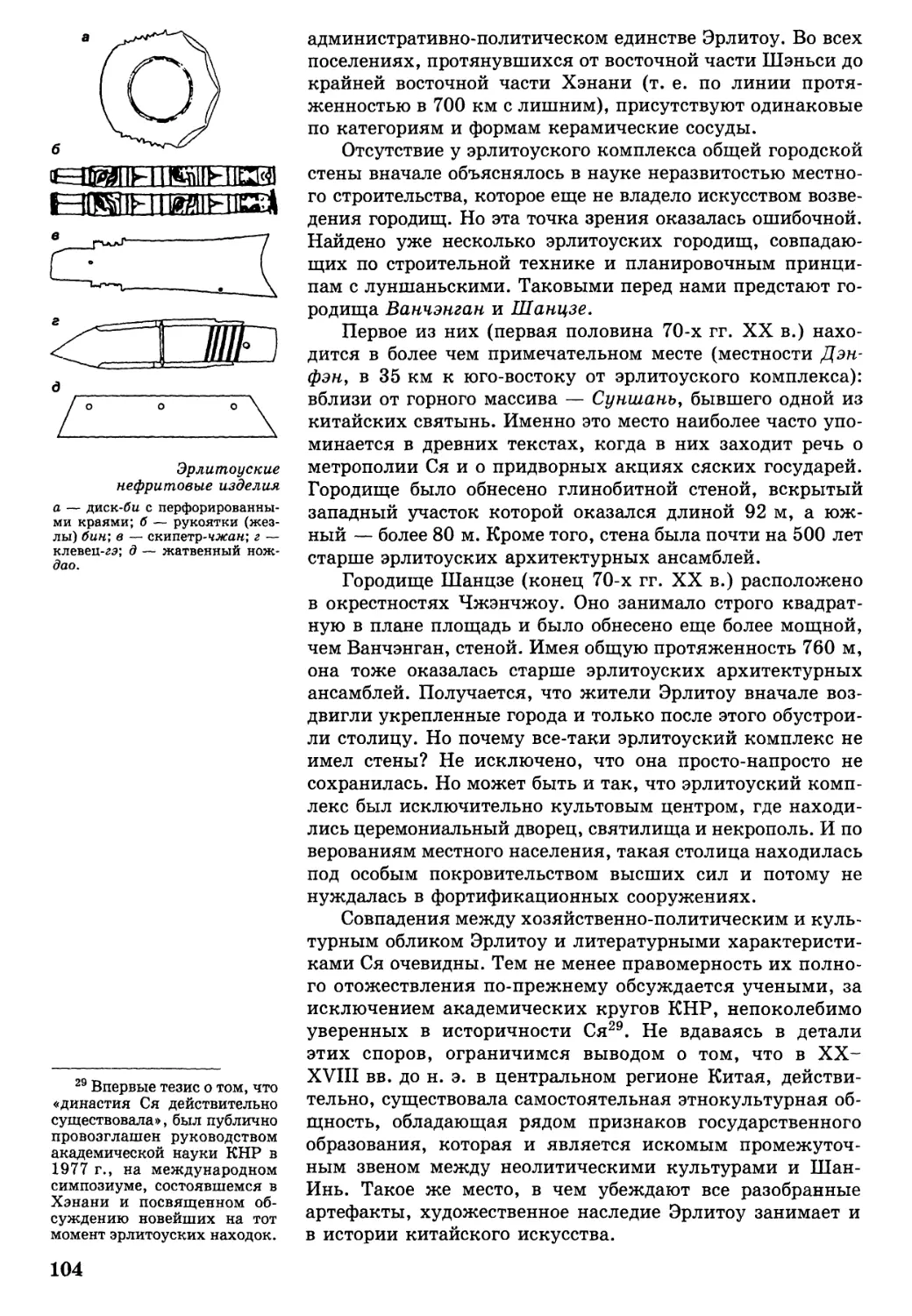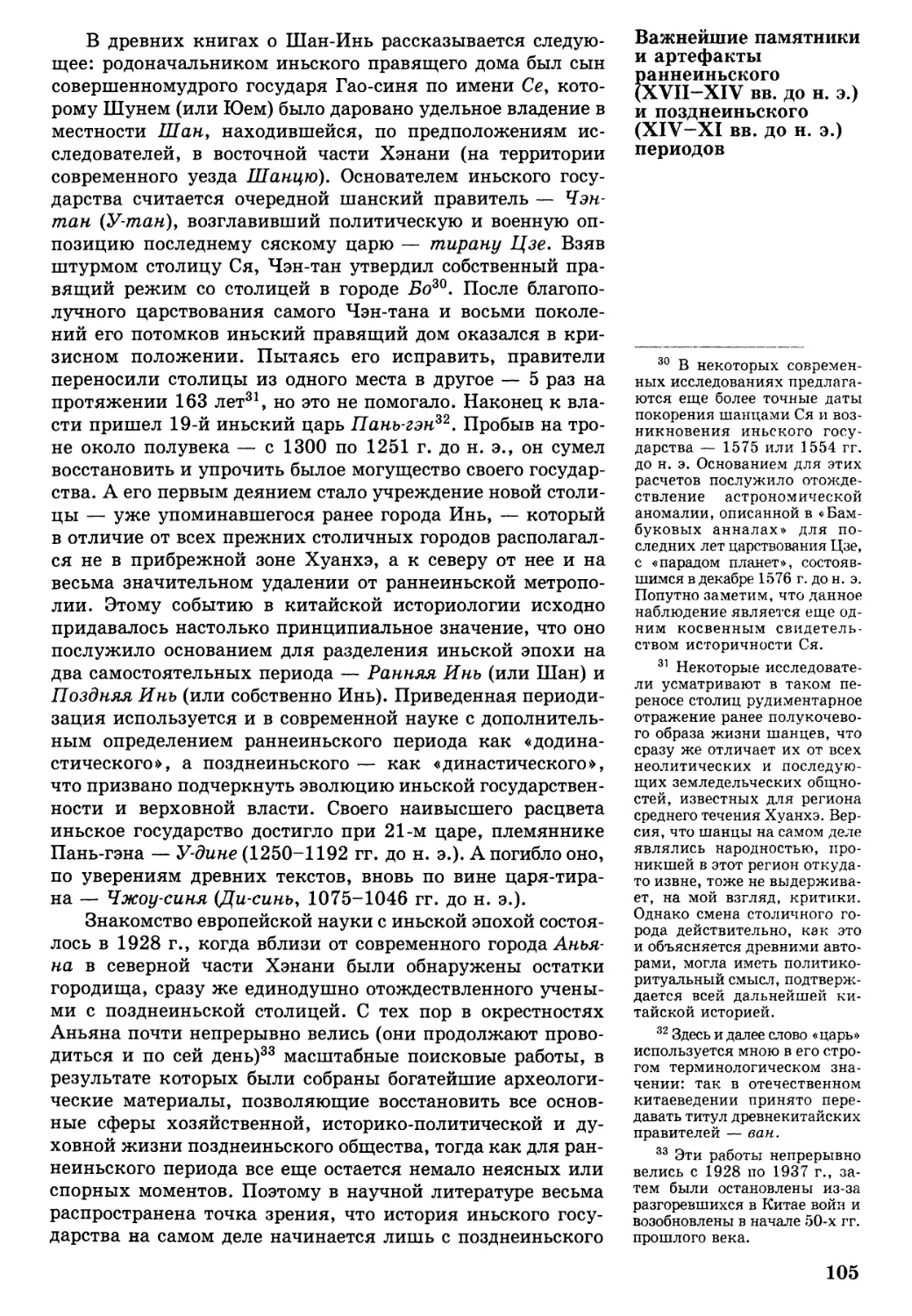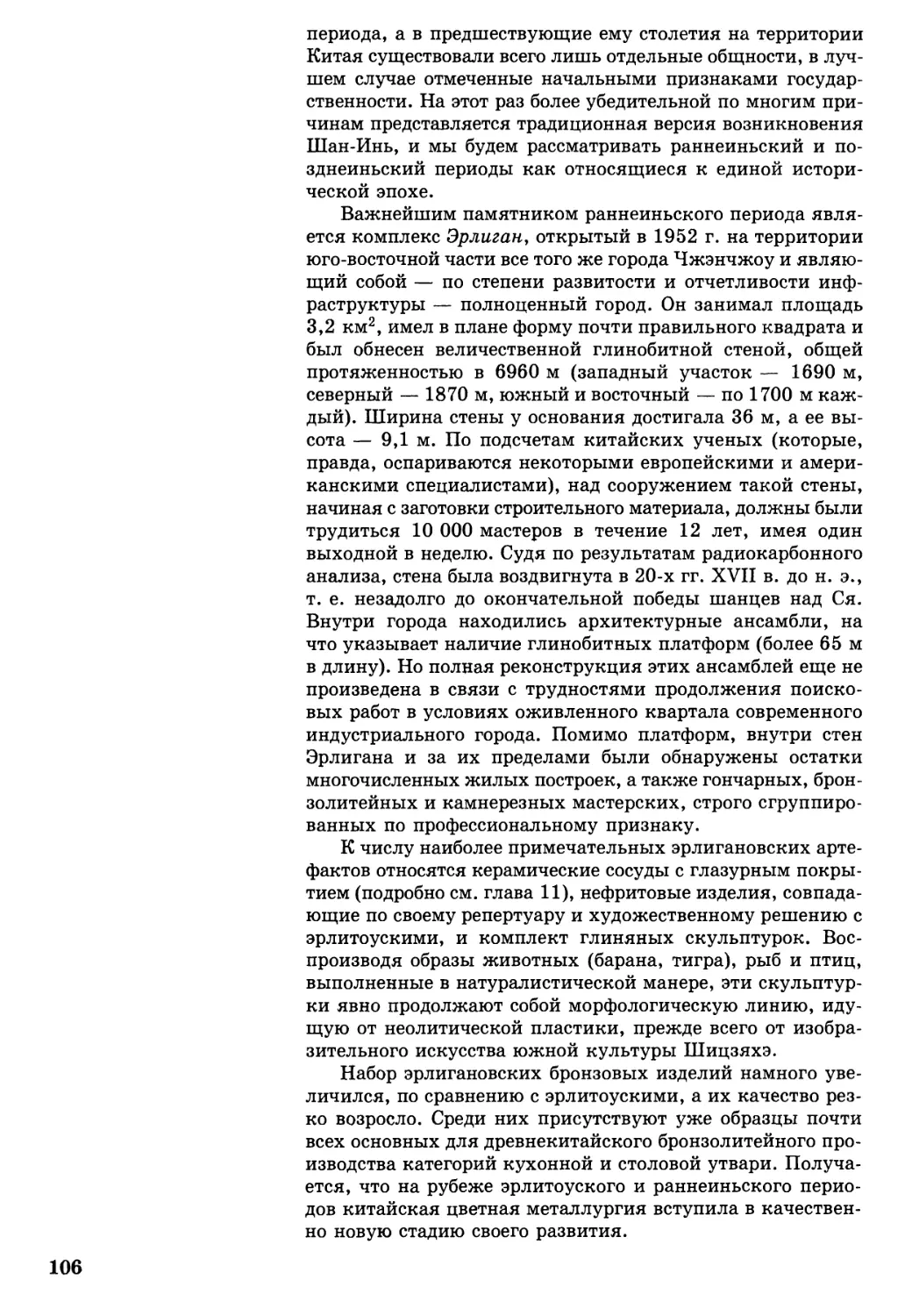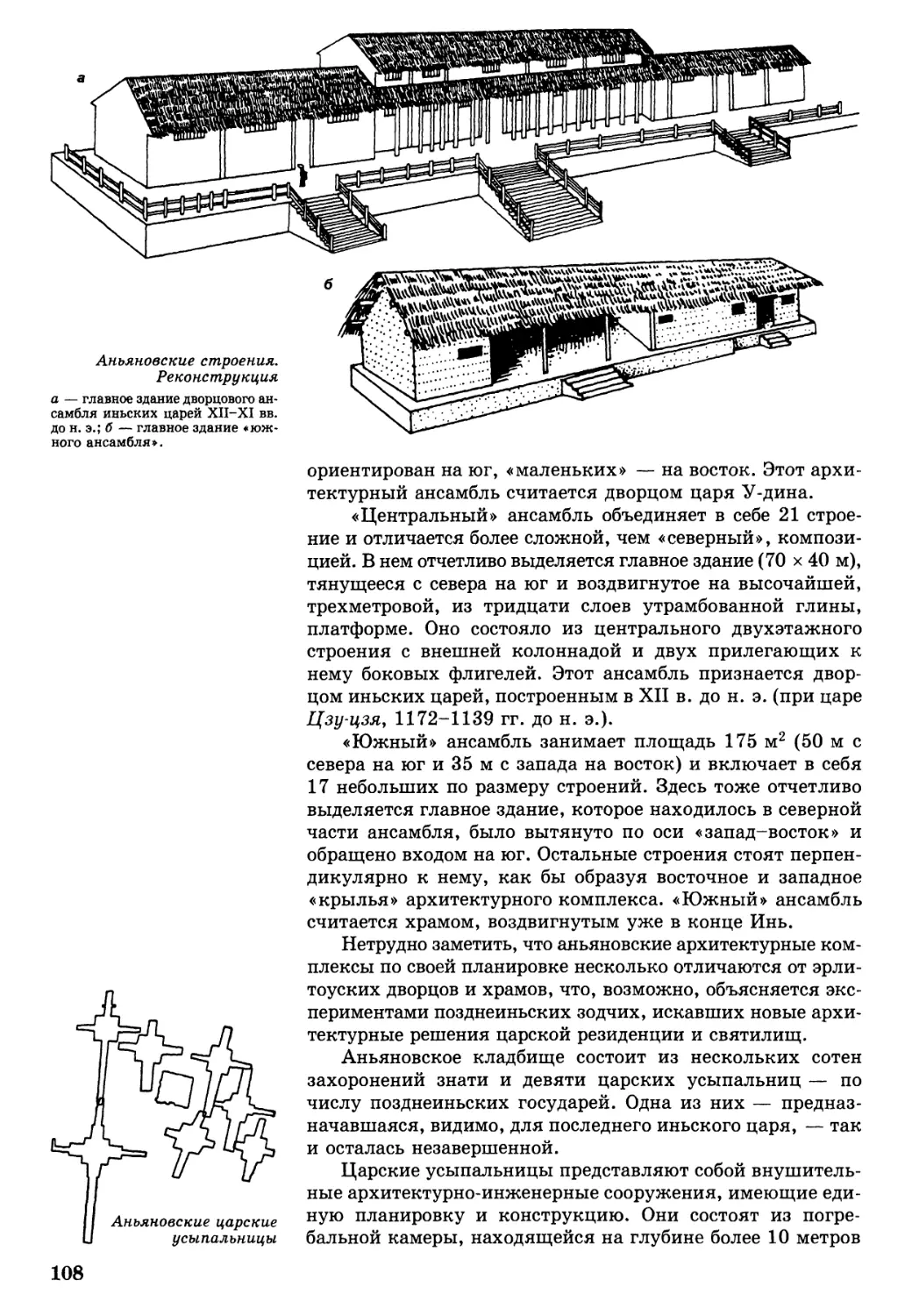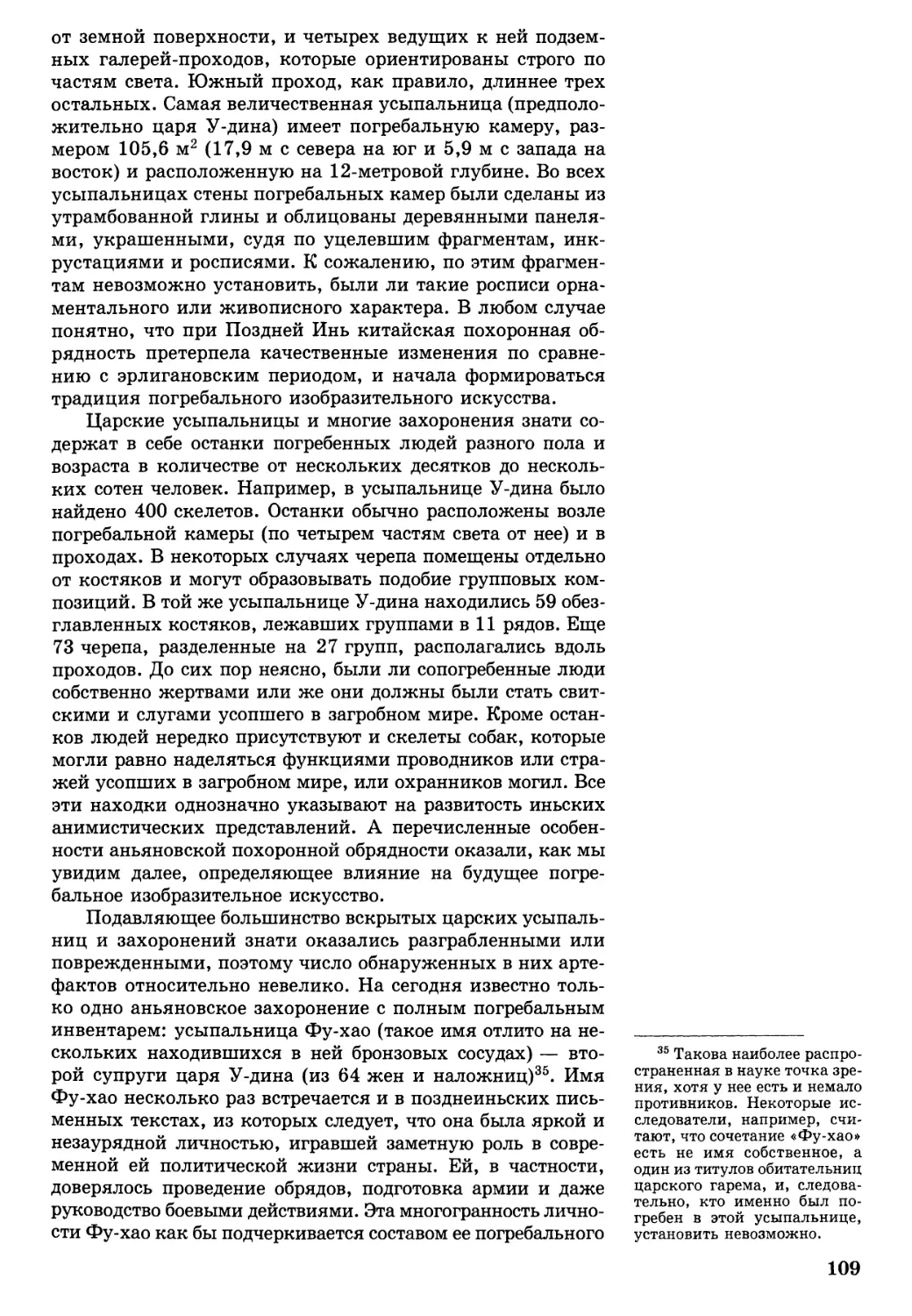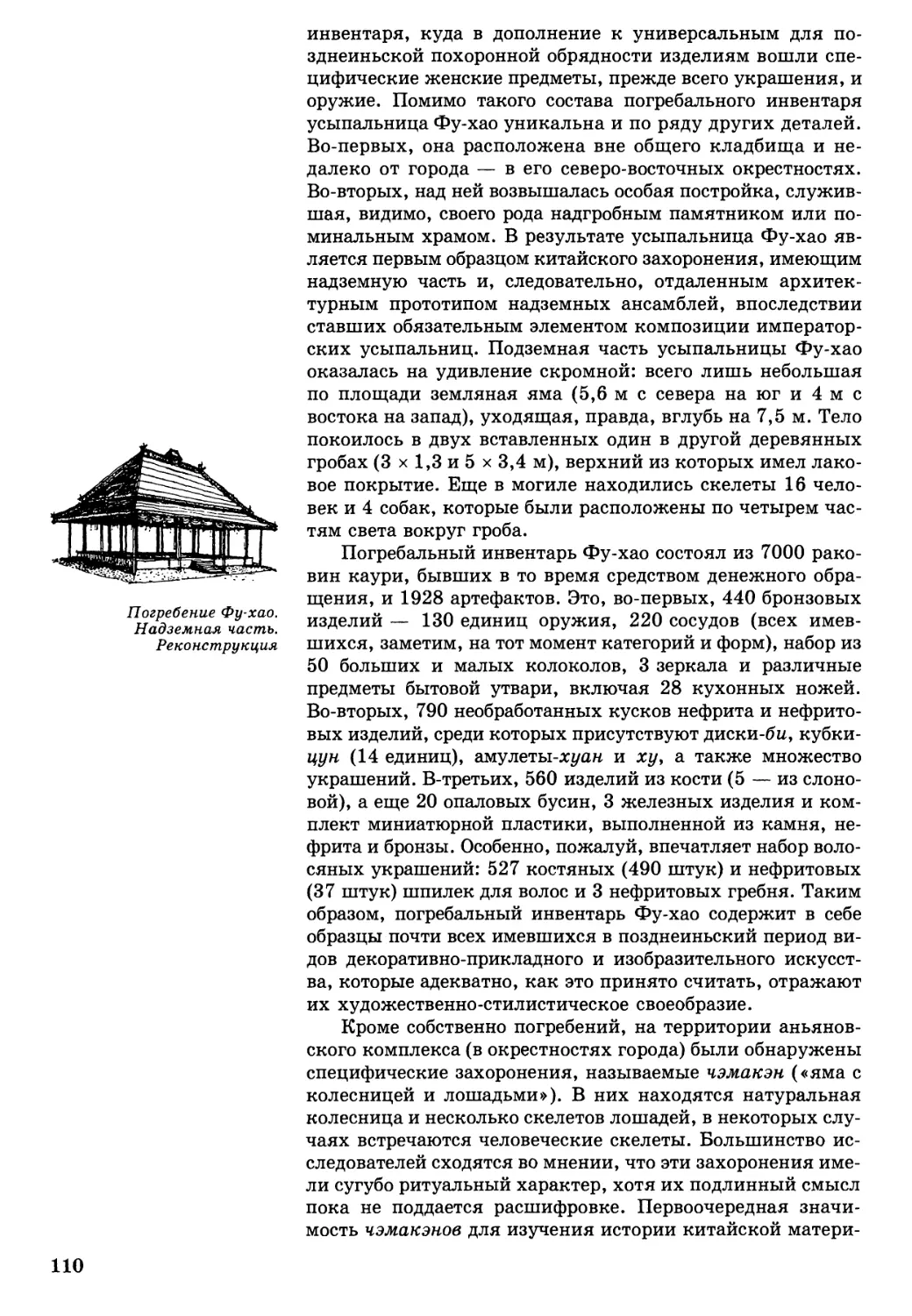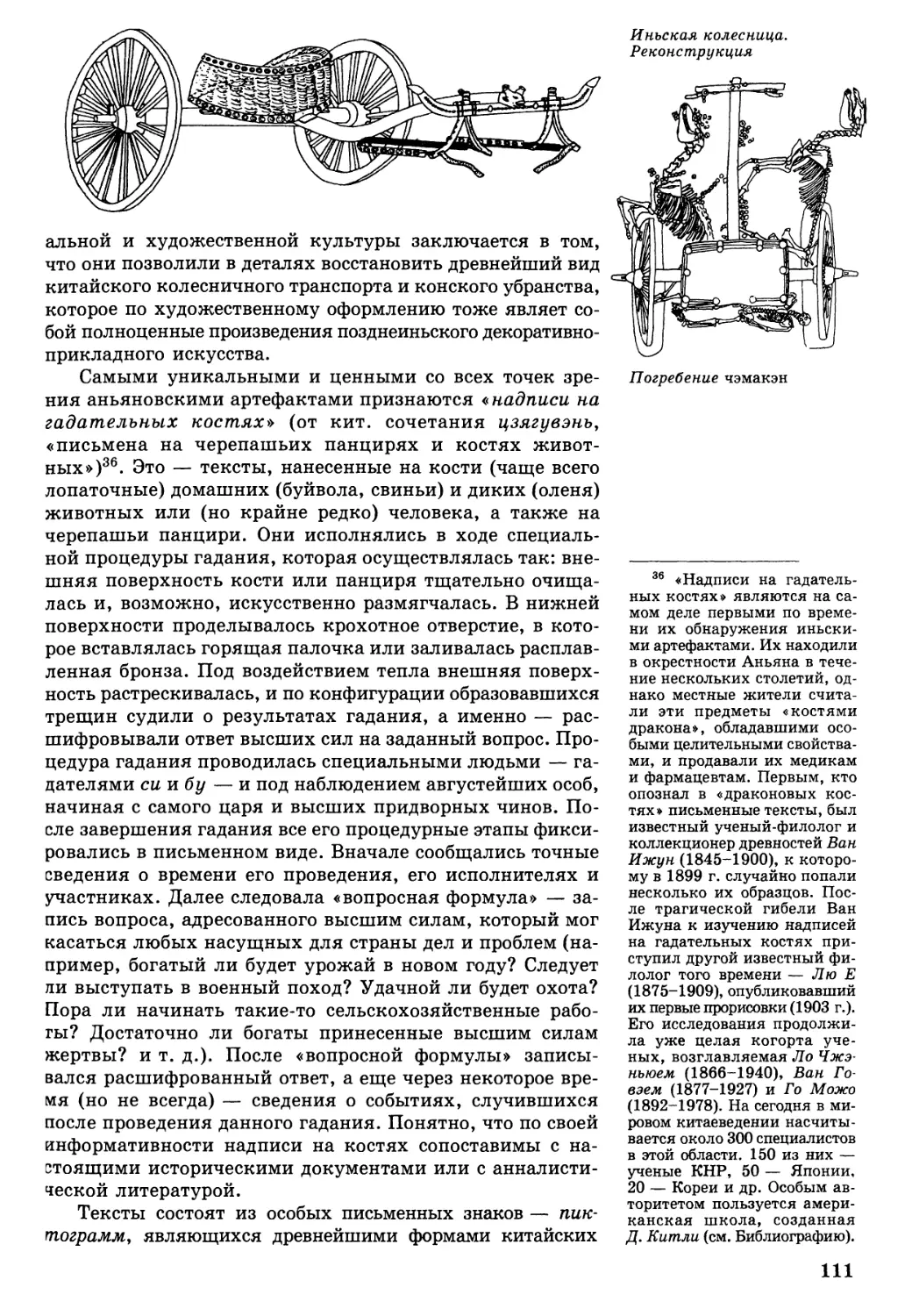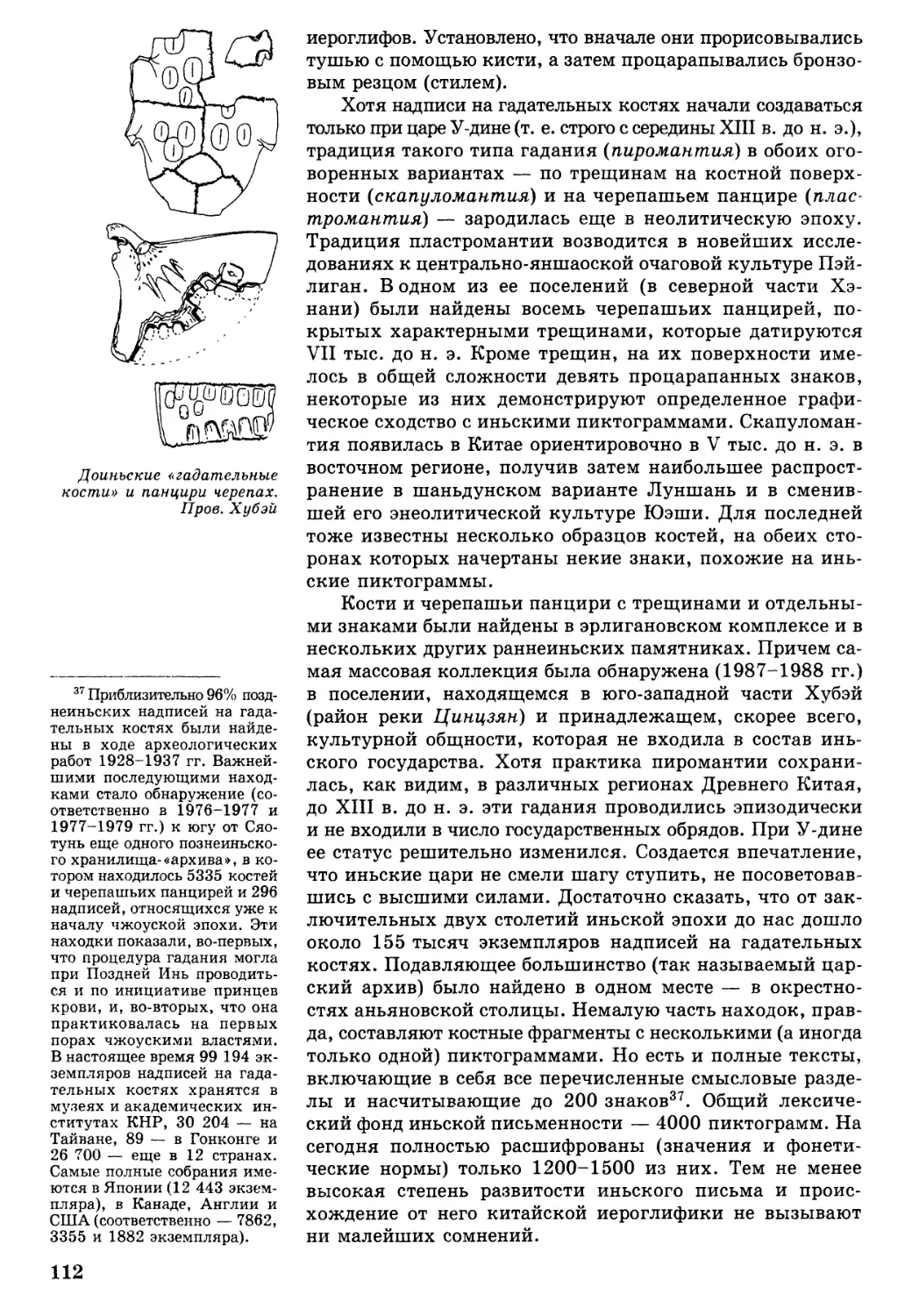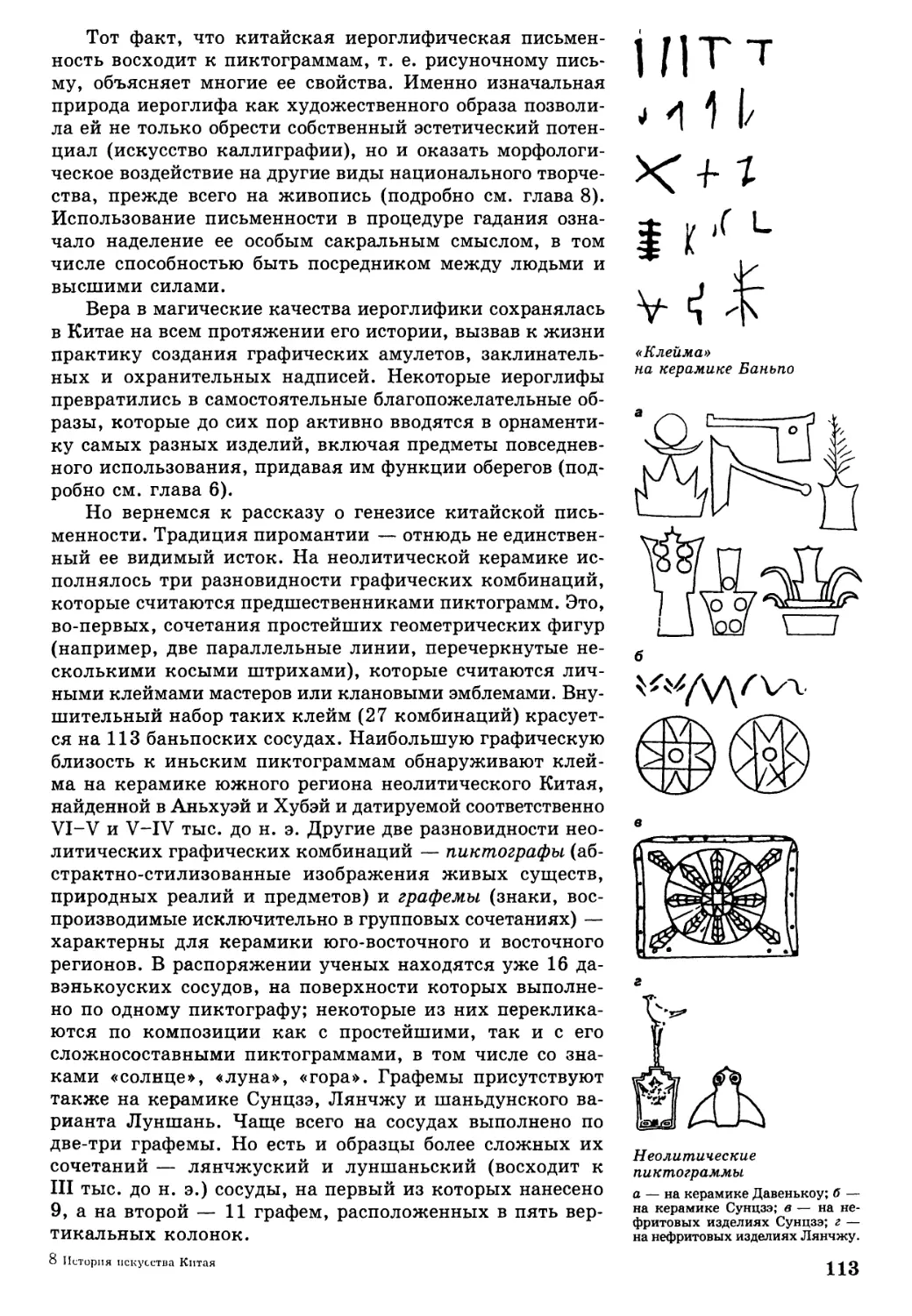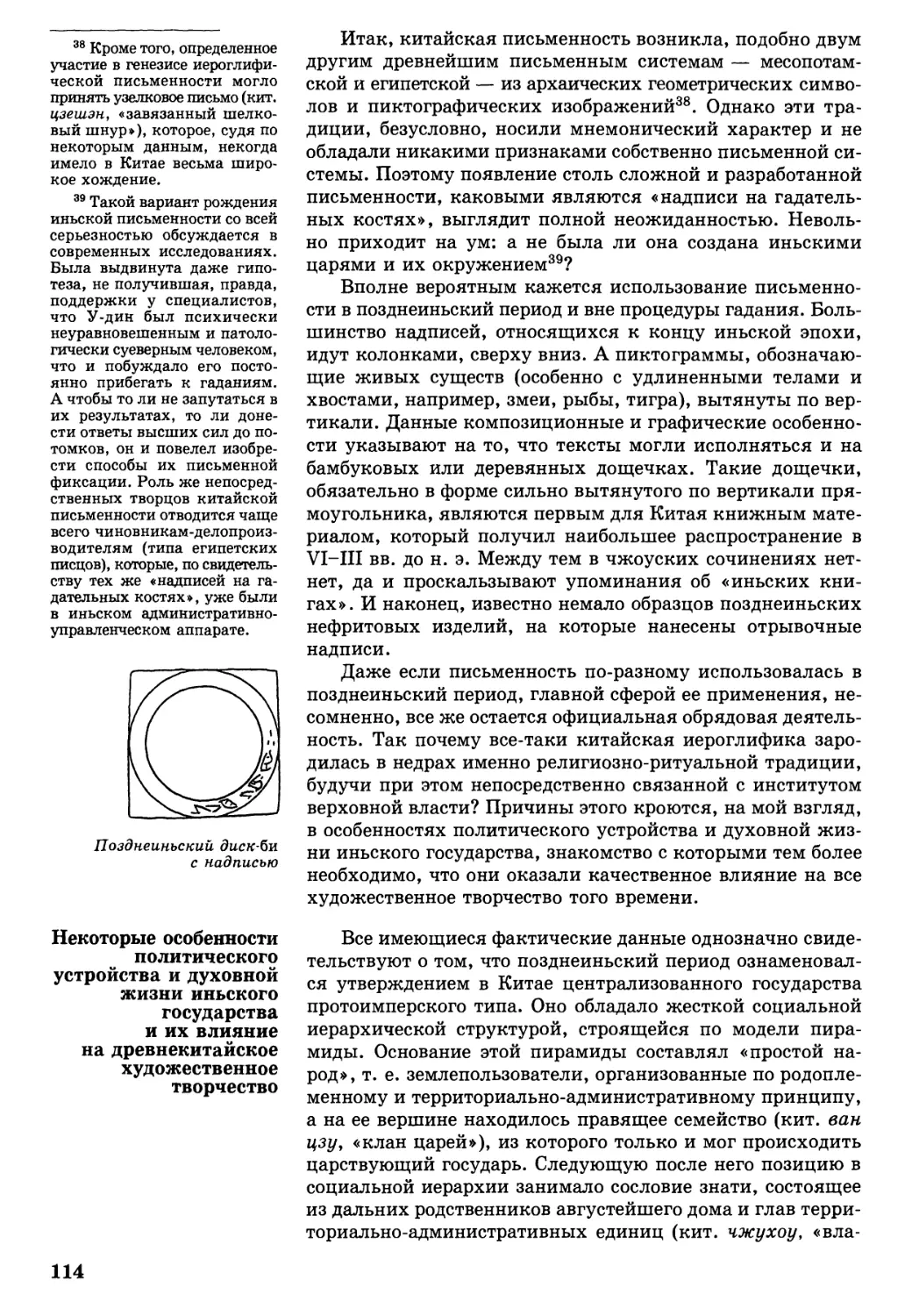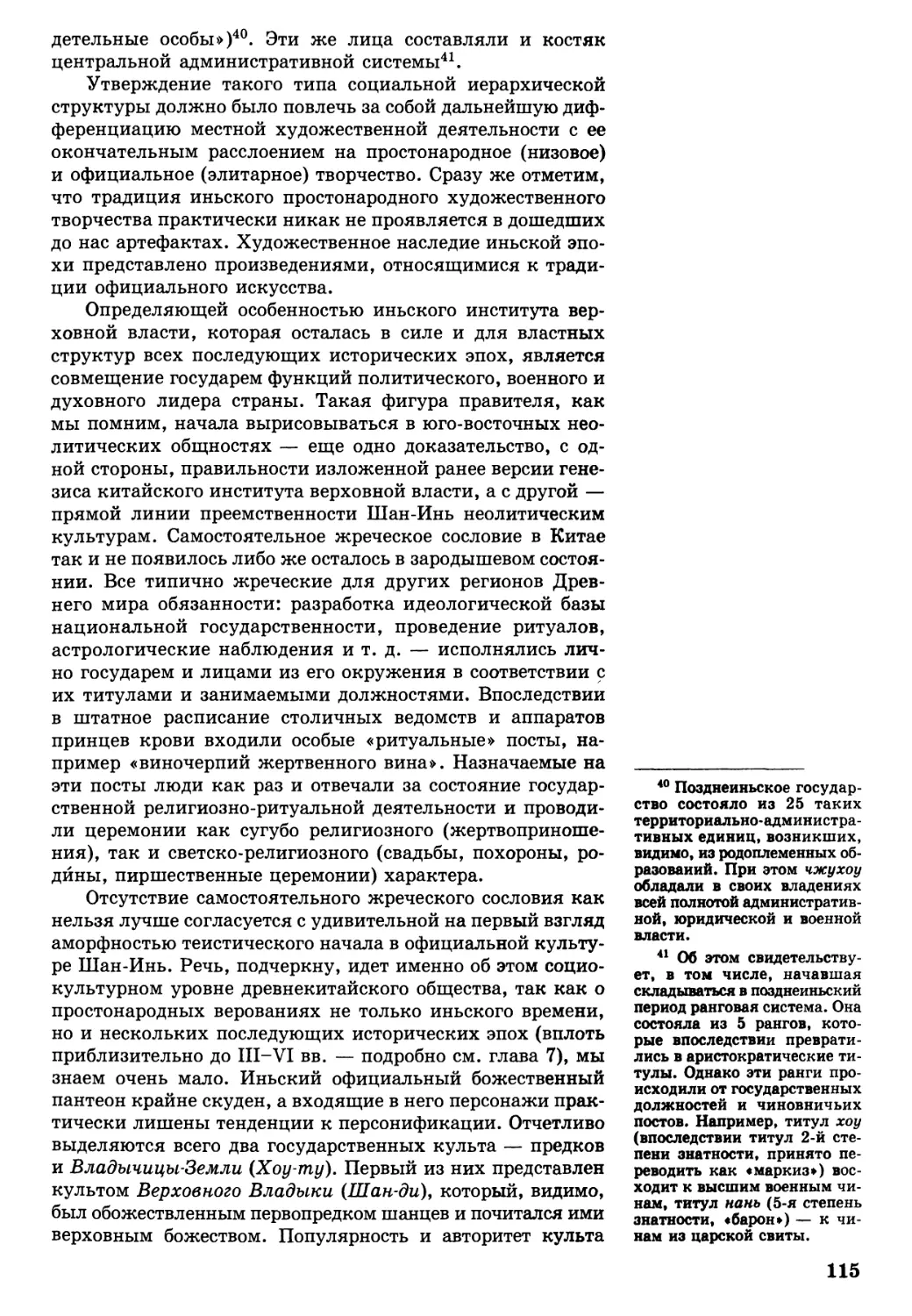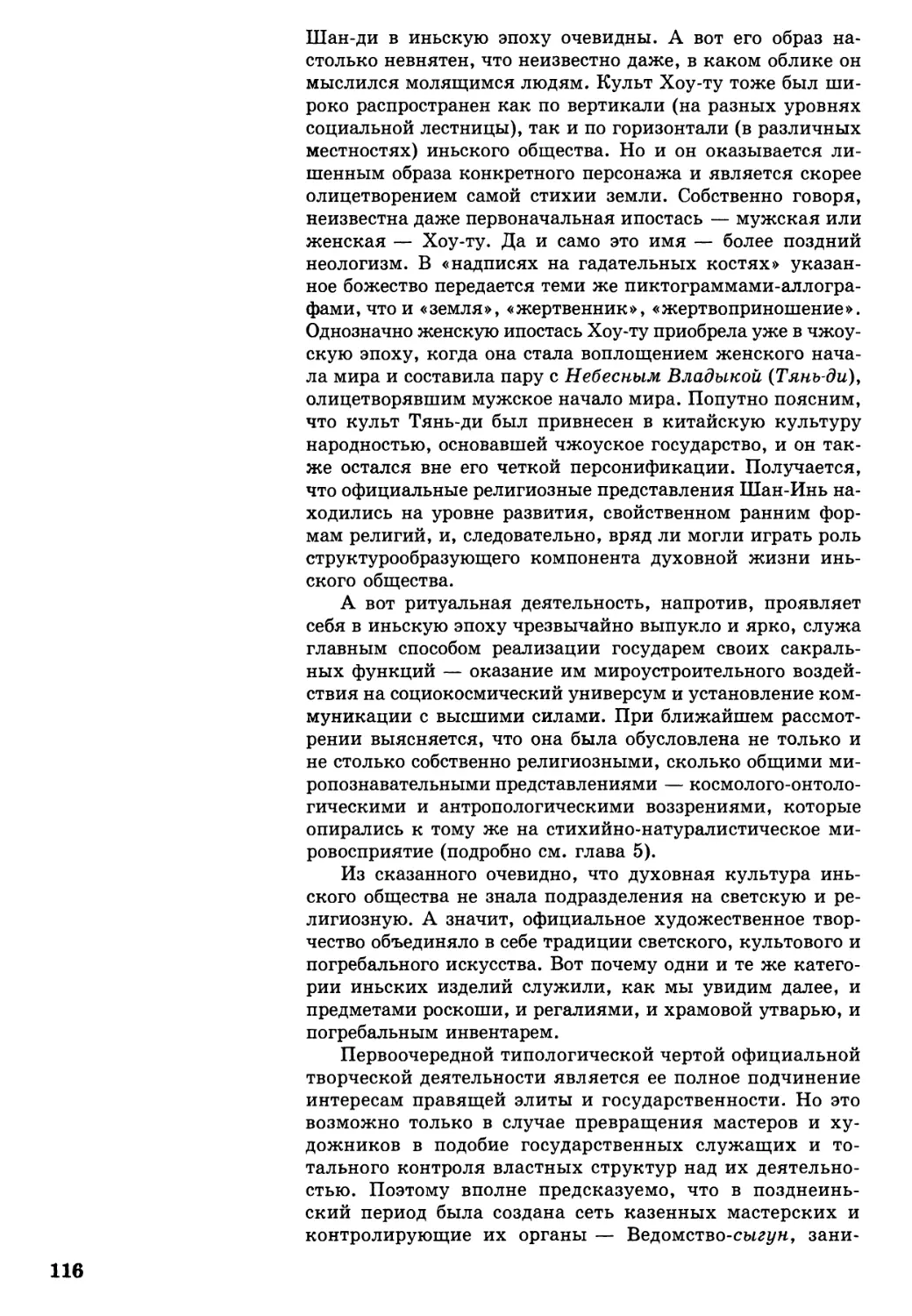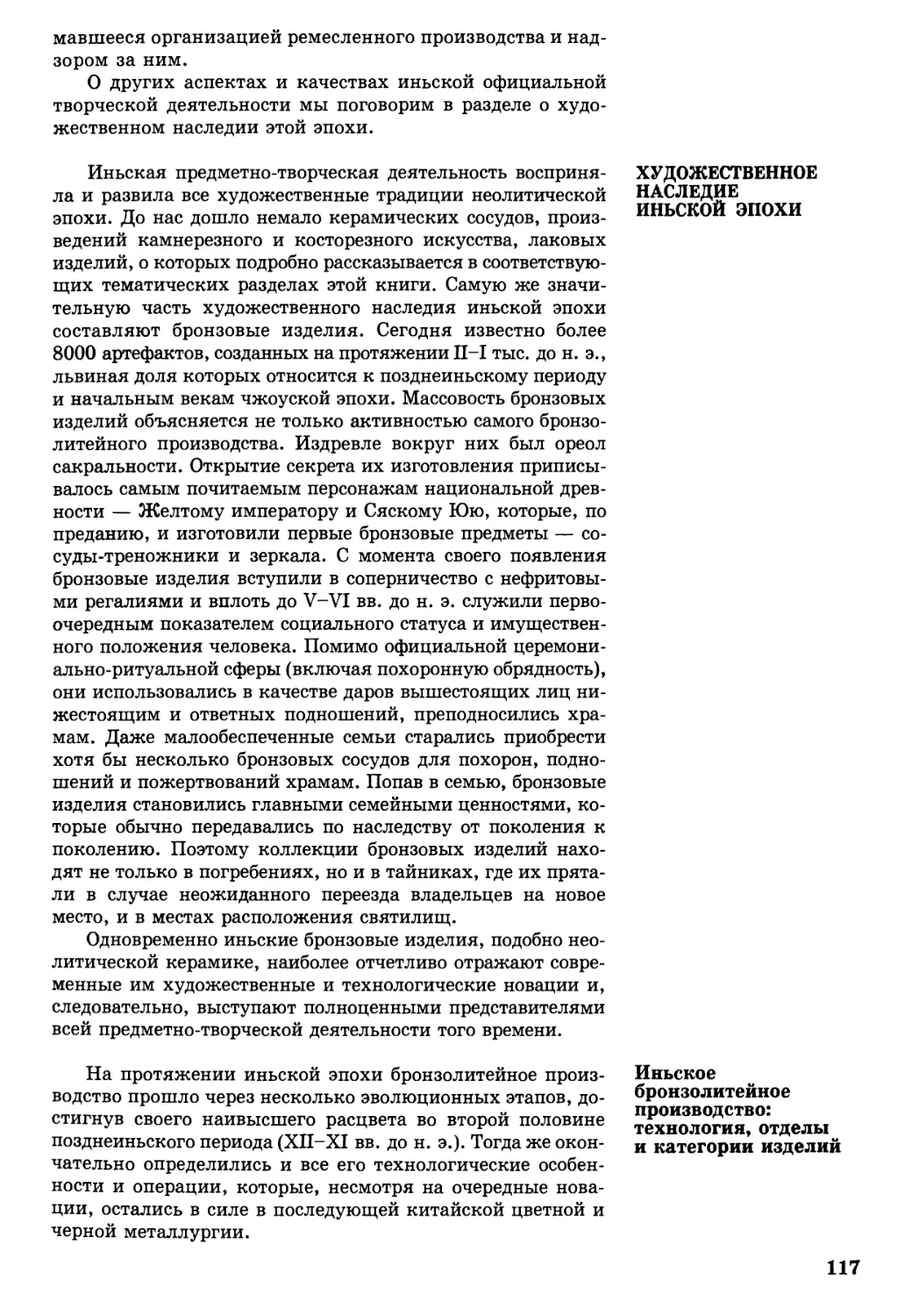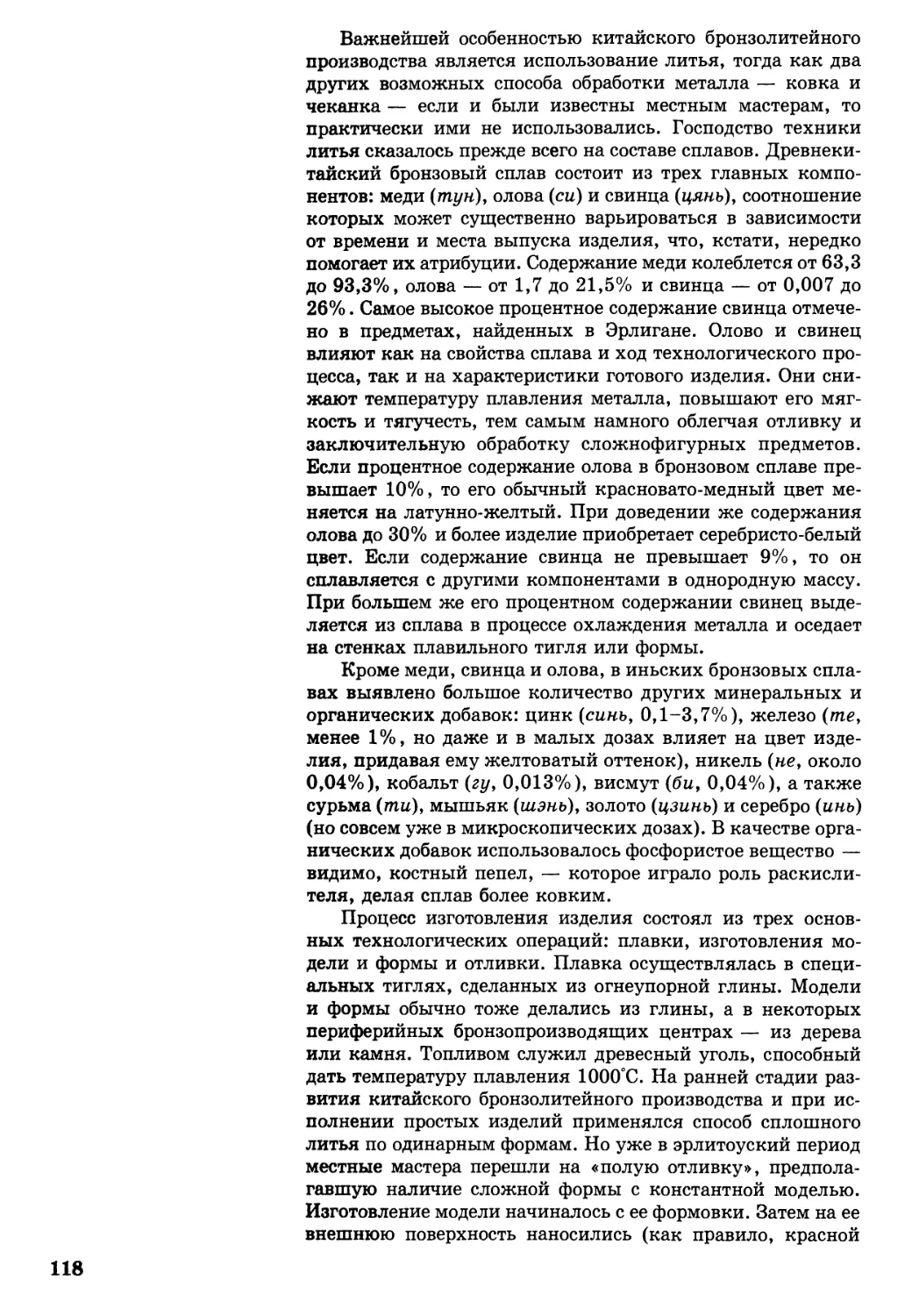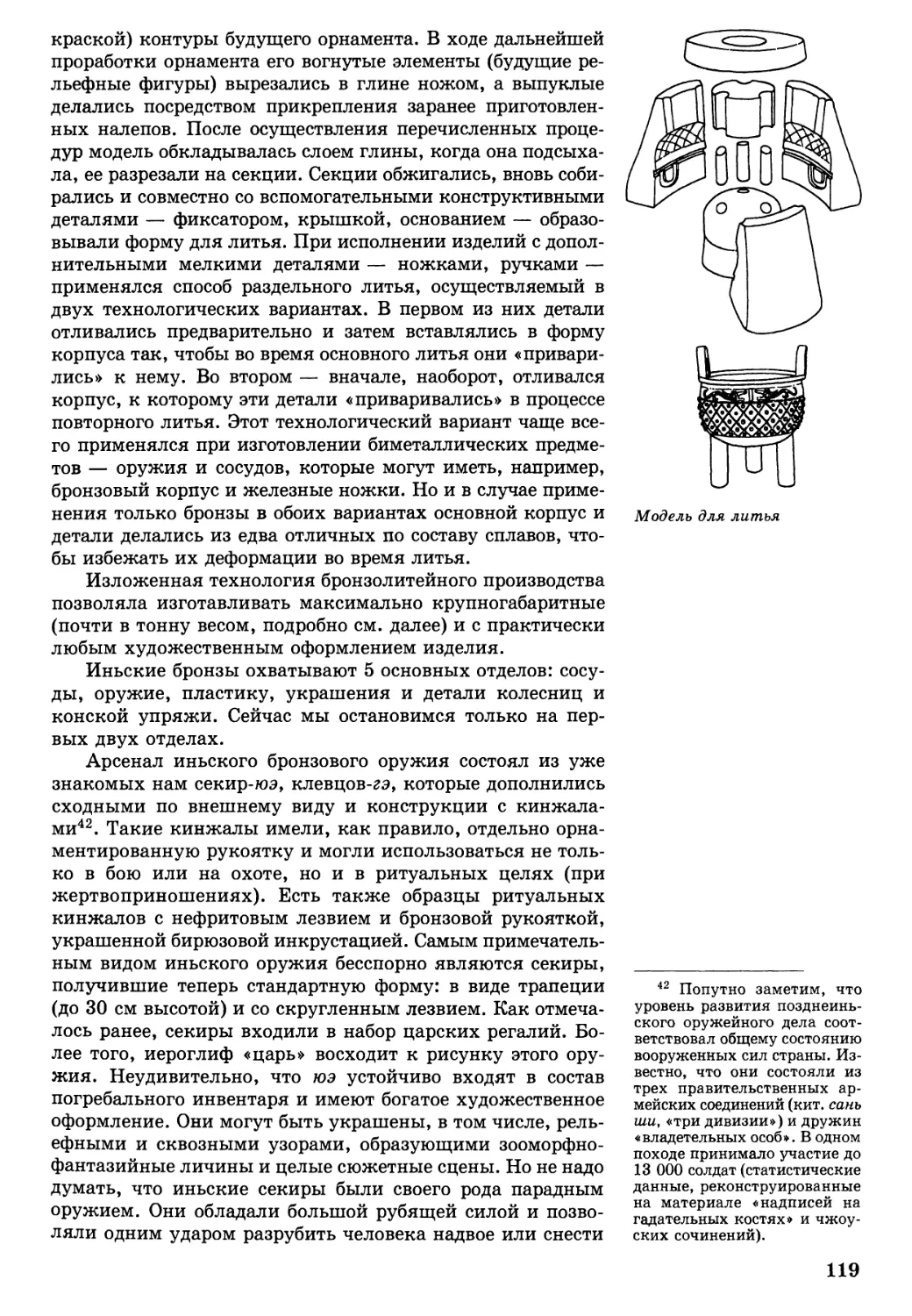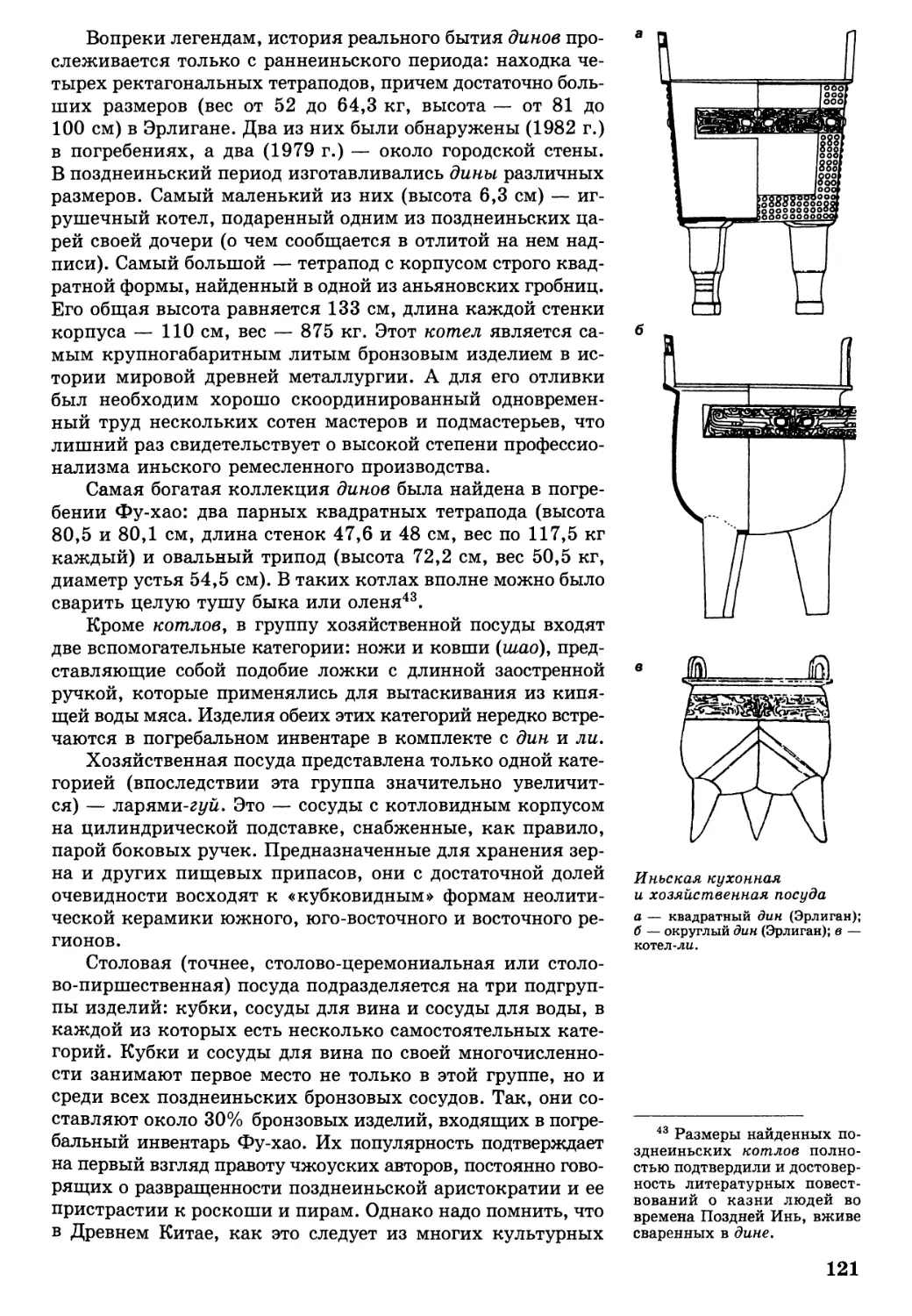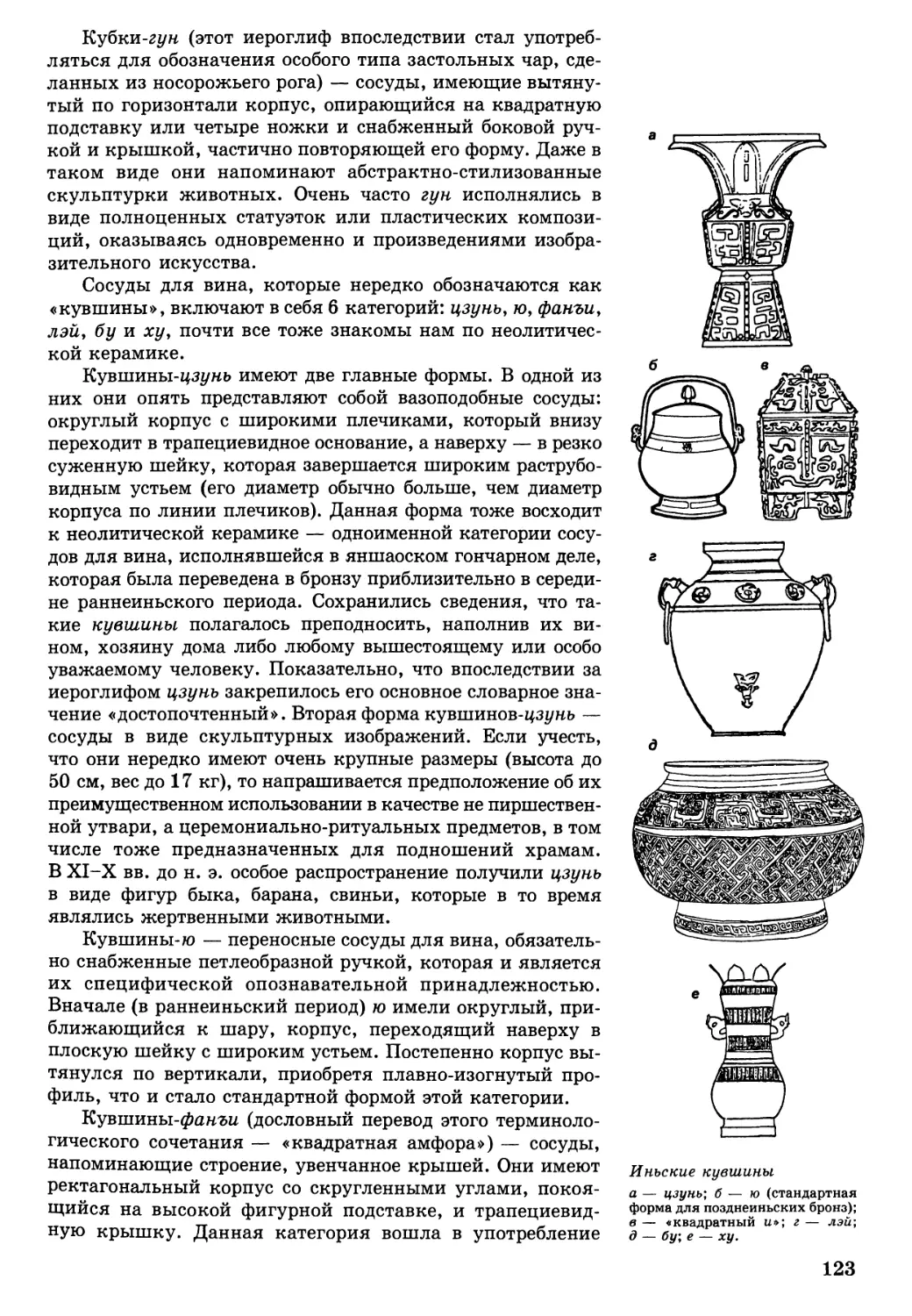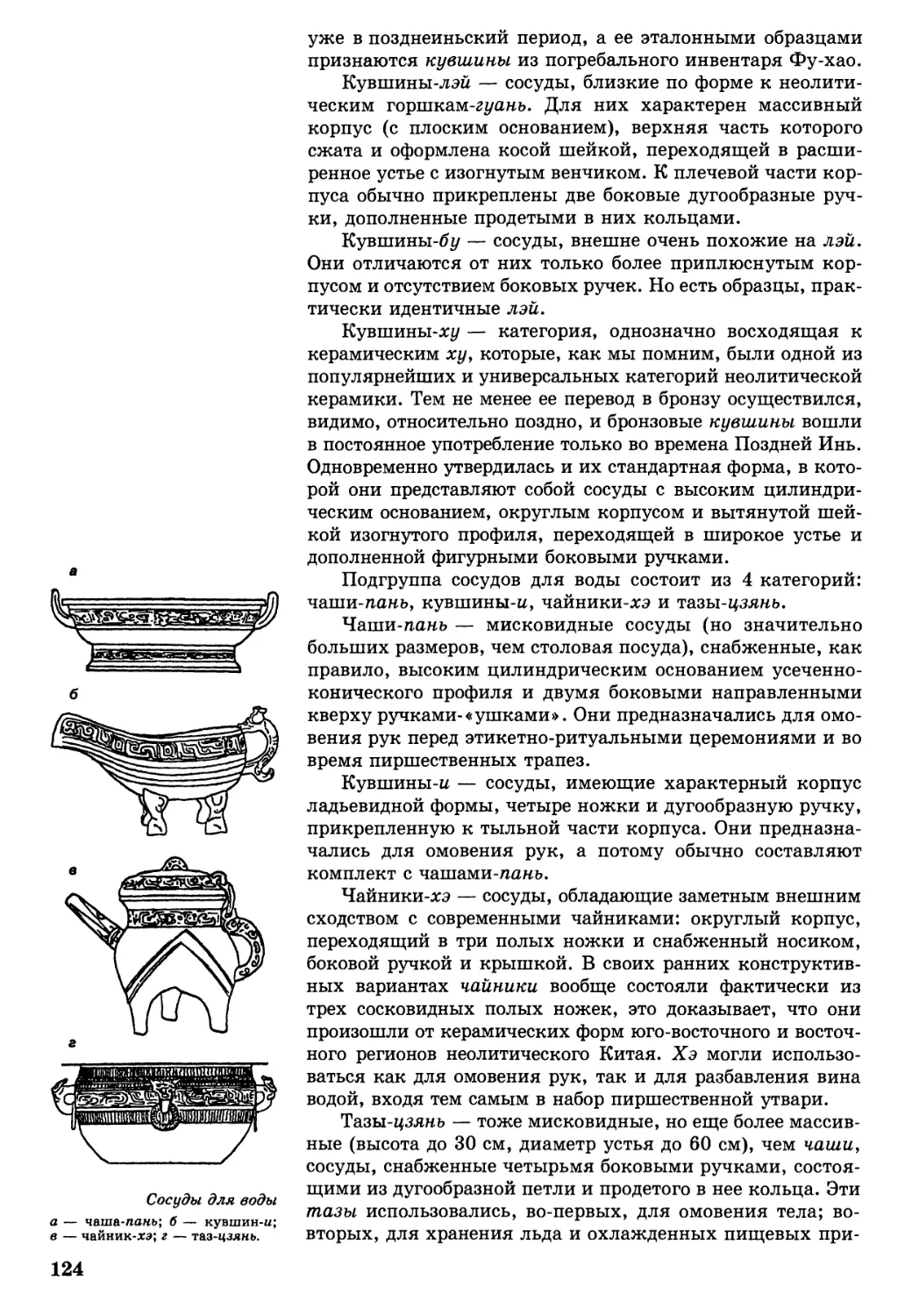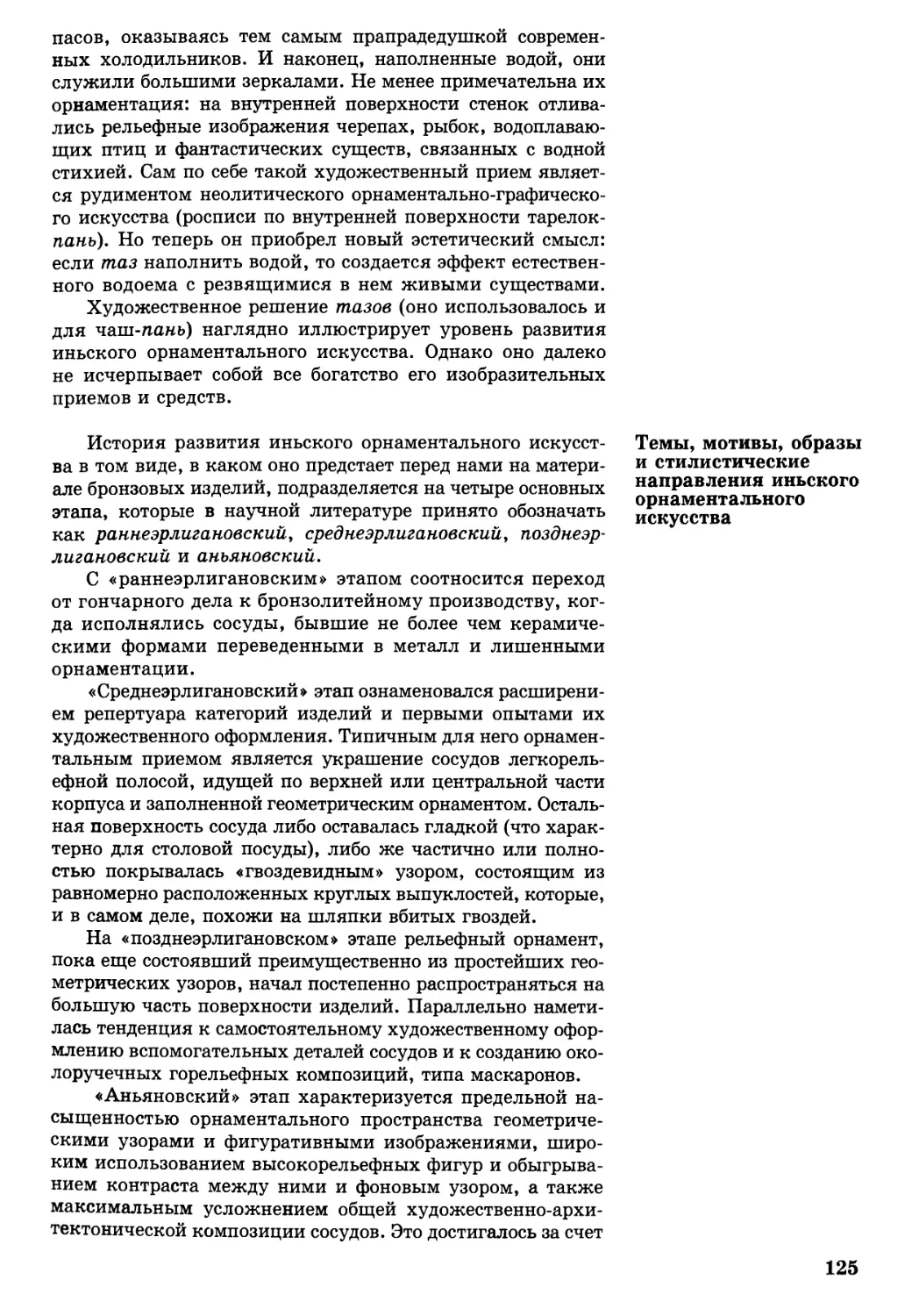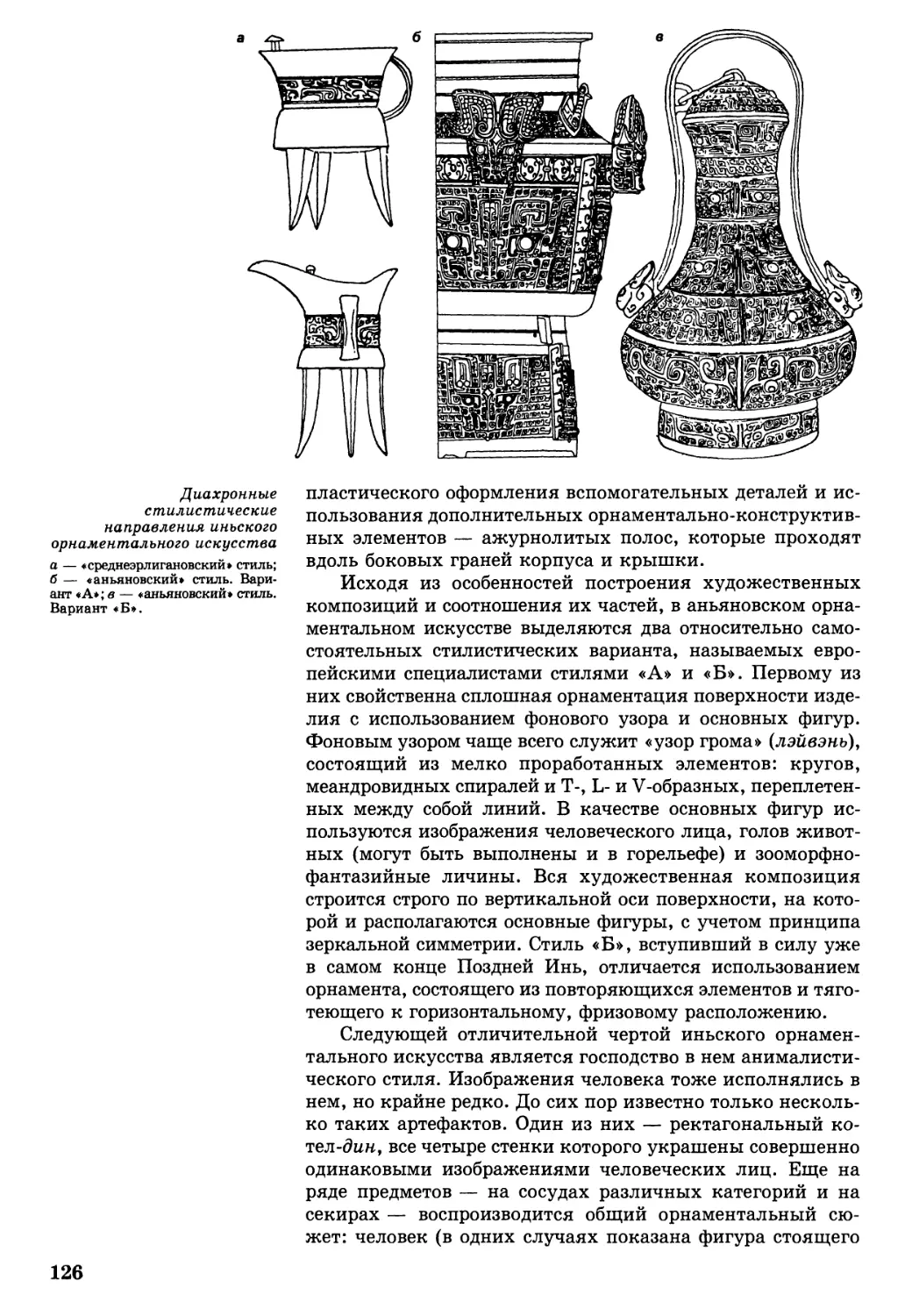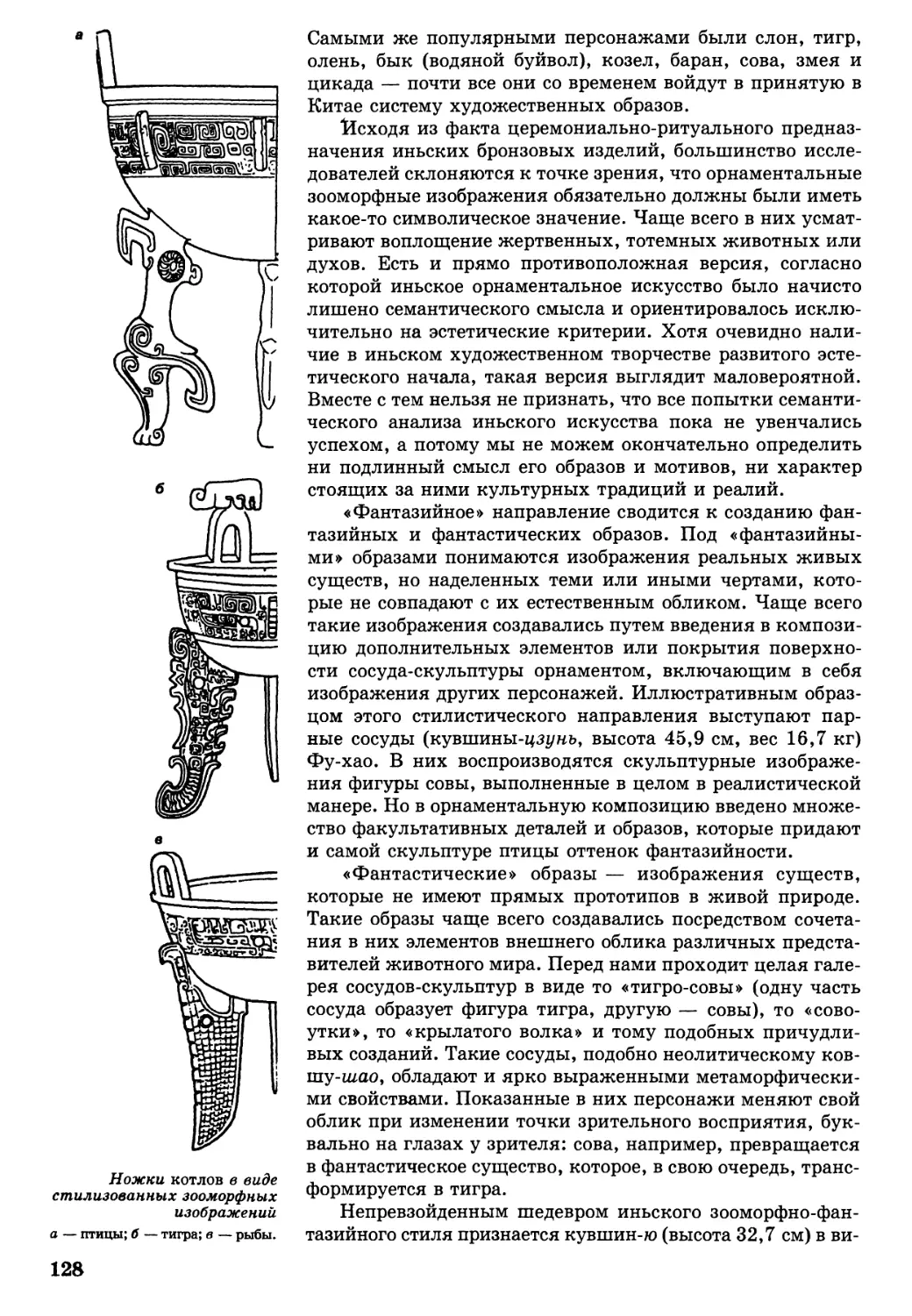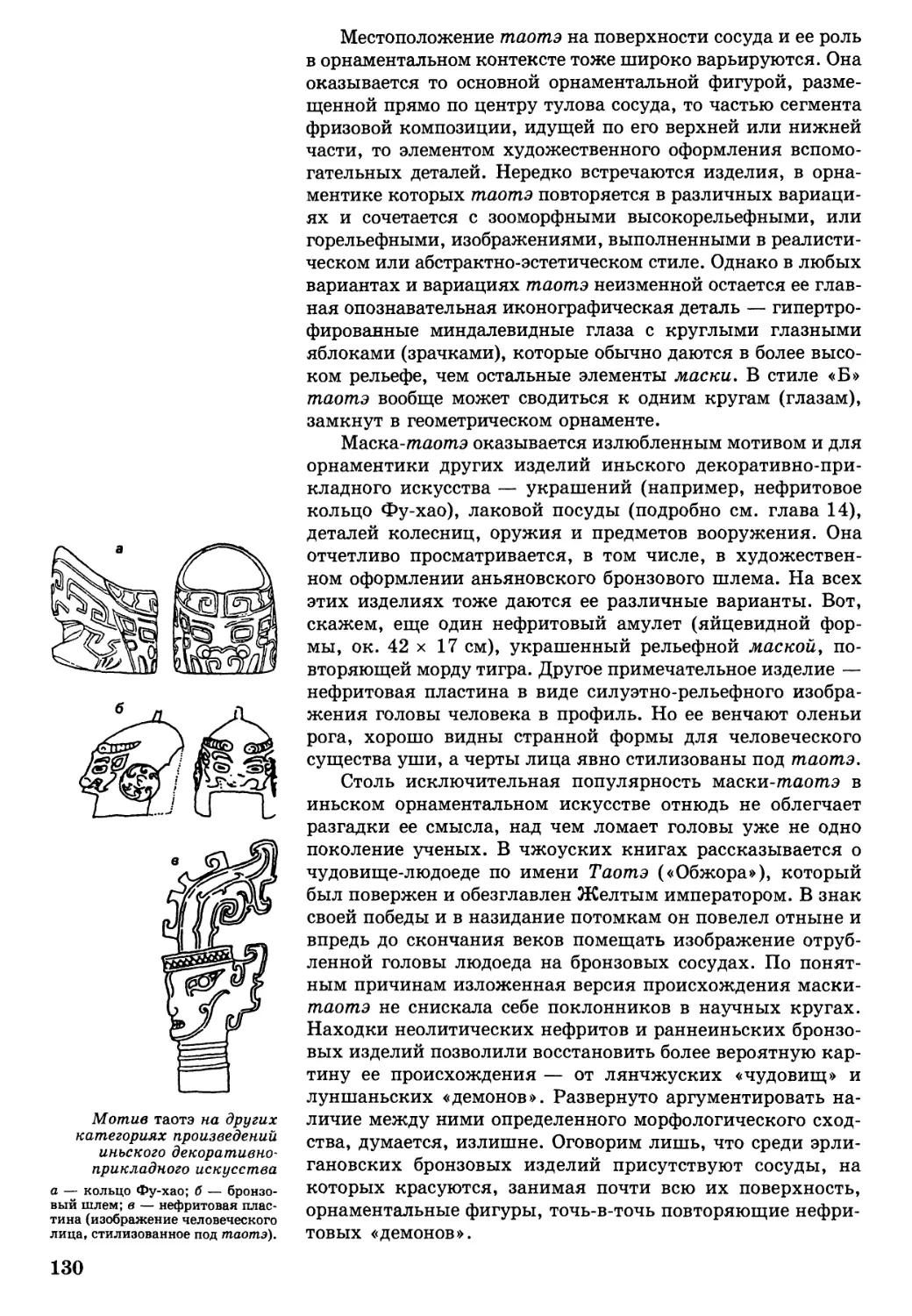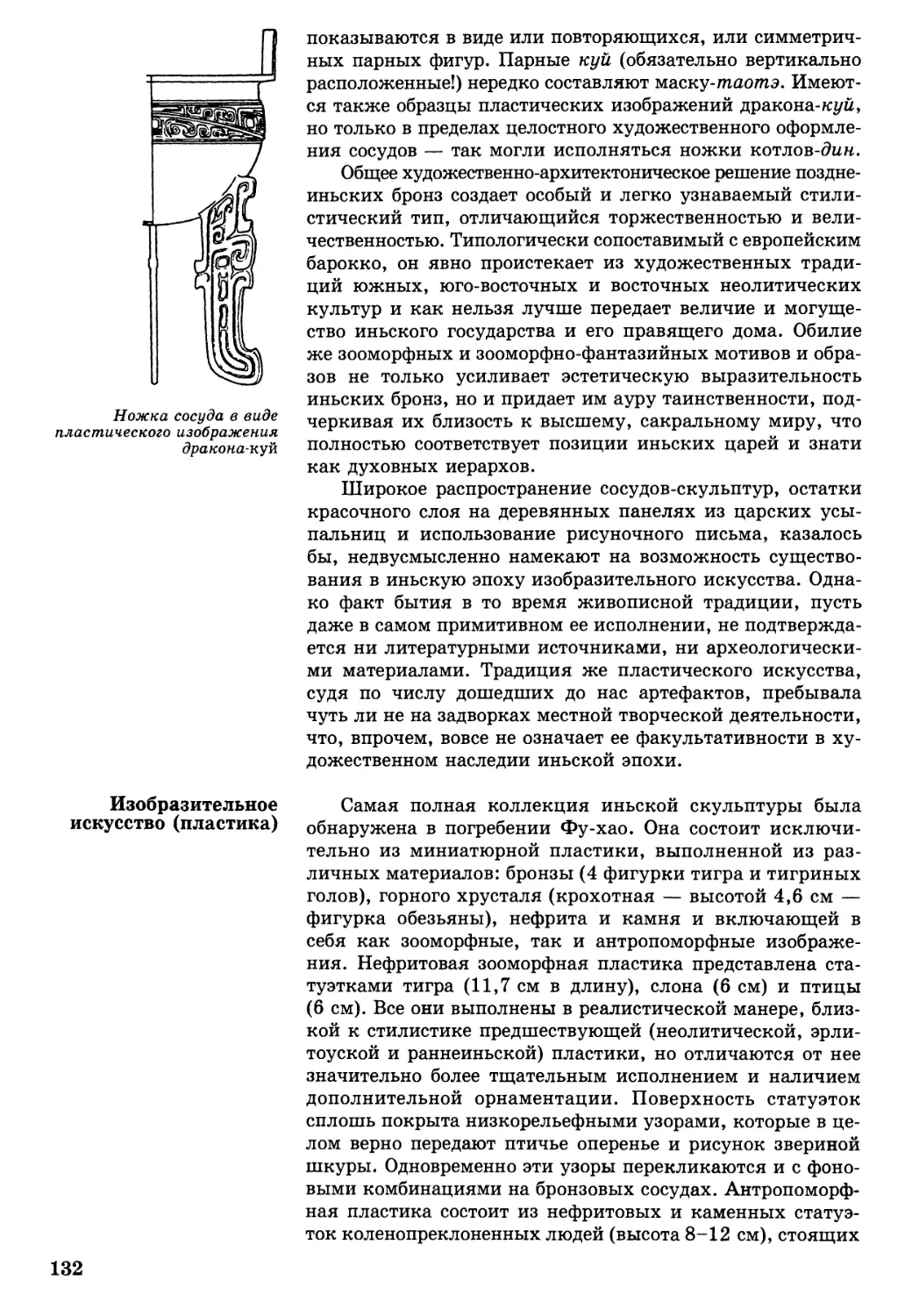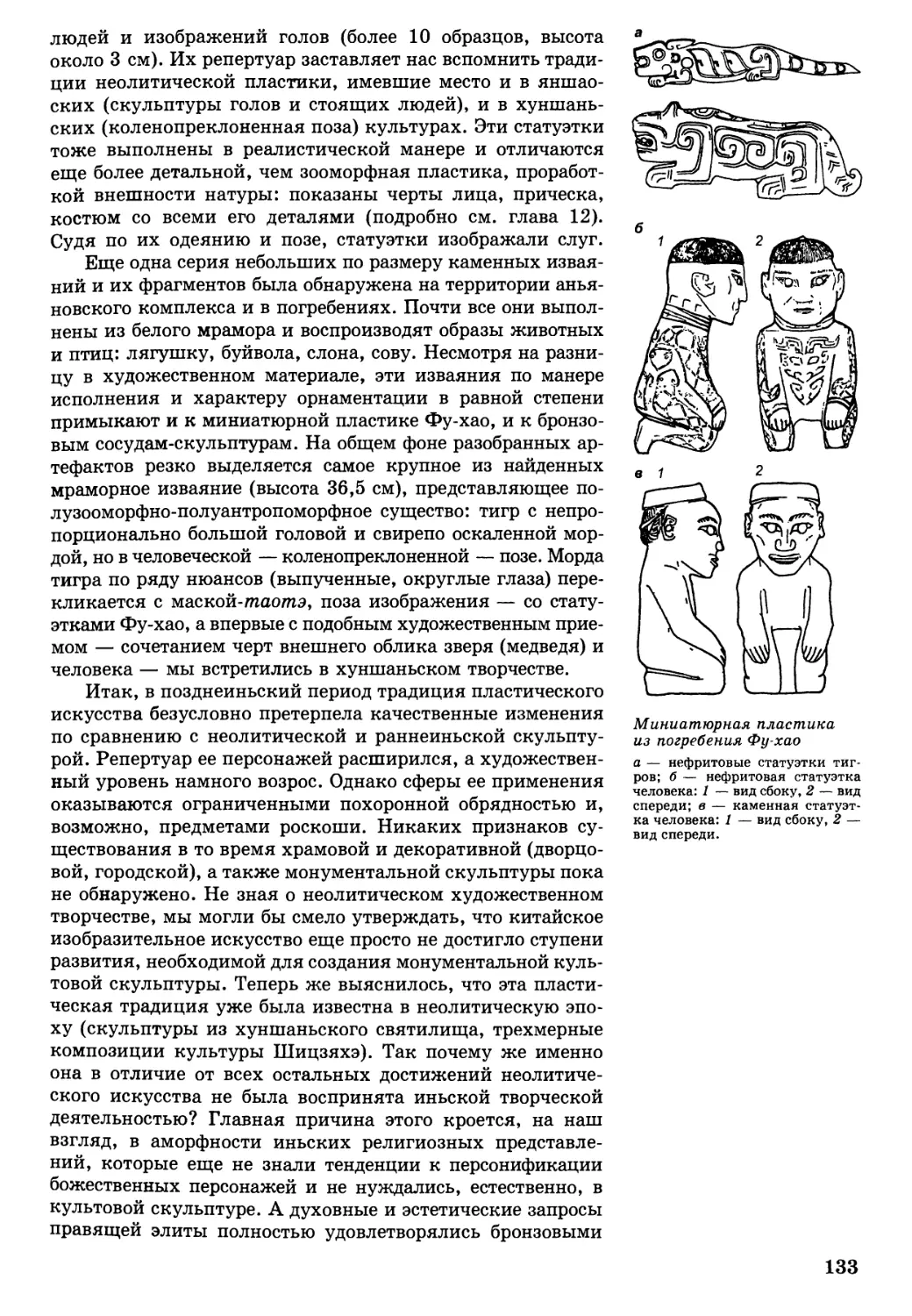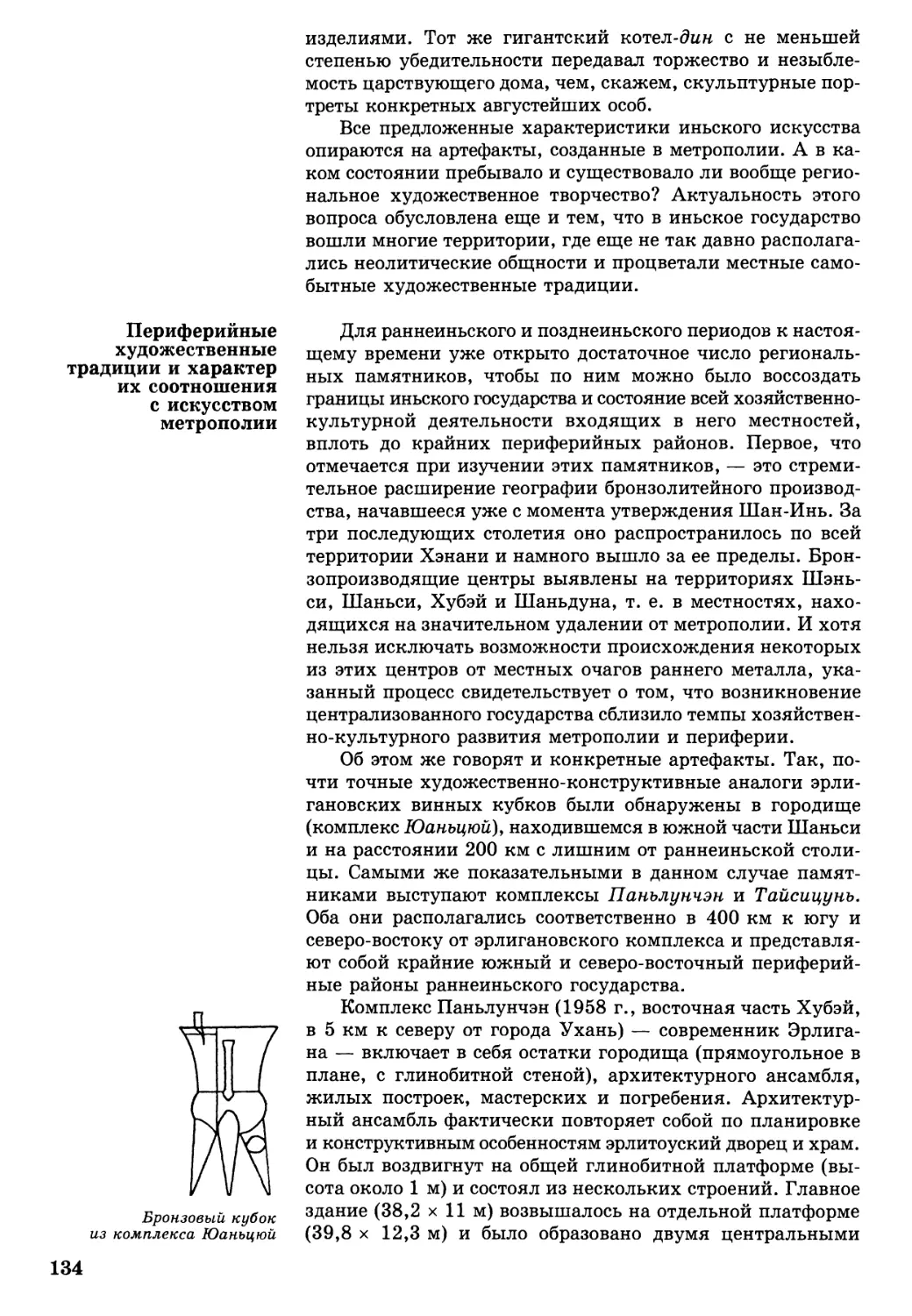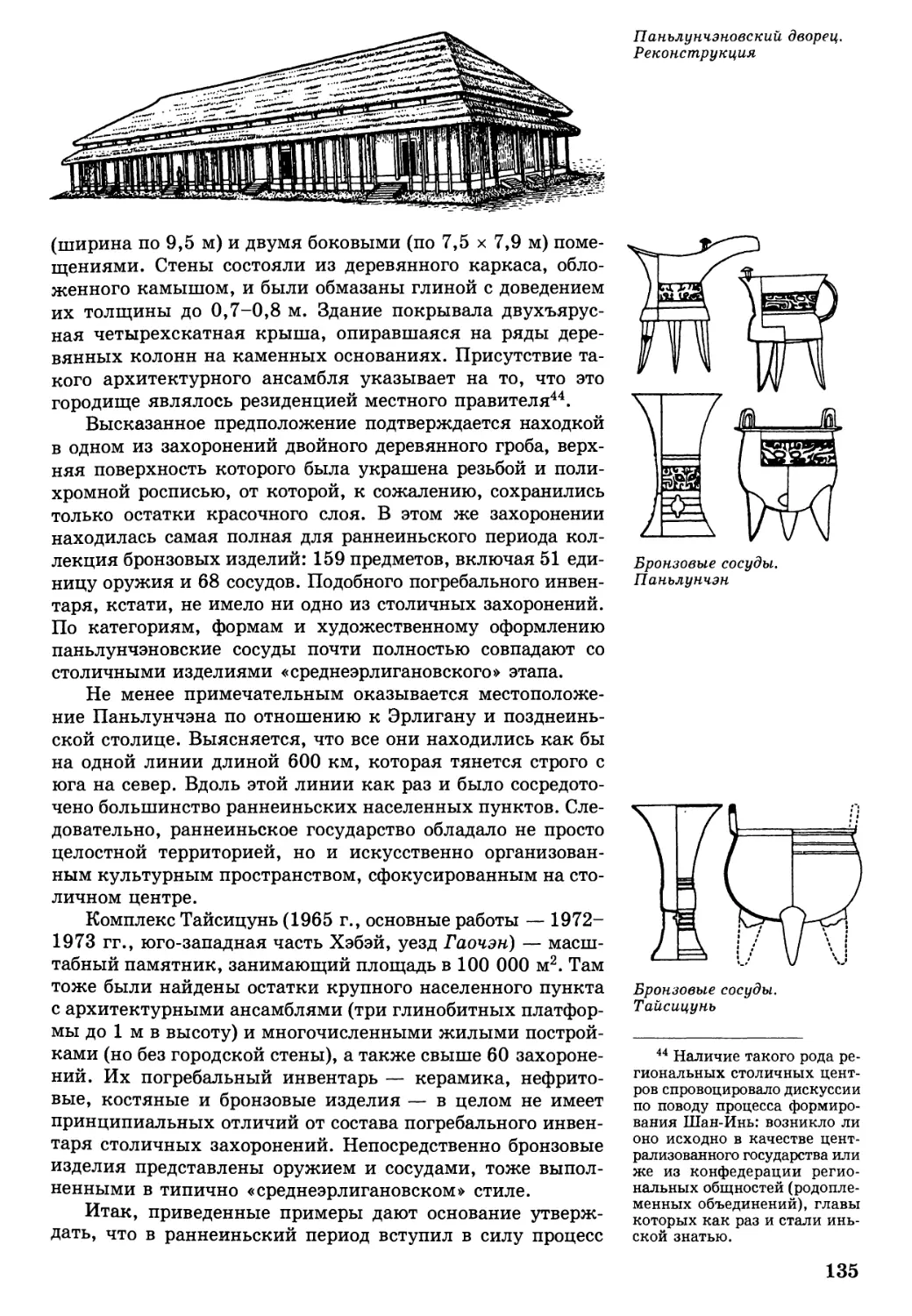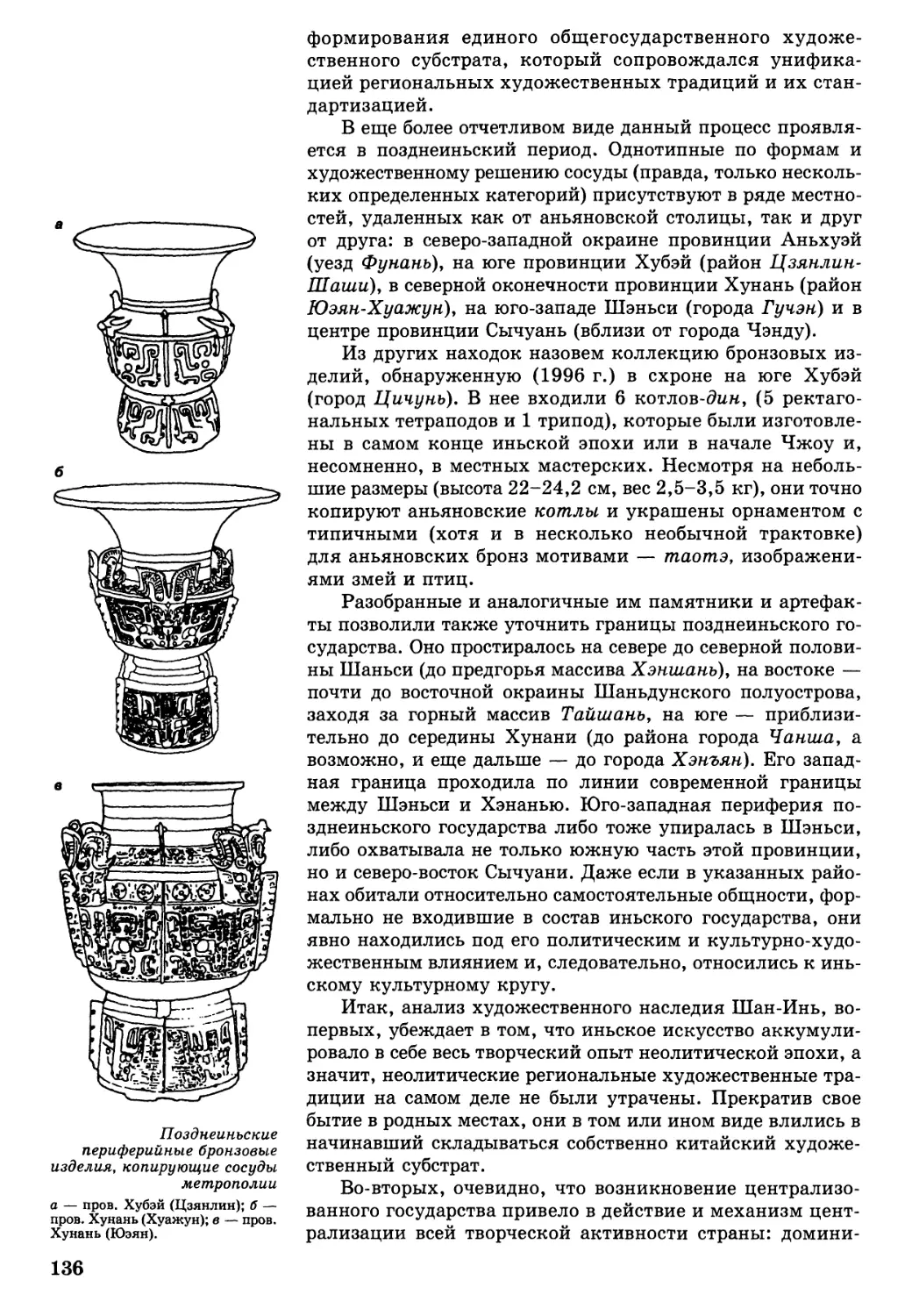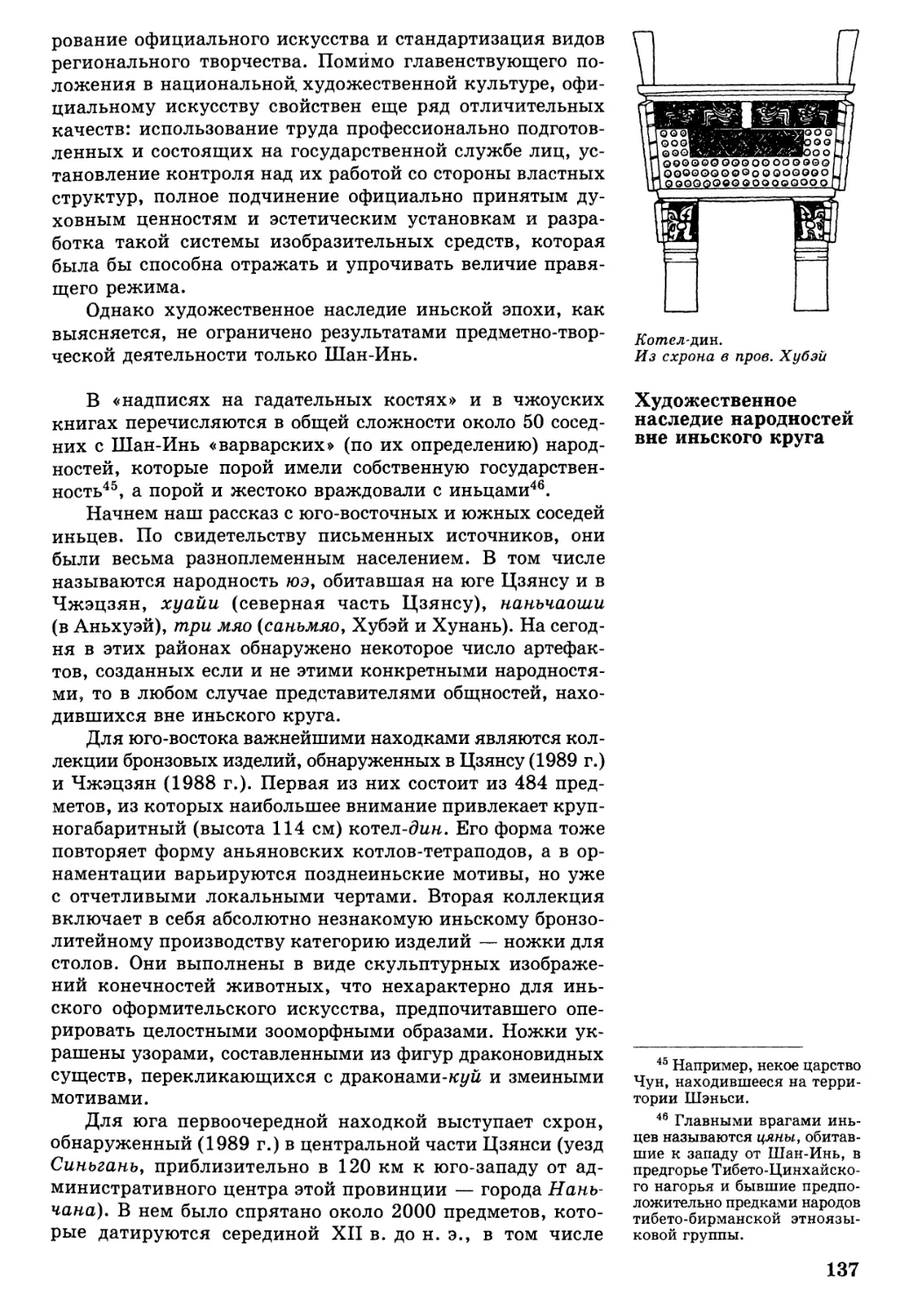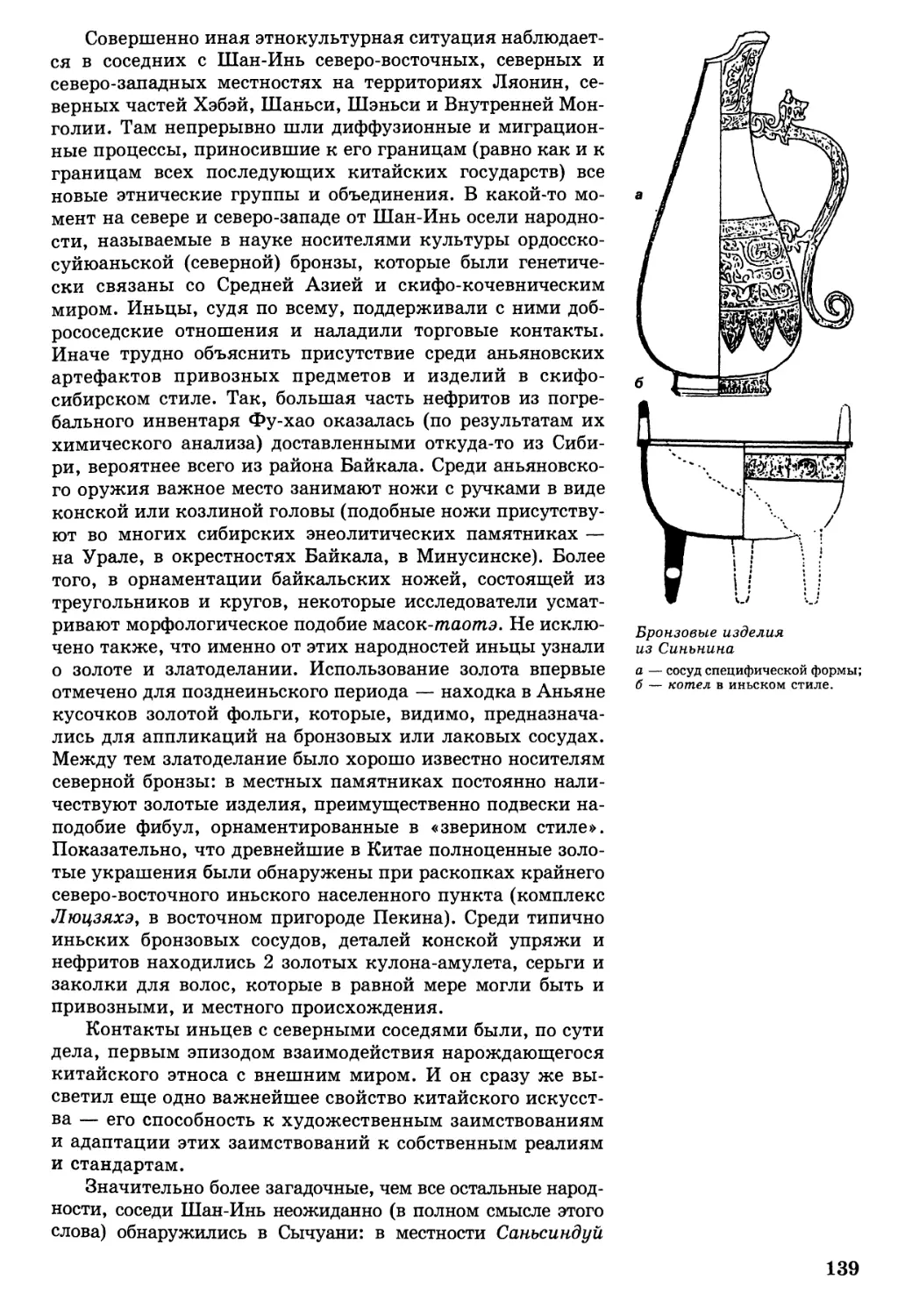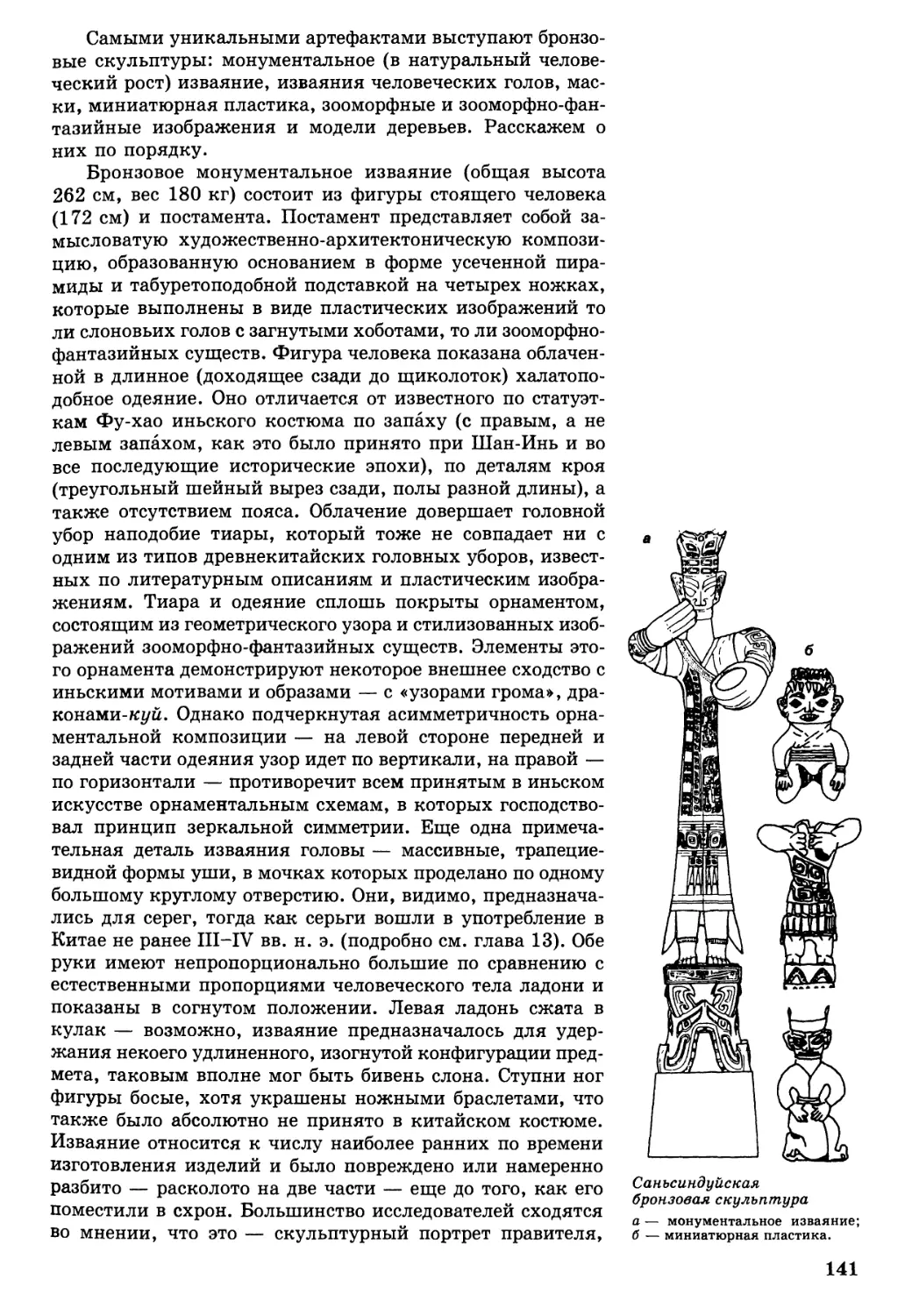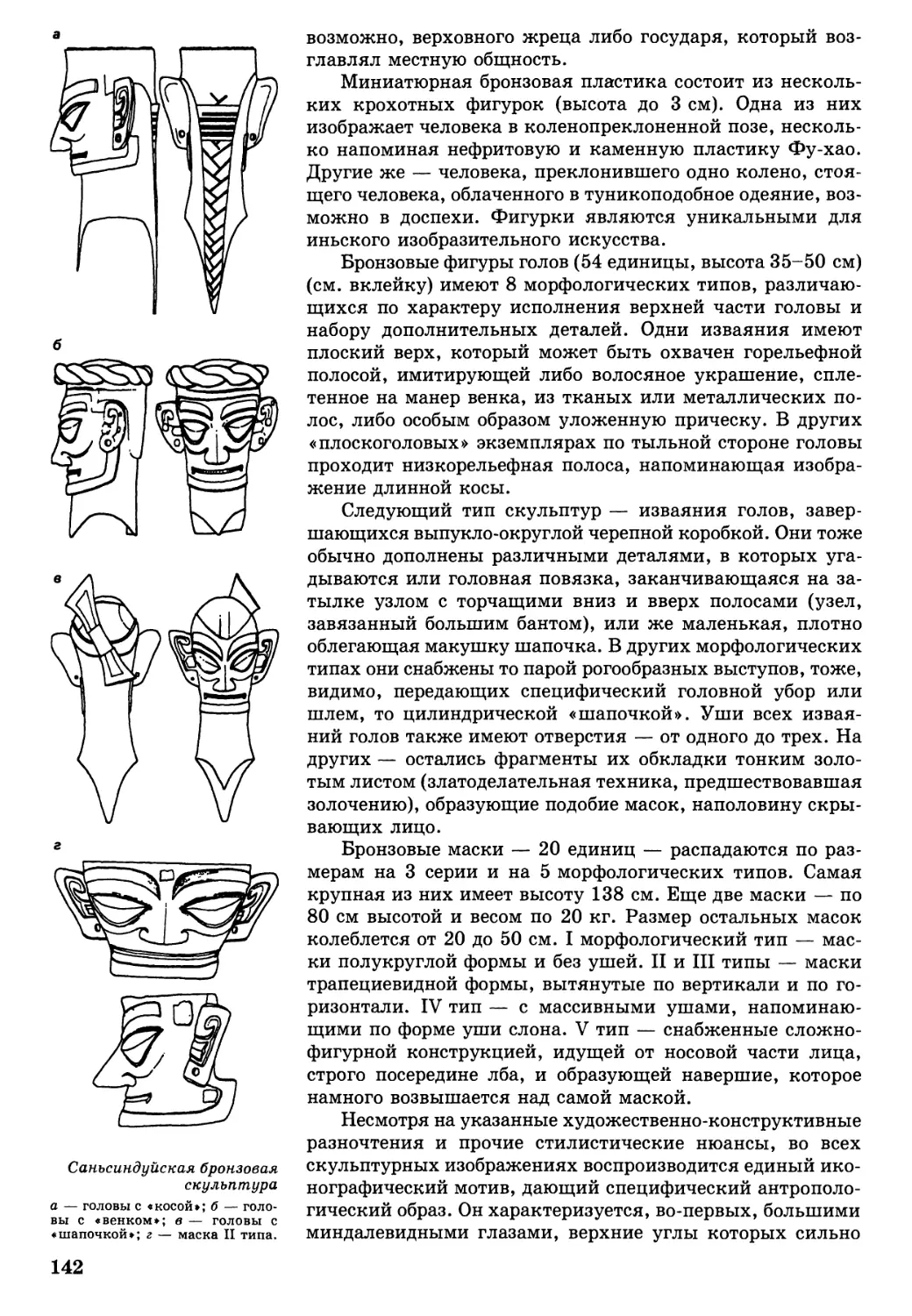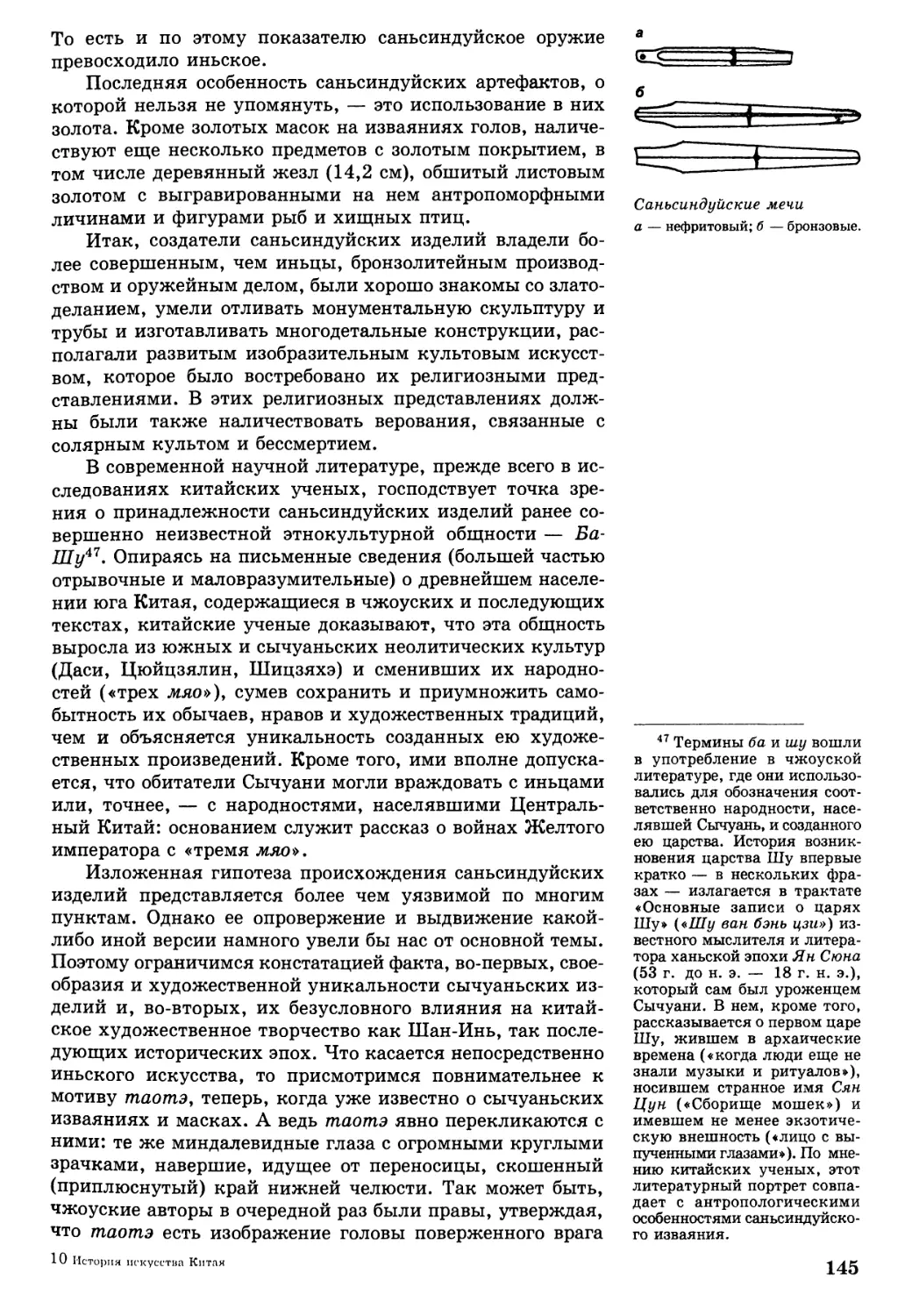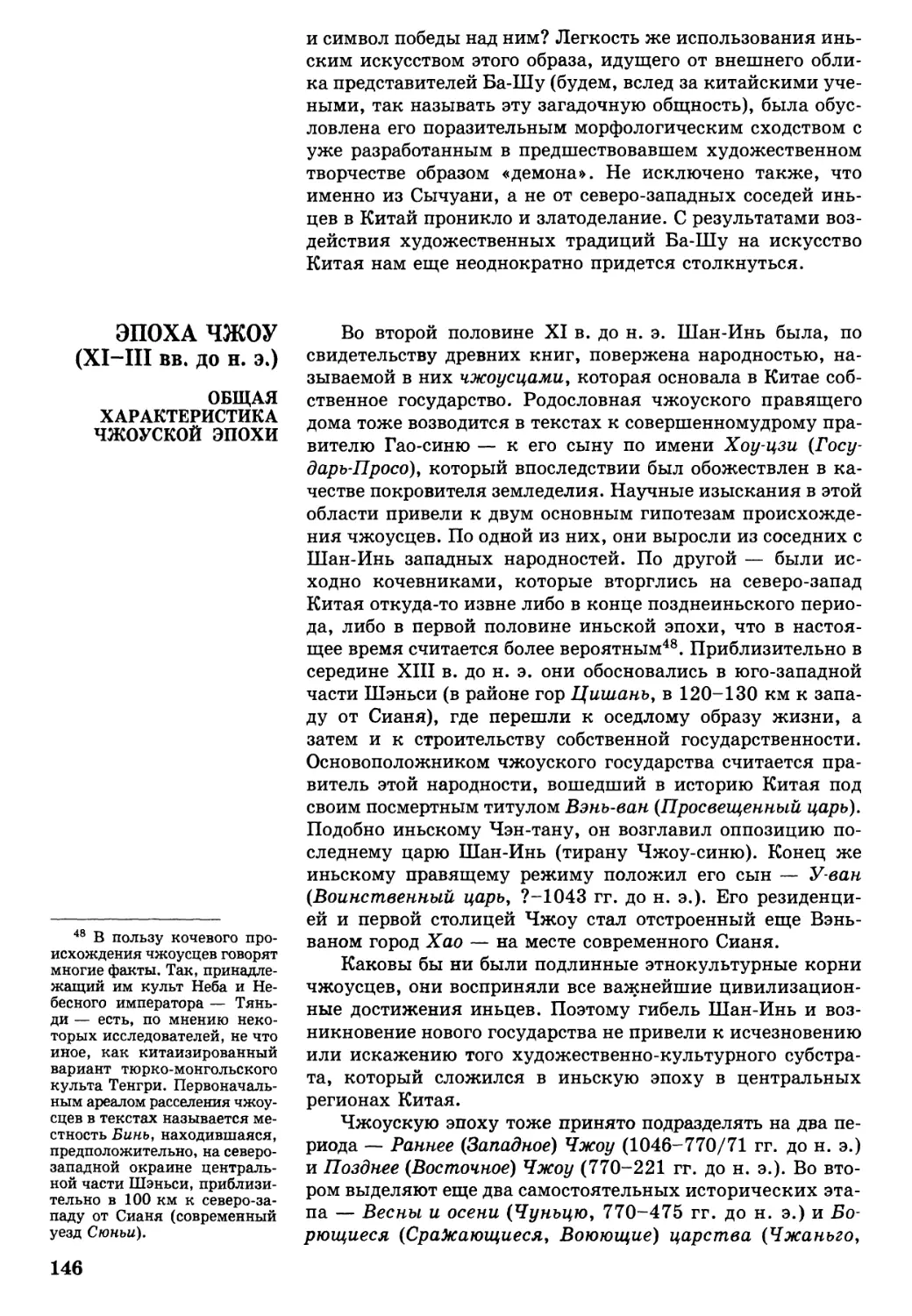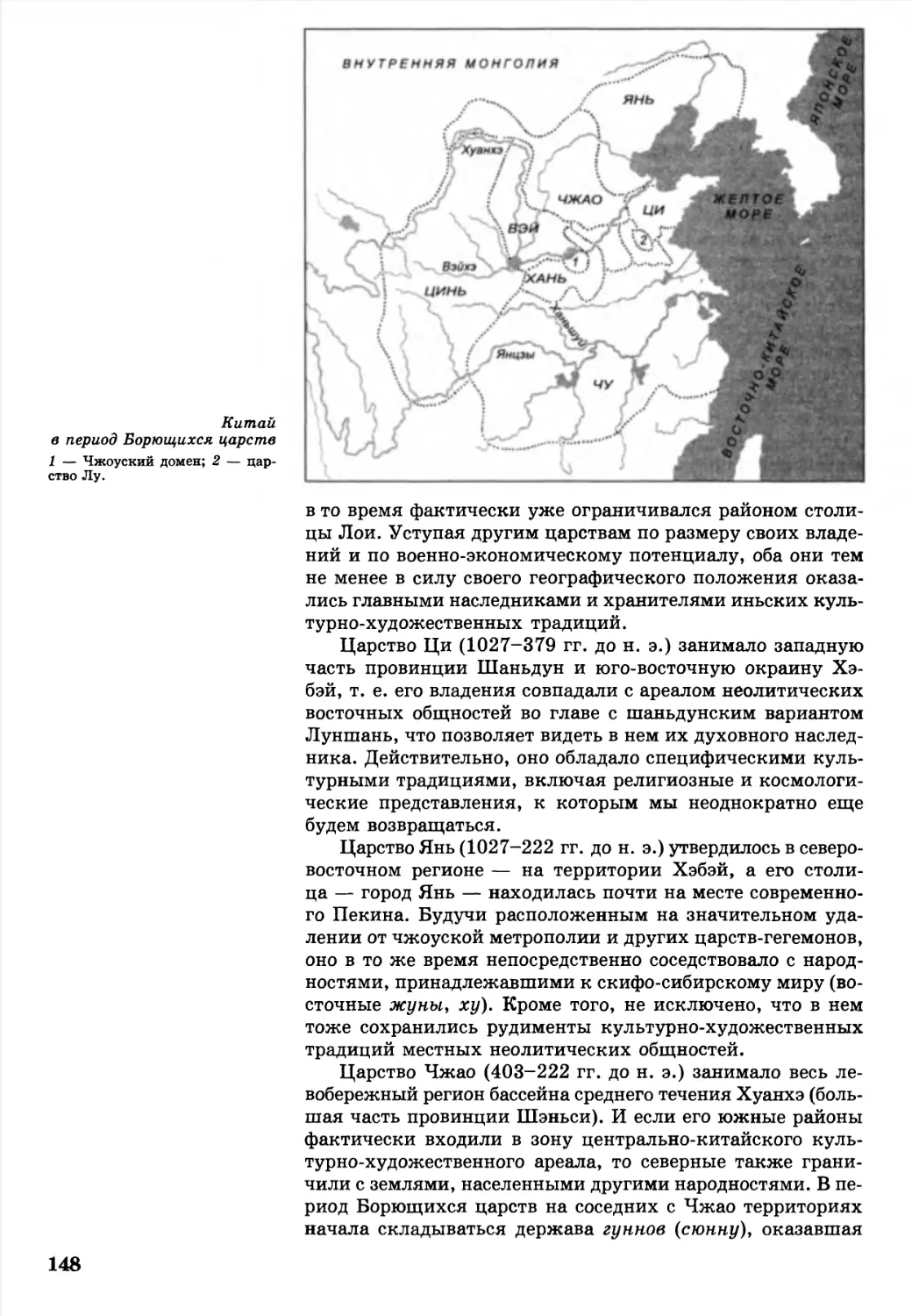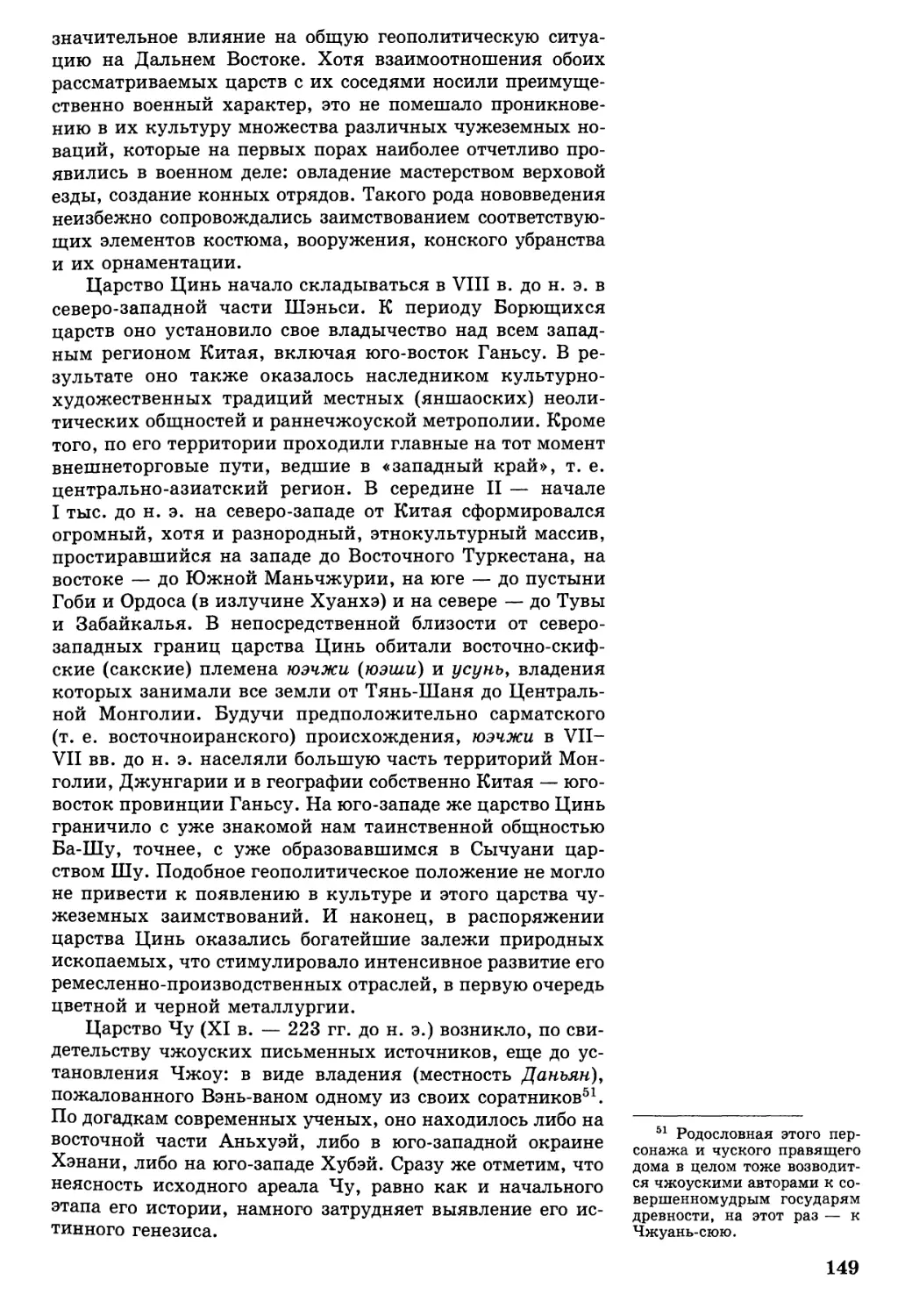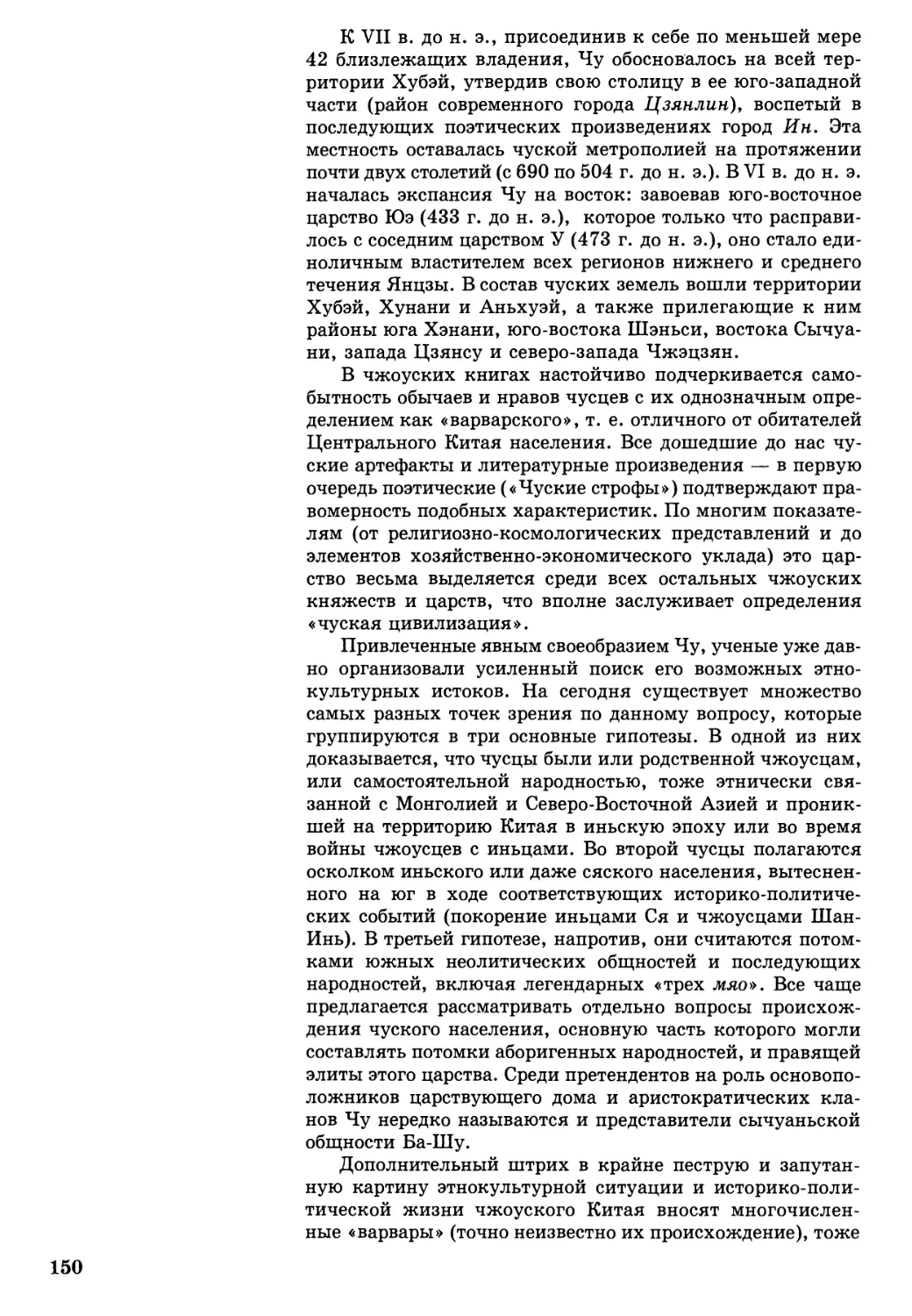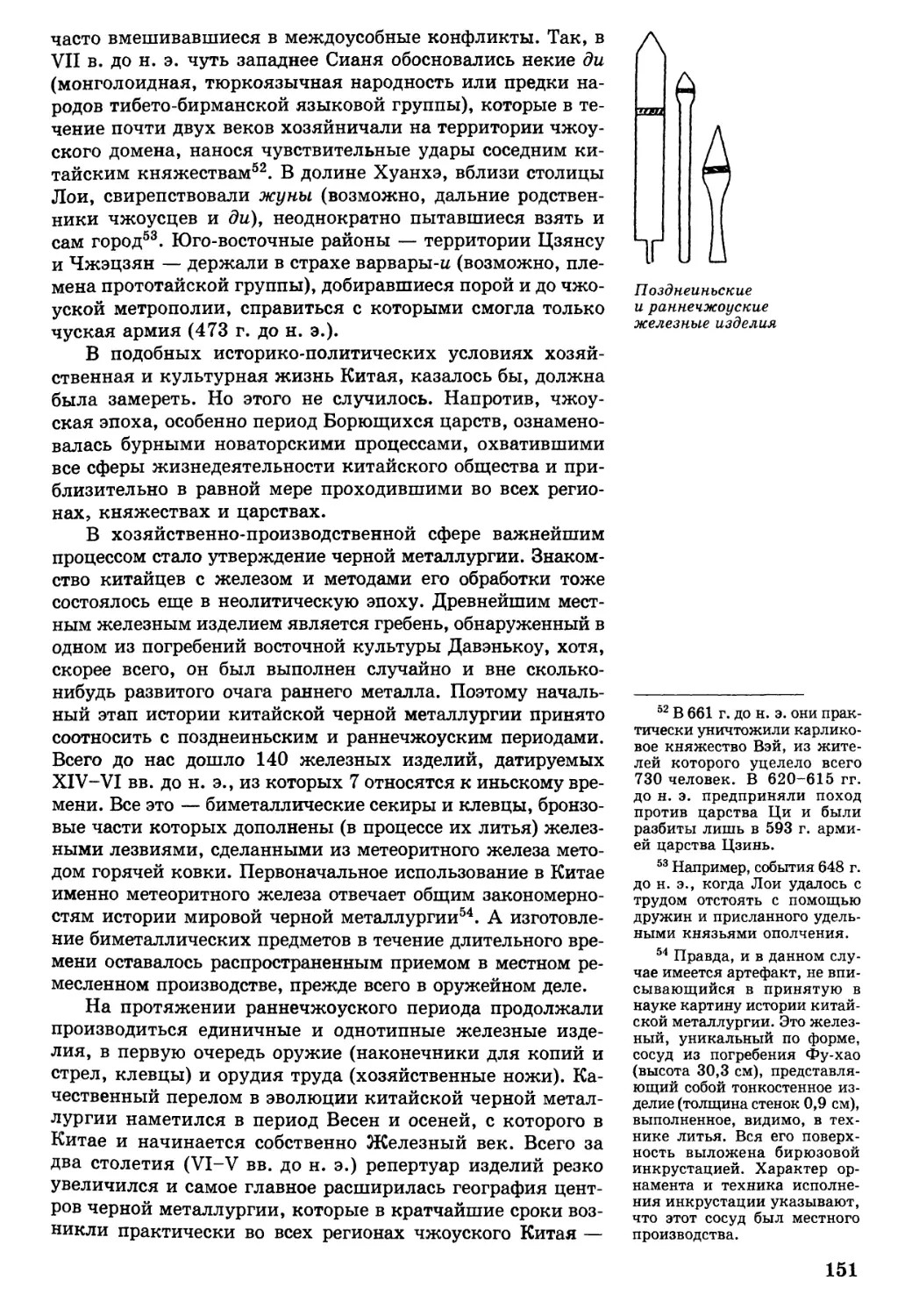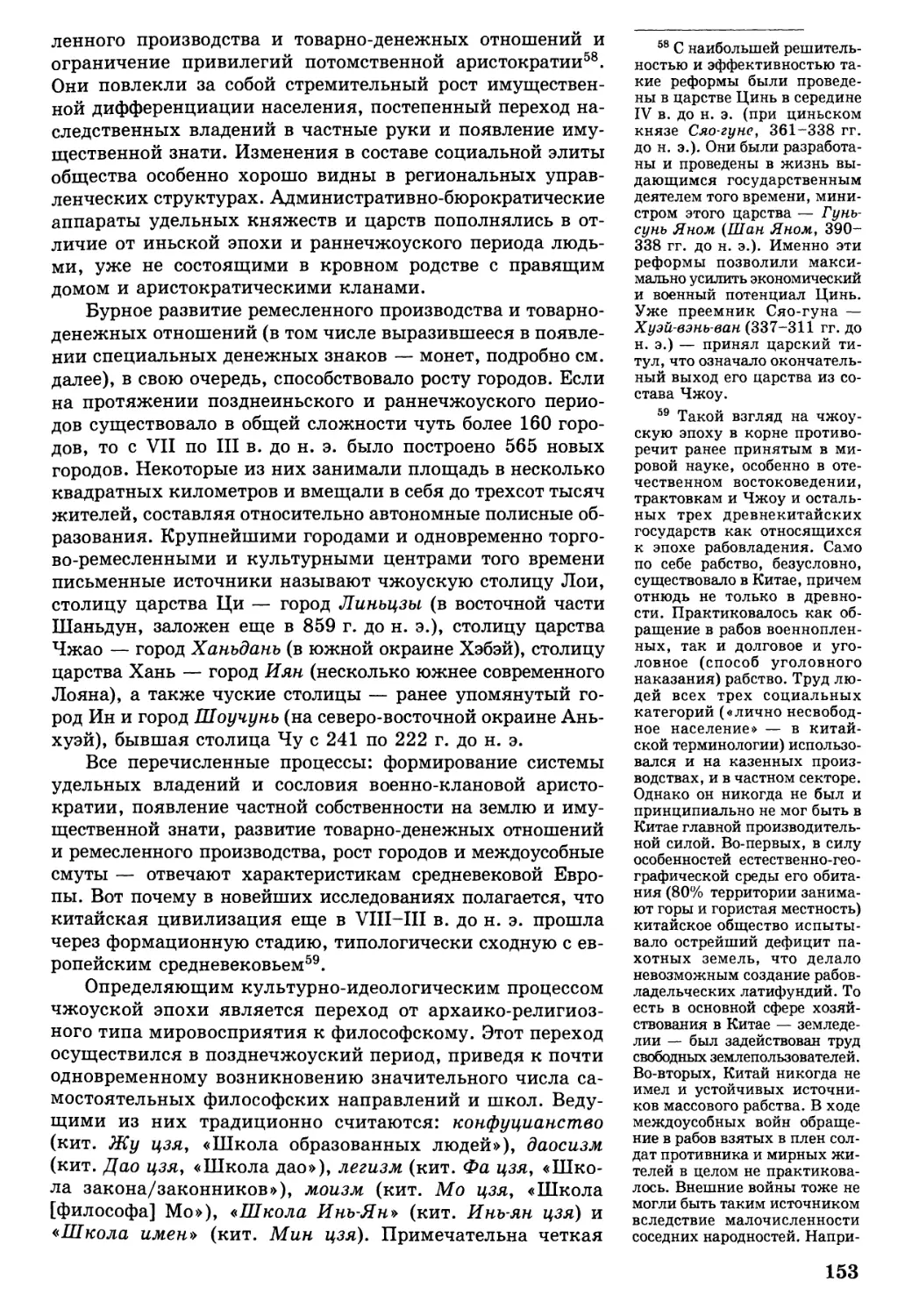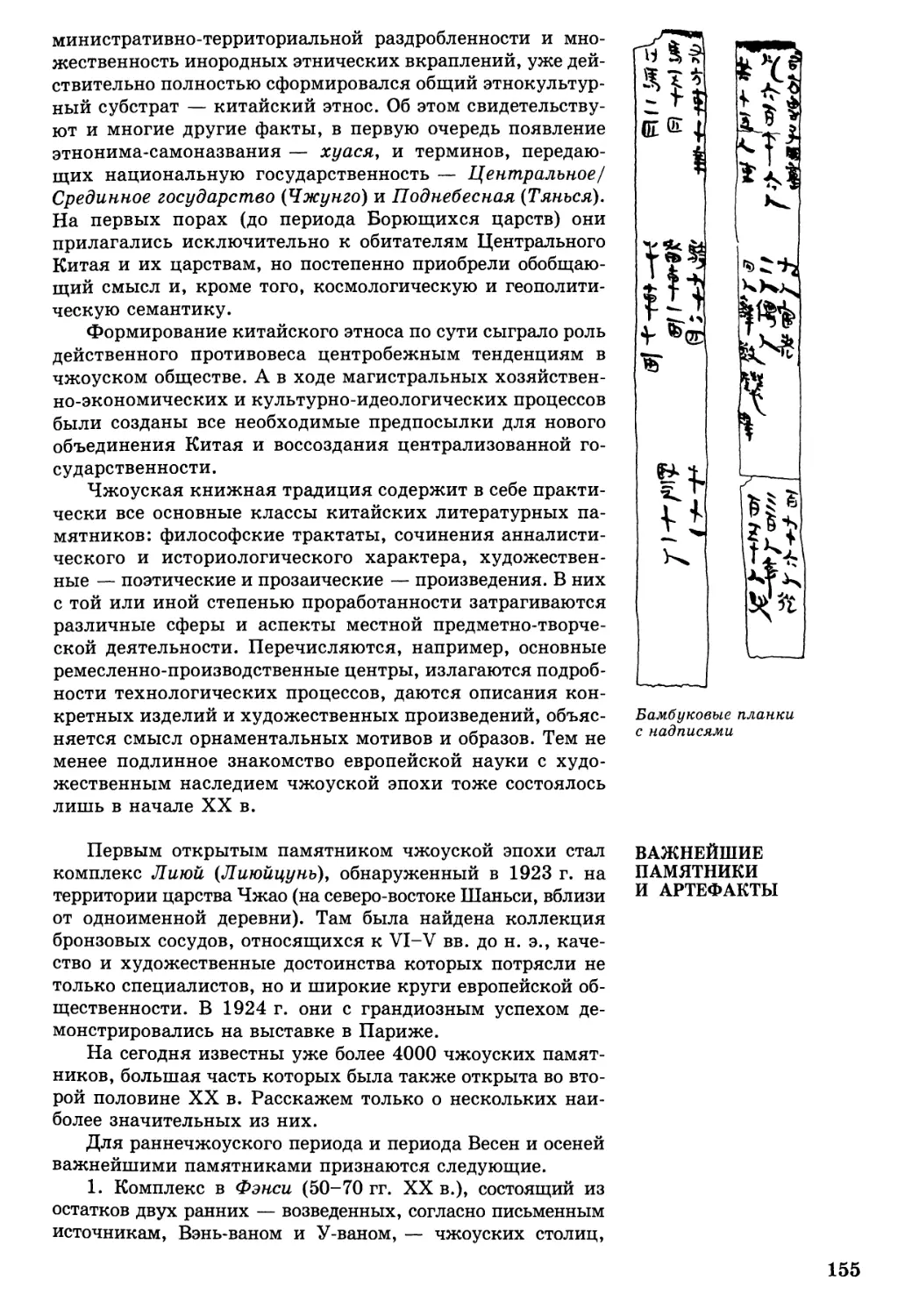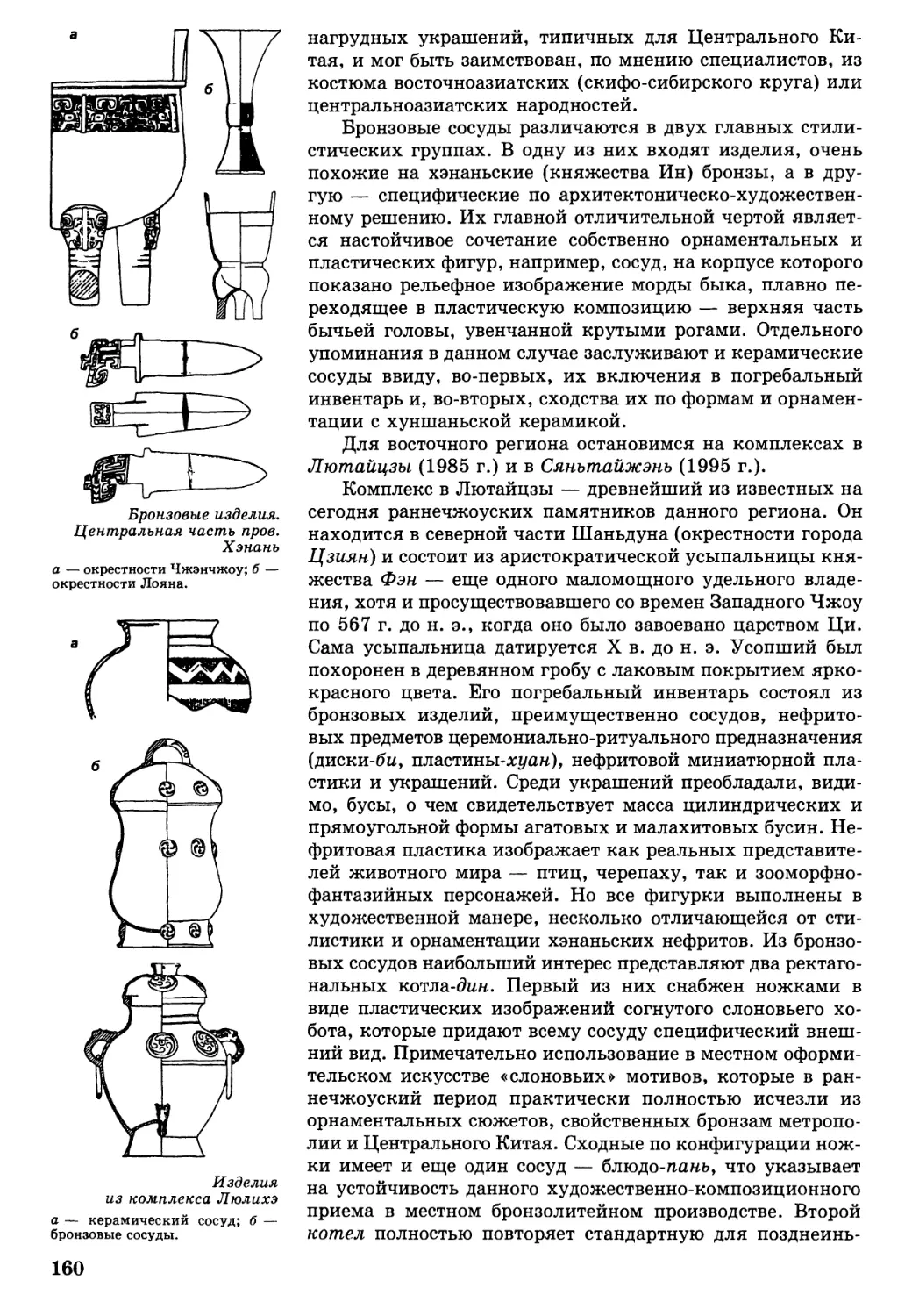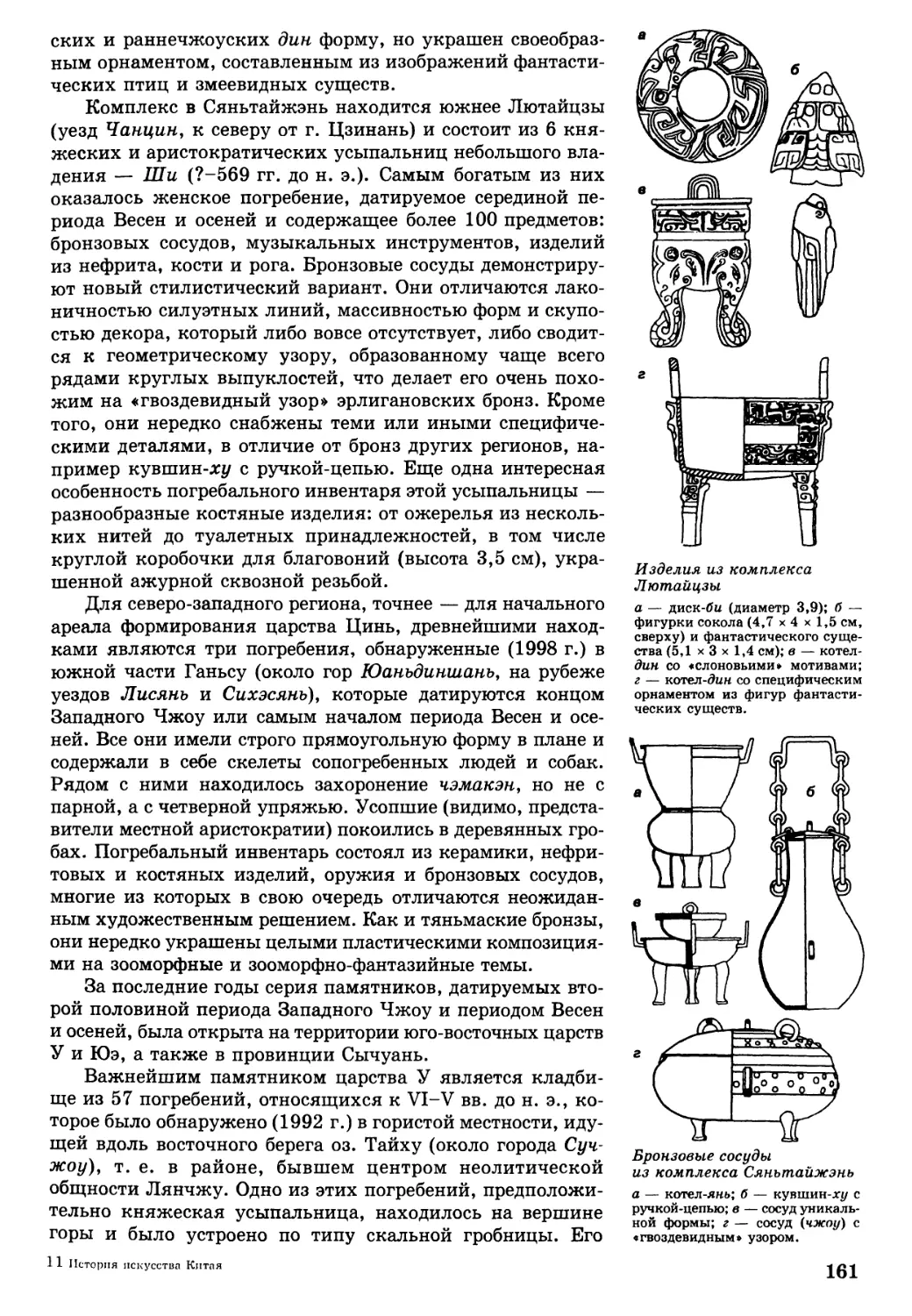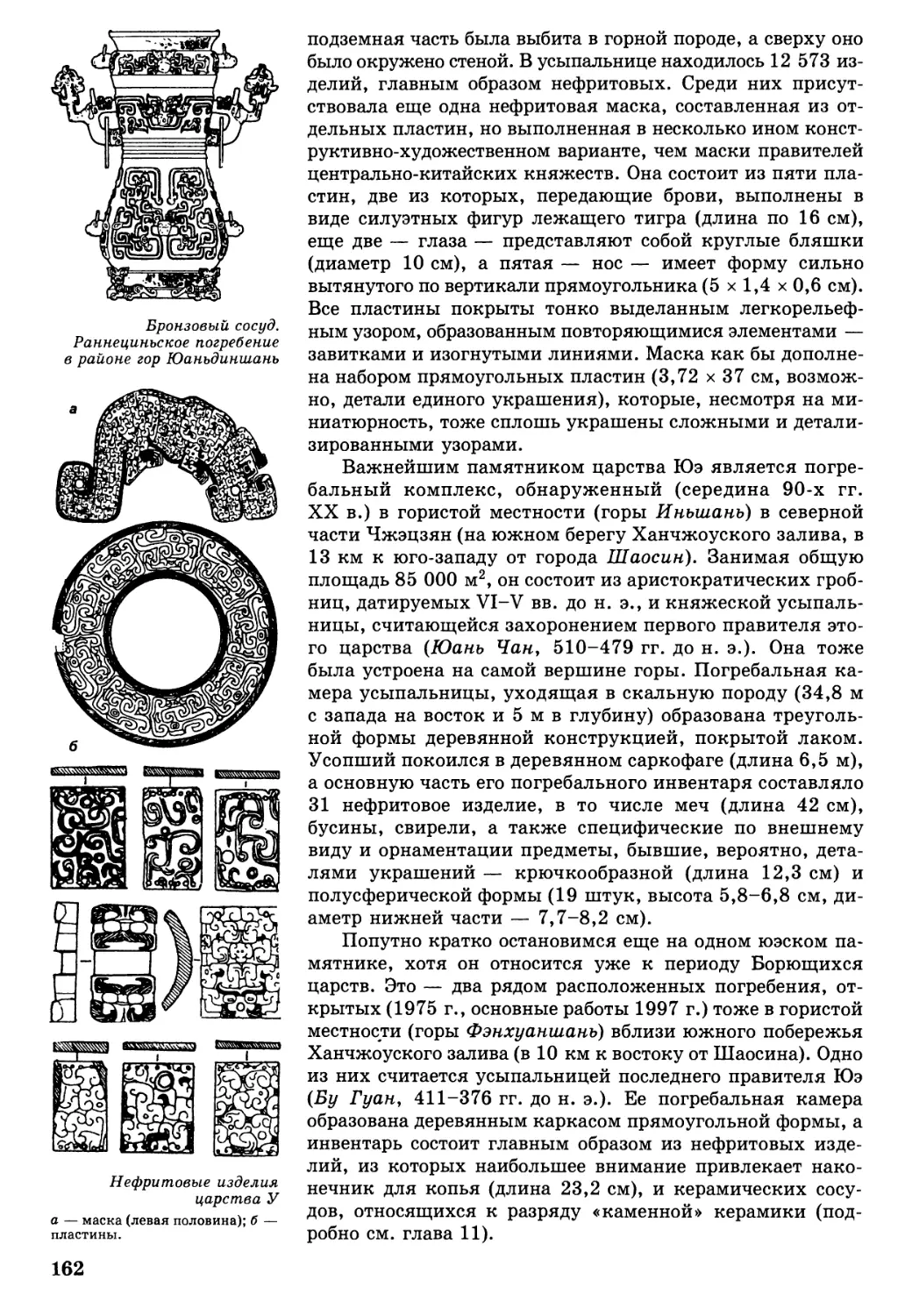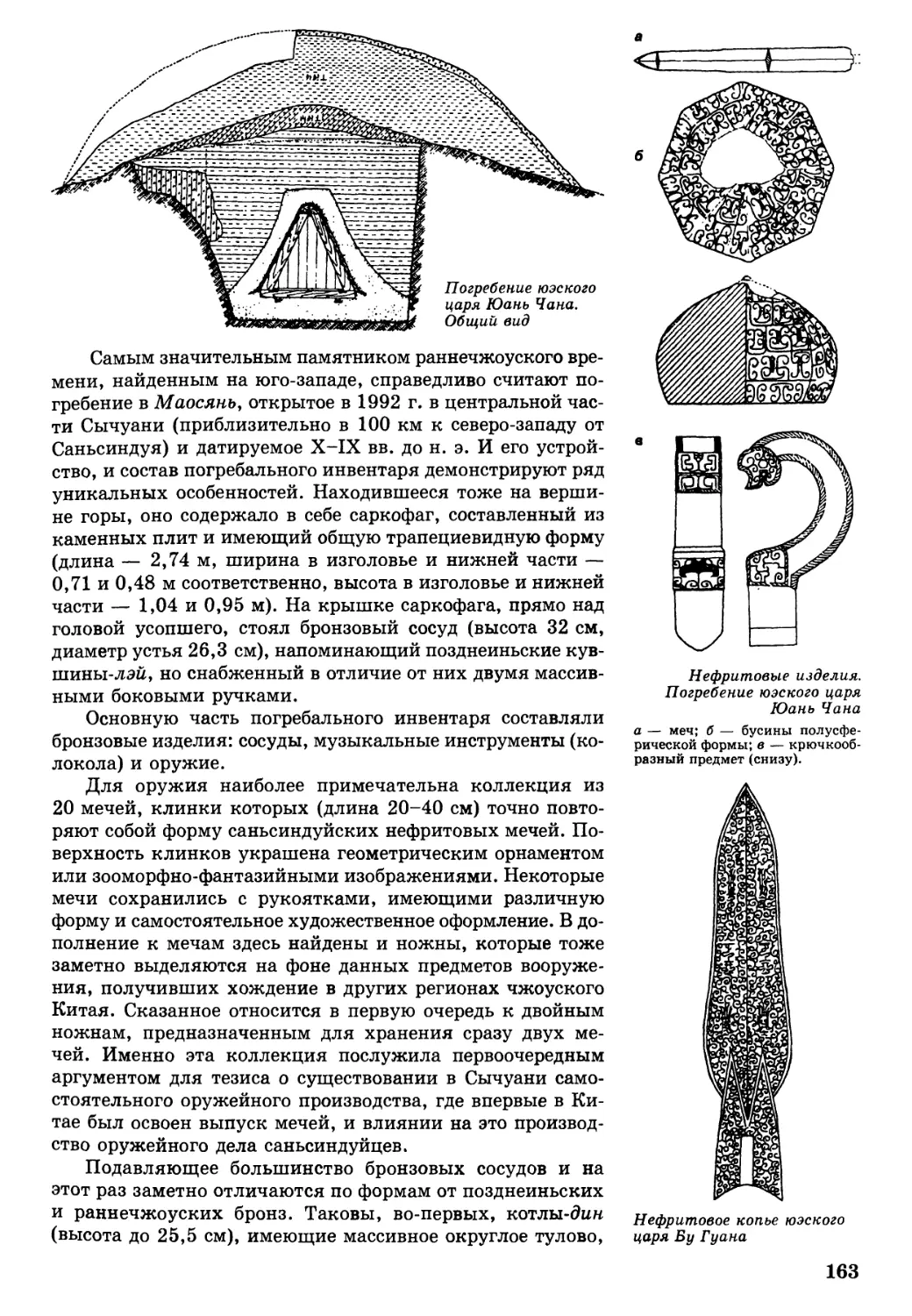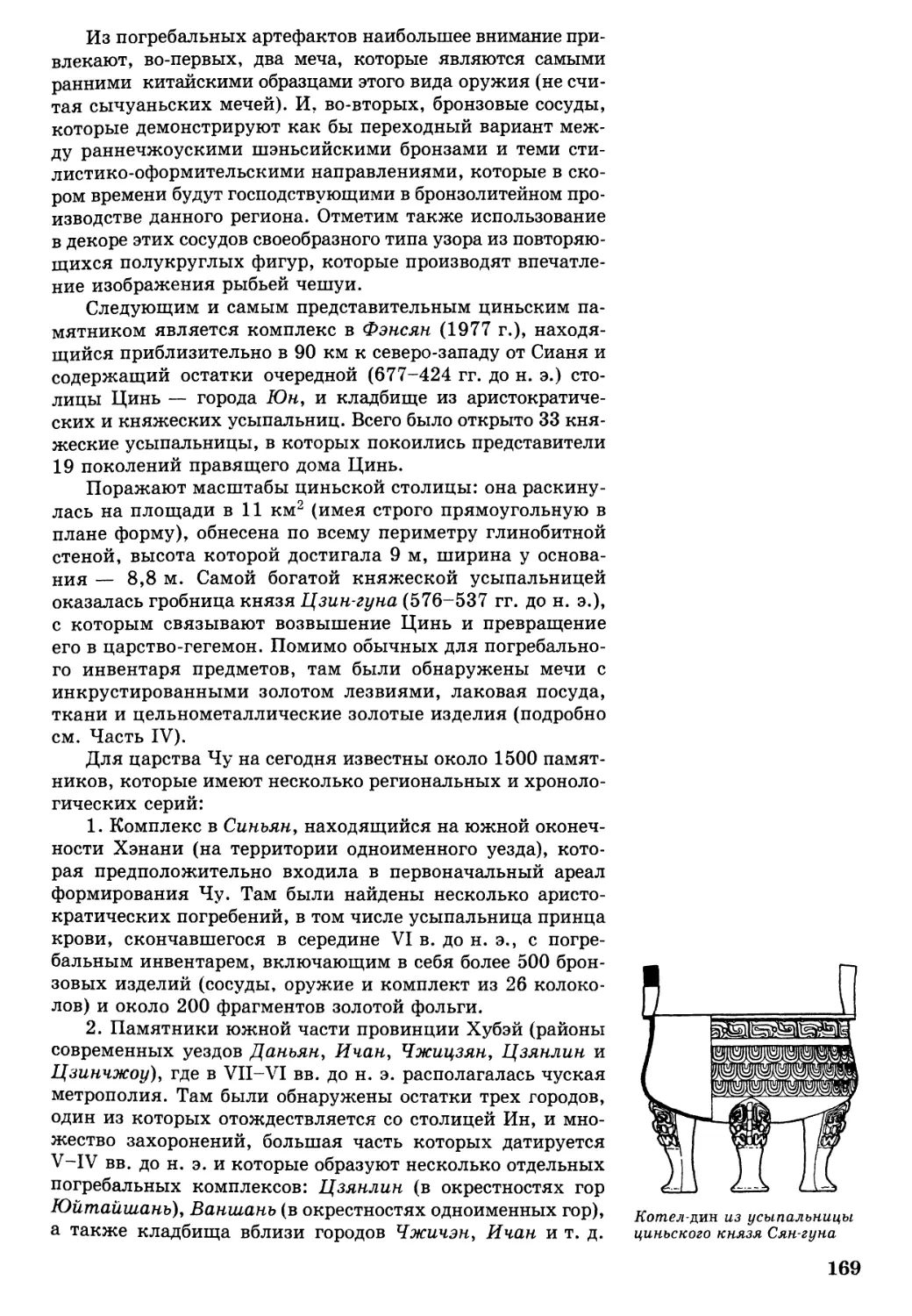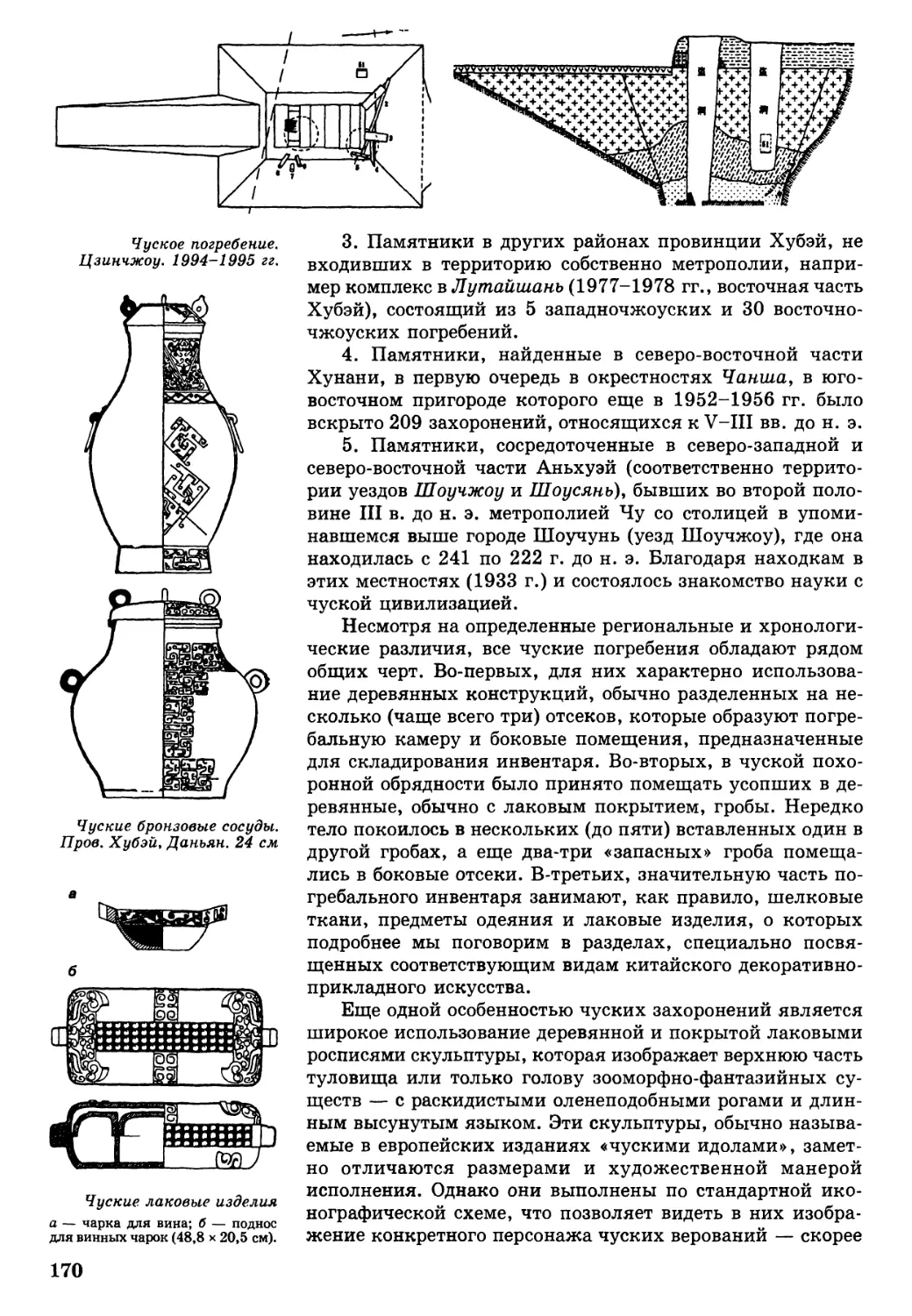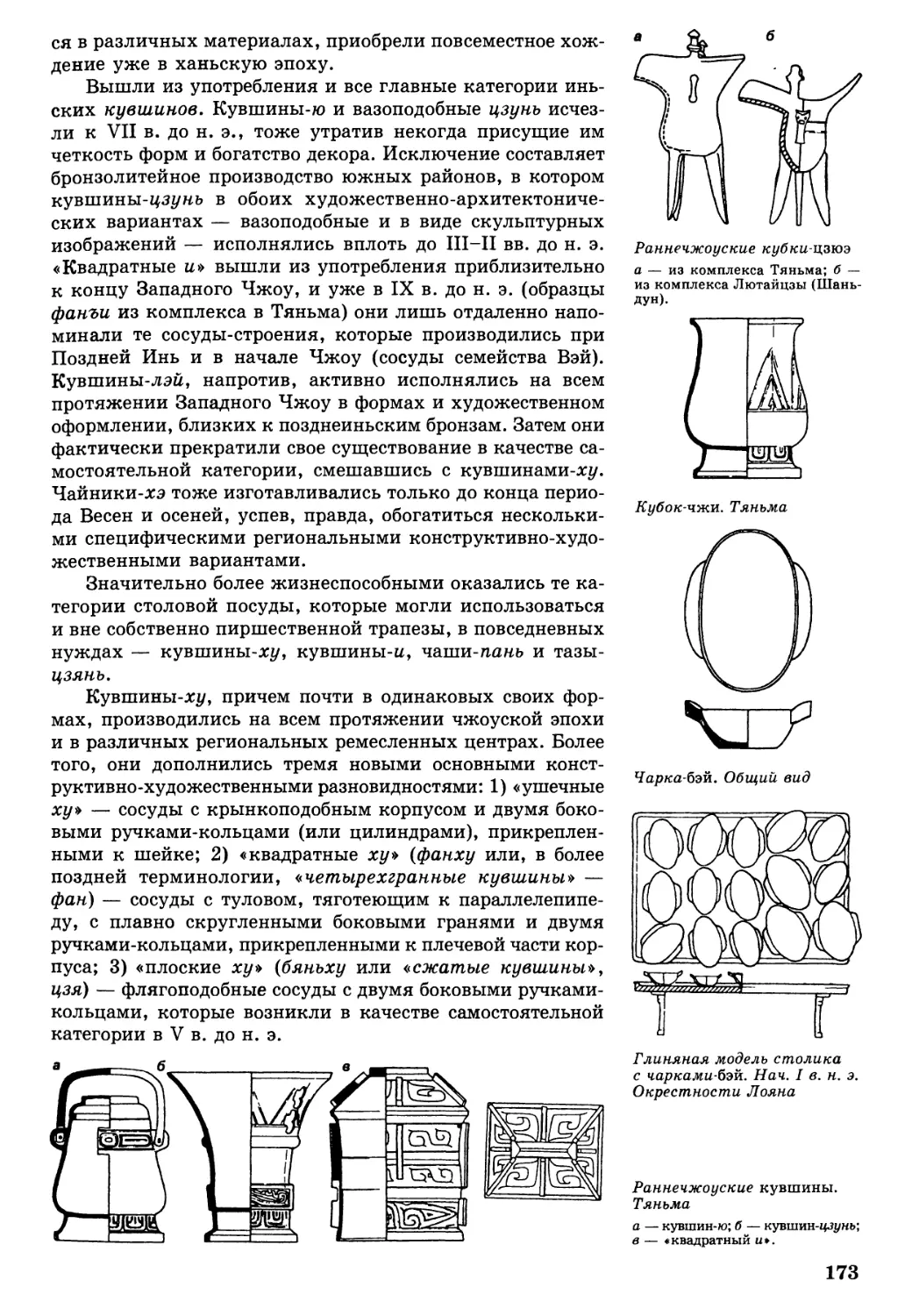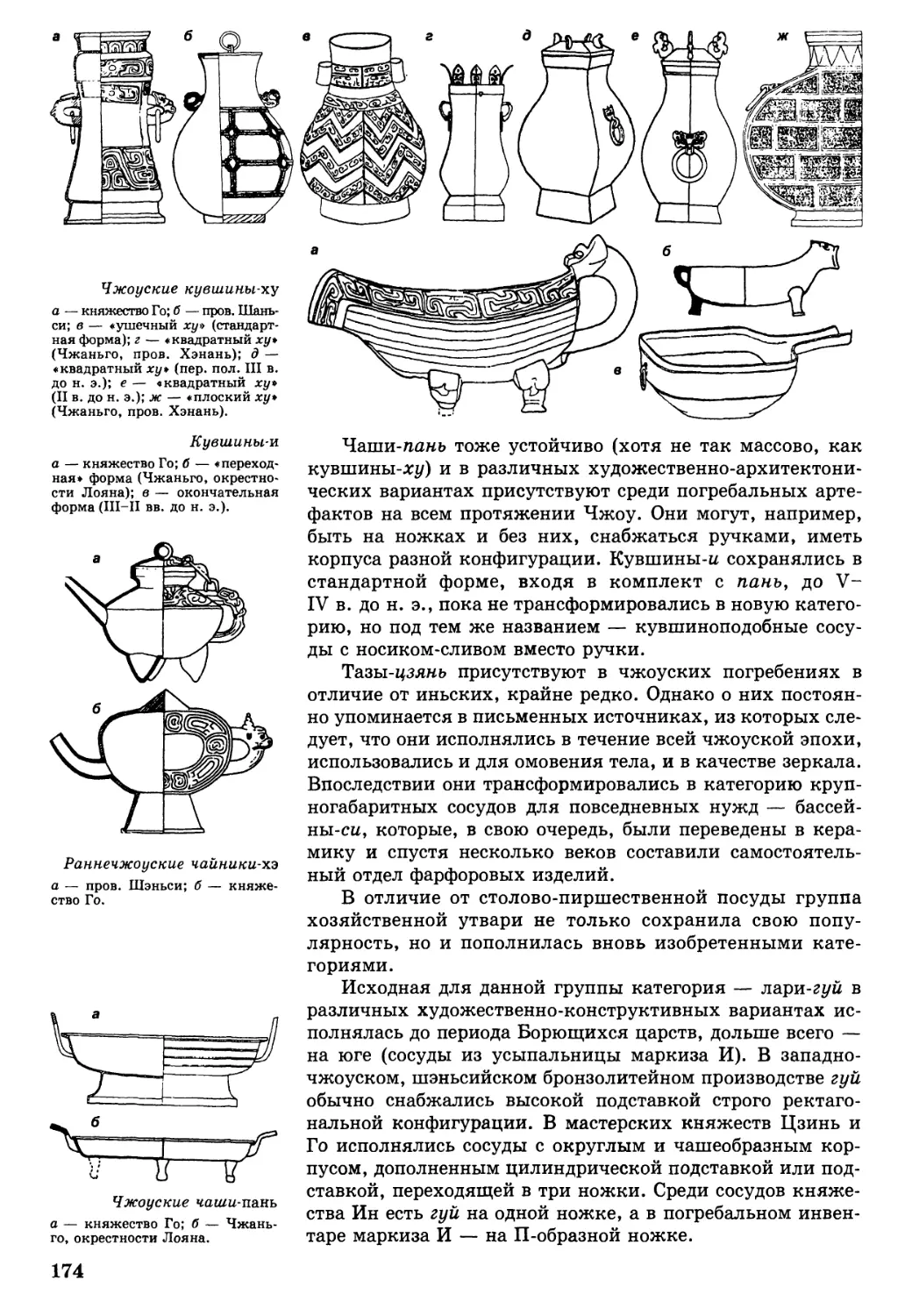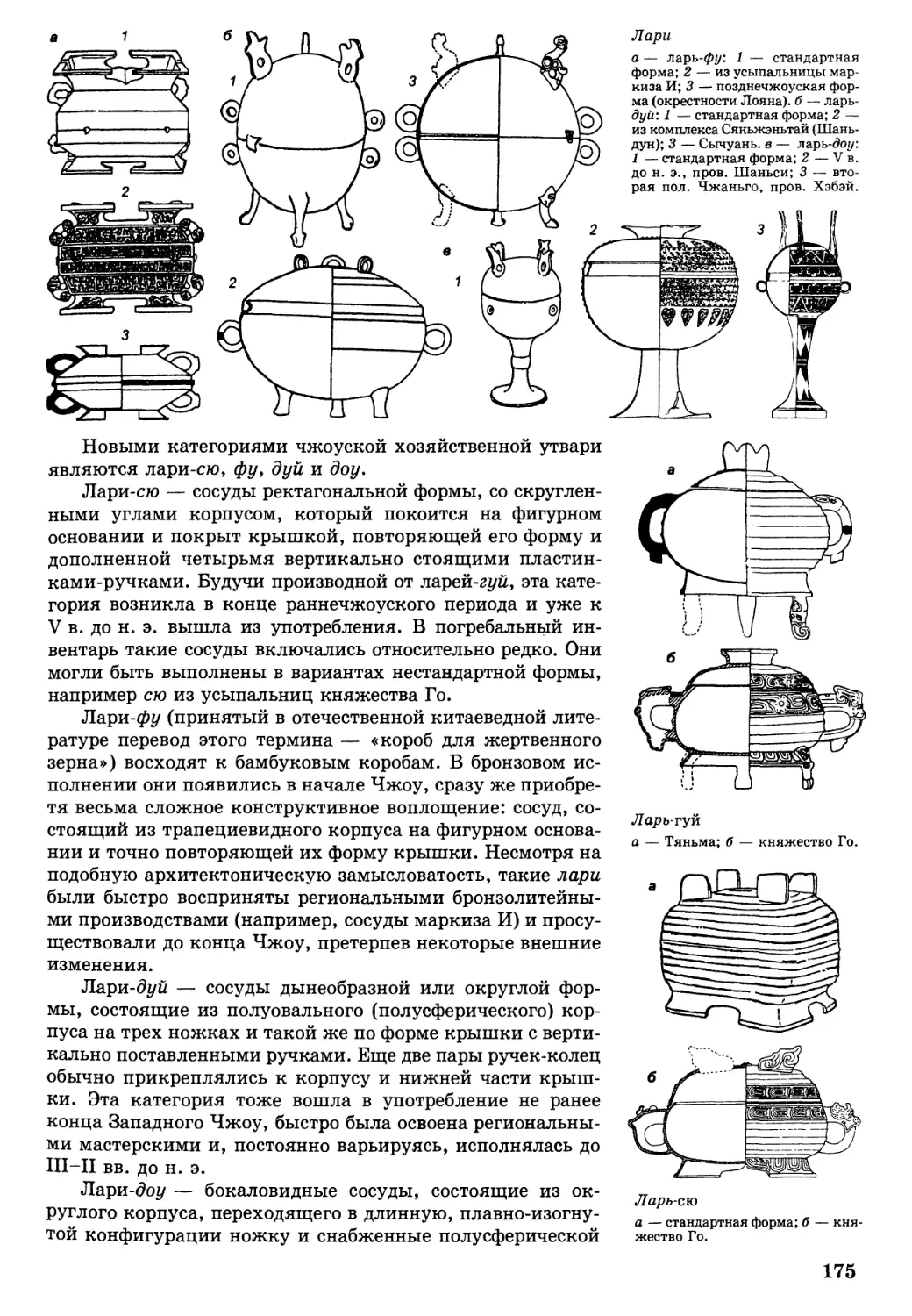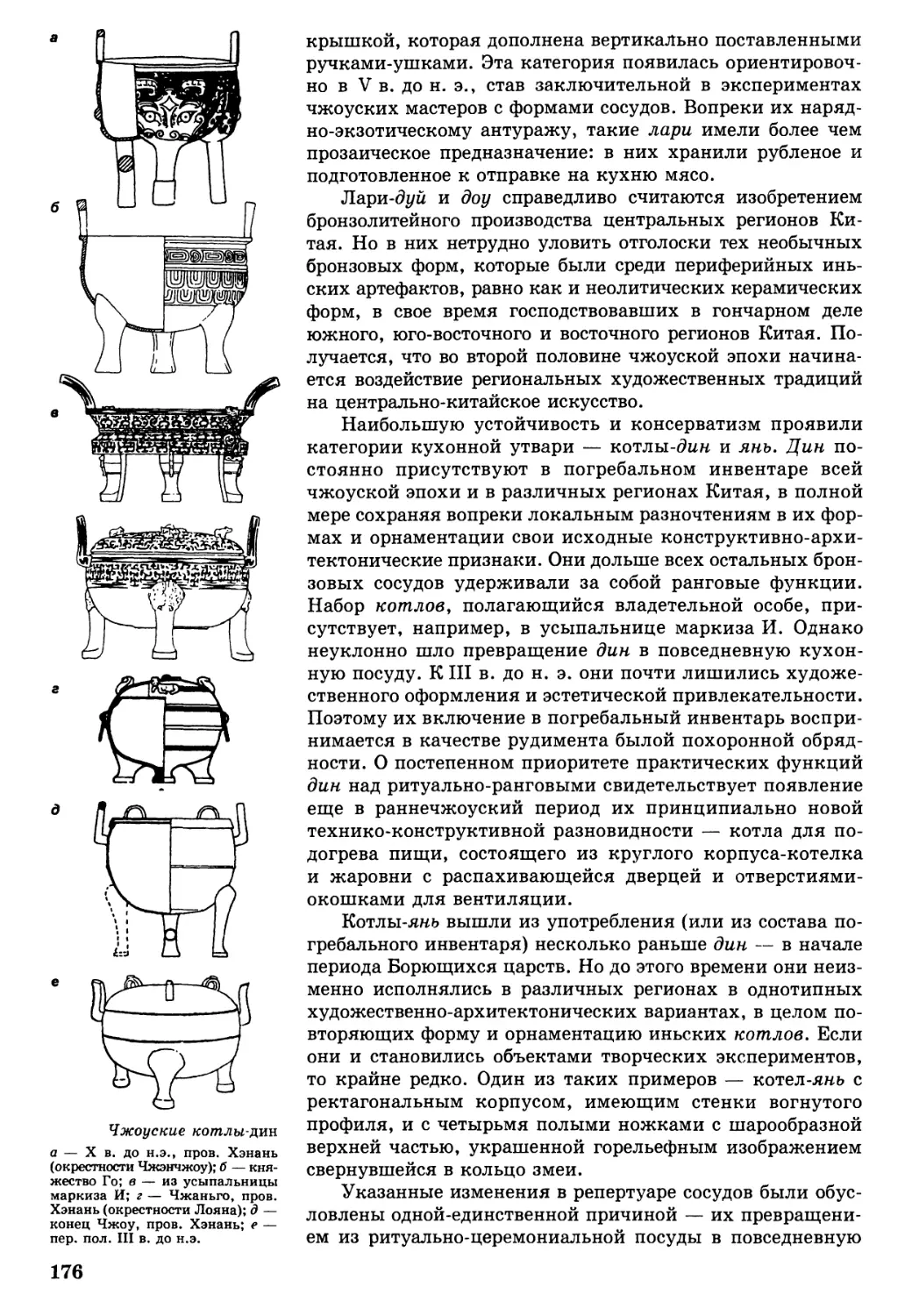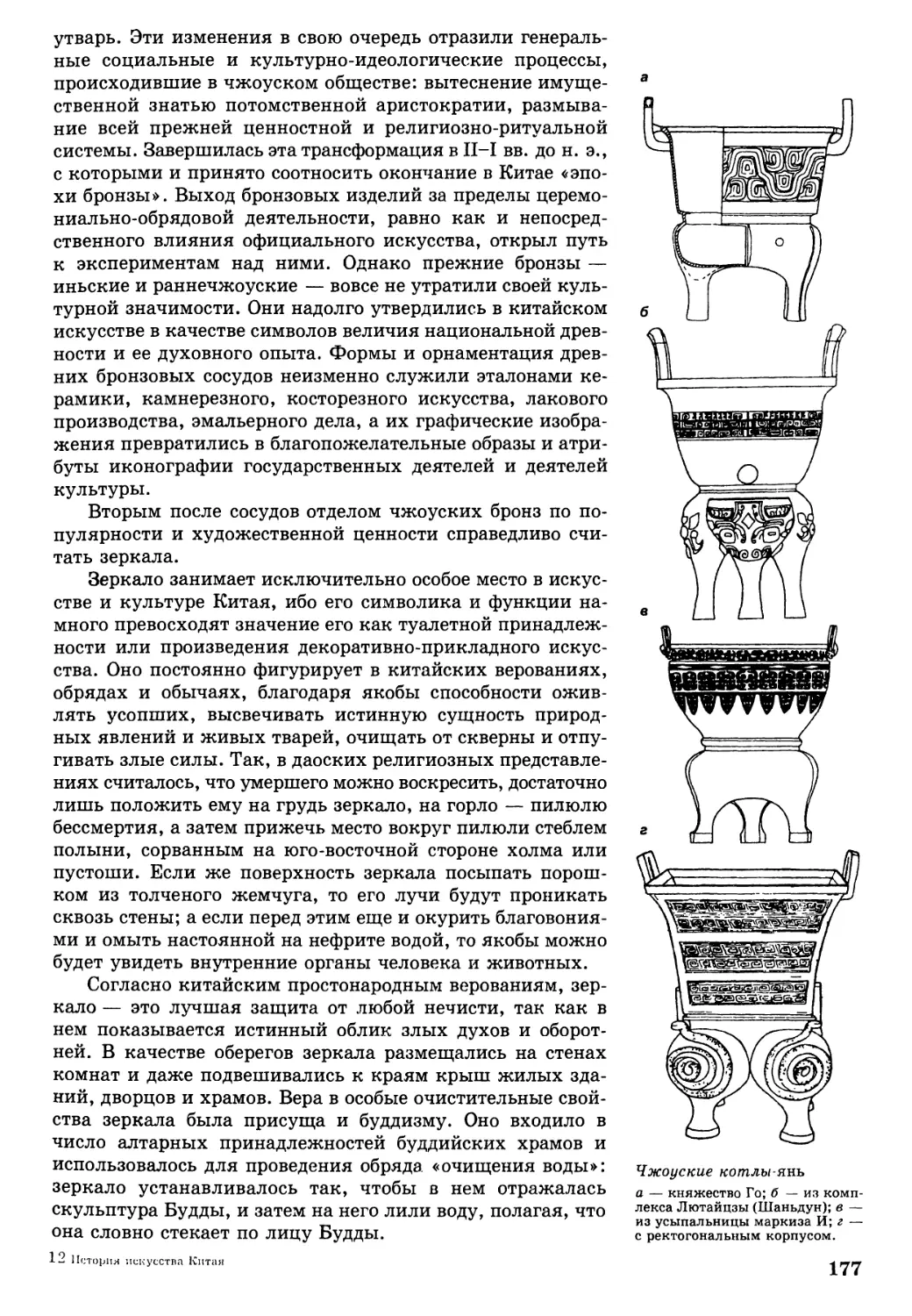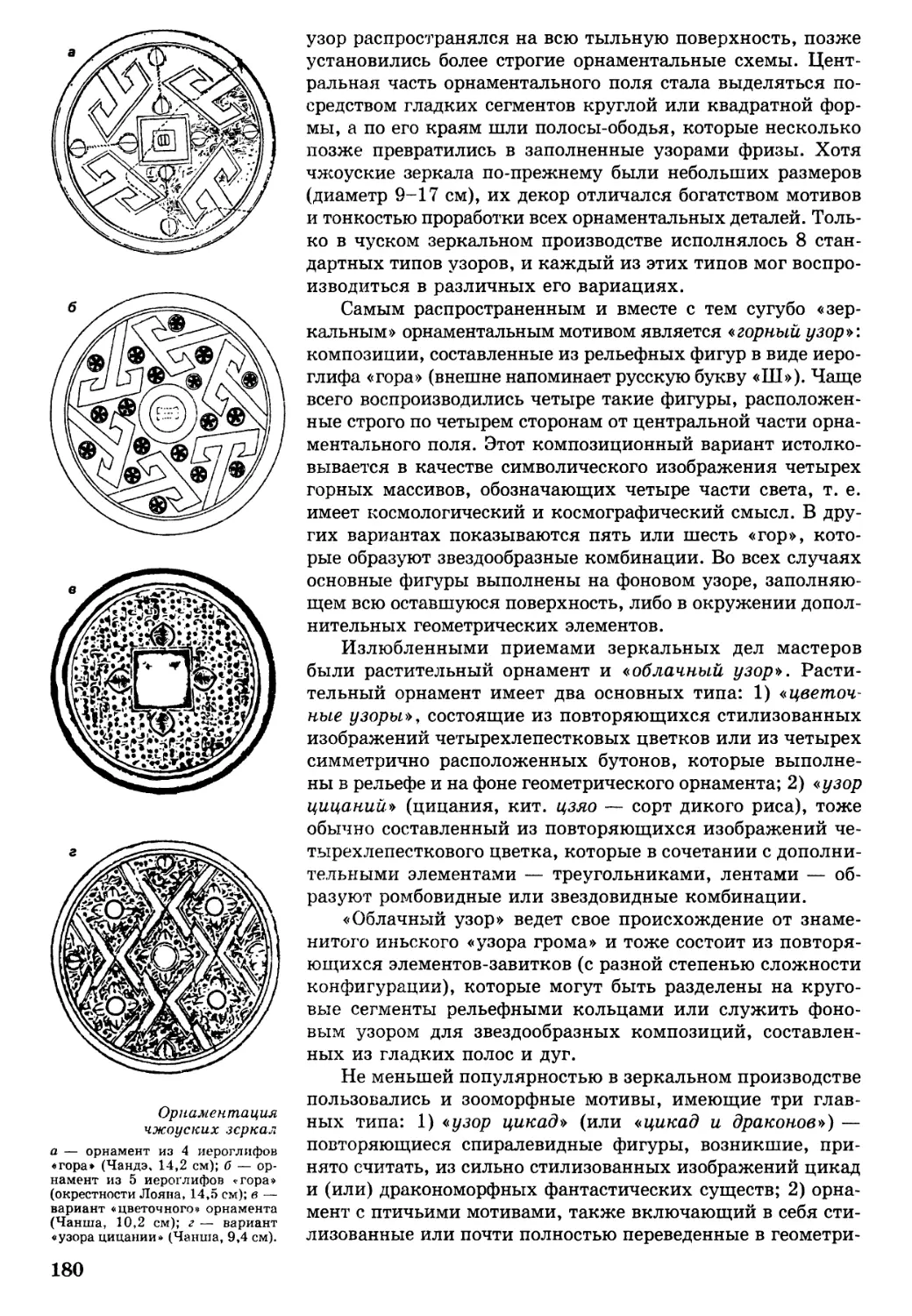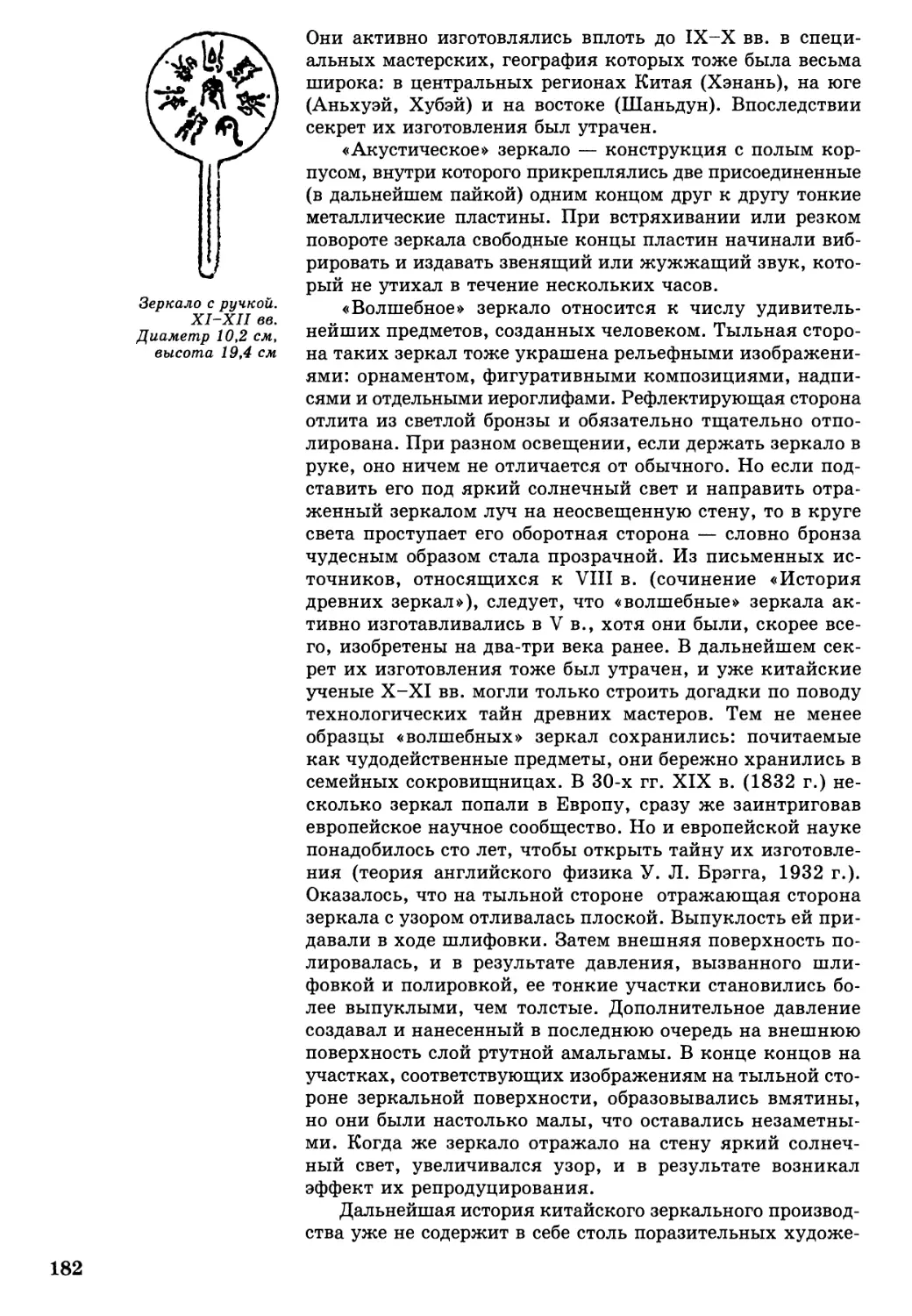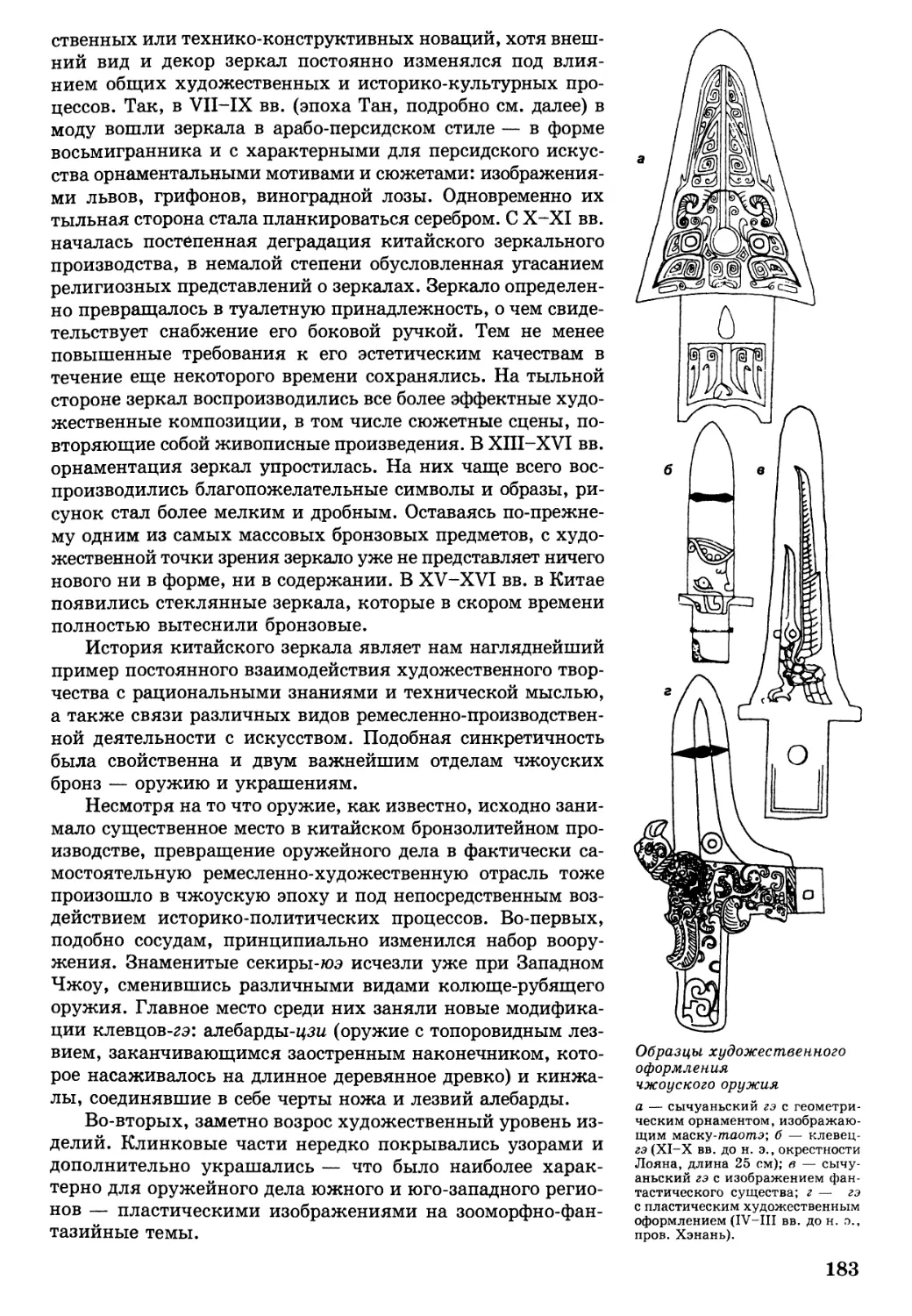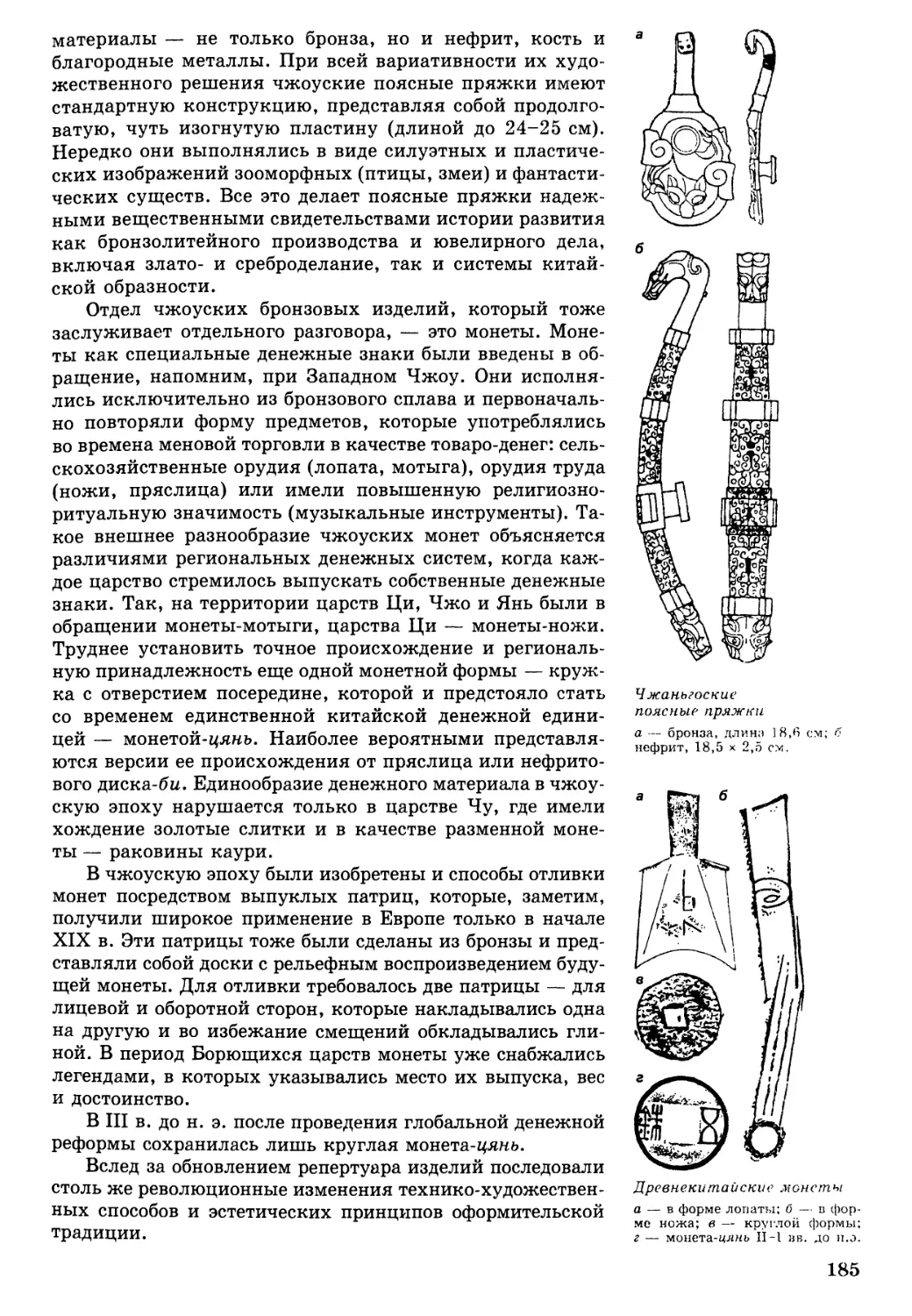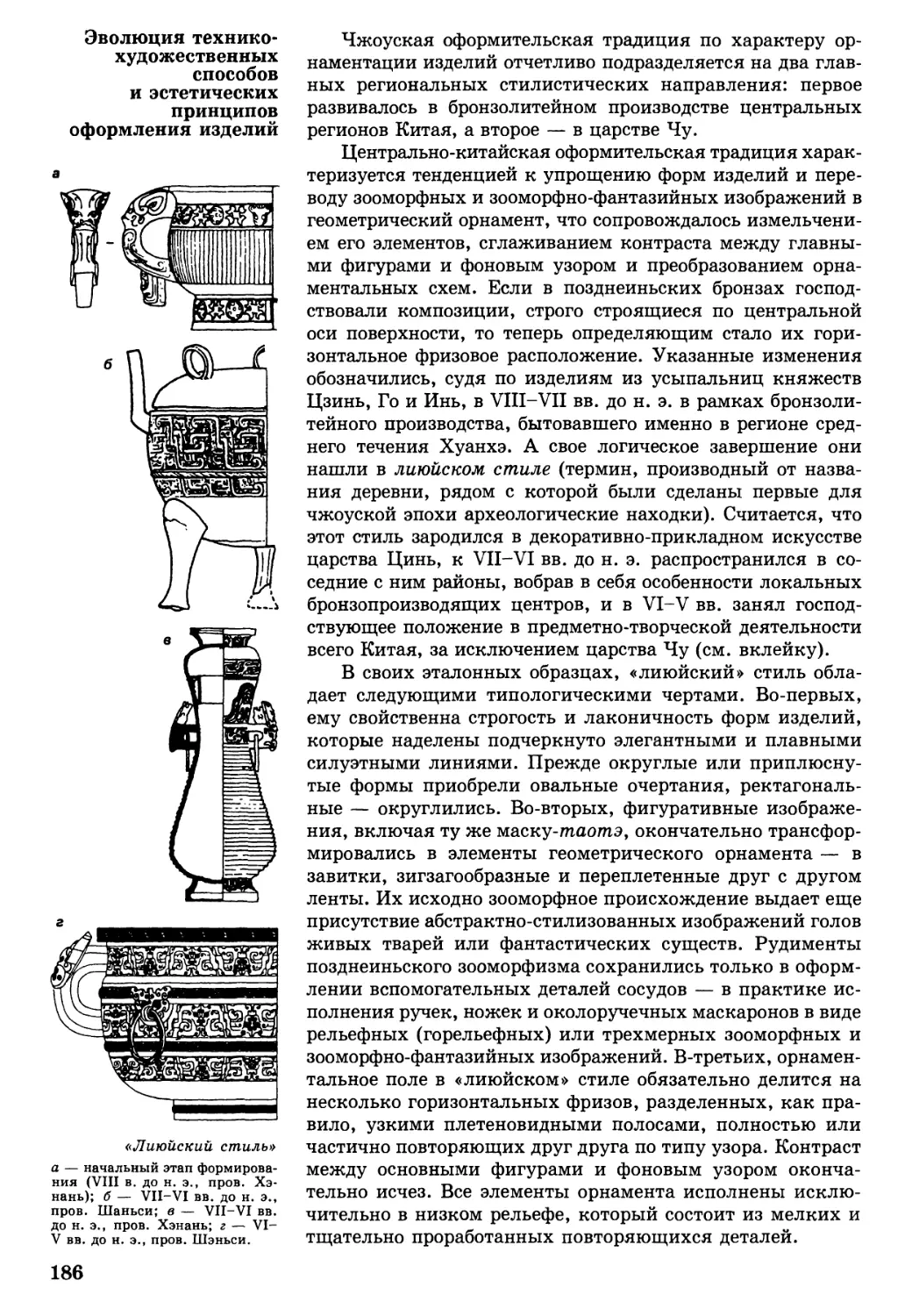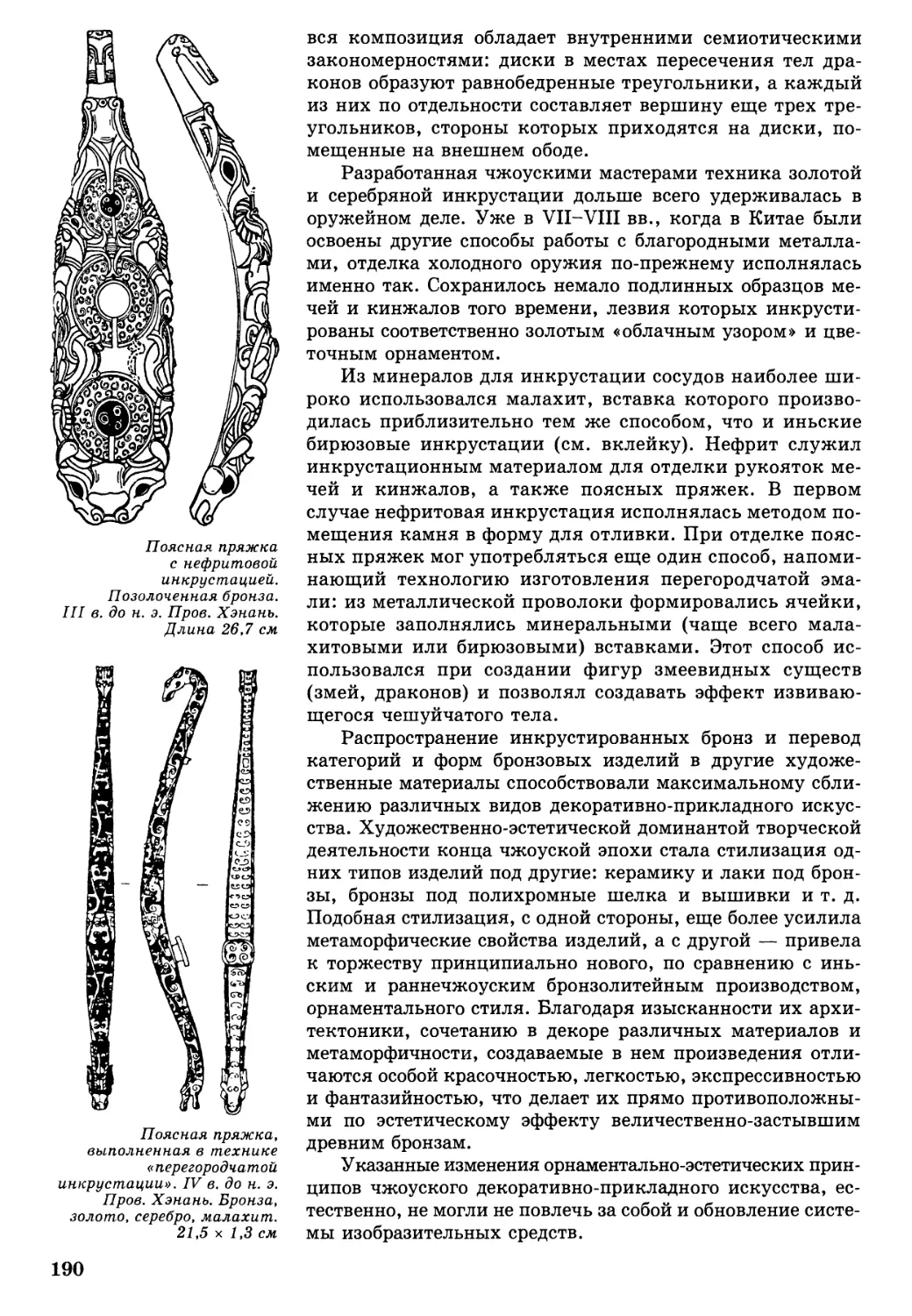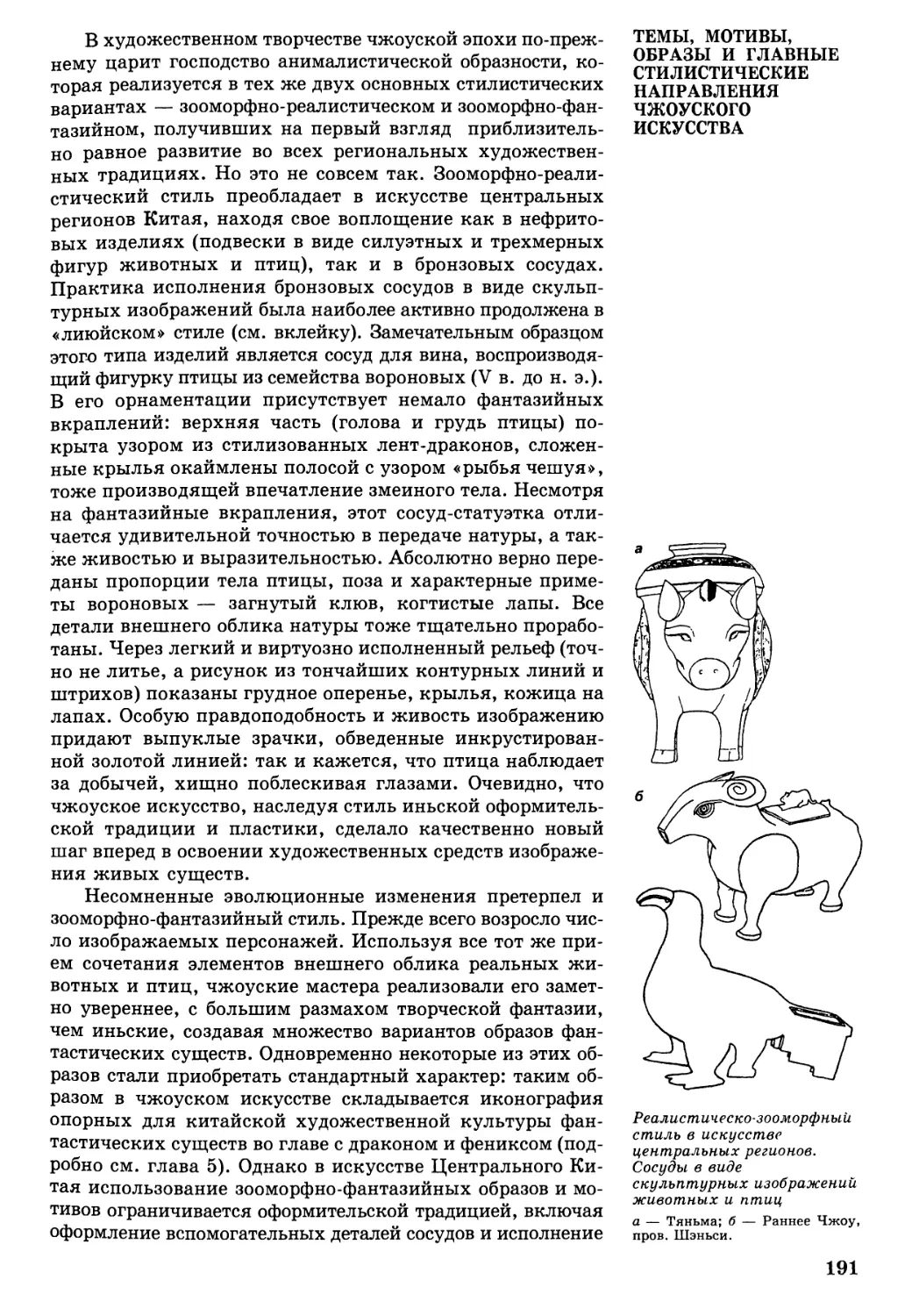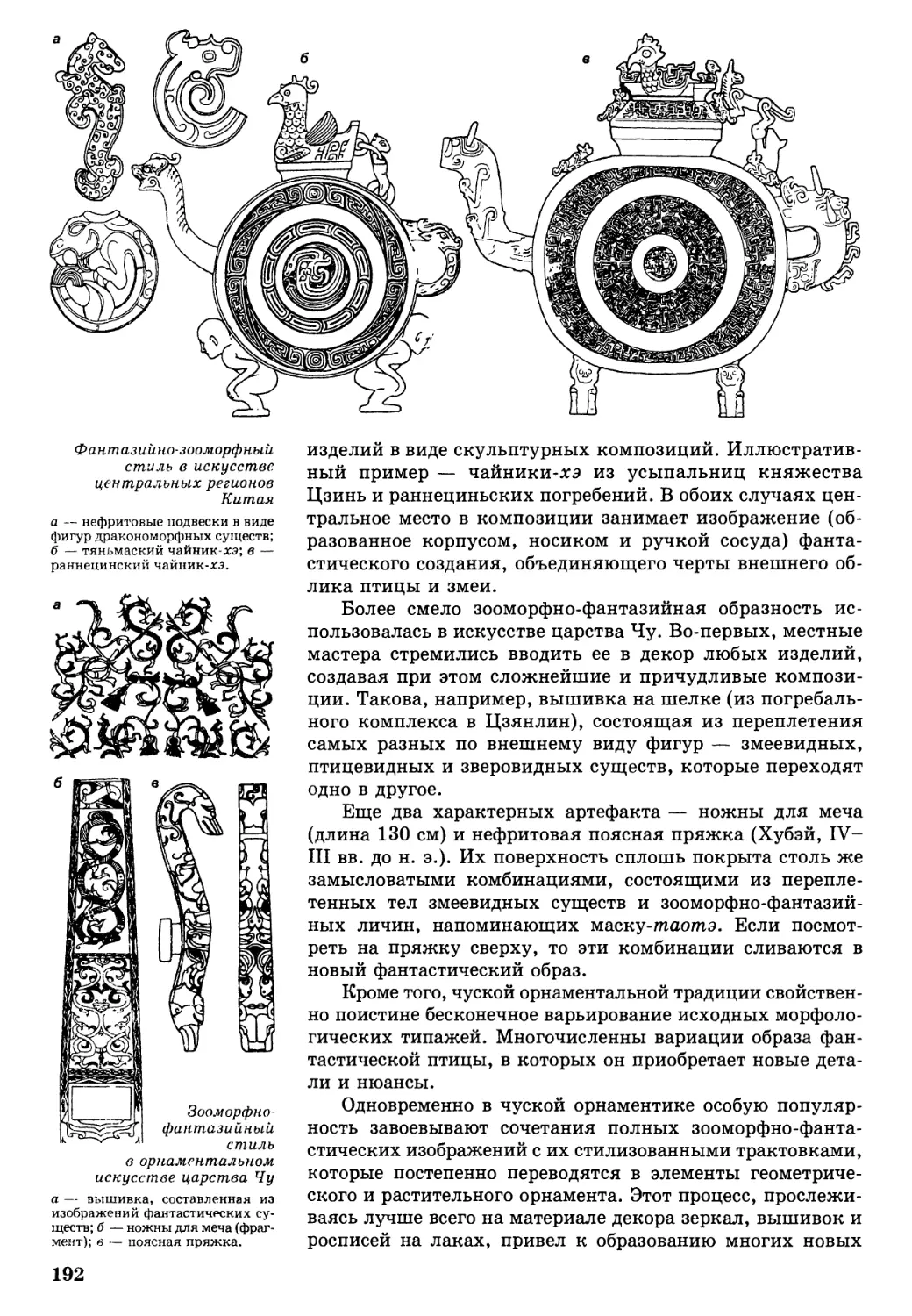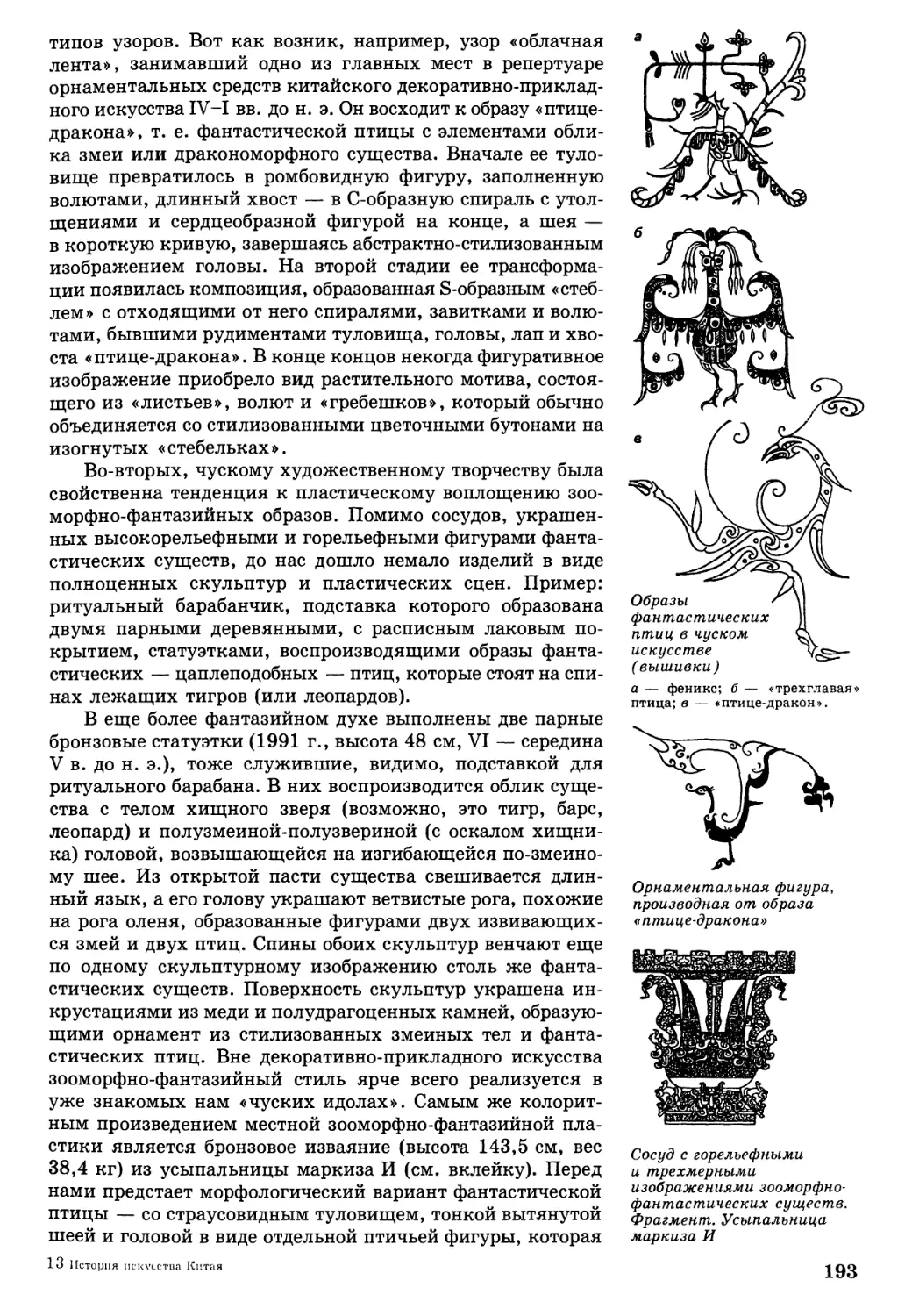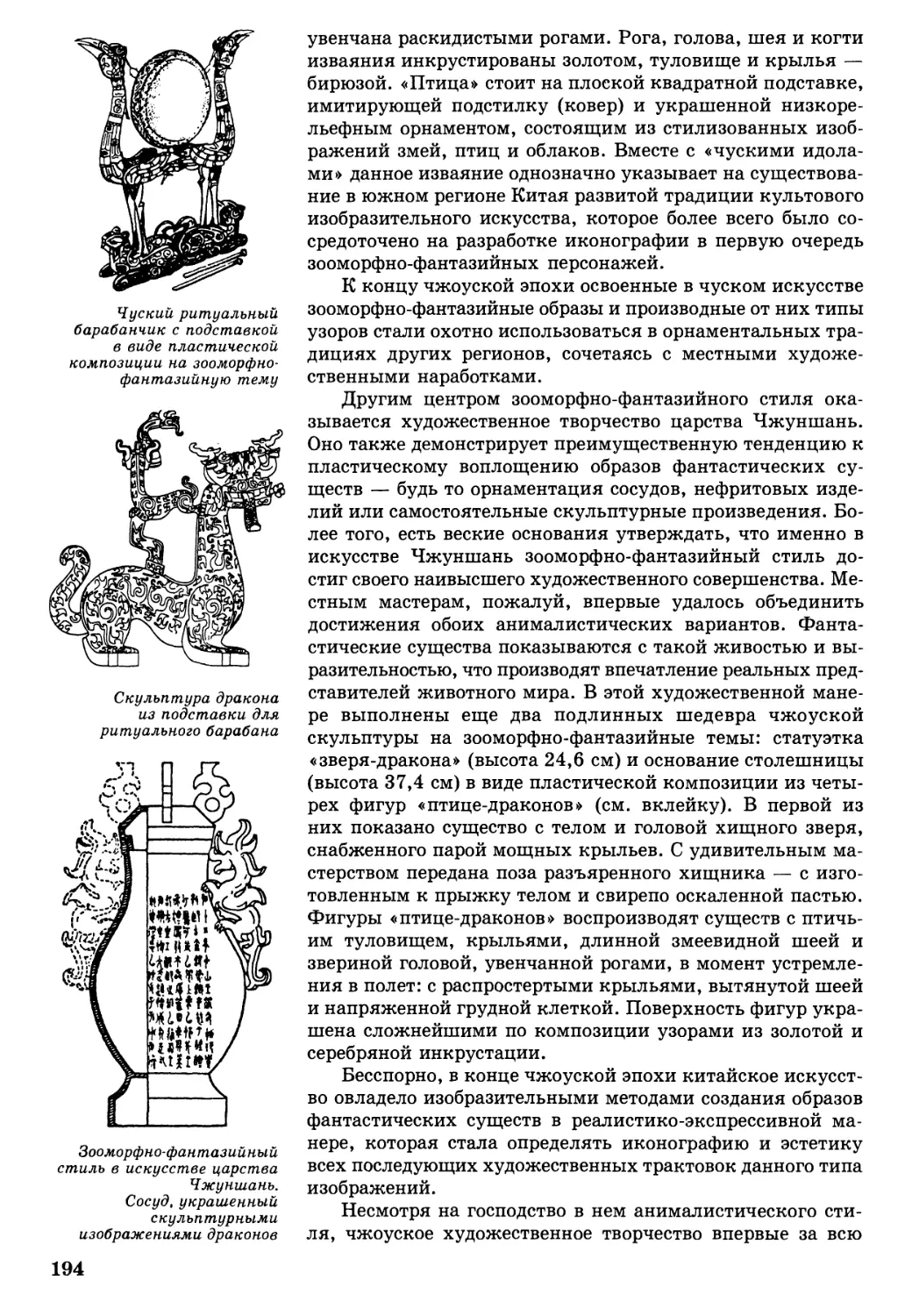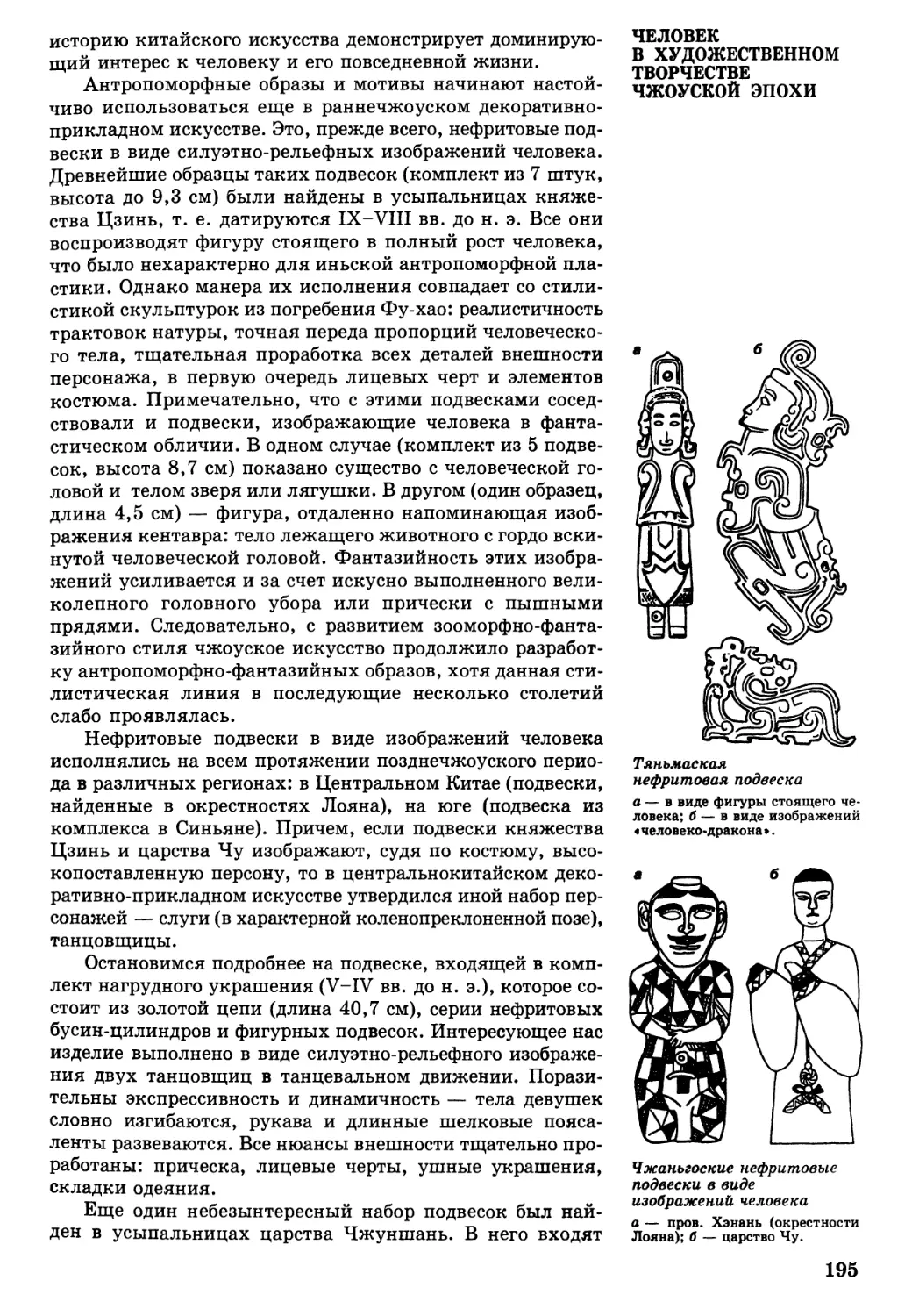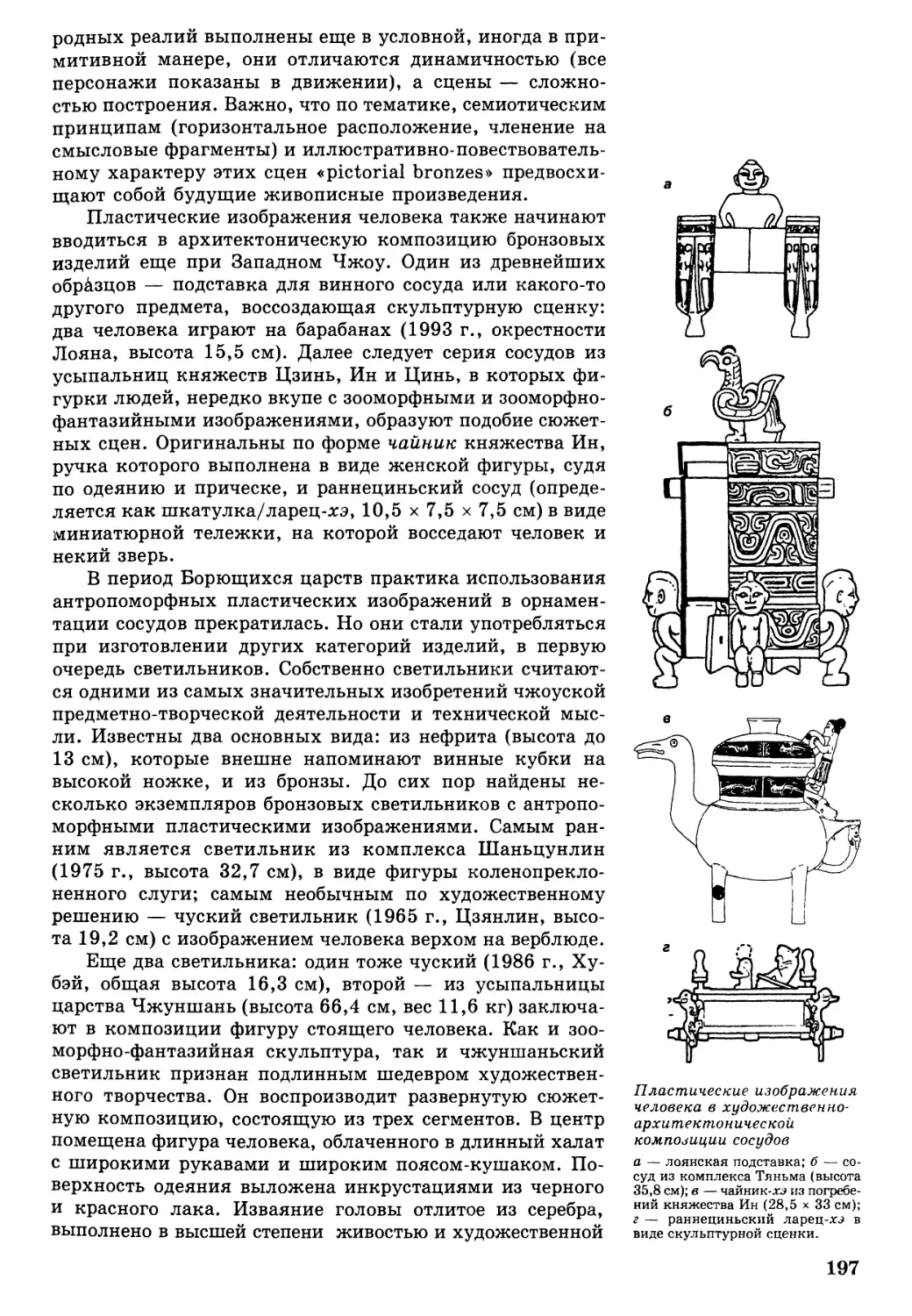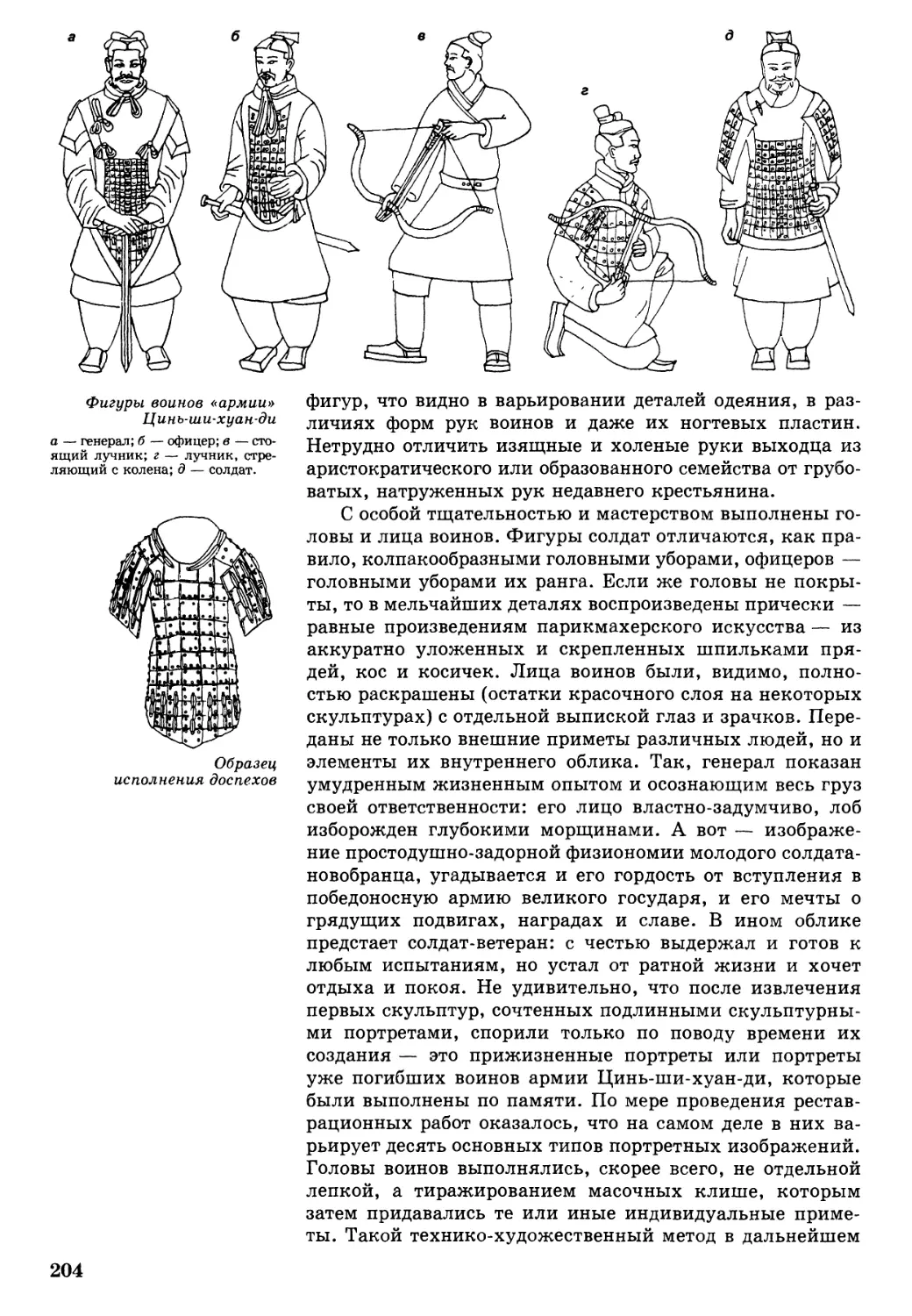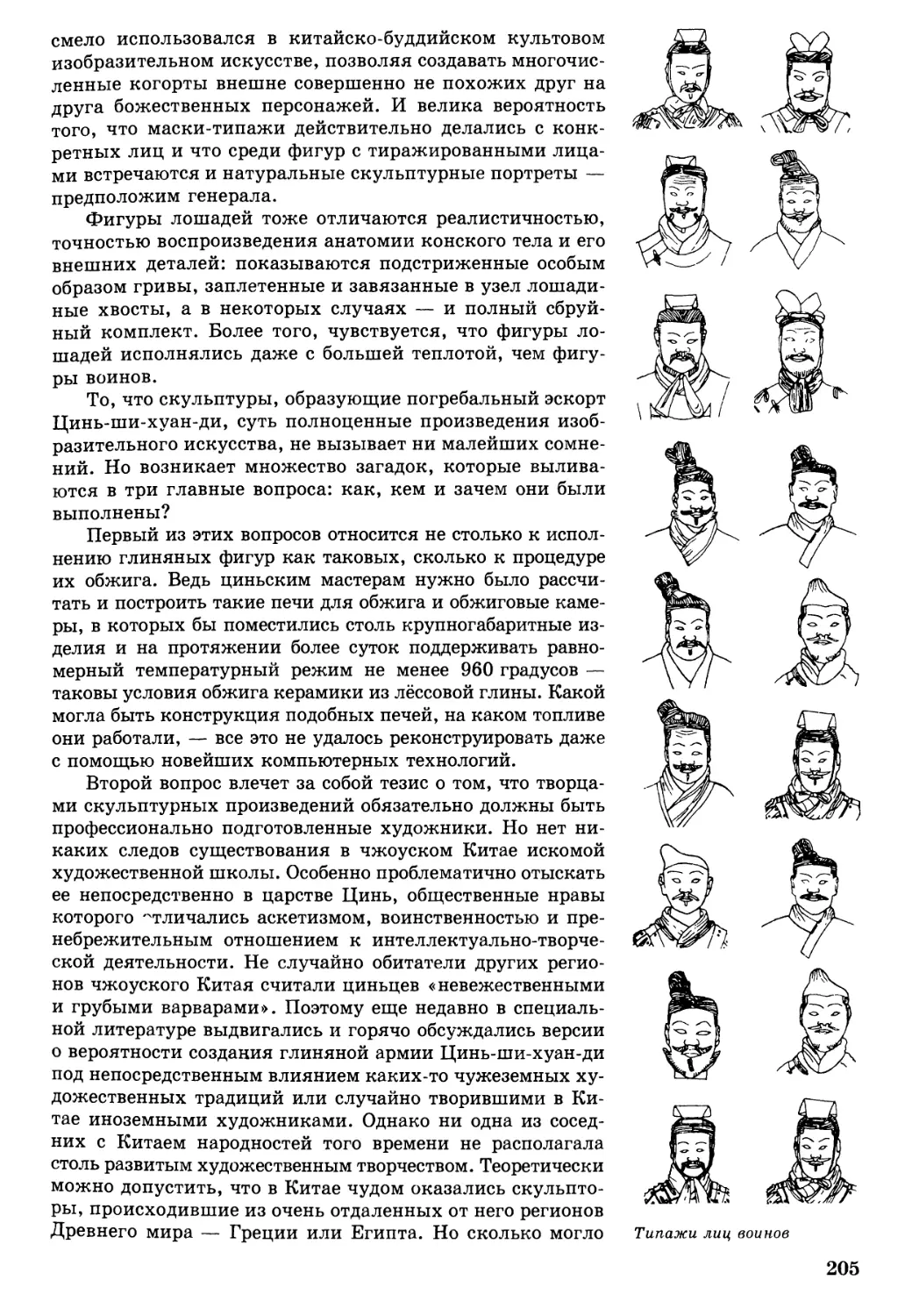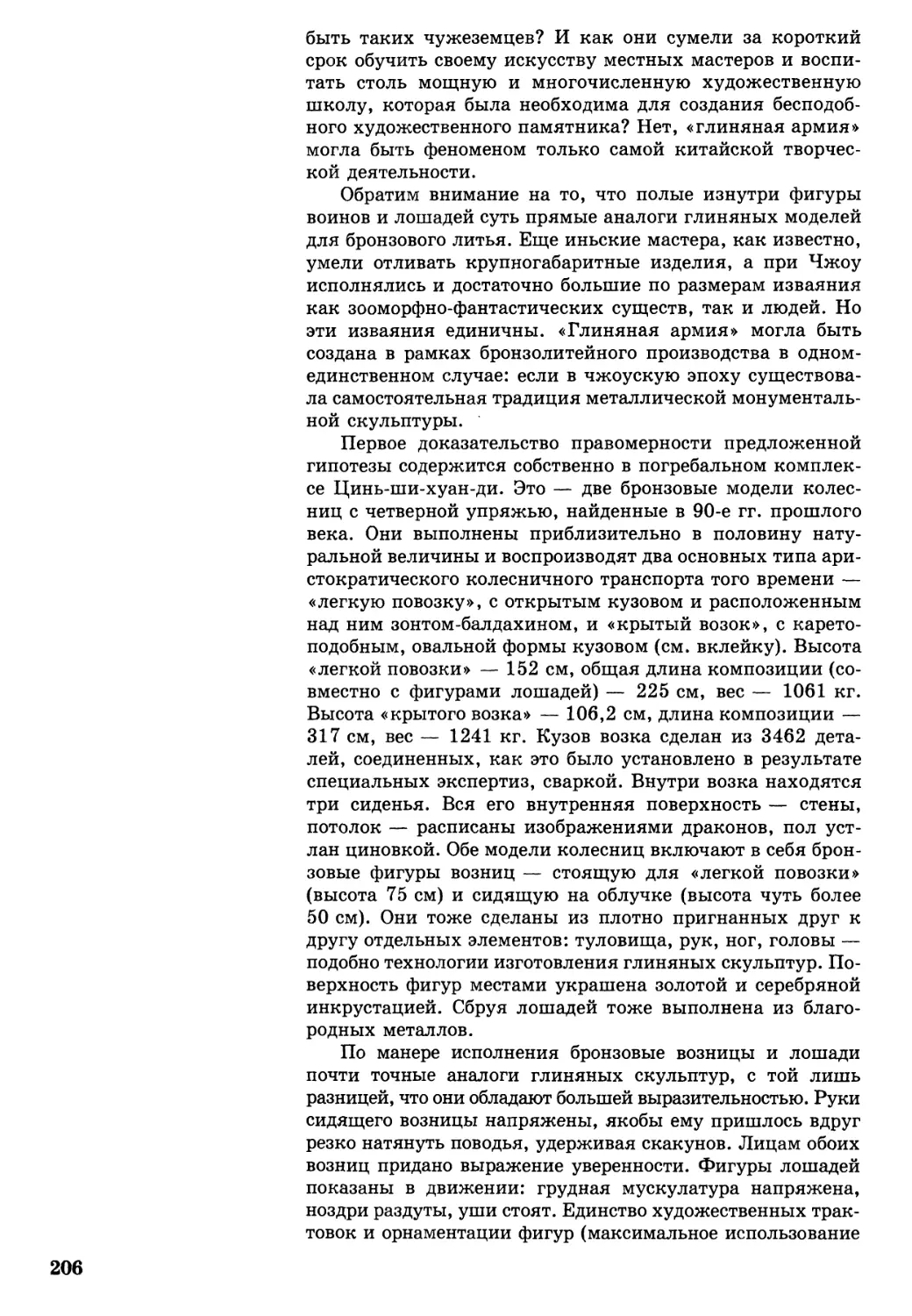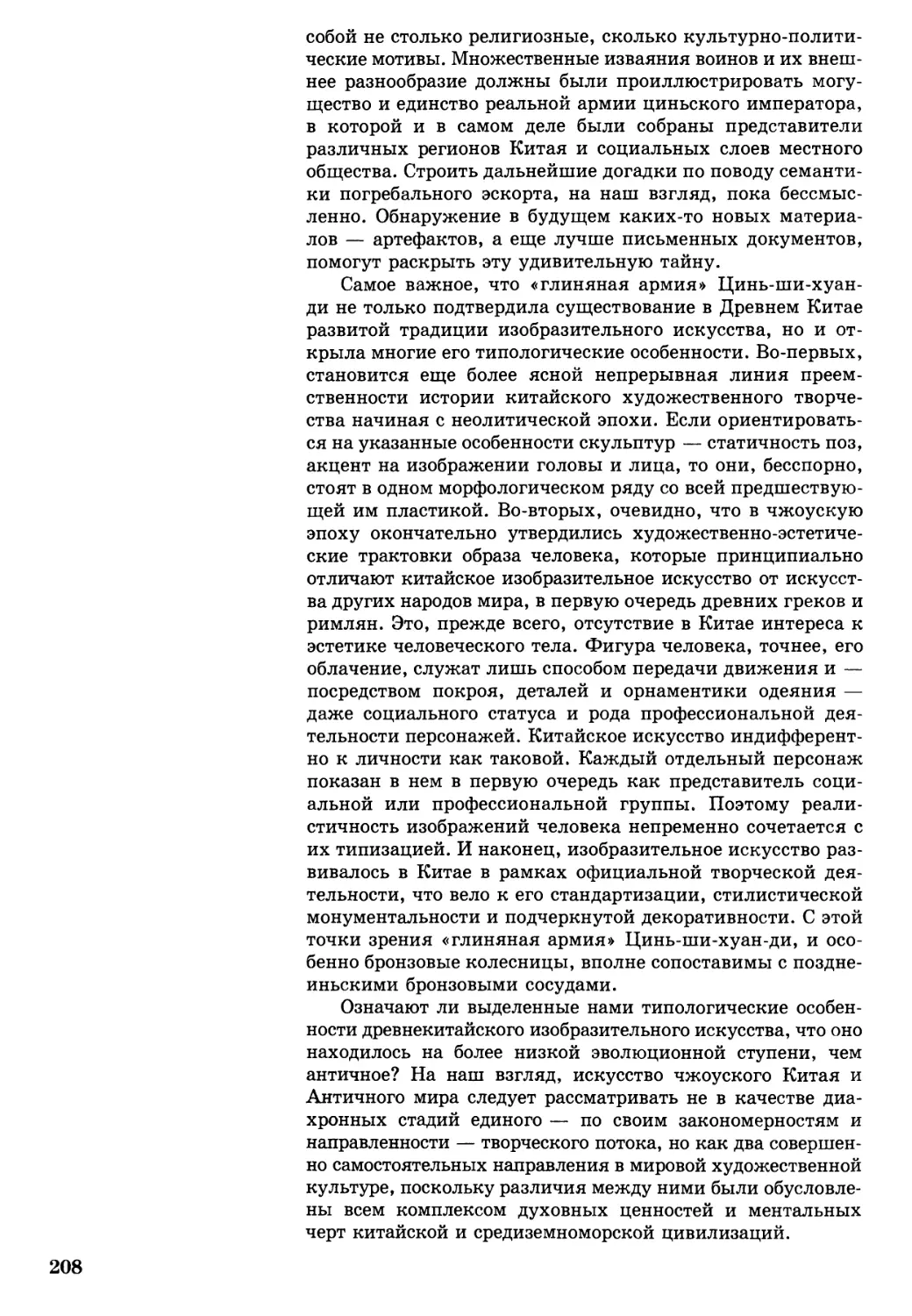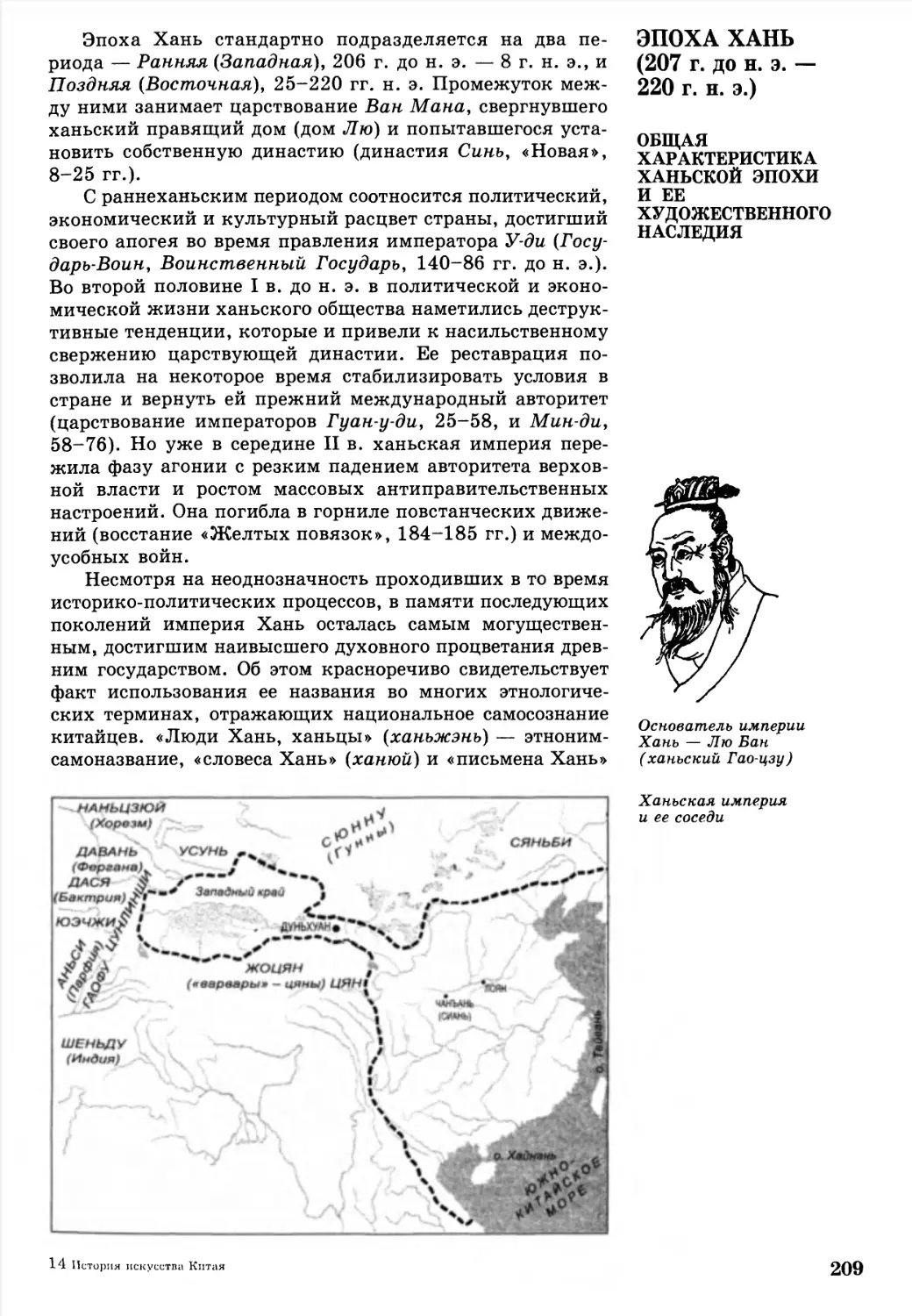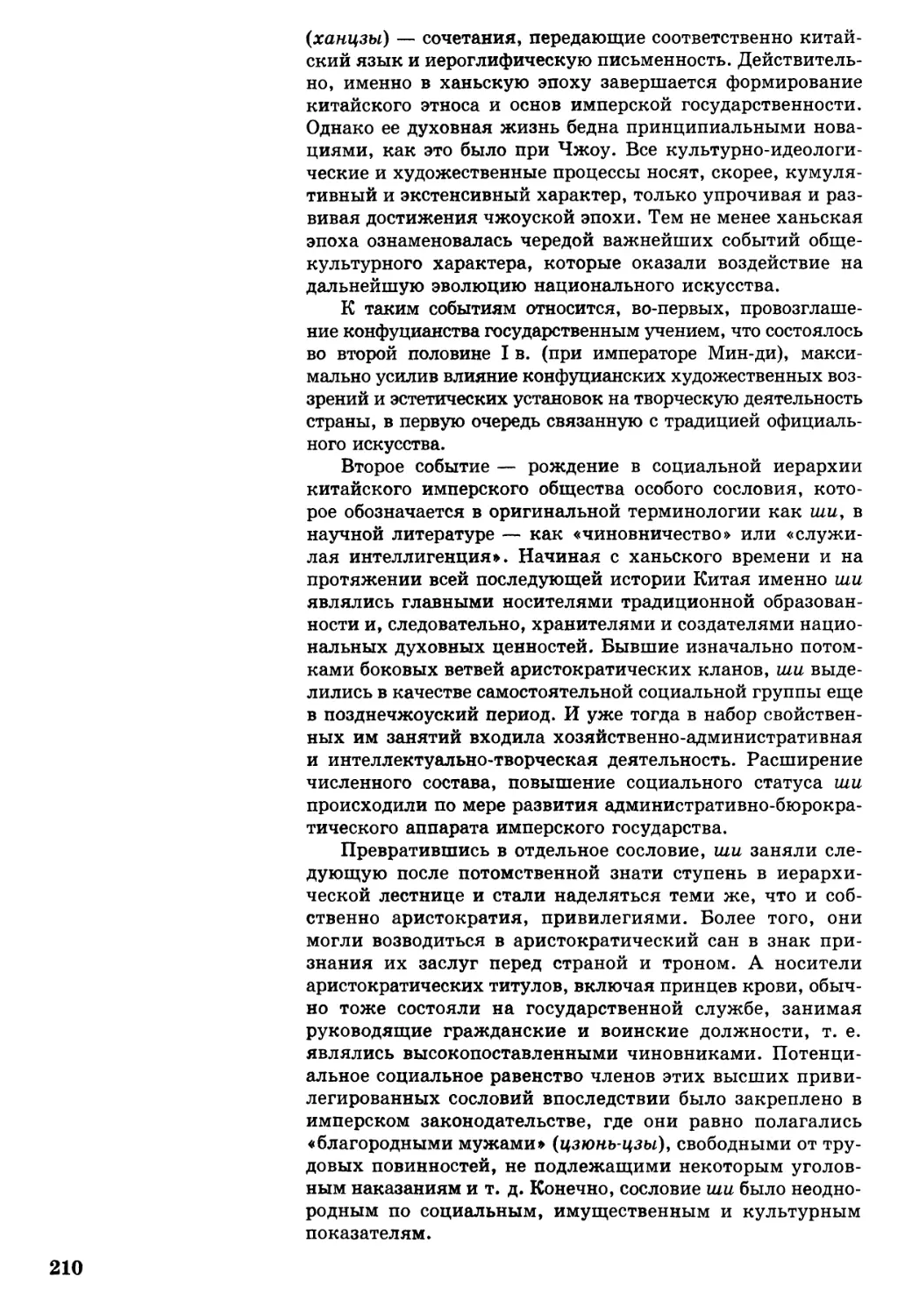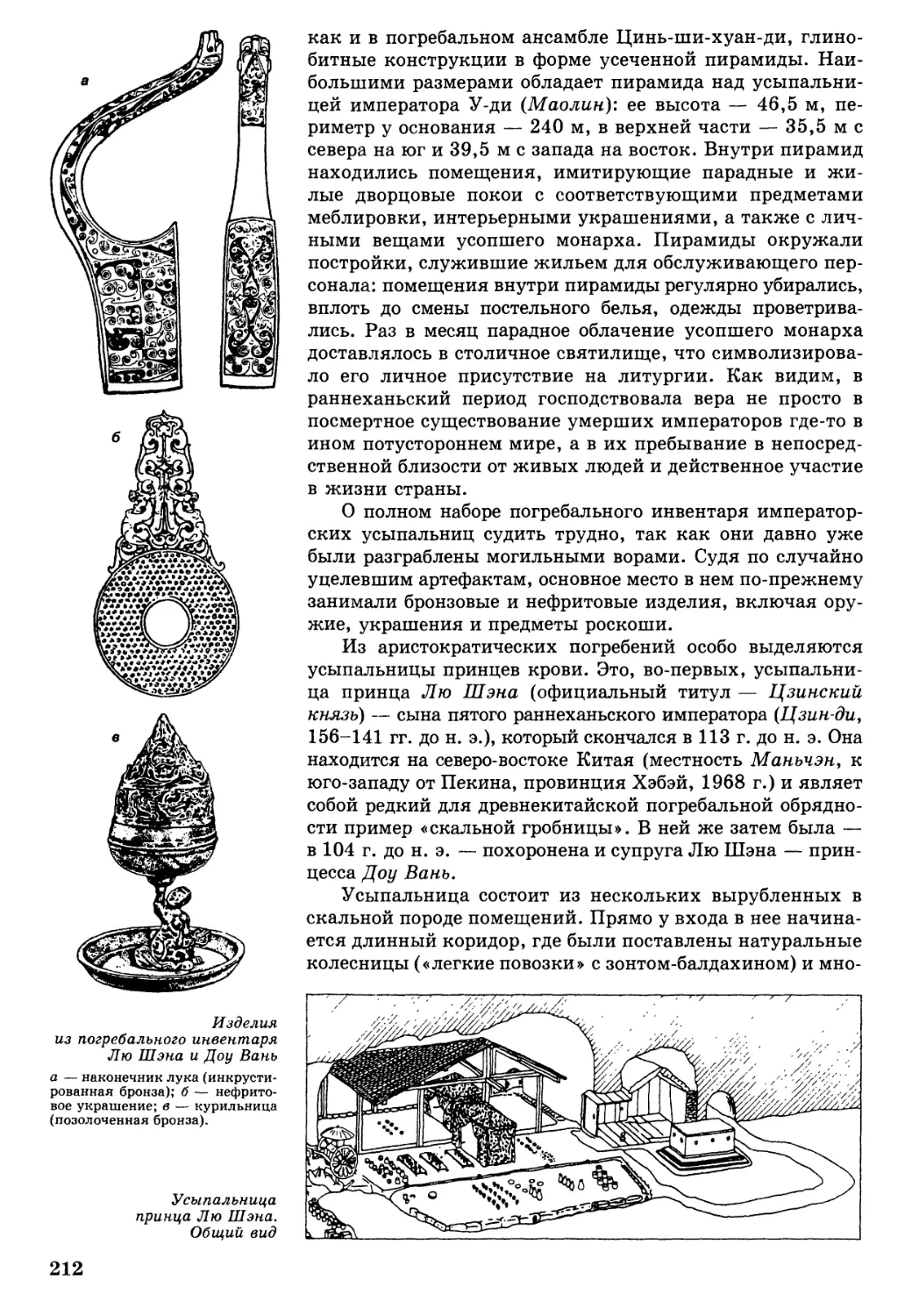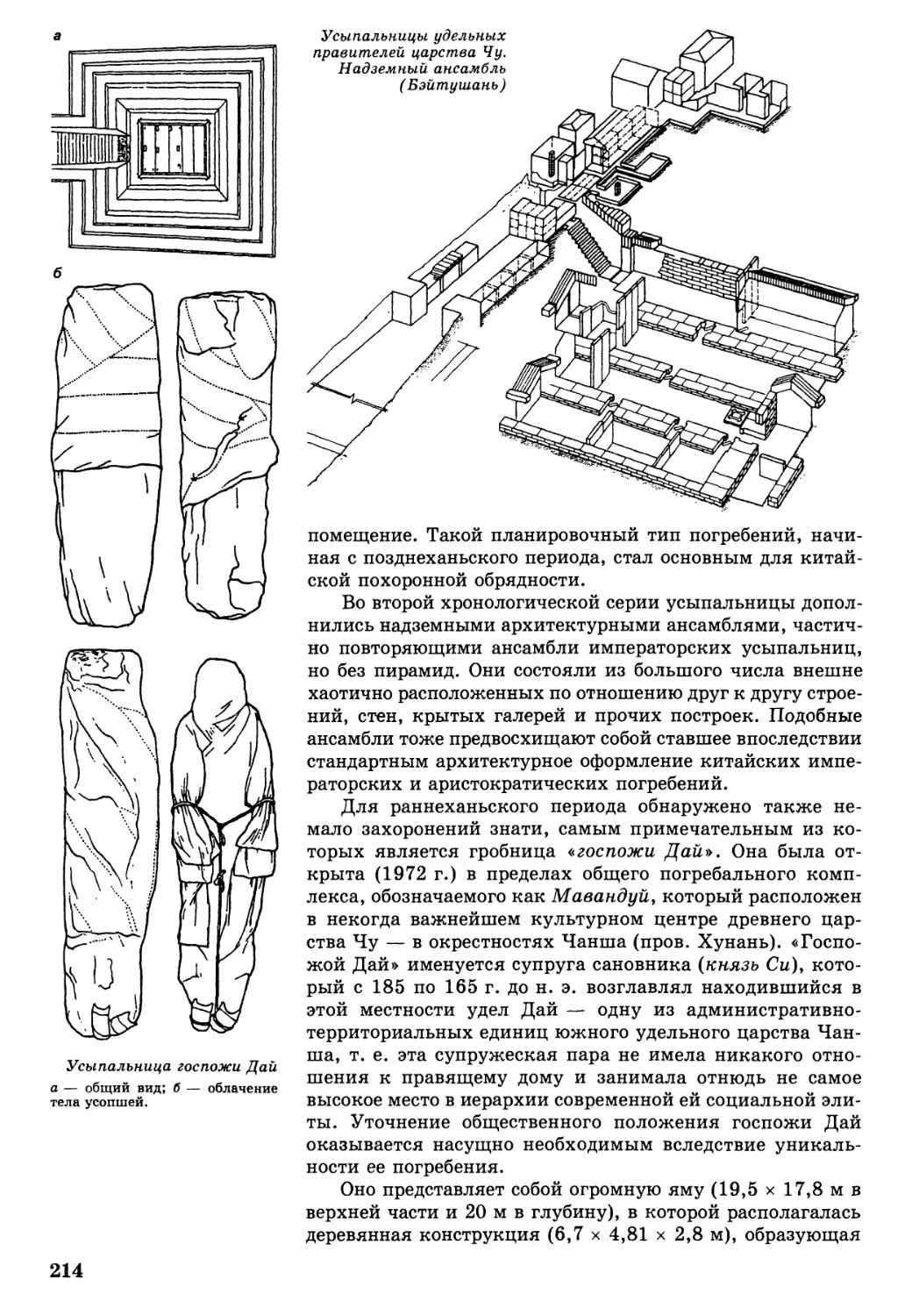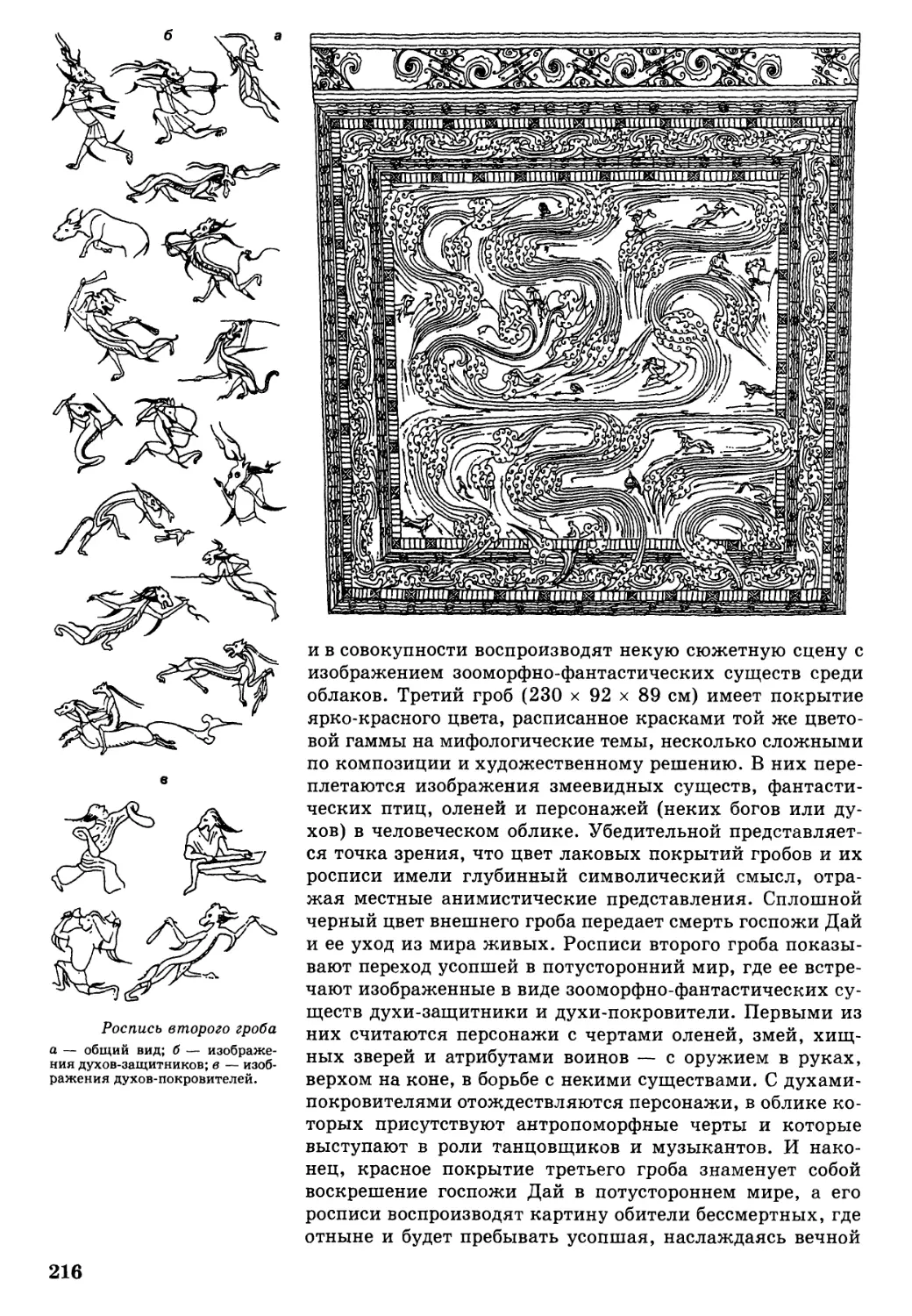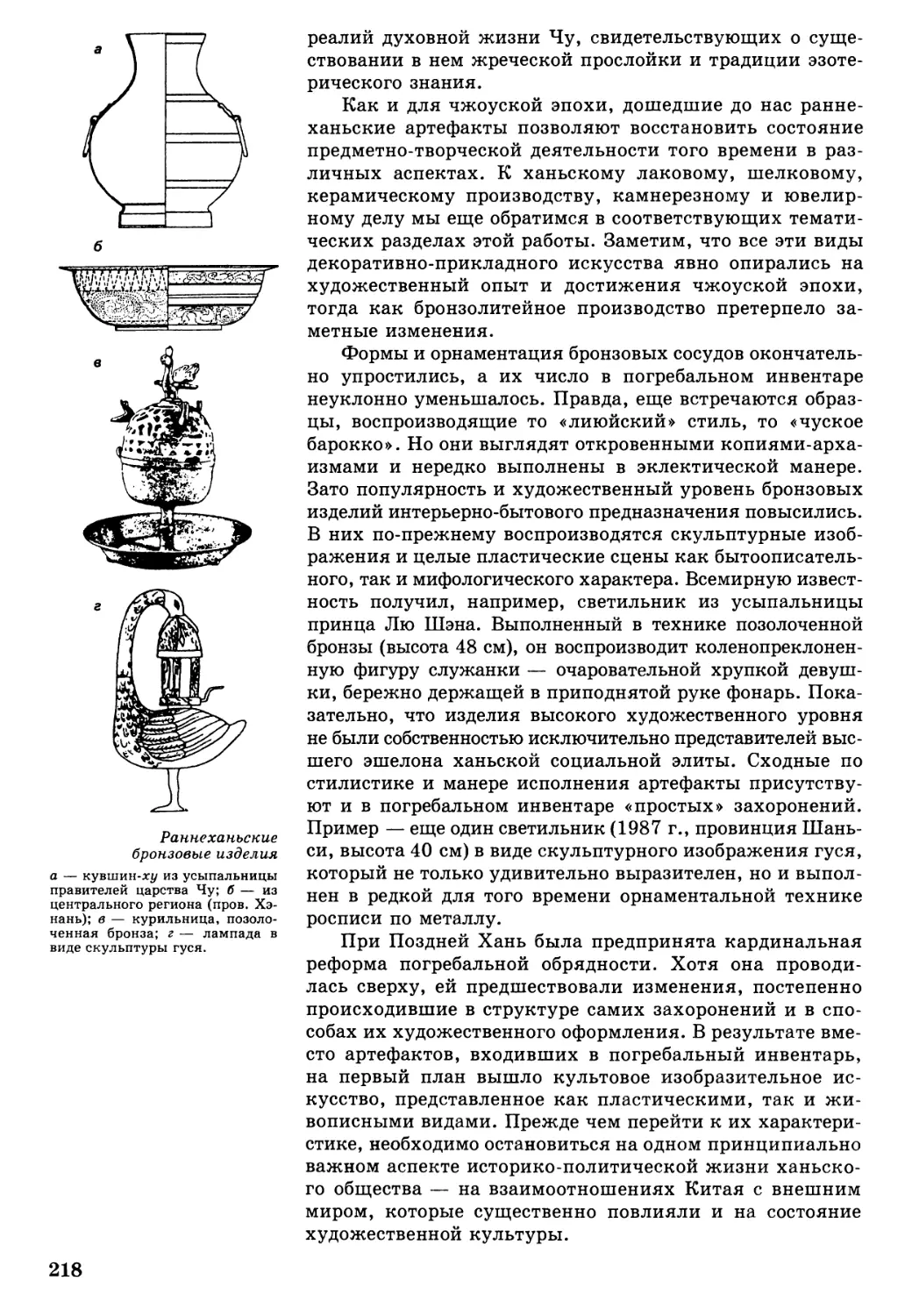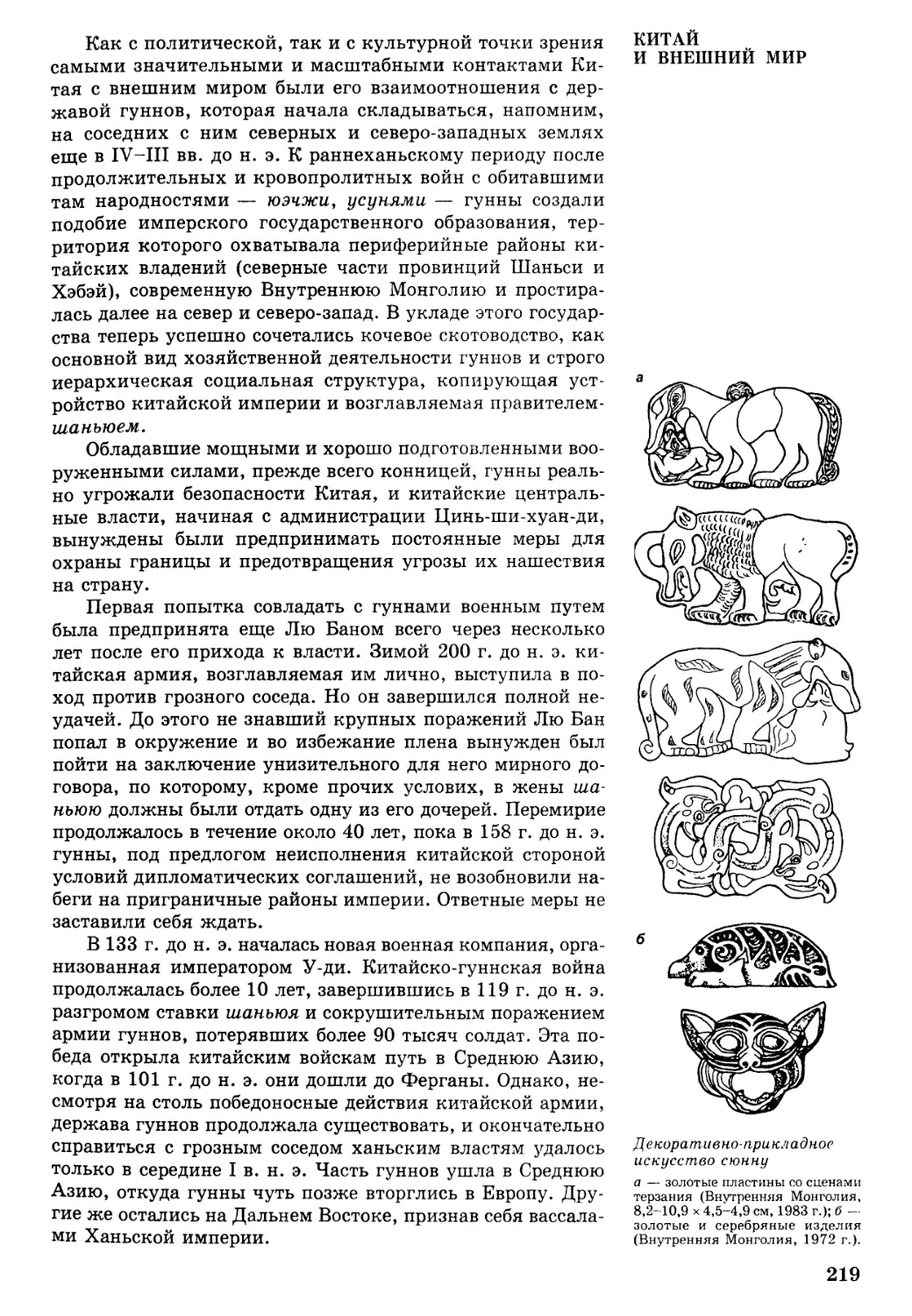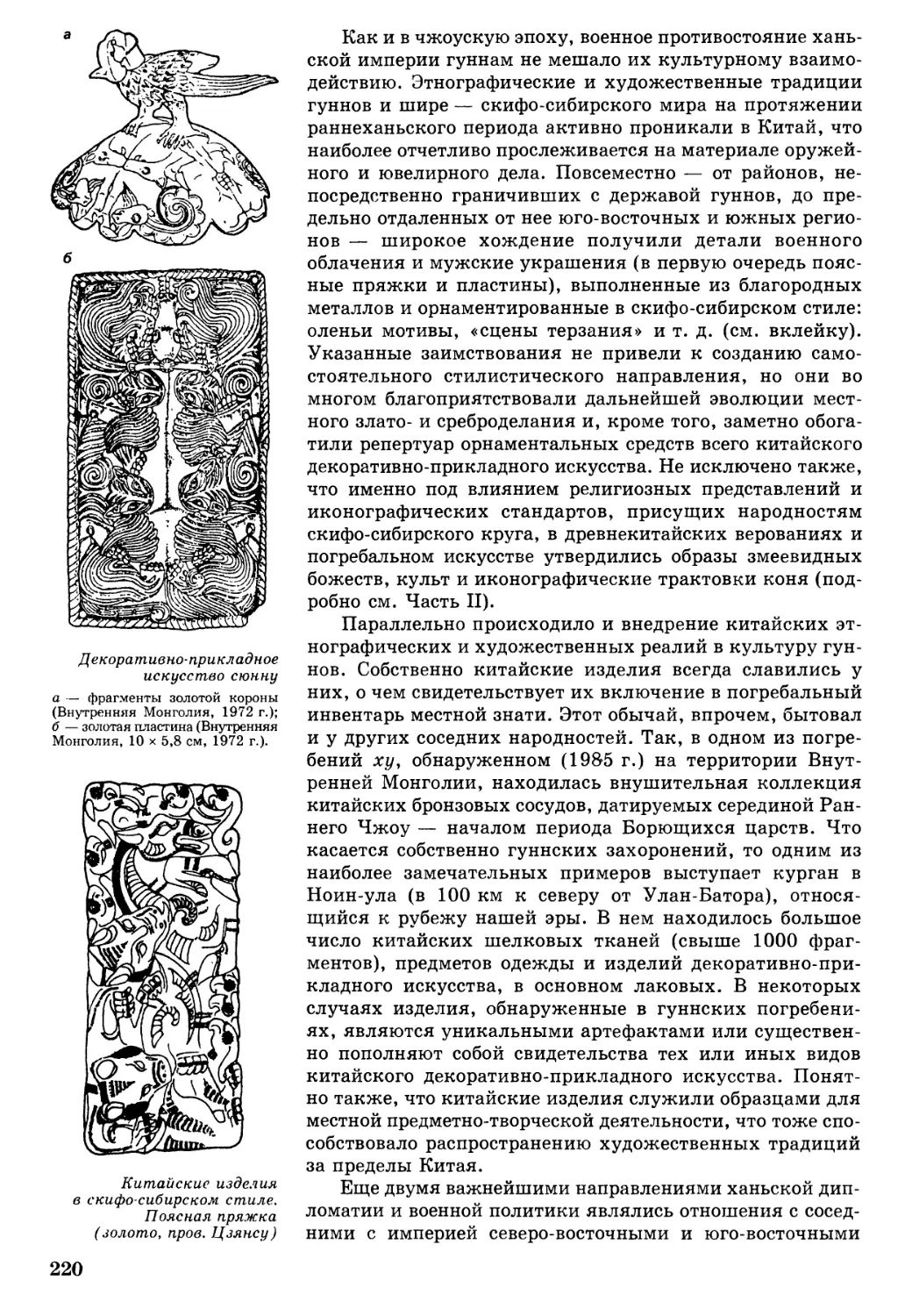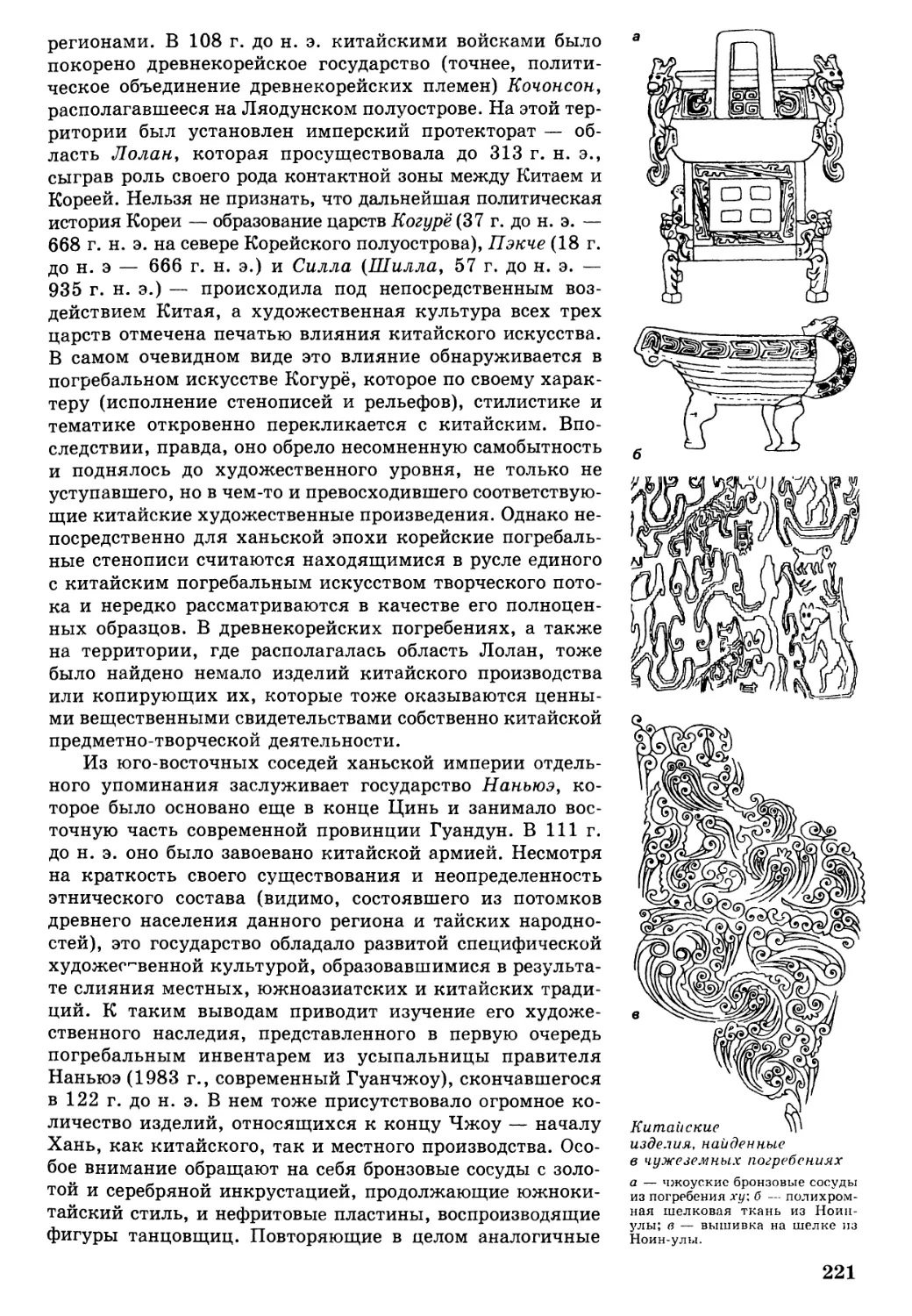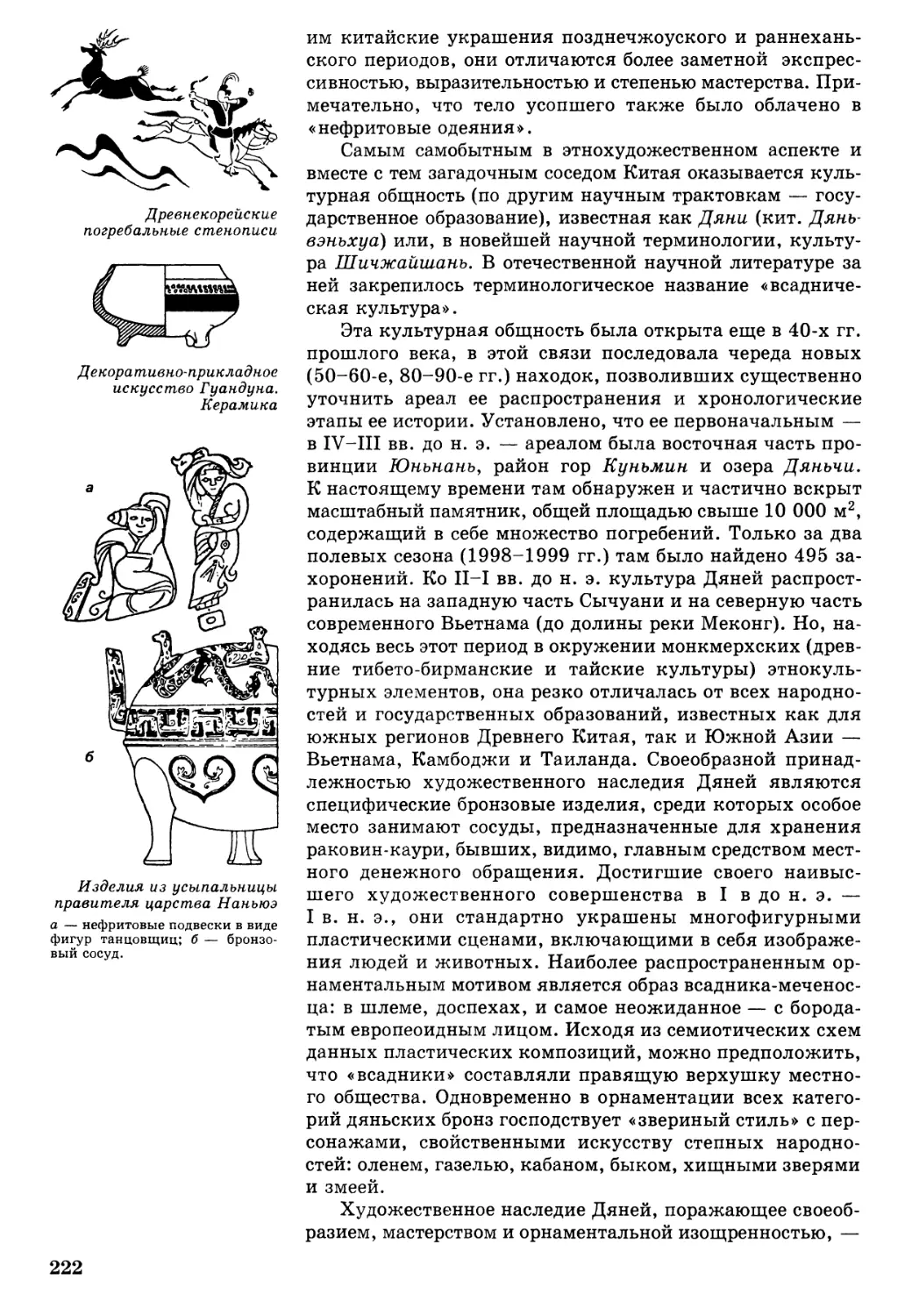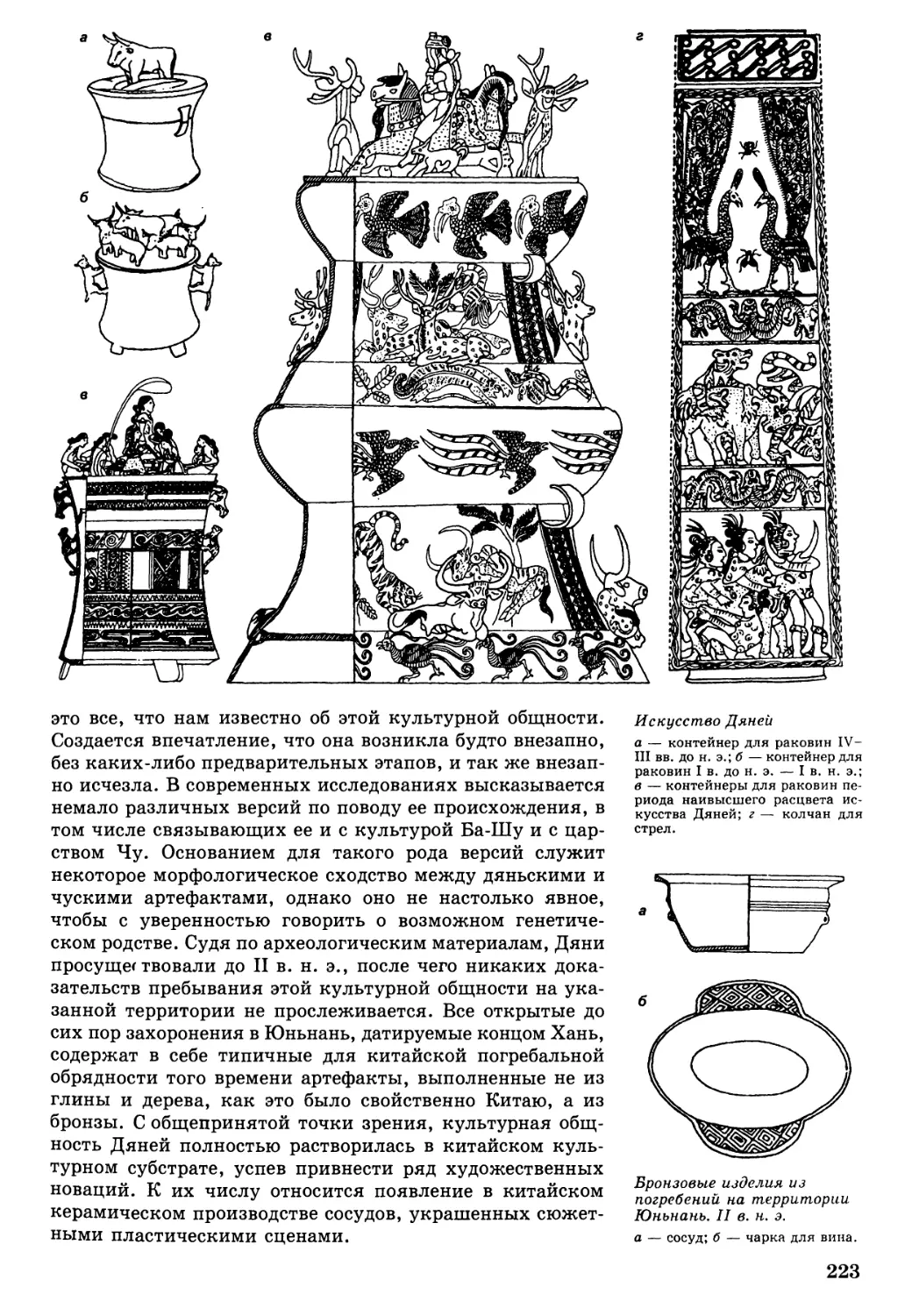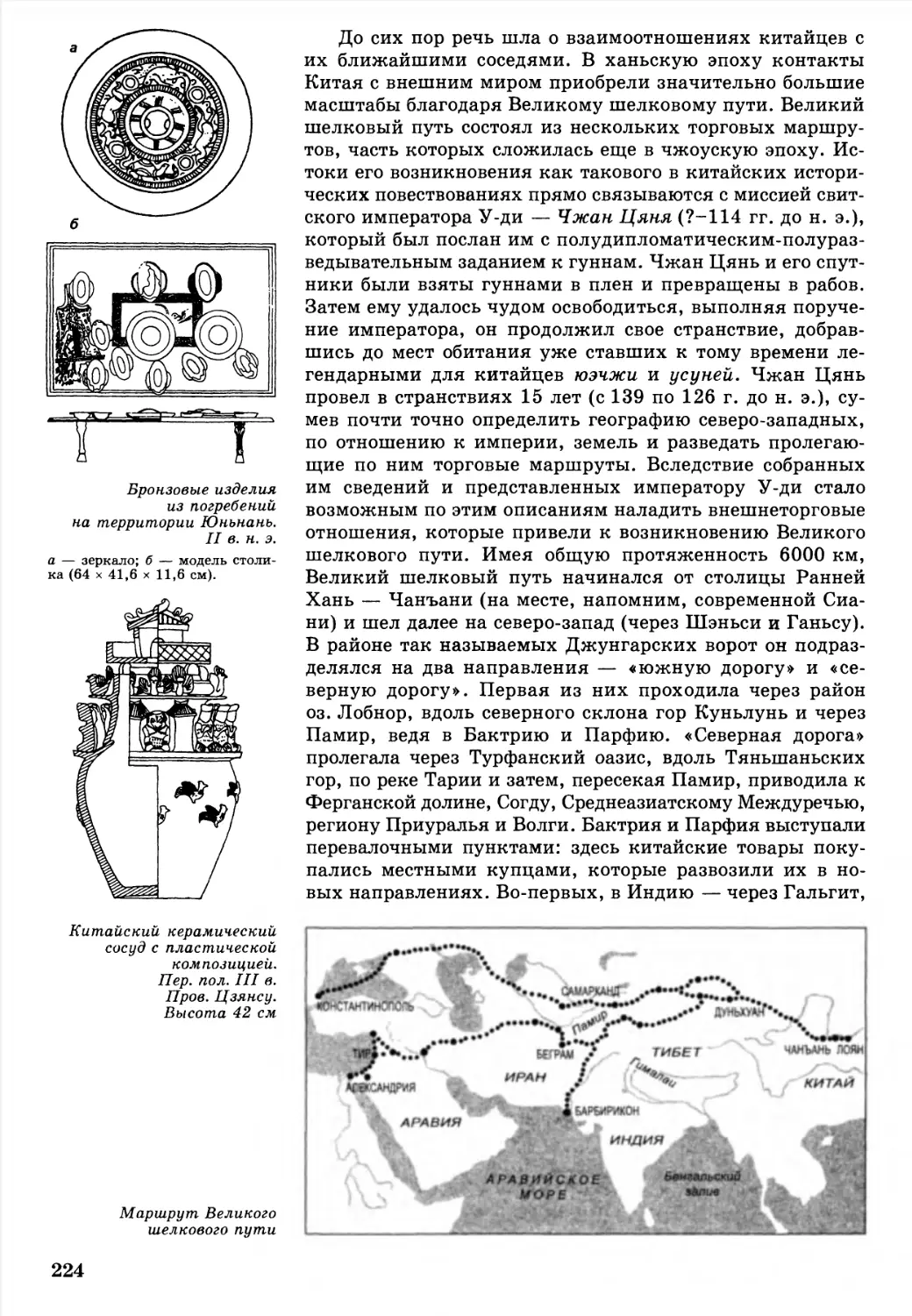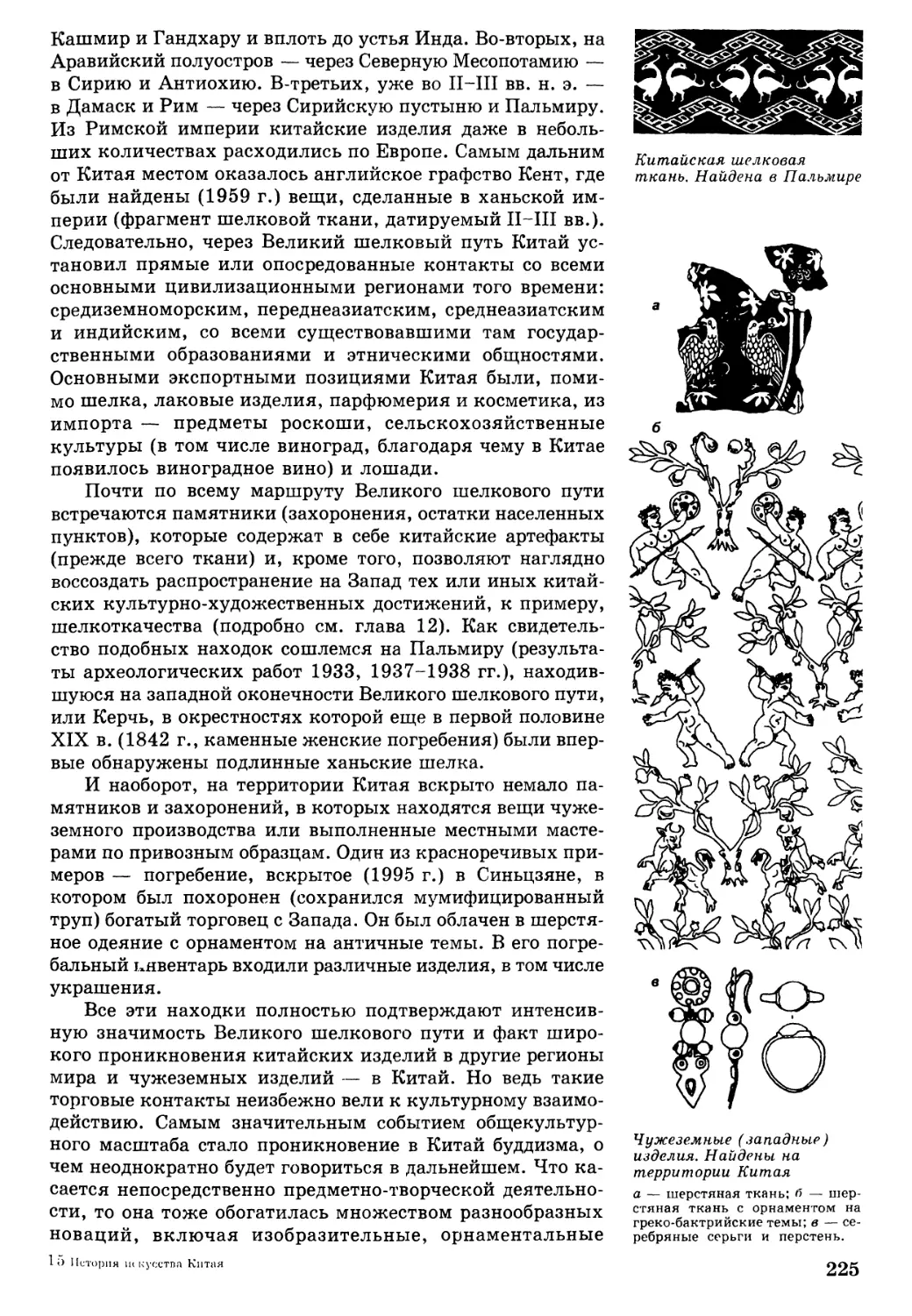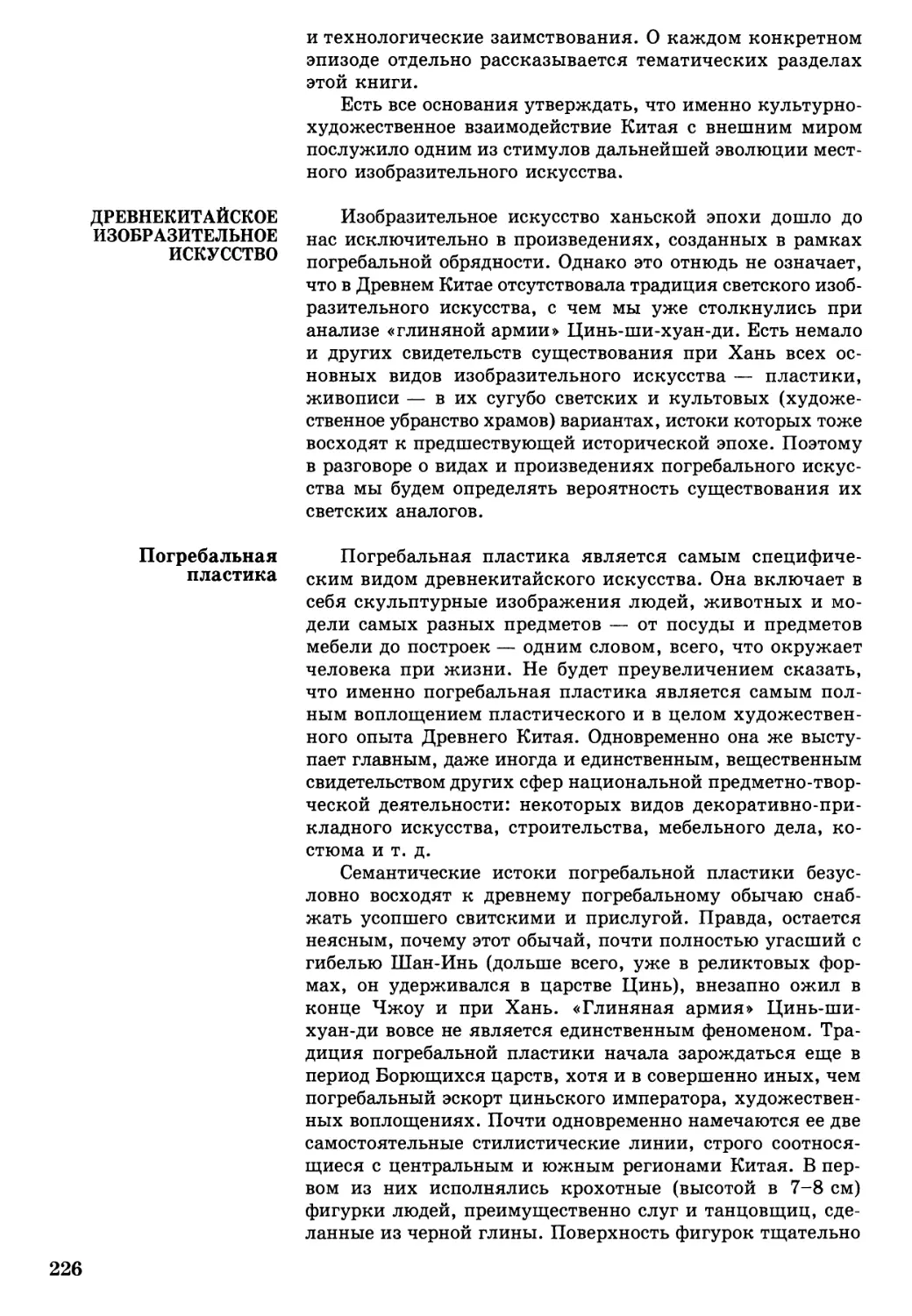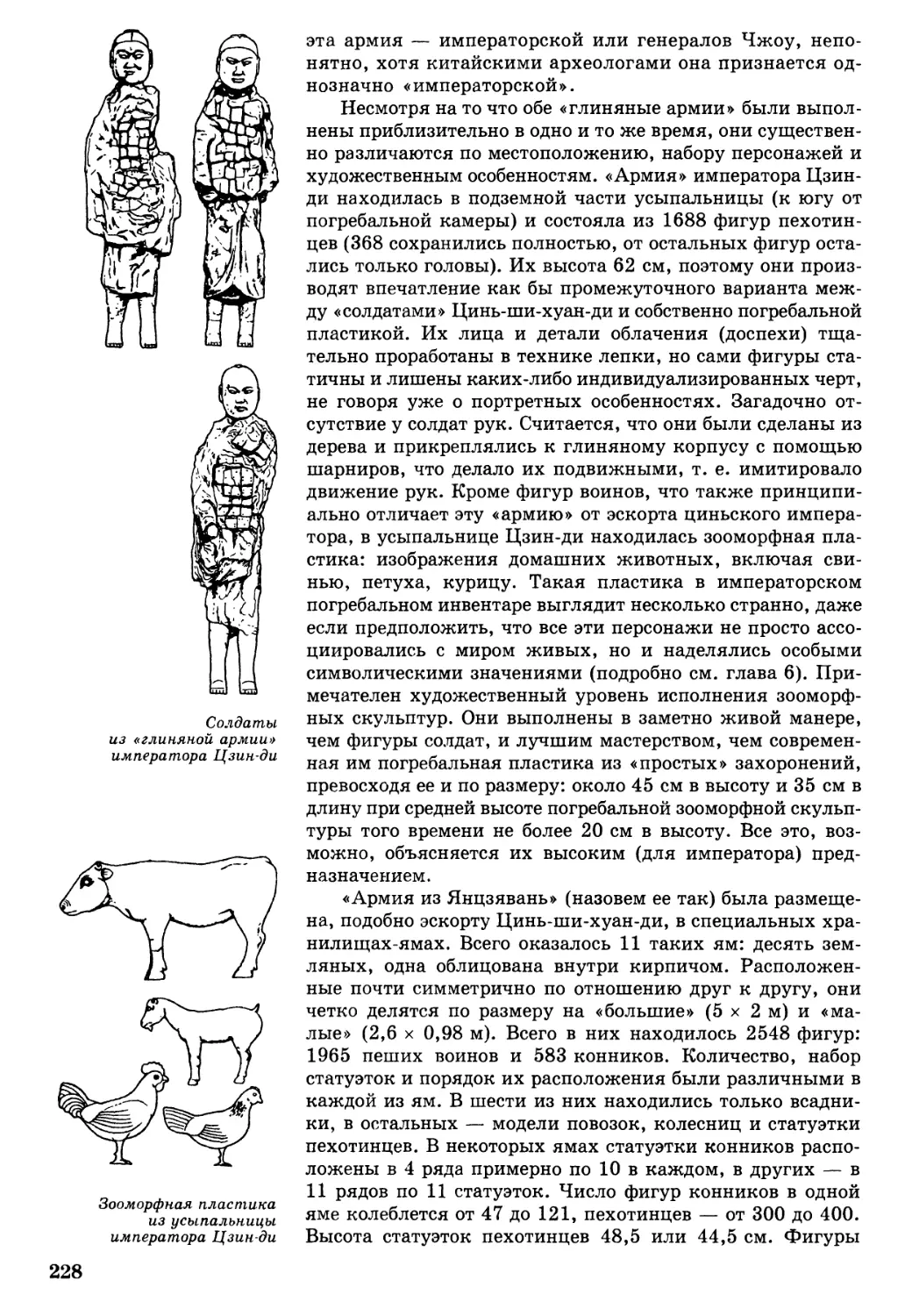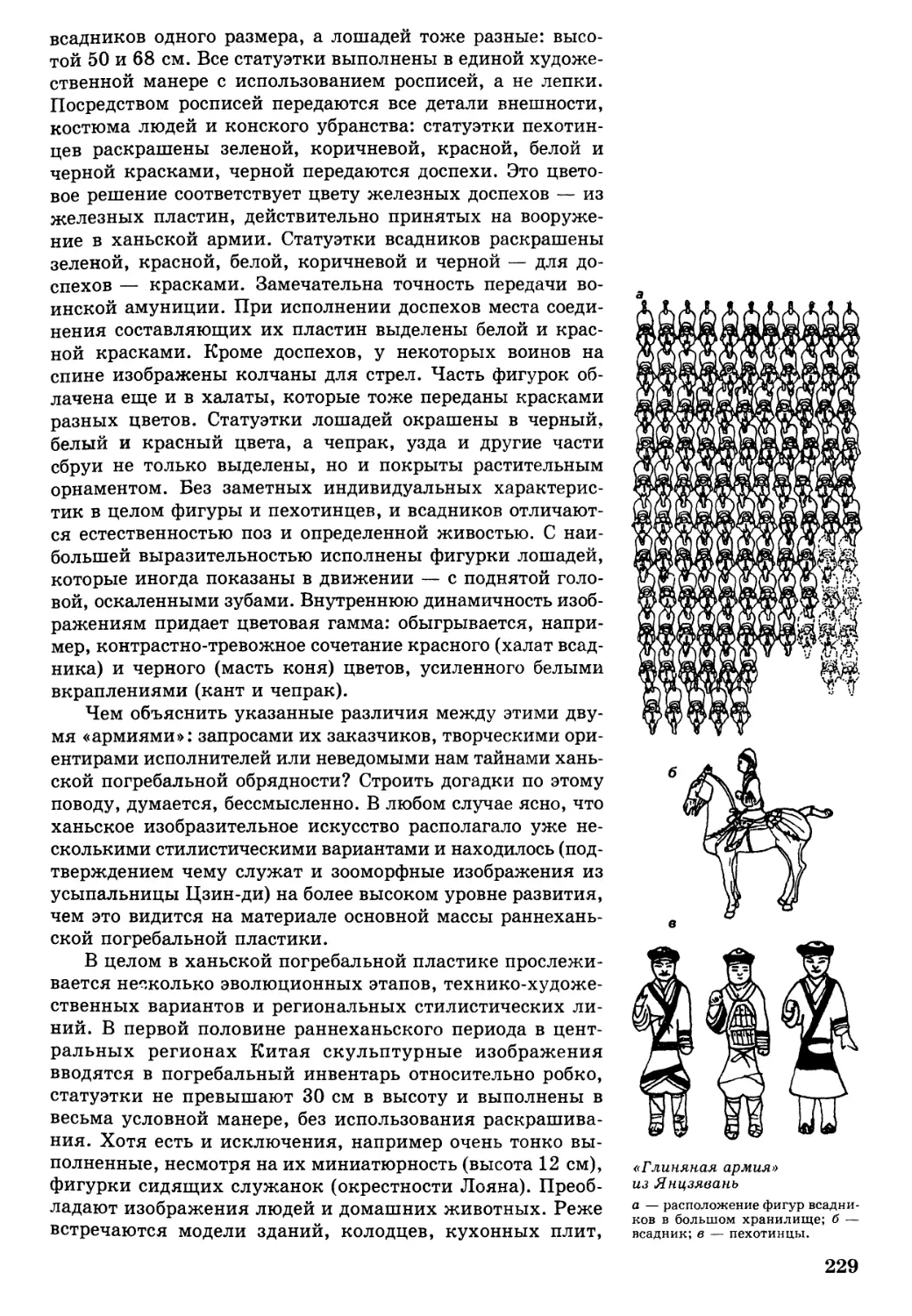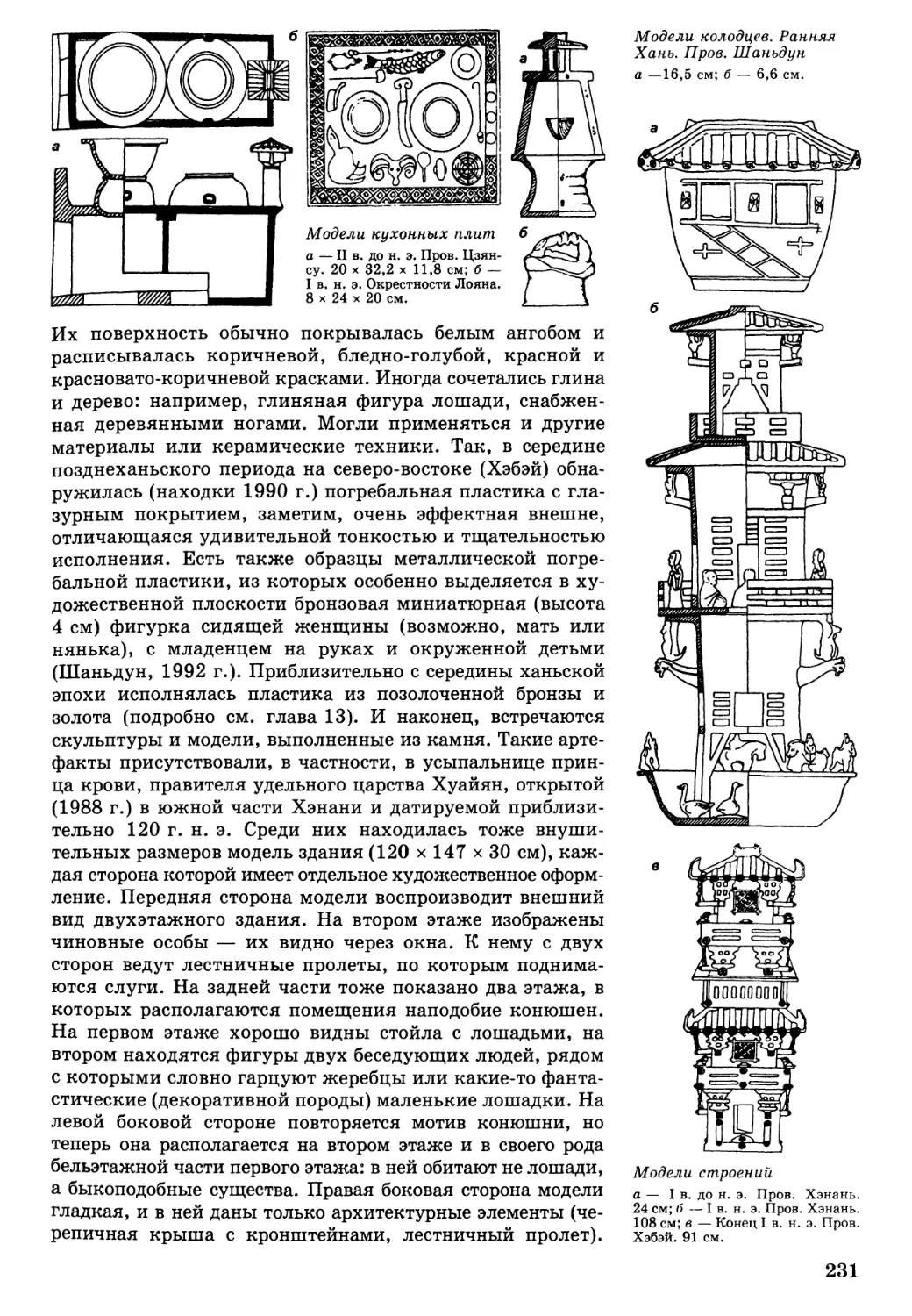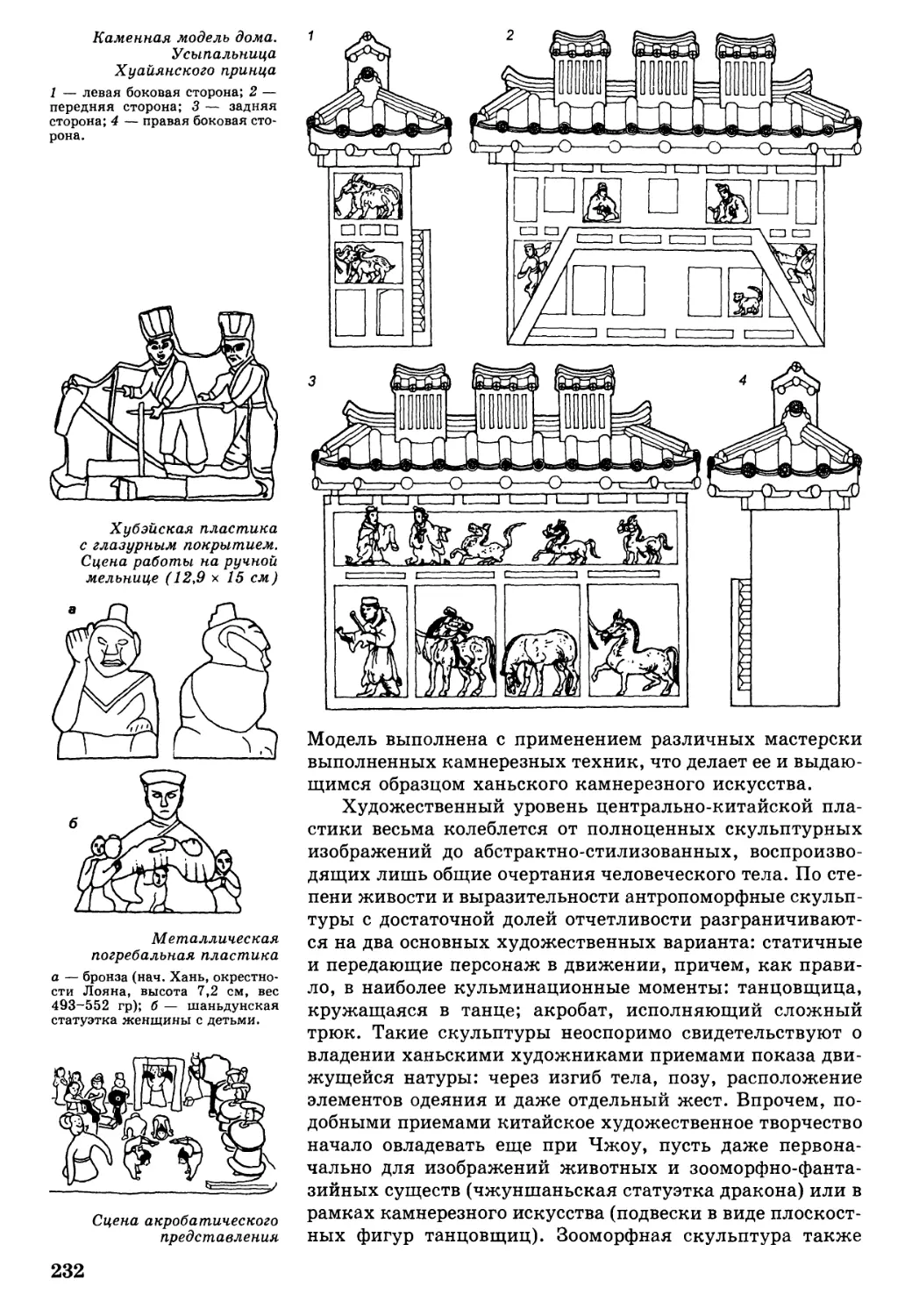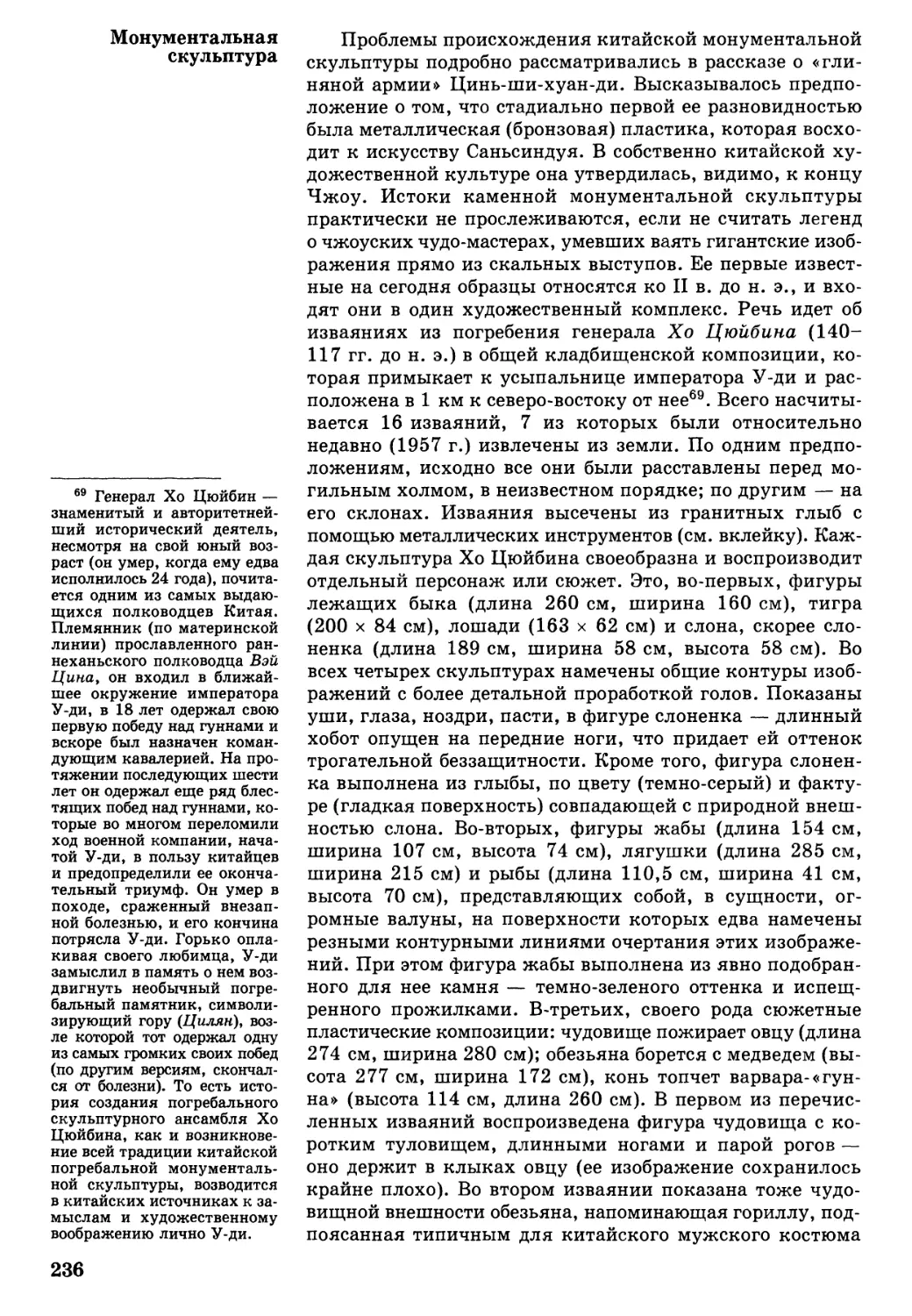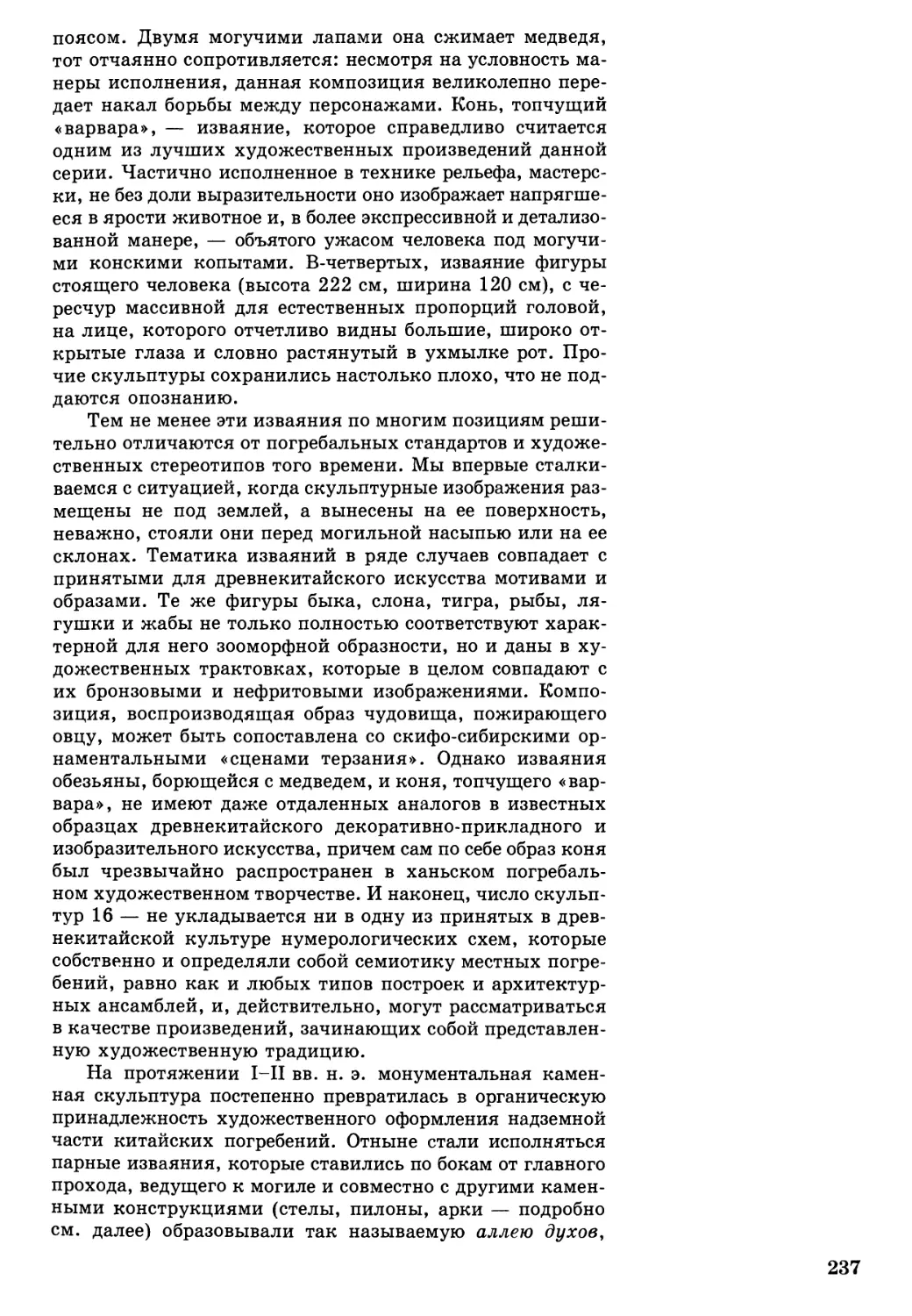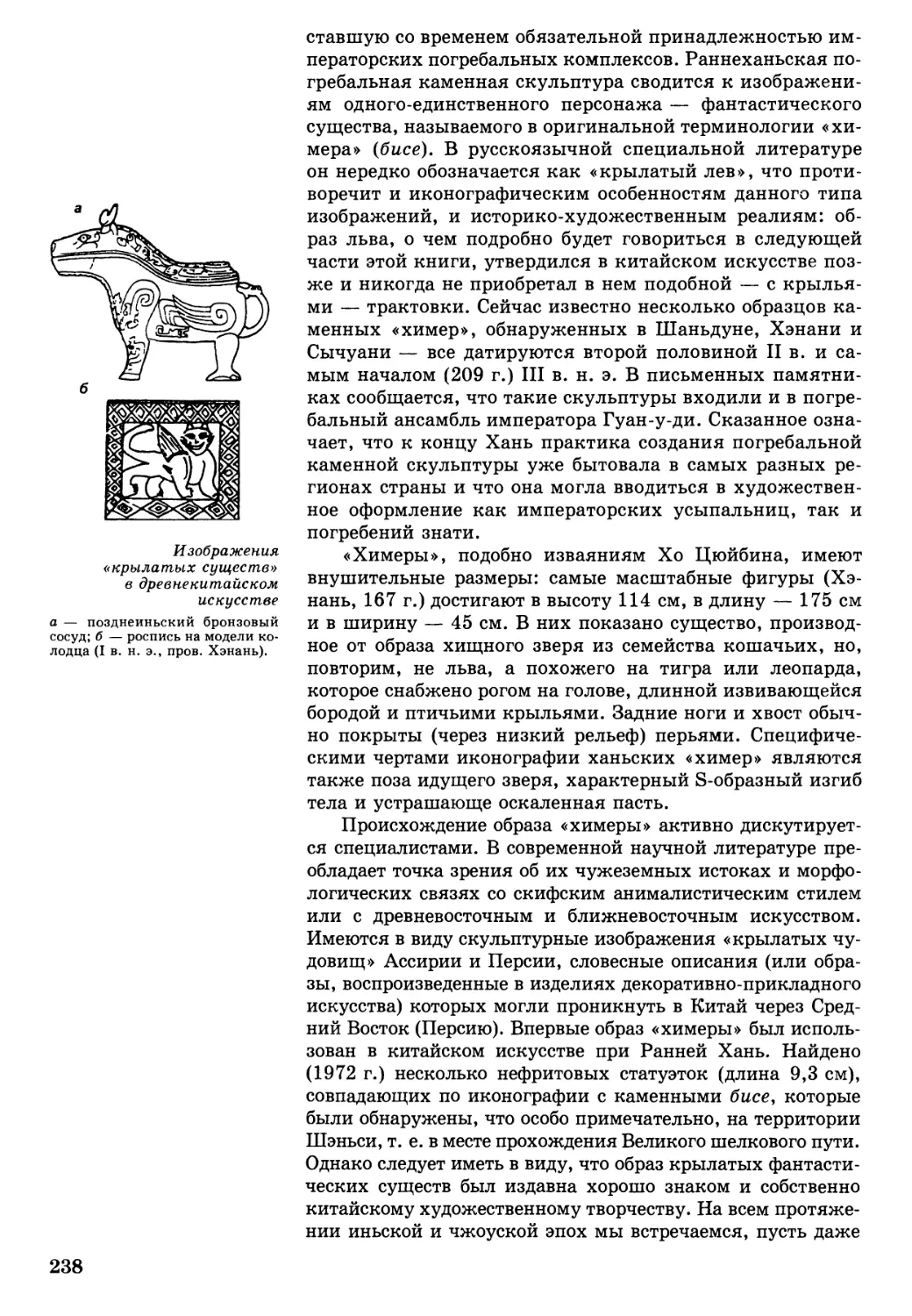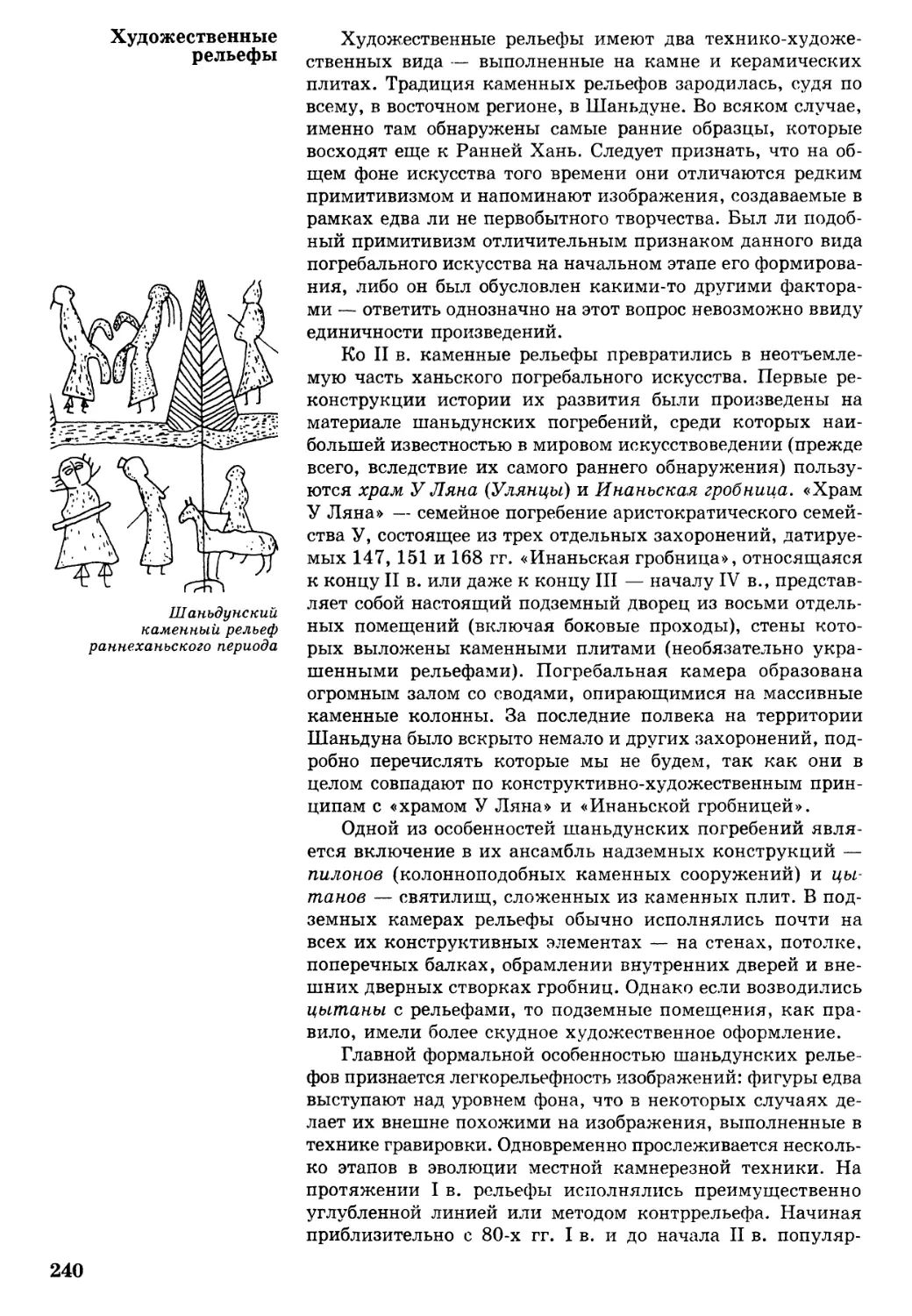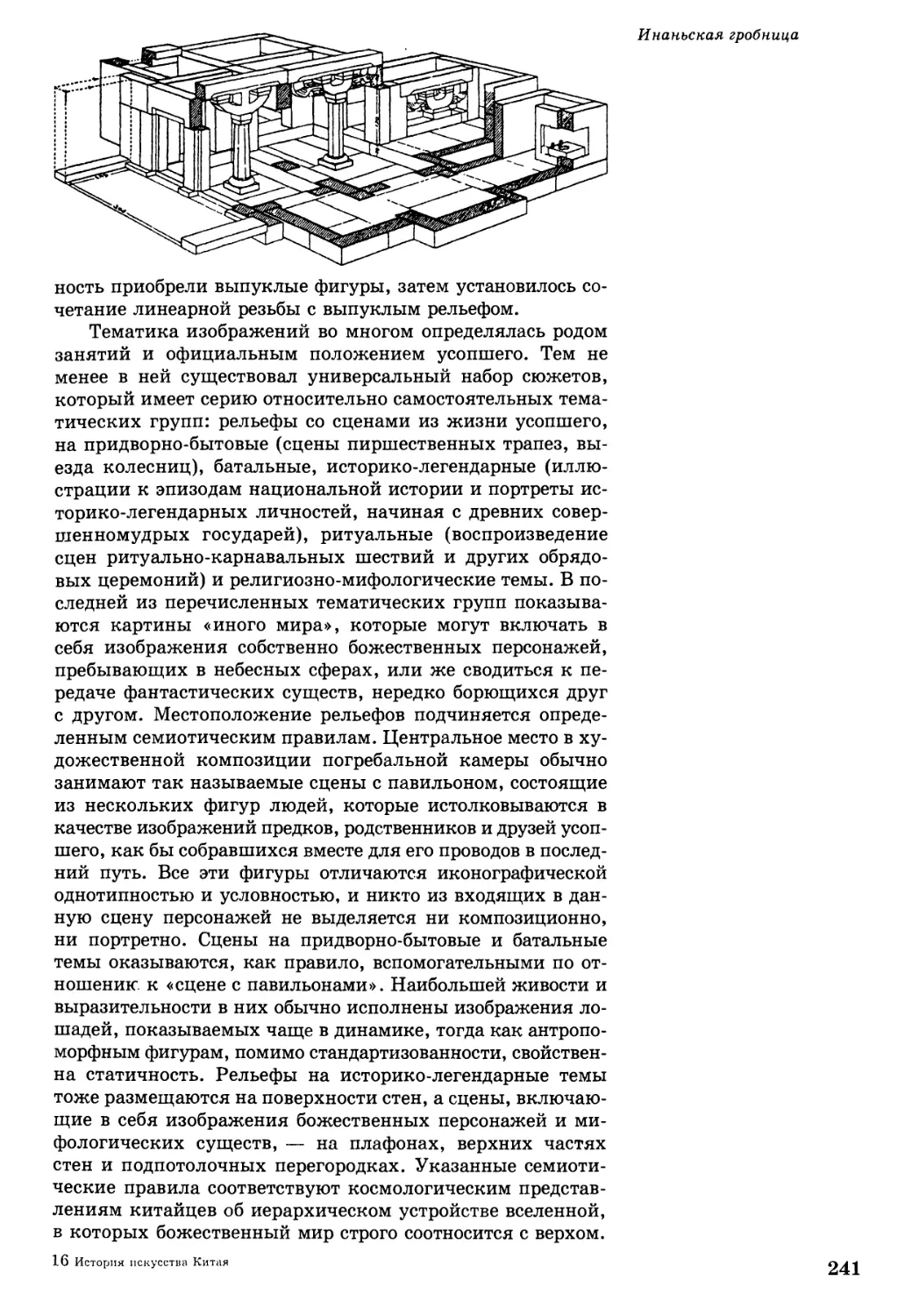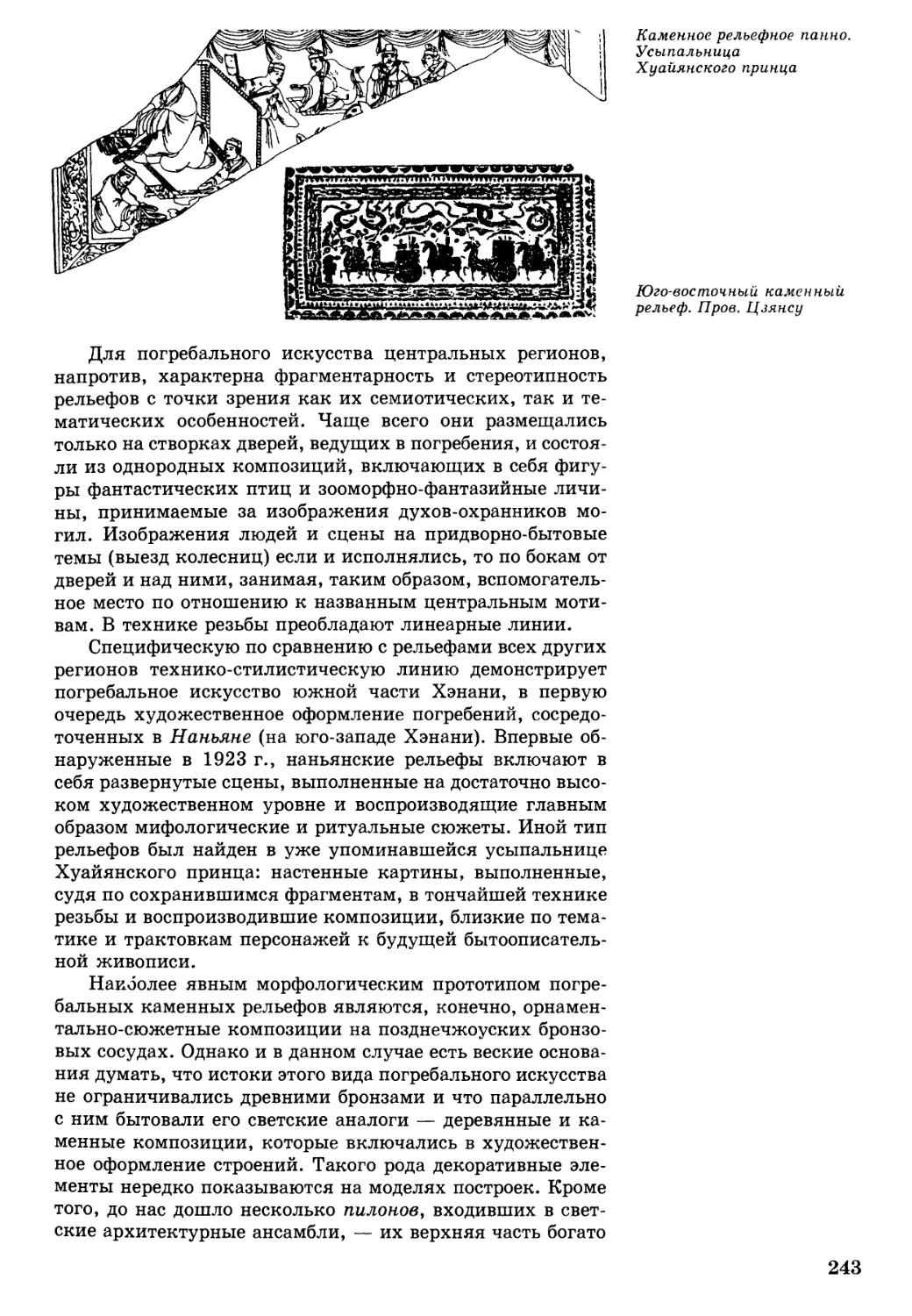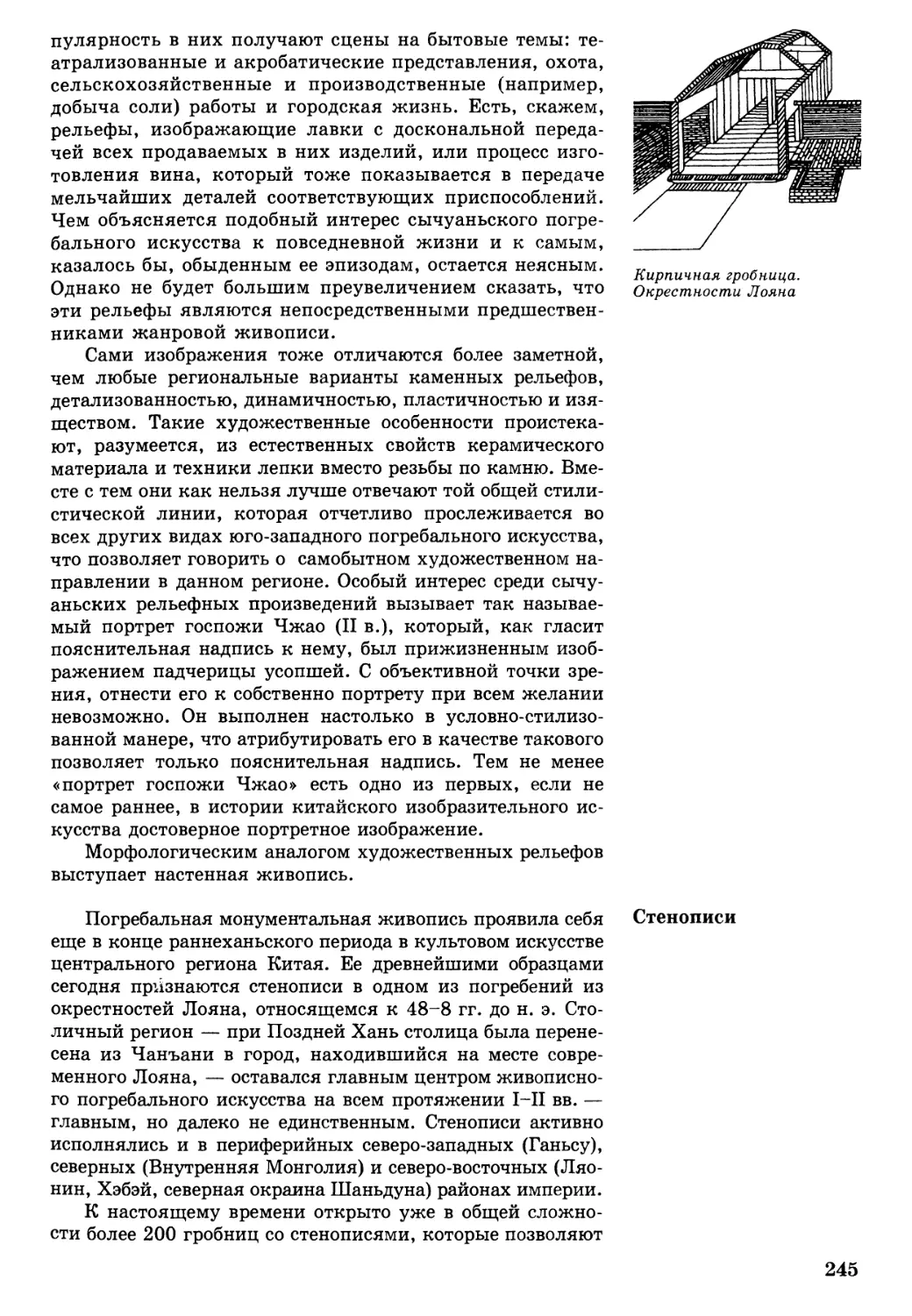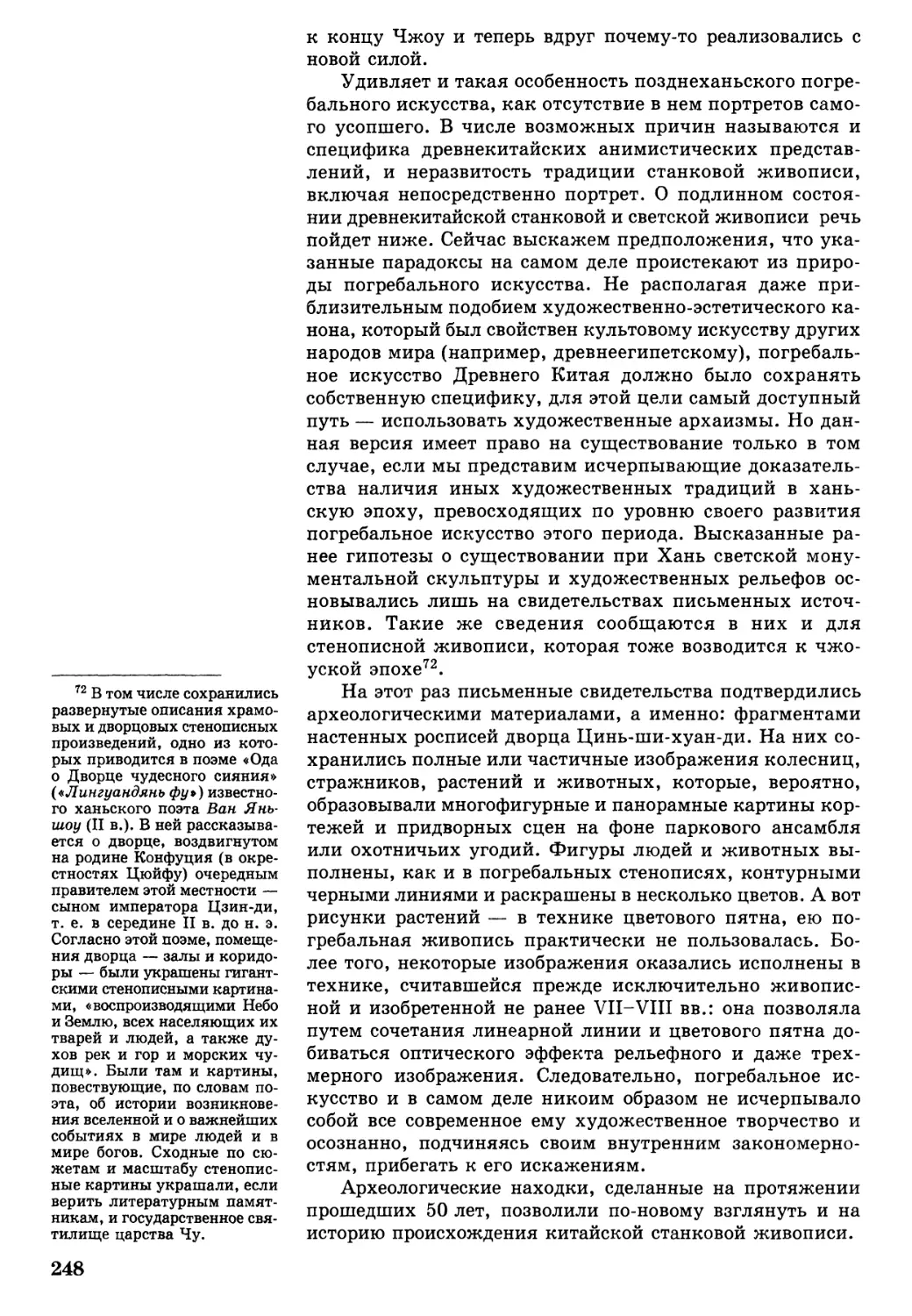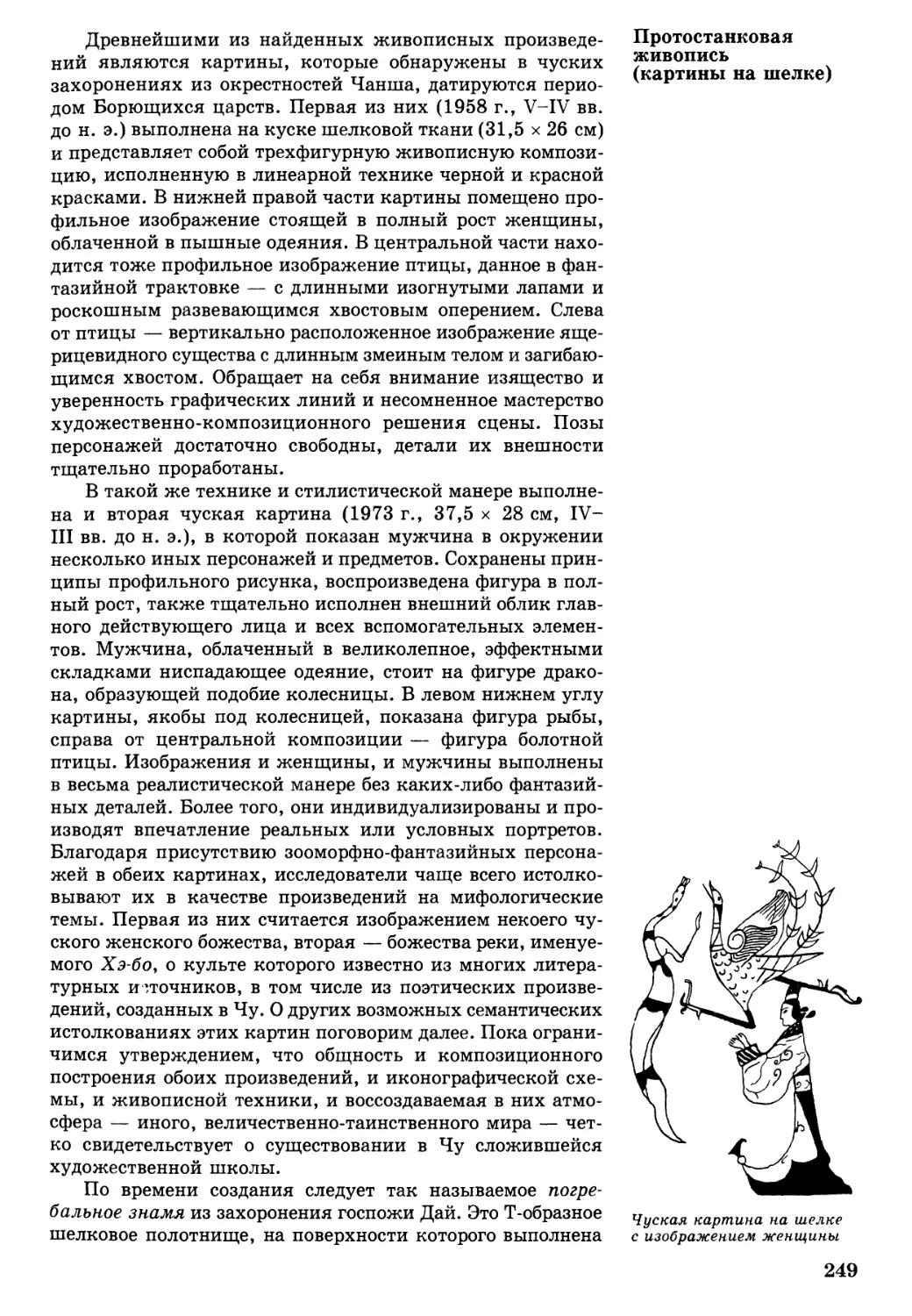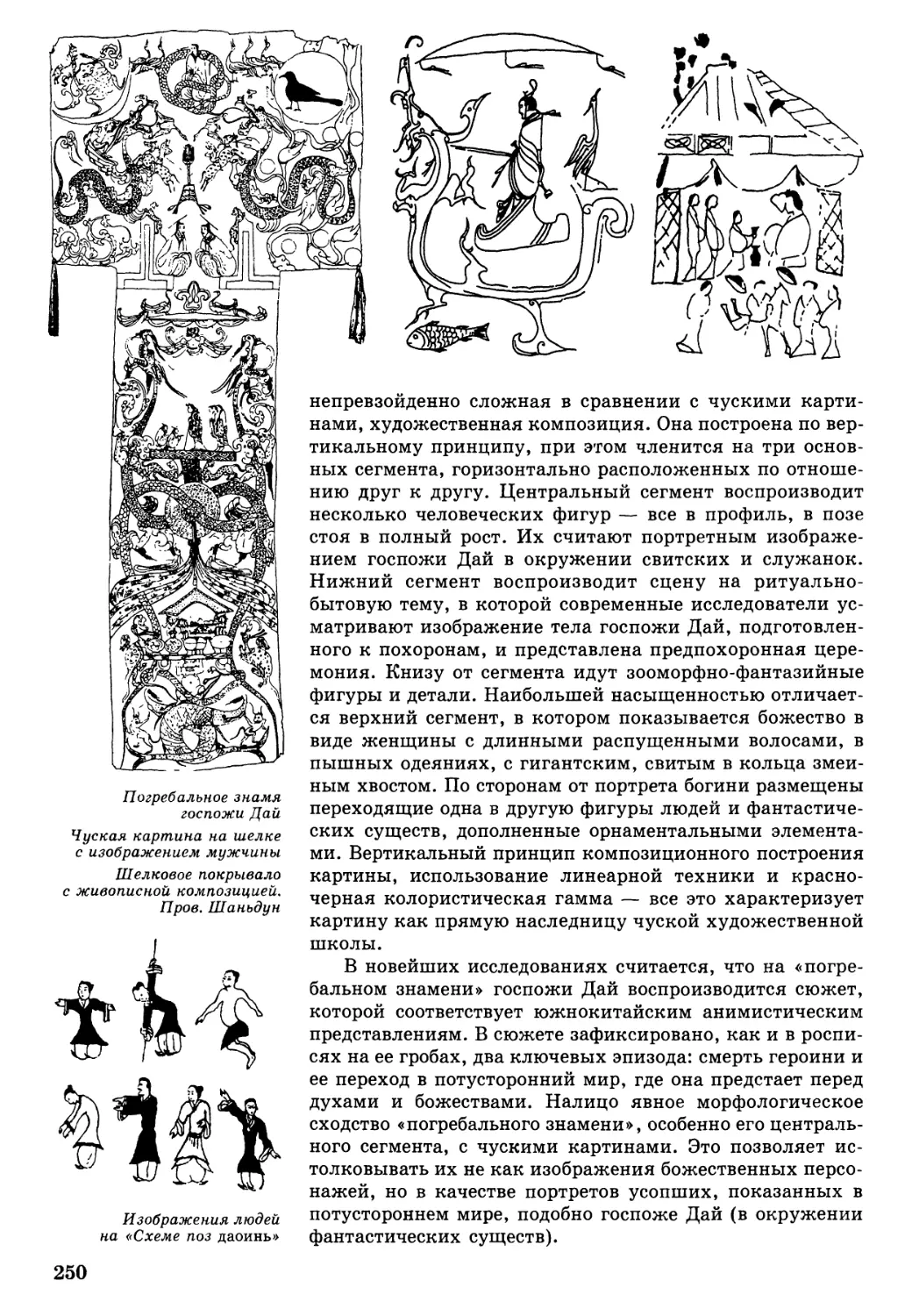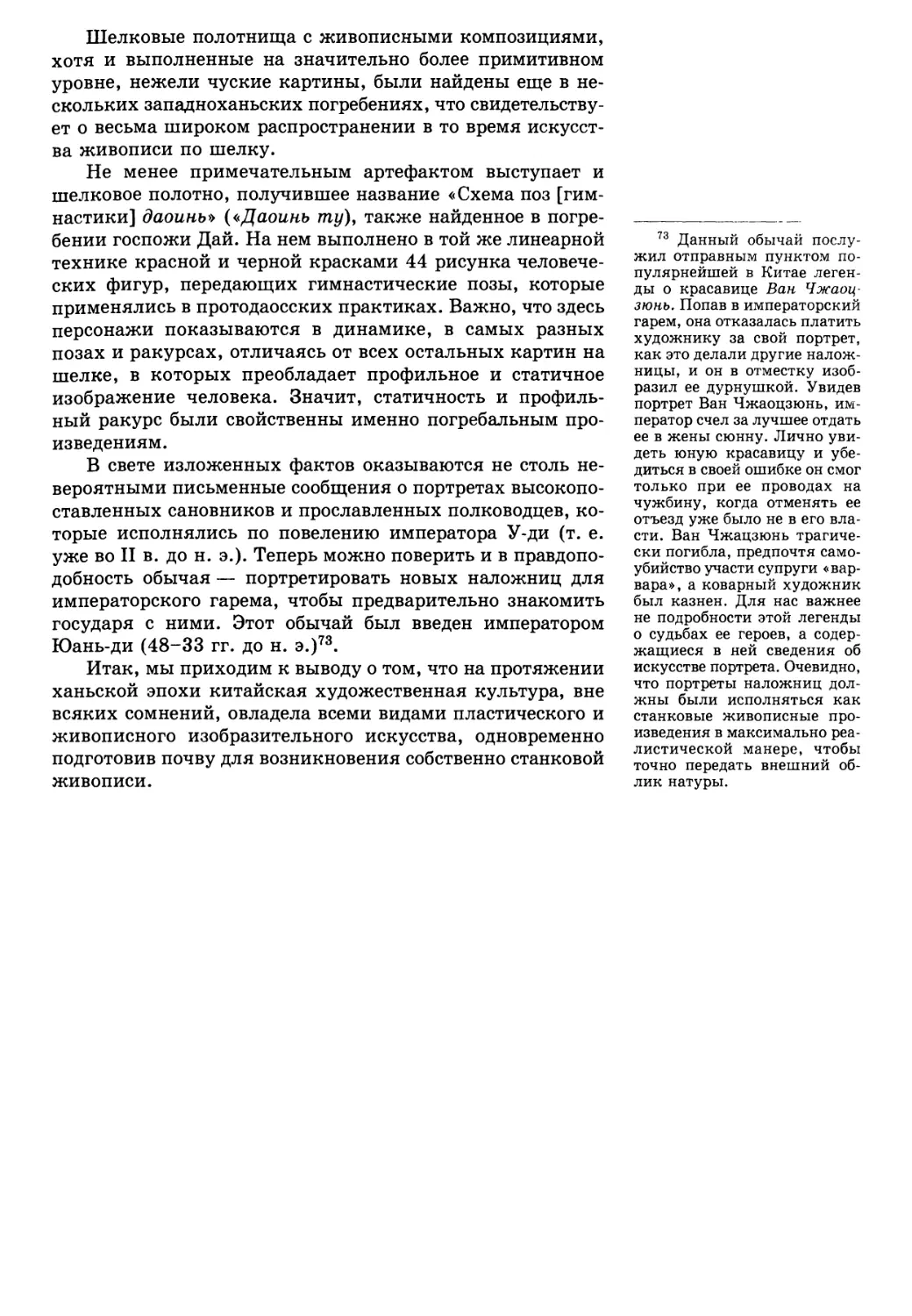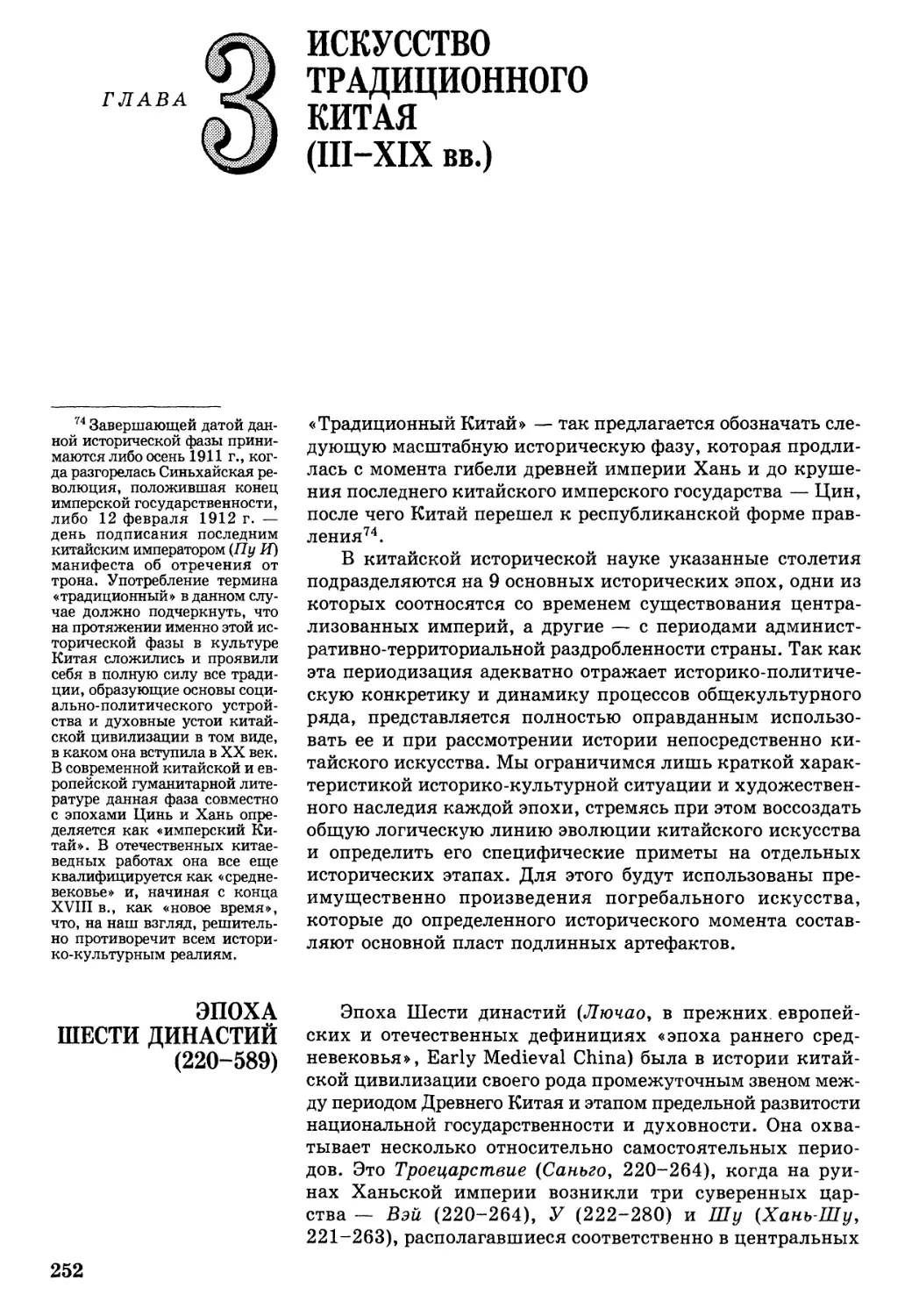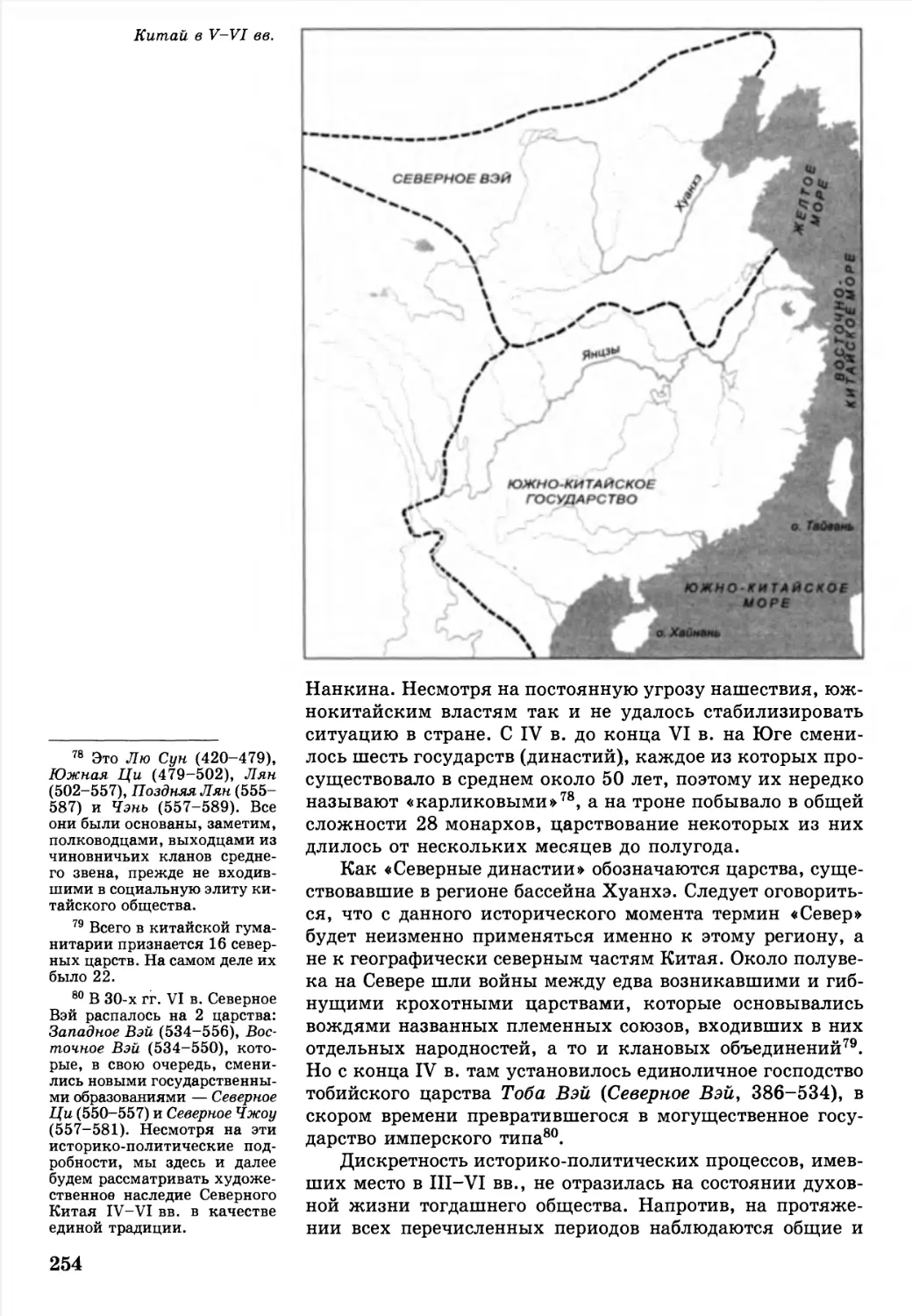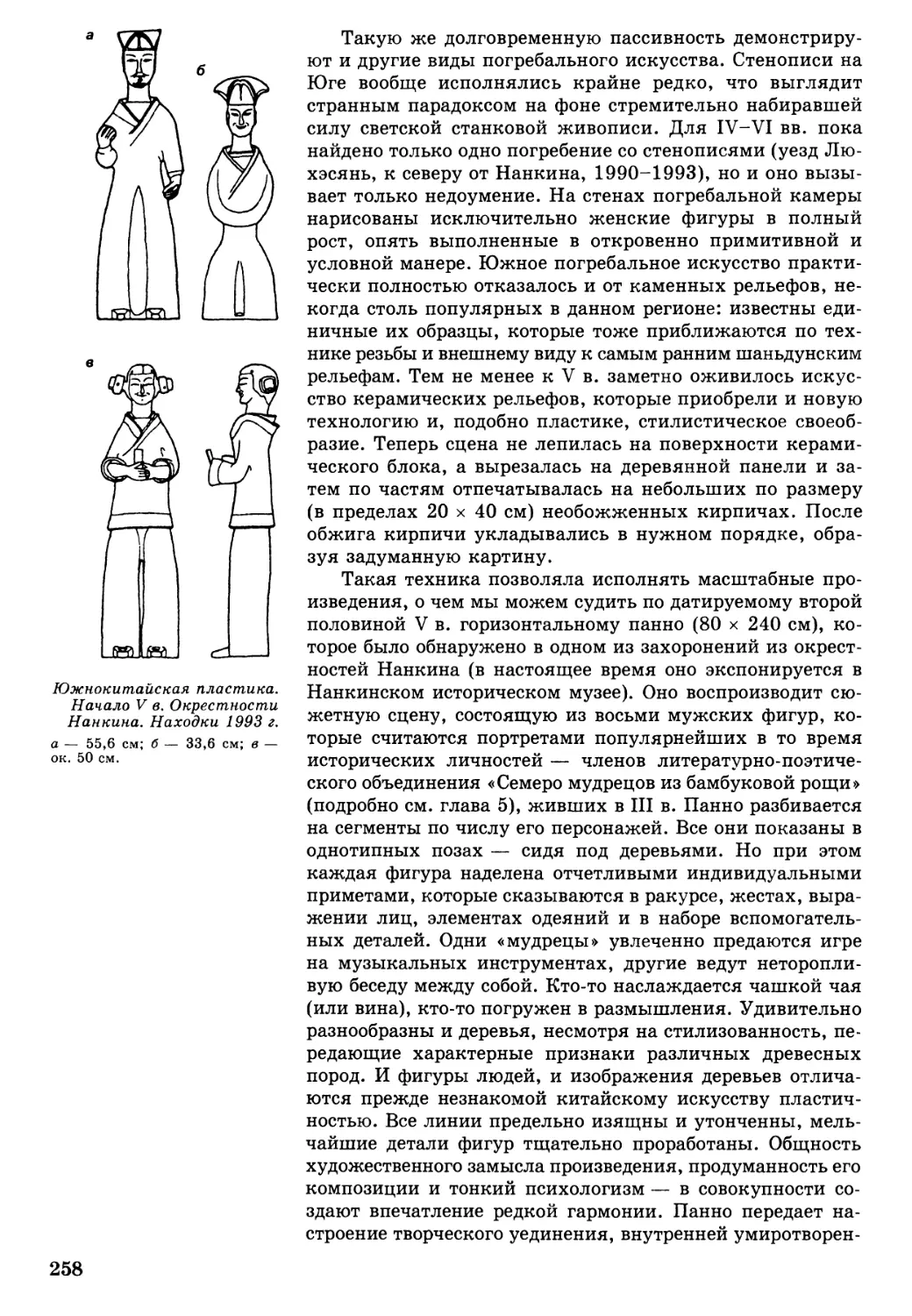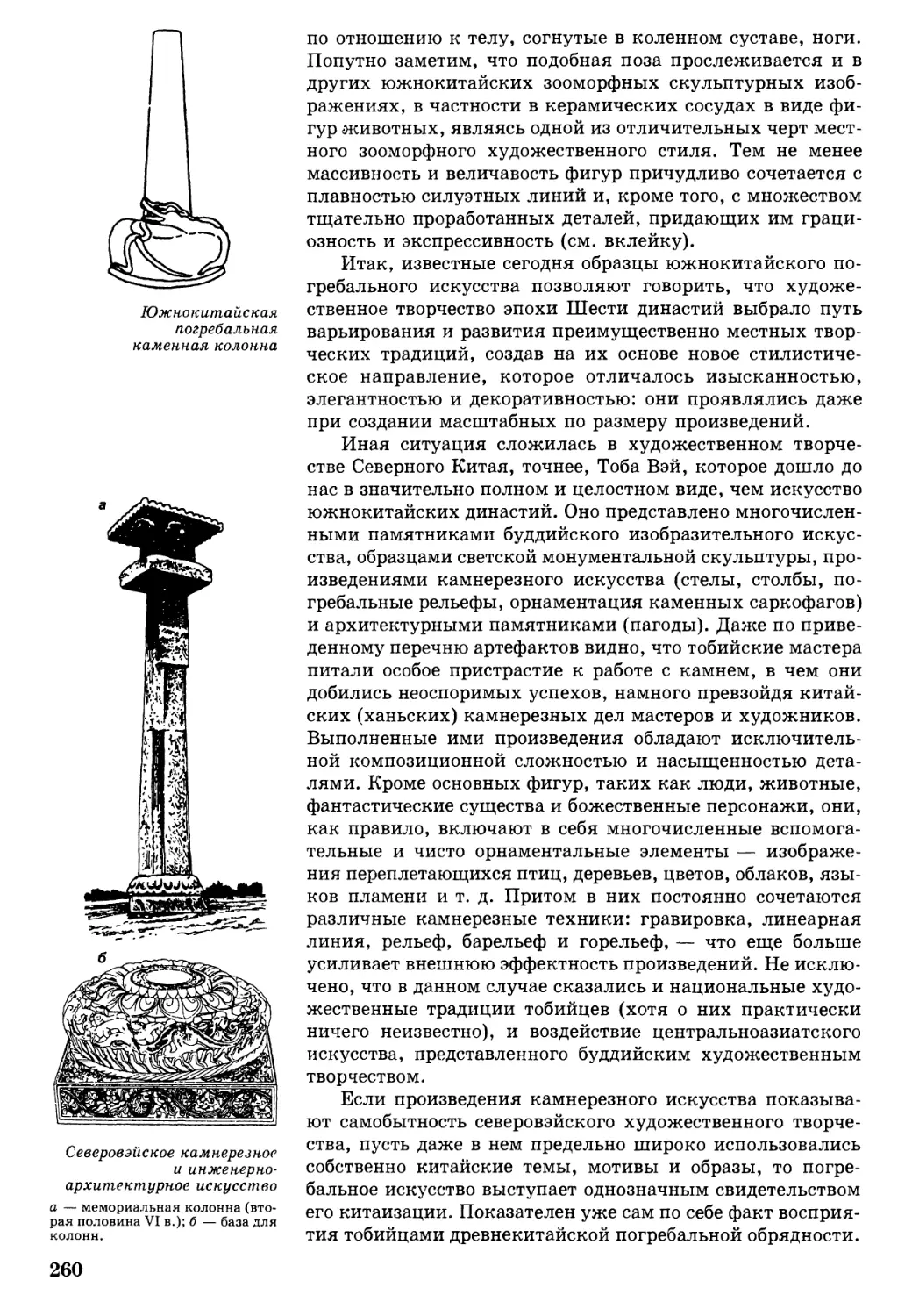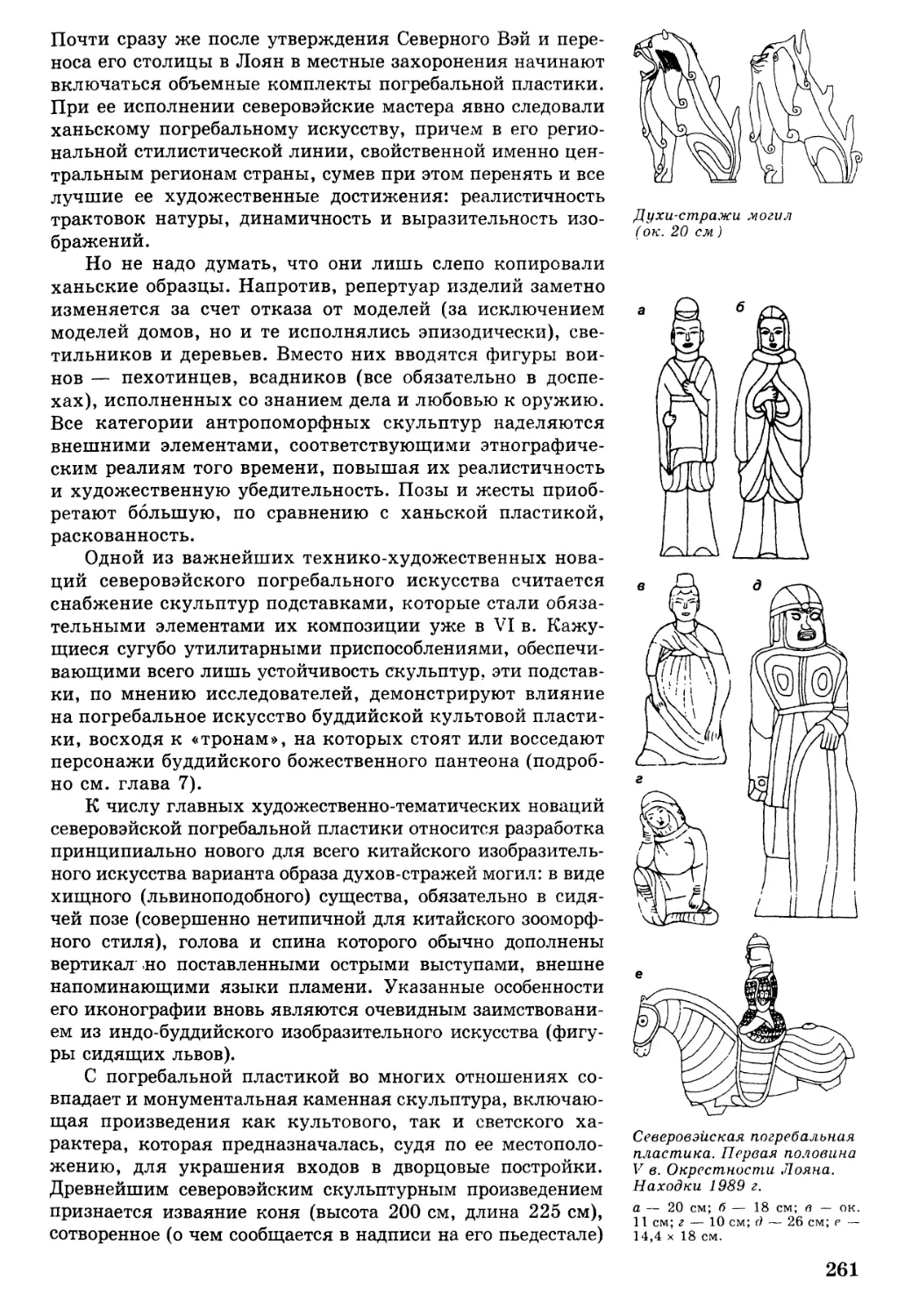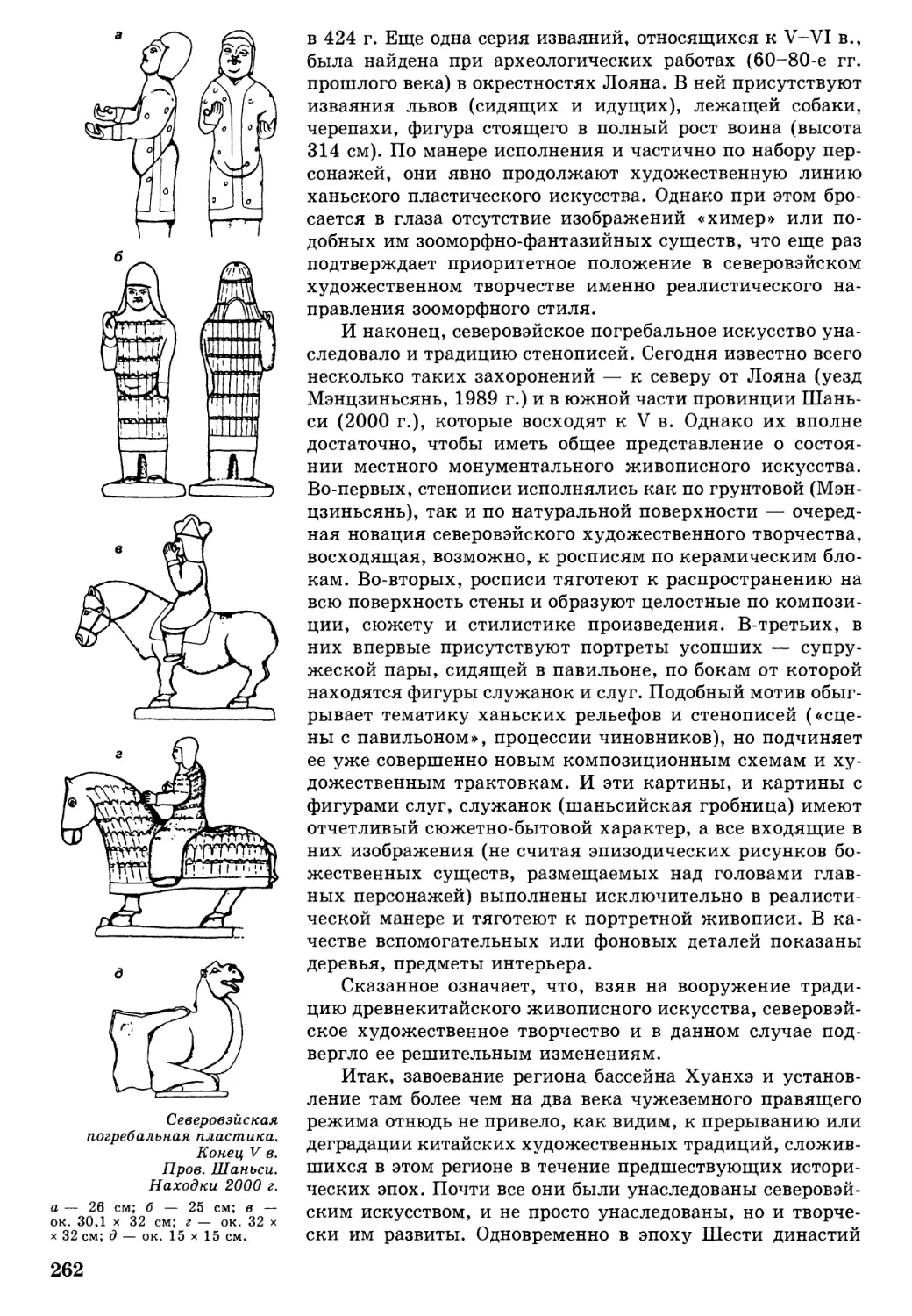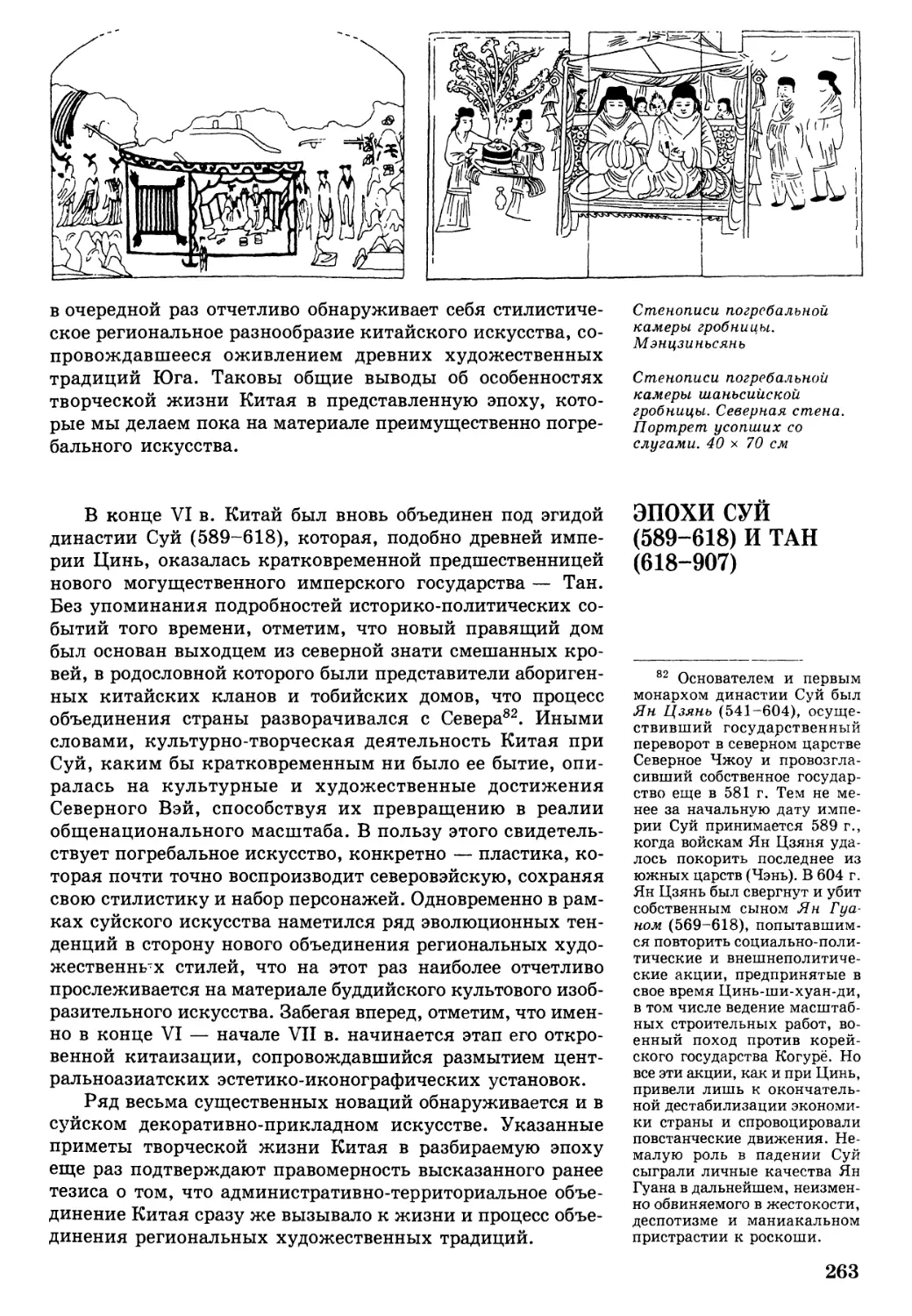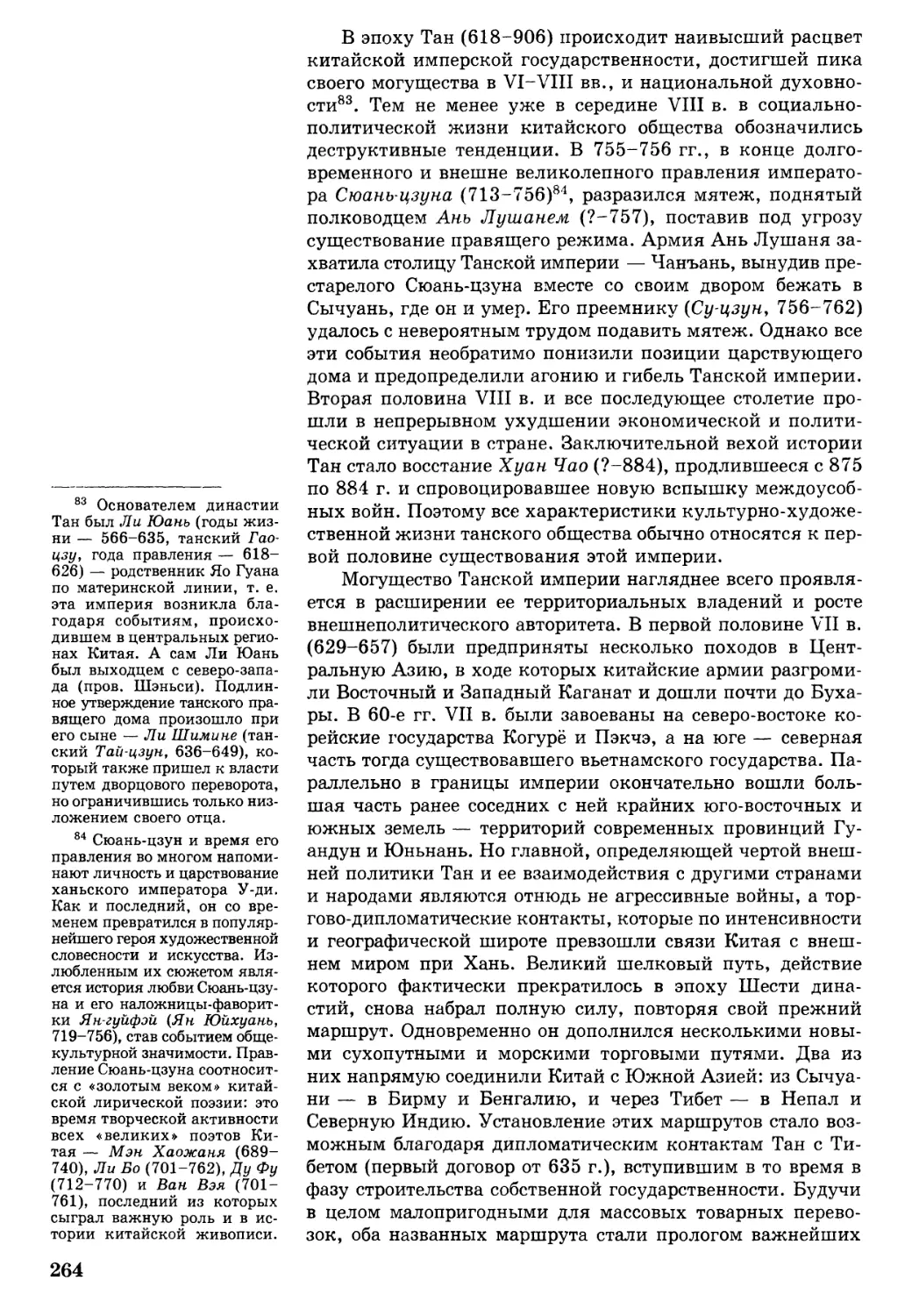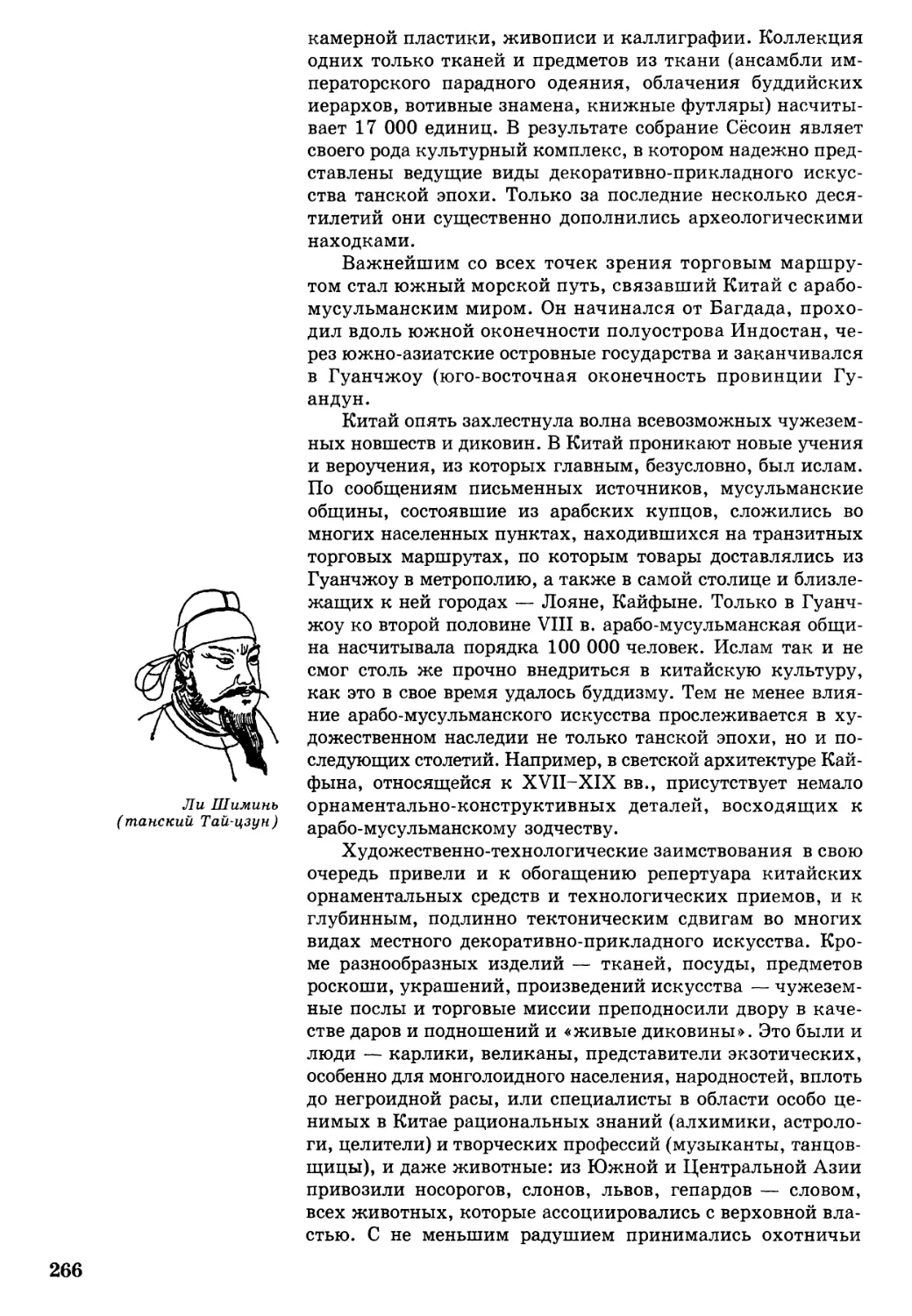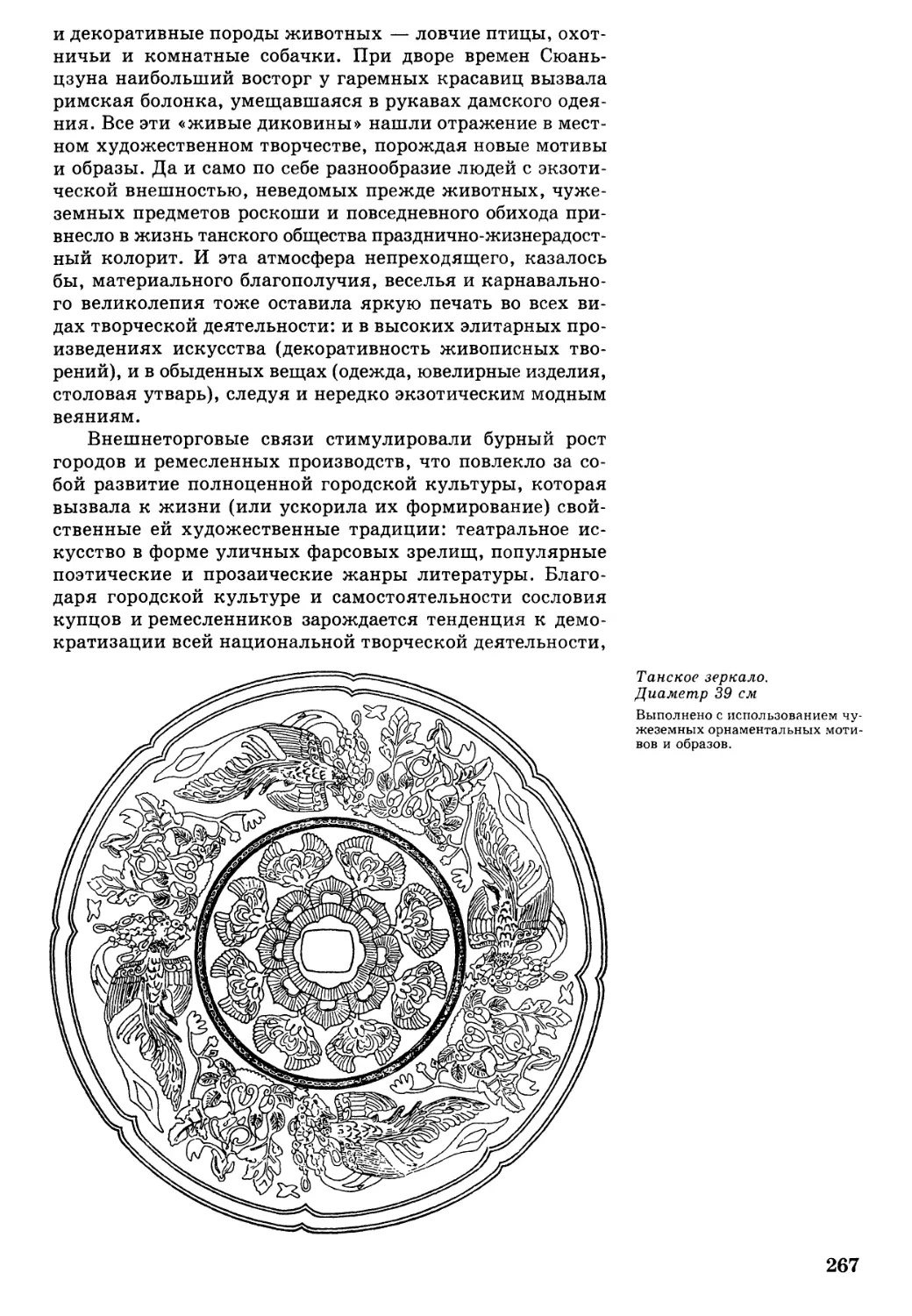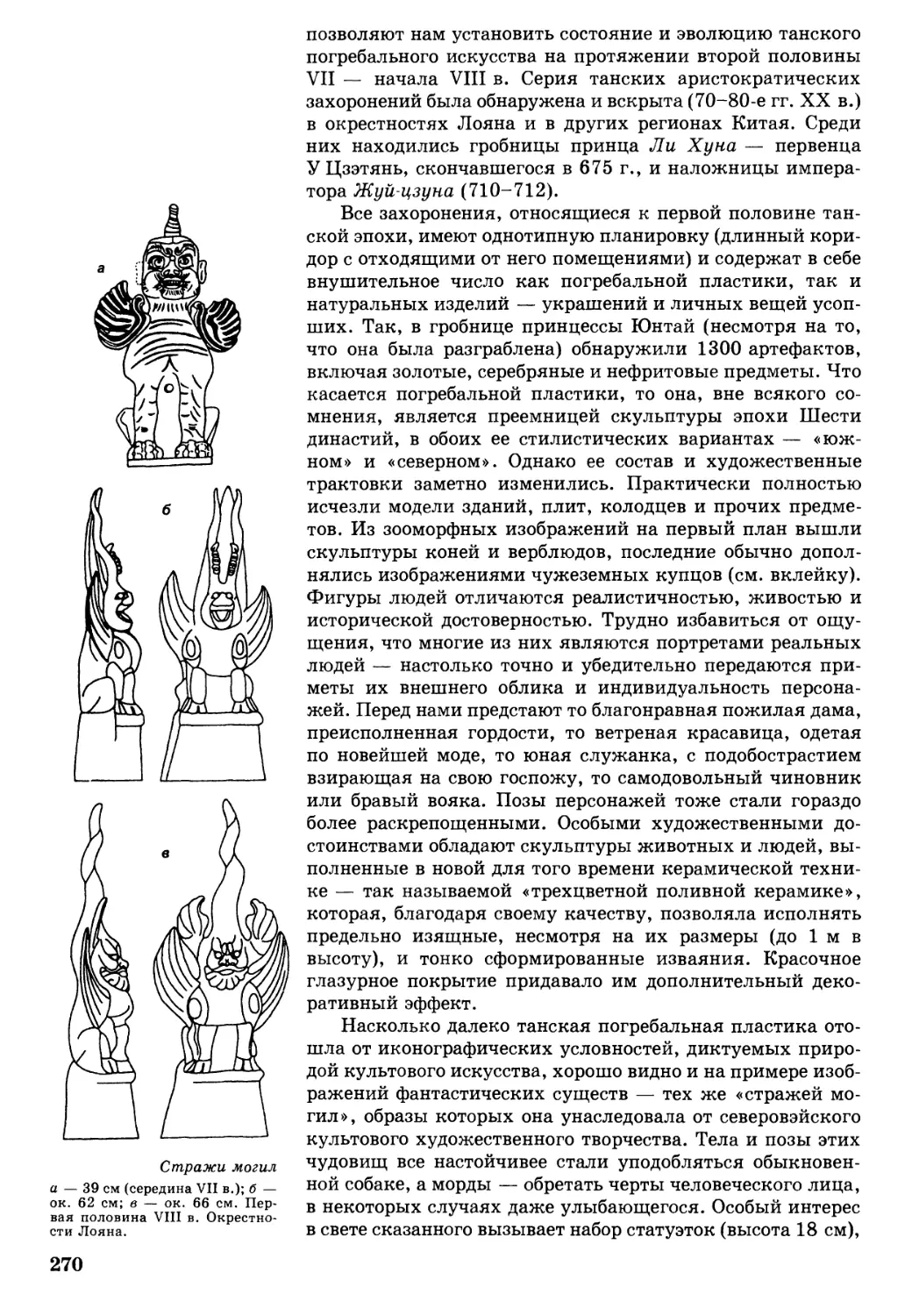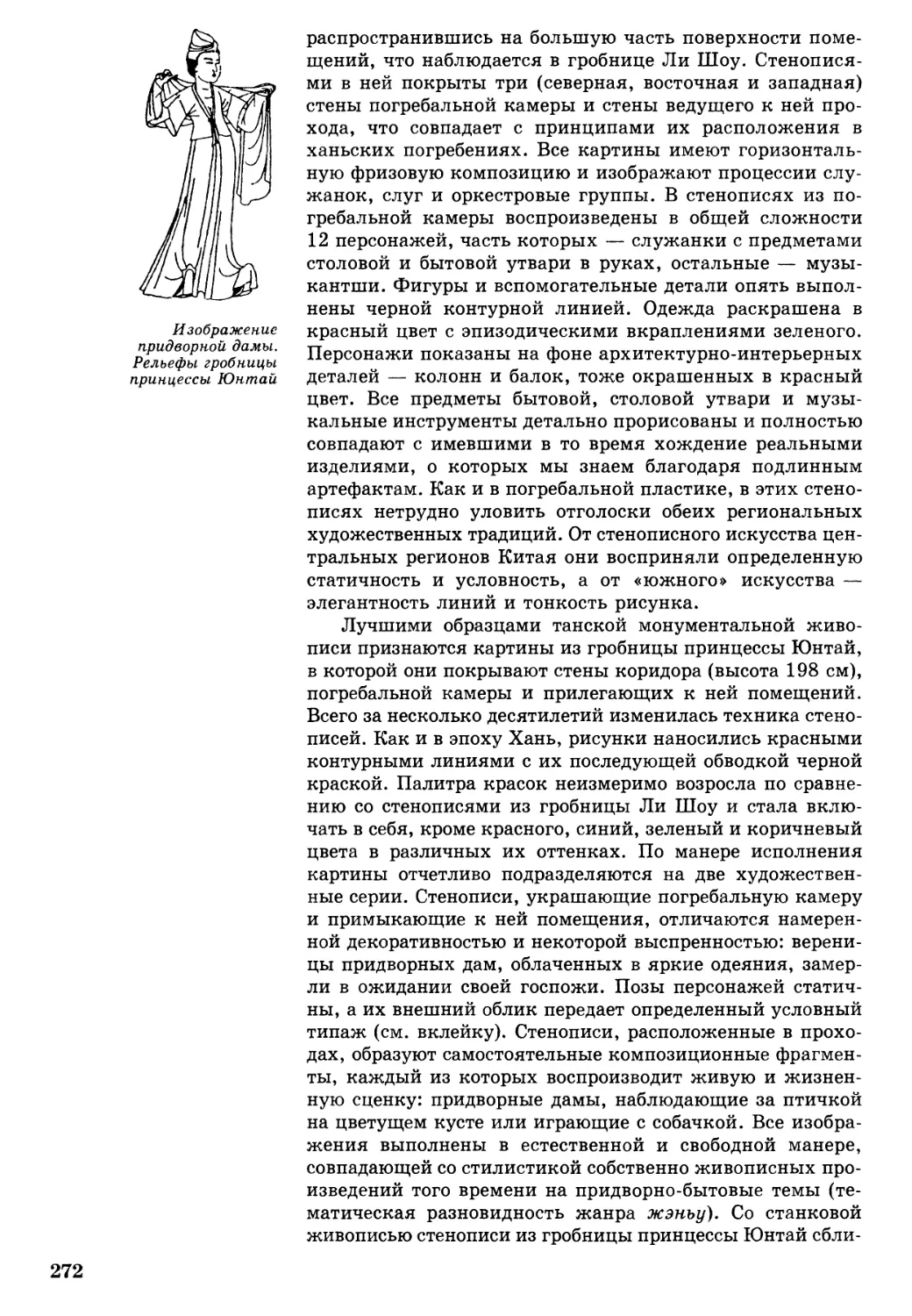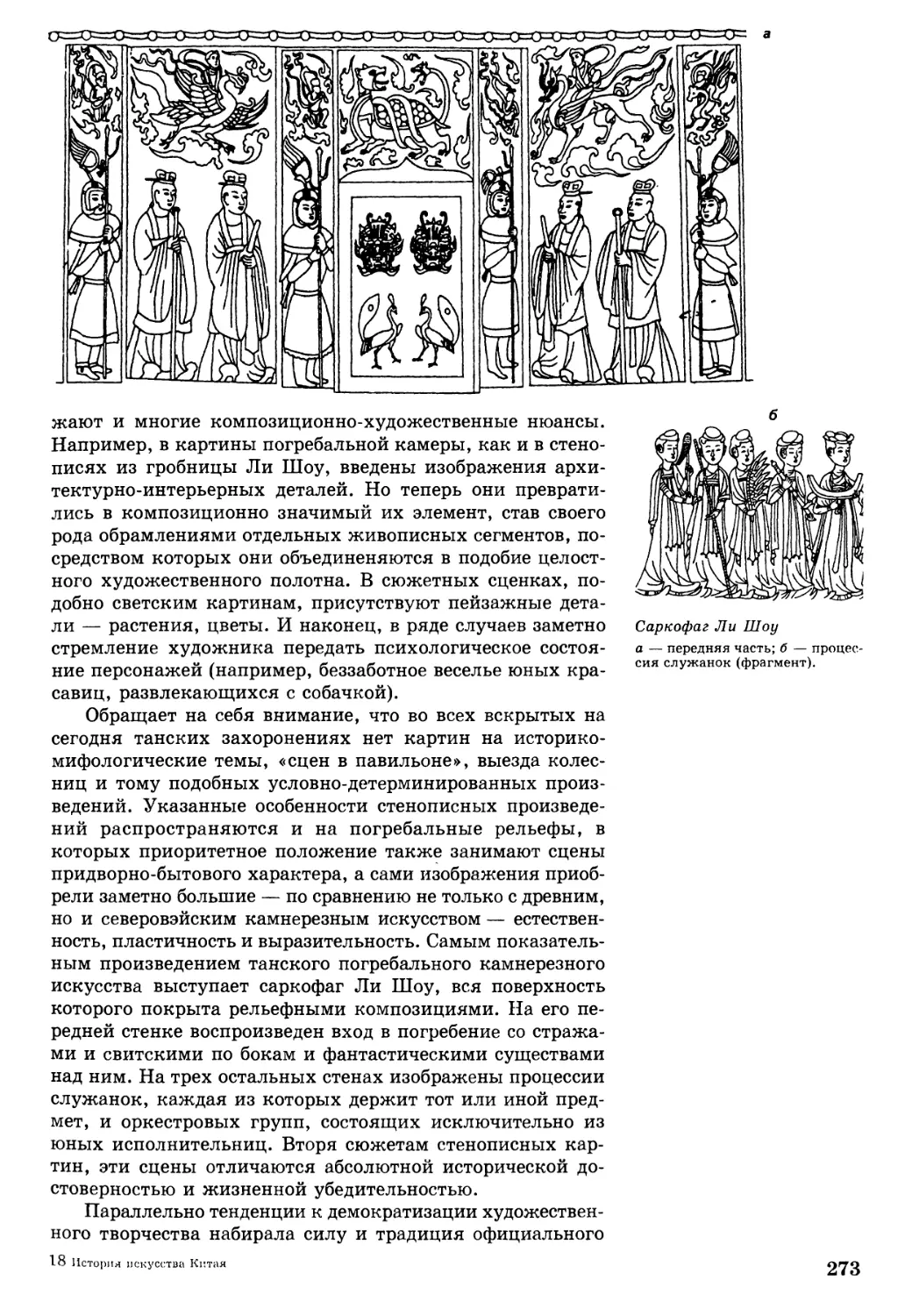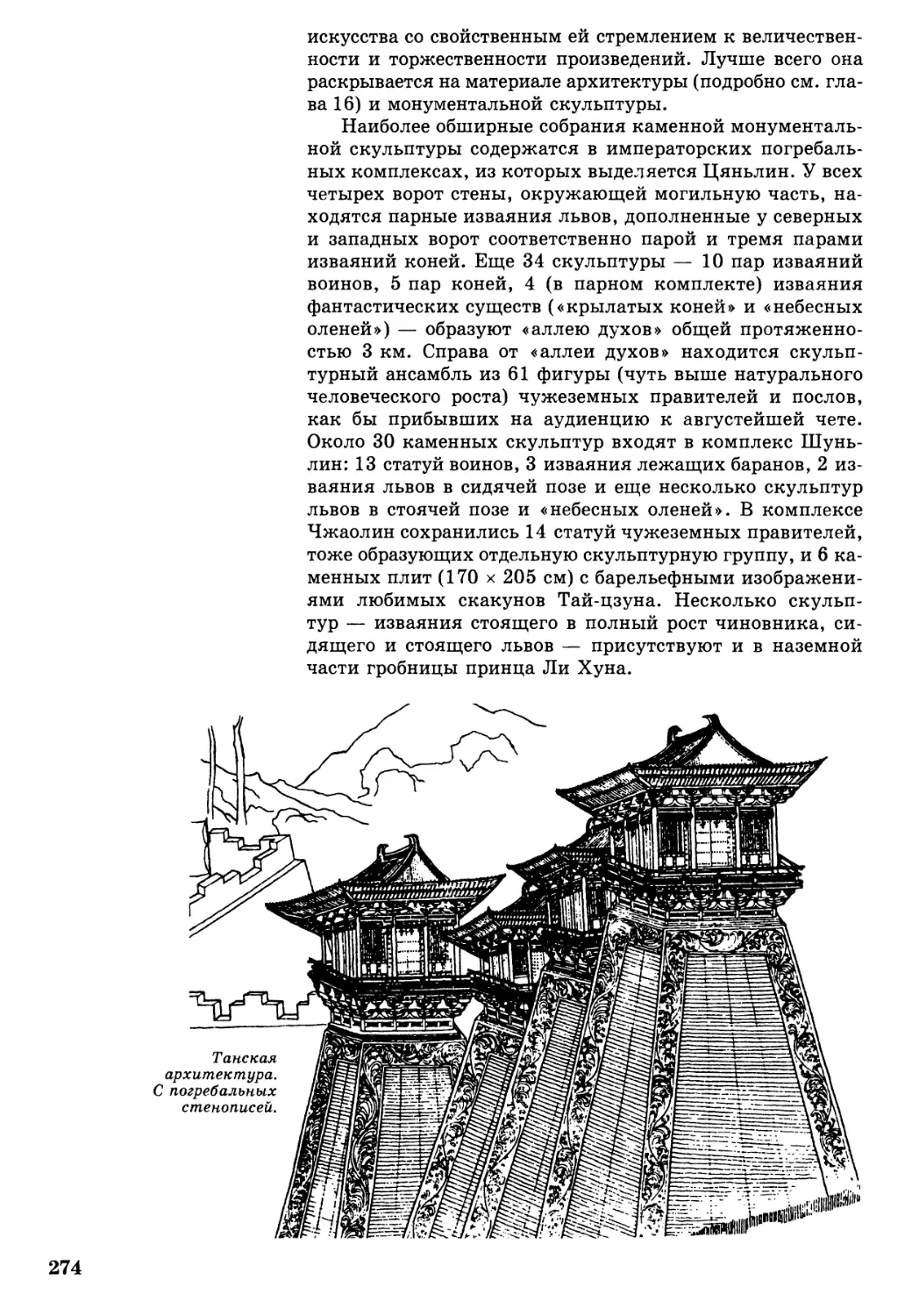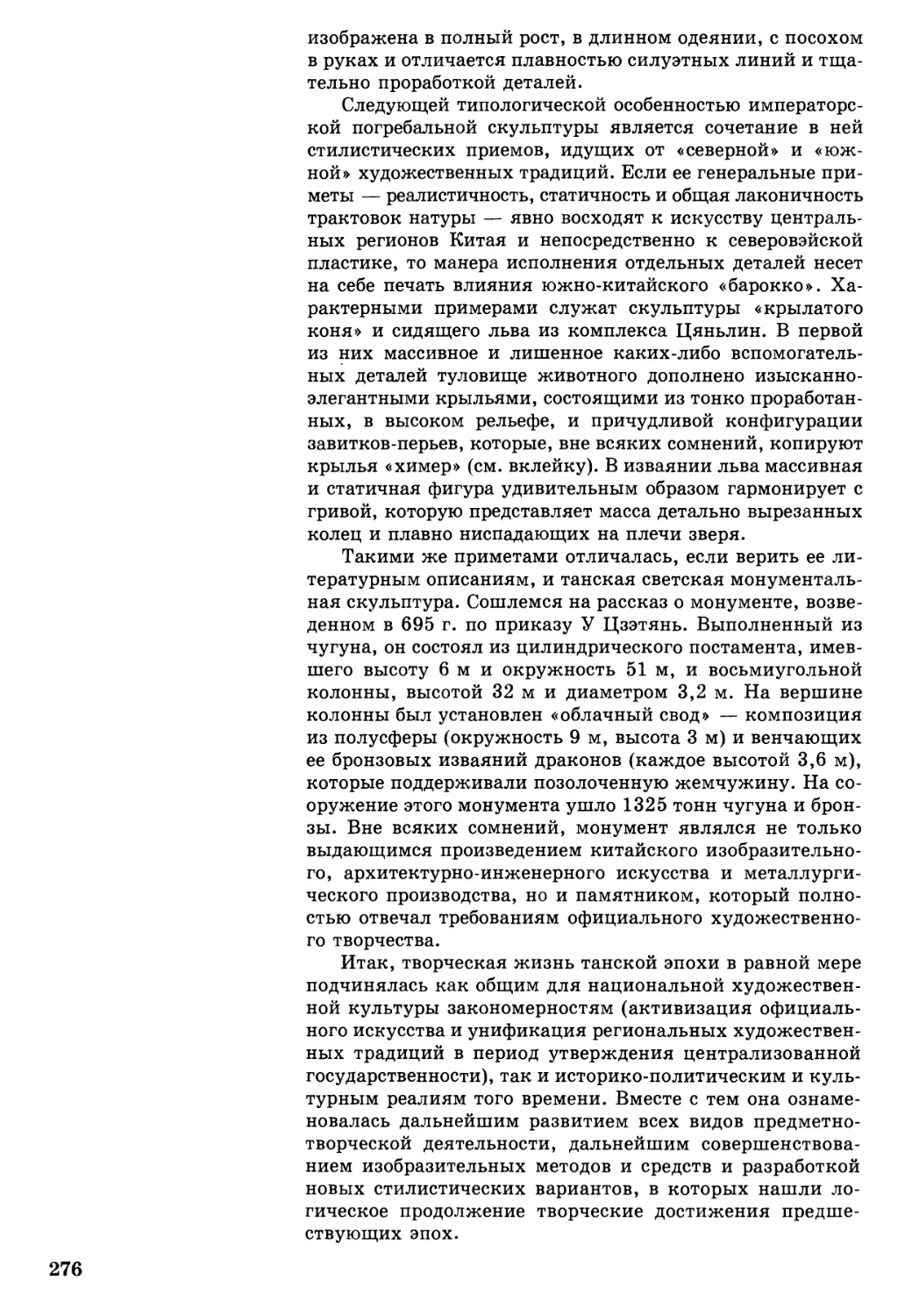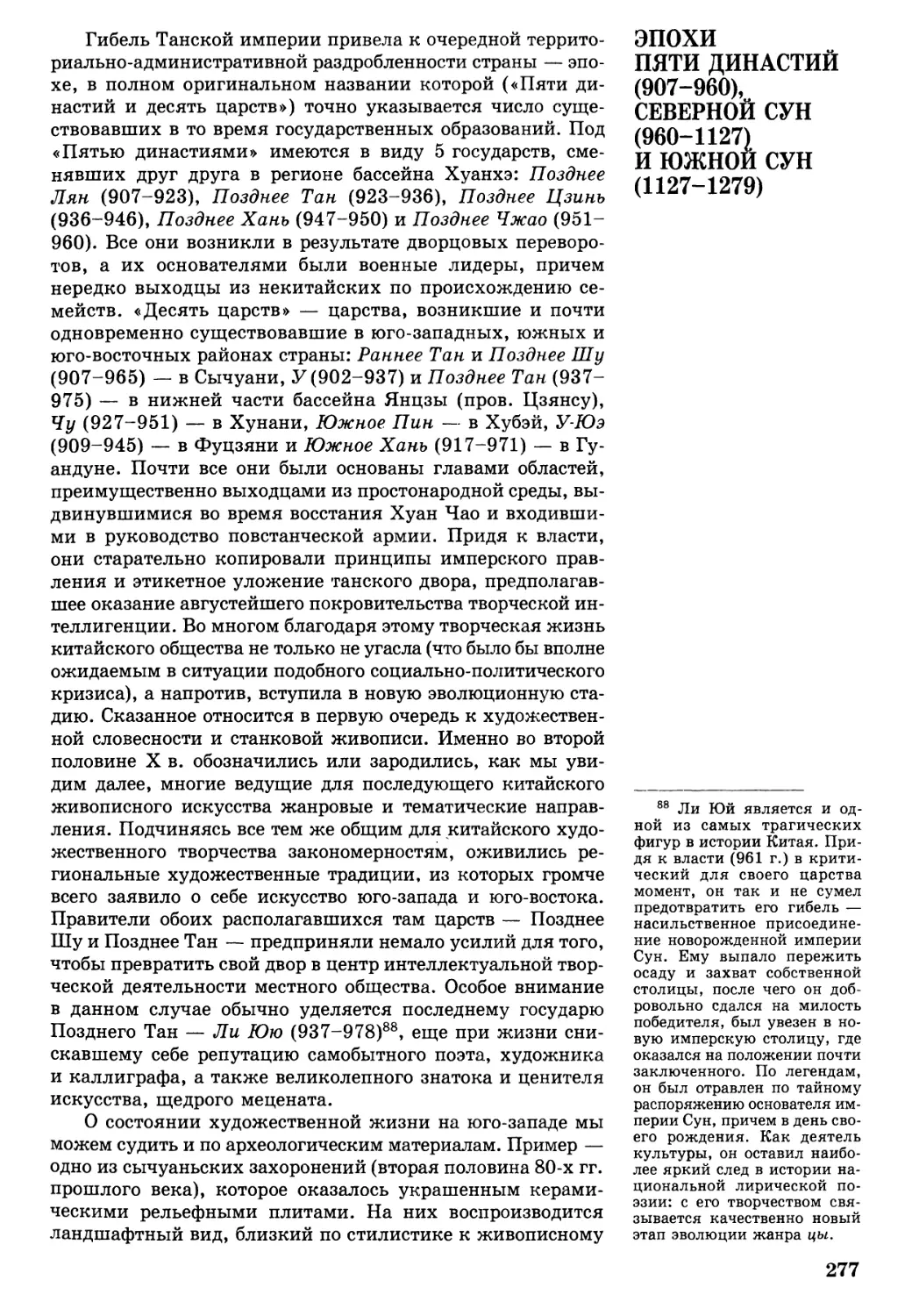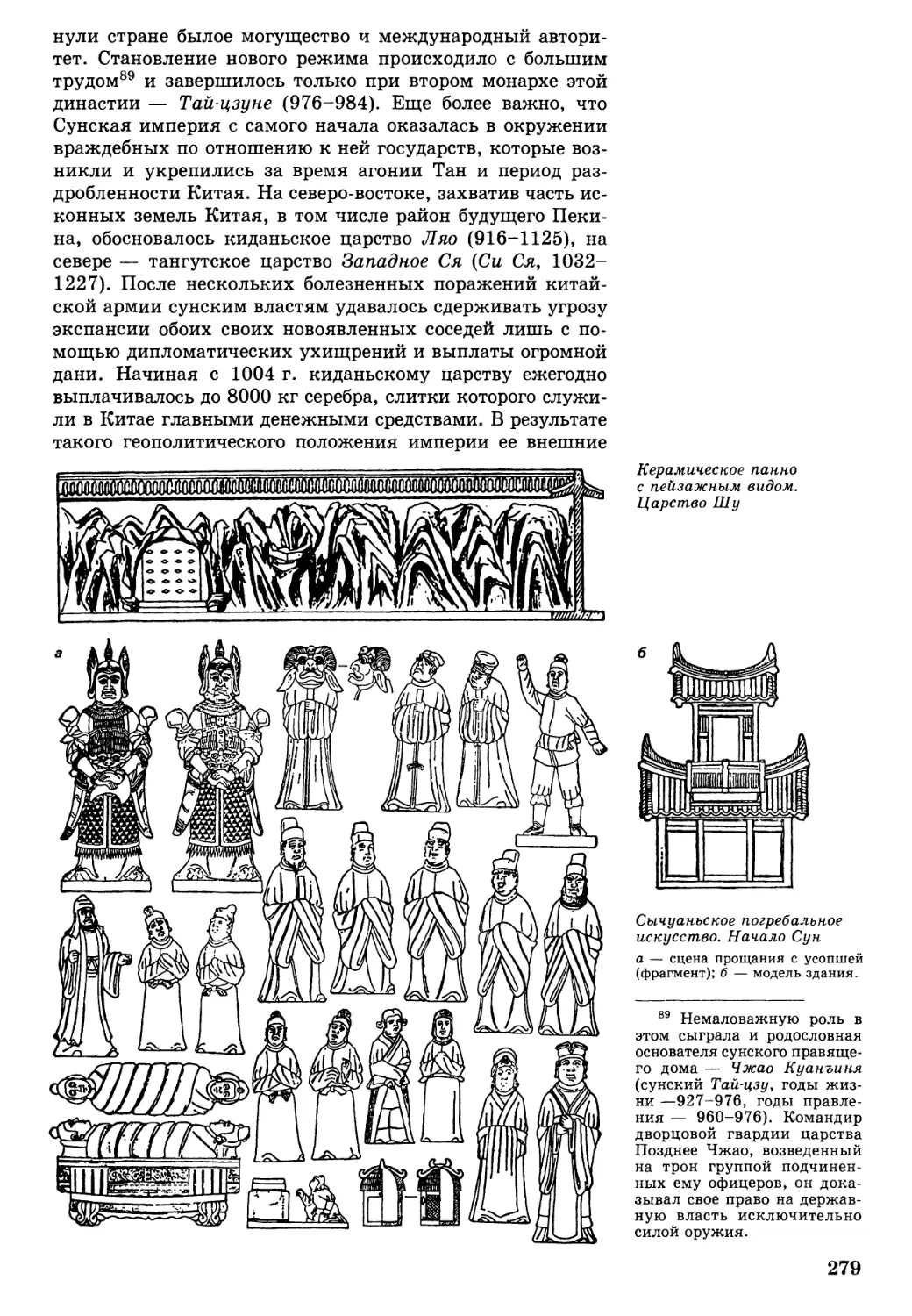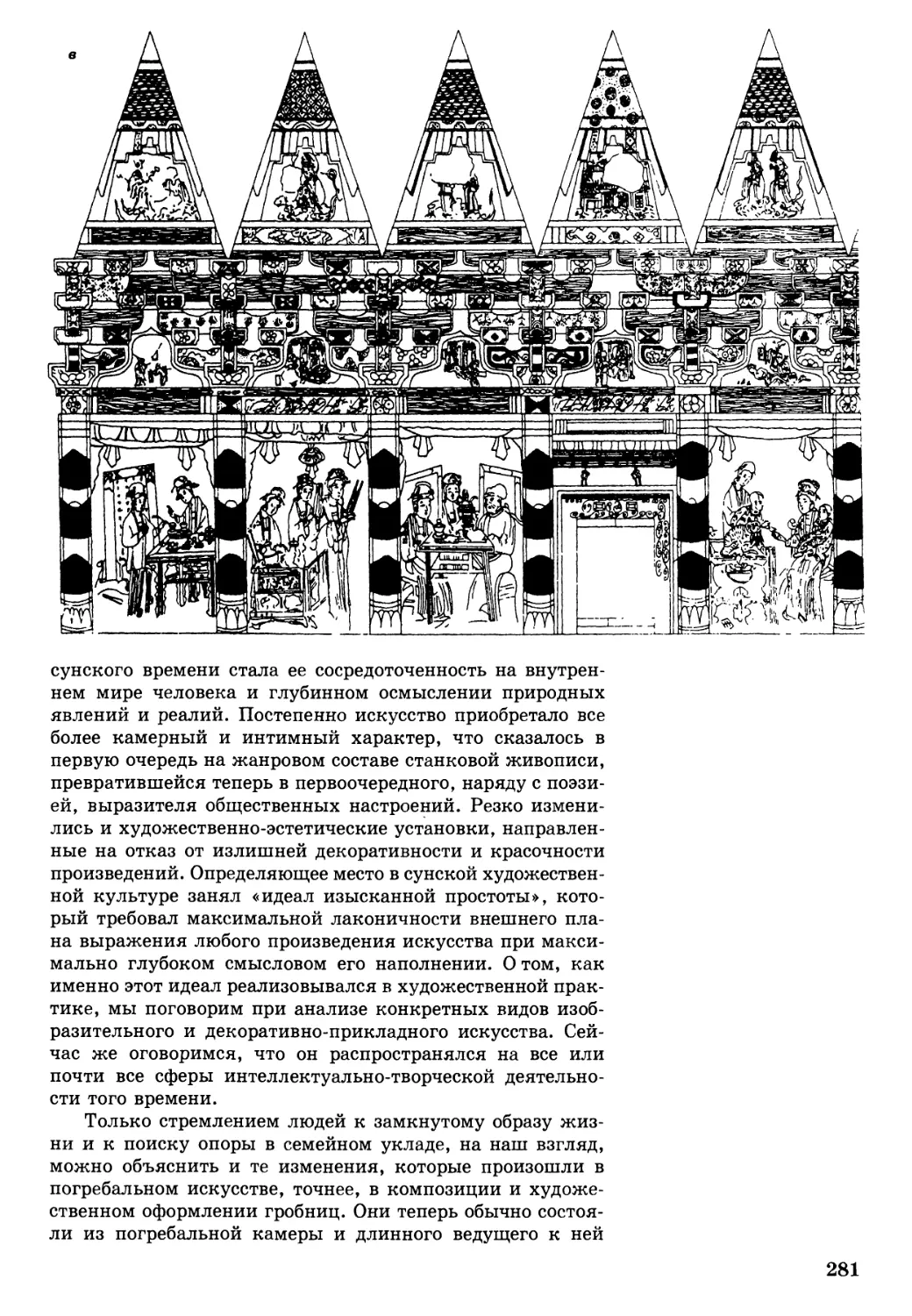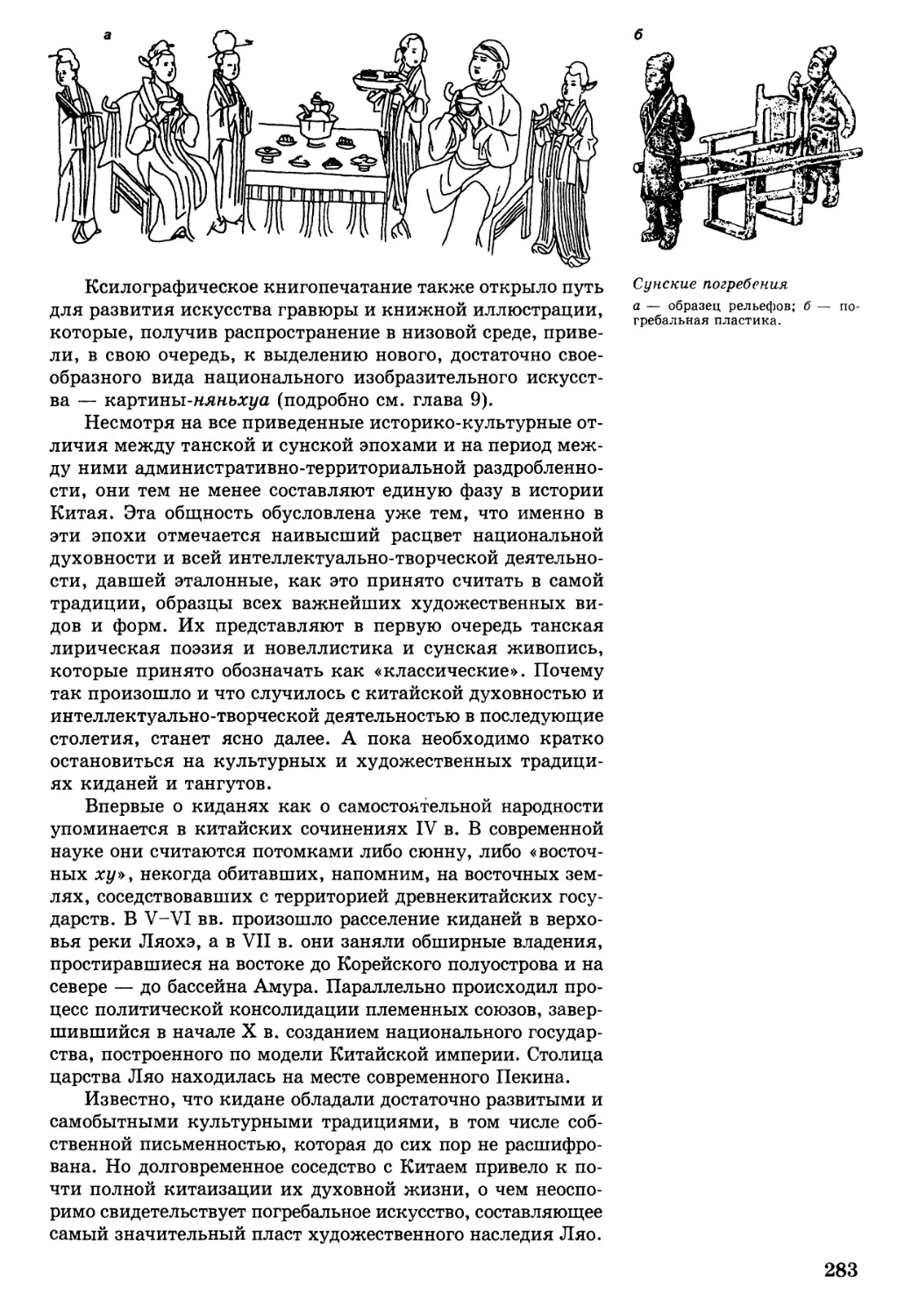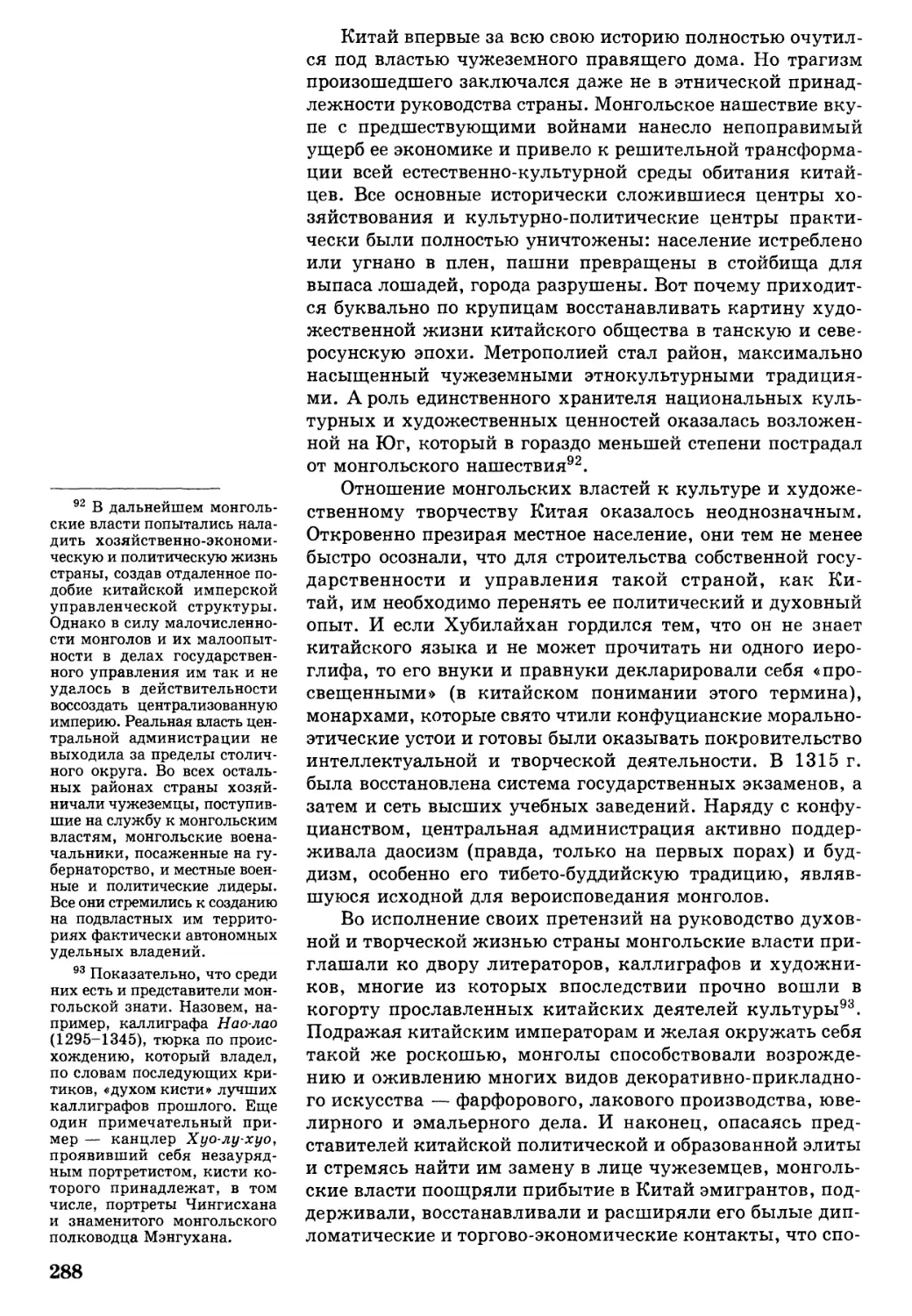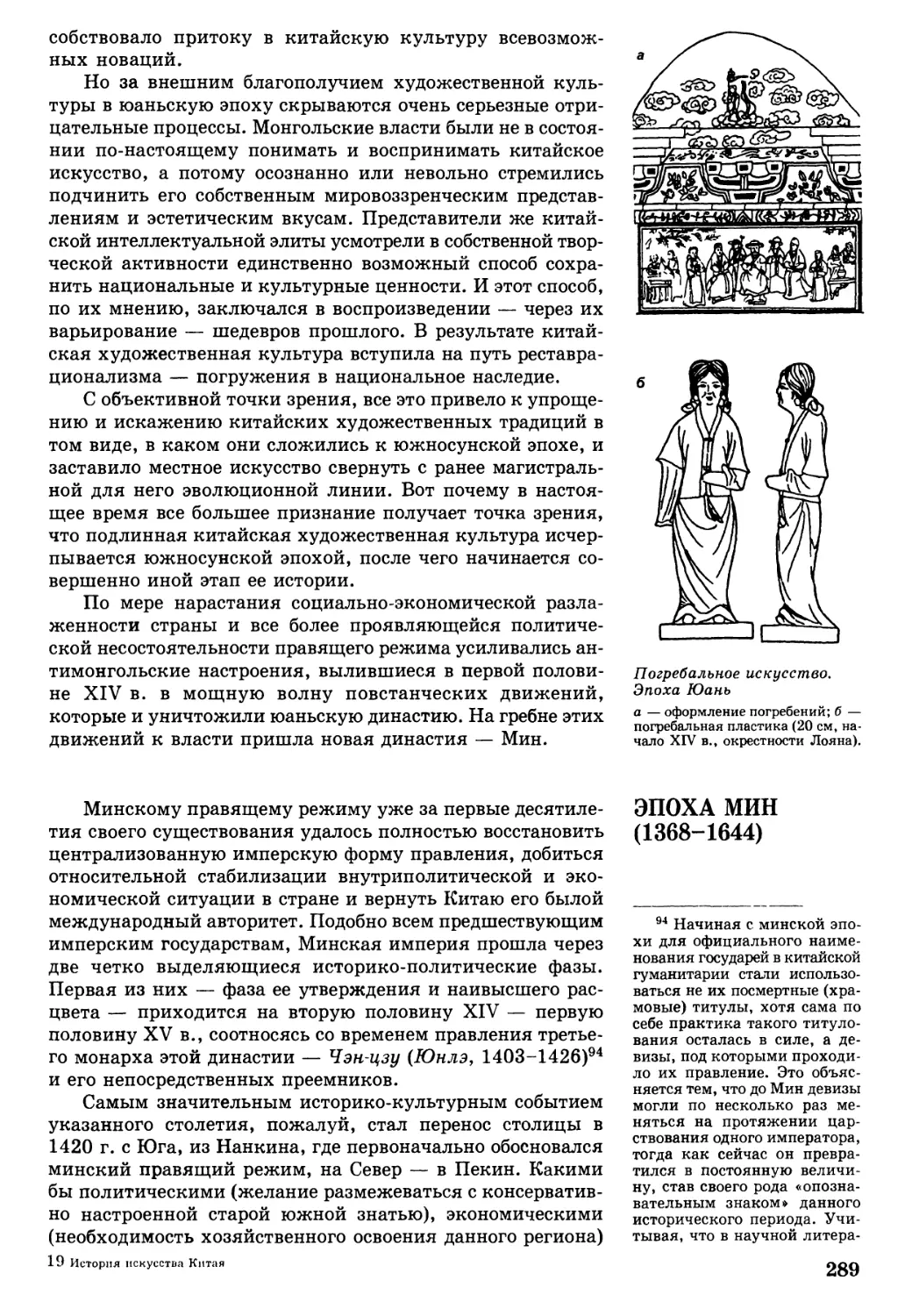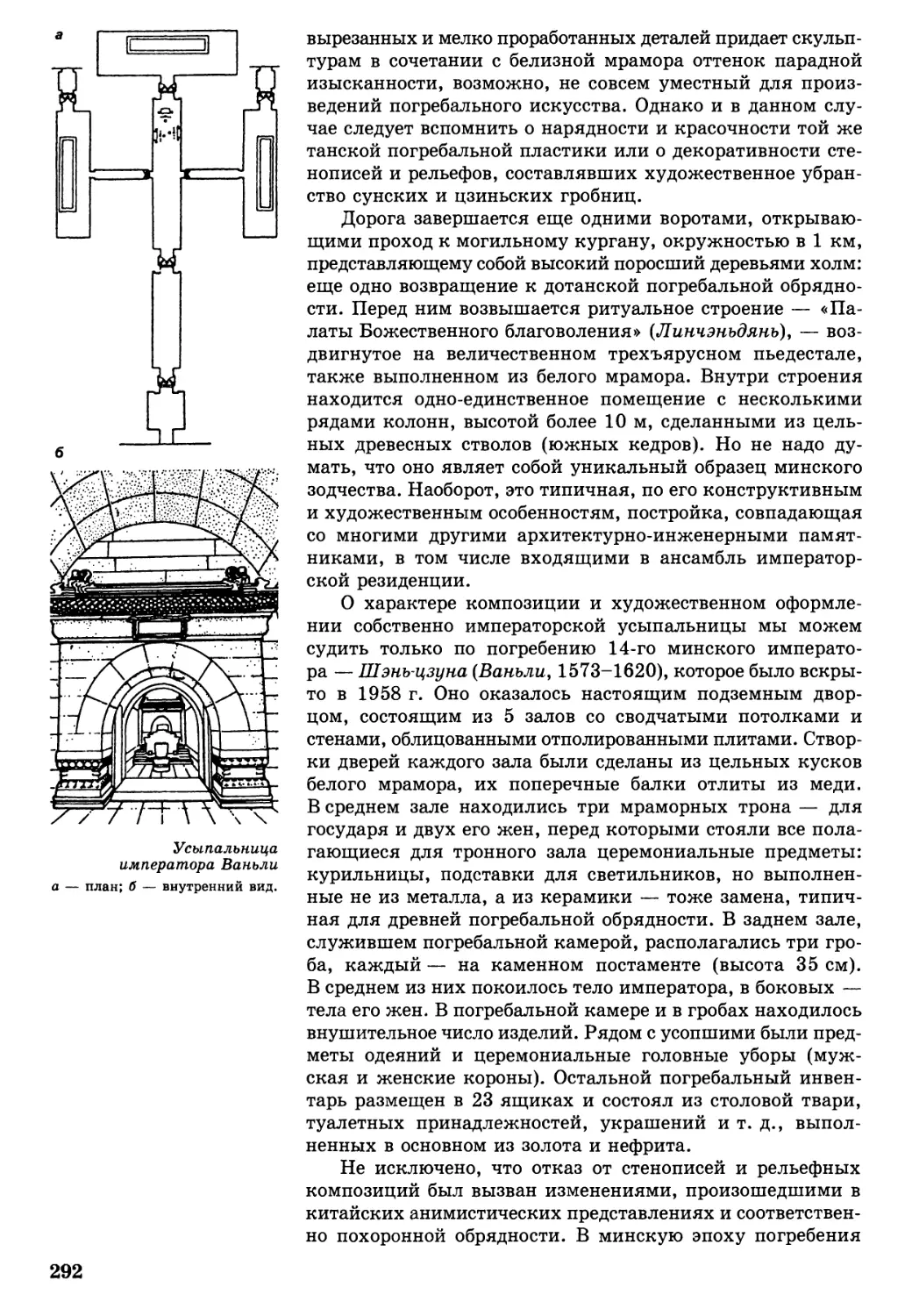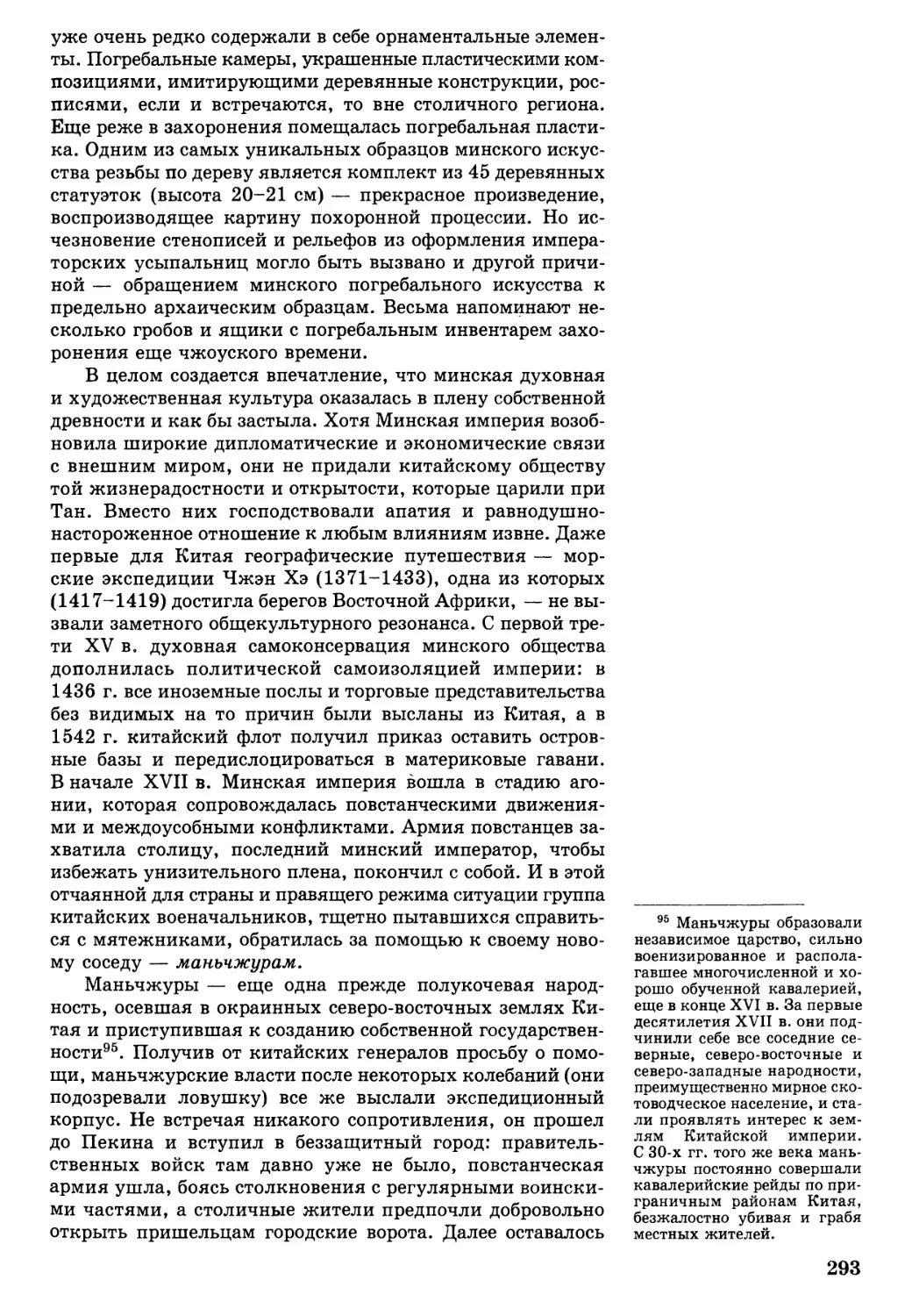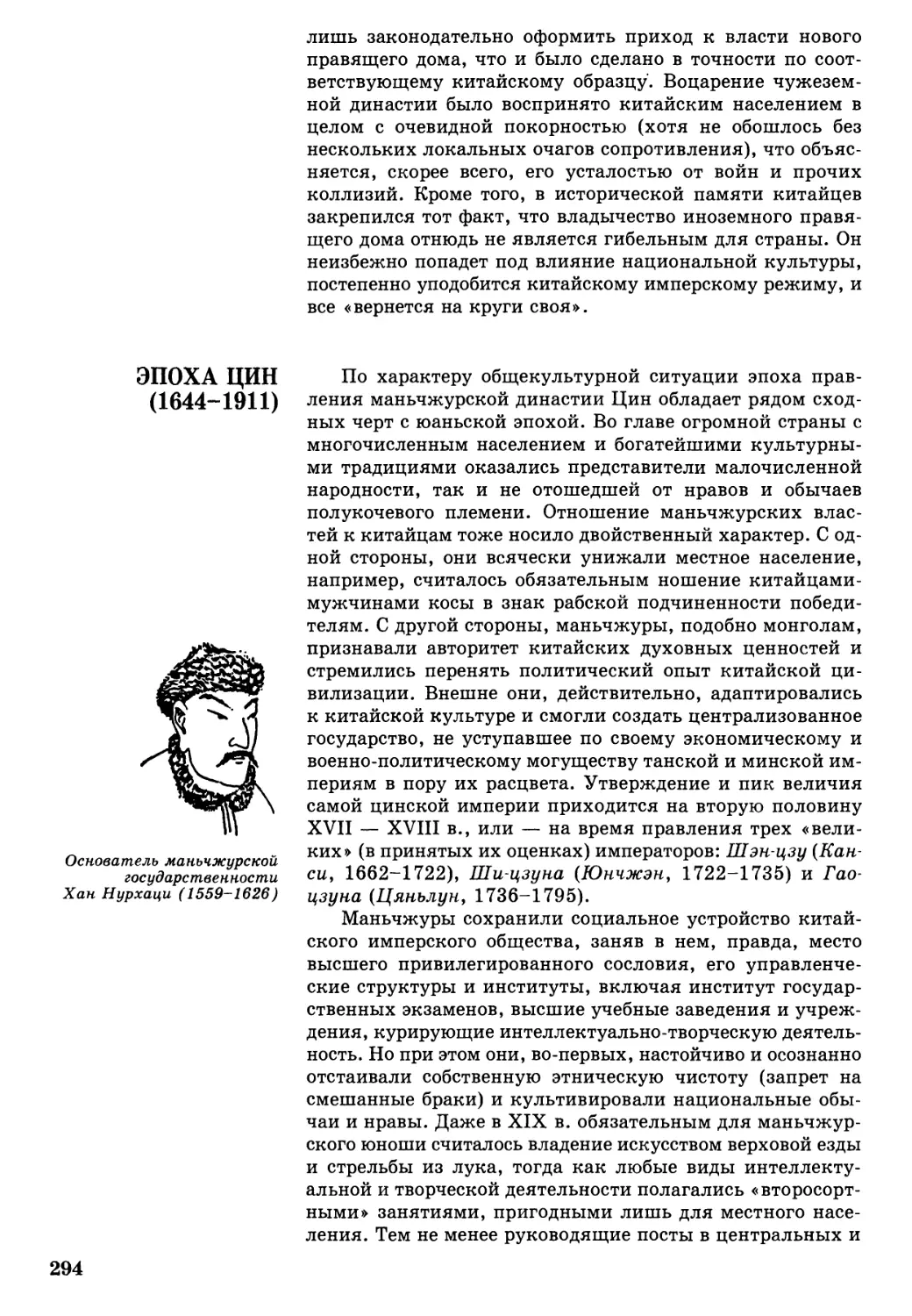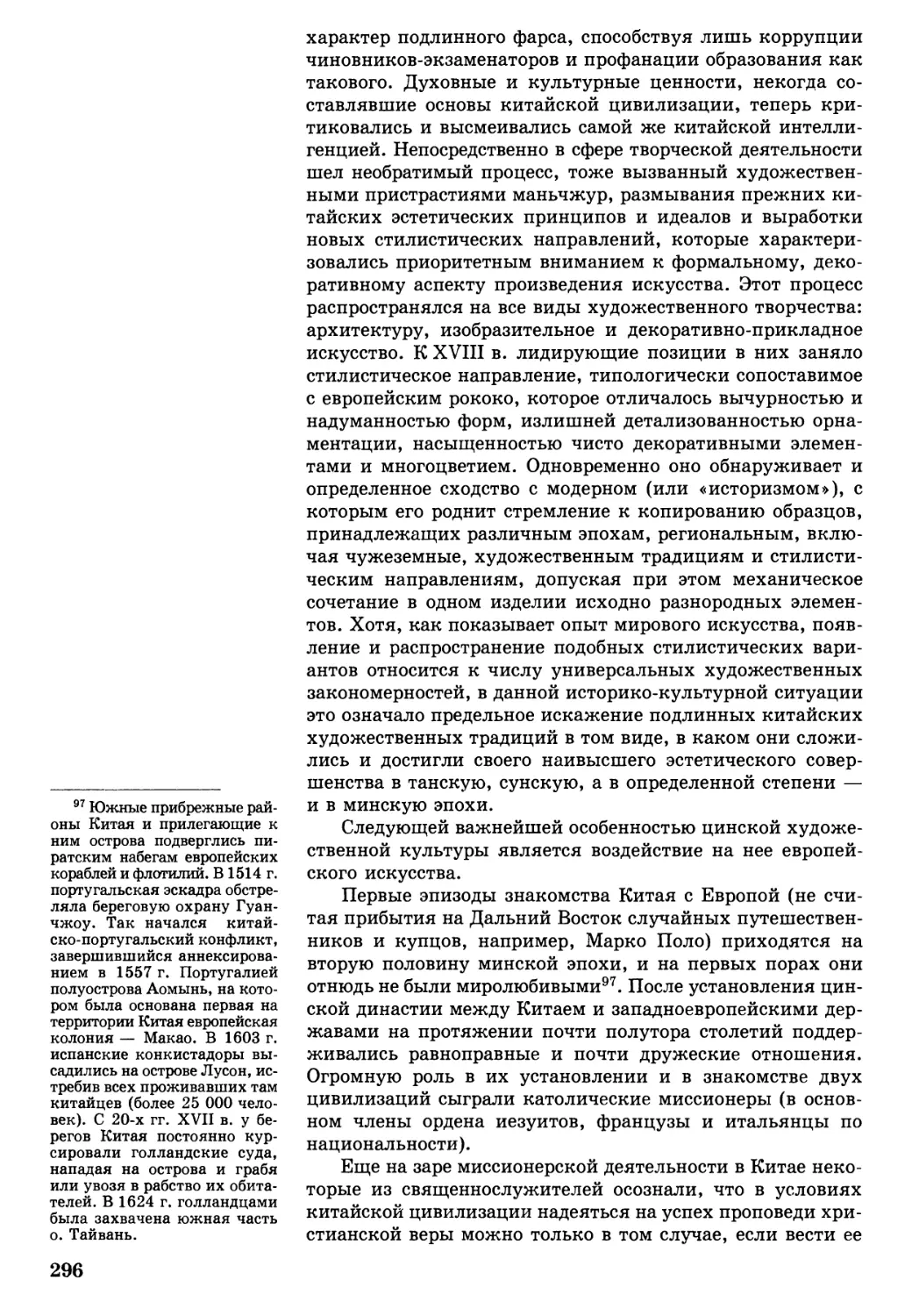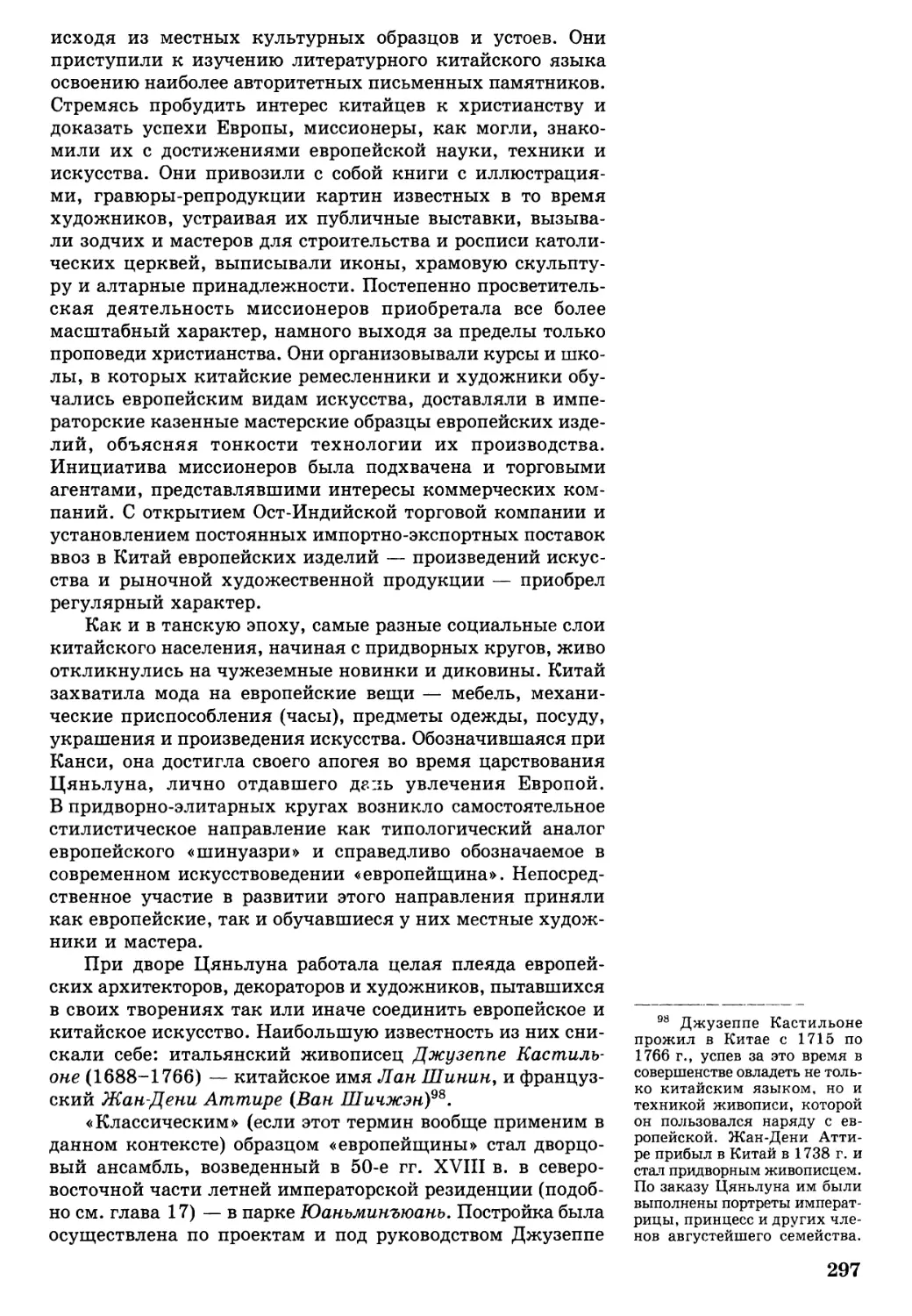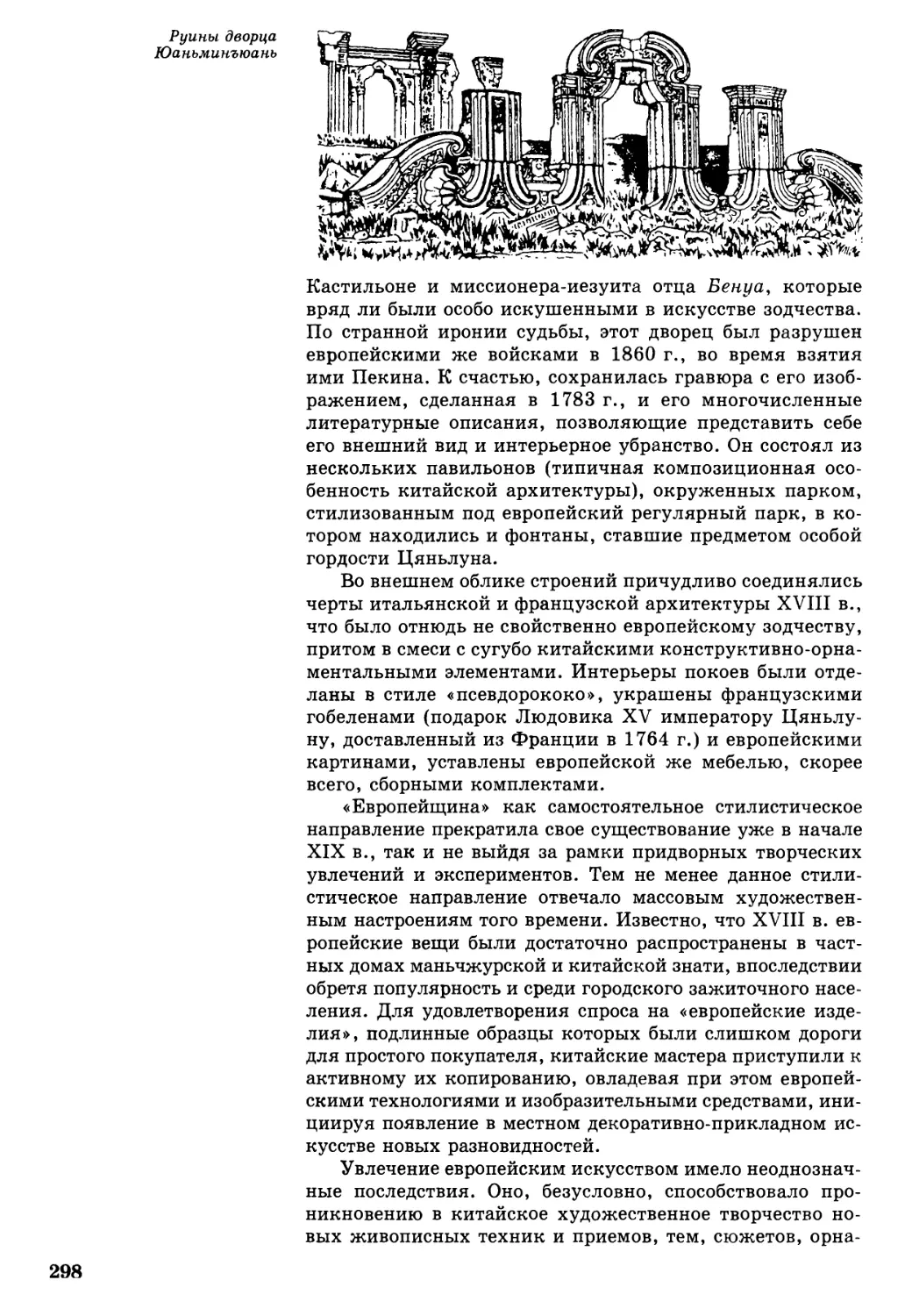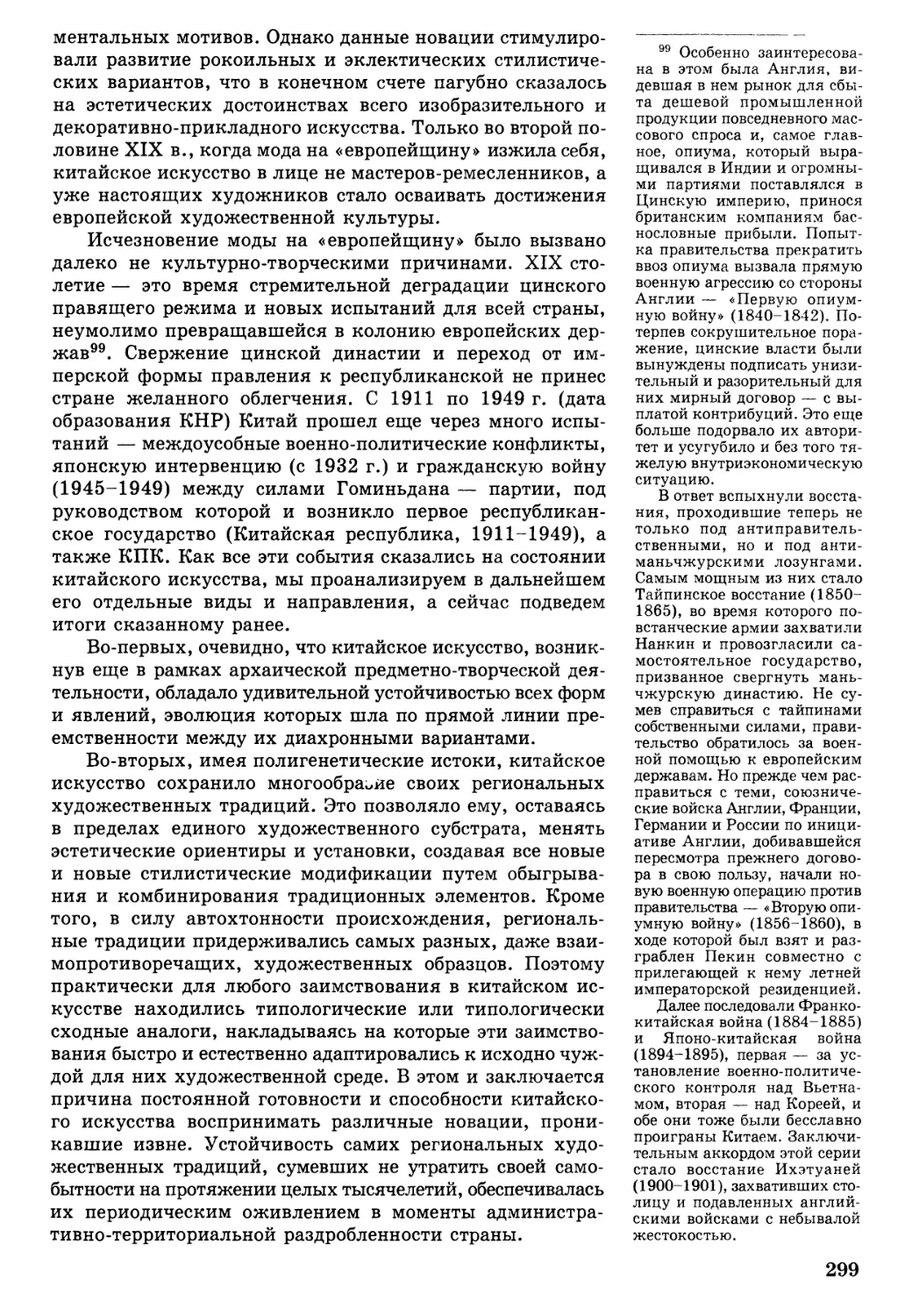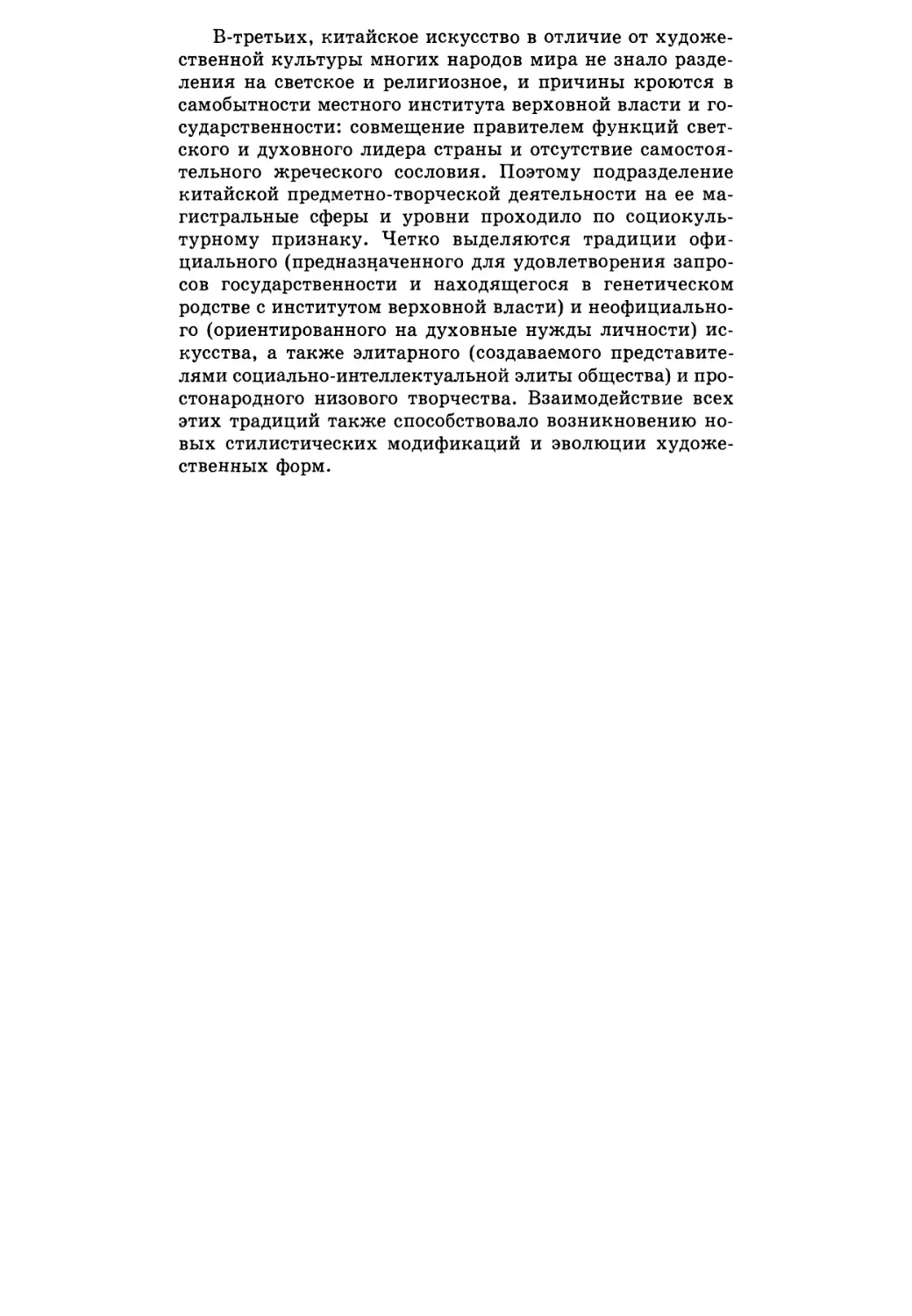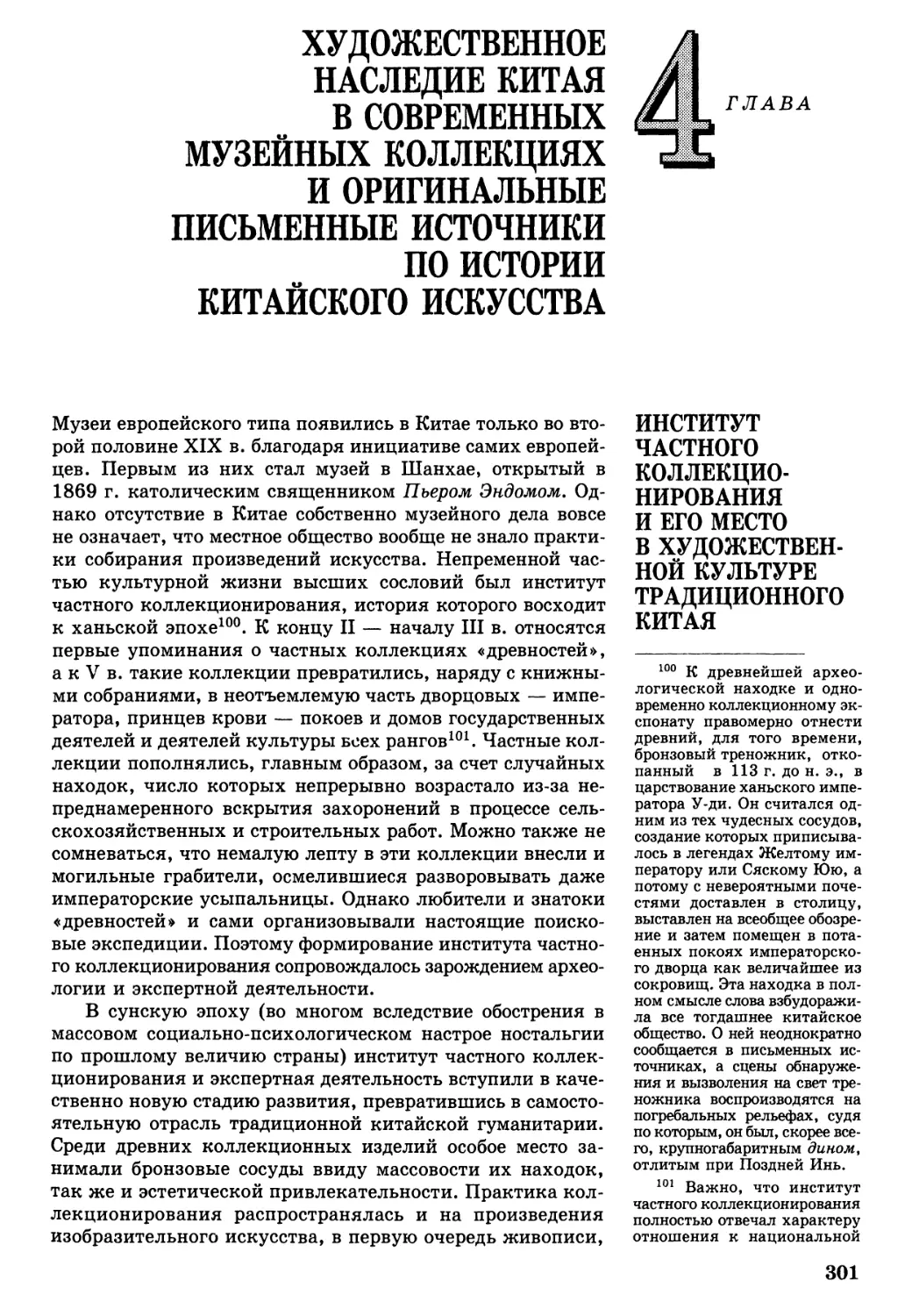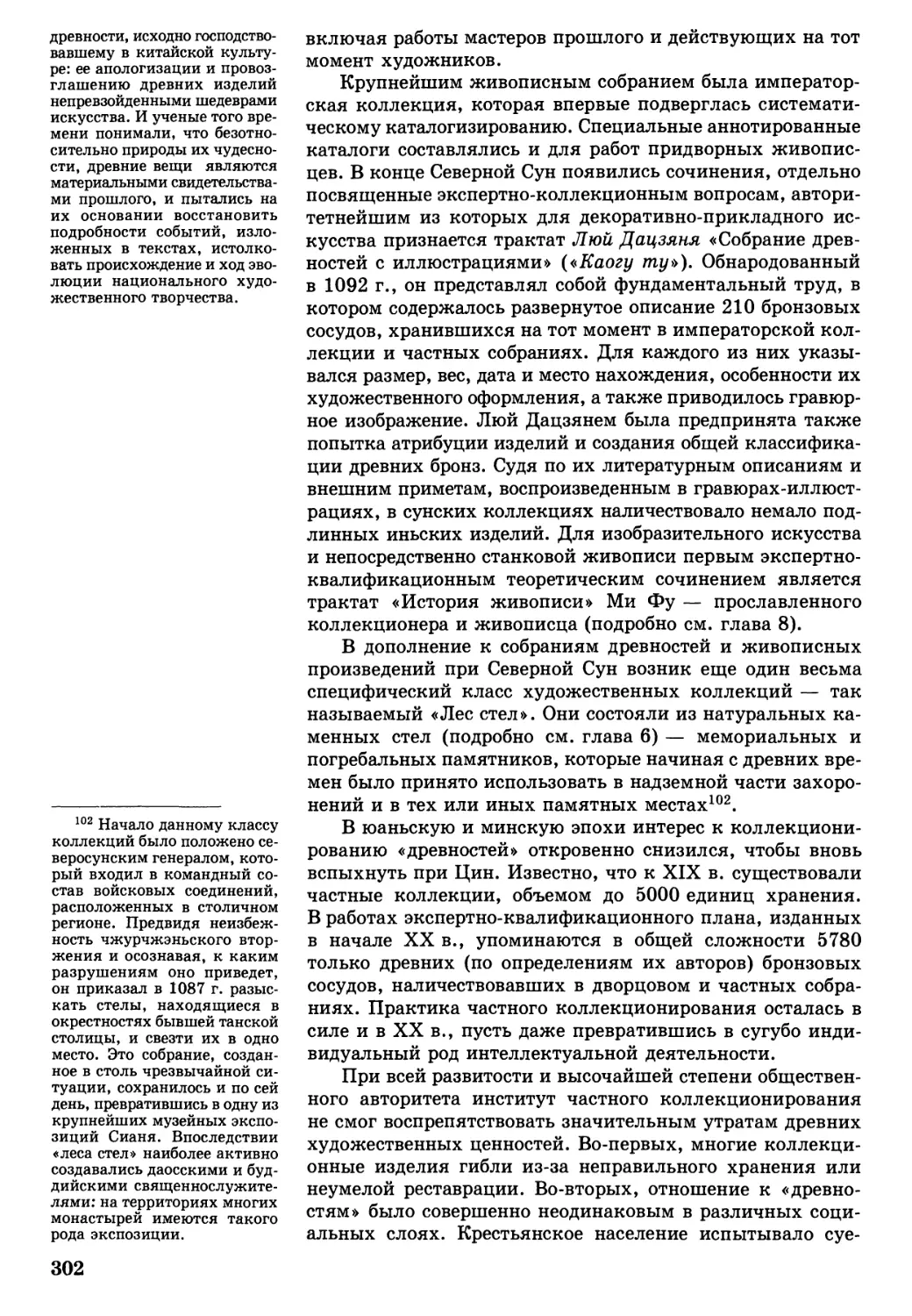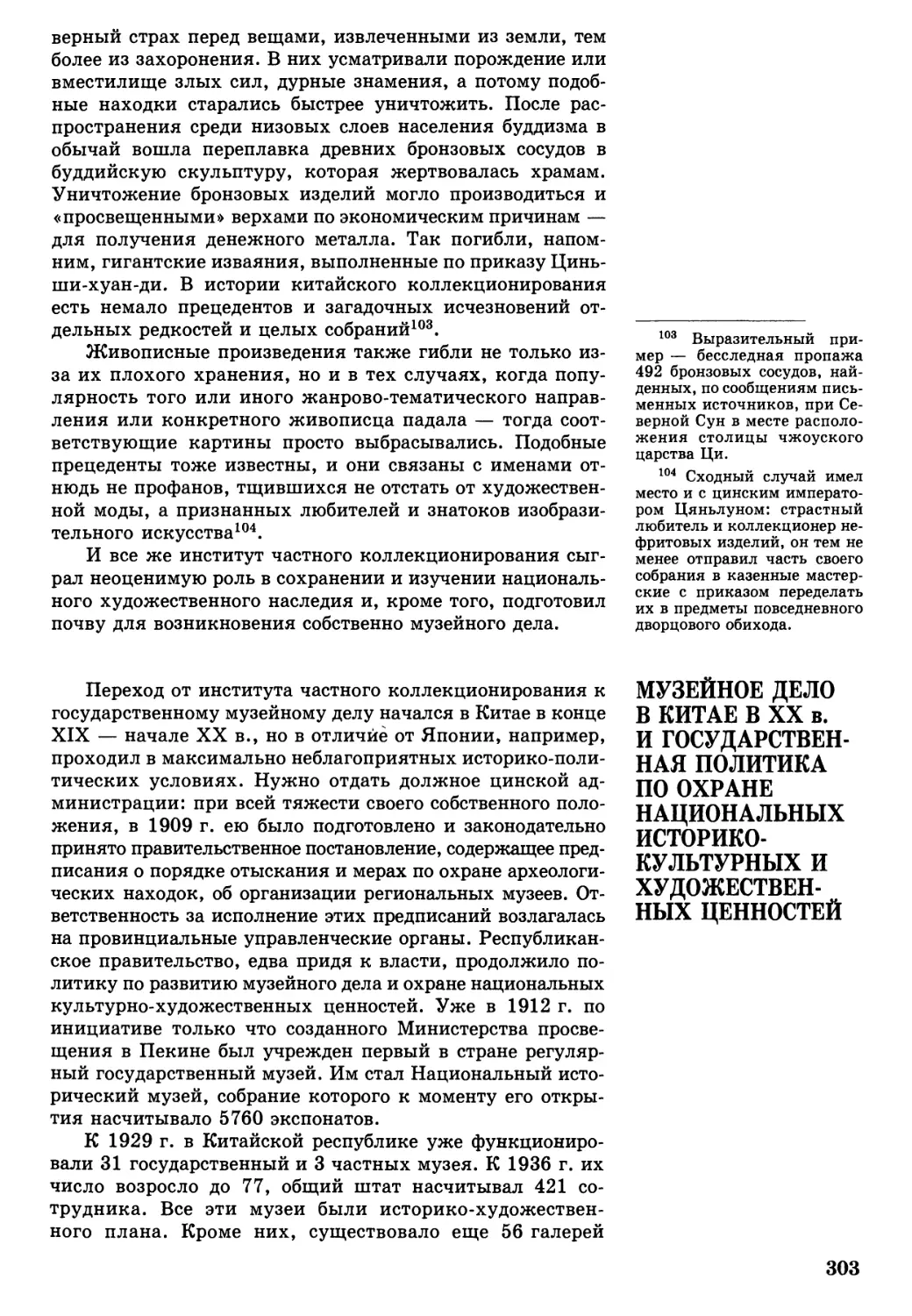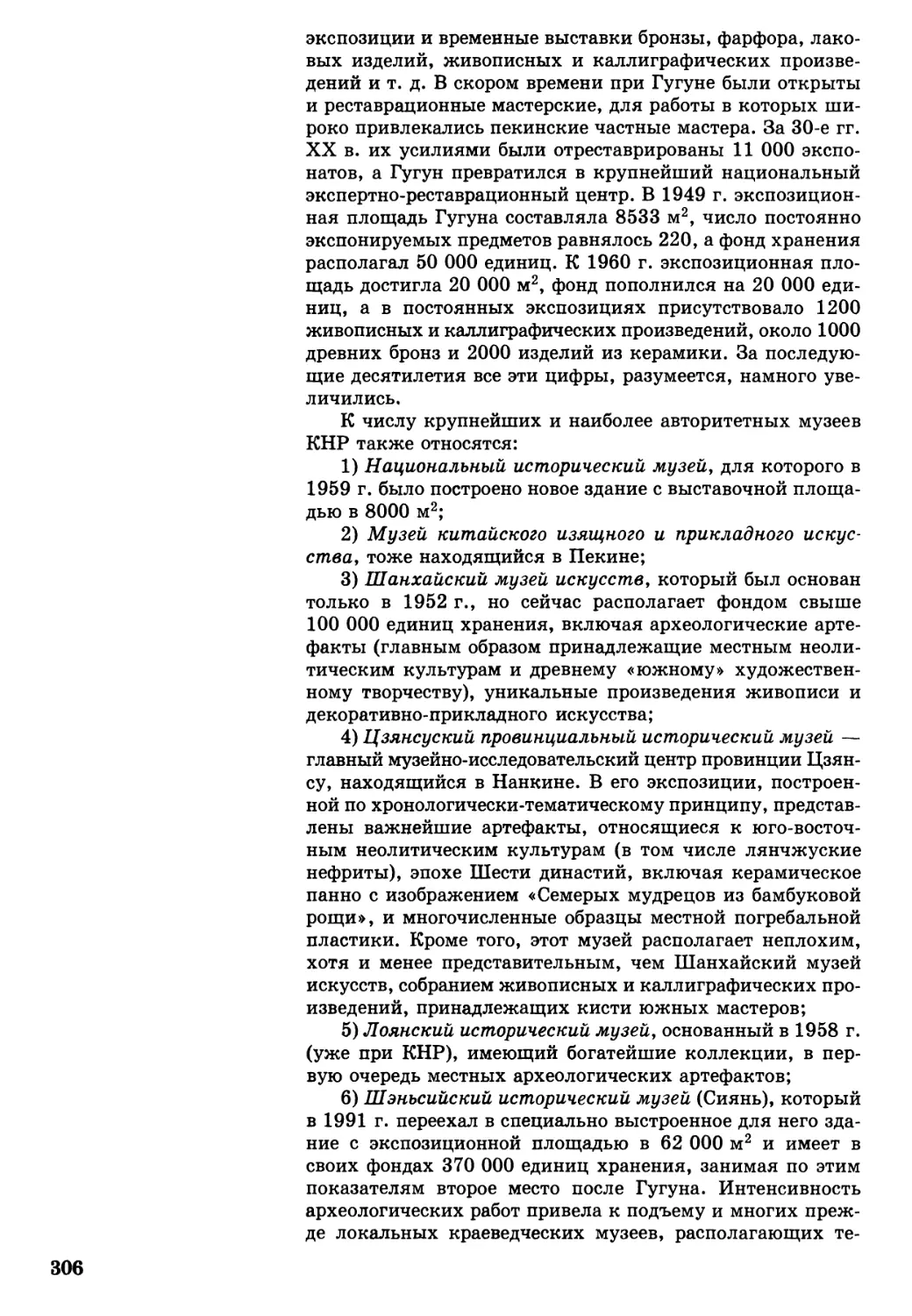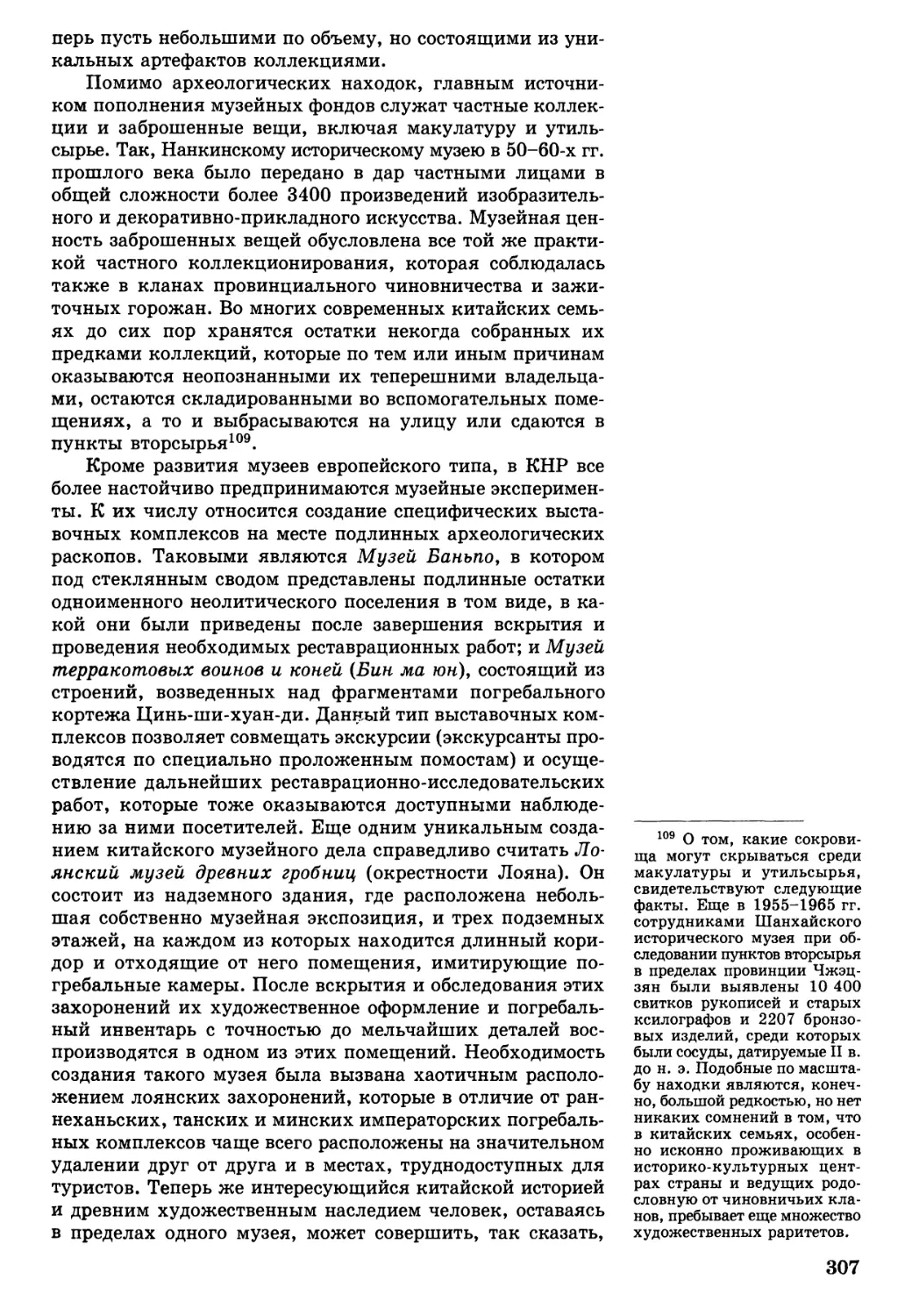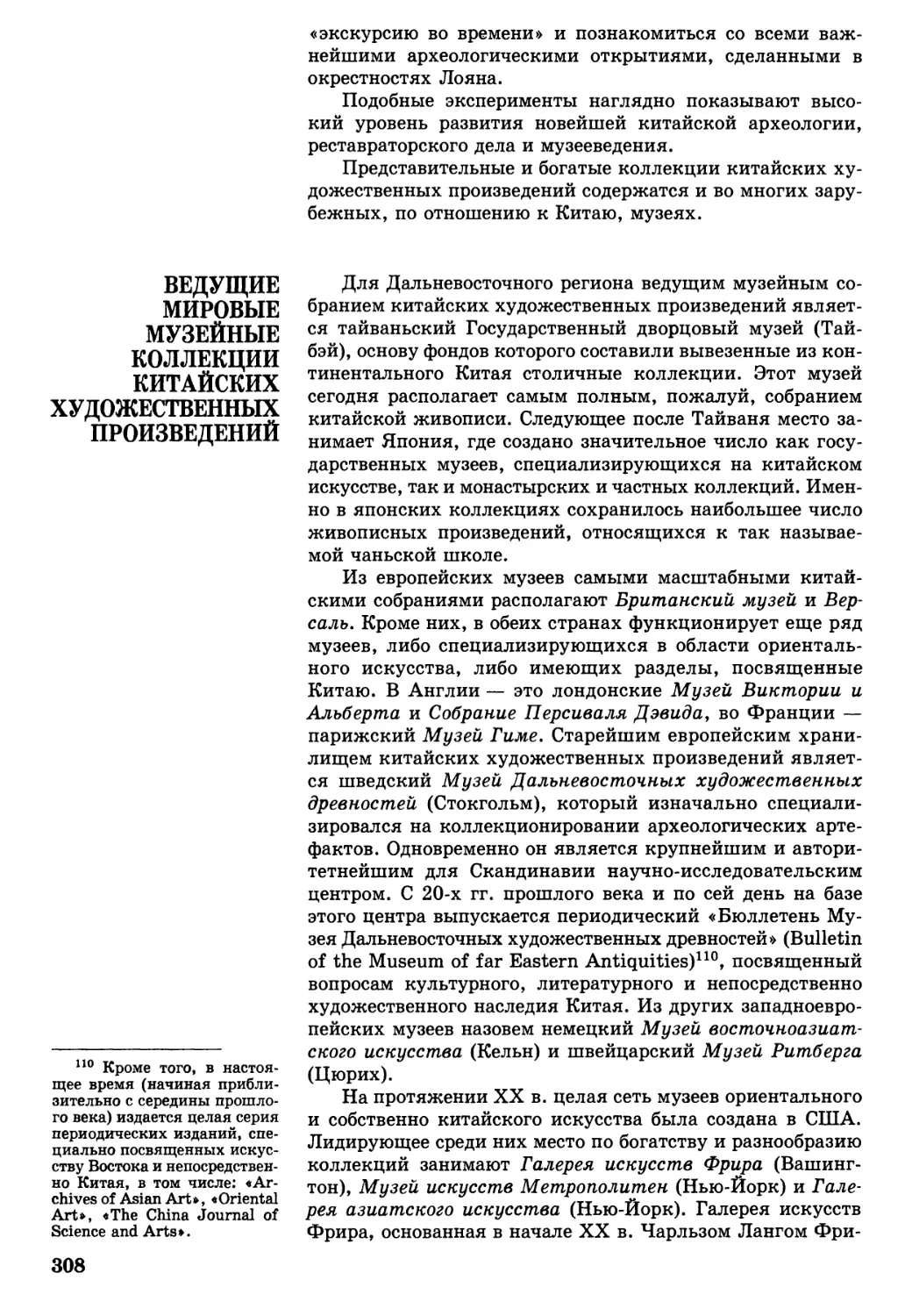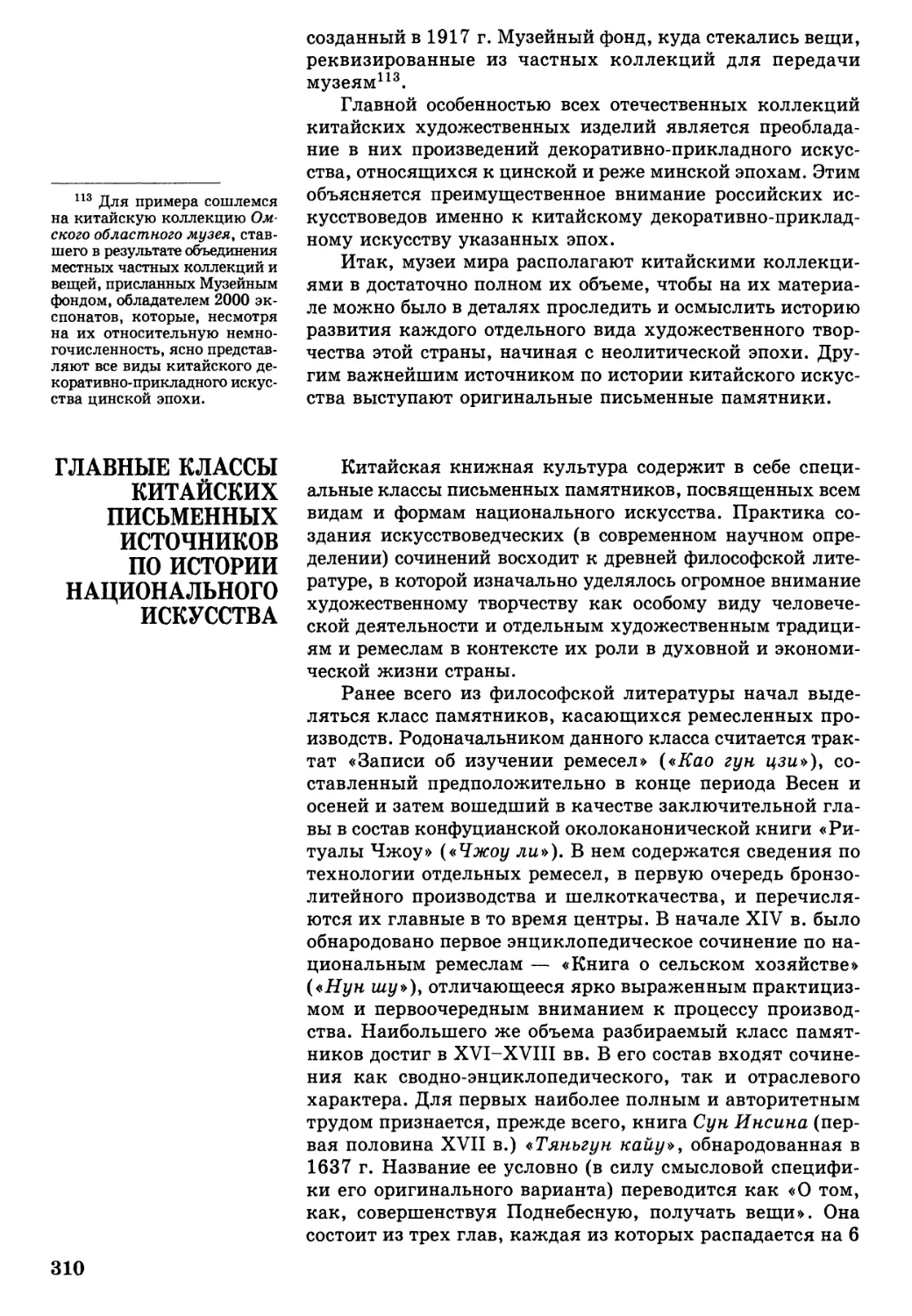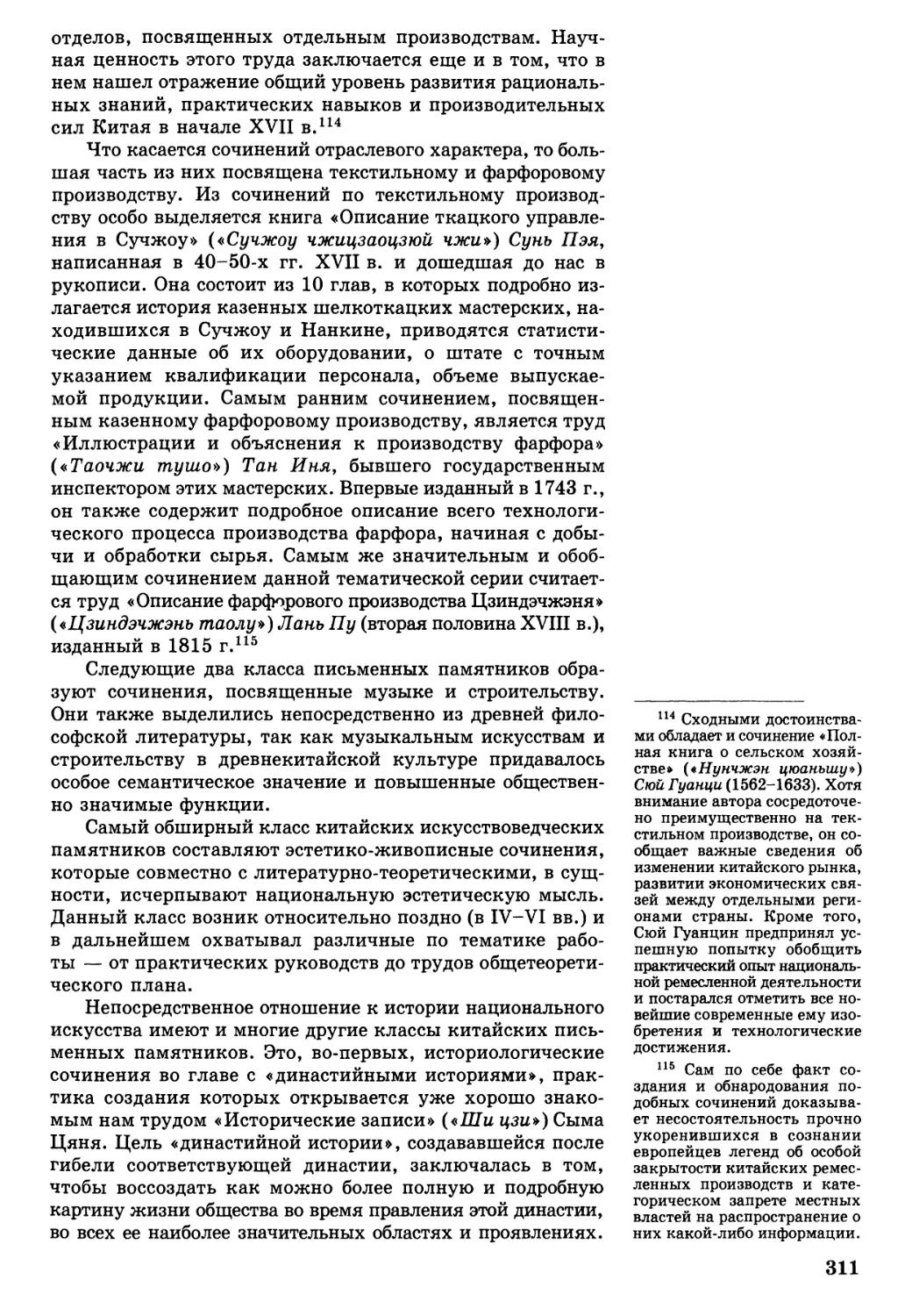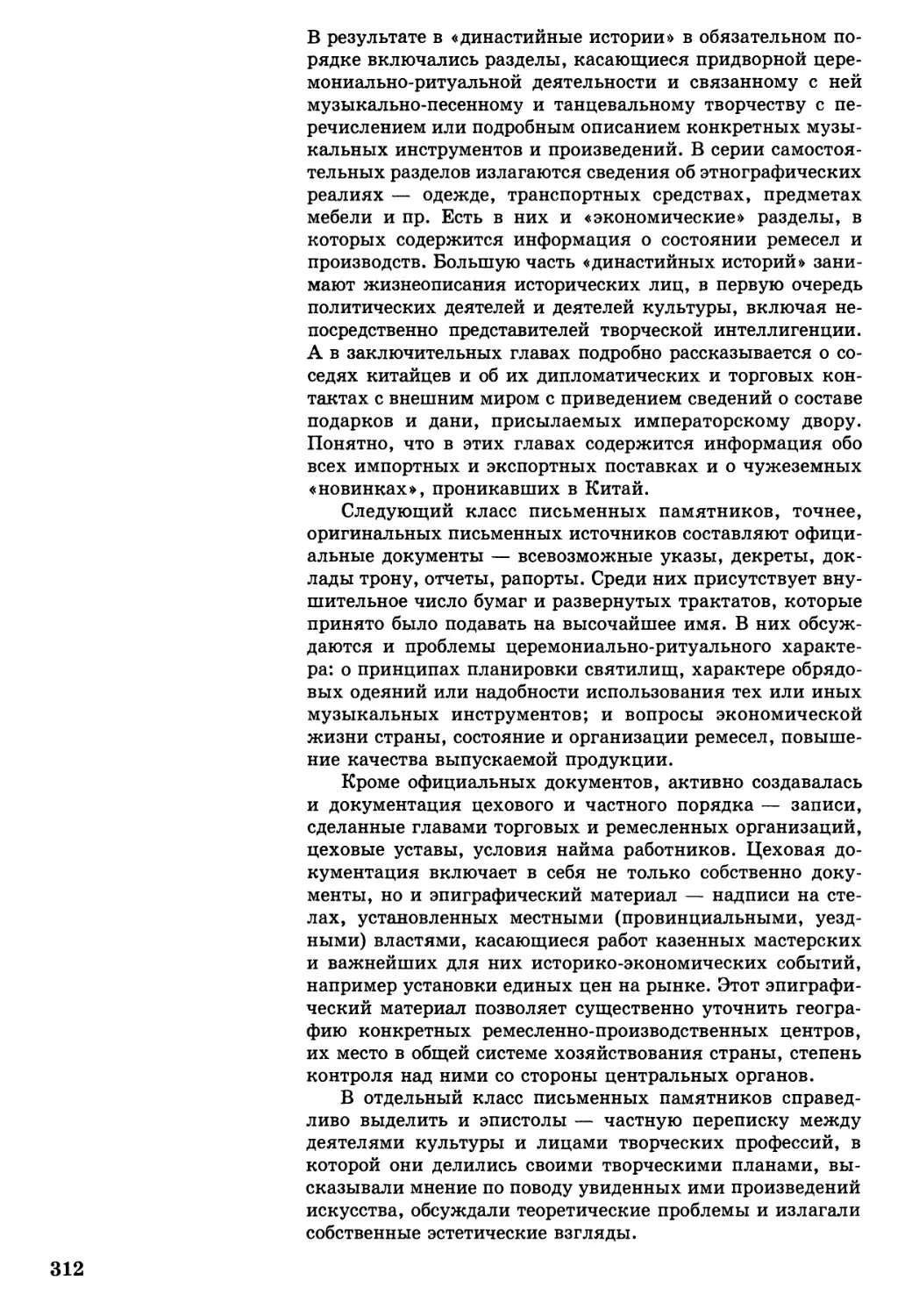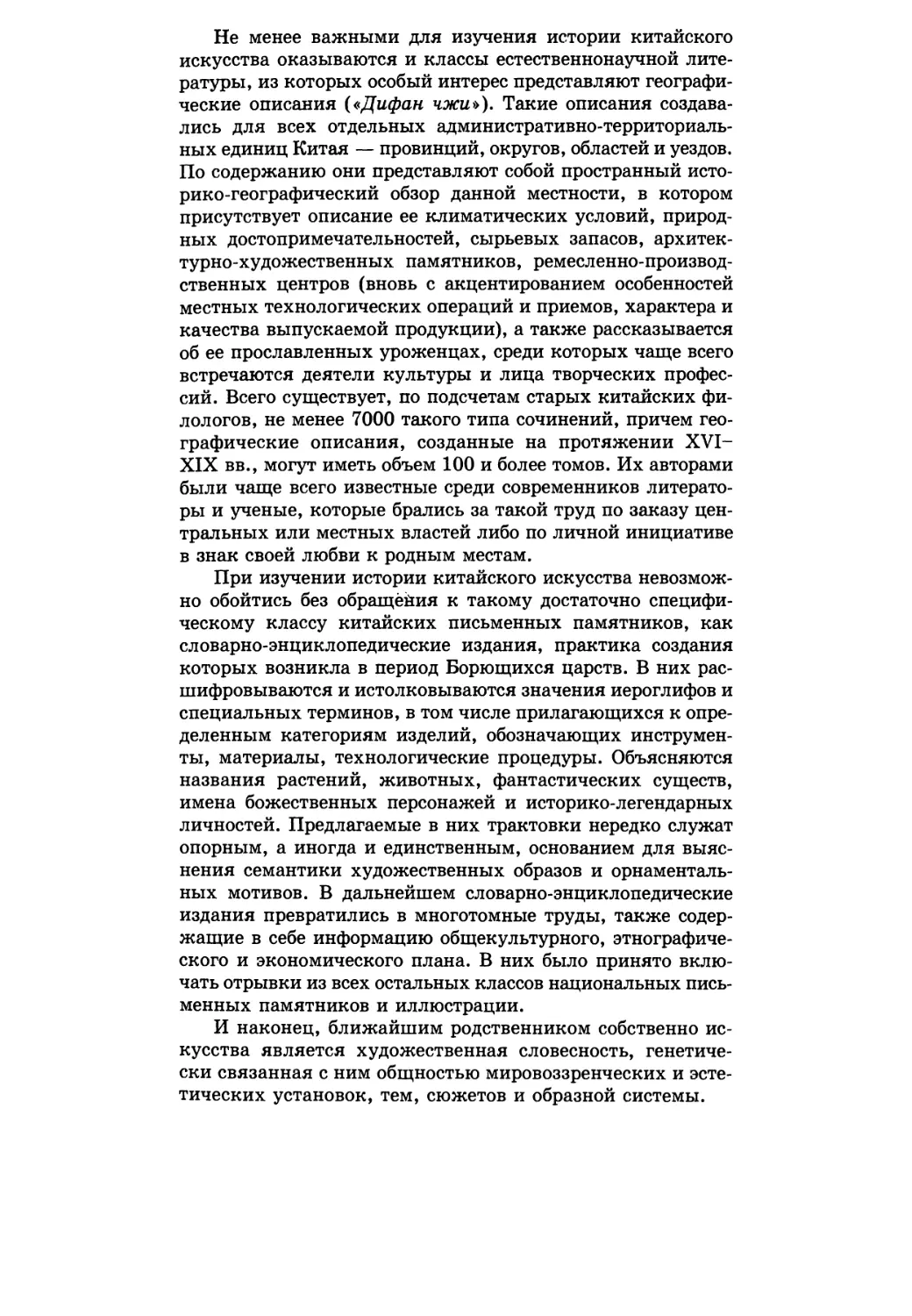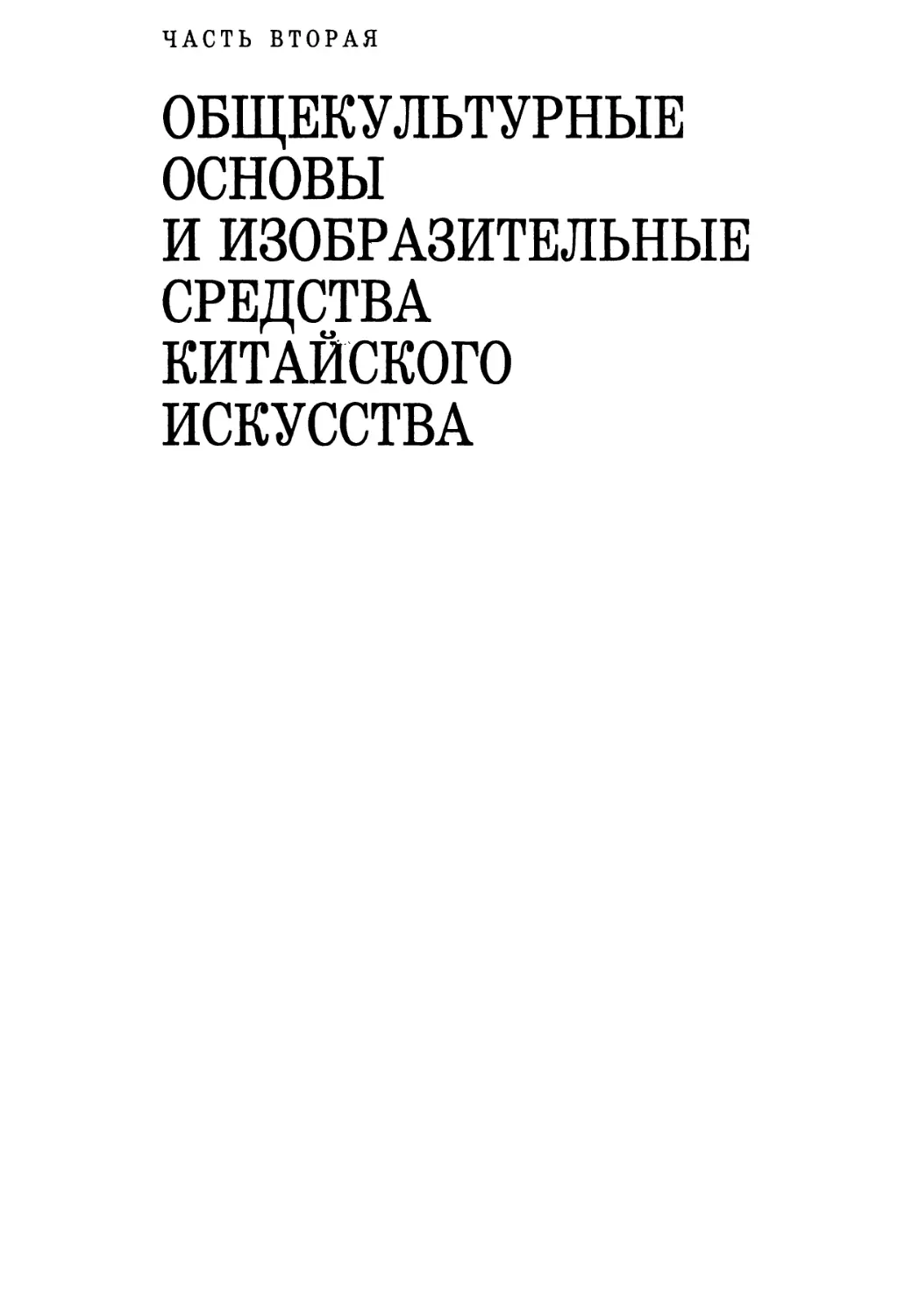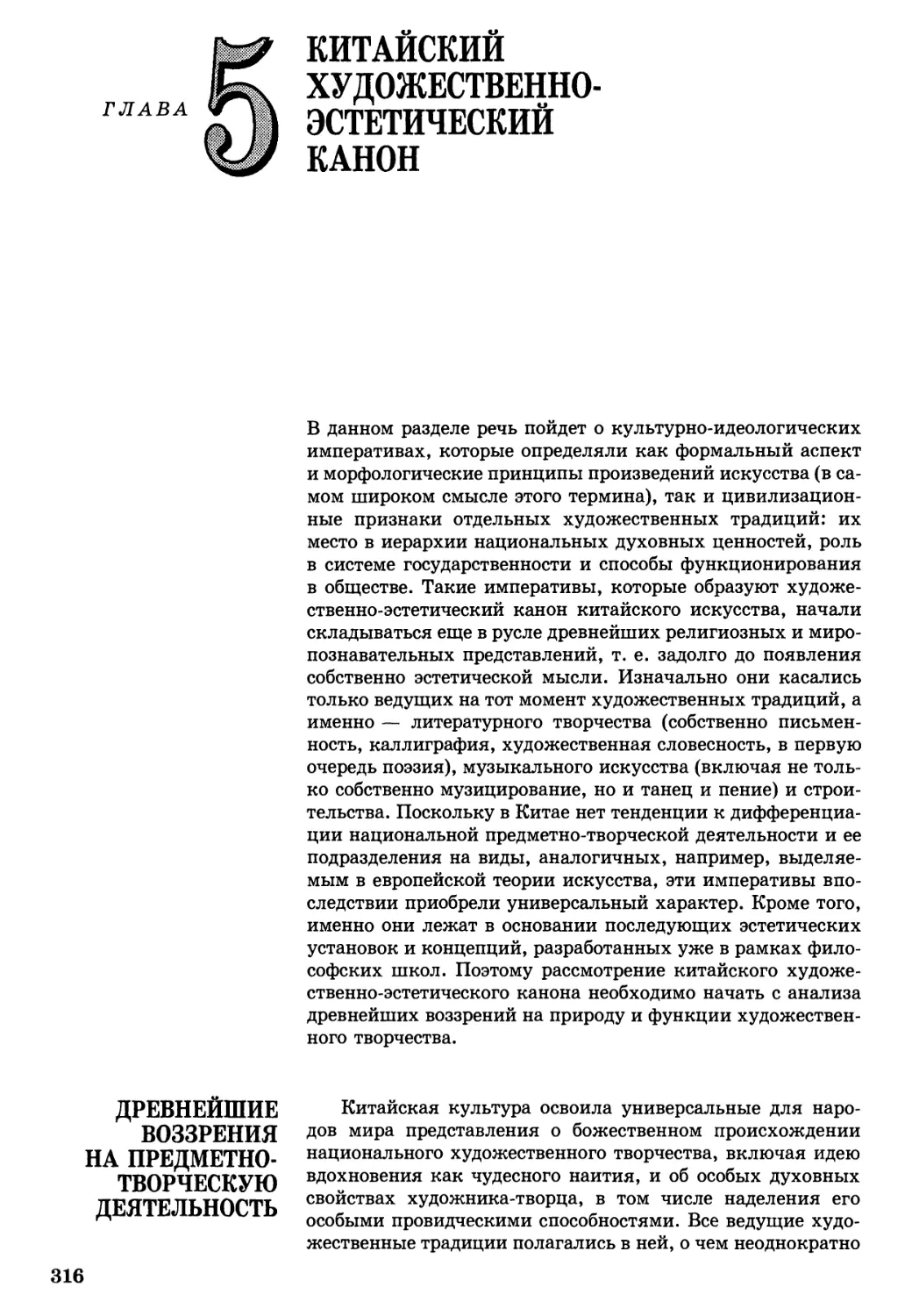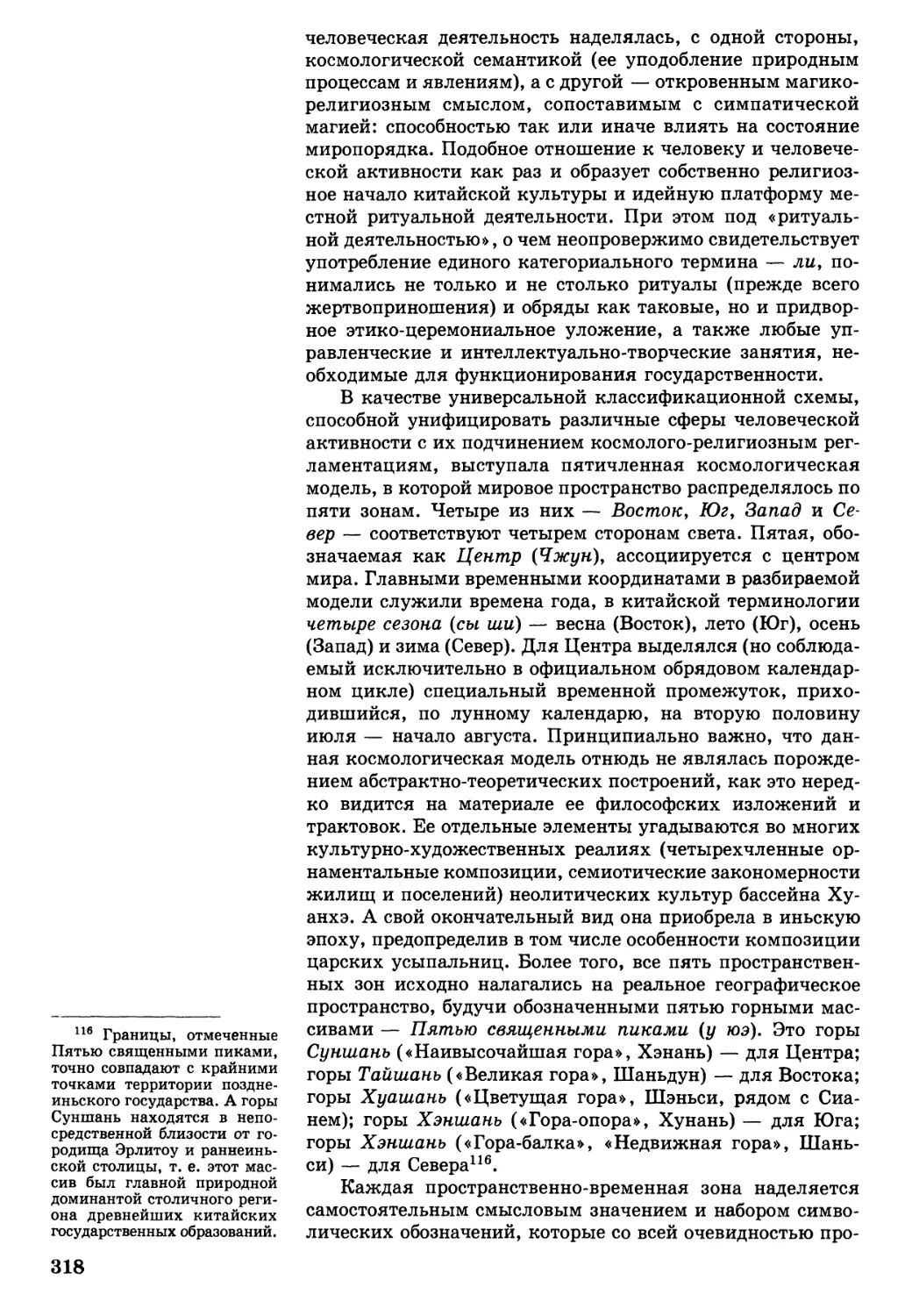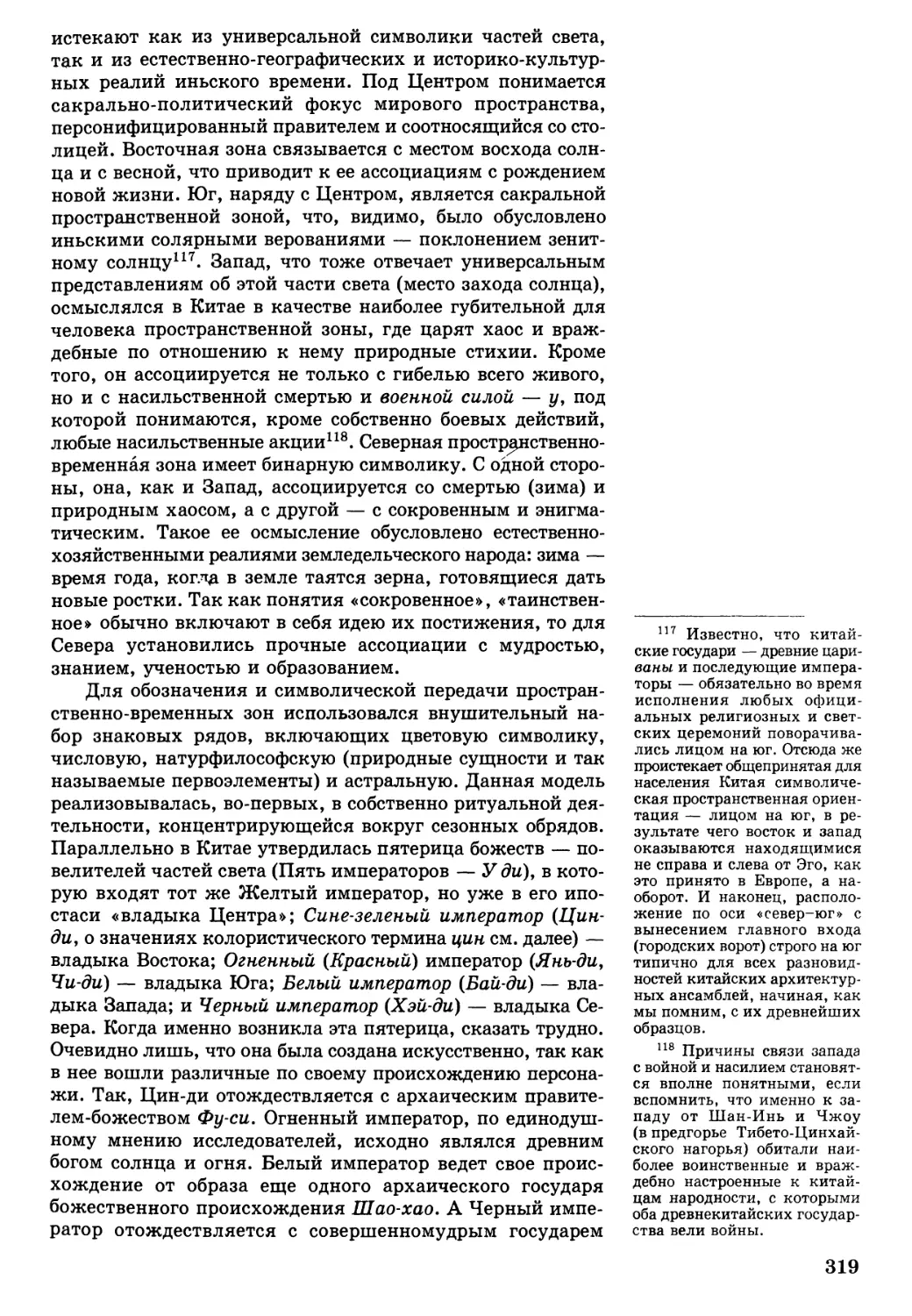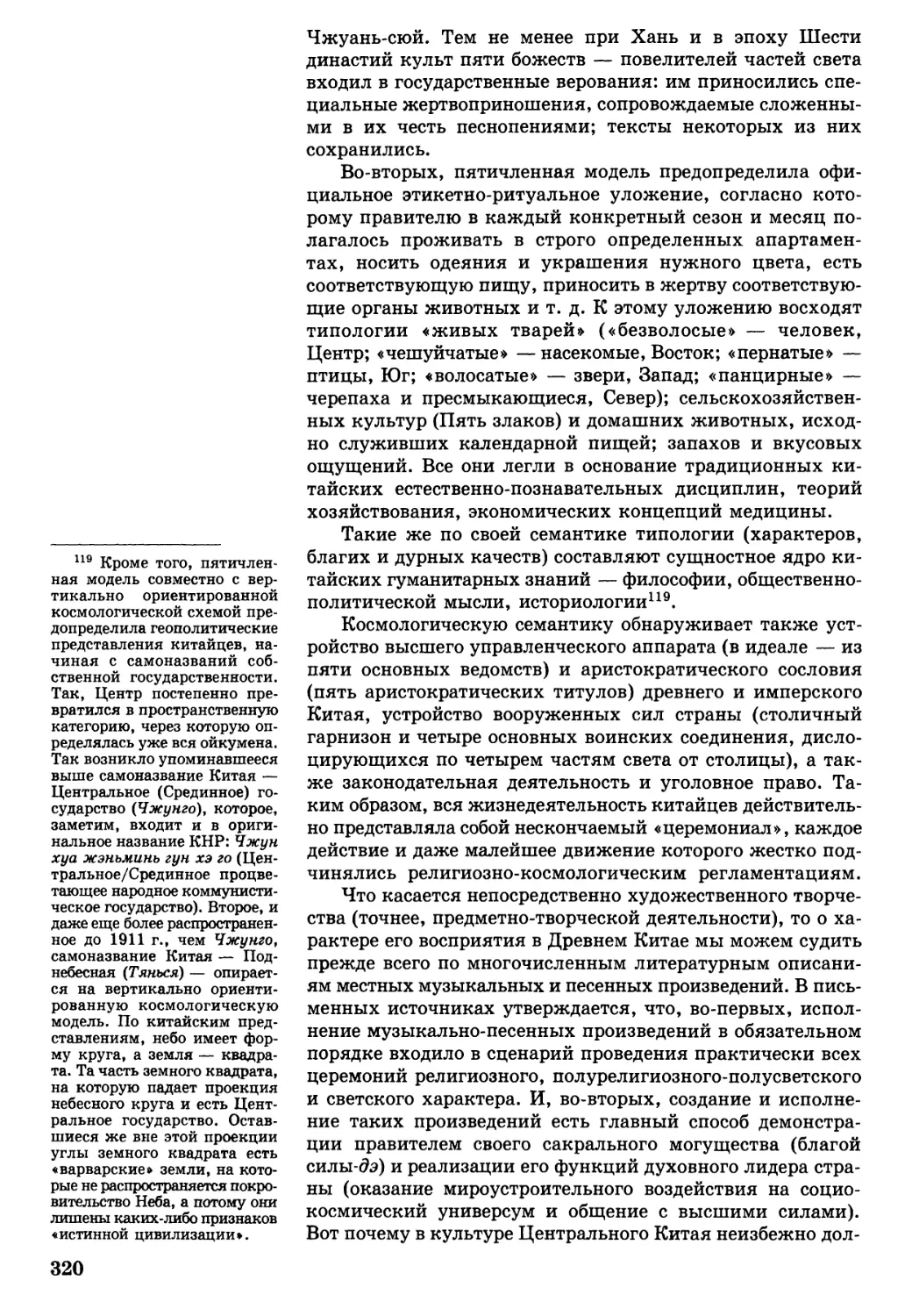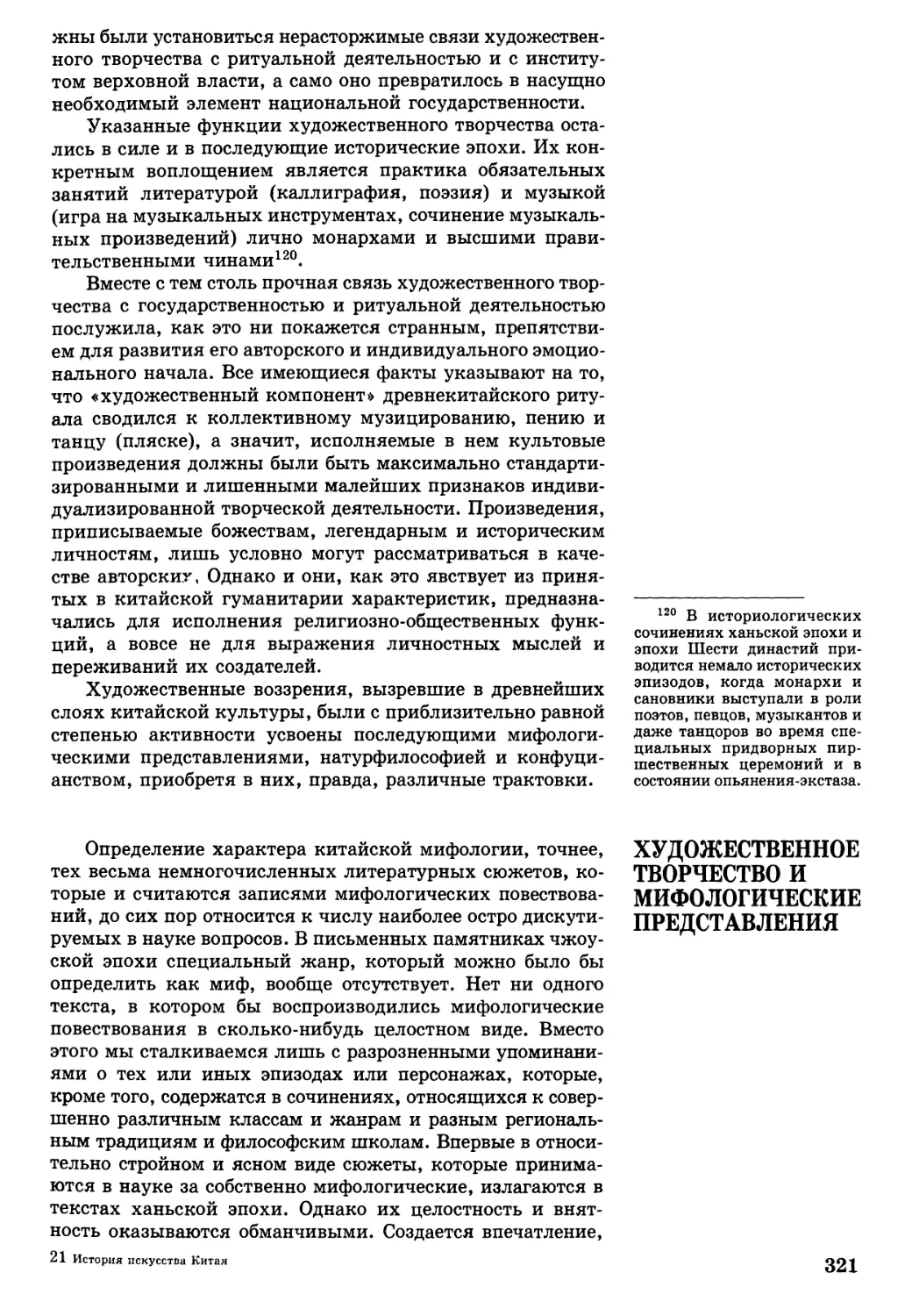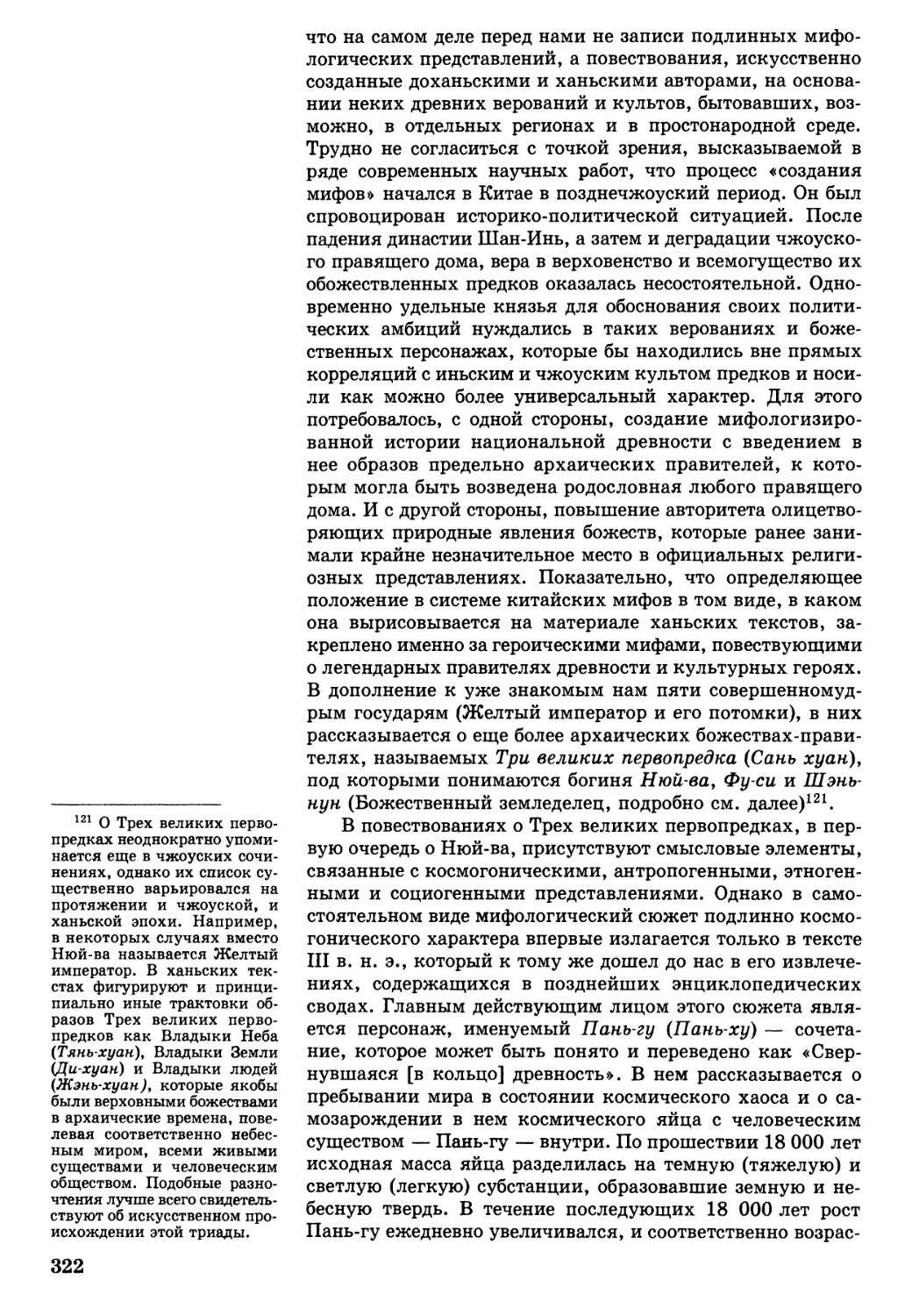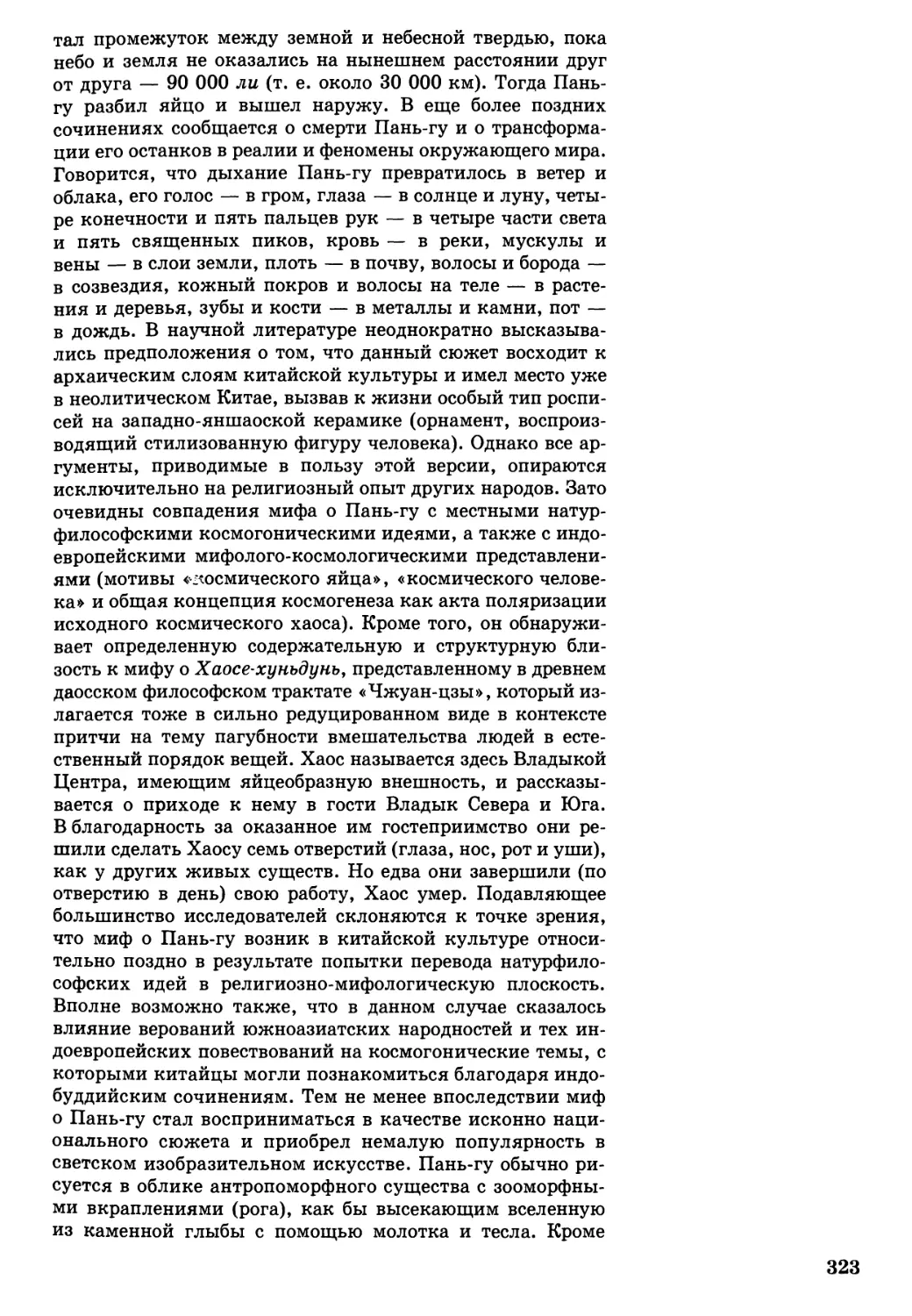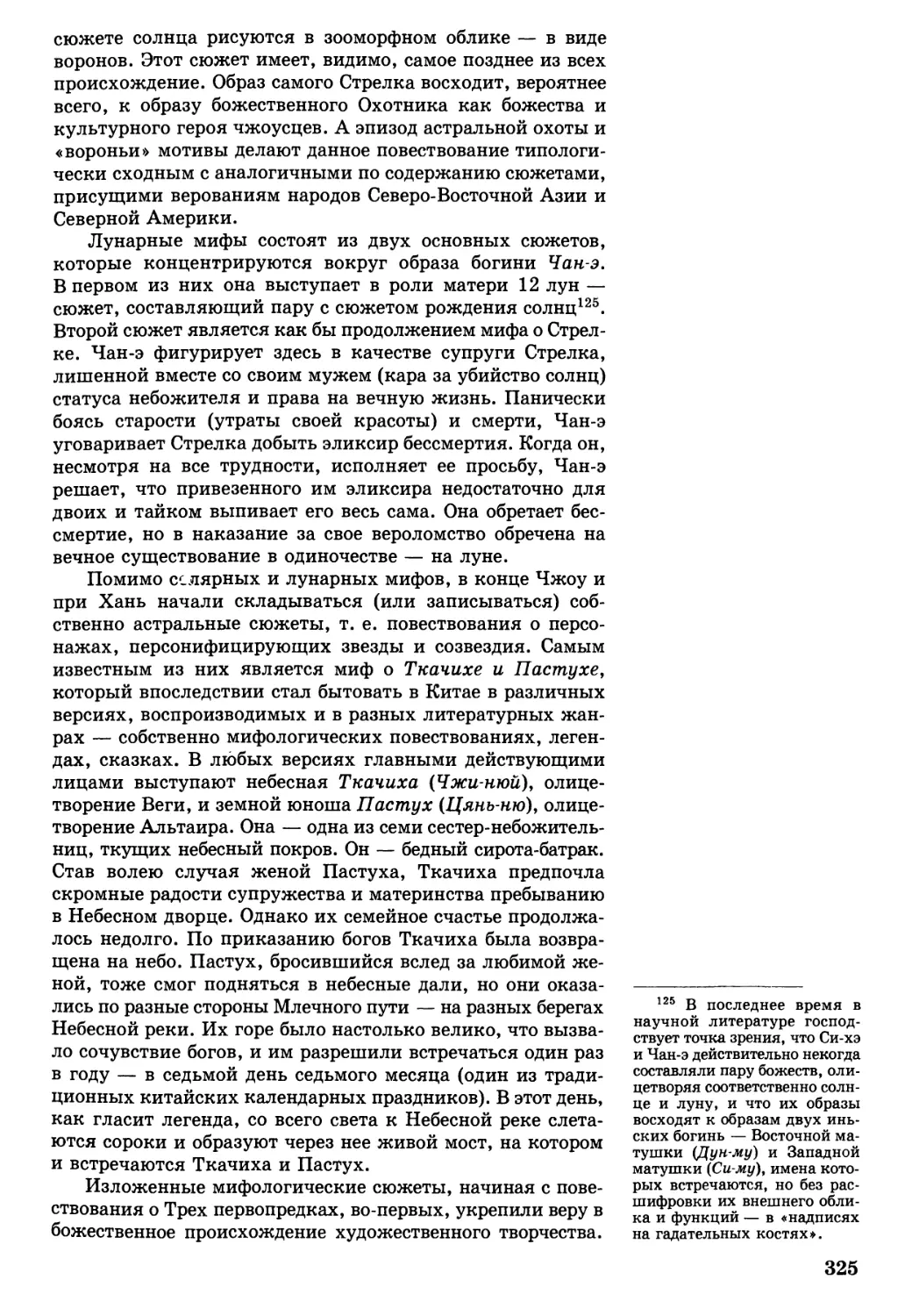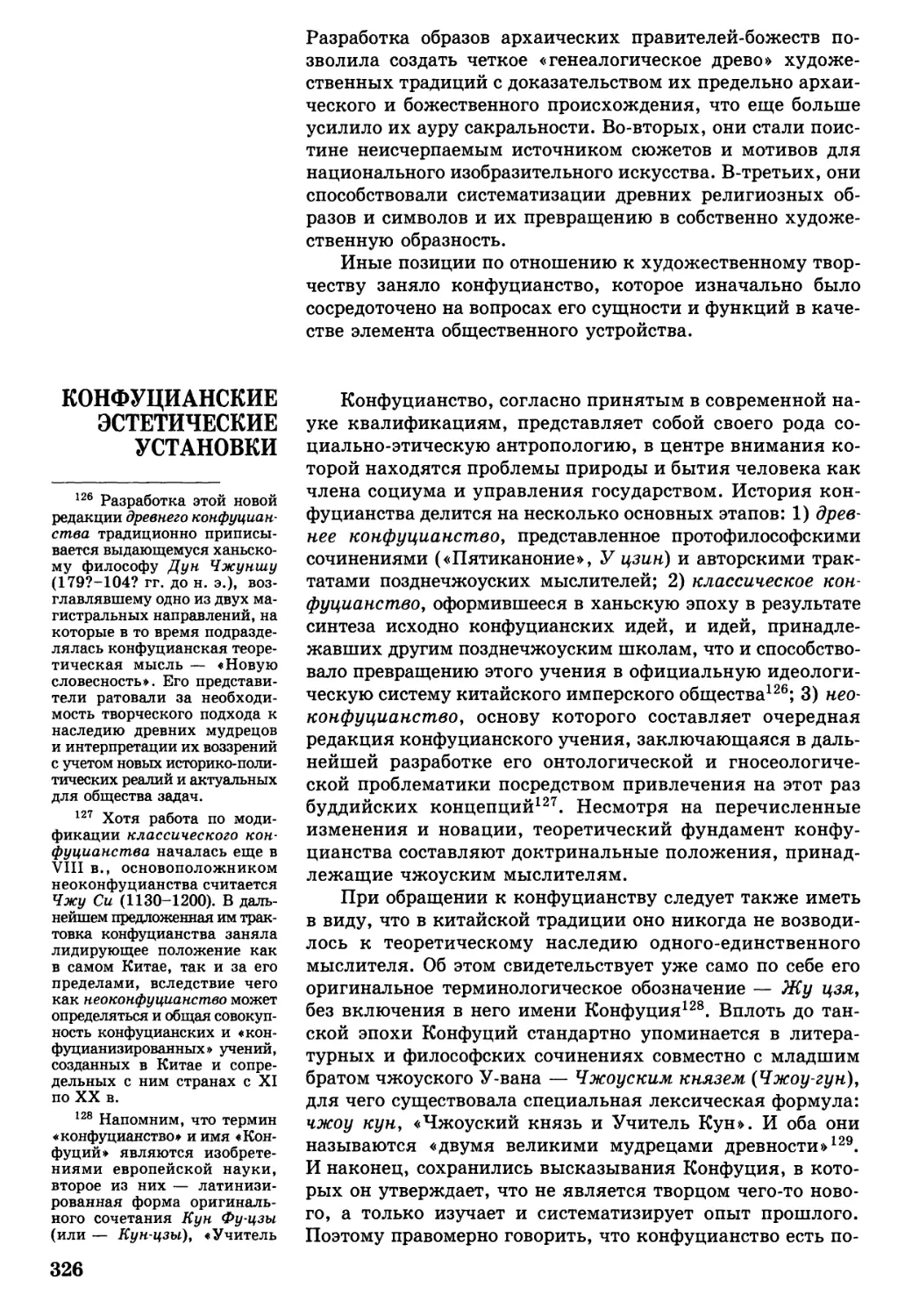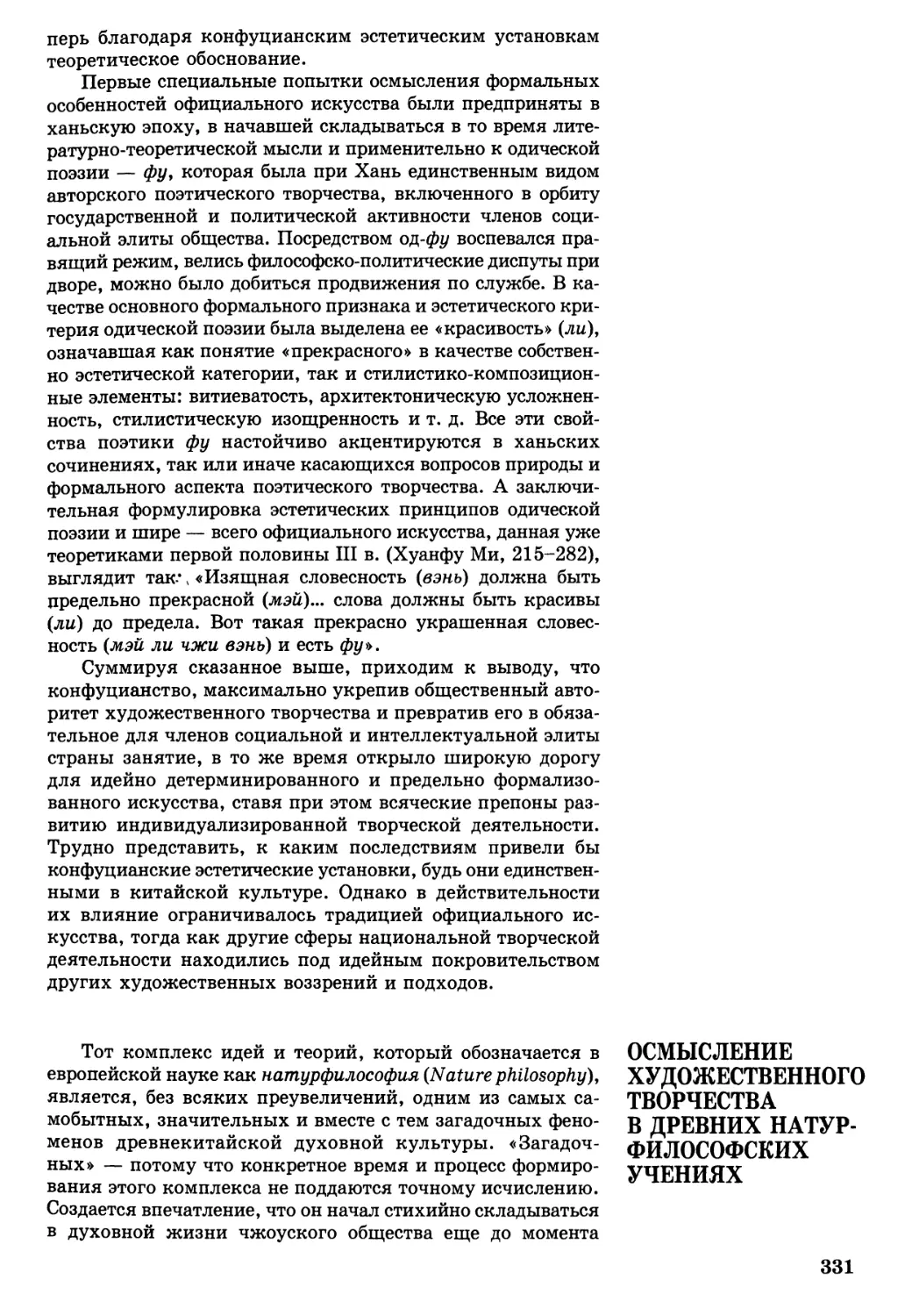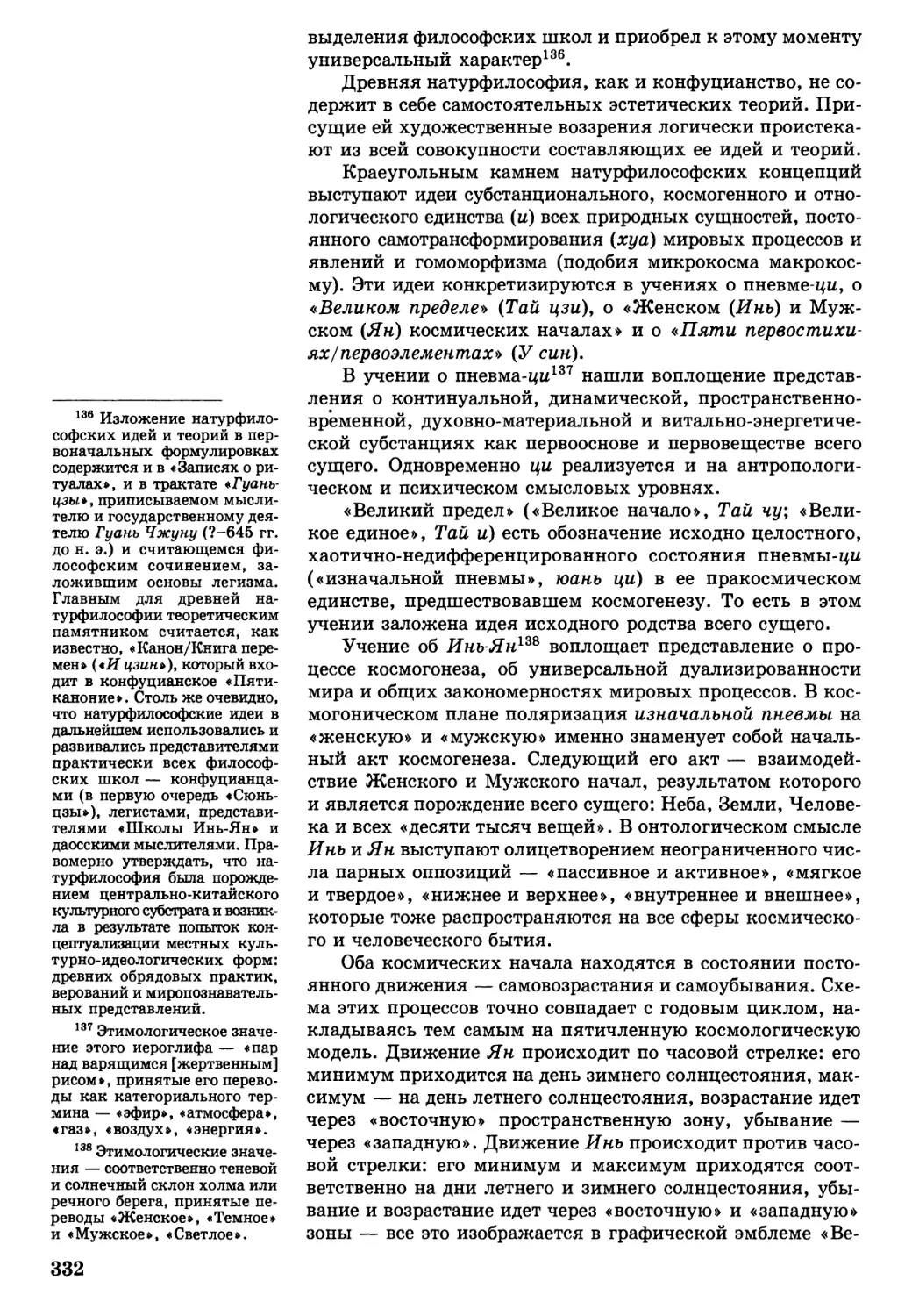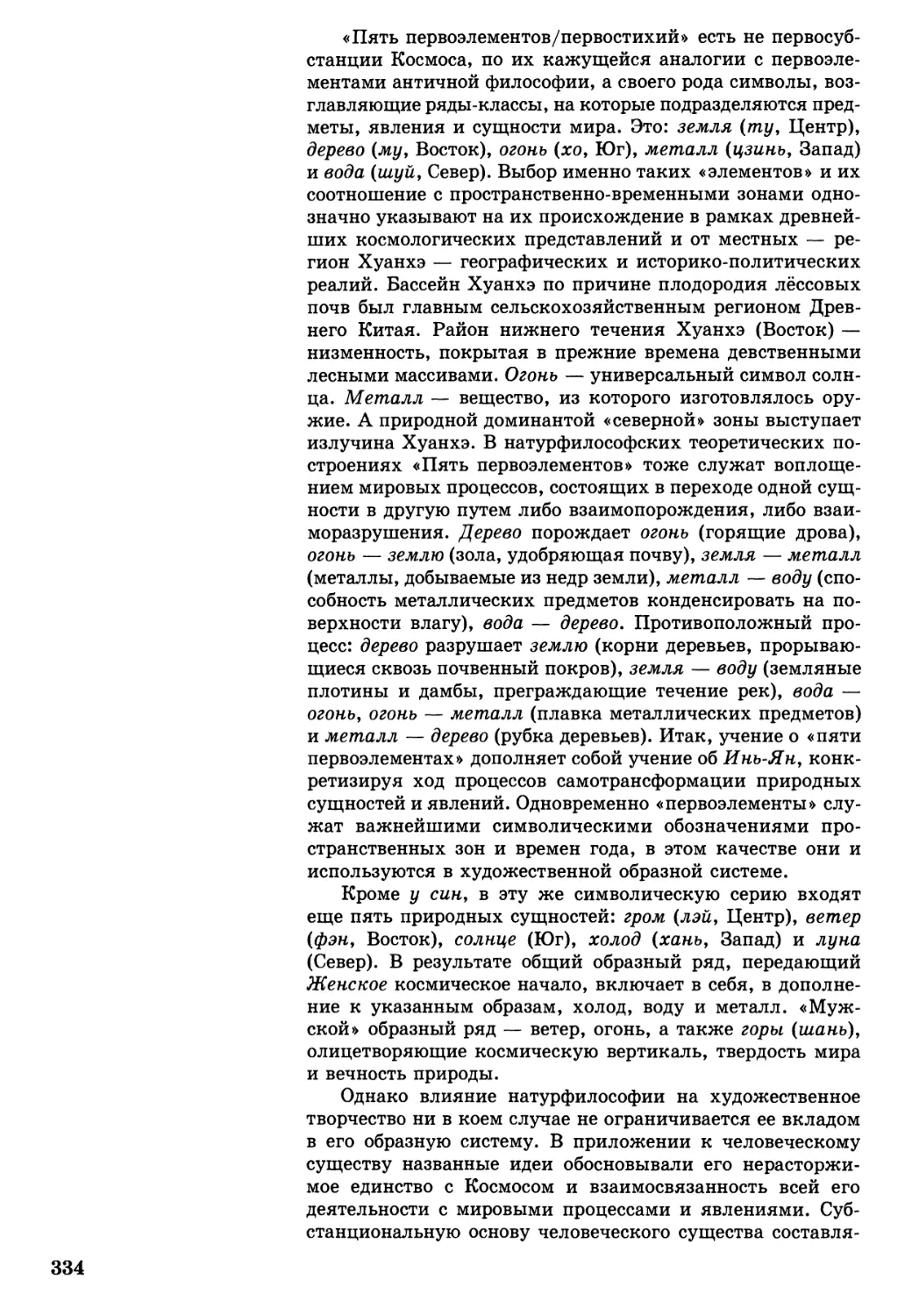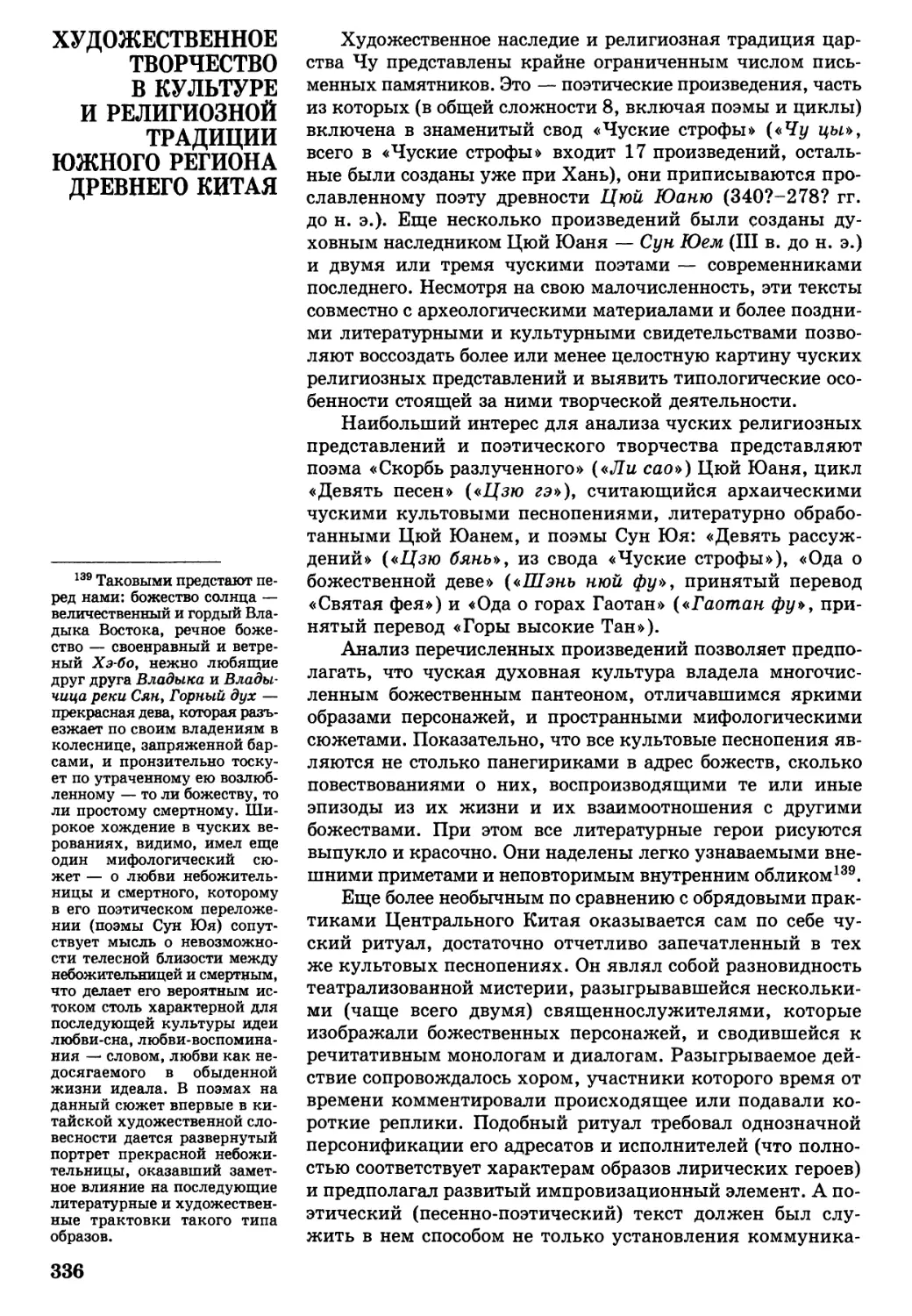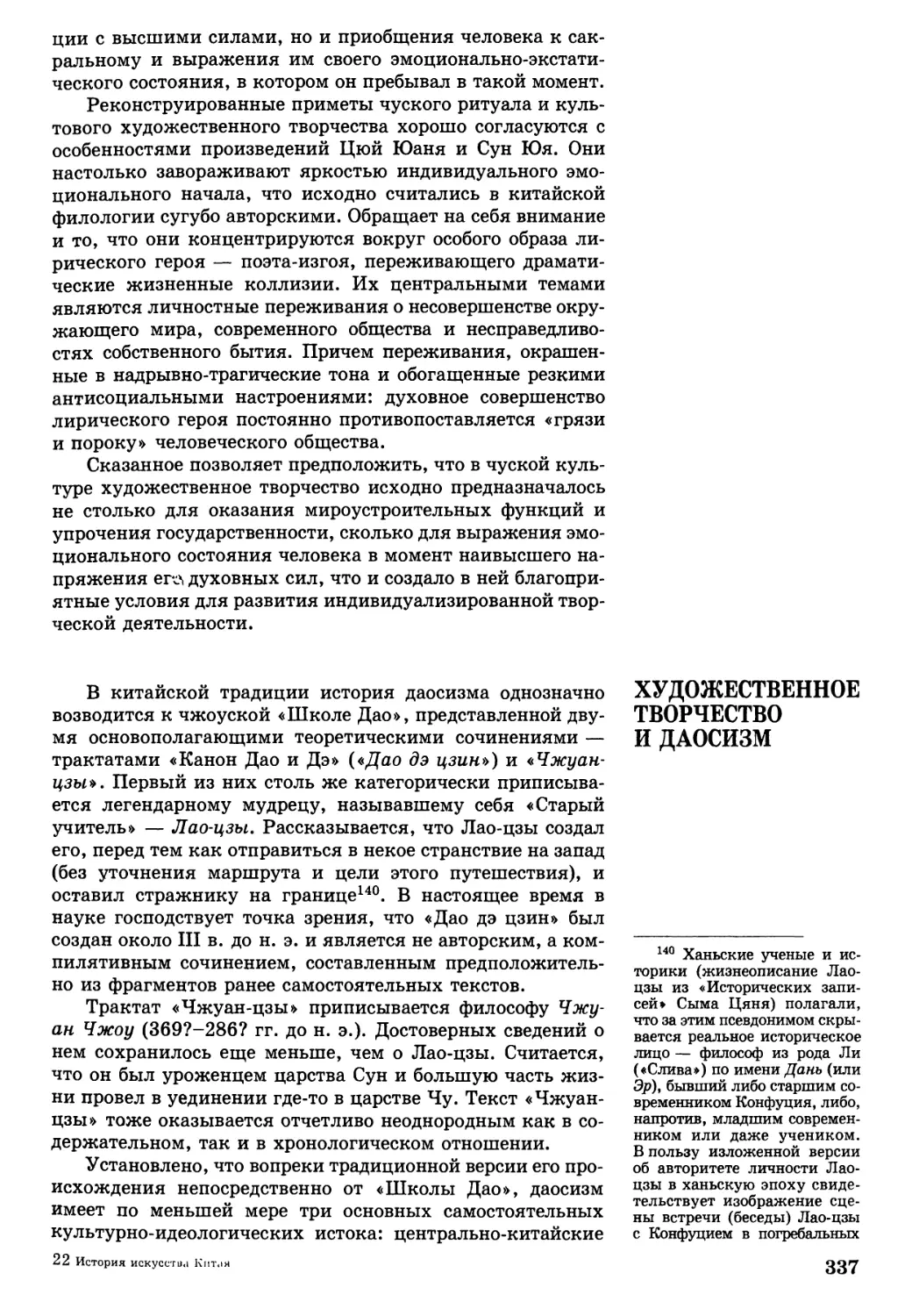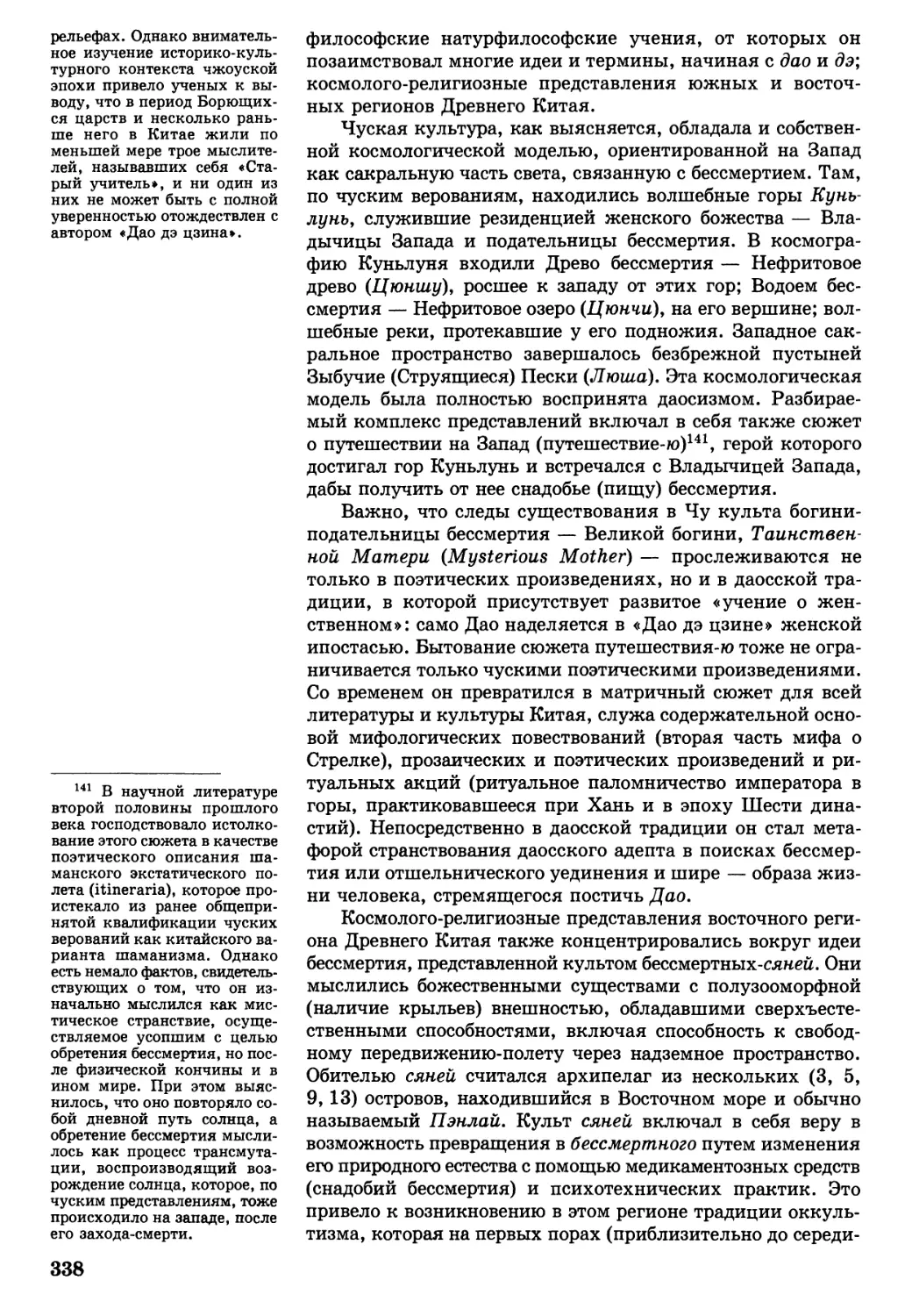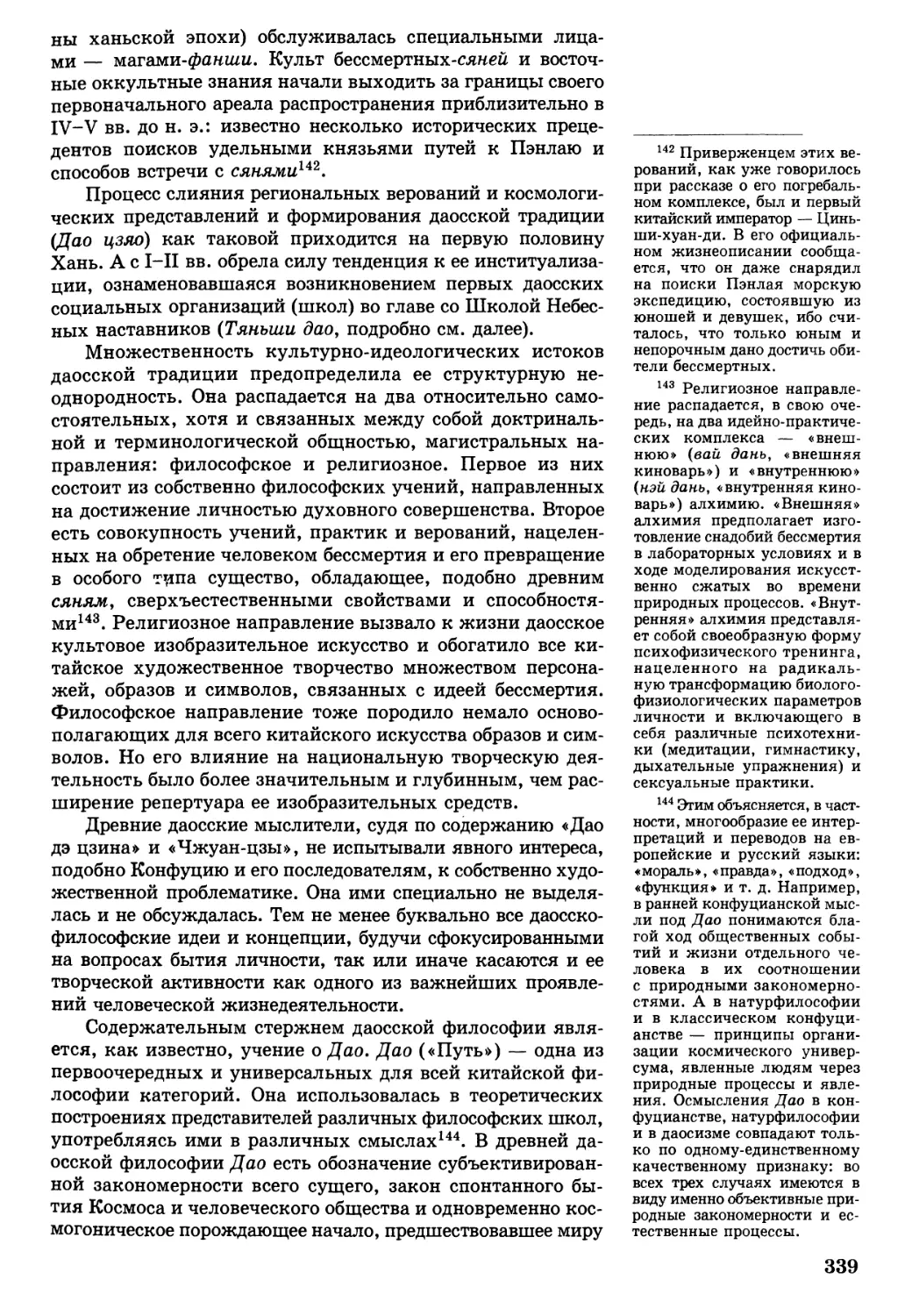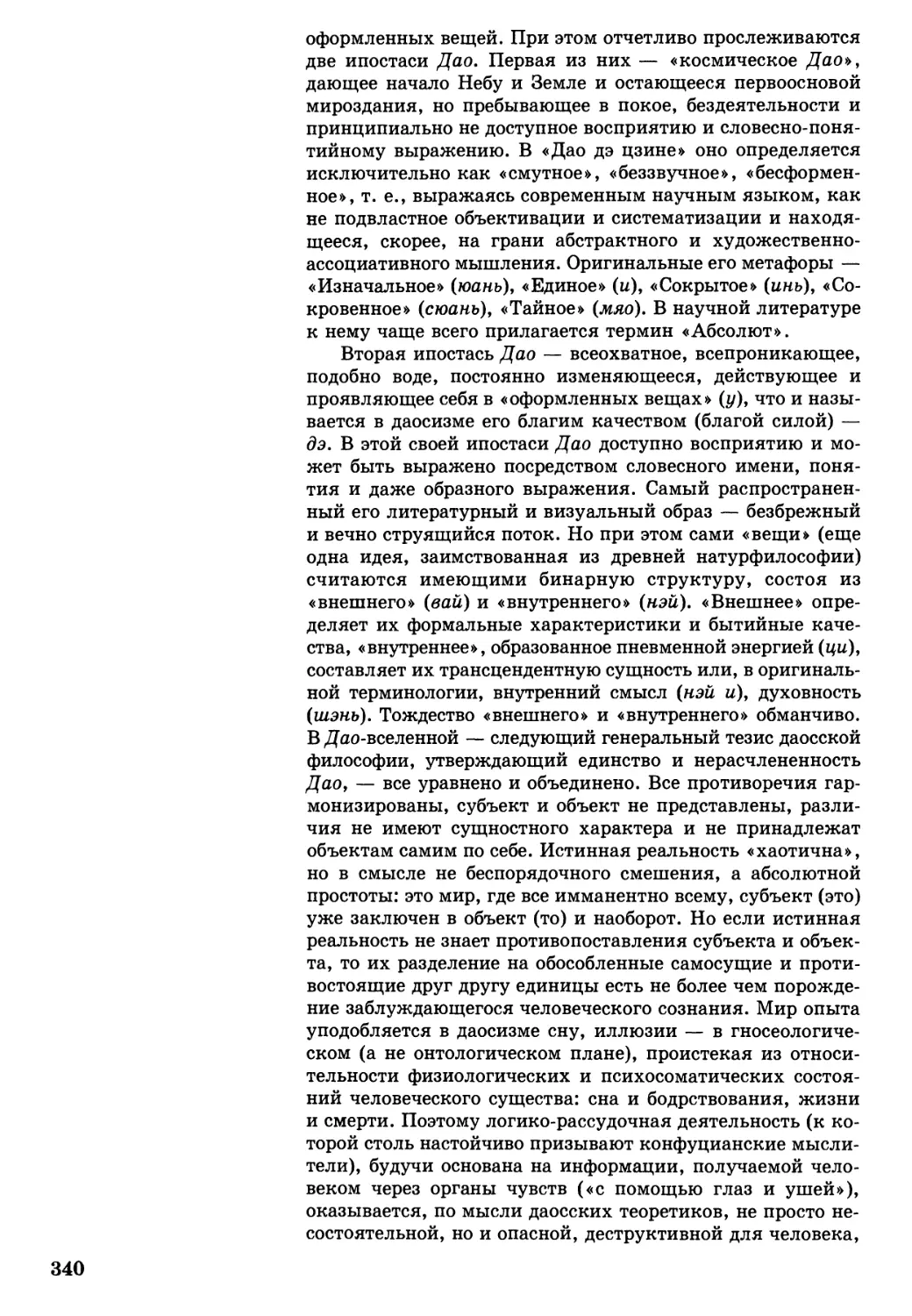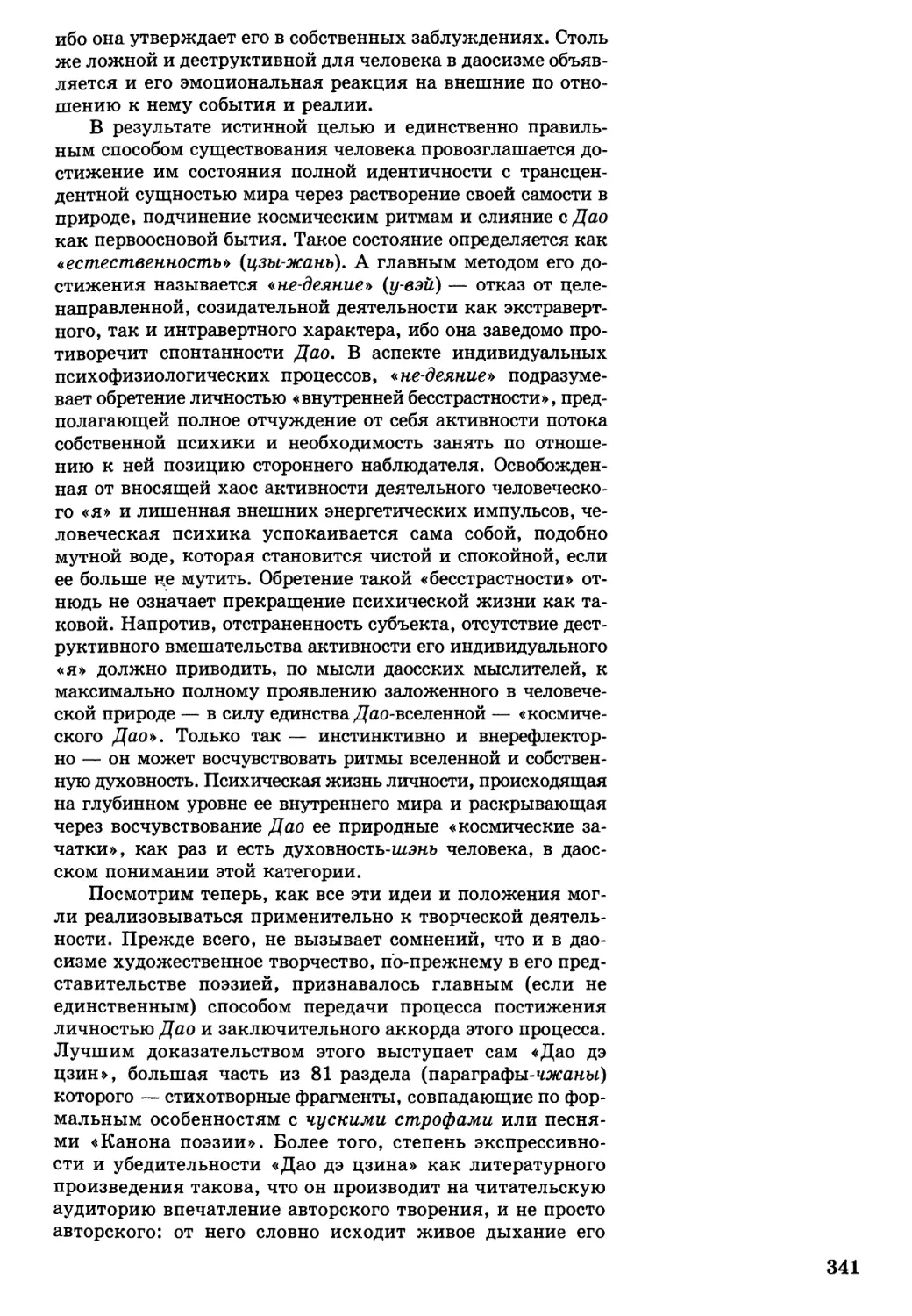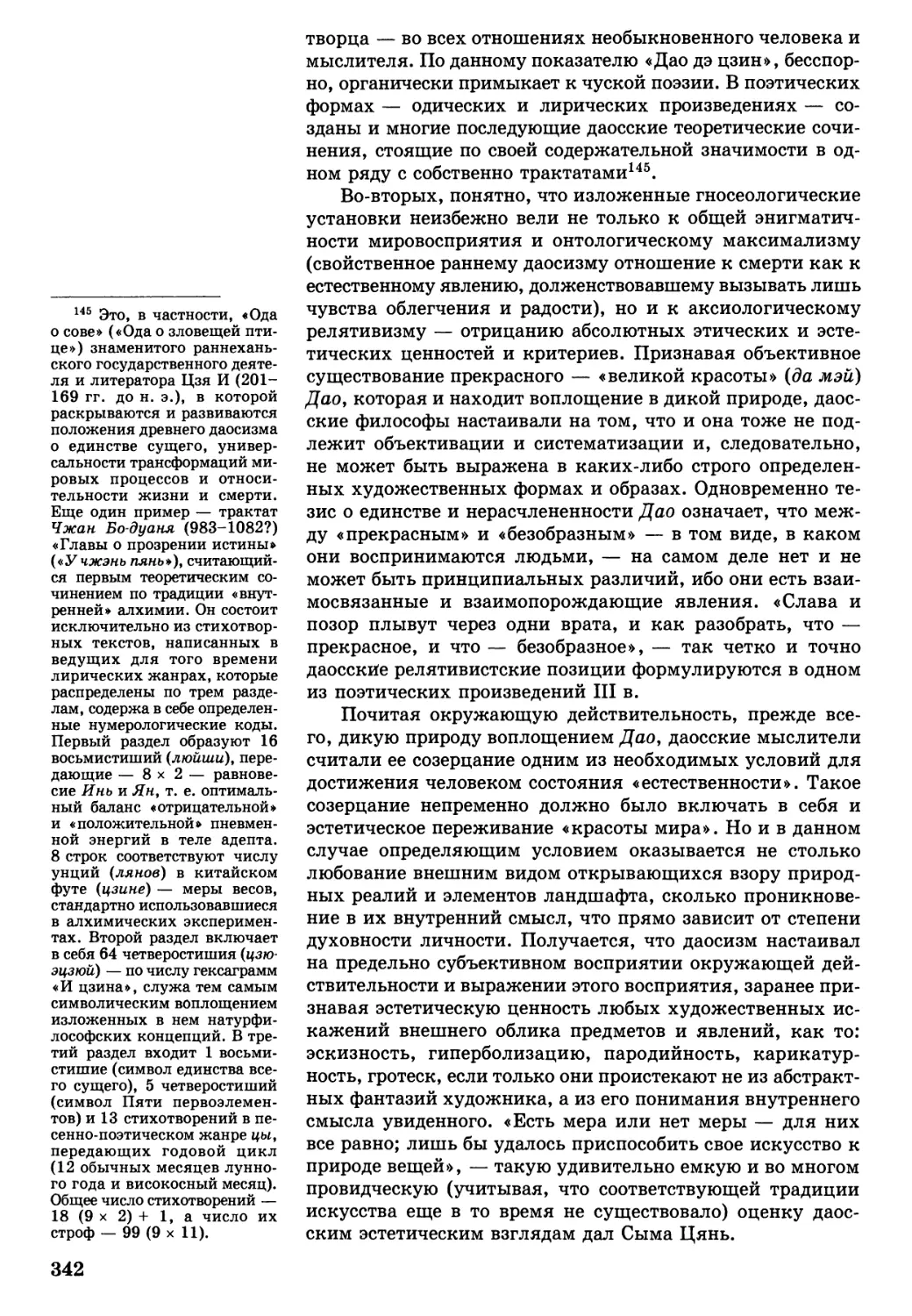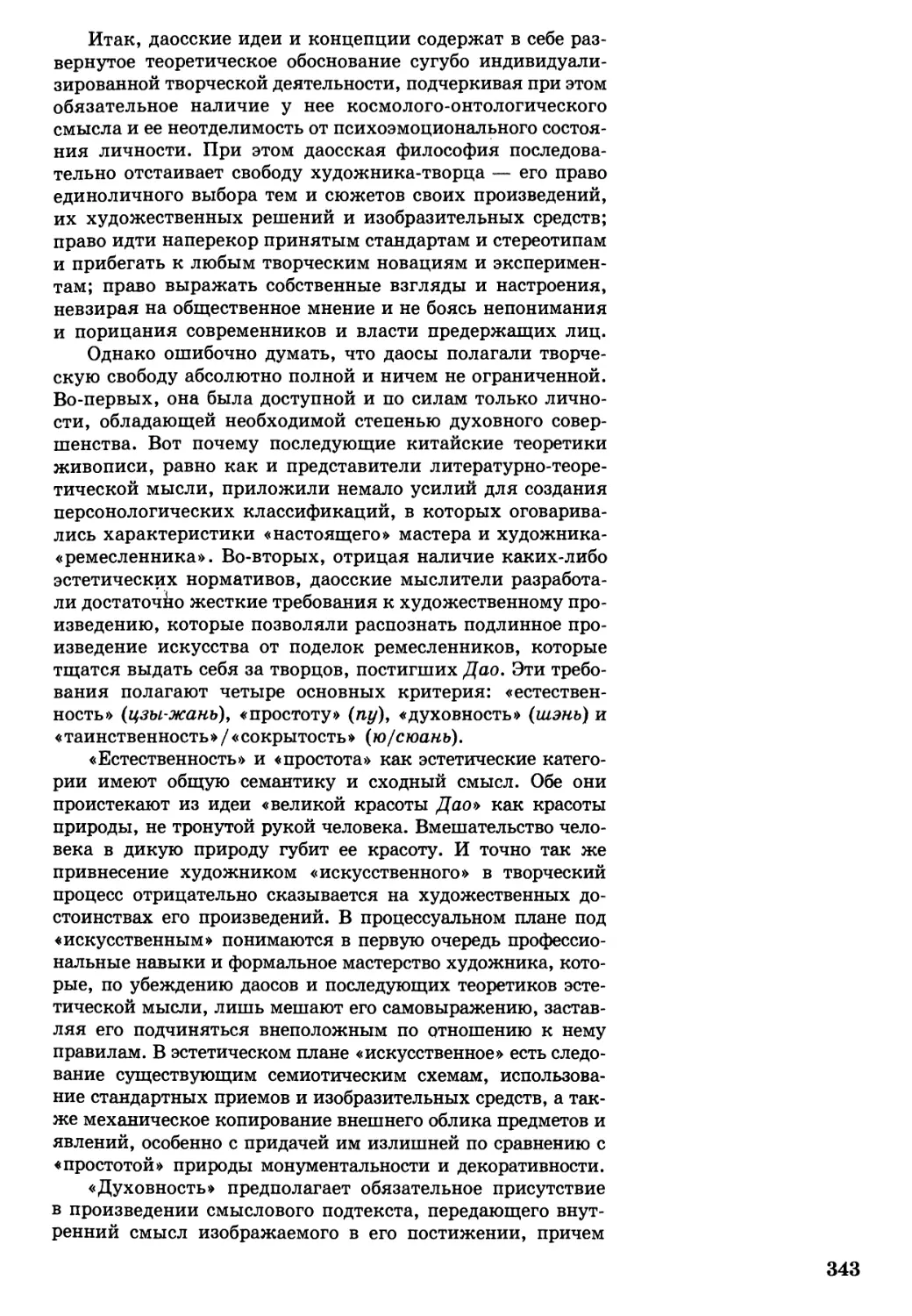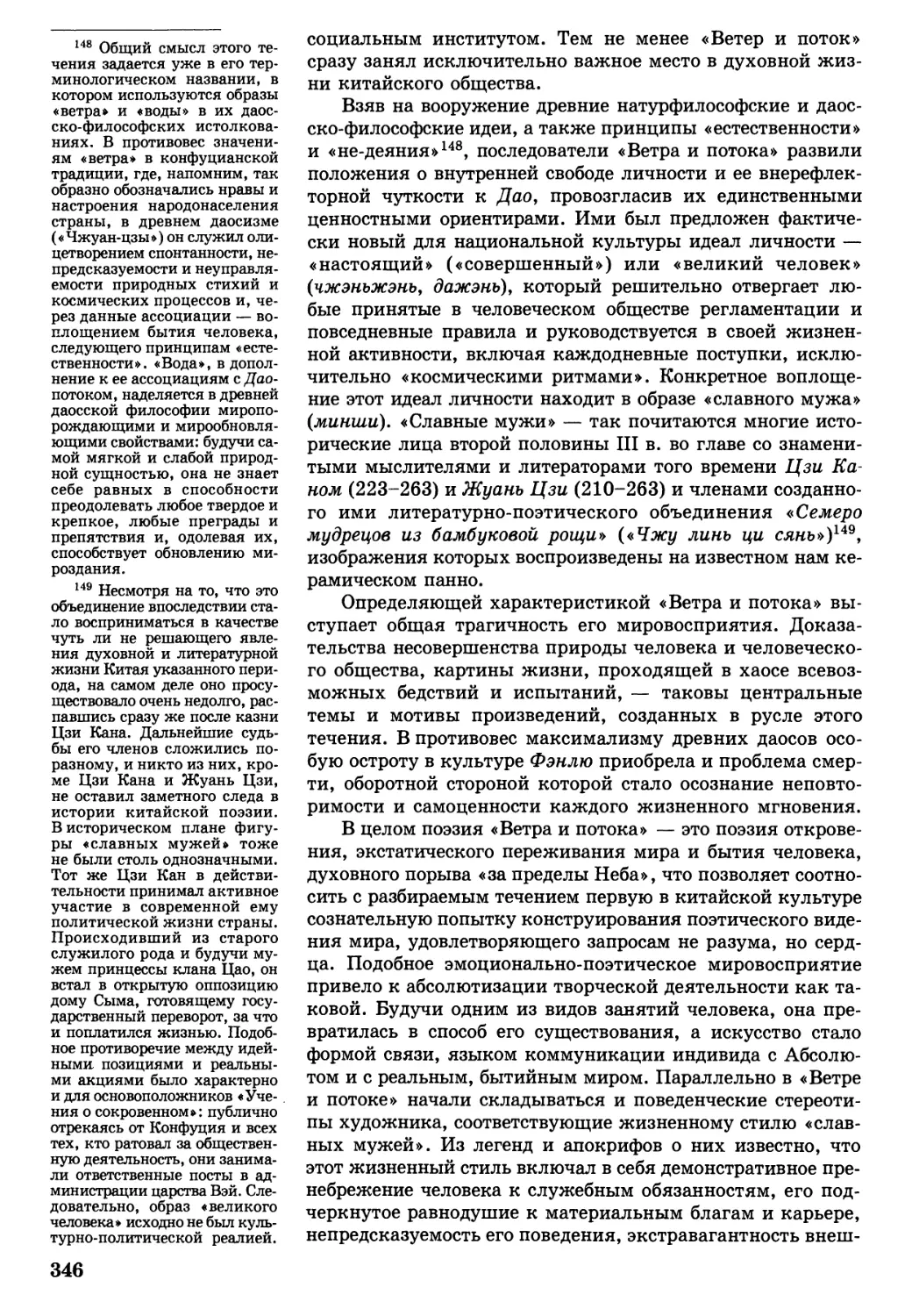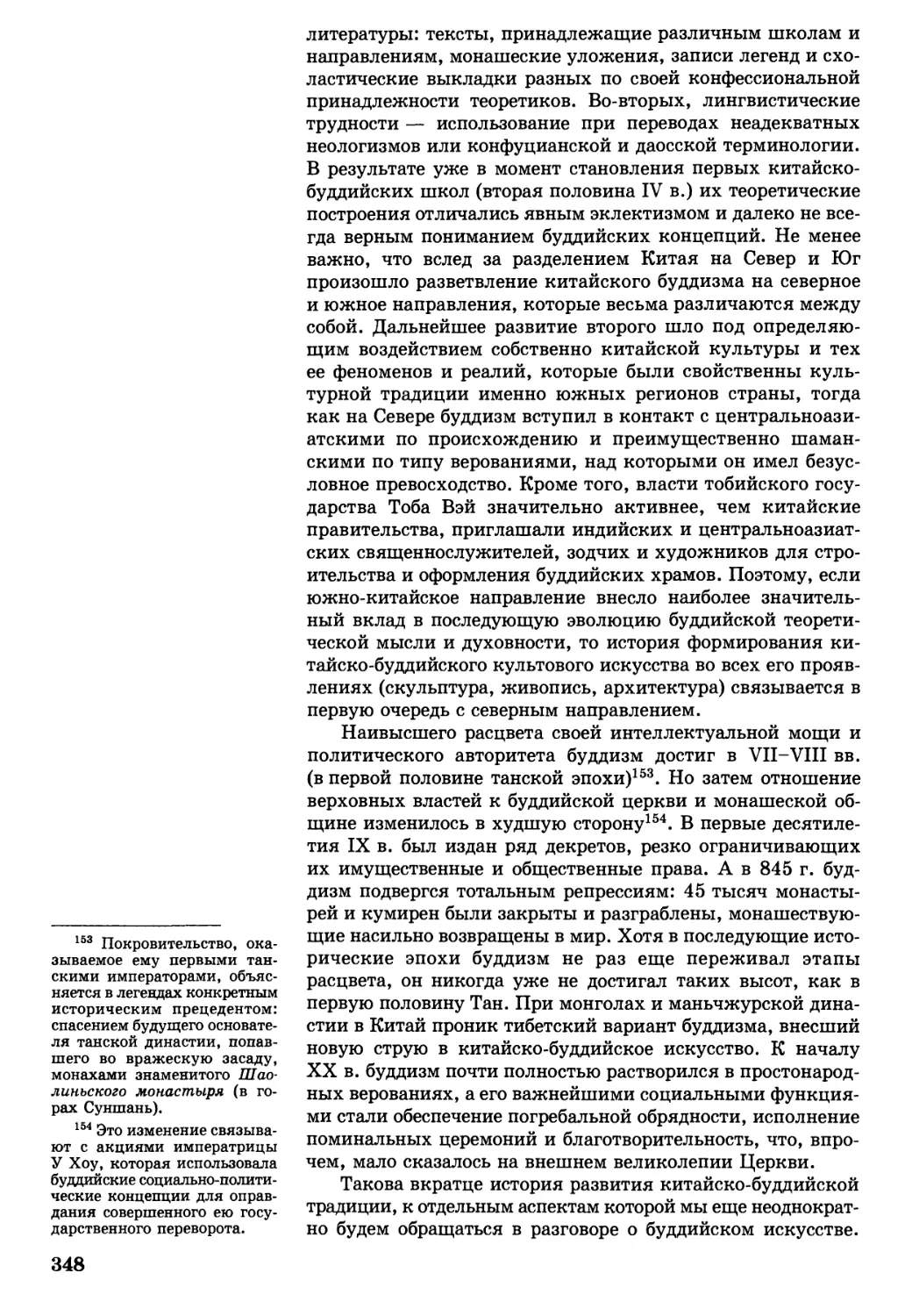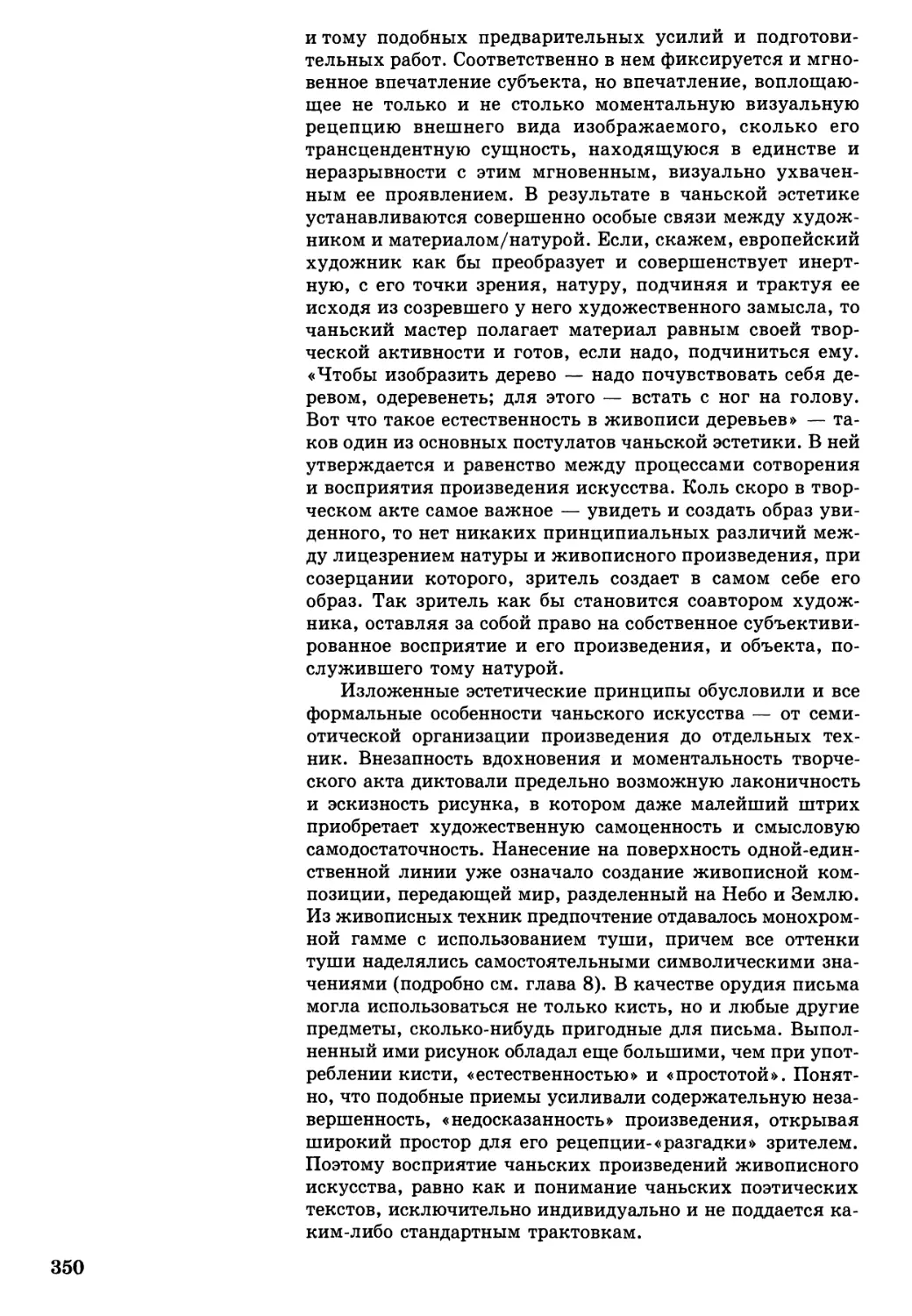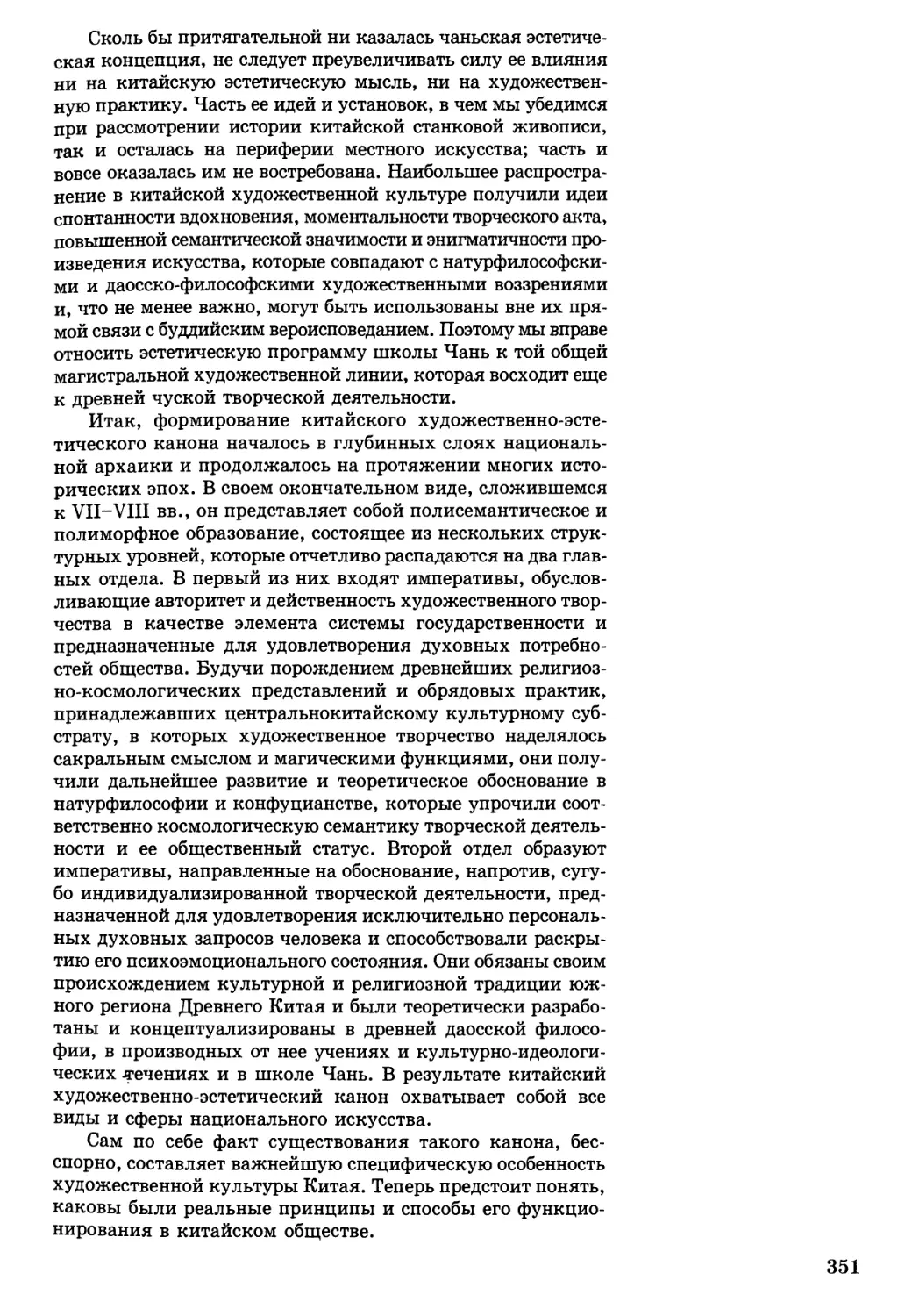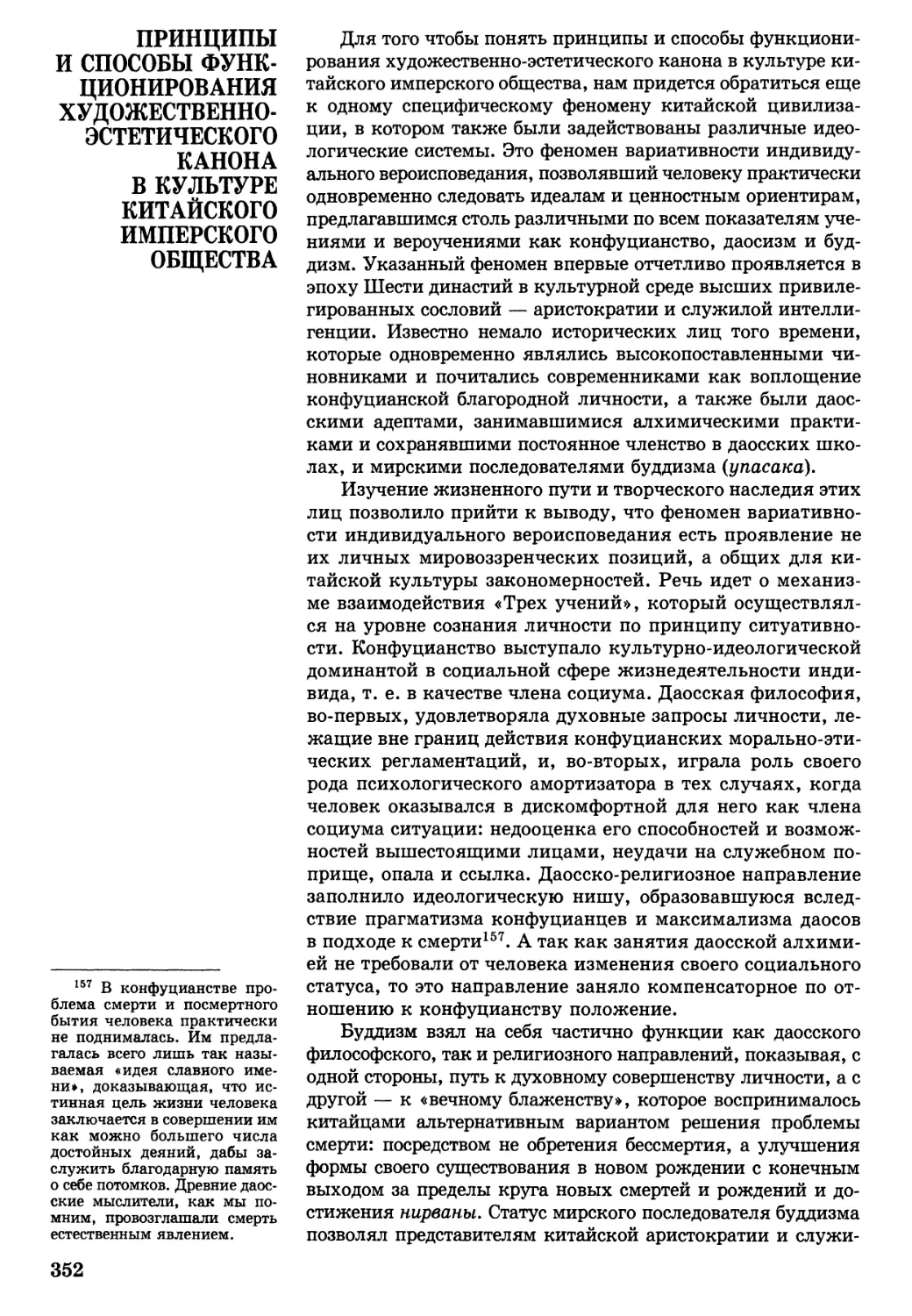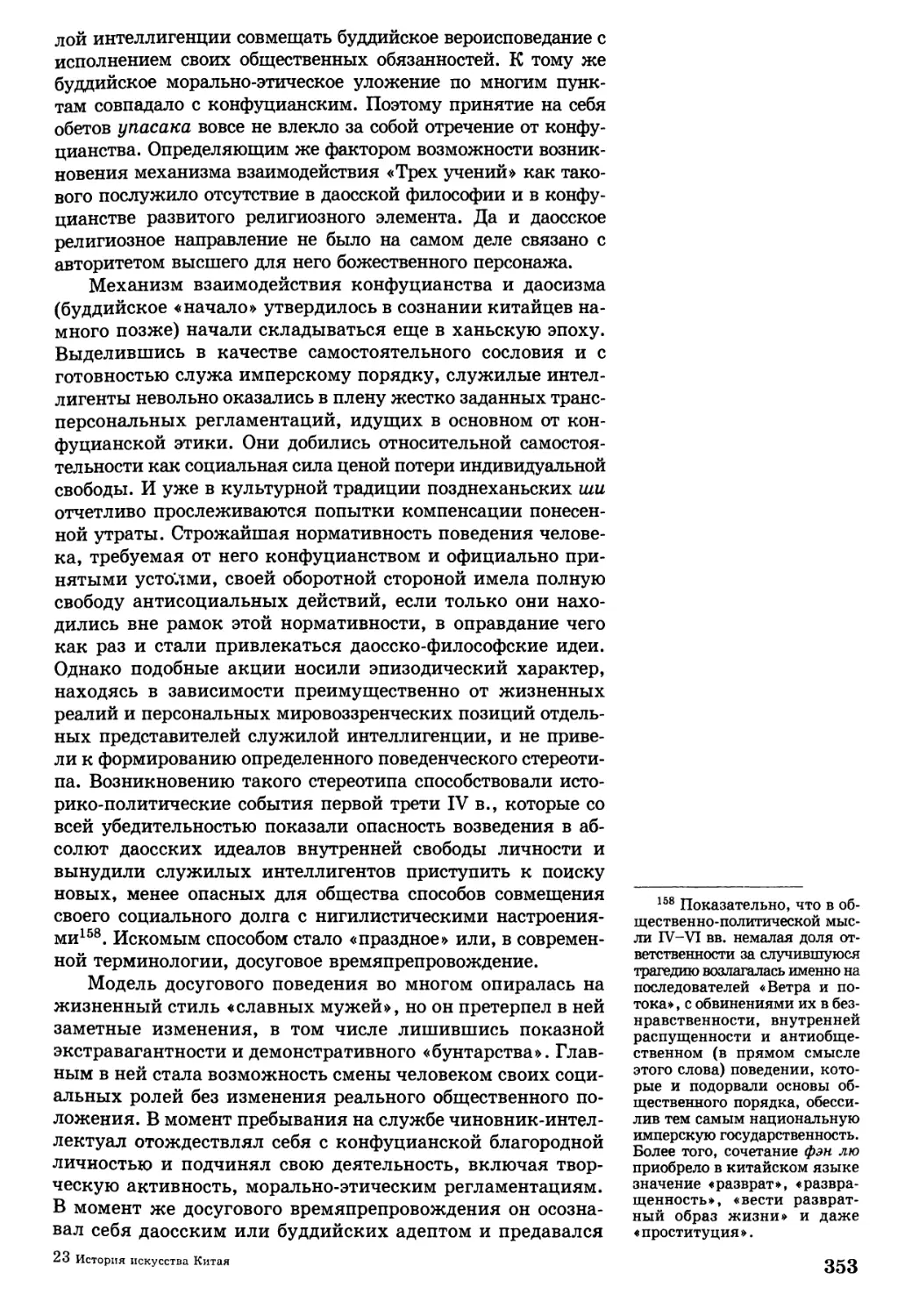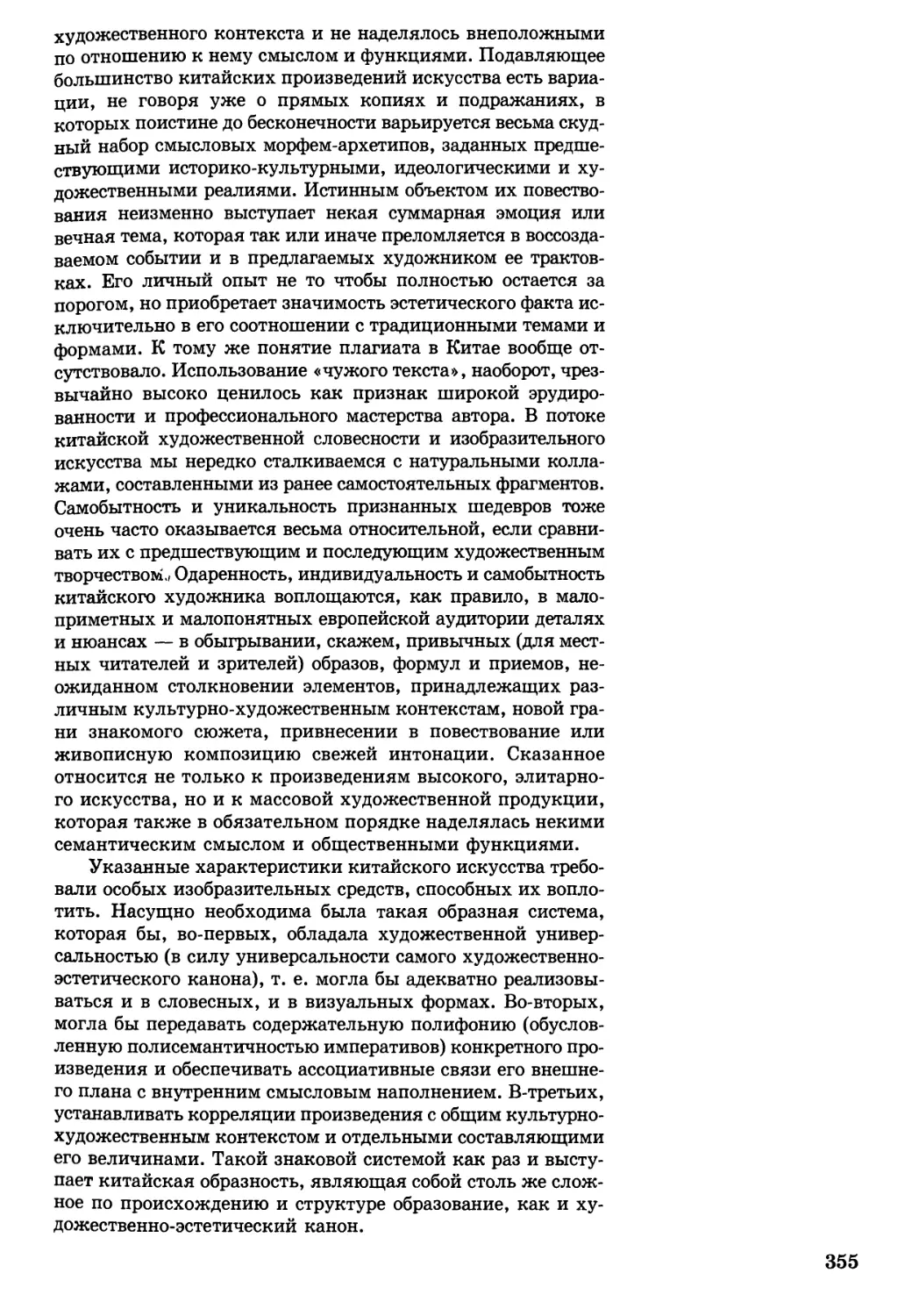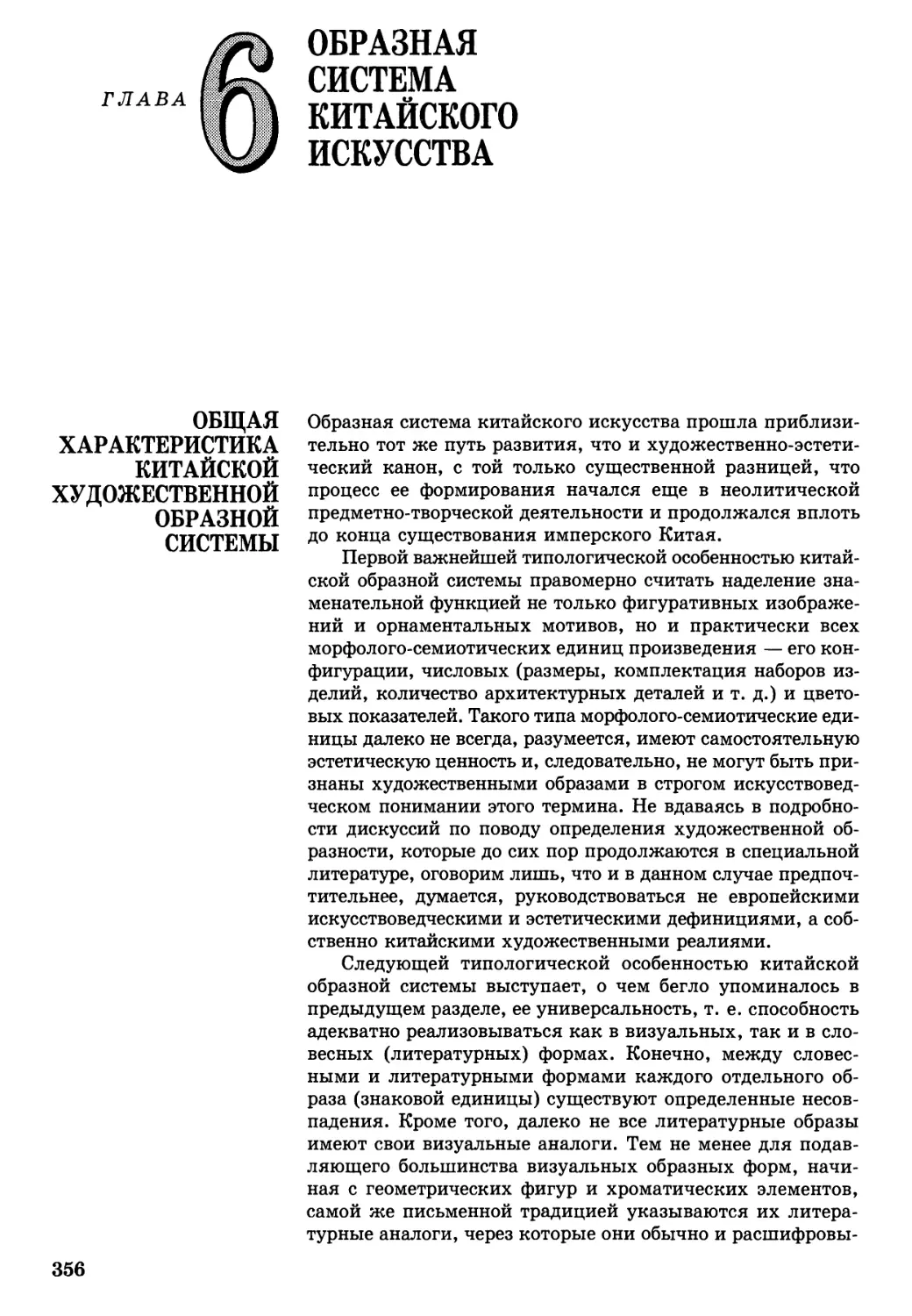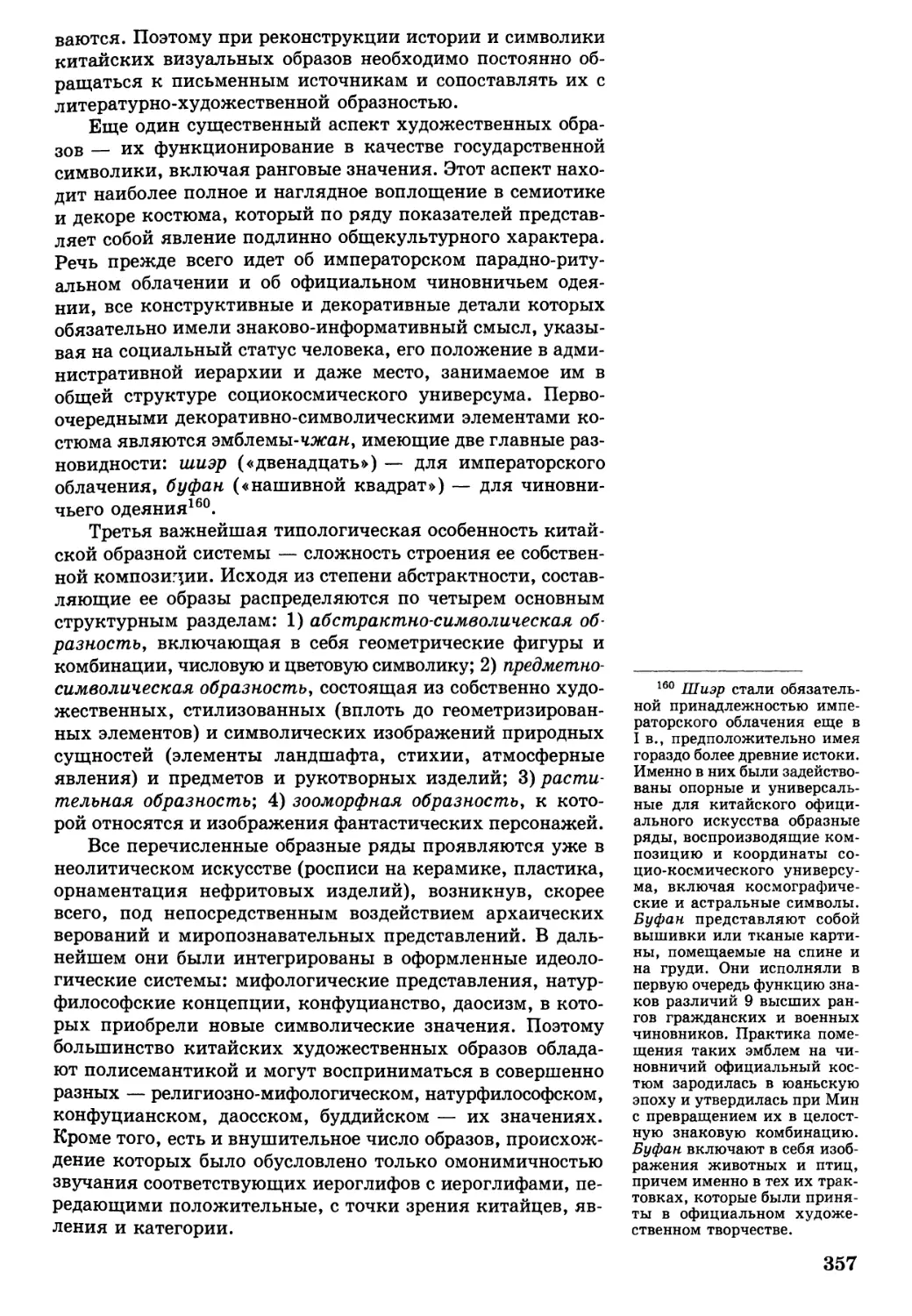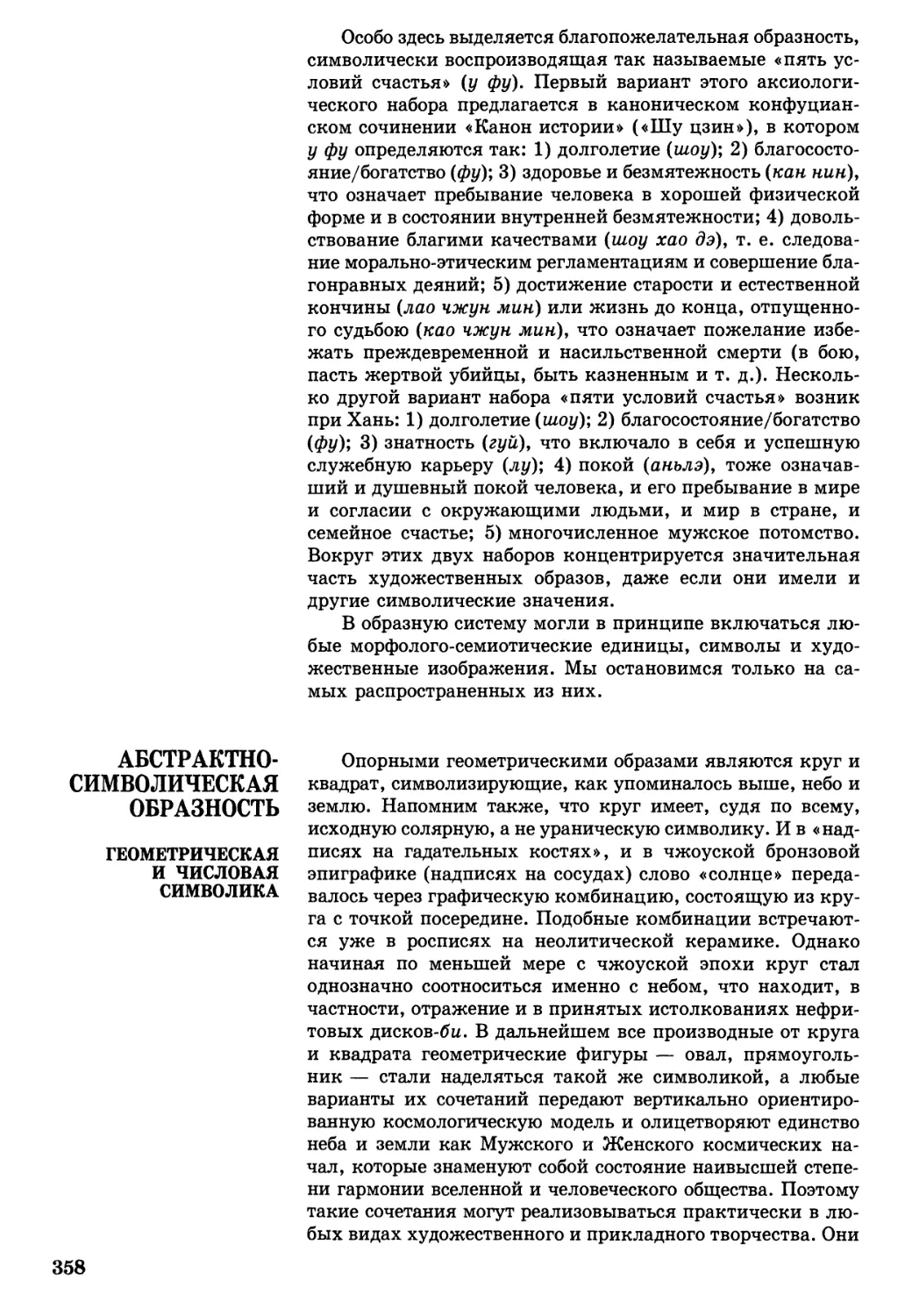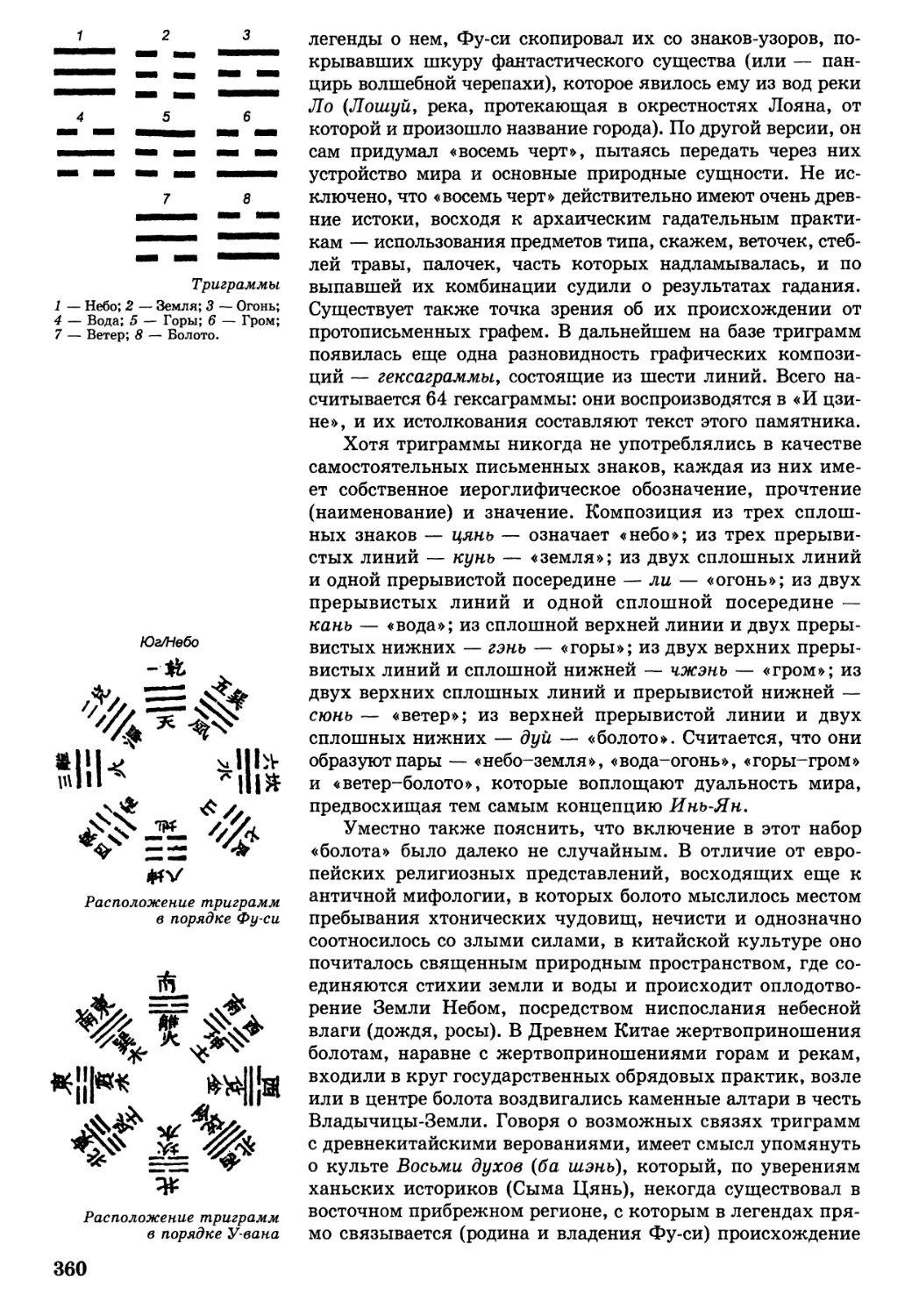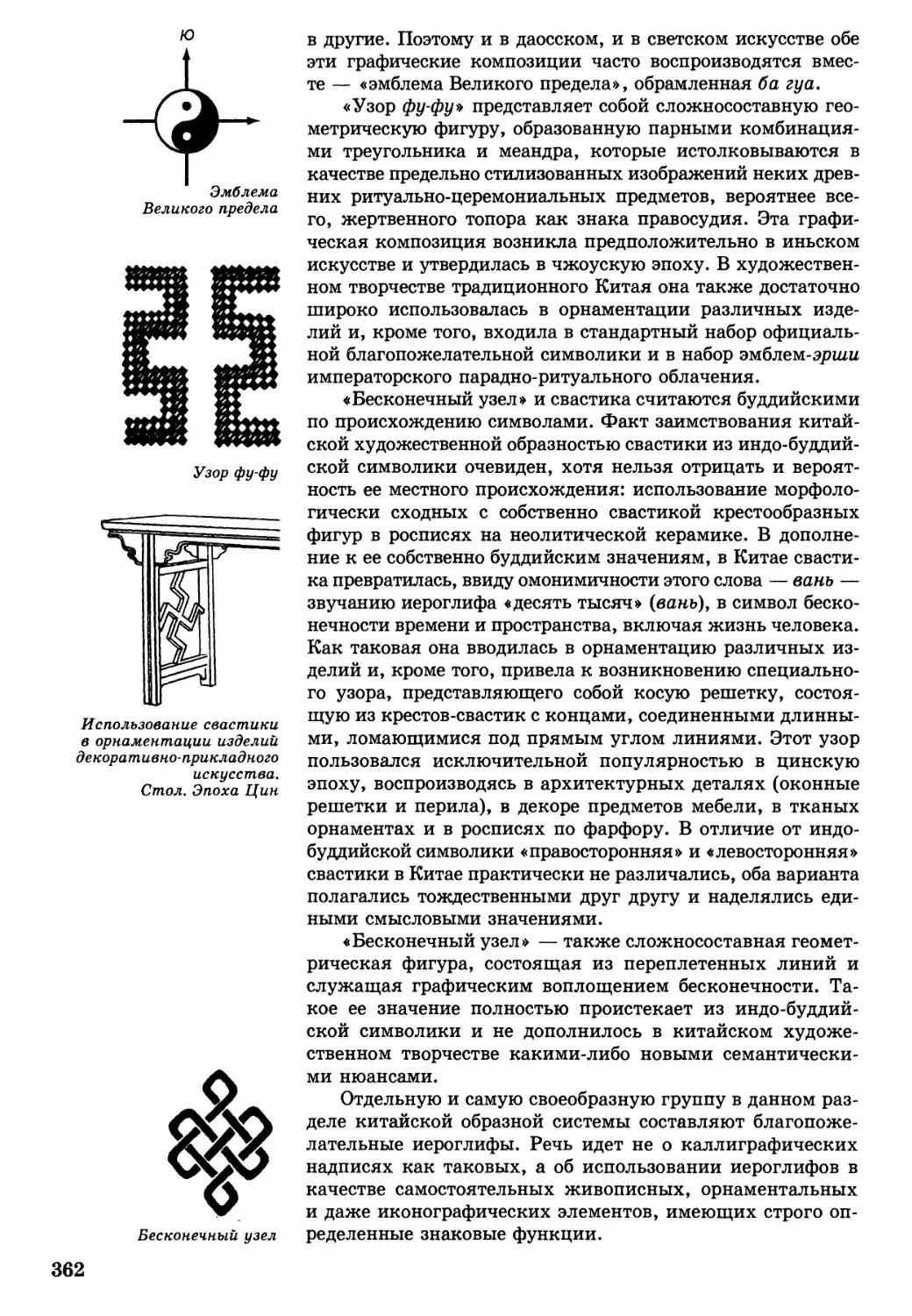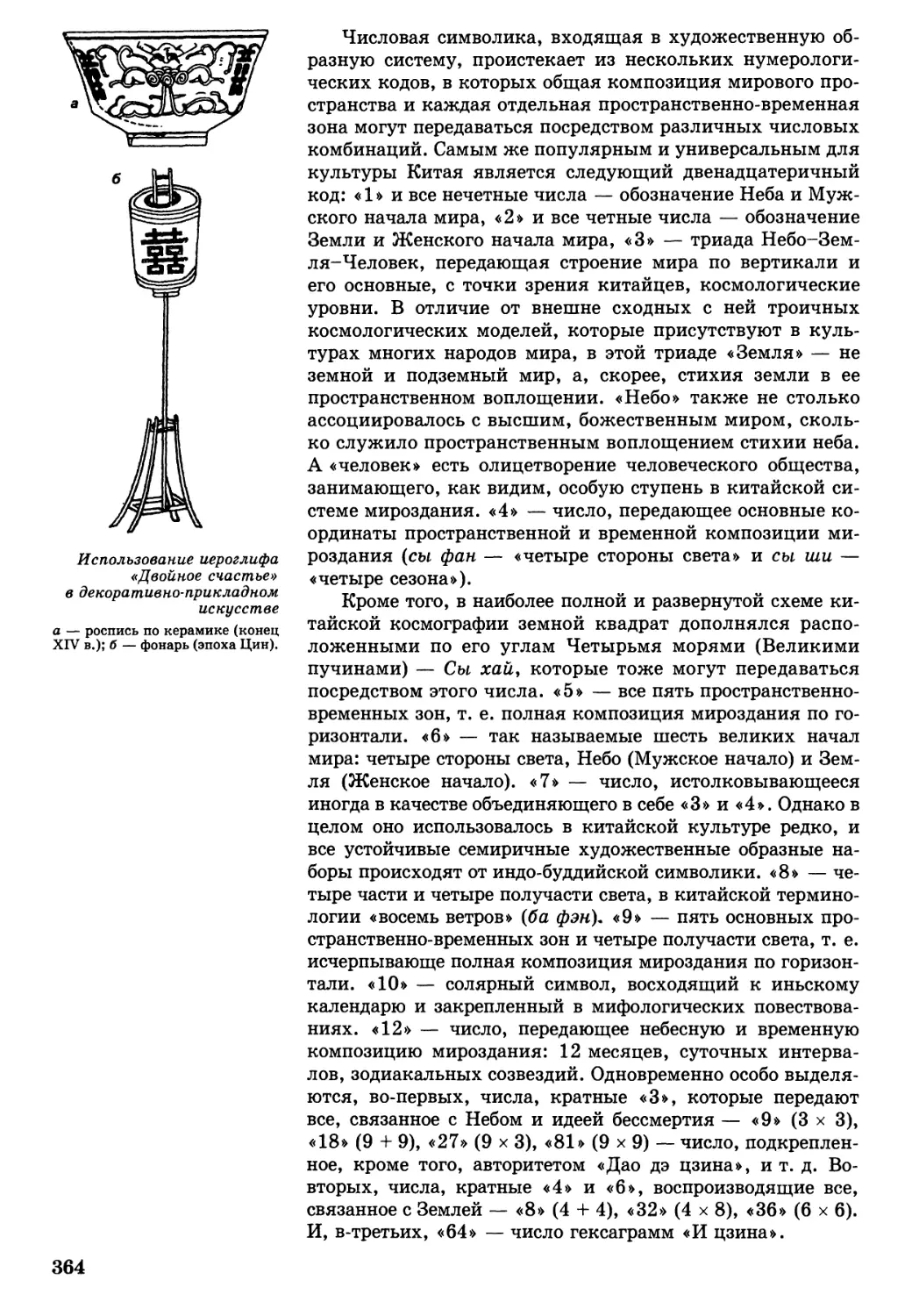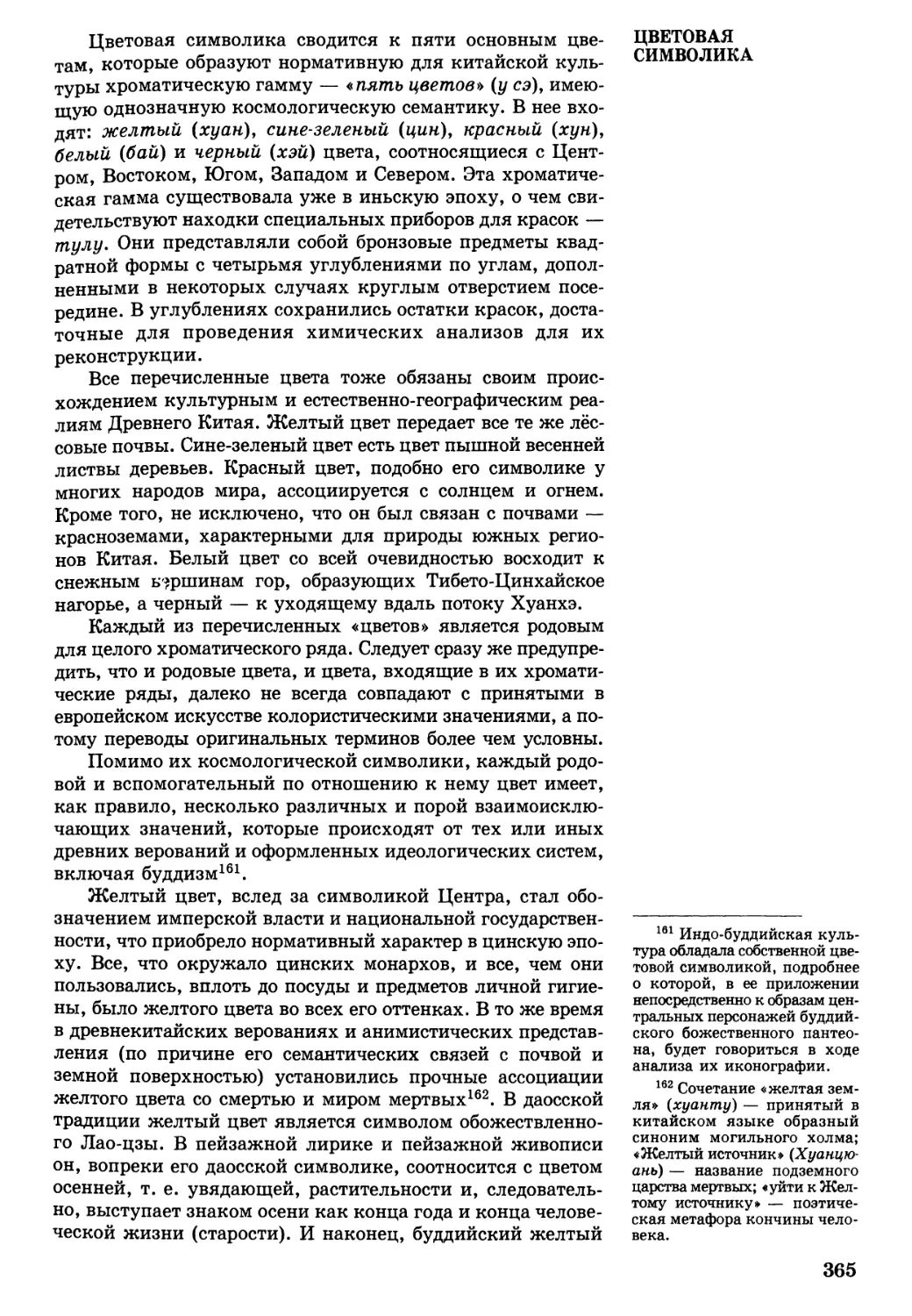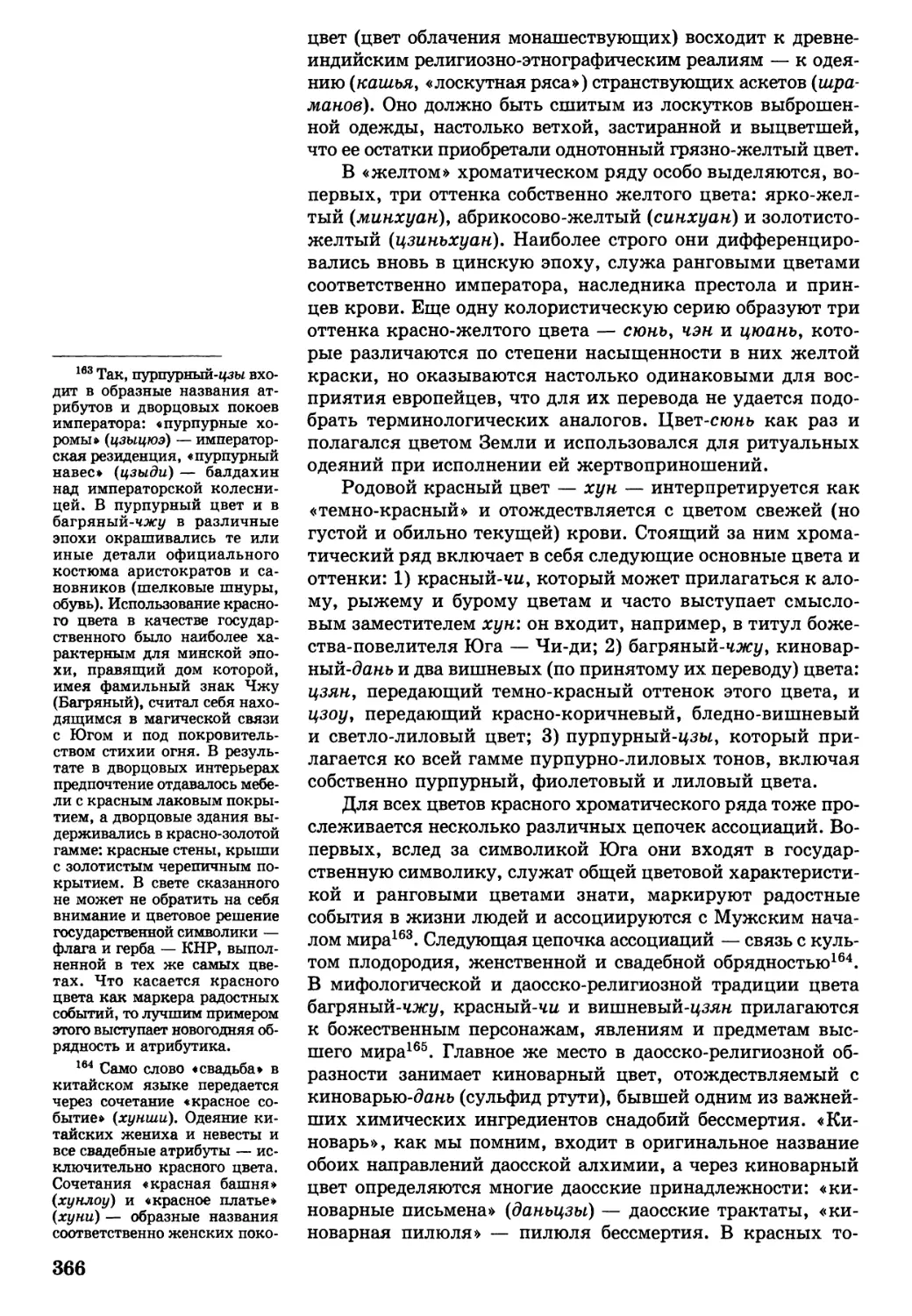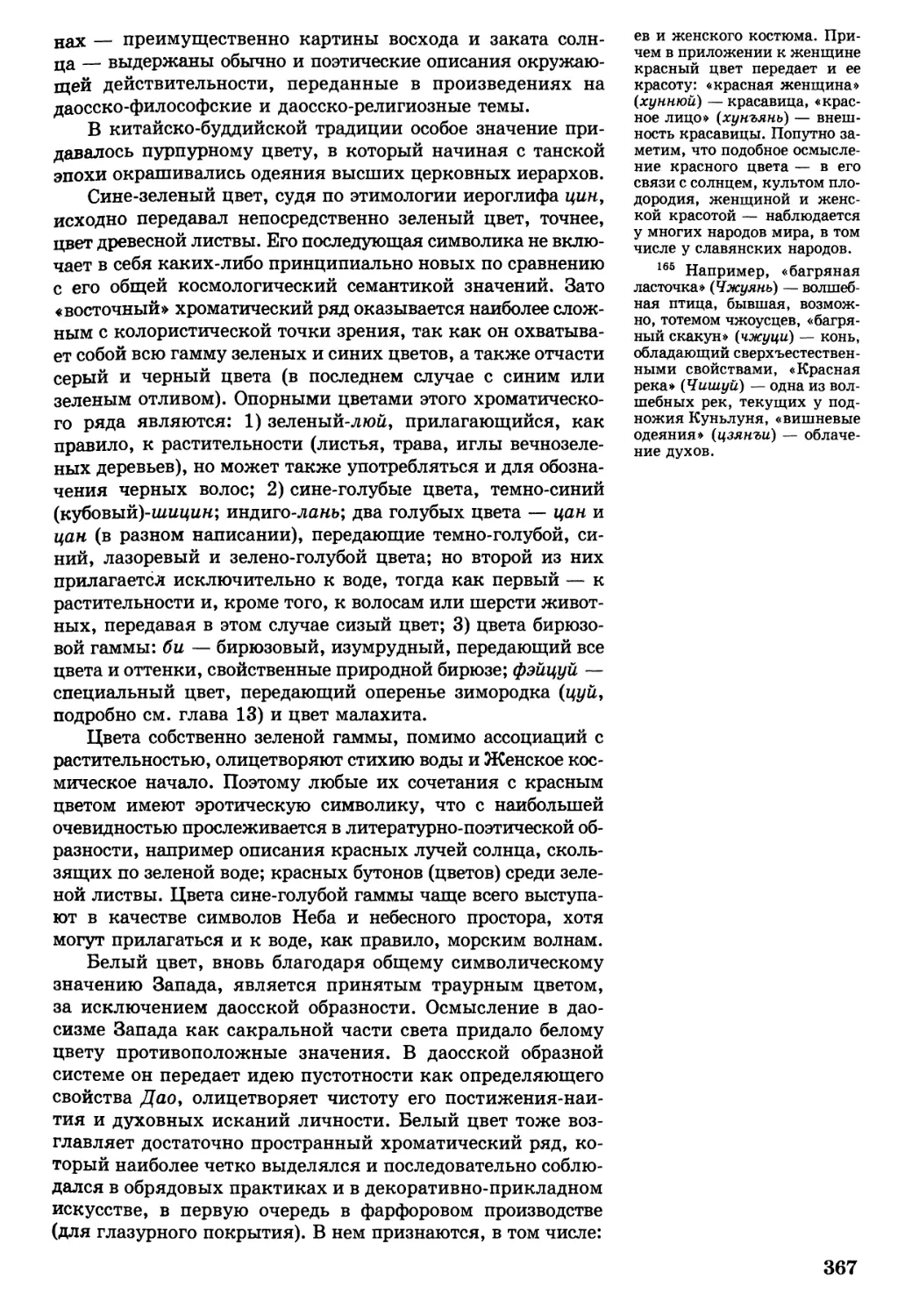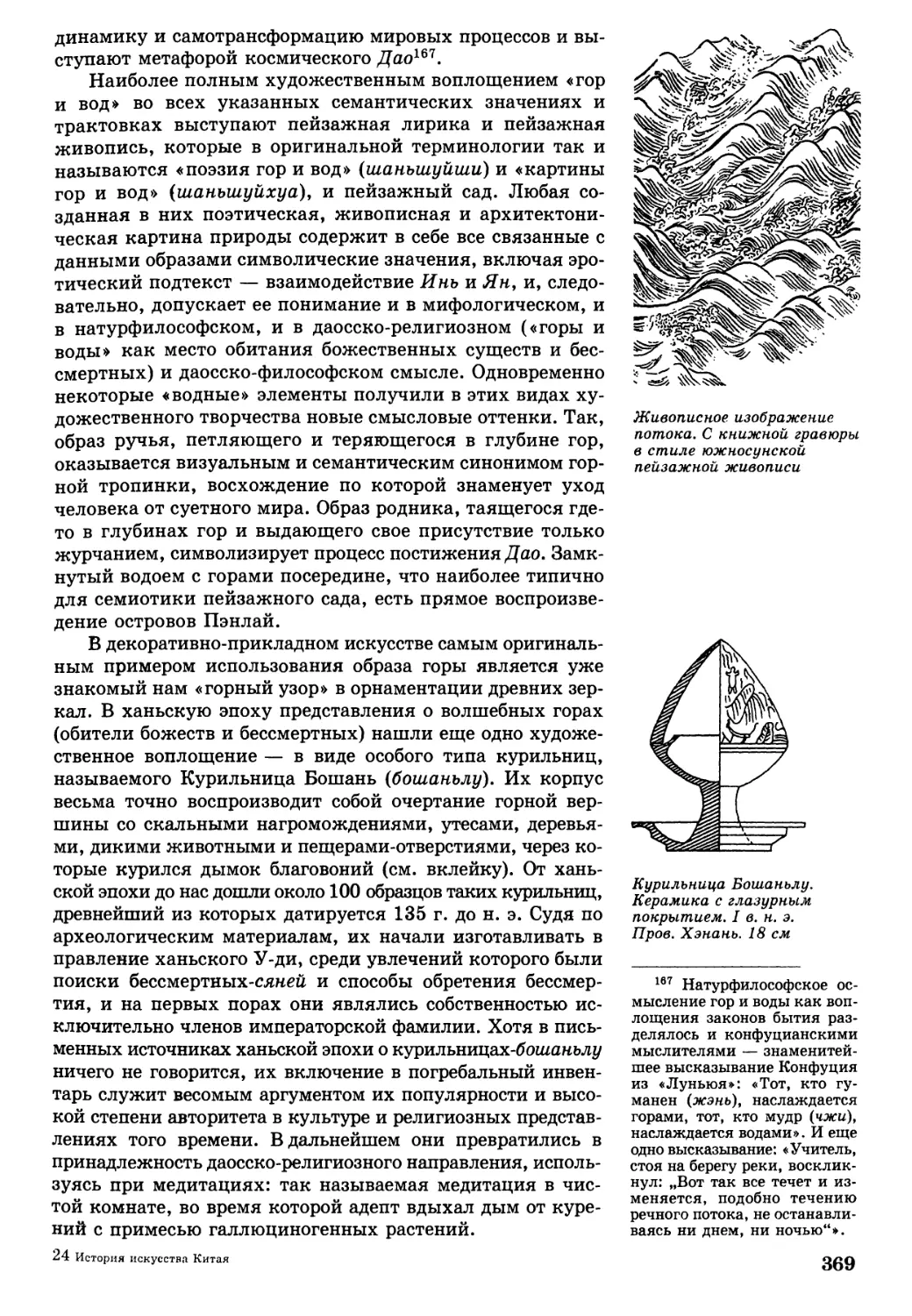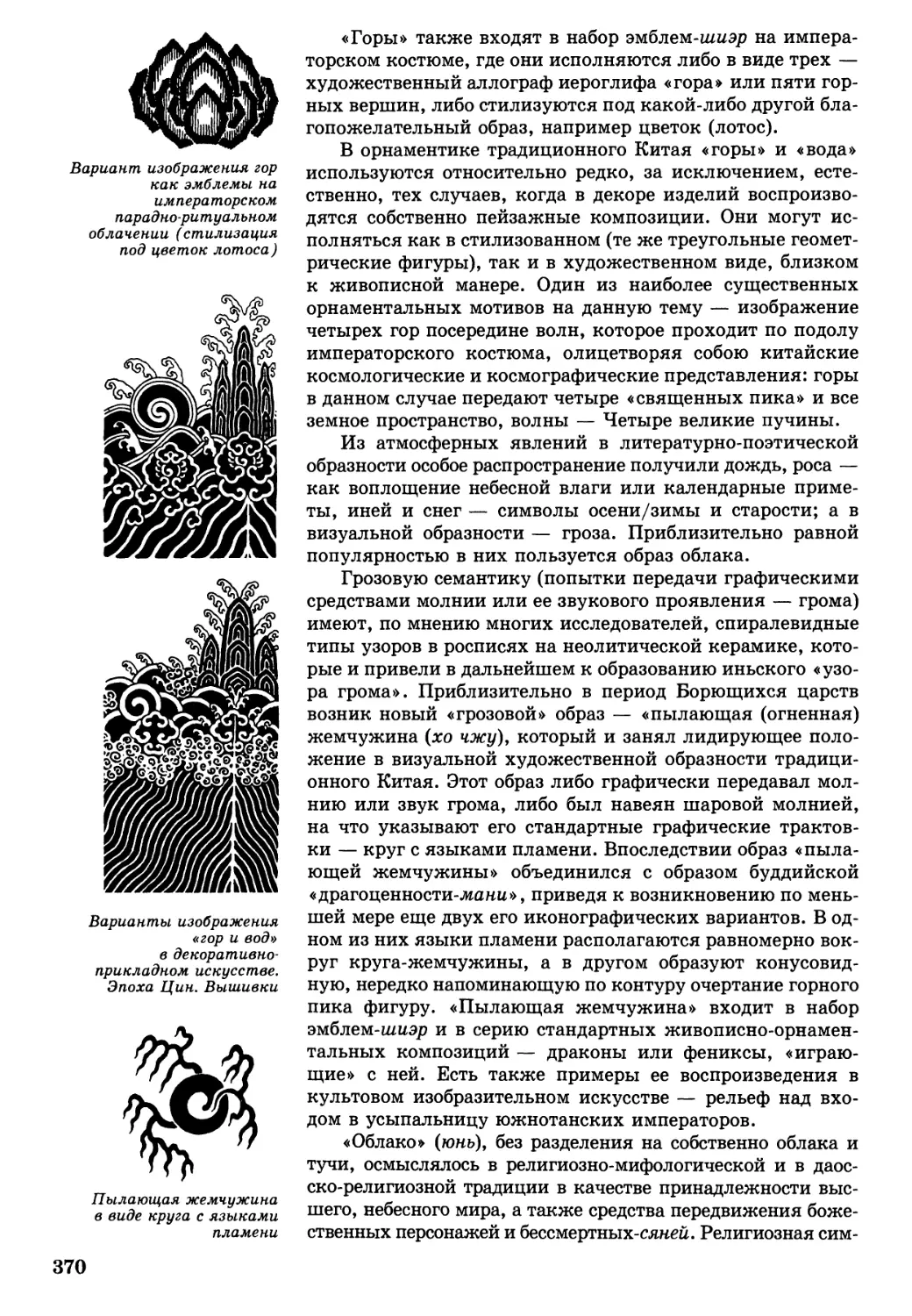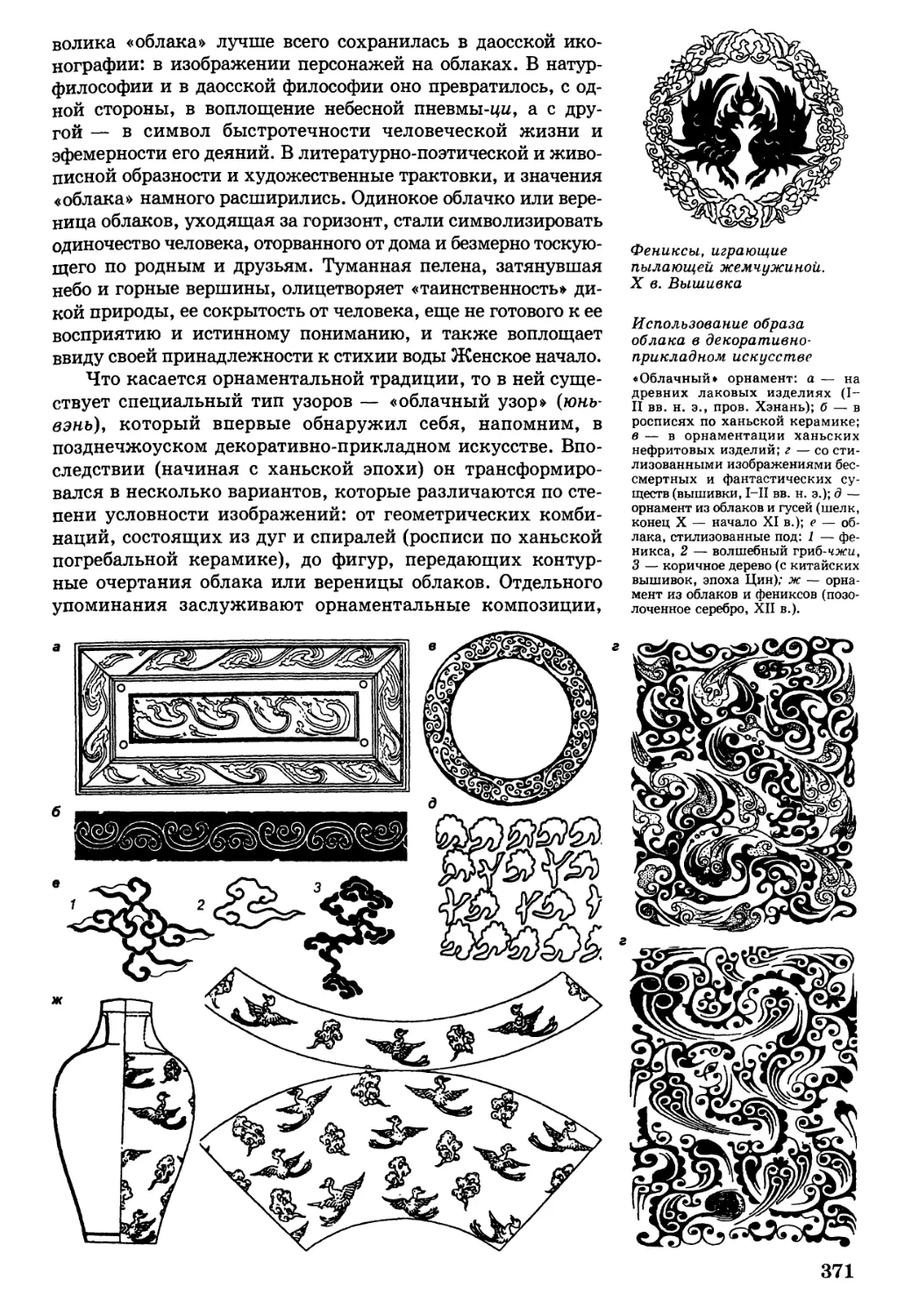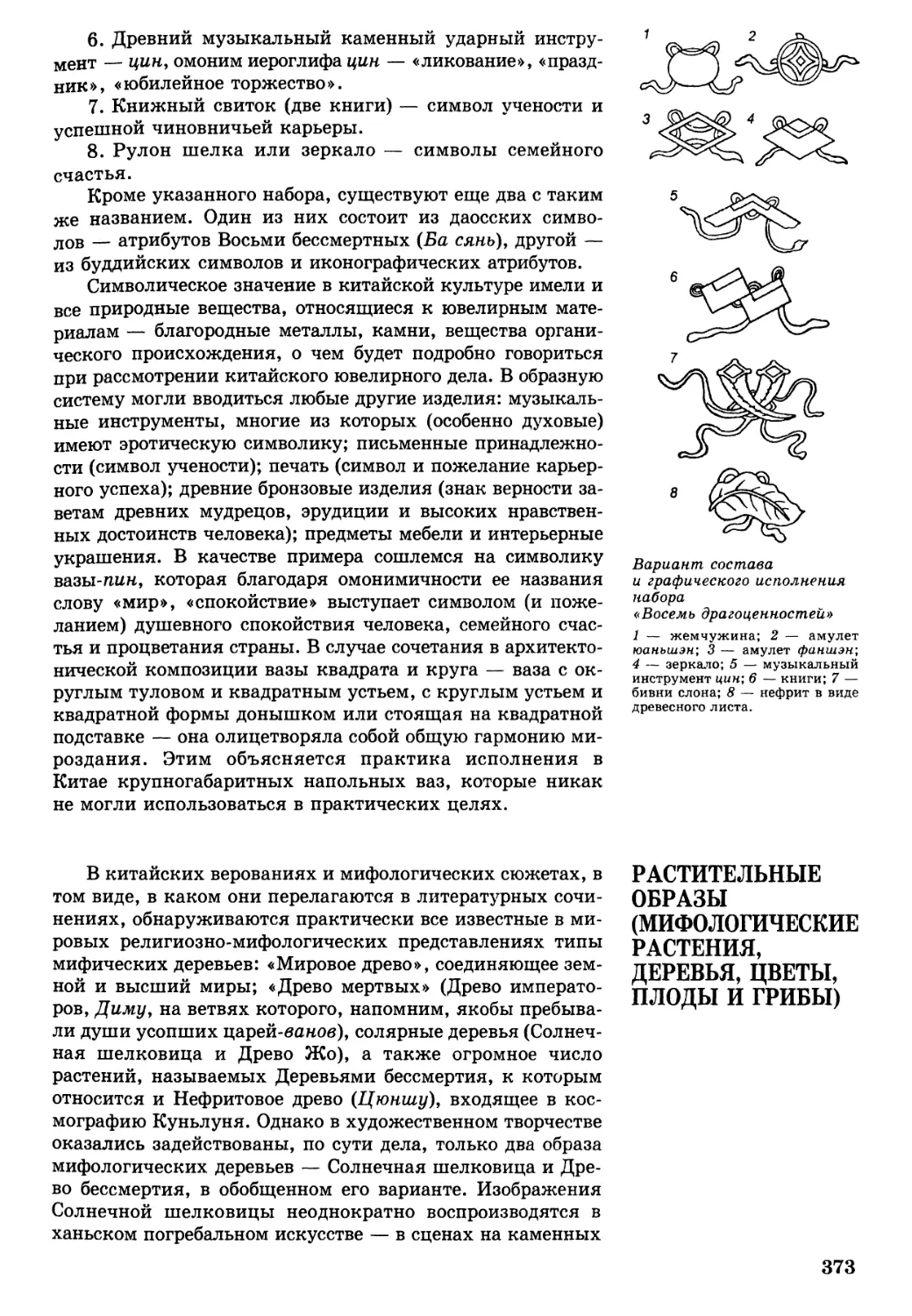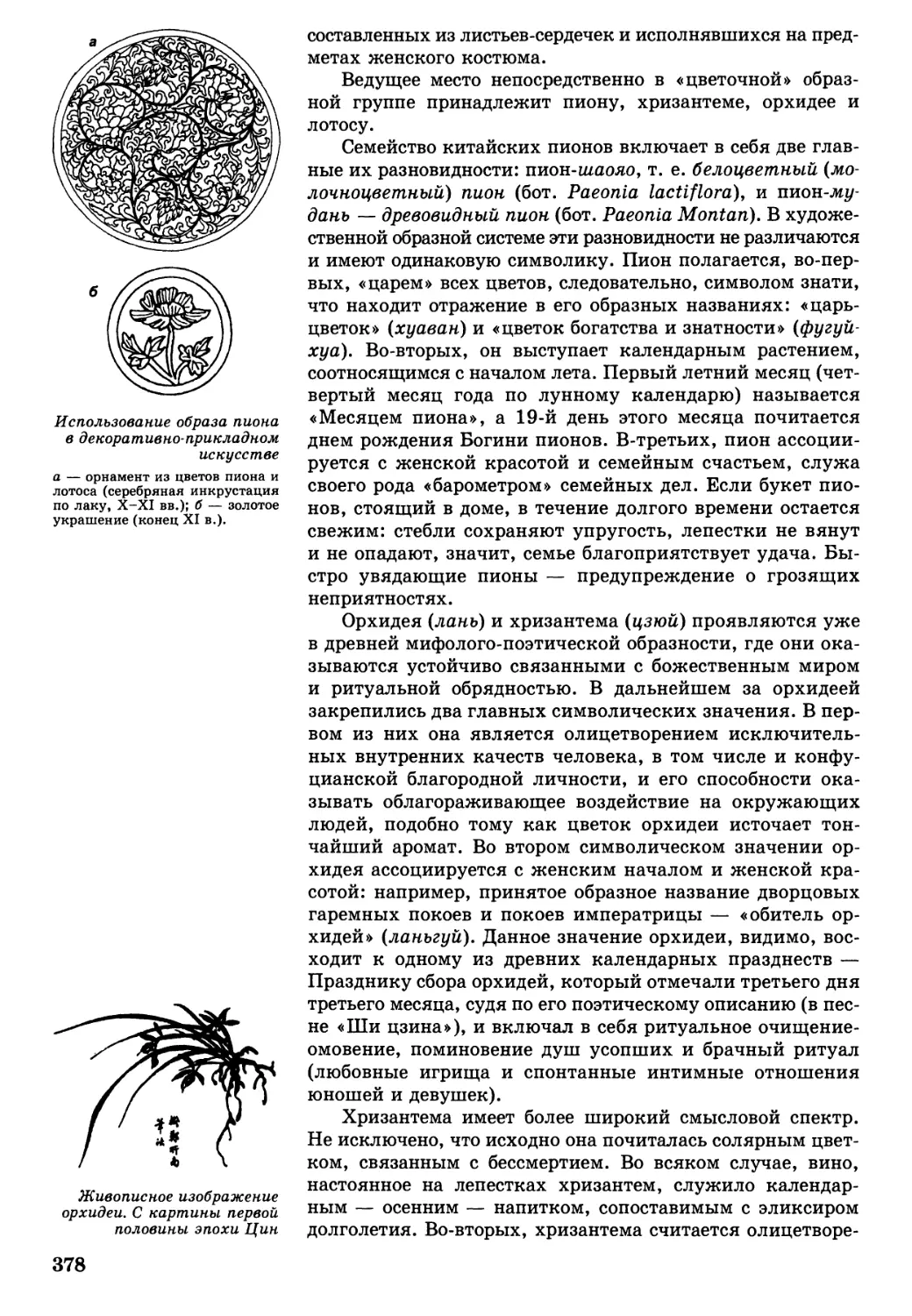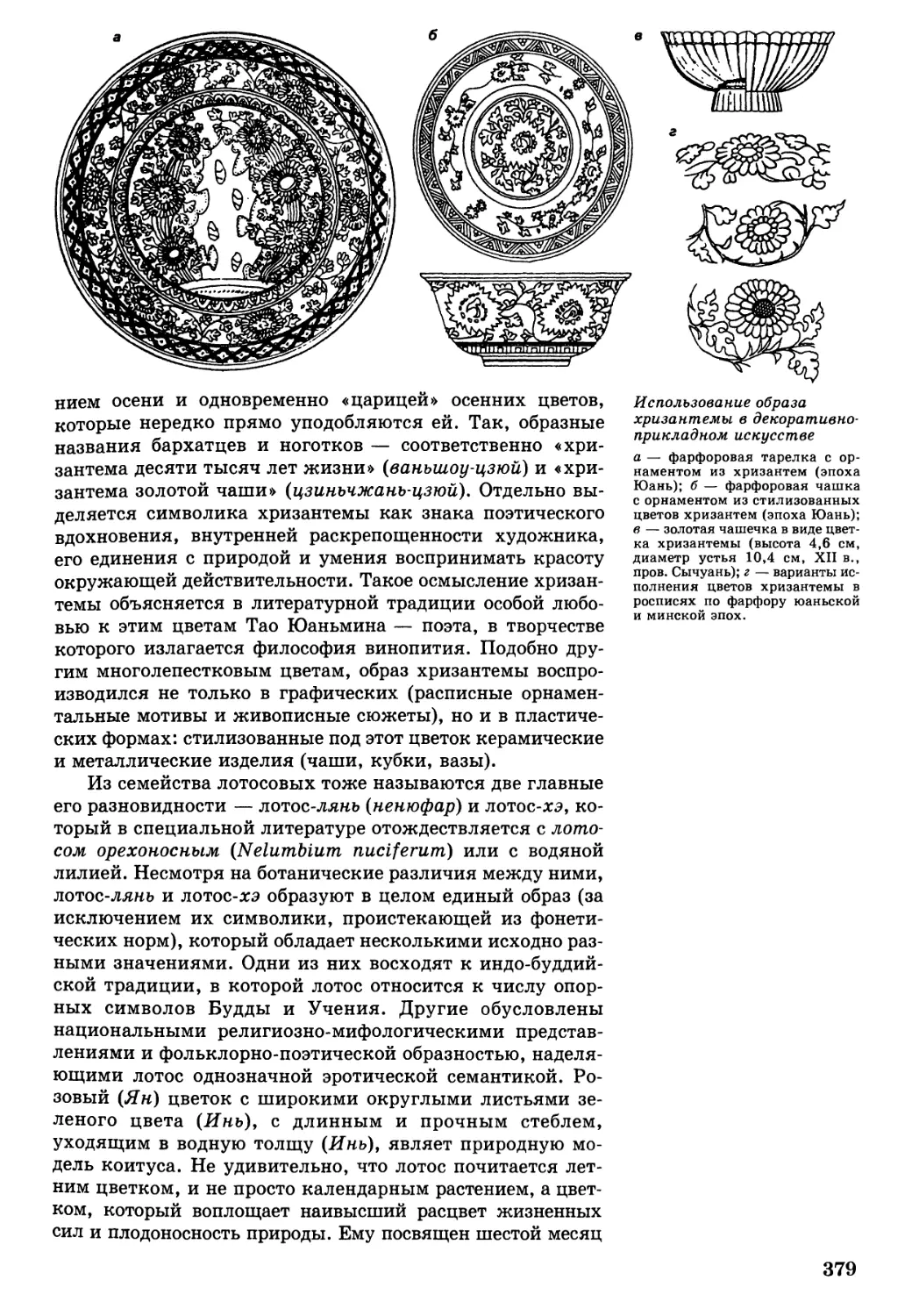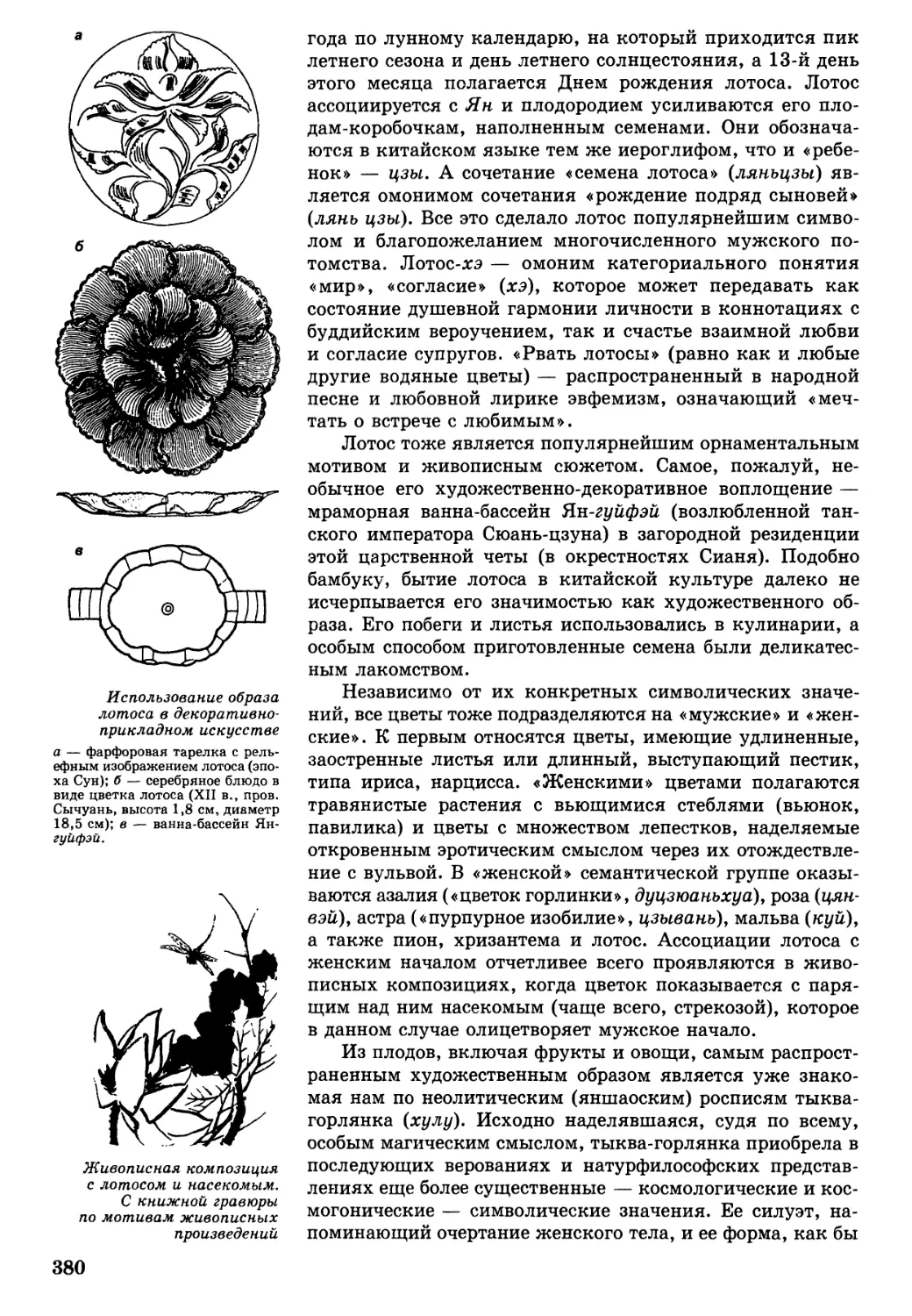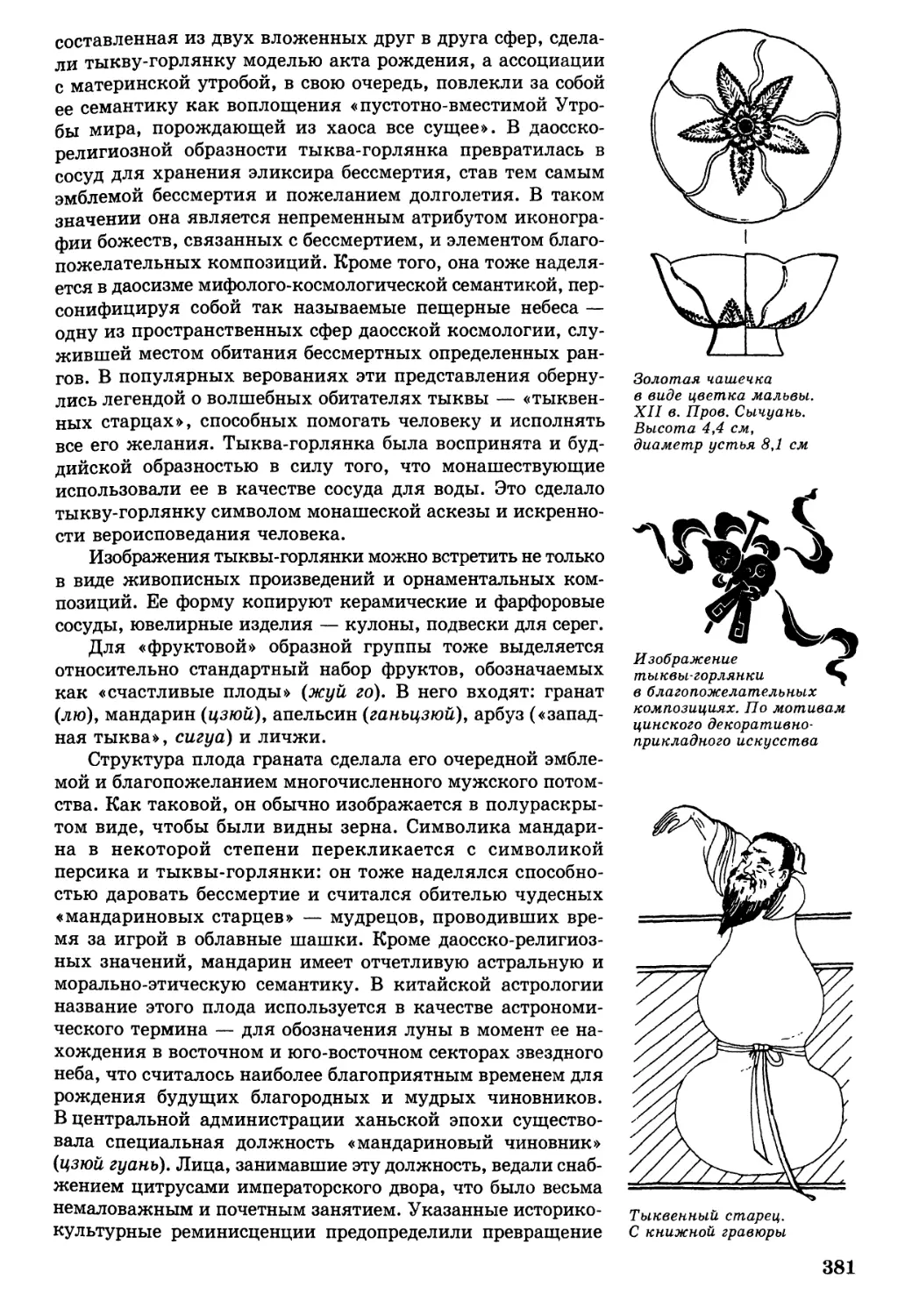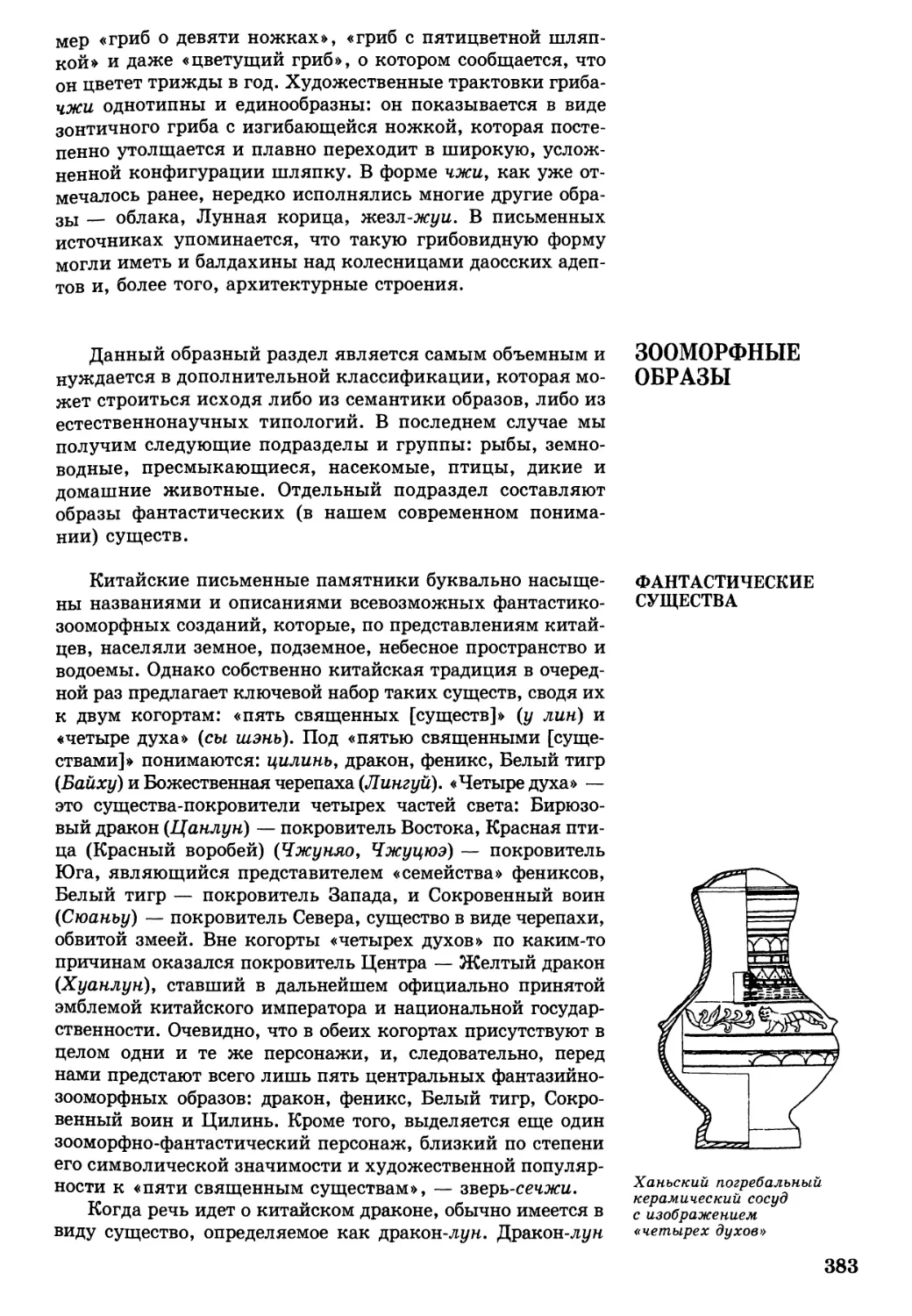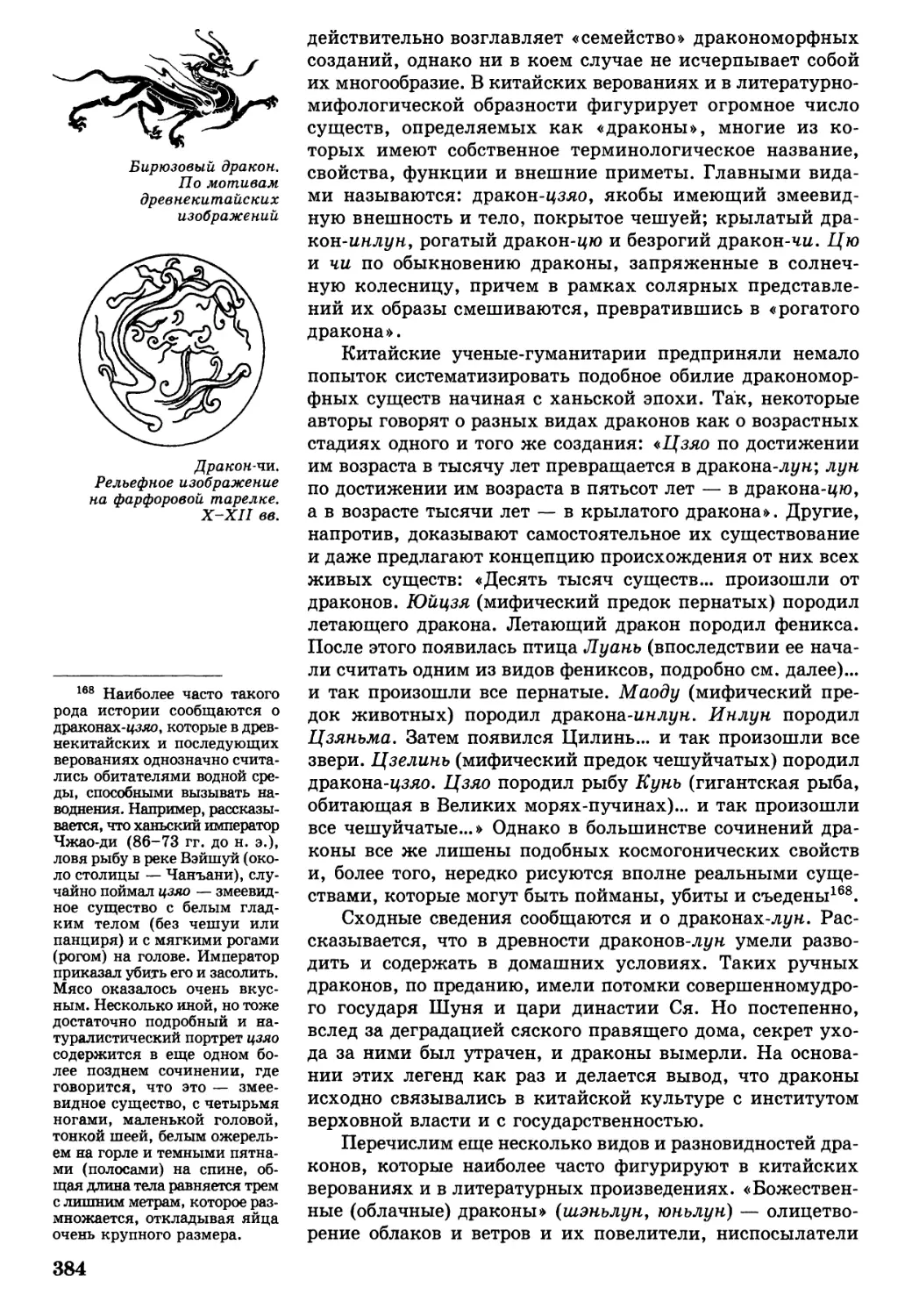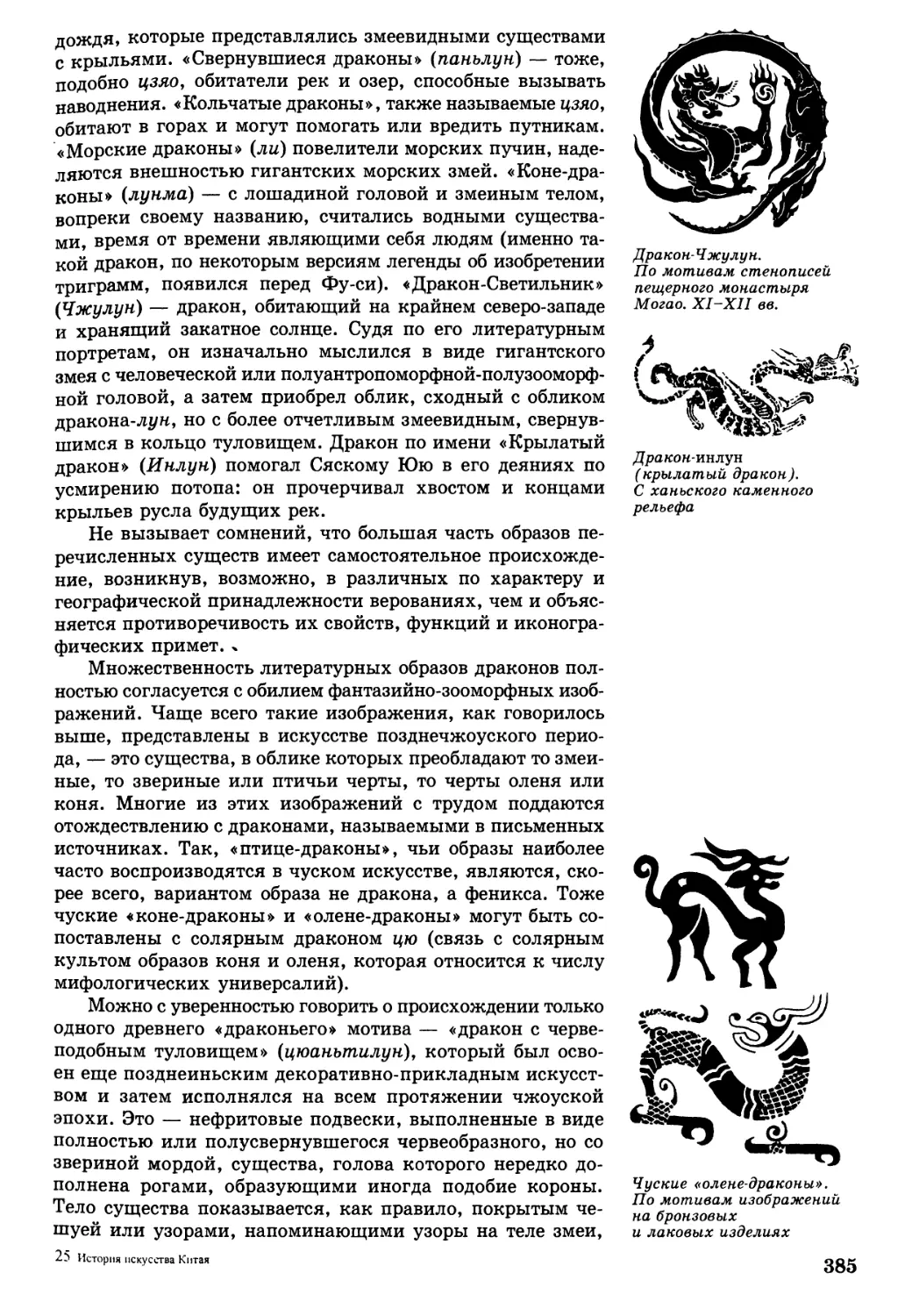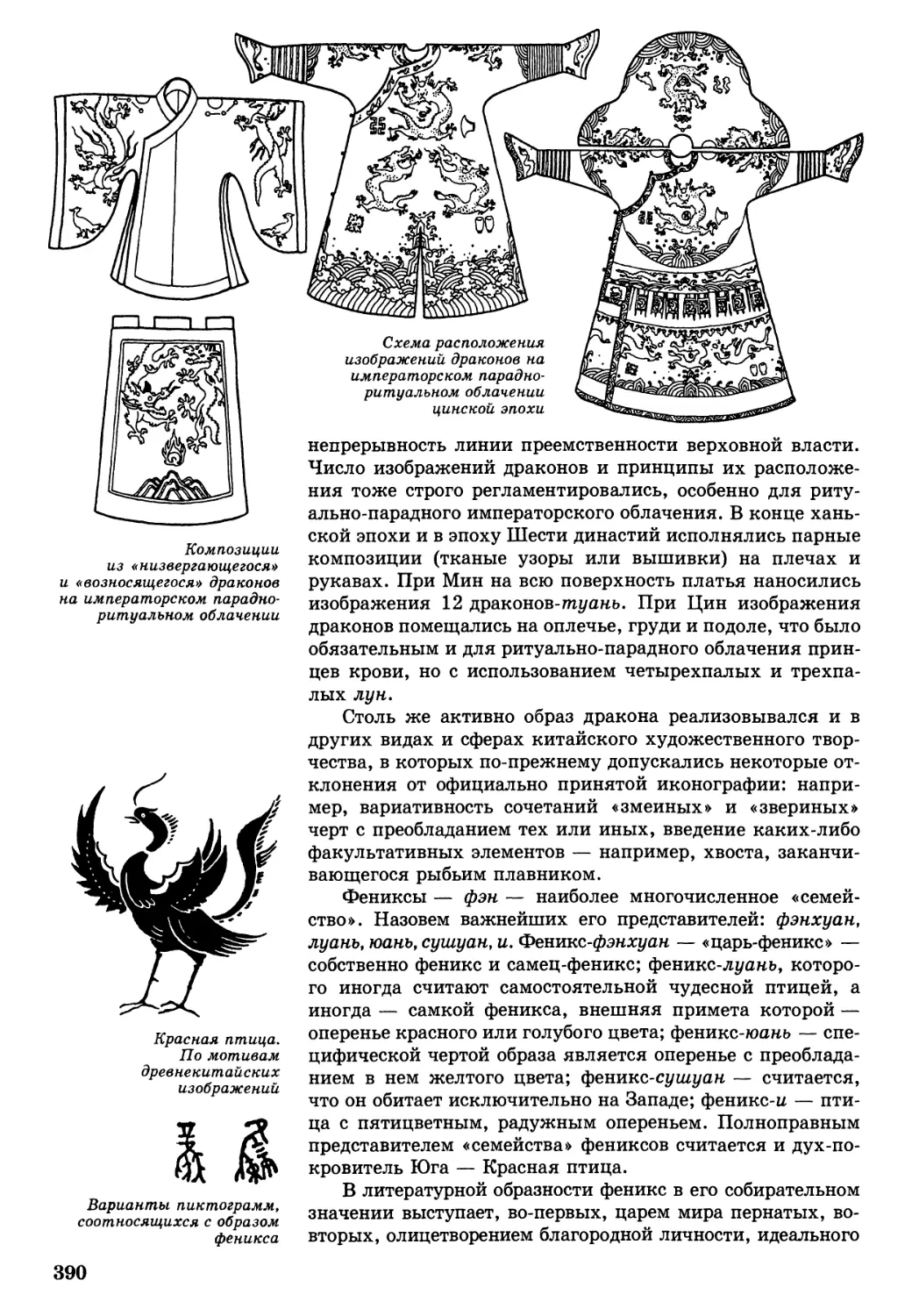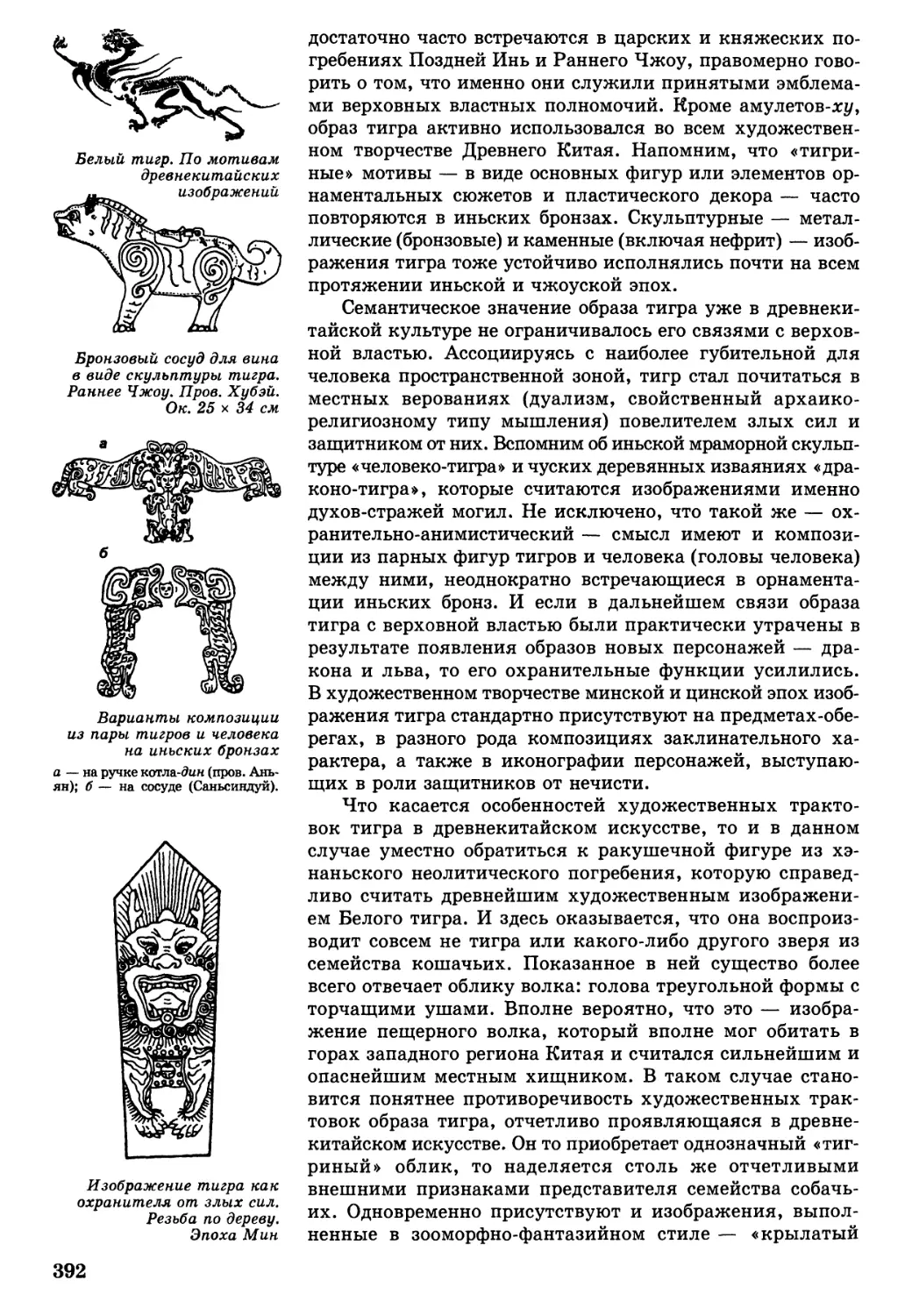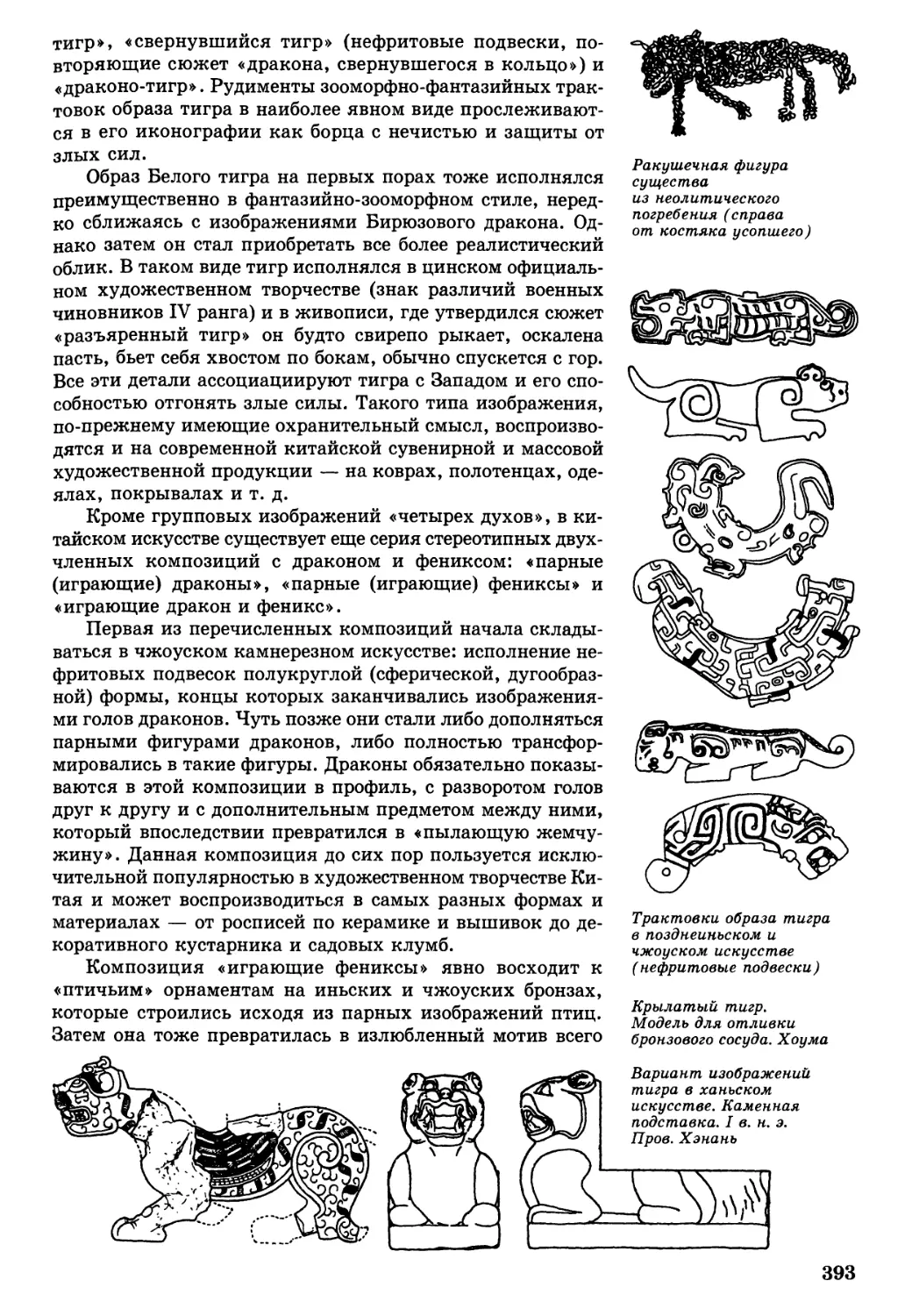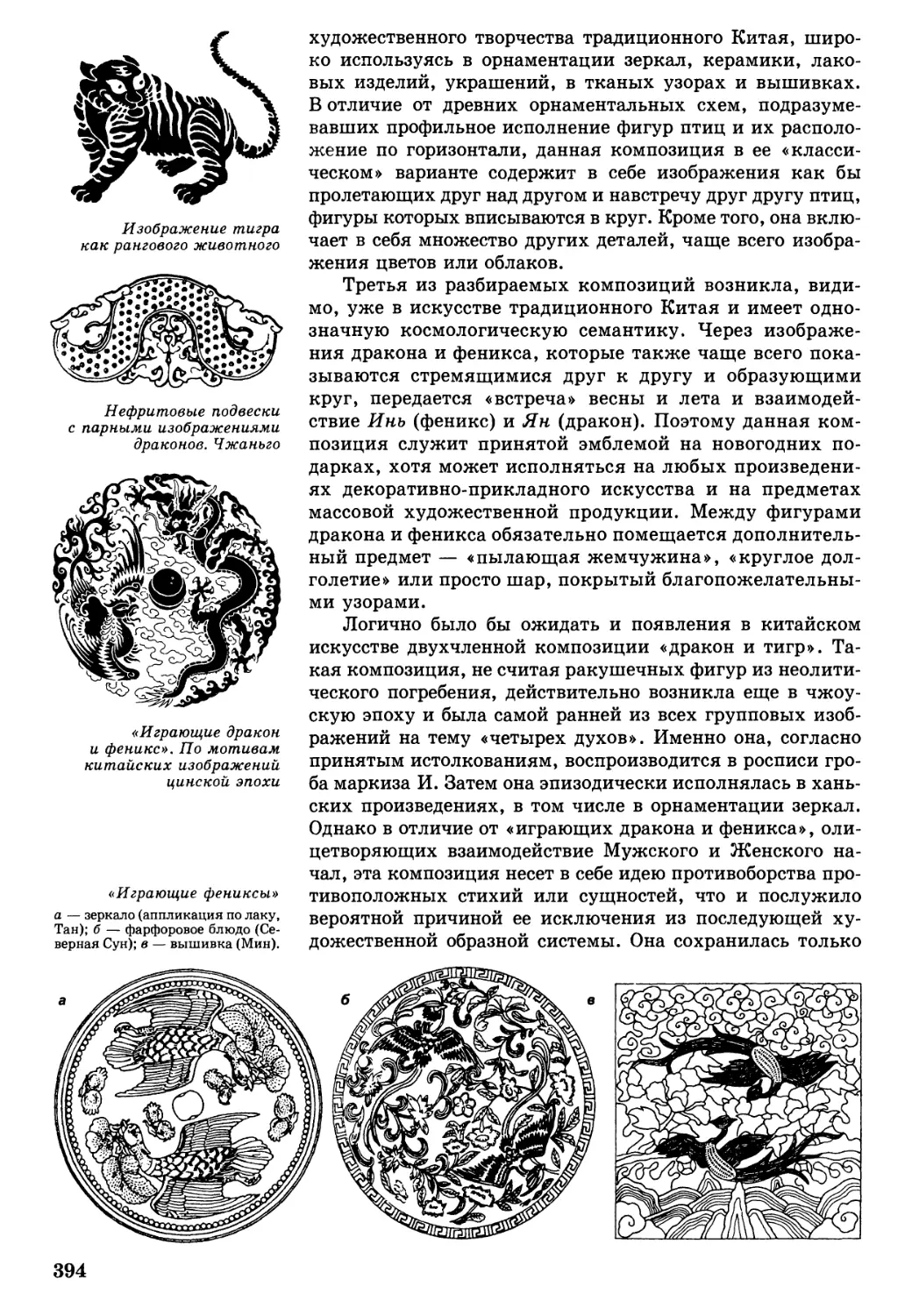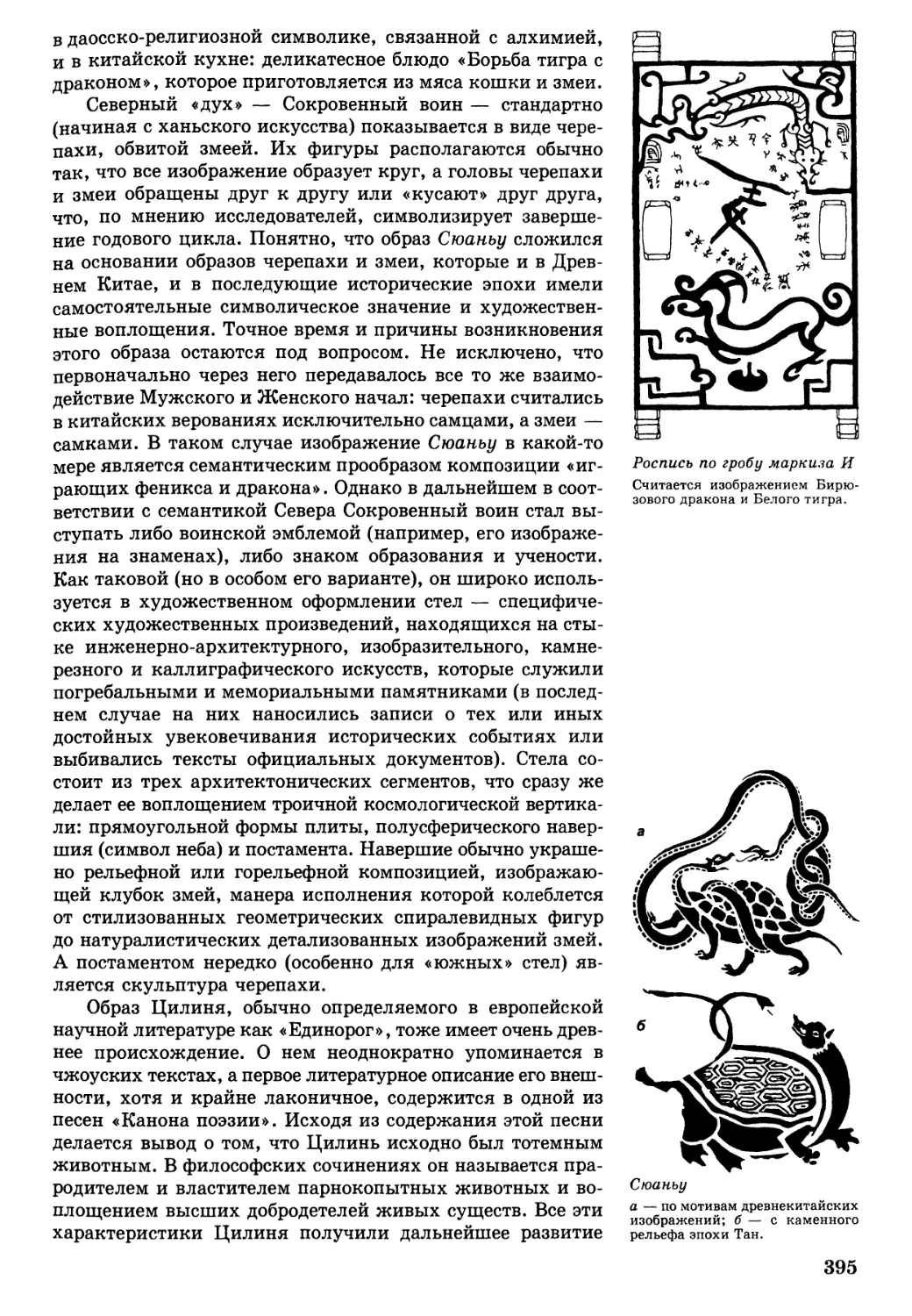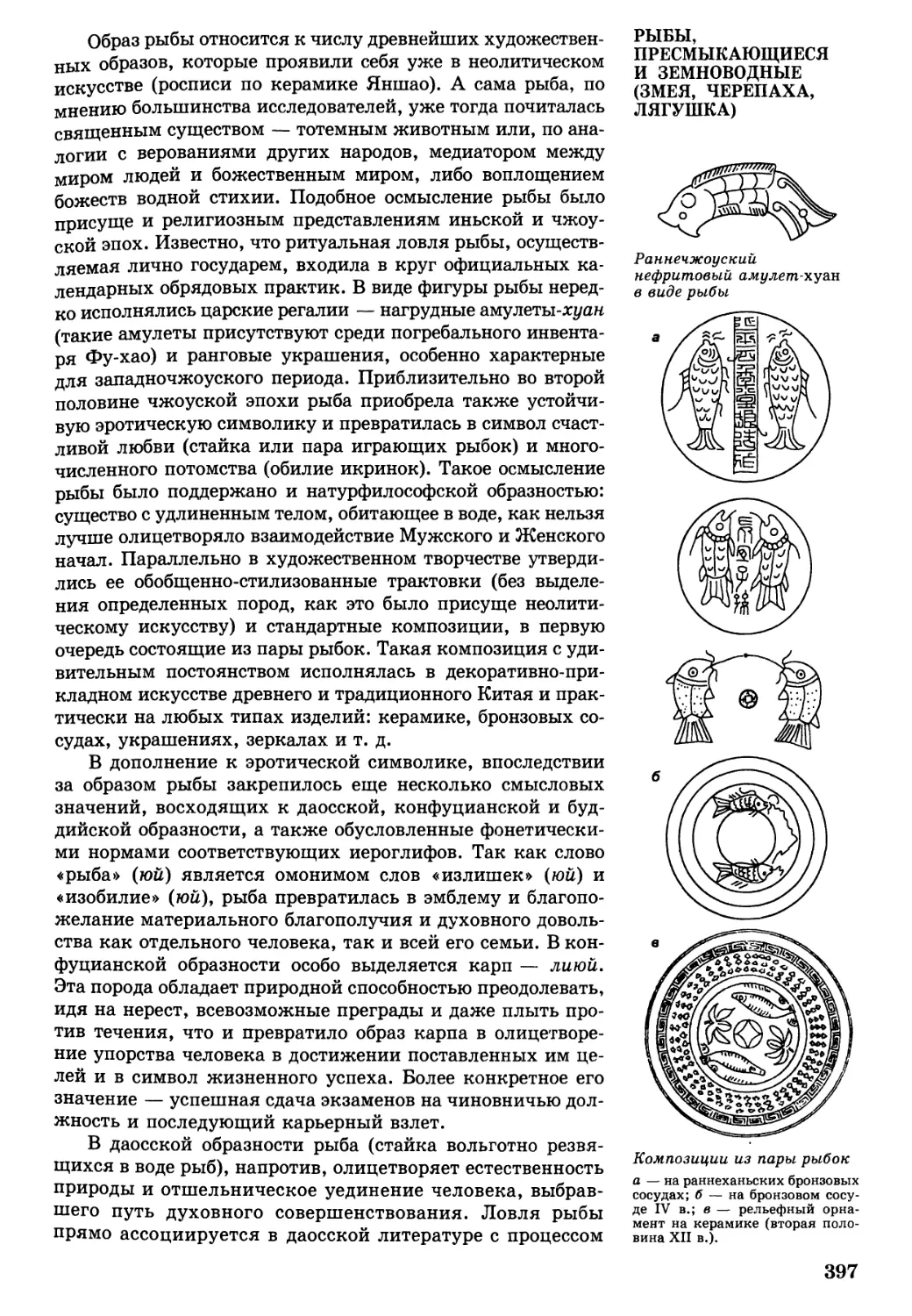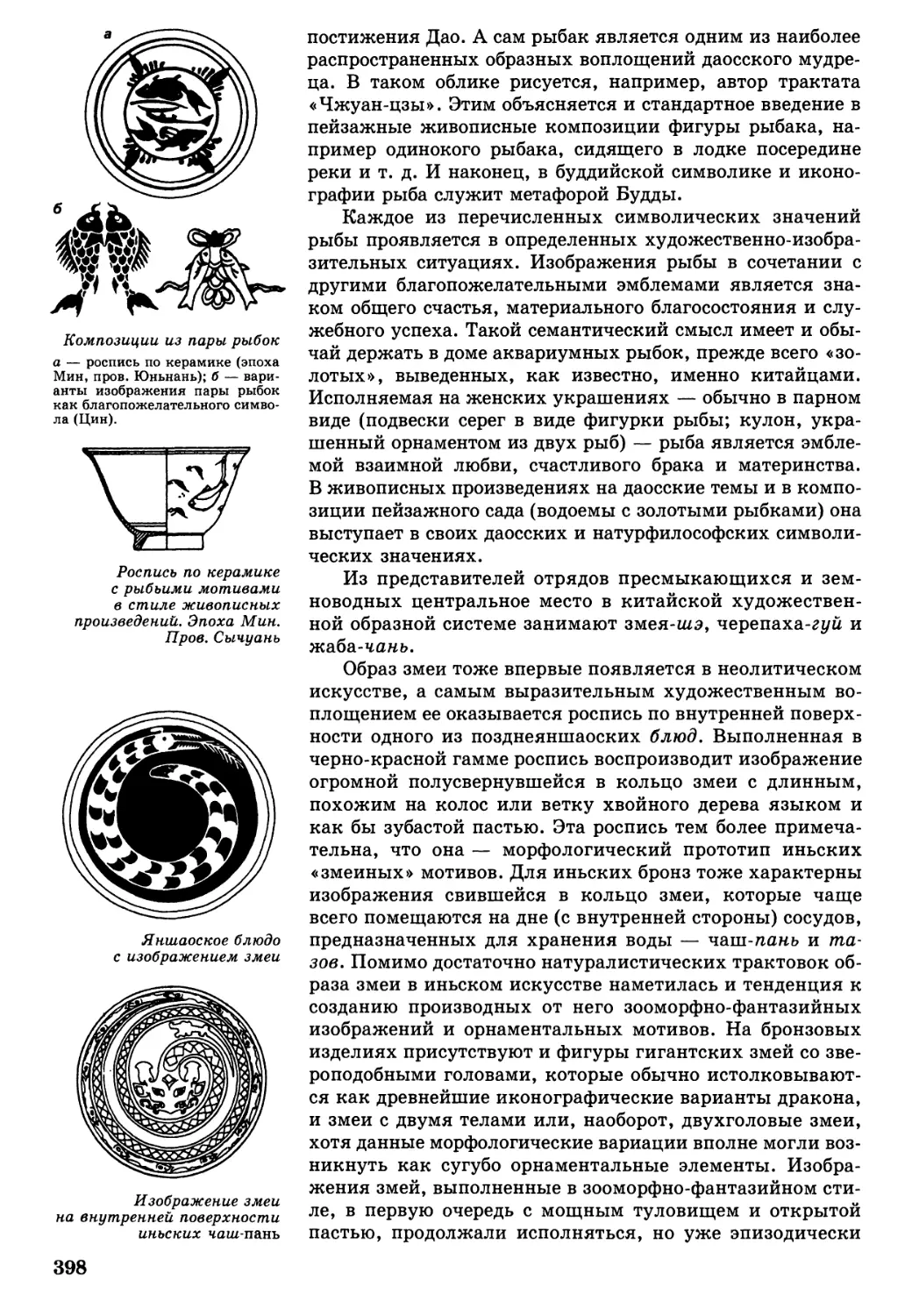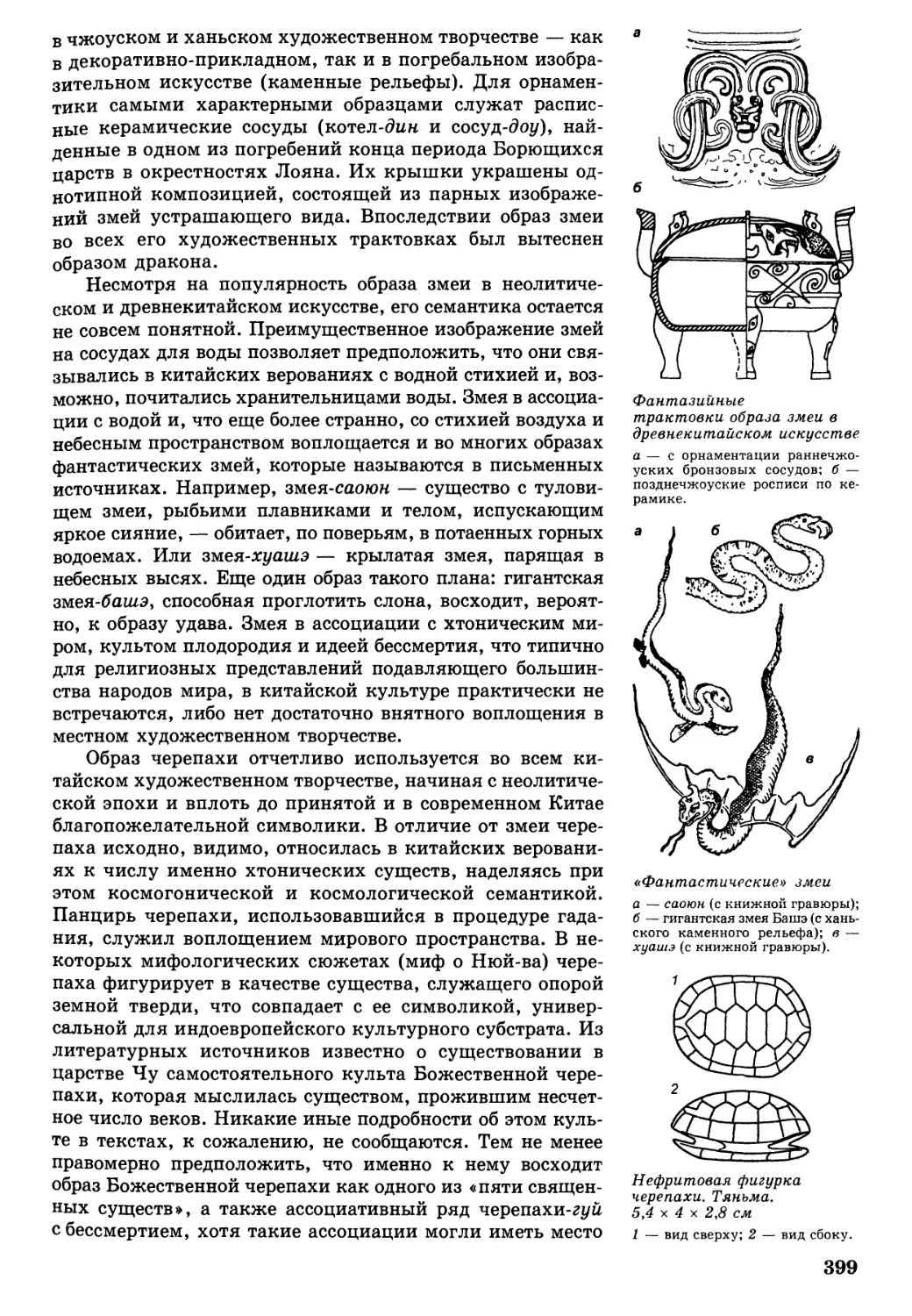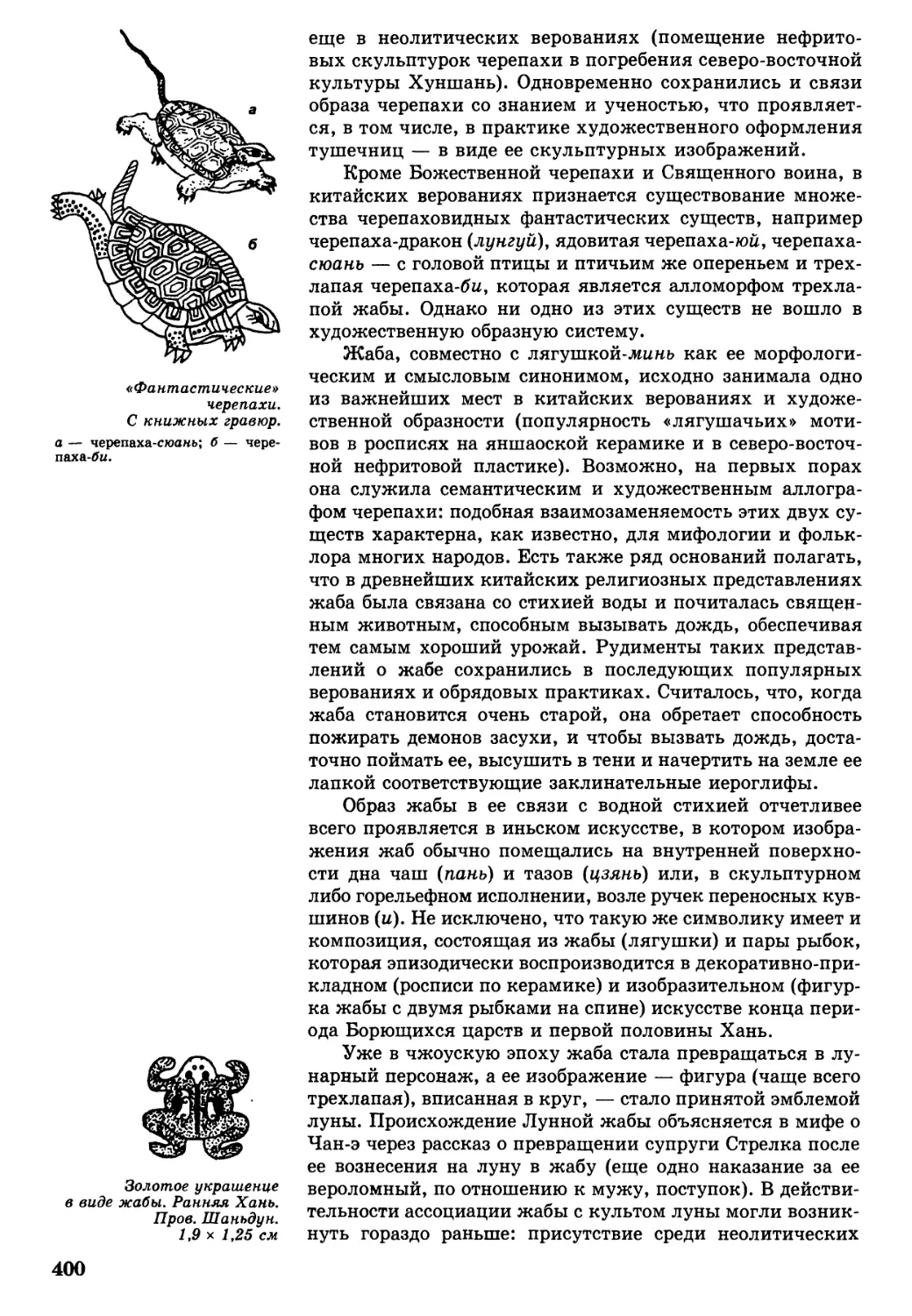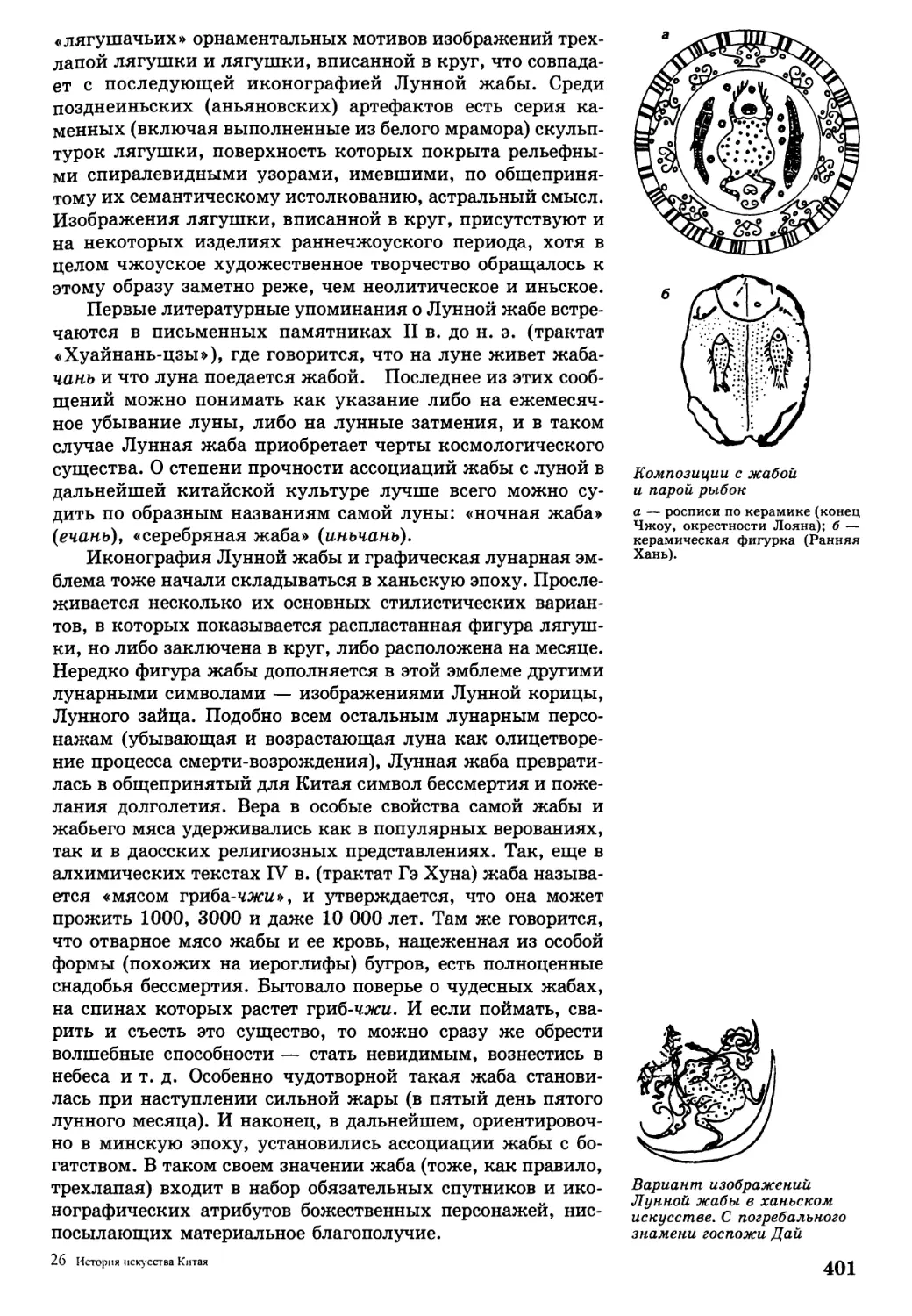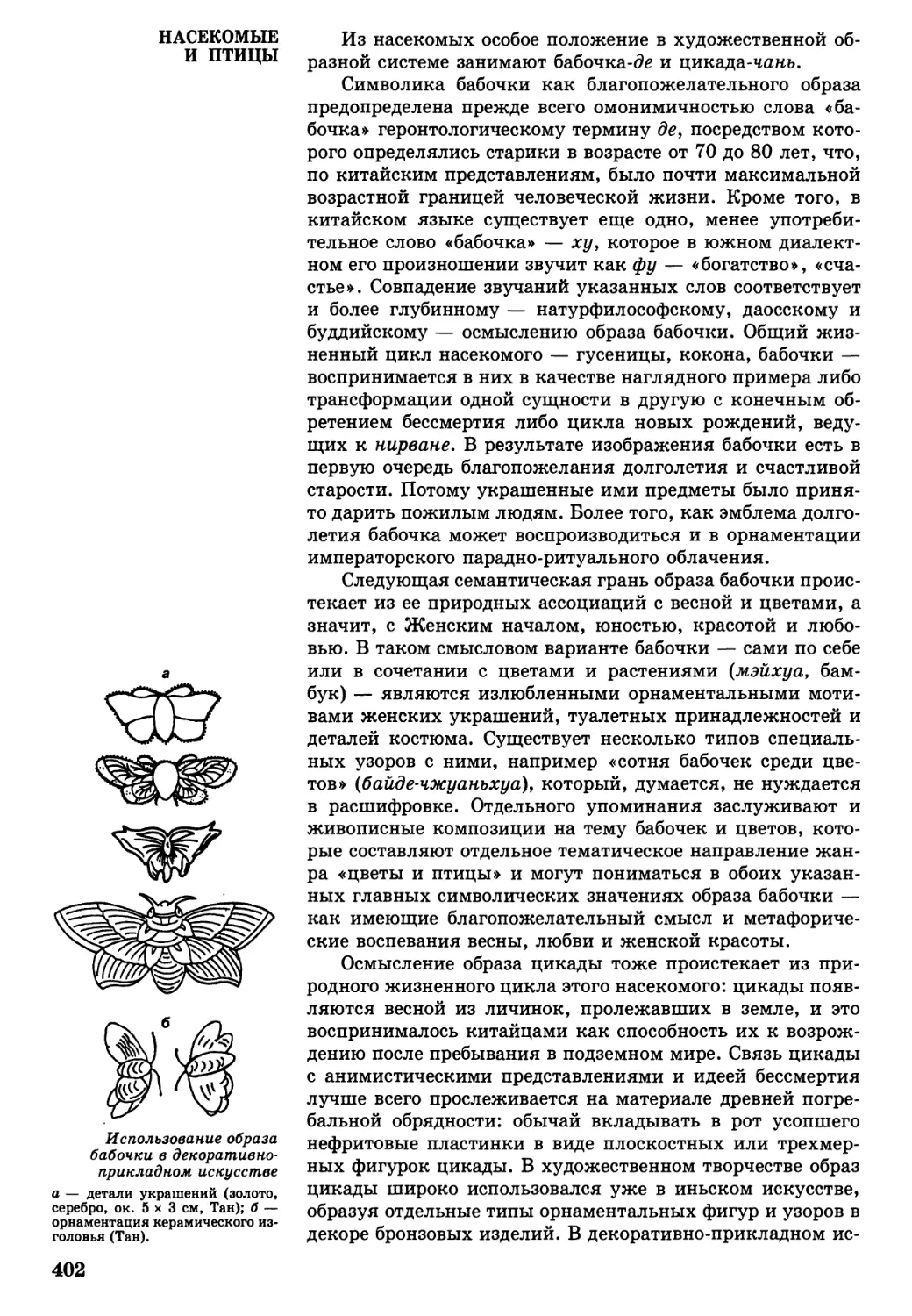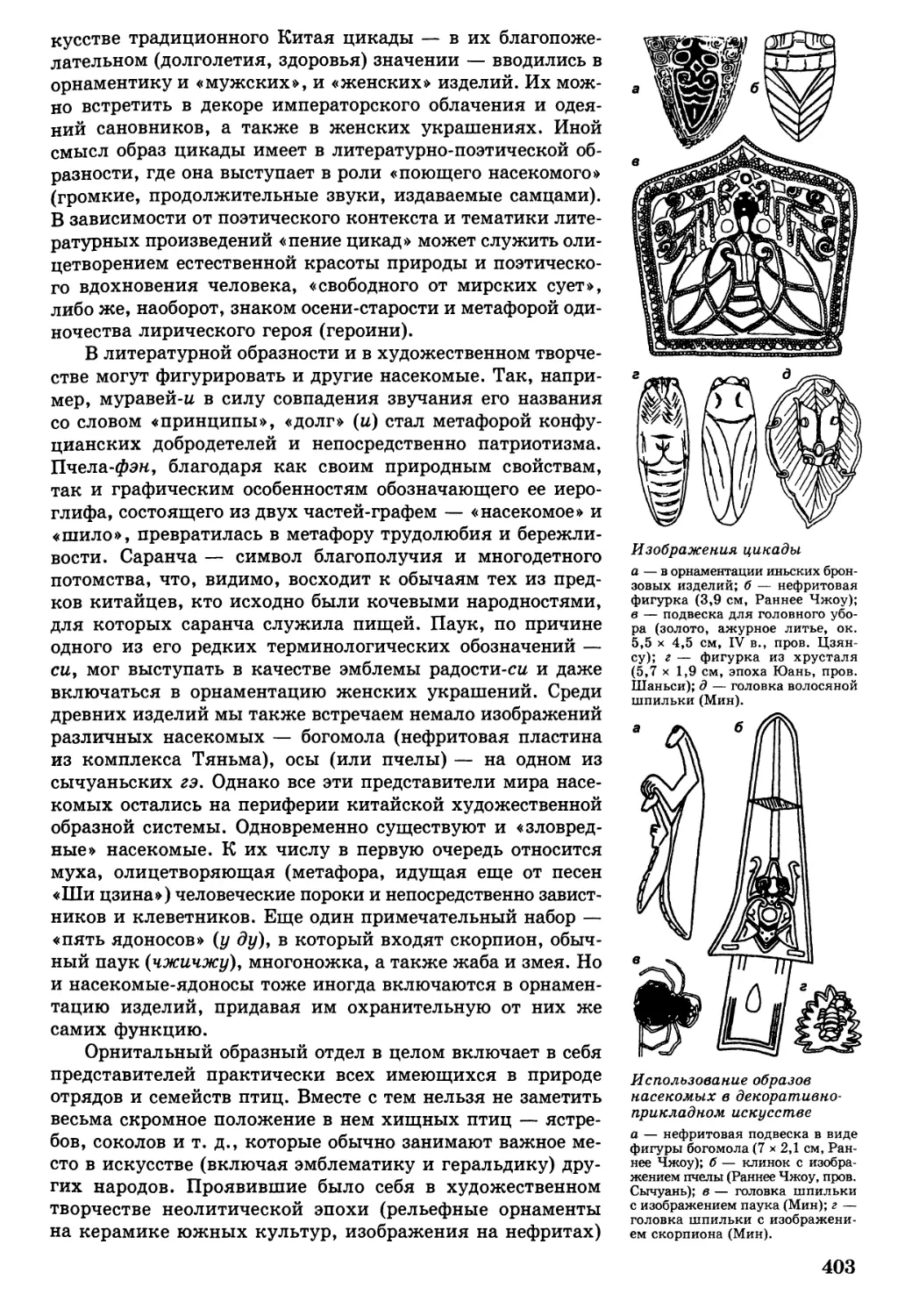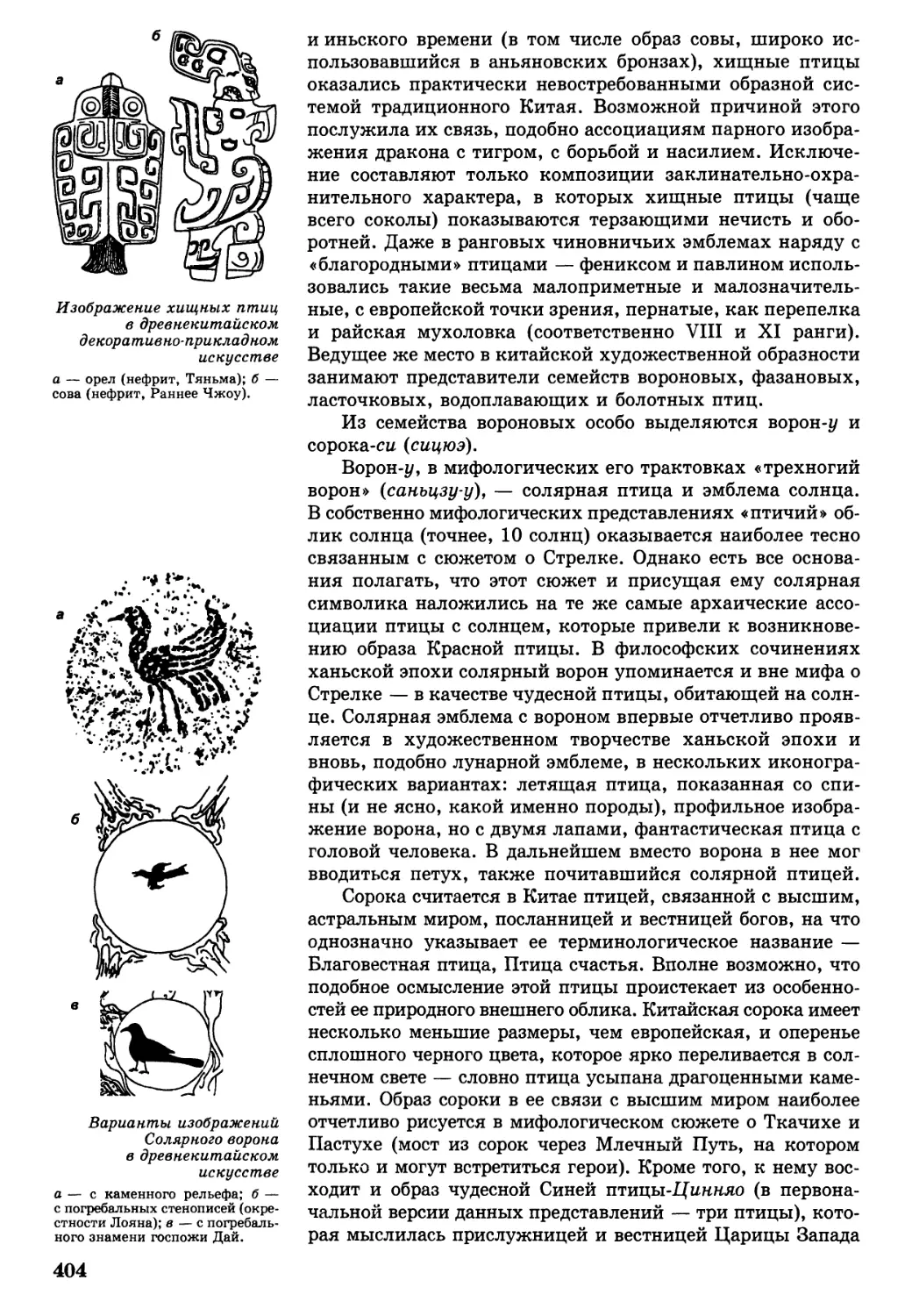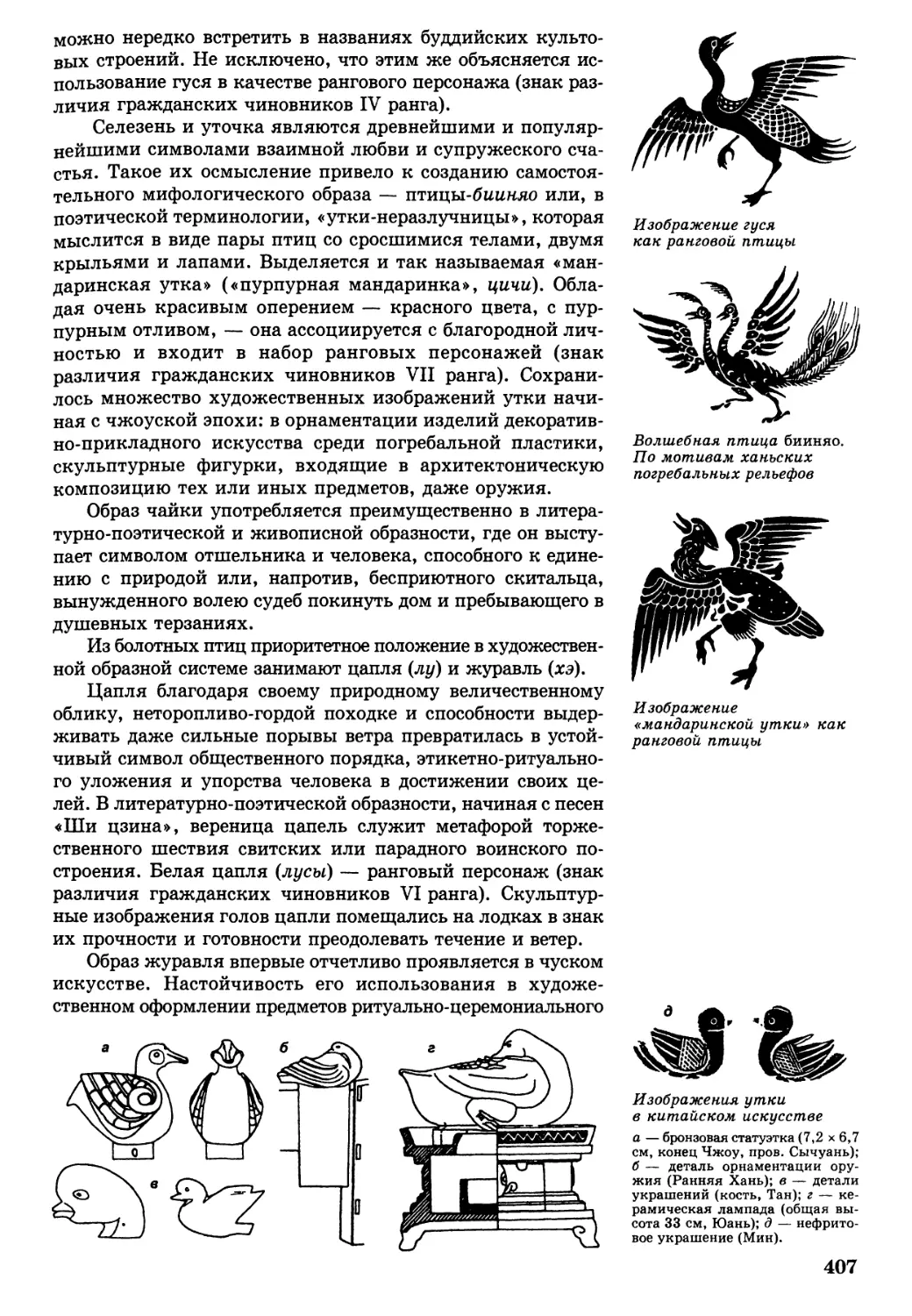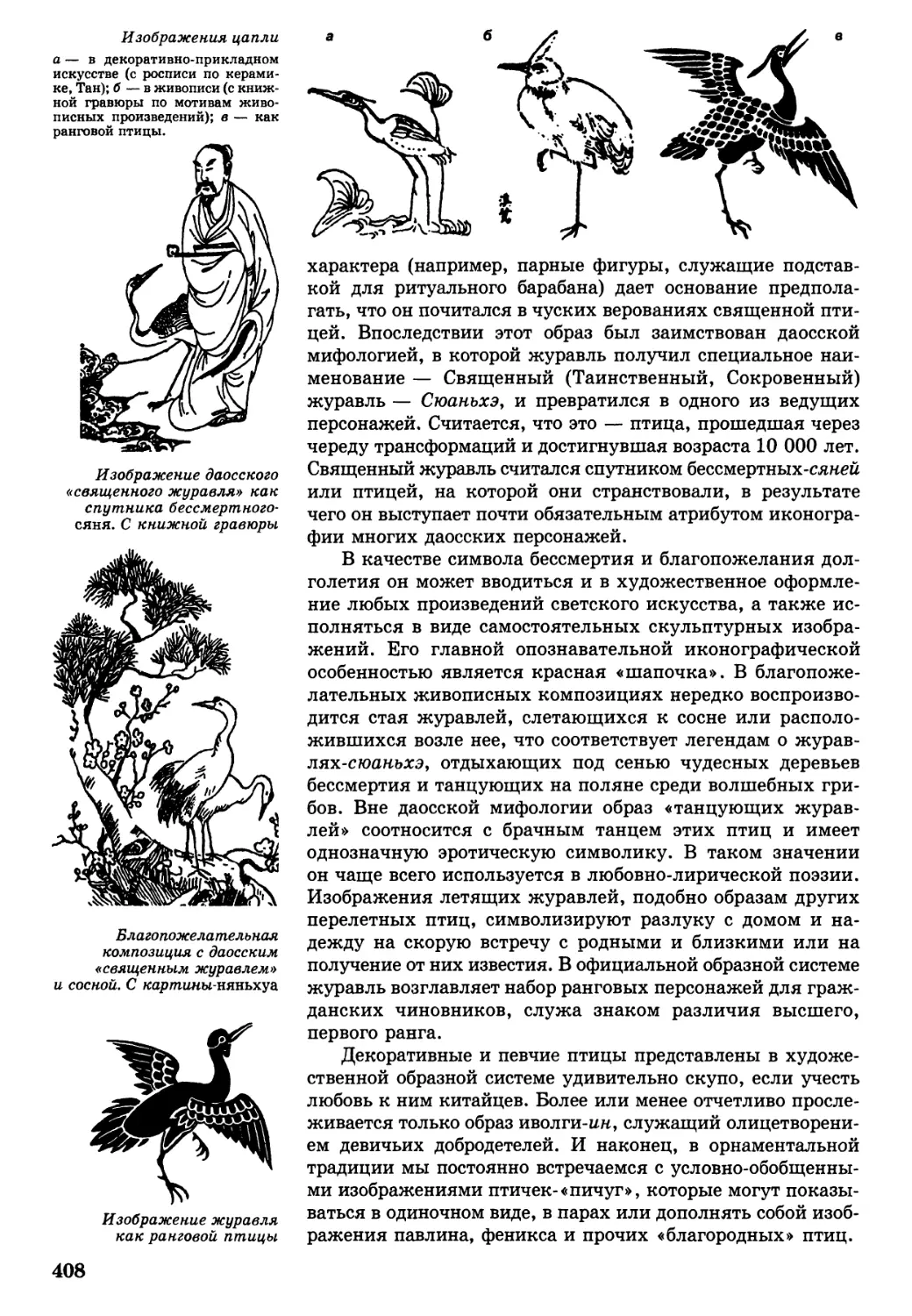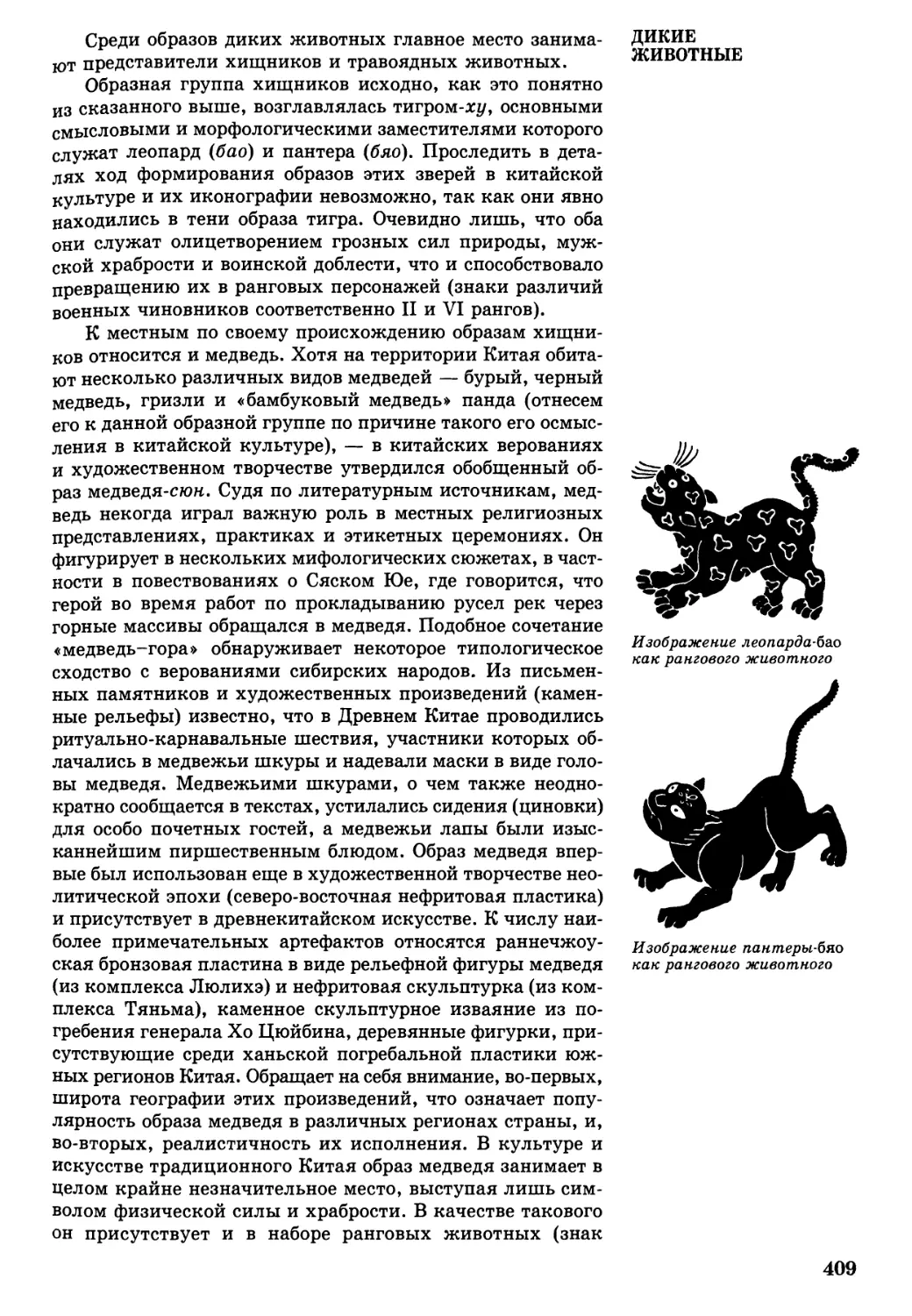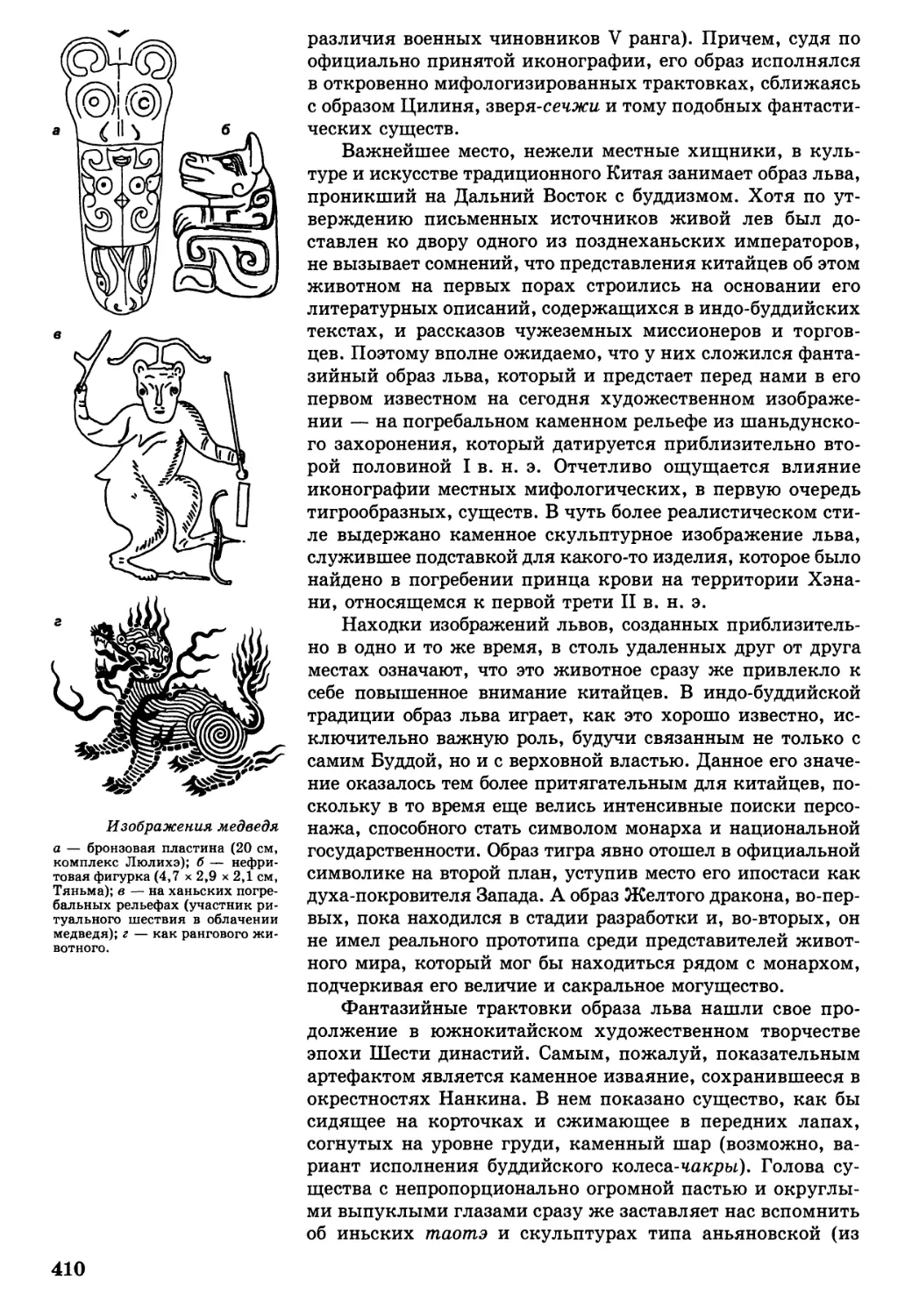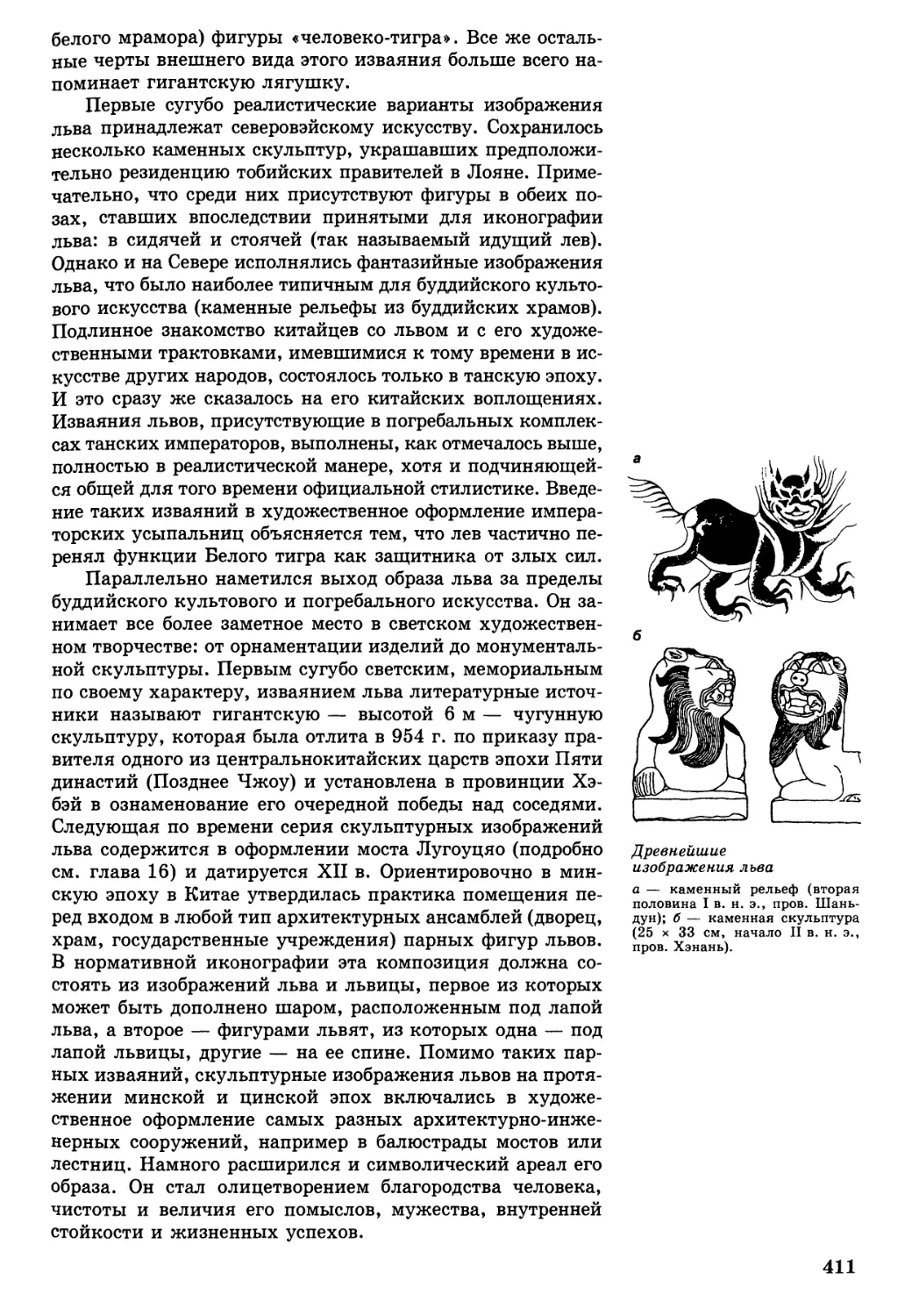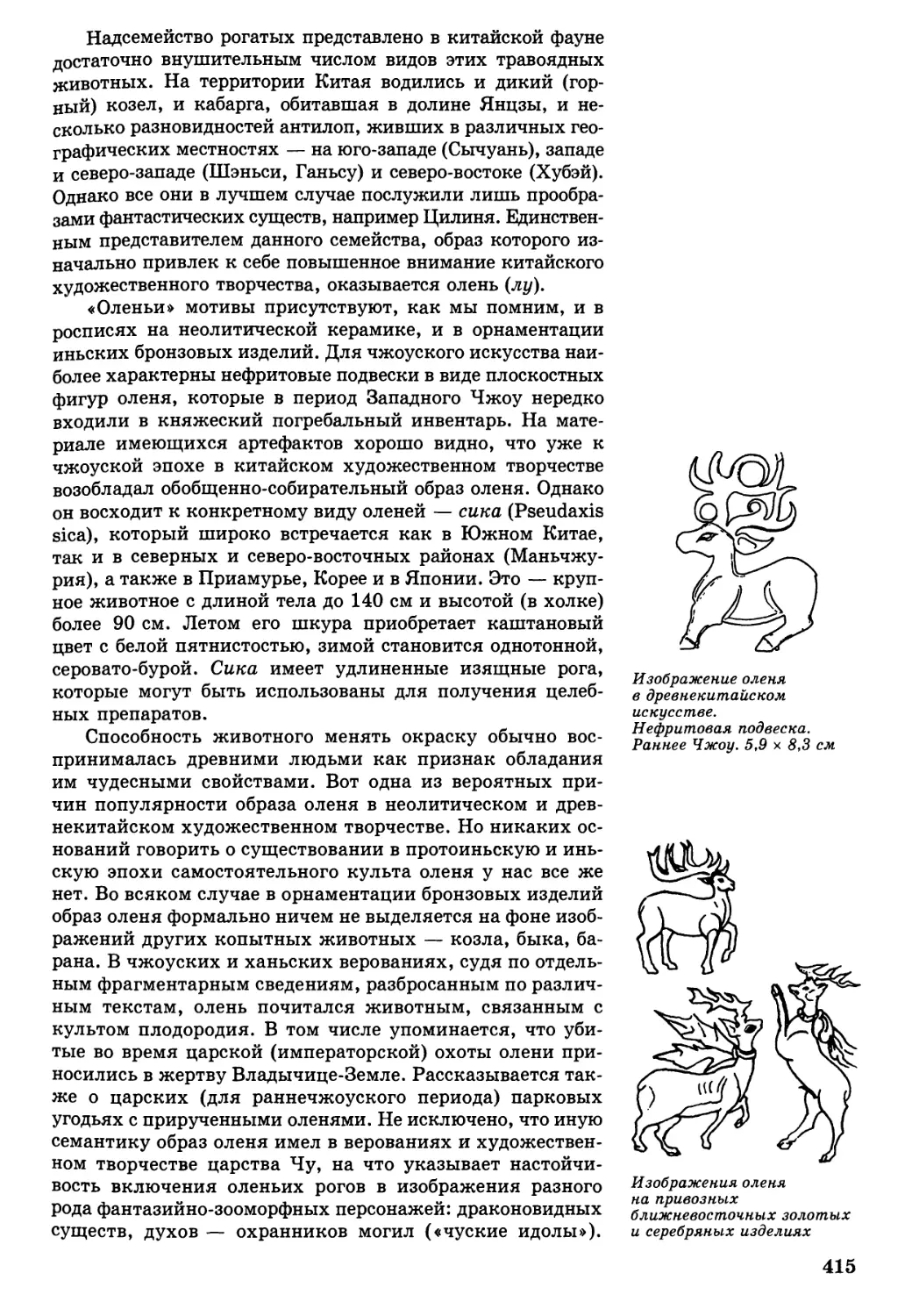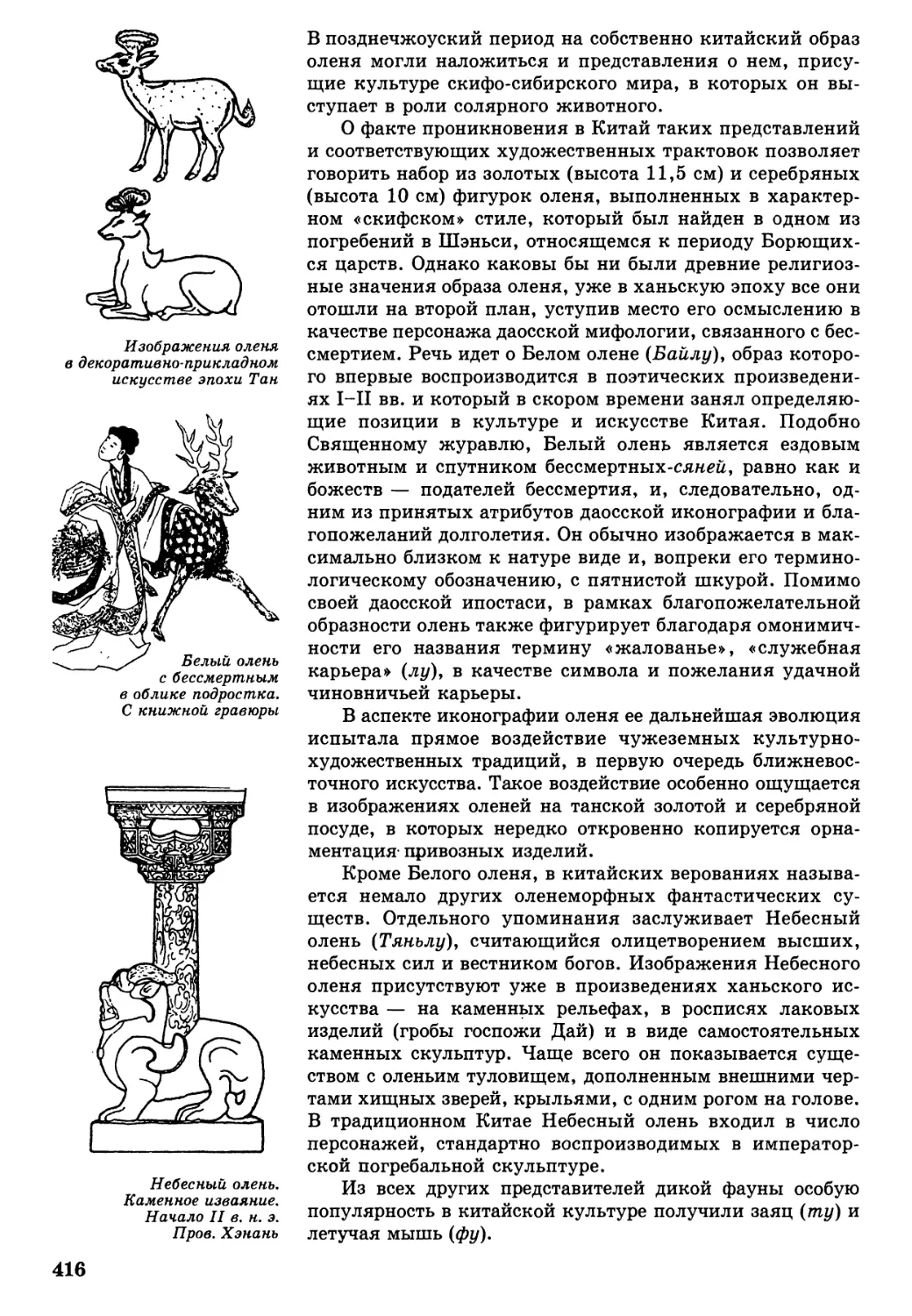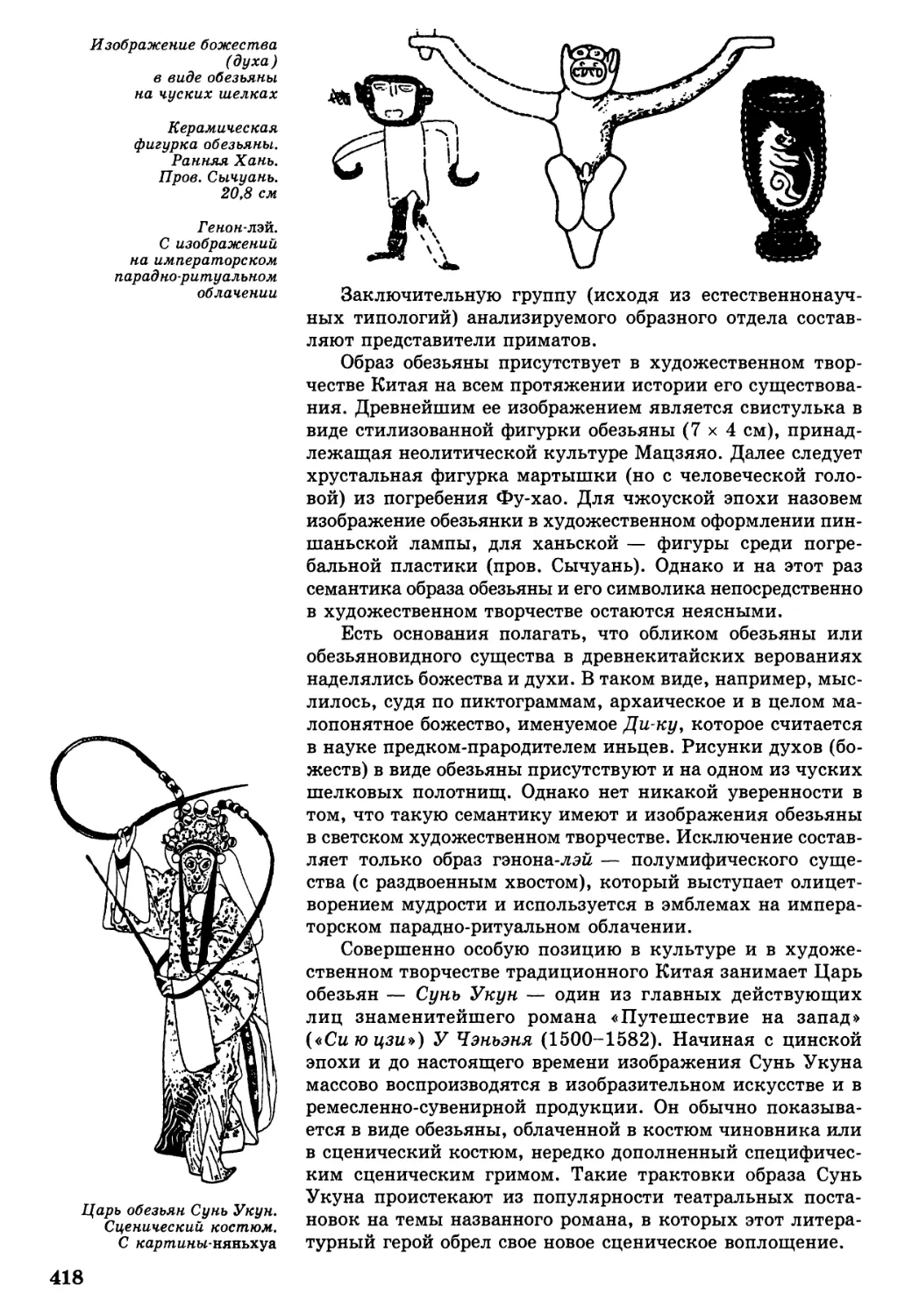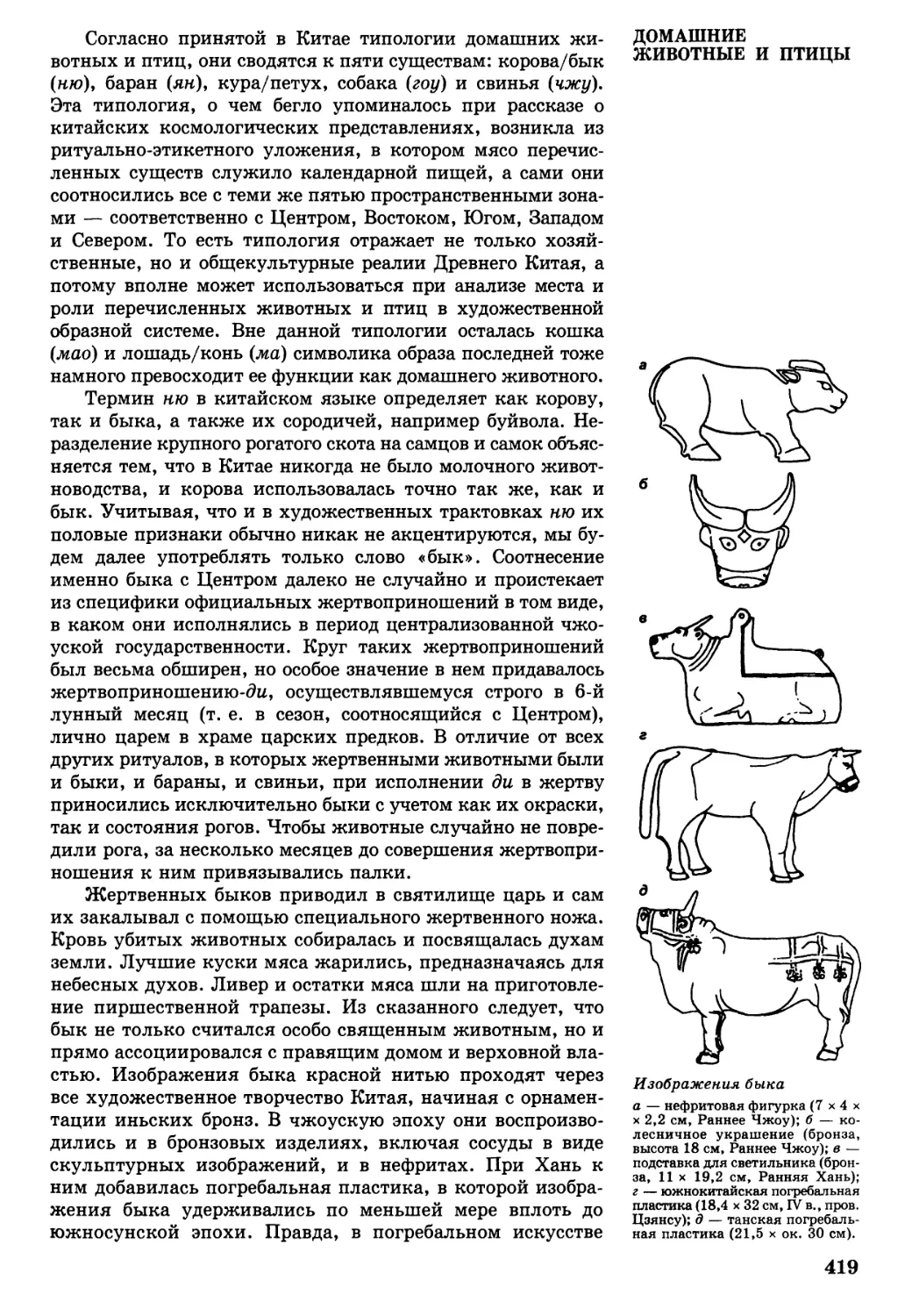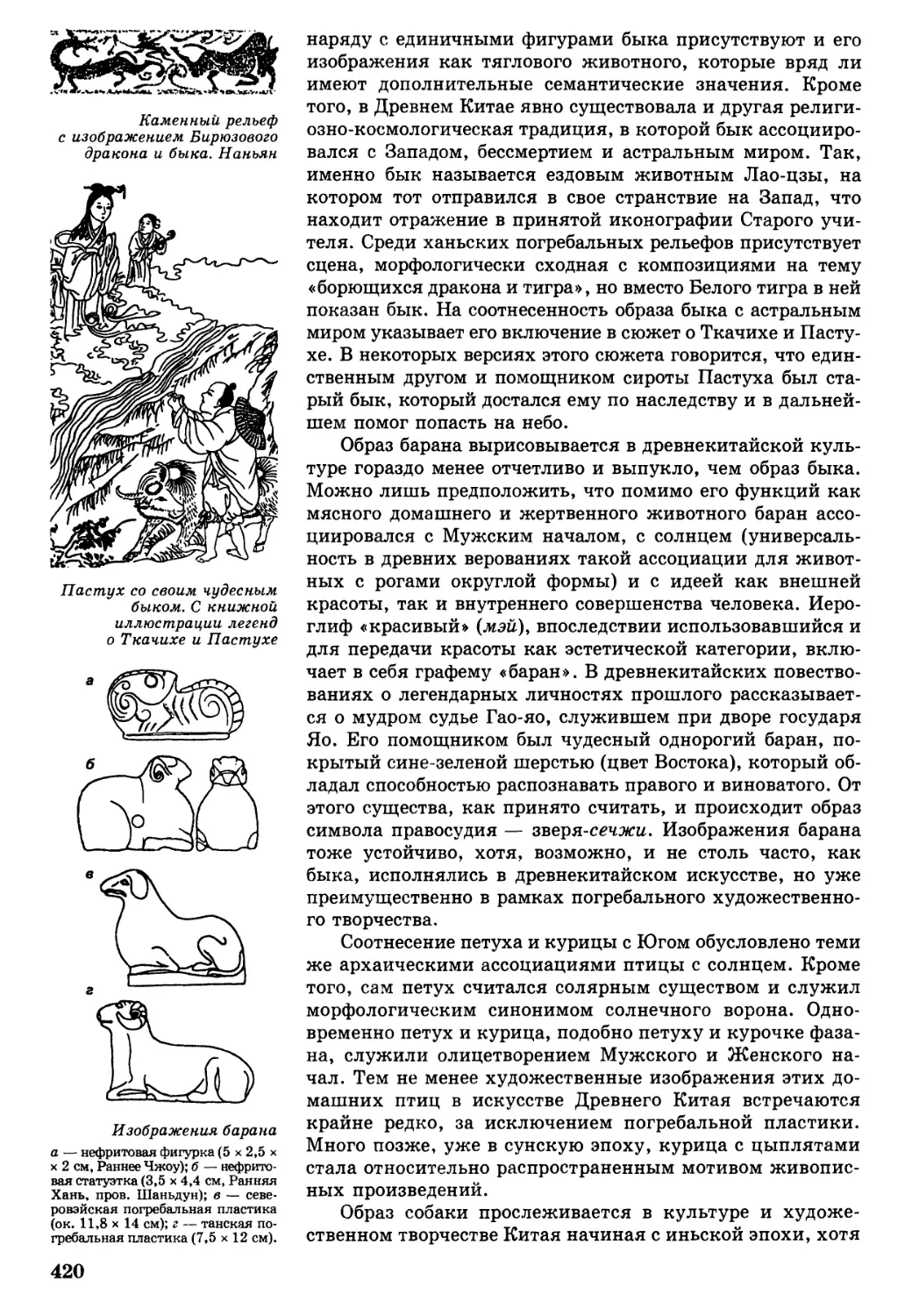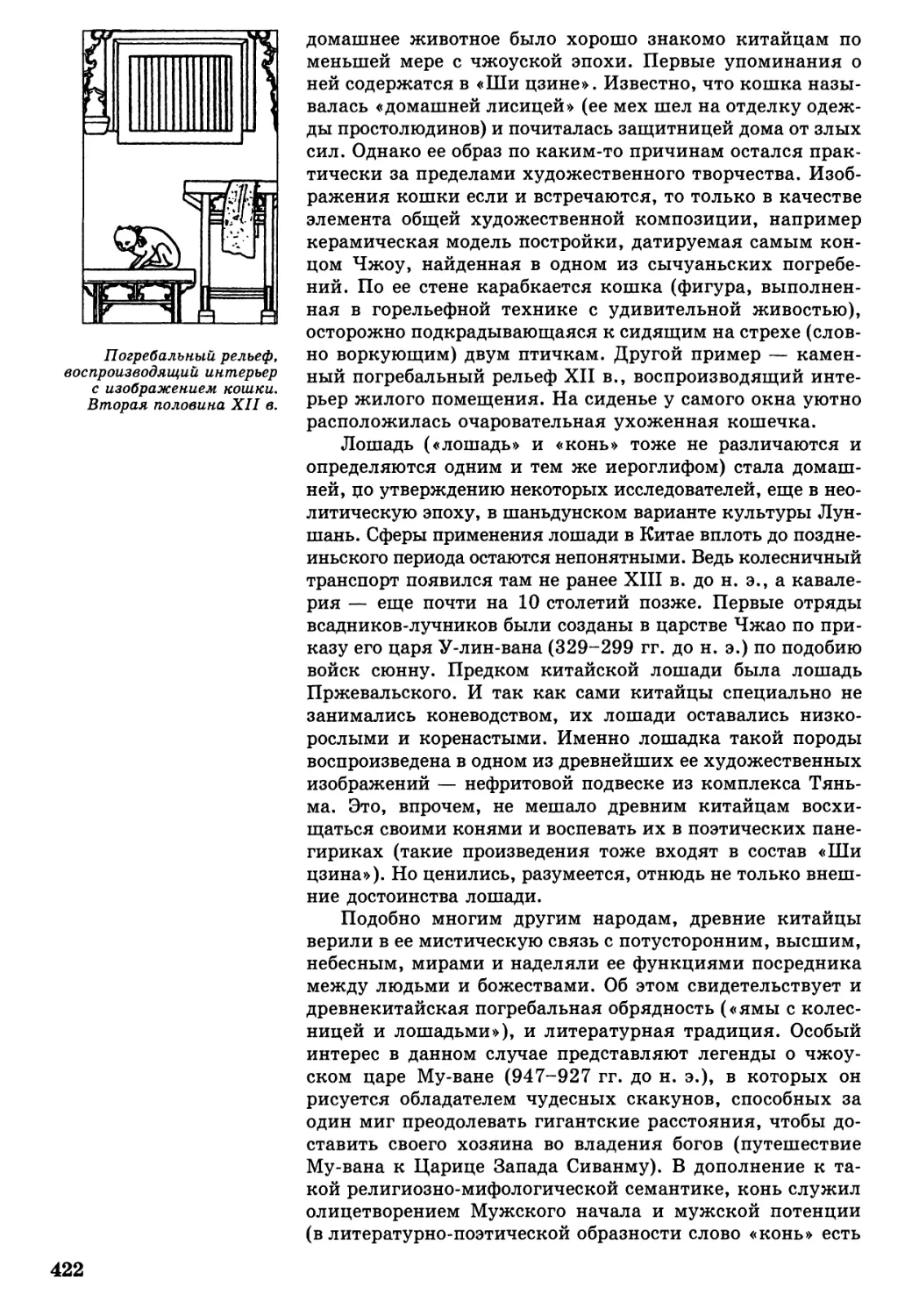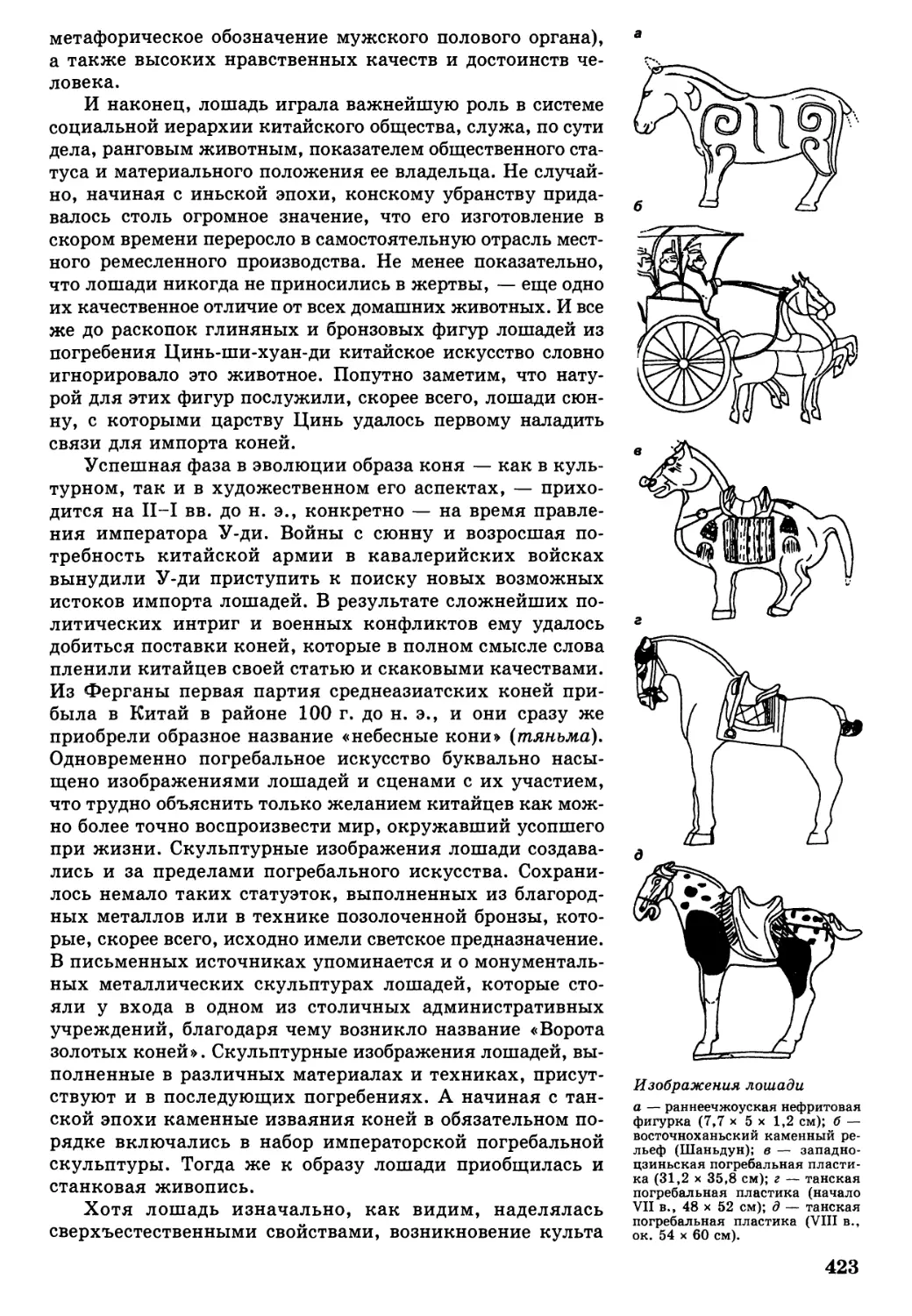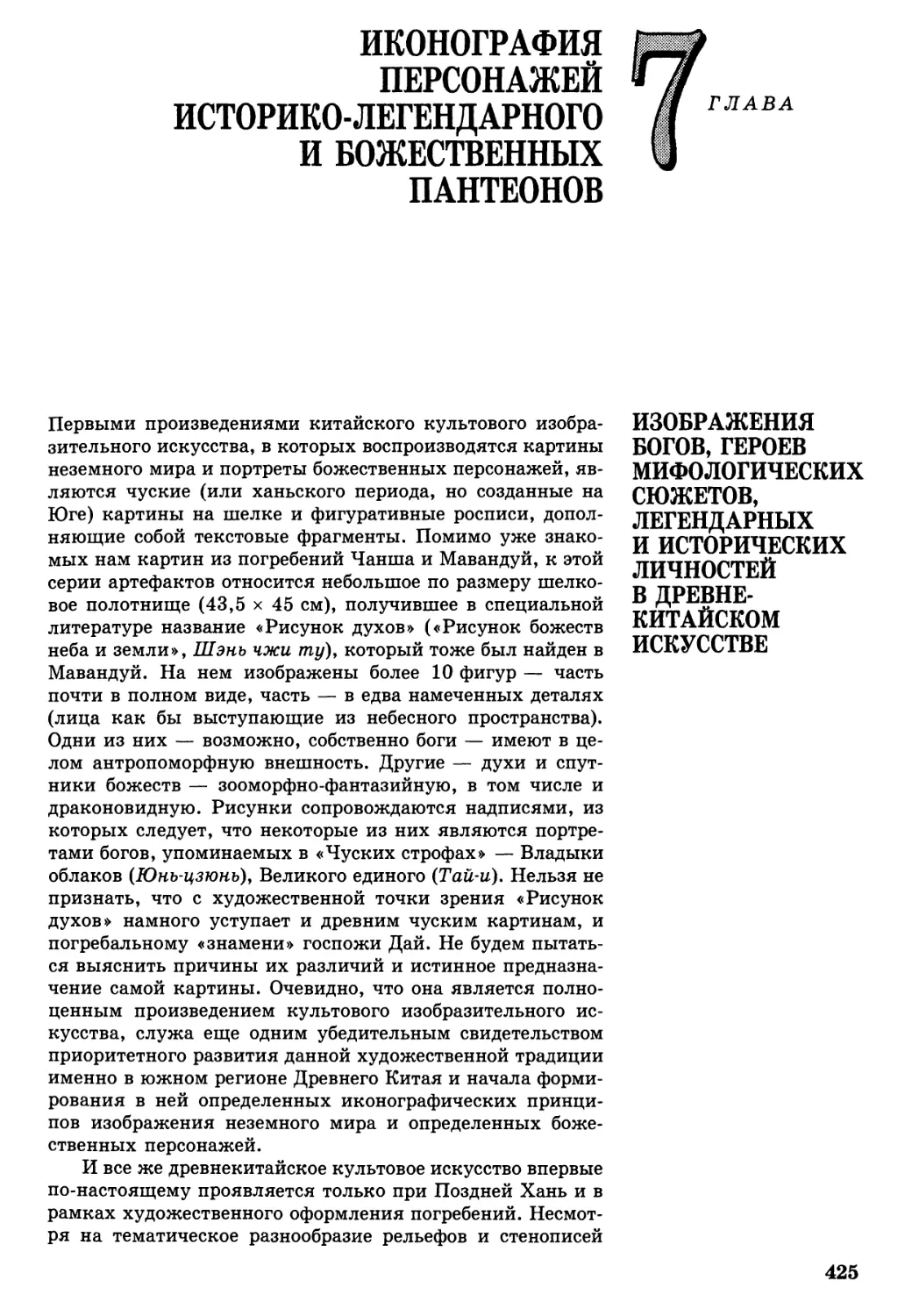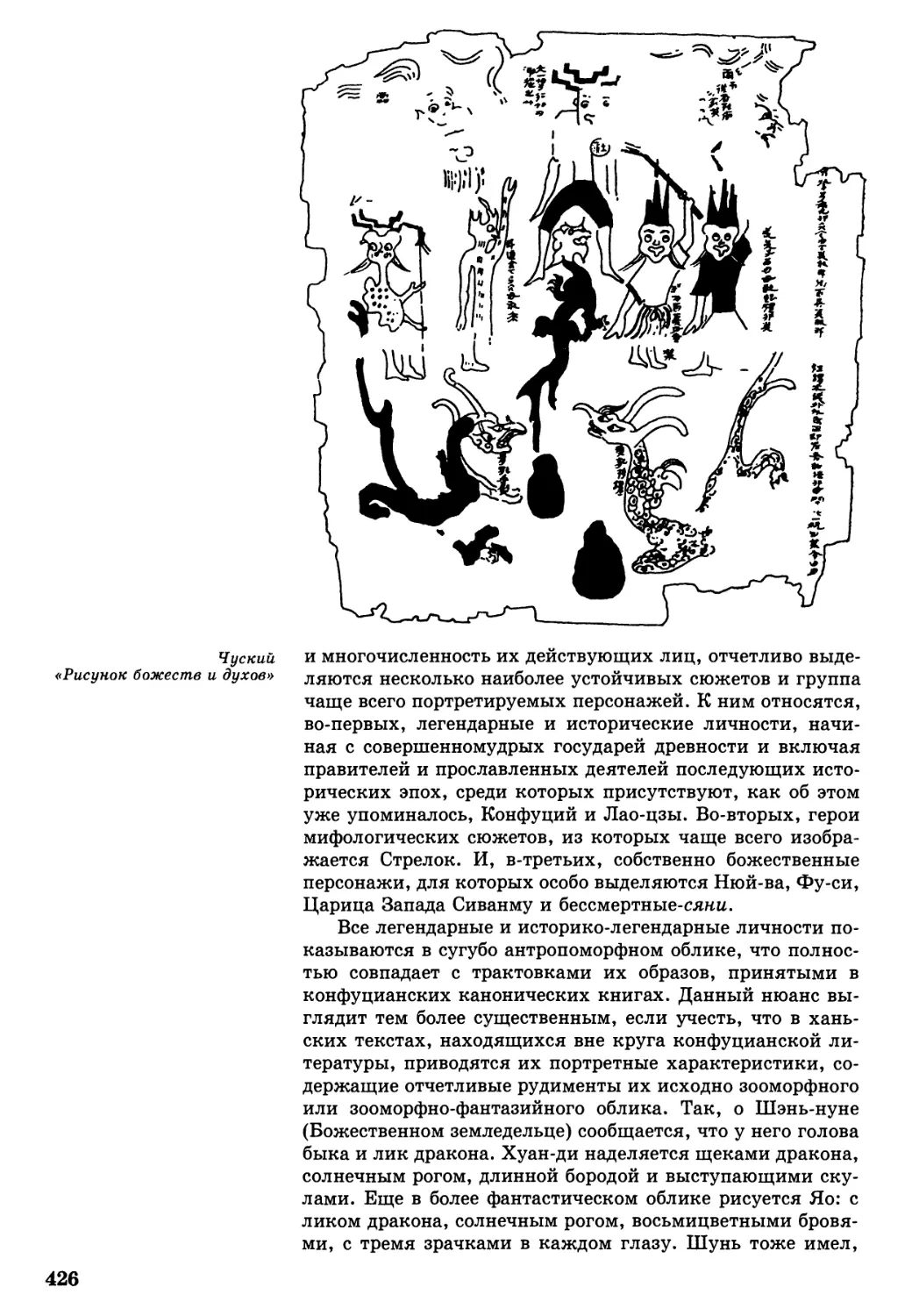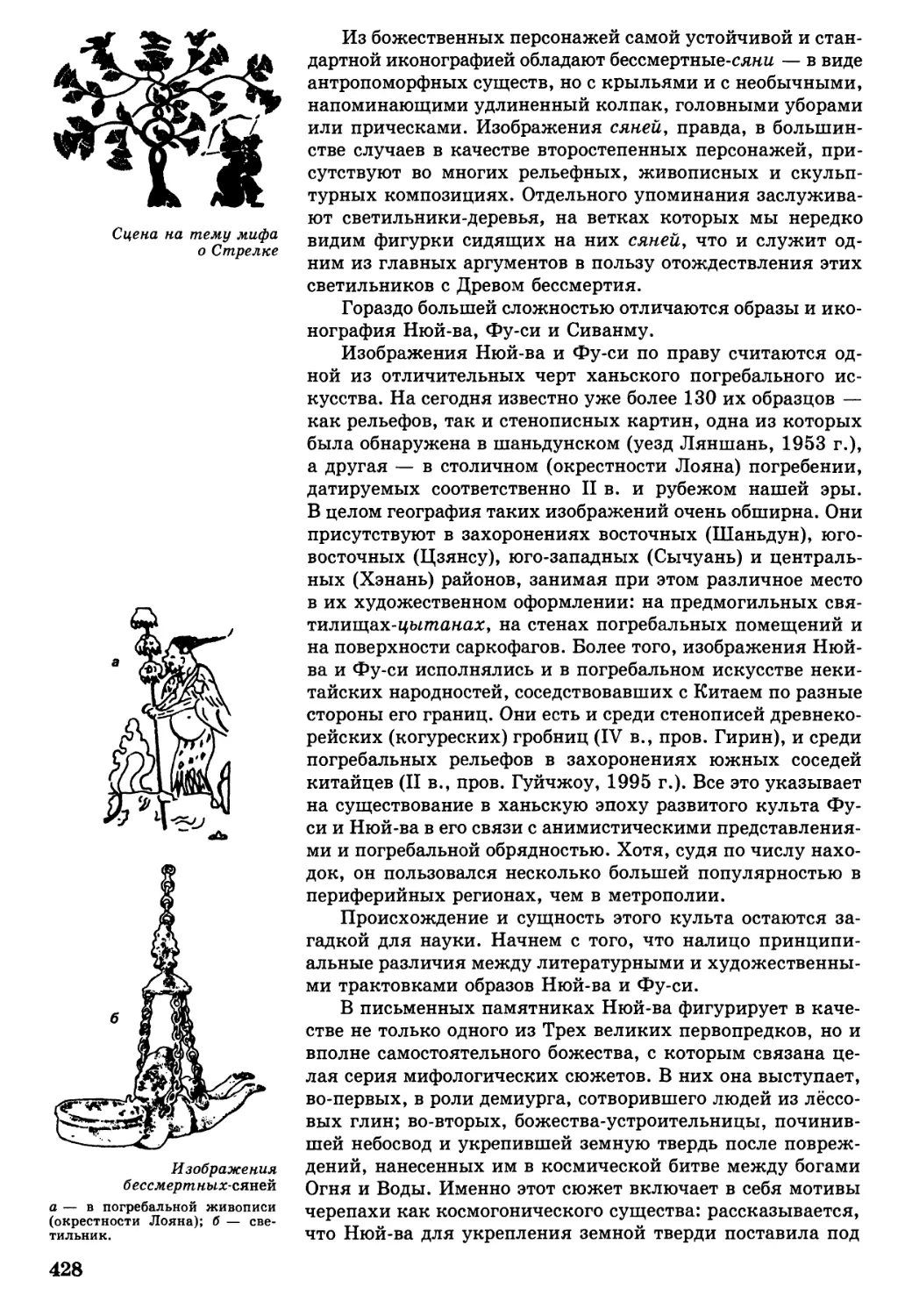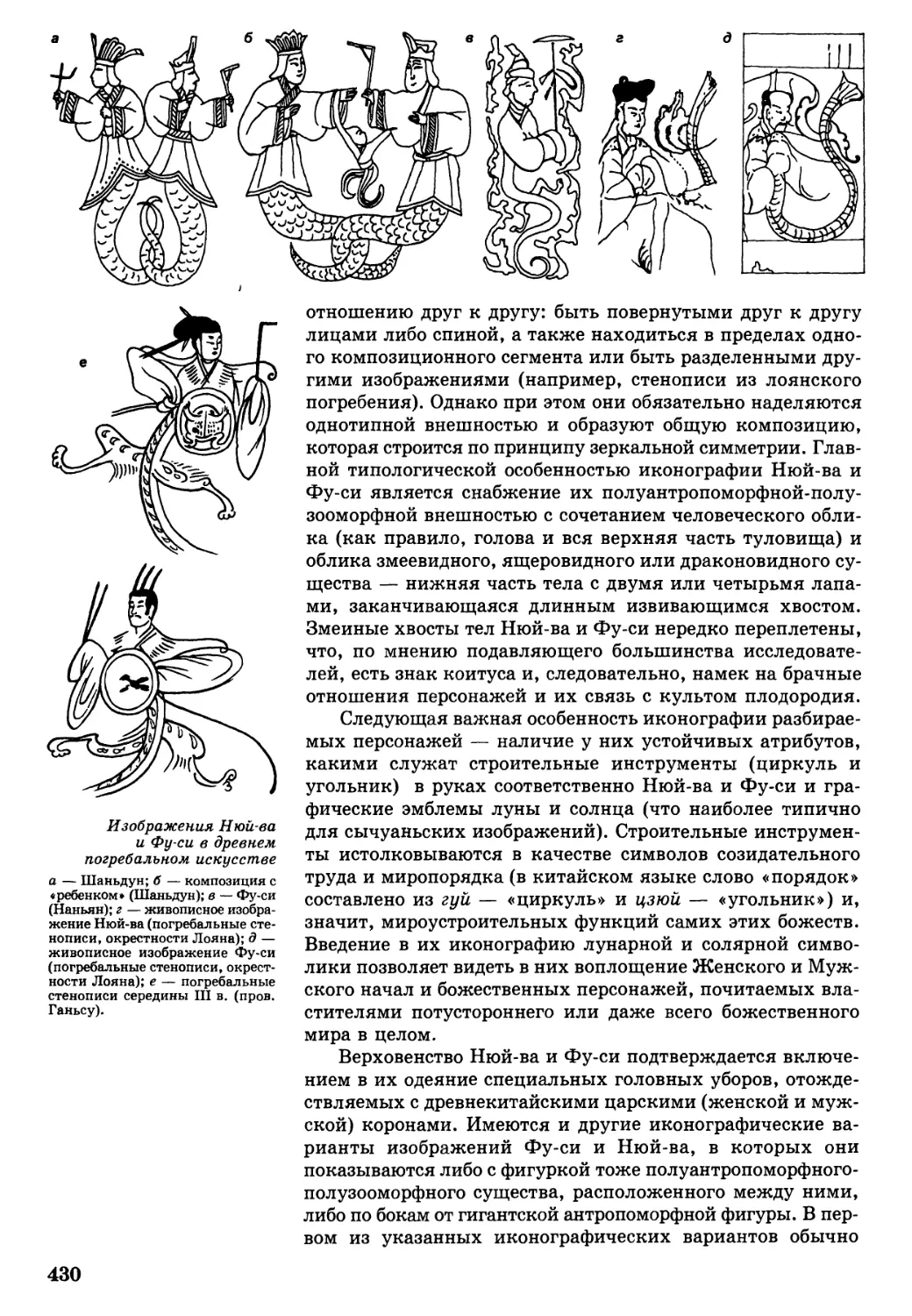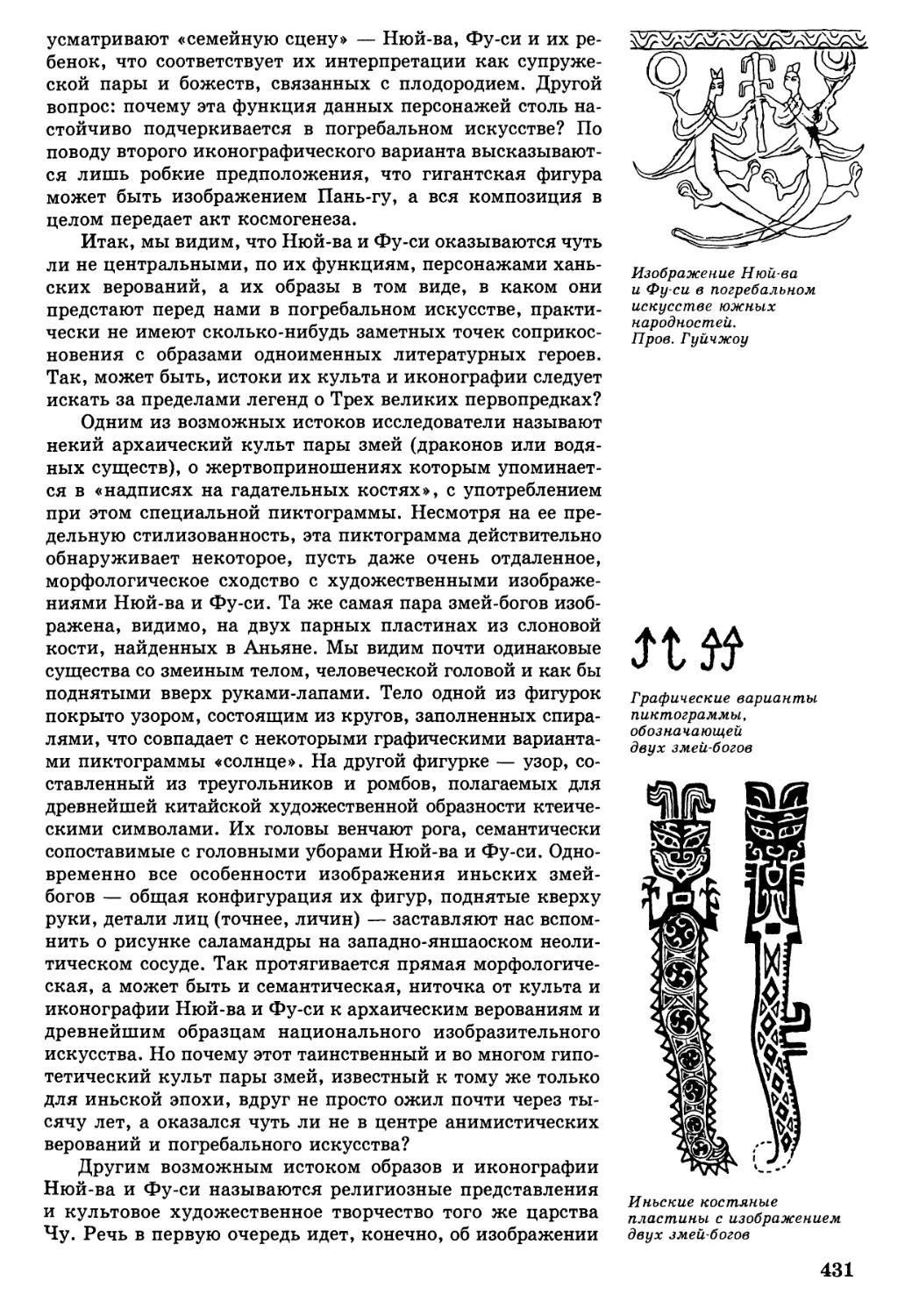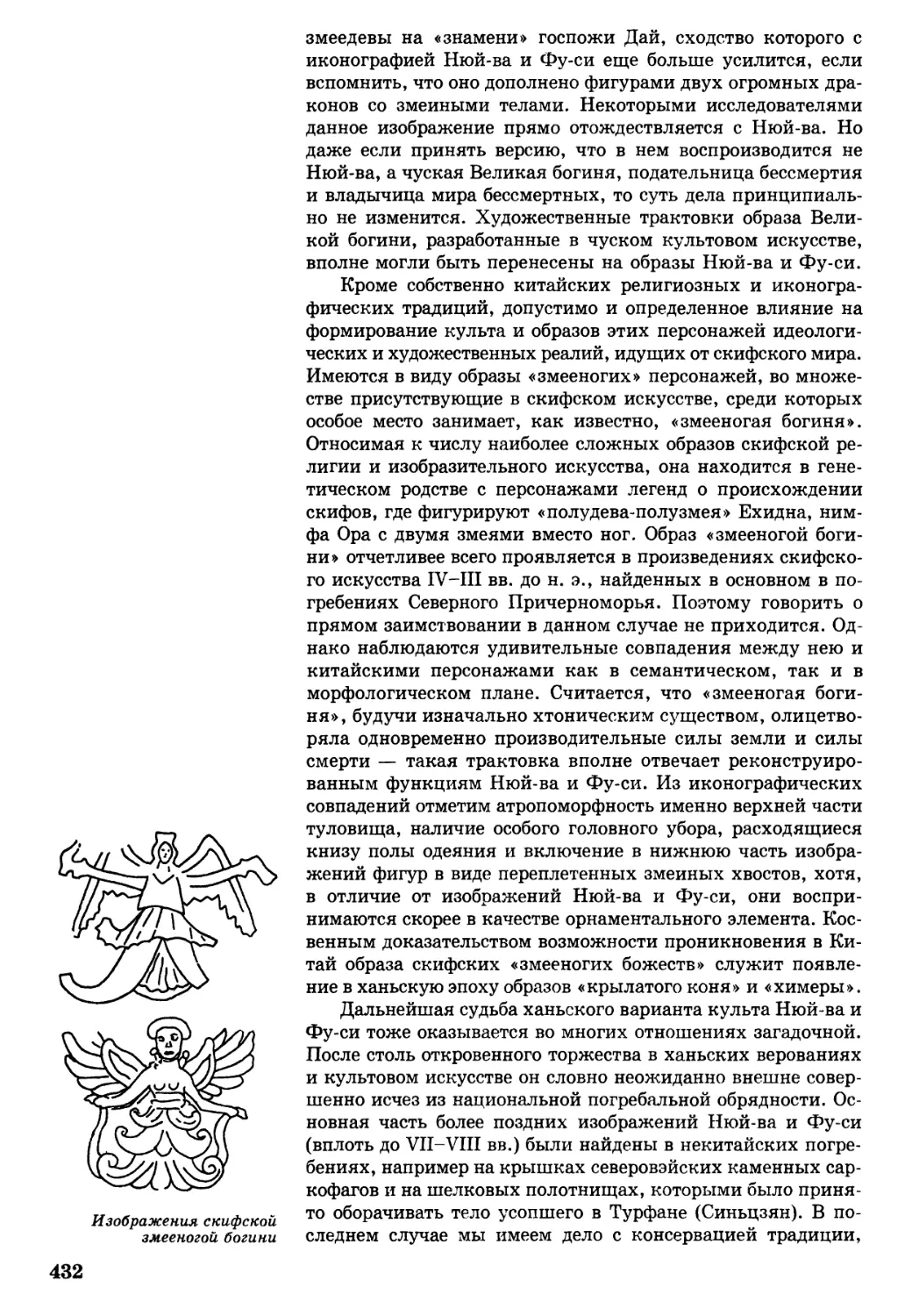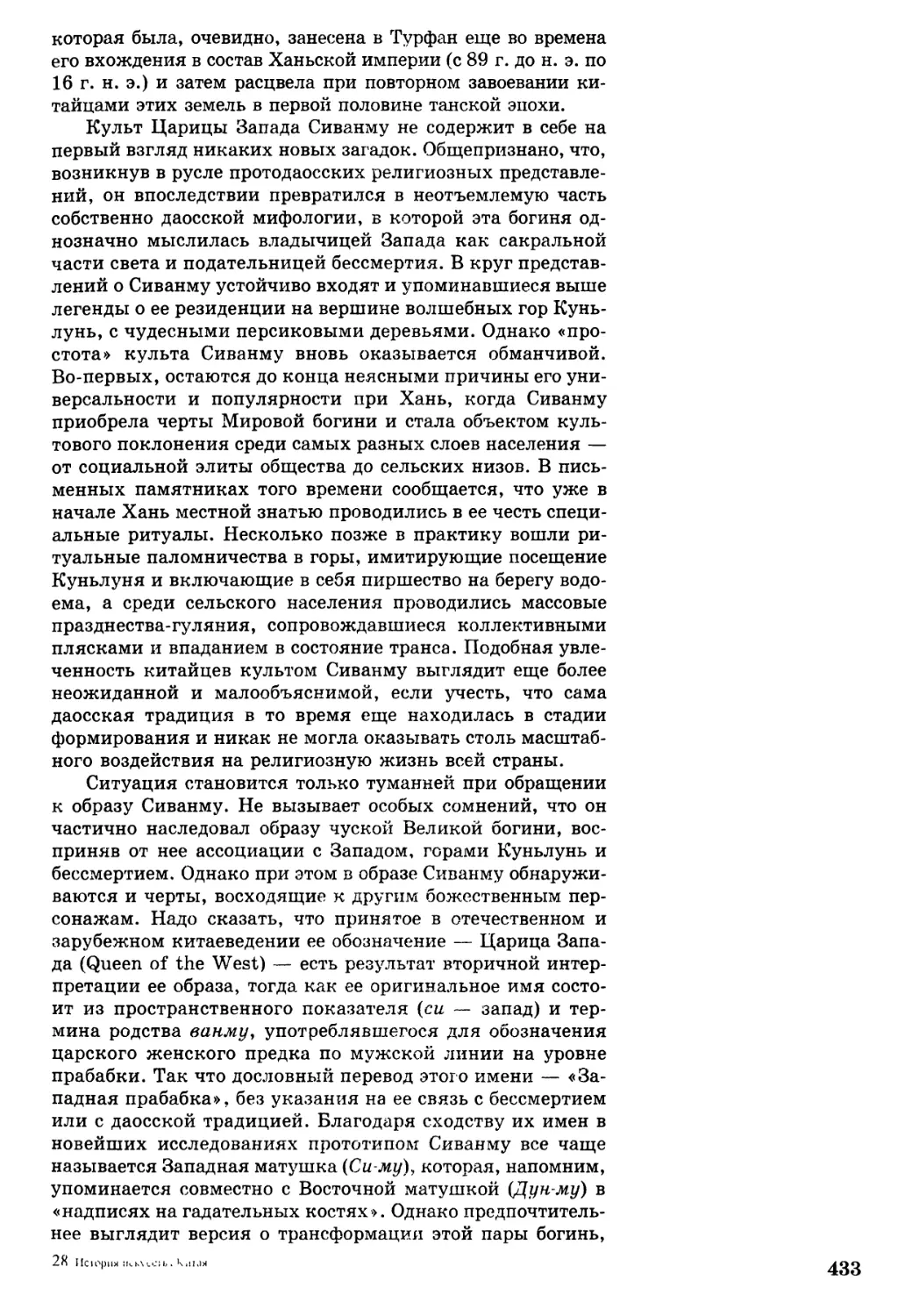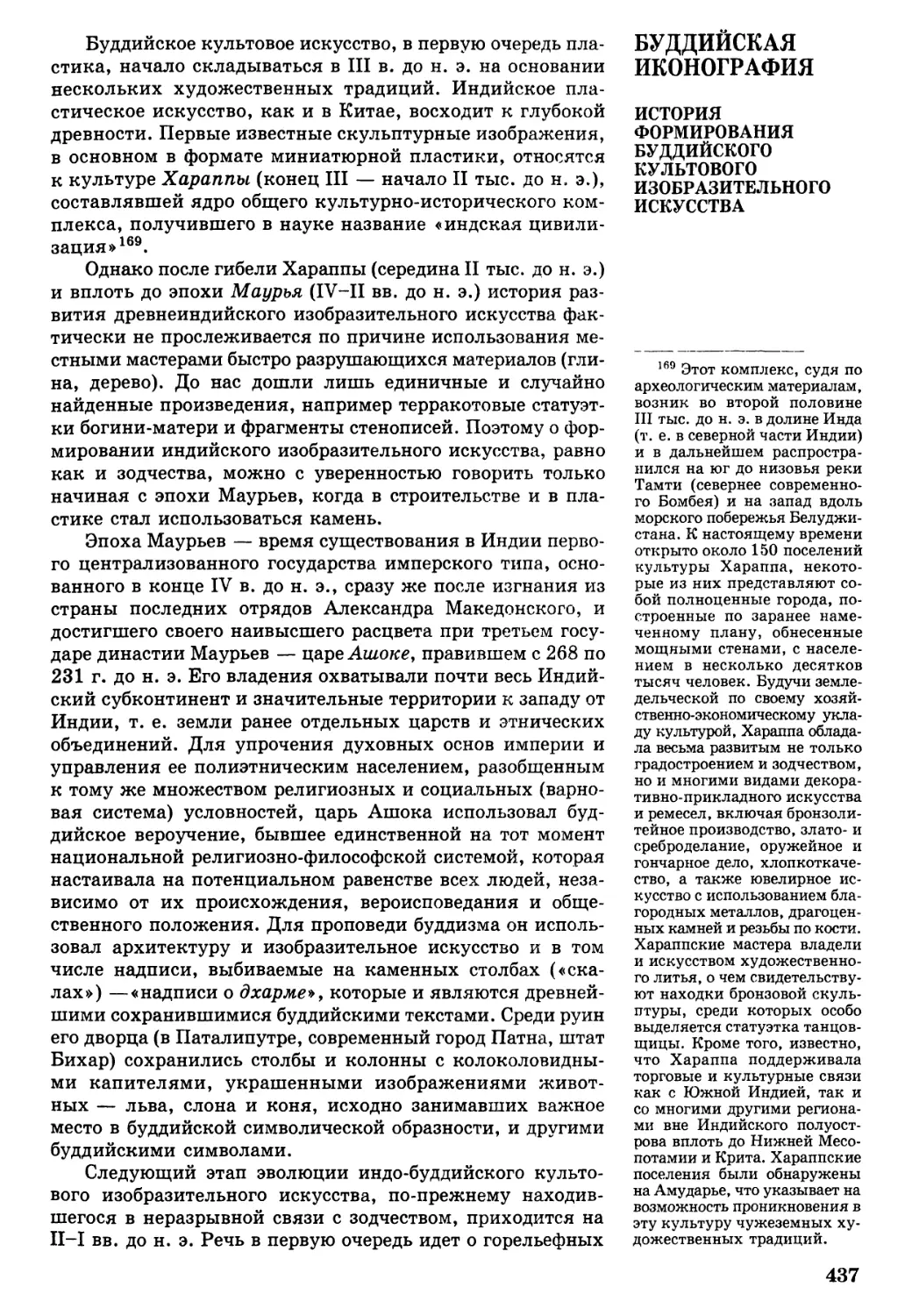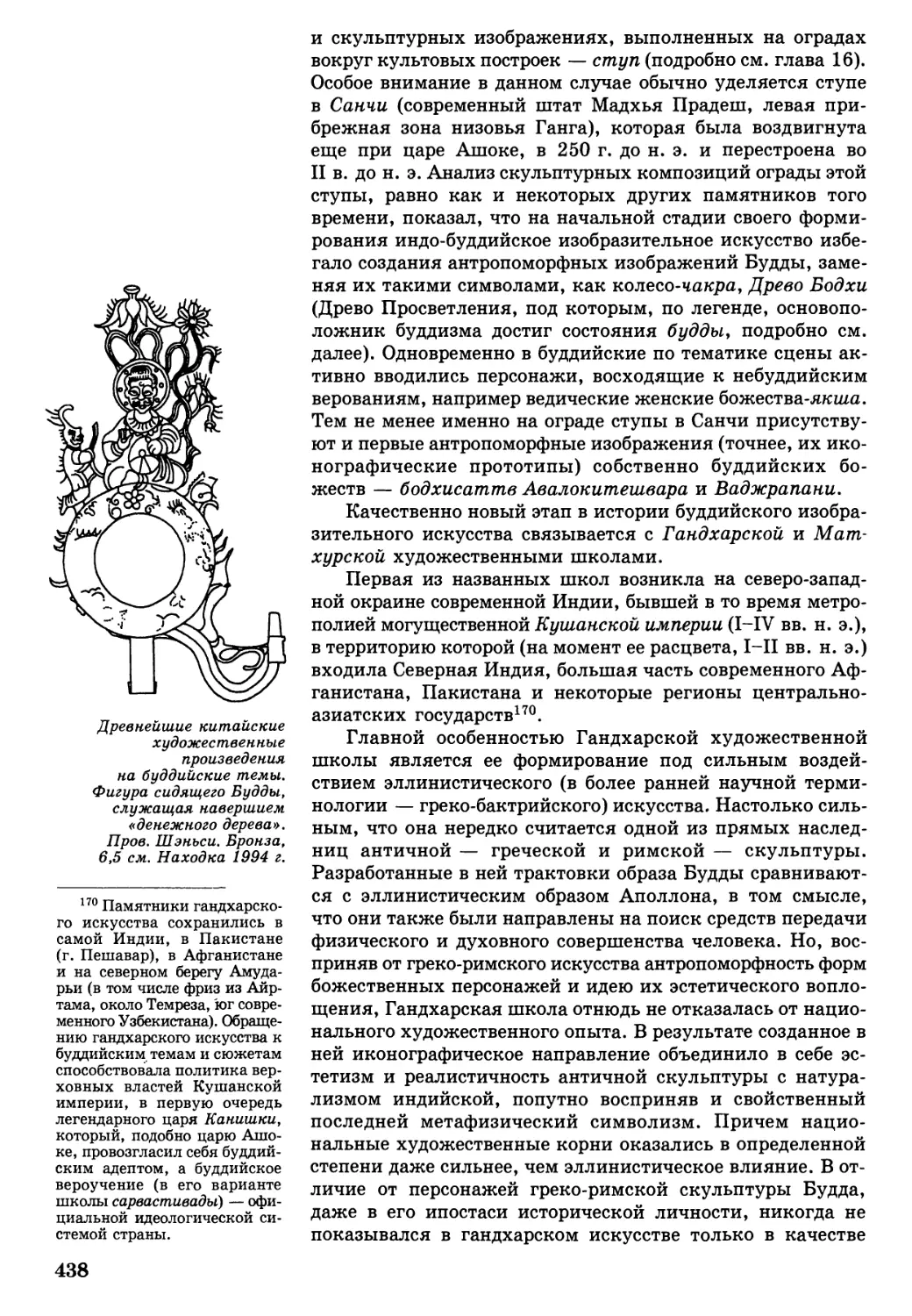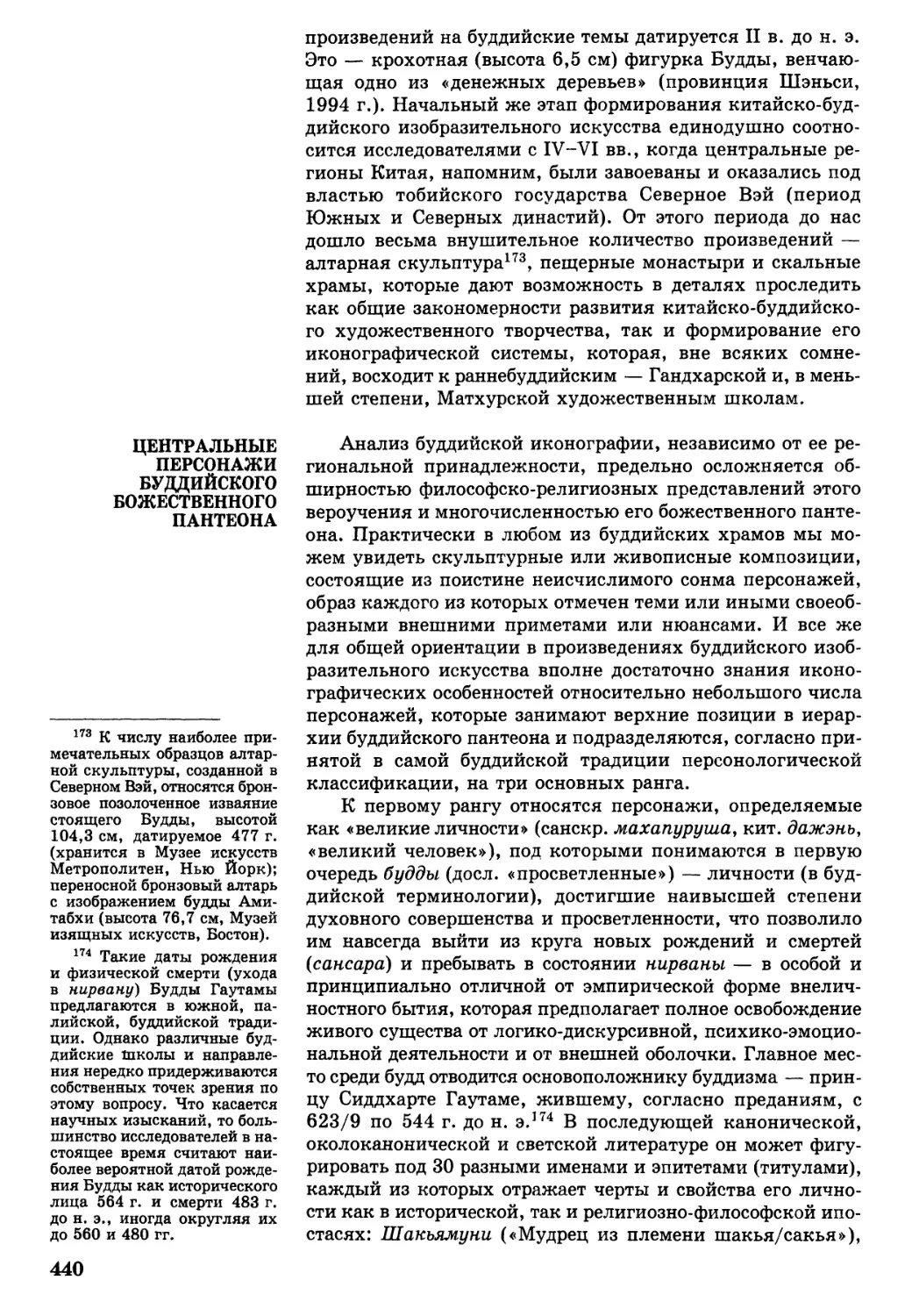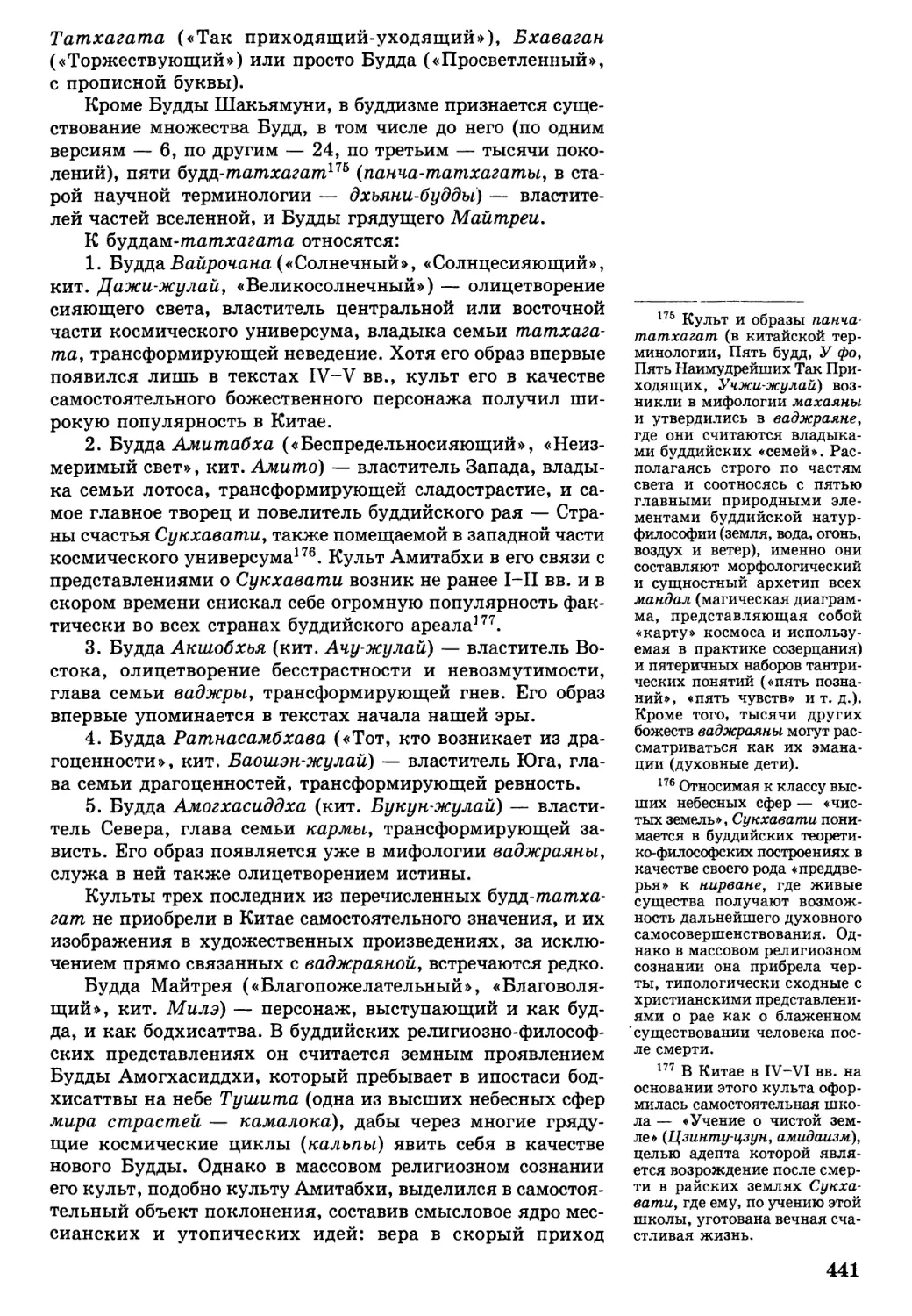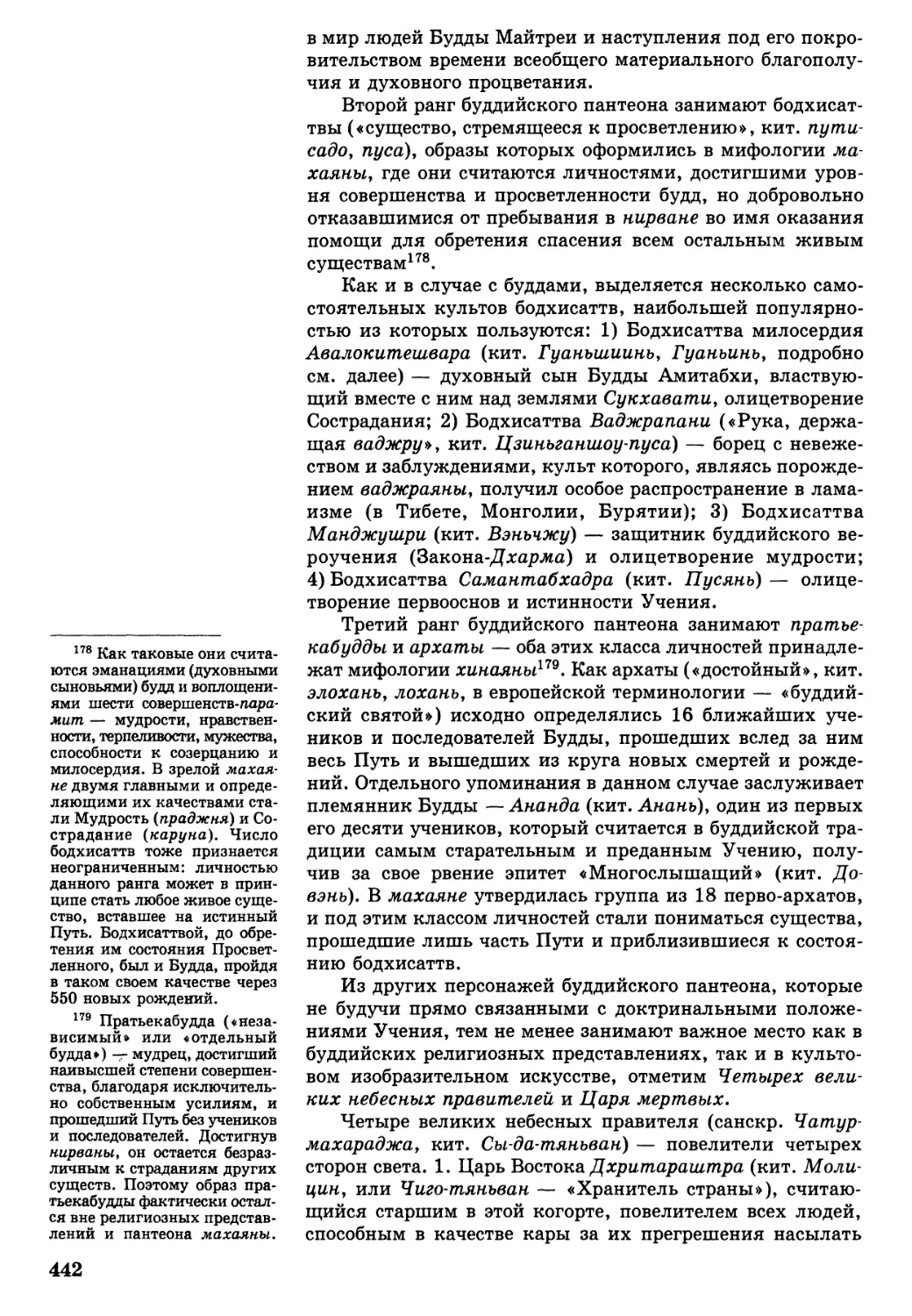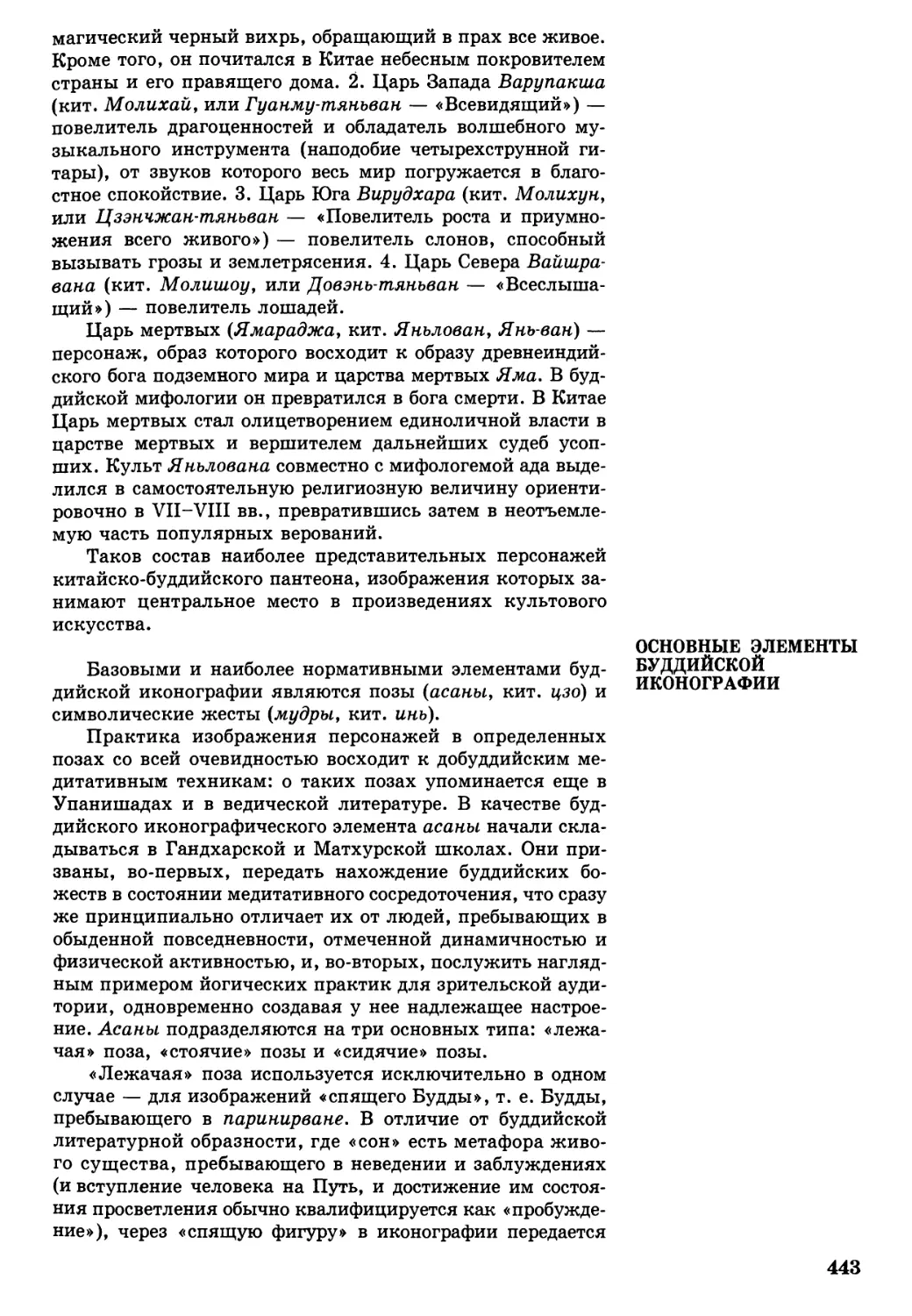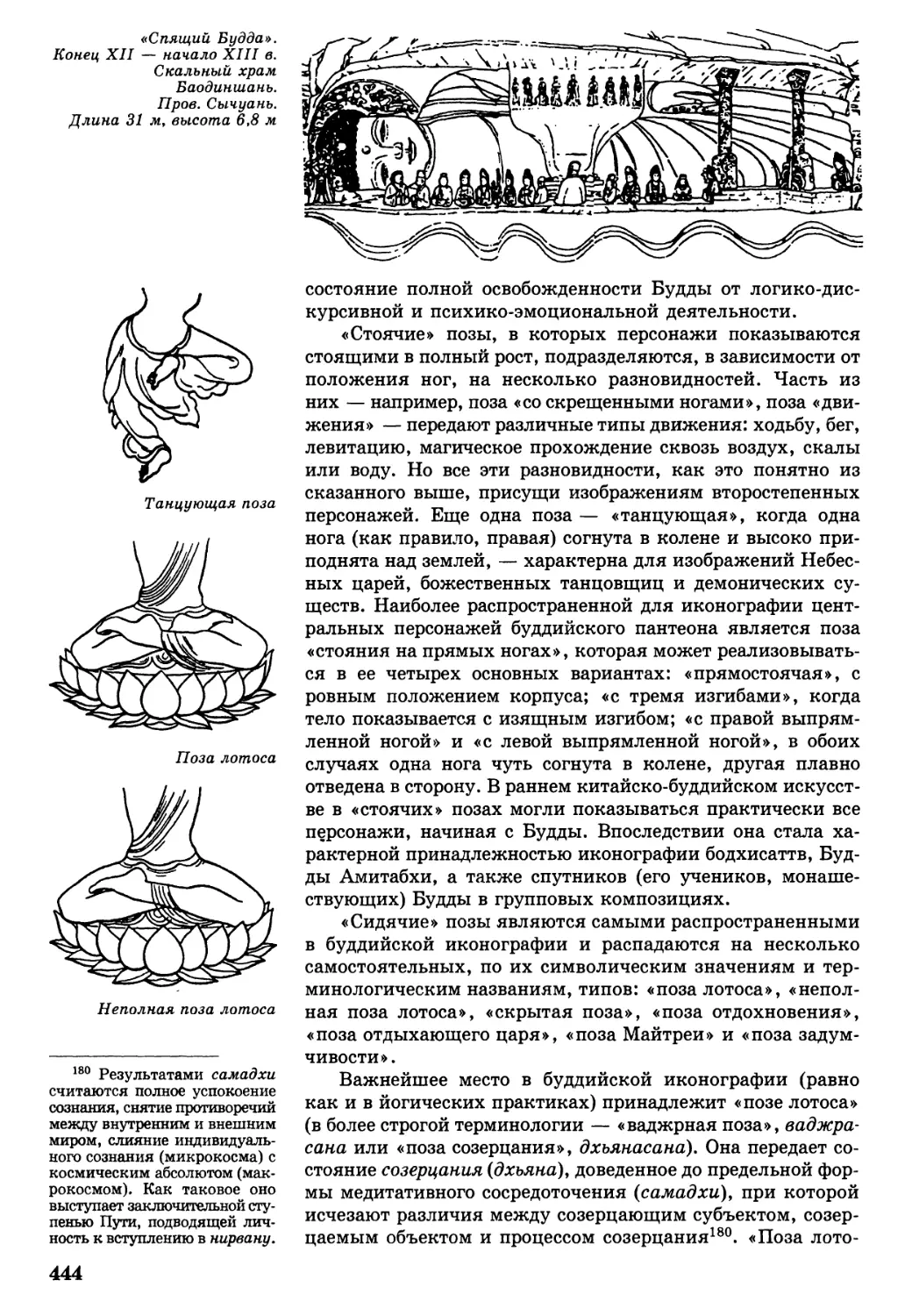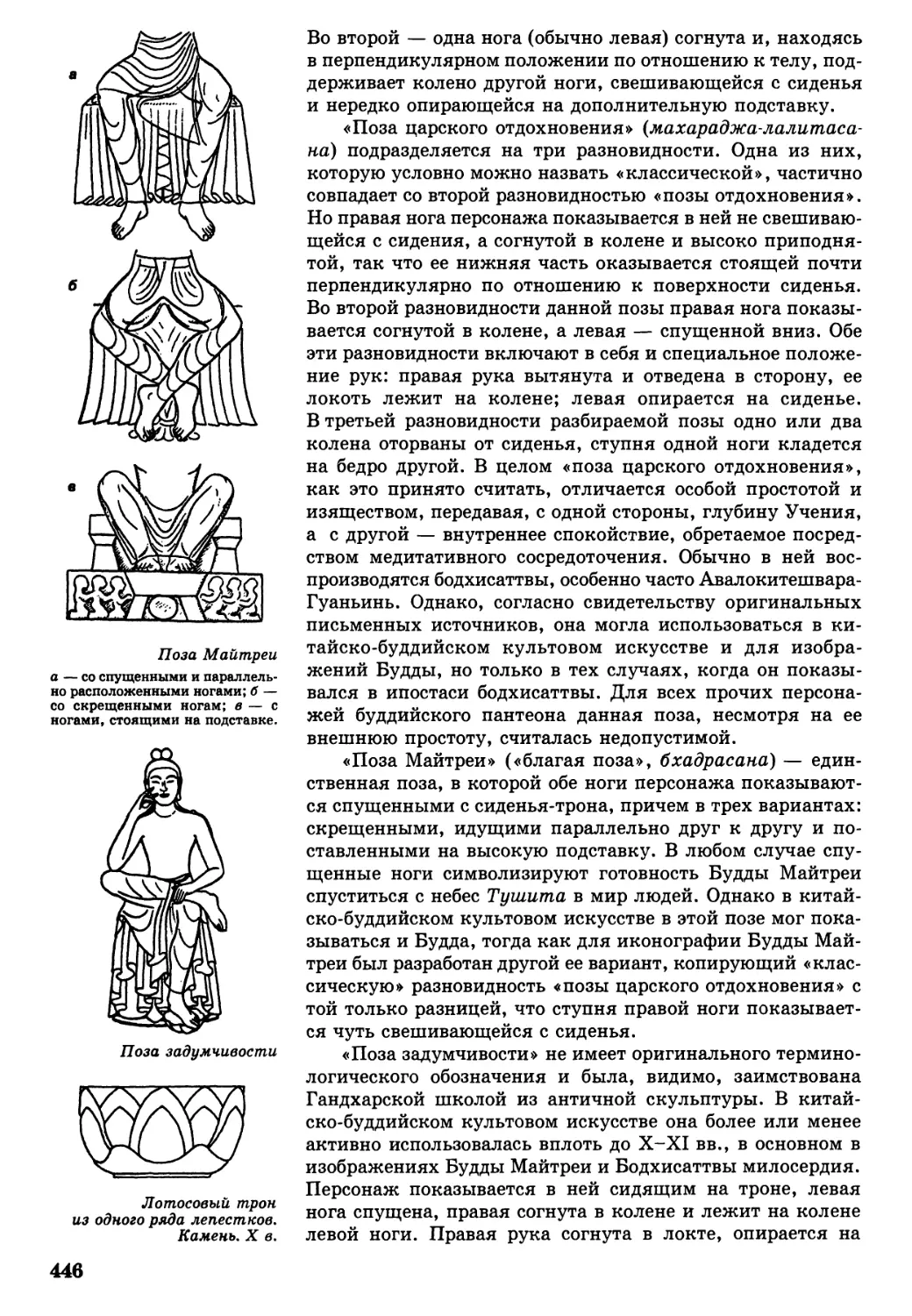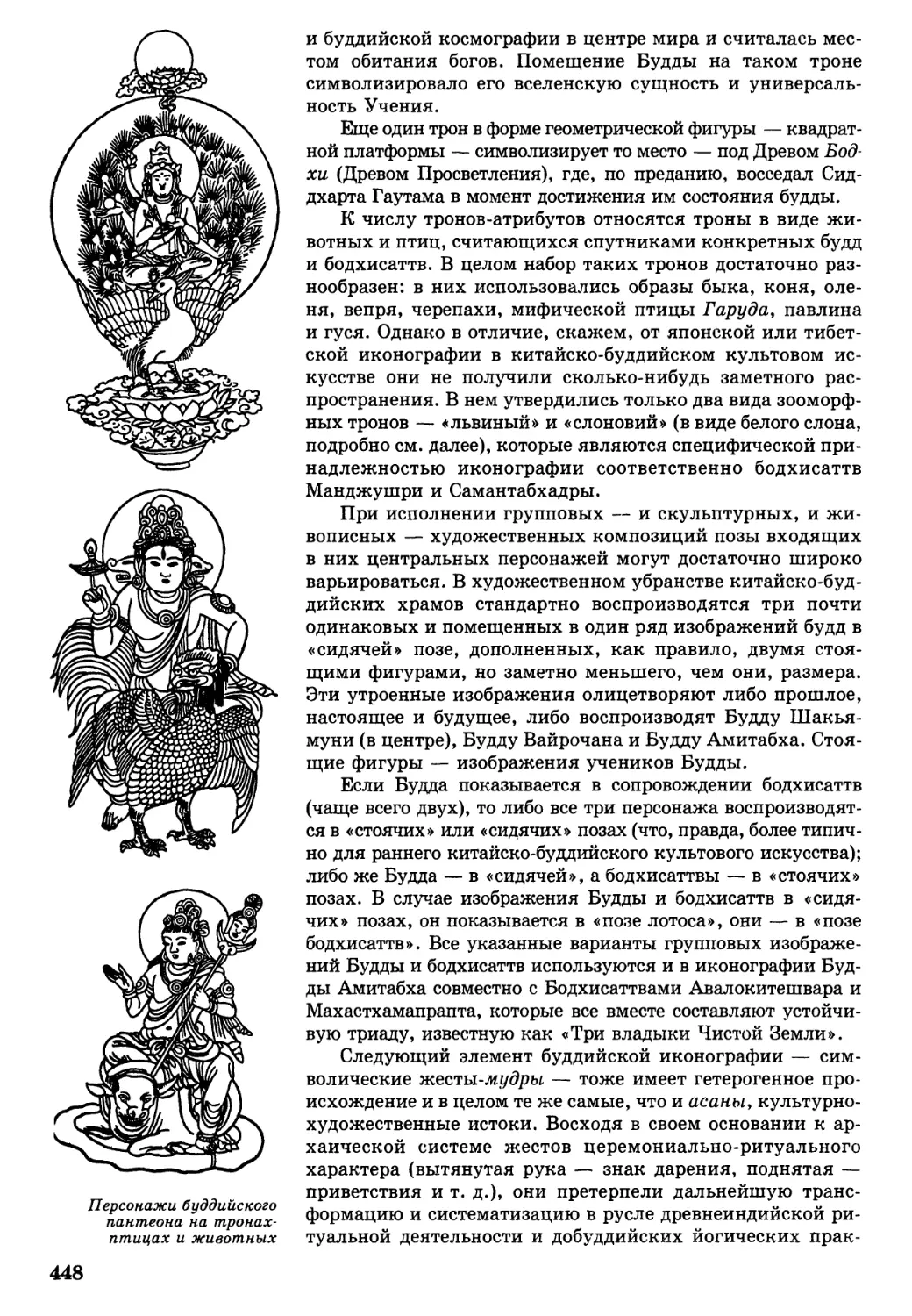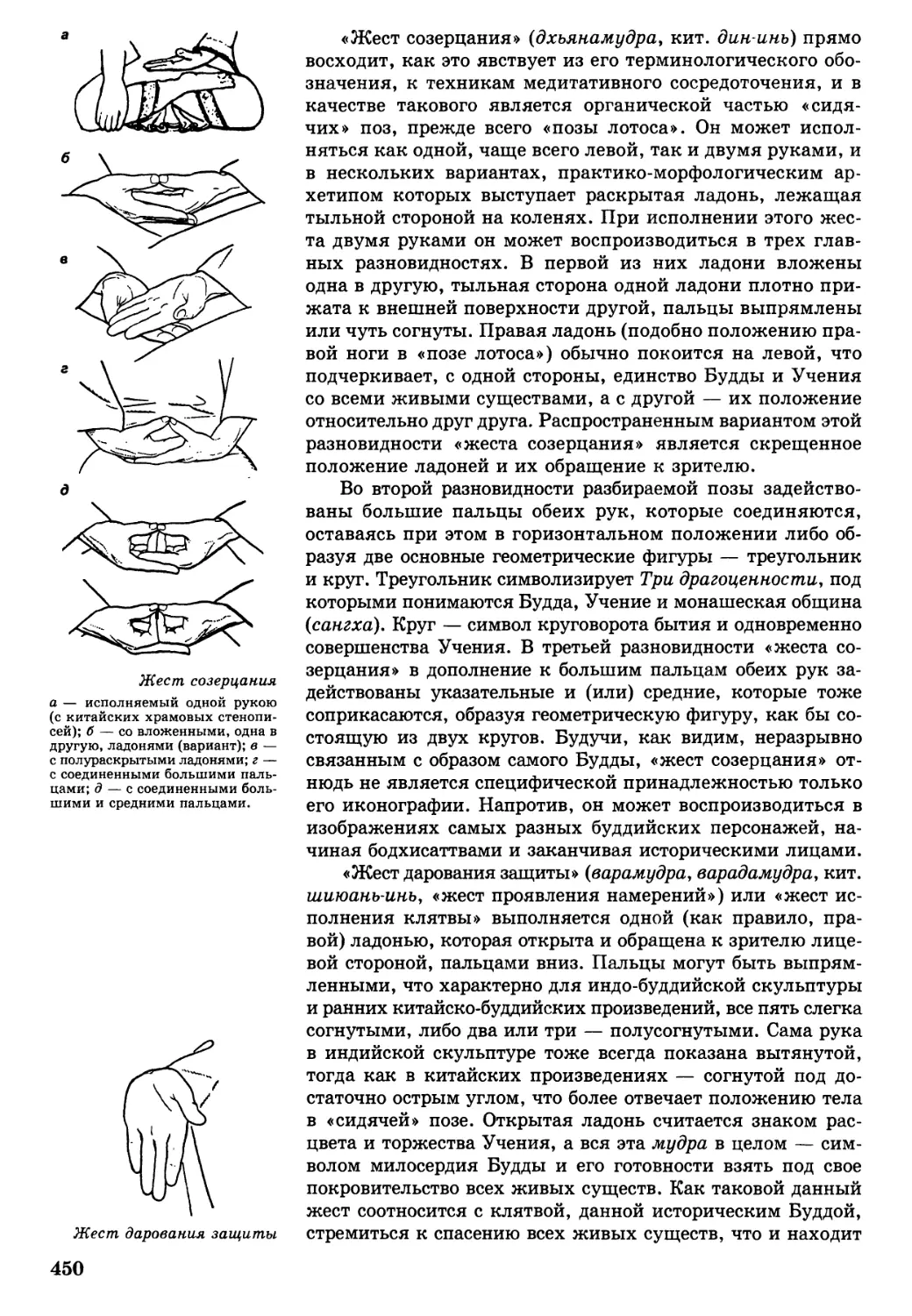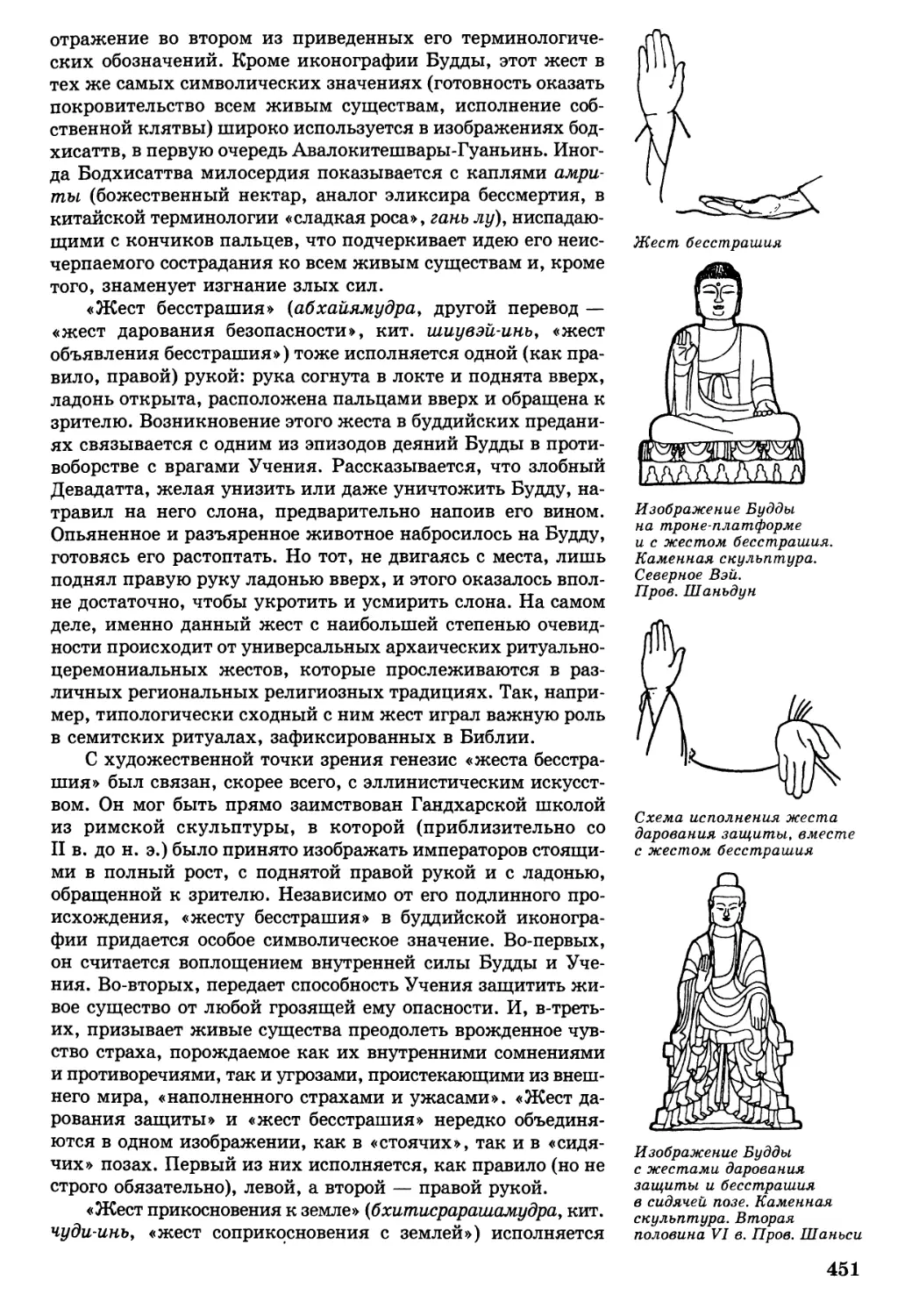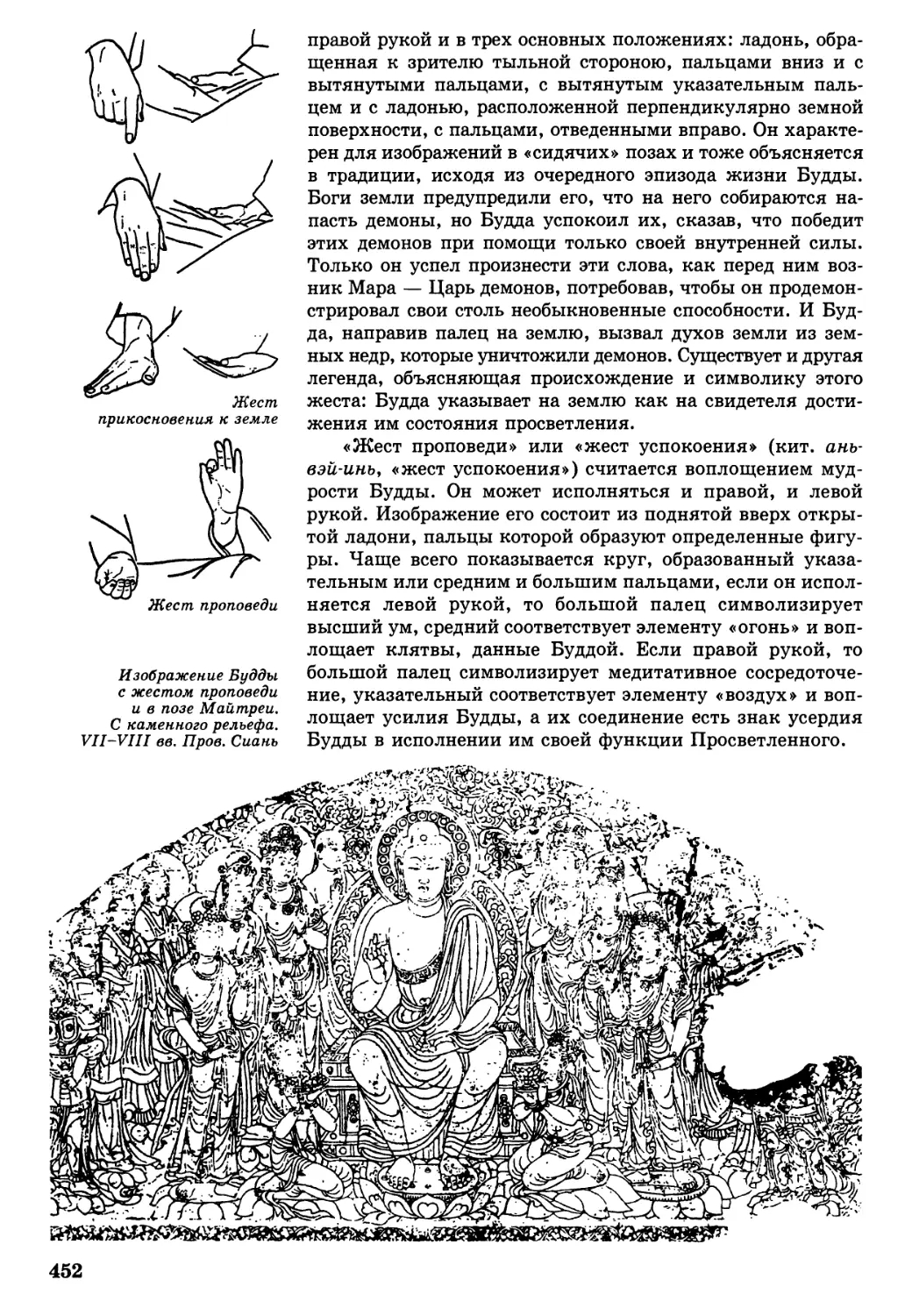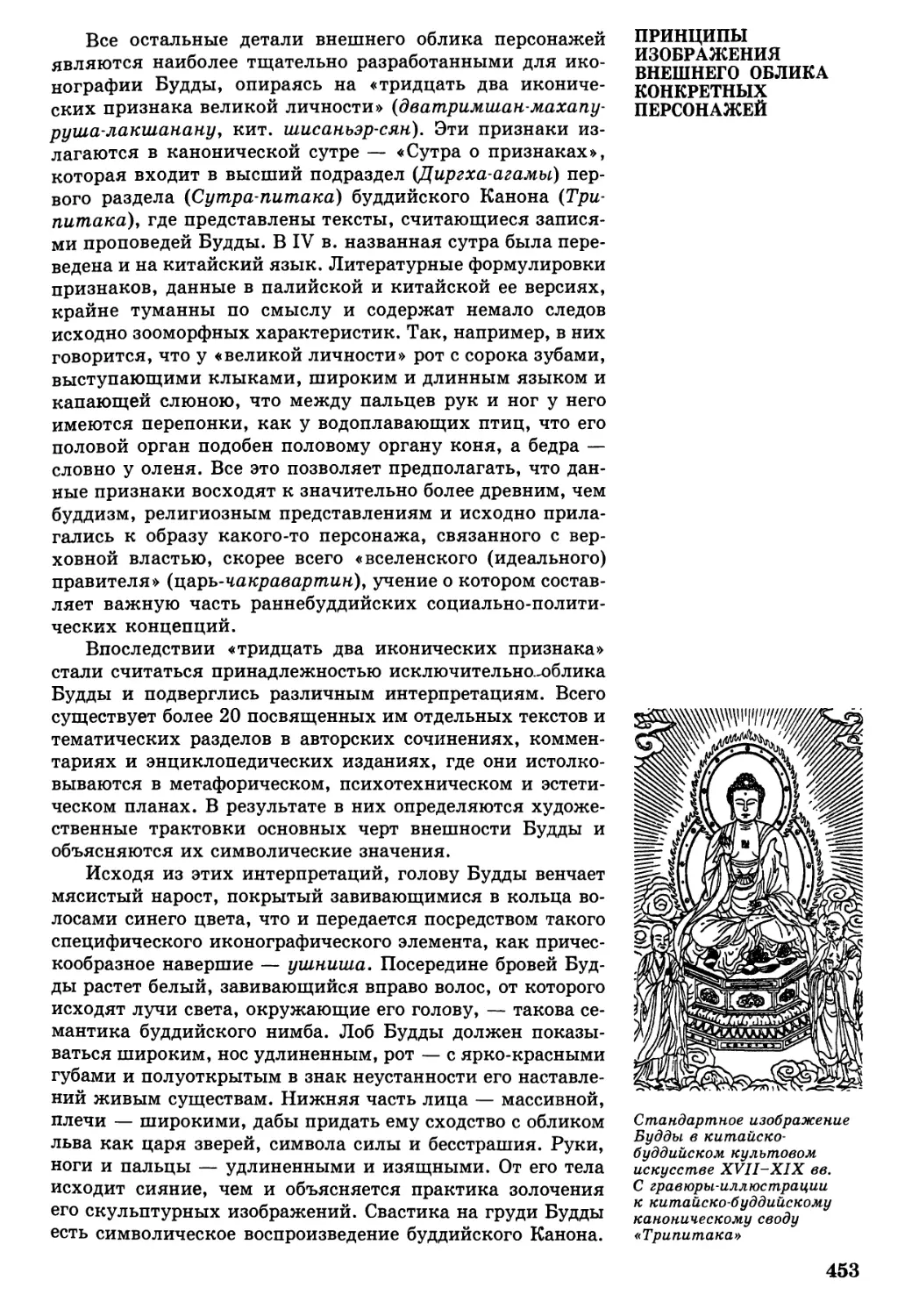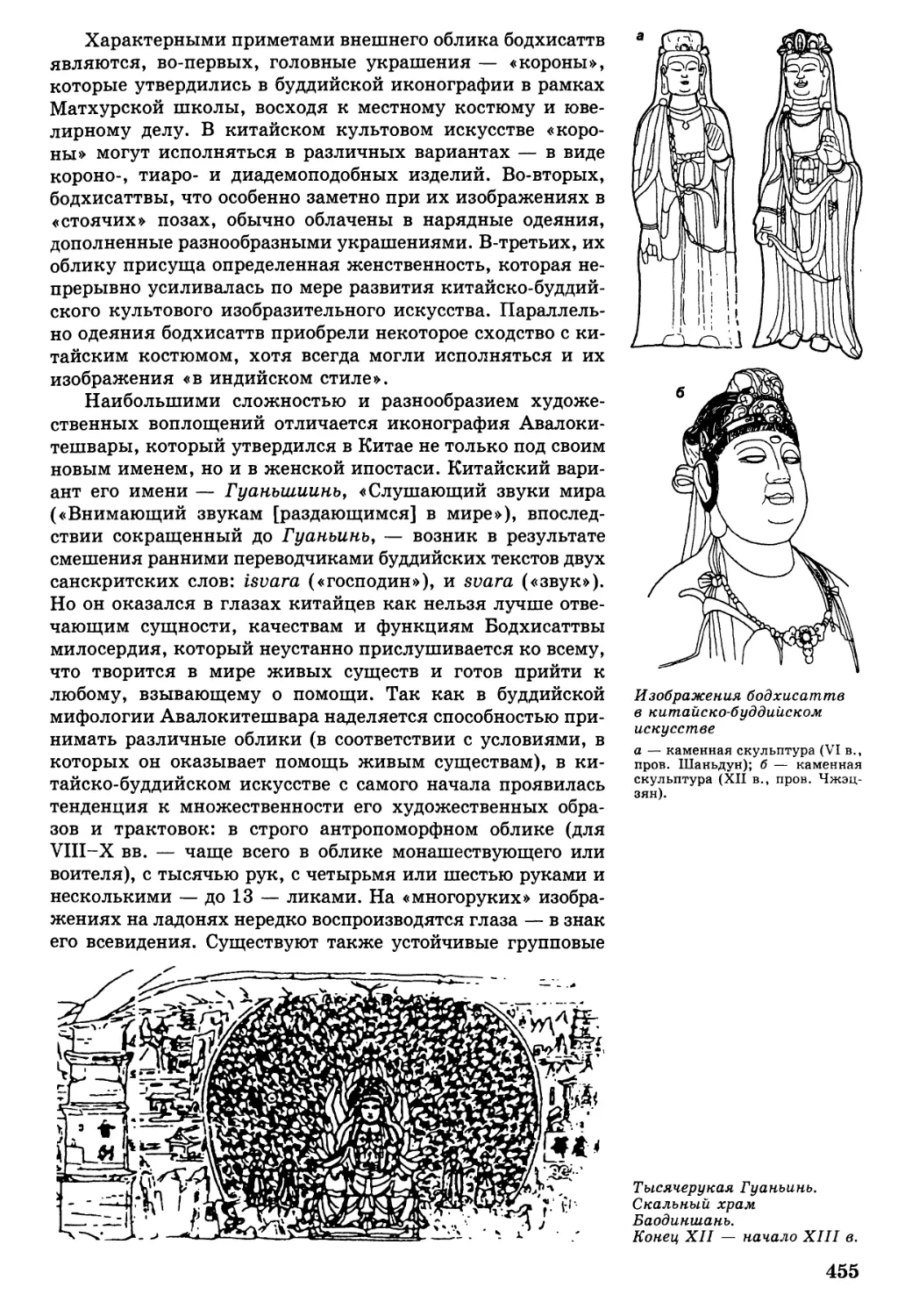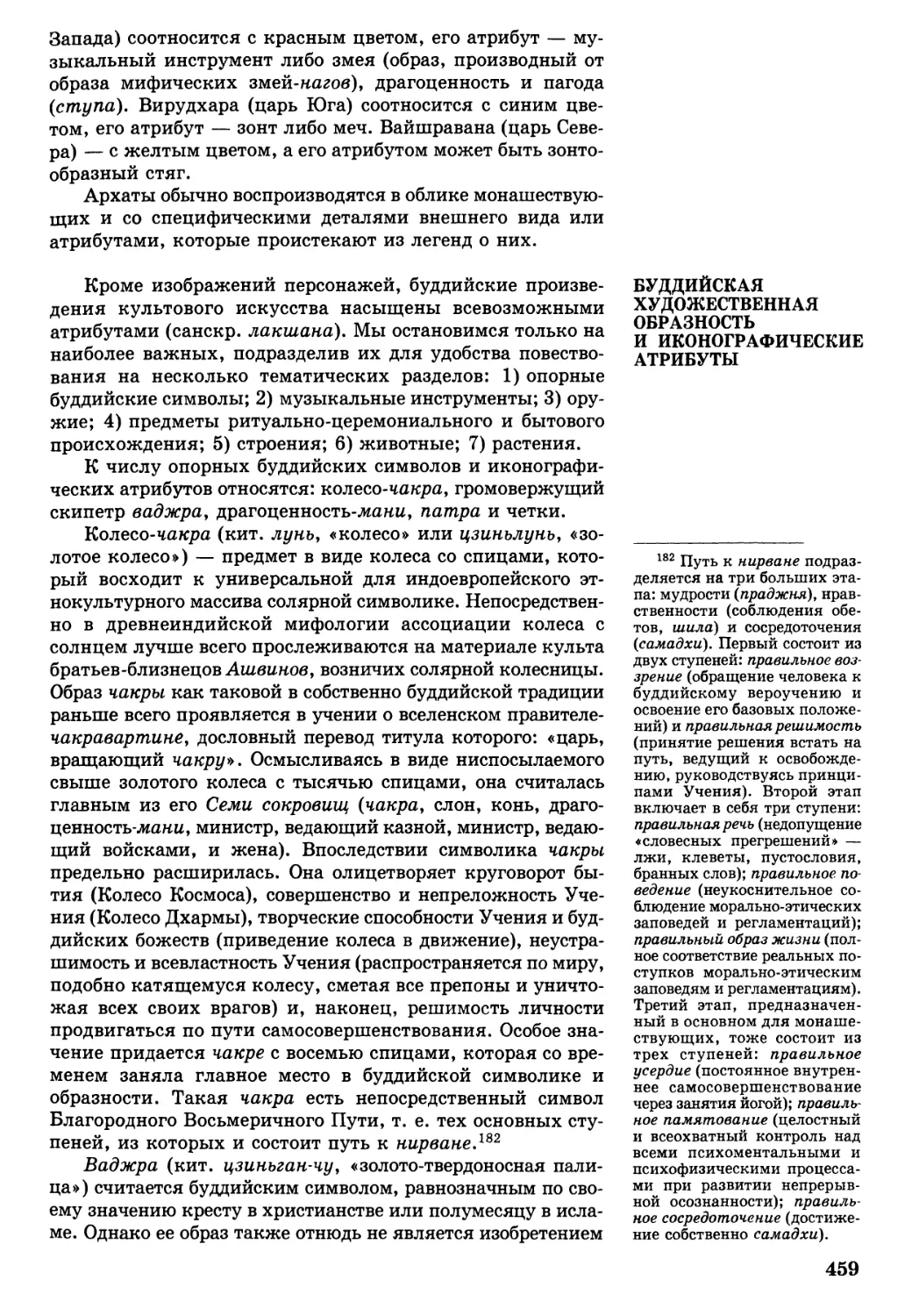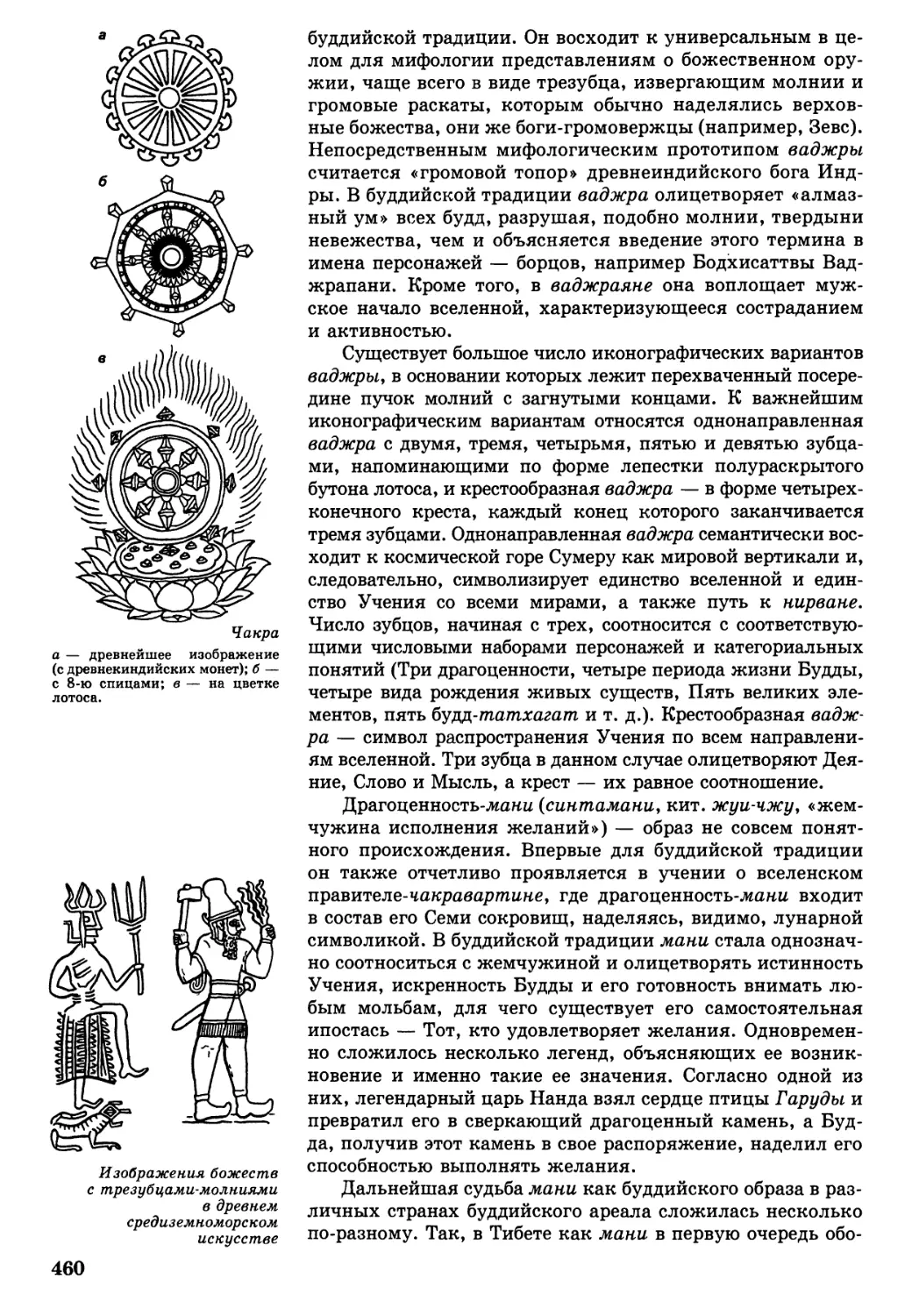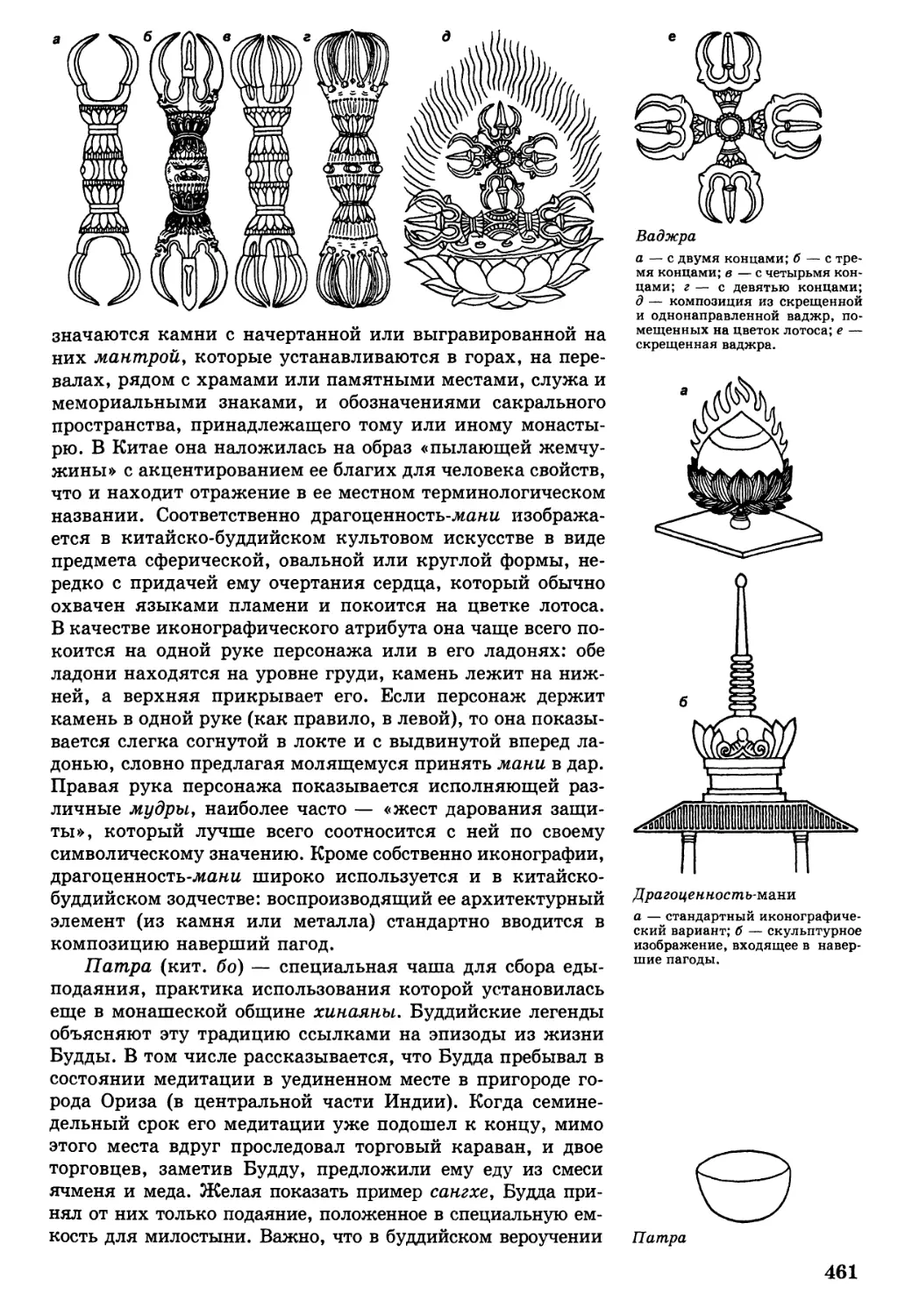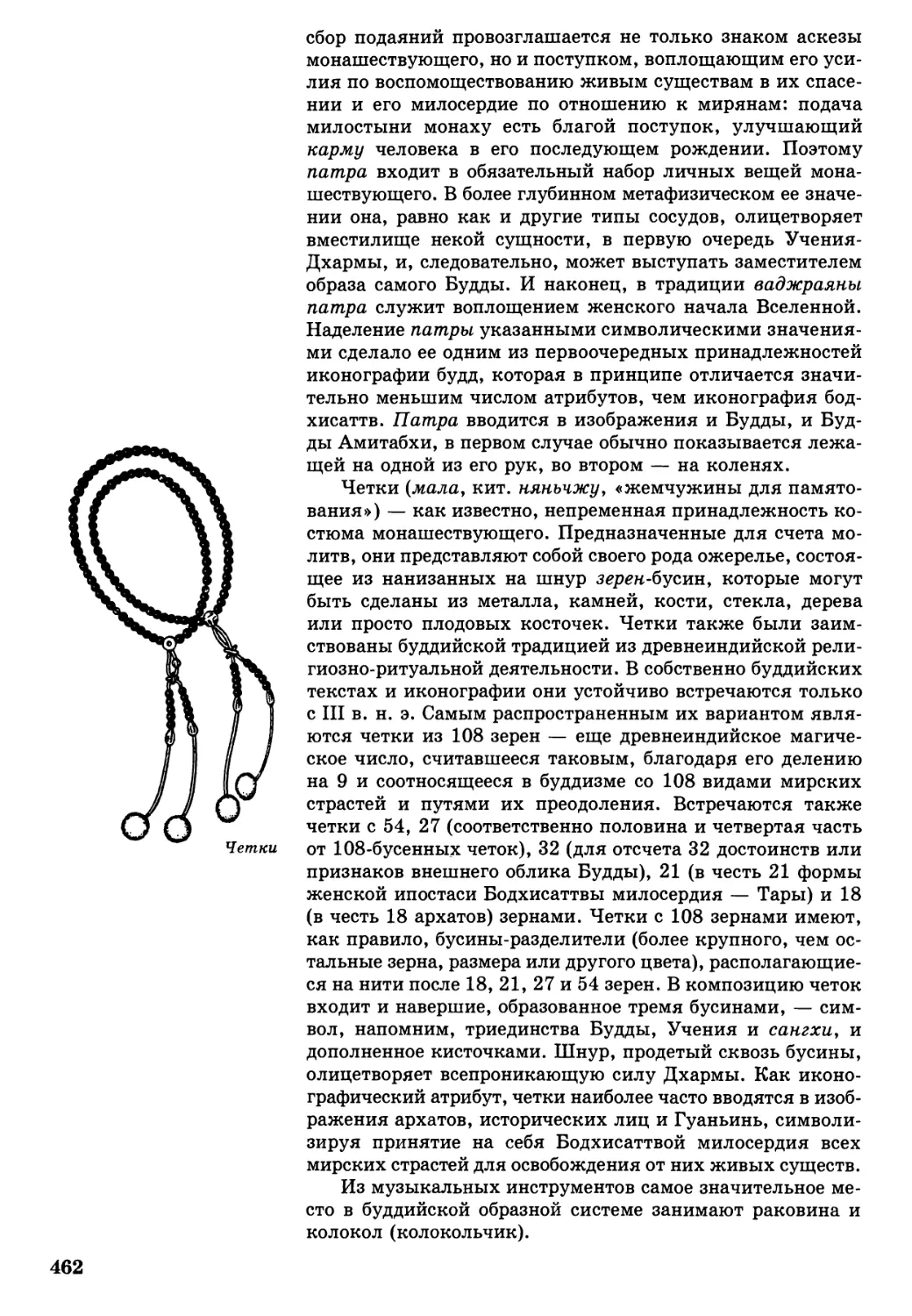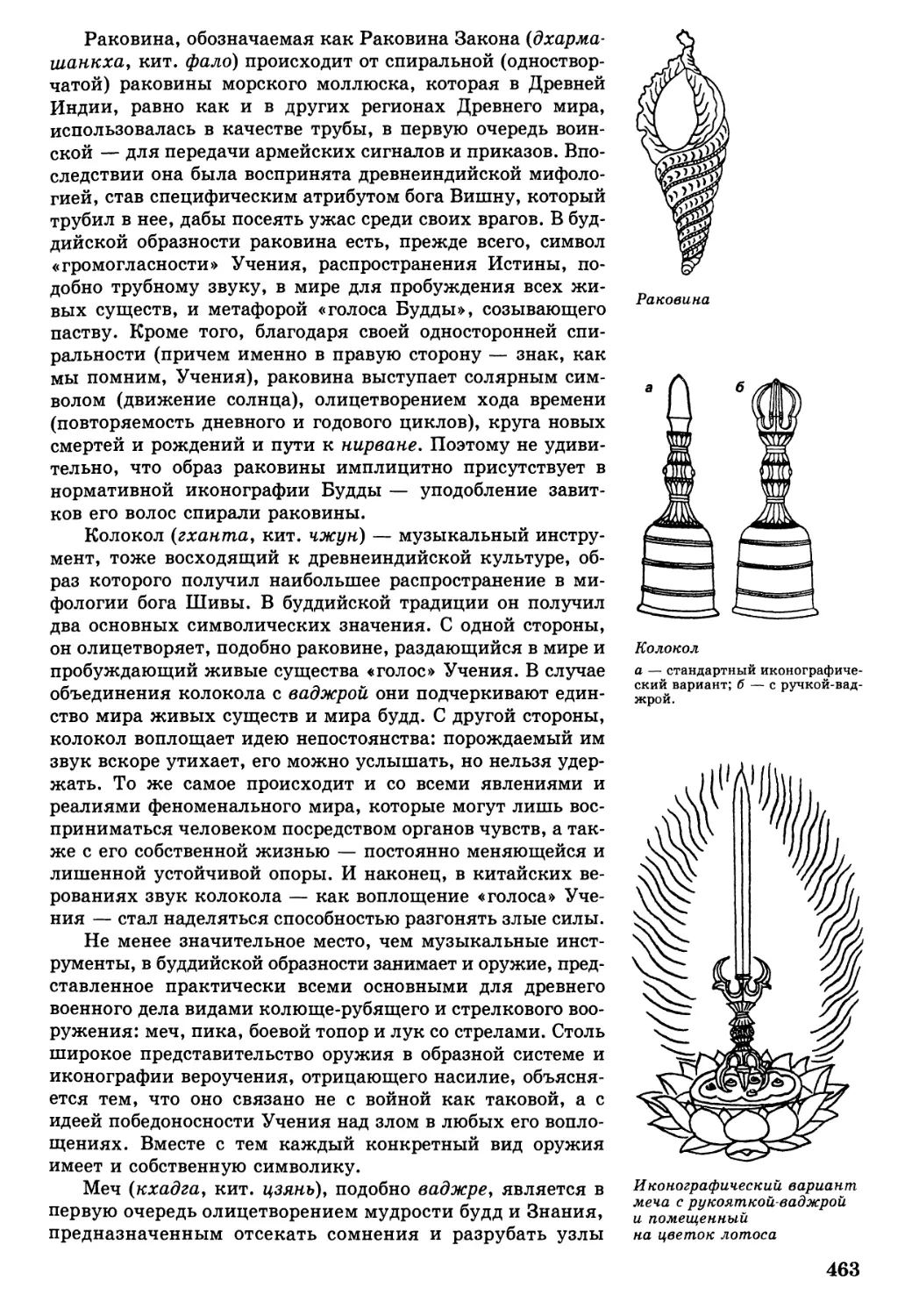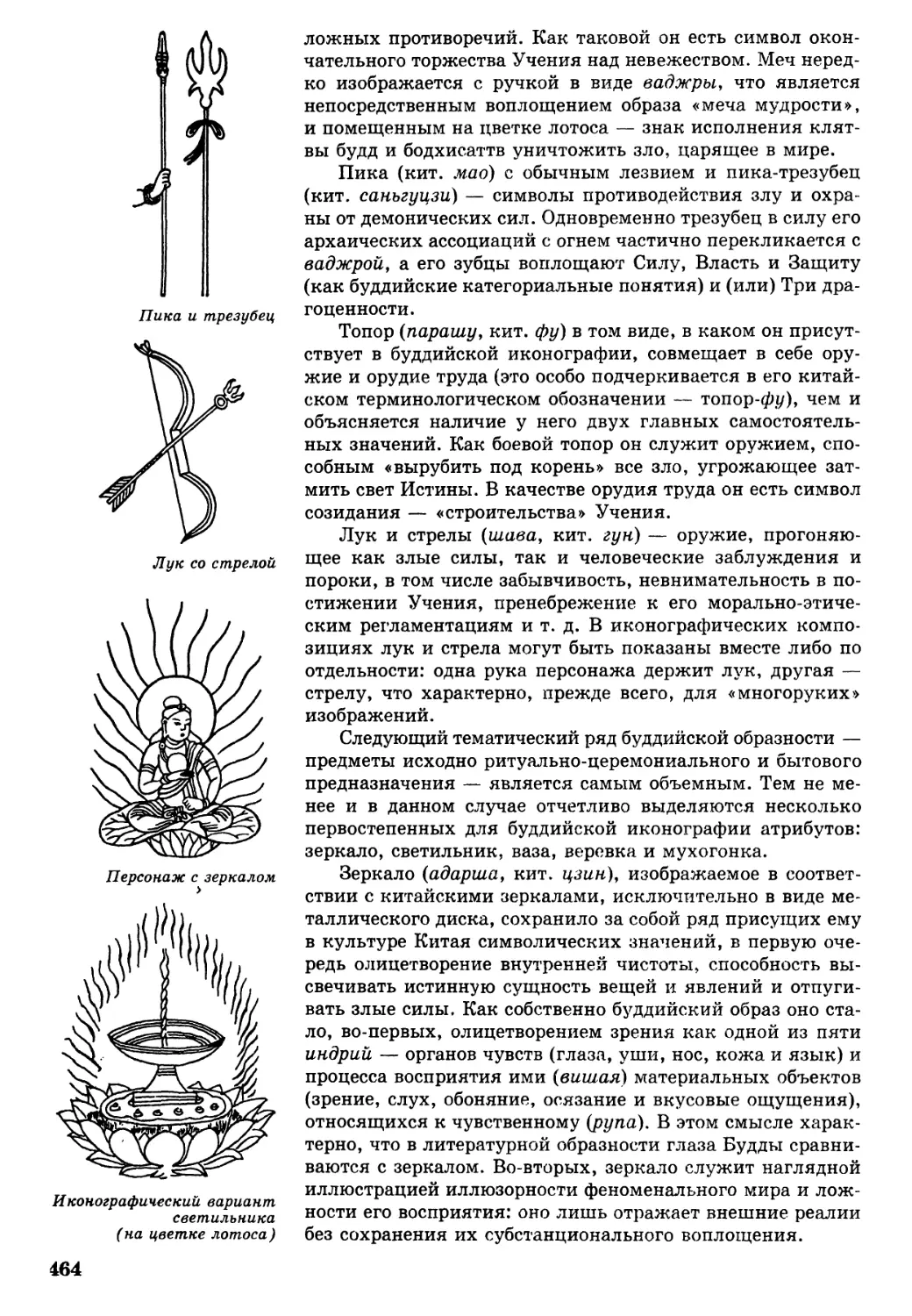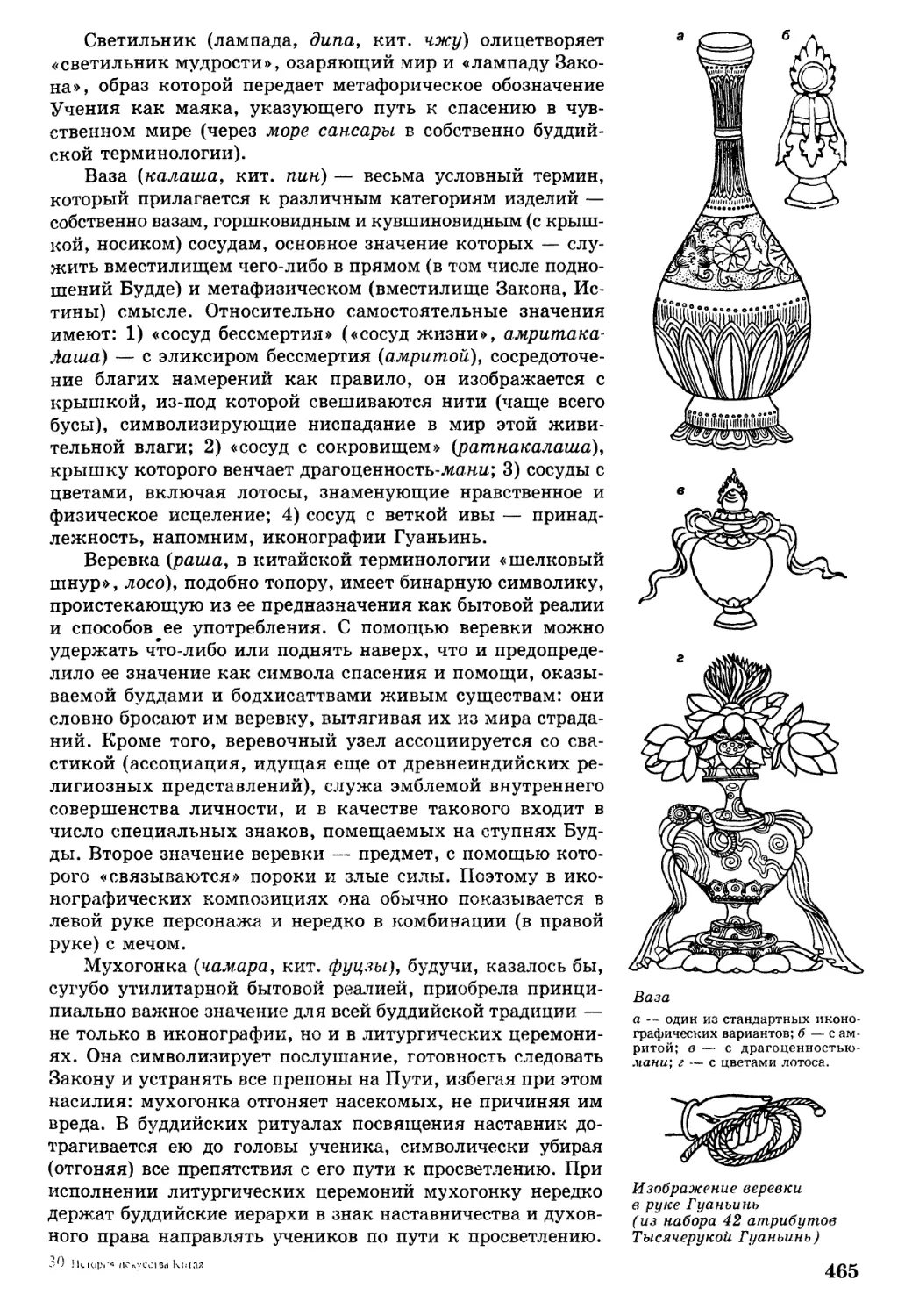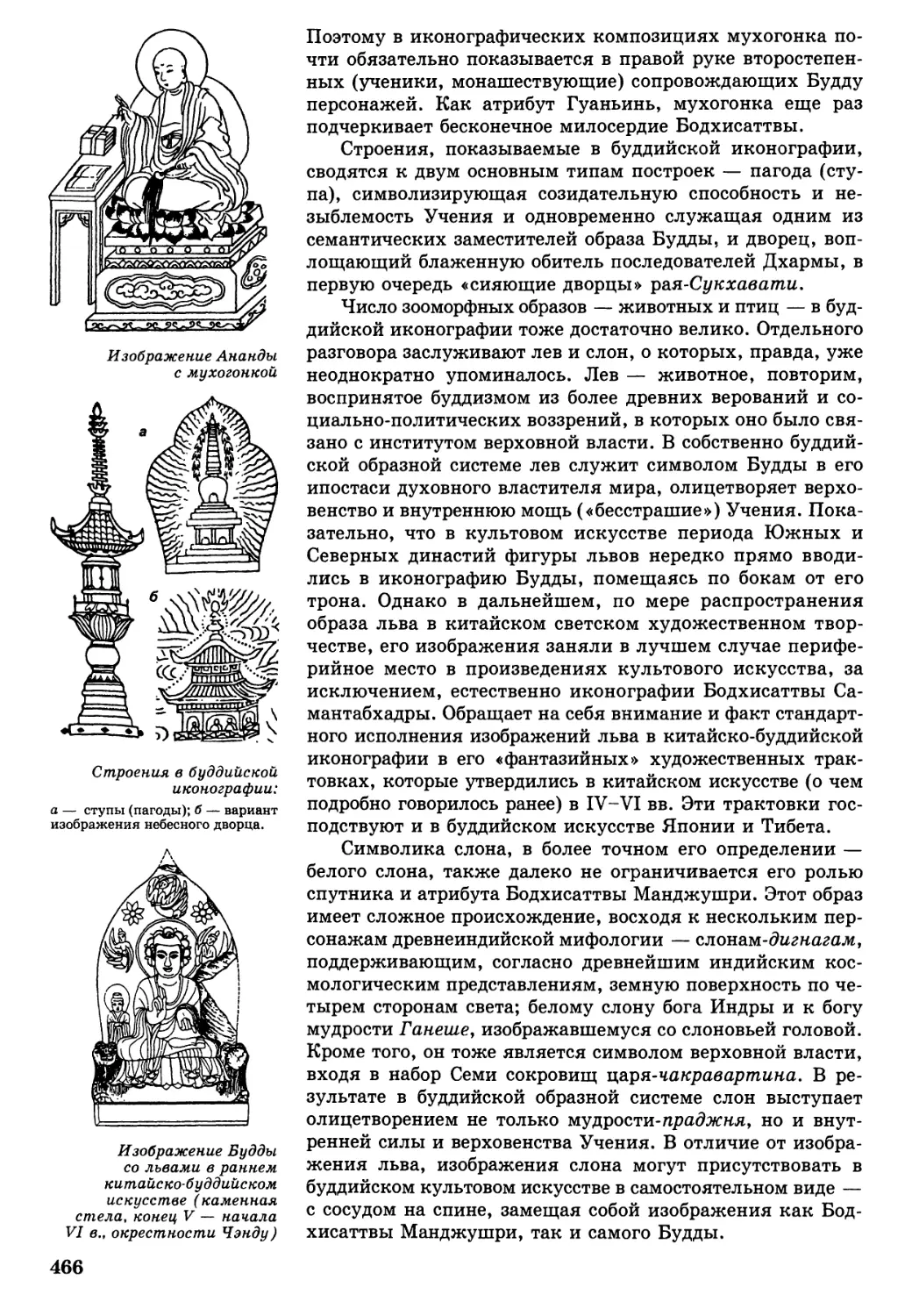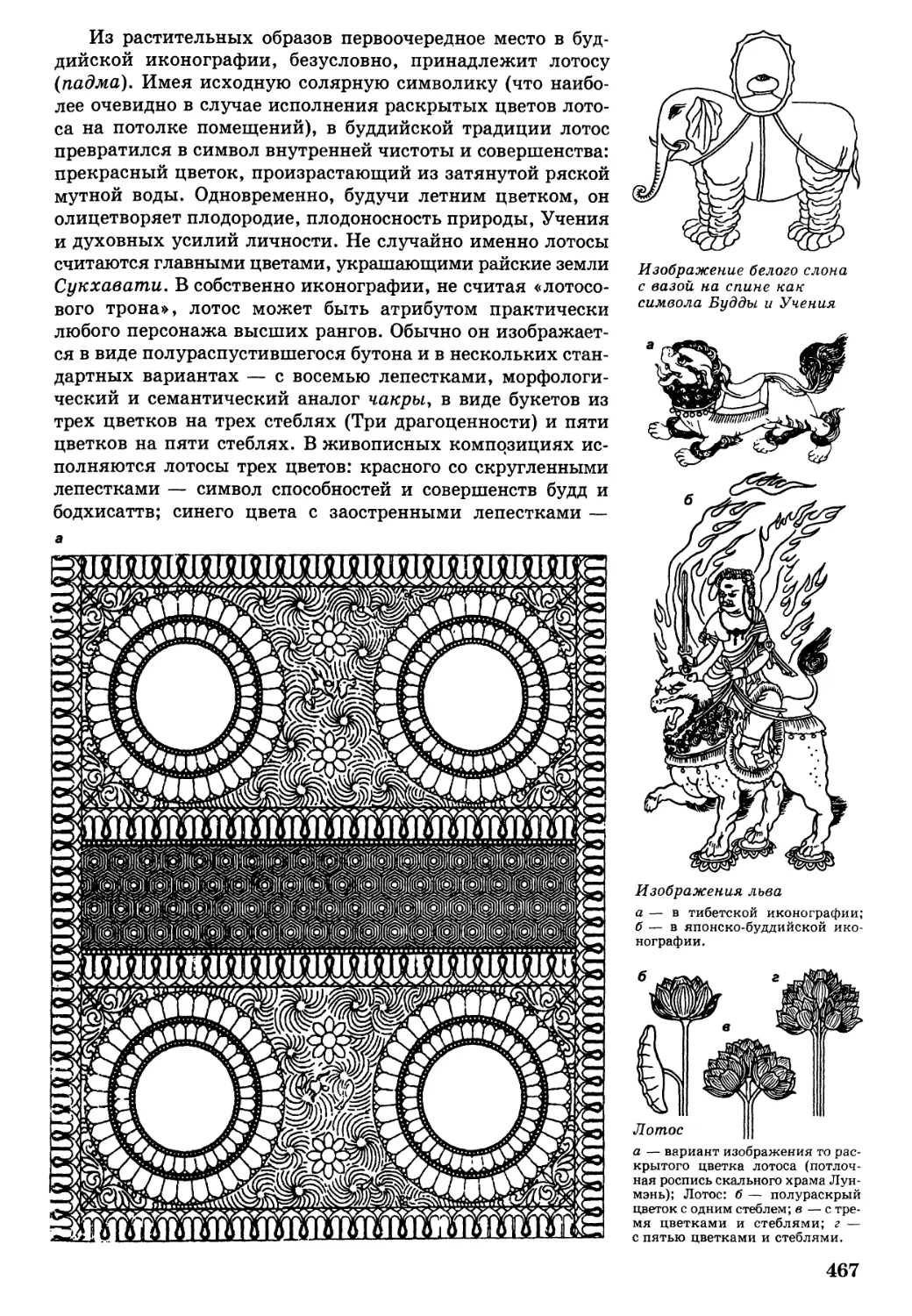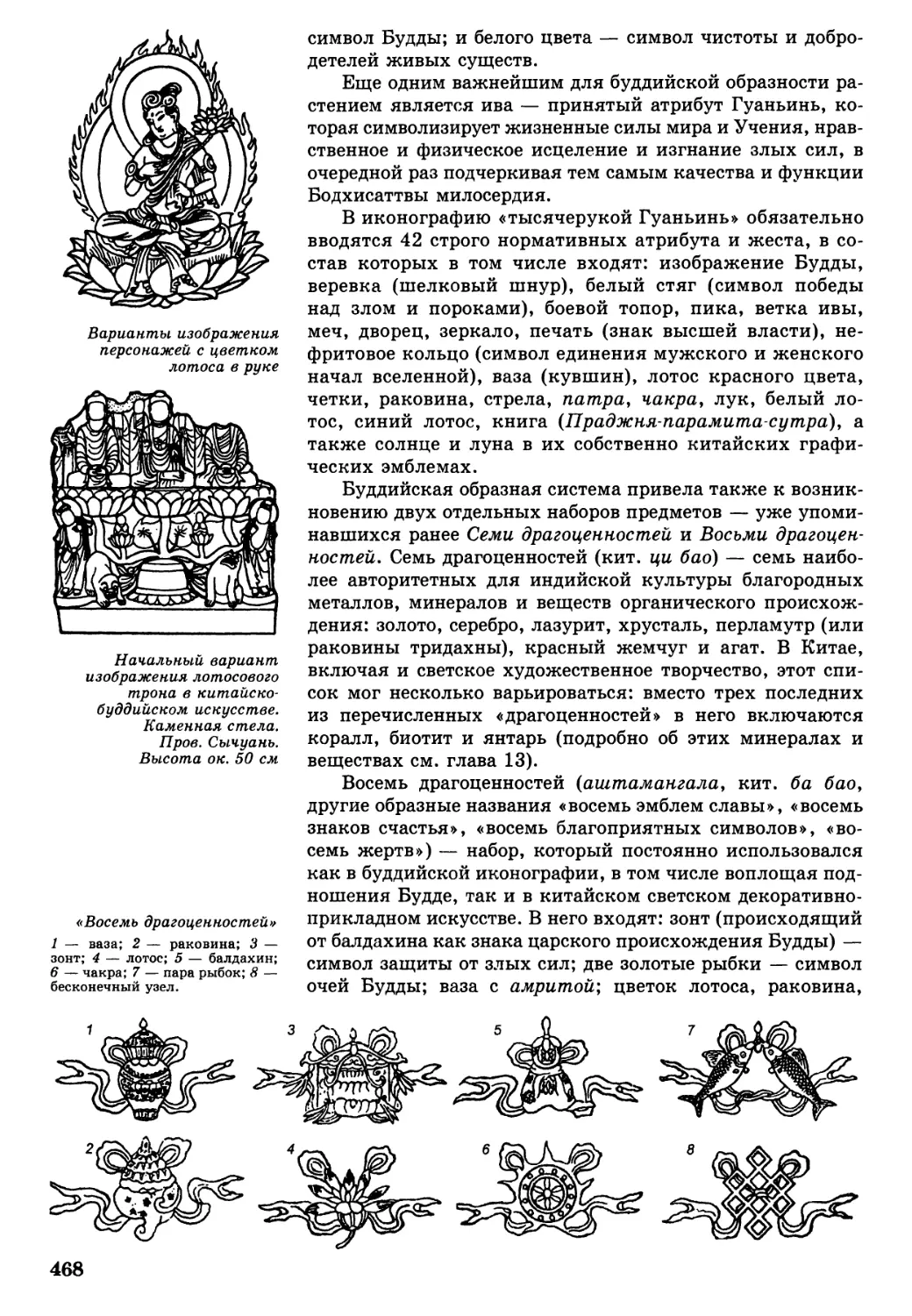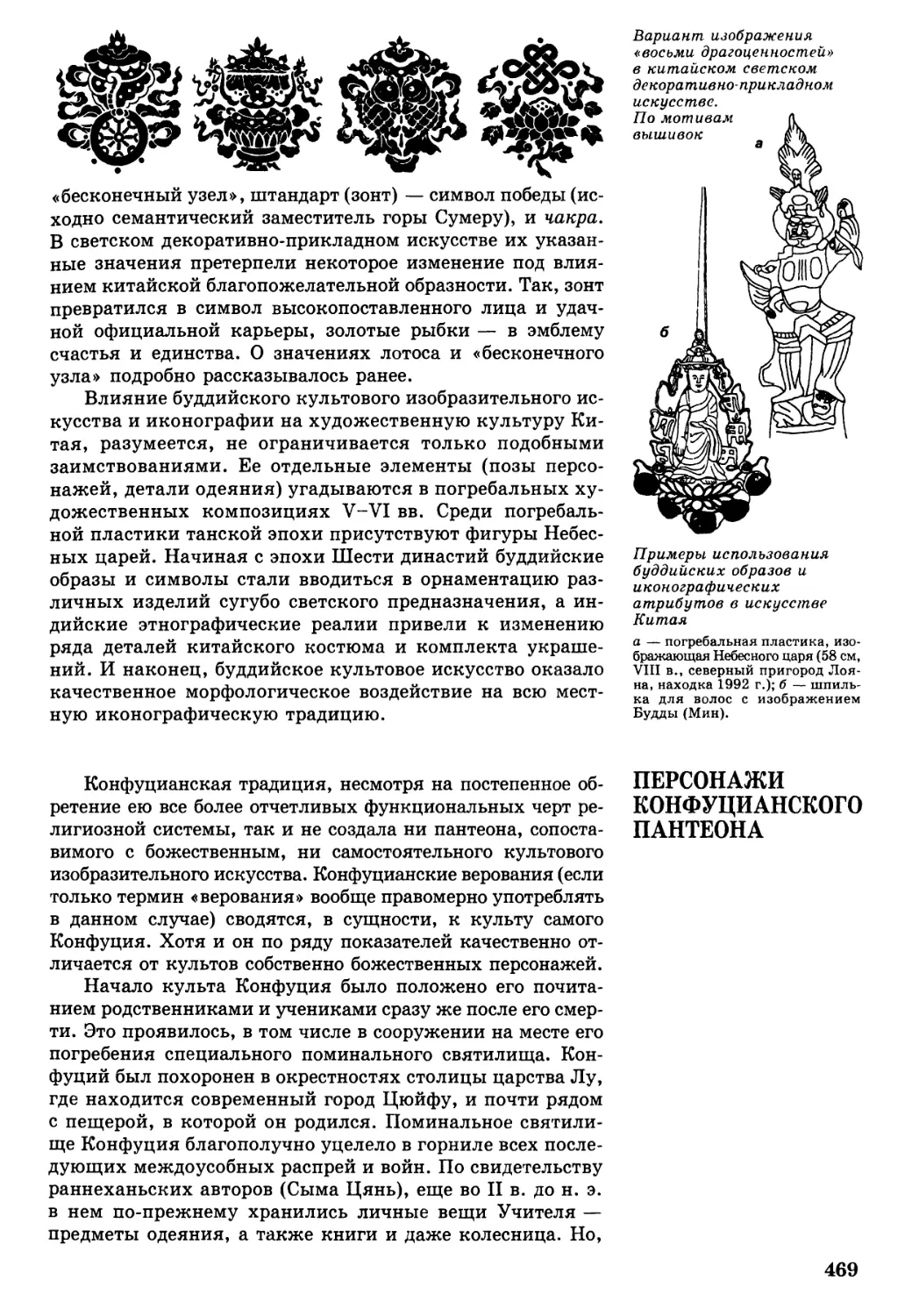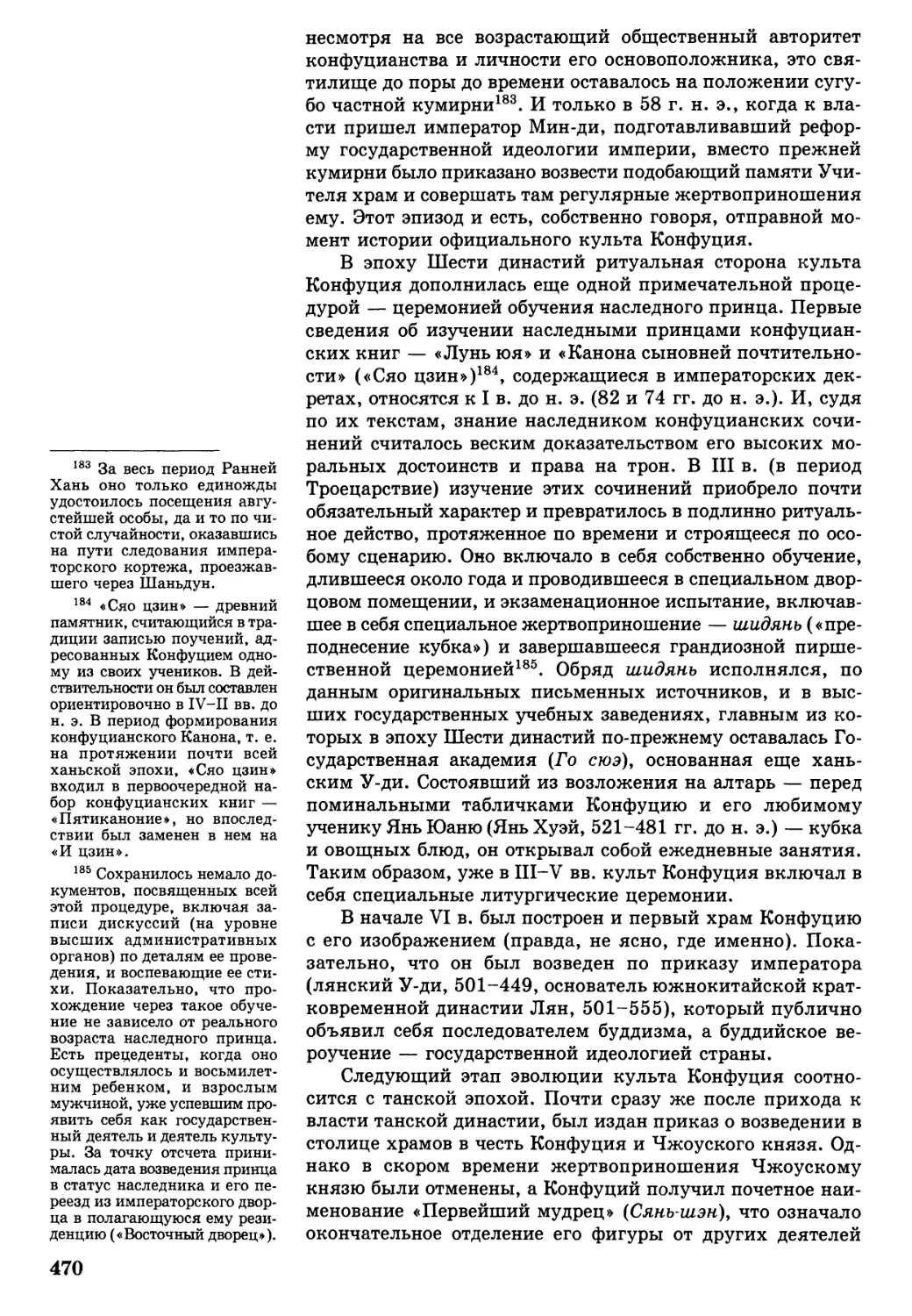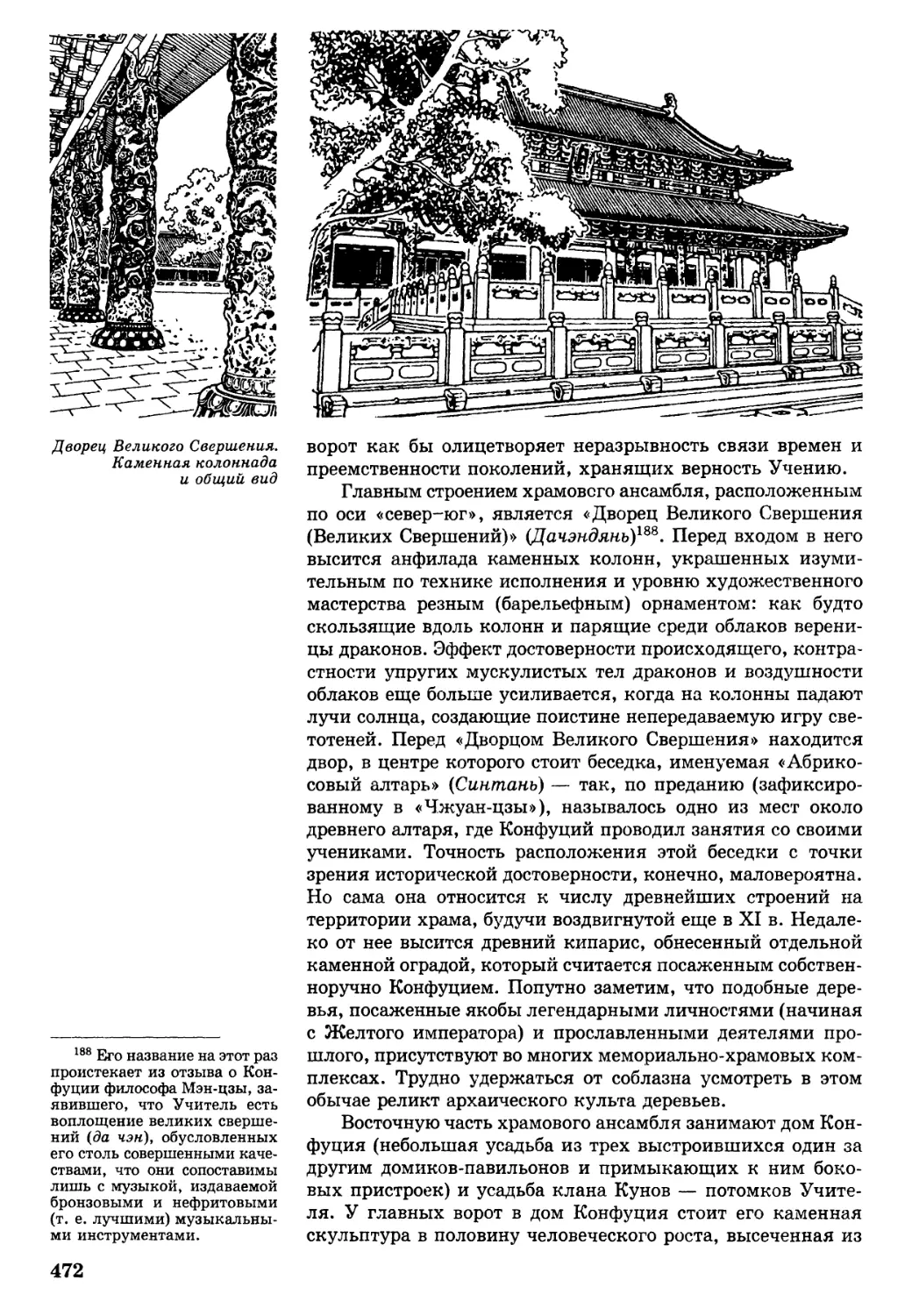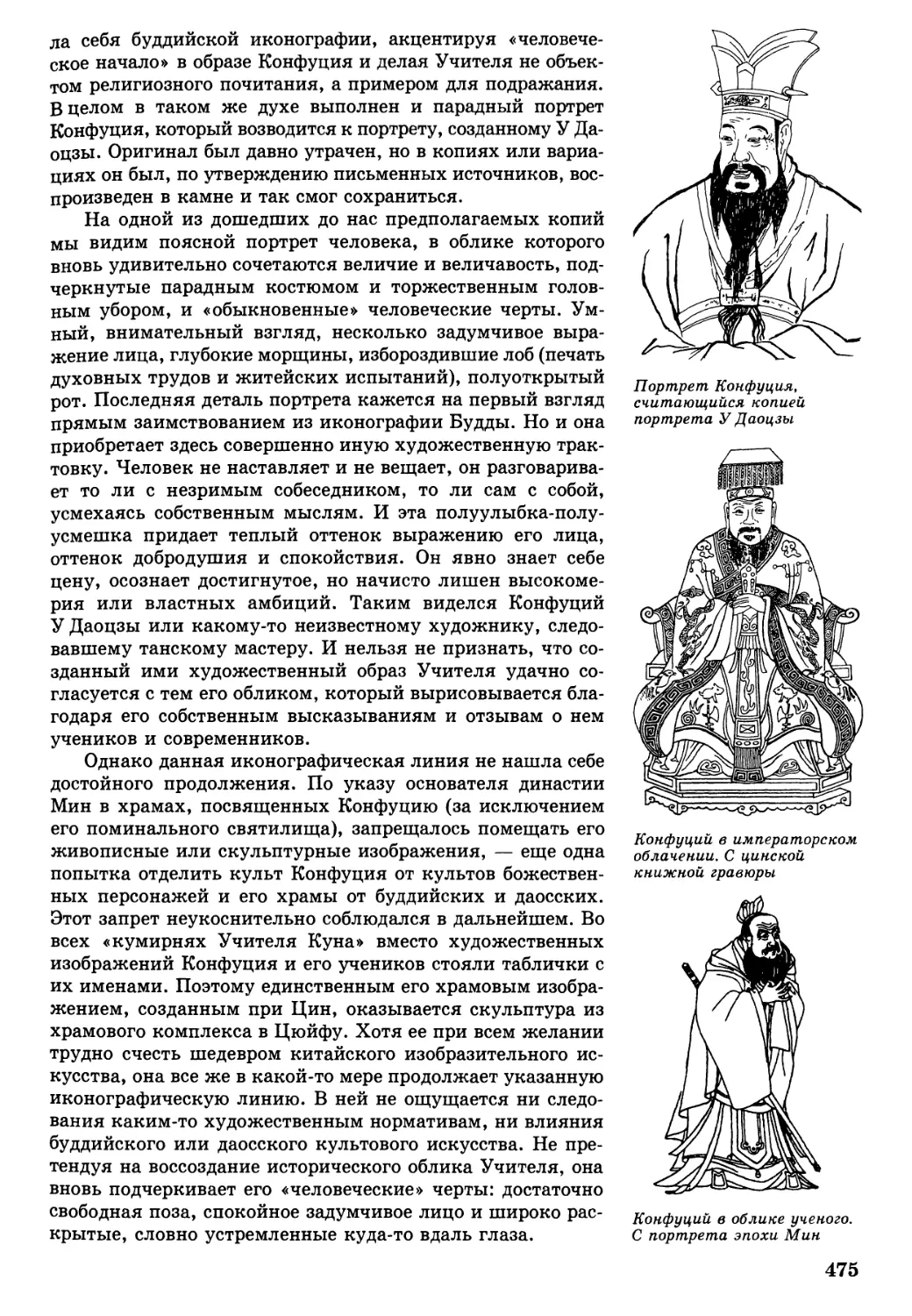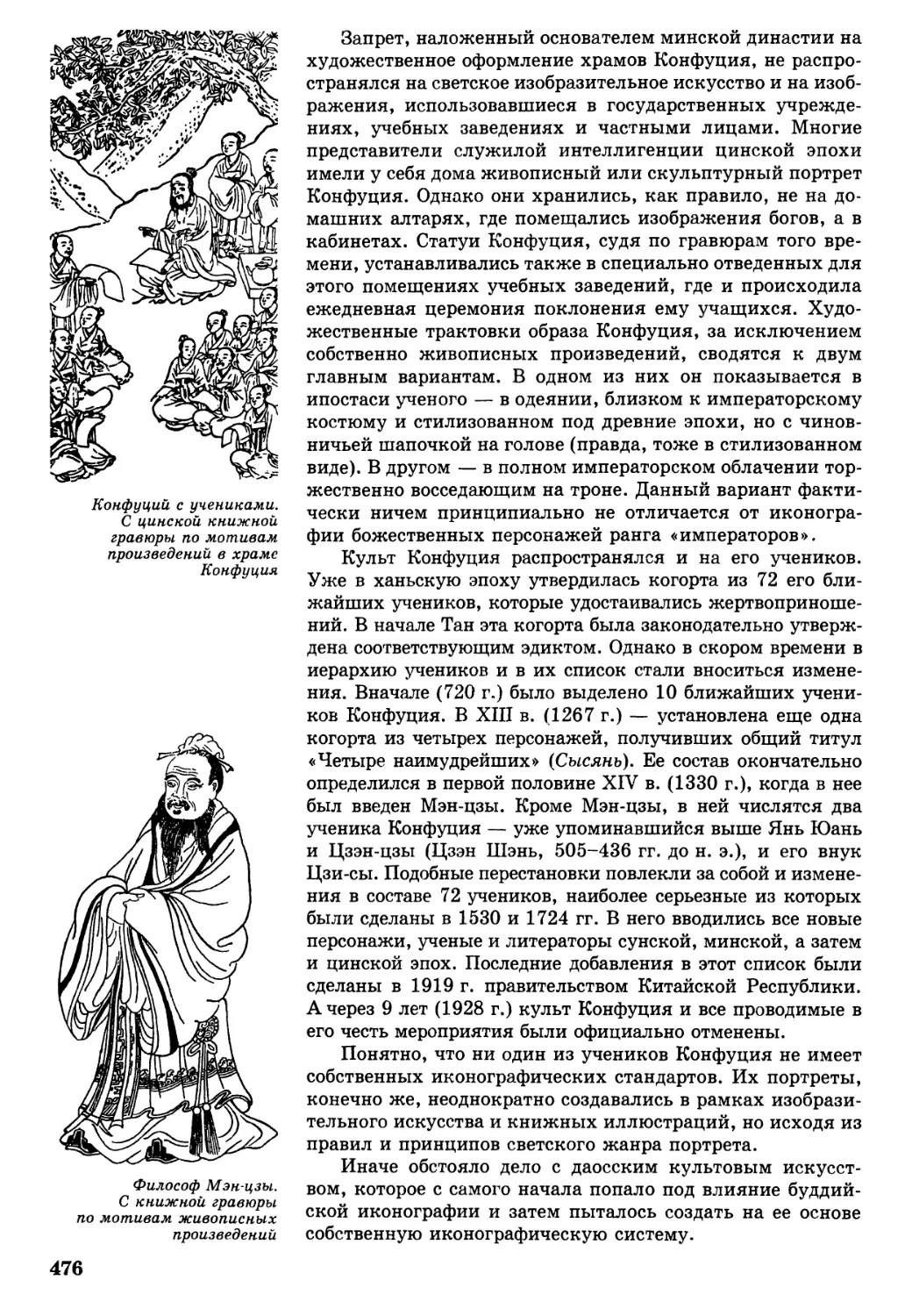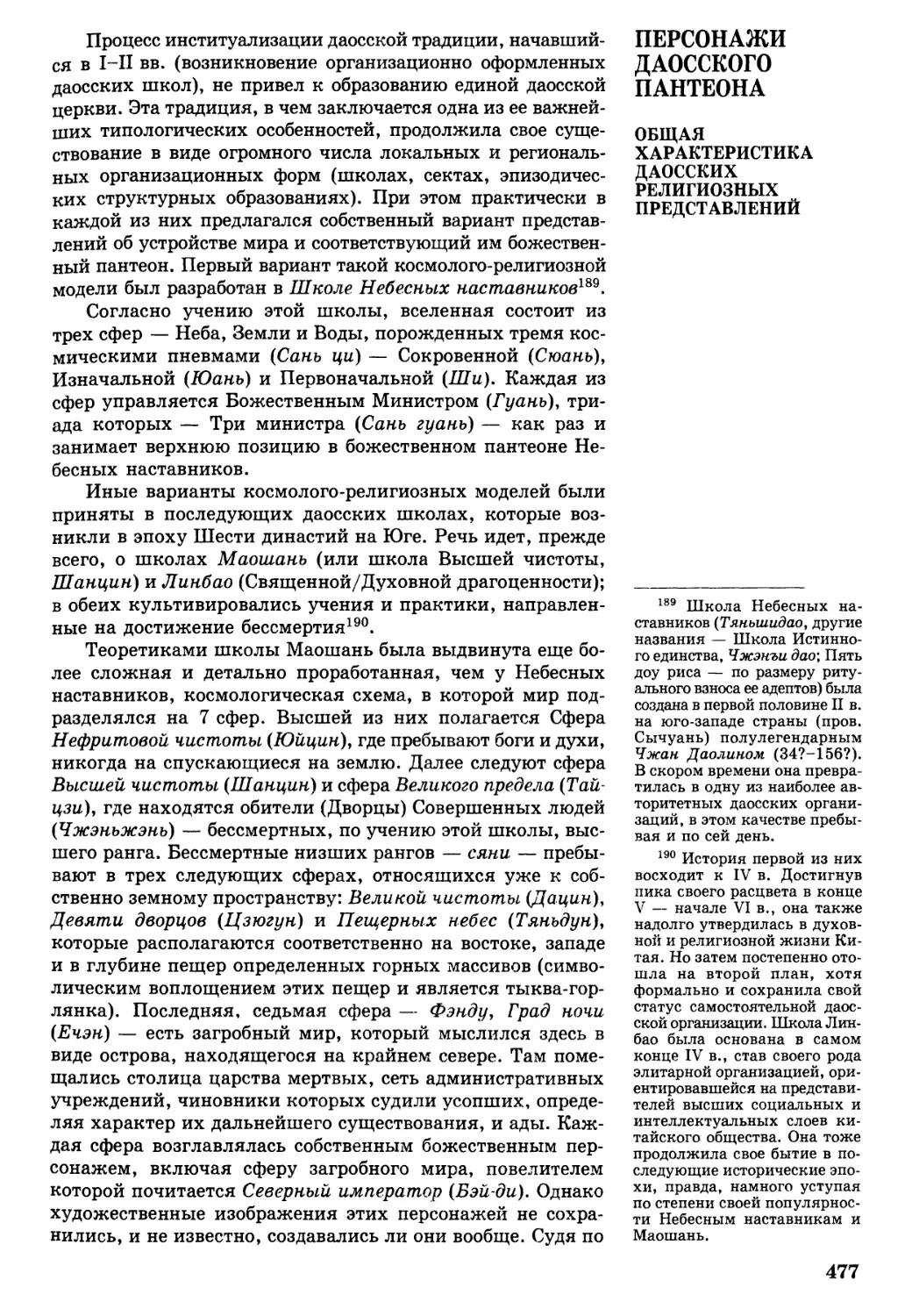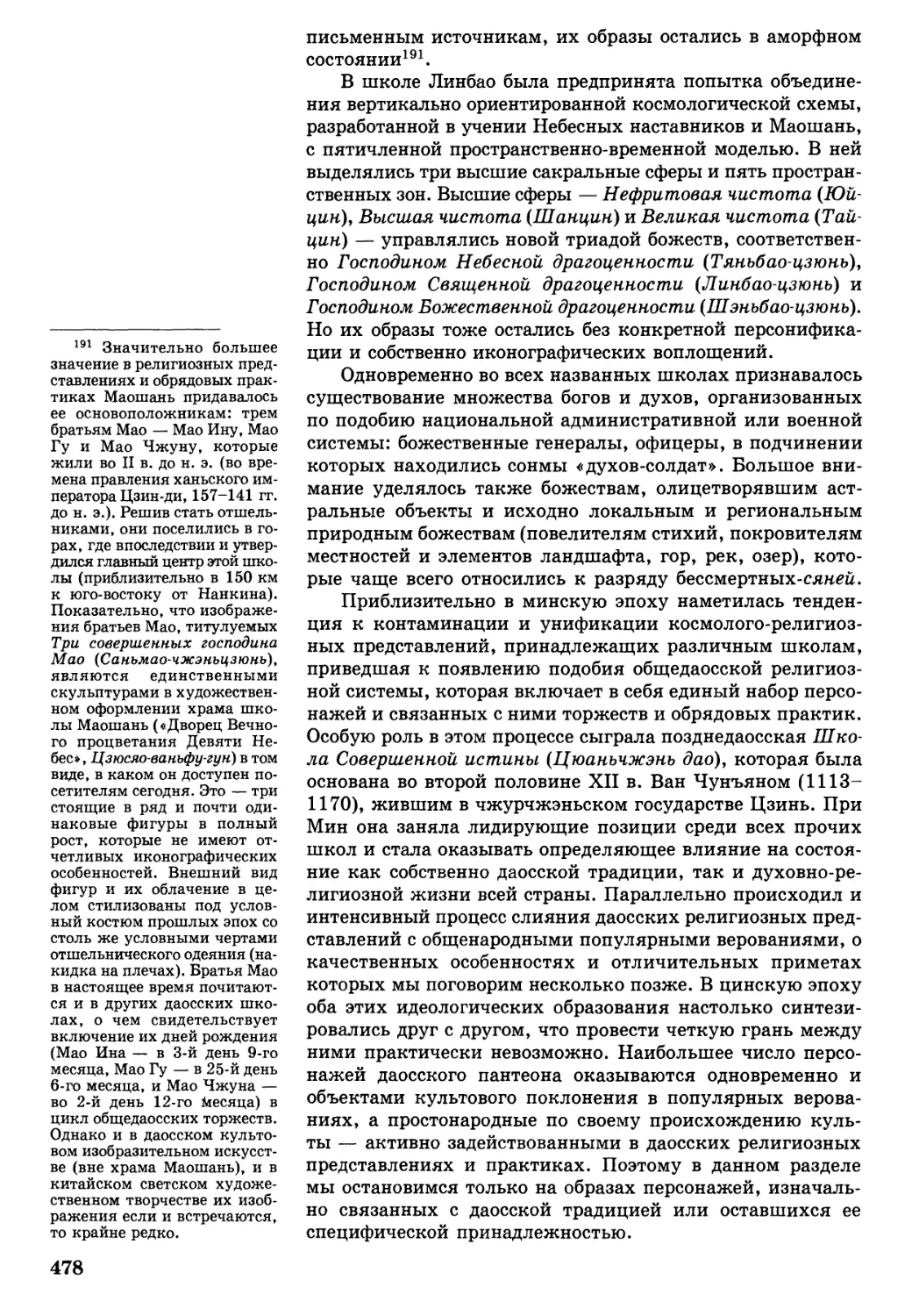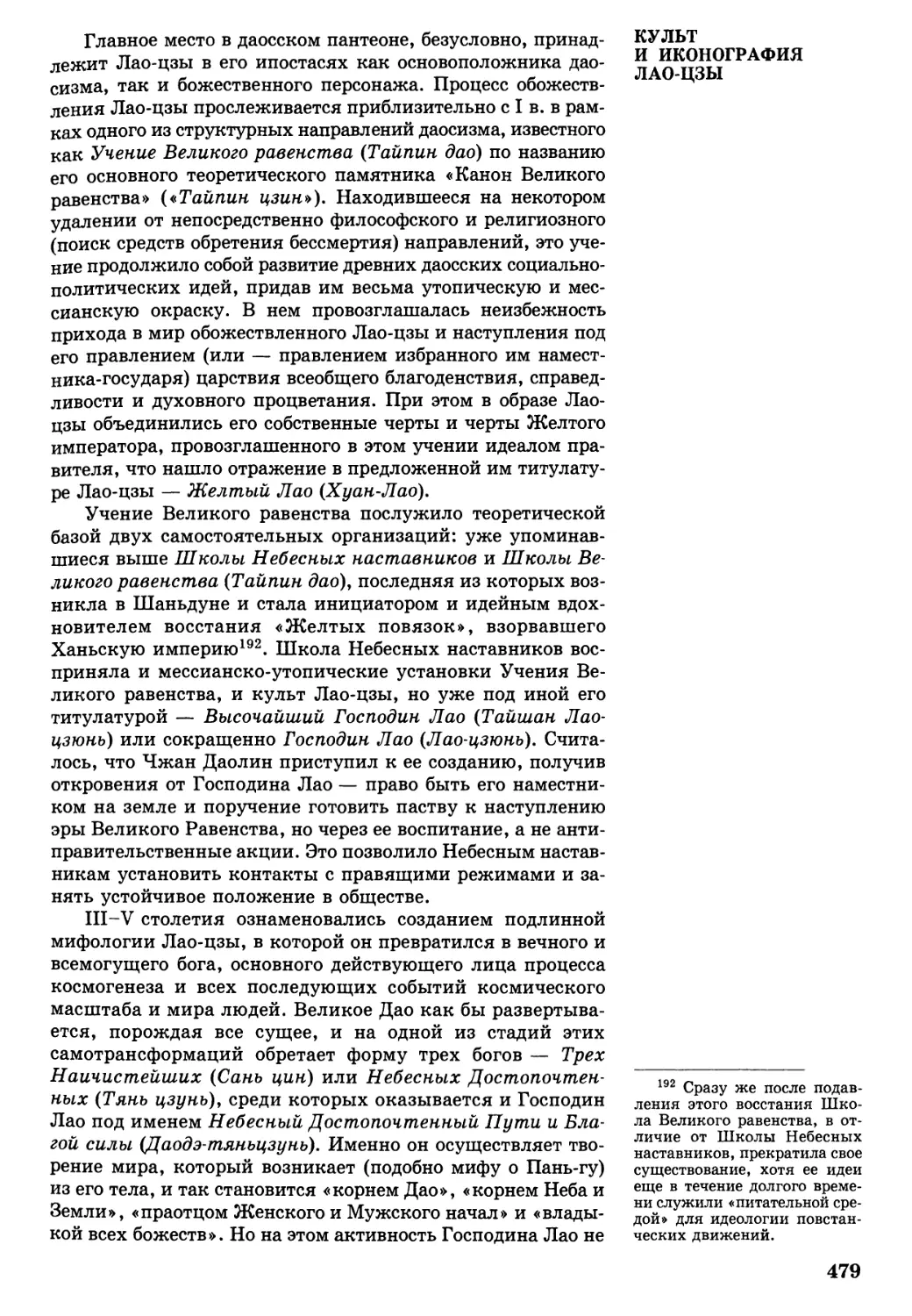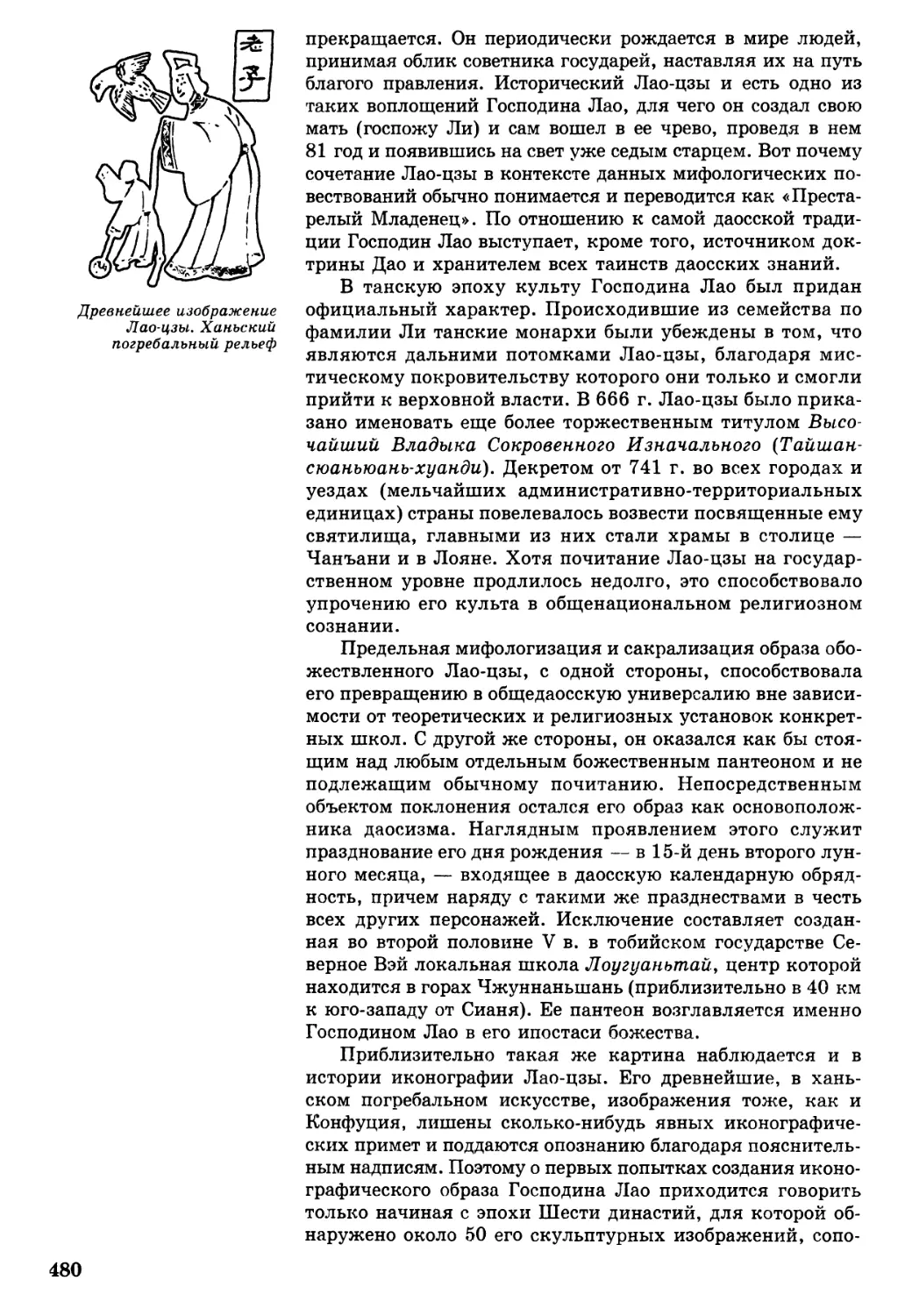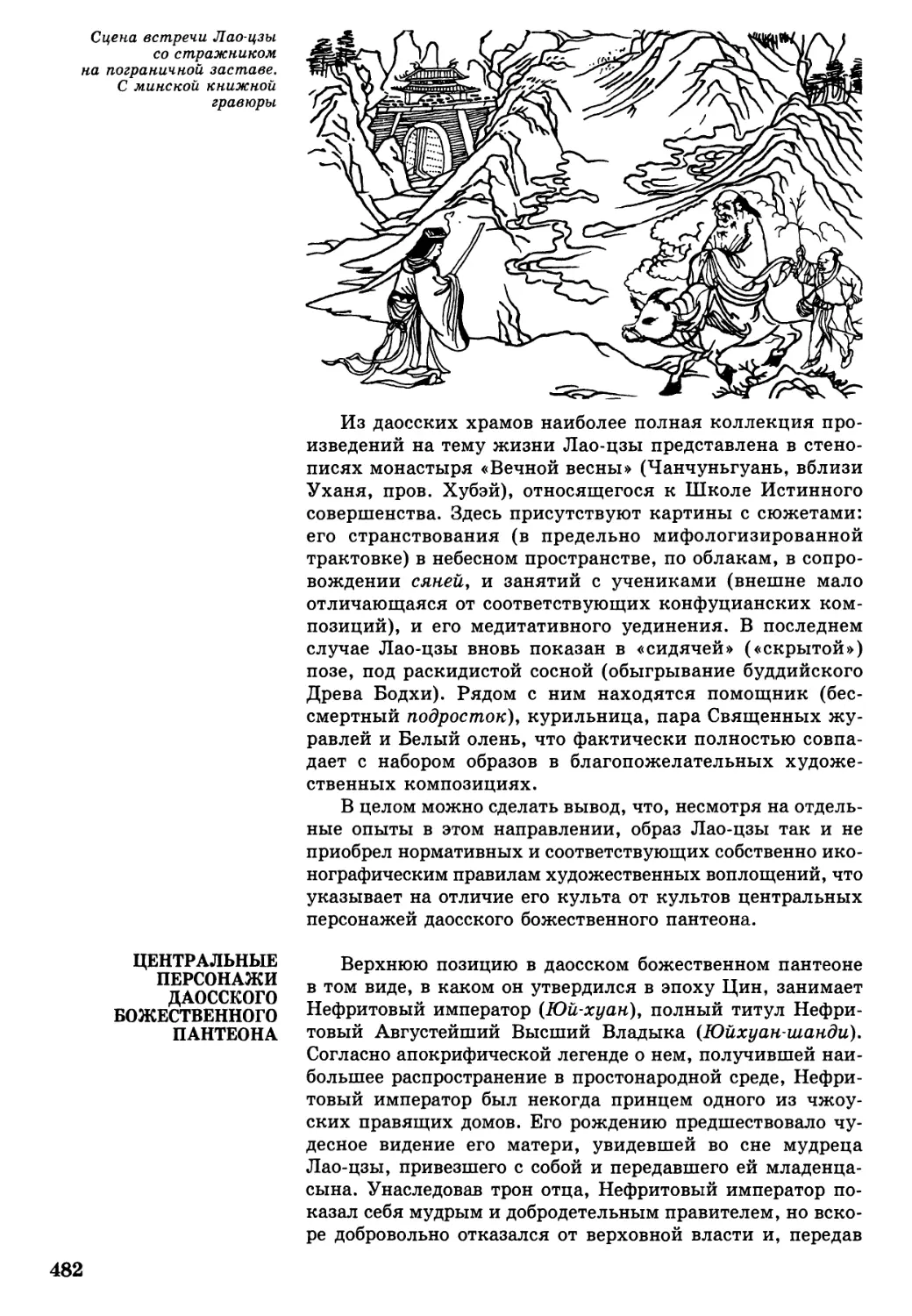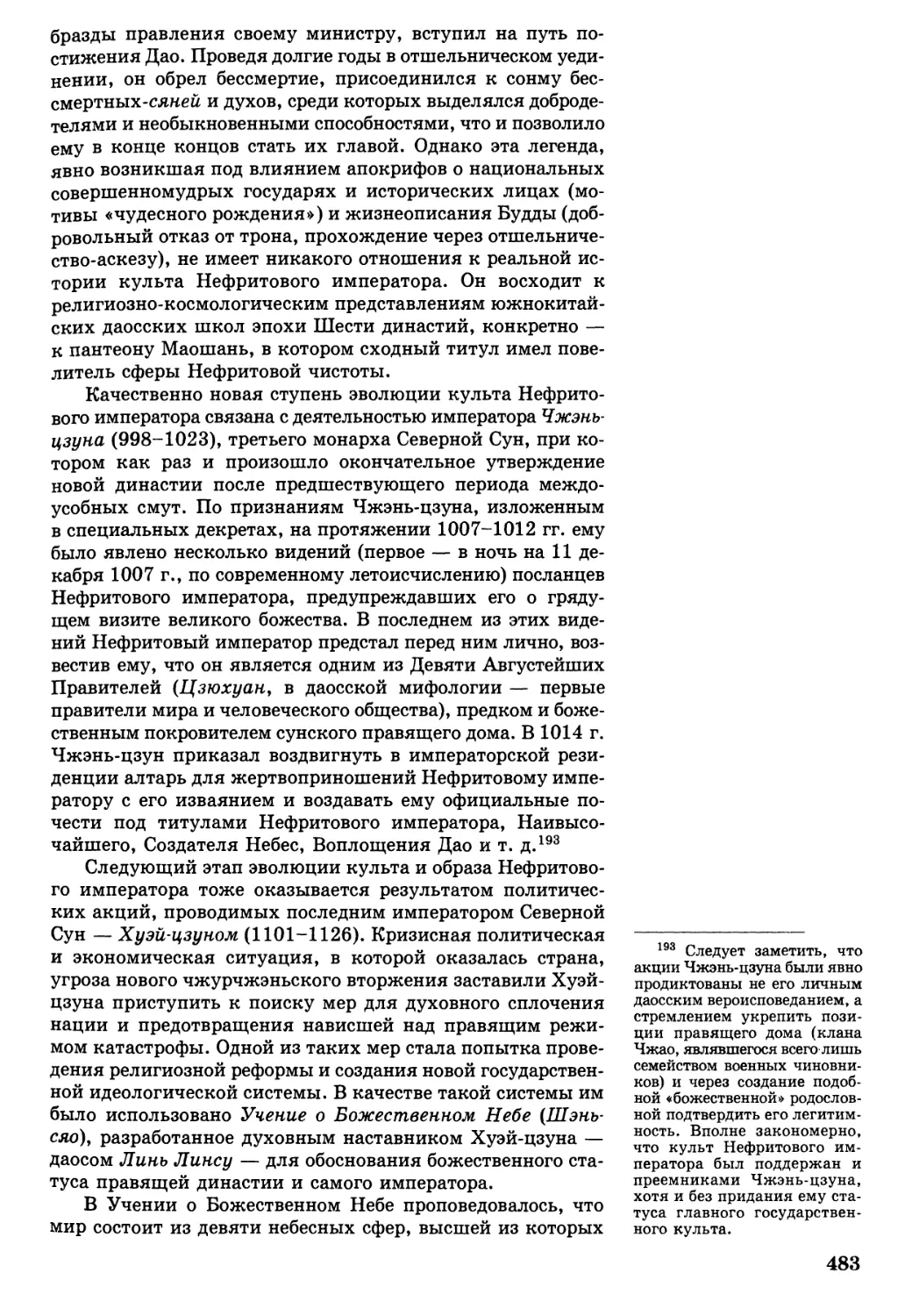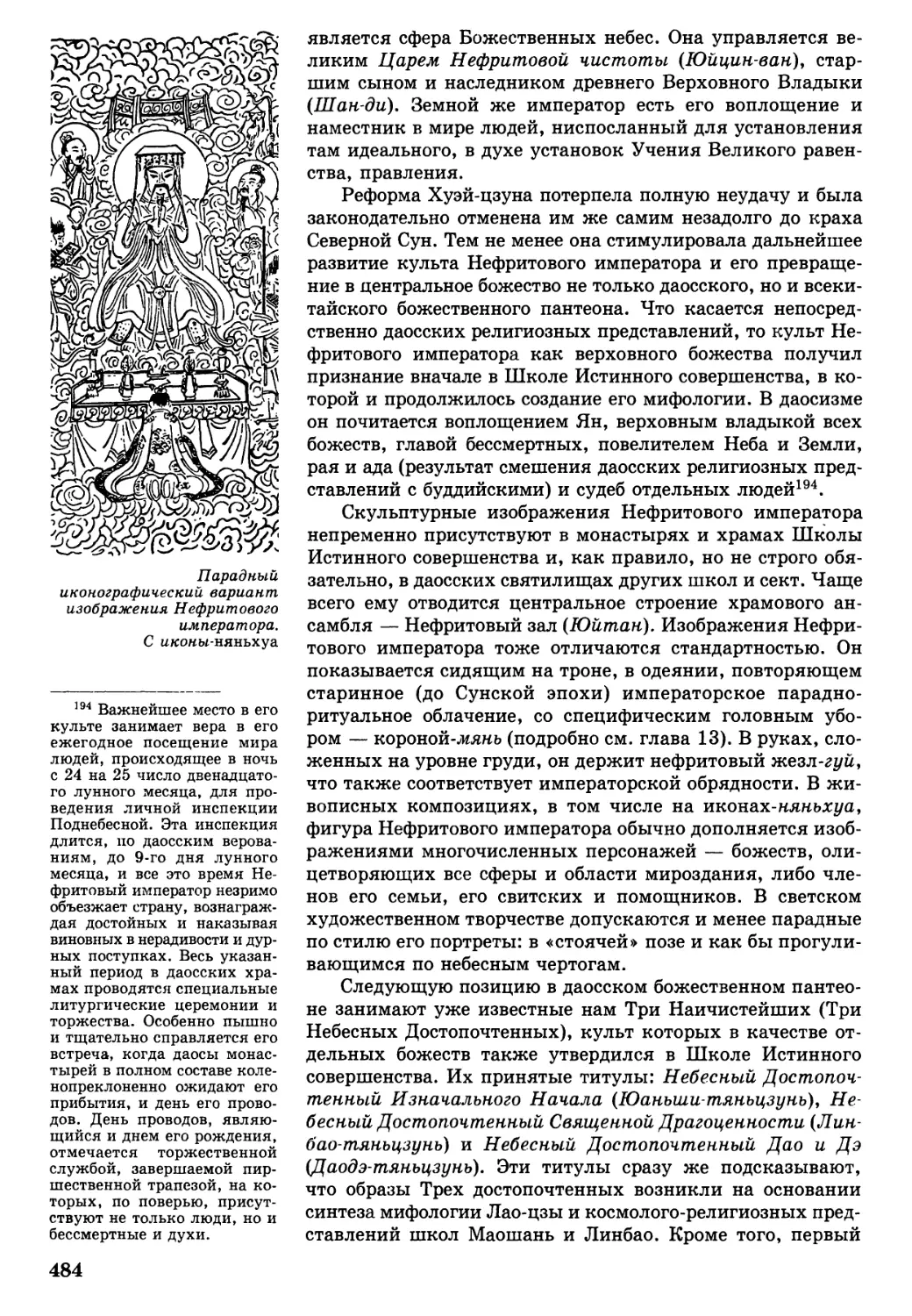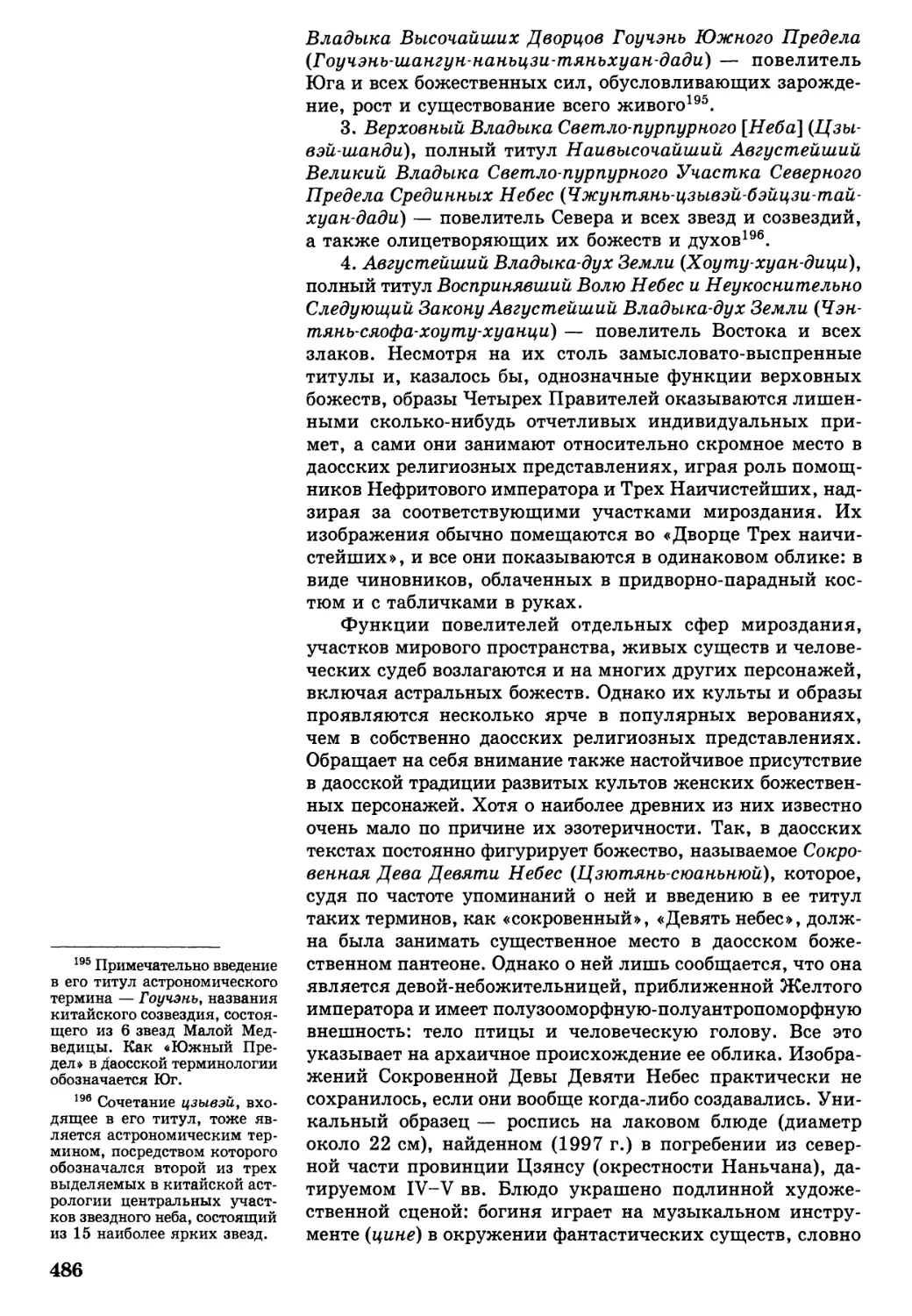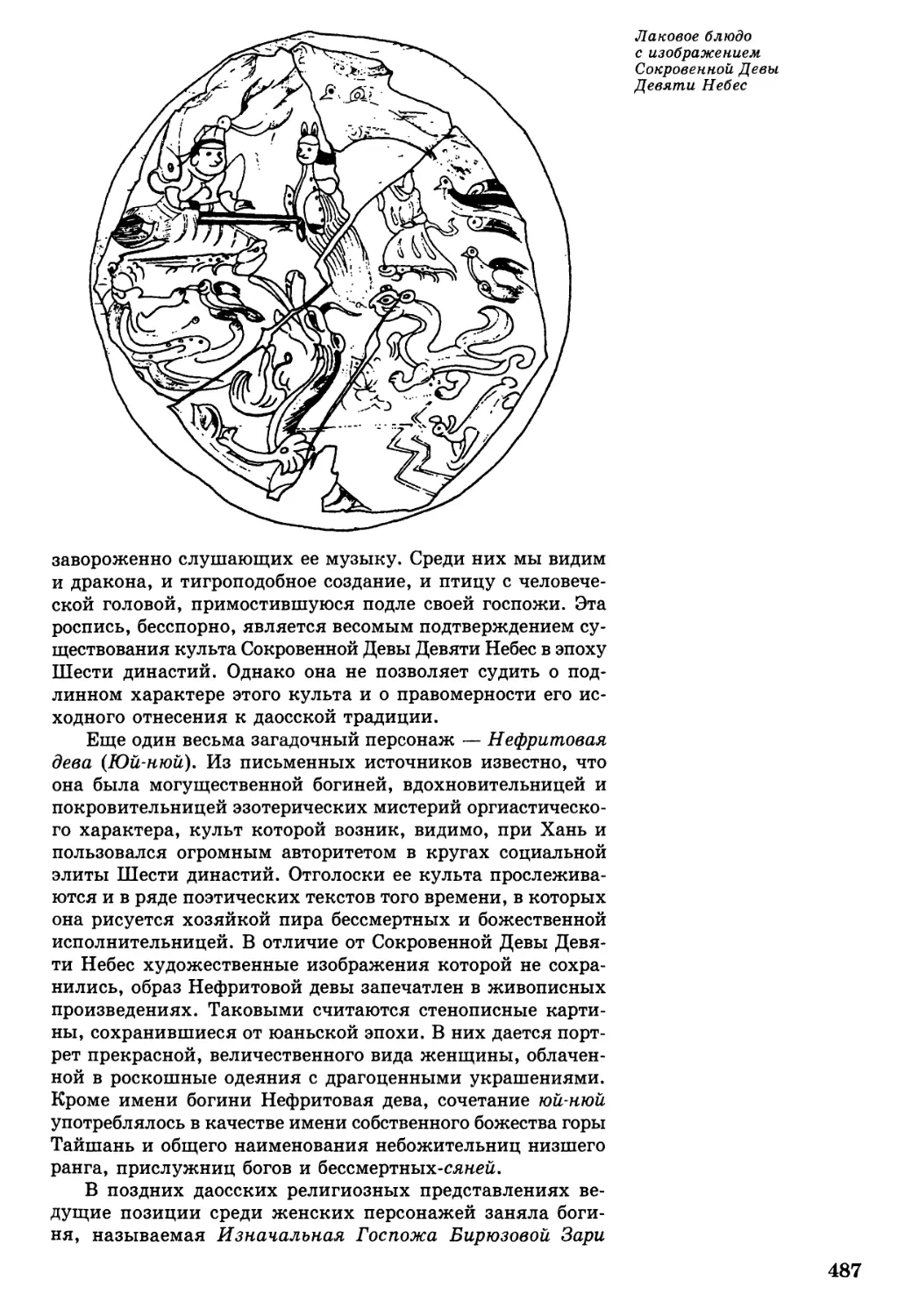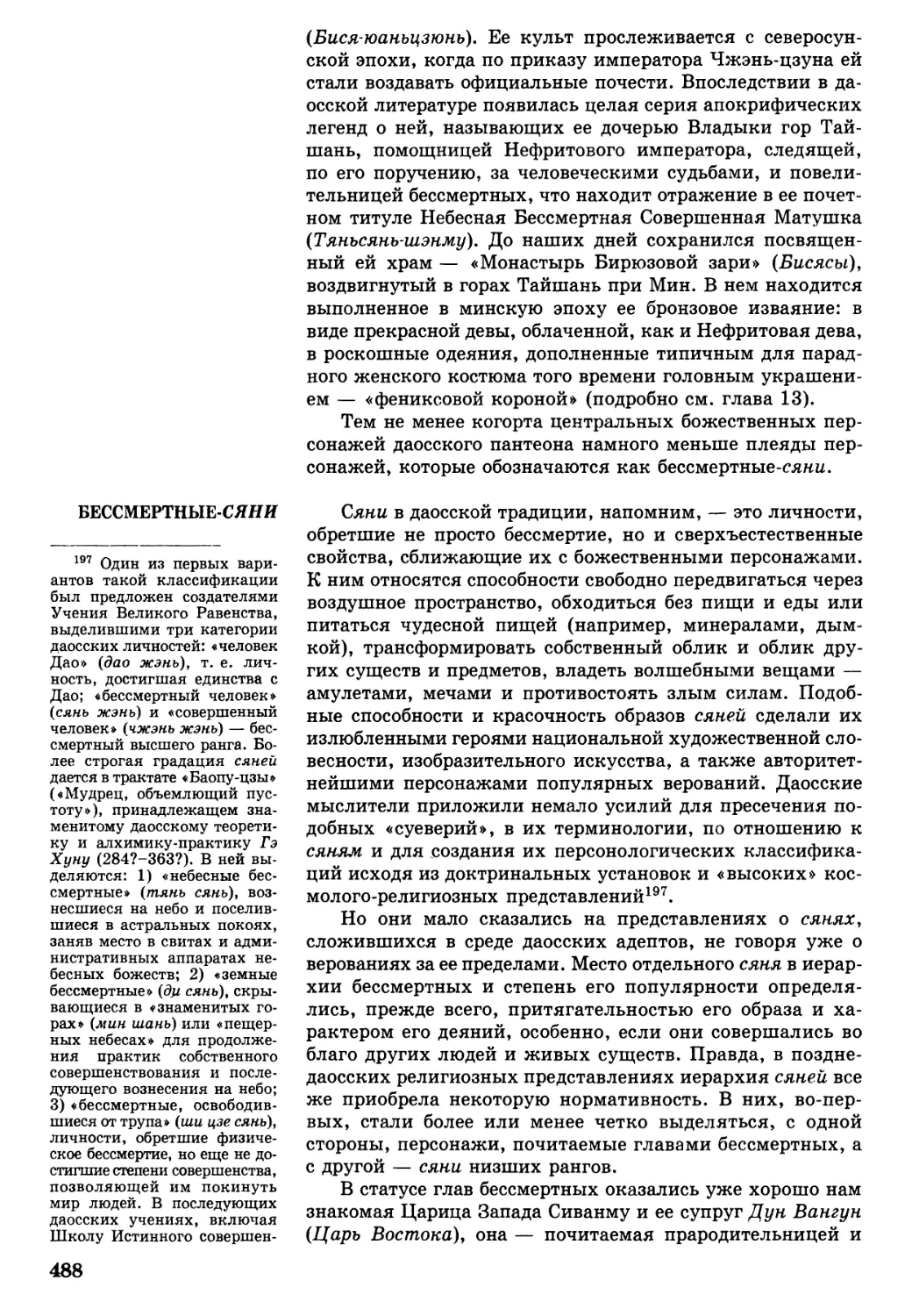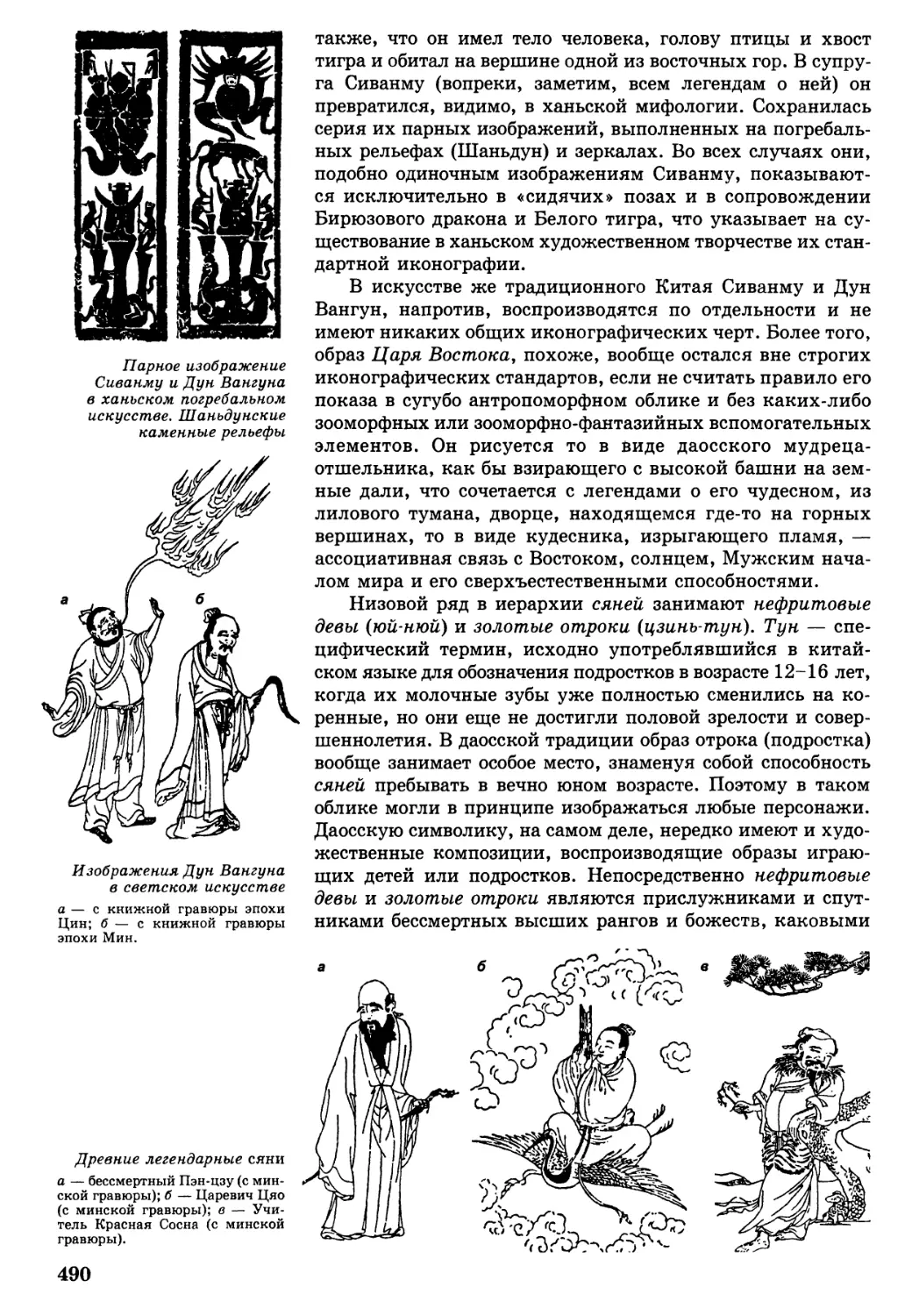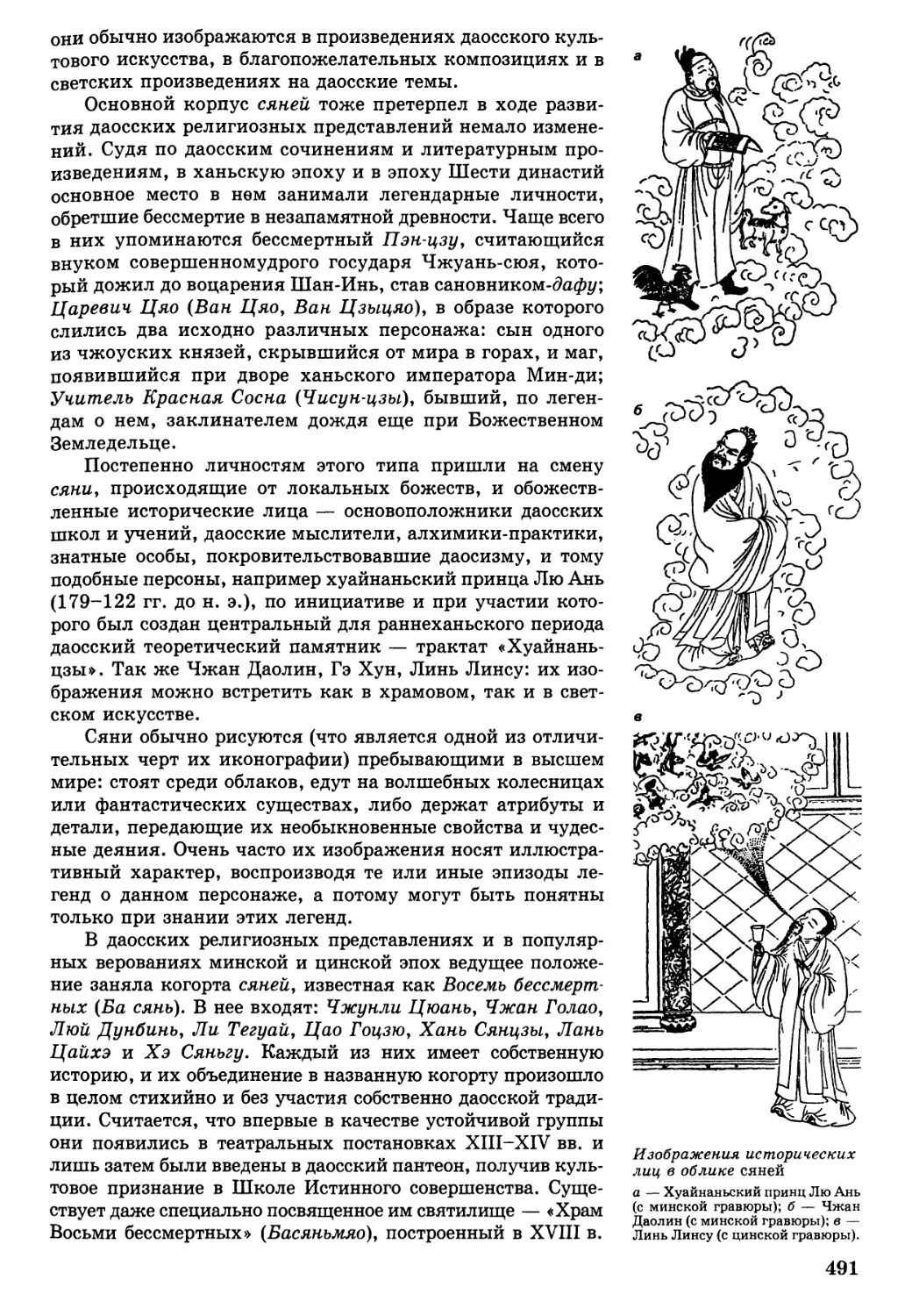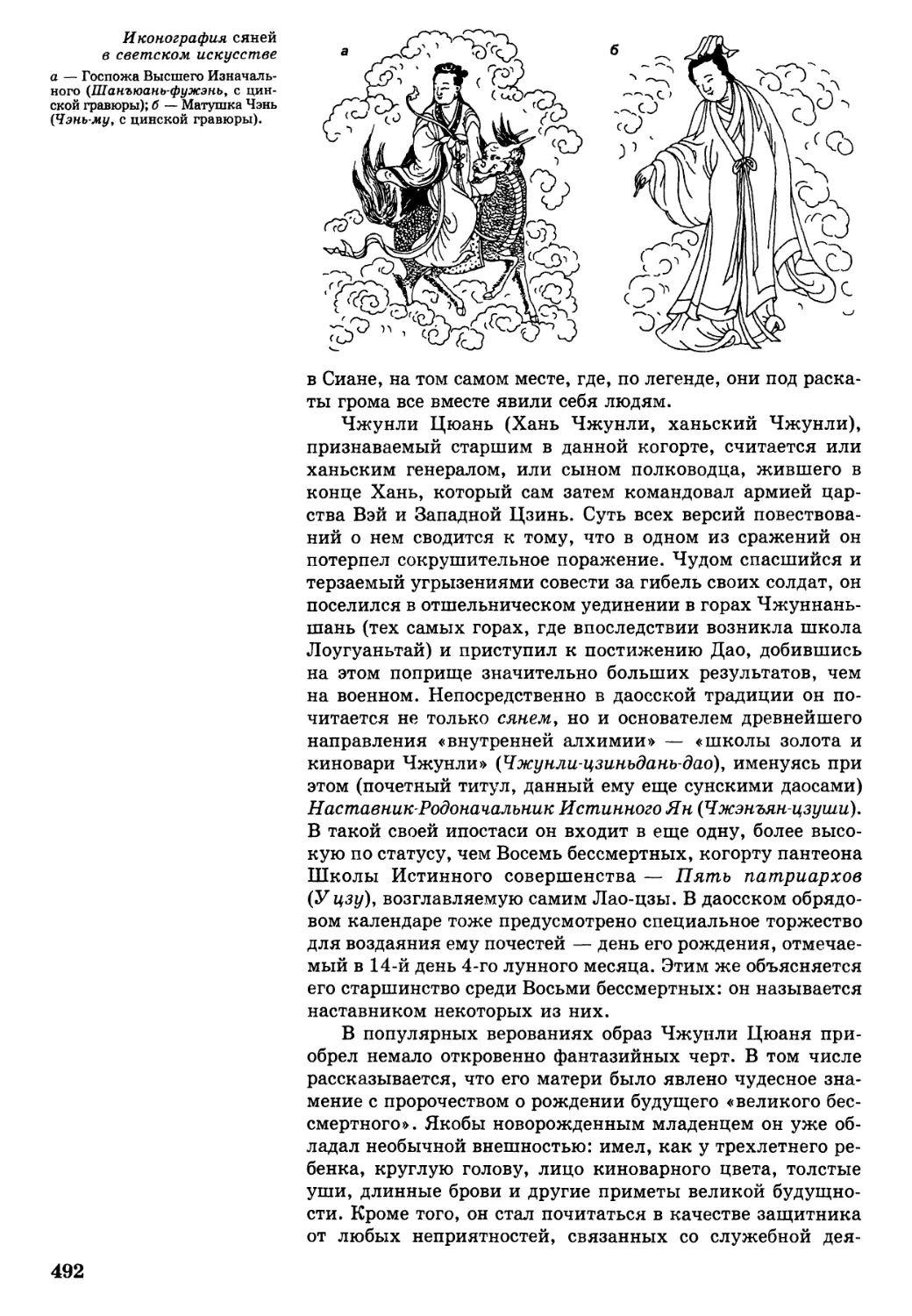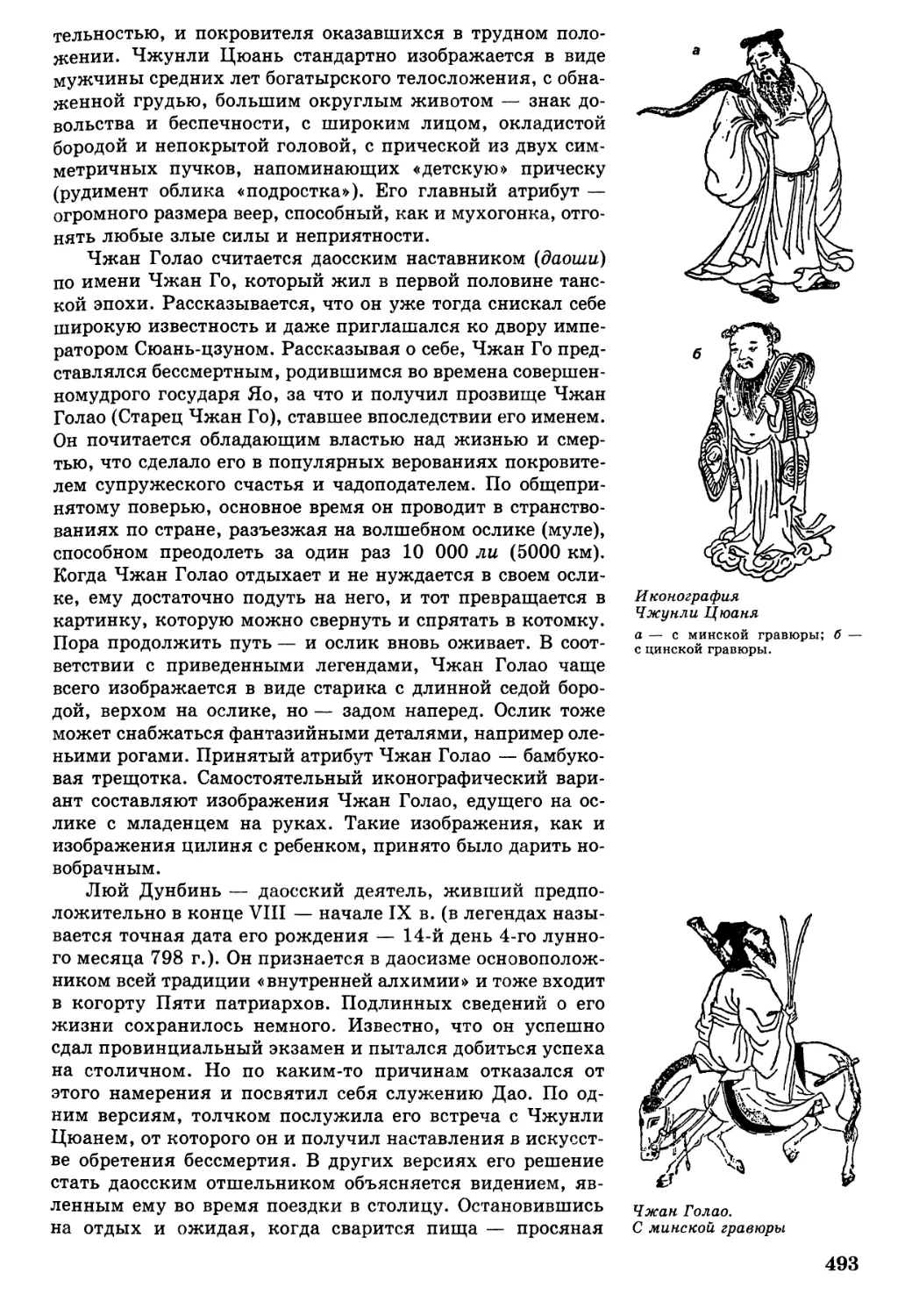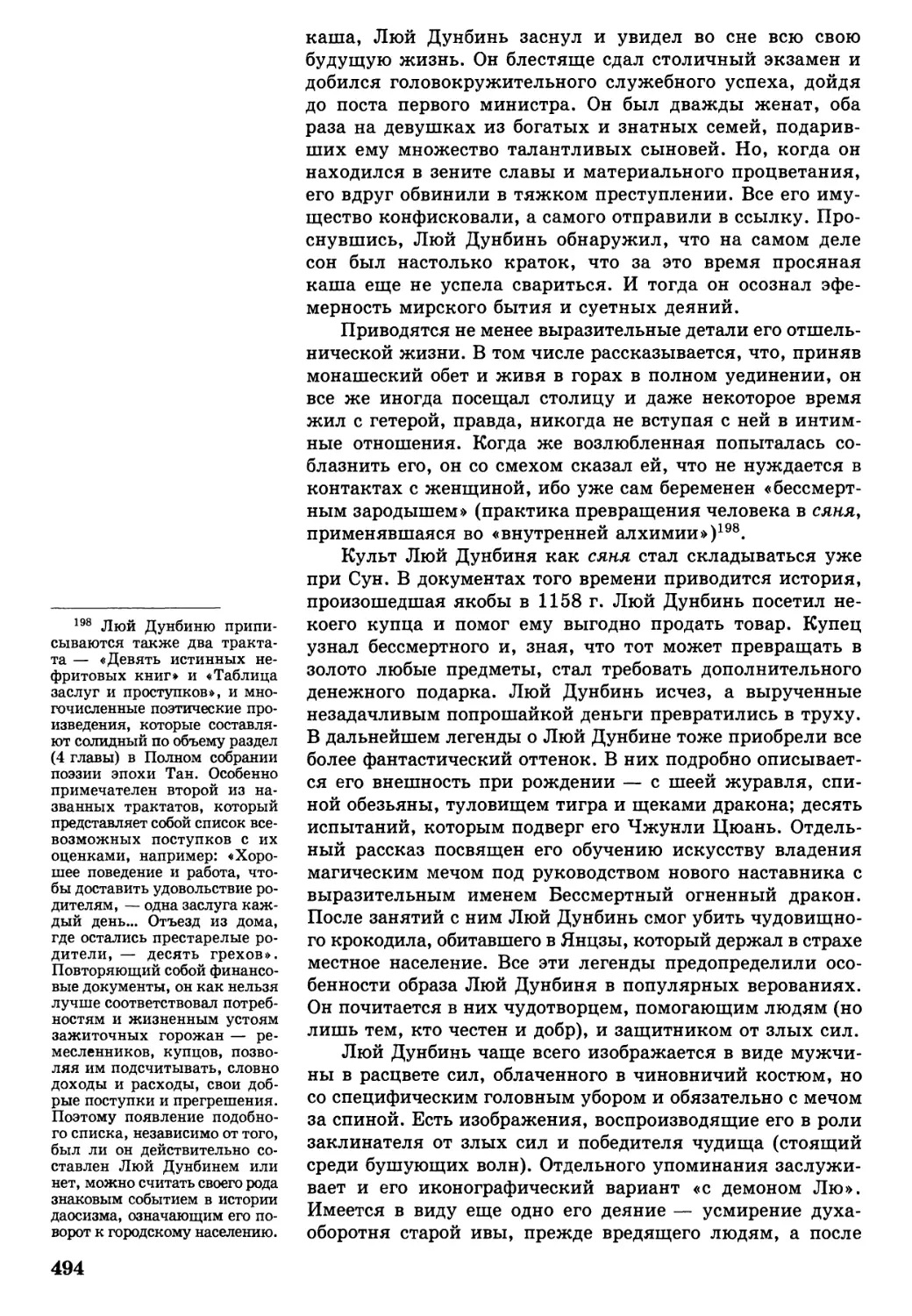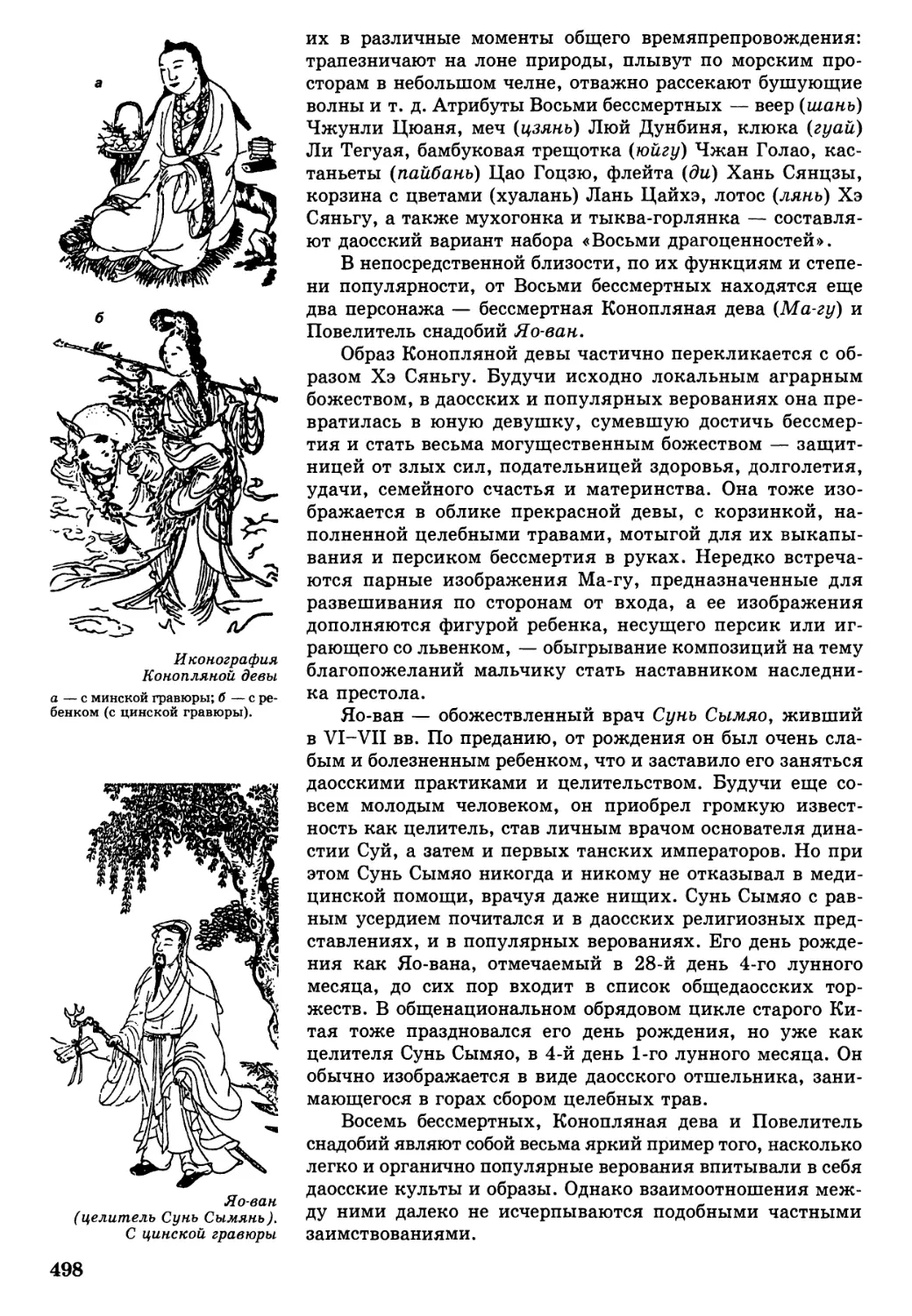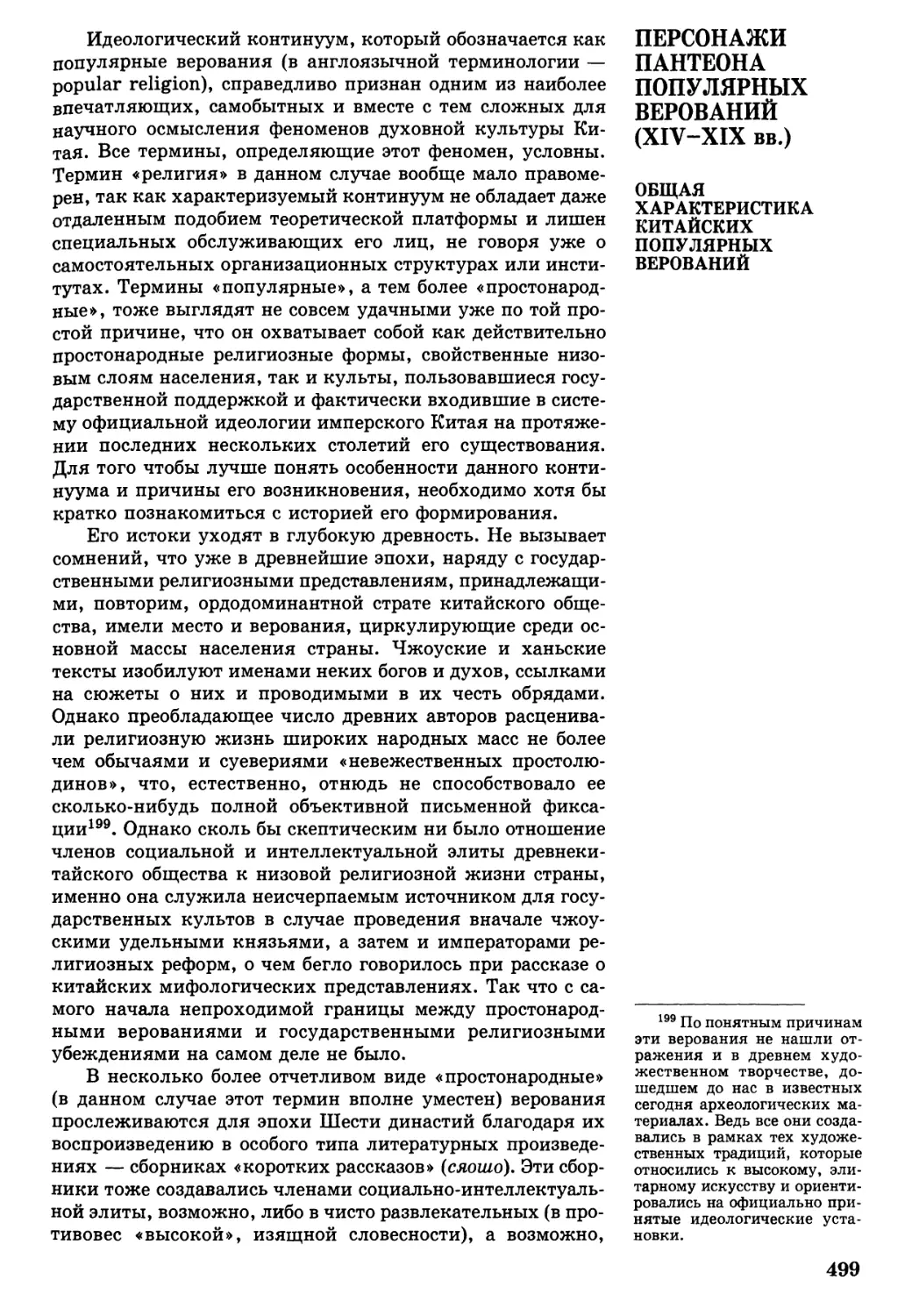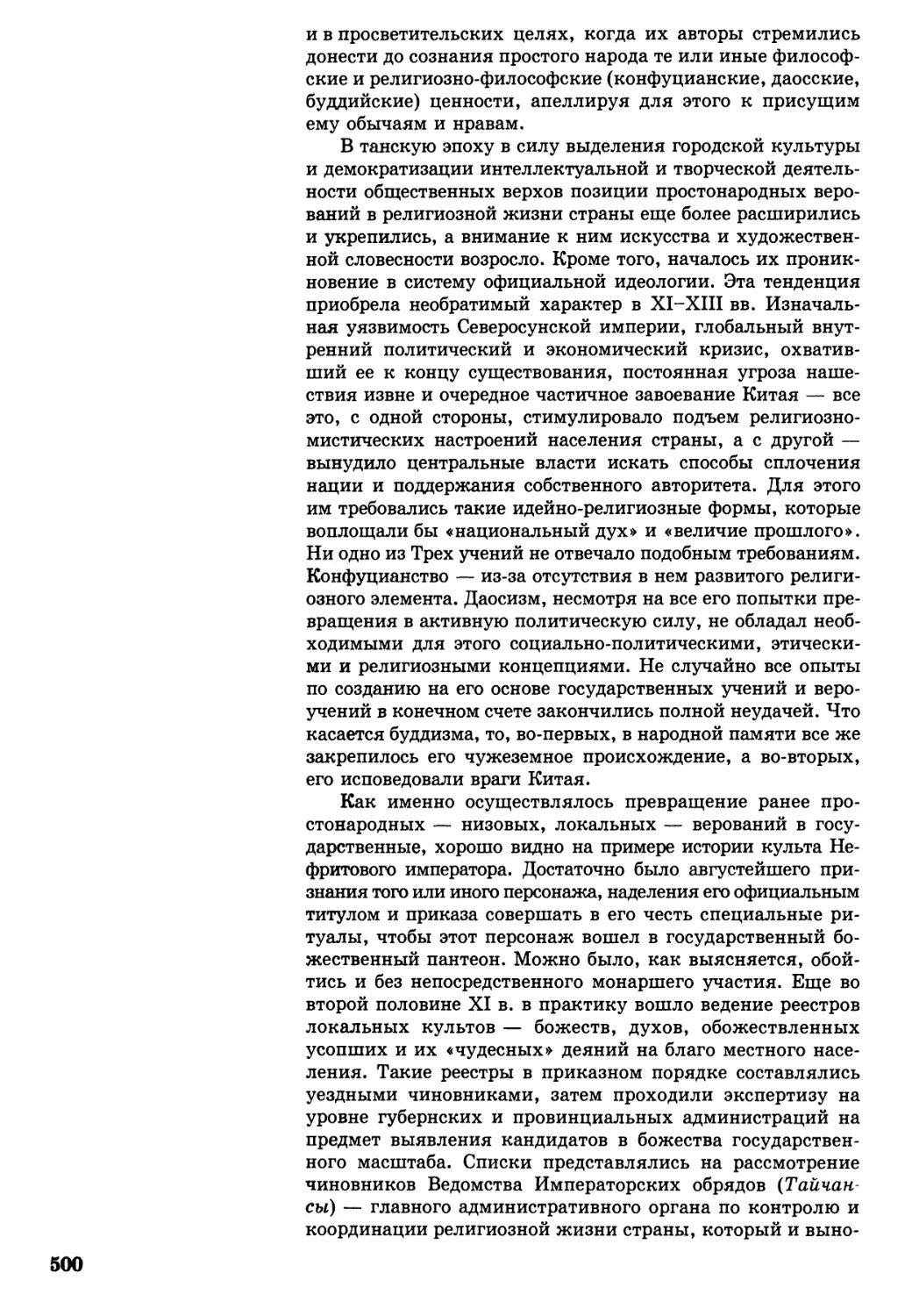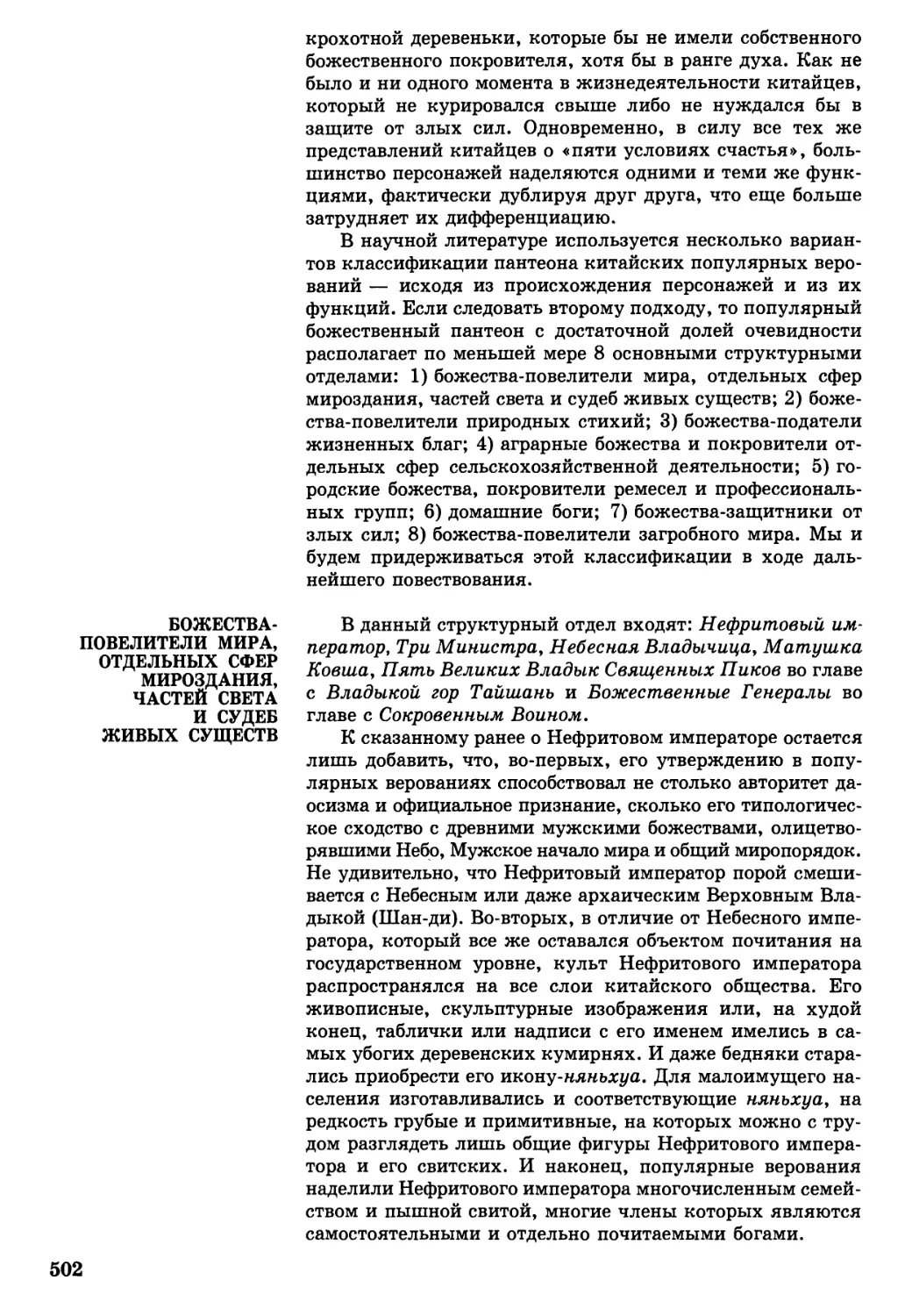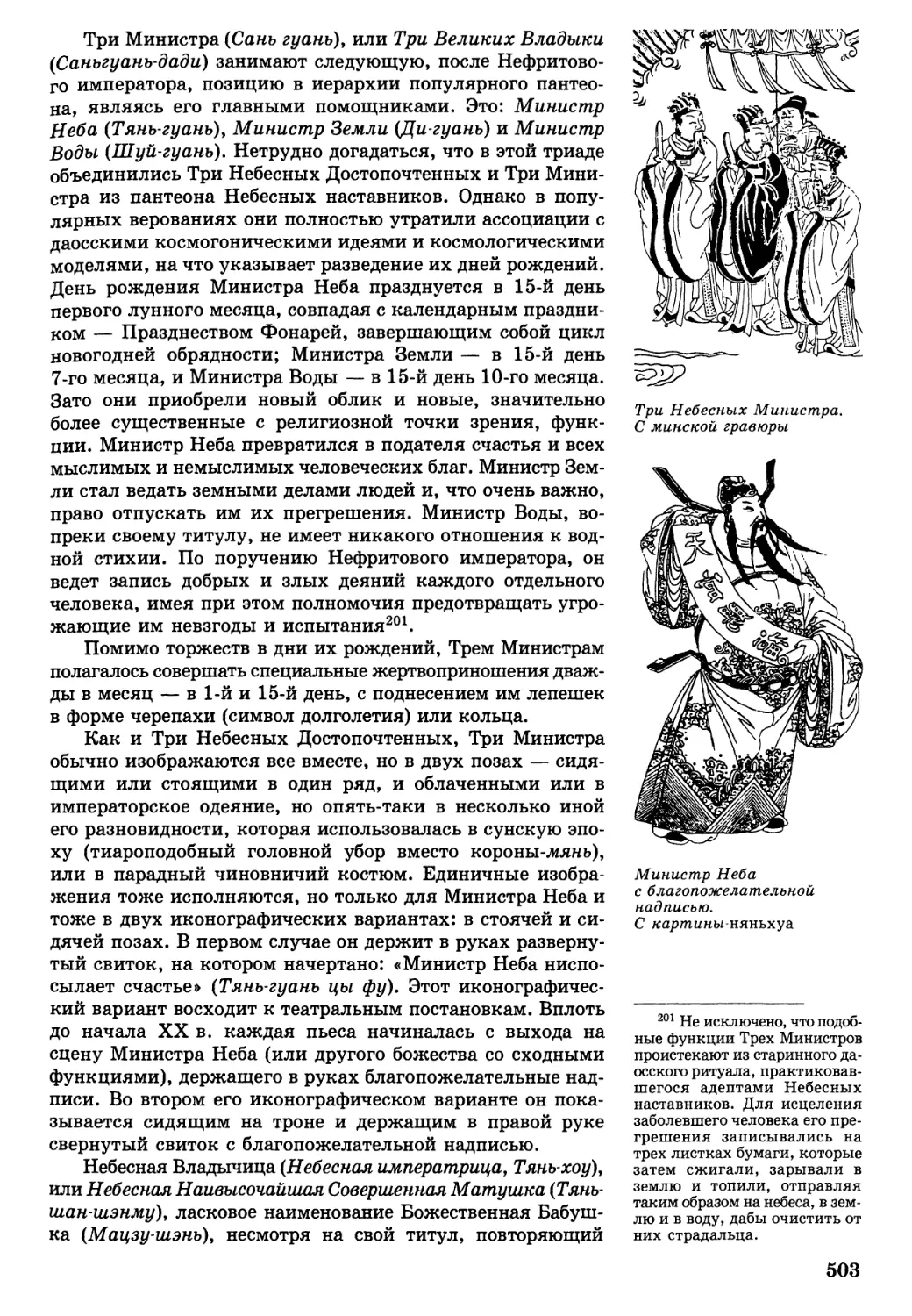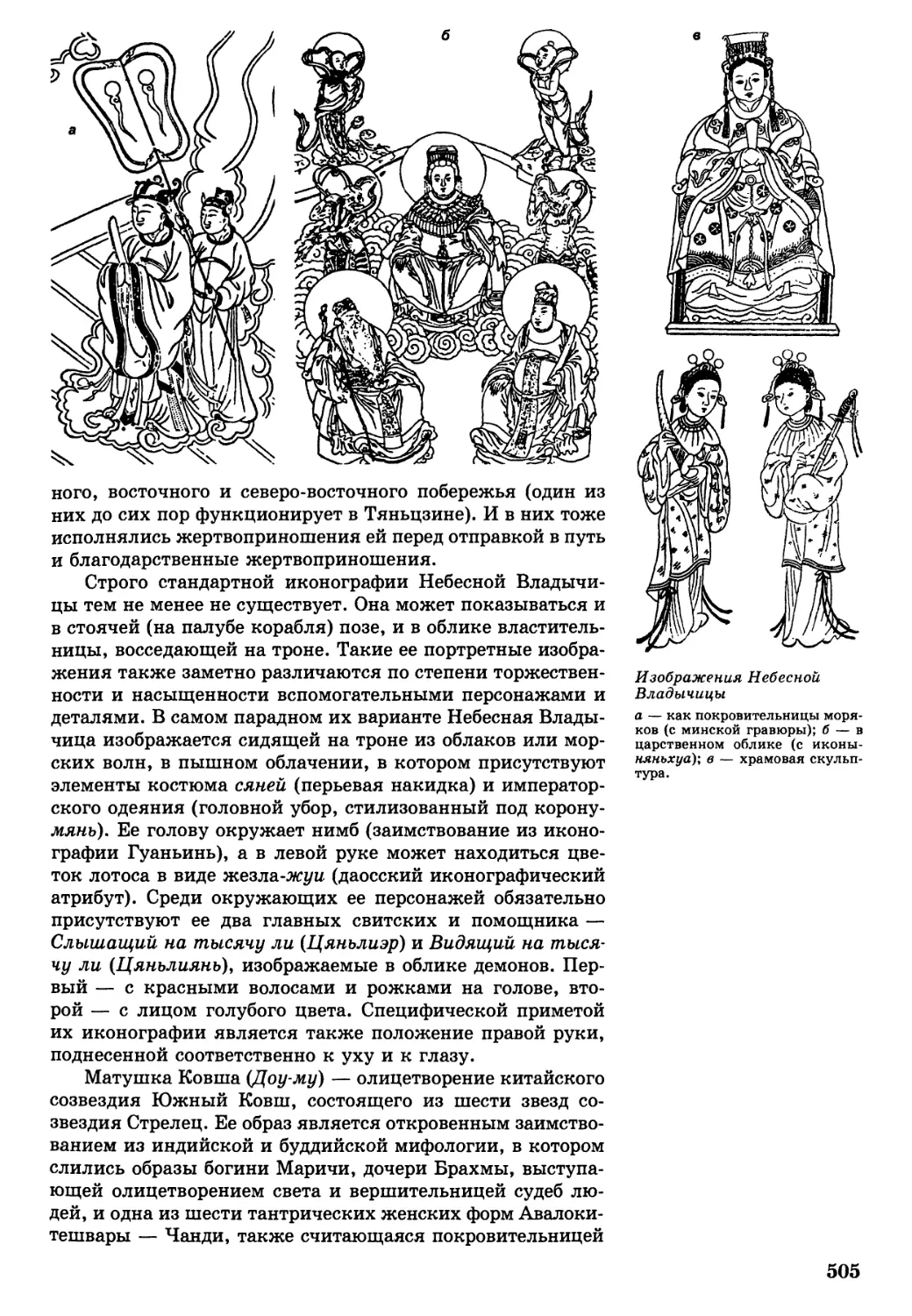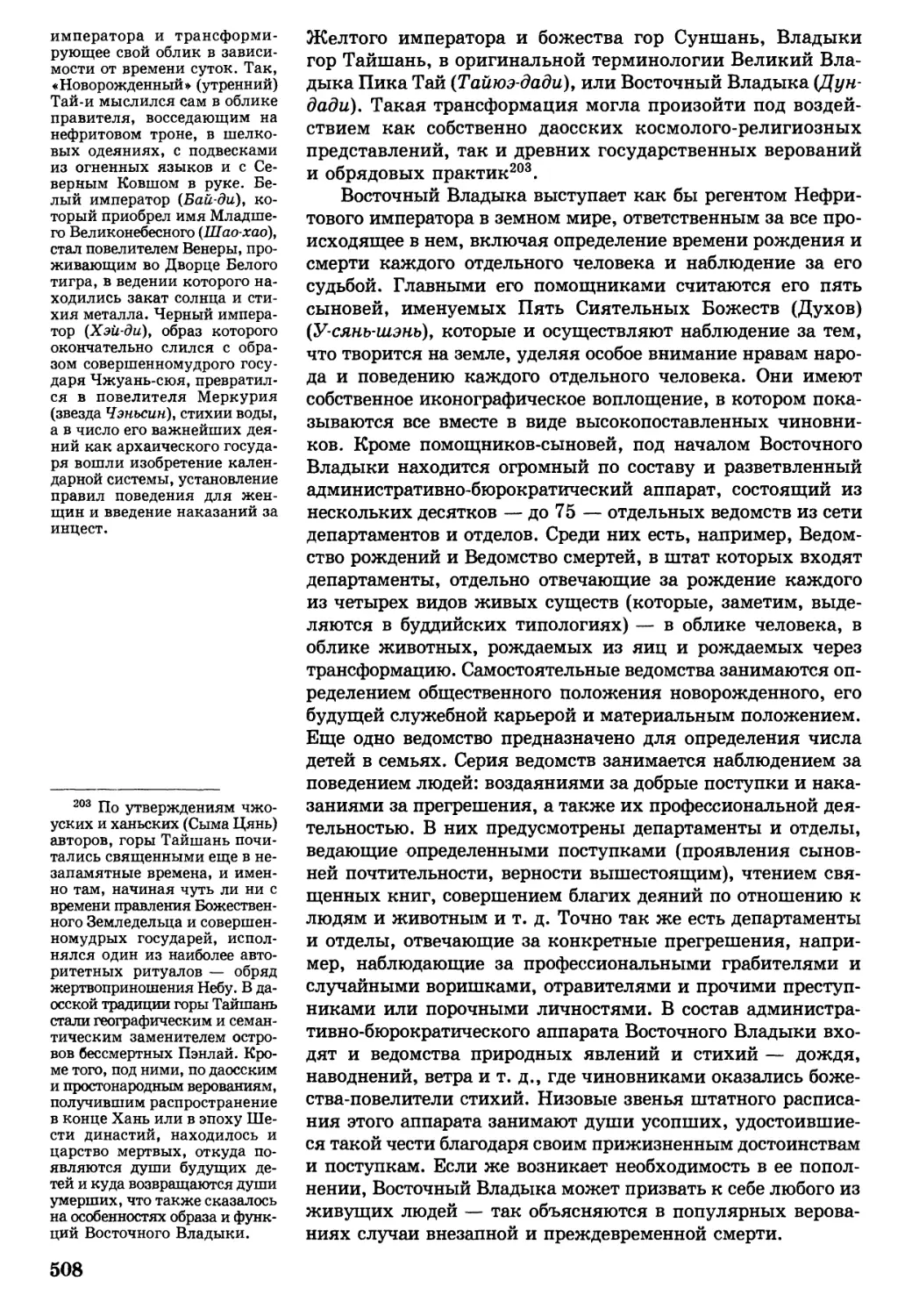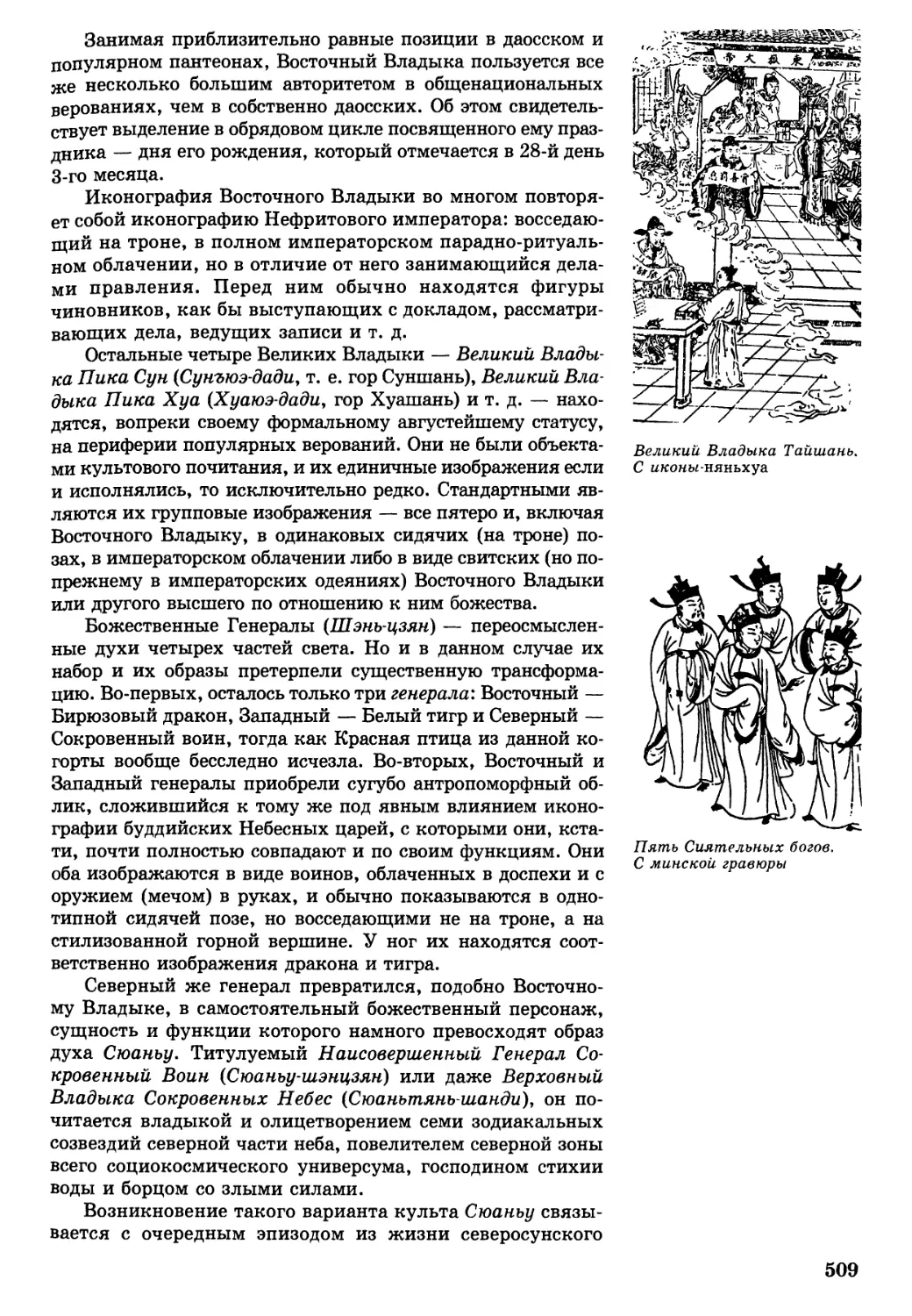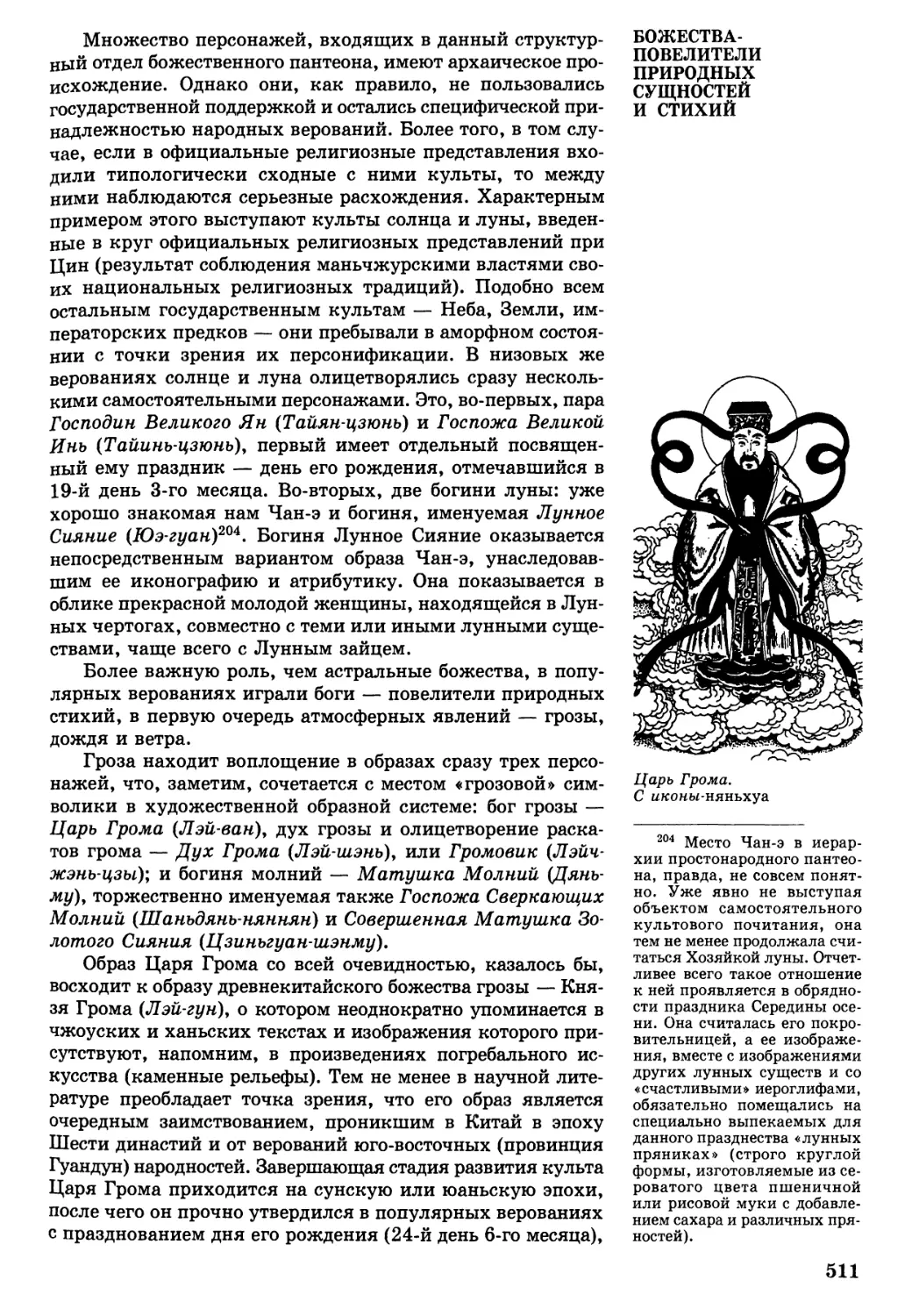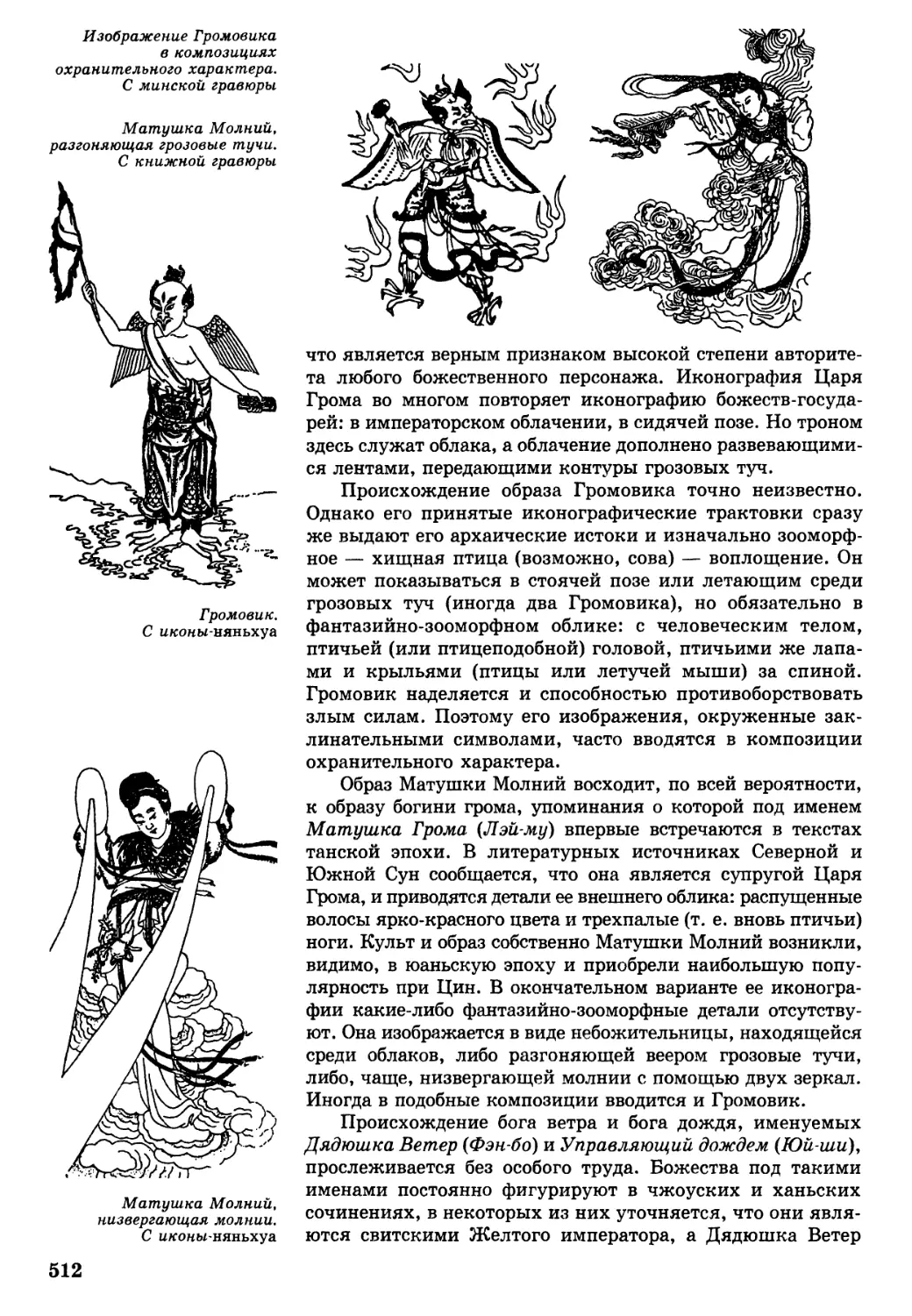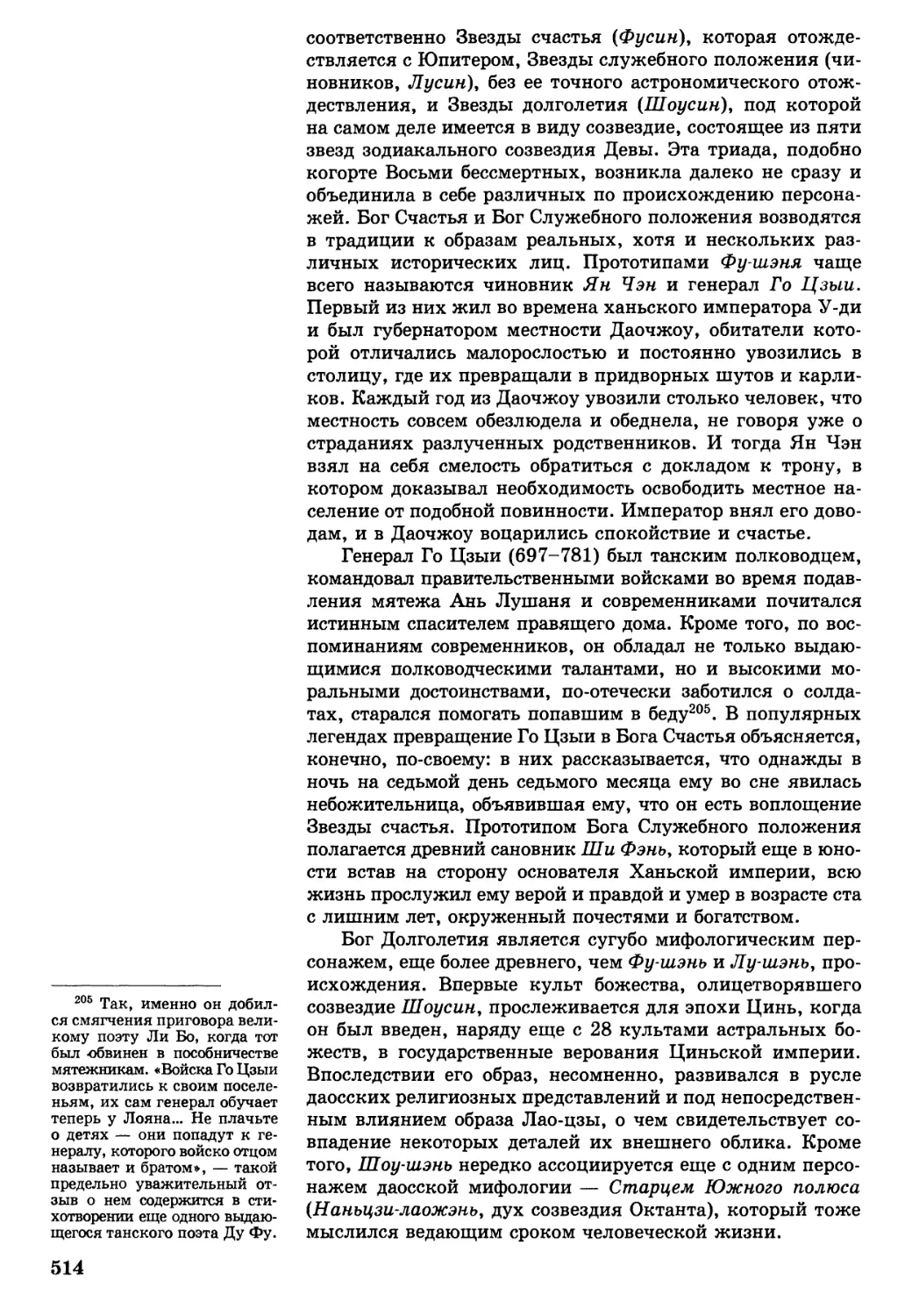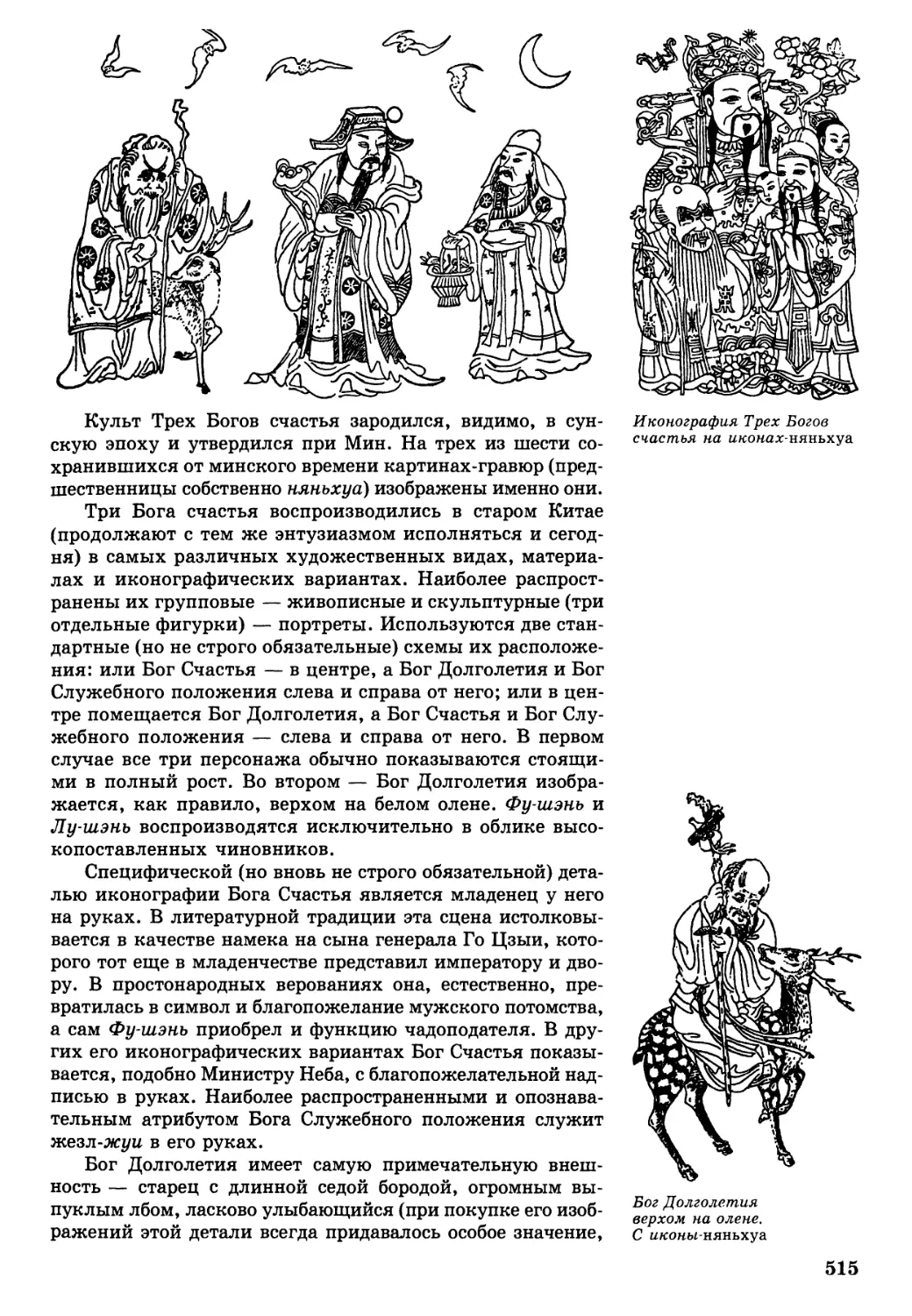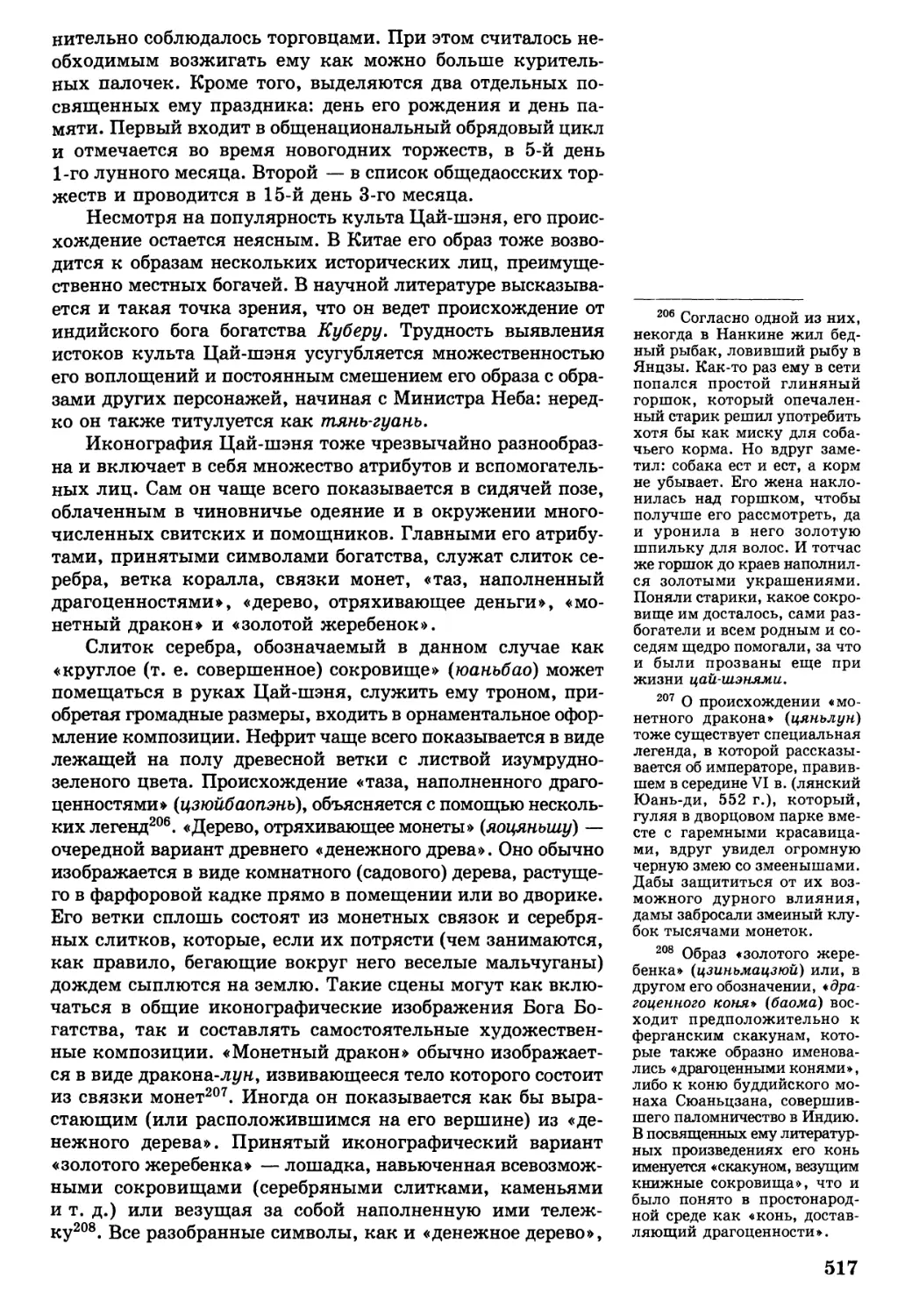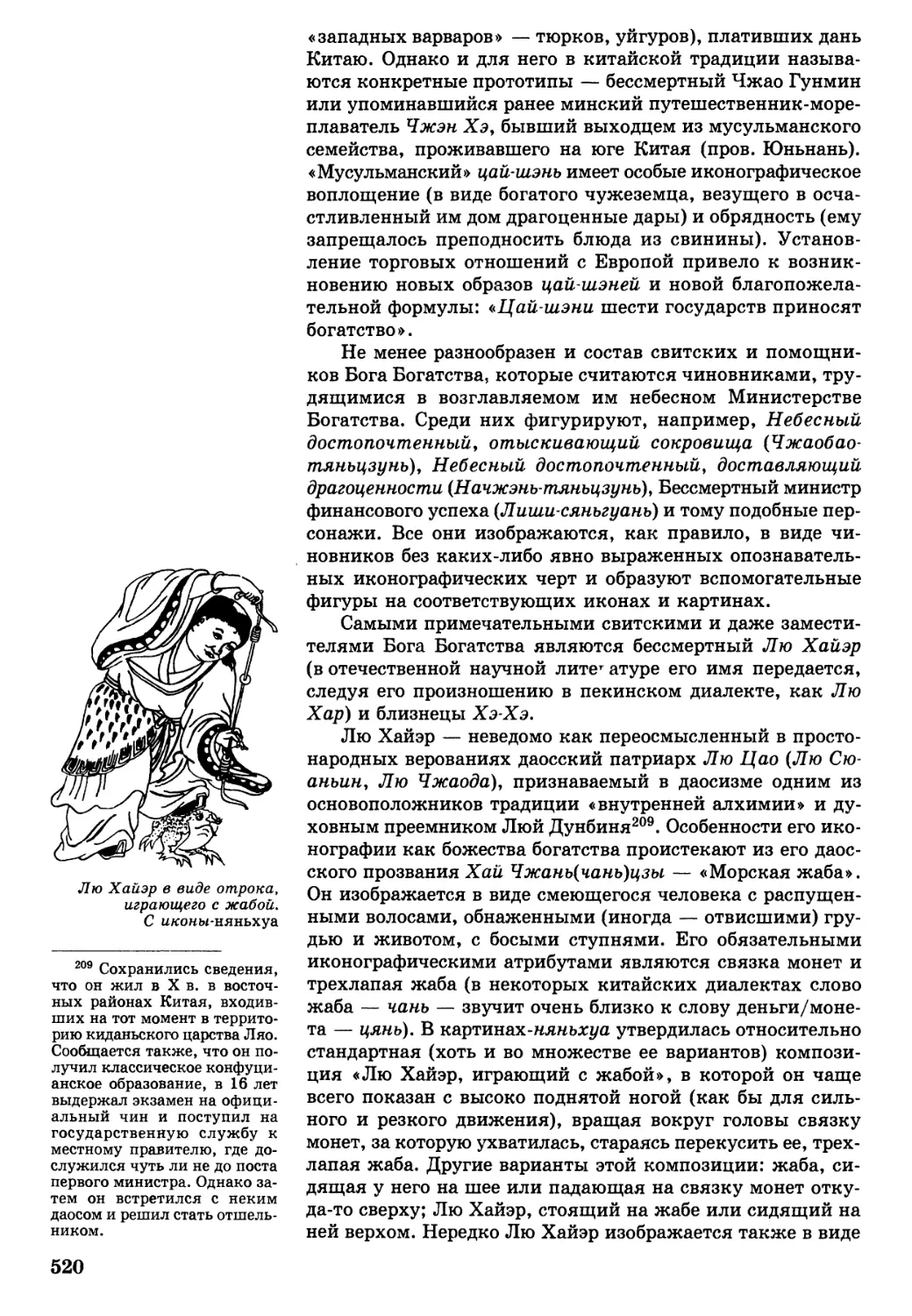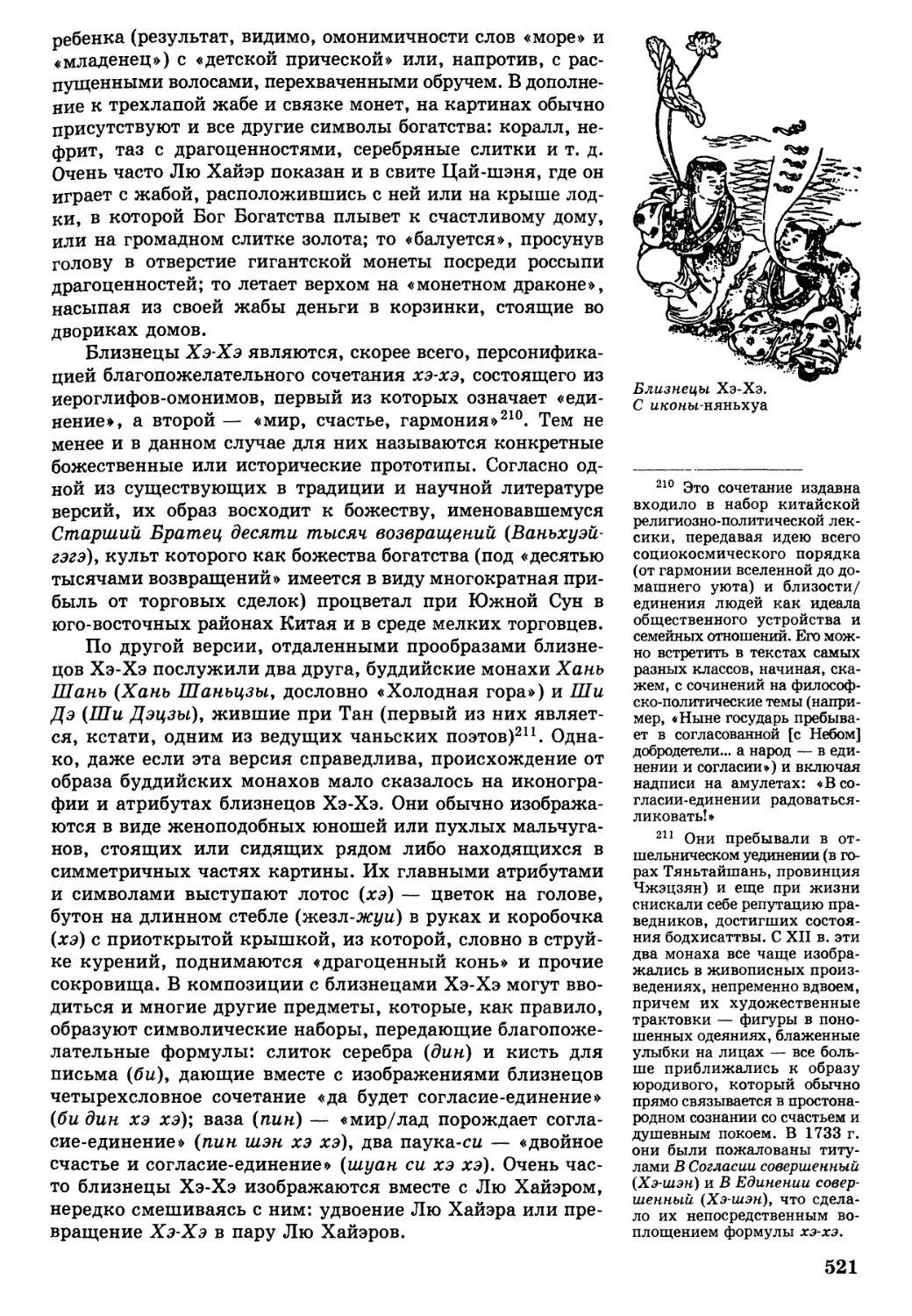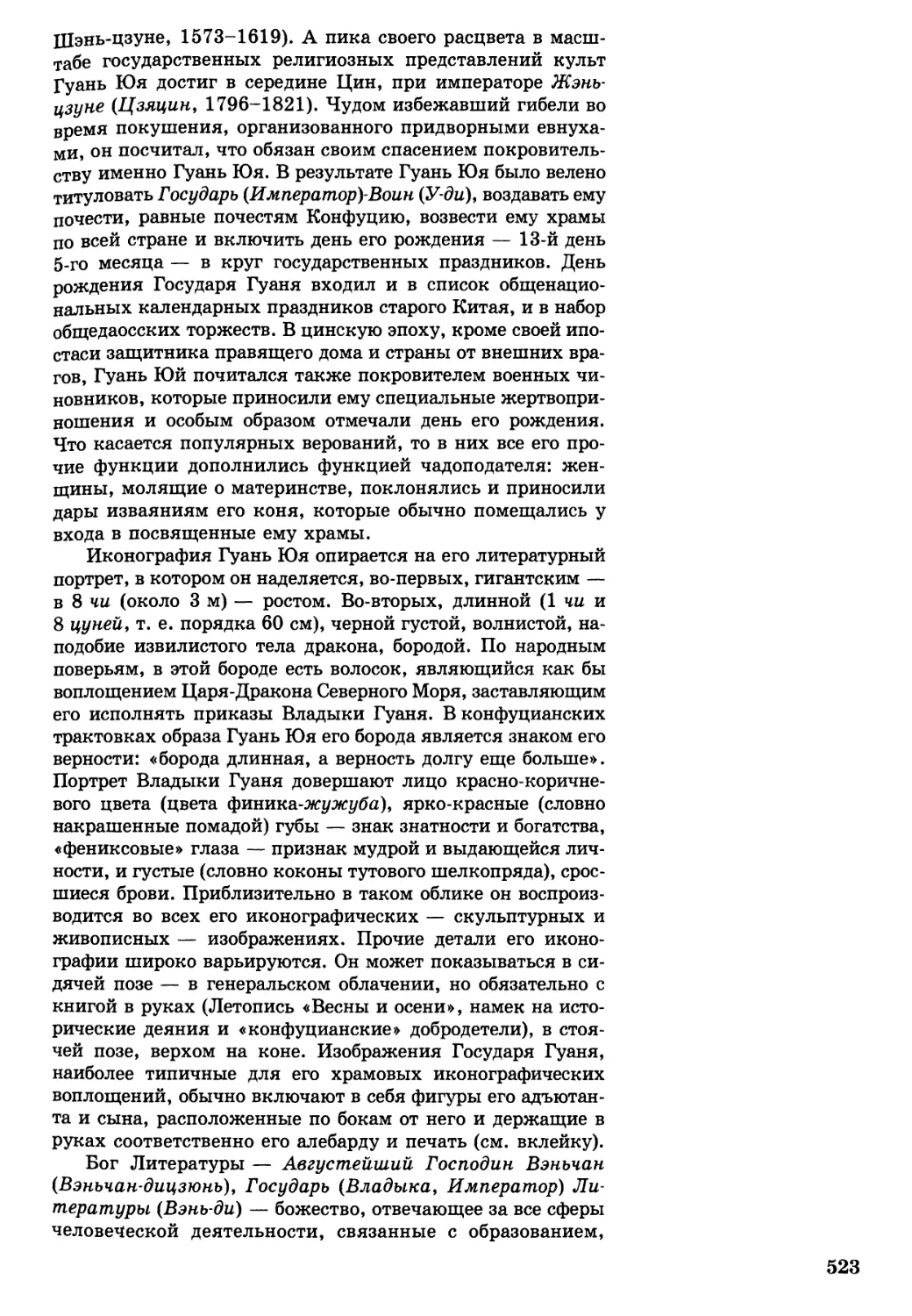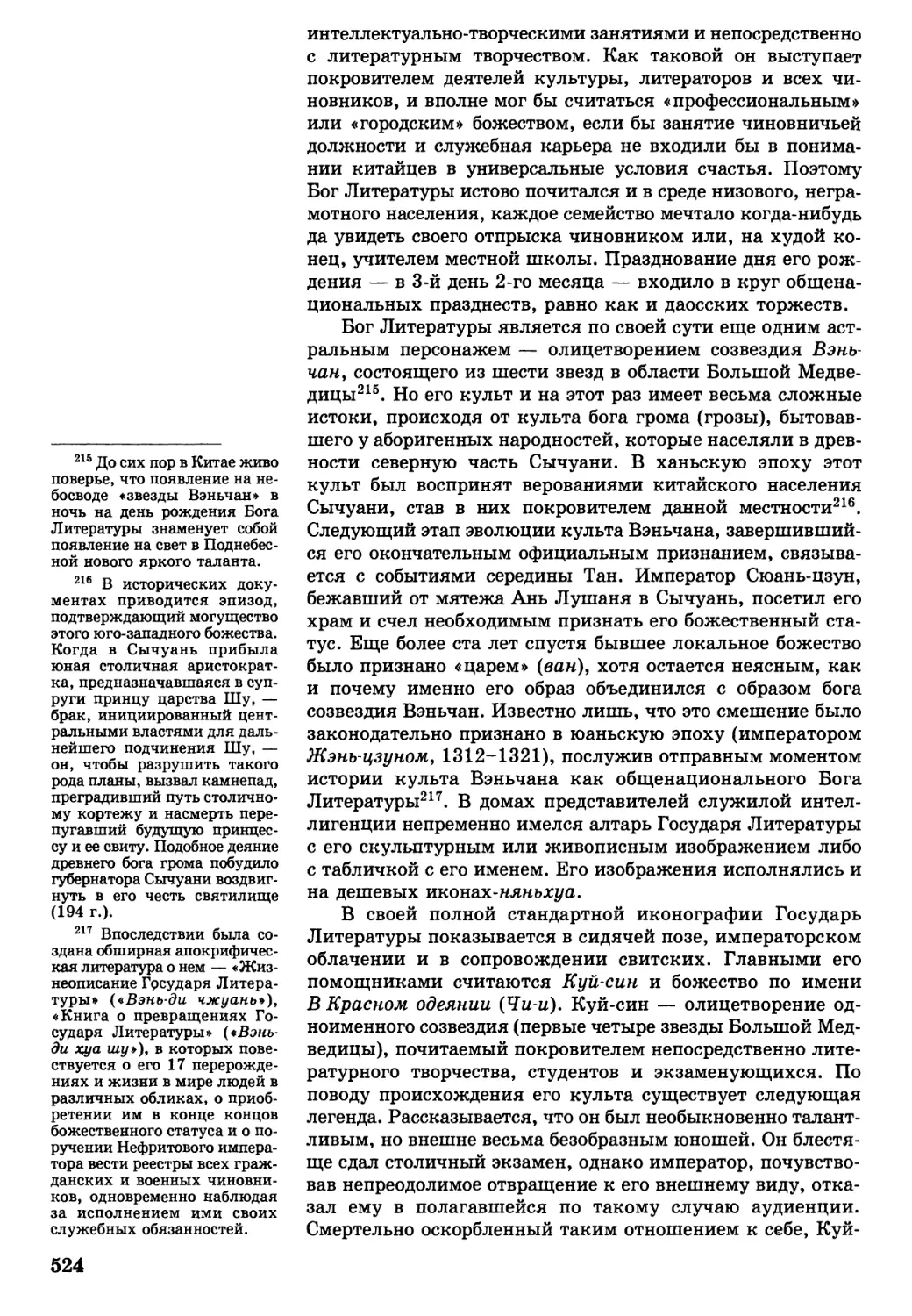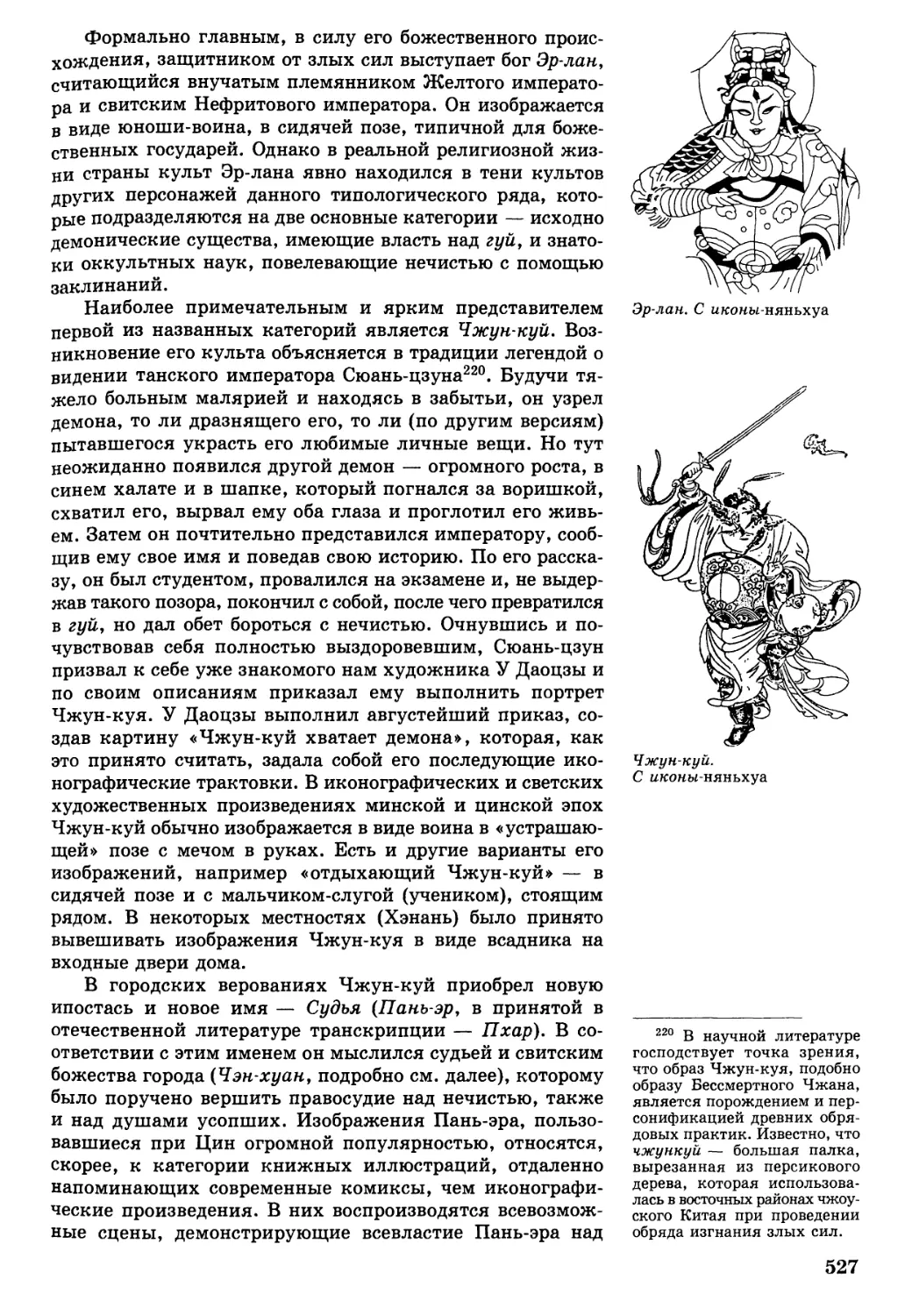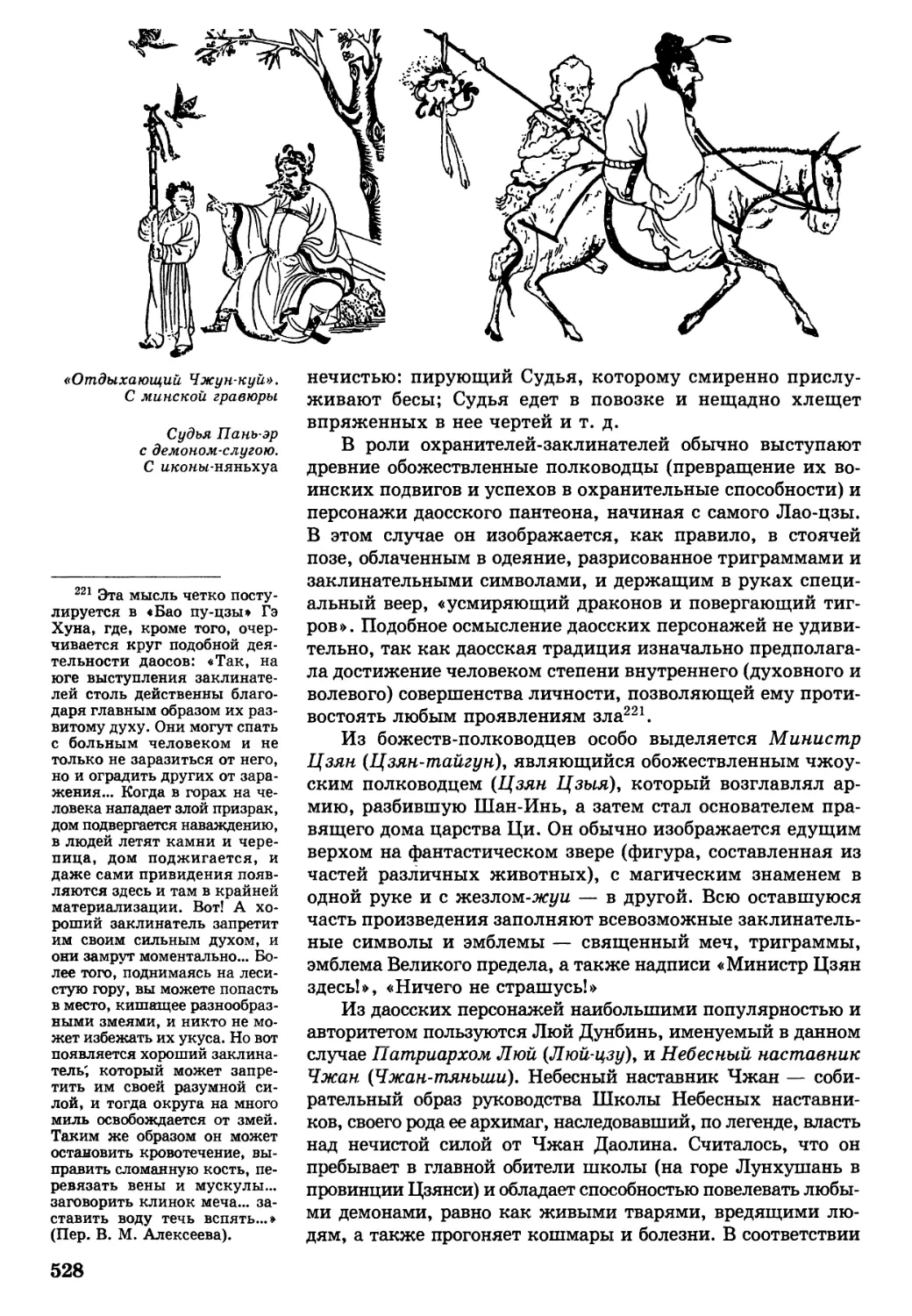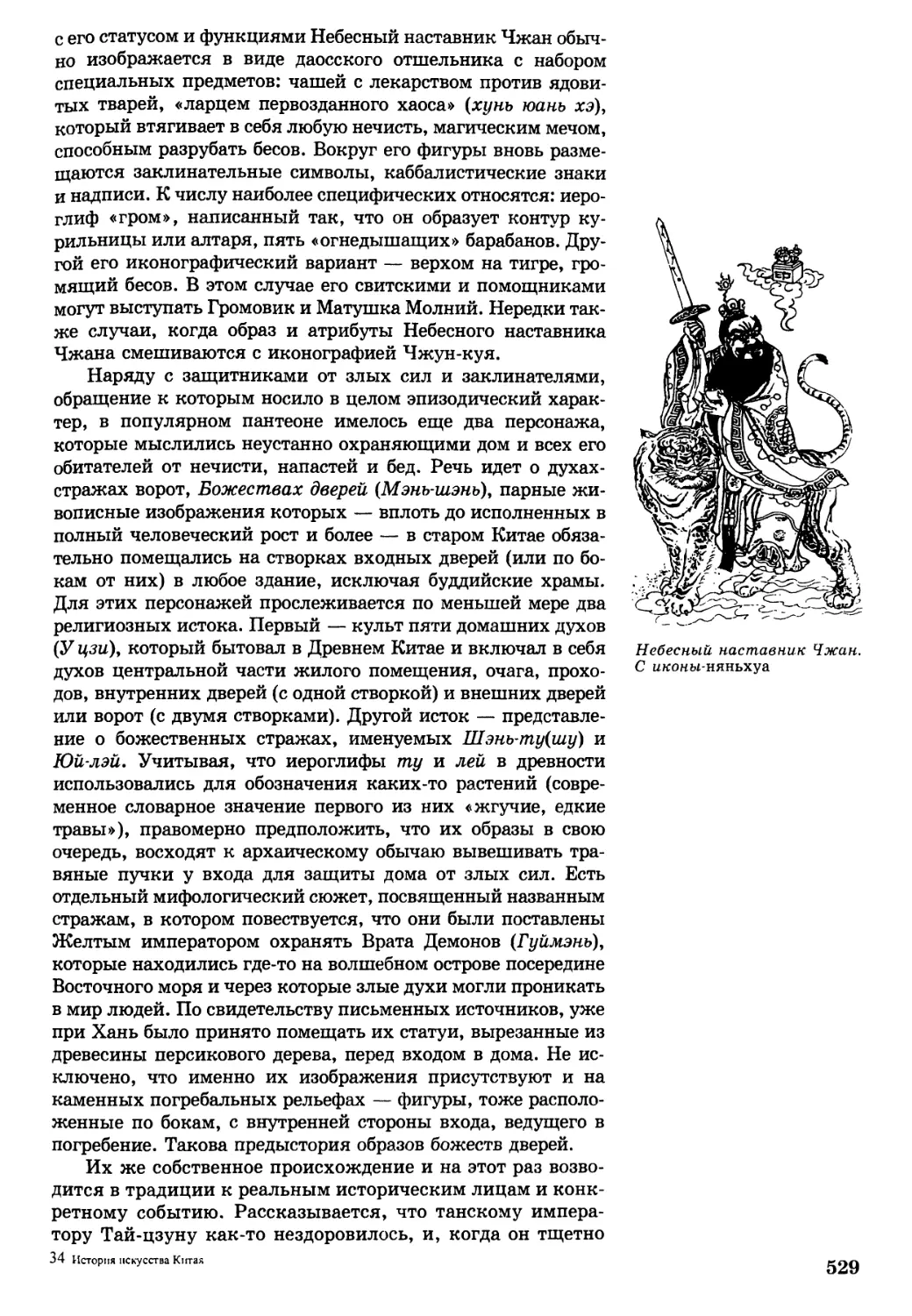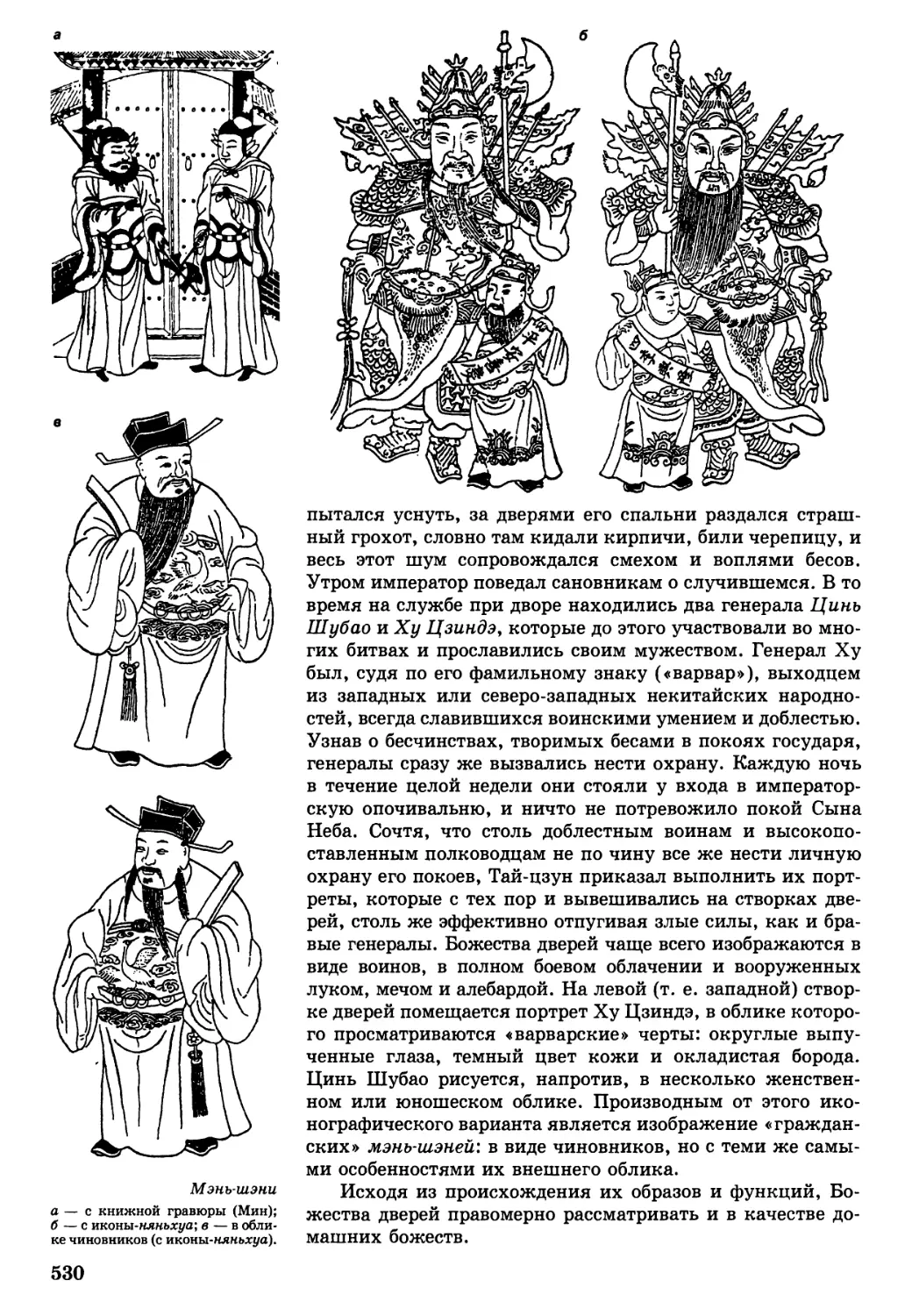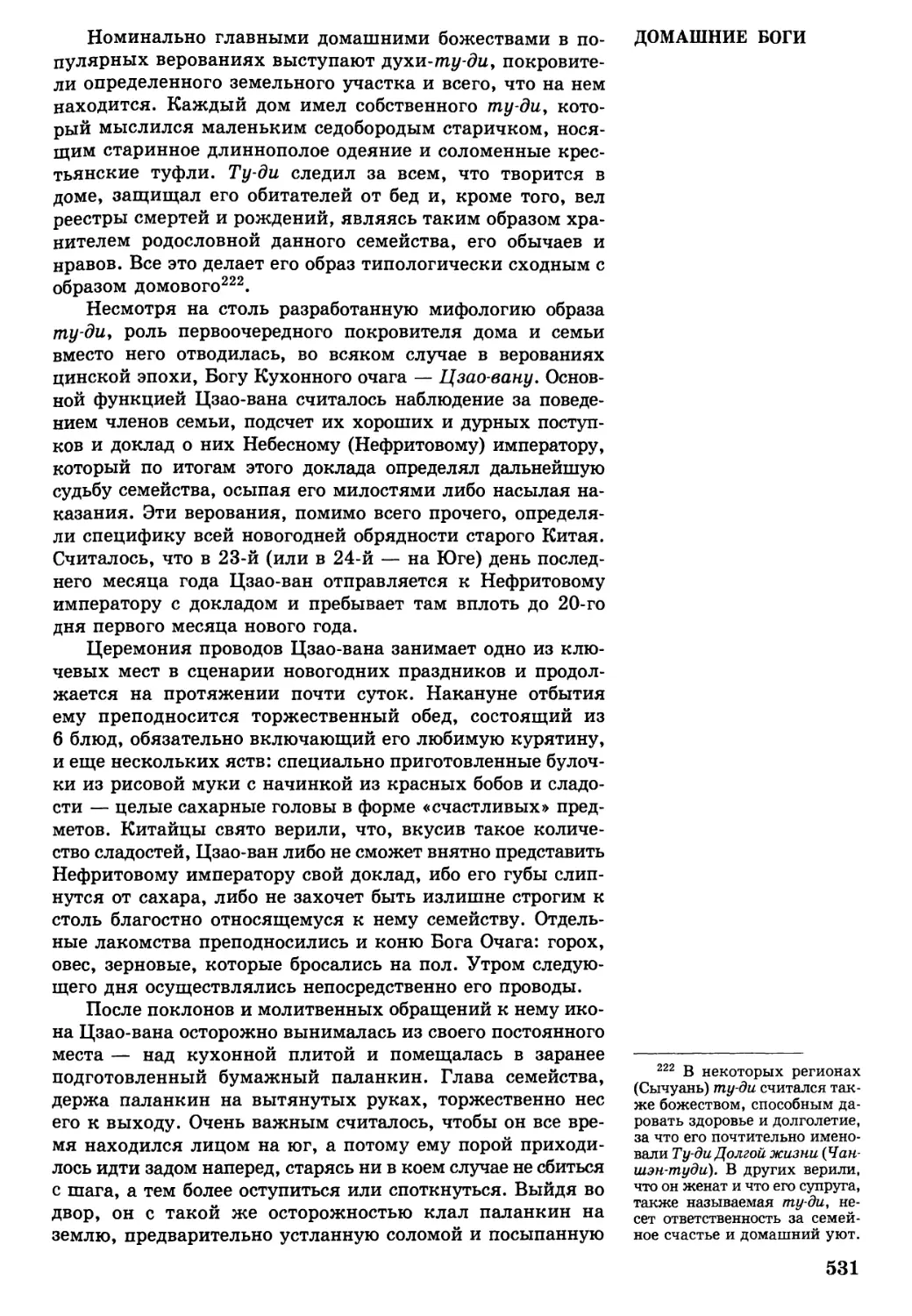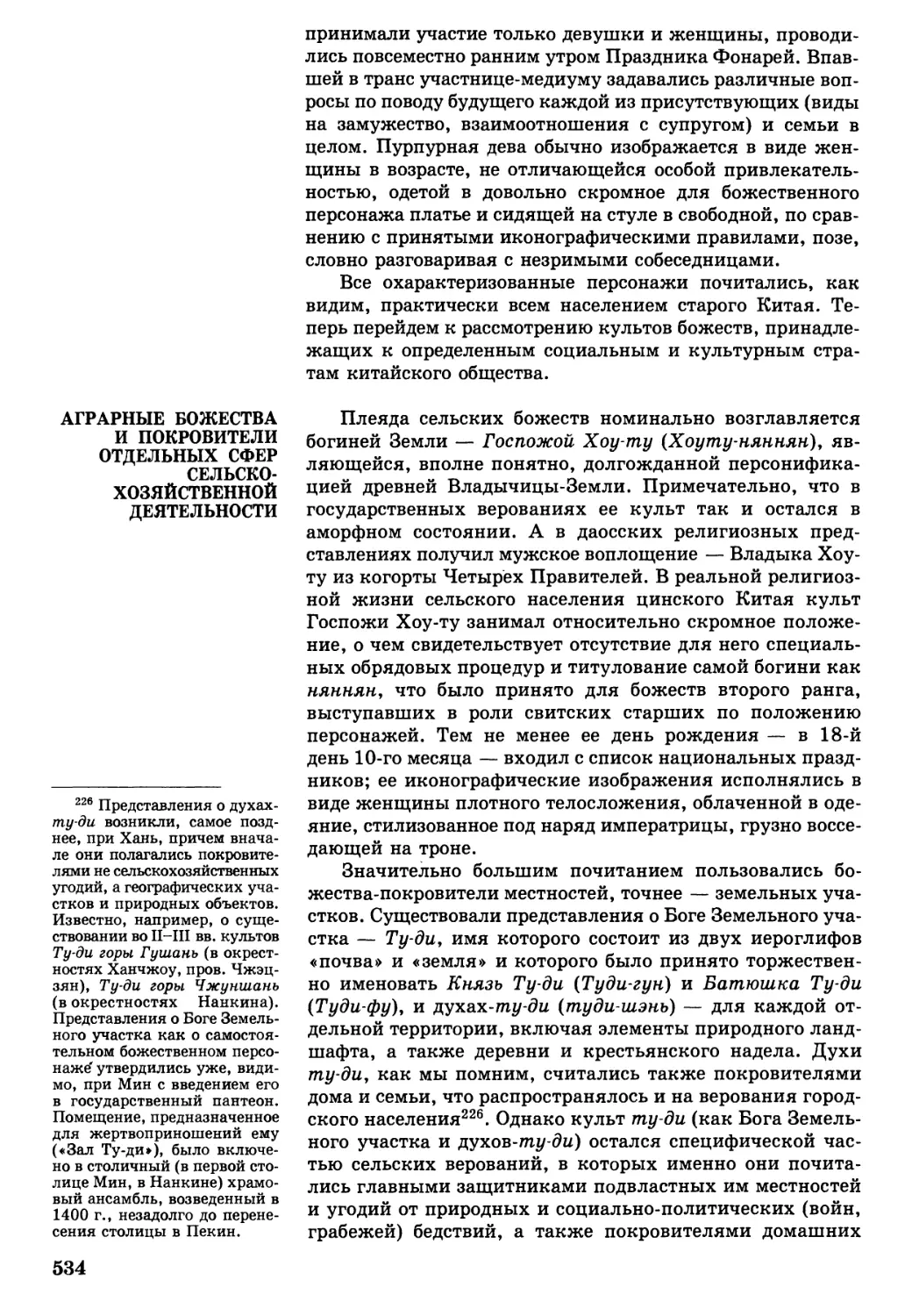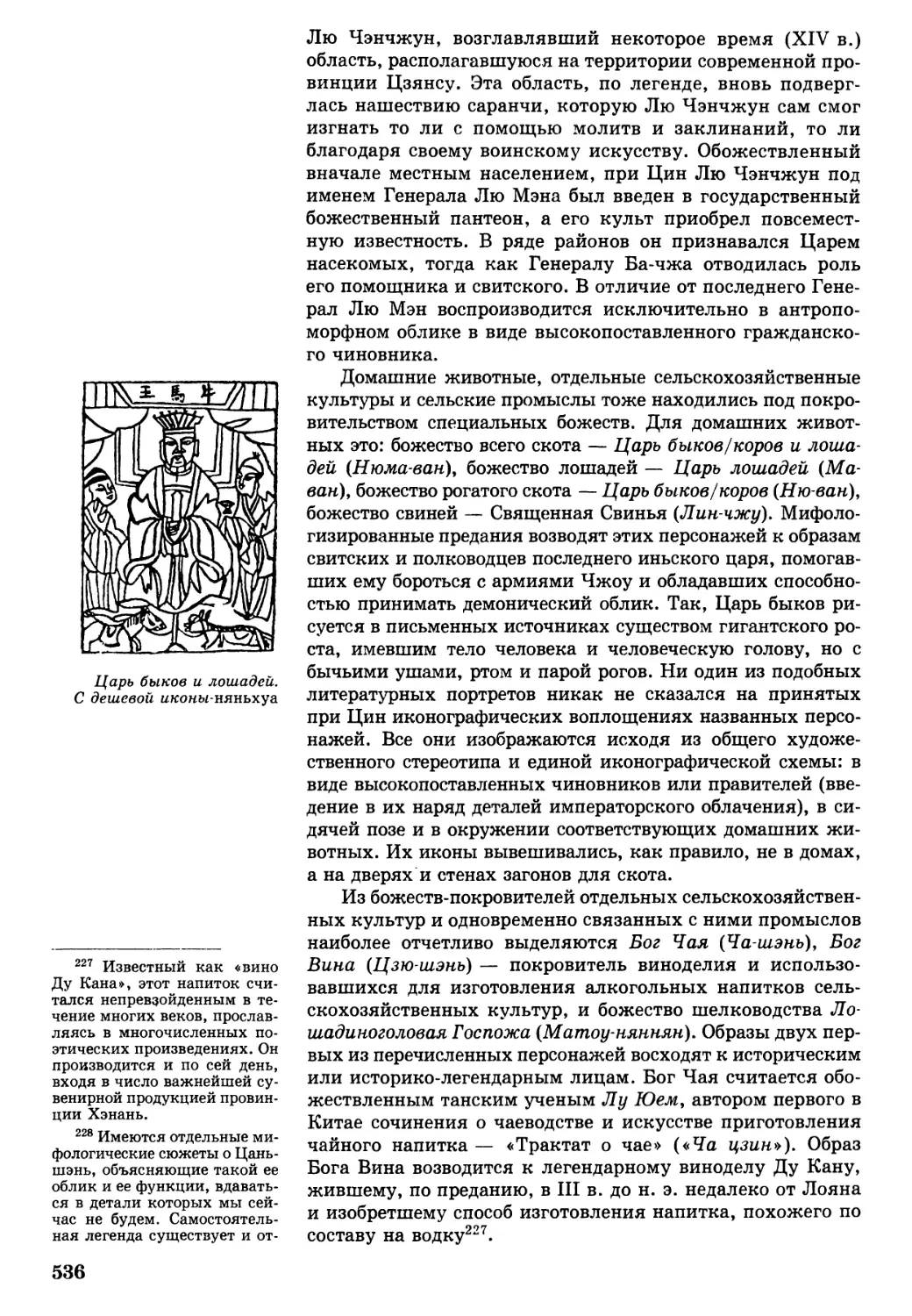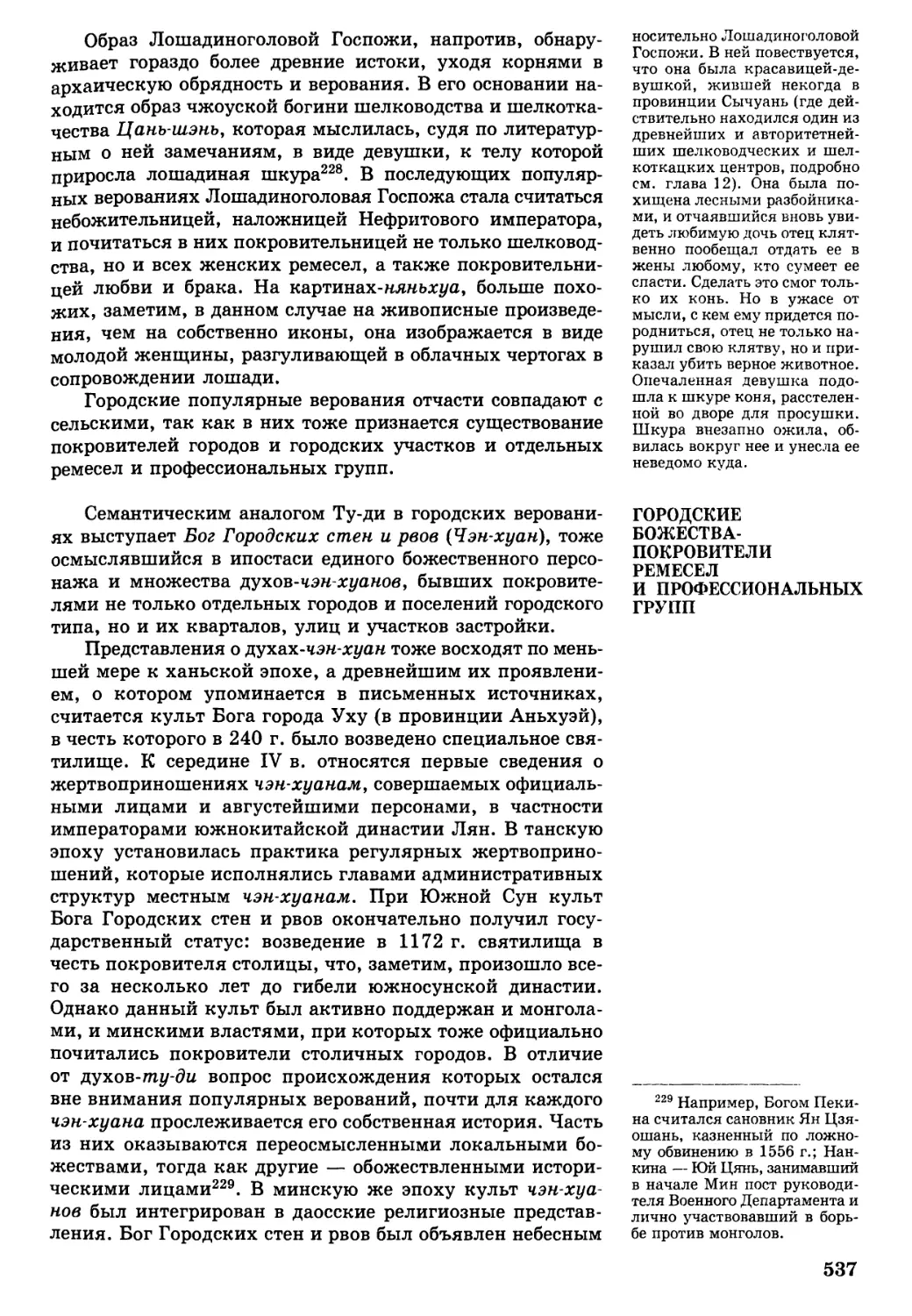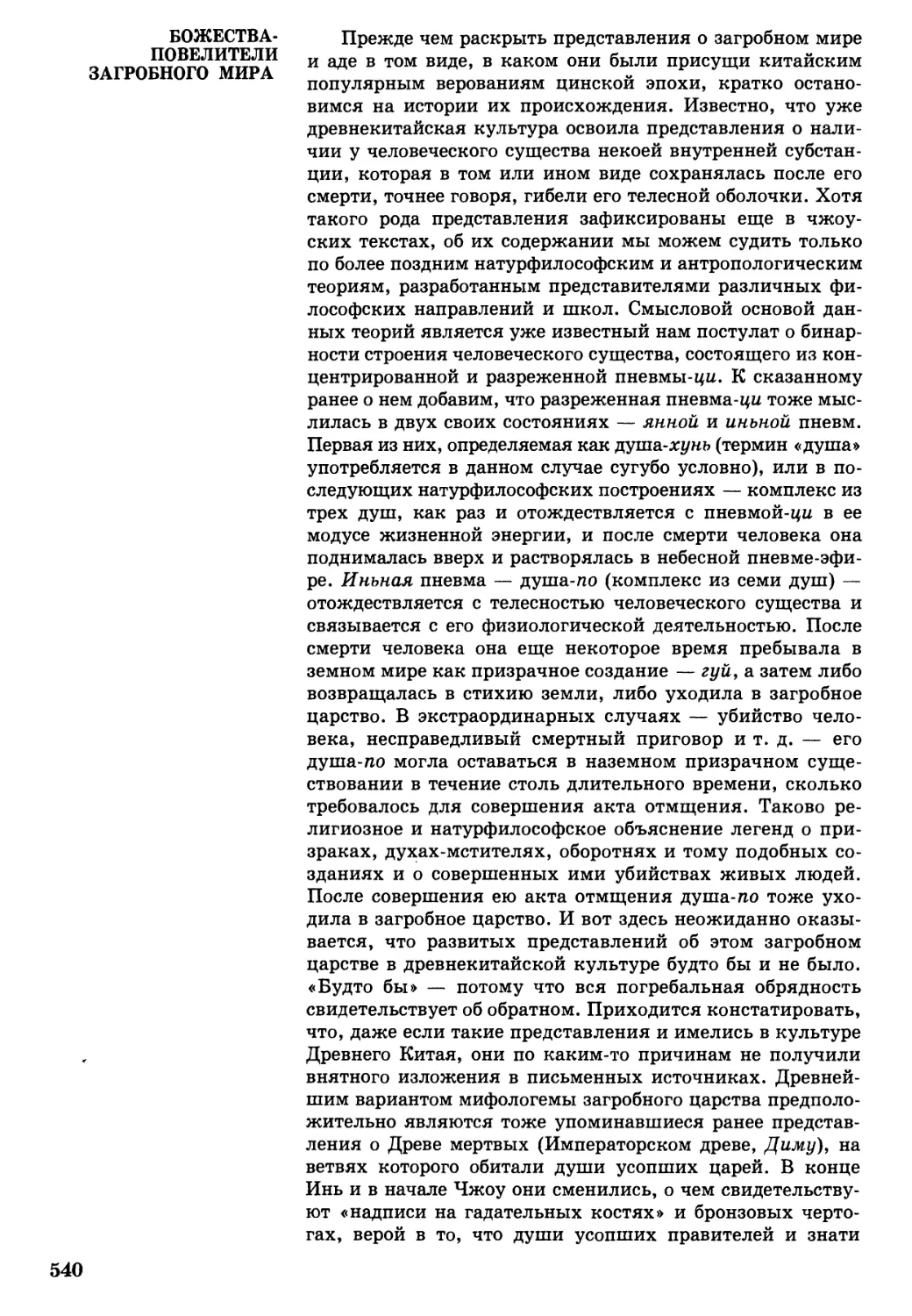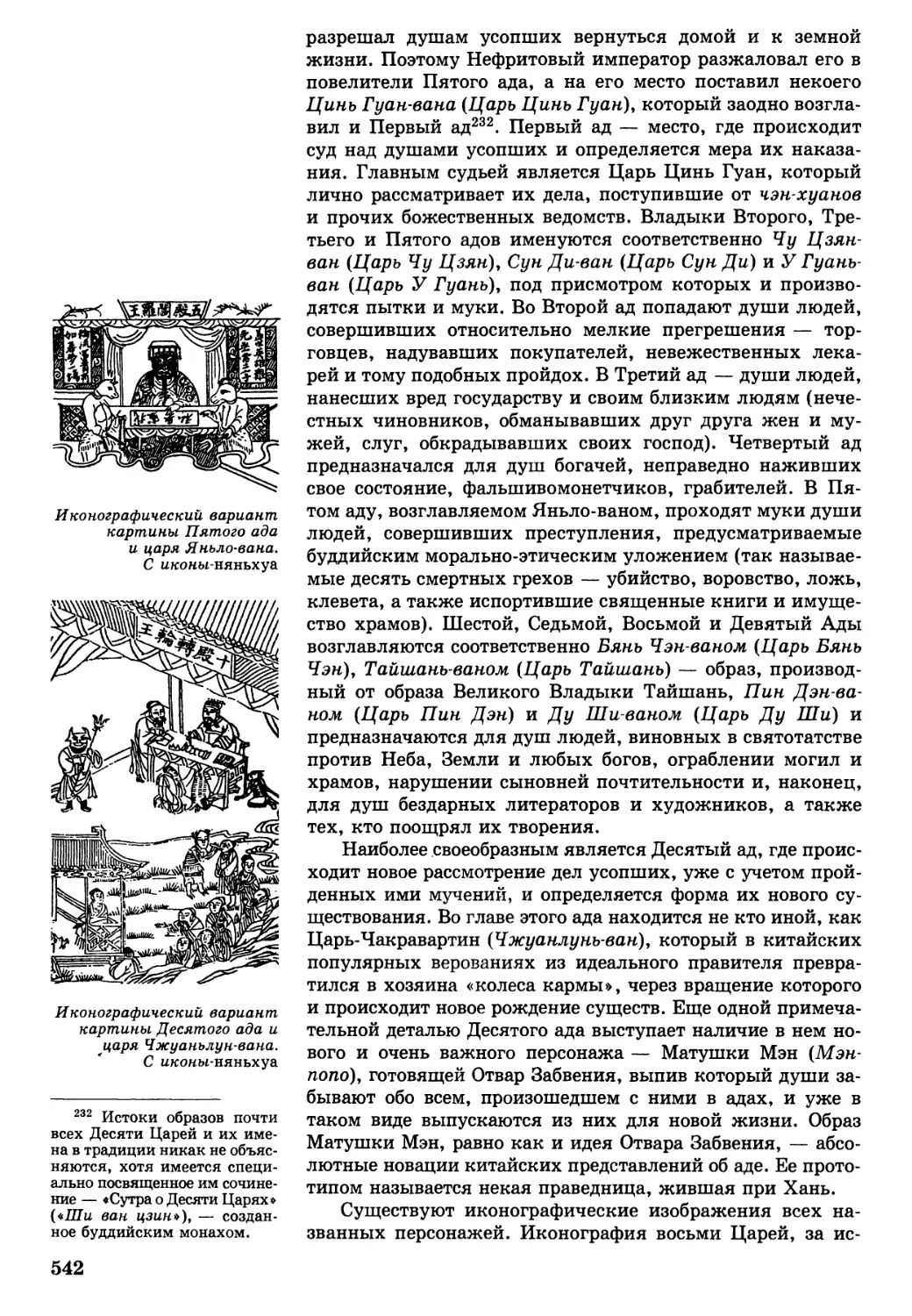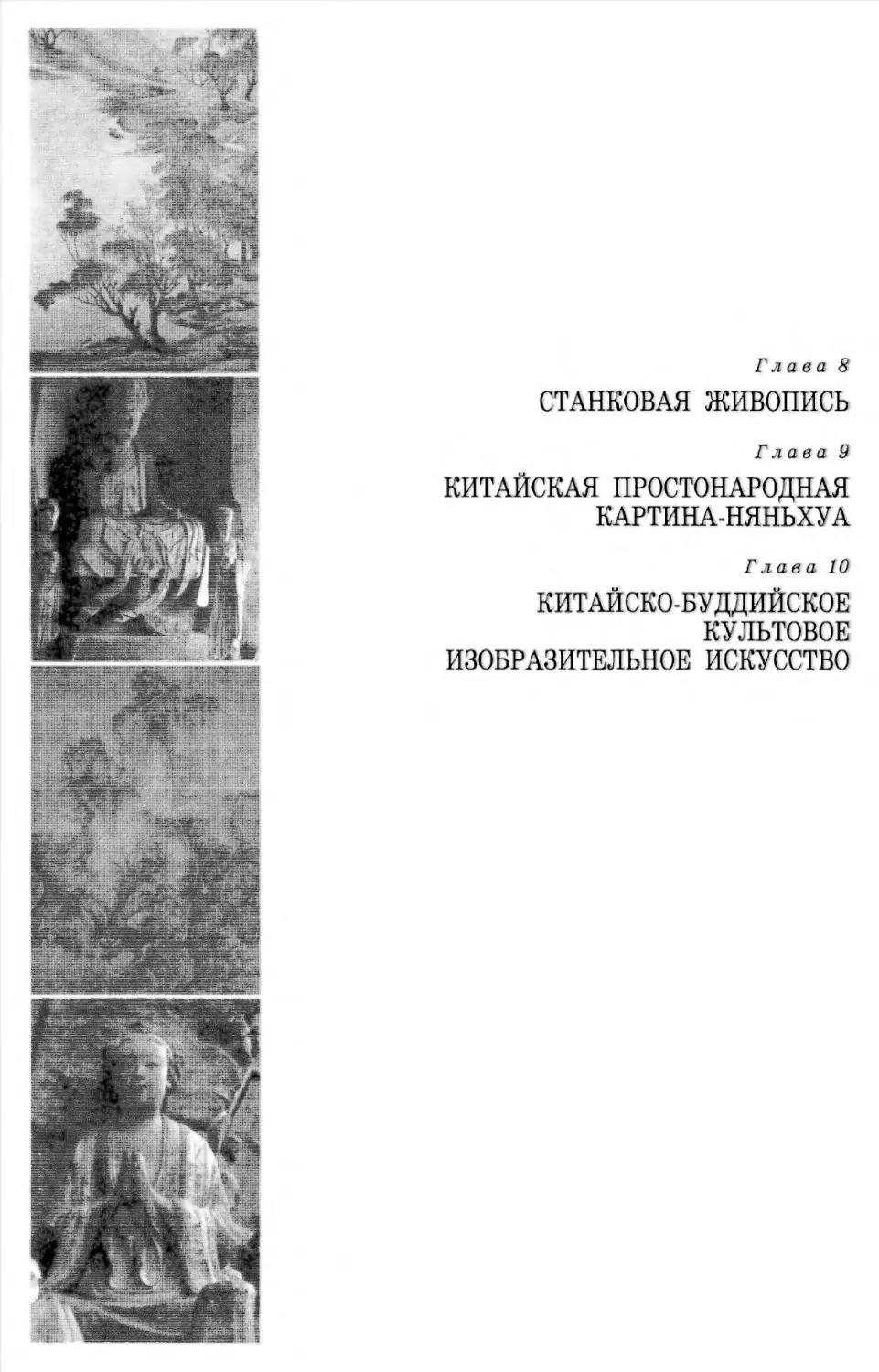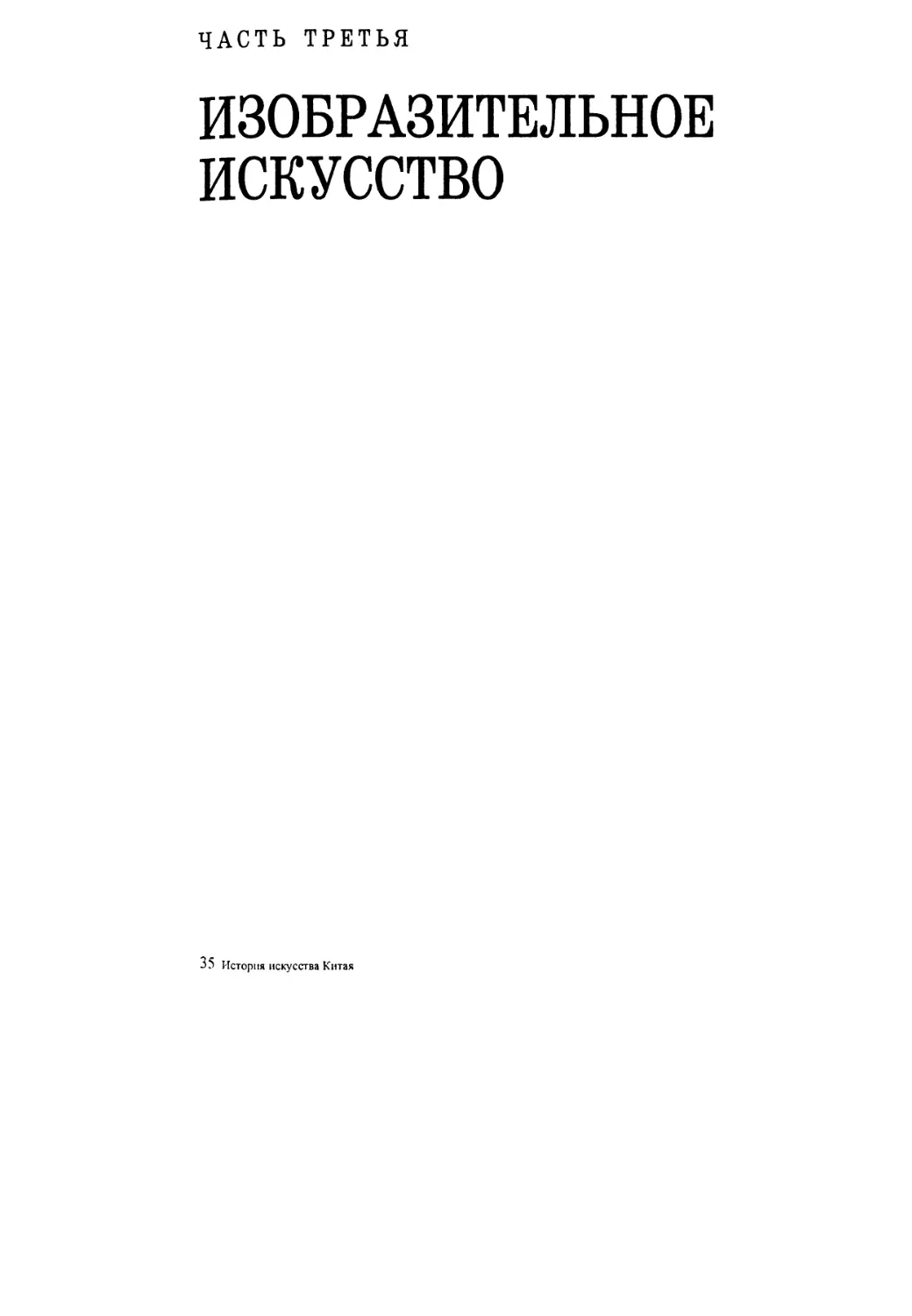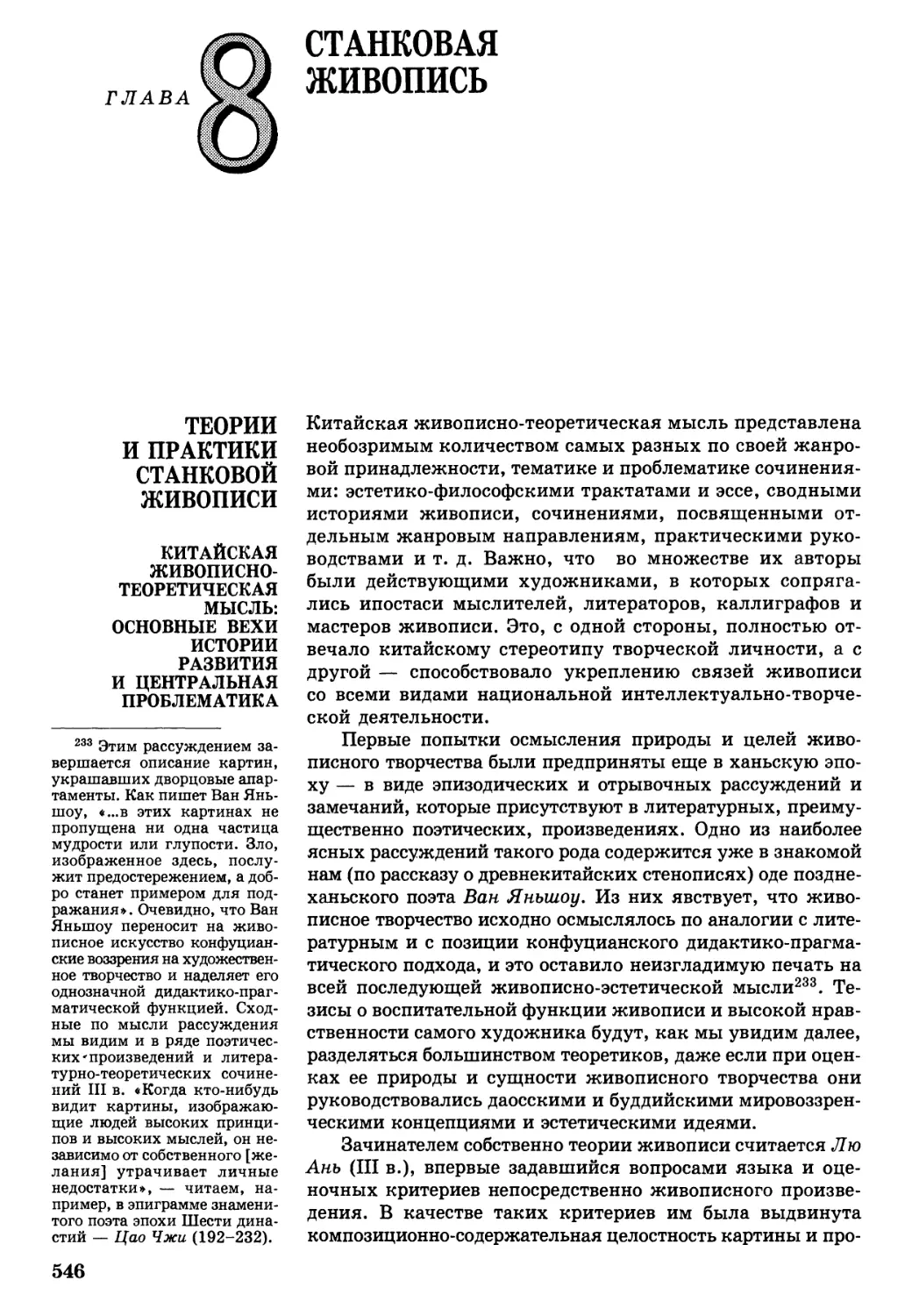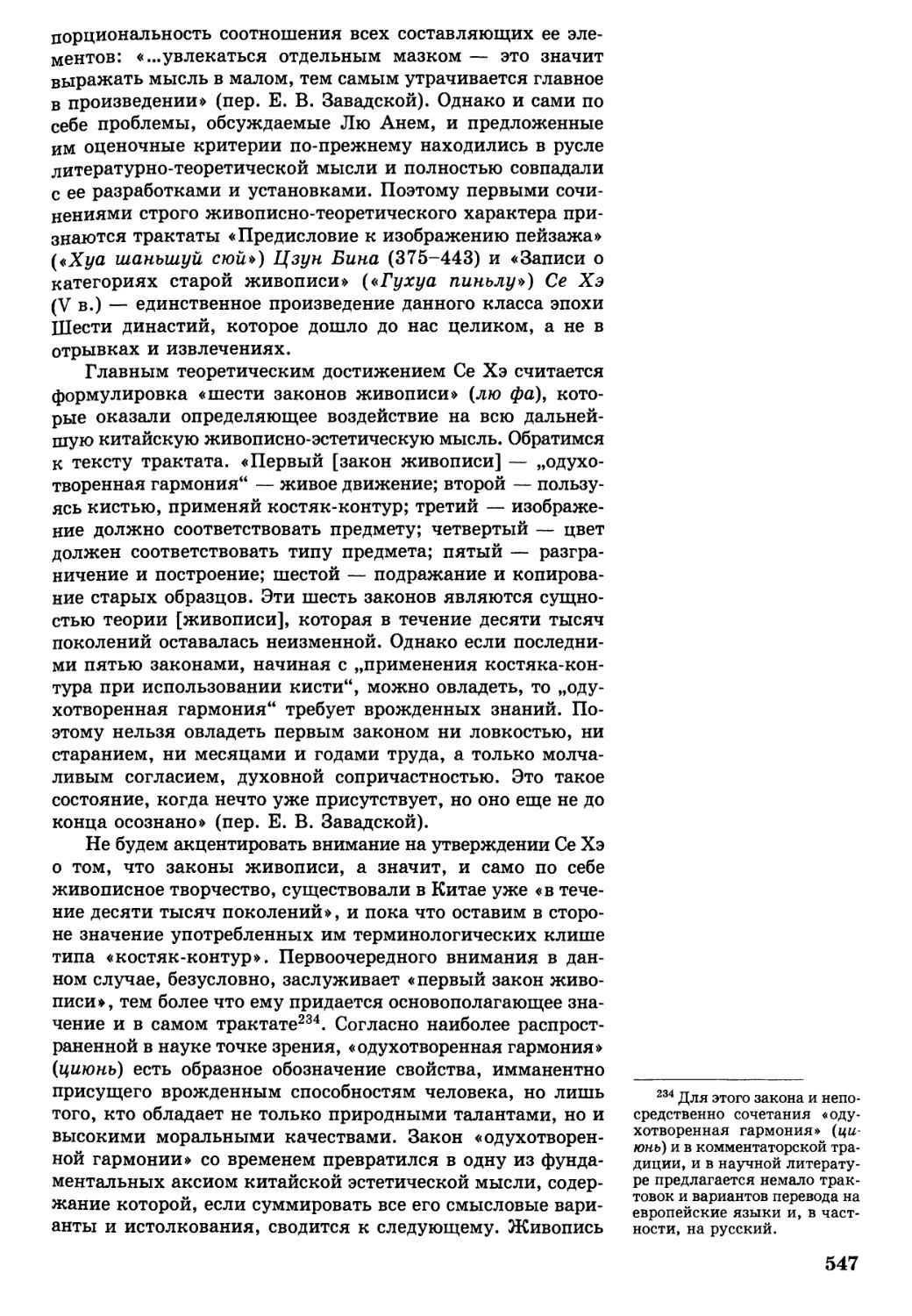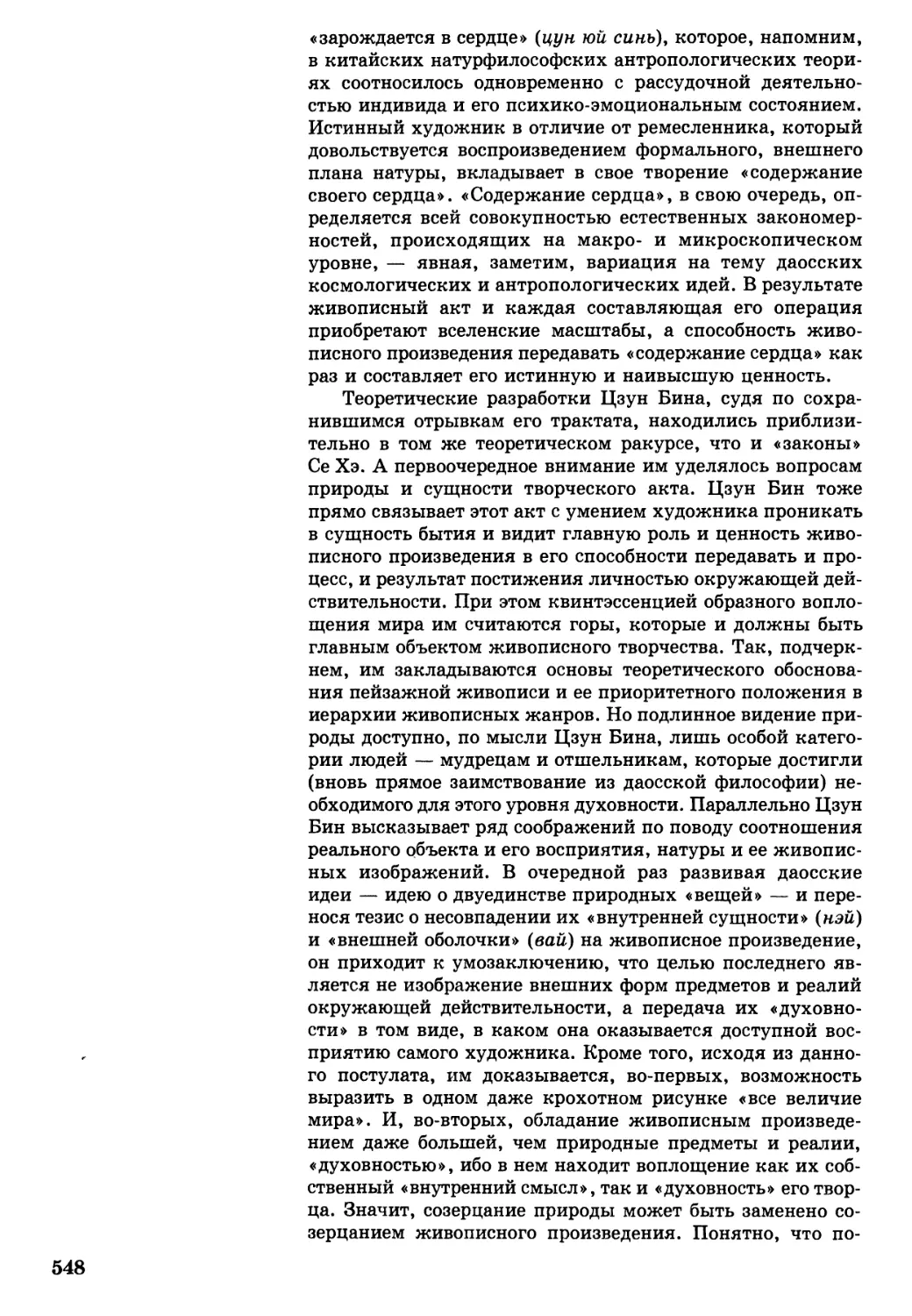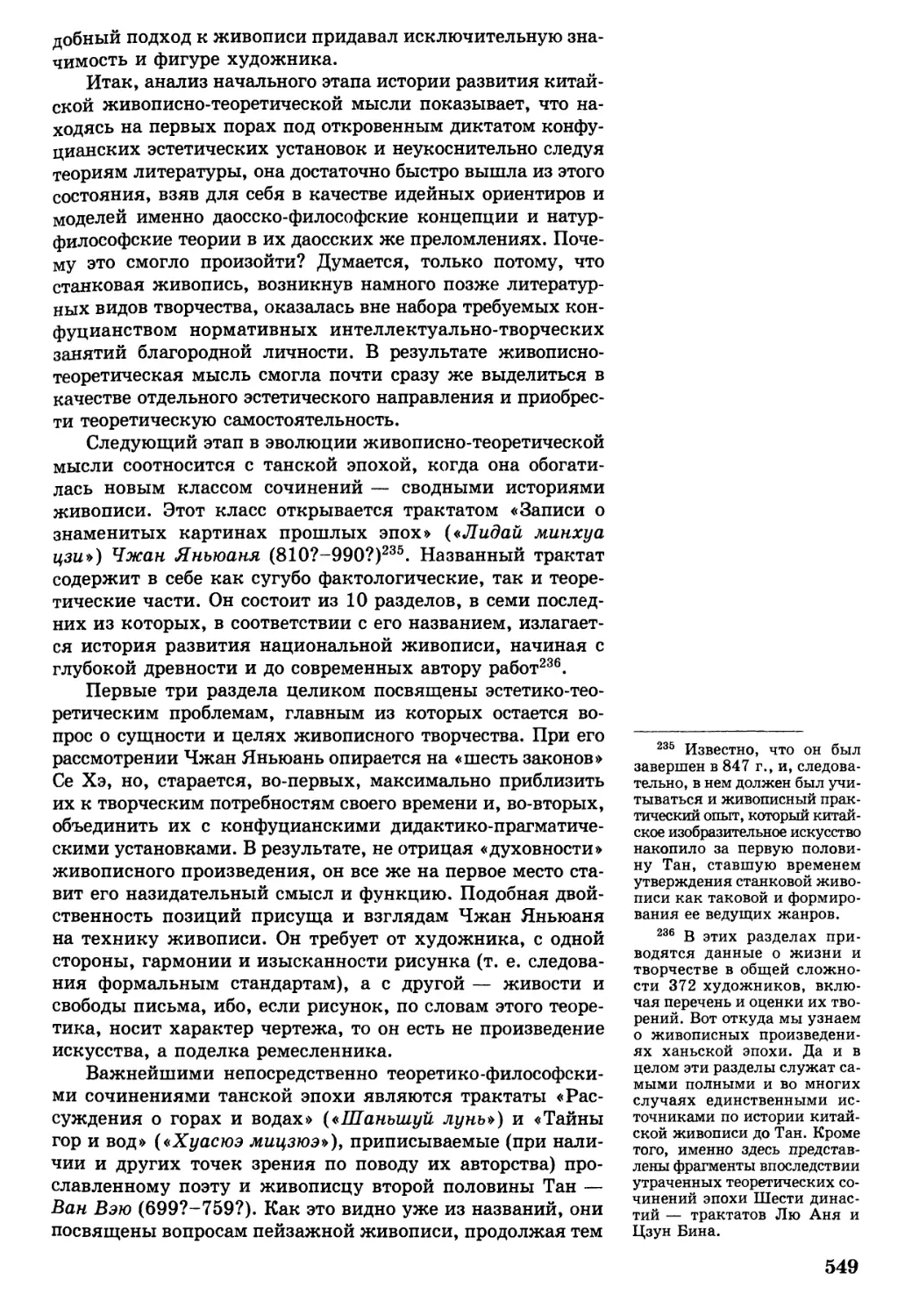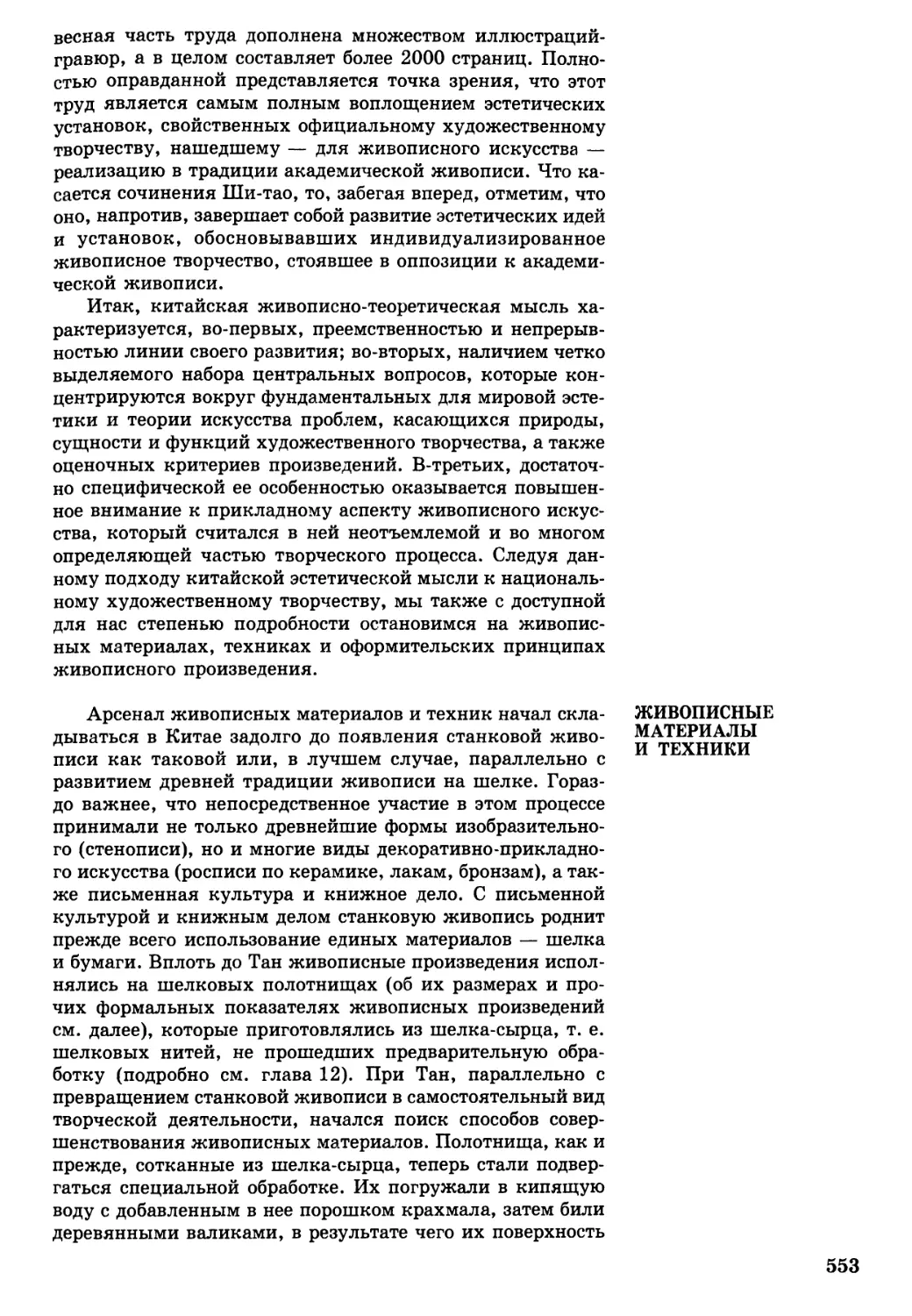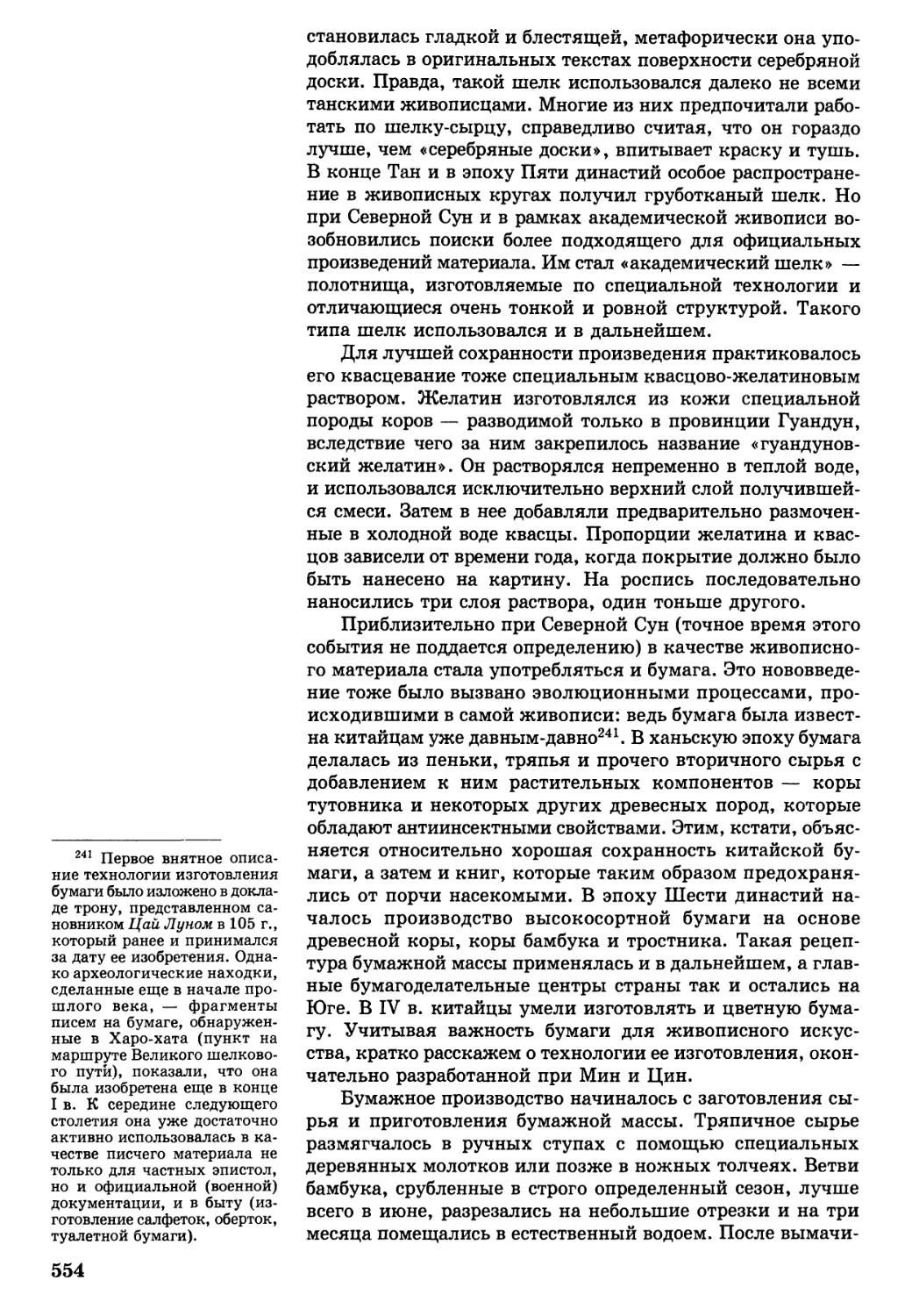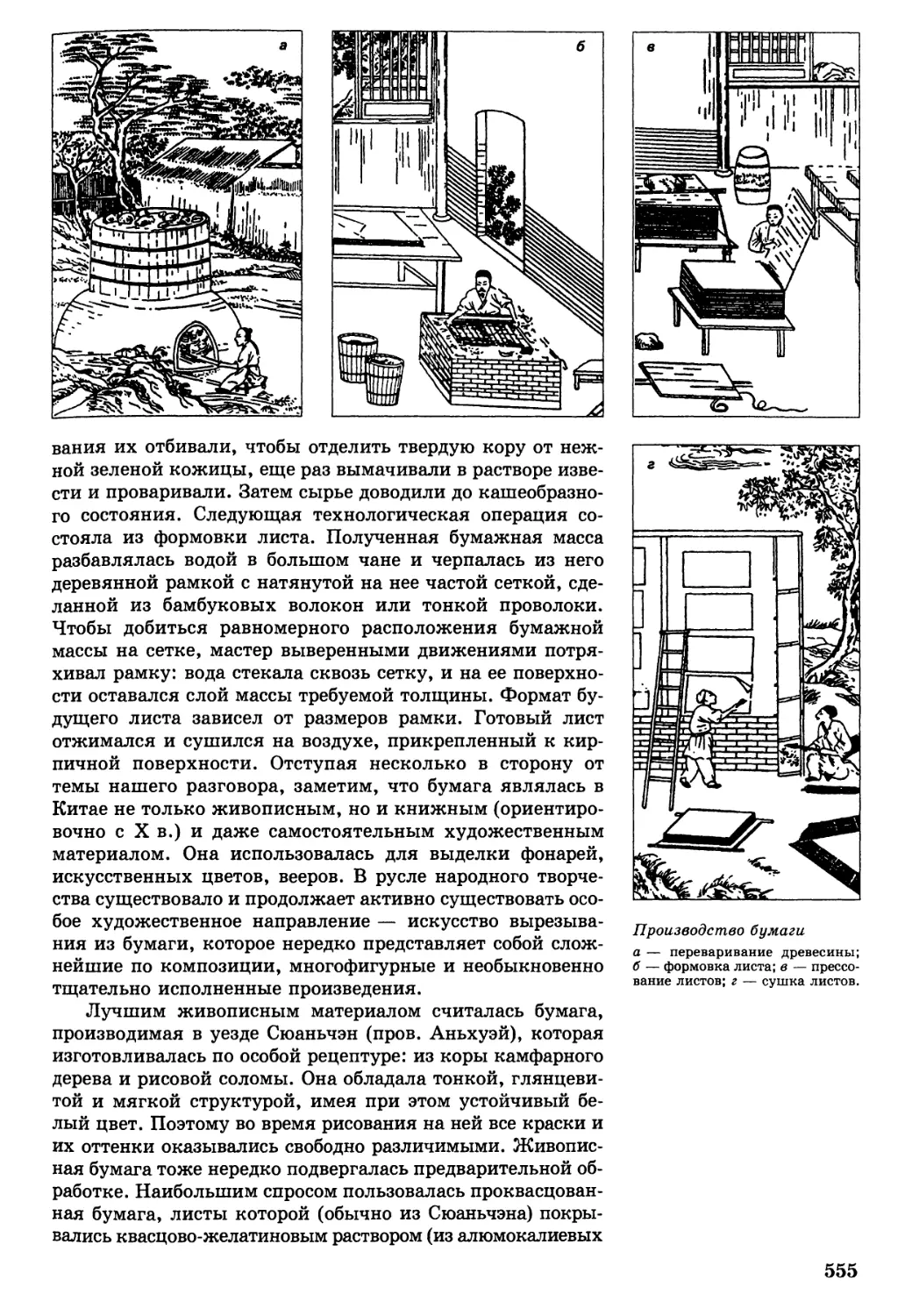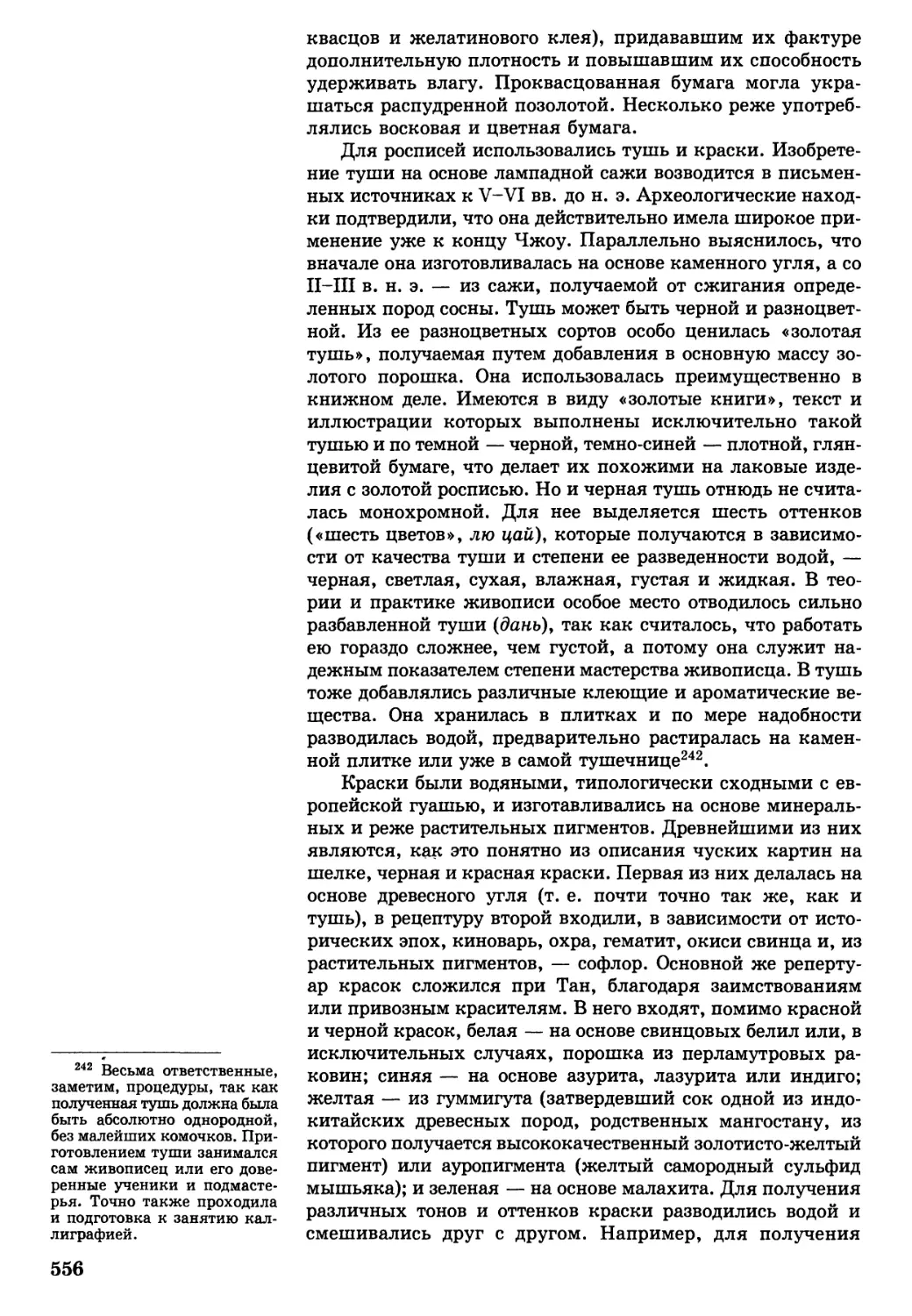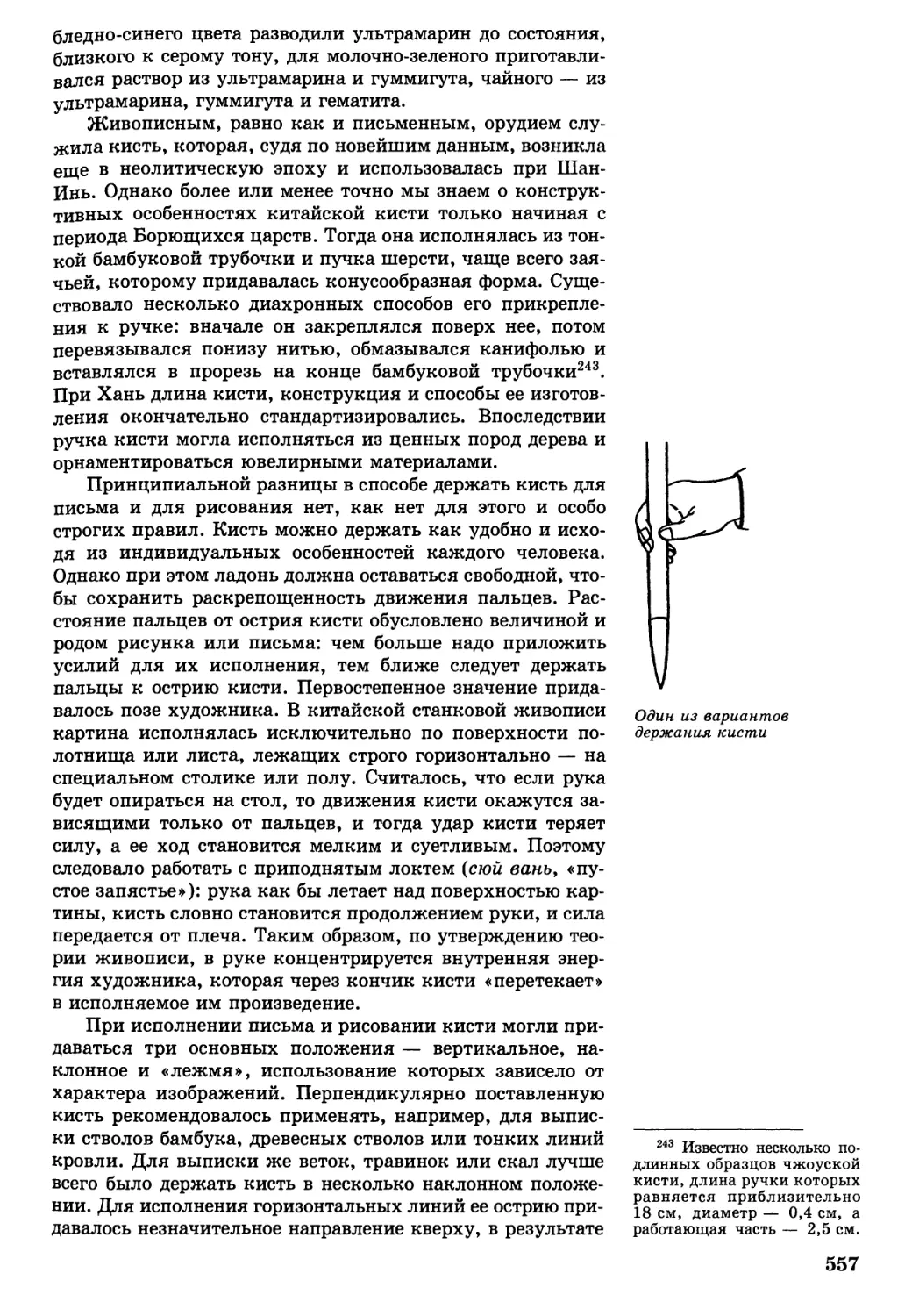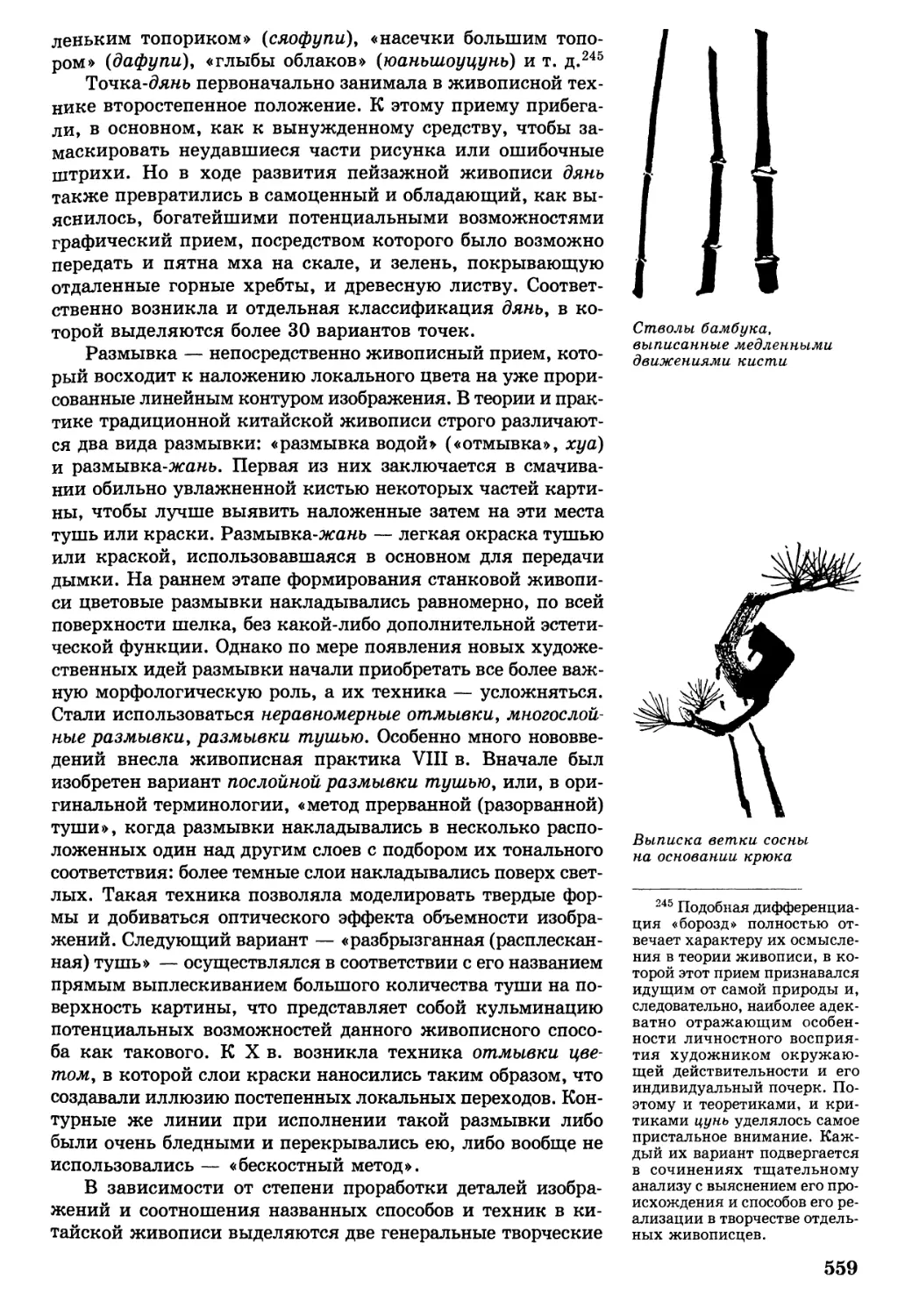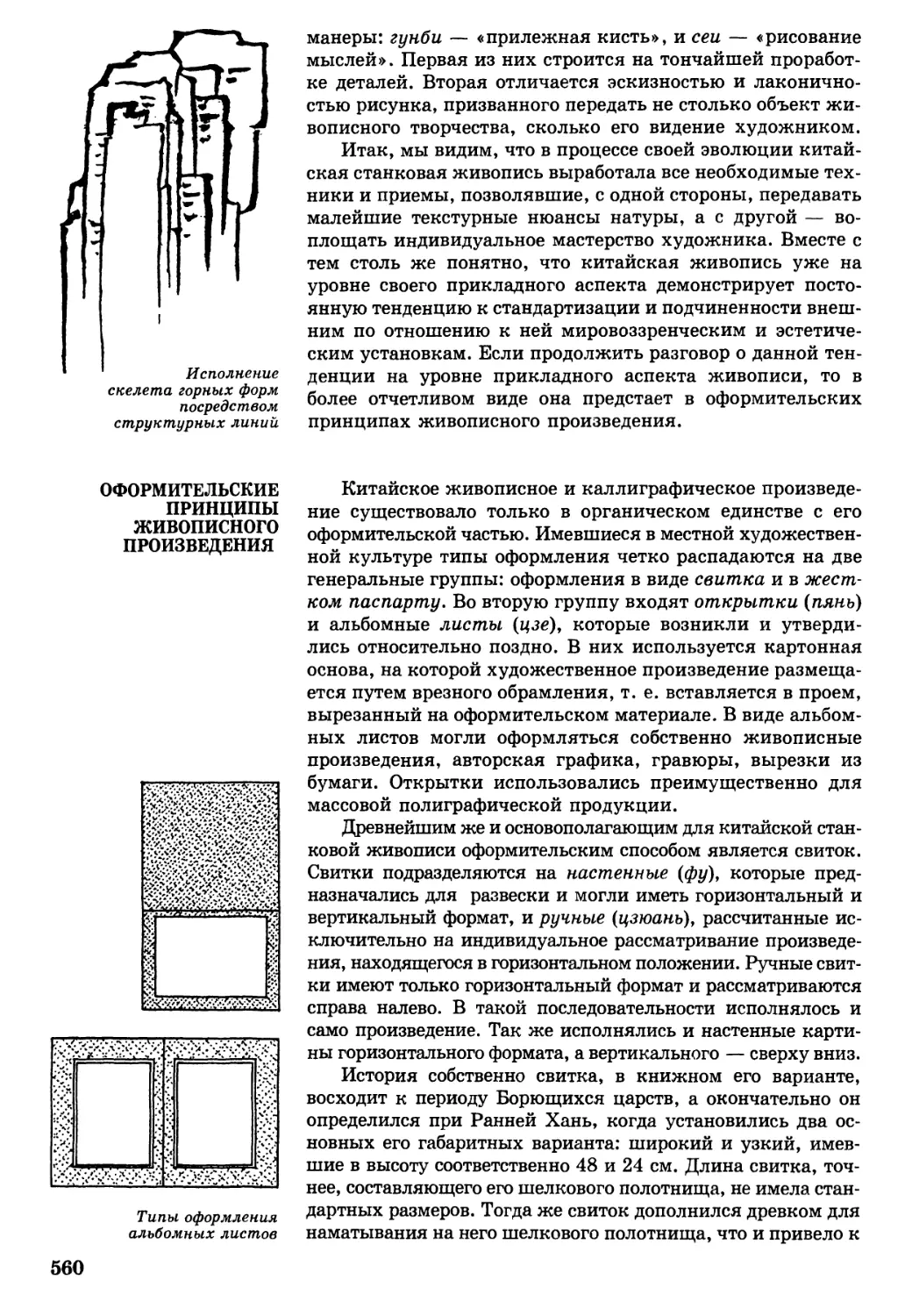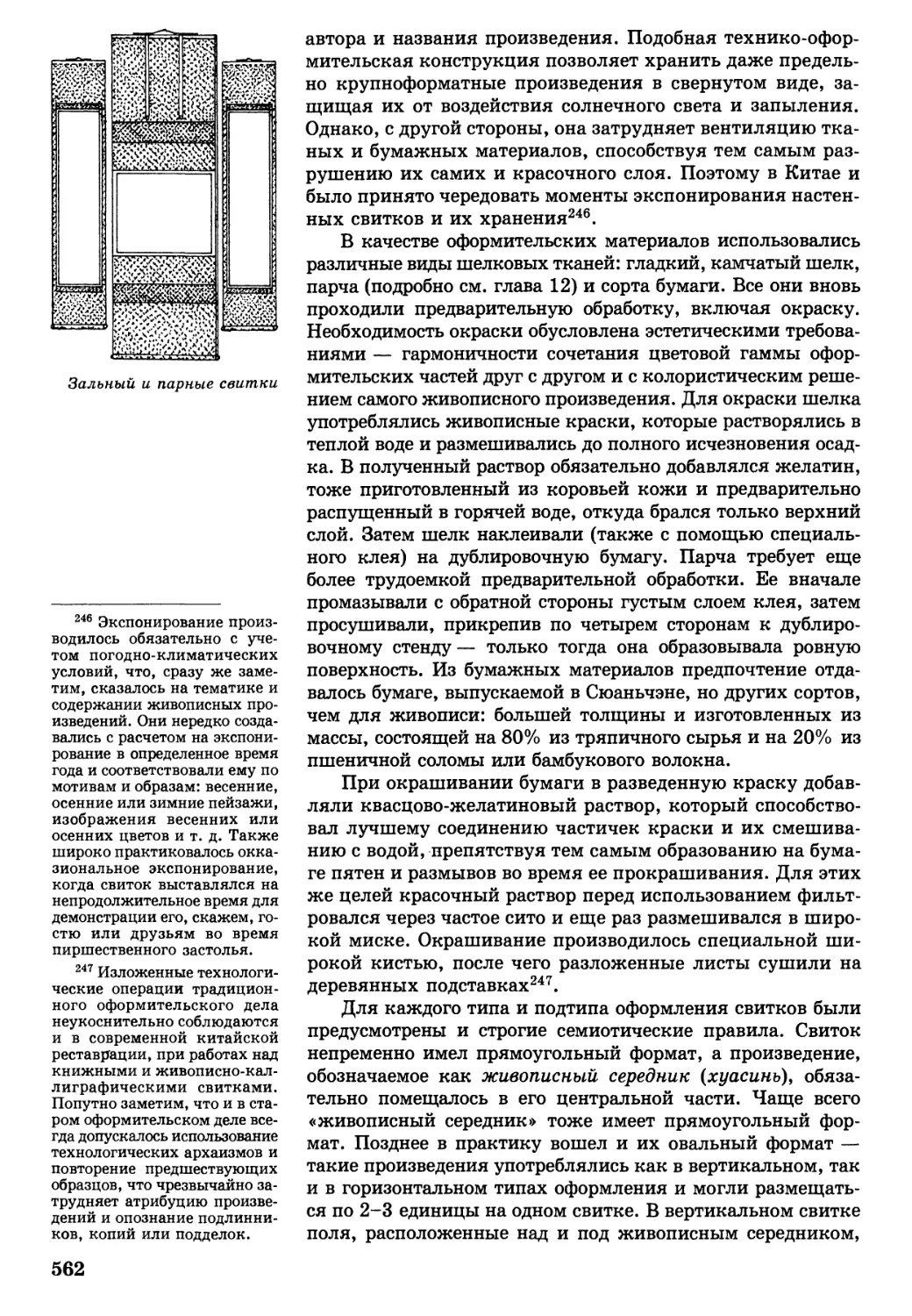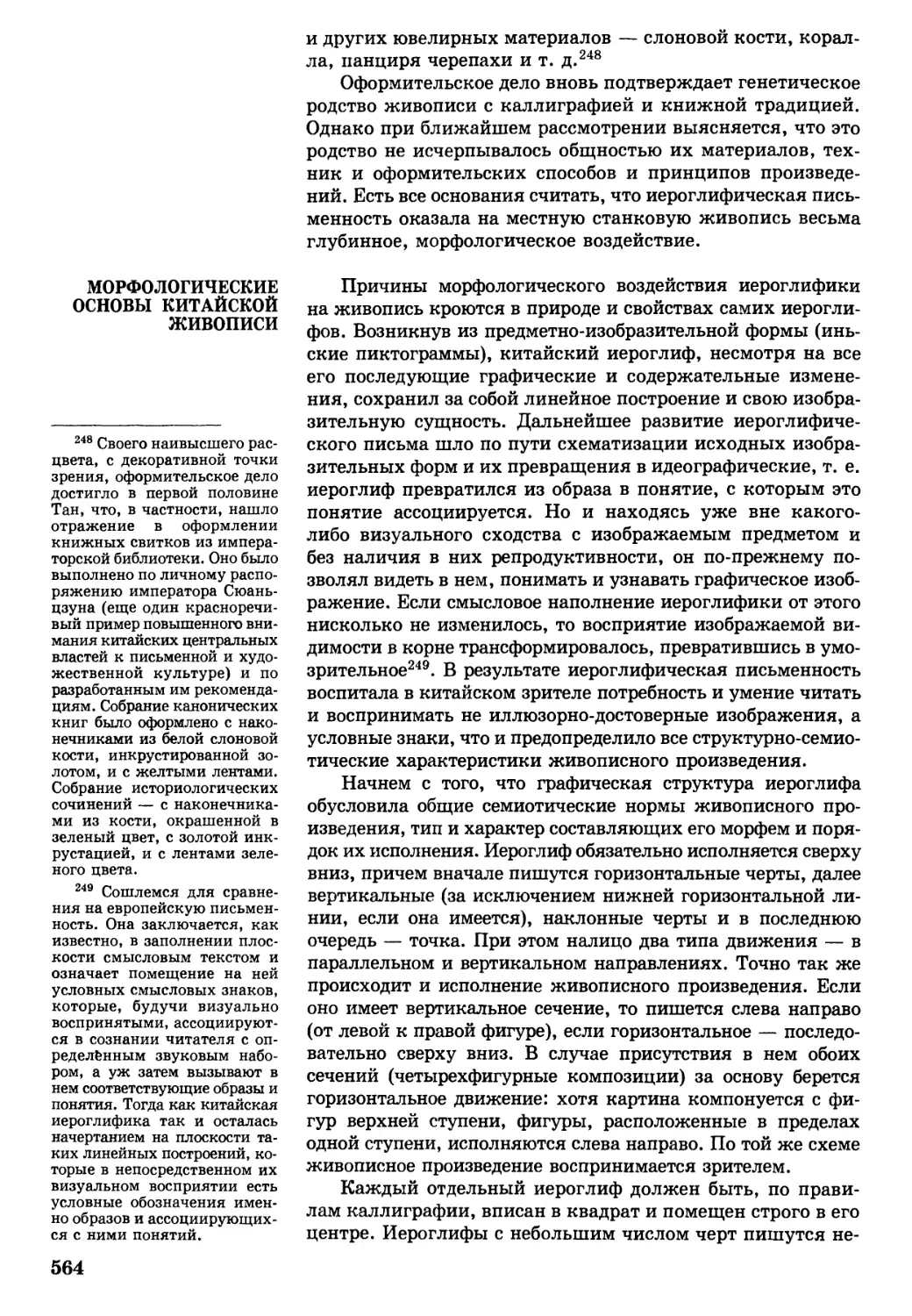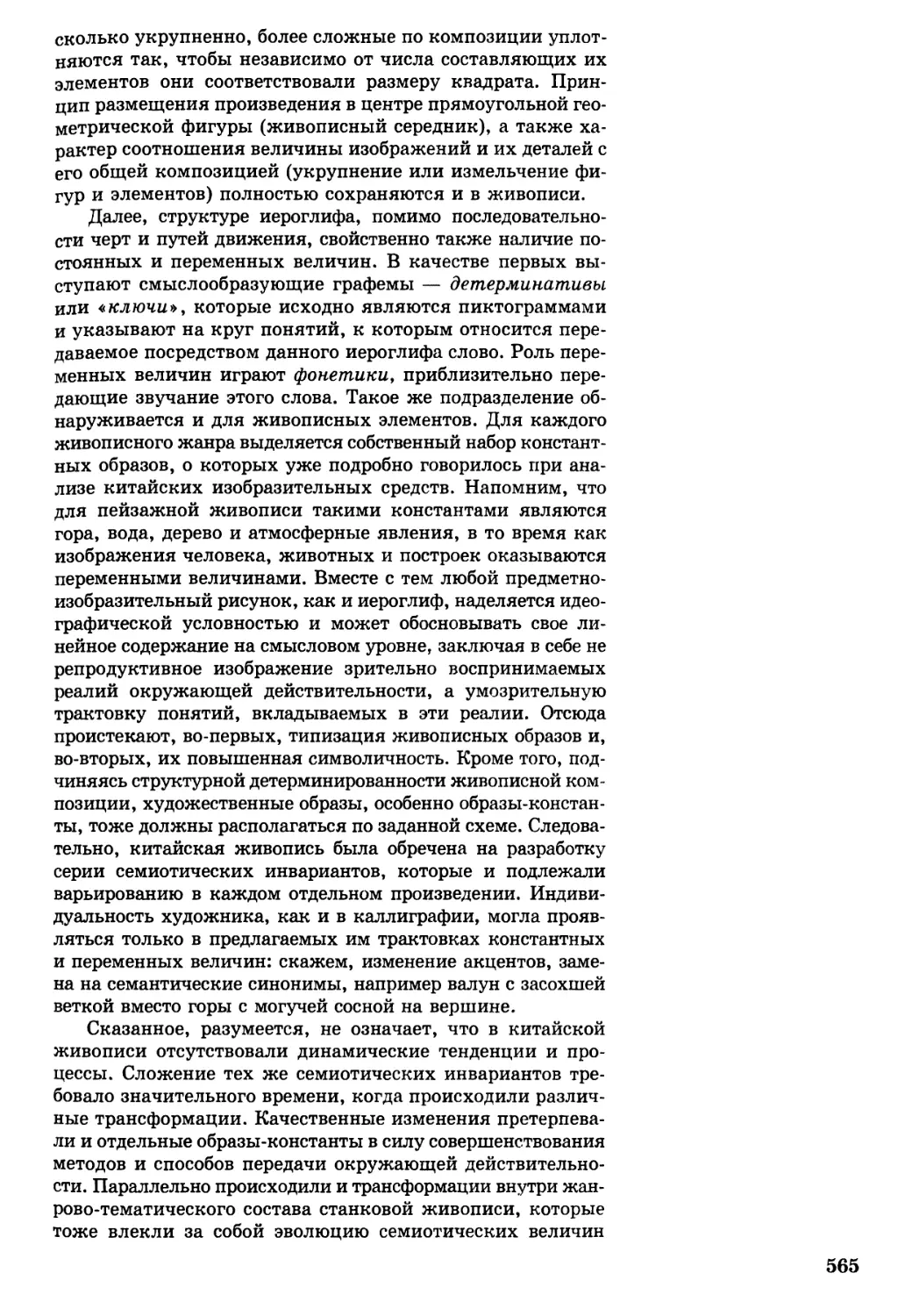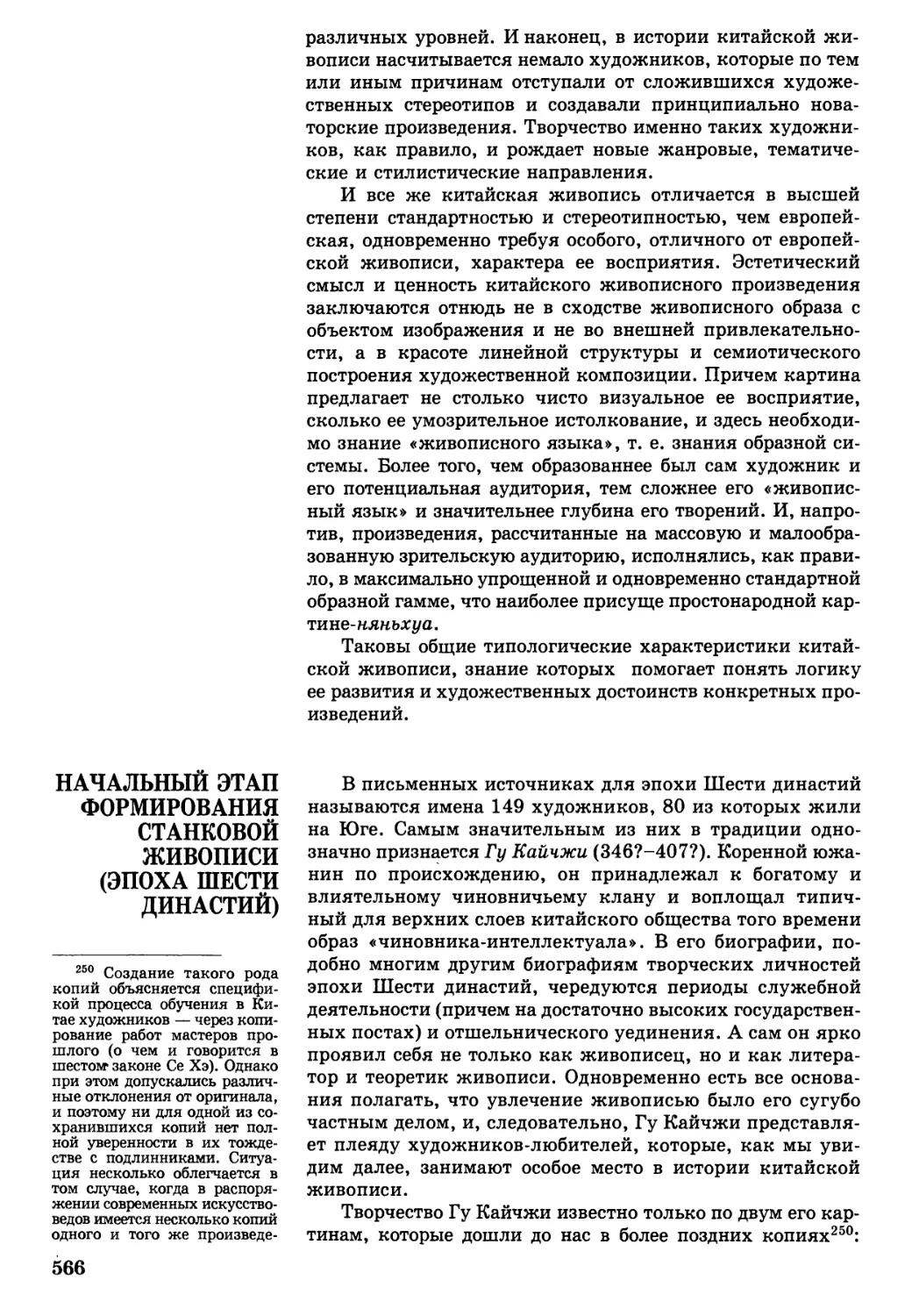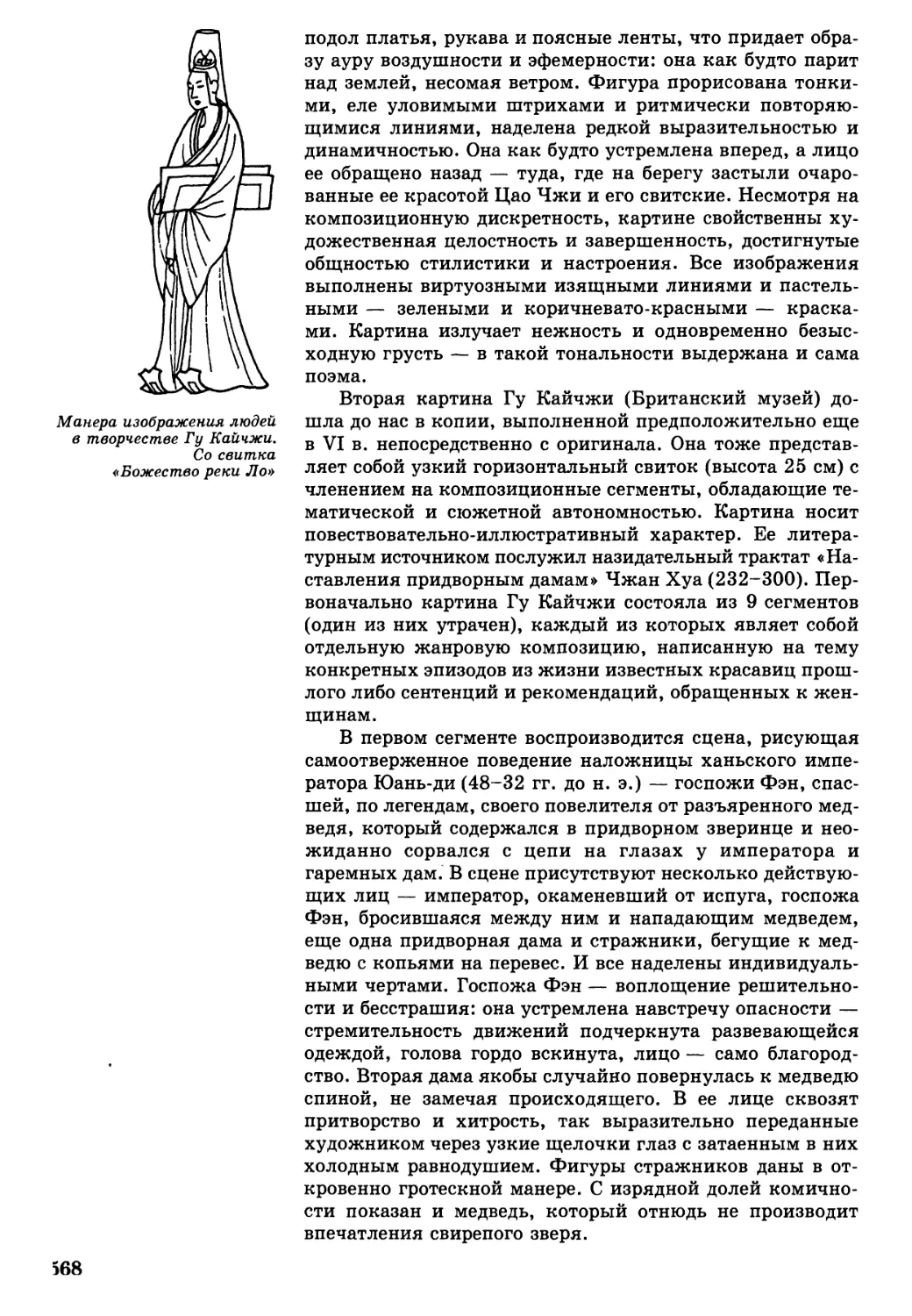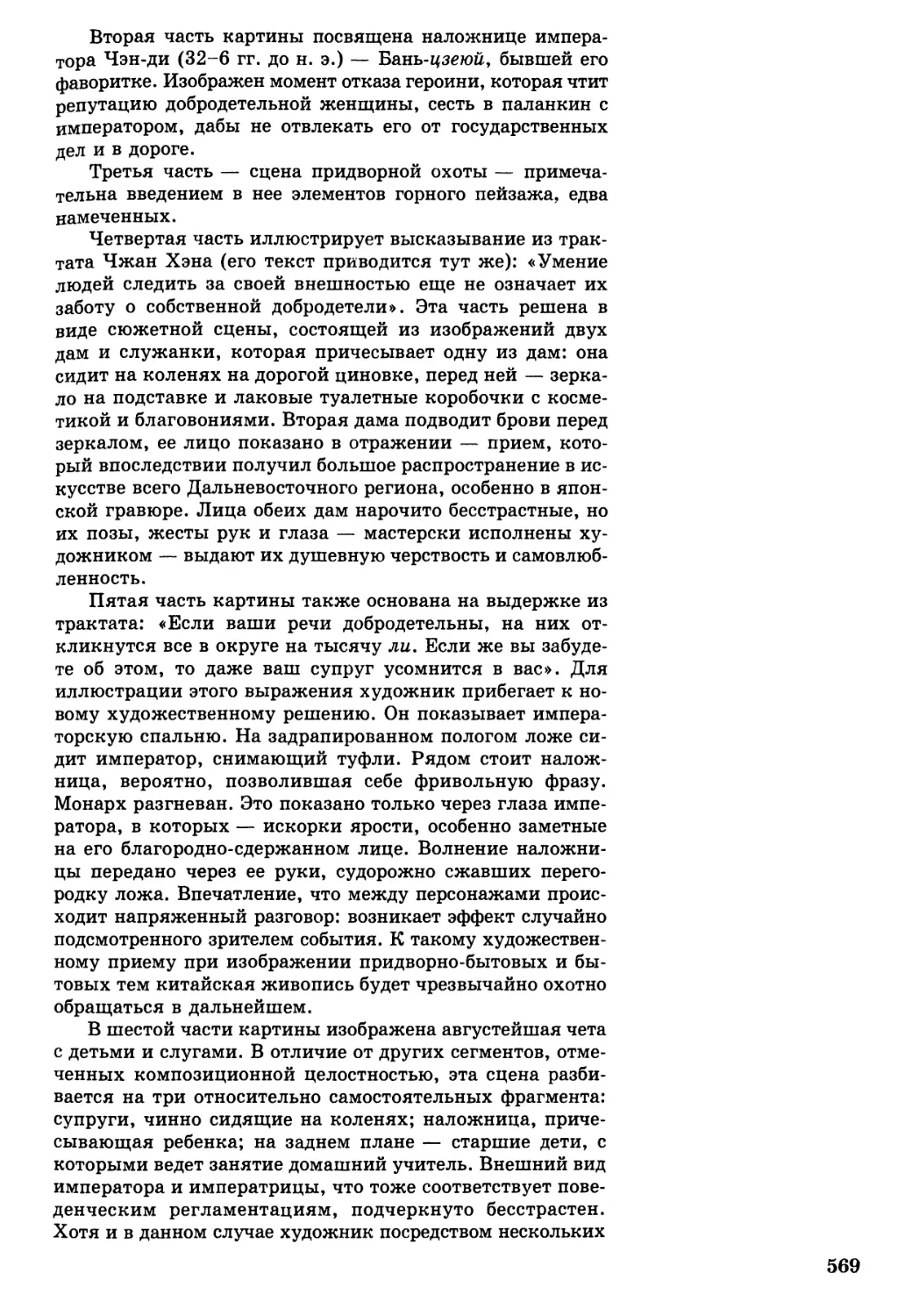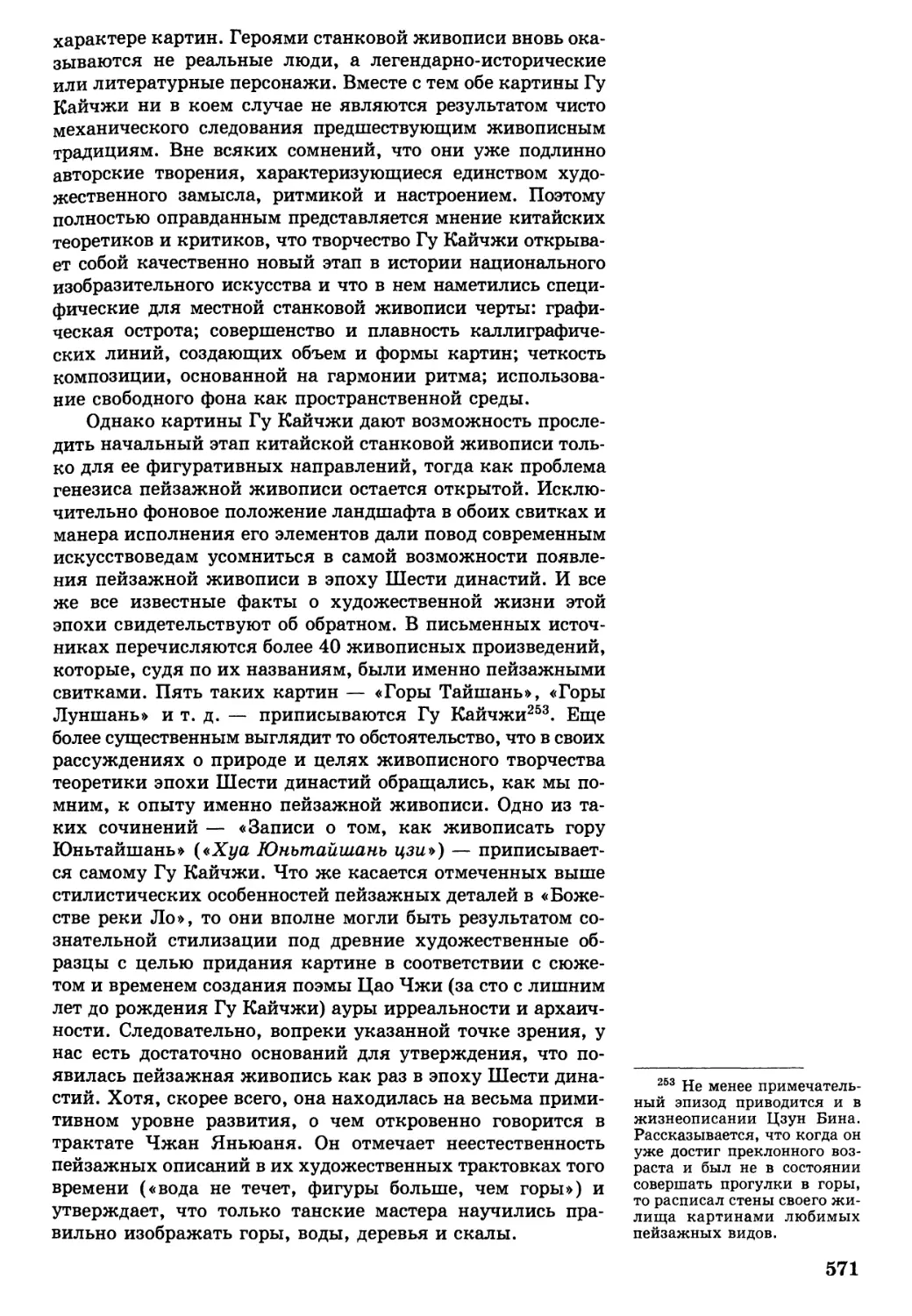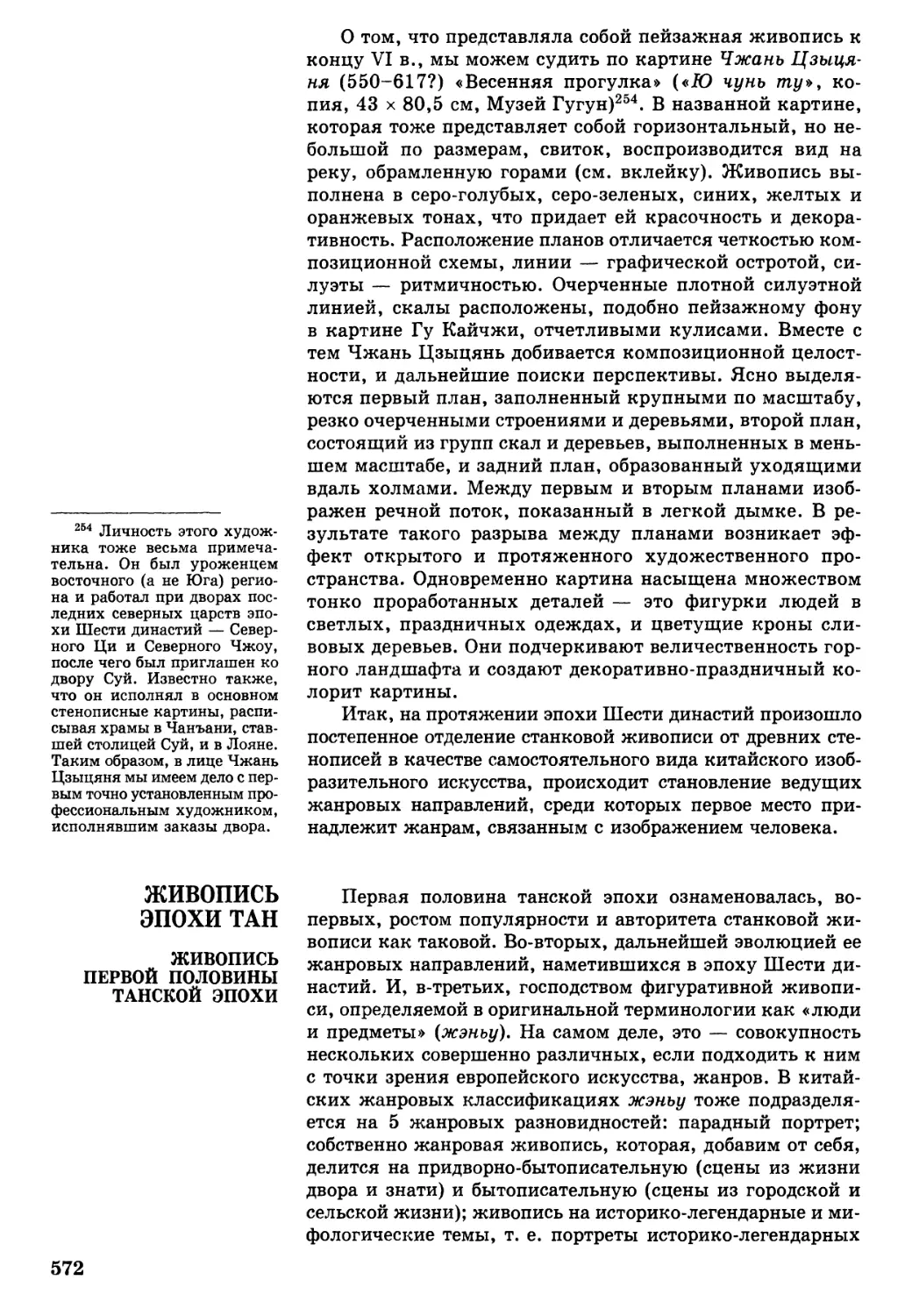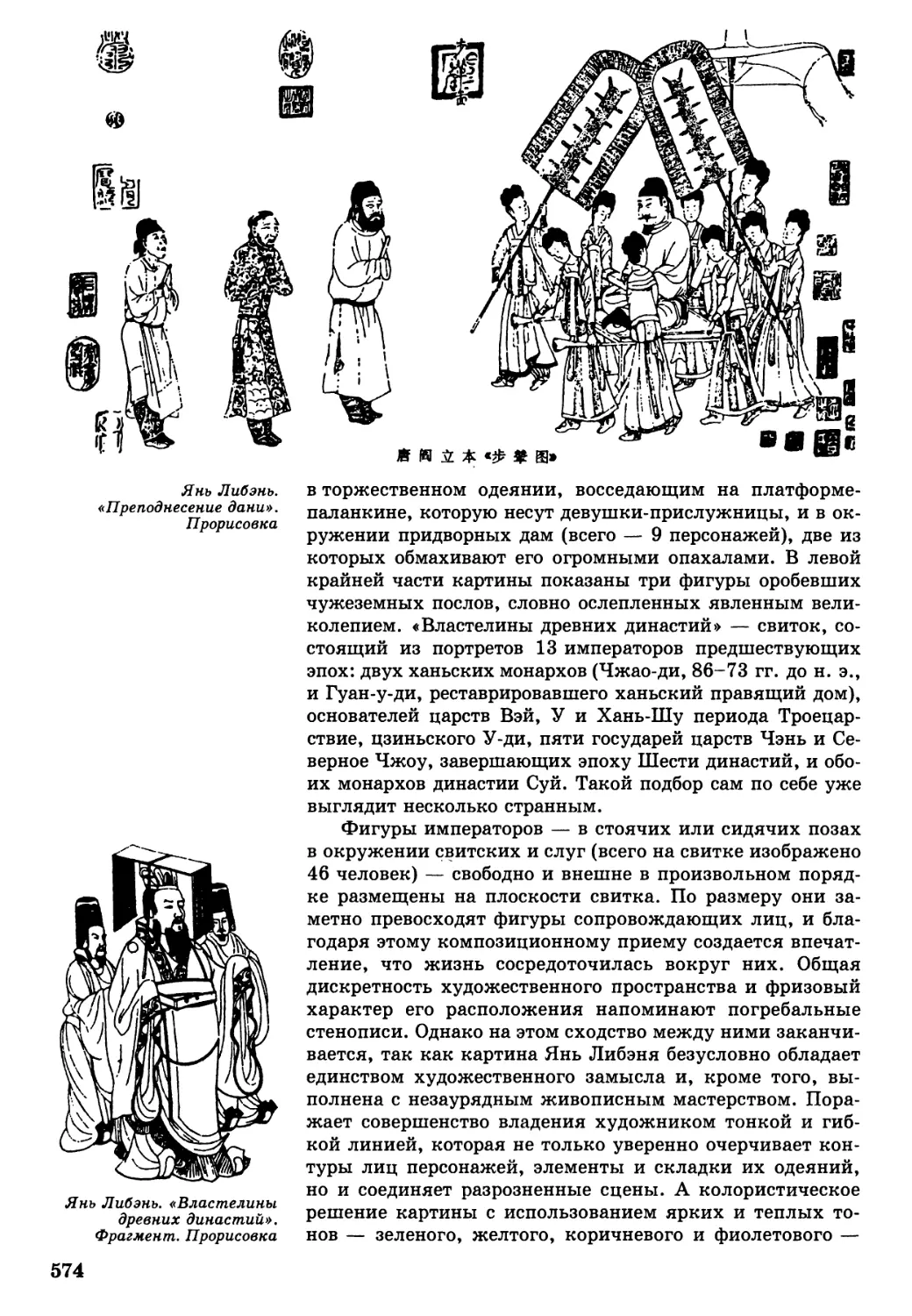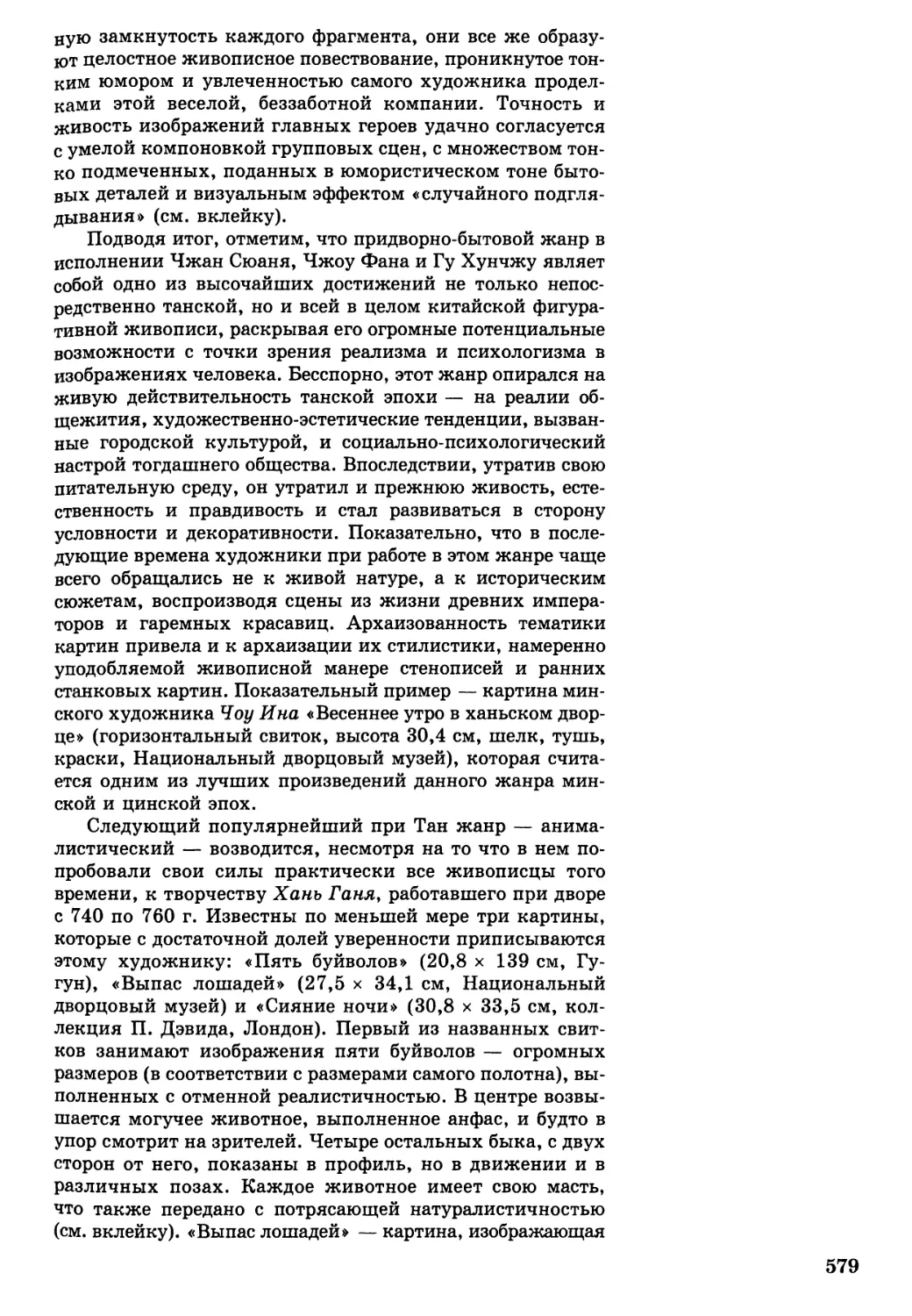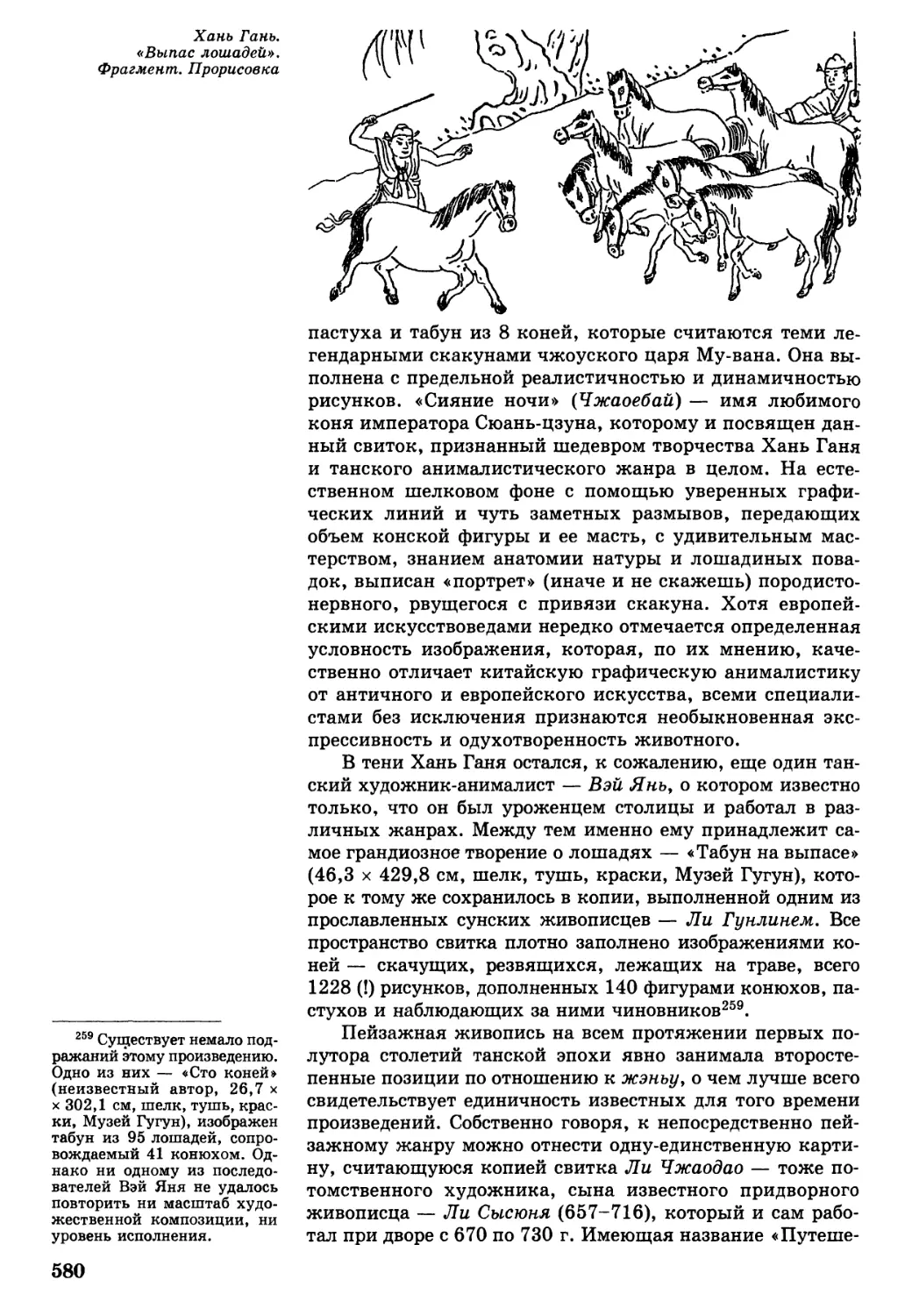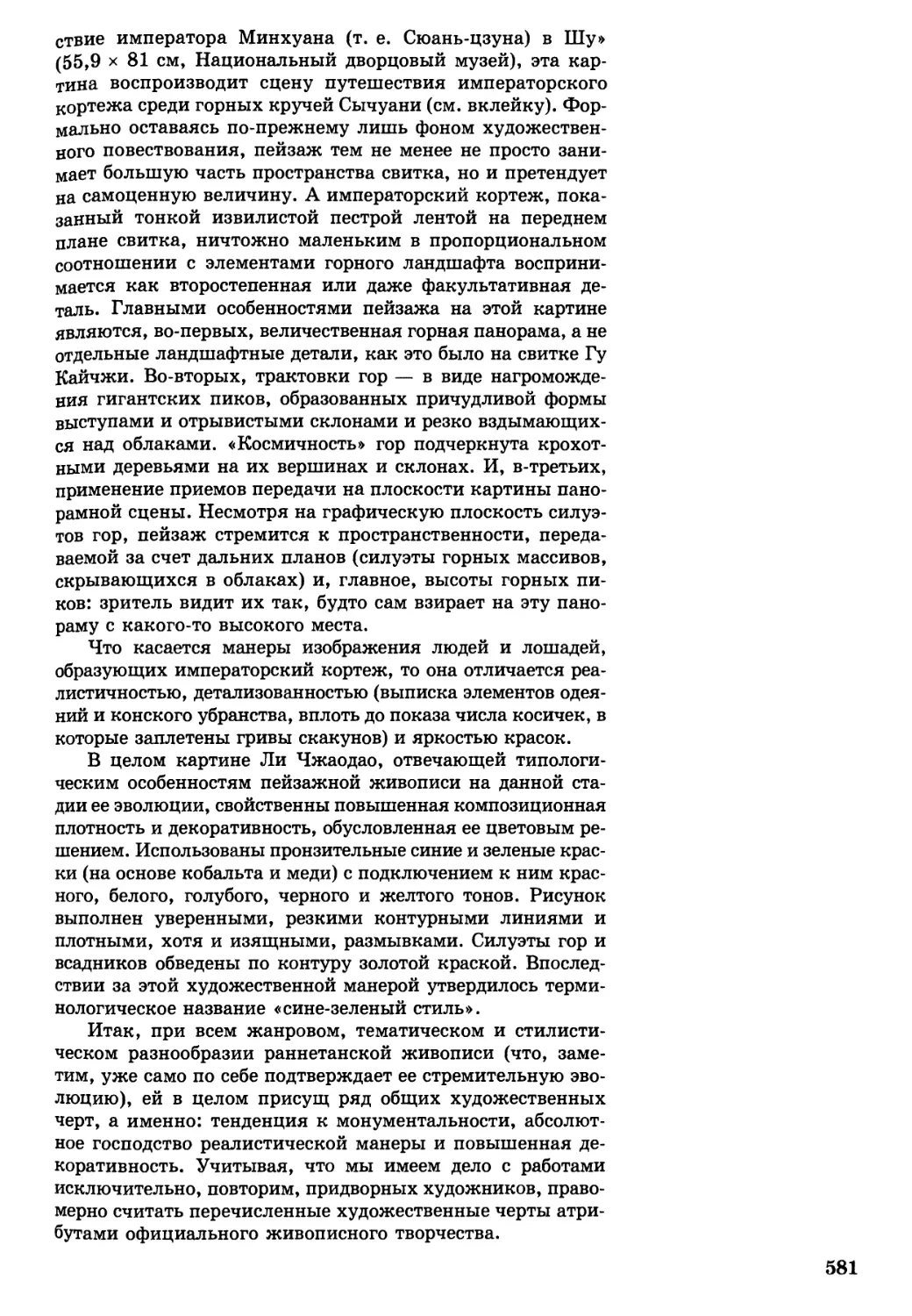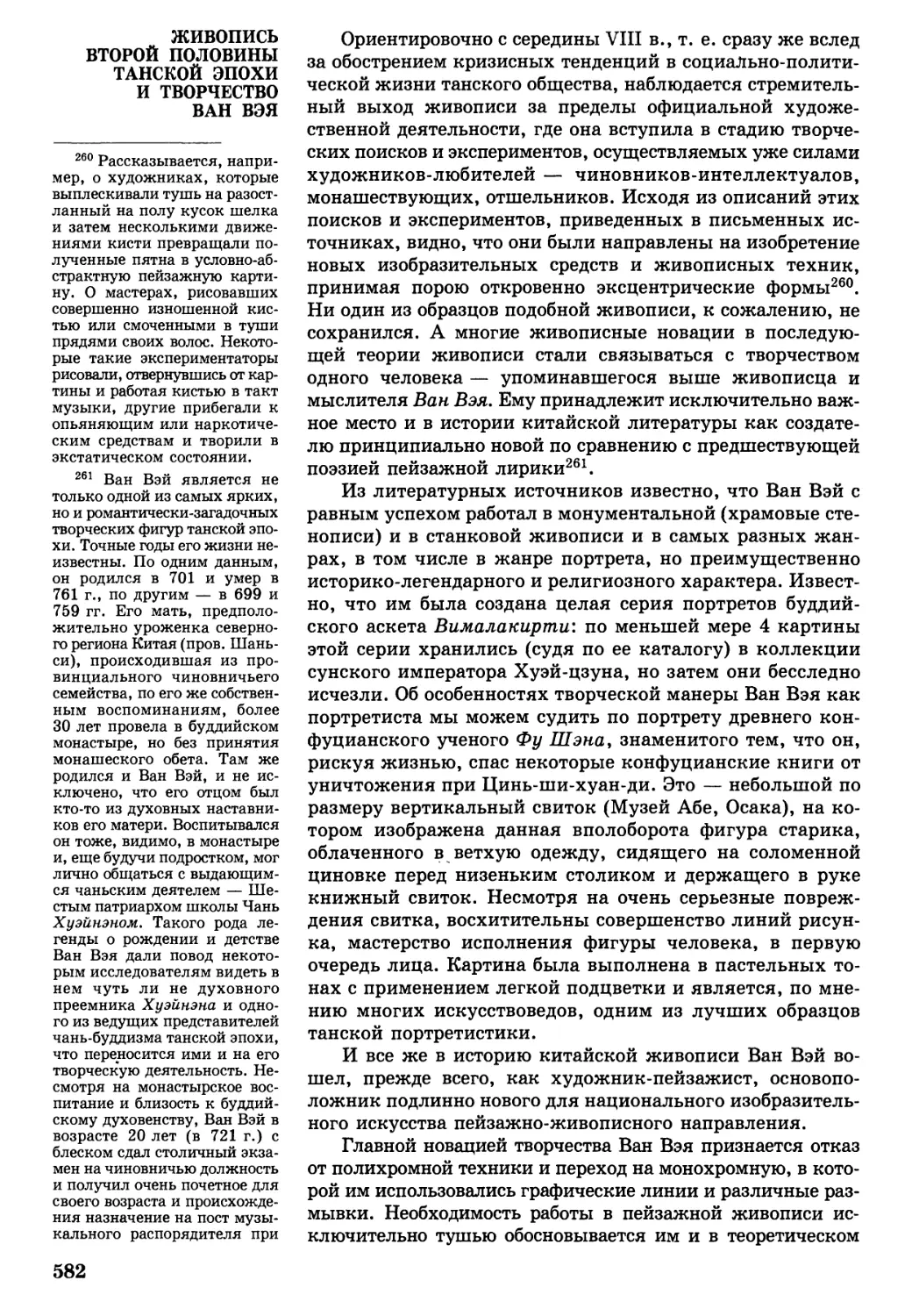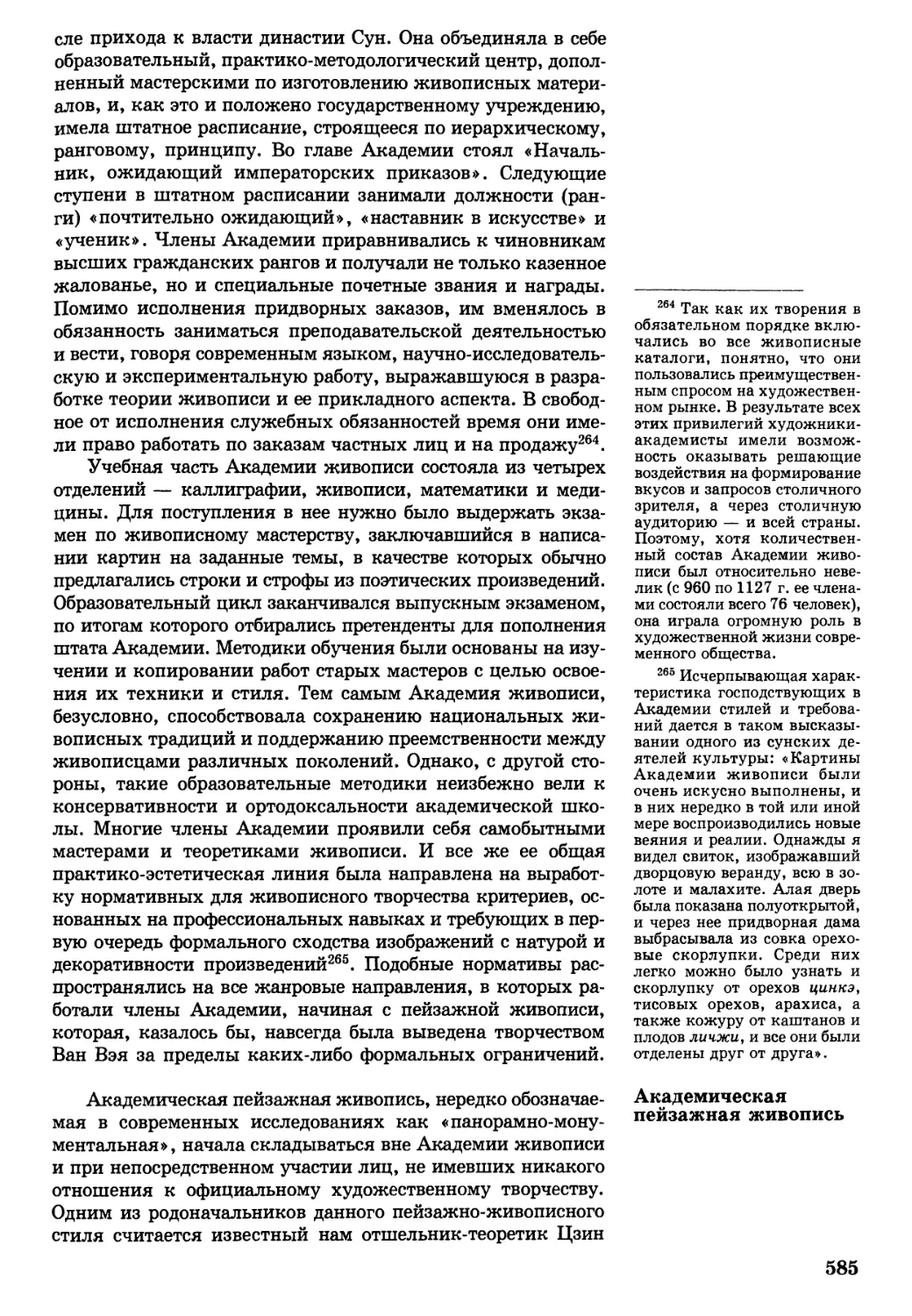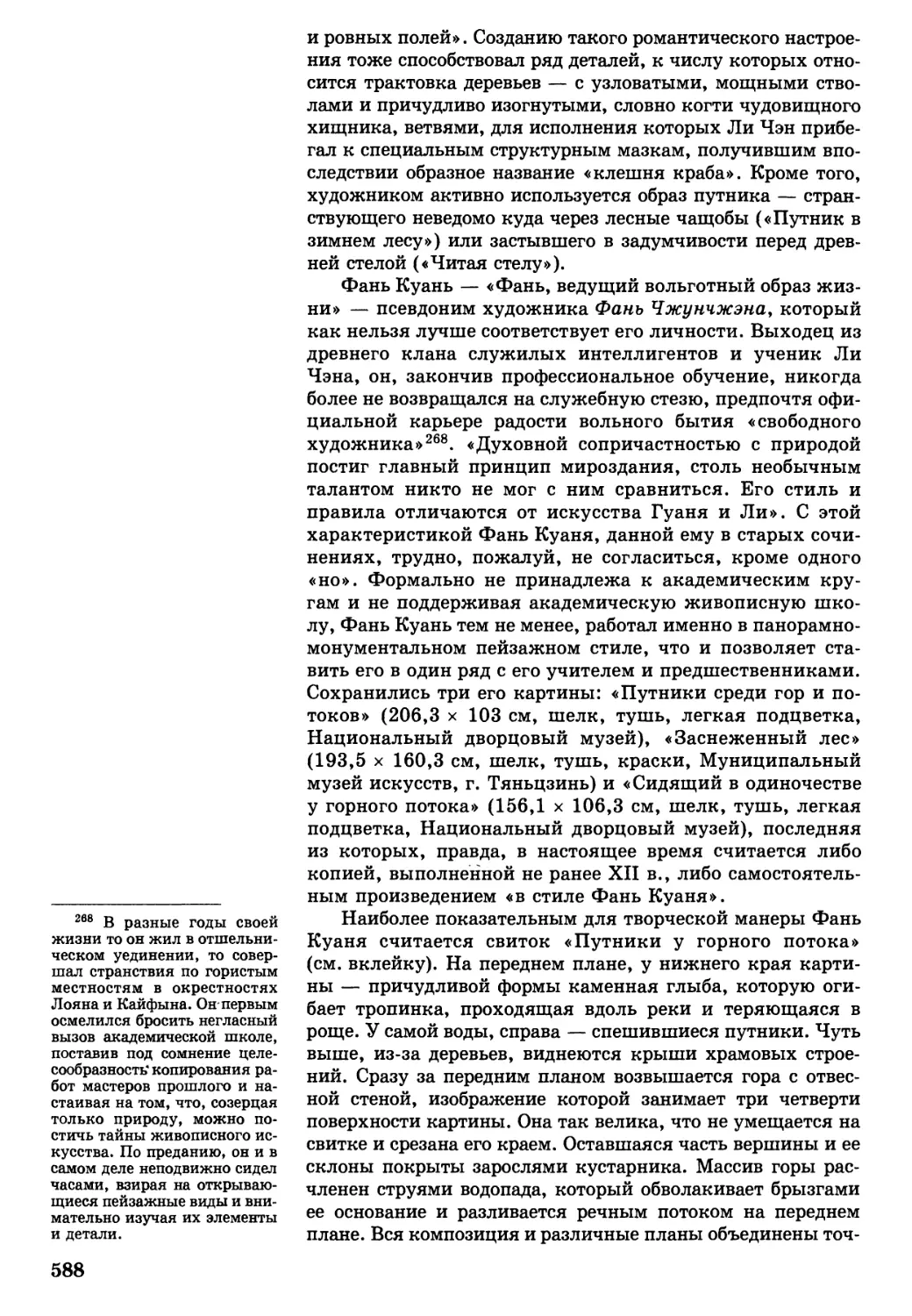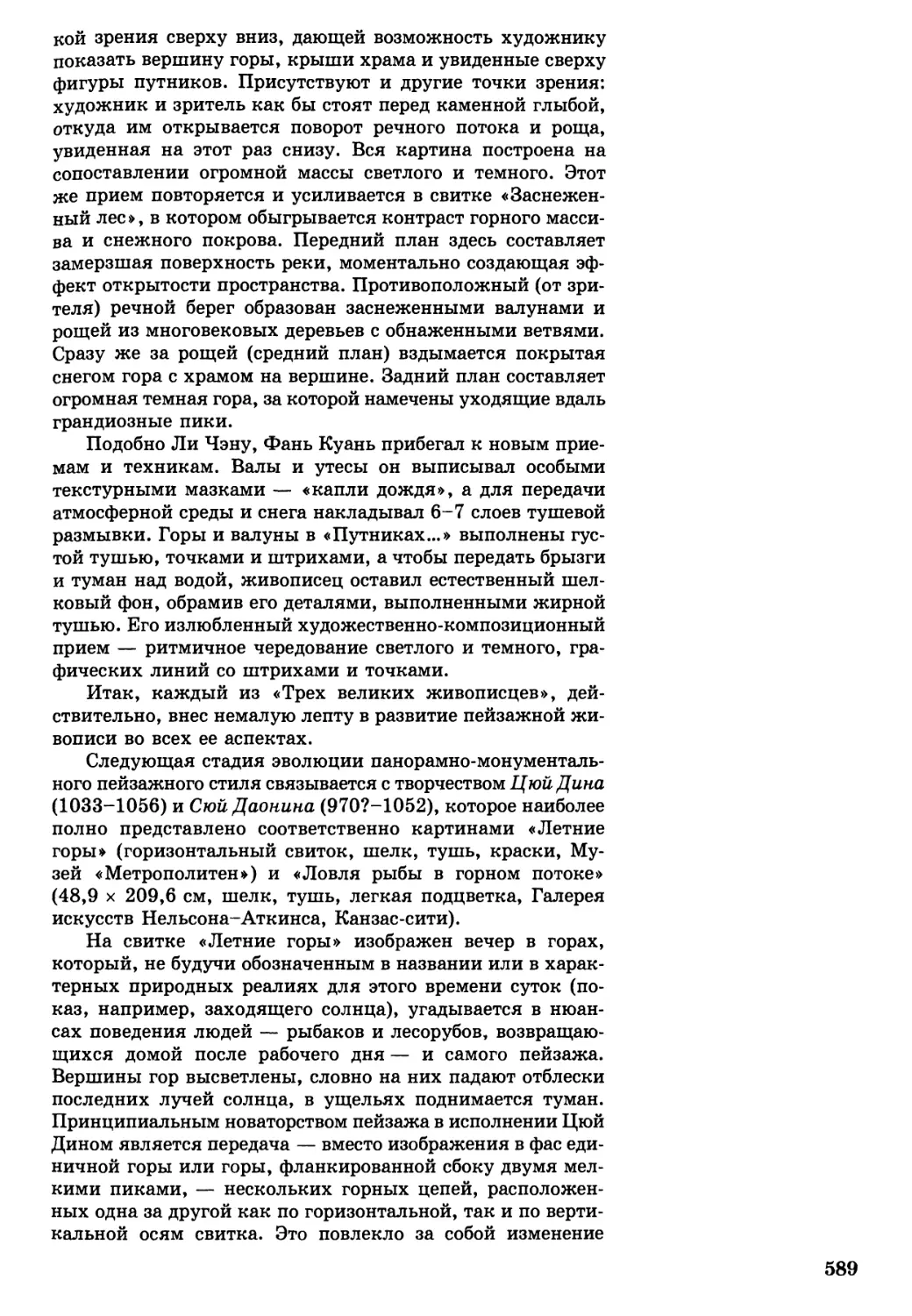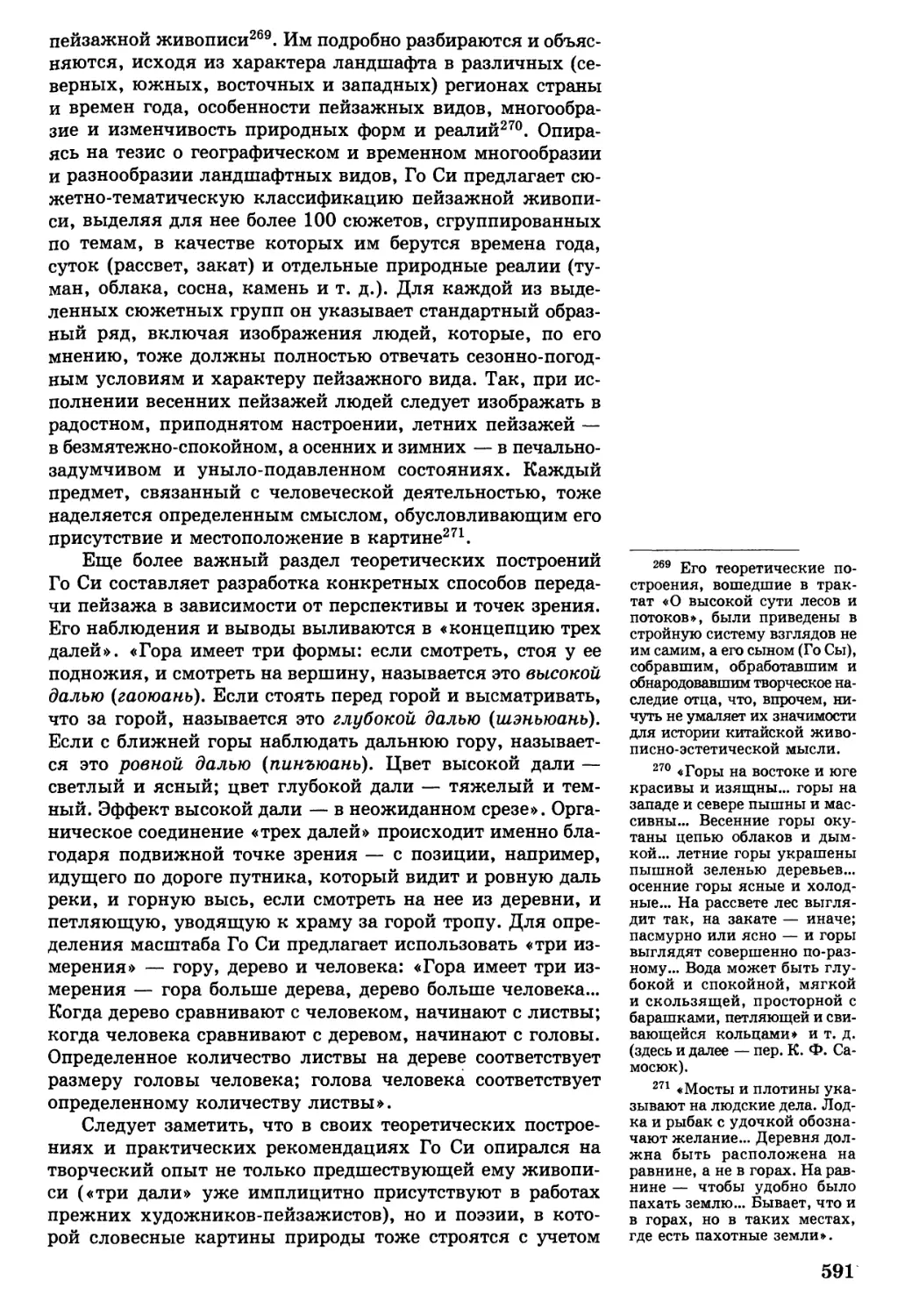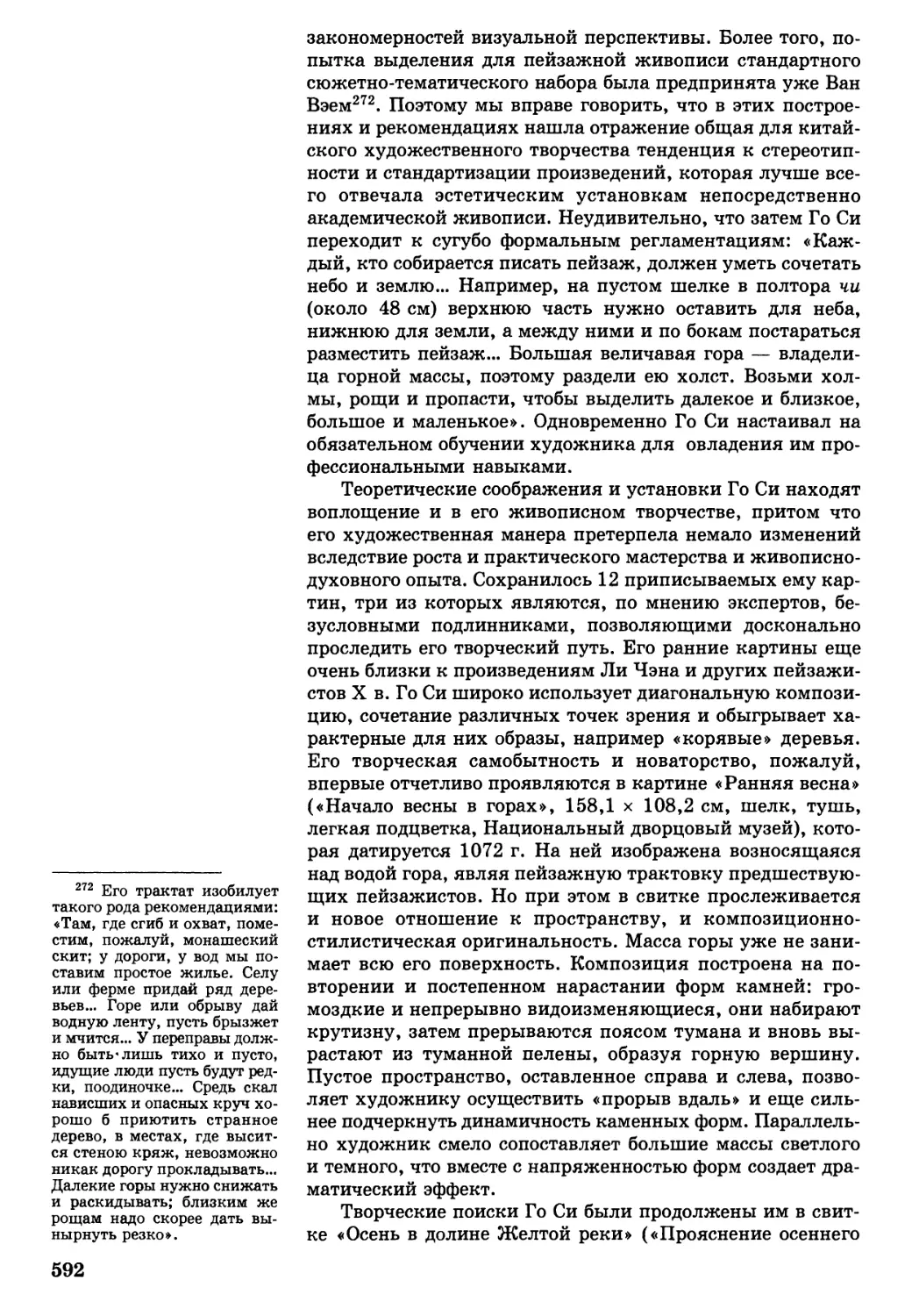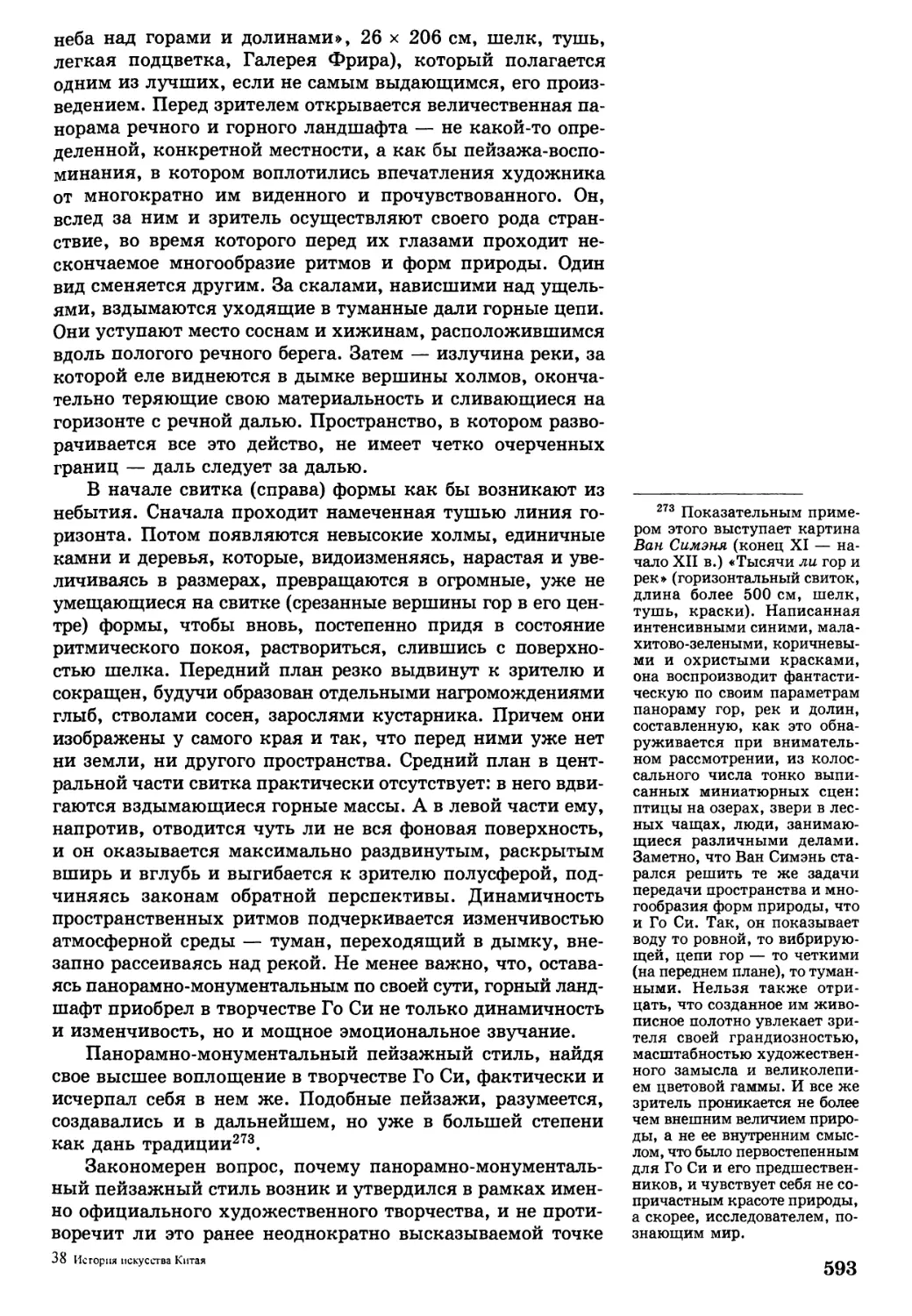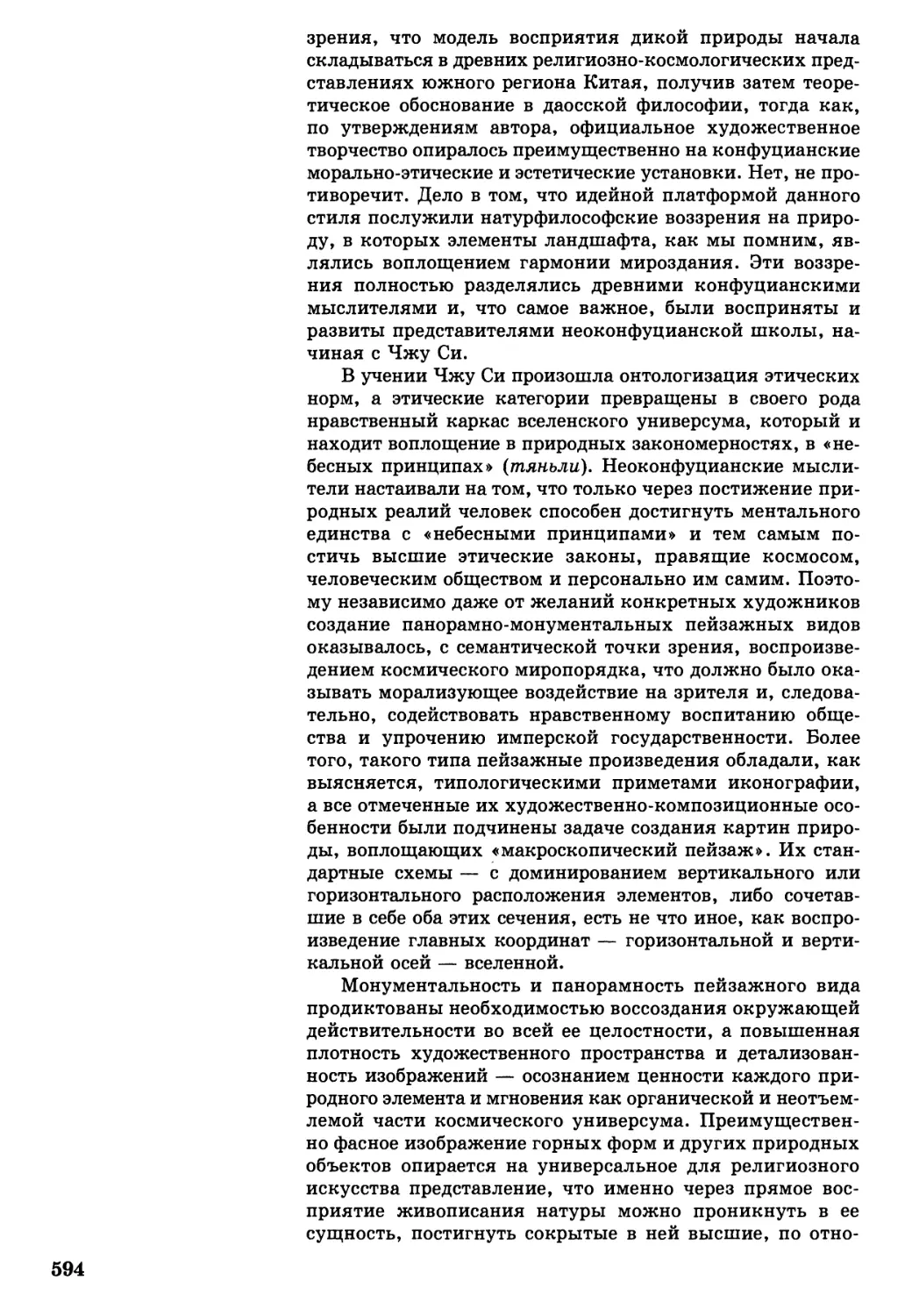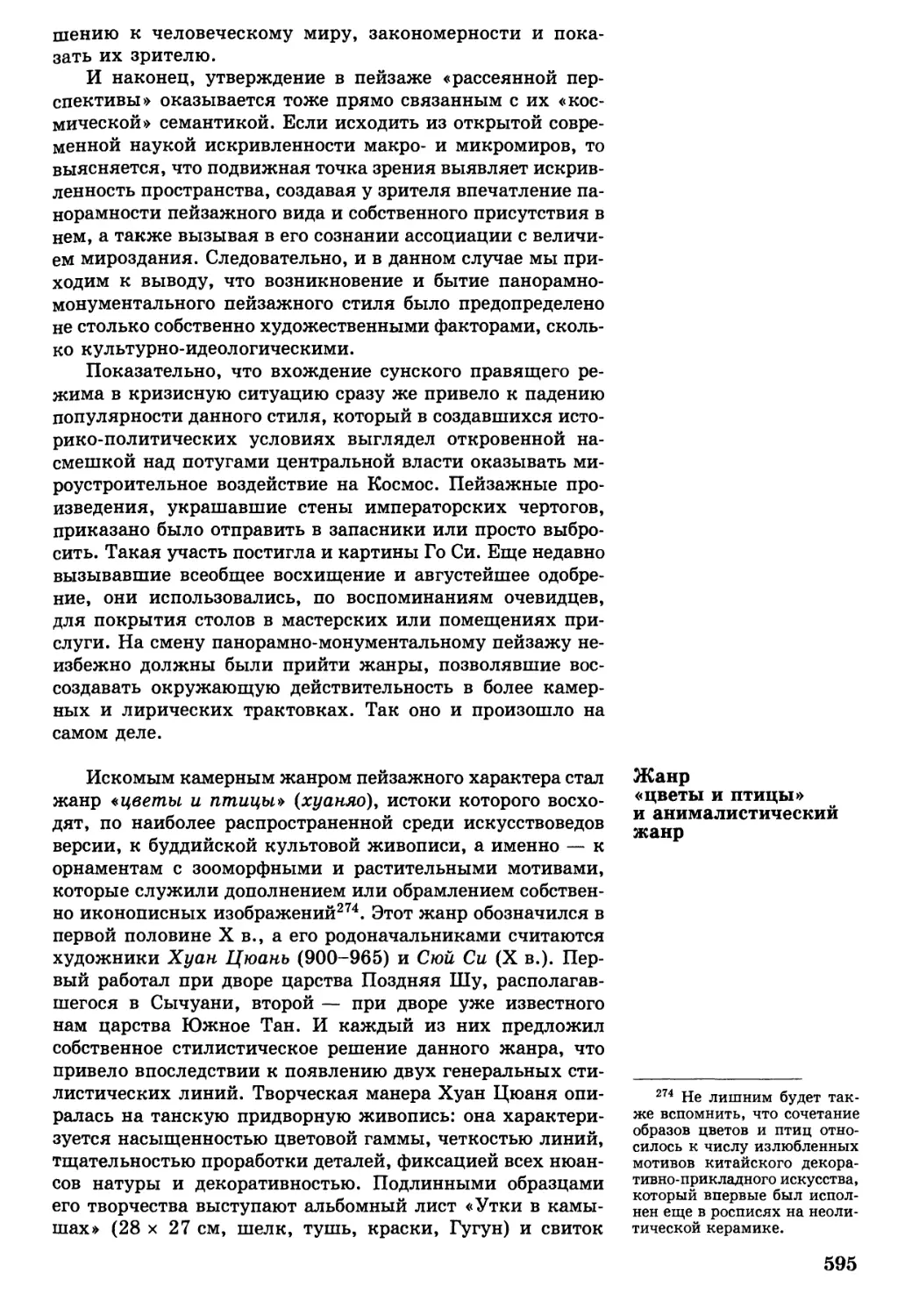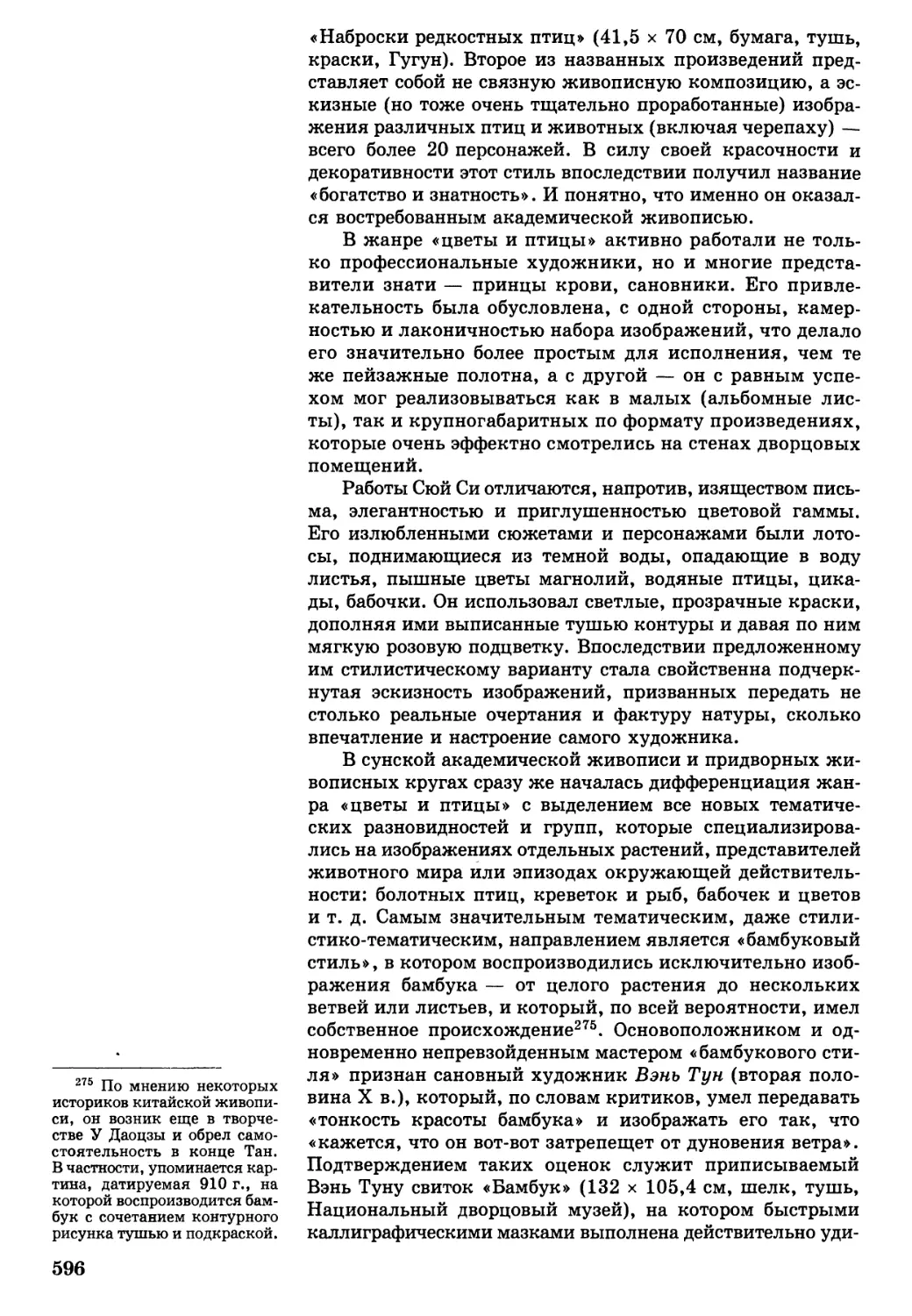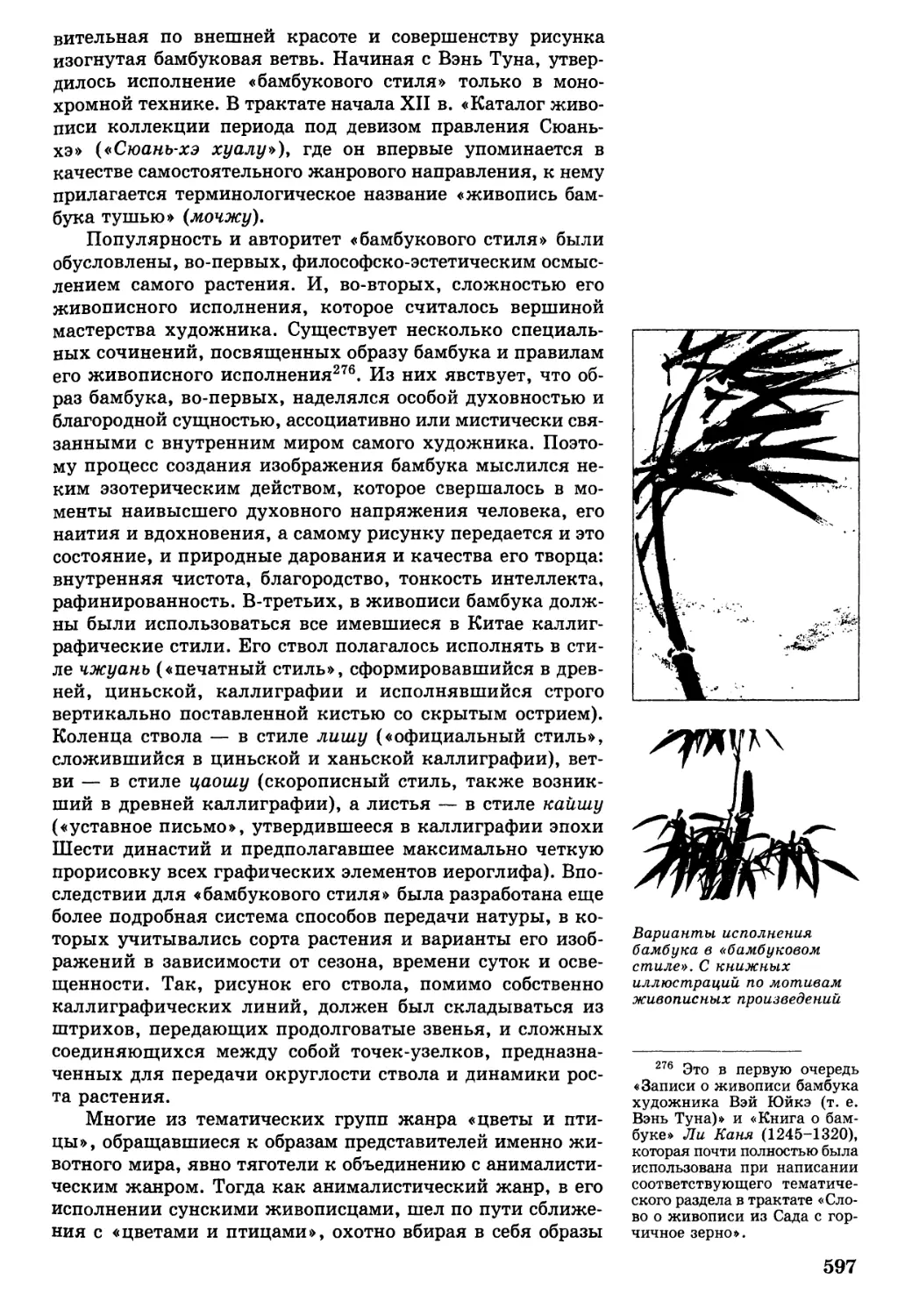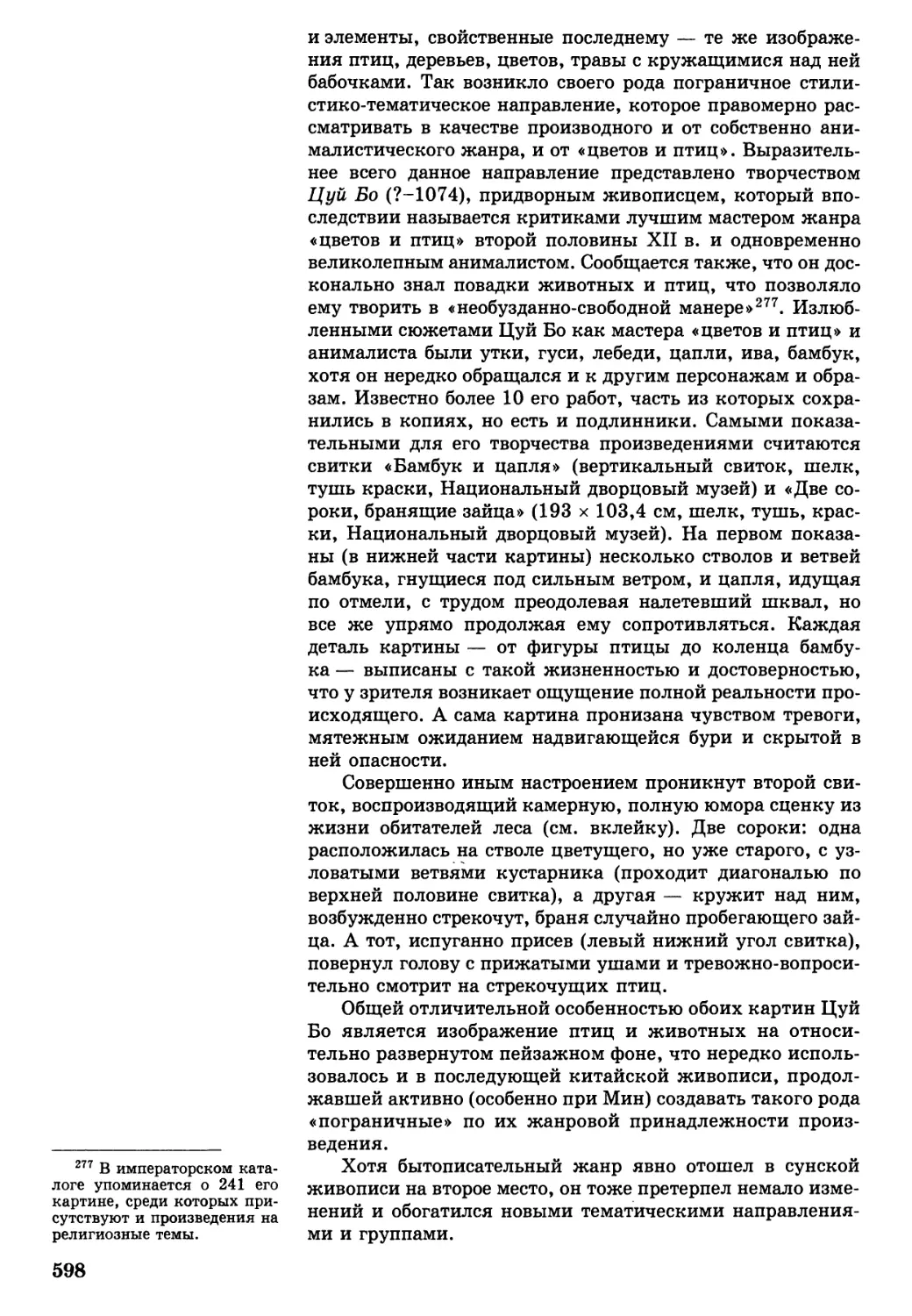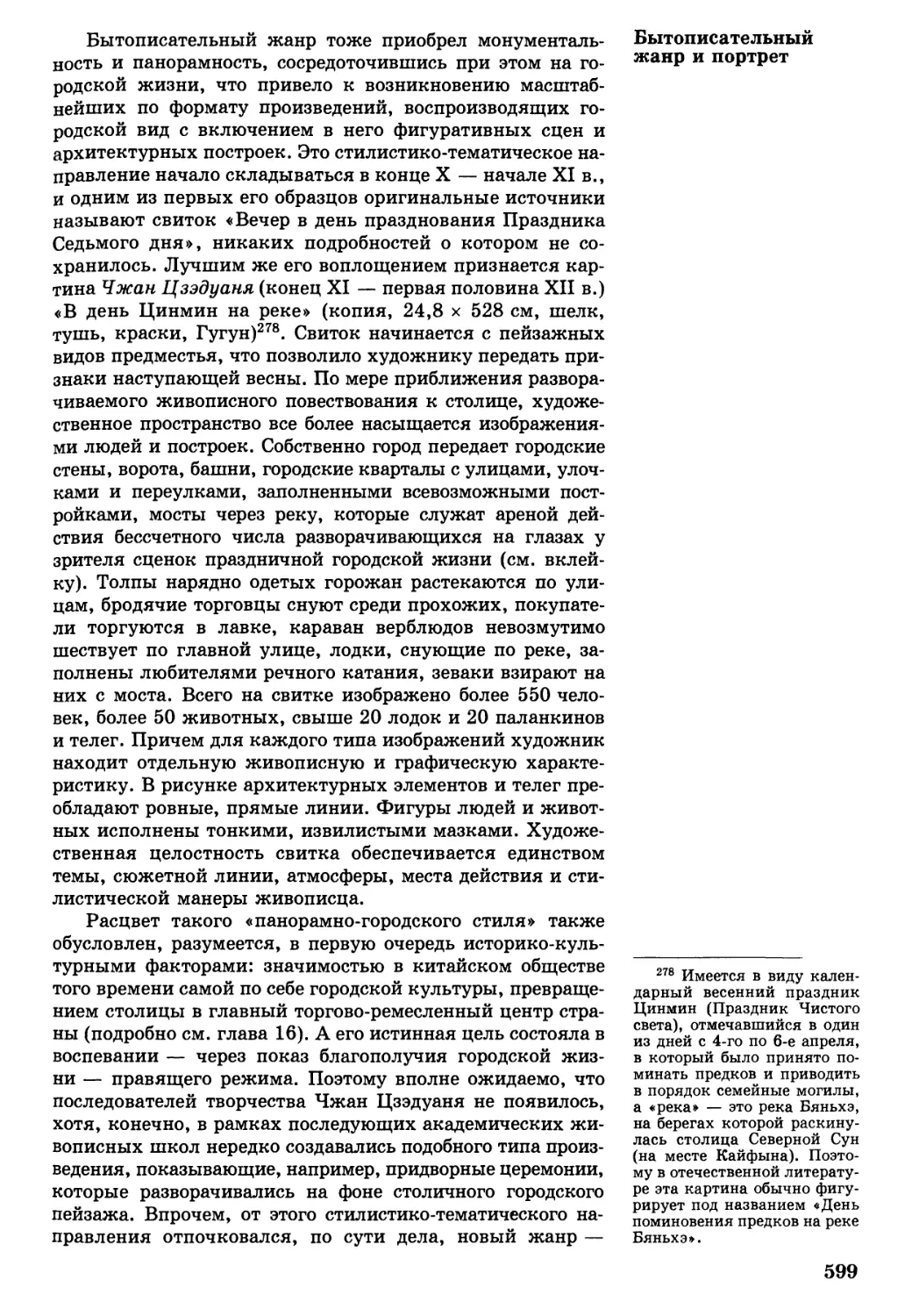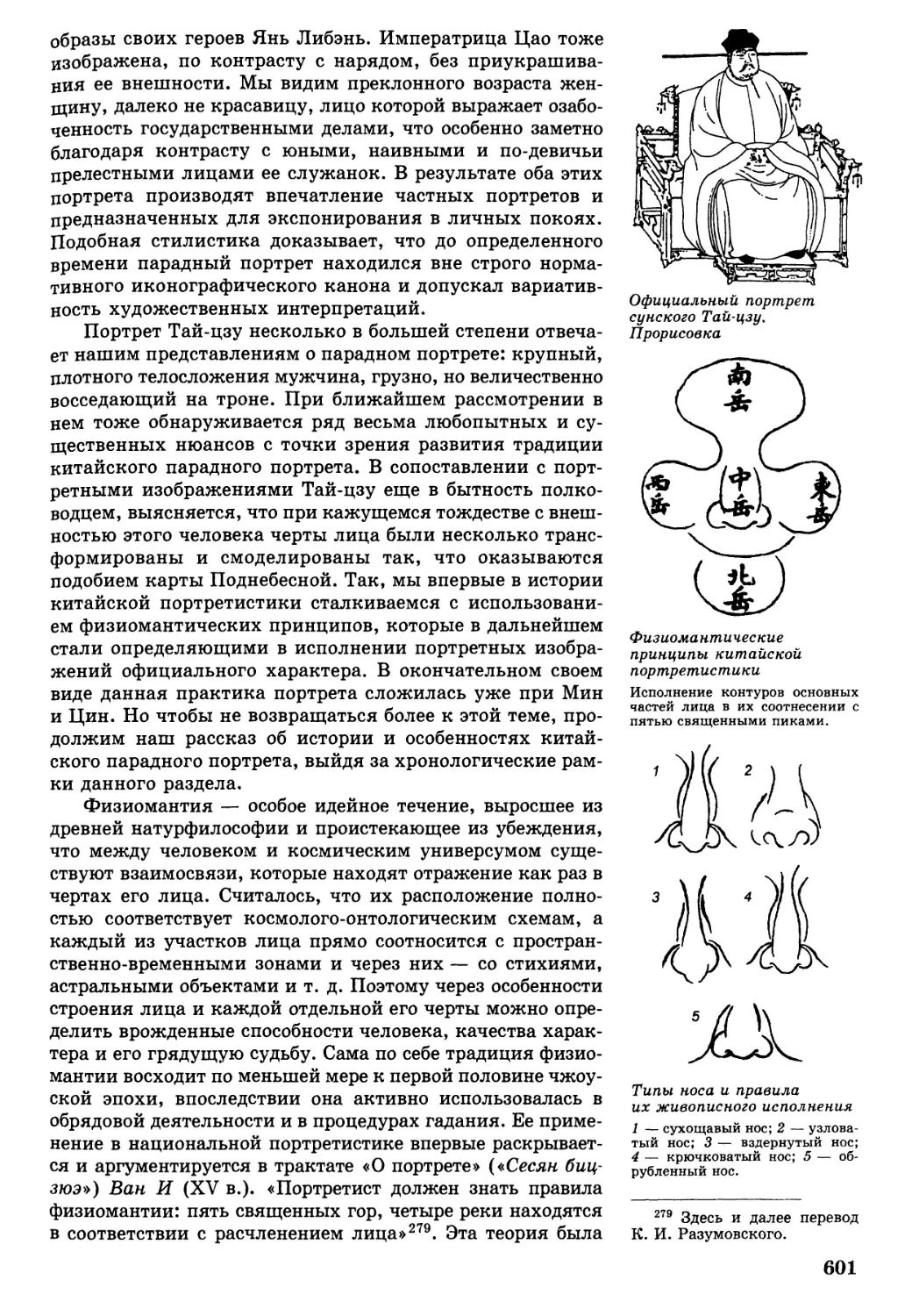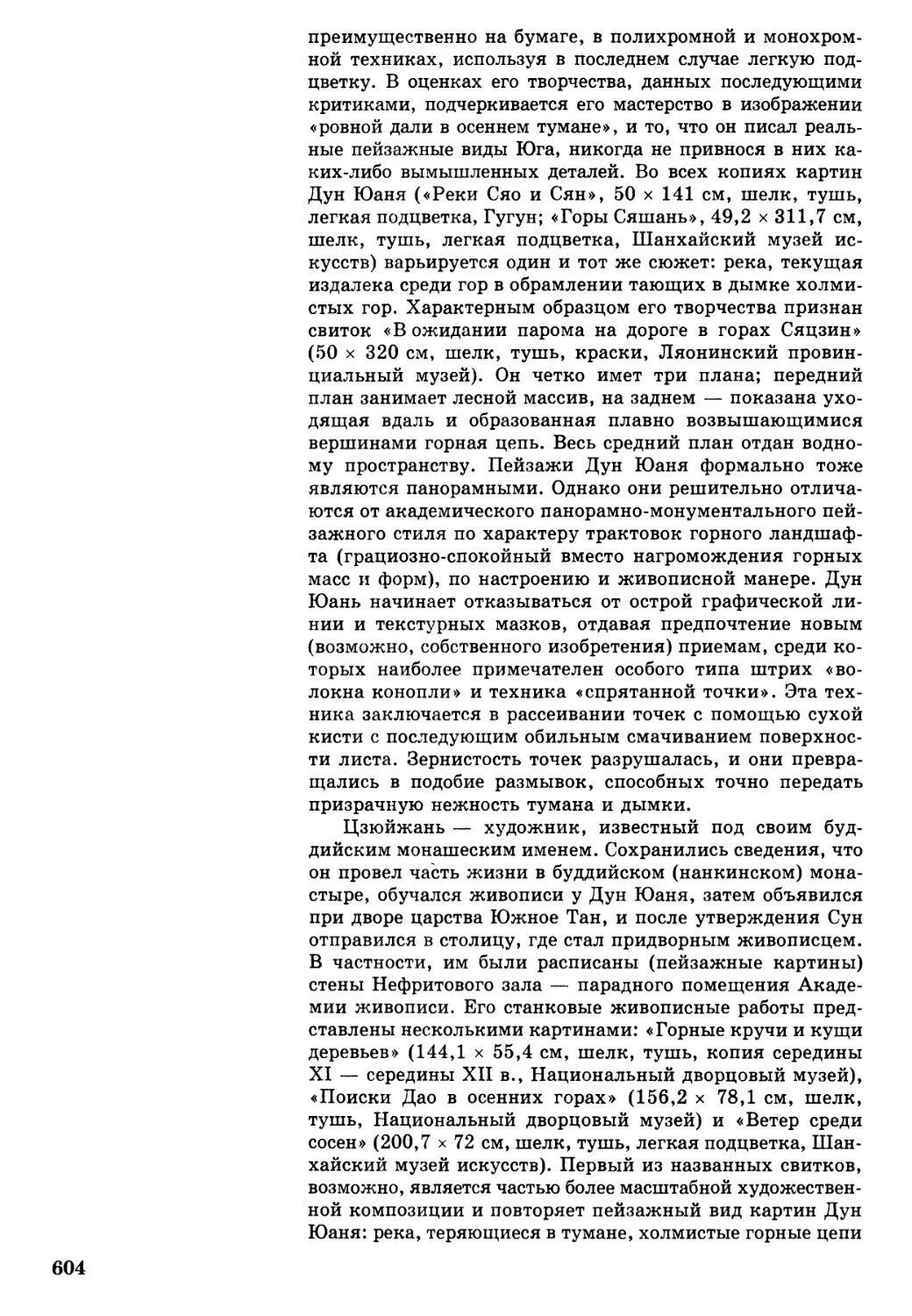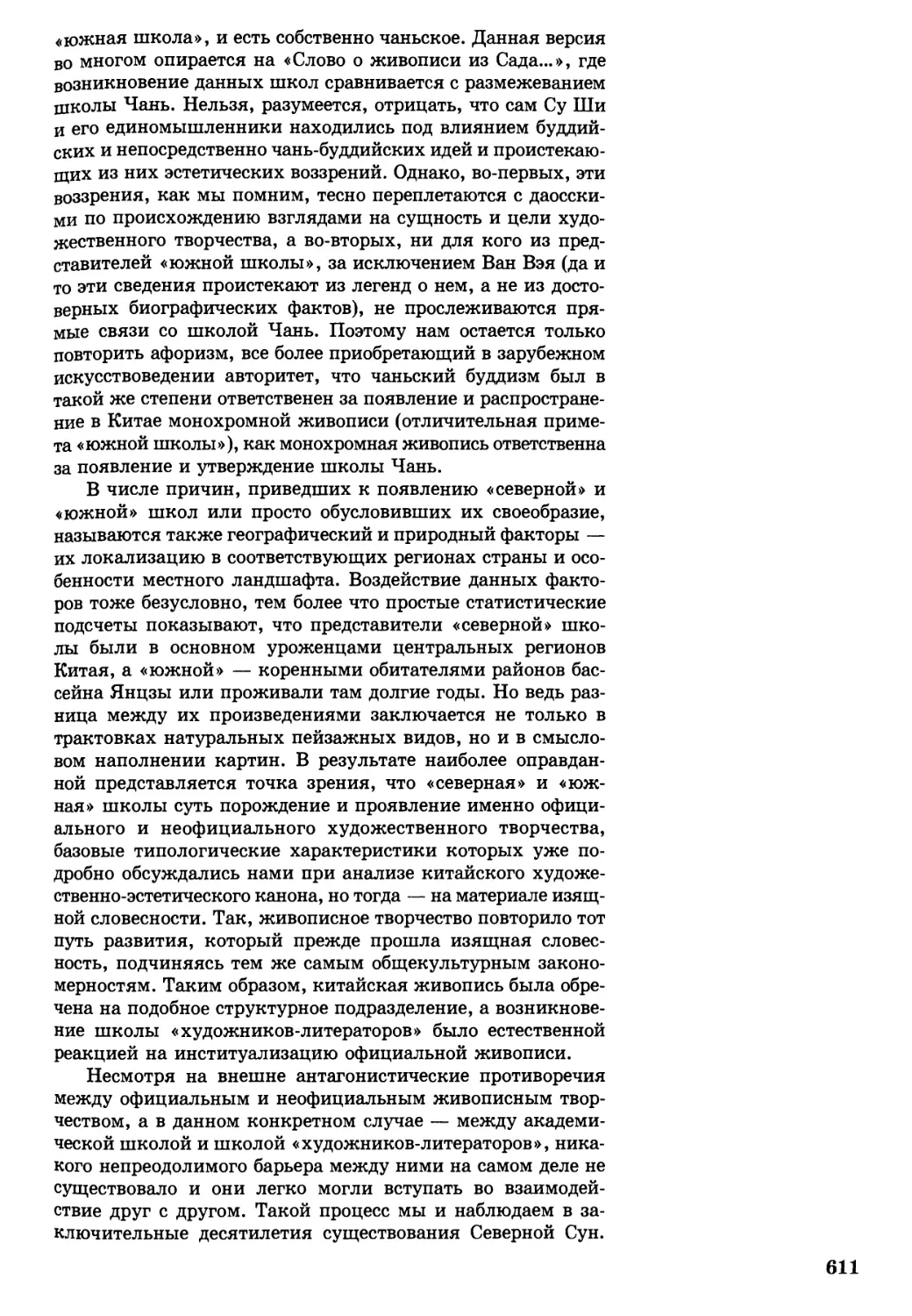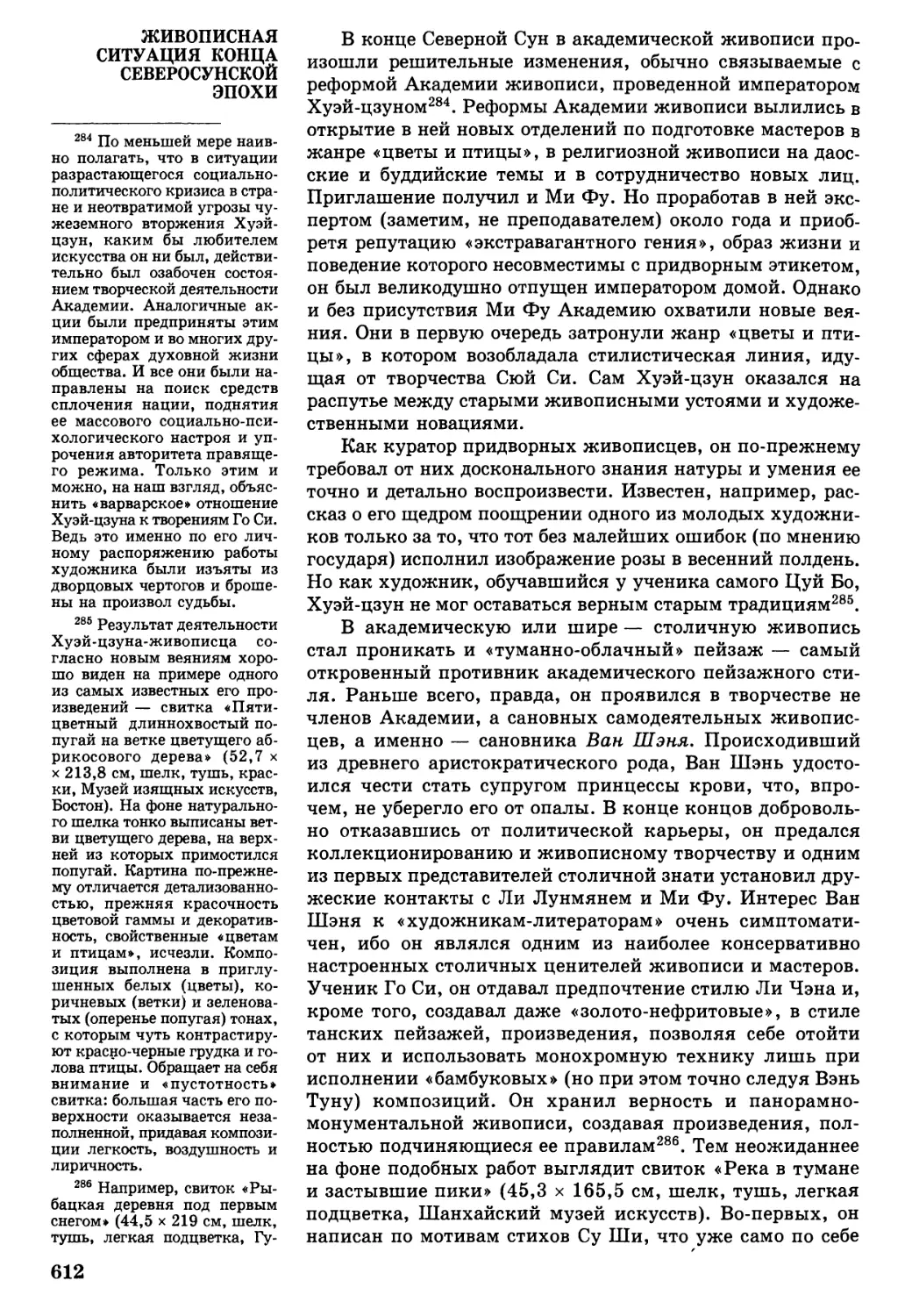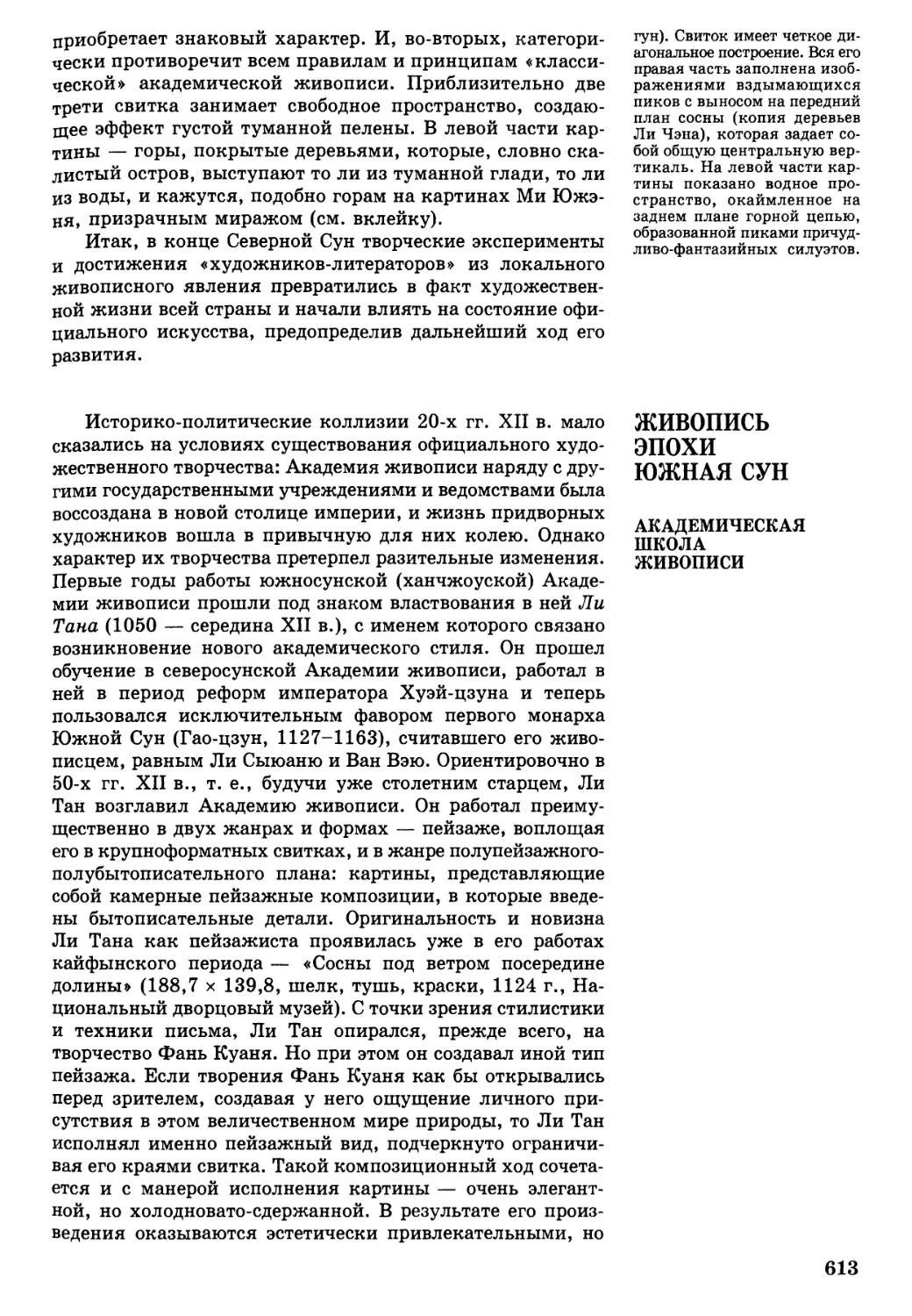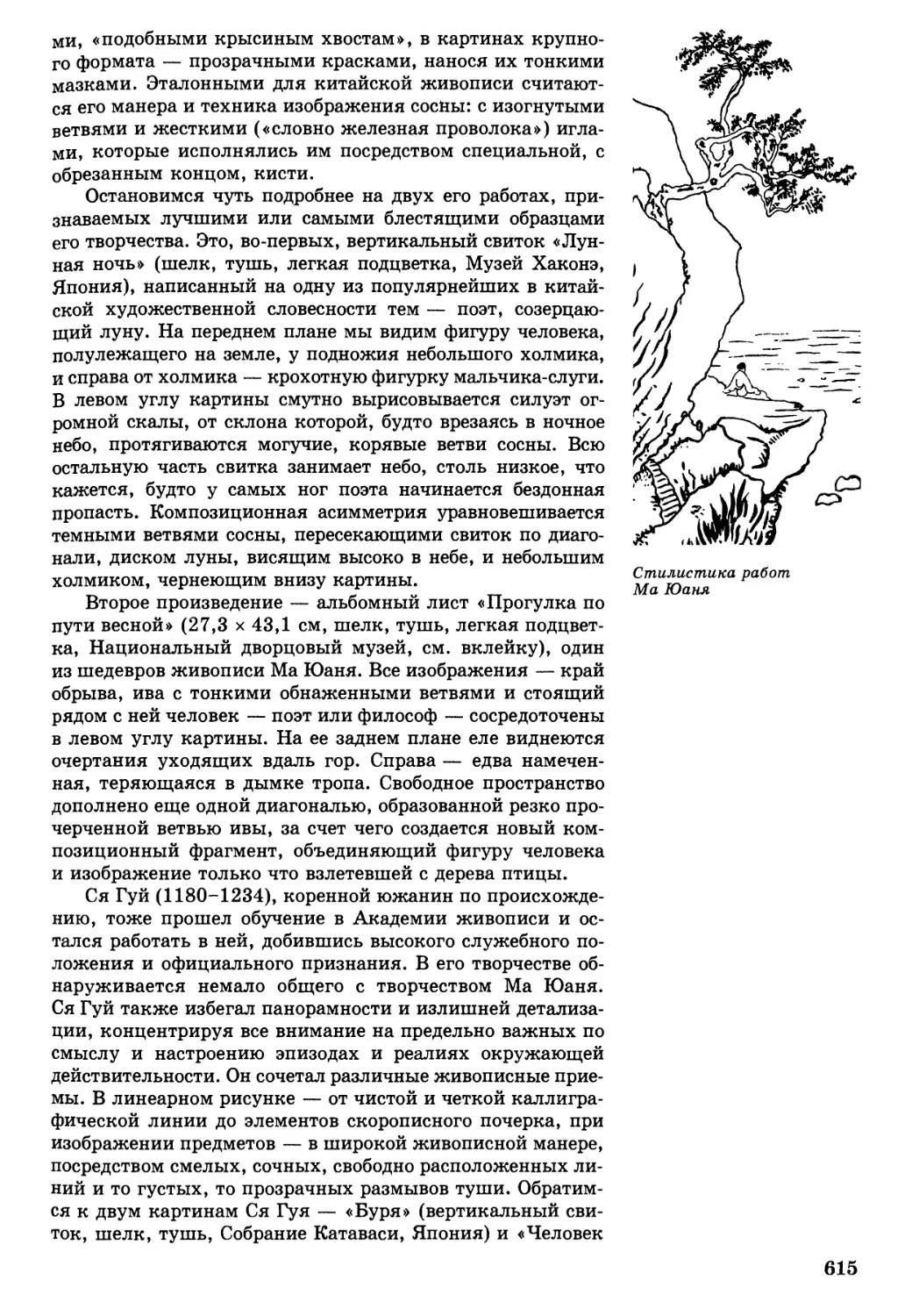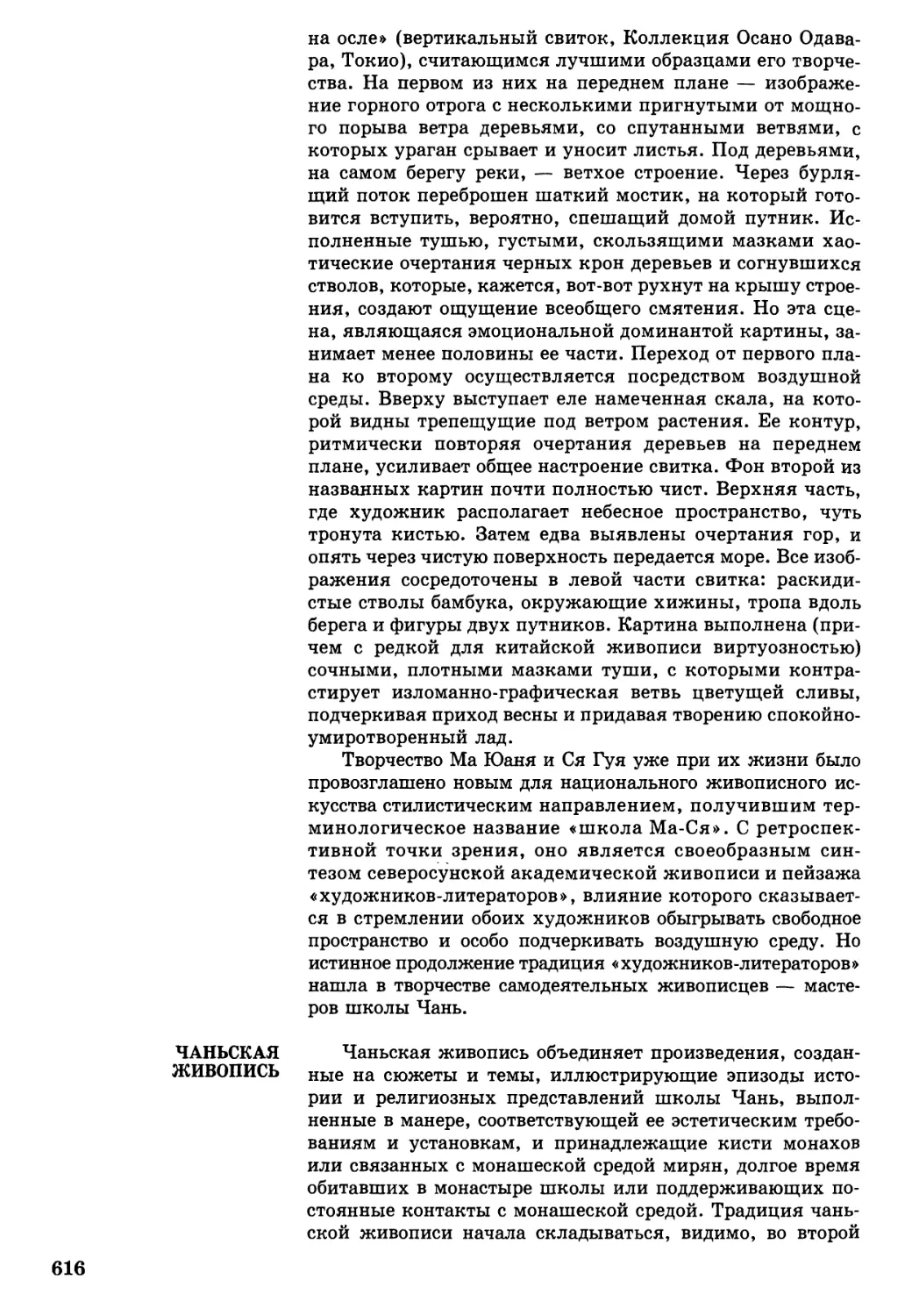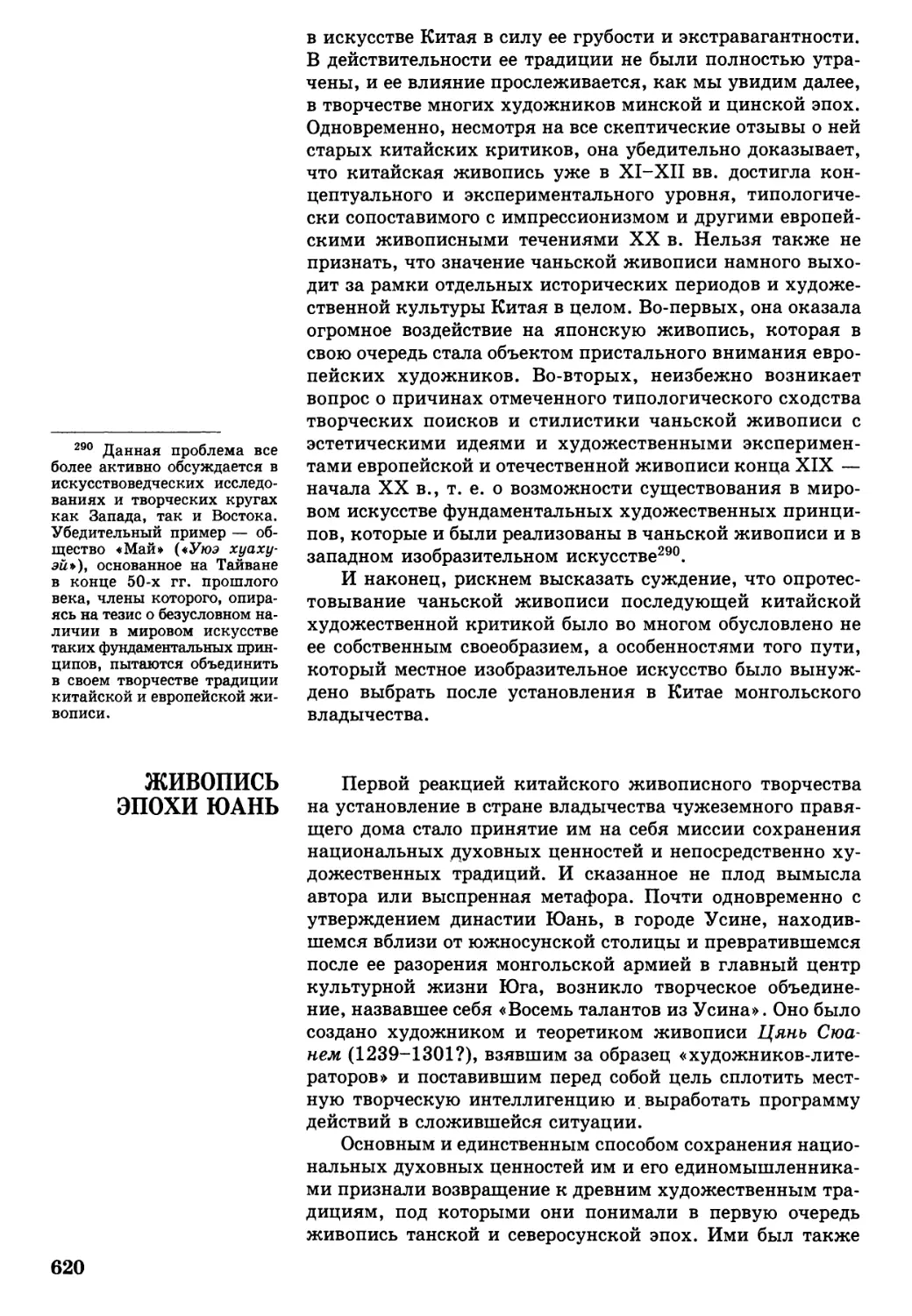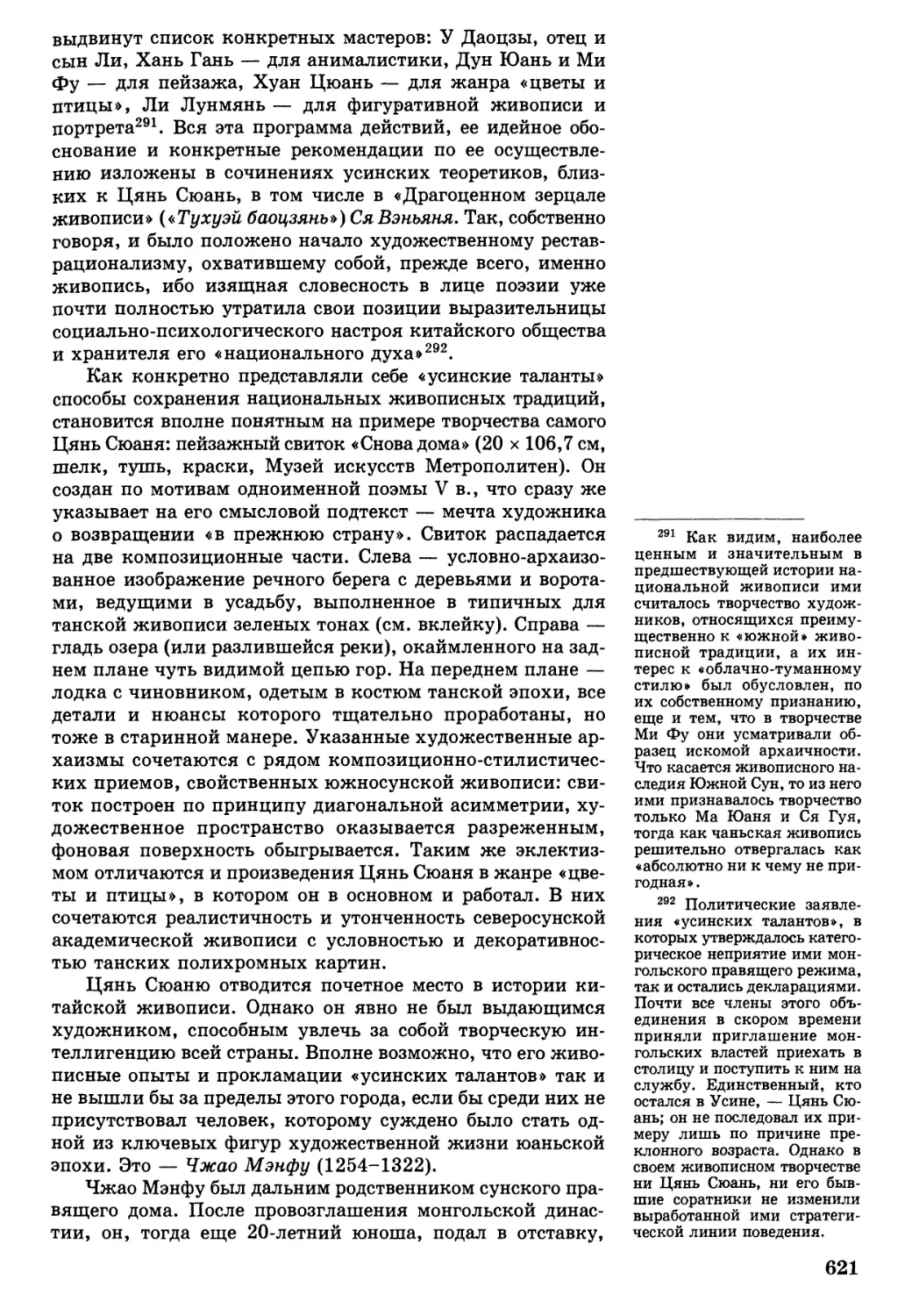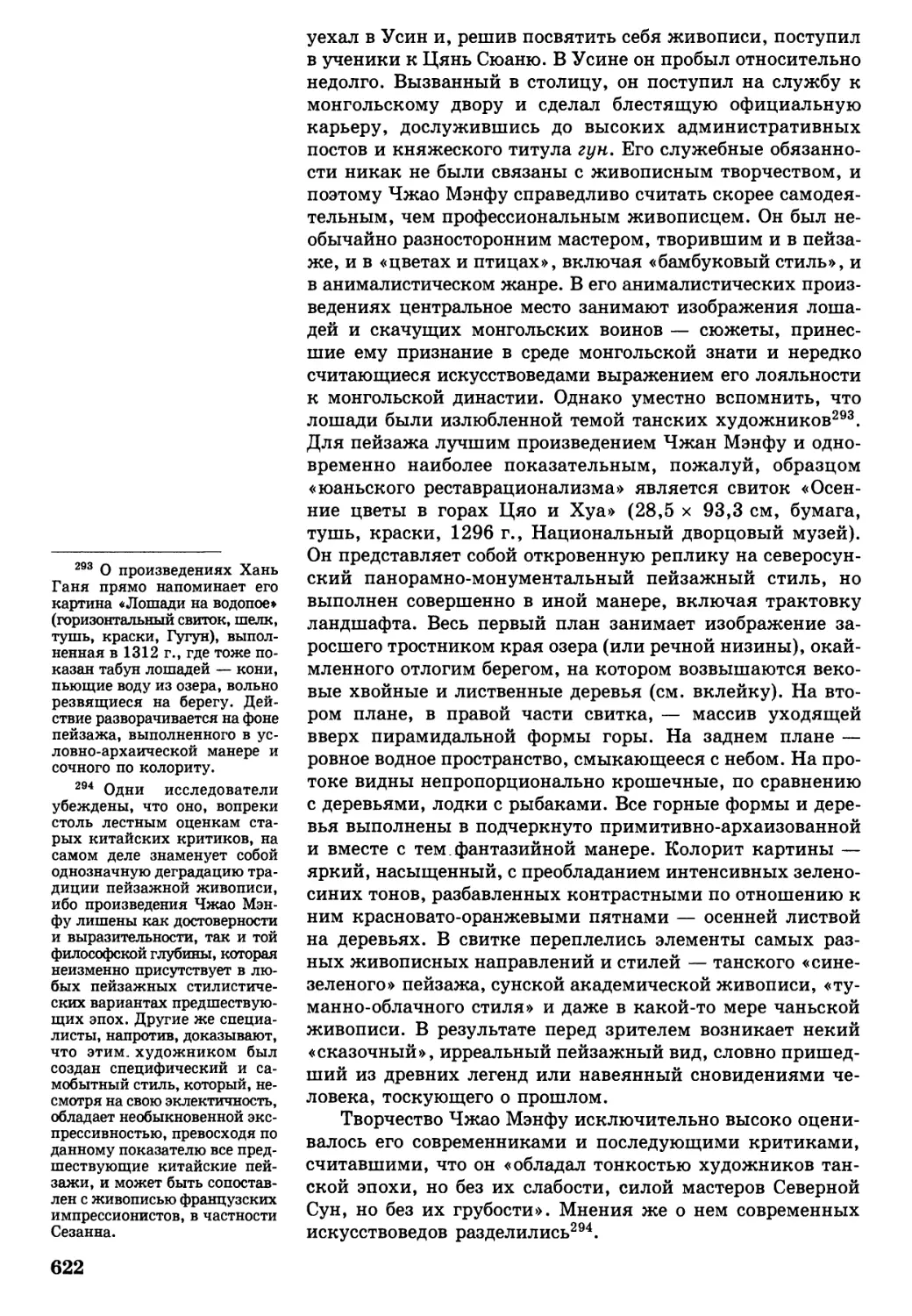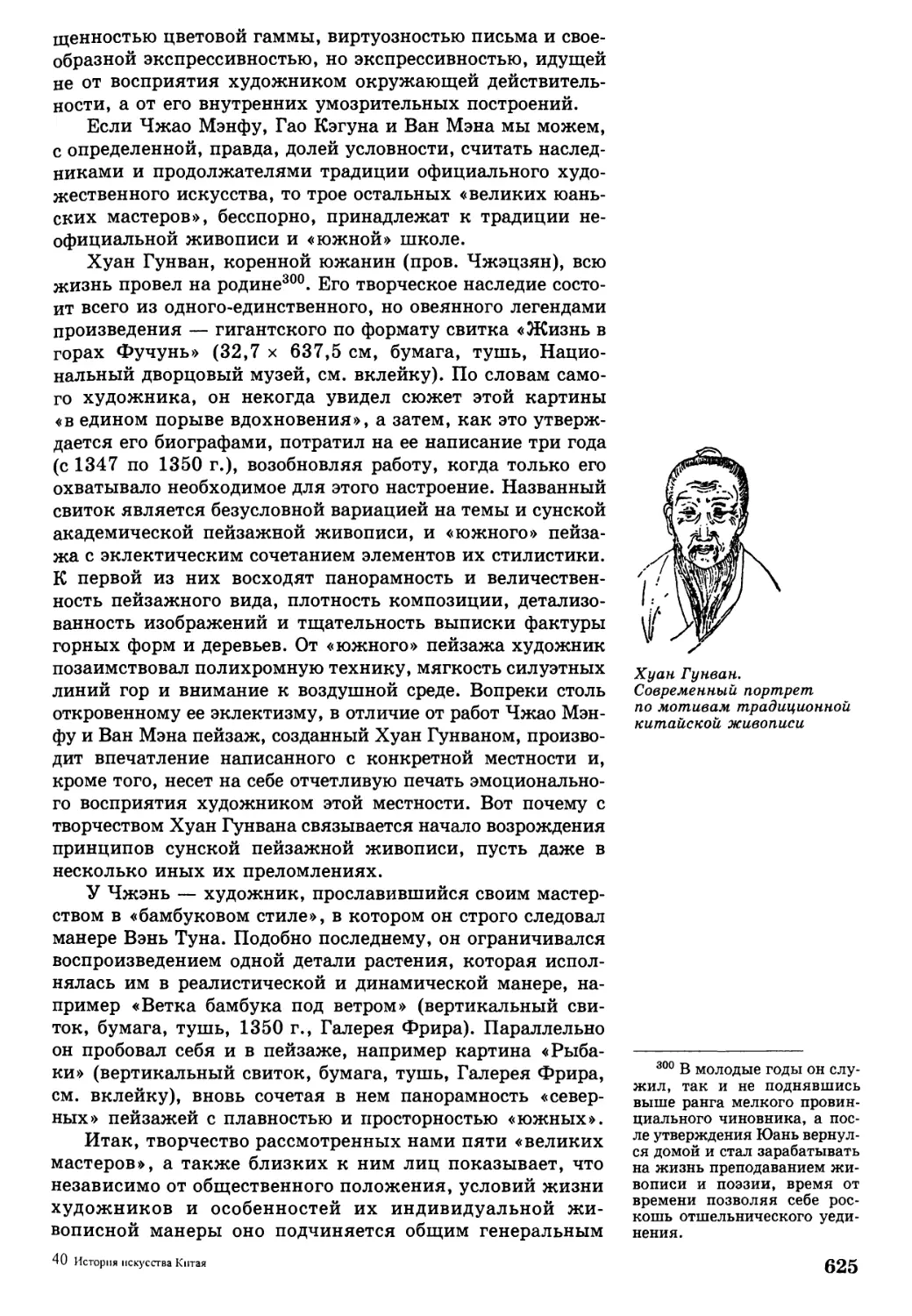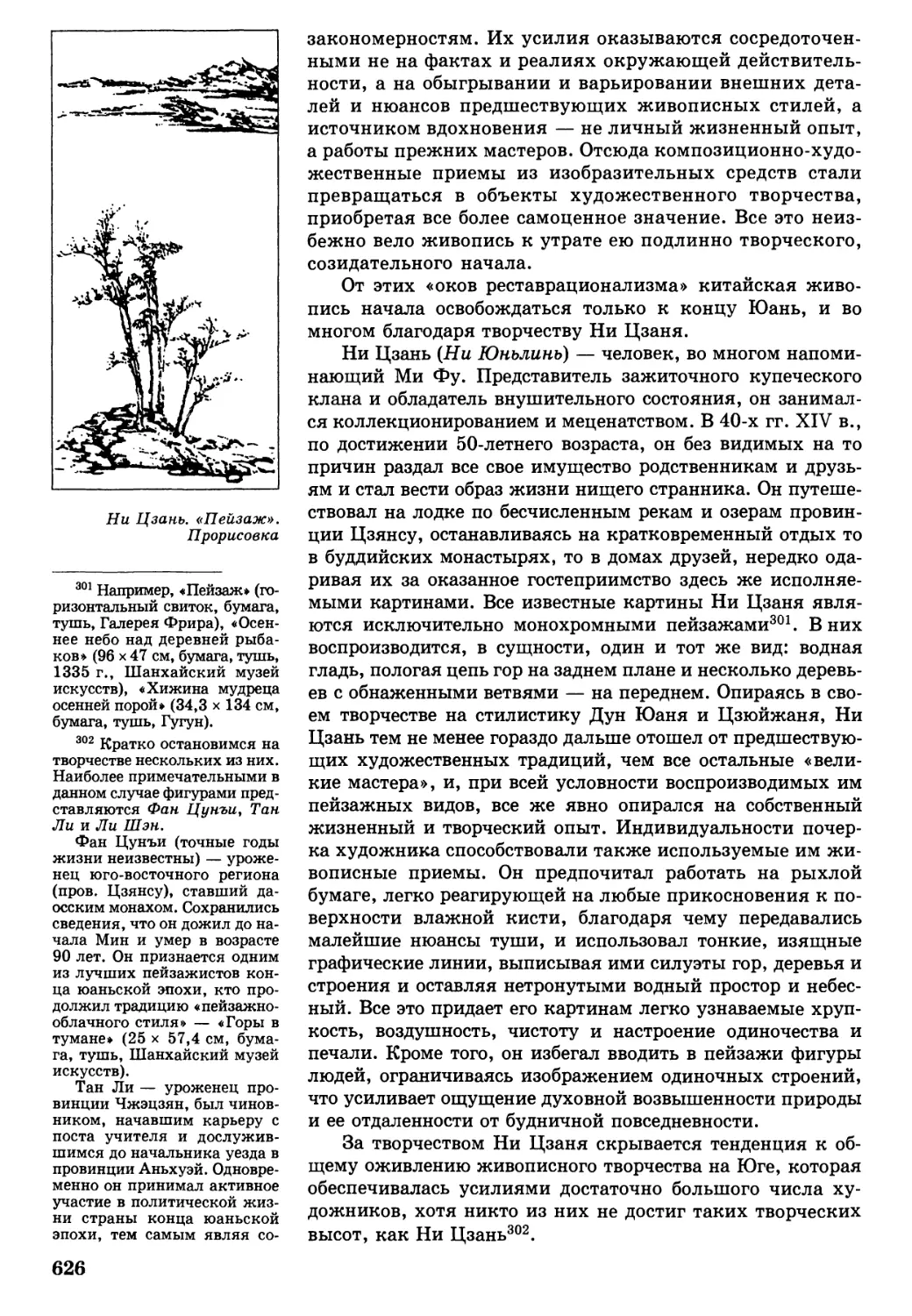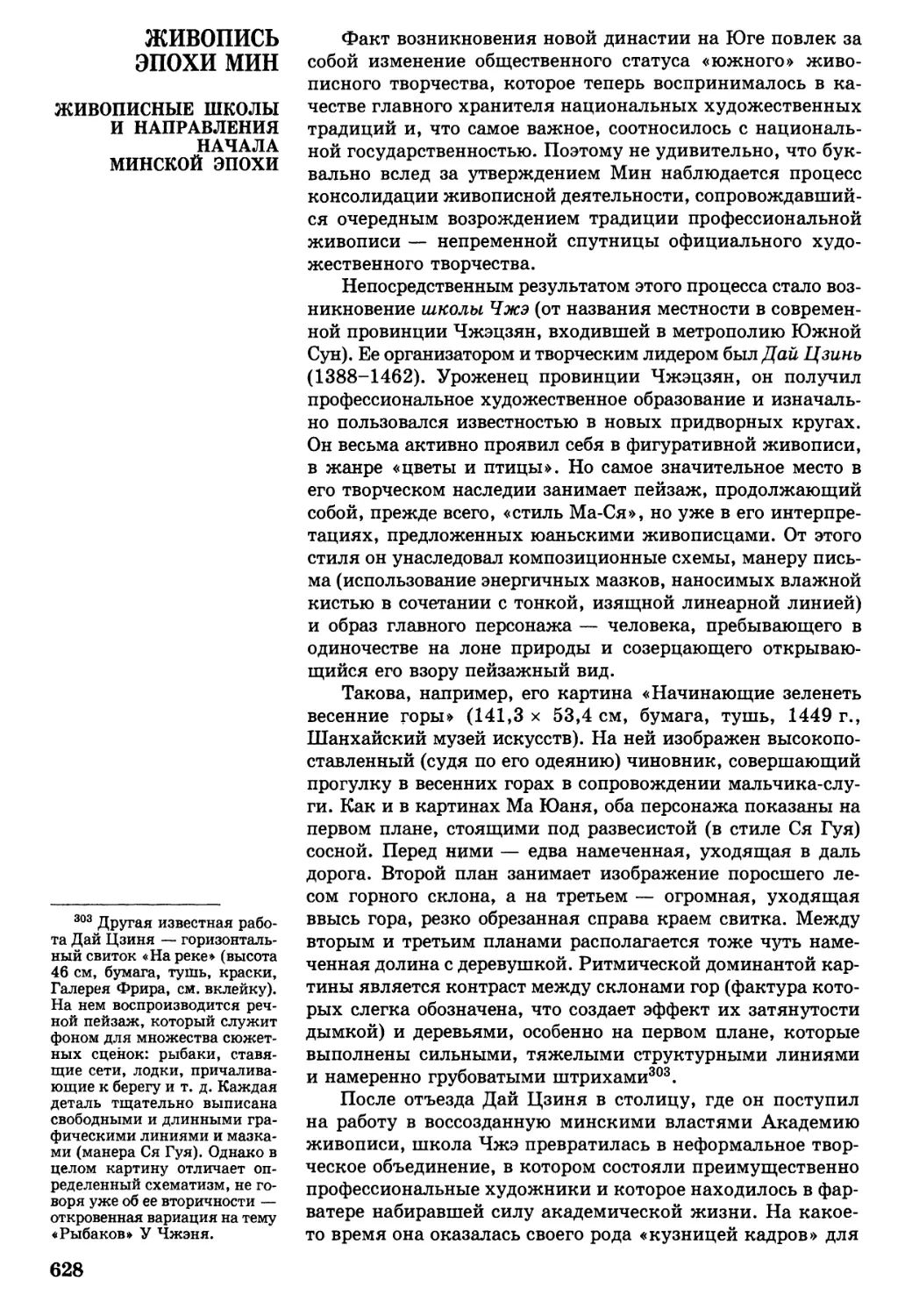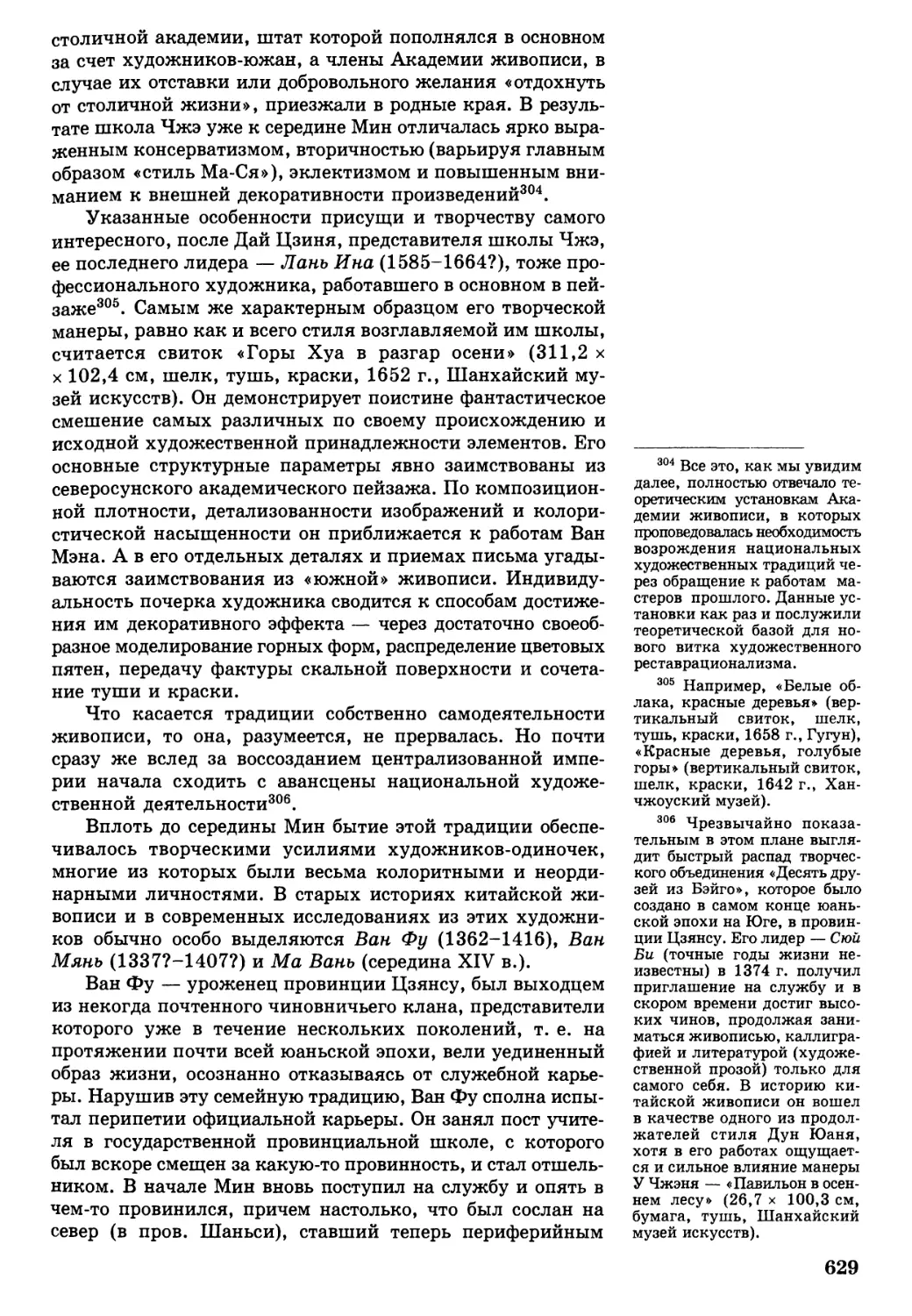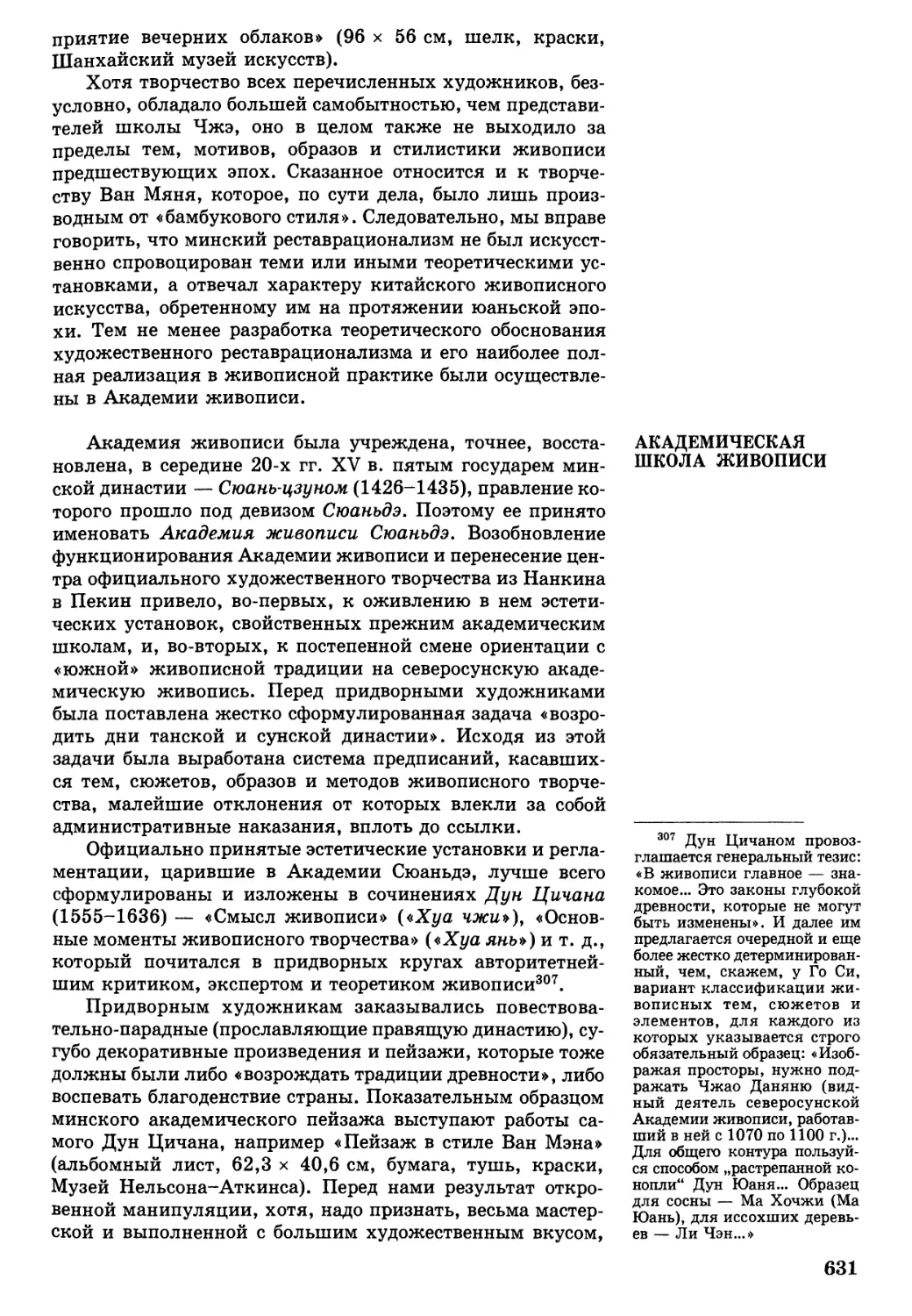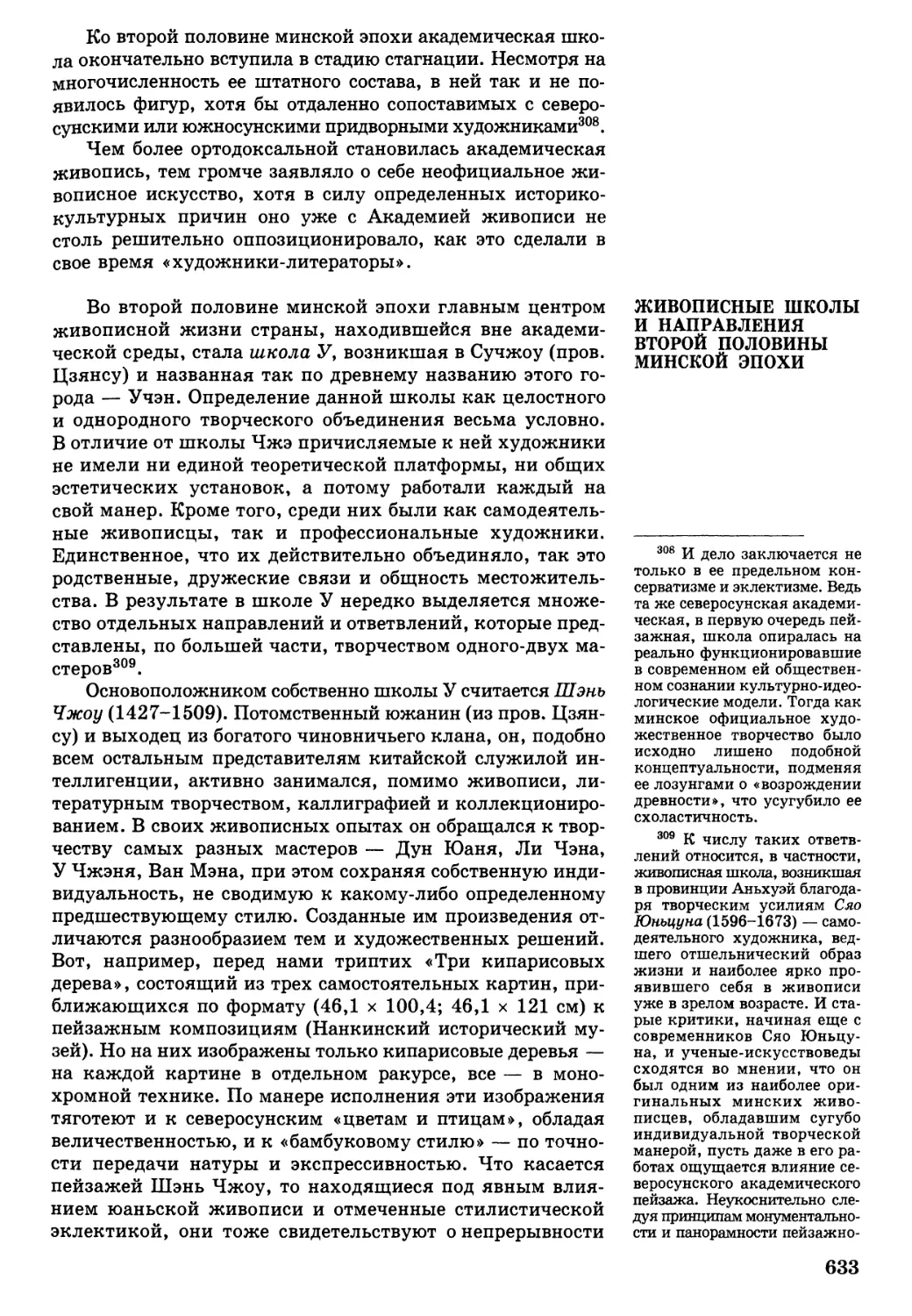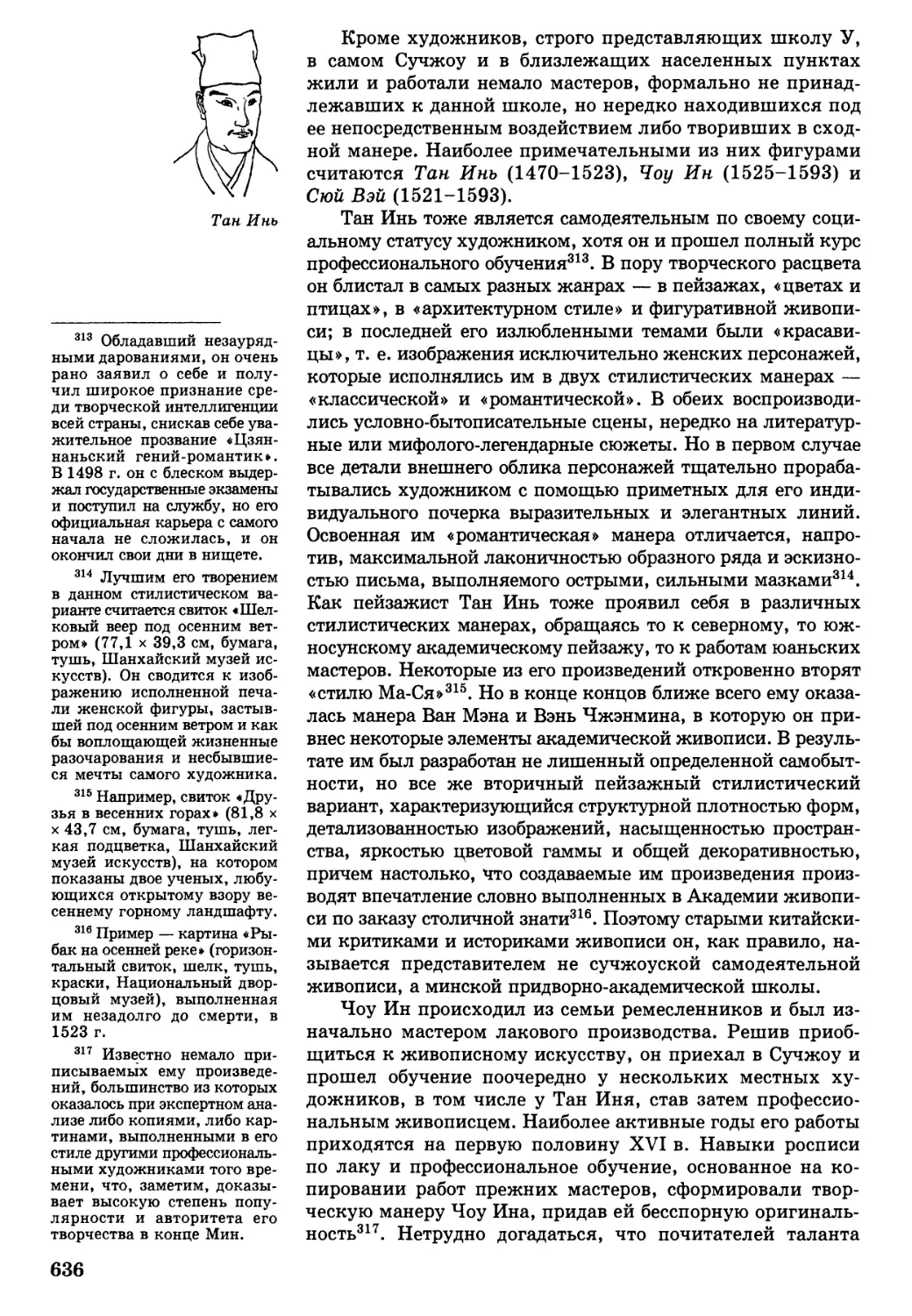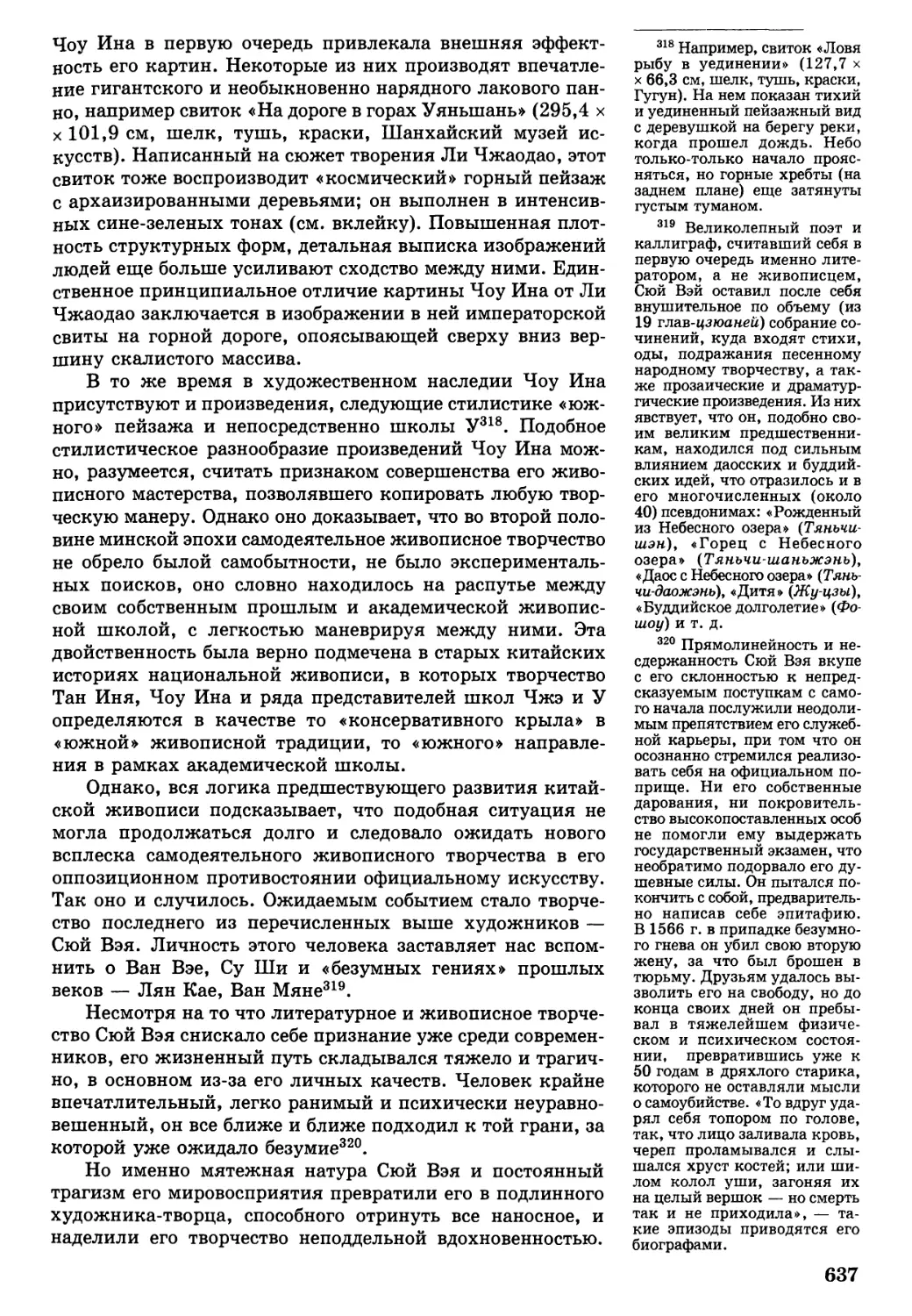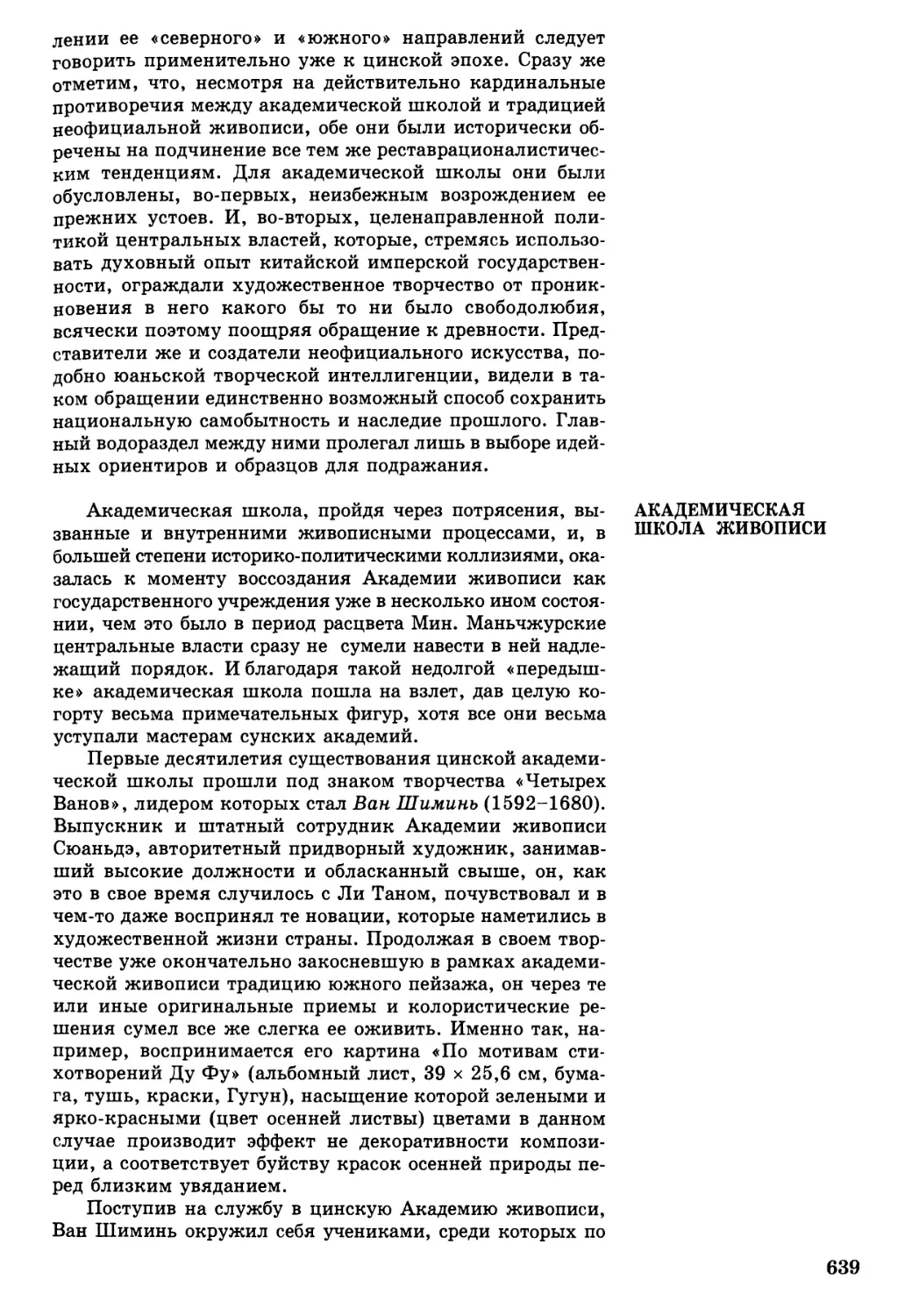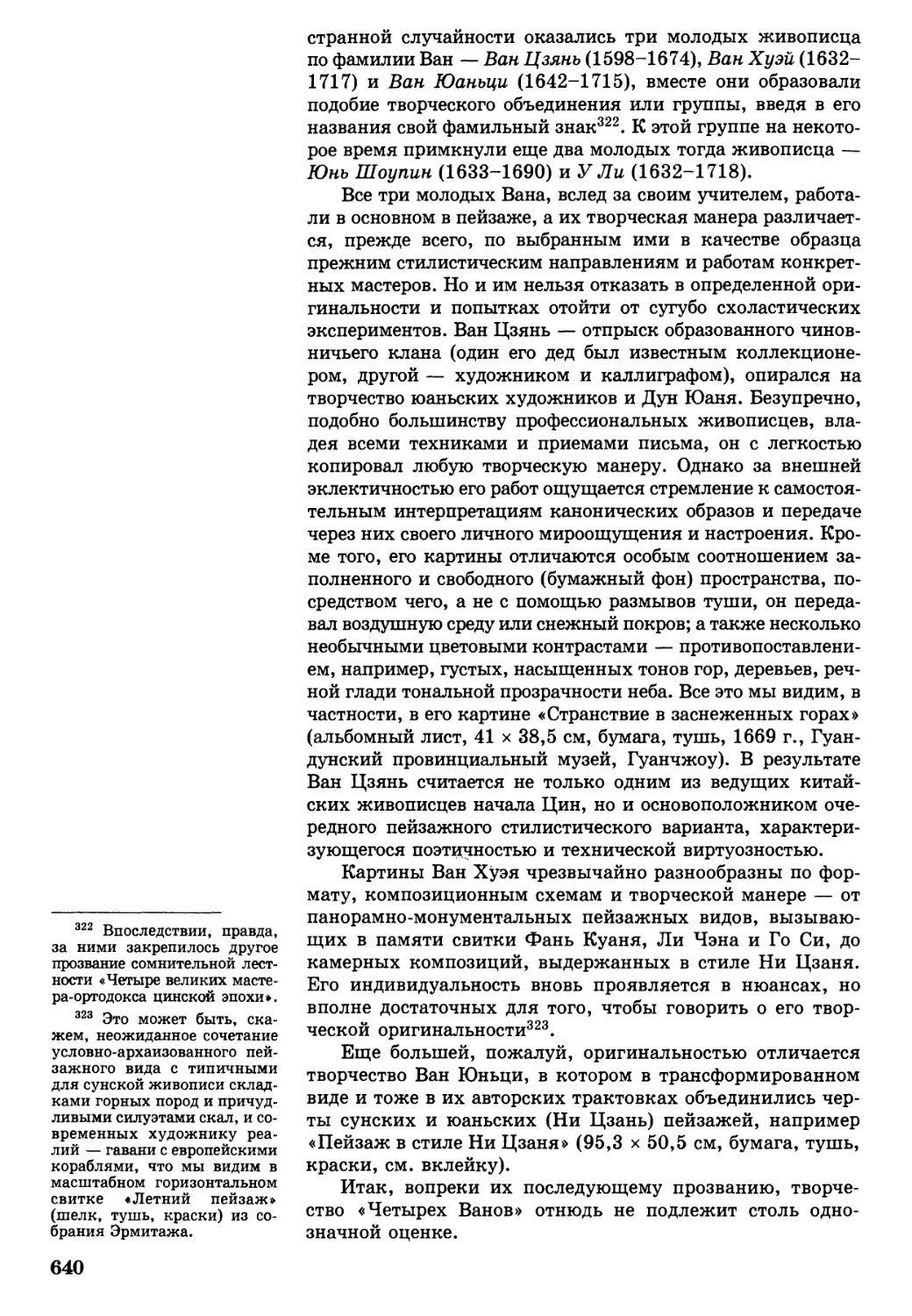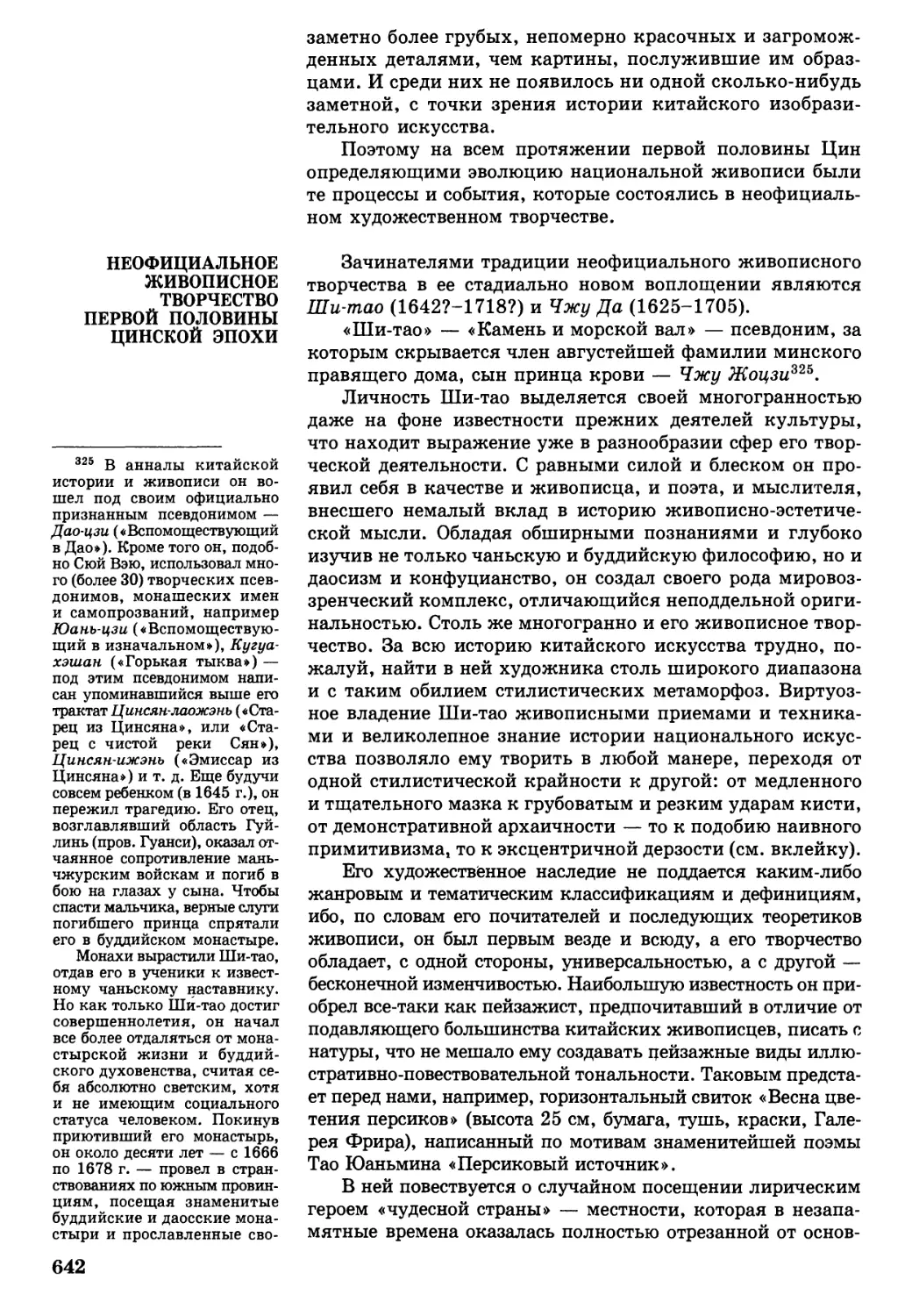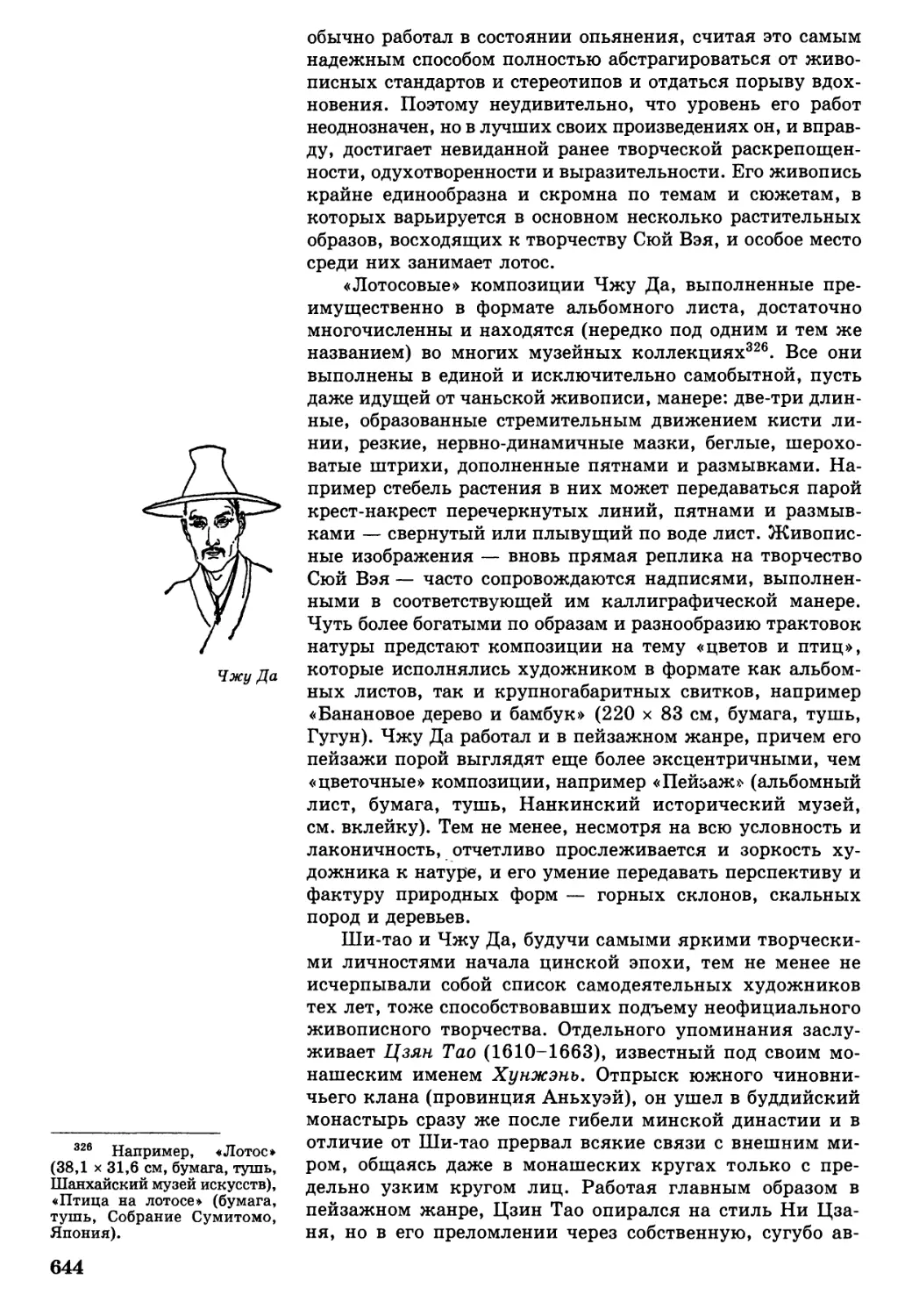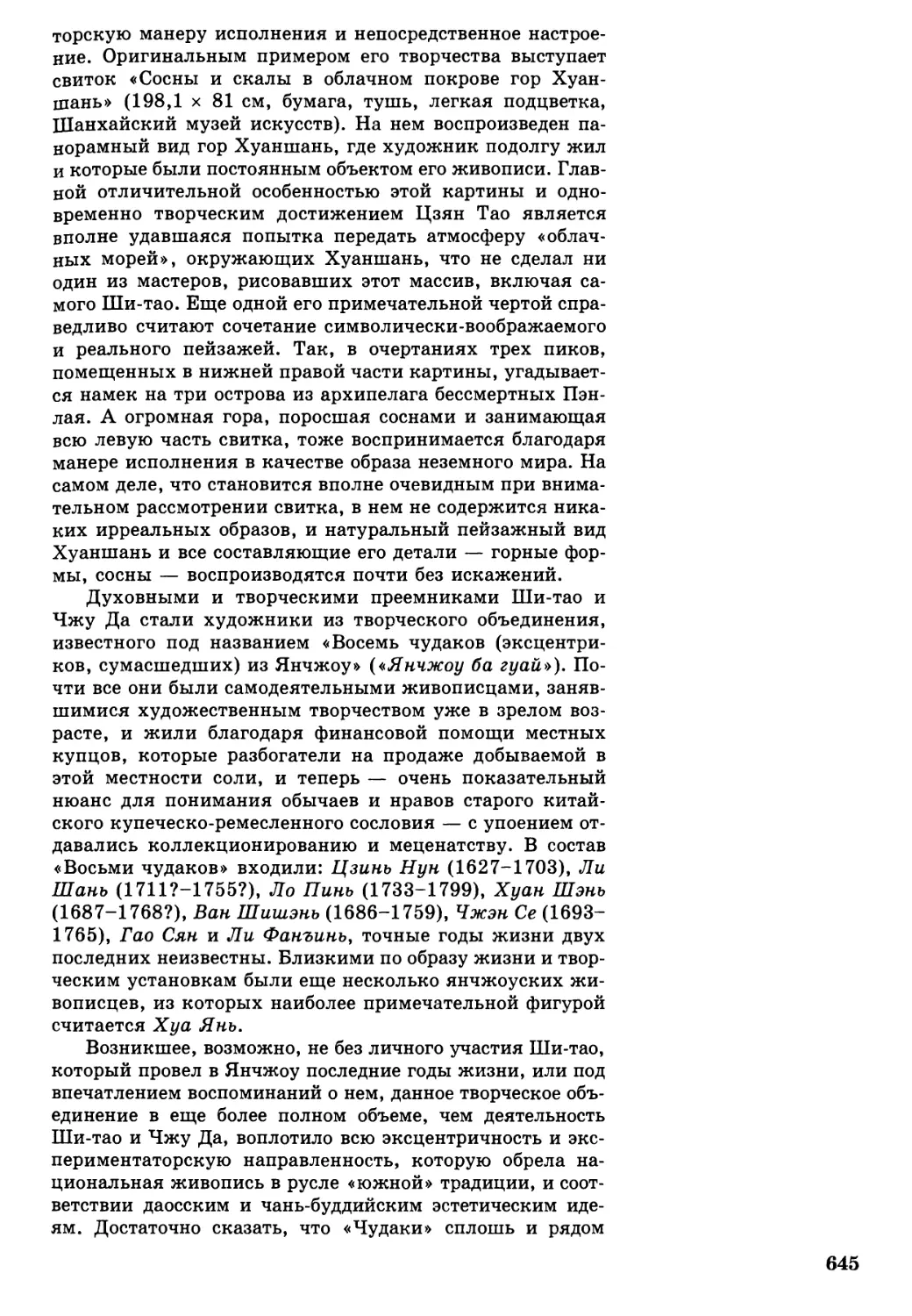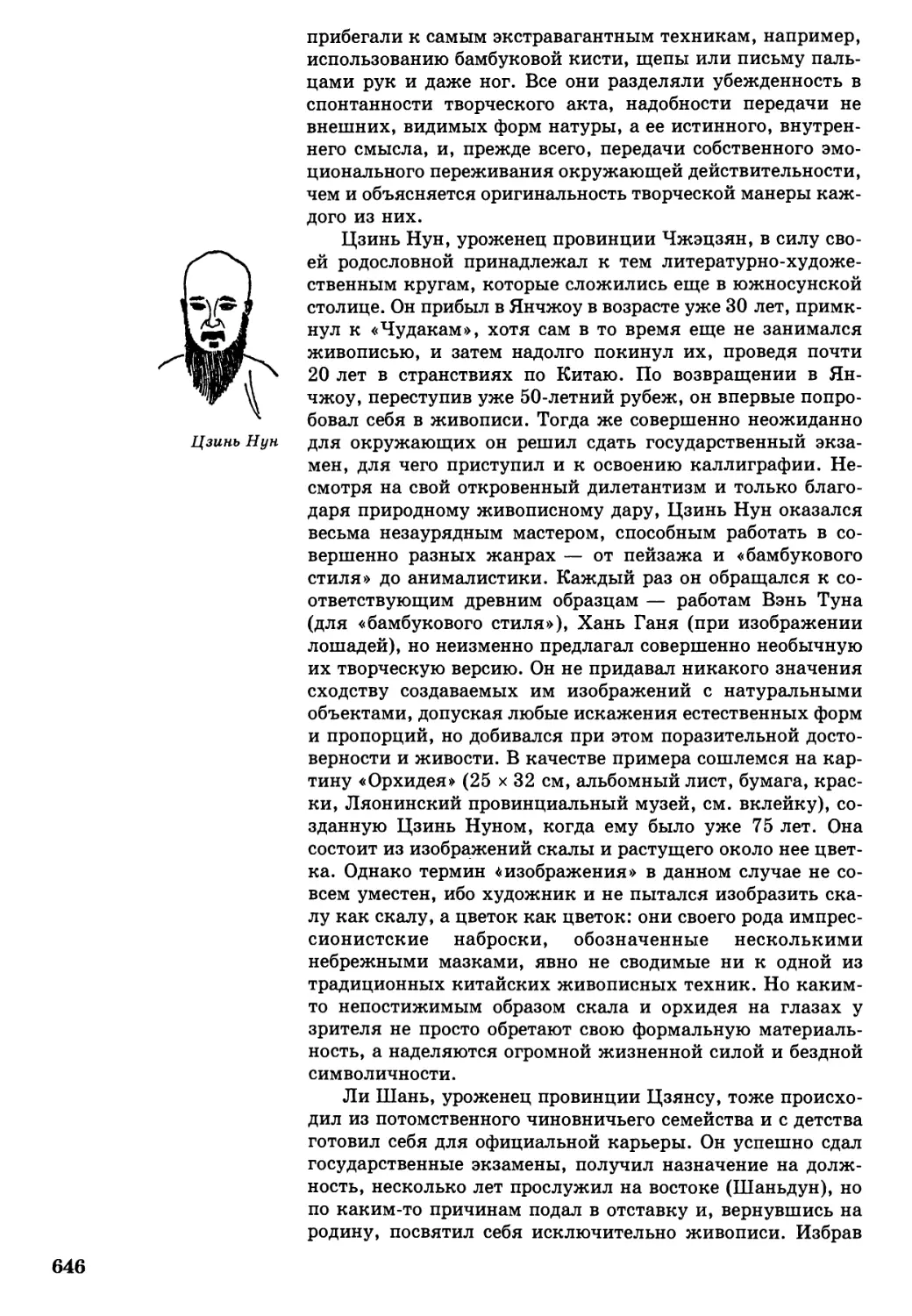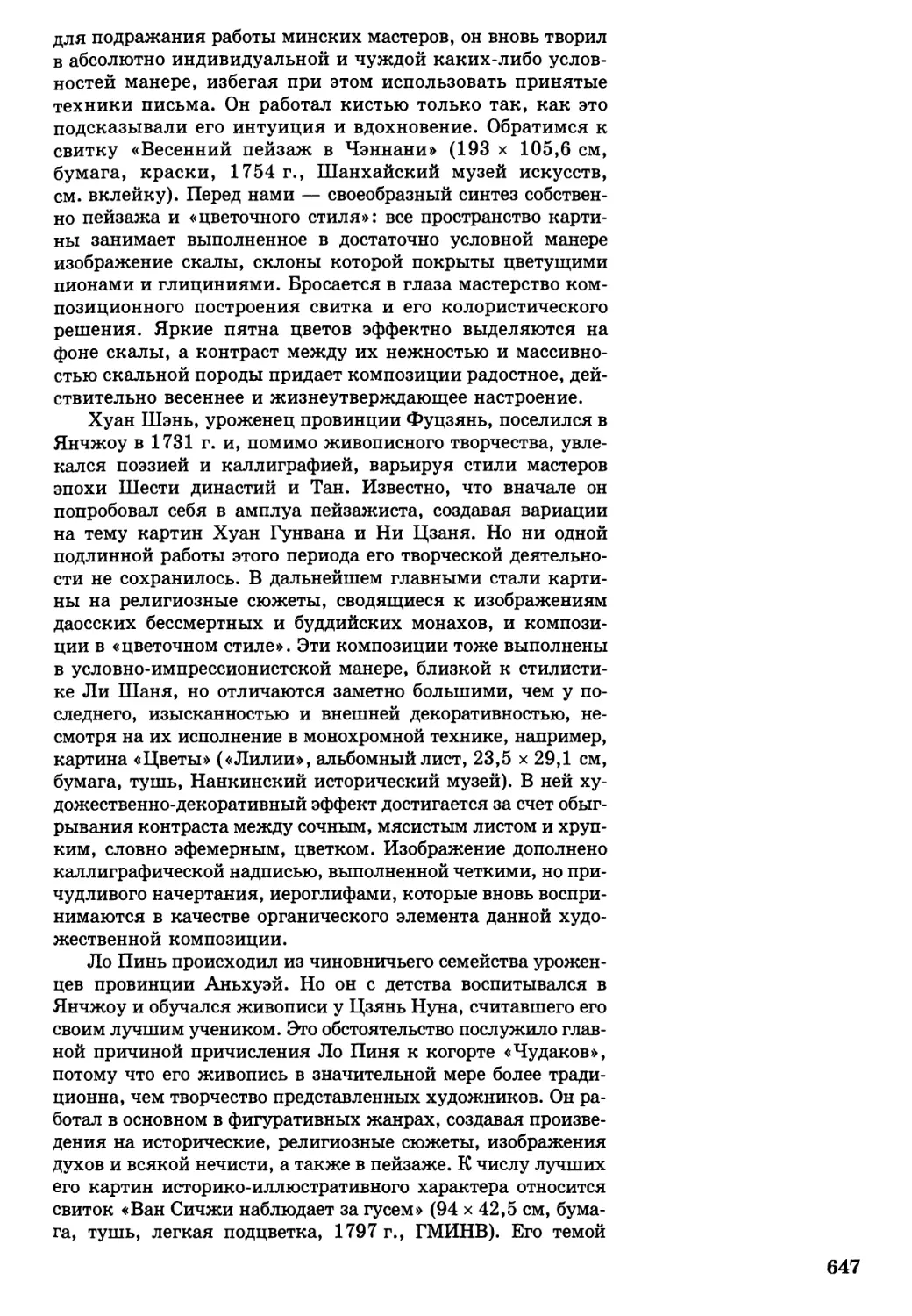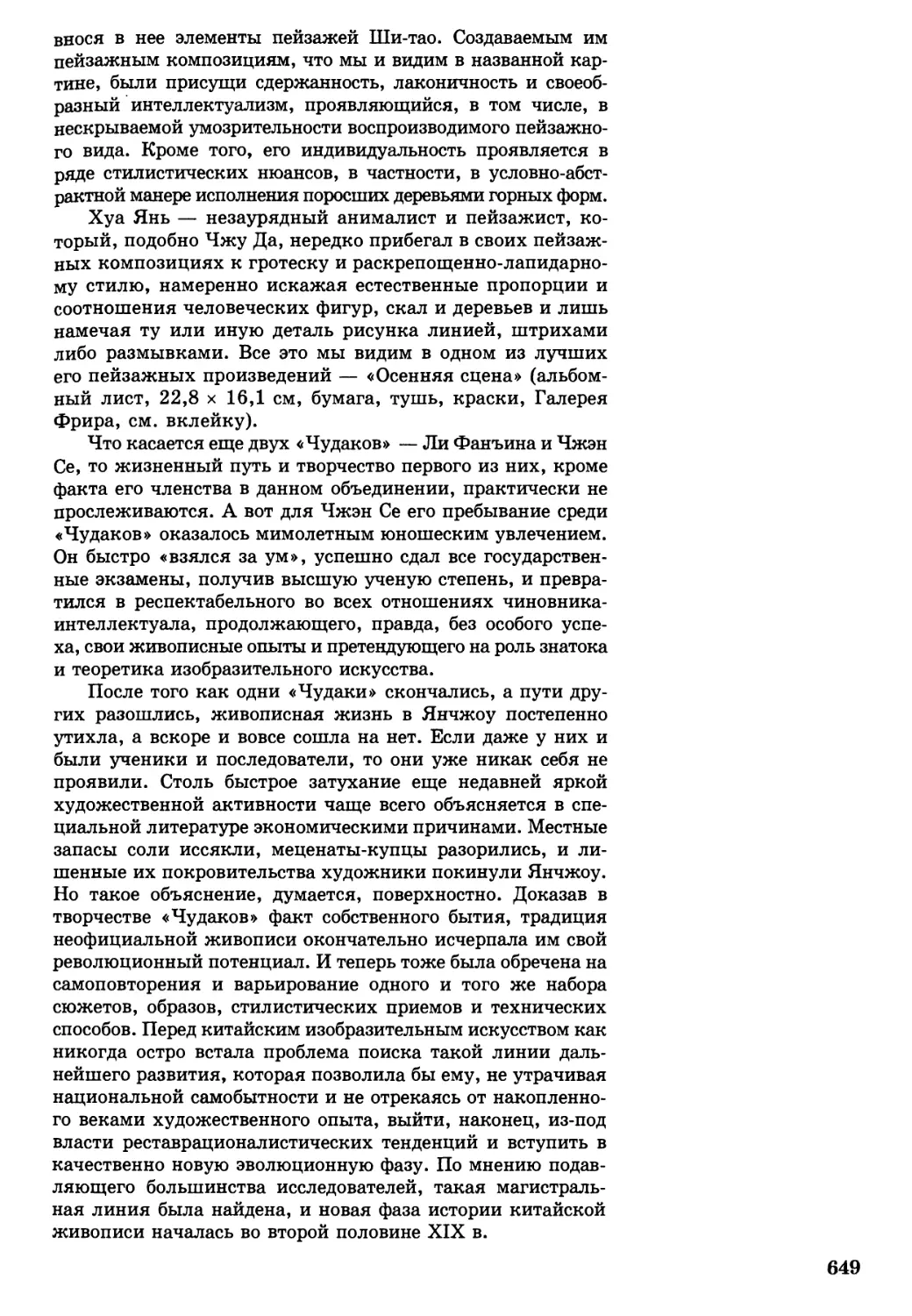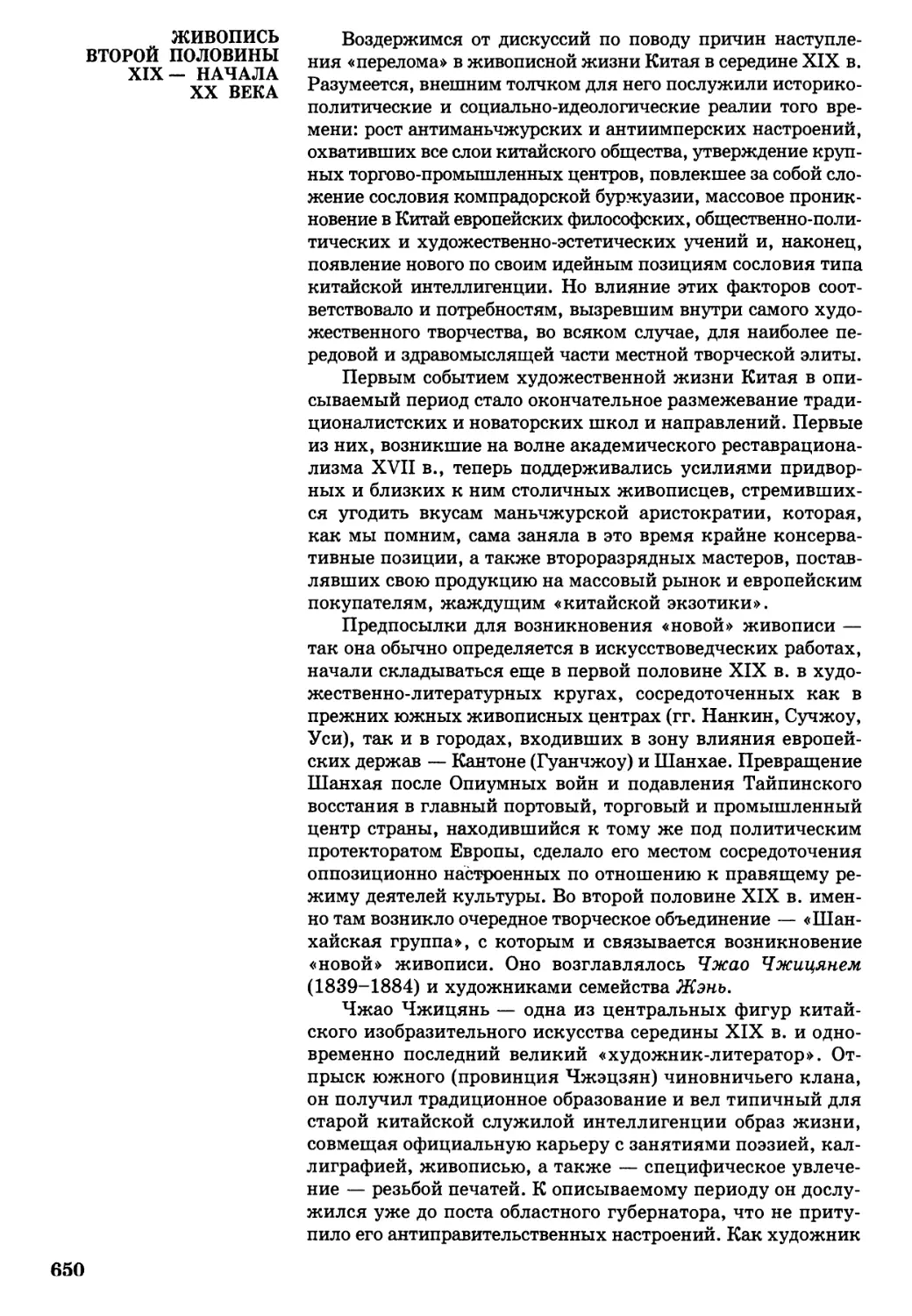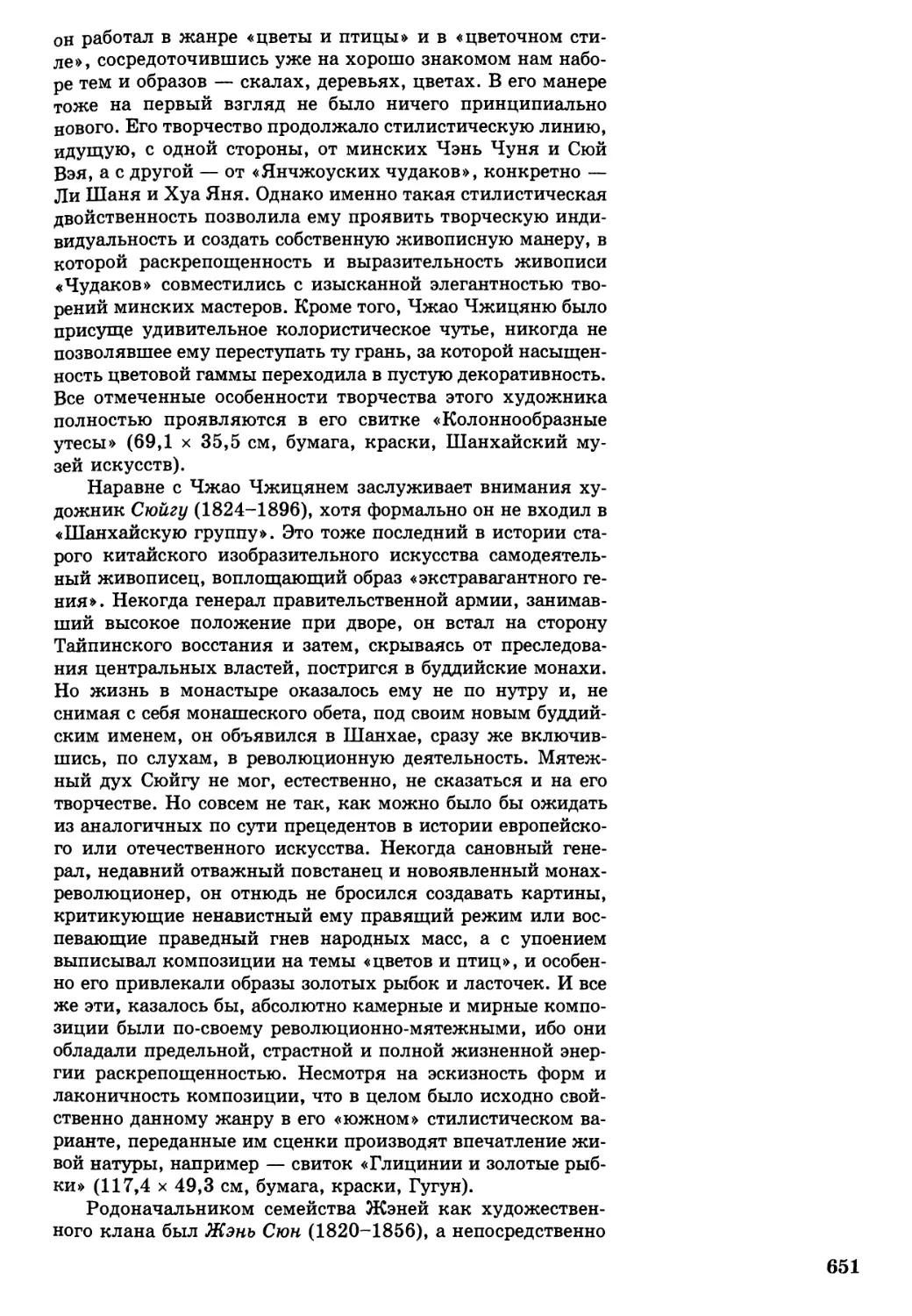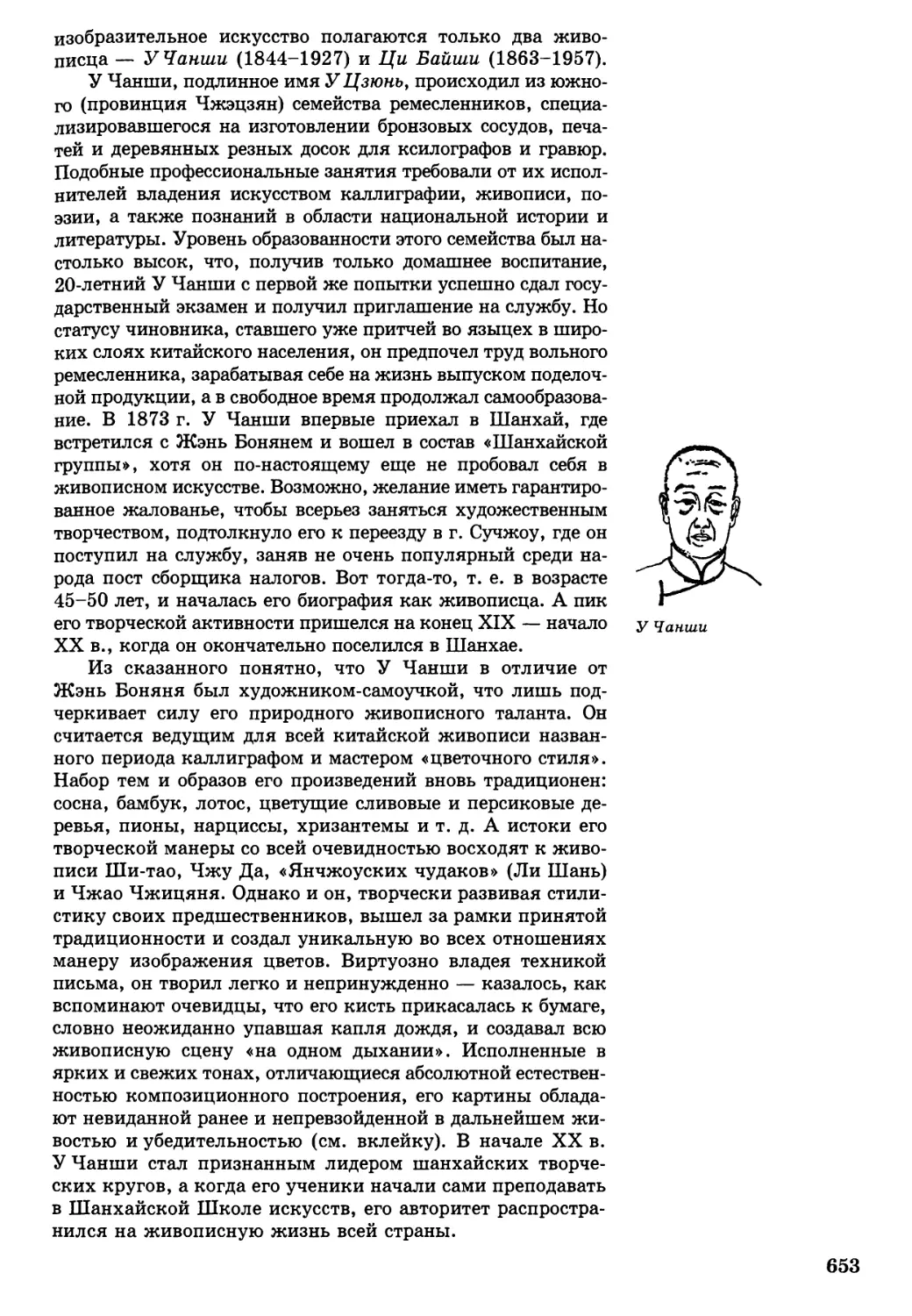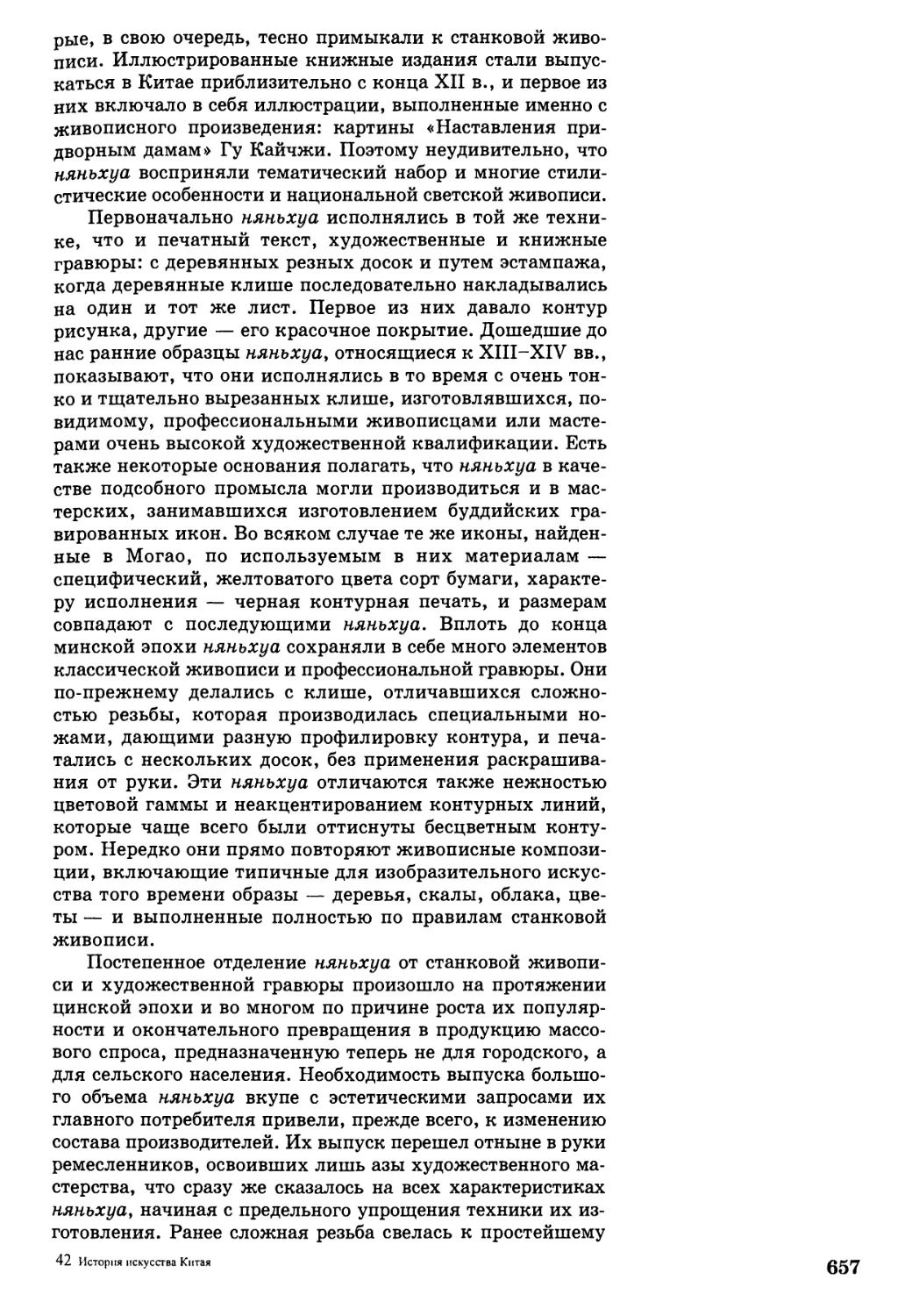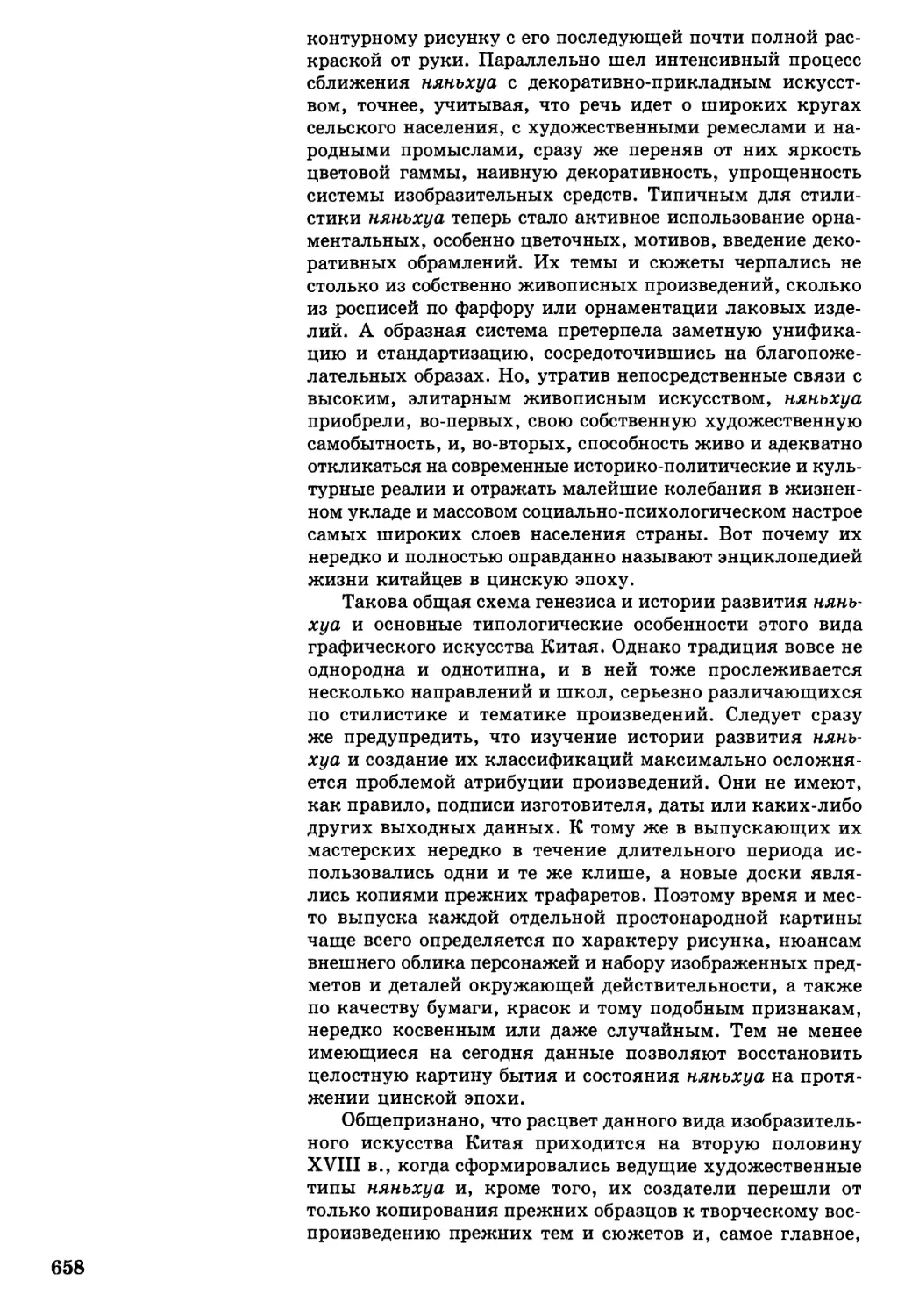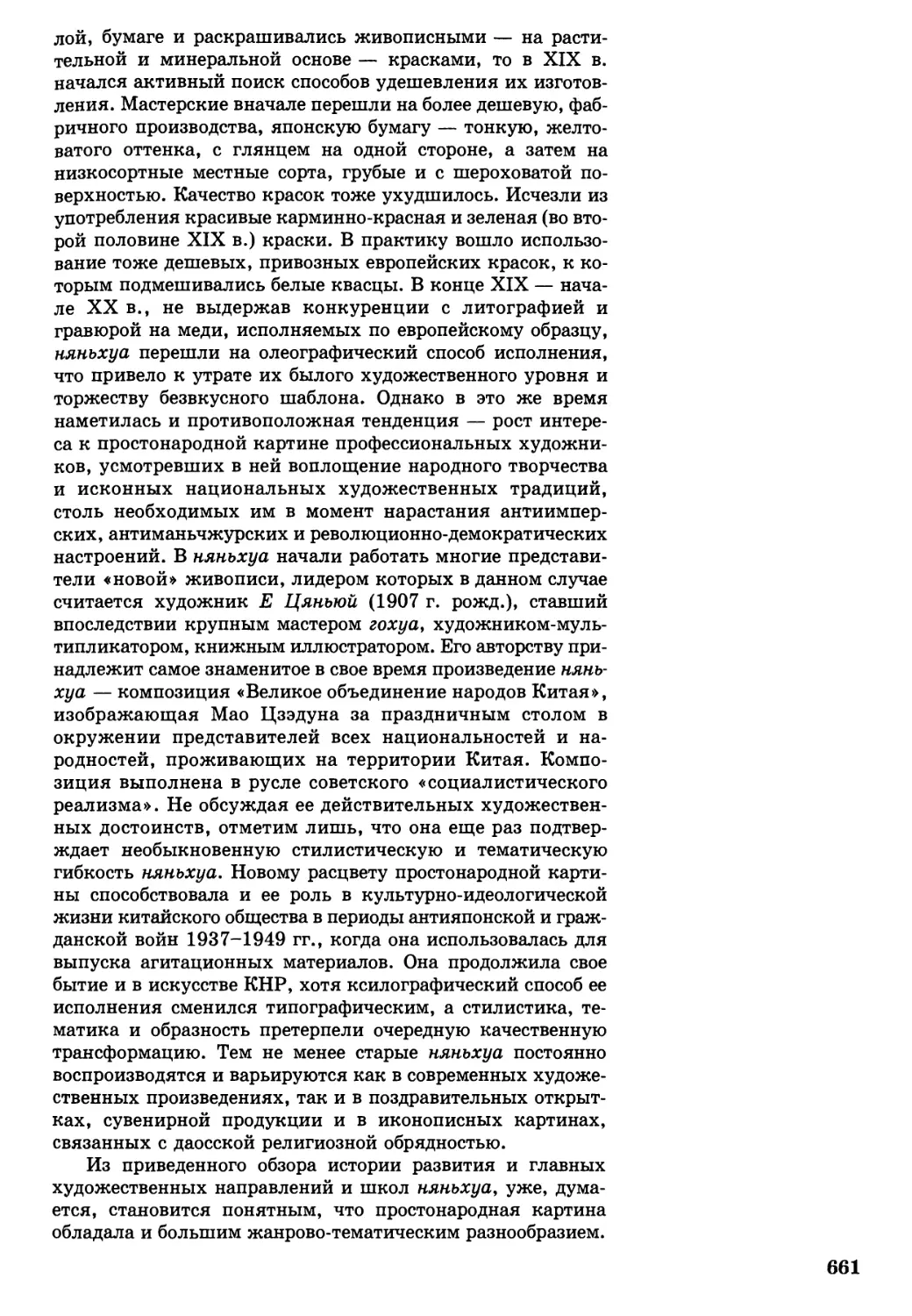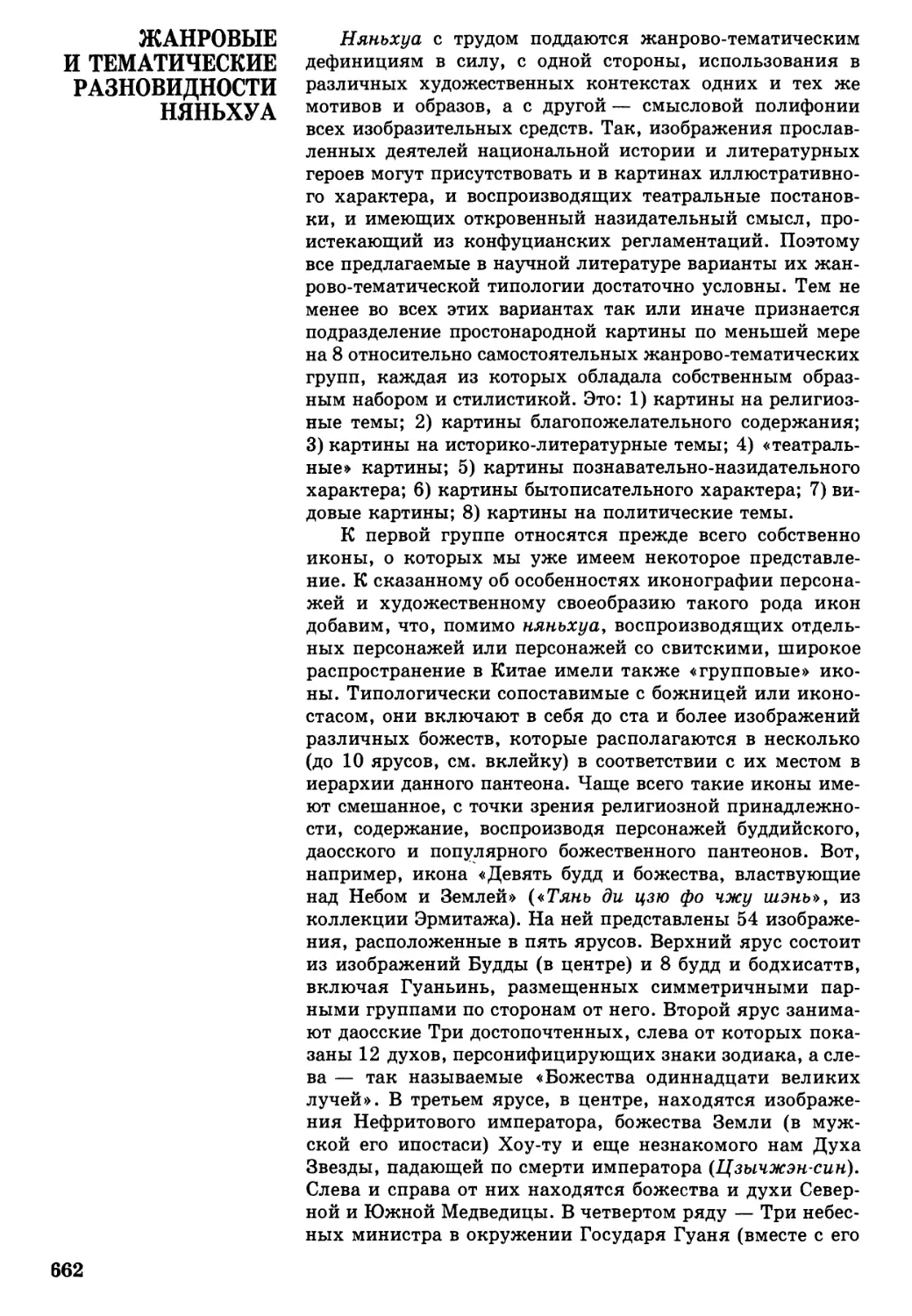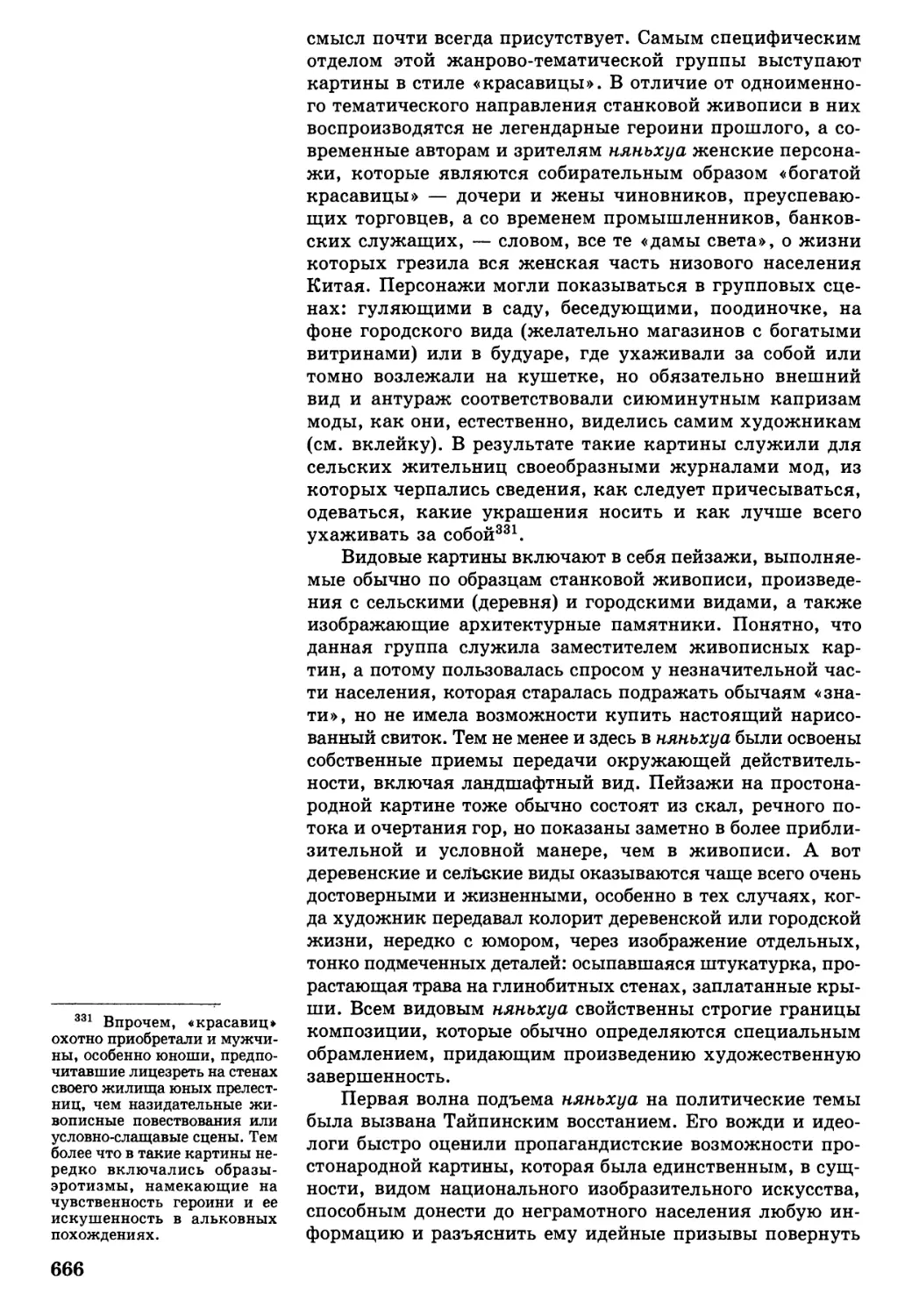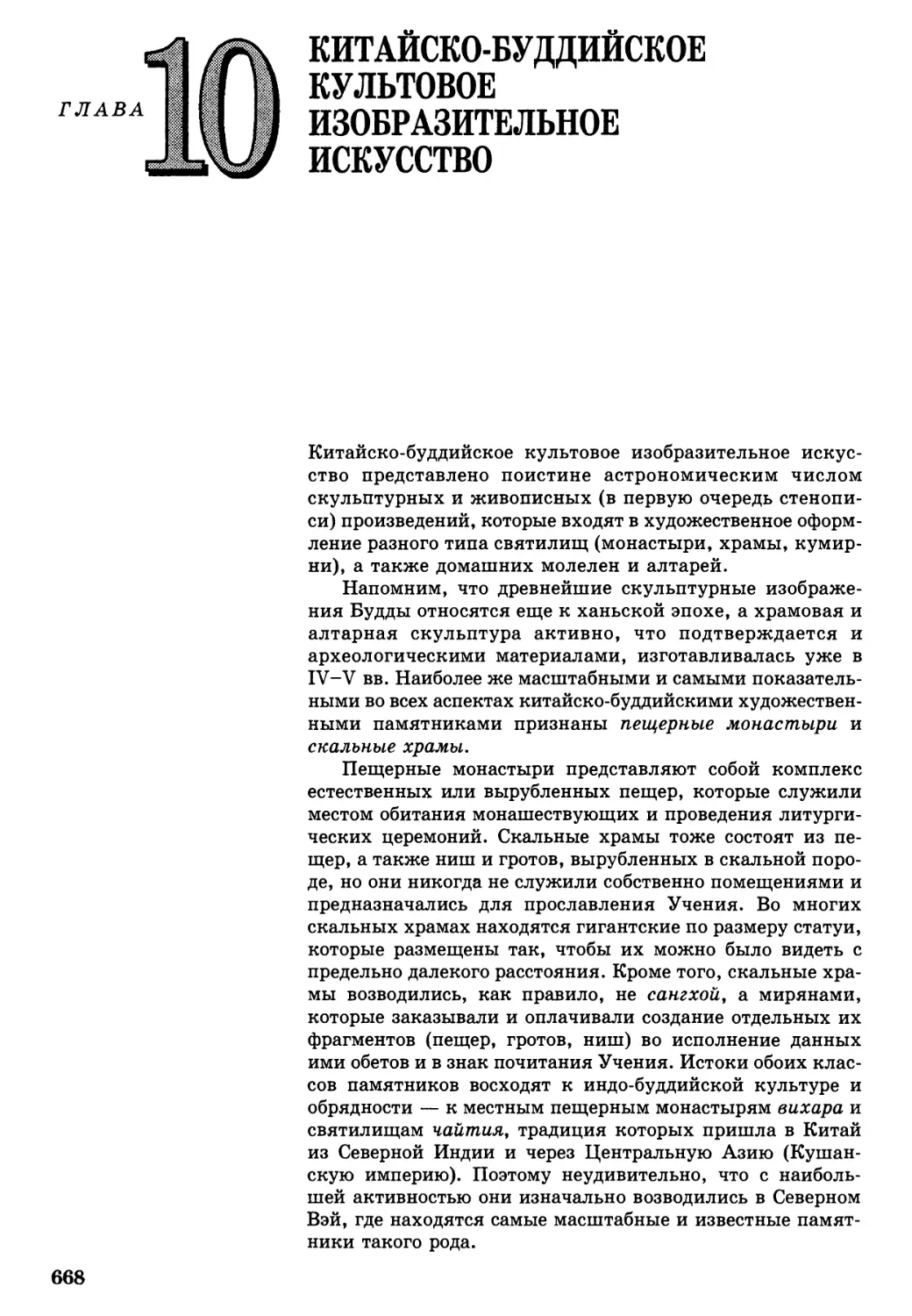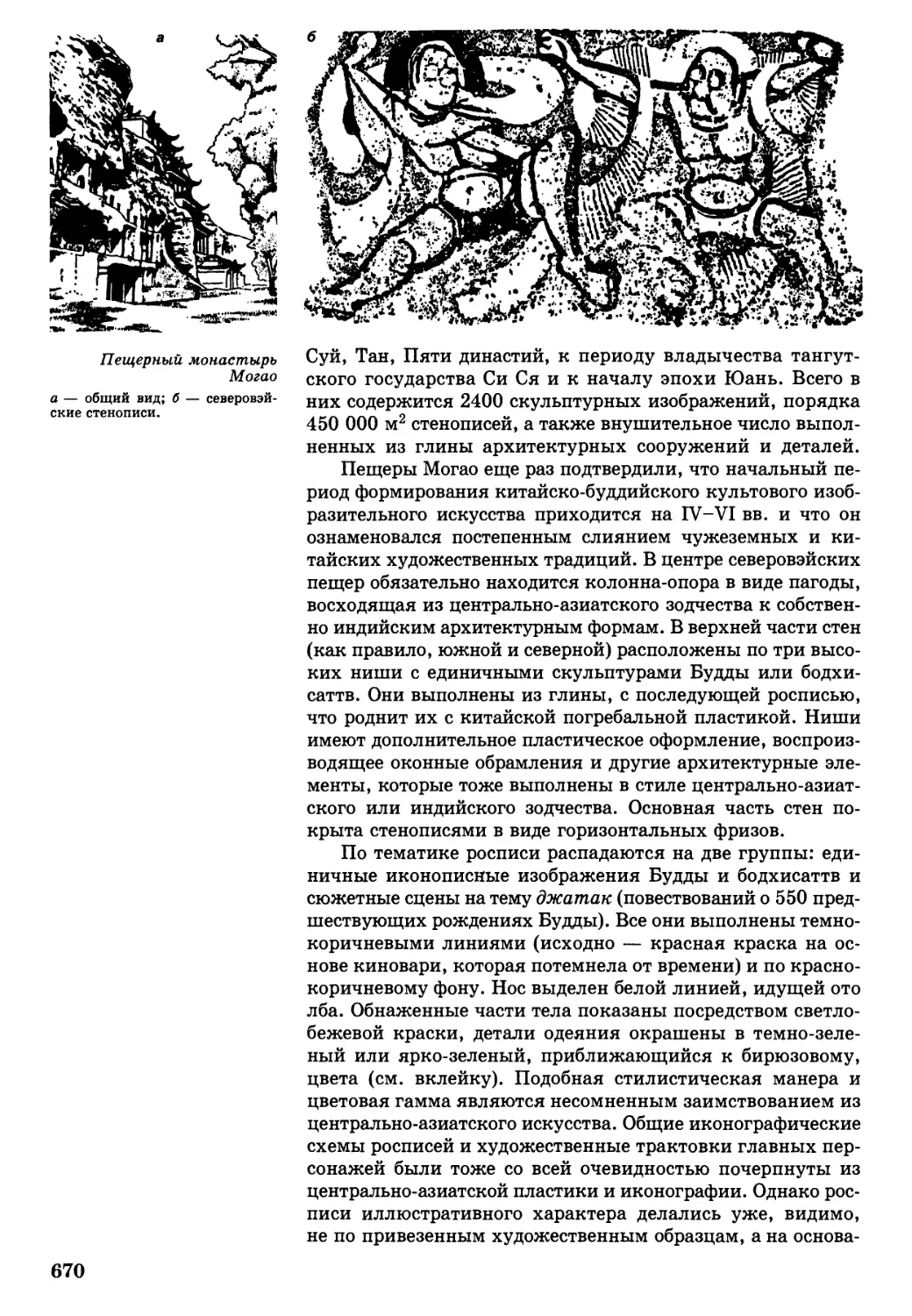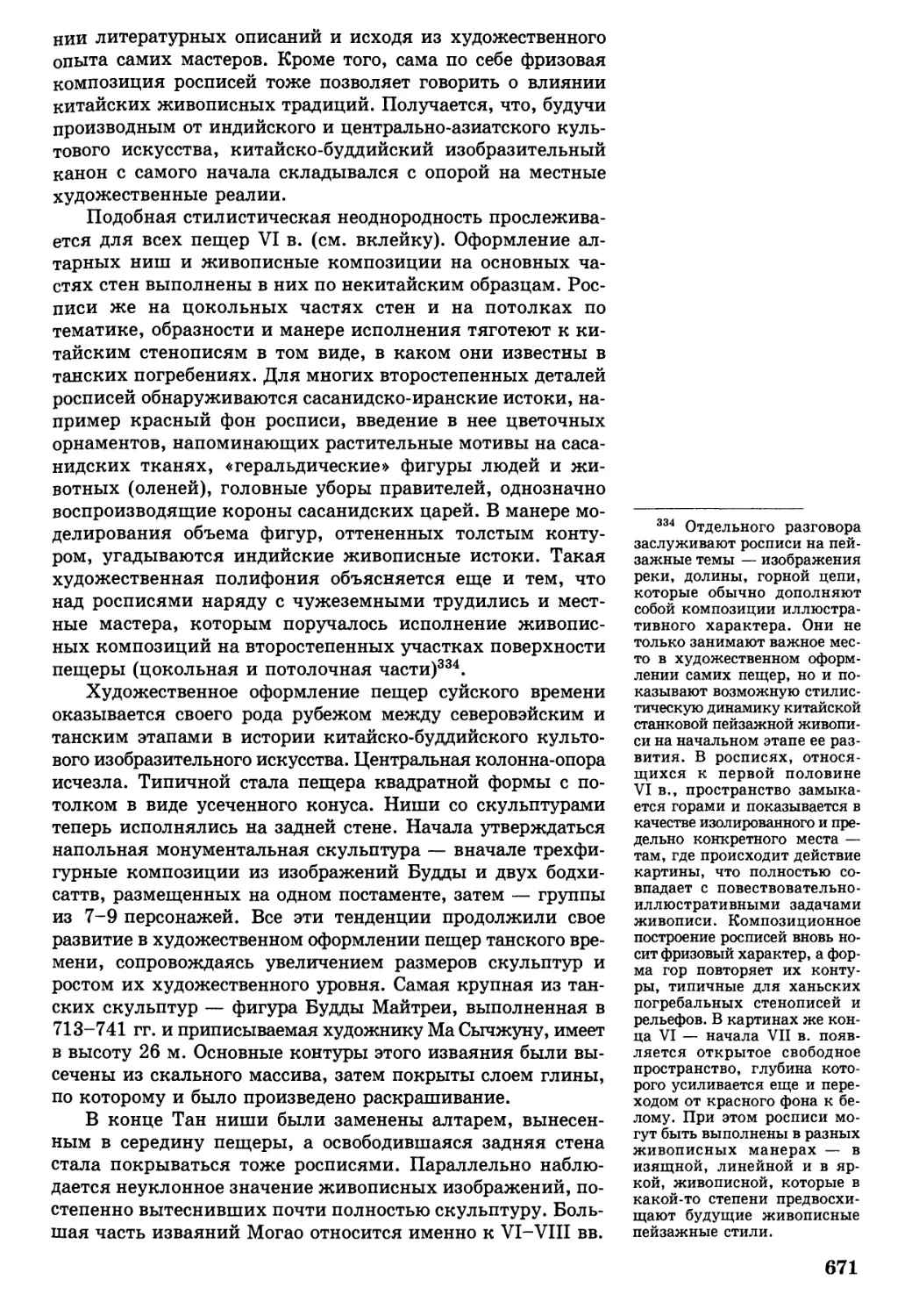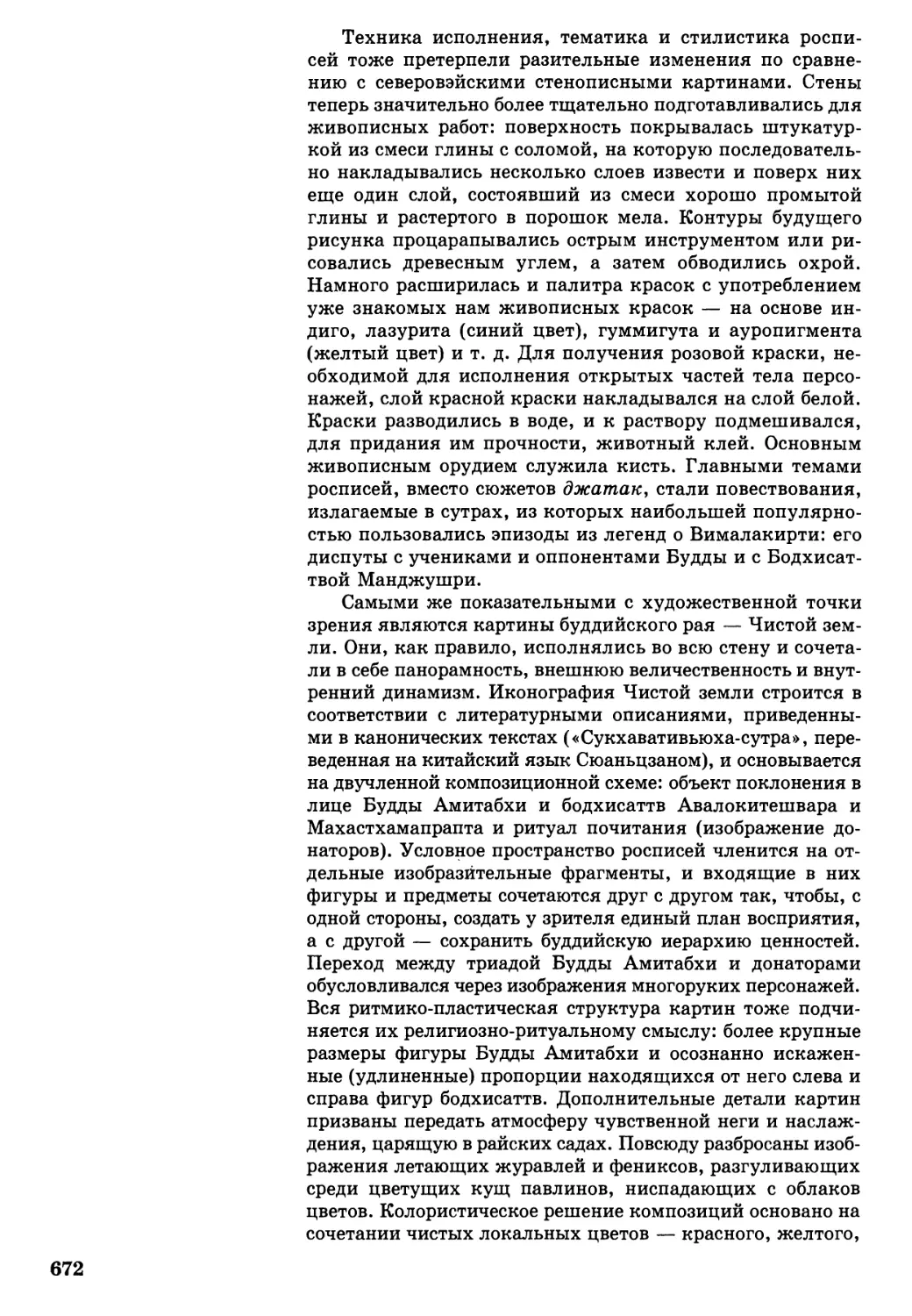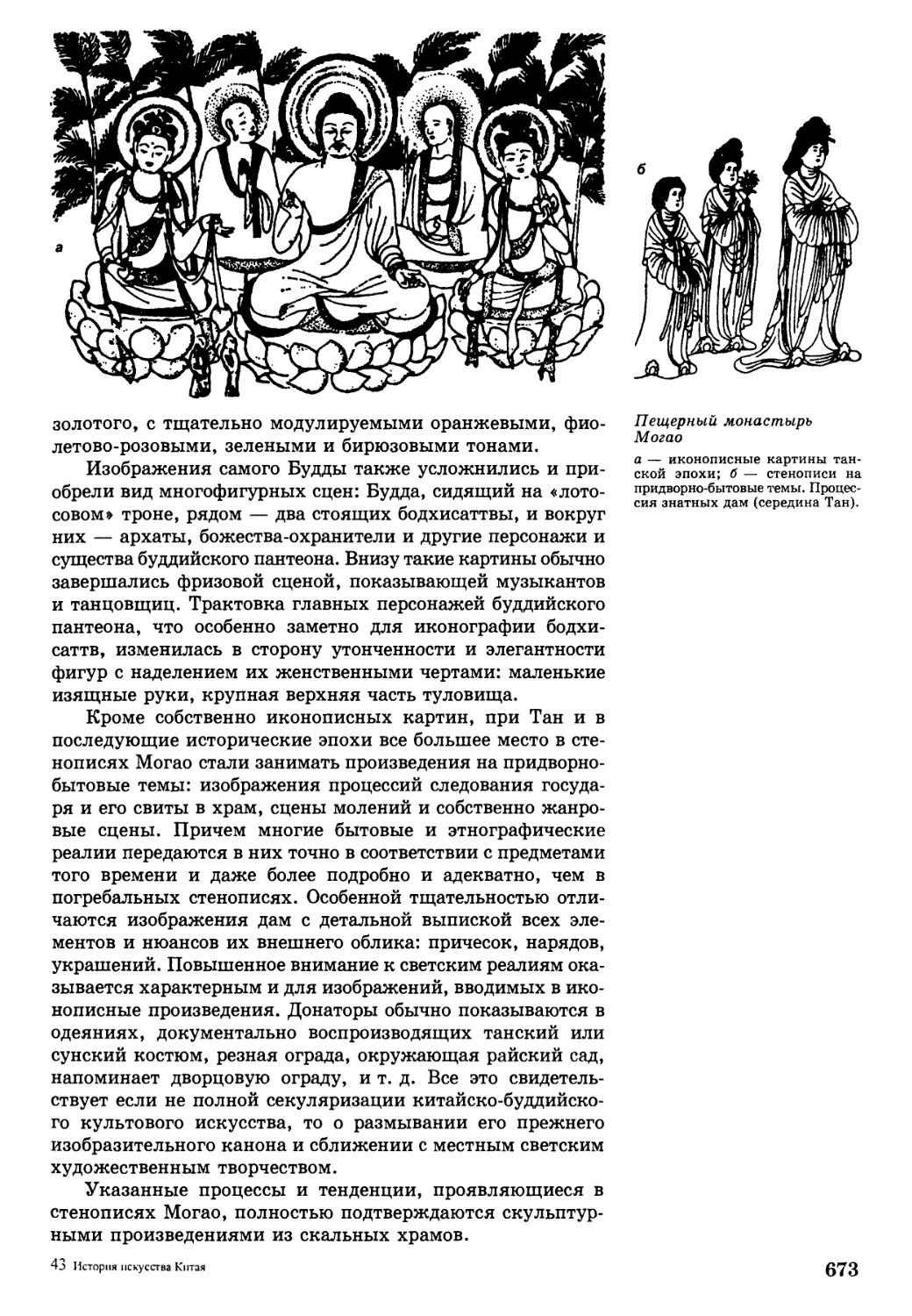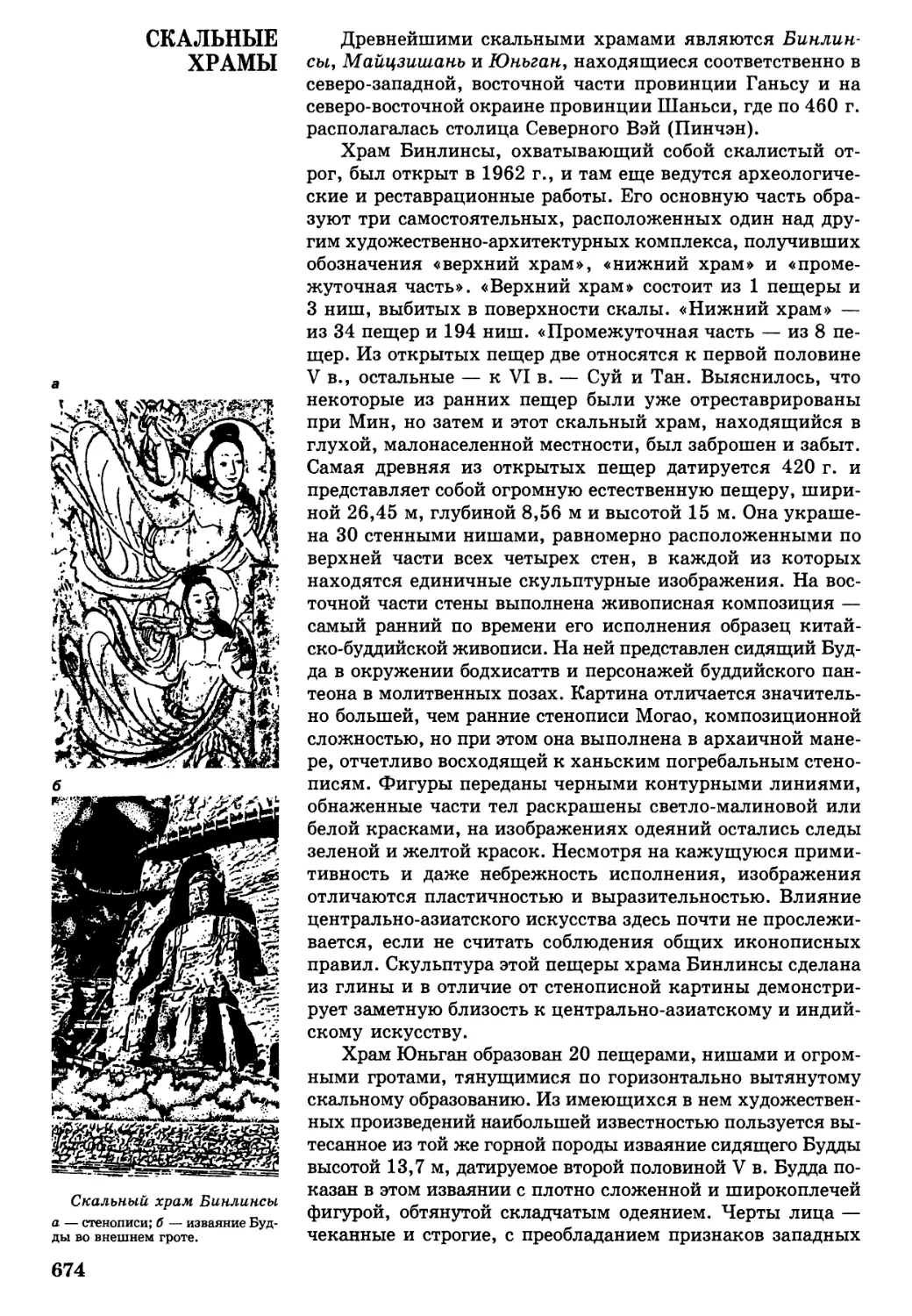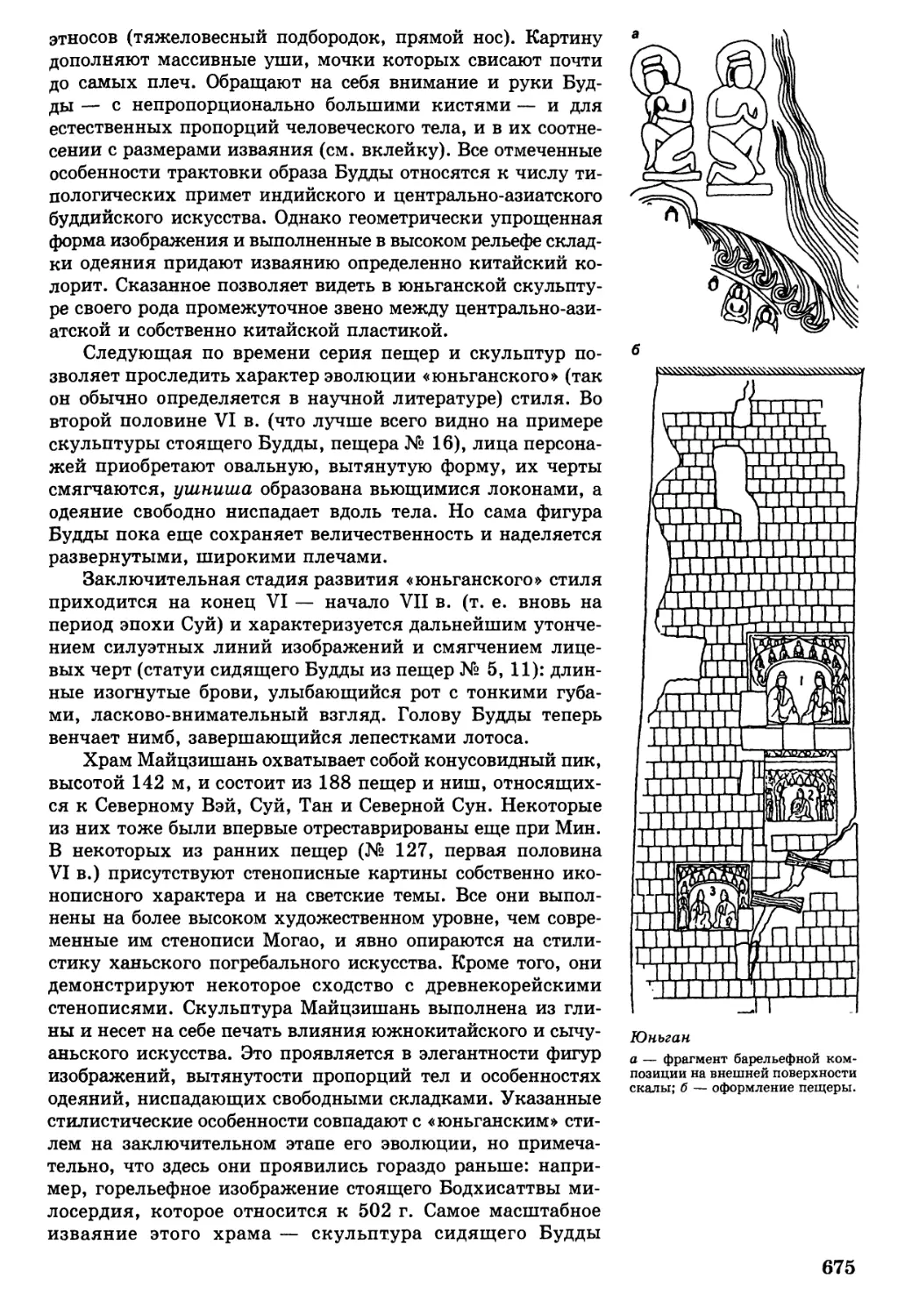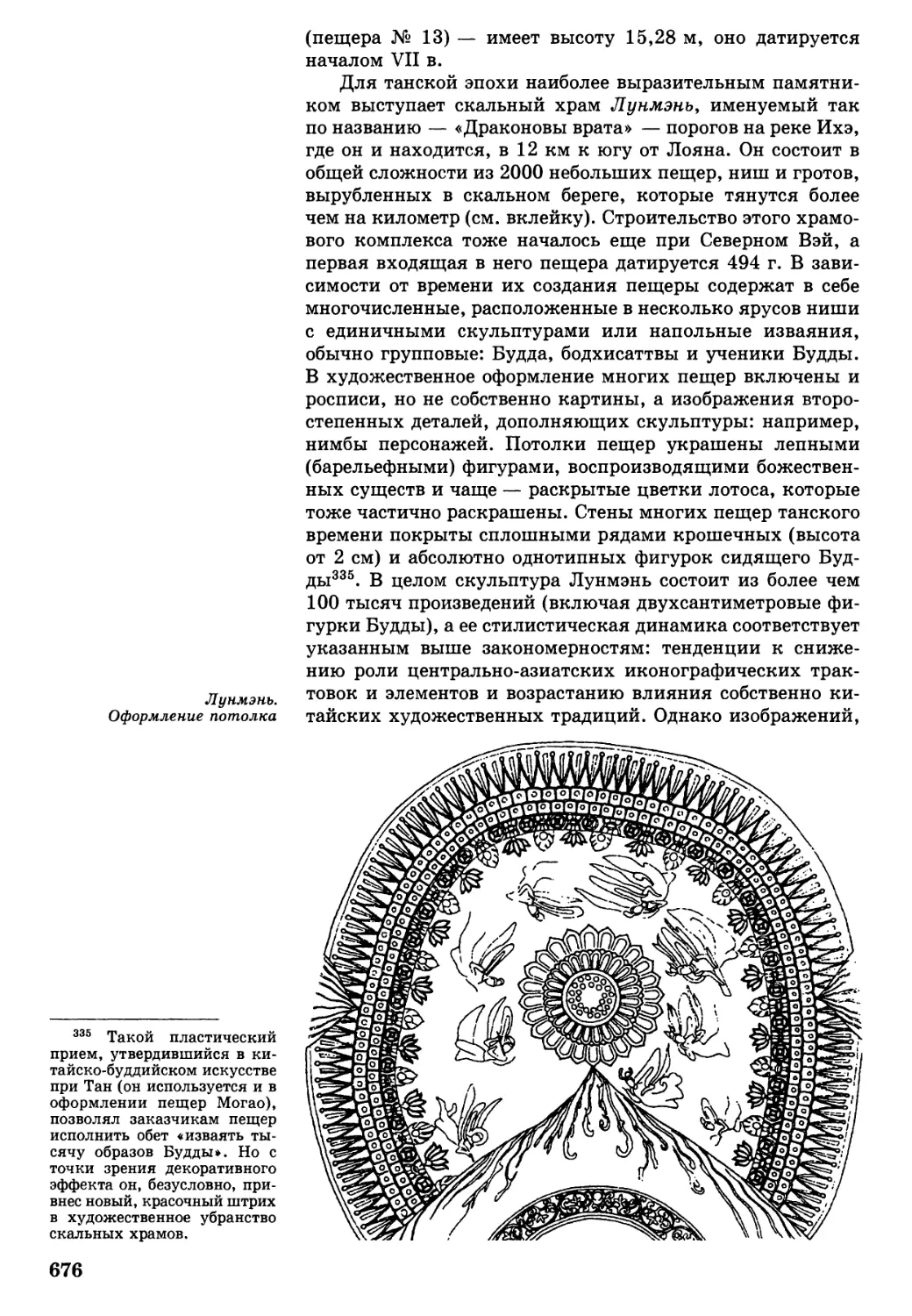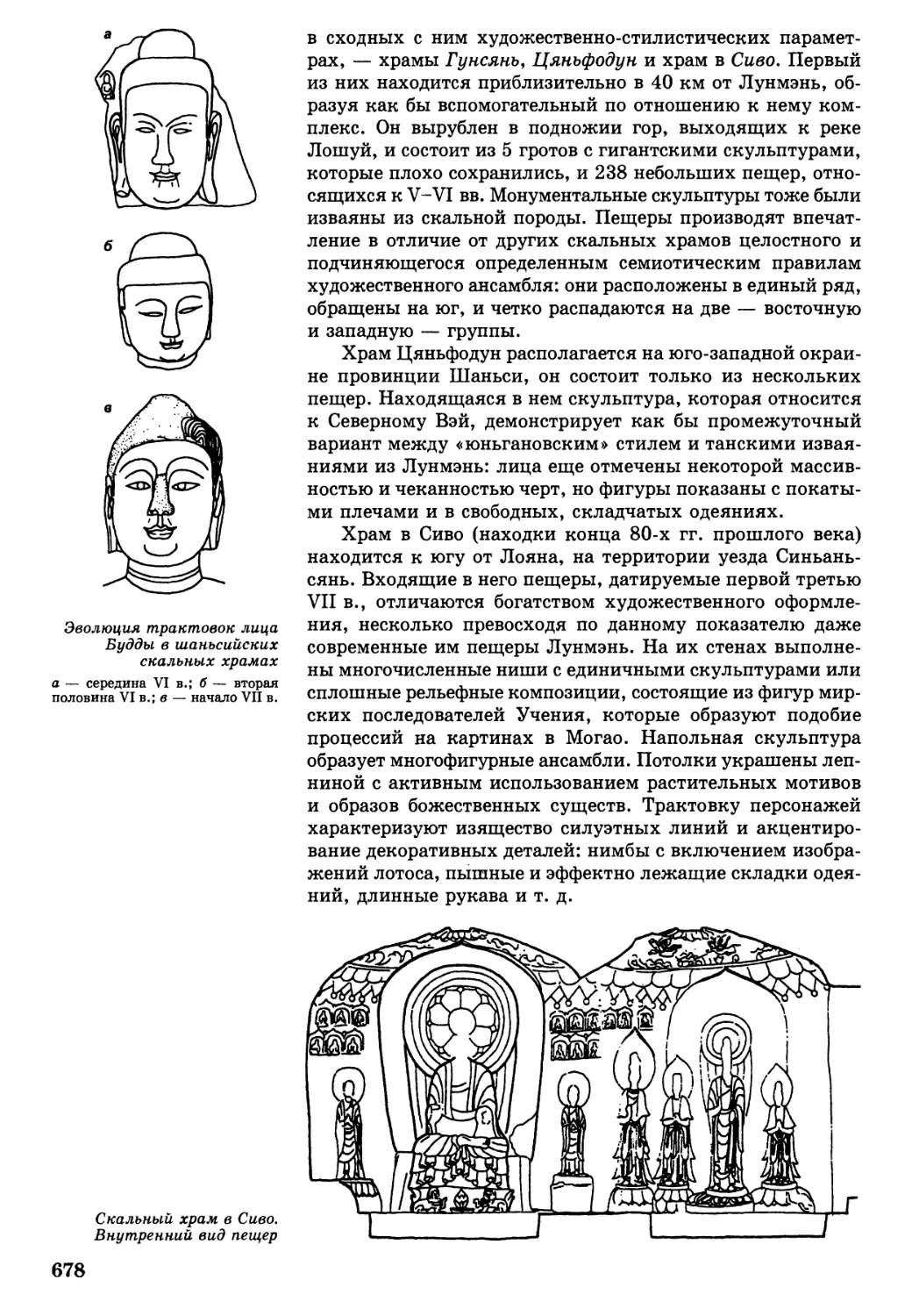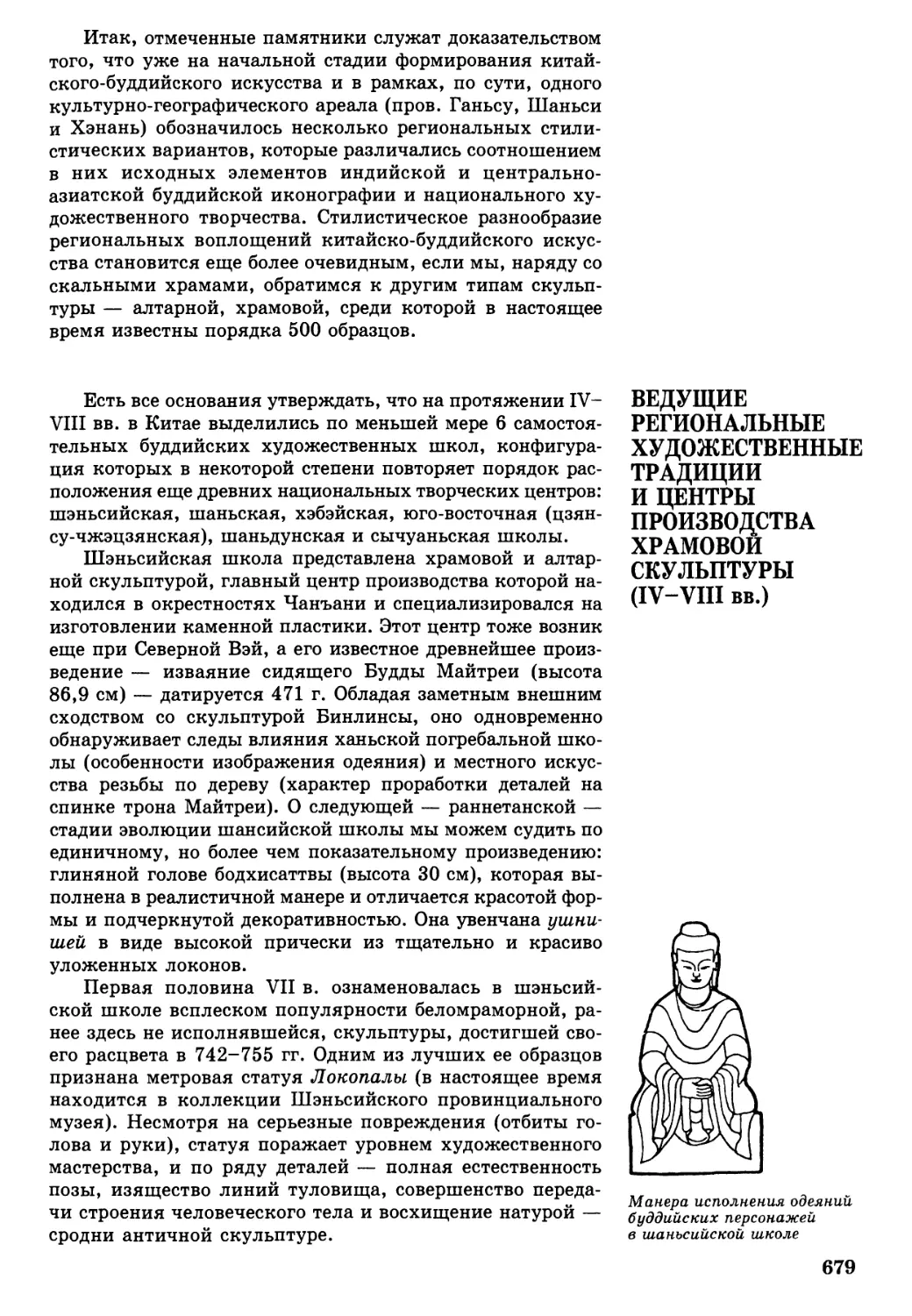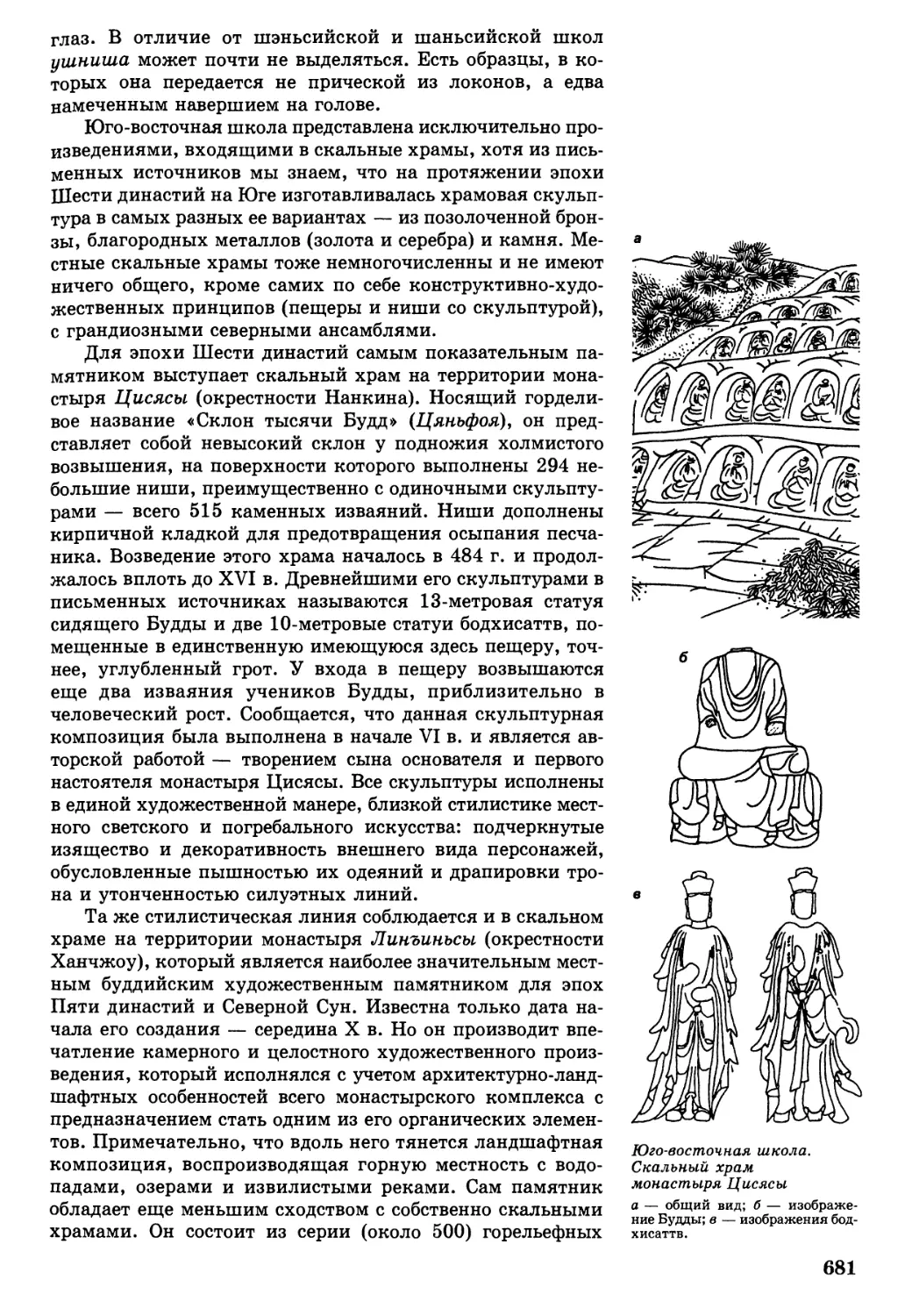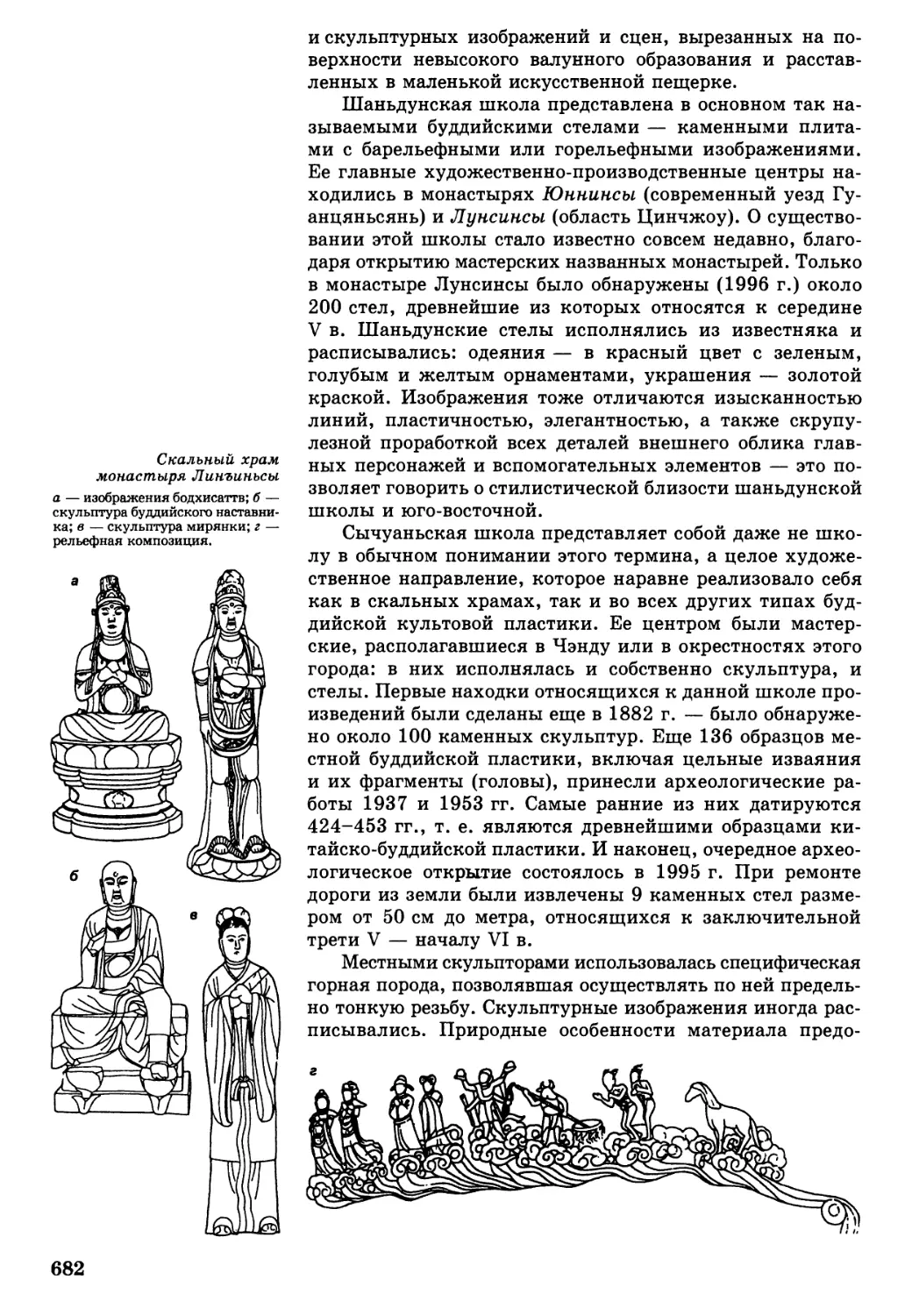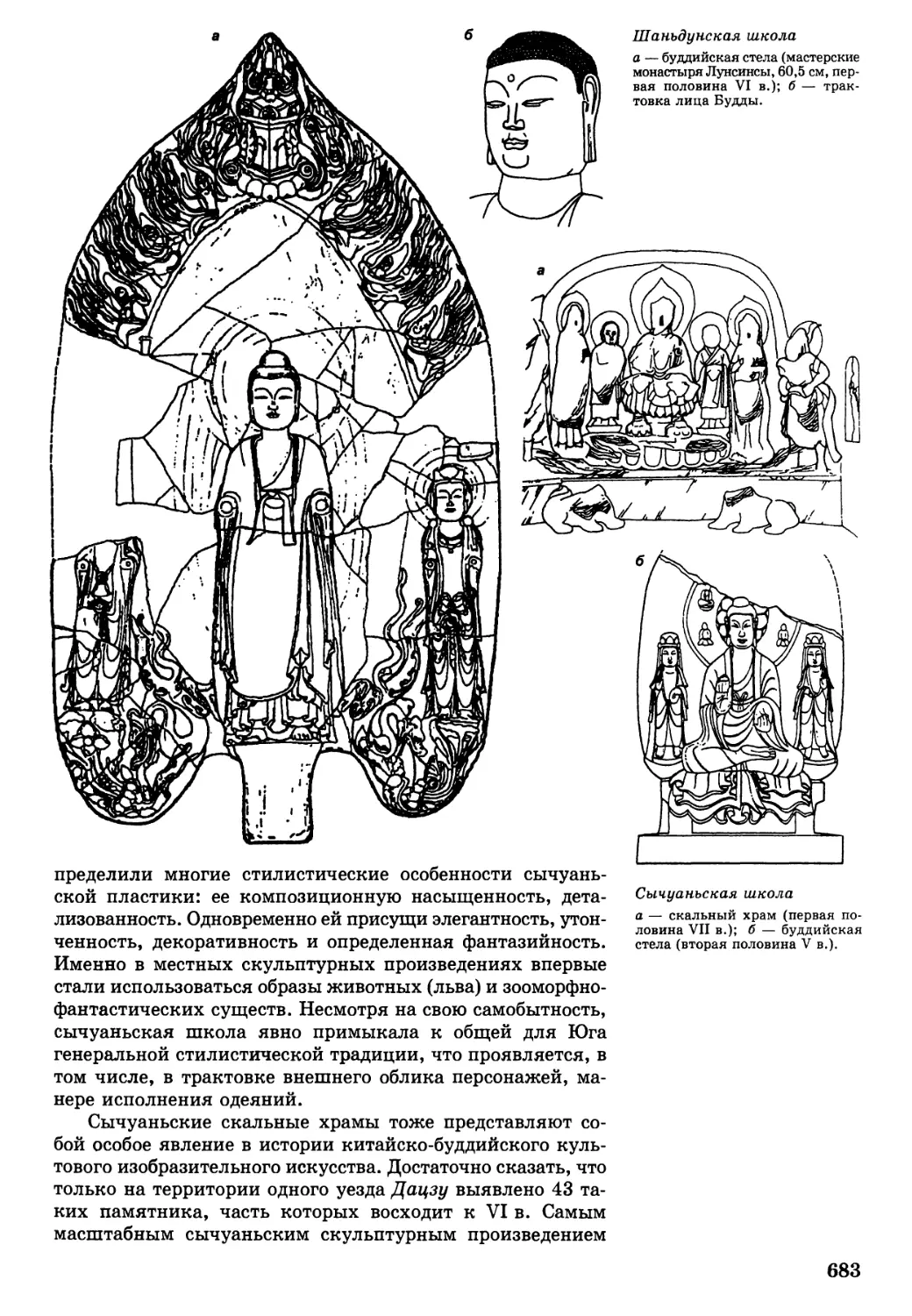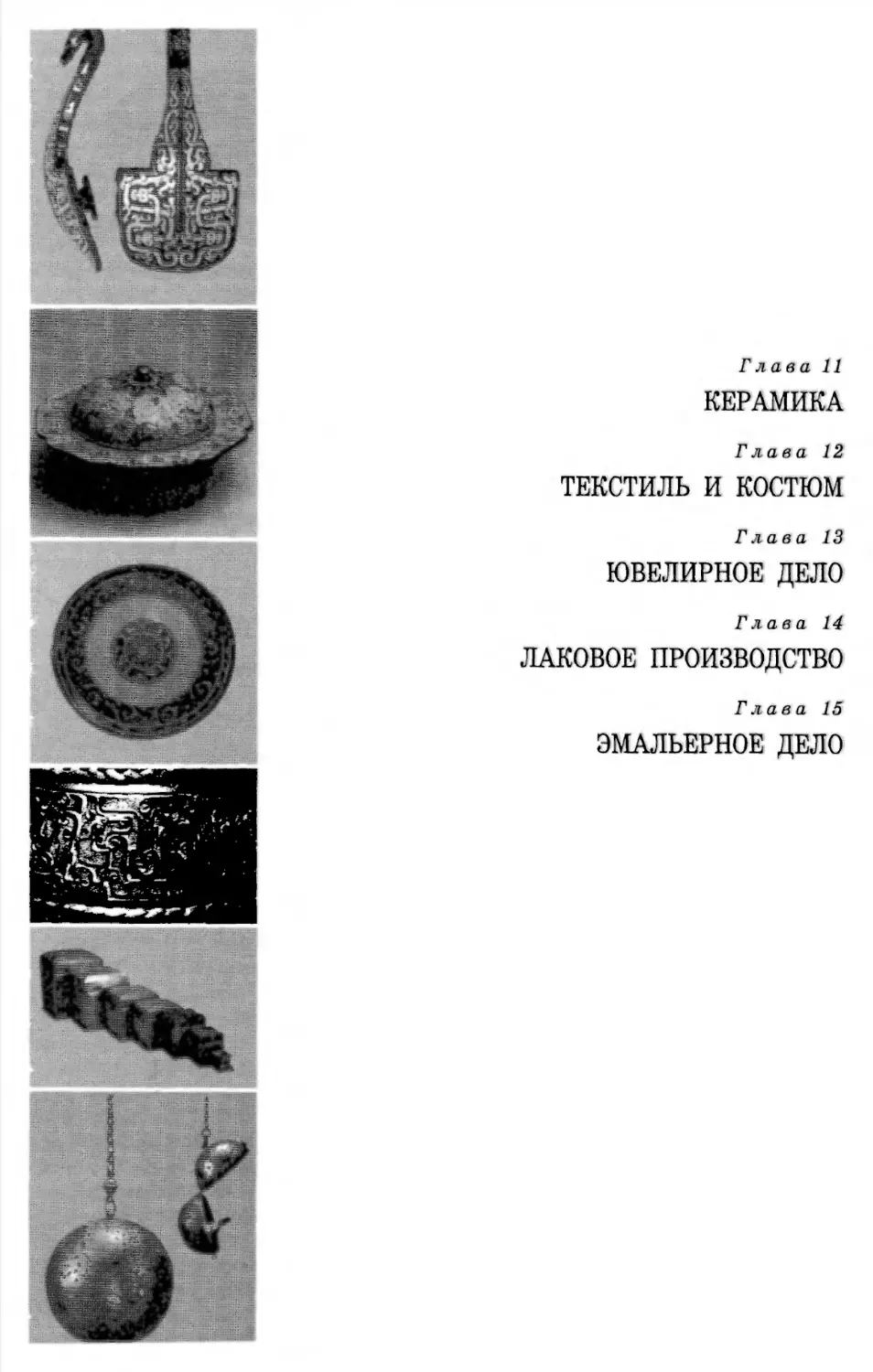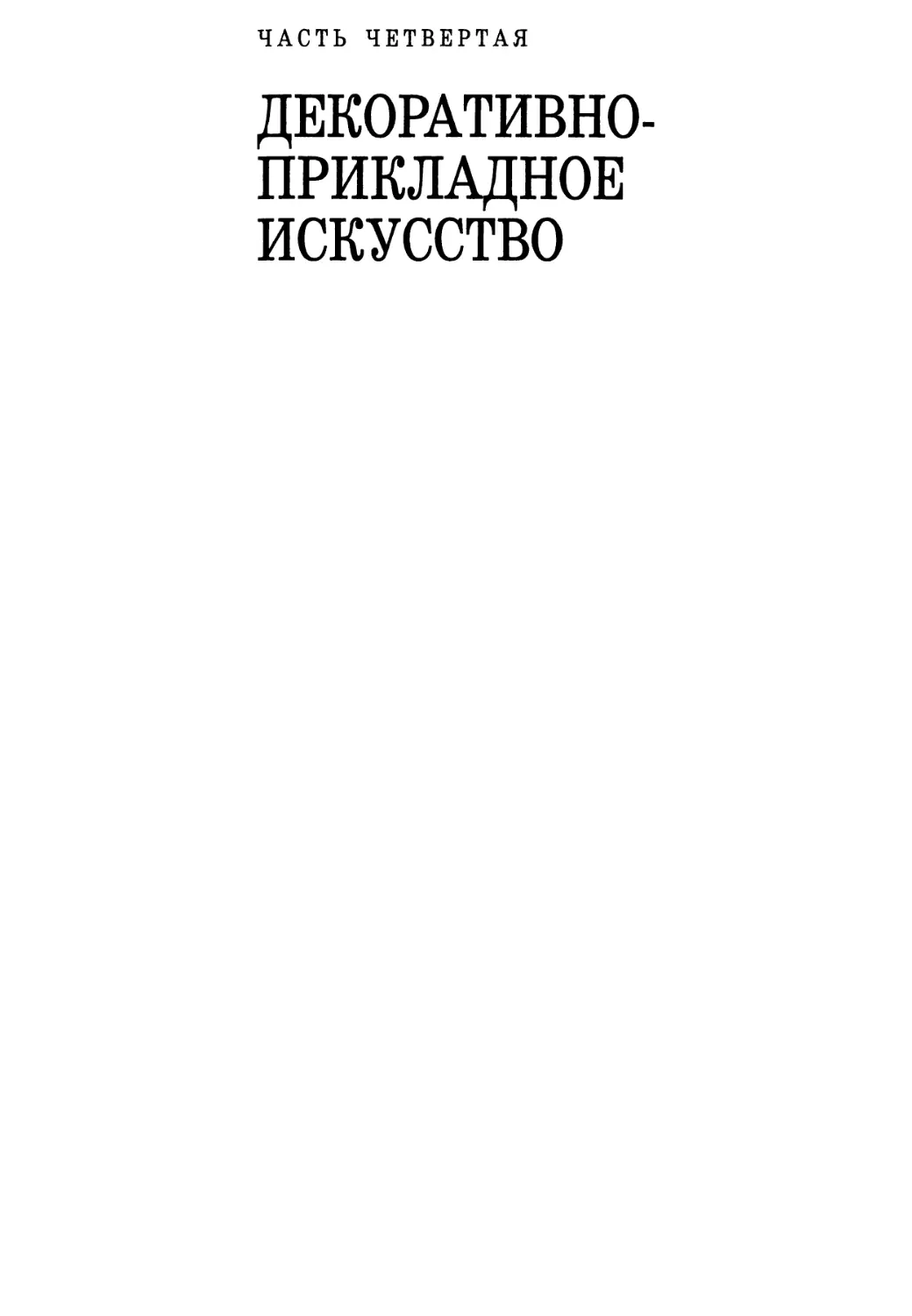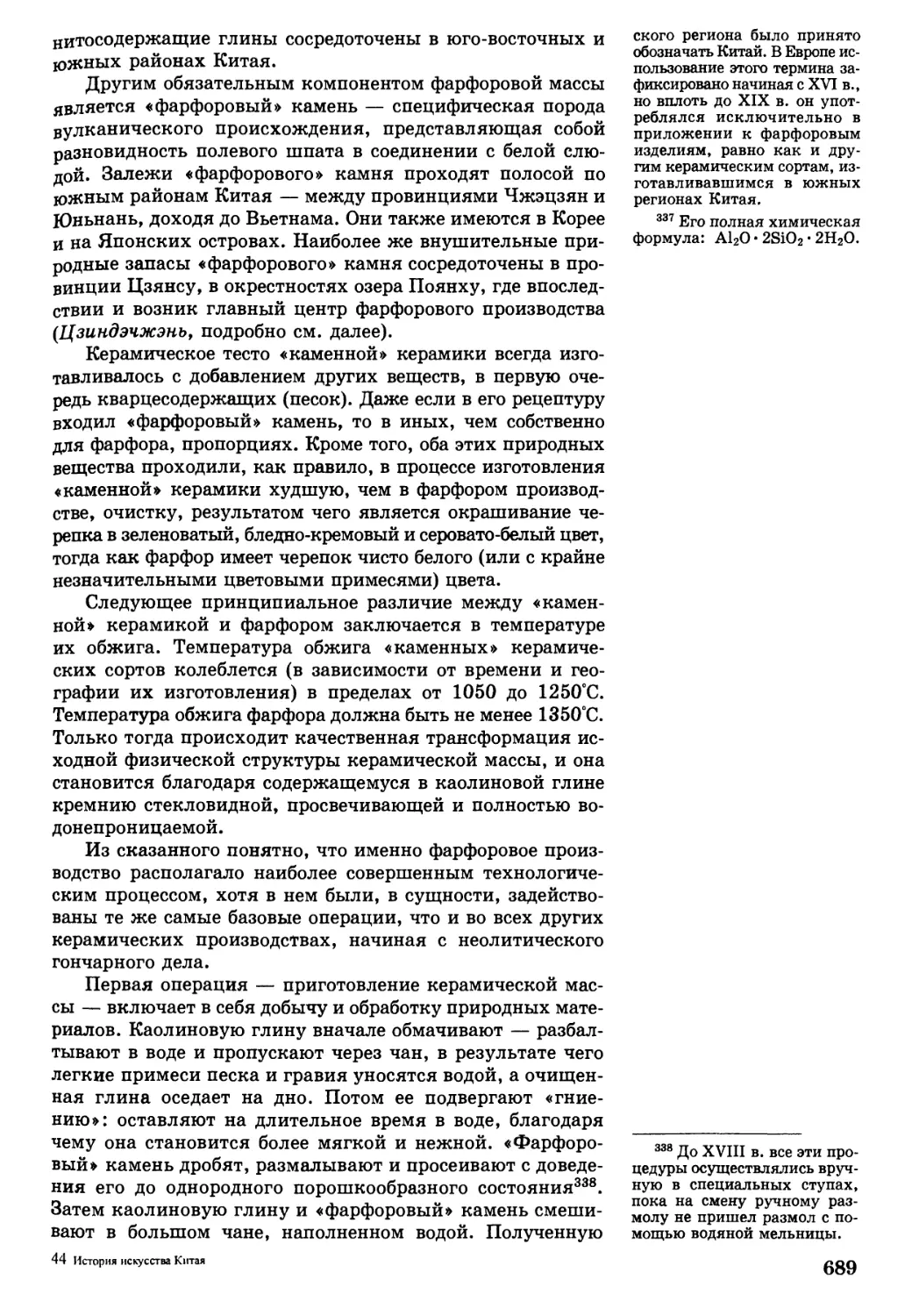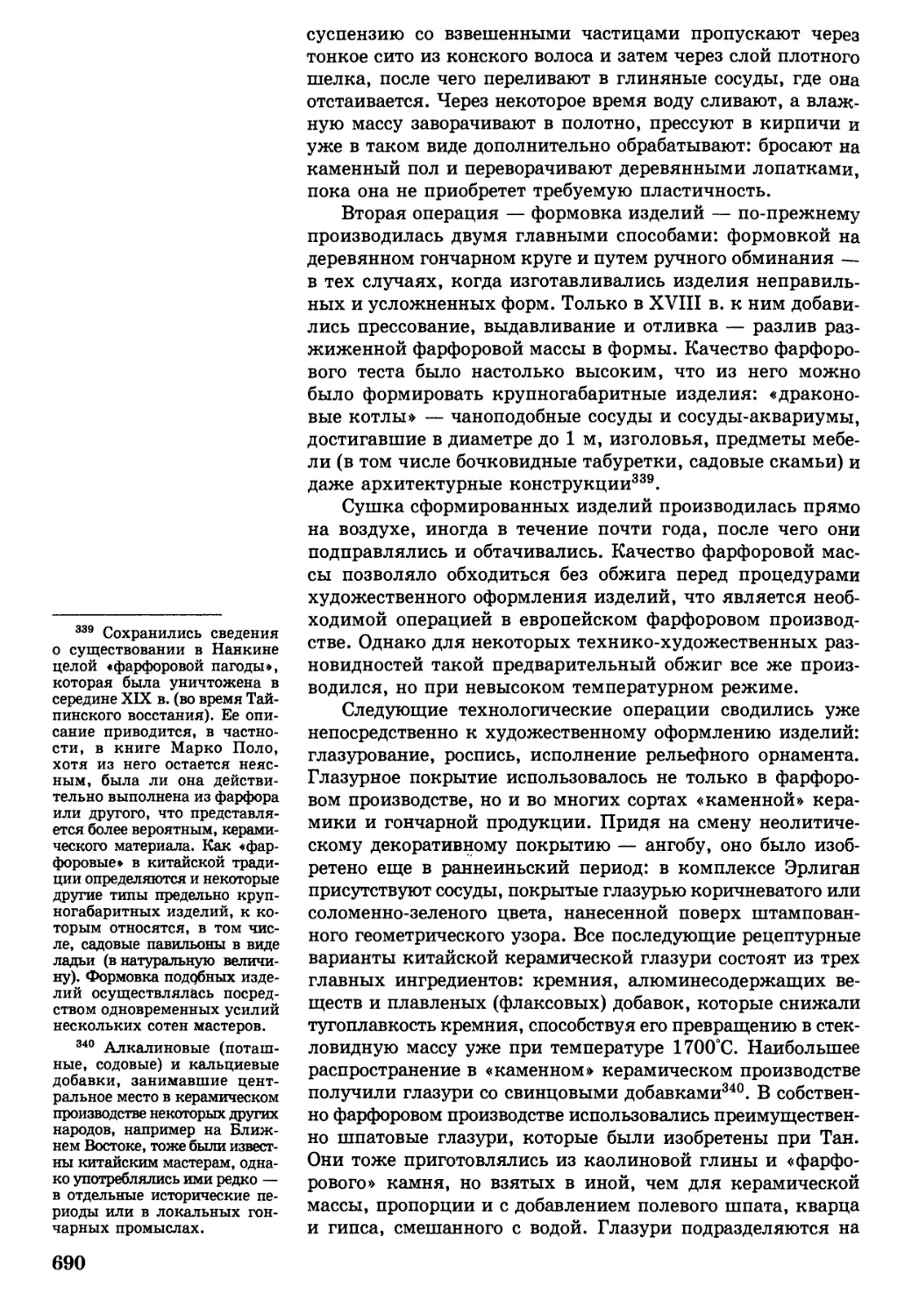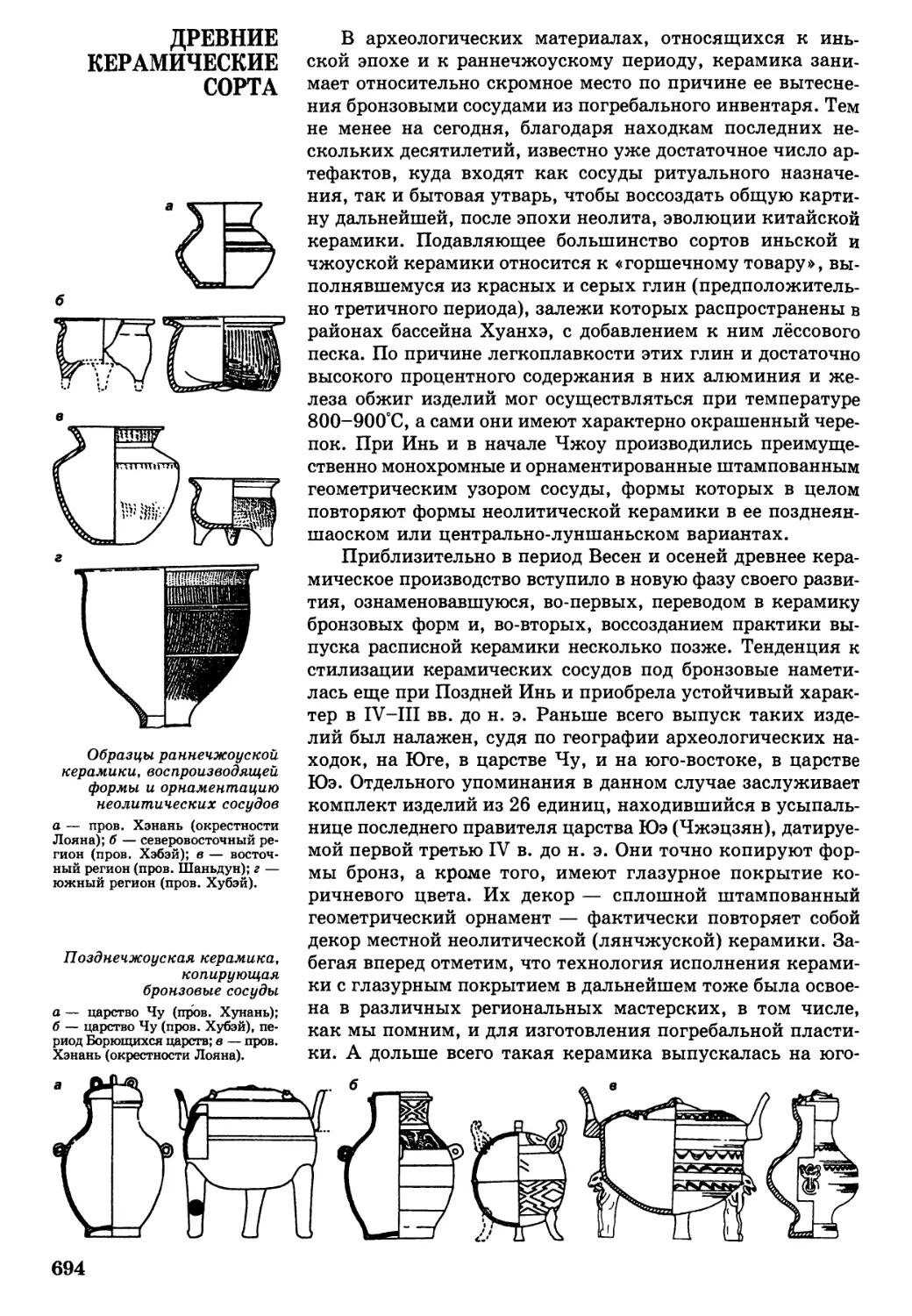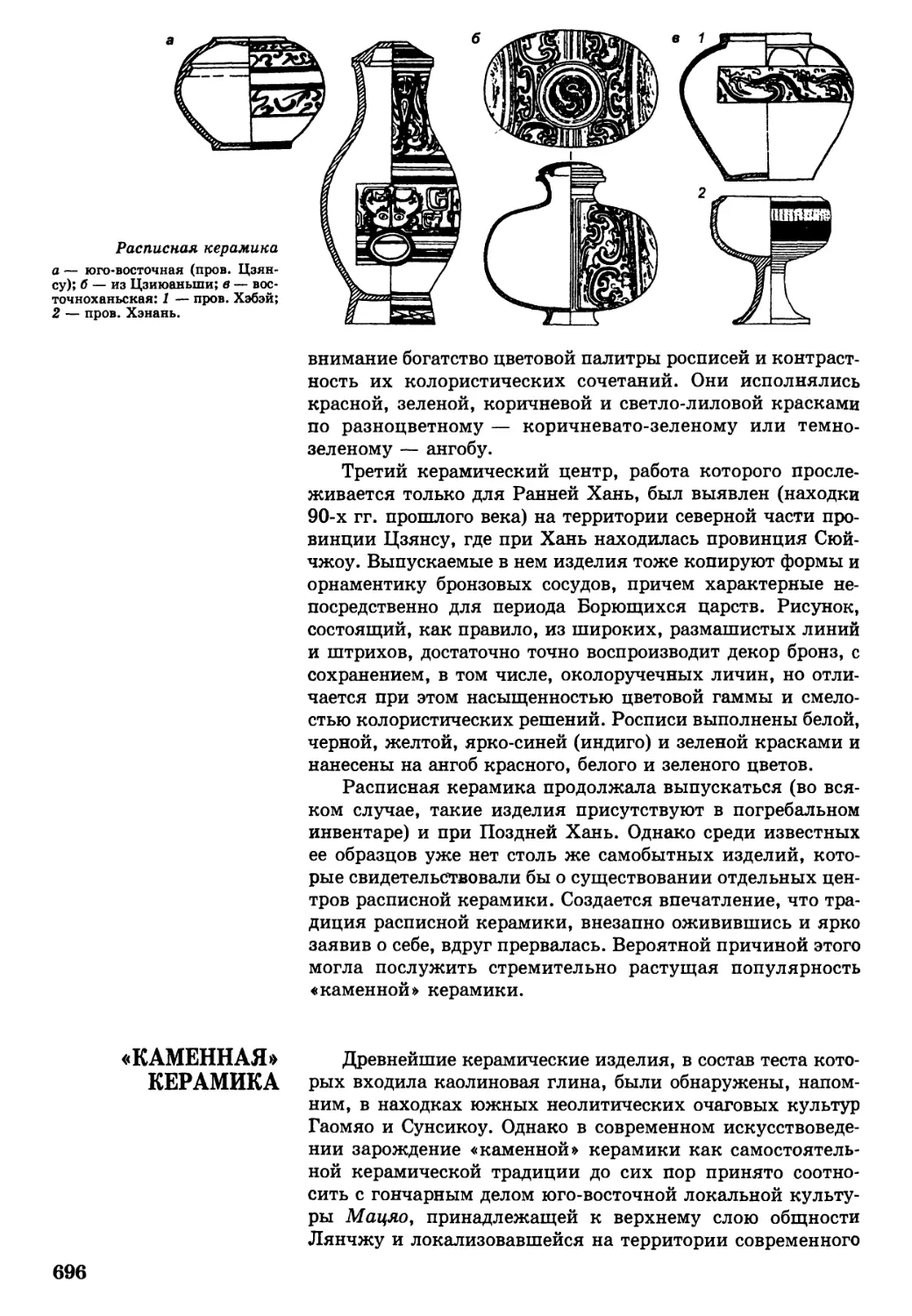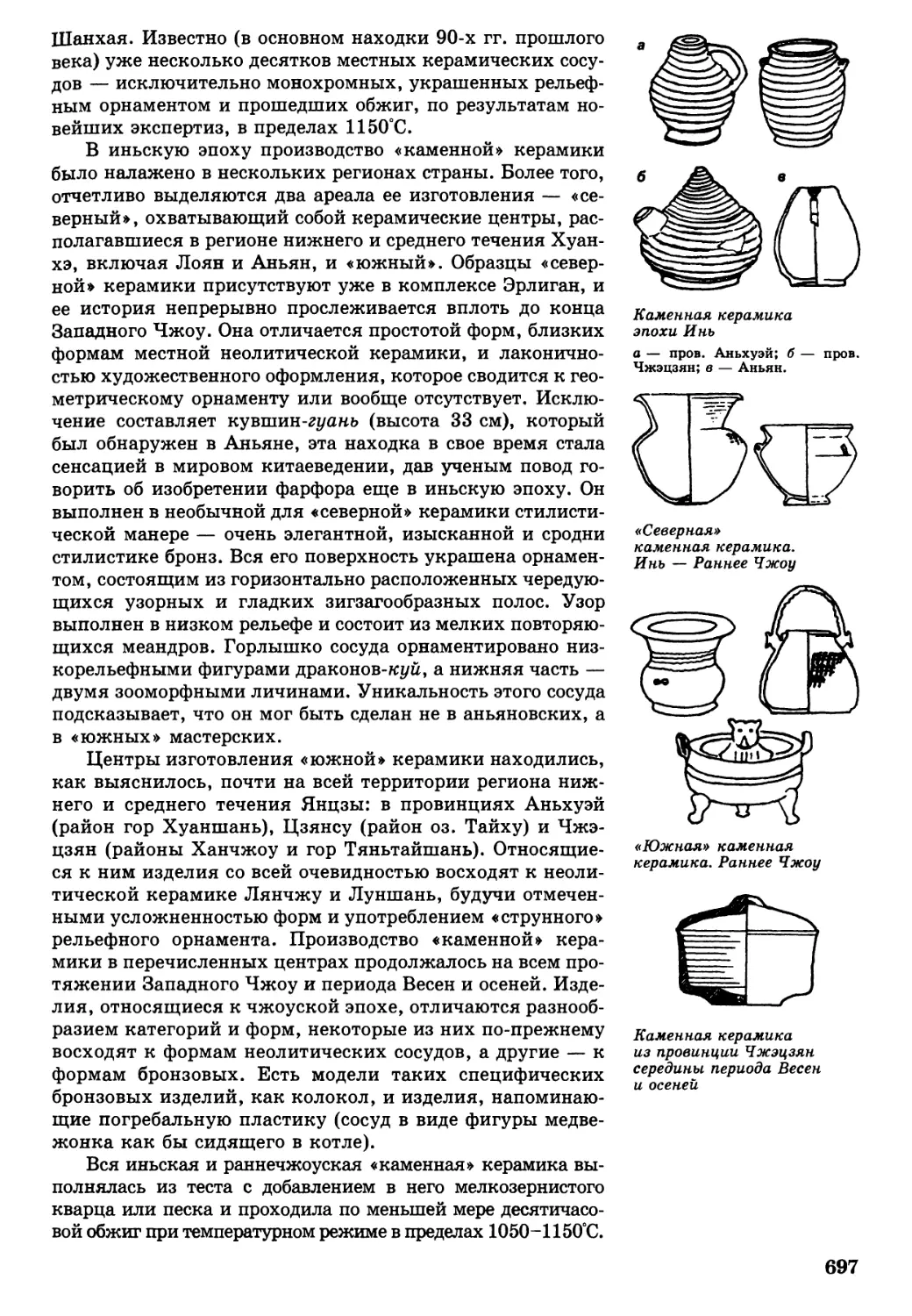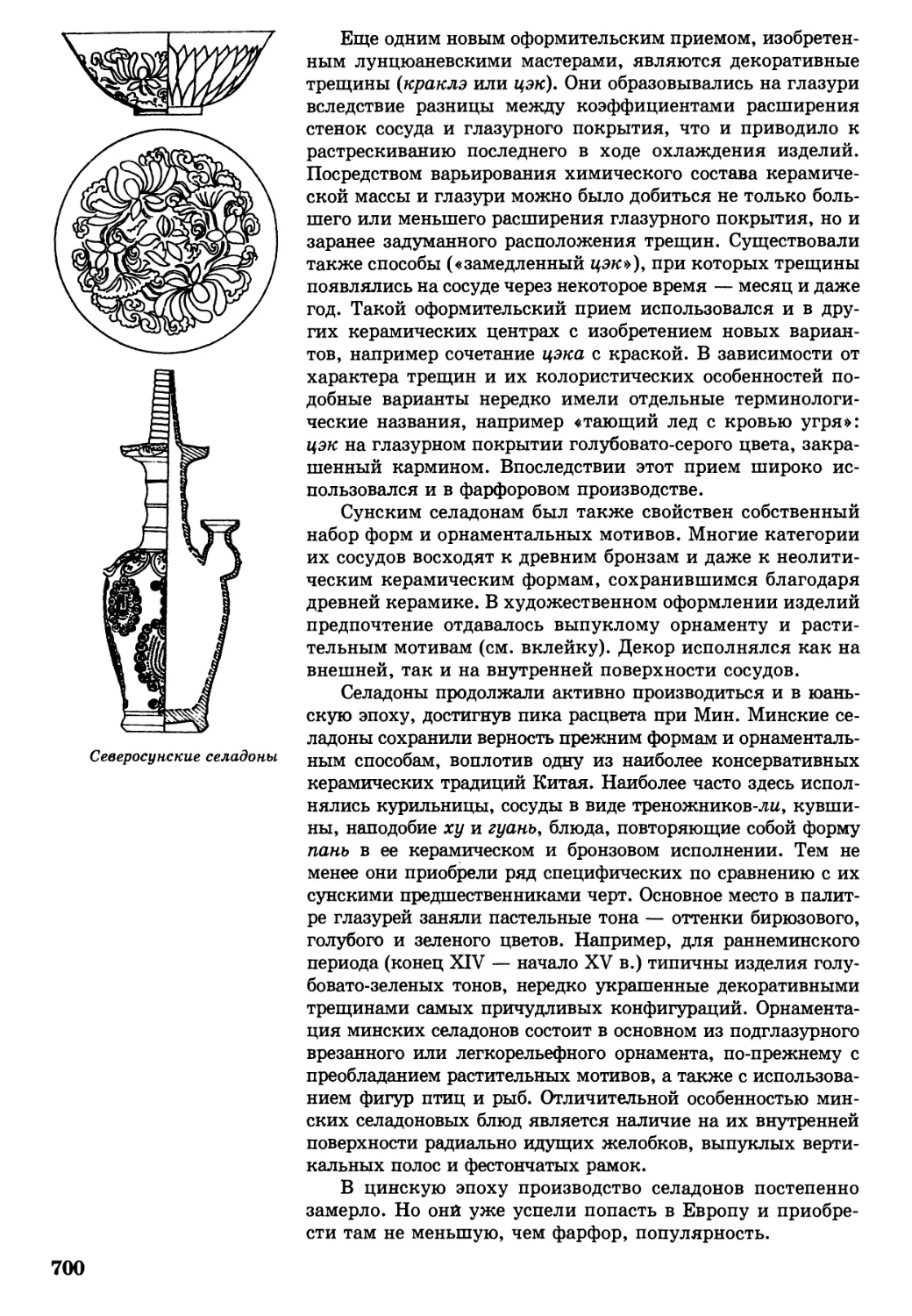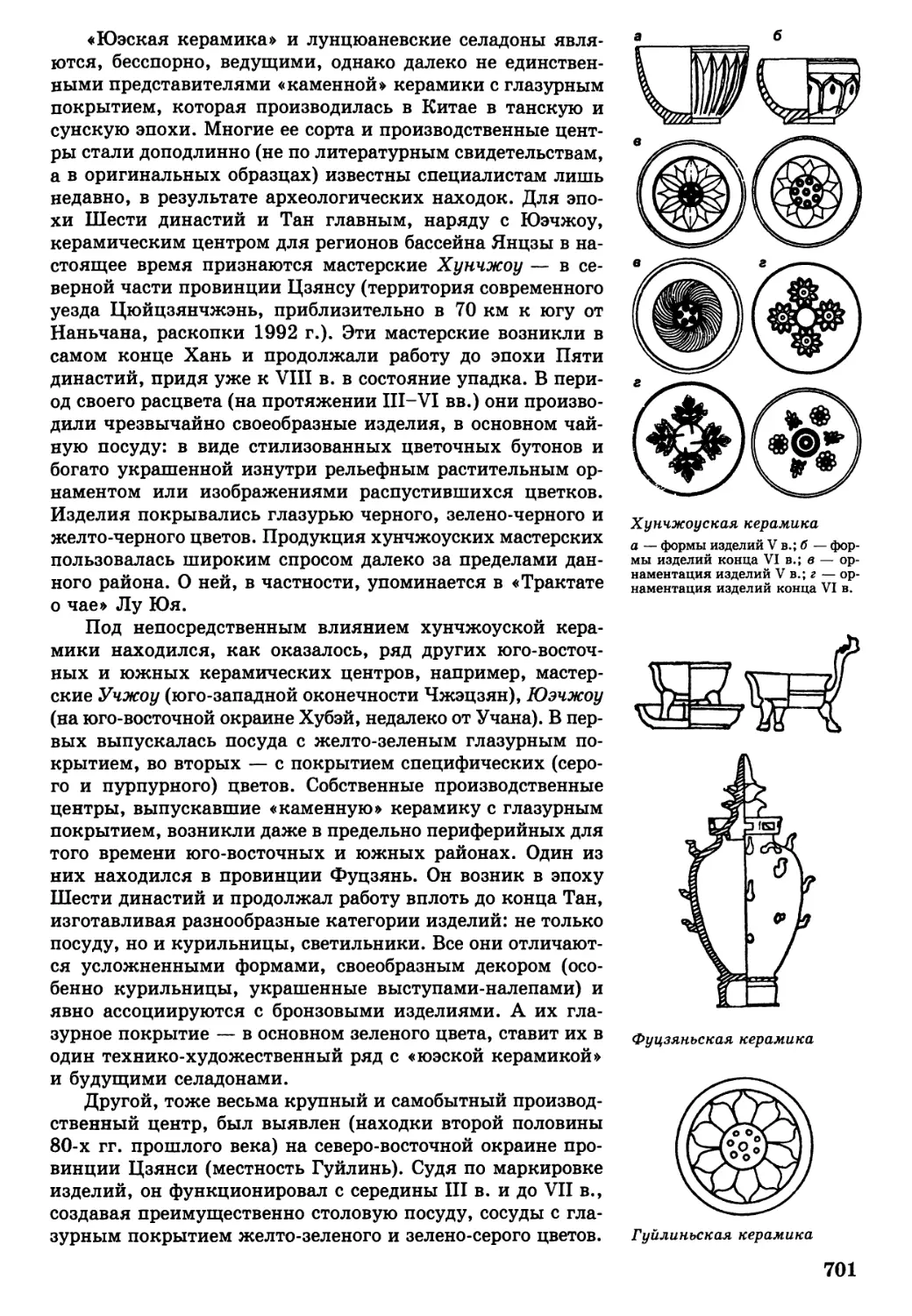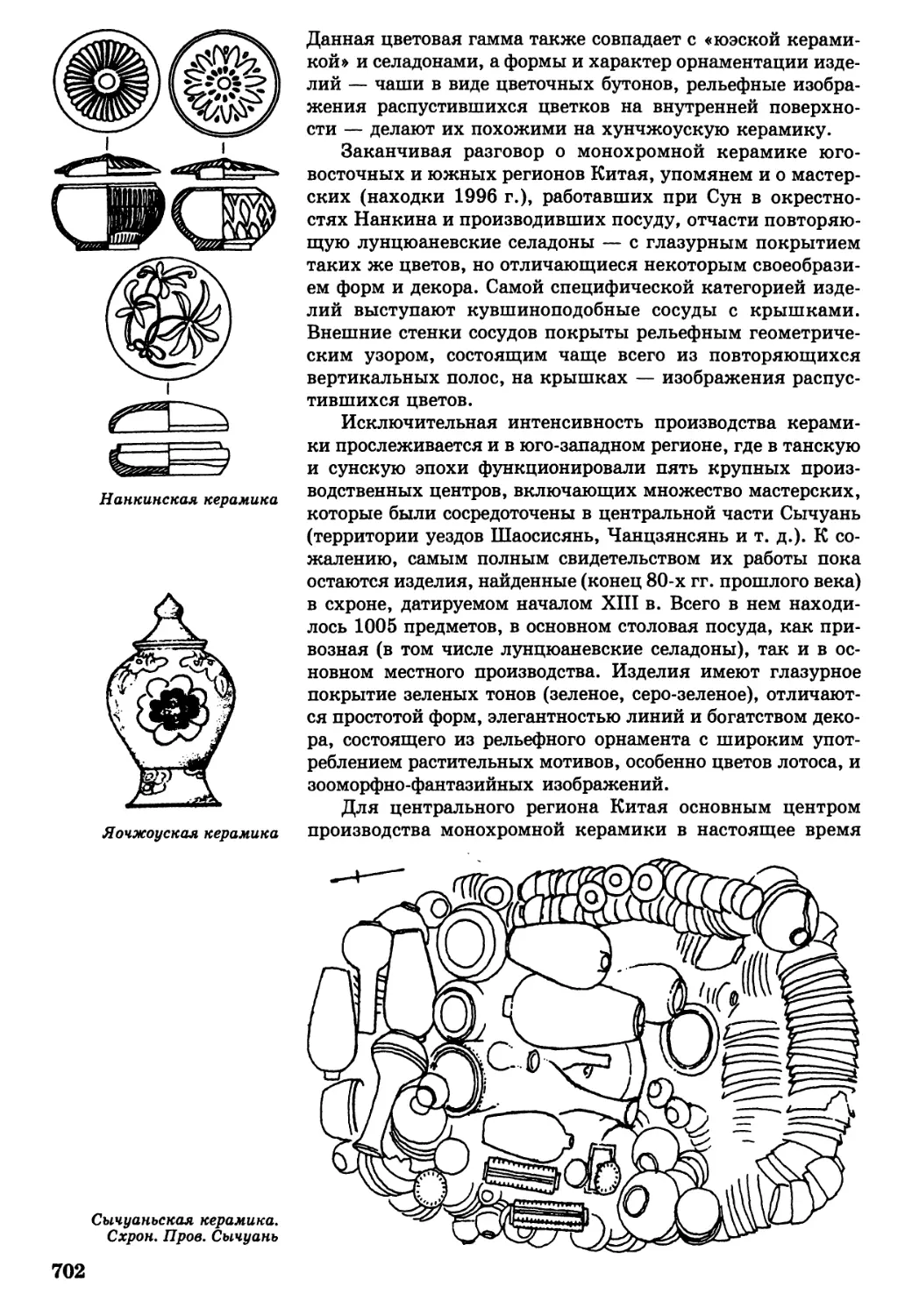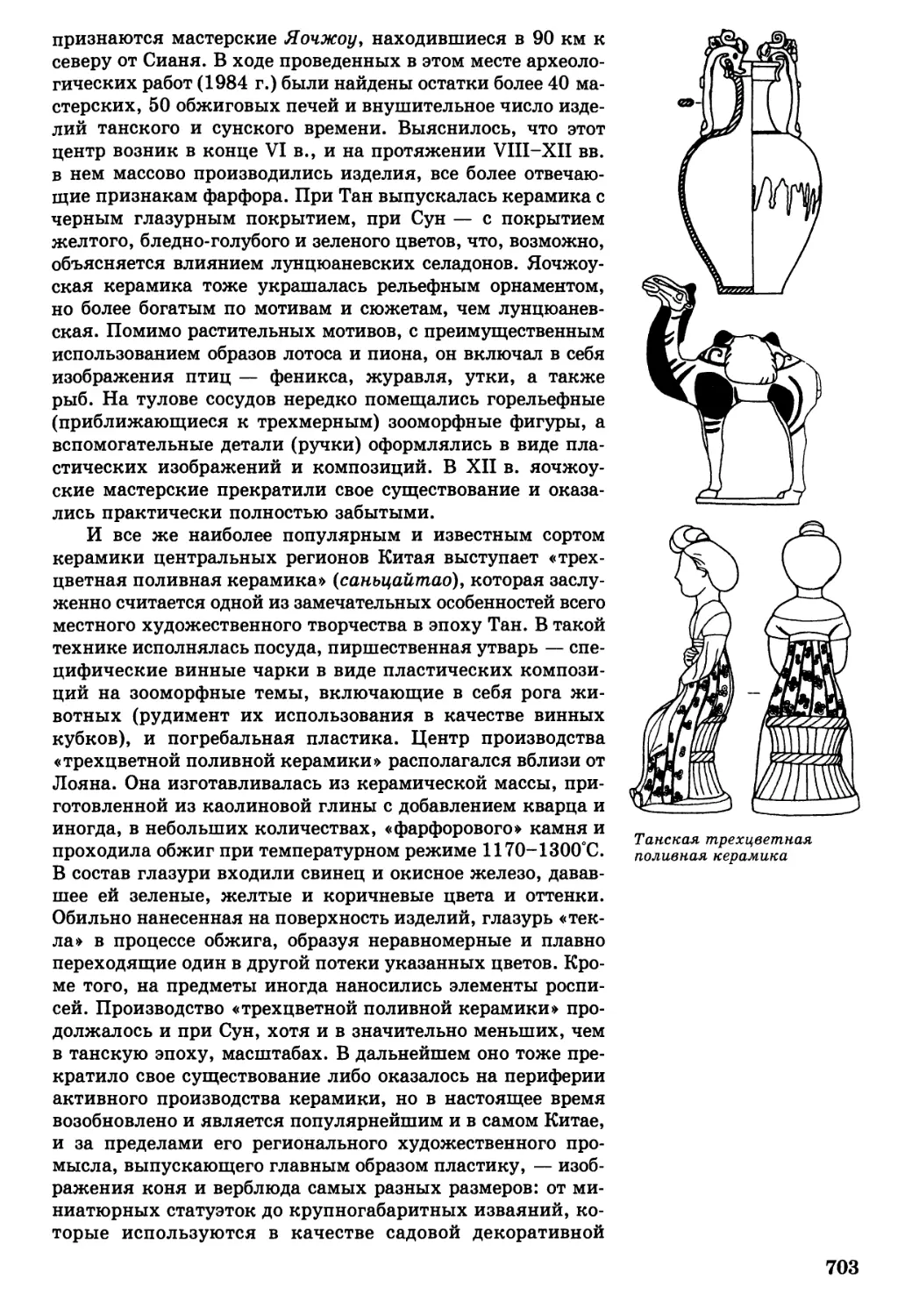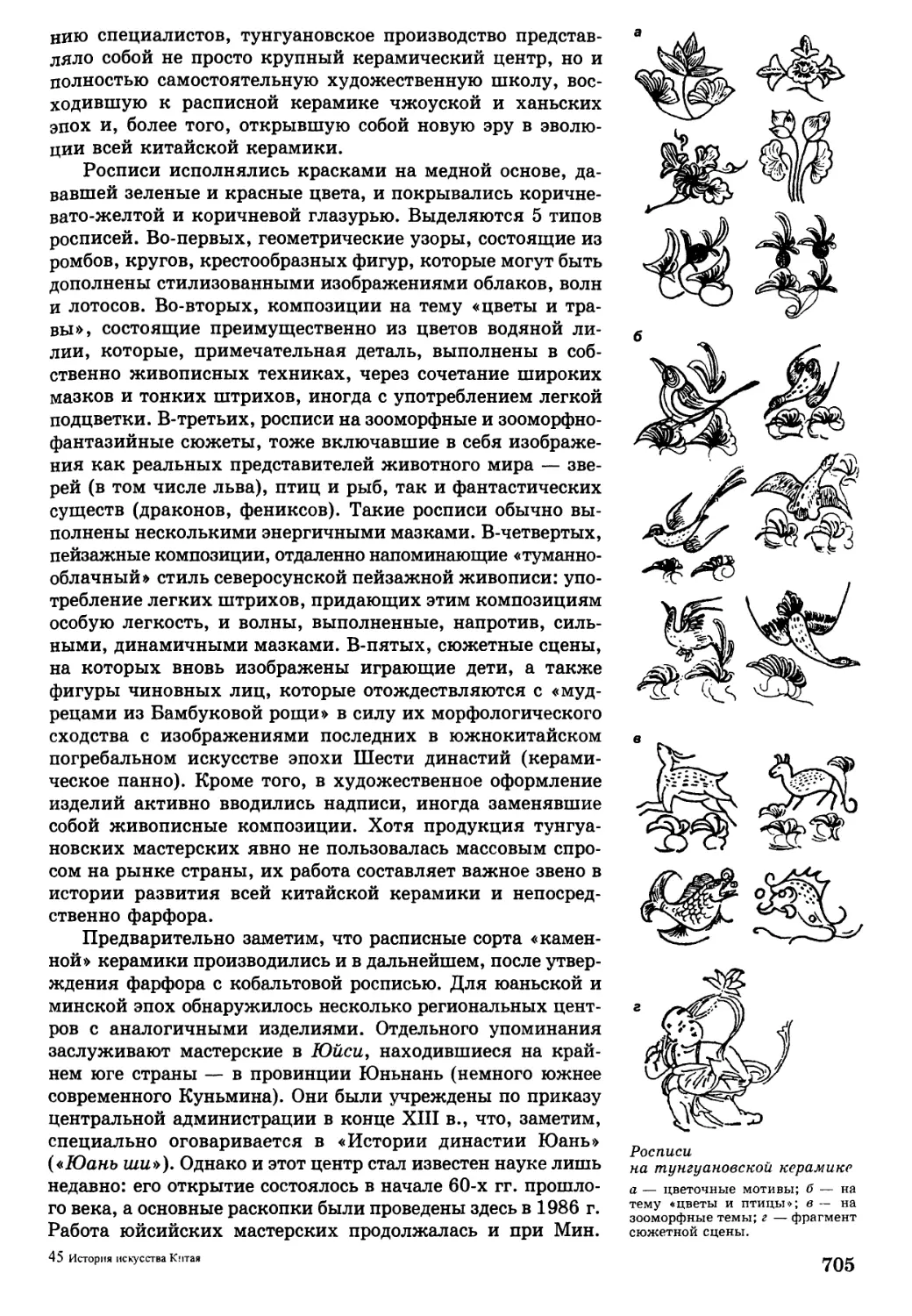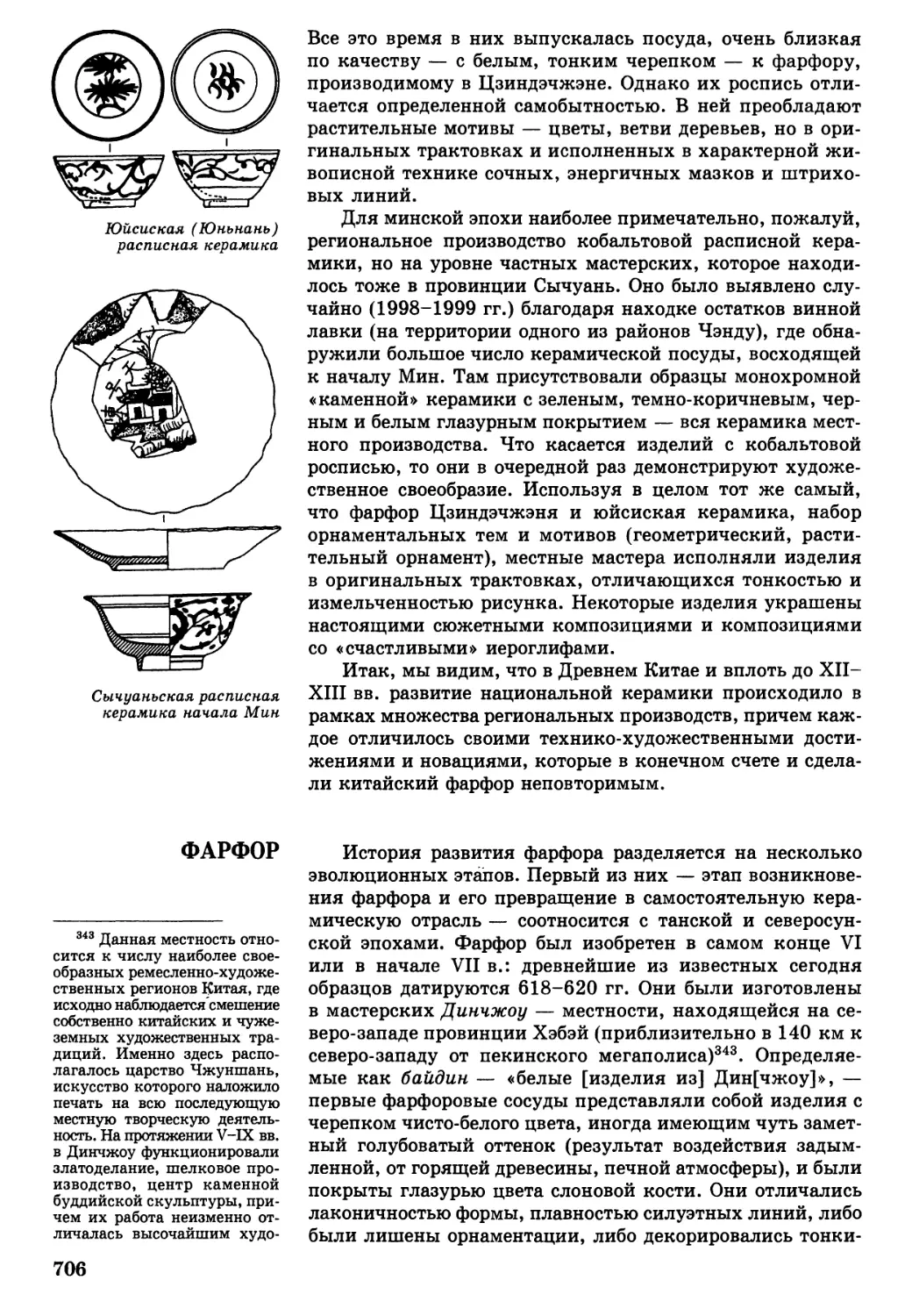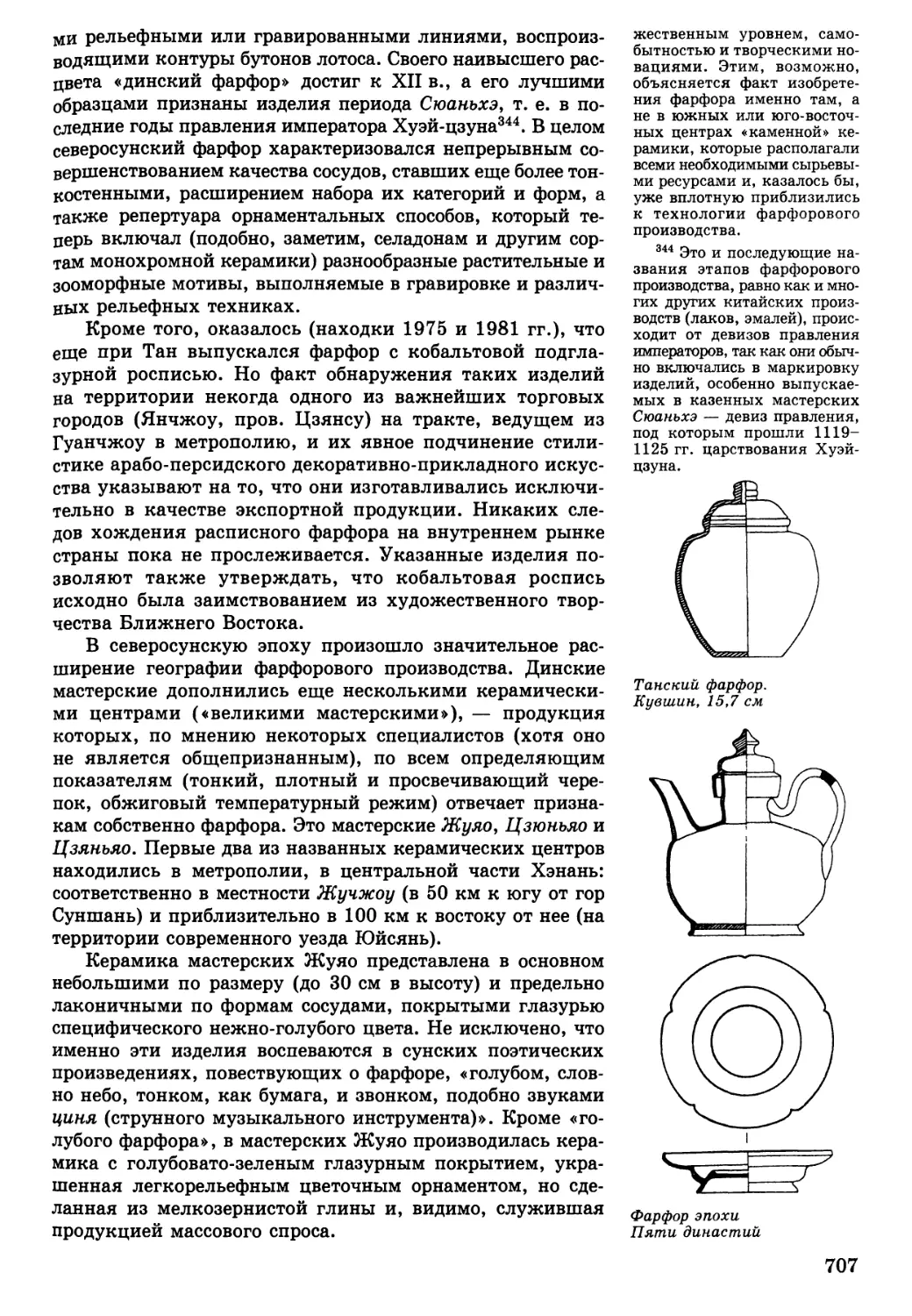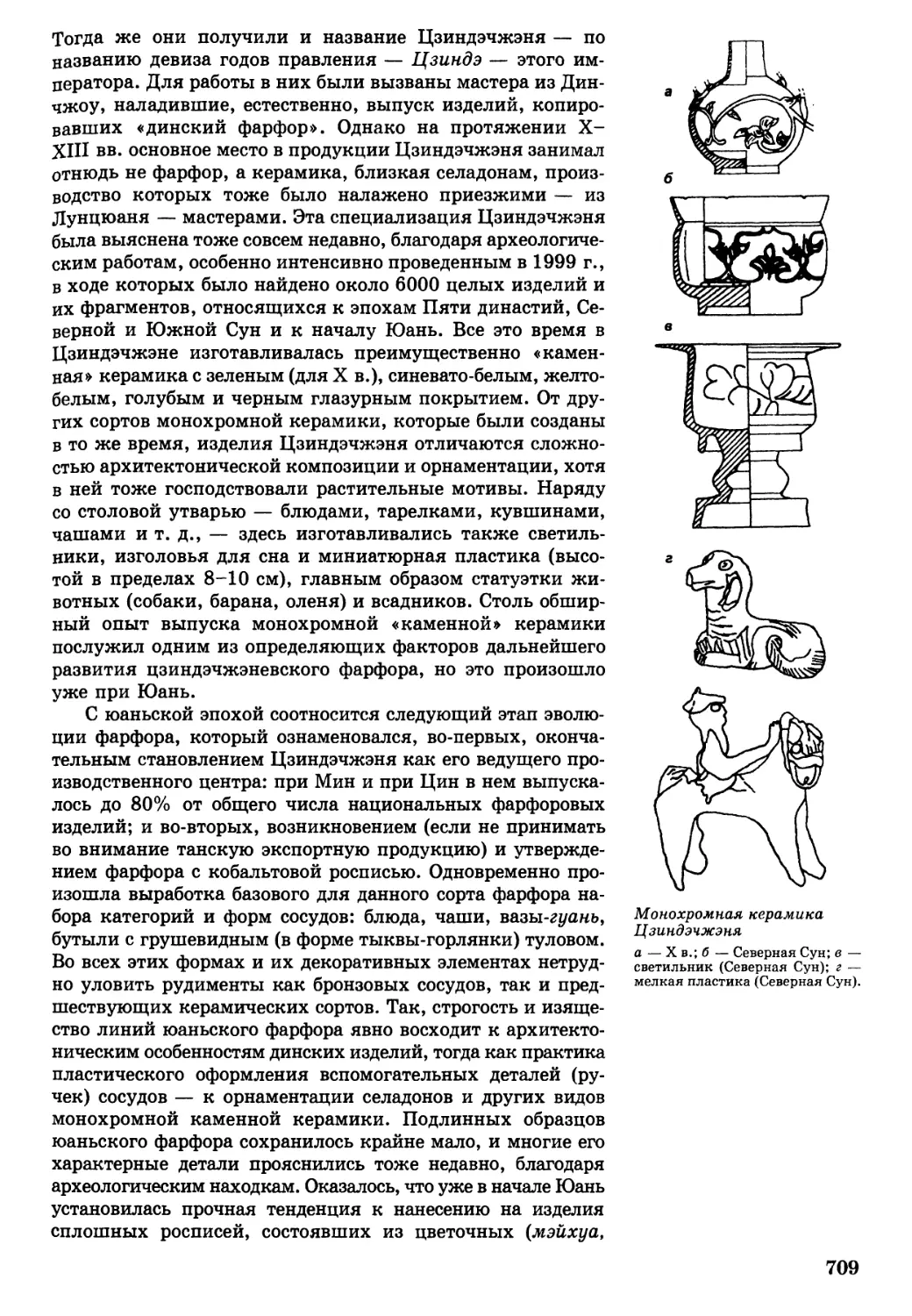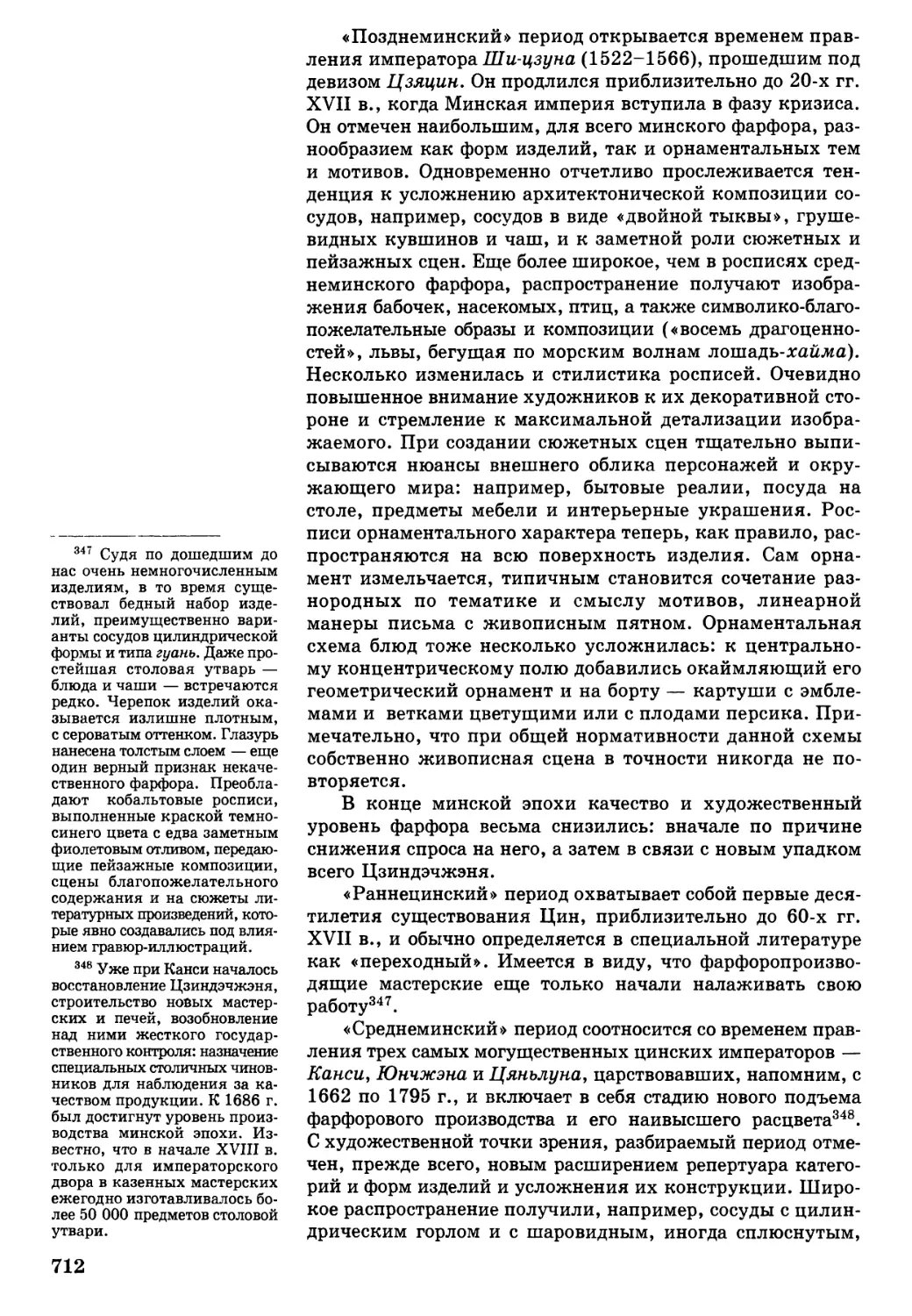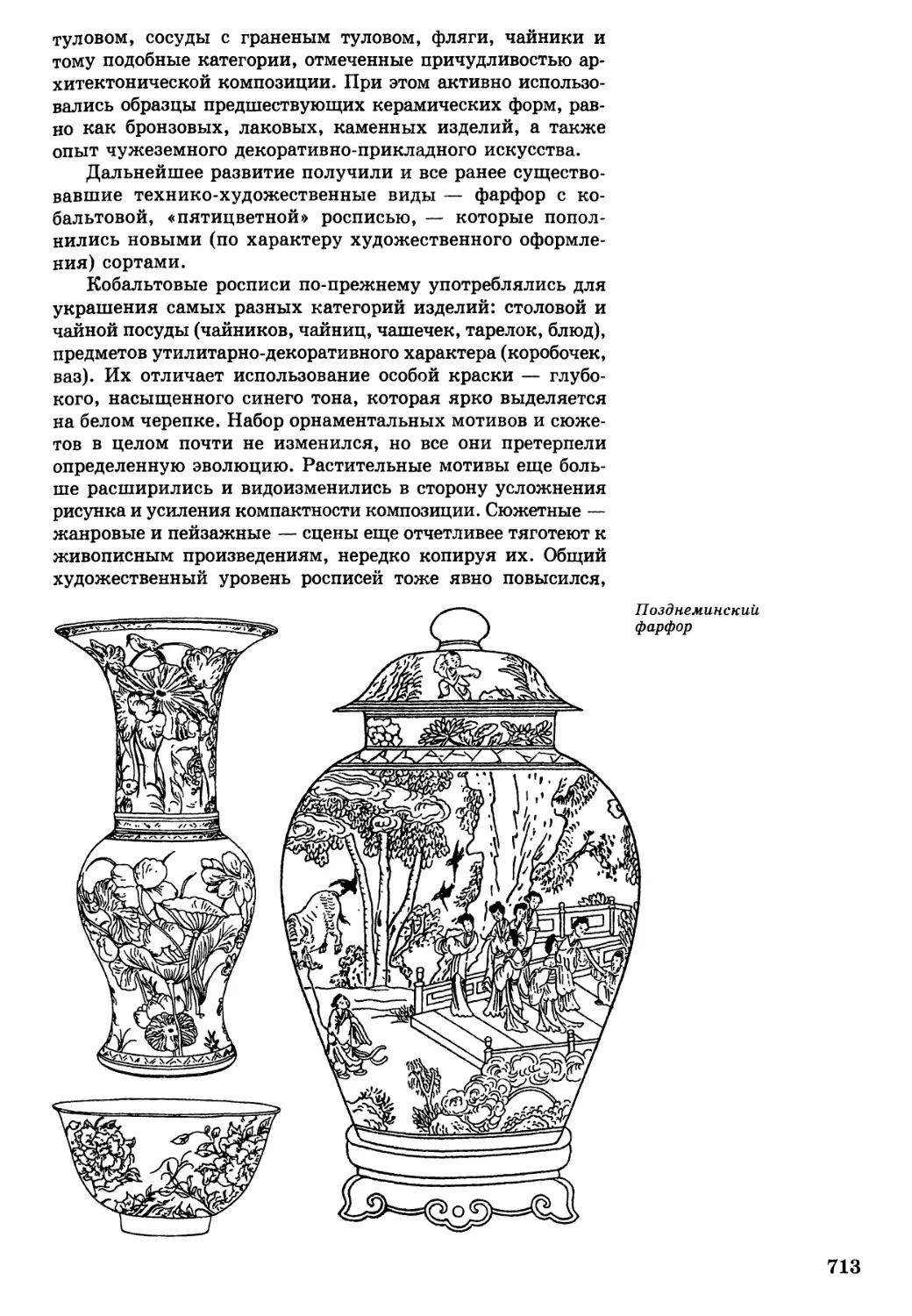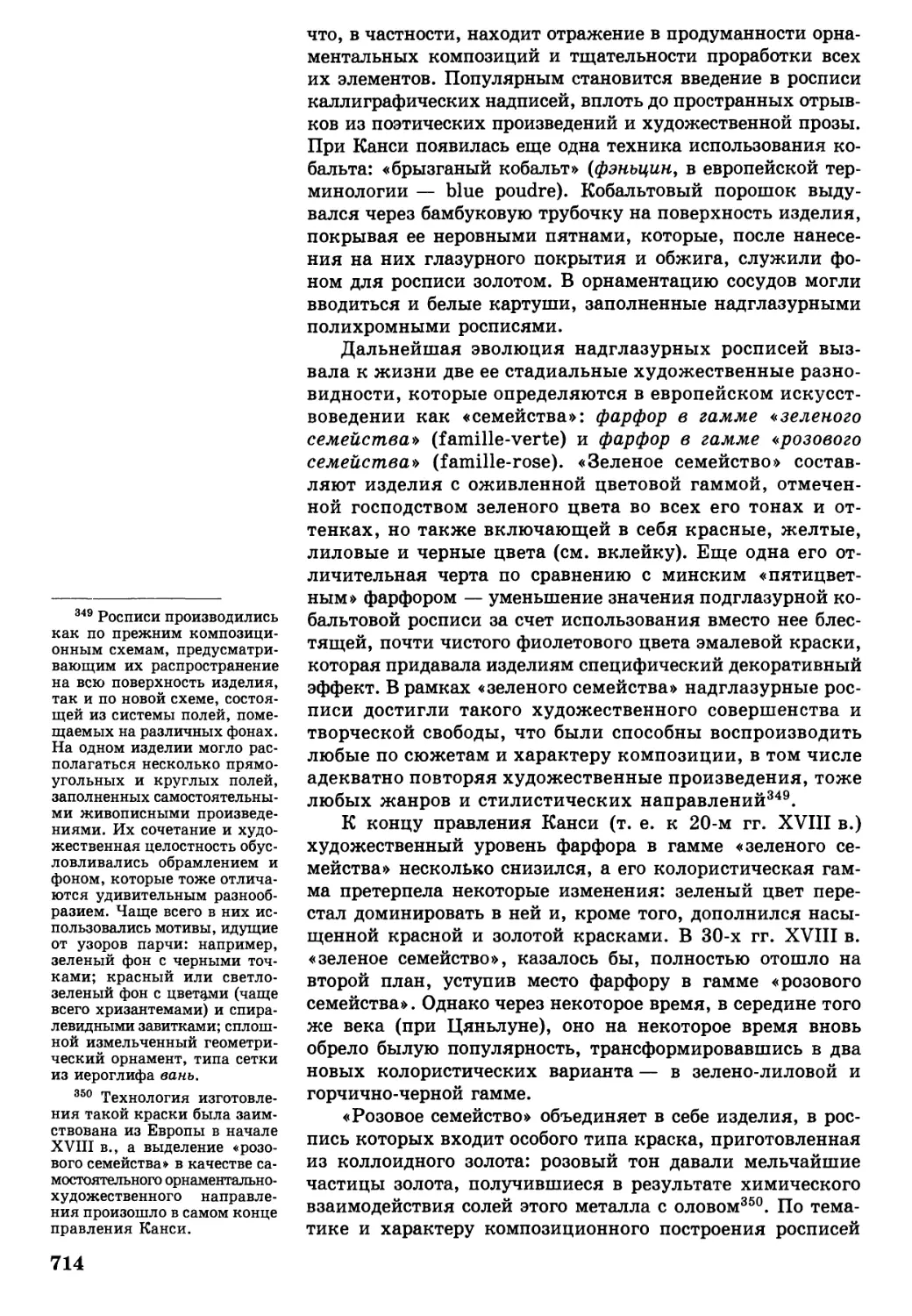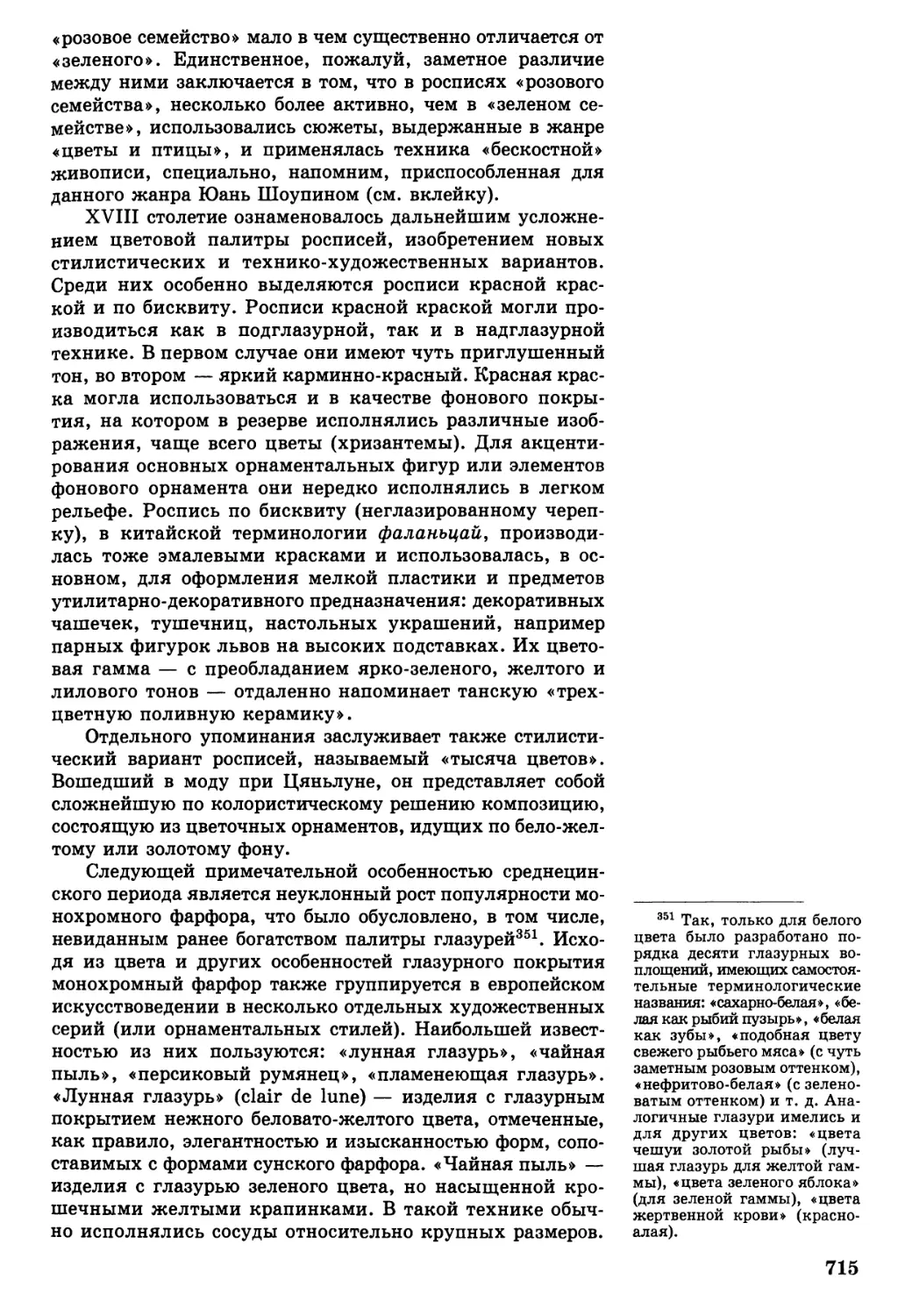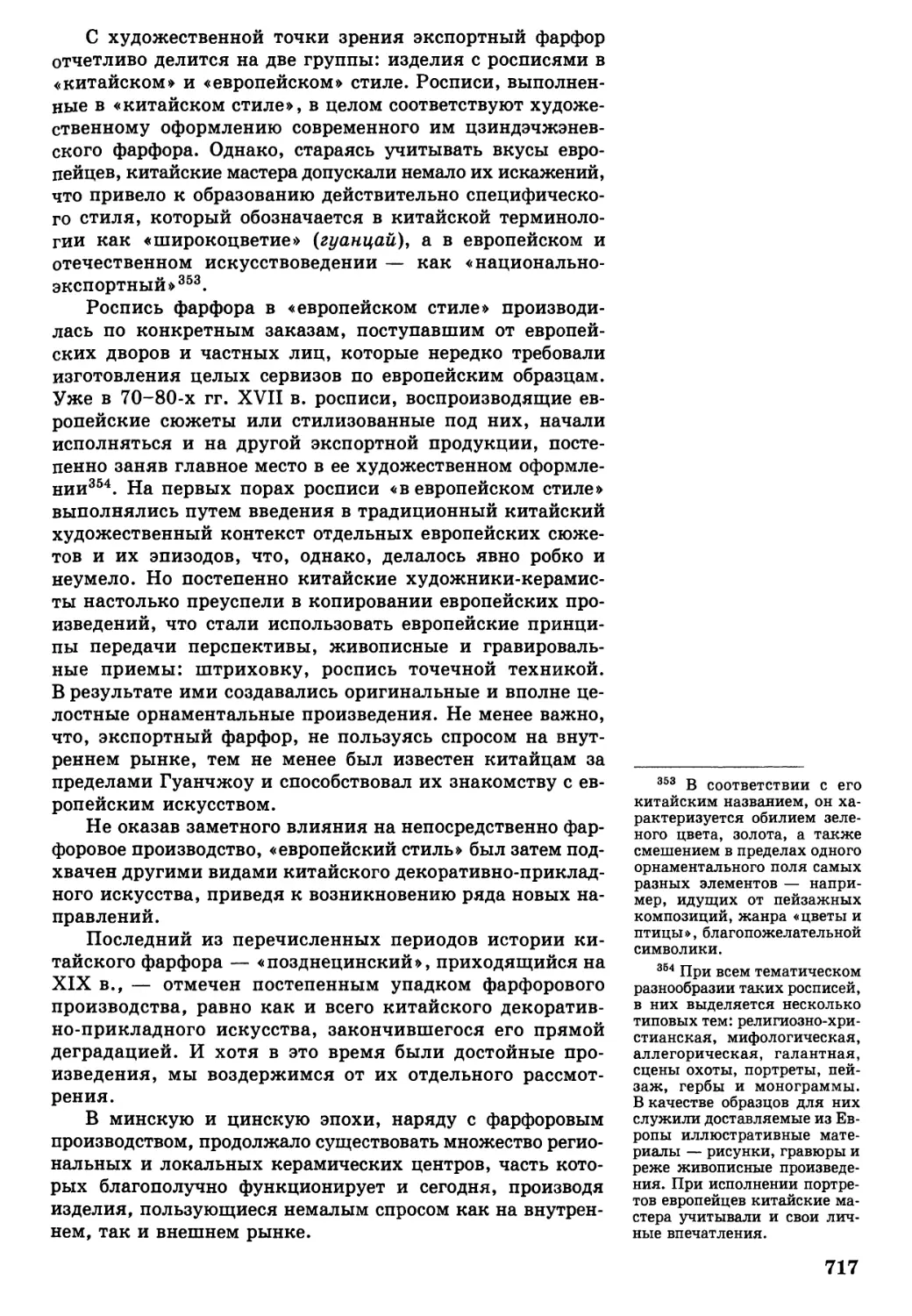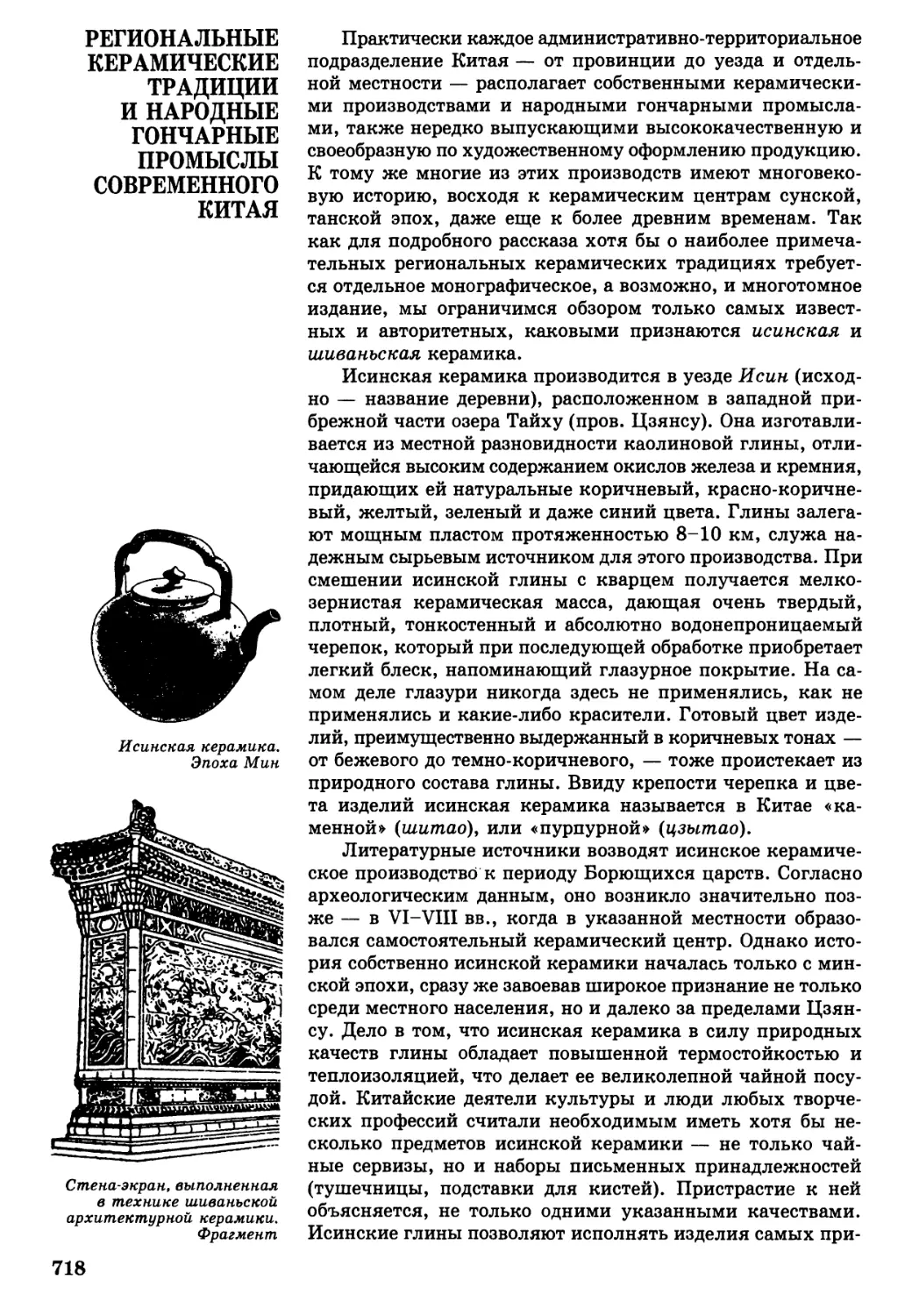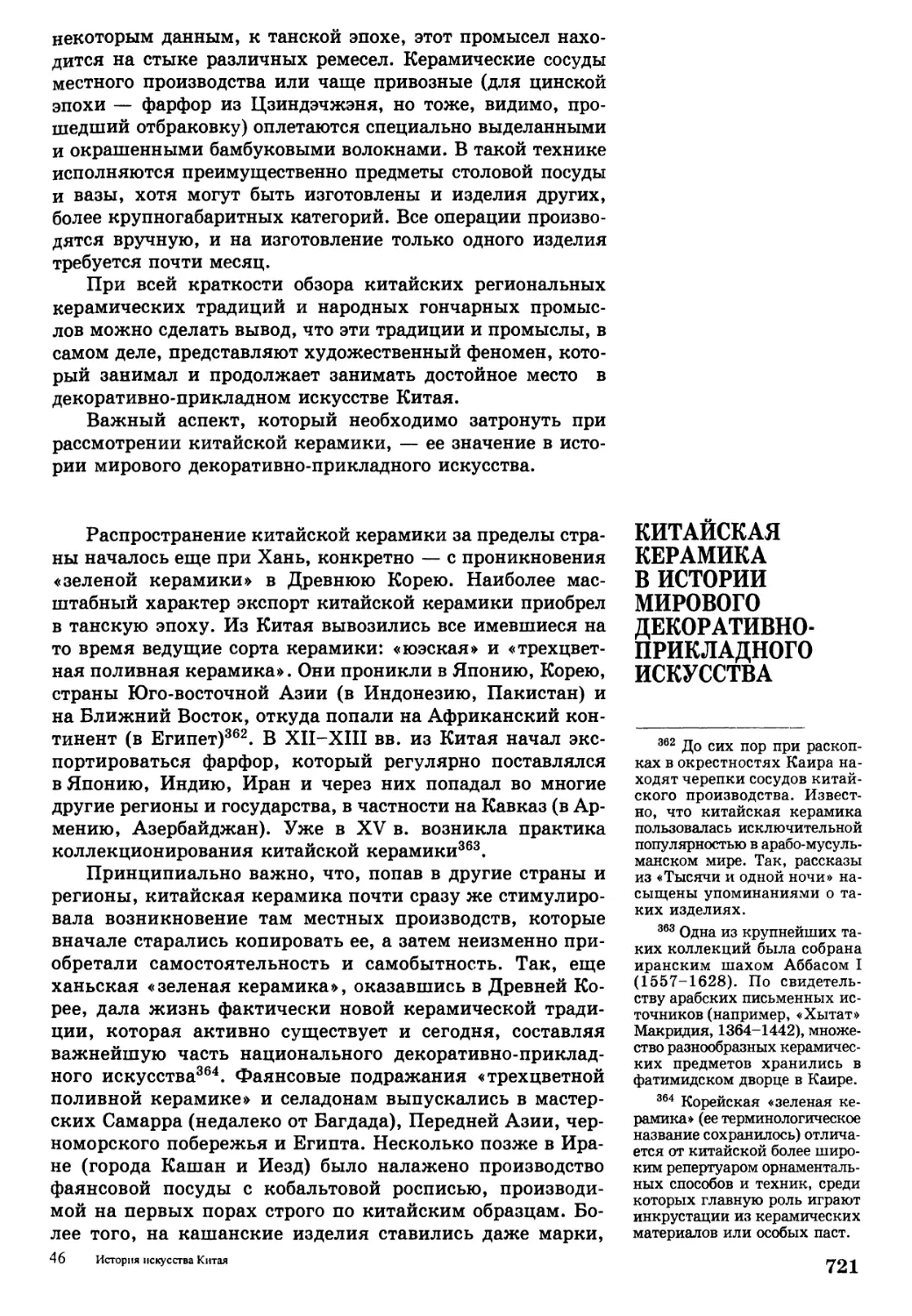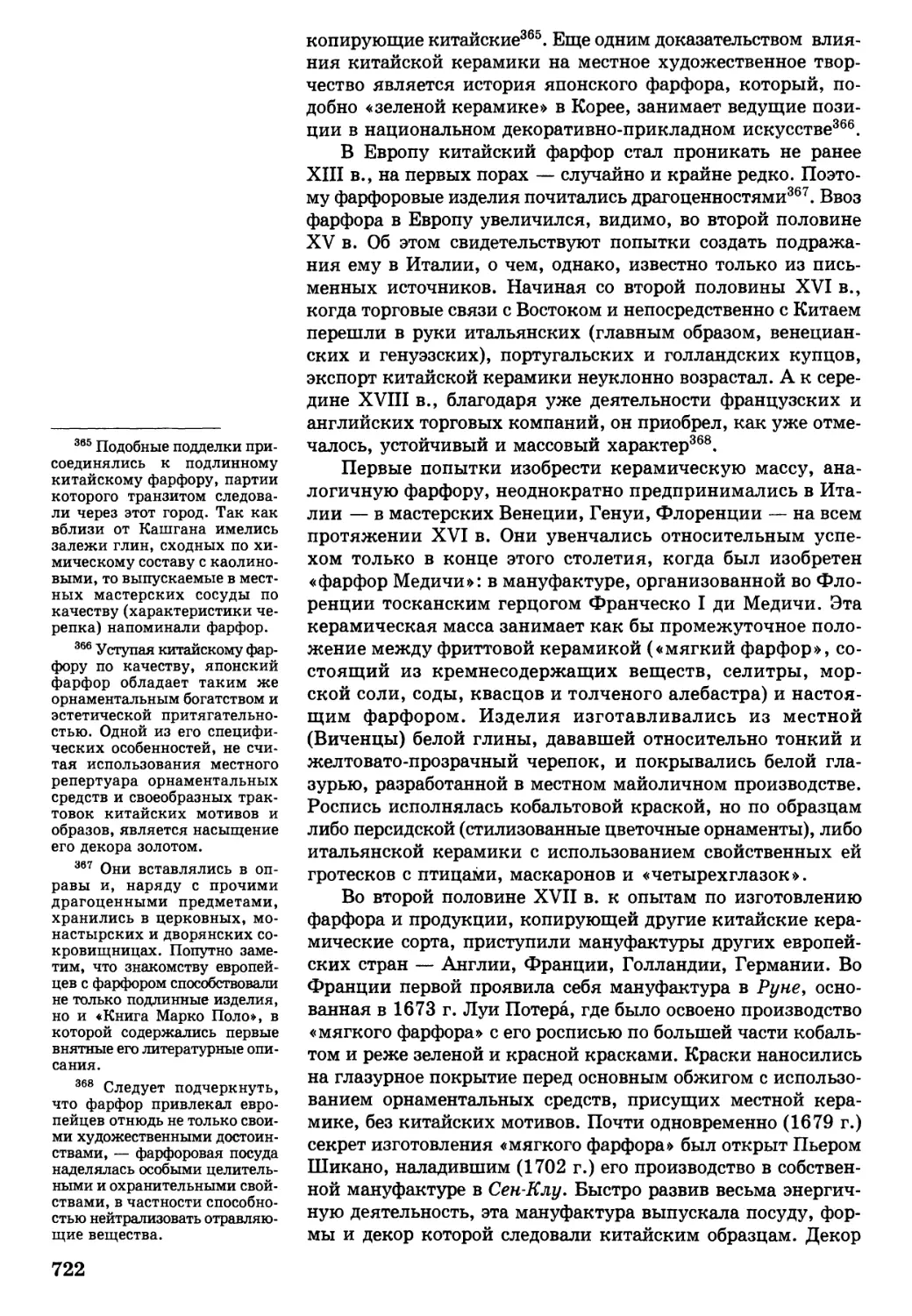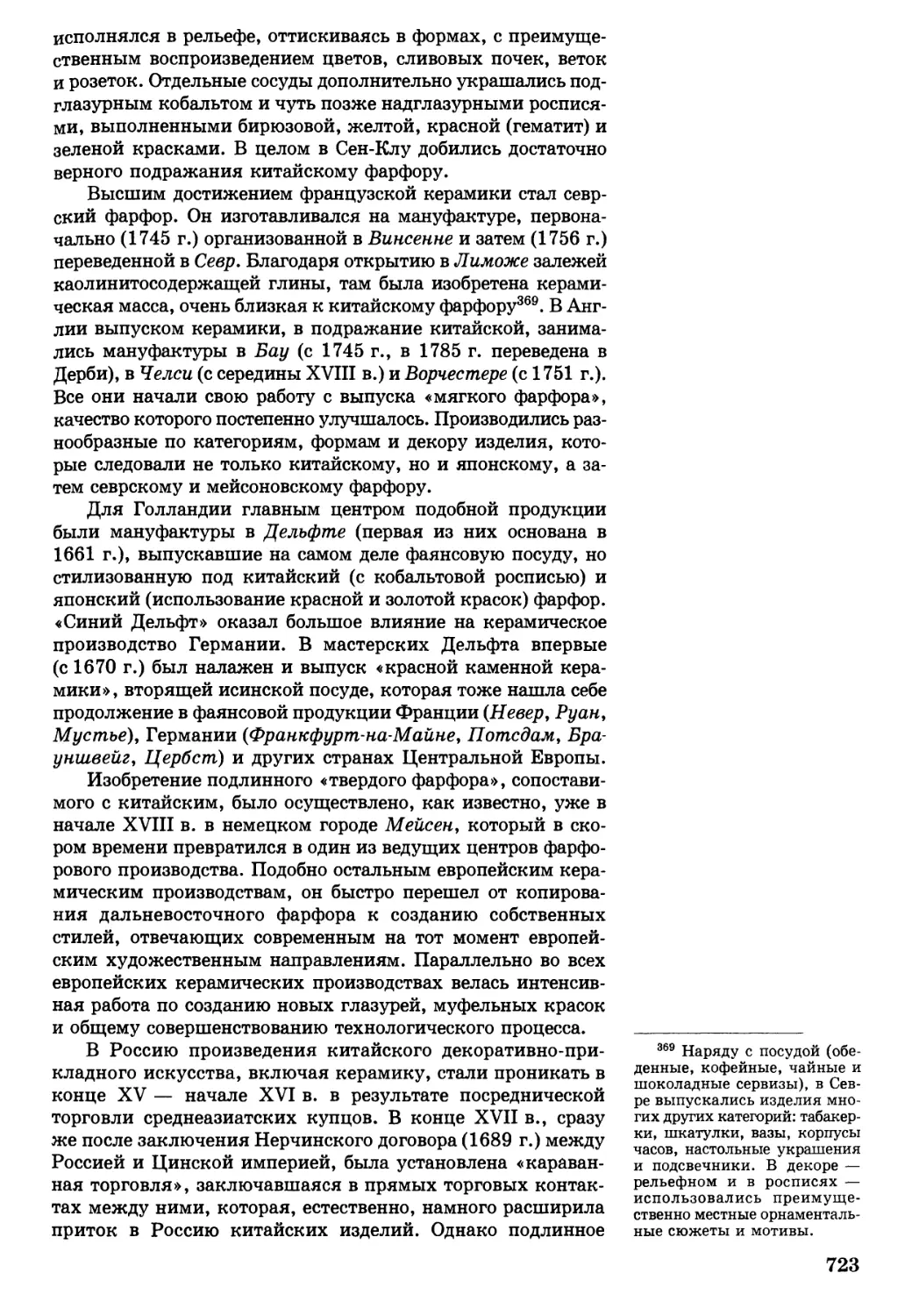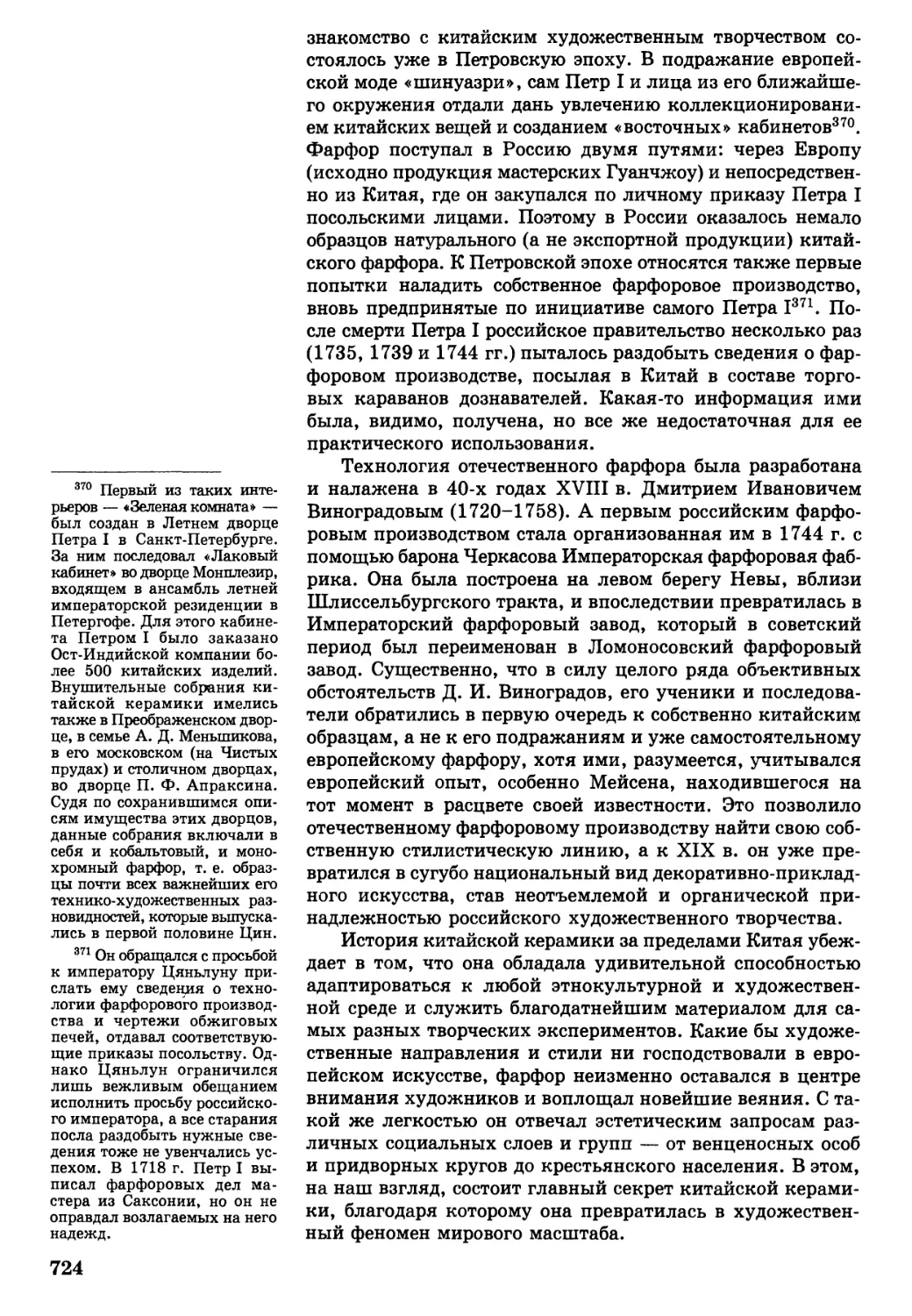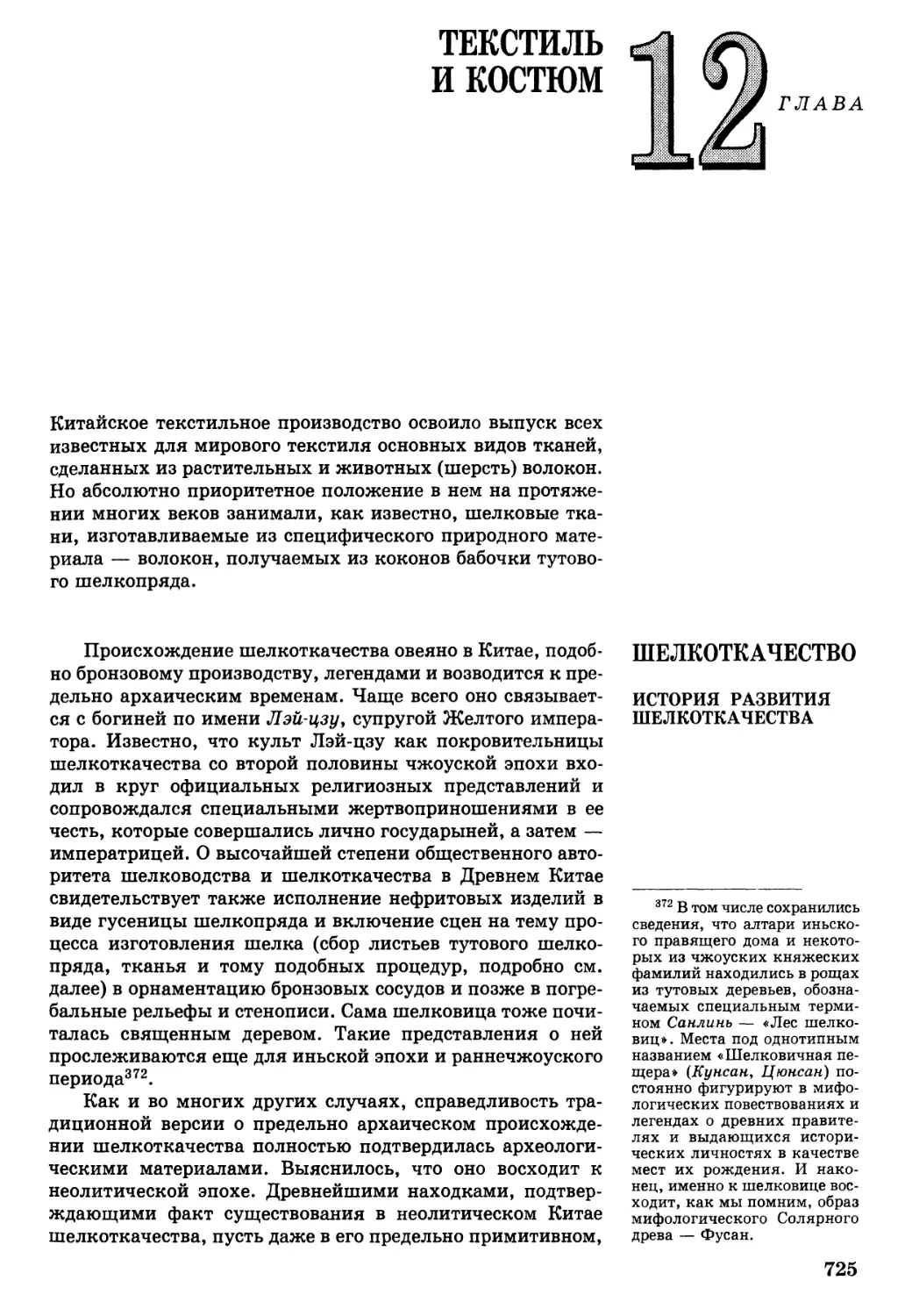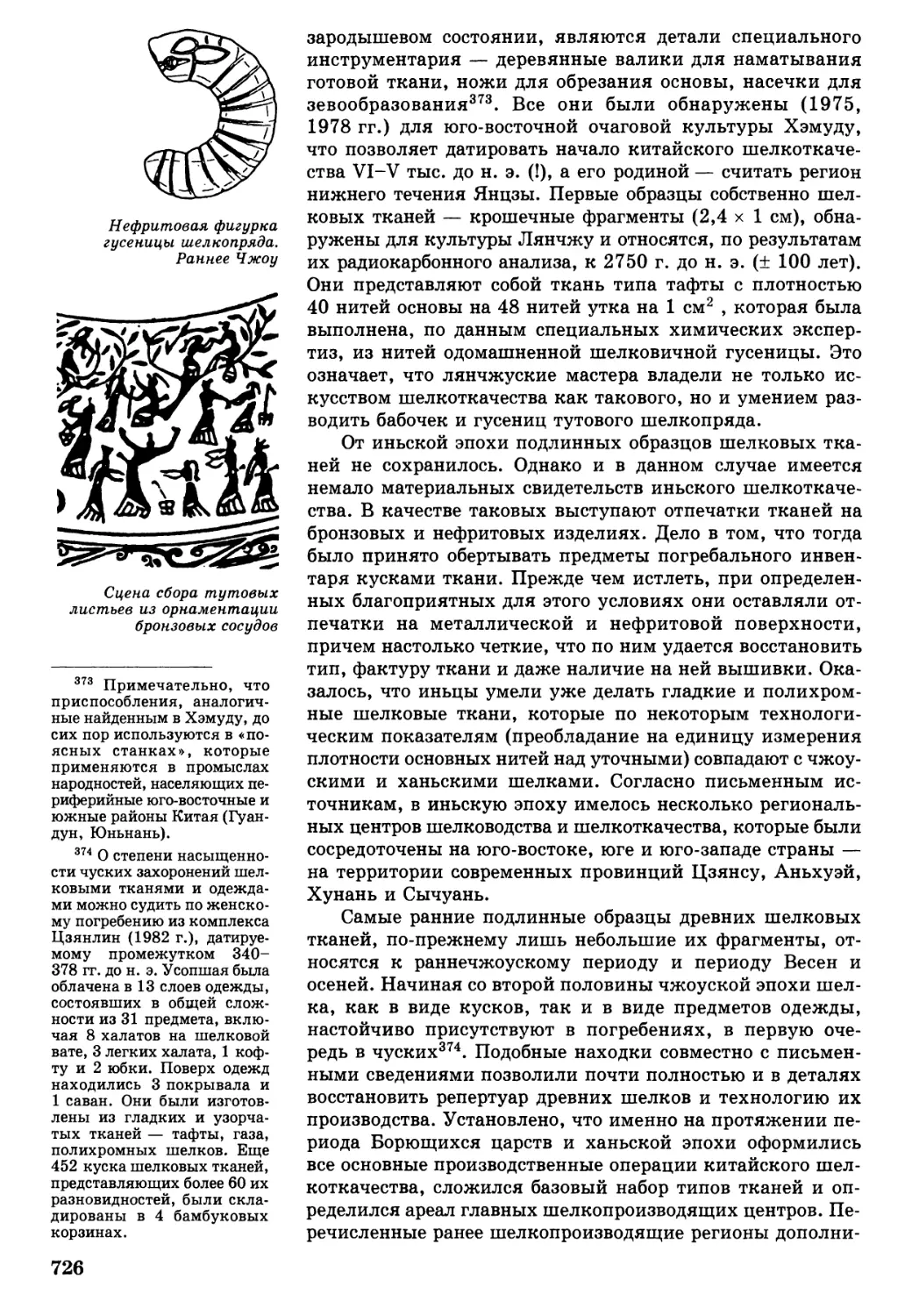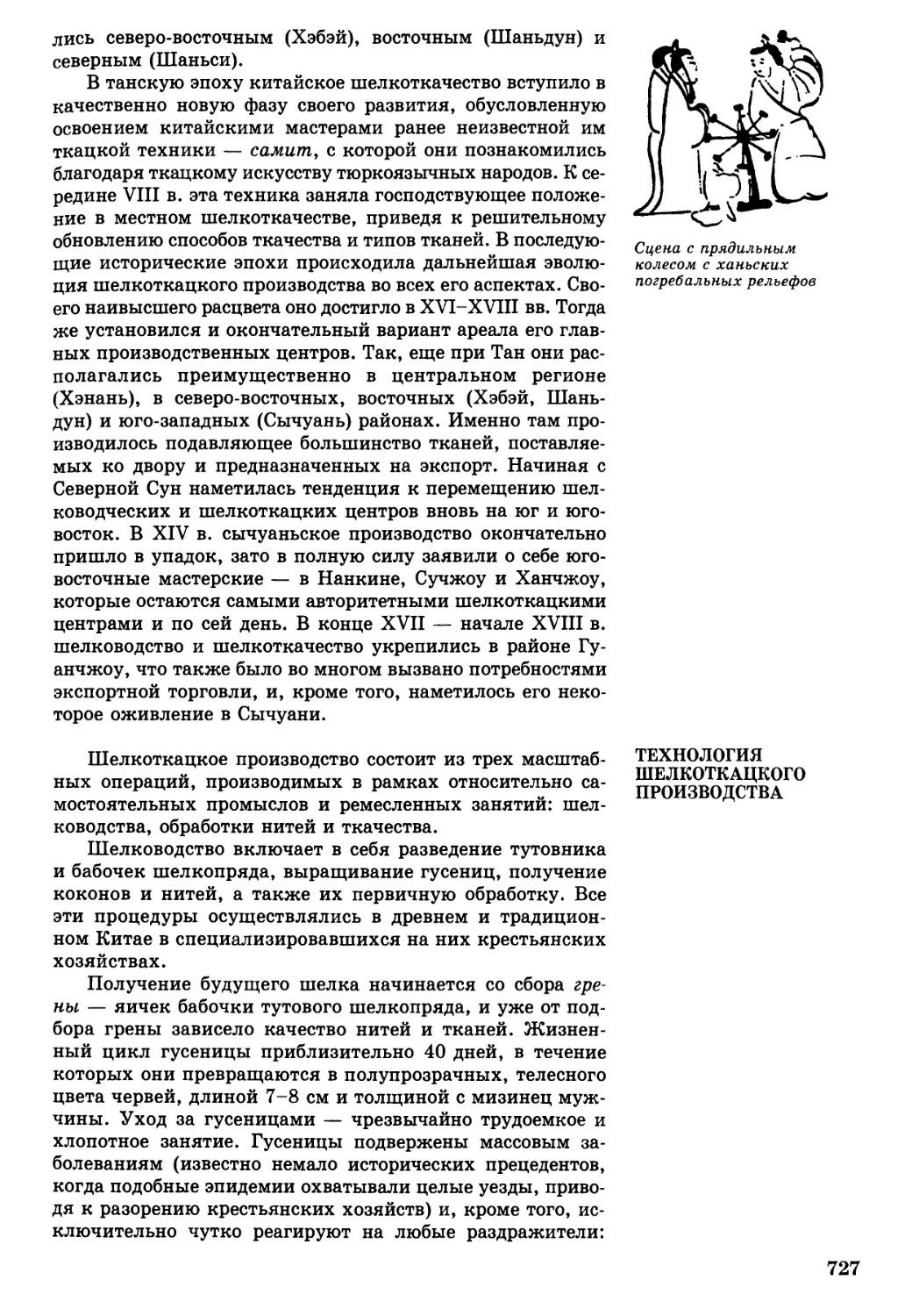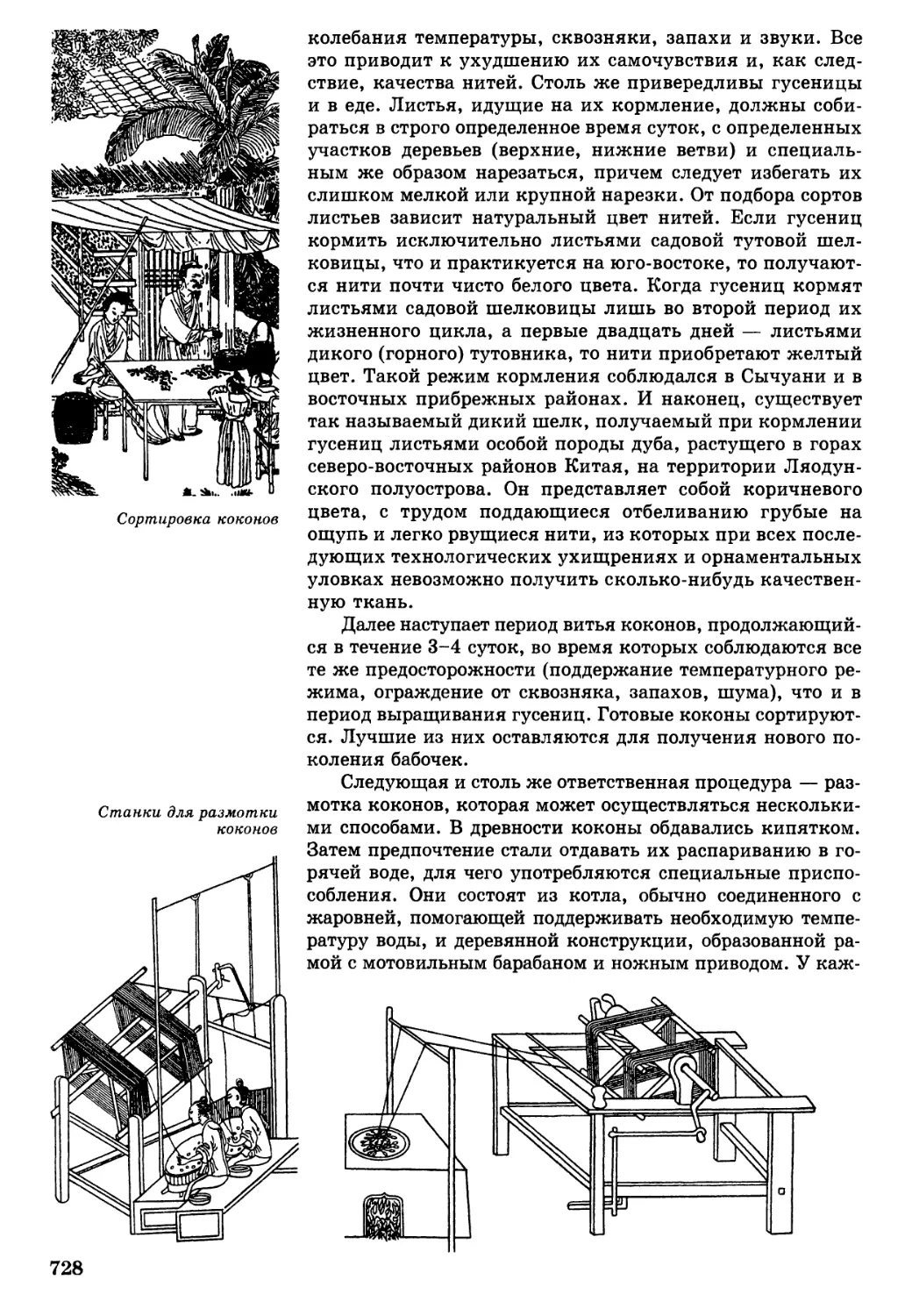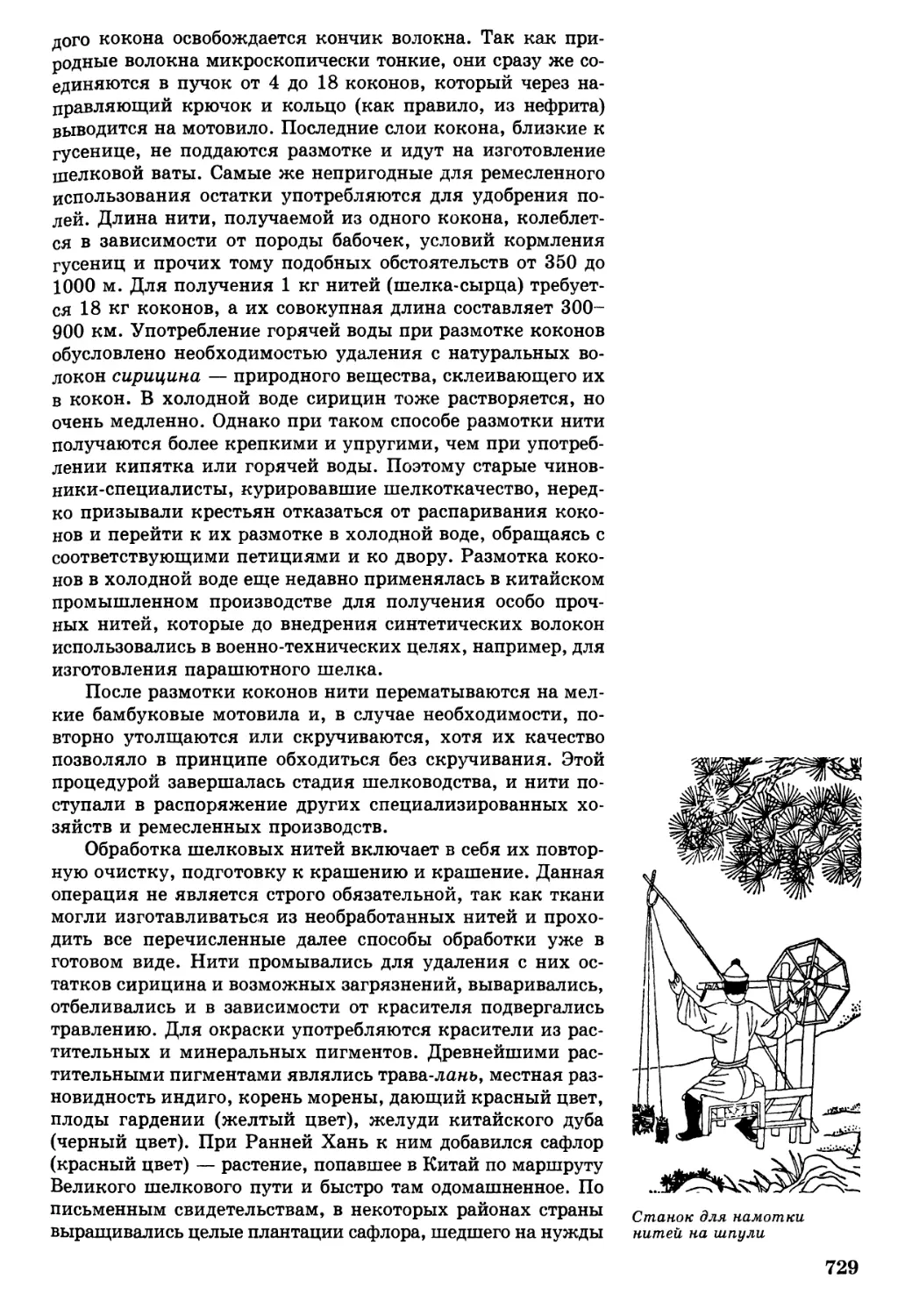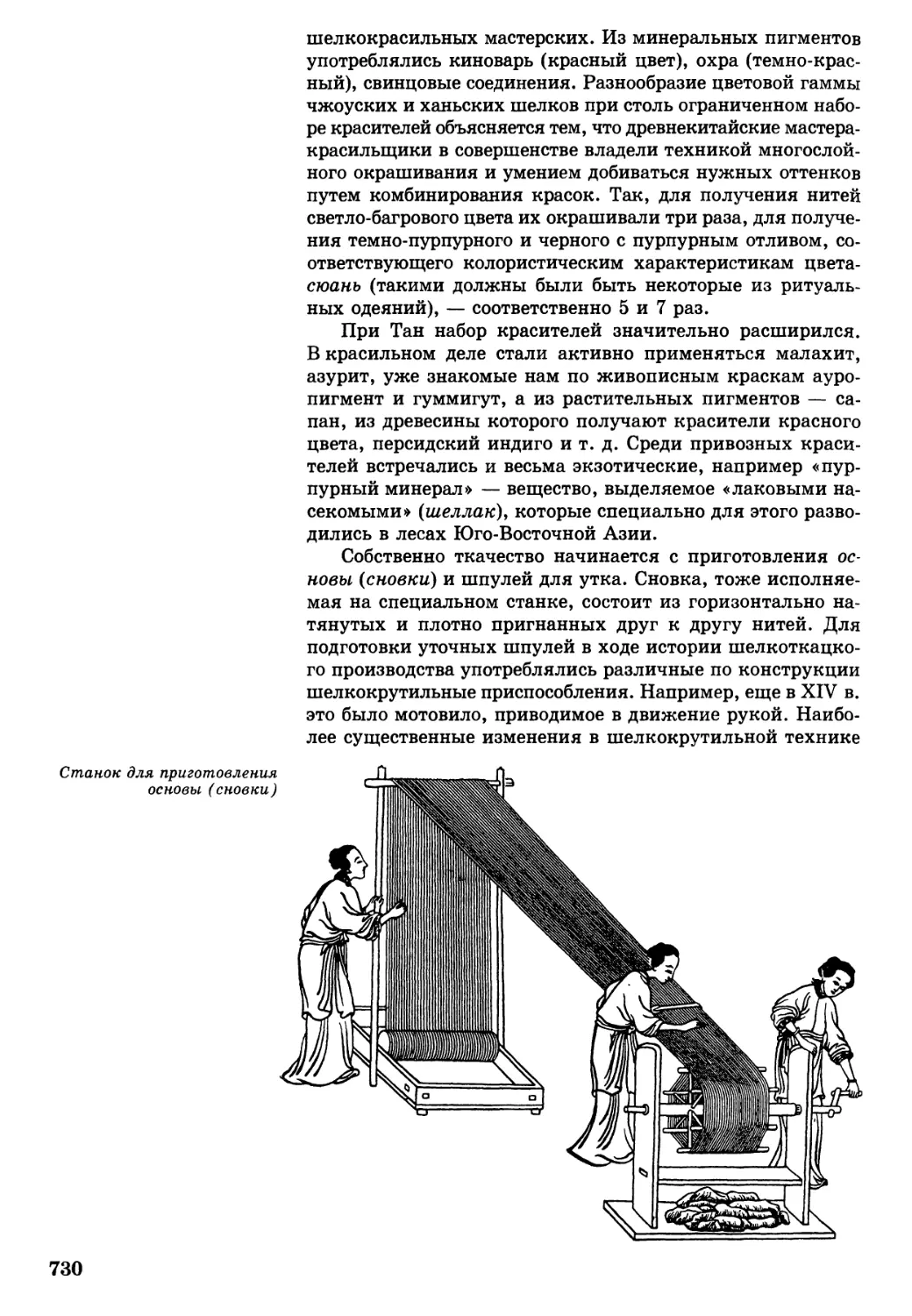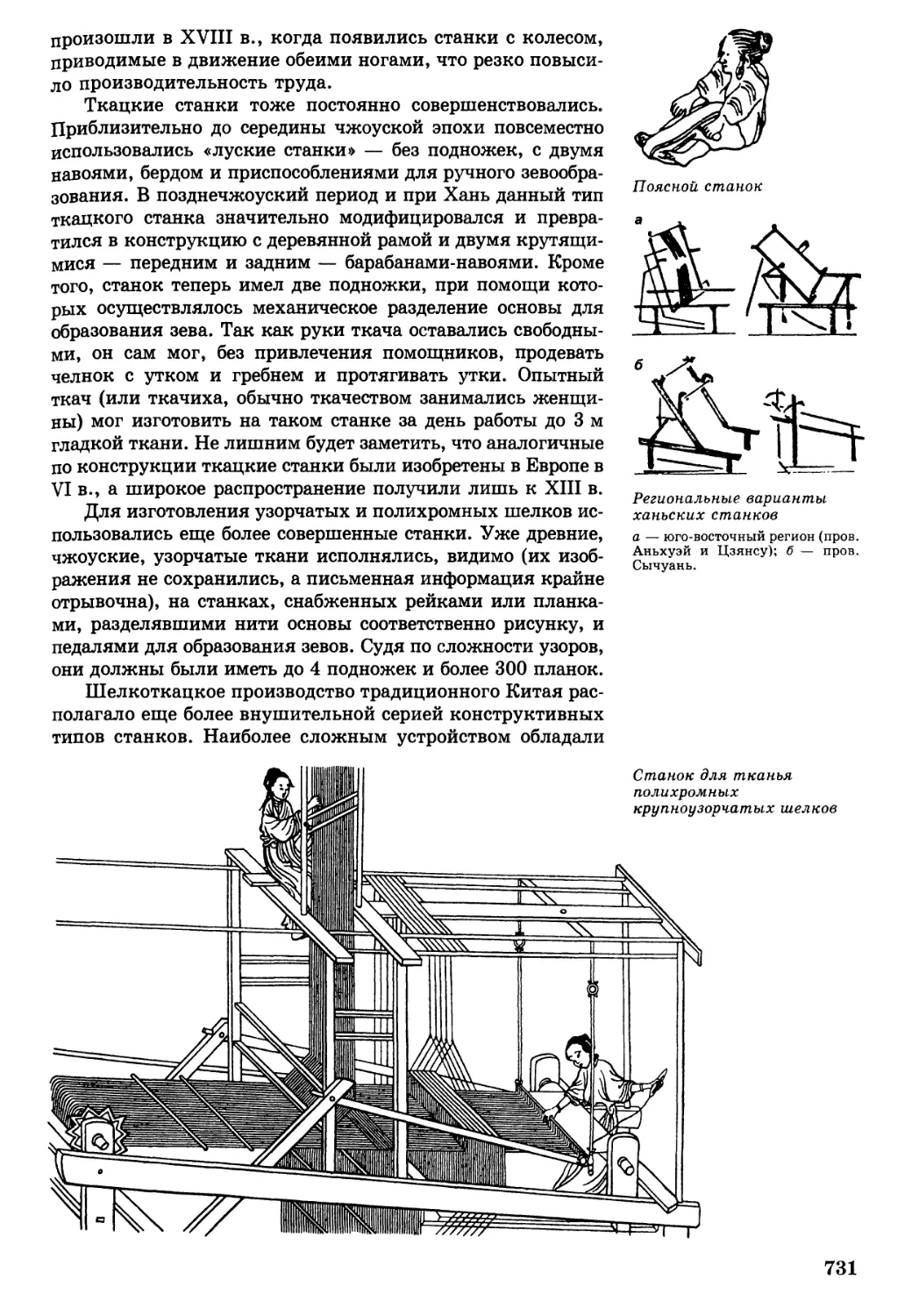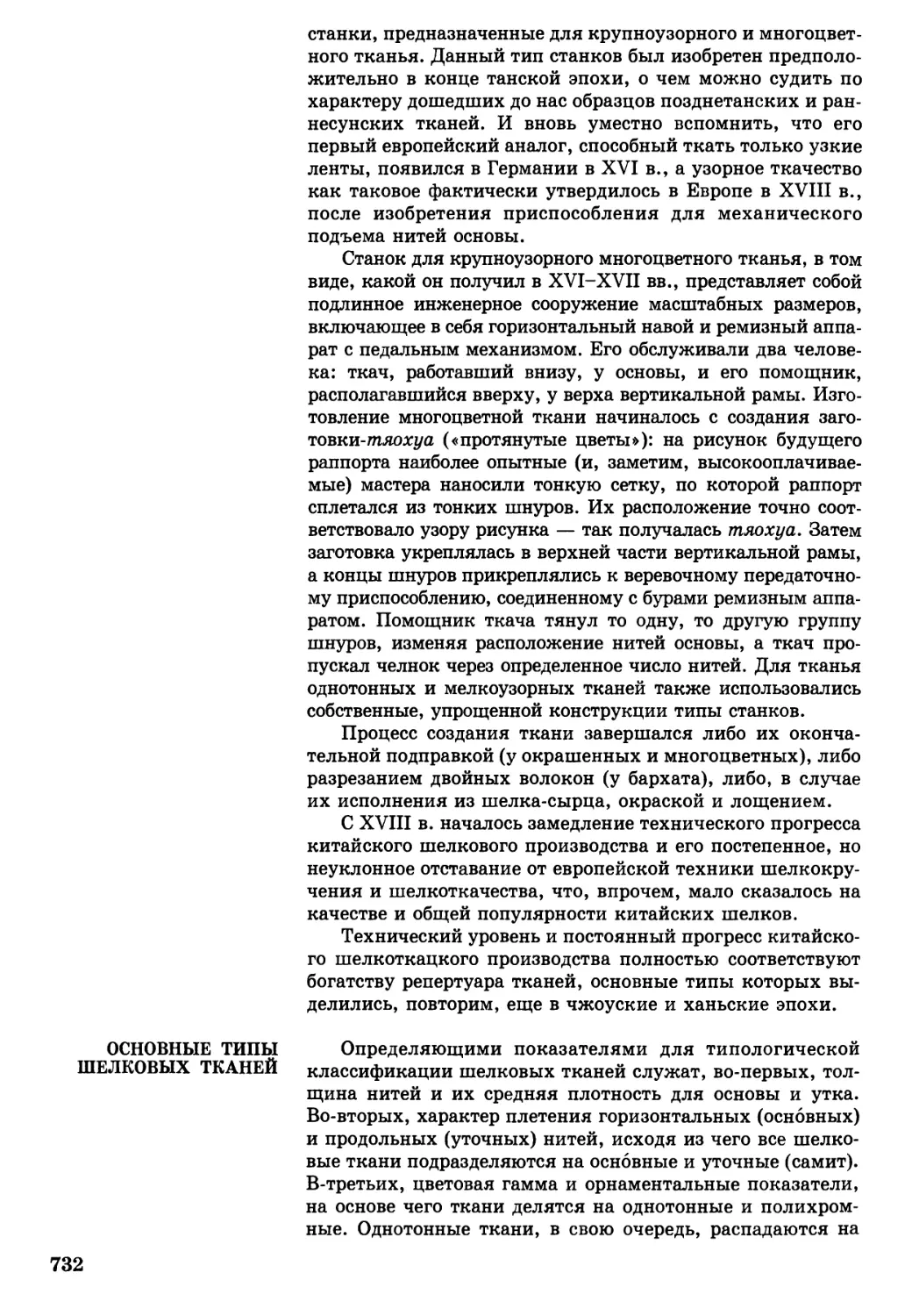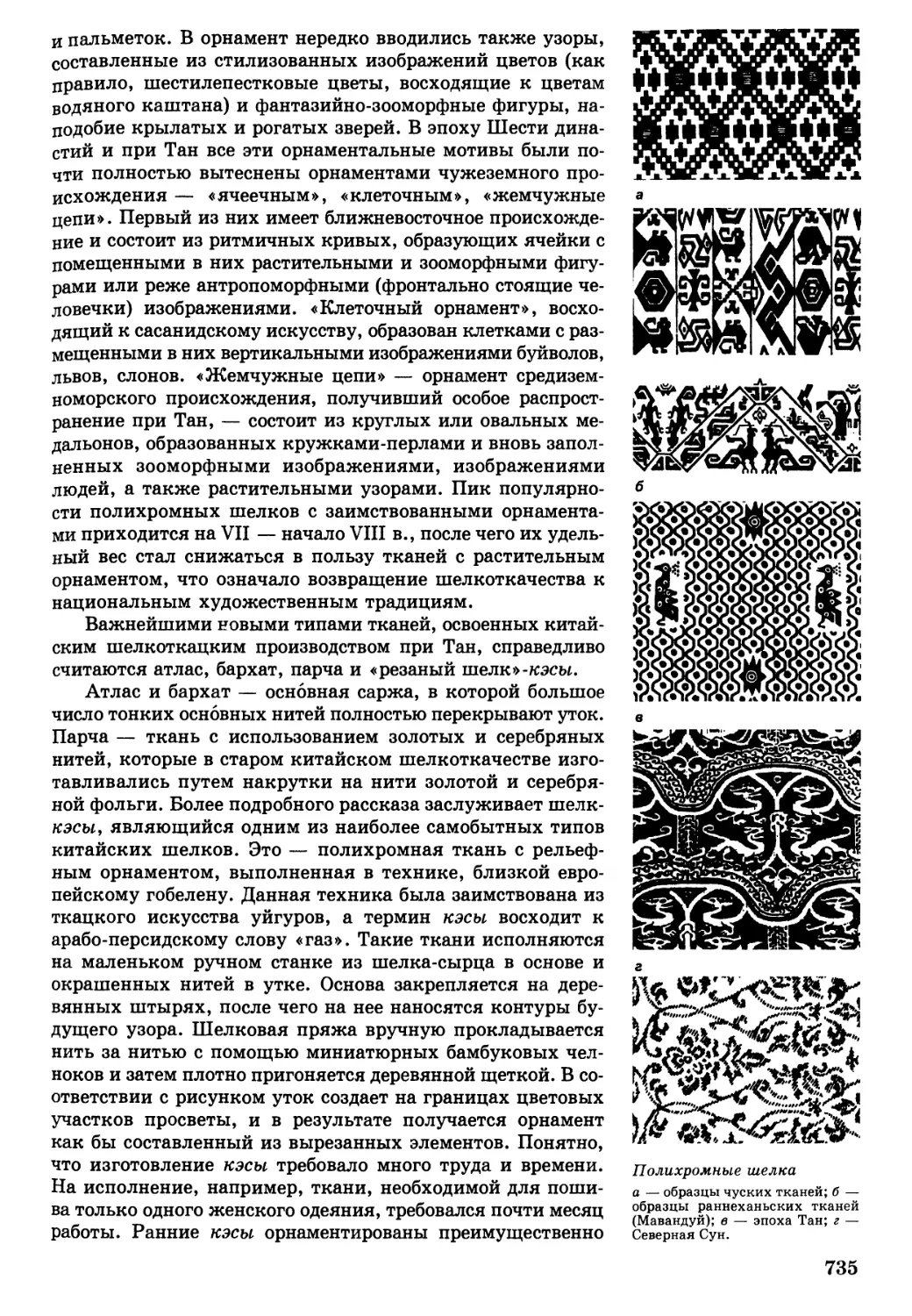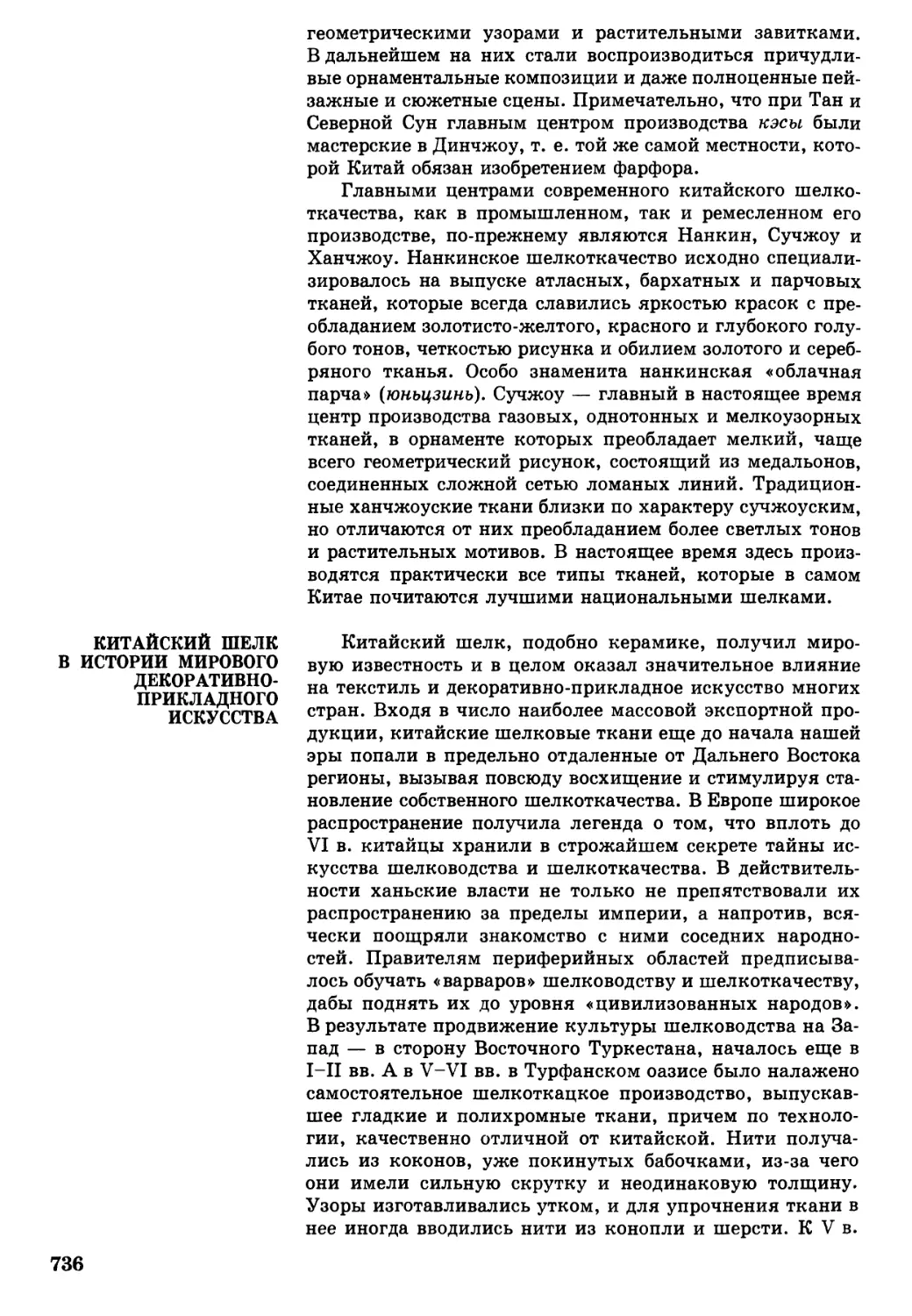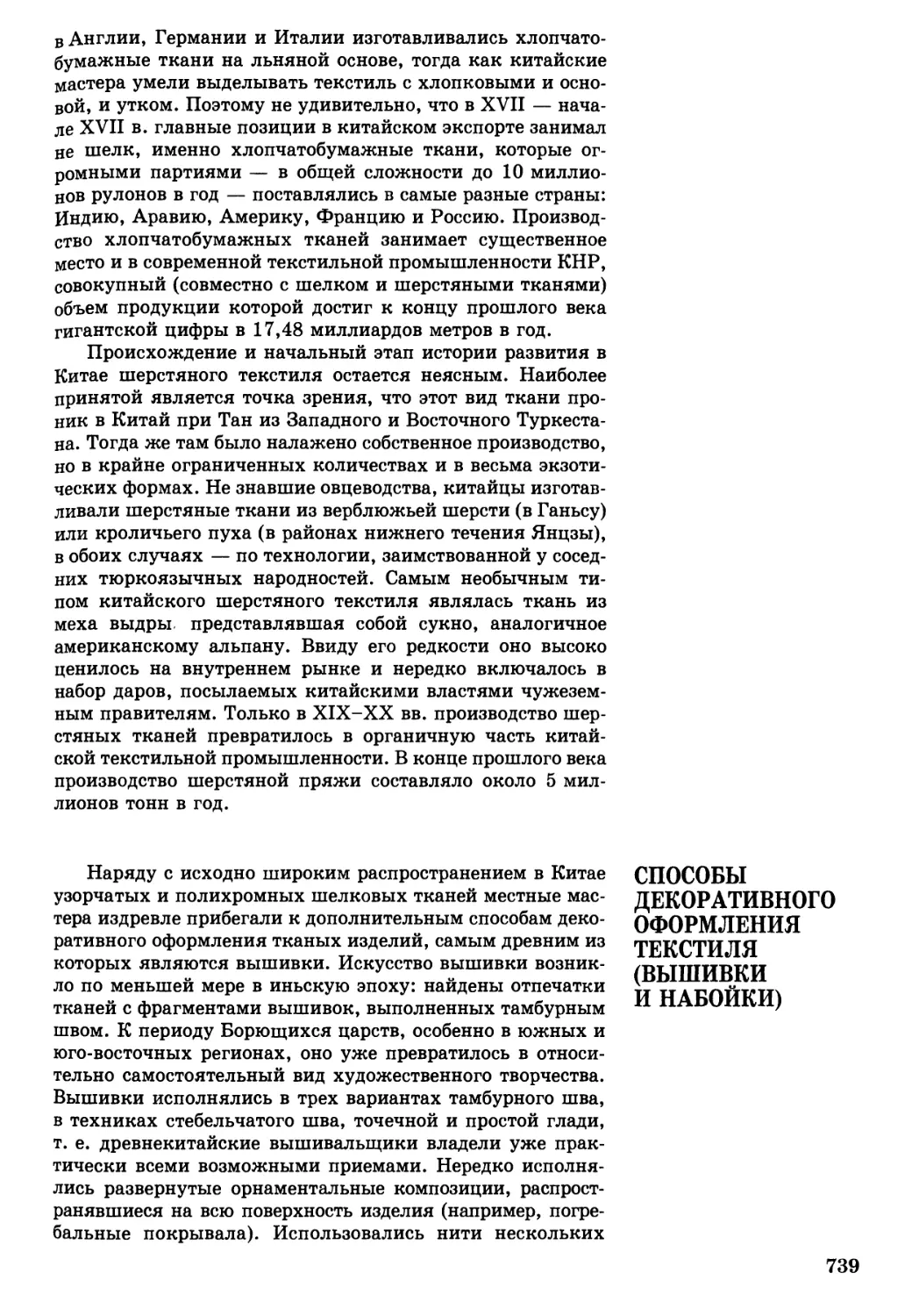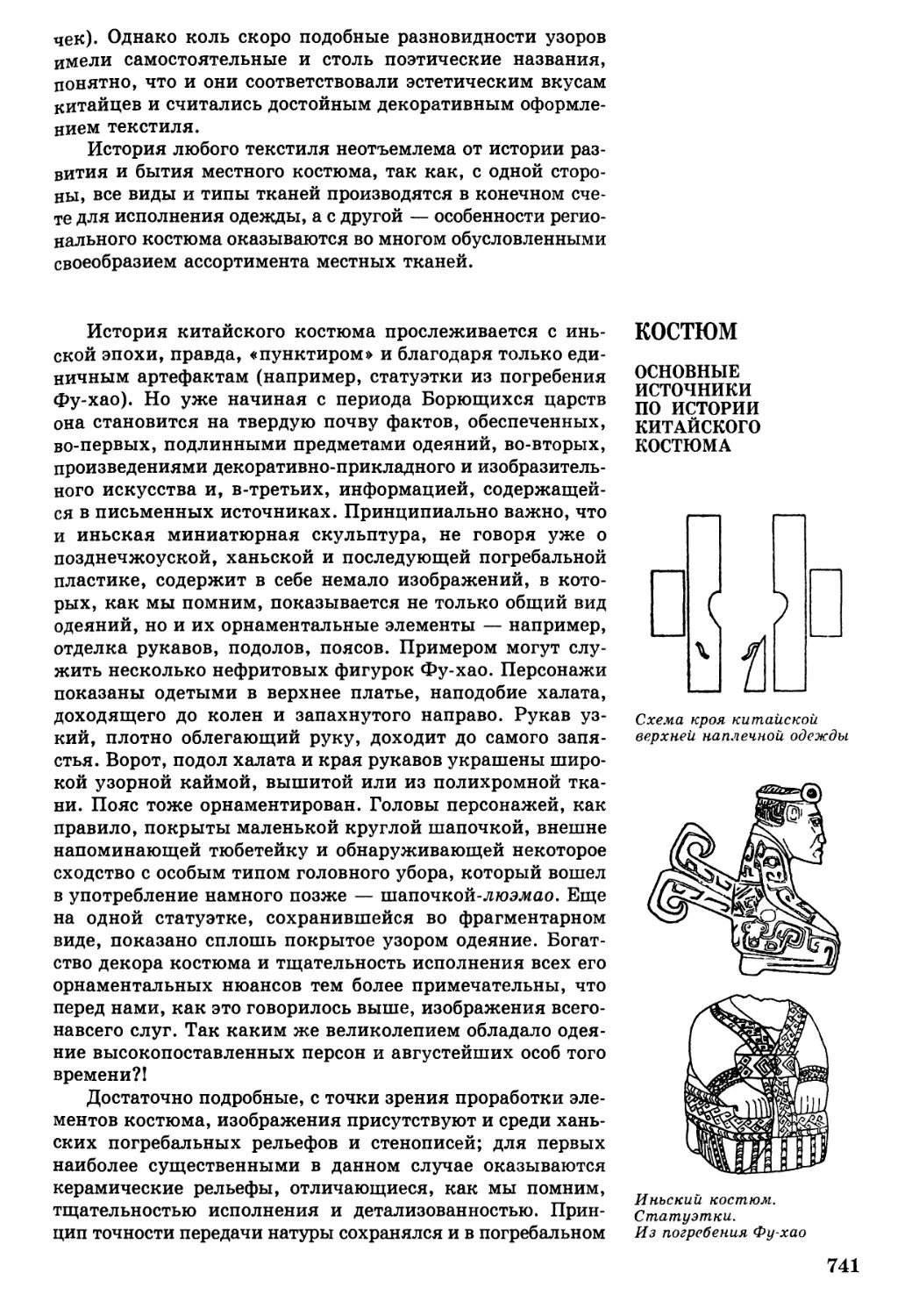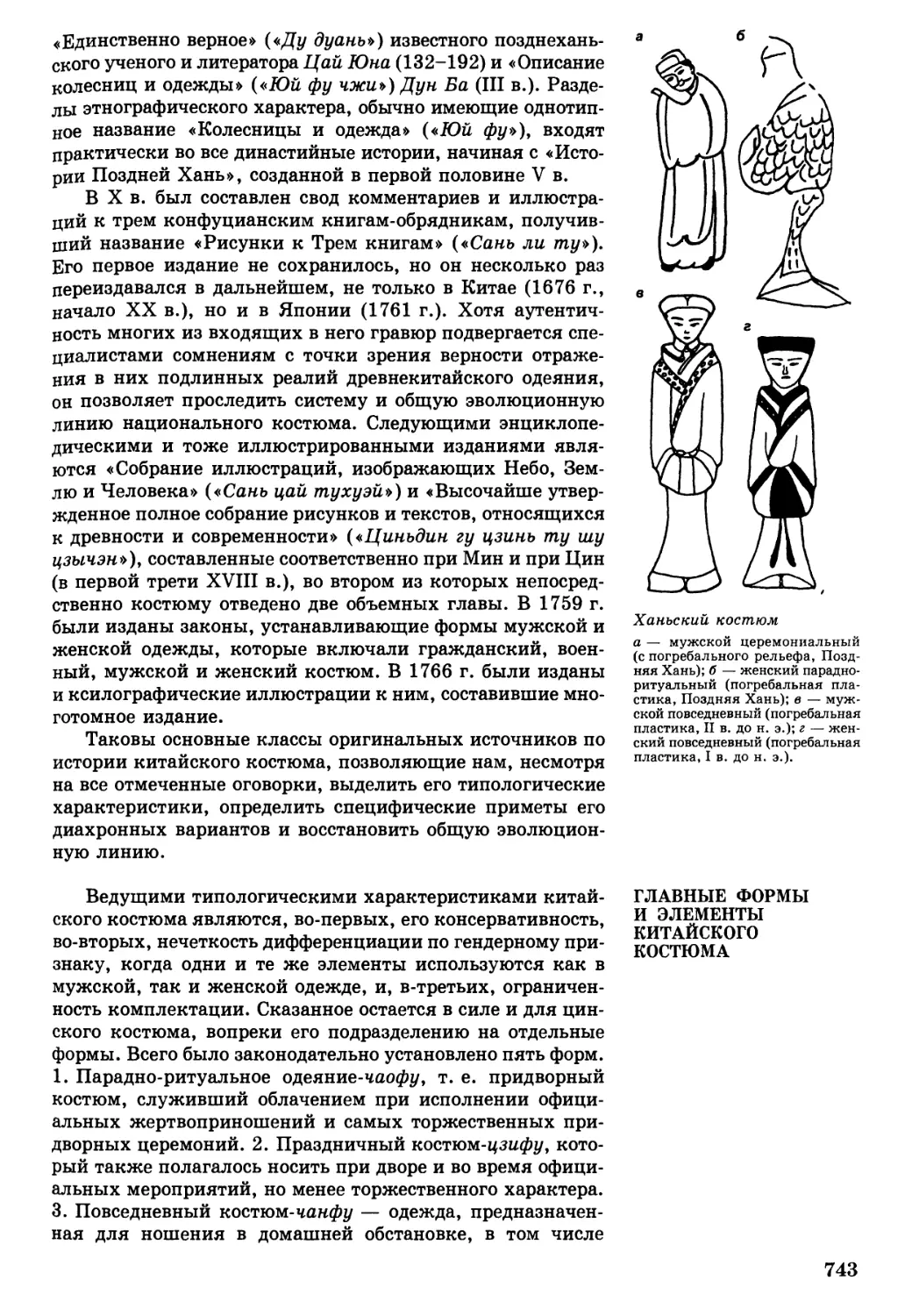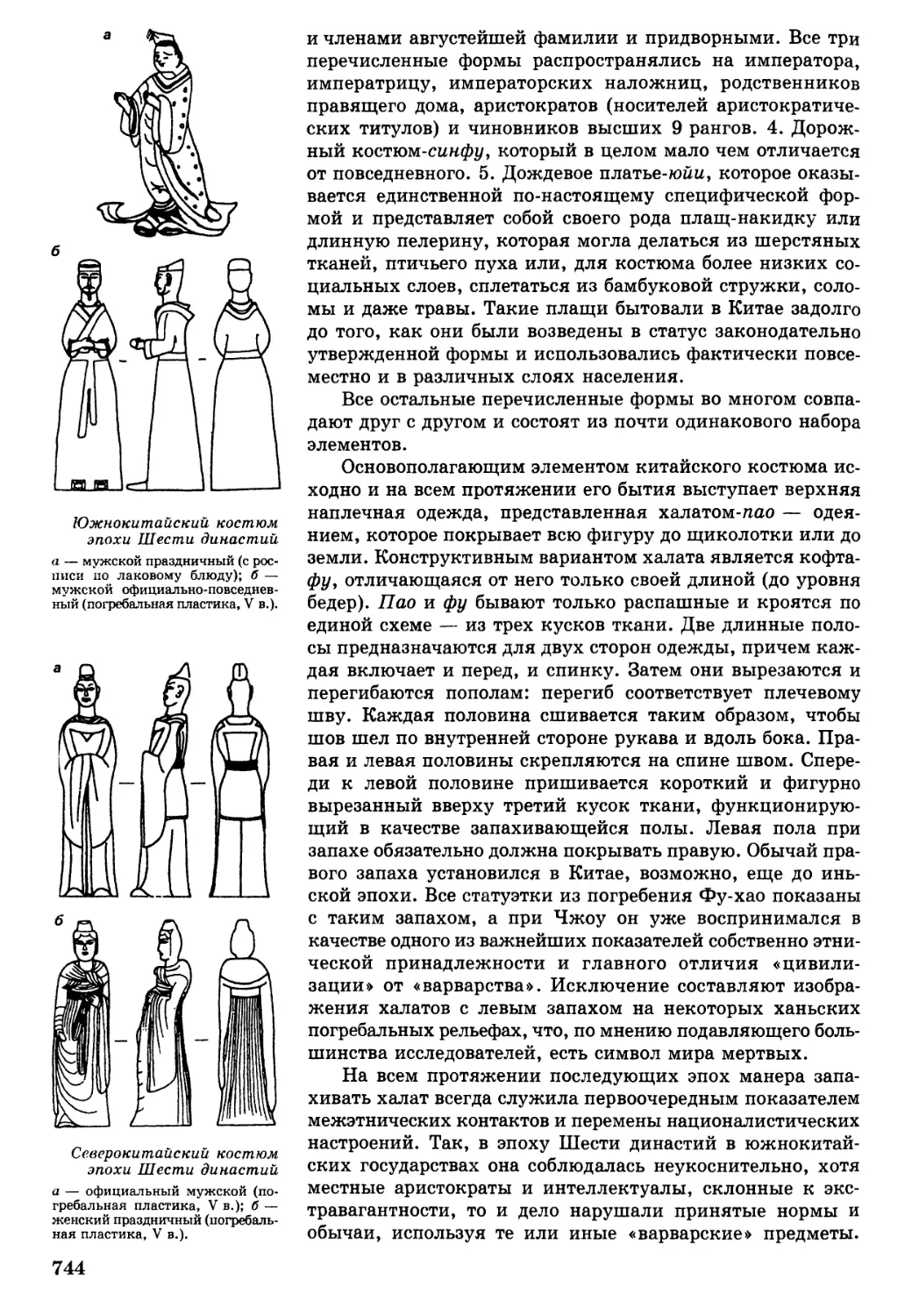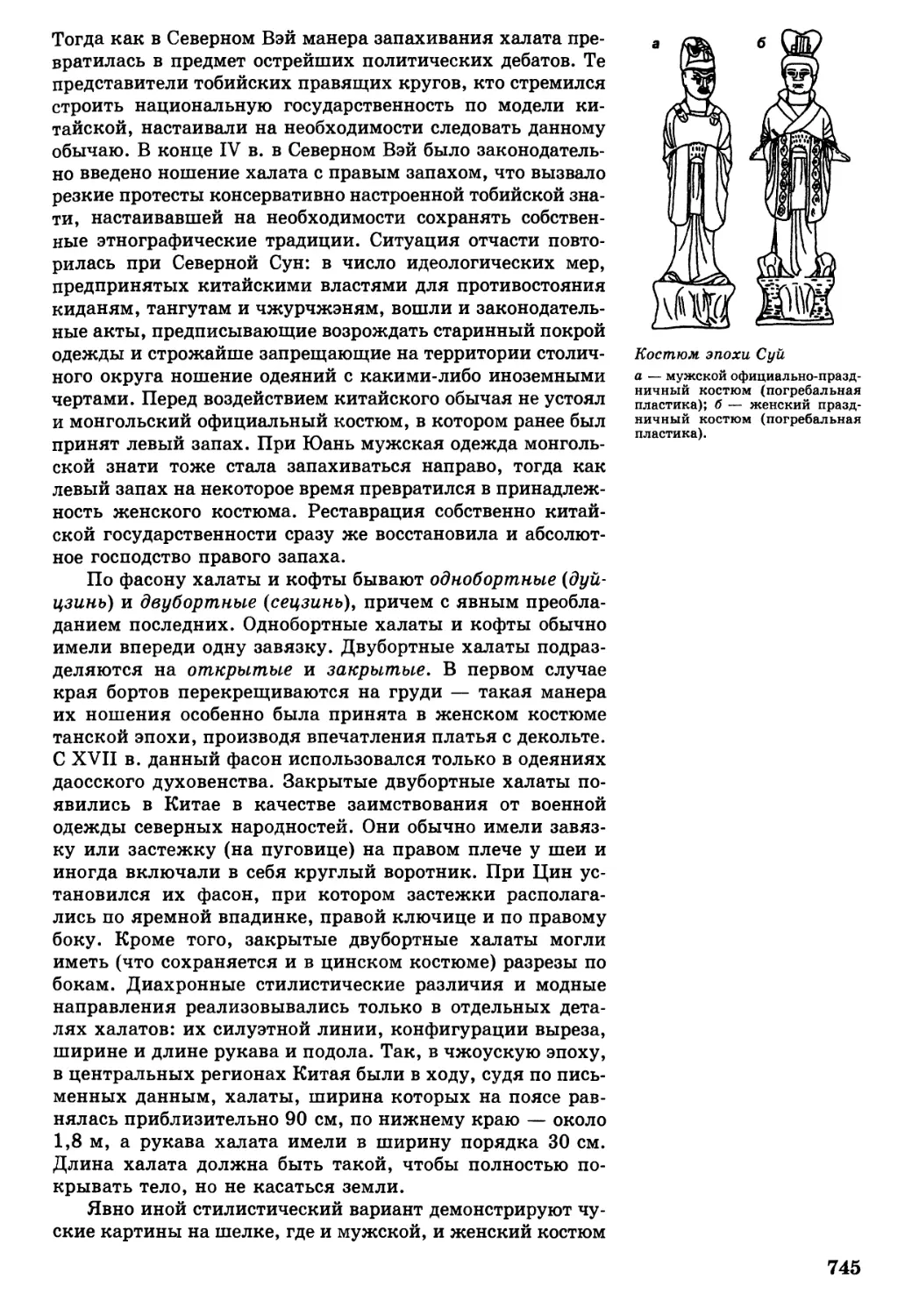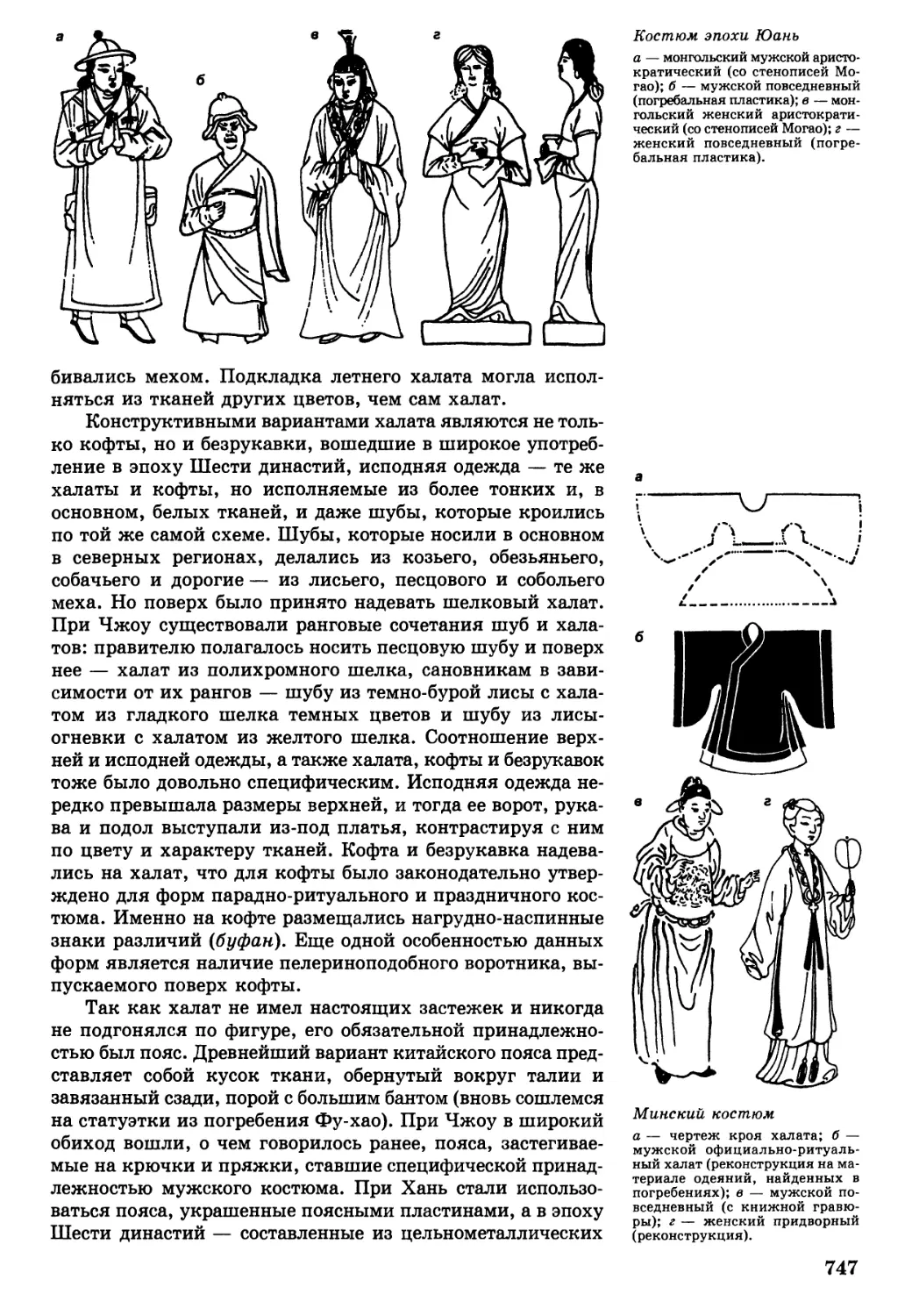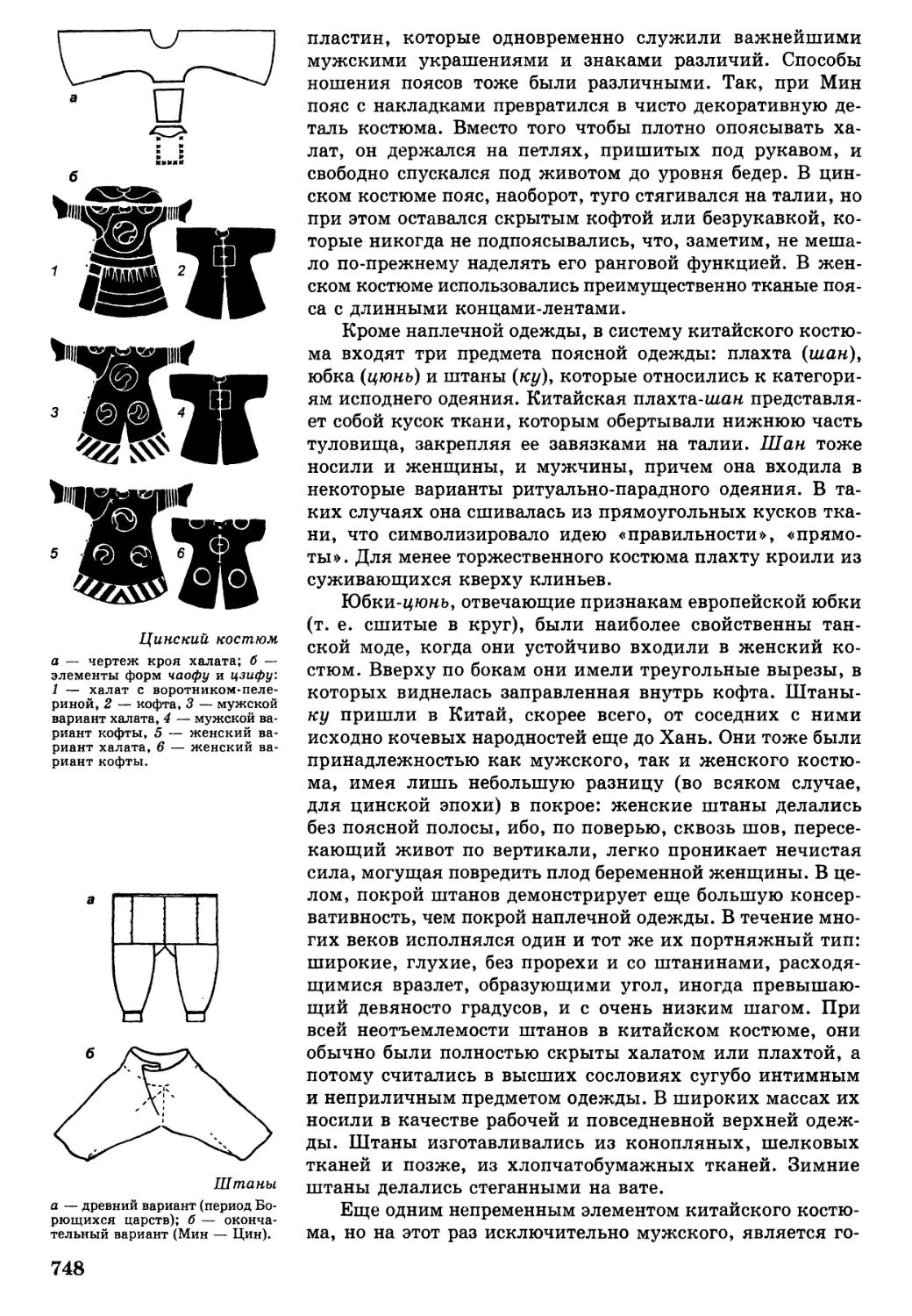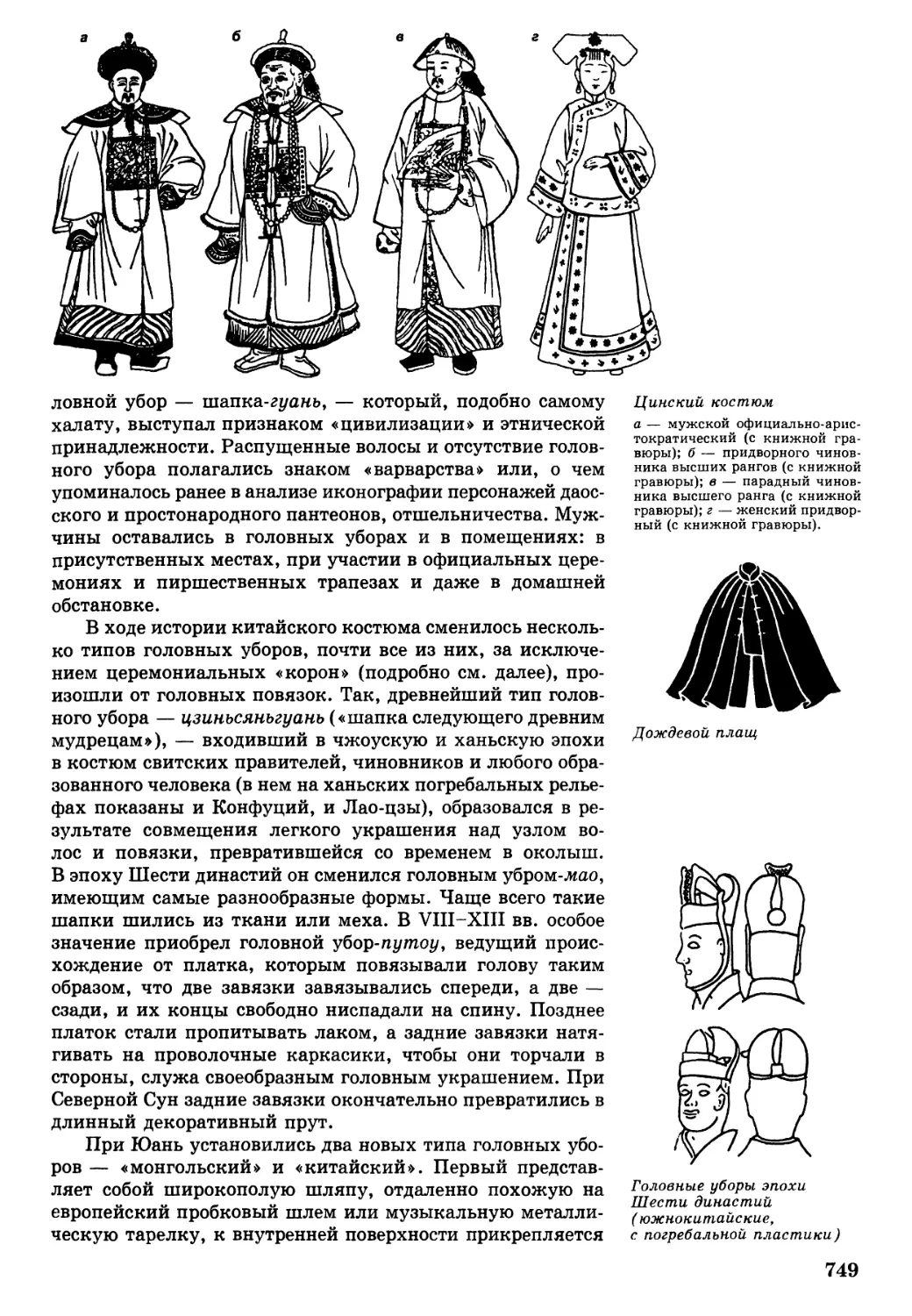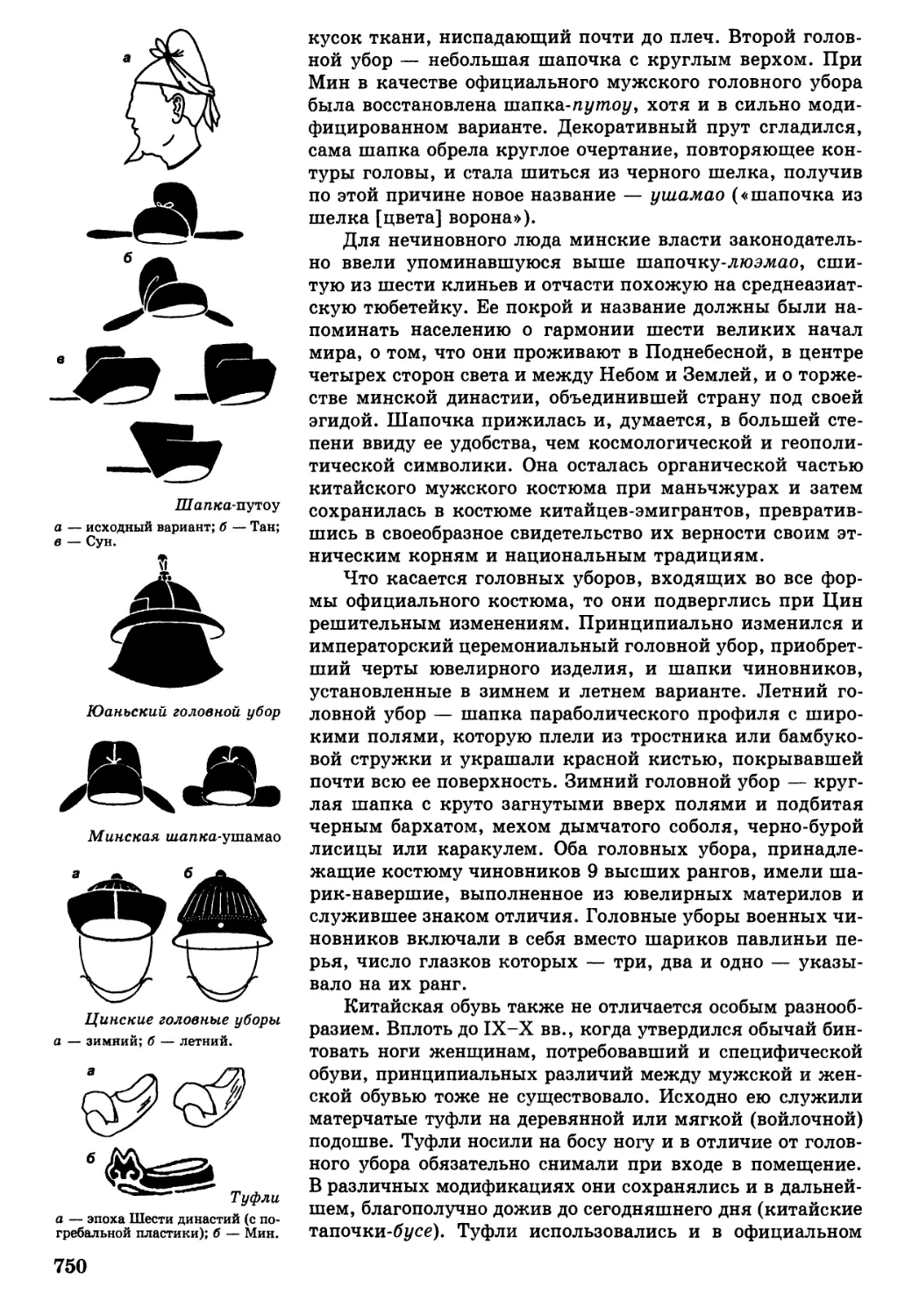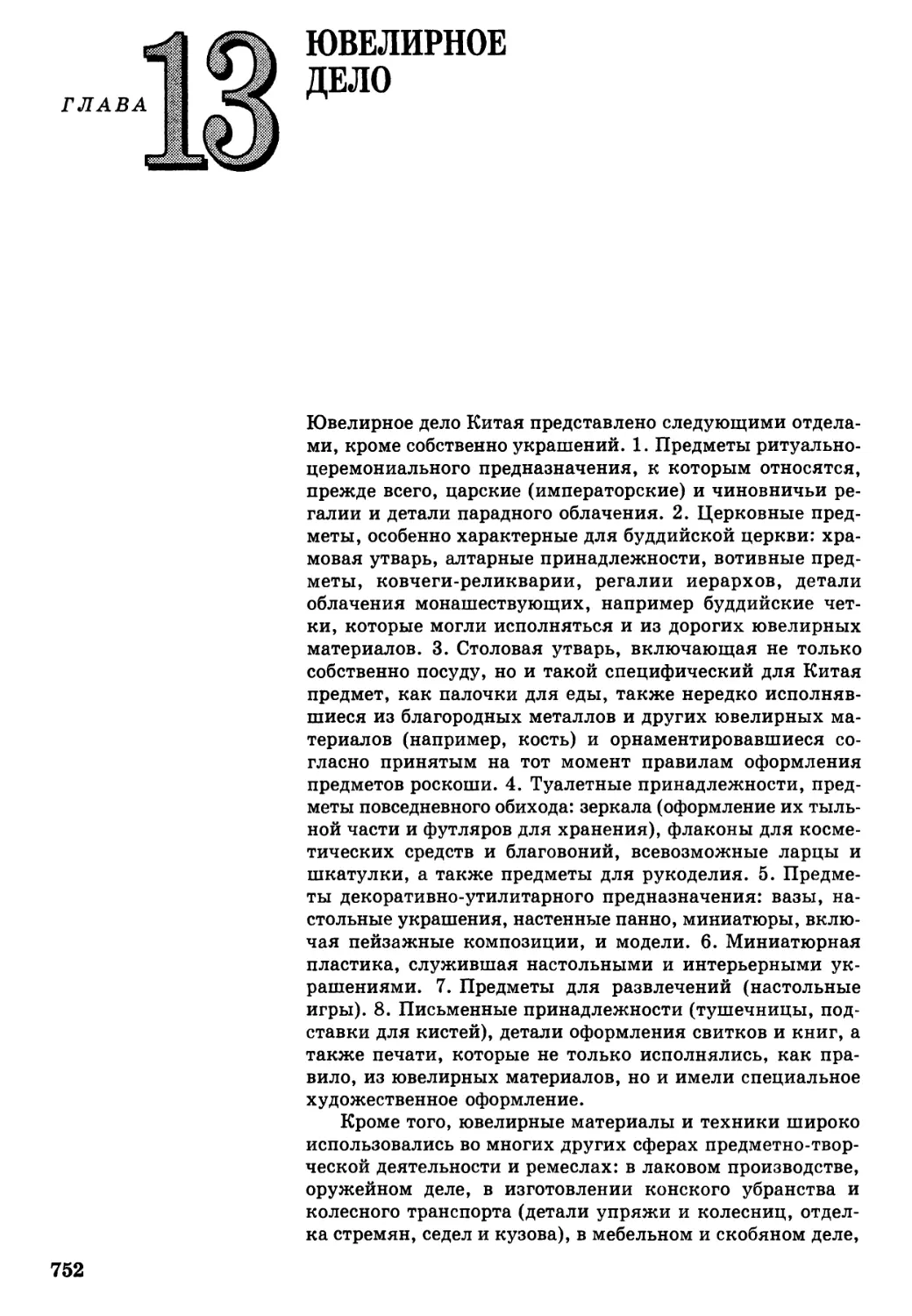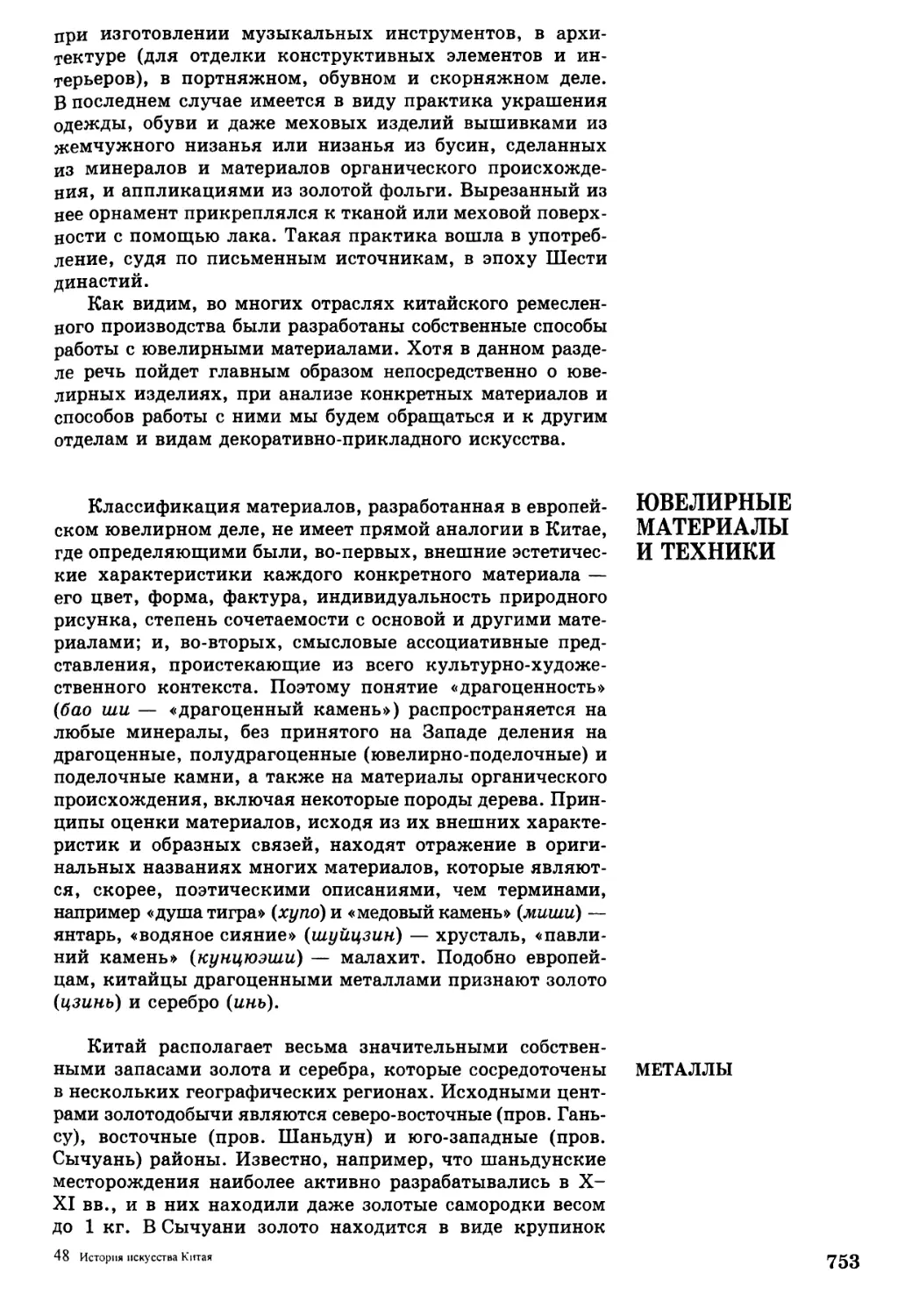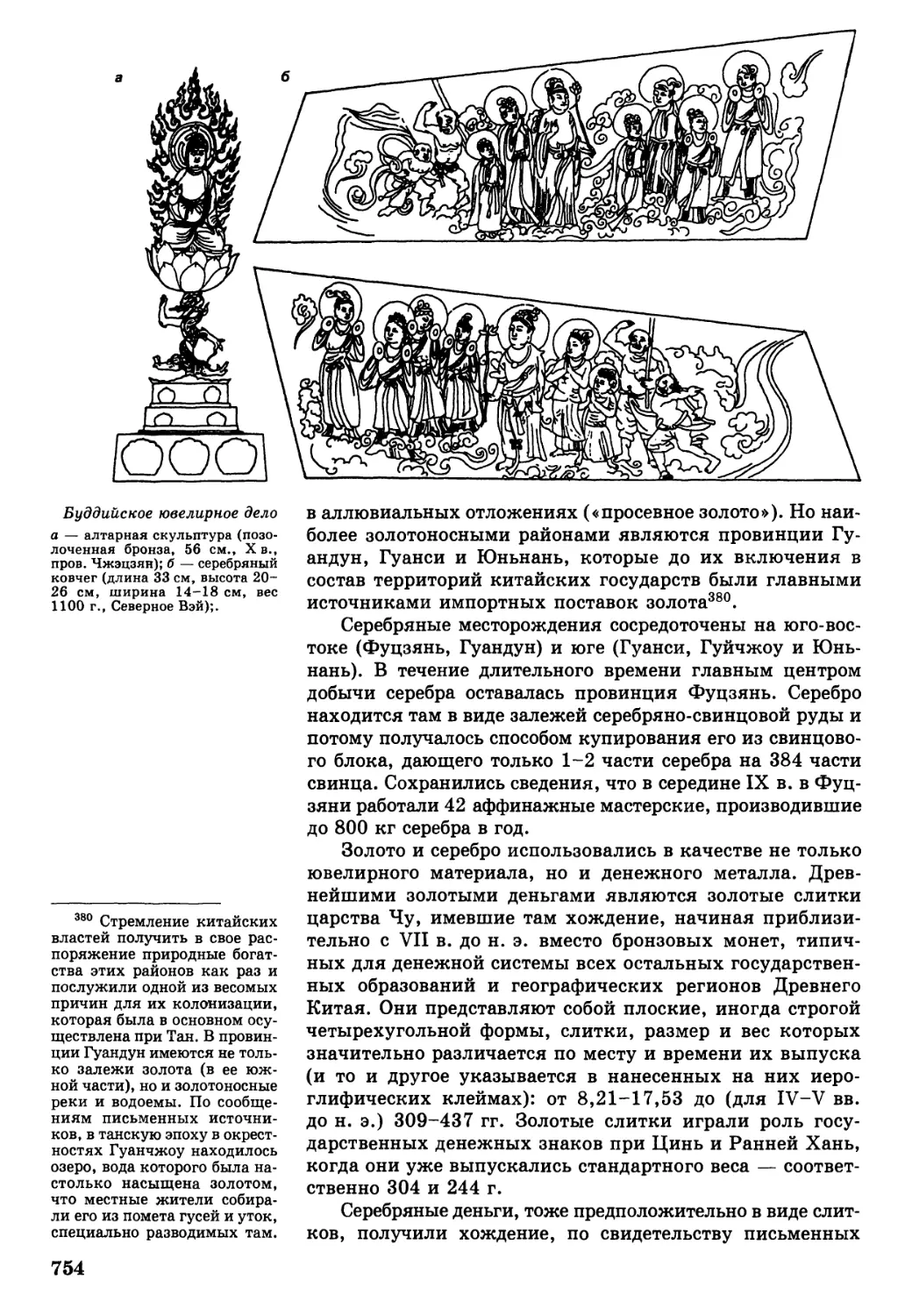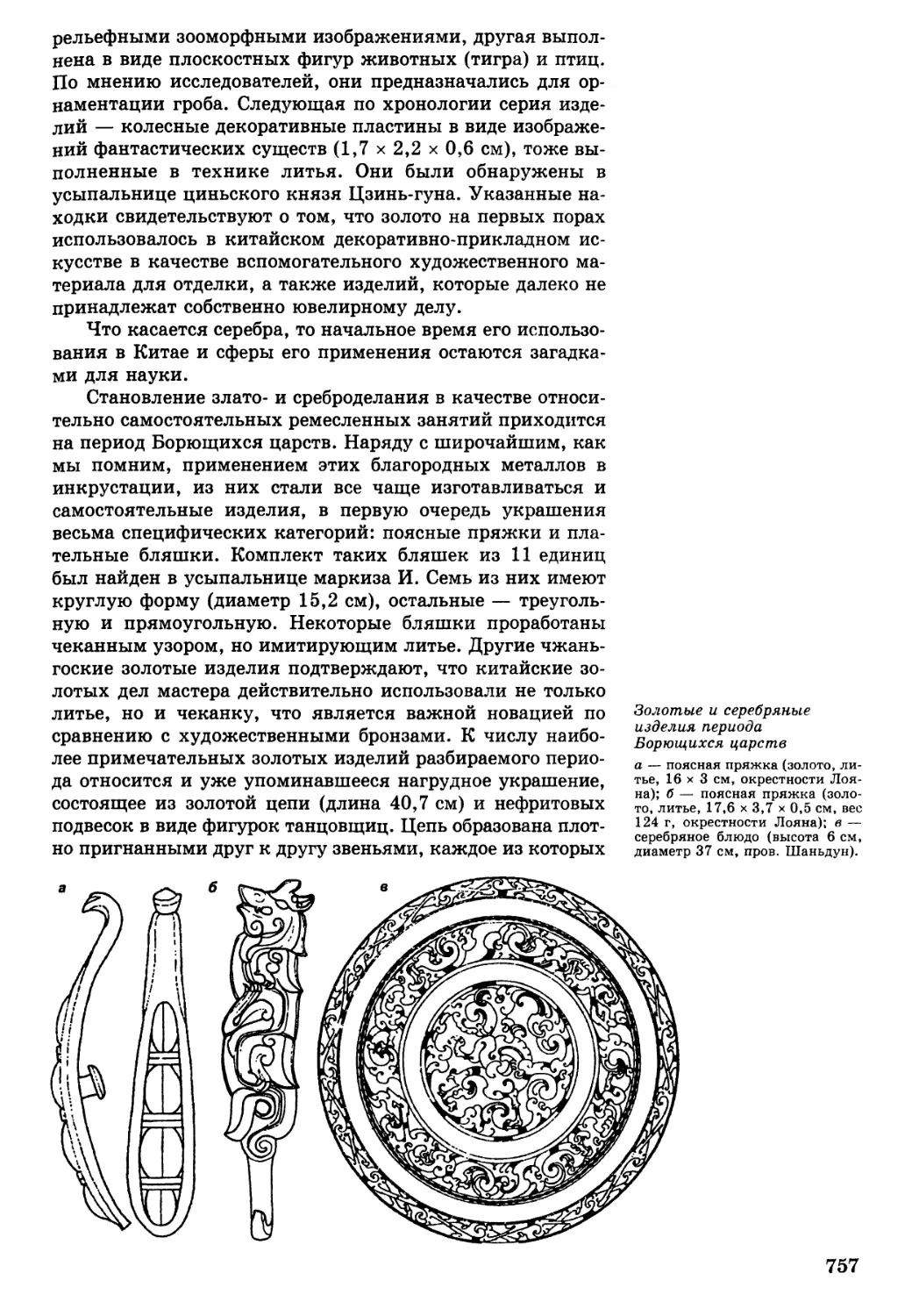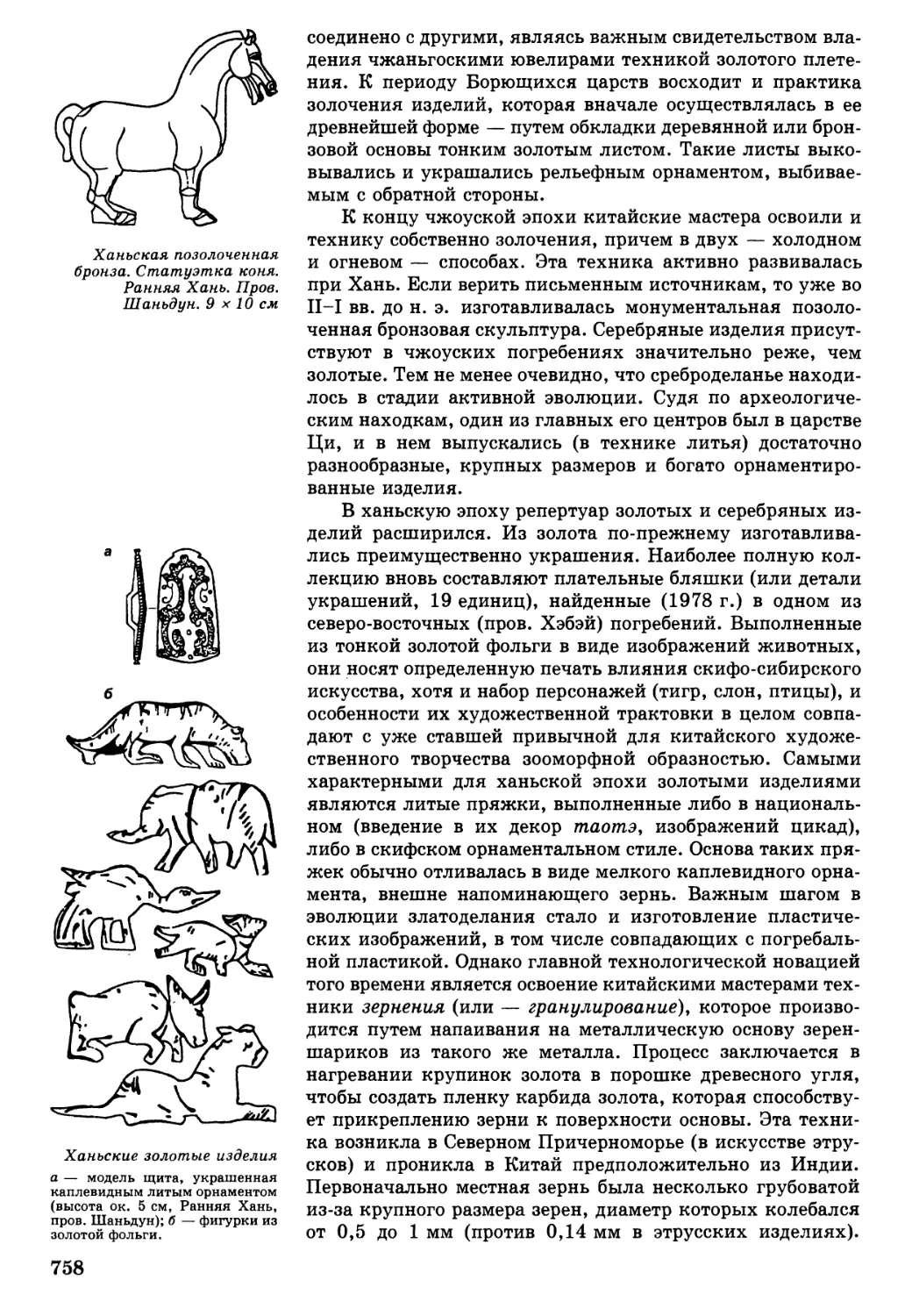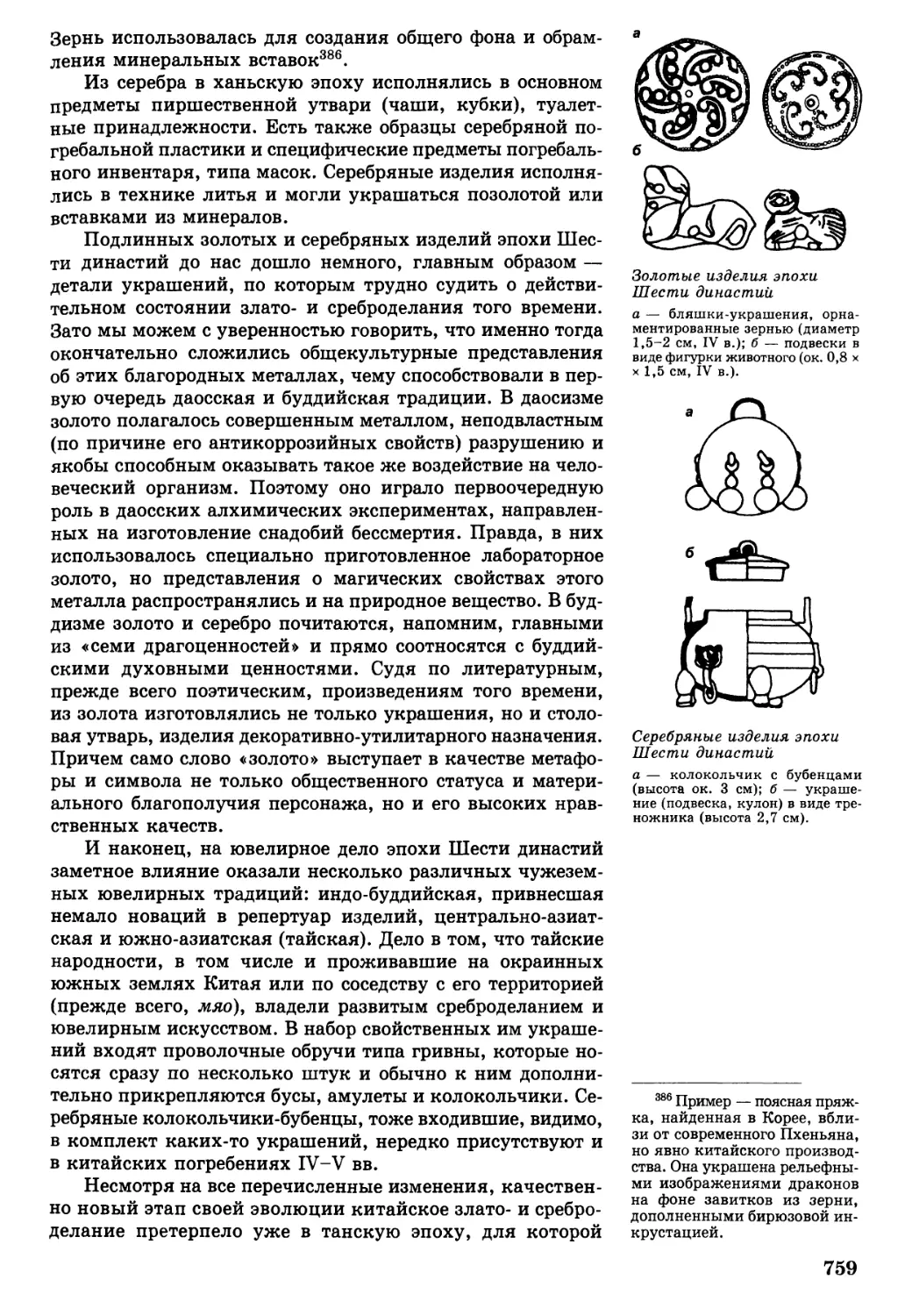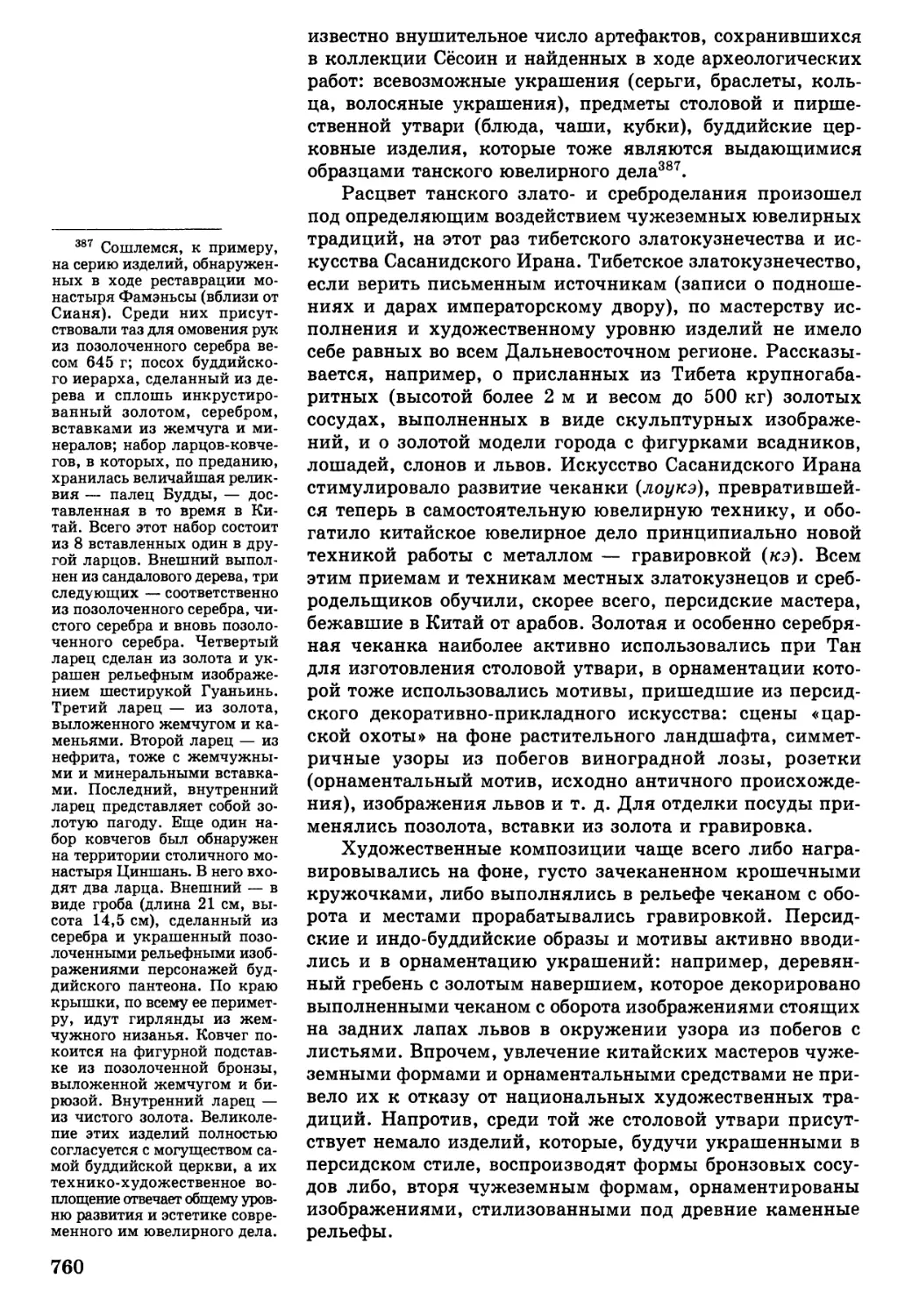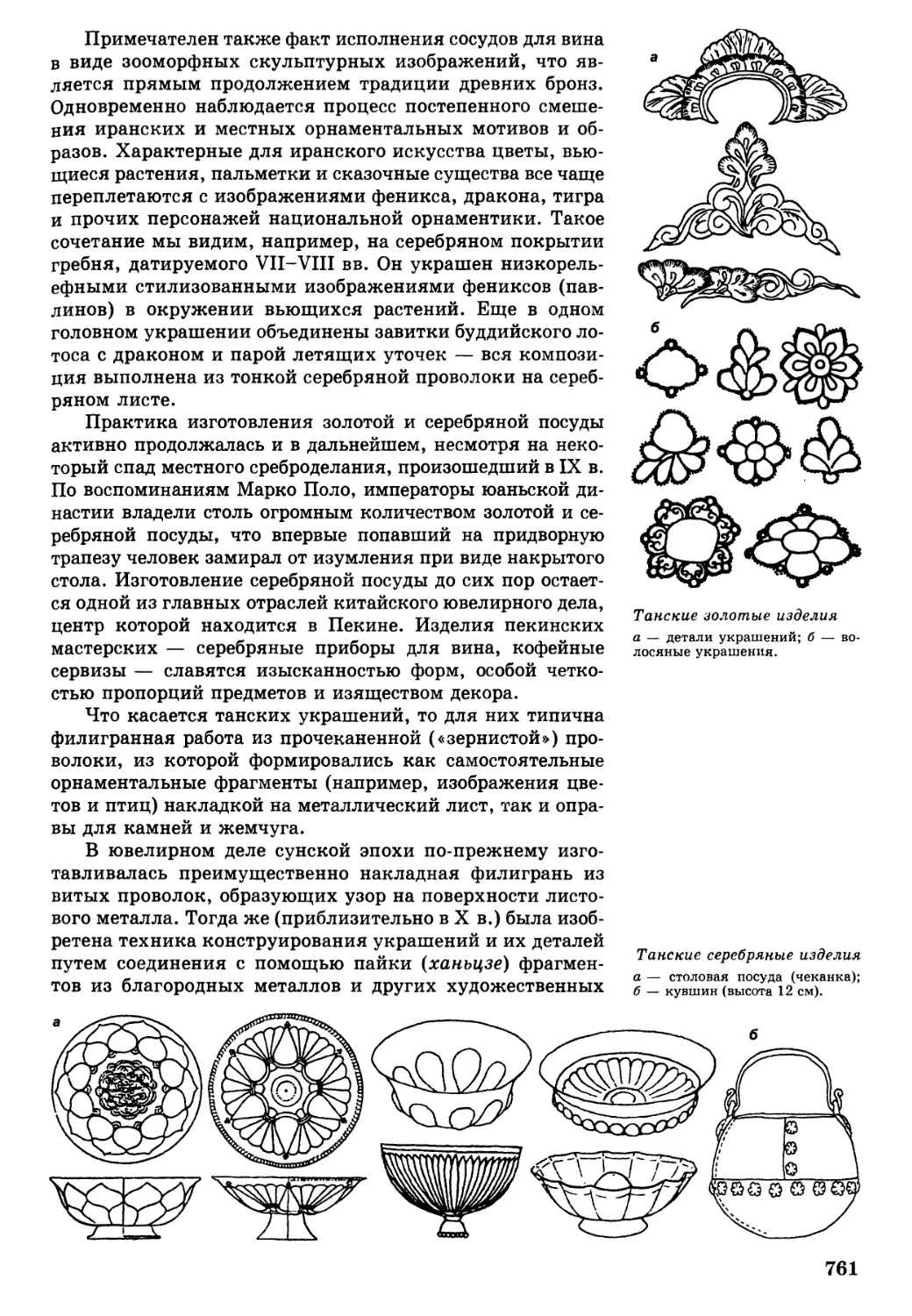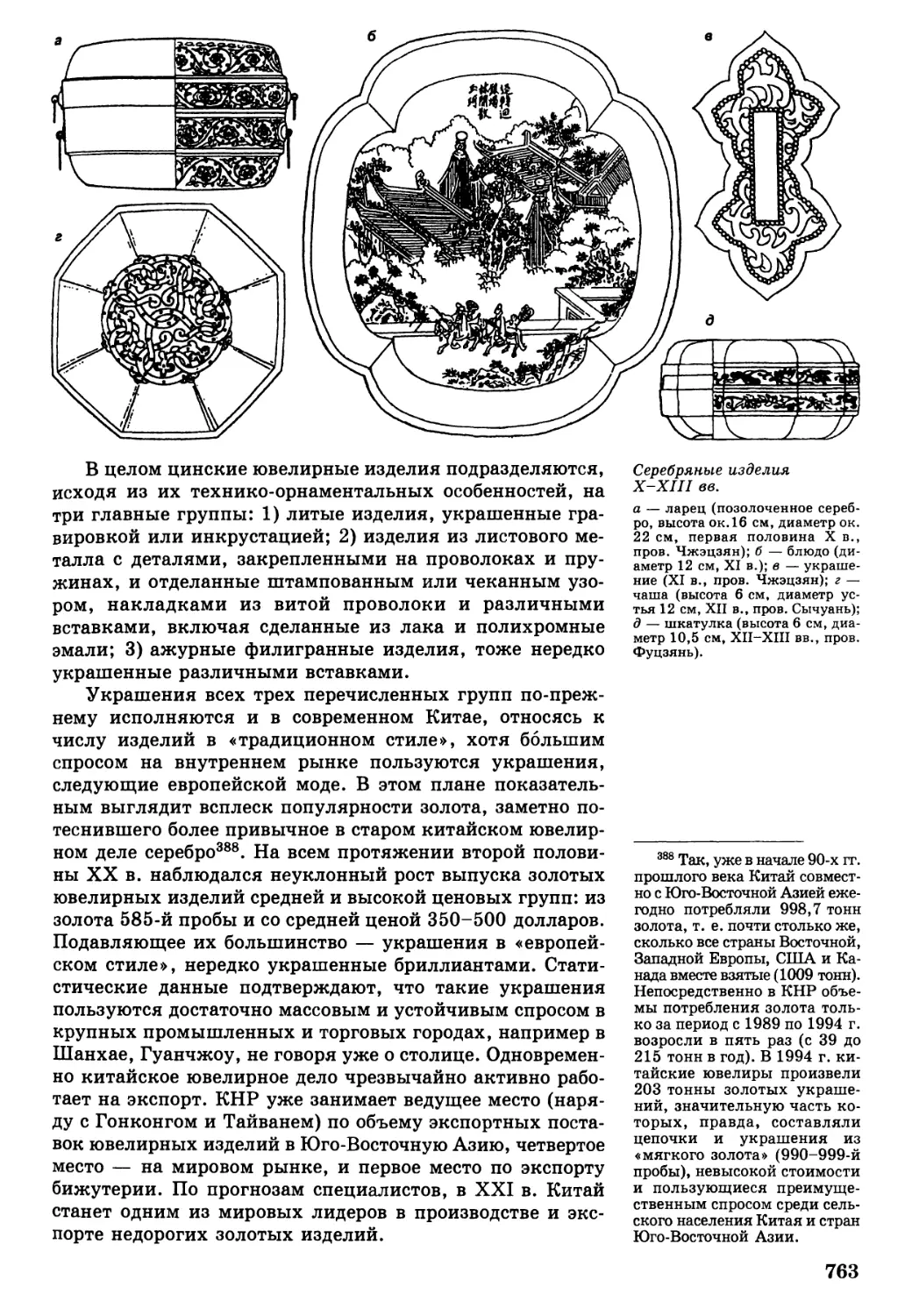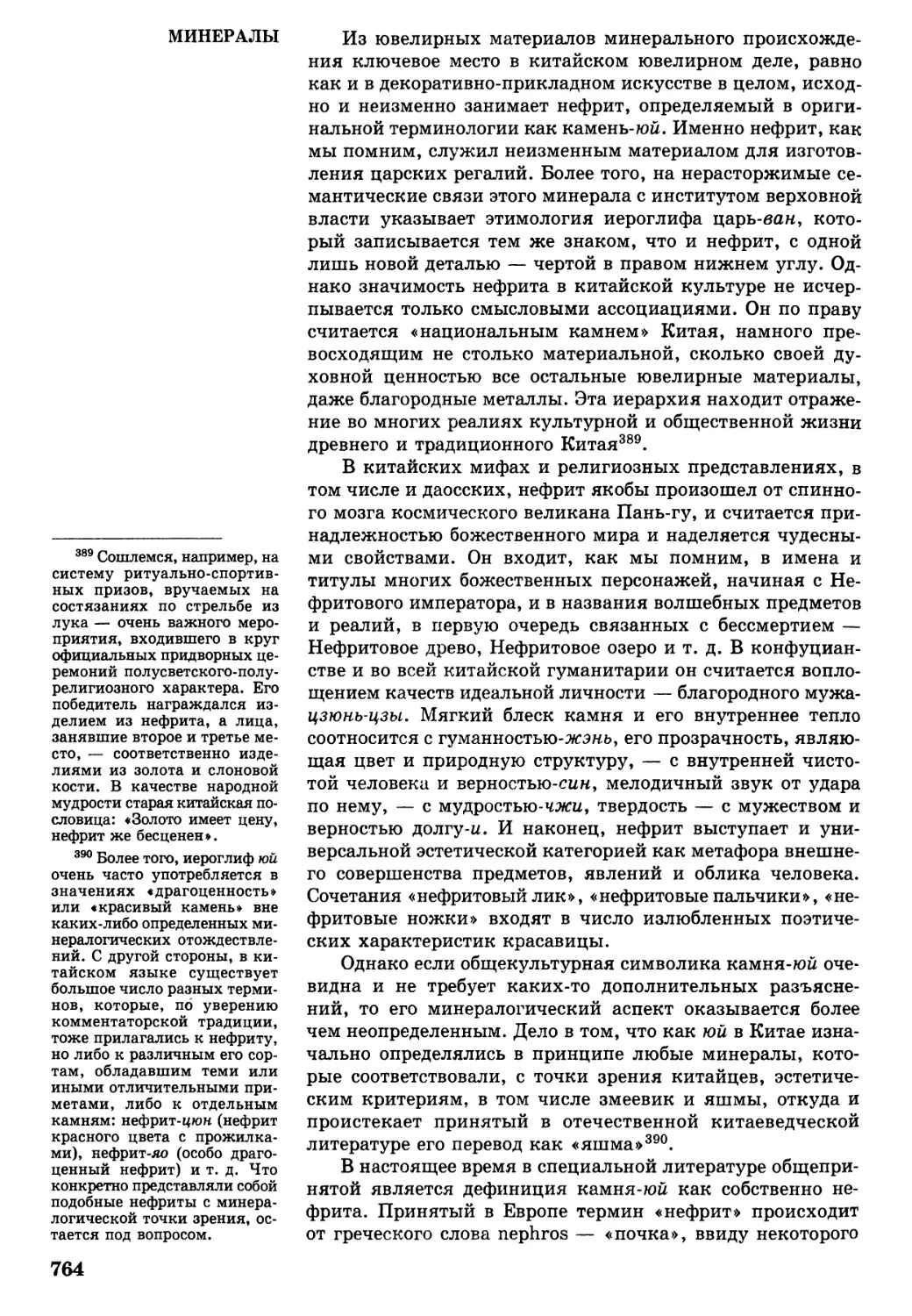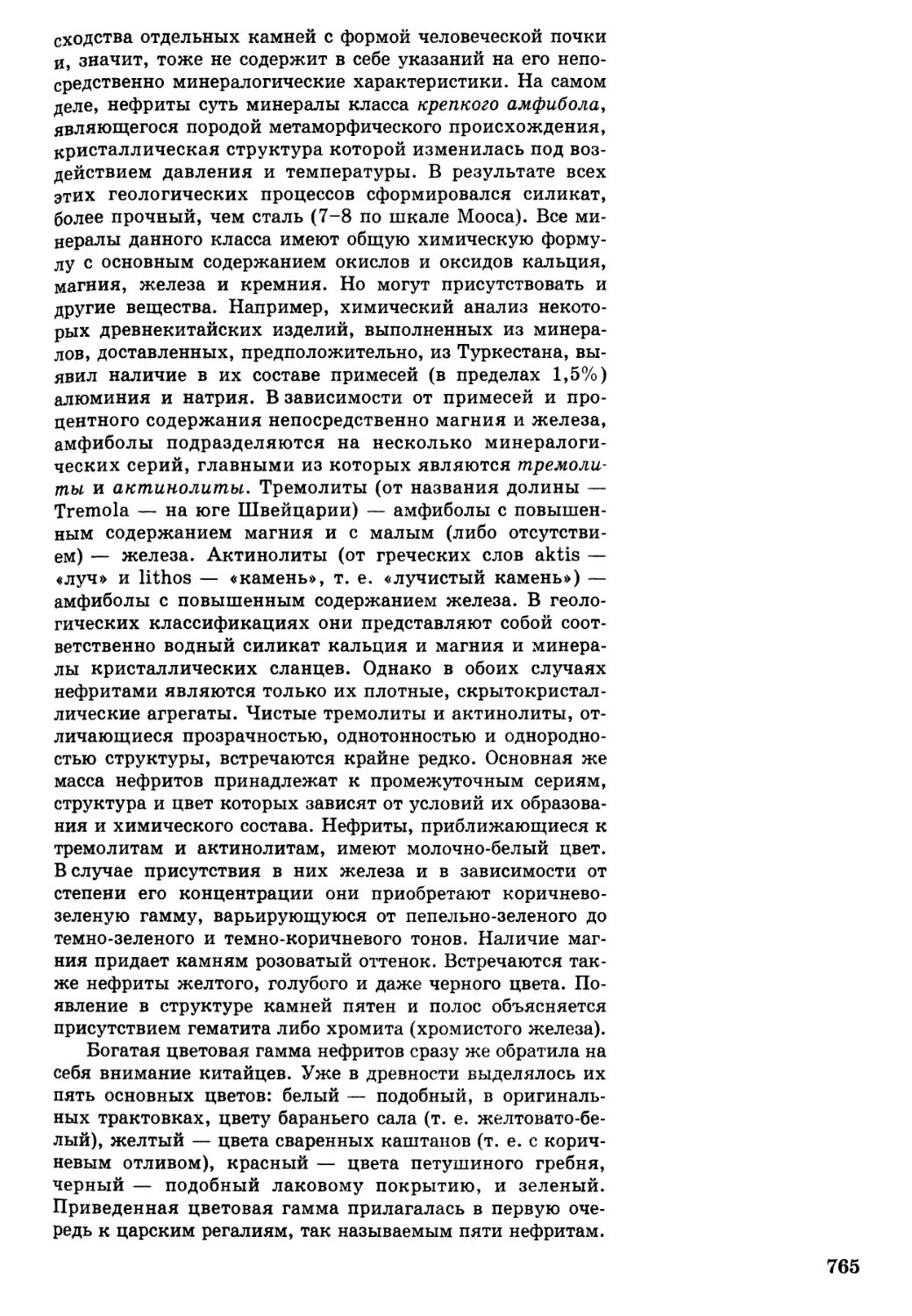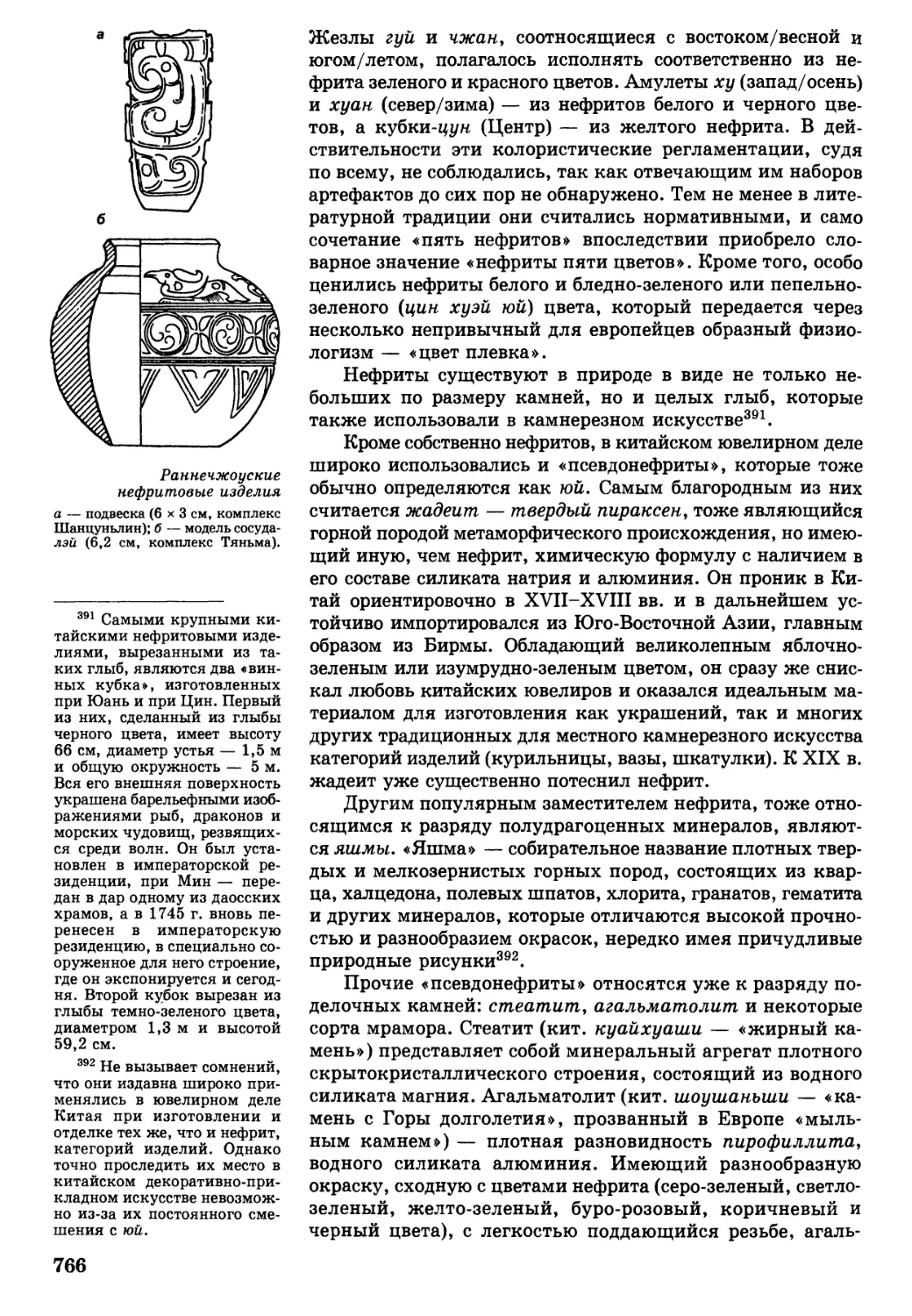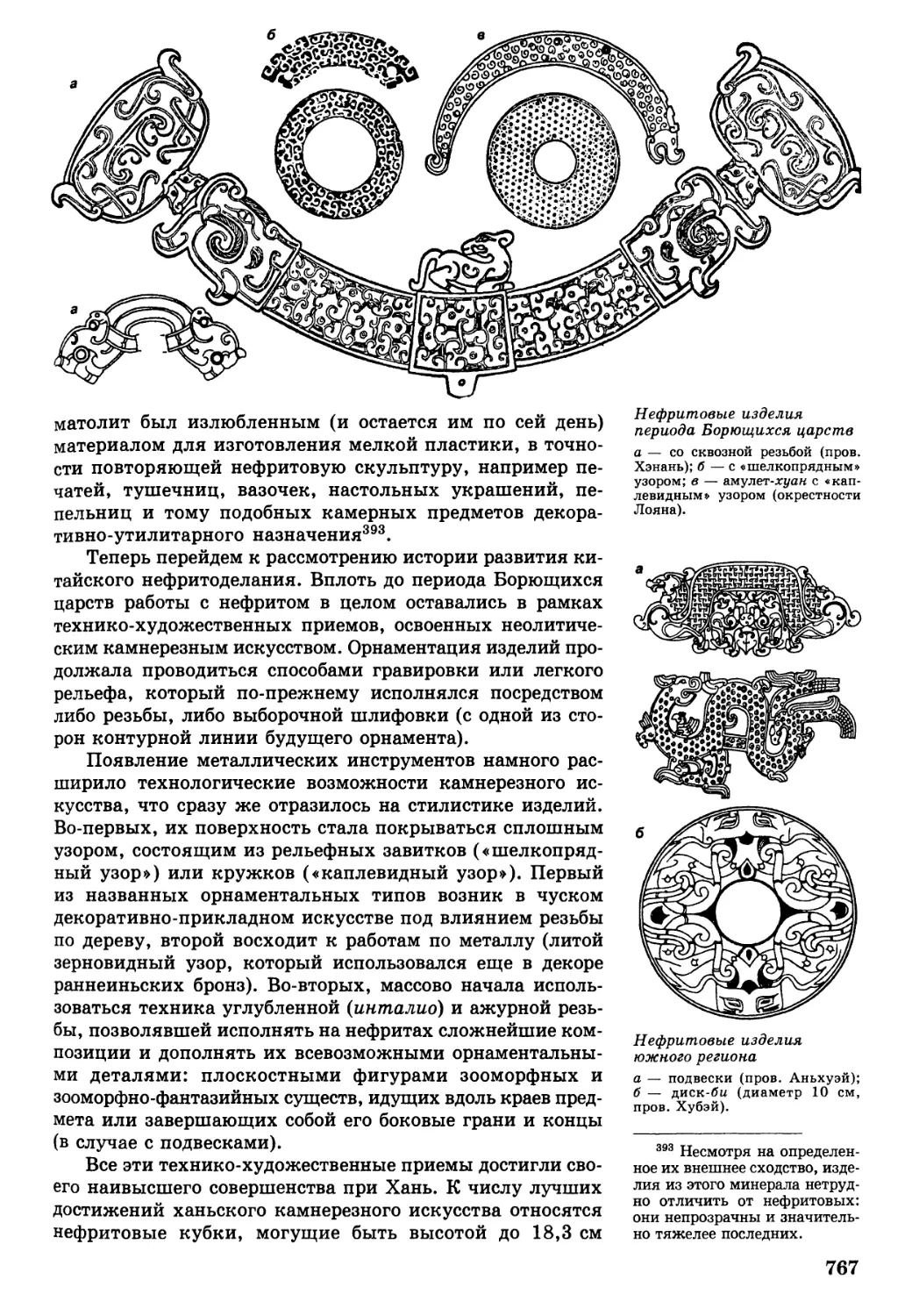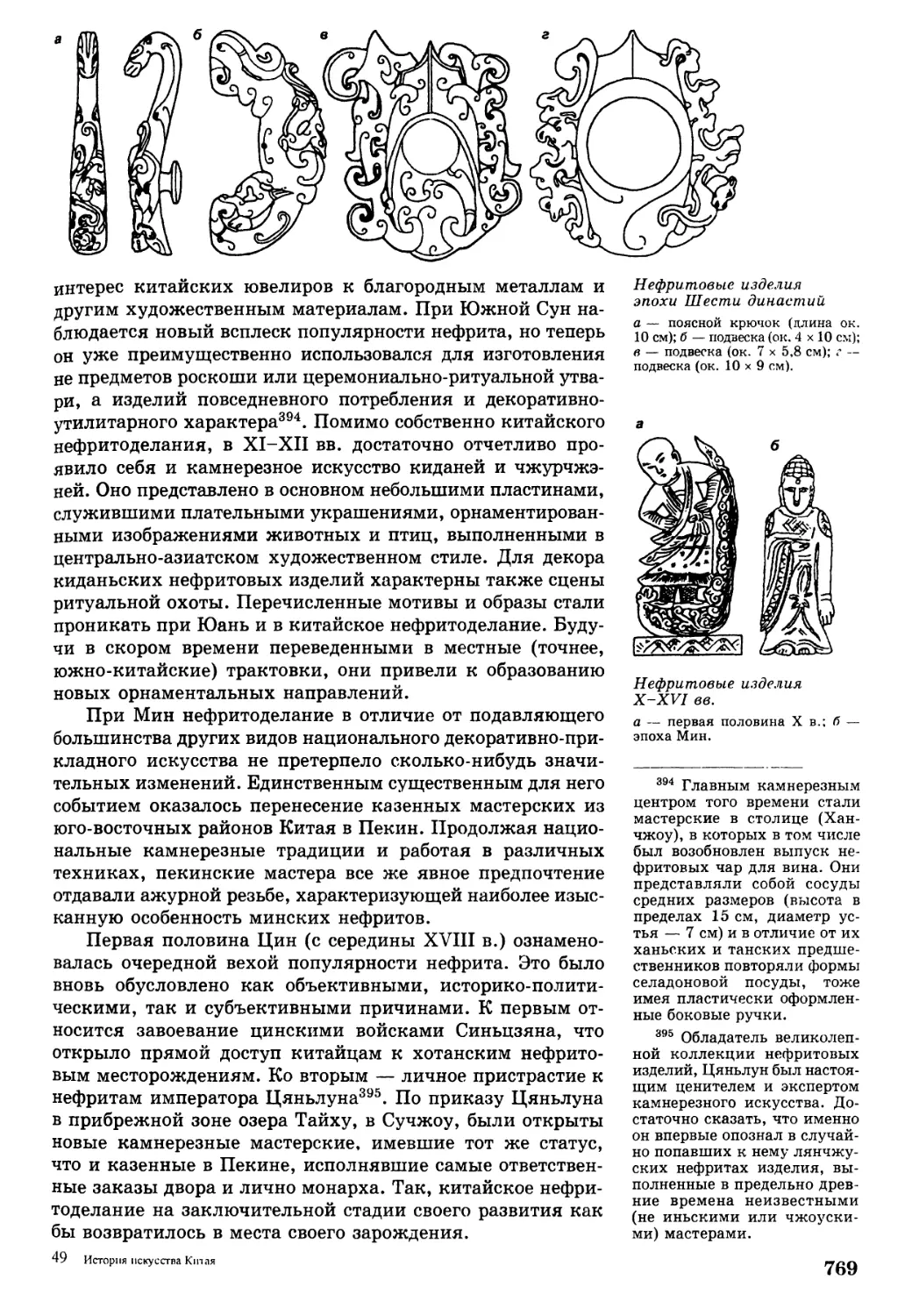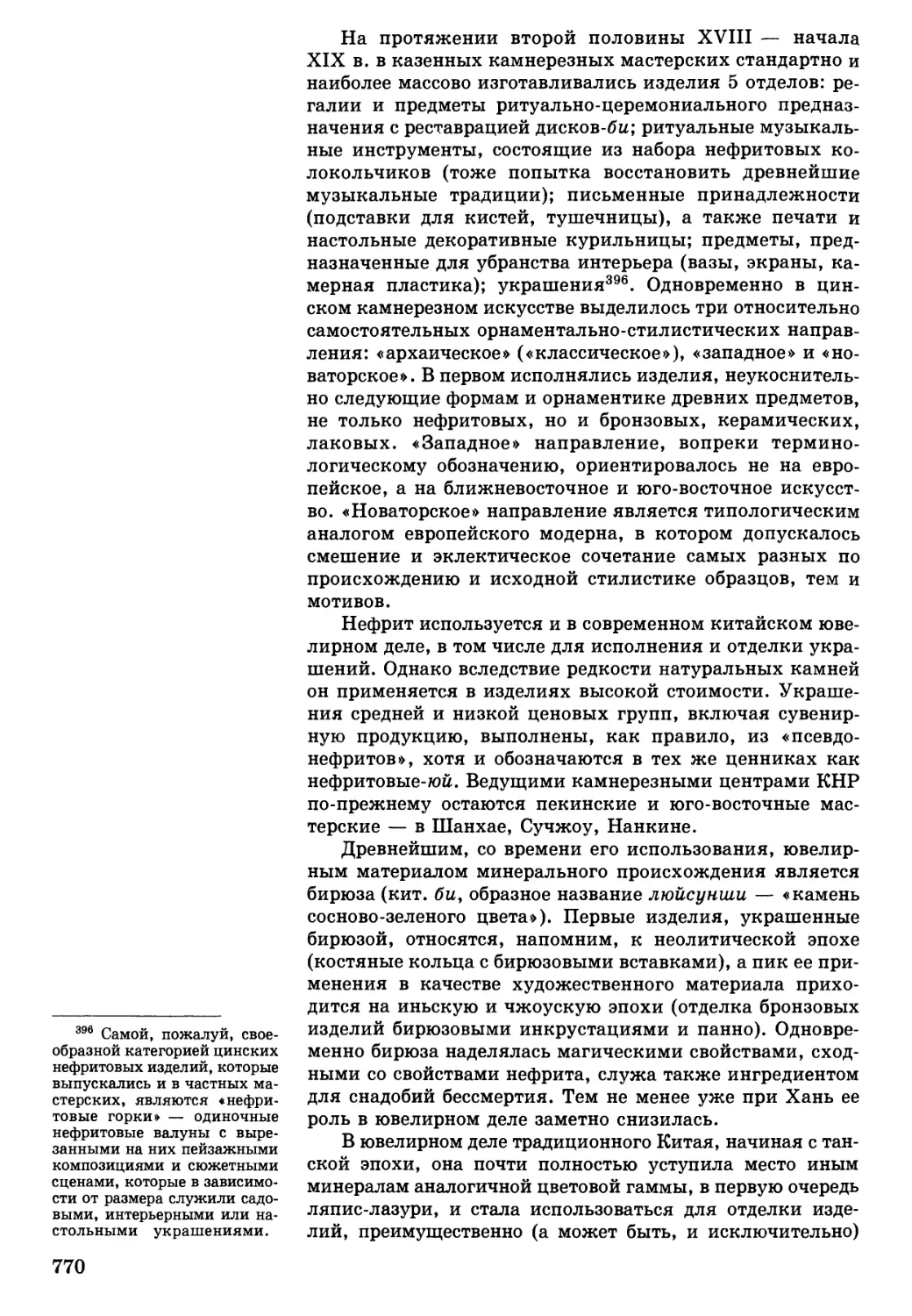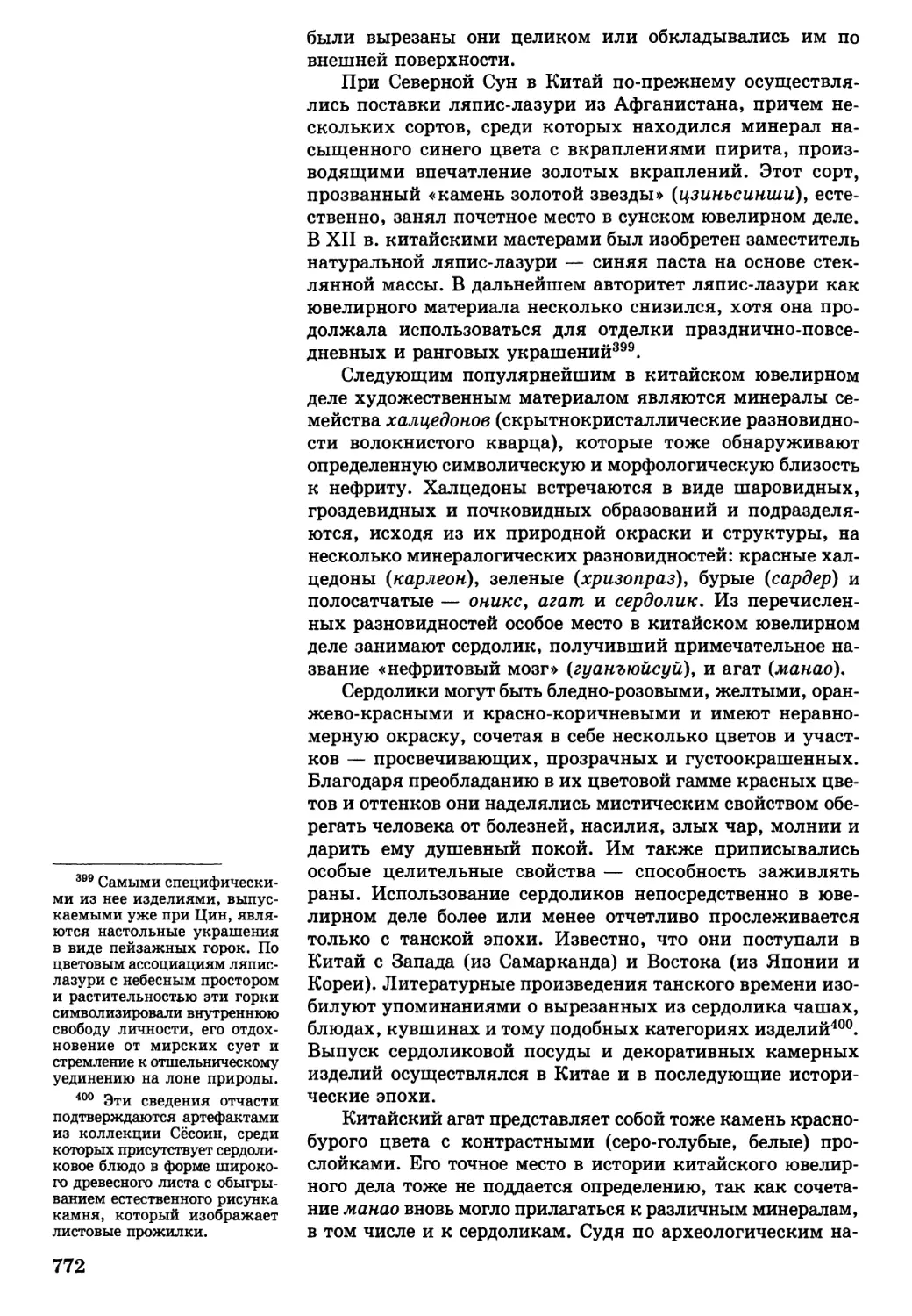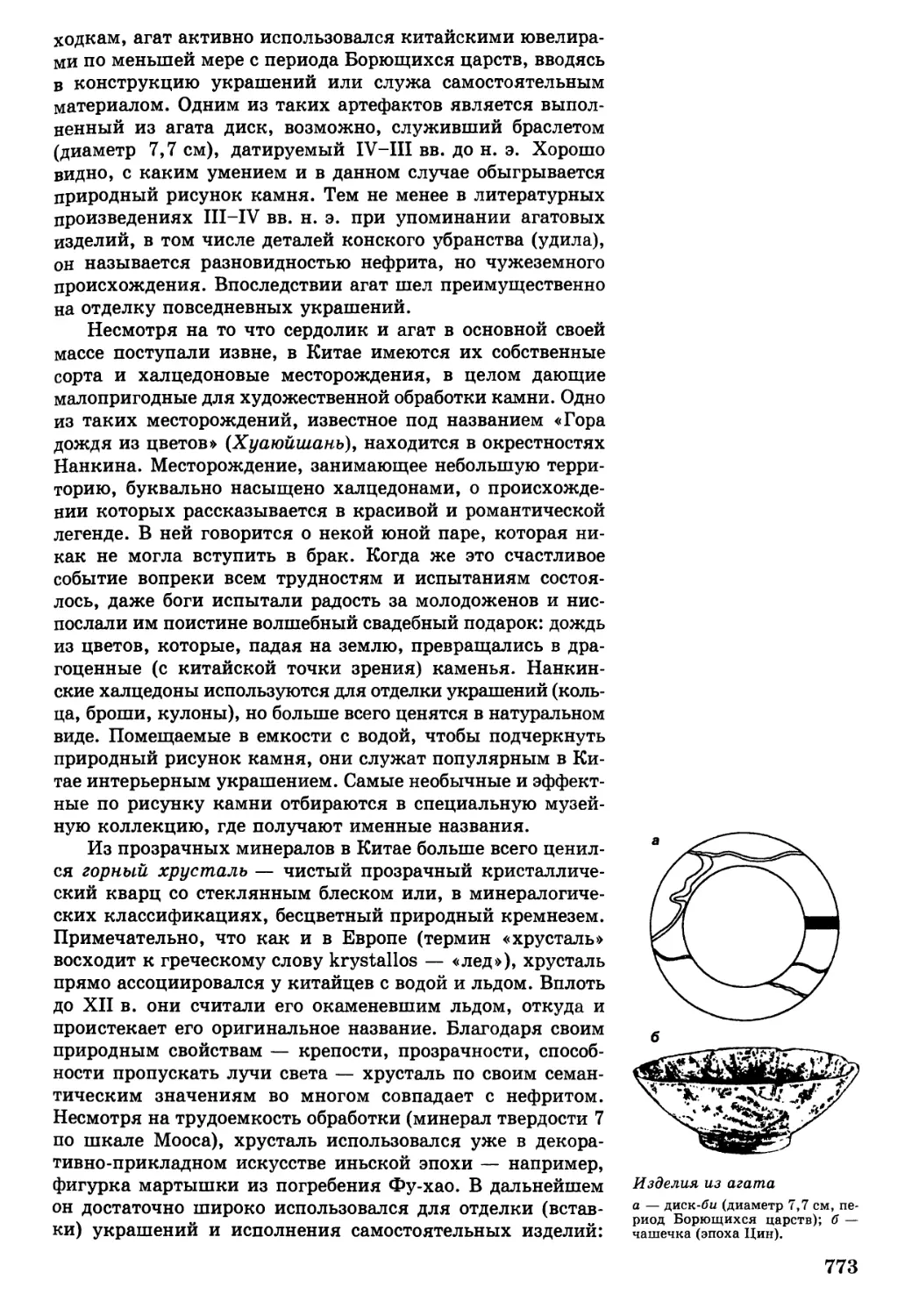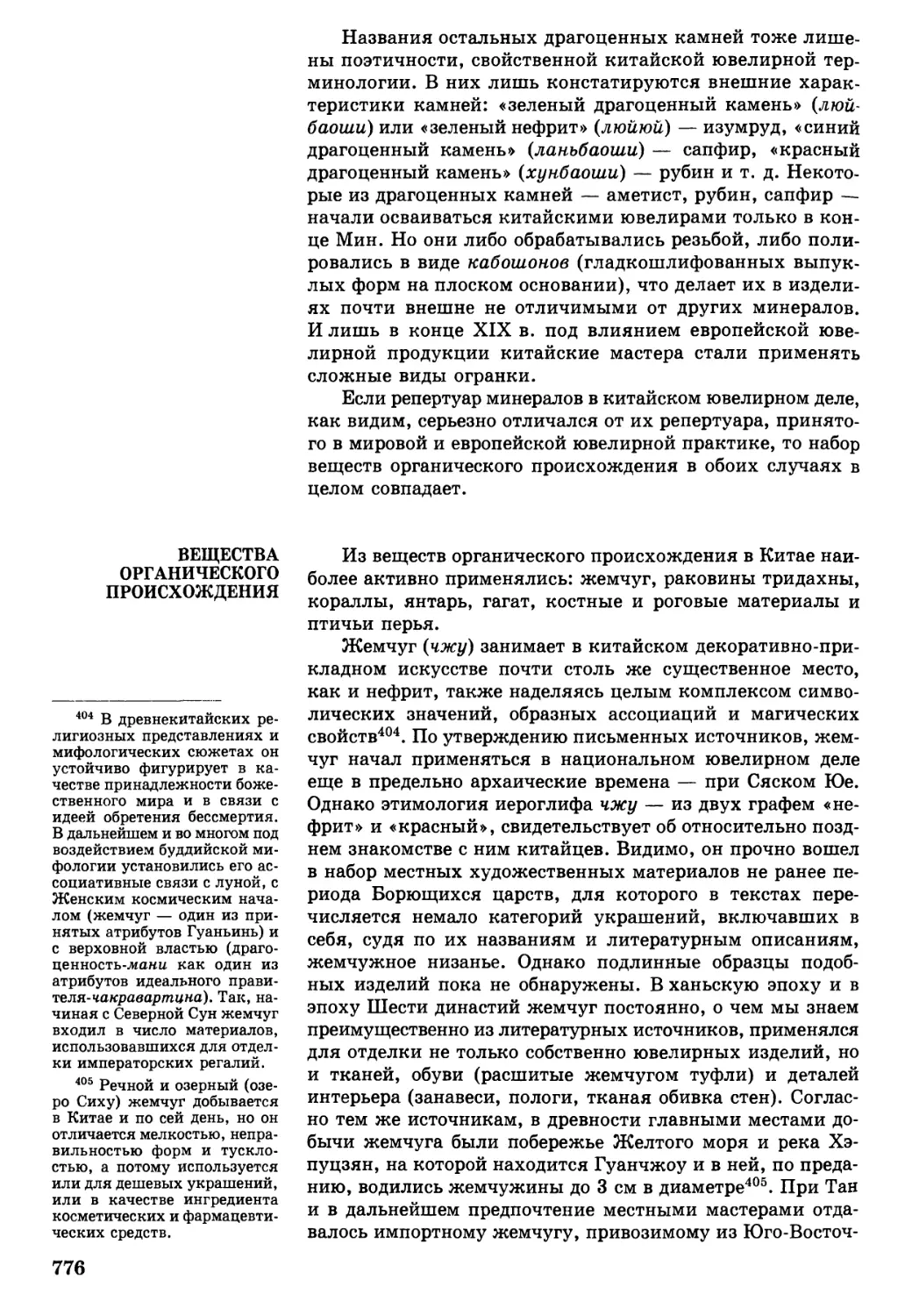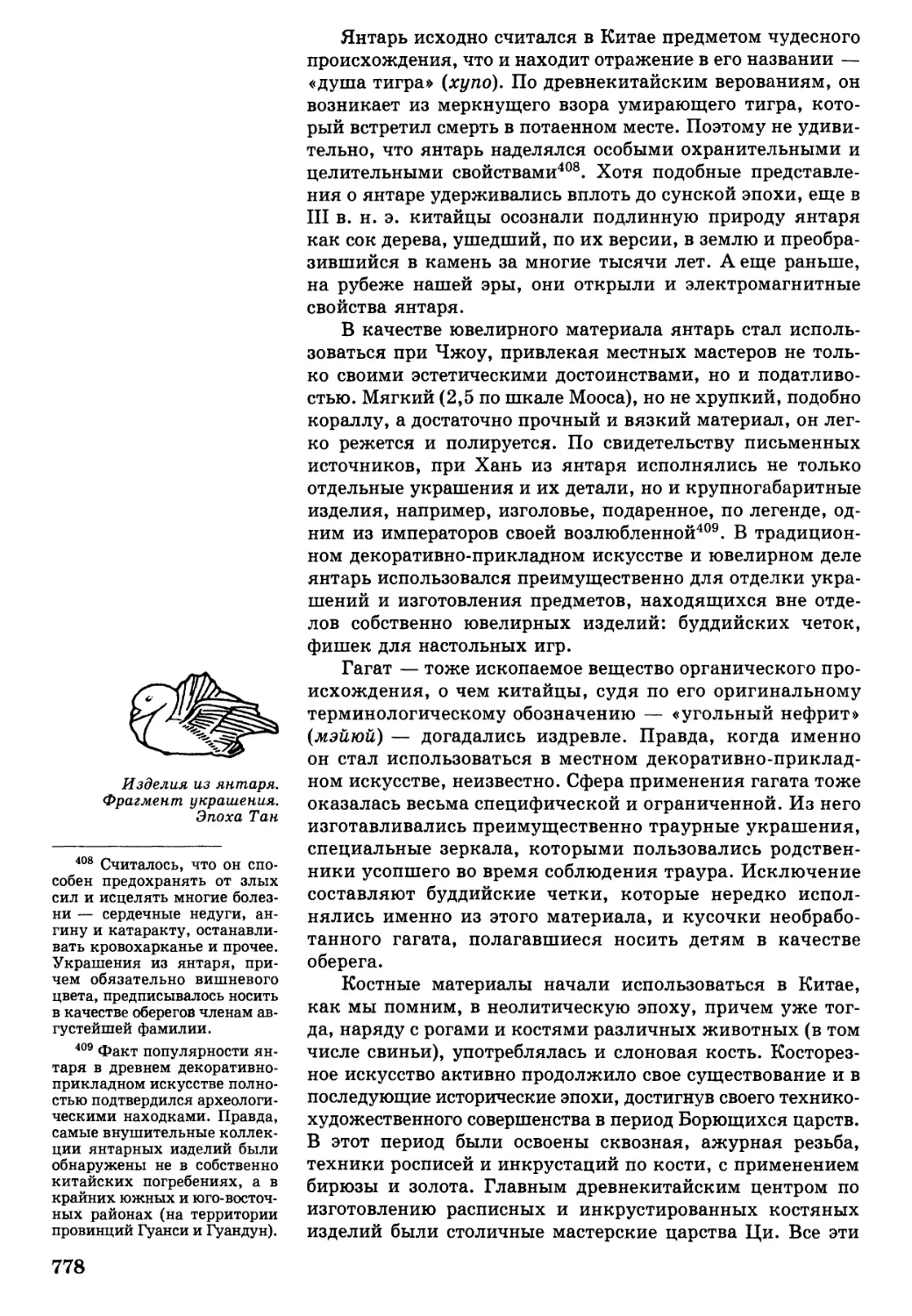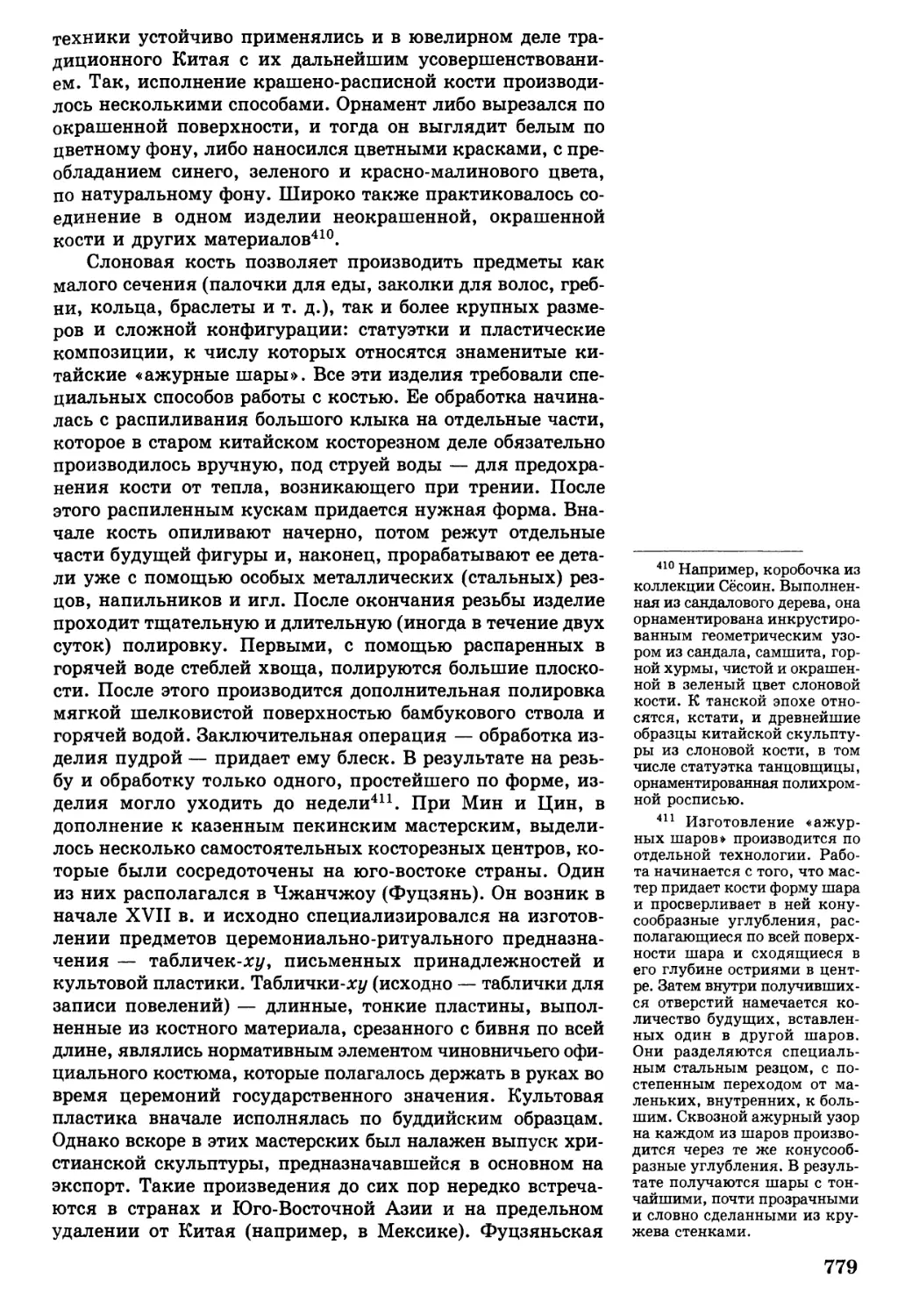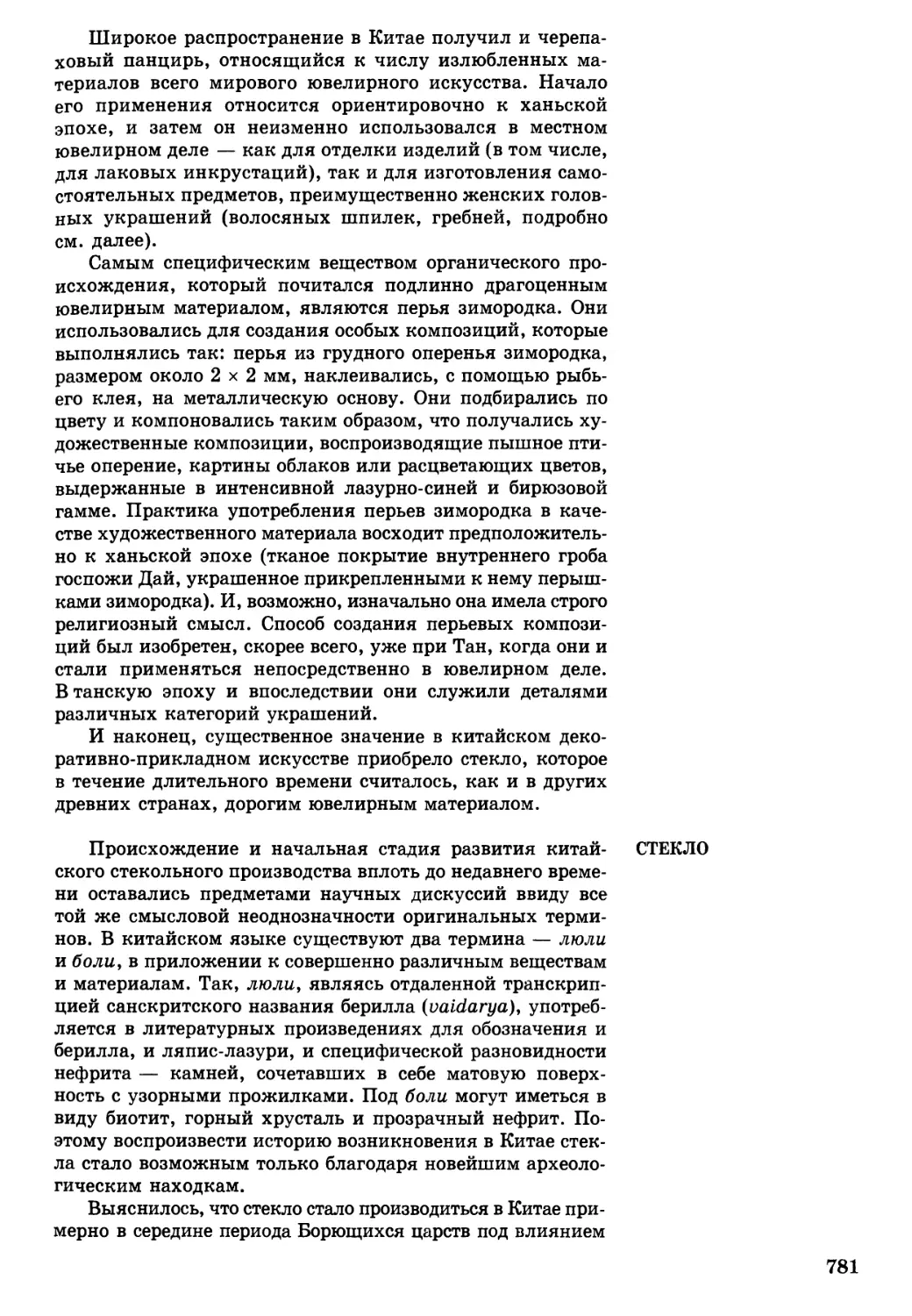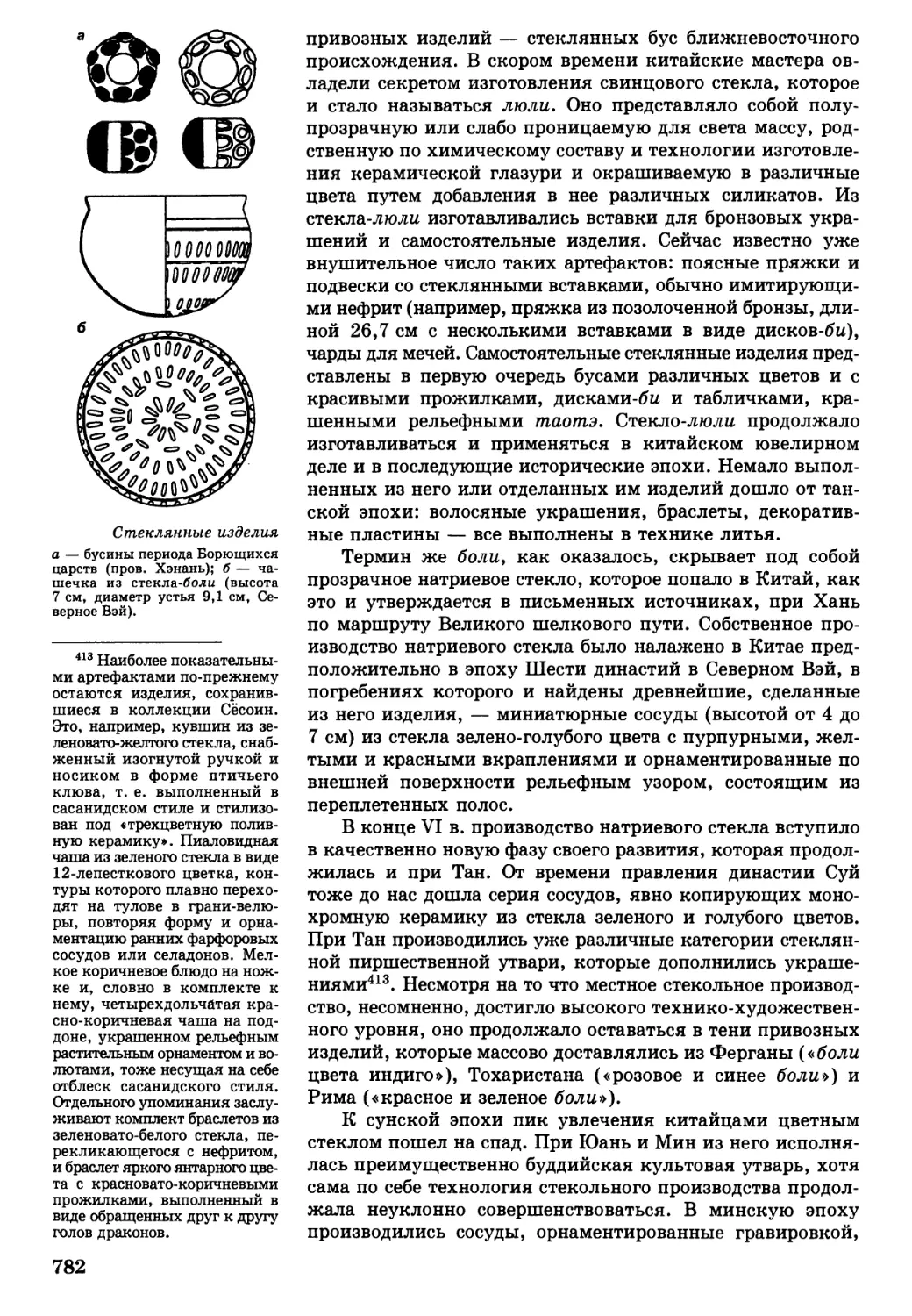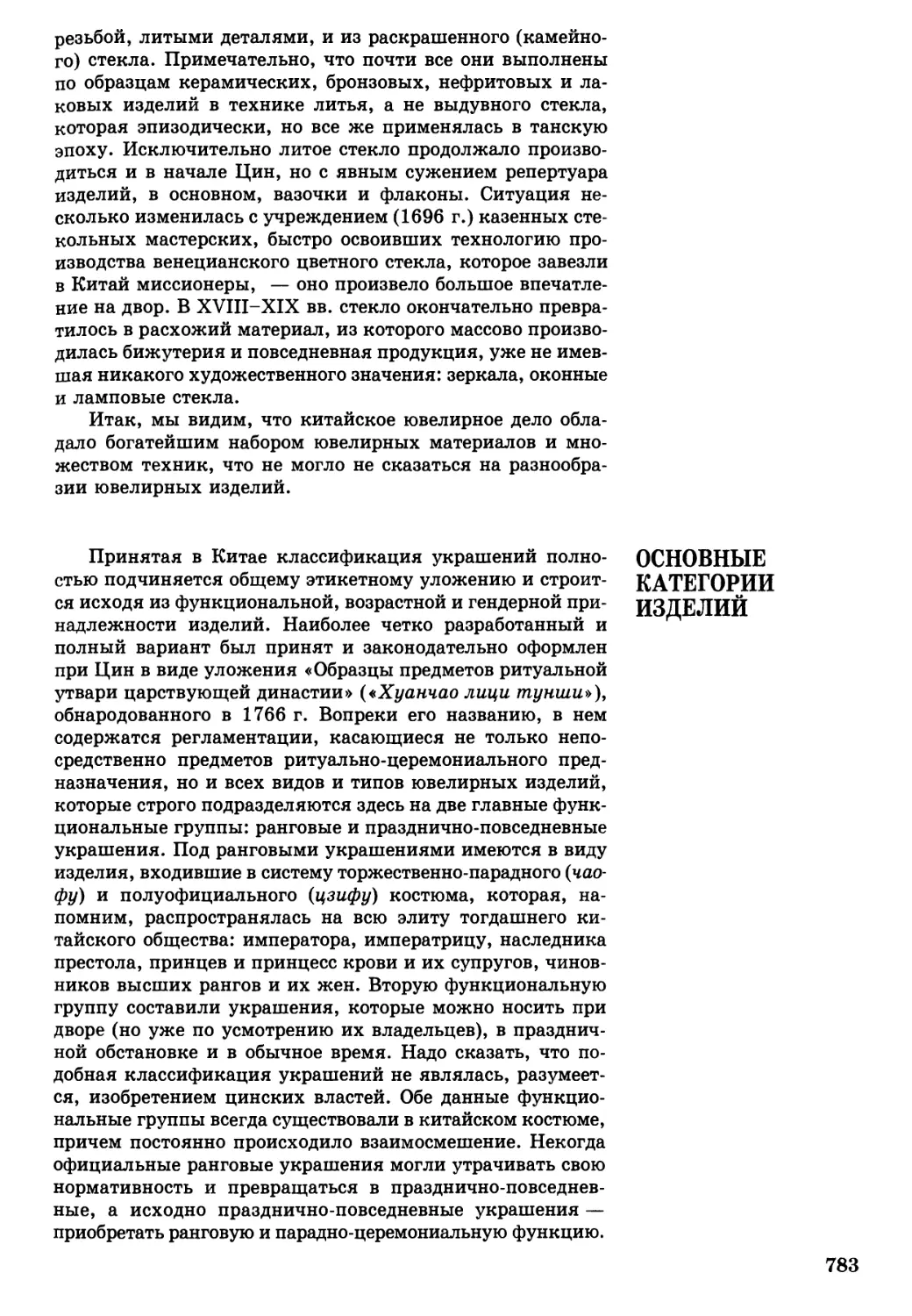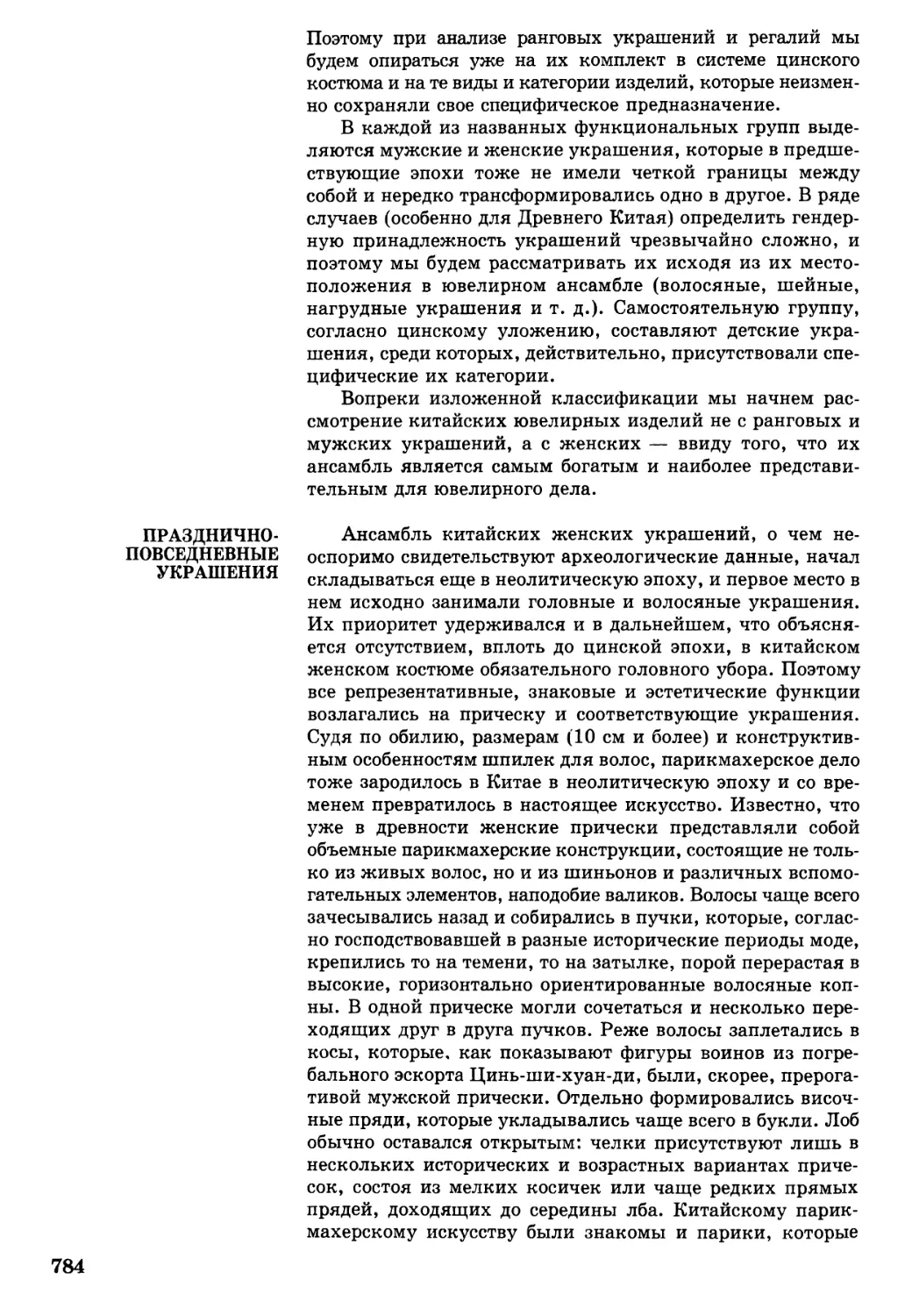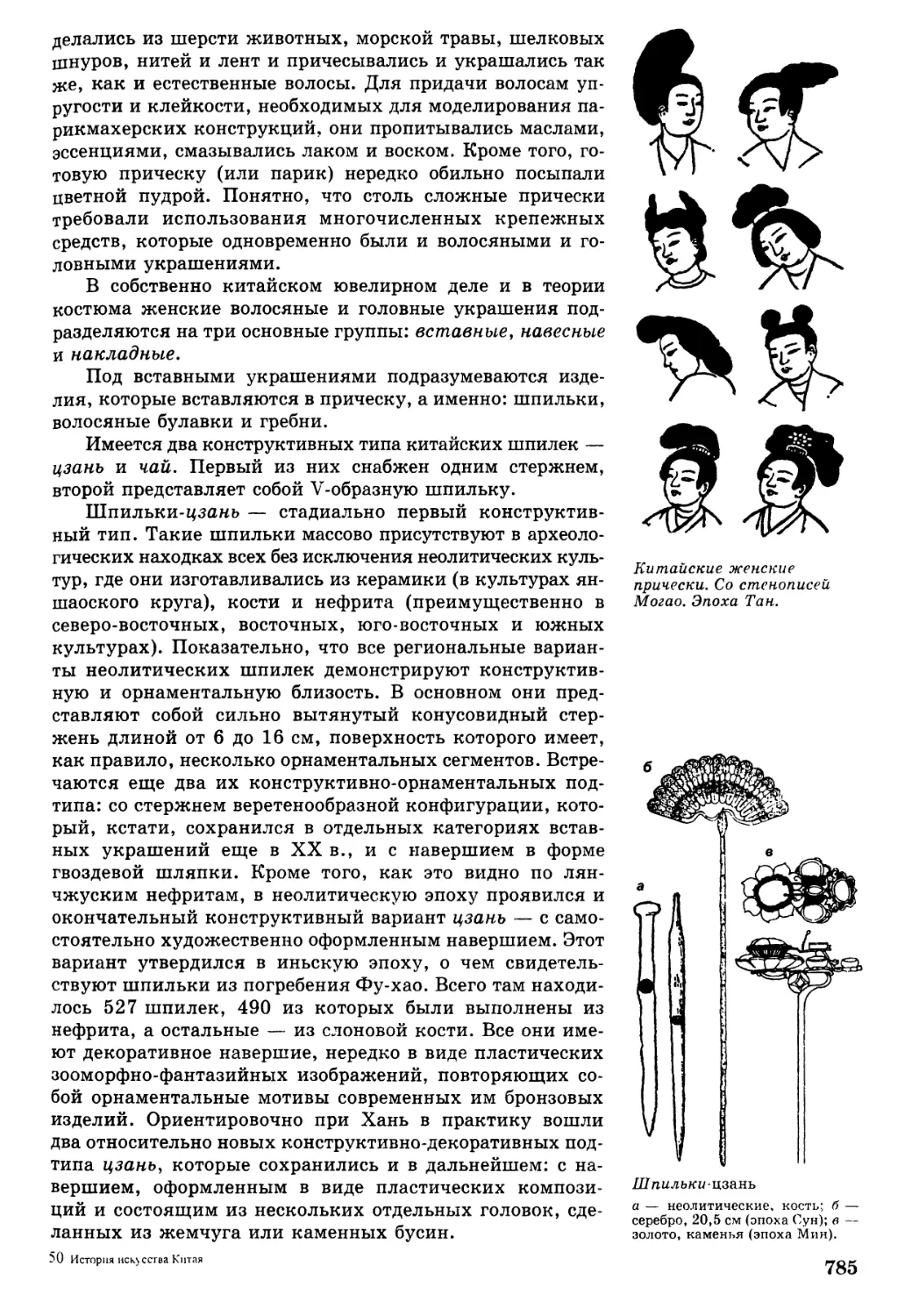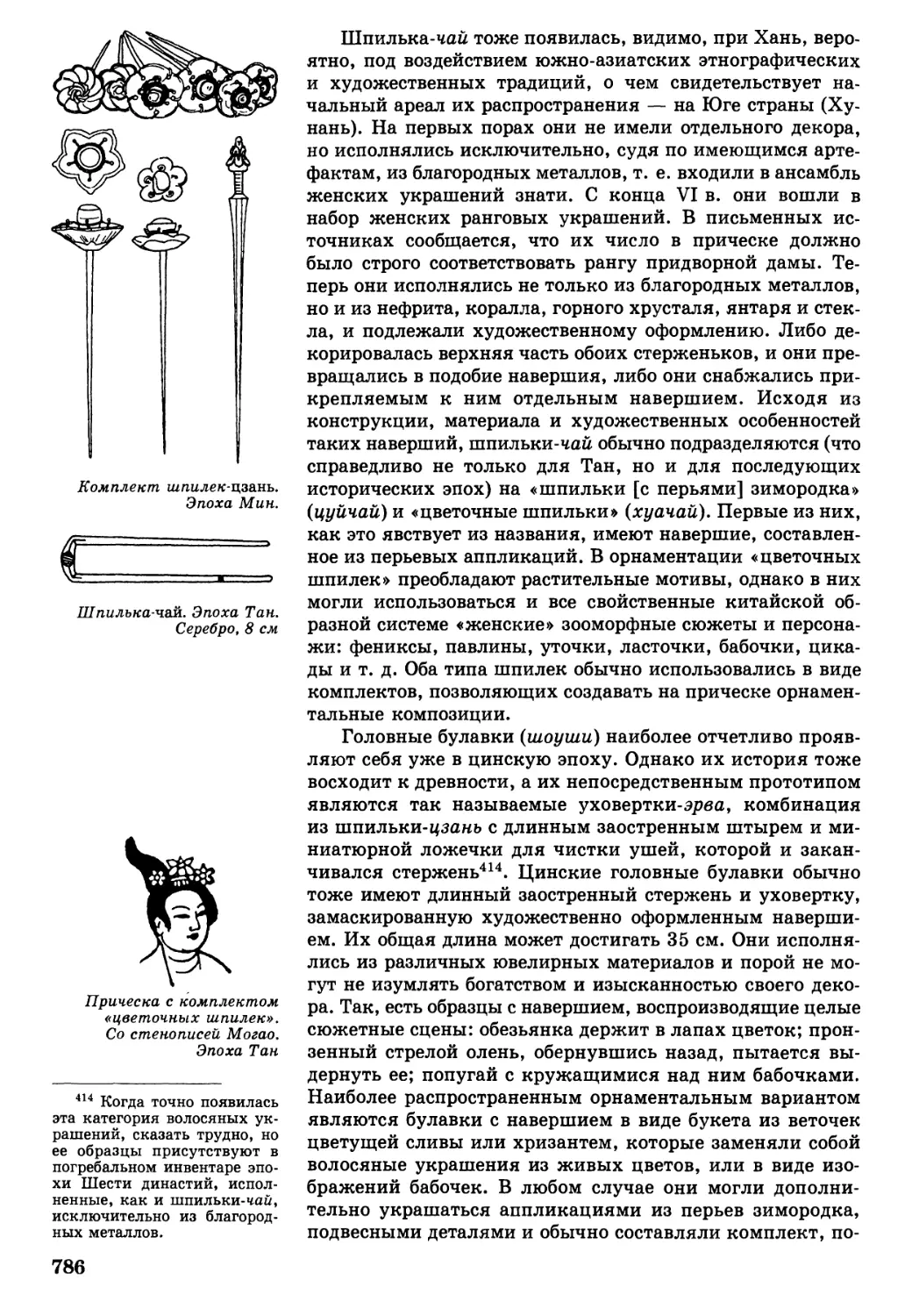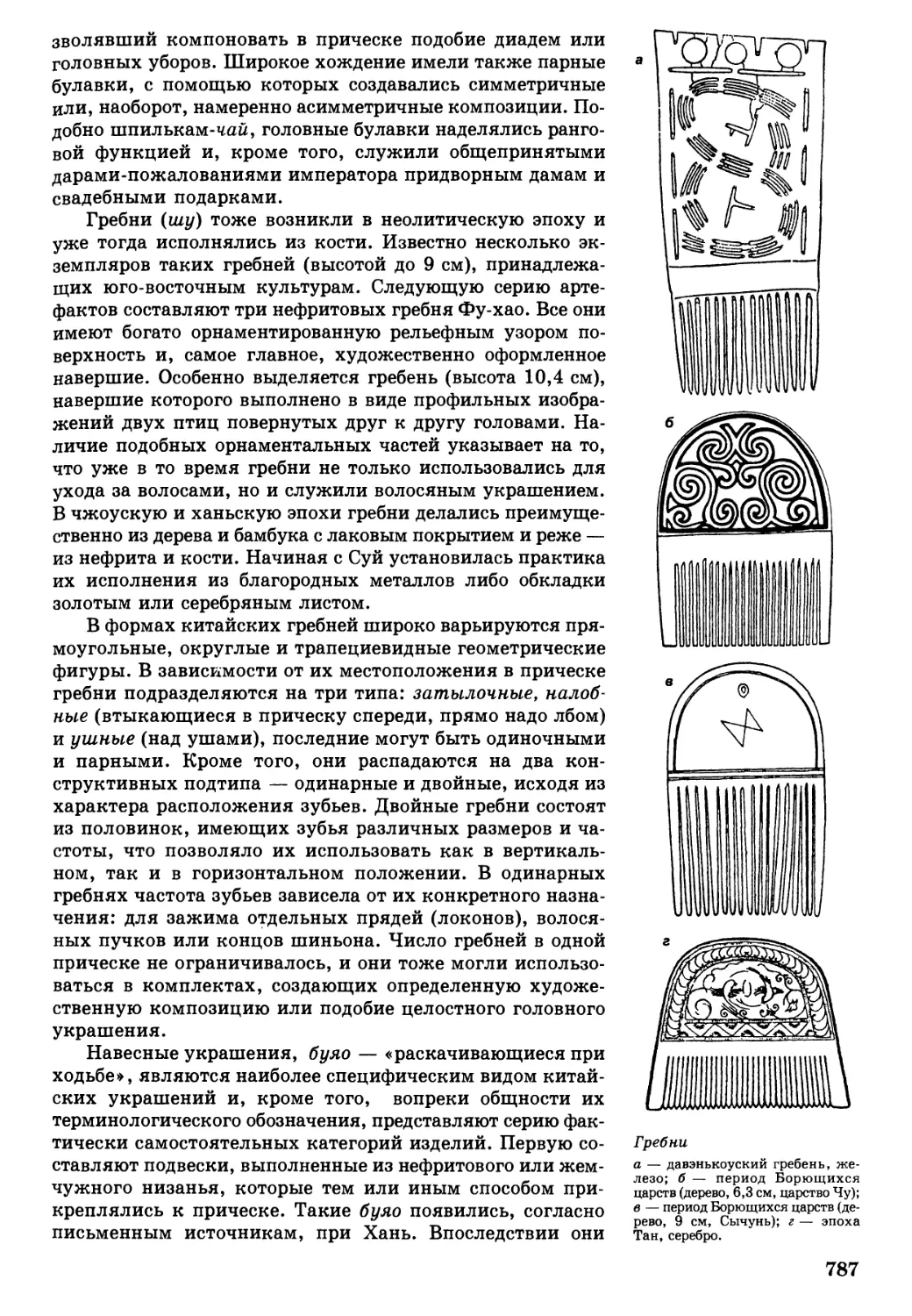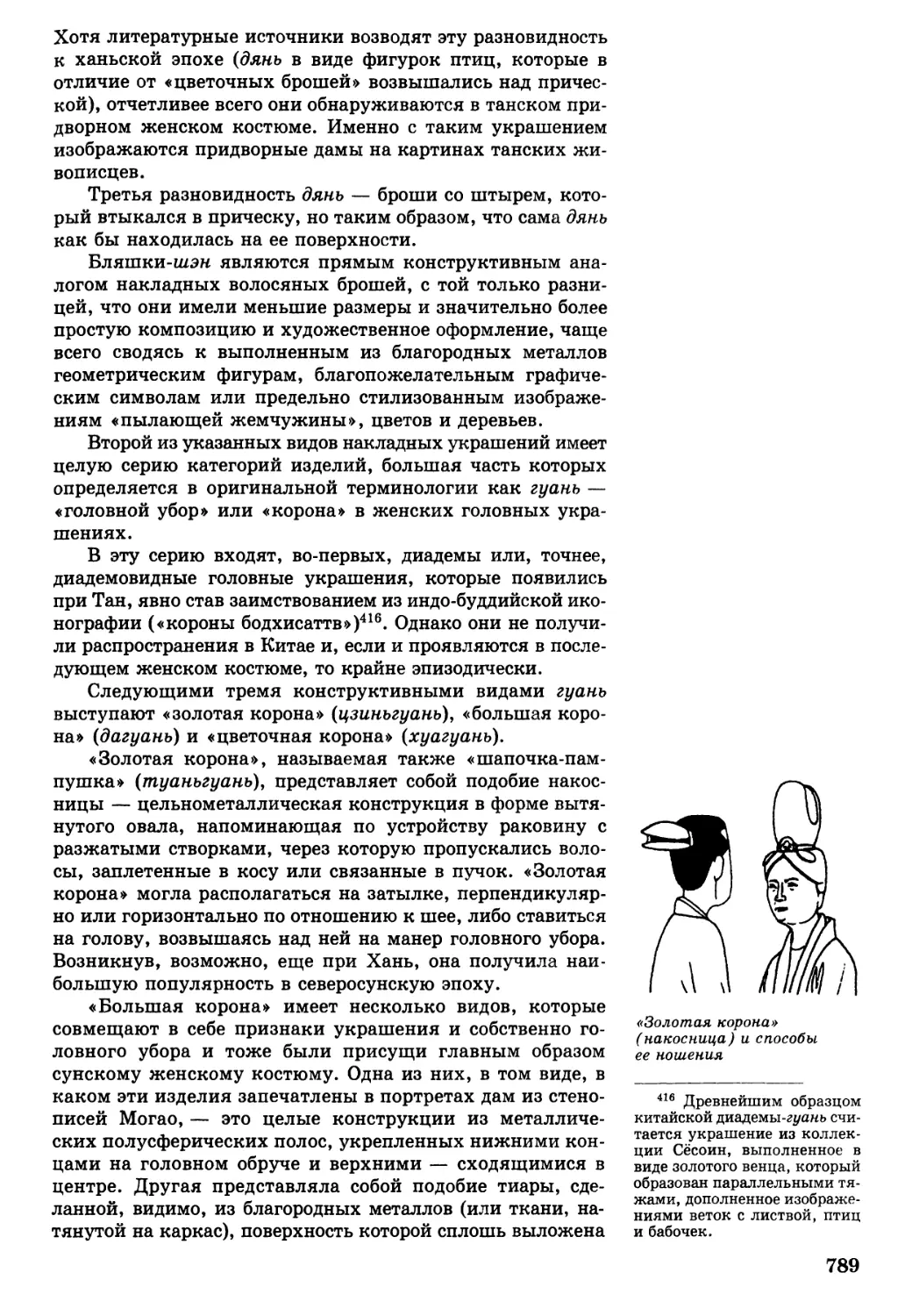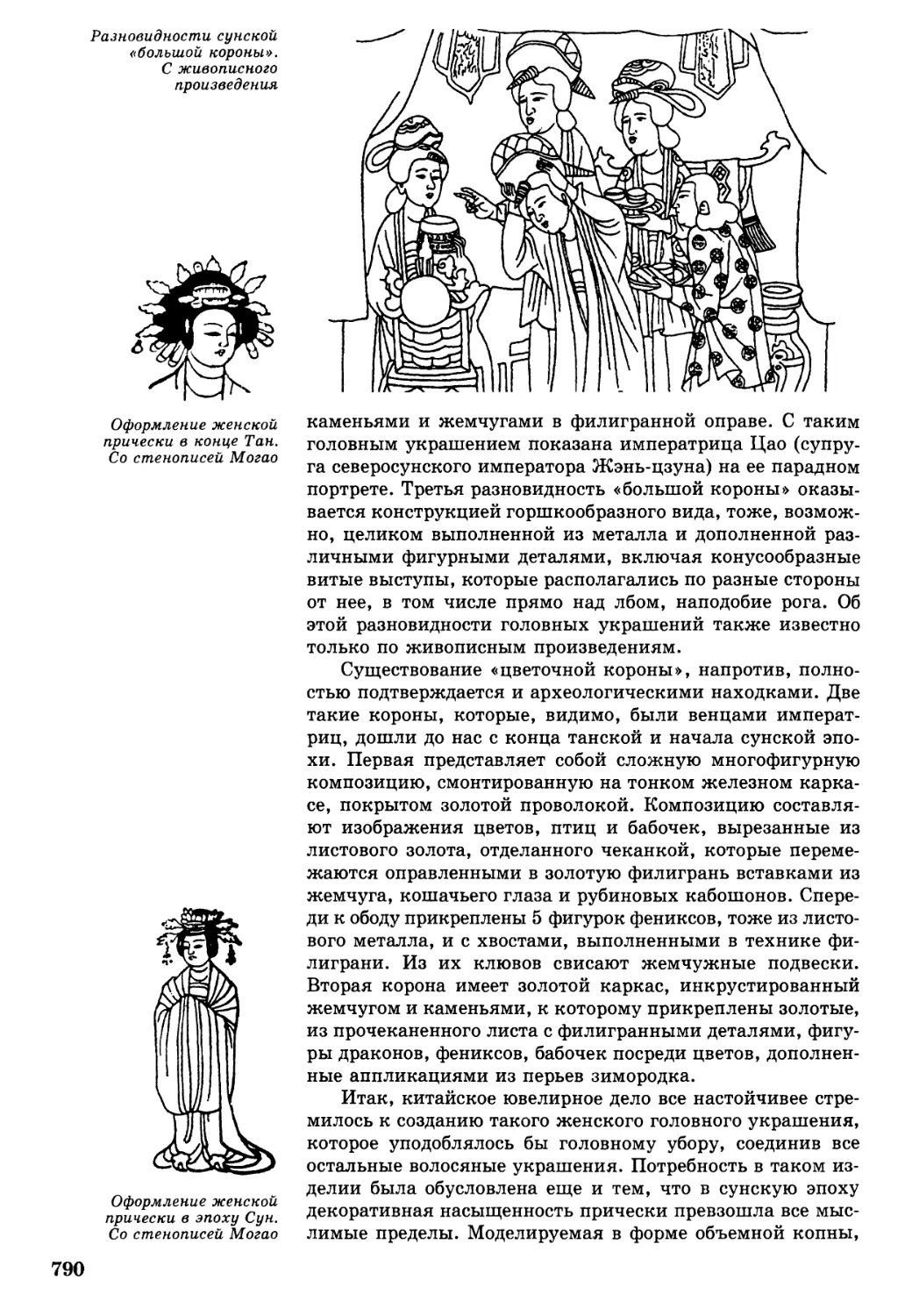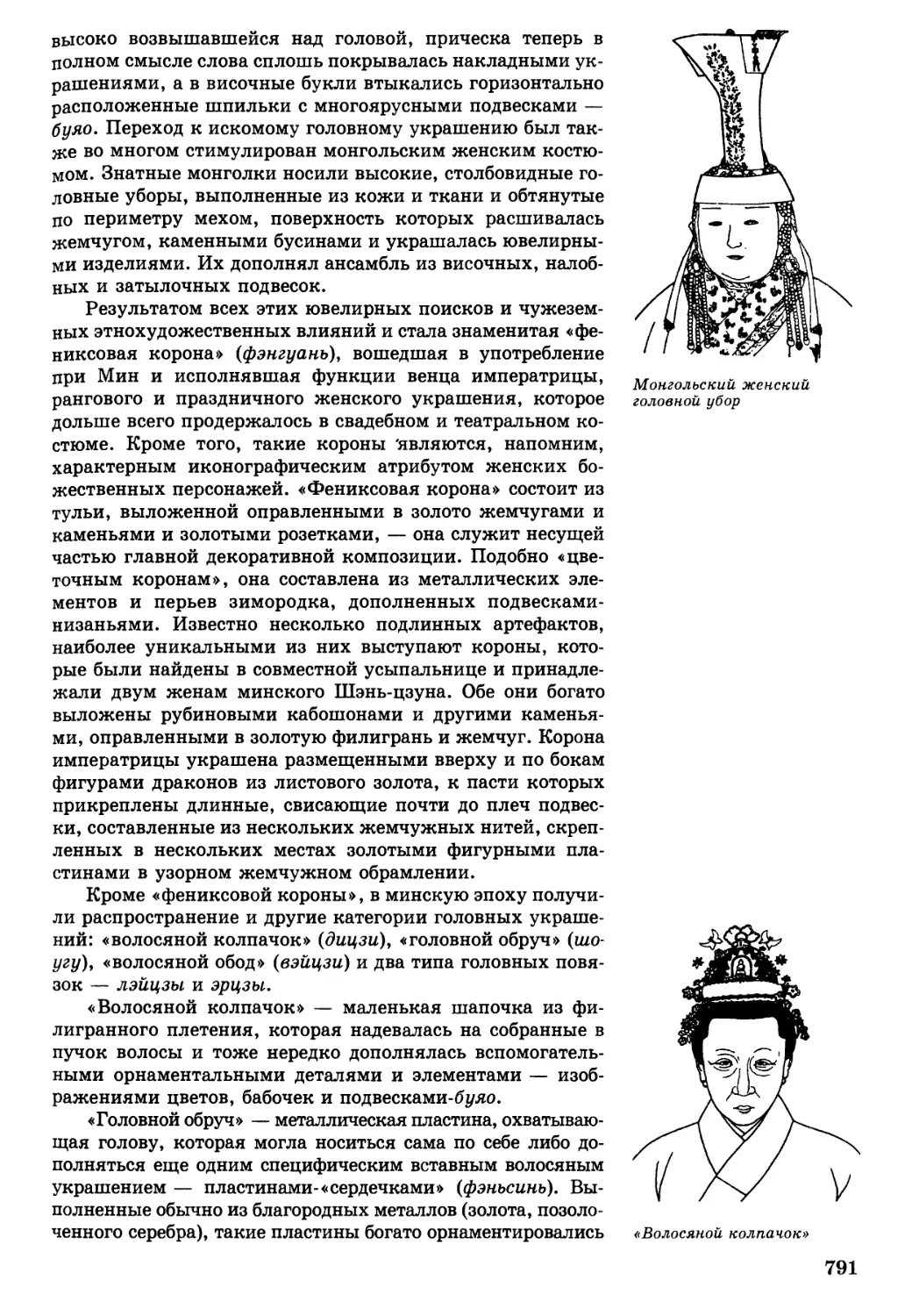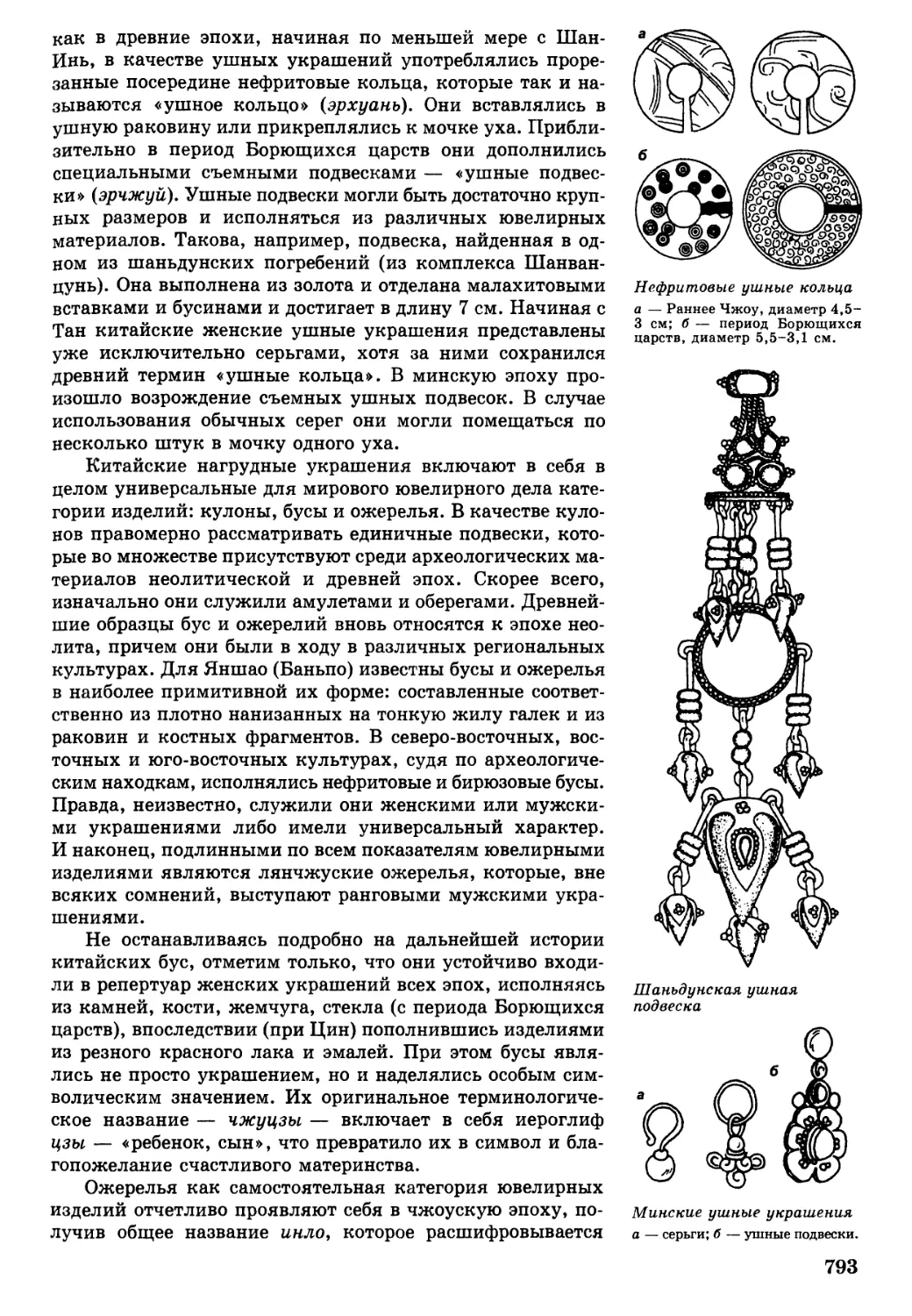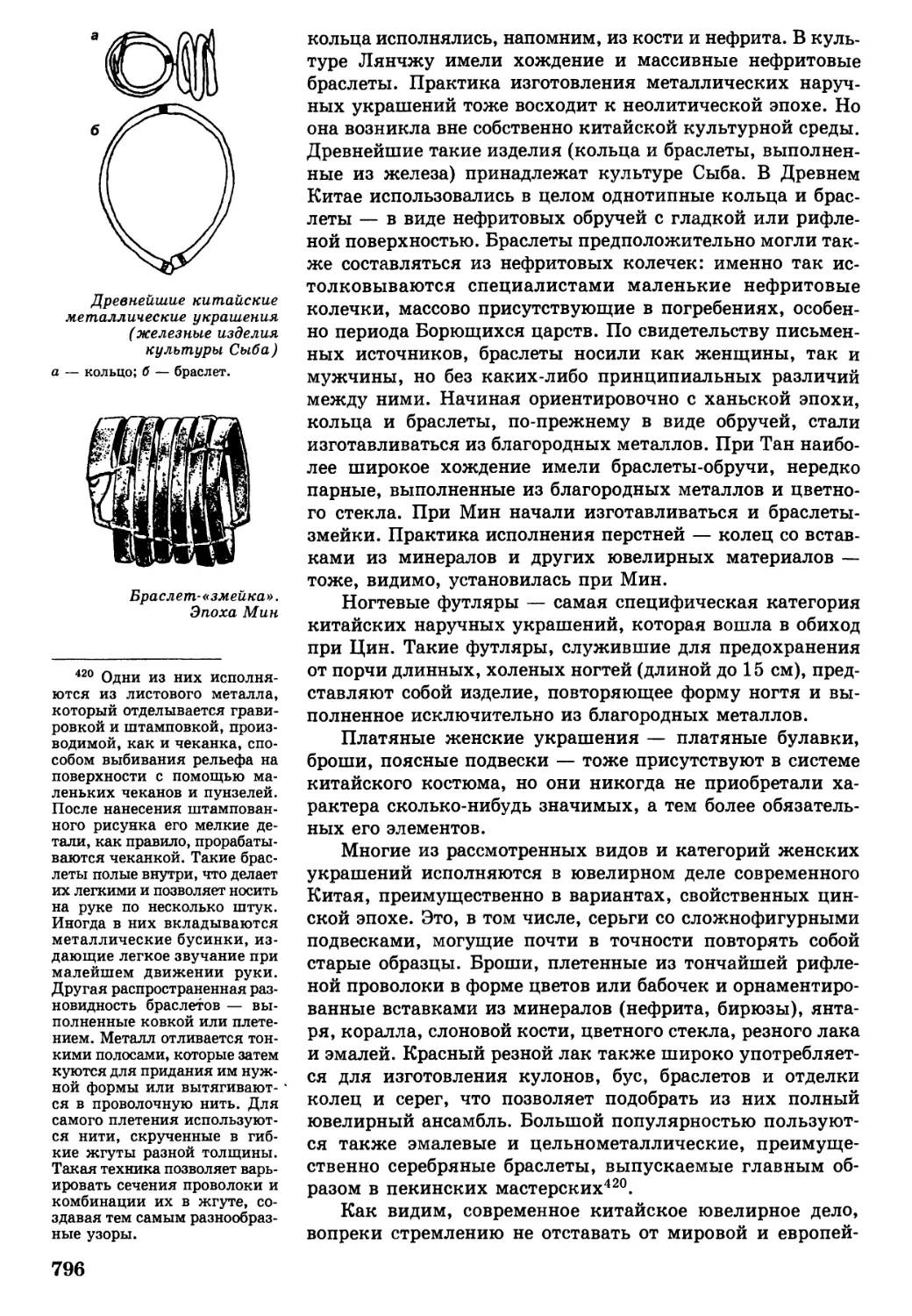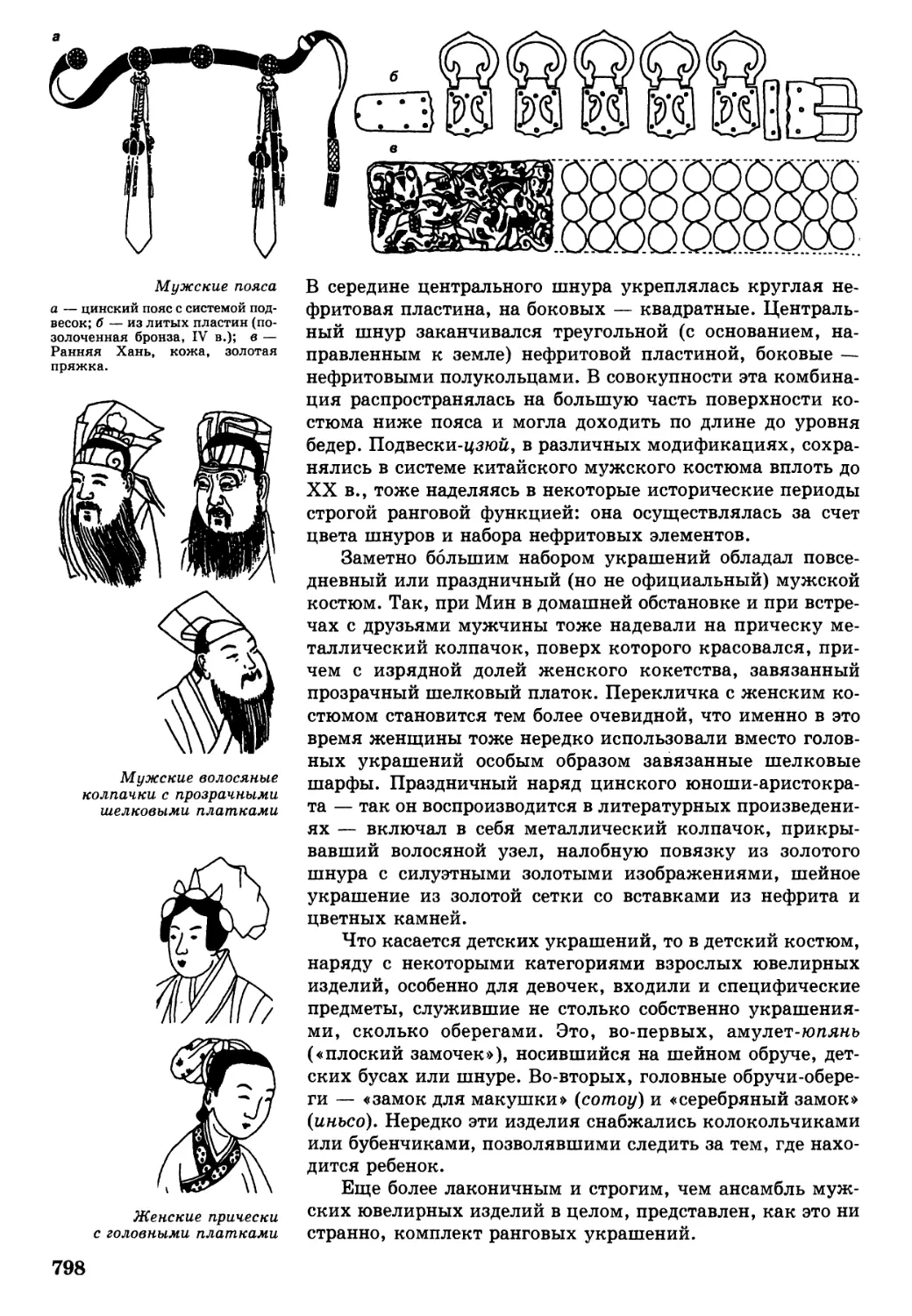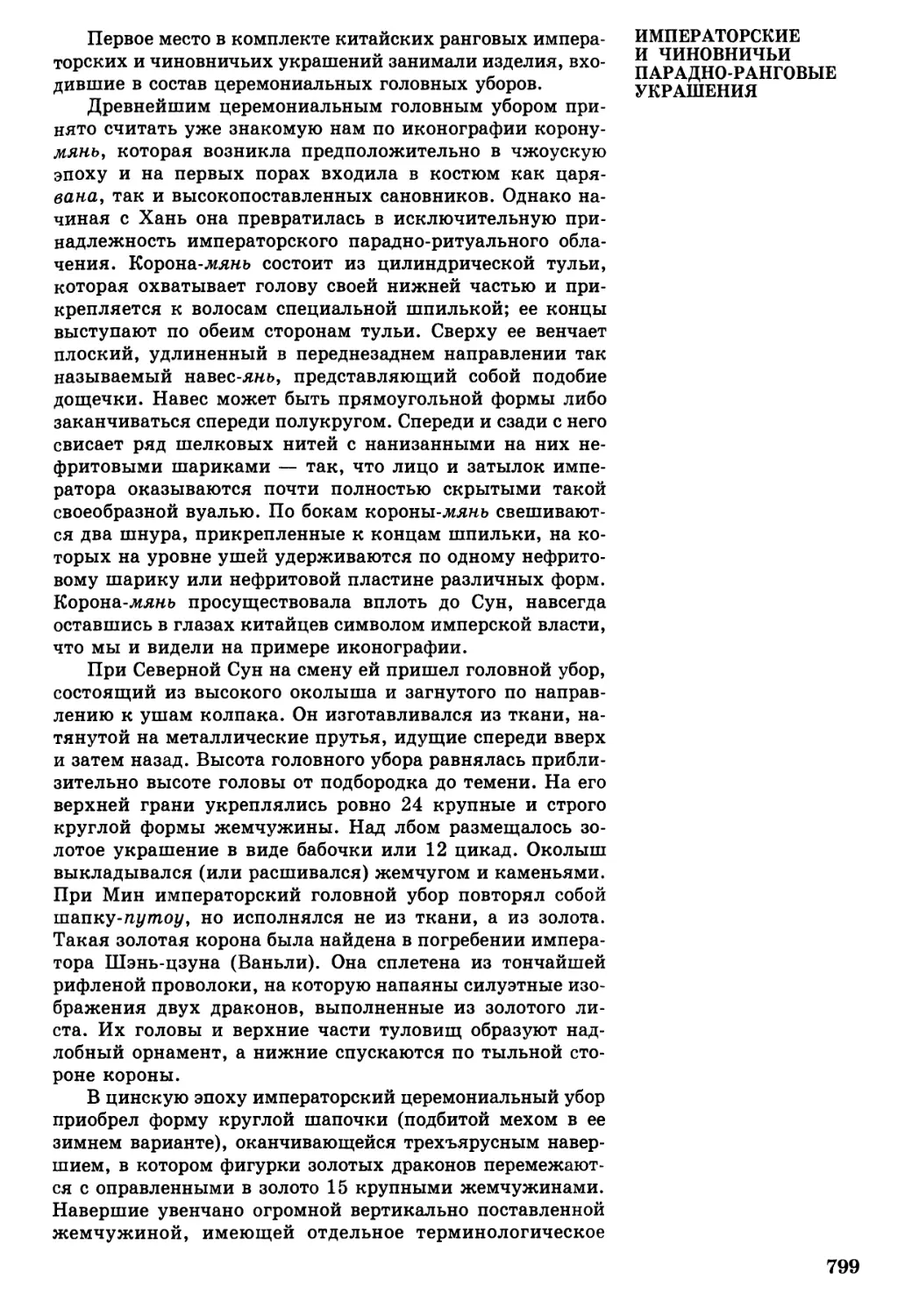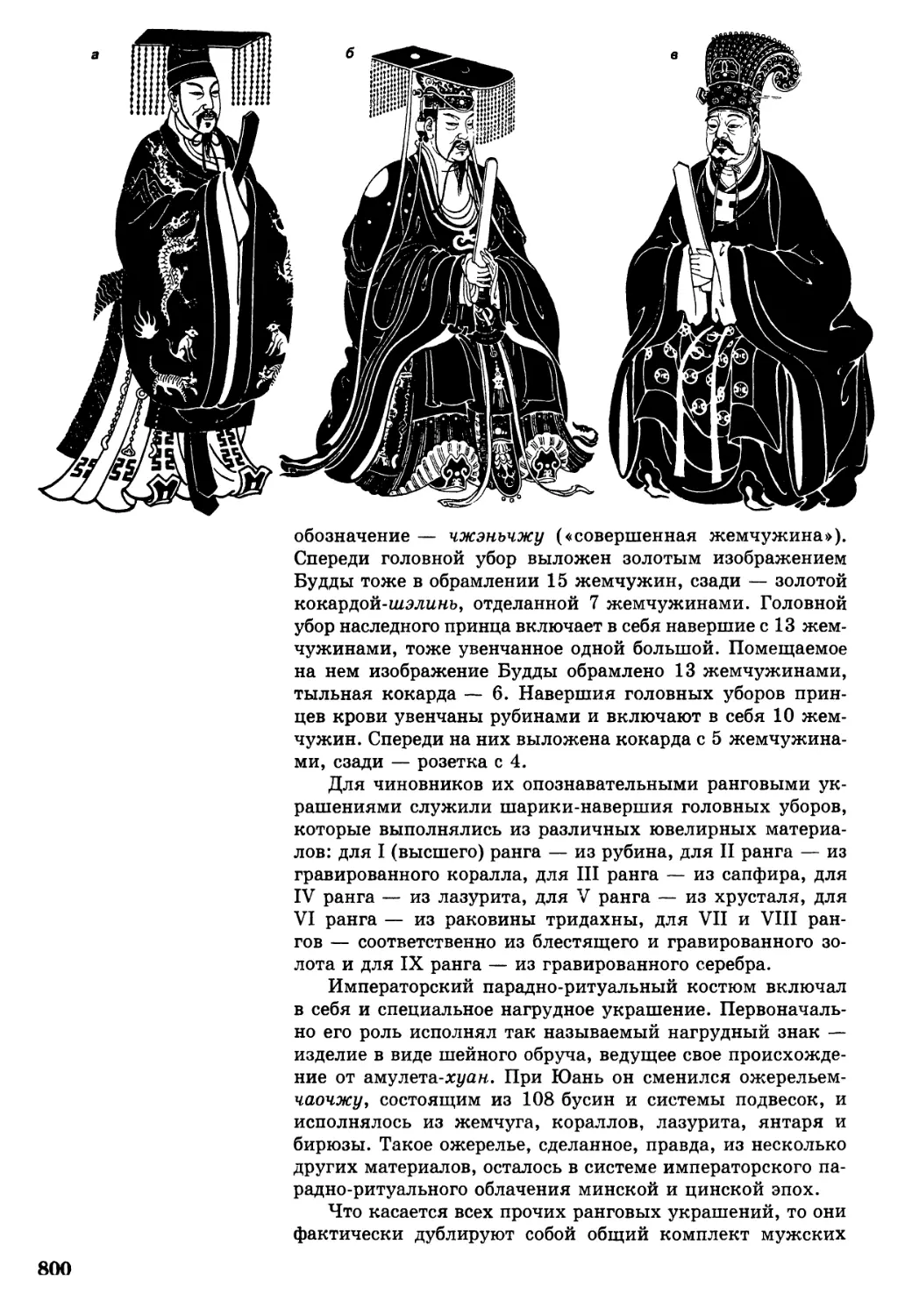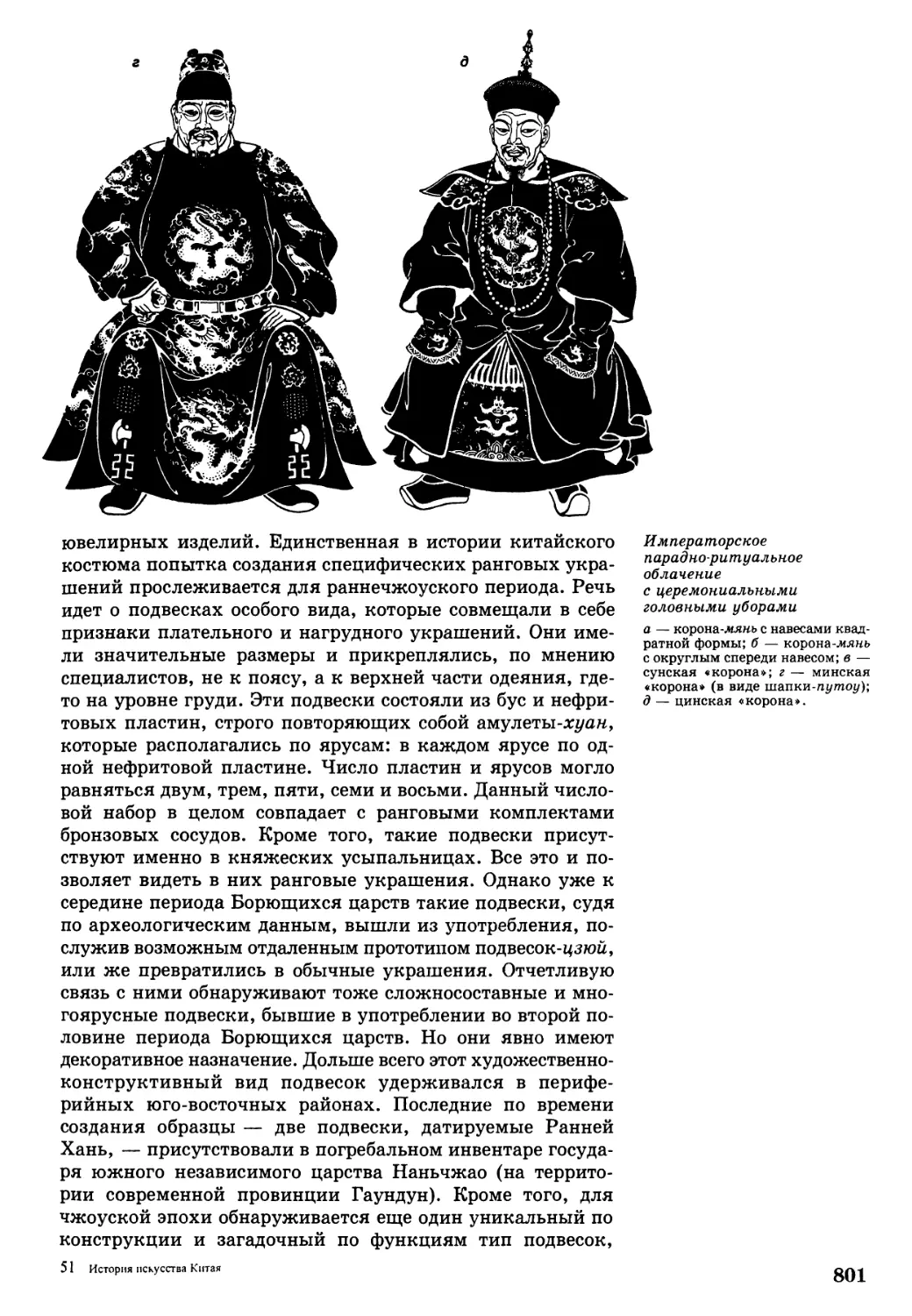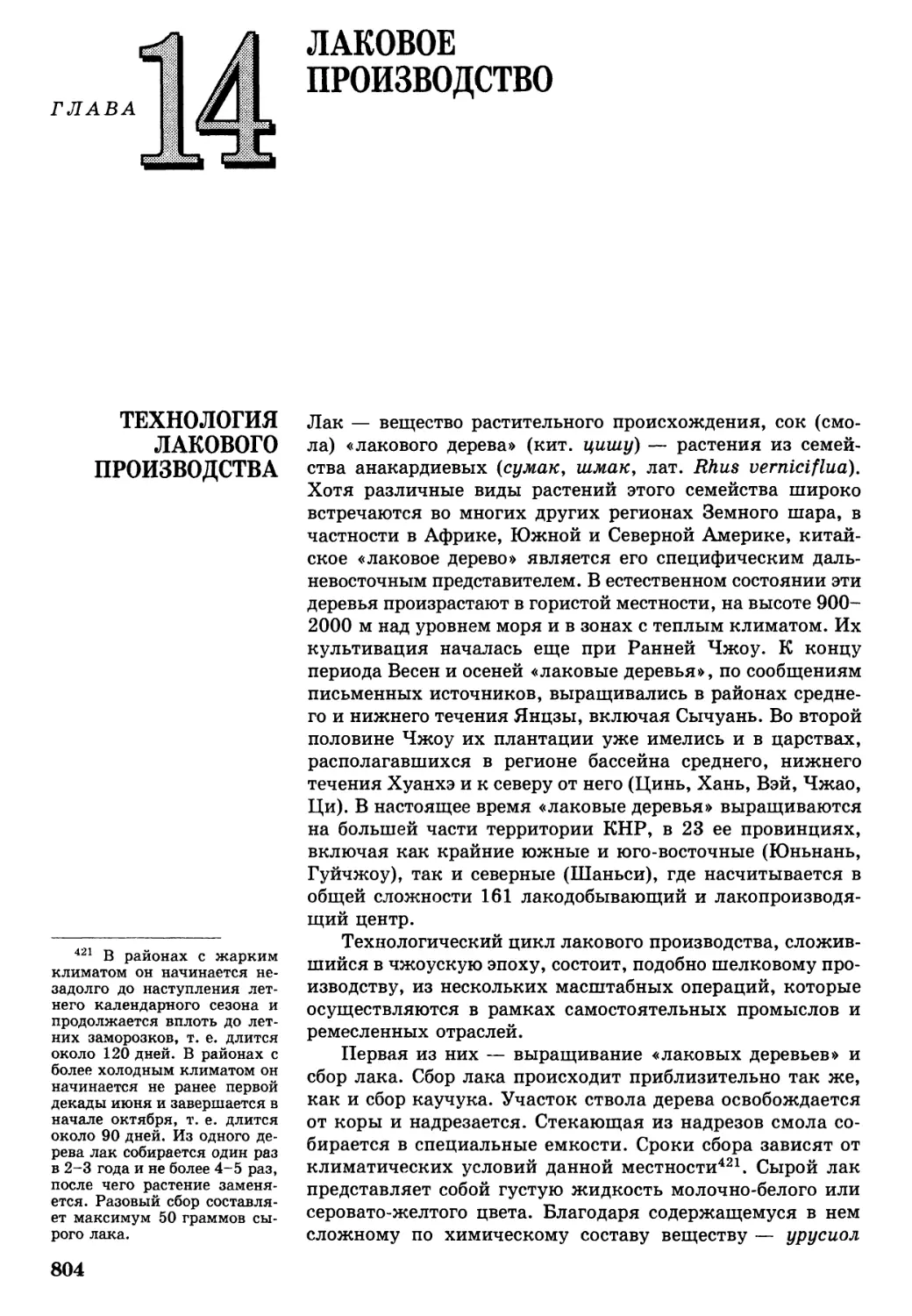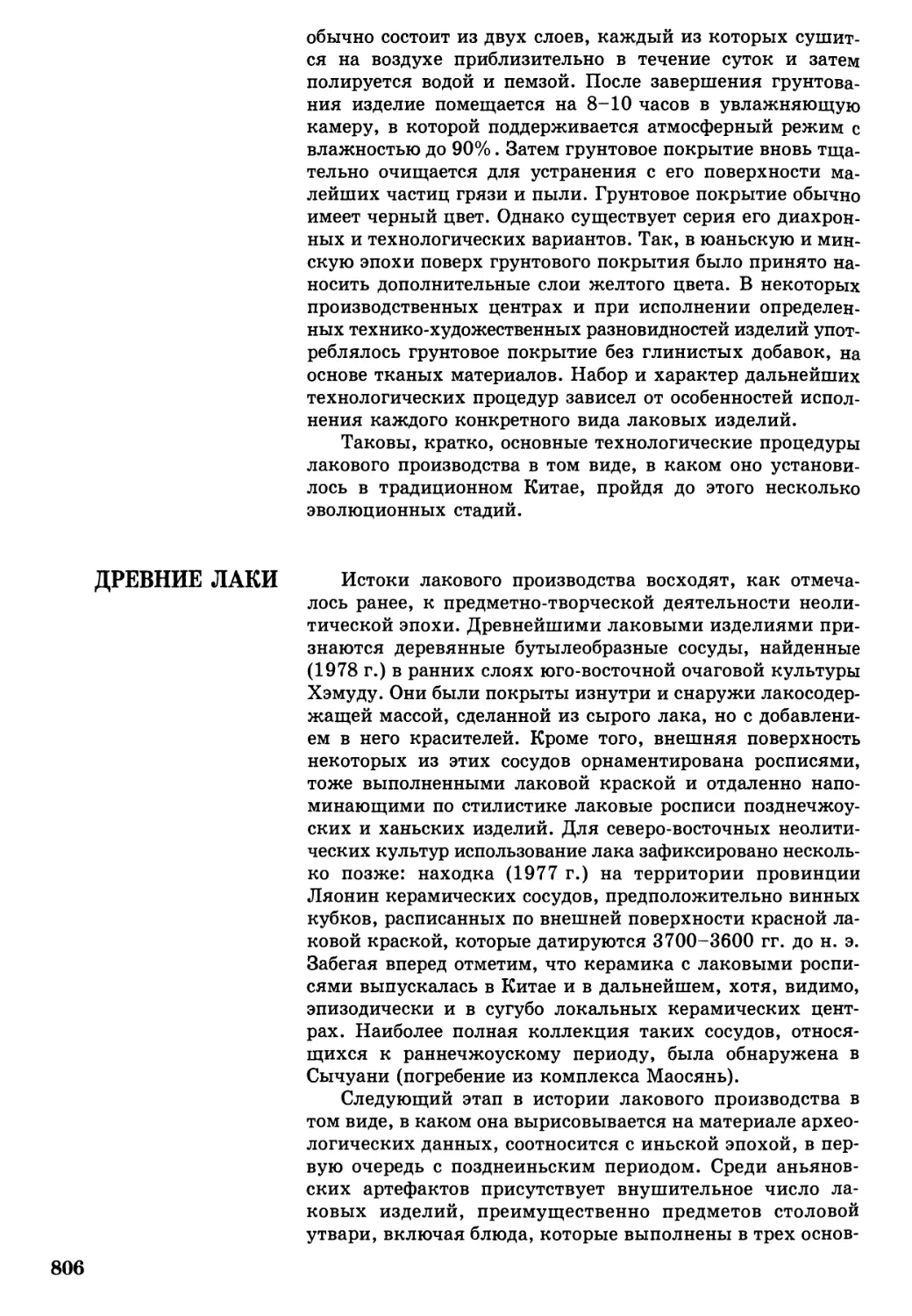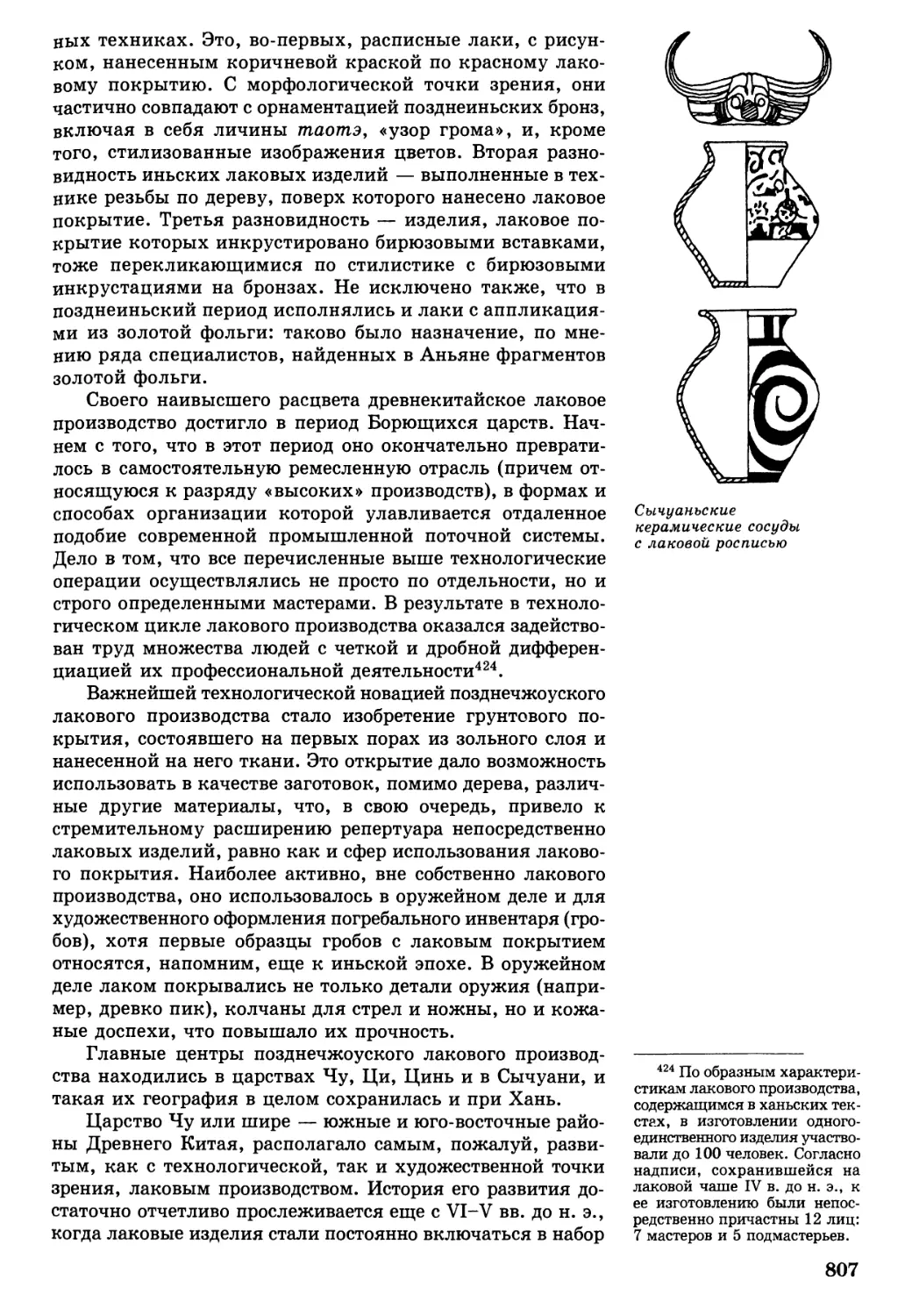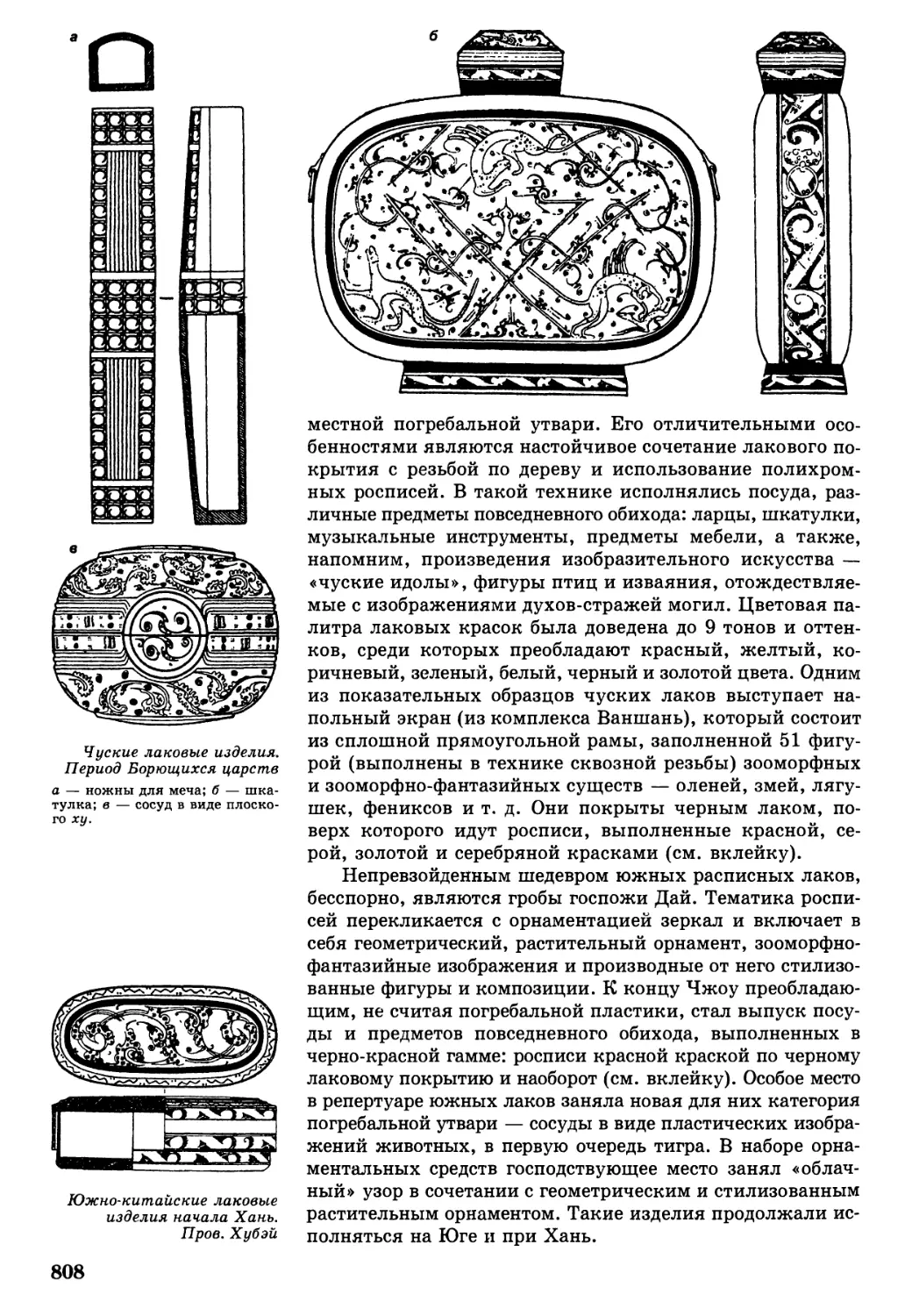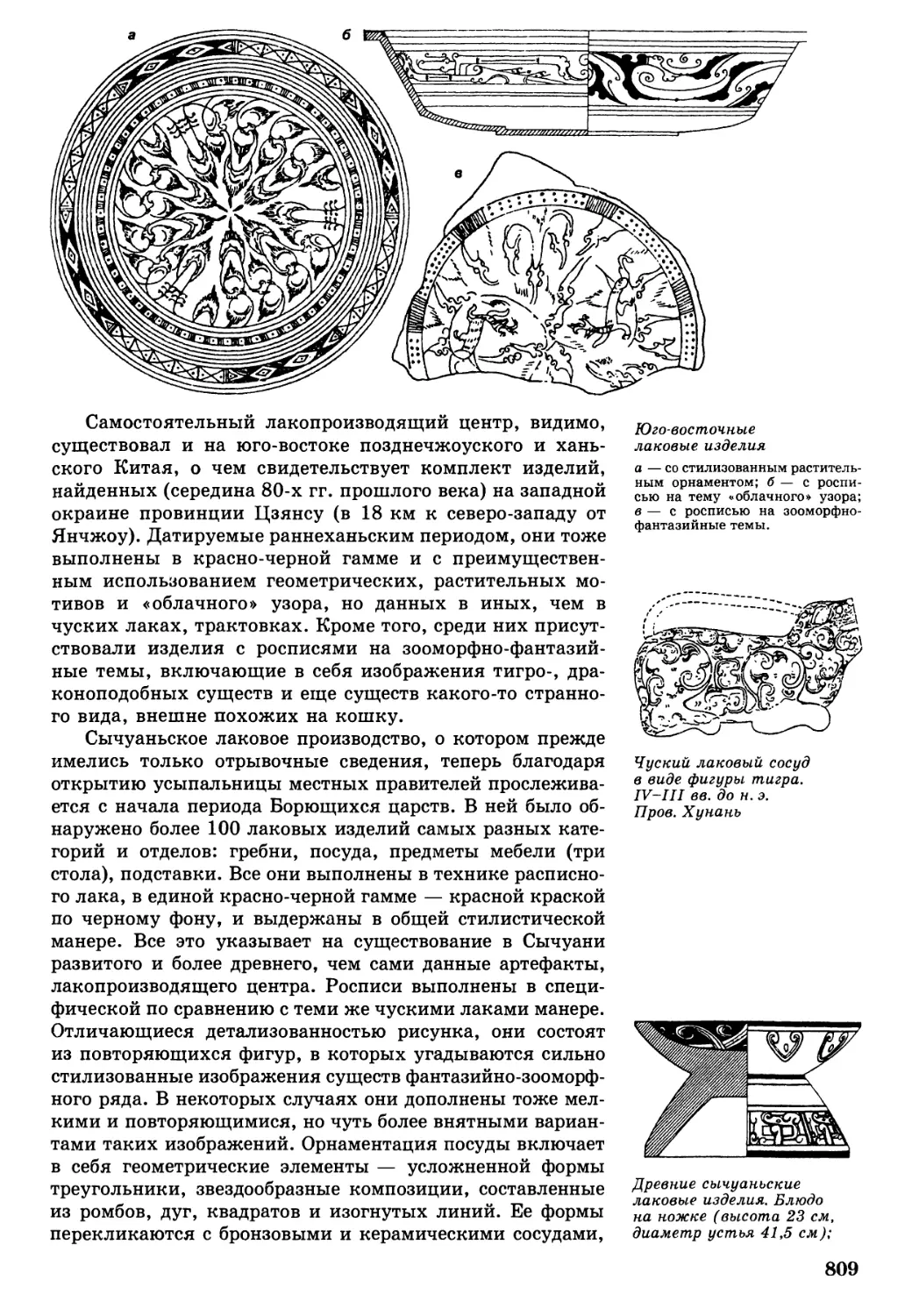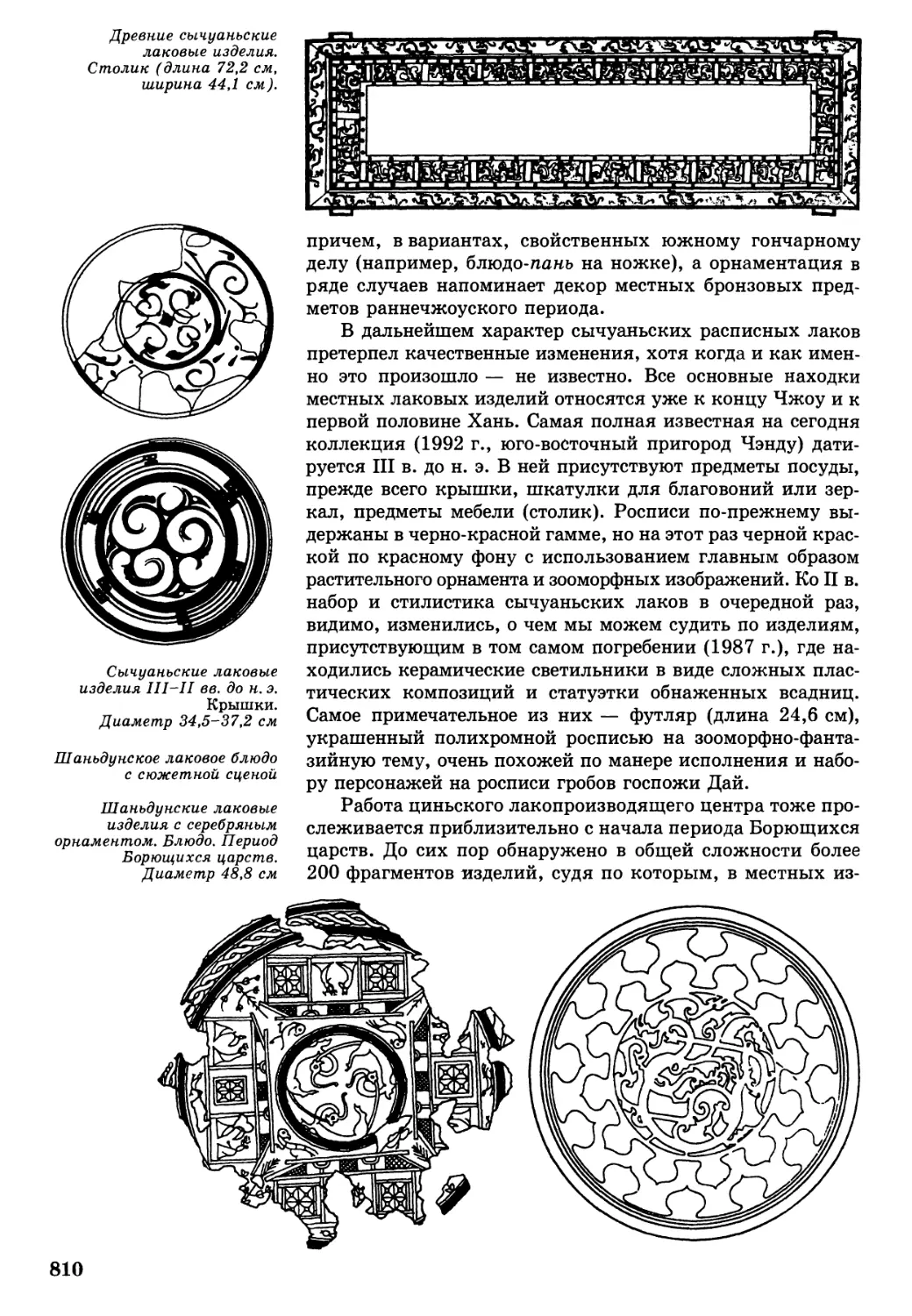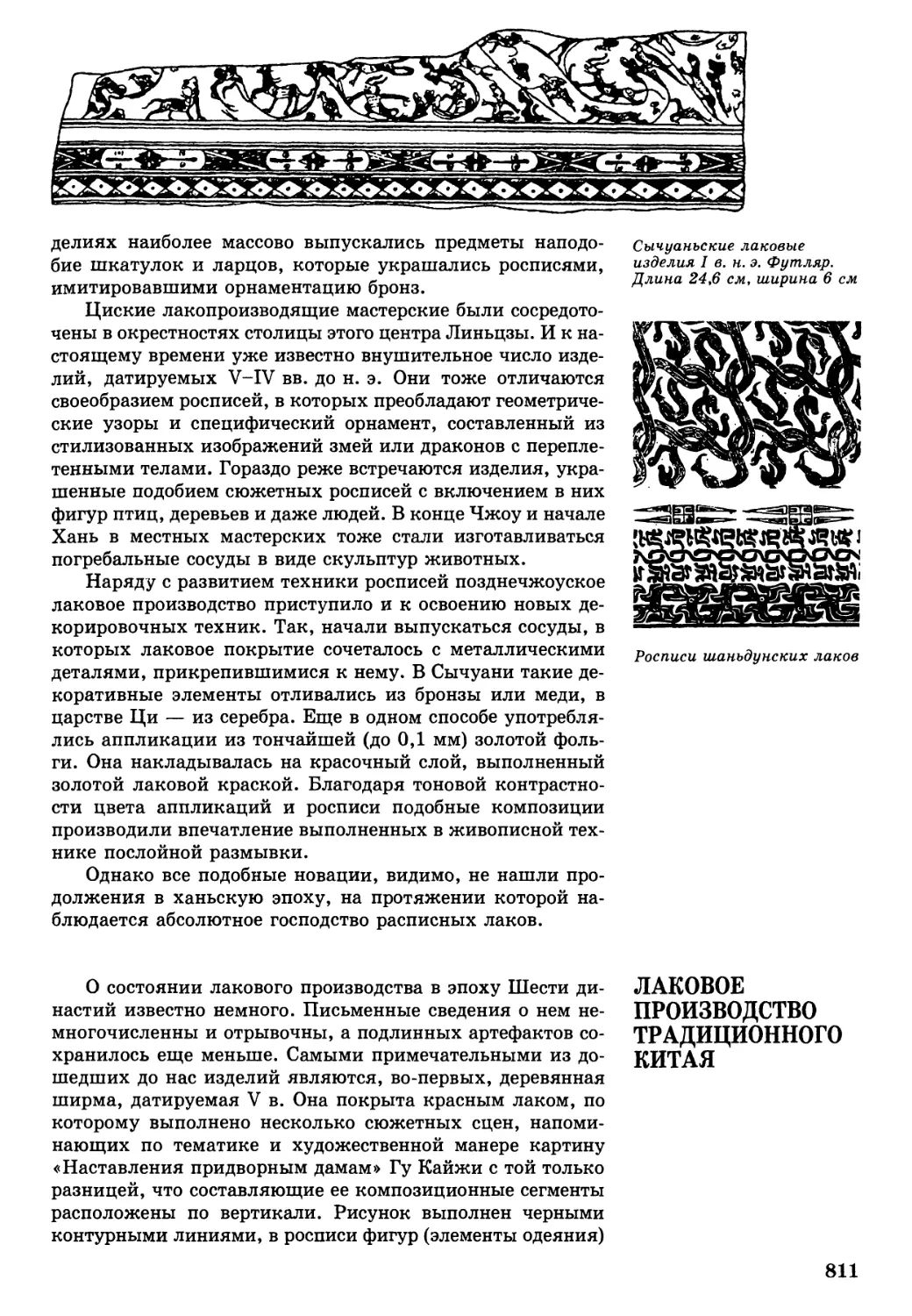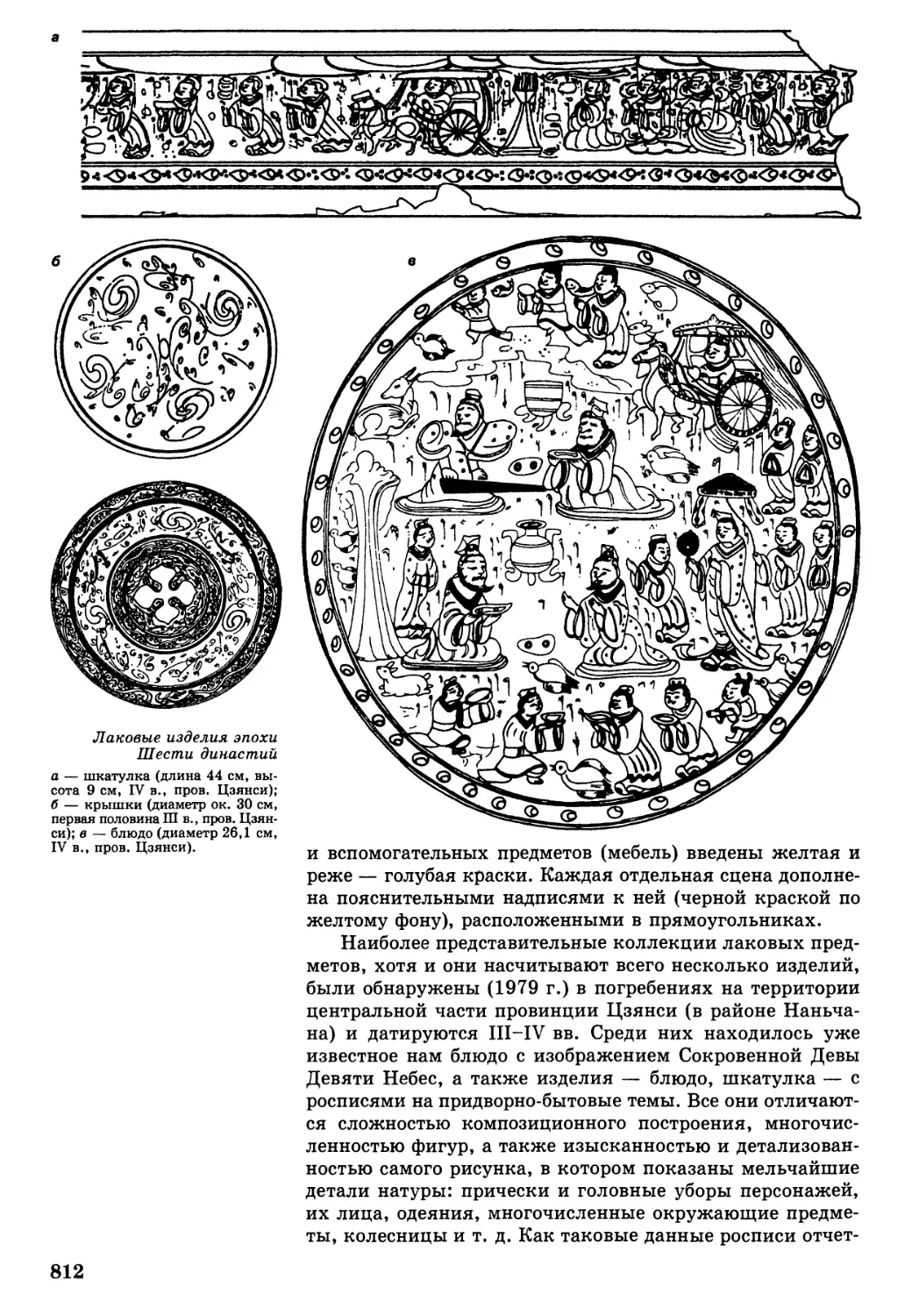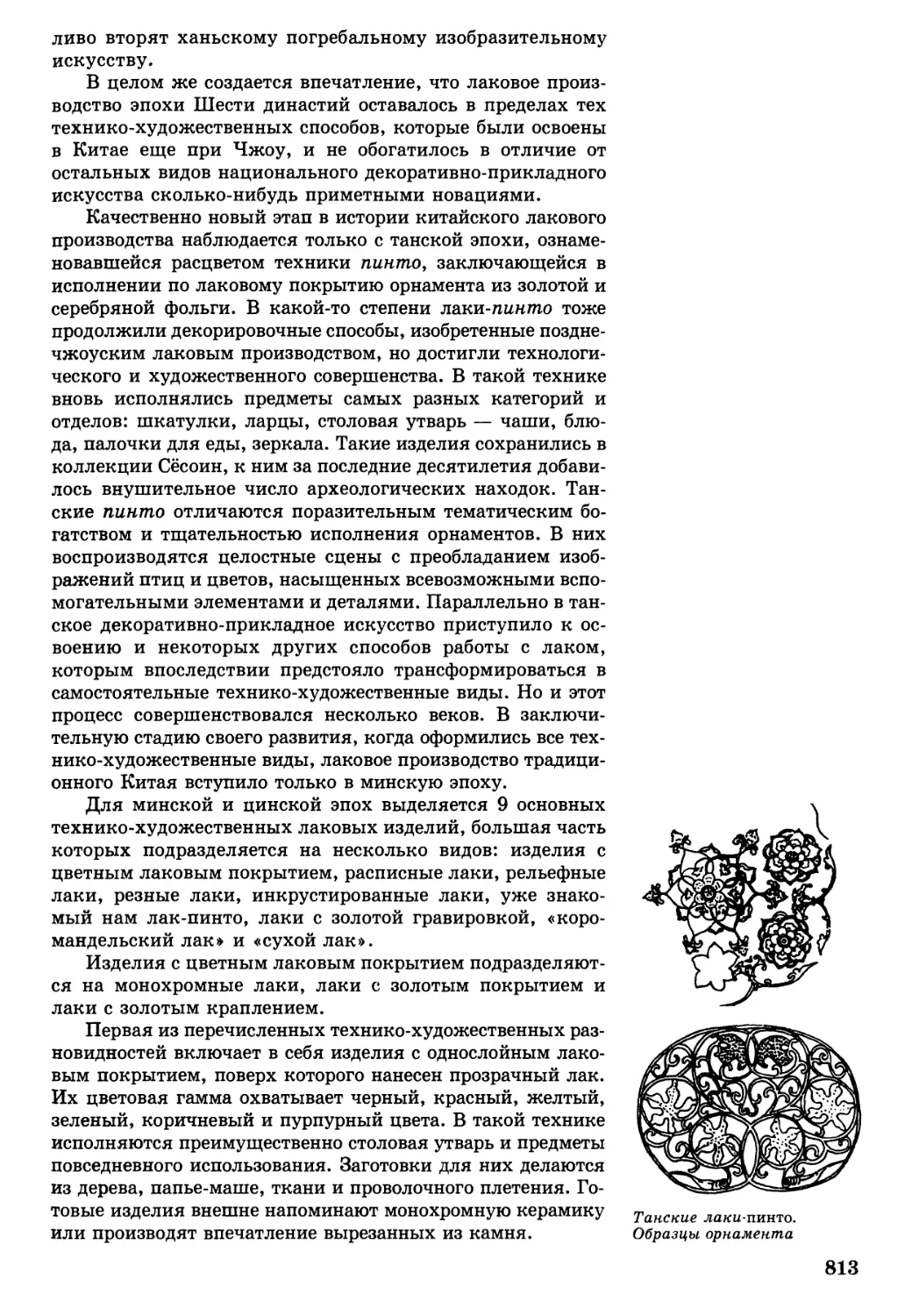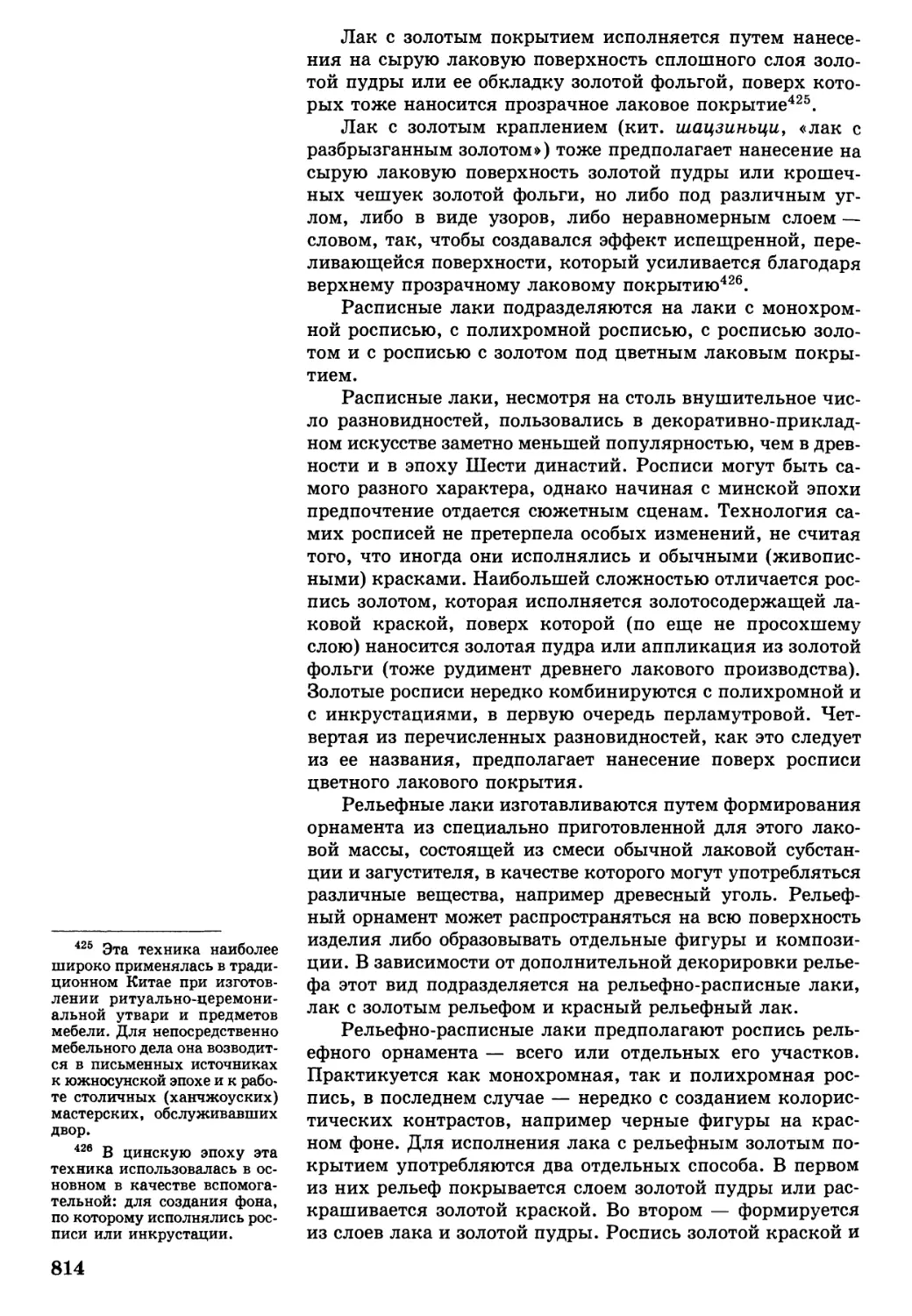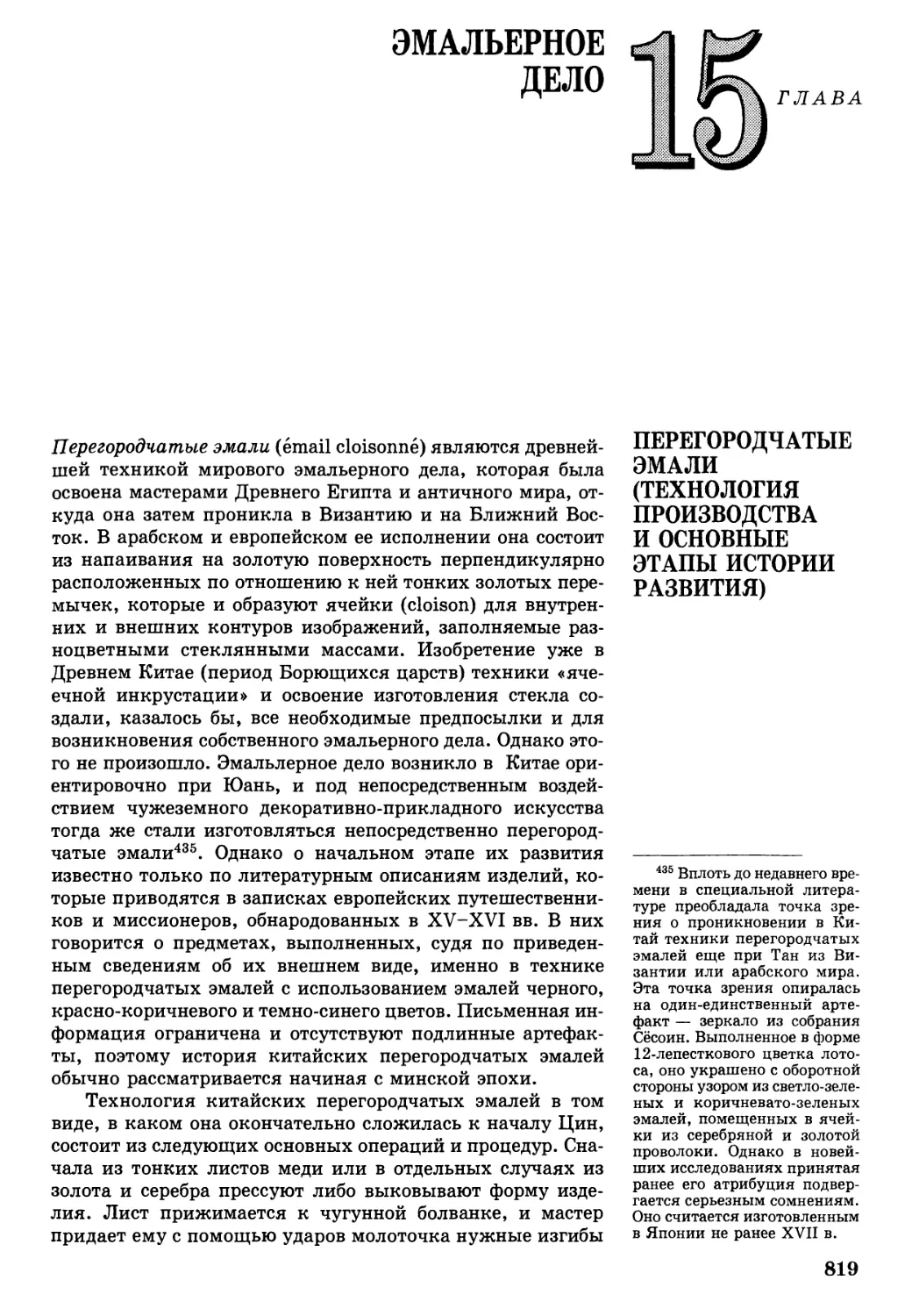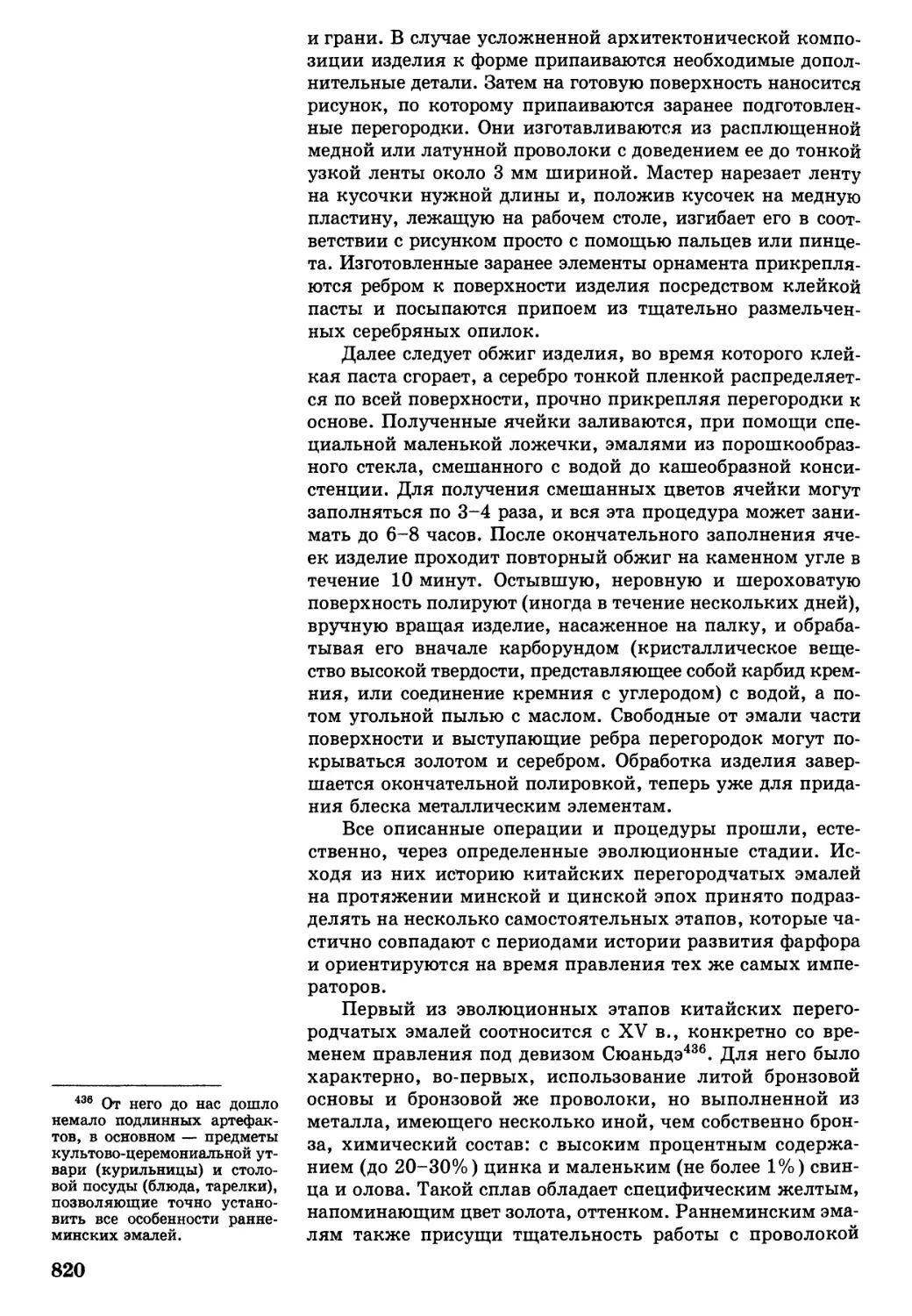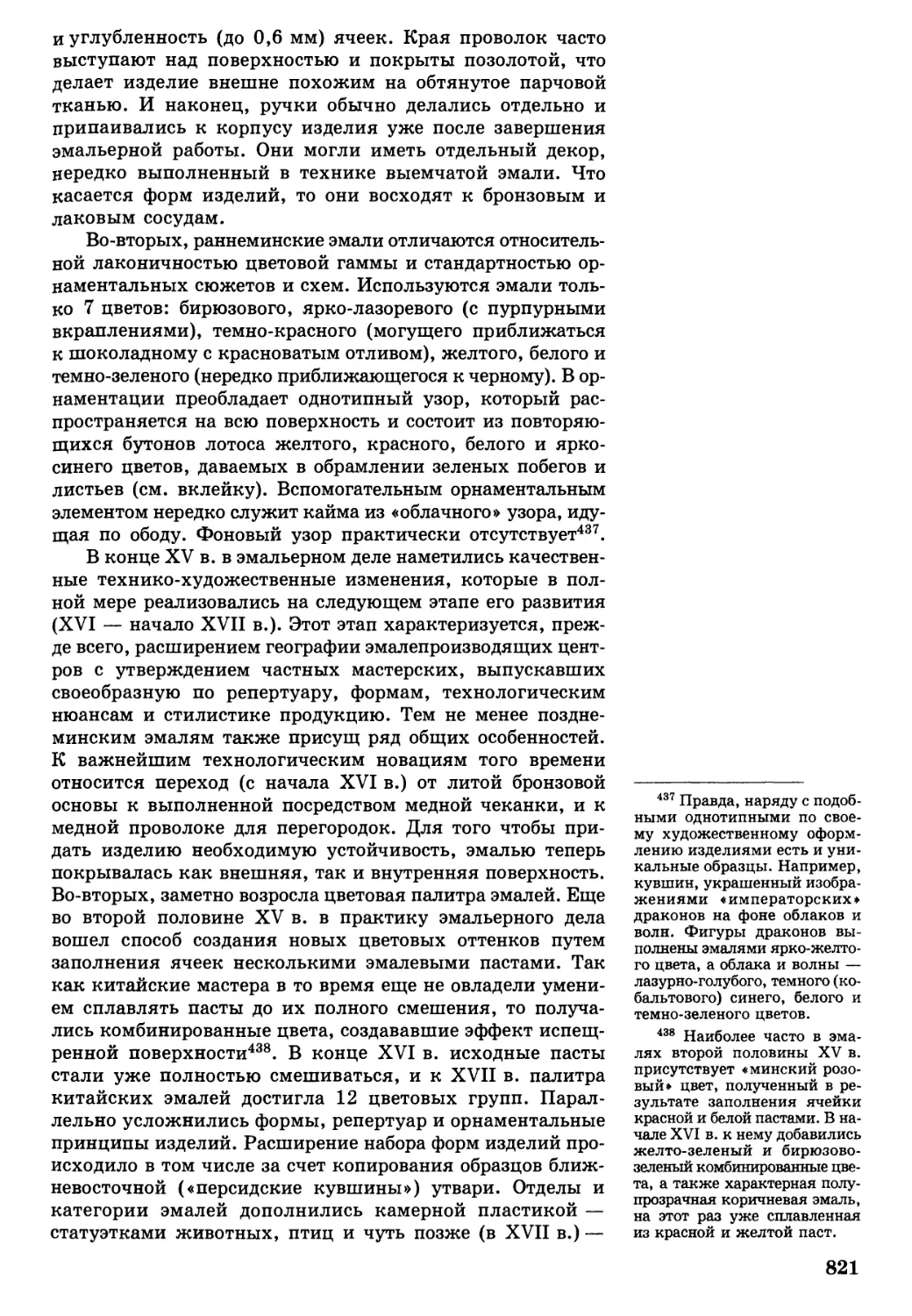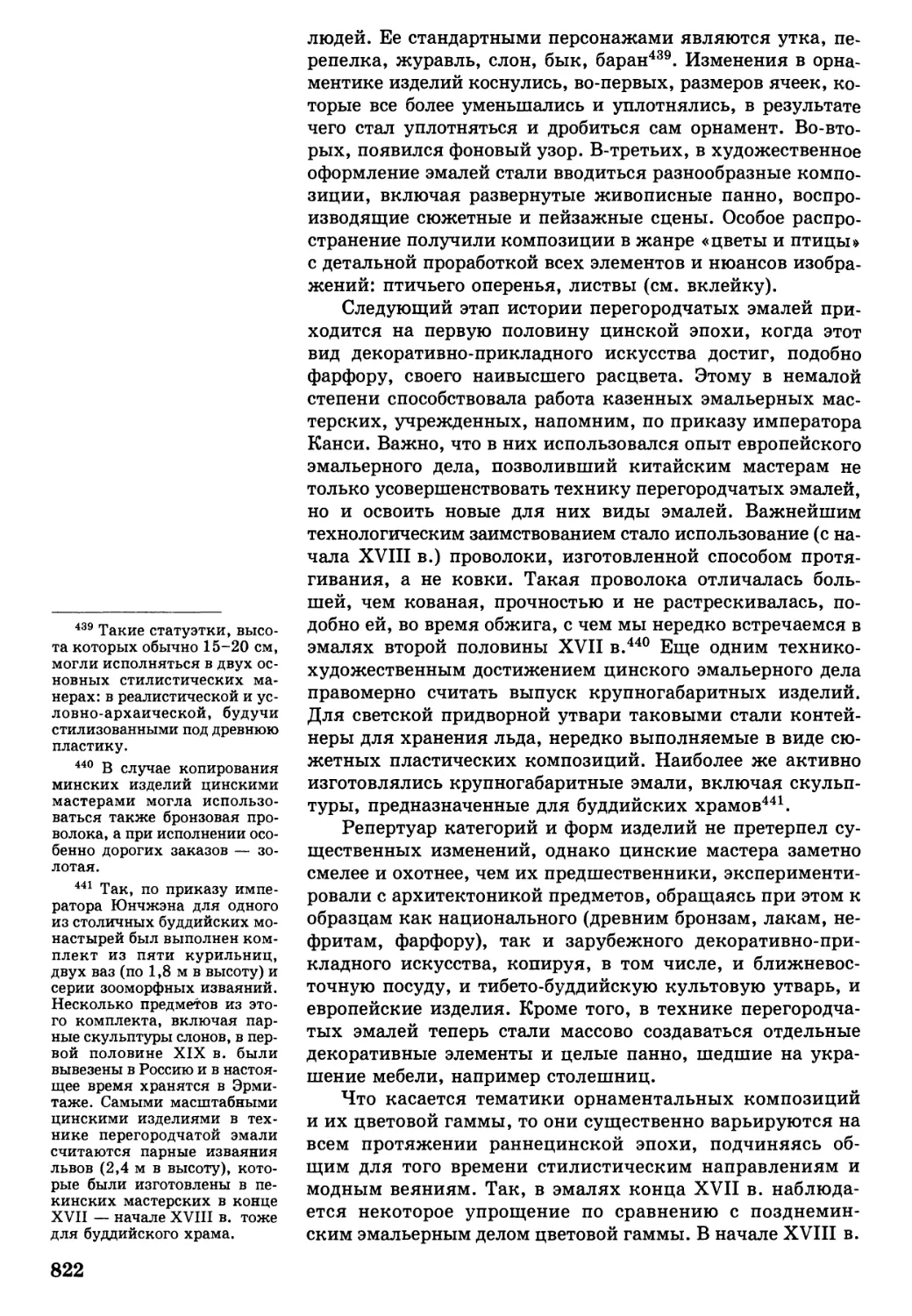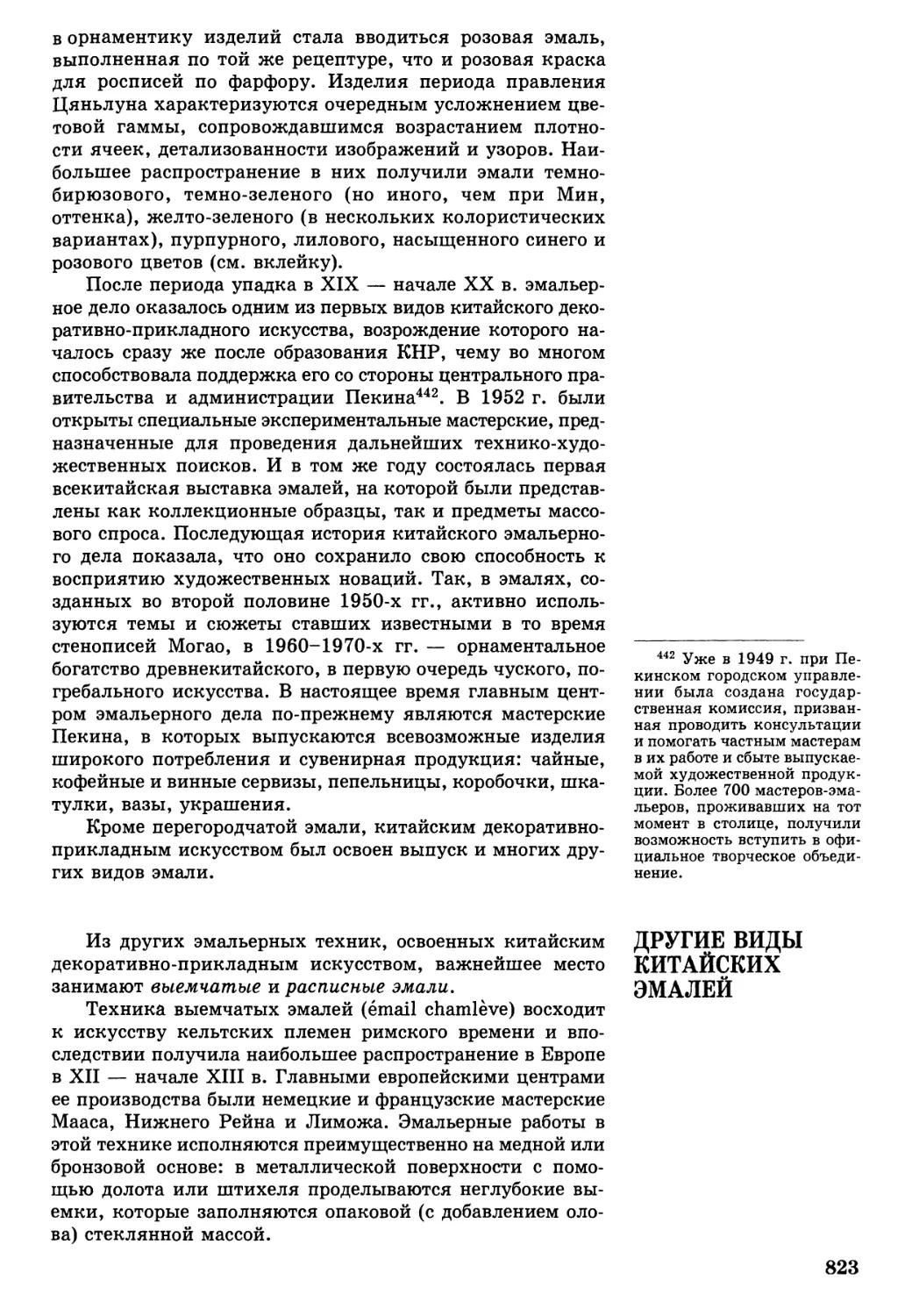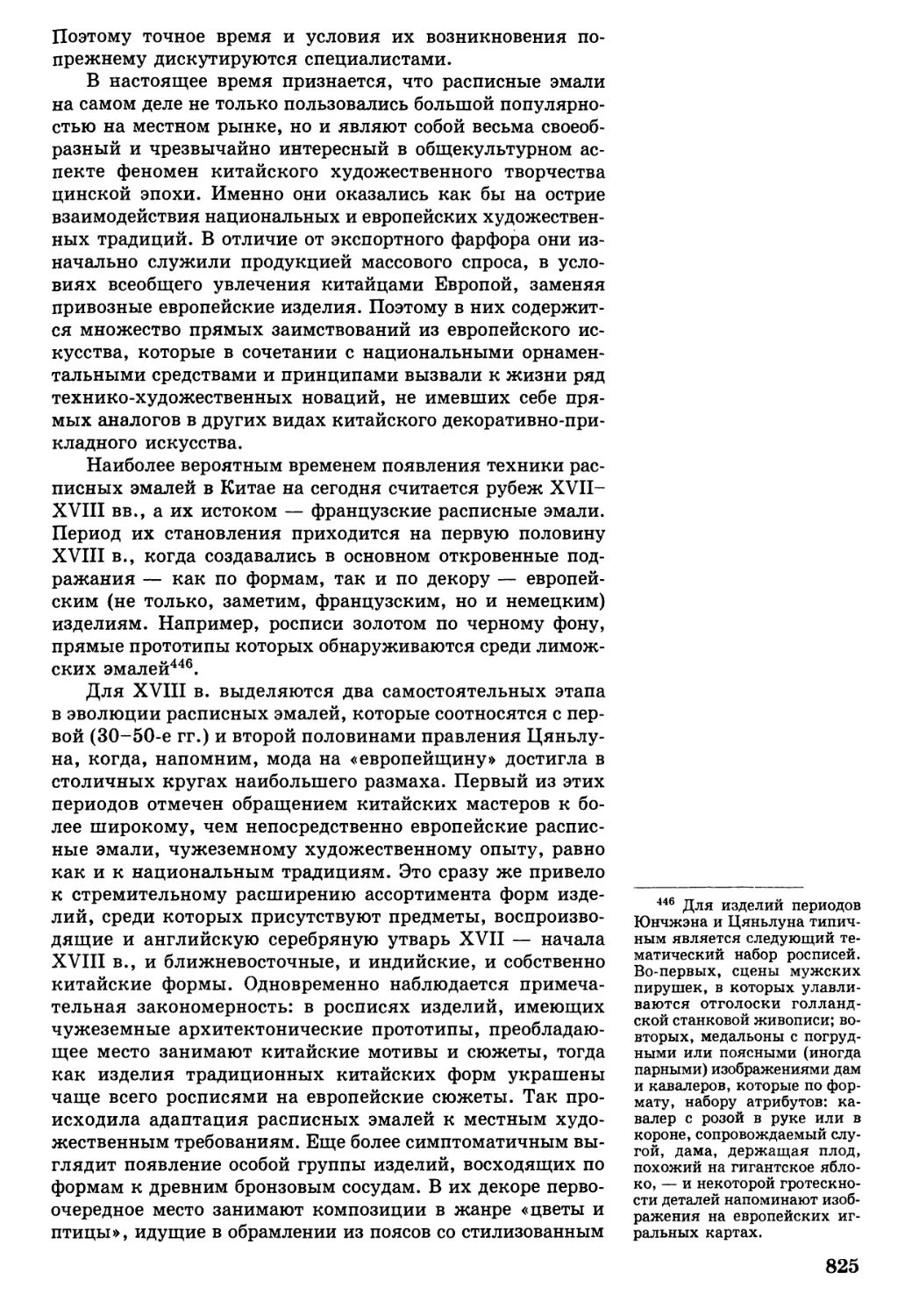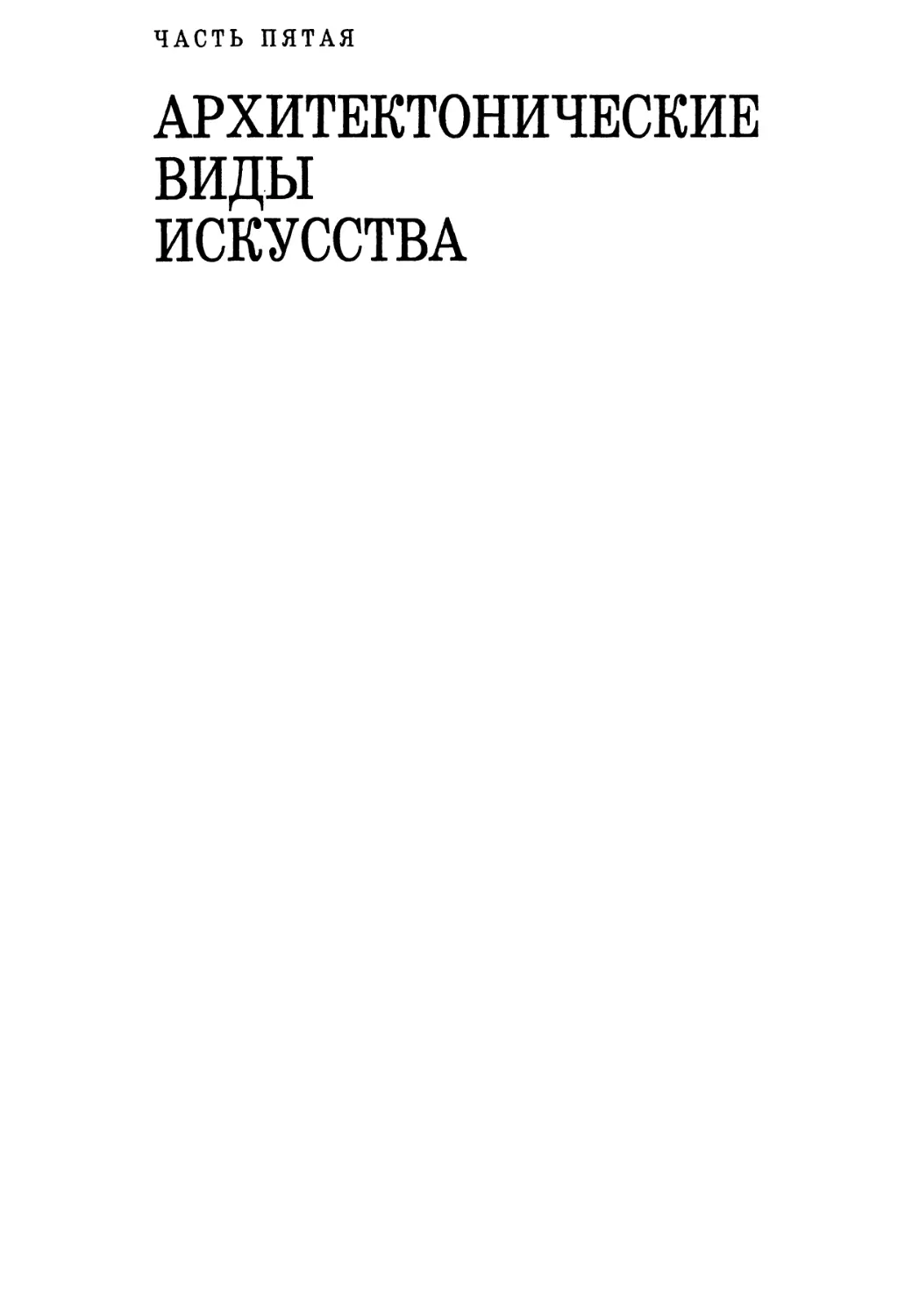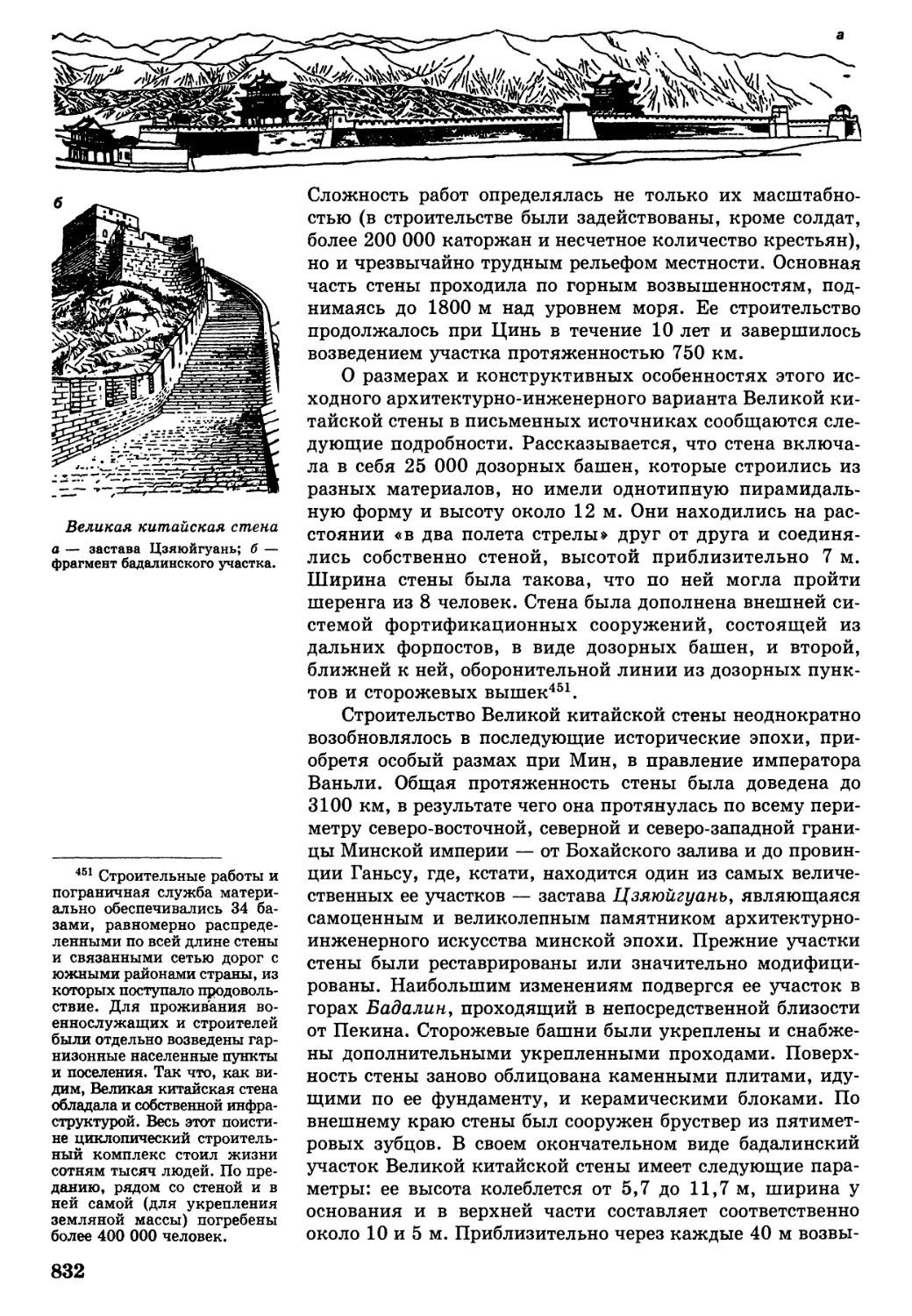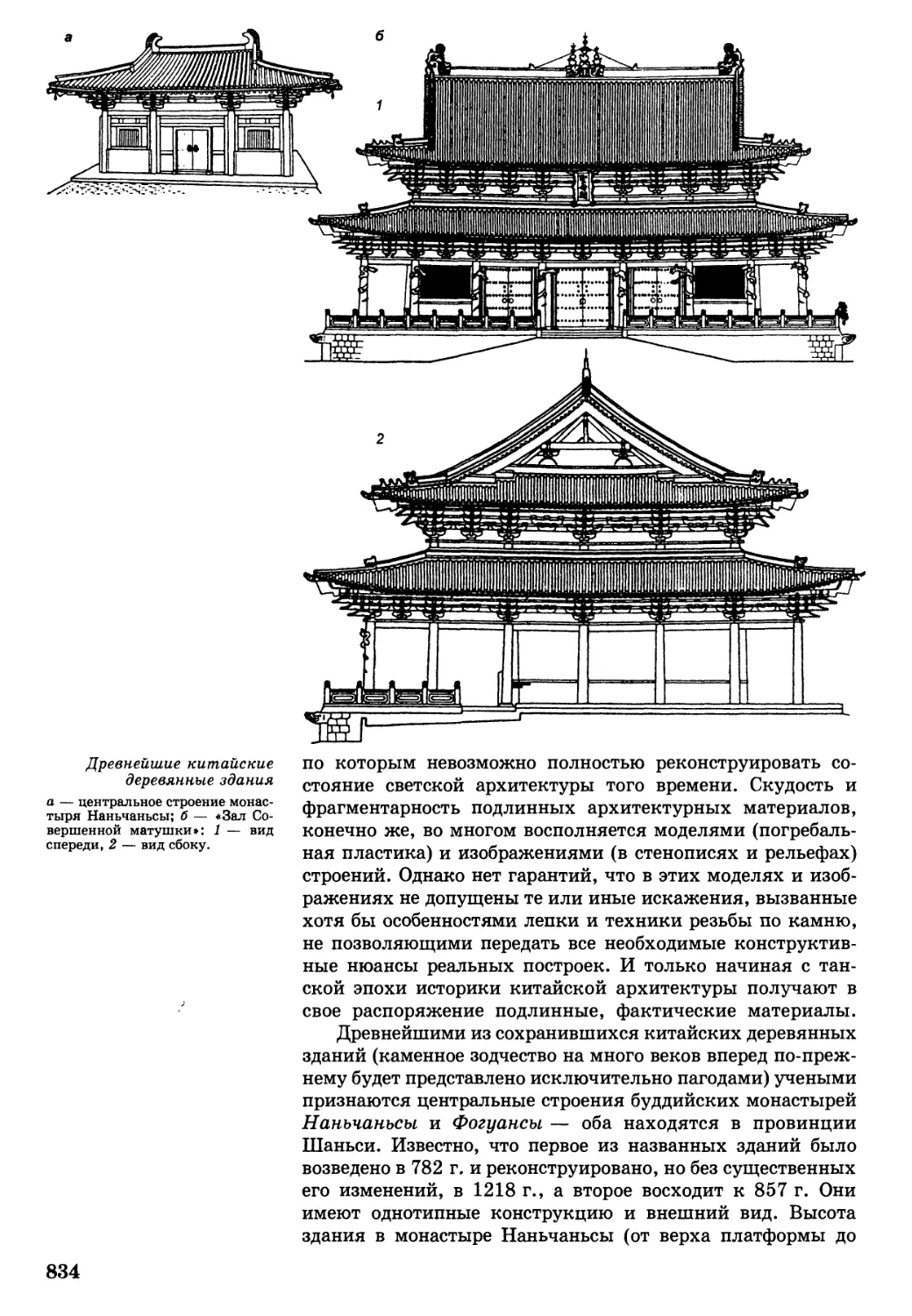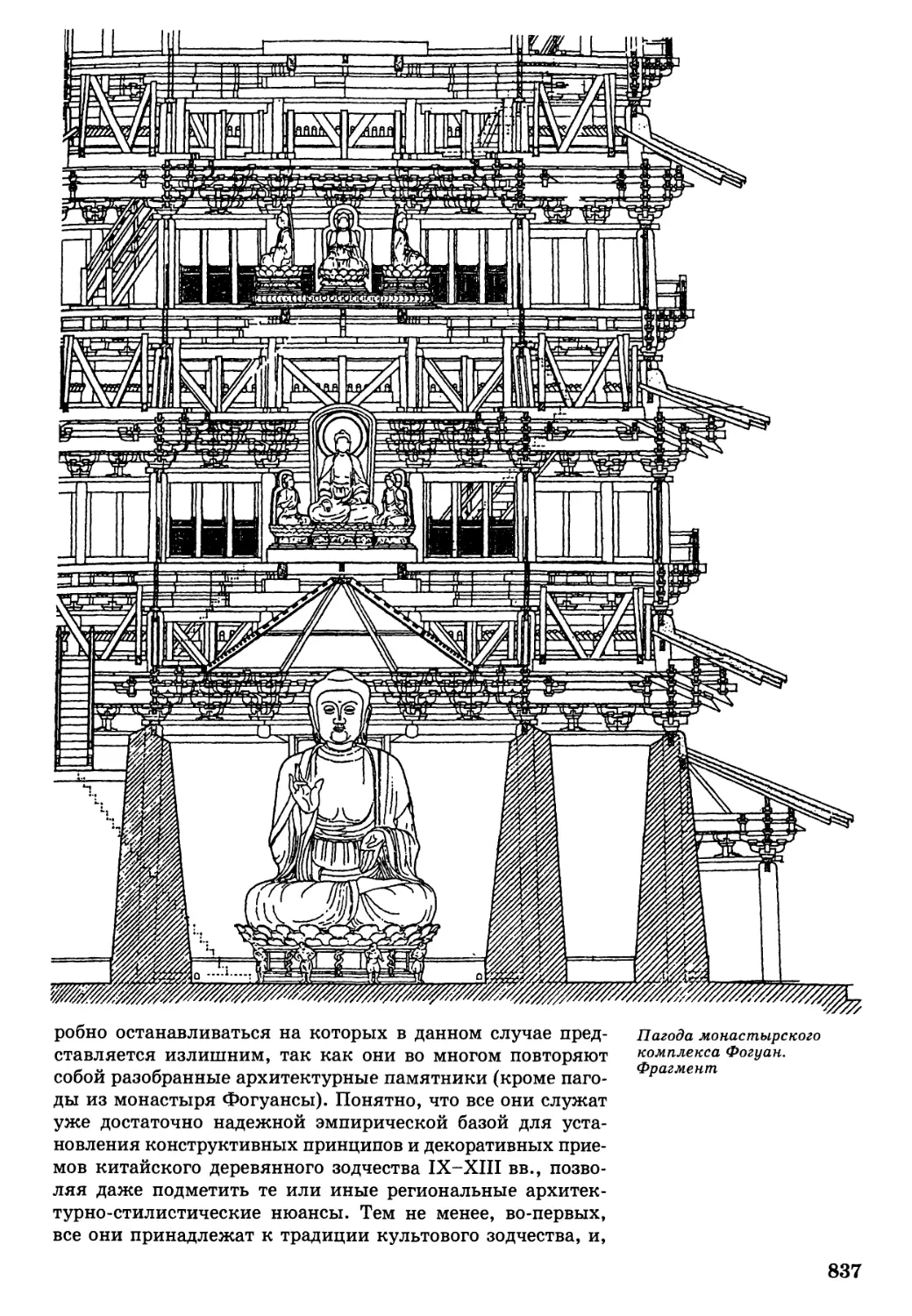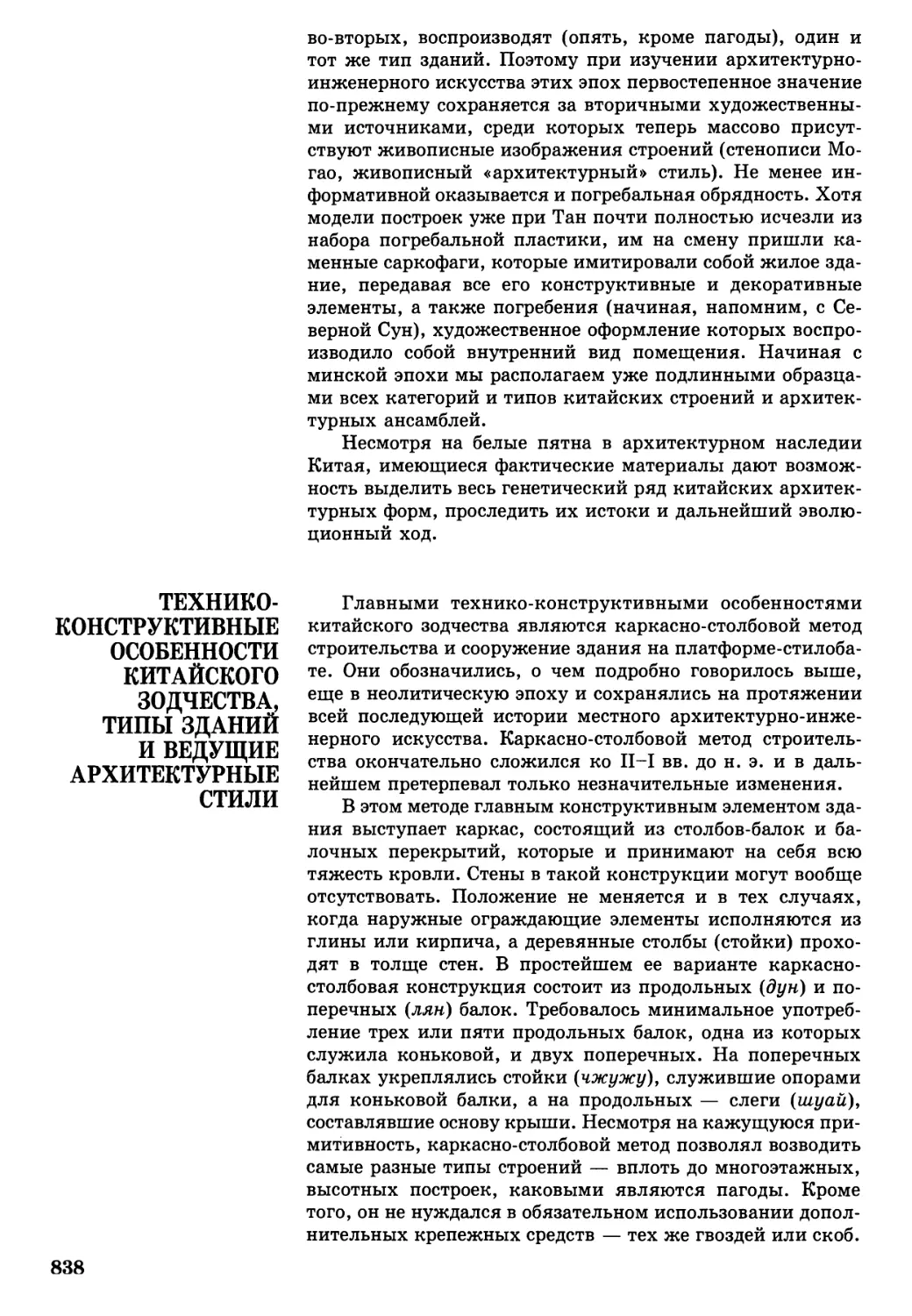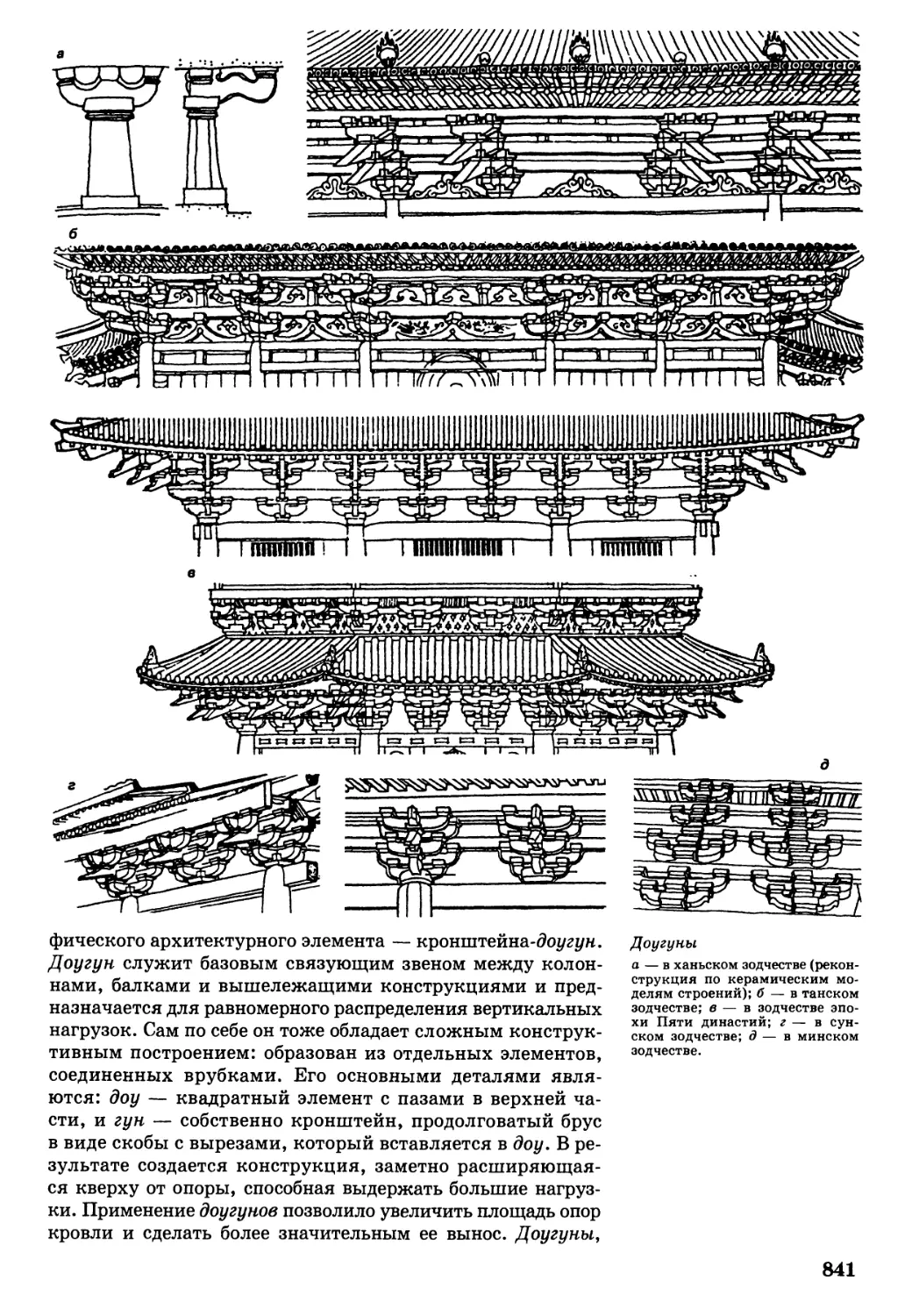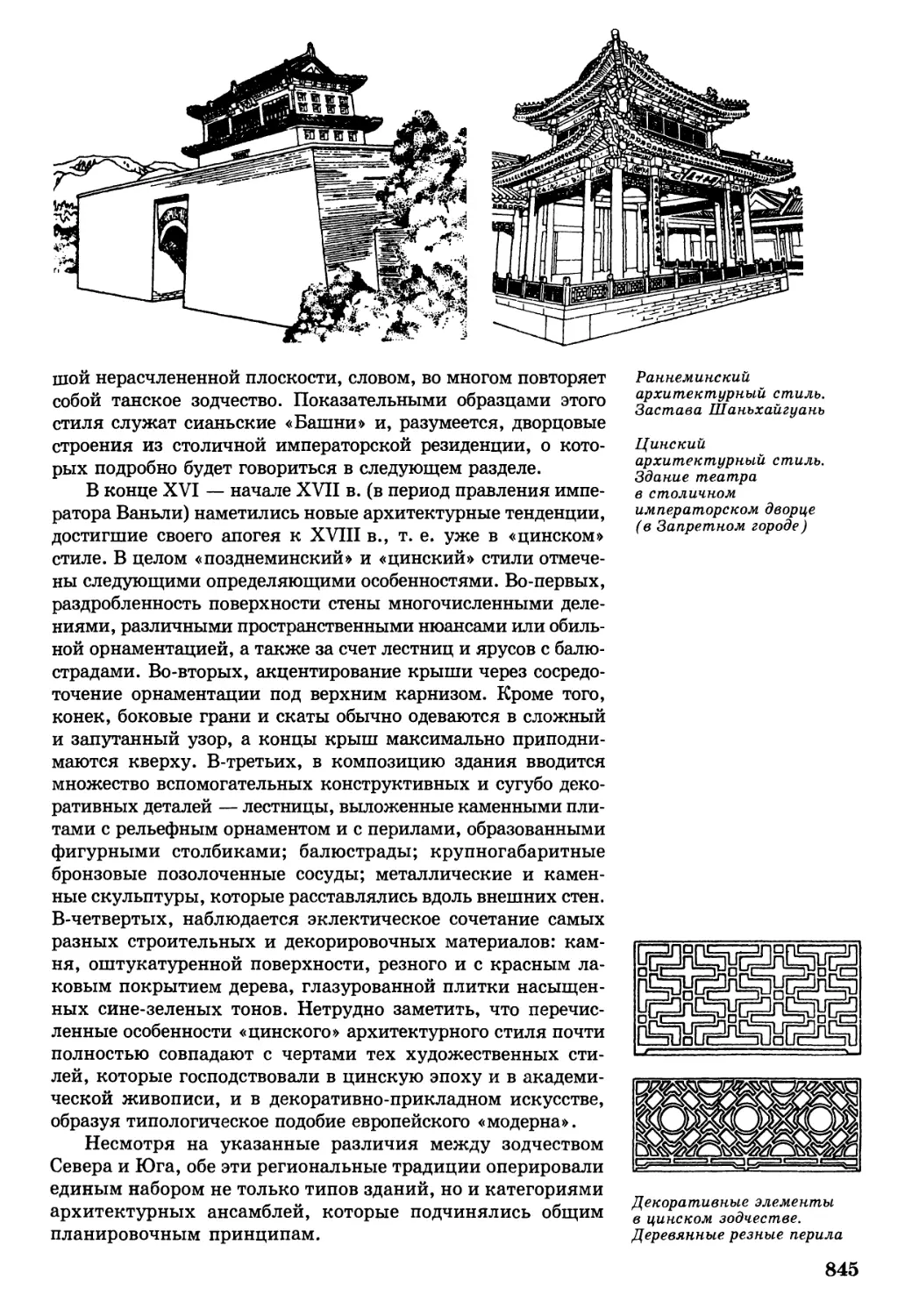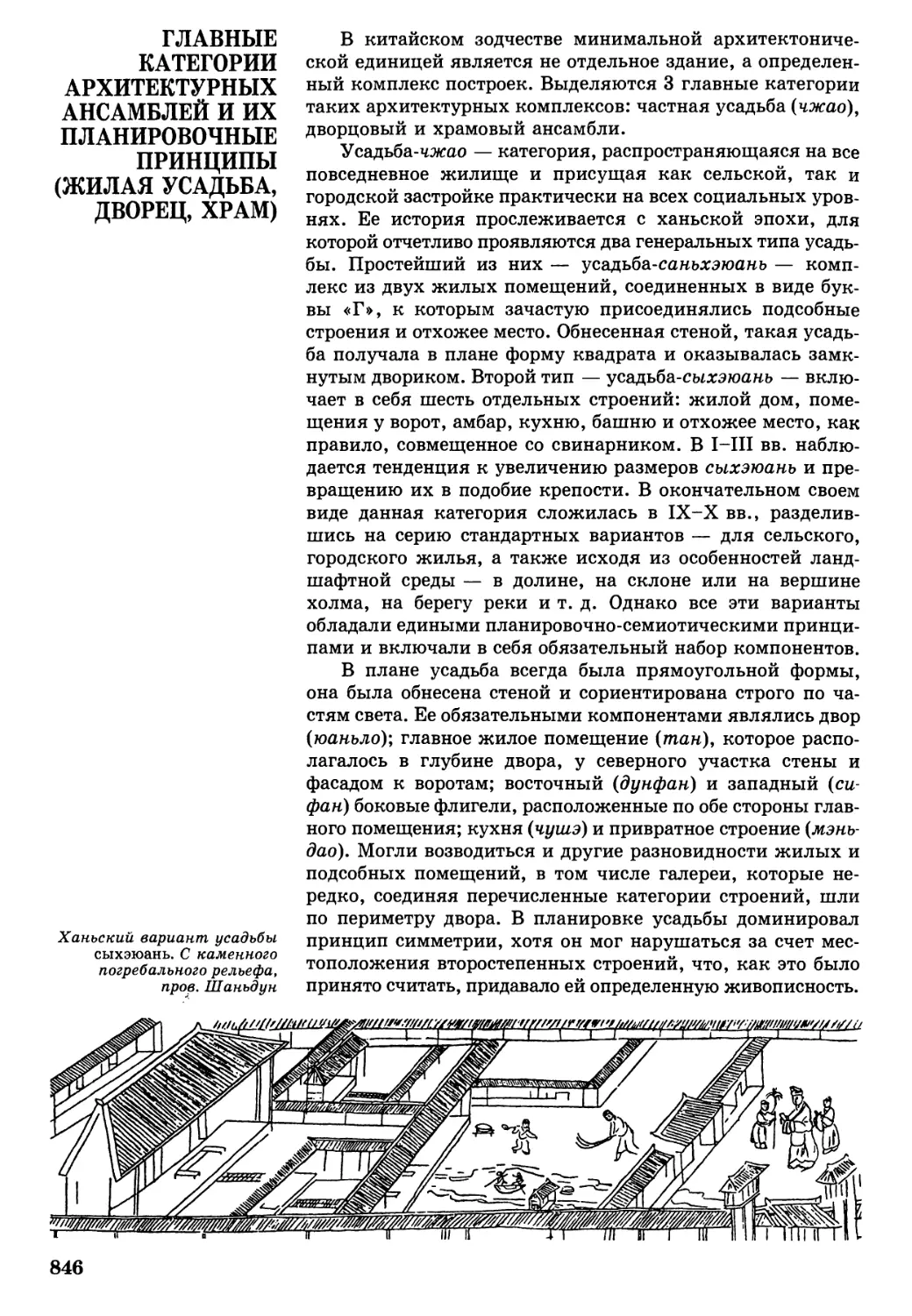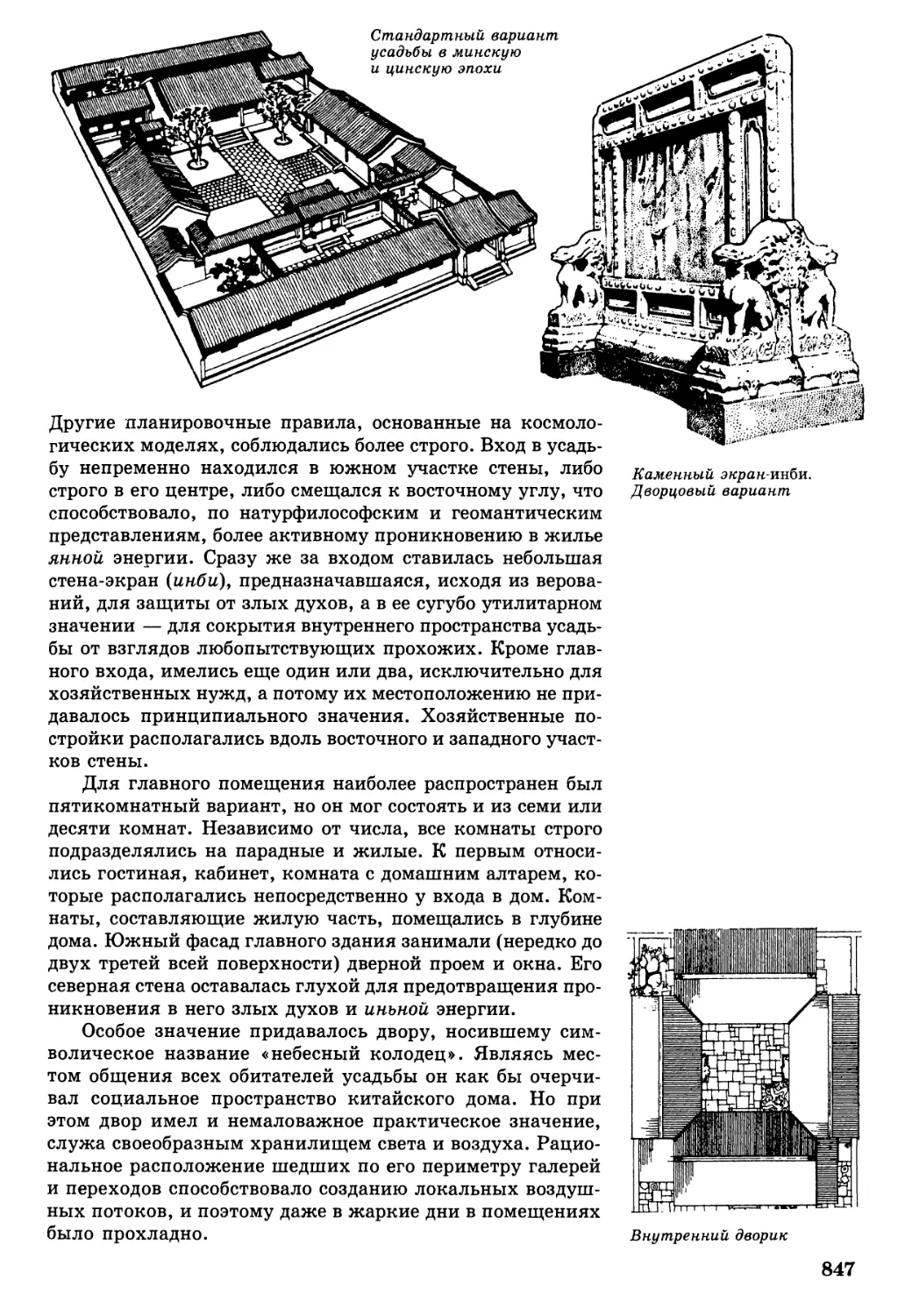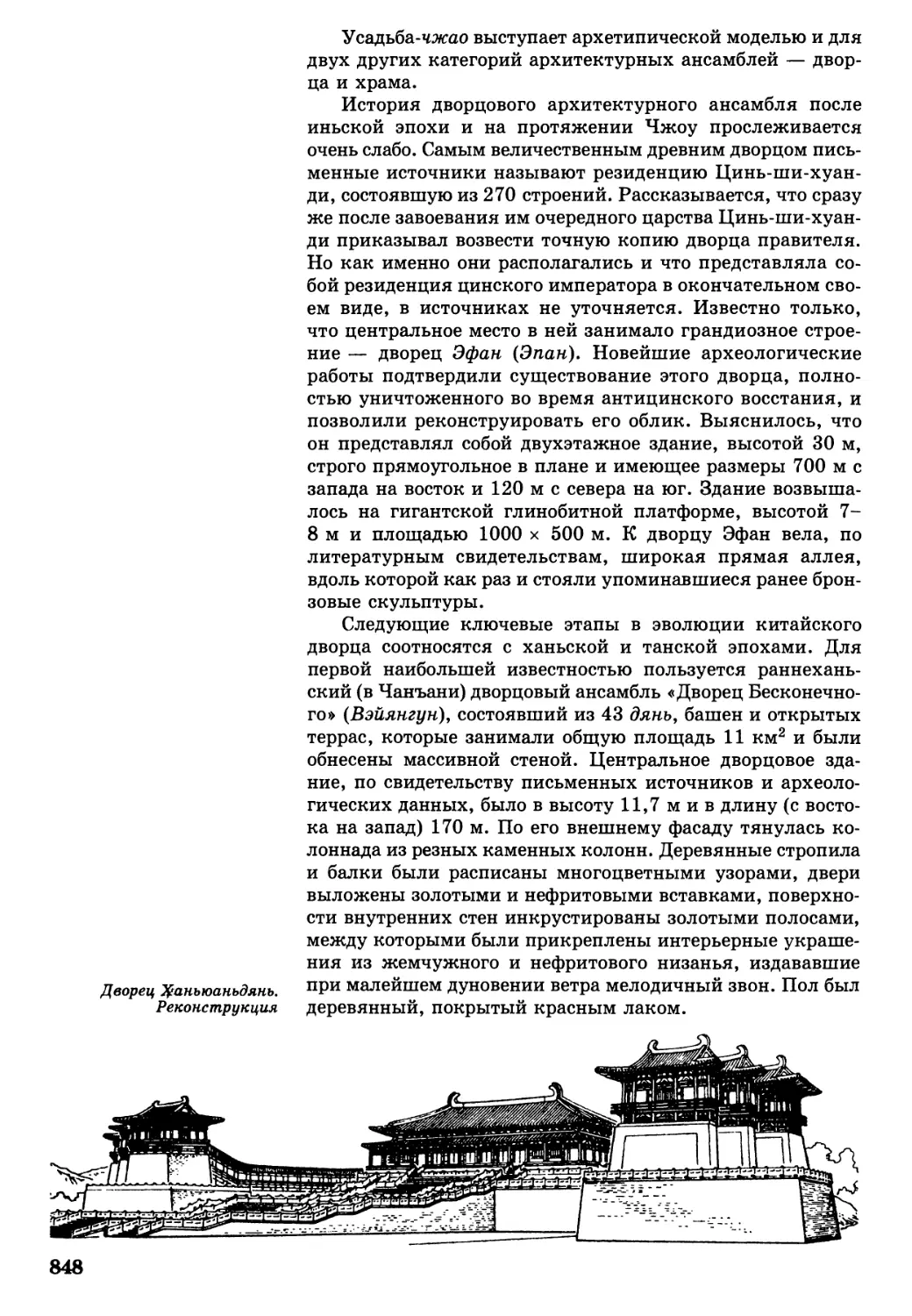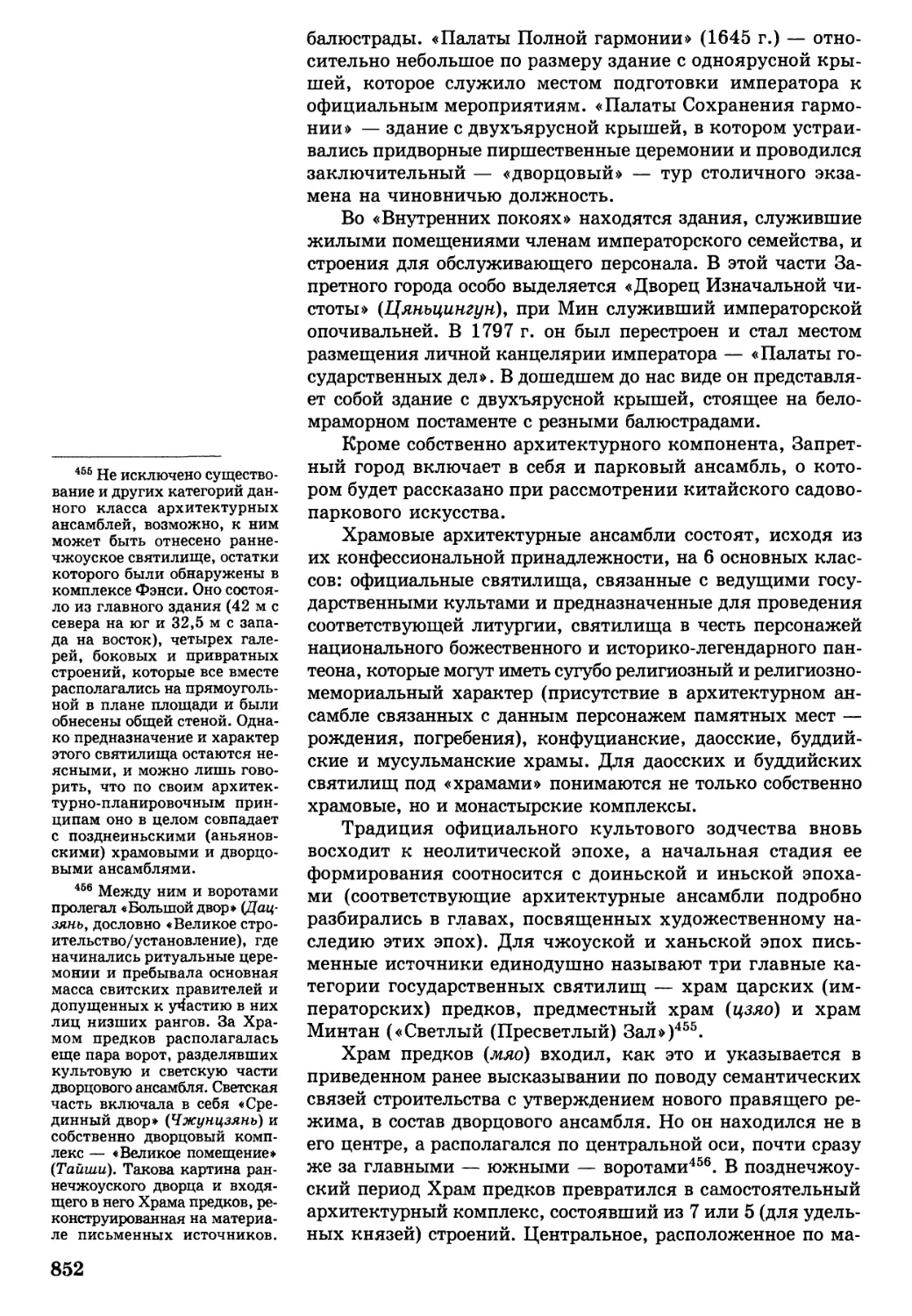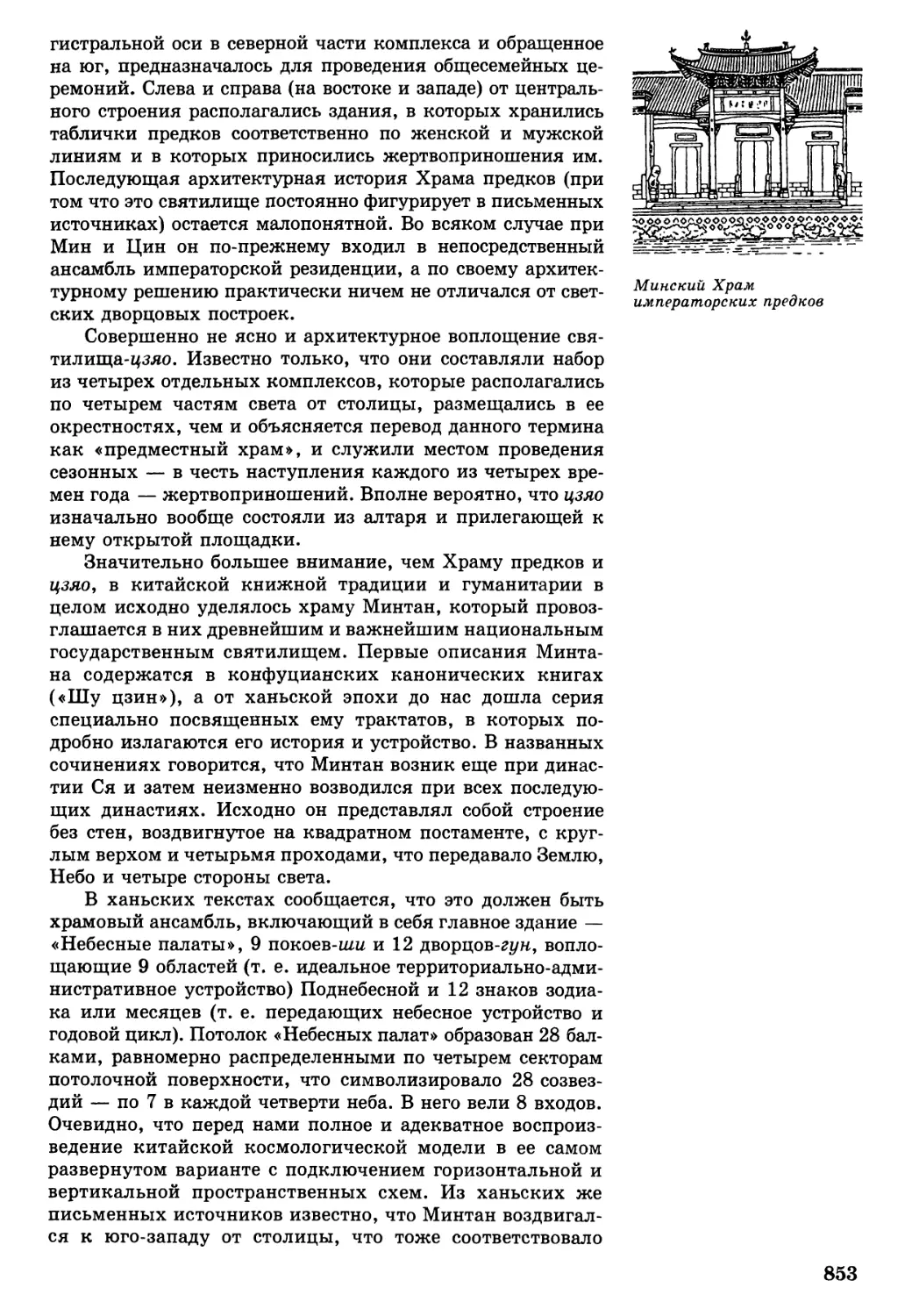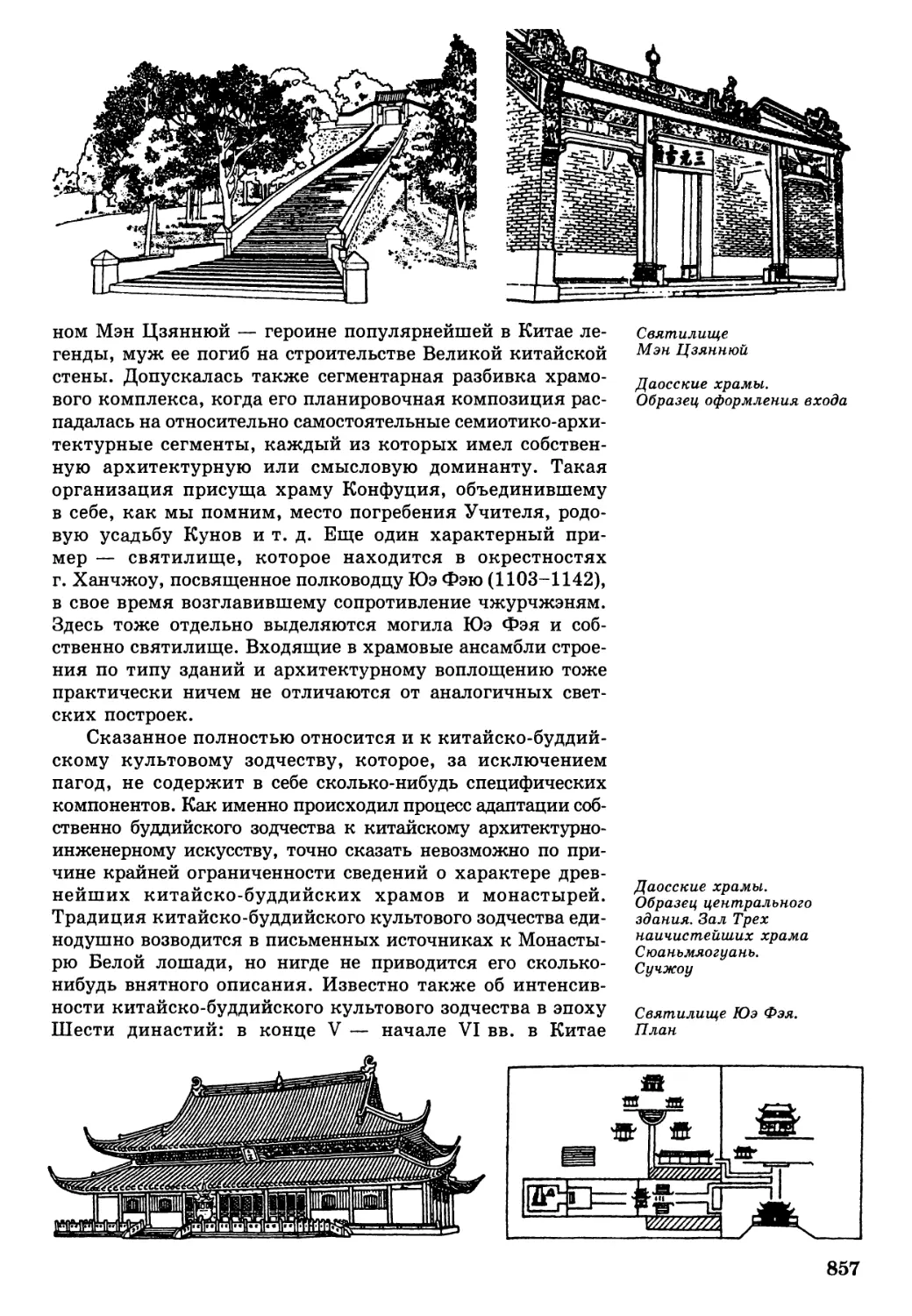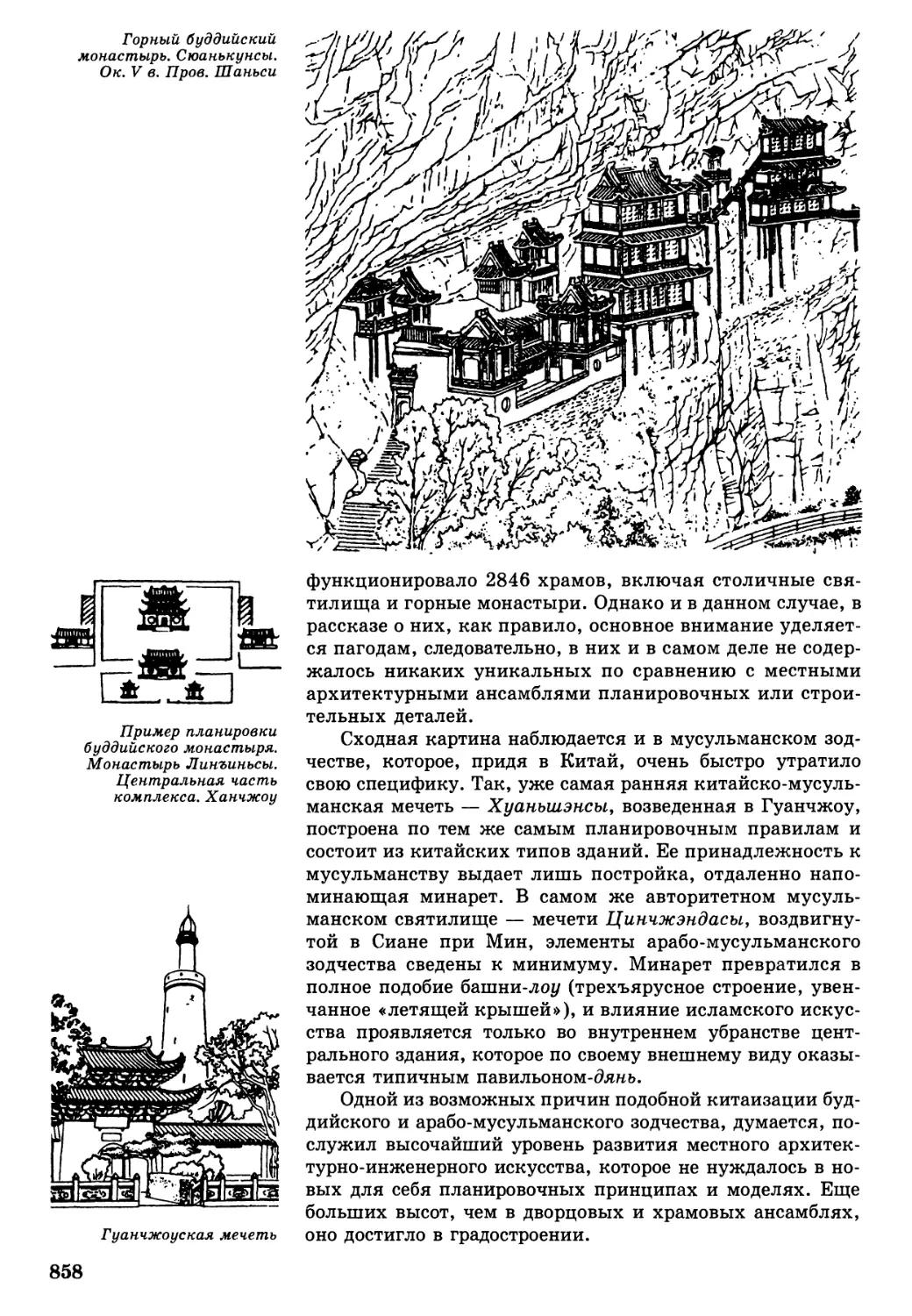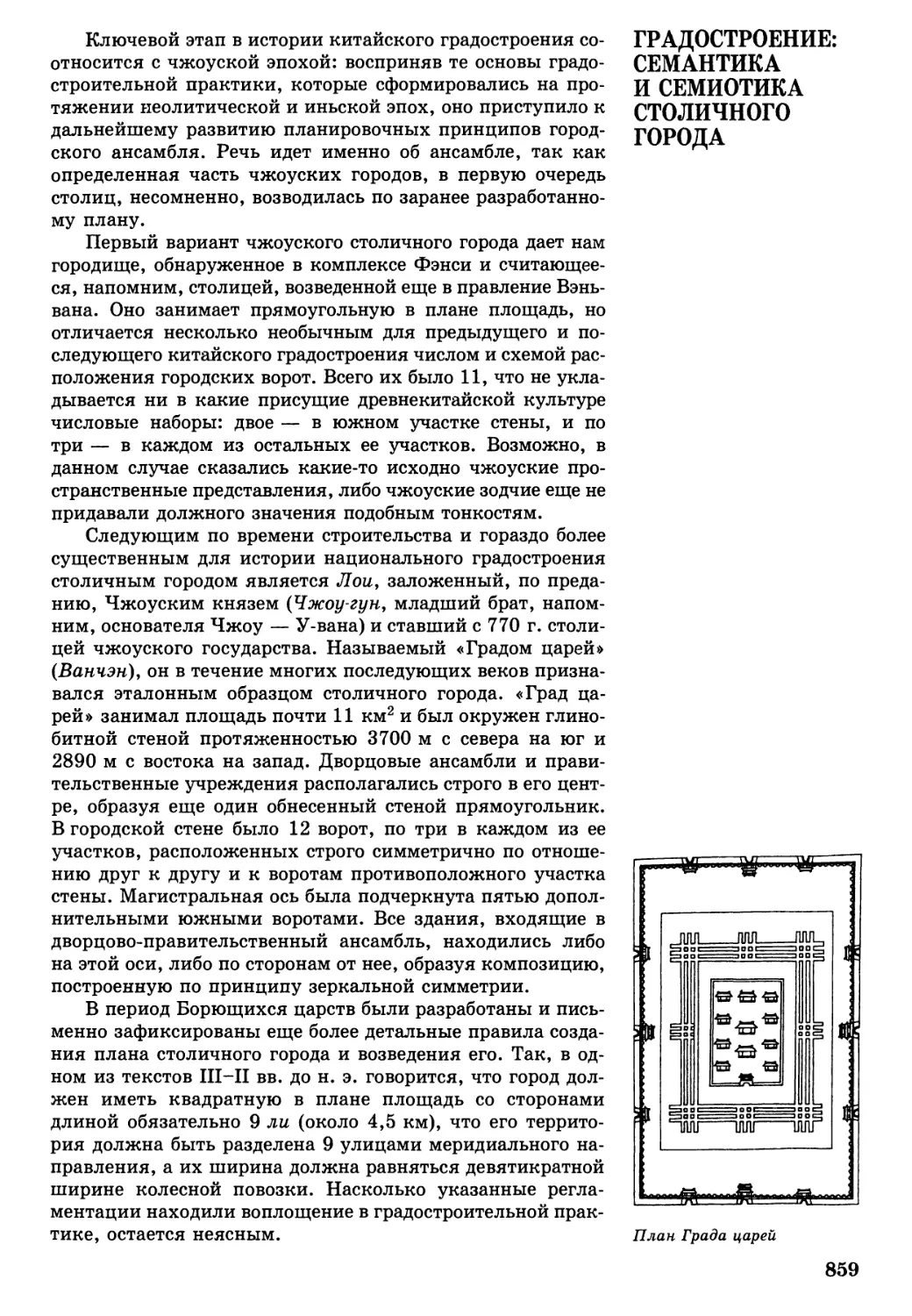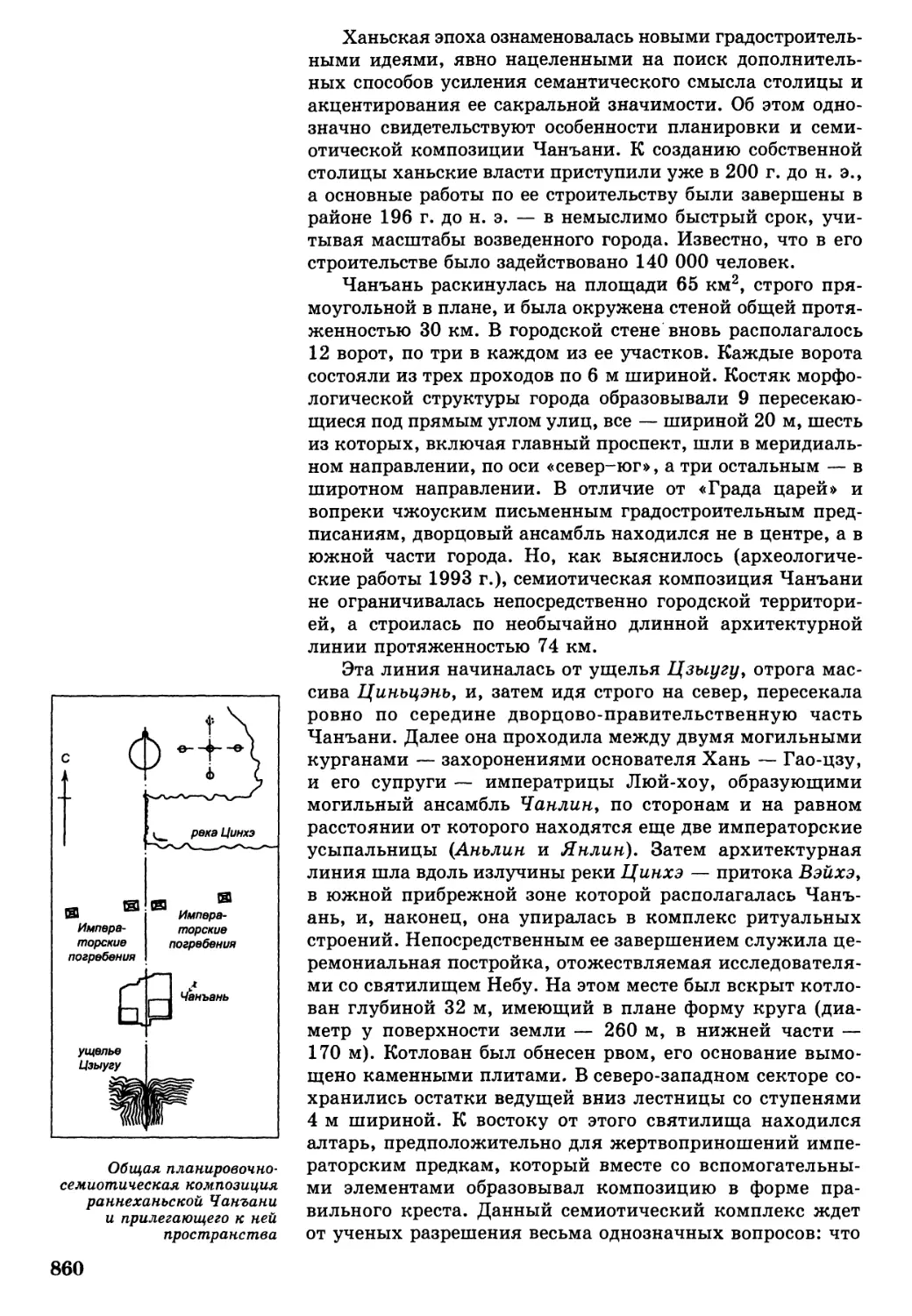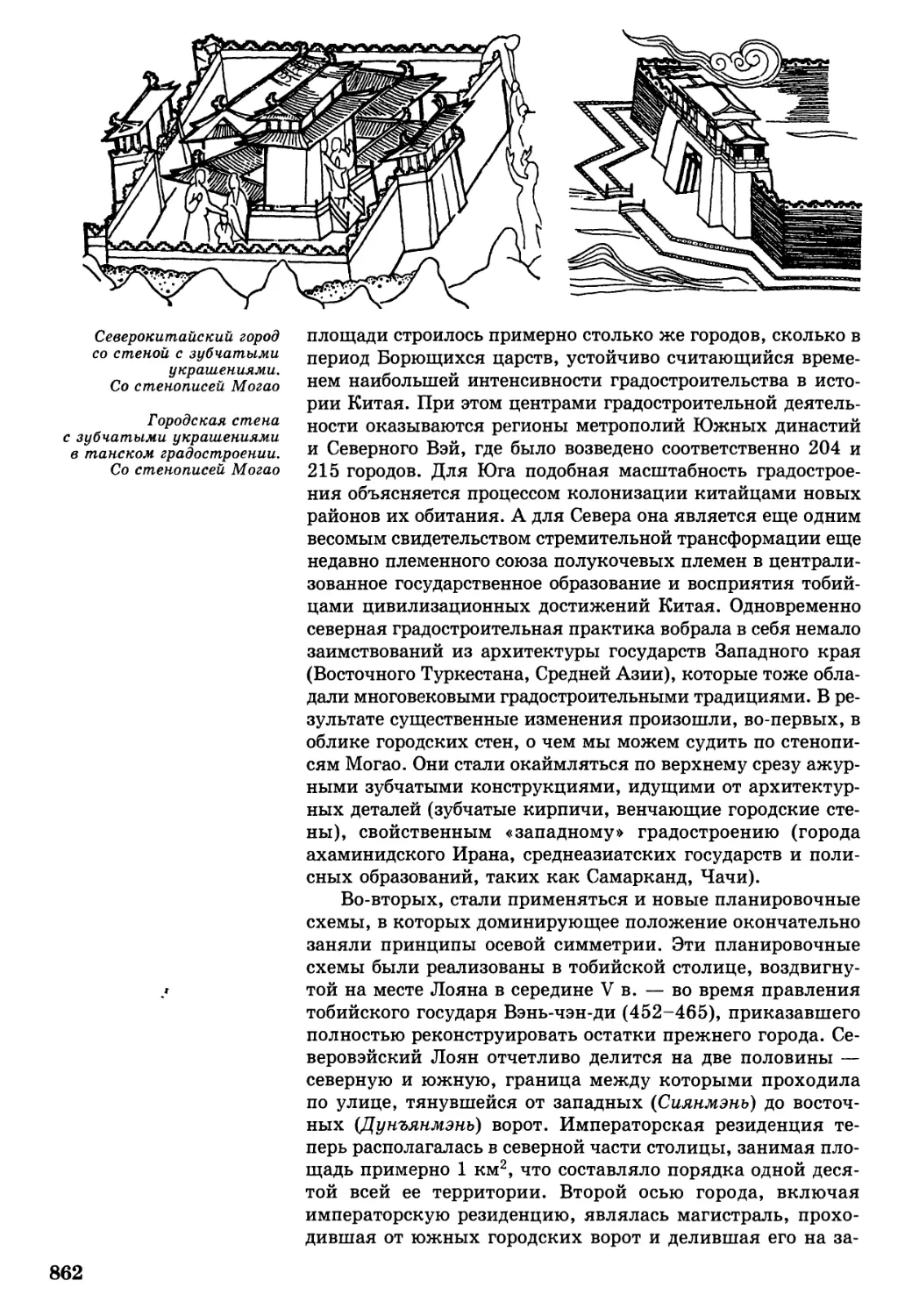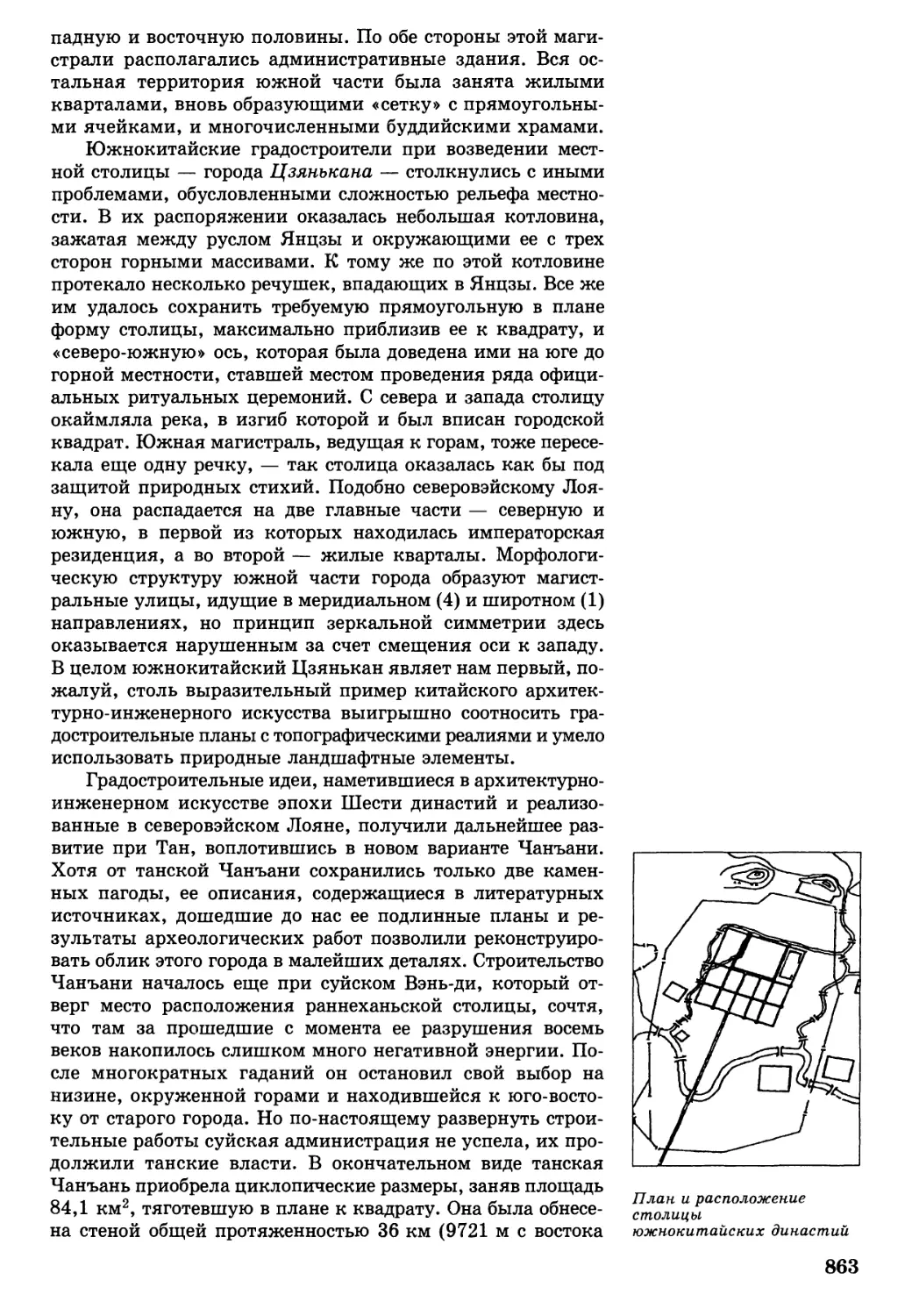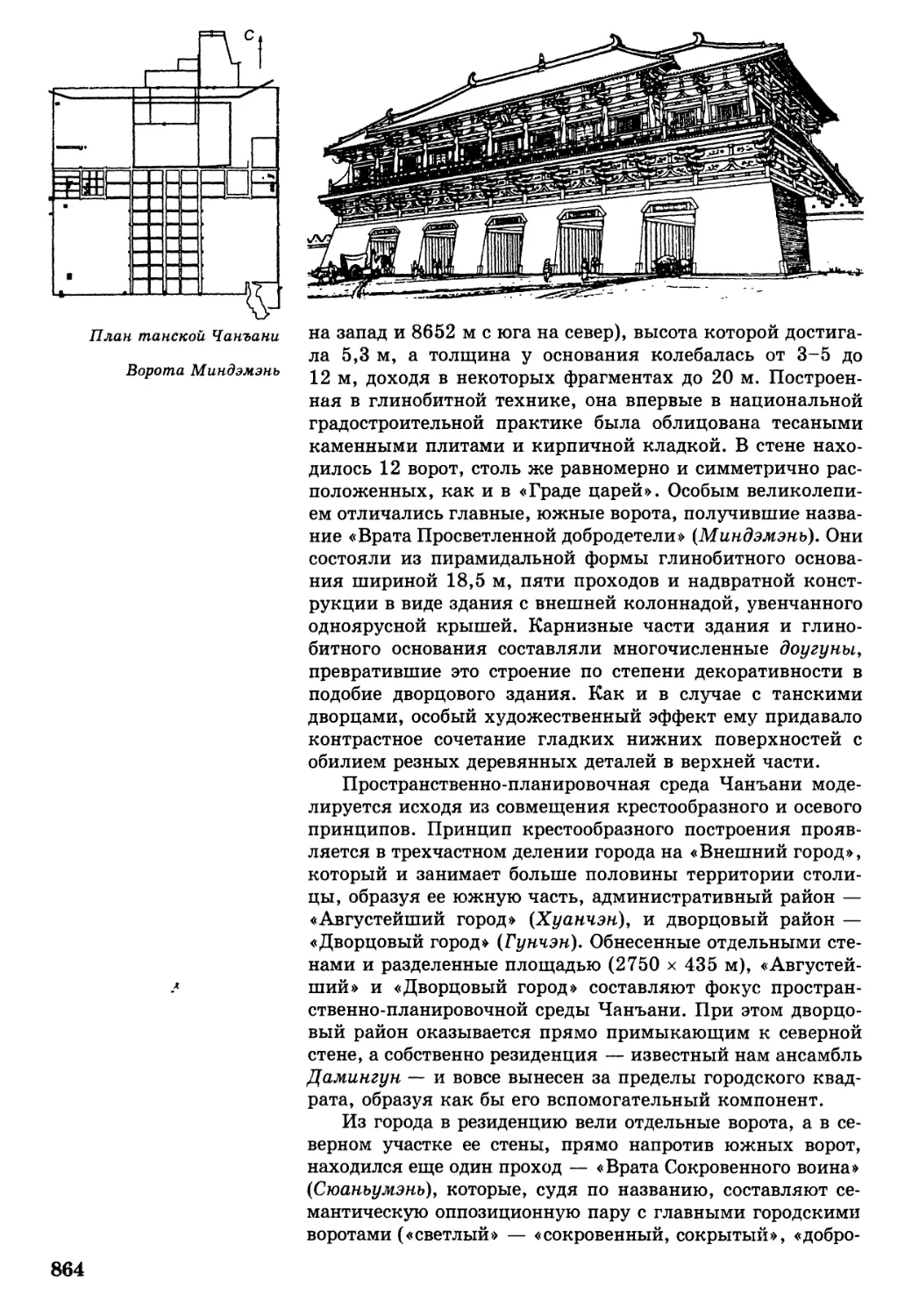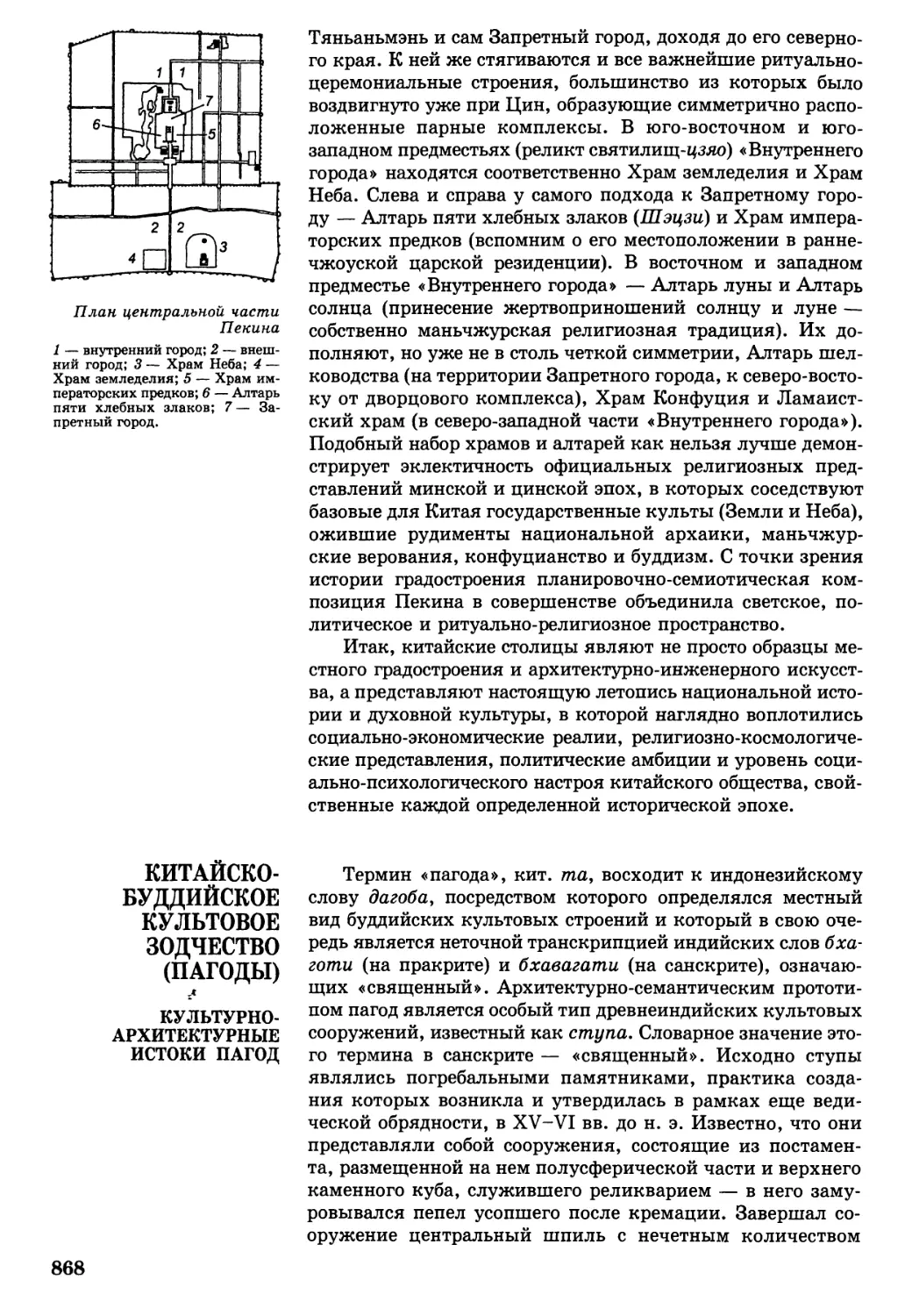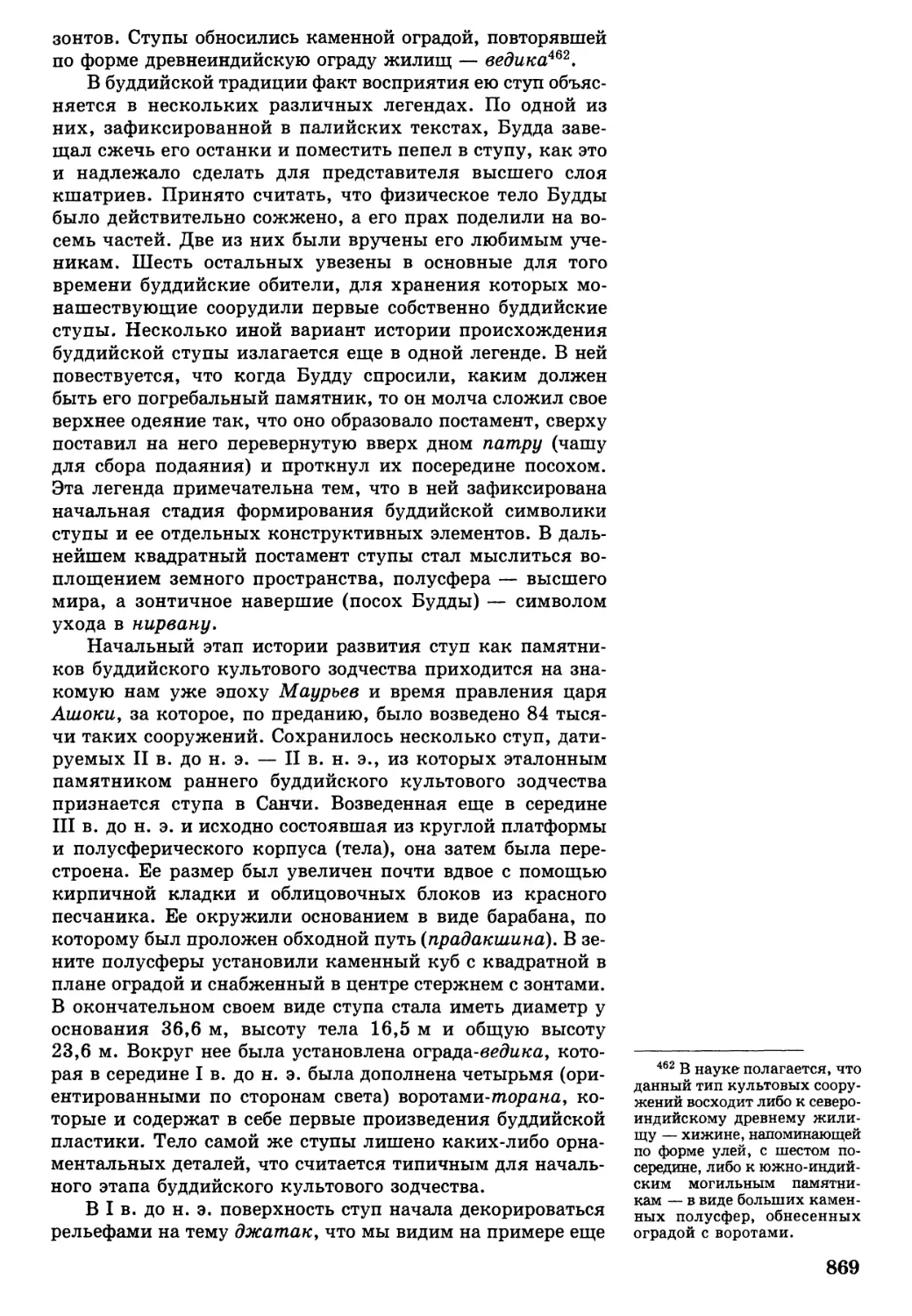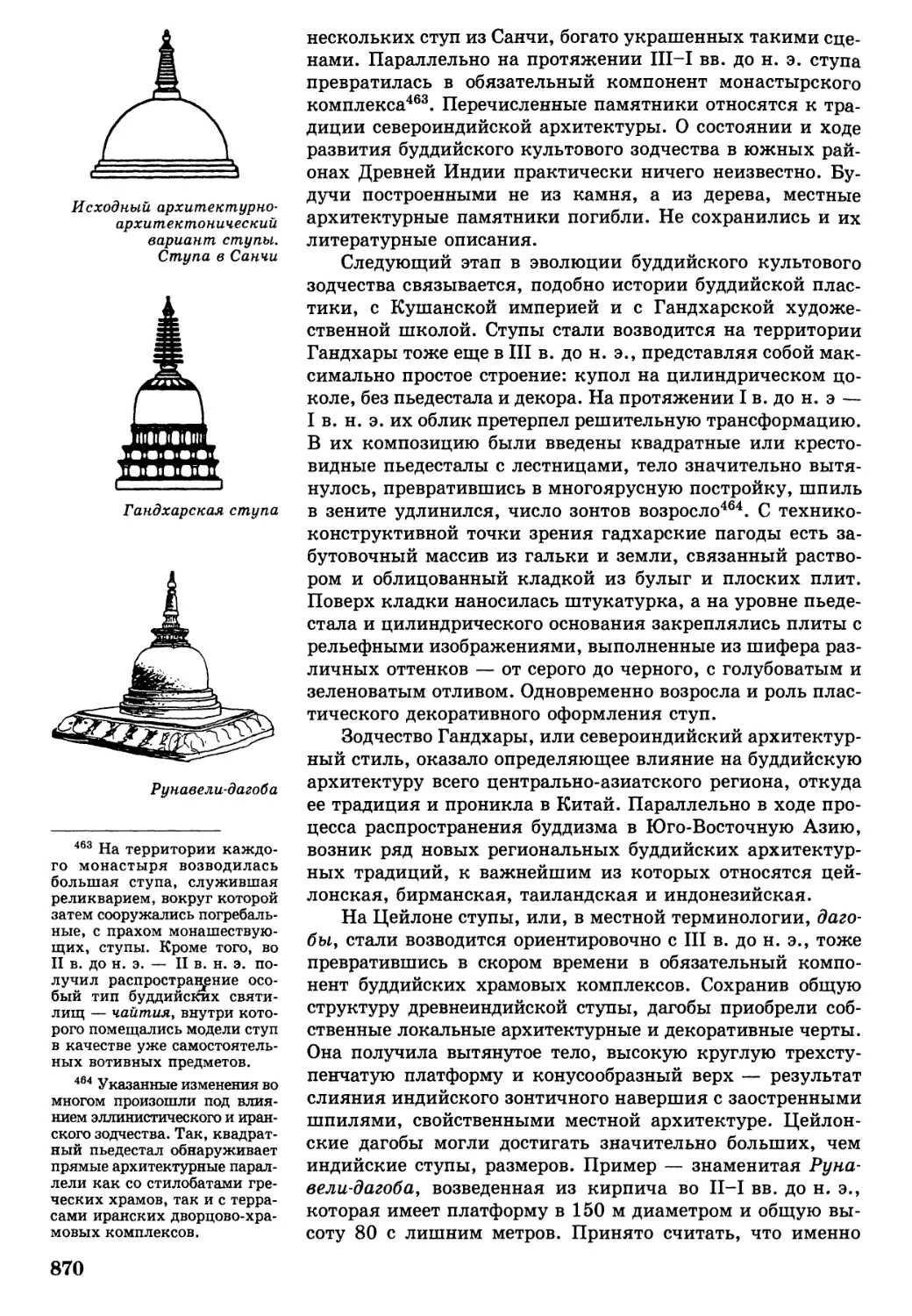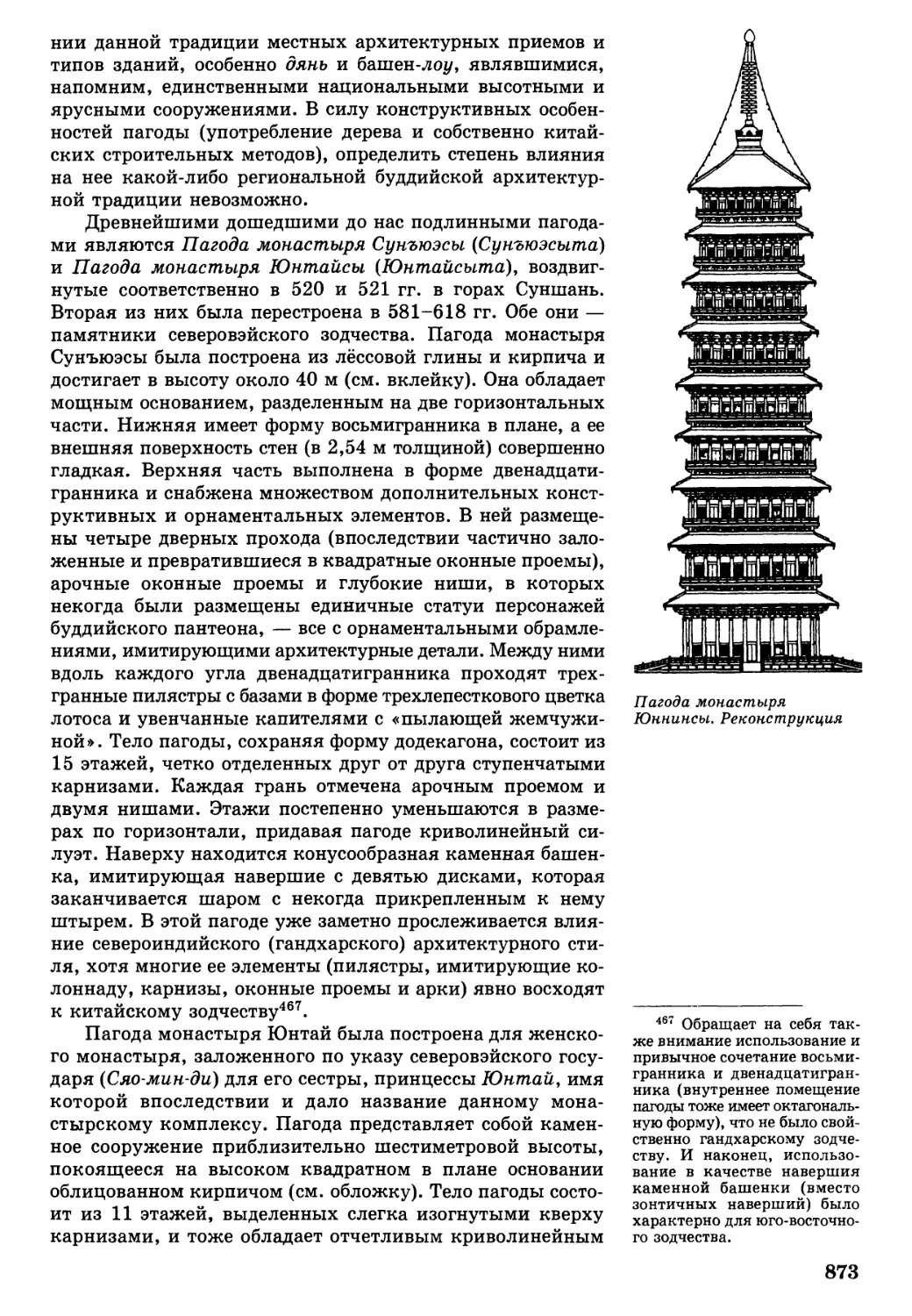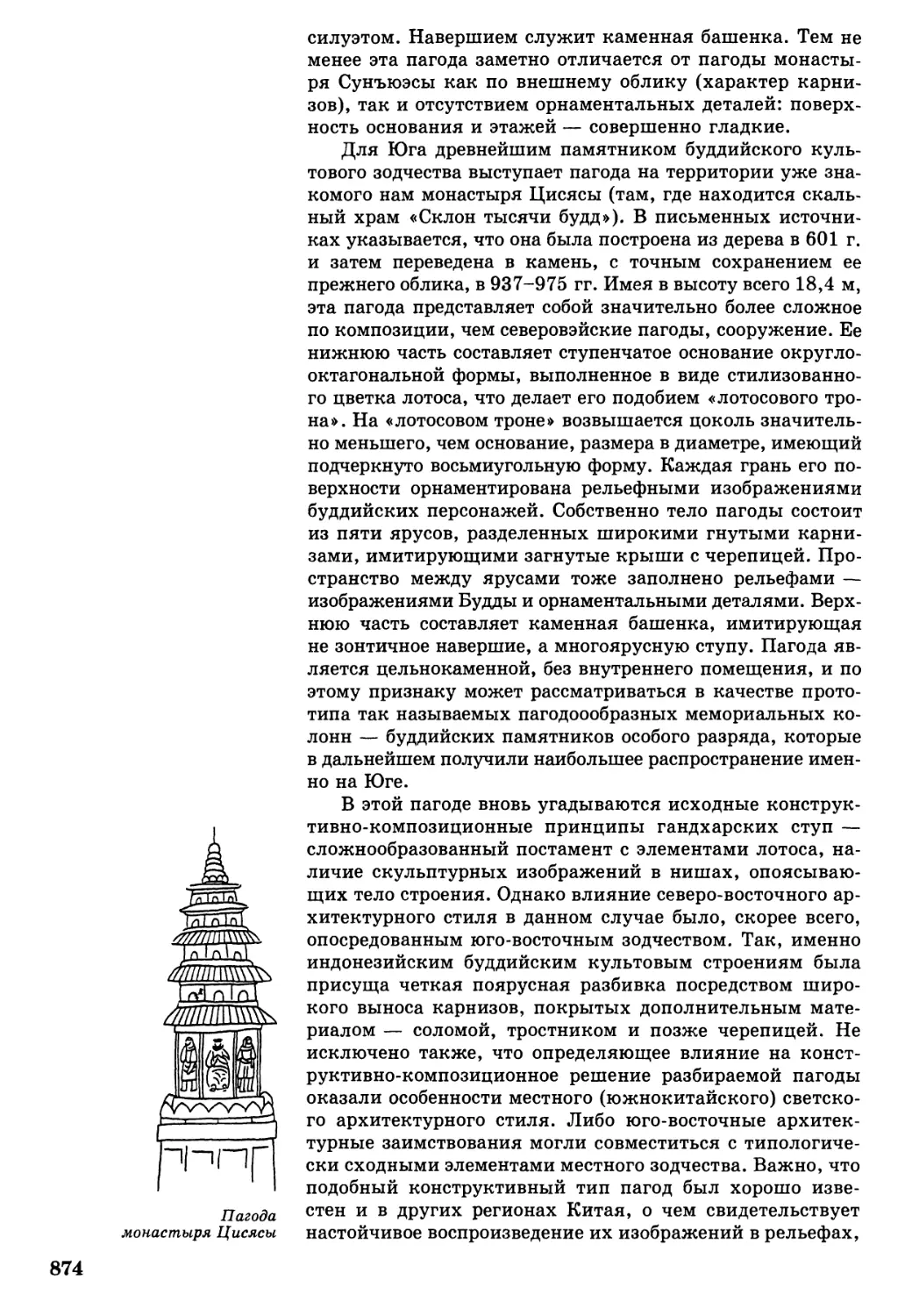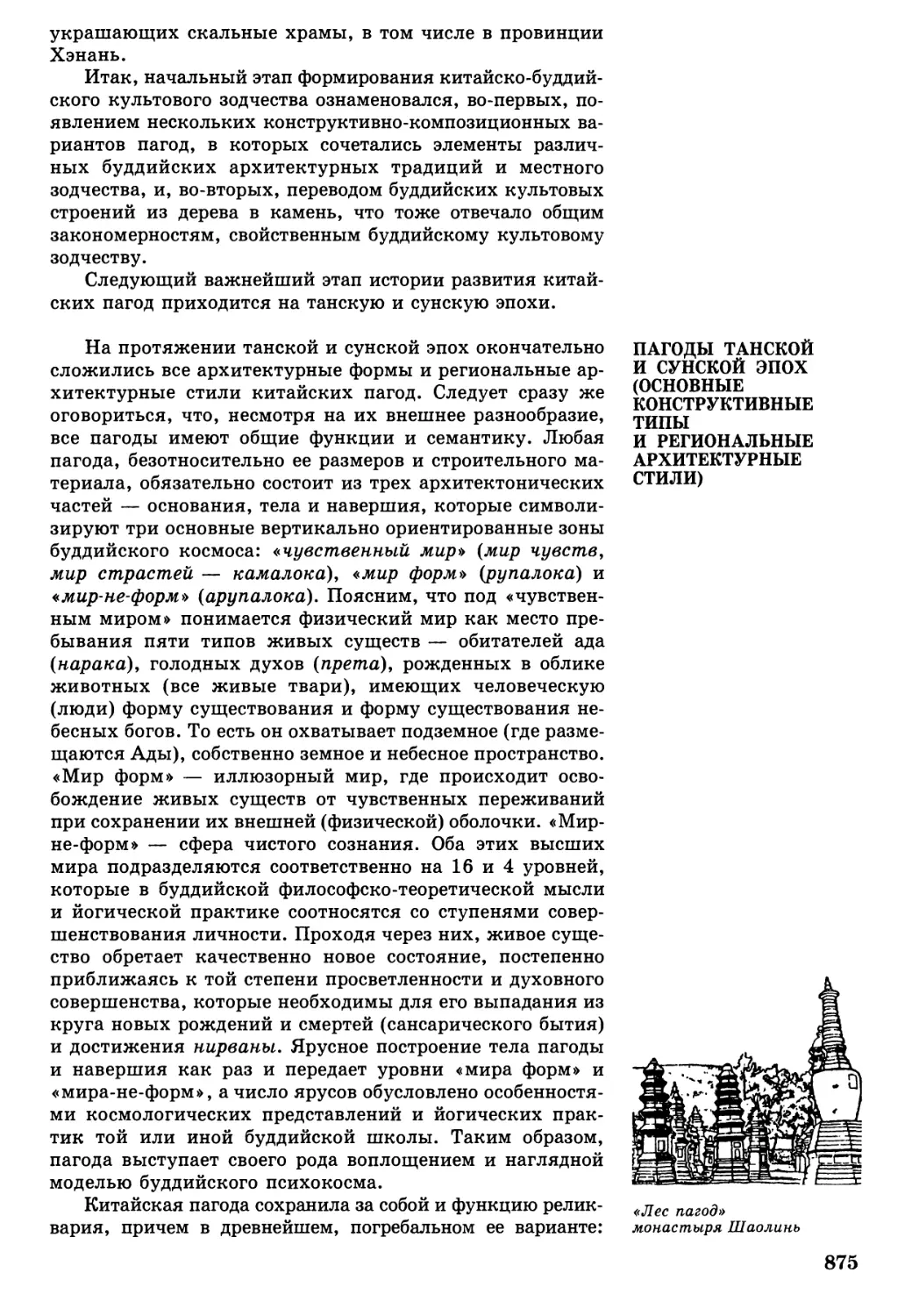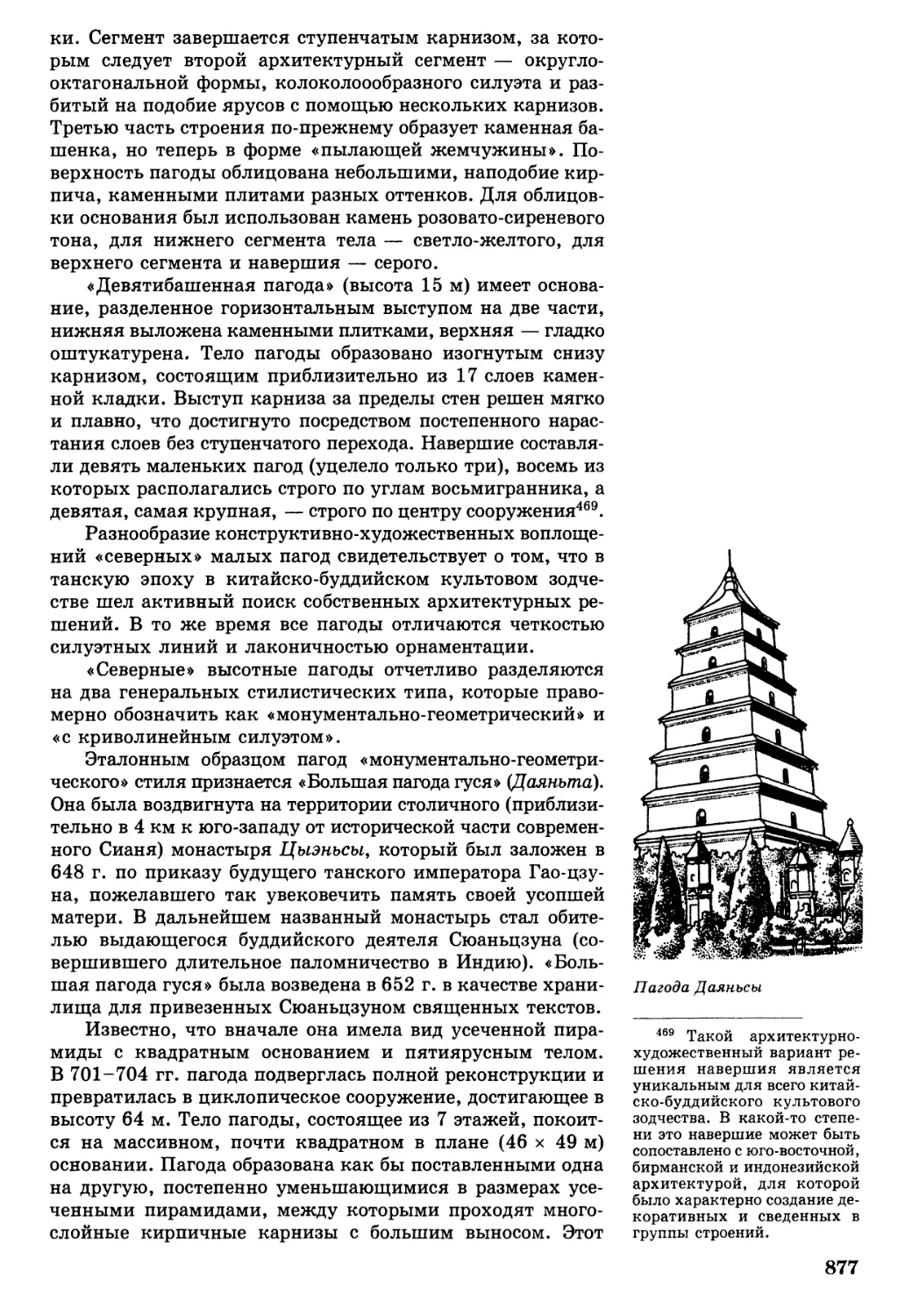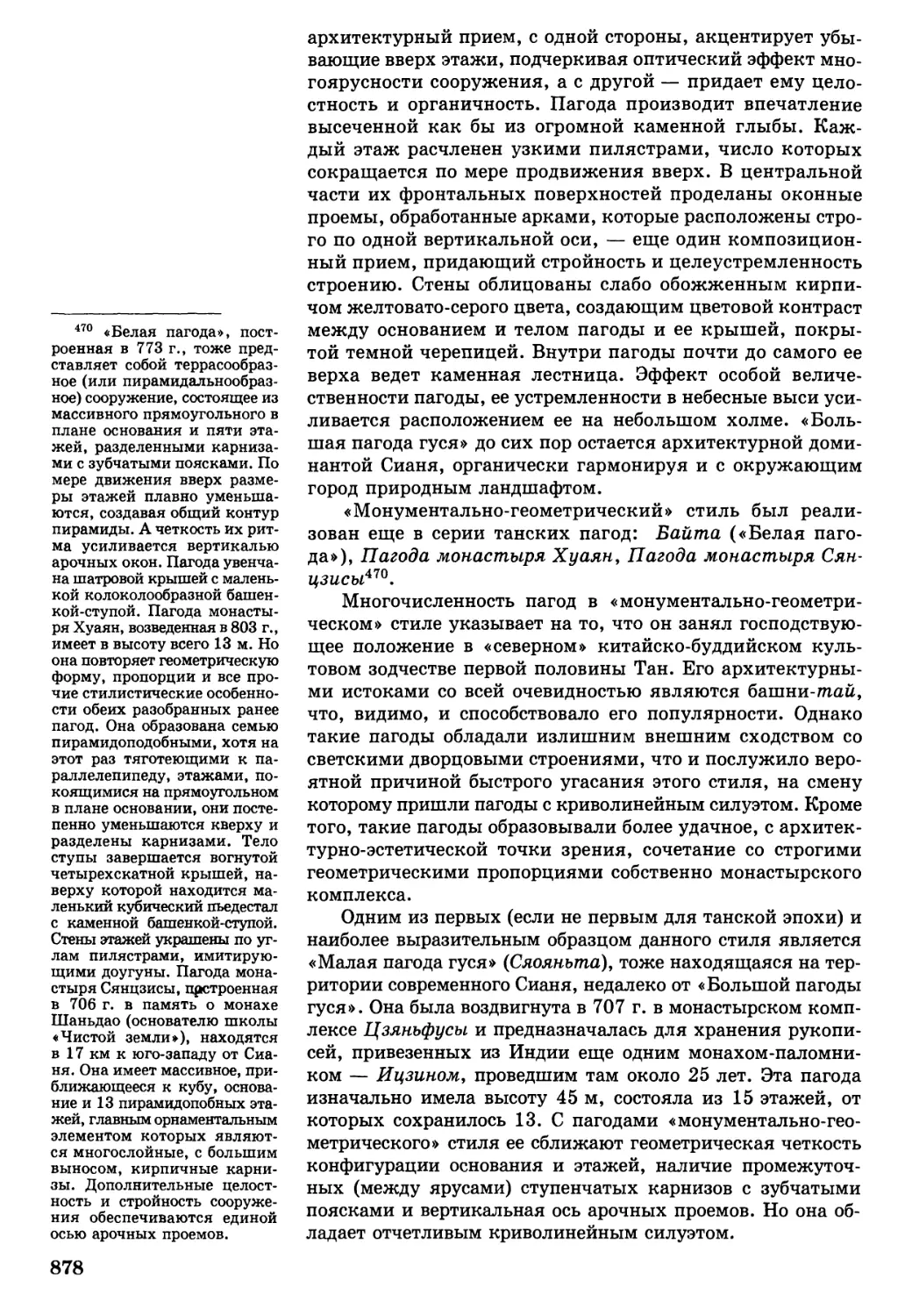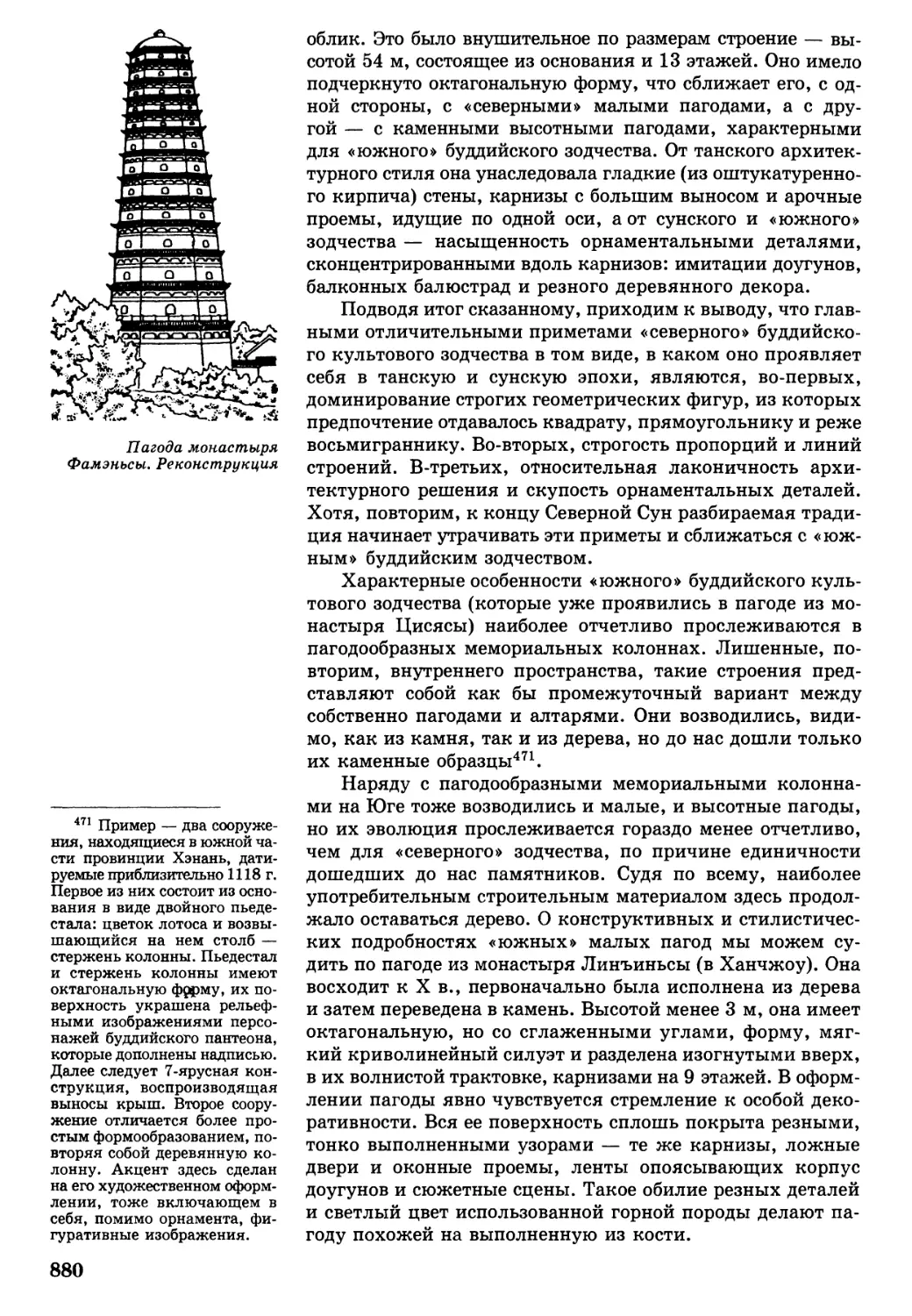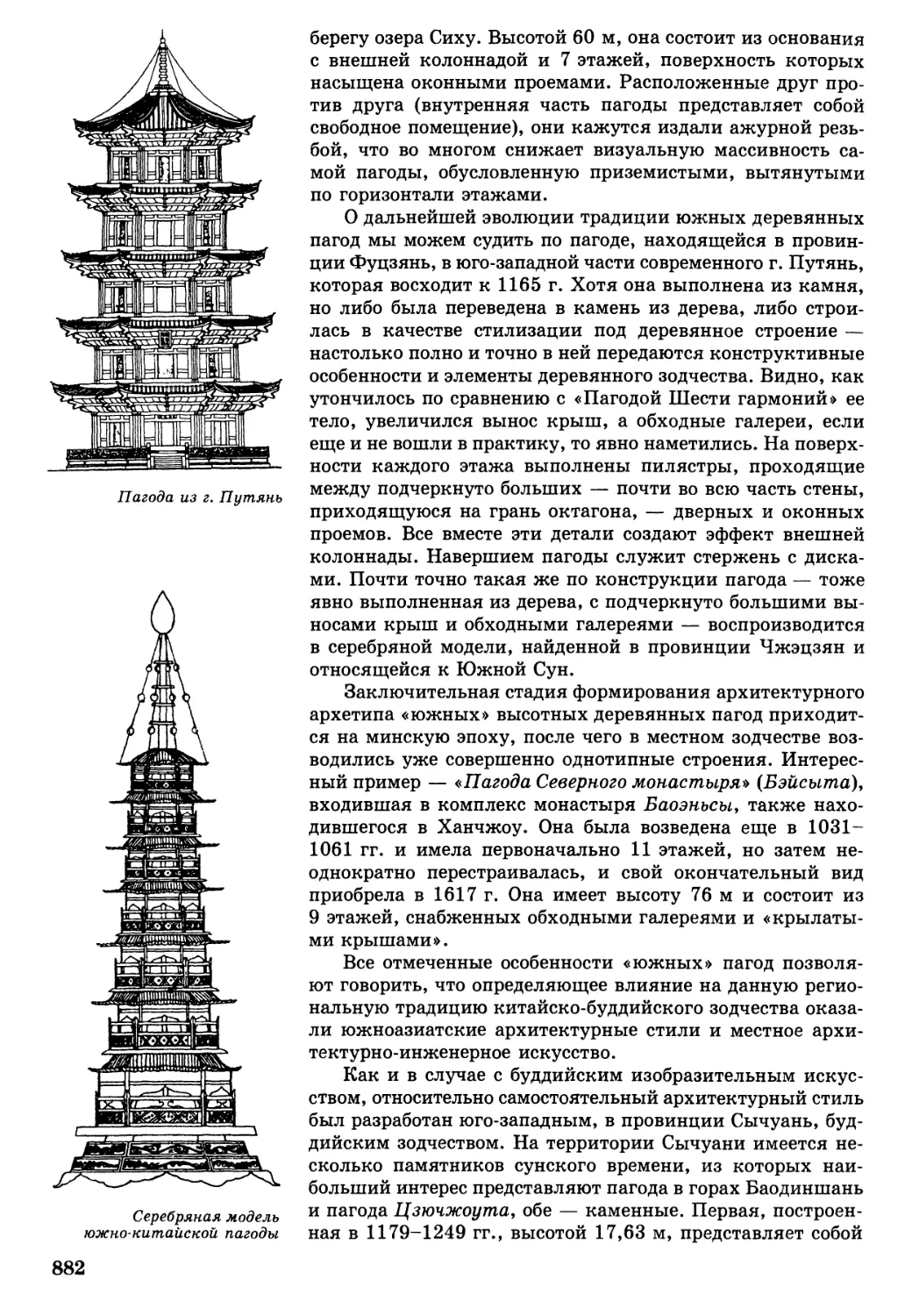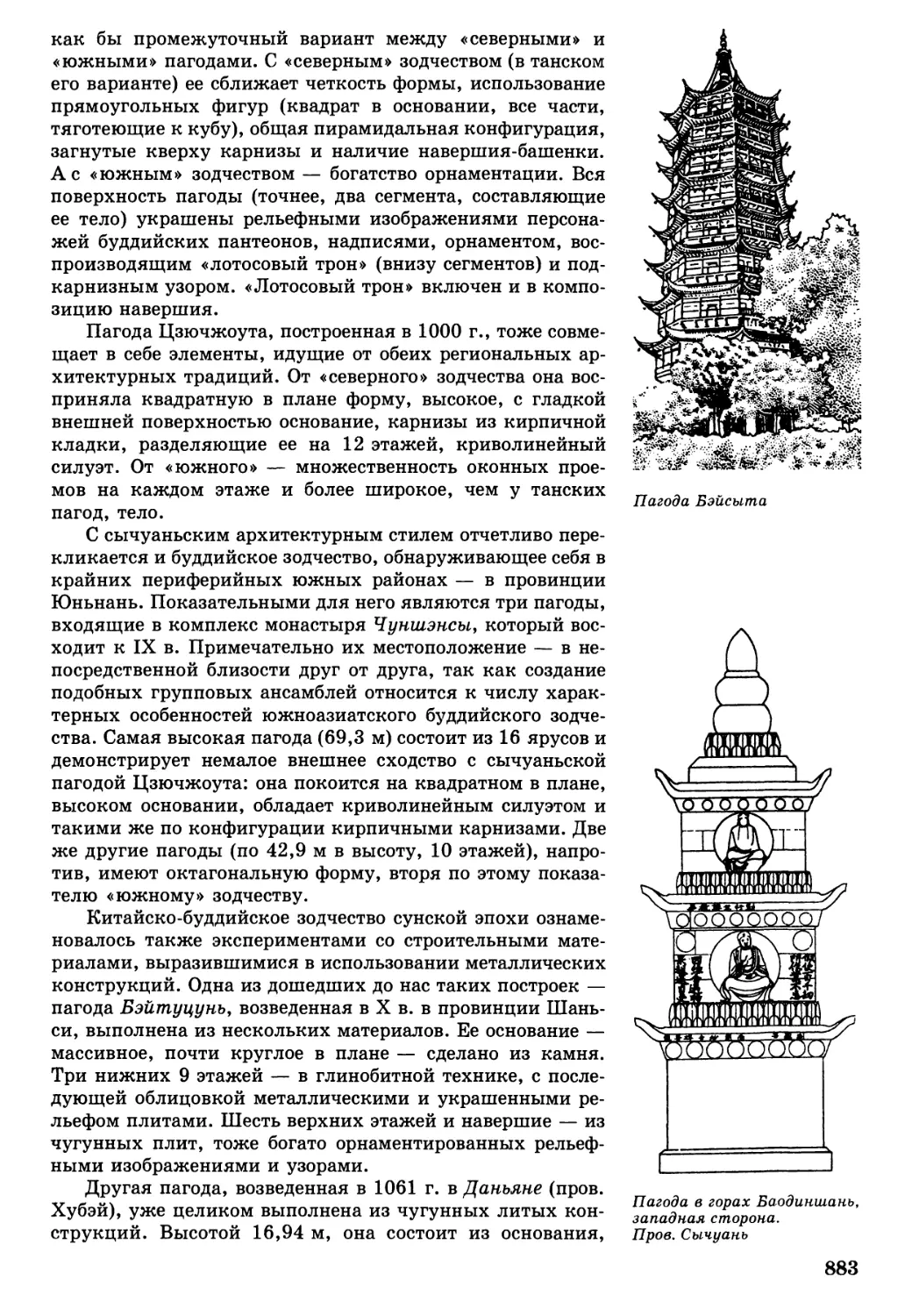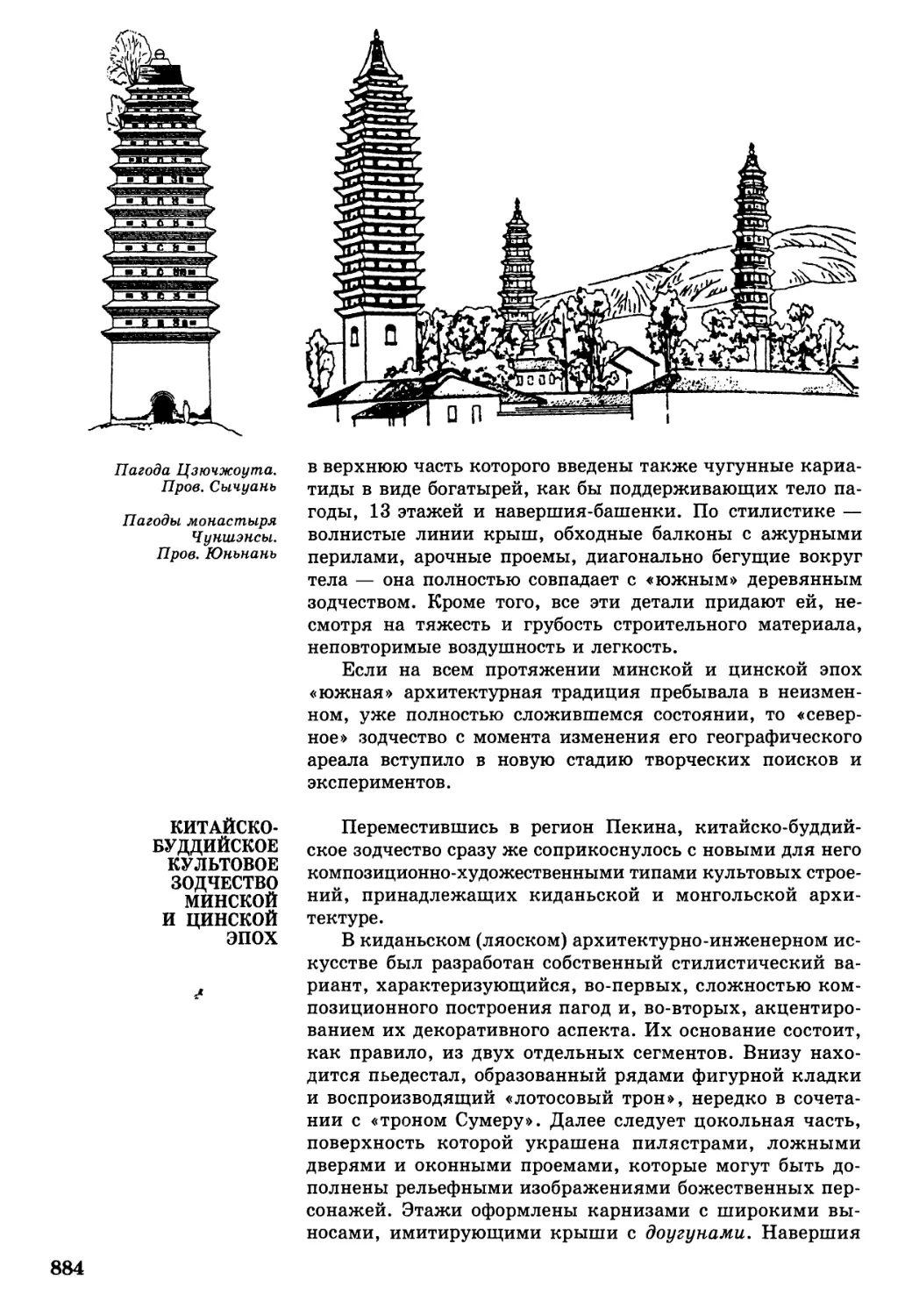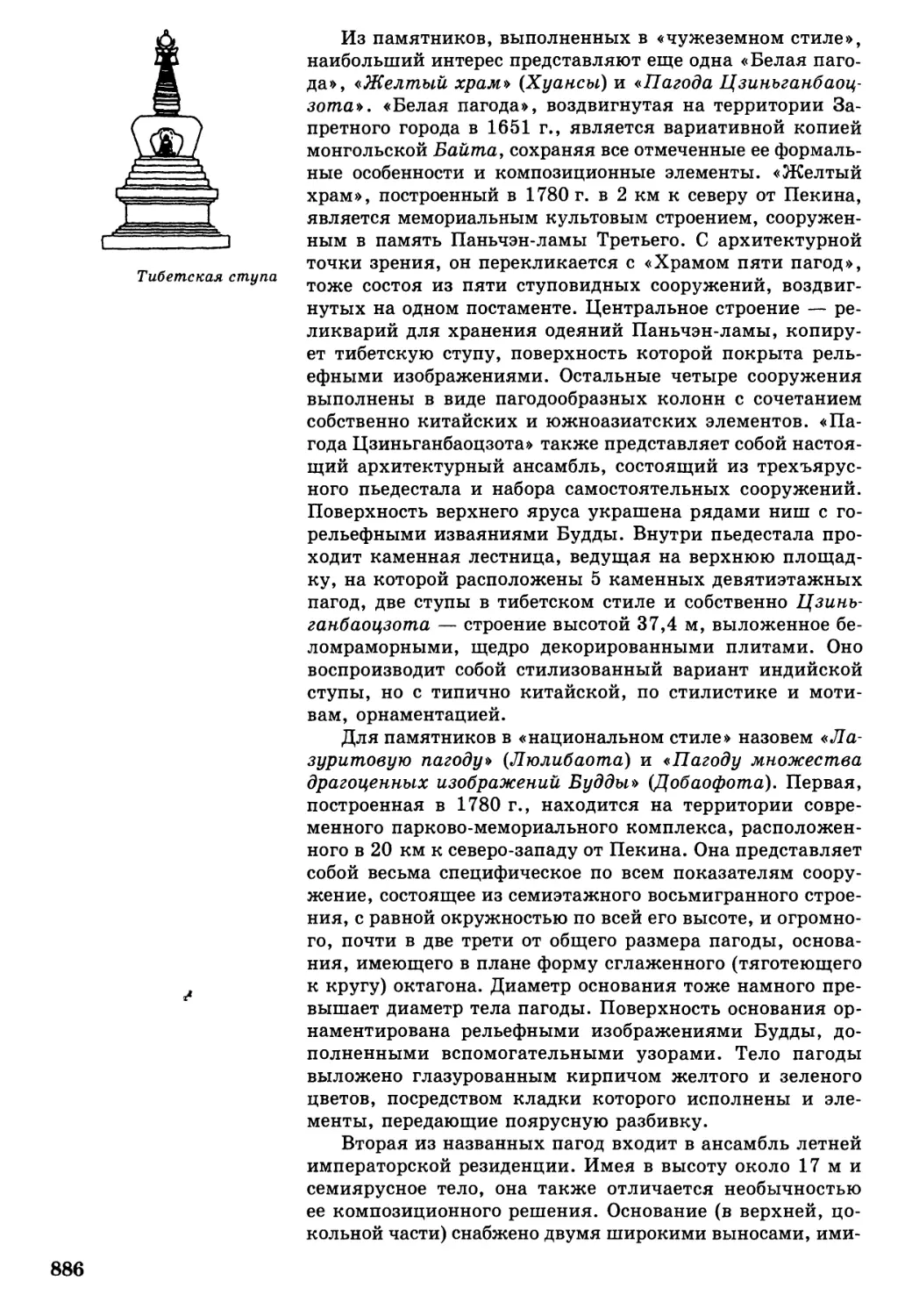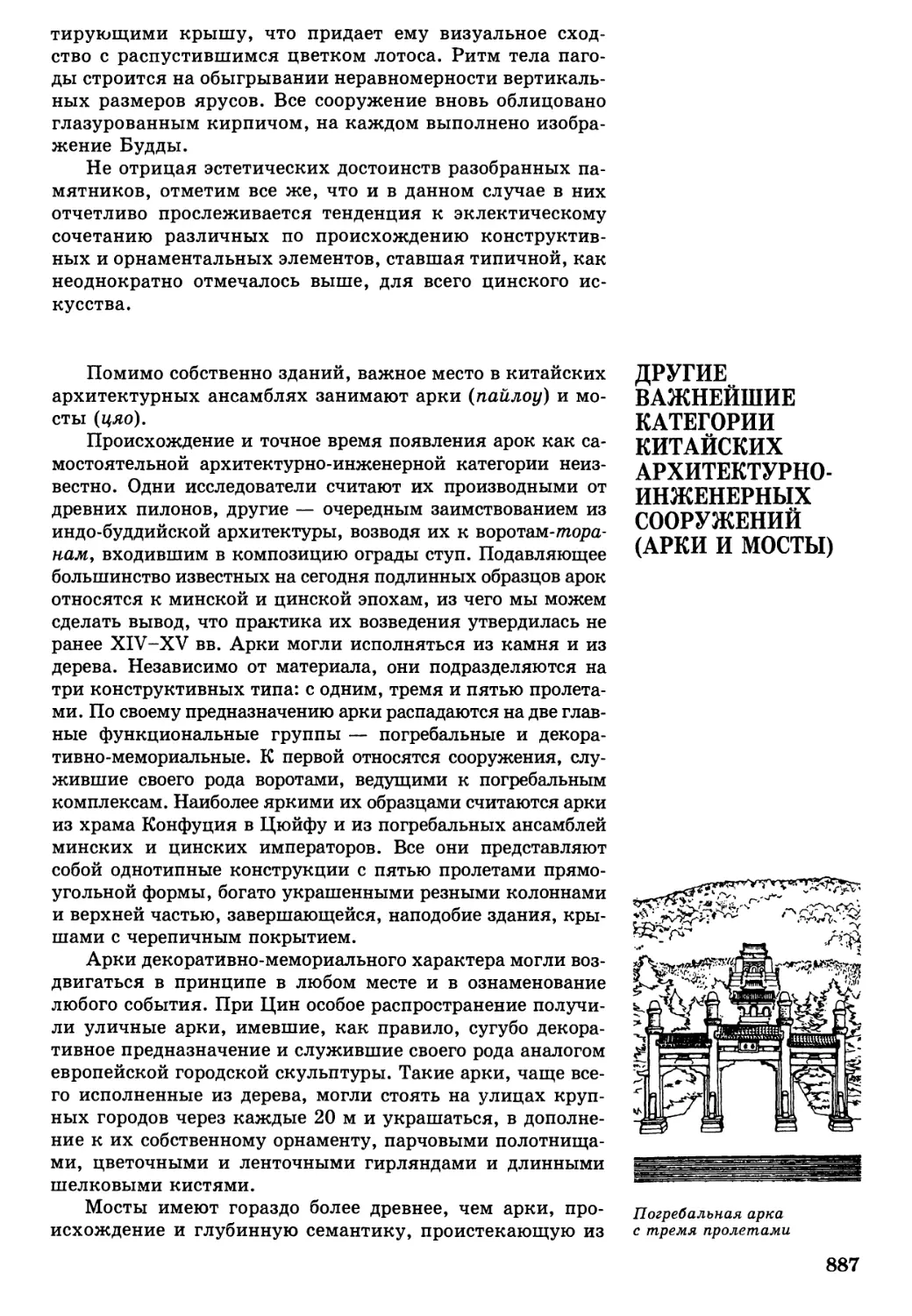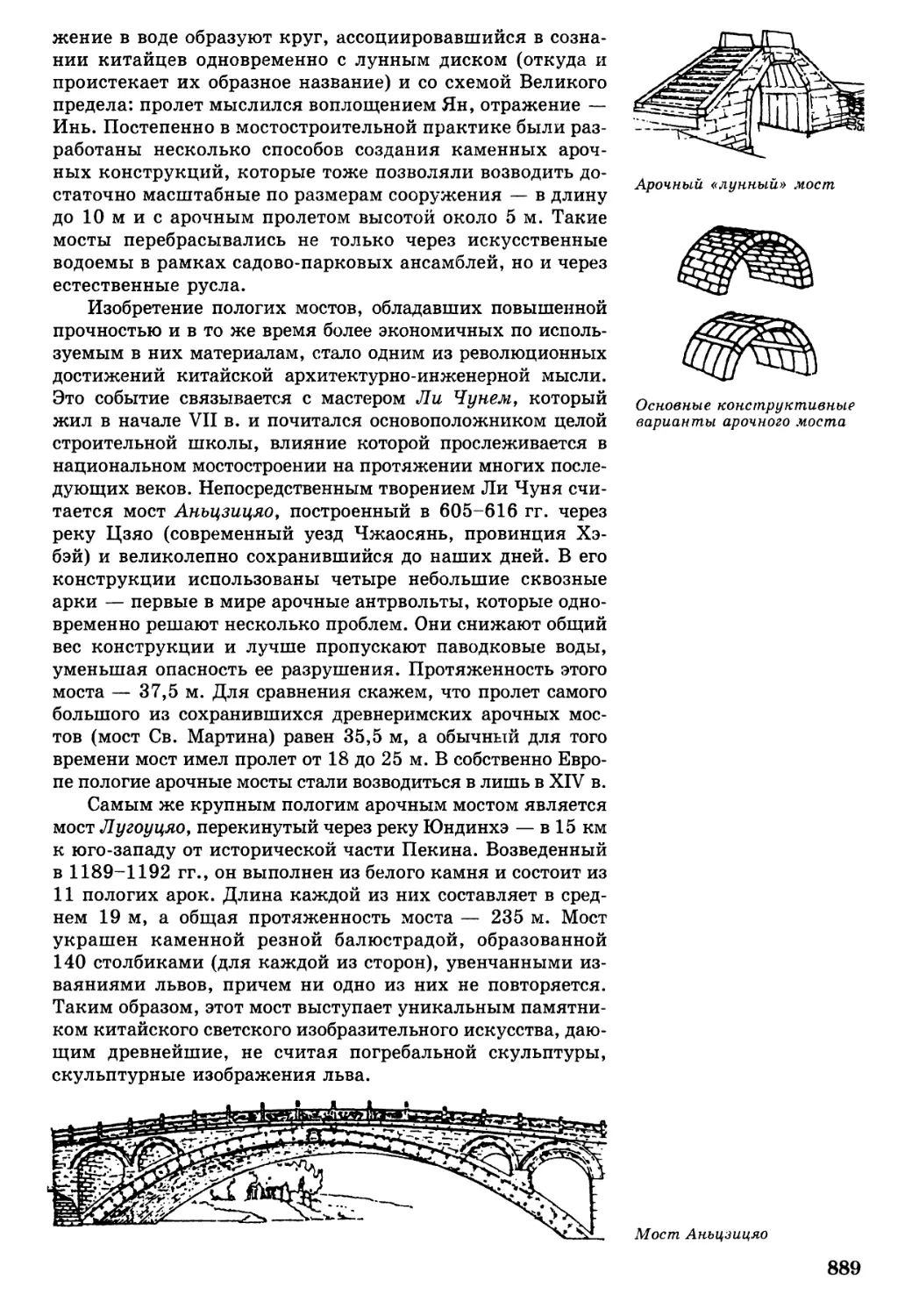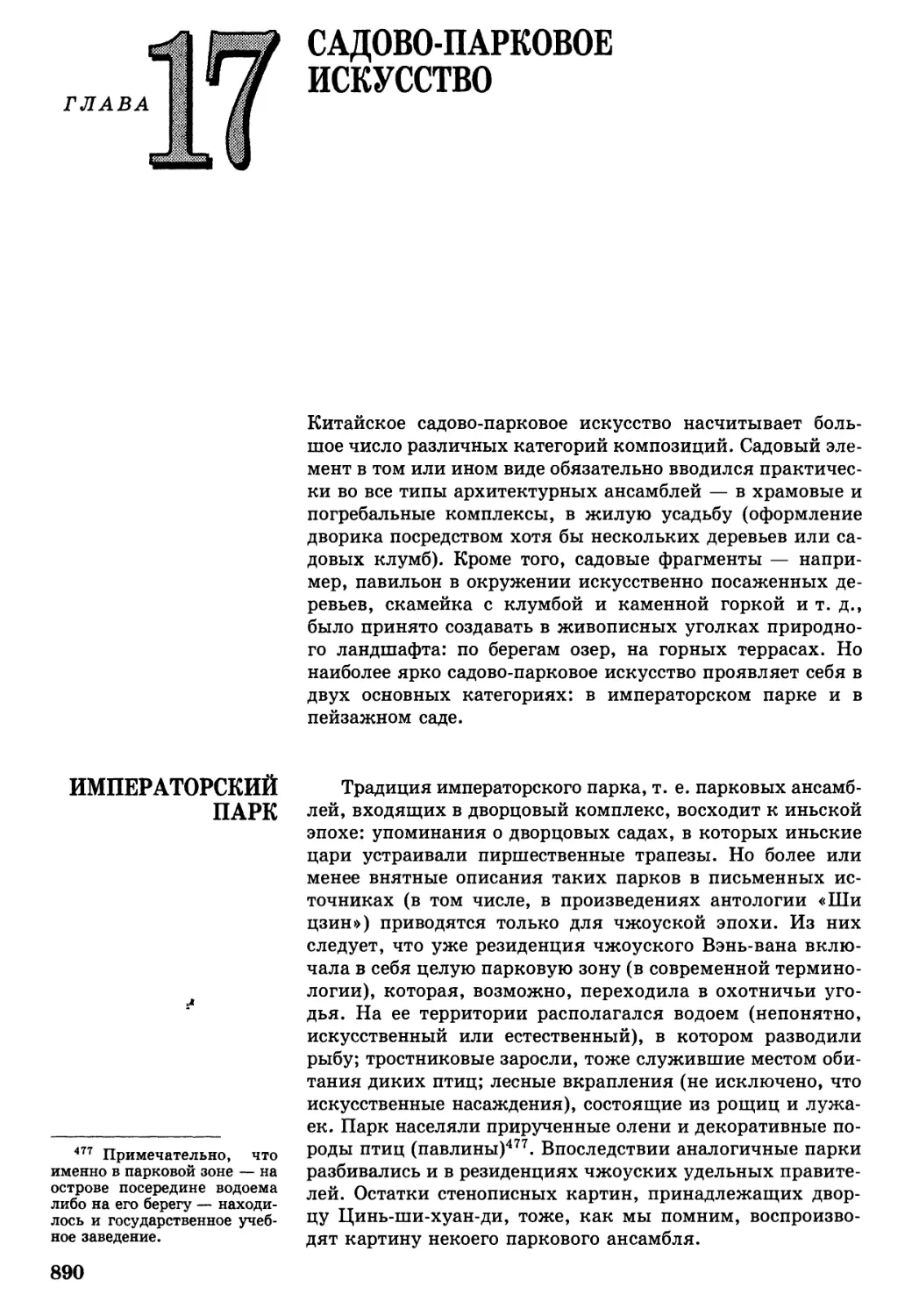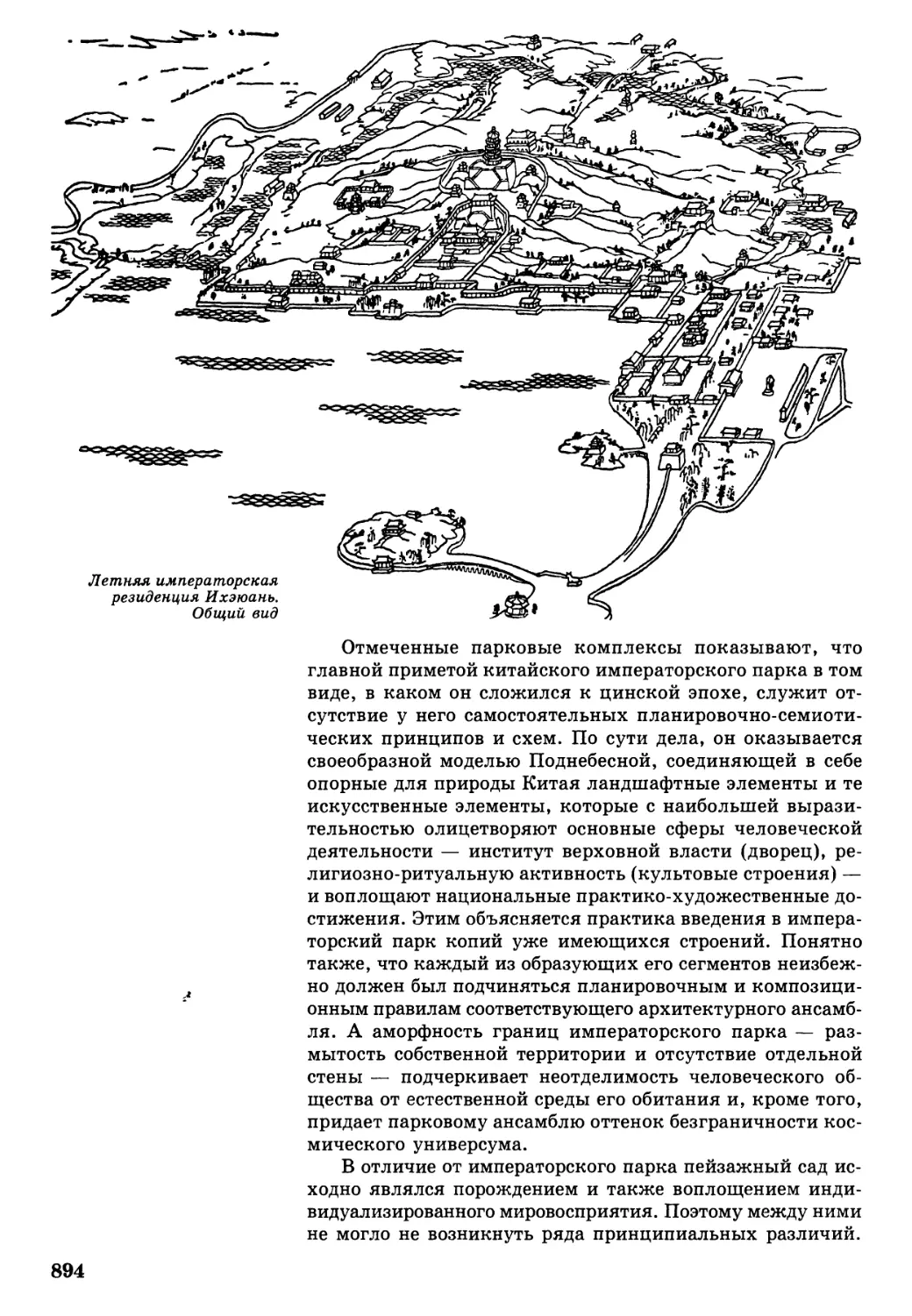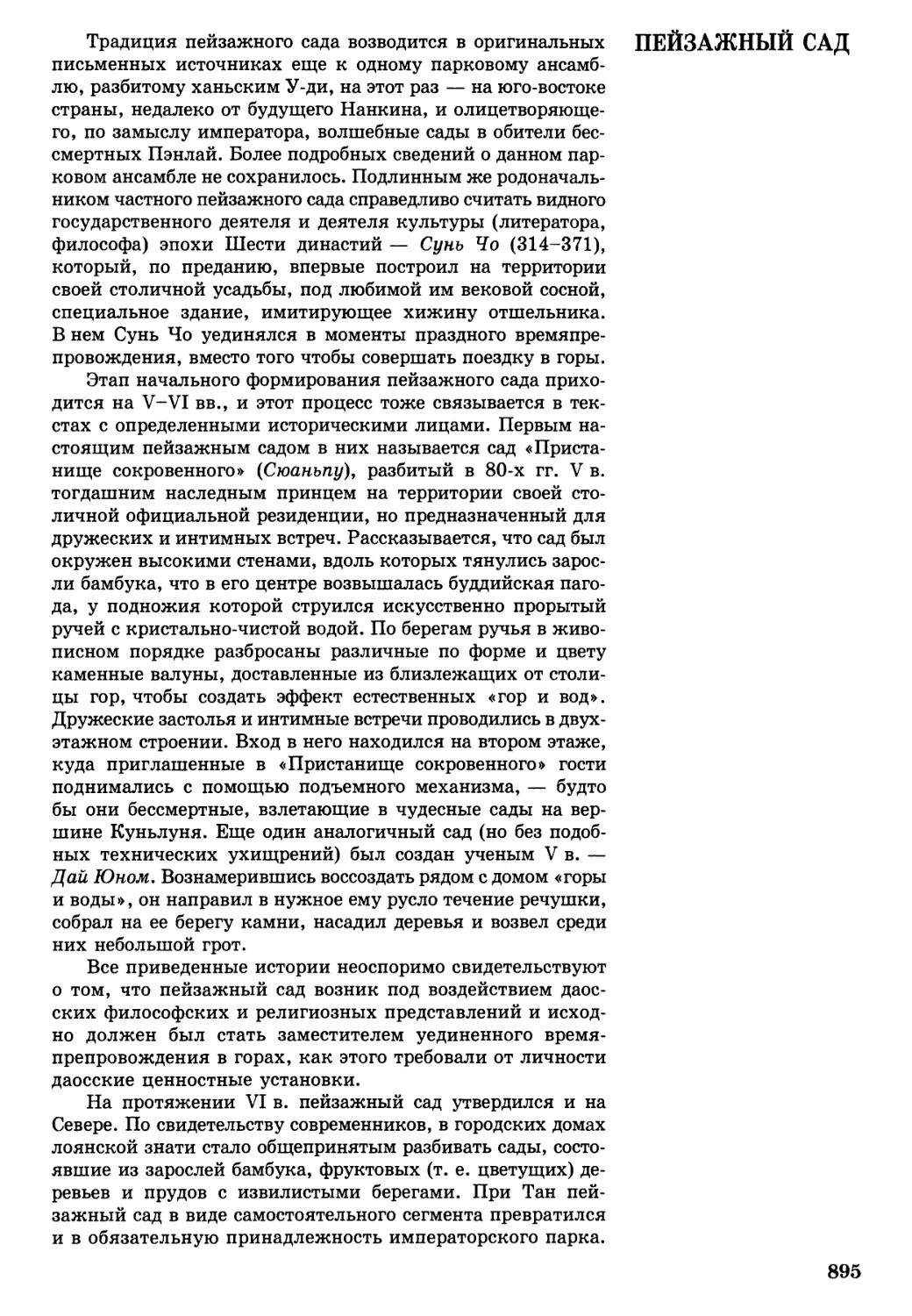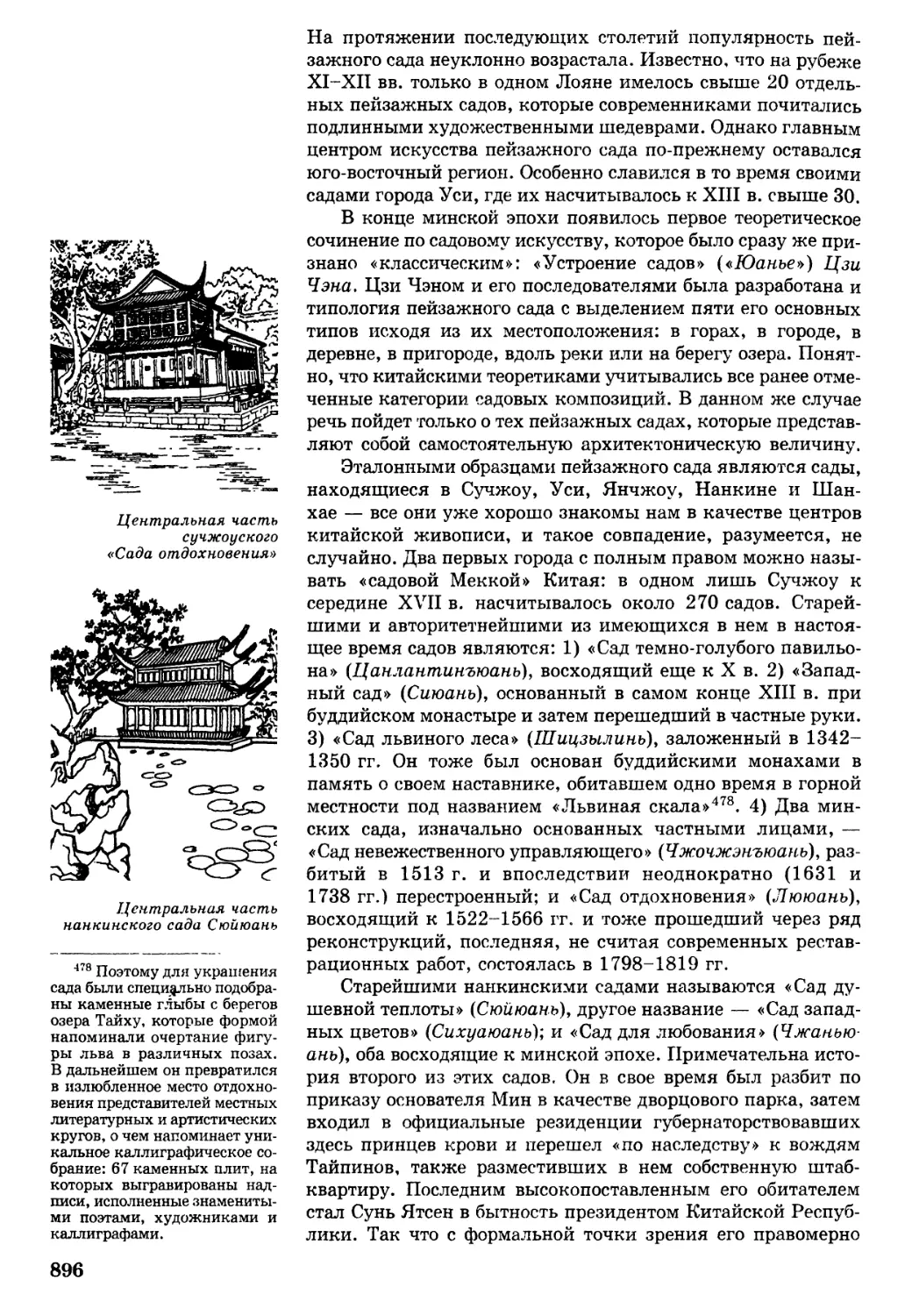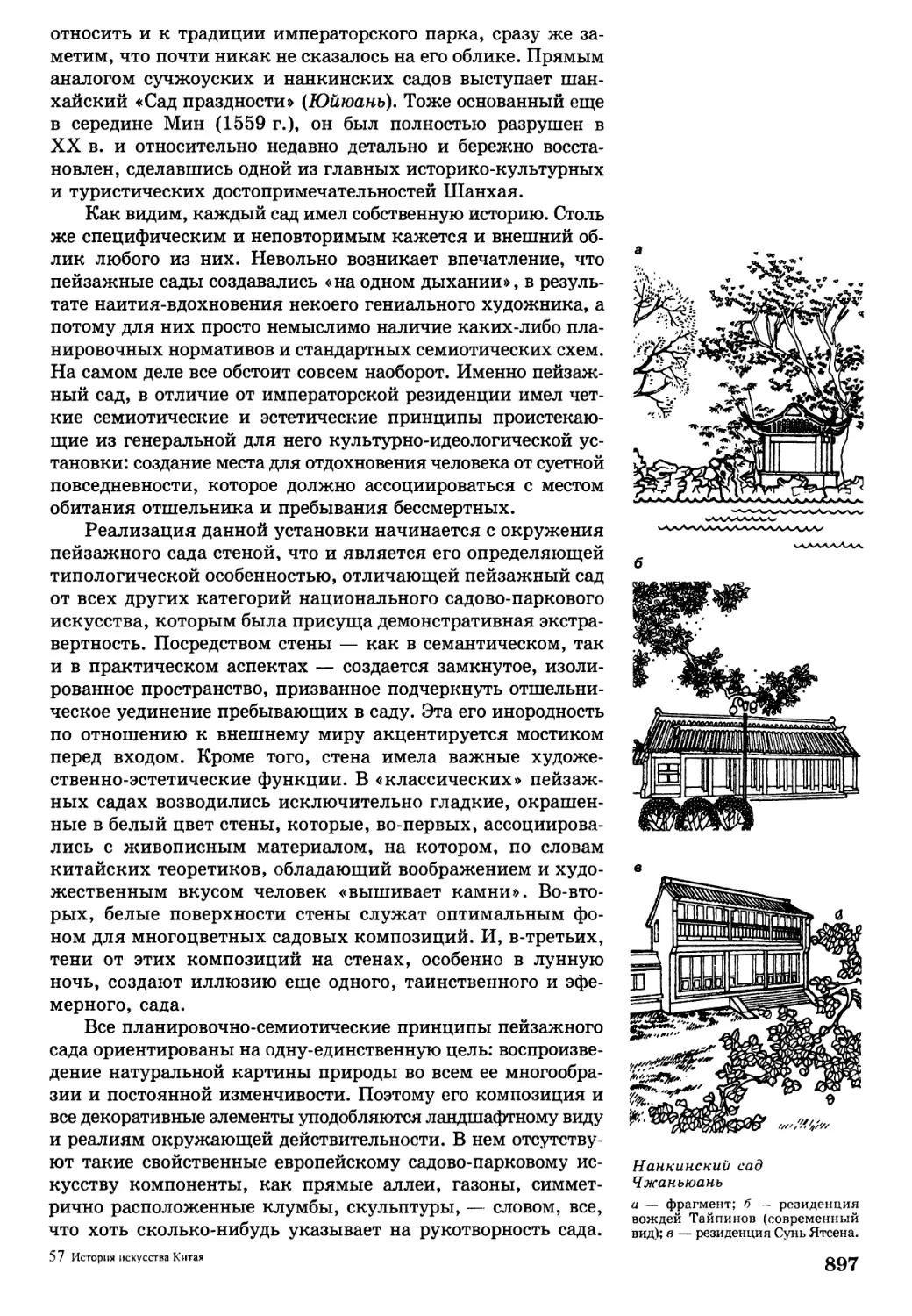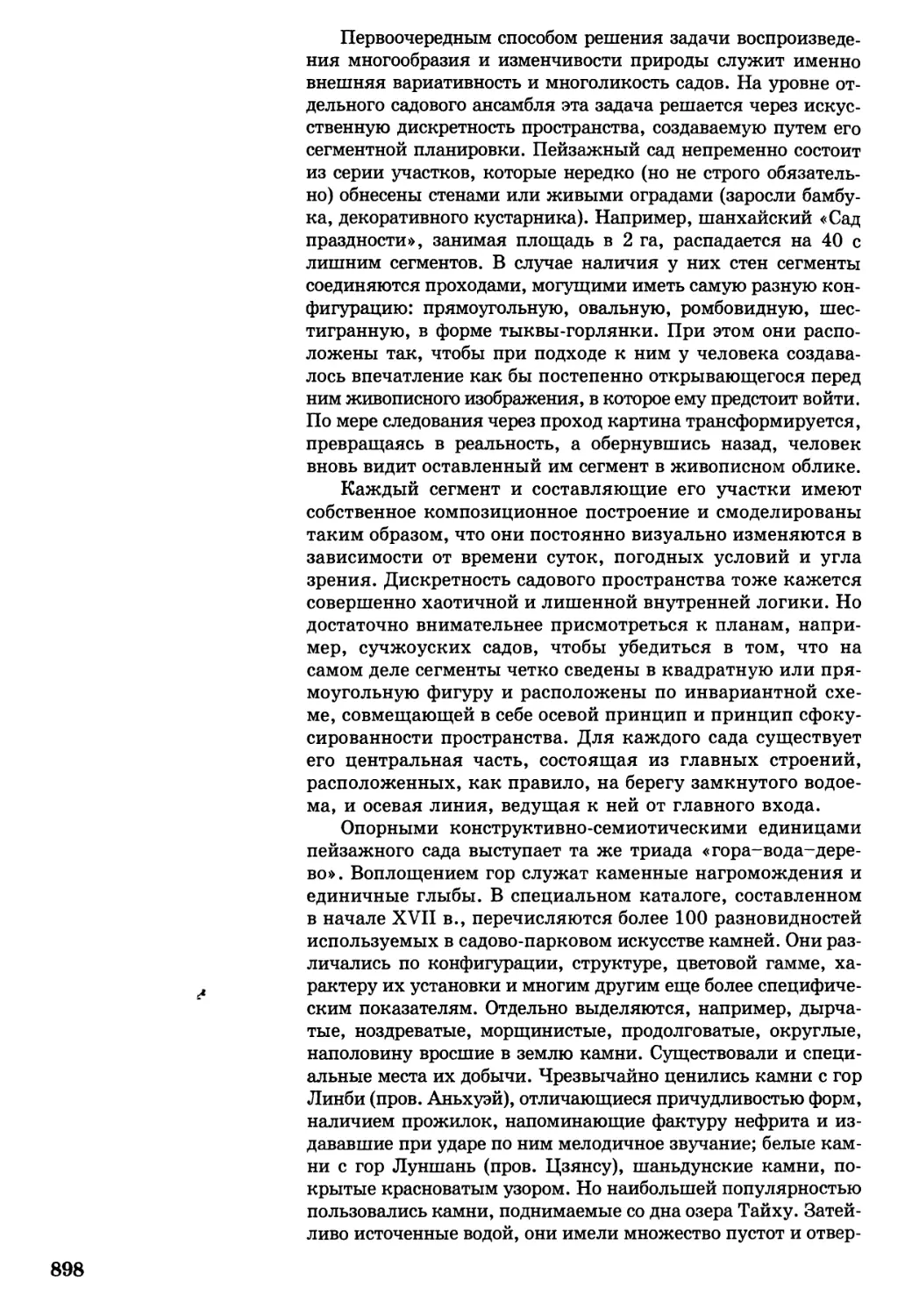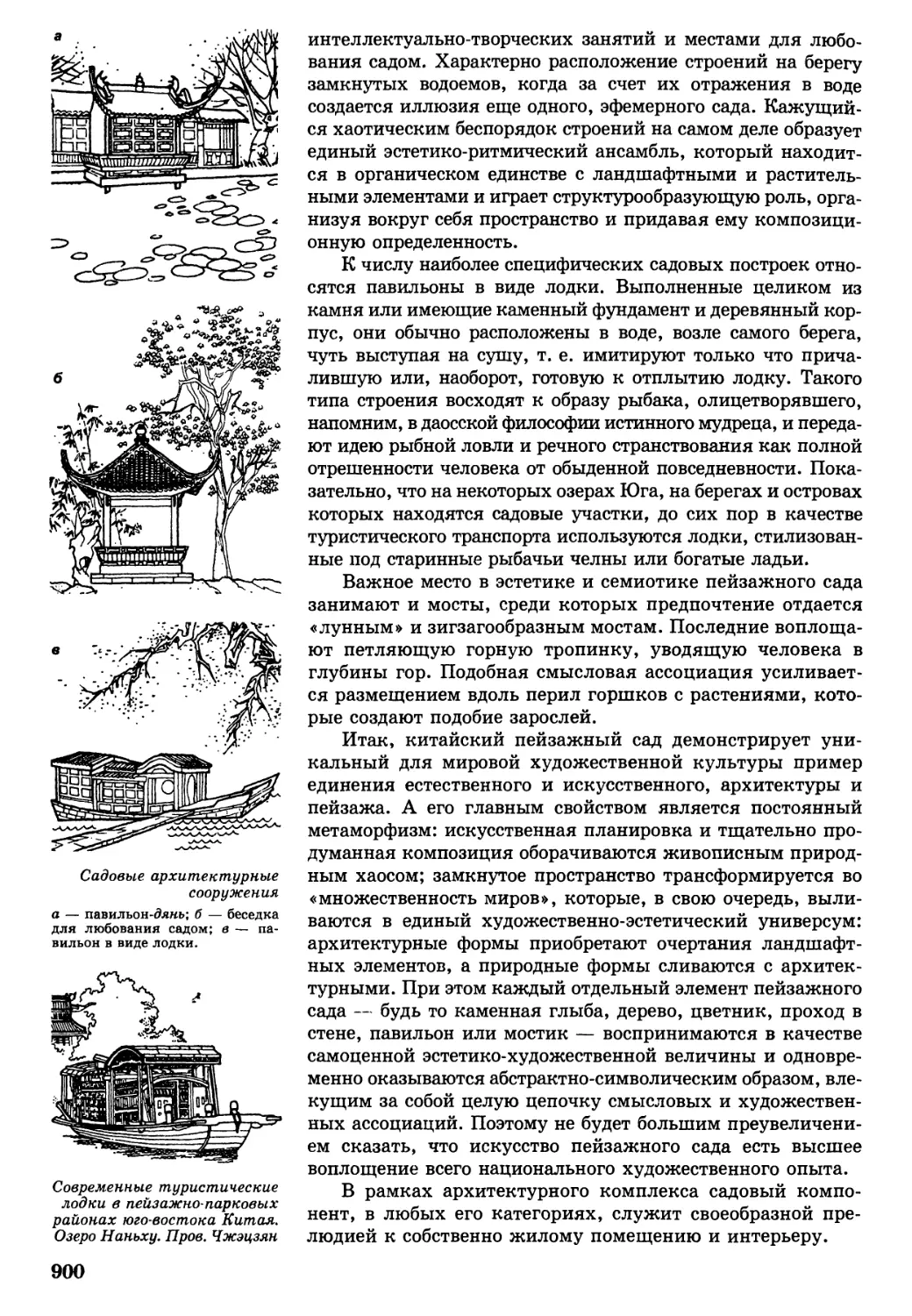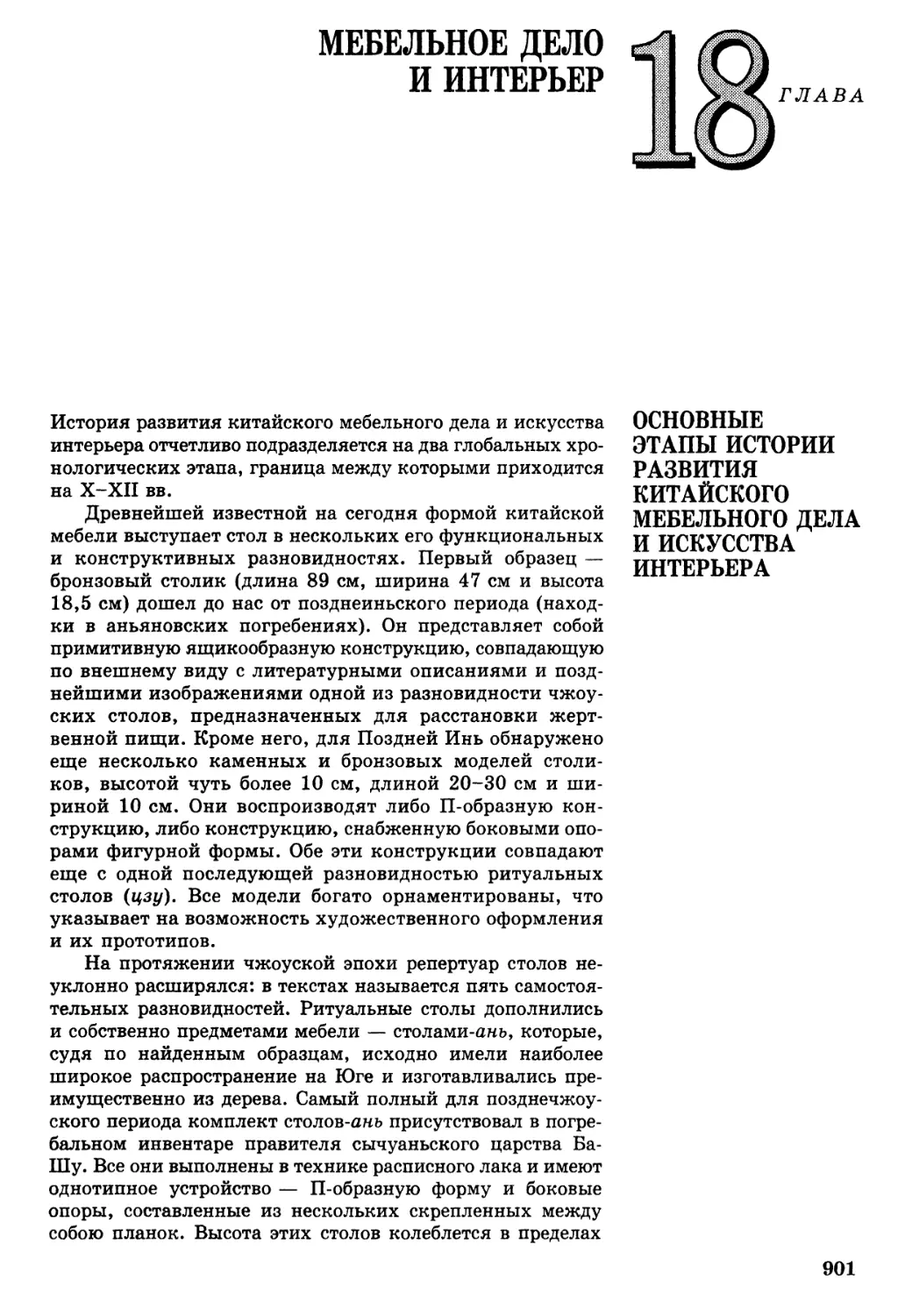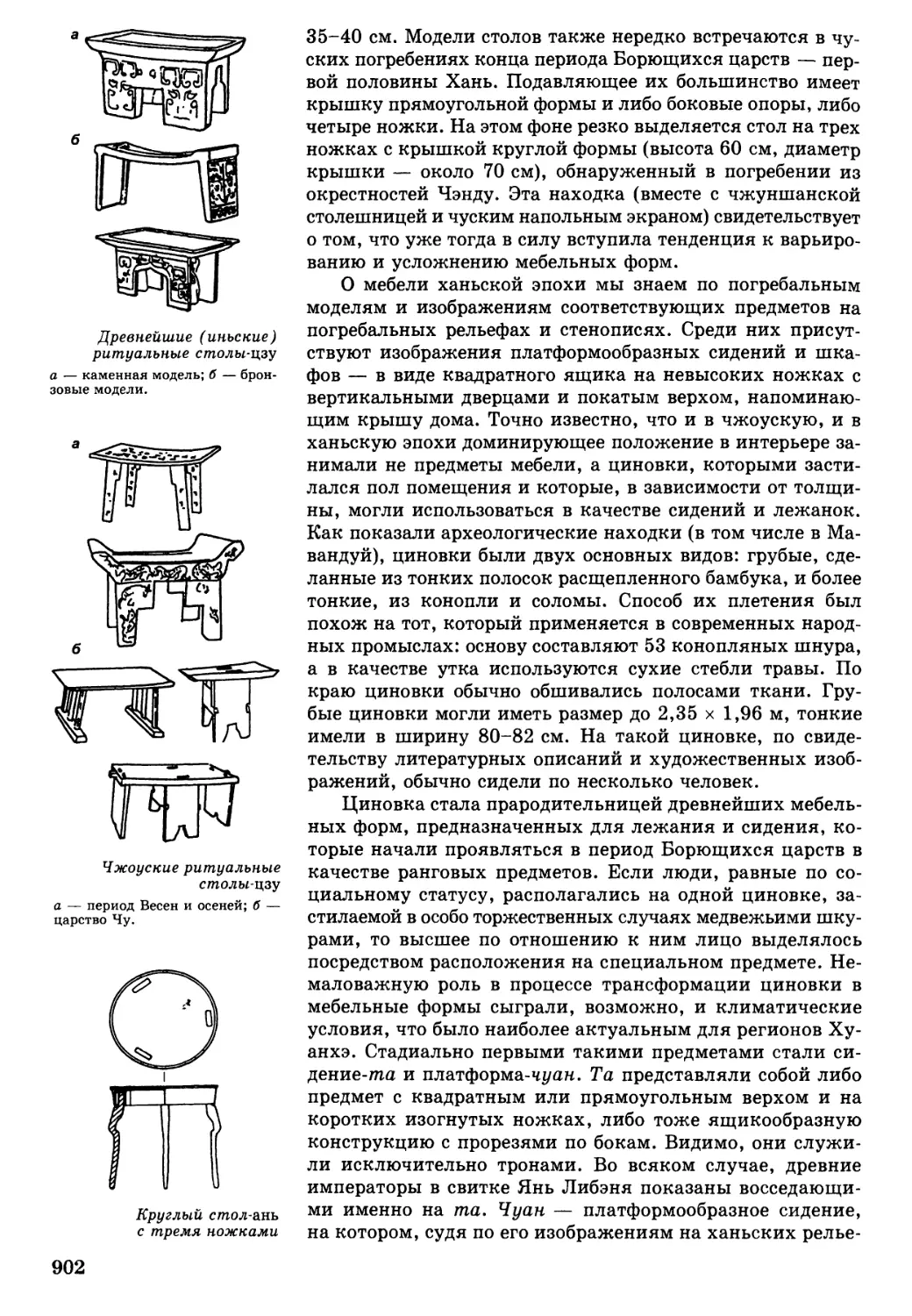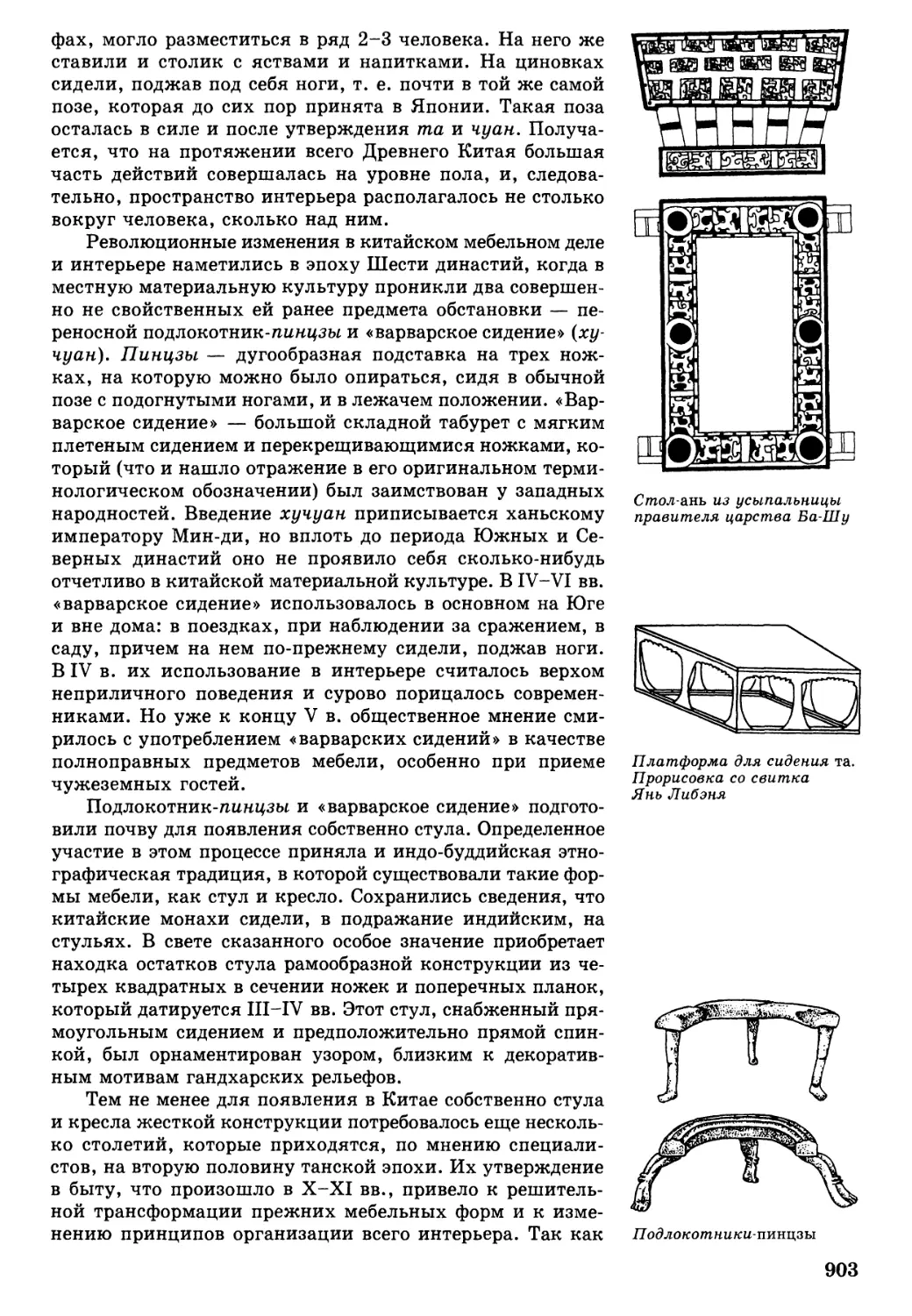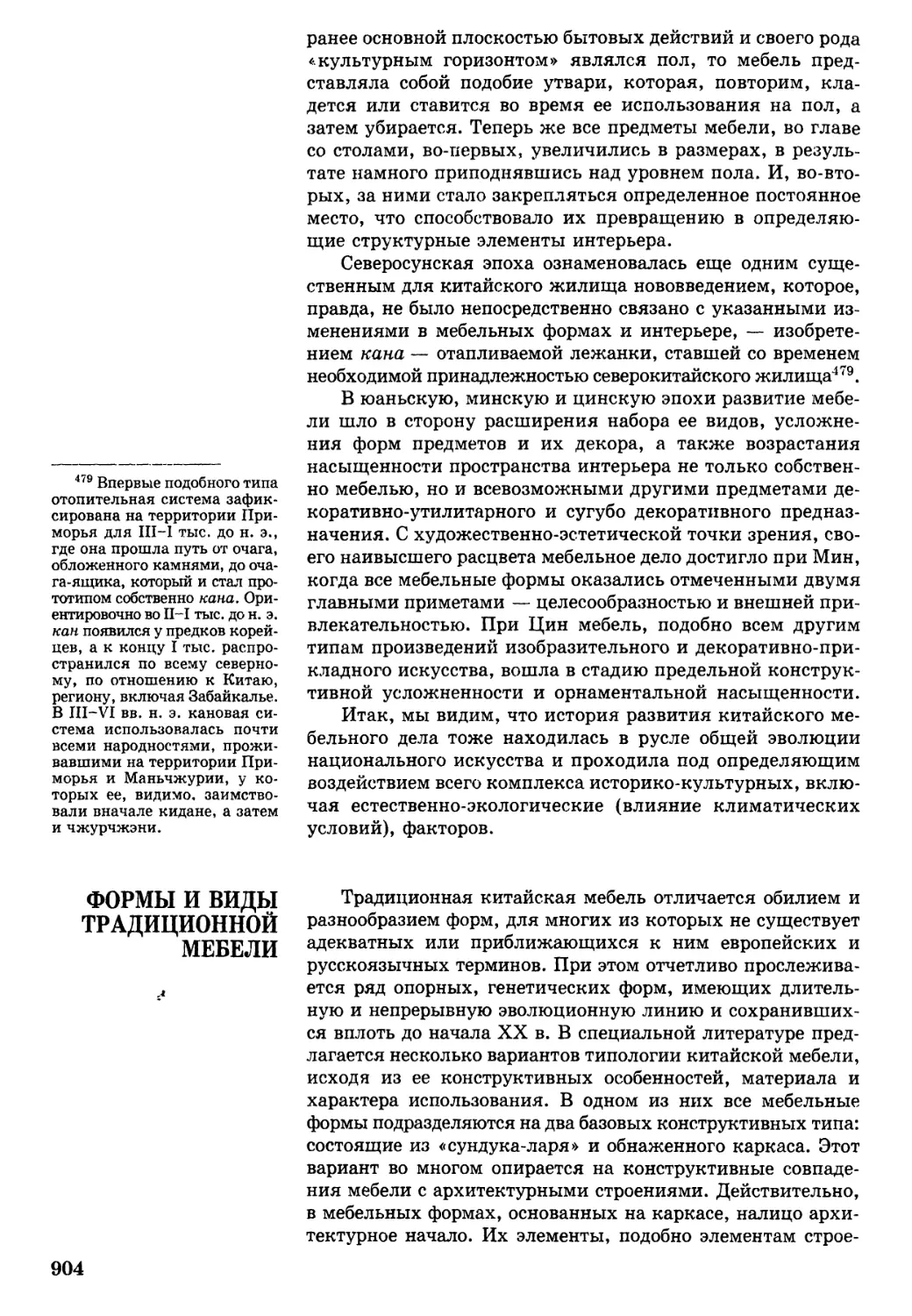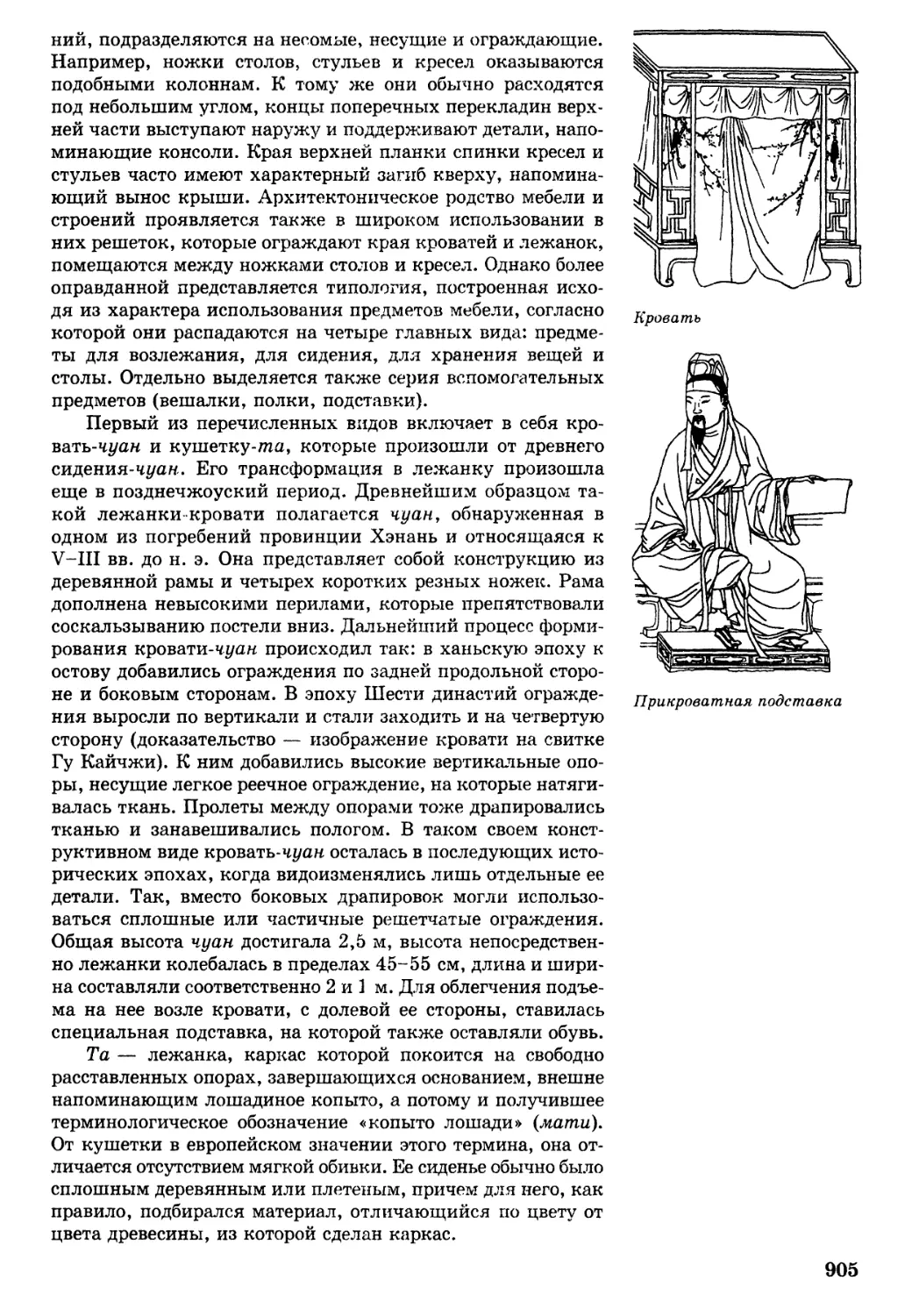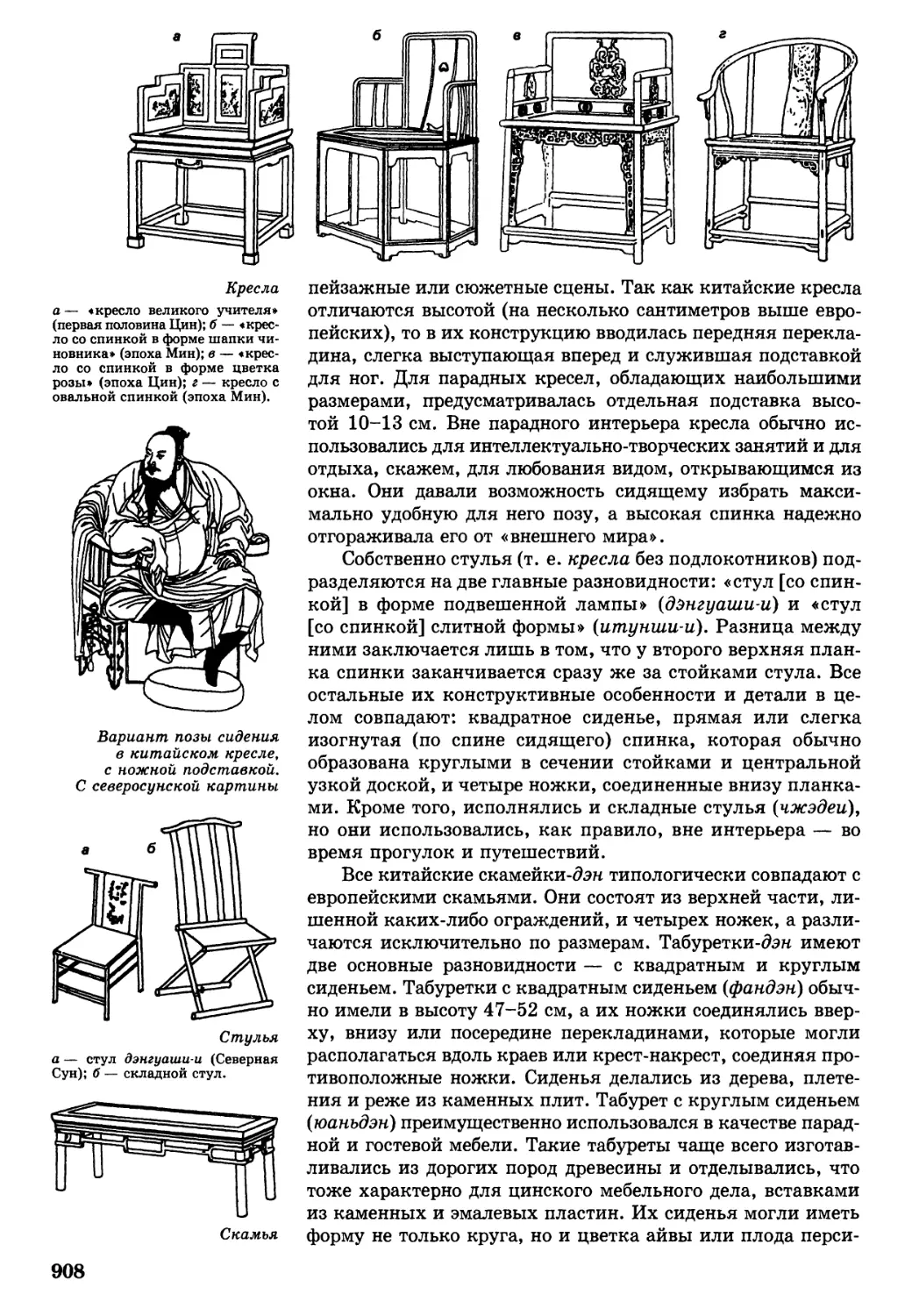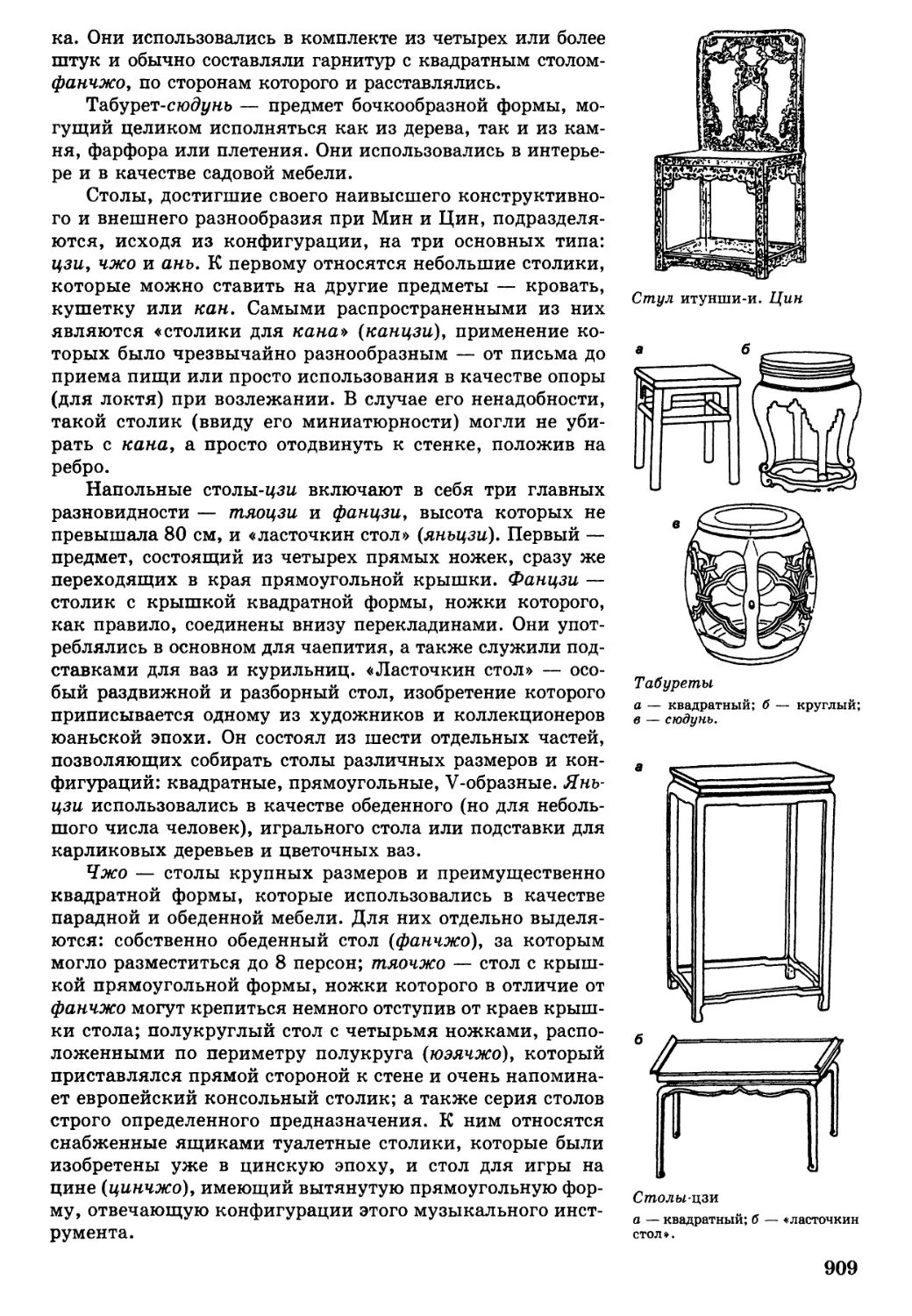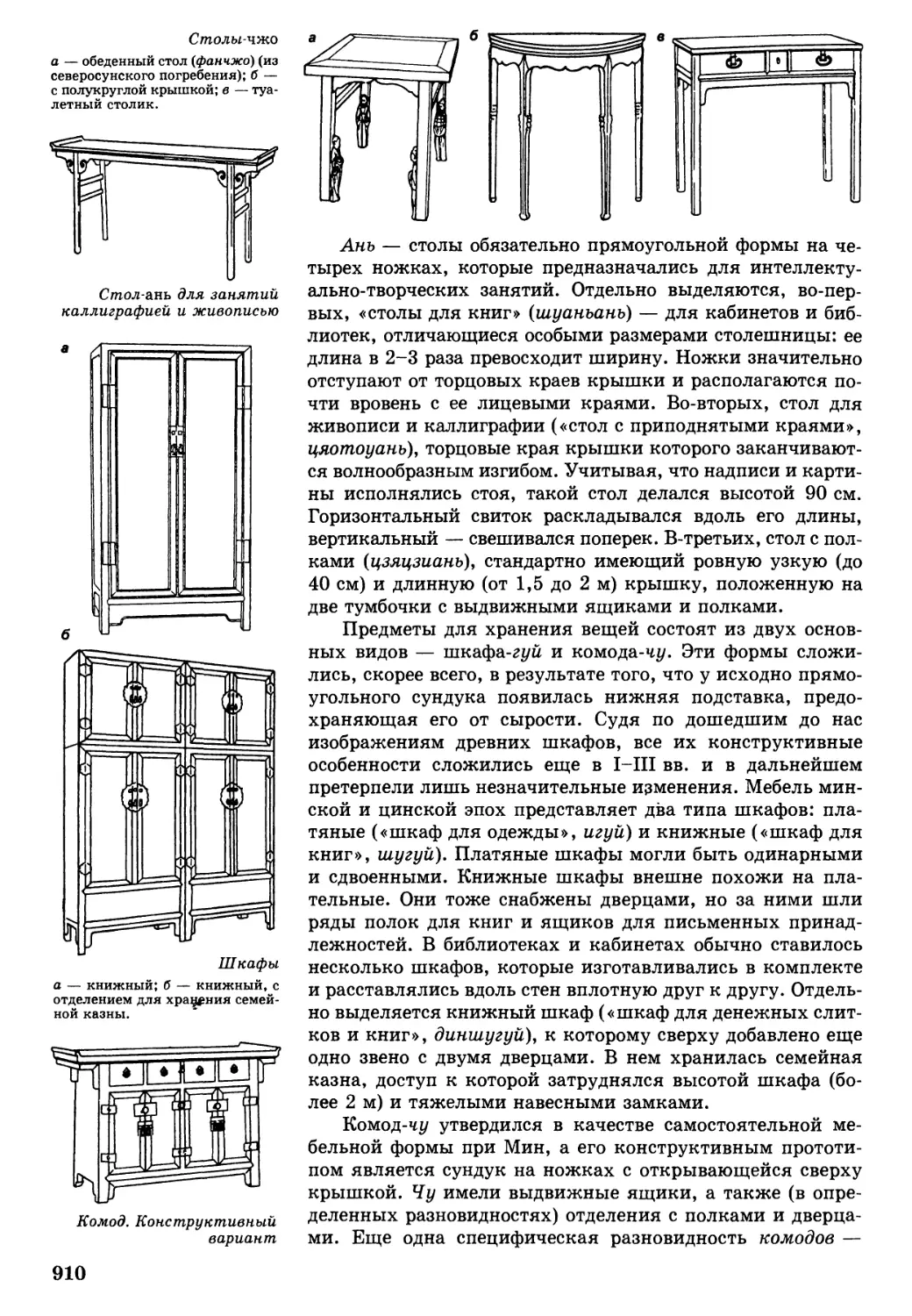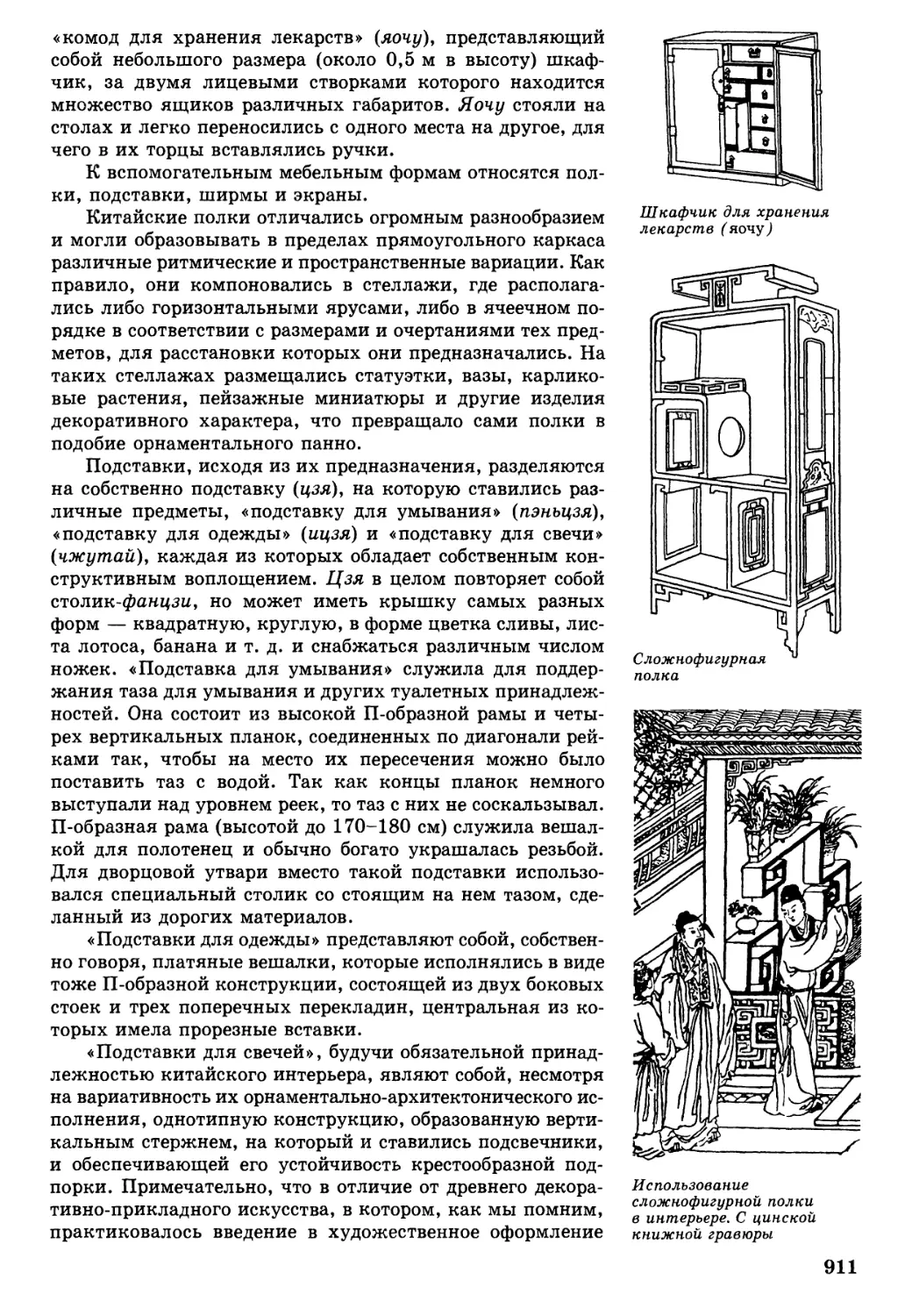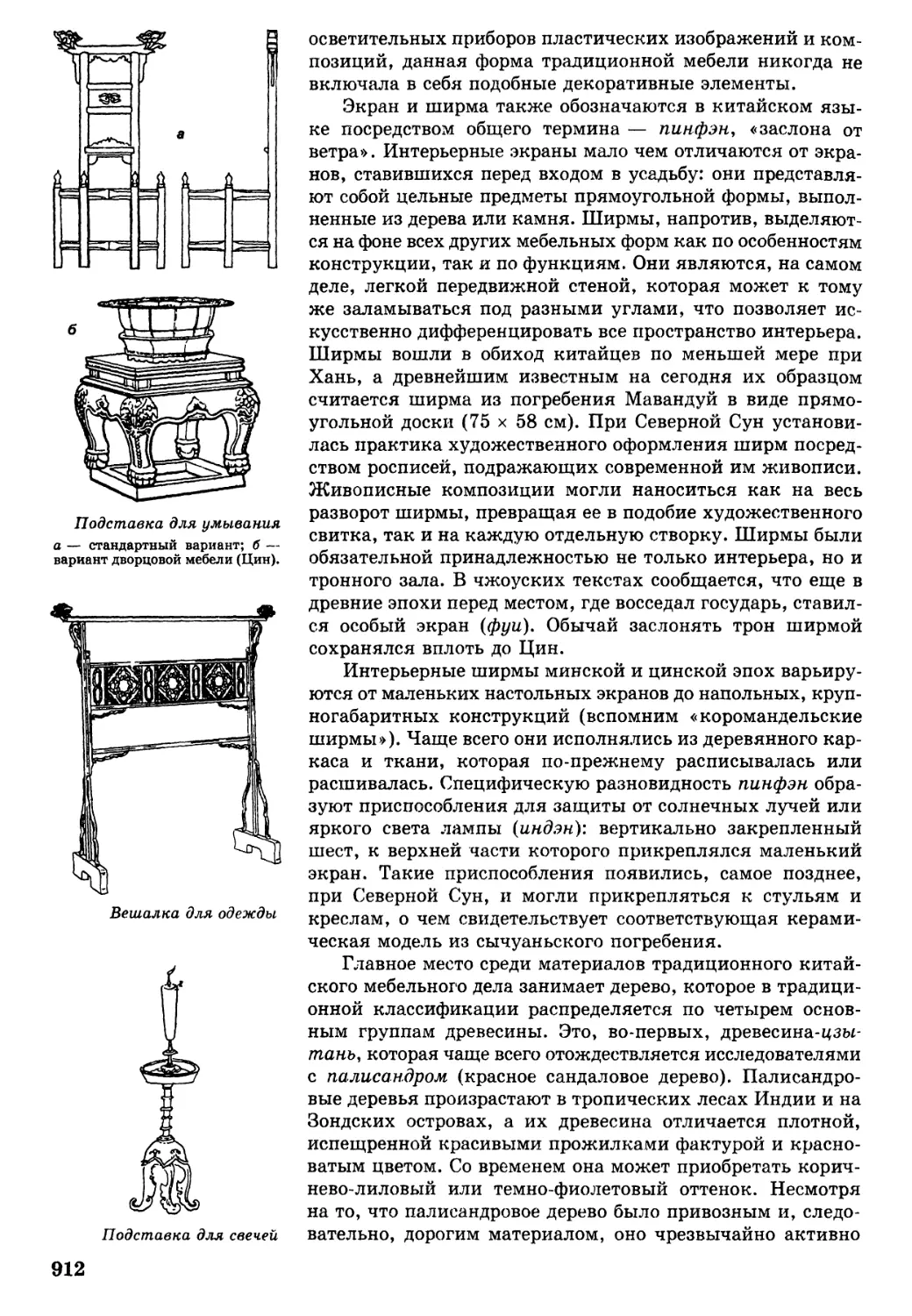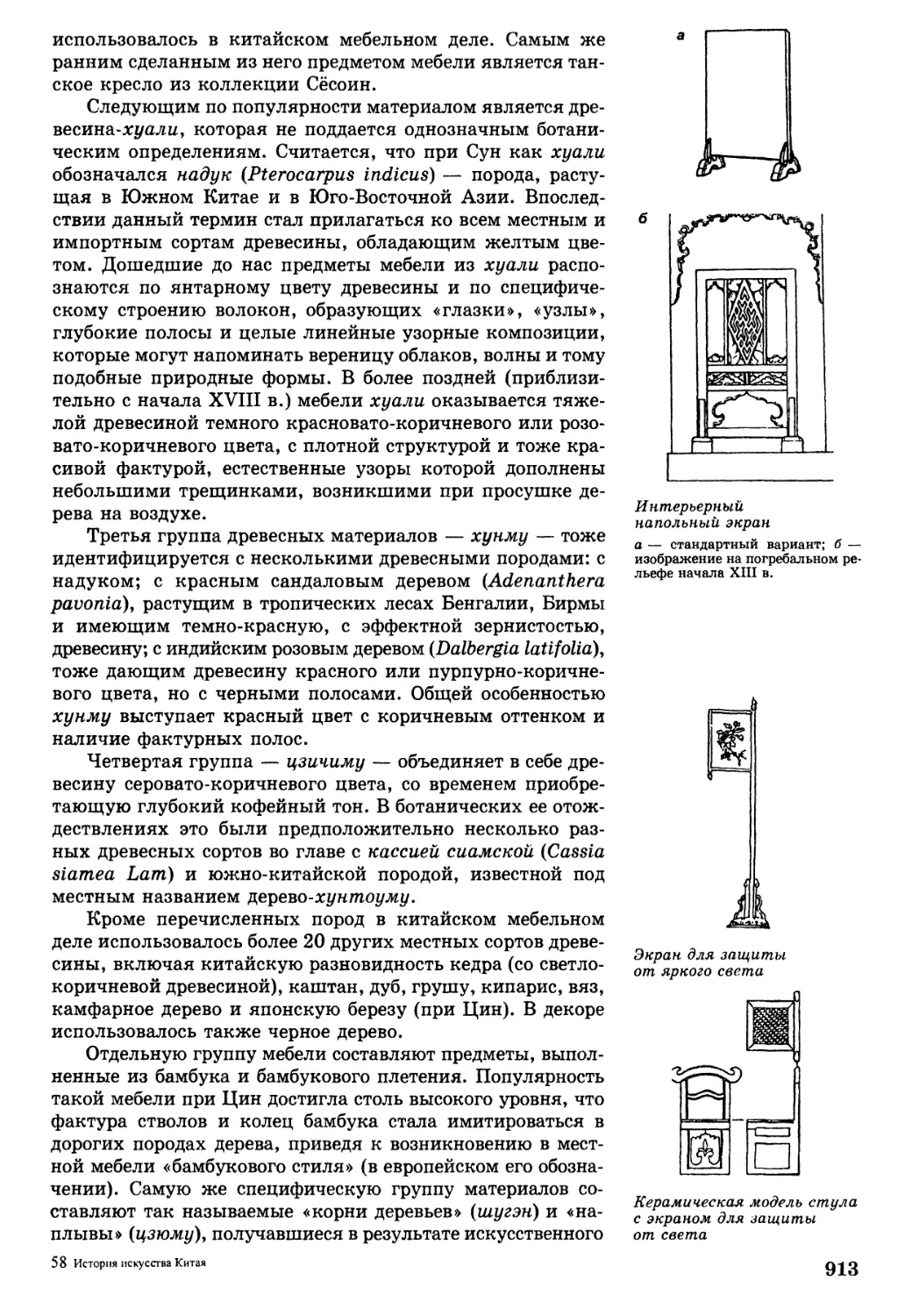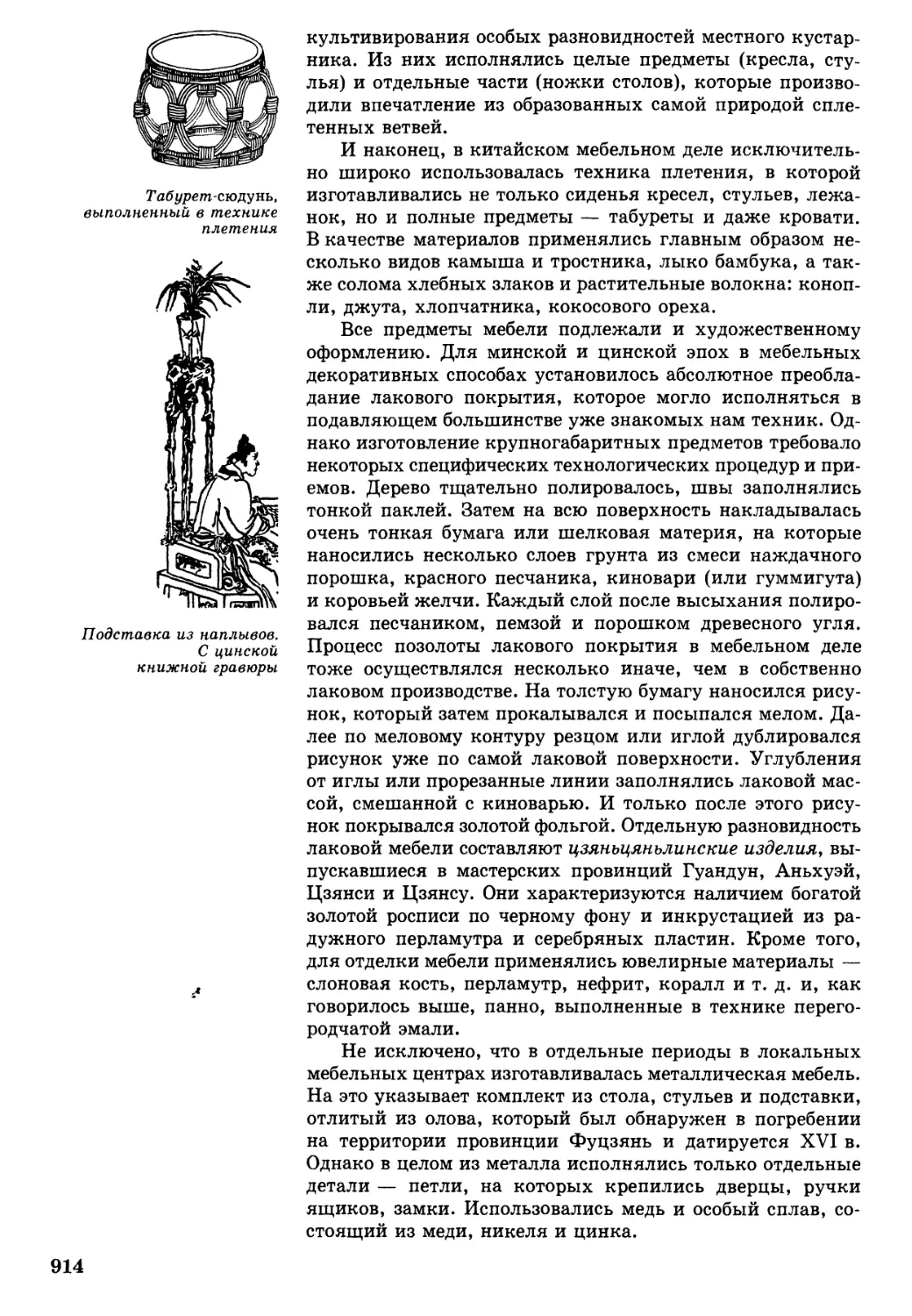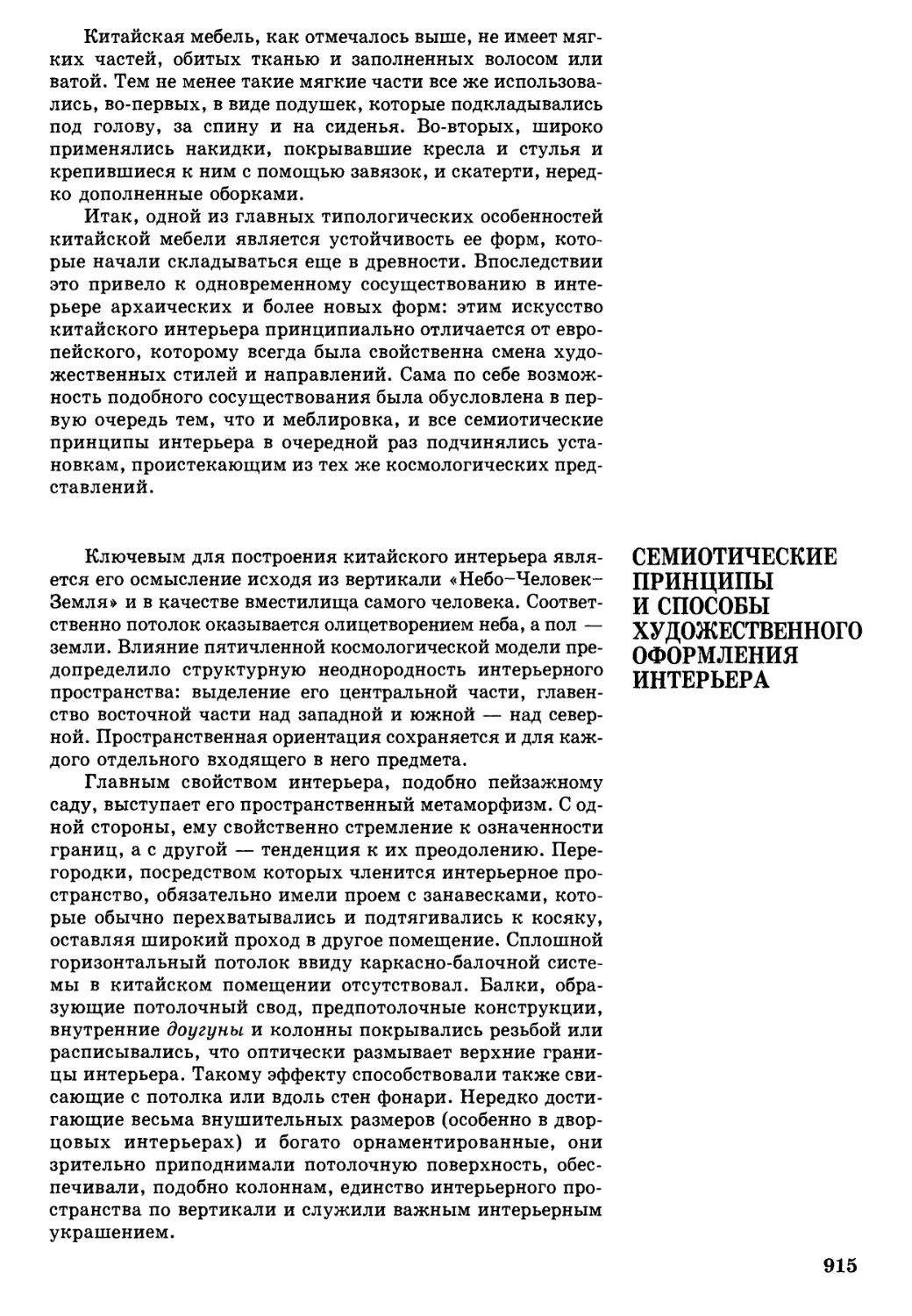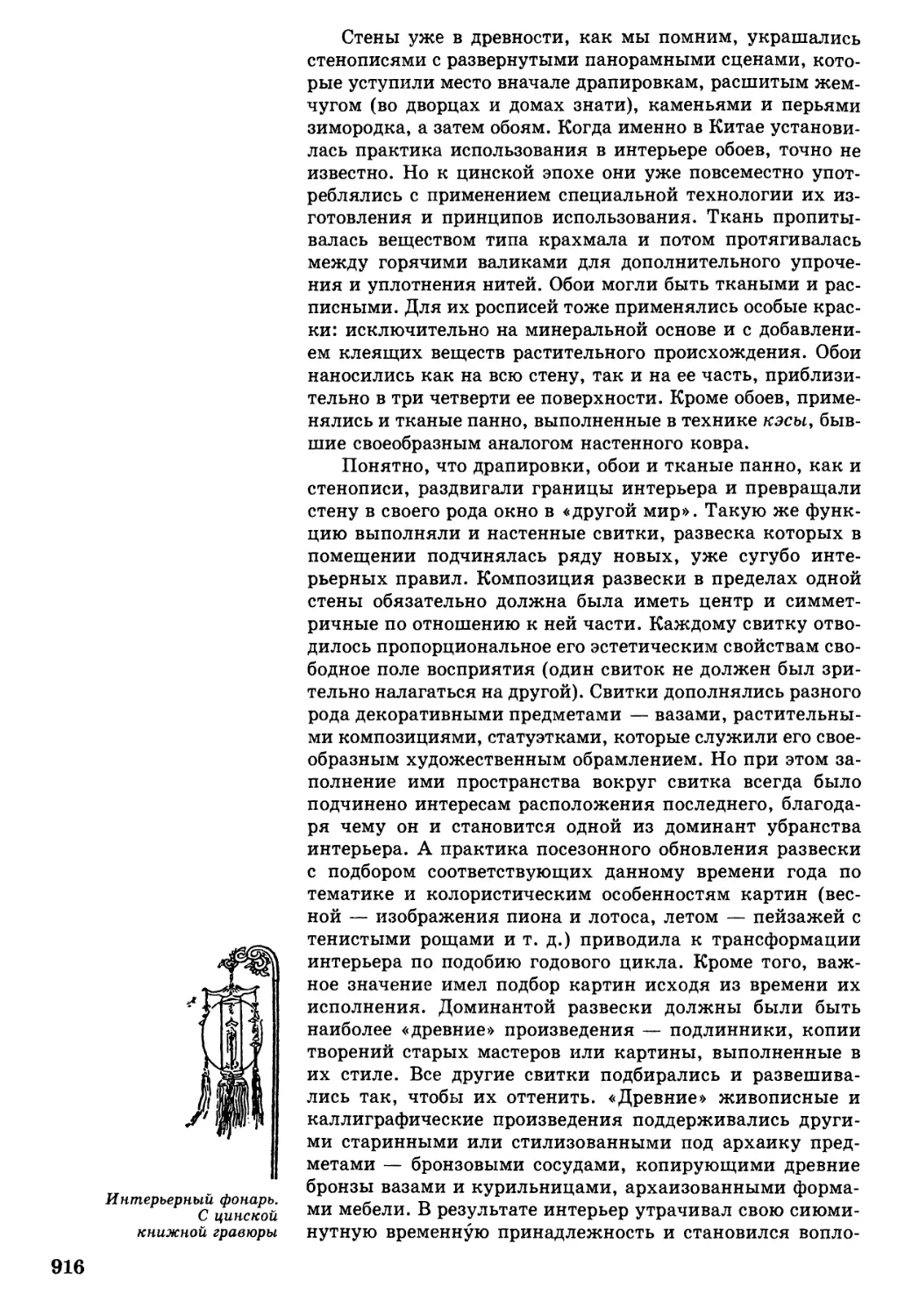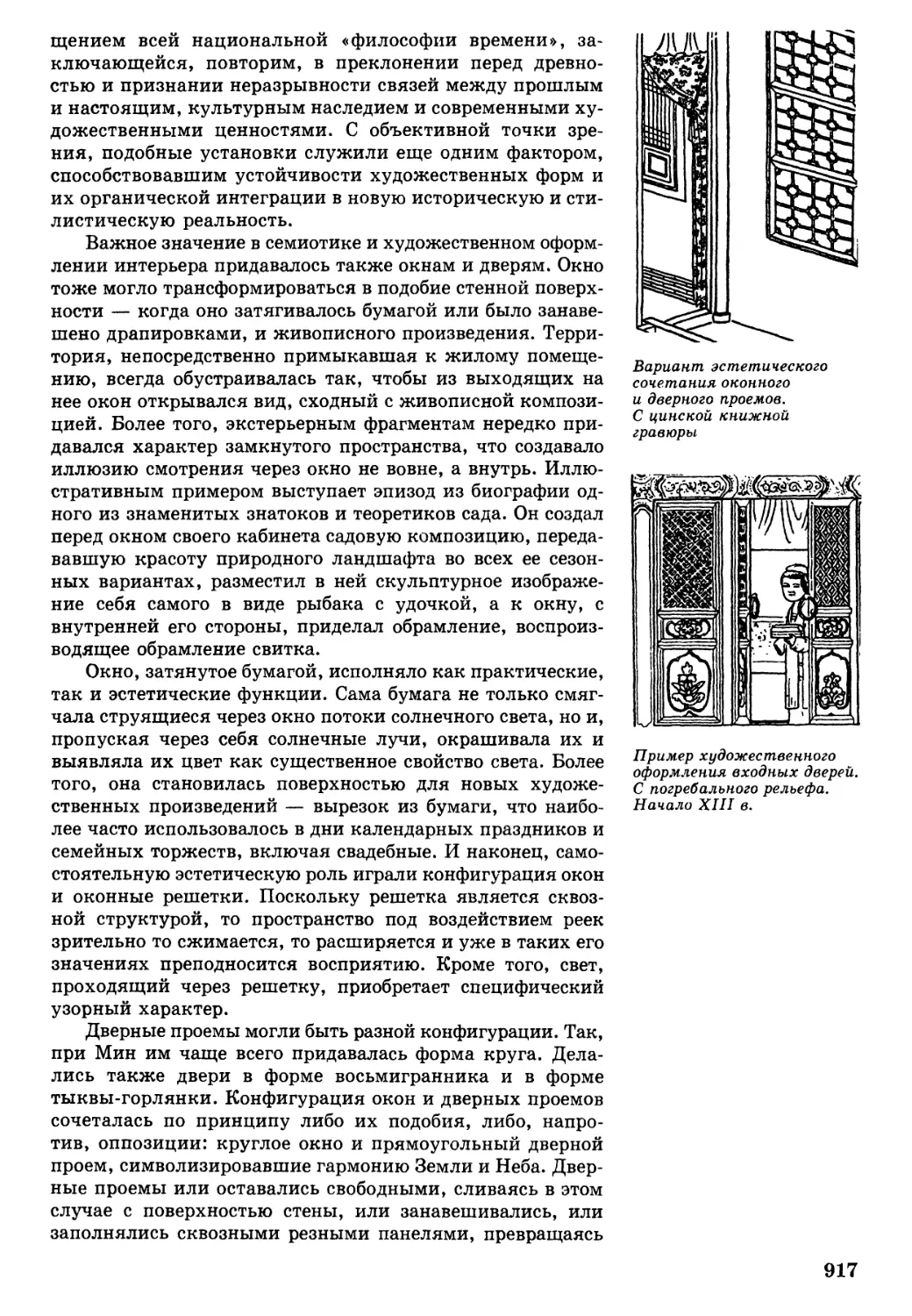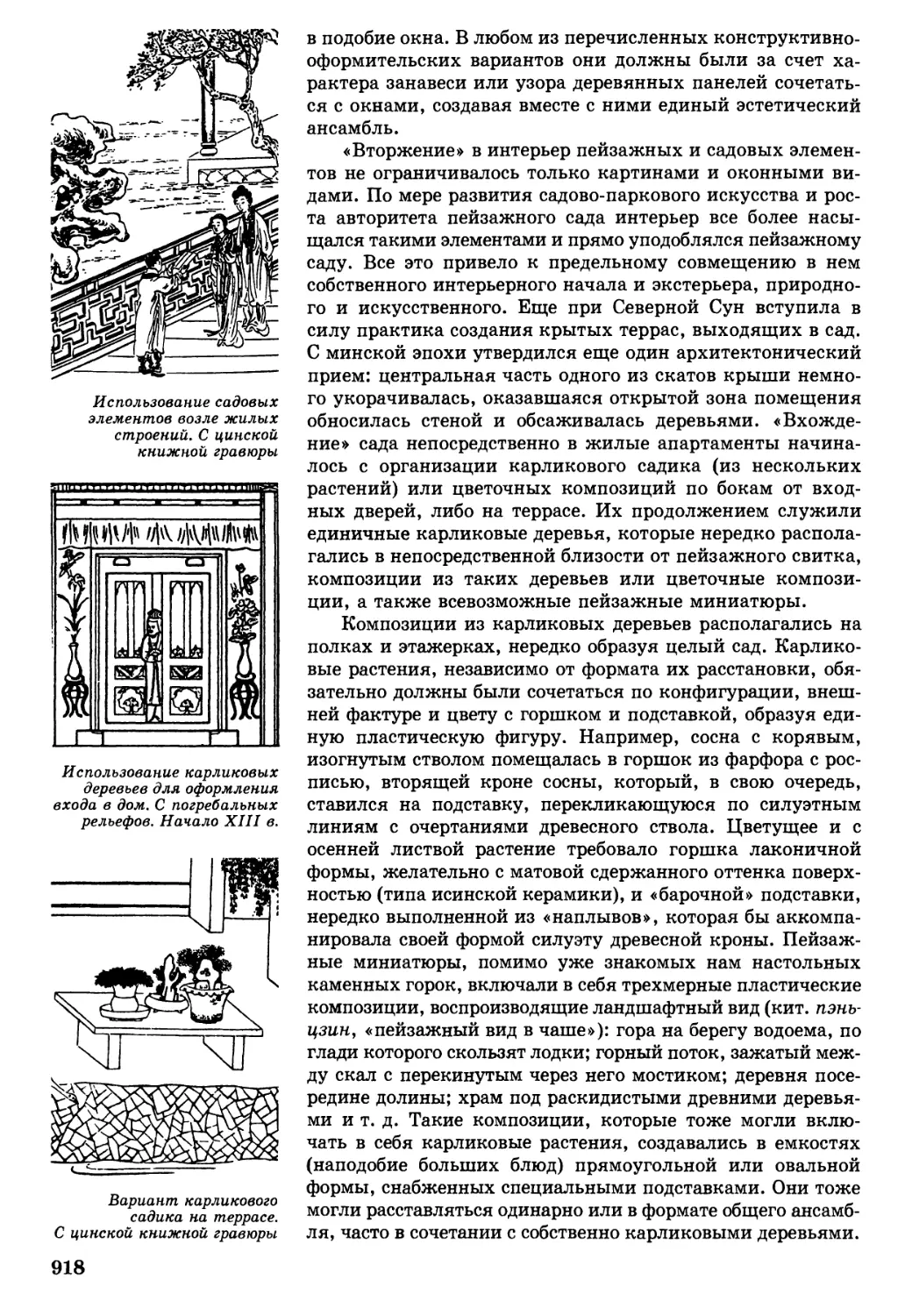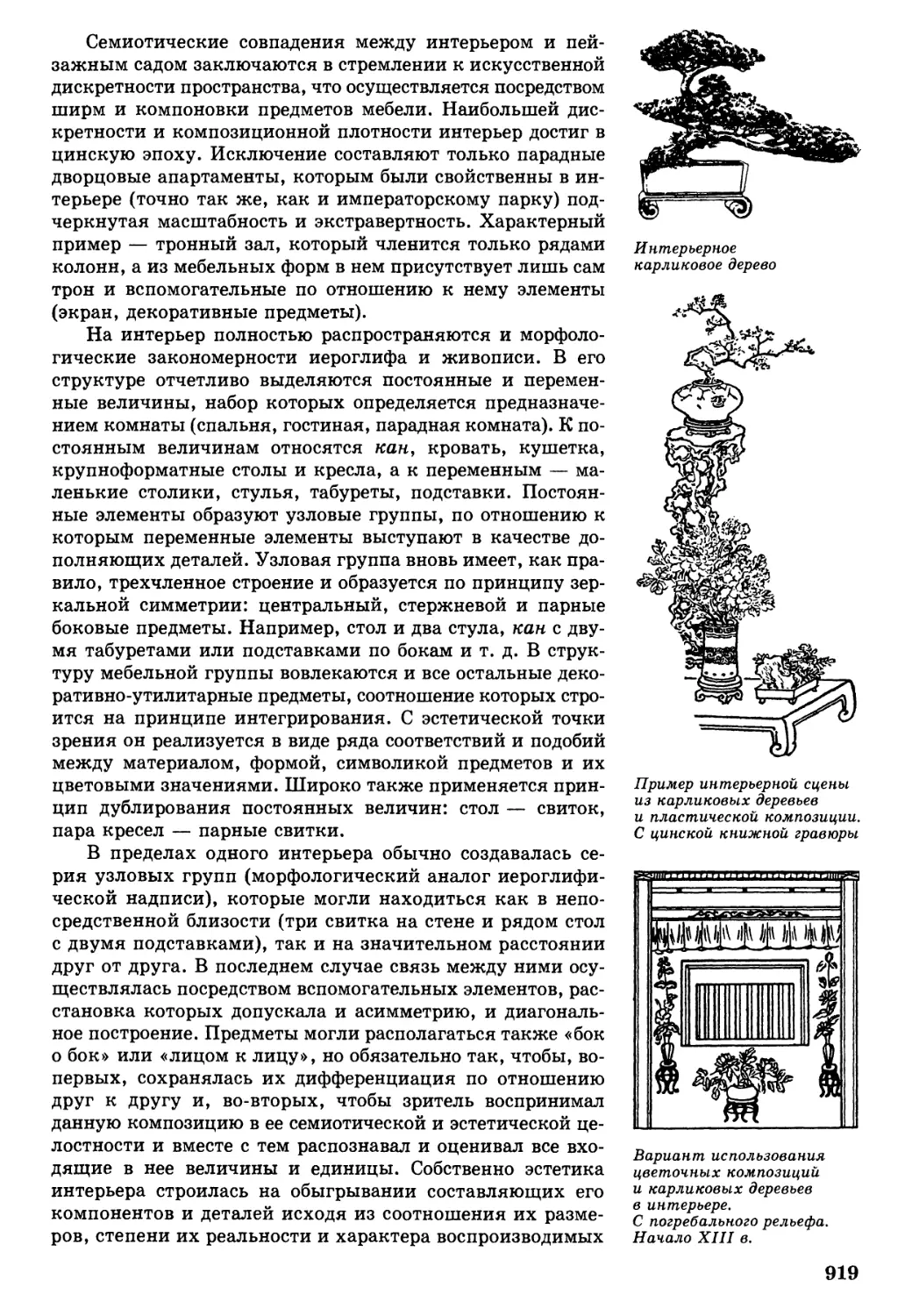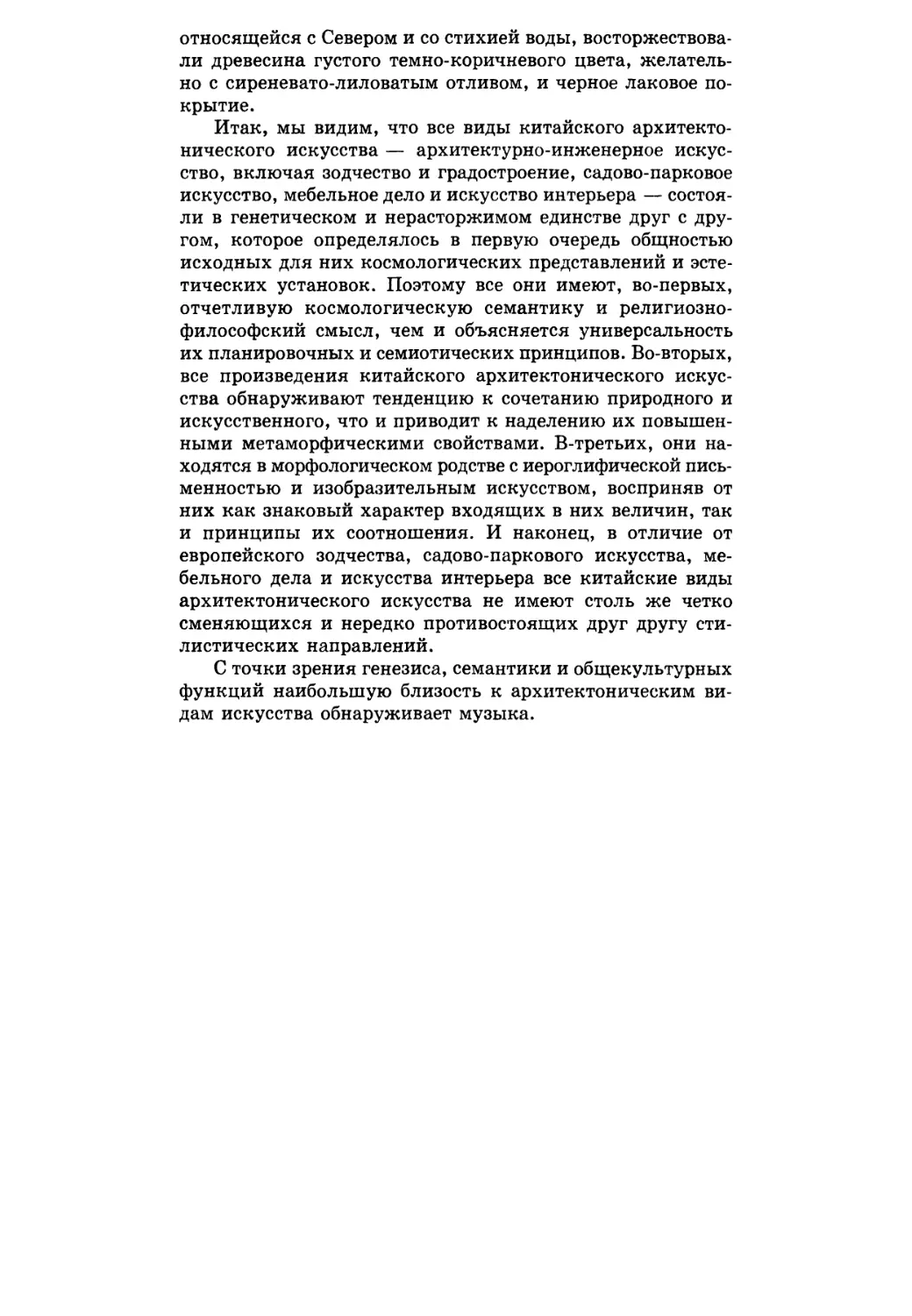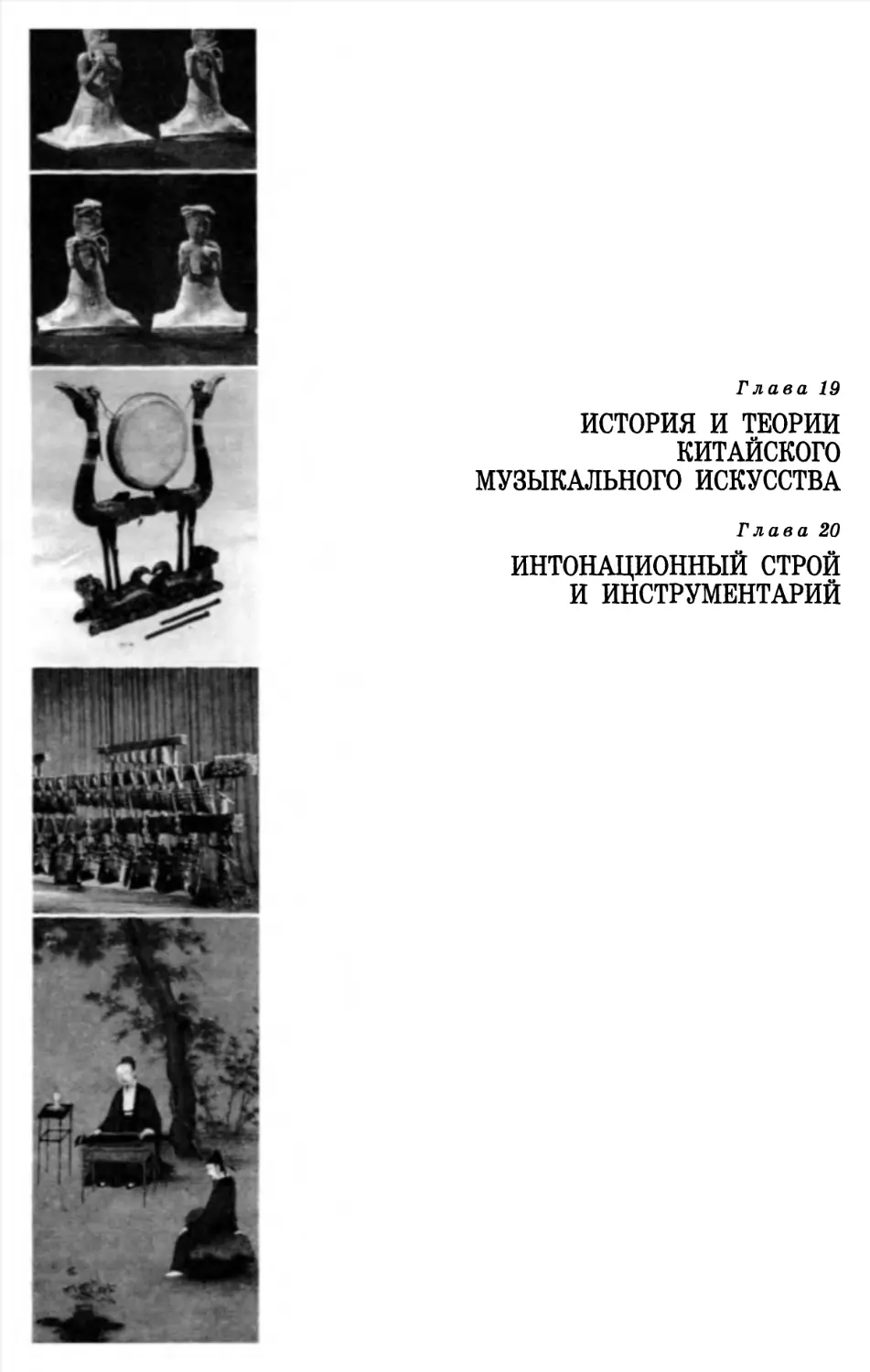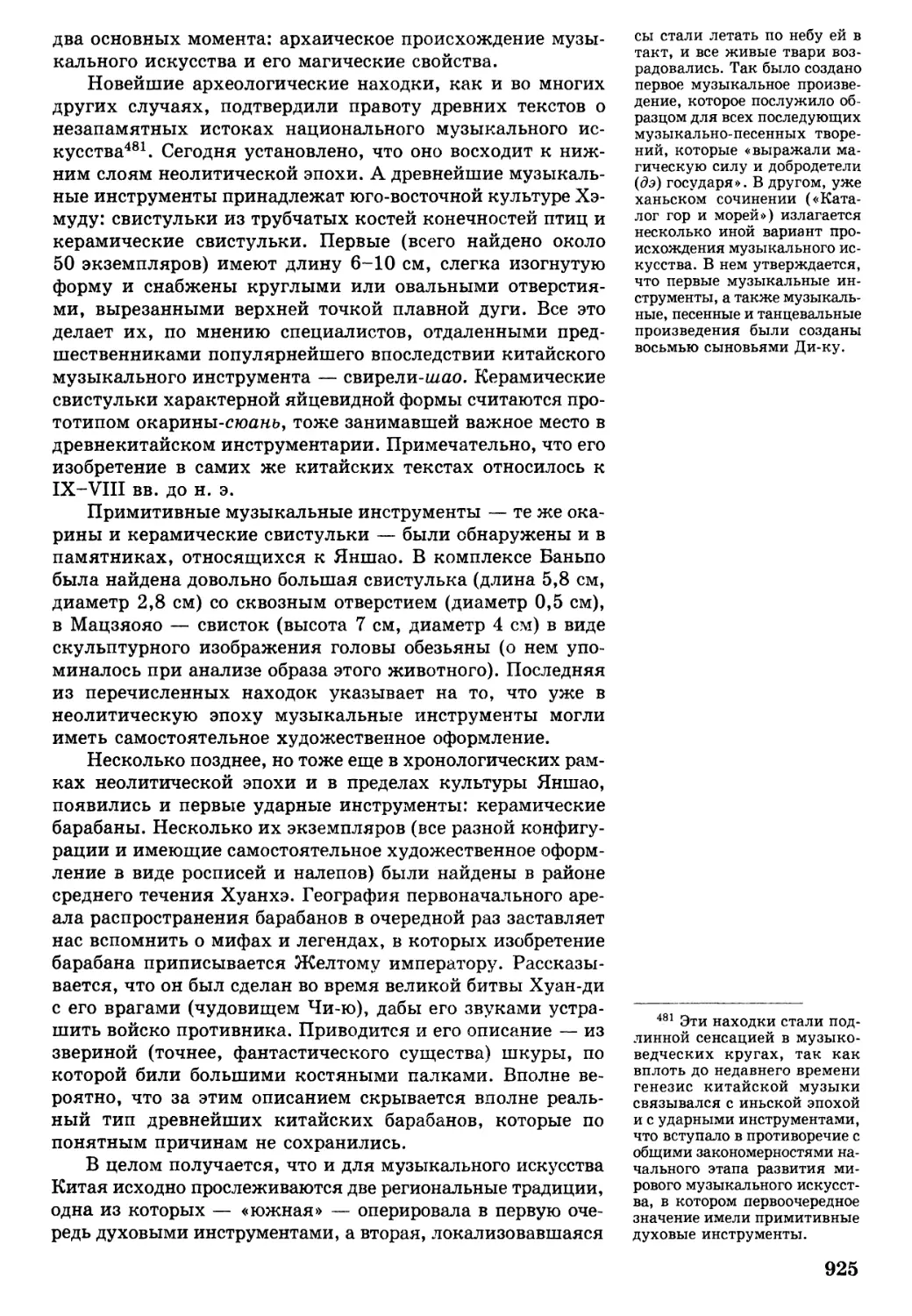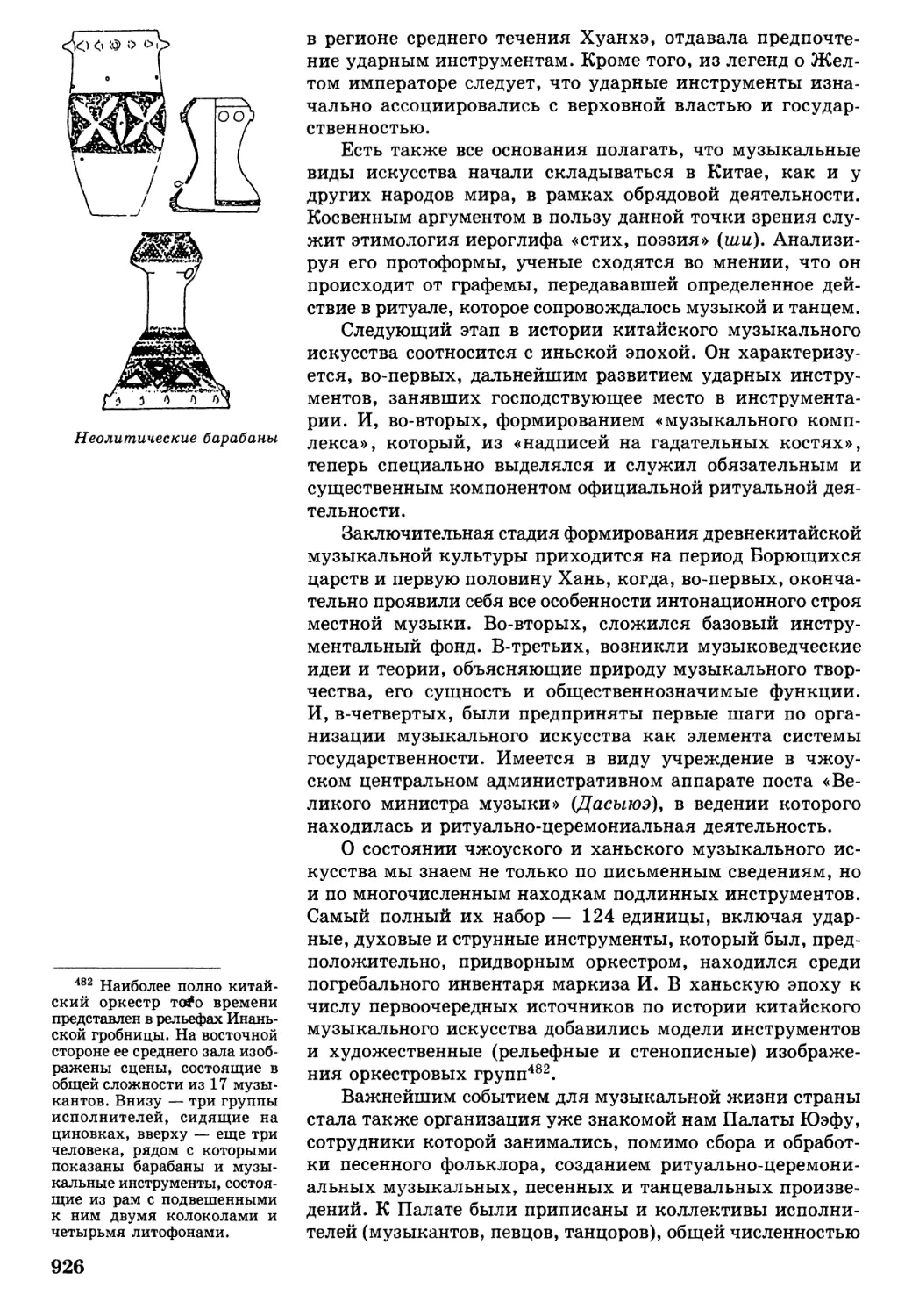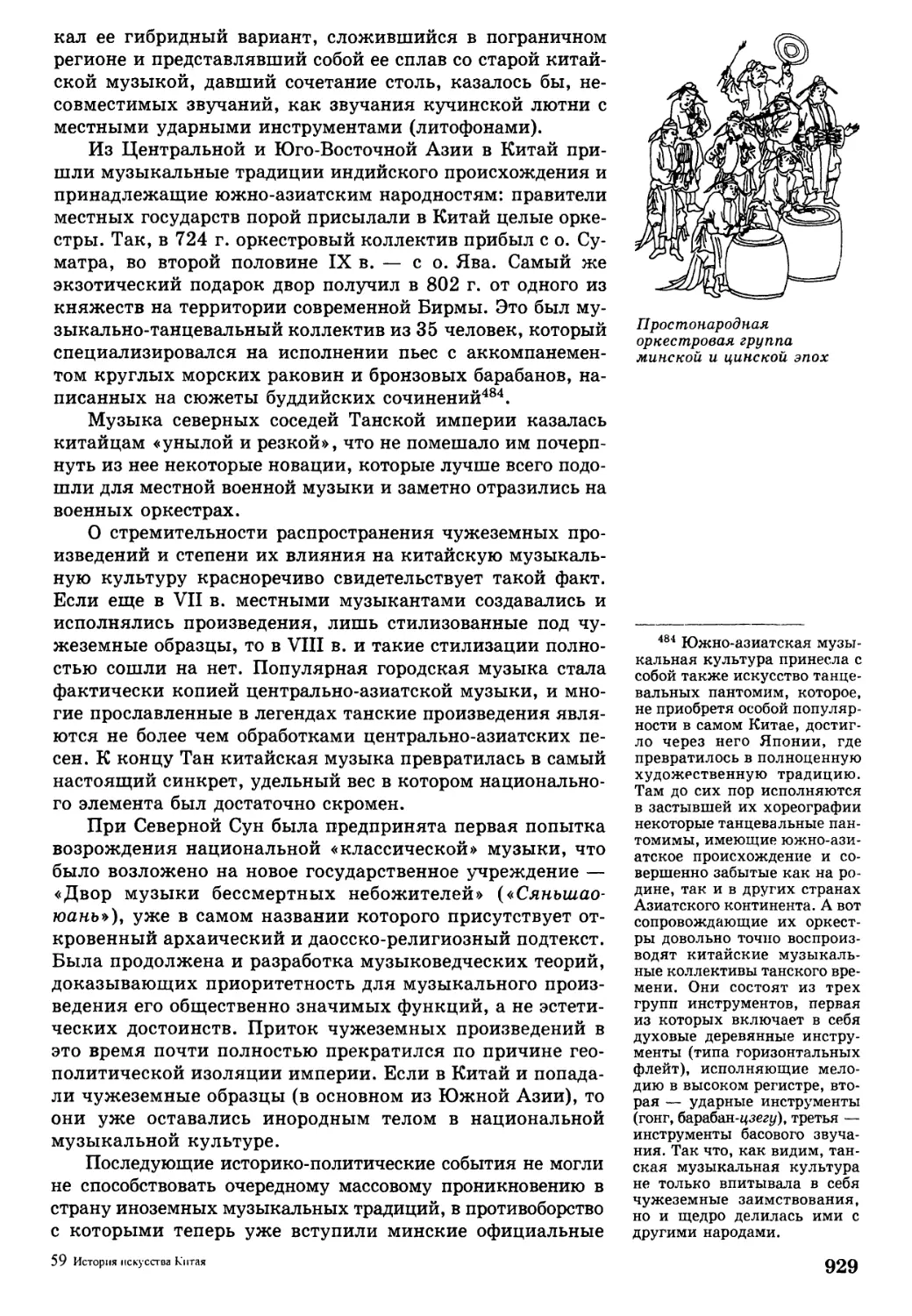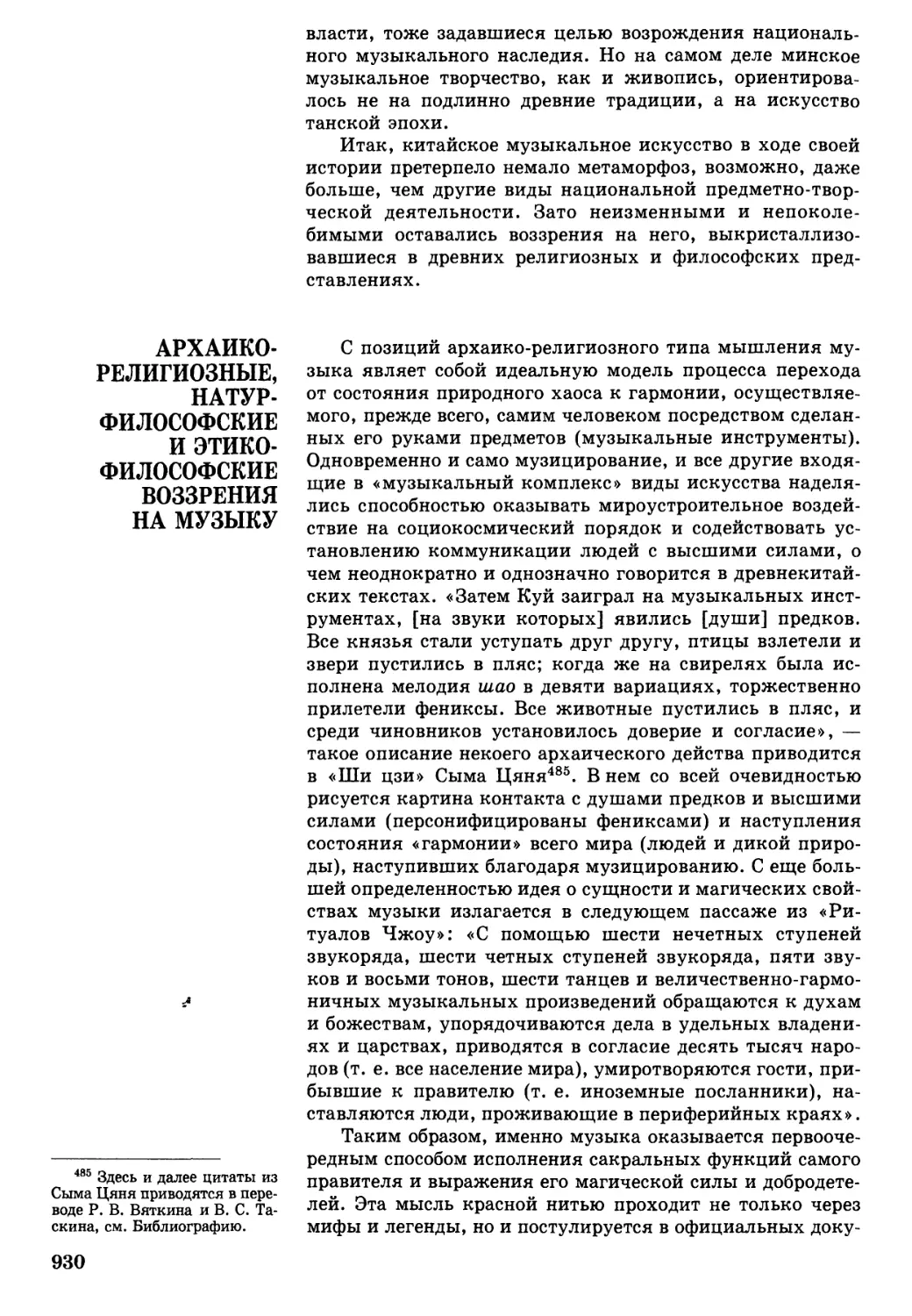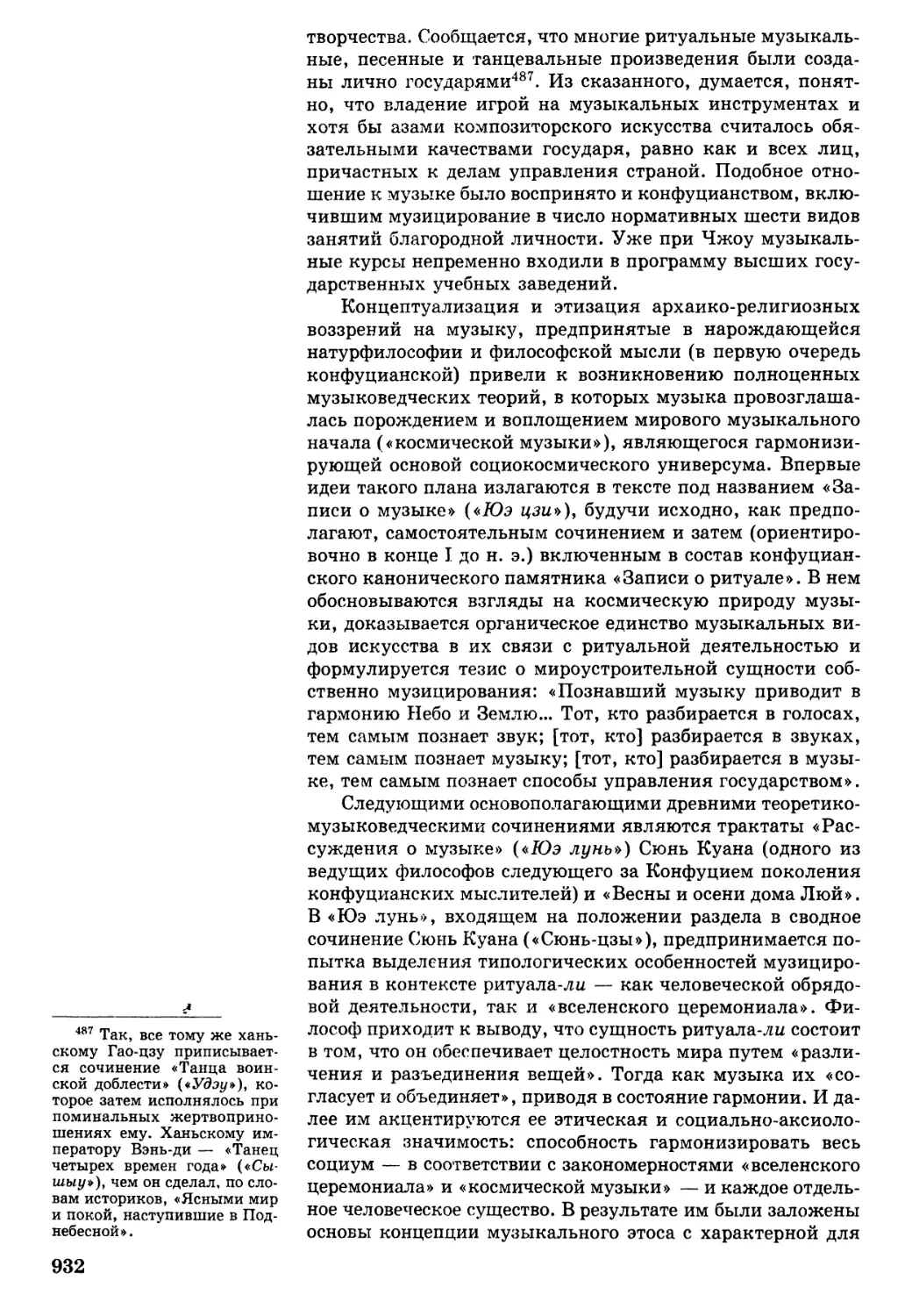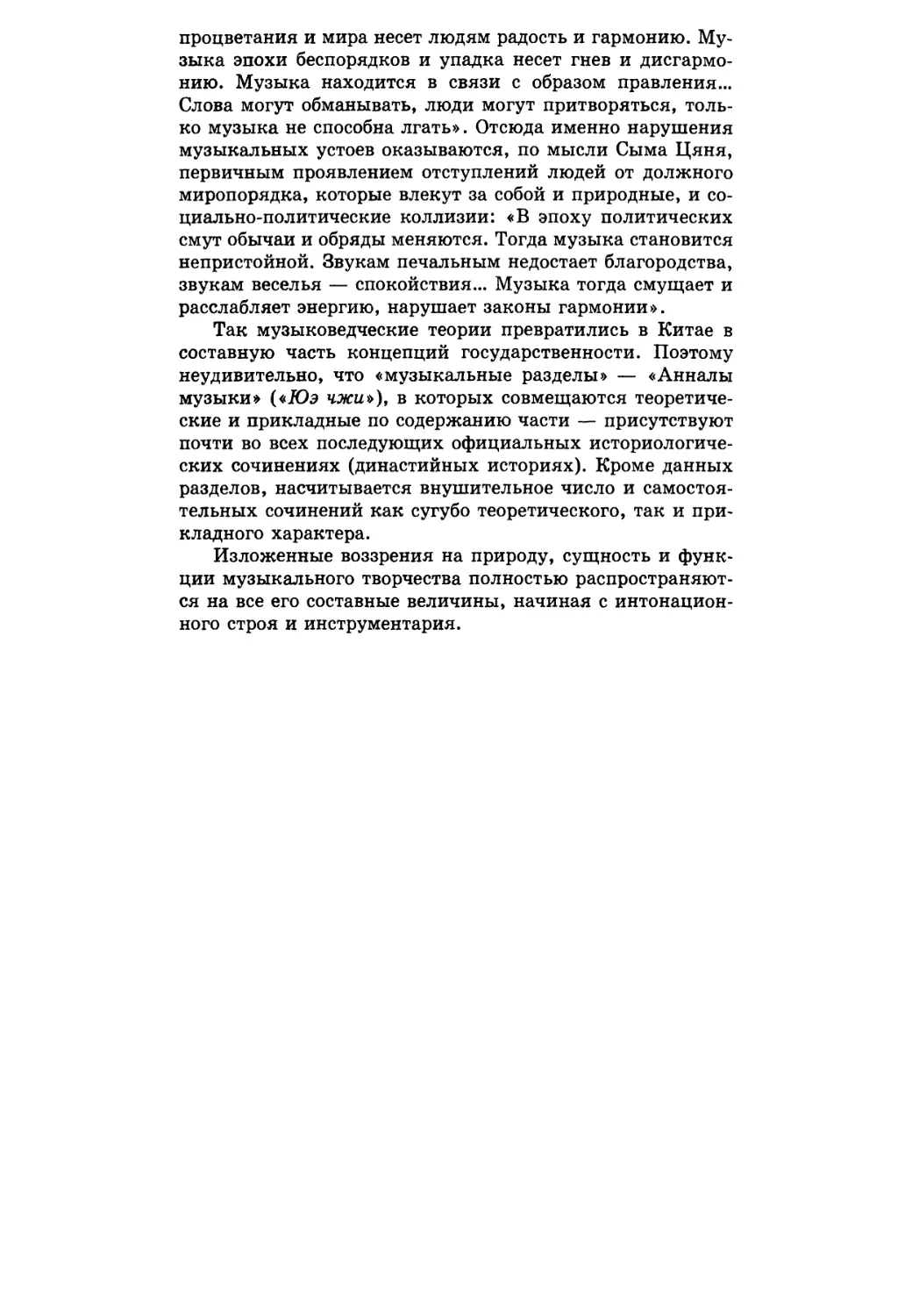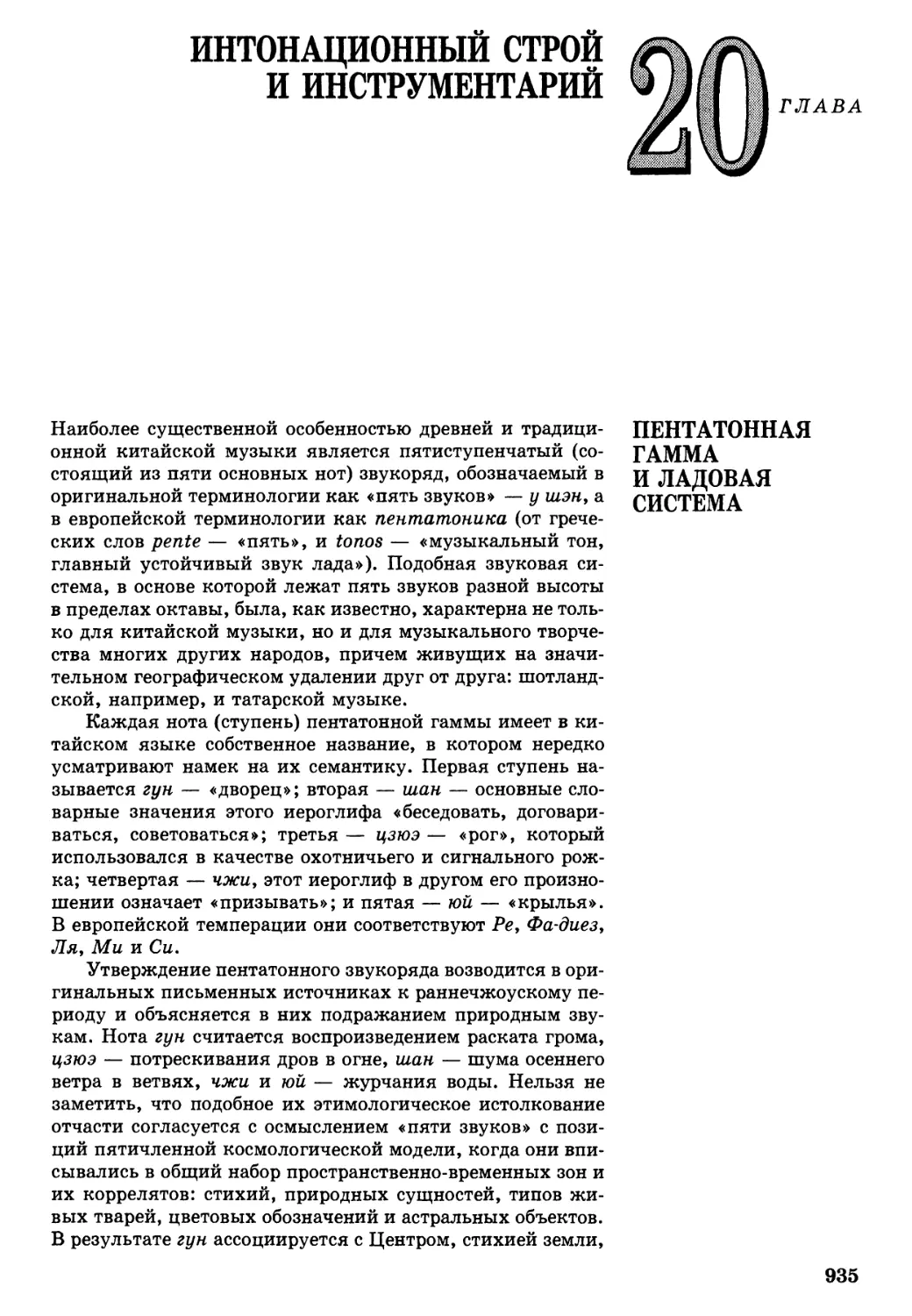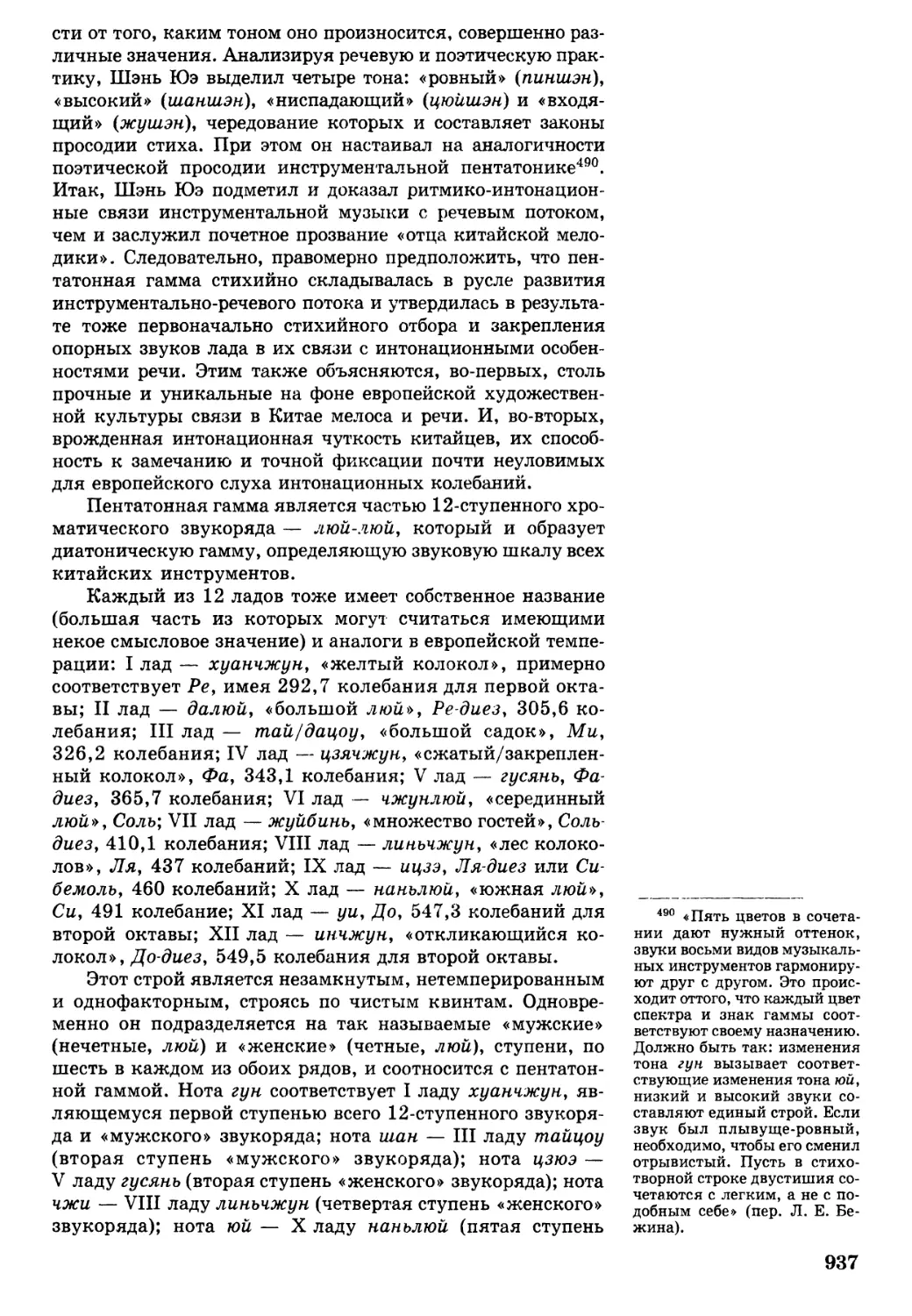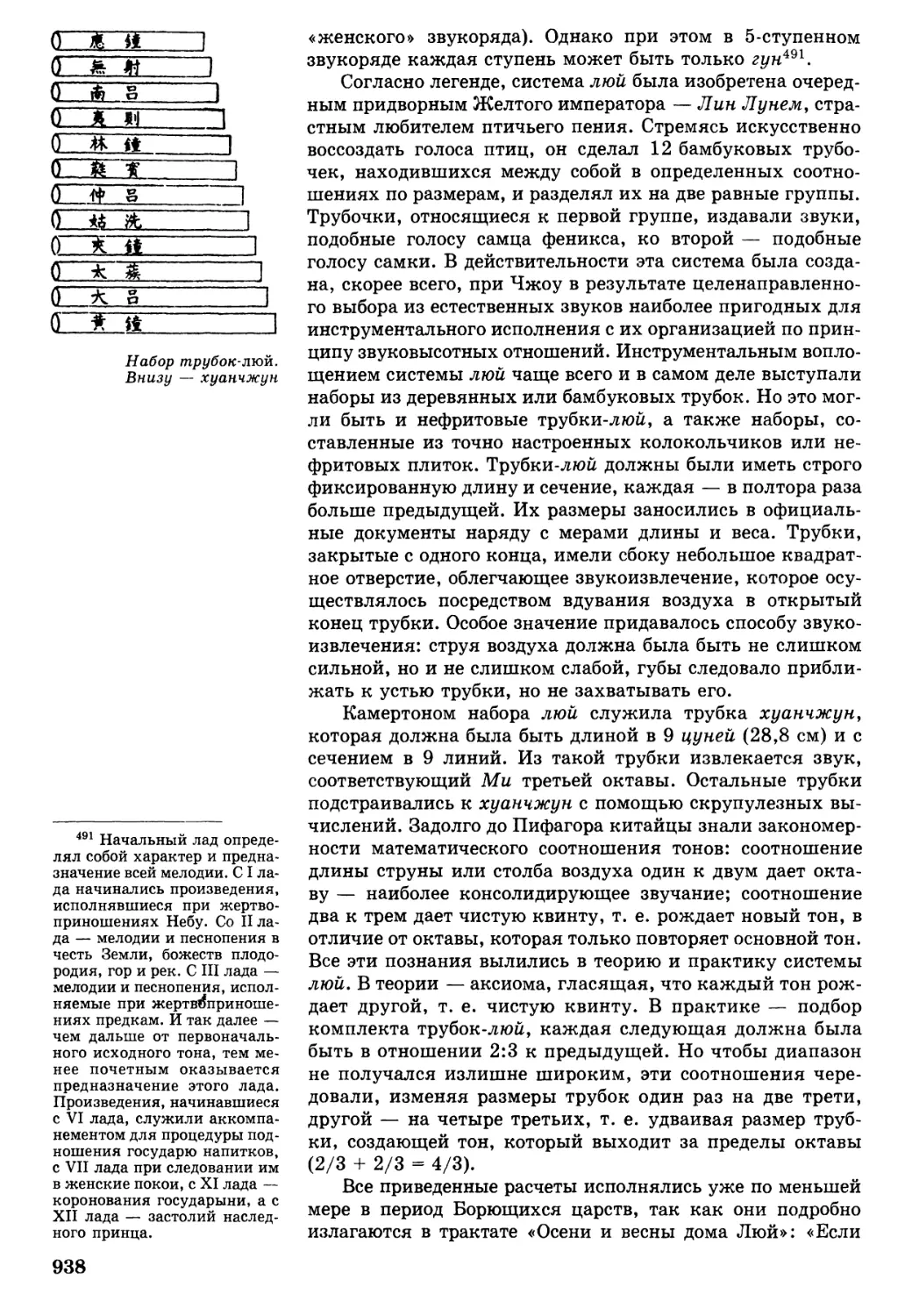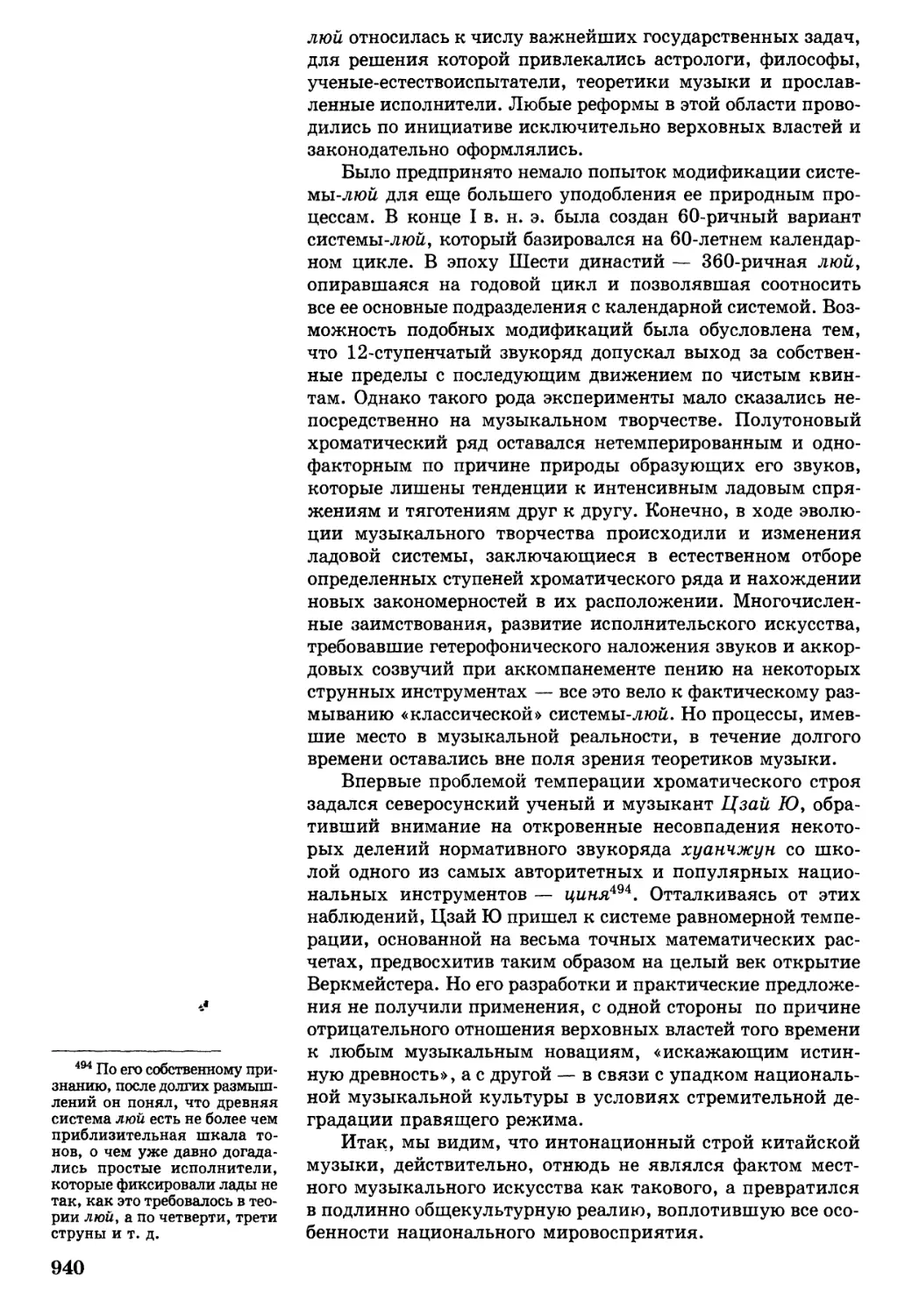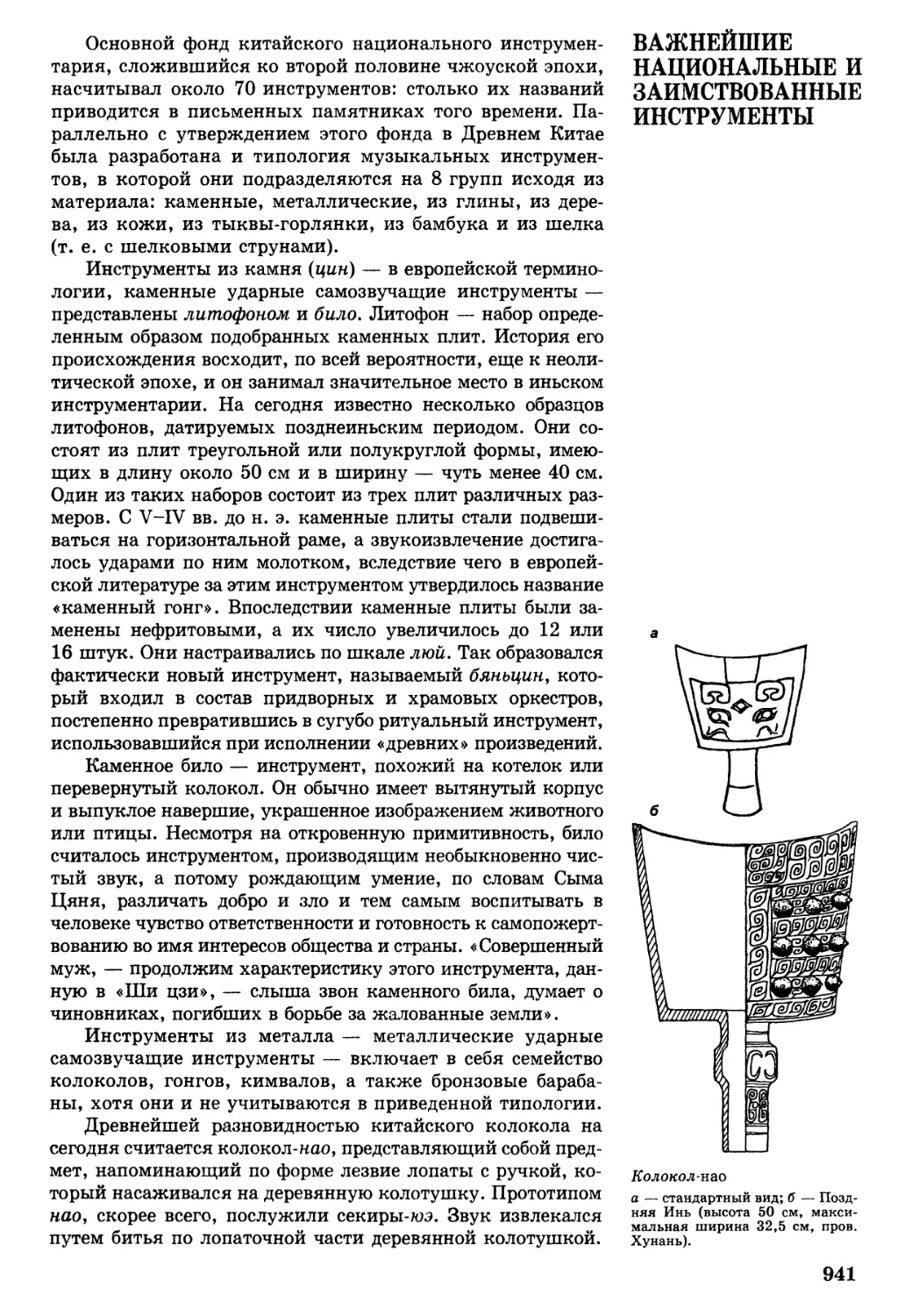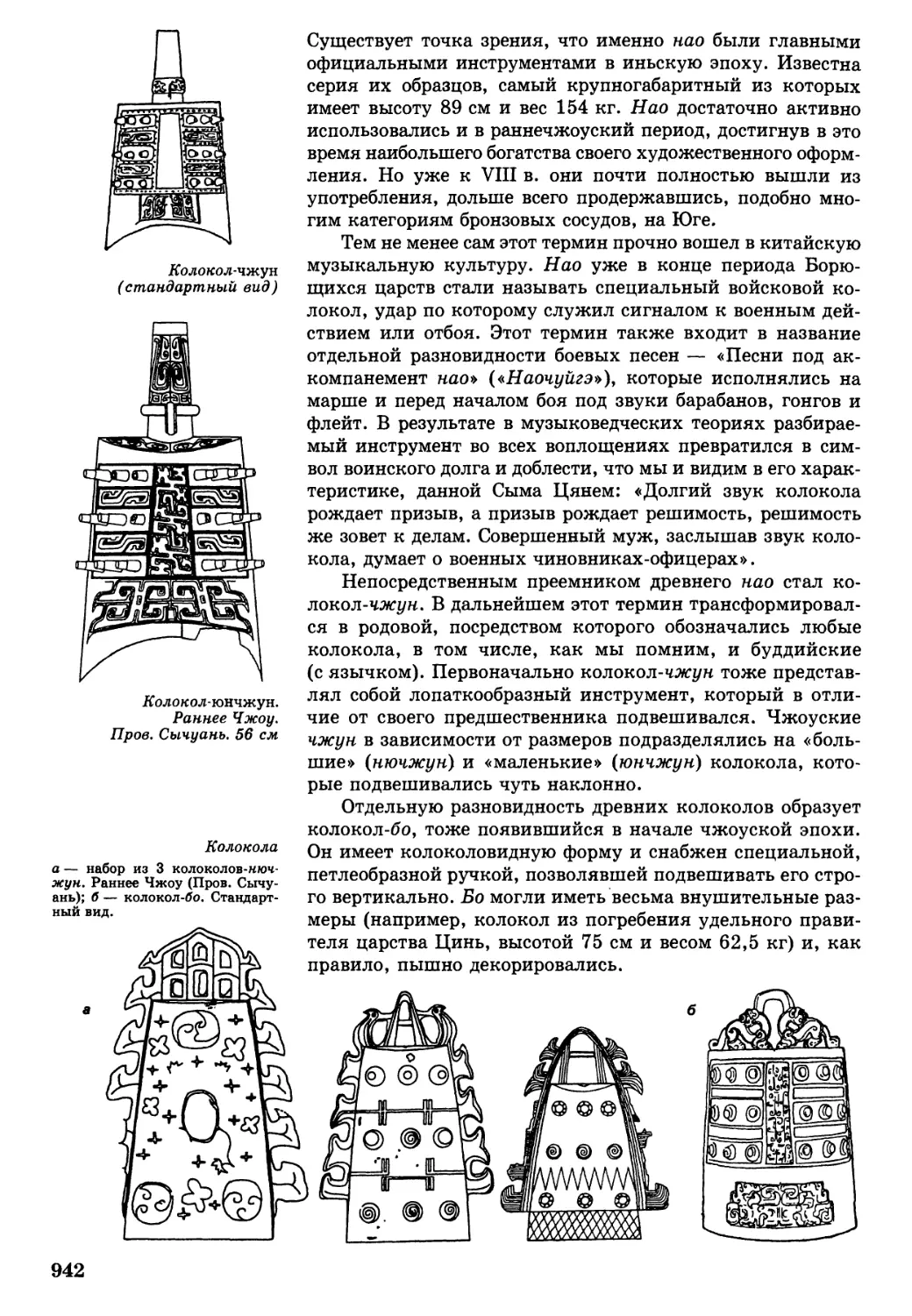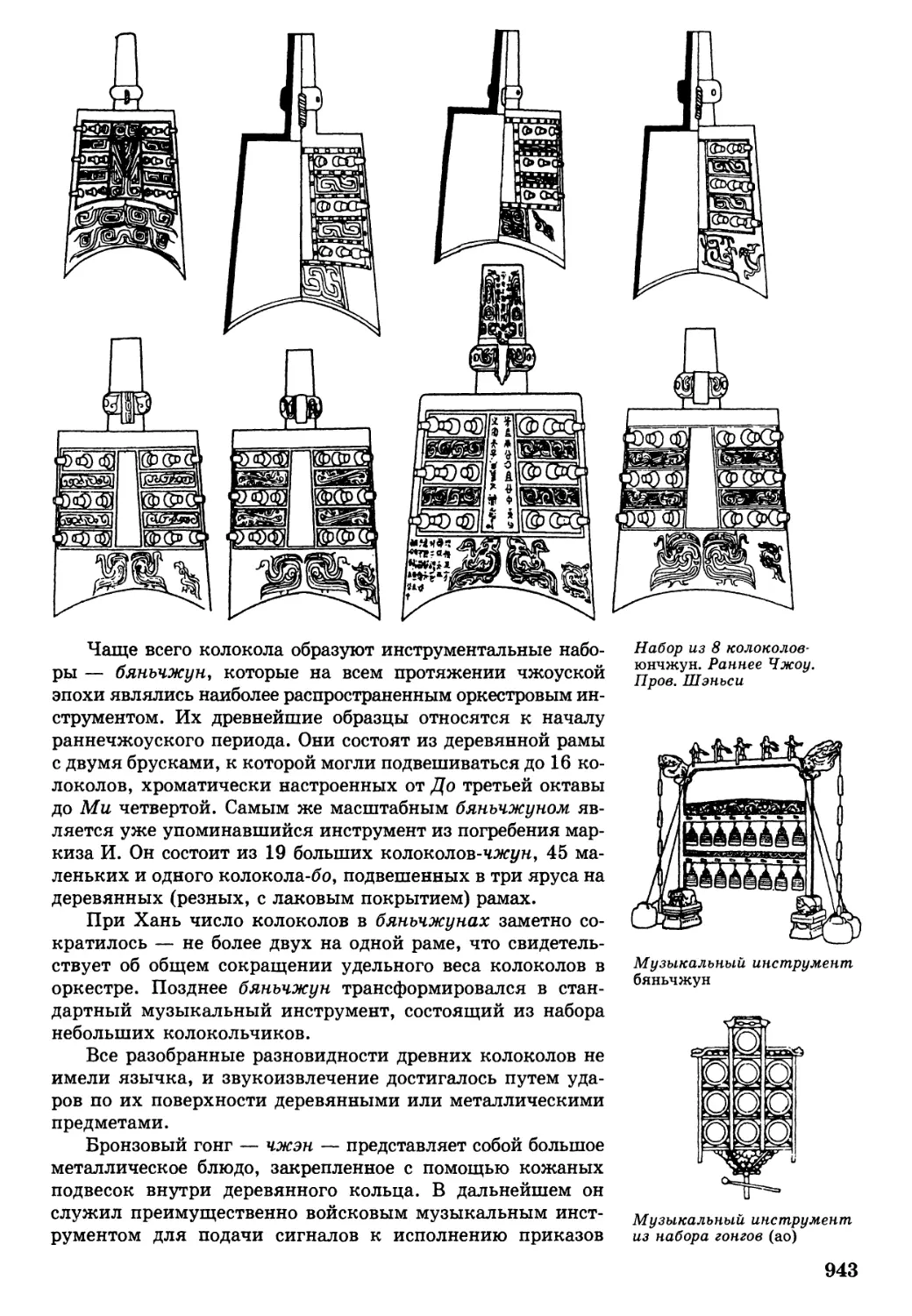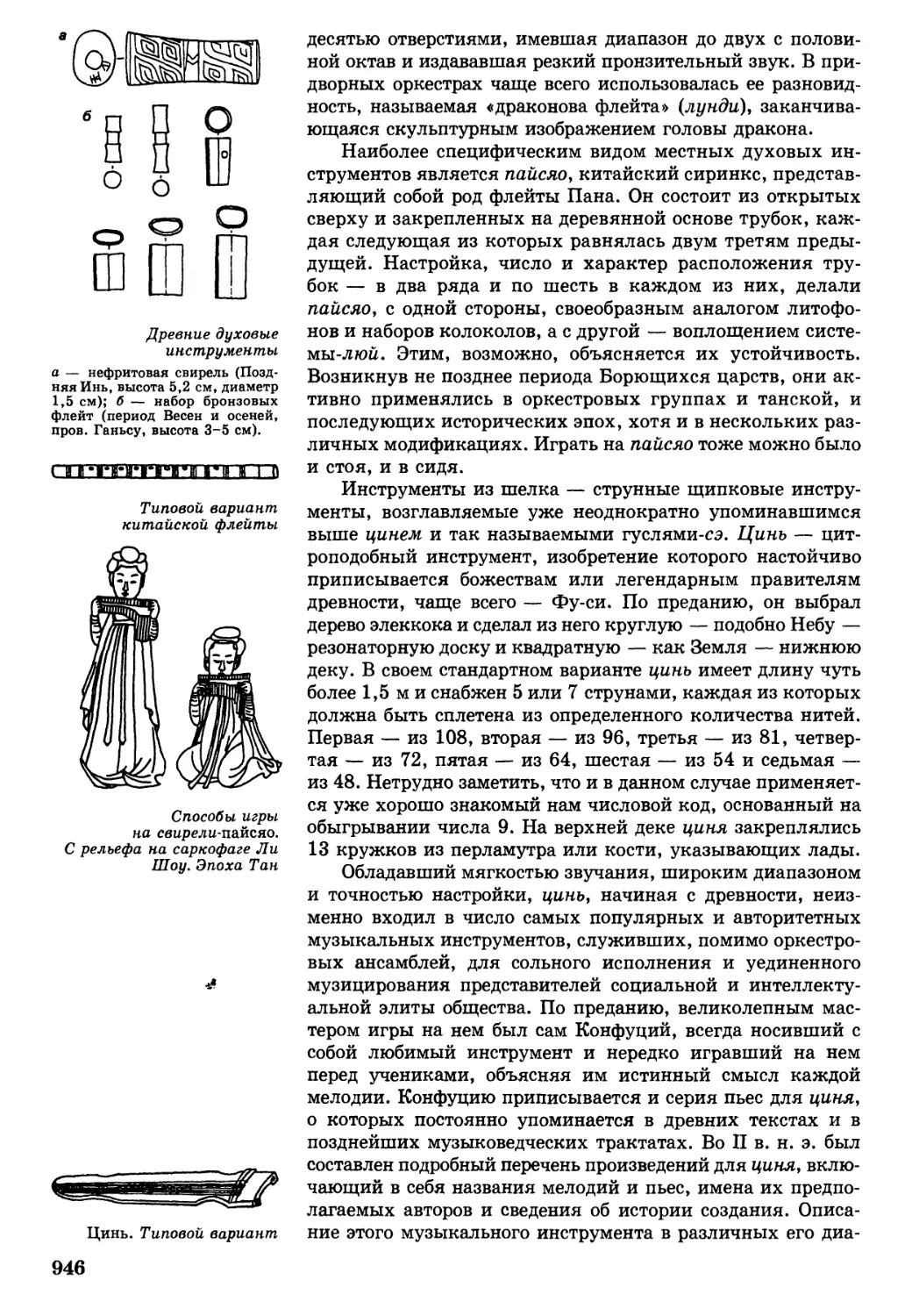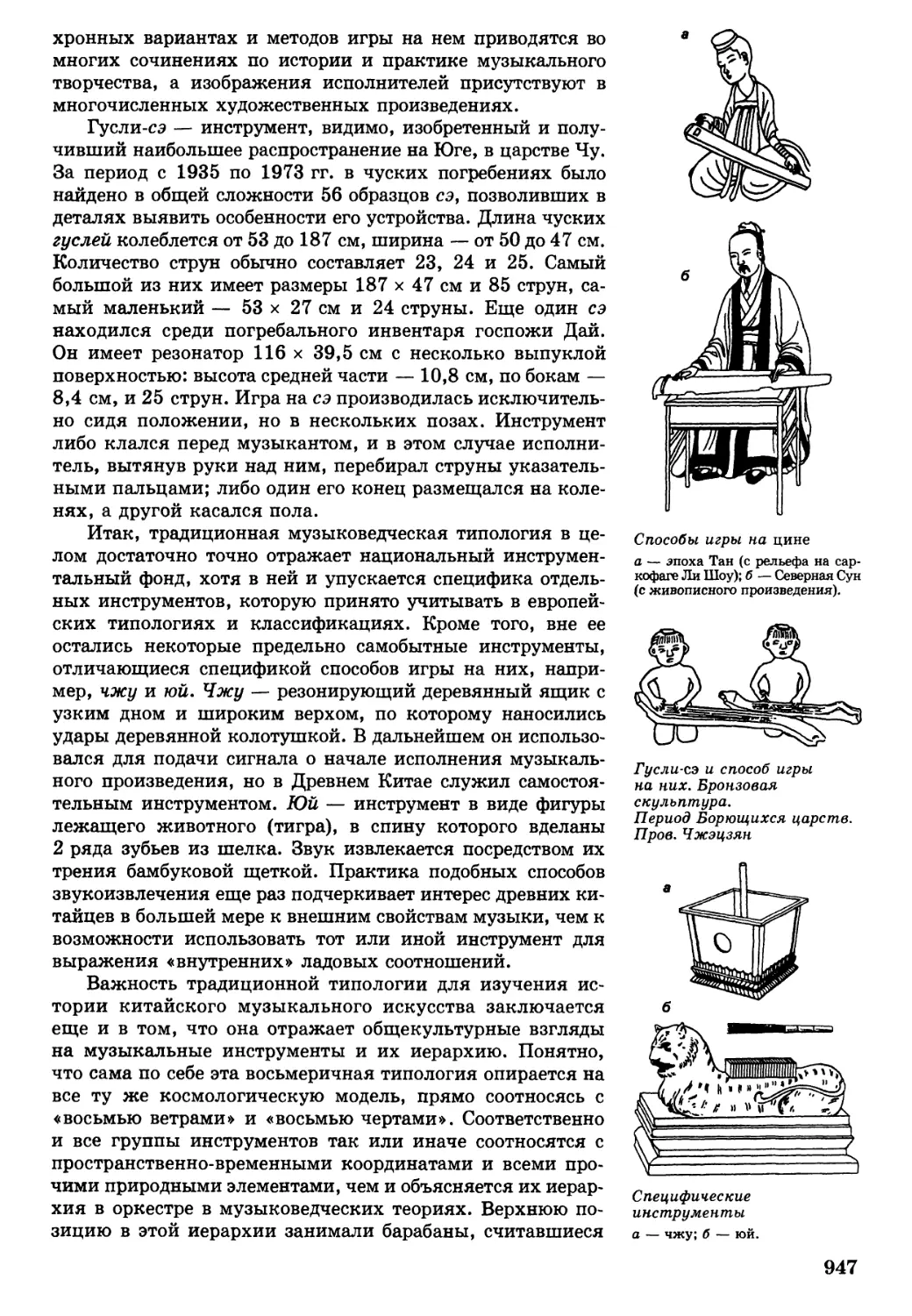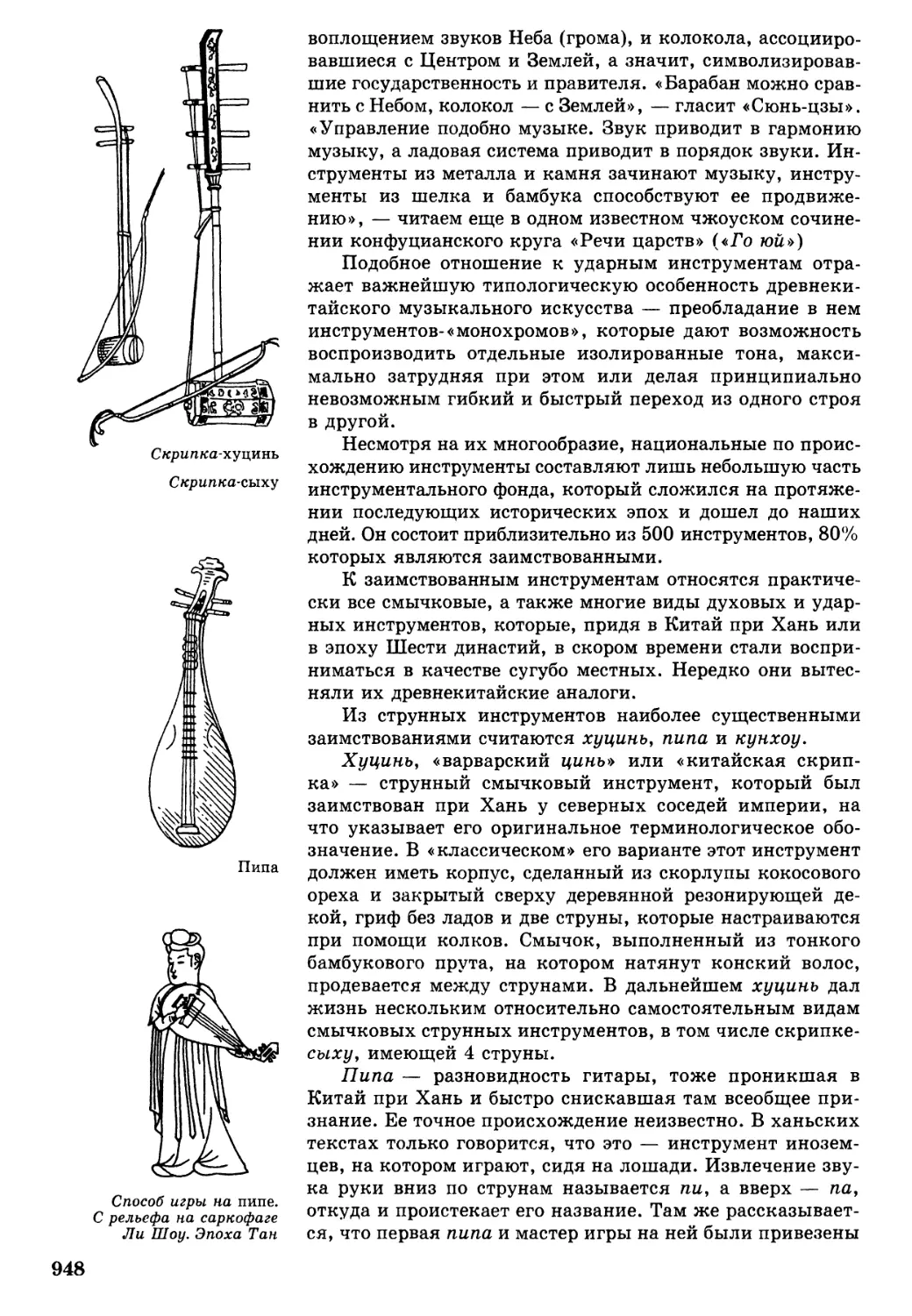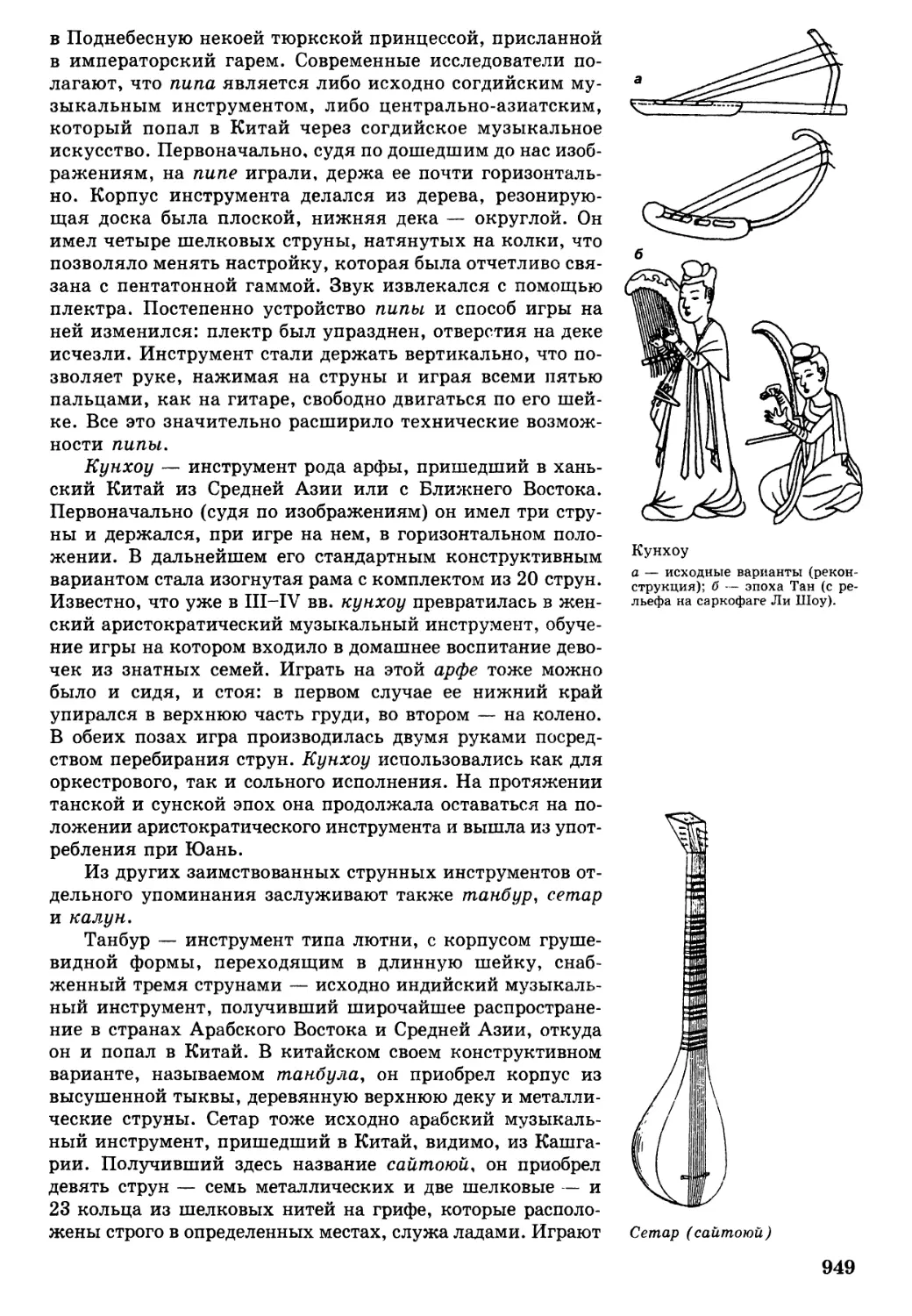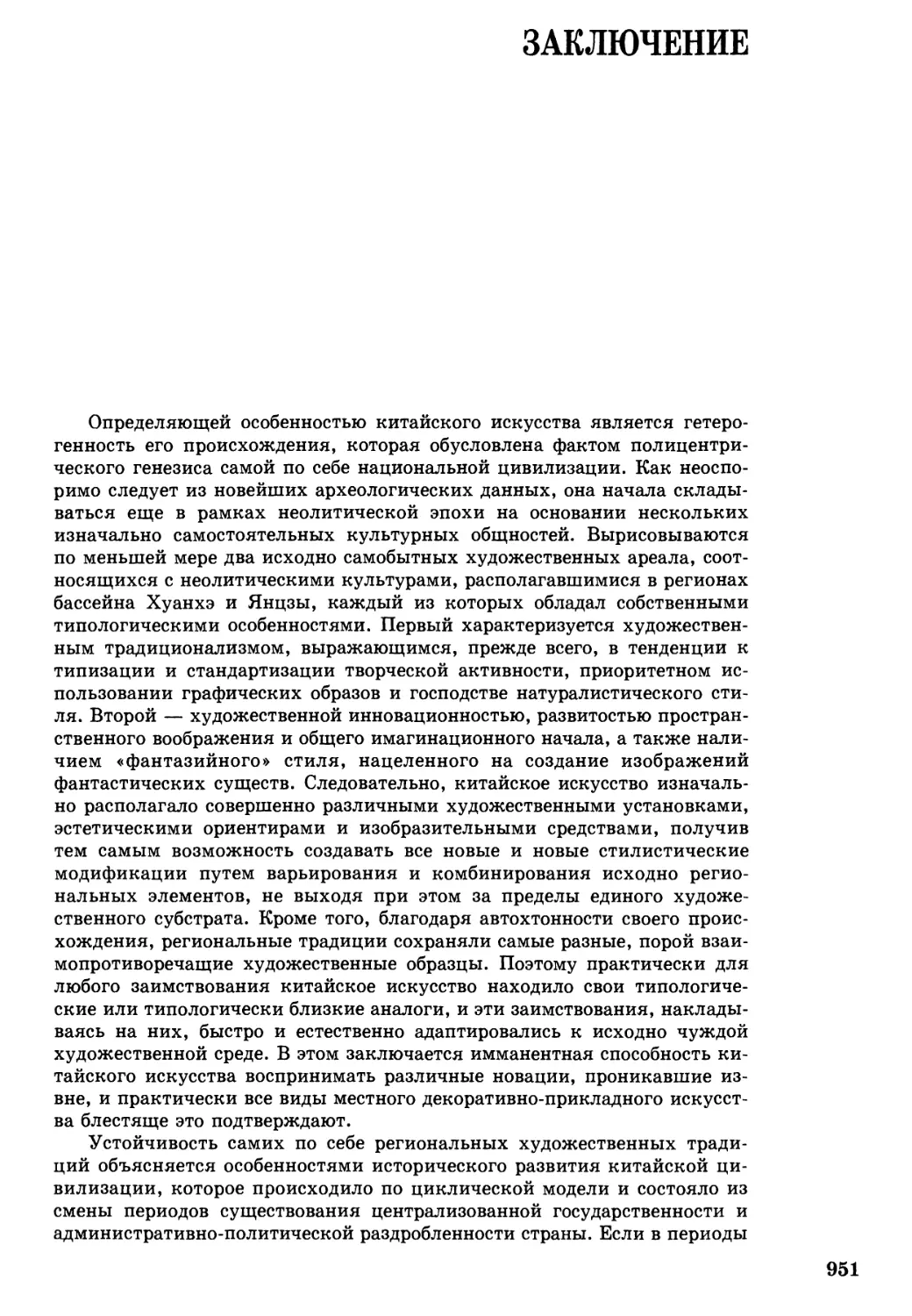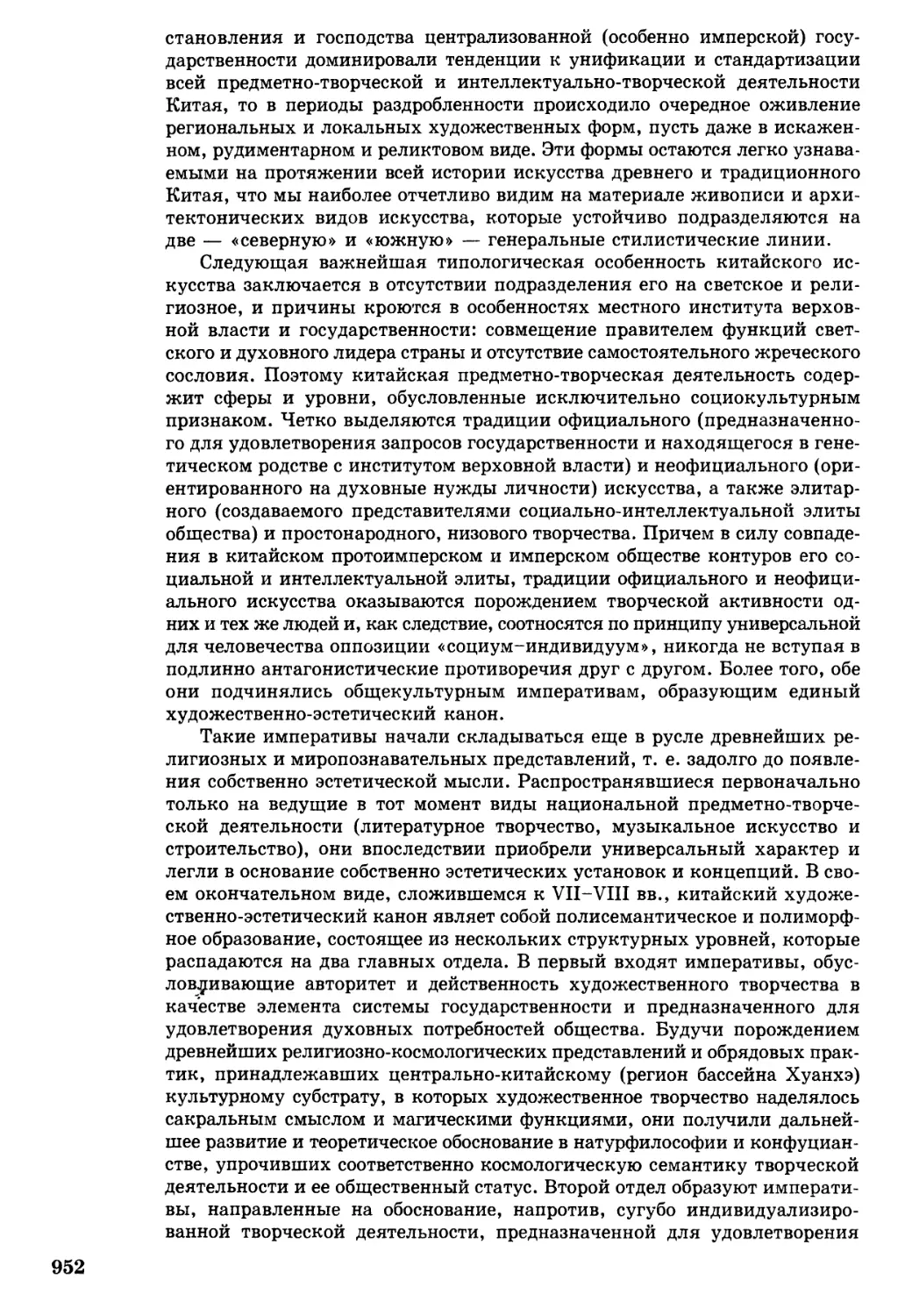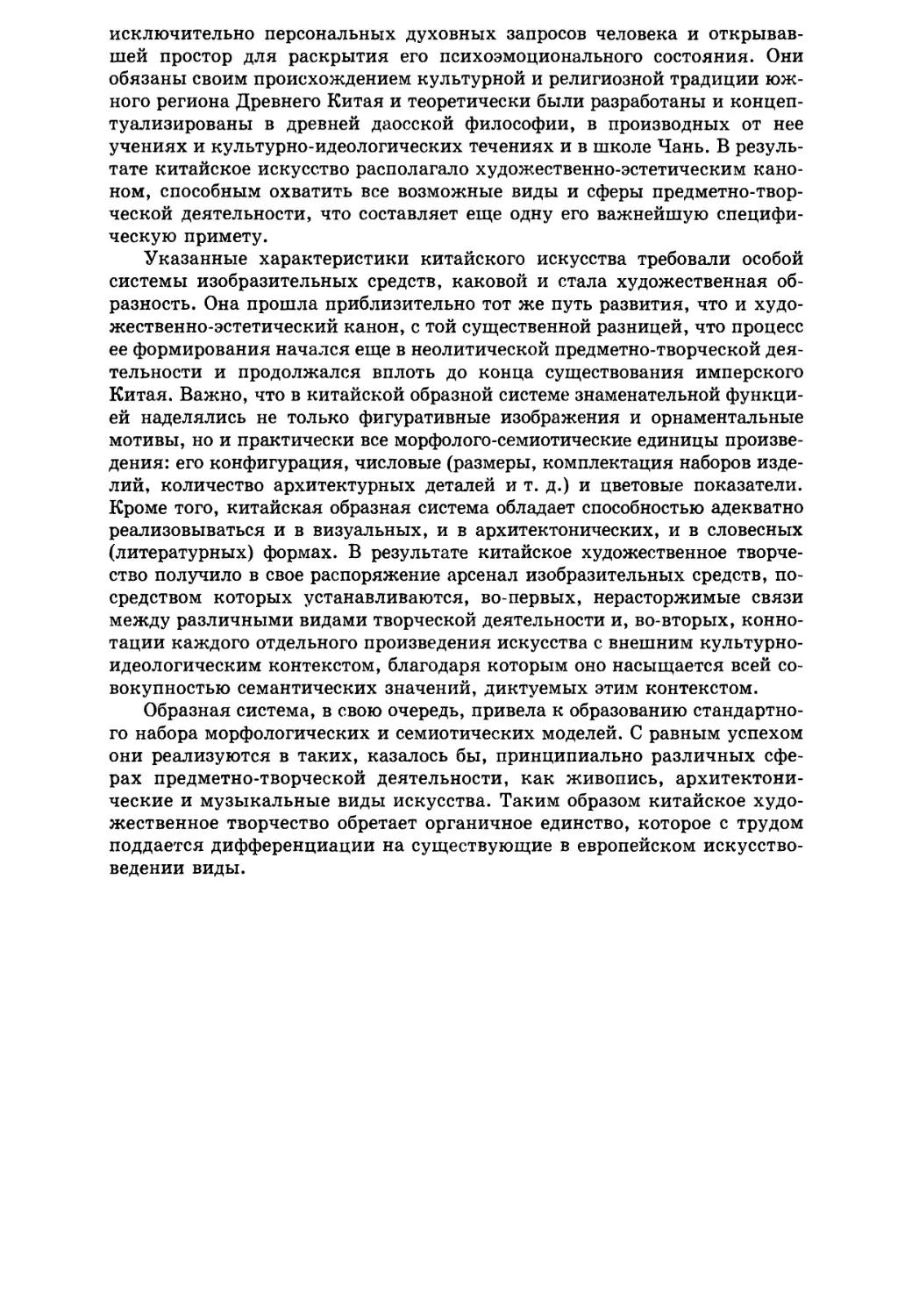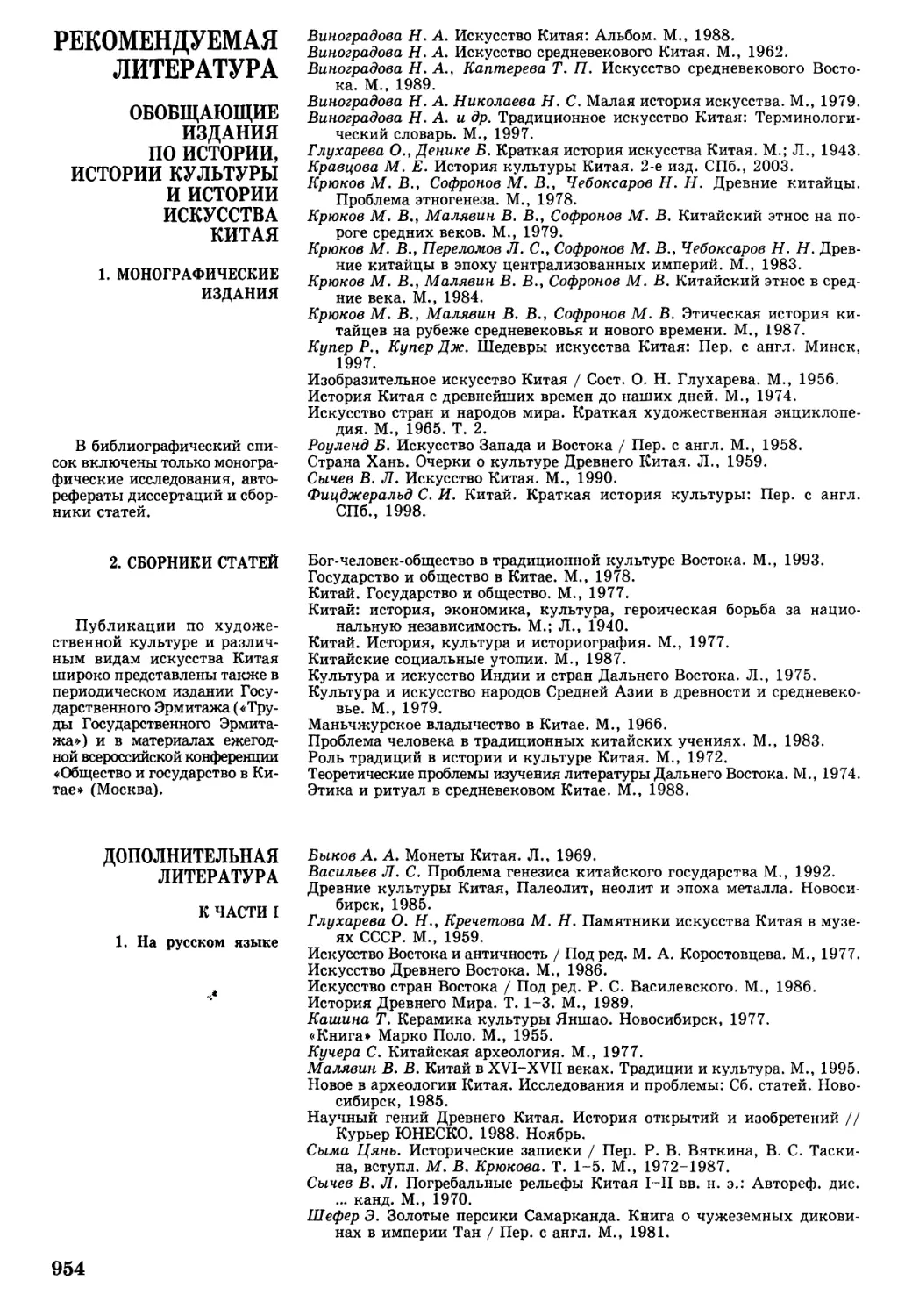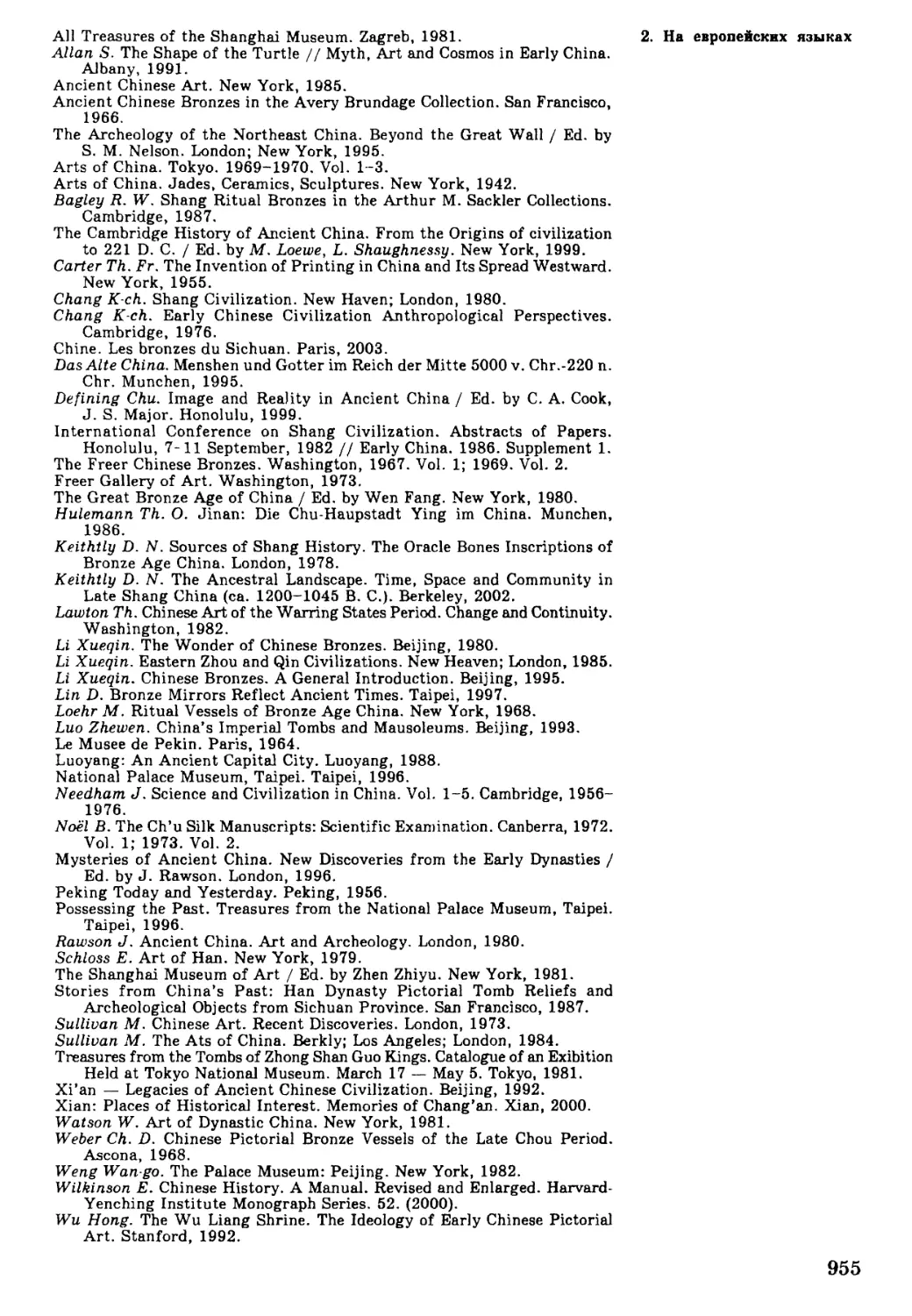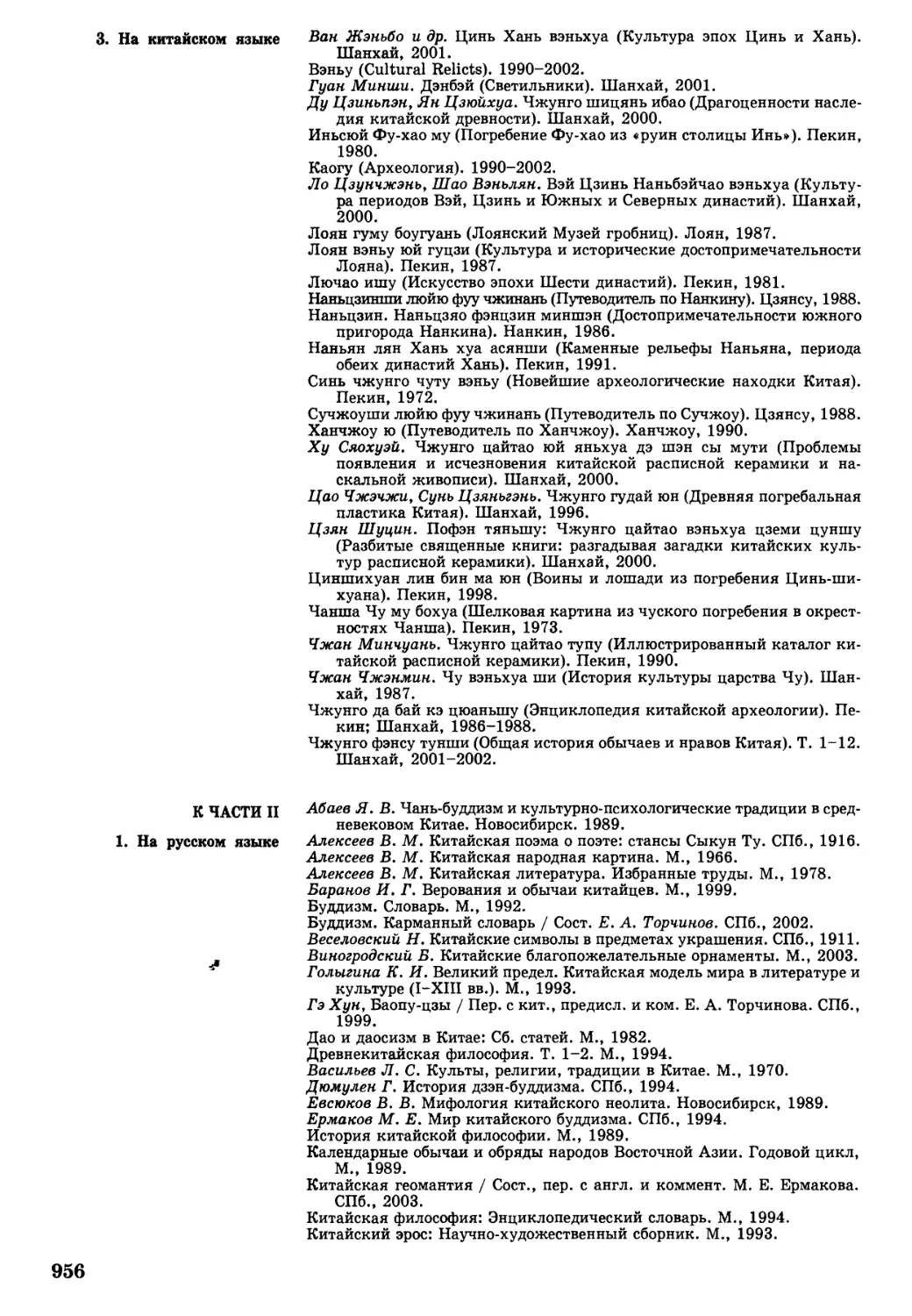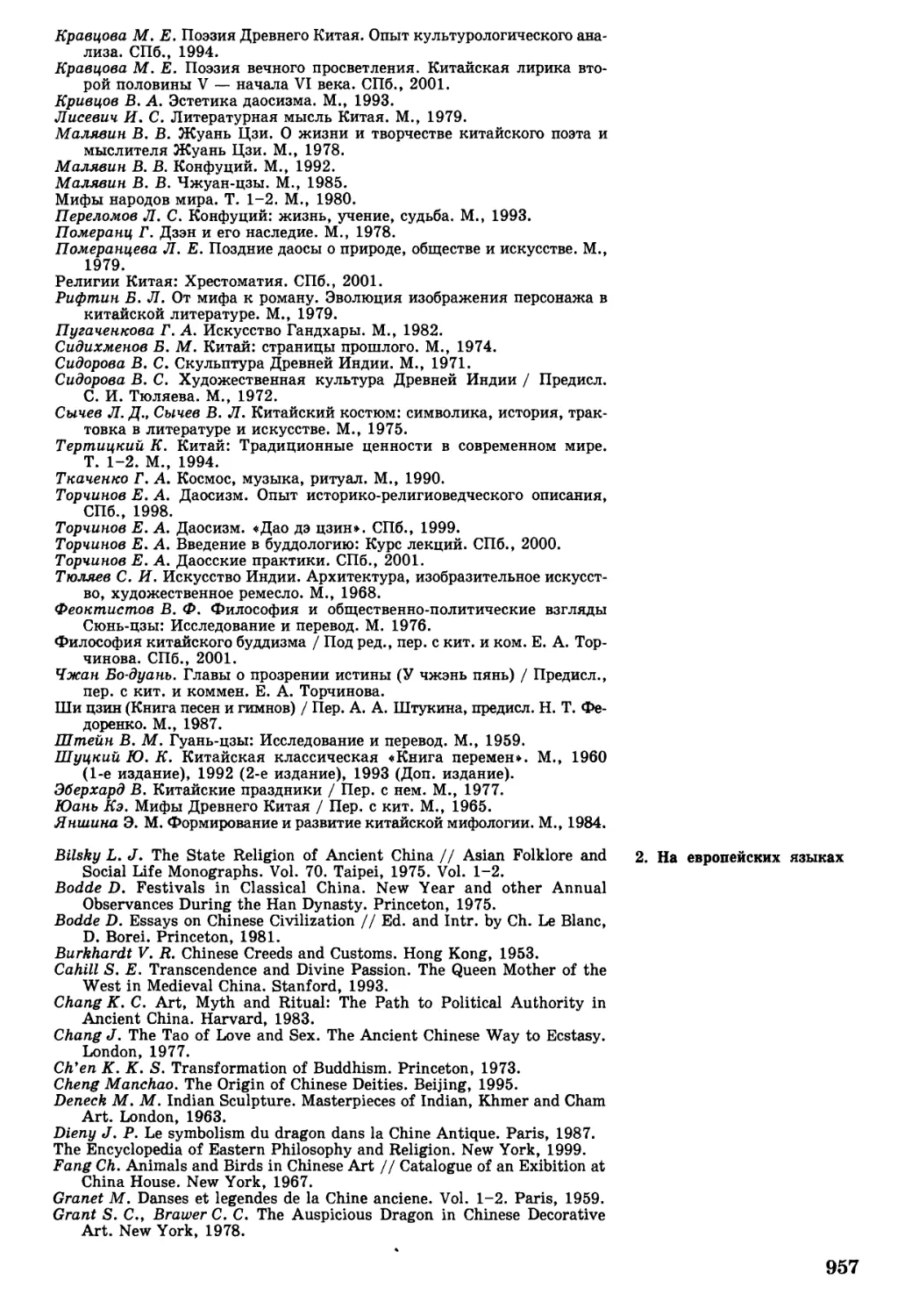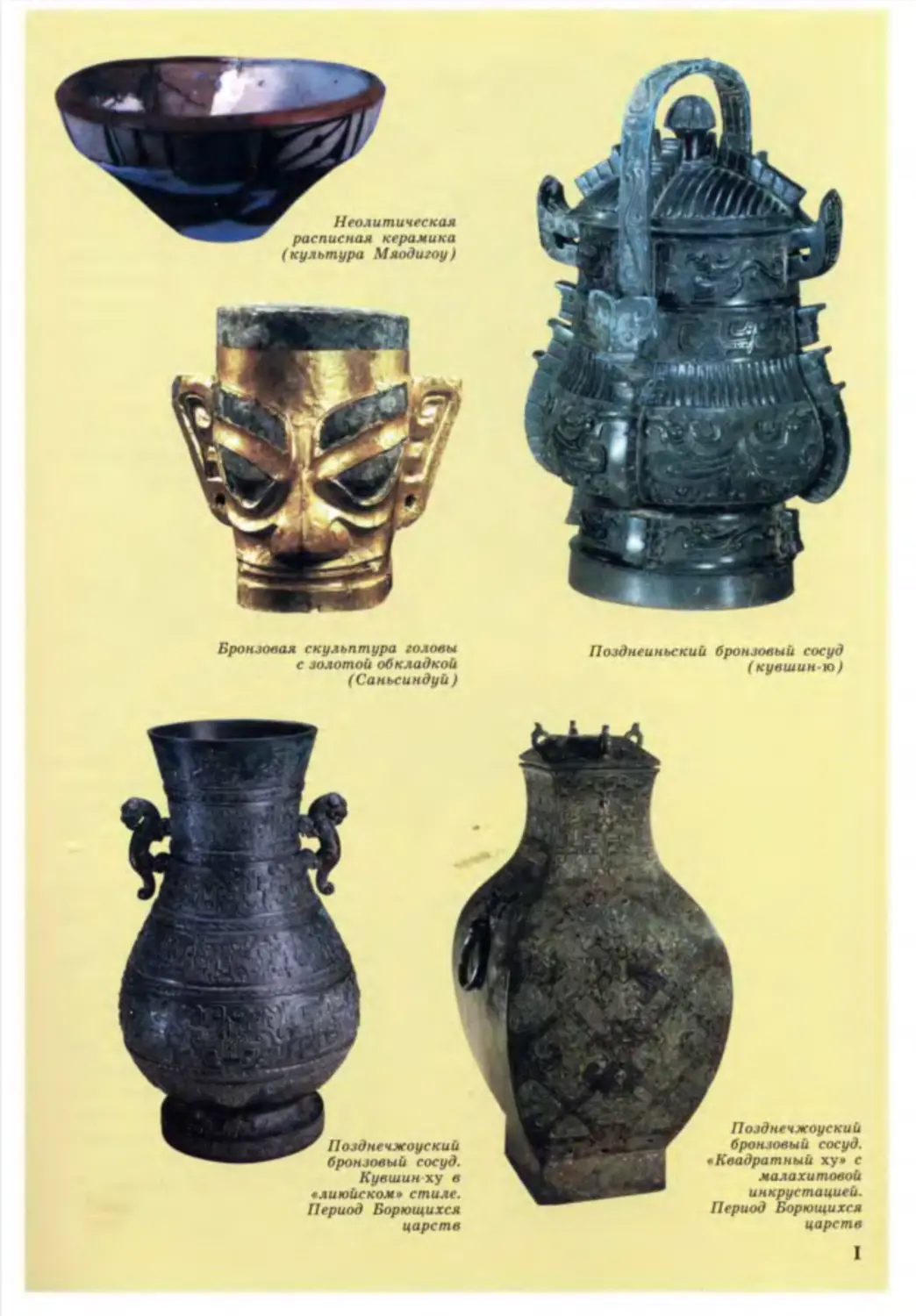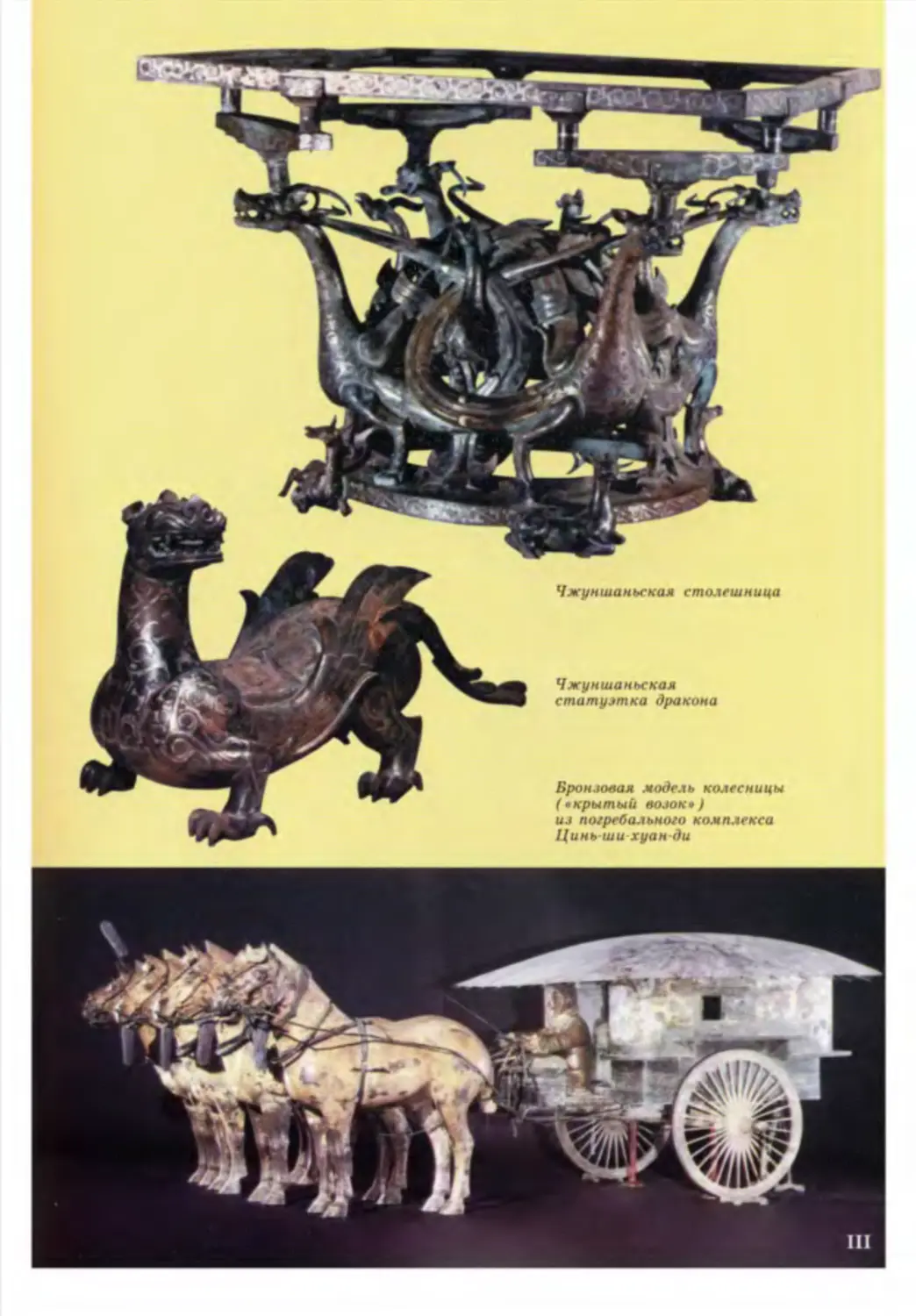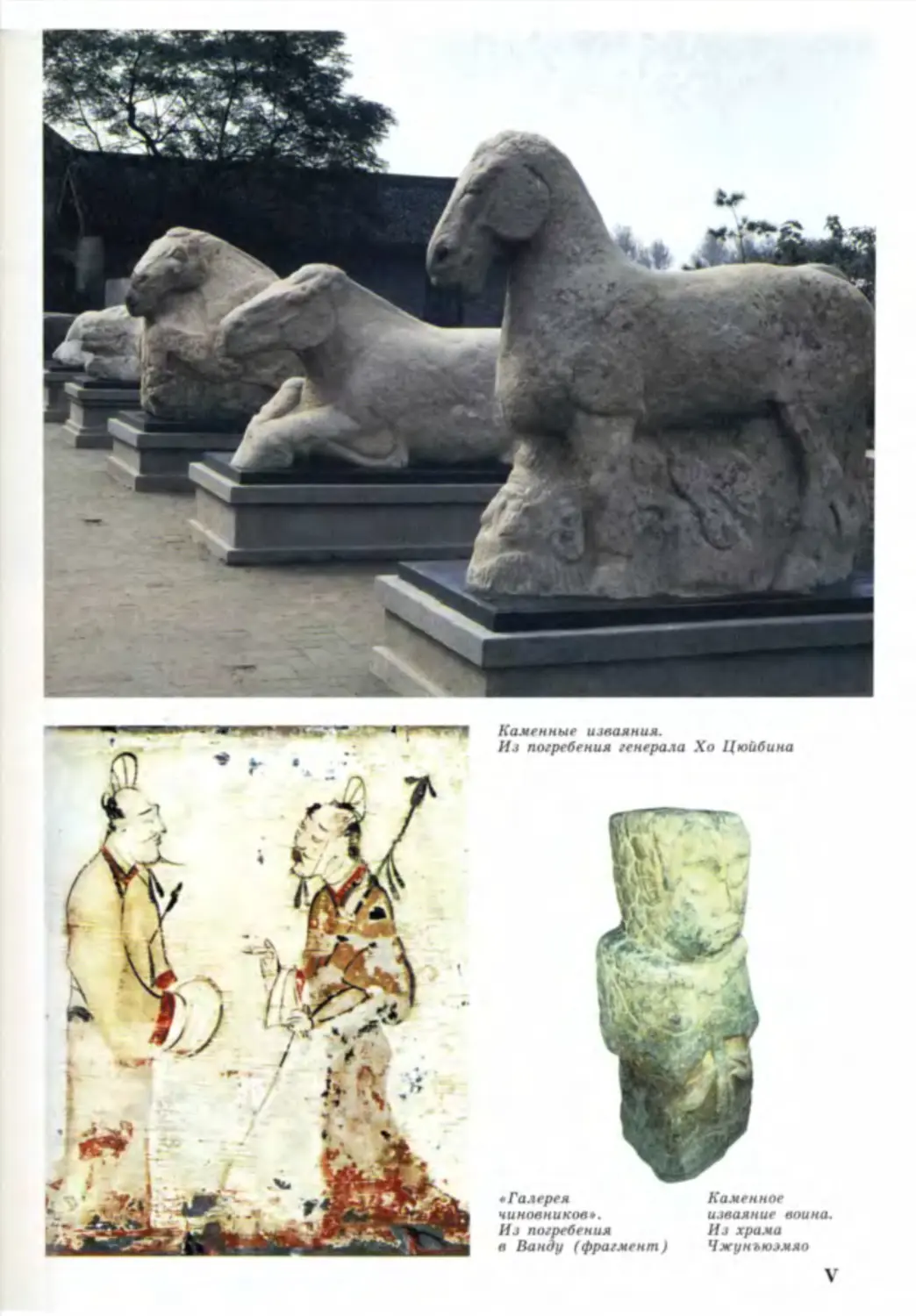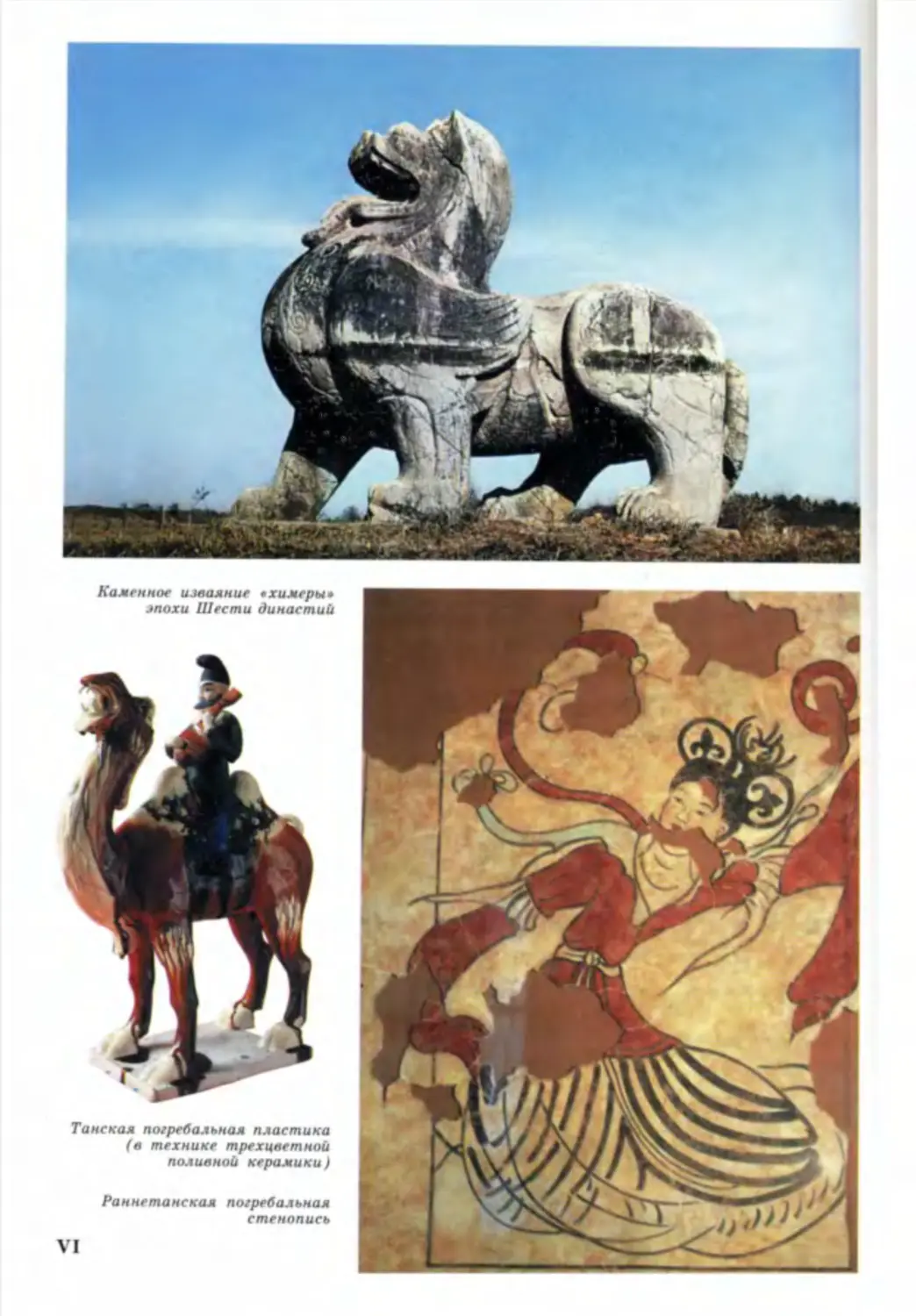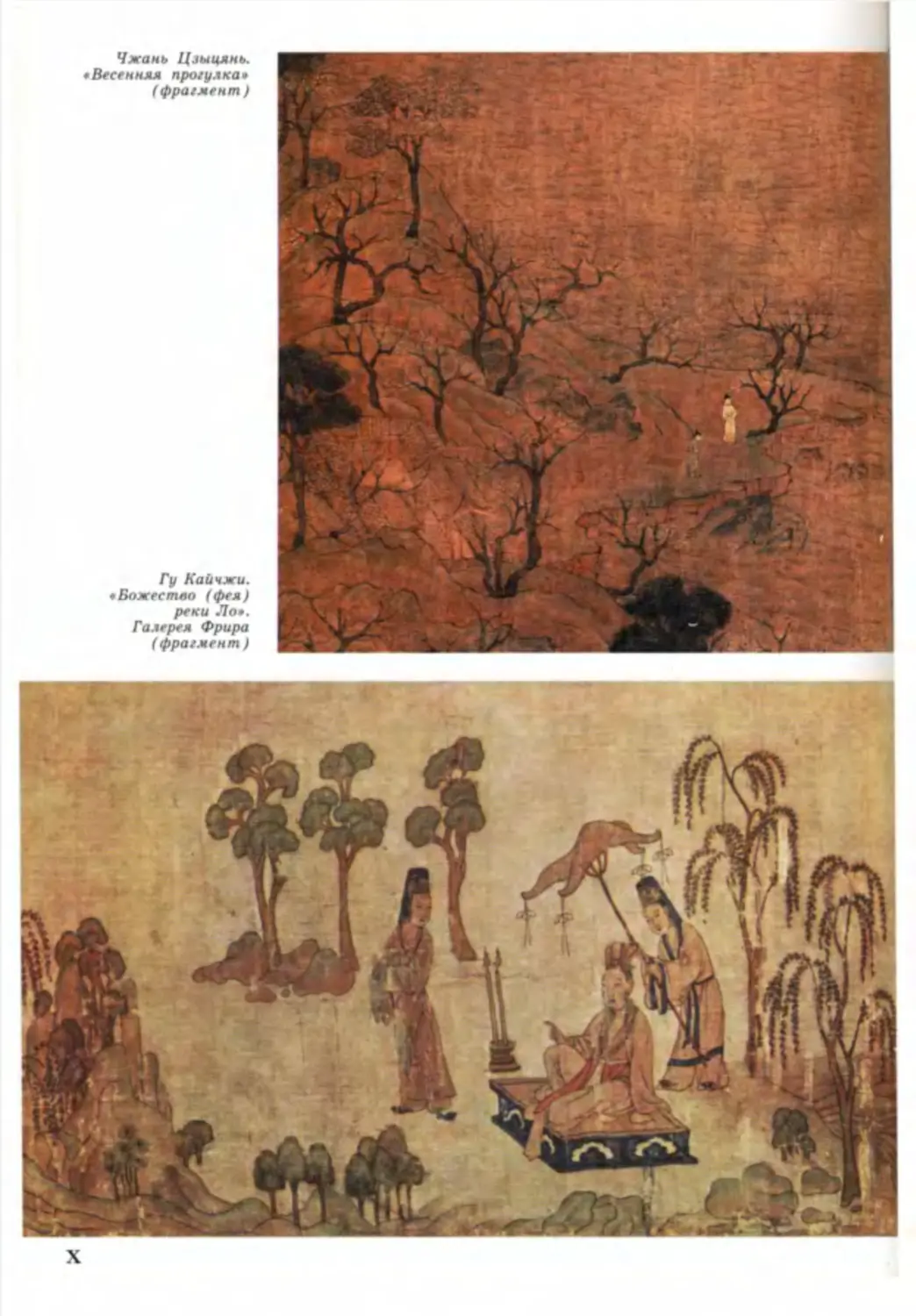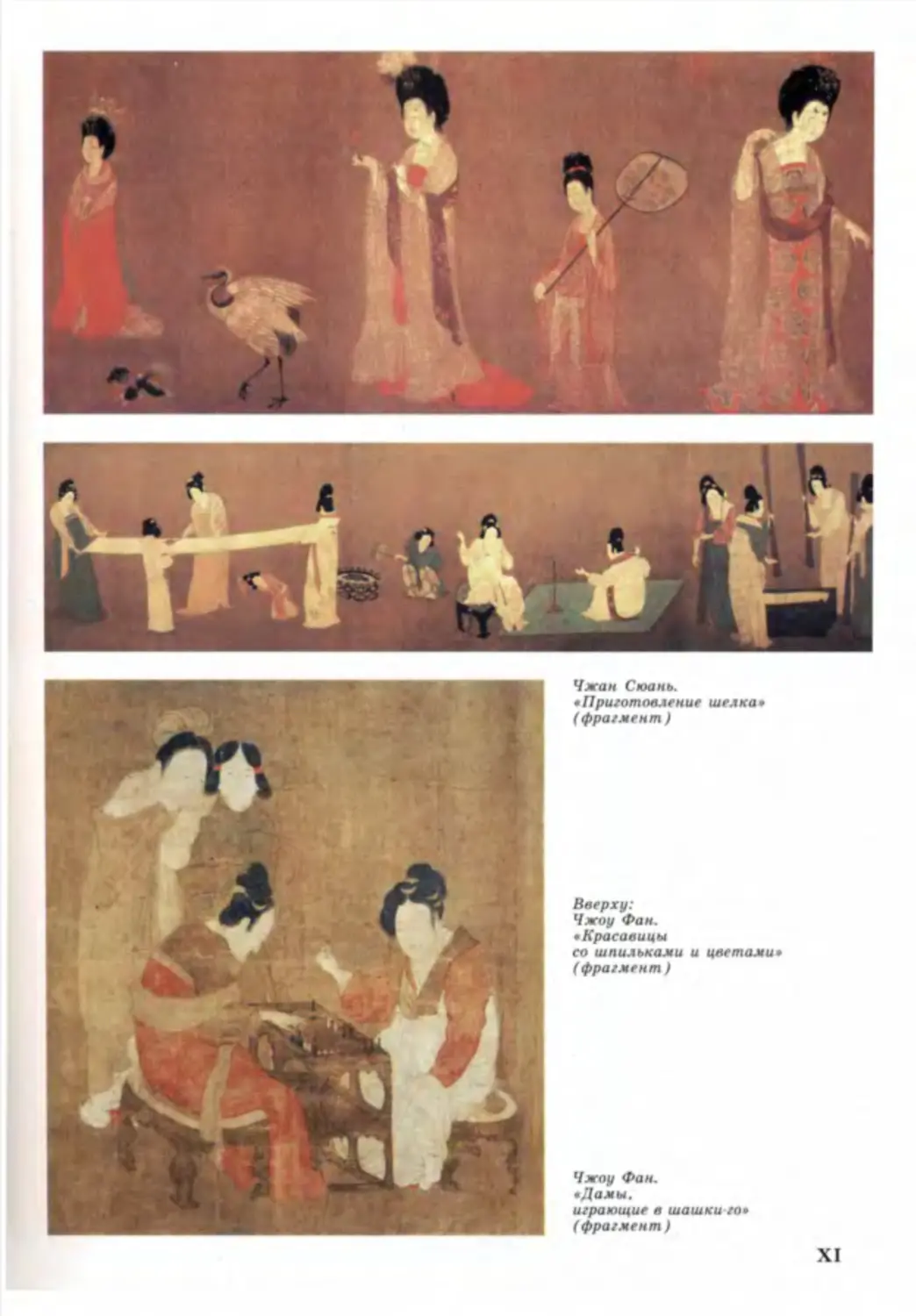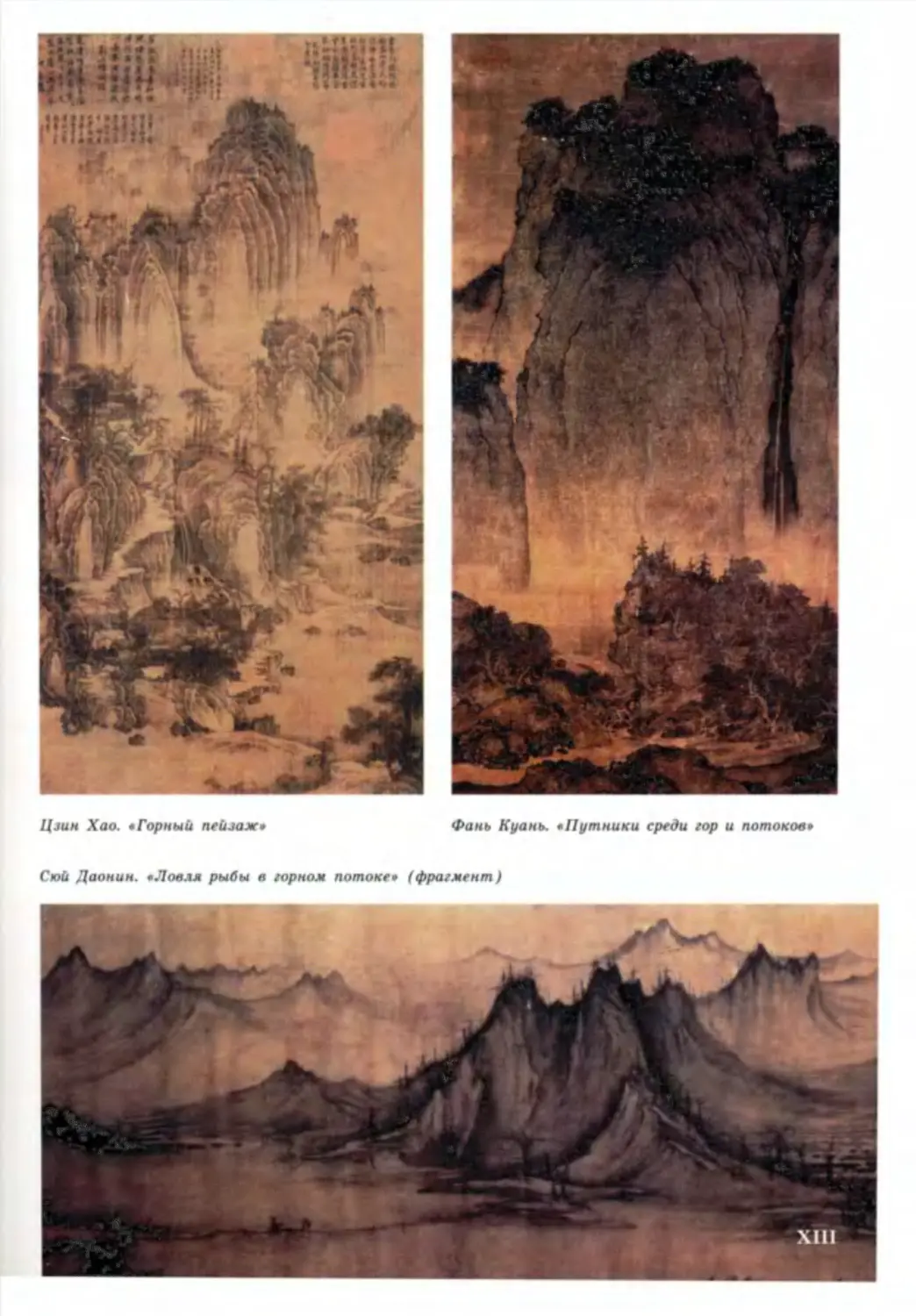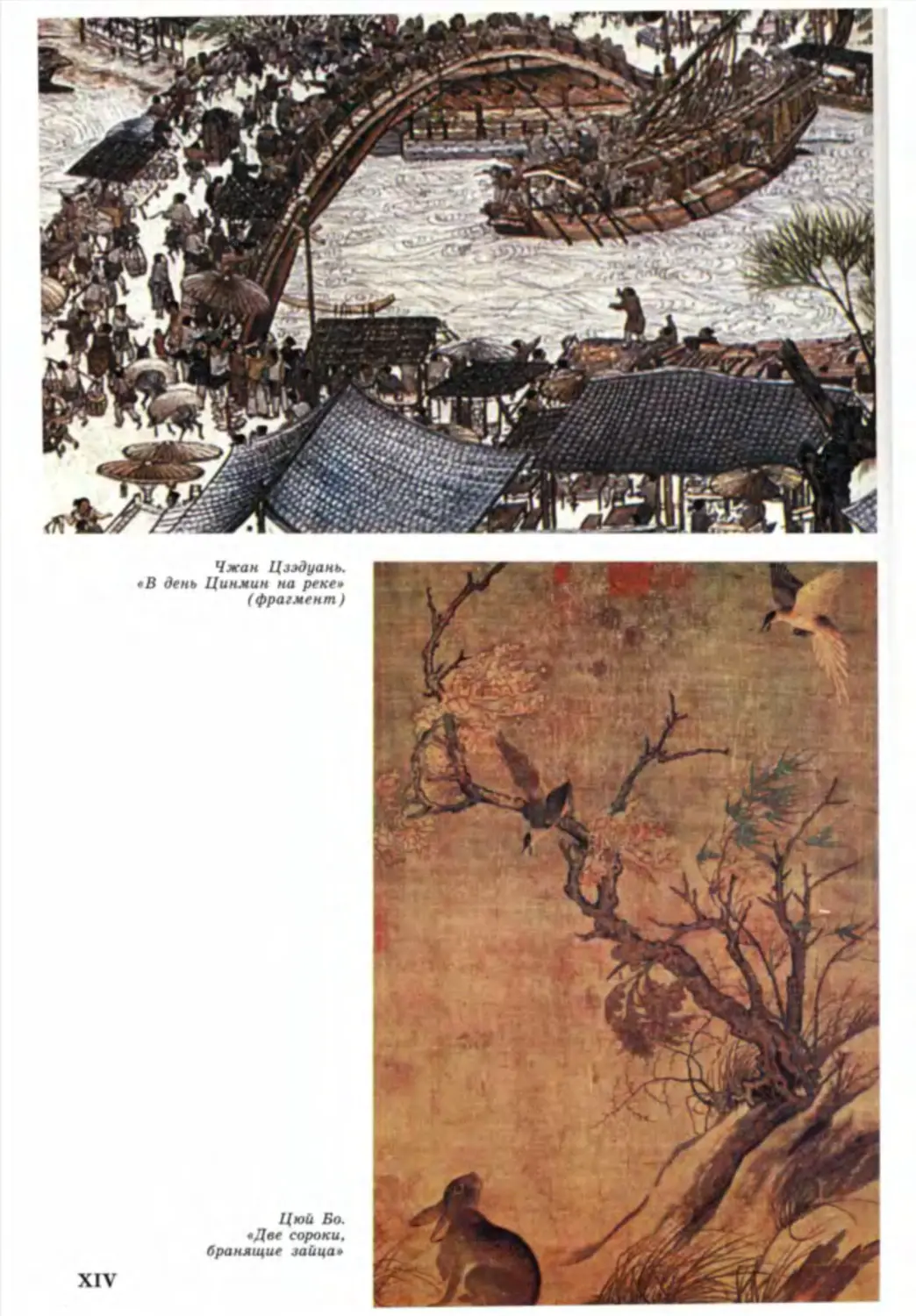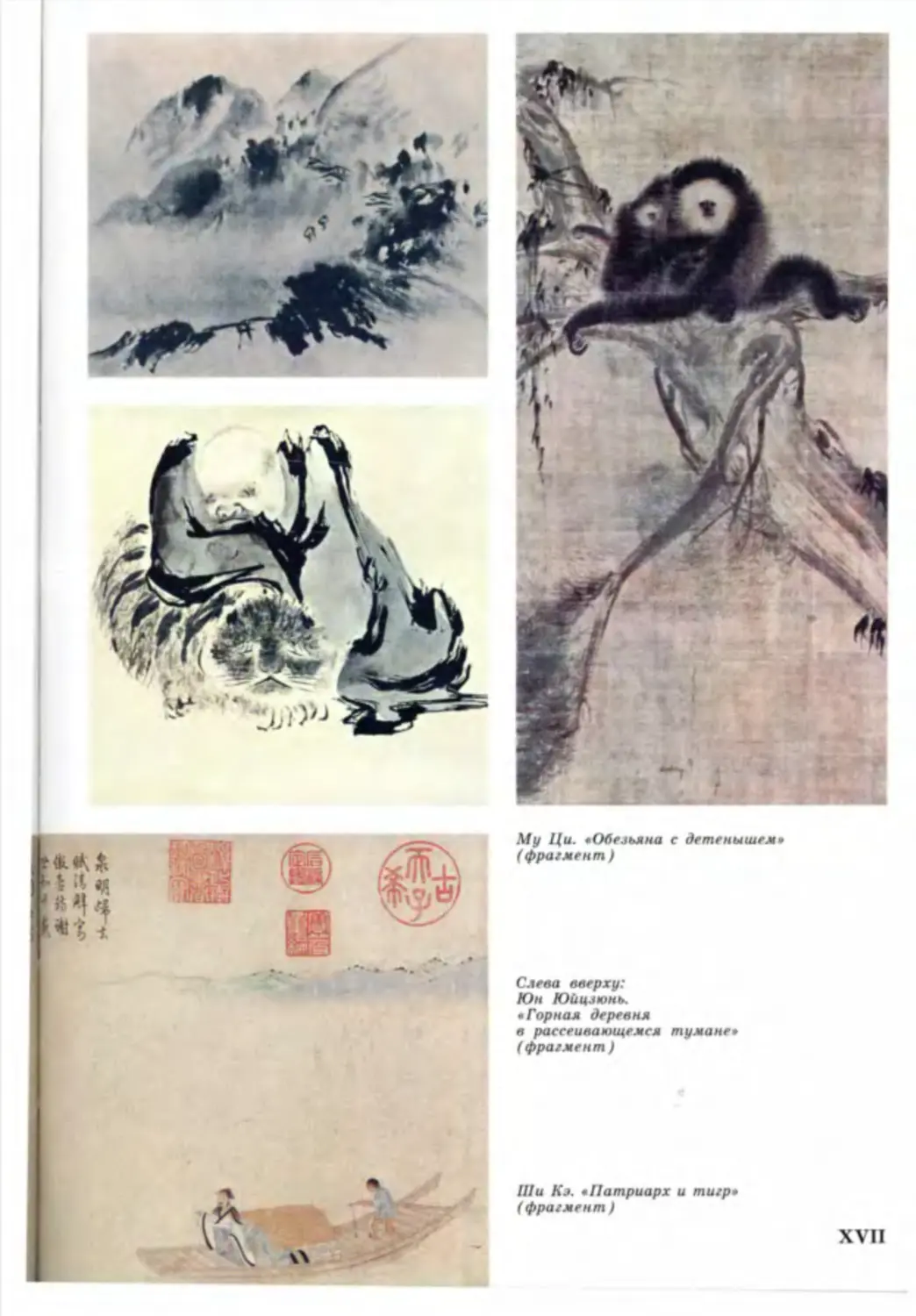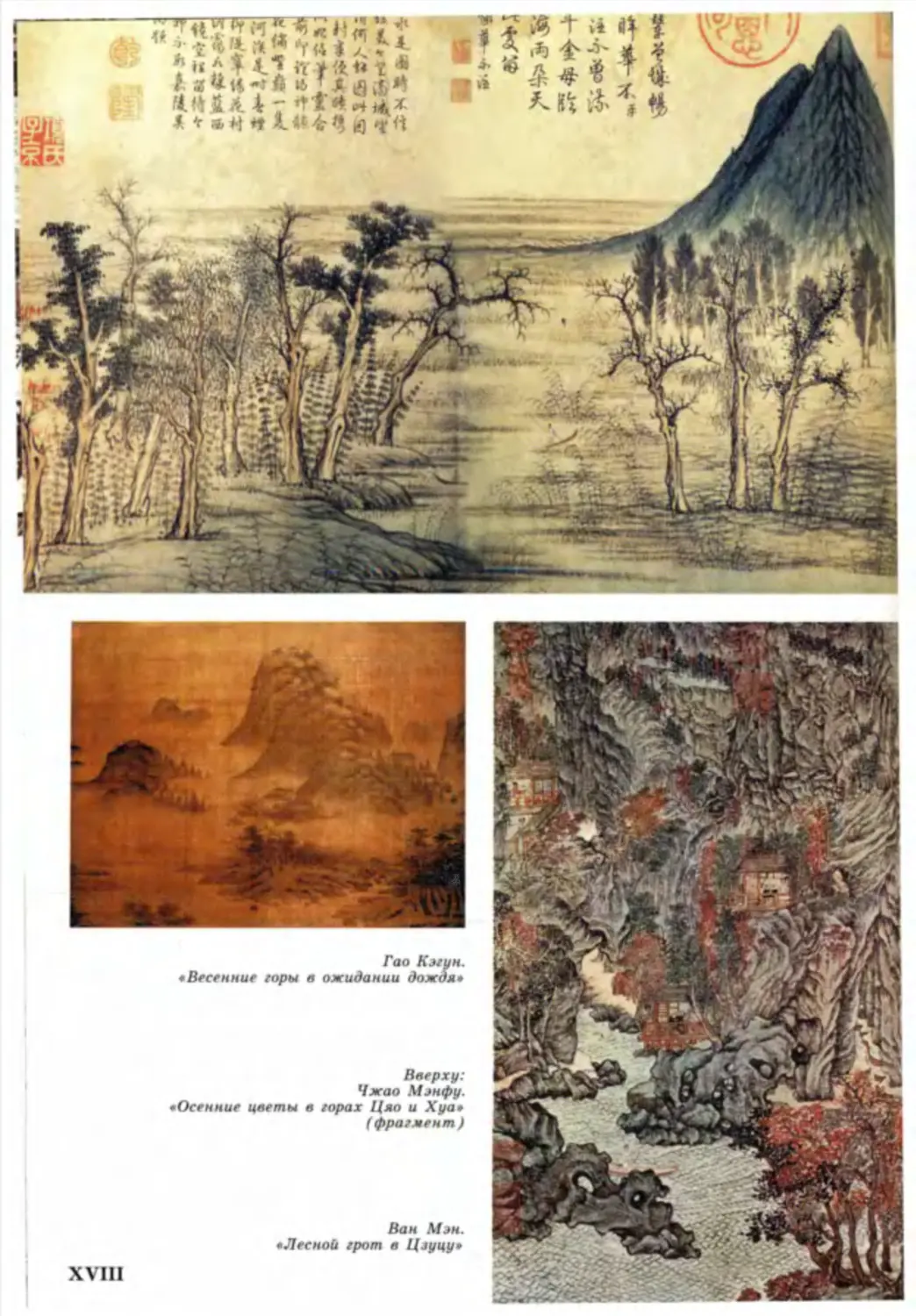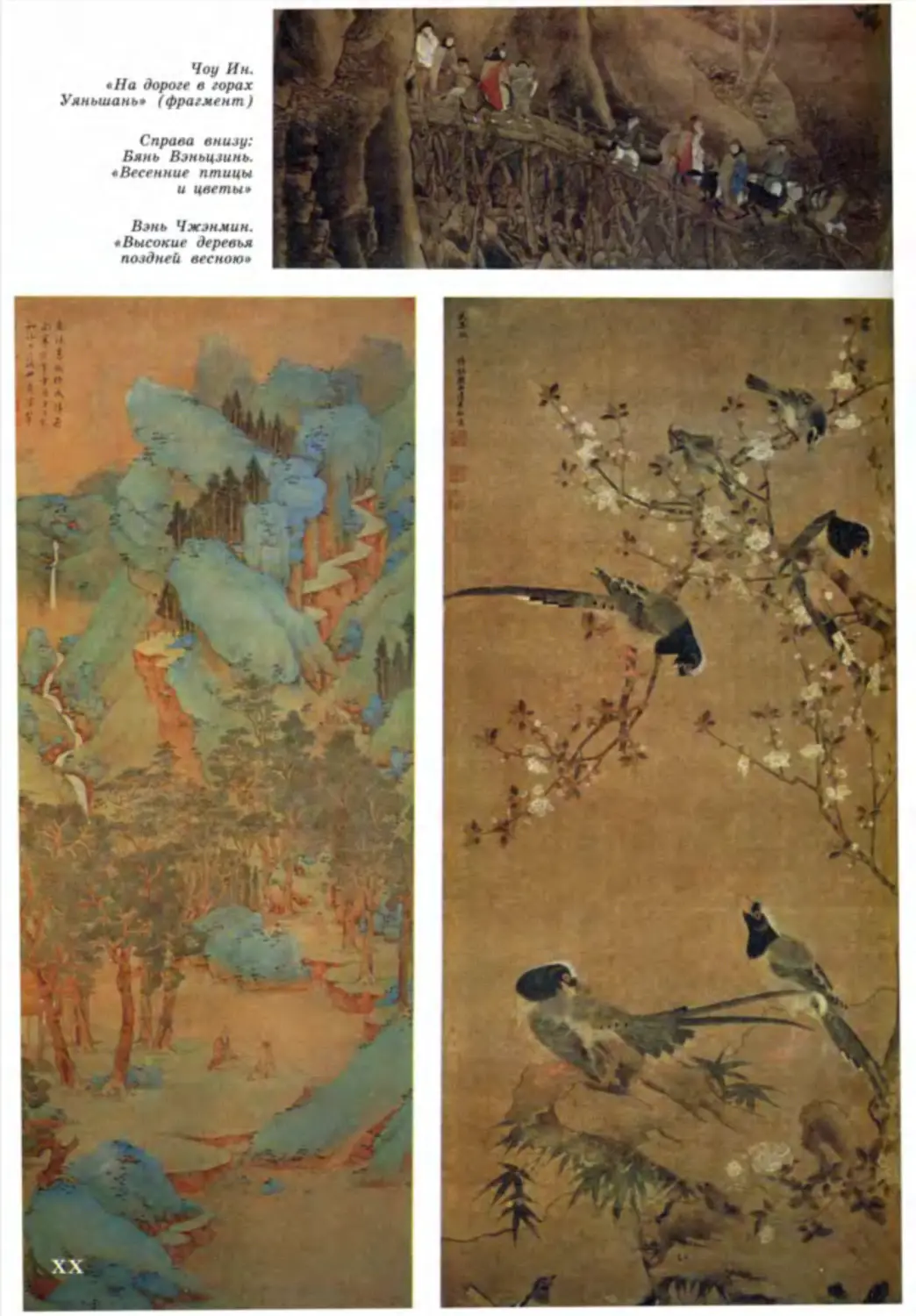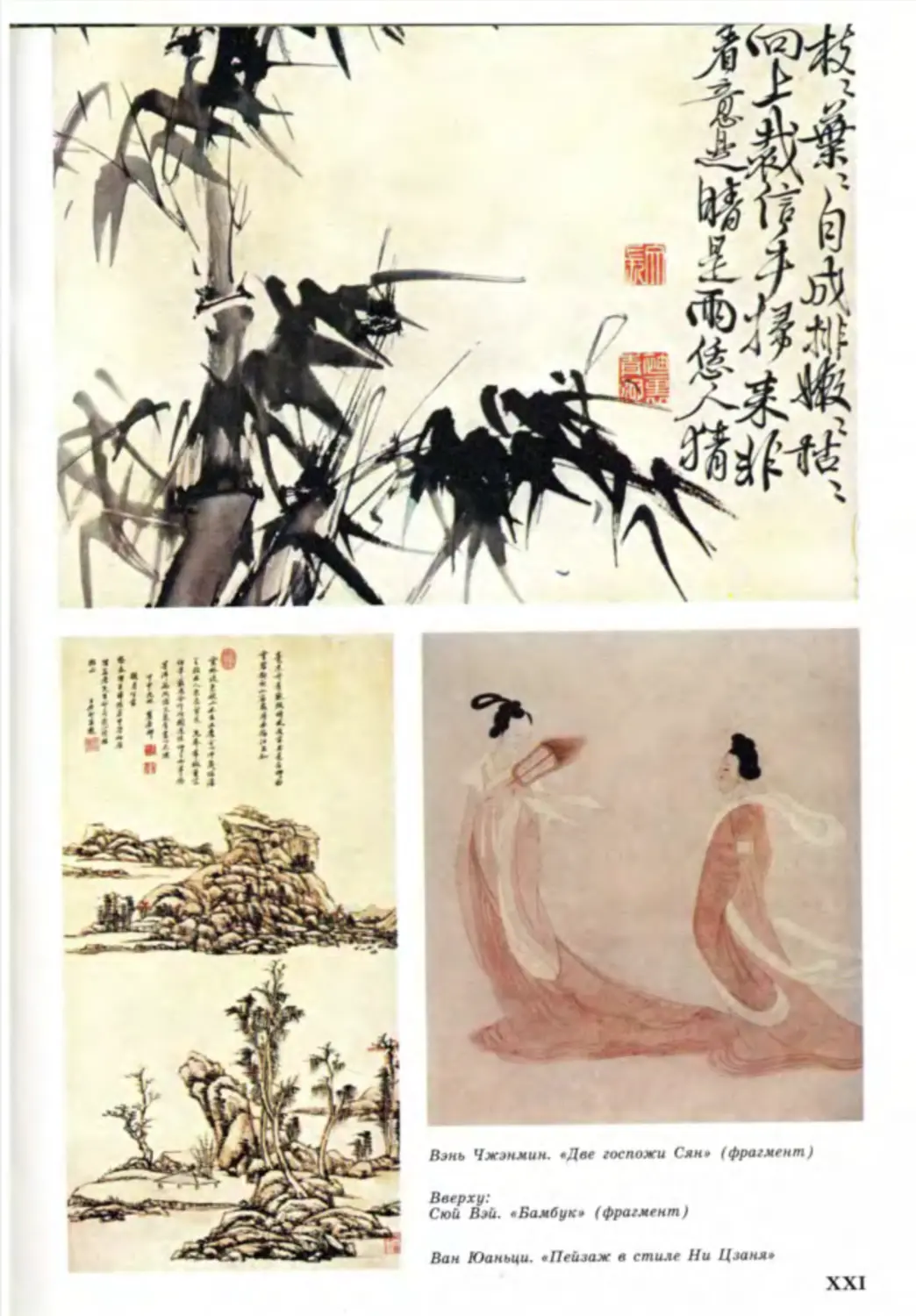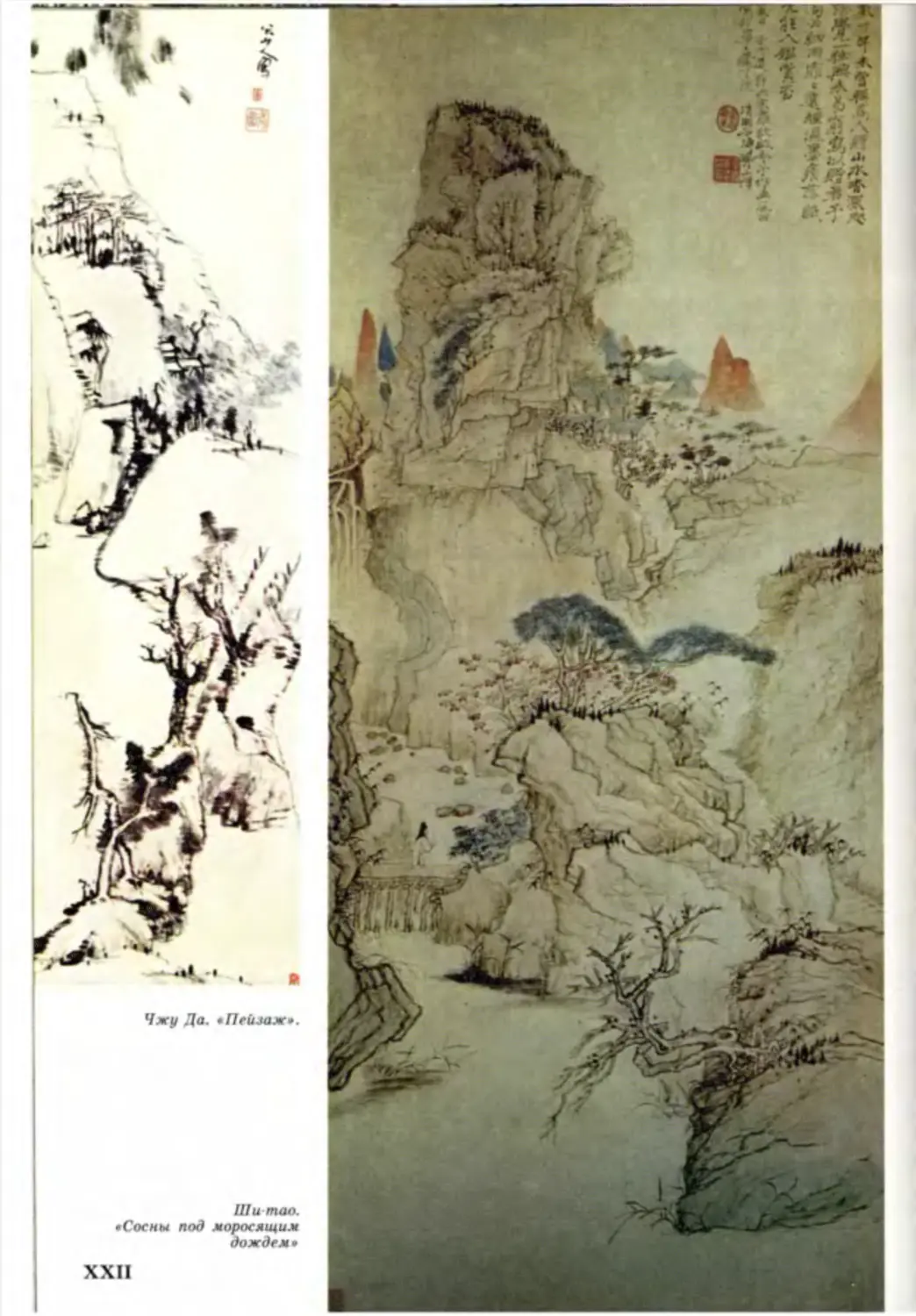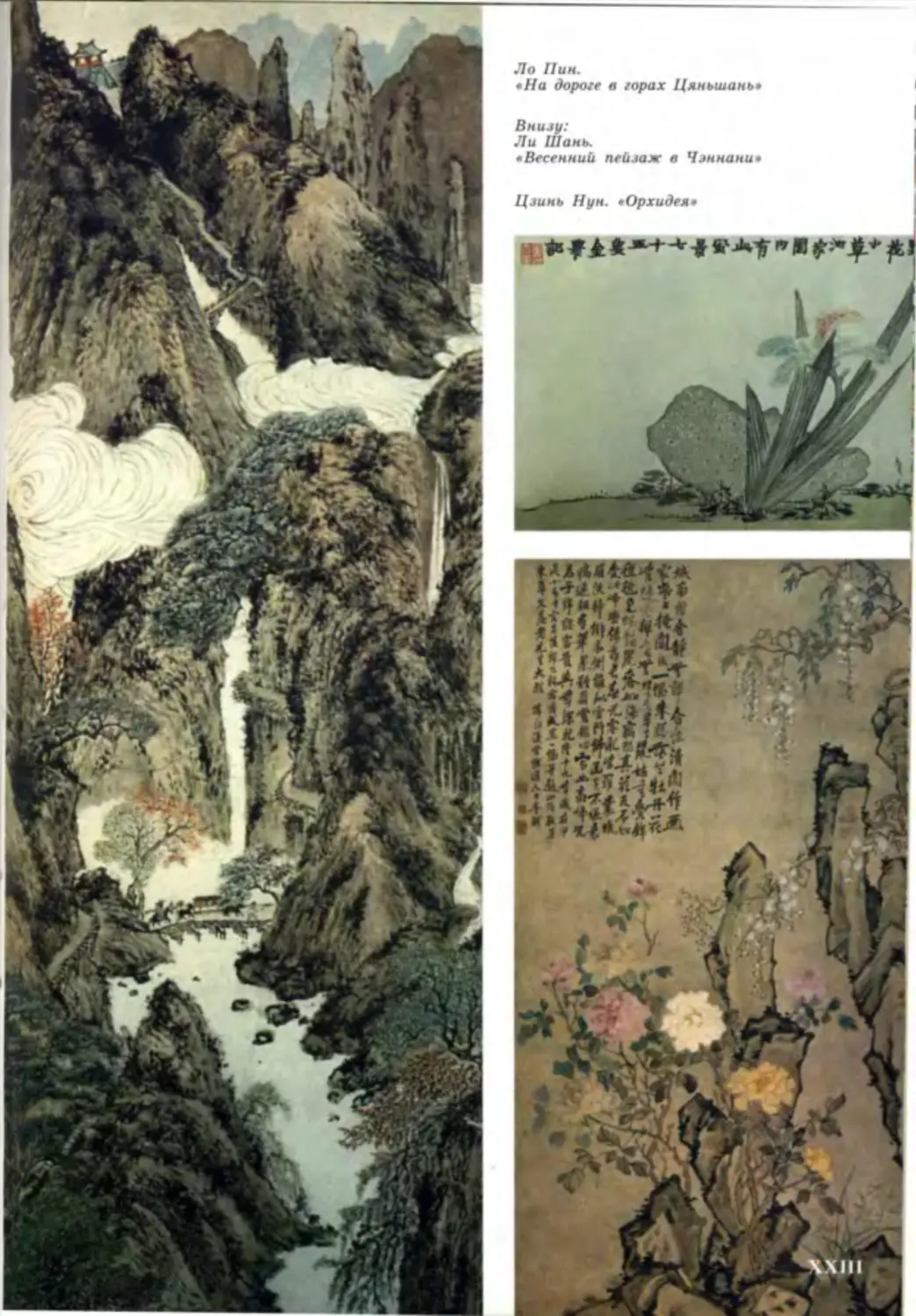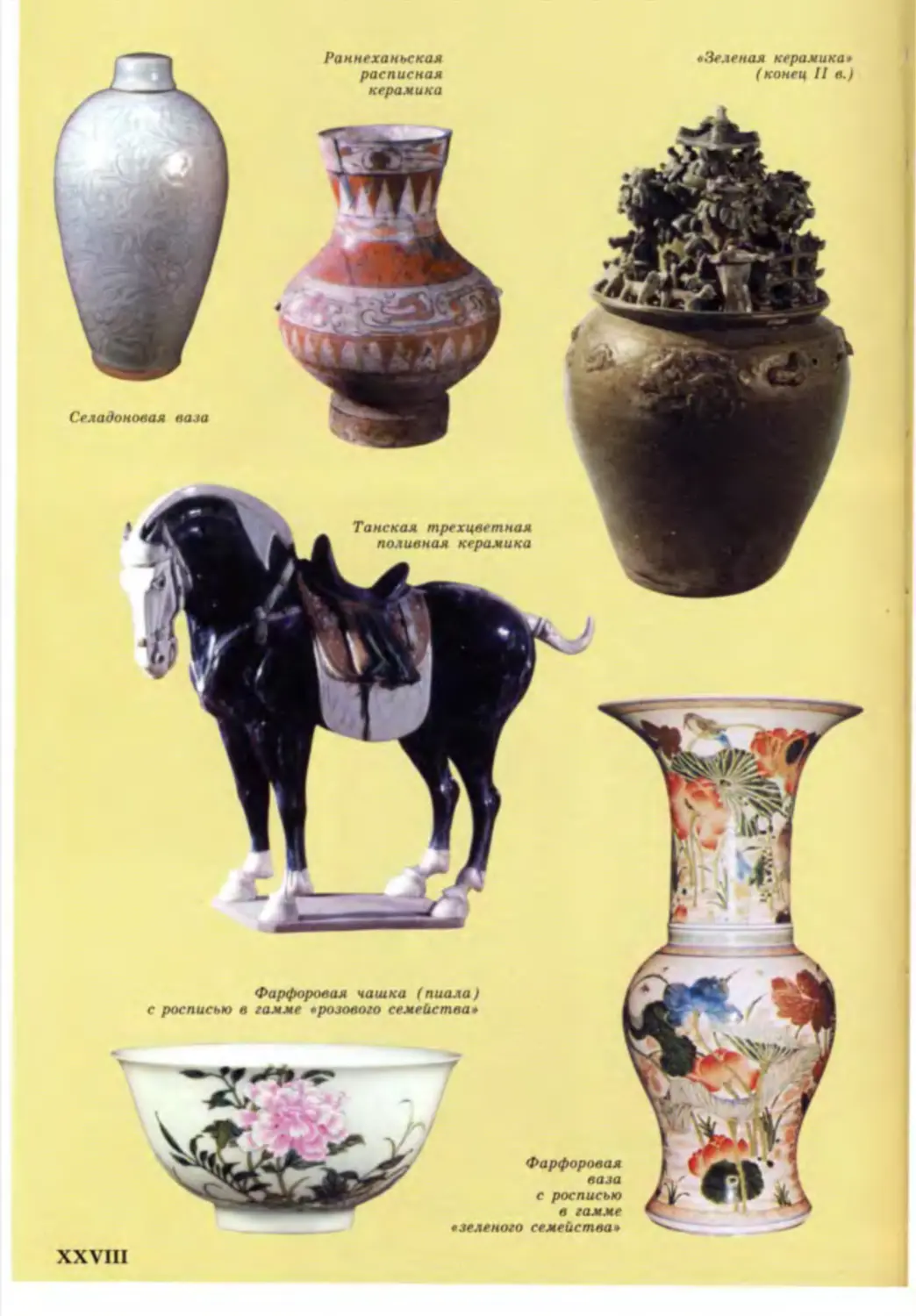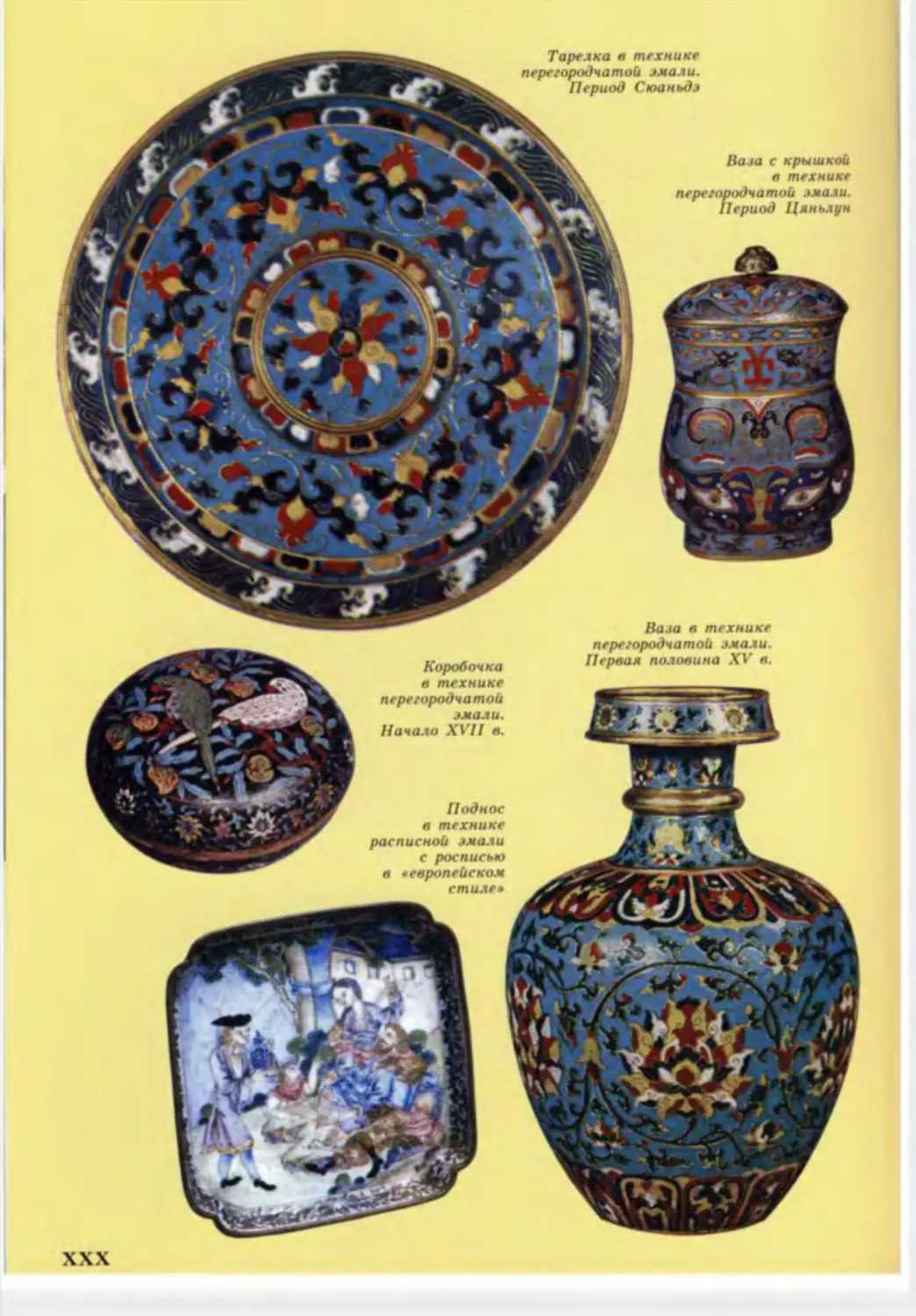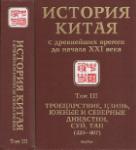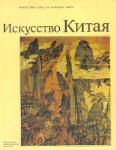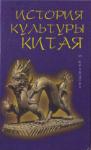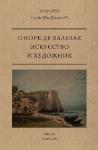Author: Кравцова М.
Tags: искусство искусствоведение китайская философия
ISBN: 5-8114-0564-2
Year: 2004
Text
MHb®
• Санкт-Петербург •
• Москва •
• Краснодар •
• 2004•
МИРОВАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
КУЛЬТУРА
МИРОВАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
КУЛЬТУРА
Учебное пособие
Санкт-Петербург • Москва • Краснодар • 2004
ИСТОРИЯ
ИСКУССТВА
КИТАЯ
Марина
КРАВЦОВА
h
ЛАНЬ®ТФ»
2004 • Краснодар • Москва • Санкт-Петербург
ББК85
K78
Кравцова M. Ë.
К 78 Мировая художественная культура. История искусства Китая: Учеб-
ное пособие. — СПб.: Издательства «Лань», «TPHADA», 2004. — 960 с:
ил. + вклейка (32 с). — (Мир культуры, истории и философии).
ISBN 5-8114-0564-2 (Лань)
ISBN 5-901178-11-4 (TPHADA)
В условиях активно развивающихся связей РФ и КНР знание истории китай-
ского искусства и его шедевров приобретает особое значение.
Главная цель книги — представить читателю целостную картину истории разви-
тия китайского искусства в максимально расширенном временном объеме (от неолити-
ческой эпохи до начала XX в.), с учетом новейших археологических материалов и
теоретических разработок. Книга знакомит читателя с основными этапами развития
искусства Китая, с особенностями формирования эстетической мысли и изобразитель-
ных средств. Автор подробно рассказывает об основных видах китайского изобрази-
тельного, декоративно-прикладного, архитектонического искусств. Отдельная часть
посвящена музыкальному искусству Китая.
Настоящее издание может быть рекомендовано специалистам, занимающимся
проблемами мировой художественной культуры, преподавателям и студентам гума-
нитарных вузов, a также сотрудникам туристических агентств, которым необходима
информация о сувенирной и художественной продукции Китая. ттпті»
ББК 85
Марина Евгенъевна
КРАВЦОВА
МИРОВАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
КУЛЬТУРА
ИСТОРИЯ
ИСКУССТВА КИТАЯ
Учебное пособие
Оформление
С. ШАПИРО, А. ЛАПШИН
Книга издана при участии
Международной Ассоциации клубов
КУНФУ «TPHADA» и лично президента
Ассоциации Мастера Андрея ЛОГИНОВА
Тел.:
Генеральный директор А. Л. Кноп
Директор издательства О. В. Смирнова
Художественный редактор С. Л. Шапиро
Редактор Л. М. Петракова
Корректоры У. А. Елъкина, О. П. Панайотти
Подготовка иллюстраций А. Ю. Лапишн,
Д. А. Кравцов, А. Ф. Лурье, Л. В. Буракова
Версталыцик С. Ю. Малахов
Выпускающие Н. К. Белякова, О. В. Шилкова
ЛР № 065466 от 21.10.97
Гигиенический сертификат 78.01.07.953.П.001273.02.02
от 28.02.2002 г., выдан ЦГСЭН в СПб
Издательство «ЛАНЬ»
lan@lpbl.spb.ru; www.lanpbl.spb.ru
192029, Санкт-Петербург, Общественный пер., 5.
Издательство: тел./факс: (812)336-25-10, 336-25-09;
pbl@lpbl. spb. ru ; prin t@l pbl. spb. ru
Торговый отдел: 193029, Санкт-Петербург, ул. Крупской, 13,
тел./факс: (812)567-54-93, тел.: (812)567-85-78,
(812)567-14-45, 567-85-82, 567-85-91; trade@lanpbl.spb.ru
Филиал в Москве: 109263, Москва, 7-я ул. Текстильшиков, 5,
тел.: (095)742-48-93; lanmsk@asvt.ru
Филиал в Краснодаре:
350072, Краснодар, ул. Жлобы, 1/1, тел.: (8612)74-10-35.
Издательство «TPHADA»
199178, Саккт-Петербург, В. О. 15-я линия, д. 28, литер «А».
(812)327-72-37; тел./факс: (812)321-89-15; E-mail: triads@mail.ru
Международная Ассоциация клубов КУНФУ «TPHADA»
194358, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 147, корп. «Д»
Тел./факс: (812)598-82-43; E-mail: triad@robotek.ru
Сдано в набор 09.10.03. Подписано в печать 30.08.04.
Бумага офсетная. Гарнитура Школьная. Формат 70x100 1/ів-
Печать офсетная. Усл. п. л. 78. Тираж 3000 экз.
Заказ№607.
Отпечатано с готовых диапозитивов
в Производственно-издательском комбинате «Офсет».
660049, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51
Охраняется законом РФ об авторском праве.
Воспроизведение всей книги или любой ее ча-
сти запрещается без письменного разрешения
издателя. Любые попытки нарушения закона
будут преследоваться в судебном порядке.
1 Издательство «Лань», 2004
» M. E. Кравцова, 2004
1 Издательство «Лань»,
художественное оформление, 2004
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие 10
Глава 1
Искусство неолитического Китая (ѴІІІ-ІП тыс. до н. э.) 18 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Общая характеристика эпохи китайского неолита 18 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
Художественное наследие неолитического Китая. Керамика... 29 ИСТОРИИ
Типологии и тпехнология изготповления КИТАЙСКОГО
неолитпической керамики 29 ИСКУССТВА
Категории, формы и способы художественного
оформления изделий (сосуды) 36
Керамика Яншао (36). Керамика южного, юго-восточного, вос-
точного и северо-восточного регионов неолитического Китая (54).
Другие виды предметно-творческой деятельности 71
Пластика 71
Работы no дереву, косторезное и камнерезное дело 78
Строительство 90
Ранние очаги металлургии 95
Глава 2
Искусство Древнего Китая (ІІ-І тыс. до н. э.) 98
Эпоха Шан-Инь (ХѴІІ-ХІ вв. до н. э.) 98
Общая характеристика инъской эпохи 98
История возникновения иньского государства. Важнейшие па-
мятники и артефакты ХХ-ХѴІП вв. до н. э. (98). Важнейшие
памятники и артефакты раннеиньского (ХѴП-ХГѴ вв. до н. э.)
и позднеиньского (ХІѴ-ХІ вв. до н. э.) периодов (105). Некото-
рые особенности политического устройства и духовной жизни
иньского государства и их влияние на древнекитайское худо-
жественное творчество (114).
Художественное наследие инъской эпохи 117
Иньское бронзолитейное производство: технология, отделы и
категории изделий (117). Темы, мотивы, образы и стилистиче-
ские направления иньского орнаментального искусства (125).
Изобразительное искусство (пластика) (132). Периферийные
художественные традиции и характер их соотношения с искус-
ством метрополии (134). Художественное наследие народностей
вне иньского круга (137).
Эпоха Чжоу (XI—III вв. до н. э.) 146
Общая характеристика чжоуской эпохи 146
Важнейшие памятники и артефакты 155
Чжоуское бронзолитейное производство:
традиции и новации 172
Основные отделы и категории изделий (сосуды, зеркала, укра-
шения, оружие и монеты) (172). Эволюция технико-художе-
ственных способов и эстетических принципов оформления из-
делий (186).
Темы, мотивы, образы и главные
стилистические направления чжоуского искусства 191
Человек в художественном творчестве чжоуской элохи ... 195
5
Эпоха Цинь (221-207 гг. до н. э.) 200
Эпоха Хань (207 г. до н. э. — 220 г. н. э.) 209
Общая характеристика ханьской эпохи
и ее художественного наследия 209
Китай и внешний мир 219
Древнекитайское изобразителъное искусство 226
Погребальная пластика (226). Монументальная скульптура (236).
Художественные рельефы (240). Стенописи (245). Протостан-
ковая живопись (картины на шелке) (249).
Глава3
Искусство традиционного Китая (III—XIX вв.) 252
Эпоха Шести династий (220-589) 252
Эпохи Суй (589-618) и Тан (618-907) 263
Эпохи Пяти династий (907-960), Северной Сун (960-1127)
и Южной Сун (1127-1279) 277
Эпоха Юань (1271-1368) 287
Эпоха Мин (1368-1644) 289
Эпоха Цин (1644-1911) 294
Глава 4
Художественное наследие Китая в современных
музейных коллекциях и оригинальные письменные
источники по истории китайского искусства 301
Институт частного коллекционирования и его место
в художественной культуре традиционного Китая 301
Музейное дело в Китае в XX в. и государственная
политика по охране национальных историко-культурных
и художественных ценностей 303
Ведущие мировые музейные коллекции китайских
художественных произведений 308
Главные классы китайских письменных источников
по истории национального искусства 310
ЧАСТЬ ВТОРАЯ Глава 5
ОБІПЕКУЛЬТУРНЫЕ Китайский художественно-эстетический канон 316
ОСНОВЫ Древнейшие воззрения
И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ на пРеДметно"тв°РческУю деятельность 316
СРЕЛСТВА Художественное творчество
КИТАЙСКОГО и миФологические представления 321
ИСКѴССТВА Конфуцианские эстетические установки 326
Осмысление художественного творчества
в древних натурфилософских учениях 331
Художественное творчество в культуре и религиозной
традиции южного региона Древнего Китая 336
Художественное творчество и даосизм 337
Роль буддизма в истории искусства и эстетической
мысли Китая (эстетические идеи школы Чань) 347
Принципы и способы функционирования
художественно-эстетического канона
в культуре китайского имперского общества 352
Глава6
Образная система китайского искусства 356
Общая характеристика китайской художественной
образной системы 356
Абстрактно-символическая образность 358
Геометрическая и числовая символика 358
Цветовая символика 365
Предметно-символическая образность
(элементы ландшафта, атмосферные явления, природные
«драгоценности» и рукотворные изделия) 368
Растительные образы (мифологические растения,
деревья, цветы, плоды и грибы) 373
Зооморфные образы 383
Фантастические существа 383
Рыбы, пресмыкающиеся и земноводные
(змея, черепаха, лягушка) 397
6
Насекомые и птицы 402
Дикие животные 409
Домашние животные и птицы 419
Глава 7
Иконография персонажей историко-легендарного
и божественных пантеонов 425
Изображения богов, героев мифологических сюжетов,
легендарных и исторических личностей
в древне-китайском искусстве 425
Буддийская иконография 437
История формирования буддийского
кулыпового изобразительного искусства 437
Центральные персонажи буддийского
божественного пантеона 440
Основные элементы буддийской иконографии 443
Принципы изображения внешнего облика
конкретных персонажей 453
Вуддийская художественная образность
и иконографические атрибуты 459
Персонажи конфуцианского пантеона 469
Персонажи даосского пантеона 477
Общая характеристика
даосских религиозных представлений 477
Кулып и иконография Лао-цзы 479
Центральные персонажи
даосского божественного пантеона 482
Бессмертные-сяни 488
Персонажи пантеона популярных верований (ХІѴ-ХІХ вв.) . . 499
Общая характеристика
китайских популярных верований 499
Божестваповелители мира, отделъных сфер
мироздания, частей света и судеб живых существ 502
Божества-повелители природных сущностей и стихий . ... 511
Божества-податели жизненных благ
и защитники от злых сил 513
Домашние боги 531
Аграрные божества и покровители
отдельных сфер сельскохозяйственной деятельности .... 534
Городские божества-покровители ремесел
и профессиональных групп 537
Божества-повелители загробного мира 540
Глава 8
Станковая живопись 546
Теории и практики станковой живописи 546 ИЗОБРАЗИТЕЛЫЮЕ
Китайская живописно-теоретическая мыслъ: ИСКУССТВО
основные вехи истории развития
и центральная проблематика 546
Живописные материалы и техники 553
Оформительские принципы живописного произведения . . . 560
Морфологические основы китайской живописи 564
Начальный этап формирования станковой живописи
(эпоха Шести династий) 566
Жцвопись эцохи Тан 572
Живопись первой половины танской эпохи 572
Живопись второй половины танской эпохи
и творчество Ван Вэя 582
Живопись эпохи Северная Сун 584
Северосунская академическая школа живописи
и ее ведущие жанровые и стилистические направления . . . 584
История создания Академии живописи и ее роль в художествен-
ной жизни Северной Сун (584). Академическая пейзажная жи-
вопись (585). Жанр «цветы и птицы» и анималистический жанр
(595). Бытописательный жанр и портрет (599).
Школа «художников-литераторов» 603
Живописная ситуация конца северосунской эпохи 612
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Живопись эпохи Южная Сун 613
Академическая школа живописи 613
Чаньская живописъ 616
Живопись эпохи Юань 620
Живопись эпохи Мин 628
Живописные школы и направления
начала минской эпохи 628
Академическая школа живописи 631
Живописные школы и направления
второй половины минской эпохи 633
Живопись эпохи Цин 638
Академическая школа живописи 639
Неофициальное живописное творчество
первой половины цинской эпохи 642
Живопись второй половины XIX — начала XX века 650
Глава 9
Китайская простонародная картина-няньхуа 656
Происхождение, основные этапы истории развития
и ведущие региональные традиции няньхуа 656
Жанровые и тематические разновидности няньхуа 662
Глава 10
Китайско-буддийское культовое изобразительное искусство . . . 668
Пещерные монастыри 669
Скальные храмы 674
Ведущие региональные художественные традиции
и центры производства храмовой скульптуры (IV-VIII вв.) . . 679
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Глава 11
ДЕКОРАТИВНО- Керамика 688
ПРИКЛАДНОЕ Типологии и технология производства керамики
ИСКУССТВО древнего и традиционного Китая 688
Древние керамические сорта 694
«Каменная» керамика 696
Фарфор 706
Региональные керамические традиции и народные
гончарные промыслы современного Китая 718
Китайская керамика в истории
мирового декоративно-прикладного искусства 721
Глава 12
Текстиль и костюм 725
Шелкоткачество 725
Истпория развития шелкоткачества 725
Технология шелкотпкацкого производстпва 727
Основные пгипы шелковых тканей 732
Китайский шелк в истории
мироѳого декоративно-прикладного искусства 736
Другие виды тканей
(конопляные, хлопковые и шерстяные) 738
Способы декоративного оформления текстиля
(вышивки и набойки) 739
Костюм 741
Основные источники no ucmopuu
китайского костюма 741
Глаѳные формы и элементы китайского костюма 743
Глава 13
Ювелирное дело 752
Ювелирные материалы и техники 753
Металлы 753
Минералы 764
Вещестѳа органического происхождения 776
Стекло 781
Основные категории изделий 783
Празднично-повседневные украшения 784
Императорские и чиновничьи
парадно-ранговые украшения 799
8
Глава 14
Лаковое производство 804
Технология лакового производства 804
Древние лаки 806
Лаковое производство традиционного Китая 811
Глава 15
Эмальерное дело 819
Перегородчатые эмали (технология производства
и основные этапы истории развития) 819
Другие виды китайских эмалей 823
Глава 16 ЧАСТЬ ПЯТАЯ
Архитектурно-инженерное искусство 830 АРХИТЕКТОНИЧЕСКИЕ
Культурно-идеологическая символика, основные ВИДЫ ИСКУССТВА
памятники и источники по истории развития
китайского архитектурно-инженерного искусства 830
Технико-конструктивные особенности китайского зодчества,
типы зданий и ведущие архитектурные стили 838
Главные категории архитектурных ансамблей
и их планировочные принципы
(жилая усадьба, дворец, храм) 846
Градостроение: семантика и семиотика столичного города ... 859
Китайско-буддийское культовое зодчество (пагоды) 868
Культурно-архитектурные истоки пагод 868
Начальный этап истории развития
китайско-буддийского культового зодчества (І-ѴІ вв.) . . . 872
Пагоды танской и сунской эпох
(основные конструктивные типы
и региональные архитектурные стили) 875
Китайско-буддийское культовое зодчество
минской и цинской эпох 884
Другие важнейшие категории китайских
архитектурно-инженерных сооружений (арки и мосты) 887
Глава 17
Садово-парковое искусство 890
Императорский парк 890
Пейзажный сад 895
Глава 18
Мебельное дело и интерьер 901
Основные этагіы истории развития китайского
мебельного дела и искусства интерьера 901
Формы и виды традиционной мебели 904
Семиотические принципы и способы
художественного оформления интерьера 915
Глава 19 ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
История и теории китайского музыкального искусства 924 МУЗЫКАЛЬНОЕ
Проблема происхождения и основные этапы истории ИСКУССТВО
развития китайского музыкального искусства 924
Архаико-религиозные, натурфилософские
и этико-философские воззрения на музыку 930
Глава 20
Интонационный строй и инструментарий 935
Пентатонная гамма и ладовая система 935
Важнейшие национальные
и заимствованные инструменты 941
Заключение 951
Рекомендуемая литература 954
ПРЕДИСЛОВИЕ
Искусство Китая — это сплетение веков. Первое знаком-
ство с ним состоялось в России еще в XVII в. благодаря
изделиям, изредка доставляемым с Дальнего Востока. Co
времен Петровской эпохи, когда были установлены посто-
янные и прямые российско-китайские торгово-диплома-
тические контакты, в российском обществе стал пробуж-
даться интерес к удивительному художественному твор-
честву своеро великого соседа. Причем этот интерес всегда
был обусловлен не только геополитическими факторами,
но и потребностями национальной духовной культуры.
История искусства Китая, его вклад в мировую сокро-
вищницу несомненно привлечет внимание всех, кто лю-
бит мировую художественную культуру, кто дорожит оте-
чественным искусством, кто интересуется взаимоотноше-
нием культур мира. Кроме того, в условиях интенсивно
развивающихся и крепнущих межгосударственных свя-
зей Российской Федерации и КНР эти знания приобрета-
ют все более насущный прикладной характер. Они стано-
вятся крайне необходимыми как специалистам, занимаю-
щимся фундаментальными проблемами истории мировой
художественной культуры, так и работникам самых раз-
ных профессий, включая сотрудников туристических
агентств или торговых фирм, которые нуждаются в воз-
можно более полной и объективной информации о досто-
примечательностях самого Китая и его сувенирной и ху-
дожественной экспортной продукции, которая стала ожив-
ленно поступать на отечественный рынок.
Между тем современный российский книжный фонд
лишь частично располагает необходимой академической и
познавательной литературой. Список имеющихся в настоя-
щее время изданий по искусству Китая на первый взгляд
весьма внушителен. В нем можно увидеть и сводные труды
по истории китайского искусства, и научные сочинения —
от монографий и диссертационных исследований до от-
дельных статей, посвященных различным аспектам и тра-
дициям художественной культуры этой страны. Разделы о
китайском искусстве присутствуют также в изданиях по
10
истории мировой культуры, в общих обзорах изобразитель-
ного, декоративно-прикладного, музыкального искусства,
архитектуры и т. д. В последние годы работы отечествен-
ных авторов существенно пополнились переводными изда-
ниями.
И все же полнота имеющейся в распоряжении читате-
ля литературы оказывается обманчивой как с теоретиче-
ской, так и с фактологической точек зрения. Приходится с
искренним сожалением констатировать, что она намного
уступает мировому китаеведному искусствоведению и в ко-
личественном отношении, и по широте проблематики, и по
насыщенности фактическими сведениями. Этот разрыв стал
особенно очевиден в последние два-три десятилетия, когда в
Китае и в других странах Дальневосточного региона (в Япо-
нии, на Тайване), a также в Европе и Америке было издано
поистине гигантское число искусствоведческих исследова-
тельских работ и альбомных изданий. Достаточно сказать,
что в 1999 г. в Китае была выпущена серия из 15 томов,
посвященная только истории местной керамики. Аналогич-
ные, хотя и менее объемные, серийные издания существуют
и в других видах китайского декоративно-прикладного и
изобразительного искусства, a также художественном на-
следии отдельных исторических эпох.
Подобная активность китайского искусствоведения и
мирового китаеведения объясняется многими причинами.
Важнейшую роль здесь сыграли и многочисленные архео-
логические открытия, особенно сделанные в заключитель-
ной трети прошлого века. Они заставили ученых не только
по-новому взглянуть на происхождение отдельных художе-
етвенных традиций и существенно уточнить многие детали
их последующей эволюции, но и решительно пересмотреть
принятые ранее гипотезы генезиса всей китайской цивили-
зации и схемы ее историко-культурного развития. Учиты-
вая, что подавляющее болынинство отечественных работ
было издано или подготовлено к публикации еще в 70-80-е
годы прошлого века, понятно, что ни эти археолого-худо-
жественные материалы, ни теоретические новации миро-
вого китаеведного искусствоведения не нашли в них отра-
жения. Следовательно, они остаются неизвестными или в
лучшем случае малознакомыми отечественному читателю.
И наконец, нельзя не признать определенной тематиче-
ской фрагментарности имеющейся на русском языке ис-
кусствоведческой литературы. Одни художественные тра-
диции Китая получили в ней достаточно четкое и глубокое
освещение, например архитектура, станковая живопись
(в первую очередь, пейзажная), так называемая «просто-
народная картина» (нянъхуа), фарфоровое и шелкоткац-
кое производство, мебельное дело, костюм, a также эсте-
тическая мысль. Другие же темы оказываются только
кратко обозначенными. Сказанное относится даже к та-
ким основополагающим видам художественно-практиче-
ской деятельности, как погребальное, культовое (даосское,
буддийское) и садово-парковое искусство, бронзоделанье,
камнерезное, косторезное, ювелирное и эмальерное дело
(за исключением расписных эмалей), и лаковое производ-
ство. Еще одним диссонансом отечественной искусство-
ведческой литературы является преимущественное вни-
мание к художественному творчеству Китая нескольких
последних столетий, что объясняется, прежде всего, со-
ставом российских музейных коллекций. В силу целого
ряда причин в них собраны преимущественно произведе-
ния декоративно-прикладного и живописного искусства,
созданные в ХѴП-ХІХ вв.
Поэтому автор считает главной целью для себя попы-
таться воссоздать возможно более полную и целостную кар-
тину истории развития китайского искусства в ее макси-
мальном временном объеме (от неолитической эпохи до
начала XX в.) с учетом новейших археологических мате-
риалов и теоретических разработок.
Предлагаемое учебное пособие состоит из шести отдель-
ных тематических блоков (частей), связанных друг с дру-
гом общей логикой научного повествования.
Часть I знакомит читателя с основными этапами исто-
рии развития искусства Китая, которые автор соотносит с
историческими эпохами. Для каждой эпохи дается общая
характеристика ее историко-культурной ситуации и ху-
дожественного наследия. В заключительном разделе этой
части кратко рассказывается о важнейших китайских
письменных источниках по истории национального худо-
жественного творчества, о музейном деле в КНР, о госу-
дарственной политике по охране историко-культурных и
художественных ценностей и о ведущих зарубежных му-
зейных коллекциях китайского искусства.
В Части II показываются пути формирования китай-
ской эстетической мысли и изобразительных средств. В ней
последовательно освещаются взгляды на художественное
творчество, проистекающие из архаических религиозных
и миропознавательных представлений, конфуцианства, дао-
сизма и буддизма; определяются место и роль искусства в
системе китайской государственности и в иерархии нацио-
нальных духовных ценностей. В главе 2 этой части подроб-
но разбираются изобразительные образные ряды, начиная с
геометрических фигур, числовой и цветовой символики и
вплоть до зооморфных изображений. Особое внимание уде-
ляется образам таких фантастических существ, как дра-
кон, феникс, единорог-цилинь, которые пользовались ис-
ключительной популярностью в искусстве и культуре Ки-
тая. В главе 3 рассказывается об особенностях иконографии
центральных персонажей древнего, даосского, буддийско-
го и простонародного божественных пантеонов. Одновре-
менно в ней представлены общие сведения о данных пантео-
нах и соответствующих верованиях и культах.
В Части III рассказывается об основных видах китай-
ского изобразительного искусства: о станковой живописи
(включая сведения о живописных материалах и техни-
ках, теориях живописного творчества, конкретных шко-
лах и мастерах); о простонародной картине-нянъхуa, буд-
дийской культовой скульптуре и живописи с анализом
12
конкретных памятников (пещерных монастырей, скаль-
ных храмов).
В Части IV представлены главные виды китайского де-
коративно-прикладного искусства: керамика, ювелирное
дело, эмальерное дело, лаковое производство и текстиль.
В каждом из перечисленных разделов содержатся сведения
о развитии и особенностях данного производства, его ос-
новных традициях и о ведущих технико-художественных
разновидностях изделий. В главе, посвященной ювелирно-
му делу Китая, подробно рассказывается о местных юве-
лирных материалах и комплектах украшений.
Часть V знакомит читателя с архитектоническими ви-
дами искусства: с архитектурой (включая градостроение и
зодчество), с садово-парковым искусством, с мебельным
делом и искусством интерьера. Отдельная глава посвящена
главным памятникам китайско-буддийского культового
зодчества — пагодам. В ней подробно рассказывается о
культурных и архитектурных истоках китайских пагод
(культовое зодчество Древней Индии и других стран буд-
дийского ареала) и об их основных конструктивных и сти-
листических вариантах.
Часть VI посвящена музыкальному искусству Китая.
В ней приводятся общекультурные характеристики музы-
кального творчества в том виде, в каком оно понималось в
культуре Китая начиная с древнейших эпох, рассказыва-
ется об особенностях интонационного строя китайской му-
зыки и национальных музыкальных инструментов.
Композиционная структура и содержание предлагаемо-
го учебного пособия полностью отвечают всем требованиям
государственного образовательного стандарта по специаль-
ностям «Философия», «Культурология» и «Искусствоведе-
ние». Одновременно модульный принцип построения делает
его универсальным учебно-познавательным изданием для
преподавательского состава и учебно-студенческой аудито-
рии средних и высших учебных заведений любого профиля.
Каждый из входящих в него тематических блоков может
быть использован в качестве теоретико-методологической и
фактологической базы для создания самостоятельных лек-
ционных курсов по истории, археологии, эстетике, художе-
ственной культуре, изобразительному, декоративно-приклад-
ному искусству, архитектуре Китая, a также в лекционных
курсах и программах общегуманитарного характера.
Все перечисленные разделы книги снабжены богатым
иллюстративным материалом с использованием прорисо-
вок подлинных артефактов и копий китайских гравюр.
Учебное пособие выполнено на базе кафедры филосо-
фии и культурологии Востока философского факультета
Санкт-Петербургского государственного университета. Ав-
тор выражает особую благодарность за помощь в написании
этого учебного пособия сотрудникам Отдела Востока Госу-
дарственного Эрмитажа — к. и. н. К. Ф. Самосюк, к. и. н.
Т. Б. Араповой и к. и. н. Н. Г. Пчелину, a также своим
зарубежным коллегам, оказавшим неоценимую помощь в
подборе европейской специальной литературы.
ИСТОРИЯ
Ш^шшшжші ттт з$ ш ш -mm.
>у-
Щ
, II
mm
111!
ШШЕШ :.:;|Іі...... lïl|
ШШШіШкяЁшЁШ
ѵ, ;,,:,.:, ѵ,.
iiSiiiii;
і№'€НННЙІНІ
і; toi
11
to 1§
II1I1;,
шт
#■* шшмШШаШ
Глава 1
ИСКУССТВО НЕОЛИТИЧЕСКОГО КИТАЯ
(ѴПІ-ІІІ тыс. до н. э.)
Глава 2
ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО КИТАЯ
(ІЫ тыс. до н. э.)
Глава 3
ИСКУССТВО ТРАДИЦИОННОГО КИТАЯ
(ІІІ-ХІХ вв.)
Глава 4
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ
КИТАЯ В СОВРЕМЕННЫХ
МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ
И ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ
ПО ИСТОРИИ КИТАЙСКОГО ИСКУССТВА
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
ИСТОРИИ
КИТАЙСКОГО
ИСКУССТВА
2 История искусства Китпя
ГЛАВА
ИСКУССТВО
НЕОЛИТИЧЕСКОГО
КИТАЯ
(VIII—III тыс. до н. э.)
Китай относится к числу древнейших очагов зарождения
человечества. К настоящему времени установлено суще-
ствование на его территории нескольких диахронных и ре-
гиональных популяций архантропов (датируются средним
плейстоценом, т. е. 1 млн — 200 тыс. лет тому назад) и нео-
антропов (нижний временной рубеж — 50-40 тыс. лет
тому назад). Однако имеющиеся сегодня китайские палео-
антропологические материалы не содержат в себе сколько-
нибудь приметных образцов так называемого палеолити-
ческого искусства (наскальные рисунки, первобытная пла-
стика, примитивные украшения). Поэтому зарождение и
начальная стадия истории развития китайского искусства и
культуры в целом соотносятся в современной науке с эпохой
неолита, начало которой приходится, согласно новейшим
археологическим данным, на IX-VIII тыс. до н. э.
общая
ХАРАКТЕРИСТИКА
эпохи
КИТАЙСКОГО
НЕОЛИТА
Первые бесспорные следы неолитического человека в
Китае были обнаружены в 1921 г. в ходе раскопок, прово-
димых под руководством шведского ученого Ю. Андерсо-
на в окрестностях деревни Яншао. Эта деревня находится
в регионе среднего течения реки Хуанхэ, в ее правобереж-
ной зоне, проходящей по западной окраине современной
провинции Хэнанъ. Ее более точные координаты: на тер-
ритории уезда Мянъчи, приблизительно в 150 км к северо-
западу от города Лояна (см. Карту, с. 25). Названный
топоним сразу же превратился в научный термин, кото-
рый вплоть до недавнего времени использовался в специ-
альной и познавательной литературе для обозначения всей
эпохи китайского неолита и ее художественного насле-
дия: «эпоха Яншао», «керамика Яншао». В процессе даль-
нейших археологических работ, проводившихся в 30-
50-e гг. XX в. в провинции Хэнань и в прилегающих к
ней частях провинции Шэнъси, было обнаружено огром-
ное число неолитических памятников, что на первых no-
pax полностью подтверждало правильность гипотезы мо-
ноцентрического происхождения китайской цивилиза-
18
ции — из одного центра, располагавшегося как раз в ре-
гионе среднего течения Хуанхэ. Таких взглядов на воз-
никновение собственной цивилизации придерживались еще
древние мыслители (с ѴІ-Ѵ вв. до н. э.). A в период ста-
новления централизованной имперской государственно-
сти (III—II вв. до н. э.) они стали общепринятыми для всей
китайской гуманитарии. Дело в том, что для представите-
лей верховной власти и интеллектуальной элиты страны
именно они служили неоспоримым доказательством ис-
ходного национального единства и, следовательно, неиз-
бежности утверждения централизованной империи. Впо-
следствии гипотеза моноцентрического происхождения
Китая была воспринята и европейским (в самом широком
смысле этого термина) китаеведением, хотя точки зрения
западных и российских ученых на генезис китайской ци-
вилизации неоднократно изменялись на протяжении вто-
рой половины ХІХ-ХХв.1 Принципиально важно, что с
позиций разбираемой гипотезы Китай видится своего рода
этнокультурным монолитом, который возник из совокуп-
ности родственных народностей и изначально обладал еди-
ными или тяготеющими к единству духовными традици-
ями. Неудивительно, что усилия нескольких поколений
ученых были направлены на воссоздание гипотетических
субстратных величин, лежащих в основании китайской
культуры. Тогда как любые проявления региональной спе-
цифики — будь то самобытные формы хозяйственной дея-
тельности, локальные верования или этнографические
реалии — считались искажениями этих величин, обус-
ловленными местными естественно-географическими и ис-
торико-этнологическими факторами, например особенно-
стями ландшафта, степенью удаленности от метрополии,
контактами с другими народностями. Сказанное относит-
ся и к собственно искусствоведческим исследованиям.
В них также предпринималось немало попыток найти или
реконструировать некие морфологические и общекультур-
ные универсалии, которые бы позволили объяснить не
только стилистическое и жанровое разнообразие китай-
ского искусства, но и постоянно бросающиеся в глаза от-
кровенные противоречия между составляющими его ху-
дожественными традициями и отдельными феноменами.
Археологические открытия второй половины XX в.2,
особенно последних двух десятилетий, привели не только
к значительному расширению хронологических и геогра-
фических рамок неолитической эпохи в Китае, но и пока-
зали совершенно иной путь генезиса китайской цивили-
зации. Оказалось, что почти одновременно — в пределах
VIII-VII тыс. до н. э. — и практически на всей террито-
рии, составляющей географию современного Китая, воз-
никло несколько культурных очагов, которые постепенно
(на протяжении ѴІ-ІѴ тыс. до н. э.) трансформировались
в субстратные общности. И каждая из этих общностей
приняла, как выясняется, прямое или косвенное участие
в формировании будущего китайского этнокультурного
массива.
1 Так, в мировом китаеведе-
нии второй половины XIX —
начала XX в. большой попу-
лярностью пользовалась гипо-
теза возникновения китайской
цивилизации в результате пе-
реселения предков китайцев
на Дальний Восток из дру-
гих регионов Древнего мира.
В том числе высказывалось
предположение о генетиче-
ском родстве Китая с Древним
Египтом. Попутно заметим,
что подобные теории восхо-
дят, в конечном счете, к биб-
лейскому догмату о происхож-
дении всех народов от сыно-
вей Ноя. Одним из смысловых
вариантов данной гипотезы
является и версия «западных
миграций», согласно которой
все важнейшие события на
заре истории Китая — овла-
дение земледелием, гончарным
делом, a затем и бронзолитей-
ным производством, формиро-
вание государственности, появ-
ление письменности и т. д. —
были результатами культур-
ных диффузий и экспансий.
2 06 интенсивности и пло-
дотворности поисковых архео-
логических работ в указан-
ные десятилетия можно су-
дить по следующим фактам:
только на территории провин-
ции Хэнань с 1978 по 1999 г.
было проведено 2214 раско-
пок, в ходе которых была об-
наружена 21 000 древних по-
гребений. Подобная масштаб-
ность полевых работ отражает
общий уровень развития со-
временной китайской архео-
логии. В настоящее время в
КНР функционируют 50 ар-
хеологических научно-иссле-
довательских академических
институтов и 17 профильных
центров в высших учебных
заведениях, в которых заня-
ты более 1500 только штат-
ных сотрудников. Выходят
более 100 специальных пери-
одических изданий, самыми
авторитетными из которых
считаются журнал «Культур-
ноенаследие» («Вэнъу»,
«Cultural Relicts»), издаваемый с
1950 г. в Пекине (под патро-
нажем Министерства культу-
ры КНР), и журнал «Архео-
логия» («üfao^z/», Пекин, с
1955 г.). Большое число пе-
риодических изданий выпус-
кается также на базе провин-
циальных музеев и местных
отделов Министерства куль-
туры, например: «Культур-
ное наследие Северных регио-
нов» («Бэйфан вэньу», Хар-
бин, с 1925 г., ежеквартально),
«КультураЮго-востока» («Дун-
19
нань вэнъу»> Нанкин, на базе
Нанкинского исторического
музея, с 1978 г., ежеквар-
тально), «Культура Южного
региона» («Наньфан вэнъу»,
провинции Цзянси, с 1992 г.,
ежеквартально), «Культура
Сычуани» {«Сычуанъ вэнъу*>
г. Чэнду, с 1984 г., раз в 2
месяца). Одновременно коли-
чество научных монографи-
ческих работ историко-архео-
логического характера резко
возросло. Существенные изме-
нения претерпела и сама ар-
хеология как научная дисцип-
лина. Произошло ее разделе-
ние на несколько относительно
самостоятельных направлений:
астроархеология, зооархеоло-
гия, этноархеология и т. д.
В последние годы все болъшую
популярность среди них при-
обретает так называемая ар-
хеология искусства (китайский
термин — мэйи каогу) — дис-
циплинарное направление, со-
средоточенное на изучении
собственно художественного
наследия древности и его эс-
тетической ценности.
Для европейской синоло-
гии наиболее авторитетным
периодическим изданием по
вопросам истории и культу-
ры древнейших периодов ис-
тории Китая является ежегод-
ный журнал «Early China»,
выпускаемый с начала 80-х гг.
XX в. международным Обще-
ством изучения раннего Ки-
тая (The Society for the Study
of Early China).
3 При написании этой кни-
ги автором использовались дан-
ные, опубликованные в новей-
ших (за 2000-2002 гг.) зару-
бежных и китайских научных
и периодических изданиях,
которые во многих случаях
отличаются от датировок и
классификационно-периодиза-
ционных схем, предлагаемых
в отечественной китаеведной
литературе 1970-1980-х гг.
4 В последние годы для
культуры Дадивань были от-
крыты памятники, нижние
стратиграфические слои кото-
рых восходят, по мнению ки-
тайских археологов, к 7000-
6000 гг. до н. э. Однако эти
материалы пока еще находят-
ся в стадии предварительного
изучения и поэтому не нашли
отражения в опубликованных
периодизационных схемах.
5 В научной литературе
заключительной трети XX в.,
включая отечественные изда-
ния, Баньпо и Мяодигоу дати-
руются соответственно 5000-
3500 и 3000-2000 гг. до н. э.
Было бы болыним преувеличением говорить, что эти
неолитические очаги и общности уже понятны науке во
всех своих деталях и нюансах. Напротив, во время непре-
рывно ведущихся поисковых работ чуть ли не каждый год
обнаруживаются новые и нередко сенсационные находки,
заставляющие специалистов корректировать, a то и полно-
стью пересматривать еще недавно казавшиеся безошибоч-
ными точки зрения. Постоянно изменяются датировки,
контуры ареалов и общие классификационные схемы нео-
литических культур3. Бурно дискутируются проблемы их
возможных истоков, особенности их хозяйственно-куль-
турного облика и характер взаимоотношений друг с дру-
гом. Еще более горячие споры вызывает художественное
наследие неолитической эпохи, начиная с выяснения тех
или иных технологических тонкостей и завершая попыт-
ками семантического истолкования конкретных артефак-
тов. И все же общая сетка координат китайского неолита
уже, думается, более или менее точно определена, и начи-
нает вырисовываться относительно внятная картина как
состояния самой этой эпохи, так и начального этапа фор-
мирования китайской цивилизации во всех ее значимых
аспектах.
Сегодня на территории Китая выявлено около 30 очаго-
вых культур и общностей, которые группируются учены-
ми, исходя из их местоположения и характера родствен-
ных связей, в 6 культурных зон: «централъную», «запад-
ную» («северо-западную»), «южную», «юго-восточную»,
«восточную» и «северо-восточную».
«Центральную» зону (централъное Яншао, собствен-
но Яншао) образуют культуры, общий ареал которых охва-
тывал весь регион бассейна среднего течения Хуанхэ. Это —
болыпая часть территорий современных провинций Хэнань,
Шэнъси, Шаньси (на севере, до Внутренней Монголии), a
также примыкающие к Хэнани северная оконечность про-
винции Хэбэйу юго-западная и южная окраины провинций
Шанъдун и Хубэй. Местными очаговыми культурами в на-
стоящее время считаются: Цышань (6000/5500-5000/
4500 гг. до н. э.), Пэйлиган (6000-5000/4500 гг. до н. э.) и
Дадиванъ (5850/5200-5400/4500 гг. до н. э.)4, располагав-
шиеся соответственно в южной оконечности провинции
Хэбэй, в центральной части Хэнани и на юго-восточной
окраине провинции Ганъсу.
Субстратными общностями «центральной» зоны счита-
ются Банъпо и Мяодигоу (5000-3000 гг. до н. э.)5. Их пер-
вые и наиболее показательные памятники — комплексы
Баныго и Мяодигоу — были открыты еще в 1953 г. Пер-
вый из них находится в западном предместье современно-
го города Сианъ (пров. Шэньси) и датируется 4500-
3500 гг. до н. э. Второй — в северо-западной окраине Хэ-
нани и восходит к 3200-2300 гг. до н. э.
На сегодня для обеих яншаоских общностей известно
уже несколько сотен памятников, некоторые из них счита-
ются их относительно самостоятельными локально-хроноло-
гическими вариантами. Для Баньпо важнейшим из таких
20
памятников признается комплекс Бэйшоулин (к западу от
Сианя, середина V — начало IV тыс. до н. э.). Для Мяоди-
гоу — комплексы Сиванцунь (юго-западная оконечность
Шаньси), Ванвань (на территории Лояна), Дахэцунь (на тер-
ритории г. Чжэнчжоу — административного центра пров.
Хэнань). Все они были открыты в 70-90-х гг. прошлого века.
В «западную» зону (западное Яншао, ганьсуское Ян-
шао) входят культуры, располагавшиеся в регионе бассей-
на верхнего течения Хуанхэ — на большей части провин-
ции Ганъсу и на территории прилегающих к ней северо-
западных и восточных районов провинций Шэньси и
Цинхай.
Ганьсуские культуры тоже были открыты в 20-х гг.
прошлого века и вплоть до недавнего времени считались
родственными центрально-яншаоским. Теперь же выяс-
нилось, что они имеют более древние истоки и восходят к
местной очаговой культуре Лаогуаныпай (6000-5400 гг.
до н. э.)> ареал которой уже охватывал почти всю южную
часть территории Ганьсу (приблизительно до современно-
го города Цзюцюаня) и смежные с ней восточные и юж-
ные окраины Цинхай и Нинся-Хуэйского автономного
района. Тем не менее тезис об этнокультурном родстве
ганьсуских и центрально-яншаоских культур по-прежне-
му остается в силе.
Основной субстратной общностью Западного Яншао
считается культура Мацзяяо (3300-2050 гг. до н. э). Она
была открыта в 1923 г. (около одноименной деревни,
приблизительно в 85 км к югу от Ланъчжоу) и подразделя-
ется на три главных локально-хронологических варианта:
собственно Мацзяяо (в южной части Ганьсу), Мачан (2200-
2000 гг. до н. э.) и Банъшань (около 2000 г. до н. э., в рай-
оне Ланьчжоу).
В начале II тыс. до н. э. западно-яншаоские культуры
уступили место новой общности — Цицзя (2000-1600 гг.
до н. э., открыта в 1923-1924 гг.), которая унаследовала
территорию Мацзяяо6 и в скором времени сменилась, в
свою очередь, энеолитической культурой Сыба (1600-
1400 гг. до н. э., подробно см. далее).
«Южная» зона включает в себя культуры, располагав-
шиеся в бассейне среднего течения Янцзы — на террито-
рии провинций Хубэй, Хунанъ и прилегающих к ним вос-
точной части провинции Сычуань и южной оконечности
Хэнань. Ее очаговыми культурами считаются: Гаомяо
(7400-5300 гг. до н. э.), Сунсикоу (6800-5700 гг. до н. э.),
располагавшиеся соответственно в юго-западной и запад-
ной части Хунани, Пэнтоушанъ (7080-5800 гг. до. н. э.) —
в северной оконечности Хунани, и Чэнбэйси (4900-3700 гг.
до н. э.) — в южной части провинции Хубэй. Все они были
открыты на протяжении 80-90-х гг. прошлого века.
Главными общностями «южной» зоны признаются Даси
(4400-3300 гг. до н. э), Цюйцзялин (3500-2600 гг. до н. э.)
и Шицзяхэ (2500-2000 гг. до н. э.). Даси располагалась на
территории восточной окраины Сычуани (где и были обна-
ружены ее первые памятники), западной части провинции
I ? 7WJ
v У'Г A
V . Г M
Очаговые
неолитические кулътуры
(ѴІІІ-ѴІ тыс. do «. э.)
1 — Цышань; 2 — Пэйлиган; 3 —
Дадивань; 4 — Лаогуаньтай; 5 —
Гаомяо-Сунсикоу; 6 — Пэнтоу-
шань; 7 — Чэнбэйси; 8 — Хэму-
ду; 9 — Бэйсинь; 10 — Синлунва-
Чахай. / — Область распростра-
нения мотыжного земледелия;
// — Область распространения
рисоводства.
Неолитические кулътурные
общности и предполагаемые
пути их взаимодействия
1 — Яншао; 2 — Даси; 3 — Сун-
цзэ; 4 — Бицзяган-Бэйиньянъин;
5 — Давэнькоу-Цинляньган; 6 —
Хуншань. / — Область распро-
странения расписной керамики;
// — Область распространения
монохромной керамики.
6 Ареал Цицзя на юге до-
ходил до юго-западной око-
нечности Ганьсу, на севере —
до границ Внутренней Мон-
голии, на западе — до райо-
на г. Синин и на востоке —
до крайней восточной части
Ганьсу.
21
7 Кроме того, в 1996 г. в
центре Сычуани (в 22 км к се-
веро-западу от г. Чэнду) были
обнаружены следы еще одной
культуры — Баодунь (нач.
V тыс. до н. э.), которая, воз-
можно, являлась локальным
вариантом Даси, что суще-
ственно расширяет границы
всей «южной» зоны.
8 Ее первый памятник был
открыт в 1954 г. около одно-
именной деревни, находящей-
ся в центральной части про-
винции Хубэй, в 120 км к се-
веро-западу от г. Ухань.
9 Вплоть до недавнего вре-
мени Мацзябан и Сунцзэ счи-
тались локально-хронологиче-
скими вариантами культуры
Лянчжу. В новейших иссле-
дованиях они рассматривают-
ся в качестве самостоятель-
ных, хотя и родственных Лян-
чжу, общностей.
10 Следы юго-восточных нео-
литических культур и непо-
средственно Лянчжу были слу-
чайно обнаружены в 1930 г.
в ходе раскопок захоронений
Ѵ-ѴІ вв. н. э., находящихся в
окрестностях Нанкина. Пла-
номерные поисковые работы
стали проводиться в этом ме-
сте с середины прошлого века,
a подлинное открытие Лянч-
жу состоялось в 1959 г. Тог-
да же в научный оборот было
введено такое ее название.
С того момента Лянчжу неиз-
менно притягивала к себе при-
стальное внимание специали-
стов. Однако важнейшие для
нее и всей «юго-восточной»
зоны находки были сделаны на
протяжении последних 30 лет.
11 Эта культура была от-
крыта в 1951 г., a ee первый
памятник (одноименный ком-
плекс) был обнаружен вблизи
одноименной деревни, нахо-
дящейся в центральной части
Цзянсу, на трассе Великого
китайского канала.
Хубэй и северной части Хунани7. Ареал Цюйцзялин —
первой открытой южной культуры8 — охватывал весь рай-
он бассейна рек Янцзы и Ханъшуй, простираясь до северо-
западной оконечности провинции Хубэй. Тогда как Шиц-
зяхэ, напротив, занимала относительно небольшую терри-
торию в южной части Хубэй (в районе г. Тяньмэнь).
К «юго-восточной» зоне относятся культуры, распола-
гавшиеся в регионе нижнего течения Янцзы — на террито-
рии южной части провинции Цзянсу и северной оконечно-
сти провинции Чжэцзян.
Их прародительницей считается культура Хэмуду
(5000/4500-3400 гг. до н. э.). Ее главный памятник (одно-
именный комплекс, 1973 г.) находится на южном берегу
Ханчжоуского залива (пров. Чжэцзян), a общий ареал ох-
ватывал всю прибрежную зону Ханчжоуского залива и се-
веро-восточную оконечность Чжэцзян.
Преемницами Хэмуду считаются Мацзябан (5000-
4000 гг. до н. э.), Сунцзэ (4000-3300 гг. до н. э.), и Лян-
чжу (3200-2200 гг. до н. э.)9. Первые две из этих общно-
стей локализовались соответственно в северо-восточной око-
нечности Чжэцзян и на территории западного пригорода
Шанхая. Лянчжу10 занимала значительно более обширные
территории (около 200 км в диаметре), охватывая север-
ную часть Чжэцзян и юго-восточную часть Цзянсу, т. е.
весь правобережный регион нижнего течения Янцзы. A oc-
новная масса ее памятников сконцентрирована в прибреж-
ной зоне оз. Тайху.
К «восточной» зоне относятся культуры, располагав-
шиеся в бассейне нижнего течения Хуанхэ — на террито-
риях провинции ПІанъдуНу северной половины провинции
Цзянсу и восточной оконечности провинции Анъхуэй.
Древнейшей местной очаговой культурой в настоящее
время признается Вэйсинь (5400-4400 гг. до н. э.), кото-
рая возникла в южной части Шанъдунского полуострова
и затем распространилась как на север — в центральную
часть Шаньдуна, так и на юг — на северо-западную окра-
ину Цзянсу.
Главными культурными общностями «восточной» зоны
считаются Давэнъкоу (4300-2200 гг. до н. э.), Цинляньган
(5400-4400 гг. до н. э.) и Бэйинъянъин-Бицзяган (4000-
3000 гг. до н. э.).
Культура Давэнькоу занимала значительную часть
Шаньдунского полуострова (к югу от Хуанхэ, доходя на
востоке до побережья Желтого моря), и почти всю север-
ную половину Цзянсу. Ареал Цинляньган был еще больше:
он охватывал южную часть Шаньдуна и около двух третей
Цзянсу, местами простираясь до берегов озера Тайху11. По-
этому до середины 70-х гг. прошлого века эту культурную
общность ученые относили к «юго-восточной» зоне, деля ее
на два относительно самостоятельных региональных вари-
анта: «северный» (Цзянбэй, буквальный перевод «к северу
от Янцзы») и «южный» (Цзяннанъ — «к югу от Янцзы»),
во второй из которых включались и юго-восточные культу-
ры Мацзябан и Сунцзэ. В современных исследованиях Цин-
22
ляньган однозначно включается в «восточную» зону, счи-
таясь прямой наследницей Бэйсинь и Давэнькоу.
Место культур Бэйиньянъин и Бицзяган в географи-
ческих и хронологических схемах китайского неолита тоже
вызывает жаркие дискуссии. В момент обнаружения Бэй-
иньянъин (1955 г. в центре Нанкина, на территории Нан-
кинского государственного университета) ее приняли за
один из этапов «южного» варианта Цинляньган. Однако
последующие находки опровергли данную точку зрения.
Выяснилось, что область ее рапространения включала в
себя не только юго-западную окраину провинции Цзянсу,
но и восточные районы провинции Аньхуэй, где располага-
лась культура Бицзяган, которая, в свою очередь, охваты-
вала южную половину провинции Аньхуэй — от ее юго-
западной окраины до северного и восточного побережья
озера Чаоху. Учитывая географическую удаленность обеих
этих культур от границ собственно «восточной» зоны, мно-
гие исследователи склонны видеть в них самостоятельные
общности, состоявшие в родстве как с восточными, так и с
юго-восточными и южными культурами.
В «северо-восточную» зону включаются культуры, рас-
полагавшиеся в северо-восточном регионе Китая: на терри-
ториях северной части провинции Хэбэй, провинции Ляо-
нин и южной оконечности Внутренней Монголии. Нередко
обозначаемые в специальной литературе как культуры
Хуншанъ, почти все они были открыты совсем недавно — в
70-90-х годах прошлого века12.
В настоящее время для этой зоны выявлены три оча-
говых культуры: Синлунва (6200-5400 гг. до н. э.), Ча-
хай (6000-4500 гг. до н. э.) и Чжаобаогоу (5200-4500 гг.
до н. э.), преемницей которых считается культурная общ-
ность, определяемая как собственно Хуншань (4500-
3000 гг. до н. э.).
Ареал Синлунва охватывал южную оконечность Внут-
ренней Монголии (от гористой местности Чифэн, где и
был обнаружен ее первый памятник), западную окраину
провинции Ляонин и северо-восточную часть провинции
Хэбэй. Ее древнейшим памятником (или локально-хроно-
логическим вариантом) на территории провинции Хэбэй
признается комплекс Хоутайцзы (1983 г.), находящийся
приблизительно в 40 км к северо-востоку от пекинского
мегаполиса. Нижние слои этого комплекса датируются на-
чалом VII тыс. до н. э., что делает его одним из самых ран-
них неолитических поселений во всем регионе бассейна
Хуанхэ. A совпадение его местоположения (в пределах гор-
ного массива Янъшанъ, окружающего Пекин) с районом
обитания популяции пекинского синантропа, указывает на
возможность происхождения северо-восточных культур от
местного палеолитического населения.
Культура Чахай (открыта в 1987-1990 гг.) локализова-
лась к северу от ареала Синлунва — в северном предгорье
массива Иулюйшанъ, пересекающего западную часть про-
винции Ляонин (территория современного Монгольского
автономного уезда). Область распространения Чжаобаогоу
12 Первые находки, отно-
сящиеся к этой зоне, были
сделаны еще в 1923 г. архео-
логической экспедицией, воз-
главляемой тем же самым
шведским ученым Ю. Андер-
соном, которому наука обяза-
на и открытием культур Ян-
шао. В 30-40-х гг. прошлого
века поисковые работы в дан-
ном регионе были продолже-
ны японскими учеными при
поддержке администрации на-
ходившегося там марионеточ-
ного государства Маньчжоуго.
В начале 1950-х гг. в гумани-
тарии КНР были предприня-
ты первые попытки система-
тизации обнаруженных ма-
териалов, которые, как это
выяснилось позднее, охваты-
вали лишь один из эпизодов
северо-восточных культур. Ка-
чественно новый этап в освое-
нии «северо-восточной» зоны
начался в конце 70-х гг. XX в.,
a основные для нее археоло-
гические открытия были сде-
ланы в последние 20 лет.
23
13 Первый памятник Хун-
шань — комплекс Хуншань-
хоу — был открыт в 1935 г. в
окрестностях города Чифэн, в
отрогах одноименных гор, ко-
торые как раз и составляют
южную оконечность Внутрен-
ней Монголии.
(археологические исследования начала 80-х гг. XX в.) час-
тично совпадает с ареалом Синлунва. Она тоже охватывала
западную часть провинции Ляонин (где и находится ее
основной памятник) и южную оконечность Внутренней Мон-
голии.
Хуншань — культурная общность, занимавшая огром-
ную территорию13. Ее северная граница простиралась по-
чти до Монгольского плато (за р. Шара-Мурзы), восточ-
ная — до середины провинции Ляонин. Южная часть ape-
ana Хуншань распадалась на две области — «восточную»,
которая тянулась до Бохайского залива, и «западную» —
до района Пекина, где эта общность могла войти в сопри-
косновение с центрально-яншаоскими культурами. На ука-
занной территории выявлены следы существования несколь-
ких относительно самостоятельных культурных образова-
ний, которые считаются регионально-хронологическими
вариантами Хуншань. Важнейшим из них признается куль-
тура Нюхэлян, область распространения которой тоже до-
ходила на севере до южной оконечности Внутренней Мон-
голии, на юге — до окрестностей Пекина.
В III тыс. до н. э. культуры хуншаньского круга нача-
ли сменяться энеолитическими общностями, главное место
среди которых занимает Сяохэчжао (3000-2000 гг. до н. э.),
также локализовавшаяся на южной окраине Внутренней
Монголии.
Примечательно, что общая география неолитических
общностей практически полностью совпадает с границами
исконных земель Китая в том виде, в каком они сложи-
лись в период утверждения там централизованной импер-
ской государственности. A многие неолитические поселе-
ния находились именно в тех местах, где впоследствии
возникли важнейшие политические и культурные центры
Китая, — например такие города, как Пекин, Шанхай,
Нанкин, Сиань и Лоян. Получается, что общие контуры
естественно-географического пространства обитания китай-
цев начали складываться задолго до возникновения китай-
ского этноса и цивилизации как таковых.
Немалое число неолитических памятников было обна-
ружено также в крайних юго-западных, южных и юго-
восточных районах современного Китая — в южной части
Сычуани, в провинциях Юнънанъ, Гуйчжоу, Гуанси, Гуан-
дун и Фуцзянь. Кроме того, некоторые из установленных
там культур оказались даже более древними, чем считаю-
щиеся собственно китайскими. Таковы, например, культу-
ры Душицзы и Баоцзыгоу, располагавшиеся соответствен-
но в южных частях провинций Гуандун и Цзянси и дати-
руемые 12 000/10 000-9000 и 8700-7600 гг. до н. э. He
исключено, что они тоже принимали прямое или косвен-
ное участие в формировании южных и юго-восточных общ-
ностей. Однако, учитывая, что их изучение еще находится
в предварительной стадии, мы воздержимся от более под-
робного рассмотрения.
Все региональные неолитические культуры, о чем убе-
дительно свидетельствуют археологические материалы,
24
прошли приблизительно равный путь хозяйственно-куль-
турного развития (ведение оседлого образа жизни, занятие
земледелием, приручение домашних животных и т. д.). Но
решающую роль в событиях заключительного этапа неоли-
тической эпохи сыграла новая для нас общность — Лун-
шанъ. Хотя она была открыта еще в 1928 г., ее подлинные
характеристики и место в истории китайской цивилиза-
ции стали очевидными науке лишь недавно.
Луншань возникла в начале III тыс. до н. э. в северо-
западной части провинции Шаньдун, являясь наследни-
цей очаговой культуры Бэйсинь. Затем, всего за два-три
столетия, она распространилась по всему Шаньдунскому
полуострову, образовав так называемый шанъдунский
вариант Луншань (2900/2400-2000/1900 гг. до н. э>),
Важнейшие
неолитические памятники
Неолитические комплексы: 1 —
Яншао, 2 — Цышань, 3 — Пей-
лиган, 4 — Дадивань, 5 — Бань-
по, 6 — Мяодигоу, 7 — Бэйшоу-
лин, 8 — Сиванцунь, 9 — Бань-
шань, 10 — Мацзяяо-Мачан,
11 — Цицзя, 12 — Сунсикоу,
13 — Гаомяо, 14 — Пэйтоушань,
15 — Чэнбэйси, 16 — Цюйцзя-
лин, 17 — Хэмуду, 18 — Мац-
зябаы, 19 — Сунцзэ, 20 — Бэй-
синь, 21 — Цинляньган, 22 —
Бэйиньянъин, 23 — Бицзяган,
24 — Хоутайцзы, 25 — Синлун-
ва, 26 — Хуншань, 27 — Ча-
хай. Луншаньские городища: 1 —
Чэнцзыя, 2 — Цзинъянган, 3 —
Гучэн, 4 — Ванцунь, 5 — Дань-
тучэн.
25
и почти сразу же вышла за его пределы. К концу III тыс.
до н. э. она проникла во все районы бассейна среднего
течения Хуанхэ, повсюду сменяя собою яншаоские общ-
ности. Хотя маловероятно, что распространение Луншань
происходило абсолютно мирным путем, есть веские осно-
вания полагать, что оно носило характер в большей сте-
пени культурной экспансии, чем прямого завоевания.
В каждом новом месте, где утверждалась Луншань, воз-
никали ее специфические варианты, в которых ее собствен-
ные черты смешивались с местными культурными реалия-
ми. Такими синкретическими культурными образованиями
оказываются хэнаньский вариант Луншанъ (2400-2000 гг.
до н. э.), который утвердился в самом центре бассейна
среднего течения Хуанхэ; шэнъсийский вариант — на
территории провинции Шэньси (вплоть до восточных ок-
раин провинции Ганьсу); хэбэйский вариант (или куль-
тура Цинлунцюанъ, 2500-2000 гг. до н. э.) — в северной
части провинции Хэбэй. Вне области распространения
Луншань остались, как видим, северо-восточные, юго-
восточные и на тот момент крайние южные районы Ки-
тая. Но, не установив своего прямого присутствия на юго-
востоке и юге, Луншань (точнее, ее шаньдунский вари-
ант) поддерживала, судя по всему, давние и активные
контакты с местными общностями, в первую очередь с
Лянчжу. Это позволило ей унаследовать достижения всех
трех — «восточной», «юго-восточной» и «южной» — зон,
которые она и принесла с собой в регион Хуанхэ, объеди-
нив их с центрально-яншаоскими культурными традици-
ями, которые, видимо, обладали высокой степенью проч-
ности и огромным внутренним потенциалом. Во всяком
случае из всех региональных вариантов Луншань наибо-
лее жизнеспособным оказался именно хэнаньский. Так,
бассейн среднего течения Хуанхэ постепенно начал пре-
вращаться в главную историко-культурную арену Китая.
Что же касается хуншаньской общности, то она внешне
осталась в стороне от указанных процессов. Такова общая
схема культурно-политических событий, завершивших
эпоху неолита.
Имеющиеся сегодня неолитические археологические
материалы исключительно объемны и разнообразны. Боль-
шинство из перечисленных культур представлены десят-
ками и сотнями памятников — от единичных захороне-
ний до масштабных комплексов, площадью в 10 000 м2 и
более и состоящих из нескольких стратиграфических сло-
ев, содержащих в себе десятки тысяч артефактов. Так,
комплекс Баньпо занимает площадь в 12 000 м2. На его
территории были обнаружены остатки самого поселения
(40 жилищ), кладбище (250 могил) и множество различ-
ных изделий, в частности более 1000 керамических сосу-
дов и еще около 50 000 их фрагментов. В дальнейшем
вблизи от Баньпо было открыто приблизительно 400 од-
нотипных, хотя и менее крупных, памятников. Комплекс
Хэмуду занимает площадь в 40 000 м2, на которой было
найдено более 6000 артефактов, включая 1600 керамиче-
26
ских сосудов, костяные и деревянные изделия. Понятно,
что для изучения такого значительного количества архео-
логических материалов потребуется еще немало лет ис-
следовательской работы. A их сколько-нибудь подробное
описание может вместиться только в многотомное изда-
ние. Поэтому в данном случае нам придется ограничиться
лишь беглым обзором художественного наследия неолити-
ческой эпохи и, к сожалению, еще более краткими замеча-
ниями по поводу особенностей хозяйственно-культурного
облика ее обитателей.
Первоочередной и актуальнейшей проблемой китай-
ского неолита является происхождение его региональных
культур. Более или менее точно расовый состав пока что
определен только для яншаоских общностей. Установле-
но, что представители Центрального Яншао относились к
восточно-азиатской pace тихоокеанских монголоидов. Но
уже для обитателей Ганьсу дополнительно прослежива-
ются их связи с монголоидами Центральной Азии и Юго-
Восточной Сибири. К монголоидному миру, судя по все-
му, принадлежали и носители культур хуншаньского кру-
га, в чем нетрудно убедиться при виде дошедших до нас
образцов их скульптуры. A bot возможные этнокультур-
ные истоки обитателей «южной», «юго-восточной» и «во-
сточной» зон все еще дискутируются в науке. Есть ряд
оснований предполагать, что среди них присутствовали
представители протоаустронезийской (австралоидной)
расы. В новейших исследованиях все настойчивее выдви-
гается версия, что создатели одних региональных очаго-
вых культур были, скорее всего, потомками местных па-
леолитических гоминидов, тогда как других — народно-
сти, попавшие на территорию Китая откуда-то извне, — в
ходе глобальных миграционных процессов, охвативших
человечество в мезолите.
Этнокультурная неоднородность неолитического Китая
ярче всего проявляется в сфере хозяйственной деятельно-
сти. Обитатели всех регионов неолитического Китая были
оседлыми земледельцами и занимались в качестве вспомо-
гательных промыслов охотой и рыболовством. Однако в
регионе бассейна Хуанхэ выращивали просо, a на юге и
юго-востоке — рис. Рисоводство было, видимо, знакомо и
носителям восточных и северо-восточных культур. В двадца-
ти с лишним хуншаньских памятниках найдены рисовые
зерна и специфические орудия труда. Существует несколь-
ко гипотез генезиса и пути распространения рисоводства в
Китае. Согласно одной из них, оно появилось на юге, при-
дя, возможно, из Юго-Восточной Азии, и затем последова-
тельно продвигалось в районы нижнего течения Янцзы и
на Шаньдунский полуостров14. К IV—III тыс. до н. э. рисо-
водство достигло и северо-востока, откуда впоследствии
попало в Корею и в Японию (в период Дзёмон). Следует
пояснить, что вплоть до XIII в. до н. э., когда до Китая
дошла волна «малого ледникового периода», на всей его
территории, включая район Пекина, царил климат, близ-
кий к субтропическому. Поэтому рис, и в самом деле, мог
14 Наивысшего расцвета
рисоводство достигло в Лянч-
жу, где были освоены два сор-
та риса. Кроме того, местным
населением выращивался и ряд
других сельскохозяйственных
культур, появление которых y
китайцев относилось раньше к
значительно более поздним
историческим эпохам.
27
Предполагаемые nymu
участия неолитических
общностей в процессе
форлшрования
общекитайского
этнокулыпурного
субстрата
1 — Яншао; 2 — Цюйцзялин-
Шицзяхэ; 3 — Лянчжу; 4 — Лун-
шань; 5 — Хуншань-Сяохэчжао.
выращиваться не только в бассейне Янцзы, но и далеко к
северо-востоку от Хуанхэ.
Выращивание риса принципиально отличается от па-
шенного земледелия, что не могло не сказаться на состоя-
нии многих других местных хозяйствеыно-культурных
реалий. Во-первых, оно диктует иное отношение к зем-
ле — не пашни, a заболоченной местности, что неизбеж-
но должно было привести к возникновению специфиче-
ских аграрных верований. Во-вторых, рисоводство нуж-
дается в искусственном орошении и требует создания
ирригационных систем. Остатки таких систем, дати-
руемых VII-VI тыс. до н. э., были обнаружены в комп-
лексе Хэмуду и в памятниках, относящихся к южной
очаговой культуре Пэнтоушань (Хунань, 1992-1998 гг.)»
Сооружение ирригационных систем, в свою очередь, дол-
жно было стимулировать развитие прикладных навыков
и рациональных знаний. Кроме того, оно требовало кол-
лективного и четко организованного труда, способствуя
тем самым упорядочиванию социального устройства мест-
ных обществ. Все эти черты, как мы убедимся далее,
были и в самом деле присущи южным и юго-восточным
культурам.
Итак, по этническому и хозяйственному показателю
неолитический Китай с достаточной степенью очевид-
ности распадается на две главные области, одну из ко-
торых составляют Центральное и Западное Яншао, a
другую — южные, юго-восточные и частично восточные
культуры. Исходя из этой схемы, мы и будем рассматри-
вать предметно-творческую деятельность неолитической
эпохи, обращая при этом равное внимание как на ее
общие типологические особенности, так и на специфи-
ческие черты, присущие региональным художественным
традициям.
Художественное наследие неолитического Китая тоже
чрезвычайно велико и разнообразно. Но обязательными
и самыми массовыми артефактами для всех регионов
неолитического Китая являются керамические изделия,
что полностью отвечает универсальным закономерностям
истории человечества: гончарное дело, как известно, было
неотъемлемой принадлежностью культурно-хозяйственного
облика любой неолитической общности оседлых земле-
дельцев. Одновременно керамика дает возможность су-
дить о состоянии не только собственно предметно-твор-
ческой деятельности, но и многих других сфер матери-
альной и духовной культуры этих общностей. В ней
находят отражение как уровень развития рациональных
знаний и технико-прикладных навыков (особенности ре-
цептуры керамического теста, сложность технологических
операций и т. д.), так и реалии этнологического и обще-
культурного ряда — обычаи, обрядовые практики, веро-
вания и миропознавательные представления. Вот почему
рассказ о художественном наследии неолитической эпо-
хи правомерно начать с рассмотрения именно керами-
ческих изделий.
28
Китайская неолитическая керамика охватывает собой
около 10 болыиих отделов. Для яншаоских культур — это
жилища, печи, орудия труда (ножи, скребки, рыболовные
крючки, лощила для обработки сосудов, пряслица), иг-
рушки, украшения, пластика, музыкальные инструменты
и сосуды. Последний из перечисленных отделов является
не только наиболее объемным, но и самым значительным с
художественной точки зрения.
В соответствии с их предназначением и характером де-
кора сосуды подразделяются на две основные функцио-
нальные группы и два художественных вида. В качестве
функциональных групп выделяются бытовая и ритуально-
погребальная утварь, которая предназначалась исключи-
тельно для погребального инвентаря или для использова-
ния в каких-либо иных ритуально-церемониальных целях,
например для хранения или преподнесения жертвенной
пищи. Бытовая утварь подразделяется на три подгруппы:
столовая, кухонная (т. е. предназначенная для приготов-
ления пищи) и хозяйственная (для хранения жидкостей и
продовольственных припасов) посуда.
Под художественными видами понимаются расписная
(полихромнаяу крашеная) и монохромная (некрашеная)
керамика, т. е. изделия, украшенные соответственно рос-
писями и различными видами рельефного орнамента.
Керамика обоих этих художественных видов изготавли-
валась во всех регионах неолитического Китая. Однако со-
отношение расписных и монохромных изделий в каждом
конкретном случае оказывается различным, служа тем са-
мым одним из первоочередных показателей самобытности
местного гончарного дела и художественного творчества в
целом. Яншаоские культуры характеризуются столь широ-
кой популярностью расписных изделий, что за ними закре-
пилось терминологическое название «культуры расписной
(крашеной) керамики» (кит. цайтао вэнъхуа). Практика
изготовления яншаоской расписной керамики зародилась
еще в местных очаговых культурах — Дадивань и Лаогу-
аньтай, в дальнейшем ее количество неуклонно возрастало.
В Баньпо, Мяодигоу и Мацзяяо такие сосуды составляют от
34 до 45% от общего числа находок, притом что некоторые
категории кухонной и хозяйственной посуды здесь вообще
не имеют никакого художественного оформления.
Культуры юго-восточного и восточного регионов демон-
стрируют, напротив, явное преобладание монохромной ке-
рамики над расписной. Если на раннем этапе развития
местного гончарного дела расписные сосуды еще более или
менее активно изготовлялись — в Хэмуду они составляют
1-2% от общего числа находок, в Давэнькоу — 10-12% и
в Цинляньган — 5-7%, то в Лянчжу и Луншань устанав-
ливается абсолютное господство монохромной керамики.
Причем в шаньдунском варианте Луншань производилась
ее уникальная специфическая разновидность — сосуды с
черным черепком. Отсюда эта общность нередко определя-
ется в научной литературе как «культура черной керами-
ки» (кит. хэйтао вэнъхуа).
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
НАСЛЕДИЕ
НЕОЛИТИЧЕСКОГО
КИТАЯ.
КЕРАМИКА
типологии
И ТЕХНОЛОГИЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
НЕОЛИТИЧЕСКОЙ
КЕРАМИКИ
^■s^ii^Vtiitfo
Категории
неолитической керамики
a — лощила; б — ножи; в — иг-
рушки.
29
Керамики
центрально-яншаоских
кулътур
ЖіФШ
Керамика
западнояншаоских
культур
Прямо противоположная картина вырисовывается для
южных культур. Расписная керамика появляется здесь
только в ранних слоях Даси и затем занимает весьма за-
метное положение в гончарном деле Цюйцзялин, состав-
ляя до 20% от общих находок. В северо-восточных культу-
рах расписная керамика начала изготовляться тоже отно-
сительно поздно — в начале Хуншань, но так и осталась
на периферии местного художественного творчества.
Несмотря на указанные различия, очевидно, что ареалы
господства расписной и монохромной керамики в целом со-
впадают с областями пашенного земледелия и рисоводства.
Маловероятно, чтобы такое совпадение было случайным.
Технология неолитического гончарного дела вновь де-
монстрирует ряд общих универсальных особенностей и спе-
цифических региональных черт. Всеми без исключения
гончарными центрами были освоены базовые для изготов-
ления керамики операции, какими являются: 1) выбор,
обработка глины и приготовление керамического теста;
2) формовка изделия; 3) отделка; 4) обжиг.
Для яншаоских культур основным керамическим мате-
риалом служили лёссосодержащие фракции бассейна Ху-
анхэ, которые состоят из лёссовых частиц (диаметр — 0,05-
0,01 мм), образованных предположительно из осадков пыли,
принесенной ветром из пустынь, и минеральных частиц
(кварц, слюда, полевой шпат, известняк). Кроме того, эти
фракции характеризуются высоким (до 30%) содержанием
железа. В гончарном деле южного и юго-восточного регио-
нов в основном использовались местные разновидности глин,
принадлежащие к красноземам и отличающиеся содержа-
нием высокого процента гидрата окиси железа. Восточные
культуры тоже располагали местными разновидностями
глин, но относящимися к лугово-аллювиальным бескарбо-
натным почвам. Кроме того, на юге (в керамике очаговых
культур Гаомяо и Сунсикоу) и на юго-востоке (среди кера-
мики, принадлежащей одному из региональных вариантов
Лянчжу) найдены сосуды, сделанные из каолиновой гли-
ны — основного природного материала фарфорового про-
изводства, который дает черепок характерного серовато-
белого цвета. В южном гончарном деле применение каоли-
новой глины могло быть случайным или эпизодическим.
A bot гончарное дело Лянчжу, действительно, как выясни-
лось, стоит y истоков родственного фарфору керамического
вида — «каменной» керамики (подробно см. глава 11).
Итак, получается, что неолитическими мастерами были
открыты и освоены практически все сорта глин, имеющих-
ся на территории Китая.
От химического состава глины зависели как структура,
так и конечный цвет черепка, который мог быть (не считая
керамики из каолиновой глины) красного, серого или чер-
ного цвета. В Яншао и в ранних слоях других региональ-
ных культур (за исключением Хэмуду и Хуншань, подроб-
но см. далее) преобладают изделия с красным черепком,
уступившие затем место серой керамике. В «восточной»
зоне ей на смену пришли, как упоминалось выше, изделия
30
с черным черепком, который был обусловлен не столько
составом керамического теста, сколько особенностями про-
цедуры обжига.
Лёссовые глины, обладая жирностью и огнеупорностью,
давали тем не менее относительно мягкий, пористый и тол-
стостенный (в 5-6 см) черепок. Тогда как южные, юго-
восточные и восточные субглинистые и глинистые фрак-
ции, не говоря уже о каолиновой глине, позволяли изготав-
ливать изделия с твердым и предельно тонкостенным
черепком. Наивысшим достижением неолитического гон-
чарного дела по данному показателю является керамика
Цюйцзялин и Луншань, толщина стенок которой равняется
соответственно 2,2-0,8 и 0,2 мм, что делает ее сопоставимой
по степени технологического совершенства с фарфором.
Изготовление керамического теста начиналось с очист-
ки глины от содержащихся в ней примесей и сора. Самый
простой способ очистки — путем промывки, отмучивания.
Глину разводят в воде, взбалтывают, и муть — т. е. соб-
ственно глинистая масса — оседает на дне, a cop поднимает-
ся на поверхность. Затем муть отделяют и обезвоживают,
пока не получится пластическая масса, пригодная для фор-
мовки изделия. В зависимости от степени его очищенности,
керамическое тесто подразделяется на грубое и чистое. Пер-
вое шло преимущественно на изготовление кухонной и хо-
зяйственной утвари, второе — столовой посуды, ритуально-
погребальной керамики и украшений (для Яншао).
Для уменыпения усадки глины при сушке и предотвра-
щения растрескивания сосудов в процессе обжига в керами-
ческое тесто добавлялись отощители, в качестве которых
использовались различные вещества (например, мелко ис-
толченные раковины жемчужной устрицы, тальк, шамот).
Самая необычная рецептура керамического теста отмечена
для гончарного дела начала Хэмуду: применение в качестве
отощителя порошка из растертых стеблей травы, листьев и
семян растений. Такая добавка даже при низкой температу-
ре обжига превращалась в углистое вещество, придававшее
черепку черный или серовато-черный цвет. Но при этом
черепок отличался мягкостью и высокой пористостью, a
сами сосуды получались грубыми и толстостенными, что,
возможно, и заставило местных мастеров отказаться от этой
рецептуры. Наиболее же распространенным отощителем во
всех региональных гончарных центрах постепенно стал кварц
в виде крупнозернистого или мелкого песка. Стандартный
состав керамики Яншао — около 60% чистой лёссовой гли-
ны и 40% мелкозернистого песка. Примечательно, что ис-
пользование песка в течение многих последующих веков
оставалось устойчивой принадлежностью китайского кера-
мического производства, включая и изготовление некото-
рых сортов «каменной» керамики. К началу III тыс. до н. э.
гончарное дело южных, юго-восточных и восточных куль-
тур практически полностью перешло к выпуску изделий из
тонкоглинистого и тщательно «отмученного» теста, что спо-
собствовало не только уменыыению толщины черепка, но и
усложнению форм сосудов.
Вторая технологическая операция — формовка изде-
лия — прошла на протяжении неолитической эпохи через
несколько эволюционных стадий: ручная лепка, формовка
по шаблону, формовка спирально-ленточным методом и с
помощью поворотного и гончарного круга. Ручная лепка
наиболее широко использовалась, естественно, в гончар-
ном деле древнейших очаговых культур. Уже в баныіос-
кий период вручную лепились части сосудов, элементы
рельефного орнамента и очень редко — целые изделия, да
и то исключительно небольших размеров. Основная же масса
керамики изготавливалась формовкой по шаблону и, не-
сколько позже, спирально-ленточным методом.
Формовка по шаблону — самый ранний из известных в
мировом гончарном деле формовочных способов. Он произ-
водится путем обмазывания слоем глины внутренней по-
верхности какого-либо предмета, чаще всего — плетеного
изделия. Выполненное таким способом готовое изделие
имеет на поверхности характерные следы оттиска плете-
ния, расположенные в вертикальном направлении. Фор-
мовка спирально-ленточным методом осуществлялась так:
на посыпанной песком доске делалось дно сосуда в виде
круглой лепешки, края которой затем отгибали и накла-
дывали на них вкруговую, друг на друга, раскатанные лен-
ты гончарного теста, наращивая тем самым стенки сосуда.
На заключительном этапе формовки на изделие клали груз
или просто давили руками на стенки, чтобы удалить воз-
дух и влагу с участков соединения лент. Венчик сосудов
изготавливался отдельно посредством нескольких спосо-
бов. Его могли лепить из того же куска теста, что и стенки
сосуда: верхний край стенок загибали и придавали ему
нужную форму. Или же венчик исполнялся из отдельного
куска глины и затем прикреплялся (в виде круглой ленты)
к поверхности стенок сосуда. Поворотный круг — деревян-
ная подставка, приводимая в движение руками — был изоб-
ретен в Китае в конце V тыс. до н. э. Самое раннее его
использование отмечено в гончарном деле юго-восточных
культур (ориентировочно между 4300-3100 гг. до н. э.).
Уже в керамике верхних слоев Хэмуду изделия, выпол-
ненные на поворотном круге, занимают существенное ме-
сто. В пределах IV тыс. до н. э. поворотный круг получил
повсеместное распространение на всей территории юго-
восточного, восточного и южного регионов. И лишь в
III тыс. до н. э. он начал использоваться в западно-яншао-
ских культурах. Показательно, что там он применялся не
только для формовки, но и для росписи изделий (чем и
объясняется специфическое соотношение их орнаментиро-
ванной и неорнаментированной частей). Рисунок наносил-
ся только сверху, a нижняя, т. е. неудобная для росписи,
поверхность сосуда оставалась неокрашенной. Подобная тех-
нология росписей свидетельствует о том, что яншаоскому
гончарному делу была свойственна тенденция к типизации
и стандартизации выпускаемой продукции.
Гончарный круг тоже является изобретением юго-восточ-
ного (а возможно, и южного) гончарного дела. Он появился
32
предположительно в конце IV — начале III тыс. до н. э.
(т. е., заметим, почти на тысячу лет раньше, чем в Среди-
земноморском регионе), a к середине III тыс. до н. э. уже
прочно утвердился в Лянчжу и в Луншань. Однако в юго-
восточном и восточном гончарном деле некоторые наибо-
лее сложные по формам категории изделий продолжали
лепиться вручную, a поворотный и гончарный круги ис-
пользовались только для их доработки.
Отделка изделий была тесно связана как со способом
их изготовления, так и с их предназначением. Тщательнее
всего обрабатывалась столовая посуда и ритуально-погре-
бальная утварь. Стенки сосудов полировались специаль-
ными бамбуковыми гребнями, костяными, деревянными
или керамическими лощилами до появления на них ха-
рактерного блеска. Чашеобразные сосуды и другие катего-
рии изделий с широким устьем обычно полировались и
изнутри. После полировки сосуд погружался в особо при-
готовленный и тщательно очищенный от примесей жид-
кий глинистый раствор. Покрытые им стенки становились
еще более гладкими и блестящими.
Вслед за полировкой сосуд мог покрываться ангобом —
декоративным слоем цветной глинистой массы. Ангоб либо
готовился в виде раствора, в который сосуд погружался,
либо же наносился на стенки предварительно хорошо про-
сушенного изделия — на всю его поверхность или на от-
дельные части, предназначенные для росписи. Маскируя
структуру черепка и обладая свойством равномерно впиты-
вать краску, ангоб служил оптимальным грунтовым фо-
ном для рисунка. Однако он мог использоваться и в каче-
стве самостоятельного оформительского способа, когда это
цветное покрытие служило единственным украшением из-
делия. Ангобирование практиковалось в подавляющем боль-
шинстве региональных гончарных центров, что делает его
одной из технолого-художественных универсалий искусст-
ва неолитического Китая. Кроме того, оно предшествовало
такой важнейшей операции уже развитого керамического
производства, как глазурование. И наконец, региональные
гончарные центры располагали собственными палитрами
ангобов, что делает это декоративное покрытие еще одним
важным показателем их самобытности. Так, в керамике
Яншао применялся ангоб только белого и красного либо
красновато-коричневого цветов. Установлено, что белый
ангоб изготовливался на основе известняка или долматита,
a в состав красного ангоба входили вещества с высоким
процентным содержанием железа. В гончарном деле регио-
нов вне Яншао были разработаны ангобы и других цве-
тов — черного, желтого.
Палитра керамических красок тоже достаточно широ-
ко варьировалась в зависимости от региона. В Яншао рос-
писи исполнялись только тремя красками — белой, крас-
ной и черной, но в нескольких оттенках: чисто-черном,
серовато-черном, коричневато-черном, коричневато-крас-
ном и темно-оранжевом. В состав красок красной хрома-
тической гаммы входил гематит («кровавик» — трехокись
3 Пстория искусстна Китая
железа), белой и черной красок — соответственно извест-
няк и соединения марганца. Однако точный химический
состав яншаоских красок до сих nop не расшифрован. Не-
сомненно лишь, что они включали в себя еще какие-то
вещества, способствовавшие сохранению красочного слоя.
Роспись могла наноситься как на ангоб, так и на есте-
ственную поверхность сосуда, a также до и после обжига.
Во всех культурах Яншао практиковалась исключитель-
но дообжиговая роспись. В гончарном деле южных, юго-
восточных и восточных (Цюйцзялин, Цинляньган, Лянч-
жу) культур преобладала послеобжиговая роспись, кото-
рая отличается хрупкостью и характерным тусклым
блеском. Еще одной специфической приметой керамики
Яншао является нанесение росписей по шаблону или с
помощью трафаретов, например, полосок с зубчиками по
краю. Использование подобных приемов подтверждает
ранее высказанное предположение о том, что местному
гончарному делу была свойственна тенденция к стандар-
тизации выпускаемой продукции.
Обжиг осуществлялся в гончарных печах с весьма слож-
ным и совершенным для того времени устройством. Со-
хранились остатки двух основных конструктивных типов
неолитических печей. Один из них — с вертикально рас-
положенной конструкцией. Такие печи состояли из меш-
кообразной топки и камеры для обжига, расположенной
как бы на втором этаже. Они соединялись газоходом, ко-
торый имел в длину 30 см и был диаметром 15 см. Высота
всей печи обычно достигала 1,3 м, диаметр y основания
равнялся 1,9 м. Однако могли сооружаться и более масш-
табные конструкции. Так, в одном из комплексов Мяоди-
гоу были найдены остатки двух печей высотой в 3 и 2,75 м.
Наверху вместо трубы обычно делались прямоугольные
отверстия (до 6 штук), через которые выходили дым и газы,
что позволяло получать в обжиговой камере более равно-
мерную температуру. Другой конструктивный тип — гори-
зонтальные цилиндрические («пещерного типа») печи. 06-
жиговая камера располагалась в них не прямо над топкой,
a несколько сбоку. Теплый воздух из топки проходил через
наклонный газоход длиной до 2,1 м, затем расходился по
трем газоходам-ответвлениям и попадал в обжиговую ка-
меру через прямоугольные отверстия (до 10 штук, обыч-
ный размер — 10 х 5 см). Такое устройство печи способ-
ствовало поддержанию еще более равномерной температу-
ры. Изделия, помещенные ближе к отверстиям газохода,
не перекалялись, a стоящие вдали от них — не оставались
необожженными. Перепад температуры в обжиговой каме-
ре не должен превышать 30-50°С, и неолитические мастера
явно знали это правило. В печах горизонтального типа
обжиговая камера обычно была круглой и относительно
небольших размеров (диаметр — 0,8-1 м). Так что за один
раз в них можно было обжечь всего 4-5 сосудов средних
размеров или один крупногабаритный сосуд.
В очаговых культурах температура обжига не превы-
шала 500-600°. В Яншао она была доведена до 800-850°С,
и такой температурный режим был вполне достаточным
для лёссового керамического теста. Но другие сорта глин
требовали более высокой температуры обжига. Поэтому
местным мастерам приходилось постоянно искать способы
ее повышения. В ранних слоях южных, юго-восточных и
восточных культур (Хэмуду, Мацзябан, Давэнькоу) темпе-
ратура обжига тоже еще не превышала 850°С, но уже к
III тыс. до н. э. она была доведена до 1000°С (в Сунцзэ,
Лянчжу, Цинляньган, Цюйцзялин) и более (в Луншань).
В специальной литературе для Луншань и Лянчжу назы-
вается даже температурный режим в 1300-1400°С, что пред-
ставляется маловероятным. Однако и температурный ре-
жим в 1000-1100°С был очень высоким. Достаточно ска-
зать, что он приближается к границе обжига фарфора.
Причем столь высокая температура достигалась на древес-
ном топливе и исключительно за счет сильной тяги.
Кроме того, неолитическим мастерам были известны и
оба основных способа процесса обжига — окислительный
и восстановительный (путем перекрытия доступа кисло-
рода), которые целенаправленно использовались ими для
получения желаемой окраски готовых изделий. При окис-
лительном обжиге железо, содержащееся в природном ма-
териале, вступало в реакцию с кислородом и превращалось
в окись железа, которая придавала черепку красный цвет.
При восстановительном обжиге окислительный процесс
предотвращался, и черепок сохранял свой естественный —
для керамики Яншао цвет — серый. Если сосуды ставили в
обжиговую камеру «горкой» (один в другой), то одни из
них получались с внешней поверхностью красного цвета и
серые изнутри, другие же оказывались с внутренней крас-
ной и внешней двухцветной поверхностью: нижняя часть —
серого, a верхняя — красного цвета. Черная луншаньская
керамика, процесс изготовления которой долгое время ос-
тавался загадкой для ученых, тоже, видимо, получалась
благодаря проведению обжига в условиях недостатка кис-
лорода и избытка окиси углерода. При наличии в глине
хотя бы 10% окиси железа в ходе обжига в восстанови-
тельной среде осуществляется процесс образования дис-
пергированного углерода, который и придает черепку сплош-
ной черный цвет. Повсеместное распространение черной
керамики доказывает, что все местные мастера владели
секретом приготовления керамического теста необходимой
рецептуры и умели создавать нужный температурный ре-
жим и атмосферные условия для обжига. Сказанное слу-
жит еще одним веским доказательством более высоких тем-
пов развития рациональных знаний и прикладных навы-
ков в юго-восточных и восточных культурах, чем в Яншао.
Итак, уже при анализе технологического аспекта нео-
литического гончарного дела начинают проявляться как
его общие, универсальные характеристики, так и специфи-
ческие черты, свойственные конкретным региональным
гончарным традициям. Некоторые из этих региональных
специфических черт, вне всяких сомнений, проистекали
из особенностей местных природных материалов. Однако
КАТЕГОРИИ,
ФОРМЫ И СПОСОБЫ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОФОРМЛЕНИЯ
ИЗДЕЛИЙ (СОСУДЫ)
Керамика Яншао
другие были обусловлены уже собственно человеческим
фактором — уровнем развития гончарного искусства и твор-
ческими установками мастеров.
В более явном виде самобытность региональных гон-
чарных традиций проступает при изучении категорий, форм
изделий и способов их художественного оформления.
Названные выше функциональные группы и подгруппы
насчитывают для керамики Яншао в общей сложности более
30 категорий сосудов, каждая из которых обладала собствен-
ным набором форм. Следует сразу же предупредить, что ка-
тегории и формы неолитической керамики продолжили свое
существование, хотя и в сильно трансформированном виде, в
последующем китайском декоративно-прикладном искусст-
ве. Вначале они были переведены в бронзу, a затем бронзо-
вые сосуды послужили устойчивыми образцами для других
ремесел — того же керамического, включая фарфор, и лако
вого производства, косторезного, камнерезного и эмальерно
го дела. Поэтому знакомство с репертуаром категорий и форм
неолитической керамики оказывается необходимым услови-
ем для изучения не только художественного наследия неоли-
тической эпохи, но и всего китайского искусства. И еще
одно предварительное замечание. Принятая в специальной
литературе типология категорий и форм неолитической ке-
рамики была разработана на материале яншаоских сосудов
и потом перенесена на изделия остальных регионов. В ре-
зультате одними и теми же терминами нередко обозначают-
ся внешне совершенно различные предметы.
Архитектоническая композиция неолитических сосу-
дов состоит из трех основных сегментов: основания (дна),
тулова (емкость сосуда, охватывающая его часть от дна до
плечиков) и устъя. Каждый из них может иметь несколько
вариантов конфигурации. Только в пределах керамики
Яншао для основания отмечены четыре таких варианта:
плоскодонное, круглодонное, остродонное и вогнутой фор-
мы. Для тулова — девять вариантов: с прямыми, выпук-
лыми, ребристыми и вогнутыми стенками, усеченно-кони-
ческого, овального, округлого, круглого, изогнутого про-
филя. Для устья — три варианта: суженное, с прямой
шейкойу расширенное с косой шейкой (раструбом).
Яншаоская столовая посуда представлена сосудами ма-
лых и средних размеров, высота которых колеблется от 3
до 10 см, в редких случаях достигая 20 см, и включает в
себя 11 категорий: чашки-бо, миски-пэнъ, ииглы-ванъ, ста-
каны-бэй, тарелки-минъ, чашіи-юй, блюда-лань, бокалы-
доу и сосуды для вика-цзунъ.
Чашки-бо являются самой распространенной для дан-
ной подгруппы категорией. Это — сосуды малых (высо-
та — 4,5-7 см, диаметр устья — 12-20 см) и средних (вы-
сота — 12-18 см, диаметр устья — до 25 см) размеров, ко-
торые характеризуются узким основанием, широким устьем
и неглубоким (мелким) туловом. По конфигурации тулова
они подразделяются на четыре главных типа: с вогнутыми
стенками, усеченно-конического, овального и округлого
36
(полусферического) профиля. Отдельный архитектониче-
ский вариант чашек-бо образуют сосуды на цилиндриче-
ской ножке-подставке (поддоне). Этот вариант появляется
в керамике Мяодигоу и утверждается в западно-яншао-
ском гончарном деле, где ножка приобретает более четкие
очертания и трапециевидный профиль. Такие чашки не-
редко снабжаются и парными боковыми ручками.
Миски-пэнъ — сосуды, тоже характеризующиеся узким
основанием и широким устьем. Как таковые, они внешне
очень похожи на чашки, но отличаются от них более круп-
ными размерами. Миски малых размеров имеют высоту
6,6-13 см, диаметр устья — 22-24 см, средних размеров —
высоту 18-22 см и диаметр устья до 50 см. Они также
могут иметь тулово различной конфигурации, сводясь по
этому показателю к главным типам: с вогнутыми, выпук-
лыми стенками, усеченно-конического, овального, округ-
лого и изогнутого профиля. В западно-яншаоском гончар-
ном деле вновь начинают выпускаться миски усложненной
формы — на ножке-поддоне.
Пиалы-ванъ — сосуды малых (высотой 3,8-10 см) и
средних (высотой 11,2-16 см) размеров, которые имеют
неболыпое основание, широкое устье и распадаются по кон-
фигурации тулова на 4 типа: усеченно-конического профи-
ля, с овальными, выпуклыми и вогнутыми стенками. Не-
редко они тоже снабжены невысокой ножкой.
Стаканы-бэй могут быть малых (высотой 3,2-8 см) и
средних (высотой 12-16,4 см) размеров и отличаются плос-
ким основанием и относительно высокими стенками. По
конфигурации тулова они подразделяются на 4 типа: с усе-
ченно-коническим профилем, который обычно сочетается с
чуть заметно расширяющимся устьем; с прямыми стенка-
ми (банкообразной формы); с вогнутыми и с овальными
стенками. Последний из перечисленных типов может быть
снабжен ножками.
Тарелки-лшнь — сосуды, которые могут быть в высоту
не более 3-6 см, имея при этом широкое устье (диаметр —
10-20 см), нередко почти в два раза болыиее по размеру,
чем основание (диаметр — 4-9,5 см). Их тулово бывает с
прямыми, вогнутыми стенками, усеченно-конического и
изогнутого профиля.
Чаши-юй включают в себя сосуды исключительно сред-
них размеров, которые характеризуются широким плос-
ким дном, суженным устьем и подразделяются по конфи-
гурации тулова на 4 типа: с округлыми, выпуклыми, реб-
ристыми стенками и изогнутого профиля.
Блюда-тшкь встречаются только в центрально-яншао-
ской керамике и представляют собой сосуды с большим
плоским основанием, широким устьем и низким туловом,
которое может иметь прямые стенки и стенки усеченно-
конического, овального и округлого профиля.
Вокалы-доу — сосуды в виде неболыпой чаши с туло-
вом усеченно-конического, овального или округлого про-
филя, которая покоится на ножке-подставке. Их общая
высота колеблется в пределах 9-16 см.
^17 ^^7
е
Яншаоская столовая посуда
a — чашки-бо: / — Центральное
Яншао, 2 — Западное Яншао;
б — миски-лзк: / — Централь-
ное Яншао, 2 — Западное Яншао,
3 — Мяодигоу (с ножкой-поддо-
ном); в — пиалы-вакь; г — ста-
каны-бэи; д — тарелки-лшнь; е —
чаши-юй; ж — блюдо-пань.
37
Сосуды для винді-цзунъ представляют собой кувшино-
или кубкоподобные изделия высотой 12-14 см. Они, как
правило, имеют неболыное плоское дно, высокое горлышко,
которое завершается широким устьем с округлым или ото-
гнутым венчиком, и глубокое тулово на ножке-поддоне и со
стенками овального, округлого или выпуклого профиля.
Яншаоская хозяйственная посуда состоит из средних и
крупных изделий (высотой до 35-60 см) и включает в себя
5 основных категорий и две вспомогательные: горшки-гу анъ,
кувиіины-ху, бутыли-пину горшки-вэи, корчаги-га«, крыш-
ки-гай и подставки-цацзо.
Горшки-гуанъ — самая популярная в данной подгруп-
пе категория, которая отличается к тому же и наиболь-
шим разнообразием форм и размеров. Присутствуют как
миниатюрные (высотой до 6 см, с диаметром устья до
6,5 см), так и крупногабаритные (высотой до 20 см, с диа-
метром устья до 15 см) изделия. Выделяются 5 главных
форм горшков, каждая из которых насчитывает внуши-
тельное число типов и подтипов, различающихся по кон-
фигурации тулова, дна и устья, например, с овальными,
округлыми и выпуклыми стенками, с туловом изогнутого
профиля, с суженным и расширенным устьем, плоскодон-
ные, круглодонные и т. д. Нередко горшки снабжены раз-
личного типа ручками.
Кувшины-яі/ — сосуды с плоским дном, расширяющейся
шейкой и с высоким туловом, которое может быть с вы-
пуклыми, овальными, округлыми стенками и изогнутого
профиля. К числу опознавательных примет ху относится
наличие высоких, округлых плечиков. Кроме того, они
нередко имеют парные боковые ручки, прикрепленные к
тулову или шейке.
Бутыли-тшн — крупногабаритные сосуды (высотой до
60 см), которые также могут иметь тулово, дно и устье раз-
личных конфигураций: с овальными, вогнутыми стенками,
плоскодонные, остродонные, круглодонные, с расширенным
и суженным устьем — часто снабжены двумя боковыми руч-
ками, прикрепленными к средней части тулова.
Горшки-вэи и корчаги-га^ — сосуды, внешне похожие
на гуанъ> но отличающиеся более крупными размерами.
Высота вэн может достигать 48 см, диаметр устья — 42 см,
высота ган колеблется от 25 до 37 см. Обе эти категории
характеризуются узким плоским основанием, широким
устьем и могут иметь тулово с овальными, округлыми,
круглыми (до образования шарообразной формы) стенками
или изогнутого профиля.
Крышки-гай — предметы различных форм и конфигу-
раций (плоскодонные, овальные, круглые, усеченно-кони-
ческого профиля и т. д.), которые использовались в соот-
ветствии с их терминологическим обозначением. Наиболь-
ший интерес представляют изделия, выполненные в виде
пластических изображений.
Подставки-цыцзо — специальные предметы, предназна-
ченные для придания устойчивости круглодонным и ост-
родонным сосудам. Они как таковые могут быть с оваль-
ными, округлыми и вогнутыми стенками и иметь самостоя-
тельное художественное оформление.
Яншаоская хозяйственная посуда включает в себя 4 ка-
тегории: кастрюли-цзэн, котлы-фі/ и треножники-дын и
триподы-лы.
Кастрюли-цзэн — сосуды, предназначенные для варки
на пару; они имеют дно с проделанными в нем дырочками.
Котлы-фу представляют собой сосуды средних разме-
ров, обычно имеющие тулово выпуклого профиля, широ-
кие плечики и плоское или округлое дно.
Треножники-дын — сосуды с туловом, повторяющим
формы других изделий (котлов-фі/, мисок-пэнь и т. д.), и
все снабжены тремя ножками. Точное время появления
этой категории в гончарном деле Яншао неизвестно. Во
всяком случае, дин уже достаточно часто встречаются сре-
ди керамики, относящейся к ранним слоям Мяодигоу, и
затем занимают существенное место среди западно-янша-
оских изделий. Примечательно, что с самого начала они
отличались разнообразием размеров и внешнего вида и,
кроме того, нередко имели художественное оформление.
Подобные детали приобретают особое значение с точки зре-
ния дальнейшей судьбы дин, когда они превратились в
одну из ведущих категорий бронзовых сосудов.
Триподы-лы — большие по размеру котлы на трех вы-
пуклых полых и остроконечных ножках, которые состав-
ляют одно целое с туловом. В керамике Яншао эти котлы
не играли сколько-нибудь заметной роли, но им тоже пред-
стояло впоследствии стать переведенными в бронзу и вой-
ти в базовый репертуар бронзовых изделий.
Керамика ритуально-погребального предназначения
представлена в Яншао исключительно погребальными из-
делиями. При этом они мало чем отличаются от бытовой
утвари. В погребальный инвентарь включались либо пред-
меты повседневного использования, либо же их аналоги,
но имеющие более богатое или специфическое художествен-
ное оформление. Отсутствие четких различий между по-
вседневной и культовой утварью объясняется, возможно,
аморфностью погребальной обрядности. В центрально-
яншаоских культурах, впрочем, равно как и в других регио-
нах неолитического Китая, практиковались различные типы
захоронений: единичные, групповые (чаще всего парные) и
коллективные (до 50-80 человек). Коллективные погребе-
ния могут различаться по гендерному и возрастному прин-
ципу, но могут быть и смешанными. He исключено, что
некоторые из них носили вторичный характер15. В группо-
вых и коллективных погребениях обычно присутствуют
несколько керамических изделий, составляющих как бы
коллективную собственность. Среди единичных погребе-
ний тоже есть мужские, женские и детские. Особый инте-
рес y специалистов в свое время вызвали три баньпоских
захоронения девушек и девочек, одно из которых отлича-
лось исключительным, по сравнению с другими местны-
ми погребениями, богатством инвентаря: 6 керамических
сосудов и 758 каменных бусин. Данное погребение было
Хозяйственная
и кухонная посуда
a — горшки-вэк; б — корчага-ган;
в —'■' котлы-фу; г — кастрюля для
варки на пару (цзэн); д — крыш-
кк-гай; е — котлы-дин: / — Ран-
нее Яншао, 2 — Середина Яншао.
15 Это особого типа захо-
ронения, когда усопшие, ра-
нее погребенные в разное вре-
мя и в различных местах,
перезахоранивались в новой
общей могиле в соответствии
с общинно-религиозными обы-
чаями. Подобная погребаль-
ная практика имела место y
многих народов мира, в том
числе y североамериканских
индейцев. Например, ироке-
зы верили в существование не-
бесной «деревни мертвых»,
куда все усопшие отправля-
39
лись раз в 12 лет. В этот год в
каждом поселении устраивался
торжественный пир. Останки
всех умерших за предшествую-
щее двенадцатилетие извлека-
лись из земли и после специ-
альной церемонии погребались
все вместе.
кт
Усложненные формы
западно-яншаоской
керамики
a — «сдвоенный хуъ (Мачан);
б — кувшин для литья воды (Ма-
чан); в — сосуды с ручками и с
туловом изогнутой конфигурации
(Мачан); г — сосуды с ручками и
с туловом изогнутой конфигура-
ции (Баныиань).
16 Однако и этот обычай
соблюдался далеко не всегда.
Есть примеры коллективных
детских захоронений (до 30
скелетов) без использования
УРН.
воспринято в качестве одного из важнеиших доказательств
матриархального устройства центрально-яншаоского обще-
ства. Однако впоследствии были обнаружены единичные и
тоже весьма богатые захоронения мальчиков. Поэтому в
настоящее время в научной литературе преобладает точка
зрения, что на основании центрально-яншаоской погребаль-
ной обрядности невозможно реконструировать социальную
организацию и экономический уклад местных общностей.
Самым специфическим погребальным обычаем центрально-
яншаоских культур является захоронение детей в специ-
альных сосудах (урнах) — вэнгуанъ и вагуань, которые
представляют собой горшкоподобные изделия, снабженные
крышками-гай, и являются, по сути, единственными соб-
ственно погребальными категориями16.
В западно-яншаоских общностях погребальная обряд-
ность становится несколько более упорядоченной. Хотя и
здесь наличествуют несколько различных типов захороне-
ний, в том числе «на корточках». Соответственно и мест-
ная погребальная керамика приобретает более отчетливые
специфические черты, проявляющиеся в первую очередь в
ее художественном оформлении. Кроме того, в нескольких
ганьсуских захоронениях присутствуют сосуды совершен-
но новой категории — бокалы-чжун. Это — крохотные из-
делия (высотой в 3-3,5 см), которые помещались в погре-
бальный инвентарь в наборах из нескольких штук. Так, в
одной из могил были найдены 9 чжун, аккуратно уложен-
ные в неболыное блюдо.
Очевидно, что по мере эволюции местного гончарного
дела яншаоская керамика претерпела определенную транс-
формацию. Репертуар изделий неуклонно расширялся, их
формы совершенствовались и усложнялись. Для керамики
Мачан и Баныпань становится типичным введение в архи-
тектоническую композицию сосудов вспомогательных дета-
лей — ручек, ножек — и создание изделий с весьма причуд-
ливыми контурными линиями. Более того, здесь появляют-
ся своего рода экспериментальные формы, типа «сдвоенного
ху» (сосуд, составленный из двух крынкоподобных кувши-
нов) или кувшинов для литья воды, снабженных носиком-
сливом и боковой ручкой. Тем не менее нетрудно заметить,
что, во-первых, яншаоская керамика в целом отличается
простотой и лаконичностью форм. И, во-вторых, что при
всем внешнем разнообразии изделий все они сводятся к
нескольким архитектоническим инвариантам, набор кото-
рых сложился еще в баньпоский период и сохранился вплоть
до конца Западного Яншао. Данное наблюдение подтверж-
дает правильность высказанного ранее тезиса о том, что
яншаоскому гончарному делу были свойственны тенден-
ция к типизации и стандартизации выпускаемой продук-
ции и определенная консервативность.
Основным способом художественного оформления из-
делий в яншаоском гончарном деле служили, как отмеча-
лось ранее, росписи. Хотя расписную керамику начали
изготовлять еще в древнейших очаговых культурах, тради-
ция местного орнаментально-графического искусства в бо-
40
лее или менее отчетливом виде прослеживается только с
баньпоского периода. Баньпоская керамика (прежде всего
изделия, обнаруженные в комплексе Баньпо) — сосуды крас-
ного или буро-красного цвета с росписями, выполненными
черной и красной красками по натуральному фону или
белому ангобу. Преобладает геометрический орнамент, со-
стоящий из сочетаний разнообразных полос, треугольни-
ков, кругов, зигзагов и шевронов, который обычно распро-
страняется на всю поверхность изделия. Примечательно,
что в конце Баньпо геометрический орнамент заметно уп-
рощается и начинает сводиться либо к широким красным
полосам, выписанным вдоль устья сосуда, либо к «сетке»,
образованной круглыми точками и сочетаниями линий,
проходящими вдоль верхней части сосуда.
Наряду с геометрическим орнаментом в баньпоских
росписях исполнялся и растительный орнамент и даже
фигуративные — зооморфные и антропоморфные — изоб-
ражения, которые правомерно считать древнейшими об-
разцами китайской живописи. Растительный орнамент
встречается крайне редко и исчерпывается повторяющи-
мися стилизованными рисунками сосновых или еловых
веток, изображаемых в сочетании с геометрическими фи-
гурами. Зооморфные и антропоморфные изображения встре-
чаются чаще, но также в основном на изделиях, принадле-
жащих нижним стратиграфическим слоям Баньпо и ран-
ним памятникам баньпоского круга, в первую очередь
комплексу Бэйшоулин.
Главными зооморфными мотивами являются изобра-
жения рыб и оленей, выполненные в нескольких иконогра-
фических вариантах. Изображения рыбы чаще всего поме-
щены на внешней поверхности сосудов, в основном, это
рисунки одной или нескольких рыб, в которых может по-
казываться либо пара как бы сдвоенных рыбок, либо следую-
щие друг за другом рыбины. Воспроизводятся исключитель-
но профильные и выполненные в единой стилистической ма-
нере изображения рыбы, отличающиеся натуралистичностью,
детализованностью и живостью. Показаны различные де-
тали внешности натуры и характерные признаки различ-
ных пород рыб: то рыбки, похожие на плотву, то хищные
рыбины с широко распахнутой зубастой пастью. Группо-
вые рисунки отличаются продуманностью художественной
композиции: фигуры рыб расположены так, что создается
эффект плывущей в воде стаи.
Существуют различные точки зрения на семантику об-
раза рыбы и причины его популярности в яншаоском орна-
ментально-графическом искусстве. Согласно одним из них,
это было вызвано не более чем особенностями местополо-
жения Баньпо (на самом берегу реки) и важностью рыбо-
ловства в хозяйственном укладе его обитателей. Однако
подавляющее большинство исследователей усматривают в
данном орнаментальном мотиве отражение местных веро-
ваний. Религиозный опыт других древних народов подска-
зывает нам, что рыба действительно могла почитаться в
Баньпо священным существом — посредником (медиатором)
Росписи керамики Баиьпо
a — с геометрическим орнамен-
том; б — с растительным орна-
ментом (фрагмент).
JE^~<-
«Рыбьи» мотивы 6 росписях
керамики Баньпо
a — сосуды с изображениями
фигур плывущих рыб; б — типы
изображений рыб; в — трансфор-
мация изображений рыбы в гео-
метрический орнамент.
41
«Рыбъи» мотпивы в росписях
керамики Баньпо
a — варианты геометрического
орнамента, производного от изоб-
ражений рыб; б — орнаменталь-
ная композиция из парных фи-
гур рыб и изображения лягушки.
«Оленьи» мотивы
в росписях керамики Баньпо
a — орнаментальная композиция
из четырех фигур оленя; б — фраг-
менты орнамента из стилизован-
ных изображений оленьих рогов.
между божественным и человеческим мирами либо вопло-
щением речных духов или усопших предков. Подобный
интерес к изображениям рыбы на баньпоской керамике,
разумеется, далеко не случаен. Впоследствии образ рыбы
занял важнейшее место как в китайских верованиях и
философских представлениях, так и в системе изобрази-
тельных средств, о чем подробно будет говориться в специ-
альном разделе.
Приблизительно в середине баньпоского периода изоб-
ражения рыб начали переводиться в геометрический орна-
мент. Вначале стал исполняться их стилизованный рису-
нок. Затем произошло его деление на отдельные составные
части, которые постепенно трансформировались в геомет-
рические фигуры — так возникли новые типы узора. Этот
процесс перевода фигуративных изображений в геометри-
ческий орнамент выглядит тем более примечательным, если
учесть, что в дальнейшем он будет неоднократно осуществ-
ляться в китайской орнаментике, став одной из ее типоло-
гических особенностей.
«Оленьи» мотивы представлены рисунками целой фи-
гуры этого животного и его рогов. Изображения оленя ис-
полнялись только на внутренней поверхности сосудов (ми-
сок) и в виде композиции из четырех фигур, равномерно
расположенных по кругу. В отличие от рисунков рыб, они
выполнены в условной, хотя и не лишенной натуралистич-
ности и живости, манере: животные показываются в движе-
нии с достаточно верной передачей особенностей их облика.
Рисунки оленьих рогов исполнялись на внешней поверхно-
сти сосудов: в сильно стилизованном виде и в сочетании с
элементами геометрического орнамента — круглыми чер-
ными точками, треугольниками, параллельными линиями.
И вновь перед нами возникает вопрос о семантике образа
оленя и его возможных связях с местными верованиями,
так как и этот образ впоследствии превратился в неотъем-
лемую часть китайских религиозных представлений и соб-
ственно художественной образной системы.
В дополнение к «рыбьим» и «оленьим» мотивам в бань-
поских росписях впервые появляется и изображение ля-
гушки — еще одного популярнейшего в китайской духов-
ной культуре и художественной образности существа. Вос-
производятся рисунки целостной фигуры лягушки, которые
тоже помещаются на внутреннюю поверхность мисок и впи-
сываются, совместно с рисунками рыбок, в общую четы-
рехчастную композицию.
На керамике других баныіоских поселений зооморф-
ные изображения присутствуют редко. Самым примеча-
тельным из них — и по тематике, и с художественной
точки зрения — является рисунок некоего водного суще-
ства на внешней поверхности сосуда из комплекса Бэйшо-
улин. Он выполнен с такой долей экспрессии, что многие
исследователи усматривают в нем изображение явно фан-
тастического существа и даже возможный морфологиче-
ский прототип образа китайского дракона. При более вни-
мательном рассмотрении этого рисунка выясняется, что,
42
на самом деле, он — не более чем изображение тритона,
причем переданное без каких-либо принципиальных иска-
жений естественного облика натуры и привнесения в него
подлинно фантастических элементов. A впечатление фан-
тастичности воспроизведенного персонажа проистекает из
особенностей манеры его исполнения. Слишком уж не-
обычным и дерзким на фоне прочих баныіоских росписей,
выполненных в линеарной технике, выглядит сочетание
свободно-размашистых линий и штрихов, нанесенных уве-
ренной рукой неведомого нам мастера и отдаленно напоми-
нающих уже собственно живописные техники.
В целом, баныіоские росписи на зооморфные темы не-
оспоримо доказывают, что уже на ранней стадии своего
развития неолитическое орнаментально-графическое искус-
ство приступило к овладению живописными приемами пе-
редачи живой природы. Более того, почти сразу же начали
складываться несколько отдельных стилистических вари-
антов: примитивно-натуралистический, направленный на
максимально точную передачу натуры, условно-натурали-
стический, позволявший выполнять стилизованные изоб-
ражения в сочетании с элементами геометрического орна-
мента, и «фантазийный», допускавший более свободные
трактовки образов живых существ, даже с привнесением
ауры фантастичности.
Баньпоские антропоморфные изображения представле-
ны исключительно рисунками человеческого лица, неред-
ко дополненными изоморфными элементами. Такие рисун-
ки, обычно обозначаемые в специальной литературе как
«личины», вновь исполнялись преимущественно на внут-
ренней поверхности сосудов и в групповых четырехчаст-
ных композициях: две личины и две геометрические фигу-
ры, расположенные по той же орнаментальной схеме, что
и рисунки оленей. Известно около десяти образцов сосу-
дов, украшенных подобными росписями. Одни принадле-
жат комплексу Баньпо, другие — еще нескольким бань-
поским поселениям, включая Бэйшоулин, что уже само по
себе указывает на особую популярность данного мотива в
орнаментально-графическом искусстве того времени. Вы-
деляются три основных иконографических варианта «ли-
чин». В первом рисунок лица дается в сочетании со стили-
зованными изображениями фигур рыб. Во втором — в со-
четании с геометрическими фигурами — треугольниками,
ломаными линиями и точками, которые все вместе похожи
на рисунок головного убора и деталей одеяния, типа ворот-
ника или нагрудного украшения. В третьем иконографи-
ческом варианте лицо вписано в круг и лишено каких-либо
дополнительных элементов. Кроме того, в одних случаях
лицо показывается с широко открытыми глазами, a в дру-
гих — с закрытыми (передаются черточками).
В специальной литературе предлагаются самые разные
версии семантического истолкования баньпоских «личин».
Они считаются изображениями либо какого-то архаическо-
го божества, либо тотемного предка, либо священнослужи-
теля (шамана) в ритуальном облачении. Гораздо важнее,
Рисунок тритона на сосуде
из комплекса Бэйшоулин.
Развертка
Антропоморфные
изображения в росписях
керамики Баныго
a — композиция с парными «ли-
чинами»; б — варианты «личин»:
1 — комплекс Баньпо, 2 — ком-
плекс Цзянчжай (пров. Шэньси),
3 — комплекс Бэйшоулин.
43
Антропоморфные
изображения в росписях
керамики Баньпо
Стилизованное изображение че-
ловеческого лица.
Росписи керамики
Мяоудигоу
a — варианты простейшего геомет-
рического орнамента; б — вариан-
ты орнамента из извилистых лент
и S-образного узора; ѳ — вариан-
ты орнамента с «цветочными» мо-
тивами: 1 — орнамент из стилизо-
ванных изображений розы, 2 —
орнамент из стилизованных изоб-
ражений цветов лилии.
намой взгляд, что эти рисунки суть древнеишие китаи-
ские портретные изображения. Обращает на себя внима-
ние, прежде всего, совпадение их стилистики с манерой
исполнения росписей на зооморфные темы. Несмотря на
присутствие в них изоморфно-фантазийных вкраплений, все
«личины» выполнены в той же самой примитивно-натура-
листической и детализованной манере, характеризующейся
адекватностью передачи пропорций человеческого лица и
тщательностью проработки всех его черт. Следовательно, в
рамках баньпоского орнаментально-графического искусст-
ва уже сложилось единое стилистическое направление, ко-
торое обусловливало собой художественные особенности как
зооморфных, так и антропоморфных изображений. Еще
более существенно, что баныіоские «личины» неоспоримо
свидетельствуют об исходном преимущественном внима-
нии китайского художественного творчества именно к лицу
человека, тогда как для древнейших антропоморфных изо-
бражений в других регионах мира (наскальные рисунки)
типично, напротив, воспроизведение человеческой фигуры
без проработки лиц.
Расписная керамика культуры Мяодигоу по многим по-
казателям принципиально отличается от баньпоской. Ей при-
сущи, во-первых, иная колористическая гамма — росписи,
выполненные черной краской по белому ангобу; во-вторых,
другой характер орнамента и набор зооморфных и антропо-
морфных сюжетов. Наряду с уже знакомыми нам геометри-
ческими фигурами и элементами: полосами, треугольника-
ми, ромбами, кругами, «сеткой» — в мяодигоуских роспи-
сях широкое применение получили дуги, извилистые линии
и ленты, которые внешне напоминают стилизованные изоб-
ражения змеиных тел. К числу важнейших новаций местно-
го орнаментально-графического искусства относится также
разработка S-образного спирального узора, которому пред-
стояло стать одним из ведущих мотивов не только последую-
щего неолитического художественного творчества, но и всего
китайского декоративно-прикладного искусства в целом.
Параллельно в мяодигоуских росписях на первый план
вышли растительные и зооморфные мотивы. В них настой-
чиво воспроизводится специфический вариант растительно-
го орнамента, состоящий из стилизованных рисунков цве-
тов, обычно отождествляемых с хризантемами, лилиями и
розами. И этот орнаментальный вариант тоже постепенно
преобразовывался в абстрактно-геометрические комбинации.
Зооморфные изображения представлены профильными
рисунками птиц, выполненными в абстрактно-стилизован-
ной манере. Тем не менее в них угадываются рисунки оп-
ределенного класса пернатых — с пышным оперением, ко-
торые выступают отдаленными морфологическими подоби-
ями изображений феникса. В дальнейшем они в очередной
раз трансформировались в элементы геометрического орна-
мента, причем нередко сочетаясь в нем с фигурами, произ-
водными от растительных мотивов. Так возник наиболее
типичный для мяодигоуских росписей вид орнамента, об-
разованный треугольниками, дугами и точками, которые
44
могут быть дополнены и другими элементами — верти-
кальными полосами с «сеткой», ромбами, вписанными в
круг. Примечательна тенденция к сочетанию растительных
и «птичьих» мотивов. Ведь такое сочетание в самых разных
его вариациях затем будет не только широко использовать-
ся в декоративно-прикладном искусстве, но и станет содер-
жательной основой знаменитого живописного жанра «цве-
ты и птицы» (подробно см. глава 9). В новейших исследова-
ниях высказывается также точка зрения, что данный вид
мяодигоуского орнамента состоит не из фигур, производных
от рисунков цветов и птиц, a из абстрактно-стилизованных
изображений человеческого лица или личины фантастиче-
ского существа, отмеченных, кроме того, огромными округ-
лыми глазами. При всей спорности приведенной трактов-
ки нельзя отрицать, что мяодигоуским росписям действи-
тельно присуща определенная смысловая полифония, и
создание такой полифонии правомерно рассматривать в ка-
честве еще одного художественного достижения местного
орнаментально-графического искусства.
Собственно антропоморфные изображения встречаются
на мяодигоуской керамике очень редко. Все известные на
сегодня образцы выполнены исключительно на погребаль-
ных урнах, которые к тому же были найдены (1989) толь-
ко в одном месте — в комплексе Хуншаньмяо, находящем-
ся в центральной части провинции Хэнань и относящемся
к началу Мяодигоу. He исключено, что он восходит к цен-
трально-яншаоской очаговой культуре Пэйлиган. Всего было
обнаружено 136 урн, некоторые из них были украшены
фигуративными налепами и графическими композиция-
ми. Все графические композиции имеют фризовое располо-
жение. Они выполнены в виде полосы, проходящей вдоль
верхней части тулова сосуда, что уже само по себе отлича-
ет их от стандартных для мяодигоуских росписей орнамен-
тальных схем. И каждая из них уникальна по тематике.
На одной урне выполнен узор из повторяющихся парных
фигур, которые составляют S-образные комбинации, про-
изводящие впечатление предельно стилизованных изобра-
жений растений (ростков или веток с бутонами) или змее-
видных существ. Еще на нескольких урнах воспроизведе-
ны композиции, сопоставимые с полноценными сюжетными
сценами. В двух случаях они составлены из рисунков жи-
вотных и птиц, но выполненных в настолько условно-при-
митивной или стилизованной манере, что характер персо-
нажей почти невозможно точно определить. Еще на одной
урне в композицию включена фигура человека, дополнен-
ная как рисунками животных, так и геометрическими фи-
гурами, например круг с точкой посередине — возможно,
изображение солнца. Данная позиция считается воспроиз-
ведением сцены охоты или некоего ритуального действа.
Фигура человека дана в профиль и в стоячей позе. Из дета-
лей его внешности наиболее проработанными на этот раз
оказываются руки — согнутые в локтях, непропорциональ-
но длинные, по сравнению с естественным анатомическим
строением человеческого тела, и с пятью растопыренными
«Птичьи» мотивы
в росписях керамики
Мяодигоу
a — профильный рисунок птицы;
б — трансформация изображений
птицы в элементы растительно-
геометрического орнамента.
Варианты орнаментальных
комбинаций
a — состоящие из стилизованных
изображений цветов и птиц; б —
трактуемые в качестве стилизо-
ванного изображения человече-
ского лица или личины зооморф-
но-фантастического существа.
45
Погребальные урны
из комплекса Хуншаньмяо
a — роспись на растительные те-
мы; б — роспись на зооморфно-
фантазийные темы; в — сюжет-
ная роспись.
Геометрические росписи
керамики Мачан
a — вариант орнамента с круга-
ми и овалами; б — вариант орна-
мента с ромбами и «сеткой»; в —
вариант орнамента с меандром.
пальцами, тогда как голова и тело переданы только контур-
но. Условность исполнения рисунка не препятствует его ди-
намичности. Напротив, человек показан в стремительном
движении, как будто бегущим, что придает дополнитель-
ную живость и всей композиции. He нужно, думается, спе-
циально доказывать, насколько отличаются трактовки че-
ловека в этих росписях от баньпоских «личин».
В специальной литературе давно уже утвердилась точ-
ка зрения, что расписная керамика Мяодигоу явилась не-
посредственным продолжением традиции баньпоских рос-
писей. Однако отмеченные стилистические и содержатель-
ные различия между ними позволяют предположить, что
орнаментально-графическое искусство Мяодигоу могло
иметь и собственные художественные истоки, восходящие
к той же очаговой культуре Пэйлиган. Следовательно, не
исключено, что в центрально-яншаоской предметно-твор-
ческой деятельности произошло объединение нескольких
изначально самобытных художественных традиций.
Своего наивысшего технологического и художественно-
го совершенства яншаоская расписная керамика достигла
в ганьсуских общностях — Мяцзяяо, Мачан и Банынань.
Ее общая отличительная черта — торжество геометриче-
ского орнамента. Однако в гончарном деле каждой из за-
падно-яншаоских общностей были разработаны собствен-
ные колористические решения и типы узоров.
Керамику Мацзяяо составляют изделия с настолько
тщательно отполированными стенками, что они лишь из-
редка покрывались ангобом (белого цвета). Росписи испол-
нялись, в основном, черной краской, но тоже исключи-
тельно высокого качества — чистой, блестящей, дающей
глянцеватый оттенок. Из орнаментальных групп преобла-
дает S-образный спиральный узор, чуть позже дополнив-
шийся С-образной спиралью. Одновременно вводятся новые
композиционные схемы. Словно возвращаясь к опыту бань-
поских росписей, мяцзяяоская керамика демонстрирует
тенденцию к распространению орнамента на болыную часть
или всю поверхность тулова сосуда.
В керамике Мачан преобладают сосуды, покрытые ан-
гобом темно-красного цвета. Росписи характеризуются пре-
имущественным использованием вариаций орнамента, со-
стоящего из кругов, овалов с «сеткой», ромбов, нередко
заполненных решетчатым узором, и меандров, которые
могут быть составлены из сочетаний нескольких ломаных
линий или широких полос.
В керамике Баньшань черная краска дополнилась ко-
ричневато-красной и продолжили свое развитие практи-
чески все элементы и типы геометрического орнамента,
освоенные оформительским искусством ранее. Наибольшее
же распространение в ней получил орнамент с комбиниро-
ванием спиралей, ромбов, зубцов и «шахматных полей».
Важнейшими орнаментальными новациями баньшаньско-
го гончарного дела считаются «лестничный узор» (ряды
«лесенок», развернутых в разные или в одну сторону) и
кресты, включая свастику («буддийский крест»). Хотя име-
46
ла ли данная фигура в яншаоских росписях столь же глу-
бинное символическое значение, как собственно свастика,
остается неясным. Кроме того, в керамике Баньшань роспи-
си уже наносились не только на всю поверхность сосуда,
но и на его вспомогательные детали (ручки).
Тематическое многообразие и композиционная слож-
ность ганьсуских росписей наглядно показывают, какого
высокого изобразительного уровня достигло яншаоское ор-
наментально-графическое искусство. Им были освоены в
общей сложности более 20 групп и подгрупп узоров и от-
дельных элементов, которые практически исчерпывают со-
бой репертуар геометрического орнамента как такового.
Варианты орнамента:
I. Точечный узор, включающий в себя точки; «капле-
видные точки»; крючки.
II. Полосыу могущие быть горизонтальными; косыми
(в том числе «елочка»); вертикальными (в том числе оди-
ночными, групповыми и часто-параллельными); волни-
стыми (в том числе одиночными, горизонтально-параллель-
ными и вертикально-параллельными); зубчатыми; зигзаго-
образными; дугообразными.
III. Простейшие геометрические узоры: кружок (колеч-
ко); круг (в том числе «двойной»); ромб (в том числе с
прямыми, вогнутыми сторонами и «двойной»); треуголь-
ники (в том числе изогнутые); дуги; шевроны.
IV. Зигзаговидные узоры: зигзаг; «молния»; «лестнич-
ный» узор.
V. Спиралевидные узоры: S-образная спираль; С-образ-
ная спираль; S-образный узор; С-образный узор (в виде
сдвоенной буквы «с»).
VI. Крестообразные узоры: простой четырехконечный
крест; двойной крест; свастика; крест, вписанный в про-
стейшие геометрические фигуры (круг, овал, квадрат).
VII. Сложносоставные yзоры: «сетка»; «решетка»; «шах-
маты»; меандр (в том числе из сочетаний нескольких либо
тонких ломаных линий, обрамленных снизу и сверху гори-
зонтальными полосами, либо широких ломаных линий);
«полог» (узор из изогнутых вниз дуг и кружков между
ними); «гребенка»; «глаза» (своеобразное сочетание дуг с
круглыми точками).
Более того, есть все основания утверждать, что в яншао-
ском орнаментально-графическом искусстве были вырабо-
таны и особые оформительские принципы. Процесс их раз-
работки начался еще в баньпоском гончарном деле и достиг
своего апогея в керамике Мачан и Баньшань. Во-первых, в
ней устанавливаются четкие связи между формами и деко-
ром сосуда. Во-вторых, создаются стандартные графические
вариации, сводящиеся к симметричной или асимметричной
группировке элементов узора. В результате орнаментальное
поле изделия превращается в замкнутую и самодостаточ-
ную художественную структуру, отмеченную ритмическим
единством всех ее компонентов. Указанные семиотиче-
ские закономерности росписей были явно рассчитаны на до-
стижение заранее прогнозируемого зрительно-сенсорного
Геометрические росписи
керамики Баныаань
Варианты орнамента: a — с ду-
гами, овальными формами и спи-
ралевидными узорами; б — с ром-
бами и «решеткой»; в — с «шах-
матными полями»; г — с го-
ризонтальной зубчатой лентой.
47
Геометрические росписи
керамики Баньшань
a — с «лестничным узором»; б —
со «свастикой».
Схсмы зрительского
восприятия
западно-яншаоской
расписной керамики
Растшпельныс мотивы в
западно-яншаоских росписях
a — вариант из изображений цве-
тов (Мацзяяо); б — орнамент с
изображением тыквы-горлянки
(Мачан).
эффекта. Следовательно, мы действительно вправе рассмат-
ривать яншаоскую расписную керамику в качестве полно-
ценных художественных произведений и говорить о зарожде-
нии в неолитическом гончарном деле собственно оформитель-
ского искусства и даже о начале формирования эстетических
основ будущей китайской творческой деятельности.
Господство в западно-яншаоских росписях геометри-
ческого орнамента, однако, не привело к исчезновению из
них растительных мотивов и фигуративных изображений.
На керамике Мацзяяо и Мачан по-прежнему исполня-
лись стилизованные рисунки деревьев, древесных ветвей, a
также цветов, но в иной, чем в мяодигоуских росписях,
стилистике. Местный цветочный орнамент обычно представ-
ляет собой композицию, выполненную тонкими извилисты-
ми линиями, передающими очертания цветочных лепест-
ков, которая может распространяться на всю поверхность
изделия. Одновременно в западно-яншаоских росписях по-
явился новый растительный мотив, восходящий к образу
тыквы-горлянки. Тыква-горлянка (кит. хулу) — плод спе-
цифической дальневосточной разновидности семейства тык-
венных (бутылочная или посудная тыква), который имеет
грушевидную форму и очень крепкую водонепроницаемую
кожуру. Поэтому выдолбленные изнутри тыквы-горлянки
использовались в Китае в качестве емкостей для хранения и
транспортировки жидкостей. Многие факты свидетельству-
ют о возможности такого применения тыквы-горлянки и в
неолитическую эпоху и о том, что к ней восходят формы
некоторых категорий сосудов, в первую очередь кувшинов-
ху. Однако роль тыквы-горлянки в неолитическом художе-
ственном творчестве этим не ограничивается. Обращает на
себя внимание тот факт, что уже в баныіоский период наи-
большим внешним сходством с тыквой-горлянкой обладали
кувшины, входящие в погребальный инвентарь. В западно-
яншаоской керамике образ тыквы-горлянки, обычно вве-
денный в геометрический орнаментальный контекст, чаще
всего исполнялся в мачанских росписях и тоже только на
погребальных сосудах. Сказанное означает, что это растение
было исходно связано не только с гончарным делом, но и с
погребальной обрядностью и анимистическими верования-
ми, чем, видимо, и объясняется его последующее превраще-
ние в символ бессмертия (подробно см. глава 6).
Устойчивой опознавательной принадлежностью мачан-
ских росписей является также своеобразный зооморфный
мотив, проистекающий из изображений траковин-каури. Он
мог реализовываться в нескольких вариантах: изображе-
ния раковины целиком; выписка ее зубчатого разреза в
сочетании с другими орнаментальными элементами; пре-
дельно стилизованный рисунок множества раковин в виде
зерноподобных или каплевидных фигур. Этот мотив тоже
исполнялся на погребальной керамике (на кувшинах гуанъ
и ху), нередко объединяясь с изображениями тыквы-гор-
лянки, что осталось в силе и в баныпаньских росписях.
И снова нельзя не задуматься над возможной семантикой
образа раковины-каури. Дело в том, что до появления
48
в Китае собственно денег именно раковины-каури служи-
ли денежными (или меновыми) знаками и как таковые
иногда включались в погребальный инвентарь. Так может
быть, и система китайского денежного обращения, и тра-
диция погребальной обрядности, предполагавшая снабже-
ние усопшего деньгами17, тоже в конечном счете восходят
к неолитической эпохе?
Из собственно зооморфных образов в западно-яншао-
ском орнаментально-графическом искусстве наибольшей
популярностью пользовались лягушка (жаба) и черепаха,
изображения которой фактически являются морфологиче-
скими аналогами изображений лягушки. « Лягушачьи» мо-
тивы получили здесь небывалое ранее разнообразие. Нали-
цо по меньшей мере четыре отдельных иконографических
варианта образа лягушки и производных от них типов узо-
ров. Это, во-первых, рисунки целой фигуры лягушки, ко-
торые чаще всего исполнялись на внутренней поверхности
чашек-бо, занимая собой все орнаментальное поле, и реже
на внешней поверхности сосудов других категорий. Во-
вторых, рисунки распластавшегося, но без головы, лягу-
шачьего тела, которые обычно вписаны в круг и использу-
ются в качестве повторяющихся элементов общего геомет-
рического орнамента. В-третьих, рисунки верхней части
тела как бы плывущей лягушки, которые тоже обычно
исполняются в виде повторяющихся фигур, заполняющих
фризовую полосу. В-четвертых, стилизованные рисунки
лягушачьих лапок, которые могут образовывать различ-
ные комбинации и композиционные сегменты, например
треугольники, составленные из «лапок» и дугообразных
элементов, или крючковидные «лапки», завершающие (на-
подобие бордюра) основную орнаментальную композицию.
В дальнейшем «лягушачьи» мотивы в очередной раз пре-
терпели трансформацию и постепенно превратились в гео-
метрические узоры.
И наконец, в ганьсуском орнаментально-графическом
искусстве продолжали исполняться и росписи с «птичьи-
ми» мотивами. Но они уже выполнены в максимально ус-
ловной манере, когда вместо рисунков птицы мы видим
геометрический орнамент, в элементах которого можно
лишь с болыпим трудом распознать силуэтные изображе-
ния птиц.
На общем фоне западно-яншаоских росписей на зоо-
морфные темы вновь выделяется рисунок некоего суще-
ства, выполненный на внешней поверхности мацзяояоской
бутыли. Первое впечатление — перед нами, вне всяких
сомнений, изображение фантастического создания с полу-
антропоморфной-полузооморфной верхней частью тела и
змеевидной нижней. Оно, казалось бы, вполне может быть
сочтено прототипом целой иконографической серии, утвер-
дившейся в древнекитайском культовом изобразительном
искусстве (изображения змеевидных божественных персо-
нажей, подробно см. далее). Но, как и в случае с рисунком
тритона на сосуде из Бэйшоулина, это первое впечатление
оказывается обманчивым. По-мнению ряда современных
4 Мстормя искусства Китая
Зооморфные мотивы
в западно-яншаоских
росписях
a — варианты орнамента с рисун-
ками раковины-каури; б — вари-
ант орнамента из рисунков каури
и тыквы-горлянки (Баныпань).
«Птичъи» мотивы
в росписях западно-
яншаоской керамики
17 Помещение денег,(монет)
в могилы практиковалось в
Китае на протяжении многих
исторических эпох. Кроме то-
го, впоследствии установился
обьгчай сжигания так назы-
ваемых жертвенных денег —
специально предназначенных
для этого бумажных купюр,
которые имитировали настоя-
щие деньги.
49
«Лягушачьи» мотивы в
росписях керамики Мацзяяо
a — рисунок целостной фигуры
лягушки на внутренней поверх-
ности сосуда; б — вариант орна-
мента с рисунком «безголовой ля-
гушки» ; в — узор из фигур «плы-
вущей лягушки»; г — узор из
стилизованных изображений ля-
гушачьих лапок; д — орнамен-
тальные фигуры, образованные
стилизованными изображениями
лягушачьих лапок.
китайских ученых, здесь тоже воспроизводится вполне ре-
альный представитель животного мира, a именно — япон-
ский скрытожаберник (или исполинская саламандра, кит.
ни юй). Могущие достигать 1,6 м в длину, исполинские
саламандры, вопреки принятому в науке названию, обита-
ли (и продолжают обитать) не только в Японии, но и в
Китае. Они живут в глубоких горных потоках, питаются
рыбой и лягушками и отличаются малоподвижностью, лишь
изредка поднимаясь на поверхность, чтобы запастись воз-
духом. Приведенное истолкование разбираемого рисунка
отнюдь не опровергает возможности превращения образа
этого земноводного в образ фантастического существа. Не-
трудно вообразить эмоциональную реакцию неолитическо-
го рыбака (да и жителей гораздо более поздних времен),
когда перед ним из глубины реки вдруг представало такое
вот чудище. He исключено, что мы имеем дело с одним из
первых эпизодов в истории китайского искусства, который
позволяет проследить процесс возникновения художествен-
ных образов фантастических существ.
Наиболее значительные изменения в западно-яншаоском
орнаментально-графическом искусстве претерпели антро-
поморфные мотивы, начиная с художественных трактовок
человека. На сегодня известно всего несколько сосудов с
росписями на антропоморфные темы. Но каждый из них
по-своему уникален и как бы открывает новую страницу в
протоистории китайского изобразительного искусства.
Начнем рассказ о них с мацзяояоской чашки-бо, внут-
ренняя поверхность которой украшена рисунком челове-
ческой фигуры в полный рост. Выполненный в откровенно
примитивной манере этот рисунок словно объединил в себе
стилистические особенности баньпоских фигуративных рос-
писей и антропоморфных изображений на урнах из Хун-
шаньмяо. С первыми из них его роднит точность передачи
пропорций и общего строения тела натуры. Co вторыми —
абрисное воспроизведение головы, акцентирование рук (раз-
веденные, чуть согнутые в локтях и с растопыренными
пальцами) и самое главное попытка передать человека в
движении — в момент исполнения им некоего танца (риту-
альной пляски).
Следующий артефакт — тоже мацзяояоское блюдо, об-
наруженное на периферии ареала западно-яншаоских куль-
тур (на восточной окраине провинции Цинхай). На его
внутренней поверхности исполнена уже целая фризовая
композиция: 15 человеческих фигурок, разбитых на 3 груп-
пы. Персонажи показаны в полный рост, намечены их одея-
ния и прически. Фигурки, образующие одну группу, дер-
жатся за руки, как будто ведут хоровод. Именно так — в
качестве сцены ритуального танца — этот рисунок и трак-
туется в современных исследованиях. Фризовое располо-
жение сцены и примитивно-натуралистический стиль ее
исполнения вновь заставляют нас вспомнить о росписях на
урнах из Хуншаньмяо. A ведь подобное композиционное
построение (по горизонтали и с членением на композици-
онные сегменты) станет со временем одной из универсаль-
50
ных примет как орнаментальных сцен, украшающих изде-
лия, так и собственно живописных произведений (от погре-
бальных стенописей до станковой живописи). Следователь-
но, правомерно предположить, что в яншаоском орнамен-
тально-графическом искусстве начался процесс зарождения
будущей жанровой живописи и общих семиотических прин-
ципов китайского изобразительного искусства.
Еще два артефакта — кувшины-л:і/, на внешней поверх-
ности которых изображены женская и мужская фигуры.
Сосуд с женской фигурой (высота 21,7 см, 1982 г.) относит-
ся к культуре Мацзяяо. Сосуд с мужской фигурой (33,4 см,
1974 г.) — к культуре Мачан и тоже был обнаружен на
территории Цинхай. Тем не менее они настолько близки по
стилистике, что производят впечатление парных изделий.
В обоих случаях персонажи показаны в стоячей позе в пол-
ный рост, a их изображения выполнены с сочетанием ри-
сунка и лепки. Тело женщины передается в графике, и
опять мы видим разведенные руки с растопыренными паль-
цами и «скелетоподобное» (как и y «танцующего человека»)
туловище. Лицо же вылеплено в низком рельефе и с деталь-
ной проработкой всех лицевых черт (глаза, нос, рот).
Фигура мужчины целиком выполнена в рельефе. Его
голова размещена на самом горлышке сосуда, тело и ноги
занимают практически всю поверхность тулова, что прида-
ет самому кувшину очертания скульптуры. Лицевые черты
тоже тщательно проработаны. Тело показано обнаженным
с передачей всех его деталей. Отчетливо различимы груд-
ные соски, пупок, половой орган. A bot руки персонажа на
этот раз оказываются сведенными на животе, хотя они по-
прежнему завершаются растопыренными пальцами.
Фигура мужчины дополнена росписями, распространяю-
щимися на всю оставшуюся часть поверхности сосуда и
воспроизводящими один из популярнейших для мачан-
ской и баньшаньской керамики типов орнамента. Он со-
стоит из зигзагообразных полос, иногда заканчивающихся
пальцеобразными отростками, и внешне напоминает абст-
рактно-стилизованное изображение сидящего человека с
согнутыми ногами и руками. В баныыаньских росписях
эта комбинация дополнилась венчающим ее кружком, что
еще болыне усилило ее сходство с человеческой фигурой.
Тем не менее мнения специалистов по поводу семантики
данного типа орнамента вновь расходятся. Одни исследо-
ватели относят его к сугубо геометрическим композициям,
другие — к вариациям на «лягушачьи» мотивы (стилизо-
ванное изображение распластанной лягушки). Тогда как
третьи, напротив, усматривают в нем не просто антропо-
морфные изображения, a подлинную сцену религиозно-
мифологического содержания, возводя ее к образу «косми-
ческого человека» и к сюжету об отделении неба от земли.
Такой сюжет (миф о Пань-гу) действительно присутствует
в китайских мифологических представлениях, относящих-
ся уже к значительно более поздним историческим эпо-
хам. Наиболее убедительной, думается, выглядит недав-
но предложенная китайскими учеными интерпретация
Маяцзяяоская бутыль
с рисунком исполинской
саламандры
Изображения человека
в орнаментации западно-
яншаоской керамики
a — чашка-бо с рисунком «танцую-
щего человека»; б — мачанский
кувшин-лгі/ с изображением фигу-
ры мужчины: 1 — вид спереди,
2 — вид сзади; в — мацзяяоское
блюдо с фризовой композицией.
51
Pocnucu c узорами,
считающимися стили-
зованными изображениями
фигуры человека
a — на керамике Мачан; б — на
керамике Баньшань.
Западно-яншаоские
захоронения в сидячей позе
разбираемого орнамента как изображения фигуры усопше-
го, захороненного в сидящей позе. Но тогда и все художе-
ственное решение этого сосуда приобретает новое смысловое
наполнение. В нем воспроизводится целое действо: усопший
в окружении своих предков либо божество-повелитель поту-
стороннего мира в сопровождении умерших людей.
В свете последующей истории китайского искусства
особое значение приобретает и сочетание в одном изобра-
жении пластики и росписи. Этот художественный прием
впоследствии будет широко использоваться в различных
видах китайского изобразительного искусства, в том числе
при художественном оформлении буддийских храмов —
роспись изваяний и их объединение со стенописными кар-
тинами. Закономерно задаться вопросом: случайным ли
совпадением является тот факт, что важнейший центр фор-
мирования китайско-буддийского культового искусства с
сочетанием живописи и пластики возник как раз в северо-
западном регионе Китая?
Итак, есть все основания утверждать, что яншаоское
орнаментально-графическое искусство уже было способно
создавать росписи, приближающиеся по своей композици-
онной сложности и содержательной глубине к подлинно
живописным произведениям. Более того, по единодушно-
му мнению исследователей, не только изображения челове-
ка, животных или растительные мотивы, но и отдельные
элементы геометрического орнамента, a также схемы их
расположения имели в яншаоских росписях по керамике
определенный смысл. Например, треугольные формы чаще
всего истолковываются, исходя из опыта мировой архаи-
ческой образности, в качестве ктеических символов, свя-
занных с культом плодородия и обожествленным женским
началом. Крестообразные композиции считаются солярны-
ми символами, волнистые полосы возводятся к изображе-
нию речного потока, a спиралевидные узоры — к молнии.
Такая семантическая насыщенность позволяет сравнивать
керамические росписи со священными текстами, посред-
ством которых обитатели неолитического Китая воспевали
окружающий их мир и поклонялись высшим силам.
Но, достигнув подобных художественных высот в За-
падном Яншао, традиция орнаментально-графического ис-
кусства внешне внезапно прекратила свое существование.
И в регионе среднего течения Хуанхэ, и в северо-западных
районах установилось господство монохромной керамики.
Очевидно, что само по себе распространение в этих регио-
нах монохромной керамики было прямым следствием ут-
верждения там культуры Луншань. Но почему местные
мастера с такой легкостью отказались от накопленного
предшествующими поколениями художественного опыта?
Почему так быстро прежние категории и формы сосудов
сменились новыми и совершенно несвойственными яншао-
скому гончарному делу? Случайным отголоском былого
расцвета местного орнаментально-графического искусства
выглядит изображение человеческой фигурки, процарапан-
ное на одном из сосудов, обнаруженных для хэнаньского
52
варианта Луншань. Вопросы, касающиеся исчезновения
яншаоской расписной керамики, распространяются и на
последующую историю китайского искусства. Как и поче-
му смогли остаться в силе те художественные и оформи-
тельские принципы, которые сложились в предметно-твор-
ческой деятельности Яншао? Является ли простым совпа-
дением тот факт, что по прошествии еще почти двух
тысячелетий расписная керамика вновь заявит о себе, и
одним из главных центров ее производства будет как раз
регион среднего течения Хуанхэ? Неужели китайские ху-
дожественные традиции изначально обладали столь мощ-
ным потенциалом, что могли сохраняться на протяжении
многих столетий даже в том случае, если они оставались
вне живой творческой активности?
Яншаоская монохромная керамика тоже имеет самое
непосредственное отношение к истории развития всего ки-
тайского искусства. Для ее художественного оформления в
неолитическом гончарном деле использовались в общей
сложности пять способов: резной, прорезной, штампован-
ный, вдавленный и налепной орнамент.
Резной орнамент — прорези, сделанные на поверхно-
сти сосуда тупым или острым концом инструмента. Непо-
средственно в гончарном деле Яншао этот способ реализо-
вывался только в двух типах узоров — в виде широкой
горизонтальной линии и «струнного узора», образованного
единичной или несколькими тонкими горизонтальными ли-
ниями. Чаще всего так украшалась верхняя часть тулова
мисок и тарелок.
Прорезной орнамент — сквозные отверстия различной
конфигурации — относится к числу специфических орна-
ментальных способов гончарного дела юго-восточных и во-
сточных культур.
Штампованный орнамент — орнамент, получаемый
путем оттиска предметов-штампов, в качестве которых мог-
ли использоваться веревка, любые плетеные и тканые из-
делия (корзинка, циновка, рыболовная сеть, холст) или
дары природы (косточки плодов, листья, злаки). Для нане-
сения оттисков употреблялись и специальные приспособ-
ления, например заостренные клинья. В результате полу-
чались узоры, имеющие простейшие геометрические фор-
мы. В гончарном деле Яншао наибольшее распространение
получили веревочные оттиски, сделанные как тонкой, так
и грубой веревкой, которые чаще всего покрывают боль-
шую часть или всю поверхность сосуда в виде вертикаль-
ных, горизонтальных, диагональных либо переплетенных
друг с другом линий.
Вдавленный орнамент — своего рода негативный ре-
льеф, который тоже может быть получен путем нанесения
оттисков. Поэтому он нередко объединяется со штампован-
ным орнаментом в общий способ. Его простейшей разно-
видностью является «ногтевой узор», т. е. углубления, про-
деланные ногтем мастера. Этот узор применялся практи-
чески во всех региональных гончарных центрах и на
протяжении большей части истории неолитической эпохи.
Керамический сосуд
хэнаньского варианта
культуры Луншань
с гравированным
изображением фигуры
человека
a — общий вид; б — изображе-
ние человека (прорисовка).
ШЕшЩ
ВІі
цщііЩ
ШШ
Орнаментально-
пластические способы
оформления монохромной
керамики
a — резной орнамент; б — штам-
пованный орнамент, полученный
оттиском веревки; в — штампо-
ванный орнамент, полученный
оттиском изделия с двойным пле-
тением; г — штампованный орна-
мент, полученный оттисками ко-
сточек плодов; д — ногтевой узор;
е — выпуклые налепы.
53
Налепной орнамент включает в себя налепы-выступы
различной конфигурации, выпуклые полосы и рельефные
фигуративные изображения, которые уже правомерно рас-
сматривать в качестве образцов пластического искусства.
Своего наиболыпего разнообразия налепы и выпуклые по-
лосы достигли тоже в гончарном деле юго-восточных и
восточных культур. В яншаоской керамике исполнялись
налепы в виде простейших геометрических фигур (круг-
лые, овальные, треугольные и прямоугольные), которые
обычно располагаются по верхней или средней части туло-
ва, и несколько вариантов выпуклых полос — гладкие,
плоские, круглые, волнистые, зубчатые, «кольцевые», ко-
торые могут украшать собой как верхнюю часть тулова
сосуда, так и всю его поверхность.
Перечисленные орнаментально-пластические способы
предвосхищают все главные виды рельефного орнамента,
употребляемые в развитом керамическом производстве.
Резной орнамент есть предшественник гравировки, штам-
пованный — перфорации, налепной — собственно релье-
фа. Следовательно, яншаоским оформительским искусст-
вом был освоен весь базовый — для последующего керами-
ческого производства и декоративно-прикладного искусства
в целом — репертуар художественных средств.
Керамика южного,
юго-восточного,
восточного и северо-
восточного регионов
неолитического Китая
Категории и формы
керамики южных
очаговых кулътур
a — сосуд-гі/й (Сунсикоу); б —
котлы-фу: 1 — Гаомяо, 2 — Сун-
сикоу.
Древнейшими образцами керамики южного региона
неолитического Китая на сегодня являются сосуды (более
500 образцов), принадлежащие очаговым культурам Гао-
мяо и Сунсикоу.
Первая отличительная черта этой керамики — широ-
кое представительство в ней сосудов ритуально-церемони-
ального предназначения, которые сводятся к еще незнако-
мой нам категории — гуй. Названный термин был заим-
ствован из терминологических обозначений бронзовых
изделий, в данном случае: сосуды, предназначенные для
хранения жертвенной пищи. Южные керамические сосу-
ды-гуй тоже служили, по мнению специалистов, емкостя-
ми для жертвенного зерна. Сам по себе факт присутствия
подобной категории в южной керамике свидетельствует о
развитости местных верований и религиозных практик.
Форма гуй также заметно отличается от всех форм яншао-
ской керамики. Они представляют собой подобие больших
чаш, снабженных трапециевидной ножкой.
Бытовая утварь Гаомяо и Сунсикоу включает в себя те
же, что и яншаоская керамика, функциональные подгруп-
пы — столовую, хозяйственную и кухонную посуду. Одна-
ко все они имеют собственный набор категорий и форм
изделий.
Для столовой посуды отмечены сосуды только трех ка-
тегорий, которые полагаются типологическими аналогами
яншаоских чашек-бо, пиал-ванъ и мисок-тгэкь. Для хозяй-
ственной и кухонной утвари — лишь горшки-гуанъ и кот-
лы-фу. Перечисленные категории, подобно сосудам-гі/й,
обладают значительно более сложной, чем яншаоские фор-
мы, архитектонической композицией. Горшки и котплы
54
тяготеют к усложнению форм путем сочетания подчеркну-
то округлого тулова с сильно раструбовидным устьем, гор-
лышко приобретает причудливую конфигурацию. Для всех
категорий столовой посуды тоже характерно наделение ту-
лова изогнутыми профильными линиями и использование
трапециевидных ножек.
Причудливость форм сосудов дополняется исключитель-
ным богатством их художественного оформления. Широко
используется ангоб с доведением его палитры в керамике
Сунсикоу до семи цветов и оттенков: белого, молочно-белого,
светло-кремового (цвета слоновой кости), светло-серого,
опалового (молочно-желтого), красного и черного. Сосуды
украшены рельефным или реже штампованным орнамен-
том, причем состоящим из оттисков раковин, что является
еще одной специфической приметой южной керамики. Ре-
льефный орнамент либо распространяется на всю поверх-
ность изделия, включая ножку, либо образует фризовые ком-
позиции, которые охватывают собой верхнюю часть сосуда
совместно с горлышком и устьем. Во многих случаях такие
фризовые композиции сочетаются со штампованным орна-
ментом, покрывающим остальную часть поверхности изде-
лия. Чаще всего рельефный орнамент состоит из сочетаний
простейших геометрических фигур и прямых или извили-
стых лент. В керамике Сунсикоу могли употребляться и
более сложные по конфигурации элементы, например, ме-
андры, ножеобразные по контуру фигуры и восьмиугольные
звезды. Однако наиболыиее внимание привлекают рельеф-
ные орнаменты с зооморфными мотивами и сюжетными ком-
позициями, которые присутствуют в основном на гаомяо-
ских, т. е. более ранних по времени, сосудах.
Из зооморфных мотивов чаще всего встречаются стили-
зованные изображения птиц, точнее, птичьих голов, в ко-
торых, в отличие от центрально-яншаоских (мяодигоуских)
росписей, воспроизводятся исключительно хищные пти-
цы. Нередки также композиции, в которых угадываются
очертания горного пейзажа и даже фигур фантастических
существ. Еще одним устойчивым орнаментальным мотивом
является изображение звериной пасти с двумя или четырь-
мя острыми клыками. Он может исполняться в виде элемен-
тов фризового узора, самостоятельной орнаментальной фи-
гуры, которая размещается на внутренней поверхности со-
судов-гі/й, либо же включаться в подобие сюжетных сцен,
сочетаясь в них со столь же странными и малопонятными
фигурами, внешне напоминающими изображения высоких
строений или башен.
В керамике Сунсикоу «птичьи» и «звериные» мотивы
если и не исчезают полностью, то явно утрачивают чет-
кость исполнения. На смену им приходят еще более при-
чудливые и фантазийные композиции, тяготеющие в це-
лом к геометрическому орнаменту, но в которых можно
при желании усмотреть и ландшафтные сцены с горными
хребтами, и сцены на религиозно-ритуальные темы. Так,
на одном из горшков мы видим фриз, заполненный фигура-
ми как бы следующих друг за другом оленевидных существ.
Категории и формы
керамики южных
очаговых культур
a — горшки-гі/ань: I — Гаомяо,
2 — Сунсикоу; б — чашки-бо:
1 — Гаомяо, 2 — Сунсикоу; в —
пиала-вамь (Гаомяо); г — миска-
пэнь на ножках (Сунсикоу).
Орнаментация керамики
кулыпуры Гаомяо
Варианты геометрических рель-
ефных композиций.
55
Орнаментация керамики
кулыпуры Гаомяо
a — композиция с «птичьими» мо-
тивами; б — композиция с *пей-
зажными» элементами; в — ком-
поаиции с зооморфной личиной.
Орнаментация керамики
Сунсикоу
a — варианты геометрических ре-
льефных композиций; б — компо-
зиция с «пейзажными сценами».
На другом — фигуру наподобие человеческой, но с огром-
ными распростертыми за спиной крыльями, которую ис-
следователи склонны интерпретировать как изображение
божественного персонажа, причем выдержанное в опреде-
ленной стилистике.
Несмотря на загадочность их символики, представлен-
ные мотивы и образы убедительно свидетельствуют о суще-
ствовании в южных очаговых культурах самобытных ре-
лигиозных представлений и практик. Столь же очевидно,
что местное гончарное дело по всем показателям принци-
пиально отличалось от гончарного дела Яншао. Отсутствие
же видимых истоков гончарного дела Гаомяо и Сунсикоу,
при том что оно бесспорно находилось на очень высоком
технико-художественном уровне развития, служит веским
аргументом в пользу вероятности зарождения южных оча-
говых культур вне территории Китая.
Стилистическая линия, присущая керамике Гаомяо и
Сунсикоу, была воспринята и активно продолжена гончар-
ным делом культуры Даси. В нем по-прежнему широко
исполнялись сосуды (пиалы, блюда) вазоподобных (на нож-
ке) форм с разработкой еще более сложных их архитекто-
нических вариантов (например, блюда на трех ножках).
Параллельно в Даси были освоены и многие новые катего-
рии изделий. К ним относятся, в том числе, кастрюли-цзэн
(настолько близкие, заметим, по конструкции и формам к
яншаоским кастрюляМу что они производят впечатление
заимствования), треножники-ды«, бутыли-тш«, стаканы-бэй
с боковой ручкой и бокалы-doi/, которые в скором времени
превратились в одну из главных категорий местной посуды.
Дасиские бокалы имеют весьма крупные для столовой утва-
ри размеры (высота до 20-25 см) и отличаются удивитель-
ным многообразием форм. Имея общий архитектонический
инвариант в виде сочетания чашеподобного тулова с высо-
кой массивной ножкой, они чрезвычайно широко варьиру-
ются как по конфигурации тулова и ножки (чаще всего
имеющей трапециевидный профиль), так и по их пропорци-
ональному соотношению. В некоторых типах доу ножка
может составлять до четырех пятых от общей высоты сосу-
да. Нередко встречаются бокалы, снабженные крышкой.
Оформительское искусство Даси тоже на первых порах
явно стремилось копировать рельефный орнамент керами-
ки Гаомяо и Сунсикоу. Однако его символическое значе-
ние, видимо, было уже утрачено, a потому он лишился и
эстетической привлекательности. Во всяком случае, хорошо
видно, что дасиское гончарное дело почти сразу же отказа-
лось от воспроизведения зооморфно-фантазийных мотивов
и образов. Наиболее популярным и устойчивым в нем ока-
зался рельефный геометрический орнамент, безусловно, на-
веянный предшествующей керамикой, но тоже претерпев-
ший заметную по сравнению с нею трансформацию.
Приблизительно с середины Даси в южном гончарном
деле наметилась тенденция к упрощению форм и художе-
ственного оформления изделий. Керамика конца Даси и
Цюйцзялин состоит в основном из сосудов, отличающихся
56
лаконичностью архитектоническои композиции и плавно-
стью силуэтных линий. A ee главным, чаще всего и един-
ственным, украшением оказывается ангоб белого, апельси-
ново-желтого, темно-красного и черного цветов. Однако
общий художественный уровень южной керамики от этого
отнюдь не снизился. Скорее, наоборот: тонкость черепка,
изящество линий и цветное покрытие придают ей особую
эстетическую выразительность и изысканность.
Параллельно с исчезновением рельефного орнамента в
оформительском искусстве южных культур возрастало зна-
чение росписей. Впервые расписные изделия появились,
напомним, в ранних слоях Даси. В гончарном деле конца
Даси и Цюйцзялин применялись в общей сложности крас-
ки 5 основных цветов и оттенков: черная, коричневая, се-
ровато-красная и серо-желтая. Причем по мере развития
местного орнаментально-графического искусства наблюда-
ется неуклонное возрастание полихромии росписей путем
их доведения до трех- и четырехцветных сочетаний. Есть
также образцы уникальных по цветовой гамме изделий.
Таковы, например, два изделия Цюйцзялин — фрагмент
сосуда, украшенный фиолетовым рисунком по красному
ангобу, и сосуд, покрытый двухцветным — красным и
апельсиново-желтым — ангобом, по которому идут роспи-
си, выполненные соответственно фиолетово-черной и крас-
ной красками. Характер росписей широко варьируется, в
зависимости от хронологической и географической при-
надлежности изделий. В расписной керамике середины Даси
присутствуют несколько вариантов геометрического и рас-
тительного орнамента. Для первого из них преобладают
узоры, составленные из лент, «цепочек» и повторяющихся
простейших фигур. Например, три ленты, между которы-
ми в определенном порядке располагаются черные и крас-
ные точки. Такого типа узоры производят впечатление за-
местителей исходно рельефного орнамента. Одновременно
Орнаментация керамики
Сунсикоу
a — композиция с «архитектур-
ными» мотивами; б — стилизо-
ванное изображение фантастичес-
кого существа; в — композиция
с изображением оленевидных су-
ществ.
Керамика начала Даси
a — котел-фу; б — блюдо-панъ.
s
s?
ѵ^
>*
7
Ч
mar
-\
Усложненные формы
и новые капгегории
керамики
первой половины Даси
а — пиала-вань; б — блюдо с
тремя ножками; в — стпакан с
боковой ручкой; г — котел-дии;
д — бокалы-доу.
Формы керамики
середины Даси
57
Керамика с релъефным
декором начала Даси
Ww7
Формы керамики начала
Цюйцзялин
a — хозяйственная и кухонная
посуда; б — столовая посуда.
47
Формы керамики конца
Цюйцзялин
a — котел-дин; б — столовая по-
суда.
Формы керамики
Шицзяхэ
начал складываться и ставший затем специфическим для
южной керамики расписной узор, состоящий из двух пере-
плетенных лент и S-образных переплетений. Раститель-
ный орнамент представлен «лепестковым узором», образо-
ванным стилизованными изображениями цветочных лепе-
стков, и узорами из стилизованных изображений побегов
трав и древесных ветвей. Но ни один из перечисленных
видов дасиского растительного орнамента не нашел про-
должения в последующем гончарном деле.
В орнаментально-графическом искусстве культуры
Цюйцзялин тоже прослеживается несколько диахронных
и региональных стилей. Так, для ее ранней керамики
характерен геометрический орнамент, составленный из
треугольников, ромбовидной сетки, шевронов и «плетен-
ки». В поселениях, расположенных в восточной части аре-
ала Цюйцзялин (на востоке провинции Хубэй), изготов-
ливались преимущественно изделия, расписанные узора-
ми из широких и узких лент, круглых пятен, квадратов,
ромбов и квадратной «сетки». В целом орнаментально-
графическое искусство южных культур оперировало тем
же самым, что и яншаоское, набором элементов геометри-
ческого орнамента, однако оно выработало собственные
принципы их исполнения.
В гончарном деле последней южной общности — ІПиц-
зяхэ — местные художественные традиции якобы себя ис-
черпали. Репертуар категорий и форм изделий резко со-
кратился. Из столовой утвари остались стаканы-бэй и мис-
ки-пэнъ, которые по-прежнему снабжались, как правило,
ножкой, из хозяйственной — горшки-гі/аиь, из кухонной —
треножники-діш. Формы сосудов максимально упростились
и приобрели стандартный характер: на всем протяжении
Шицзяхэ, т. е. в течение пяти столетий, они исполнялись
без каких-либо заметных внешних изменений. Декор изде-
лий теперь стал сводиться исключительно к штампованно-
му орнаменту, исполнявшемуся, правда, в нескольких ва-
риантах. Однако, как и в случае с яншаоской расписной
керамикой, стилистические особенности южного оформи-
тельского искусства, в том виде, в каком они сложились в
предметно-творческой деятельности культур Даси и Цюйц-
зялин, не были полностью утрачены. Пройдут века, и они
вновь активно проявят себя в декоративно-прикладном ис-
кусстве данного региона Китая.
Главной отличительной приметой керамики юго-вос-
точных и восточных культур справедливо считать тенден-
цию к расширению репертуара категорий изделий и к ус-
ложнению их архитектонической композиции, которая на
этот раз сохранялась почти на всем протяжении их суще-
ствования. Уже в керамике юго-восточной очаговой куль-
туры — Хэмуду — присутствует болынинство из извест-
ных нам по керамике Яншао категорий столовой, хозяй-
ственной и кухонной утвари. И каждая из них имеет
специфические по сравнению с их яншаоскими аналогами
формы. Так, чашки-бо оказываются нередко снабженными
ручками — боковой в виде полукольца, двумя или четырь-
58
мя горизонтальными плоскими ручками-«ушками». Ста-
каны-бэй то приобретают рюмкообразную форму — с ши-
рокой чашей и низкой колоколоподобной ножкой, то пре-
вращаются в сосуды с высоким, почти цилиндрическим
туловом, переходящим внизу в расширяющуюся ножку.
Даже для кухонной посуды — котлов-фі/ — здесь насчиты-
вается более 10 типов и подтипов: с кувшинообразным ту-
ловом, снабженным округлым донышком и выпуклыми
гранями; с овальным глубоким и остродонным туловом; с
шарообразным или чашеобразным туловом; с туловом гру-
шевидной конфигурации и т. д. Многие котлы тоже снаб-
жены ручками — полукольцевыми, горизонтальными, вер-
тикальными, которые, будучи сугубо функциональными
деталями сосудов, тем не менее органически вписываются в
их архитектоническую композицию и несут определенную
эстетическую нагрузку. Сказанное отнюдь не преувеличе-
ние, ибо в гончарном деле Хэмуду — подобно керамике
южных очаговых культур и в противовес керамике Яншао —
эта категория посуды подлежала художественному оформ-
лению. Котлы могли украшаться как штампованным (чаще
всего оттиски веревки), так и резным и рельефным орнамен-
том, например «сеткой», образованной по-разному ориенти-
рованными линиями, или узорами из кружков, волнистых
линий, либо фигур, похожих на цветочные лепестки, или
лепным узором типа «зубчатки» (подробно см. ниже). Спе-
цифическим орнаментальным элементом керамики Хэму-
ду является «юбочка» — пластинка, идущая по плечикам
тулова и тоже нередко украшенная тем или иным видом
рельефного орнамента. Еще несколько котлов имеют звез-
довидные (6- и 18-угольные) и отдельно орнаментирован-
ные устья. Такой художественно-архитектонический при-
ем применялся в гончарном деле Хэмуду и при изготовле-
нии блюд-лакь, которые также демонстрируют заметно
большее разнообразие форм, чем яншаоские блюда.
В наиболее отчетливом виде тенденция к усложнению
архитектонической композиции изделий проявляется на
материале кубков-doi/, считающихся одним из наиболее яр-
ких творений всего юго-восточного гончарного дела. Обла-
дая определенным сходством с южными (дасискими) доу
(их архитектоническим инвариантом тоже выступает сосуд,
состоящий из чашеподобного тулова и ножки), юго-восточ-
ные кубки характеризуются еще большим, чем они, вне-
шним разнообразием. Нередки случаи, когда на территории
только одного поселения присутствуют более десятка типов
и подтипов кубкову различающихся по конфигурации и ту-
лова, и ножек. Так, в гончарном деле Сунцзэ исполнялись
кубки, имеющие то мелкое тулово с прямым или слегка
суженным устьем, то дугообразное тулово со скошенным
или широким устьем, то тулово с перегнутым в нескольких
точках профилем и т. д. Их ножки могут быть и высокими,
и приземистыми, и с плавно расходящимися книзу контур-
ными линиями, и изогнутого профиля. Архитектоническая
полифония доу усиливается в керамике Мацзябан и дости-
гает своего апогея в гончарном деле Лянчжу.
Расписная керамика
южных общностей
a — геометрический орнамент на-
чала Даси; б — геометрический
орнамент второй половины Даси;
в — вариант узора иэ сплетенных
лент; г — орнамент из стилизо-
ванных изображений древесных
ветвей и побегов трав; д — *ле-
пестковый узор».
Керамика Хэмуду
a — котел-фу; б — блюдо-лань.
59
Юго-восточные кубки-доу
a — Сунцзэ; б — Мацзябан; в —
начало Лянчжу; г — вторая по-
ловина Лянчжу.
Юго-восточные миски-пжъ
a — Сунцзэ; б — Лянчжу.
Юго-восточные
тарелки-ттъ. Лянчжу
Юго-восточные кувшины-ху
a — Мацзябан; б — начало Лян-
чжу; в — середина Лянчжу.
Стаканы-бэй с боковой
ручкой (шаньдунский
вариант Луншань)
Вариативность и усложненность форм сосудов прису-
ща и многим другим категориям юго-восточной керами-
ки. Так, миски-пэнъ (начиная с гончарного дела Хэмуду)
обычно снабжаются ножками-подставками и постепенно
(в Сунцзэ) приобретают «дог/-подобный» вид, являя собой
сосуды на ножке-подставке, с широким устьем и отогну-
тым венчиком. A в Лянчжу уже стандартно производи-
лись несколько вариантов мисок: «доу-видные», на невы-
сокой цилиндрической ножке-подставке и на двух нож-
ках-подставках. Они могли быть снабжены четырьмя
небольшими ручками-ушками, прикрепленными к краю
устья. Тарелки-жг/нь также постепенно приобрели «доу-
видную» форму и стали отличаться от собственно кубков
лишь в отдельных деталях и по размеру (диаметр чаши
до 22,6 см).
И даже такие относительно простые на первый взгляд
и устойчивые по формам категории сосудов, как кувшины-
ху и гошки-гуанъ, тоже постоянно приобретают новые ва-
рианты, отмеченные либо усложнением их силуэтных ли-
ний, либо введением вспомогательных деталей.
Сходная картина наблюдается и в гончарном деле вос-
точного региона. Уже керамика Давэнькоу отличается уди-
вительным богатством репертуара изделий и стремлением
к усложнению их форм. Почти все категории сосудов снаб-
жены дополнительными элементами — ручками, ножка-
ми. Кроме того, есть немало изделий своего рода экспери-
ментальных форм, которые обладают предельно сложной
конструкцией. Таковым выглядит, например, сосуд, опре-
деляемый как стакан-бэй: он имеет тулово изогнутого про-
филя, дополненное боковой кольцевой ручкой и крышкой
в форме как бы перевернутого кубка.
Самой популярной и одновременно показательной ка-
тегорией восточной керамики считаются стаканы-бэй, ко-
торые подразделяются на три совершенно различных кате-
гориальных типа. Первый — собственно стаканы — сосу-
ды с туловом цилиндрической формы или трапециевидного
профиля; они, как правило, снабжены боковой ручкой.
Такие бэй, тоже обнаруживающие, заметим, немалое внеш-
нее сходство с соответствующей категорией южной кера-
60
Юго-восточные
горшки-туанъ
a — Хэмуду; б — Мацзябан; в -
Сунцзэ.
мики, изготовлялись уже в Давэнькоу и впоследствии за-
няли прочное место в керамике Луншань.
Второй тип — «кубко-стпаканы» (кунбэй), которые вновь
представляют собой сосуды, состоящие из чашевидного ту-
лова и ножки. Они тоже изготавливались еще в Давэнькоу и
с самого начала отличались конструктивным разнообрази-
ем. Последующие гончарные производства как будто сорев-
новались друг с другом в создании все более причудливых
вариантов этих кубков. Они могут становиться то рюмко-
или бокаловидными сосудами с туловом вогнутого профиля,
расширенным горлышком и высокой ножкой, то кувшино-
подобными сосудами с низкой или высокой ножкой, плавно
переходящей в тулово, то сосудами с глубоким туловом по-
чти квадратной формы, которое покоится на высокой и мас-
сивной полой ножке. «Кубко-стаканы» тоже прочно вошли
в репертуар керамики Луншань, приобретя в ней, правда,
несколько упрощенную и стандартизованную форму.
Третий тип — «тпрехногие стпаканы» (саньцзубэй) —
утвердился уже в гончарном деле Цинляньган. Это — сосу-
ды с широким устьем и туловом вогнутого профиля, кото-
рый переходит в высокую и тонкую ножку, завершающую-
ся плоской подставкой с еще тремя маленькими ножками-
опорами.
Наряду со стпаканами в керамике восточного региона
активно исполнялись и вазоподобные кубки-doz/, которые в
равной степени перекликаются по внешнему виду как с
местными, так и с юго-восточными формами. Они по-пре-
жнему широко варьируются по размеру и по конфигура-
ции всех своих основных частей и, кроме того, могут быть
снабжены крышками. Впоследствии и эта категория столо-
вой утвари была воспринята керамикой Луншань, превра-
тившись в ней в массивный сосуд с крышкой, который, в
свою очередь, послужил прототипом для одноименной ка-
тегории бронзовых изделий.
Вазоподобные кубки, хотя и несколько отличающиеся в
деталях от южных, юго-восточных и восточных доу, устой-
чиво присутствуют и в керамике культуры Бэйиньянъин.
Следующей общей отличительной особенностью гончар-
ного дела юго-восточных и восточных культур является
«Кубко-стпаканы» (кунбэй)
a — Давэнькоу; б — рюмко- и
бокалоподобные; в — кувшинопо-
добные; г — с крышкой; д — с ту-
ловом, приближающимся к кубу;
е — шаньдунский вариант Лун-
шань.
Керамика Давэнькоу
a — стакан-бэй с перегнутым ту-
ловом и боковой ручкой; б — со-
суды уникальных форм.
«Трехногие стпаканы»
ei
Восточные бокалы-Roy
a — Давэнькоу-Цинляньган; б —
Бэйиньянъин; ѳ — шаньдунский
вариант Луншань.
Кувщины-ку&тя.
a — Давэнькоу; б — Цинляньган;
в — Лянчжу; г — шаньдунский
вариант Луншань.
Сосуды с носиками
a — чайники-хэ (Давэнькоу); б —
кувшины для литья воды (Лян-
чжу).
его постоянная направленность на усложнение конструкции
сосудов и изобретение новых категорий изделий. Важней-
шими новациями считаются кувшины-тп/ай и чайники-яэ.
Куай — сосуды с шарообразным, элипсовидным или
широким овальным туловом, снабженным боковой ручкой-
дужкой, переходящим внизу в три полые, обычно соско-
видной формы, ножки, a сверху завершающимся трубкооб-
разным или раструбовидным сливом. На юго-востоке эта
категория появляется в верхних слоях культуры Хэмуду
(т. е. в начале IV тыс. до н. э.). На востоке она присутству-
ет уже в керамике Давэнькоу, вновь реализуясь в несколь-
ких вариантах: с шарообразным туловом на плоских мас-
сивных ножках и вертикальным трубкообразным сливом;
с эллипсовидным, вытянутым в продольном направлении
туловом, высоким раструбовидным сливом и сплошными
уплощенными ножками; с сосковидными полыми ножка-
ми и вертикально ориентированным горлышком, которое
завершается сливом, внешне напоминающим очертания
птичьего клюва. В дальнейшем кувшины-куай неизменно
изготавливались во всех восточных и юго-восточных куль-
турах и утвердились в керамике Луншань.
Чайники-хэ — сосуды, которые могут иметь тулово раз-
личных конфигураций, но обязательно должны быть снаб-
жены носиком-сливом. Эта категория раньше всего появи-
лась в керамике Давэнькоу и снова — в нескольких вариан-
тах: с овальным плоскодонным туловом и с овальным туловом
на трех ножках, завершающимся высоким раструбовидным
устьем. Кроме собственно хэ, в гончарном деле обоих разби-
раемых регионов исполнялся еще ряд близких к ним по
конструкции категорий изделий. Таковыми являются, во-
первых, «кувшины для литпъя воды» (бэйшуйху), представ-
ляющие собой своеобразную модификацию кувшинов-дсг/
путем снабжения их носиком или сливом. Во-вторых, руко-
мойники-ы, которые были изобретены уже в Лянчжу и со
временем заняли важное место в репертуаре бронзовых из-
делий. И, в-третьих, сосуды для приправ-слн (в керамике
Сунцзэ) — чрезвычайно замысловатые ио конструкции из-
делия, имеющие не только носик, но и ручку и ножки.
Изобретение новых категорий и форм продолжалось и
в гончарном деле Луншань. К числу наиболее примеча-
тельных новаций относятся кувшины-лэй — сосуды горш-
ковидной формы, снабженные четырьмя боковыми плос-
кими ручками-ушками, и короба-л:э — чашевидные (но
больших размеров, чем столовая утварь) сосуды с крыш-
кой, которые предназначались для хранения продоволь-
ственных припасов. Одновременно в луншаньской керами-
ке стало стандартным снабжать ручками и крышками и
такие категории столовой утвари, как чаши-юй и миски-
пэнъ. Все перечисленные категории и конструктивные ва-
рианты луншаньской керамики послужили прототипами
форм бронзовых сосудов.
Еще одной важнейшей типологической особенностью
юго-восточной и восточной керамики считается исключи-
тельная популярность котлов-треножников-дин. Некоторые
62
специалисты даже предлагают определять эти культуры
как «ареал распространения дин». По своим конструктив-
ным параметрам местные котлы мало чем отличаются от
одноименной категории яншаоской кухонной посуды. Они
тоже представляют собой сосуды, состоящие из тулова раз-
личной конфигурации и трех ножек. Дин постоянно ис-
полнялись в древнейших очаговых культурах (как Хэму-
ду, так и Давэнькоу) и затем производились повсеместно и
массово во всех местных гончарных центрах. Причем и в
данном случае поразительно разнообразие их архитектони-
ческих и конструктивных вариантов, a также богатство их
художественного оформления. Украшалось не только ту-
лово, но и вспомогательные детали.
Кроме dun, в юго-восточном и восточном гончарном
деле изготовлялись еще 2 категории котлов — треножни-
ки-лн и янъ. Первые из них почти точные конструктивные
аналоги одноименной категории яншаоской кухонной ут-
вари, которая, напомним, представляет собой крупногаба-
ритные сосуды с тремя полыми ножками, составляющими
единое целое с туловом. Котлы-янь были, видимо, изобре-
тением местного гончарного дела и имеют более сложное,
чем две другие категории котлову устройство. Они состоят
из двух отделений: верхнего, предназначенного для варки
на пару, и нижнего — для варки на огне, которое также
переходит в три полые ножки. Общей отличительной осо-
бенностью юго-восточных и восточных ли и янъ служит
наличие y них ножек особой сосковидной формы.
Все три категории кухонной утвари тоже продолжили
свое существование в гончарном деле Луншань и были
впоследствии переведены в бронзу.
Архитектоническая изощренность керамики юго-вос-
точных и восточных культур усиливается богатством их
художественного оформления, в котором первоочередную
роль играли различные виды рельефного орнамента. Цве-
товой гамме изделий в местном гончарном деле, похоже,
не придавалось особого значения. Во всяком случае, в
нем использовалась более скудная палитра ангобов, чем
в южной керамике. В Давэнькоу, Цинляньгань, Мацзя-
бан (в Хэмуду ангобирование еще не практиковалось) и в
Сунцзэ преимущественно изготавливалась керамика с ан-
гобом красного и очень редко — черного цвета. В шаньдун-
ском варианте Луншань и в Лянчжу господствующее поло-
жение, напротив, заняла керамика с черным ангобом. A bot
в керамике культуры Бэйиньянъин встречаются сосуды с
ангобом и других цветов — белого и ярко-желтого, что
служит еще одним косвенным доказательством возможно-
сти ее связей с южными культурами.
Сосуды
с носиками
a — рукомойник-г/ (Лянчжу); б —
чайникоподобные сосуды керами-
ки Бэйиньянъин.
Новации луншанъскои
керамики
a — сосуд-лэй; б — сосуд-яэ; в —
луншаньская форма чаши-юи; г —
луншаньская форма миски-пэнь.
Треножники-дия
a — Давэнькоу; б — последую-
щие восточные культуры; в —
Мацзябан; г — Сунцзэ; д — Бэй-
иньянъин.
63
Котлы
a — котел-ли; б — котел-лнь.
Луншаньская
кухонная посуда
a — треножники-duw; б — котел-
ли\ в — котел-якь.
Орнаментация
юговосточной и восточной
монохромной керамики
a — вариант резной композиции
на керамике Хэмуду; б — образ-
цы резного орнамента керамики
Лянчжу; в — прорезной орна-
мент: / — Восточная керамика,
2 — Юго-восточная керамика
В юго-восточном и восточном гончарном деле приме-
нялся в целом такой же, как и в Яншао, набор орнамен-
тальных способов, но все они приобрели здесь несколько
иной характер. Наиболее широко по-прежнему использо-
вался штампованный и вдавленный орнамент. Для первого
из них особое распространение получили текстильно-шну-
ровые оттиски, которые оставались излюбленным оформи-
тельским приемом гончарных традиций обоих регионов
вплоть до Лянчжу и Луншань, когда на первый план вы-
шел штампованный геометрический орнамент. Вдавленный
орнамент включал в себя и уже знакомый нам «ногтевой
узор», и узоры, образованные выдавленными в глине оваль-
ными углублениями.
И все же высшей эстетической выразительности мест-
ные мастера добивались за счет применения резного и
выпуклого орнаментов. Посредством резного способа ис-
полнялись не только прямые линии, но и элементы са-
мых разных конфигураций — точки, острые углы, «сетка».
В керамике Лянчжу мы видим уже сосуды, украшенные
целыми композициями, состоящими из нескольких гео-
метрических фигур, линий и косых лент. Отдельного упо-
минания заслуживают фрагменты керамических изделий
Хэмуду, на внешней поверхности которых тонкими рез-
ными линиями — фактически в технике гравировки —
выполнены какие-то изображения, отдаленно напомина-
ющие сноп или пучок расходящихся в разные стороны
листьев или перьев. Однако такой оформительский способ
нигде более в юго-восточных или восточных культурах не
употреблялся.
Кроме резного, местными мастерами чрезвычайно ши-
роко применялся и прорезной орнамент, т. е. сквозные от-
верстия. Этот оформительский способ возник, возможно, в
гончарном деле Хэмуду и постепенно распространился на
восток. 06 этом свидетельствуют хронологические харак-
теристики соответствующих изделий. В северной части
провинции Цзянсу сосуды с прорезным орнаментом появ-
ляются приблизительно в середине IV тыс. до н. э., в Шань-
дун — в первой трети III тыс. Активнее всего этот способ
применялся для украшения ножек кубков и стаканов.
Исполнялись отверстия любых конфигураций — круги,
овалы, ромбы, криволинейные треугольники, восьмиуголь-
ные звезды, которые либо располагались по линии, либо
образовывали узоры, распространявшиеся на всю поверх-
ность ножки.
Выпуклые налепы включают в себя как полосы и про-
стейшие геометрические фигуры, знакомые нам по керами-
ке Яншао, так и выступы более сложной конфигурации — в
форме полукольца, короткого «гребня», клювоподобные и
сосковидные «бугорки», которые тоже располагаются, как
правило, группами, образуя особый тип узоров. A налепы-
полосы обогатились гребневидными лентами и лентами,
имитирующими веревочное плетение, которые нередко за-
вершают собой пластины-«юбочки». В виде плетения мог-
ли оформляться и боковые ручки изделий. В гончарном
64
деле верхних слоев юго-восточных (особенно в Лянчжу) и
восточных культур в технике налепного орнамента неред-
ко исполнялись целые орнаментальные композиции.
Специфическим местным орнаментальным способом
является «бамбуковый орнаментъ (или — орнамент «ко-
ленца бамбука»), состоящий из выпуклых граней. Он тоже
зародился, скорее всего, в керамике Хэмуду и в скором
времени занял одно из ведущих мест в оформительском
искусстве обоих регионов.
Перечисленные орнаментальные способы — еще одна
характерная примета юго-восточной и восточной керами-
ки — нередко сочетались в одном изделии, согласуясь при
этом с архитектонической композицией. Показательно, что
наиболыпая насыщенностъ декора была присуща именно
сосудам с максимально усложненными формами — тем же
кубкам-doz/, «кубко-стаканам» и «трехногим кубкам», де-
кор которых обычно включает в себя и «струнный узор», и
«коленца бамбука», и прорезной орнамент, состоящий из
отверстий различных конфигураций.
Расписная керамика юго-восточных и восточных куль-
тур при всей ее малочисленности неоспоримо свидетель-
ствует о своеобразии местного гончарного дела и оформи-
тельского искусства. Как и в южной расписной керамике,
здесь тоже прослеживаются несколько диахронных и регио-
нальных стилистических направлений.
На юго-востоке расписная керамика активнее всего
изготавливалась, как уже отмечалось, в гончарном деле
Хэмуду. Ее цветовая гамма крайне лаконична: использо-
вались краски только кофейного и коричневато-черного
цветов. Однако тематика росписей весьма разнообразна.
Исполнялся не только геометрический орнамент, состоя-
щий, правда, из простейших сочетаний треугольников,
широких наклонных штрихов, тонких и средних (по ши-
рине) горизонтальных и волнистых линий, но и компози-
ции с растительными и даже зооморфно-фантазийными
элементами. За такие композиции принимаются росписи,
состоящие из весьма стилизованных изображений птиц,
черепах и еще каких-то существ, напоминающих водя-
ных пауков. В некоторых образцах эти изображения до-
полняют собой центральную личиноподобную фигуру, об-
разованную двумя кругами-глазами и контурной линией.
В результате получается комбинация, передающая верх-
нюю часть головы, которая увенчана предметом, напоми-
нающим очертания плавника крупной рыбы.
К III тыс. до н. э. расписная керамика на юго-востоке
почти полностью исчезла, хотя ее единичные образцы
встречаются вплоть до середины Лянчжу. Они украшены
исключительно простейшим геометрическим орнамен-
том — набор полос, прямых и зигзагообразных линий.
Таковы, например, изделия Сунцзэ (кубки-doz/ и кувши-
ны-гуанъ), роспись которых сводится к лентам и полосам,
выполненным красно-коричневой краской по черному ан-
гобу. Несколько образцов иной по колористике и харак-
теру орнамента расписной керамики были обнаружены
Орнаментация
юго-восточнои и восточнои
монохромной керамики
a — орнамент из налепных «бу-
горков»; б — налепная полоса;
в — струнный орнамент: 1 — Во-
сточная керамика, 2 — Юго-вос-
точная керамика; г — «бамбуко-
вый орнамент»; д — сосуд с на-
лепной композицией.
Юговосточная расписная
керамика. Хэмуду
a — геометрический орнамент;
б — раетительный орнамент; в —
образец композиции зооморфно-
го характера; г — образец ком-
позиции зооморфно-фантазийно-
го характера.
Ô История искусства Китая
65
Юго-восточная
расписная керамика
a — Сунцзэ; б — Лянчжу.
тъш
Восточная расписная
керамика
a — Давэнькоу; б — Цинляньган;
в — композиции зооморфно-фан-
тазийного характера: 1 — Да-
вэнькоу, 2 — Цинляньган.
в поселениях, относящихся к Лянчжу. Они украшены ор-
наментом из переплетающихся полос, дополненных ши-
рокими или тонкими кольцами, выполненным красками
коричневато-красного и золотисто-желтого цветов. Этот
вариант росписей демонстрирует столь заметное сходство
с росписями на керамике Даси, что напрашивается воп-
рос о его заимствовании из южного орнаментально-графи-
ческого искусства.
В восточном регионе расписная керамика изготовлялась
преимущественно в гончарном деле Давэнькоу и Цинлянь-
ган, отличаясь при этом насыщенностью цветовой гаммы и
тематическим разнообразием росписей. В целом использо-
вались краски пяти цветов и оттенков: белая, черная, ярко-
красная, красно-коричневая и светло-желтая. Преобладает
геометрический орнамент, но в различных его вариантах.
Для керамики Давэнькоу характерны композиции, состав-
ленные из зигзагообразных полос и мелкой «сетки», тре-
угольников, ромбов, волнистых линий или S-образных спи-
ралей. Орнамент может быть нанесен либо на верхнюю часть
тулова, либо на всю его поверхность. Для расписной кера-
мики Цинляньган типичен орнамент, образованный сочета-
ниями точек, дуг, полос, треугольников, квадратов, шевро-
нов из S-образных спиралей и фигур в виде восьмиконечных
звезд. Кроме геометрического орнамента, есть и росписи с
растительными и зооморфно-фантазийными мотивами, вы-
полненные в специфической условно-декоративной манере.
Это — композиции, состоящие из криволинейных треуголь-
ников, точек, отрезков тонких прямых и кривых линий, в
которых усматривают либо стилизованные изображения
цветов и насекомых (узор «крылья бабочек»), либо фигуры
увенчанных рогами фантастических существ, образующие
подобие сюжетных сцен.
В рамках шаньдунского варианта Луншань восточная
керамика, подобно керамике южных культур Цюйцзялин
и Шицзяхэ, вступила в стадию стандартизации. Сосуды,
несмотря на упомянутые ранее конструктивные и архитек-
тонические новации, стали приобретать все более унифи-
цированные и строгие формы. Их силуэтные линии в це-
лом упростились. Декор стал сводиться к штампованному
геометрическому орнаменту. Именно в таком виде лун-
шаньская керамика начала распространяться в другие ре-
гионы неолитического Китая. Однако в каждом из них ее
приход провоцировал возникновение новых вариантов форм
изделий, в которых сочетались ее собственные и локаль-
ные черты.
Итак, керамика юго-восточных и восточных культур
демонстрирует столь значительное число совпадений, что
ее правомерно рассматривать в качестве единой гончарно-
художественной традиции. Хотя чем обусловлена такая
общность гончарного дела обоих регионов — исходным ли
родством местных культур или же их последующим взаи-
модействием — остается неясным. Одновременно налицо,
с одной стороны, сходство юго-восточной и восточной кера-
мики с южной, a с другой — ее принципиальные отличия
66
от керамики Яншао. Суммируя сказанное ранее, приходим
к выводу, что предметно-творческая деятельность обитате-
лей региона Хуанхэ, во-первых, характеризуется художе-
ственным консерватизмом, непосредственным результатом
которого как раз и является тенденция к стандартизации и
типизации изделий. Во-вторых, преобладание расписной
керамики над монохромной и общая лаконичность архи-
тектонической композиции изделий указывают на то, что
носители яншаоских культур стремились выражать свое
мировосприятие в графических образах. Предметно-твор-
ческой деятельности обитателей южного, юго-восточного и
восточного регионов была свойственна, напротив, художе-
ственная инновационность, которая выражается в посто-
янном стремлении местных мастеров к изобретению новых
категорий, конструктивных вариантов и форм и к созда-
нию уникальных по композиции и художественному офор-
млению изделий. Кроме того, тенденция к усложнению
архитектоники сосудов совместно с приоритетным исполь-
зованием рельефных видов орнамента свидетельствует о
наличии y носителей данных культур развитого простран-
ственного воображения.
Керамика северо-восточного региона по всем показа-
телям решительно отличается как от яншаоской, так и от
керамики трех остальных регионов. Во всех местных куль-
турах господствующее положение занимали сосуды, вы-
полненные из грубого, с высоким содержанием песка ке-
рамического теста, которое дает толстостенный и пори-
стый черепок серого цвета. Постепенно качество изделий,
правда, несколько улучшилось: с конца Синлунва тесто
становится все более очищенным, температура обжига по-
вышается (до 600-950°С в Хуншань). Наряду с серой ке-
рамикой изготавливались также изделия с красноватым
черепком, из лучших по природному составу глин. Но
они встречаются редко (за исключением собственно Хун-
шань) и только среди погребального инвентаря. Вплоть до
конца Чжаобаогоу основная масса сосудов лепилась вруч-
ную. Когда на северо-востоке появился поворотный круг
и насколько широко он использовался — неизвестно. Не-
ясным до конца остается и вопрос о существовании там
гончарного круга. Сказанное позволяет утверждать, что
северо-восточное гончарное дело оставалось в целом на
значительно более примитивном технологическом уровне,
чем в других регионах.
Следующая особенность северо-восточной керамики —
ограниченность репертуара категорий и форм изделий. Из
столовой посуды в ней устойчиво присутствуют только ста-
каяы-бэй и чашки-бо, причем представленные сосудами
исключительно малых размеров. Высота стаканов не пре-
вышает 7 см, диаметр устья и основания — соответственно
6 и 4 см. Высота чашек не превышает 10 см, диаметр устья
и основания — соответственно в пределах 12 и 6 см. Хо-
зяйственная утварь в основном состоит из горшков-гі/ань,
подразделяющихся на «малые» (высота до 12 см) и «боль-
шие» (до 35-40 см).
Заключительная стадия
развития восточной
керамики
a — шаньдунский вариант Лун-
шань; б — хэнаньский вариант
Луншань.
Северо-восточная керамика.
Горшки-гугікъ
«бамбуковоподобной» формы
a — комплекс Хоутайцзы; б —
Синлунва; в — Чахай.
67
Северо-восточная керамика.
Горшки-гу&яъ
«бамбуковоподобной»
формы
a — Чжаобаогоу; б — Хуншань.
ЧашкиЬо
a — Чжаобаогоу; б — Хуншань.
Чашки-бо на круглой ножке
a — район гор Яньшань (5480-
4800 гг. до н. э.); б — Чжаобаогоу.
Образцы изделий,
совпадающих no формам
с керамикой других регионоѳ
a — котел-ли (Хоутайцзы); б —
горшки-гуань (конец Хуншань).
Ведущей формой выступают сосуды, имеющие плоское
основание и сильно вытянутое по вертикали тулово, кото-
рое приближается к цилиндру или трапециевидной фигуре
и может быть дополнено раструбовидным устьем. Эта фор-
ма, определяемая в китайской научной терминологии как
«подобная бамбуковому коленцу» (тунсин), является фак-
тически единственной для категории горшков. Она широко
реализовывалась и в категории стаканов, принимая в них
чуть более разнообразные, чем для гуанъ, воплощения, на-
пример — чашевидные бэй. Популярность и устойчивость
данной формы поистине уникальна. Зародившись еще в
нижних слоях Синлунва (древнейшие образцы такого типа
сосудов принадлежат комплексу Хоутайцзы), она без
сколько-нибудь значительных изменений воспроизводилась
во всех северо-восточных региональных гончарных цент-
рах и сохранилась вплоть до конца Хуншань.
Чашки-tfo тоже отличаются стандартностью форм. В ос-
новном это сосуды с прямым или слегка выпуклым основа-
нием, овальным или полусферическим туловом и широким
устьем. Единственным отступлением от этой формы явля-
ются чашки на невысокой трапециевидного профиля и круг-
лой в разрезе ножкой, которые наиболее часто присутству-
ют среди погребального инвентаря культуры Чжаобаогоу.
He исключено, что такие чашки были изобретением ло-
кального гончарного производства, располагавшегося в рай-
оне гор Яныпань, и остались в его пределах.
Лишь в керамике из комплекса Хоутайцзы присутству-
ют несколько предметов столовой утвари, сопоставимых по
формам с яншаоскими пиалами-всшь и бокалами-doz/ —
это горшки, имеющие крынковидную форму или тулово
изогнутого профиля, a также треножники-лі/ и котлы-я«ь.
Можно заметить внешнее и конструктивное сходство обеих
этих категорий кухонной утвари как с яншаоскими кот-
лами, так и (за счет наличия y них сосковидных ножек) с
восточными ли и янъ.
Для верхних слоев Хуншань и сменившей ее неолити-
ческой культуры Сяохэчжао тоже обнаружено несколько
типов кувшинов-гг/ань и ху, миски-пэнъ на ножках, трех-
ногие бок&лы-доу. Единичность такого рода сосудов и
эпизодичность их исполнения дают повод подозревать,
что они были копиями изделий, доставленных на северо-
восток извне, но так и не получивших широкого призна-
ния y местных мастеров, предпочитавших работать по
хорошо знакомым и, главное, веками проверенным об-
разцам.
Оформительское искусство северо-восточных культур
тоже отличается консерватизмом и ограниченностью набо-
ра орнаментальных способов. Во всех северо-восточных
культурах господствуют монохромные изделия, декор ко-
торых выполнен по одной и той же орнаментальной схеме,
что особенно заметно для сосудов «бамбуковых» форм. Вся
их поверхность украшена мелким геометрическим орна-
ментом — штампованным, ногтевым, вдавленным (вдав-
ленные «точки»), либо же состоящим из рельефных эле-
68
ментов — прямых или Z-образных линий, штрихов, кото-
рые нередко образуют подобие «струнного» узора (т. е. идут
параллельными рядами, опоясывающими тулово сосуда).
В некоторых орнаментальных схемах, тоже, видимо, при-
сущих локальным гончарным центрам (например, керами-
ка культуры Чахай), присутствуют бордюры, идущие вдоль
устья, и фризовые полосы, также заполненные геометри-
ческими узорами, состоящими из волнистых, зигзагооб-
разных, коротких изогнутых линий и меандровидных фи-
гур. На общем фоне северо-восточной керамики несколько
выделяются изделия культуры Чжаобаогоу, украшенные
геометрическим орнаментом с преобладанием Z-образных
линий, к тому же выполненных в технике налепов. Этой
же культуре принадлежит еще один уникальный по свое-
му художественному решению сосуд — крынкоподобной
формы (высота 23 см) и украшенный рельефной компози-
цией на зооморфно-фантазийную тему. Она состоит из изоб-
ражений оленя, вепря и птиц («четырех духов», по опреде-
лению исследователей), головы и тела которых переплета-
ются, образовывая причудливые комбинации. Наличие
общего художественного замысла, гармоничность построе-
ния сцены, точность и экспрессивность изображений жи-
вых существ делают эту композицию подлинным шедев-
ром всего китайского неолитического орнаментально-пла-
стического искусства. И вновь остается лишь гадать,
является ли этот сосуд свидетельством существования в
северо-восточных культурах значительно более развитой
гончарно-художественной традиции, чем известные нам до
сих nop, либо это — уникальное произведение гениального
мастера-творца.
Северо-восточная расписная керамика сегодня извест-
на в столь малочисленных образцах, что об истории разви-
тия и подлинном масштабе местного орнаментально-графи-
ческого искусства мы теперь можем только строить догад-
ки. Древнейшими артефактами пока что остаются несколько
фрагментов сосудов (непонятно, каких категорий), при-
надлежащих культуре Нюхэлян. Примечательно, что они
были обнаружены не в погребениях, a вблизи от остатков
строений, считающихся святилищами. Правомерно пред-
положить, что они являлись сугубо храмовой утварью, что
в свою очередь означает наличие в северо-восточных куль-
турах особой художественной традиции, обслуживавшей
храмовую обрядность. Судя по их фрагментам, эти сосуды
были расписаны геометрическим орнаментом, состоявшим
из простейших элементов.
Значительно более внятно расписная керамика проявля-
ет себя в середине Хуншань, но только в памятниках, сосре-
доточенных в районе Чифэн-Аоханьци, где, возможно, и
находился главный (или даже единственный на северо-вос-
токе) центр ее производства. Хуншаньская расписная кера-
мика отличается своеобразной цветовой гаммой — роспися-
ми, выполненными красной краской по черному ангобу и
наоборот, a также оригинальностью орнаментальных компо-
зиций. По-прежнему чаще всего встречается геометрический
Орнаментация
северо-восточной
монохромной керамики
a — вдавленный орнамент; б —
рельефный орнамент (Чахай); в —
рельефный орнамент типа «узо-
ра грома» (Чжаобаогоу); г —
чжаобаогоуский сосуд с рельеф-
ной композицией.
Северо-восточная
расписная керамика.
Фрагменты сосудов из
комплекса Нюхэлян
69
Северо-восточная
расписная керамика
a — хуншаньская керамика с рас-
тительными мотивами; б — хун-
шаньская керамика с геометри-
ческими мотивами и подобием
сюжетных композиций; в — кера-
мика Сяохэчжао с геометрическим
орнаментом; г — керамика Сяохэч-
жао с зооморфными мотивами.
орнамент, но в вариантах, отличных от росписеи, прису-
щих всем другим региональным оформительским тради-
циям. Так, например, выглядит расписная чашка-бо: верх-
няя часть ее тулова украшена фризовой полосой, запол-
ненной повторяющимися вертикально ориентированными
зигзагообразными лентами. Еще на нескольких изделиях
выполнен своего рода растительно-геометрический орна-
мент, составленный из круговых линий и тонких дуг,
соединенных друг с другом в повторяющиеся спиралевид-
ные фигуры, сочетания которых производят впечатление
стилизованных изображений цветков или побегов расте-
ний. Новый вариант росписей дает нам тоже на первый
взгляд геометрический орнамент, но состоящий в дей-
ствительности из стилизованных изображений фигур рыб,
которые совместно с некими другими дополнительными
орнаментальными элементами образуют своеобразные жи-
вописные композиции, больше всего, пожалуй, похожие
на этюды художника-абстракциониста.
Совершенно иной по содержанию и стилистике тип
росписей появляется на керамике Сяохэчжао, которая,
казалось бы, должна была прямо наследовать гончарно-
му делу Хуншань. «Абстракционизм» хуншаньских рос-
писей бесследно исчез, сменившись четким и внятным
рисунком, выполненным тонкими линиями. Сосуды мо-
гут быть расписаны только фризовыми лентами, запол-
ненными узорами, состоящими из простейших элемен-
тов, либо геометрическими композициями, распростра-
няющимися на всю поверхность тулова и включающими
в себя меандровидные, звездовидные и иные сложносо-
ставные фигуры. Есть также зооморфные изображения,
введенные в геометрический орнаментальный контекст и
выполненные в настолько условной манере, что трудно
даже сказать, какое именно животное послужило для
них натурой.
Очевидность стилистического и тематического разнооб-
разия дошедших до нас образцов северо-восточной распис-
ной керамики в очередной раз заставляет задуматься над
вопросом о подлинном состоянии местной гончарно-худо-
жественной традиции и о возможности влияния на нее
извне, причем со стороны не только культур яншаоского
круга, но и других неолитических общностей.
Итак, изучение всех аспектов неолитического гончар-
ного дела не оставляет сомнений в том, что каждая из
выделяемых для неолитического Китая культурных зон
действительно обладала собственной гончарно-художествен-
ной традицией. Эти традиции имели, судя по всему, само-
стоятельное происхождение и прошли в целом самобыт-
ный путь развития. A их своеобразие было обусловлено
как спецификой местных природных материалов, так и
антропогенным фактором, отражая тем самым культурные
и ментальные особенности обитателей данных регионов.
После сосудов следующим отделом неолитической ке-
рамики, с точки зрения художественной значимости, без-
условно, важнейшим является отдел пластики.
70
Китайская неолитическая пластика включает в себя
изделия, выполненные не только из глины, но и из других
художественных материалов — камня, дерева, кости, не-
фрита. В данном разделе мы остановимся только на глиня-
ной и каменной пластике, которая составляет основной
фонд известных на сегодня артефактов и содержит в себе
наиболее яркие образцы неолитического изобразительного
искусства.
Неолитическая глиняная пластика имеет по меньшей
мере пять типов изображений: 1) рельефные зооморфные и
антропоморфные изображения, введенные в художествен-
ное оформление сосудов, т. е. фигуративные налепы; 2) трех-
мерные зооморфные и антропоморфные изображения, вве-
денные в архитектоническую композицию сосудов; 3) со-
суды, выполненные в виде скульптурных изображений;
4) собственно пластика; 5) крупногабаритные трехмерные
композиции.
Самым выразительным со всех точек зрения образцом
рельефных пластических изображений выступают уже зна-
комые нам фигуры мужчины и женщины на двух западно-
яншаоских сосудах. Напомним лишь, что они выполнены в
натуралистической манере и совмещают в себе рисунок и
лепку, что предвосхищает особенности будущей китайской
скульптуры. При всей уникальноети данных сосудов сама
по себе практика украшения изделий фигуративными нале-
пами была в яншаоском гончарном деле если и не широко
распространенным, то хорошо освоенным художественным
приемом. На сегодня известны несколько образцов сосудов
и их фрагментов с такой орнаментацией. Примечательно,
что все они относятся к центрально-яншаоской культуре
Мяодигоу и воспроизводят одно-единственное живое суще-
ство — ящерицу. Это — два черепка, найденных на терри-
тории комплекса Мяодигоу, и урна из комплекса Хуншань-
мяо. Во всех трех случаях фигурки ящерицы выполнены в
горельефной технике и отличаются реалистичностью и жи-
востью. На одном из черепков спинка ящерицы покрыта
резным и закрашенным сверху черной краской «елочным»
узором, на другом — круглым вдавленным орнаментом.
Оба приема позволяют создать эффект чешуйчатого тела,
который еще более усиливается показом ящерицы в движе-
нии. К сожалению, по сохранившимся фрагментам сосудов
невозможно ни установить их категорию, ни реконструиро-
вать их общую декоративную композицию. О том, что она
могла собой представлять, видно на примере урны: фигурка
ящерицы, выполненная в той же самой художественной
манере, показана как бы взбирающейся по стенке сосуда.
Очевидно также стилистическое сходство этих изображений
с зооморфными росписями на баньпоской керамике, что
свидетельствует о существовании в центрально-яншаоских
культурах общей орнаментально-художественной традиции,
которая владела и графикой, и пластикой.
Введение трехмерных изображений в архитектониче-
скую композицию изделий и изготовление сосудов в виде
скульптурных фигур практиковалось, хотя и с разной
ДРУГИЕ ВИДЫ
ПРЕДМЕТНО-
ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЛАСТИКА
Горельефные изображения
ящерицы
a — керамика Мяодигоу; б —
урна из комплекса Хуншаньмяо.
71
Центрально-яншаоские
крышки-тзм. в виде
скулъптпурных изображений
животпных
Баньшаньские
крышки-та.й
Крышкатаи
в виде скульптпурного
изображения
антропоморфно-
фантастического
существа со змеей
степенью активности, как в Яншао, так и в других культу-
рах, прежде всего восточных и юго-восточных.
В яншаоском орнаментальном искусстве этот прием чаще
всего использовался для художественного оформления кры-
шек-гай, которые могли делаться в виде фигурок животных
и птиц, пусть даже в крайне примитивном их исполнении.
Наиболыний же интерес в данном случае со всех точек зре-
ния представляет серия крышеку входящих в комплект по-
гребальных сосудов комплекса Баньшань. Все они являют
собой изображения голов антропоморфных существ, кото-
рые имеют сходное пластическое решение и графическое
оформление: голова на удлиненной шее, посаженной на
широкое звездообразное основание. Лицо, шея и основание
фигурок покрыты сложной росписью, отдаленно передаю-
щей черты человеческого лица или полузооморфно-полуан-
тропоморфной личины. На макушке голов видны два не-
больших конических выступа либо круглых выпуклых на-
лепа, которые в научной литературе ассоциируются с рогами.
На одной из крышек «рога» дополнены изображением змеи.
Ее головка с широко раскрытой пастью высовывается как
раз между ними, a длинное извивающееся тело проходит по
затылку фигурки. Кроме того, эта крышка выделяется и по
сложности ее росписи. Лицо фигурки — овальное, плоское
и слегка вогнутое, что делает его похожим на чашу или
тарелку, — обведено контурной линией. От глаз вверх и
вниз отходят параллельные четные полосы. Такие же поло-
сы радиально расходятся ото рта. Основание фигурки имеет
19 зубцов и разделено черными полосами на секторы, три-
надцать из которых расписаны волнистыми линиями, a
остальные шесть — ромбами (по два в каждом секторе).
Большинство исследователей склонны считать банынань-
ские крышки полноценными скульптурными изображени-
ями, носящими сугубо культовый характер. В частности,
существует точка зрения, что они составляли часть кера-
мического комплекса, художественно и функционально ана-
логичного древнеегипетским канонам. Что касается воз-
можной семантики самих фигурок, то, как и в случае с
баныіоскими «личинами», в них усматривают изображение
либо божества, либо усопшего предка, либо священнослу-
жителя (шамана) с ритуальной маской на лице. He менее
важно и определенное морфологическое сходство фигурок с
«личинами». Несмотря на все присутствующие в них фанта-
зийно-зооморфные вкрапления, они выдержаны в целом в
той же самой стилистической манере, тяготеющей к худо-
жественному натурализму. He исключено, что именно бань-
шаньские крышки послужили прообразом одного из вари-
антов луншаньских гай, которые входят в комплект некото-
рых сосудов, найденных на территории провинции Хэнань.
Перед нами еще одно важное свидетельство, с одной сторо-
ны, устойчивости региональных художественных традиций
внутри Яншао, a с другой — влияния луншаньского гон-
чарного дела на местное творчество.
Среди западно-яншаоских артефактов присутствуют
также несколько сосудов, целиком выполненных в виде
72
скульптурных изображений. Отдельного упоминания за-
служивают мачанский сосуд, в контурах и росписи которо-
го угадывается фигура птицы, похожей на сову, и мацзяяо-
ский ковш-шао. Шао — очень редкая для неолитической
керамики категория, представляющая собой изделие, по-
хожее по форме на овальную чашку-бо, которая снабжена
длинной ручкой, и, возможно, относится исключительно к
погребальной утвари. Тем более интересным представляет-
ся художественное решение этого ковша. Он выглядит в
профиль как плавающая в воде птица. Если смотреть на
него спереди, то голова птицы оказывается подобием ант-
ропоморфной личины. To есть данное изделие обладает ме-
таморфическим свойством, которое в дальнейшем тоже ста-
нет одной из важнейших типологических особенностей всего
китайского искусства. Самым же примечательным для раз-
бираемой художественной серии артефактом справедливо
считать бутылевидный сосуд, обнаруженный в верхних сло-
ях западно-яншаоской культуры Дадивань. Его горлышко
изображает голову человека, с детальной проработкой всех
лицевых черт, a также прически (волосы, как будто под-
стриженные «в кружок»), Тулово же сосуда по своим конту-
рам напоминает очертания человеческой фигуры, a его рос-
пись — красной краской по серовато-коричневому фону —
создает впечатление нарядного одеяния.
В гончарном деле юго-восточных и восточных культур
исполнение сосудов в виде скульптурных изображений стало
еще более популярным, чем в Яншао, художественным
приемом. В конфигурации многих сосудов, прежде всего
кувшинов-тсі/ай, нетрудно уловить фигуры различных жи-
вотных (собаки, буйвола, свиньи) и птиц. Наиболее же
устойчивый характер этот прием приобрел в гончарном
деле культуры Давэнькоу. На сегодня известны уже более
10 образцов сосудов-скулыітур, воспроизводящих фигурки
стоящей и лежащей свиньи, черепахи и птицы. Попутно
заметим, что популярность образа свиньи в художествен-
ном творчестве восточных культур была обусловлена мест-
ными верованиями, в которых, что подтверждается и дру-
гими археологическими материалами, это животное почи-
талось священным18. Все давэнькоуские сосуды-скулыітуры
тоже выполнены в реалистической манере и к тому же
отличаются живостью и выразительностью, являя их под-
линными произведениями изобразительного искусства.
Собственно пластика также проявляет себя в различ-
ных регионах неолитического Китая, но в каждом из них
она находит свое специфическое воплощение.
Наиболее совершенной и разнообразной традицией пла-
стического искусства обладали, как выясняется, культу-
ры хуншаньского круга. Древнейшие его образцы при-
надлежат ранним слоям комплекса Хоутайцзы, где обна-
ружено около 20 каменных статуэток, различающихся
как размером, так и типом изображений. Большинство из
них представляют собой скульптуры средней величины
(32,7 х 23,5, 34 х 17 см), воспроизводящие обнаженную
женскую фигуру в трех основных позах: в «позе эмбриона»
Мачанский сосуд
в виде стилизованного
изображения фигуры совы
Мацзяяоскии ковш
1 — вид спереди; 2 — вид сбоку.
Сосуд в виде
стилизованного
изображения человеческой
фигуры
1 — вид спереди; 2 — вид сбоку.
18 Так, для ранних давэнь-
коуских погребений типично
вложение в руки усопшего
зубов свиньи (или сайгака) и
размещение в его ногах чере-
пов свиней от 1 до 15 штук.
73
Давэнькоуский сосуд в виде
скульптуры свиньи
Юго-восточные и восточные
кувшины, воспроизводящие
очертания фигуры
животных
a — собаки; б — парнокопытно-
го животного.
(со сложенными на животе руками и сведенными под ним
ногами), в коленопреклоненной и в сидячей позе. В двух
последних случаях ноги фигурок показаны чуть разведен-
ными — так, что видны половые органы. Для статуэток
«в позе эмбриона», среди которых есть изображения и мень-
ших размеров (высота 9,5 см), отчетливо обозначены грудь
и выступающий округлый живот. Подобные морфологиче-
ские признаки были, как известно, характерной принад-
лежностью архаической (палеолитической и неолитической)
культовой скульптуры, связанной с аграрными верования-
ми и культом плодородия. Лица фигурок, как правило,
достаточно тщательно проработаны: показаны все лицевые
черты, передающие внешний облик представителей монго-
лоидной расы. Еще одна статуэтка (высота 7,5 см) пред-
ставляет некое животное или зооморфно-фантастическое
существо, главной отличительной особенностью которого
являются огромные круглые глаза.
В верхних слоях комплекса Хоутайцзы появляется но-
вый вариант каменной скульптуры — крохотные статуэт-
ки (высота до 6 см), воспроизводящие сидящего со скре-
щенными ногами человека (явно мужчину), словно обла-
ченного в складчатые одеяния.
Следующий этап истории развития северо-восточного
пластического искусства соотносится с культурой Нюхэ-
лян. Именно здесь (1983 г.) была сделана самая, пожалуй,
значительная для всего изобразительного искусства неоли-
тического Китая и во многих отношениях поистине сенса-
ционная находка — остатки святилища с настоящей хра-
мовой скульптурой. Само святилище представляло собой
относительно небольшую по размерам постройку (11,8 х
х 9,5 м), разделенную внутри на три помещения рядами ко-
лонн. Скульптуры, судя по сохранившимся фрагментам (бо-
лее 20), были выполнены из глины в полный человеческий
рост. Они, видимо, изображали сидящие со скрещенными
ногами обнаженные фигуры, прислоненные спинами к сте-
не помещения. Некоторые фигуры имели удлиненные — в
два раза болыне натуральной величины — уши. 0 художе-
ственном уровне этих скульптур мы можем судить по одной
чудом уцелевшей голове (высота 23 см). Перед нами — тща-
тельно вылепленное женское лицо с выражением суровой
величественности. Своеобразие ему придают зрачки глаз,
выложенные нефритами.
Кроме храмовой скульптуры, для Нюхэлян тоже обна-
ружены фрагменты глиняных скульптурок неболыыих раз-
меров, воспроизводящих обнаженную женскую фигуру: торс
(высота 18 см) стоящей женщины, нижняя часть (12,5 см)
сидящей женщины. Еще в одном памятнике, считающем-
ся регионально-хронологическим вариантом Нюхэлян, и
тоже вблизи от остатков святилища, были найдены миниа-
тюрные изображения (5-5,8 см) беременной (с большим
выступающим животом) стоящей женщины.
Традиция пластического искусства продолжила свое
существование и в собственно Хуншань, но его стилисти-
ка, равно как и репертуар изображений, в очередной раз
74
претерпели качественные изменения. Теперь мы видим ста-
туэтки (высота до 19,4 см) мужской фигуры в коленопре-
клоненной позе и с руками, сведенными на уровне живота.
Лица персонажей практически не проработаны, зато их
головы венчают причудливые по форме конструкции, пе-
редающие то ли специфический головной убор, то ли не
менее специфическую и замысловатую прическу.
В Яншао древнейшими произведениями пластическо-
го искусства оказываются керамические маски, назначе-
ние которых остается неясным. Самым ранним образцом
на сегодня считается маска из комплекса Бэйшоулин
(1977 г.). Размером всего 7,3 х 9 см, она производит впе-
чатление настоящего скульптурно-живописного портре-
та: глаза и рот переданы сквозными отверстиями; брови,
губы и усы оформлены легким рельефом и подчеркнуты
красочным слоем. По антропологическим характеристи-
кам и манере исполнения эта маска тоже совпадает с бань-
поскими «личинами».
Еще несколько керамических масок были обнаружены
в комплексе Баньпо и в других памятниках баньпоского
круга. Вылепленные чаще всего из куска красновато-серо-
го теста, они превосходят бэйшоулинскую маску по разме-
рам (высота до 25,5 см, ширина — до 16 см), но выполне-
ны на более примитивном художественном уровне и без
применения росписей.
В последующих центрально-яншаоских и западно-ян-
шаоских культурах традиция пластического искусства ока-
зывается едва заметной. Известные до сих nop зооморфные
и антропоморфные изображения настолько единичны, что
по ним невозможно составить относительно внятное пред-
ставление об этой традиции. Отметим только, что все имею-
щиеся образцы яншаоской скульптуры отличаются прими-
тивностью и стилизованностью, передавая, как правило,
только общие очертания натуры. Отдельного упоминания
заслуживают скульптуры голов людей, характерные для
Баньпо и ранних слоев Мяодигоу, которые отличаются от-
носительной тщательностью исполнения и выразительно-
стью. На несколько более высоком художественном уровне
выполнен набор статуэток (высота до 20 см), найденных на
территории Ганьсу и датируемых IV—III тыс. до н. э. В них
Северо-восточная пластика
a — скульптуры из нижних сло-
ев комплекса Хоутайцзы: 1 —
женская фигурка в «позе эмбри-
она», 2 — женская фигурка в
коленопреклоненной позе, 3 —
изображение зооморфного суще-
ства с круглыми глазами, 4 —
женская фигурка в сидячей позе;
б — скульптура из верхних сло-
ев Хоутайцзы: 1 — вид спереди,
2 — вид сзади; в — скульптура
обнаженного женского торса,
найденная на территории пров.
Ляонин; г — хуншаньские скульп-
туры; д — голова изваяния жен-
ского божества из храма комп-
лекса Нюхэлян.
75
Яншаоская пластика
a — глиняная маска из комплек-
са Бэйшоулин: / — вид спереди,
2 — вид сбоку; б — глиняная мас-
ка из памятников баньпоского
круга; в — скульптура головы
человека из ранних слоев Мяоди-
гоу; г — модель жилища.
воспроизведены обнаженные мужские и женские (намече-
на грудь) стоящие фигуры — с руками, сведенными на
груди или согнутыми в локтях и упирающимися в бока.
Головы скульптурок имеют несколько неестественную пря-
моугольную форму и иногда завершаются подобием при-
чески. Позы статичны, пропорции человеческого тела не-
редко искажены (в том числе непропорционально большие
ступни ног). При всей примитивности ганьсуских скулыі-
тур и в данном случае нетрудно уловить определенное мор-
фологическое сходство между ними и местными графиче-
скими антропоморфными изображениями.
На общем фоне представленных артефактов резко выде-
ляется скульптурка (высота 6,8 см), найденная в Шэньси и
относящаяся к верхним слоям Центрального Яншао. В ней,
как и в хуншаньской пластике, изображается обнаженный
женский торс с подчеркнуто округлым животом и грудью.
Популярность пластических орнаментальных способов
в гончарном деле юго-восточных и восточных культур по-
зволяет предположить, что эти культуры должны были
обладать и развитой традицией собственно пластического
искусства. Действительно, уже в ранних слоях культуры
Хэмуду присутствуют пусть миниатюрные (4,5 х 3,3 см),
но полноценные скульптурные изображения, причем опять
именно человеческой головы. Однако затем эта художе-
ственная традиция как будто прервалась или же она до сих
nop не получила адекватного отражения в археологиче-
ских материалах. Единственным для юго-восточных и вос-
точных культур известным на сегодня скульптурным про-
изведением является статуэтка человека (высота 21 см),
относящаяся к культуре Сунцзэ. Состоящая из сосудопо-
добного туловища (с круглым отверстием в его верхней
части) и трехмерного изображения головы, она тоже вы-
полнена в реалистическом стиле, но в значительно более
примитивной манере, чем скульптуры-сосуды.
Кроме зооморфной и антропоморфной пластики, в Цен-
тральном Яншао (Баньпо) и в восточных культурах (Цин-
ляньган) исполнялись модели построек. Яншаоские моде-
ли сделаны из чистой красной или серой глины и воспро-
изводят основные типы местных построек. Для восточных
культур известна всего одна такая модель, выполненная с
необыкновенной тщательностью и точностью. В ней в мель-
чайших деталях воспроизведено местное жилище: квадрат-
ное в плане, с дверным проемом в передней стене, вентиля-
ционным отверстием — в задней, двумя маленькими квад-
ратными окошками — в боковых, с четырехскатной крышей
в форме правильной пирамиды. На стенках и наклонной
поверхности кровли несколькими штрихами начерчено схе-
матическое изображение собаки. He исключено, что такого
рода модели специально предназначались для погребально-
го инвентаря и, следовательно, являются отдаленными про-
тотипами так называемой погребальной пластики, ставшей
со временем одной из необходимых принадлежностей ки-
тайской похоронной обрядности и одним из ведущих видов
национального изобразительного искусства.
76
Древнейшие из известных на сегодня произведений
пластического искусства южного региона неолитического
Китая принадлежат ранним слоям культуры Шицзяхэ
(1992 г.). Это — миниатюрные (в пределах 6,2 х 3,9 см)
зооморфные (в том числе фигурка птицы) и антропоморф-
ные скульптурки. Выполненные в условно-натуралисти-
ческом стиле, они тем не менее обладают редкими по срав-
нению с пластикой других регионов выразительностью и
динамичностью. Такова скульптурка женщины, облачен-
ной в балахоноподобное одеяние. Фигура изображена в дви-
жении — в момент исполнения танца. Для верхних слоев
Шицзяхэ обнаружен (конец 80-х гг. прошлого века) целый
набор зооморфных статуэток (высота от 4 до 9 см, длина от
6,5 до 11 см) и две антропоморфных (высота 10 и 12 см).
Зооморфная пластика включает в себя изображения диких
животных и птиц (слон, тапир, обезьяна, черепаха, лас-
точка), a также домашних животных (собака, овца, свинья,
петух), которые по стилистике и общему художественному
уровню исполнения перекликаются с давэнькоускими сосу-
дами-скульптурами. В обеих антропоморфных скулыітур-
ках показана сидящая мужская фигура со скрещенными
ногами. Тщательнее всего и на этот раз проработаны голо-
вы, включая венчающие их головные уборы, тогда как
руки и ноги только намечены.
Культуре Шицзяхэ принадлежат и последние из выде-
ленных нами пяти типов пластических изображений —
крупногабаритные трехмерные композиции. Это — глиня-
ные и полые изнутри фаллосовидные сооружения, состоя-
щие из двух отдельно вылепленных частей, которые обра-
зуют три художественных сегмента: усеченно-коническое
основание, украшенное близко расположенными друг к
другу рядами винтообразных лент-налепов; шаровидная
центральная часть, сплошь покрытая иглоподобными вы-
ступами-налепами; и навершие в виде вытянутого конуса.
Общая высота такого сооружения может доходить до 160 см.
Диаметр в основании — более 30 cm. He вызывает сомне-
ний, что эти композиции имели религиозно-ритуальный
смысл. A масштабность их размеров, сложность формы и
тщательность художественного исполнения позволяют ус-
матривать в них отдаленных предшественников монумен-
тальной скульптуры.
Итак, мы видим, что каждая из неолитических куль-
турных общностей обладала собственной специфической
традицией пластического искусства. Но, несмотря на все
отмеченные их тематические и стилистические особенно-
сти, прослеживается и ряд универсальных черт. Во-первых,
предельно важен сам по себе факт существования тради-
ции пластического искусства, пусть даже в примитивных
его воплощениях, во всех регионах неолитического Китая.
Во-вторых, очевидно, что в неолитическом художествен-
ном творчестве уже наметились все основные функцио-
нальные (храмовая скульптура, погребальная пластика) и
художественные (от миниатюрной до монументальной
скульптуры) виды будущего китайского изобразительного
искусства. В-третьих, есть все основания утверждать, что
пластика была изначально тесно связана с местными рели-
гиозными представлениями и практиками, т. е. исходно
являлась базовым компонентом национального культового
искусства. И наконец, всем региональным пластическим
традициям был присущ постоянный интерес к человеку
(в центре внимания — изображение человеческого лица).
С традицией пластического искусства частично пере-
кликаются и такие виды неолитической предметно-твор-
ческой деятельности, как косторезное, камнерезное дело и
резьба по дереву, так как исполняемые в них изделия не
только нередко украшались рельефными композициями,
но и делались в виде скульптурных изображений.
Искусство резьбы по дереву наиболее отчетливо просле-
живается в юго-восточных и восточных культурах. A ca-
мая представительная коллекция соответствующих арте-
фактов была обнаружена в комплексе Хэмуду. Там были
найдены, во-первых, миниатюрная деревянная скулыіту-
ра, состоящая исключительно из зооморфных изображе-
ний, например — фигурка рыбки, длиной 11, шириной 3,5
и толщиной 3,7 см. Во-вторых, деревянные сосуды с внеш-
ним и внутренним лаковым покрытием, которые позволя-
ют соотносить с этим регионом начало китайского лаково-
го производства (подробно см. глава 14). В-третьих, детали
свайных строений, включая столбы и доски, всего —
270 предметов. На некоторых из них заметны следы резно-
го орнамента, что делает юго-восточный регион главным
центром формирования китайского деревянного зодчества
и свойственных ему оформительских способов. В восточ-
ных культурах, начиная с Давэнькоу, отмечена практика
изготовления деревянных гробов.
Костный материал широко использовался в неолити-
ческом Китае, подобно всем другим архаическим обще-
ствам, для изготовления орудий труда (шила, иглы), про-
мыслово-охотничьих орудий (наконечники для стрел, ры-
боловные крючки) и примитивных украшений. Если же
говорить о косторезном деле как о виде декоративно-при-
кладного искусства, то оно вновь получило преимуще-
ственное развитие в юго-восточных и южных культурах.
Только в комплексе Хэмуду было найдено 2270 костяных
изделий, в том числе из слоновой кости, многие из кото-
рых отличаются сложностью формы и орнаментики. Они,
видимо, имели церемониально-ритуальное предназначение.
Например, предмет, внешне напоминающий современный
нож для бумаги (длина 15,8; ширина 3,4 см) — со скруг-
ленным лезвием и ручкой в виде силуэтной фигуры пти-
цы; пластина прямоугольной формы (16,6 х 5,9 х 1,2 см,
возможно, деталь украшения), с шестью отверстиями и
легкорельефным изображением фигур двух птиц; крохот-
ная (высота 2,4, диаметр устья 4,8 см) чашечка с резным
орнаментом.
В восточных культурах вначале наиболее широко ис-
пользовались кости (собственно кость, рога и зубы) свиньи
78
РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ,
КОСТОРЕЗНОЕ
И КАМНЕРЕЗНОЕ
ДЕЛО
и сайгака. В верхних слоях культуры Давэнькоу появи-
лись изделия из слоновой кости. Самую распространенную
их категорию составляют шпильки для волос (подробно
см. глава 13). С художественной точки зрения и в аспекте
дальнейшей эволюции китайского ювелирного дела особый
интерес представляют кольца с бирюзовыми вставками.
Так как украшения из слоновой кости находились в захо-
ронениях с наиболее богатым погребальным инвентарем,
они считаются исследователями предметами роскоши и од-
новременно наглядным свидетельством начала процесса со-
циального расслоения местных родовых коллективов.
Важнейшее место, после гончарного дела, в предметно-
творческой деятельности обитателей неолитического Ки-
тая занимало, как выяснилось, камнерезное дело, a имен-
но — работы по нефриту (подробно о минералогических
характеристиках китайских нефритов см. глава 13).
Нефритовые изделия тоже изготовлялись во всех ре-
гионах неолитического Китая. Однако в культурах Яншао
этот минерал использовался эпизодически, тогда как в се-
веро-восточных, восточных, юго-восточных и южных куль-
турах нефритоделание приобрело настолько масштабный
характер, что в специальной литературе высказывалось
предложение обозначать эти культуры как «нефритовые».
Относящиеся к ним нефритопроизводящие центры образу-
ют своего рода «нефритовый пояс», который простирается
от района Великой китайской стены и — через прибреж-
ные восточные и юго-восточные районы Китая — до юго-
западной оконечности района среднего течения Янцзы (про-
винции Сычуань). Сказанное означает, что неолитический
Китай относится к числу так называемых нефритовых ре-
гионов, особо выделяемых в географии мировой цивилиза-
ции. Кроме Китая, это Центральная Америка (культура
майя) и Новая Зеландия (культура майори). Все три на-
званных «нефритовых региона» расположены в пределах
Тихоокеанского ареала, и, следовательно, неизбежно воз-
никает вопрос о возможности существования неких связей
между ними. Но изучение китайских нефритов, не говоря
уже о рассмотрении фундаментальных проблем, касающих-
ся глобальных этнокультурных процессов, еще далеко от
завершения. Оно максимально осложнено, с одной сторо-
ны, массовостью артефактов, a с другой — их самобытно-
стью. Оказалось, что каждому из неолитических регио-
нальных нефритопроизводящих центров был присущ соб-
ственный набор изделий и орнаментальных мотивов,
предназначение и семантика которых по-прежнему диску-
тируются в науке. Тем не менее не вызывает сомнений,
что нефритовые изделия не только составляют значимую
часть художественного наследия неолитического Китая, но
и проливают дополнительный свет на многие сферы жиз-
недеятельности его обитателей.
В северо-восточном регионе нефритоделание прослежи-
вается приблизительно с VI тыс. до н. э. и для культур,
располагавшихся непосредственно на территории Ляонин —
Чахай и Нюхэлян.
Нефритовые изделия
a — культура Чахай: 1 — клинок-
шао, 2 — украшения-цзюэ; б —
культура Нюхэлян: 1 — диск-би;
2 — «двойной диск».
79
Чахайские нефриты представлены всего несколькими
основными категориями изделий: свирелеподобные музы-
кальные инструменты; модели орудия труда (оружия) —
топора (так называемый топор/секира-фі/, высота до 5,2 см);
предметы в виде плоских колец с прорезью (диаметр 3,8-
4 см), которые считаются украшениями и отождествляют-
ся с особой разновидностью китайских ювелирных изде-
лий, называемых брелоками-цзюэ; клиновидные предметы
(в китайской терминологии — шао, длина около 12 см),
тоже бывшие, возможно, моделями оружия или орудий
труда. Все эти изделия выполнены в технике шлифовки и
практически лишены орнаментации.
В культуре Нюхэлян репертуар изделий намного рас-
ширяется, a их формы и художественное оформление ус-
ложняются. Здесь наличествуют уже несколько разновид-
ностей кольцеподобных предметов, одни из которых отож-
дествляются с украшениями — подвесками, браслетами,
наручными и ушными кольцами, a другие — с особой ка-
тегорией предметов ритуально-церемониального предназ-
начения, известных как диски-би. Такие диски обычно
имеют диаметр от 5 до 10 см. Но есть и более крупные
образцы, например, би, диаметр которого достигает 15,5 см,
a толщина — 1,5-1,6 см. К тому же он выполнен из камня
редкой окраски — шпинатно-зеленого цвета со светло-
серыми и коричневатыми вкраплениями, и с учетом при-
родных особенностей минерала. Помимо всего прочего, это
свидетельствует о высоком профессиональном уровне изго-
товивших его мастеров. Специфической разновидностью
местных би являются предметы, как бы состоящие из
двух — большого и маленького — колец («двойные дис-
ки», шуанби) и имеющие общую грушевидную форму, де-
лающую их чрезвычайно похожими на изображение уже
знакомой нам по западно-яншаоской расписной керамике
тыквы-горлянки.
К дискам-бі/ примыкает серия цилиндровидных пред-
метов, которые подразделяются специалистами, исходя из
их размеров и конфигурации, на несколько отдельных ка-
тегорий — в виде «бамбукового коленца», «стебля травы
(тростника)», «барабановидные» и т. д. Предназначение
этих предметов неизвестно. Часть из них могла служить
украшениями, другие — изделиями ритуально-церемони-
ального характера.
Следующими важнейшими категориями нефритовых
изделий Нюхэлян, которые продолжили свое существова-
ние и в последующих хуншаньских культурах, считаются
«облачные подвески», подвески в виде «свернувшегося дра-
кона» и нефритовая пластика.
«Облачные подвески» — неболыиие по размеру (8,8 х
х4,3 см; 9,7 х 5 см) пластины, конфигурация которых на-
поминает либо контурное изображение облаков, либо в бо-
лее усложненном ее варианте — очертание головы фанта-
стического существа. Поверхность пластин обычно укра-
шена легкорельефными узорами, которые в ряде случаев
тоже образуют подобие зооморфно-фантазийной личины.
Вторая из перечисленных выше категорий нефритовых
изделий представляет собой подвески (3,9 х 3,6 х 0,7 см;
10,5 х 6,9 х 0,3 см; 10,1 х 7,4 х 1,5 см) в виде контурного
изображения полусвернувшегося червеобразного существа.
Как правило, особо выделена его голова, образующая верх-
нюю часть подвески и похожая по очертаниям на морду
свиньи. Поэтому в специальной литературе за этими изоб-
ражениями закрепилось еще одно терминологическое на-
звание — «свино-дракон». Отдельную разновидность дан-
ной категории изделий составляют подвески в форме по-
луразорванного кольца и украшенные изображениями
существа, имеющего еще более явный, чем «свино-дра-
кон», дракономорфный облик, если ориентироваться на
принятую в будущем иконографию китайского дракона.
Несмотря на очевидную фантазийность этих изображений,
многие исследователи склоняются к точке зрения, что они
восходят к облику реальных и, более того, весьма прозаи-
ческих существ — личинок майского жука или китайской
зерновки.
Нефритовая пластика Нюхэлян распадается на два ос-
новных типа изделий. Первый — предметы (предположи-
тельно подвески, максимальный размер — 10,2 х 14,7 см)
в виде силуэтно-рельефного изображения зооморфно-фан-
тазийной личины, несколько напоминающей мордочку ле-
тучей мыши. Второй тип изделий — собственно пластика,
основное — изображения лягушки, черепахи и птицы,
внешне напоминающей ласточку, сокола и сову. Образы
лягушки и черепахи пользовались, как видим, в искусстве
северо-восточных общностей не меньшей популярностью,
чем в художественном творчестве Яншао. Но чем объясня-
ется такое совпадение — типологическим ли сходством
местных верований, культурным взаимодействием или уни-
версальностью культов этих живых существ в архаических
религиозных представлениях — остается неясным.
Несмотря на свои миниатюрные размеры (например,
фигурки черепахи — 5,3 х 2,7 х 4,1 см; 9x7x1,9 см; 9,4 х
х 8,5 х 2 см), все нефритовые скульптурки отличаются нату-
ралистичностью и детализованностью. Более того, они тоже
явно исполнялись из специально подобранных камней, фак-
тура которых лучше всего отвечает внешним признакам
натуры. Так, фигурки лягушки сделаны из темно-зеленого
нефрита с коричневатыми вкраплениями и из желтовато-
зеленого нефрита. Для фигурок птиц — ласточки (4 х 5 х
х 0,7 см) и совы (5,2 х 3,7 х 0,5 см) — были использованы
соответственно камни светло-серого и серовато-белого цве-
тов, оба с красными вкраплениями. Помимо скульптурок
реальных живых существ, среди нефритовой пластики Ню-
хэлян и последующих северо-восточных культур есть так-
же и зооморфно-фантазийные изображения. Одно из них —
фигурка червеподобного существа (8,9 х 2,6 см), заканчи-
вающегося с двух сторон свиными головами. Другое — ста-
туэтка (высота 4,8 см) медведя, но в коленопреклоненной,
свойственной изображениям людей позе и с лапами, све-
денными на животе. Она сделана из коричневато-красного
G Псторпя пскусстпа Кптпя
Подвески
в виде «свино-дракона»
Предполагаемые
прототипы образа
«свино-дракона»
a — личинка майского жука; б -
личинка китайской зерновки.
Подвеска в виде
фантазийно-зооморфной
личины
Нефритовая пластика
a — скульптурка птицы; б —
скульптурка рыбы; в — скулыі-
турка «двухголовой свиньи».
81
Первая скальная гробница
Нефритовый инвентарь: 1,2 —
диски-би; 3 — барабановидное
кольцо; 4 — «облачная подвес-
ка»; 5 — браслет; 6,7 — скульп-
турки черепахи.
Вторая скальная гробница.
Общий вид
нефрита, лучше всего соответствующего натуральному цвету
медвежьей шкуры.
Изделия Нюхэлян примечательны еще и тем, что они
демонстрируют прочные семантические связи нефрита с
анимистическими верованиями. Наиболее ярким свидетель-
ством этого выступают две однотипные скальные (т. е. вы-
рубленные в горной породе) гробницы (1987, 1989 гг.). В них
тела усопших покоились в саркофагах, составленных из ка-
менных плит, a погребальный инвентарь состоял исключи-
тельно из нефритовых изделий, включая фигурки черепах.
Из нефритовых изделий, относящихся к другим райо-
нам и стратиграфическим слоям «северо-восточной» зоны,
отдельного упоминания заслуживают, во-первых, гребень
(12 х 4,7 х 0,5 см), украшенный легкорельефным орнамен-
том в виде зооморфно-фантазийной личины. И, во-вторых,
маска (22,5 х 16,5 см), изображающая женское лицо и,
судя по ее размерам, скорее посмертная.
Нефриты восточных культур (до Луншань) представле-
ны главным образом музыкальными инструментами (при-
митивные свирели), орудиями труда, моделями оружия
(например, давэнькоуский топор, который, учитывая его
размеры — 23 х 5,6 х 0,5 см — вполне мог использоваться
в качестве реального боевого средства), украшениями (в пер-
вую очередь шпильки для волос и брелоки/кольца-цзюэ) и
уже знакомыми нам дисками-бі/. Из местных украшений
особый интерес вызывают пластины полусферической фор-
мы, которые отождествляются в специальной литературе с
так называемыми нагрудными амулетами-лгг/а/і, впослед-
ствии ставшими одним из ранговых ювелирных изделий.
Несмотря на столь представительный набор категорий из-
делий, восточные нефриты тоже выполнены в технике шли-
фовки и не имеют, как правило, специального художе-
ственного оформления.
Древнейшим нефритовым изделием для «южной» зоны
в настоящее время считается амулет, относящийся предпо-
ложительно к верхним слоям культуры Даси. Он имеет
форму вытянутого овала (7 х 4,2 х 0,2 см) и украшен лег-
корельефным изображением человеческого лица. Расцвет
же местного нефритоделания соотносится с культурой
Шицзяхэ, в одном из памятников которой (погребальный
комплекс из 26 захоронений, северная оконечность Хунани)
была найдена (1991 г.) и самая полная коллекция «юж-
ных» нефритов. Среди них вновь были обнаружены шпиль-
ки для волос (длиной до 10-15 см), амулеты-лсг/ан и диски-
би (диаметр до 16,3 cm), a также две подвески (9,1 х 5,1 см
и 11 х 6,2 см) в виде контурно-рельефных изображений
зооморфно-фантазийных существ, которые демонстрируют
определенное морфологическое сходство с образами феник-
са и дракона. В такой же технике и в аналогичном стиле
выполнено изделие (предположительно — подвеска), тоже
относимое к Шицзяхэ. Оно сделано в виде композиции из
фигуры хищной птицы с распростертыми крыльями и двух
показанных в профиль человеческих голов. Точно переда-
ны антропологические приметы персонажей, которые бо-
82
лее всего соответствуют внешнему облику представителей
американоидной подрасы или гипотетическому облику древ-
нейших монголоидов. Аналогичные изображения человека
воспроизводятся еще на двух нефритовых предметах: на
церемониальном ноже, ручка которого оформлена в виде
рельефной композиции из профильной фигуры птицы, как
бы держащей в когтях человеческую голову, и на топоре,
но уже в технике легкого рельефа и без каких-либо допол-
нительных элементов. Попутно заметим, что трактовка об-
раза птицы на нефритах Шицзяхэ заставляет нас вспом-
нить о «птичьих» мотивах на керамике южных очаговых
культур Гаомяо и Сунсикоу, a сочетание изображений пти-
цы и человеческой головы имело, скорее всего, определен-
ный религиозный смысл.
И все же главным — по массовости, разнообразию из-
делий и уровню их художественного исполнения — цент-
ром неолитического нефритоделания по праву считаются
юго-восточные культуры. Данная традиция прослеживает-
ся в этом регионе по меньшей мере, начиная с Сунцзэ, и
достигает своего апогея в Лянчжу. 0 степени популярно-
сти нефритоделания на юго-востоке можно судить по сле-
дующим фактам. Только в одном из раннелянчжуских па-
мятников, во вскрытых там (1992 г.) 14 захоронениях на-
ходилось в общей сложности 216 нефритовых изделий.
В верхних слоях Лянчжу есть захоронения, содержащие
до 160 нефритовых изделий.
Юго-восточные нефриты охватывают в целом те же са-
мые, что и в других «нефритовых» культурах, отделы и
включают в себя многие уже знакомые нам категории из-
делий. Однако почти все они приобретают специфический
облик, a каждый из отделов пополняется принципиально
новыми категориями. Самыми объемными и показатель-
ными нефритовыми отделами на этот раз оказываются ук-
рашения и предметы ритуально-церемониального предназ-
начения.
Репертуар юго-восточных нефритовых украшений чрез-
вычайно широк. Он включает в себя разнообразные по кон-
фигурации подвески, нагрудные украшения — бусы (с упот-
реблением бусин круглой и цилиндрической формы, до
52 штук в одном изделии) и ожерелья, нередко объединяю-
щие в себе низанье и комплекты подвесок; браслеты (в виде
обручей и цилиндров, высотой до 3 см), кольца и шпильки
для волос. Непревзойденным шедевром всего неолитическо-
го камнерезного дела является шпилька длиной в 23 см,
состоящая из штыря и головки. Штырь украшен чередую-
щимися и особо скомпонованными рельефными кольцами,
создающими впечатление колец бамбукового ствола. Голов-
ка представляет собой пластину трапециевидной формы со
сквозным орнаментом, воспроизводящим зооморфно-фан-
тазийную личину и дополненным двумя симметрично рас-
положенными вставками из бирюзовых дисков.
Предметы ритуально-церемониального предназначения
включают в себя диски-би, подвески-ло/а« и несколько спе-
цифических категорий. Лянчжуские диски тоже имеют
ѵ
Южные нефритовые
изделия
a — шпилька для волос; б — под-
вески-хуан; в — диск-(5«; г — под-
веска с изображением феникса;
д — подвеска с изображением
драконовидного существа; е —
подвеска с изображением птицы
и человеческих голов; ж — цере-
мониальный нож с ручкой в виде
пластической композиции из фи-
гуры птицы и головы человека.
83
8 q.—&—^
Нефритовые изделия
Сунцзэ
a — пластина-хі/ан; б — диск-би
с перфорированными краями; в —
диск-би круглой формы; г — пред-
мет усложненной конфигурации.
W
M
гт
ч
ÏÏ
Нефритовые изделия
второй половины Лянчжу
a — ожерелья; б — браслет; в —
шпилька для волос со сложно ор-
наментированной головкой; г —
ритуальные предметы шилообраз-
ной формы.
84
относительно небольшие размеры (диаметр — 10-16 см,
толщина — 5-9 см) и чаще всего лишены дополнительной
орнаментации. Тем не менее они обладают несомненной
эстетической привлекательностыо, которая достигалась за
счет мастерского использования естественной фактуры кам-
ня. Пример — дисКу выполненный из зеленовато-серого
нефрита с коричневатыми вкраплениями и двумя белыми
пятнами, которые расположены строго друг против друга.
Важнейшей новацией для данного отдела выступают би с
перфорированными краями.
К наиболее специфическим категориям нефритовых
предметов ритуально-церемониального предназначения от-
носятся, во-первых, изделия шилообразной формы, могу-
щие достигать в длину 30 см и предположительно бывшие
жезлами. Они начали исполняться ориентировочно в Сун-
цзэ и впоследствии обычно богато украшались рельефным
орнаментом, распространявшимся на большую часть по-
верхности. Вторая категория — жезлы-гі/й, представляю-
щие собой таблички вытянутой прямоугольной формы (са-
мый крупный образец — 30,5 х 7,2 см).
Отдельного и более пространного разговора заслужива-
ют изделия, называемые кубками-ед«. Это — сосудовид-
ные предметы, основу которых составляет полый цилинд-
рический корпус, дополненный четырьмя треугольными
сегментами. Такие сегменты проходят вдоль всей высоты
корпуса, образуя вместе с ним фигуру, тяготеющую к па-
раллелепипеду или кубу, Каждый из них украшен грави-
рованными и легкорельефными узорами, выполненными
по единой орнаментальной схеме. Центральное место в ней
занимает зооморфная, зооморфно-фантазийная личина или
развернутая композиция зооморфно-фантазийного харак-
тера, на которой мы подробнее остановимся чуть ниже.
В разрезе цун обязательно выглядит как круг, вписанный в
квадрат. Учитывая, что такая геометрическая комбинация
впоследствии служила общепринятым в Китае символом
единения Неба и Земли (подробно см. глава 6), болыпин-
ство исследователей склоняются к точке зрения, что эти
кубки исходно наделялись космологической семантикой и
повышенным ритуально-религиозным значением. Хотя не-
известно, как именно и в каком качестве, помимо погре-
бального инвентаря, они использовались. Происхождение
цунов тоже остается неясным. Их первые известные образ-
цы — кубки крохотных размеров (высота 3-4,5 см, диа-
метр — 6-7,5 см), включающие в себя только по одному
орнаментированному сегменту — были найдены в погребе-
ниях Сунцзэ. На протяжении Лянчжу размер цун неуклон-
но возрастал, a архитектоника и декор усложнялись. При-
близительно к середине Лянчжу уже исполнялись кубки
самых разных размеров — от миниатюрных (4,4 х 1,4 х
х 1,4 см, диаметр отверстия 0,5 см) до крупногабаритных
(30 х 68 х 60 см, вес до 6 кг), которые тоже вырезались из
цельного каменного блока. Число сегментов на лянчжу-
ских цунах колеблется от двух до восемнадцати. В одно
захоронение обычно помещалось несколько и даже несколь-
ко десятков кубков. В одном из позднелянчжуских погре-
бений находились 32 кубка разной величины, на первый
взгляд беспорядочно расставленные вокруг тела усопшего.
В виде цунов исполнялись и многие другие категории
изделий — украшения (кулоны, бусины), музыкальные
инструменты (свирели) и шилоподобные жезлы, что лиш-
ний раз подтверждает высочайшую степень их авторитета
в юго-восточных общностях.
И все же особый интерес исследователей к этим издели-
ям обусловлен не только и не столько их предполагаемой
культурной значимостью и художественными достоинства-
ми: совместно с дисками-би, жезлами-гі/й и амулетами-
хуан они составляют четыре категории изделий, входящих
в древнейший для Китая набор царских регалий. 0 таком
наборе, называемом «шестъ нефритов» (лю юй), постоян-
но упоминается в древних (V—III вв. до н. э.) книгах, где
говорится, что он был изобретен царями-основателями
национальной государственности и сохранялся в качестве
такового при последующих правящих домах. Литератур-
ные описания кубкоъ-цун, дисков-бы и амулетов-яі/ан по-
чти полностью совпадают с внешним видом лянчжуских
артефактов. Жезл-гуй дополнился верхней частью в фор-
ме равнобедренного треугольника (о символике этой гео-
метрической фигуры подробно см. глава 6). Еще двумя
категориями изделий из «шести нефритов» являются жезл-
чжан — табличка в форме половины жезла-гі/й, и амулет/
подвеска-яі/ — пластина в виде силуэтного изображения про-
фильной фигуры лежащего тигра (о символике образа тигра
подробно см. глава 6). По сообщениям письменных источ-
ников, «шесть нефритов» имели космологическую символи-
ку и обязательно использовались при проведении главных в
древнекитайском обществе государственных обрядовых ак-
ций. Диски и кубки мыслились воплощением соответствен-
но Неба и Земли как сакральных сущностей и применялись
в жертвоприношениях им. Жезлы гуй и чжан символизи-
ровали соответственно восток и весну, юг и лето, амулеты
ху и хуан — запад и осень, север и зиму и применялись в
сезонных жертвоприношениях.
Несмотря на неоднократные упоминания в текстах о
«шести нефритах» и развернутость их литературных ха-
рактеристик, вещественных доказательств существования
в Древнем Китае такого набора царских регалий пока нет.
Археологические материалы, относящиеся к древним эпо-
хам, содержат в себе образцы разбираемых категорий не-
фритовых изделий, но вне жесткой связи как с институтом
верховной власти, так и друг с другом. Диски-би — раз-
личных размеров и совершенно по-разному орнаментиро-
ванные — массово присутствуют вплоть до первых веков
нашей эры как в царских усыпальницах, так и в княже-
ских (правители удельных княжеств, подробно см. далее)
и аристократических захоронениях. Но их семантика, при-
чины популярности и конкретные способы употребления
продолжают оставаться загадками для науки. Наиболее
вероятной представляется версия об их исходном значении
^
%rJë
в
ш
/^
ьЬ
~1
Кубки-цуп
a — Сунцзэ; б — начало Лянч-
жу; ѳ — многосегментные.
Другие категории изделий,
стилизованные под кубки-цун
a — шиловидный жезл; б — сви-
рель (длина 6 см; диаметр 3 см).
85
«Шесть нефритов»
(реконструкция на
основании письменных
источников)
a — диск-би; б — кубок-цун; в —
жезл-еуй; г — жъзл-чжан; д —
нагрудный амулет-хуан\ е — аму-
лет-ху.
Нефритовый топор
1 — лезвие (Сунцзэ); 2 — рекон-
струкция общего вида.
как солярных символов. Амулеты-jq/a« и ху тоже устойчи-
во входят в погребальный инвентарь царских, княжеских и
аристократических захоронений на всем протяжении XIII—
III вв. до н. э. В последующие исторические эпохи амулеты-
ху, похоже, полностью вышли из употребления, тогда как
хуан превратились в специальное нагрудное украшение
(«жертвенный знак» — фансинъцюйлин), которое вплоть
до XIII в. до н. э. было обязательным элементом император-
ского парадно-ритуального облачения. Жезлы-л/й тоже про-
должили свое существование в качестве элементов парадно-
ритуального облачения правителей и чиновников — таблич-
ки, сделанные из нефрита или других ювелирных материалов,
которые полагалось держать в обеих руках на уровне гру-
ди. A bot дальнейшая судьба кубков-оди и жезлов-чжа«
после XI в. до н. э. фактически не прослеживается.
Таким образом, лянчжуские нефриты оказываются един-
ственным реальным набором изделий, сопоставимым (не-
смотря на все расхождения между ними) с легендарными
«шестью нефритами». Это, с одной стороны, подтверждает
достоверность письменных сведений о существовании в
национальной архаике особого набора нефритовых изде-
лий ритуально-церемониального предназначения. A c дру-
гой, позволяет предположить, что процесс формирования
китайского института верховной власти начался именно в
юго-восточных неолитических общностях. В свете сказан-
ного особое значение приобретает еще одна категория лян-
чжуских нефритов — модели (длиной от 16 см) и лезвия
(до 90 см) боевых топоров. Они оказываются точной копи-
ей бронзового рубящего оружия, известного как секиры-
юэу которые в ХІІІ-ХІ вв. до н. э. были основным боевым
средством китайцев и главным атрибутом царской власти.
Примечательно, что в лянчжуских захоронениях нефрито-
вые топоры, a также повторяющие их форму подвески не-
редко соседствуют с кубками, дисками и прочими предме-
тами ритуально-церемониального предназначения. Такой
состав погребального инвентаря отражает, по мнению ис-
следователей, особенности структуры местной правящей
элиты, которая состояла либо из представителей воинского
и жреческого сословий, либо, что более вероятно, из лю-
дей, исполнявших функции как военных вождей, так и
верховных жрецов.
Орнаментация лянчжуских нефритов также загадочна
и самобытна. В ней преобладают зооморфные, зооморфно-
фантазийные и антропоморфно-фантазийные образы и мо-
тивы, которые сводятся к двум основным сюжетам. В од-
ном из них («beast motif» — в принятой в современной
европейской науке терминологии) варьируются изображе-
ния головы «чудовища» — фантастического звероподобно-
го существа с огромными круглыми глазами и свирепо
оскаленной пастью, заполненной четырьмя крест-накрест
торчащими клыками.
Во втором сюжете изображение «чудовища» дополнено
фигурой человека, то ли сидящего на нем верхом, то ли
держащего его за голову. Черты лица персонажа повторя-
86
ют детали внешности «чудовища»: те же круглые (словно
выпученные) глаза, широкий приплюснутый нос, полу-
раскрытый рот со сжатыми зубами, очень похожий на
звериный оскал и передающий, возможно, или какую-то
странную улыбку, или гневную угрозу. И все же, в ре-
зультате перед нами предстает портрет вполне реального
человеческого создания, определенно относящегося к ав-
стралоидной (или негроидно-австралоидной) pace. Его го-
лову венчает необычный для китайского костюма голов-
ной убор, сделанный из перьев, как y вождя американ-
ских индейцев. Впрочем, не будем торопиться называть
его «необычным». Исследователи уже давно были заин-
тригованы отрывками из древних книг, в которых при
рассказе о правителях далекого прошлого упоминается,
что они носили сделанные из перьев головные уборы. В ки-
тайском языке есть иероглиф хуан, который использовал-
ся в качестве категориального термина уже в древнейших
письменных текстах, прилагаясь к божественным персона-
жам или умершим и обожествленным царским предкам.
В исходных графических формах этот иероглиф тоже явно
передает фигуру человека, увенчанную головным убором
из перьев. Вот почему данная орнаментальная композиция
считается в современных исследованиях условным портре-
том местного правителя, в котором он показывается в сво-
ей жреческой ипостаси в момент исполнения некоего риту-
ального действа.
Что касается образа «чудовища», то его происхождение
и смысл оказываются еще более таинственными, чем семан-
тика изображений «лянчжуского царя» или кубков и дис-
ков. Был ли он порождением только местного художествен-
ного опыта (вспомним о композициях, выгравированных на
керамике Хэмуду) или же возник на стыке нескольких ре-
гиональных творческих традиций (вспомним о личинах на
керамике южных очаговых культур)? Происходит ли он от
внешнего вида какого-то реально существовавшего живот-
ного или же является полностью вымышленным? Koro xo-
тели воплотить в нем его творцы — свирепого ли монстра,
поверженного великим царем-жрецом и отныне властвую-
щим над ним? Или, напротив, тотемного духа, охраняюще-
го правителя и его народ? Пытаться искать ответы на эти и
аналогичные вопросы в настоящее время бессмысленно. Оче-
видно лишь, что религиозные представления юго-восточно-
го региона уже достигли уровня развития, позволяющего
создавать образы фантастических существ, a его мастера
научились воплощать эти образы в искусстве.
Оба орнаментальных сюжета порознь или налагаясь
друг на друга (изображения «чудовища», детали которых
образуют композицию «царь на чудовище») встречаются
практически на всех категориях лянчжуских нефритовых
изделий. Их можно увидеть на кубках, дисках, шилопо-
добных жезлах, оружии и украшениях. Сошлемся, к при-
меру, на ожерелье из восьми подвесок полукруглой формы
(диаметр — 6,7-7,5 см, толщина — 0,4-0,5 см), каждая
из которых украшена изображением «царя на чудовище»:
Зооморфно-фантазийная
личина.
«Классический вариант»
«Царь на чудовище»
Ранние графические формы
иероглифа «хуан»
Нефритовые подвески,
украшенные композициями
на тему зооморфно-
фантазийной личины (а)
и «царя на чудовище» (б)
87
"— ■ ;
ііиііі
йнЯ
ПтгѴ4тггіи^^
Вариант стилизованного
изображения композиций
«царь на чудовище»
Луншанъские нефритовые
изделия. Жезлы-гуй
Зооморфно-фантазийные
изображения на
луншаньских нефритах
головы «царя» и «чудовища» выполнены в рельефе, все
остальные элементы композиции — в технике гравировки.
Есть также немало изделий, в которых данные сюжеты
сочетаются с другими зооморфными мотивами, чаще всего
птичьими, например, подвески в виде силуэтных изобра-
жений ласточки (10,8 х 8,2 х 0,4 см) и гуся. В первом слу-
чае голова ласточки заканчивается изображением «царя
на чудовище», во втором крылья гуся образованы голова-
ми «чудовища». Известны несколько предметов в виде таб-
личек (8,8 х 5,6 х 0,3 см; 8,5 х 4,4 х 0,4 см; 8 х 4,2 х 0,4 см),
украшенные изображениями «чудовища» в сочетании с
фигурами птиц. Еще более замысловатая орнаментальная
композиция красуется на пластине (предположительно —
украшение, 13 х 10,8 х 0,4 см), где изображение «чудови-
ща» вписано в контуры дракономорфного существа.
Камнерезное искусство Лянчжу было частично воспри-
нято художественным творчеством культуры Луншань.
Частично — потому что некоторые категории изделий, в
том числе кубки, луншаньскими мастерами более не изго-
товлялись. Исчезли и композиции на тему «царь на чудо-
вище». Зато зооморфно-фантазийные образы получили еще
болынее, чем в лянчжуских нефритах, распространение,
вызвав к жизни свои новые иконографические варианты, в
которых они постоянно дополняются другими деталями,
воспроизводящими то подобие головных уборов, то роговид-
ные конструкции. Так, в луншаньском камнерезном искус-
стве начал складываться очередной тип зооморфно-фанта-
зийной образности, называемый в научной литературе «де-
моном». He исключено, что он возник на стыке нескольких
региональных художественных традиций, вобрав в себя как
юго-восточный образ «чудовища», так и местные — шань-
дунские — орнаментальные мотивы, a именно — изображе-
ния фантастических существ в росписях на керамике. При-
мечательно, что образы «демонов» реализуются только в
строго определенной категории. Это — неболыыие по разме-
ру пластины (около 5x4 см), выполненные в силуэтно-
рельефной технике, предназначение которых (предположи-
тельно — украшения, предметы церемониально-ритуаль-
ного характера) тоже неизвестно. На сегодня обнаружено
порядка 15 образцов таких пластин, некоторые из которых
относятся специалистами к шаньдунскому варианту Лун-
шань, другие — к Шицзяхэ (что означает популярность
этого мотива и в южном регионе неолитического Китая), a
третьи — к ХІІІ-ХІ вв. до н. э. (что означает его устойчи-
вость в китайском нефритоделании).
Кроме «демонов», широкое распространение в орнамен-
тации луншаньских нефритов получили изображения хищ-
ной птицы с распростертыми крыльями, которые фактиче-
ски повторяют собой образ птицы на нефритах Шицзяхэ —
еще одно, заметим, весомое подтверждение культурного вза-
имодействия шаньдунского варианта Луншань не только с
юго-восточными, но и с южными общностями.
Итак, нефритоделание, во-первых, оказывается глав-
ным направлением начавшей зарождаться в эпоху нео-
88
лита традиции официального искусства, т. е. искусства,
предназначенного для удовлетворения духовных и эстети-
ческих потребностей правящей элиты. Во-вторых, в нем
впервые столь полно заявила о себе новая для нас стили-
стическая линия, отличающаяся художественной фанта-
зийностью и нацеленная на создание образов фантасти-
ческих существ. Хотя такая фантазийность была свой-
ственна всем региональным камнерезным традициям,
данная стилистическая линия с наибольшей силой реали-
зуется в искусстве юго-восточных и южных общностей,
придавая тем самым специфический колорит и всему их
художественному наследию.
В заключение хотелось бы кратко остановиться на тех-
нологическом аспекте неолитического нефритоделания.
Нефрит — минерал, отличающийся твердостью (7-8 по
шкале Мооса, т. е. немного мягче алмаза) и хрупкостью.
Поэтому принято считать, что исполнение по нему грави-
ровки и резьбы, не говоря уже о сквозном (ажурном) ор-
наменте, невозможно без металлических инструментов.
В рамках же каменной индустрии доступны были только
изделия, выполненные способом шлифовки и полировки,
т. е. обработки натурального камня абразивными мате-
риалами. Китайские нефриты, в первую очередь южных,
юго-восточных и восточных регионов, опровергают дан-
ную точку зрения. В результате проведения новейших
экспертиз выяснилось, что даже рельефный орнамент ис-
полнялся на них как шлифовкой, так и резьбой, когда
убиралась часть поверхности минерала с одной из сторон
контурной линии орнамента. He вызывает, разумеется,
ни малейших сомнений, что неолитические мастера ис-
пользовали исключительно каменные инструменты. Но
такие инструменты нужно было делать из пород, равных
по твердости алмазу и такого качества, чтобы с их помо-
щью можно было гравировать те тончайшие штрихи и
линеарные рисунки, какие мы видим на лянчжуских из-
делиях. Неолитические ювелирные инструменты до нас
не дошли. Однако об успехах местных мастеров и в этой
сфере красноречиво свидетельствует факт устойчивости в
китайском ювелирном деле каменных инстрѴментов. Еще
в ХІІІ-ХІ вв. до н. э., когда Китай вступил в пору расцве-
та бронзолитейного производства, целый ряд ювелирных
инструментов — сверла, шлифовальные головки, резатель-
ные диски — по-прежнему делались из камня. Следова-
тельно, в неолитическую эпоху были разработаны и все
основные для будущего китайского камнерезного искус-
ства и ювелирного дела техники и способы работы с при-
родными материалами.
Рассуждая об общекультурном значении неолитиче-
ского нефритоделания, мы пришли к выводу о том, что из
всех других художественных традиций оно было теснее
всего связано с процессами социальной дифференциации
родовых коллективов и формирования властных структур.
Самое непосредственное отношение к этим процессам име-
ла и традиция строительства.
Пластины с изображением
«демонов»
a — пров. Цзянси; б — пров. Шэнь-
си; в — пров. Хэнань.
Стилизованные изображения
зооморфно-фантазийных
личин («демонов») на
луншанъских и более
поздних нефритовых
изделиях
Изображение птицы на
луншаньском нефрите
89
СТРОИТЕЛЬСТВО
Планировка
неолитических жилищ.
Баньпо
19 В том числе высказыва-
ется точка зрения, основан-
ная на строительном опыте
других народов, что такое из-
менение формы жилищ мог-
ло знаменовать собой оконча-
тельный переход населения от
полукочевого (круглая полу-
землянка возводится проще и
быстрее) к оседлому образу
жизни. Другие исследователи
склоняются к мысли, что в
данном случае на традицию
строительства оказала влия-
ние вся совокупность эволю-
ционных изменений, которые
происходили в хозяйственно-
культурном облике обитате-
лей региона Хуанхэ, включая
их верования и представления
о мире. Квадратные жилища
появились, судя по археоло-
гическим материалам, в ниж-
них слоях Баньпо и в течение
некоторого времени соседство-
вали с круглыми.
Имеющиеся на сегодня археологические материалы убе-
дительно доказывают, что традиция китайского строитель-
ства во всех ее основополагающих аспектах и проявлени-
ях — от технико-конструктивных особенностей до плани-
ровочных принципов — тоже начала складываться в
неолитическую эпоху.
Первоочередной приметой китайского зодчества явля-
ется, как это хорошо известно, каркасно-столбовой метод
строительства, когда опорной конструкцией здания оказы-
вается каркас, состоящий из столбов и балочных перекры-
тий: не стены, a именно он принимает на себя всю тяжесть
кровли (подробно см. глава 16). Установлено, что этот ме-
тод сложился в центрально-яншаоских культурах, где он
использовался еще в добаньпоский период и при сооруже-
нии жилищ полуподземного типа. Параллельно в Цент-
ральном Яншао начали вырисовываться и зачатки семи-
отических принципов композиции строений. Если в янша-
оских очаговых культурах сооружались исключительно
круглые в плане полуземлянки, то, начиная с Баньпо, они
постепенно стали вытесняться квадратными. По поводу
причин такой трансформации яншаоских жилищ выска-
зываются различные точки зрения19. Более существенен,
на мой взгляд, тот факт, что создание ректагональных —
квадратных или прямоугольных — в плане зданий стало
впоследствии краеугольным планировочным принципом
китайского зодчества.
Для верхних слоев Баньпо и для Мяодигоу уже типич-
на квадратная полуземлянка с одним или несколькими
опорными столбами внутри нее и очажной ямой перед
входом. Аналогичные в целом по конструкции жилища
были распространены и в западно-яншаоских культурах.
Они отличались от центрально-яншаоских лишь устрой-
ством очага — не в углублении пола, a на его поверхно-
сти, зачастую даже на неболыном возвышении. Прибли-
зительно к середине Мяодигоу полуземлянки начали усту-
пать место надземным жилищам. Но они сохранили и
ректагональную в плане форму, и каркасно-столбовую
конструкцию.
В северо-восточном регионе исходно (примечательная
деталь!) господствовали ректагональные в плане полузем-
лянки иногда со скругленными углами. Кроме того, они
демонстрируют стандартную планировку: четыре балки-
опоры, расположенные строго по четырем углам помеще-
ния, и очаг, вынесенный в его центр и находящийся как
раз напротив входа. И снова нельзя не удивляться степени
устойчивости местного строительства. Указанный тип жи-
лищ утвердился еще в ранних слоях культуры Синлунва и
сохранялся до конца Хуншань. Одновременно обитателям
северо-восточной зоны пришлось освоить опыт строитель-
ства в условиях горной и пересеченной местности. Поселе-
ния располагались здесь на склонах берегов рек или возвы-
шенностей и нередко на искусственных террасах.
Юго-восточный регион Китая является родиной, о чем
упоминалось выше, деревянного зодчества (свайные строе-
90
ния в комплексе Хэмуду). He исключено, что изобретением
местного строительства является и возведение строений на
земляной платформе, что впоследствии тоже превратилось
в нормативную особенность китайской архитектуры. Ха-
рактерные земляные платформы — длиной до 700 м, ши-
риной — до 450 м и высотой в 5-8 м — были вскрыты в
ряде памятников Лянчжу, сосредоточенных в окрестно-
стях оз. Тайху. Понятно, что на платформах подобных раз-
меров можно было возвести целый архитектурный ансамбль.
Эта находка, кроме того, опровергла ранее общепринятую
точку зрения, согласно которой практика сооружения по-
строек на земляной (глинобитной) платформе (стилобате)
возникла в Китае не ранее XVII в. до н. э. непосредственно
в районе среднего течения Хуанхэ. Отдельного упомина-
ния заслуживает еще один тип лянчжуских построек —
пирамидальные насыпи, отожествляемые в научной лите-
ратуре с алтарями. Они могут быть разных размеров (в од-
ном случае — 45 м с востока на запад и 33 м с севера на
юг, в другом — всего 7-7,5 м с востока на запад и 9,5-
9,8 м с севера на юг), но обязательно имеют квадратное в
плане основание и составленную из трех разноцветных зем-
ляных слоев насыпь. Самый болыыой из таких алтарей
находился на территории кладбища, считающегося «цар-
ским» (комплекс Яошанъ). Совместно с захоронениями он
образует подобие продуманного архитектурного ансамбля:
прямоугольная в плане площадь самого кладбища, равно-
мерное — параллельными рядами — расположение погре-
бений и их компоновка по отношению к алтарю. Создание
в Лянчжу такого типа ансамблей, с одной стороны, под-
тверждает высказанную ранее гипотезу о высоком уровне
развития местных религиозных представлений, a c дру-
гой — позволяет соотносить с юго-восточным регионом один
из истоков традиции китайского культового и непосред-
ственно погребального строительства. Но вернемся к рас-
смотрению повседневных жилищ.
Наличие определенных семиотических закономерно-
стей прослеживается в яншаоских и северо-восточных куль-
турах для композиции не только отдельных построек, но и
целых поселений20. Так, поселения, относящиеся к ран-
ним слоям Центрального Яншао, обычно имеют овальную
в плане площадь. Жилища в них располагаются по кругу,
a их двери обращены к центральной части поселения, где
нередко находится и самое болыпое строение. Все извест-
ные на сегодня поселения очаговых северо-восточных куль-
тур (от Синлунва до Чжаобаогоу) построены как бы по
заранее предусмотренному плану и с использованием стан-
дартных планировочных схем. Жилища в них непремен-
но располагаются рядами и приблизительно на равном
расстоянии друг от друга. Пример — центральная часть
комплекса Синлунва, состоящая из семи параллельных
рядов жилищ, в каждом из которых насчитывается от
трех до семи построек. Подобная композиция поселения
сохраняется и в тех случаях, когда оно тянется или спус-
кается по склону.
О
0
о
О
~LJ~
Планировка неолитических
жилищ. Северо-восточные
культуры (Синлунва
и Чжаобаогоу)
«Царское» кладбище
с алтарем. Лянчжускии
комплекс Яошань
20 Этот аспект неолитиче-
ского строительства все еще
остается недостаточно разра-
ботанным в науке прежде все-
го по причине трудности про-
ведения поисковых работ. Дело
в том, что многие памятники
находятся на территории со-
временных населенных пунк-
тов, включая кварталы круп-
ных городов, и поэтому могут
быть вскрыты и реконструи-
рованы лишь частично. Ска-
занное относится и к северо-
восточным памятникам, хотя
они расположены, как прави-
ло, в относительно малонасе-
ленной местности и вдали от
крупных городов. Тем не ме-
нее для комплекса Чахай, на-
пример, общая площадь ко-
торого составляет не менее
1,5 га, вскрыто только 180 м2,
из 9 га площади комплекса
Чжаобаогоу — 2000 м2.
91
1 ~~™v
/
5м /
! /
c
V
i
Планировка поселения
культуры Синлунва
Еще большее значение имеет факт появления уже в
ранних слоях центрально-яншаоских и северо-восточных
культур поселений, окруженных рвом, которые правомер-
но рассматривать в качестве отдаленных прототипов горо-
да. В северо-восточном регионе такие поселения могут вклю-
чать в себя до 100 жилых построек, a также другие типы
строений: большие здания, расположенные, как правило,
в его центре, мастерские, сгруппированные в одном месте
(скажем, в северной части его территории). Для Централь-
ного Яншао наиболее сложную планировку имеет поселе-
ние, входящее в комплекс Баньпо. Занимающее террито-
рию в форме вытянутого с севера на юг овала и обнесенное
внешним рвом, оно распадается на две части. Одна из них
тоже обнесена рвом. Жилища располагаются как на терри-
тории, находящейся за внутренним рвом, так и перед ним
(т. е. между двумя рвами), что, видимо, указывает на со-
циальное неравенство обитателей Баньпо. Примечательна
также и общая композиция комплекса, a именно — распо-
ложение кладбища к северу от поселения и за внешним
рвом, служащим как бы преградой между миром живых и
миром мертвых.
Хотя практика строительства поселений, обнесенных
рвами, лучше всего прослеживается в центрально-яншао-
ских и северо-восточных культурах, следующая эволюци-
онная стадия неолитического строительства — возведение
городищ — наиболее отчетливо проявляется в южном и
восточном регионах.
Строительство городищ — т. е. поселений, обнесенных
стеной, — бесспорно, относится к числу главных цивили-
зационных достижений неолитической эпохи. Из опыта
мировой культуры известно, что градостроение везде и все-
гда было не только важнейшей частью архитектурно-
инженерного искусства, но и одним из первоочередных
показателей уровня развития социально-политической
структуры и системы хозяйствования данного сообщества.
Раныые всего градостроение заявляет о себе в южном
регионе, для которого на сегодня открыто уже несколько
городищ. Два из них — Цзицзяочэн и Мацзяюань — отно-
сятся ко второй половине культуры Цюйцзялин, т. е. вос-
ходят к III тыс. до н. э. Городище Цзицзяочэн (1998 г., се-
верная оконечность Хунани) занимает площадь почти
15 000 м2 и тяготеет в плане к прямоугольнику. Оно было
обнесено по всему периметру стеной, перед которой прохо-
дил ров. Судя по сохранившимся фрагментам, стена была
выполнена в глинобитной технике, достигала 2-5 м в вы-
соту, a ee ширина y основания равнялась 4-6 м. Сразу же
поясним, что глинобитная техника в течение многих по-
следующих столетий оставалась базовым методом китай-
ского инженерно-архитектурного искусства. В окончатель-
ном, наиболее совершенном варианте она осуществлялась
так: вначале рыли канаву с косыми стенками глубиной до
2 м. Затем в ней утрамбовывали слой за слоем (каждый по
6-8 или 10-20 см) глиняную массу, пересыпая их песком.
Слои накладывали друг на друга, пока не вырастала стена
92
желаемой высоты. Bot почему стены китайских городов,
выполненные в этой технике, непременно имеют массив-
ное основание и общий трапециевидный профиль. Возник-
новение глинобитной техники тоже ранее датировалось
ХѴІІ-ХѴІ вв. до н. э. и соотносилось с регионом среднего
течения Хуанхэ.
Городище Мацзяюань (1989 г., северная оконечность
Хубэй, приблизительно в 300 км к югу от современного
города Цзинмэньши) занимает уже площадь в 24 000 м2 и
имеет в плане форму почти правильного прямоугольника.
Более точно для этого города удалось установить и разме-
ры его стены. Длина ее южной части оказалась равной
440 м, высота — 5-6 м, ширина y основания 35 м и y вер-
ха 8 м соответственно. Размеры северной части стены —
длина 250 м, высота 1,5 м, ширина y основания 30 м; вос-
точной части — соответственно 640 м, 3 м и 30 м; запад-
ной части — 740 м, 4-6 м, ширина y основания 35 м и y
верха 8 м. В каждом из четырех участков стены было по
одному проходу. Проходы в восточном и западном участ-
ках расположены в местах пересечения стены с речным
руслом, тогда как два других прохода находятся строго
посередине северного и южного участков стены. Южный
проход имеет также наибольшую ширину — 6 м, что по-
зволяет видеть в нем главные городские ворота. Получает-
ся, что общая композиция этого городища строилась по
оси «север-юг» и была ориентирована на юг.
Третье южное городище — Дэнцзяванъ (1992 г., в севе-
ро-восточной части Хубэй, вблизи от современного города
Тянъмэнъши) имеет строго прямоугольную в плане площадь
(1200 м с севера на юг и 1000 м с востока на запад) и подраз-
деляется на несколько кварталов, в ряде которых были сгруп-
пированы мастерские. Городская стена (ее точные размеры
не установлены) тоже была дополнена внешним рвом.
Итак, мы видим, что южное градостроение исходно,
насколько это позволяют проследить археологические ма-
териалы, располагало набором планировочных установок,
важнейшими из которых являются, с точки зрения даль-
нейшей эволюции китайского инженерно-архитектурного
искусства, создание ректагональных в плане городских ан-
самблей и выделение в их семиотическом построении оси
«север-юг». Также обращает на себя внимание факт место-
нахождения всех трех городищ в центральной части гео-
графических ареалов Цюйцзялин и Шицзяхэ. Поэтому пра-
вомерно предположить, что эти городища представляли
собой главные политические или культурно-политические
центры данных общностей. В таком случае в них уже всту-
пил в силу процесс создания искусственной пространствен-
ной организации среды собственного обитания.
Еще одна, возможно, самостоятельная традиция градо-
строения обнаруживается в провинции Сычуань. Об этом сви-
детельствует находка остатков городища (1996 г.), входя-
щих в масштабный комплекс (Юйфуцунъ), расположенный
в 22 км к северо-западу от г. Чэнду. Нижний стратиграфи-
ческий слой этого комплекса соотносится с неолитической
План южного городища
Мацзяюань
1 — ворота в городской стене;
2 — проходы в месте пересече-
ния стены и русла реки.
План южного городища
Дэнцзяванъ
93
культурой (Баодунъ), которая считается, напомним, одним
из локально-хронологических вариантов южной общности
Даси. Само городище было обнаружено во втором стратигра-
фическом слое комплекса, синхронном Шицзяхэ и шань-
дунскому варианту Луншань. Занимая площадь в 32 000 м2,
оно в отличие от всех трех южных городищ имеет сложную
в плане конфигурацию, как бы составленную из элементов
различных геометрических фигур. Его северо-западная часть
образована равнобедренным треугольником, a юго-восточ-
ная — вытянутым полуовалом. Общая протяженность го-
родской стены составляла 2110 м, ее высота достигала
2 м, ширина — 15-20 м.
О существовании градостроения в юго-восточных куль-
турах пока судить трудно. Тем не менее и для этого регио-
на выявлен ряд примечательных деталей. Сопоставитель-
ный анализ местоположения поселений, на территории ко-
торых находились земляные платформы, и поселений без
них привел к выводу, что их соотношение отнюдь не было
случайным. Создается впечатление, что лянчжуская общ-
ность уже обладала определенным административно-тер-
риториальным устройством. Ее земли распадались на от-
дельные владения, возглавляемые собственным правите-
лем. Однако функционировала и единая властная структура.
Об этом однозначно свидетельствует, по мнению исследова-
телей, наличие в Лянчжу главной столицы, за которую
ими принимается поселение (комплекс Моцзюэшанъ), вы-
деляющееся по своей величине, a также по размеру и чис-
лу находящихся там земляных платформ, предположитель-
но служивших основанием «царского» дворца и других
административных зданий.
Заключительная стадия эволюции неолитического гра-
достроения приходится на шаньдунский вариант Луншань.
К середине 90-х годов прошлого века на территории Шань-
дунского полуострова было открыто 17 городищ(!), занимаю-
щих площадь от 11 000 до 57 000 м2. Приблизительно по-
ловина из них сосредоточена на юго-западной оконечно-
сти провинции Шаньдун — в лево- и правобережной зоне
Хуанхэ, тянущейся от современного города Цзинань до
границы с Хэнанью, где, видимо, и располагалась метро-
полия луншаньской общности. Городища, расположенные
в указанном районе, заметно отличаются по величине. Вы-
деляются два наиболее крупных населенных пункта —
Чэнцзыя (1990 г., к северо-востоку от Цзинань) и Цзинъ-
янган (1994 г., в левобережной части Хуанхэ). Первое из
названных городищ имеет строго прямоугольную в плане
форму и занимает площадь в 20 000 м2 с лишним. Оно
было обнесено стеной, высотой 2,5 м, шириной y основа-
ния 14 и y верха 8 м. Общая протяженность стены состав-
ляла 1990 м (455 м с востока на запад и 540 м с севера на
юг). Планировка внутренней части городища явно опира-
лась на ось «север-юг». Второе городище тоже имеет в
плане форму правильного прямоугольника (1100 м с восто-
ка на запад, 360 м с севера на восток, общая площадь —
более 40 000 м2). На его территории были обнаружены две
земляные платформы — точно такие же по форме и техни-
ке исполнения, как и лянчжуские, и размером 16 000 и
10 000 м2, т. е. вполне достаточные для возведения на них
дворцовых архитектурных ансамблей.
Оба городища были окружены мелкими городищами
без городских стен. Так вырисовывается картина админи-
стративно-территориального устройства луншаньской общ-
ности — по принципу полисных образований. Одновремен-
но подобная административно-территориальная организа-
ция указывает на то, что в Луншань произошло отделение
города от сельскохозяйственной среды.
Столь же существенно, что география луншаньского
градостроения отнюдь не ограничивается районом метро-
полии. Целая группа городищ была открыта в максималь-
но отдаленных от нее местностях: в южной (вблизи от гра-
ницы с Цзянсу), в юго-восточной (почти на самом побере-
жье Желтого моря)21, в северо-восточной (около Бохайского
залива)22 и в восточной23 (окраинах провинции Шаньдун,
бывших в то время крайними периферийными районами
луншаньской общности). Причем все периферийные горо-
дища по форме (строго ректагональная в плане) и планиро-
вочным принципам повторяют собой столицы. Следователь-
но, в шаньдунском варианте Луншань градостроительная
практика приобрела повсеместный характер, что сопровож-
далось дальнейшим утверждением ранее наметившихся
планировочно-семиотических принципов.
Картина эпохи неолита и ее культурно-художественно-
го наследия будет неполной, если мы хотя бы кратко не
остановимся и на таком цивилизационном достижении,
как изобретение металлургии.
21 Например, городище Гу-
чэну открытое в 1994 г. в юго-
восточном пригороде совре-
менного города Гочэн, кото-
рое занимает квадратную в
плане площадь, со сторонами
длиной 100 м.
22 Например, городище Ван-
цуньу открытое в 1985 г. на
территории уезда Шоугуан,
которое является крупней-
шим (57 000 м2) и древней-
шим (восходит предположи-
тельно к 4300 г. до н. э.) из
луншаньских городищ. Как
таковое оно могло быть одним
из региональных политиче-
ских центров.
23 Например, городище Дань-
тучэн, открытое в 1995 г.
рядом с современным городом
Улянь, которое занимает пло-
щадь 25 000 м2 и тоже имеет
строго прямоугольную в пла-
не форму.
В течение долгого времени в европейской науке господ-
ствовала точка зрения, что Китай вступил в бронзовый век
не ранее первой трети II тыс. до н. э. A так как дошедшие
до нас от того времени изделия отличаются неожиданной
для начальной стадии цветной металлургии технологиче-
ской сложностью, то в академических кругах не утихали
споры вокруг проблемы происхождения китайского бронзо-
литейного производства. Постоянно раздавались голоса, что
оно никак не могло возникнуть самостоятельно, на чем на-
стаивают древние тексты, a появилось в Китае в качестве
заимствования откуда-то извне. Археологические находки
заключительной трети прошлого века в очередной раз оста-
новили эти споры. Выяснилось, что китайская металлургия
зародилась в пределах III тыс. до н. э., что, заметим, хроно-
логически совпадает с зарождением металлургии в Древнем
мире. И, более того, на территории неолитического Китая
выявлены целых три самостоятельных очага зарождения
металлургии — «северо-восточный», «восточный» и «запад-
ный». Первый из них, как это понятно из его терминологи-
ческого обозначения, принадлежал культурам хуншаньско-
го круга. И если еще недавно считалось, что металлургия
была освоена уже постхуншаньскими общностями, распо-
лагавшимися в южной оконечности Внутренней Монголии,
РАННИЕ ОЧАГИ
МЕТАЛЛУРГИИ
95
24 Эта культура была от-
крыта в 1948 г. на западной
окраине центральной части
Ганьсу (уезд Шаньданьсянь).
Планомерные поисковые рабо-
ты были возобновлены в этом
месте в 1976 г. и затем наибо-
лее активно проводились в
1986-1987 гг., тогда и была
обнаружена большая часть
металлических изделий.
то теперь имеются некоторые свидетельства существования
еще более древнего металлургического центра на террито-
рии Хэбэй, a именно — в районе гор Яныни, с которым
соотносится, напомним, один из начальных ареалов форми-
рования северо-восточных культур.
«Восточный» очаг начал складываться чуть ли не в верх-
них слоях Давэнькоу. Для шаньдунского варианта Луншань
обнаружены уже несколько локальных металлургических
центров и достаточно представительный набор изделий. Вна-
чале в них изготовлялись предметы из меди, что полностью
отвечает закономерностям эволюции мировой металлургии.
Использовалась техника литья, и исполнялись предметы,
отлитые в простейших формах, — наконечники для стрел,
орудия труда типа шил и украшения-подвески. Главным
сюрпризом стала находка двух шил из латуни, состоявшей
на 23% из цинка, a также из небольших примесей олова,
свинца, железа, серы и кремния. Вероятнее всего, такой
сплав получился случайно, в ходе обычного медеплавильно-
го процесса. Если же нет, то мы имеем дело с древнейшими
в мире латунными изделиями.
Бронзовый сплав стал устойчиво применяться в куль-
туре Юэши (1900-1700 гг. до н. э.), сменившей шаньдун-
ский вариант Луншань, и в верхних слоях хэнаньского
варианта Луншань. Важно, что относящиеся к ним метал-
лургические центры находились в тех местностях, которые
впоследствии вошли в метрополию первого китайского го-
сударства. Это и позволяет считать «восточный» очаг глав-
ным истоком китайского бронзолитейного производства.
«Западный» очаг раннего металла начал складываться
в верхних слоях западно-яншаоских культур (Мацзяяо и
Мачан) и продолжил свое развитие в сменившей их куль-
туре Цицзя, для которой обнаружено в общей сложности
более 50 металлических изделий. Они изготовлены из меди,
свинцовой или оловянной бронзы и выполнены методом
холодной ковки либо отливки в простых (одинарных) и
составных изложницах. Мастера Цицзя умели уже изго-
тавливать такие предметы, как топоры, кольца и зеркала.
Еще один крупный металлургический центр, выявленный
на территории провинции Ганьсу, принадлежал бегло упо-
мянутой выше культуре Сыба. Она располагалась в южной
части Ганьсу, приблизительно в 600-700 км к северо-запа-
ду от ареала Цицзя, и обладала, как выяснилось, еще бо-
лее развитой металлургической традицией24. Известно около
200 относящихся к ней медных и бронзовых изделий. Они
включают в себя орудия труда — топоры (с лезвием дли-
ной 9-10 см) и мотыги, оружие — наконечники для ко-
пий и стрел, кинжалы (ножи) с рукоятками (длина рукоя-
ток — до 10 см, общая длина — до 20 см) и украшения
(браслеты, бляшки). Наиболее примечательным артефак-
том является навершие жезла (бунчука). Несмотря на его
крохотные размеры (высота 8 см), он имеет выразитель-
ное художественное оформление в виде четырех симмет-
рично расположенных горельефных изображений головы
барана (козла). Сходные орнаментально-пластические ком-
96
позиции воспроизводились впоследствии на древнекитаи-
ских бронзовых сосудах. Поэтому, ввиду неясности проис-
хождения культуры Сыба и ее взаимоотношений с совре-
менными ей общностями региона Хуанхэ не исключено, что
«западный» очаг тоже принял прямое участие в процессе
становления китайского бронзолитейного производства.
Итак, изучение художественного наследия неолитиче-
ского Китая приводит к следующим основным выводам.
Во-первых, китайское искусство возникло из несколь-
ких самостоятельных художественных традиций, которые
были порождением самобытных этнокультурных общно-
стей. С достаточной степенью очевидности вырисовывают-
ся два главных художественных ареала, связанных соот-
ветственно с яншаоскими культурами, к которым частич-
но примыкают и северо-восточные общности, и с культурами
южного, юго-восточного и восточного регионов. Первый из
указанных ареалов характеризуется художественным тра-
диционализмом, выражающимся в том числе в тенденции
к типизации и стандартизации творческой активности, при-
оритетным использованием графических образов и господ-
ством натуралистического стиля, второй — художествен-
ной инновационностью, развитостью пространственного во-
ображения и общего имагинационного начала и наличием
«фантазийного» стиля, нацеленного на создание изображе-
ний фантастических существ. Следовательно, китайское
искусство изначально располагало совершенно различны-
ми художественными установками, эстетическими ориен-
тирами и изобразительными средствами, что и предопреде-
лило его дальнейшее стилистическое богатство и много-
гранность.
Во-вторых, в неолитической предметно-творческой дея-
тельности наметились практически все ведущие сферы и
виды будущего китайского художественного творчества и
начали проявляться их типологические морфолого-семи-
отические особенности. Одновременно наблюдается начало
процесса дифференциации предметно-творческой деятель-
ности по социокультурному признаку, что привело к появ-
лению относительно самостоятельных традиций культово-
го и официального искусства.
В-третьих, в неолитическую эпоху сложился исходный
для всего последующего китайского декоративно-приклад-
ного искусства набор отделов, категорий и форм изделий,
были освоены базовый репертуар оформительских спосо-
бов и азы соответствующих технологических процессов.
Сказанное позволяет утверждать, что с эпохой неолита,
действительно, соотносится начальный этап формирования
всего китайского художественного творчества, чем и опре-
деляется значимость ее места и роли в истории искусства
Китая.
Металлические изделия
(ножи и топоры)
кулътуры Сыба
Бунчук, украшенный
горельефными
изображениями голов
баранов
і История нскусстпа Китая
ГЛАВА
ИСКУССТВО
ДРЕВНЕГО КИТАЯ
(П-І тыс. до н. э.)
«Древний Китай» представляют четыре исторические эпо-
хи — Шан-Инъ (1600-1046 гг. до н. э.)25, Чжоу (1046-
221 гг. до н. э.), Цинъ (221-207 гг. до н. э.) и Ханъ (206 г.
до н. э. — 220 г. н. э.) с одноименными государственными
образованиями, из которых два последних уже являются
собственно империями26.
ЭПОХА ШАН-ИНЬ
(ХѴІІ-ХІ вв. до н. э.)
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ИНЬСКОЙ ЭПОХИ
История возникновения
иньского государства.
Важнейшие памятники
и артефакты
ХХ-ХѴІІІ вв. до н. э.
25 Для эпохи Шан-Инь и
для первой половины эпохи
Чжоу в отечественных и зару-
бежных изданиях могут ука-
зываться различные даты как
их существования, так и от-
носящихся к ним отдельных
исторических событий. Автором
используются датировки, полу-
ченные в результате масштаб-
ного исследовательского проек-
та, осуществленного (1996-
2000 гг.) большой группой
ученых КНР, которые были
опубликованы в китайских на-
учных периодических издани-
ях в конце 2000 г. См.: Ся Шан
Чжоу син дуаньдай гунчэн 1996-
2000 нянь цзедуань чэнго гаояо
(Основные результаты науч-
ного проекта 1996-2000 гг.
по изучению эпох Ся, Шан и
Чжоу) // Вэньу. 2000. № 12.
Шан-Инь — древнейшее китайское государство, исто-
ричность которого исчерпывающе доказана археологиче-
скими материалами. Его название состоит из двух терми-
нов: шан — самоназвание народности, основавшей это го-
сударство, инь — название его последней столицы. Но уже
в китайских книгах чжоуской эпохи названные термины
стали употребляться в качестве синонимов, что практику-
ется и в современной научной литературе. Само государ-
ство и соответствующая историческая эпоха могут опреде-
ляться и как «Шан», и как «Инь», народность — как «инь-
цы» и «шанцы».
Традиционная китайская историология и общественно-
политическая мысль, сложившиеся к II—I вв. до н. э., на-
стаивают на существовании еще двух более древних, чем
иньская, исторических эпох, называемых эпохой правле-
ния пяти совершенномудрых государей древности и эпо-
хой правления династии Ся. Под «совершенномудрыми
государями древности» (в китайской терминологии — пять
императоров — y du) имеются в виду: Желтый импера-
тор (Хуанди), царствовавший, согласно преданиям, с 2697
по 2597 г. до н. э.27, и его потомки — Чжуань-сюй (2573-
2435 гг. до н. э.), император Ку (Гаосинъ, 2436-2365 гг.
до н. э.), Яо (2356-2258 гг. до н. э.) и Шунъ (2256-2208 гг.
до н. э.)- В древних книгах сообщается немало сведений об
этой эпохе и о правлении каждого государя28. Более того, в
Китае до сих nop имеется немало связанных с ними памят-
ных мест, например место рождения и смерти Желтого
императора (оба — в окрестностях Сианя, пров. Шэньси).
Однако никаких вещественных свидетельств существова-
98
ния даннои эпохи в том виде, в каком она рисуется в
текстах, пока не обнаружено. Поэтому подавляющим боль-
шинством современных исследователей она считается су-
губо легендарной, a перечисленные персонажи — архаи-
ческими божествами, образы которых трансформировались
в образы государственных деятелей в последующей фило-
софии и историологии и главным образом под воздействи-
ем конфуцианства. Показательно, что вне конфуцианской
литературы совершенномудрые государи оказываются глав-
ными действующими лицами явно мифологических по своей
природе повествований. Важное место они занимали и в
древнекитайских религиозных представлениях. Тот же
Желтый император был одним из главных персонажей бо-
жественного пантеона чжоуской и ханьской эпох и почи-
тался владыкой центральной зоны мирового пространства.
A в даосских верованиях он провозглашается первым чело-
веческим существом, обретшим бессмертие.
Однако независимо от истории происхождения их об-
разов совершенномудрые государи всегда, насколько это
удается проследить по имеющимся текстам и артефактам,
были излюбленными персонажами китайской литературы
и изобразительного искусства. Их портреты относятся к
числу древнейших художественных произведений (погре-
бальные рельефы I—II вв. н. э., подробно см. далее). Нельзя
также не заметить, что именно им приписываются все те
цивилизационные достижения национальной архаики, ко-
торые и в самом деле состоялись в неолитическую эпоху:
изобретение гончарного дела, шелкоткачества, бронзоли-
тейного производства, начало градостроения и т. д. Поэто-
му вполне вероятно, что в легендах о Желтом императоре и
его потомках на самом деле воплотились воспоминания
древних китайцев о подлинных событиях далекого про-
шлого, пусть даже они излагаются в предельно искажен-
ном и мифологизированном виде.
С династией Ся, существовавшей, по преданию, с XXI
по XVI в. до н. э., в китайской традиции связывается ут-
верждение национальной государственности и всех ее вла-
стных административных структур. Такое отношение к ней
подчеркивается употреблением для обозначения Ся, Шан-
Инь и Чжоу единого термина — «Три динаспгии» (Сань
дай). Основателем Ся считается государь по имени Юй
(Сяский Юй), царствовавший с 2205 по 2196 г. до н. э. Од-
новременно Сяский Юй является главным героем мифа о
потопе, в котором рассказывается, что именно он спас страну
и ее народ от неминуемой гибели. Этот сюжет бытовал в
древней литературе в нескольких версиях. В конфуциан-
ских книгах он подается в виде предельно историчного рас-
сказа, a сам Юй рисуется безупречным во всех отношениях
правителем. Другие же версии мифа о потопе настолько
насыщены мифологическими по своему характеру деталя-
ми и образами, что они полностью выдают исходно боже-
ственное происхождение его образа. Неудивительно, что
вплоть до последнего времени эпоха Ся подавляющим
большинством ученых тоже считалась сугубо легендарной.
26 В китайской и зарубеж-
ной науке в последние годы
все больший авторитет при-
обретает несколько иной ва-
риант периодизации истории
Китая, в котором к собствен-
но древности относятся толь-
ко эпохи Шан-Инь и Чжоу, a
начиная с эпохи Цинь откры-
вается новая историческая
фаза — «имперский Китай»,
которая и продлилась до на-
чала XX в.
27 Такие годы правления
Хуан-ди и его потомков были
вычислены китайскими уче-
ными в конце XIX — начале
XX в. путем соотнесения ука-
занных в древних текстах дат
с европейской системой лето-
исчисления.
28 В наиболее полном и си-
стематизированном виде эти
сведения излагаются в знаме-
нитом историологическом со-
чинении «Исторические
sannen» («Запискиисторика», «Ши
цзи») Сыма Цяня (145?-? гг.
до н. э.). В настоящее время
все болыпее внимание специ-
алистов привлекает еще одно
сочинение — «Бамбуковые
анналы» («Чжушу цзинянь»),
которое было создано ориен-
тировочно в IV—III вв. до н. э.
В нем также повествуется о
событиях древних времен, на-
чиная с царствования Хуан-
ди и до IV в. до н. э. Судьба
этого сочинения необычна.
Его единственный текст был
случайно найден в III в. н. э.
(279 г.) могильными ворами
в разграбленном ими древнем
княжеском погребении. По-
этому европейские ученые в
течение многих лет относи-
лись к нему скептически. Те-
перь же ими признается, что
в «Бамбуковых анналах» со-
держится в ряде случаев даже
более ценная и отвечающая
исторической действительно-
сти информация, чем в труде
Сыма Цяня.
99
ВНУТРЕННЯЯ МОНГОЛИЯ
: ' '" ""f 1" "\
»«♦ ,»'**** І
ÜC" ѵ
I •. Хуанхэ \
\ .»*•** ,у " 'к
\ "\ ._. г-\
і **•• и / //* ***'*'*
***. : /* ** /•''•. »<*:
/Суігунор;> \ §^< ШЭНЬСИ
ЦИНХАИ \ "-г ^(t> ; і
4, ,..) ../ X \ )
V" **»*.. ; Ч
ч •"* ГАНЬСУ V ?" "***'*** *
; •* р. БэйХЭ
*Ч«.,Г\ / Хувшвнь*СИАНЬ
****«. * '"•*.•*'* * **** * Ч J|{^2 «...«»
! ' ***".. »•"* **ï
s ****♦*"* ** ****«*"** £,
^з *ч'\
\ч СЫЧУАНЬ і • ЧЭНДУ /: j
^ '
} Г ".^ . _£
•■••} л ..,.,.,.. "р
"\ ./ "*•''{ '"':•
\ 1 «\ »•"*•**■■»..• ,*•*••*
•* / гуичжоу *ѵ;.;.'«.ѵ**
ч# **". ....•..:Ч.*. V* *и*
\ ) ЮНЬНАНЬ £'S"'S
иОНЬНАНЬ— провинция
• ПЕКИН— современные города
\£*> Хэншань — горы
m— собственно китайские
памятники
m— памятники, содержашие
специфические изделия
ГУАНСИ
г ,•*. . ..♦**гг
^^Х '**
\ • ПЕКИН
/ ^ Хэншань \
: /'
( •«. ХЭБЭЙ
: ШАНЬСИ : / ѵэ
} £ / X
^....^
\
..J
*'\
ляонин
g . 1
Бохайский залив \
[ / •АНЬЯН-/ ^Тайшань
L5 >,.... '' *0 ШАНЬДУН
1 * .^*2 *****
.- yf-4*«"*-
; лоян А- чжэнчжоу.. ♦•*
ІРуишань *:* *„.••**
Л хэнань ,...:• #8
*****
**•...*»
*\.і
жвлтое
MOPE
^ ЦЗЯНСУ
03. "
Чаоху
Янцзы
/ѢНАНКИН 1
ХУБЭЙ ѴЧ-,^НЬХУЭЙ/^г
. *" 3 г-
Т**0 уѵ~. j. r'
.„./•*""ѵ *•*"*'*
03.
Дунтин ,; .H/bbMAH
ЧАНША» / Ф*
"> цзянси ./
ХУНАНЬ \. /%
•ѵ. *** 4 ,*
; Хэншань
\
• ШАНХАЙ
» 03.
s'Tau'xy Ханчжоуский \
*.і* залив
( ■ ■ it ■ ■!
ЧЖЭЦЗЯН J
* ■ 1
.* . Ai4 . -
•=...А.-. -.■>■<» •■:
•••■ • ^<і
оР
.^^^^^^^^ш,
-, f \ ФУЦЗЯНЬ О
..Д ..*.... f'"l'^j /
/*** ГУАНДУН Ч
/ . щГУАНЧЖОУ .. ,,аЛ
./ -1.
^і^^^ш^ ^И:
Важнейшие памятпники
доиньского, раннеинъского
и позднеиньского периодов
Собственно кйтайские памятни-
ки: 1 — Эрлитоу, 2 — Эрлиган,
3 — Ванчэнган, 4 — Дахэцунь,
5 — Юаньцюй, 6 — Паньлун-
чэн, 7 — Тайсицунь, 8 — Фу-
нань, 9 — Юэян-Хуажун, 10 —
Цичунь, 11 — Цзянлин-ПІаши,
12 — Чэнгу. Памятняки, содер-
жащие специфические изделия:
1 — Синьгань, 2 — Синьнин, 3 —
Саньсиндуй.
Высказывалось также мнение, что под Ся следует пони-
мать не гипотетическое государственное образование, a про-
цесс консолидации поздненеолитических общностей, со-
провождавшийся сложением единого духовного, произво-
дительного и административно-политического потенциала,
что и привело к возникновению Шан-Инь.
Дискуссии по поводу историчности Ся вспыхнули с
новой силой в 80-х годах прошлого века после очередной
серии археологических находок, сделанных в центральной
части провинции Хэнань. Эти находки выявили следы су-
ществования там очередной культурной общности, полу-
чившей в науке название Эрлитпоу, ареал и хронологиче-
ские рамки которой (1900-1600 гг. до н. э.) в целом совпа-
дают с указанными в письменных источниках территорией
и хронологией Ся.
100
Важнейшим памятником Эрлитоу является одноимен-
ный комплекс, открытый еще в 1959 г. в окрестностях
современного города Яньши (в 12 км от Лояна). Он зани-
мает площадь 3 км2 (1,5 км с востока на запад, 2 км с юга
на север) и состоит из четырех стратиграфических слоев,
нижний из которых восходит к концу XX — началу
XIX в. до н. э. На территории комплекса были обнаруже-
ны остатки гончарных, камнерезных, косторезных и брон-
золитейных мастерских, двух архитектурных ансамблей,
более ста погребений и множество отдельных артефактов,
наиболыний интерес из которых представляют бронзовые
и нефритовые изделия.
Один из архитектурных ансамблей (1974 г.) состоял,
судя по обнаруженным элементам, из единичного здания и
ограды, образованной предположительно крытыми галере-
ями с колоннадой. Он имел в плане форму почти правиль-
ного прямоугольника (108 м с запада на восток, 100 м с
севера на юг) и располагался на общей глинобитной плат-
форме, высотой около 80 см. Прямо посередине южного
участка ограды находился широкий (34 м) проход, оформ-
ленный, согласно реконструкциям, в виде восьмиарочных
и увенчанных соломенной (тростниковой) крышей ворот.
Главное здание ансамбля тоже занимало прямоугольную в
плане площадь (30,4 х 11,4 м) и возвышалось на отдельной
платформе (36 х 25 м), которая была построена прежде ос-
новной. Здание располагалось вблизи от северной части
ограды (в 70 м к северу от центральных ворот) и строго по
оси «север-юг». Оно тоже было покрыто четырехскатной
соломенной крышей, опиравшейся на ряды внешних дере-
вянных колонн, которые покоились на каменных опорах.
Северный и южный ряды состояли из девяти колонн, рас-
положенных на расстоянии 3,8 м друг от друга, восточный
и западный ряды — из четырех колонн. По единодушному
мнению исследователей, этот ансамбль был царской рези-
денцией или церемониальным дворцом, предназначенным
для проведения массовых светских или религиозных ме-
роприятий: соответствующие расчеты показали, что двор,
образованный оградой, мог вместить до 10 000 человек.
Второй ансамбль (1977-1978 гг.) находился в 150 м к
северо-востоку от первого. Он тоже включал в себя главное
здание и двор (но обнесенный не оградой, a сплошной гли-
нобитной стеной) и занимал прямоугольную в плане пло-
щадь (37 м с севера на юг и 58 м с запада на восток).
Главное здание состояло из трех отдельных помещений (5-
6 х 7-8 м каждое) и тоже располагалось на глинобитной
платформе (32 х 12 х 0,2 м). Перед зданием находилось
погребение. Этот ансамбль признается храмом.
Невдалеке от обоих архитектурных ансамблей были
обнаружены (1980-1981 гг.) остатки еще одного строения,
состоявшего из трех помещений и возведенного на плат-
форме (28 х 8 м).
Эрлитоуские погребения по размеру и характеру инвен-
таря распадаются на три группы: царская усыпальница,
захоронения знати и могилы простолюдинов, в которых
Совершенномудрый государь
Яо. С китайской книжной
гравюры ХѴІІ-ХѴІІІ вв.
Совершенномудрый
государь Шунь.
С китаиской книжной
гравюры ХѴІІ-ХѴШ вв.
Эрлитоуский дворец.
Реконструкция
101
Сяский Юй. С китайской
книжной гравюры
ХѴІІ-ХѴІІІ вв.
Эрлитоуское погребение
знати с бронзовыми
и нефритовыми изделиями
присутствовали только останки людей, захороненные весь-
ма небрежно.
За царскую усыпальницу принимается погребение на
территории храмового ансамбля, которое выделяется и по
своим размерам — 5,2х4,25ми6мв глубину. Тело усоп-
шего покоилось в деревянном гробу (1,85 х 1,3 м). Захоро-
нения знати представляют собой небольшие (2 х 1 м) зем-
ляные ямы, но тоже с деревянными гробами, часть из ко-
торых имели лаковое покрытие. Уместно напомнить, что
практика использования в похоронной обрядности специ-
альных вместилищ — каменных саркофагов впервые отме-
чена для северо-восточного региона неолитического Китая,
непосредственно деревянных гробов — для восточного ре-
гиона (культура Давэнькоу). A лаковое покрытие рань-
ше всего встретилось на изделиях юго-восточного региона
(в культуре Хэмуду). Следовательно, уже на материале эр-
литоуской погребальной обрядности хорошо видно, что этой
общностью были восприняты культурно-художественные
традиции нескольких регионов неолитического Китая.
Погребальный инвентарь царской усыпальницы и за-
хоронений знати состоял главным образом из керамиче-
ских, бронзовых и нефритовых изделий.
Эрлитоуские бронзовые изделия, как входящие в по-
гребальный инвентарь, так и найденные на территории
комплекса, включают в себя оружие, украшения и сосуды.
Среди предметов вооружения присутствуют знакомые нам
по лянчжуским нефритам секиры-юэ и так называемые
клевцы-гэ — ножеподобные клинки. Такие клинки при-
креплялись к деревянному древку, образуя специфический
вид рубяще-колющего оружия (внешне напоминающего ба-
гор), который впоследствии прочно вошел в древнекитай-
ский боевой арсенал. Сосуды (всего около 15 единиц) пред-
ставлены двумя категориями изделий — винными кубка-
ми цзюэ (высота колеблется в пределах 12-25 см) и цзя
(высотой до 30 см). Подробнее об этих категориях изделий
мы поговорим при рассмотрении бронзолитейного произ-
водства Шан-Инь. Сейчас же лишь отметим, что они, с
одной стороны, занимали существенное место в наборе инь-
ской столовой утвари, a с другой — являют собой первый
пример перевода в бронзу неолитической керамики. Их
прототипами послужили одноименные глиняные кубки,
которые, как это тоже выяснилось совсем недавно, имели
широкое хождение в шаньдунском и хэнаньском вариан-
тах Луншань. Кроме того, бронзовые цзюэ и цзя вобрали в
себя и некоторые архитектонические черты таких специ-
фических форм юго-восточной и восточной керамики, как
чайники-д:э и кувшины-лгг/ай.
Эрлитоуские бронзовые украшения сводятся к подвес-
кам (14 х 10 см), инкрустированным по внешней поверх-
ности бирюзой. Инкрустация выполнена в технике мозаич-
ного панно и воспроизводит фигуру лежащего зверя или,
по другим трактовкам, зооморфно-фантазийную личину.
Главной морфологической особенностью этих изображений
является наличие подчеркнуто выделенных круглых глаза
102
(глазных яблок), что придает им некоторое сходство с обра-
зами «чудовищ» и «демонов» на лянчжуских и луншань-
ских нефритах. Использование бирюзы в качестве инкру-
стационного материала тоже заставляет нас вспомнить о
художественном творчестве восточного и юго-восточного
регионов неолитического Китая (кольца из слоновой кости
и шпилька с бирюзовыми вставками). Бирюзовые мозаич-
ные инкрустации широко употреблялись и в иньском деко-
ративно-прикладном искусстве для отделки оружия (рукоя-
ток охотничьих и ритуально-церемониальных ножей) и
сосудов. Причем они исполнялись по той же, что и эрлитоу-
ские подвески, технологии: бирюза вставлялась в заранее
предусмотренные для этого при отливке изделия пазы и
прикреплялась к металлу с помощью цементоподобного
вещества серовато-белого цвета.
Среди эрлитоуских нефритовых изделий мы видим мно-
гие из знакомых нам по неолитическим нефритам катего-
рий изделий — диски-би с перфорированными краями (спе-
цифическая разновидность лянчжуских би), скипетры-гі/й,
которые дополнились предметами (высотой до 54-58 см),
отождествляемыми со скипетрами-чжан из «шести нефри-
тов». Еще одна категория — жезловидные предметы, напо-
добие рукояток (кит. бин), выглядят отдаленными анало-
гами лянчжуских шилоподобных жезлов. Но, частично
совпадая с неолитическими нефритами по своему реперту-
ару, эрлитоуские изделия откровенно уступают им в слож-
ности форм и художественного оформления. Как будто y
местных мастеров о неолитическом камнерезном искусстве
сохранились только отрывочные, смутные воспоминания.
Как и в случае с лянчжускими нефритами, в эрлитоуских
нефритовых изделиях исследователи усматривают одно из
главных свидетельств существования в рассматриваемой
общности института верховной власти. A комплекс Эрли-
тоу был, по их мнению, столицей данной общности. При-
мечательно, что в двух верхних стратиграфических слоях
комплекса, которые восходят к концу XVII в. до н. э., не-
фритовые изделия больше не встречаются. Их исчезнове-
ние подсказывает, что в определенный момент эрлитоу-
ский комплекс утратил свои столичные функции. И ука-
занная дата совпадает со временем возникновения Шан-Инь.
На сегодня открыто более сотни эрлитоуских памятни-
ков, расположенных на всей территории Хэнань и приле-
гающих к ней частях Шэньси, Шаньси, Хэбэй и Хубэй, —
таковы были, видимо, границы владений Эрлитоу. Эти па-
мятники, во-первых, доказывают, родство данной общно-
сти не только с хэнаньским вариантом Луншань, но и с
предшествовавшими ему местными неолитическими куль-
турами. Например — комплексы Дахэцунъ (1972-1975 гг.)
и Юаньцюй (1984 г.), находящиеся соответственно в 6 км
к востоку от Чжэнчжоу (или в 70 км от Яньши) и на юж-
ной окраине Шаньси, нижние стратиграфические слои ко-
торых образованы поселениями, относящимися к центрально-
яншаоской культуре Мяодигоу. Во-вторых, они свидетель-
ствуют о культурно-хозяйственном и даже, возможно,
Керамические кубки-цзюэ
Эрлитоуская бронзовая
подвеска с бирюзовой
инкрустацией
Эрлитоуские бронзовые
изделия
a — клевец-гэ; б — кубок-цзюэ;
в — кубок-^зя.
103
ЕЕШПЕПШНІШ
BWlHttofllHlES*
Эрлитоуские
нефритовые изделия
a — диск-би с перфорированны-
ми краями; б — рукоятки (жез-
лы) бин; в — скипетр-члга«; г —
клевец-гэ; д — жатвенный нож-
дао.
29 Впервые тезис о том, что
«династия Ся действительно
существовала», был публично
провозглашен руководством
академической науки КНР в
1977 г., на международном
симпозиуме, состоявшемся в
Хэнани и посвященном об-
суждению новейших на тот
момент эрлитоуских находок.
административно-политическом единстве Эрлитоу. Во всех
поселениях, протянувшихся от восточной части Шэньси до
крайней восточной части Хэнани (т. е. по линии протя-
женностью в 700 км с лишним), присутствуют одинаковые
по категориям и формам керамические сосуды.
Отсутствие y эрлитоуского комплекса общей городской
стены вначале объяснялось в науке неразвитостью местно-
го строительства, которое еще не владело искусством возве-
дения городищ. Но эта точка зрения оказалась ошибочной.
Найдено уже несколько эрлитоуских городищ, совпадаю-
щих по строительной технике и планировочным принци-
пам с луншаньскими. Таковыми перед нами предстают го-
родища Ванчэнган и Шанцзе.
Первое из них (первая половина 70-х гг. XX в.) нахо-
дится в более чем примечательном месте (местности Дэн-
фэНу в 35 км к юго-востоку от эрлитоуского комплекса):
вблизи от горного массива — Суншань, бывшего одной из
китайских святынь. Именно это место наиболее часто упо-
минается в древних текстах, когда в них заходит речь о
метрополии Ся и о придворных акциях сяских государей.
Городище было обнесено глинобитной стеной, вскрытый
западный участок которой оказался длиной 92 м, a юж-
ный — более 80 м. Кроме того, стена была почти на 500 лет
старше эрлитоуских архитектурных ансамблей.
Городище Шанцзе (конец 70-х гг. XX в.) расположено
в окрестностях Чжэнчжоу. Оно занимало строго квадрат-
ную в плане площадь и было обнесено еще более мощной,
чем Ванчэнган, стеной. Имея общую протяженность 760 м,
она тоже оказалась старше эрлитоуских архитектурных
ансамблей. Получается, что жители Эрлитоу вначале воз-
двигли укрепленные города и только после этого обустрои-
ли столицу. Но почему все-таки эрлитоуский комплекс не
имел стены? He исключено, что она просто-напросто не
сохранилась. Но может быть и так, что эрлитоуский комп-
лекс был исключительно культовым центром, где находи-
лись церемониальный дворец, святилища и некрополь. И по
верованиям местного населения, такая столица находилась
под особым покровительством высших сил и потому не
нуждалась в фортификационных сооружениях.
Совпадения между хозяйственно-политическим и куль-
турным обликом Эрлитоу и литературными характеристи-
ками Ся очевидны. Тем не менее правомерность их полно-
го отожествления по-прежнему обсуждается учеными, за
исключением академических кругов КНР, непоколебимо
уверенных в историчности Ся29. He вдаваясь в детали
этих споров, ограничимся выводом о том, что в XX-
XVIII вв. до н. э. в центральном регионе Китая, действи-
тельно, существовала самостоятельная этнокультурная об-
щность, обладающая рядом признаков государственного
образования, которая и является искомым промежуточ-
ным звеном между неолитическими культурами и Шан-
Инь. Такое же место, в чем убеждают все разобранные
артефакты, художественное наследие Эрлитоу занимает и
в истории китайского искусства.
104
В древних книгах о Шан-Инь рассказывается следую-
щее: родоначальником иньского правящего дома был сын
совершенномудрого государя Гао-синя по имени Ce, кото-
рому Шунем (или Юем) было даровано удельное владение в
местности Шан, находившейся, по предположениям ис-
следователей, в восточной части Хэнани (на территории
современного уезда ІПанцю). Основателем иньского госу-
дарства считается очередной шанский правитель — Чэн-
тан (У-тан), возглавивший политическую и военную оп-
позицию последнему сяскому царю — тирану Цзе. Взяв
штурмом столицу Ся, Чэн-тан утвердил собственный пра-
вящий режим со столицей в городе Бо30. После благопо-
лучного царствования самого Чэн-тана и восьми поколе-
ний его потомков иньский правящий дом оказался в кри-
зисном положении. Пытаясь его исправить, правители
переносили столицы из одного места в другое — 5 раз на
протяжении 163 лет31, но это не помогало. Наконец к вла-
сти пришел 19-й иньский царь Панъ-гэн32. Пробыв на тро-
не около полувека — с 1300 по 1251 г. до н. э., он сумел
восстановить и упрочить былое могущество своего государ-
ства. A его первым деянием стало учреждение новой столи-
цы — уже упоминавшегося ранее города Инь, — который
в отличие от всех прежних столичных городов располагал-
ся не в прибрежной зоне Хуанхэ, a к северу от нее и на
весьма значительном удалении от раннеиньской метропо-
лии. Этому событию в китайской историологии исходно
придавалось настолько принципиальное значение, что оно
послужило основанием для разделения иньской эпохи на
два самостоятельных периода — Ранняя Инь (или Шан) и
Поздняя Инъ (или собственно Инь). Приведенная периоди-
зация используется и в современной науке с дополнитель-
ным определением раннеиньского периода как «додина-
стического», a позднеиньского — как «династического»,
что призвано подчеркнуть эволюцию иньской государствен-
ности и верховной власти. Своего наивысшего расцвета
иньское государство достигло при 21-м царе, племяннике
Пань-гэна — У-дине (1250-1192 гг. до н. э.). Апогиблооно,
по уверениям древних текстов, вновь по вине царя-тира-
на — Чжоу-синя (Ди-синь, 1075-1046 гг. до н. э.).
Знакомство европейской науки с иньской эпохой состоя-
лось в 1928 г., когда вблизи от современного города Анья-
на в северной части Хэнани были обнаружены остатки
городища, сразу же единодушно отождествленного учены-
ми с позднеиньской столицей. С тех nop в окрестностях
Аньяна почти непрерывно велись (они продолжают прово-
диться и по сей день)33 масштабные поисковые работы, в
результате которых были собраны богатейшие археологи-
ческие материалы, позволяющие восстановить все основ-
ные сферы хозяйственной, историко-политической и ду-
ховной жизни позднеиньского общества, тогда как для ран-
неиньского периода все еще остается немало неясных или
спорных моментов. Поэтому в научной литературе весьма
распространена точка зрения, что история иньского госу-
дарства на самом деле начинается лишь с позднеиньского
Важнейшие памятники
и артефакты
?>аннеиньского
ХѴИ-ХІѴ вв. до н. э.)
и позднеиньского
(ХІѴ-ХІ вв. до н. э.)
периодов
30 В некоторых современ-
ных исследованиях предлага-
ются еще более точные даты
покорения шанцами Ся и воз-
никновения иньского госу-
дарства — 1575 или 1554 гг.
до н. э. Основанием для этих
расчетов послужило отожде-
ствление астрономической
аномалии, описанной в «Бам-
буковых анналах» для по-
следних лет царствования Цзе,
с «парадом планет», состояв-
шимся в декабре 1576 г. до н. э.
Попутно заметим, что данное
наблюдение является еще од-
ним косвенным свидетель-
ством историчности Ся.
31 Некоторые исследовате-
ли усматривают в таком пе-
реносе столиц рудиментарное
отражение ранее полукочево-
го образа жизни шанцев, что
сразу же отличает их от всех
неолитических и последую-
щих земледельческих общно-
стей, известных для региона
среднего течения Хуанхэ. Вер-
сия, что шанцы на самом деле
являлись народностью, про-
никшей в этот регион откуда-
то извне, тоже не выдержива-
ет, на мой взгляд, критики.
Однако смена столичного го-
рода действительно, как это
и объясняется древними авто-
рами, могла иметь политико-
ритуальный смысл, подтверж-
дается всей дальнейшей ки-
тайской историей.
32 Здесь и далее слово «царь»
используется мною в его стро-
гом терминологическом зна-
чении: так в отечественном
китаеведении принято пере-
давать титул древнекитайских
правителей — ван.
33 Эти работы непрерывно
велись с 1928 по 1937 г., за-
тем были остановлены из-за
разгоревшихся в Китае войн и
возобновлены в начале 50-х гг.
прошлого века.
105
периода, а в предшествующие ему столетия на территории
Китая существовали всего лишь отдельные общности, в луч-
шем случае отмеченные начальными признаками государ-
ственности. На этот раз более убедительной по многим при-
чинам представляется традиционная версия возникновения
Шан-Инь, и мы будем рассматривать раннеиньский и по-
зднеиньский периоды как относящиеся к единой истори-
ческой эпохе.
Важнейшим памятником раннеиньского периода явля-
ется комплекс Эрлиган, открытый в 1952 г. на территории
юго-восточной части все того же города Чжэнчжоу и являю-
щий собой — по степени развитости и отчетливости инф-
раструктуры — полноценный город. Он занимал площадь
3,2 км2, имел в плане форму почти правильного квадрата и
был обнесен величественной глинобитной стеной, общей
протяженностью в 6960 м (западный участок — 1690 м,
северный — 1870 м, южный и восточный — по 1700 м каж-
дый). Ширина стены y основания достигала 36 м, a ее вы-
сота — 9,1 м. По подсчетам китайских ученых (которые,
правда, оспариваются некоторыми европейскими и амери-
канскими специалистами), над сооружением такой стены,
начиная с заготовки строительного материала, должны были
трудиться 10 000 мастеров в течение 12 лет, имея один
выходной в неделю. Судя по результатам радиокарбонного
анализа, стена была воздвигнута в 20-х гг. XVII в. до н. э.,
т. е. незадолго до окончательной победы шанцев над Ся.
Внутри города находились архитектурные ансамбли, на
что указывает наличие глинобитных платформ (более 65 м
в длину). Но полцая реконструкция этих ансамблей еще не
произведена в связи с трудностями продолжения поиско-
вых работ в условиях оживленного квартала современного
индустриального города. Помимо платформ, внутри стен
Эрлигана и за их пределами были обнаружены остатки
многочисленных жилых построек, a также гончарных, брон-
золитейных и камнерезных мастерских, строго сгруппиро-
ванных по профессиональному признаку.
К числу наиболее примечательных эрлигановских арте-
фактов относятся керамические сосуды с глазурным покры-
тием (подробно см. глава 11), нефритовые изделия, совпада-
ющие по своему репертуару и художественному решению с
эрлитоускими, и комплект глиняных скульптурок. Вос-
производя образы животных (барана, тигра), рыб и птиц,
выполненные в натуралистической манере, эти скулыітур-
ки явно продолжают собой морфологическую линию, иду-
щую от неолитической пластики, прежде всего от изобра-
зительного искусства южной культуры Шицзяхэ.
Набор эрлигановских бронзовых изделий намного уве-
личился, по сравнению с эрлитоускими, a их качество рез-
ко возросло. Среди них присутствуют уже образцы почти
всех основных для древнекитайского бронзолитейного про-
изводства категорий кухонной и столовой утвари. Получа-
ется, что на рубеже эрлитоуского и раннеиньского перио-
дов китайская цветная металлургия вступила в качествен-
но новую стадию своего развития.
Эрлигановское городище сразу же стало главным пре-
тендентом на роль первой иньской столицы — Бо. Однако
в дальнейшем недалеко от него были обнаружены еще два
крупных города — Шисянгоу (конец 70-х — начало 80-х гг.
XX в.) и Сяошуанцяо (1990 г.)- Первый из них находится в
окрестностях уже хорошо знакомого нам города Яныни
(т. е. рядом с эрлитоуским комплексом), второй — в 20 км
от Чжэнчжоу. Шисянгоу занимал прямоугольную в плане
площадь и был обнесен мощной стеной (протяженность
северного участка — 1215 м, западного — 1410 м, восточ-
ного — 1640 м). На его территории были возведены по мень-
шей мере два архитектурных ансамбля дворцового или хра-
мового типа. Один из них, состоявший из отдельного строе-
ния (36,5 м в длину) и двора, обнесенного глинобитной
стеной, очень похож на эрлитоуский церемониальный дво-
рец. В научной литературе предлагаются различные ин-
терпретации этих городищ. По одним версиям, они-то и
являются следующими, после Бо, раннеиньскими столи-
цами. По другим — резиденциями местной знати. По тре-
тьим — укрепленными населенными пунктами, в кото-
рых размещались воинские гарнизоны, необходимые для
поддержания порядка среди покоренного шанцами насе-
ления. В любом случае масштабы раннеиньских городов и
их количество указывают на то, что китайское инженерно-
архитектурное искусство, подобно бронзолитейному про-
изводству, в ходе утверждения иньского государства всту-
пило в очередную эволюционную стадию.
Главным позднеиньским памятником, как это понятно
из сказанного ранее, является аньяновский комплекс, или,
в более точной научной терминологии, «Руины Инъ» (Инъ
сюй). Он занимает общую площадь 24 км2 и распадается на
две основные части — город (Сяотунъ) и кладбище (Сибэй-
ган)у находящиеся соответственно на южном и северном
берегах протекающей в этой местности реки (Хуанъхэ).
Велика вероятность, что такое местоположение было обус-
ловлено иньскими анимистическими представлениями,
предусматривавшими наличие специальной преграды между
миром живых и царством мертвых.
Поздеиньская столица вновь предстает перед нами гран-
диозным и четко спланированным городом, на территории
которого располагались дворцы, храмы, жилые и ремес-
ленные кварталы. Но он опять не имел общей городской
стены, что подтверждает высказанное выше предположе-
ние о культовом характере древнейших китайских столиц34.
Кроме единичных (предположительно жилые здания)
построек, на территории этого города были открыты остат-
ки 53 строений, образующих 3 архитектурных ансамбля,
которые обычно обозначаются в научной литературе как
«северный», «центральный» и «южный». «Северный» ан-
самбль вновь занимает строго прямоугольную в плане пло-
щадь (100 м с севера на юг и 90 м с запада на восток).
В него входят 15 различных по размерам («болыпие» и «ма-
ленькие») строений, расположенных параллельными ряда-
ми (с севера на юг). Главный вход «болыиих» строений
Бронзовый котел-цин
из комплекса Эрлиган
34 Сходные точки зрения
уже неоднократно высказыва-
лись в научной литературе,
включая версию о том, что
Сяотунь был городом-некропо-
лем или сугубо ритуальной
столицей, где находились толь-
ко святилища и хранилище
царских регалей. Другие же
исследователи считают, что
остатки городской стены еще
просто не обнаружены либо,
она была полностью размыта
частыми в этой местности на-
воднениями.
107
Анъяновские строения.
Реконструкция
a — главное здание дворцового ан-
самбля иньских царей ХІІ-ХІ вв.
до н. э.; б — главное здание «юж-
ного ансамбля».
11 Аньяновские царские
U усыпальницы
ориентирован на юг, «маленьких» — на восток. Этот архи-
тектурный ансамбль считается дворцом царя У-дина.
«Центральный» ансамбль объединяет в себе 21 строе-
ние и отличается более сложной, чем «северный», компози-
цией. В нем отчетливо выделяется главное здание (70 х 40 м),
тянущееся с севера на юг и воздвигнутое на высочайшей,
трехметровой, из тридцати слоев утрамбованной глины,
платформе. Оно состояло из центрального двухэтажного
строения с внешней колоннадой и двух прилегающих к
нему боковых флигелей. Этот ансамбль признается двор-
цом иньских царей, построенным в XII в. до н. э. (при царе
Цзу-цзя, 1172-1139 гг. до н. э.).
«Южный» ансамбль занимает площадь 175 м2 (50 м с
севера на юг и 35 м с запада на восток) и включает в себя
17 неболыиих по размеру строений. Здесь тоже отчетливо
выделяется главное здание, которое находилось в северной
части ансамбля, было вытянуто по оси «запад-восток» и
обращено входом на юг. Остальные строения стоят перпен-
дикулярно к нему, как бы образуя восточное и западное
«крылья» архитектурного комплекса. «Южный» ансамбль
считается храмом, воздвигнутым уже в конце Инь.
Нетрудно заметить, что аньяновские архитектурные ком-
плексы по своей планировке несколько отличаются от эрли-
тоуских дворцов и храмов, что, возможно, объясняется экс-
периментами позднеиньских зодчих, искавших новые архи-
тектурные решения царской резиденции и святилищ.
Аньяновское кладбище состоит из нескольких сотен
захоронений знати и девяти царских усыпальниц — по
числу позднеиньских государей. Одна из них — предназ-
начавшаяся, видимо, для последнего иньского царя, — так
и осталась незавершенной.
Царские усыпальницы представляют собой внушитель-
ные архитектурно-инженерные сооружения, имеющие еди-
ную планировку и конструкцию. Они состоят из погре-
бальной камеры, находящейся на глубине более 10 метров
108
от земнои поверхности, и четырех ведущих к неи подзем-
ных галерей-проходов, которые ориентированы строго по
частям света. Южный проход, как правило, длиннее трех
остальных. Самая величественная усыпальница (предполо-
жительно царя У-дина) имеет погребальную камеру, раз-
мером 105,6 м2 (17,9 м с севера на юг и 5,9 м с запада на
восток) и расположенную на 12-метровой глубине. Во всех
усыпальницах стены погребальных камер были сделаны из
утрамбованной глины и облицованы деревянными панеля-
ми, украшенными, судя по уцелевшим фрагментам, инк-
рустациями и росписями. К сожалению, по этим фрагмен-
там невозможно установить, были ли такие росписи орна-
ментального или живописного характера. В любом случае
понятно, что при Поздней Инь китайская похоронная об-
рядность претерпела качественные изменения по сравне-
нию с эрлигановским периодом, и начала формироваться
традиция погребального изобразительного искусства.
Царские усыпальницы и многие захоронения знати со-
держат в себе останки погребенных людей разного пола и
возраста в количестве от нескольких десятков до несколь-
ких сотен человек. Например, в усыпальнице У-дина было
найдено 400 скелетов. Останки обычно расположены возле
погребальной камеры (по четырем частям света от нее) и в
проходах. В некоторых случаях черепа помещены отдельно
от костяков и могут образовывать подобие групповых ком-
позиций. В той же усыпальнице У-дина находились 59 обез-
главленных костяков, лежавших группами в 11 рядов. Еще
73 черепа, разделенные на 27 групп, располагались вдоль
проходов. До сих nop неясно, были ли сопогребенные люди
собственно жертвами или же они должны были стать свит-
скими и слугами усопшего в загробном мире. Кроме остан-
ков людей нередко присутствуют и скелеты собак, которые
могли равно наделяться функциями проводников или стра-
жей усопших в загробном мире, или охранников могил. Все
эти находки однозначно указывают на развитость иньских
анимистических представлений. A перечисленные особен-
ности аньяновской похоронной обрядности оказали, как мы
увидим далее, определяющее влияние на будущее погре-
бальное изобразительное искусство.
Подавляющее большинство вскрытых царских усыпаль-
ниц и захоронений знати оказались разграбленными или
поврежденными, поэтому число обнаруженных в них арте-
фактов относительно невелико. На сегодня известно толь-
ко одно аньяновское захоронение с полным погребальным
инвентарем: усыпальница Фу-хао (такое имя отлито на не-
скольких находившихся в ней бронзовых сосудах) — вто-
рой супруги царя У-дина (из 64 жен и наложниц)35. Имя
Фу-хао несколько раз встречается и в позднеиньских пись-
менных текстах, из которых следует, что она была яркой и
незаурядной личностью, игравшей заметную роль в совре-
менной ей политической жизни страны. Ей, в частности,
доверялось проведение обрядов, подготовка армии и даже
руководство боевыми действиями. Эта многогранность лично-
сти Фу-хао как бы подчеркивается составом ее погребального
35 Такова наиболее распро-
страненная в науке точка зре-
ния, хотя y нее есть и немало
противников. Некоторые ис-
следователи, например, счи-
тают, что сочетание «Фу-хао»
есть не имя собственное, a
один из титулов обитательниц
царского гарема, и, следова-
тельно, кто именно был по-
гребен в этой усыпальнице,
установить невозможно.
109
Погребение Фухао.
Надземная часть.
Реконструкция
инвентаря, куда в дополнение к универсальным для по-
зднеиньской похоронной обрядности изделиям вошли спе-
цифические женские предметы, прежде всего украшения, и
оружие. Помимо такого состава погребального инвентаря
усыпальница Фу-хао уникальна и по ряду других деталей.
Во-первых, она расположена вне общего кладбища и не-
далеко от города — в его северо-восточных окрестностях.
Во-вторых, над ней возвышалась особая постройка, служив-
шая, видимо, своего рода надгробным памятником или по-
минальным храмом. В результате усыпальница Фу-хао яв-
ляется первым образцом китайского захоронения, имеющим
надземную часть и, следовательно, отдаленным архитек-
турным прототипом надземных ансамблей, впоследствии
ставших обязательным элементом композиции император-
ских усыпальниц. Подземная часть усыпальницы Фу-хао
оказалась на удивление скромной: всего лишь небольшая
по площади земляная яма (5,6 м с севера на юг и 4 м с
востока на запад), уходящая, правда, вглубь на 7,5 м. Тело
покоилось в двух вставленных один в другой деревянных
гробах (3 х 1,3 и 5 х 3,4 м), верхний из которых имел лако-
вое покрытие. Еще в могиле находились скелеты 16 чело-
век и 4 собак, которые были расположены по четырем час-
тям света вокруг гроба.
Погребальный инвентарь Фу-хао состоял из 7000 рако-
вин каури, бывших в то время средством денежного обра-
щения, и 1928 артефактов. Это, во-первых, 440 бронзовых
изделий — 130 единиц оружия, 220 сосудов (всех имев-
шихся, заметим, на тот момент категорий и форм), набор из
50 болыпих и малых колоколов, 3 зеркала и различные
предметы бытовой утвари, включая 28 кухонных ножей.
Во-вторых, 790 необработанных кусков нефрита и нефрито-
вых изделий, среди которых присутствуют диски-бц, кубки-
цун (14 единиц), амулеты-хі/ан и ху, & также множество
украшений. В-третьих, 560 изделий из кости (5 — из слоно-
вой), a еще 20 опаловых бусин, 3 железных изделия и ком-
плект миниатюрной пластики, выполненной из камня, не-
фрита и бронзы. Особенно, пожалуй, впечатляет набор воло-
сяных украшений: 527 костяных (490 штук) и нефритовых
(37 штук) шпилек для волос и 3 нефритовых гребня. Таким
образом, погребальный инвентарь Фу-хао содержит в себе
образцы почти всех имевшихся в позднеиньский период ви-
дов декоративно-прикладного и изобразительного искусст-
ва, которые адекватно, как это принято считать, отражают
их художественно-стилистическое своеобразие.
Кроме собственно погребений, на территории аньянов-
ского комплекса (в окрестностях города) были обнаружены
специфические захоронения, называемые чэмакэн («яма с
колесницей и лошадьми»). В них находятся натуральная
колесница и несколько скелетов лошадей, в некоторых слу-
чаях встречаются человеческие скелеты. Болыпинство ис-
следователей сходятся во мнении, что эти захоронения име-
ли сугубо ритуальный характер, хотя их подлинный смысл
пока не поддается расшифровке. Первоочередная значи-
мость чэмакэнов для изучения истории китайской матери-
110
Иньская колесница.
Реконструкция
альнои и художественнои культуры заключается в том,
что они позволили в деталях восстановить древнейший вид
китайского колесничного транспорта и конского убранства,
которое по художественному оформлению тоже являет со-
бой полноценные произведения позднеиньского декоративно-
прикладного искусства.
Самыми уникальными и ценными со всех точек зре-
ния аньяновскими артефактами признаются «надписи на
гадательных костях» (от кит. сочетания цзягувэнъ,
«письмена на черепашьих панцирях и костях живот-
ных»)36. Это — тексты, нанесенные на кости (чаще всего
лопаточные) домашних (буйвола, свиньи) и диких (оленя)
животных или (но крайне редко) человека, a также на
черепашьи панцири. Они исполнялись в ходе специаль-
ной процедуры гадания, которая осуществлялась так: вне-
шняя поверхность кости или панциря тщательно очища-
лась и, возможно, искусственно размягчалась. В нижней
поверхности проделывалось крохотное отверстие, в кото-
рое вставлялась горящая палочка или заливалась расплав-
ленная бронза. Под воздействием тепла внешняя поверх-
ность растрескивалась, и по конфигурации образовавшихся
трещин судили о результатах гадания, a именно — рас-
шифровывали ответ высших сил на заданный вопрос. Про-
цедура гадания проводилась специальными людьми — га-
дателями сиибу — и под наблюдением августейших особ,
начиная с самого царя и высших придворных чинов. По-
сле завершения гадания все его процедурные этапы фикси-
ровались в письменном виде. Вначале сообщались точные
сведения о времени его проведения, его исполнителях и
участниках. Далее следовала «вопросная формула» — за-
пись вопроса, адресованного высшим силам, который мог
касаться любых насущных для страны дел и проблем (на-
пример, богатый ли будет урожай в новом году? Следует
ли выступать в военный поход? Удачной ли будет охота?
Пора ли начинать такие-то сельскохозяйственные рабо-
гы? Достаточно ли богаты принесенные высшим силам
жертвы? и т. д.). После «вопросной формулы» записы-
вался расшифрованный ответ, a еще через некоторое вре-
іѵія (но не всегда) — сведения о событиях, случившихся
после проведения данного гадания. Понятно, что по своей
информативности надписи на костях сопоставимы с на-
стоящими историческими документами или с анналисти-
ческой литературой.
Тексты состоят из особых письменных знаков — пик-
тограмм, являющихся древнейшими формами китайских
Погребение чэмакэн
36 «Надписи на гадатель-
ных костях» являются на са-
мом деле первыми по време-
ни их обнаружения иньски-
ми артефактами. Их находили
в окрестности Аньяна в тече-
ние нескольких столетий, од-
нако местные жители счита-
ли эти предметы «костями
дракона», обладавшими осо-
быми целительными свойства-
ми, и продавали их медикам
и фармацевтам. Первым, кто
опознал в «драконовых кос-
тях» письменные тексты, был
известный ученый-филолог и
коллекционер древностей Ban
Ижун (1845-1900), к которо-
му в 1899 г. случайно попали
несколько их образцов. Пос-
ле трагической гибели Ван
Ижуна к изучению надписей
на гадательных костях при-
ступил другой известный фи-
лолог того времени — Лю Е
(1875-1909), опубликовавший
их первые прорисовки (1903 г.).
Его исследования продолжи-
ла уже целая когорта уче-
ных, возглавляемая Ло Чжэ-
нъюем (1866-1940), Ban Го-
вэем (1877-1927) и Го Можо
(1892-1978). На сегодня в ми-
ровом китаеведении насчиты-
вается около 300 специалистов
в этой области. 150 из них —
ученые КНР, 50 — Японии,
20 — Кореи и др. Особым ав-
торитетом пользуется амери-
канская школа, созданная
Д. Китли (см. Библиографию).
111
Доиньские «гадательные
кости» и панцири черепах.
Пров. Хубэй
37 Приблизительно 96% позд-
неиньских надписей на гада-
тельных костях были найде-
ны в ходе археологических
работ 1928-1937 гг. Важней-
шими последующими наход-
ками стало обнаружение (со-
ответственно в 1976-1977 и
1977-1979 гг.) к югу от Сяо-
тунь еще одного познеиньско-
го хранилища-«архива», в ко-
тором находилось 5335 костей
и черепашьих панцирей и 296
надписей, относящихся уже к
началу чжоуской эпохи. Эти
находки показали, во-первых,
что процедура гадания могла
при Поздней Инь проводить-
ся и по инициативе принцев
крови, и, во-вторых, что она
практиковалась на первых
порах чжоускими властями.
В настоящее время 99 194 эк-
земпляров надписей на гада-
тельных костях хранятся в
музеях и академических ин-
ститутах КНР, 30 204 — на
Тайване, 89 — в Гонконге и
26 700 — еще в 12 странах.
Самые полные собрания име-
ются в Японии (12 443 экзем-
пляра), в Канаде, Англии и
СПІА (соответственно — 7862,
3355 и 1882 экземпляра).
иероглифов. Установлено, что вначале они прорисовывались
тушью с помощью кисти, a затем процарапывались бронзо-
вым резцом (стилем).
Хотя надписи на гадательных костях начали создаваться
только при царе У-дине (т. е. строго с середины XIII в. до н. э.),
традиция такого типа гадания (пиромантия) в обоих ого-
воренных вариантах — по трещинам на костной поверх-
ности (скапуломантия) и на черепашьем панцире (плас-
тромантия) — зародилась еще в неолитическую эпоху.
Традиция пластромантии возводится в новейших иссле-
дованиях к центрально-яншаоской очаговой культуре Пэй-
лиган. В одном из ее поселений (в северной части Хэ-
нани) были найдены восемь черепашьих панцирей, по-
крытых характерными трещинами, которые датируются
VII тыс. до н. э. Кроме трещин, на их поверхности име-
лось в общей сложности девять процарапанных знаков,
некоторые из них демонстрируют определенное графи-
ческое сходство с иньскими пиктограммами. Скапуломан-
тия появилась в Китае ориентировочно в V тыс. до н. э. в
восточном регионе, получив затем наиболыпее распрост-
ранение в шаньдунском варианте Луншань и в сменив-
шей его энеолитической культуре Юэши. Для последней
тоже известны несколько образцов костей, на обеих сто-
ронах которых начертаны некие знаки, похожие на инь-
ские пиктограммы.
Кости и черепашьи панцири с трещинами и отдельны-
ми знаками были найдены в эрлигановском комплексе и в
нескольких других раннеиньских памятниках. Причем са-
мая массовая коллекция была обнаружена (1987-1988 гг.)
в поселении, находящемся в юго-западной части Хубэй
(район реки Цинцзян) и принадлежащем, скорее всего,
культурной общности, которая не входила в состав инь-
ского государства. Хотя практика пиромантии сохрани-
лась, как видим, в различных регионах Древнего Китая,
до XIII в. до н. э. эти гадания проводились эпизодически
и не входили в число государственных обрядов. При У-дине
ее статус решительно изменился. Создается впечатление,
что иньские цари не смели шагу ступить, не посоветовав-
шись с высшими силами. Достаточно сказать, что от зак-
лючительных двух столетий иньской эпохи до нас дошло
около 155 тысяч экземпляров надписей на гадательных
костях. Подавляющее болыиинство (так называемый цар-
ский архив) было найдено в одном месте — в окрестно-
стях аньяновской столицы. Немалую часть находок, прав-
да, составляют костные фрагменты с несколькими (а иногда
только одной) пиктограммами. Но есть и полные тексты,
включающие в себя все перечисленные смысловые разде-
лы и насчитывающие до 200 знаков37. Общий лексиче-
ский фонд иньской письменности — 4000 пиктограмм. На
сегодня полностью расшифрованы (значения и фонети-
ческие нормы) только 1200-1500 из них. Тем не менее
высокая степень развитости иньского письма и проис-
хождение от него китайской иероглифики не вызывают
ни малейших сомнений.
112
Tot факт, что китайская иероглифическая письмен-
ность восходит к пиктограммам, т. е. рисуночному пись-
му, объясняет многие ее свойства. Именно изначальная
природа иероглифа как художественного образа позволи-
ла ей не только обрести собственный эстетический потен-
циал (искусство каллиграфии), но и оказать морфологи-
ческое воздействие на другие виды национального творче-
ства, прежде всего на живопись (подробно см. глава 8).
Использование письменности в процедуре гадания озна-
чало наделение ее особым сакральным смыслом, в том
числе способностью быть посредником между людьми и
высшими силами.
Вера в магические качества иероглифики сохранялась
в Китае на всем протяжении его истории, вызвав к жизни
практику создания графических амулетов, заклинатель-
ных и охранительных надписей. Некоторые иероглифы
превратились в самостоятельные благопожелательные об-
разы, которые до сих nop активно вводятся в орнаменти-
ку самых разных изделий, включая предметы повседнев-
ного использования, придавая им функции оберегов (под-
робно см. глава 6).
Но вернемся к рассказу о генезисе китайской пись-
менности. Традиция пиромантии — отнюдь не единствен-
ный ее видимый исток. На неолитической керамике ис-
полнялось три разновидности графических комбинаций,
которые считаются предшественниками пиктограмм. Это,
во-первых, сочетания простейших геометрических фигур
(например, две параллельные линии, перечеркнутые не-
сколькими косыми штрихами), которые считаются лич-
ными клеймами мастеров или клановыми эмблемами. Вну-
шительный набор таких клейм (27 комбинаций) красует-
ся на 113 баныіоских сосудах. Наибольшую графическую
близость к иньским пиктограммам обнаруживают клей-
ма на керамике южного региона неолитического Китая,
найденной в Аньхуэй и Хубэй и датируемой соответственно
VI-V и Ѵ-ІѴ тыс. до н. э. Другие две разновидности нео-
литических графических комбинаций — пиктографы (аб-
страктно-стилизованные изображения живых существ,
природных реалий и предметов) и графемы (знаки, вос-
производимые исключительно в групповых сочетаниях) —
характерны для керамики юго-восточного и восточного
регионов. В распоряжении ученых находятся уже 16 да-
вэнькоуских сосудов, на поверхности которых выполне-
но по одному пиктографу; некоторые из них переклика-
ются по композиции как с простейшими, так и с его
сложносоставными пиктограммами, в том числе со зна-
ками «солнце», «луна», «гора». Графемы присутствуют
также на керамике Сунцзэ, Лянчжу и шаньдунского ва-
рианта Луншань. Чаще всего на сосудах выполнено по
две-три графемы. Но есть и образцы более сложных их
сочетаний — лянчжуский и луншаньский (восходит к
III тыс. до н. э.) сосуды, на первый из которых нанесено
9, a на второй — 11 графем, расположенных в пять вер-
тикальных колонок.
о Ікторпя мскусства Кмтая
І/ІТТ
K-ht
ѵ<
,( 1-
К
«Клейма»
на керамике Баньпо
К^ДД/^Ѵх
Неолитические
пиктограммы
a — на керамике Давенькоу; б —
на керамике Сунцзэ; в — на не-
фритовых изделиях Сунцзэ; г —
на нефритовых изделиях Лянчжу.
113
38 Кроме того, определенное
участие в генезисе иероглифи-
ческой письменности могло
принять узелковое письмо (кит.
цзешэн, «завязанный шелко-
вый шнур»), которое, судя по
некоторым данным, некогда
имело в Китае весьма широ-
кое хождение.
39 Такой вариант рождения
иньской письменности со всей
серьезностью обсуждается в
современных исследованиях.
Была выдвинута даже гипо-
теза, не получившая, правда,
поддержки y специалистов,
что У-дин был психически
неуравновешенным и патоло-
гически суеверным человеком,
что и побуждало его посто-
янно прибегать к гаданиям.
A чтобы то ли не запутаться в
их результатах, то ли доне-
сти ответы высших сил до по-
томков, он и повелел изобре-
сти способы их письменной
фиксации. Роль же непосред-
ственных творцов китайской
письменности отводится чаще
всего чиновникам-делопроиз-
водителям (типа египетских
писцов), которые, по свидетель-
ству тех же «надписей на га-
дательных костях», уже были
в иньском административно-
управленческом аппарате.
Позднеиньский диск-Ъи
с надписью
Итак, китайская письменность возникла, подобно двум
другим древнейшим письменным системам — месопотам-
ской и египетской — из архаических геометрических симво-
лов и пиктографических изображений38. Однако эти тра-
диции, безусловно, носили мнемонический характер и не
обладали никакими признаками собственно письменной си-
стемы. Поэтому появление столь сложной и разработанной
письменности, каковыми являются «надписи на гадатель-
ных костях», выглядит полной неожиданностью. Неволь-
но приходит на ум: a не была ли она создана иньскими
царями и их окружением39?
Вполне вероятным кажется использование письменно-
сти в позднеиньский период и вне процедуры гадания. Боль-
шинство надписей, относящихся к концу иньской эпохи,
идут колонками, сверху вниз. A пиктограммы, обозначаю-
щие живых существ (особенно с удлиненными телами и
хвостами, например, змеи, рыбы, тигра), вытянуты по вер-
тикали. Данные композиционные и графические особенно-
сти указывают на то, что тексты могли исполняться и на
бамбуковых или деревянных дощечках. Такие дощечки,
обязательно в форме сильно вытянутого по вертикали пря-
моугольника, являются первым для Китая книжным мате-
риалом, который получил наиболыпее распространение в
VI—III вв. до н. э. Между тем в чжоуских сочинениях нет-
нет, да и проскальзывают упоминания об «иньских Kim-
rax». И наконец, известно немало образцов позднеиньских
нефритовых изделий, на которые нанесены отрывочные
надписи.
Даже если письменность по-разному использовалась в
позднеиньский период, главной сферой ее применения, не-
сомненно, все же остается официальная обрядовая деятель-
ность. Так почему все-таки китайская иероглифика заро-
дилась в недрах именно религиозно-ритуальной традиции,
будучи при этом непосредственно связанной с институтом
верховной власти? Причины этого кроются, на мой взгляд,
в особенностях политического устройства и духовной жиз-
ни иньского государства, знакомство с которыми тем более
необходимо, что они оказали качественное влияние на все
художественное творчество того времени.
Некоторые особенности
политического
устройства и духовной
жизни иньского
государства
и их влияние
на древнекитайское
художественное
творчество
Все имеющиеся фактические данные однозначно свиде-
тельствуют о том, что позднеиньский период ознаменовал-
ся утверждением в Китае централизованного государства
протоимперского типа. Оно обладало жесткой социальной
иерархической структурой, строящейся по модели пира-
миды. Основание этой пирамиды составлял «простой на-
род», т. е. землепользователи, организованные по родопле-
менному и территориально-административному принципу,
a на ее вершине находилось правящее семейство (кит. ван
цзу, «клан царей»), из которого только и мог происходить
царствующий государь. Следующую после него позицию в
социальной иерархии занимало сословие знати, состоящее
из дальних родственников августейшего дома и глав терри-
ториально-административных единиц (кит. чжухоу, «вла-
114
детельные особы»)40. Эти же лица составляли и костяк
центральной административной системы41.
Утверждение такого типа социальной иерархической
структуры должно было повлечь за собой дальнейшую диф-
ференциацию местной художественной деятельности с ее
окончательным расслоением на простонародное (низовое)
и официальное (элитарное) творчество. Сразу же отметим,
что традиция иньского простонародного художественного
творчества практически никак не проявляется в дошедших
до нас артефактах. Художественное наследие иньской эпо-
хи представлено произведениями, относящимися к тради-
ции официального искусства.
Определяющей особенностью иньского института вер-
ховной власти, которая осталась в силе и для властных
структур всех последующих исторических эпох, является
совмещение государем функций политического, военного и
духовного лидера страны. Такая фигура правителя, как
мы помним, начала вырисовываться в юго-восточных нео-
литических общностях — еще одно доказательство, с од-
ной стороны, правильности изложенной ранее версии гене-
зиса китайского института верховной власти, a c другой —
прямой линии преемственности Шан-Инь неолитическим
культурам. Самостоятельное жреческое сословие в Китае
так и не появилось либо же осталось в зародышевом состоя-
нии. Все типично жреческие для других регионов Древ-
него мира обязанности: разработка идеологической базы
национальной государственности, проведение ритуалов,
астрологические наблюдения и т. д. — исполнялись лич-
но государем и лицами из его окружения в соответствии с
их титулами и занимаемыми должностями. Впоследствии
в штатное расписание столичных ведомств и аппаратов
принцев крови входили особые «ритуальные» посты, на-
пример «виночерпий жертвенного вина». Назначаемые на
эти посты люди как раз и отвечали за состояние государ-
ственной религиозно-ритуальной деятельности и проводи-
ли церемонии как сугубо религиозного (жертвоприноше-
ния), так и светско-религиозного (свадьбы, похороны, ро-
дйны, пиршественные церемонии) характера.
Отсутствие самостоятельного жреческого сословия как
нельзя лучше согласуется с удивительной на первый взгляд
аморфностью теистического начала в официальной культу-
ре Шан-Инь. Речь, подчеркну, идет именно об этом социо-
культурном уровне древнекитайского общества, так как о
простонародных верованиях не только иньского времени,
но и нескольких последующих исторических эпох (вплоть
приблизительно до III-VI вв. — подробно см. глава 7), мы
знаем очень мало. Иньский официальный божественный
пантеон крайне скуден, a входящие в него персонажи прак-
тически лишены тенденции к персонификации. Отчетливо
выделяются всего два государственных культа — предков
и Владычицы-Земли (Хоу-ту). Первый из них представлен
культом Верховного Владыки (Шан-ди), который, видимо,
был обожествленным первопредком шанцев и почитался ими
верховным божеством. Популярность и авторитет культа
40 Позднеиньское государ-
ство состояло из 25 таких
территориально-администра-
тивных единиц, возникших,
видимо, из родоплеменных об-
разований. При этом чжухоу
обладали в своих владениях
всей полнотой административ-
ной, юридической и военной
власти.
41 06 этом свидетельству-
ет, в том числе, начавшая
складываться в позднеиньский
период ранговая система. Она
состояла из 5 рангов, кото-
рые впоследствии преврати-
лись в аристократические ти-
тулы. Однако эти ранги про-
исходили от государственных
должностей и чиновничьих
постов. Например, титул хоу
(впоследствии титул 2-й сте-
пени знатности, принято пе-
реводитъ как «маркиз») вос-
ходит к высшим военным чи-
нам, титул нань (5-я степень
знатности, «барон») — к чи-
нам из царской свиты.
115
Шан-ди в иньскую эпоху очевидны. A bot его образ на-
столько невнятен, что неизвестно даже, в каком облике он
мыслился молящимся людям. Культ Хоу-ту тоже был ши-
роко распространен как по вертикали (на разных уровнях
социальной лестницы), так и по горизонтали (в различных
местностях) иньского общества. Но и он оказывается ли-
шенным образа конкретного персонажа и является скорее
олицетворением самой стихии земли. Собственно говоря,
неизвестна даже первоначальная ипостась — мужская или
женская — Хоу-ту. Да и само это имя — более поздний
неологизм. В «надписях на гадательных костях» указан-
ное божество передается теми же пиктограммами-аллогра-
фами, чтои «земля», «жертвенник», «жертвоприношение».
Однозначно женскую ипостась Хоу-ту приобрела уже в чжоу-
скую эпоху, когда она стала воплощением женского нача-
ла мира и составила пару с Небесным Владыкой (Тянъ-ди),
олицетворявшим мужское начало мира. Попутно поясним,
что культ Тянь-ди был привнесен в китайскую культуру
народностью, основавшей чжоуское государство, и он так-
же остался вне его четкой персонификации. Получается,
что официальные религиозные представления Шан-Инь на-
ходились на уровне развития, свойственном ранним фор-
мам религий, и, следовательно, вряд ли могли играть роль
структурообразующего компонента духовной жизни инь-
ского общества.
A bot ритуальная деятельность, напротив, проявляет
себя в иньскую эпоху чрезвычайно выпукло и ярко, служа
главным способом реализации государем своих сакраль-
ных функций — оказание им мироустроительного воздей-
ствия на социокосмический универсум и установление ком-
муникации с высшими силами. При ближайшем рассмот-
рении выясняется, что она была обусловлена не только и
не столько собственно религиозными, сколько общими ми-
ропознавательными представлениями — космолого-онтоло-
гическими и антропологическими воззрениями, которые
опирались к тому же на стихийно-натуралистическое ми-
ровосприятие (подробно см. глава 5).
Из сказанного очевидно, что духовная культура инь-
ского общества не знала подразделения на светскую и ре-
лигиозную. A значит, официальное художественное твор-
чество объединяло в себе традиции светского, культового и
погребального искусства. Вот почему одни и те же катего-
рии иньских изделий служили, как мы увидим далее, и
предметами роскоши, и регалиями, и храмовой утварью, и
погребальным инвентарем.
Первоочередной типологической чертой официальной
творческой деятельности является ее полное подчинение
интересам правящей элиты и государственности. Но это
возможно только в случае превращения мастеров и ху-
дожников в подобие государственных служащих и то-
тального контроля властных структур над их деятельно-
стью. Поэтому вполне предсказуемо, что в позднеинь-
ский период была создана сеть казенных мастерских и
контролирующие их органы — Ведомство-сыгун, зани-
мавшееся организациеи ремесленного производства и над-
зором за ним.
О других аспектах и качествах иньской официальной
творческой деятельности мы поговорим в разделе о худо-
жественном наследии этой эпохи.
Иньская предметно-творческая деятельность восприня-
ла и развила все художественные традиции неолитической
эпохи. До нас дошло немало керамических сосудов, произ-
ведений камнерезного и косторезного искусства, лаковых
изделий, о которых подробно рассказывается в соответствую-
щих тематических разделах этой книги. Самую же значи-
тельную часть художественного наследия иньской эпохи
составляют бронзовые изделия. Сегодня известно более
8000 артефактов, созданных на протяжении II—I тыс. до н. э.,
львиная доля которых относится к позднеиньскому периоду
и начальным векам чжоуской эпохи. Массовость бронзовых
изделий объясняется не только активностью самого бронзо-
литейного производства. Издревле вокруг них был ореол
сакральности. Открытие секрета их изготовления приписы-
валось самым почитаемым персонажам национальной древ-
ности — Желтому императору и Сяскому Юю, которые, по
преданию, и изготовили первые бронзовые предметы — со-
суды-треножники и зеркала. С момента своего появления
бронзовые изделия вступили в соперничество с нефритовы-
ми регалиями и вплоть до Ѵ-ѴІ вв. до н. э. служили перво-
очередным показателем социального статуса и имуществен-
ного положения человека. Помимо официальной церемони-
ально-ритуальной сферы (включая похоронную обрядность),
они использовались в качестве даров вышестоящих лиц ни-
жестоящим и ответных подношений, преподносились хра-
мам. Даже малообеспеченные семьи старались приобрести
хотя бы несколько бронзовых сосудов для похорон, подно-
шений и пожертвований храмам. Попав в семью, бронзовые
изделия становились главными семейными ценностями, ко-
торые обычно передавались по наследству от поколения к
поколению. Поэтому коллекции бронзовых изделий нахо-
дят не только в погребениях, но и в тайниках, где их прята-
ли в случае неожиданного переезда владельцев на новое
место, и в местах расположения святилищ.
Одновременно иньские бронзовые изделия, подобно нео-
литической керамике, наиболее отчетливо отражают совре-
менные им художественные и технологические новации и,
следовательно, выступают полноценными представителями
всей предметно-творческой деятельности того времени.
На протяжении иньской эпохи бронзолитейное произ-
водство прошло через несколько эволюционных этапов, до-
стигнув своего наивысшего расцвета во второй половине
позднеиньского периода (ХІІ-ХІ вв. до н. э.). Тогдажеокон-
чательно определились и все его технологические особен-
ности и операции, которые, несмотря на очередные нова-
ции, остались в силе в последующей китайской цветной и
черной металлургии.
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
НАСЛЕДИЕ
ИНЬСКОЙ ЭПОХИ
Иньское
бронзолитейное
производство:
технология, отделы
и категории изделий
117
Важнейшей особенностью китайского бронзолитейного
производства является использование литья, тогда как два
других возможных способа обработки металла — ковка и
чеканка — если и были известны местным мастерам, то
практически ими не использовались. Господство техники
литья сказалось прежде всего на составе сплавов. Древнеки-
тайский бронзовый сплав состоит из трех главных компо-
нентов: меди (тун), олова (си) и свинца (цянъ), соотношение
которых может существенно варьироваться в зависимости
от времени и места выпуска изделия, что, кстати, нередко
помогает их атрибуции. Содержание меди колеблется от 63,3
до 93,3%, олова — от 1,7 до 21,5% и свинца — от 0,007 до
26%. Самое высокое процентное содержание свинца отмече-
но в предметах, найденных в Эрлигане. Олово и свинец
влияют как на свойства сплава и ход технологического про-
цесса, так и на характеристики готового изделия. Они сни-
жают температуру плавления металла, повышают его мяг-
кость и тягучесть, тем самым намного облегчая отливку и
заключительную обработку сложнофигурных предметов.
Если процентное содержание олова в бронзовом сплаве пре-
вышает 10%, то его обычный красновато-медный цвет ме-
няется на латунно-желтый. При доведении же содержания
олова до 30% и более изделие приобретает серебристо-белый
цвет. Если содержание свинца не превышает 9%, то он
сплавляется с другими компонентами в однородную массу.
При большем же его процентном содержании свинец выде-
ляется из сплава в процессе охлаждения металла и оседает
на стенках плавильного тигля или формы.
Кроме меди, свинца и олова, в иньских бронзовых спла-
вах выявлено болыное количество других минеральных и
органических добавок: цинк (синъ, 0,1-3,7%), железо (me,
менее 1%, но даже и в малых дозах влияет на цвет изде-
лия, придавая ему желтоватый оттенок), никель (не, около
0,04%), кобальт (гу, 0,013%), висмут (би, 0,04%), a также
сурьма (ти), мышьяк (шэнь), золото (цзинъ) и серебро (инъ)
(но совсем уже в микроскопических дозах). В качестве орга-
нических добавок использовалось фосфористое вещество —
видимо, костный пепел, — которое играло роль раскисли-
теля, делая сплав более ковким.
Процесс изготовления изделия состоял из трех основ-
ных технологических операций: плавки, изготовления мо-
дели и формы и отливки. Плавка осуществлялась в специ-
альных тиглях, сделанных из огнеупорной глины. Модели
и формы обычно тоже делались из глины, a в некоторых
периферийных бронзопроизводящих центрах — из дерева
или камня. Топливом служил древесный уголь, способный
дать температуру плавления 1000°С. На ранней стадии раз-
вития китайского бронзолитейного производства и при ис-
полнении простых изделий применялся способ сплошного
литья по одинарным формам. Но уже в эрлитоуский период
местные мастера перешли на «полую отливку», предпола-
гавшую наличие сложной формы с константной моделью.
Изготовление модели начиналось с ее формовки. Затем на ее
внешнюю поверхность наносились (как правило, красной
краской) контуры будущего орнамента. В ходе дальнейшей
проработки орнамента его вогнутые элементы (будущие ре-
льефные фигуры) вырезались в глине ножом, a выпуклые
делались посредством прикрепления заранее приготовлен-
ных налепов. После осуществления перечисленных проце-
дур модель обкладывалась слоем глины, когда она подсыха-
ла, ее разрезали на секции. Секции обжигались, вновь соби-
рались и совместно со вспомогательными конструктивными
деталями — фиксатором, крышкой, основанием — образо-
вывали форму для литья. При исполнении изделий с допол-
нительными мелкими деталями — ножками, ручками —
применялся способ раздельного литья, осуществляемый в
двух технологических вариантах. В первом из них детали
отливались предварительно и затем вставлялись в форму
корпуса так, чтобы во время основного литья они «привари-
лись» к нему. Во втором — вначале, наоборот, отливался
корпус, к которому эти детали «приваривались» в процессе
повторного литья. Этот технологический вариант чаще все-
го применялся при изготовлении биметаллических предме-
тов — оружия и сосудов, которые могут иметь, например,
бронзовый корпус и железные ножки. Но и в случае приме-
нения только бронзы в обоих вариантах основной корпус и
детали делались из едва отличных по составу сплавов, что-
бы избежать их деформации во время литья.
Изложенная технология бронзолитейного производства
позволяла изготавливать максимально крупногабаритные
(почти в тонну весом, подробно см. далее) и с практически
любым художественным оформлением изделия.
Иньские бронзы охватывают 5 основных отделов: сосу-
ды, оружие, пластику, украшения и детали колесниц и
конской упряжи. Сейчас мы остановимся только на пер-
вых двух отделах.
Арсенал иньского бронзового оружия состоял из уже
знакомых нам секир-юэ, клевцов-гэ, которые дополнились
сходными по внешнему виду и конструкции с кинжала-
ми42. Такие кинжалы имели, как правило, отдельно орна-
ментированную рукоятку и могли использоваться не толь-
ко в бою или на охоте, но и в ритуальных целях (при
жертвоприношениях). Есть также образцы ритуальных
кинжалов с нефритовым лезвием и бронзовой рукояткой,
украшенной бирюзовой инкрустацией. Самым примечатель-
ным видом иньского оружия бесспорно являются секиры,
получившие теперь стандартную форму: в виде трапеции
(до 30 см высотой) и со скругленным лезвием. Как отмеча-
лось ранее, секиры входили в набор царских регалий. Бо-
лее того, иероглиф «царь» восходит к рисунку этого ору-
жия. Неудивительно, что юэ устойчиво входят в состав
погребального инвентаря и имеют богатое художественное
оформление. Они могут быть украшены, в том числе, рель-
ефными и сквозными узорами, образующими зооморфно-
фантазийные личины и целые сюжетные сцены. Но не надо
думать, что иньские секиры были своего рода парадным
оружием. Они обладали большой рубящей силой и позво-
ляли одним ударом разрубить человека надвое или снести
Модель для литья
42 Попутно заметим, что
уровень развития позднеинь-
ского оружейного дела соот-
ветствовал общему состоянию
вооруженных сил страны. Из-
вестно, что они состояли из
трех правительственных ар-
мейских соединений (кит. санъ
ши, «три дивизии») и дружин
«владетельных особ». В одном
походе принимало участие до
13 000 солдат (статистические
данные, реконструированные
на материале «надписей на
гадательных костях» и чжоу-
ских сочинений).
119
Иньское бронзовое оружие
a — ножи; б — секира (из погре-
бения Фу-хао); в — способы ис-
пользования секир (иньские пик-
тограммы).
Иньская кухонная
и хозяйственная посуда
a — котел-лнь; б — контейнер-гі/й.
ему голову, что наглядно показано в пиктограммах. В силу
таких своих свойств юэ использовались и в качестве ору-
дия палача при совершении как казни, так и ритуального
убийства. Следует пояснить, что в позднеиньскую эпоху
массовые человеческие жертвы приносились не только при
погребениях, но и при исполнении обрядов в честь Влады-
чицы-Земли. Еще одна, весьма необычная, на первый взгляд
сфера применения секир — использование их как ударно-
го музыкального инструмента, что сделало их прототипом
китайского колокола.
Иньские сосуды подразделяются на три функциональ-
ные группы, известные по неолитической керамике: ку-
хонная, хозяйственная и столовая посуда. Однако теперь
сосуды всех трех групп предназначались для использова-
ния в качестве церемониально-ритуальной утвари, a пото-
му обязательно богато орнаментировались.
Кухонная утварь состоит из тоже хорошо знакомых
нам трех категорий сосудов: дин, ли и янъ (предназначен-
ного, напомним, для варки на пару и состоящего из двух
конструктивных частей, нижняя из которых повторяет со-
бой форму котла-лн). Все три категории приобрели теперь
стандартный внешний вид, но по своей конструкции и ар-
хитектонической композиции они принципиально мало чем
отличаются от своих керамических прототипов. Главным
новшеством для динов стала разработка двух форм: с оваль-
ным корпусом и на трех ножках (овальные тетраподы); с
ректагональным корпусом и на четырех ножках (ректаго-
нальные тетраподы). Основную массу ли и янь по-прежне-
му составляют сосуды с округлым корпусом, хотя изредка
встречаются и образцы с ректагональным. Непременной
принадлежностью иньских котлов стали и особого типа
ручки — пара аркообразных ручек, вертикально прикреп-
ленных прямо напротив друг друга к краю устья корпуса
сосуда. Ввиду их некоторого сходства со стоячими ушами
животных они обычно обозначаются в научной литературе
как «стоячие ушки». Ручки динов, как правило, имеют
самостоятельное художественное оформление, вплоть до
украшения их горельефными или скульптурными изобра-
жениями животных и фантастических существ.
Такое художественное решение динов неудивительно.
Будучи самой массовой категорией иньской кухонной по-
суды, они представляли собой не только сосуды для приго-
товления пищи, но и возглавляли ранговую иерархию брон-
зовых изделий. Первые дины (три штуки) были выплавле-
ны, по легенде, Желтым императором. Затем Сяским Юем,
как гласит предание, было изготовлено 9 таких котлов, что
отражало созданное им же административно-территориаль-
ное устройство страны (из 9 округов), которые должны были,
по его замыслу, стать главным атрибутом верховной власти.
По сообщениям чжоуских книг, которые частично подтвер-
дились археологическими находками, царю полагалось
иметь комплект из двенадцати (или девяти) динов, удель-
ным князьям — из девяти (семи) и «владетельным осо-
бам» — из пяти.
120
Вопреки легендам, история реального бытия динов про-
слеживается только с раннеиньского периода: находка че-
тырех ректагональных тетраподов, причем достаточно боль-
ших размеров (вес от 52 до 64,3 кг, высота — от 81 до
100 см) в Эрлигане. Два из них были обнаружены (1982 г.)
в погребениях, a два (1979 г.) — около городской стены.
В позднеиньский период изготавливались дины различных
размеров. Самый маленький из них (высота 6,3 см) — иг-
рушечный котел, подаренный одним из позднеиньских ца-
рей своей дочери (о чем сообщается в отлитой на нем над-
писи). Самый болыпой — тетрапод с корпусом строго квад-
ратной формы, найденный в одной из аньяновских гробниц.
Его общая высота равняется 133 см, длина каждой стенки
корпуса — 110 см, вес — 875 кг. Этот котел является са-
мым крупногабаритным литым бронзовым изделием в ис-
тории мировой древней металлургии. A для его отливки
был необходим хорошо скоординированный одновремен-
ный труд нескольких сотен мастеров и подмастерьев, что
лишний раз свидетельствует о высокой степени профессио-
нализма иньского ремесленного производства.
Самая богатая коллекция динов была найдена в погре-
бении Фу-хао: два парных квадратных тетрапода (высота
80,5 и 80,1 см, длина стенок 47,6 и 48 см, вес по 117,5 кг
каждый) и овальный трипод (высота 72,2 см, вес 50,5 кг,
диаметр устья 54,5 см). В таких котлах вполне можно было
сварить целую тушу быка или оленя43.
Кроме котлову в группу хозяйственной посуды входят
две вспомогательные категории: ножи и ковши (шао), пред-
ставляющие собой подобие ложки с длинной заостренной
ручкой, которые применялись для вытаскивания из кипя-
щей воды мяса. Изделия обеих этих категорий нередко встре-
чаются в погребальном инвентаре в комплекте с дин и ли.
Хозяйственная посуда представлена только одной кате-
горией (впоследствии эта группа значительно увеличит-
ся) — ларями-гг/й. Это — сосуды с котловидным корпусом
на цилиндрической подставке, снабженные, как правило,
парой боковых ручек. Предназначенные для хранения зер-
на и других пищевых припасов, они с достаточной долей
очевидности восходят к «кубковидным» формам неолити-
ческой керамики южного, юго-восточного и восточного ре-
гионов.
Столовая (точнее, столово-церемониальная или столо-
во-пиршественная) посуда подразделяется на три подгруп-
пы изделий: кубки, сосуды для вина и сосуды для воды, в
каждой из которых есть несколько самостоятельных кате-
горий. Кубки и сосуды для вина по своей многочисленно-
сти занимают первое место не только в этой группе, но и
среди всех позднеиньских бронзовых сосудов. Так, они со-
ставляют около 30% бронзовых изделий, входящих в погре-
бальный инвентарь Фу-хао. Их популярность подтверждает
на первый взгляд правоту чжоуских авторов, постоянно гово-
рящих о развращенности позднеиньской аристократии и ее
пристрастии к роскоши и пирам. Однако надо помнить, что
в Древнем Китае, как это следует из многих культурных
Иньская кухонная
и хозяйственная посуда
a — квадратный дин (Эрлиган);
б — округлый дин (Эрлиган); в —
котел-ли.
43 Размеры найденных по-
зднеиньских котлов полно-
стью подтвердили и достовер-
ность литературных повест-
вований о казни людей во
времена Поздней Инь, вживе
сваренных в дине.
121
реалий самой же чжоуской эпохи, пиршественная церемо-
ния приравнивалась к ритуальным акциям.
Кубки включают в себя 5 категорий: цзюэ, цзяу цзяо, гу
и гун. Первые две из них являются, напомним, древней-
шими категориями китайских бронзовых сосудов, образцы
которых были найдены еще в эрлитоуском комплексе.
Кубки-цзюэ — весьма сложные по конструкции изде-
лия, состоящие из округлого, вытянутого по вертикали
корпуса с выпуклым или плоским дном, который покоится
на трех длинных, плавно изгибающихся и расходящихся
книзу ножках. Корпус завершается с одной стороны тре-
угольным сливом, с другой — изогнутой широкой пласти-
ной, под которой — к центральной его части — прикреп-
лена дугообразная ручка. Слив и пластина по своей конфи-
гурации очень похожи на профильное изображение птичьего
клюва и хвостика, a сам кубок напоминает фигуру стоя-
щей птицы, вроде воробья. Этим объясняется его ориги-
нальное терминологическое название: иероглиф цзюэ — в
другом его произнесении цюэ — как раз и означает «воро-
бей», «птаха». Помимо указанной, основной их формы,
«воробьиные кубки» исполнялись в других конструктив-
ных и архитектонических вариантах — с ректагональным
корпусом и на четырех ножках, с одной ножкой, без но-
жек, с парными ручками-выступами (наподобие рожек),
торчащими по бокам от пластины.
Кубки-цзяо и цзя — очень близки по форме к «воробьи-
ным кубкам». Отличительная особенность первых из них —
наличие (вместо пластины) двух симметрично расположен-
ных и одинаковых по конфигурации сливов. Кубки-цзя во-
обще не имеют ни пластины, ни сливов, a также обязатель-
но снабжены плоским дном. Изредка встречаются их образ-
цы с ректагональным корпусом и на четырех ножках.
He исключено, что кубки-цзюэ и цзя полагалось иметь,
подобно котлам-дгш, в определенных комплектах. Во вся-
ком случае в погребальный инвентарь Фу-хао были включе-
ны 40 совершенно одинаковых «воробьиных кубков» и 12
цзя. Судя по их стандартным размерам (высота 20-40 см),
кубки всех трех разобранных категорий действительно ис-
пользовались в качестве пиршественной утвари. Однако есть
и более крупногабаритные образцы, например цзя с ректаго-
нальным корпусом, найденный в погребении Фу-хао, высо-
та которого превышает полметра (68,8 см). Подобные сосу-
ды, копирующие пиршественную утварь, предназначались,
скорее всего, для подношений храмам, где они использова-
лись для украшения храмового интерьера.
Кубки-гг/ — сосуды, напоминающие современную вазу
для цветов: с удлиненным, плавно расширяющимся квер-
ху корпусом, который завершается круглым венчиком, a
внизу переходит в трапециевидную и тоже плавно расши-
ряющуюся (книзу) ножку. Для этой категории также на-
считывается несколько конструктивно-художественных
вариантов, различающихся по характеру общих силуэт-
ных линий сосуда и конфигурации его отдельных частей, в
том числе исполнялись и гу с ректагональным корпусом.
Кубки-гун (этот иероглиф впоследствии стал употреб-
ляться для обозначения особого типа застольных чар, сде-
ланных из носорожьего рога) — сосуды, имеющие вытяну-
тый по горизонтали корпус, опирающийся на квадратную
подставку или четыре ножки и снабженный боковой руч-
кой и крышкой, частично повторяющей его форму. Даже в
таком виде они напоминают абстрактно-стилизованные
скульптурки животных. Очень часто гун исполнялись в
виде полноценных статуэток или пластических компози-
ций, оказываясь одновременно и произведениями изобра-
зительного искусства.
Сосуды для вина, которые нередко обозначаются как
«кувшины», включают в себя 6 категорий: цзунь, ю, фанъи,
лэй, бу и ху> почти все тоже знакомы нам по неолитичес-
кой керамике.
Кувшины-цзунь имеют две главные формы. В одной из
них они опять представляют собой вазоподобные сосуды:
округлый корпус с широкими плечиками, который внизу
переходит в трапециевидное основание, a наверху — в резко
суженную шейку, которая завершается широким раструбо-
видным устьем (его диаметр обычно больше, чем диаметр
корпуса по линии плечиков). Данная форма тоже восходит
к неолитической керамике — одноименной категории сосу-
дов для вина, исполнявшейся в яншаоском гончарном деле,
которая была переведена в бронзу приблизительно в середи-
не раннеиньского периода. Сохранились сведения, что та-
кие кувшины полагалось преподносить, наполнив их ви-
ном, хозяину дома либо любому вышестоящему или особо
уважаемому человеку. Показательно, что впоследствии за
иероглифом цзунь закрепилось его основное словарное зна-
чение «достопочтенный». Вторая форма кувшинов-цзі/нь —
сосуды в виде скульптурных изображений. Если учесть,
что они нередко имеют очень крупные размеры (высота до
50 см, вес до 17 кг), то напрашивается предположение об их
преимущественном использовании в качестве не пиршествен-
ной утвари, a церемониально-ритуальных предметов, в том
числе тоже предназначенных для подношений храмам.
В ХІ-Х вв. до н. э. особое распространение получили цзунъ
в виде фигур быка, барана, свиньи, которые в то время
являлись жертвенными животными.
Кувшины-ю — переносные сосуды для вина, обязатель-
но снабженные петлеобразной ручкой, которая и является
их специфической опознавательной принадлежностью.
Вначале (в раннеиньский период) ю имели округлый, при-
ближающийся к шару, корпус, переходящий наверху в
плоскую шейку с широким устьем. Постепенно корпус вы-
тянулся по вертикали, приобретя плавно-изогнутый про-
филь, что и стало стандартной формой этой категории.
Кувшины-фанъи (дословный перевод этого терминоло-
гического сочетания — «квадратная амфора») — сосуды,
напоминающие строение, увенчанное крышей. Они имеют
ректагональный корпус со скругленными углами, покоя-
щийся на высокой фигурной подставке, и трапециевид-
ную крышку. Данная категория вошла в употребление
уже в позднеиньский период, a ee эталонными образцами
признаются кувшины из погребального инвентаря Фу-хао.
Кувшины-лэй — сосуды, близкие по форме к неолити-
ческим горшкам-гі/ань. Для них характерен массивный
корпус (с плоским основанием), верхняя часть которого
сжата и оформлена косой шейкой, переходящей в расши-
ренное устье с изогнутым венчиком. К плечевой части кор-
пуса обычно прикреплены две боковые дугообразные руч-
ки, дополненные продетыми в них кольцами.
Кувшины-бг/ — сосуды, внешне очень похожие на лэй.
Они отличаются от них только более приплюснутым кор-
пусом и отсутствием боковых ручек. Но есть образцы, прак-
тически идентичные лэй.
Кувшины-лгг/ — категория, однозначно восходящая к
керамическим хуу которые, как мы помним, были одной из
популярнейших и универсальных категорий неолитической
керамики. Тем не менее ее перевод в бронзу осуществился,
видимо, относительно поздно, и бронзовые кувшины вошли
в постоянное употребление только во времена Поздней Инь.
Одновременно утвердилась и их стандартная форма, в кото-
рой они представляют собой сосуды с высоким цилиндри-
ческим основанием, округлым корпусом и вытянутой шей-
кой изогнутого профиля, переходящей в широкое устье и
дополненной фигурными боковыми ручками.
Подгруппа сосудов для воды состоит из 4 категорий:
чати-панъ, кувшины-и, чайники-дгэ и т&гы-цзянъ.
Чаши-дакь — мисковидные сосуды (но значительно
больших размеров, чем столовая посуда), снабженные, как
правило, высоким цилиндрическим основанием усеченно-
конического профиля и двумя боковыми направленными
кверху ручками-«ушками». Они предназначались для омо-
вения рук перед этикетно-ритуальными церемониями и во
время пиршественных трапез.
Кувшины-ы — сосуды, имеющие характерный корпус
ладьевидной формы, четыре ножки и дугообразную ручку,
прикрепленную к тыльной части корпуса. Они предназна-
чались для омовения рук, a потому обычно составляют
комплект с чашами-ла/іь.
Чайники-яэ — сосуды, обладающие заметным внешним
сходством с современными чайниками: округлый корпус,
переходящий в три полых ножки и снабженный носиком,
боковой ручкой и крышкой. В своих ранних конструктив-
ных вариантах чайники вообще состояли фактически из
трех сосковидных полых ножек, это доказывает, что они
произошли от керамических форм юго-восточного и восточ-
ного регионов неолитического Китая. Хэ могли использо-
ваться как для омовения рук, так и для разбавления вина
водой, входя тем самым в набор пиршественной утвари.
Ч&зы-цзянъ — тоже мисковидные, но еще более массив-
ные (высота до 30 см, диаметр устья до 60 см), чем чаши,
сосуды, снабженные четырьмя боковыми ручками, состоя-
щими из дугообразной петли и продетого в нее кольца. Эти
тазы использовались, во-первых, для омовения тела; во-
вторых, для хранения льда и охлажденных пищевых при-
пасов, оказываясь тем самым прапрадедушкои современ-
ных холодильников. И наконец, наполненные водой, они
служили болыними зеркалами. He менее примечательна их
орнаментация: на внутренней поверхности стенок отлива-
лись рельефные изображения черепах, рыбок, водоплаваю-
щих птиц и фантастических существ, связанных с водной
стихией. Сам по себе такой художественный прием являет-
ся рудиментом неолитического орнаментально-графическо-
го искусства (росписи по внутренней поверхности тарелок-
панъ). Но теперь он приобрел новый эстетический смысл:
если таз наполнить водой, то создается эффект естествен-
ного водоема с резвящимися в нем живыми существами.
Художественное решение тазов (оно использовалось и
для чаш-панъ) наглядно иллюстрирует уровень развития
иньского орнаментального искусства. Однако оно далеко
не исчерпывает собой все богатство его изобразительных
приемов и средств.
История развития иньского орнаментального искусст-
ва в том виде, в каком оно предстает перед нами на матери-
але бронзовых изделий, подразделяется на четыре основных
этапа, которые в научной литературе принято обозначать
как раннеэрлигановский, среднеэрлигановскийу позднеэр-
лигановский и анъяновский.
С «раннеэрлигановским» этапом соотносится переход
от гончарного дела к бронзолитейному производству, ког-
да исполнялись сосуды, бывшие не более чем керамиче-
скими формами переведенными в металл и лишенными
орнаментации.
«Среднеэрлигановский» этап ознаменовался расширени-
ем репертуара категорий изделий и первыми опытами их
художественного оформления. Типичным для него орнамен-
тальным приемом является украшение сосудов легкорель-
ефной полосой, идущей по верхней или центральной части
корпуса и заполненной геометрическим орнаментом. Осталь-
ная поверхность сосуда либо оставалась гладкой (что харак-
терно для столовой посуды), либо же частично или полно-
стью покрывалась «гвоздевидным» узором, состоящим из
равномерно расположенных круглых выпуклостей, которые,
и в самом деле, похожи на шляпки вбитых гвоздей.
На «позднеэрлигановском» этапе рельефный орнамент,
пока еще состоявший преимущественно из простейших гео-
метрических узоров, начал постепенно распространяться на
болыную часть поверхности изделий. Параллельно намети-
лась тенденция к самостоятельному художественному офор-
млению вспомогательных деталей сосудов и к созданию око-
лоручечных горельефных композиций, типа маскаронов.
«Аньяновский» этап характеризуется предельной на-
сыщенностью орнаментального пространства геометриче-
скими узорами и фигуративными изображениями, широ-
ким использованием высокорельефных фигур и обыгрыва-
нием контраста между ними и фоновым узором, a также
максимальным усложнением общей художественно-архи-
тектонической композиции сосудов. Это достигалось за счет
Темы, мотивы, образы
и стилистические
направления иньского
орнаментального
искусства
125
Диахронные
стилистические
направления инъского
орнаментального искусства
a — «среднеэрлигановский» стиль;
б — «аньяновский» стиль. Вари-
ант «А»; в — «аньяновский» стиль.
Вариант «Б».
пластического оформления вспомогательных деталей и ис-
пользования дополнительных орнаментально-конструктив-
ных элементов — ажурнолитых полос, которые проходят
вдоль боковых граней корпуса и крышки.
Исходя из особенностей построения художественных
композиций и соотношения их частей, в аньяновском орна-
ментальном искусстве выделяются два относительно само-
стоятельных стилистических варианта, называемых евро-
пейскими специалистами стилями «А» и «Б». Первому из
них свойственна сплошная орнаментация поверхности изде-
лия с использованием фонового узора и основных фигур.
Фоновым узором чаще всего служит «узор грома» (лэйвэнъ),
состоящий из мелко проработанных элементов: кругов,
меандровидных спиралей и Т-, L- и Ѵ-образных, переплетен-
ных между собой линий. В качестве основных фигур ис-
пользуются изображения человеческого лица, голов живот-
ных (могут быть выполнены и в горельефе) и зооморфно-
фантазийные личины. Вся художественная композиция
строится строго по вертикальной оси поверхности, на кото-
рой и располагаются основные фигуры, с учетом принципа
зеркальной симметрии. Стиль «Б», вступивший в силу уже
в самом конце Поздней Инь, отличается использованием
орнамента, состоящего из повторяющихся элементов и тяго-
теющего к горизонтальному, фризовому расположению.
Следующей отличительной чертой иньского орнамен-
тального искусства является господство в нем анималисти-
ческого стиля. Изображения человека тоже исполнялись в
нем, но крайне редко. До сих nop известно только несколь-
ко таких артефактов. Один из них — ректагональный ко-
тел-дин, все четыре стенки которого украшены совершенно
одинаковыми изображениями человеческих лиц. Еще на
ряде предметов — на сосудах различных категорий и на
секирах — воспроизводится общий орнаментальный сю-
жет: человек (в одних случаях показана фигура стоящего
126
человека, в других — только его голова), находящийся
между двумя профильными и как бы стоящими на задних
лапах фигурами тигров (подробно см. глава 6). Антропо-
морфные изображения присутствуют и на серии нефрито-
вых изделий. Наибольший интерес представляют, во-пер-
вых, пластины-амулеты (достаточно большого размера —
53 х 40 х 8 и 48 х 49 х 8 см) в виде человеческого лица. По
антропологическим показателям и по манере исполнения —
реалистичность, детальная проработка лицевых черт — они
составляют единый морфологический ряд с антропоморф-
ными изображениями на бронзах. Другой артефакт — не-
большая пластина-табличка (высота 9,6 см, толщина 0,5 см),
одна сторона которой выполнена в виде силуэтно-рельефной
фигуры стоящего мужчины, a оборотная — женщины. Не-
которые исследователи усматривают в данной композиции
первую в истории китайского искусства попытку художе-
ственного воплощения представлений о Женском (Инь) и
Мужском (Ян) космических началах. Возможно, это и так,
но не будем забывать, что указанные представления (тео-
рия Инъ-Ян, подробно см. глава 5) в более или менее от-
четливом виде прослеживаются только со второй полови-
ны чжоуской эпохи.
Приведенные примеры доказывают, что иньское орна-
ментальное искусство, равно как и местное художествен-
ное творчество в целом, владело мастерством изображения
человека. Следовательно, господство в нем анималистиче-
ского стиля могло быть обусловлено не столько его соб-
ственными особенностями, сколько внешними по отноше-
нию к нему культурно-идеологическими факторами.
Анималистический стиль тоже достигает своего наи-
высшего расцвета в заключительных столетиях позднеинь-
ского периода и разветвляется на три направления, кото-
рые в некоторых искусствоведческих работах предлагается
обозначать как реалистическое, абстрактно-эстетическое
и фантазийное. Все они могли реализовываться и в орна-
ментальных фигурах, и в оформлении вспомогательных
деталей сосудов, a также в сосудах-скульптурах.
«Реалистическое» направление в целом продолжает все
ту же стилистическую линию, идущую от неолитической
пластики. В «абстрактно-эстетическом» направлении тоже
создавались изображения реальных существ, но в художе-
ственных трактовках, подчиняющихся общей орнаменталь-
ной композиции изделия. В результате персонажи показы-
ваются в значительно искаженном, по сравнению с нату-
рой — стилизованном виде. Параллельно наблюдается все
более набирающая силу тенденция к переводу стилизован-
ных зооморфных образов в элементы геометрического ор-
намента — такая трансформация, как мы помним, была
свойственна яншаоскому орнаментально-графическому ис-
кусству. Наиболее активно это стилистическое направление
использовалось при оформлении вспомогательных деталей
сосудов, в первую очередь ножек. Репертуар живых су-
ществ, воспроизводимых в обоих указанных стилистиче-
ских направлениях, соответствует составу иньской фауны.
Котел-дии с изображением
человеческого лица
Сосуд для вина в виде
фигуры совы, выполненнои
в натуралистическом
стиле
Кувшин-ю в виде
стилизованных фигур сов.
Погребение Фу-хао
127
Самыми же популярными персонажами были слон, тигр,
олень, бык (водяной буйвол), козел, баран, сова, змея и
цикада — почти все они со временем войдут в принятую в
Китае систему художественных образов.
Йсходя из факта церемониально-ритуального предназ-
начения иньских бронзовых изделий, болыпинство иссле-
дователей склоняются к точке зрения, что орнаментальные
зооморфные изображения обязательно должны были иметь
какое-то символическое значение. Чаще всего в них усмат-
ривают воплощение жертвенных, тотемных животных или
духов. Есть и прямо противоположная версия, согласно
которой иньское орнаментальное искусство было начисто
лишено семантического смысла и ориентировалось исклю-
чительно на эстетические критерии. Хотя очевидно нали-
чие в иньском художественном творчестве развитого эсте-
тического начала, такая версия выглядит маловероятной.
Вместе с тем нельзя не признать, что все попытки семанти-
ческого анализа иньского искусства пока не увенчались
успехом, a потому мы не можем окончательно определить
ни подлинный смысл его образов и мотивов, ни характер
стоящих за ними культурных традиций и реалий.
«Фантазийное» направление сводится к созданию фан-
тазийных и фантастических образов. Под «фантазийны-
ми» образами понимаются изображения реальных живых
существ, но наделенных теми или иными чертами, кото-
рые не совпадают с их естественным обликом. Чаще всего
такие изображения создавались путем введения в компози-
цию дополнительных элементов или покрытия поверхно-
сти сосуда-скульптуры орнаментом, включающим в себя
изображения других персонажей. Иллюстративным образ-
цом этого стилистического направления выступают пар-
ные сосуды (кувшины-цзі/нь, высота 45,9 см, вес 16,7 кг)
Фу-хао. В них воспроизводятся скульптурные изображе-
ния фигуры совы, выполненные в целом в реалистической
манере. Но в орнаментальную композицию введено множе-
ство факультативных деталей и образов, которые придают
и самой скульптуре птицы оттенок фантазийности.
«Фантастические» образы — изображения существ,
которые не имеют прямых прототипов в живой природе.
Такие образы чаще всего создавались посредством сочета-
ния в них элементов внешнего облика различных предста-
вителей животного мира. Перед нами проходит целая гале-
рея сосудов-скульптур в виде то «тигро-совы» (одну часть
сосуда образует фигура тигра, другую — совы), то «сово-
утки», то «крылатого волка» и тому подобных причудли-
вых созданий. Такие сосуды, подобно неолитическому ков-
шу-шао, обладают и ярко выраженными метаморфически-
ми свойствами. Показанные в них персонажи меняют свой
облик при изменении точки зрительного восприятия, бук-
вально на глазах y зрителя: сова, например, превращается
в фантастическое существо, которое, в свою очередь, транс-
формируется в тигра.
Непревзойденным шедевром иньского зооморфно-фан-
тазийного стиля признается кувшин-ю (высота 32,7 см) в ви-
де скульптурной композиции, состоящей из фантастиче-
ского существа и человека. В образе фантастического су-
щества присутствуют черты и хищных зверей (тигриная
морда и пасть, уши какого-то зверя, возможно, медведя), и
слона (передние конечности), и змеи (змеиный хвост и сти-
лизованные тела извивающихся змей, входящие в орна-
ментику поверхности сосуда). Голова человека выполнена
в реалистической манере с детальной проработкой всех черт
лица, тогда как его фигура только намечена, и ее конту-
рЬІ — человек якобы пытается обхватить тело фантасти-
ческого существа — сливаются с фоновым орнаментом. В за-
висимости от точки зрения на сосуд и его освещенности,
изображение лица меняется, то приобретая умиротворен-
ный вид, то искажаясь гримасой страха, что предопреде-
лило множественность и противоречивость истолкований
этого изделия. В одних изданиях оно называется «сосудом
в виде чудовища, готовящегося поглотить свою жертву», в
других — «сосудом в виде человека, прижимающегося к
своему тотему-покровителю».
Серийность изготовления такого типа сосудов указывает
на то, что иньское орнаментальное искусство приступило к
настойчивому поиску средств создания образов фантастиче-
ских существ. Однако художественно-морфологическая уни-
кальность каждого конкретного изделия подсказывает, что
воспроизведенные в них персонажи еще не имели строгого
иконографического смысла и были, скорее всего, порождени-
ем творческой фантазии самих мастеров. Несомненной ико-
нографичностью обладают только два типа зооморфно-фанта-
зийных изображений — маеки-таотэ и драконы-TCz/u.
Позднеиньское орнаментальное искусство располагало
множеством стилистических и морфологических вариан-
тов масок-таотэ. В наиболее проработанном и детализо-
ванном — «классическом» — варианте таотэ показыва-
ется голова хищного зверя, увенчанная бараноподобными
рогами и идущим от переносицы роговидным выступом.
Морду дополняют уши еще какого-то животного и в ряде
случаев лапы хищного зверя, как бы сведенные под ниж-
ней челюстью.
В других вариантах таотэ может приближаться к об-
разам реальных животных: тигра, козла, барана, буйвола,
либо, напротив, исполняться в предельно стилизованном
виде. Есть также варианты таотэ, составленные из пар-
ных зооморфных или зооморфно-фантазийных фигур или
элементов геометрического орнамента.
Сосуд в виде фантазийного
изображения совы.
Погребение Фу-хао
Кубок-гук в виде фигуры
«тигро-совы». Погребение
Фу-хао, высота 22 см,
длина 28,4 см
Кувшин в виде
скульптурной композиции
из фантастического
существа и человека
Таотэ
a — «классический» вариант; б -
с чертами буйвола.
9 Исторня искусства Китал
129
Мотив таотэ на других
категориях произведений
иньского декоративно-
прикладного искусстѳа
a — кольцо Фу-хао; б — бронзо-
вый шлем; в — нефритовая плас-
тина (изображение человеческого
лица, стилизованное под таотэ).
Местоположение таотэ на поверхности сосуда и ее роль
в орнаментальном контексте тоже широко варьируются. Она
оказывается то основной орнаментальной фигурой, разме-
щенной прямо по центру тулова сосуда, то частью сегмента
фризовой композиции, идущей по его верхней или нижней
части, то элементом художественного оформления вспомо-
гательных деталей. Нередко встречаются изделия, в орна-
ментике которых таотэ повторяется в различных вариаци-
ях и сочетается с зооморфными высокорельефными, или
горельефными, изображениями, выполненными в реалисти-
ческом или абстрактно-эстетическом стиле. Однако в любых
вариантах и вариациях таотэ неизменной остается ее глав-
ная опознавательная иконографическая деталь — гипертро-
фированные миндалевидные глаза с круглыми глазными
яблоками (зрачками), которые обычно даются в более высо-
ком рельефе, чем остальные элементы маски. В стиле «Б»
таотэ вообще может сводиться к одним кругам (глазам),
замкнут в геометрическом орнаменте.
Маска-таотэ оказывается излюбленным мотивом и для
орнаментики других изделий иньского декоративно-при-
кладного искусства — украшений (например, нефритовое
кольцо Фу-хао), лаковой посуды (подробно см. глава 14),
деталей колесниц, оружия и предметов вооружения. Она
отчетливо просматривается, в том числе, в художествен-
ном оформлении аньяновского бронзового шлема. На всех
этих изделиях тоже даются ее различные варианты. Вот,
скажем, еще один нефритовый амулет (яйцевидной фор-
мы, ок. 42 х 17 cm), украшенный рельефной маской, по-
вторяющей морду тигра. Другое примечательное изделие —
нефритовая пластина в виде силуэтно-рельефного изобра-
жения головы человека в профиль. Но ее венчают оленьи
рога, хорошо видны странной формы для человеческого
существа уши, a черты лица явно стилизованы под таотэ.
Столь исключительная популярность маски-таотэ в
иньском орнаментальном искусстве отнюдь не облегчает
разгадки ее смысла, над чем ломает головы уже не одно
поколение ученых. В чжоуских книгах рассказывается о
чудовище-людоеде по имени Таотэ («Обжора»), который
был повержен и обезглавлен Желтым императором. В знак
своей победы и в назидание потомкам он повелел отныне и
впредь до скончания веков помещать изображение отруб-
ленной головы людоеда на бронзовых сосудах. По понят-
ным причинам изложенная версия происхождения маски-
таотэ не снискала себе поклонников в научных кругах.
Находки неолитических нефритов и раннеиньских бронзо-
вых изделий позволили восстановить более вероятную кар-
тину ее происхождения — от лянчжуских «чудовищ» и
луншаньских «демонов». Развернуто аргументировать на-
личие между ними определенного морфологического сход-
ства, думается, излишне. Оговорим лишь, что среди эрли-
гановских бронзовых изделий присутствуют сосуды, на
которых красуются, занимая почти всю их поверхность,
орнаментальные фигуры, точь-в-точь повторяющие нефри-
товых «демонов».
130
Разработка маски-таотэ как таковой тоже началась в
раннеиньском орнаментальном искусстве. Некоторые эр-
лигановские сосуды украшены орнаментальными компо-
зициями, предвосхищающими таотэ, причем уже тогда в
них использовались элементы внешнего облика различных
существ: птиц, хищников, рогатых животных.
Но коль скоро иньское орнаментальное искусство всего
лишь восприняло уже известный в предшествующем худо-
жественном творчестве мотив, то чем объясняется всплеск
его популярности именно в позднеиньский период? В ходе
поисков ответа на этот вопрос было высказано предположе-
ние о семантической связи таотэ со специфическим поздне-
иньским обрядом поклонения предкам (о нем упоминается
только в надписях на гадательных костях), во время которо-
го души усопших якобы пребывали в мире людей, но в
образе животных или фантастических существ. Вот они-то
как раз и показаны в масках-таотэ. Однако если такой
обряд был настолько авторитетным и общеизвестным, что
оказал определяющее влияние на всю современную ему ху-
дожественную образную систему, то почему его обходят мол-
чанием чжоуские тексты, в которых, как мы уже могли не
раз убедиться, содержатся достаточно полные и точные све-
дения об иньской эпохе? Если же он, напротив, имел эзоте-
рический характер и был ведом лишь посвященным, то как
же порожденная им образность смогла столь открыто и вла-
стно утвердиться в национальном искусстве?
Дракон-то/й — весьма стилизованное изображение фан-
тастического существа, в котором сочетаются черты внешне-
го облика хищного зверя (голова, пасть, лапы) и змеи (змее-
образное туловище). Древние письменные источники возво-
дят это изображение к образу легендарного персонажа по
имени Куйу который называется в них главным музыкантом
при дворе совершенномудрого государя Шуня и одним из
основоположников национального музыкального искусства
(подробно см. глава 19). В мифологических версиях пове-
ствований о Куе говорится, что он имел человеческую внеш-
ность, но только одну ногу, что и сближает его облик с
обликом змеевидного или драконовидного существа.
Данный мотив тоже начал складываться на «позднеэр-
лигановском» этапе (повторяющиеся элементы геометри-
ческого орнамента, в которых угадываются профильные
фигуративные изображения), продолжил свое развитие в
орнаментальном искусстве начала позднеиньского периода
и окончательно оформился в ХІІ-ХІ вв. до н. э. На поздне-
иньских бронзах вновь исполнялись различные варианты
и вариации куй, но они оказываются значительно более
однотипными, чем таотэ, и обладают устойчивой иконо-
графической схемой (соблюдение принципа профильного
изображения и воспроизведение всех деталей внешности
персонажа — головы, туловища, заканчивающегося хво-
стом, и конечностей). Кроме того, в отличие от таотэ,
драконы-тсі/й никогда не исполнялись в качестве основных
орнаментальных фигур. Обычно они образуют фризовые ком-
позиции в рамках общего орнаментального поля, в которых
Варианты таотэ
в орнаментации
раннеинъских бронзовых
сосудов, обнаруживающие
наиболыиую
морфологическую близость
к фантазийно-зооморфным
изображениям на
лянчжуских и луншаньских
нефритах
Дракон-куй
a — варианты изображения на
позднеиньских бронзах; б — ва-
риант мотива в раннеиньском ор-
наментальном искусстве.
131
Ножка сосуда в виде
пластического изображения
дракона-куй
показываются в виде или повторяющихся, или симметрич-
ных парных фигур. Парные куй (обязательно вертикально
расположенные!) нередко составляют маску-maoma. Имеют-
ся также образцы пластических изображений дракона-то/ы,
но только в пределах целостного художественного оформле-
ния сосудов — так могли исполняться ножки котлов-дин.
Общее художественно-архитектоническое решение поздне-
иньских бронз создает особый и легко узнаваемый стили-
стический тип, отличающийся торжественностью и вели-
чественностью. Типологически сопоставимый с европейским
барокко, он явно проистекает из художественных тради-
ций южных, юго-восточных и восточных неолитических
культур и как нельзя лучше передает величие и могуще-
ство иньского государства и его правящего дома. Обилие
же зооморфных и зооморфно-фантазийных мотивов и обра-
зов не только усиливает эстетическую выразительность
иньских бронз, но и придает им ауру таинственности, под-
черкивая их близость к высшему, сакральному миру, что
полностью соответствует позиции иньских царей и знати
как духовных иерархов.
Широкое распространение сосудов-скульптур, остатки
красочного слоя на деревянных панелях из царских усы-
пальниц и использование рисуночного письма, казалось
бы, недвусмысленно намекают на возможность существо-
вания в иньскую эпоху изобразительного искусства. Одна-
ко факт бытия в то время живописной традиции, пусть
даже в самом примитивном ее исполнении, не подтвержда-
ется ни литературными источниками, ни археологически-
ми материалами. Традиция же пластического искусства,
судя по числу дошедших до нас артефактов, пребывала
чуть ли не на задворках местной творческой деятельности,
что, впрочем, вовсе не означает ее факультативности в ху-
дожественном наследии иньской эпохи.
Изобразительное
искусство (пластика)
Самая полная коллекция иньской скульптуры была
обнаружена в погребении Фу-хао. Она состоит исключи-
тельно из миниатюрной пластики, выполненной из раз-
личных материалов: бронзы (4 фигурки тигра и тигриных
голов), горного хрусталя (крохотная — высотой 4,6 см —
фигурка обезьяны), нефрита и камня и включающей в
себя как зооморфные, так и антропоморфные изображе-
ния. Нефритовая зооморфная пластика представлена ста-
туэтками тигра (11,7 см в длину), слона (6 см) и птицы
(6 см). Все они выполнены в реалистической манере, близ-
кой к стилистике предшествующей (неолитической, эрли-
тоуской и раннеиньской) пластики, но отличаются от нее
значительно более тщательным исполнением и наличием
дополнительной орнаментации. Поверхность статуэток
сплошь покрыта низкорельефными узорами, которые в це-
лом верно передают птичье оперенье и рисунок звериной
шкуры. Одновременно эти узоры перекликаются и с фоно-
выми комбинациями на бронзовых сосудах. Антропоморф-
ная пластика состоит из нефритовых и каменных статуэ-
ток коленопреклоненных людей (высота 8-12 см), стоящих
132
людей и изображений голов (более 10 образцов, высота
около 3 см). Их репертуар заставляет нас вспомнить тради-
ции неолитической пластики, имевшие место и в яншао-
ских (скульптуры голов и стоящих людей), и в хуншань-
ских (коленопреклоненная поза) культурах. Эти статуэтки
тоже выполнены в реалистической манере и отличаются
еще более детальной, чем зооморфная пластика, проработ-
кой внешности натуры: показаны черты лица, прическа,
костюм со всеми его деталями (подробно см. глава 12).
Судя по их одеянию и позе, статуэтки изображали слуг.
Еще одна серия неболыиих по размеру каменных извая-
ний и их фрагментов была обнаружена на территории анья-
новского комплекса и в погребениях. Почти все они выпол-
нены из белого мрамора и воспроизводят образы животных
и птиц: лягушку, буйвола, слона, сову. Несмотря на разни-
цу в художественном материале, эти изваяния по манере
исполнения и характеру орнаментации в равной степени
примыкают и к миниатюрной пластике Фу-хао, и к бронзо-
вым сосудам-скульптурам. На общем фоне разобранных ар-
тефактов резко выделяется самое крупное из найденных
мраморное изваяние (высота 36,5 см), представляющее по-
лузооморфно-полуантропоморфное существо: тигр с непро-
порционально большой головой и свирепо оскаленной мор-
дой, но в человеческой — коленопреклоненной — позе. Морда
тигра по ряду нюансов (выпученные, округлые глаза) пере-
кликается с маской-тао/пэ, поза изображения — со стату-
этками Фу-хао, a впервые с подобным художественным прие-
мом — сочетанием черт внешнего облика зверя (медведя) и
человека — мы встретились в хуншаньском творчестве.
Итак, в позднеиньский период традиция пластического
искусства безусловно претерпела качественные изменения
по сравнению с неолитической и раннеиньской скулыіту-
рой. Репертуар ее персонажей расширился, a художествен-
ный уровень намного возрос. Однако сферы ее применения
оказываются ограниченными похоронной обрядностью и,
возможно, предметами роскоши. Никаких признаков су-
ществования в то время храмовой и декоративной (дворцо-
вой, городской), a также монументальной скульптуры пока
не обнаружено. He зная о неолитическом художественном
творчестве, мы могли бы смело утверждать, что китайское
изобразительное искусство еще просто не достигло ступени
развития, необходимой для создания монументальной куль-
товой скульптуры. Теперь же выяснилось, что эта пласти-
ческая традиция уже была известна в неолитическую эпо-
ху (скульптуры из хуншаньского святилища, трехмерные
композиции культуры Шицзяхэ). Так почему же именно
она в отличие от всех остальных достижений неолитиче-
ского искусства не была воспринята иньской творческой
деятельностью? Главная причина этого кроется, на наш
взгляд, в аморфности иньских религиозных представле-
ний, которые еще не знали тенденции к персонификации
божественных персонажей и не нуждались, естественно, в
культовой скульптуре. A духовные и эстетические запросы
правящей элиты полностью удовлетворялись бронзовыми
Миниатюрная пластика
из погребения Фу-хао
a — нефритовые статуэтки
Turpem; б — нефритовая статуэтка
человека: / — вид сбоку, 2 — вид
спереди; в — каменная статуэт-
ка человека: 1 — вид сбоку, 2 —
вид спереди.
133
изделиями. Тот же гигантский котел-дин с не меньшей
степенью убедительности передавал торжество и незыбле-
мость царствующего дома, чем, скажем, скульптурные пор-
треты конкретных августейших особ.
Все предложенные характеристики иньского искусства
опираются на артефакты, созданные в метрополии. A в ка-
ком состоянии пребывало и существовало ли вообще регио-
нальное художественное творчество? Актуальность этого
вопроса обусловлена еще и тем, что в иньское государство
вошли многие территории, где еще не так давно располага-
лись неолитические общности и процветали местные само-
бытные художественные традиции.
Периферийные
художественные
традиции и характер
их соотношения
с искусством
метрополии
Бронзовый кубок
из комплекса Юаньцюй
Для раннеиньского и позднеиньского периодов к настоя-
щему времени уже открыто достаточное число региональ-
ных памятников, чтобы по ним можно было воссоздать
границы иньского государства и состояние всей хозяйственно-
культурной деятельности входящих в него местностей,
вплоть до крайних периферийных районов. Первое, что
отмечается при изучении этих памятников, — это стреми-
тельное расширение географии бронзолитейного производ-
ства, начавшееся уже с момента утверждения Шан-Инь. За
три последующих столетия оно распространилось по всей
территории Хэнани и намного вышло за ее пределы. Брон-
зопроизводящие центры выявлены на территориях Шэнь-
си, Шаньси, Хубэй и Шаньдуна, т. е. в местностях, нахо-
дящихся на значительном удалении от метрополии. И хотя
нельзя исключать возможности происхождения некоторых
из этих центров от местных очагов раннего металла, ука-
занный процесс свидетельствует о том, что возникновение
централизованного государства сблизило темпы хозяйствен-
но-культурного развития метрополии и периферии.
06 этом же говорят и конкретные артефакты. Так, по-
чти точные художественно-конструктивные аналоги эрли-
гановских винных кубков были обнаружены в городище
(комплекс Юанъцюй), находившемся в южной части Шаньси
и на расстоянии 200 км с лишним от раннеиньской столи-
цы. Самыми же показательными в данном случае памят-
никами выступают комплексы Панълунчэн и Тайсицунъ.
Оба они располагались соответственно в 400 км к югу и
северо-востоку от эрлигановского комплекса и представля-
ют собой крайние южный и северо-восточный периферий-
ные районы раннеиньского государства.
Комплекс Паньлунчэн (1958 г., восточная часть Хубэй,
в 5 км к северу от города Ухань) — современник Эрлига-
на — включает в себя остатки городища (прямоугольное в
плане, с глинобитной стеной), архитектурного ансамбля,
жилых построек, мастерских и погребения. Архитектур-
ный ансамбль фактически повторяет собой по планировке
и конструктивным особенностям эрлитоуский дворец и храм.
Он был воздвигнут на общей глинобитной платформе (вы-
сота около 1 м) и состоял из нескольких строений. Главное
здание (38,2 х 11 м) возвышалось на отдельной платформе
(39,8 х 12,3 м) и было образовано двумя центральными
134
Паньлунчэновский дворец.
Реконструкция
(ширина по 9,5 м) и двумя боковыми (по 7,5 х 7,9 м) поме-
щениями. Стены состояли из деревянного каркаса, обло-
женного камышом, и были обмазаны глиной с доведением
их толщины до 0,7-0,8 м. Здание покрывала двухъярус-
ная четырехскатная крыша, опиравшаяся на ряды дере-
вянных колонн на каменных основаниях. Присутствие та-
кого архитектурного ансамбля указывает на то, что это
городище являлось резиденцией местного правителя44.
Высказанное предположение подтверждается находкой
в одном из захоронений двойного деревянного гроба, верх-
няя поверхность которого была украшена резьбой и поли-
хромной росписью, от которой, к сожалению, сохранились
только остатки красочного слоя. В этом же захоронении
находилась самая полная для раннеиньского периода кол-
лекция бронзовых изделий: 159 предметов, включая 51 еди-
ницу оружия и 68 сосудов. Подобного погребального инвен-
таря, кстати, не имело ни одно из столичных захоронений.
По категориям, формам и художественному оформлению
паньлунчэновские сосуды почти полностью совпадают со
столичными изделиями «среднеэрлигановского» этапа.
He менее примечательным оказывается местоположе-
ние Паньлунчэна по отношению к Эрлигану и позднеинь-
ской столице. Выясняется, что все они находились как бы
на одной линии длиной 600 км, которая тянется строго с
юга на север. Вдоль этой линии как раз и было сосредото-
чено большинство раннеиньских населенных пунктов. Сле-
довательно, раннеиньское государство обладало не просто
целостной территорией, но и искусственно организован-
ным культурным пространством, сфокусированным на сто-
личном центре.
Комплекс Тайсицунь (1965 г., основные работы — 1972-
1973 гг., юго-западная часть Хэбэй, уезд Гаочэн) — масш-
табный памятник, занимающий площадь в 100 000 м2. Там
тоже были найдены остатки крупного населенного пункта
с архитектурными ансамблями (три глинобитных платфор-
мы до 1 м в высоту) и многочисленными жилыми построй-
ками (но без городской стены), a также свыше 60 захороне-
ний. Их погребальный инвентарь — керамика, нефрито-
вые, костяные и бронзовые изделия — в целом не имеет
принципиальных отличий от состава погребального инвен-
таря столичных захоронений. Непосредственно бронзовые
изделия представлены оружием и сосудами, тоже выпол-
ненными в типично «среднеэрлигановском» стиле.
Итак, приведенные примеры дают основание утверж-
дать, что в раннеиньский период вступил в силу процесс
Бронзовые сосуды.
Паньлунчэн
Бронзовые сосуды.
Тайсицунь
44 Наличие такого рода ре-
гиональных столичных цент-
ров спровоцировало дискуссии
по поводу процесса формиро-
вания Шан-Инь: возникло ли
оно исходно в качестве цент-
рализованного государства или
же из конфедерации регио-
нальных общностей (родопле-
менных объединений), главы
которых как раз и стали инь-
ской знатью.
135
формирования единого общегосударственного художе-
ственного субстрата, который сопровождался унифика-
цией региональных художественных традиций и их стан-
дартизацией.
В еще более отчетливом виде данный процесс проявля-
ется в позднеиньский период. Однотипные по формам и
художественному решению сосуды (правда, только несколь-
ких определенных категорий) присутствуют в ряде местно-
стей, удаленных как от аньяновской столицы, так и друг
от друга: в северо-западной окраине провинции Аньхуэй
(уезд Фунанъ), на юге провинции Хубэй (район Цзянлин-
Шаши), в северной оконечности провинции Хунань (район
Юэян-Хуажун), на юго-западе Шэньси (города Гучэн) и в
центре провинции Сычуань (вблизи от города Чэнду).
Из других находок назовем коллекцию бронзовых из-
делий, обнаруженную (1996 г.) в схроне на юге Хубэй
(город Цичунъ). В нее входили 6 котлов-duw, (5 ректаго-
нальных тетраподов и 1 трипод), которые были изготовле-
ны в самом конце иньской эпохи или в начале Чжоу и,
несомненно, в местных мастерских. Несмотря на неболь-
шие размеры (высота 22-24,2 см, вес 2,5-3,5 кг), они точно
копируют аньяновские котлы и украшены орнаментом с
типичными (хотя и в несколько необычной трактовке)
для аньяновских бронз мотивами — таотэ, изображени-
ями змей и птиц.
Разобранные и аналогичные им памятники и артефак-
ты позволили также уточнить границы позднеиньского го-
сударства. Оно простиралось на севере до северной полови-
ны Шаньси (до предгорья массива Хэншанъ), на востоке —
почти до восточной окраины Шаньдунского полуострова,
заходя за горный массив Тайшанъ, на юге — приблизи-
тельно до середины Хунани (до района города Чанша, a
возможно, и еще далыпе — до города Хэнъян). Его запад-
ная граница проходила по линии современной границы
между Шэньси и Хэнанью. Юго-западная периферия по-
зднеиньского государства либо тоже упиралась в Шэньси,
либо охватывала не только южную часть этой провинции,
но и северо-восток Сычуани. Даже если в указанных райо-
нах обитали относительно самостоятельные общности, фор-
мально не входившие в состав иньского государства, они
явно находились под его политическим и культурно-худо-
жественным влиянием и, следовательно, относились к инь-
скому культурному кругу.
Итак, анализ художественного наследия Шан-Инь, во-
первых, убеждает в том, что иньское искусство аккумули-
ровало в себе весь творческий опыт неолитической эпохи, a
значит, неолитические региональные художественные тра-
диции на самом деле не были утрачены. Прекратив свое
бытие в родных местах, они в том или ином виде влились в
начинавший складываться собственно китайский художе-
ственный субстрат.
Во-вторых, очевидно, что возникновение централизо-
ванного государства привело в действие и механизм цент-
рализации всей творческой активности страны: домини-
рование официального искусства и стандартизация видов
регионального творчества. Помймо главенствующего по-
ложения в национальной, художественной культуре, офи-
циальному искусству свойствен еще ряд отличительных
качеств: использование труда профессионально подготов-
ленных и состоящих на государственной службе лиц, ус-
тановление контроля над их работой со стороны властных
структур, полное подчинение официально принятым ду-
ховным ценностям и эстетическим установкам и разра-
ботка такой системы изобразительных средств, которая
была бы способна отражать и упрочивать величие правя-
щего режима.
Однако художественное наследие иньской эпохи, как
выясняется, не ограничено результатами предметно-твор-
ческой деятельности только Шан-Инь.
Котел-дин.
Из схрона в пров. Хубэй
В «надписях на гадательных костях» и в чжоуских
книгах перечисляются в общей сложности около 50 сосед-
них с Шан-Инь «варварских» (по их определению) народ-
ностей, которые порой имели собственную государствен-
ность45, a порой и жестоко враждовали с иньцами46.
Начнем наш рассказ с юго-восточных и южных соседей
иньцев. По свидетельству письменных источников, они
были весьма разноплеменным населением. В том числе
называются народность юэ, обитавшая на юге Цзянсу и в
Чжэцзян, хуайи (северная часть Цзянсу), нанъчаоши
(в Аньхуэй), три мяо (санъмяо, Хубэй и Хунань). На сегод-
ня в этих районах обнаружено некоторое число артефак-
тов, созданных если и не этими конкретными народностя-
ми, то в любом случае представителями общностей, нахо-
дившихся вне иньского круга.
Для юго-востока важнейшими находками являются кол-
лекции бронзовых изделий, обнаруженных в Цзянсу (1989 г.)
и Чжэцзян (1988 г.). Первая из них состоит из 484 пред-
метов, из которых наиболынее внимание привлекает круп-
ногабаритный (высота 114 см) котел-дин. Его форма тоже
повторяет форму аньяновских котлов-тетраподов, a в ор-
наментации варьируются позднеиньские мотивы, но уже
с отчетливыми локальными чертами. Вторая коллекция
включает в себя абсолютно незнакомую иньскому бронзо-
литейному производству категорию изделий — ножки для
столов. Они выполнены в виде скульптурных изображе-
ний конечностей животных, что нехарактерно для инь-
ского оформительского искусства, предпочитавшего опе-
рировать целостными зооморфными образами. Ножки ук-
рашены узорами, составленными из фигур драконовидных
существ, перекликающихся с драконами-куй и змеиными
мотивами.
Для юга первоочередной находкой выступает схрон,
обнаруженный (1989 г.) в центральной части Цзянси (уезд
Синьганъ, приблизительно в 120 км к юго-западу от ад-
министративного центра этой провинции — города Нанъ-
чана). В нем было спрятано около 2000 предметов, кото-
рые датируются серединой XII в. до н. э., в том числе
Художественное
наследие народностей
вне иньского круга
45 Например, некое царство
Чун, находившееся на терри-
тории Шэньси.
46 Главными врагами инь-
цев называются цяны, обитав-
шие к западу от Шан-Инь, в
предгорье Тибето-Цинхайско-
го нагорья и бывшие предпо-
ложительно предками народов
тибето-бирманской этноязы-
ковой группы.
137
oooooooooood
oooooooooooq
OQOOOOOOOOOr1
ELJ
Изделия из Синьганя
a — котел-дин в иньском стиле;
б — керамика; в — нефритовый
кубок-цун; г — бронзовый сосуд
кубкообразной формы.
536 керамических сосудов, 536 бронзовых (включая сосу-
ды и оружие) и 1072 нефритовых изделия.
Керамические сосуды и нефритовые изделия отчетливо
восходят к керамике и нефритам Лянчжу. Среди них при-
сутствуют 2 диска-би (диаметр около 17 см), 4 шиловид-
ных предмета (20 х 2,2 х 1,8 см), 2 кубка-цг/н, в которых
словно возродились древнейшие образцы юго-восточных
кубков (высота 7 см, диаметр устья 6,3 см), и нефритовая
пластина (высота 16,2 см) в виде «демона».
Бронзовые предметы распадаются на три стилистиче-
ские группы: специфические, «смешанного» и иньского
типа. В первой из них особое место занимает пластина
(16,9 х 21 см), изображающая голову полузооморфно-
полуантропоморфного существа, увенчанную огромными
козлоподобными рогами. Для изделий второй группы ха-
рактерно сочетание локальных форм с иньской орнамента-
цией, например сосуд кубкообразной формы (высота 13,4 см),
повторяющий собой керамические кубки-доу и украшенный
узором, в котором угадываются маски-таотэ и драконы-
куй. Основное место в третьей группе занимают 16 котлов-
дин (высота до 96 см) и котел-янь (114 см), художественное
оформление которых перекликается как с эрлигановскими
(использование «гвоздевидного узора»), так и аньяновски-
ми бронзами (оформление ручек пластическими зооморф-
ными изображениями).
Специфические изделия и изделия иньского типа со-
седствуют еще в одной коллекции бронз, найденной (1990 г.)
на юге Хунани (уезд Синънин). Среди них мы видим и
округлый треножник-du«, по всем показателям совпадаю-
щий с его эрлигановскими аналогами, и необычной формы
плавно изогнутый сосуд-кувшин. Но он тоже покрыт узо-
рами, сходными с иньскими, и имеет боковую ручку в виде
пластического изображения драконообразного существа,
очень похожего на дракона-тсг/й.
Разобранные артефакты, разумеется, слишком фрагмен-
тарны, чтобы на их основании пытаться отожествить их
создателей с той или иной из называемых в письменных
источниках народностей. Тем не менее они позволяют го-
ворить, что, во-первых, стоящие за ними общности были,
скорее всего, потомками местных неолитических культур
и, следовательно, состояли в отдаленном родстве с иньца-
ми. Никакого качественно нового этнокультурного ком-
понента в соседних с Шан-Инь юго-восточных и южных
территориях пока не прослеживается. Во-вторых, эти общ-
ности располагали собственным бронзолитейным произ-
водством, выпускавшим продукцию, лишь немногим усту-
павшую по качеству и уровню художественного оформле-
ния иньским бронзам. Отмеченные совпадения между
местными и иньскими изделиями, казалось бы, однознач-
но свидетельствуют о том, что и эти общности попали в
орбиту культурно-художественного влияния Шан-Инь. Но
ведь они могли быть обусловлены и тем, что местные и
иньские мастера на самом деле продолжали одни и те же
художественные традиции.
138
Совершенно иная этнокультурная ситуация наблюдает-
ся в соседних с Шан-Инь северо-восточных, северных и
северо-западных местностях на территориях Ляонин, се-
верных частей Хэбэй, Шаньси, Шэньси и Внутренней Мон-
голии. Там непрерывно шли диффузионные и миграцион-
ные процессы, приносившие к его границам (равно как и к
границам всех последующих китайских государств) все
новые этнические группы и объединения. В какой-то мо-
мент на севере и северо-западе от Шан-Инь осели народно-
сти, называемые в науке носителями культуры ордосско-
суйюаньской (северной) бронзы, которые были генетиче-
ски связаны со Средней Азией и скифо-кочевническим
миром. Иньцы, судя по всему, поддерживали с ними доб-
рососедские отношения и наладили торговые контакты.
Иначе трудно объяснить присутствие среди аньяновских
артефактов привозных предметов и изделий в скифо-
сибирском стиле. Так, большая часть нефритов из погре-
бального инвентаря Фу-хао оказалась (по результатам их
химического анализа) доставленными откуда-то из Сиби-
ри, вероятнее всего из района Байкала. Среди аньяновско-
го оружия важное место занимают ножи с ручками в виде
конской или козлиной головы (подобные ножи присутству-
ют во многих сибирских энеолитических памятниках —
на Урале, в окрестностях Байкала, в Минусинске). Более
того, в орнаментации байкальских ножей, состоящей из
треугольников и кругов, некоторые исследователи усмат-
ривают морфологическое подобие масок-таотэ. He исклю-
чено также, что именно от этих народностей иньцы узнали
о золоте и златоделании. Использование золота впервые
отмечено для позднеиньского периода — находка в Аньяне
кусочков золотой фольги, которые, видимо, предназнача-
лись для аппликаций на бронзовых или лаковых сосудах.
Между тем златоделание было хорошо известно носителям
северной бронзы: в местных памятниках постоянно нали-
чествуют золотые изделия, преимущественно подвески на-
подобие фибул, орнаментированные в «зверином стиле».
Показательно, что древнейшие в Китае полноценные золо-
тые украшения были обнаружены при раскопках крайнего
северо-восточного иньского населенного пункта (комплекс
Люцзяхэ, в восточном пригороде Пекина). Среди типично
иньских бронзовых сосудов, деталей конской упряжи и
нефритов находились 2 золотых кулона-амулета, серьги и
заколки для волос, которые в равной мере могли быть и
привозными, и местного происхождения.
Контакты иньцев с северными соседями были, по сути
дела, первым эпизодом взаимодействия нарождающегося
китайского этноса с внешним миром. И он сразу же вы-
светил еще одно важнейшее свойство китайского искусст-
ва — его способность к художественным заимствованиям
и адаптации этих заимствований к собственным реалиям
и стандартам.
Значительно более загадочные, чем все остальные народ-
ности, соседи Шан-Инь неожиданно (в полном смысле этого
слова) обнаружились в Сычуани: в местности Санъсиндуй
Бронзовые изделия
из Синьнина
а — сосуд специфической формы;
б — котел в иньском стиле.
139
Изделия из Санъсиндуя
a — неолитическая керамика;
б — бронзовый сосуд в иньском
стиле.
(уезд Гуанханъ, приблизительно в 40 км к северу от Чэн-
ду). Археологические работы были здесь еще в начале
30-х гг. прошлого века, они периодически то надолго при-
останавливались, то возобновлялись. К 80-м гг. был вскрыт
очередной масштабный комплекс, общей площадью в 17 км2
и состоящий из четырех стратиграфических слоев, датируе-
мых 2800-1000 гг. до н. э. Два нижних слоя содержали
артефакты, в первую очередь керамические сосуды, указы-
вающие на их близость к южным неолитическим культу-
рам (Цюйцзялин) и к Луншань.
В третьем слое (2100-1400 гг. до н. э.), синхронном Эр-
литоу и Ранней Инь, были обнаружены остатки городища.
Оно занимало площадь в 3,5 км2 и было обнесено мощной
стеной (высота 4-6 м, ширина y основания и y верха —
соответственно 40 и 20 м), выполненной не в глинобитной
технике, как это было в регионе Хуанхэ, a сложенной из
керамических брусков, высушенных на воздухе. На терри-
тории городища находились многочисленные жилые здания
круглой, квадратной и прямоугольной конфигурации и ма-
стерские. Обнаруженные среди их руин изделия — керами-
ка, бронзовые сосуды — в целом совпадают с эрлигановски-
ми артефактами. Особо примечательно нахождение среди
них подвесок, украшенных бирюзовым мозаичным панно.
Одним словом, все указывало на то, что в данном районе
располагалась общность, выросшая из местных неолитиче-
ских культур и относящаяся к иньскому кругу, возможно,
одно из вассальных владений Шан-Инь.
Поисковые работы, проводившиеся в 1986 г., принесли
совершенно иную, сенсационную находку. Были найдены
две ямы-схрона, расположенные рядом, в 30 м друг от дру-
га и в 450 м к северу от южной части стены. Глубина ям
приблизительно 1,5 м (146-164 и 140-168 см), они имели
почти вертикальные стенки и утрамбованную нижнюю по-
верхность, т. е. были исполнены с определенной тщательно-
стью. В обеих ямах оказалось складированным в общей слож-
ности 869 предметов, относящихся к ХІІІ-ХІ вв. до н. э.
Самые ранние из них датируются (по данным радиокар-
бонного анализа) 1250 г. до н. э. Часть этих предметов —
бронзовые сосуды, нефритовые изделия, в том числе ски-
петры чжан (52 экземпляра), кубок-цун, ритуальное ору-
жие (40 экземпляров), — тоже практически полностью со-
ответствует иньским стандартам, тогда как другие не име-
ют даже отдаленных аналогов в художественном творчестве
Шан-Инь или соседних с ним народностей. Необходимо
отметить, что распределение «иньских» и специфических
изделий оказалось неравномерным. В одной яме (К 1) были
складированы преимущественно «иньские», тогда как спе-
цифические изделия были в другой (К 2), где они, кроме
того, были завалены грудой слоновьих бивней. Возможно,
такое распределение было обусловлено степенью их ценно-
сти для владельцев. Однако в целом создается впечатле-
ние, что они были складированы наспех. Многие предметы
были повреждены, на некоторых — следы пребывания в
огне (в пожаре?).
140
Самыми уникальными артефактами выступают бронзо-
вые скульптуры: монументальное (в натуральный челове-
ческий рост) изваяние, изваяния человеческих голов, мас-
ки, миниатюрная пластика, зооморфные и зооморфно-фан-
тазийные изображения и модели деревьев. Расскажем о
них по порядку.
Бронзовое монументальное изваяние (общая высота
262 см, вес 180 кг) состоит из фигуры стоящего человека
(172 см) и постамента. Постамент представляет собой за-
мысловатую художественно-архитектоническую компози-
цию, образованную основанием в форме усеченной пира-
миды и табуретоподобной подставкой на четырех ножках,
которые выполнены в виде пластических изображений то
ли слоновьих голов с загнутыми хоботами, то ли зооморфно-
фантазийных существ. Фигура человека показана облачен-
ной в длинное (доходящее сзади до щиколоток) халатопо-
добное одеяние. Оно отличается от известного по статуэт-
кам Фу-хао иньского костюма по запаху (с правым, a не
левым запахом, как это было принято при Шан-Инь и во
все последующие исторические эпохи), по деталям кроя
(треугольный шейный вырез сзади, полы разной длины), a
также отсутствием пояса. Облачение довершает головной
убор наподобие тиары, который тоже не совпадает ни с
одним из типов древнекитайских головных уборов, извест-
ных по литературным описаниям и пластическим изобра-
жениям. Тиара и одеяние сплошь покрыты орнаментом,
состоящим из геометрического узора и стилизованных изоб-
ражений зооморфно-фантазийных существ. Элементы это-
го орнамента демонстрируют некоторое внешнее сходство с
иньскими мотивами и образами — с «узорами грома», дра-
конами- куй. Однако подчеркнутая асимметричность орна-
ментальной композиции — на левой стороне передней и
задней части одеяния узор идет по вертикали, на правой —
по горизонтали — противоречит всем принятым в иньском
искусстве орнаментальным схемам, в которых господство-
вал принцип зеркальной симметрии. Еще одна примеча-
тельная деталь изваяния головы — массивные, трапецие-
видной формы уши, в мочках которых проделано по одному
болыпому круглому отверстию. Они, видимо, предназнача-
лись для серег, тогда как серьги вошли в употребление в
Китае не ранее III—IV вв. н. э. (подробно см. глава 13). Обе
руки имеют непропорционально болыыие по сравнению с
естественными пропорциями человеческого тела ладони и
показаны в согнутом положении. Левая ладонь сжата в
кулак — возможно, изваяние предназначалось для удер-
жания некоего удлиненного, изогнутой конфигурации пред-
мета, таковым вполне мог быть бивень слона. Ступни ног
фигуры босые, хотя украшены ножными браслетами, что
также было абсолютно не принято в китайском костюме.
Изваяние относится к числу наиболее ранних по времени
изготовления изделий и было повреждено или намеренно
разбито — расколото на две части — еще до того, как его
поместили в схрон. Болыиинство исследователей сходятся
во мнении, что это — скульптурный портрет правителя,
возможно, верховного жреца либо государя, который воз-
главлял местную общность.
Миниатюрная бронзовая пластика состоит из несколь-
ких крохотных фигурок (высота до 3 см). Одна из них
изображает человека в коленопреклоненной позе, несколь-
ко напоминая нефритовую и каменную пластику Фу-хао.
Другие же — человека, преклонившего одно колено, стоя-
щего человека, облаченного в туникоподобное одеяние, воз-
можно в доспехи. Фигурки являются уникальными для
иньского изобразительного искусства.
Бронзовые фигуры голов (54 единицы, высота 35-50 см)
(см. вклейку) имеют 8 морфологических типов, различаю-
щихся по характеру исполнения верхней части головы и
набору дополнительных деталей. Одни изваяния имеют
плоский верх, который может быть охвачен горельефной
полосой, имитирующей либо волосяное украшение, спле-
тенное на манер венка, из тканых или металлических по-
лос, либо особым образом уложенную прическу. В других
«плоскоголовых» экземплярах по тыльной стороне головы
проходит низкорельефная полоса, напоминающая изобра-
жение длинной косы.
Следующий тип скульптур — изваяния голов, завер-
шающихся выпукло-округлой черепной коробкой. Они тоже
обычно дополнены различными деталями, в которых уга-
дываются или головная повязка, заканчивающаяся на за-
тылке узлом с торчащими вниз и вверх полосами (узел,
завязанный большим бантом), или же маленькая, плотно
облегающая макушку шапочка. В других морфологических
типах они снабжены то парой рогообразных выступов, тоже,
видимо, передающих специфический головной убор или
шлем, то цилиндрической «шапочкой». Уши всех извая-
ний голов также имеют отверстия — от одного до трех. На
других — остались фрагменты их обкладки тонким золо-
тым листом (златоделательная техника, предшествовавшая
золочению), образующие подобие масок, наполовину скры-
вающих лицо.
Бронзовые маски — 20 единиц — распадаются по раз-
мерам на 3 серии и на 5 морфологических типов. Самая
крупная из них имеет высоту 138 см. Еще две маски — по
80 см высотой и весом по 20 кг. Размер остальных масок
колеблется от 20 до 50 см. I морфологический тип — мас-
ки полукруглой формы и без ушей. II и III типы — маски
трапециевидной формы, вытянутые по вертикали и по го-
ризонтали. IV тип — с массивными ушами, напоминаю-
щими по форме уши слона. V тип — снабженные сложно-
фигурной конструкцией, идущей от носовой части лица,
строго посередине лба, и образующей навершие, которое
намного возвышается над самой маской.
Несмотря на указанные художественно-конструктивные
разночтения и прочие стилистические нюансы, во всех
скульптурных изображениях воспроизводится единый ико-
нографический мотив, дающий специфический антрополо-
гический образ. Он характеризуется, во-первых, большими
миндалевидными глазами, верхние углы которых сильно
скошены вверх, доходя почти до висков, a глазные яблоки
оказываются тоже непропорционально болыыими и округ-
лыми (в ряде масок они показаны в виде весьма выступаю-
щих цилиндров). Глаза дополнены широкими бровями. Во-
вторых, лицо имеет тонкогубый, вытянутый, словно растя-
нутый в улыбке рот и скошенный, плоский подбородок.
Форма носа варьируется от чуть приплюснутого до «орли-
ного», с горбинкой y переносицы. Этот образ демонстриру-
ет определенное сходство с антропологическими примета-
ми древнесредиземноморской, т. е. собственно европеоид-
ной расы.
Зооморфная скульптура состоит исключительно из изоб-
ражений головы птицы (высота до 43,3 см), в которых вос-
производится тоже один и тот же образ — хищная птица
из семейства ястребиных. Следует сказать, что в иньском
искусстве обыгрывался образ только одного представителя
пернатых хищников — совы.
Как бы промежуточное положение между изваяниями
и зооморфной скульптурой занимает фигурка (высота
12 см), венчающая предмет, сходный со скипетром. В ней
показано существо с туловищем хищной птицы и челове-
ческой головой, лицо которой повторяет антропологиче-
ский образ. Голова завершается конструкцией, сохранив-
шиеся фрагменты которой напоминают рога оленя.
Помимо собственно скулыітуры, в схронах находились
четыре бронзовые модели деревьев, но в очень плохом со-
стоянии. Удалось воостановить только одну из них. Она
оказалась 4-метровой и многодетальной конструкцией, со-
стоящей из фигурной подставки и ствола, образованного
несколькими секциями полых труб. К стволу прикрепле-
ны три расположенных друг над другом ряда изгибающих-
ся трубочек-веток. Они заканчиваются стилизованными
изображениями цветочных бутонов в окружении листвы и
дополнены фигурками сидящих на них хищных птиц. Со-
четание таких образов — цветы и птицы, было, как это
известно из опыта истории мировой религии и художе-
ственной культуры, универсальной символикой Древа бес-
смертия.
Следующие две категории бронзовых предметов, кото-
рые тоже заслуживают отдельного упоминания, не явля-
ются произведениями искусства как таковыми, но крайне
интересны с общекультурной точки зрения. Это, во-пер-
вых, бронзовые колеса с пятью спицами (предположитель-
но, 6 экземпляров), имеющие диаметр в пределах 85 см.
Они могут быть истолкованы и как ритуальные предметы,
обладающие солярной символикой, и как указание на то,
что их создатели имели в своем распоряжении колесный
транспорт. Во-вторых, комплект ромбовидной формы пла-
стин (27,5-76,3 х 12,2-83,7 см) с выпуклым диском посе-
редине, которые также ассоциируются в первую очередь с
солярным культом. Судя по отверстиям, эти пластины кре-
пились к деревянной поверхности и, значит, могли слу-
жить украшением внешних стен или интерьера дворца либо
святилища.
Саньсиндуйская бронзовая
скульптура
a — маска IV типа; б — маска
V типа; в — изваяние птичьей го-
ловы; г — скульптура фантасти-
ческого существа.
143
СЭпо
Санъсиндуйские секиры
^щш
Иньские гэ
Санъсиндуйские гэ
Сычуаньские гэ.
Район г. Чэнду
Сычуанъские наконечники
для копий. Чжоуская эпоха
Сычуаньские наконечники
для пик с графическими
композициями
И наконец, необходимо хотя бы вкратце рассказать о
саньсиндуйском оружии. Оно состоит из предметов, кажу-
щихся на первый взгляд идентичными иньским секирам-
юэ и клевцам-гэ. Но это не так. Саньсиндуйские секиры не
только отличаются от иньских по форме, но и снабжены
лезвием, заточенным с обеих сторон и самое главное ушка-
ми, позволявшими насаживать их на древко, тогда как
иньские секиры либо вставлялись в расщепленное древко,
либо каким-нибудь способом (привязывались, прибивались)
прикреплялись к нему, что, естественно, снижало их на-
дежность и рубящую силу. Саньсиндуйские клевцы в отли-
чие от иньских имеют сильно вытянутую форму, зубчатые
края и такое же ушко для насадки. Они-то, видимо, и
послужили образцами для специфических сычуаньских раз-
новидностей гэ и наконечников для копий, которые, судя
по количеству найденных экземпляров, к концу иньской
эпохи заняли господствующее место в оружейном деле рай-
она Чэнду и продолжали изготавливаться там на всем про-
тяжении чжоуской эпохи. На поверхности наконечников
для копий нередко выгравированы графические комбина-
ции (от простейших геометрических фигур до стилизован-
ных зооморфных и зооморфно-фантазийных изображений),
которые истолковываются некоторыми исследователями в
качестве пиктографов и пиктограмм, принадлежавших мест-
ной системе письменности.
Кроме секир и клевцов, в схронах был обнаружен не-
фритовый меч (длина 28 см), который чуть позже (1989-
1990 гг., окрестности Чэнду) дополнился двумя повторяю-
щими его форму бронзовыми мечами (20,2 и 20,9 см). Сенса-
ционность этих находок объясняется тем, что в центральных
регионах Китая мечи появились не ранее VIII-VII вв. до н. э.
Принято считать, что они был заимствованы из оружия
скифо-кочевнического мира. Причем и в дальнейшем в
Сычуани производились мечи, которые пусть незначитель-
но, но все же отличаются от мечей, изготовлявшихся во
всех других регионах Древнего Китая.
Состав саньсиндуйского бронзового сплава тоже не со-
впадает с иньским. Хотя он состоит из тех же основных
компонентов — меди, олова и свинца, их процентное со-
держание иное, чем в иньских сплавах. Для части изделий
отмечено также достаточно высокое содержание железа (до
3,42%), никеля (до 1,32%), фосфора (до 2,12%), кремния
(до 0,9%) и алюминия (до 0,34%), тогда как такие веще-
ства, как висмут, мышьяк и сурьма, в саньсиндуйской
бронзе отсутствуют. Правда, это может объясняться разли-
чиями в природном химическом составе местных руд. A bot
различия между иньским и саньсиндуйским оружейными
сплавами вряд ли были простой случайностью. Если пер-
вый из них характеризуется высоким содержанием олова
(свыше 26%), то второй состоит в основном из меди (87-
98,4%). Свинцовые же и оловянные добавки, которые, на-
помним, придают бронзе мягкость и тягучесть, местными
мастерами либо вообще не использовались, либо вводились
в сплав в маленьких дозах (соответственно до 1,64 и 7,98% ).
144
To есть и no этому показателю саньсиндуйское оружие
превосходило иньское.
Последняя особенность саньсиндуйских артефактов, о
которой нельзя не упомянуть, — это использование в них
золота. Кроме золотых масок на изваяниях голов, наличе-
ствуют еще несколько предметов с золотым покрытием, в
том числе деревянный жезл (14,2 см), обшитый листовым
золотом с выгравированными на нем антропоморфными
личинами и фигурами рыб и хищных птиц.
Итак, создатели саньсиндуйских изделий владели бо-
лее совершенным, чем иньцы, бронзолитейным производ-
ством и оружейным делом, были хорошо знакомы со злато-
деланием, умели отливать монументальную скульптуру и
трубы и изготавливать многодетальные конструкции, рас-
полагали развитым изобразительным культовым искусст-
вом, которое было востребовано их религиозными пред-
ставлениями. В этих религиозных представлениях долж-
ны были также наличествовать верования, связанные с
солярным культом и бессмертием.
В современной научной литературе, прежде всего в ис-
следованиях китайских ученых, господствует точка зре-
ния о принадлежности саньсиндуйских изделий ранее со-
вершенно неизвестной этнокультурной общности — Ба-
Шу47. Опираясь на письменные сведения (болыыей частью
отрывочные и маловразумительные) о древнейшем населе-
нии юга Китая, содержащиеся в чжоуских и последующих
текстах, китайские ученые доказывают, что эта общность
выросла из южных и сычуаньских неолитических культур
(Даси, Цюйцзялин, Шицзяхэ) и сменивших их народно-
стей («трех мяо»), сумев сохранить и приумножить само-
бытность их обычаев, нравов и художественных традиций,
чем и объясняется уникальность созданных ею художе-
ственных произведений. Кроме того, ими вполне допуска-
ется, что обитатели Сычуани могли враждовать с иньцами
или, точнее, — с народностями, населявшими Централь-
ный Китай: основанием служит рассказ о войнах Желтого
императора с «тремя мяо».
Изложенная гипотеза происхождения саньсиндуйских
изделий представляется более чем уязвимой по многим
пунктам. Однако ее опровержение и выдвижение какой-
либо иной версии намного увели бы нас от основной темы.
Поэтому ограничимся констатацией факта, во-первых, свое-
образия и художественной уникальности сычуаньских из-
делий и, во-вторых, их безусловного влияния на китай-
ское художественное творчество как Шан-Инь, так после-
дующих исторических эпох. Что касается непосредственно
иньского искусства, то присмотримся повнимательнее к
мотиву таотЭу теперь, когда уже известно о сычуаньских
изваяниях и масках. A ведь таотэ явно перекликаются с
ними: те же миндадевидные глаза с огромными круглыми
зрачками, навершие, идущее от переносицы, скошенный
(приплюснутый) край нижней челюсти. Так может быть,
чжоуские авторы в очередной раз были правы, утверждая,
что таотэ есть изображение головы поверженного врага
10 ГІсторпя некусстиа Китая
3
*^>
Саньсиндуйские мечи
a — нефритовый; б — бронзовые.
47 Термины ба и шу вошли
в употребление в чжоуской
литературе, где они использо-
вались для обозначения соот-
ветственно народности, насе-
лявшей Сычуань, и созданного
ею царства. История возник-
новения царства Шу впервые
кратко — в нескольких фра-
зах — излагается в трактате
«Основные записи о царях
Шу» («Шу ван бэнь цзи») из-
вестного мыслителя и литера-
тора ханьской эпохи Ян Сюна
(53 г. до н. э. — 18 г. н. э.),
который сам был уроженцем
Сычуани. В нем, кроме того,
рассказывается о первом царе
Шу, жившем в архаические
времена («когда люди еще не
знали музыки и ритуалов»),
носившем странное имя Сян
Цун («Сборище мошек») и
имевшем не менее экзотиче-
скую внешность («лицо с вы-
пученными глазами»). По мне-
нию китайских ученых, этот
литературный портрет совпа-
дает с антропологическими
особенностями саньсиндуйско-
го изваяния.
145
и символ победы над ним? Легкость же использования инь-
ским искусством этого образа, идущего от внешнего обли-
ка представителей Ба-Шу (будем, вслед за китайскими уче-
ными, так называть эту загадочную общность), была обус-
ловлена его поразительным морфологическим сходством с
уже разработанным в предшествовавшем художественном
творчестве образом «демона». He исключено также, что
именно из Сычуани, a не от северо-западных соседей инь-
цев в Китай проникло и златоделание. С результатами воз-
действия художественных традиций Ба-Шу на искусство
Китая нам еще неоднократно придется столкнуться.
ЭПОХА ЧЖОУ
(XI—III вв. до н. э.)
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ЧЖОУСКОЙ ЭПОХИ
48 В пользу кочевого про-
исхождения чжоусцев говорят
многие факты. Так, принадле-
жащий им культ Неба и Не-
бесного императора — Тянь-
ди — есть, по мнению неко-
торых исследователей, не что
иное, как китаизированный
вариант тюрко-монгольского
культа Тенгри. Первоначаль-
ным ареалом расселения чжоу-
сцев в текстах называется ме-
стность Бинъ, находившаяся,
предположительно, на северо-
западной окраине централь-
ной части Шэньси, приблизи-
тельно в 100 км к северо-за-
паду от Сианя (современный
уезд Сюныі).
Во второй половине XI в. до н. э. Шан-Инь была, по
свидетельству древних книг, повержена народностью, на-
зываемой в них чжоусцами, которая основала в Китае соб-
ственное государство. Родословная чжоуского правящего
дома тоже возводится в текстах к совершенномудрому пра-
вителю Гаосиню — к его сыну по имени Хоу-цзи (Госу-
даръ-Просо), который впоследствии был обожествлен в ка-
честве покровителя земледелия. Научные изыскания в этой
области привели к двум основным гипотезам происхожде-
ния чжоусцев. По одной из них, они выросли из соседних с
Шан-Инь западных народностей. По другой — были ис-
ходно кочевниками, которые вторглись на северо-запад
Китая откуда-то извне либо в конце позднеиньского перио-
да, либо в первой половине иньской эпохи, что в настоя-
щее время считается более вероятным48. Приблизительно в
середине XIII в. до н. э. они обосновались в юго-западной
части Шэньси (в районе гор Цишанъ, в 120-130 км к запа-
ду от Сианя), где перешли к оседлому образу жизни, a
затем и к строительству собственной государственности.
Основоположником чжоуского государства считается пра-
витель этой народности, вошедший в историю Китая под
своим посмертным титулом Вэнъ-ван (Просвещенный царъ).
Подобно иньскому Чэн-тану, он возглавил оппозицию по-
следнему царю Шан-Инь (тирану Чжоу-синю). Конец же
иньскому правящему режиму положил его сын — У-ван
(Воинственный царъ, ?-1043 гг. до н. э.). Его резиденци-
ей и первой столицей Чжоу стал отстроенный еще Вэнь-
ваном город Хао — на месте современного Сианя.
Каковы бы ни были подлинные этнокультурные корни
чжоусцев, они восприняли все важнейшие цивилизацион-
ные достижения иньцев. Поэтому гибель Шан-Инь и воз-
никновение нового государства не привели к исчезновению
или искажению того художественно-культурного субстра-
та, который сложился в иньскую эпоху в центральных
регионах Китая.
Чжоускую эпоху тоже принято подразделять на два пе-
риода — Раннее (Западное) Чжоу (1046-770/71 гг. до н. э.)
и Позднее (Восточное) Чжоу (770-221 гг. до н. э.). Во вто-
ром выделяют еще два самостоятельных исторических эта-
па — Весны и осени (Чунъцю, 770-475 гг. до н. э.) и Бо-
рющиеся (СраЖающиеся, Воюющие) царства (Чжанъго,
146
475-221 гг. до н. э.). Изложенная периодизация тоже опи-
рается на конкретные события и адекватно отражает гене-
ральные историко-политические и культурные процессы,
происходившие в Китае на протяжении XI—III вв. до н. э.
Раннечжоуский период был временем укрепления и рас-
цвета чжоуской централизованной государственности, по-
строенной по модели Шан-Инь (сохранение социальной
иерархической структуры, института верховной власти,
многих официальных обрядовых акций и т. д.). Но уже в
IX в. до н. э. в чжоуском обществе наметились деструк-
тивные тенденции, вызванные к жизни практикой земель-
ных пожалований, которая была начата У-ваном, щедро
делавшим такие пожалования своим родственникам и вож-
дям союзников по борьбе с Шан-Инь. К концу указанного
столетия в Чжоу насчитывалось уже более 300 удельных
владений, часть которых, поглотив ближайших соседей,
все болыые расширяла свои земли и обретала экономиче-
скую и военно-политическую независимость от верховных
властей. Наглядным проявлением слабости правящего дома
и сепаратистских настроений удельных князей как раз и
стали события 770-771 гг. до н. э. Находившийся под по-
стоянной угрозой вторжения столичный район Раннего
Чжоу в очередной раз подвергся нападению западных сосе-
дей (варваров-жі/«ов). Правительственные войска оказались
не в силах дать им отпор, a удельные князья отказали
центральной администрации в военной помощи. Столица
была разграблена, правящий царь (Ю-ван, 781-771 гг.
до н. э.)49 убит в сражении, и его преемнику (Пин-ван,
771-720 гг. до н. э.) пришлось бежать на восток, где он
обосновался в городе Лои (на месте современного Лояна,
подробно см. глава 16).
В период Весны и осени центробежные тенденции в
чжоуском обществе приобрели необратимый характер, a в
период Борющихся царств Китай окончательно оказался в
ситуации административно-территориальной раздробленно-
сти: на его территории образовалось несколько самостоя-
тельных царств, которые вели непрерывные междоусобные
войны50.
В ѴІІ-ѴІ вв. до н. э. главными военно-политическими
противниками были тогда еще удельные княжества Цинь,
Циу Чу, Цзинъ (XI в. — 369 гг. до н. э., в юго-западной
части Шэньси), Сун (1024-286 гг. до н. э., в восточной ча-
сти Хэнани), У (VIII в. — 473 г. до н. э., в Цзянсу) и Юэ
(VIII в. — 333 г. до н. э., в Чжэцзян), последние два из
них нередко считаются государственными образованиями,
основанными народностями, отличными от обитателей цен-
тральных регионов Китая. В период Борющихся царств
расклад сил изменился, и лидирующие позиции заняли
так называемые семь царств-гегемонов: Вэй, Ханъ, Циу
Яньу Чжаоу Цинъ и Чу. Расскажем о них более подробно.
Царства Вэй (403-225 гг. до н. э.) и Хань (403-230 гг.
до н. э.) располагались в регионе среднего течения Хуан-
хэ — соответственно в северной и южной частях Хэнани и в
непосредственной близости к чжоускому домену, который
49 Здесь и далее указыва-
ются, как это принято в ста-
рых китайских сочинениях и
в научной литературе, офици-
альные посмертные (храмо-
вые) титулы государей и годы
их правления.
50 За начало периода Бо-
рющихся царств принимает-
ся дата провозглашения себя
ца.рем-ваном одним из удель-
ных князей (чуский Хуэіі-ван,
подробно см. далее). Существо-
вание чжоуского правящего
дома завершилось со смертью
последнего его царя — Нанъ-
вана (314-256 гг. до н. э.),
т. е. немного раныпе конца
чжоуской эпохи как таковой.
147
Китай
в период Борющихся царств
1 — Чжоуский домен; 2 — цар-
ство Лу.
в то время фактически уже ограничивался районом столи-
цы Лои. Уступая другим царствам по размеру своих владе-
ний и по военно-экономическому потенциалу, оба они тем
не менее в силу своего географического положения оказа-
лись главными наследниками и хранителями иньских куль-
турно-художественных традиций.
Царство Ци (1027-379 гг. до н. э.) занимало западную
часть провинции Шаньдун и юго-восточную окраину Хэ-
бэй, т. е. его владения совпадали с ареалом неолитических
восточных общностей во главе с шаньдунским вариантом
Луншань, что позволяет видеть в нем их духовного наслед-
ника. Действительно, оно обладало специфическими куль-
турными традициями, включая религиозные и космологи-
ческие представления, к которым мы неоднократно еще
будем возвращаться.
Царство Янь (1027-222 гг. до н. э.) утвердилось в северо-
восточном регионе — на территории Хэбэй, a его столи-
ца — город Янь — находилась почти на месте современно-
го Пекина. Будучи расположенным на значительном уда-
лении от чжоуской метрополии и других царств-гегемонов,
оно в то же время непосредственно соседствовало с народ-
ностями, принадлежавшими к скифо-сибирскому миру (во-
сточные жуны, ху). Кроме того, не исключено, что в нем
тоже сохранились рудименты культурно-художественных
традиций местных неолитических общностей.
Царство Чжао (403-222 гг. до н. э.) занимало весь ле-
вобережный регион бассейна среднего течения Хуанхэ (боль-
шая часть провинции Шэньси). И если его южные районы
фактически входили в зону центрально-китайского куль-
турно-художественного ареала, то северные также грани-
чили с землями, населенными другими народностями. В пе-
риод Борющихся царств на соседних с Чжао территориях
начала складываться держава гуннов (сюнну), оказавшая
ВНУТРЕННЯЯ МОНГОЛИЯ
Ô 1
V Хуанхэ/
ЧЖАО 'Т
•.ОЭ¥
A ци
ЧХ/ \ \2ѵі
Вэйхэ ....-•" ч.У.; :......•"*'••""•":
:ХАНЬ ' !
/ /Янцзы
ЧУ
ЖЕПТОЕ
море
£■■
о о
!■■ О
Ö
\
'•■ \
148
значительное влияние на общую геополитическую ситуа-
цию на Дальнем Востоке. Хотя взаимоотношения обоих
рассматриваемых царств с их соседями носили преимуще-
ственно военный характер, это не помешало проникнове-
нию в их культуру множества различных чужеземных но-
ваций, которые на первых порах наиболее отчетливо про-
явились в военном деле: овладение мастерством верховой
езды, создание конных отрядов. Такого рода нововведения
неизбежно сопровождались заимствованием соответствую-
щих элементов костюма, вооружения, конского убранства
и их орнаментации.
Царство Цинь начало складываться в VIII в. до н. э. в
северо-западной части Шэньси. К периоду Борющихся
царств оно установило свое владычество над всем запад-
ным регионом Китая, включая юго-восток Ганьсу. В ре-
зультате оно также оказалось наследником культурно-
художественных традиций местных (яншаоских) неоли-
тических общностей и раннечжоуской метрополии. Кроме
того, по его территории проходили главные на тот момент
внешнеторговые пути, ведшие в «западный край», т. е.
центрально-азиатский регион. В середине II — начале
I тыс. до н. э. на северо-западе от Китая сформировался
огромный, хотя и разнородный, этнокультурный массив,
простиравшийся на западе до Восточного Туркестана, на
востоке — до Южной Маньчжурии, на юге — до пустыни
Гоби и Ордоса (в излучине Хуанхэ) и на севере — до Тувы
и Забайкалья. В непосредственной близости от северо-
западных границ царства Цинь обитали восточно-скиф-
ские (сакские) племена юэчжи (юэши) и усунъ, владения
которых занимали все земли от Тянь-Шаня до Централь-
ной Монголии. Будучи предположительно сарматского
(т. е. восточноиранского) происхождения, юэчжи в VII-
VII вв. до н. э. населяли большую часть территорий Мон-
голии, Джунгарии и в географии собственно Китая — юго-
восток провинции Ганьсу. На юго-западе же царство Цинь
граничило с уже знакомой нам таинственной общностью
Ба-Шу, точнее, с уже образовавшимся в Сычуани цар-
ством Шу. Подобное геополитическое положение не могло
не привести к появлению в культуре и этого царства чу-
жеземных заимствований. И наконец, в распоряжении
царства Цинь оказались богатейшие залежи природных
ископаемых, что стимулировало интенсивное развитие его
ремесленно-производственных отраслей, в первую очередь
цветной и черной металлургии.
Царство Чу (XI в. — 223 гг. до н. э.) возникло, по сви-
детельству чжоуских письменных источников, еще до ус-
тановления Чжоу: в виде владения (местность Данъян),
пожалованного Вэнь-ваном одному из своих соратников51.
По догадкам современных ученых, оно находилось либо на
восточной части Аньхуэй, либо в юго-западной окраине
Хэнани, либо на юго-западе Хубэй. Сразу же отметим, что
неясность исходного ареала Чу, равно как и начального
этапа его истории, намного затрудняет выявление его ис-
тинного генезиса.
51 Родословная этого пер-
сонажа и чуского правящего
дома в целом тоже возводит-
ся чжоускими авторами к со-
вершенномудрым государям
древности, на этот раз — к
Чжуань-сюю.
149
K VII в. до н. э., присоединив к себе по меныней мере
42 близлежащих владения, Чу обосновалось на всей тер-
ритории Хубэй, утвердив свою столицу в ее юго-западной
части (район современного города Цзянлин), воспетый в
последующих поэтических произведениях город Ин. Эта
местность оставалась чуской метрополией на протяжении
почти двух столетий (с 690 по 504 г. до н. э.). В VI в. до н. э.
началась экспансия Чу на восток: завоевав юго-восточное
царство Юэ (433 г. до н. э.), которое только что расправи-
лось с соседним царством У (473 г. до н. э.), оно стало еди-
ноличным властителем всех регионов нижнего и среднего
течения Янцзы. В состав чуских земель вошли территории
Хубэй, Хунани и Аньхуэй, a также прилегающие к ним
районы юга Хэнани, юго-востока Шэньси, востока Сычуа-
ни, запада Цзянсу и северо-запада Чжэцзян.
В чжоуских книгах настойчиво подчеркивается само-
бытность обычаев и нравов чусцев с их однозначным опре-
делением как «варварского», т. е. отличного от обитателей
Центрального Китая населения. Все дошедшие до нас чу-
ские артефакты и литературные произведения — в первую
очередь поэтические («Чуские строфы») подтверждают пра-
вомерность подобных характеристик. По многим показате-
лям (от религиозно-космологических представлений и до
элементов хозяйственно-экономического уклада) это цар-
ство весьма выделяется среди всех остальных чжоуских
княжеств и царств, что вполне заслуживает определения
« чуская цивилизация ».
Привлеченные явным своеобразием Чу, ученые уже дав-
но организовали усиленный поиск его возможных этно-
культурных истоков. На сегодня существует множество
самых разных точек зрения по данному вопросу, которые
группируются в три основные гипотезы. В одной из них
доказывается, что чусцы были или родственной чжоусцам,
или самостоятельной народностью, тоже этнически свя-
занной с Монголией и Северо-Восточной Азией и проник-
шей на территорию Китая в иньскую эпоху или во время
войны чжоусцев с иньцами. Во второй чусцы полагаются
осколком иньского или даже сяского населения, вытеснен-
ного на юг в ходе соответствующих историко-политиче-
ских событий (покорение иньцами Ся и чжоусцами Шан-
Инь). В третьей гипотезе, напротив, они считаются потом-
ками южных неолитических общностей и последующих
народностей, включая легендарных «трех мяо». Все чаще
предлагается рассматривать отдельно вопросы происхож-
дения чуского населения, основную часть которого могли
составлять потомки аборигенных народностей, и правящей
элиты этого царства. Среди претендентов на роль основопо-
ложников царствующего дома и аристократических кла-
нов Чу нередко называются и представители сычуаньской
общности Ба-Шу.
Дополнительный штрих в крайне пеструю и запутан-
ную картину этнокультурной ситуации и историко-поли-
тической жизни чжоуского Китая вносят многочислен-
ные «варвары» (точно неизвестно их происхождение), тоже
часто вмешивавшиеся в междоусобные конфликты. Так, в
VII в. до н. э. чуть западнее Сианя обосновались некие ди
(монголоидная, тюркоязычная народность или предки на-
родов тибето-бирманской языковой группы), которые в те-
чение почти двух веков хозяйничали на территории чжоу-
ского домена, нанося чувствительные удары соседним ки-
тайским княжествам52. В долине Хуанхэ, вблизи столицы
Лои, свирепствовали жуны (возможно, дальние родствен-
ники чжоусцев и ди), неоднократно пытавшиеся взять и
сам город53. Юго-восточные районы — территории Цзянсу
и Чжэцзян — держали в страхе варвары-u (возможно, пле-
мена прототайской группы), добиравшиеся порой и до чжо-
уской метрополии, справиться с которыми смогла только
чуская армия (473 г. до н. э.).
В подобных историко-политических условиях хозяй-
ственная и культурная жизнь Китая, казалось бы, должна
была замереть. Но этого не случилось. Напротив, чжоу-
ская эпоха, особенно период Борющихся царств, ознамено-
валась бурными новаторскими процессами, охватившими
все сферы жизнедеятельности китайского общества и при-
близительно в равной мере проходившими во всех регио-
нах, княжествах и царствах.
В хозяйственно-производственной сфере важнейшим
процессом стало утверждение черной металлургии. Знаком-
ство китайцев с железом и методами его обработки тоже
состоялось еще в неолитическую эпоху. Древнейшим мест-
ным железным изделием является гребень, обнаруженный в
одном из погребений восточной культуры Давэнькоу, хотя,
скорее всего, он был выполнен случайно и вне сколько-
нибудь развитого очага раннего металла. Поэтому началь-
ный этап истории китайской черной металлургии принято
соотносить с позднеиньским и раннечжоуским периодами.
Всего до нас дошло 140 железных изделий, датируемых
XIV-VI вв. до н. э., из которых 7 относятся к иньскому вре-
мени. Все это — биметаллические секиры и клевцы, бронзо-
вые части которых дополнены (в процессе их литья) желез-
ными лезвиями, сделанными из метеоритного железа мето-
дом горячей ковки. Первоначальное использование в Китае
именно метеоритного железа отвечает общим закономерно-
стям истории мировой черной металлургии54. A изготовле-
ние биметаллических предметов в течение длительного вре-
мени оставалось распространенным приемом в местном ре-
месленном производстве, прежде всего в оружейном деле.
На протяжении раннечжоуского периода продолжали
производиться единичные и однотипные железные изде-
лия, в первую очередь оружие (наконечники для копий и
стрел, клевцы) и орудия труда (хозяйственные ножи). Ка-
чественный перелом в эволюции китайской черной метал-
лургии наметился в период Весен и осеней, с которого в
Китае и начинается собственно Железный век. Всего за
два столетия (ѴІ-Ѵ вв. до н. э.) репертуар изделий резко
увеличился и самое главное расширилась география цент-
ров черной металлургии, которые в кратчайшие сроки воз-
никли практически во всех регионах чжоуского Китая —
A
Y
Позднеинъские
и раннечжоуские
железные изделия
52 В 661 г. до н. э. они прак-
тически уничтожили карлико-
вое княжество Вэй, из жите-
лей которого уцелело всего
730 человек. В 620-615 гг.
до н. э. предприняли поход
против царства Ци и были
разбиты лишь в 593 г. арми-
ей царства Цзинь.
53 Например, события 648 г.
до н. э., когда Лои удалось с
трудом отстоять с помощью
дружин и присланного удель-
ными князьями ополчения.
54 Правда, и в данном слу-
чае имеется артефакт, не впи-
сывающийся в принятую в
науке картину истории китай-
ской металлургии. Это желез-
ный, уникальный по форме,
сосуд из погребения Фу-хао
(высота 30,3 см), представля-
ющий собой тонкостенное из-
делие (толщина стенок 0,9 см),
выполненное, видимо, в тех-
нике литья. Вся его поверх-
ность выложена бирюзовой
инкрустацией. Характер ор-
намента и техника исполне-
ния инкрустации указывают,
что этот сосуд был местного
производства.
151
55 Всего для этих веков из-
вестно о разработке 5270 руд-
ных месторождений, из кото-
рых в 467 добывали медь, a в
остальных — железную руду.
56 Подобные темпы разви-
тия китайской черной метал-
лургии объясняются, во-пер-
вых, общим научно-техниче-
ским прогрессом чжоуского
общества. Во-вторых, разви-
тостью местного бронзолитей-
ного производства, благодаря
которому китайские мастера
научились получать высокие
температуры и использовать
высокофосфорные добавки
(в том числе и высокофосфо-
ристые руды), снижающие тем-
пературу расплава с обычных
1130 до 950°С. От бронзоли-
тейного производства черная
металлургия восприняла и тех-
нику литья, которая в тече-
ние длительного времени пре-
обладала в ней над кузнечным
производством.
57 Есть немало и других,
не менее выразительных при-
меров. Так, уже в IV в. до н. э.
китайцы стали использовать
для отопления и освещения
природный газ — вначале га-
зовые (метановые) выбросы из
пробуренных для откачки со-
левых растворов глубоких сква-
жин (более 100 м). Во II в. н. э.
началось систематическое глу-
бокое бурение для целенаправ-
ленной добычи газа. Были
разработаны и специальные
приспособления для контро-
ля за горением газа. Из сква-
жины он попадал в болыпую
деревянную камеру, напоми-
нающую конусообразную боч-
ку, врытую в землю на глуби-
ну около 3 м. По подземной
трубе в камеру подавался воз-
дух. От этого болыпого «кар-
бюратора» отводились трубы
к коническим бочкам меныпе-
го размера, установленным на
поверхности, и от них газ рас-
пределялся по бамбуковым
трубопроводам, уходящим на
расстояние до 50 км от сква-
жины. Известно, что в некото-
рых городах Сычуани улицы
освещались газовыми факела-
ми. Газ использовался и для
отопления жилищ, но как это
делалось, остается неясным.
в Хэнани, на северо-западе и западе (Ганьсу, Шэньси), на
востоке (Шаньдун), на юге (Хубэй, Хунань), на юго-западе
(Сычуань) и на юго-востоке (Цзянсу). В некоторых из них
выпускались крупные и сложные по формам изделия. На-
пример, на юге (окрестности Чанша, Хунань) отливались
железные котлы-дин. Параллельно совершенствовалась и
рецептура железного сплава путем увеличения в нем про-
центного содержания никеля (до 31,4-35,6% против 0,8-
18,4% в иньском железе). ВIV—III вв. до н. э. в Китае функ-
ционировали уже подлинные горнодобывающие и железо-
производящие комплексы55.
Тогда же китайские мастера приступили к освоению
технологии выплавки чугуна, что произошло необычайно
рано, по меркам общей истории черной металлургии56. Уже
в III в. до н. э. ими был открыт способ выплавки ковкого
чугуна (кит. чжуте, «литое железо») путем его обжига,
т. е. долговременного (около недели) воздействия на исход-
ный сплав высокой температуры. Такой чугун по эластич-
ности приближался к ковкой стали, но обладал значитель-
но болыпей, чем обычный железосодержащий сплав, твер-
достью и прочностью. Впоследствии, во II в. до н. э., a также
впервые в истории мировой черной металлургии, — китай-
цы научились получать из чугуна сталь (кит. дате, «вели-
кое железо»), причем по технологии, аналогичной бессеме-
ровскому процессу, который был открыт на Западе (в Аме-
рике) в 1856 г. И наконец, в течение еще нескольких
столетий (с I no III в. н. э.) ими были разработаны способы
получения твердой, мягкой ковкой и особо высококаче-
ственной стали («многосуточное железо»), которая получа-
лась посредством многократного долговременного сплавле-
ния чугуна с ковкой сталью.
Мы неслучайно так подробно остановились на истории
развития и достижениях чжоуской черной металлургии,
так как, с одной стороны, она служит ярчайшим примером
необыкновенно быстрых темпов эволюции научно-техни-
ческого прогресса современного ей общества57, a c другой —
черные металлы и сплавы широко использовались в китай-
ском ремесленном производстве, изобразительном искусст-
ве и строительстве. Из чугуна отливались скульптурные
изображения и архитектурно-инженерные конструкции.
Сталь использовалась как в оружейном деле, так и при
изготовлении некоторых деталей построек.
Применение железных сельскохозяйственных орудий
(с VI в. до н. э. повсеместное употребление сохи с желез-
ным лемехом) совместно с распространением поливного зем-
леделия и пахоты с использованием тяглого скота привело
к обновлению всей системы землепользования, в том числе
к введению частной собственности на землю. Уже в период
Весен и осеней началось стихийное разрушение древних
хозяйственных и социальных устоев. В период Борющихся
царств во всех царствах-гегемонах с той или иной степе-
нью активности были проведены глобальные экономиче-
ские и политические реформы, направленные на закрепле-
ние частной собственности на землю, стимуляцию ремес-
152
ленного производства и товарно-денежных отношении и
ограничение привилегий потомственной аристократии58.
Они повлекли за собой стремительный рост имуществен-
ной дифференциации населения, постепенный переход на-
следственных владений в частные руки и появление иму-
щественной знати. Изменения в составе социальной элиты
общества особенно хорошо видны в региональных управ-
ленческих структурах. Административно-бюрократические
аппараты удельных княжеств и царств пополнялись в от-
личие от иньской эпохи и раннечжоуского периода людь-
ми, уже не состоящими в кровном родстве с правящим
домом и аристократическими кланами.
Бурное развитие ремесленного производства и товарно-
денежных отношений (в том числе выразившееся в появле-
нии специальных денежных знаков — монет, подробно см.
далее), в свою очередь, способствовало росту городов. Если
на протяжении позднеиньского и раннечжоуского перио-
дов существовало в общей сложности чуть более 160 горо-
дов, то с VII по III в. до н. э. было построено 565 новых
городов. Некоторые из них занимали площадь в несколько
квадратных километров и вмещали в себя до трехсот тысяч
жителей, составляя относительно автономные полисные об-
разования. Крупнейшими городами и одновременно торго-
во-ремесленными и культурными центрами того времени
письменные источники называют чжоускую столицу Лои,
столицу царства Ци — город Линьцзы (в восточной части
Шаньдун, заложен еще в859г. дон. э.), столицу царства
Чжао — город Ханьдань (в южной окраине Хэбэй), столицу
царства Хань — город Иян (несколько южнее современного
Лояна), a также чуские столицы — ранее упомянутый го-
род Ин и город ІНоучунь (на северо-восточной окраине Ань-
хуэй), бывшая столица Чу с 241 по 222 г. до н. э.
Все перечисленные процессы: формирование системы
удельных владений и сословия военно-клановой аристо-
кратии, появление частной собственности на землю и иму-
щественной знати, развитие товарно-денежных отношений
и ремесленного производства, рост городов и междоусобные
смуты — отвечают характеристикам средневековой Евро-
пы. Bot почему в новейших исследованиях полагается, что
китайская цивилизация еще в ѴІІІ-ІП в. до н. э. прошла
через формационную стадию, типологически сходную с ев-
ропейским средневековьем59.
Определяющим культурно-идеологическим процессом
чжоуской эпохи является переход от архаико-религиоз-
ного типа мировосприятия к философскому. Этот переход
осуществился в позднечжоуский период, приведя к почти
одновременному возникновению значительного числа са-
мостоятельных философских направлений и школ. Веду-
щими из них традиционно считаются: конфуцианство
(кит. Жу цзя, «Школа образованных людей»), даосизм
(кит. Дао цзяу «Школа дао»), легизм (кит. Фа цзяу «Шко-
ла закона/законников»), моизм (кит. Mo цзя, «Школа
[философа] Mo»), «Школа Инъ-Ян» (кит. Инь-ян цзя) и
«Школа имен» (кит. Мин цзя). Примечательна четкая
58 С наиболыией решитель-
ностью и эффективностью
Tanne реформы были проведе-
ны в царстве Цинь в середине
IV в. до н. э. (при циньском
князе Сяо-гуне, 361-338 гг.
до н. э.). Они были разработа-
ны и проведены в жизнь вы-
дающимся государственным
деятелем того времени, мини-
стром этого царства — Гунь-
сунь Яном (Шан Яном, 390-
338 гг. до н. э.). Именно эти
реформы позволили макси-
мально усилить экономический
и военный потенциал Цинь.
Уже преемник Сяо-гуна —
Хуэй-вэнь-ван (337-311 гг. до
н. э.) — принял царский ти-
тул, что означало окончатель-
ный выход его царства из со-
става Чжоу.
59 Такой взгляд на чжоу-
скую эпоху в корне противо-
речит ранее принятым в ми-
ровой науке, особенно в оте-
чественном востоковедении,
трактовкам и Чжоу и осталь-
ных трех древнекитайских
государств как относящихся
к эпохе рабовладения. Само
по себе рабство, безусловно,
существовало в Китае, причем
отнюдь не только в древно-
сти. Практиковалось как об-
ращение в рабов военноплен-
ных, так и долговое и уго-
ловное (способ уголовного
наказания) рабство. Труд лю-
дей всех трех социальных
категорий («лично несвобод-
ное население» — в китай-
ской терминологии) использо-
вался и на казенных произ-
водствах, и в частном секторе.
Однако он никогда не был и
принципиально не мог быть в
Китае главной производитель-
ной силой. Во-первых, в силу
особенностей естественно-гео-
графической среды его обита-
ния (80% территории занима-
ют горы и гористая местность)
китайское общество испыты-
вало острейший дефицит па-
хотных земель, что делало
невозможным создание рабов-
ладельческих латифундий. To
есть в основной сфере хозяй-
ствования в Китае — земледе-
лии — был задействован труд
свободных землепользователей.
Во-вторых, Китай никогда не
имел и устойчивых источни-
ков массового рабства. В ходе
междоусобных войн обраще-
ние в рабов взятых в плен сол-
дат противника и мирных жи-
телей в целом не практикова-
лось. Внешние войны тоже не
могли быть таким источником
вследствие малочисленности
соседних народностей. Напри-
153
мер, численность державы гун-
нов — главного на протяжении
ІѴ-І вв. до н. э. военно-полити-
ческого соперника Китая — не
превышала 1,5 миллиона че-
ловек против 60-70 миллио-
нов китайского населения.
В результате анализа стати-
стических данных, содержа-
щихся в древних текстах, вы-
яснилось, что во II—I вв. до
н. э., которые ранее считались
апогеем китайской эпохи ра-
бовладения, в Китае насчиты-
валось самое большее 200-
300 тысяч лично несвободных
лиц. Проблема определения
формационных характеристик
Древнего Китая имеет самое
непосредственное отношение и
к истории китайского искус-
ства. Ведь ранее при поиске
типологических аналогов ху-
дожественных процессов и
реалий разбираемых эпох об-
ращались исключительно к
Древнему и античному миру.
Теперь же возникает вопрос
об их соотнесении с европей-
ским средневековьем и Воз-
рождением.
60 Во II—I вв. до н. э. были
установлены стандартные раз-
меры письменных дощечек в
зависимости от характера на-
носимых на них текстов: для
конфуцианских сочинений —
в 55,2 см длиной, для зако-
нодательных документов — в
69 см длиной.
61 Частные письма испол-
нялись на дощечках, имев-
ших в длину не более 25 см,
и представляли собой конст-
рукцию из двух дощечек, при-
вязанных друг к другу лице-
вой стороной, покрытой тек-
стом. На оборотной стороне
верхней размещался адрес по-
лучателя. Такие письма ши-
роко использовались в Китае
и в последующие историче-
ские эпохи.
региональная принадлежность этих школ. Конфуцианство
и моизм выросли на основе духовного опыта центральных
регионов Китая. Легизм связан в первую очередь с поли-
тико-культурными традициями царства Цинь. «Школа
Инь-Ян» сложилась в среде астрономов-астрологов, уро-
женцев восточных районов, работавших в системе «Ака-
демии Цзыся» — государственного теоретико-просвети-
тельского учреждения, организованного в царстве Ци.
И наконец, главными истоками даосизма были верования
и космолого-мифологические воззрения царства Чу (под-
робно см. глава 5).
Становление философской мысли сопровождалось фор-
мированием полноценной литературно-книжной традиции.
Древнейшим книжным материалом, о чем упоминалось
выше, служили бамбуковые и деревянные планки (дощеч-
ки), имевшие длину 50-70 см и ширину — 12-25 см60. Они
использовались также для разного рода официальных до-
кументов и частных писем61. Текст наносился только на
одну сторону планки с помощью деревянной заостренной
палочки и чернил, сделанных на основе лакового раствора.
Конфигурация планок предопределила и порядок его рас-
положения — в колонку и сверху вниз. Понятно, что на
одной планке помещался лишь фрагмент сочинения. Пол-
ная книга или ее законченный композиционно-смысловой
отрывок состояли из нужного числа планок, скрепленных
кожаными или шелковыми шнурами, пропущенными че-
рез специально проделанные для этого отверстия по их
краям. Так получались деревянные «свитки», которые хра-
нились в чехлах-тубах. Наиболее пространные сочинения
могли быть образованы несколькими свитками.
«Бамбуковые книги» были неудобны в обращении: они
занимали много места, шнуры часто перетирались, и до-
щечки рассыпались. Поэтому, хотя они имели широкое хож-
дение вплоть до начала нашей эры, уже в конце позднечжоу-
ского периода китайская книжная традиция начала перехо-
дить на новый материал — шелковые полотнища шириной
50-70 см. Левый край полотнища прикреплялся к деревян-
ному стержню, на который он и наматывался. Вертикаль-
ное (в столбик) расположение текста сохранилось, но те-
перь он исполнялся обязательно справа налево. Изобрете-
ние «шелковой книги» потребовало и новых письменных
принадлежностей — кисти и туши. Шелковый свиток, кисть
и тушь в скором времени стали и основополагающими
живописными материалами (подробно см. глава 8).
За последние три десятилетия было обнаружено около
сотни подлинных образцов «бамбуковых книг», которые
находились как в погребениях, так и в специальных тай-
никах. Сам по себе обычай включать книги в погребаль-
ный инвентарь лучше всего показывает характер отноше-
ния к ним в чжоуском обществе, a география подобных
находок подтверждает, что книжная традиция тоже актив-
но развивалась в различных регионах Китая.
Мощь и универсальность рассмотренных процессов оз-
начают, что в чжоускую эпоху, несмотря на ситуацию ад-
154
министративно-территориальной раздробленности и мно-
жественность инородных этнических вкраплений, уже дей-
ствительно полностью сформировался общий этнокультур-
ный субстрат — китайский этнос. 06 этом свидетельству-
ют и многие другие факты, в первую очередь появление
этнонима-самоназвания — хуася, и терминов, передаю-
щих национальную государственность — Централъное/
Срединное государство (Чжунго) и Поднебесная (Тянъся).
На первых порах (до периода Борющихся царств) они
прилагались исключительно к обитателям Центрального
Китая и их царствам, но постепенно приобрели обобщаю-
щий смысл и, кроме того, космологическую и геополити-
ческую семантику.
Формирование китайского этноса по сути сыграло роль
действенного противовеса центробежным тенденциям в
чжоуском обществе. A в ходе магистральных хозяйствен-
но-экономических и культурно-идеологических процессов
были созданы все необходимые предпосылки для нового
объединения Китая и воссоздания централизованной го-
сударственности.
Чжоуская книжная традиция содержит в себе практи-
чески все основные классы китайских литературных па-
мятников: философские трактаты, сочинения анналисти-
ческого и историологического характера, художествен-
ные — поэтические и прозаические — произведения. В них
с той или иной степенью проработанности затрагиваются
различные сферы и аспекты местной предметно-творче-
ской деятельности. Перечисляются, например, основные
ремесленно-производственные центры, излагаются подроб-
ности технологических процессов, даются описания кон-
кретных изделий и художественных произведений, объяс-
няется смысл орнаментальных мотивов и образов. Тем не
менее подлинное знакомство европейской науки с худо-
жественным наследием чжоуской эпохи тоже состоялось
лишь в начале XX в.
%
vil
ч>:
H
к
Бамбуковые планки
с надписями
Первым открытым памятником чжоуской эпохи стал
комплекс Лиюй (Лиюйцунъ), обнаруженный в 1923 г. на
территории царства Чжао (на северо-востоке Шаньси, вблизи
от одноименной деревни). Там была найдена коллекция
бронзовых сосудов, относящихся к ѴІ-Ѵ вв. до н. э., каче-
ство и художественные достоинства которых потрясли не
только специалистов, но и широкие круги европейской об-
щественности. В 1924 г. они с грандиозным успехом де-
монстрировались на выставке в Париже.
На сегодня известны уже более 4000 чжоуских памят-
ников, болыпая часть которых была также открыта во вто-
рой половине XX в. Расскажем только о нескольких наи-
более значительных из них.
Для раннечжоуского периода и периода Весен и осеней
важнейшими памятниками признаются следующие.
1. Комплекс в Фэнси (50-70 гг. XX в.), состоящий из
остатков двух ранних — возведенных, согласно письменным
источникам, Вэнь-ваном и У-ваном, — чжоуских столиц,
ВАЖНЕЙШИЕ
ПАМЯТНИКИ
И АРТЕФАКТЫ
ВНУТРЕННЯЯ МОНГОЛИЯ
_ -_ х ^ ,..- 1
,»•». ,....•**"* ; • ѵ ляонин
**•«_ У A. I
\ Хуанхэ \ *•.. I
.***** Г'"""'
х І
»., **\m т>
Ч...% \. t.s"'"'l / j|
!\ *. »* \ // Ï
! \ **. { •' / *»., .•*•*
Ч'... "•-. ..-• / ^ '•'. /
\Кукунор'\ ЛГ"" Оч^ •:
\ *; . 1 ""л ^О0.Д
- Ч ; J \ І^Ч: *
цинхаи : / ^ ч ^о : ..;
.••' ' ч '""•-..; ....-•*
:-•' ГАНЬСУ *4Q£U
\ ,3*ѵ ** ;* Хуашань L
—Ч'-*' '-'»••' * "* : \ ШЭНЬСИ
S **ч.л"*"-. :*..
к I '—' *\
\ /#73
\ч СЫЧУАНЬ \*ЧЭНДУ _^
I J X1' *
!.. \ /"' \ „ " * *
; !/? /ЧГ"/"^--«».-..Л ^4^^^": •*
••**; \ /**' \ ,'ѵ ( ѵ.
**• / *#* *: /^
*. 1 | r*-/''**?***** / .'***•**
),# ! , "Vw . "1
** л / гуичжоу •;..
, ( %л ,„.***
'V S ...•..:*•..♦. *."**'
% \ ЮНЬНАНЬ £.'•'"•'•''
\ \ **•*%
^ /
ЮНЬНЛНЬ— провинция
• ПЕКИН — современные города
\£ï Хэншань — горы
m— памятники
ГУАНСИ
I ѵ ».* •
; * ПЕКИН
/ ^ Хэншань \
..•**""\/ J ^^^^^^^^^^^^^Ш
f :/ Бохайский залив
({ •-.. хэбэй .♦•*' ?Ѵ::ІГ-^--ч.І
1 / ,./•***8
Ï ШАНЬСИ І .: #9
| ; /./>
^ / / *" ^Тайшань
/*? ..a-/ / ШАНЬДУН ЖЕЛТОЕ
*0 І * *5 " ..>• MOPE ^ П
V*"" • ^ ^ ф%і;
•Цз\ лоян чжэнчжоу-.,. \ *-*
'„Суншань •: •...•*" к^
.. ..Д. ХЭНАНЬ ,.} оз.^Р "à
Ч***' .• \Д Чаоху
Ч. \мі > ***Ч'*^ Янцзы 'ЧЧЙЧРк
;. * / \ r*HAHKHH
* * *• • ••• У1 ,Ài*70 ■:"■■■ :">^.-:""
;: ХУБЭИ *... fj- : 03 • ШАНХАИ
•::..]^\ ./ ^ s'Tauxy Х^Ш^фЩ
*%.|..% ^f-' „7r*%,>%.v,\ :Ч.«** / ^2 -%іЙ!^
******* L ''Ш**1* Ч »♦.***" ** /* гу '''О* -я''-]
\../ Ч / чжэцзян . У;ШЩ
Дунтин •* ** 'і^. . ^^'f'Sï/^і^;'.■■
ЧАНША» / /"*' :: ■£■ :';• .':-1
> цзянси J ■■■■-.'':'-ъ-ФіШщ
ХУНАНЬ \ /' ■ :г$Ж:Ж^:Ц
•'*'•*••'"" "**"": Хэншань *»** і ■'■^;,:4'^'':-?^*:v?:J
*. :* - фуцзянь Ф^--к:--^^щ
*♦:..••:;•"• "' /. <чч ••*,.
.,••*■" ГУАНДУН "•
/ фГУАНЧЖОУ
,.ч ;*** tL ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^И
л^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^И
Важнейшие памятники
первой половины чжоуской
эпохи. Раннечжоуский
nepuod u период
Борющихся царств
1 — Таньма; 2 — Фуфэн; 3 —
Фэнси; 4 — Раннецинские погре-
бения; 5 — Шанцуньлин; 6 —
Пиндиншань; 7 — Люлихэ; 8 —
Лютайцзы; 9 — Сяньжэньтай;
10 — Погребения царства У; 11 —
Погребения царства Юэ; 12 —
Погребения в горах Фэнхуан-
шань; 13 — Маосянь.
которые располагались на обоих берегах реки Фэньшуй (в ок-
рестностях Сианя) и занимали общую площадь 10 км2. Они
были обнесены глинобитными стенами, включали в себя
дворцовые и храмовые ансамбли (подробно см. глава 16) и
ремесленные кварталы из камнерезных, косторезных, гон-
чарных и бронзолитейных мастерских. Рядом с ними были
найдены также погребения и захоронения чэмакэны.
2. Комплекс в Фуфэн (1976 г.), находящийся прибли-
зительно в 50 км к западу от Сианя и состоящий из захоро-
нений аристократического семейства Вэй. В одном из них
была обнаружена самая полная для первой половины ран-
нечжоуского периода (Х-ІХ вв. до н. э.) коллекция брон-
зовых изделий: 103 предмета, включая 74 сосуда различ-
ных категорий и форм и музыкальные инструменты (под-
робно см. глава 20).
156
Оба названных памятника и содержащиеся в них арте-
факты отражают состояние предметно-творческой деятель-
ности именно раннечжоуской метрополии. Сосуды семейства
Вэй, с одной стороны, убедительно доказывают ее явную
преемственность позднеиньскому официальному художествен-
ному творчеству, что представляется тем более показатель-
ным, если учесть географическую удаленность раннечжоуской
метрополии от иньской. Однако, с другой стороны, в них
присутствуют и некоторые орнаментальные новации, говоря-
щие о вступлении местного бронзолитейного производства и
оформительского искусства в новую эволюционную стадию.
3. Комплекс в Тянъма (1984 г., основные работы —
1991-1993 гг.), находящийся на юго-западной окраине
Шаньси (местность Цюйво) и состоящий из усыпальниц
правителей и аристократических семей княжества Цзинь,
бывшего, напомним, одним из могущественнейших удель-
ных княжеств периода Весен и осеней. Все они содержали
в себе богатый погребальный инвентарь. Особой роскошью
отличаются супружеские усыпальницы князей, правивших
с IX по VIII в. до н. э. В них находилось огромное число
бронзовых предметов (сосуды, оружие, музыкальные инст-
рументы) и 50 нефритовых изделий: кубки-цун, жезлы-
гуй, диски-бы, пластины-jcz/a«, подвески в виде силуэтных
зооморфных и антропоморфных изображений, сложносо-
ставные плательные и шейные украшения (подробно см. гла-
ва 13) и миниатюрная пластика. Примечательно наличие
нефритовых изделий — подвесок и статуэток, выполнен-
ных как в реалистическом (например, фигурка лежащего
быка), так и в зооморфно-фантазийном стиле. Самым спе-
цифическим артефактом по сравнению с уже известны-
ми нам нефритовыми изделиями является маска, воспро-
изводящая форму человеческого лица, но выполненная не
из целого каменного блока, a состоящая из нескольких
десятков отдельных фигурных пластин.
Среди бронзовых предметов тоже присутствуют сосу-
ды, как повторяющие иньские бронзы (котлы-дин) или близ-
кие к сосудам семейства Вэй (но все же отмеченные некото-
рым своеобразием орнаментальных схем и типов узоров), так
и уникальные по художественному решению изделия. К ним
относятся в первую очередь сосуды, художественно-архитек-
тоническая композиция которых насыщена пластическими
Бронзовые сосуды
семейспгва Вэй
a — в «аньяновском» стиле; б —
с архитектоническими и орна-
ментальными новациями.
Тянъмаские
нефрипговые изделия
a — диск-би (диаметр 4,5 см);
б — жеал-гуй (10,3 х 3,8 cm); e —
амулет-лгг/а« (длина 23 см); г —
скульптурка лежащего быка
(3,5 х 3,9 х 2,1 см); д — подвес-
ка в виде фантастической птицы
(4,5 х 3 см).
157
Тяньмаские
нефришовые изделия.
Нефритповая маска
^4ПѴА^4
Тянъмаские
бронзовые изделия
a — дин со специфическим вари-
антом маски-тпаотпэ; б — сосуд,
близкий по формам и характеру
орнаментации к сосудам семей-
ства Вэй; в — сосуд с зооморф-
ными пластическими изображе-
ниями; г — сосуд с зооморфны-
ми, зооморфно-фантазийными и
антропоморфными пластически-
ми изображениями.
изображениями животных, людей и зооморфно-фантазий-
ных существ, нередко образующих еще и подобие самостоя-
тельных сюжетных сцен.
4. Комплекс в Шанцуньлин (основные работы — 1956-
1957, 1990-1993 гг.), находящийся в северо-западной час-
ти Хэнани (район водохранилища Санъмэнъся) и состоя-
щий из 240 усыпальниц правителей и аристократических
семейств княжества Го. Это княжество представляло собой
карликовое удельное владение, которое просуществовало
всего два-три столетия — с конца Западного Чжоу до сере-
дины периода Весен и осеней. Тем не менее все усыпальни-
цы тоже имели богатый погребальный инвентарь, включа-
ющий в себя главным образом бронзовые и нефритовые
изделия. Местные нефриты по репертуару и художествен-
ным особенностям в целом совпадают с найденными в Тянь-
ма. Среди них тоже присутствуют подвески, выполненные
в реалистическом и зооморфно-фантазийном стиле, и не-
фритовая маска. Хотя есть и своеобразные по художествен-
ному решению изделия, например диск-бі/ в виде силуэт-
ной фигуры «свернувшегося дракона», или пластина-д:г/а«,
воспроизводящая фигуру рыбы.
A bot бронзовые сосуды, напротив, определенно отли-
чаются от тяньмаских во-первых, ввиду простоты их силу-
этных линий; во-вторых, в их декоре зооморфные мотивы
оказываются очень скудными и преобладает геометриче-
ский орнамент, состоящий из повторяющихся элементов
158
и тяготеющий к фризовому расположению. Кроме того, здесь
присутствуют сосуды необычной формы, типа ларя-гуй с
трапециевидными корпусом и крышкой. Очевидно, что это
княжество располагало собственным бронзопроизводящим
центром, в котором были разработаны специфические офор-
мительские принципы.
5. Комплекс в Пиндиншань (1970 г.), находящийся в
центральной части Хэнани и состоящий из 300 княжеских
и аристократических усыпальниц тоже карликового удель-
ного владения — Ин (Х-ѴІІІ вв. до н. э.), a также более
поздних по времени (VIII—II вв. до н. э.) погребений мест-
ной знати. Самой богатой из них (около 130 изделий) ока-
залась усыпальница инского князя, правившего в первой
половине X в. до н. э. Декор местных бронзовых сосудов
тоже имеет ряд отличительных особенностей, в том числе
активное использование фризовых композиций и «птичь-
их» мотивов, сводящихся к стилизованно-фантазийным
изображениям парных фигур птиц.
Помимо погребальных комплексов, строго относящих-
ся к тем или иным удельным владениям, на территории
Хэнани было обнаружено немало единичных раннечжоу-
ских захоронений и артефактов. Наиболее примечательны-
ми являются находки в окрестностях Лояна (1998 г.) и
Чжэнчжоу (1999-2000 гг.) бронзовых изделий (сосудов и
оружия). Они тоже как бы копируют иньские бронзы, но в
самых ранних (эрлигановских) стилистических вариантах.
Мы намеренно начали рассказ с памятников, которые
принадлежали к исходно единому культурно-художествен-
ному ареалу, сложившемуся, повторим, в регионе бассейна
среднего течения Хуанхэ. Но и в рамках этого ареала, как
видим, сразу же вслед за вступлением в силу историко-
политических центробежных тенденций началось разме-
жевание локальных художественных традиций. Рассмот-
рим далее, в каком состоянии пребывала творческая дея-
тельность в периферийных по отношению к Центральному
Китаю и раннечжоуской метрополии районах.
Северо-восточная периферия раннечжоуского Китая (бу-
дущая территория царства Янь) лучше всего представлена
комплексом в Люлихэ, находящимся в юго-западном пред-
местье Пекина, нижние стратиграфические слои которого
как раз и составляют крайний приграничный населенный
пункт, о котором бегло упоминалось в рассказе о контак-
тах Шан-Инь с внешним миром. В ходе продолжительных
полевых работ (1962-1995 гг.) здесь были открыты остат-
ки городища с многочисленными жилыми постройками,
мастерскими и кладбищем, включая усыпальницу местно-
го князя, правившего в X в. до н. э. Хотя главное место
среди погребальных артефактов по-прежнему занимают
бронзовые сосуды и украшения, все они отмечены ярко
выраженными локальными чертами. Из украшений наи-
большее внимание привлекает ожерелье, состоящее из не-
скольких ярусов, образованных низаньем из 179 нефри-
товых, агатовых и бирюзовых бусин и подвесок. Такой
конструктивный тип ожерелья несколько отличается от
Нефритовые изделия
княжества Го
a — амулеты-хуан\ б — подвес-
ка в виде фигуры фантастиче-
ского существа; в — подвеска в
виде фигуры тигра.
Бронзовыи сосуд.
Погребения княжества Го
Бронзовый сосуд.
Погребения княжества Ин
159
Бронзовые изделия.
Центральная часть пров.
Хэнанъ
a — окрестности Чжэнчжоу; б —
окрестности Лояна.
Изделия
из комплекса Люлихэ
a — керамический сосуд; б —
бронзовые сосуды.
нагрудных украшений, типичных для Центрального Ки-
тая, и мог быть заимствован, по мнению специалистов, из
костюма восточноазиатских (скифо-сибирского круга) или
центральноазиатских народностей.
Бронзовые сосуды различаются в двух главных стили-
стических группах. В одну из них входят изделия, очень
похожие на хэнаньские (княжества Ин) бронзы, a в дру-
гую — специфические по архитектоническо-художествен-
ному решению. Их главной отличительной чертой являет-
ся настойчивое сочетание собственно орнаментальных и
пластических фигур, например, сосуд, на корпусе которого
показано рельефное изображение морды быка, плавно пе-
реходящее в пластическую композицию — верхняя часть
бычьей головы, увенчанной крутыми рогами. Отдельного
упоминания в данном случае заслуживают и керамические
сосуды ввиду, во-первых, их включения в погребальный
инвентарь и, во-вторых, сходства их по формам и орнамен-
тации с хуншаньской керамикой.
Для восточного региона остановимся на комплексах в
Лютайцзы (1985 г.) и в Сянътайжэнь (1995 г.).
Комплекс в Лютайцзы — древнейший из известных на
сегодня раннечжоуских памятников данного региона. Он
находится в северной части Шаньдуна (окрестности города
Цзиян) и состоит из аристократической усыпальницы кня-
жества Фэн — еще одного маломощного удельного владе-
ния, хотя и просуществовавшего со времен Западного Чжоу
по 567 г. до н. э., когда оно было завоевано царством Ци.
Сама усыпальница датируется X в. до н. э. Усопший был
похоронен в деревянном гробу с лаковым покрытием ярко-
красного цвета. Его погребальный инвентарь состоял из
бронзовых изделий, преимущественно сосудов, нефрито-
вых предметов церемониально-ритуального предназначения
(диски-би, пластины-л:і/а«), нефритовой миниатюрной пла-
стики и украшений. Среди украшений преобладали, види-
мо, бусы, о чем свидетельствует масса цилиндрических и
прямоугольной формы агатовых и малахитовых бусин. Не-
фритовая пластика изображает как реальных представите-
лей животного мира — птиц, черепаху, так и зооморфно-
фантазийных персонажей. Но все фигурки выполнены в
художественной манере, несколько отличающейся от сти-
листики и орнаментации хэнаньских нефритов. Из бронзо-
вых сосудов наибольший интерес представляют два ректаго-
нальных котла-діш. Первый из них снабжен ножками в
виде пластических изображений согнутого слоновьего хо-
бота, которые придают всему сосуду специфический внеш-
ний вид. Примечательно использование в местном оформи-
тельском искусстве «слоновьих» мотивов, которые в ран-
нечжоуский период практически полностью исчезли из
орнаментальных сюжетов, свойственных бронзам метропо-
лии и Центрального Китая. Сходные по конфигурации нож-
ки имеет и еще один сосуд — блюдо-панъ, что указывает
на устойчивость данного художественно-композиционного
приема в местном бронзолитейном производстве. Второй
копгел полностью повторяет стандартную для позднеинь-
160
ских и раннечжоуских дин форму, но украшен своеобраз-
ным орнаментом, составленным из изображений фантасти-
ческих птиц и змеевидных существ.
Комплекс в Сяньтайжэнь находится южнее Лютайцзы
(уезд Чанцин, к северу от г. Цзинань) и состоит из 6 кня-
жеских и аристократических усыпальниц небольшого вла-
дения — Ши (?-569 гг. до н. э.). Самым богатым из них
оказалось женское погребение, датируемое серединой пе-
риода Весен и осеней и содержащее более 100 предметов:
бронзовых сосудов, музыкальных инструментов, изделий
из нефрита, кости и рога. Бронзовые сосуды демонстриру-
ют новый стилистический вариант. Они отличаются лако-
ничностью силуэтных линий, массивностью форм и скупо-
стью декора, который либо вовсе отсутствует, либо сводит-
ся к геометрическому узору, образованному чаще всего
рядами круглых выпуклостей, что делает его очень похо-
жим на «гвоздевидный узор» эрлигановских бронз. Кроме
того, они нередко снабжены теми или иными специфиче-
скими деталями, в отличие от бронз других регионов, на-
пример кувшин-jn/ с ручкой-цепью. Еще одна интересная
особенность погребального инвентаря этой усыпальницы —
разнообразные костяные изделия: от ожерелья из несколь-
ких нитей до туалетных принадлежностей, в том числе
круглой коробочки для благовоний (высота 3,5 см), укра-
шенной ажурной сквозной резьбой.
Для северо-западного региона, точнее — для начального
ареала формирования царства Цинь, древнейшими наход-
ками являются три погребения, обнаруженные (1998 г.) в
южной части Ганьсу (около гор Юанъдиншанъ, на рубеже
уездов Лисянь и Сихэсянъ), которые датируются концом
Западного Чжоу или самым началом периода Весен и осе-
ней. Все они имели строго прямоугольную форму в плане и
содержали в себе скелеты сопогребенных людей и собак.
Рядом с ними находилось захоронение чэмакэн, но не с
парной, a с четверной упряжью. Усопшие (видимо, предста-
вители местной аристократии) покоились в деревянных гро-
бах. Погребальный инвентарь состоял из керамики, нефри-
товых и костяных изделий, оружия и бронзовых сосудов,
многие из которых в свою очередь отличаются неожидан-
ным художественным решением. Как и тяньмаские бронзы,
они нередко украшены целыми пластическими композиция-
ми на зооморфные и зооморфно-фантазийные темы.
За последние годы серия памятников, датируемых вто-
рой половиной периода Западного Чжоу и периодом Весен
и осеней, была открыта на территории юго-восточных царств
У и Юэ, a также в провинции Сычуань.
Важнейшим памятником царства У является кладби-
ще из 57 погребений, относящихся к ѴІ-Ѵ вв. до н. э., ко-
торое было обнаружено (1992 г.) в гористой местности, иду-
щей вдоль восточного берега оз. Тайху (около города Суч-
жоу), т. е. в районе, бывшем центром неолитической
общности Лянчжу. Одно из этих погребений, предположи-
тельно княжеская усыпальница, находилось на вершине
горы и было устроено по типу скальной гробницы. Его
11 ІІсторпя искусства Китая
Изделия из комплекса
Лютайцзы
a — диск-бі/ (диаметр 3,9); б —
фигурки сокола (4,7x4 х1,5см,
сверху) и фантастического суще-
ства (5,1 х 3 х 1,4 см); в — котел-
дин со «слоновьими» мотивами;
г — котел-дин со специфическим
орнаментом из фигур фантасти-
ческих существ.
Бронзовые сосуды
из комплекса Сянътайжэнь
a — котел-янь; б — кувшин-дгі/ с
ручкой-цепью; в — сосуд уникаль-
ной формы; г — сосуд (чжоу) с
«гвоздевидным» узором.
161
Бронзовый сосуд.
Раннециньское погребение
в районе гор Юаньдиншань
Нефритовые изделия
царства У
a — маска (левая половина); б —
пластины.
подземная часть была выбита в горной породе, a сверху оно
было окружено стеной. В усыпальнице находилось 12 573 из-
делий, главным образом нефритовых. Среди них присут-
ствовала еще одна нефритовая маска, составленная из от-
дельных пластин, но выполненная в несколько ином конст-
руктивно-художественном варианте, чем маски правителей
центрально-китайских княжеств. Она состоит из пяти пла-
стин, две из которых, передающие брови, выполнены в
виде силуэтных фигур лежащего тигра (длина по 16 см),
еще две — глаза — представляют собой круглые бляшки
(диаметр 10 cm), a пятая — нос — имеет форму сильно
вытянутого по вертикали прямоугольника (5x1,4x0,6 см).
Все пластины покрыты тонко выделанным легкорельеф-
ным узором, образованным повторяющимися элементами —
завитками и изогнутыми линиями. Маска как бы дополне-
на набором прямоугольных пластин (3,72 х 37 см, возмож-
но, детали единого украшения), которые, несмотря на ми-
ниатюрность, тоже сплошь украшены сложными и детали-
зированными узорами.
Важнейшим памятником царства Юэ является погре-
бальный комплекс, обнаруженный (середина 90-х гг.
XX в.) в гористой местности (горы Иньшань) в северной
части Чжэцзян (на южном берегу Ханчжоуского залива, в
13 км к юго-западу от города Шаосин). Занимая общую
площадь 85 000 м2, он состоит из аристократических гроб-
ниц, датируемых ѴІ-Ѵ вв. до н. э., и княжеской усыпаль-
ницы, считающейся захоронением первого правителя это-
го царства (Юанъ Чан, 510-479 гг. до н. э.). Она тоже
была устроена на самой вершине горы. Погребальная ка-
мера усыпальницы, уходящая в скальную породу (34,8 м
с запада на восток и 5 м в глубину) образована треуголь-
ной формы деревянной конструкцией, покрытой лаком.
Усопший покоился в деревянном саркофаге (длина 6,5 м),
a основную часть его погребального инвентаря составляло
31 нефритовое изделие, в то числе меч (длина 42 см),
бусины, свирели, a также специфические по внешнему
виду и орнаментации предметы, бывшие, вероятно, дета-
лями украшений — крючкообразной (длина 12,3 см) и
полусферической формы (19 штук, высота 5,8-6,8 см, ди-
аметр нижней части — 7,7-8,2 см).
Попутно кратко остановимся еще на одном юэском па-
мятнике, хотя он относится уже к периоду Борющихся
царств. Это — два рядом расположенных погребения, от-
крытых (1975 г., основные работы 1997 г.) тоже в гористой
местности (горы Фэнхуаншань) вблизи южного побережья
Ханчжоуского залива (в 10 км к востоку от Шаосина). Одно
из них считается усыпальницей последнего правителя Юэ
(Бу Гуан, 411-376 гг. до н. э.). Ее погребальная камера
образована деревянным каркасом прямоугольной формы, a
инвентарь состоит главным образом из нефритовых изде-
лий, из которых наибольшее внимание привлекает нако-
нечник для копья (длина 23,2 см), и керамических сосу-
дов, относящихся к разряду «каменной» керамики (под-
робно см. глава 11).
162
8
3-:
Погребение юэского
царя Юань Чана.
Общий вид
Самым значительным памятником раннечжоуского вре-
мени, найденным на юго-западе, справедливо считают по-
гребение в Маосянъ, открытое в 1992 г. в центральной час-
ти Сычуани (приблизительно в 100 км к северо-западу от
Саньсиндуя) и датируемое Х-ІХ вв. до н. э. И его устрой-
ство, и состав погребального инвентаря демонстрируют ряд
уникальных особенностей. Находившееся тоже на веріпи-
не горы, оно содержало в себе саркофаг, составленный из
каменных плит и имеющий общую трапециевидную форму
(длина — 2,74 м, ширина в изголовье и нижней части —
0,71 и 0,48 м соответственно, высота в изголовье и нижней
части — 1,04 и 0,95 м). На крышке саркофага, прямо над
головой усопшего, стоял бронзовый сосуд (высота 32 см,
диаметр устья 26,3 см), напоминающий позднеиньские кув-
шины-лэй, но снабженный в отличие от них двумя массив-
ными боковыми ручками.
Основную часть погребального инвентаря составляли
бронзовые изделия: сосуды, музыкальные инструменты (ко-
локола) и оружие.
Для оружия наиболее примечательна коллекция из
20 мечей, клинки которых (длина 20-40 см) точно повто-
ряют собой форму саньсиндуйских нефритовых мечей. По-
верхность клинков украшена геометрическим орнаментом
или зооморфно-фантазийными изображениями. Некоторые
мечи сохранились с рукоятками, имеющими различную
форму и самостоятельное художественное оформление. В до-
полнение к мечам здесь найдены и ножны, которые тоже
заметно выделяются на фоне данных предметов вооруже-
ния, получивших хождение в других регионах чжоуского
Китая. Сказанное относится в первую очередь к двойным
ножнам, предназначенным для хранения сразу двух ме-
чей. Именно эта коллекция послужила первоочередным
аргументом для тезиса о существовании в Сычуани само-
стоятельного оружейного производства, где впервые в Ки-
тае был освоен выпуск мечей, и влиянии на это производ-
ство оружейного дела саньсиндуйцев.
Подавляющее большинство бронзовых сосудов и на
этот раз заметно отличаются по формам от позднеиньских
и раннечжоуских бронз. Таковы, во-первых, котлы-du«
(высота до 25,5 см), имеющие массивное округлое тулово,
КУ
Нефритовые изделия.
Погребение юэского царя
Юань Чана
а _ меч; б — бусины полусфе-
рической формы; в — крючкооб-
разный предмет (снизу).
Нефритовое копье юэского
цоря Бу Гуана
163
J^ynT ти^ Tnr^S^ <
Изделия из погребения
в Маосянь
a — каменный саркофаг; б — ко-
тел-дин; в — сосуд в форме кон-
тейнера-ді/й; г — бронзовый бо-
кал-бэй; д — лопатовидный брон-
зовый предмет, выполненный в
технике ажурного литья.
Мечи из Маосянь
маленькие ножки и крышку. Во-вторых, сосуды (высота
до 20 см), отдаленно напоминающие одну из категорий
чжоуской хозяйственной посуды — лари-гг/й, но которая
утвердилась в бронзолитейном производстве центральных
регионов Китая намного позже — в середине периода Ве-
сен и осеней. В-третьих, стаканообразные кубки-бэй (3 об-
разца, высота — 15,8-16 см, диаметр устья — 5,2-7,3 см),
которые вообще не имеют себе прямых аналогов среди
существовавших на тот момент категорий бронзовой сто-
ловой посуды. Декор сосудов тоже самобытен — сочета-
ния горизонтально расположенных лент и треугольников,
заполненных геометрическими узорами. Наибольшую
уникальность демонстрирует предмет, внешне похожий
на лопату с ручкой (высота 13,5 см, ширина в верхней
части — 12,7 см). Выполненный в технике ажурного ли-
тья, он украшен орнаментом, составленным из геометри-
ческих фигур и стилизованных изображений змей, птиц
и неких животных — тигров или оленей. Кроме бронзо-
вых изделий, заметное место в погребальном инвентаре
занимают керамические сосуды, тоже весьма необычной
формы, декорированные в некоторых случаях лаковыми
росписями (подробно см. глава 14).
Комплекс в Маосянь вплоть до недавнего времени оста-
вался самым богатым по археологическим материалам и
наиболее своеобразным сычуаньским памятником для всей
чжоуской эпохи. Теперь он дополнился усыпальницей пра-
вителя царства Шу, обнаруженной (июль 2000 г.) на терри-
тории Чэнду и относящейся к самому началу периода Борю-
щихся царств. Она представляет собой прямоугольную яму
размером 30,5 х 20,3 м с инвентарем, состоящим преимуще-
ственно из керамики и лаковых изделий (подробно см. гла-
ва 14). И конструктивные особенности самой усыпальницы,
и все присутствующие в ней артефакты, бесспорно, отмече-
ны специфическими локальными чертами. Однако они не
имеют абсолютной уникальности на фоне погребальной об-
рядности и художественного творчества остальных регио-
нов чжоуского Китая и демонстрируют, думается, не более
чем региональный вариант общекитайского культурно-худо-
жественного субстрата.
Сказанное относится ко всем известным сегодня сычу-
аньским памятникам восточночжоуского периода, которые,
164
надо сказать, немногочисленны и маловыразительны62.
Приходится констатировать, что широко распространен-
ный в новейшей научной литературе тезис о культурно-
художественной самостоятельности и самобытности чжоу-
ского царства Ба-Шу пока не обоснован надежными веще-
ственными доказательствами.
Итак, высказанное ранее предположение о том, что
процесс распада централизованной государственности сра-
зу же спровоцировал оживление региональных и локаль-
ных художественных традиций, полностью подтвержда-
ется. Например, ремесленные центры, даже находившие-
ся в непосредственной близости друг от друга, стремились
к выпуску собственной (по репертуару изделий, их фор-
мам и характеру декора) продукции. Еще болыпе смыс-
ловых разночтений демонстрирует похоронная обрядность,
где представлены различные конструктивные типы гроб-
ниц и варианты состава погребального инвентаря. Одна-
ко во всех этих различиях и художественных новациях
угадываются не более чем этнографические и морфологи-
ческие инварианты китайской культуры. Следовательно,
предметно-творческая деятельность Китая оставалась в
пределах сложившегося к тому времени этнокультурного
массива и под воздействием искусства центральных регио-
нов страны.
Восточночжоуский период представлен еще более вну-
шительным числом памятников, включая погребальные
комплексы и остатки городищ. Наиболее насыщенной ар-
хеологическими находками по-прежнему остается терри-
тория Хэнани и примыкающих к ней районов Шаньси и
Хэбэй. Кратко перечислим основные серии памятников:
1) памятники, сосредоточенные в окрестностях Лояна и
относящиеся к чжоускому домену; 2) памятники, при-
надлежащие царству Вэй, среди которых особо выделяют-
ся: комплекс в Фэньшуйлин (1964 г., южная окраина Хэ-
бэй), состоящий из царских и аристократических погребе-
ний IV—III веков до н. э.; комплексы в Синъчжэн (1923 г.),
в Гувэйцунь и Хуэйсянь (1950-1960 гг.) — все были най-
дены на северо-восточной окраине Хэнани (недалеко от
Аньяна), в которых находились в общей сложности более
800 артефактов (бронзовые изделия — сосуды, музыкаль-
ные инструменты, оружие, нефриты); 3) памятники, от-
носящиеся к царству Хань, в том числе: комплекс в Цзинь-
цунь (1928 г., северо-западное предместье Лояна), со-
стоящий из царских и аристократических усыпальниц,
датируемых 450-230 гг. до н. э.; комплекс в Чжунчжоу-
лу (к югу от Лояна), состоящий из 260 аристократиче-
ских погребений, 74 из которых восходят еще к периоду
Весен и осеней; 4) комплекс в Хоума (1950-1959, 1992-
1993 гг.), находящийся в южной окраине Шаньси, где
были найдены остатки крупного бронзолитейного центра,
принадлежавшего царству Чжао, — мастерские, 200 пе-
чей и 30 000 целых керамических моделей и их фрагмен-
тов, предназначенных для отливки всех выпускаемых в
то время отделов и категорий изделий.
Изделия из усыпальницы
правителя царства Шу
a — керамика; б — лаковый со-
суд (31,8 см).
62 На сегодня для восточ-
ночжоуского периода в Сычу-
ани открыто около 10 памят-
ников, большая часть которых
сконцентрирована в окрестно-
стях Чэнду, например комп-
лексы в Янцзушань, Цзинъ-
юйцунь и т. д. Еще один па-
мятник — комплекс в Цзинь-
шаган — был обнаружен в
северо-восточной окраине Сы-
чуани. Содержащиеся в нем
артефакты, в первую очередь
бронзовые сосуды, по-прежне-
му заметно выделяются по
внешнему виду и орнамента-
ции на общем фоне современ-
ных им бронзовых изделий
других регионов Китая, одна-
ко не в той мере, чтобы мож-
но было говорить об уникаль-
ности местного художествен-
ного творчества.
165
ВНУТРЕНИЯЯ МОНГОЛИЯ
> "' <
Хуанхэ
* *1 :*
Хэншань Ч
' ПЕКИН
ляонин
Кукунор*'.
ЦИНХАЙ
ХЭБЭЙ,
Бохайскийзаяив ;; -:;.;
-, .
ШАНЬСИ
ГАНЬСУ
с
х*12:
/*8
Флиньцзы
*9 J
/ *2 •••'** шаньдун жвятоё.:>і..
р.вэихэ ^# -, 4* ЧЖЭНЧЖОУ••-... \. •••• ••Ч-;;'^,,.;Г;.
ХуашаньстиьУсуншань*ИЯН f\,J '""'"- ЦЗЯНСУ . < *.•;•..~'-:,/
шэньси ........»••
ХЭНАНЬ ^
ХУБЭЙ
Чаоху *79
Янцзы " ".' *
•НАНКИН "V- - *'- ' "7^
', АНЬХУЭЙІ
СЫЧУАНЬ
► ЧЭНДУ
V ?.
ЮНЬНАНЬ
іГ^
ГУЙЧЖОУ
.... ч#?4
Дунтпин
ЧАНША •
ХУНАНЬ
..... /*
*?5
цзянси
ФУЦЗЯНЬ
ГУАНСИ
{ЮНЬНАНЬ— провинция
• ПЕКИН— современные города
/* Хэншань — горы
|# — памятники
aQc Ш — столицы царств
ГУАНДУН
. лГУАНЧЖОУ»
." • . :
. '■•••'•.'
. . -
mm
ÊÉÈÈ
•: -. •.
Важнейшие памятпники
периода Ворющихся царстпв
I — Лиюй; 2 — Хоума; 3 —
Цзиньцунь; 4 — Чжунчжоулу;
5 — Синьчжэн; ß — Гувэйцунь;
7 — Хуэйсянь; 8 — Фэйшуйлин;
9 — Шанванцунь; 10 — Линшоу;
II — Пиншань; 12 — Усыпальни-
ца князя Сян-гуна; 13 — Фэнсян;
14 — Цзянлин; 15 — Лутайшавь;
16 — Суйсянь;І7 —Синыш;2в —
Шоучоу; 19 — Шоусянь.
Художественное наследие царства Ци наиболее полно и
выразительно представлено, во-первых, археологическими
материалами, обнаруженными в окрестностях его столицы
(Линьцзы, начало работ — 1958 г.), и, во-вторых, комп-
лексом в ПІанванцунъ (1992 г.), тоже находящимся неда-
леко от столицы, содержащим самые полные коллекции
местных бронзовых, железных, нефритовых, лаковых и
серебряных изделий.
Для царства Янь наиболее существенным памятником
являются остатки его столичыого города, открытые (1958 г.)
в непосредственной близости от комплекса в Люлихэ.
Кроме памятников, принадлежащих царствам Ци и Янь,
в провинции Хэбэй была сделана серия находок, a именно:
комплексы в Линшоу и Пиншань (1974-1978 гг.), относя-
щиеся к другому царству — Чжуншань. Из письменных
166
источников известно, что это царство было основано «вар-
варской» народностью, называемой «белыми дн». «Белые
ди» проникли в Китай ориентировочно в VIII в. до н. э. и
первоначально осели в северных и северо-западных райо-
нах Шэньси и Шаньси. В VI в. до н. э. они переселились
на восток, где и создали собственное государство, которое
заняло относительно неболыпую территорию в централь-
ной части Хэбэй ив 295г. дон. э. было завоевано цар-
ством Чжао. Несмотря на неясность этнокультурных исто-
ков этой народности, ее малочисленность и непродолжи-
тельность существования данного царства, были созданы
архитектурные ансамбли и художественные произведения,
отнюдь не уступавшие собственно китайским и даже по
многим свойствам превосходившие их.
В обоих комплексах было вскрыто более 30 погребе-
ний, датируемых концом периода Весен и осеней и перио-
дом Борющихся царств, два из которых оказались усы-
пальницами местных правителей, царствовавших в заклю-
чительной трети IV в. до н. э. В отличие от всех остальных
чжоуских погребений, включая царские усыпальницы, они
имели надземную часть, образованную грандиозным ар-
хитектурным ансамблем, реконструкцию которого облег-
чила находка его плана, выгравированного на бронзовой
пластине, найденной среди погребальных артефактов. Этот
ансамбль занимал площадь в форме правильного прямо-
угольника и состоял из пяти строений различной высоты,
которые были воздвигнуты на монолитной глинобитной
платформе, и двойной стены с центральными воротами,
обращенными строго на юг. При всей уникальности над-
земной части для чжоуской похоронной обрядности нельзя
не заметить, что она по своим планировочным принципам
и конструктивным особенностям полностью совпадает с
известными на сегодня собственно китайскими храмовы-
ми, дворцовыми и городскими ансамблями. Поэтому, даже
если практика подобного оформления царских усыпальниц
Чжуншаньский бронзовыи
сосуд с надписью
Архитектурный ансамбль,
образующии надземную
часть усыпальницы
чжуншаньских цареи
167
Усыпальница циньского
князя Сян-гуна
63 О том, что «белые ди*
полностью усвоили не только
художественные традиции, но
и многие духовные ценности
чжоуского общества, наиболее
красноречиво свидетельству-
ют надписи на сосудах, кото-
рые, как выяснилось, явля-
ются изложением постулатов
конфуцианского учения. При-
чем это первый случай в ис-
тории Китая такой фиксации
конфуцианской теоретической
мысли.
восходит к этнографическим и строительным традициям
самих «белых du», они явно были приведены ими в соот-
ветствие с требованиями и стандартами китайской худо-
жественной культуры63.
Погребальный инвентарь усыпальниц состоял в общей
сложности из 19 000 артефактов, включая бронзовые сосу-
ды с пространными иероглифическими надписями, выпол-
ненными в технике золотой инкрустации, бронзовые пред-
меты мебели и интерьера, скульптуры, a также около
3000 изделий из нефрита, хрусталя, агата и нескольких
других сортов полудрагоценных минералов. Обращает на
себя внимание и широкое использование местными масте-
рами благородных металлов — золота и серебра. Самыми
специфическими ювелирными изделиями оказались два
ошейника, красовавшиеся на скелетах собак. Они были
выполнены из кожаного ремня, облицованного чередую-
щимися накладками из золотого и серебряного листа. Мно-
гие из чжуншаньских артефактов тоже уникальны. Одна-
ко в целом они отвечают общему художественному уровню
и стилистическим направлениям китайского искусства пе-
риода Борющихся царств, a потому единодушно признают-
ся исследователями адекватными образцами всей предметно-
творческой деятельности того времени.
Для царства Цинь на сегодня тоже обнаружена целая
серия различных по географии и масштабу памятников,
которые позволяют полностью проследить историю его пред-
метно-художественной деятельности, начиная с периода
Весен и осеней, т. е. с момента его становления в качестве
самостоятельного государственного образования.
Хронологически первым из циньских памятников явля-
ется супружеская усыпальница одного из основателей этого
царства (циньский князь Сян-гуну 777-766 гг. до н. э.), об-
наруженная (1992-1994 гг.) в юго-восточной окраине Гань-
су (уезд Лисянъ). Прежде всего примечательна композиция
этой усыпальницы. Она состоит из погребальной камеры
(земляная яма размером в верхней части 12,5 х 11м, в
нижней — 6,8 х 5 м, глубина — 15,1 м) и двух длинных
(общая длина 88 м) проходов-коридоров, тянущихся стро-
го по оси «восток-запад». Подобная композиция нигде бо-
лее в чжоуских захоронениях не встречается. Зато она,
безусловно, напоминает композицию позднеиньских цар-
ских усыпальниц, что может служить косвенным свиде-
тельством изначальных политических намерений и амби-
ций циньских правителей.
168
Из погребальных артефактов наиболыпее внимание при-
влекают, во-первых, два меча, которые являются самыми
ранними китайскими образцами этого вида оружия (не счи-
тая сычуаньских мечей). И. во-вторых, бронзовые сосуды,
которые демонстрируют как бы переходный вариант меж-
ду раннечжоускими шэньсийскими бронзами и теми сти-
листико-оформительскими направлениями, которые в ско-
ром времени будут господствующими в бронзолитейном про-
изводстве данного региона. Отметим также использование
в декоре этих сосудов своеобразного типа узора из повторяю-
щихся полукруглых фигур, которые производят впечатле-
ние изображения рыбьей чешуи.
Следующим и самым представительным циньским па-
мятником является комплекс в Фэнсян (1977 г.), находя-
щийся приблизительно в 90 км к северо-западу от Сианя и
содержащий остатки очередной (677-424 гг. до н. э.) сто-
лицы Цинь — города Юн> и кладбище из аристократиче-
ских и княжеских усыпальниц. Всего было открыто 33 кня-
жеские усыпальницы, в которых покоились представители
19 поколений правящего дома Цинь.
Поражают масштабы циньской столицы: она раскину-
лась на площади в 11 км2 (имея строго прямоугольную в
плане форму), обнесена по всему периметру глинобитной
стеной, высота которой достигала 9 м, ширина y основа-
ния — 8,8 м. Самой богатой княжеской усыпальницей
оказалась гробница князя Цзин-гуна (576-537 гг. до н. э.),
с которым связывают возвышение Цинь и превращение
его в царство-гегемон. Помимо обычных для погребально-
го инвентаря предметов, там были обнаружены мечи с
инкрустированными золотом лезвиями, лаковая посуда,
ткани и цельнометаллические золотые изделия (подробно
см. Часть IV).
Для царства Чу на сегодня известны около 1500 памят-
ников, которые имеют несколько региональных и хроноло-
гических серий:
1. Комплекс в СинъяНу находящийся на южной оконеч-
ности Хэнани (на территории одноименного уезда), кото-
рая предположительно входила в первоначальный ареал
формирования Чу. Там были найдены несколько аристо-
кратических погребений, в том числе усыпальница принца
крови, скончавшегося в середине VI в. до н. э., с погре-
бальным инвентарем, включающим в себя более 500 брон-
зовых изделий (сосуды, оружие и комплект из 26 колоко-
лов) и около 200 фрагментов золотой фольги.
2. Памятники южной части провинции Хубэй (районы
современных уездов Данъян, Ичан, Чжицзян, Цзянлин и
Цзинчжоу), где в VII-VI вв. до н. э. располагалась чуская
метрополия. Там были обнаружены остатки трех городов,
один из которых отождествляется со столицей Ин, и мно-
жество захоронений, болыная часть которых датируется
Ѵ-ІѴ вв. до н. э. и которые образуют несколько отдельных
погребальных комплексов: Цзянлин (в окрестностях гор
Юйтаишань), Ваншанъ (в окрестностях одноименных гор),
a также кладбища вблизи городов Чжичэн, Ичан и т. д.
щ
—чУг
A •
ffrr
Чуское погребение.
Цзинчжоу. 1994-1995 гг.
Чуские бронзовые сосуды.
Пров. Хубэй, Даньян. 24 см
Чуские лаковые изделия
a — чарка для вина; б ~ поднос
для винных чарок (48,8 х 20,5 см).
3. Памятники в других районах провинции Хубэй, не
входивших в территорию собственно метрополии, напри-
мер комплекс в Лутайшань (1977-1978 гг., восточная часть
Хубэй), состоящий из 5 западночжоуских и 30 восточно-
чжоуских погребений.
4. Памятники, найденные в северо-восточной части
Хунани, в первую очередь в окрестностях Чанша, в юго-
восточном пригороде которого еще в 1952-1956 гг. было
вскрыто 209 захоронений, относящихся к V—III вв. до н. э.
5. Памятники, сосредоточенные в северо-западной и
северо-восточной части Аньхуэй (соответственно террито-
рии уездов Шоучжоу и Шоусянь), бывших во второй поло-
вине III в. до н. э. метрополией Чу со столицей в упоми-
навшемся выше городе Шоучунь (уезд Шоучжоу), где она
находилась с 241 по 222 г. до н. э. Благодаря находкам в
этих местностях (1933 г.) и состоялось знакомство науки с
чуской цивилизацией.
Несмотря на определенные региональные и хронологи-
ческие различия, все чуские погребения обладают рядом
общих черт. Во-первых, для них характерно использова-
ние деревянных конструкций, обычно разделенных на не-
сколько (чаще всего три) отсеков, которые образуют погре-
бальную камеру и боковые помещения, предназначенные
для складирования инвентаря. Во-вторых, в чуской похо-
ронной обрядности было принято помещать усопших в де-
ревянные, обычно с лаковым покрытием, гробы. Нередко
тело покоилось в нескольких (до пяти) вставленных один в
другой гробах, a еще два-три «запасных» гроба помеща-
лись в боковые отсеки. В-третьих, значительную часть по-
гребального инвентаря занимают, как правило, шелковые
ткани, предметы одеяния и лаковые изделия, о которых
подробнее мы поговорим в разделах, специально посвя-
щенных соответствующим видам китайского декоративно-
прикладного искусства.
Еще одной особенностью чуских захоронений является
широкое использование деревянной и покрытой лаковыми
росписями скульптуры, которая изображает верхнюю часть
туловища или только голову зооморфно-фантазийных су-
ществ — с раскидистыми оленеподобными рогами и длин-
ным высунутым языком. Эти скульптуры, обычно называ-
емые в европейских изданиях «чускими идолами», замет-
но отличаются размерами и художественной манерой
исполнения. Однако они выполнены по стандартной ико-
нографической схеме, что позволяет видеть в них изобра-
жение конкретного персонажа чуских верований — скорее
170
всего, могильного стража. Такова, во всяком случае, весь-
ма распространенная интерпретация в современных иссле-
дованиях. Предпринимаются попытки проследить возмож-
ные морфологические связи этих «идолов» с образами демо-
нических существ в неолитическом и в иньском искусстве,
включая маску таотэ, и отождествить их с чускими боже-
ствами и духами, фигурирующими в местных литератур-
ных произведениях. В позднечуских захоронениях (в пров.
Аньхуэй) присутствует качественно новый тип деревянной
скульптуры — изваяния (длина до 1,5 м, высота 1-1,4 м)
в виде лежащего фантастического существа с драконооб-
разным телом, но с головой и лапами тигра. Вырезанные
из цельного древесного ствола, они тоже украшены лако-
вым покрытием с росписями, обычно передающими поло-
сатую тигриную шкуру. Кроме скульптур, считающихся
изображениями могильных стражей, в чуских захоронени-
ях нередко присутствуют и деревянные фигуры (тоже с
красочным лаковым покрытием) стоящих или парящих
(подвешивались к потолку погребальной камеры) птиц,
крылья которых обычно выполнены в той же технике, что
и рога «идолов» (см. вклейку).
Ярчайшим памятником чуского круга по праву призна-
ется усыпальница маркиза И (Хоу И, 1978 г.) — правителя
карликового княжества Цзэн, располагавшегося на северо-
восточной окраине Хубэй (уезд Суйсянь) и находившегося в
вассалыюй зависимости от Чу. По сообщениям письменных
источников, этот князь умер в 433 г. до н. э., значит, его
погребальный инвентарь должен представлять чуское ис-
кусство конца VI — начала V в. до н. э.
Усыпальница маркиза И находилась на глубине 13 м,
занимала общую площадь 220 м2 и состояла из 4 отсеков:
центрального помещения, погребальной камеры, бокового
отсека, где находились 13 пустых гробов, и маленькой
комнатки, служившей хранилищем оружия и деталей ко-
лесниц. Его тело покоилось в деревянном саркофаге, укра-
шенном лаковыми росписями на зооморфно-фантазийные
темы, который является древнейшим, полностью сохра-
нившимся образцом данной категории лаковых изделий.
Основную часть погребального инвентаря составляли брон-
зовые (всего 200 предметов, общим весом 10 т), и лаковые
изделия. Из бронзовых изделий особо выделяются комп-
лект из 140 сосудов и уникальный музыкальный инстру-
мент — 64 колокола различных размеров и разновидно-
стей (подробно см. глава 20), которые были подвешены к
семи резным, с лаковым покрытием перекладинам, образую-
щим три яруса. Перекладины поддерживались шестью брон-
зовыми кариатидами, из которых три нижних имеют вы-
соту 75 см, приближаясь по этому показателю к монумен-
тальной скульптуре.
Итак, имеющиеся на сегодня артефакты позволяют вос-
создать целостное представление о предметно-творческой
деятельности чжоуской эпохи и, в частности, проследить
историю развития важнейших в то время видов декоративно-
прикладного искусства.
Чуские «идолы». Цзинчжоу,
середина Чжанъго
a — общая высота 46,4 см, высо-
та скульптурного изображения
13,8 см; б — общая высота 84 см,
высота скульптурного изображе-
ния 71,2 см.
Бронзовые сосуды.
Усыпальница маркиза И
171
Позднечжоуский период, как это отчетливо видно на
основе археологических материалов, ознаменовался неви-
данным ранее расцветом многих ремесленных производств,
в первую очередь шелкоткачества, лакового производства,
ювелирного дела, но самыми массовыми и показательны-
ми артефактами все-таки продолжают оставаться бронзо-
вые изделия.
ЧЖОУСКОЕ
БРОНЗОЛИТЕЙНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО:
ТРАДИЦИИ
И НОВАЦИИ
Основные отделы
и категории изделий
(сосуды, зеркала,
украшения, оружие
и монеты)
Образцы художественного
оформления деталей
колесницы. Колесная втулка
a — царство Чу; б — по моделям
Хоума.
Главные изменения, которые произошли в чжоуском
бронзолитейном производстве по сравнению с иньским кос-
нулись прежде всего репертуара изделий. Теперь они уже
охватывают собой 11 отделов: сосуды, музыкальные инст-
рументы, оружие, зеркала, украшения, предметы инте-
рьера (мебель, осветительные приборы), детали колесниц
и конского убранства, архитектурные детали (основания
колонн), измерительные приборы, средства денежного об-
ращения (монеты) и пластику. Многие из этих отделов
зародились еще в позднеиньский период, но только при
Чжоу превратились в самостоятельные художественные
отрасли. Параллельно с расширением репертуара изделий
наблюдается и значительное обновление их категорий и
форм.
Среди сосудов самую радикальную трансформацию пре-
терпела группа столово-винной посуды. К середине по-
зднечжоуского периода вышли из употребления почти все
еще недавно господствовавшие категории: кубки-^зюз, цзя,
цзяо и гу. Причем еще до этого момента кубки-цзюэ, о чем
свидетельствуют их образцы среди бронз семейства Вэй и
в погребальном инвентаре различных регионов (Тяньма,
Лютайцзы), практически полностью утратили былое ор-
наментальное великолепие. Дольше всего — до начала пе-
риода Борющихся царств — удерживались кубки-гуну ис-
полняемые в виде скульптурных изображений. На смену
иньским кубкам вначале пришли гораздо более простые
по формам и орнаментике стакано- или вазоподобные со-
суды: кубки-чжи, имеющие, как правило, округлый, вы-
тянутый по вертикали корпус и снабженные высокой под-
ставкой и округлой крышкой. Но и эта категория просу-
ществовала недолго — всего до начала периода Весен и
осеней, постепенно уступив место сосудам чарочного
типа — чаркам-бэй и цзунъ. Чарки-бэй окончательно ут-
вердились в V в. до н. э. в главной своей форме — «чарки
с ушкамк* (эр бэй)у которая представляет собой неболь-
шие чашеподобные сосуды с овальным корпусом, плос-
ким дном и двумя плоскими ручками по бокам, прикреп-
ленным к устью тулова. Эта форма сразу же стала перево-
диться в другие художественные материалы — дерево
(с лаковым покрытием), нефрит, кость — и уже в таком
исполнении прочно и надолго вошла в набор китайской
пиршественной утвари. О том, как именно использова-
лись такие чарки во время трапезы, мы можем судить по
керамической модели столика (в натуральную величину,
48 х 33,8 см), сплошь уставленного бэй. Чарки-цзунъ —
стаканоподобные сосуды, которые тоже могли исполнять-
172
ся в различных материалах, приобрели повсеместное хож-
дение уже в ханьскую эпоху.
Вышли из употребления и все главные категории инь-
ских кувшинов. Кувшины-ю и вазоподобные цзунь исчез-
ли к VII в. до н. э., тоже утратив некогда присущие им
четкость форм и богатство декора. Исключение составляет
бронзолитейное производство южных районов, в котором
кувшины-цзі/«ь в обоих художественно-архитектониче-
ских вариантах — вазоподобные и в виде скульптурных
изображений — исполнялись вплоть до III—II вв. до н. э.
«Квадратные и» вышли из употребления приблизительно
к концу Западного Чжоу, и уже в IX в. до н. э. (образцы
фанъи из комплекса в Тяньма) они лишь отдаленно напо-
минали те сосуды-строения, которые производились при
Поздней Инь и в начале Чжоу (сосуды семейства Вэй).
Кувшины-лэй, напротив, активно исполнялись на всем
протяжении Западного Чжоу в формах и художественном
оформлении, близких к позднеиньским бронзам. Затем они
фактически прекратили свое существование в качестве са-
мостоятельной категории, смешавшись с кувшинами-д;*/.
Чайники-дгэ тоже изготавливались только до конца перио-
да Весен и осеней, успев, правда, обогатиться нескольки-
ми специфическими региональными конструктивно-худо-
жественными вариантами.
Значительно более жизнеспособными оказались те ка-
тегории столовой посуды, которые могли использоваться
и вне собственно пиршественной трапезы, в повседневных
нуждах — кувшины-jq/, кувшины-ы, чаши-яань и тазы-
цзянь.
Кувшины-.гг/, причем почти в одинаковых своих фор-
мах, производились на всем протяжении чжоуской эпохи
и в различных региональных ремесленных центрах. Более
того, они дополнились тремя новыми основными конст-
руктивно-художественнымиразновидностями: 1) «ушечные
хуь — сосуды с крынкоподобным корпусом и двумя боко-
выми ручками-кольцами (или цилиндрами), прикреплен-
ными к шейке; 2) «квадратные хуъ (фанху или, в более
поздней терминологии, «четырехгранные кувшины» —
фан) — сосуды с туловом, тяготеющим к параллелепипе-
ду, с плавно скругленными боковыми гранями и двумя
ручками-кольцами, прикрепленными к плечевой части кор-
пуса; 3) «плоские хуъ (бянъху или «сжатые кувшины»,
цзя) — флягоподобные сосуды с двумя боковыми ручками-
кольцами, которые возникли в качестве самостоятельной
категории в V в. до н. э.
ШЕШ
Раннечжоуские кубки-цзюэ
a — из комплекса Тяньма; б —
из комплекса Лютайцзы (ІІІань-
ДУн).
Кубок-чжи. Тяньма
Чарка-бэй. Общий вид
Глиняная модель сшолика
с чарками-бэй. Нач. I в. н. э.
Окрестностпи Лояна
Раннечжоуские кувшины.
Тяньма
a — кувшин-ю; б — кувшин-цзунь;
в — ♦квадратный и*.
173
Чжоуские кувшины-ху
a — княжество Го; б — пров. ІІТань-
си; в — «ушечный ху» (стандарт-
ная форма); г — «квадратный ху*
(Чжаньго, пров. Хэнань); д —
«квадратный ху» (пер. пол. III в.
до н. э.); е — «квадратный ху*
(II в. до н. э.); ж — «плоский ху*
(Чжаньго, пров. Хэнань).
Кувшиныи
a — княжество Го; б — «переход-
ная» форма (Чжаньго, окрестно-
сти Лояна); в — окончательная
форма (III—II вв. до н. э.).
Раннечжоуские чайники-хэ
a — пров. Шэньси; б — княже-
ство Го.
Чжоуские чаши-пань
a — княжество Го; б — Чжань-
го, окрестности Лояна.
Чаши-панъ тоже устойчиво (хотя не так массово, как
кувшины-л:і/) и в различных художественно-архитектони-
ческих вариантах присутствуют среди погребальных арте-
фактов на всем протяжении Чжоу. Они могут, например,
быть на ножках и без них, снабжаться ручками, иметь
корпуса разной конфигурации. Кувшины-і/ сохранялись в
стандартной форме, входя в комплект с панъ, до V-
IV в. до н. э., пока не трансформировались в новую катего-
рию, но под тем же названием — кувшиноподобные сосу-
ды с носиком-сливом вместо ручки.
Тазы-цзянъ присутствуют в чжоуских погребениях в
отличие от иньских, крайне редко. Однако о них постоян-
но упоминается в письменных источниках, из которых сле-
дует, что они исполнялись в течение всей чжоуской эпохи,
использовались и для омовения тела, и в качестве зеркала.
Впоследствии они трансформировались в категорию круп-
ногабаритных сосудов для повседневных нужд — бассей-
ны-сі/, которые, в свою очередь, были переведены в кера-
мику и спустя несколько веков составили самостоятель-
ный отдел фарфоровых изделий.
В отличие от столово-пиршественной посуды группа
хозяйственной утвари не только сохранила свою попу-
лярность, но и пополнилась вновь изобретенными кате-
гориями.
Исходная для данной группы категория — лари-гі/й в
различных художественно-конструктивных вариантах ис-
полнялась до периода Борющихся царств, долыне всего —
на юге (сосуды из усыпальницы маркиза И). В западно-
чжоуском, шэньсийском бронзолитейном производстве гуй
обычно снабжались высокой подставкой строго ректаго-
нальной конфигурации. В мастерских княжеств Цзинь и
Го исполнялись сосуды с округлым и чашеобразным кор-
пусом, дополненным цилиндрической подставкой или под-
ставкой, переходящей в три ножки. Среди сосудов княже-
ства Ин есть гуй на одной ножке, a в погребальном инвен-
таре маркиза И — на П-образной ножке.
174
Новыми категориями чжоуской хозяйственной утвари
являются лари-сю, фу, дуй и доу.
Лари-сю — сосуды ректагональной формы, со скруглен-
ными углами корпусом, который покоится на фигурном
основании и покрыт крышкой, повторяющей его форму и
дополненной четырьмя вертикально стоящими пластин-
ками-ручками. Будучи производной от ларей-гі/й, эта кате-
гория возникла в конце раннечжоуского периода и уже к
V в. до н. э. вышла из употребления. В погребальный ин-
вентарь такие сосуды включались относительно редко. Они
могли быть выполнены в вариантах нестандартной формы,
например сю из усыпальниц княжества Го.
Лари-фі/ (принятый в отечественной китаеведной лите-
ратуре перевод этого термина — «короб для жертвенного
зерна») восходят к бамбуковым коробам. В бронзовом ис-
полнении они появились в начале Чжоу, сразу же приобре-
тя весьма сложное конструктивное воплощение: сосуд, со-
стоящий из трапециевидного корпуса на фигурном основа-
нии и точно повторяющей их форму крышки. Несмотря на
подобную архитектоническую замысловатость, такие лари
были быстро восприняты региональными бронзолитейны-
ми производствами (например, сосуды маркиза И) и просу-
ществовали до конца Чжоу, претерпев некоторые внешние
изменения.
Л&ри-дуй — сосуды дынеобразной или округлой фор-
мы, состоящие из полуовального (полусферического) кор-
пуса на трех ножках и такой же по форме крышки с верти-
кально поставленными ручками. Еще две пары ручек-колец
обычно прикреплялись к корпусу и нижней части крыш-
ки. Эта категория тоже вошла в употребление не ранее
конца Западного Чжоу, быстро была освоена региональны-
ми мастерскими и, постоянно варьируясь, исполнялась до
III—II вв. до н. э.
Лари-доі/ — бокаловидные сосуды, состоящие из ок-
руглого корпуса, переходящего в длинную, плавно-изогну-
той конфигурации ножку и снабженные полусферической
Лари
a — ларъ-фу: 1 — стандартная
форма; 2 — из усыпальницы мар-
киза И; 3 — позднечжоуская фор-
ма (окрестности Лояна). б — ларь-
дуй: 1 — стандартная форма; 2 —
из комплекса Сяньжэньтай (Шань-
дун); 3 — Сычуань. в — ларъ-доу:
1 — стандартная форма; 2 — V в.
до н. э., пров. Шаньси; 3 — вто-
рая пол. Чжаньго, пров. Хэбэй.
Ларь-гуи
a — Тяньма; б — княжество To.
Ларь-сю
a — стандартная форма; б — кня-
жество Го.
175
Чжоуские /со/7ілы-дин
a — X в. до н.э., пров. Хэнань
(окрестности Чжэнчжоу); б — кня-
жество Го; в — из усыпальницы
маркиза И; г — Чжаньго, пров.
Хэнань (окрестности Лояна); д —
конец Чжоу, пров. Хэнань; е —
пер. пол. III в. до н.э.
крышкой, которая дополнена вертикально поставленными
ручками-ушками. Эта категория появилась ориентировоч-
но в V в, до н. э., став заключительной в экспериментах
чжоуских мастеров с формами сосудов. Вопреки их наряд-
но-экзотическому антуражу, такие лари имели более чем
прозаическое предназначение: в них хранили рубленое и
подготовленное к отправке на кухню мясо.
Лари-dz/u и доу справедливо считаются изобретением
бронзолитейного производства центральных регионов Ки-
тая. Но в них нетрудно уловить отголоски тех необычных
бронзовых форм, которые были среди периферийных инь-
ских артефактов, равно как и неолитических керамических
форм, в свое время господствовавших в гончарном деле
южного, юго-восточного и восточного регионов Китая. По-
лучается, что во второй половине чжоуской эпохи начина-
ется воздействие региональных художественных традиций
на центрально-китайское искусство.
Наиболыпую устойчивость и консерватизм проявили
категории кухонной утвари — котлы-дин и янь. Дин по-
стоянно присутствуют в погребальном инвентаре всей
чжоуской эпохи и в различных регионах Китая, в полной
мере сохраняя вопреки локальным разночтениям в их фор-
мах и орнаментации свои исходные конструктивно-архи-
тектонические признаки. Они долыые всех остальных брон-
зовых сосудов удерживали за собой ранговые функции.
Набор когплов, полагающийся владетельной особе, при-
сутствует, например, в усыпальнице маркиза И. Однако
неуклонно шло превращение dun в повседневную кухон-
ную посуду. К III в. до н. э. они почти лишились художе-
ственного оформления и эстетической привлекательности.
Поэтому их включение в погребальный инвентарь воспри-
нимается в качестве рудимента былой похоронной обряд-
ности. О постепенном приоритете практических функций
дин над ритуально-ранговыми свидетельствует появление
еще в раннечжоуский период их принципиально новой
технико-конструктивной разновидности — котла для по-
догрева пищи, состоящего из круглого корпуса-котелка
и жаровни с распахивающейся дверцей и отверстиями-
окошками для вентиляции.
Котлы-лнь вышли из употребления (или из состава по-
гребального инвентаря) несколько раныпе дин — в начале
периода Борющихся царств. Но до этого времени они неиз-
менно исполнялись в различных регионах в однотипных
художественно-архитектонических вариантах, в целом по-
вторяющих форму и орнаментацию иньских котлов. Если
они и становились объектами творческих экспериментов,
то крайне редко. Один из таких примеров — котел-лнь с
ректагональным корпусом, имеющим стенки вогнутого
профиля, и с четырьмя полыми ножками с шарообразной
верхней частью, украшенной горельефным изображением
свернувшейся в кольцо змеи.
Указанные изменения в репертуаре сосудов были обус-
ловлены одной-единственной причиной — их превращени-
ем из ритуально-церемониалыюй посуды в повседневную
176
утварь. Эти изменения в свою очередь отразили генераль-
ные социальные и культурно-идеологические процессы,
происходившие в чжоуском обществе: вытеснение имуще-
ственной знатью потомственной аристократии, размыва-
ние всей прежней ценностной и религиозно-ритуальной
системы. Завершилась эта трансформация в II—I вв. до н. э.,
с которыми и принято соотносить окончание в Китае «эпо-
хи бронзы». Выход бронзовых изделий за пределы церемо-
ниально-обрядовой деятельности, равно как и непосред-
ственного влияния официального искусства, открыл путь
к экспериментам над ними. Однако прежние бронзы —
иньские и раннечжоуские — вовсе не утратили своей куль-
турной значимости. Они надолго утвердились в китайском
искусстве в качестве символов величия национальной древ-
ности и ее духовного опыта. Формы и орнаментация древ-
них бронзовых сосудов неизменно служили эталонами ке-
рамики, камнерезного, косторезного искусства, лакового
производства, эмальерного дела, a их графические изобра-
жения превратились в благопожелательные образы и атри-
буты иконографии государственных деятелей и деятелей
культуры.
Вторым после сосудов отделом чжоуских бронз по по-
пулярности и художественной ценности справедливо счи-
тать зеркала.
Зеркало занимает исключительно особое место в искус-
стве и культуре Китая, ибо его символика и функции на-
много превосходят значение его как туалетной принадлеж-
ности или произведения декоративно-прикладного искус-
ства. Оно постоянно фигурирует в китайских верованиях,
обрядах и обычаях, благодаря якобы способности ожив-
лять усопших, высвечивать истинную сущность природ-
ных явлений и живых тварей, очищать от скверны и отпу-
гивать злые силы. Так, в даоских религиозных представле-
ниях считалось, что умершего можно воскресить, достаточно
лишь положить ему на грудь зеркало, на горло — пилюлю
бессмертия, a затем прижечь место вокруг пилюли стеблем
полыни, сорванным на юго-восточной стороне холма или
пустоши. Если же поверхность зеркала посыпать порош-
ком из толченого жемчуга, то его лучи будут проникать
сквозь стены; a если перед этим еще и окурить благовония-
ми и омыть настоянной на нефрите водой, то якобы можно
будет увидеть внутренние органы человека и животных.
Согласно китайским простонародным верованиям, зер-
кало — это лучшая защита от любой нечисти, так как в
нем показывается истинный облик злых духов и оборот-
ней. В качестве оберегов зеркала размещались на стенах
комнат и даже подвешивались к краям крыш жилых зда-
ний, дворцов и храмов. Вера в особые очистительные свой-
ства зеркала была присуща и буддизму. Оно входило в
число алтарных принадлежностей буддийских храмов и
использовалось для проведения обряда «очищения воды»:
зеркало устанавливалось так, чтобы в нем отражалась
скульптура Будды, и затем на него лили воду, полагая, что
она словно стекает по лицу Будды.
1- Исторіы пскусстпа Китая
Чжоуские котлы-янь
a — княжество Го; б — из комп-
лекса Лютайцзы (Шаньдун); в —
из усыпальницы маркиза И; г —
с ректогональным корпусом.
177
Даосское зеркало
с эмблемой багуа.
ѴІІІ-ІХ вв. Диаметр 21 см
Буддийское зеркало.
ХІ-ХІІ вв.
Диаметр 28,3 см
Зеркало с сюжетной
композицией,
воспроизводящей
живописное произведение.
ІѴ-Х вв. 18,2 х 18,6 см
64 Этим объясняется мас-
совость дошедших до нас ар-
тефактов. Так, только в кол-
лекции Тайваньского истори-
ческого музея насчитывается
более 200 образцов зеркал,
созданных на протяжении
22 веков (с V в. до н. э. по
XVII в. н. э.).
Столь же отчетливо прослеживаются ассоциативные
связи зеркала с идеей обретения бессмертия, a таклѵѳ с
луной, находя воплощение в специальной обрядовой прак-
тике — сборе «лунной влаги». Особого типа зеркала («лун-
ные зеркала») выставлялись на улицу в ночь полнолу-
ния, и осевшая на них влага (роса, конденсат) бережно
сливалась и употреблялась для приготовления жертвен-
ных блюд и лечебных снадобий. Будучи лунарным симво-
лом, зеркало в то же время связывалось с солнцем и
огнем небесного происхождения. По китайским поверь-
ям, в дни солнечного затмения все зеркала обязательно
тускнеют и теряют способность отражать свет. A молния
в них принималась за луч, исходящий от двух волшеб-
ных зеркал Богини молний (подробно см. глава 7). Более
того, зеркало выступало олицетворением общего миропо-
рядка, воспроизводя образ космического универсума. И на-
конец, зеркало служило символом женского начала, мира,
супружеского счастья и плодородия. Начиная с VI в. н. э.
оно входило в обязательный набор свадебных подарков,
которыми обменивались новобрачные. Чуть позже этот
обычай дополнился отдельной свадебной церемонией:
жених и невеста, войдя в дом жениха, завязывали на
«брачном» зеркале в один узел два красных шнура в знак
добровольного соединения своих судеб. Существовал и
другой обычай: помещать в погребения супругов, скон-
чавшихся в разное время, половинки предварительно раз-
ломанного зеркала, по которым они должны были найти
друг друга в загробном мире.
Поэтому неудивительно, что зеркала постоянно при-
сутствуют в китайских погребениях, начиная с периода
Борющихся царств и до ХІѴ-ХѴ вв., нередко играя роль
самостоятельного религиозно-ритуального предмета: вна-
чале зеркала принято было класть на грудь покойника, в
ІХ-ХІІІ вв. — подвешивать над гробом или в центре погре-
бальной камеры64. Орнаментика же зеркал оказывается
своего рода энциклопедией китайской художественной об-
разности: в ней использовались все основные образные
ряды — от геометрических фигур и благопожелательных
иероглифов до фигуративных изображений и развернутых
сцен на религиозно-мифологические темы.
Происхождение зеркала тоже овеяно в Китае легенда-
ми. В древних книгах утверждается, что оно было изобре-
тено Желтым императором, выплавившим 12 гигантских
бронзовых зеркал, которые предназначались для наблю-
дения за фазами луны и обладали необыкновенным тех-
ническим совершенством: при попадании на них прямых
солнечных лучей, они просвечивались насквозь. В этом
повествовании содержится по меныпей мере одна досто-
верная деталь: история китайского зеркала действитель-
но восходит еще к ранним очагам металла, a древнейшим
его образцом является зеркало, найденное среди металли-
ческих изделий ганьсуской энеолитической культуры
Цицзя, датируемое XX в. до н. э. Обнаруженное на груди
останков усопшего, оно представляет собой неболыную
178
круглую пластину (диаметр 9 см), тыльная сторона кото-
рой украшена семиконечной звездой (возможно, соляр-
ный символ) и узором из диагональных линий. С художе-
ственной точки зрения, это зеркало явно превосходит все
остальные местные металлические изделия. Однако пона-
добилось еще много столетий для появления в Китае зерка-
ла как такового, не говоря уже о полноценном зеркальном
производстве. Для иньской эпохи известно всего 4 образца
зеркал: все из погребения Фу-хао, с орнаментированной
тыльной поверхностью, на которой выполнены специфи-
ческие геометрические узоры, составленные из простей-
ших элементов и образующие кольцевую или крестооб-
разную композицию. Для раннечжоуского периода наход-
ки зеркал тоже чрезвычайно редки, a все обнаруженные
образцы отличаются миниатюрностью размеров (до 6,7 см
в диаметре), что указывает на их сугубо ритуальное пред-
назначение. В отличие от зеркал Фу-хао они либо вообще
не имеют декора, либо украшены зооморфными изобра-
жениями. Но они оказываются выполненными в откро-
венно примитивной манере, резко контрастирующей с об-
щим художественным уровнем современного оформитель-
ского искусства. Пример: зеркало, на тыльной поверхности
которого с большим трудом можно разглядеть фигуры
двух тигров, оленя и птицы.
Тем более примечателен темп популярности зеркал в
период Борющихся царств и стремительное перерастание
зеркалоделания в самостоятельную отрасль бронзолитей-
ного производства. Уже к IV в. до н. э. в Китае сложи-
лась целая сеть зеркалопроизводящих центров, крупней-
шие из которых находились в Хэнани (мастерские в окре-
стностях Лояна), в Шаньдуне, в Сычуани и на территории
царства Чу, где зеркальное производство приобрело наи-
больший размах65. Одновременно окончательно утверди-
лись конструктивные параметры китайского зеркала и
были разработаны основные способы и принципы его ху-
дожественного оформления.
Древнекитайское зеркало есть двухслойная металли-
ческая конструкция, состоящая из рефлектирующей и
тыльной части и имеющая в основном круглую форму,
хотя изредка исполнялись и квадратные образцы. Отли-
чительной конструктивной деталью зеркал V — начала
IV в. до н. э. является наличие маленьких рельефных пе-
тель, прикрепленных к центру или (реже) по краям их
тыльной части. Затем они сменились сферическими голов-
ками с просверленным отверстием, с помощью которых
зеркало укреплялось на особой подставке типа штатива,
при его использовании в качестве туалетной принадлежно-
сти. Любопытно, что такие штативы в погребальный ин-
вентарь не включались, известно о них только по более
поздним живописным изображениям. В остальное время
зеркала хранились в специально сделанных для этого фут-
лярах или ларцах.
На протяжении Ѵ-ІѴ вв. до н. э. велись непрестанные
поиски совершенствования орнаментации зеркал. Вначале
Зеркало Фу-хао
Квадратное зеркало.
Пров. Хубэй, Чжаньго.
11 х 11 см
Подставка для зеркала
65 Царство Чу располагало
несколькими зеркалопроизво-
дящими центрами, находив-
шимися в том числе в окрест-
ностях Чанша и в других
районах Хунани (в северной
части — около города Иян, в
уезде Чандэ, в южной час-
ти — в окрестностях города
Хэнъян), a также на севере
Хубэй (город Ичан).
179
Ориаментация
чжоуских зеркал
a — орнамент из 4 иероглифов
«гора» (Чандэ, 14,2 см); б — ор-
намент из 5 иероглифов *гора»
(окрестности Лояна, 14,5 см); в —
вариант «цветочного» орнамента
(Чанша, 10,2 см); г — вариант
«узора цицании» (Чанша, 9,4 см).
узор распространялся на всю тыльную поверхность, позже
установились более строгие орнаментальные схемы. Цент-
ральная часть орнаментального поля стала выделяться по-
средством гладких сегментов круглой или квадратной фор-
мы, a no его краям шли полосы-ободья, которые несколько
позже превратились в заполненные узорами фризы. Хотя
чжоуские зеркала по-прежнему были небольших размеров
(диаметр 9-17 см), их декор отличался богатством мотивов
и тонкостью проработки всех орнаментальных деталей. Толь-
ко в чуском зеркальном производстве исполнялось 8 стан-
дартных типов узоров, и каждый из этих типов мог воспро-
изводиться в различных его вариациях.
Самым распространенным и вместе с тем сугубо «зер-
кальным» орнаментальным мотивом является «горный узор»:
композиции, составленные из рельефных фигур в виде иеро-
глифа «гора» (внешне напоминает русскую букву «Ш»). Чаще
всего воспроизводились четыре такие фигуры, расположен-
ные строго по четырем сторонам от центральной части орна-
ментального поля. Этот композиционный вариант истолко-
вывается в качестве символического изображения четырех
горных массивов, обозначающих четыре части света, т. е.
имеет космологический и космографический смысл. В дру-
гих вариантах показываются пять или шесть «гор», кото-
рые образуют звездообразные комбинации. Во всех случаях
основные фигуры выполнены на фоновом узоре, заполняю-
щем всю оставшуюся поверхность, либо в окружении допол-
нительных геометрических элементов.
Излюбленными приемами зеркальных дел мастеров
были растительный орнамент и «облачный узор». Расти-
тельный орнамент имеет два основных типа: 1) «цветоч-
ные узоры», состоящие из повторяющихся стилизованных
изображений четырехлепестковых цветков или из четырех
симметрично расположенных бутонов, которые выполне-
ны в рельефе и на фоне геометрического орнамента; 2) «узор
цицаний» (цицания, кит. цзяо — сорт дикого риса), тоже
обычно составленный из повторяющихся изображений че-
тырехлепесткового цветка, которые в сочетании с дополни-
тельными элементами — треугольниками, лентами — об-
разуют ромбовидные или звездовидные комбинации.
«Облачный узор» ведет свое происхождение от знаме-
нитого иньского «узора грома» и тоже состоит из повторя-
ющихся элементов-завитков (с разной степенью сложности
конфигурации), которые могут быть разделены на круго-
вые сегменты рельефными кольцами или служить фоно-
вым узором для звездообразных композиций, составлен-
ных из гладких полос и дуг.
He меньшей популярностью в зеркальном производстве
пользовались и зооморфные мотивы, имеющие три глав-
ных типа: 1) «узор цикад» (или «цикад и драконов») —
повторяющиеся спиралевидные фигуры, возникшие, при-
нято считать, из сильно стилизованных изображений цикад
и (или) дракономорфных фантастических существ; 2) орна-
мент с птичьими мотивами, также включающий в себя сти-
лизованные или почти полностью переведенные в геометри-
180
ческие фигуры изображения фантастических птиц; 3) ор-
намент, состоящий из изображений зооморфно-фантасти-
ческих, в первую очередь дракономорфных существ с по-
степенным переходом в элементы полугеометрического-
полурастительного орнамента.
Во второй половине периода Борющихся царств декор
зеркал мог исполняться и в технике инкрустации с исполь-
зованием благородных металлов, что приближает их к про-
изведениям ювелирного искусства.
Но китайское зеркальное производство не остановилось
на этих достижениях. Последующие столетия ознаменова-
лись не только совершенствованием декора зеркал, но и
изобретением их новых технико-конструктивных видов.
Важнейшей орнаментальной новацией стало использование
многофигурных сюжетных сцен — например, зеркало, да-
тируемое II в. до н. э. и найденное (1992 г.) в одном из юж-
ных погребений. Его тыльная сторона (диаметр 18,4 см) ук-
рашена художественной композицией, состоящей из 32 фи-
гур бессмертных-сяней, 4 тигров, 4 леопардов, 16 деревьев,
12 горных пиков, 4 драконов и черепахи, изображение ко-
торой помещено в центре.
В I—II вв. зеркала начали украшаться высокорельеф-
ными изображениями божественных персонажей, выпол-
ненными по иконографическим стандартам. Тогда же ус-
тановилась практика исполнения на них эпиграфических
надписей, чаще всего стихотворных строк благопожела-
тельного или охранительного содержания, например:
«Пока способны видеть солнечный свет, будем помнить
друг о друге». Такие надписи вводились в общий орна-
ментальный контекст либо служили единственным деко-
ративным элементом. Кроме того, в эти же столетия во-
шли в практику росписи (лаковыми красками) тыльной
поверхности зеркал.
Технико-конструктивными новациями являются три
вида зеркал, определяемые как «полихромные» («с по-
лихромной тыльной стороной»), «акустические» и «вол-
шебные».
«Полихромные» зеркала имеют разноцветную — из двух
или трех цветов и оттенков — тыльную сторону. Наиболее
часто встречаются сочетания серовато-белого и серовато-
черного, зеленого и серовато-белого, зеленого, черного и
белого тонов. Это достигалось за счет введения в бронзо-
вый сплав специальных добавок. Стандартный зеркаль-
ный сплав состоит из меди (до 74%), олова (до 22%) и
свинца (около 3,5%), в результате готовые изделия имеют
характерный серебристый цвет. Любые добавки. в качестве
которых обычно использовались железо, кремний и алю-
миний, приводили как к изменению цвета всего изделия,
так и возникновению полихромных сочетаний. Например,
зеркала с вкраплениями белого цвета оказались выплав-
ленными из сплава с пониженным содержанием меди (59% )
и высоким содержанием олова (33%), алюминия (56%),
кремния (3,3%) и железа (1%). Начало производства «по-
лихромных» зеркал восходит по меныыей мере к I-II вв.
Орнаментаціія
чжоуских. зеркал
a — вариант «облачного узора»
(Иян, 12,5 см); б — варнант «узо-
ра цикад» (Чанша, 17,2 см).
Зеркало с сюжетной сценоіі
из бессмертныхсякеи.
Фрагмент
Зеркало с надписью. І--ІІ вв.
Пров. Шаньдун. 13,2 см
181
Зеркало с ручкой.
ХІ-ХІІ вв.
Диаметр 10,2 см,
высота 19,4 см
Они активно изготовлялись вплоть до ІХ-Х вв. в специ-
альных мастерских, география которых тоже была весьма
широка: в центральных регионах Китая (Хэнань), на юге
(Аньхуэй, Хубэй) и на востоке (Шаньдун). Впоследствии
секрет их изготовления был утрачен.
«Акустическое» зеркало — конструкция с полым кор-
пусом, внутри которого прикреплялись две присоединенные
(в дальнейшем пайкой) одним концом друг к другу тонкие
металлические пластины. При встряхивании или резком
повороте зеркала свободные концы пластин начинали виб-
рировать и издавать звенящий или жужжащий звук, кото-
рый не утихал в течение нескольких часов.
«Волшебное» зеркало относится к числу удивитель-
нейших предметов, созданных человеком. Тыльная сторо-
на таких зеркал тоже украшена рельефными изображени-
ями: орнаментом, фигуративными композициями, надпи-
сями и отдельными иероглифами. Рефлектирующая сторона
отлита из светлой бронзы и обязательно тщательно отпо-
лирована. При разном освещении, если держать зеркало в
руке, оно ничем не отличается от обычного. Но если под-
ставить его под яркий солнечный свет и направить отра-
женный зеркалом луч на неосвещенную стену, то в круге
света проступает его оборотная сторона — словно бронза
чудесным образом стала прозрачной. Из письменных ис-
точников, относящихся к VIII в. (сочинение «История
древних зеркал»), следует, что «волшебные» зеркала ак-
тивно изготавливались в V в., хотя они были, скорее все-
го, изобретены на два-три века ранее. В дальнейшем сек-
рет их изготовления тоже был утрачен, и уже китайские
ученые Х-ХІ вв. могли только строить догадки по поводу
технологических тайн древних мастеров. Тем не менее
образцы «волшебных» зеркал сохранились: почитаемые
как чудодейственные предметы, они бережно хранились в
семейных сокровищницах. В 30-х гг. XIX в. (1832 г.) не-
сколько зеркал попали в Европу, сразу же заинтриговав
европейское научное сообщество. Но и европейской науке
понадобилось сто лет, чтобы открыть тайну их изготовле-
ния (теория английского физика У. Л. Брэгга, 1932 г.).
Оказалось, что на тыльной стороне отражающая сторона
зеркала с узором отливалась плоской. Выпуклость ей при-
давали в ходе шлифовки. Затем внешняя поверхность по-
лировалась, и в результате давления, вызванного шли-
фовкой и полировкой, ее тонкие участки становились бо-
лее выпуклыми, чем толстые. Дополнительное давление
создавал и нанесенный в последнюю очередь на внешнюю
поверхность слой ртутной амальгамы. В конце концов на
участках, соответствующих изображениям на тыльной сто-
роне зеркальной поверхности, образовывались вмятины,
но они были настолько малы, что оставались незаметны-
ми. Когда же зеркало отражало на стену яркий солнеч-
ный свет, увеличивался узор, и в результате возникал
эффект их репродуцирования.
Дальнейшая история китайского зеркального производ-
ства уже не содержит в себе столь поразительных художе-
ственных или технико-конструктивных новации, хотя внеш-
ний вид и декор зеркал постоянно изменялся под влия-
нием общих художественных и историко-культурных про-
цессов. Так, в ѴІІ-ІХ вв. (эпоха Тан, подробно см. далее) в
моду вошли зеркала в арабо-персидском стиле — в форме
восьмигранника и с характерными для персидского искус-
ства орнаментальными мотивами и сюжетами: изображения-
ми львов, грифонов, виноградной лозы. Одновременно их
тыльная сторона стала планкироваться серебром. С Х-ХІ вв.
началась постепенная деградация китайского зеркального
производства, в немалой степени обусловленная угасанием
религиозных представлений о зеркалах. Зеркало определен-
но превращалось в туалетную принадлежность, о чем свиде-
тельствует снабжение его боковой ручкой. Тем не менее
повышенные требования к его эстетическим качествам в
течение еще некоторого времени сохранялись. На тыльной
стороне зеркал воспроизводились все более эффектные худо-
жественные композиции, в том числе сюжетные сцены, по-
вторяющие собой живописные произведения. В ХПІ-ХѴІ вв.
орнаментация зеркал упростилась. На них чаще всего вос-
производились благопожелательные символы и образы, ри-
сунок стал более мелким и дробным. Оставаясь по-прежне-
му одним из самых массовых бронзовых предметов, с худо-
жественной точки зрения зеркало уже не представляет ничего
нового ни в форме, ни в содержании. В ХѴ-ХѴІ вв. в Китае
появились стеклянные зеркала, которые в скором времени
полностью вытеснили бронзовые.
История китайского зеркала являет нам нагляднейший
пример постоянного взаимодействия художественного твор-
чества с рациональными знаниями и технической мыслью,
a также связи различных видов ремесленно-производствен-
ной деятельности с искусством. Подобная синкретичность
была свойственна и двум важнейшим отделам чжоуских
бронз — оружию и украшениям.
Несмотря на то что оружие, как известно, исходно зани-
мало существенное место в китайском бронзолитейном про-
изводстве, превращение оружейного дела в фактически са-
мостоятельную ремесленно-художественную отрасль тоже
произошло в чжоускую эпоху и под непосредственным воз-
действием историко-политических процессов. Во-первых,
подобно сосудам, принципиально изменился набор воору-
жения. Знаменитые секиры-юэ исчезли уже при Западном
Чжоу, сменившись различными видами колюще-рубящего
оружия. Главное место среди них заняли новые модифика-
ции клевцов-гэ: алебарды-цзи (оружие с топоровидным лез-
вием, заканчивающимся заостренным наконечником, кото-
рое насаживалось на длинное деревянное древко) и кинжа-
лы, соединявшие в себе черты ножа и лезвий алебарды.
Во-вторых, заметно возрос художественный уровень из-
делий. Клинковые части нередко покрывались узорами и
дополнительно украшались — что было наиболее харак-
терно для оружейного дела южного и юго-западного регио-
нов — пластическими изображениями на зооморфно-фан-
тазийные темы.
Образцы художественного
оформления
чжоуского оружия
a — сычуаньский гэ с геометри-
ческим орнаментом, изображаю-
щим маску-таотэ; б — клевец-
гэ (ХІ-Х вв. до н. э., окрестности
Лояна, длина 25 см); в — сычу-
аньский гэ с изображением фан-
тастического существа; г — гэ
с пластическим художественным
оформлением (IV—III вв. до н. э.,
пров. Хэнань).
183
Мечи
a — «короткие мечи» горных жу-
нов (длина 22,5-31,5 см); б — из
захоронения в районе гор Юань-
диншань; в — циньского князя
Сян-гуна; г — чжаньгоский «длин-
ный меч»; д — с лезвием, укра-
шенным золотой инкрустацией.
Однако основополагающей новацией чжоуского ору-
жейного дела, бесспорно, стало освоение меча. Меч, о чем
уже упоминалось выше, появился в Центральном Китае в
пределах ІХ-ѴІІІ вв. до н. э. и уже к концу Западного
Чжоу установилось два основных типа: «короткие», с лез-
вием длиной от 43 до 60 см, и «длинные», с лезвием
длиной до одного метра. He исключено, что «короткие
мечи» (практика их художественного оформления) были
заимствованы китайцами от оружия «горных жунов» —
еще одной северной народности. Их древнейшими образ-
цами являются меч (26 см) из раннецинского погребения
(около гор Юаньдиншань) и меч из усыпальниц княже-
ства Го, который интересен еще и тем, что имеет желез-
ное лезвие.
С художественной точки зрения наиболее примеча-
тельным экземпляром раннечжоуских мечей выступает,
пожалуй, меч из усыпальницы циньского князя Сян-гуна,
снабженный литой бронзовой рукояткой в виде пласти-
ческой композиции в иньском стиле: изваяние головы
человека в окружении стилизованных фигур фантасти-
ческих существ.
«Длинные мечи» в конструктивном плане мало чем
отличаются от «коротких». Главная их отличительная де-
таль — рукоятка цилиндрической формы, заканчиваю-
щаяся широким диском. При Восточном Чжоу мечи, осо-
бенно «короткие», получили повсеместное распростране-
ние в Китае и стали одним из ранговых предметов.
В погребениях периода Борющихся царств порой присут-
ствуют целые арсеналы — до 30 единиц — мечей, декори-
рованных ценнейшими на тот момент ювелирными мате-
риалами. Рукоятки украшались нефритовыми и перла-
мутровыми вставками, выполненными по специальной
технологии, лезвия — золотой инкрустацией. Известен
также меч с литой золотой рукояткой, выполненной в
технике ажурного литья, который относится к концу пе-
риода Борющихся царств.
Своеобразный комплект с мечами составляли пояс-
ные пряжки, которые и являются первоочередной кате-
горией отдела бронзовых украшений. Пояс возник в ки-
тайском костюме предположительно еще в неолитическую
эпоху и на протяжении многих веков оставался в виде
тканой ленты, которая завязывалась узлом на спине
(Tanne пояса хорошо видны на статуэтках из погребения
Фу-хао). Изменение конструкции пояса с введением в нее
пряжки и крючка произошло при Западном Чжоу и тоже
в результате заимствований из костюма соседних, исход-
но кочевых народностей. В V—III вв. до н. э. поясная
пряжка заняла важнейшее место в комплекте мужских
украшений, став показателем социального статуса и иму-
щественного положения человека. Нередки случаи, ког-
да в погребальный инвентарь тоже помещались целые
коллекции поясных пряжек. A для их изготовления раз-
рабатывались специальные ювелирные техники и исполь-
зовались самые авторитетные и дорогие художественные
184
материалы — не только бронза, но и нефрит, кость и
благородные металлы. При всей вариативности их худо-
жественного решения чжоуские поясные пряжки имеют
стандартную конструкцию, представляя собой продолго-
ватую, чуть изогнутую пластину (длиной до 24-25 см).
Нередко они выполнялись в виде силуэтных и пластиче-
ских изображений зооморфных (птицы, змеи) и фантасти-
ческих существ. Все это делает поясные пряжки надеж-
ными вещественными свидетельствами истории развития
как бронзолитейного производства и ювелирного дела,
включая злато- и среброделание, так и системы китай-
ской образности.
Отдел чжоуских бронзовых изделий, который тоже
заслуживает отдельного разговора, — это монеты. Моне-
ты как специальные денежные знаки были введены в об-
ращение, напомним, при Западном Чжоу. Они исполня-
лись исключительно из бронзового сплава и первоначаль-
но повторяли форму предметов, которые употреблялись
во времена меновой торговли в качестве товаро-денег: сель-
скохозяйственные орудия (лопата, мотыга), орудия труда
(ножи, пряслица) или имели повышенную религиозно
ритуальную значимость (музыкальные инструменты). Та-
кое внешнее разнообразие чжоуских монет объясняется
различиями региональных денежных систем, когда каж-
дое царство стремилось выпускать собственные денежные
знаки. Так, на территории царств Ци, Чжо и Янь были в
обращении монеты-мотыги, царства Ци — монеты-ножи.
Труднее установить точное происхождение и региональ-
ную принадлежность еще одной монетной формы — круж-
ка с отверстием посередине, которой и предстояло стать
со временем единственной китайской денежной едини-
цей — монетой-ця«ь. Наиболее вероятными представля-
ются версии ее происхождения от пряслица или нефрито-
вого диска-бм. Единообразие денежного материала в чжоу-
скую эпоху нарушается только в царстве Чу, где имели
хождение золотые слитки и в качестве разменной моне-
ты — раковины каури.
В чжоускую эпоху были изобретены и способы отливки
монет посредством выпуклых патриц, которые, заметим,
получили широкое применение в Европе только в начале
XIX в. Эти патрицы тоже были сделаны из бронзы и пред-
ставляли собой доски с рельефным воспроизведением буду-
щей монеты. Для отливки требовалось две патрицы — для
лицевой и оборотной сторон, которые накладывались одна
на другую и во избежание смещений обкладывались гли-
ной. В период Борющихся царств монеты уже снабжались
легендами, в которых указывались место их выпуска, вес
и достоинство.
В III в. до н. э. после проведения глобальной денежной
реформы сохранилась лишь круглая монета-цлкь.
Вслед за обновлением репертуара изделий последовали
столь же революционные изменения технико-художествен-
ных способов и эстетических принципов оформительской
традиции.
Чжаньгоские
поясные пряжки
a — бронза, длина 18,6 см; б
нефрит, 18,5 х 2,5 см.
Древнекитайскис монсты
a — в форме лопаты; б — в фор-
ме ножа; в — круглой формы;
г — монета-цлиь II—1 ив. до п.э.
185
Эволюция технико-
художественных
способов
и эстетических
принципов
оформления изделий
П Ѣ-А
«Лиюйский стиль»
a — начальный этап формирова-
ния (VIII в. до н. э., пров. Хэ-
нань); б — ѴІІ-ѴІ вв. до н. э.,
пров. Шаньси; в — ѴІІ-ѴІ вв.
до н. э., пров. Хэнань; г — VI-
V вв. до н. э., пров. Шэньси.
Чжоуская оформительская традиция по характеру ор-
наментации изделий отчетливо подразделяется на два глав-
ных региональных стилистических направления: первое
развивалось в бронзолитейном производстве центральных
регионов Китая, a второе — в царстве Чу.
Центрально-китайская оформительская традиция харак-
теризуется тенденцией к упрощению форм изделий и пере-
воду зооморфных и зооморфно-фантазийных изображений в
геометрический орнамент, что сопровождалось измельчени-
ем его элементов, сглаживанием контраста между главны-
ми фигурами и фоновым узором и преобразованием орна-
ментальных схем. Если в позднеиньских бронзах господ-
ствовали композиции, строго строящиеся по центральной
оси поверхности, то теперь определяющим стало их гори-
зонтальное фризовое расположение. Указанные изменения
обозначились, судя по изделиям из усыпальниц княжеств
Цзинь, Го и Инь, в VIII-VII вв. до н. э. в рамках бронзоли-
тейного производства, бытовавшего именно в регионе сред-
него течения Хуанхэ. A свое логическое завершение они
нашли в лиюйском стиле (термин, производный от назва-
ния деревни, рядом с которой были сделаны первые для
чжоуской эпохи археологические находки). Считается, что
этот стиль зародился в декоративно-прикладном искусстве
царства Цинь, к ѴІІ-ѴІ вв. до н. э. распространился в со-
седние с ним районы, вобрав в себя особенности локальных
бронзопроизводящих центров, и в VI-V вв. занял господ-
ствующее положение в предметно-творческой деятельности
всего Китая, за исключением царства Чу (см. вклейку).
В своих эталонных образцах, «лиюйский» стиль обла-
дает следующими типологическими чертами. Во-первых,
ему свойственна строгость и лаконичность форм изделий,
которые наделены подчеркнуто элегантными и плавными
силуэтными линиями. Прежде округлые или приплюсну-
тые формы приобрели овальные очертания, ректагональ-
ные — округлились. Во-вторых, фигуративные изображе-
ния, включая ту же маску-таотэ, окончательно трансфор-
мировались в элементы геометрического орнамента — в
завитки, зигзагообразные и переплетенные друг с другом
ленты. Их исходно зооморфное происхождение выдает еще
присутствие абстрактно-стилизованных изображений голов
живых тварей или фантастических существ. Рудименты
позднеиньского зооморфизма сохранились только в оформ-
лении вспомогательных деталей сосудов — в практике ис-
полнения ручек, ножек и околоручечных маскаронов в виде
рельефных (горельефных) или трехмерных зооморфных и
зооморфно-фантазийных изображений. В-третьих, орнамен-
тальное поле в «лиюйском» стиле обязательно делится на
несколько горизонтальных фризов, разделенных, как пра-
вило, узкими плетеновидными полосами, полностью или
частично повторяющих друг друга по типу узора. Контраст
между основными фигурами и фоновым узором оконча-
тельно исчез. Все элементы орнамента исполнены исклю-
чительно в низком рельефе, который состоит из мелких и
тщательно проработанных повторяющихся деталей.
186
Чуские бронзы, первоочередными образцами из кото-
рых принято считать сосуды из усыпальницы маркиза И,
напоминают стилистику неолитического гончарного дела
южного, юго-восточного и восточного регионов Китая и
демонстрируют некоторое внешнее сходство с изделиями
европейского барокко.
Перед нами сосуды, имеющие причудливую архитек-
тоническую композицию, подчеркнуто выпуклые формы,
декор которых насыщен всевозможными орнаментальны-
ми фигурами и элементами, образуя замысловатые комби-
нации. Однако в отличие от позднеиньских бронзовых из-
делий эти сосуды в то же время отличает легкость и воз-
душность, словно они выполнены из каких-то хрупких
материалов — керамики, кружевного плетения (см. вклей-
ку). Такой эффект достигается с помощью использования
принципиально новой для китайского бронзолитейного
производства техникой литья — по вытопленному воску.
Фигурная основа покрывалась слоем воска в толщину бу-
дущей стенки металла, точно повторяющим все ее худо-
жественные элементы. Затем форма вместе с восковым
покрытием облеплялась глиной. При нагревании формы
глина твердела, a bock вытекал через предусмотренное
для этого отверстие. В образовавшееся полое простран-
ство заливался бронзовый сплав. Глину сбивали, основу
удаляли. Данная техника позволяла исполнять и крупно-
габаритные изделия — высотой до 60 см и весом до 200 кг.
Судя по всему, ею владели только чуские мастера и пред-
положительно с VII-VI вв. до н. э. (сосуды из погребения
чуского принца в Синьяне).
Но какими бы впечатляющими ни были внешние раз-
личия между центрально-китайскими и чускими бронза-
ми, в их орнаментации на самом деле присутствует немало
общих черт. Южной оформительской традиции тоже свой-
ственны доминирование геометрических и растительных
узоров, уплотненный, детализованный орнамент, распро-
страняющийся на всю поверхность изделия, и преоблада-
ние горизонтального членения орнаментального поля над
вертикально ориентированными композициями. Следова-
тельно, трансформация орнаментальных принципов носи-
ла универсальный характер и происходила в общем для
чжоуского художественного творчества эволюционном рус-
ле. Есть все основания утверждать, что она была вызвана,
как и изменения репертуара бронзовых изделий, внешни-
ми по отношению к искусству факторами: возобладанием в
духовной жизни чжоуского общества эстетических вкусов
новой, имущественной знати.
Универсальный характер носили и все остальные нова-
ции чжоуского орнаментального искусства. К ним прежде
всего относится использование в оформлении сосудов иеро-
глифических надписей. Традиция бронзовой эпиграфики на-
метилась еще в позднеиньский период и получила дальней-
шее развитие при Западном Чжоу. На сосудах отливались
надписи, которые предназначались в первую очередь для
фиксации некой информации. В них сообщались сведения
Основные типы
орнаментов в «лиюііском»
стиле (no моделям Хоума)
a — «ленты»; б — «коса»; в —
вариант оформления околоручеч-
ных маскаронов.
187
Хубэйский бронзовый сосуд
с золотой инкрустацией
Чуский сосуд-доу с медноіі
инкрустацией
о владельце сосуда, о его предках, о том, как этот сосуд
попал к нему (дар вышестоящего лица) или о его намере-
нии совершить акт подношения храму. В позднечжоуский
период надписи стали приобретать более явную эстетико-
декоративную функцию, о чем красноречиво свидетельству-
ет практика их исполнения в технике золотой инкруста-
ции. И в некоторых случаях, например сосуды царства
Чжуншань, они становятся главным декоративным эле-
ментом изделия.
Исполнение надписей в технике золотой инкрустации
отвечает универсальной для чжоуского бронзолитейного про-
изводства и оформительского искусства особенности: тенден-
ции к сочетанию в одном изделии различных художествен-
ных материалов, что привело к возникновению очередного
самостоятельного технико-художественного вида — инкру-
стированных бронз.
Техника инкрустации зародилась еще в иньском декора-
тивно-прикладном искусстве. Кроме неоднократно упоми-
навшихся ранее бирюзовых инкрустаций, в нем были раз-
работаны еще два самостоятельных инкрустационных спо-
соба. Один из них — «углубленный орнамент с черным
наполнителем» — осуществлялся посредством заполнения
углублений между выпуклыми элементами литого орнамен-
та веществом черного цвета, благодаря чему эти элементы
будто обведены жирными контурными линиями. Точный
состав вещества-наполнителя установить не удалось. Пред-
положительно, оно изготавливалось из необработанного лака
с добавлением в него угля, кварца и меди. Этот способ пра-
вомерно считать предшественником лаковых инкрустаций,
получивших широчайшее распространение в бронзолитей-
ном производстве второй половины периода Борющихся
царств. Второй способ — отделка бронзовых сосудов медны-
ми вставками. Предварительно отлитые медные орнамен-
тальные детали помещались в форму для отливки бронзово-
го изделия, и в результате получался сосуд с инкрустацией,
которую можно было увидеть и на внешней, и на внутрен-
ней его поверхности. Этот способ тоже оказался востребо-
ванным чжоуским декоративно-прикладным искусством,
хотя и в несколько ином исполнении.
История развития инкрустированной бронзы как само-
стоятельного технико-художественного вида начинается
приблизительно в ѴІІ-ѴІ вв. до н. э. Раныне всего она про-
является на юге доказательством стала находка (1997 г.) в
Хубэй чашевидного сосуда (высота 11,5 см, диаметр устья
22 см), украшенного золотой инкрустацией: шесть фигур
фантастических существ в окружении элементов геометри-
ческого орнамента.
В Центральном Китае инкрустированные бронзы ста-
ли изготавливаться позже. Их дальнейшая эволюция про-
шла через три основные стадии. Первая из этих стадий
приходится на VI — середину V в. до н. э. Она отмечена
появлением изделий с медной инкрустацией и с зооморф-
ными мотивами, дав повод исследователям предполагать,
что традиция инкрустированной бронзы возникла в Ки-
188
тае под воздеиствием художественного творчества народ-
ностей скифо-сибирского мира или в качестве прямого
заимствования из него. Вторая эволюционная стадия со-
относится с серединой V — серединой IV в. до н. э. В этот
период произошел переход от зооморфных мотивов к гео-
метрическим и стилизованным растительным узорам и
расширился фонд инкрустациоыных материалов, в кото-
рый вошли благородные металлы и минералы (см. вклей-
ку). Наивысшего расцвета инкрустированные бронзы до-
стигли в середине IV — III в. до н. э., когда к перечис-
ленным инкрустационным материалам присоединились и
цветные лаки.
Инкрустированная бронза охватывает собой не только
сосуды, но и многие другие отделы изделий, причем для
каждого из них, равно как и для отдельных инкрустаци-
онных материалов, были изобретены особые техники. Зо-
лотая и серебряная инкрустации исполнялись так: золо-
тая или серебряная проволока (толщина 0,5-2 мм) встав-
лялась в награвированный по поверхности орнамент и
плотно пригонялась к основе молотком. В таком способе
можно было исполнить самые разные по конфигурации
орнаменты и изображения и детально проработать мель-
чайшие их элементы. Одним из шедевров данного типа
изделий является чуское зеркало (диаметр 19,6 см, V-
IV вв. до н. э.), тыльная сторона которого украшена фи-
гурами шести драконов. Тела трех драконов, головы кото-
рых показаны в фас и обращены к внешнему ободу, со-
ставлены из золотых чешуек, разделенных серебряными
нитями, остальных трех — из серебряных чешуек, разде-
ленных золотыми нитями. Места пересечения тел драко-
нов отмечены золотыми дисками, обведенными серебря-
ной проволокой. Центральная часть поверхности выделе-
на кругом, обведенным серебряным ободом и разбитым на
шесть сегментов и шесть кружков. Внешний обод выло-
жен девятью серебряными и золотыми дисками, соединен-
ными узорами из треугольников и завитков. Одновременно
Чжанъгоскии сосуд
с золотой и серебряной
инкрустацией
Чжанъгоский сосуд
с лаковой инкрустацией
Бронзовое зеркало с золотоіі
и серебряной инкрустацией.
IV в. до н. э. Пров. Хэнань.
Находка 1996 г.
Чуское бронзовое зеркало
с золотой и серебряной
инкрустациеи
189
Поясная пряжка
с нефритовой
инкрустацией.
Позолоченная бронза.
III в. до н. э. Пров. Хэнанъ.
Длина 26,7 см
Поясная пряжка,
выполненная в технике
«перегородчатой
инкрустации». IV в. до н. э.
Пров. Хэнанъ. Бронза,
золото, серебро, малахит.
21,5 х 1,3 см
вся композиция обладает внутренними семиотическими
закономерностями: диски в местах пересечения тел дра-
конов образуют равнобедренные треугольники, a каждый
из них по отдельности составляет вершину еще трех тре-
угольников, стороны которых приходятся на диски, по-
мещенные на внешнем ободе.
Разработанная чжоускими мастерами техника золотой
и серебряной инкрустации дольше всего удерживалась в
оружейном деле. Уже в ѴІІ-ѴІП вв., когда в Китае были
освоены другие способы работы с благородными металла-
ми, отделка холодного оружия по-прежнему исполнялась
именно так. Сохранилось немало подлинных образцов ме-
чей и кинжалов того времени, лезвия которых инкрусти-
рованы соответственно золотым «облачным узором» и цве-
точным орнаментом.
Из минералов для инкрустации сосудов наиболее ши-
роко использовался малахит, вставка которого произво-
дилась приблизительно тем же способом, что и иньские
бирюзовые инкрустации (см. вклейку). Нефрит служил
инкрустационным материалом для отделки рукояток ме-
чей и кинжалов, a также поясных пряжек. В первом
случае нефритовая инкрустация исполнялась методом по-
мещения камня в форму для отливки. При отделке пояс-
ных пряжек мог употребляться еще один способ, напоми-
нающий технологию изготовления перегородчатой эма-
ли: из металлической проволоки формировались ячейки,
которые заполнялись минеральными (чаще всего мала-
хитовыми или бирюзовыми) вставками. Этот способ ис-
пользовался при создании фигур змеевидных существ
(змей, драконов) и позволял создавать эффект извиваю-
щегося чешуйчатого тела.
Распространение инкрустированных бронз и перевод
категорий и форм бронзовых изделий в другие художе-
ственные материалы способствовали максимальному сбли-
жению различных видов декоративно-прикладного искус-
ства. Художественно-эстетической доминантой творческой
деятельности конца чжоуской эпохи стала стилизация од-
них типов изделий под другие: керамику и лаки под брон-
зы, бронзы под полихромные шелка и вышивки и т. д.
Подобная стилизация, с одной стороны, еще более усилила
метаморфические свойства изделий, a с другой — привела
к торжеству принципиально нового, по сравнению с инь-
ским и раннечжоуским бронзолитейным производством,
орнаментального стиля. Благодаря изысканности их архи-
тектоники, сочетанию в декоре различных материалов и
метаморфичности, создаваемые в нем произведения отли-
чаются особой красочностью, легкостью, экспрессивностью
и фантазийностью, что делает их прямо противоположны-
ми по эстетическому эффекту величественно-застывшим
древним бронзам.
Указанные изменения орнаментально-эстетических прин-
ципов чжоуского декоративно-прикладного искусства, ес-
тественно, не могли не повлечь за собой и обновление систе-
мы изобразительных средств.
190
В художественном творчестве чжоуской эпохи по-преж-
нему царит господство анималистической образности, ко-
торая реализуется в тех же двух основных стилистических
вариантах — зооморфно-реалистическом и зооморфно-фан-
тазийном, получивших на первый взгляд приблизитель-
но равное развитие во всех региональных художествен-
ных традициях. Но это не совсем так. Зооморфно-реали-
стический стиль преобладает в искусстве центральных
регионов Китая, находя свое воплощение как в нефрито-
вых изделиях (подвески в виде силуэтных и трехмерных
фигур животных и птиц), так и в бронзовых сосудах.
Практика исполнения бронзовых сосудов в виде скулыі-
турных изображений была наиболее активно продолжена в
«лиюйском» стиле (см. вклейку). Замечательным образцом
этого типа изделий является сосуд для вина, воспроизводя-
щий фигурку птицы из семейства вороновых (V в. до н. э.).
В его орнаментации присутствует немало фантазийных
вкраплений: верхняя часть (голова и грудь птицы) по-
крыта узором из стилизованных лент-драконов, сложен-
ные крылья окаймлены полосой с узором «рыбья чешуя»,
тоже производящей впечатление змеиного тела. Несмотря
на фантазийные вкрапления, этот сосуд-статуэтка отли-
чается удивительной точностью в передаче натуры, a так-
же живостью и выразительностью. Абсолютно верно пере-
даны пропорции тела птицы, поза и характерные приме-
ты вороновых — загнутый клюв, когтистые лапы. Все
детали внешнего облика натуры тоже тщательно прорабо-
таны. Через легкий и виртуозно исполненный рельеф (точ-
но не литье, a рисунок из тончайших контурных линий и
штрихов) показаны грудное оперенье, крылья, кожица на
лапах. Особую правдоподобность и живость изображению
придают выпуклые зрачки, обведенные инкрустирован-
ной золотой линией: так и кажется, что птица наблюдает
за добычей, хищно поблескивая глазами. Очевидно, что
чжоуское искусство, наследуя стиль иньской оформитель-
ской традиции и пластики, сделало качественно новый
шаг вперед в освоении художественных средств изображе-
ния живых существ.
Несомненные эволюционные изменения претерпел и
зооморфно-фантазийный стиль. Прежде всего возросло чис-
ло изображаемых персонажей. Используя все тот же при-
ем сочетания элементов внешнего облика реальных жи-
вотных и птиц, чжоуские мастера реализовали его замет-
но увереннее, с болыыим размахом творческой фантазии,
чем иньские, создавая множество вариантов образов фан-
тастических существ. Одновременно некоторые из этих об-
разов стали приобретать стандартный характер: таким об-
разом в чжоуском искусстве складывается иконография
опорных для китайской художественной культуры фан-
тастических существ во главе с драконом и фениксом (под-
робно см. глава 5). Однако в искусстве Центрального Ки-
тая использование зооморфно-фантазийных образов и мо-
тивов ограничивается оформительской традицией, включая
оформление вспомогательных деталей сосудов и исполнение
ТЕМЫ, МОТИВЫ,
ОБРАЗЫ И ГЛАВНЫЕ
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ЧЖОУСКОГО
ИСКУССТВА
Реалистическо-зооморфньш
стилъ в искусстѳе
централъных регионов.
Сосуды в виде
скульптурных изображений
животных и птиц
a — Тяньма; б — Раннее Чжоу,
пров. Шэньси.
191
Фантазиііно-зооморфный
стиль в искусствс
центральных регионов
Китая
a — нефритовые иодвески в виде
фигур дракономорфных существ;
б — тяньмаский чайник-л:э; в —
раннецинский чайник-хэ.
Зооморфно-
фантазийный
стиль
в орнаментальном
искусстве царства Чу
a — вышивка, составленная из
изображений фантастических су-
ществ; б — ножны для меча (фраг-
мент); в — поясная пряжка.
изделий в виде скульптурных композиций. Иллюстратив-
ный пример — чайники-дгэ из усыпальниц княжества
Цзинь и раннециньских погребений. В обоих случаях цен-
тральное место в композиции занимает изображение (об-
разованное корпусом, носиком и ручкой сосуда) фанта-
стического создания, объединяющего черты внешнего об-
лика птицы и змеи.
Более смело зооморфно-фантазийная образность ис-
пользовалась в искусстве царства Чу. Во-первых, местные
мастера стремились вводить ее в декор любых изделий,
создавая при этом сложнейшие и причудливые компози-
ции. Такова, например, вышивка на шелке (из погребаль-
ного комплекса в Цзянлин), состоящая из переплетения
самых разных по внешнему виду фигур — змеевидных,
птицевидных и зверовидных существ, которые переходят
одно в другое.
Еще два характерных артефакта — ножны для меча
(длина 130 см) и нефритовая поясная пряжка (Хубэй, IV-
III вв. до н. э.). Их поверхность сплошь покрыта столь же
замысловатыми комбинациями, состоящими из перепле-
тенных тел змеевидных существ и зооморфно-фантазий-
ных личин, напоминающих маску-таотэ. Если посмот-
реть на пряжку сверху, то эти комбинации сливаются в
новый фантастический образ.
Кроме того, чуской орнаментальной традиции свойствен-
но поистине бесконечное варьирование исходных морфоло-
гических типажей. Многочисленны вариации образа фан-
тастической птицы, в которых он приобретает новые дета-
ли и нюансы.
Одновременно в чуской орнаментике особую популяр-
ность завоевывают сочетания полных зооморфно-фанта-
стических изображений с их стилизованными трактовками,
которые постепенно переводятся в элементы геометриче-
ского и растительного орнамента. Этот процесс, прослежи-
ваясь лучше всего на материале декора зеркал, вышивок и
росписей на лаках, привел к образованию многих новых
192
типов узоров. Bot как возник, например, узор «облачная
лента», занимавший одно из главных мест в репертуаре
орнаментальных средств китайского декоративно-приклад-
ного искусства ІѴ-І вв. до н. э. Он восходит к образу «птице-
дракона», т. е. фантастической птицы с элементами обли-
ка змеи или дракономорфного существа. Вначале ее туло-
вище превратилось в ромбовидную фигуру, заполненную
волютами, длинный хвост — в С-образную спираль с утол-
щениями и сердцеобразной фигурой на конце, a шея —
в короткую кривую, завершаясь абстрактно-стилизованным
изображением головы. На второй стадии ее трансформа-
ции появилась композиция, образованная S-образным «стеб-
лем» с отходящими от него спиралями, завитками и волю-
тами, бывшими рудиментами туловища, головы, лап и хво-
ста «птице-дракона». В конце концов некогда фигуративное
изображение приобрело вид растительного мотива, состоя-
щего из «листьев», волют и «гребешков», который обычно
объединяется со стилизованными цветочными бутонами на
изогнутых « стебельках ».
Во-вторых, чускому художественному творчеству была
свойственна тенденция к пластическому воплощению зоо-
морфно-фантазийных образов. Помимо сосудов, украшен-
ных высокорельефными и горельефными фигурами фанта-
стических существ, до нас дошло немало изделий в виде
полноценных скулыітур и пластических сцен. Пример:
ритуальный барабанчик, подставка которого образована
двумя парными деревянными, с расписным лаковым по-
крытием, статуэтками, воспроизводящими образы фанта-
стических — цаплеподобных — птиц, которые стоят на спи-
нах лежащих тигров (или леопардов).
В еще более фантазийном духе выполнены две парные
бронзовые статуэтки (1991 г., высота 48 см, VI — середина
V в. до н. э.), тоже служившие, видимо, подставкой для
ритуального барабана. В них воспроизводится облик суще-
ства с телом хищного зверя (возможно, это тигр, барс,
леопард) и полузмеиной-полузвериной (с оскалом хищни-
ка) головой, возвышающейся на изгибающейся по-змеино-
му шее. Из открытой пасти существа свешивается длин-
ный язык, a его голову украшают ветвистые рога, похожие
на рога оленя, образованные фигурами двух извивающих-
ся змей и двух птиц. Спины обоих скульптур венчают еще
по одному скульптурному изображению столь же фанта-
стических существ. Поверхность скульптур украшена ин-
крустациями из меди и полудрагоценных камней, образую-
щими орнамент из стилизованных змеиных тел и фанта-
стических птиц. Вне декоративно-прикладного искусства
зооморфно-фантазийный стиль ярче всего реализуется в
уже знакомых нам «чуских идолах». Самым же колорит-
ным произведением местной зооморфно-фантазийной пла-
стики является бронзовое изваяние (высота 143,5 см, вес
38,4 кг) из усыпальницы маркиза И (см. вклейку). Перед
нами предстает морфологический вариант фантастической
птицы — со страусовидным туловищем, тонкой вытянутой
шеей и головой в виде отдельной птичьей фигуры, которая
13 Исторня искусстиа Клтая
Образы
фантастических
птиц в чуском
искусстве
(вышивки)
a — феникс; б — «трехглавая»
птица; в — «птице-дракон».
Орнаментальная фигура,
производная от образа
« птице-дракона»
Сосуд с горельефными
и трехмерными
изображениями зооморфно-
фантастических существ.
Фрагмент. Усыпальница
маркиза И
193
Чуский ритуалъный
барабанчик с подставкой
в виде пластической
композиции на зооморфно-
фантазийную тему
Скулыгтура дракона
из подставки для
ритуального барабана
Зооморфно-фантазийный
стиль в искусстве царства
Чжуншань.
Сосуд, украшенныи
скульптурными
изображениями драконов
увенчана раскидистыми рогами. Рога, голова, шея и когти
изваяния инкрустированы золотом, туловище и крылья —
бирюзой. «Птица» стоит на плоекой квадратной подставке,
имитирующей подстилку (ковер) и украшенной низкоре-
льефным орнаментом, состоящим из стилизованных изоб-
ражений змей, птиц и облаков. Вместе с «чускими идола-
ми» данное изваяние однозначно указывает на существова-
ние в южном регионе Китая развитой традиции культового
изобразительного искусства, которое более всего было со-
средоточено на разработке иконографии в первую очередь
зооморфно-фантазийных персонажей.
К концу чжоуской эпохи освоенные в чуском искусстве
зооморфно-фантазийные образы и производные от них типы
узоров стали охотно использоваться в орнаментальных тра-
дициях других регионов, сочетаясь с местными художе-
ственными наработками.
Другим центром зооморфно-фантазийного стиля ока-
зывается художественное творчество царства Чжуншань.
Оно также демонстрирует преимущественную тенденцию к
пластическому воплощению образов фантастических су-
ществ — будь то орнаментация сосудов, нефритовых изде-
лий или самостоятельные скульптурные произведения. Бо-
лее того, есть веские основания утверждать, что именно в
искусстве Чжуншань зооморфно-фантазийный стиль до-
стиг своего наивысшего художественного совершенства. Ме-
стным мастерам, пожалуй, впервые удалось объединить
достижения обоих анималистических вариантов. Фанта-
стические существа показываются с такой живостью и вы-
разительностью, что производят впечатление реальных пред-
ставителей животного мира. В этой художественной мане-
ре выполнены еще два подлинных шедевра чжоуской
скульптуры на зооморфно-фантазийные темы: статуэтка
«зверя-дракона» (высота 24,6 см) и основание столешницы
(высота 37,4 см) в виде пластической композиции из четы-
рех фигур «птице-драконов» (см. вклейку). В первой из
них показано существо с телом и головой хищного зверя,
снабженного парой мощных крыльев. С удивительным ма-
стерством передана поза разъяренного хищника — с изго-
товленным к прыжку телом и свирепо оскаленной пастью.
Фигуры «птице-драконов» воспроизводят существ с птичь-
им туловищем, крыльями, длинной змеевидной шеей и
звериной головой, увенчанной рогами, в момент устремле-
ния в полет: с распростертыми крыльями, вытянутой шеей
и напряженной грудной клеткой. Поверхность фигур укра-
шена сложнейшими по композиции узорами из золотой и
серебряной инкрустации.
Бесспорно, в конце чжоуской эпохи китайское искусст-
во овладело изобразительными методами создания образов
фантастических существ в реалистико-экспрессивной ма-
нере, которая стала определять иконографию и эстетику
всех последующих художественных трактовок данного типа
изображений.
Несмотря на господство в нем анималистического сти-
ля, чжоуское художественное творчество впервые за всю
194
историю китайского искусства демонстрирует доминирую-
щий интерес к человеку и его повседневной жизни.
Антропоморфные образы и мотивы начинают настой-
чиво использоваться еще в раннечжоуском декоративно-
прикладном искусстве. Это, прежде всего, нефритовые под-
вески в виде силуэтно-рельефных изображений человека.
Древнейшие образцы таких подвесок (комплект из 7 штук,
высота до 9,3 см) были найдены в усыпальницах княже-
ства Цзинь, т. е. датируются ІХ-ѴІІІ вв. до н. э. Все они
воспроизводят фигуру стоящего в полный рост человека,
что было нехарактерно для иньской антропоморфной пла-
стики. Однако манера их исполнения совпадает со стили-
стикой скульптурок из погребения Фу-хао: реалистичность
трактовок натуры, точная переда пропорций человеческо-
го тела, тщательная проработка всех деталей внешности
персонажа, в первую очередь лицевых черт и элементов
костюма. Примечательно, что с этими подвесками сосед-
ствовали и подвески, изображающие человека в фанта-
стическом обличии. В одном случае (комплект из 5 подве-
сок, высота 8,7 см) показано существо с человеческой го-
ловой и телом зверя или лягушки. В другом (один образец,
длина 4,5 см) — фигура, отдаленно напоминающая изоб-
ражения кентавра: тело лежащего животного с гордо вски-
нутой человеческой головой. Фантазийность этих изобра-
жений усиливается и за счет искусно выполненного вели-
колепного головного убора или прически с пышными
прядями. Следовательно, с развитием зооморфно-фанта-
зийного стиля чжоуское искусство продолжило разработ-
ку антропоморфно-фантазийных образов, хотя данная сти-
листическая линия в последующие несколько столетий
слабо проявлялась.
Нефритовые подвески в виде изображений человека
исполнялись на всем протяжении позднечжоуского перио-
да в различных регионах: в Центральном Китае (подвески,
найденные в окрестностях Лояна), на юге (подвеска из
комплекса в Синьяне). Причем, если подвески княжества
Цзинь и царства Чу изображают, судя по костюму, высо-
копоставленную персону, то в центральнокитайском деко-
ративно-прикладном искусстве утвердился иной набор пер-
сонажей — слуги (в характерной коленопреклоненной позе),
танцовщицы.
Остановимся подробнее на подвеске, входящей в комп-
лект нагрудного украшения (Ѵ-ІѴ вв. до н. э.), которое со-
стоит из золотой цепи (длина 40,7 см), серии нефритовых
бусин-цилиндров и фигурных подвесок. Интересующее нас
изделие выполнено в виде силуэтно-рельефного изображе-
ния двух танцовщиц в танцевальном движении. Порази-
тельны экспрессивность и динамичность — тела девушек
словно изгибаются, рукава и длинные шелковые пояса-
ленты развеваются. Все нюансы внешности тщательно про-
работаны: прическа, лицевые черты, ушные украшения,
складки одеяния.
Еще один небезынтересный набор подвесок был най-
ден в усыпальницах царства Чжуншань. В него входят
ЧЕЛОВЕК
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ТВОРЧЕСТВЕ
ЧЖОУСКОЙ ЭПОХИ
Тяньмаская
нефритовая подвеска
a — в виде фигуры стоящего че-
ловека; б — в виде изображений
«человеко-дракона».
Чжаньгоские нефритовые
подвески в виде
изображений человека
a — пров. Хэнань (окрестности
Лояна); б — царство Чу.
195
Бронзовые сосуды
с сюжетными сценами
a — древнейший образец (фраг-
мент сосуда-<?оу, конец Чуньцю —
начало Чжаньго, пров. Шаньси);
б — Сычуань (окрестности Чэн-
ду), Чжаньго; в — фрагмент шань-
дунского сосуда; г — сосуд со сце-
нами на мифологические темы
(высота 42 см, пров. Хэнань, ок-
рестности Лояна, Чжаньго, на-
ходка 1980 г.).
вертикальные изображения мужчин, женщин и детей.
Хотя эти изображения обладают многими специфическими
этнографическими нюансами (своеобразные головные убо-
ры, крой и орнаментация костюмов), по манере исполне-
ния они, безусловно, совпадают с центральнокитайскими
подвесками, что еще раз подтверждает приоритет реали-
стической трактовки человека в чжоуском художествен-
ном творчестве.
Еще более активно, чем в ювелирном деле, антропо-
морфные образы и мотивы использовались в оформлении
бронзовых изделий, реализуясь как в плоскостных, близ-
ких к графическим, так и в пластических изображениях.
В VI-V вв. до н. э., т. е. почти одновременно с инкрусти-
рованными бронзами, в чжоуском бронзолитейном про-
изводстве выделилось очередное самостоятельное худо-
жественно-орнаментальное направление, определяемое как
«бронзы с сюжетными композициями» (в англоязычной
терминологии «pictorial bronzes»), достигшее пика своего
расцвета во второй половине периода Борющихся царств.
Это сосуды, декор которых состоит из нескольких фри-
зов, заполненных многофигурными сюжетными сценами
на бытоописательные, батальные (сцены пиршественных
трапез, сельскохозяйственных работ, тренировки лучни-
ков, осады города и т. д.) и реже на мифологические темы.
Примечательна синхронность появления таких сосудов в
различных регионах — в Центральном Китае, на востоке
(Шаньдун), на юго-западе (в Сычуани) и их стилистико-
морфологическое единообразие. Фризовые композиции,
как правило, распространяются на всю поверхность изде-
лия и в единстве образуют своего рода развернутое пове-
ствование с общей сюжетной канвой и художественным
замыслом. Хотя изображения людей, предметов и при-
196
родных реалии выполнены еще в условнои, иногда в при-
митивной манере, они отличаются динамичностью (все
персонажи показаны в движении), a сцены — сложно-
стью построения. Важно, что по тематике, семиотическим
принципам (горизонтальное расположение, членение на
смысловые фрагменты) и иллюстративно-повествователь-
ному характеру этих сцен «pictorial bronzes» предвосхи-
щают собой будущие живописные произведения.
Пластические изображения человека также начинают
вводиться в архитектоническую композицию бронзовых
изделий еще при Западном Чжоу. Один из древнейших
образцов — подставка для винного сосуда или какого-то
другого предмета, воссоздающая скульптурную сценку:
два человека играют на барабанах (1993 г., окрестности
Лояна, высота 15,5 см). Далее следует серия сосудов из
усыпальниц княжеств Цзинь, Ин и Цинь, в которых фи-
гурки людей, нередко вкупе с зооморфными и зооморфно-
фантазийными изображениями, образуют подобие сюжет-
ных сцен. Оригинальны по форме чайник княжества Ин,
ручка которого выполнена в виде женской фигуры, судя
по одеянию и прическе, и раннециньский сосуд (опреде-
ляется как шкатулка/ларец-дгэ, 10,5 х 7,5 х 7,5 см) в виде
миниатюрной тележки, на которой восседают человек и
некий зверь.
В период Борющихся царств практика использования
антропоморфных пластических изображений в орнамен-
тации сосудов прекратилась. Но они стали употребляться
при изготовлении других категорий изделий, в первую
очередь светильников. Собственно светильники считают-
ся одними из самых значительных изобретений чжоуской
предметно-творческой деятельности и технической мыс-
ли. Известны два основных вида: из нефрита (высота до
13 см), которые внешне напоминают винные кубки на
высокой ножке, и из бронзы. До сих nop найдены не-
сколько экземпляров бронзовых светильников с антропо-
морфными пластическими изображениями. Самым ран-
ним является светильник из комплекса Шаньцунлин
(1975 г., высота 32,7 см), в виде фигуры коленопрекло-
ненного слуги; самым необычным по художественному
решению — чуский светильник (1965 г., Цзянлин, высо-
та 19,2 см) с изображением человека верхом на верблюде.
Еще два светильника: один тоже чуский (1986 г., Ху-
бэй, общая высота 16,3 см), второй — из усыпальницы
царства Чжуншань (высота 66,4 см, вес 11,6 кг) заключа-
ют в композиции фигуру стоящего человека. Как и зоо-
морфно-фантазийная скульптура, так и чжуншаньский
светильник признан подлинным шедевром художествен-
ного творчества. Он воспроизводит развернутую сюжет-
ную композицию, состоящую из трех сегментов. В центр
помещена фигура человека, облаченного в длинный халат
с широкими рукавами и широким поясом-кушаком. По-
верхность одеяния выложена инкрустациями из черного
и красного лака. Изваяние головы отлитое из серебра,
выполнено в высшей степени живостью и художественной
Пластические изображения
человека в художественио-
архитектоническои
композиции сосудов
a — лоянская подставка; б — со-
суд из комплекса Тяньма (высота
35,8 см); в — чайник-дгз из погребе-
ний княжества Ин (28,5 х 33 см);
г — раннециньский ларец-хэ в
виде скульптурной сценки.
197
Светильник. Шанцуньлин
Скульптурное изображение
человека из композиции
чжуншанъского
светильника
убедительности, что производит впечатление натурального
портрета. Здесь уже не просто тщательно проработаны все
черты лица, но и предполагается попытка показать внут-
ренний облик и настроение персонажа. Перед нами пред-
стает весьма характерный тип личности: самодовольное
выражение лица, лукаво поблескивающие глазки, улы-
бающиеся губы, окаймленным тонкими щегольскими уси-
ками. Глаза именно поблескивают, так как они переданы
инкрустациями из черного отполированного камня. Ле-
вой рукой персонаж держит вертикально поставленное ос-
нование собственно лампы, которое сделано ввроде застыв-
шего и превратившегося в древесный ствол змеевидного
существа, по которому взбирается крохотная обезьянка.
Справа от фигуры человека находится основание еще од-
ной лампы в виде змеи, обвившейся вокруг древесного
сука. He исключено, что вся эта композиция тоже носит
иллюстративно-повествовательный характер, так как в
древних литературных произведениях неоднократно гово-
рится о божественных и легендарных персонажах со змея-
ми в руках.
Рассказывая об использовании антропоморфных обра-
зов и мотивов в чжоуском декоративно-прикладном искус-
стве, нельзя не вспомнить о кариатидах, входящих в кон-
струкцию музыкального инструмента маркиза И. Хотя эти
скульптуры тоже наделены своеобразными этнографиче-
скими деталями (головной убор, особенности одеяния), с
морфологической точки зрения они принадлежат к обще-
му для Древнего Китая антропоморфно-реалистическому
стилю (правильность передачи естественных пропорций и
позы человеческого тела, тщательность проработки дета-
лей внешнего облика).
В целом мы вправе утверждать, что в предметно-твор-
ческой деятельности чжоуской эпохи не только успешно
совершенствуются способы и методы изображения чело-
века, но и состоялся его переход в самостоятельного героя
художественного повествования. В этом смысле эволюция
китайского искусства соответствует закономерностям ис-
тории мировой художественной культуры, за исключени-
ем одного немаловажного свойства: основными объекта-
ми древнекитайской предметно-творческой деятельности
были не божественные персонажи, венценосные особы и
знать, a представители низовых социальных групп, в пер-
вую очередь обслуживающий персонал и люди актерских
профессий.
Вне декоративно-прикладного искусства антропоморф-
ные изображения на всем протяжении чжоуской эпохи
встречаются на удивление редко. Самую специфическую
категорию произведений составляют нефритовые и брон-
зовые маски, с образцами которых мы уже познакоми-
лись в обзоре о конкретных памятниках. Напомним, что
в ряде погребений и центрального, и юго-восточного ре-
гионов присутствовали маски, состоящие из отдельных
фигурных пластин, отдаленно напоминающие контуры
и строение человеческого лица. Маска другого типа, —
198
выполненная из цельного нефритового блока и точно пе-
редающая лицо, — была обнаружена в одном из чуских
захоронений (1997 г., Хубэй, Ѵ-ІѴ вв. до н. э., 20 х 13,9 х
х 0,23 см). Ее могли бы принять за посмертную маску,
запечатлевшую портрет усопшего, но дело в том, что она,
воспроизводя форму мужскогое лица, находилась на ос-
танках женщины. По краям маски идут маленькие от-
верстия, с помощью которых она, вероятно, крепилась к
шелковому покрывалу. Здесь мы сталкиваемся еще с од-
ной специфической деталью чуской похоронной обрядно-
сти. Тем не менее эта маска обнаруживает заметное мор-
фологическое сходство как с неолитическими (яншаоски-
ми) керамическими масками, так и с изображениями,
входящими в архитектоническую композицию бронзовых
изделий, и ее правомерно относить к разряду условно-
портретных произведений.
Бронзовые маски тоже находятся в нескольких раз-
личных по времени и географии погребениях, что указы-
вает на их значимость в чжоуской похоронной обрядно-
сти. Однако их семантика и функции остаются неясными.
Древнейшими образцами являются две маски, найденные
в погребениях в окрестностях Пекина (комплекс в Люли-
хэ, 21 х 21,6 см, 18,3 х 18,3 см), и набор из восьми масок
(высота 15-15,7 см, ширина 16,3-17,1 см, толщина0,3 см)
из усыпальницы княжества Ин. Набор состоит из 4 пар
масок, каждая из которых изображает мужское и жен-
ское лицо. Все маски выполнены по единой иконографи-
ческой схеме: улыбающиеся лица с круглыми глазами,
массивными бровями и с заметной долей зооморфизма,
что сближает их с зооморфно-фантазийными личинами.
Еще одна серия бронзовых масок — образ улыбающегося
лица с округлыми глазами — присутствовала в усыпаль-
ницах царства Чжуншань, где они были вывешены на
стенах. В них явно угадываются отдаленные прототипы
погребальных стенописных картин.
Хотя нефритовые и бронзовые маски при всем желании
невозможно считать собственно художественными произ-
ведениями, они подтверждают стремление древнекитайского
искусства запечатлеть лицо человека, пусть даже обуслов-
ленного сугубо религиозными причинами.
Традиция самостоятельной антропоморфной скулыі-
туры в дошедшем до нас художественном наследии чжо-
уской эпохи едва прослеживается. На сегодня обнаружено
чуть более десяти металлических — бронзовых и свинцо-
вых — и нефритовых скульптурок. Нефритовая миниатюр-
ная пластика (высота до 7,4 см, северо-западный приго-
род Лояна) повторяет один и тот же сюжет: человек вер-
хом на фантастическом существе, о семантике которого,
равно как и предназначении этих фигурок, можно только
догадываться. В свинцовых статуэтках (1980 г., окрест-
ности Лояна, 4 экземпляра, высота 21-22 см) воспроиз-
водится фигура человека в коленопреклоненной позе.
Древнейшими образцами бронзовой пластики являются
статуэтки (высота до 20 см), датируемые началом Западного
Чуская нефритовая маска
Бронзовые маски
a — из комплекса Люлихэ; б —
из погребений княжества Ин.
199
Чжоуская
антропоморфная
скульптура
a — нефритовая статуэтка; б —
шэньсийские бронзовые статуэт-
ки; в — свинцовые статуэтки.
Чжоу, найденные на территории чжоуской метрополии
(в Шэньси). Они воспроизводят облики стоящих людей в
необычном, возможно ритуальном, облачении. Некоторые
детали этих статуэток, в первую очередь сжатая ладонь,
образующая круглое отверстие, делают их похожими, по
мнению исследователей, на саньсиндуйское изваяние. В во-
сточночжоуских погребениях и только на территории Цен-
трального Китая (Хэнань) эпизодически встречаются од-
нотипные по стилистике бронзовые статуэтки сюжетного
характера: мальчик с нефритовой птичкой в руках, акро-
бат с шестом в руках, сверху держит равновесие медвежо-
нок (высота 16,4 см). Выполненные в условно-реалисти-
ческой, почти с примитивизмом, манере, без какой-либо
дополнительной орнаментации, эти статуэтки тем не ме-
нее подкупают естественностью, живостью и душевной
теплотой.
Все дошедшие до нас артефакты, казалось бы, убежда-
ют в том, что в чжоускую эпоху традиция пластики про-
должала развиваться в рамках декоративно-прикладного
искусства, тогда как собственно изобразительное искусст-
во по-прежнему пребывало в зачаточном состоянии. Но
можем ли мы быть полностью уверенными в том, что обна-
руженные в захоронениях изделия адекватно отражают
уровень развития современного им светского художествен-
ного творчества? Этот вопрос возникает, разумеется, не
случайно. Художественный уровень чжоуского изобрази-
тельного искусства, основанный на материале археологи-
ческих изысканий, не только противоречит литературным
свидетельствам о нем, но и делает совершенно необъясни-
мым факт появления грандиозных произведений пласти-
ческого искусства всего через два десятилетия после завер-
шения чжоуской эпохи.
ЭПОХА ЦИНЬ
(221-207 гг. до н. э.)
Циньское оружие
В заключительной трети III в. до н. э. Китай был вновь
объединен под эгидой царства Цинь, что привело к возник-
новению первого в истории страны собственно имперского
государства — империи Цинь. Формальным признаком
перехода китайского общества к имперской форме правле-
ния стало принятие основателем империи Цинь Ин Чжэ-
ном (259-210 гг. до н. э.) нового монаршего титула, вмес-
то царь-ва« — Цинъ-ши хуан-ди. В его состав вошли иеро-
глифы хуан и ди (досл. «божественный владыка»), которые
прежде использовались исключительно в титулатуре боже-
ственных персонажей. Полный перевод приведенного ти-
тула основателя империи Цинь, под которым он и вошел в
историю Китая и мировую историю, — «Божественный
владыка, открывающий [эру] Цинь».
Окружение Цинь-ши-хуан-ди разработало и провело в
жизнь ряд глобальных хозяйственно-экономических и по-
литико-юридических реформ, в результате которых были
созданы законодательная база и управленческие структу-
ры, обеспечивающие функционирование имперской верхов-
ной власти. К числу важнейших реформаторских акций
200
того времени относится унификация системы мер и весов,
письменности и денежной системы, a также строитель-
ство единой сети казенных дорог (общей протяженностью
8000 км). Все это способствовало урегулированию системы
хозяйственной деятельности и товарно-денежных отноше-
ний с их полным подчинением государственному контро-
лю. Вопреки кратковременности ее существования66, им-
перия Цинь традиционно выделяется в качестве самостоя-
тельной исторической эпохи.
He менее значительный след эпоха Цинь оставила и в
истории китайского искусства, став временем создания са-
мых масштабных и не знающих себе аналогов в мировой
художественной культуре архитектурно-инженерных соору-
жений и произведений изобразительного искусства. Речь
идет о Великой китайской стене (подробно см. глава 16) и о
погребальном ансамбле Цинь-ши-хуан-ди.
0 строительстве усыпальницы циньского императора до-
вольно подробно рассказывается в сочинениях II—I вв. до н. э.
В них сообщается, что ее строительство началось после про-
возглашения империи Цинь благодаря труду сотен тысяч
мастеров, рабочих и каторжан, которые были убиты по
завершении работ. Усыпальница представляет собой настоя-
щий подземный дворец из множества покоев. Погребаль-
ная камера, по сведениям древних авторов, была огромных
размеров, ее потолок был выложен драгоценными камня-
ми, имитирующими звездное небо. На полу был сооружен
макет ландшафта Китая с руслами рек и морем (видимо,
Бохайский залив), заполненными ртутью.
Местоположение погребения Цинь-ши-хуан-ди тоже
было всегда хорошо известно: в 35 км к востоку от Сиа-
ня, где до сих nop возвышается величественный холм,
поросший густым лесом. Тем не менее археологические
раскопки начались там только в 1974 г., по чистой слу-
чайности67.
На сегодня установлено, что погребальный ансамбль
Цинь-ши-хуан-ди занимал площадь в 56,25 км2 и состоял
из трех основных архитектурно-художественных компо-
нентов: надземной части усыпальницы, подземной части
усыпальницы, которая до сих nop не вскрыта, и так назы-
ваемого погребального эскорта.
Надземная часть усыпальницы Цинь-ши-хуан-ди была
образована, как выяснилось, не только курганной насы-
пью. Под ней обнаружился архитектурно-инженерный ком-
плекс — глинобитная конструкция в форме усеченной пи-
рамиды (высота 47,5 м), обнесенная двойной стеной. Про-
тяженность внутренней стены составляет 3870 м (1350 м с
севера на юг, 585 м с запада на восток). Внешняя стена в
длину 6200 м (2165 с севера на юг и 940 м с запада на
восток), в ней четыре прохода, ориентированных строго по
четырем частям света, a no ee четырем углам возвышаются
дозорные башни. Очевидно, что этот комплекс имитировал
крепость или укрепленный дворец. Ничего ранее подобно-
го в древнекитайской похоронной обрядности не встреча-
лось. Прототипом такого оформления надземной части
Император
Цинь-ши-хуан-ди
66 Недолговечность цинь-
ской империи объясняется
многими причинами, не по-
следнюю ролъ сыграли личные
качества Цинь-ши-хуан-ди и
жестокость проводимых им ре-
форм и политико-социальных
акций. Насильственно объе-
динив Китай, Цинь-ши-хуан-
ди не ограничился уничтоже-
нием армий покоренных им
царств. Болыпинство предста-
вителей потомственной знати
и интеллектуальной элиты об-
щества были физически ис-
треблены, сосланы на каторгу
или в приграничные гарни-
зоны, что было равносильно
смертному приговору. Во вне-
шних войнах, ведшихся Цинь,
и на строительных работах по-
гибли и сотни тысяч простых
людей.
67 Считается, что остатки
погребального ансамбля Цинь-
ши-хуан-ди были впервые най-
дены неким местным крестья-
нином, который решил вырыть
на своем земельном участке
арык или какое-то другое под-
собное сооружение.
201
План погребального
комплекса Цинь-ши-хуан-ди
Раскоп M Î. Общий вид
усыпальницы мог, разумеется, послужить архитектурный
ансамбль, возведенный над погребением правителей цар-
ства Чжуншань. Но почему Цинь-ши-хуан-ди или его свит-
ские решили обратиться к строительному опыту и обыча-
ям этого маломощного и чужеземного по своим истокам
государства? Или они руководствовались какими-то ины-
ми причинами, опираясь на неизвестные нам погребально-
архитектурные образцы?
Погребальный ансамбль Цинь-ши-хуан-ди состоит из
восьми с лишним тысяч глиняных скульптур воинов и
лошадей и моделей колесниц, размещенных в трех специ-
ально приготовленных для этого полуподземных помеще-
ниях-котлованах, которые располагаются прямо друг за
другом к востоку от усыпальницы.
Первый — по его близости к усыпальнице — и только
недавно вскрытый котлован имеет П-образную форму и за-
нимает площадь 500 м2. Его стены имитируют городскую
или дворцовую стену с главными воротами. Пол выложен
каменными плитами. Вдоль двух боковых проходов стояли
60 фигур воинов, изображавших, судя по всему, личную
охрану императора. Прямо y входа находилась колесница с
четверной упряжью и тремя возницами, будто готовая тро-
нуться в путь, как только из ворот выйдет их повелитель.
Второй котлован имеет Г-образную форму и занимает
площадь 12 152 м2. В нем находились более 900 фигур
воинов, 365 лошадей и 89 моделей колесниц. Третий кот-
лован имеет форму правильного прямоугольника и зани-
мает площадь 14 260 м2 (62 м с севера на юг, 220 м с запа-
да на восток). В нем находилось около 7000 фигур воинов,
лошадей и моделей колесниц. Стены этих двух котлованов
тоже были обустроены на манер строений городского или
казарменного типа. Фигуры и модели были расположены в
шеренги, воспроизводящие войсковые колонны на марше.
Они делятся на отряды пехоты, сопровождаемые колесни-
цами, во главе каждого отряда офицер. Между войсковы-
ми колоннами проходят глинобитные конструкции, похо-
жие на бруствер. На них, после размещения в котлованы
фигур и моделей, были положены доски, затем засыпан-
<=д7 Колесница,
ожидающая выхода
императора». Реконструкция
202
ные землей, — так глиняная армия оказалась захоронен- Раскоп M 3. Общий вид
ной. Впоследствии доски сгнили, и земляной покров всей Раскоп № 3.
тяжестью обрушился на фигуры, нанеся им серьезные по- Оформление стен
вреждения. Однако качество их было настолько высоким,
что их удалось реставрировать.
Все скульптуры и модели выполнены в натуральную
величину: высота воинов колеблется от 1,7 до 1,9 м (для
личной охраны Цинь-ши-хуан-ди), фигуры лошадей дости-
гают 1,5 м в высоту и 2 м в длину. Скульптуры полые
изнутри. Головы воинов были выполнены отдельно и встав-
лены в шейные проемы туловищ. Первое, что бросается в
глаза при рассмотрении глиняных воинов, — это предель-
но реалистическая и детализованная манера их исполне-
ния. Переданы мельчайшие детали воинского облачения,
вплоть до конструктивных элементов доспехов, поясов и
поясных пряжек. Позы воинов стереотипны и статичны.
Подавляющее болыпинство из них показаны стоящими с
вытянутыми вдоль туловища руками или с согнутой в лок-
те правой рукой и сжатым кулаком (эти фигуры некогда
имели древки пик). Чуть болыыая динамичность присуща
фигурам лучников, стоя натягивающих лук или пригото-
вившихся к стрельбе с колена. Хотя особенности анатоми-
ческого строения и пропорции человеческого тела в скулыі-
турах воспроизведены абсолютно верно, в них, например,
в отличие от греко-римского изобразительного искусства,
нет ни малейших признаков передачи физической струк-
туры тела, не говоря уже о красоте внешнего облика
человека. Зато явствует стремление к индивидуализации
203
Фигуры воинов «армии»
Цинь-ши-хуан-ди
a — генерал; б — офицер; в — сто-
ящий лучник; г — лучник, стре-
ляющий с колена; д — солдат.
ПИ
Образец
исполнения доспехов
фигур, что видно в варьировании деталей одеяния, в раз-
личиях форм рук воинов и даже их ногтевых пластин.
Нетрудно отличить изящные и холеные руки выходца из
аристократического или образованного семейства от грубо-
ватых, натруженных рук недавнего крестьянина.
С особой тщательностью и мастерством выполнены го-
ловы и лица воинов. Фигуры солдат отличаются, как пра-
вило, колпакообразными головными уборами, офицеров —
головными уборами их ранга. Если же головы не покры-
ты, то в мельчайших деталях воспроизведены прически —
равные произведениям парикмахерского искусства — из
аккуратно уложенных и скрепленных шпильками пря-
дей, кос и косичек. Лица воинов были, видимо, полно-
стью раскрашены (остатки красочного слоя на некоторых
скульптурах) с отдельной выпиской глаз и зрачков. Пере-
даны не только внешние приметы различных людей, но и
элементы их внутреннего облика. Так, генерал показан
умудренным жизненным опытом и осознающим весь груз
своей ответственности: его лицо властно-задумчиво, лоб
изборожден глубокими морщинами. A bot — изображе-
ние простодушно-задорной физиономии молодого солдата-
новобранца, угадывается и его гордость от вступления в
победоносную армию великого государя, и его мечты о
грядущих подвигах, наградах и славе. В ином облике
предстает солдат-ветеран: с честью выдержал и готов к
любым испытаниям, но устал от ратной жизни и хочет
отдыха и покоя. He удивительно, что после извлечения
первых скульптур, сочтенных подлинными скулыітурны-
ми портретами, спорили только по поводу времени их
создания — это прижизненные портреты или портреты
уже погибших воинов армии Цинь-ши-хуан-ди, которые
были выполнены по памяти. По мере проведения рестав-
рационных работ оказалось, что на самом деле в них ва-
рьирует десять основных типов портретных изображений.
Головы воинов выполнялись, скорее всего, не отдельной
лепкой, a тиражированием масочных клише, которым
затем придавались те или иные индивидуальные приме-
ты. Такой технико-художественный метод в дальнейшем
204
смело использовался в китайско-буддийском культовом
изобразительном искусстве, позволяя создавать многочис-
ленные когорты внешне совершенно не похожих друг на
друга божественных персонажей. И велика вероятность
того, что маски-типажи действительно делались с конк-
ретных лиц и что среди фигур с тиражированными лица-
ми встречаются и натуральные скульптурные портреты —
предположим генерала.
Фигуры лошадей тоже отличаются реалистичностью,
точностью воспроизведения анатомии конского тела и его
внешних деталей: показываются подстриженные особым
образом гривы, заплетенные и завязанные в узел лошади-
ные хвосты, a в некоторых случаях — и полный сбруй-
ный комплект. Более того, чувствуется, что фигуры ло-
шадей исполнялись даже с болыпей теплотой, чем фигу-
ры воинов.
To, что скульптуры, образующие погребальный эскорт
Цинь-ши-хуан-ди, суть полноценные произведения изоб-
разительного искусства, не вызывает ни малейших сомне-
ний. Но возникает множество загадок, которые вылива-
ются в три главные вопроса: как, кем и зачем они были
выполнены?
Первый из этих вопросов относится не столько к испол-
нению глиняных фигур как таковых, сколько к процедуре
их обжига. Ведь циньским мастерам нужно было рассчи-
тать и построить такие печи для обжига и обжиговые каме-
ры, в которых бы поместились столь крупногабаритные из-
делия и на протяжении более суток поддерживать равно-
мерный температурный режим не менее 960 градусов —
таковы условия обжига керамики из лёссовой глины. Какой
могла быть конструкция подобных печей, на каком топливе
они работали, — все это не удалось реконструировать даже
с помощью новейших компьютерных технологий.
Второй вопрос влечет за собой тезис о том, что творца-
ми скульптурных произведений обязательно должны быть
профессионально подготовленные художники. Но нет ни-
каких следов существования в чжоуском Китае искомой
художественной школы. Особенно проблематично отыскать
ее непосредственно в царстве Цинь, общественные нравы
которого ^тличались аскетизмом, воинственностью и пре-
небрежительным отношением к интеллектуально-творче-
ской деятельности. He случайно обитатели других регио-
нов чжоуского Китая считали циньцев «невежественными
и грубыми варварами». Поэтому еще недавно в специаль-
ной литературе выдвигались и горячо обсуждались версии
о вероятности создания глиняной армии Цинь-ши-хуан-ди
под непосредственным влиянием каких-то чужеземных ху-
дожественных традиций или случайно творившими в Ки-
тае иноземными художниками. Однако ни одна из сосед-
них с Китаем народностей того времени не располагала
столь развитым художественным творчеством. Теоретически
можно допустить, что в Китае чудом оказались скулыіто-
ры, происходившие из очень отдаленных от него регионов
Древнего мира — Греции или Египта. Но сколько могло
Типажи лиц воинов
205
быть таких чужеземцев? И как они сумели за короткий
срок обучить своему искусству местных мастеров и воспи-
тать столь мощную и многочисленную художественную
школу, которая была необходима для создания бесподоб-
ного художественного памятника? Нет, «глиняная армия»
могла быть феноменом только самой китайской творчес-
кой деятельности.
Обратим внимание на то, что полые изнутри фигуры
воинов и лошадей суть прямые аналоги глиняных моделей
для бронзового литья. Еще иньские мастера, как известно,
умели отливать крупногабаритные изделия, a при Чжоу
исполнялись и достаточно большие по размерам изваяния
как зооморфно-фантастических существ, так и людей. Но
эти изваяния единичны. «Глиняная армия» могла быть
создана в рамках бронзолитейного производства в одном-
единственном случае: если в чжоускую эпоху существова-
ла самостоятельная традиция металлической монументаль-
ной скулыітуры.
Первое доказательство правомерности предложенной
гипотезы содержится собственно в погребальном комплек-
се Цинь-ши-хуан-ди. Это — две бронзовые модели колес-
ниц с четверной упряжью, найденные в 90-е гг. прошлого
века. Они выполнены приблизительно в половину нату-
ральной величины и воспроизводят два основных типа ари-
стократического колесничного транспорта того времени —
«легкую повозку», с открытым кузовом и расположенным
над ним зонтом-балдахином, и «крытый возок», с карето-
подобным, овальной формы кузовом (см. вклейку). Высота
«легкой повозки» — 152 см, общая длина композиции (со-
вместно с фигурами лошадей) — 225 см, вес — 1061 кг.
Высота «крытого возка» — 106,2 см, длина композиции —
317 см, вес — 1241 кг. Кузов возка сделан из 3462 дета-
лей, соединенных, как это было установлено в результате
специальных экспертиз, сваркой. Внутри возка находятся
три сиденья. Вся его внутренняя поверхность — стены,
потолок — расписаны изображениями драконов, пол уст-
лан циновкой. Обе модели колесниц включают в себя брон-
зовые фигуры возниц — стоящую для «легкой повозки»
(высота 75 см) и сидящую на облучке (высота чуть более
50 см). Они тоже сделаны из плотно пригнанных друг к
другу отдельных элементов: туловища, рук, ног, головы —
подобно технологии изготовления глиняных скульптур. По-
верхность фигур местами украшена золотой и серебряной
инкрустацией. Сбруя лошадей тоже выполнена из благо-
родных металлов.
По манере исполнения бронзовые возницы и лошади
почти точные аналоги глиняных скульптур, с той лишь
разницей, что они обладают болыпей выразительностью. Руки
сидящего возницы напряжены, якобы ему пришлось вдруг
резко натянуть поводья, удерживая скакунов. Лицам обоих
возниц придано выражение уверенности. Фигуры лошадей
показаны в движении: грудная мускулатура напряжена,
ноздри раздуты, уши стоят. Единство художественных трак-
товок и орнаментации фигур (максимальное использование
благородных металлов) превращает эти модели в монумен-
тальные скульптурные группы.
В качестве второго доказательства существования в
Китае в III в. до н. э. развитой традиции металлической
монументальной скульптуры сошлемся на литературные
сообщения о двенадцати гигантских статуях — вес каж-
дой 30 т, отлитых по приказу Цинь-ши-хуан-ди из кон-
фискованного оружия y армий и населения поверженных
царств. Установленные попарно вдоль центральной ал-
леи, ко дворцу циньского императора, эти изваяния изоб-
ражали божеств и предков правящего дома Цинь, т. е.
являлись антропоморфной скульптурой. Рассказывается,
что они сохранялись в течение почти 500 лет и в III в. н. э.
были переплавлены на монеты. Даже если габариты из-
ваяний в письменных источниках преувеличены, после
находки металлической скульптуры в погребальном ан-
самбле Цинь-ши-хуан-ди нет веских поводов сомневаться
в реальности факта их создания. Понятны и вероятные
истоки традиции древнекитайской монументальной ме-
таллической скульптуры — от художественного творче-
ства саньсиндуйцев. Данная традиция получила особое
развитие именно в царстве Цинь, так как, с одной сторо-
ны, существовала географическая близость к Сычуани, a
с другой — развитость местного бронзолитейного произ-
водства.
Определенно ответить на третий из сформулированных
выше вопросов — зачем понадобилось создавать «глиня-
ную армию»? — пока невозможно. Логична версия про-
должения иньской царской погребальной обрядности с за-
меной человеческих жертв на скульптурные изображения.
Такое предположение тем более оправданно, если учесть,
что именно в конце Чжоу возникла практика помещать в
захоронения специальные статуэтки, которая в скором вре-
мени стала носить в Китае обязательный характер. Но из
чжоуской и последующей погребальной пластики явству-
ет, что китайские анимистические верования отнюдь не
требовали исполнения таких статуэток в натуральную ве-
личину с индивидуальными приметами. Напротив, они не-
редко были миниатюрных размеров и выполнялись в пре-
дельно условной манере. Ориентировка «глиняной армии»
на восток, вероятно, обусловлена космолого-религиозны-
ми предст^влениями, бытовавшими в восточных прибреж-
ных регионах Китая, согласно которым где-то в Восточ-
ном море находились волшебные острова (Пэнлай), слу-
жившие обителью бессмертных (сяней). Известно, что
Цинь-ши-хуан-ди разделял эти представления: он искрен-
не верил в существование таких волшебных островов и в
возможность обретения бессмертия (подробно см. глава 5).
Но в сохранившихся литературных изложениях культа
сяней не оговаривается их связь с анимистическими веро-
ваниями и погребальной обрядностью: считалось, что обре-
тение бессмертия происходит при жизни человека. Разум-
но также прислушаться к мнению, что создание «глиня-
ной армии» и ее художественные особенности имели под
Бронзовая модель
«легкоіі повозки»
a — фигура возницы; б
ра коня.
фигу-
207
собой не столько религиозные, сколько культурно-полити-
ческие мотивы. Множественные изваяния воинов и их внеш-
нее разнообразие должны были проиллюстрировать могу-
щество и единство реальной армии циньского императора,
в которой и в самом деле были собраны представители
различных регионов Китая и социальных слоев местного
общества. Строить дальнейшие догадки по поводу семанти-
ки погребального эскорта, на наш взгляд, пока бессмыс-
ленно. Обнаружение в будущем каких-то новых материа-
лов — артефактов, a еще лучше письменных документов,
помогут раскрыть эту удивительную тайну.
Самое важное, что «глиняная армия» Цинь-ши-хуан-
ди не только подтвердила существование в Древнем Китае
развитой традиции изобразительного искусства, но и от-
крыла многие его типологические особенности. Во-первых,
становится еще более ясной непрерывная линия преем-
ственности истории китайского художественного творче-
ства начиная с неолитической эпохи. Если ориентировать-
ся на указанные особенности скульптур — статичность поз,
акцент на изображении головы и лица, то они, бесспорно,
стоят в одном морфологическом ряду со всей предшествую-
щей им пластикой. Во-вторых, очевидно, что в чжоускую
эпоху окончательно утвердились художественно-эстетиче-
ские трактовки образа человека, которые принципиально
отличают китайское изобразительное искусство от искусст-
ва других народов мира, в первую очередь древних греков и
римлян. Это, прежде всего, отсутствие в Китае интереса к
эстетике человеческого тела. Фигура человека, точнее, его
облачение, служат лишь способом передачи движения и —
посредством покроя, деталей и орнаментики одеяния —
даже социального статуса и рода профессиональной дея-
тельности персонажей. Китайское искусство индифферент-
но к личности как таковой. Каждый отдельный персонаж
показан в нем в первую очередь как представитель соци-
альной или профессиональной группы. Поэтому реали-
стичность изображений человека непременно сочетается с
их типизацией. И наконец, изобразительное искусство раз-
вивалось в Китае в рамках официальной творческой дея-
тельности, что вело к его стандартизации, стилистической
монументальности и подчеркнутой декоративности. С этой
точки зрения «глиняная армия» Цинь-ши-хуан-ди, и осо-
бенно бронзовые колесницы, вполне сопоставимы с поздне-
иньскими бронзовыми сосудами.
Означают ли выделенные нами типологические особен-
ности древнекитайского изобразительного искусства, что оно
находилось на более низкой эволюционной ступени, чем
античное? На наш взгляд, искусство чжоуского Китая и
Античного мира следует рассматривать не в качестве диа-
хронных стадий единого — по своим закономерностям и
направленности — творческого потока, но как два совершен-
но самостоятельных направления в мировой художественной
культуре, поскольку различия между ними были обусловле-
ны всем комплексом духовных ценностей и ментальных
черт китайской и средиземноморской цивилизаций.
Эпоха Хань стандартно подразделяется на два пе-
риода — Ранняя (Западная), 206 г. до н. э. — 8 г. н. э., и
Поздняя (Восточная), 25-220 гг. н. э. Промежуток меж-
ду ними занимает царствование Ban Мана, свергнувшего
ханьский правящий дом (дом Лю) и попытавшегося уста-
новить собственную династию (династия Синъ, «Новая»,
8-25 гг.).
С раннеханьским периодом соотносится политический,
экономический и культурный расцвет страны, достигший
своего апогея во время правления императора У-ди (Госу-
даръ-Воин, Воинственный Государь, 140-86 гг. до н. э.).
Во второй половине I в. до н. э. в политической и эконо-
мической жизни ханьского общества наметились деструк-
тивные тенденции, которые и привели к насильственному
свержению царствующей династии. Ее реставрация по-
зволила на некоторое время стабилизировать условия в
стране и вернуть ей прежний международный авторитет
(царствование императоров Гуан-у-ди, 25-58, и Мин-ди,
58-76). Но уже в середине II в. ханьская империя пере-
жила фазу агонии с резким падением авторитета верхов-
ной власти и ростом массовых антиправительственных
настроений. Она погибла в горниле повстанческих движе-
ний (восстание «Желтых повязок», 184-185 гг.) и междо-
усобных войн.
Несмотря на неоднозначность проходивших в то время
историко-политических процессов, в памяти последующих
поколений империя Хань осталась самым могуществен-
ным, достигшим наивысшего духовного процветания древ-
ним государством. 06 этом красноречиво свидетельствует
факт использования ее названия во многих этнологиче-
ских терминах, отражающих национальное самосознание
китайцев. «Люди Хань, ханьцы» (ханьжэнъ) — этноним-
самоназвание, «словеса Хань» (ханюй) и «письмена Хань»
ЭПОХА ХАНЬ
(207 г. до н. э. —
220 г. н. э.)
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ХАНЬСКОЙ ЭПОХИ
И ЕЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО
НАСЛЕДИЯ
Основателъ империи
Ханъ — Лю Ban
(ханъский Гао-цзу)
^А^ѢЦЗЮЙ > ^
(Хорезм) ; Л^Л
ДАВАНЬ УСУНЬ ^% ,fV
(Фергана) ' / %ч^т
ДАСЯ $ /* „ „ ""%
і(Бактрия)/г*' Западныи краи }
ЮЭЧЖИ& j '■ ф ДУНЬХУАНѴ^Ч^
tfSA жоцян ,
^"/ѵ 0 ' («еарѳары» ~ цяны) ЦЯНі
1
1
ШЕНЬДУ ■ ) 1
(Индия) t
1 '
1 ' • ч 1
\
*
- #
~?
ЧАНЪАНЬ-
(СИАНЬ)
\
V
1
СЯНЬБЙ
*лоян
о
Iе0
/ / ©
о.Хайнань ,
Ханьская империя
и ее соседи
14 Исторпя искусстпа Китая
209
(ханцзы) — сочетания, передающие соответственно китай-
ский язык и иероглифическую письменность. Действитель-
но, именно в ханьскую эпоху завершается формирование
китайского этноса и основ имперской государственности.
Однако ее духовная жизнь бедна принципиальными нова-
циями, как это было при Чжоу. Все культурно-идеологи-
ческие и художественные процессы носят, скорее, кумуля-
тивный и экстенсивный характер, только упрочивая и раз-
вивая достижения чжоуской эпохи. Тем не менее ханьская
эпоха ознаменовалась чередой важнейших событий обще-
культурного характера, которые оказали воздействие на
дальнейшую эволюцию национального искусства.
К таким событиям относится, во-первых, провозглаше-
ние конфуцианства государственным учением, что состоялось
во второй половине I в. (при императоре Мин-ди), макси-
мально усилив влияние конфуцианских художественных воз-
зрений и эстетических установок на творческую деятельность
страны, в первую очередь связанную с традицией официаль-
ного искусства.
Второе событие — рождение в социальной иерархии
китайского имперского общества особого сословия, кото-
рое обозначается в оригинальной терминологии как ши, в
научной литературе — как «чиновничество» или «служи-
лая интеллигенция». Начиная с ханьского времени и на
протяжении всей последующей истории Китая именно ши
являлись главными носителями традиционной образован-
ности и, следовательно, хранителями и создателями нацио-
нальных духовных ценностей. Бывшие изначально потом-
ками боковых ветвей аристократических кланов, ши выде-
лились в качестве самостоятельной социальной группы еще
в позднечжоуский период. И уже тогда в набор свойствен-
ных им занятий входила хозяйственно-административная
и интеллектуально-творческая деятельность. Расширение
численного состава, повышение социального статуса ши
происходили по мере развития административно-бюрокра-
тического аппарата имперского государства.
Превратившись в отдельное сословие, ши заняли сле-
дующую после потомственной знати ступень в иерархи-
ческой лестнице и стали наделяться теми же, что и соб-
ственно аристократия, привилегиями. Более того, они
могли возводиться в аристократический сан в знак при-
знания их заслуг перед страной и троном. A носители
аристократических титулов, включая принцев крови, обыч-
но тоже состояли на государственной службе, занимая
руководящие гражданские и воинские должности, т. е.
являлись высокопоставленными чиновниками. Потенци-
альное социальное равенство членов этих высших приви-
легированных сословий впоследствии было закреплено в
имперском законодательстве, где они равно полагались
«благородными мужами» (цзюнъ-цзы), свободными от тру-
довых повинностей, не подлежащими некоторым уголов-
ным наказаниям и т. д. Конечно, сословие ши было неодно-
родным по социальным, имущественным и культурным
показателям.
Общественное положение, материальные условия, обы-
чаи и привычки провинциального мелкого чиновничества
разительно отличались от бытия и духовных потребностей
руководящих чинов, a тем более столичных сановников. И все
же в китайском имперском обществе контуры социальной и
интеллектуальной элиты в основном совпадали. Благодаря
этому государство имело возможность осуществлять тоталь-
ный контроль над всей интеллектуально-творческой жизнью
общества. Но и сами ши осознанно стремились посредством
своей интеллектуально-творческой активности содействовать
упрочению как правящего режима, так и имперской власти
в целом, считая ее верхом совершенства государственного
правления. Вот почему в Китае столь авторитарной оказа-
лась традиция официального искусства.
To, что сразу же после утверждения ханьской импе-
рии наметился новый виток в сближении предметно-твор-
ческой деятельности с государственностью, сопровождав-
шийся упрочением традиции официального искусства, под-
тверждается как ее художественном наследием, так и
акциями центральной администрации, которые находим
в письменных источниках. Была восстановлена система
казенных мастерских и контролирующих их правитель-
ственных органов, которая теперь включала в себя три
специальных ведомства: по производству мебели, предме-
тов роскоши и погребальных принадлежностей. В состав
этих ведомств, помимо административных структур, вхо-
дили и соответствующие мастерские. Что касается худо-
жественного наследия раннеханьского периода, то цент-
ральное место в нем занимают памятники и артефакты,
связанные с императорской и аристократической погре-
бальной обрядностью.
Сохранилось 11 — по числу монархов Ранней Хань —
императорских усыпальниц, которые сосредоточены в ок-
рестностях Сианя, где и находилась раннеханьская столи-
ца — Чанъанъ. Две из них (Балин, усыпальница импера-
тора Вэнъ-ди, 179-156 гг. до н. э., и Дулин — императора
Сюанъ-ди, 73-48 гг. до н. э.) находятся соответственно в
восточном и южном пригороде Сианя. Девять остальных —
к северу от города, образуя подобие кладбища, которое
простирается с запада на восток (от Сианя в сторону города
КуЯгСЪЯН ) m
Bee императорские усыпальницы представляют собой
грандиозные ансамбли, сооруженные по единой планиро-
вочно-семиотической схеме. Они включают в себя собственно
усыпальницу, надземные строения и «сопутствующие по-
гребения» — захоронения ближайших родственников дан-
ного государя, его наложниц и придворных, особо отмечен-
ных августейшим фавором. Общая площадь этих ансамб-
лей может достигать 50 га. Известно, что они сооружались
при жизни царствующего императора в течение десятков
лет (около полувека).
Собственно усыпальница обычно состоит из несколь-
ких помещений, расположенных на глубине до 40 м под
землей. Главными надземными сооружениями являются,
Изделия
из погребального инвентаря
Лю Шэна и Доу Вань
a — наконечник лука (инкрусти-
рованная бронза); б — нефрито-
вое украшение; в — курильница
(позолоченная бронза).
Усыпальница
принца Лю Шэна.
Общий вид
как и в погребальном ансамбле Цинь-ши-хуан-ди, глино-
битные конструкции в форме усеченной пирамиды. Наи-
большими размерами обладает пирамида над усыпальни-
цей императора У-ди (Маолин): ее высота — 46,5 м, пе-
риметр y основания — 240 м, в верхней части — 35,5 м с
севера на юг и 39,5 м с запада на восток. Внутри пирамид
находились помещения, имитирующие парадные и жи-
лые дворцовые покои с соответствующими предметами
меблировки, интерьерными украшениями, a также с лич-
ными вещами усопшего монарха. Пирамиды окружали
постройки, служившие жильем для обслуживающего пер-
сонала: помещения внутри пирамиды регулярно убирались,
вплоть до смены постельного белья, одежды проветрива-
лись. Раз в месяц парадное облачение усопшего монарха
доставлялось в столичное святилище, что символизирова-
ло его личное присутствие на литургии. Как видим, в
раннеханьский период господствовала вера не просто в
посмертное существование умерших императоров где-то в
ином потустороннем мире, a в их пребывание в непосред-
ственной близости от живых людей и действенное участие
в жизни страны.
О полном наборе погребального инвентаря император-
ских усыпальниц судить трудно, так как они давно уже
были разграблены могильными ворами. Судя по случайно
уцелевшим артефактам, основное место в нем по-прежнему
занимали бронзовые и нефритовые изделия, включая ору-
жие, украшения и предметы роскоши.
Из аристократических погребений особо выделяются
усыпальницы принцев крови. Это, во-первых, усыпальни-
ца принца Лю Шэна (официальный титул — Цзинский
князь) — сына пятого раннеханьского императора (Цзин-ди,
156-141 гг. до н. э.), который скончался в 113 г. до н. э. Она
находится на северо-востоке Китая (местность Манъчэн, к
юго-западу от Пекина, провинция Хэбэй, 1968 г.) и являет
собой редкий для древнекитайской погребальной обрядно-
сти пример «скальной гробницы». В ней же затем была —
в 104 г. до н. э. — похоронена и супруга Лю Шэна — прин-
цесса Доу Вань.
Усыпальница состоит из нескольких вырубленных в
скальной породе помещений. Прямо y входа в нее начина-
ется длинный коридор, где были поставлены натуральные
колесницы («легкие повозки» с зонтом-балдахином) и мно-
212
жество сосудов и контеинеров, наполненных съестными
припасами и напитками. От коридора идут проходы к
остальным помещениям. Кроме погребальных камер Лю
Шэна и Доу Вань, были сделаны помещения, воспроизво-
дящие их жилые апартаменты — со стенами, выложен-
ными каменными плитами. «Покои» Лю Шэна имитиру-
ют «банкетный» зал, над которым натянут огромный ма-
терчатый тент. Погребальный инвентарь Лю Шэна состоял
из 1000 различных предметов, Доу Вань — из 1200. Сре-
ди них присутствовали бронзовые сосуды, оружие, инте-
рьерно-бытовые изделия — подсвечники, курильницы, ук-
рашения.
Самыми примечательными артефактами оказались ска-
фандроподобные одеяния, сделанные из нефритовых пла-
стин, в которые были облачены оба усопших. «Нефрито-
вый саван» Лю Шэна имеет длину 188 см, Доу Вань —
142 см и состоит из 2160 пластин. В обоих случаях нефри-
товые пластины скреплены золотой проволокой и образуют
конструкцию, плотно облегающую тело, голову, руки и
ноги. В ней предусмотрены специальные пластины-покрыш-
ки для глаз, носа, ушей, рта, половых органов и заднепро-
ходного отверстия. О том, что при Хань использовались
нефритовые погребальные одеяния, неоднократно сообща-
лось в письменных источниках того времени. Но слово
«нефрит» толковалось поздними китайскими комментато-
рами и европейскими учеными в качестве метафорическо-
го обозначения цвета этих одеяний — «зеленый». На се-
годня обнаружено уже более 40 экземпляров (в полном
комплекте или во фрагментах) ханьских «нефритовых са-
ванов»68. Древние авторы говорили, что эти саваны испол-
няли ранговую функцию: в зависимости от титула усопше-
го нефритовые пластины скреплялись золотой, серебряной
или медной проволокой.
Возможно, еще более интересный раннеханьский па-
мятник — усыпальницы правителей удельного царства Чу
(Чуго), которое было установлено в 201 г. до н. э. на юго-
востоке страны, на северо-западе Цзянсу (современная об-
ласть Сюйчжоу) и возглавлялось исключительно принцами
крови. Всего было обнаружено (80-90-е гг. XX в.) 12 усы-
пальниц, образующих, подобно императорским погребени-
ям, кладбища, расположенные y подножия нескольких гор
(Чуваниинъ, Шицзышанъ, Бэйдуншанъ и т. д.). Существу-
ют три хронологические серии усыпальниц: 179-157 гг.
до н. э., 156-129 гг. до н. э. и 128 г. до н. э. — 23 г. н. э.
В результате они позволили выявить особенности аристо-
кратической погребальной обрядности, характерные для
данного региона, и наметить их эволюцию на протяжении
почти двух столетий. Ранние усыпальницы (у подножия
Чуваншань) отличаются относительной простотой плани-
ровки: они состоят из длинного коридора-прохода, по бо-
кам которого находятся несколько симметрично располо-
женных небольших вспомогательных помещений. Кори-
дор заканчивается погребальной камерой (длина около 11м,
высота — 8 м, ширина — 8 м), стилизованной под жилое
~Жг~ «г
@#®
Нефритовыс
погребалъные одеяния
a — общий вид; б — способы со-
единения нефритовых пластин.
68 Самый сложный и объем-
ный по конструкции «нефри-
товый саван» — из 4000 пла-
стин — был обнаружен на ос-
танках принца, умершего в
середине II в. до н. э. (провин-
ция Цзянсу, 1984 г.).
213
помещение. Такой планировочный тип погребений, начи-
ная с позднеханьского периода, стал основным для китай-
ской похоронной обрядности.
Во второй хронологической серии усыпальницы допол-
нились надземными архитектурными ансамблями, частич-
но повторяющими ансамбли императорских усыпальниц,
но без пирамид. Они состояли из болыиого числа внешне
хаотично расположенных по отношению друг к другу строе-
ний, стен, крытых галерей и прочих построек. Подобные
ансамбли тоже предвосхищают собой ставшее впоследствии
стандартным архитектурное оформление китайских импе-
раторских и аристократических погребений.
Для раннеханьского периода обнаружено также не-
мало захоронений знати, самым примечательным из ко-
торых является гробница «госпожи Дай». Она была от-
крыта (1972 г.) в пределах общего погребального комп-
лекса, обозначаемого как Мавандуй, который расположен
в некогда важнейшем культурном центре древнего цар-
ства Чу — в окрестностях Чанша (пров. Хунань). «Госпо-
жой Дай» именуется супруга сановника (князъ Си), кото-
рый с 185 по 165 г. до н. э. возглавлял находившийся в
этой местности удел Дай — одну из административно-
территориальных единиц южного удельного царства Чан-
ша, т. е. эта супружеская пара не имела никакого отно-
шения к правящему дому и занимала отнюдь не самое
высокое место в иерархии современной ей социальной эли-
ты. Уточнение общественного положения госпожи Дай
оказывается насущно необходимым вследствие уникаль-
ности ее погребения.
Оно представляет собой огромную яму (19,5х17,8мв
верхней части и 20 м в глубину), в которой располагалась
деревянная конструкция (6,7 х 4,81 х 2,8 м), образующая
погребальную камеру и вспомогательные помещения. Оче-
видно, как таковое оно продолжает собой традицию древ-
них чуских захоронений (земляные ямы с деревянными
конструкциями), но отличается от них по ряду конструк-
тивных и семиотических особенностей. Так, все простран-
ство над собственно гробницей и вокруг нее было заполне-
но древесным углем, закрепленным слоем белой глины,
толщиной в 1-1,3 м. В результате она оказалась в искусст-
венно созданном пространстве, полностью герметическом
и со своим собственным микроклиматом, что способствова-
ло сохранности не только погребального инвентаря, но и
тела госпожи Дай, которая скончалась в 175-174 гг. до н. э.
По всем физиологическим параметрам ее останки идентич-
ны трупу без малейших признаков разложения. Вскрытие
тела, проведенное медиками КНР, позволило точно опреде-
лить: возраст госпожи Дай — 54 года, общее состояние ее
здоровья (долгие и продолжительные болезни, в том числе
вызванные нарушением обмена веществ) и причину ее смер-
ти — сердечный приступ.
Погребальный инвентарь госпожи Дай состоял из бо-
лее чем 1000 предметов, болыпая часть которых прихо-
дится на лаковые изделия (158 единиц, включая столо-
вую посуду, туалетные принадлежности и мебель), шел-
ковые ткани и предметы одеяния (48 комплектов одежды)
и книги, выполненные на бамбуковых дощечках и шелко-
вых свитках. Их дополняли 48 керамических сосудов,
почти все они были заполнены яствами и вином. Обраща-
ет на себя внимание и богатство погребального инвентаря
госпожи Дай, и особенно схема его расположения. В соб-
ственно чуских и раннеханьских южных захоронениях
погребальный инвентарь обычно складировался во вспо-
могательных помещениях или частях погребальной каме-
ры, находящихся по бокам, в голове или ногах усопшего.
Здесь же он был равномерно распределен по четырем сто-
ронам от гроба и сгруппирован так, что создается впечат-
ление покоев жилого дома. Так, на стенах северного по-
мещения были повешены шелковые занавеси, пол устлан
бамбуковой циновкой. В центре стоял столик, сервиро-
ванный для еды. В западной части погребения находи-
лись спальные и туалетные принадлежности, в восточ-
ной — деревянные фигуры служанок, танцовщиц и музы-
кантов, в южной — прислуги мужского пола во главе с
двумя надзирателями. Комплект столовой посуды и набор
яств и напитков отвечал принятым правилам сервировки
стола для пиршественных церемоний.
Тело госпожи Дай было облачено в двадцать комплек-
тов одеяний, покрыто несколькими газовыми и шелковы-
ми вышитыми покрывалами, покоилось в четырех встав-
ленных один в другой гробах с лаковыми покрытиями и
росписями. Внешний гроб (длина 295, ширина 150 и вы-
сота 144 см) имеет черное монохромное лаковое по-
крытие. Второй гроб (256 х 118 х 114 см) украшен рос-
писями, выполненными бирюзовой, коричневой, желтой,
белой и золотой лаковыми красками по черному фону
и в совокупности воспроизводят некую сюжетную сцену с
изображением зооморфно-фантастических существ среди
облаков. Третий гроб (230 х 92 х 89 см) имеет покрытие
яркокрасного цвета, расписанное красками той же цвето-
вой гаммы на мифологические темы, несколько сложными
по композиции и художественному решению. В них пере-
плетаются изображения змеевидных существ, фантасти-
ческих птиц, оленей и персонажей (неких богов или ду-
хов) в человеческом облике. Убедительной представляет-
ся точка зрения, что цвет лаковых покрытий гробов и их
росписи имели глубинный символический смысл, отра-
жая местные анимистические представления. Сплошной
черный цвет внешнего гроба передает смерть госпожи Дай
и ее уход из мира живых. Росписи второго гроба показы-
вают переход усопшей в потусторонний мир, где ее встре-
чают изображенные в виде зооморфно-фантастических су-
ществ духи-защитники и духи-покровители. Первыми из
них считаются персонажи с чертами оленей, змей, хищ-
ных зверей и атрибутами воинов — с оружием в руках,
верхом на коне, в борьбе с некими существами. С духами-
покровителями отождествляются персонажи, в облике ко-
торых присутствуют антропоморфные черты и которые
выступают в роли танцовщиков и музыкантов. И нако-
нец, красное покрытие третьего гроба знаменует собой
воскрешение госпожи Дай в потустороннем мире, a его
росписи воспроизводят картину обители бессмертных, где
отныне и будет пребывать усопшая, наслаждаясь вечной
жизнью. Попутно заметим, что изложенная трактовка ор-
наментации гробов госпожи Дай полностью согласуется с
анимистическими представлениями царства Чу, которые
реконструируются на материале поэтических произведе-
ний: вера в странствования усопшего в потустороннем
мире, где он встречается с божествами и духами, в конце
концов обретает бессмертие, очутившись в царстве высше-
го блаженства.
Четвертый гроб (202 х 69 х 63 см) имеет самостоятель-
ное конструктивно-художественное решение. Его боковые
части были затянуты ворсовой тканью с прикрепленными
к ней птичьими перьями (один из принятых, подчеркнем,
элементов облика бессмертных). Крышка гроба выполнена
в технике расписного лака, но с использованием исключи-
тельно геометрического орнамента, который также, види-
мо, имеет символическое значение, связанное с обретением
бессмертия. Примечательно, что этот тип орнамента вос-
производится и на шелковых одеяниях покойной.
Таким образом, гробы госпожи Дай можно признать не
только великолепнейшими образцами ханьского лакового
производства, но и полноценными произведениями куль-
тового изобразительного искусства, которые продолжают
художественные традиции царства Чу.
Уникальность погребения госпожи Дай становится тем
более очевидной, если сравнить его с другими (причем
мужскими), гробницами из комплекса Мавандуй. В них
тоже найден достаточно богатый инвентарь (например,
комплект лаковой посуды из 200 предметов) и книги, но
по своим конструктивно-семиотическим чертам они ни-
чем не отличаются от обычных южных захоронений. Быть
может, невзирая на относительно невысокий формальный
социальный статус, госпожа Дай имела особое достоин-
ство среди современников? He исключено, что она принад-
лежала к местным духовным иерархам — наследникам
чуского жречества и хранителям тайных, эзотерических
знаний. К такой гипотезе приводит анализ многих других
Роспись крышки
четвертого гроба
Геометрический орнамеит
на шелковом одеянии
госпожи Дай
Роспись третьего гроба
a — передняя стенка; б — зад
няя стенка.
217
Раннеханьские
бронзовые изделия
a — кувшин-хі/ из усыпальницы
правителей царства Чу; б — из
центрального региона (пров. Хэ-
нань); в — курильница, позоло-
ченная бронза; г — лампада в
виде скульптуры гуся.
реалий духовной жизни Чу, свидетельствующих о суще-
ствовании в нем жреческой прослойки и традиции эзоте-
рического знания.
Как и для чжоуской эпохи, дошедшие до нас ранне-
ханьские артефакты позволяют восстановить состояние
предметно-творческой деятельности того времени в раз-
личных аспектах. К ханьскому лаковому, шелковому,
керамическому производству, камнерезному и ювелир-
ному делу мы еще обратимся в соответствующих темати-
ческих разделах этой работы. Заметим, что все эти виды
декоративно-прикладного искусства явно опирались на
художественный опыт и достижения чжоуской эпохи,
тогда как бронзолитейное производство претерпело за-
метные изменения.
Формы и орнаментация бронзовых сосудов окончатель-
но упростились, a их число в погребальном инвентаре
неуклонно уменыналось. Правда, еще встречаются образ-
цы, воспроизводящие то «лиюйский» стиль, то «чуское
барокко». Но они выглядят откровенными копиями-арха-
измами и нередко выполнены в эклектической манере.
Зато популярность и художественный уровень бронзовых
изделий интерьерно-бытового предназначения повысились.
В них по-прежнему воспроизводятся скульптурные изоб-
ражения и целые пластические сцены как бытоописатель-
ного, так и мифологического характера. Всемирную извест-
ность получил, например, светильник из усыпальницы
принца Лю Шэна. Выполненный в технике позолоченной
бронзы (высота 48 см), он воспроизводит коленопреклонен-
ную фигуру служанки — очаровательной хрупкой девуш-
ки, бережно держащей в приподнятой руке фонарь. Пока-
зательно, что изделия высокого художественного уровня
не были собственностью исключительно представителей выс-
шего эшелона ханьской социальной элиты. Сходные по
стилистике и манере исполнения артефакты присутству-
ют и в погребальном инвентаре «простых» захоронений.
Пример — еще один светильник (1987 г., провинция Шань-
си, высота 40 см) в виде скульптурного изображения гуся,
который не только удивительно выразителен, но и выпол-
нен в редкой для того времени орнаментальной технике
росписи по металлу.
При Поздней Хань была предпринята кардинальная
реформа погребальной обрядности. Хотя она проводи-
лась сверху, ей предшествовали изменения, постепенно
происходившие в структуре самих захоронений и в спо-
собах их художественного оформления. В результате вме-
сто артефактов, входивших в погребальный инвентарь,
на первый план вышло культовое изобразительное ис-
кусство, представленное как пластическими, так и жи-
вописными видами. Прежде чем перейти к их характери-
стике, необходимо остановиться на одном принципиально
важном аспекте историко-политической жизни ханьско-
го общества — на взаимоотношениях Китая с внешним
миром, которые существенно повлияли и на состояние
художественной культуры.
218
Как с политической, так и с культурной точки зрения
самыми значительными и масштабными контактами Ки-
тая с внешним миром были его взаимоотношения с дер-
жавой гуннов, которая начала складываться, напомним,
на соседних с ним северных и северо-западных землях
еще в IV—III вв. до н. э. К раннеханьскому периоду после
продолжительных и кровопролитных войн с обитавшими
там народностями — юэчжиу усунями — гунны создали
подобие имперского государственного образования, тер-
ритория которого охватывала периферийные районы ки-
тайских владений (северные части провинций Шаньси и
Хэбэй), современную Внутреннюю Монголию и простира-
лась далее на север и северо-запад. В укладе этого государ-
ства теперь успешно сочетались кочевое скотоводство, как
основной вид хозяйственной деятельности гуннов и строго
иерархическая социальная структура, копирующая уст-
ройство китайской империи и возглавляемая правителем-
шанъюем.
Обладавшие мощными и хорошо подготовленными воо-
руженными силами, прежде всего конницей, гунны реаль-
но угрожали безопасности Китая, и китайские централь-
ные власти, начиная с администрации Цинь-ши-хуан-ди,
вынуждены были предпринимать постоянные меры для
охраны границы и предотвращения угрозы их нашествия
на страну.
Первая попытка совладать с гуннами военным путем
была предпринята еще Лю Баном всего через несколько
лет после его прихода к власти. Зимой 200 г. до н. э. ки-
тайская армия, возглавляемая им лично, выступила в по-
ход против грозного соседа. Но он завершился полной не-
удачей. До этого не знавший крупных поражений Лю Бан
попал в окружение и во избежание плена вынужден был
пойти на заключение унизительного для него мирного до-
говора, по которому, кроме прочих услових, в жены ша-
ньюю должны были отдать одну из его дочерей. Перемирие
продолжалось в течение около 40 лет, пока в 158 г. до н. э.
гунны, под предлогом неисполнения китайской стороной
условий дипломатических соглашений, не возобновили на-
беги на приграничные районы империи. Ответные меры не
заставили себя ждать.
В 133 г. до н. э. началась новая военная компания, орга-
низованная императором У-ди. Китайско-гуннская война
продолжалась более 10 лет, завершившись в 119 г. до н. э.
разгромом ставки шаньюя и сокрушительным поражением
армии гуннов, потерявших более 90 тысяч солдат. Эта по-
беда открыла китайским войскам путь в Среднюю Азию,
когда в 101 г. до н. э. они дошли до Ферганы. Однако, не-
смотря на столь победоносные действия китайской армии,
держава гуннов продолжала существовать, и окончательно
справиться с грозным соседом ханьским властям удалось
только в середине I в. н. э. Часть гуннов ушла в Среднюю
Азию, откуда гунны чуть позже вторглись в Европу. Дру-
гие же остались на Дальнем Востоке, признав себя вассала-
ми Ханьской империи.
КИТАИ
И ВНЕШНИЙ МИР
Декоративно-прикладное
искусство сюнну
a — золотые пластины со сценами
терзания (Внутренн^ія Монголия,
8,2-10,9 х 4,5-4,9 см, 1983 г.); б —
золотые и серебряные изделия
(Внутренняя Монголия, 1972 г.).
219
Декоративно-прикладное
искусство сюнну
a — фрагменты золотой короны
(Внутренняя Монголия, 1972 г.);
б — золотая пластина (Внутренняя
Монголия, 10 х 5,8 см, 1972 г.).
Китайские изделия
в скифо-сибирском стиле.
Поясная пряжка
(золото, пров. Цзянсу)
Как и в чжоускую эпоху, военное противостояние хань-
ской империи гуннам не мешало их культурному взаимо-
действию. Этнографические и художественные традиции
гуннов и шире — скифо-сибирского мира на протяжении
раннеханьского периода активно проникали в Китай, что
наиболее отчетливо прослеживается на материале оружей-
ного и ювелирного дела. Повсеместно — от районов, не-
посредственно граничивших с державой гуннов, до пре-
дельно отдаленных от нее юго-восточных и южных регио-
нов — широкое хождение получили детали военного
облачения и мужские украшения (в первую очередь пояс-
ные пряжки и пластины), выполненные из благородных
металлов и орнаментированные в скифо-сибирском стиле:
оленьи мотивы, «сцены терзания» и т. д. (см. вклейку).
Указанные заимствования не привели к созданию само-
стоятельного стилистического направления, но они во
многом благоприятствовали дальнейшей эволюции мест-
ного злато- и среброделания и, кроме того, заметно обога-
тили репертуар орнаментальных средств всего китайского
декоративно-прикладного искусства. He исключено также,
что именно под влиянием религиозных представлений и
иконографических стандартов, присущих народностям
скифо-сибирского круга, в древнекитайских верованиях и
погребальном искусстве утвердились образы змеевидных
божеств, культ и иконографические трактовки коня (под-
робно см. Часть II).
Параллельно происходило и внедрение китайских эт-
нографических и художественных реалий в культуру гун-
нов. Собственно китайские изделия всегда славились y
них, о чем свидетельствует их включение в погребальный
инвентарь местной знати. Этот обычай, впрочем, бытовал
и y других соседних народностей. Так, в одном из погре-
бений ху9 обнаруженном (19&5 г.) на территории Внут-
ренней Монголии, находилась внушительная коллекция
китайских бронзовых сосудов, датируемых серединой Ран-
него Чжоу — началом периода Борющихся царств. Что
касается собственно гуннских захоронений, то одним из
наиболее замечательных примеров выступает курган в
Ноин-ула (в 100 км к северу от Улан-Батора), относя-
щийся к рубежу нашей эры. В нем находилось болыиое
число китайских шелковых тканей (свыше 1000 фраг-
ментов), предметов одежды и изделий декоративно-при-
кладного искусства, в основном лаковых. В некоторых
случаях изделия, обнаруженные в гуннских погребени-
ях, являются уникальными артефактами или существен-
но пополняют собой свидетельства тех или иных видов
китайского декоративно-прикладного искусства. Понят-
но также, что китайские изделия служили образцами для
местной предметно-творческой деятельности, что тоже спо-
собствовало распространению художественных традиций
за пределы Китая.
Еще двумя важнейшими направлениями ханьской дип-
ломатии и военной политики являлись отношения с сосед-
ними с империей северо-восточными и юго-восточными
220
регионами. В 108 г. до н. э. китайскими войсками было
покорено древнекорейское государство (точнее, полити-
ческое объединение древнекорейских племен) Кочонсон,
располагавшееся на Ляодунском полуострове. На этой тер-
ритории был установлен имперский протекторат — об-
ласть Лолан, которая просуществовала до 313 г. н. э.,
сыграв роль своего рода контактной зоны между Китаем и
Кореей. Нельзя не признать, что дальнейшая политическая
история Кореи — образование царств Когурё (37 г. до н. э. —
668 г. н. э. на севере Корейского полуострова), Пэкче (18 г.
до н. э — 666 г. н. э.) и Силла (Шиллау 57 г. до н. э. —
935 г. н. э.) — происходила под непосредственным воз-
действием Китая, a художественная культура всех трех
царств отмечена печатью влияния китайского искусства.
В самом очевидном виде это влияние обнаруживается в
погребальном искусстве Когурё, которое по своему харак-
теру (исполнение стенописей и рельефов), стилистике и
тематике откровенно перекликается с китайским. Впо-
следствии, правда, оно обрело несомненную самобытность
и поднялось до художественного уровня, не только не
уступавшего, но в чем-то и превосходившего соответствую-
щие китайские художественные произведения. Однако не-
посредственно для ханьской эпохи корейские погребаль-
ные стенописи считаются находящимися в русле единого
с китайским погребальным искусством творческого пото-
ка и нередко рассматриваются в качестве его полноцен-
ных образцов. В древнекорейских погребениях, a также
на территории, где располагалась область Лолан, тоже
было найдено немало изделий китайского производства
или копирующих их, которые тоже оказываются ценны-
ми вещественными свидетельствами собственно китайской
предметно-творческой деятельности.
Из юго-восточных соседей ханьской империи отдель-
ного упоминания заслуживает государство Наньюэ, ко-
торое было основано еще в конце Цинь и занимало вос-
точную часть современной провинции Гуандун. В 111 г.
до н. э. оно было завоевано китайской армией. Несмотря
на краткость своего существования и неопределенность
этнического состава (видимо, состоявшего из потомков
древнего населения данного региона и тайских народно-
стей), это государство обладало развитой специфической
художес-венной культурой, образовавшимися в результа-
те слияния местных, южноазиатских и китайских тради-
ций. К таким выводам приводит изучение его художе-
ственного наследия, представленного в первую очередь
погребальным инвентарем из усыпальницы правителя
Наньюэ (1983 г., современный Гуанчжоу), скончавшегося
в 122 г. до н. э. В нем тоже присутствовало огромное ко-
личество изделий, относящихся к концу Чжоу — началу
Хань, как китайского, так и местного производства. Осо-
бое внимание обращают на себя бронзовые сосуды с золо-
той и серебряной инкрустацией, продолжающие южноки-
тайский стиль, и нефритовые пластины, воспроизводящие
фигуры танцовщиц. Повторяющие в целом аналогичные
Китаііские
изделия, найдеиные
в чужеземных погребсниях.
a — чжоускис бронзовые сосуды
из погребения ху\ б — полихром-
ная шелковая ткань из Ноин-
улы; в — вышивка на шелке нз
Ноин-улы.
221
Древнекорейские
погребалъные стенописи
Декоративно-прикладное
искусство Гуандуна.
Керамика
Изделия из усыпальницы
правителя царства Нанъюэ
a — нефритовые подвески в виде
фигур танцовщиц; б — бронзо-
вый сосуд.
им китайские украшения позднечжоуского и раннехань-
ского периодов, они отличаются более заметной экспрес-
сивностью, выразительностью и степенью мастерства. При-
мечательно, что тело усопшего также было облачено в
«нефритовые одеяния».
Самым самобытным в этнохудожественном аспекте и
вместе с тем загадочным соседом Китая оказывается куль-
турная общность (по другим научным трактовкам — госу-
дарственное образование), известная как Дяни (кит. Дянь-
вэнъхуа) или, в новейшей научной терминологии, культу-
ра Шичжайшань. В отечественной научной литературе за
ней закрепилось терминологическое название «всадниче-
ская культура».
Эта культурная общность была открыта еще в 40-х гг.
прошлого века, в этой связи последовала череда новых
(50-60-е, 80-90-е гг.) находок, позволивших существенно
уточнить ареал ее распространения и хронологические
этапы ее истории. Установлено, что ее первоначальным —
в IV—III вв. до н. э. — ареалом была восточная часть про-
винции Юнънанъ, район гор Куньмин и озера Дяньчи.
К настоящему времени там обнаружен и частично вскрыт
масштабный памятник, общей площадью свыше 10 000 м2,
содержащий в себе множество погребений. Только за два
полевых сезона (1998-1999 гг.) там было найдено 495 за-
хоронений. Ko II—I вв. до н. э. культура Дяней распрост-
ранилась на западную часть Сычуани и на северную часть
современного Вьетнама (до долины реки Меконг). Но, на-
ходясь весь этот период в окружении монкмерхских (древ-
ние тибето-бирманские и тайские культуры) этнокуль-
турных элементов, она резко отличалась от всех народно-
стей и государственных образований, известных как для
южных регионов Древнего Китая, так и Южной Азии —
Вьетнама, Камбоджи и Таиланда. Своеобразной принад-
лежностью художественного наследия Дяней являются
специфические бронзовые изделия, среди которых особое
место занимают сосуды, предназначенные для хранения
раковин-каури, бывших, видимо, главным средством мест-
ного денежного обращения. Достигшие своего наивыс-
шего художественного совершенства в I в до н. э. —
I в. н. э., они стандартно украшены многофигурными
пластическими сценами, включающими в себя изображе-
ния людей и животных. Наиболее распространенным ор-
наментальным мотивом является образ всадника-меченос-
ца: в шлеме, доспехах, и самое неожиданное — с борода-
тым европеоидным лицом. Исходя из семиотических схем
данных пластических композиций, можно предположить,
что «всадники» составляли правящую верхушку местно-
го общества. Одновременно в орнаментации всех катего-
рий дяньских бронз господствует «звериный стиль» с пер-
сонажами, свойственными искусству степных народно-
стей: оленем, газелью, кабаном, быком, хищными зверями
и змеей.
Художественное наследие Дяней, поражающее своеоб-
разием, мастерством и орнаментальной изощренностью, —
222
это все, что нам известно об этой культурной общности.
Создается впечатление, что она возникла будто внезапно,
без каких-либо предварительных этапов, и так же внезап-
но исчезла. В современных исследованиях высказывается
немало различных версий по поводу ее происхождения, в
том числе связывающих ее и с культурой Ба-Шу и с цар-
ством Чу. Основанием для такого рода версий служит
некоторое морфологическое сходство между дяньскими и
чускими артефактами, однако оно не настолько явное,
чтобы с уверенностью говорить о возможном генетиче-
ском родстве. Судя по археологическим материалам, Дяни
просущегтвовали до II в. н. э., после чего никаких дока-
зательств пребывания этой культурной общности на ука-
занной территории не прослеживается. Все открытые до
сих nop захоронения в Юньнань, датируемые концом Хань,
содержат в себе типичные для китайской погребальной
обрядности того времени артефакты, выполненные не из
глины и дерева, как это было свойственно Китаю, a из
бронзы. С общепринятой точки зрения, культурная общ-
ность Дяней полностью растворилась в китайском куль-
турном субстрате, успев привнести ряд художественных
новаций. К их числу относится появление в китайском
керамическом производстве сосудов, украшенных сюжет-
ными пластическими сценами.
Искусство Дянеіі
a — контейнер для раковин IV-
III вв. до н. э.; б — контейнер для
раковин I в. до н. э. — I в. н. э.;
в — контейнеры для раковин пе-
риода наивысшего расцвета ис-
кусства Дяней; г — колчан для
стрел.
Бронзовые изделия из
погребений на территории
Юнънань. II в. н. э.
a — сосуд; б — чарка для вина.
223
Бронзовые изделия
из погребений
на территории Юнънанъ.
II в. н. э.
a — зеркало; б — модель столи-
ка (64 х 41,6 х 11,6 см).
До сих nop речь шла о взаимоотношениях китайцев с
их ближайшими соседями. В ханьскую эпоху контакты
Китая с внешним миром приобрели значительно болыпие
масштабы благодаря Великому шелковому пути. Великий
шелковый путь состоял из нескольких торговых маршру-
тов, часть которых сложилась еще в чжоускую эпоху. Ис-
токи его возникновения как такового в китайских истори-
ческих повествованиях прямо связываются с миссией свит-
ского императора У-ди — Чжан Цяня (?—114 гг. до н. э.),
который был послан им с полудипломатическим-полураз-
ведывательным заданием к гуннам. Чжан Цянь и его спут-
ники были взяты гуннами в плен и превращены в рабов.
Затем ему удалось чудом освободиться, выполняя поруче-
ние императора, он продолжил свое странствие, добрав-
шись до мест обитания уже ставших к тому времени ле-
гендарными для китайцев юэчжи и усуней. Чжан Цянь
провел в странствиях 15 лет (с 139 по 126 г. до н. э.), су-
мев почти точно определить географию северо-западных,
по отношению к империи, земель и разведать пролегаю-
щие по ним торговые маршруты. Вследствие собранных
им сведений и представленных императору У-ди стало
возможным по этим описаниям наладить внешнеторговые
отношения, которые привели к возникновению Великого
шелкового пути. Имея общую протяженность 6000 км,
Великий шелковый путь начинался от столицы Ранней
Хань — Чанъани (на месте, напомним, современной Сиа-
ни) и шел далее на северо-запад (через Шэньси и Ганьсу).
В районе так называемых Джунгарских ворот он подраз-
делялся на два направления — «южную дорогу» и «се-
верную дорогу». Первая из них проходила через район
оз. Лобнор, вдоль северного склона гор Куньлунь и через
Памир, ведя в Бактрию и Парфию. «Северная дорога»
пролегала через Турфанский оазис, вдоль Тяныианьских
гор, по реке Тарии и затем, пересекая Памир, приводила к
Ферганской долине, Согду, Среднеазиатскому Междуречью,
региону Приуралья и Волги. Бактрия и Парфия выступали
перевалочными пунктами: здесь китайские товары поку-
пались местными купцами, которые развозили их в но-
вых направлениях. Во-первых, в Индию — через Гальгит,
Китайский керамический
сосуд с пластической
композициеіі.
Пер. пол. III в.
Пров. Цзянсу.
Высота 42 см
Маршрут Великого
шелкового пути
КОНСТАНТИНОПОЛЬ
АІІЕКСАНДРИЯ
V
.*•••
БЕГРАМ
ИРАН
;Х>
ТИБЕТ
^г
'•»•'ІЙРИГ'
ЧАНЪАНЬ Л0ЯИІ
КИТАЙ
АРАВИЯ
t ф БАРБИРИК0Н ^""'
ИНДИЯ
АРАВИЙСКОЕ
MOPE
Бенгальский
залие
224
Кашмир и Гандхару и вплоть до устья Инда. Во-вторых, на
Аравийский полуостров — через Северную Месопотамию —
в Сирию и Антиохию. В-третьих, уже во II—III вв. н. э. —
в Дамаск и Рим — через Сирийскую пустыню и Пальмиру.
Из Римской империи китайские изделия даже в неболь-
ших количествах расходились по Европе. Самым дальним
от Китая местом оказалось английское графство Кент, где
были найдены (1959 г.) вещи, сделанные в ханьской им-
перии (фрагмент шелковой ткани, датируемый II—III вв.).
Следовательно, через Великий шелковый путь Китай ус-
тановил прямые или опосредованные контакты со всеми
основными цивилизационными регионами того времени:
средиземноморским, переднеазиатским, среднеазиатским
и индийским, со всеми существовавшими там государ-
ственными образованиями и этническими общностями.
Основными экспортными позициями Китая были, поми-
мо шелка, лаковые изделия, парфюмерия и косметика, из
импорта — предметы роскоши, сельскохозяйственные
культуры (в том числе виноград, благодаря чему в Китае
появилось виноградное вино) и лошади.
Почти по всему маршруту Великого шелкового пути
встречаются памятники (захоронения, остатки населенных
пунктов), которые содержат в себе китайские артефакты
(прежде всего ткани) и, кроме того, позволяют наглядно
воссоздать распространение на Запад тех или иных китай-
ских культурно-художественных достижений, к примеру,
шелкоткачества (подробно см. глава 12). Как свидетель-
ство подобных находок сошлемся на Пальмиру (результа-
ты археологических работ 1933, 1937-1938 гг.), находив-
шуюся на западной оконечности Великого шелкового пути,
или Керчь, в окрестностях которой еще в первой половине
XIX в. (1842 г., каменные женские погребения) были впер-
вые обнаружены подлинные ханьские шелка.
И наоборот, на территории Китая вскрыто немало па-
мятников и захоронений, в которых находятся вещи чуже-
земного производства или выполненные местными масте-
рами по привозным образцам. Один из красноречивых при-
меров — погребение, вскрытое (1995 г.) в Синьцзяне, в
котором был похоронен (сохранился мумифицированный
труп) богатый торговец с Запада. Он был облачен в шерстя-
ное одеяние с орнаментом на античные темы. В его погре-
бальный і^явентарь входили различные изделия, в том числе
украшения.
Все эти находки полностью подтверждают интенсив-
ную значимость Великого шелкового пути и факт широ-
кого проникновения китайских изделий в другие регионы
мира и чужеземных изделий — в Китай. Но ведь такие
торговые контакты неизбежно вели к культурному взаимо-
действию. Самым значительным событием общекультур-
ного масштаба стало проникновение в Китай буддизма, о
чем неоднократно будет говориться в дальнейшем. Что ка-
сается непосредственно предметно-творческой деятельно-
сти, то она тоже обогатилась множеством разнообразных
новаций, включая изобразительные, орнаментальные
1 О Питорпя искуостпа Кнтая
Китайская шелковая
ткань. Найдена в Пальмире
Чужеземные (западные)
изделия. Найдены на
территории Китая
a — шерстяная ткань; б — шер-
стяная ткань с орнаментом на
греко-бактрийские темы; в — се-
ребряные серьги и перстень.
225
и технологические заимствования. О каждом конкретном
эпизоде отдельно рассказывается тематических разделах
этой книги.
Есть все основания утверждать, что именно культурно-
художественное взаимодействие Китая с внешним миром
послужило одним из стимулов дальнейшей эволюции мест-
ного изобразительного искусства.
ДРЕВНЕКИТАЙСКОЕ Изобразительное искусство ханьской эпохи дошло до
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ нас исключительно в произведениях, созданных в рамках
погребальной обрядности. Однако это отнюдь не означает,
что в Древнем Китае отсутствовала традиция светского изоб-
разительного искусства, с чем мы уже столкнулись при
анализе «глиняной армии» Цинь-ши-хуан-ди. Есть немало
и других свидетельств существования при Хань всех ос-
новных видов изобразительного искусства — пластики,
живописи — в их сугубо светских и культовых (художе-
ственное убранство храмов) вариантах, истоки которых тоже
восходят к предшествующей исторической эпохе. Поэтому
в разговоре о видах и произведениях погребального искус-
ства мы будем определять вероятность существования их
светских аналогов.
Погребальная Погребальная пластика является самым специфиче-
пластика ским видом древнекитайского искусства. Она включает в
себя скульптурные изображения людей, животных и мо-
дели самых разных предметов — от посуды и предметов
мебели до построек — одним словом, всего, что окружает
человека при жизни. He будет преувеличением сказать,
что именно погребальная пластика является самым пол-
ным воплощением пластического и в целом художествен-
ного опыта Древнего Китая. Одновременно она же высту-
пает главным, даже иногда и единственным, вещественным
свидетельством других сфер национальной предметно-твор-
ческой деятельности: некоторых видов декоративно-при-
кладного искусства, строительства, мебельного дела, ко-
стюма и т. д.
Семантические истоки погребальной пластики безус-
ловно восходят к древнему погребальному обычаю снаб-
жать усопшего свитскими и прислугой. Правда, остается
неясным, почему этот обычай, почти полностью угасший с
гибелыо Шан-Инь (дольше всего, уже в реликтовых фор-
мах, он удерживался в царстве Цинь), внезапно ожил в
конце Чжоу и при Хань. «Глиняная армия» Цинь-ши-
хуан-ди вовсе не является единственным феноменом. Тра-
диция погребальной пластики начала зарождаться еще в
период Борющихся царств, хотя и в совершенно иных, чем
погребальный эскорт циньского императора, художествен-
ных воплощениях. Почти одновременно намечаются ее две
самостоятельные стилистические линии, строго соотнося-
щиеся с центральным и южным регионами Китая. В пер-
вом из них исполнялись крохотные (высотой в 7-8 см)
фигурки людей, преимущественно слуг и танцовщиц, сде-
ланные из черной глины. Поверхность фигурок тщательно
226
полировалась и расписывалась краснои лаковои краскои.
Тем не менее все они выполнены в примитивно-условной
манере. Лицевые черты фактически не проработаны, детали
одеяния бегло переданы посредством росписи. Все это их
резко отличает от современных им пластических изображе-
ний как самостоятельного характера (бронзовые скулыі-
турки), так и входящих в орнаментально-архитектониче-
скую композицию изделий декоративно-прикладного искус-
ства, начиная с тех же нефритовых подвесок. Единственная
общая их морфологическая примета — стремление передать
движение: обычно персонажи показаны в тех или иных
динамических позах.
Южная (чуская) погребальная пластика, напротив, де-
лалась из дерева, имела довольно крупные размеры (до
70 см в высоту) и отличалась тщательностью исполнения.
Посредством лаковых росписей точно передаются все дета-
ли внешности персонажа. Однако при этом фигуры абсо-
лютно статичны и воспроизводят облик только стоящего
человека. Кроме того, здесь практиковалось изготовление
своего рода деревянных кукол, которые затем одевались в
шелковый наряд.
Возможно, еще одна региональная разновидность по-
гребальной пластики имела место в юго-восточном регио-
не. К такому предположению приводит модель дома
(1982 г., провинция Чжэцзян), выполненная в технике
бронзы с золотой инкрустацией, датируемая V в. до н. э.
Имея миниатюрные размеры (высота 17 см), она включа-
ет в себя съемную крышу и художественно оформлен-
ную — в виде помещения — внутреннюю часть. Помеще-
ние заполнено крохотными, но очень тщательно и точно
исполненными фигурками музыкантов с музыкальными
инструментами, образующими сцену играющего оркест-
ра. Однако это изделие не поддержано ни одним близким
к нему по морфологическим показателям артефактом, и
правомерность отнести его именно к погребальной пла-
стике сомнительна.
Таков начальный этап формирования погребальной
пластики, на фоне которой еще болыпую уникальность
приобретает «глиняная армия» Цинь-ши-хуан-ди. Сразу
же отметим, что для раннеханьского периода найдены
еще две «глиняные армии», которые тоже отличаются,
уже не столь решительно, от современной им погребаль-
ной пластики. Одна из них была обнаружена (1990 г.) в
усыпальнице императора Цзин-ди. Вторая (80-е гг. про-
шлого века) — около деревни Янцзявань, между усы-
пальницей Лю Бана и сопутствущим ей семейным погре-
бением отца и сына из семейства Чжоу — Чжоу Бо (?-169 гг.
до н. э.) и Чжоу Яфу (?-143 гг. до н. э.). Чжоу Бо был
соратником Лю Бана и одно время возглавлял военное
ведомство. Его сын тоже был действующим генералом и
высокопоставленным военным чиновником, заняв тот же
пост, что и отец. Как полководец он прославился подавле-
нием мятежа «семи князей», выступивших против импе-
ратора Цзин-ди. К какой именно усыпальнице относится
Чуская погребальная
пластика
a — дерево, лаковая роспись (вы-
сота 67 см, ІѴ-ІІІ вв. до н. э.,
пров. Хубэй); б — дерево (высота
статуэтки лошади 18 см, 213-
200 гг. до н. э., пров. Хубэй).
Бронзовая моделъ дома
с оркестром
227
Солдаты
из «глиняной армии»
императора Цзин-ди
Зооморфная пластика
из усыпалъницы
императора Цзин-ди
эта армия — императорской или генералов Чжоу, непо-
нятно, хотя китайскими археологами она признается од-
нозначно «императорской».
Несмотря на то что обе «глиняные армии» были выпол-
нены приблизительно в одно и то же время, они существен-
но различаются по местоположению, набору персонажей и
художественным особенностям. «Армия» императора Цзин-
ди находилась в подземной части усыпальницы (к югу от
погребальной камеры) и состояла из 1688 фигур пехотин-
цев (368 сохранились полностью, от остальных фигур оста-
лись только головы). Их высота 62 см, поэтому они произ-
водят впечатление как бы промежуточного варианта меж-
ду «солдатами» Цинь-ши-хуан-ди и собственно погребальной
пластикой. Их лица и детали облачения (доспехи) тща-
тельно проработаны в технике лепки, но сами фигуры ста-
тичны и лишены каких-либо индивидуализированных черт,
не говоря уже о портретных особенностях. Загадочно от-
сутствие y солдат рук. Считается, что они были сделаны из
дерева и прикреплялись к глиняному корпусу с помощью
шарниров, что делало их подвижными, т. е. имитировало
движение рук. Кроме фигур воинов, что также принципи-
ально отличает эту «армию» от эскорта циньского импера-
тора, в усыпальнице Цзин-ди находилась зооморфная пла-
стика: изображения домашних животных, включая сви-
нью, петуха, курицу. Такая пластика в императорском
погребальном инвентаре выглядит несколько странно, даже
если предположить, что все эти персонажи не просто ассо-
циировались с миром живых, но и наделялись особыми
символическими значениями (подробно см. глава 6). При-
мечателен художественный уровень исполнения зооморф-
ных скульптур. Они выполнены в заметно живой манере,
чем фигуры солдат, и лучшим мастерством, чем современ-
ная им погребальная пластика из «простых» захоронений,
превосходя ее и по размеру: около 45 см в высоту и 35 см в
длину при средней высоте погребальной зооморфной скулыі-
туры того времени не более 20 см в высоту. Все это, воз-
можно, объясняется их высоким (для императора) пред-
назначеиием.
«Армия из Янцзявань» (назовем ее так) была размеще-
на, подобно эскорту Цинь-ши-хуан-ди, в специальных хра-
нилищах-ямах. Всего оказалось 11 таких ям: десять зем-
ляных, одна облицована внутри кирпичом. Расположен-
ные почти симметрично по отношению друг к другу, они
четко делятся по размеру на «большие» (5 х 2м) и «ма-
лые» (2,6 х 0,98 м). Всего в них находилось 2548 фигур:
1965 пеших воинов и 583 конников. Количество, набор
статуэток и порядок их расположения были различными в
каждой из ям. В шести из них находились только всадни-
ки, в остальных — модели повозок, колесниц и статуэтки
пехотинцев. В некоторых ямах статуэтки конников распо-
ложены в 4 ряда примерно по 10 в каждом, в других — в
11 рядов по 11 статуэток. Число фигур конников в одной
яме колеблется от 47 до 121, пехотинцев — от 300 до 400.
Высота статуэток пехотинцев 48,5 или 44,5 см. Фигуры
228
всадников одного размера, a лошадеи тоже разные: высо-
той 50 и 68 cm. Bee статуэтки выполнены в единой художе-
ственной манере с использованием росписей, a не лепки.
Посредством росписей передаются все детали внешности,
костюма людей и конского убранства: статуэтки пехотин-
цев раскрашены зеленой, коричневой, красной, белой и
черной красками, черной передаются доспехи. Это цвето-
вое решение соответствует цвету железных доспехов — из
железных пластин, действительно принятых на вооруже-
ние в ханьской армии. Статуэтки всадников раскрашены
зеленой, красной, белой, коричневой и черной — для до-
спехов — красками. Замечательна точность передачи во-
инской амуниции. При исполнении доспехов места соеди-
нения составляющих их пластин выделены белой и крас-
ной красками. Кроме доспехов, y некоторых воинов на
спине изображены колчаны для стрел. Часть фигурок об-
лачена еще и в халаты, которые тоже переданы красками
разных цветов. Статуэтки лошадей окрашены в черный,
белый и красный цвета, a чепрак, узда и другие части
сбруи не только выделены, но и покрыты растительным
орнаментом. Без заметных индивидуальных характерис-
тик в целом фигуры и пехотинцев, и всадников отличают-
ся естественностью поз и определенной живостью. С наи-
большей выразительностью исполнены фигурки лошадей,
которые иногда показаны в движении — с поднятой голо-
вой, оскаленными зубами. Внутреннюю динамичность изоб-
ражениям придает цветовая гамма: обыгрывается, напри-
мер, контрастно-тревожное сочетание красного (халат всад-
ника) и черного (масть коня) цветов, усиленного белыми
вкраплениями (кант и чепрак).
Чем объяснить указанные различия между этими дву-
мя «армиями»: запросами их заказчиков, творческими ори-
ентирами исполнителей или неведомыми нам тайнами хань-
ской погребальной обрядности? Строить догадки по этому
поводу, думается, бессмысленно. В любом случае ясно, что
ханьское изобразительное искусство располагало уже не-
сколькими стилистическими вариантами и находилось (под-
тверждением чему служат и зооморфные изображения из
усыпальницы Цзин-ди) на более высоком уровне развития,
чем это видится на материале основной массы раннехань-
ской погребальной пластики.
В целом в ханьской погребальной пластике прослежи-
вается не^колько эволюционных этапов, технико-художе-
ственных вариантов и региональных стилистических ли-
ний. В первой половине раннеханьского периода в цент-
ральных регионах Китая скульптурные изображения
вводятся в погребальный инвентарь относительно робко,
статуэтки не превышают 30 см в высоту и выполнены в
весьма условной манере, без использования раскрашива-
ния. Хотя есть и исключения, например очень тонко вы-
полненные, несмотря на их миниатюрность (высота 12 см),
фигурки сидящих служанок (окрестности Лояна). Преоб-
ладают изображения людей и домашних животных. Реже
встречаются модели зданий, колодцев, кухонных плит,
«Глиняная армия»
из Янцзявань
a — расположение фигур всадни-
ков в большом хранилище; б —
всадник; в — пехотинцы.
229
Раннеханьская
погребальная пластика
центральных районов
Китая. Пров. Хэнань
a — танцовщица (20,6 см); б —
статуэтка мужчины (25 см); в —
фигурки сидящих женщин (12 см);
г — собака (16 х 25 см); д — пе-
тух (12 х 12 см); е — свинья в
свинарнике (высота 15 см, диа-
метр в нижней части 19,2 см).
тоже неболыпих размеров — все это не отличается особой
художественностью исполнения.
Приблизительно с середины раннеханьского периода
погребальная пластика приобретает повсеместное (повто-
рим, для центральных регионов страны) распространение
и получает официальное признание. Вводятся ее специаль-
ные терминологические обозначения — «похоронные вещи»
(минци) — для всех изображений и моделей, «глиняные
образы» (нисян) — для антропоморфной и зооморфной
скульптуры и устанавливаются их наборы. Из письменных
источников известно, что в императорские усыпальницы
полагалось помещать 40 категорий изображений, в том
числе обязательно 9 моделей колесниц (явная, заметим,
аналогия с девятью треножниками-діш), 36 фигурок лю-
дей, модели предметов мебели, музыкальных инструмен-
тов, столовой посуды — всего более 200 изделий. Но пока
подобных или близких к ним по числу и составу наборов,
насколько нам известно, не обнаружено. Репертуар погре-
бальной пластики расширялся в основном за счет варьиро-
вания все тех же персонажей: слуг, людей актерских про-
фессий, домашних животных, моделей колесничного транс-
порта, построек и их элементов (колодцы).
Весьма внушительную серию составляют кухонные пли-
ты, которые, в зависимости от времени и места их исполне-
ния, могут приобретать характер подлинных пластических
художественных миниатюр, изображающих устройство пли-
ты, кухонную посуду и даже процесс приготовления яств.
He меныпим разнообразием и тщательностью исполне-
ния отличаются и модели построек, порой имеющие более
чем внушительные размеры. Одна из самых крупных —
модель дозорной батіки-лоу (подробно см. глава 16), имею-
щая размеры в 132,1 х 85,1 х 86,1 см. В ней воспроизво-
дится трехэтажное строение с точной передачей всех его
конструктивных особенностей и деталей. Показан нижний
этаж с массивными стенами, воротами и боковыми башня-
ми-пилонами, черепичное покрытие, поддерживающие кры-
шу боковые кронштейны, оконные проемы с рамами. Мо-
дель окрашена в белый и серый цвета, a выполненные по
их фону красной и светло-голубой красками росписи изоб-
ражают архитектурные элементы и настенный орнамент.
На передней стене первого этажа, по бокам от ворот, красу-
ются два куста (или карликовых декоративных дерева) с
птицами на ветвях. Створки ворот покрыты узором, ими-
тирующим доски.
Скульптуры людей и животных тоже постепенно уве-
личились в размерах, приобрели соответственно высоту
40-50 и 20-30 см. Характерным стало также сведение
изображений в композиции, воспроизводящие жилую усадь-
бу — комплект строений, изображения домашних живот-
ных, модели деревьев, колодца и т. д., сцены акробатиче-
ских представлений или танца, в котором задействовано
несколько исполнительниц.
Значительная часть погребальной пластики выполне-
на из глины, путем ручной лепки или на гончарном круге.
230
Модели колодцев. Ранняя
Хань. Пров. Шаньдун
a —16,5 cm; б — 6,6 см.
Их поверхность обычно покрывалась белым ангобом и
расписывалась коричневой, бледно-голубой, красной и
красновато-коричневой красками. Иногда сочетались глина
и дерево: например, глиняная фигура лошади, снабжен-
ная деревянными ногами. Могли применяться и другие
материалы или керамические техники. Так, в середине
позднеханьского периода на северо-востоке (Хэбэй) обна-
ружилась (находки 1990 г.) погребальная пластика с гла-
зурным покрытием, заметим, очень эффектная внешне,
отличающаяся удивительной тонкостью и тщательностью
исполнения. Есть также образцы металлической погре-
бальной пластики, из которых особенно выделяется в ху-
дожественной плоскости бронзовая миниатюрная (высота
4 см) фигурка сидящей женщины (возможно, мать или
нянька), с младенцем на руках и окруженной детьми
(Шаньдун, 1992 г.). Приблизительно с середины ханьской
эпохи исполнялась пластика из позолоченной бронзы и
золота (подробно см. глава 13). И наконец, встречаются
скульптуры и модели, выполненные из камня. Такие арте-
факты присутствовали, в частности, в усыпальнице прин-
ца крови, правителя удельного царства Хуайян, открытой
(1988 г.) в южной части Хэнани и датируемой приблизи-
тельно 120 г. н. э. Среди них находилась тоже внуши-
тельных размеров модель здания (120 х 147 х 30 см), каж-
дая сторона которой имеет отдельное художественное оформ-
ление. Передняя сторона модели воспроизводит внешний
вид двухэтажного здания. На втором этаже изображены
чиновные особы — их видно через окна. К нему с двух
сторон ведут лестничные пролеты, по которым поднима-
ются слуги. На задней части тоже показано два этажа, в
которых располагаются помещения наподобие конюшен.
На первом этаже хорошо видны стойла с лошадьми, на
втором находятся фигуры двух беседующих людей, рядом
с которыми словно гарцуют жеребцы или какие-то фанта-
стические (декоративной породы) маленькие лошадки. На
левой боковой стороне повторяется мотив конюшни, но
теперь она располагается на втором этаже и в своего рода
бельэтажной части первого этажа: в ней обитают не лошади,
a быкоподобные существа. Правая боковая сторона модели
гладкая, и в ней даны только архитектурные элементы (че-
репичная крыша с кронштейнами, лестничный пролет).
Модели строений
a — I в. до н. э. Пров. Хэнань.
24 см; б — I в. н. э. Пров. Хэнань.
108 см; в — Конец I в. н. э. Пров.
Хэбэй. 91 см.
231
Каменная модель дома.
Усыпальница
Хуайянского принца
1 — левая боковая сторона; 2 —
передняя сторона; 3 — задняя
сторона; 4 — правая боковая сто-
рона.
Хубэйская пластика
с глазурным покрытием.
Сцена работы на ручной
мелънице (12,9 х 15 см)
Металлическая
погребальная пластика
a — бронза (нач. Хань, окрестно-
сти Лояна, высота 7,2 см, вес
493-552 гр); б — шаньдунская
статуэтка женщины с детьми.
Сцена акробатического
предстпавления
Модель выполнена с применением различных мастерски
выполненных камнерезных техник, что делает ее и выдаю-
щимся образцом ханьского камнерезного искусства.
Художественный уровень центрально-китайской пла-
стики весьма колеблется от полноценных скульптурных
изображений до абстрактно-стилизованных, воспроизво-
дящих лишь общие очертания человеческого тела. По сте-
пени живости и выразительности антропоморфные скулыі-
туры с достаточной долей отчетливости разграничивают-
ся на два основных художественных варианта: статичные
и передающие персонаж в движении, причем, как прави-
ло, в наиболее кульминационные моменты: танцовщица,
кружащаяся в танце; акробат, исполняющий сложный
трюк. Такие скульптуры неоспоримо свидетельствуют о
владении ханьскими художниками приемами показа дви-
жущейся натуры: через изгиб тела, позу, расположение
элементов одеяния и даже отдельный жест. Впрочем, по-
добными приемами китайское художественное творчество
начало овладевать еще при Чжоу, пусть даже первона-
чально для изображений животных и зооморфно-фанта-
зийных существ (чжуншаньская статуэтка дракона) или в
рамках камнерезного искусства (подвески в виде плоскост-
ных фигур танцовщиц). Зооморфная скульптура также
232
подразделяется на статичную и динамическую, но в обоих
вариантах обычно обладает большей живостью, чем изоб-
ражения людей.
На Юге на протяжении раннеханьского периода по-
прежнему широко исполнялась деревянная пластика с рас-
писным лаковым покрытием, изображающая прислугу в
стоячей позе. Интересным примером южного стилистиче-
ского направления выступает набор статуэток (Хубэй, 179-
141 гг. до н. э.), состоящий из 23 фигур (высота 40-50 см)
словно бы шествующих друг за другом слуг. Южная погре-
бальная пластика оказала заметное влияние и на погре-
бальное искусство юго-восточного региона. Скульптуры,
явно копирующие ее (изображения слуг и служанок), были
найдены в усыпальницах правителей удельного царства
Чу (Цзянсу), причем по ним хорошо видно, как постепенно
происходило смешение двух региональных стилистических
линий. Вначале исполняемые только в технике лепки и
буквально следующие южной пластике, эти фигурки стали
украшаться росписями, выполненными уже по центрально-
китайским стандартам. К восточноханьскому периоду раз-
ница между региональными художественными варианта-
ми пластики сгладилась, и на Юге тоже восторжествовала
глиняная скульптура.
Самой специфической традицией погребальной плас-
тики обладала, как выясняется, Сычуань. Начиная с кон-
ца Чжоу и на протяжении всей ханьской эпохи в захоро-
нениях, найденных на территории этой провинции, осо-
бенно в районе Чэнду, неизменно присутствуют артефакты,
по тем или иным показателям являющиеся уникальными
произведениями древнекитайского погребального искус-
ства. Так, для начала Хань там был обнаружен (1992 г.)
комплект из 6 деревянных фигур лошадей, самая боль-
шая из которых имеет высоту 112 см и длину 99 cm, a
самая маленькая — 72 х 71,4 см. Все фигуры выполнены
в реалистической и по-своему живой манере, хотя и ста-
тичной, a стилистика перекликается со скульптурами ло-
шадей из погребального эскорта Цинь-ши-хуан-ди. При-
чем они заметно контрастируют по художественному уров-
ню и степени выразительности с находящимися в этом же
захоронении деревянными скульптурами людей — стоящие
(высота 36,2 см) и коленопреклоненные (28 см) фигуры,
которые, наоборот, исполнены в примитивно-условной
манере. Повышенный интерес к образу коня и появление
его масштабных скульптурных изображений, похоже, от-
носились к числу типологических особенностей юго-за-
падного погребального искусства. Для позднеханьского
периода известно еще два подобных изваяния (134 х
х 115 см), выполненных из бронзы: они образуют сюжет-
ную сцену, в которую входят еще фигуры трех конюхов
(высота 67 см). Наиболее полная коллекция погребальной
пластики — 1000 единиц — была обнаружена в 9 погре-
бениях (окрестности Чэнду, 1987 г., основные работы
1996 г.), относящихся к концу Ранней — началу Поздней
Хань. Среди зооморфной скульптуры находилось несколько
Южнокитайская
погребальная пластика.
Начало Ханъ. Пров. Хубэй
a — дерево, лаковая роспись, 33 см;
б — дерево, лак, бамбук: 1 — 24 х
х 23,2 см, 2 — 19 х 35 см.
Юго-восточная
погребальная пластика
a — 19,5 см (ок. 175 г. до н. э.);
б — 16,5 см (ок. 153 г. до н. э.);
в — 19,4 см (I в. до н. э.)«
233
Сычуаньская деревянная
пластика. Начало Хань
a — 36,2 cm; 6 — 28 cm; в — из-
ваяние коня.
Бронзовые статуи коней
с конюхами
уникальных для ханьского погребального искусства изоб-
ражений — обезьяны (высота 20,8 см), журавля (41 см),
a фигурки всех остальных персонажей, типичных и для
других регионов Китая, оказываются выполненными в
специфических трактовках, как, например, головы собак
(19,5; 21 см), которые отличаются редкой для данной мор-
фологической серии пластичностью и выразительностью.
Антропоморфная скульптура также отличается необык-
новенно высоким художественным уровнем и, кроме того,
в ней присутствуют, наряду с изображениями слуг и му-
зыкантов, скульптуры людей иных профессиональных
групп. Самыми необычными произведениями являются
2 парные скульптурки (21,6; 19,8 см) обнаженных жен-
щин верхом на лошадях. Кроме собственно пластики этот
мотив повторен в художественном оформлении светиль-
ника (54 см), в котором представлены уже три фигуры
«амазонок» — в центре и по бокам — тоже в обнаженном
виде. Обнаженная натура, еще и женская, была абсолют-
но не свойственна древнекитайскому искусству. Кроме
того, нигде более — ни в художественных произведениях,
ни в письменных источниках — не встречается образ на-
ездницы. Хотя определенные ассоциации «женщина и
лошадь» в некоторых мифологических сюжетах все-таки
прослеживаются (например, божество по имени Лошади-
ная голова, Матоу, подробно см. глава 7). Из других
категорий изделий отдельного упоминания заслуживает
керамическая подставка (высота 56,5 см), выполненная в
виде скульптурной композиции на зооморфно-фантазий-
ную тему: на тигре — медведь, на спине которого — фе-
никс с оседлавшим его драконом. Эта композиция, равно
как и загадочные фигуры «амазонок», пока не поддаются
внятному семантическому истолкованию.
Еще двумя примечательными во всех отношениях ка-
тегориями ханьской погребальной пластики являются ке-
рамические и бронзовые модели деревьев. В виде таких
керамических моделей чаще всего исполнялись светильни-
ки, которые, подобно моделям построек, отличаются вну-
шительностью размеров (1 м и более) и чрезвычайной слож-
ностью художественного оформления. В них представлено,
как правило, могучее древо с распростертыми ветвями, на
которых показаны силуэтные или трехмерные изображе-
ния листьев, цветов, птиц, иногда божественных персона-
жей, которые без труда, благодаря их иконографическим
приметам, отожествляются с бессмертными-ся/іялш. Ниж-
няя часть этих светильников-деревьев обычно сделана в
виде холма (горы), на склонах которого размещены горель-
ефные и трехмерные фигурки диких и домашних живот-
ных. Эти художественно-композиционные особенности по-
зволяют трактовать светильники в качестве изображений
Древа бессмертия. Одновременно они обнаруживают мор-
фологическое сходство с саньсиндуйскими бронзовыми мо-
делями деревьев, усиленное в тех случаях, когда они явно
имитируют металлическую конструкцию: ствол и ветви как
бы сделаны из набора труб. Хотя исполнение светильни-
234
ков-деревьев практиковалось в различных регионах Ки-
тая, чаще всего они присутствуют именно в сычуаньских
захоронениях.
Аналогичны саньсиндуйским артефактам бронзовые
модели деревьев (высотой 1 м и более), одной из художе-
ственно-композиционных особенностей которых являются
прикрепленные к ветвям кружки, напоминающих монеты,
поэтому они обозначаются как «денежные деревья». На
самом деле есть немало оснований усматривать в этих круж-
ках изображения плодов, которые, по китайским мифоло-
гическим представлениям, имелись на волшебных расте-
ниях, дарующих бессмертие. Правомерность указанной
трактовки подтверждается включением персонажей, свя-
занных с идеей бессмертия, в композицию этих деревьев.
«Денежные деревья» также присутствуют преимуществен-
но на юго-западе и в прилегающих к Сычуани районах
(Шэньси).
Помимо их значимости как художественных произве-
дений, светильники-деревья и «денежные деревья» — это
весомое свидетельство распространения в ханьских рели-
гиозных представлениях верований, связанных с идеей об-
ретения бессмертия.
Следующим важнейшим видом древнекитайского куль-
тового искусства является каменная монументальная
скульптура.
Сычуанъская пластика.
Середина Хань.
Окрестности Чэнду
a — 22,5 cm; б — 19,5 см.; в —
25 см: 1 — вид сбоку, 2 — вид
сзади; г — 37 см; д — 13,4 см;
е — 33,7 см; ж — 9 см; .? — ста-
туэтки обнаженных всадниц; и —
светильник с фигурами всадниц;
к — керамическая подставка в
виде пластической композиции
на зооморфно-фантазийные темы:
1 — вид сбоку, 2 — вид спереди.
Светильники-деревья
a — светильник-дерево с фигура-
ми бессмертных-слн^іѴ (окрестно-
сти Лояна); б — светильник-де-
рево, имитация бронзовой кон-
струкции.
«Денежное дерево».
Пров. Шэньси. 93,5 см
235
Монументальная
скульптура
69 Генерал Хо Цюйбин —
знаменитый и авторитетней-
ший исторический деятель,
несмотря на свой юный воз-
раст (он умер, когда ему едва
исполнилось 24 года), почита-
ется одним из самых выдаю-
щихся полководцев Китая.
Племянник (по материнской
линии) прославленного ран-
неханьского полководца Вэй
Цина> он входил в ближай-
шее окружение императора
У-ди, в 18 лет одержал свою
первую победу над гуннами и
вскоре был назначен коман-
дующим кавалерией. На про-
тяжении последующих шести
лет он одержал еще ряд блес-
тящих побед над гуннами, ко-
торые во многом переломили
ход военной компании, нача-
той У-ди, в пользу китайцев
и предопределили ее оконча-
тельный триумф. Он умер в
походе, сраженный внезап-
ной болезнью, и его кончина
потрясла У-ди. Горько опла-
кивая своего любимца, У-ди
замыслил в память о нем воз-
двигнуть необычный погре-
бальный памятник, символи-
зирующий гору Щилян), воз-
ле которой тот одержал одну
из самых громких своих побед
(по другим версиям, скончал-
ся от болезни). To есть исто-
рия создания погребального
скульптурного ансамбля Хо
Цюйбина, как и возникнове-
ние всей традиции китайской
погребальной монументаль-
ной скульптуры, возводится
в китайских источниках к за-
мыслам и художественному
воображению лично У-ди.
Проблемы происхождения китайской монументальной
скульптуры подробно рассматривались в рассказе о «гли-
няной армии» Цинь-ши-хуан-ди. Высказывалось предпо-
ложение о том, что стадиально первой ее разновидностью
была металлическая (бронзовая) пластика, которая восхо-
дит к искусству Саньсиндуя. В собственно китайской ху-
дожественной культуре она утвердилась, видимо, к концу
Чжоу. Истоки каменной монументальной скульптуры
практически не прослеживаются, если не считать легенд
о чжоуских чудо-мастерах, умевших ваять гигантские изоб-
ражения прямо из скальных выступов. Ее первые извест-
ные на сегодня образцы относятся ко II в. до н. э., и вхо-
дят они в один художественный комплекс. Речь идет об
изваяниях из погребения генерала Хо Цюйбина (140-
117 гг. до н. э.) в общей кладбищенской композиции, ко-
торая примыкает к усыпальнице императора У-ди и рас-
положена в 1 км к северо-востоку от нее69. Всего насчиты-
вается 16 изваяний, 7 из которых были относительно
недавно (1957 г.) извлечены из земли. По одним предпо-
ложениям, исходно все они были расставлены перед мо-
гильным холмом, в неизвестном порядке; по другим — на
его склонах. Изваяния высечены из гранитных глыб с
помощью металлических инструментов (см. вклейку). Каж-
дая скульптура Хо Цюйбина своеобразна и воспроизводит
отдельный персонаж или сюжет. Это, во-первых, фигуры
лежащих быка (длина 260 см, ширина 160 см), тигра
(200 х 84 см), лошади (163 х 62 см) и слона, скорее сло-
ненка (длина 189 см, ширина 58 см, высота 58 см). Во
всех четырех скульптурах намечены общие контуры изоб-
ражений с более детальной проработкой голов. Показаны
уши, глаза, ноздри, пасти, в фигуре слоненка — длинный
хобот опущен на передние ноги, что придает ей оттенок
трогательной беззащитности. Кроме того, фигура слонен-
ка выполнена из глыбы, по цвету (темно-серый) и факту-
ре (гладкая поверхность) совпадающей с природной внеш-
ностью слона. Во-вторых, фигуры жабы (длина 154 см,
ширина 107 см, высота 74 см), лягушки (длина 285 см,
ширина 215 см) и рыбы (длина 110,5 см, ширина 41 см,
высота 70 см), представляющих собой, в сущности, ог-
ромные валуны, на поверхности которых едва намечены
резными контурными линиями очертания этих изображе-
ний. При этом фигура жабы выполнена из явно подобран-
ного для нее камня — темно-зеленого оттенка и испещ-
ренного прожилками. В-третьих, своего рода сюжетные
пластические композиции: чудовище пожирает овцу (длина
274 см, ширина 280 см); обезьяна борется с медведем (вы-
сота 277 см, ширина 172 см), конь топчет варвара-«гун-
на» (высота 114 см, длина 260 см). В первом из перечис-
ленных изваяний воспроизведена фигура чудовища с ко-
ротким туловищем, длинными ногами и парой рогов —
оно держит в клыках овцу (ее изображение сохранилось
крайне плохо). Во втором изваянии показана тоже чудо-
вищной внешности обезьяна, напоминающая гориллу, под-
поясанная типичным для китайского мужского костюма
236
поясом. Двумя могучими лапами она сжимает медведя,
тот отчаянно сопротивляется: несмотря на условность ма-
неры исполнения, данная композиция великолепно пере-
дает накал борьбы между персонажами. Конь, топчущий
«варвара», — изваяние, которое справедливо считается
одним из лучших художественных произведений данной
серии. Частично исполненное в технике рельефа, мастерс-
ки, не без доли выразительности оно изображает напрягше-
еся в ярости животное и, в более экспрессивной и детализо-
ванной манере, — объятого ужасом человека под могучи-
ми конскими копытами. В-четвертых, изваяние фигуры
стоящего человека (высота 222 см, ширина 120 см), с че-
ресчур массивной для естественных пропорций головой,
на лице, которого отчетливо видны большие, широко от-
крытые глаза и словно растянутый в ухмылке рот. Про-
чие скульптуры сохранились настолько плохо, что не под-
даются опознанию.
Тем не менее эти изваяния по многим позициям реши-
тельно отличаются от погребальных стандартов и художе-
ственных стереотипов того времени. Мы впервые сталки-
ваемся с ситуацией, когда скульптурные изображения раз-
мещены не под землей, a вынесены на ее поверхность,
неважно, стояли они перед могильной насыпью или на ее
склонах. Тематика изваяний в ряде случаев совпадает с
принятыми для древнекитайского искусства мотивами и
образами. Te же фигуры быка, слона, тигра, рыбы, ля-
гушки и жабы не только полностью соответствуют харак-
терной для него зооморфной образности, но и даны в ху-
дожественных трактовках, которые в целом совпадают с
их бронзовыми и нефритовыми изображениями. Компо-
зиция, воспроизводящая образ чудовища, пожирающего
овцу, может быть сопоставлена со скифо-сибирскими ор-
наментальными «сценами терзания». Однако изваяния
обезьяны, борющейся с медведем, и коня, топчущего «вар-
вара», не имеют даже отдаленных аналогов в известных
образцах древнекитайского декоративно-прикладного и
изобразительного искусства, причем сам по себе образ коня
был чрезвычайно распространен в ханьском погребаль-
ном художественном творчестве. И наконец, число скулыі-
тур 16 — не укладывается ни в одну из принятых в древ-
некитайской культуре нумерологических схем, которые
собственно и определяли собой семиотику местных погре-
бений, равно как и любых типов построек и архитектур-
ных ансамблей, и, действительно, могут рассматриваться
в качестве произведений, зачинающих собой представлен-
ную художественную традицию.
На протяжении I—II вв. н. э. монументальная камен-
ная скульптура постепенно превратилась в органическую
принадлежность художественного оформления надземной
части китайских погребений. Отныне стали исполняться
парные изваяния, которые ставились по бокам от главного
прохода, ведущего к могиле и совместно с другими камен-
ными конструкциями (стелы, пилоны, арки — подробно
см. далее) образовывали так называемую аллею духов,
Изображения
«крылатых существ»
в древнекитайском
искусстве
a — позднеиньский бронзовый
сосуд; б — роспись на модели ко-
лодца (I в. н. э., пров. Хэнань).
ставшую со временем обязательной принадлежностью им-
ператорских погребальных комплексов. Раннеханьская по-
гребальная каменная скульптура сводится к изображени-
ям одного-единственного персонажа — фантастического
существа, называемого в оригинальной терминологии «хи-
мера» (бисе). В русскоязычной специальной литературе
он нередко обозначается как «крылатый лев», что проти-
воречит и иконографическим особенностям данного типа
изображений, и историко-художественным реалиям: об-
раз льва, о чем подробно будет говориться в следующей
части этой книги, утвердился в китайском искусстве поз-
же и никогда не приобретал в нем подобной — с крылья-
ми — трактовки. Сейчас известно несколько образцов ка-
менных «химер», обнаруженных в Шаньдуне, Хэнани и
Сычуани — все датируются второй половиной II в. и са-
мым началом (209 г.) III в. н. э. В письменных памятни-
ках сообщается, что такие скульптуры входили и в погре-
бальный ансамбль императора Гуан-у-ди. Сказанное озна-
чает, что к концу Хань практика создания погребальной
каменной скульптуры уже бытовала в самых разных ре-
гионах страны и что она могла вводиться в художествен-
ное оформление как императорских усыпальниц, так и
погребений знати.
«Химеры», подобно изваяниям Хо Цюйбина, имеют
внушительные размеры: самые масштабные фигуры (Хэ-
нань, 167 г.) достигают в высоту 114 см, в длину — 175 см
и в ширину — 45 см. В них показано существо, производ-
ное от образа хищного зверя из семейства кошачьих, но,
повторим, не льва, a похожего на тигра или леопарда,
которое снабжено рогом на голове, длинной извивающейся
бородой и птичьими крыльями. Задние ноги и хвост обыч-
но покрыты (через низкий рельеф) перьями. Специфиче-
скими чертами иконографии ханьских «химер» являются
также поза идущего зверя, характерный S-образный изгиб
тела и устрашающе оскаленная пасть.
Происхождение образа «химеры» активно дискутирует-
ся специалистами. В современной научной литературе пре-
обладает точка зрения об их чужеземных истоках и морфо-
логических связях со скифским анималистическим стилем
или с древневосточным и ближневосточным искусством.
Имеются в виду скульптурные изображения «крылатых чу-
довищ» Ассирии и Персии, словесные описания (или обра-
зы, воспроизведенные в изделиях декоративно-прикладного
искусства) которых могли проникнуть в Китай через Сред-
ний Восток (Персию). Впервые образ «химеры» был исполь-
зован в китайском искусстве при Ранней Хань. Найдено
(1972 г.) несколько нефритовых статуэток (длина 9,3 см),
совпадающих по иконографии с каменными бисе, которые
были обнаружены, что особо примечательно, на территории
Шэньси, т. е. в месте прохождения Великого шелкового пути.
Однако следует иметь в виду, что образ крылатых фантасти-
ческих существ был издавна хорошо знаком и собственно
китайскому художественному творчеству. На всем протяже-
нии иньской и чжоуской эпох мы встречаемся, пусть даже
238
эпизодически, с теми или иными его морфологическими
вариантами: аньяновские сосуды в виде фигуры крылатого
волка, глиняная модель из Хоума для отливки сосуда-скульп-
туры, изображающей крылатого тигра, чжуншаньская ста-
туэтка дракона, имеющая, кроме того, аналогичный S-образ-
ный изгиб тела и оскаленную пасть. В ханьском изобрази-
тельном искусстве тоже постоянно фигурируют крылатые
фантастические создания во главе с драконом и волшебным
Белым тигром (подробно см. глава б). Так что образ «химе-
ры» возник, скорее всего, в результате наложения чужезем-
ного художественного образа на типологически сходные с
ним местные иконографические разработки.
Кроме «химер» для Поздней Хань известны и образцы
каменной монументальной скульптуры, одна из которых,
датируемая 118 г. н. э., сохранилась в конфуцианском хра-
ме Чжунъюэмяо, расположенном в горном массиве Сун-
шань (провинция Хэнань). Высеченная из каменной глы-
бы и выполненная в весьма условной манере, она воспроиз-
водит фигуру стоящего воина, руки которого сложены на
груди и опираются на вертикально поставленный меч —
такая поза в дальнейшем станет типичной для погребаль-
ной антропоморфной скульптуры. Голова изображения от-
личается массивностью, лицевые черты — глаза, нос, рот
и уши — даются в общих контурах (в рельефе) и произво-
дят впечатление застывшей маски. К какому классу па-
мятников изначально относилось это изваяние — к погре-
бальному или храмовому ансамблю — неясно.
Очевидно, что создание скульптуры Хо Цюйбина, не
говоря уже о позднеханьских «химерах», было возможным
только при условии существования при Хань художествен-
ной пластической школы. Действительно, в ханьских и
последующих письменных источниках неоднократно упо-
минается о металлических — бронзовых и позолоченных
бронзовых — изваяниях, которые входили в архитектур-
ные ансамбли и ставились по два перед входом в здание.
Особый интерес представляет крайне лаконичное описание
парка, разбитого при императоре У-ди в окрестностях сто-
лицы. Говорится, что на его аллеях были установлены скульп-
турные изображения (без уточнения материала) зооморфно-
фантастических существ, почитаемых покровителями и сим-
волами четырех частей света («четыре духа», подробно
см. глав.\ б). Это сообщение тем более интересно, так как в
нем зафиксировано, что в Древнем Китае имелась парковая
скульптура, традиция которой впоследствии была утрачена.
Итак, мы имеем все основания говорить, что древнеки-
тайское художественное творчество располагало достаточ-
но развитым пластическим искусством, в котором были
освоены способы работы как с металлом, так и камнем.
Оно было способно создавать самые различные по размеру
и тематике произведения — от миниатюрной до подлинно
монументальной скульптуры, a также изображения зоо-
морфных, фантазийно-зооморфных персонажей и людей.
Художественное оформление самих погребений осуществ-
лялось с помощью рельефов и стенописей.
ь
X
Изваяния «химер»
и аллея духов
Каменное изваяние воина
из храма Чжунъюэмяо
239
Художественные
рельефы
Шаньдунский
каменный рельеф
раннеханьского периода
Художественные рельефы имеют два технико-художе-
ственных вида — выполненные на камне и керамических
плитах. Традиция каменных рельефов зародилась, судя по
всему, в восточном регионе, в Шаньдуне. Во всяком случае,
именно там обнаружены самые ранние образцы, которые
восходят еще к Ранней Хань. Следует признать, что на об-
щем фоне искусства того времени они отличаются редким
примитивизмом и напоминают изображения, создаваемые в
рамках едва ли не первобытного творчества. Был ли гюдоб-
ный примитивизм отличительным признаком данного вида
погребального искусства на начальном этапе его формирова-
ния, либо он был обусловлен какими-то другими фактора-
ми — ответить однозначно на этот вопрос невозможно ввиду
единичности произведений.
Ko II в. каменные рельефы превратились в неотъемле-
мую часть ханьского погребального искусства. Первые ре-
конструкции истории их развития были произведены на
материале шаньдунских погребений, среди которых наи-
большей известностью в мировом искусствоведении (прежде
всего, вследствие их самого раннего обнаружения) пользу-
ются храм У Ляна (Улянцы) и Инаньская гробница. «Храм
У Ляна» — семейное погребение аристократического семей-
ства У, состоящее из трех отдельных захоронений, датируе-
мых 147,151и168гг. «Инаньская гробница», относящаяся
к концу II в. или даже к концу III — началу IV в., представ-
ляет собой настоящий подземный дворец из восьми отдель-
ных помещений (включая боковые проходы), стены кото-
рых выложены каменными плитами (необязательно укра-
шенными рельефами). Погребальная камера образована
огромным залом со сводами, опирающимися на массивные
каменные колонны. За последние полвека на территории
Шаньдуна было вскрыто немало и других захоронений, под-
робно перечислять которые мы не будем, так как они в
целом совпадают по конструктивно-художествеыным прин-
ципам с «храмом У Ляна» и «Инаньской гробницей».
Одной из особенностей шаньдунских погребений явля-
ется включение в их ансамбль надземных конструкций —
пилонов (колонноподобных каменных сооружений) и цы-
танов — святилищ, сложенных из каменных плит. В под-
земных камерах рельефы обычно исполнялись почти на
всех их конструктивных элементах — на стенах, потолке,
поперечных балках, обрамлении внутренних дверей и вне-
шних дверных створках гробниц. Однако если возводились
цытаны с рельефами, то подземные помещения, как пра-
вило, имели более скудное художественное оформление.
Главной формальной особенностью шаньдунских релье-
фов признается легкорельефность изображений: фигуры едва
выступают над уровнем фона, что в некоторых случаях де-
лает их внешне похожими на изображения, выполненные в
технике гравировки. Одновременно прослеживается несколь-
ко этапов в эволюции местной камнерезной техники. На
протяжении I в. рельефы исполнялись преимущественно
углубленной линией или методом контррельефа. Начиная
приблизительно с 80-х гг. I в. и до начала II в. популяр-
240
Инаньская гробница
ность приобрели выпуклые фигуры, затем установилось со-
четание линеарной резьбы с выпуклым рельефом.
Тематика изображений во многом определялась родом
занятий и официальным положением усопшего. Тем не
менее в ней существовал универсальный набор сюжетов,
который имеет серию относительно самостоятельных тема-
тических групп: рельефы со сценами из жизни усопшего,
на придворно-бытовые (сцены пиршественных трапез, вы-
езда колесниц), батальные, историко-легендарные (иллю-
страции к эпизодам национальной истории и портреты ис-
торико-легендарных личностей, начиная с древних совер-
шенномудрых государей), ритуальные (воспроизведение
сцен ритуально-карнавальных шествий и других обрядо-
вых церемоний) и религиозно-мифологические темы. В по-
следней из перечисленных тематических групп показыва-
ются картины «иного мира», которые могут включать в
себя изображения собственно божественных персонажей,
пребывающих в небесных сферах, или же сводиться к пе-
редаче фантастических существ, нередко борющихся друг
с другом. Местоположение рельефов подчиняется опреде-
ленным семиотическим правилам. Центральное место в ху-
дожественной композиции погребальной камеры обычно
занимают так называемые сцены с павильоном, состоящие
из нескольких фигур людей, которые истолковываются в
качестве изображений предков, родственников и друзей усоп-
шего, как бы собравшихся вместе для его проводов в послед-
ний путь. Все эти фигуры отличаются иконографической
однотипностью и условностью, и никто из входящих в дан-
ную сцену персонажей не выделяется ни композиционно,
ни портретно. Сцены на придворно-бытовые и батальные
темы оказываются, как правило, вспомогательными по от-
ношеник. к «сцене с павильонами». Наибольшей живости и
выразительности в них обычно исполнены изображения ло-
шадей, показываемых чаще в динамике, тогда как антропо-
морфным фигурам, помимо стандартизованности, свойствен-
на статичность. Рельефы на историко-легендарные темы
тоже размещаются на поверхности стен, a сцены, включаю-
щие в себя изображения божественных персонажей и ми-
фологических существ, — на плафонах, верхних частях
стен и подпотолочных перегородках. Указанные семиоти-
ческие правила соответствуют космологическим представ-
лениям китайцев об иерархическом устройстве вселенной,
в которых божественный мир строго соотносится с верхом.
16 Исторпя искусства Китая
Каменные пилоны
с пластическим
художественным
оформлением.
Пров. Сычуань
Примечательна также тенденция к горизонтальному распо-
ложению сцен и к их дроблению на отдельные сюжетные
сегменты, которые могут сопровождаться пояснительными
надписями. Подобное композиционное построение и сочета-
ние собственно художественных фрагментов с надписями в
дальнейшем будет широко использоваться и в китайской
станковой живописи.
Помимо ІПаньдуна, погребения с каменными рельефа-
ми получили распространение во многих других регионах
Китая: в центральных районах (Хэнань и прилегающие к
ней части Шаньси и Шэньси), на юго-востоке (Цзянсу,
Аньхуэй), на юге (Хубэй), a также в крайних по отноше-
нию к тогдашней метрополии периферийных северо-вос-
точных (Ляонин) и северо-западных (северо-западная ок-
раина Шэньси и южная часть Ганьсу) районах. На сегодня
известны уже более 1000 таких памятников, и их число
неизменно возрастает.
Дать полный анализ всех региональных стилистиче-
ских традиций в рамках этой книги невозможно. Отметим
лишь наиболее существенные специфические особенности.
Так, юго-восточным и южным рельефам была присуща не-
сколько большая, чем восточным, декоративность и фанта-
зийность. В местных погребениях нередко присутствуют
развернутые многофигурные картины, в которых сцены из
жизни людей дополняются изображениями фантастических
существ. Декоративность рельефов создается за счет прора-
ботанности деталей изображений и насыщения их орна-
ментальными элементами.
Каменные рельефы
(оформление дверей)
центральных
регионов Китая
a — пров. Шэньси; б -
Шаньси.
пров.
242
Каменное рельефное паино.
Усыпалъница
Хуайянского принца
Юго-восточныіХ каменныіі
релъеф. Пров. Цзянсу
Для погребального искусства центральных регионов,
напротив, характерна фрагментарность и стереотипность
рельефов с точки зрения как их семиотических, так и те-
матических особенностей. Чаще всего они размещались
только на створках дверей, ведущих в погребения, и состоя-
ли из однородных композиций, включающих в себя фигу-
ры фантастических птиц и зооморфно-фантазийные личи-
ны, принимаемые за изображения духов-охранников мо-
гил. Изображения людей и сцены на придворно-бытовые
темы (выезд колесниц) если и исполнялись, то по бокам от
дверей и над ними, занимая, таким образом, вспомогатель-
ное место по отношению к названным центральным моти-
вам. В технике резьбы преобладают линеарные линии.
Специфическую по сравнению с рельефами всех других
регионов технико-стилистическую линию демонстрирует
погребальное искусство южной части Хэнани, в первую
очередь художественное оформление погребений, сосредо-
точенных в Наньяне (на юго-западе Хэнани). Впервые об-
наруженные в 1923 г., наньянские рельефы включают в
себя развернутые сцены, выполненные на достаточно высо-
ком художественном уровне и воспроизводящие главным
образом мифологические и ритуальные сюжеты. Иной тип
рельефов был найден в уже упоминавшейся усыпальнице
Хуайянского принца: настенные картины, выполненные,
судя по сохранившимся фрагментам, в тончайшей технике
резьбы и воспроизводившие композиции, близкие по тема-
тике и трактовкам персонажей к будущей бытоописатель-
ной живописи.
Накоолее явным морфологическим прототипом погре-
бальных каменных рельефов являются, конечно, орнамен-
тально-сюжетные композиции на позднечжоуских бронзо-
вых сосудах. Однако и в данном случае есть веские основа-
ния думать, что истоки этого вида погребального искусства
не ограничивались древними бронзами и что параллельно
с ним бытовали его светские аналоги — деревянные и ка-
менные композиции, которые включались в художествен-
ное оформление строений. Такого рода декоративные эле-
менты нередко показываются на моделях построек. Кроме
того, до нас дошло несколько пилонов, входивших в свет-
ские архитектурные ансамбли, — их верхняя часть богато
243
украшена пластическими композициями, образованными
барельефными и горельефными фигурами, которые могут
воспроизводить как детали деревянных архитектурных
конструкций, так и самостоятельные художественные сце-
ны с включением в них растительных мотивов и зооморф-
ных изображений. Более того, по технике резьбы и по их
общему художественному уровню эти образцы ханьского
камнерезного искусства не только не уступают, но и пре-
восходят погребальные рельефы.
Исполнение керамических рельефов, равно как и на-
стенной живописи, стало возможным благодаря использо-
ванию в погребальном строительстве кирпича. Термин «кир-
пич» предельно условен, так как исходно это были полые
изнутри керамические блоки, имевшие длину до полутора
метров. Кирпичные гробницы (т. е. подземные помещения
со стенами, облицованными керамическими блоками) по-
явились в Китае еще в конце Чжоу и к позднеханьскому
периоду уже практически полностью вытеснили собой гроб-
ницы с земляными стенами и деревянными конструкция-
ми. Приблизительно в I в. керамические блоки дополни-
лись натуральным кирпичом, шедшим на облицовку пола
и стен вспомогательных помещений.
Художественное оформление гробниц посредством ке-
рамических плит, украшенных рельефами, было типич-
но для погребальной обрядности Сычуани и соседних с
ней районов Хэнани. Хотя по своей тематике и компози-
ционным принципам керамические рельефы в целом со-
впадают с каменными, между ними обнаруживается ряд
значительных содержательных и морфологических раз-
личий. Заметно болыную, чем в каменных рельефах, по-
Сычуаньские
керамические рельефы
a — сцена в гончарной мастер-
ской; б — сцена выезда колесниц;
в — сцены охоты и сельскохозяй-
ственных работ.
244
пулярность в них получают сцены на бытовые темы: те-
атрализованные и акробатические представления, охота,
сельскохозяйственные и производственные (например,
добыча соли) работы и городская жизнь. Есть, скажем,
рельефы, изображающие лавки с доскональной переда-
чей всех продаваемых в них изделий, или процесс изго-
товления вина, который тоже показывается в передаче
мельчайших деталей соответствующих приспособлений.
Чем объясняется подобный интерес сычуаньского погре-
бального искусства к повседневной жизни и к самым,
казалось бы, обыденным ее эпизодам, остается неясным.
Однако не будет болыпим преувеличением сказать, что
эти рельефы являются непосредственными предшествен-
никами жанровой живописи.
Сами изображения тоже отличаются более заметной,
чем любые региональные варианты каменных рельефов,
детализованностью, динамичностью, пластичностью и изя-
ществом. Такие художественные особенности проистека-
ют, разумеется, из естественных свойств керамического
материала и техники лепки вместо резьбы по камню. Вме-
сте с тем они как нельзя лучше отвечают той общей стили-
стической линии, которая отчетливо прослеживается во
всех других видах юго-западного погребального искусства,
что позволяет говорить о самобытном художественном на-
правлении в данном регионе. Особый интерес среди сычу-
аньских рельефных произведений вызывает так называе-
мый портрет госпожи Чжао (II в.), который, как гласит
пояснительная надпись к нему, был прижизненным изоб-
ражением падчерицы усопшей. С объективной точки зре-
ния, отнести его к собственно портрету при всем желании
невозможно. Он выполнен настолько в условно-стилизо-
ванной манере, что атрибутировать его в качестве такового
позволяет только пояснительная надпись. Тем не менее
«портрет госпожи Чжао» есть одно из первых, если не
самое раннее, в истории китайского изобразительного ис-
кусства достоверное портретное изображение.
Морфологическим аналогом художественных рельефов
выступает настенная живопись.
Кирпичная гробница.
Окрестности Лояна
Погребальная монументальная живопись проявила себя
еще в конце раннеханьского периода в культовом искусстве
центрального региона Китая. Ее древнейшими образцами
сегодня прйзнаются стенописи в одном из погребений из
окрестностей Лояна, относящемся к 48-8 гг. до н. э. Сто-
личный регион — при Поздней Хань столица была перене-
сена из Чанъани в город, находившийся на месте совре-
менного Лояна, — оставался главным центром живописно-
го погребального искусства на всем протяжении I—II вв. —
главным, но далеко не единственным. Стенописи активно
исполнялись и в периферийных северо-западных (Ганьсу),
северных (Внутренняя Монголия) и северо-восточных (Ляо-
нин, Хэбэй, северная окраина Шаньдуна) районах империи.
К настоящему времени открыто уже в общей сложно-
сти более 200 гробниц со стенописями, которые позволяют
Стенописи
245
Лоянские
стенописные картины.
Конец Ранней Хань
70 Самым известным при-
мером подобных стенописей
является одна из лоянских
гробниц, стены погребальной
камеры которой были обли-
цованы 64 расписными кир-
пичами с изображениями жи-
вотных, сцен охоты и сель-
скохозяйственных работ. Все
они выполнены в полихром-
ной технике с преобладани-
ем зеленого и нежно-розово-
го тонов. Вне столичного ре-
гиона подобное оформление
погребений наиболее прижи-
лось в Ганьсу. Только в одном
из местных кладбищ (II—IV вв.,
основные работы 1972 г.) было
обнаружено несколько сотен
расписных кирпичей со сце-
нами пиров, охоты, сельско-
хозяйственных и ремеслен-
ных работ, тоже выполнен-
ных в полихромной технике
и близких по стилистике к сто-
личным погребальным карти-
нам. Сразу же обратим вни-
мание на широкое распрост-
ранение в этих стенописях,
подобно юго-западным кера-
мическим рельефам, произве-
дений на повседневно-быто-
вые темы.
71 Такую картину, полу-
чившую в специальной лите-
ратуре название «Беседующие
господа», мы видим, напри-
мер, на подпотолочном фризе
(высота 19 см, длина 240 см).
Перед зрителем разворачива-
ется выразительная повество-
вательная сцена, состоящая
из множества фигур, пока-
занных в различных позах и
ракурсах. Изображения вы-
полнены скользящими, слов-
но нанесенными второпях, но
изящными и уверенными кал-
лиграфическими линиями,
придавая им особую непри-
нужденность и раскованность.
Трудно даже поверить, что
это — произведение погребаль-
ного, a не светского изобрази-
тельного искусства.
в деталях воссоздать технико-художественные особенности
этого вида китайского погребального искусства.
Стенописная живопись подразделяется по технике ис-
полнения на две главные разновидности: картины, испол-
ненные по отдельному керамическому блоку и собственно
стенописные картины. В первом случае на каждый кирпич
наносилась самостоятельная живописная композиция —
от изображений единичных фигур людей или животных до
развернутых сюжетных сцен70.
Собственно стенописные картины исполнялись по грун-
товой поверхности. Поверх кирпичной кладки наносился
толстый слой глинистой смеси с высоким содержанием
гипса. Роспись шла исключительно по сухой поверхно-
сти, чем китайские стенописи принципиально отличают-
ся от фресок, хотя термин «фрески» нередко к ним приме-
няется в специальной литературе. Создание картины вклю-
чало в себя несколько живописных операций, которые
осуществлялись в строго определенном порядке. Вначале
на фоновую основу красной краской наносились контуры
изображений. Затем они раскрашивались цветными крас-
ками. В общей сложности отмечено использование пяти
тонов и оттенков: красного, голубого, желтого, зеленого и
коричневого. После раскраски контуры обводились чер-
ной линией.
В отличие от картин на кирпичах собственно стенопис-
ные произведения по содержанию и композиционному по-
строению тяготеют к каменным рельефам. В них варьиру-
ются, в основном, сцены на придворно-бытовые, истори-
ко-легендарные и религиозно-мифологические темы с
тенденцией к их горизонтальному расположению и сег-
ментному членению. По мере эволюции монументальной
живописи набирал силу процесс усложнения композици-
онного построения произведений, в том числе за счет воз-
растания плотности художественного пространства, кото-
рый сопровождался ростом популярности сцен жанрово-
повествовательного характера и усилением индивидуальных
черт в изображениях персонажей. Излюбленным мотивом
погребальных стенописей стали «сцены процессий», в ко-
торых показывались фигуры следующих друг за другом
или участвующих в одном действии людей71.
Непревзойденным шедевром позднеханьской погребаль-
ной живописи признается «Галерея чиновников» — карти-
на, открытая (1952 г.) в погребении на территории уезда
Ванду (Хэнань, см. вклейку). Она расположена в верхней
части стены коридора, ведущего к погребальной камере, и
состоит из фигур людей, облаченных в ритуально-парад-
ные одеяния и как бы образующих медленно шествующую
246
к телу усопшего процессию. Обведенные черными контур-
ными линиями, фигуры раскрашены красной, голубой и
желтой красками. Трактовки персонажей довольно стан-
дартны, однако каждый из них наделяется определенными
индивидуальными чертами. Более того, передается их пси-
хологическое состояние, соответствующее ситуации: на
лицах печать скорби. Их позы естественны и раскованны.
Художественные достоинства этого произведения дали ос-
нование специалистам утверждать, что к концу ханьской
эпохи в китайской погребальной живописи сложилась под-
линная концепция портрета.
Для периферийного погребального живописного искус-
ства особо выделяются росписи в гробнице, открытой на
территории провинции Ляонин еще в 1944 г. Все стены ее
погребальной камеры от пола до потолка покрыты стено-
писными картинами. Одну из стен (длина 200 см, высота
130 см) украшали три расположенных друг над другом
горизонтальных фриза, содержащие в себе изображения
23 человеческих фигур. На верхнем фризе был представ-
лен оркестр из четырех музыкантов, на двух других —
сцены акробатических зрелищ и танца, исполняемого
танцовщицами. По своей масштабности и композицион-
ной сложности ляонинские стенописи не имеют аналогов
среди столичных погребальных произведений. Возникает
парадоксальная ситуация: неужели периферийное погре-
бальное искусство в действительности по темпам своего
развития обгоняло искусство метрополии? И это далеко
не единственный парадокс, с которым мы сталкиваемся
при изучении ханьского художественного творчества.
В специальной литературе давно уже было подмечено,
что дошедшие до нас произведения — и погребальная пла-
стика, и каменные рельефы или стенописные картины —
кажутся по сравнению с изысканным великолепием поздне-
чжоуских изделий грубоватыми и примитивными. Слов-
но при Поздней Хань местное искусство оказалось в ста-
дии деградации. В плоскостных и скульптурных изобра-
жениях (за исключением, пожалуй, только «сычуаньского»
стиля) доминируют квадратные или треугольные формы.
Пропорции зачастую откровенно нарушаются, позы ока-
зываются чересчур статичными или неестественными.
В результате нередко делается вывод об оживлении в поздне-
ханьском художественном творчестве неких архаических
эстетичесі-их установок, которые внешне уже полностью
себя изжили в древнекитайской художественной культуре
Стенописи на зооморфно-
фантазийную тему.
Поздняя Хань.
Окрестностпи Лояна
247
72 В том числе сохранились
развернутые описания храмо-
вых и дворцовых стенописных
произведений, одно из кото-
рых приводится в поэме «Ода
о Дворце чудесного сияния»
(«Лингуандянъ фу>) известно-
го ханьского поэта Ван Янъ-
шоу (II в.). В ней рассказыва-
ется о дворце, воздвигнутом
на родине Конфуция (в окре-
стностях Цюйфу) очередным
правителем этой местности —
сыном императора Цзин-ди,
т. е. в середине II в. до н. э.
Согласно этой поэме, помеще-
ния дворца — залы и коридо-
ры — были украшены гигант-
скими стенописными картина-
ми, «воспроизводящими Небо
и Землю, всех населяющих их
тварей и людей, a также ду-
хов рек и гор и морских чу-
дищ». Были там и картины,
повествующие, по словам по-
эта, об истории возникнове-
ния вселенной и о важнейших
событиях в мире людей и в
мире богов. Сходные по сю-
жетам и масштабу стенопис-
ные картины украшали, если
верить литературным памят-
никам, и государственное свя-
тилище царства Чу.
к концу Чжоу и теперь вдруг почему-то реализовались с
новой силой.
Удивляет и такая особенность позднеханьского погре-
бального искусства, как отсутствие в нем портретов само-
го усопшего. В числе возможных причин называются и
специфика древнекитайских анимистических представ-
лений, и неразвитость традиции станковой живописи,
включая непосредственно портрет. 0 подлинном состоя-
нии древнекитайской станковой и светской живописи речь
пойдет ниже. Сейчас выскажем предположения, что ука-
занные парадоксы на самом деле проистекают из приро-
ды погребального искусства. He располагая даже при-
близительным подобием художественно-эстетического ка-
нона, который был свойствен культовому искусству других
народов мира (например, древнеегипетскому), погребаль-
ное искусство Древнего Китая должно было сохранять
собственную специфику, для этой цели самый доступный
путь — использовать художественные архаизмы. Но дан-
ная версия имеет право на существование только в том
случае, если мы представим исчерпывающие доказатель-
ства наличия иных художественных традиций в хань-
скую эпоху, превосходящих по уровню своего развития
погребальное искусство этого периода. Высказанные ра-
нее гипотезы о существовании при Хань светской мону-
ментальной скульптуры и художественных рельефов ос-
новывались лишь на свидетельствах письменных источ-
ников. Такие же сведения сообщаются в них и для
стенописной живописи, которая тоже возводится к чжо-
уской эпохе72.
На этот раз письменные свидетельства подтвердились
археологическими материалами, a именно: фрагментами
настенных росписей дворца Цинь-ши-хуан-ди. На них со-
хранились полные или частичные изображения колесниц,
стражников, растений и животных, которые, вероятно,
образовывали многофигурные и панорамные картины кор-
тежей и придворных сцен на фоне паркового ансамбля
или охотничьих угодий. Фигуры людей и животных вы-
полнены, как и в погребальных стенописях, контурными
черными линиями и раскрашены в несколько цветов. A bot
рисунки растений — в технике цветового пятна, ею по-
гребальная живопись практически не пользовалась. Бо-
лее того, некоторые изображения оказались исполнены в
технике, считавшейся прежде исключительно живопис-
ной и изобретенной не ранее VII-VIII вв.: она позволяла
путем сочетания линеарной линии и цветового пятна до-
биваться оптического эффекта рельефного и даже трех-
мерного изображения. Следовательно, погребальное ис-
кусство и в самом деле никоим образом не исчерпывало
собой все современное ему художественное творчество и
осознанно, подчиняясь своим внутренним закономерно-
стям, прибегать к его искажениям.
Археологические находки, сделанные на протяжении
прошедших 50 лет, позволили по-новому взглянуть и на
историю происхождения китайской станковой живописи.
248
Древнейшими из найденных живописных произведе-
ний являются картины, которые обнаружены в чуских
захоронениях из окрестностей Чанша, датируются перио-
дом Борющихся царств. Первая из них (1958 г., Ѵ-ІѴ вв.
до н. э.) выполнена на куске шелковой ткани (31,5 х 26 см)
и представляет собой трехфигурную живописную компози-
цию, исполненную в линеарной технике черной и красной
красками. В нижней правой части картины помещено про-
фильное изображение стоящей в полный рост женщины,
облаченной в пышные одеяния. В центральной части нахо-
дится тоже профильное изображение птицы, данное в фан-
тазийной трактовке — с длинными изогнутыми лапами и
роскошным развевающимся хвостовым оперением. Слева
от птицы — вертикально расположенное изображение яще-
рицевидного существа с длинным змеиным телом и загибаю-
щимся хвостом. Обращает на себя внимание изящество и
уверенность графических линий и несомненное мастерство
художественно-композиционного решения сцены. Позы
персонажей достаточно свободны, детали их внешности
тщательно проработаны.
В такой же технике и стилистической манере выполне-
на и вторая чуская картина (1973 г., 37,5 х 28 см, IV-
III вв. до н. э.), в которой показан мужчина в окружении
несколько иных персонажей и предметов. Сохранены прин-
ципы профильного рисунка, воспроизведена фигура в пол-
ный рост, также тщательно исполнен внешний облик глав-
ного действующего лица и всех вспомогательных элемен-
тов. Мужчина, облаченный в великолепное, эффектными
складками ниспадающее одеяние, стоит на фигуре драко-
на, образующей подобие колесницы. В левом нижнем углу
картины, якобы под колесницей, показана фигура рыбы,
справа от центральной композиции — фигура болотной
птицы. Изображения и женщины, и мужчины выполнены
в весьма реалистической манере без каких-либо фантазий-
ных деталей. Более того, они индивидуализированы и про-
изводят впечатление реальных или условных портретов.
Благодаря присутствию зооморфно-фантазийных персона-
жей в обеих картинах, исследователи чаще всего истолко-
вывают их в качестве произведений на мифологические
темы. Первая из них считается изображением некоего чу-
ского женского божества, вторая — божества реки, именуе-
мого Хэ-бо, о культе которого известно из многих литера-
турных итгочников, в том числе из поэтических произве-
дений, созданных в Чу. 0 других возможных семантических
истолкованиях этих картин поговорим далее. Пока ограни-
чимся утверждением, что общность и композиционного
построения обоих произведений, и иконографической схе-
мы, и живописной техники, и воссоздаваемая в них атмо-
сфера — иного, величественно-таинственного мира — чет-
ко свидетельствует о существовании в Чу сложившейся
художественной школы.
По времени создания следует так называемое погре-
бальное знамя из захоронения госпожи Дай. Это Т-образное
шелковое полотнище, на поверхности которого выполнена
Протостанковая
живопись
(картины на шелке)
Чуская картина на шелке
с изображением женщины
249
Погребальное знамя
госпожи Дай
Чуская картина на шелке
с изображением мужчины
Шелковое покрывало
с живописной композицией.
Пров. Шаньдун
Изображения людей
на «Схеме поз даоинь»
непревзоиденно сложная в сравнении с чускими карти-
нами, художественная композиция. Она построена по вер-
тикальному принципу, при этом членится на три основ-
ных сегмента, горизонтально расположенных по отноше-
нию друг к другу. Центральный сегмент воспроизводит
несколько человеческих фигур — все в профиль, в позе
стоя в полный рост. Их считают портретным изображе-
нием госпожи Дай в окружении свитских и служанок.
Нижний сегмент воспроизводит сцену на ритуально-
бытовую тему, в которой современные исследователи ус-
матривают изображение тела госпожи Дай, подготовлен-
ного к похоронам, и представлена предпохоронная цере-
мония. Книзу от сегмента идут зооморфно-фантазийные
фигуры и детали. Наибольшей насыщенностью отличает-
ся верхний сегмент, в котором показывается божество в
виде женщины с длинными распущенными волосами, в
пышных одеяниях, с гигантским, свитым в кольца змеи-
ным хвостом. По сторонам от портрета богини размещены
переходящие одна в другую фигуры людей и фантастиче-
ских существ, дополненные орнаментальными элемента-
ми. Вертикальный принцип композиционного построения
картины, использование линеарной техники и красно-
черная колористическая гамма — все это характеризует
картину как прямую наследницу чуской художественной
школы.
В новейших исследованиях считается, что на «погре-
бальном знамени» госпожи Дай воспроизводится сюжет,
которой соответствует южнокитайским анимистическим
представлениям. В сюжете зафиксировано, как и в роспи-
сях на ее гробах, два ключевых эпизода: смерть героини и
ее переход в потусторонний мир, где она предстает перед
духами и божествами. Налицо явное морфологическое
сходство «погребального знамени», особенно его централь-
ного сегмента, с чускими картинами. Это позволяет ис-
толковывать их не как изображения божественных персо-
нажей, но в качестве портретов усопших, показанных в
потустороннем мире, подобно госпоже Дай (в окружении
фантастических существ).
250
Шелковые полотнища с живописными композициями,
хотя и выполненные на значительно более примитивном
уровне, нежели чуские картины, были найдены еще в не-
скольких западноханьских погребениях, что свидетельству-
ет о весьма широком распространении в то время искусст-
ва живописи по шелку.
He менее примечательным артефактом выступает и
шелковое полотно, получившее название «Схема поз [гим-
настики] даоинъ» («Даоинъ my), также найденное в погре-
бении госпожи Дай. На нем выполнено в той же линеарной
технике красной и черной красками 44 рисунка человече-
ских фигур, передающих гимнастические позы, которые
применялись в протодаосских практиках. Важно, что здесь
персонажи показываются в динамике, в самых разных
позах и ракурсах, отличаясь от всех остальных картин на
шелке, в которых преобладает профильное и статичное
изображение человека. Значит, статичность и профиль-
ный ракурс были свойственны именно погребальным про-
изведениям.
В свете изложенных фактов оказываются не столь не-
вероятными письменные сообщения о портретах высокопо-
ставленных сановников и прославленных полководцев, ко-
торые исполнялись по повелению императора У-ди (т. е.
уже во II в. до н. э.). Теперь можно поверить и в правдопо-
добность обычая — портретировать новых наложниц для
императорского гарема, чтобы предварительно знакомить
государя с ними. Этот обычай был введен императором
Юань-ди (48-33 гг. до н. э.)73.
Итак, мы приходим к выводу о том, что на протяжении
ханьской эпохи китайская художественная культура, вне
всяких сомнений, овладела всеми видами пластического и
живописного изобразительного искусства, одновременно
подготовив почву для возникновения собственно станковой
живописи.
73 Данный обычай послу-
жил отправным пунктом по-
пулярнейшей в Китае леген-
ды о красавице Ван Чжаоц-
зюнъ. Попав в императорский
гарем, она отказалась платить
художнику за свой портрет,
как это делали другие налож-
ницы, и он в отместку изоб-
разил ее дурнушкой. Увидев
портрет Ван Чжаоцзюнь, им-
ператор счел за лучшее отдать
ее в жены сюнну. Лично уви-
деть юную красавицу и убе-
диться в своей ошибке он смог
только при ее проводах на
чужбину, когда отменять ее
отъезд уже было не в его вла-
сти. Ван Чжацзюнь трагиче-
ски погибла, предпочтя само-
убийство участи супруги «вар-
вара», a коварный художник
был казнен. Для нас важнее
не подробности этой легенды
о судьбах ее героев, a содер-
жащиеся в ней сведения об
искусстве портрета. Очевидно,
что портреты наложниц дол-
жны были исполняться как
станковые живописные про-
изведения в максимально реа-
листической манере, чтобы
точно передать внешний об-
лик натуры.
ГЛАВА
ИСКУССТВО
ТРАДИЦИОННОГО
КИТАЯ
(ІІІ-ХІХ вв.)
74 Завершающей датой дан-
ной исторической фазы прини-
маются либо осень 1911 г., ког-
да разгорелась Синьхайская ре-
волюция, положившая конец
имперской государственности,
либо 12 февраля 1912 г. —
день подписания последним
китайским императором (Пу И)
манифеста об отречения от
трона. Употребление термина
«традиционный» в данном слу-
чае должно подчеркнуть, что
на протяжении именно этой ис-
торической фазы в культуре
Китая сложились и проявили
себя в полную силу все тради-
ции, образующие основы соци-
ально-политического устрой-
ства и духовные устои китай-
ской цивилизации в том виде,
в каком она вступила в XX век.
В современной китайской и ев-
ропейской гуманитарной лите-
ратуре данная фаза совместно
с эпохами Цинь и Хань опре-
деляется как «имперский Ки-
тай». В отечественных китае-
ведных работах она все еще
квалифицируется как «средне-
вековье» и, начиная с конца
XVIII в., как «новое время»,
что, на наш взгляд, решитель-
но противоречит всем истори-
ко-культурным реалиям.
«Традиционный Китай» — так предлагается обозначать сле-
дующую масштабную историческую фазу, которая продли-
лась с момента гибели древней империи Хань и до круше-
ния последнего китайского имперского государства — Цин,
после чего Китай перешел к республиканской форме прав-
ления74.
В китайской исторической науке указанные столетия
подразделяются на 9 основных исторических эпох, одни из
которых соотносятся со временем существования центра-
лизованных империй, a другие — с периодами админист-
ративно-территориальной раздробленности страны. Так как
эта периодизация адекватно отражает историко-политиче-
скую конкретику и динамику процессов общекультурного
ряда, представляется полностью оправданным использо-
вать ее и при рассмотрении истории непосредственно ки-
тайского искусства. Мы ограничимся лишь краткой харак-
теристикой историко-культурной ситуации и художествен-
ного наследия каждой эпохи, стремясь при этом воссоздать
общую логическую линию эволюции китайского искусства
и определить его специфические приметы на отдельных
исторических этапах. Для этого будут использованы пре-
имущественно произведения погребального искусства,
которые до определенного исторического момента состав-
ляют основной пласт подлинных артефактов.
ЭПОХА
ІНЕСТИ ДИНАСТИЙ
(220-589)
Эпоха Шести династий (Лючао, в прежних, европей-
ских и отечественных дефинициях «эпоха раннего сред-
невековья», Early Medieval China) была в истории китай-
ской цивилизации своего рода промежуточным звеном меж-
ду периодом Древнего Китая и этапом предельной развитости
национальной государственности и духовности. Она охва-
тывает несколько относительно самостоятельных перио-
дов. Это Троецарствие (Санъго, 220-264), когда на руи-
нах Ханьской империи возникли три суверенных цар-
ства — Вэй (220-264), У (222-280) и Шу (Ханъ-Шу,
221-263), располагавшиеся соответственно в центральных
252
••"^••^••«ч
( Ч f
V ^-—- 1
!
ч ^—„^
V
К Хуанхэ
Ѵ<.
; —
/
/
/
/
Î ШУ
!
І
\
>*•«-
і
І
І
і
і
1
/
/
І .all
\ \Jilti
\ lîiïifl.
/
•
ч.
—-ИП
вэй ^"
/
■ ■■"■'/
У
О ^
0.
•■о
ы
«2і
о. Твйвань
ЮЖНО-КИТАЙСКОЕ
MOPE
о. Хайнань
Китай в период
Троецарстпвие
регионах Китая (столица в Лояне), на юго-востоке и на
юго-западе (в пров. Сычуань)75, которые вели друг с дру-
гом непрерывные войны; период Западная Цзинь (264-
317), во время которого пришедшему к власти в царстве
Вэй (путем государственного переворота) новому правяще-
му дому (клан Сыма) удалось на короткое время реставри-
ровать централизованную империю76; и период Южных и
Северных династпий (Нанъбэйчао, 317-589). В начале IV в.
Китай подвергся нашествию нескольких племенных сою-
зов (так называемые «пять варваров» — y ху) во главе с
гуннами и новой для нас народностью — тпобийцами (сянъ-
бийцами)77, исходно монголоидными племенами, кочевав-
шими в степях Внутренней Монголии. Менее чем за 20 лет
они захватили обе древних столицы Китая — Лоян (311 г.)
и Чанъань (317 г.) и практически все районы бассейна
Хуанхэ. Императорский двор, остатки армий и все, кто
мог (по некоторым статистическим выкладкам, каждые
девять из десяти коренных жителей этих регионов), бежа-
ли на Юг (за Янцзы), который на долгие два столетия
оказался единственным прибежищем китайской государ-
ственности и главным хранителем национальных куль-
турных традиций. У власти на первых порах остался пре-
жний правящий дом, поэтому название династии не изме-
нилось (ее принятое терминологическое название —
Восточная Цзинъ, 317-420). Новой китайской столицей
стал город Цзянье Щзянькан), на месте современного
75 Основателем царства Вэй
считается Цао Цао (155-220,
посмертный титул вэйский
У-ди). Он оказался во главе са-
мой влиятельной (конец Хань)
военно-политической фракции
и к началу II в. фактически
стал правителем страны. Од-
нако он пытался воспрепят-
ствовать падению ханьского
правящего дома и до самой
смерти поддерживал его по-
следнего императора, занимая
при нем пост канцлера. Цар-
ство Вэй как самостоятельное
государство было провозглаше-
но сыном Цао Цао — Цао Пи
(187-226, вэйский Вэнъ-ди) —
через несколько месяцев по-
сле его кончины. Основателя-
ми царств У и Хань-Шу яв-
ляются соответственно Сунъ
Цюань (182-252) и Лю Бэй
(201-223), последний из ко-
торых выдавал себя за даль-
него родственника ханьской
августейшей фамилии, чем и
объясняется включение на-
звания Ханьской империи в
наименование юго-западного
царства.
76 Новое объединение стра-
ны было осуществлено осно-
вателем и первым императо-
ром этой династии — Сыма
Янем (годы жизни — 236-290,
цзиньский У-ди, годы правле-
ния — 265-290). Однако по-
сле тридцати с лишним лет его
более чем успешного правле-
ния империя опять оказалась
втянутой в междоусобные сму-
ты вследствие распрей, разго-
ревшихся внутри самого пра-
вящего дома.
77 Сяньбийцы, в оригиналь-
ной терминологии сяньби —
общий этноним данной этно-
культурной группы, тобийцы
(тобау табгачи) — название
одной из входивших в нее на-
родностей. Отдельные группы
сяньби стали проникать на
Ляодунский полуостров и на
территорию Ханьской импе-
рии еще в середине I в.
253
Китай в Ѵ-ѴІ вв.
S
,'
*'
^*»*
^
"*х«ч. СЕВЕРНОЕ ВЭЙ \ (
\
\ ч ■ і ;
4
N
\
{ \
\ ■ \
'•■■■•'- * : J f-J,,
f
/
••;#:•/> ..X (-
'
1
I -| /
I
/ ЮЖНО-КЙТАЙСКОЕ
r~+ ГОСУДАРСТВО
*"' ""V "*
<- 4''"
"\
\ V-
N
N
! \ S
1 І £ ѣ ■ ■■ ;
•
/
•
/
/
/
/
V
О bj
UJ
0.
«о
о^
*5
s
Ъс
о. Тайвань
ЮЖНО-КИТАЙСКОЕ
MOPE
Хайнань
78 Это Лю Сум (420-479),
Южная Ци (479-502), Лян
(502-557), ПоздняяЛян (555-
587) и Чэнъ (557-589). Все
они были основаны, заметим,
полководцами, выходцами из
чиновничьих кланов средне-
го звена, прежде не входив-
шими в социальную элиту ки-
тайского общества.
79 Всего в китайской гума-
нитарии признается 16 север-
ных царств. На самом деле их
было 22.
80 В 30-х гг. VI в. Северное
Вэй распалось на 2 царства:
Западное Вэй (534-556), Вос-
точное Вэй (534-550), кото-
рые, в свою очередь, смени-
лись новыми государственны-
ми образованиями — Северное
Ци (550-557) и Сеѳерное Чжоу
(557-581). Несмотря на эти
историко-политические под-
робности, мы здесь и далее
будем рассматривать художе-
ственноѳ наследие Северного
Китая IV-VI вв. в качестве
единой традиции.
Нанкина. Несмотря на постоянную угрозу нашествия, юж-
нокитайским властям так и не удалось стабилизировать
ситуацию в стране. С IV в. до конца VI в. на Юге смени-
лось шесть государств (династий), каждое из которых про-
существовало в среднем около 50 лет, поэтому их нередко
называют «карликовыми»78, a на троне побывало в общей
сложности 28 монархов, царствование некоторых из них
длилось от нескольких месяцев до полугода.
Как «Северные династии» обозначаются царства, суще-
ствовавшие в регионе бассейна Хуанхэ. Следует оговорить-
ся, что с данного исторического момента термин «Север»
будет неизменно применяться именно к этому региону, a
не к географически северным частям Китая. Около полуве-
ка на Севере шли войны между едва возникавшими и гиб-
нущими крохотными царствами, которые основывались
вождями названных племенных союзов, входивших в них
отдельных народностей, a то и клановых объединений79.
Но с конца IV в. там установилось единоличное господство
тобийского царства Тоба Вэй (Северное Вэй, 386-534), в
скором времени превратившегося в могущественное госу-
дарство имперского типа80.
Дискретность историко-политических процессов, имев-
ших место в III—VI вв., не отразилась на состоянии духов-
ной жизни тогдашнего общества. Напротив, на протяже-
нии всех перечисленных периодов наблюдаются общие и
254
единые по содержанию культурно-идеологические процес-
сы, что и позволяет рассматривать их в качестве целостно-
го и самостоятельного этапа в истории развития китайской
цивилизации81. Как таковая эпоха Шести династий озна-
меновалась (подобно периоду Борющихся царств, в самых,
казалось бы, неблагоприятных для этого историко-полити-
ческих условиях) бурными новаторскими изменениями во
всех сферах национальной культурной и творческой дея-
тельности. Речь идет, прежде всего, о ситуации, сложив-
шейся на Юге. На указанные столетия приходится, во-
первых, становление китайско-буддийской традиции во всех
ее значимых аспектах. Данный процесс привел к превра-
щению буддизма из чуждого для местного населения веро-
учения в одну из трех нормативных, наряду с конфуциан-
ством и даосизмом, идеологических систем для китайского
имперского общества, известных как «Три учения» (Санъ
цзяо). Одновременно укрепляются буддийские социальные
институты — монашеская община (сангха), идет развитие
теоретической мысли, растет влияние буддийского веро-
учения в качестве политической силы и происходит ста-
новление китайско-буддийского культового изобразитель-
ного искусства и зодчества (пагоды).
Во-вторых, в качественно новую стадию своей эволю-
ции вступила и даосская традиция, что выразилось в даль-
нейшей разработке ее теоретических основ и в оконча-
тельном оформлении даосского религиозного направления
(учения и практики, связанные с поиском средств обрете-
ния бессмертия). Оно сопровождалось созданием специ-
альных организационных структур (даосских школ, под-
робно см. глава 5).
Важнейшим достижением эпохи Шести династий обще-
культурного порядка является формирование механизма вза-
имодействия «Трех учений» на уровне как официальной
идеологии, так и сознания личности. В результате возник
один из наиболее самобытных духовных феноменов Китая —
феномен вариативности индивидуального восприятия лич-
ности, позволявшего человеку практически одновременно
следовать ценностным ориентирам и установкам, предлагае-
мым всеми тремя учениями. Названный феномен, как мы
увидим далее, предопределил многие типологические осо-
бенности национальной творческой деятельности.
В сфере непосредственно художественной культуры эпо-
хи Шести династий особо выделяются: переход от ано-
нимного (песенного творчества) к авторской лирике, кото-
рая постепенно утверждалась в качестве ведущего жанра
китайской поэзии; становление ведущих для лирической
поэзии тематических групп и направлений, включая зна-
менитую китайскую пейзажную лирику; становление тра-
диции художественной прозы; формирование и расцвет
литературно-теоретической и эстетической мысли, в том
числе разработавшей учения о сущности и функциях ху-
дожественного творчества. И наконец, в это же время закла-
дывается фундамент станковой живописи и зарождается
искусство пейзажного сада.
81 Именно поэтому нами
используется единое термино-
логическое название данной
эпохи, в качестве которого
употреблен оригинальный, но
относительно редко применя-
емый в собственно китайской
гуманитарии историографи-
ческий термин. Исходно он
служил для обозначения ше-
сти царств и династий, начи-
ная с периода Троецарствие,
столицы которых находились
в Цзянькане.
255
Итак, можно с уверенностью говорить об эпохе Шести
династий как об одном из ключевых этапов в истории
китайской культуры и искусства. Но почему подобные
этапы соотносятся в Китае с периодами глобальных исто-
рико-политических кризисов? Их совпадение далеко не
случайность, a проявление базисных закономерностей,
свойственных, как это показывает опыт всей мировой ис-
тории, такого рода кризисным или, в более строгой науч-
ной терминологии, переходным или транзитивным пе-
риодам. Дело в том, что в условиях централизованной
имперской государственности, которая и обеспечивала в
Китае периоды социально-политической стабильности,
приоритетное положение в обществе занимают транспер-
сональные (социентальные) духовные идеалы и ценности,
которые целиком ориентированы на поддержание самой
государственности и общественного единства. В результа-
те они препятствуют свободе самовыражения личности и
ограничивают индивидуализированную творческую актив-
ность. В переходные периоды роль структурообразующего
фактора играют личностные ценности. Человек предстает
не столько как объект социализации, сколько как субъект
индивидуализации, что обусловливает подъем всех на-
правлений и видов творчества, например поэзии и живо-
писи, требующих, по своей природе, личностного эмоцио-
нального начала. Одновременно агония и гибель центра-
лизованных государств имперского типа влекут за собой
девальвацию культивируемых ими ценностных устано-
вок и поведенческих стереотипов; и в общественном со-
знании образуется своего рода духовный вакуум. Поэтому
современники стремятся разработать новые идейные ори-
ентиры и установки, с этой целью обращаясь к нацио-
нальному духовному наследию либо к духовному опыту
других народов. Вот истинная причина, с одной стороны,
утверждения в культуре и искусстве транзитивных пери-
одов всевозможных заимствований, a с другой — оживле-
ния рудиментов архаики. Co всеми этими явлениями нам
предстоит неоднократно столкнуться при рассмотрении
конкретных художественных традиций.
Таковы основные приметы историко-политической и ду-
ховной жизни китайского общества в эпоху Шести динас-
тий и те закономерности культурной и творческой деятель-
ности Китая, которые вырисовываются на материале этой
эпохи в стабильные и транзитивные периоды его истории.
Художественное (в самом широком смысле этого слова)
наследие эпохи Шести династий представлено главным об-
разом письменными памятниками, благодаря которым мы
и знаем об изложенных выше культурно-художественных
процессах и событиях. Основной пласт подлинных арте-
фактов составляют произведения буддийского культового
изобразительного искусства и зодчества, подавляющее боль-
шинство которых было создано именно на Севере, a не на
Юге. Что касается произведений декоративно-прикладного
искусства, то они дошли до нас в относительно небольшом
количестве (правда, их число неуклонно пополняется но-
выми археологическими находками) и, за исключением,
пожалуй, керамики, недостаточно отражают стоящие за
ними виды предметно-творческой деятельности. Поэтому
погребальное искусство в очередной раз более или менее
надежно заполняет все эти лакуны и, кроме того, пролива-
ет дополнительный свет на важные нюансы всей художе-
ственной культуры эпохи Шести династий.
Создается впечатление, что после гибели Ханьской им-
перии китайское изобразительное искусство, не отвергая в
принципе прежнюю погребальную обрядность, будто при-
остановило собственную активность и погрузилось в раз-
мышления по поводу возможных путей ее дальнейшего
использования, время от времени отваживаясь на творче-
ские эксперименты — то, скажем, возвращаясь к работе с
металлом, то изобретая новых фантазийно-зооморфных
персонажей. Погребальная пластика, обнаруженная в за-
хоронениях, относящихся к периоду Троецарствие и пери-
оду Западной Цзинь, в том числе входящих в столичные
районы, выполнена на удивительно примитивном уровне
по сравнению с ее ханьскими аналогами. Она как бы сле-
дует образцам, создаваемым на начальном этапе развития
национального погребального искусства, в вариантах, ти-
пичных для стилистики центральных регионов ханьского
Китая. Скульптурные изображения людей и животных
выполнены в откровенно грубой манере и лишены допол-
нительных орнаментальных элементов. Им, правда, свой-
ственна реалистичность (даже если исполняются фигуры
фантастических существ) и динамичность, но в той же
самой степени, как и самым ранним погребальным скулыі-
турам. Исключение составляет, судя по сохранившимся
фрагментам, пластика Сычуани.
Кроме того, из репертуара погребальной пластики бес-
следно исчезли многие категории изделий, в том числе
светильники-деревья и «денежные деревья». Из такого
«оцепенения» южнокитайское погребальное искусство ста-
ло выходить только к V в., сразу же, заметим, предло-
жив несколько новые стилистические трактовки антро-
поморфной скульптуры, которые опирались на предше-
ствующий художественный опыт Юга и вобрали в себя
некоторые детали буддийской иконографии. Несколько
наборов погребальной пластики, состоявших преимуще-
ственно из.чзтатуэток людей, были обнаружены на терри-
тории Нанкина (1984-1987) и в окрестностях Сюйчжоу
(северо-западная часть Цзянсу, 1993). Несмотря на об-
щую статичность и стереотипность поз фигурок (насле-
дие чуской погребальной пластики), они обладают уди-
вительной элегантностью, созданной плавностью и изяще-
ством силуэтных линий, и передают состояние внутреннего
спокойствия и одухотворенности персонажей. Такой эф-
фект возникает благодаря в первую очередь особенностям
исполнения их лиц — мягким контурам и приветливо-
мечтательной улыбке. Данная иконографическая деталь,
вероятнее всего, и была заимствована из буддийского изоб-
разительного искусства.
17 История пскусстна Китая
Погребальная пластика
периода Западной Цзинь
(окрестности Лояна)
a — 40 cm; б — 38,1 см; в —
35,1 х 22,6 см; г — фантастиче-
ское существо (28,5 х 20 см).
Бронзовая пластика.
Фантастическое существо.
Ок. 270 г. Пров. Цзянси.
14,5 х 14,8 см.
Находки 1991 г.
Сычуаньская пластика.
Царство Шу
a — 12,4 cm; б — 10,8 cm.
257
Южнокитаиская пластика.
Начало V в. Окрестности
Нанкина. Находки 1993 г.
a — 55,6 cm; б — 33,6 см; в —
ок. 50 см.
Такую же долговременную пассивность демонстриру-
ют и другие виды погребального искусства. Стенописи на
Юге вообще исполнялись крайне редко, что выглядит
странным парадоксом на фоне стремительно набиравшей
силу светской станковой живописи. Для IV-VI вв. пока
найдено только одно погребение со стенописями (уезд Лю-
хэсянь, к северу от Нанкина, 1990-1993), но и оно вызы-
вает только недоумение. На стенах погребальной камеры
нарисованы исключительно женские фигуры в полный
рост, опять выполненные в откровенно примитивной и
условной манере. Южное погребальное искусство практи-
чески полностью отказалось и от каменных рельефов, не-
когда столь популярных в данном регионе: известны еди-
ничные их образцы, которые тоже приближаются по тех-
нике резьбы и внешнему виду к самым ранним шаньдунским
рельефам. Тем не менее к V в. заметно оживилось искус-
ство керамических рельефов, которые приобрели и новую
технологию и, подобно пластике, стилистическое своеоб-
разие. Теперь сцена не лепилась на поверхности керами-
ческого блока, a вырезалась на деревянной панели и за-
тем по частям отпечатывалась на небольших по размеру
(в пределах 20 х 40 см) необожженных кирпичах. После
обжига кирпичи укладывались в нужном порядке, обра-
зуя задуманную картину.
Такая техника позволяла исполнять масштабные про-
изведения, о чем мы можем судить по датируемому второй
половиной V в. горизонтальному панно (80 х 240 см), ко-
торое было обнаружено в одном из захоронений из окрест-
ностей Нанкина (в настоящее время оно экспонируется в
Нанкинском историческом музее). Оно воспроизводит сю-
жетную сцену, состоящую из восьми мужских фигур, ко-
торые считаются портретами популярнейших в то время
исторических личностей — членов литературно-поэтиче-
ского объединения «Семеро мудрецов из бамбуковой рощи»
(подробно см. глава 5), живших в III в. Панно разбивается
на сегменты по числу его персонажей. Все они показаны в
однотипных позах — сидя под деревьями. Но при этом
каждая фигура наделена отчетливыми индивидуальными
приметами, которые сказываются в ракурсе, жестах, выра-
жении лиц, элементах одеяний и в наборе вспомогатель-
ных деталей. Одни «мудрецы» увлеченно предаются игре
на музыкальных инструментах, другие ведут неторопли-
вую беседу между собой. Кто-то наслаждается чашкой чая
(или вина), кто-то погружен в размышления. Удивительно
разнообразны и деревья, несмотря на стилизованность, пе-
редающие характерные признаки различных древесных
пород. И фигуры людей, и изображения деревьев отлича-
ются прежде незнакомой китайскому искусству пластич-
ностью. Все линии предельно изящны и утонченны, мель-
чайшие детали фигур тщательно проработаны. Общность
художественного замысла произведения, продуманность его
композиции и тонкий психологизм — в совокупности со-
здают впечатление редкой гармонии. Панно передает на-
строение творческого уединения, внутренней умиротворен-
258
ности и рафинированности, что точно соответствует приня-
тым в то время литературным трактовкам образов самих
«мудрецов», a также даосским духовным идеалам. Очевид-
но, это панно обладает всеми признаками полноценного
произведения искусства, приближаясь к живописному по-
лотну, a его внешнее изящество, элегантность и декоратив-
ность хорошо согласуются с литературно-поэтическим сти-
лем того времени.
Погребальная монументальная скульптура тоже от-
четливо проявляет себя только к середине V в., и в доста-
точно самобытных вариантах. Важнейшей новацией юж-
нокитайского изобразительного искусства и погребальной
обрядности в целом стала дальнейшая разработка семи-
отических принципов и художественных способов испол-
нения надземных погребальных ансамблей, в первую оче-
редь входящих в императорские усыпальницы. Для сере-
дины V — середины VI в. обнаружено уже 31 захоронение
императоров и принцев крови. Все они расположены в
относительной близости от Нанкина. Характерными эле-
ментами их надземной части, помимо каменных стел,
пилонов и изваяний, теперь стали особого художественно-
конструктивного типа колонны. Они представляют собой
столб в виде сильно вытянутого конуса и абсолютно глад-
кой поверхности, который покоится на округлой плат-
форме-базе, выполненной в виде пластического изображе-
ния свернувшегося дракона или украшенной его горель-
ефной фигурой.
Монументальная каменная скульптура по-прежнему
образована парными изваяниями, представляющими«хи-
мер». Южнокитайские «химеры» отличаются от ханьских,
во-первых, заметно большими размерами и, во-вторых,
рядом художественных и орнаментальных новаций. Са-
мые крупные изваяния — высотой 280 см и длиной 310 см.
Асами «химеры» приобрели дополнительную величествен-
ность, превратившись в существо с массивной, гордо вски-
нутой головой, широкой округлой грудью и грузным ту-
ловищем, опирающимся на непропорционально короткие,
£5І
^'""Ѵ^Т
Каменный погребальнъш
рельеф. Западная Цзинь
Керамическое рельсфное
панно с «мудрецами»
259
Южнокитайская
погребальная
каменная колонна
Северовэйское камнерезное
и инженерно-
архитектурное искусство
a — мемориальная колонна (вто-
рая половина VI в.); б — база для
по отношению к телу, согнутые в коленном суставе, ноги.
Попутно заметим, что подобная поза прослеживается и в
других южнокитайских зооморфных скульптурных изоб-
ражениях, в частности в керамических сосудах в виде фи-
гур животных, являясь одной из отличительных черт мест-
ного зооморфного художественного стиля. Тем не менее
массивность и величавость фигур причудливо сочетается с
плавностью силуэтных линий и, кроме того, с множеством
тщательно проработанных деталей, придающих им граци-
озность и экспрессивность (см. вклейку).
Итак, известные сегодня образцы южнокитайского по-
гребального искусства позволяют говорить, что художе-
ственное творчество эпохи Шести династий выбрало путь
варьирования и развития преимущественно местных твор-
ческих традиций, создав на их основе новое стилистиче-
ское направление, которое отличалось изысканностью,
элегантностью и декоративностью: они проявлялись даже
при создании масштабных по размеру произведений.
Иная ситуация сложилась в художественном творче-
стве Северного Китая, точнее, Тоба Вэй, которое дошло до
нас в значительно полном и целостном виде, чем искусство
южнокитайских династий. Оно представлено многочислен-
ными памятниками буддийского изобразительного искус-
ства, образцами светской монументальной скульптуры, про-
изведениями камнерезного искусства (стелы, столбы, по-
гребальные рельефы, орнаментация каменных саркофагов)
и архитектурными памятниками (пагоды). Даже по приве-
денному перечню артефактов видно, что тобийские мастера
питали особое пристрастие к работе с камнем, в чем они
добились неоспоримых успехов, намного превзойдя китай-
ских (ханьских) камнерезных дел мастеров и художников.
Выполненные ими произведения обладают исключитель-
ной композиционной сложностью и насыщенностью дета-
лями. Кроме основных фигур, таких как люди, животные,
фантастические существа и божественные персонажи, они,
как правило, включают в себя многочисленные вспомога-
тельные и чисто орнаментальные элементы — изображе-
ния переплетающихся птиц, деревьев, цветов, облаков, язы-
ков пламени и т. д. Притом в них постоянно сочетаются
различные камнерезные техники: гравировка, линеарная
линия, рельеф, барельеф и горельеф, — что еще больше
усиливает внешнюю эффектность произведений. He исклю-
чено, что в данном случае сказались и национальные худо-
жественные традиции тобийцев (хотя о них практически
ничего неизвестно), и воздействие центральноазиатского
искусства, представленного буддийским художественным
творчеством.
Если произведения камнерезного искусства показыва-
ют самобытность северовэйского художественного творче-
ства, пусть даже в нем предельно широко использовались
собственно китайские темы, мотивы и образы, то погре-
бальное искусство выступает однозначным свидетельством
его китаизации. Показателен уже сам по себе факт восприя-
тия тобийцами древнекитайской погребальной обрядности.
260
Почти сразу же после утверждения Северного Вэй и пере-
носа его столицы в Лоян в местные захоронения начинают
включаться объемные комплекты погребальной пластики.
При ее исполнении северовэйские мастера явно следовали
ханьскому погребальному искусству, причем в его регио-
нальной стилистической линии, свойственной именно цен-
тральным регионам страны, сумев при этом перенять и все
лучшие ее художественные достижения: реалистичность
трактовок натуры, динамичность и выразительность изо-
бражений.
Но не надо думать, что они лишь слепо копировали
ханьские образцы. Напротив, репертуар изделий заметно
изменяется за счет отказа от моделей (за исключением
моделей домов, но и те исполнялись эпизодически), све-
тильников и деревьев. Вместо них вводятся фигуры вои-
нов — пехотинцев, всадников (все обязательно в доспе-
хах), исполненных со знанием дела и любовью к оружию.
Все категории антропоморфных скульптур наделяются
внешними элементами, соответствующими этнографиче-
ским реалиям того времени, повышая их реалистичность
и художественную убедительность. Позы и жесты приоб-
ретают болыпую, по сравнению с ханьской пластикой,
раскованность.
Одной из важнейших технико-художественных нова-
ций северовэйского погребального искусства считается
снабжение скульптур подставками, которые стали обяза-
тельными элементами их композиции уже в VI в. Кажу-
щиеся сугубо утилитарными приспособлениями, обеспечи-
вающими всего лишь устойчивость скулыітур, эти подстав-
ки, по мнению исследователей, демонстрируют влияние
на погребальное искусство буддийской культовой пласти-
ки, восходя к «тронам», на которых стоят или восседают
персонажи буддийского божественного пантеона (подроб-
но см. глава 7).
К числу главных художественно-тематических новаций
северовэйской погребальной пластики относится разработка
принципиально нового для всего китайского изобразитель-
ного искусства варианта образа духов-стражей могил: в виде
хищного (львиноподобного) существа, обязательно в сидя-
чей позе (совершенно нетипичной для китайского зооморф-
ного стиля), голова и спина которого обычно дополнены
вертикал >но поставленными острыми выступами, внешне
напоминающими языки пламени. Указанные особенности
его иконографии вновь являются очевидным заимствовани-
ем из индо-буддийского изобразительного искусства (фигу-
ры сидящих львов).
С погребальной пластикой во многих отношениях со-
впадает и монументальная каменная скульптура, включаю-
щая произведения как культового, так и светского ха-
рактера, которая предназначалась, судя по ее местополо-
жению, для украшения входов в дворцовые постройки.
Древнейшим северовэйским скульптурным произведением
признается изваяние коня (высота 200 см, длина 225 см),
сотворенное (о чем сообщается в надписи на его пьедестале)
Духи-стражи могил
(ок. 20 см)
Северовэиская погребальная
пластика. Первая половина
V в. Окрсстности Лояна.
Находки 1989 г.
a — 20 cm; б — 18 см; в — ок.
11 см; г — 10 см; д — 26 см; с —
14,4 х 18 см.
261
в 424 г. Еще одна серия изваяний, относящихся к Ѵ-ѴІ в.,
была найдена при археологических работах (60-80-е гг.
прошлого века) в окрестностях Лояна. В ней присутствуют
изваяния львов (сидящих и идущих), лежащей собаки,
черепахи, фигура стоящего в полный рост воина (высота
314 см). По манере исполнения и частично по набору пер-
сонажей, они явно продолжают художественную линию
ханьского пластического искусства. Однако при этом бро-
сается в глаза отсутствие изображений «химер» или по-
добных им зооморфно-фантазийных существ, что еще раз
подтверждает приоритетное положение в северовэйском
художественном творчестве именно реалистического на-
правления зооморфного стиля.
И наконец, северовэйское погребальное искусство уна-
следовало и традицию стенописей. Сегодня известно всего
несколько таких захоронений — к северу от Лояна (уезд
Мэнцзиньсянь, 1989 г.) и в южной части провинции Шань-
си (2000 г.), которые восходят к V в. Однако их вполне
достаточно, чтобы иметь общее представление о состоя-
нии местного монументального живописного искусства.
Во-первых, стенописи исполнялись как по грунтовой (Мэн-
цзиньсянь), так и по натуральной поверхности — очеред-
ная новация северовэйского художественного творчества,
восходящая, возможно, к росписям по керамическим бло-
кам. Во-вторых, росписи тяготеют к распространению на
всю поверхность стены и образуют целостные по компози-
ции, сюжету и стилистике произведения. В-третьих, в
них впервые присутствуют портреты усопших — супру-
жеской пары, сидящей в павильоне, по бокам от которой
находятся фигуры служанок и слуг. Подобный мотив обыг-
рывает тематику ханьских рельефов и стенописей («сце-
ны с павильоном», процессии чиновников), но подчиняет
ее уже совершенно новым композиционным схемам и ху-
дожественным трактовкам. И эти картины, и картины с
фигурами слуг, служанок (шаньсийская гробница) имеют
отчетливый сюжетно-бытовой характер, a все входящие в
них изображения (не считая эпизодических рисунков бо-
жественных существ, размещаемых над головами глав-
ных персонажей) выполнены исключительно в реалисти-
ческой манере и тяготеют к портретной живописи. В ка-
честве вспомогательных или фоновых деталей показаны
деревья, предметы интерьера.
Сказанное означает, что, взяв на вооружение тради-
цию древнекитайского живописного искусства, северовэй-
ское художественное творчество и в данном случае под-
вергло ее решительным изменениям.
Итак, завоевание региона бассейна Хуанхэ и установ-
ление там более чем на два века чужеземного правящего
режима отнюдь не привело, как видим, к прерыванию или
деградации китайских художественных традиций, сложив-
шихся в этом регионе в течение предшествующих истори-
ческих эпох. Почти все они были унаследованы северовэй-
ским искусством, и не просто унаследованы, но и творче-
ски им развиты. Одновременно в эпоху Шести династий
в очередной раз отчетливо обнаруживает себя стилистиче-
ское региональное разнообразие китайского искусства, со-
провождавшееся оживлением древних художественных
традиций Юга. Таковы общие выводы об особенностях
творческой жизни Китая в представленную эпоху, кото-
рые мы делаем пока на материале преимущественно погре-
бального искусства.
В конце VI в. Китай был вновь объединен под эгидой
династии Суй (589-618), которая, подобно древней импе-
рии Цинь, оказалась кратковременной предшественницей
нового могущественного имперского государства — Тан.
Без упоминания подробностей историко-политических со-
бытий того времени, отметим, что новый правящий дом
был основан выходцем из северной знати смешанных кро-
вей, в родословной которого были представители абориген-
ных китайских кланов и тобийских домов, что процесс
объединения страны разворачивался с Севера82. Иными
словами, культурно-творческая деятельность Китая при
Суй, каким бы кратковременным ни было ее бытие, опи-
ралась на культурные и художественные достижения
Северного Вэй, способствуя их превращению в реалии
общенационального масштаба. В пользу этого свидетель-
ствует погребальное искусство, конкретно — пластика, ко-
торая почти точно воспроизводит северовэйскую, сохраняя
свою стилистику и набор персонажей. Одновременно в рам-
ках суйского искусства наметился ряд эволюционных тен-
денций в сторону нового объединения региональных худо-
жественньтх стилей, что на этот раз наиболее отчетливо
прослеживается на материале буддийского культового изоб-
разительного искусства. Забегая вперед, отметим, что имен-
но в конце VI — начале VII в. начинается этап его откро-
венной китаизации, сопровождавшийся размытием цент-
ральноазиатских эстетико-иконографических установок.
Ряд весьма существенных новаций обнаруживается и в
суйском декоративно-прикладном искусстве. Указанные
приметы творческой жизни Китая в разбираемую эпоху
еще раз подтверждают правомерность высказанного ранее
тезиса о том, что административно-территориальное объе-
динение Китая сразу же вызывало к жизни и процесс объе-
динения региональных художественных традиций.
263
Стенописи погрсбальной
камеры гробнииы.
Мэнцзиньсянь
Стенописи погребальнои
камеры шанъсиііскоіі
гробницы. Северная стена.
Портрегп усолших со
слугами. 40 х 70 см
ЭПОХИ СУЙ
(589-618) И TAH
(618-907)
82 Основателем и первым
монархом династии Суй был
Ян Цзянъ (541-604), осуще-
ствивший государственный
переворот в северном царстве
Северное Чжоу и провозгла-
сивший собственное государ-
ство еще в 581 г. Тем не ме-
нее за начальную дату импе-
рии Суй принимается 589 г.,
когда войскам Ян Цзяня уда-
лось покорить последнее из
южных царств (Чэнь). В 604 г.
Ян Цзянь был свергнут и убит
собственным сыном Ян Гуа-
ном (569-618), попытавшим-
ся повторить социально-поли-
тические и внешнеполитиче-
ские акции, предпринятые в
свое время Цинь-ши-хуан-ди,
в том числе ведение масштаб-
ных строительных работ, во-
енный поход против корей-
ского государства Когурё. Но
все эти акции, как и при Цинь,
привели лишь к окончатель-
ной дестабилизации экономи-
ки страны и спровоцировали
повстанческие движения. Не-
малую роль в падении Суй
сыграли личные качества Ян
Гуана в дальнейшем, неизмен-
но обвиняемого в жестокости,
деспотизме и маниакальном
пристрастии к роскоши.
83 Основателем династии
Тан был Ли Юань (годы жиз-
ни — 566-635, танский Гао-
цзу, года правления — 618-
626) — родственник Яо Гуана
по материнской линии, т. е.
эта империя возникла бла-
годаря событиям, происхо-
дившем в центральных регио-
нах Китая. A сам Ли Юань
был выходцем с северо-запа-
да (пров. Шэньси). Подлин-
ное утверждение танского пра-
вящего дома произошло при
его сыне — Ли Шимине (тан-
ский Тай-цзун, 636-649), ко-
торый также пришел к власти
путем дворцового переворота,
но ограничившись только низ-
ложением своего отца.
84 Сюань-цзун и время его
правления во многом напоми-
нают личность и царствование
ханьского императора У-ди.
Как и последний, он со вре-
менем превратился в популяр-
нейшего героя художественной
словесности и искусства. Из-
любленным их сюжетом явля-
ется история любви Сюань-цзу-
на и его наложницы-фаворит-
ки Ян-гуйфэй (Ян Юйхуань,
719-756), став событием обще-
культурной значимости. Прав-
ление Сюань-цзуна соотносит-
ся с «золотым веком» китай-
ской лирической поэзии: это
время творческой активности
всех «великих» поэтов Ки-
тая — Мэн Хаожаня (689-
740), Ли Бо (701-762), Ду Фу
(712-770) и Bau Вэя (701-
761), последний из которых
сыграл важную роль и в ис-
тории китайской живописи.
В эпоху Тан (618-906) происходит наивысший расцвет
китайской имперской государственности, достигшей пика
своего могущества в VI-VIII вв., и национальной духовно-
сти83. Тем не менее уже в середине VIII в. в социально-
политической жизни китайского общества обозначились
деструктивные тенденции. В 755-756 гг., в конце долго-
временного и внешне великолепного правления императо-
ра Сюаньцзуна (713-756)81, разразился мятеж, поднятый
полководцем Ань Лушанем (?-757), поставив под угрозу
существование правящего режима. Армия Ань Лушаня за-
хватила столицу Танской империи — Чанъань, вынудив пре-
старелого Сюань-цзуна вместе со своим двором бежать в
Сычуань, где он и умер. Его преемнику (Су-цзун, 756-762)
удалось с невероятным трудом подавить мятеж. Однако все
эти события необратимо понизили позиции царствующего
дома и предопределили агонию и гибель Танской империи.
Вторая половина VIII в. и все последующее столетие про-
шли в непрерывном ухудшении экономической и полити-
ческой ситуации в стране. Заключительной вехой истории
Тан стало восстание Хуан Чао (?-884), продлившееся с 875
по 884 г. и спровоцировавшее новую вспышку междоусоб-
ных войн. Поэтому все характеристики культурно-художе-
ственной жизни танского общества обычно относятся к пер-
вой половине существования этой империи.
Могущество Танской империи нагляднее всего проявля-
ется в расширении ее территориальных владений и росте
внешнеполитического авторитета. В первой половине VII в.
(629-657) были предприняты несколько походов в Цент-
ральную Азию, в ходе которых китайские армии разгроми-
ли Восточный и Западный Каганат и дошли почти до Буха-
ры. В 60-е гг. VII в. были завоеваны на северо-востоке ко-
рейские государства Когурё и Пэкчэ, a на юге — северная
часть тогда существовавшего вьетнамского государства. Па-
раллельно в границы империи окончательно вошли боль-
шая часть ранее соседних с ней крайних юго-восточных и
южных земель — территорий современных провинций Гу-
андун и Юньнань. Но главной, определяющей чертой внеш-
ней политики Тан и ее взаимодействия с другими странами
и народами являются отнюдь не агрессивные войны, a тор-
гово-дипломатические контакты, которые по интенсивности
и географической широте превзошли связи Китая с внеш-
нем миром при Хань. Великий шелковый путь, действие
которого фактически прекратилось в эпоху Шести дина-
стий, снова набрал полную силу, повторяя свой прежний
маршрут. Одновременно он дополнился несколькими новы-
ми сухопутными и морскими торговыми путями. Два из
них напрямую соединили Китай с Южной Азией: из Сычуа-
ни — в Бирму и Бенгалию, и через Тибет — в Непал и
Северную Индию. Установление этих маршрутов стало воз-
можным благодаря дипломатическим контактам Тан с Ти-
бетом (первый договор от 635 г.), вступившим в то время в
фазу строительства собственной государственности. Будучи
в целом малопригодными для массовых товарных перево-
зок, оба названных маршрута стали прологом важнейших
264
событий в истории китайской культуры и, в частности, ху-
дожественного творчества, дав впервые возможность пред-
ставителям китайского буддийского духовенства посетить
Индию и наконец лично увидеть подлинные памятники индо-
буддийского изобразительного искусства и зодчества.
В 607 г., еще при Суй, были установлены и официаль-
ные дипломатические отношения Китая с Японией, кото-
рые привели к возникновению соединившего их морского
пути (ранее своего рода посредником между этими двумя
странами выступали корейцы, осуществлявшие и доставку
на Японские острова китайских товаров). Этот путь тоже
имел в болыпей степени культурное, чем коммерческое
значение, главным образом для самой Японии, благотвор-
но почерпнувшей политический опыт Китайской империи
и достижения ее духовной и художественной культуры.
В Японию — для императорского двора, знати и буддий-
ских храмов — вывозились китайские изделия и произведе-
ния искусства, из которых постепенно сформировались два
огромных художественных собрания — Хорюдзи и Сёсоин.
В первом из них оказались артефакты, датируемые второй
половиной ѴІІ-ѴІП вв. Второе собрание сложилось из да-
ров и подношений, сделанных членами японской император-
ской фамилии буддийским храмам на протяжении второй
половины VIII в. Оно включает в себя более 200 000 еди-
ниц изделий: оружие, музыкальные инструменты, предме-
ты мебели и одежды, украшения, посуду, произведения
"Ч.
«А*
А+
^
>ѵ
\
I
I
к
Хуанхэ \ .
J Г
ё і
>
гГ*'*-*'**'^^/
\
\
/
)
І
І
^АНЬАНЬ /^
/_.—
ы
■ф
■ ХЭНАНЬ (Л0ЯН)
» >
ч.
?
^
J
с
J ЦЗЯНЬНАНЬу^
Vw^..-^'
^
.J I
\ ^
ГОСУДАРСТВО
НАНЬЧЖАО
г
I
h <
V
/
Ui
• О:
°*
Г\
ОБЛАСТЬ
ЛИННАНЬ
ГУАН (ГУАНЧЖ0У)
о. Тайѳань
ЮЖНО-КИТАИСКОЕ
MOPE
о.Хайнань
Суйская погребалъная
пластпика
a — 61-68 см, пров. Шаньси (на-
ходки 1999 г.); б — 64 см, пров.
Хэнань; в — стражи могил (пров.
Хэнань): 1 — 58 см, 2 — 66,8 см.
Китпай в тпанскую эпоху.
Середина VIII в.
265
Ли Шиминъ
(танский Тай-цзун)
камерной пластики, живописи и каллиграфии. Коллекция
одних только тканей и предметов из ткани (ансамбли им-
ператорского парадного одеяния, облачения буддийских
иерархов, вотивные знамена, книжные футляры) насчиты-
вает 17 000 единиц. В результате собрание Сёсоин являет
своего рода культурный комплекс, в котором надежно пред-
ставлены ведущие виды декоративно-прикладного искус-
ства танской эпохи. Только за последние несколько деся-
тилетий они существенно дополнились археологическими
находками.
Важнейшим со всех точек зрения торговым маршру-
том стал южный морской путь, связавший Китай с арабо-
мусульманским миром. Он начинался от Багдада, прохо-
дил вдоль южной оконечности полуострова Индостан, че-
рез южно-азиатские островные государства и заканчивался
в Гуанчжоу (юго-восточная оконечность провинции Гу-
андун.
Китай опять захлестнула волна всевозможных чужезем-
ных новшеств и диковин. В Китай проникают новые учения
и вероучения, из которых главным, безусловно, был ислам.
По сообщениям письменных источников, мусульманские
общины, состоявшие из арабских купцов, сложились во
многих населенных пунктах, находившихся на транзитных
торговых маршрутах, по которым товары доставлялись из
Гуанчжоу в метрополию, a также в самой столице и близле-
жащих к ней городах — Лояне, Кайфыне. Только в Гуанч-
жоу ко второй половине VIII в. арабо-мусульманская общи-
на насчитывала порядка 100 000 человек. Ислам так и не
смог столь же прочно внедриться в китайскую культуру,
как это в свое время удалось буддизму. Тем не менее влия-
ние арабо-мусульманского искусства прослеживается в ху-
дожественном наследии не только танской эпохи, но и по-
следующих столетий. Например, в светской архитектуре Кай-
фына, относящейся к ХѴІІ-ХІХ вв., присутствует немало
орнаментально-конструктивных деталей, восходящих к
арабо-мусульманскому зодчеству.
Художественно-технологические заимствования в свою
очередь привели и к обогащению репертуара китайских
орнаментальных средств и технологических приемов, и к
глубинным, подлинно тектоническим сдвигам во многих
видах местного декоративно-прикладного искусства. Кро-
ме разнообразных изделий — тканей, посуды, предметов
роскоши, украшений, произведений искусства — чужезем-
ные послы и торговые миссии преподносили двору в каче-
стве даров и подношений и «живые диковины». Это были и
люди — карлики, великаны, представители экзотических,
особенно для монголоидного населения, народностей, вплоть
до негроидной расы, или специалисты в области особо це-
нимых в Китае рациональных знаний (алхимики, астроло-
ги, целители) и творческих профессий (музыканты, танцов-
щицы), и даже животные: из Южной и Центральной Азии
привозили носорогов, слонов, львов, гепардов — словом,
всех животных, которые ассоциировались с верховной вла-
стью. С не менылим радушием принимались охотничьи
266
и декоративные породы животных — ловчие птицы, охот-
ничьи и комнатные собачки. При дворе времен Сюань-
цзуна наибольший восторг y гаремных красавиц вызвала
римская болонка, умещавшаяся в рукавах дамского одея-
ния. Все эти «живые диковины» нашли отражение в мест-
ном художественном творчестве, порождая новые мотивы
и образы. Да и само по себе разнообразие людей с экзоти-
ческой внешностью, неведомых прежде животных, чуже-
земных предметов роскоши и повседневного обихода при-
внесло в жизнь танского общества празднично-жизнерадост-
ный колорит. И эта атмосфера непреходящего, казалось
бы, материального благополучия, веселья и карнавально-
го великолепия тоже оставила яркую печать во всех ви-
дах творческой деятельности: и в высоких элитарных про-
изведениях искусства (декоративность живописных тво-
рений), и в обыденных вещах (одежда, ювелирные изделия,
столовая утварь), следуя и нередко экзотическим модным
веяниям.
Внешнеторговые связи стимулировали бурный рост
городов и ремесленных производств, что повлекло за со-
бой развитие полноценной городской культуры, которая
вызвала к жизни (или ускорила их формирование) свой-
ственные ей художественные традиции: театральное ис-
кусство в форме уличных фарсовых зрелищ, популярные
поэтические и прозаические жанры литературы. Благо-
даря городской культуре и самостоятельности сословия
купцов и ремесленников зарождается тенденция к демо-
кратизации всей национальной творческой деятельности,
Танское зеркало.
Диаметпр 39 см
Выполнено с испол
Танская зооморфная
погребальная пластика.
Первая половина VII в.
Пров. Хэнанъ
прежде ориентировавшеися преимущественно на духовные
запросы и эстетические установки социально-интеллекту-
альной элиты. Этой тенденции объективно способствовала
система государственных экзаменов на официальный чин,
впервые законодательно оформленная в начале Тан. В иде-
але подобные экзамены должны были выдержать все кан-
дидаты на любую официальную должность в провинциаль-
ных (уездных, губернских) и центральных административ-
ных аппаратах.
Принципиально важно, что от экзаменующегося требо-
валось, чтобы он обладал должным уровнем знаний безот-
носительно своей родословной и социального статуса се-
мьи. В результате сословие ши стало пополняться выход-
цами из семей зажиточных горожан и даже крестьян,
имевших возможность финансировать обучение своих
отпрысков. Следовательно, и в творческую деятельность
теперь вовлекались представители значительно более ши-
роких, чем в прежние эпохи, слоев населения страны, ко-
торые привносили в нее собственные культурные и худо-
жественные ориентиры.
Первым результатом и одновременно показателем де-
мократизации художественного творчества стало обраще-
ние к реальному человеку и обыденной жизни вместо исто-
рико-легендарных личностей и овеянных древностью сю-
жетов, столь характерных для элитарного искусства
предшествующих эпох. Наиболее властно смена художе-
ственных приоритетов сказалась на изящной словесности
и станковой живописи. Поэзия обогатилась новым лири-
ческим жанром — цы. Ведущий происхождение от город-
ского песенного фольклора цы ко второй половине Тан
существенно потеснил прежние «классические» жанры.
В прозе ярко заявила о себе авторская новелла-чуанъци,
главными действующими лицами которой были рядовые
горожане: чиновники, торговцы, обитательницы увесели-
тельных заведений.
В станковой живописи лидирующие позиции заняло
жанровое направление «люди и вещи» (жэньу), полностью
сосредоточенное на человеке и окружающей его действи-
тельности. Тенденция к демократизации творческой дея-
тельности сказалась даже на таких предельно консерва-
тивных видах художественного творчества, как погребаль-
ное и буддийское культовое искусство.
Общепризнано, что первая половина танской эпохи —
это время наивысшего расцвета китайско-буддийского
культового изобразительного искусства, которое оказыва-
ло заметное воздействие и на светское художественное
творчество. Прогрессивные процессы поддерживались ро-
стом политического авторитета буддийского учения и цер-
кви, которые находились под покровительством верхов-
ных властей. Высокий статус буддизма дал повод некото-
рым исследователям говорить, что он стал доминантой
духовной жизни танского общества, подчинив своему влия-
нию и светское искусство. Но подобные утверждения да-
леки от действительности. Во-первых, в отличие от хри-
268
стианства в средневековой Европе буддизм ни в коем слу-
чае не вытеснял собой духовных основ Танской империи.
Более того, почти таким же покровительством со стороны
правящего дома пользовались и конфуцианство, и дао-
сизм. Во-вторых, анализ общей истории развития китай-
ско-буддийского изобразительного искусства показывает,
что при Тан, напротив, начинает вызревать тенденция к
его секуляризации, происходит постепенное размывание
иконографических канонов и сближение со светским ис-
кусством.
Для погребального художественного творчества инте-
ресующие нас изменения сказались в первую очередь на
состоянии погребальной пластики и стенописей.
Наиболее масштабными и показательными с художе-
ственной точки зрения погребальными памятниками пред-
ставляются императорские усыпальницы и сопутствую-
щие им аристократические захоронения, сосредоточенные
в окрестностях Чанъани. Всего насчитывается 18 импера-
торских усыпальниц, лучше всего из которых сохранились
Чжаолин — погребальный комплекс Ли Шиминя (танский
Тай-цзун)у расположенный в 75 км к северо-западу от со-
временного Сианя; Цянълин (в 90 км к северо-западу от
Сианя) погребальный комплекс третьего танского монар-
ха — Гао-цзуна (650-684) и его супруги — У Цзэтянъ
(У-хоу, 624-705), намного пережившей мужа, на некоторое
время узурпировав верховную власть85; и Шуньлинь (в 40 км
к северу от Сианя) — погребальный комплекс матери
У Цзэтянь, лосмертно обожествленной по приказу дочери-
императрицы. Усыпальницы Тай-цзуна и Гао-цзуна с
У Цзэтянь находятся в склонах естественных скальных мао
сивов. Надземные части обоих погребальных ансамблей
состояли из стен, окружавших собственно могильную часть,
каменных ворот и множества отдельных построек. Только
в Чжаолин их насчитывалось 378, включая специальные
святилища. Кроме того, как при Ранней Хань, в импера-
торские погребальные комплексы входит внушительное
число (167 только для Чжаолин) сопутствующих захоро-
нений, 10 из которых были вскрыты на протяжении 50-
70-х гг. прошлого века. Самыми примечательными из них
оказались гробницы сановника Ли Шоу, умершего в 668 г.,
принцессы Юнтай86, принцев Идэ и Чжанхуая87, которые
Танская аншропоморфная
погребальная пласшика
a — из гробницы Ли Шоу; б —
56 см (первая половина VII в.,
пров. Хэнань); в — 32,4 см (вто-
рая половина VII в., пров. Хэ-
нань); г — ок. 35 см (конец VII в.,
пров. Хэнань); д — 18 см (конец
VII в., пров. Хэнань); е — 45 см
(начало VIII в., пров. Хэнань):
1 — вид спереди, 2 — вид сбоку.
85 После смерти Гао-цзуна
У Цзэтянь вначале довольство-
валась статусом Вдовствующей
императрицы и регентши при
малолетних сыновьях и вну-
ках, затем провозгласила себя
полновластной императрицей
и основательницей новой ди-
настии — Чжоу, которая про-
существовала около 20 лет
(684-705).
86 Принцесса Юнтай — внуч-
ка У Цзэтянь, убитая по ее
приказу, когда ей было 17 лет.
Когда отец Юнтай — импера-
тор Чжун-цзун (705-710) —
вступил на трон, он приказал
перезахоронить ее останки,
ранее погребенные близ Лоя-
на, с почестями, подобающи-
ми статусу принцессы крови,
в усыпальнице с соответствую-
щим художественном убран-
ством. Принц Идэ — муж
принцессы Юнтай, убитый
вслед за ней и затем вторич-
но похороненный рядом с су-
пругой.
87 Принц Чжанхуай — вто-
рой сын императора Гао-цзуна
и У Цзэтянь, по приказу кото-
рой он был возведен в 675 г. в
ранг наследного принца. Но
испугавшись его самостоятель-
ности, не желая делить с ним
державную власть, У Цзэтянь
привела его к самоубийству,
(в 684 г.).
269
Стражи могил
a — 39 см (середина VII в.); б —
ок. 62 cm; в — ок. 66 см. Пер-
вая половина VIII в. Окрестно-
сти Лояна.
позволяют нам установить состояние и эволюцию танского
погребального искусства на протяжении второй половины
VII — начала VIII в. Серия танских аристократических
захоронений была обнаружена и вскрыта (70-80-е гг. XX в.)
в окрестностях Лояна и в других регионах Китая. Среди
них находились гробницы принца Ли Хуна — первенца
У Цзэтянь, скончавшегося в 675 г., и наложницы импера-
тора Жуй-цзуна (710-712).
Все захоронения, относящиеся к первой половине тан-
ской эпохи, имеют однотипную планировку (длинный кори-
дор с отходящими от него помещениями) и содержат в себе
внушительное число как погребальной пластики, так и
натуральных изделий — украшений и личных вещей усоп-
ших. Так, в гробнице принцессы Юнтай (несмотря на то,
что она была разграблена) обнаружили 1300 артефактов,
включая золотые, серебряные и нефритовые предметы. Что
касается погребальной пластики, то она, вне всякого со-
мнения, является преемницей скульптуры эпохи Шести
династий, в обоих ее стилистических вариантах — «юж-
ном» и «северном». Однако ее состав и художественные
трактовки заметно изменились. Практически полностью
исчезли модели зданий, плит, колодцев и прочих предме-
тов. Из зооморфных изображений на первый план вышли
скульптуры коней и верблюдов, последние обычно допол-
нялись изображениями чужеземных купцов (см. вклейку).
Фигуры людей отличаются реалистичностью, живостью и
исторической достоверностью. Трудно избавиться от ощу-
щения, что многие из них являются портретами реальных
людей — настолько точно и убедительно передаются при-
меты их внешнего облика и индивидуальность персона-
жей. Перед нами предстают то благонравная пожилая дама,
преисполненная гордости, то ветреная красавица, одетая
по новейшей моде, то юная служанка, с подобострастием
взирающая на свою госпожу, то самодовольный чиновник
или бравый вояка. Позы персонажей тоже стали гораздо
более раскрепощенными. Особыми художественными до-
стоинствами обладают скульптуры животных и людей, вы-
полненные в новой для того времени керамической техни-
ке — так называемой «трехцветной поливной керамике»,
которая, благодаря своему качеству, позволяла исполнять
предельно изящные, несмотря на их размеры (до 1 м в
высоту), и тонко сформированные изваяния. Красочное
глазурное покрытие придавало им дополнительный деко-
ративный эффект.
Насколько далеко танская погребальная пластика ото-
шла от иконографических условностей, диктуемых приро-
дой культового искусства, хорошо видно и на примере изоб-
ражений фантастических существ — тех же «стражей мо-
гил», образы которых она унаследовала от северовэйского
культового художественного творчества. Тела и позы этих
чудовищ все настойчивее стали уподобляться обыкновен-
ной собаке, a морды — обретать черты человеческого лица,
в некоторых случаях даже улыбающегося. Особый интерес
в свете сказанного вызывает набор статуэток (высота 18 см),
270
Скулыгтуры зодиакалъных
животных
a — дракон; б — змея; в — ло-
шадь; г — овца.
которые представляют зодиакальных животных. Их зоо-
морфную сущность выдают только головы, тогда как их
фигуры, позы, одеяния оказываются абсолютно челове-
ческими. Аналогичную трансформацию претерпела и по-
гребальная пластика, создаваемая в периферийных райо-
нах, что указывает на очередной виток унификации регио-
нальных художественных традиций.
Традиция погребальных стенописей на протяжении
первой половины танской эпохи словно повторила свой
эволюционный путь. Самым ранним ее образцом является
единичная — в художественном оформлении всего захо-
ронения — картина, выполненная в одной из сопутствую-
щих гробниц комплекса Чжаолин, которая датируется
658 г. Имея размеры монументального панно (166 х 72 см),
она воспроизводит один-единственный персонаж — танцов-
щицу, кружащуюся в танце (см. вклейку). Фигура танцов-
щицы выполнена черными контурными линиями, нане-
сенными на естественный фон, детали ее одеяния прорисо-
ваны красно-коричневой краской с зелеными вкраплениями
(зеленая лента, обвивающая плечи). Достаточно простая
по технике исполнения и приближающаяся по данному
показателю к ранним образцам ханьской погребальной
живописи, эта картина тем не менее намного превосходит
все известные ханьские и северовэйские произведения ес-
тественностью и экспрессивностью рисунка. Очевидно, что
автор свободно владел приемами живописного письма и
способами передачи человеческого тела в момент движе-
ния, что ранее было доступно только пластике. Такой
эффект достигается им посредством передачи позы и дета-
лей одежды — длинных развевающихся рукавов, разле-
тающейся в танце легкой юбки, извивающихся, словно
летящих вокруг героини, лент. He исключено, что подоб-
ные живость и динамичность, уникальные даже на фоне
станковой живописи того времени, были обусловлены об-
ращением анонимного художника к чужеземным произ-
ведениям: не случайно он показывает не китайскую, a
иноземную исполнительницу. Невольно создается впечат-
ление, что традиция погребальных стенописей будто оч-
нулась от долговременного оцепенения, для чего ей пона-
добился импульс извне.
Но уже во второй половине VII в. стенописи заняли
главное место в художественном оформлении погребений,
Периферийная пластика.
Пров. Ляонин
a — 19,5 cm; б — ок. 30 см; в
ок. 30 см (страж могил).
271
Изображение
придворной дамы.
Релъефы гробницы
принцессы Юнтай
распространившись на большую часть поверхности поме-
щений, что наблюдается в гробнице Ли Шоу. Стенопися-
ми в ней покрыты три (северная, восточная и западная)
стены погребальной камеры и стены ведущего к ней про-
хода, что совпадает с принципами их расположения в
ханьских погребениях. Все картины имеют горизонталь-
ную фризовую композицию и изображают процессии слу-
жанок, слуг и оркестровые группы. В стенописях из по-
гребальной камеры воспроизведены в общей сложности
12 персонажей, часть которых — служанки с предметами
столовой и бытовой утвари в руках, остальные — музы-
кантши. Фигуры и вспомогательные детали опять выпол-
нены черной контурной линией. Одежда раскрашена в
красный цвет с эпизодическими вкраплениями зеленого.
Персонажи показаны на фоне архитектурно-интерьерных
деталей — колонн и балок, тоже окрашенных в красный
цвет. Все предметы бытовой, столовой утвари и музы-
кальные инструменты детально прорисованы и полностью
совпадают с имевшими в то время хождение реальными
изделиями, о которых мы знаем благодаря подлинным
артефактам. Как и в погребальной пластике, в этих стено-
писях нетрудно уловить отголоски обеих региональных
художественных традиций. От стенописного искусства цен-
тральных регионов Китая они восприняли определенную
статичность и условность, a от «южного» искусства —
элегантность линий и тонкость рисунка.
Лучшими образцами танской монументальной живо-
писи признаются картины из гробницы принцессы Юнтай,
в которой они покрывают стены коридора (высота 198 см),
погребальной камеры и прилегающих к ней помещений.
Всего за несколько десятилетий изменилась техника стено-
писей. Как и в эпоху Хань, рисунки наносились красными
контурными линиями с их последующей обводкой черной
краской. Палитра красок неизмеримо возросла по сравне-
нию со стенописями из гробницы Ли Шоу и стала вклю-
чать в себя, кроме красного, синий, зеленый и коричневый
цвета в различных их оттенках. По манере исполнения
картины отчетливо подразделяются на две художествен-
ные серии. Стенописи, украшающие погребальную камеру
и примыкающие к ней помещения, отличаются намерен-
ной декоративностью и некоторой выспренностью: верени-
цы придворных дам, облаченных в яркие одеяния, замер-
ли в ожидании своей госпожи. Позы персонажей статич-
ны, a их внешний облик передает определенный условный
типаж (см. вклейку). Стенописи, расположенные в прохо-
дах, образуют самостоятельные композиционные фрагмен-
ты, каждый из которых воспроизводит живую и жизнен-
ную сценку: придворные дамы, наблюдающие за птичкой
на цветущем кусте или играющие с собачкой. Все изобра-
жения выполнены в естественной и свободной манере,
совпадающей со стилистикой собственно живописных про-
изведений того времени на придворно-бытовые темы (те-
матическая разновидность жанра жэнъу). Co станковой
живописью стенописи из гробницы принцессы Юнтай сбли-
272
жают и многие композиционно-художественные нюансы.
Например, в картины погребальной камеры, как и в стено-
писях из гробницы Ли Шоу, введены изображения архи-
тектурно-интерьерных деталей. Но теперь они преврати-
лись в композиционно значимый их элемент, став своего
рода обрамлениями отдельных живописных сегментов, по-
средством которых они объединеняются в подобие целост-
ного художественного полотна. В сюжетных сценках, по-
добно светским картинам, присутствуют пейзажные дета-
ли — растения, цветы. И наконец, в ряде случаев заметно
стремление художника передать психологическое состоя-
ние персонажей (например, беззаботное веселье юных кра-
савиц, развлекающихся с собачкой).
Обращает на себя внимание, что во всех вскрытых на
сегодня танских захоронениях нет картин на историко-
мифологические темы, «сцен в павильоне», выезда колес-
ниц и тому подобных условно-детерминированных произ-
ведений. Указанные особенности стенописных произведе-
ний распространяются и на погребальные рельефы, в
которых приоритетное положение также занимают сцены
придворно-бытового характера, a сами изображения приоб-
рели заметно большие — по сравнению не только с древним,
но и северовэйским камнерезным искусством — естествен-
ность, пластичность и выразительность. Самым показатель-
ным произведением танского погребального камнерезного
искусства выступает саркофаг Ли Шоу, вся поверхность
которого покрыта рельефными композициями. На его пе-
редней стенке воспроизведен вход в погребение со стража-
ми и свитскими по бокам и фантастическими существами
над ним. На трех остальных стенах изображены процессии
служанок, каждая из которых держит тот или иной пред-
мет, и оркестровых групп, состоящих исключительно из
юных исполнительниц. Вторя сюжетам стенописных кар-
тин, эти сцены отличаются абсолютной исторической до-
стоверностью и жизненной убедительностью.
Параллельно тенденции к демократизации художествен-
ного творчества набирала силу и традиция официального
18 История искусства Китая
Саркофаг Ли Шоу
a — передняя часть; б — процео
сия служанок (фрагмент).
273
искусства со свойственным ей стремлением к величествен-
ности и торжественности произведений. Лучше всего она
раскрывается на материале архитектуры (подробно см. гла-
ва 16) и монументальной скульптуры.
Наиболее обширные собрания каменной монументаль-
ной скульптуры содержатся в императорских погребаль-
ных комплексах, из которых выделяется Цяньлин. У всех
четырех ворот стены, окружающей могильную часть, на-
ходятся парные изваяния львов, дополненные y северных
и западных ворот соответственно парой и тремя парами
изваяний коней. Еще 34 скульптуры — 10 пар изваяний
воинов, 5 пар коней, 4 (в парном комплекте) изваяния
фантастических существ («крылатых коней» и «небесных
оленей») — образуют «аллею духов» общей протяженно-
стью 3 км. Справа от «аллеи духов» находится скулыі-
турный ансамбль из 61 фигуры (чуть выше натурального
человеческого роста) чужеземных правителей и послов,
как бы прибывших на аудиенцию к августейшей чете.
Около 30 каменных скульптур входят в комплекс Шунь-
лин: 13 статуй воинов, 3 изваяния лежащих баранов, 2 из-
ваяния львов в сидячей позе и еще несколько скульптур
львов в стоячей позе и «небесных оленей». В комплексе
Чжаолин сохранились 14 статуй чужеземных правителей,
тоже образующих отдельную скульптурную группу, и 6 ка-
менных плит (170 х 205 см) с барельефными изображени-
ями любимых скакунов Тай-цзуна. Несколько скулыі-
тур — изваяния стоящего в полный рост чиновника, си-
дящего и стоящего львов — присутствуют и в наземной
части гробницы принца Ли Хуна.
274
тазийной («крылатый конь») и реалистической трактов- Тай-цзуна
ке. Во-вторых, обязательной принадлежностью погребаль-
ных скульптурных ансамблей стали изваяния людей, в
первую очередь воинов. Одновременно возросли размеры
изваяний и изменилась их стилистика. Так, скульптуры
воинов из комплекса Цяньлин имеют высоту более 6 м,
скульптуры «крылатого коня» — 4м, «небесного оле-
ня» — 4,8 м. Изваяние сидящего льва из комплекса
Шуньлин достигает в высоту 3,1 м и в длину 3,4 м.
Общими художественными особенностями император-
ской погребальной скульптуры являются, с одной сторо-
ны, натуралистичность изображений, которая сохраняет-
ся даже в воспроизведении образов фантастических су-
ществ, a с другой — массивность, тяжеловесность и
статичность изваяний. Причем еще большими, чем изоб-
ражения животных, монументальностью, статичностью и
условностью обладают изваяния воинов, застывших в од-
нотипных позах, стоящих в полный рост, облаченных в
ниспадающие до земли одеяния; в руках воинов находит-
ся рукоять меча, который острием упирается в землю.
Очертания фигур и детали их внешности (черты лица,
элементы одеяния) настолько стилизованы, что эти извая-
ния воспринимаются издали как гигантские каменные
столбы (см. вклейку). To, что мы сталкиваемся со стили-
стикой, свойственной императорской погребальной пласти-
ке, подтверждается многими фактами. На существование
совершенно иного пластического стиля в танском художе-
ственном творчестве определенно указывают барельефные
изображения коней Тай-цзуна. Выполненные, согласно
письменным источникам, по эскизам одного из ведущих
живописцев того времени, изображения передают натуру
в момент движения и отличаются редкой динамичностью
и выразительностью. Более элегантно и детализованно,
чем изображения «императорских стражей», выполнено
изваяние чиновника над гробницей принца Ли Хуна, под-
чиняясь тем же иконографическим принципам. Фигура
275
изображена в полный рост, в длинном одеянии, с посохом
в руках и отличается плавностью силуэтных линий и тща-
тельно проработкой деталей.
Следующей типологической особенностью императорс-
кой погребальной скульптуры является сочетание в ней
стилистических приемов, идущих от «северной» и «юж-
ной» художественных традиций. Если ее генеральные при-
меты — реалистичность, статичность и общая лаконичность
трактовок натуры — явно восходят к искусству централь-
ных регионов Китая и непосредственно к северовэйской
пластике, то манера исполнения отдельных деталей несет
на себе печать влияния южно-китайского «барокко». Ха-
рактерными примерами служат скульптуры «крылатого
коня» и сидящего льва из комплекса Цяньлин. В первой
из них массивное и лишенное каких-либо вспомогатель-
ных деталей туловище животного дополнено изысканно-
элегантными крыльями, состоящими из тонко проработан-
ных, в высоком рельефе, и причудливой конфигурации
завитков-перьев, которые, вне всяких сомнений, копируют
крылья «химер» (см. вклейку). В изваянии льва массивная
и статичная фигура удивительным образом гармонирует с
гривой, которую представляет масса детально вырезанных
колец и плавно ниспадающих на плечи зверя.
Такими же приметами отличалась, если верить ее ли-
тературным описаниям, и танская светская монументаль-
ная скульптура. Сошлемся на рассказ о монументе, возве-
денном в 695 г. по приказу У Цзэтянь. Выполненный из
чугуна, он состоял из цилиндрического постамента, имев-
шего высоту 6 м и окружность 51 м, и восьмиугольной
колонны, высотой 32 м и диаметром 3,2 м. На вершине
колонны был установлен «облачный свод» — композиция
из полусферы (окружность 9 м, высота 3 м) и венчающих
ее бронзовых изваяний драконов (каждое высотой 3,6 м),
которые поддерживали позолоченную жемчужину. На со-
оружение этого монумента ушло 1325 тонн чугуна и брон-
зы. Вне всяких сомнений, монумент являлся не только
выдающимся произведением китайского изобразительно-
го, архитектурно-инженерного искусства и металлурги-
ческого производства, но и памятником, который полно-
стью отвечал требованиям официального художественно-
го творчества.
Итак, творческая жизнь танской эпохи в равной мере
подчинялась как общим для национальной художествен-
ной культуры закономерностям (активизация официаль-
ного искусства и унификация региональных художествен-
ных традиций в период утверждения централизованной
государственности), так и историко-политическим и куль-
турным реалиям того времени. Вместе с тем она ознаме-
новалась дальнейшим развитием всех видов предметно-
творческой деятельности, дальнейшим совершенствова-
нием изобразительных методов и средств и разработкой
новых стилистических вариантов, в которых нашли ло-
гическое продолжение творческие достижения предше-
ствующих эпох.
Гибель Танской империи привела к очередной террито-
риально-административной раздробленности страны — эпо-
хе, в полном оригинальном названии которой («Пяти ди-
настий и десять царств») точно указывается число суще-
ствовавших в то время государственных образований. Под
«Пятью династиями» имеются в виду 5 государств, сме-
нявших друг друга в регионе бассейна Хуанхэ: Позднее
Лян (907-923), Позднее Тан (923-936), Позднее Цзинъ
(936-946), Позднее Хань (947-950) и Позднее Чжао (951-
960). Все они возникли в результате дворцовых переворо-
тов, a их основателями были военные лидеры, причем
нередко выходцы из некитайских по происхождению се-
мейств. «Десять царств» — царства, возникшие и почти
одновременно существовавшие в юго-западных, южных и
юго-восточных районах страны: Раннее Тан и Позднее ІПу
(907-965) — в Сычуани, У (902-937) и Позднее Тан (937-
975) — в нижней части бассейна Янцзы (пров. Цзянсу),
Чу (927-951) — в Хунани, Южное Пин — в Хубэй, У-Юэ
(909-945) — в Фуцзяни и Южное Ханъ (917-971) — в Гу-
андуне. Почти все они были основаны главами областей,
преимущественно выходцами из простонародной среды, вы-
двинувшимися во время восстания Хуан Чао и входивши-
ми в руководство повстанческой армии. Придя к власти,
они старательно копировали принципы имперского прав-
ления и этикетное уложение танского двора, предполагав-
шее оказание августейшего покровительства творческой ин-
теллигенции. Во многом благодаря этому творческая жизнь
китайского общества не только не угасла (что было бы вполне
ожидаемым в ситуации подобного социально-политического
кризиса), a напротив, вступила в новую эволюционную ста-
дию. Сказанное относится в первую очередь к художествен-
ной словесности и станковой живописи. Именно во второй
половине X в. обозначились или зародились, как мы уви-
дим далее, многие ведущие для последующего китайского
живописного искусства жанровые и тематические направ-
ления. Подчиняясь все тем же общим для китайского худо-
жественного творчества закономерностям, оживились ре-
гиональные художественные традиции, из которых громче
всего заявило о себе искусство юго-запада и юго-востока.
Правители обоих располагавшихся там царств — Позднее
Шу и Позднее Тан — предприняли немало усилий для того,
чтобы превратить свой двор в центр интеллектуальной твор-
ческой деятельности местного общества. Особое внимание
в данном случае обычно уделяется последнему государю
Позднего Тан — Ли Юю (937-978)88, еще при жизни сни-
скавшему себе репутацию самобытного поэта, художника
и каллиграфа, a также великолепного знатока и ценителя
искусства, щедрого мецената.
О состоянии художественной жизни на юго-западе мы
можем судить и по археологическим материалам. Пример —
одно из сычуаньских захоронений (вторая половина 80-х гг.
прошлого века), которое оказалось украшенным керами-
ческими рельефными плитами. На них воспроизводится
ландшафтный вид, близкий по стилистике к живописному
эпохи
ПЯТИ ДИНАСТИЙ
(907-960),
СЕВЕРНОЙ СУН
(960-1127)
И ЮЖНОИ СУН
(1127-1279)
88 Ли Юй является и од-
ной из самых трагических
фигур в истории Китая. При-
дя к власти (961 г.) в крити-
ческий для своего царства
момент, он так и не сумел
предотвратить его гибель —
насильственное присоедине-
ние новорожденной империи
Сун. Ему выпало пережить
осаду и захват собственной
столицы, после чего он доб-
ровольно сдался на милость
победителя, был увезен в но-
вую имперскую столицу, где
оказался на положении почти
заключенного. По легендам,
он был отравлен по тайному
распоряжению основателя им-
перии Сун, причем в день сво-
его рождения. Как деятель
культуры, он оставил наибо-
лее яркий след в истории на-
циональной лирической по-
эзии: с его творчеством свя-
зывается качественно новый
этап эволюции жанра цы.
277
Китай в эпоху
Пяти династий
Погребальное искусство.
Царство Шу
a — 80 cm; б — 80 см; в — длина
ок. 23 cm; г — высота ок. 7 см.
КАЙФЫН
і
/ ХПОЗДНЕЕ t
j чэнду ѵ шу *пин изинчжру.
ІННИН.
І А/*Ѵ
ДАЛИІ
І
sA*s, V
ЧУ
I
ТАНЧЖОУ /
і
lu
КАНЧЖОУ £о
ж*~^:
/
I
\J
ЮЖНОЕ
ХАНЬ
І ЮЖНОЕ
ГУАНЧЖОУ
\
\
I
у-юэ ад
%0' а^ о- Тайвань
АННАМ
о. Хайнань
пейзажу, который едва начал формироваться в станковой
живописи. A присутствующая в нем погребальная пластика
содержала в себе, помимо скульптур людей и животных,
тоже выполненных в весьма своеобразных трактовках, мо-
дели строений, которые навсегда, казалось бы, вышли из
репертуара китайского культового искусства.
Примечательно, что подобная самобытность сычуань-
ского искусства сохранялась еще некоторое время после
возникновения нового имперского государства, о чем свиде-
тельствует очередное местное захоронение (1987 г.). Входя-
щая в него погребальная пластика образует многофигурную
композиционную сцену прощания с усопшей. В виде от-
дельной фигуры — закутанной в погребальный саван —
изображена она сама (тоже чрезвычайно редкий для погре-
бального искусства случай изображения покойного, да еще
со столь натуралистическими подробностями). Вокруг тол-
пятся родные, соседи, слуги и еще какие-то персонажи в
масках, видимо, представители местного духовенства, при-
бывшие исполнить похоронный обряд. Фигуры людей до-
полняют изображения животных, a также модели строе-
ний, предметов мебели, музыкальных инструментов. Все
скульптуры выполнены с присущими издавна искусству
этого региона артистизмом, изяществом, естественностью
и живостью.
Новое объединение страны и воссоздание имперской
централизованной государственности (империи Сун) не вер-
278
нули стране былое могущество и международный автори-
тет. Становление нового режима происходило с большим
трудом0* и завершилось только при втором монархе этои
династии — Тай-цзуне (976-984). Еще более важно, что
Сунская империя с самого начала оказалась в окружении
враждебных по отношению к ней государств, которые воз-
никли и укрепились за время агонии Тан и период раз-
дробленности Китая. На северо-востоке, захватив часть ис-
конных земель Китая, в том числе район будущего Пеки-
на, обосновалось киданьское царство Ляо (916-1125), на
севере — тангутское царство Западное Ся {Си Ся, 1032-
1227). После нескольких болезненных поражений китай-
ской армии сунским властям удавалось сдерживать угрозу
экспансии обоих своих новоявленных соседей лишь с по-
мощью дипломатических ухищрений и выплаты огромной
дани. Начиная с 1004 г. киданьскому царству ежегодно
выплачивалось до 8000 кг серебра, слитки которого служи-
ли в Китае главными денежными средствами. В результате
такого геополитического положения империи ее внешние
торговые и экономические связи значительно сократились,
a значит, и оскудел приток денежных средств, пополняв-
ших казну. Внутриэкономическое положение было настоль-
ко тяжелым, что сунским властям пришлось отказаться от
строительства новой столицы, как это полагалось по много-
вековым имперским традициям, и довольствоваться разме-
щением политического центра в торговом городе (Кайфын —
подробно см. глава 16). В результате период расцвета Сун-
ской империи продлился отчасти более полувека. Он при-
шелся на время правления императоров Чжэнъ-цзуна (998-
1023) и Жэнь-цзуна (1023-1064). Но уже в середине XI в.
страну охватил экономический кризис и стали организовы-
ваться повстанческие движения. Они предельно ослабили
позиции правящего режима, оказавшегося беззащитным
перед новой внешней угрозой — нашествием чжурчжэней.
Указанные особенности историко-политической жизни
сунского общества, разумеется, не могли не сказаться на
его массовом социально-политическом настрое и интеллек-
туально-творческой деятельности. Жизнерадостность, празд-
ничность и открытость, присущие духовной жизни Тан,
сменились ностальгией по прошлому, неуверенностью в
завтрашнем дне и тревожными ожиданиями неизбежных
грядущих бедствий и испытаний, что привело к обостре-
нию общих пессимистических, нигилистических и инди-
видуалистических настроений. В результате всеобъемлю-
щей приметой интеллектуально-творческой деятельности
280
сунского времени стала ее сосредоточенность на внутрен-
нем мире человека и глубинном осмыслении природных
явлений и реалий. Постепенно искусство приобретало все
более камерный и интимный характер, что сказалось в
первую очередь на жанровом составе станковой живописи,
превратившейся теперь в первоочередного, наряду с поэзи-
ей, выразителя общественных настроений. Резко измени-
лись и художественно-эстетические установки, направлен-
ные на отказ от излишней декоративности и красочности
произведений. Определяющее место в сунской художествен-
ной культуре занял «идеал изысканной простоты», кото-
рый требовал максимальной лаконичности внешнего пла-
на выражения любого произведения искусства при макси-
мально глубоком смысловом его наполнении. 0 том, как
именно этот идеал реализовывался в художественной прак-
тике, мы поговорим при анализе конкретных видов изоб-
разительного и декоративно-прикладного искусства. Сей-
час же оговоримся, что он распространялся на все или
почти все сферы интеллектуально-творческой деятельно-
сти того времени.
Только стремлением людей к замкнутому образу жиз-
ни и к поиску опоры в семейном укладе, на наш взгляд,
можно объяснить и те изменения, которые произошли в
погребальном искусстве, точнее, в композиции и художе-
ственном оформлении гробниц. Они теперь обычно состоя-
ли из погребальной камеры и длинного ведущего к ней
281
90 Собственно говоря, кни-
гопечатание появилось еще
при Тан, a предпосылки для
его возникновения сложились
гораздо раныпе. Его истоки
восходят, как это принято
считать, к практике нанесе-
ния печатей на документы.
Вначале, во второй половине
Чжоу, возникли частные пе-
чати, заменявшие их владель-
цам собственную подпись. Го-
сударственная печать была
введена Цинь-ши-хуан-ди.
Окончательно данная прак-
тика утвердилась при Хань.
Печати изготавливались из
материалов, используемых в
ювелирном деле, — нефрита,
ценных (с точки зрения ки-
тайцев) минералов, слоновой
кости и благородных металлов.
Важно, что на ней вырезались
не одиночные иероглифы, a
целые, пусть и небольшие,
текстовые фрагменты. С IV в.
н. э. в обиход вошли специ-
альные даосские печати, на
которых вырезался текст объе-
мом до 120 иероглифов. Па-
раллельно в Китае имела мес-
то и практика вырезания тек-
стов, причем подлинных книг
на каменных плитах. В 175 г.
на каменных плитах были вы-
биты книги конфуцианского
канона, в 708 г. — основопо-
лагающий даосский трактат
(«Дао дэ цзин»). Ориентиро-
вочно в танскую эпоху стала
использоваться и техника пе-
ревода гравированных изобра-
жений и текстов на бумагу,
родственная литографии. Для
появления печатной книги те-
перь требовалось только ис-
пользование более удобной,
чем камень, матрицы, тако-
вой и явилась деревянная дос-
ка. Древнейшими известными
на сегодня печатными книга-
ми считаются два экземпляра
буддийской «Алмазной сут-
ры», исполненные в 868 г., —
один с каменной, a другой —
с деревянной матрицы в тех-
нике ксилографии. Но вплоть
до эпохи Сун книгопечатание
оставалось сугубо локальной
книжной практикой, не вы-
ходившей, видимо, за преде-
лы буддийской монашеской
общины.
коридора (вместо системы подземных помещений). Погре-
бальная камера представляла собой округлое в плане строе-
ние, завершавшееся высоким куполом, — подобный кон-
структивный тип, заметим, был абсолютно не свойствен
национальному светскому зодчеству. Художественное оформ-
ление могло производиться посредством рельефов, стено-
писей либо с сочетанием пластических и графических спо-
собов, но no однотипной схеме. Потолочная часть украша-
лась или растительным орнаментом, или нейтральными
для усопшего сюжетными сценами, например литератур-
ные сюжеты или бытовые темы. Предпотолочная часть ими-
тировала деревянные конструкции, типичные для китай-
ского здания. A no всей поверхности стен шли картины,
воспроизводящие, как правило, сугубо семейные сцены:
трапезы, совместные посиделки домочадцев, уход за деть-
ми, домашние занятия и т. д. В эти сцены непременно вво-
дились интерьерные детали, предметы мебели, бытовая ут-
варь. Все картины исполнялись в сдержанной цветовой
гамме и дышали (что ощущается во всех известных сегод-
ня образцах) чувством покоя и наслаждения семейным
уютом. Подобное художественное оформление погребаль-
ной камеры сделало погребальную пластику факультатив-
ной, которая, в сущности, давно уже передавала такие же
сцены. И действительно, она резко сократилась и посте-
пенно исчезла из погребального инвентаря, хотя скульп-
турные композиции эпизодически помещались в захороне-
ния и в последующие исторические эпохи.
Несмотря на все изменения массового социально-пси-
хологического настроя, a также в искусстве сунского обще-
ства, процесс развития городской культуры и тенденция к
демократизации творческой деятельности приняли еще бо-
лее интенсивный, чем при Тан, характер, чему способство-
вало изобретение книгопечатания90.
Сохранились сведения, что почти одновременно была
предпринята попытка печатания ксилографическим спосо-
бом и посредством подвижного шрифта с глиняными лите-
рами. Но последний оказался малопригодным для иеро-
глифической письменности. Техника ксилографического
печатания такова: поверхность гладко выструганной доски
из прочного и мягкого дерева (груша, липа, жужуб) пропи-
тывалась клейким веществом (густым рисовым отваром),
после чего на нее накладывался лист тонкой бумаги с на-
писанным на нем тушью текстом (две страницы на одном
листе). Получив зеркальный оттиск текста, острым ножом
удаляли все незакрашенное пространство. Рельефно высту-
павшие на доске знаки покрывали тушью. С одной доски
можно было напечатать до 1000 листов. Далее готовые
листы брошюровались и прошивались шелком.
Внедрение книгопечатания сразу же привело к возникно-
вению книжного дела, организации широкой сети издательств,
книжных лавок, казенных и частных библиотек. Памятники
высокой, элитарной словесности, ранее доступные только пред-
ставителям высших привилегированных сословий, теперь ста-
ли доступны широким читательским кругам.
282
Ксилографическое книгопечатание также открыло путь
для развития искусства гравюры и книжной иллюстрации,
которые, получив распространение в низовой среде, приве-
ли, в свою очередь, к выделению нового, достаточно свое-
образного вида национального изобразительного искусст-
ва — картины-нянъхуа (подробно см. глава 9).
Несмотря на все приведенные историко-культурные от-
личия между танской и сунской эпохами и на период меж-
ду ними административно-территориальной раздробленно-
сти, они тем не менее составляют единую фазу в истории
Китая. Эта общность обусловлена уже тем, что именно в
эти эпохи отмечается наивысший расцвет национальной
духовности и всей интеллектуально-творческой деятельно-
сти, давшей эталонные, как это принято считать в самой
традиции, образцы всех важнейших художественных ви-
дов и форм. Их представляют в первую очередь танская
лирическая поэзия и новеллистика и сунская живопись,
которые принято обозначать как «классические». Почему
так произошло и что случилось с китайской духовностью и
интеллектуально-творческой деятельностью в последующие
столетия, станет ясно далее. A пока необходимо кратко
остановиться на культурных и художественных традици-
ях киданей и тангутов.
Впервые о киданях как о самостоятельной народности
упоминается в китайских сочинениях IV в. В современной
науке они считаются потомками либо сюнну, либо «восточ-
ных ху», некогда обитавших, напомним, на восточных зем-
лях, соседствовавших с территорией древнекитайских госу-
дарств. В Ѵ-ѴІ вв. произошло расселение киданей в верхо-
вья реки Ляохэ, a в VII в. они заняли обширные владения,
простиравшиеся на востоке до Корейского полуострова и на
севере — до бассейна Амура. Параллельно происходил про-
цесс политической консолидации племенных союзов, завер-
шившийся в начале X в. созданием национального государ-
ства, построенного по модели Китайской империи. Столица
царства Ляо находилась на месте современного Пекина.
Известно, что кидане обладали достаточно развитыми и
самобытными культурными традициями, в том числе соб-
ственной письменностью, которая до сих nop не расшифро-
вана. Но долговременное соседство с Китаем привело к по-
чти полной китаизации их духовной жизни, о чем неоспо-
римо свидетельствует погребальное искусство, составляющее
самый значительный пласт художественного наследия Ляо.
Сунские погребения
a — образец рельефов; б -
гребальная пластика.
283
Искусство киданьского
царства Ляо
a — статуэтка воина (позолочен-
ная бронза, 48 см, сер. IX в.);
б — деталь украшения (позоло-
ченная бронза, 28 х 28 см).
Тангуты. Co стенописеи
Могао.
Ol
ѣ Ш
Образец тангутской
письменности
Сегодня открыто более 5 ляосских захоронений, разбро-
санных по территории Внутренней Монголии, провинций
Ляонин, Хэбэй и в окрестностях Пекина. Все они содер-
жат стенописные картины, очень близкие по композиции,
содержанию и стилистике к китайской монументальной и
станковой живописи. Примечательно наличие среди этих
стенописей картин на тему «Семерых мудрецов из бамбуко-
вой рощи», т. е. перекликающихся с погребальным искус-
ством и общим художественным наследием Южного Китая
эпохи Шести династий. Присутствующие в погребальном
инвентаре артефакты исчерпывающе доказывают высокий
уровень развития в Ляо и многих видов декоративно-при-
кладного искусства — керамики, ткачества, ювелирного
дела. Хотя в орнаментации местных изделий широко ис-
пользовались китайские мотивы и образы, они обычно при-
обретали специфические художественные трактовки, что-
бы затем уже в трансформированном виде вернуться в
китайский изобразительный фонд. Все это делает художе-
ственные традиции царства Ляо органической принадлеж-
ностью истории развития искусства Китая.
Тангуты полагаются потомками сяньбийцев. Возмож-
но, они имели общие этнические корни с тибетцами. Их
общность начала складываться в горной местности на сты-
ке провинций Ганьсу и Сычуань. Изначально ведшие ко-
чевое хозяйство тангуты, перейдя к оседлому образу жиз-
ни, продолжали заниматься отгонным скотоводством, раз-
водя лошадей, овец, ослов и яков. Китайские авторы, говоря
об этой народности, неизменно отмечают ее воинственность
и суровость обычаев. Признав еще при Тан свою вассаль-
ную зависимость от Китайской империи, тангуты на пер-
вых порах подтвердили было ее и сунским властям. Но
убедившись в слабости нового правящего режима, тангут-
ские вожди провозгласили национальную независимость,
создание собственного государства и вступили в открытое
военное противостояние с Сун. На всем протяжении вто-
рой половины XI в. шли тяжелые китайско-тангутские
войны (1040-1044,1069-1072,1096-1099), перемежавшие-
ся зыбкими мирными договорами, для продления которых
китайские власти одаривали тангутскую элиту деньгами и
предметами роскоши, шелками, фарфоровой посудой, де-
ликатесами.
Тангутское царство было полностью уничтожено в ходе
монгольского нашествия на Дальний Восток, и его куль-
турно-художественное наследие сохранилось в крайне фраг-
ментарном виде. Но и гю сохранившимся его осколкам:
письменным памятникам, произведениям декоративно-при-
кладного и изобразительного искусства (стенописи) — оче-
видно, что тангутская этническая общность располагала
собственной письменностью и книжной культурой, a так-
же развитыми художественными традициями, в которых
национальное творчество тесно переплелось с китайскими
заимствованиями.
В начале XII в. геополитическая ситуация на Дальнем
Востоке резко изменилась в связи с появлением нового
284
деиствующего лица — народности, именуемои чжурчжэни.
Предки будущих тунгусо-маньчжурских народностей,
чжурчжэни происходили от небольшой этнической общ-
ности, первоначально обитавшей в долине реки Уссури.
Возможно также, что они состояли в отдаленном родстве с
киданями. Попав в орбиту притяжения китайской циви-
лизации, чжурчжэни стремительно прошли путь от пле-
менной консолидации к построению государственности и
в 1115 г. провозгласили собственное и, надо сказать, весь-
ма сильное в военном отношении царство, объявив его
«империей Цзинь» — «Золотая». Менее чем за два десяти-
летия чжурчжэни подчинили своему военно-политическому
влиянию тангутское и киданьское царства, после чего начали
вторжение в Китай. В 1127 г. чжурчжэньской армией была
взята столица Сун, затем последовала стремительная окку-
пация всего региона бассейна Хуанхэ и прилегающих к
нему северо-восточных, северных и северо-западных райо-
нов. Как и в эпоху Шести династий, собственно китайская
государственность уцелела только на Юге, куда бежали
большинство представителей властных структур во главе с
членами августейшей фамилии. Так как династия не сме-
нилась, за ней и за всей исторической эпохой сохранилось
прежнее название — Сун, к которому принято добавлять
определение «Южная». Соответственно предшествующая
^ w
•■fc-4-^-Ч». СИ
ч
ся V-
s
s
s
/
Ѵ***»ъС*'
/
■:- Pf
Ч Хуанхэ V ^**ч;
ТУФАНЬ \ )
I
I .}( ч
у^
_-
+*
цзинь
\ г* 1
г
€
^ЛИНЬАНЬ
(ХАНЧЖОУ), *
(
«J
1
і
\
ЮЖНАЯ
СУН
11
о. Таивань
'■: ^ ■": ' ■■;>.:■■ г: til :. ..
'■ЖНО-КИТАЙСКОЕ
MORE
Kumaîi в эпоху Южная Сун.
Территпории царства Цзинь
и Южной Сун
285
эпоха именуется «Северная Сун». Столицей Южносунской
империи стал город на месте современного Ханчжоу, на-
ходившийся на значительно большем, чем Нанкин, уда-
лении от Янцзы (в пров. Чжэцзян) и, следовательно, в
болыпей безопасности, и признанный одним из богатей-
ших в то время торговых и ремесленных центров.
Культурно-художественная жизнь южносунского обще-
ства в целом продолжила традиции северосунской эпохи,
прибавив немало новаций, как это обычно и происходило в
периоды «смутного времени». Чжурчжэньская империя
Цзинь обосновалась почти в тех же самых географических
границах, что и некогда тобийское государство Северное
Вэй. Но в отличие от последнего она не добилась каких-
либо приметных творческих достижений, и, похоже, не
стремилась к этому, предпочитая интеллектуальную мощь
и художественное богатство китайской цивилизации. Ведь
теперь подавляющее болыпинство коренных обитателей
Севера, включая представителей национальной интелли-
генции, остались на родине, предложив свои услуги новым
властям. 0 господстве в культуре Цзинь китайских обыча-
ев и художественных традиций красноречиво свидетель-
ствуют местные захоронения, повторяющие собой северо-
сунские и киданьские образцы. Они подчинялись тем же
самым конструктивно-планировочным и оформительским
стандартам, воспроизводя жилое помещение, и украша-
лись стенописными картинами на жанрово-бытовые и пей-
зажные темы. Единственной новацией стало художествен-
ное оформление внешней поверхности погребальной каме-
ры, также с ее уподоблением жилому зданию. Одним из
наиболее примечательных памятников такого типа являет-
ся гробница, обнаруженная (1998 г.) на территории про-
винции Шаньси. Ее погребальная камера, восьмигранная в
плане и высотой 3,5 м, украшена снаружи рельефными
композициями, досконально повторяющими внешний вид
и конструктивные элементы строения, a также 24 скульп-
турными композициями, которые представляли семейные
сцены, происходящие в жилых покоях. Скульптуры рас-
крашены, что сближает их и с древней китайской погре-
бальной пластикой, и с той традицией буддийского куль-
„ тового искусства, которая имела место в данном регионе.
C погребальных стенописей Независимо от того, предназначалась ли данная гробница
для представителя чжурчжэньской или китайской знати,
она доказывает высочайшую степень китаизации цзинь-
ской похоронной обрядности и искусства.
Вполне вероятно, что по прошествии определенного пе-
риода опять начался бы процесс объединения Китая, завер-
шившийся созданием очередного централизованного госу-
дарства, в котором чжурчжэни окончательно ассимилирова-
лись бы с китайским этносом в этническом и культурном
отношении. Но такому процессу не суждено было состоять-
ся, так как Дальний Восток оказался ареной нового —
монгольского — вторжения.
Монгольское нашествие на Дальний Восток открывается
чередой монголо-тангутских и монголо-чжурчжэньских войн
в продолжение всей первой трети XIII в. Все это время юж-
носунское правительство выступало негласным союзником
монголов, посылая в ставку Чингисхана политических и
военных советников, которые, попутно заметим, и обучили
воинов-кочевников искусству взятия городов. Но надежды
китайских властей на то, что Чингисхан станет послуш-
ным исполнителем их военно-политических интересов, очи-
стив северные земли от захвативших их «варваров», не
оправдались. Окончательно уничтожив тангутское и чжур-
чжэньское государство, монгольские армии широким фрон-
том двинулись на Юг. В 1271 г. внук Чингисхана — Хуби-
лайхан — перенес свою ставку в бывшую столицу чжурч-
жэньского государства (на месте Пекина) и объявил новую
династию — Юань («Изначальная»), став ее первым импе-
ратором (юаньский ПІи-цзу, 1271-1295). В первой половине
70-х гг. XIII в. монгольским войскам удалось форсировать
Янцзы, что лишило Южную Сун ее последней защиты.
В 1276 г. южносунские власти без боя сдали свою столицу и
подписали безоговорочную капитуляцию91.
Погребальное искусство.
Царство Цзинъ
a — погребальные стенописи (пров.
Хэнань); б — шаньсийская гроб-
ница со скульптурными компо-
зициями.
ЭПОХА ЮАНЬ
(1271-1368)
91 С этим событием и соот-
носится дата завершения су-
ществования Южной Сун, тог-
да как за начало эпохи Юань
принимается год провозгла-
шения монгольской династии.
287
92 В дальнейшем монголь-
ские власти попытались нала-
дить хозяйственно-экономи-
ческую и политическую жизнь
страны, создав отдаленное по-
добие китайской имперской
управленческой структуры.
Однако в силу малочисленно-
сти монголов и их малоопыт-
ности в делах государствен-
ного управления им так и не
удалось в действительности
воссоздать централизованную
империю. Реальная власть цен-
тральной администрации не
выходила за пределы столич-
ного округа. Во всех осталь-
ных районах страны хозяй-
ничали чужеземцы, поступив-
шие на службу к монгольским
властям, монгольские воена-
чальники, посаженные на гу-
бернаторство, и местные воен-
ные и политические лидеры.
Все они стремились к созданию
на подвластных им террито-
риях фактически автономных
удельных владений.
93 Показательно, что среди
них есть и представители мон-
гольской знати. Назовем, на-
пример, каллиграфа Нао-лао
(1295-1345), тюрка по проис-
хождению, который владел,
по словам последующих кри-
тиков, «духом кисти» лучших
каллиграфов прошлого. Еще
один примечательный при-
мер — канцлер Хуо-лухуо,
проявивший себя незауряд-
ным портретистом, кисти ко-
торого принадлежат, в том
числе, портреты Чингисхана
и знаменитого монгольского
полководца Мэнгухана.
Китай впервые за всю свою историю полностью очутил-
ся под властью чужеземного правящего дома. Но трагизм
произошедшего заключался даже не в этнической принад-
лежности руководства страны. Монгольское нашествие вку-
пе с предшествующими войнами нанесло непоправимый
ущерб ее экономике и привело к решительной трансформа-
ции всей естественно-культурной среды обитания китай-
цев. Все основные исторически сложившиеся центры хо-
зяйствования и культурно-политические центры практи-
чески были полностью уничтожены: население истреблено
или угнано в плен, пашни превращены в стойбища для
выпаса лошадей, города разрушены. Вот почему приходит-
ся буквально по крупицам восстанавливать картину худо-
жественной жизни китайского общества в танскую и севе-
росунскую эпохи. Метрополией стал район, максимально
насыщенный чужеземными этнокультурными традиция-
ми. A роль единственного хранителя национальных куль-
турных и художественных ценностей оказалась возложен-
ной на Юг, который в гораздо меныней степени пострадал
от монгольского нашествия92.
Отношение монгольских властей к культуре и художе-
ственному творчеству Китая оказалось неоднозначным.
Откровенно презирая местное население, они тем не менее
быстро осознали, что для строительства собственной госу-
дарственности и управления такой страной, как Ки-
тай, им необходимо перенять ее политический и духовный
опыт. И если Хубилайхан гордился тем, что он не знает
китайского языка и не может прочитать ни одного иеро-
глифа, то его внуки и правнуки декларировали себя «про-
свещенными» (в китайском понимании этого термина),
монархами, которые свято чтили конфуцианские морально-
этические устои и готовы были оказывать покровительство
интеллектуальной и творческой деятельности. В 1315 г.
была восстановлена система государственных экзаменов, a
затем и сеть высших учебных заведений. Наряду с конфу-
цианством, центральная администрация активно поддер-
живала даосизм (правда, только на первых порах) и буд-
дизм, особенно его тибето-буддийскую традицию, являв-
шуюся исходной для вероисповедания монголов.
Во исполнение своих претензий на руководство духов-
ной и творческой жизнью страны монгольские власти при-
глашали ко двору литераторов, каллиграфов и художни-
ков, многие из которых впоследствии прочно вошли в
когорту прославленных китаиских деятелеи культурыу'3.
Подражая китайским императорам и желая окружать себя
такой же роскошью, монголы способствовали возрожде-
нию и оживлению многих видов декоративно-прикладно-
го искусства — фарфорового, лакового производства, юве-
лирного и эмальерного дела. И наконец, опасаясь пред-
ставителей китайской политической и образованной элиты
и стремясь найти им замену в лице чужеземцев, монголь-
ские власти поощряли прибытие в Китай эмигрантов, под-
держивали, восстанавливали и расширяли его былые дип-
ломатические и торгово-экономические контакты, что спо-
288
собствовало притоку в китайскую культуру всевозмож-
ных новаций.
Но за внешним благополучием художественной куль-
туры в юаньскую эпоху скрываются очень серьезные отри-
цательные процессы. Монгольские власти были не в состоя-
нии по-настоящему понимать и воспринимать китайское
искусство, a потому осознанно или невольно стремились
подчинить его собственным мировоззренческим представ-
лениям и эстетическим вкусам. Представители же китай-
ской интеллектуальной элиты усмотрели в собственной твор-
ческой активности единственно возможный способ сохра-
нить национальные и культурные ценности. И этот способ,
по их мнению, заключался в воспроизведении — через их
варьирование — шедевров прошлого. В результате китай-
ская художественная культура вступила на путь реставра-
ционализма — погружения в национальное наследие.
С объективной точки зрения, все это привело к упроще-
нию и искажению китайских художественных традиций в
том виде, в каком они сложились к южносунской эпохе, и
заставило местное искусство свернуть с ранее магистраль-
ной для него эволюционной линии. Bot почему в настоя-
щее время все большее признание получает точка зрения,
что подлинная китайская художественная культура исчер-
пывается южносунской эпохой, после чего начинается со-
вершенно иной этап ее истории.
По мере нарастания социально-экономической разла-
женности страны и все более проявляющейся политиче-
ской несостоятельности правящего режима усиливались ан-
тимонгольские настроения, вылившиеся в первой полови-
не XIV в. в мощную волну повстанческих движений,
которые и уничтожили юаньскую династию. На гребне этих
движений к власти пришла новая династия — Мин.
Погребальное искусство.
Эпоха Юань
a — оформление погребений; б —
погребальная пластика (20 см, на-
чало XIV в., окрестности Лояна).
Минскому правящему режиму уже за первые десятиле-
тия своего существования удалось полностью восстановить
централизованную имперскую форму правления, добиться
относительной стабилизации внутриполитической и эко-
номической ситуации в стране и вернуть Китаю его былой
международный авторитет. Подобно всем предшествующим
имперским государствам, Минская империя прошла через
две четко выделяющиеся историко-политические фазьь
Первая из них — фаза ее утверждения и наивысшего рас-
цвета — приходится на вторую половину XIV — первую
половину XV в., соотносясь со временем правления третье-
го монарха этой династии — Чэн-цзу (Юнлэ, 1403-1426)94
и его непосредственных преемников.
Самым значительным историко-культурным событием
указанного столетия, пожалуй, стал перенос столицы в
1420 г. с Юга, из Нанкина, где первоначально обосновался
минский правящий режим, на Север — в Пекин. Какими
бы политическими (желание размежеваться с консерватив-
но настроенной старой южной знатью), экономическими
(необходимость хозяйственного освоения данного региона)
19 История искусства Китая
ЭПОХА МИН
(1368-1644)
94 Начиная с минской эпо-
хи для официального наиме-
нования государей в китайской
гуманитарии стали использо-
ваться не их посмертные (хра-
мовые) титулы, хотя сама по
себе практика такого титуло-
вания осталась в силе, a де-
визы, под которыми проходи-
ло их правление. Это объяс-
няется тем, что до Мин девизы
могли по несколько раз ме-
няться на протяжении цар-
ствования одного императора,
тогда как сейчас он превра-
тился в постоянную величи-
ну, став своего рода «опозна-
вательным знаком» данного
исторического периода. Учи-
тывая, что в научной литера-
289
туре минские императоры и
императоры последующей —
цинской — эпохи могут назы-
ваться как по их посмертно-
му титулу, так и по девизу
правления, здесь и далее ука-
зываются они оба (посмерт-
ный титул — с написанием
через дефис, девиз правле-
ния — в слитном написании).
Основатель минской
династии
Чжу Юаньчжан
или концептуальными (желание создать новый геополити-
ческий центр) соображениями ни руководствовался импе-
ратор Чэн-цзу, его акция имела чрезвычайно важные по-
следствия для национальной духовной и художественной
культуры. Она привела к географическому разветвлению
официального и неофициального искусства, первое из ко-
торых оказалось в окружении фактически чужеземных эт-
нокультурных реалий, a второе, напротив, в самом фокусе
национальной духовности. В результате политический ас-
пект официального искусства оказался максимально уси-
лен, тогда как неофициальное искусство сознавало себя
единственным хранителем национального художественно-
го богатства и создателем «истинных» произведений, сво-
бодных от диктата верховной власти и подчинявшихся ис-
ключительно естественным законам творчества.
Минская эпоха обернулась временем реставрации не толь-
ко собственно национальной государственности, но и духов-
ной культуры. Все усилия центральной администрации и
представителей интеллектуальной элиты общества были со-
средоточены на восстановлении прежних культурно-худо-
жественных традиций и ценностей, что проявляется во всех
сферах жизнедеятельности тогдашнего общества. Так, мин-
ская гуманитария характеризуется созданием и переизда-
нием всевозможных сводных памятников — литературных
антологий, энциклопедий, воспроизводящих философско-
теоретическое, литературно-художественное и естественно-
познавательное наследие предшествующих эпох. Зодчество
и градостроение, как мы увидим далее, опирались на древ-
нейшие планировочные схемы и каноны. Этот процесс не
обошел стороной и погребальное искусство, возвратившееся
к образцам танских императорских усыпальниц.
Первым из таких памятников стал погребальный комп-
лекс основателя минской династии — Чжу Юанъчжана
(минский Тай-цзу, Хунъу, 1368-1399), где он был похоро-
нен совместно со своей супругой. Этот комплекс находится
в окрестностях Нанкина, на горном склоне, и включает в
себя собственно погребение, замурованное в естественном
холме, специальное строение и «аллею духов». Погребаль-
ное строение представляет собой прямоугольную в плане
кирпичную постройку с полусферическим сводом, тоже
целиком сложенным из кирпича. Одновременно оно явля-
ет собой уникальный образец минского архитектурно-
инженерного искусства, будучи возведенным без примене-
ния несущих каркасных конструкций. «Аллея духов» со-
стоит из 14 гранитных парных скульптур: воинов, львов,
слонов, верблюдов и фантастических существ, известных
как «единорог-цылинъ» и «зверь-сечжы» (подробно см. гла-
ва 6). По данному набору видно, что в минском погребаль-
ном искусстве были задействованы установки не только
танского, но и дотанского времени: увеличение числа изо-
бражений фантастических существ. Налицо также и неко-
торые новации: включение в репертуар погребальной скульп-
туры изображений верблюда и слона, что, возможно, явля-
лось своеобразной репликой на танскую погребальную
290
пластику и древнейшее китайское или буддийское культо-
вое искусство, в которых образ слона пользовался прибли-
зительно равной популярностью.
Стилистика монументальной скульптуры тоже претер-
пела определенные изменения по сравнению с танской. Во-
первых, уменьшились размеры изваяний. Статуи воинов
имеют в высоту 3 м, самые крупногабаритные зооморфные
скульптуры (изваяния верблюдов) — 1,65 м. И это сразу
же упразднило присущую танской каменной скульптуре
массивности и торжественность. Манера их исполнения
сочетает в себе приметы танской императорской пластики
и южно-китайского изобразительного искусства. Изваяния
отличаются, с одной стороны, натуралистичностью и ста-
тичностью, a с другой — изощренностью орнаментального
решения. Детали внешнего облика персонажей, особенно
воинов, не просто тщательно проработаны, но и выполне-
ны в легко узнаваемом стиле «фантазийного барокко» с
насыщением их множеством факультативных и сугубо де-
коративных элементов.
Усыпальницы 13 последующих, начиная с Чэн-цзу,
минских императоров, находятся в окрестностях Пекина,
образуя единый, огромный по площади (около 40 км2) ан-
самбль, в данном случае восходя к императорским погре-
бальным обычаям раннеханьского периода. Самым величе-
ственным его фрагментом является погребальный комплекс
Чэн-цзу — Чанлин. Он открывается дорогой, проходящей
через мемориальную арку (подробно см. глава 16), выпол-
ненную из резного белого мрамора (1540 г.), и краснока-
менные ворота. Далее дорога превращается в «аллею ду-
хов», включая в себя 36 изваяний из белого мрамора: 12 —
скульптуры воинов и гражданских чиновников; 24 —
скульптур животных, среди которых вновь присутствуют
изображения как реальных представителей животного мира
(львы, слоны, лошади, верблюды), так и фантастических
существ. С художественной точки зрения, эти скульптуры
демонстрируют собой новую стадию эволюции стилистики
минского изобразительного искусства, которая была отме-
чена усилением влияния южно-китайского «барокко» и воз-
растанием декоративного аспекта, что находилось в русле
общих для художественного творчества того времени тен-
денций. Габариты статуй еще уменыпились с доведением их
до размера, приблизительно равного натуральному росту
людей и животных. Позы приобрели естественность, силу-
этные линии — плавность и грациозность. Обилие тонко
H, й M
M
X
ö
777 7tA\T
\
Усыпальница
императора Ваньли
план; б — внутренний вид.
вырезанных и мелко проработанных деталей придает скулыі-
турам в сочетании с белизной мрамора оттенок парадной
изысканности, возможно, не совсем уместный для произ-
ведений погребального искусства. Однако и в данном слу-
чае следует вспомнить о нарядности и красочности той же
танской погребальной пластики или о декоративности сте-
нописей и рельефов, составлявших художественное убран-
ство сунских и цзиньских гробниц.
Дорога завершается еще одними воротами, открываю-
щими проход к могильному кургану, окружностью в 1 км,
представляющему собой высокий поросший деревьями холм:
еще одно возвращение к дотанской погребальной обрядно-
сти. Перед ним возвышается ритуальное строение — «Па-
латы Божественного благоволения» (Линчэнъдянъ), — воз-
двигнутое на величественном трехъярусном пьедестале,
также выполненном из белого мрамора. Внутри строения
находится одно-единственное помещение с несколькими
рядами колонн, высотой более 10 м, сделанными из цель-
ных древесных стволов (южных кедров). Но не надо ду-
мать, что оно являет собой уникальный образец минского
зодчества. Наоборот, это типичная, по его конструктивным
и художественным особенностям, постройка, совпадающая
со многими другими архитектурно-инженерными памят-
никами, в том числе входящими в ансамбль император-
ской резиденции.
О характере композиции и художественном оформле-
нии собственно императорской усыпальницы мы можем
судить только по погребению 14-го минского императо-
ра — Шэнъ-цзуна (Ванъли, 1573-1620), которое было вскры-
то в 1958 г. Оно оказалось настоящим подземным двор-
цом, состоящим из 5 залов со сводчатыми потолками и
стенами, облицованными отполированными плитами. Створ-
ки дверей каждого зала были сделаны из цельных кусков
белого мрамора, их поперечные балки отлиты из меди.
В среднем зале находились три мраморных трона — для
государя и двух его жен, перед которыми стояли все пола-
гающиеся для тронного зала церемониальные предметы:
курильницы, подставки для светильников, но выполнен-
ные не из металла, a из керамики — тоже замена, типич-
ная для древней погребальной обрядности. В заднем зале,
служившем погребальной камерой, располагались три гро-
ба, каждый — на каменном постаменте (высота 35 см).
В среднем из них покоилось тело императора, в боковых —
тела его жен. В погребальной камере и в гробах находилось
внушительное число изделий. Рядом с усопшими были пред-
меты одеяний и церемониальные головные уборы (муж-
ская и женские короны). Остальной погребальный инвен-
тарь размещен в 23 ящиках и состоял из столовой твари,
туалетных принадлежностей, украшений и т. д., выпол-
ненных в основном из золота и нефрита.
He исключено, что отказ от стенописей и рельефных
композиций был вызван изменениями, произошедшими в
китайских анимистических представлениях и соответствен-
но похоронной обрядности. В минскую эпоху погребения
292
уже очень редко содержали в себе орнаментальные элемен-
ты. Погребальные камеры, украшенные пластическими ком-
позициями, имитирующими деревянные конструкции, рос-
писями, если и встречаются, то вне столичного региона.
Еще реже в захоронения помещалась погребальная пласти-
ка. Одним из самых уникальных образцов минского искус-
ства резьбы по дереву является комплект из 45 деревянных
статуэток (высота 20-21 см) — прекрасное произведение,
воспроизводящее картину похоронной процессии. Но ис-
чезновение стенописей и рельефов из оформления импера-
торских усыпальниц могло быть вызвано и другой причи-
ной — обращением минского погребального искусства к
предельно архаическим образцам. Весьма напоминают не-
сколько гробов и ящики с погребальным инвентарем захо-
ронения еще чжоуского времени.
В целом создается впечатление, что минская духовная
и художественная культура оказалась в плену собственной
древности и как бы застыла. Хотя Минская империя возоб-
новила широкие дипломатические и экономические связи
с внешним миром, они не придали китайскому обществу
той жизнерадостности и открытости, которые царили при
Тан. Вместо них господствовали апатия и равнодушно-
настороженное отношение к любым влияниям извне. Даже
первые для Китая географические путешествия — мор-
ские экспедиции Чжэн Хэ (1371-1433), одна из которых
(1417-1419) достигла берегов Восточной Африки, — не вы-
звали заметного общекультурного резонанса. С первой тре-
ти XV в. духовная самоконсервация минского общества
дополнилась политической самоизоляцией империи: в
1436 г. все иноземные послы и торговые представительства
без видимых на то причин были высланы из Китая, a в
1542 г. китайский флот получил приказ оставить остров-
ные базы и передислоцироваться в материковые гавани.
Вначале XVII в. Минская империя вошла в стадию аго-
нии, которая сопровождалась повстанческими движения-
ми и междоусобными конфликтами. Армия повстанцев за-
хватила столицу, последний минский император, чтобы
избежать унизительного плена, покончил с собой. И в этой
отчаянной для страны и правящего режима ситуации группа
китайских военачальников, тщетно пытавшихся справить-
ся с мятежниками, обратилась за помощью к своему ново-
му соседу — манъчжурам.
Маньчжуры — еще одна прежде полукочевая народ-
ность, осевшая в окраинных северо-восточных землях Ки-
тая и приступившая к созданию собственной государствен-
ности95. Получив от китайских генералов просьбу о помо-
щи, маньчжурские власти после некоторых колебаний (они
подозревали ловушку) все же выслали экспедиционный
корпус. He встречая никакого сопротивления, он прошел
до Пекина и вступил в беззащитный город: правитель-
ственных войск там давно уже не было, повстанческая
армия ушла, боясь столкновения с регулярными воински-
ми частями, a столичные жители предпочли добровольно
открыть пришельцам городские ворота. Далее оставалось
95 Маньчжуры образовали
независимое царство, сильно
военизированное и распола-
гавшее многочисленной и хо-
рошо обученной кавалерией,
еще в конце XVI в. За первые
десятилетия XVII в. они под-
чинили себе все соседние се-
верные, северо-восточные и
северо-западные народности,
преимущественно мирное ско-
товодческое население, и ста-
ли проявлять интерес к зем-
лям Китайской империи.
С 30-х гг. того же века мань-
чжуры постоянно совершали
кавалерийские рейды по при-
граничным районам Китая,
безжалостно убивая и грабя
местных жителей.
293
лишь законодательно оформить приход к власти нового
правящего дома, что и было сделано в точности по соот-
ветствующему китайскому образцу. Воцарение чужезем-
ной династии было воспринято китайским населением в
целом с очевидной покорностью (хотя не обошлось без
нескольких локальных очагов сопротивления), что объяс-
няется, скорее всего, его усталостью от войн и прочих
коллизий. Кроме того, в исторической памяти китайцев
закрепился тот факт, что владычество иноземного правя-
щего дома отнюдь не является гибельным для страны. Он
неизбежно попадет под влияние национальной культуры,
постепенно уподобится китайскому имперскому режиму, и
все «вернется на круги своя».
эпоха цин
(1644-1911)
Основатель маньчжурской
государственности
Хан Нурхаци (1559-1626)
По характеру общекультурной ситуации эпоха прав-
ления маньчжурской династии Цин обладает рядом сход-
ных черт с юаньской эпохой. Во главе огромной страны с
многочисленным населением и богатейшими культурны-
ми традициями оказались представители малочисленной
народности, так и не отошедшей от нравов и обычаев
полукочевого племени. Отношение маньчжурских влас-
тей к китайцам тоже носило двойственный характер. С од-
ной стороны, они всячески унижали местное население,
например, считалось обязательным ношение китайцами-
мужчинами косы в знак рабской подчиненности победи-
телям. С другой стороны, маньчжуры, подобно монголам,
признавали авторитет китайских духовных ценностей и
стремились перенять политический опыт китайской ци-
вилизации. Внешне они, действительно, адаптировались
к китайской культуре и смогли создать централизованное
государство, не уступавшее по своему экономическому и
военно-политическому могуществу танской и минской им-
периям в пору их расцвета. Утверждение и пик величия
самой цинской империи приходится на вторую половину
XVII — XVIII в., или — на время правления трех «вели-
ких» (в принятых их оценках) императоров: Шэн-цзу (Кан-
си, 1662-1722), Ши-цзуна (Юнчжэн, 1722-1735) и Гао-
цзуна (Цянълун, 1736-1795).
Маньчжуры сохранили социальное устройство китай-
ского имперского общества, заняв в нем, правда, место
высшего привилегированного сословия, его управленче-
ские структуры и институты, включая институт государ-
ственных экзаменов, высшие учебные заведения и учреж-
дения, курирующие интеллектуально-творческую деятель-
ность. Но при этом они, во-первых, настойчиво и осознанно
отстаивали собственную этническую чистоту (запрет на
смешанные браки) и культивировали национальные обы-
чаи и нравы. Даже в XIX в. обязательным для маньчжур-
ского юноши считалось владение искусством верховой езды
и стрельбы из лука, тогда как любые виды интеллекту-
альной и творческой деятельности полагались «второсорт-
ными» занятиями, пригодными лишь для местного насе-
ления. Тем не менее руководящие посты в центральных и
294
провинциальных административных органах отводились
преимущественно маньчжурской знати96.
Во-вторых, маньчжурские власти делали все от них
зависящее, чтобы поставить интеллектуально-творческую
жизнь страны под жесткий контроль сверху. Была введена
тотальная цензура. Любое литературное произведение, со-
чтенное «крамольным», уничтожалось, a его автор подвер-
гался уголовному преследованию. «Великие» императоры
лично редактировали даже конфуцианские канонические
книги, изымая из них все места, которые, по их мнению,
«не отвечали историческому моменту» и могли спровоци-
ровать y недостаточно сознательных подданных излишне
свободолюбивые мысли или сомнения в деятельности влас-
тей. Под такой же контроль попало и непосредственно ис-
кусство, хотя формально были созданы самые, казалось
бы, благоприятные условия для его развития. Ko двору
приглашались литераторы, каллиграфы и художники, ко-
торые в случае беспрекословной преданности правящему
дому щедро награждались чинами, званиями и денежным
довольствием. Огромное вниманче уделялось состоянию
декоративно-прикладного искусства. По личному распоря-
жению Канси на территории императорской резиденции
(Запретного города) были учреждены 14 казенных мас-
терских (лаковопроизводящих, косторезных, камнерезных
и т. д.), призванных удовлетворять нужды двора, созда-
вать эталонную для данного вида декоративно-прикладно-
го искусства продукцию и повышать его технико-художе-
ственный уровень. Демонстрируя свою приверженность ме-
стным культурно-художественным традициям, цинские
императоры продолжили и практику возведения погребаль-
ных ансамблей по образцу минских.
Однако на самом деле общая консервативность мань-
чжурских правящих кругов и то давление, которое они
оказывали на интеллектуально-творческую жизнь страны,
не могли не привести к стагнации китайской культуры с
постепенным вырождением всех составляющих ее форм и
реалий. Конфуцианство, даосизм и буддизм превратились
в ортодоксальные и насквозь догматические системы, нор-
мативная образованность трансформировалась в откровен-
ное начетничество. Государственные экзамены приобрели
Цинский императорский
погребальный ансамбль
(императора Дэ-цзуна,
Гуаньсюя, 1875-1908)
96 Чтобы совместить нацио-
нальные традиции с требова-
ниями, предъявляемыми ки-
тайской политической куль-
турой к чиновничеству, для
маньчжур, изъявивших же-
лание поступить на граждан-
скую службу, предусматрива-
лись специальные квоты при
сдаче государственных экза-
менов и специально составлен-
ная, облегченная экзаменаци-
онная программа.
295
97 Южные прибрежные рай-
оны Китая и прилегающие к
ним острова подверглись пи-
ратским набегам европейских
кораблей и флотилий. В1514 г.
португальская эскадра обстре-
ляла береговую охрану Гуан-
чжоу. Так начался китай-
ско-португальский конфликт,
завершившийся аннексирова-
нием в 1557 г. Португалией
полуострова Аомынь, на кото-
ром была основана первая на
территории Китая европейская
колония — Макао. В 1603 г.
испанские конкистадоры вы-
садились на острове Лусон, ис-
требив всех проживавших там
китайцев (более 25 000 чело-
век). С 20-х гг. XVII в. y бе-
регов Китая постоянно кур-
сировали голландские суда,
нападая на острова и грабя
или увозя в рабство их обита-
телей. В 1624 г. голландцами
была захвачена южная часть
о. Тайвань.
характер подлинного фарса, способствуя лишь коррупции
чиновников-экзаменаторов и профанации образования как
такового. Духовные и культурные ценности, некогда со-
ставлявшие основы китайской цивилизации, теперь кри-
тиковались и высмеивались самой же китайской интелли-
генцией. Непосредственно в сфере творческой деятельности
шел необратимый процесс, тоже вызванный художествен-
ными пристрастиями маньчжур, размывания прежних ки-
тайских эстетических принципов и идеалов и выработки
новых стилистических направлений, которые характери-
зовались приоритетным вниманием к формальному, деко-
ративному аспекту произведения искусства. Этот процесс
распространялся на все виды художественного творчества:
архитектуру, изобразительное и декоративно-прикладное
искусство. К XVIII в. лидирующие позиции в них заняло
стилистическое направление, типологически сопоставимое
с европейским рококо, которое отличалось вычурностью и
надуманностью форм, излишней детализованностью орна-
ментации, насыщенностью чисто декоративными элемен-
тами и многоцветием. Одновременно оно обнаруживает и
определенное сходство с модерном (или «историзмом»), с
которым его роднит стремление к копированию образцов,
принадлежащих различным эпохам, региональным, вклю-
чая чужеземные, художественным традициям и стилисти-
ческим направлениям, допуская при этом механическое
сочетание в одном изделии исходно разнородных элемен-
тов. Хотя, как показывает опыт мирового искусства, появ-
ление и распространение подобных стилистических вари-
антов относится к числу универсальных художественных
закономерностей, в данной историко-культурной ситуации
это означало предельное искажение подлинных китайских
художественных традиций в том виде, в каком они сложи-
лись и достигли своего наивысшего эстетического совер-
шенства в танскую, сунскую, a в определенной степени —
и в минскую эпохи.
Следующей важнейшей особенностью цинской художе-
ственной культуры является воздействие на нее европей-
ского искусства.
Первые эпизоды знакомства Китая с Европой (не счи-
тая прибытия на Дальний Восток случайных путешествен-
ников и купцов, например, Марко Поло) приходятся на
вторую половину минской эпохи, и на первых порах они
отнюдь не были миролюбивыми97. После установления цин-
ской династии между Китаем и западноевропейскими дер-
жавами на протяжении почти полутора столетий поддер-
живались равноправные и почти дружеские отношения.
Огромную роль в их установлении и в знакомстве двух
цивилизаций сыграли католические миссионеры (в основ-
ном члены ордена иезуитов, французы и итальянцы по
национальности).
Еще на заре миссионерской деятельности в Китае неко-
торые из священнослужителей осознали, что в условиях
китайской цивилизации надеяться на успех проповеди хри-
стианской веры можно только в том случае, если вести ее
296
исходя из местных культурных образцов и устоев. Они
приступили к изучению литературного китайского языка
освоению наиболее авторитетных письменных памятников.
Стремясь пробудить интерес китайцев к христианству и
доказать успехи Европы, миссионеры, как могли, знако-
мили их с достижениями европейской науки, техники и
искусства. Они привозили с собой книги с иллюстрация-
ми, гравюры-репродукции картин известных в то время
художников, устраивая их публичные выставки, вызыва-
ли зодчих и мастеров для строительства и росписи католи-
ческих церквей, выписывали иконы, храмовую скульпту-
ру и алтарные принадлежности. Постепенно просветитель-
ская деятельность миссионеров приобретала все более
масштабный характер, намного выходя за пределы только
проповеди христианства. Они организовывали курсы и шко-
лы, в которых китайские ремесленники и художники обу-
чались европейским видам искусства, доставляли в импе-
раторские казенные мастерские образцы европейских изде-
лий, объясняя тонкости технологии их производства.
Инициатива миссионеров была подхвачена и торговыми
агентами, представлявшими интересы коммерческих ком-
паний. С открытием Ост-Индийской торговой компании и
установлением постоянных импортно-экспортных поставок
ввоз в Китай европейских изделий — произведений искус-
ства и рыночной художественной продукции — приобрел
регулярный характер.
Как и в танскую эпоху, самые разные социальные слои
китайского населения, начиная с придворных кругов, живо
откликнулись на чужеземные новинки и диковины. Китай
захватила мода на европейские вещи — мебель, механи-
ческие приспособления (часы), предметы одежды, посуду,
украшения и произведения искусства. Обозначившаяся при
Канси, она достигла своего апогея во время царствования
Цяньлуна, лично отдавшего дгпь увлечения Европой.
В придворно-элитарных кругах возникло самостоятельное
стилистическое направление как типологический аналог
европейского «шинуазри» и справедливо обозначаемое в
современном искусствоведении «европейщина». Непосред-
ственное участие в развитии этого направления приняли
как европейские, так и обучавшиеся y них местные худож-
ники и мастера.
При дворе Цяньлуна работала целая плеяда европей-
ских архитекторов, декораторов и художников, пытавшихся
в своих творениях так или иначе соединить европейское и
китайское искусство. Наибольшую известность из них сни-
скали себе: итальянский живописец Джузеппе Кастиль-
оне (1688-1766) — китайское имя Лан Шинин, и француз-
ский Жан-Дени Аттире (Ван ПІичжэн)98.
«Классическим» (если этот термин вообще применим в
данном контексте) образцом «европейщины» стал дворцо-
вый ансамбль, возведенный в 50-е гг. XVIII в. в северо-
восточной части летней императорской резиденции (подоб-
но см. глава 17) — в парке Юаньминъюань. Постройка была
осуществлена по проектам и под руководством Джузеппе
98 Джузеппе Кастильоне
прожил в Китае с 1715 по
1766 г., успев за это время в
совершенстве овладеть не толь-
ко китайским языком, но и
техникой живописи, которой
он пользовался наряду с ев-
ропейской. Жан-Дени Атти-
ре прибыл в Китай в 1738 г. и
стал придворным живописцем.
По заказу Цяньлуна им были
выполнены портреты императ-
рицы, принцесс и других чле-
нов августейшего семейства.
297
Кастильоне и миссионера-иезуита отца Бенуа, которые
вряд ли были особо искушенными в искусстве зодчества.
По странной иронии судьбы, этот дворец был разрушен
европейскими же войсками в 1860 г., во время взятия
ими Пекина. К счастью, сохранилась гравюра с его изоб-
ражением, сделанная в 1783 г., и его многочисленные
литературные описания, позволяющие представить себе
его внешний вид и интерьерное убранство. Он состоял из
нескольких павильонов (типичная композиционная осо-
бенность китайской архитектуры), окруженных парком,
стилизованным под европейский регулярный парк, в ко-
тором находились и фонтаны, ставшие предметом особой
гордости Цяньлуна.
Во внешнем облике строений причудливо соединялись
черты итальянской и французской архитектуры XVIII в.,
что было отнюдь не свойственно европейскому зодчеству,
притом в смеси с сугубо китайскими конструктивно-орна-
ментальными элементами. Интерьеры покоев были отде-
ланы в стиле «псевдорококо», украшены французскими
гобеленами (подарок Людовика XV императору Цяньлу-
ну, доставленный из Франции в 1764 г.) и европейскими
картинами, уставлены европейской же мебелью, скорее
всего, сборными комплектами.
«Европейщина» как самостоятельное стилистическое
направление прекратила свое существование уже в начале
XIX в., так и не выйдя за рамки придворных творческих
увлечений и экспериментов. Тем не менее данное стили-
стическое направление отвечало массовым художествен-
ным настроениям того времени. Известно, что XVIII в. ев-
ропейские вещи были достаточно распространены в част-
ных домах маньчжурской и китайской знати, впоследствии
обретя популярность и среди городского зажиточного насе-
ления. Для удовлетворения спроса на «европейские изде-
лия», подлинные образцы которых были слишком дороги
для простого покупателя, китайские мастера приступили к
активному их копированию, овладевая при этом европей-
скими технологиями и изобразительными средствами, ини-
циируя появление в местном декоративно-прикладном ис-
кусстве новых разновидностей.
Увлечение европейским искусством имело неоднознач-
ные последствия. Оно, безусловно, способствовало про-
никновению в китайское художественное творчество но-
вых живописных техник и приемов, тем, сюжетов, орна-
298
ментальных мотивов. Однако данные новации стимулиро-
вали развитие рокоильных и эклектических стилистиче-
ских вариантов, что в конечном счете пагубно сказалось
на эстетических достоинствах всего изобразительного и
декоративно-прикладного искусства. Только во второй по-
ловине XIX в., когда мода на «европейщину» изжила себя,
китайское искусство в лице не мастеров-ремесленников, a
уже настоящих художников стало осваивать достижения
европейской художественной культуры.
Исчезновение моды на «европейщину» было вызвано
далеко не культурно-творческими причинами. XIX сто-
летие — это время стремительной деградации цинского
правящего режима и новых испытаний для всей страны,
неумолимо превращавшейся в колонию европейских дер-
жав". Свержение цинской династии и переход от им-
перской формы правления к республиканской не принес
стране желанного облегчения. С 1911 по 1949 г. (дата
образования КНР) Китай прошел еще через много испы-
таний — междоусобные военно-политические конфликты,
японскую интервенцию (с 1932 г.) и гражданскую войну
(1945-1949) между силами Гоминьдана — партии, под
руководством которой и возникло первое республикан-
ское государство (Китайская республика, 1911-1949), a
также КПК. Как все эти события сказались на состоянии
китайского искусства, мы проанализируем в дальнейшем
его отдельные виды и направления, a сейчас подведем
итоги сказанному ранее.
Во-первых, очевидно, что китайское искусство, возник-
нув еще в рамках архаической предметно-творческой дея-
тельности, обладало удивительной устойчивостью всех форм
и явлений, эволюция которых шла по прямой линии пре-
емственности между их диахронными вариантами.
Во-вторых, имея полигенетические истоки, китайское
искусство сохранило многообраойе своих региональных
художественных традиций. Это позволяло ему, оставаясь
в пределах единого художественного субстрата, менять
эстетические ориентиры и установки, создавая все новые
и новые стилистические модификации путем обыгрыва-
ния и комбинирования традиционных элементов. Кроме
того, в силу автохтонности происхождения, региональ-
ные традиции придерживались самых разных, даже взаи-
мопротиворечащих, художественных образцов. Поэтому
практически для любого заимствования в китайском ис-
кусстве находились типологические или типологически
сходные аналоги, накладываясь на которые эти заимство-
вания быстро и естественно адаптировались к исходно чуж-
дой для них художественной среде. В этом и заключается
причина постоянной готовности и способности китайско-
го искусства воспринимать различные новации, прони-
кавшие извне. Устойчивость самих региональных худо-
жественных традиций, сумевших не утратить своей само-
бытности на протяжении целых тысячелетий, обеспечивалась
их периодическим оживлением в моменты администра-
тивно-территориальной раздробленности страны.
99 Особенно заинтересова-
на в этом была Англия, ви-
девшая в нем рынок для сбы-
та дешевой промышленной
продукции повседневного мас-
сового спроса и, самое глав-
ное, опиума, который выра-
щивался в Индии и огромны-
ми партиями поставлялся в
Цинскую империю, принося
британским компаниям бас-
нословные прибыли. Попыт-
ка правительства прекратить
ввоз опиума вызвала прямую
военную агрессию со стороны
Англии — «Первую опиум-
ную войну» (1840-1842). По-
терпев сокрушительное пора-
жение, цинские власти были
вынуждены подписать унизи-
тельный и разорительный для
них мирный договор — с вы-
платой контрибуций. Это еще
больше подорвало их автори-
тет и усугубило и без того тя-
желую внутриэкономическую
ситуацию.
В ответ вспыхнули восста-
ния, проходившие теперь не
только под антиправитель-
ственными, но и под анти-
маньчжурскими лозунгами.
Самым мощным из них стало
Тайпинское восстание (1850-
1865), во время которого по-
встанческие армии захватили
Нанкин и провозгласили са-
мостоятельное государство,
призванное свергнуть мань-
чжурскую династию. He cy-
мев справиться с тайпинами
собственными силами, прави-
тельство обратилось за воен-
ной помощью к европейским
державам. Но прежде чем рас-
правиться с теми, союзниче-
ские войска Англии, Франции,
Германии и России по иници-
ативе Англии, добивавшейся
пересмотра прежнего догово-
ра в свою пользу, начали но-
вую военную операцию против
правительства — «Вторуюопи-
умную войну» (1856-1860), в
ходе которой был взят и раз-
граблен Пекин совместно с
прилегающей к нему летней
императорской резиденцией.
Далее последовали Франко-
китайская война (1884-1885)
и Японо-китайская война
(1894-1895), первая — за ус-
тановление военно-политиче-
ского контроля над Вьетна-
мом, вторая — над Кореей, и
обе они тоже были бесславно
проиграны Китаем. Заключи-
тельным аккордом этой серии
стало восстание Ихэтуаней
(1900-1901), захвативших сто-
лицу и подавленных англий-
скими войсками с небывалой
жестокостью.
299
В-третьих, китайское искусство в отличие от художе-
ственной культуры многих народов мира не знало разде-
ления на светское и религиозное, и причины кроются в
самобытности местного института верховной власти и го-
сударственности: совмещение правителем функций свет-
ского и духовного лидера страны и отсутствие самостоя-
тельного жреческого сословия. Поэтому подразделение
китайской предметно-творческой деятельности на ее ма-
гистральные сферы и уровни проходило по социокуль-
турному признаку. Четко выделяются традиции офи-
циального (предназначенного для удовлетворения запро-
сов государственности и находящегося в генетическом
родстве с институтом верховной власти) и неофициально-
го (ориентированного на духовные нужды личности) ис-
кусства, a также элитарного (создаваемого представите-
лями социально-интеллектуальной элиты общества) и про-
стонародного низового творчества. Взаимодействие всех
этих традиций также способствовало возникновению но-
вых стилистических модификаций и эволюции художе-
ственных форм.
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
НАСЛЕДИЕ КИТАЯ
В СОВРЕМЕННЫХ
МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ
И ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ
ПО ИСТОРИИ
КИТАЙСКОГО ИСКУССТВА
ГЛАВА
Музеи европейского типа появились в Китае только во вто-
рой половине XIX в. благодаря инициативе самих европей-
цев. Первым из них стал музей в Шанхае, открытый в
1869 г. католическим священником Пъером Эндомом. Од-
нако отсутствие в Китае собственно музейного дела вовсе
не означает, что местное общество вообще не знало практи-
ки собирания произведений искусства. Непременной час-
тью культурной жизни высших сословий был институт
частного коллекционирования, история которого восходит
к ханьской эпохе100. К концу II — началу III в. относятся
первые упоминания о частных коллекциях «древностей»,
a к V в. такие коллекции превратились, наряду с книжны-
ми собраниями, в неотъемлемую часть дворцовых — импе-
ратора, принцев крови — покоев и домов государственных
деятелей и деятелей культуры воех рангов101. Частные кол-
лекции пополнялись, главным образом, за счет случайных
находок, число которых непрерывно возрастало из-за не-
преднамеренного вскрытия захоронений в процессе сель-
скохозяйственных и строительных работ. Можно также не
сомневаться, что немалую лепту в эти коллекции внесли и
могильные грабители, осмелившиеся разворовывать даже
императорские усыпальницы. Однако любители и знатоки
«древностей» и сами организовывали настоящие поиско-
вые экспедиции. Поэтому формирование института частно-
го коллекционирования сопровождалось зарождением архео-
логии и экспертной деятельности.
В сунскую эпоху (во многом вследствие обострения в
массовом социально-психологическом настрое ностальгии
по прошлому величию страны) институт частного коллек-
ционирования и экспертная деятельность вступили в каче-
ственно новую стадию развития, превратившись в самосто-
ятельную отрасль традиционной китайской гуманитарии.
Среди древних коллекционных изделий особое место за-
нимали бронзовые сосуды ввиду массовости их находок,
так же и эстетической привлекательности. Практика кол-
лекционирования распространялась и на произведения
изобразительного искусства, в первую очередь живописи,
ИНСТИТУТ
ЧАСТНОГО
КОЛЛЕКЦИО-
НИРОВАНИЯ
И ЕГО МЕСТО
В ХУДОЖЕСТВЕН-
НОЙ КУЛЬТУРЕ
ТРАДИЦИОННОГО
КИТАЯ
100 К древнейшей архео-
логической находке и одно-
временно коллекционному эк-
спонату правомерно отнести
древний, для того времени,
бронзовый треножник, отко-
панный в 113 г. до н. э., в
царствование ханьского импе-
ратора У-ди. Он считался од-
ним из тех чудесных сосудов,
создание которых приписыва-
лось в легендах Желтому им-
ператору или Сяскому Юю, a
потому с невероятными поче-
стями доставлен в столицу,
выставлен на всеобщее обозре-
ние и затем помещен в пота-
енных покоях императорско-
го дворца как величайшее из
сокровищ. Эта находка в пол-
ном смысле слова взбудоражи-
ла все тогдашнее китайское
общество. О ней неоднократно
сообщается в письменных ис-
точниках, a сцены обнаруже-
ния и вызволения на свет тре-
ножника воспроизводятся на
погребальных рельефах, судя
по которым, он был, скорее все-
го, крупногабаритным дином,
отлитым при Поздней Инь.
101 Важно, что институт
частного коллекционирования
полностью отвечал характеру
отношения к национальной
301
древности, исходно господство-
вавшему в китайской культу-
ре: ее апологизации и провоз-
глашению древних изделий
непревзойденными шедеврами
искусства. И ученые того вре-
мени понимали, что безотно-
сительно природы их чудесно-
сти, древние вещи являются
материальными свидетельства-
ми прошлого, и пытались на
их основании восстановить
подробности событий, изло-
женных в текстах, истолко-
вать происхождение и ход эво-
люции национального худо-
жественного творчества.
102 Начало данному классу
коллекций было положено се-
веросунским генералом, кото-
рый входил в командный со-
став войсковых соединений,
расположенных в столичном
регионе. Предвидя неизбеж-
ность чжурчжэньского втор-
жения и осознавая, к каким
разрушениям оно приведет,
он приказал в 1087 г. разыс-
кать стелы, находящиеся в
окрестностях бывшей танской
столицы, и свезти их в одно
место. Это собрание, создан-
ное в столь чрезвычайной си-
туации, сохранилось и по сей
день, превратившись в одну из
крупнейших музейных экспо-
зиций Сианя. Впоследствии
«леса стел» наиболее активно
создавались даосскими и буд-
дийскими священнослужите-
лями: на территориях многих
монастырей имеются такого
рода экспозиции.
включая работы мастеров прошлого и действующих на тот
момент художников.
Крупнейшим живописным собранием была император-
ская коллекция, которая впервые подверглась системати-
ческому каталогизированию. Специальные аннотированные
каталоги составлялись и для работ придворных живопис-
цев. В конце Северной Сун появились сочинения, отдельно
посвященные экспертно-коллекционным вопросам, автори-
тетнейшим из которых для декоративно-прикладного ис-
кусства признается трактат Люй Дацзяня «Собрание древ-
ностей с иллюстрациями» («Каогу my»). Обнародованный
в 1092 г., он представлял собой фундаментальный труд, в
котором содержалось развернутое описание 210 бронзовых
сосудов, хранившихся на тот момент в императорской кол-
лекции и частных собраниях. Для каждого из них указы-
вался размер, вес, дата и место нахождения, особенности их
художественного оформления, a также приводилось гравюр-
ное изображение. Люй Дацзянем была предпринята также
попытка атрибуции изделий и создания общей классифика-
ции древних бронз. Судя по их литературным описаниям и
внешним приметам, воспроизведенным в гравюрах-иллюст-
рациях, в сунских коллекциях наличествовало немало под-
линных иньских изделий. Для изобразительного искусства
и непосредственно станковой живописи первым экспертно-
квалификационным теоретическим сочинением является
трактат «История живописи» Ми Фу — прославленного
коллекционера и живописца (подробно см. глава 8).
В дополнение к собраниям древностей и живописных
произведений при Северной Сун возник еще один весьма
специфический класс художественных коллекций — так
называемый «Лес стел». Они состояли из натуральных ка-
менных стел (подробно см. глава 6) — мемориальных и
погребальных памятников, которые начиная с древних вре-
мен было принято использовать в надземной части захоро-
нений и в тех или иных памятных местах102.
В юаньскую и минскую эпохи интерес к коллекциони-
рованию «древностей» откровенно снизился, чтобы вновь
вспыхнуть при Цин. Известно, что к XIX в. существовали
частные коллекции, объемом до 5000 единиц хранения.
В работах экспертно-квалификационного плана, изданных
в начале XX в., упоминаются в общей сложности 5780
только древних (по определениям их авторов) бронзовых
сосудов, наличествовавших в дворцовом и частных собра-
ниях. Практика частного коллекционирования осталась в
силе и в XX в., пусть даже превратившись в сугубо инди-
видуальный род интеллектуальной деятельности.
При всей развитости и высочайшей степени обществен-
ного авторитета институт частного коллекционирования
не смог воспрепятствовать значительным утратам древних
художественных ценностей. Во-первых, многие коллекци-
онные изделия гибли из-за неправильного хранения или
неумелой реставрации. Во-вторых, отношение к «древно-
стям» было совершенно неодинаковым в различных соци-
альных слоях. Крестьянское население испытывало суе-
302
верный страх перед вещами, извлеченными из земли, тем
более из захоронения. В них усматривали порождение или
вместилище злых сил, дурные знамения, a потому подоб-
ные находки старались быстрее уничтожить. После рас-
пространения среди низовых слоев населения буддизма в
обычай вошла переплавка древних бронзовых сосудов в
буддийскую скульптуру, которая жертвовалась храмам.
Уничтожение бронзовых изделий могло производиться и
«просвещенными» верхами по экономическим причинам —
для получения денежного металла. Так погибли, напом-
ним, гигантские изваяния, выполненные по приказу Цинь-
ши-хуан-ди. В истории китайского коллекционирования
есть немало прецедентов и загадочных исчезновений от-
дельных редкостей и целых собраний103.
Живописные произведения также гибли не только из-
за их плохого хранения, но и в тех случаях, когда попу-
лярность того или иного жанрово-тематического направ-
ления или конкретного живописца падала — тогда соот-
ветствующие картины просто выбрасывались. Подобные
прецеденты тоже известны, и они связаны с именами от-
нюдь не профанов, тщившихся не отстать от художествен-
ной моды, a признанных любителей и знатоков изобрази-
тельного искусства104.
И все же институт частного коллекционирования сыг-
рал неоценимую роль в сохранении и изучении националь-
ного художественного наследия и, кроме того, подготовил
почву для возникновения собственно музейного дела.
103 Выразительный при-
мер — бесследная пропажа
492 бронзовых сосудов, най-
денных, по сообщениям пись-
менных источников, при Се-
верной Сун в месте располо-
жения столицы чжоуского
царства Ци.
104 Сходный случай имел
место и с цинским императо-
ром Цяньлуном: страстный
любитель и коллекционер не-
фритовых изделий, он тем не
менее отправил часть своего
собрания в казенные мастер-
ские с приказом переделать
их в предметы повседневного
дворцового обихода.
Переход от института частного коллекционирования к
государственному музейному делу начался в Китае в конце
XIX — начале XX в., но в отличйе от Японии, например,
проходил в максимально неблагоприятных историко-поли-
тических условиях. Нужно отдать должное цинской ад-
министрации: при всей тяжести своего собственного поло-
жения, в 1909 г. ею было подготовлено и законодательно
принято правительственное постановление, содержащее пред-
писания о порядке отыскания и мерах по охране археологи-
ческих находок, об организации региональных музеев. От-
ветственность за исполнение этих предписаний возлагалась
на провинциальные управленческие органы. Республикан-
ское правительство, едва придя к власти, продолжило по-
литику по развитию музейного дела и охране национальных
культурно-художественных ценностей. Уже в 1912 г. по
инициативе только что созданного Министерства просве-
щения в Пекине был учрежден первый в стране регуляр-
ный государственный музей. Им стал Национальный исто-
рический музей, собрание которого к моменту его откры-
тия насчитывало 5760 экспонатов.
К 1929 г. в Китайской республике уже функциониро-
вали 31 государственный и 3 частных музея. К 1936 г. их
число возросло до 77, общий штат насчитывал 421 со-
трудника. Все эти музеи были историко-художествен-
ного плана. Кроме них, существовало еще 56 галерей
МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО
В КИТАЕ В XX в.
И ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ПОЛИТИКА
ПО ОХРАНЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
ИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНЫХ И
ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫХ ЦЕННОСТЕЙ
303
105 Работавшие в Китае ев-
ропейцы — персонал дипло-
матических служб, военнослу-
жащие, торговые агенты, клер-
ки банков и тому подобные
лица — старались всеми прав-
дами и неправдами приобре-
тать художественные произ-
ведения и нелегально прово-
зить их через границу. He
обладавшие, как правило, спе-
циальной подготовкой и имев-
шие самое смутное представле-
ние о подлинной художествен-
ной и исторической ценности
попавших к ним вещей, они
не останавливались порою пе-
ред настоящим вандализмом.
Известны случаи, когда буд-
дийские скульптуры и стено-
писи просто выламывались из
стен храмов. В 1926 г. амери-
канским почитателям китай-
ского искусства удалось ку-
пить и вывезти в разобранном
виде целое дворцовое строение,
относившееся к минской эпо-
хе. По подсчетам экспертов
КНР (Каталог древних брон-
зовых изделий, опубликован-
ный в 1963 г.), только в аме-
риканские музеи и частные
коллекции за 20-40-е гг. про-
шлого века попали 845 уни-
кальных иньских и чжоуских
бронзовых изделий.
106 В национальные музеи
и хранилища поступала весь-
ма незначительная часть на-
ходок и далеко не самые цен-
ные вещи. Дело в том, что
археологические экспедиции
возглавлялись европейскими
(английскими, французскими,
немецкими, шведскими, гол-
ландскими) и американскими
учеными, и львиная доля об-
наруженных во время поиско-
вых работ артефактов отправ-
лялась в Европу и СІПА.
В конце 1940-х гг. конти-
нентальный Китай понес еще
одну невосполнимую для него
утрату: 143 639 наиболее цен-
ных древних артефактов и
произведений декоративно-
прикладного и изобразитель-
ного искусства, хранившихся
в фондах столичных музеев,
были по распоряжению пра-
вительства увезены на Юг и
оттуда на военных кораблях
переправлены на Тайвань.
107 Например, при проклад-
ке шоссейной дороги в про-
винции Хубэй в 1956 г. было
обнаружено и вскрыто 100
древних погребений, содержа-
щих около 1000 артефактов.
В 1960 г. в провинции Хэнань
при подготовительных работах
к возведению масштабного
строительного комплекса было
открыто 6000 захоронений, бо-
лее 60 остатков строений и из-
влечено из земли в общей слож-
ности 50 000 предметов.
изобразительного искусства, преимущественно частных. Па-
раллельно республиканским правительством предпринима-
лись и меры по защите национального художественного
наследия. В 1930 г. был принят Закон об охране памятни-
ков древности, в котором была предложена их классифи-
кация: археологические памятники, памятники истории,
памятники старины с градацией в 50, 100 и 500 лет и
отдельные предметы, имеющие культурную и художествен-
ную ценность.
Повышенное внимание республиканского правительства
к музейному делу и проблемам охраны национальных куль-
турно-художественных ценностей было вызвано далеко не
только их желанием следовать музейному опыту и законо-
дательству Европы. Во-первых, необходимо было остано-
вить хищнический вывоз из страны антикварных изделий
и произведений искусства, который массово начался во
второй половине XIX в.105
Во-вторых, развитие музейного дела стимулировалось
многочисленными археологическими открытиями. Фонд
одного лишь Национального исторического музея всего за
два с неболыним десятилетия (к 1932 г.) увеличился почти
в 40 (!) раз, достигнув 215 877 единиц хранения106.
He следует отрицать, что вывоз из Китая антикварных,
художественных произведений и археологических артефак-
тов не имел положительной стороны для мировой культуры
и мирового музейного дела. Они легли в основание многих
музейных коллекций и привели к возникновению самостоя-
тельных искусствоведческих и экспертно-реставраторских
центров, внесших огромный вклад в изучение китайского
искусства.
Центральные органы КНР тоже почти сразу же после
ее провозглашения предприняли ряд мер по установлению
государственной монополии в области охраны националь-
ного культурно-художественного наследия и музейного дела.
В мае 1950 г. было обнародовано специальное Постановле-
ние Государственного Совета КНР, запрещающее вывоз из
страны подлинных произведений искусства и культурно-
художественных ценностей, и утверждены Временные пра-
вила по охране памятников старины и культуры. В после-
дующие годы они дополнились целым пакетом норматив-
ных документов, в том числе постановлениями об охране
исторических и революционных памятников при капиталь-
ном строительстве и сельскохозяйственных работах, при-
нятыми соответственно 22.10.1953 г. и 2.04.1956 г. Дан-
ные документы были крайне актуальными в условиях раз-
ворачивавшегося строительства и сельскохозяйственного
реформирования107.
В 1961 г. правительством КНР законодательно оформ-
ляется первый вариант Списка памятников, находящихся
под охраной государства, который состоял из 180 пунктов:
14 памятников буддийского изобразительного искусства
(пещерные монастыри и скальные храмы, подробно см.
глава 10), относящихся к ѴІ-ХѴІ вв.; 11 каменных релье-
фов, созданных во II—XII вв.; 19 погребальных комплек-
304
cob; 26 археологических памятников и 77 памятников ар-
хитектуры. Второй и третий варианты этого Списка были
приняты в 1982 и 1988 гг., последний из которых содер-
жал уже 258 пунктов. К концу 90-х гг. XX в. (данные на
1997 г.) под охрану государства были взяты уже 750 архи-
тектурных, археологических и культурно-художественных
памятников; еще 5000 — под охрану на уровне провин-
ций, автономных районов и городов центрального подчи-
нения, и 10 000 — на областном и уездном уровне.
В комплекс акций по охране национального культурно-
художественного наследия изначально входили и меры по
его популяризации среди широких слоев населения и при-
влечению их к участию в охранительной деятельности. На
рубеже 50-х гг. XX в. в крупных городах и уездных цент-
рах были созданы специальные комиссии, члены которых
вместе с коренными местными жителями систематически
проводили экспедиции по розыску и инвентаризации воз-
можных исторических и художественных памятников. За
лето 1957 г., по отчетам соответствующей комиссии, на тер-
ритории только одного уезда было найдено 21 древнее за-
хоронение, 14 стел и каменных плит с надписями, относя-
щихся к Х-ХІІ вв., 10 мемориальных арок, пагода и ка-
менный мост минского времени108.
Комплекс мер по охране культурно-художественных
ценностей был неразрывно связан с политикой непосред-
ственно в области музейного дела. За первые десять лет
существования КНР число музеев возросло с 21 (в 1949 г.)
до 600, a суммарное число экспонатов увеличилось на 98%.
К началу 60-х гг. прошлого века была разработана и вне-
дрена в музейную практику концепция провинциальных и
уездных историко-краеведческих музеев, предполагающая
наличие в их экспозиционной стр^ктуре трех главных раз-
делов: собственно исторического, природоведческого и «стро-
ительства социализма». В настоящее время основное место
в музейных экспозициях любых уровней занимает, как
правило, исторический раздел, что является в какой-то
степени продолжением традиции института частного кол-
лекционирования.
Сегодня в КНР (данные на 1996 г.) функционируют
1205 музеев и художественных галерей, приоритетное по-
ложение среди которых занимают музеи историко-художе-
ственной ориентации. Ведущим из них является «Старый
дворец» (Гугун) — бывший императорский столичный двор-
цовый ансамбль, состоящий из 89 строений и занимающий,
вместе с парковыми ансамблями, площадь в 700 000 м2.
Вплоть до 1924 г. он продолжал находиться в собственности
низложенной императорской семьи. В январе 1925 г., по
решению специально для этого созданной Правительствен-
ной комиссии, дворцовый ансамбль был открыт для сво-
бодного посещения, a в 1928 г. переведен в статус регу-
лярного государственного музея. Тогда же за ним утвер-
дилось название Гугун вместо «Запретного (Пурпурного)
города». С этого момента в нем не только демонстрировались
дворцовые интерьеры, но и организовывались постоянные
20 История искусства Китая
108 Справедливости ради
заметим, что в эти же годы
имелось немало нарушений
Закона по охране памятников,
произошедших чаще всего из-
за некомпетентности местных
административных органов.
В качестве беспрецедентной и
преступной акции в самих же
китайских СМИ было назва-
но, например, разрушение в
провинции Чжэцзян трех па-
год танской эпохи и эпохи
Пяти династий для добычи
кирпича, потребовавшегося
на строящееся дорожное по-
крытие. Помимо самих пагод,
погибли и хранившиеся в них
100 книжных свитков VII-
XII вв. Другой пример —
уничтожение бронзовой скулыі-
туры из даосского храма, на-
ходящегося в провинции Ху-
бэй. Обследовав этот храм,
представители уездной адми-
нистрации сочли, что 300 из-
ваяний из 100 000 скульптур,
образующих его убранство,
находятся в настолько повреж-
денном состоянии, что не под-
лежат реставрации, a потому
они были отправлены на ме-
таллолом и переплавку. Не-
мало памятников и произве-
дений искусства (в том числе
погребальная и буддийская
каменная скульптура) постра-
дали и в печалъно знаменитые
годы ♦Культурной револю-
ции». Однако подобные фак-
ты, к счастью, остались еди-
ничными и локальными эпи-
зодами в истории КНР.
305
экспозиции и временные выставки бронзы, фарфора, лако-
вых изделий, живописных и каллиграфических произве-
дений и т. д. В скором времени при Гугуне были открыты
и реставрационные мастерские, для работы в которых ши-
роко привлекались пекинские частные мастера. За 30-е гг.
XX в. их усилиями были отреставрированы 11 000 экспо-
натов, a Гугун превратился в крупнейший национальный
экспертно-реставрационный центр. В 1949 г. экспозицион-
ная площадь Гугуна составляла 8533 м2, число постоянно
экспонируемых предметов равнялось 220, a фонд хранения
располагал 50 000 единиц. К 1960 г. экспозиционная пло-
щадь достигла 20 000 м2, фонд пополнился на 20 000 еди-
ниц, a в постоянных экспозициях присутствовало 1200
живописных и каллиграфических произведений, около 1000
древних бронз и 2000 изделий из керамики. За последую-
щие десятилетия все эти цифры, разумеется, намного уве-
личились.
К числу крупнейших и наиболее авторитетных музеев
КНР также относятся:
1) Националъный исторический музей, для которого в
1959 г. было построено новое здание с выставочной площа-
дью в 8000 м2;
2) Музвй китайского изящного и прикладного искус-
ства, тоже находящийся в Пекине;
3) Шанхайский музей искусств, который был основан
только в 1952 г., но сейчас располагает фондом свыше
100 000 единиц хранения, включая археологические арте-
факты (главным образом принадлежащие местным неоли-
тическим культурам и древнему «южному» художествен-
ному творчеству), уникальные произведения живописи и
декоративно-прикладного искусства;
4) Цзянсуский провинциалъный исторический музей —
главный музейно-исследовательский центр провинции Цзян-
су, находящийся в Нанкине. В его экспозиции, построен-
ной по хронологически-тематическому принципу, представ-
лены важнейшие артефакты, относящиеся к юго-восточ-
ным неолитическим культурам (в том числе лянчжуские
нефриты), эпохе Шести династий, включая керамическое
панно с изображением «Семерых мудрецов из бамбуковой
рощи», и многочисленные образцы местной погребальной
пластики. Кроме того, этот музей располагает неплохим,
хотя и менее представительным, чем Шанхайский музей
искусств, собранием живописных и каллиграфических про-
изведений, принадлежащих кисти южных мастеров;
5) Лоянский исторический музей, основанный в 1958 г.
(уже при КНР), имеющий богатейшие коллекции, в пер-
вую очередь местных археологических артефактов;
6) Шэньсийский исторический музей (Сиянь), который
в 1991 г. переехал в специально выстроенное для него зда-
ние с экспозиционной площадью в 62 000 м2 и имеет в
своих фондах 370 000 единиц хранения, занимая по этим
показателям второе место после Гугуна. Интенсивность
археологических работ привела к подъему и многих преж-
де локальных краеведческих музеев, располагающих те-
перь пусть неболыпими по объему, но состоящими из уни-
кальных артефактов коллекциями.
Помимо археологических находок, главным источни-
ком пополнения музейных фондов служат частные коллек-
ции и заброшенные вещи, включая макулатуру и утиль-
сырье. Так, Нанкинскому историческому музею в 50-60-х гг.
прошлого века было передано в дар частными лицами в
общей сложности более 3400 произведений изобразитель-
ного и декоративно-прикладного искусства. Музейная цен-
ность заброшенных вещей обусловлена все той же практи-
кой частного коллекционирования, которая соблюдалась
также в кланах провинциального чиновничества и зажи-
точных горожан. Во многих современных китайских семь-
ях до сих nop хранятся остатки некогда собранных их
предками коллекций, которые по тем или иным причинам
оказываются неопознанными их теперешними владельца-
ми, остаются складированными во вспомогательных поме-
щениях, a то и выбрасываются на улицу или сдаются в
пункты вторсырья109.
Кроме развития музеев европейского типа, в КНР все
более настойчиво предпринимаются музейные эксперимен-
ты. К их числу относится создание специфических выста-
вочных комплексов на месте подлинных археологических
раскопов. Таковыми являются Музей Банъпо, в котором
под стеклянным сводом представлены подлинные остатки
одноименного неолитического поселения в том виде, в ка-
кой они были приведены после завершения вскрытия и
проведения необходимых реставрационных работ; и Музей
терракотовых воинов и коней (Бин ма юн), состоящий из
строений, возведенных над фрагментами погребального
кортежа Цинь-ши-хуан-ди. Данвый тип выставочных ком-
плексов позволяет совмещать экскурсии (экскурсанты про-
водятся по специально проложенным помостам) и осуще-
ствление дальнейших реставрационно-исследовательских
работ, которые тоже оказываются доступными наблюде-
нию за ними посетителей. Еще одним уникальным созда-
нием китайского музейного дела справедливо считать Ло-
янский музей древних гробниц (окрестности Лояна). Он
состоит из надземного здания, где расположена неболь-
шая собственно музейная экспозиция, и трех подземных
этажей, на каждом из которых находится длинный кори-
дор и отходящие от него помещения, имитирующие по-
гребальные камеры. После вскрытия и обследования этих
захоронений их художественное оформление и погребаль-
ный инвентарь с точностью до мельчайших деталей вос-
производятся в одном из этих помещений. Необходимость
создания такого музея была вызвана хаотичным располо-
жением лоянских захоронений, которые в отличие от ран-
неханьских, танских и минских императорских погребаль-
ных комплексов чаще всего расположены на значительном
удалении друг от друга и в местах, труднодоступных для
туристов. Теперь же интересующийся китайской историей
и древним художественным наследием человек, оставаясь
в пределах одного музея, может совершить, так сказать,
109 0 том, какие сокрови-
ща могут скрываться среди
макулатуры и утильсырья,
свидетельствуют следующие
факты. Еще в 1955-1965 гг.
сотрудниками Шанхайского
исторического музея при об-
следовании пунктов вторсырья
в пределах провинции Чжэц-
зян были выявлены 10 400
свитков рукописей и старых
ксилографов и 2207 бронзо-
вых изделий, среди которых
были сосуды, датируемые II в.
до н. э. Подобные по масшта-
бу находки являются, конеч-
но, болыпой редкостью, но нет
никаких сомнений в том, что
в китайских семьях, особен-
но исконно проживающих в
историко-культурных цент-
рах страны и ведущих родо-
словную от чиновничьих кла-
нов, пребывает еще множество
художественных раритетов.
307
«экскурсию во времени» и познакомиться со всеми важ-
нейшими археологическими открытиями, сделанными в
окрестностях Лояна.
Подобные эксперименты наглядно показывают высо-
кий уровень развития новейшей китайской археологии,
реставраторского дела и музееведения.
Представительные и богатые коллекции китайских ху-
дожественных произведений содержатся и во многих зару-
бежных, по отношению к Китаю, музеях.
ВЕДУЩИЕ
МИРОВЫЕ
МУЗЕЙНЫЕ
КОЛЛЕКЦИИ
КИТАЙСКИХ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ
110 Кроме того, в настоя-
щее время (начиная прибли-
зительно с середины прошло-
го века) издается целая серия
периодических изданий, спе-
циально посвященных искус-
ству Востока и непосредствен-
но Китая, в том числе:
«Archives of Asian Art », «Oriental
Art», «The China Journal of
Science and Arts».
Для Дальневосточного региона ведущим музейным со-
бранием китайских художественных произведений являет-
ся тайваньский Государственный дворцовый музей (Тай-
бэй), основу фондов которого составили вывезенные из кон-
тинентального Китая столичные коллекции. Этот музей
сегодня располагает самым полным, пожалуй, собранием
китайской живописи. Следующее после Тайваня место за-
нимает Япония, где создано значительное число как госу-
дарственных музеев, специализирующихся на китайском
искусстве, так и монастырских и частных коллекций. Имен-
но в японских коллекциях сохранилось наибольшее число
живописных произведений, относящихся к так называе-
мой чаньской школе.
Из европейских музеев самыми масштабными китай-
скими собраниями располагают Британский музей и Вер-
салъ. Кроме них, в обеих странах функционирует еще ряд
музеев, либо специализирующихся в области ориенталь-
ного искусства, либо имеющих разделы, посвященные
Китаю. В Англии — это лондонские Музей Виктории и
Альберта и Собрание Персиваля Дэвида, во Франции —
парижский Музей Гиме. Старейшим европейским храни-
лищем китайских художественных произведений являет-
ся шведский Музей Дальневосточных художественных
древностей (Стокгольм), который изначально специали-
зировался на коллекционировании археологических арте-
фактов. Одновременно он является крупнейшим и автори-
тетнейшим для Скандинавии научно-исследовательским
центром. С 20-х гг. прошлого века и по сей день на базе
этого центра выпускается периодический «Бюллетень Му-
зея Дальневосточных художественных древностей» (Bulletin
of the Museum of far Eastern Antiquities)110, посвященный
вопросам культурного, литературного и непосредственно
художественного наследия Китая. Из других западноевро-
пейских музеев назовем немецкий Музей восточноазиат-
ского искусства (Кельн) и швейцарский Музей Ритберга
(Цюрих).
На протяжении XX в. целая сеть музеев ориентального
и собственно китайского искусства была создана в США.
Лидирующее среди них место по богатству и разнообразию
коллекций занимают Галерея искусств Фрира (Вашинг-
тон), Музей искусств Метрополитен (Нью-Йорк) и Гале-
рея азиатского искусства (Нью-Йорк). Галерея искусств
Фрира, основанная в начале XX в. Чарльзом Лангом Фри-
308
ром, тоже с самого начала специализировалась на коллек-
ционировании образцов древнекитайского искусства и вла-
деет одной из самых полных мировых коллекций иньской
и чжоуской бронзы. Этот музейный центр тоже служит
базой для научно-исследовательской и реставраторской дея-
тельности в ее прикладном и теоретическом аспекте111.
Достаточно представительные китайские коллекции име-
ются также в Музее Фогга (Гарвард), Галерее «Азиатский
дом» (Нью-Йорк), Музее изящных искусств (Бостон), Лос-
Анжелесском провинциальном музее, Музее Канзас-Сити,
Музее Филадельфийского университета, Художественном
музее Кливленда и в канадском Королевском музее Онта-
рио (Торонто).
Китайские коллекции есть даже в музеях стран, значи-
тельно удаленных от Китая, например южноафриканская
Коллекция китайских и индийских нефритов (Кейптаун).
В России старейшая китайская музейная коллекция
сложилась в Музее антропологии и этнографии имени Пет-
ра Великого (Кунсткамера, Санкт-Петербург)112. В XIX в.
крупнейшей в России китайской коллекцией стало собра-
ние Эрмитажа, которое складывалось из дворцовых пред-
метов. В 1852 г., когда Эрмитаж был открыт для широкой
публики, это собрание окончательно превратилось в музей-
ную экспозицию. Дальнейшая история китайской коллек-
ции Эрмитажа связана с Отделом Востока (первоначальное
название — Отдел истории ку^ътуры и искусства народов
советского и зарубежного Востока), созданным в 1920 г.
Этот отдел имеет самостоятельную экспозиционную пло-
щадь и отдельный фонд, общий объем которого (включая
не только китайские вещи, но и произведения других регио-
нов, в том числе Индии, Центральной Азии, Арабского
Востока) превышает 150 000 единиц хранения. Третье по
времени возникновения и авторитету китайское собрание
находится в московском Государственном музее искусст-
ва народов Востока. Он был организован в 1918 г. под
названием Музей искусств Азии на базе нескольких му-
зейных собраний, в том числе Румянцевского музея (1867 г.),
и частных коллекций.
Кроме того, собрания китайских изделий, но уже в
качестве интерьерных предметов, имеются в петербург-
ских (Дворец А. Д. Меншикова) и пригородных дворцах
(Петергоф, Павловск, Царское Село, Ораниенбаум, Гат-
чина).
И наконец, формирование китайских коллекций про-
исходило на всем протяжении ХѴШ-ХІХ вв. в универси-
тетских центрах, готовивших китаеведов, и в городах,
находившихся на торговых путях с Китаем и связанных с
ними сибирских городах (Кяхта, Минусинск, Благове-
щенск, Томск, Омск, Иркутск). Первоначально стихийно
накапливавшиеся в них китайские предметы, благодаря
стараниям купцов и меценатов, трансформировались в не-
большие, но неплохо подобранные музейные собрания.
Важную роль в их дальнейшей судьбе, равно как и в
истории петербургских и московской коллекций, сыграл
111 В 1960-х гг. в нем на
материале данной коллекции
бронзовых изделий был осу-
ществлен уникальный проект
по всестороннему экспертно-
художественному анализу древ-
некитайских бронз с примене-
нием новейших на то время
экспертных методов. В ходе
этого проекта как раз и были
установлены точные химиче-
ские параметры бронзовых
сплавов и выявлены многие,
неизвестные прежде, нюансы
технологии бронзолитейного
производства.
112 Ее история восходит к
15 августа 1725 г., когда Ека-
терина I передала в Кунстка-
меру принадлежавшие ее вен-
ценосному супругу китайские
вещи. Петр I, как мы узнаем
далее, проявлял немалый по-
литический интерес к Китаю
и лично увлекался китайским
искусством. По его заказам
привозились подлинные изде-
лия (в основном, фарфор), как
через посредничество европей-
ских торговых фирм, так и
непосредственно из Китая, где
они закупались посольскими
лицами. В 1736 и в 1741 гг.
китайская коллекция Кунстка-
меры пополнилась собранием
Я. Брюса и вещами, передан-
ными ей Канцелярией конфи-
скаций. Но в начале декабря
1747 г. часть коллекции (око-
ло 180 единиц) погибла при
пожаре. Чтобы возместить эту
утрату, в Китай один за дру-
гим были посланы несколько
человек для закупки таких же
или сходных с погибшими
предметами изделий. Наиболее
полная и, главное, целеустрем-
ленно собранная коллекция
была привезена Ф. Елачичем
летом 1756 г.: 273 предмета,
в том числе лаковые, фарфо-
ровые, бронзовые и стеклян-
ные изделия, изделия из сло-
новой кости, резного камня и
дерева. Китайская коллекция
Кунсткамеры пополнялась и
в дальнейшем, и в XVIII в.
ни один из музеев Европы не
имел столь богатого собрания.
309
113 Для примера сошлемся
на китайскую коллекцию Ом-
ского областного музея, став-
шего в результате объединения
местных частных коллекций и
вещей, присланных Музейным
фондом, обладателем 2000 эк-
спонатов, которые, несмотря
на их относительную немно-
гочисленность, ясно представ-
ляют все виды китайского де-
коративно-прикладного искус-
ства цинской эпохи.
созданный в 1917 г. Музейный фонд, куда стекались вещи,
реквизированные из частных коллекций для передачи
музеям113.
Главной особенностью всех отечественных коллекций
китайских художественных изделий является преоблада-
ние в них произведений декоративно-прикладного искус-
ства, относящихся к цинской и реже минской эпохам. Этим
объясняется преимущественное внимание российских ис-
кусствоведов именно к китайскому декоративно-приклад-
ному искусству указанных эпох.
Итак, музеи мира располагают китайскими коллекци-
ями в достаточно полном их объеме, чтобы на их материа-
ле можно было в деталях проследить и осмыслить историю
развития каждого отдельного вида художественного твор-
чества этой страны, начиная с неолитической эпохи. Дру-
гим важнейшим источником по истории китайского искус-
ства выступают оригинальные письменные памятники.
ГЛАВНЫЕ КЛАССЫ
КИТАЙСКИХ
ПИСЬМЕННЫХ
источников
ПО ИСТОРИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО
ИСКУССТВА
Китайская книжная культура содержит в себе специ-
альные классы письменных памятников, посвященных всем
видам и формам национального искусства. Практика со-
здания искусствоведческих (в современном научном опре-
делении) сочинений восходит к древней философской лите-
ратуре, в которой изначально уделялось огромное внимание
художественному творчеству как особому виду человече-
ской деятельности и отдельным художественным традици-
ям и ремеслам в контексте их роли в духовной и экономи-
ческой жизни страны.
Ранее всего из философской литературы начал выде-
ляться класс памятников, касающихся ремесленных про-
изводств. Родоначальником данного класса считается трак-
тат «Записи об изучении ремесел» («Као гун цзи»)у со-
ставленный предположительно в конце периода Весен и
осеней и затем вошедший в качестве заключительной гла-
вы в состав конфуцианской околоканонической книги «Ри-
туалы Чжоу» («Чжоу ли»), В нем содержатся сведения по
технологии отдельных ремесел, в первую очередь бронзо-
литейного производства и шелкоткачества, и перечисля-
ются их главные в то время центры. В начале XIV в. было
обнародовано первое энциклопедическое сочинение по на-
циональным ремеслам — «Книга о сельском хозяйстве»
(«Нун шу»), отличающееся ярко выраженным практициз-
мом и первоочередным вниманием к процессу производ-
ства. Наибольшего же объема разбираемый класс памят-
ников достиг в ХѴІ-ХѴШ вв. В его состав входят сочине-
ния как сводно-энциклопедического, так и отраслевого
характера. Для первых наиболее полным и авторитетным
трудом признается, прежде всего, книга Сун Инсина (пер-
вая половина XVII в.) «Тяньгун кайу», обнародованная в
1637 г. Название ее условно (в силу смысловой специфи-
ки его оригинального варианта) переводится как «О том,
как, совершенствуя Поднебесную, получать вещи». Она
состоит из трех глав, каждая из которых распадается на 6
310
отделов, посвященных отдельным производствам. Науч-
ная ценность этого труда заключается еще и в том, что в
нем нашел отражение общий уровень развития рациональ-
ных знаний, практических навыков и производительных
сил Китая в начале XVII в.114
Что касается сочинений отраслевого характера, то боль-
шая часть из них посвящена текстильному и фарфоровому
производству. Из сочинений по текстильному производ-
ству особо выделяется книга «Описание ткацкого управле-
ния в Сучжоу» («Сучжоу чжицзаоцзюй чжи») Сунь Пэя,
написанная в 40-50-х гг. XVII в. и дошедшая до нас в
рукописи. Она состоит из 10 глав, в которых подробно из-
лагается история казенных шелкоткацких мастерских, на-
ходившихся в Сучжоу и Нанкине, приводятся статисти-
ческие данные об их оборудовании, о штате с точным
указанием квалификации персонала, объеме выпускае-
мой продукции. Самым ранним сочинением, посвящен-
ным казенному фарфоровому производству, является труд
«Иллюстрации и объяснения к производству фарфора»
(«Таочжи тушо») Тан Иня, бывшего государственным
инспектором этих мастерских. Впервые изданный в 1743 г.,
он также содержит подробное описание всего технологи-
ческого процесса производства фарфора, начиная с добы-
чи и обработки сырья. Самым же значительным и обоб-
щающим сочинением данной тематической серии считает-
ся труд «Описание фарфорового производства Цзиндэчжэня»
(«Цзиндэчжэнъ тпаолу») Лань Пу (вторая половинаXVIII в.),
изданный в 1815 г.115
Следующие два класса письменных памятников обра-
зуют сочинения, посвященные музыке и строительству.
Они также выделились непосредственно из древней фило-
софской литературы, так как музыкальным искусствам и
строительству в древнекитайской культуре придавалось
особое семантическое значение и повышенные обществен-
но значимые функции.
Самый обширный класс китайских искусствоведческих
памятников составляют эстетико-живописные сочинения,
которые совместно с литературно-теоретическими, в сущ-
ности, исчерпывают национальную эстетическую мысль.
Данный класс возник относительно поздно (в IV-VI вв.) и
в дальнейшем охватывал различные по тематике рабо-
ты — от практических руководств до трудов общетеорети-
ческого плана.
Непосредственное отношение к истории национального
искусства имеют и многие другие классы китайских пись-
менных памятников. Это, во-первых, историологические
сочинения во главе с «династийными историями», прак-
тика создания которых открывается уже хорошо знако-
мым нам трудом «Исторические записи» («Ши цзи») Сыма
Цяня. Цель «династийной истории», создававшейся после
гибели соответствующей династии, заключалась в том,
чтобы воссоздать как можно более полную и подробную
картину жизни общества во время правления этой династии,
во всех ее наиболее значительных областях и проявлениях.
114 Сходными достоинства-
ми обладает и сочинение «Пол-
ная книга о сельском хозяй-
стве» («Нунчжэн цюаныиу»)
Сюй Гуанци (1562-1633). Хотя
внимание автора сосредоточе-
но преимущественно на тек-
стильном производстве, он со-
общает важные сведения об
изменении китайского рынка,
развитии экономических свя-
зей между отдельными реги-
онами страны. Кроме того,
Сюй Гуанцин предпринял ус-
пешную попытку обобщить
практический опыт националь-
ной ремесленной деятельности
и постарался отметить все но-
вейшие современные ему изо-
бретения и технологические
достижения.
115 Сам по себе факт со-
здания и обнародования по-
добных сочинений доказыва-
ет несостоятельность прочно
укоренившихся в сознании
европейцев легенд об особой
закрытости китайских ремес-
ленных производств и кате-
горическом запрете местных
властей на распространение о
них какой-либо информации.
311
В результате в «династийные истории» в обязательном по-
рядке включались разделы, касающиеся придворной цере-
мониально-ритуальной деятельности и связанному с ней
музыкально-песенному и танцевальному творчеству с пе-
речислением или подробным описанием конкретных музы-
кальных инструментов и произведений. В серии самостоя-
тельных разделов излагаются сведения об этнографических
реалиях — одежде, транспортных средствах, предметах
мебели и пр. Есть в них и «экономические» разделы, в
которых содержится информация о состоянии ремесел и
производств. Большую часть «династийных историй» зани-
мают жизнеописания исторических лиц, в первую очередь
политических деятелей и деятелей культуры, включая не-
посредственно представителей творческой интеллигенции.
A в заключительных главах подробно рассказывается о со-
седях китайцев и об их дипломатических и торговых кон-
тактах с внешним миром с приведением сведений о составе
подарков и дани, присылаемых императорскому двору.
Понятно, что в этих главах содержится информация обо
всех импортных и экспортных поставках и о чужеземных
«новинках», проникавших в Китай.
Следующий класс письменных памятников, точнее,
оригинальных письменных источников составляют офици-
альные документы — всевозможные указы, декреты, док-
лады трону, отчеты, рапорты. Среди них присутствует вну-
шительное число бумаг и развернутых трактатов, которые
принято было подавать на высочайшее имя. В них обсуж-
даются и проблемы церемониально-ритуалыюго характе-
ра: о принципах планировки святилищ, характере обрядо-
вых одеяний или надобности использования тех или иных
музыкальных инструментов; и вопросы экономической
жизни страны, состояние и организации ремесел, повыше-
ние качества выпускаемой продукции.
Кроме официальных документов, активно создавалась
и документация цехового и частного порядка — записи,
сделанные главами торговых и ремесленных организаций,
цеховые уставы, условия найма работников. Цеховая до-
кументация включает в себя не только собственно доку-
менты, но и эпиграфический материал — надписи на сте-
лах, установленных местными (провинциальными, уезд-
ными) властями, касающиеся работ казенных мастерских
и важнейших для них историко-экономических событий,
например установки единых цен на рынке. Этот эпиграфи-
ческий материал позволяет существенно уточнить геогра-
фию конкретных ремесленно-производственных центров,
их место в общей системе хозяйствования страны, степень
контроля над ними со стороны центральных органов.
В отдельный класс письменных памятников справед-
ливо выделить и эпистолы — частную переписку между
деятелями культуры и лицами творческих профессий, в
которой они делились своими творческими планами, вы-
сказывали мнение по поводу увиденных ими произведений
искусства, обсуждали теоретические проблемы и излагали
собственные эстетические взгляды.
He менее важными для изучения истории китайского
искусства оказываются и классы естественнонаучной лите-
ратуры, из которых особый интерес представляют географи-
ческие описания («Дифан чжи»). Такие описания создава-
лись для всех отдельных административно-территориаль-
ных единиц Китая — провинций, округов, областей и уездов.
По содержанию они представляют собой пространный исто-
рико-географический обзор данной местности, в котором
присутствует описание ее климатических условий, природ-
ных достопримечательностей, сырьевых запасов, архитек-
турно-художественных памятников, ремесленно-производ-
ственных центров (вновь с акцентированием особенностей
местных технологических операций и приемов, характера и
качества выпускаемой продукции), a также рассказывается
об ее прославленных уроженцах, среди которых чаще всего
встречаются деятели культуры и лица творческих профес-
сий. Всего существует, по подсчетам старых китайских фи-
лологов, не менее 7000 такого типа сочинений, причем гео-
графические описания, созданные на протяжении XVI-
XIX вв., могут иметь объем 100 и более томов. Их авторами
были чаще всего известные среди современников литерато-
ры и ученые, которые брались за такой труд по заказу цен-
тральных или местных властей либо по личной инициативе
в знак своей любви к родным местам.
При изучении истории китайского искусства невозмож-
но обойтись без обращейия к такому достаточно специфи-
ческому классу китайских письменных памятников, как
словарно-энциклопедические издания, практика создания
которых возникла в период Борющихся царств. В них рас-
шифровываются и истолковываются значения иероглифов и
специальных терминов, в том числе прилагающихся к опре-
деленным категориям изделий, обозначающих инструмен-
ты, материалы, технологические процедуры. Объясняются
названия растений, животных, фантастических существ,
имена божественных персонажей и историко-легендарных
личностей. Предлагаемые в них трактовки нередко служат
опорным, a иногда и единственным, основанием для выяс-
нения семантики художественных образов и орнаменталь-
ных мотивов. В дальнейшем словарно-энциклопедические
издания превратились в многотомные труды, также содер-
жащие в себе информацию общекультурного, этнографиче-
ского и экономического плана. В них было принято вклю-
чать отрывки из всех остальных классов национальных пись-
менных памятников и иллюстрации.
И наконец, ближайшим родственником собственно ис-
кусства является художественная словесность, генетиче-
ски связанная с ним общностью мировоззренческих и эсте-
тических установок, тем, сюжетов и образной системы.
Глава 5
КИТАЙСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ
КАНОН
Глава 6
ОБРАЗНАЯ СИСТЕМА
КИТАЙСКОГО ИСКУССТВА
Глава 7
ИКОНОГРАФИЯ ПЕРСОНАЖЕЙ
ИСТОРИКО-ЛЕГЕНДАРНОГО
И БОЖЕСТВЕННЫХ ПАНТЕОНОВ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ
ОСНОВЫ
И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА
КИТАЙСКОГО
ИСКУССТВА
ГЛАВА
КИТАЙСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКИЙ
КАНОН
В данном разделе речь пойдет о культурно-идеологических
императивах, которые определяли как формальный аспект
и морфологические принципы произведений искусства (в са-
мом широком смысле этого термина), так и цивилизацион-
ные признаки отдельных художественных традиций: их
место в иерархии национальных духовных ценностей, роль
в системе государственности и способы функционирования
в обществе. Такие императивы, которые образуют художе-
ственно-эстетический канон китайского искусства, начали
складываться еще в русле древнейших религиозных и миро-
познавательных представлений, т. е. задолго до появления
собственно эстетической мысли. Изначально они касались
только ведущих на тот момент художественных традиций, a
именно — литературного творчества (собственно письмен-
ность, каллиграфия, художественная словесность, в первую
очередь поэзия), музыкального искусства (включая не толь-
ко собственно музицирование, но и танец и пение) и строи-
тельства. Поскольку в Китае нет тенденции к дифференциа-
ции национальной предметно-творческой деятельности и ее
подразделения на виды, аналогичных, например, выделяе-
мым в европейской теории искусства, эти императивы впо-
следствии приобрели универсальный характер. Кроме того,
именно они лежат в основании последующих эстетических
установок и концепций, разработанных уже в рамках фило-
софских школ. Поэтому рассмотрение китайского художе-
ственно-эстетического канона необходимо начать с анализа
древнейших воззрений на природу и функции художествен-
ного творчества.
ДРЕВНЕЙШИЕ
ВОЗЗРЕНИЯ
НА ПРЕДМЕТНО-
ТВОРЧЕСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Китайская культура освоила универсальные для наро-
дов мира представления о божественном происхождении
национального художественного творчества, включая идею
вдохновения как чудесного наития, и об особых духовных
свойствах художника-творца, в том числе наделения его
особыми провидческими способностями. Все ведущие худо-
жественные традиции полагались в ней, о чем неоднократно
316
сообщается в письменных текстах, либо даром, ниспослан-
ным людям свыше, либо изобретением божеств и культур-
ных героев: создание ими первых песенно-поэтических про-
изведений, музыкальных инструментов, предметов декора-
тивно-прикладного искусства и т. д. Но, отражая и укрепляя
общественный авторитет данных художественных традиций,
подобные мифолого-религиозные взгляды не оказали опре-
деляющего воздействия ни на древнейшие художественные
воззрения, ни на будущую эстетическую мысль.
Древнекитайская культура, как это отмечалось при ха-
рактеристике духовной жизни Шан-Инь, демонстрирует
удивительную для Древнего мира аморфность теистическо-
го начала, что выражается в отсутствии самостоятельного
жреческого сословия и пребывании даже официальных ве-
рований и культов на уровне развития, типичном для при-
митивных религиозных форм. Первостепенное значение, в
аспекте понимания особенностей китайских художествен-
ных воззрений, приобретает и факт отсутствия в древней-
ших китайских религиозных и последующих мифологи-
ческих представлениях идеи космического творения как
результата творческих усилий определенного божества-
демиурга. Поэтому в культуре Китая в отличие от кульутр
многих других стран так и не появились взгляды о косми-
ческой природе художественного творчества в том виде, в
каком они присутствуют, например, в Японии, где порож-
дение и функционирование песенно-поэтических произве-
дений приравнивается к возникновению и бытию всего
живого, порожденного Небом и Землей в лице божеств
Сусаноо и Ситатэру-химэ.
Есть веские основания утверждать, о чем уже тоже
бегло говорилось ранее, что подлинно структурообразую-
щую роль в духовной жизни Древнего Китая играли не
верования и культы, a миропознавательные представле-
ния, которые находят свое воплощение в ритуальной дея-
тельности. Исключение составляет культура южного цар-
ства Чу, исходно отмеченная, судя по всему, развитым
имагинативным началом и яркими, сюжетно организован-
ными мифологическими представлениями. Но вплоть до
определенного исторического момента они не выходили за
пределы местного географического ареала. Что касается
культурного субстрата центральных регионов Китая, то,
начиная по меньшей мере с иньской эпохи, он отмечен
следующими ментальными константами: стихийным на-
турализмом, т. е. восприятием окружающей действитель-
ности как совокупности естественных процессов и явле-
ний; ритуалистичностью мировосприятия, т. е. убежден-
ностью в единстве и предельной упорядоченности всех
процессов и явлений, составляющих социокосмический
универсум, с их определением как «небесный («вселен-
ский») церемониал» (тяньли); антропоцентризмом — ве-
рой в зависимость социо-космического порядка от внутрен-
ного облика и поступков людей, от конкретных личностей
(в рангах правителя и лиц из его ближайшего окружения)
до всего населения страны. Исходя из этих констант, вся
116 Границы, отмеченные
Пятью священными пиками,
точно совпадают с крайними
точками территории поздне-
иньского государства. A горы
Суншань находятся в непо-
средственной близости от го-
родища Эрлитоу и раннеинь-
ской столицы, т. е. этот мас-
сив был главной природной
доминантой столичного реги-
она древнейших китайских
государственных образований.
человеческая деятельность наделялась, с однои стороны,
космологической семантикой (ее уподобление природным
процессам и явлениям), a с другой — откровенным магико-
религиозным смыслом, сопоставимым с симпатической
магией: способностью так или иначе влиять на состояние
миропорядка. Подобное отношение к человеку и человече-
ской активности как раз и образует собственно религиоз-
ное начало китайской культуры и идейную платформу ме-
стной ритуальной деятельности. При этом под «ритуаль-
ной деятельностью», о чем неопровержимо свидетельствует
употребление единого категориального термина — ли, по-
нимались не только и не столько ритуалы (прежде всего
жертвоприношения) и обряды как таковые, но и придвор-
ное этико-церемониальное уложение, a также любые уп-
равленческие и интеллектуально-творческие занятия, не-
обходимые для функционирования государственности.
В качестве универсальной классификационной схемы,
способной унифицировать различные сферы человеческой
активности с их подчинением космолого-религиозным рег-
ламентациям, выступала пятичленная космологическая
модель, в которой мировое пространство распределялось по
пяти зонам. Четыре из них — Восток, Юг, Запад и Се-
вер — соответствуют четырем сторонам света. Пятая, обо-
значаемая как Центр (Чжун), ассоциируется с центром
мира. Главными временными координатами в разбираемой
модели служили времена года, в китайской терминологии
четыре сезона (сы ши) — весна (Восток), лето (Юг), осень
(Запад) и зима (Север). Для Центра выделялся (но соблюда-
емый исключительно в официальном обрядовом календар-
ном цикле) специальный временной промежуток, прихо-
дившийся, по лунному календарю, на вторую половину
июля — начало августа. Принципиально важно, что дан-
ная космологическая модель отнюдь не являлась порожде-
нием абстрактно-теоретических построений, как это неред-
ко видится на материале ее философских изложений и
трактовок. Ее отдельные элементы угадываются во многих
культурно-художественных реалиях (четырехчленные ор-
наментальные композиции, семиотические закономерности
жилищ и поселений) неолитических культур бассейна Ху-
анхэ. A свой окончательный вид она приобрела в иньскую
эпоху, предопределив в том числе особенности композиции
царских усыпальниц. Более того, все пять пространствен-
ных зон исходно налагались на реальное географическое
пространство, будучи обозначенными пятью горными мас-
сивами — Пятъю священными пиками (у юэ). Это горы
Суншань («Наивысочайшая гора», Хэнань) — для Центра;
горы Тайшань («Великая гора», Шаньдун) — для Востока;
горы Хуашанъ («Цветущая гора», Шэньси, рядом с Сиа-
нем); горы Хэншань («Гора-опора», Хунань) — для Юга;
горы Хэншань («Гора-балка», «Недвижная гора», Шань-
си) — для Севера116.
Каждая пространственно-временная зона наделяется
самостоятельным смысловым значением и набором симво-
лических обозначений, которые со всей очевидностью про-
318
истекают как из универсальнои символики частеи света,
так и из естественно-географических и историко-культур-
ных реалий иньского времени. Под Центром понимается
сакрально-политический фокус мирового пространства,
персонифицированный правителем и соотносящийся со сто-
лицей. Восточная зона связывается с местом восхода солн-
ца и с весной, что приводит к ее ассоциациям с рождением
новой жизни. Юг, наряду с Центром, является сакральной
пространственной зоной, что, видимо, было обусловлено
иньскими солярными верованиями — поклонением зенит-
ному солнцу117. Запад, что тоже отвечает универсальным
представлениям об этой части света (место захода солнца),
осмыслялся в Китае в качестве наиболее губительной для
человека пространственной зоны, где царят хаос и враж-
дебные по отношению к нему природные стихии. Кроме
того, он ассоциируется не только с гибелью всего живого,
но и с насильственной смертью и военной силой — у, под
которой понимаются, кроме собственно боевых действий,
любые насильственные акции118. Северная пространственно-
временная зона имеет бинарную символику. С одной сторо-
ны, она, как и Запад, ассоциируется со смертью (зима) и
природным хаосом, a с другой — с сокровенным и энигма-
тическим. Такое ее осмысление обусловлено естественно-
хозяйственными реалиями земледельческого народа: зима —
время года, коглд в земле таятся зерна, готовящиеся дать
новые ростки. Так как понятия «сокровенное», «таинствен-
ное» обычно включают в себя идею их постижения, то для
Севера установились прочные ассоциации с мудростью,
знанием, ученостью и образованием.
Для обозначения и символической передачи простран-
ственно-временных зон использовался внушительный на-
бор знаковых рядов, включающих цветовую символику,
числовую, натурфилософскую (природные сущности и так
называемые первоэлементы) и астральную. Данная модель
реализовывалась, во-первых, в собственно ритуальной дея-
тельности, концентрирующейся вокруг сезонных обрядов.
Параллельно в Китае утвердилась пятерица божеств — по-
велителей частей света (Пять императоров — Уди), в кото-
рую входят тот же Желтый император, но уже в его ипо-
стаси «владыка Центра»; Сине-зеленый император (Цин-
ди, о значениях колористического термина цин см. далее) —
владыка Востока; Огненный (Красный) император (Янъ-ди,
Чи-ди) — владыка Юга; Белый император (Бай-ди) — вла-
дыка Запада; и Черный император (Хэй-ди) — владыка Се-
вера. Когда именно возникла эта пятерица, сказать трудно.
Очевидно лишь, что она была создана искусственно, так как
в нее вошли различные по своему происхождению персона-
жи. Так, Цин-ди отождествляется с архаическим правите-
лем-божеством Фу-си. Огненный император, по единодуш-
ному мнению исследователей, исходно являлся древним
богом солнца и огня. Белый император ведет свое проис-
хождение от образа еще одного архаического государя
божественного происхождения Шао-хао. A Черный импе-
ратор отождествляется с совершенномудрым государем
117 Известно, что китай-
ские государи — древние цари-
ваны и последующие импера-
торы — обязательно во время
исполнения любых офици-
альных религиозных и свет-
ских церемоний поворачива-
лись лицом на юг. Отсюда же
проистекает общепринятая для
населения Китая символиче-
ская пространственная ориен-
тация — лицом на юг, в ре-
зультате чего восток и запад
оказываются находящимися
не справа и слева от Эго, как
это принято в Европе, a на-
оборот. И наконец, располо-
жение по оси «север-юг» с
вынесением главного входа
(городских ворот) строго на юг
типично для всех разновид-
ностей китайских архитектур-
ных ансамблей, начиная, как
мы помним, с их древнейших
образцов.
118 Причины связи запада
с войной и насилием становят-
ся вполне понятными, если
вспомнить, что именно к за-
паду от Шан-Инь и Чжоу
(в предгорье Тибето-Цинхай-
ского нагорья) обитали наи-
более воинственные и враж-
дебно настроенные к китай-
цам народности, с которыми
оба древнекитайских государ-
ства вели войны.
319
119 Кроме того, пятичлен-
ная модель совместно с вер-
тикально ориентированной
космологической схемой пре-
допределила геополитические
представления китайцев, на-
чиная с самоназваний соб-
ственной государственности.
Так, Центр постепенно пре-
вратился в пространственную
категорию, через которую оп-
ределялась уже вся ойкумена.
Так возникло упоминавшееся
выше самоназвание Китая —
Центральное (Срединное) го-
сударство {Чжунго), которое,
заметим, входит и в ориги-
нальное название КНР: Чжун
хуа жэньминь гун хэ го (Цен-
тральное/Срединное процве-
тающее народное коммунисти-
ческое государство). Второе, и
даже еще более распространен-
ное до 1911 г., чем Чжунго,
самоназвание Китая — Под-
небесная (Тянься) — опирает-
ся на вертикально ориенти-
рованную космологическую
модель. По китайским пред-
ставлениям, небо имеет фор-
му круга, a земля — квадра-
та. Ta часть земного квадрата,
на которую падает проекция
небесного круга и есть Цент-
ральное государство. Остав-
шиеся же вне этой проекции
углы земного квадрата есть
«варварские» земли, на кото-
рые не распространяется покро-
вительство Неба, a потому они
лишены каких-либо признаков
«истинной цивилизации».
Чжуань-сюй. Тем не менее при Хань и в эпоху Шести
династий культ пяти божеств — повелителей частей света
входил в государственные верования: им приносились спе-
циальные жертвоприношения, сопровождаемые сложенны-
ми в их честь песнопениями; тексты некоторых из них
сохранились.
Во-вторых, пятичленная модель предопределила офи-
циальное этикетно-ритуальное уложение, согласно кото-
рому правителю в каждый конкретный сезон и месяц по-
лагалось проживать в строго определенных апартамен-
тах, носить одеяния и украшения нужного цвета, есть
соответствующую пищу, приносить в жертву соответствую-
щие органы животных и т. д. К этому уложению восходят
типологии «живых тварей» («безволосые» — человек,
Центр; «чешуйчатые» — насекомые, Восток; «пернатые» —
птицы, Юг; «волосатые» — звери, Запад; «панцирные» —
черепаха и пресмыкающиеся, Север); сельскохозяйствен-
ных культур (Пять злаков) и домашних животных, исход-
но служивших календарной пищей; запахов и вкусовых
ощущений. Все они легли в основание традиционных ки-
тайских естественно-познавательных дисциплин, теорий
хозяйствования, экономических концепций медицины.
Такие же по своей семантике типологии (характеров,
благих и дурных качеств) составляют сущностное ядро ки-
тайских гуманитарных знаний — философии, общественно-
политической мысли, историологии119.
Космологическую семантику обнаруживает также уст-
ройство высшего управленческого аппарата (в идеале — из
пяти основных ведомств) и аристократического сословия
(пять аристократических титулов) древнего и имперского
Китая, устройство вооруженных сил страны (столичный
гарнизон и четыре основных воинских соединения, дисло-
цирующихся по четырем частям света от столицы), a так-
же законодательная деятельность и уголовное право. Та-
ким образом, вся жизнедеятельность китайцев действитель-
но представляла собой нескончаемый «церемониал», каждое
действие и даже малейшее движение которого жестко под-
чинялись религиозно-космологическим регламентациям.
Что касается непосредственно художественного творче-
ства (точнее, предметно-творческой деятельности), то о ха-
рактере его восприятия в Древнем Китае мы можем судить
прежде всего по многочисленным литературным описани-
ям местных музыкальных и песенных произведений. В пись-
менных источниках утверждается, что, во-первых, испол-
нение музыкально-песенных произведений в обязательном
порядке входило в сценарий проведения практически всех
церемоний религиозного, полурелигиозного-полусветского
и светского характера. И, во-вторых, создание и исполне-
ние таких произведений есть главный способ демонстра-
ции правителем своего сакрального могущества (благой
силы-дэ) и реализации его функций духовного лидера стра-
ны (оказание мироустроительного воздействия на социо-
космический универсум и общение с высшими силами).
Bot почему в культуре Центрального Китая неизбежно дол-
320
жны были установиться нерасторжимые связи художествен-
ного творчества с ритуальной деятельностью и с институ-
том верховной власти, a само оно превратилось в насущно
необходимый элемент национальной государственности.
Указанные функции художественного творчества оста-
лись в силе и в последующие исторические эпохи. Их кон-
кретным воплощением является практика обязательных
занятий литературой (каллиграфия, поэзия) и музыкой
(игра на музыкальных инструментах, сочинение музыкаль-
ных произведений) лично монархами и высшими прави-
тельственными чинами120.
Вместе с тем столь прочная связь художественного твор-
чества с государственностью и ритуальной деятельностью
послужила, как это ни покажется странным, препятстви-
ем для развития его авторского и индивидуального эмоцио-
нального начала. Все имеющиеся факты указывают на то,
что «художественный компонент» древнекитайского риту-
ала сводился к коллективному музицированию, пению и
танцу (пляске), a значит, исполняемые в нем культовые
произведения должны были быть максимально стандарти-
зированными и лишенными малейших признаков индиви-
дуализированной творческой деятельности. Произведения,
приписываемые божествам, легендарным и историческим
личностям, лишь условно могут рассматриваться в каче-
стве авторскиг, Однако и они, как это явствует из приня-
тых в китайской гуманитарии характеристик, предназна-
чались для исполнения религиозно-общественных функ-
ций, a вовсе не для выражения личностных мыслей и
переживаний их создателей.
Художественные воззрения, вызревшие в древнейших
слоях китайской культуры, были с приблизительно равной
степенью активности усвоены последующими мифологи-
ческими представлениями, натурфилософией и конфуци-
анством, приобретя в них, правда, различные трактовки.
120 В историологических
сочинениях ханьской эпохи и
эпохи Шести династий при-
водится немало исторических
эпизодов, когда монархи и
сановники выступали в роли
поэтов, певцов, музыкантов и
даже танцоров во время спе-
циальных придворных пир-
шественных церемоний и в
состоянии опьянения-экстаза.
Определение характера китайской мифологии, точнее,
тех весьма немногочисленных литературных сюжетов, ко-
торые и считаются записями мифологических повествова-
ний, до сих nop относится к числу наиболее остро дискути-
руемых в науке вопросов. В письменных памятниках чжоу-
ской эпохи специальный жанр, который можно было бы
определить как миф, вообще отсутствует. Нет ни одного
текста, в котором бы воспроизводились мифологические
повествования в сколько-нибудь целостном виде. Вместо
этого мы сталкиваемся лишь с разрозненными упоминани-
ями о тех или иных эпизодах или персонажах, которые,
кроме того, содержатся в сочинениях, относящихся к совер-
шенно различным классам и жанрам и разным региональ-
ным традициям и философским школам. Впервые в относи-
тельно стройном и ясном виде сюжеты, которые принима-
ются в науке за собственно мифологические, излагаются в
текстах ханьской эпохи. Однако их целостность и внят-
ность оказываются обманчивыми. Создается впечатление,
21 История искусства Китая
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ТВОРЧЕСТВО И
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
321
121 O Tpex великих перво-
предках неоднократно упоми-
нается еще в чжоуских сочи-
нениях, однако их список су-
щественно варьировался на
протяжении и чжоуской, и
ханьской эпохи. Например,
в некоторых случаях вместо
Нюй-ва называется Желтый
император. В ханьских тек-
стах фигурируют и принци-
пиально иные трактовки об-
разов Трех великих перво-
предков как Владыки Неба
(Тянъ-хуан), Владыки Земли
(Ди-хуан) и Владыки людей
(Жэнъ-хуан), которые якобы
были верховными божествами
в архаические времена, пове-
левая соответственно небес-
ным миром, всеми живыми
существами и человеческим
обществом. Подобные разно-
чтения лучше всего свидетель-
ствуют об искусственном про-
исхождении этой триады.
что на самом деле перед нами не записи подлинных мифо-
логических представлений, a повествования, искусственно
созданные доханьскими и ханьскими авторами, на основа-
нии неких древних верований и культов, бытовавших, воз-
можно, в отдельных регионах и в простонародной среде.
Трудно не согласиться с точкой зрения, высказываемой в
ряде современных научных работ, что процесс «создания
мифов» начался в Китае в позднечжоуский период. Он был
спровоцирован историко-политической ситуацией. После
падения династии Шан-Инь, a затем и деградации чжоуско-
го правящего дома, вера в верховенство и всемогущество их
обожествленных предков оказалась несостоятельной. Одно-
временно удельные князья для обоснования своих полити-
ческих амбиций нуждались в таких верованиях и боже-
ственных персонажах, которые бы находились вне прямых
корреляций с иньским и чжоуским культом предков и носи-
ли как можно более универсальный характер. Для этого
потребовалось, с одной стороны, создание мифологизиро-
ванной истории национальной древности с введением в
нее образов предельно архаических правителей, к кото-
рым могла быть возведена родословная любого правящего
дома. И с другой стороны, повышение авторитета олицетво-
ряющих природные явления божеств, которые ранее зани-
мали крайне незначительное место в официальных религи-
озных представлениях. Показательно, что определяющее
положение в системе китайских мифов в том виде, в каком
она вырисовывается на материале ханьских текстов, за-
креплено именно за героическими мифами, повествующими
о легендарных правителях древности и культурных героях.
В дополнение к уже знакомым нам пяти совершенномуд-
рым государям (Желтый император и его потомки), в них
рассказывается о еще более архаических божествах-прави-
телях, называемых Три великих первопредка (Сань хуан),
под которыми понимаются богиня Нюй-ва, Фу-си и Шэнь-
нун (Божественный земледелец, подробно см. далее)121.
В повествованиях о Трех великих первопредках, в пер-
вую очередь о Нюй-ва, присутствуют смысловые элементы,
связанные с космогоническими, антропогенными, этноген-
ными и социогенными представлениями. Однако в само-
стоятельном виде мифологический сюжет подлинно космо-
гонического характера впервые излагается только в тексте
III в. н. э., который к тому же дошел до нас в его извлече-
ниях, содержащихся в позднейших энциклопедических
сводах. Главным действующим лицом этого сюжета явля-
ется персонаж, именуемый Пань-гу (Пань-ху) — сочета-
ние, которое может быть понято и переведено как «Свер-
нувшаяся [в кольцо] древность». В нем рассказывается о
пребывании мира в состоянии космического хаоса и о са-
мозарождении в нем космического яйца с человеческим
существом — Пань-гу — внутри. По прошествии 18 000 лет
исходная масса яйца разделилась на темную (тяжелую) и
светлую (легкую) субстанции, образовавшие земную и не-
бесную твердь. В течение последующих 18 000 лет рост
Пань-гу ежедневно увеличивался, и соответственно возрас-
322
тал промежуток между земной и небесной твердью, пока
небо и земля не оказались на нынешнем расстоянии друг
от друга — 90 000 ли (т. е. около 30 000 км). Тогда Пань-
гу разбил яйцо и вышел наружу. В еще более поздних
сочинениях сообщается о смерти Пань-гу и о трансформа-
ции его останков в реалии и феномены окружающего мира.
Говорится, что дыхание Пань-гу превратилось в ветер и
облака, его голос — в гром, глаза — в солнце и луну, четы-
ре конечности и пять пальцев рук — в четыре части света
и пять священных пиков, кровь — в реки, мускулы и
вены — в слои земли, плоть — в почву, волосы и борода —
в созвездия, кожный покров и волосы на теле — в расте-
ния и деревья, зубы и кости — в металлы и камни, пот —
в дождь. В научной литературе неоднократно высказыва-
лись предположения о том, что данный сюжет восходит к
архаическим слоям китайской культуры и имел место уже
в неолитическом Китае, вызвав к жизни особый тип роспи-
сей на западно-яншаоской керамике (орнамент, воспроиз-
водящий стилизованную фигуру человека). Однако все ар-
гументы, приводимые в пользу этой версии, опираются
исключительно на религиозный опыт других народов. Зато
очевидны совпадения мифа о Пань-гу с местными натур-
философскими космогоническими идеями, a также с индо-
европейскими мифолого-космологическими представлени-
ями (мотивы «іюсмического яйца», «космического челове-
ка» и общая концепция космогенеза как акта поляризации
исходного космического хаоса). Кроме того, он обнаружи-
вает определенную содержательную и структурную бли-
зость к мифу оХаосехуньдунь, представленному в древнем
даосском философском трактате «Чжуан-цзы», который из-
лагается тоже в сильно редуцированном виде в контексте
притчи на тему пагубности вмешательства людей в есте-
ственный порядок вещей. Хаос называется здесь Владыкой
Центра, имеющим яйцеобразную внешность, и рассказы-
вается о приходе к нему в гости Владык Севера и Юга.
В благодарность за оказанное им гостеприимство они ре-
шили сделать Хаосу семь отверстий (глаза, нос, рот и уши),
как y других живых существ. Но едва они завершили (по
отверстию в день) свою работу, Хаос умер. Подавляющее
болынинство исследователей склоняются к точке зрения,
что миф о Пань-гу возник в китайской культуре относи-
тельно поздно в результате попытки перевода натурфило-
софских идей в религиозно-мифологическую плоскость.
Вполне возможно также, что в данном случае сказалось
влияние верований южноазиатских народностей и тех ин-
доевропейских повествований на космогонические темы, с
которыми китайцы могли познакомиться благодаря индо-
буддийским сочинениям. Тем не менее впоследствии миф
о Пань-гу стал восприниматься в качестве исконно наци-
онального сюжета и приобрел немалую популярность в
светском изобразительном искусстве. Пань-гу обычно ри-
суется в облике антропоморфного существа с зооморфны-
ми вкраплениями (рога), как бы высекающим вселенную
из каменной глыбы с помощью молотка и тесла. Кроме
122 Сразу же обращает на
себя внимание неразработан-
ность в Китае уранических и
аграрных мифов, т. е. тех пред-
ставлений, которые были свя-
заны с культом Неба и Зем-
ли. Единственным объясне-
нием этому может служить
официальный статус данных
культов, персонифицирован-
ных Небесным Императором
и Владычицей-Землей. Полу-
чается, что в развернутых ми-
фологических повествованиях
были задействованы только те
древние персонажи и сюже-
ты, которые находились вне
государственных верований.
Указанная закономерность
подтверждается культурно-
религиозными реалиями хань-
ской эпохи. Главные действу-
ющие лица мифологических
сюжетов, за очень редким ис-
ключением, не были объекта-
ми культового поклонения,
тогда как образы централь-
ных персонажей государствен-
ного пантеона так и остались
в аморфном состоянии.
123 Поскольку в древнеки-
тайском языке слова «день»
и ♦солнце» записываются од-
ним и тем же иероглифом
(жи), не исключено, что на
самом деле в этом сюжете речь
идет о порождении не астраль-
ных объектов как таковых, a
о солнце-днях, т. е. об уста-
новлении традиции летоис-
числения, причем именно в
иньском ее варианте.
124 Эта деталь чуского со-
лярного колесничного мифа
делает его типологически сход-
ным с индоевропейскими со-
лярными представлениями, в
том числе с древнеиндийским
культом братьев-близнецов
Ашвинов.
того, ссылками на этот миф нередко объясняются причины
авторитета в Китае тех или иных природных материалов.
Образы перечисленных персонажей занимают весьма
значительное место в китайском изобразительном искусст-
ве, особенно на начальном этапе его развития. И все же
значительно более существенное влияние на него и всю мест-
ную художественную культуру в целом оказали астраль-
ные, в первую очередь солярные и лунарные, мифы122. Все
они тоже излагаются уже в ханьских текстах и явно вклю-
чают в себя несколько исходно самостоятельных сюжетов.
Для солярных представлений такими сюжетами явля-
ются: во-первых, миф о Солярном древе (Фусан, «Солнеч-
ная шелковица») — гигантском растении, растущем на
крайнем востоке, на берегу волшебного водоема с кипящей
водой (Тангу, «Кипящий водоем»; Янгу, «Солнечный водо-
ем»). Этот сюжет включает в себя представления о множе-
ственности (9 или 10) солнц и их дриадных воплощени-
ях — в виде цветов или плодов на ветвях Солнечной шел-
ковицы. Он восходит, скорее всего, к иньским солярным
верованиям, о чем свидетельствуют особая пиктограмма
(ветка дерева с несколькими кружками) на «гадательных
костях», конфигурация древнейших графических форм
иероглифа «солнце» (круг с точкой посередине) и иньские
календарные реалии (деление месяца на три декады по
десять дней/солнц в каждой). Кроме того, известно, что
иньцы поклонялись шелковице как тотемному дереву. Впо-
следствии образ восточного Солярного древа дополнился
образом западного мифологического растения — Древа Жо
(Жому)у на котором солнца в виде цветов или плодов «от-
дыхают» после завершения своего дневного пути.
Во-вторых, миф о рождении солнц и Матери солнц —
богине Си-хэ. В нем повествуется, что Си-хэ, называемая
супругой еще одного архаического божества-правителя —
Ди-ку (предположительно первопредок иньцев), порождает
или однажды породила десять солнц123.
В-третьих, колесничный солярный миф, повествующий
о ежедневном путешествии солнца (одного из солнц, обитаю-
щих на ветвях Солнечной шелковицы) на небесной колес-
нице, влекомой шестью драконами-чы (особая разновид-
ность дракономорфных существ, подробно см. далее) и уп-
равляемой все той же богиней Си-хэ. Есть немало оснований
предполагать, что данный сюжет в вышеизложенном вари-
анте возник из южных (чуских) солярных представлений:
культ Владыки Востока {Дун-цзюнь), который мыслился
воплощением солнца и возницей солярной колесницы, но с
упряжью из двух драконов124.
Четвертый сюжет — миф о Стрелке (И)> в котором рас-
сказывается о некогда (во времена императоров Яо или
Шуня) случившейся катастрофе. Все десять солнц разом
появились на небе, грозя уничтожить своим пылающим
зноем все живое. Мир спас небесный Стрелок, посланный
богами: он застрелил из лука девять солнц из десяти, и
оставшееся в живых солнце никогда уже не осмеливалось
как-то нарушить должный космический порядок. В этом
324
т125
сюжете солнца рисуются в зооморфном облике — в виде
воронов. Этот сюжет имеет, видимо, самое позднее из всех
происхождение. Образ самого Стрелка восходит, вероятнее
всего, к образу божественного Охотника как божества и
культурного героя чжоусцев. A эпизод астральной охоты и
«вороньи» мотивы делают данное повествование типологи-
чески сходным с аналогичными по содержанию сюжетами,
присущими верованиям народов Северо-Восточной Азии и
Северной Америки.
Лунарные мифы состоят из двух основных сюжетов,
которые концентрируются вокруг образа богини Чан-э.
Впервом из них она выступает в роли матери 12 лун
сюжет, составляющий пару с сюжетом рождения солнц1
Второй сюжет является как бы продолжением мифа о Стрел-
ке. Чан-э фигурирует здесь в качестве супруги Стрелка,
лишенной вместе со своим мужем (кара за убийство солнц)
статуса небожителя и права на вечную жизнь. Панически
боясь старости (утраты своей красоты) и смерти, Чан-э
уговаривает Стрелка добыть эликсир бессмертия. Когда он,
несмотря на все трудности, исполняет ее просьбу, Чан-э
решает, что привезенного им эликсира недостаточно для
двоих и тайком выпивает его весь сама. Она обретает бес-
смертие, но в наказание за свое вероломство обречена на
вечное существование в одиночестве — на луне.
Помимо сслярных и лунарных мифов, в конце Чжоу и
при Хань начали складываться (или записываться) соб-
ственно астральные сюжеты, т. е. повествования о персо-
нажах, персонифицирующих звезды и созвездия. Самым
известным из них является миф о Ткачихв и Пастпухе,
который впоследствии стал бытовать в Китае в различных
версиях, воспроизводимых и в разных литературных жан-
рах — собственно мифологических повествованиях, леген-
дах, сказках. В любых версиях главными действующими
лицами выступают небесная Ткачиха (Чжи-нюй), олице-
творение Веги, и земной юноша Пастпух (Цянь-ню), олице-
творение Альтаира. Она — одна из семи сестер-небожитель-
ниц, ткущих небесный покров. Он — бедный сирота-батрак.
Став волею случая женой Пастуха, Ткачиха предпочла
скромные радости супружества и материнства пребыванию
в Небесном дворце. Однако их семейное счастье продолжа-
лось недолго. По приказанию богов Ткачиха была возвра-
щена на небо. Пастух, бросившийся вслед за любимой же-
ной, тоже смог подняться в небесные дали, но они оказа-
лись по разные стороны Млечного пути — на разных берегах
Небесной реки. Их горе было настолько велико, что вызва-
ло сочувствие богов, и им разрешили встречаться один раз
в году — в седьмой день седьмого месяца (один из тради-
ционных китайских календарных праздников). В этот день,
как гласит легенда, со всего света к Небесной реке слета-
ются сороки и образуют через нее живой мост, на котором
и встречаются Ткачиха и Пастух.
Изложенные мифологические сюжеты, начиная с пове-
ствования о Трех первопредках, во-первых, укрепили веру в
божественное происхождение художественного творчества.
125 В последнее время в
научной литературе господ-
ствует точка зрения, что Си-хэ
и Чан-э действительно некогда
составляли пару божеств, оли-
цетворяя соответственно солн-
це и луну, и что их образы
восходят к образам двух инь-
ских богинь — Восточной ма-
тушки (Дун-му) и Западной
матушки (Си-му), имена кото-
рых встречаются, но без рас-
шифровки их внешнего обли-
ка и функций — в «надписях
на гадательных костях».
325
Разработка образов архаических правителей-божеств по-
зволила создать четкое «генеалогическое древо» художе-
ственных традиций с доказательством их предельно архаи-
ческого и божественного происхождения, что еще больше
усилило их ауру сакральности. Во-вторых, они стали поис-
тине неисчерпаемым источником сюжетов и мотивов для
национального изобразительного искусства. В-третьих, они
способствовали систематизации древних религиозных об-
разов и символов и их превращению в собственно художе-
ственную образность.
Иные позиции по отношению к художественному твор-
честву заняло конфуцианство, которое изначально было
сосредоточено на вопросах его сущности и функций в каче-
стве элемента общественного устройства.
КОНФУЦИАНСКИЕ
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ
УСТАНОВКИ
126 Разработка этой новой
редакции древнего конфуциан-
ства традиционно приписы-
вается выдающемуся ханьско-
му философу Дун Чжуншу
(1797-104? гг. до н. э.), воз-
главлявшему одно из двух ма-
гистральных направлений, на
которые в то время подразде-
лялась конфуцианская теоре-
тическая мысль — «Новую
словесность». Его представи-
тели ратовали за необходи-
мость творческого подхода к
наследию древних мудрецов
и интерпретации их воззрений
с учетом новых историко-поли-
тических реалий и актуальных
для общества задач.
127 Хотя работа по моди-
фикации классического кон-
фуцианства началась еще в
VIII в., основоположником
неоконфуцианства считается
Чжу Си (1130-1200). В даль-
нейшем предложенная им трак-
товка конфуцианства заняла
лидирующее положение как
в самом Китае, так и за его
пределами, вследствие чего
как неоконфуцианство может
определяться и общая совокуп-
ность конфуцианских и «кон-
фуцианизированных» учений,
созданных в Китае и сопре-
дельных с ним странах с XI
по XX в.
128 Напомним, что термин
«конфуцианство» и имя «Кон-
фуций» являются изобрете-
ниями европейской науки,
второе из них — латинизи-
рованная форма оригиналь-
ного сочетания Кун Фу-цзы
(или — Кун-цзы), «Учитель
Конфуцианство, согласно принятым в современной на-
уке квалификациям, представляет собой своего рода со-
циально-этическую антропологию, в центре внимания ко-
торой находятся проблемы природы и бытия человека как
члена социума и управления государством. История кон-
фуцианства делится на несколько основных этапов: 1) древ-
нее конфуцианство, представленное протофилософскими
сочинениями («Пятиканоние», У цзин) и авторскими трак-
татами позднечжоуских мыслителей; 2) классическое кон-
фуцианство, оформившееся в ханьскую эпоху в результате
синтеза исходно конфуцианских идей, и идей, принадле-
жавших другим позднечжоуским школам, что и способство-
вало превращению этого учения в официальную идеологи-
ческую систему китайского имперского общества126; 3) нео-
конфуцианство, основу которого составляет очередная
редакция конфуцианского учения, заключающаяся в даль-
нейшей разработке его онтологической и гносеологиче-
ской проблематики посредством привлечения на этот раз
буддийских концепций127. Несмотря на перечисленные
изменения и новации, теоретический фундамент конфу-
цианства составляют доктринальные положения, принад-
лежащие чжоуским мыслителям.
При обращении к конфуцианству следует также иметь
в виду, что в китайской традиции оно никогда не возводи-
лось к теоретическому наследию одного-единственного
мыслителя. 06 этом свидетельствует уже само по себе его
оригинальное терминологическое обозначение — Жу цзя,
без включения в него имени Конфуция128. Вплоть до тан-
ской эпохи Конфуций стандартно упоминается в литера-
турных и философских сочинениях совместно с младшим
братом чжоуского У-вана — Чжоуским князем (Чжоу-гун),
для чего существовала специальная лексическая формула:
чжоу куну «Чжоуский князь и Учитель Кун». И оба они
называются «двумя великими мудрецами древности»129.
И наконец, сохранились высказывания Конфуция, в кото-
рых он утверждает, что не является творцом чего-то hobo-
to, a только изучает и систематизирует опыт прошлого.
Поэтому правомерно говорить, что конфуцианство есть по-
326
рождение и воплощение всего духовного опыта предше-
ствующей национальной цивилизации.
Уже в конце чжоуской эпохи наметилась тенденция к
выходу конфуцианства за пределы собственно философ-
ской школы и превращению его в культурно-политическое
течение, которое в полном смысле этого слова пронизывало
все социальные уровни и сферы жизнедеятельности китай-
ского имперского общества. Качественное различие между
конфуцианством как философской школой и культурно-
политическим течением вновь подчеркивается их ориги-
нальными терминологическими обозначениями — соответ-
ственно Школа (цзя) и Учение (цзяо). Начиная с ханьской
эпохи существование и эволюция конфуцианства обеспе-
чивались интеллектуальными усилиями не только отдель-
ных мыслителей, но и всех образованных людей, взгляды
которых излагались в произведениях любых видов и жан-
ров — от собственно философских трактатов до поэтиче-
ских произведений. Все это повышало действенность уста-
новок и регламентаций конфуцианства и максимально рас-
ширяло границы влияния.
Есть все основания говорить, что изначально в конфу-
цианстве не было и доли явного религиозного элемента.
Однако постепенно оно стало приобретать функциональ-
ные черты религиозной системы, заключающиеся в ста-
новлении кулѵга Конфуция и его учеников по модели куль-
тов божественных персонажей, что, в свою очередь, сопро-
вождалось сложением апокрифов о них, оформлением
литургии, культового зодчества и изобразительного искус-
ства. Этот процесс достиг своего апогея при Цин, когда
конфуцианство почти полностью уподобилось религиозной
системе, частично ассимилировавшись с государственны-
ми и простонародными верованиями.
Общепризнано, что древнее конфуцианство не содер-
жит в себе самостоятельных и концептуально оформлен-
ных эстетических концепций. Тем не менее его предста-
вители настойчиво обращались к проблемам природы и
функций творческой деятельности, по-прежнему уделяя
первоочередное внимание музыкальным видам искусства и
поэзии. Рассуждения на данную тему содержатся и в «За-
писях о ритуалах» («Ли цзи») — каноническом памятни-
ке, входящем в состав «Пятиканония»; и в «Рассуждениях
и изречениях [Конфуция]» («Лунъ юй») — единственном
сочинении, запечатлевшем идеи Учителя в виде его выска-
зываний; и в трактатах ведущих конфуцианских мыслите-
лей следующего поколения — «Мэн-цзы» и «Сюнъ-цзы»,
принадлежащих соответственно философам Мэн Кэ (372?-
289? гг. до н. э.) и Сюнъ Куану (313?-238 гг. до н. э.); и во
многих других памятниках конфуцианского круга. Особое
значение для установления конфуцианских взглядов на
художественное творчество приобретает антология «Канон
поэзии» («ЯГі/ цзин»), которая является первым в Китае
литературно-поэтическим памятником. Она была составле-
на, по преданию, лично Конфуцием из им же самим со-
бранных песенно-поэтических и поэтических произведений
[рода по фамилии] Кун». Под-
линные имена Учителя Куна —
Цю («Холм») и Чжун-ни («Вто-
рой из глинозема»), которые
объясняются в апокрифиче-
ских легендах о нем намеками
на обстоятельства его рожде-
ния: в пещере близ священно-
го холма (недалеко от совре-
менного Цюйфу, Шаньдун), к
которому его родители совер-
шали паломничество с целью
испросить себе сына. Одновре-
менно Конфуций является пер-
вым древнекитайским филосо-
фом, личность которого полно-
стью исторически достоверна,
a жизненный и творческий
путь достаточно хорошо из-
вестны. Годы его жизни —
551(550)-479 гг. до н. э.
129 Во многих современ-
ных исследованиях призна-
ется правомерность подобных
оценок Чжоуского князя: счи-
тается, что именно он зало-
жил своими акциями основы
идей, получивших развитие в
конфуцианстве, и институтов,
впоследствии обеспечивавших
существование китайской им-
перской государственности.
327
130 хакая часть — «Вели-
кое предисловие к Канону по-
эзии» (*Мао ши да сюй») —
появилась значительно позже.
Традиционно приписываемый
ученику Конфуция Бу Шану
(Цзы-Ся, 5077-400? гг. до н. э.),
этот текст, по мнению боль-
шинства современных исследо-
вателей, был создан во II-
III вв. н. э.
131 Речь идет о так называе-
мых Пяти добродетелях (у дэ) —
гуманности-жэнь, долге-u, бла-
гопристойности-лы, мудрости-
чжи и верности-сынь, которые
полагались в конфуцианстве
определяющими для идеаль-
ной личности — благородно-
го мужа (цзюнъ-цзы).
132 «Канон музыки» («Юэ
цзин») — трактат, посвящен-
ный музыкальным видам ис-
кусства, который, по некото-
рым данным, изначально вхо-
дил в состав «Пятиканония»,
но уже к ханьскому времени
был утрачен.
133 Вариации этой форму-
лы встречаются во многих ка-
нонических и околоканони-
ческих текстах. Впервые она
приводится в еще одном па-
мятнике «Пятиканония» —
«Каноне/Книги истории» (*Шу
цзин » : « Поэзия/стихотворный
текст (ши) — это то, что пере-
дает волю [человека] в словах;
пение преодолевает [существо-
вание] слов, звук прддержива-
ет продолжительность [слов],
ладовый строй приводит в гар-
монию звуки».
134 В научной литературе
можно встретить и другие трак-
товки этого термина, в кото-
рых доказывается, что он пе-
редавал либо «духовный им-
пульс, возникающий в сердце
поэта», либо и рассудочную
деятельность человека, и его
эмоциональное состояние. Од-
нако все эти трактовки опира-
ются на более поздние коммен-
тарии и сочинения.
и тоже входит в состав «Пятиканония» — более чем красно-
речивого свидетельства уважительного отношения конфу-
цианства к творческой деятельности. Несмотря на отсут-
ствие в этои антологии отдельнои теоретическои части1ои, в
которой бы излагались идеи общеэстетического плана или
хотя бы поэтологические идеи, сопоставительный анализ
композиции и состава «Канона поэзии» и их сравнение с
рассуждениями, содержащимися в других текстах, позво-
ляет воссоздать конфуцианские эстетические установки.
Начнем с того, что преимущественное внимание конфу-
цианцев к музыкальным видам искусства и к поэзии сразу
указывает на преемственность их взглядов и древнейших
религиозных воззрений. Но, не опровергая в принципе кос-
мологическую семантику и мироустроительные свойства
художественного творчества, конфуцианские мыслители
перевели их в сугубо этическую плоскость, наделив произ-
ведение искусства новым — назидательным — смыслом.
В результате ими был сформулирован так называемый (в тер-
минологии отечественного китаеведения) дидактико-праг-
матический подход к художественному творчеству, в кото-
ром произведение искусства наделялось следующими основ-
ными функциями. Во-первых, оно предназначалось для
воспитания личности в духе морально-этических ценностей
путем совершенствования ее врожденных положительных
качеств131. «Образование начинается с поэзии (с чтения „Ка-
нона поэзии"), упрочивается ритуалом („Записями о ритуа-
лах") и завершается музыкой („Каноном музыки")»132, —
читаем, например, в «Лунь юе». Еще более отчетливо воспи-
тательная функция художественного творчества, хотя и при-
менительно исключительно к анналистической литературе,
сформулирована в следующем высказывании из околокано-
нического памятника — «Речи царствь («Го юй»): «Обучай-
те его [наследного принца — М. К.] истории [различных вла-
дений] и, пользуясь этим, восхваляйте добрых правителей и
порицайте дурных правителей, дабы вселить в его сердце
страх перед пороками и поощрить стремление к добру».
Во-вторых, произведение искусства предназначалось для
демонстрации внутреннего облика и потенциальных спо-
собностей человека как члена социума — тоже, заметим,
прямое продолжение идеи о способностях музыкальных и
песенно-поэтических произведений выражать благую силу-
дэ правителя. Такое видение смысла и функции художе-
ственного творчества изложено в знаменитой формуле ши
янь чжи — «стихи/поэзия есть то, что говорит о воле [чело-
века]» («поэзия/стихи есть словесное воплощение воли»)133.
При этом как воля-чжи обозначается духовный порыв (от
слова «дух» в значении внутренняя, моральная сила) чело-
веческого существа, своего рода рассудочно-энергетический
импульс, идущий от разума134. A bot индивидуальное эмо-
циональное начало художественного творчества в кон-
фуцианстве опровергалось, что составляет одну из важней-
ших особенностей его эстетических установок. Дело в том,
что эмоции — чувства-цин — считались в нем вторичными
по отношению к изначальной природе (син) человеческого
328
существа, проистекающими из его низменных, животных
инстинктов и, следовательно, искажающими и изначаль-
ную природу человека, и его восприятие внешней реально-
сти, толкая тем самым людей на неосознанные или наме-
ренно совершаемые дурные поступки. Поэтому умение уп-
равлять своим эмоциональным состоянием включалось
конфуцианскими мыслителями в набор качеств, необходи-
мых для благородной личности: «Благородный муж придер-
живается трех путеводных основ... Будучи гуманен, он не
подвержен скорбям; будучи мудр, он не подвержен сомне-
ниям; будучи смел, он не подвержен страху», — вновь со-
шлемся на «Лунь юй». Было бы наивно думать, что конфу-
цианские мыслители не отдавали себе отчета в том, что
художественное творчество неотделимо от психоэмоциональ-
ного состояния человека. «Все эти три вида искусств [по-
эзия, музицирование и танец — М. К.] коренятся в сердце
человека», — гласят «Записи о ритуале». Более того, есть
немало фактов, судя по которым сам Конфуций был не только
музыкально и литературно одаренным человеком, но и пре-
красно разбирался в музыке и поэзии, обладая способно-
стью необыкновенно чуткого эмоционального их восприя-
тия. Тем увереннее мы можем говорить, что в своих теоре-
тических построениях Конфуций и его последователи
руководствовались не персональным творческим опытом и
личными эстети^ескими пристрастиями, a духовными нуж-
дами, в их понимании, государства и общества.
Единственно возможный способ нивелировать в худо-
жественном творчестве субъективное эмоциональное нача-
ло и придать ему объективированный характер заключает-
ся в том, чтобы лишить его фигуры автора-творца, т. е.
самого субъекта, личностно-эмоционального переживания.
Bot истинные причины приоритета, безоговорочно отдавае-
мого в конфуцианстве анонимному творчеству, в поэзии —
народной песне, органическое свойство которой отсутствие
конкретного поэта. Первый и самый пространный раздел
«Канона поэзии» (160 произведений из всех его 300 тек-
стов) как раз и состоит из образцов народного песенного
творчества. He менее примечательно название этого разде-
ла — «Нравы царств» («Го фэн»), означающее, что суть
народной песни состоит в передаче нравов и настроений
(«ветра») народонаселения страны. При Хань такое пони-
мание фольклорной традиции вылилось в создание особо-
го государственного учреждения — Музыкальной палаты
(Юэфу), — чиновники которой занимались сбором и изу-
чением песен, частушек и тому подобных фольклорных
произведений, дабы оценить реакцию низших слоев насе-
ления на политику, проводимую властями.
Провозглашение художественного творчества главным
способом воспитания человека и демонстрации им своих
качеств и способностей окончательно сделало его обязатель-
ным занятием для каждого, кто участвовал или претендо-
вал на участие в управлении страной. Достаточно сказать,
что в определенные исторические периоды написание сочи-
нения в поэтической форме входило в программу экзаменов
136 Следует помнить, что
подобное отношение конфуци-
анства к чувству любви про-
истекало не из пуризма, в ев-
ропейском понимании этого
термина, a из реалий поли-
гамной семьи, в первую оче-
редь гарема венценосных особ.
Для поддержания в нем по-
рядка и недопущения кон-
фликтов между его обитатель-
ницами глава в идеале дол-
жен был наравне относиться
ко всем своим женам и на-
ложницам, для чего ему не-
обходимо было избегать лю-
бовных увлечений.
на официальный чин, без сдачи которых человек не при-
нимался на государственную службу. Ho, c другой сторо-
ны, именно конфуцианским поэтологическим взглядам
китайская художественная культура обязана долговремен-
ным — в течение почти 10 (!) веков, если считать с мо-
мента создания «Канона поэзии», — господством аноним-
ной лирической поэзии. Только в III в. н. э. появилась
собственно авторская лирика и литературно-эстетические
теории.
Третья важнейшая, с позиций дидактико-прагмати-
ческого подхода, функция художественного произведе-
ния — содействовать упрочению правящего режима через
воспевание его достоинств, критику недостатков и пропа-
ганду морально-этических ценностей. Тем самым в кон-
фуцианстве был строго определен круг художественных
тем и мотивов: положения самого конфуцианского уче-
ния, описания на примере конкретных исторических пре-
цедентов или современных автору событий «добрых по-
ступков» и «злодеяний», «правильных» и «неправиль-
ных» взаимоотношений между людьми. Произведения
искусства, содержание которых не соответствовало этим
тематическим ограничениям, не признавались конфуци-
анскими критиками в качестве таковых или резко пори-
цались. Хрестоматийный пример — их отношение к поэ-
зии любви. Так как чувство любви считалось эмоцией,
наиболее неподконтрольной разуму, a значит, пагубной
для благородной личности135, произведения, повествующие
о любовных переживаниях мужчины, однозначно счита-
лись «развратными» и нарушающим все нормы благопри-
стойности. И напротив, в конфуцианской литературной кри-
тике всячески превозносилась поэзия на исторические
(«Воспевания истории», Юн ши) и социально-политиче-
ские темы («гражданская» лирика).
He исключено, что уже при Хань конфуцианские ху-
дожественные воззрения и эстетические установки стали
оказывать решающее воздействие не только на поэтиче-
ское творчество, но и на изобразительное искусство. Во вся-
ком случае именно этим в некоторых новейших исследова-
ниях объясняется столь широкое распространение сцен на
историко-легендарные сюжеты в погребальных рельефах и
стенописях.
Понятно, что для исполнения требований, предъявляе-
мых конфуцианством, произведения должны были отли-
чаться, во-первых, содержательной и формальной стерео-
типностью, используя строго стандартный набор образов и
других изобразительных средств. Во-вторых, выполняться
в предельно реалистической манере (во избежание искаже-
ний действительности) и обладать декоративностью и мо-
нументальностью (для лучшей иллюстрации величия пра-
вящего режима и его идейных устоев). И, в-третьих, не
допускать каких-либо творческих экспериментов (чтобы
не затруднять их восприятия). Вот, собственно говоря, те
типологические приметы, которые изначально были при-
сущи китайскому официальному искусству и получили те-
330
перь благодаря конфуцианским эстетическим установкам
теоретическое обоснование.
Первые специальные попытки осмысления формальных
особенностей официального искусства были предприняты в
ханьскую эпоху, в начавшей складываться в то время лите-
ратурно-теоретической мысли и применительно к одической
поэзии — фу, которая была при Хань единственным видом
авторского поэтического творчества, включенного в орбиту
государственной и политической активности членов соци-
альной элиты общества. Посредством од-фу воспевался пра-
вящий режим, велись философско-политические диспуты при
дворе, можно было добиться продвижения по службе. В ка-
честве основного формального признака и эстетического кри-
терия одической поэзии была выделена ее «красивость» (ли),
означавшая как понятие «прекрасного» в качестве собствен-
но эстетической категории, так и стилистико-композицион-
ные элементы: витиеватость, архитектоническую усложнен-
ность, стилистическую изощренность и т. д. Все эти свой-
ства поэтики фу настойчиво акцентируются в ханьских
сочинениях, так или иначе касающихся вопросов природы и
формального аспекта поэтического творчества. A заключи-
тельная формулировка эстетических принципов одической
поэзии и шире — всего официального искусства, данная уже
теоретиками первой половины III в. (Хуанфу Ми, 215-282),
выглядит так-\ «Изящная словесность (вэнь) должна быть
цредельно прекрасной (мэй)... слова должны быть красивы
(ли) до предела. Вот такая прекрасно украшенная словес-
ность (мэй ли чжи вэнь) и есть фу».
Суммируя сказанное выше, приходим к выводу, что
конфуцианство, максимально укрепив общественный авто-
ритет художественного творчества и превратив его в обяза-
тельное для членов социальной и интеллектуальной элиты
страны занятие, в то же время открыло широкую дорогу
для идейно детерминированного и предельно формализо-
ванного искусства, ставя при этом всяческие препоны раз-
витию индивидуализированной творческой деятельности.
Трудно представить, к каким последствиям привели бы
конфуцианские эстетические установки, будь они единствен-
ными в китайской культуре. Однако в действительности
их влияние ограничивалось традицией официального ис-
кусства, тогда как другие сферы национальной творческой
деятельности находились под идейным покровительством
других художественных воззрений и подходов.
Тот комплекс идей и теорий, который обозначается в
европейской науке как натурфилософия (Nature philosophy),
является, без всяких преувеличений, одним из самых са-
мобытных, значительных и вместе с тем загадочных фено-
менов древнекитайской духовной культуры. «Загадоч-
ных» — потому что конкретное время и процесс формиро-
вания этого комплекса не поддаются точному исчислению.
Создается впечатление, что он начал стихийно складываться
в духовной жизни чжоуского общества еще до момента
ОСМЫСЛЕНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТВОРЧЕСТВА
В ДРЕВНИХ НАТУР-
ФИЛОСОФСКИХ
УЧЕНИЯХ
331
136 Изложение натурфило-
софских идей и теорий в пер-
воначальных формулировках
содержится и в «Записях о ри-
туалах», и в трактате «Гуанъ-
цзы*, приписываемом мысли-
телю и государственному дея-
телю Гуань Чжуну (?-645 гг.
до н. э.) и считающемся фи-
лософским сочинением, за-
ложившим основы легизма.
Главным для древней на-
турфилософии теоретическим
памятником считается, как
известно, «Канон/Книгапере-
мев> («If цзинь), который вхо-
дит в конфуцианское ♦Пяти-
каноние». Столь же очевидно,
что натурфилософские идеи в
дальнейшем использовались и
развивались представителями
практически всех философ-
ских школ — конфуцианца-
ми (в первую очередь «Сюнь-
цзы»), легистами, представи-
телями «Школы Инь-Ян» и
даосскими мыслителями. Пра-
вомерно утверждать, что на-
турфилософия была порожде-
нием центрально-китайского
культурного субстрата и возник-
ла в результате попыток кон-
цептуализации местных куль-
турно-идеологических форм:
древних обрядовых практик,
верований и миропознаватель-
ных представлений.
137 Этимологическое значе-
ние этого иероглифа — «пар
над варящимся [жертвенным]
рисом*, принятые его перево-
ды как категориального тер-
мина — «эфир», «атмосфера»,
«газ», «воздух», «энергия».
138 Этимологические значе-
ния — соответственно теневой
и солнечный склон холма или
речного берега, принятые пе-
реводы «Женское», «Темное»
и «Мужское», «Светлое».
выделения философских школ и приобрел к этому моменту
универсальный характер136.
Древняя натурфилософия, как и конфуцианство, не со-
держит в себе самостоятельных эстетических теорий. При-
сущие ей художественные воззрения логически проистека-
ют из всей совокупности составляющих ее идей и теорий.
Краеугольным камнем натурфилософских концепций
выступают идеи субстанционального, космогенного и отно-
логического единства (и) всех природных сущностей, посто-
янного самотрансформирования (хуа) мировых процессов и
явлений и гомоморфизма (подобия микрокосма макрокос-
му). Эти идеи конкретизируются в учениях о ітевме-ци, о
«Великом пределе» (Тай цзи), о «Женском (Инъ) и Муж-
ском (Ян) космических началах» и о «Пяти первостихи-
ях/первоэлементах» (У син).
В учении о пневма-цы137 нашли воплощение представ-
ления о континуальной, динамической, пространственно-
временной, духовно-материальной и витально-энергетиче-
ской субстанциях как первооснове и первовеществе всего
сущего. Одновременно ци реализуется и на антропологи-
ческом и психическом смысловых уровнях.
«Великий предел» («Великое начало», Тай чу; «Вели-
кое единое», Тай и) есть обозначение исходно целостного,
хаотично-недифференцированного состояния пневмы-цг/
(«изначальной пневмы», юанъ ци) в ее пракосмическом
единстве, предшествовавшем космогенезу. To есть в этом
учении заложена идея исходного родства всего сущего.
Учение об Инъ-Ян13ѣ воплощает представление о про-
цессе космогонеза, об универсальной дуализированности
мира и общих закономерностях мировых процессов. В кос-
могоническом плане поляризация изначальной пневмы на
«женскую» и «мужскую» именно знаменует собой началь-
ный акт космогенеза. Следующий его акт — взаимодей-
ствие Женского и Мужского начал, результатом которого
и является порождение всего сущего: Неба, Земли, Челове-
ка и всех «десяти тысяч вещей». В онтологическом смысле
Инъ и Ян выступают олицетворением неограниченного чис-
ла парных оппозиций — «пассивное и активное», «мягкое
и твердое», «нижнее и верхнее», «внутреннее и внешнее»,
которые тоже распространяются на все сферы космическо-
го и человеческого бытия.
Оба космических начала находятся в состоянии посто-
янного движения — самовозрастания и самоубывания. Схе-
ма этих процессов точно совпадает с годовым циклом, на-
кладываясь тем самым на пятичленную космологическую
модель. Движение Ян происходит по часовой стрелке: его
минимум приходится на день зимнего солнцестояния, мак-
симум — на день летнего солнцестояния, возрастание идет
через «восточную» пространственную зону, убывание —
через «западную». Движение Инь происходит против часо-
вой стрелки: его минимум и максимум приходятся соот-
ветственно на дни летнего и зимнего солнцестояния, убы-
вание и возрастание идет через «восточную» и «западную»
зоны — все это изображается в графической эмблеме «Ве-
332
ликого предела» (подробно см. далее). Отсюда проистекают
и все главные природные воплощения и ассоциации Инъ и
Ян: первого — с зимой, ночью, луной, темнотой; второ-
го — с летом, днем, солнцем, теплом, светом.
Столь же хорошо видно, что момент равновесия Инъ и
Ян, когда и происходит их взаимодействие для порождения
всего живого, соотносится с Центром. Следовательно, «пра-
вильность» их взаимодействия зависела от характера интим-
ной жизни правителя, чем и объясняется повышенное к ней
внимание китайского общества и включение в официальное
этикетно-ритуальное уложение регламентаций, касающихся
его сексуальных отношений с обитательницами гарема.
Несмотря на указанное этимологическое значение иеро-
глифов инъ и ян, учение о Женском и Мужском космиче-
ских началах со всей очевидностью восходит к представле-
ниям о Земле и Небе как супружеской паре, от которых
оно восприняло откровенный эротический оттенок. Поэто-
му в дальнейшем это учение не только служило теорети-
ческой базой непосредственно эротологических концепций,
но и обусловило общий для китайской культуры взгляд на
сексуальное как естественное и насущно необходимое для
поддержания должного миропорядка действо. Любой эпи-
зод окружающей действительности и сцена из жизни лю-
дей так или иначе связывались в восприятии китайцев с
взаимодействи^м Инь и Ян. Будучи воспроизведенными в
художественном творчестве, они сохраняли за собой этот
эротический подтекст, для выражения которого была раз-
работана целая система специальных художественных об-
разов. Поэтому множество китайских произведений искус-
ства могут восприниматься в эротическом смысле. Но не-
обходимо знать, что по замыслу их авторов и самих китайцев
эротическое содержание никогда не отождествлялось с соб-
ственно сексуальным, a только служило воспроизведением
природных закономерностей.
He менее важно, что содержание учения о Инь и Ян не
исчерпывается сексуальной стороной. Принципы взаимо-
действия Инь и Ян задают модель взаимопревращений всех
природных сущностей, равно как и всех процессов и явле-
ний в человеческом обществе. В силу своего изначального
субстанционального единства каждое начало содержит в
себе потенцию противоположного (в эмблеме «Великого пре-
дела» передается точками в нижней части фигур, воспро-
изводящих движение Инь и Ян) и по достижении макси-
мальной фазы своего развития переходит в свою противо-
положность. Сказанное означает, что, по мысли китайцев,
любые события, происходящие в обществе и в жизни инди-
вида, потенциально содержат в себе как положительное,
так и отрицательное. И каждое положительное (успешная
карьера, богатство, семейное счастье, ум, красота и т. д.)
когда-нибудь обязательно достигнет своего пика, a потом
будет трансформироваться в противоположное. Поэтому в
своих планах и поступках лучше всего придерживаться
«золотой середины», избегая доводить собственное благо-
получие до максимума.
«Пять первоэлементов/первостихий» есть не первосуб-
станции Космоса, по их кажущейся аналогии с первоэле-
ментами античной философии, a своего рода символы, воз-
главляющие ряды-классы, на которые подразделяются пред-
меты, явления и сущности мира. Это: земля (my, Центр),
дерево (му, Восток), огонъ (хо, Юг), металл (цзинъ, Запад)
и вода (шуй, Север). Выбор именно таких «элементов» и их
соотношение с пространственно-временными зонами одно-
значно указывают на их происхождение в рамках древней-
ших космологических представлений и от местных — ре-
гион Хуанхэ — географических и историко-политических
реалий. Бассейн Хуанхэ по причине плодородия лёссовых
почв был главным сельскохозяйственным регионом Древ-
него Китая. Район нижнего течения Хуанхэ (Восток) —
низменность, покрытая в прежние времена девственными
лесными массивами. Огонъ — универсальный символ солн-
ца. Металл — вещество, из которого изготовлялось ору-
жие. A природной доминантой «северной» зоны выступает
излучина Хуанхэ. В натурфилософских теоретических по-
строениях «Пять первоэлементов » тоже служат воплоще-
нием мировых процессов, состоящих в переходе одной сущ-
ности в другую путем либо взаимопорождения, либо взаи-
моразрушения. Дерево порождает огонь (горящие дрова),
огонь — землю (зола, удобряющая почву), земля — металл
(металлы, добываемые из недр земли), металл — воду (спо-
собность металлических предметов конденсировать на по-
верхности влагу), вода — дерево. Противоположный про-
цесс: дерево разрушает землю (корни деревьев, прорываю-
щиеся сквозь почвенный покров), земля — воду (земляные
плотины и дамбы, преграждающие течение рек), вода —
огонь, огонь — металл (плавка металлических предметов)
и металл — дерево (рубка деревьев). Итак, учение о «пяти
первоэлементах» дополняет собой учение об Инь-Ян, конк-
ретизируя ход процессов самотрансформации природных
сущностей и явлений. Одновременно «первоэлементы» слу-
жат важнейшими символическими обозначениями про-
странственных зон и времен года, в этом качестве они и
используются в художественной образной системе.
Кроме y сину в эту же символическую серию входят
еще пять природных сущностей: гром (лэй, Центр), ветер
(фэну Восток), солнце (Юг), холод (ханъ, Запад) и луна
(Север). В результате общий образный ряд, передающий
Женское космическое начало, включает в себя, в дополне-
ние к указанным образам, холод, воду и металл. «Муж-
ской» образный ряд — ветер, огонь, a также горы (шанъ),
олицетворяющие космическую вертикаль, твердость мира
и вечность природы.
Однако влияние натурфилософии на художественное
творчество ни в коем случае не ограничивается ее вкладом
в его образную систему. В приложении к человеческому
существу названные идеи обосновывали его нерасторжи-
мое единство с Космосом и взаимосвязанность всей его
деятельности с мировыми процессами и явлениями. Суб-
станциональную основу человеческого существа составля-
ет пневма-цы в двух основных состояниях — концентриро-
ванном, что и образует телесную оболочку совместно с фи-
зиологическими органами, и разреженном. Разреженная
пневма-ци есть эманация мировой пневмы-эфира, которая
дает человеку жизнь и после его смерти (гибели телесной
оболочки) опять сливается с мировой пневмой. Разрежен-
ная пневма обусловливает как физиологическое бытие че-
ловека, выступая своего рода «наполнителем» телесной обо-
лочки, связанным с кровообращением — своеобразный ана-
лог «жизненных сил» европейской философии, так и его
ментальную и психическую деятельность, будучи проявле-
нием психического «центра», отождествляемого с сердцем
(синъ), который управляется волей (чжи) и порождает эмо-
ции (цин). В таком своем качестве она нередко определяет-
ся как шэнь — посредством термина, изначально обозна-
чавшего божественных существ и затем использовавшего-
ся для передачи понятия «духовное» и в приложении к
человеку, и в абстрактно-философском значении.
Согласно приведенным рассуждениям, вся человеческая
деятельность приобретает в натурфилософии универсальный
космолого-онтологический характер, будучи в конечном счете
порождением и воплощением мировых процессов. Именно
так в ней рассматривается музыкальное и литературное твор-
чество — в качестве отражения «космической музыки» и
природных, вглючая звездное небо, узоров. Соответственно
исполнение «плохой» музыки и «плохих» литературных
произведений нарушало гармонию мира, вызывая всевоз-
можные природные и социальные коллизии.
Очевидно, что натурфилософские художественные воз-
зрения тоже опираются на ритуальную деятельность и ма-
гико-религиозное осмысление художественного творчества.
Поэтому в дальнейшем они постоянно использовались в
китайской общественно-политической мысли для обосно-
вания культового и официального искусства (поддержание
миропорядка путем сотворения и исполнения музыкаль-
ных, песенно-поэтических произведений и танцев). Но при
этом натурфилософские учения содержали в себе предпо-
сылки и для качественно иного осмысления художествен-
ного творчества. Идеи «космической» сущности и универ-
сального характера творческой деятельности фактически
выводили ее за пределы общества, системы государствен-
ности и института верховной власти. Уподобление произ-
ведений искусств «космической музыке» и «космическим
узорам» снимали с них все ограничения и регламентации
содержательного и формального плана. И наконец, утвер-
ждалась зависимость творческой деятельности от внутрен-
него облика личности — ее духовного состояния, одновре-
менно в рассудочно-ментальном и психоэмоциональном
модусах.
Все эти идеи были восприняты даосской теоретиче-
ской мыслью. Однако даосизм имел возможность задей-
ствовать не только их, но и тот художественный опыт,
который был накоплен в культуре и религиозной тради-
ции южного царства Чу.
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ТВОРЧЕСТВО
В КУЛЬТУРЕ
И РЕЛИГИОЗНОЙ
ТРАДИЦИИ
ЮЖНОГО РЕГИОНА
ДРЕВНЕГО КИТАЯ
139 Таковыми предстают пе-
ред нами: божество солнца —
величественный и гордый Вла-
дыка Востока, речное боже-
ство — своецравный и ветре-
ный Хэ-бОу нежно любящие
друг друга Владыка и Влады-
чица реки Сян, Горный дух —
прекрасная дева, которая разъ-
езжает по своим владениям в
колеснице, запряженной бар-
сами, и пронзительно тоску-
ет по утраченному ею возлюб-
ленному — то ли божеству, то
ли простому смертному. Ши-
рокое хождение в чуских ве-
рованиях, видимо, имел еще
один мифологический сю-
жет — о любви небожитель-
ницы и смертного, которому
в его поэтическом переложе-
нии (поэмы Сун Юя) сопут-
ствует мысль о невозможно-
сти телесной близости между
небожительницей и смертным,
что делает его вероятным ис-
током столь характерной для
последующей культуры идеи
любви-сна, любви-воспомина-
ния — словом, любви как не-
досягаемого в обыденной
жизни идеала. В поэмах на
данный сюжет впервые в ки-
тайской художественной сло-
весности дается развернутый
портрет прекрасной небожи-
тельницы, оказавший замет-
ное влияние на последующие
литературные и художествен-
ные трактовки такого типа
образов.
Художественное наследие и религиозная традиция цар-
ства Чу представлены крайне ограниченным числом пись-
менных памятников. Это — поэтические произведения, часть
из которых (в общей сложности 8, включая поэмы и циклы)
включена в знаменитый свод «Чуские строфы» («Чу цы»,
всего в «Чуские строфы» входит 17 произведений, осталь-
ные были созданы уже при Хань), они приписываются про-
славленному поэту древности Цюй Юаню (3407-278? гг.
до н. э.). Еще несколько произведений были созданы ду-
ховным наследником Цюй Юаня — Сун Юем (III в. до н. э.)
и двумя или тремя чускими поэтами — современниками
последнего. Несмотря на свою малочисленность, эти тексты
совместно с археологическими материалами и более поздни-
ми литературными и культурными свидетельствами позво-
ляют воссоздать более или менее целостную картину чуских
религиозных представлений и выявить типологические осо-
бенности стоящей за ними творческой деятельности.
Наиболыний интерес для анализа чуских религиозных
представлений и поэтического творчества представляют
поэма «Скорбь разлученного» («Ли сао») Цюй Юаня, цикл
«Девять песен» («Цзю гэ»), считающийся архаическими
чускими культовыми песнопениями, литературно обрабо-
танными Цюй Юанем, и поэмы Сун Юя: «Девять рассуж-
дений» («Цзю бянъ», из свода «Чуские строфы»), «Ода о
божественной деве» («Шэнъ нюй фу», принятый перевод
«Святая фея») и «Ода о горах Гаотан» («Гаотан фуъ, при-
нятый перевод «Горы высокие Тан»).
Анализ перечисленных произведений позволяет предпо-
лагать, что чуская духовная культура владела многочис-
ленным божественным пантеоном, отличавшимся яркими
образами персонажей, и пространными мифологическими
сюжетами. Показательно, что все культовые песнопения яв-
ляются не столько панегириками в адрес божеств, сколько
повествованиями о них, воспроизводящими те или иные
эпизоды из их жизни и их взаимоотношения с другими
божествами. При этом все литературные герои рисуются
выпукло и красочно. Они наделены легко узнаваемыми вне-
шними приметами и неповторимым внутренним обликом139.
Еще более необычным по сравнению с обрядовыми прак-
тиками Центрального Китая оказывается сам по себе чу-
ский ритуал, достаточно отчетливо запечатленный в тех
же культовых песнопениях. Он являл собой разновидность
театрализованной мистерии, разыгрывавшейся нескольки-
ми (чаще всего двумя) священнослужителями, которые
изображали божественных персонажей, и сводившейся к
речитативным монологам и диалогам. Разыгрываемое дей-
ствие сопровождалось хором, участники которого время от
времени комментировали происходящее или подавали ко-
роткие реплики. Подобный ритуал требовал однозначной
персонификации его адресатов и исполнителей (что полно-
стью соответствует характерам образов лирических героев)
и предполагал развитый импровизационный элемент. A по-
этический (песенно-поэтический) текст должен был слу-
жить в нем способом не только установления коммуника-
336
ции с высшими силами, но и приобщения человека к сак-
ральному и выражения им своего эмоционально-экстати-
ческого состояния, в котором он пребывал в такой момент.
Реконструированные приметы чуского ритуала и куль-
тового художественного творчества хорошо согласуются с
особенностями произведений Цюй Юаня и Сун Юя. Они
настолько завораживают яркостью индивидуального эмо-
ционального начала, что исходно считались в китайской
филологии сугубо авторскими. Обращает на себя внимание
и то, что они концентрируются вокруг особого образа ли-
рического героя — поэта-изгоя, переживающего драмати-
ческие жизненные коллизии. Их центральными темами
являются личностные переживания о несовершенстве окру-
жающего мира, современного общества и несправедливо-
стях собственного бытия. Причем переживания, окрашен-
ные в надрывно-трагические тона и обогащенные резкими
антисоциальными настроениями: духовное совершенство
лирического героя постоянно противопоставляется «грязи
и пороку» человеческого общества.
Сказанное позволяет предположить, что в чуской куль-
туре художественное творчество исходно предназначалось
не столько для оказания мироустроительных функций и
упрочения государственности, сколько для выражения эмо-
ционального состояния человека в момент наивысшего на-
пряжения етхь духовных сил, что и создало в ней благопри-
ятные условия для развития индивидуализированной твор-
ческой деятельности.
В китайской традиции история даосизма однозначно
возводится к чжоуской «Школе Дао», представленной дву-
мя основополагающими теоретическими сочинениями —
трактатами «Канон Дао и Дэ» («Дао дэ цзин») и «Чжуан-
цзыъ. Первый из них столь же категорически приписыва-
ется легендарному мудрецу, называвшему себя «Старый
учитель» — Лао-цзы. Рассказывается, что Лао-цзы создал
его, перед тем как отправиться в некое странствие на запад
(без уточнения маршрута и цели этого путешествия), и
оставил стражнику на границе140. В настоящее время в
науке господствует точка зрения, что «Дао дэ цзин» был
создан около III в. до н. э. и является не авторским, a ком-
пилятивным сочинением, составленным предположитель-
но из фрагментов ранее самостоятельных текстов.
Трактат «Чжуан-цзы» приписывается философу Чжу-
ан Чжоу (3697-286? гг. до н. э.). Достоверных сведений о
нем сохранилось еще меньше, чем о Лао-цзы. Считается,
что он был уроженцем царства Сун и болыыую часть жиз-
ни провел в уединении где-то в царстве Чу. Текст «Чжуан-
цзы» тоже оказывается отчетливо неоднородным как в со-
держательном, так и в хронологическом отношении.
Установлено, что вопреки традиционной версии его про-
исхождения непосредственно от «Школы Дао», даосизм
имеет по меньшей мере три основных самостоятельных
культурно-идеологических истока: центрально-китайские
22 История искусстиа Кмт.іи
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ТВОРЧЕСТВО
И ДАОСИЗМ
140 Ханьские ученые и ис-
торики (жизнеописание Лао-
цзы из «Исторических запи-
сей» Сыма Цяня) полагали,
что за этим псевдонимом скры-
вается реальное историческое
лицо — философ из рода Ли
(«Слива») по имени Дань (или
Эр), бывший либо старшим со-
временником Конфуция, либо,
напротив, младшим современ-
ником или даже учеником.
Впользу изложенной версии
об авторитете личности Лао-
цзы в ханьскую эпоху свиде-
тельствует изображение сце-
ны встречи (беседы) Лао-цзы
с Конфуцием в погребальных
337
рельефах. Однако вниматель-
ное изучение историко-куль-
турного контекста чжоуской
эпохи привело ученых к вы-
воду, что в период Борющих-
ся царств и несколько рань-
ше него в Китае жили по
меньшей мере трое мыслите-
лей, называвших себя «Ста-
рый учитель», и ни один из
них не может быть с полной
уверенностыо отождествлен с
автором «Дао дэ цзина».
141 В научной литературе
второй половины прошлого
века господствовало истолко-
вание этого сюжета в качестве
поэтического описания ша-
манского экстатического по-
лета (itineraria), которое про-
истекало из ранее общепри-
нятой квалификации чуских
верований как китайского ва-
рианта шаманизма. Однако
есть немало фактов, свидетель-
ствующих о том, что он из-
начально мыслился как мис-
тическое странствие, осуще-
ствляемое усопшим с целью
обретения бессмертия, но пос-
ле физической кончины и в
ином мире. При этом выяс-
нилось, что оно повторяло со-
бой дневной путь солнца, a
обретение бессмертия мысли-
лось как процесс трансмута-
ции, воспроизводящий воз-
рождение солнца, которое, по
чуским представлениям, тоже
происходило на западе, после
его захода-смерти.
философские натурфилософские учения, от которых он
позаимствовал многие идеи и термины, начиная с дао и дэ;
космолого-религиозные представления южных и восточ-
ных регионов Древнего Китая.
Чуская культура, как выясняется, обладала и собствен-
ной космологической моделью, ориентированной на Запад
как сакральную часть света, связанную с бессмертием. Там,
по чуским верованиям, находились волшебные горы Кунь-
лунъ, служившие резиденцией женского божества — Вла-
дычицы Запада и подательницы бессмертия. В космогра-
фию Куньлуня входили Древо бессмертия — Нефритовое
древо (Цюншу), росшее к западу от этих гор; Водоем бес-
смертия — Нефритовое озеро (Цюнчи), на его вершине; вол-
шебные реки, протекавшие y его подножия. Западное сак-
ральное пространство завершалось безбрежной пустыней
Зыбучие (Струящиеся) Пески (Люша). Эта космологическая
модель была полностью воспринята даосизмом. Разбирае-
мый комплекс представлений включал в себя также сюжет
о путешествии на Запад (путешествие-ю)141, герой которого
достигал гор Куньлунь и встречался с Владычицей Запада,
дабы получить от нее снадобье (пищу) бессмертия.
Важно, что следы существования в Чу культа богини-
подателышцы бессмертия — Великой богини, Таинствен-
ной Матери (Mysterious Mother) — прослеживаются не
только в поэтических произведениях, но и в даосской тра-
диции, в которой присутствует развитое «учение о жен-
ственном»: само Дао наделяется в «Дао дэ цзине» женской
ипостасью. Бытование сюжета путешествия-ю тоже не огра-
ничивается только чускими поэтическими произведениями.
Co временем он превратился в матричный сюжет для всей
литературы и культуры Китая, служа содержательной осно-
вой мифологических повествований (вторая часть мифа о
Стрелке), прозаических и поэтических произведений и ри-
туальных акций (ритуальное паломничество императора в
горы, практиковавшееся при Хань и в эпоху Шести дина-
стий). Непосредственно в даосской традиции он стал мета-
форой странствования даосского адепта в поисках бессмер-
тия или отшельнического уединения и шире — образа жиз-
ни человека, стремящегося постичь Дао.
Космолого-религиозные представления восточного реги-
она Древнего Китая также концентрировались вокруг идеи
бессмертия, представленной культом бессмертных-слнвй. Они
мыслились божественными существами с полузооморфной
(наличие крыльев) внешностью, обладавшими сверхъесте-
ственными способностями, включая способность к свобод-
ному передвижению-полету через надземное пространство.
Обителью сяней считался архипелаг из нескольких (3, 5,
9, 13) островов, находившийся в Восточном море и обычно
называемый Пэнлай. Культ сяней включал в себя веру в
возможность превращения в бессмертного путем изменения
его природного естества с помощью медикаментозных средств
(снадобий бессмертия) и психотехнических практик. Это
привело к возникновению в этом регионе традиции оккуль-
тизма, которая на первых порах (приблизительно до середи-
338
ны ханьской эпохи) обслуживалась специальными лица-
ми — жатами-фанши. Культ бессмертных-сяней и восточ-
ные оккультные знания начали выходить за границы своего
первоначального ареала распространения приблизительно в
IV-V вв. до н. э.: известно несколько исторических преце-
дентов поисков удельными князьями путей к Пэнлаю и
способов встречи с сянями142.
Процесс слияния региональных верований и космологи-
ческих представлений и формирования даосской традиции
(Дао цзяо) как таковой приходится на первую половину
Хань. A с I—II вв. обрела силу тенденция к ее институализа-
ции, ознаменовавшаяся возникновением первых даосских
социальных организаций (школ) во главе со Школой Небес-
ных наставников (Тяньши дао, подробно см. далее).
Множественность культурно-идеологических истоков
даосской традиции предопределила ее структурную не-
однородность. Она распадается на два относительно само-
стоятельных, хотя и связанных между собой доктриналь-
ной и терминологической общностью, магистральных на-
правления: философское и религиозное. Первое из них
состоит из собственно философских учений, направленных
на достижение личностью духовного совершенства. Второе
есть совокупность учений, практик и верований, нацелен-
ных на обретение человеком бессмертия и его превращение
в особого т*ша существо, обладающее, подобно древним
сяням, сверхъестественными свойствами и способностя-
ми143. Религиозное направление вызвало к жизни даосское
культовое изобразительное искусство и обогатило все ки-
тайское художественное творчество множеством персона-
жей, образов и символов, связанных с идеей бессмертия.
Философское направление тоже породило немало осново-
полагающих для всего китайского искусства образов и сим-
волов. Но его влияние на национальную творческую дея-
тельность было более значительным и глубинным, чем рас-
ширение репертуара ее изобразительных средств.
Древние даосские мыслители, судя по содержанию «Дао
дэ цзина» и «Чжуан-цзы», не испытывали явного интереса,
подобно Конфуцию и его последователям, к собственно худо-
жественной проблематике. Она ими специально не выделя-
лась и не обсуждалась. Тем не менее буквально все даосско-
философские идеи и концепции, будучи сфокусированными
на вопросах бытия личности, так или иначе касаются и ее
творческой активности как одного из важнейших проявле-
ний человеческой жизнедеятельности.
Содержательным стержнем даосской философии явля-
ется, как известно, учение о Дао. Дао («Путь») — одна из
первоочередных и универсальных для всей китайской фи-
лософии категорий. Она использовалась в теоретических
построениях представителей различных философских школ,
употребляясь ими в различных смыслах144. В древней да-
осской философии Дао есть обозначение субъективирован-
ной закономерности всего сущего, закон спонтанного бы-
тия Космоса и человеческого общества и одновременно кос-
могоническое порождающее начало, предшествовавшее миру
142 Приверженцем этих ве-
рований, как уже говорилось
при рассказе о его погребаль-
ном комплексе, был и первый
китайский император — Цинь-
ши-хуан-ди. В его официаль-
ном жизнеописании сообща-
ется, что он даже снарядил
на поиски Пэнлая морскую
экспедицию, состоявшую из
юношей и девушек, ибо счи-
талось, что только юным и
непорочным дано достичь оби-
тели бессмертных.
143 Религиозное направле-
ние распадается, в свою оче-
редь, на два идейно-практиче-
ских комплекса — «внеш-
нюю» (вай данъ, «внешняя
киноварь») и «внутреннюю»
(нэй даньу «внутренняя кино-
варь») алхимию. «Внешняя»
алхимия предполагает изго-
товление снадобий бессмертия
в лабораторных условиях и в
ходе моделирования искусст-
венно сжатых во времени
природных процессов. «Внут-
ренняя» алхимия представля-
ет собой своеобразную форму
психофизического тренинга,
нацеленного на радикаль-
ную трансформацию биолого-
физиологических параметров
личности и включающего в
себя различные психотехни-
ки (медитации, гимнастику,
дыхательные упражнения) и
сексуальные практики.
144 Этим объясняется, в част-
ности, многообразие ее интер-
претаций и переводов на ев-
ропейские и русский языки:
«мораль», «правда», «подход»,
«функция» и т. д. Например,
в ранней конфуцианской мыс-
ли под Дао понимаются бла-
гой ход общественных собы-
тий и жизни отдельного че-
ловека в их соотношении
с природными закономерно-
стями. A в натурфилософии
и в классическом конфуци-
анстве — принципы органи-
зации космического универ-
сума, явленные людям через
природные процессы и явле-
ния. Осмысления Дао в кон-
фуцианстве, натурфилософии
и в даосизме совпадают толь-
ко по одному-единственному
качественному признаку: во
всех трех случаях имеются в
виду именно объективные при-
родные закономерности и ес-
тественные процессы.
339
оформленных вещей. При этом отчетливо прослеживаются
две ипостаси Дао. Первая из них — «космическое Дао»,
дающее начало Небу и Земле и остающееся первоосновой
мироздания, но пребывающее в покое, бездеятельности и
принципиально не доступное восприятию и словесно-поня-
тийному выражению. В «Дао дэ цзине» оно определяется
исключительно как «смутное», «беззвучное», «бесформен-
ное», т. е., выражаясь современным научным языком, как
не подвластное объективации и систематизации и находя-
щееся, скорее, на грани абстрактного и художественно-
ассоциативного мышления. Оригинальные его метафоры —
«Изначальное» (юанъ), «Единое» (ц), «Сокрытое» (инъ), «Со-
кровенное» (сюанъ), «Тайное» (мяо). В научной литературе
к нему чаще всего прилагается термин «Абсолют».
Вторая ипостась Дао — всеохватное, всепроникающее,
подобно воде, постоянно изменяющееся, действующее и
проявляющее себя в «оформленных вещах» (z/), что и назы-
вается в даосизме его благим качеством (благой силой) —
дэ. В этой своей ипостаси Дао доступно восприятию и мо-
жет быть выражено посредством словесного имени, поня-
тия и даже образного выражения. Самый распространен-
ный его литературный и визуальный образ — безбрежный
и вечно струящийся поток. Но при этом сами «вещи» (еще
одна идея, заимствованная из древней натурфилософии)
считаются имеющими бинарную структуру, состоя из
«внешнего» (вай) и «внутреннего» (нэй). «Внешнее» опре-
деляет их формальные характеристики и бытийные каче-
ства, «внутреннее», образованное пневменной энергией (ци),
составляет их трансцендентную сущность или, в оригиналь-
ной терминологии, внутренний смысл (нэй и), духовность
(шэнъ). Тождество «внешнего» и «внутреннего» обманчиво.
В Дао-вселенной — следующий генеральный тезис даосской
философии, утверждающий единство и нерасчлененность
Дао, — все уравнено и объединено. Все противоречия гар-
монизированы, субъект и объект не представлены, разли-
чия не имеют сущностного характера и не принадлежат
объектам самим по себе. Истинная реальность «хаотична»,
но в смысле не беспорядочного смешения, a абсолютной
простоты: это мир, где все имманентно всему, субъект (это)
уже заключен в объект (то) и наоборот. Но если истинная
реальность не знает противопоставления субъекта и объек-
та, то их разделение на обособленные самосущие и проти-
востоящие друг другу единицы есть не более чем порожде-
ние заблуждающегося человеческого сознания. Мир опыта
уподобляется в даосизме сну, иллюзии — в гносеологиче-
ском (а не онтологическом плане), проистекая из относи-
тельности физиологических и психосоматических состоя-
ний человеческого существа: сна и бодрствования, жизни
и смерти. Поэтому логико-рассудочная деятельность (к ко-
торой столь настойчиво призывают конфуцианские мысли-
тели), будучи основана на информации, получаемой чело-
веком через органы чувств («с помощью глаз и ушей»),
оказывается, по мысли даосских теоретиков, не просто не-
состоятельной, но и опасной, деструктивной для человека,
ибо она утверждает его в собственных заблуждениях. Столь
же ложной и деструктивной для человека в даосизме объяв-
ляется и его эмоциональная реакция на внешние по отно-
шению к нему события и реалии.
В результате истинной целью и единственно правиль-
ным способом существования человека провозглашается до-
стижение им состояния полной идентичности с трансцен-
дентной сущностью мира через растворение своей самости в
природе, подчинение космическим ритмам и слияние с Дао
как первоосновой бытия. Такое состояние определяется как
«естественностъ» (цзы-жанъ). A главным методом его до-
стижения называется «не-деяние» (у-вэй) — отказ от целе-
направленной, созидательной деятельности как экстраверт-
ного, так и интравертного характера, ибо она заведомо про-
тиворечит спонтанности Дао. В аспекте индивидуальных
психофизиологических процессов, «не-деяние» подразуме-
вает обретение личностью «внутренней бесстрастности», пред-
полагающей полное отчуждение от себя активности потока
собственной психики и необходимость занять по отноше-
нию к ней позицию стороннего наблюдателя. Освобожден-
ная от вносящей хаос активности деятельного человеческо-
го «я» и лишенная внешних энергетических импульсов, че-
ловеческая психика успокаивается сама собой, подобно
мутной воде, которая становится чистой и спокойной, если
ее болыпе це мутить. Обретение такой «бесстрастности» от-
нюдь не означает прекращение психической жизни как та-
ковой. Напротив, отстраненность субъекта, отсутствие дест-
руктивного вмешательства активности его индивидуального
«я» должно приводить, по мысли даосских мыслителей, к
максимально полному проявлению заложенного в человече-
ской природе — в силу единства Дяо-вселенной — «космиче-
ского Дао». Только так — инстинктивно и внерефлектор-
но — он может восчувствовать ритмы вселенной и собствен-
ную духовность. Психическая жизнь личности, происходящая
на глубинном уровне ее внутреннего мира и раскрывающая
через восчувствование Дао ее природные «космические за-
чатки», как раз и есть духовность-шэиь человека, в даос-
ском понимании этой категории.
Посмотрим теперь, как все эти идеи и положения мог-
ли реализовываться применительно к творческой деятель-
ности. Прежде всего, не вызывает сомнений, что и в дао-
сизме художественное творчество, п'о-прежнему в его пред-
ставительстве поэзией, признавалось главным (если не
единственным) способом передачи процесса постижения
личностью Дао и заключительного аккорда этого процесса.
Лучшим доказательством этого выступает сам «Дао дэ
цзин», большая часть из 81 раздела (параграфы-чжаны)
которого — стихотворные фрагменты, совпадающие по фор-
мальным особенностям с чускими строфами или песня-
ми «Канона поэзии». Более того, степень экспрессивно-
сти и убедительности «Дао дэ цзина» как литературного
произведения такова, что он производит на читательскую
аудиторию впечатление авторского творения, и не просто
авторского: от него словно исходит живое дыхание его
145 Это, в частности, «Ода
о сове» («Ода о зловещей пти-
це») знаменитого раннехань-
ского государственного деяте-
ля и литератора Цзя И (201-
169 гг. до н. э.), в которой
раскрываются и развиваются
положения древнего даосизма
о единстве сущего, универ-
сальности трансформаций ми-
ровых процессов и относи-
тельности жизни и смерти.
Еще один пример — трактат
Чжан Бо-дуаня (983-1082?)
«Главы о прозрении истины»
(«Учжэнь пянъ»), считающий-
ся первым теоретическим со-
чинением по традиции «внут-
ренней» алхимии. Он состоит
исключительно из стихотвор-
ных текстов, написанных в
ведущих для того времени
лирических жанрах, которые
распределены по трем разде-
лам, содержа в себе определен-
ные нумерологические коды.
Первый раздел образуют 16
восьмистиший (люйши), пере-
дающие — 8x2 — равнове-
сие Инь и Яну т. е. оптималь-
ный баланс «отрицательной»
и «положительной» пневмен-
ной энергий в теле адепта.
8 строк соответствуют числу
унций (лянов) в китайском
футе (цзине) — меры весов,
стандартно использовавшиеся
в алхимических эксперимен-
тах. Второй раздел включает
в себя 64 четверостишия (цзю-
эцзюй) — по числу гексаграмм
«И цзина», служа тем самым
символическим воплощением
изложенных в нем натурфи-
лософских концепций. В тре-
тий раздел входит 1 восьми-
стишие (символ единства все-
го сущего), 5 четверостиший
(символ Пяти первоэлемен-
тов) и 13 стихотворений в пе-
сенно-поэтическом жанре цы,
передающих годовой цикл
(12 обычных месяцев лунно-
го года и високосный месяц).
Общее число стихотворений —
18 (9 х 2) + 1, a число их
строф — 99 (9 х 11).
творца — во всех отношениях необыкновенного человека и
мыслителя. По данному показателю «Дао дэ цзин», бесспор-
но, органически примыкает к чуской поэзии. В поэтических
формах — одических и лирических произведениях — со-
зданы и многие последующие даосские теоретические сочи-
нения, стоящие по своей содержательной значимости в од-
ном ряду с собственно трактатами145.
Во-вторых, понятно, что изложенные гносеологические
установки неизбежно вели не только к общей энигматич-
ности мировосприятия и онтологическому максимализму
(свойственное раннему даосизму отношение к смерти как к
естественному явлению, долженствовавшему вызывать лишь
чувства облегчения и радости), но и к аксиологическому
релятивизму — отрицанию абсолютных этических и эсте-
тических ценностей и критериев. Признавая объективное
существование прекрасного — «великой красоты» (да мэй)
Дао, которая и находит воплощение в дикой природе, даос-
ские философы настаивали на том, что и она тоже не под-
лежит объективации и систематизации и, следовательно,
не может быть выражена в каких-либо строго определен-
ных художественных формах и образах. Одновременно те-
зис о единстве и нерасчлененности Дао означает, что меж-
ду «прекрасным» и «безобразным» — в том виде, в каком
они воспринимаются людьми, — на самом деле нет и не
может быть принципиальных различий, ибо они есть взаи-
мосвязанные и взаимопорождающие явления. «Слава и
позор плывут через одни врата, и как разобрать, что —
прекрасное, и что — безобразное», — так четко и точно
даосскйе релятивистские позиции формулируются в одном
из поэтических произведений III в.
Почитая окружающую действительность, прежде все-
го, дикую природу воплощением Дао, даосские мыслители
считали ее созерцание одним из необходимых условий для
достижения человеком состояния «естественности». Такое
созерцание непременно должно было включать в себя и
эстетическое переживание «красоты мира». Но и в данном
случае определяющим условием оказывается не столько
любование внешним видом открывающихся взору природ-
ных реалий и элементов ландшафта, сколько проникнове-
ние в их внутренний смысл, что прямо зависит от степени
духовности личности. Получается, что даосизм настаивал
на предельно субъективном восприятии окружающей дей-
ствительности и выражении этого восприятия, заранее при-
знавая эстетическую ценность любых художественных ис-
кажений внешнего облика предметов и явлений, как то:
эскизность, гиперболизацию, пародийность, карикатур-
ность, гротеск, если только они проистекают не из абстракт-
ных фантазий художника, a из его понимания внутреннего
смысла увиденного. «Есть мера или нет меры — для них
все равно; лишь бы удалось приспособить свое искусство к
природе вещей», — такую удивительно емкую и во многом
провидческую (учитывая, что соответствующей традиции
искусства еще в то время не существовало) оценку даос-
ским эстетическим взглядам дал Сыма Цянь.
342
Итак, даосские идеи и концепции содержат в себе раз-
вернутое теоретическое обоснование сугубо индивидуали-
зированной творческой деятельности, подчеркивая при этом
обязательное наличие y нее космолого-онтологического
смысла и ее неотделимость от психоэмоционального состоя-
ния личности. При этом даосская философия последова-
тельно отстаивает свободу художника-творца — его право
единоличного выбора тем и сюжетов своих произведений,
их художественных решений и изобразительных средств;
право идти наперекор принятым стандартам и стереотипам
и прибегать к любым творческим новациям и эксперимен-
там; право выражать собственные взгляды и настроения,
невзирая на общественное мнение и не боясь непонимания
и порицания современников и власти предержащих лиц.
Однако ошибочно думать, что даосы полагали творче-
скую свободу абсолютно полной и ничем не ограниченной.
Во-первых, она была доступной и по силам только лично-
сти, обладающей необходимой степенью духовного совер-
шенства. Вот почему последующие китайские теоретики
живописи, равно как и представители литературно-теоре-
тической мысли, приложили немало усилий для создания
персонологических классификаций, в которых оговарива-
лись характеристики «настоящего» мастера и художника-
«ремесленника». Во-вторых, отрицая наличие каких-либо
эстетических нормативов, даосские мыслителй разработа-
ли достаточію жесткие требования к художественному про-
изведению, которые позволяли распознать подлинное про-
изведение искусства от поделок ремесленников, которые
тщатся выдать себя за творцов, постигших Дао. Эти требо-
вания полагают четыре основных критерия: «естествен-
ность» (цзы-жанъ), «простоту» (пу), «духовность» (шэнъ) и
«таинственность» / «сокрытость» (ю/сюанъ).
«Естественность» и «простота» как эстетические катего-
рии имеют общую семантику и сходный смысл. Обе они
проистекают из идеи «великой красоты Дао» как красоты
природы, не тронутой рукой человека. Вмешательство чело-
века в дикую природу губит ее красоту. И точно так же
привнесение художником «искусственного» в творческий
процесс отрицательно сказывается на художественных до-
стоинствах его произведений. В процессуальном плане под
«искусственным» понимаются в первую очередь профессио-
нальные навыки и формальное мастерство художника, кото-
рые, по убеждению даосов и последующих теоретиков эсте-
тической мысли, лишь мешают его самовыражению, застав-
ляя его подчиняться внеположным по отношению к нему
правилам. В эстетическом плане «искусственное» есть следо-
вание существующим семиотическим схемам, использова-
ние стандартных приемов и изобразительных средств, a так-
же механическое копирование внешнего облика предметов и
явлений, особенно с придачей им излишней по сравнению с
«простотой» природы монументальности и декоративности.
«Духовность» предполагает обязательное присутствие
в произведении смыслового подтекста, передающего внут-
ренний смысл изображаемого в его постижении, причем
146 Эта оппозиция также
передает идеи космогенеза и
бытия мира как непрерывно-
го процесса самотрансформа-
ций одного его составляюще-
го в другое: «Десять тысяч
вещей Поднебесной рождают-
ся в ю, ю рождается в г/» («Дао
дэ цзин»). В дальнейшем, в
некоторых производных от
древней даосской философии
учениях, y прямо объявляет-
ся «корнем» (бэнъ) и субстан-
цией (ти) всего сущего.
147 Основополагающие прин-
ципы эстетико-эмоционально-
го подхода к художественно-
му творчеству заложены уже
в оригинальном терминологи-
ческом обозначении «Цзянь-
аньской поэзии», которое со-
стоит из двух смысловых час-
тей. Цзянъяань («Установление
покоя/мира») — девиз правле-
ния (словесная формула, в ко-
торой провозглашались осно-
вы и цели политики пришед-
шего к власти государя)
последнего ханьского монар-
ха (Сянь-ди, 190-220), что
указывает на временные па-
раметры этого литературно-
поэтического направления. Фэн
(«ветер») и гу («кости», «ске-
лет», «остов») — термины ка-
тегориального ряда, первый из
которых в данном случае кор-
респондируется с натурфило-
софской символикой «ветра»
как «космического импуль-
са», порождаемого колебани-
ями мировой пневмы-цы, и
подчиняющееся этим колеба-
ниям психико-эмоциональное
состояние человека. Гу пере-
дает понятие, близкое к ев-
ропейскому понятию *архи-
тектоника», т. е. определяет
закономерности построения
литературного произведения
как органического единства
всех его композиционных эле-
ментов. Следовательно, соче-
тание фэнгу содержит в себе
характеристику поэтического
текста как единства его содер-
жательного и формального ас-
пектов в их непосредственной
зависимости от психоэмоцио-
нального состояния человека.
посредством духовности самого автора. При этом крайне
желательно, чтобы соотношение между внешним, формаль-
ным планом произведения и его смысловым подтекстом
строилось по образцу соотношения «внешнего» и «внут-
реннего» природных вещей и явлений, т. е. давалось на
уровне семантических и образных ассоциаций. В результа-
те произведение искусства — независимо от его принад-
лежности к видам и жанрам художественного творчества —
должно приближаться к метафоре. Одновременно ему дол-
жны быть имманентно присущи незавершенность и недо-
сказанность, ибо, объективируя собственную духовность,
художник намеренно сужает и ограничивает ее, предостав-
ляя читателю и зрителю свободу в понимании глубинного
смысла своих творений, исходя из их духовного опыта.
«Таинственность»/«сокрытость» — категория, возник-
шая уже в более поздней даосской теоретической и эстети-
ческой мысли, хотя она и опирается на фундаментальную
философскую оппозицию «наличия/бытия»-«отсутствия/
небытия» — юу, где под y понимается подоснова мирозда-
ния, не имеющая конкретных вещественных форм и совпа-
дающая по ряду характеристик с космическим ДаоЫ6. При-
менительно непосредственно к художественному произведе-
нию данная категория означала передачу в нем обеих форм —
«наличествующего» и «отсутствующего» — бытия, для чего
использовались семиотические лакуны — пауза в музыкаль-
ном или поэтическом тексте, пустое пространство в живо-
писной или архитектурной композиции. A так как в смыс-
ловом аспекте сюанъ коррелирует с такими понятиями, как
«темное» (сюанъ), «белое» (бай)> «пресное», то все они со
временем превратились в самостоятельные эстетические ка-
тегории, занявшие важное место в теории живописи.
Даосские художественные воззрения и эстетические
установки в отличие от конфуцианских в течение многих
столетий не сказывались на состоянии национальной твор-
ческой деятельности, либо были задействованы в тех ее
областях, от которых не сохранилось их вещественных сви-
детельств. Поэтому считается, что они обрели практиче-
скую состоятельность и концептуальную целостность лишь
в III—IV вв., что произошло под воздействием всего комп-
лекса уже известных нам историко-политических и куль-
турно-идеологических факторов.
Влияние даосских художественных воззрений на твор-
ческую реальность впервые становится очевидным для по-
этической практики и литературно-теоретической мысли
начала III в.: почти одновременное появление самостоя-
тельной традиции авторской лирической поэзии и обосно-
вывавшего ее эстетико-эмоционального подхода к художе-
ственному творчеству. Выделение авторской лирической
поэзии единодушно связывается в китайской филологии и
в научных литературоведческих исследованиях с Цзянъ-
аньской поэзией Щзянъанъ фэнгу) — литературно-поэти-
ческим направлением, центральными темами которого стали
эмоциональный мир человека и проблемы индивида, взя-
тые отдельно в хаосе историко-политических событий147.
344
Концептуализируя данное явление и другие поэтические
реалии своего времени, литературно-теоретическая мысль
эпохи Шести династий выдвигает тезис о сущности и пред-
назначении поэзии как выразительницы именно психоэмо-
ционального состояния человека: «Чувства-цин есть основа
изящной словесности, a словесный узор (вэнъ) — телесная
субстанция чувств». Параллельно в эстетико-эмоциональ-
ном подходе признавалась и необходимость выражения в
поэтическом произведении и волиу т. е. нравственных ка-
честв его создателя, a также была продолжена разработка
формальных художественных критериев. К важнейшим из
них относятся требования соответствия идейного наполнения
и внешнего плана произведения, гармоничности и согласо-
ванности всех составляющих их компонентов. Все концепту-
альные положения и художественные критерии, выдвинутые
литературно-теоретической мыслью, были восприняты и на-
рождавшейся в то время теорией живописи.
И все же главным достижением культуры эпохи Шести
династий с точки зрения реализации в ней даосских худо-
жественных воззрений стало создание образа творческой
личности и ее жизненного стиля, что связывается с «Учени-
ем о сокровенном» (Сюанъсюэ) и производным от него куль-
турно-идеологическим течением «Ветер и поток» (Фэнлю).
«Учение о сокровенном» представляет собой новую ре-
дакцию древней даосской философии. Квалифицируемая в
недавнем прошлом как «неодаосизм», эта редакция в дей-
ствительности является своего рода даосско-конфуциан-
ским сплавом, в котором причудливо сплелись философ-
ский абсолютизм даосов и общественная мораль конфуци-
анцев. Детище философов Ban Би (226-249) и Хэ Яня
(190-249), входящих в ближайшее окружение клана Цао,
«Учение о сокровенном» должно было стать государствен-
ной идеологической системой основанного этим кланом
царства Вэй. Системой, которая смогла бы заменить собой
ставшее к тому времени откровенно ортодоксальным и бю-
рократизированным конфуцианство, содействовать рестав-
рации централизованного имперского государства и послу-
жить идейным оправданием политики, проводимой цент-
ральной администрацией. Однако после низложения клана
Цао и прихода к власти нового правящего дома, даосские
идеи, содержавшиеся в Учении о сокровенном, преврати-
лись в обоснование, напротив, антиправительственных и
антиобщественных настроений, охвативших служилую ин-
теллигенцию во второй половине III в. Все эти настрое-
ния как раз и вылились в «Ветре и потоке». Следует при-
знать, что его обозначение как культурно-идеологического
течения условно, так как оно не имеет сколько-нибудь чет-
кого концептуального и организационного оформления.
Идеи и идеалы Фэнлю излагаются в литературных, пре-
имущественно поэтических, произведениях, скорее в виде
деклараций, чем теоретических построений. Оно также не
было строго связано ни с одной определенной философской
школой, аккумулируя в себе различные по происхожде-
нию идеологемы, и ни с одним существовавшим в то время
148 Общий смысл этого те-
чения задается уже в его тер-
минологическом названии, в
котором используются образы
«ветра» и «воды» в их даос-
ско-философских истолкова-
ниях. В противовес значени-
ям «ветра» в конфуцианской
традиции, где, напомним, так
образно обозначались нравы и
настроения народонаселения
страны, в древнем даосизме
(«Чжуан-цзы») он служил оли-
цетворением спонтанности, не-
предсказуемости и неуправля-
емости природных стихий и
космических процессов и, че-
рез данные ассоциации — во-
площением бытия человека,
следующего принципам «есте-
ственности». «Вода», в допол-
нение к ее ассоциациям с Дао-
потоком, наделяется в древней
даосской философии миропо-
рождающими и мирообновля-
ющими свойствами: будучи са-
мой мягкой и слабой природ-
ной сущностью, она не знает
себе равных в способности
преодолевать любое твердое и
крепкое, любые преграды и
препятствия и, одолевая их,
способствует обновлению ми-
роздания.
149 Несмотря на то, что это
объединение впоследствии ста-
ло восприниматься в качестве
чуть ли не решающего явле-
ния духовной и литературной
жизни Китая указанного пери-
ода, на самом деле оно просу-
ществовало очень недолго, рас-
павшись сразу же после казни
Цзи Кана. Дальнейшие судь-
бы его членов сложились по-
разному, и никто из них, кро-
ме Цзи Кана и Жуань Цзи,
не оставил заметного следа в
истории китайской поэзии.
В историческом плане фигу-
ры «славных мужей» тоже
не были столь однозначными.
Тот же Цзи Кан в действи-
тельности принимал активное
участие в современной ему
политической жизни страны.
Происходивший из старого
служилого рода и будучи му-
жем принцессы клана Цао, он
встал в открытую оппозицию
дому Сыма, готовящему госу-
дарственный переворот, за что
и поплатился жизнью. Подоб-
ное противоречие между идей-
ными позициями и реальны-
ми акциями было характерно
и для основоположников «Уче- .
ния о сокровенном»: публично
отрекаясь от Конфуция и всех
тех, кто ратовал за обществен-
ную деятельностъ, они занима-
ли ответственные посты в ад-
министрации царства Вэй. Сле-
довательно, образ «великого
человека» исходно не был куль-
турно-политической реалией.
социальным институтом. Тем не менее «Ветер и поток»
сразу занял исключительно важное место в духовной жиз-
ни китайского общества.
Взяв на вооружение древние натурфилософские и даос-
ско-философские идеи, a также принципы «естественности»
и «не-деяния»148, последователи «Ветра и потока» развили
положения о внутренней свободе личности и ее внерефлек-
торной чуткости к Дао, провозгласив их единственными
ценностными ориентирами. Ими был предложен фактиче-
ски новый для национальной культуры идеал личности —
«настоящий» («совершенный») или «великий человек»
(чжэнъжэнъ, дажэнъ), который решительно отвергает лю-
бые принятые в человеческом обществе регламентации и
повседневные правила и руководствуется в своей жизнен-
ной активности, включая каждодневные поступки, исклю-
чительно «космическими ритмами». Конкретное воплоще-
ние этот идеал личности находит в образе «славного мужа»
(минши). «Славные мужи» — так почитаются многие исто-
рические лица второй половины III в. во главе со знамени-
тыми мыслителями и литераторами того времени Цзи Ка-
ном (223-263) и Жуань Цзи (210-263) и членами созданно-
го ими литературно-поэтического объединения «Семеро
мудрецов из бамбуковой рощи» («Чжу линъ ци сянъ»)149,
изображения которых воспроизведены на известном нам ке-
рамическом панно.
Определяющей характеристикой «Ветра и потока» вы-
ступает общая трагичность его мировосприятия. Доказа-
тельства несовершенства природы человека и человеческо-
го общества, картины жизни, проходящей в хаосе всевоз-
можных бедствий и испытаний, — таковы центральные
темы и мотивы произведений, созданных в русле этого
течения. В противовес максимализму древних даосов осо-
бую остроту в культуре Фэнлю приобрела и проблема смер-
ти, оборотной стороной которой стало осознание неповто-
римости и самоценности каждого жизненного мгновения.
В целом поэзия «Ветра и потока» — это поэзия открове-
ния, экстатического переживания мира и бытия человека,
духовного порыва «за пределы Неба», что позволяет соотно-
сить с разбираемым течением первую в китайской культуре
сознательную попытку конструирования поэтического виде-
ния мира, удовлетворяющего запросам не разума, но серд-
ца. Подобное эмоционально-поэтическое мировосприятие
привело к абсолютизации творческой деятельности как та-
ковой. Будучи одним из видов занятий человека, она пре-
вратилась в способ его существования, a искусство стало
формой связи, языком коммуникации индивида с Абсолю-
том и с реальным, бытийным миром. Параллельно в «Ветре
и потоке» начали складываться и поведенческие стереоти-
пы художника, соответствующие жизненному стилю «слав-
ных мужей». Из легенд и апокрифов о них известно, что
этот жизненный стиль включал в себя демонстративное пре-
небрежение человека к служебным обязанностям, его под-
черкнутое равнодушие к материальным благам и карьере,
непредсказуемость его поведения, экстравагантность внеш-
346
него вида и поступков. Особое значение в нем придавалось
также винопитию. С точки зрения последователей «Ветра
и потока», вино обладает исключительной способностью
притуплять рассудочную и эмоциональную деятельность
человека, позволяя ему абстрагироваться от происходяще-
го, достичь состояния «внутренней бесстрастности» и «слия-
ния с Дао». Так в облик творческой личности и в творче-
ский процесс был привнесен еще один качественно новый
по сравнению с собственно даосскими художественными
воззрениями штрих — желательность пребывания худож-
ника в экстатическом состоянии, вызванном вином150.
И наконец, последний, по времени его возникновения,
набор императивов в китайском художественно-эстетиче-
ском каноне был разработан буддизмом.
150 Первым проявлением
такого отношения к винопи-
тию стало литературно-поэти-
ческое объединение «Восемь
свободных духом» («Бада»)>
созданное духовным преем-
ником Цзи Кана и Жуан Цзи
поэтом Юй Аем (262-311).
Члены этого объединения про-
водили время в нескончаемых
застольях, во время которых
раздевались донага в знак не-
приятия правил общежития и
рукотворных изделий как оли-
цетворения «искусственного».
Позже философия винопития
была изложена в цикле «За
вином» поэта Тао Юаньмина
(Тао Цянь, 3657-427).
В китайской культуре и в буддологических исследова-
ниях существует несколько версий времени и обстоятельств
появления буддизма на Дальнем Востоке. Наибольшим
признанием в науке пользуется точка зрения о том, что
проникновение буддизма в Китай, вероятнее всего, прохо-
дило по двум основным маршрутам — из Центральной Азии
(по маршруту Великого шелкового пути) и из Юго-Восточ-
ной Азии, и что первые отчетливые признаки существова-
ния там буддайской общины (сангха) прослеживаются в
первой трети I в. в южных районах страны, где проходили
оживленные торговые пути из Индокитая и Малайи.
Другой вариант возникновения китайско-буддийской
традиции предлагается в легенде, получившей распростра-
нение в эпоху Шести династий. В ней повествуется о явле-
нии Будды во сне ханьскому императору Мин-ди, вслед за
тем в страну прибыл монах Кашъяпа Матанга, привезший
с собой сутры и статую Будды. Для хранения этих реликвий
и для обитания самого монаха-миссионера в 68 г. в восточ-
ном пригороде столицы (Лоян) был заложен монастырь, на-
званный в память о его прибытии (на белом коне) «Мона-
стырь Белой лошади» (Баймасы)151. Если верить очередной
легенде, то уже в 71 г. был воздвигнут и первый горный
монастырь, построенный в горах Суншань, т. е. в одном из
самых священных для китайской культуры мест. He выдер-
живая критики как исторические документы, приведенные
легенды свидетельствуют о том, что в официальной обще-
ственно-политической мысли и в народной памяти появле-
ние буддизма в Китае устойчиво связывалось с покровитель-
ством, оказываемым ему местными верховными властями152.
Ключевой этап в истории китайско-буддийской тради-
ции приходится, напомним, на эпоху Шести династий, ког-
да буддизм превратился в одну из нормативных для китай-
ской культуры идеологических систем. Тогда же прояви-
лись и все его типологические особенности, отличающие его
от эталонного (индийского) буддизма. Эти особенности были
предопределены, во-первых, тем обстоятельством, что в рас-
поряжении китайско-буддийского духовенства изначально
оказался чрезвычайно разнообразный набор оригинальной
РОЛЬ БУДДИЗМА
В ИСТОРИИ
ИСКУССТВА
И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
МЫСЛИ КИТАЯ
(ЭСТЕТИЧЕСКИЕ
ИДЕИ ШКОЛЫ
ЧАНЬ)
151 Этот монастырь после
его многочисленных перестро-
ек и реставраций функциони-
рует и по сей день, являясь
одним из крупнейших и по-
читаемых буддийских центров
КНР и всего Дальнего Востока.
152 Косвенными доказатель-
ствами достаточно быстрого
дальнейшего роста популяр-
ности буддизма в среде китай-
ской социальной элиты вы-
ступают археологические мате-
риалы, воспроизводящие образ
Будды и буддийские образы.
Такое отношение к чужезем-
ному вероучению объясняет-
ся тем, что оно воспринима-
лось китайцами как верования
и литургические церемонии,
связанные с культом Будды —
божества, a не учителя, и без
осознания принципиальных
различий между ними и на-
циональными верованиями и
культами. Начальный этап
подлинного знакомства ки-
тайцев с буддизмом наступил
лишь во второй половине II в.,
благодаря наставнической и
переводческой деятельности
буддийского миссионера Анъ
Шигао (парфянский принц до
принятия им монашеского обе-
та). Считается, что он прибыл
в Китай в 148 г. и перевел,
по разным данным, от 40 до
90 свитков буддийских кано-
нических текстов.
347
153 Покровительство, ока-
зываемое ему первыми тан-
скими императорами, объяс-
няется в легендах конкретным
историческим прецедентом:
спасением будущего основате-
ля танской династии, попав-
шего во вражескую засаду,
монахами знаменитого Шао-
линъского монастыря (в го-
рах Суншань).
154 Это изменение связыва-
ют с акциями императрицы
У Xoy, которая использовала
буддийские социально-полити-
ческие концепции для оправ-
дания совершенного ею госу-
дарственного переворота.
литературы: тексты, принадлежащие различным школам и
направлениям, монашеские уложения, записи легенд и схо-
ластические выкладки разных по своей конфессиональной
принадлежности теоретиков. Во-вторых, лингвистические
трудности — использование при переводах неадекватных
неологизмов или конфуцианской и даосской терминологии.
В результате уже в момент становления первых китайско-
буддийских школ (вторая половина IV в.) их теоретические
построения отличались явным эклектизмом и далеко не все-
гда верным пониманием буддийских концепций. He менее
важно, что вслед за разделением Китая на Север и Юг
произошло разветвление китайского буддизма на северное
и южное направления, которые весьма различаются между
собой. Дальнейшее развитие второго шло под определяю-
щим воздействием собственно китайской культуры и тех
ее феноменов и реалий, которые были свойственны куль-
турной традиции именно южных регионов страны, тогда
как на Севере буддизм вступил в контакт с центральноази-
атскими по происхождению и преимущественно шаман-
скими по типу верованиями, над которыми он имел безус-
ловное превосходство. Кроме того, власти тобийского госу-
дарства Тоба Вэй значительно активнее, чем китайские
правительства, приглашали индийских и центральноазиат-
ских священнослужителей, зодчих и художников для стро-
ительства и оформления буддийских храмов. Поэтому, если
южно-китайское направление внесло наиболее значитель-
ный вклад в последующую эволюцию буддийской теорети-
ческой мысли и духовности, то история формирования ки-
тайско-буддийского культового искусства во всех его прояв-
лениях (скульптура, живопись, архитектура) связывается в
первую очередь с северным направлением.
Наивысшего расцвета своей интеллектуальной мощи и
политического авторитета буддизм достиг в VII-VIII вв.
(в первой половине танской эпохи)153. Но затем отношение
верховных властей к буддийской церкви и монашеской об-
щине изменилось в худшую сторону154. В первые десятиле-
тия IX в. был издан ряд декретов, резко ограничивающих
их имущественные и общественные права. A в 845 г. буд-
дизм подвергся тотальным репрессиям: 45 тысяч монасты-
рей и кумирен были закрыты и разграблены, монашествую-
щие насильно возвращены в мир. Хотя в последующие исто-
рические эпохи буддизм не раз еще переживал этапы
расцвета, он никогда уже не достигал таких высот, как в
первую половину Тан. При монголах и маньчжурской дина-
стии в Китай проник тибетский вариант буддизма, внесший
новую струю в китайско-буддийское искусство. К началу
XX в. буддизм почти полностью растворился в простонарод-
ных верованиях, a его важнейшими социальными функция-
ми стали обеспечение погребальной обрядности, исполнение
поминальных церемоний и благотворительность, что, впро-
чем, мало сказалось на внешнем великолепии Церкви.
Такова вкратце история развития китайско-буддийской
традиции, к отдельным аспектам которой мы еще неоднократ-
но будем обращаться в разговоре о буддийском искусстве.
348
Известно, что, испытав на себе значительное влияние
китайской культуры, буддизм тем не менее привнес в нее
множество различных новаций. К важнейшим новациям
общекультурного плана относятся: появление в китай-
ском обществе монашеской общины как особого типа соци-
ального института, знакомство китайцев с совершенно не-
известными им сотериологическими идеями и учениями —
учением о круге новых рождений (сансара) и воздаянии
за прижизненные поступки (карма), мифологемами ада и
рая, a также с развитым и структурированным божествен-
ным пантеоном. Столь же многогранным и плодотворным
было воздействие буддизма непосредственно на художе-
ственную культуру Китая. Он не только обогатил ее тради-
циями культового искусства и зодчества как таковыми, но
и способствовал возникновению новых литературных те-
матических направлений и жанров и изобразительных
средств155.
Что касается собственно эстетической мысли, то наи-
более значимым для нее оказалось учение Школы Чань
(«Созерцания»), больше известной в Европе по ее японско-
му варианту (Дзэнбуддизм)156. Особенностью учения Чань
признается возможность внезапного постижения истины
через интуитивное — спонтанное, внезапное и мгновенное —
«озарение» («просветление»), которое возникает как бы про-
извольно и ссзершенно неожиданно для самого адепта. Хотя
данное учение уходит корнями в индо-буддийскую тради-
цию, общепризнано, что его возникновению в равной сте-
пени способствовали и национальные китайские философ-
ские и религиозные представления, в первую очередь дао-
сизм. Поэтому чаньские эстетические идеи суть стадиально
новый вариант даосских художественных воззрений и ус-
тановок в трактовках, утвердившихся в «Ветре и потоке».
Они тоже распространялись на все виды творческой дея-
тельности, включая поэзию, но эффективнее всего сказа-
лись на живописном искусстве.
В школе Чань была разработана уже целостная эстети-
ческая концепция, в которой были окончательно стерты
границы между жизнью и творческой деятельностью, что
и позволило перенести на нее все принадлежащие чаньско-
му учению религиозно-философские положения. Утверж-
дение, что постижение истины не требует исключительных
условий, повлекло за собой признание любого, даже самого
обыденного и невзрачного, на взгляд простых людей, пред-
мета быть источником вдохновения и объектом художе-
ственного освоения. В этом заключается исходный посту-
лат эстетической программы Чань, позволивший ей еще
более резко, чем даосские эстетические установки, проти-
востоять официальному искусству, требовавшему от ху-
дожника обращения исключительно к «изысканному» и
«утонченному». Вместе с тем, вдохновение, через его уподоб-
ление внезапному и мгновенному «озарению», провозглаша-
ется обязательно спонтанным. A значит, художественное
произведение должно создаваться экспромтом, «на од-
ном дыхании», без изучения натуры, эскизных набросков
155 Первые светские лите-
ратурные — поэтические и
прозаические — произведе-
ния на буддийские темы тоже
появились еще в эпоху Шес-
ти династий, заняв немало-
важное место в ее художествен-
ной словесности. В ѴІ-Х вв. в
китайской литературе утвер-
дился специальный песенно-
повествовательный жанр —
бянъвэнъ, в произведениях ко-
торого перелагались сюжеты
из буддийских канонических
и околоканонических сочине-
ний. Учитывая, что эти про-
изведения активно использо-
вались в театрализованных
представлениях, правомерно
говорить и о вкладе буддизма
в историю развития китай-
ского театра.
156 Ее основателем счита-
ется полулегендарный индий-
ский миссионер Бодхихарма
(вторая половина V — нача-
ло VI в.), a оформление ее ос-
новных доктрин приписыва-
ется по большей части ее Ше-
стому патриарху — Хуэйнэну
(638-713).
349
и тому подобных предварительных усилий и подготови-
тельных работ. Соответственно в нем фиксируется и мгно-
венное впечатление субъекта, но впечатление, воплощаю-
щее не только и не столько моментальную визуальную
рецепцию внешнего вида изображаемого, сколько его
трансцендентную сущность, находящуюся в единстве и
неразрывности с этим мгновенным, визуально ухвачен-
ным ее проявлением. В результате в чаньской эстетике
устанавливаются совершенно особые связи между худож-
ником и материалом/натурой. Если, скажем, европейский
художник как бы преобразует и совершенствует инерт-
ную, с его точки зрения, натуру, подчиняя и трактуя ее
исходя из созревшего y него художественного замысла, то
чаньский мастер полагает материал равным своей твор-
ческой активности и готов, если надо, подчиниться ему.
«Чтобы изобразить дерево — надо почувствовать себя де-
ревом, одеревенеть; для этого — встать с ног на голову.
Bot что такое естественность в живописи деревьев» — та-
ков один из основных постулатов чаньской эстетики. В ней
утверждается и равенство между процессами сотворения
и восприятия произведения искусства. Коль скоро в твор-
ческом акте самое важное — увидеть и создать образ уви-
денного, то нет никаких принципиальных различий меж-
ду лицезрением натуры и живописного произведения, при
созерцании которого, зритель создает в самом себе его
образ. Так зритель как бы становится соавтором худож-
ника, оставляя за собой право на собственное субъективи-
рованное восприятие и его произведения, и объекта, по-
служившего тому натурой.
Изложенные эстетические принципы обусловили и все
формальные особенности чаньского искусства — от семи-
отической организации произведения до отдельных тех-
ник. Внезапность вдохновения и моментальность творче-
ского акта диктовали предельно возможную лаконичность
и эскизность рисунка, в котором даже малейший штрих
приобретает художественную самоценность и смысловую
самодостаточность. Нанесение на поверхность одной-един-
ственной линии уже означало создание живописной ком-
позиции, передающей мир, разделенный на Небо и Землю.
Из живописных техник предпочтение отдавалось монохром-
ной гамме с использованием туши, причем все оттенки
туши наделялись самостоятельными символическими зна-
чениями (подробно см. глава 8). В качестве орудия письма
могла использоваться не только кисть, но и любые другие
предметы, сколько-нибудь пригодные для письма. Выпол-
ненный ими рисунок обладал еще большими, чем при упот-
реблении кисти, «естественностью» и «простотой». Понят-
но, что подобные приемы усиливали содержательную неза-
вершенность, «недосказанность» произведения, открывая
широкий простор для его рецепции-«разгадки» зрителем.
Поэтому восприятие чаньских произведений живописного
искусства, равно как и понимание чаньских поэтических
текстов, исключительно индивидуально и не поддается ка-
ким-либо стандартным трактовкам.
Сколь бы притягательной ни казалась чаньская эстетиче-
ская концепция, не следует преувеличивать силу ее влияния
ни на китайскую эстетическую мысль, ни на художествен-
ную практику. Часть ее идей и установок, в чем мы убедимся
при рассмотрении истории китайской станковой живописи,
так и осталась на периферии местного искусства; часть и
вовсе оказалась им не востребована. Наибольшее распростра-
нение в китайской художественной культуре получили идеи
спонтанности вдохновения, моментальности творческого акта,
повышенной семантической значимости и энигматичности про-
изведения искусства, которые совпадают с натурфилософски-
ми и даосско-философскими художественными воззрениями
и, что не менее важно, могут быть использованы вне их пря-
мой связи с буддийским вероисповеданием. Поэтому мы вправе
относить эстетическую программу школы Чань к той общей
магистральной художественной линии, которая восходит еще
к древней чуской творческой деятельности.
Итак, формирование китайского художественно-эсте-
тического канона началось в глубинных слоях националь-
ной архаики и продолжалось на протяжении многих исто-
рических эпох. В своем окончательном виде, сложившемся
к VII-VIII вв., он представляет собой полисемантическое и
полиморфное образование, состоящее из нескольких струк-
турных уровней, которые отчетливо распадаются на два глав-
ных отдела. В первый из них входят императивы, обуслов-
ливающие авторитет и действенность художественного твор-
чества в качестве элемента системы государственности и
предназначенные для удовлетворения духовных потребно-
стей общества. Будучи порождением древнейших религиоз-
но-космологических представлений и обрядовых практик,
принадлежавших центральнокитайскому культурному суб-
страту, в которых художественное творчество наделялось
сакральным смыслом и магическими функциями, они полу-
чили дальнейшее развитие и теоретическое обоснование в
натурфилософии и конфуцианстве, которые упрочили соот-
ветственно космологическую семантику творческой деятель-
ности и ее общественный статус. Второй отдел образуют
императивы, направленные на обоснование, напротив, сугу-
бо индивидуализированной творческой деятельности, пред-
назначенной для удовлетворения исключительно персональ-
ных духовных запросов человека и способствовали раскры-
тию его психоэмоционального состояния. Они обязаны своим
происхождением культурной и религиозной традиции юж-
ного региона Древнего Китая и были теоретически разрабо-
таны и концептуализированы в древней даосской филосо-
фии, в производных от нее учениях и культурно-идеологи-
ческих течениях и в школе Чань. В результате китайский
художественно-эстетический канон охватывает собой все
виды и сферы национального искусства.
Сам по себе факт существования такого канона, бес-
спорно, составляет важнейшую специфическую особенность
художественной культуры Китая. Теперь предстоит понять,
каковы были реальные принципы и способы его функцио-
нирования в китайском обществе.
ПРИНЦИПЫ
И СПОСОБЫ ФУНК-
ЦИОНИРОВАНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОГО
КАНОНА
В КУЛЬТУРЕ
КИТАЙСКОГО
ИМПЕРСКОГО
ОБЩЕСТВА
157 В конфуцианстве про-
блема смерти и посмертного
бытия человека практически
не поднималась. Им предла-
галась всего лишь так назы-
ваемая «идея славного име-
ни», доказывающая, что ис-
тинная цель жизни человека
заключается в совершении им
как можно болыпего числа
достойных деяний, дабы за-
служить благодарную память
о себе потомков. Древние даос-
ские мыслители, как мы по-
мним, провозглашали смерть
естественным явлением.
Для того чтобы понять принципы и способы функциони-
рования художественно-эстетического канона в культуре ки-
тайского имперского общества, нам придется обратиться еще
к одному специфическому феномену китайской цивилиза-
ции, в котором также были задействованы различные идео-
логические системы. Это феномен вариативности индивиду-
ального вероисповедания, позволявший человеку практически
одновременно следовать идеалам и ценностным ориентирам,
предлагавшимся столь различными по всем показателям уче-
ниями и вероучениями как конфуцианство, даосизм и буд-
дизм. Указанный феномен впервые отчетливо проявляется в
эпоху ІПести династий в культурной среде высших привиле-
гированных сословий — аристократии и служилой интелли-
генции. Известно немало исторических лиц того времени,
которые одновременно являлись высокопоставленными чи-
новниками и почитались современниками как воплощение
конфуцианской благородной личности, a также были даос-
скими адептами, занимавшимися алхимическими практи-
ками и сохранявшими постоянное членство в даосских шко-
лах, и мирскими последователями буддизма (упасака).
Изучение жизненного пути и творческого наследия этих
лиц позволило прийти к выводу, что феномен вариативно-
сти индивидуального вероисповедания есть проявление не
их личных мировоззренческих позиций, a общих для ки-
тайской культуры закономерностей. Речь идет о механиз-
ме взаимодействия «Трех учений», который осуществлял-
ся на уровне сознания личности по принципу ситуативно-
сти. Конфуцианство выступало культурно-идеологической
доминантой в социальной сфере жизнедеятельности инди-
вида, т. е. в качестве члена социума. Даосская философия,
во-первых, удовлетворяла духовные запросы личности, ле-
жащие вне границ действия конфуцианских морально-эти-
ческих регламентаций, и, во-вторых, играла роль своего
рода психологического амортизатора в тех случаях, когда
человек оказывался в дискомфортной для него как члена
социума ситуации: недооценка его способностей и возмож-
ностей вышестоящими лицами, неудачи на служебном по-
прище, опала и ссылка. Даосско-религиозное направление
заполнило идеологическую нишу, образовавшуюся вслед-
ствие прагматизма конфуцианцев и максимализма даосов
в подходе к смерти157. A так как занятия даосской алхими-
ей не требовали от человека изменения своего социального
статуса, то это направление заняло компенсаторное по от-
ношѳнию к конфуцианству положение.
Буддизм взял на себя частично функции как даосского
философского, так и религиозного направлений, показывая, с
одной стороны, путь к духовному совершенству личности, a c
другой — к «вечному блаженству», которое воспринималось
китайцами альтернативным вариантом решения проблемы
смерти: посредством не обретения бессмертия, a улучшения
формы своего существования в новом рождении с конечным
выходом за пределы круга новых смертей и рождений и до-
стижения нирваны. Статус мирского последователя буддизма
позволял представителям китайской аристократии и служи-
352
лой интеллигенции совмещать буддийское вероисповедание с
исполнением своих общественных обязанностей. К тому же
буддийское морально-этическое уложение по многим пунк-
там совпадало с конфуцианским. Поэтому принятие на себя
обетов упасака вовсе не влекло за собой отречение от конфу-
цианства. Определяющим же фактором возможности возник-
новения механизма взаимодействия «Трех учений» как тако-
вого послужило отсутствие в даосской философии и в конфу-
цианстве развитого религиозного элемента. Да и даосское
религиозное направление не было на самом деле связано с
авторитетом высшего для него божественного персонажа.
Механизм взаимодействия конфуцианства и даосизма
(буддийское «начало» утвердилось в сознании китайцев на-
много позже) начали складываться еще в ханьскую эпоху.
Выделившись в качестве самостоятельного сословия и с
готовностью служа имперскому порядку, служилые интел-
лигенты невольно оказались в плену жестко заданных транс-
персональных регламентаций, идущих в основном от кон-
фуцианской этики. Они добились относительной самостоя-
тельности как социальная сила ценой потери индивидуальной
свободы. И уже в культурной традиции позднеханьских ши
отчетливо прослеживаются попытки компенсации понесен-
ной утраты. Строжайшая нормативность поведения челове-
ка, требуемая от него конфуцианством и официально при-
нятыми устодми, своей оборотной стороной имела полную
свободу антисоциальных действий, если только они нахо-
дились вне рамок этой нормативности, в оправдание чего
как раз и стали привлекаться даосско-философские идеи.
Однако подобные акции носили эпизодический характер,
находясь в зависимости преимущественно от жизненных
реалий и персональных мировоззренческих позиций отдель-
ных представителей служилой интеллигенции, и не приве-
ли к формированию определенного поведенческого стереоти-
па. Возникновению такого стереотипа способствовали исто-
рико-политические события первой трети IV в., которые со
всей убедительностью показали опасность возведения в аб-
солют даосских идеалов внутренней свободы личности и
вынудили служилых интеллигентов приступить к поиску
новых, менее опасных для общества способов совмещения
своего социального долга с нигилистическими настроения-
ми158. Искомым способом стало «праздное» или, в современ-
ной терминологии, досуговое времяпрепровождение.
Модель досугового поведения во многом опиралась на
жизненный стиль «славных мужей», но он претерпел в ней
заметные изменения, в том числе лишившись показной
экстравагантности и демонстративного «бунтарства». Глав-
ным в ней стала возможность смены человеком своих соци-
альных ролей без изменения реального общественного по-
ложения. В момент пребывания на службе чиновник-интел-
лектуал отождествлял себя с конфуцианской благородной
личностью и подчинял свою деятельность, включая твор-
ческую активность, морально-этическим регламентациям.
В момент же досугового времяпрепровождения он осозна-
вал себя даосским или буддийских адептом и предавался
2і6 История искусства Китая
158 Показательно, что в об-
щественно-политической мыс-
ли IV-VI вв. немалая доля от-
ветственности за случившуюся
трагедию возлагалась именно на
последователей «Ветра и по-
тока», с обвинениями их в без-
нравственности, внутренней
распущенности и антиобще-
ственном (в прямом смысле
этого слова) поведении, кото-
рые и подорвали основы об-
щественного порядка, обесси-
лив тем самым национальную
имдерскую государственность.
Более того, сочетание фэн лю
приобрело в китайском языке
значение «разврат», «развра-
щенность», «вести разврат-
ный образ жизни» и даже
«проституция».
353
159 «Многоликость» китай-
ского поэта буквально броса-
ется в глаза даже при самом
беглом просмотре собраний
сочинений и поэтических ан-
тологий. В них сплошь и ря-
дом соседствуют панегирики
в честь правящего дома, фи-
липпики в его же адрес (кри-
тика изъянов политики вер-
ховных властей), назидатель-
ная и гражданская лирика,
стихи на даосско-философ-
ские, даосско-религиозные и
буддийские темы и образцы
любовной лирики с откровен-
но эротическими мотивами.
интеллектуальным и творческим занятиям, которые соответ-
ствовали его персональным духовным потребностям. Процесс
его переходаиз «конфуцианской» ипостаси в «даосскую» обо-
значался набором внешних признаков, в первую очередь на-
меренной небрежностью в одежде (сдвинутая набок чиновни-
чья шапочка, распущенный пояс — рудименты экстраваган-
тности облика «славных мужей»), которая категорически не
допускалась в присутственном месте и при дворе.
По такому же принципу ситуативности, вторя модели
досугового времяпрепровождения, осуществлялось и функ-
ционирование художественно-эстетического канона, что для
эпохи Шести династий лучше всего открывается на материа-
ле поэзии. Будучи участником литургических и придворных
церемоний, китайский литератор выступал в роли поэта-«жре-
ца», который оказывал посредством сакральных словес ми-
роустроительное воздействие на социокосмический универ-
сум и упрочивал авторитет правящего режима. В своей ипо-
стаси конфуцианской благородной личности и, как правило,
в ситуациях придворно-культового характера литератор со-
здавал поэтические произведения, полностью соответствовав-
шие требованиям дидактико-прагматического подхода. Зато
во время досуга воспевал даосские идеалы, доказывал эфе-
мерность мирских деяний и выражал готовность «навсегда
расстатъся с этим порочным миром» во имя постижения Дао159.
В эпоху Шести династий художественно-эстетический
канон стал распространяться и на другие виды творческой
деятельности, в первую очередь на станковую живопись,
развитие которой, равно как и развитие искусства пейзаж-
ного сада, было тоже стимулировано стереотипом досуго-
вого времяпрепровождения.
Стереотип праздного времяпрепровождения стал органич-
ной частью жизненного уклада и собственно аристократии,
включая правящий дом. Среди образцов неформального ис-
кусства есть немало произведений, принадлежащих монар-
хам и принцам крови. Так как в том же конфуцианском
дидактико-прагматическом подходе любая творческая актив-
ность признавалась отражающей способности и качества лич-
ности, то плоды самодеятельного, во время досуга, творчества
аристократов и служилых интеллигентов пользовались столь
же высоким общественным уважением, как и произведения,
относящиеся к официалыюму искусству. Получается, что су-
ществование как официального искусства, так и искусства,
пребывающего за пределами принятых художественных норм
и, более того, нередко открыто протестующего против них, на
самом деле обеспечивалось творческими усилиями одних и
тех же людей, причем принадлежавших к социальной элите
общества. Вот почему в имперском Китае так и не появилась
художественная традиция, хотя бы отдаленно напоминаю-
щая европейское искусство андеграунда.
Вместе с тем наличие для каждой творческой ситуации ее
собственного императива сделало практически невозможным
создание художественного произведения, которое бы действи-
тельно являлось порождением только личного опыта и талан-
та его автора, т. е. отстояло бы от соответствующего культурно-
354
художественного контекста и не наделялось внеположными
по отношению к нему смыслом и функциями. Подавляющее
большинство китайских произведений искусства есть вариа-
ции, не говоря уже о прямых копиях и подражаниях, в
которых поистине до бесконечности варьируется весьма скуд-
ный набор смысловых морфем-архетипов, заданных предше-
ствующими историко-культурными, идеологическими и ху-
дожественными реалиями. Истинным объектом их повество-
вания неизменно выступает некая суммарная эмоция или
вечная тема, которая так или иначе преломляется в воссозда-
ваемом событии и в предлагаемых художником ее трактов-
ках. Его личный опыт не то чтобы полностью остается за
порогом, но приобретает значимость эстетического факта ис-
ключительно в его соотношении с традиционными темами и
формами. К тому же понятие плагиата в Китае вообще от-
сутствовало. Использование «чужого текста», наоборот, чрез-
вычайно высоко ценилось как признак широкой эрудиро-
ванности и профессионального мастерства автора. В потоке
китайской художественной словесности и изобразительного
искусства мы нередко сталкиваемся с натуральными колла-
жами, составленными из ранее самостоятельных фрагментов.
Самобытность и уникальность признанных шедевров тоже
очень часто оказывается весьма относительной, если сравни-
вать их с предшествующим и последующим художественным
творчествоіѵи Одаренность, индивидуальность и самобытность
китайского художника воплощаются, как правило, в мало-
приметных и малопонятных европейской аудитории деталях
и нюансах — в обыгрывании, скажем, привычных (для мест-
ных читателей и зрителей) образов, формул и приемов, не-
ожиданном столкновении элементов, принадлежащих раз-
личным культурно-художественным контекстам, новой гра-
ни знакомого сюжета, привнесении в повествование или
живописную композицию свежей интонации. Сказанное
относится не только к произведениям высокого, элитарно-
го искусства, но и к массовой художественной продукции,
которая также в обязательном порядке наделялась некими
семантическим смыслом и общественными функциями.
Указанные характеристики китайского искусства требо-
вали особых изобразительных средств, способных их вопло-
тить. Насущно необходима была такая образная система,
которая бы, во-первых, обладала художественной универ-
сальностью (в силу универсальности самого художественно-
эстетического канона), т. е. могла бы адекватно реализовы-
ваться и в словесных, и в визуальных формах. Во-вторых,
могла бы передавать содержательную полифонию (обуслов-
ленную полисемантичностью императивов) конкретного про-
изведения и обеспечивать ассоциативные связи его внешне-
го плана с внутренним смысловым наполнением. В-третьих,
устанавливать корреляции произведения с общим культурно-
художественным контекстом и отдельными составляющими
его величинами. Такой знаковой системой как раз и высту-
пает китайская образность, являющая собой столь же слож-
ное по происхождению и структуре образование, как и ху-
дожественно-эстетический канон.
ГЛАВА
ОБРАЗНАЯ
СИСТЕМА
КИТАЙСКОГО
ИСКУССТВА
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
КИТАЙСКОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ОБРАЗНОЙ
СИСТЕМЫ
Образная система китайского искусства прошла приблизи-
тельно тот же путь развития, что и художественно-эстети-
ческий канон, с той только существенной разницей, что
процесс ее формирования начался еще в неолитической
предметно-творческой деятельности и продолжался вплоть
до конца существования имперского Китая.
Первой важнейшей типологической особенностью китай-
ской образной системы правомерно считать наделение зна-
менательной функцией не только фигуративных изображе-
ний и орнаментальных мотивов, но и практически всех
морфолого-семиотических единиц произведения — его кон-
фигурации, числовых (размеры, комплектация наборов из-
делий, количество архитектурных деталей и т. д.) и цвето-
вых показателей. Такого типа морфолого-семиотические еди-
ницы далеко не всегда, разумеется, имеют самостоятельную
эстетическую ценность и, следовательно, не могут быть при-
знаны художественными образами в строгом искусствовед-
ческом понимании этого термина. He вдаваясь в подробно-
сти дискуссий по поводу определения художественной об-
разности, которые до сих nop продолжаются в специальной
литературе, оговорим лишь, что и в данном случае предпоч-
тительнее, думается, руководствоваться не европейскими
искусствоведческими и эстетическими дефинициями, a соб-
ственно китайскими художественными реалиями.
Следующей типологической особенностью китайской
образной системы выступает, о чем бегло упоминалось в
предыдущем разделе, ее универсальность, т. е. способность
адекватно реализовываться как в визуальных, так и в сло-
весных (литературных) формах. Конечно, между словес-
ными и литературными формами каждого отдельного об-
раза (знаковой единицы) существуют определенные несов-
падения. Кроме того, далеко не все литературные образы
имеют свои визуальные аналоги. Тем не менее для подав-
ляющего болыпинства визуальных образных форм, начи-
ная с геометрических фигур и хроматических элементов,
самой же письменной традицией указываются их литера-
турные аналоги, через которые они обычно и расшифровы-
356
ваются. Поэтому при реконструкции истории и символики
китайских визуальных образов необходимо постоянно об-
ращаться к письменным источникам и сопоставлять их с
литературно-художественной образностью.
Еще один существенный аспект художественных обра-
зов — их функционирование в качестве государственной
символики, включая ранговые значения. Этот аспект нахо-
дит наиболее полное и наглядное воплощение в семиотике
и декоре костюма, который по ряду показателей представ-
ляет собой явление подлинно общекультурного характера.
Речь прежде всего идет об императорском парадно-риту-
альном облачении и об официальном чиновничьем одея-
нии, все конструктивные и декоративные детали которых
обязательно имели знаково-информативный смысл, указы-
вая на социальный статус человека, его положение в адми-
нистративной иерархии и даже место, занимаемое им в
общей структуре социокосмического универсума. Перво-
очередными декоративно-символическими элементами ко-
стюма являются эмблемы-чжан, имеющие две главные раз-
новидности: шиэр («двенадцать») — для императорского
облачения, буфан («нашивной квадрат») — для чиновни-
чьего одеяния160.
Третья важнейшая типологическая особенность китай-
ской образной системы — сложность строения ее собствен-
ной композиг^ии. Исходя из степени абстрактности, состав-
ляющие ее образы распределяются по четырем основным
структурным разделам: 1) абстрактно-символическая об-
разностъ, включающая в себя геометрические фигуры и
комбинации, числовую и цветовую символику; 2) предметно-
символическая образностъ9 состоящая из собственно худо-
жественных, стилизованных (вплоть до геометризирован-
ных элементов) и символических изображений природных
сущностей (элементы ландшафта, стихии, атмосферные
явления) и предметов и рукотворных изделий; 3) расти-
телъная образностъ; 4) зооморфная образностъ, к кото-
рой относятся и изображения фантастических персонажей.
Все перечисленные образные ряды проявляются уже в
неолитическом искусстве (росписи на керамике, пластика,
орнаментация нефритовых изделий), возникнув, скорее
всего, под непосредственным воздействием архаических
верований и миропознавательных представлений. В даль-
нейшем они были интегрированы в оформленные идеоло-
гические системы: мифологические представления, натур-
философские концепции, конфуцианство, даосизм, в кото-
рых приобрели новые символические значения. Поэтому
большинство китайских художественных образов облада-
ют полисемантикой и могут восприниматься в совершенно
разных — религиозно-мифологическом, натурфилософском,
конфуцианском, даосском, буддийском — их значениях.
Кроме того, есть и внушительное число образов, происхож-
дение которых было обусловлено только омонимичностью
звучания соответствующих иероглифов с иероглифами, пе-
редающими положительные, с точки зрения китайцев, яв-
ления и категории.
160 Шиэр стали обязатель-
ной принадлежностью импе-
раторского облачения еще в
Ів., предположительно имея
гораздо более древние истоки.
Именно в них были задейство-
ваны опорные и универсаль-
ные для китайского офици-
ального искусства образные
ряды, воспроизводящие ком-
позицию и координаты со-
цио-космического универсу-
ма, включая космографиче-
ские и астральные символы.
Буфан представляют собой
вышивки или тканые карти-
ны, помещаемые на спине и
на груди. Они исполняли в
первую очередь функцию зна-
ков различий 9 высших ран-
гов гражданских и военных
чиновников. Практика поме-
щения таких эмблем на чи-
новничий официальный кос-
тюм зародилась в юаньскую
эпоху и утвердилась при Мин
с превращением их в целост-
ную знаковую комбинацию.
Буфан включают в себя изоб-
ражения животных и птиц,
причем именно в тех их трак-
товках, которые были приня-
ты в официальном художе-
ственном творчестве.
357
Особо здесь выделяется благопожелательная образность,
символически воспроизводящая так называемые «пять ус-
ловий счастья» (у фу). Первый вариант этого аксиологи-
ческого набора предлагается в каноническом конфуциан-
ском сочинении «Канон истории» («Шу цзин»), в котором
y фу определяются так: 1) долголетие (шоу); 2) благососто-
яние/богатство (фу); 3) здоровье и безмятежность (кан нин),
что означает пребывание человека в хорошей физической
форме и в состоянии внутренней безмятежности; 4) доволь-
ствование благими качествами (шоу хао дэ), т. е. следова-
ние морально-этическим регламентациям и совершение бла-
гонравных деяний; 5) достижение старости и естественной
кончины (лао чжун мин) или жизнь до конца, отпущенно-
го судьбою (као чжун мин), что означает пожелание избе-
жать преждевременной и насильственной смерти (в бою,
пасть жертвой убийцы, быть казненным и т. д.). Несколь-
ко другой вариант набора «пяти условий счастья» возник
при Хань: 1) долголетие (шоу); 2) благосостояние/богатство
(фу); 3) знатность (гуй), что включало в себя и успешную
служебную карьеру {лу); 4) покой (анълэ), тоже означав-
ший и душевный покой человека, и его пребывание в мире
и согласии с окружающими людьми, и мир в стране, и
семейное счастье; 5) многочисленное мужское потомство.
Вокруг этих двух наборов концентрируется значительная
часть художественных образов, даже если они имели и
другие символические значения.
В образную систему могли в принципе включаться лю-
бые морфолого-семиотические единицы, символы и худо-
жественные изображения. Мы остановимся только на са-
мых распространенных из них.
АБСТРАКТНО-
СИМВОЛИЧЕСКАЯ
ОБРАЗНОСТЬ
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ
И ЧИСЛОВАЯ
СИМВОЛИКА
Опорными геометрическими образами являются круг и
квадрат, символизирующие, как упоминалось выше, небо и
землю. Напомним также, что круг имеет, судя по всему,
исходную солярную, a не ураническую символику. И в «над-
писях на гадательных костях», и в чжоуской бронзовой
эпиграфике (надписях на сосудах) слово «солнце» переда-
валось через графическую комбинацию, состоящую из кру-
га с точкой посередине. Подобные комбинации встречают-
ся уже в росписях на неолитической керамике. Однако
начиная по меньшей мере с чжоуской эпохи круг стал
однозначно соотноситься именно с небом, что находит, в
частности, отражение и в принятых истолкованиях нефри-
товых дисков-бц. В дальнейшем все производные от круга
и квадрата геометрические фигуры — овал, прямоуголь-
ник — стали наделяться такой же символикой, a любые
варианты их сочетаний передают вертикально ориентиро-
ванную космологическую модель и олицетворяют единство
ыеба и земли как Мужского и Женского космических на-
чал, которые знаменуют собой состояние наивысшей степе-
ни гармонии вселенной и человеческого общества. Поэтому
такие сочетания могут реализовываться практически в лю-
бых видах художественного и прикладного творчества. Они
358
составляют семиотическую схему архитектурных ансамб-
лей, костюма, архитектонической и орнаментальной компо-
зиций императорских регалий и изделий декоративно-при-
кладного искусства (в том числе оформление зеркал) и т. д.
Один из хрестоматийных примеров — монета-цянъ. От-
даленная, напомним, родственница нефритового диска-бы,
она приобрела свой окончательный вид, с точки зрения
формирования ее основных черт, в танскую эпоху, оконча-
тельно превратившись в круг с квадратным отверстием по-
середине. Такие монеты были выпущены почти сразу же
после прихода к власти Тан (621 г.) и продержались в Ки-
тае более 1200 лет. Номинал мояеты-цянъ был настолько
ничтожен, что она даже не является собственно денежной
единицей. В качестве таковых использовались связки мо-
нет в 1000 или 500 цяней. Тем не менее именно она до
начала XX в. была главным государственным средством
денежного обращения, что объясняется общественным ав-
торитетом бронзового сплава, который так и остался в гла-
зах китайцев символом и олицетворением верховной вла-
сти. Поэтому все черты цянь — ее форма (круг с квадрат-
ным отверстием посередине, что на самом деле предохраняло
шнур от перетирания), содержание и расположение леген-
ды — были не только строго регламентированы, но и наде-
лялись особым космологическим смыслом. Легенда обяза-
тельно состсдла из четырех иероглифов (указание времени
выпуска монеты через приведение девиза годов правле-
ния), расположенных по одному с каждой стороны отвер-
стия, что делает цянь прямым воспроизведением пятичлен-
ной космологической модели. Эстетическому аспекту ле-
генды тоже придавалось огромное значение. Иероглифы
обычно исполнялись в каллиграфических стилях (особой
красотой и разнообразием почерков отличаются сунские
монеты). Известны случаи, когда образцы надписей для
монет делались лично императорами.
Треугольные формы, столь активно использовавшиеся
в неолитическом орнаментально-графическом искусстве, для
которого они полагаются, напомним, ктеическими симво-
лами, связанными с культом плодородия, в дальнейшем
утратили свою былую популярность и семантику. В худо-
жественном творчестве традиционного Китая они исполь-
зуются относительно редко и трактуются в качестве симво-
лов «горы» в любых ее смысловых вариантах.
Кроме простейших геометрических фигур, в разбирае-
мом образном ряду присутствуют несколько стандартных
геометрических комбинаций: «восемь черт» (ба гуа), «эмб-
лема Великого предела» (тайцзи-тпу)у «узор фу-фу»у «бес-
конечный узел» и свастика-вань.
«Восемь черт» — набор из восьми триграмм — графи-
ческих композиций, состоящих из трех сплошных и пре-
рывистых линий. Именно эти восемь триграмм называют-
ся в китайских мифологических и натурфилософских пред-
ставлениях древнейшими национальными письменными
знаками, изобретение которых приписывается одному из
Трех великих первопредков — Фу-си. По одной из версий
эАЛНе^
Использование сочетания
круга и квадрата
в декоративно-прикладном
искусстве
a — схема кроя императорского
парадно-ритуального облачения;
б — орнаментация зеркала (диа-
метр 16,5 см, Х-ХІІ вв.)
Китайские монеты
a — X в.; б — эпоха Сун.
359
Триграммы
1 — Небо; 2 — Земля; 3 — Огонь;
4 — Вода; 5 — Горы; 6 — Гром;
7 — Ветер; 8 — Болото.
Юг/Нѳбо
№
4t
lIH*
111«
*//,
*v =s: ''•*'"
«KV
Расположение тприграмм
в порядке Фу-си
«HI«« M|ji
?»
Расположение триграмм
в порядке У-вана
легенды о нем, Фу-си скопировал их со знаков-узоров, по-
крывавших шкуру фантастического существа (или — пан-
цирь волшебной черепахи), которое явилось ему из вод реки
Ло (Лошуй, река, протекающая в окрестностях Лояна, от
которой и произошло название города). По другой версии, он
сам придумал «восемь черт», пытаясь передать через них
устройство мира и основные природные сущности. He ис-
ключено, что «восемь черт» действительно имеют очень древ-
ние истоки, восходя к архаическим гадательным практи-
кам — использования предметов типа, скажем, веточек, стеб-
лей травы, палочек, часть которых надламывалась, и по
выпавшей их комбинации судили о результатах гадания.
Существует также точка зрения об их происхождении от
протописьменных графем. В дальнейшем на базе триграмм
появилась еще одна разновидность графических компози-
ций — гексаграммы, состоящие из шести линий. Всего на-
считывается 64 гексаграммы: они воспроизводятся в «И цзи-
не», и их истолкования составляют текст этого памятника.
Хотя триграммы никогда не употреблялись в качестве
самостоятельных письменных знаков, каждая из них име-
ет собственное иероглифическое обозначение, прочтение
(наименование) и значение. Композиция из трех сплош-
ных знаков — цянь — означает «небо»; из трех прерыви-
стых линий — кунъ — «земля»; из двух сплошных линий
и одной прерывистой посередине — ли — «огонь»; из двух
прерывистых линий и одной сплошной посередине —
кань — «вода»; из сплошной верхней линии и двух преры-
вистых нижних — гэнь — «горы»; из двух верхних преры-
вистых линий и сплошной нижней — чжэнь — «гром»; из
двух верхних сплошных линий и прерывистой нижней —
сюнъ — «ветер»; из верхней прерывистой линии и двух
сплошных нижних — дуи — «болото». Считается, что они
образуютпары — «небо-земля», «вода-огонь», «горы-гром»
и «ветер-болото», которые воплощают дуальность мира,
предвосхищая тем самым концепцию Инъ-Ян.
Уместно также пояснить, что включение в этот набор
«болота» было далеко не случайным. В отличие от евро-
пейских религиозных представлений, восходящих еще к
античной мифологии, в которых болото мыслилось местом
пребывания хтонических чудовищ, нечисти и однозначно
соотносилось со злыми силами, в китайской культуре оно
почиталось священным природным пространством, где со-
единяются стихии земли и воды и происходит оплодотво-
рение Земли Небом, посредством ниспослания небесной
влаги (дождя, росы). В Древнем Китае жертвоприношения
болотам, наравне с жертвоприношениями горам и рекам,
входили в круг государственных обрядовых практик, возле
или в центре болота воздвигались каменные алтари в честь
Владычицы-Земли. Говоря о возможных связях триграмм
с древнекитайскими верованиями, имеет смысл упомянуть
о культе Восъми духов (6а шэнъ), который, по уверениям
ханьских историков (Сыма Цянь), некогда существовал в
восточном прибрежном регионе, с которым в легендах пря-
мо связывается (родина и владения Фу-си) происхождение
360
триграмм. В названную когорту входили: Господин неба
(Тянъ-чжу), Господин земли (Ди-чжу), Господин воинов (Бин-
чжу> божество войны), Господин Женского начала мира (Инъ-
чжу), Господин Мужского начала мира (Ян-чжу), Господин
луны (Юэ-чжу), Господин солнца (Жи-чжу) и Господин че-
тпырех времен года (Сыши-чжу). He трудно уловить некото-
рые совпадения «восьми черт» с этим культом, и наличие
подобных культурно-идеологических корней ба гуа лучше
всего объясняет причины их устойчивости и популярности
в культуре и художественном творчестве Китая.
В натурфилософских построениях «восемь черт» нало-
жились на космологическую пятичленную модель и стали
соотноситься с восемью частями и получастями света, пре-
вратившись тем самым в графическое воплощение компо-
зиции мироздания, динамичности природных процессов, a
также их цикличности и повторяемости как вечности бы-
тия. В результате они стали ассоциироваться и с идеей
бессмертия, благодаря чему были восприняты даосской об-
разностью. В традиционном Китае «восемь черт» транс-
формировались в специфическую даосскую эмблему, кото-
рая присутствует в иконографии божественных персона-
жей, орнаментации церемониальной утвари и построек
(например, ворота со входом в виде восьмигранника и об-
рамленные изображениями ба гуа). С не меныней степе-
нью актиг<цости они использовались и в светском искусст-
ве, в художественном оформлении самых разных изделий —
зеркал, керамики, лаков, нередко сочетаясь с другими бла-
гопожелательными символами и образами, прежде всего
связанными с бессмертием. Есть также примеры введения
ба гуа в произведения буддийского культового искусства.
Хотя в орнаментальных композициях триграммы мо-
гут располагаться в линейном порядке, общепринятым яв-
ляется их расположение по кругу и в двух основных вари-
антах (порядок последовательности триграмм), один из
которых считается изначальным, определенным Фу-си, a
другой приписывается чжоускому Вэнь-вану. В первом из
них триграмма «небо» соотносится с югом, «ветер» — с
юго-западом, «вода» — с западом, «горы» — с северо-запа-
дом, «земля» — с севером, «гром» — с северо-востоком,
«огонь» — с востоком и «болото» — с юго-востоком. Во
втором «огонь» соотносится с югом, «земля» — с юго-запа-
дом, «болото» — с западом, «небо» — с северо-западом,
«вода» — ссевером, «горы» —с северо-востоком, «гром» —
с востоком и «ветер» — с юго-востоком. Хотя могут встре-
чаться и какие-либо другие порядки их расположения.
«Эмблема Великого предела» является графическим изоб-
ражением движения и взаимодействия Мужского и Женско-
го космических начал. Возникнув намного позже «восьми
черт» (ориентировочно в танскую эпоху), она стремительно
утвердилась в даосской и в целом всей китайской художе-
ственной образности в качестве семантического аналога ба
гуа. Посредством этой эмблемы тоже передается ход миро-
вых процессов, закономерности бытия и его вечность, обус-
ловленная самотрансформацией одних природных сущностей
ю
Эмблема
Великого предела
Узор фуфу
Использование свастики
в орнаментации изделий
декоративно-прикладного
искусства.
Стол. Эпоха Цин
Бесконечный узел
в другие. Поэтому и в даосском, и в светском искусстве обе
эти графические композиции часто воспроизводятся вмес-
те — «эмблема Великого предела», обрамленная ба гуа.
«Узор фу-фу» представляет собой сложносоставную гео-
метрическую фигуру, образованную парными комбинация-
ми треугольника и меандра, которые истолковываются в
качестве предельно стилизованных изображений неких древ-
них ритуально-церемониальных предметов, вероятнее все-
го, жертвенного топора как знака правосудия. Эта графи-
ческая композиция возникла предположительно в иньском
искусстве и утвердилась в чжоускую эпоху. В художествен-
ном творчестве традиционного Китая она также достаточно
широко использовалась в орнаментации различных изде-
лий и, кроме того, входила в стандартный набор официаль-
ной благопожелательной символики и в набор эмблем-эрши
императорского парадно-ритуального облачения.
«Бесконечный узел» и свастика считаются буддийскими
по происхождению символами. Факт заимствования китай-
ской художественной образностью свастики из индо-буддий-
ской символики очевиден, хотя нельзя отрицать и вероят-
ность ее местного происхождения: использование морфоло-
гически сходных с собственно свастикой крестообразных
фигур в росписях на неолитической керамике. В дополне-
ние к ее собственно буддийским значениям, в Китае свасти-
ка превратилась, ввиду омонимичности этого слова — ванъ —
звучанию иероглифа «десять тысяч» (ванъ), в символ беско-
нечности времени и пространства, включая жизнь человека.
Как таковая она вводилась в орнаментацию различных из-
делий и, кроме того, привела к возникновению специально-
го узора, представляющего собой косую решетку, состоя-
щую из крестов-свастик с концами, соединенными длинны-
ми, ломающимися под прямым углом линиями. Этот узор
пользовался исключительной популярностью в цинскую
эпоху, воспроизводясь в архитектурных деталях (оконные
решетки и перила), в декоре предметов мебели, в тканых
орнаментах и в росписях по фарфору. В отличие от индо-
буддийской символики «правосторонняя» и «левосторонняя»
свастики в Китае практически не различались, оба варианта
полагались тождественными друг другу и наделялись еди-
ными смысловыми значениями.
«Бесконечный узел» — также сложносоставная геомет-
рическая фигура, состоящая из переплетенных линий и
служащая графическим воплощением бесконечности. Та-
кое ее значение полностью проистекает из индо-буддий-
ской символики и не дополнилось в китайском художе-
ственном творчестве какими-либо новыми семантически-
ми нюансами.
Отдельную и самую своеобразную группу в данном раз-
деле китайской образной системы составляют благопоже-
лательные иероглифы. Речь идет не о каллиграфических
надписях как таковых, a об использовании иероглифов в
качестве самостоятельных живописных, орнаментальных
и даже иконографических элементов, имеющих строго оп-
ределенные знаковые функции.
362
Ключевой набор таких благопожелательных иероглифов
составляют те письменные знаки, которые передают «пять
условий счастья»: фу — «счастье», фу (омоним) — «богат-
ство», си — «радость», «радостноесобытие», шоу — «долго-
летие» и лу — «карьера». Они могут воспроизводиться в
различных каллиграфических стилях и графических вариа-
циях, некоторые из них образуют новые типы узоров. К ним
прежде всего относятся узор «двойная радость» (шуанси),
состоящий из двух стилизованных иероглифов си и служа-
щий символом семейного счастья и непосредственно свадеб-
ной эмблемой; узор «круглое долголетие» (юаныиоу), в ко-
тором иероглиф шоу исполнялся в подчеркнуто округлом
виде и обычно вписывался в круг или окаймлялся кольцом
из пяти стилизованных фигур летучих мышей. Существует
также набор словесных формул — преимущественно из двух
или четырех иероглифов, которые могут воспроизводиться в
качестве отдельных благопожелательных надписей, вводить-
ся в орнаментацию изделий, в живописные композиции
(в первую очередь на новогодних поздравлениях) и в ико-
нографию (надписи на свитках, которые держат в руках
божественные персонажи). Самыми распространенными из
таких формул являются: шоу би нань шань — «долголетие,
как Южные горы», фу жу дун хай — «счастье, словно Во-
сточное море», шоу шань фу хай — «долголетие, [словно]
горы, счастьё, [словно] море».
*Ш \Ш)
Счастливые иероглифы
a — счастье (фу); б — богатство
(фу); в — долголетие (шоу): 1 —
полная форма написания, 2 —
сокращенная форма написания;
г — успешная служебная карье-
ра (лу); д — радость (си).
w
б Ш
ььшш
m
Благопожелателъные
формулы
a — «Долголетие, как Южные
горы»; б — «Счастье, словно Во-
сточное море»; в — «Долголетие,
[словно] горы; счастье, [словно]
море».
Китайский фонаръ
с иероглифом «счастье»
Графические варианты
иероглифа «долголетие»
a — «круглый шоу»; б — наибо-
лее распространенные стилизо-
ванные формы; в — редкая сти-
лизованная форма (роспись по
керамике, конец XIV в.)-
Фарфоровый кувшин
в виде иероглифа шоу.
Начало XVIII в.
363
Использование иероглифа
«Двойное счастье»
в декоративно-прикладном
искусстве
a — роспись по керамике (конец
XIV в.); б — фонарь (эпоха Цин).
Числовая символика, входящая в художественную об-
разную систему, проистекает из нескольких нумерологи-
ческих кодов, в которых общая композиция мирового про-
странства и каждая отдельная пространственно-временная
зона могут передаваться посредством различных числовых
комбинаций. Самым же популярным и универсальным для
культуры Китая является следующий двенадцатеричный
код: «1» и все нечетные числа — обозначение Неба и Муж-
ского начала мира, «2» и все четные числа — обозначение
Земли и Женского начала мира, «3» — триада Небо-Зем-
ля-Человек, передающая строение мира по вертикали и
его основные, с точки зрения китайцев, космологические
уровни. В отличие от внешне сходных с ней троичных
космологических моделей, которые присутствуют в куль-
турах многих народов мира, в этой триаде «Земля» — не
земной и подземный мир, а, скорее, стихия земли в ее
пространственном воплощении. «Небо» также не столько
ассоциировалось с высшим, божественным миром, сколь-
ко служило пространственным воплощением стихии неба.
A «человек» есть олицетворение человеческого общества,
занимающего, как видим, особую ступень в китайской си-
стеме мироздания. «4» — число, передающее основные ко-
ординаты пространственной и временной композиции ми-
роздания (сы фан — «четыре стороны света» и сы ши —
«четыре сезона»).
Кроме того, в наиболее полной и развернутой схеме ки-
тайской космографии земной квадрат дополнялся распо-
ложенными по его углам Четырьмя морями (Великими
пучинами) — Сы хай, которые тоже могут передаваться
посредством этого числа. «5» — все пять пространственно-
временных зон, т. е. полная композиция мироздания по го-
ризонтали. «6» — так называемые шесть великих начал
мира: четыре стороны света, Небо (Мужское начало) и Зем-
ля (Женское начало). «7» — число, истолковывающееся
иногда в качестве объединяющего в себе «3» и «4». Однако в
целом оно использовалось в китайской культуре редко, и
все устойчивые семиричные художественные образные на-
боры происходят от индо-буддийской символики. «8» — че-
тыре части и четыре получасти света, в китайской термино-
логии «восемь ветров» (ба фэн)~ «9» — пять основных про-
странственно-временных зон и четыре получасти света, т. е.
исчерпывающе полная композиция мироздания по горизон-
тали. «10» — солярный символ, восходящий к иньскому
календарю и закрепленный в мифологических повествова-
ниях. «12» — число, передающее небесную и временную
композицию мироздания: 12 месяцев, суточных интерва-
лов, зодиакальных созвездий. Одновременно особо выделя-
ются, во-первых, числа, кратные «3», которые передают
все, связанное с Небом и идеей бессмертия — «9» (3 х 3),
«18» (9 + 9), «27» (9 х 3), «81» (9x9) — число, подкреплен-
ное, кроме того, авторитетом «Дао дэ цзина», и т. д. Во-
вторых, числа, кратные «4» и «6», воспроизводящие все,
связанное с Землей — «8» (4 + 4), «32» (4 х 8), «36» (6 х 6).
И, в-третьих, «64» — число гексаграмм «И цзина».
364
Цветовая символика сводится к пяти основным цве-
там, которые образуют нормативную для китайской куль-
туры хроматическую гамму — «пятъ цветов» (у сэ), имею-
щую однозначную космологическую семантику. В нее вхо-
дят: желтый (хуан), сине-зеленый (цин), красный {хун),
белый (бай) и черный (хэй) цвета, соотносящиеся с Цент-
ром, Востоком, Югом, Западом и Севером. Эта хроматиче-
ская гамма существовала уже в иньскую эпоху, о чем сви-
детельствуют находки специальных приборов для красок —
тулу. Они представляли собой бронзовые предметы квад-
ратной формы с четырьмя углублениями по углам, допол-
ненными в некоторых случаях круглым отверстием посе-
редине. В углублениях сохранились остатки красок, доста-
точные для проведения химических анализов для их
реконструкции.
Все перечисленные цвета тоже обязаны своим проис-
хождением культурным и естественно-географическим реа-
лиям Древнего Китая. Желтый цвет передает все те же лёс-
совые почвы. Сине-зеленый цвет есть цвет пышной весенней
листвы деревьев. Красный цвет, подобно его символике y
многих народов мира, ассоциируется с солнцем и огнем.
Кроме того, не исключено, что он был связан с почвами —
красноземами, характерными для природы южных регио-
нов Китая. Белый цвет со всей очевидностью восходит к
снежным кфшинам гор, образующих Тибето-Цинхайское
нагорье, a черный — к уходящему вдаль потоку Хуанхэ.
Каждый из перечисленных «цветов» является родовым
для целого хроматического ряда. Следует сразу же предупре-
дить, что и родовые цвета, и цвета, входящие в их хромати-
ческие ряды, далеко не всегда совпадают с принятыми в
европейском искусстве колористическими значениями, a по-
тому переводы оригинальных терминов более чем условны.
Помимо их космологической символики, каждый родо-
вой и вспомогательный по отношению к нему цвет имеет,
как правило, несколько различных и порой взаимоисклю-
чающих значений, которые происходят от тех или иных
древних верований и оформленных идеологических систем,
включая буддизм161.
Желтый цвет, вслед за символикой Центра, стал обо-
значением имперской власти и национальиой государствен-
ности, что приобрело нормативный характер в цинскую эпо-
ху. Все, что окружало цинских монархов, и все, чем они
пользовались, вплоть до посуды и предметов личной гигие-
ны, было желтого цвета во всех его оттенках. В то же время
в древнекитайских верованиях и анимистических представ-
ления (по причине его семантических связей с почвой и
земной поверхностью) установились прочные ассоциации
желтого цвета со смертью и миром мертвых162. В даосской
традиции желтый цвет является символом обожествленно-
го Лао-цзы. В пейзажной лирике и пейзажной живописи
он, вопреки его даосской символике, соотносится с цветом
осенней, т. е. увядающей, растительности и, следователь-
но, выступает знаком осени как конца года и конца челове-
ческой жизни (старости). И наконец, буддийский желтый
ЦВЕТОВАЯ
СИМВОЛИКА
161 Индо-буддийская куль-
тура обладала собственной цве-
товой символикой, подробнее
о которой, в ее приложении
непосредственно к образам цен-
тральных персонажей буддий-
ского божественного пантео-
на, будет говориться в ходе
анализа их иконографии.
162 Сочетание «желтая зем-
ля» (хуаншу) — принятый в
китайском языке образный
синоним могильного холма;
«Желтый источник» (Хуанцю-
ань) — название подземного
царства мертвых; «уйти к Жел-
тому источнику» — поэтиче-
ская метафора кончины чело-
века.
365
івз ірад^ пурпурный-^зы вхо-
дит в образные названия ат-
рибутов и дворцовых покоев
императора: «пурпурные хо-
ромы» {цзыцюэ) — император-
ская резиденция, «пурпурный
навес» (цзыди) — балдахин
над императорской колесни-
цей. В пурпурный цвет и в
багряный-ч^гі/ в различные
эпохи окрашивались те или
иные детали официального
костюма аристократов и са-
новников (шелковые шнуры,
обувь). Использование красно-
го цвета в качестве государ-
ственного было наиболее ха-
рактерным для минской эпо-
хи, правящий дом которой,
имея фамильный знак Чжу
(Багряный), считал себя нахо-
дящимся в магической связи
с Югом и под покровитель-
ством стихии огня. В резуль-
тате в дворцовых интерьерах
предпочтение отдавалось мебе-
ли с красным лаковым покры-
тием, a дворцовые здания вы-
держивались в красно-золотой
гамме: красные стены, крыши
с золотистым черепичным по-
крытием. В свете сказанного
не может не обратить на себя
внимание и цветовое решение
государственной символики —
флага и герба — КНР, выпол-
ненной в тех же самых цве-
тах. Что касается красного
цвета как маркера радостных
событий, то лучшим примером
этого выступает новогодняя об-
рядность и атрибутика.
164 Само слово «свадьба» в
китайском языке передается
через сочетание «красное со-
бытие» (хунши). Одеяние ки-
тайских жениха и невесты и
все свадебные атрибуты — ис-
ключительно красного цвета.
Сочетания «красная башня»
(хунлоу) и «красное платье»
(хуни) — образные названия
соответственно женских поко-
цвет (цвет облачения монашествующих) восходит к древне-
индийским религиозно-этнографическим реалиям — к одея-
нию (кашъя, «лоскутная ряса») странствующих аскетов (шра-
манов). Оно должно быть сшитым из лоскутков выброшен-
ной одежды, настолько ветхой, застиранной и выцветшей,
что ее остатки приобретали однотонный грязно-желтый цвет.
В «желтом» хроматическом ряду особо выделяются, во-
первых, три оттенка собственно желтого цвета: ярко-жел-
тый (минхуан), абрикосово-желтый (синхуан) и золотисто-
желтый (цзинъхуан). Наиболее строго они дифференциро-
вались вновь в цинскую эпоху, служа ранговыми цветами
соответственно императора, наследника престола и прин-
цев крови. Еще одну колористическую серию образуют три
оттенка красно-желтого цвета — сюнъ, чэн и цюанъ, кото-
рые различаются по степени насыщенности в них желтой
краски, но оказываются настолько одинаковыми для вос-
приятия европейцев, что для их перевода не удается подо-
брать терминологических аналогов. Цвет-сюнъ как раз и
полагался цветом Земли и использовался для ритуальных
одеяний при исполнении ей жертвоприношений.
Родовой красный цвет — хун — интерпретируется как
«темно-красный» и отождествляется с цветом свежей (но
густой и обильно текущей) крови. Стоящий за ним хрома-
тический ряд включает в себя следующие основные цвета и
оттенки: 1) красный-чы, который может прилагаться к ало-
му, рыжему и бурому цветам и часто выступает смысло-
вым заместителем хун: он входит, например, в титул боже-
ства-повелителя Юга — Чи-ди; 2) багряный-чап/, киновар-
иый-данъ и два вишневых (по принятому их переводу) цвета:
цзян, передающий темно-красный оттенок этого цвета, и
цзоу, передающий красно-коричневый, бледно-вишневый
и светло-лиловый цвет; 3) пурпурный-^зы, который при-
лагается ко всей гамме пурпурно-лиловых тонов, включая
собственно пурпурный, фиолетовый и лиловый цвета.
Для всех цветов красного хроматического ряда тоже про-
слеживается несколько различных цепочек ассоциаций. Во-
первых, вслед за символикой Юга они входят в государ-
ственную символику, служат общей цветовой характеристи-
кой и ранговыми цветами знати, маркируют радостные
события в жизни людей и ассоциируются с Мужским нача-
лом мира163. Следующая цепочка ассоциаций — связь с куль-
том плодородия, женственной и свадебной обрядностью164.
В мифологической и даосско-религиозной традиции цвета
багряный-чжг/, красный-чи и вишневый-цзян прилагаются
к божественным персонажам, явлениям и предметам выс-
шего мира165. Главное же место в даосско-религиозной об-
разности занимает киноварный цвет, отождествляемый с
киноварью-^ань (сульфид ртути), бывшей одним из важней-
ших химических ингредиентов снадобий бессмертия. «Ки-
новарь», как мы помним, входит в оригинальное название
обоих направлений даосской алхимии, a через киноварный
цвет определяются многие даосские принадлежности: «ки-
новарные письмена» (даньцзы) — даосские трактаты, «ки-
новарная пилюля» — пилюля бессмертия. В красных то-
366
нах — преимущественно картины восхода и заката солн-
ца — выдержаны обычно и поэтические описания окружаю-
щей действительности, переданные в произведениях на
даосско-философские и даосско-религиозные темы.
В китайско-буддийской традиции особое значение при-
давалось пурпурному цвету, в который начиная с танской
эпохи окрашивались одеяния высших церковных иерархов.
Сине-зеленый цвет, судя по этимологии иероглифа цин,
исходно передавал непосредственно зеленый цвет, точнее,
цвет древесной листвы. Его последующая символика не вклю-
чает в себя каких-либо принципиально новых по сравнению
с его общей космологический семантикой значений. Зато
«восточный» хроматический ряд оказывается наиболее слож-
ным с колористической точки зрения, так как он охватыва-
ет собой всю гамму зеленых и синих цветов, a также отчасти
серый и черный цвета (в последнем случае с синим или
зеленым отливом). Опорными цветами этого хроматическо-
го ряда являются: 1) зеленый-лкж, прилагающийся, как
правило, к растительности (листья, трава, иглы вечнозеле-
ных деревьев), но может также употребляться и для обозна-
чения черных волос; 2) сине-голубые цвета, темно-синий
(кубовый)-ишціш; индиго-лаиь; два голубых цвета — цан и
цан (в разном написании), передающие темно-голубой, си-
ний, лазоревый и зелено-голубой цвета; но второй из них
прилагаетсл исключительно к воде, тогда как первый — к
растительности и, кроме того, к волосам или шерсти живот-
ных, передавая в этом случае сизый цвет; 3) цвета бирюзо-
вой гаммы: би — бирюзовый, изумрудный, передающий все
цвета и оттенки, свойственные природной бирюзе; фэйцуй —
специальный цвет, передающий оперенье зимородка (цуй,
подробно см. глава 13) и цвет малахита.
Цвета собственно зеленой гаммы, помимо ассоциаций с
растительностью, олицетворяют стихию воды и Женское кос-
мическое начало. Поэтому любые их сочетания с красным
цветом имеют эротическую символику, что с наиболыней
очевидностью прослеживается в литературно-поэтической об-
разности, например описания красных лучей солнца, сколь-
зящих по зеленой воде; красных бутонов (цветов) среди зеле-
ной листвы. Цвета сине-голубой гаммы чаще всего выступа-
ют в качестве символов Неба и небесного простора, хотя
могут прилагаться и к воде, как правило, морским волнам.
Белый цвет, вновь благодаря общему символическому
значению Запада, является принятым траурным цветом,
за исключением даосской образности. Осмысление в дао-
сизме Запада как сакральной части света придало белому
цвету противоположные значения. В даосской образной
системе он передает идею пустотности как определяющего
свойства Дао, олицетворяет чистоту его постижения-наи-
тия и духовных исканий личности. Белый цвет тоже воз-
главляет достаточно пространный хроматический ряд, ко-
торый наиболее четко выделялся и последовательно соблю-
дался в обрядовых практиках и в декоративно-прикладном
искусстве, в первую очередь в фарфоровом производстве
(для глазурного покрытия). В нем признаются, в том числе:
ев и женского костюма. При-
чем в приложении к женщине
красный цвет передает и ее
красоту: «красная женщина»
(хуннюй) — красавица, «крас-
ное лицо» (хунъянь) — внеш-
ность красавицы. Попутно за-
метим, что подобное осмысле-
ние красного цвета — в его
связи с солнцем, культом пло-
дородия, женщиной и женс-
кой красотой — наблюдается
y многих народов мира, в том
числе y славянских народов.
165 Например, «багряная
ласточка» (Чжуянь) — волшеб-
ная птица, бывшая, возмож-
но, тотемом чжоусцев, «багря-
ный скакун» (чжуци) — конь,
обладающий сверхъестествен-
ными свойствами, «Красная
река» (Чишуй) — одна из вол-
шебных рек, текущих y под-
ножия Куньлуня, «вишневые
одеяния» (цзянъи) — облаче-
ние духов.
367
1) лунно-белый цвет (юэбай) — для ритуальных одеяний,
использовавшихся (в цинскую эпоху) при жертвоприноше-
ниях на Алтаре Земли; 2) чисто-белый цвет (цинбай), оли-
цетворяющий внутреннее совершенство человека, a также
природных реалий и предметов; 3) несколько разновидно-
стей белого цвета с оттенками: «цвет мяса свежей рыбы»
(с розоватым оттенком), «цвет слоновой кости» (с палевым
оттенком), «цвет снега» (серебристо-белый), «цвет нефрита»
(с чуть заметным зеленоватым или сероватым оттенком).
Черный цвет, в соответствии с символикой Севера, ас-
социируется с ученостью и образованием, став в результате
(хотя и в нескольких вариантах — сине-черный, темно-
коричневый) принятым цветом костюмов ученого-книжни-
ка, наставника и учащихся. Даже для этого цвета призна-
вался отдельный хроматический ряд, в котором особое ме-
сто занимает цвет-сюанъ — черный с красноватым отливом,
посредством которого как раз и передавались все те явле-
ния и сущности, которые определяются как сюань — «та-
инственное », « сокровенное ».
Наличие геометрической, числовой и цветовой симво-
лики не является, разумеется, исключительной принад-
лежностью художественной культуры Китая. Однако толь-
ко в ней такая символика приобрела столь значительную —
на фоне искусства народов мира — знаковую функцию,
приближаясь по данному показателю к собственно художе-
ственной образности.
ПРЕДМЕТНО-
СИМВОЛИЧЕСКАЯ
ОБРАЗНОСТЬ
(ЭЛЕМЕНТЫ
ЛАНДШАФТА,
АТМОСФЕРНЫЕ
ЯВЛЕНИЯ,
ПРИРОДНЫЕ
«ДРАГОЦЕННОСТИ»
И РУКОТВОРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ)
166 В китайском языке и в
литературно-поэтической лек-
сике употребляется более 100
♦горных» иероглифов, переда-
ющих горные массивы, цепи,
пики различных форм и от-
дельные элементы гор — ска-
лы, вершины, каменные на-
громождеиия и т. д. «Водная»
лексика сводится, в основном,
к обозначениям естественных
проявлений стихии воды —
река, озеро, родник, ручей,
водопад. Особое значение при-
дается двум главным рекам
Китая — Хуанхэ и Янцзы, с
сокращением их названий до
Река-Хэ и Река.-Цзян.
Из элементов ландшафта в китайской образной системе
абсолютное предпочтение отдается горным и водным обра-
зованиям, что было предопределено особенностями есте-
ственной среды обитания китайцев: около 80% территории
Китая приходится, как известно, на горную местность166.
Эти географические реалии впоследствии были осмыслены
в древних верованиях, мифологических, натурфилософ-
ских и философских представлениях. В результате образ
горы, в любых его иконографических воплощениях, может
соотноситься с «мировой горой» как центральной осью кос-
мического пространства, с «центральным пиком» (горами
Суншань), одновременно воплощая собой и всю пятичлен-
ную космологическую модель, с волшебными горами Кунь-
лунь или островами бессмертных Пэнлай, a также слу-
жить олицетворением неизменности законов природы и ее
вечности (горы недвижны и неизменны в течение тысяче-
летий), ее красоты (или красоты Дао) и Мужского начала
мира. «Вода», главными образными воплощениями кото-
рой являются поток, река и замкнутый водоем (озеро, пруд),
соотносится с животворящим природным началом и с Жен-
ским началом мира. Кроме того, в мифологических и даос-
ско-религиозных представлениях река и замкнутый водо-
ем ассоциируются с волшебными реками, окружающими
Куньлунь, и с озером бессмертия на его вершине. В натур-
философских и даосско-философских представлениях по-
ток и река, как отмечалось выше, олицетворяют вечную
368
динамику и самотрансформацию мировых процессов и вы-
ступают метафорой космического Дао167.
Наиболее полным художественным воплощением «гор
и вод» во всех указанных семантических значениях и
трактовках выступают пейзажная лирика и пейзажная
живопись, которые в оригинальной терминологии так и
называются «поэзия гор и вод» (шаныиуйши) и «картины
гор и вод» (шанъшуйхуа), и пейзажный сад. Любая со-
зданная в них поэтическая, живописная и архитектони-
ческая картина природы содержит в себе все связанные с
данными образами символические значения, включая эро-
тический подтекст — взаимодействие Инъ и Ян, и, следо-
вательно, допускает ее понимание и в мифологическом, и
в натурфилософском, и в даосско-религиозном («горы и
воды» как место обитания божественных существ и бес-
смертных) и даосско-философском смысле. Одновременно
некоторые «водные» элементы получили в этих видах ху-
дожественного творчества новые смысловые оттенки. Так,
образ ручья, петляющего и терягощегося в глубине гор,
оказывается визуальным и семантическим синонимом гор-
ной тропиыки, восхождение по которой знаменует уход
человека от суетного мира. Образ родника, таящегося где-
то в глубинах гор и выдающего свое присутствие только
журчанием, символизирует процесс постижения Дао. Замк-
нутый водоем с горами посередине, что наиболее типично
для семиотики пейзажного сада, есть прямое воспроизве-
дение островов Пэнлай.
В декоративно-прикладном искусстве самым оригиналь-
ным примером использования образа горы является уже
знакомый нам «горный узор» в орнаментации древних зер-
кал. В ханьскую эпоху представления о волшебных горах
(обители божеств и бессмертных) нашли еще одно художе-
ственное воплощение — в виде особого типа курильниц,
называемого Курильница Бошань (бошанълу). Их корпус
весьма точно воспроизводит собой очертание горной вер-
шины со скальными нагромождениями, утесами, деревья-
ми, дикими животными и пещерами-отверстиями, через ко-
торые курился дымок благовоний (см. вклейку). От хань-
ской эдохи до нас дошли около 100 образцов таких курильниц,
древнейший из которых датируется 135 г. до н. э. Судя по
археологическим материалам, их начали изготавливать в
правление ханьского У-ди, среди увлечений которого были
поиски бессмертных-сянвй и способы обретения бессмер-
тия, и на первых порах они являлись собственностью ис-
ключительно членов императорской фамилии. Хотя в пись-
менных источниках ханьской эпохи о курилытцах-бошанълу
ничего не говорится, их включение в погребальный инвен-
тарь служит весомым аргументом их популярности и высо-
кой степени авторитета в культуре и религиозных представ-
лениях того времени. Вдальнейшем они превратились в
принадлежность даосско-религиозного направления, исполь-
зуясь при медитациях: так называемая медитация в чис-
той комнате, во время которой адепт вдыхал дым от куре-
ний с примесью галлюциногенных растений.
24 История искусства Китая
ч/Ш^#
Живописное изображение
потока. С книжной гравюры
в стиле южносунской
пейзажной живописи
Курильница Бошаньлу.
Керамика с глазурным
покрытием. I в. н. э.
Пров. Хэнань. 18 см
167 Натурфилософское ос-
мысление гор и воды как воп-
лощения законов бытия раз-
делялось и конфуцианскими
мыслителями — знаменитей-
шее высказывание Конфуция
из «Луньюя»: «Tot, kto гу-
манен (жэнь), наслаждается
горами, тот, кто мудр {чжи),
наслаждается водами». И еще
одно высказывание: «Учитель,
стоя на берегу реки, восклик-
нул: „Bot так все течет и из-
меняется, подобно течению
речного потока, не останавли-
ваясь ни днем, ни ночью"».
369
Вариант изображения гор
как эмблемы на
императорском
парадно-ритуалъном
облачении (стилизация
под цветок лотоса)
Варианты изображения
«гор и вод»
в декоративно-
прикладном искусстве.
Эпоха Цин. Вышивки
Пылающая жемчужина
в виде круга с языками
пламени
«Горы» также входят в набор эмблем-цшэр на импера-
торском костюме, где они исполняются либо в виде трех —
художественный аллограф иероглифа «гора» или пяти гор-
ных вершин, либо стилизуются под какой-либо другой бла-
гопожелательный образ, например цветок (лотос).
В орнаментике традиционного Китая «горы» и «вода»
используются относительно редко, за исключением, есте-
ственно, тех случаев, когда в декоре изделий воспроизво-
дятся собственно пейзажные композиции. Они могут ис-
полняться как в стилизованном (те же треугольные геомет-
рические фигуры), так и в художественном виде, близком
к живописной манере. Один из наиболее существенных
орнаментальных мотивов на данную тему — изображение
четырех гор посередине волн, которое проходит по подолу
императорского костюма, олицетворяя собою китайские
космологические и космографические представления: горы
в данном случае передают четыре «священных пика» и все
земное пространство, волны — Четыре великие пучины.
Из атмосферных явлений в литературно-поэтической
образности особое распространение получили дождь, роса —
как воплощение небесной влаги или календарные приме-
ты, иней и снег — символы осени/зимы и старости; a в
визуальной образности — гроза. Приблизительно равной
популярностью в них пользуется образ облака.
Грозовую семантику (попытки передачи графическими
средствами молнии или ее звукового проявления — грома)
имеют, по мнению многих исследователей, спиралевидные
типы узоров в росписях на неолитической керамике, кото-
рые и привели в дальнейшем к образованию иньского «узо-
ра грома». Приблизительно в период Борющихся царств
возник новый «грозовой» образ — «пылающая (огненная)
жемчужина (хо чжу), который и занял лидирующее поло-
жение в визуальной художественной образности традици-
онного Китая. Этот образ либо графически передавал мол-
нию или звук грома, либо был навеян шаровой молнией,
на что указывают его стандартные графические трактов-
ки — круг с языками пламени. Впоследствии образ «пыла-
ющей жемчужины» объединился с образом буддийской
«драгоценности-жани», приведя к возникновению по мень-
шей мере еще двух его иконографических вариантов. В од-
ном из них языки пламени располагаются равномерно вок-
руг круга-жемчужины, a в другом образуют конусовид-
ную, нередко напоминающую по контуру очертание горного
пика фигуру. «Пылающая жемчужина» входит в набор
эмблем-цшэр и в серию стандартных живописно-орнамен-
тальных композиций — драконы или фениксы, «играю-
щие» с ней. Есть также примеры ее воспроизведения в
культовом изобразительном искусстве — рельеф над вхо-
дом в усыпальницу южнотанских императоров.
«Облако» (юнъ), без разделения на собственно облака и
тучи, осмыслялось в религиозно-мифологической и в даос-
ско-религиозной традиции в качестве принадлежности выс-
шего, небесного мира, a также средства передвижения боже-
ственных персонажей и бессмертных-сяней. Религиозная сим-
370
волика «облака» лучше всего сохранилась в даосской ико-
нографии: в изображении персонажей на облаках. В натур-
философии и в даосской философии оно превратилось, с од-
ной стороны, в воплощение небесной пневмы-ци, a c дру-
гой — в символ быстротечности человеческой жизни и
эфемерности его деяний. В литературно-поэтической и живо-
писной образности и художественные трактовки, и значения
«облака» намного расширились. Одинокое облачко или вере-
ница облаков, уходящая за горизонт, стали символизировать
одиночество человека, оторванного от дома и безмерно тоскую-
щего по родным и друзьям. Туманная пелена, затянувшая
небо и горные вершины, олицетворяет «таинственность» ди-
кой природы, ее сокрытость от человека, еще не готового к ее
восприятию и истинному пониманию, и также воплощает
ввиду своей принадлежности к стихии воды Женское начало.
Что касается орнаментальной традиции, то в ней суще-
ствует специальный тип узоров — «облачный узор» (юнь-
вэнъ), который впервые обнаружил себя, напомним, в
позднечжоуском декоративно-прикладном искусстве. Впо-
следствии (начиная с ханьской эпохи) он трансформиро-
вался в несколько вариантов, которые различаются по сте-
пени условности изображений: от геометрических комби-
наций, состоящих из дуг и спиралей (росписи по ханьской
погребальной керамике), до фигур, передающих контур-
ные очертания облака или вереницы облаков. Отдельного
упоминания заслуживают орнаментальные композиции,
Фениксы, играющие
пылающей жемчужинои.
X в. Вышивка
Использование образа
облака в декоративно-
прикладном искусстве
«Облачный» орнамент: a — на
древних лаковых изделиях
fill вв. н. э., пров. Хэнань); б — в
росписях по ханьской керамике;
в — в орнаментации ханьских
нефритовых изделий; г — со сти-
лизованными изображениями бес-
смертных и фантастических су-
ществ (вышивки, I—II вв. н. э.); à —
орнамент из облаков и гусей (шелк,
конец X — начало XI в.); е — об-
лака, стилизованные под: 1 — фе-
никса, 2 — волшебный гриб-чжи,
3 — коричное дерево (с китайских
вышивок, эпоха Цин); ж — орна-
мент из облаков и фениксов (позо-
лоченное серебро, XII в.).
Изображение огня
как эмблемы
на императорском парадно-
ритуалъном облачении
^0%Ы
Вариант состава
и графического исполнения
набора «Восемь
драгоценностей»
1 — рог носорога; 2 — музыкаль-
ный инструмент цин\ 3 — сереб-
ряный слиток дин; 4 — книжный
свиток; 5 — амулет фаншэн; 6 —
жезл-жуи; 7 — ветка коралла;
8 — амулет юаньшэн.
ШІІІ
Сдвоенные амулеты
фаншэн и юаньшэн
эпизодически встречающиеся на погребальной утвари (вы-
шивки, лаковые росписи), относящейся к южному и юго-
восточному регионам. Эти композиции частично переклика-
ются с роспксями гроба госпожи Дай и состоят из изображе-
ний облаков, перемежаемых стилизованными фигурами
бессмертных-сяией и фантастических существ. Данный ор-
наментальный сюжет свидетельствует о том, что образ об-
лака сохранил свои религиозно-мифологические и натур-
философские (воплощение небесной пневмы) значения и в
декоративно-прикладном искусстве.
Для орнаментальных трактовок «облака» характерна
также стилизация его изображений — через контурные
очертания — под изображения цветов, волшебных расте-
ний (коричное дерево, гриб-чжи, подробно см. далее), птиц
и животных (феникс, дракон). И наконец, широкое рас-
пространение в декоративно-прикладном искусстве полу-
чил орнамент, состоящий из повторяющихся фигур обла-
ков, перемежаемых другими фигурами: фениксами, гуся-
ми, летучими мышами.
Из других возможных природных сущностей и стихий
отдельное место в художественной образной системе занял
только огонь (хо) — воплощение Мужского начала. Он изоб-
ражается в виде языков пламени и в таком исполнении
включается в иконографию многих фантастических существ
и входит в набор эмблем-шыэр.
Следующие две важнейшие группы разбираемого об-
разного раздела — природные «драгоценности» и руко-
творные изделия, которые нередко смешиваются друг с
другом, образуя стандартные символические наборы. Са-
мым популярным из них является набор, называемый «Во-
семь драгоценностей» (ба бао), состав которого довольно
широко варьируется. В него входили следующие природ-
ные реалии и изделия.
1. Жемчуг (или особого вида жемчужина, определяе-
мая как «жемчужина дракона», лун чжу), коралл (ветка
коралла) или нефрит в виде древесного листа.
2. Бивни слона (сян я) или рог носорога (си цзяо)у зна-
чения которых проистекают из символики этих животных.
3. Слиток серебра (дин) — символ богатства.
4. «Круглый амулет» (юанъшэн) и «квадратный аму-
лет» (фаншэн), изображаемые соответственно в виде оди-
нарного или сдвоенного круга с квадратным отверстием
посередине и одинарного или сдвоенного ромба. Первый из
этих «амулетов» восходит к монете-і(я«ь и, следовательно,
тоже является символом и пожеланием богатства. Второй —
к древнему волосяному украшению и является знаком вы-
сокого общественного положения и карьерного успеха.
5. «Жезл жуи» (жезл «исполнения желаний»), кото-
рый в полном своем изображении рисуется предметом в
виде чуть изогнутого жезла с головкой, изображающей
шляпку волшебного гриба-чяш. В разбираемом наборе обыч-
но дается только его головка. Это символ долголетия и,
согласно его терминологическому обозначению, исполне-
ния желаний.
372
6. Древний музыкальный каменный ударный инстру-
мент — цин, омоним иероглифа цин — «ликование», «празд-
ник», «юбилейное торжество».
7. Книжный свиток (две книги) — символ учености и
успешной чиновничьей карьеры.
8. Рулон шелка или зеркало — символы семейного
счастья.
Кроме указанного набора, существуют еще два с таким
же названием. Один из них состоит из даосских симво-
лов — атрибутов Восьми бессмертных (Ба сянъ), другой —
из буддийских символов и иконографических атрибутов.
Символическое значение в китайской культуре имели и
все природные вещества, относящиеся к ювелирным мате-
риалам — благородные металлы, камни, вещества органи-
ческого происхождения, о чем будет подробно говориться
при рассмотрении китайского ювелирного дела. В образную
систему могли вводиться любые другие изделия: музыкаль-
ные инструменты, многие из которых (особенно духовые)
имеют эротическую символику; письменные принадлежно-
сти (символ учености); печать (символ и пожелание карьер-
ного успеха); древние бронзовые изделия (знак верности за-
ветам древних мудрецов, эрудиции и высоких нравствен-
ных достоинств человека); предметы мебели и интерьерные
украшения. В качестве примера сошлемся на символику
вазы-пиНу которая благодаря омонимичности ее названия
слову «мир», «спокойствие» выступает символом (и поже-
ланием) душевного спокойствия человека, семейного счас-
тья и процветания страны. В случае сочетания в архитекто-
нической композиции вазы квадрата и круга — ваза с ок-
руглым туловом и квадратным устьем, с круглым устьем и
квадратной формы донышком или стоящая на квадратной
подставке — она олицетворяла собой общую гармонию ми-
роздания. Этим объясняется практика исполнения в
Китае крупногабаритных напольных ваз, которые никак
не могли использоваться в практических целях.
Вариант состава
и графического исполнения
набора
«Восемь драгоценностей»
1 — жемчужина; 2 — амулет
юаныиэн; 3 — амулет фаншэн;
4 — зеркало; 5 — музыкальный
инструмент цин; 6 — книги; 7 —
бивни слона; 8 — нефрит в виде
древесного листа.
В китайских верованиях и мифологических сюжетах, в
том виде, в каком они перелагаются в литературных сочи-
нениях, обнаруживаются практически все известные в ми-
ровых религиозно-мифологических представлениях типы
мифических деревьев: «Мировое древо», соединяющее зем-
ной и высший миры; «Древо мертвых» (Древо императо-
ров, Диму, на ветвях которого, напомним, якобы пребыва-
ли души усопших царей-ванов), солярные деревья (Солнеч-
ная шелковица и Древо Жо), a также огромное число
растений, называемых Деревьями бессмертия, к которым
относится и Нефритовое древо (Цюншу), входящее в кос-
мографию Куньлуня. Однако в художественном творчестве
оказались задействованы, по сути дела, только два образа
мифологических деревьев — Солнечная шелковица и Дре-
во бессмертия, в обобщенном его варианте. Изображения
Солнечной шелковицы неоднократно воспроизводятся в
ханьском погребальном искусстве — в сценах на каменных
РАСТИТЕЛЬНЫЕ
ОБРАЗЫ
(МИФОЛОГИЧЕСКИЕ
РАСТЕНИЯ,
ДЕРЕВЬЯ, ЦВЕТЫ,
ПЛОДЫ И ГРИБЫ)
373
Коричное дерево.
С ханьских
погребалъных стенописей
(окрестности Лояна)
Китайский персик
рельефах, посвященных мифу о Стрелке. Она стандартно
изображается в них в виде могучего дерева с кряжистым
стволом и мощными раскидистыми ветвями, оканчиваю-
щимися цветами, внешне отдаленно напоминающими цве-
ты лотоса в древнеегипетском искусстве. Однако в дальней-
шем ни образ самой Солнечной шелковицы, ни дриадная —
в виде цветов — символика солнца не нашли какого-либо
внятного продолжения в китайском искусстве.
Первыми художественными воплощениями образа Древа
бессмертия служат ханьские погребальные светильники и
модели деревьев. He исключено, что к этому же образу
восходит и образ «Денежного дерева» (с монетами на вет-
вях). Впоследствии «Денежное дерево», как в его целост-
ном виде, так и в виде отдельных веточек с монетами,
превратилось в символ благосостояния и в обязательную
принадлежность иконографии божеств, ниспосылающих
богатство и материальные ценности. Следующими наибо-
лее принятыми (как в религиозных представлениях, так и
в художественном творчестве) традиционного Китая воп-
лощениями образа Древа бессмертия стали Лунная корица
(Юэгуй) — волшебное дерево, растущее на луне, и Перси-
ковое дерево (Тао).
Прототипом Лунной корицы является коричное дерево
(гуй), которое уже в древнекитайских верованиях наделя-
лось магическими — охранительными и целебными — свой-
ствами. По свидетельству литературных источников, из его
древесины исполнялись различные детали интерьера цар-
ских покоев, a также некоторые атрибуты и регалии. В част-
ности, упоминаются балдахин над колесницей и штандарт,
сделанные из веток коричного дерева. Связь коричного де-
рева непосредственно с бессмертием была вызвана, вероят-
нее всего, его природными особенностями — поздним, бли-
же к осени, цветением, что воспринималось китайцами как
признак неподвластности этого растения обычному ходу вре-
мени. В декоративно-прикладном и изобразительном искус-
стве утвердилась художественная трактовка Лунной кори-
цы в виде дерева с раскидистой кроной и изгибающимся,
утончаясь книзу, стволом, контуры которого подобны кон-
турам волшебного гриба-чжі/. Оно, как правило, вводится в
общие «лунные» композиции, состоящие из нескольких пер-
сонажей, связанных с луной и бессмертием (богиня Чан-э,
«лунный заяц», «лунная жаба», подробно см. далее). В прин-
ципиально ином значении образ корицы используется в лю-
бовно-лирической поэзии, где она, тоже благодаря своему
позднему цветению, выступает метафорой увядающей жен-
ской красоты и запоздалой («осенней») любви.
Персиковое дерево заменило собой Нефритовое древо,
став неотъемлемой принадлежностью культа Куньлуня и
легенд о Царице Запада — Сиванму. В них рассказывает-
ся, что в резиденции Царицы Запада, расположенной на
вершине Куньлуня и на берегу Нефритового озера, растет
чудесное персиковое дерево (или — сад из таких деревьев),
которое плодоносит один раз в 10 000 лет, принося перси-
ки бессмертия. Когда они созревают, Царица Запада устраи-
374
вает пир, на который собираются все бессмертные-сішы,
удостоившись чести вкусить эти плоды. Волшебное перси-
ковое дерево, равно как и персик бессмертия, не получили
специфических иконографических трактовок. Их воплоще-
нием являются практически все живописные и орнамен-
тальные композиции, содержащие в себе цветущие персико-
вые ветви. Плод персика, служащий символом и пожелани-
ем бессмертия (долголетия), входит в набор обязательных
иконографических атрибутов божественных персонажей,
связанных с бессмертием, и может вводиться в любые бла-
гопожелательные композиции.
Все остальные деревья, использующиеся в художествен-
ной образной системе, входят в несколько семантических
групп, частично накладывающихся друг на друга: вечнозе-
леные и лиственные, цветущие (плодовые), «женские» и
«мужские».
Главным представителем вечнозеленых деревьев явля-
ется сосна (сун), образ которой восходит к местной горной
разновидности этого дерева. Горная сосна обычно растет в
одиночестве, нередко на вершине скалы или над самым
обрывом, и в самых неблагоприятных природных услови-
ях — в местах, почти лишенных почвенного слоя, посто-
янно продуваемых ветрами. Все это предопределило ее ха-
рактерные внешние черты — дерево с крепкими корнями,
уходящими в глубь скальной породы, невысоким кряжи-
стым стволом и узловатыми могучими ветвями. Именно в
таком виде сосна преподносится в художественном творче-
стве, прежде всего в живописи. Символика образа сосны
чрезвычайно многогранна. Она выступает растением бес-
смертия — символом и пожеланием долголетия, олицетво-
ряет истинно благородную личность как в конфуцианском,
так и даосском ее понимании: человека, обладающего внут-
ренней стойкостью, неподвластного внешним невзгодам и
напастям и отстраненного от «суетной толпы». Непосред-
ственно в даосской образности сосна представляет метафо-
ра отшельнического уединения и отшельника.
С образом сосны перекликаются образы и других веч-
нозеленых растений, в первую очередь кипариса (бо), кото-
рый наделялся в китайских верованиях особыми охрани-
тельно-целительными свойствами, включая защиту от мерт-
вых. Так, настой на кипарисовой хвое мыслился одним из
самых действенных лечебных напитков и средств для из-
гнания злых сил. Уже в Древнем Китае установился обы-
чай высаживать кипарисы на могильных насыпях и вдоль
дороги, ведущей к погребению.
Параллельно с вечнозелеными хвойными растениями
исключительно важное место в художественной образной
системе принадлежит бамбуку (чжу). Будучи теплолюби-
вым растением, бамбук является характерной принадлеж-
ностью флоры регионов бассейна Янцзы, a его образ воз-
ник и утвердился в религиозно-мифологических представ-
лениях именно этих регионов. Всего в Китае произрастает
более 10 видов и 50 разновидностей дикого и декоративно-
го бамбука, некоторые из них могут достигать в высоту
Использование образа
персика в декоративно-
прикладном искусстве
a — чашечка (позолоченное се-
ребро, ХІІ-ХІП вв., пров. Фуц-
зянь, высота 4,5 см, длина по
линии устья 10,5 см); б — чашеч-
ка (серебро, эпоха Мин).
Изображение сосны
в китайской пейзажной
живописи. С книжной
гравюры в стиле карпгин
Ma Юаня.
Конец XII — начало XIII в.
375
Декоративный бамбук
в пейзажном саду.
С книжной гравюры
Живописное
изображение бамбука.
С книжной гравюры
no мотивам картин
в «бамбуковом стиле»
Живописные изображения
деревъев. С книжных гравюр
a — лиственные деревья; б —
обнаженные деревья.
10-15 м и иметь диаметр ствола до 70-100 см. Отдельно
выделяются, например, «колючий бамбук» (цзичжу) —
дикий бамбук, отличающийся гигантскими размерами;
«пальмовый бамбук» (цзунчжу, бот. рапис высокий, Rhapis
exelsa), шедший на изготовление вееров. Часть разновид-
ностей бамбука ценится исключительно за свою внешнюю
привлекательность, тогда как другие овеяны легендами.
Наиболее популярный пример — «пятнистый бамбук» (банъ-
чжу, бот. листоколосник Бориана, Phyllostachus boryana),
получивший образное название «бамбук дев [реки] Сян»
(сянфэйчжу). Крапинки, покрывающие его листья и кору,
считаются следами слез двух сестер — вдов совершенно-
мудрого государя Шуня, безудержно оплакивающих смерть
супруга. Их скорбь была настолько велика, что они реши-
ли добровольно расстаться с жизнью, бросившись в реку
Сян, став ее божествами.
Общая символика бамбука тоже проистекает из его при-
родных особенностей — растение с упругим полым ство-
лом, покрытым твердой корой, отчасти дублирует собой
символику сосны: олицетворение внутренней стойкости
человека, его высочайших духовных качеств и готовности
противостоять бедам и испытаниям. Еще более важное зна-
чение придается образу бамбука в философско-эстетиче-
ской мысли, где он соотносится с творческой деятельно-
стью, созвучной вдохновению-наитию. В китайской живо-
писи есть даже специальное тематическое направление —
«бамбуковый стиль» — с изображением только этого расте-
ния. Одновременно бамбук относится к принятой благопо-
желательной символике в силу омонимичности его назва-
ния глаголу чжу — «молить о чем-то», «желать», «ожи-
дать». Помимо своих значений как художественного образа,
бамбук широко использовался в качестве поделочного ма-
териала. Из его лыка и коры изготавливались живописные
сорта бумаги, плетеные изделия, из стволов и ветвей —
предметы мебели.
Лиственные деревья, независимо от конкретного вида,
олицетворяют вечный круговорот природы: опадающая и
вновь появляющаяся листва. Изображения опадающих или
уже полностью обнаженных деревьев типичны для сцен
осенней природы, чрезвычайно часто воспроизводимых в
пейзажной живописи. Такие сцены обладают бинарным
смыслом. С одной стороны, они напоминают зрителю о
неизбежности осени-старости. Ho, c другой, имплицитно
намекают на столь же неизбежный приход новой весны и
нового расцвета природы.
Среди цветущих деревьев важнейшее место занимает
дикая слив&-мэй (с кислыми малосъедобными плодами),
больше известная как мэйхуа («цветы сливы-л^эй»), Это —
календарное дерево, символ и эмблема китайского Нового
года, весны и рождения всего живого. Кроме того, ее на-
звание омонимично словам «красота» (мэй) и «брови» (мэй),
которым придавалось особое значение в облике красави-
цы, что более усилило ассоциации этого дерева и его цве-
тов с женской красотой, юностью и чувством любви. Цветы
376
мэихуа и ее цветущие ветви — излюбленные мотивы ки-
тайского декоративно-прикладного и изобразительного ис-
кусства. Они могут реализовываться в росписях по кера-
мике, в вышивках, в ювелирных изделиях. Могут испол-
няться и более сложные композиции, в которых ветви
мэйхуа даются в сочетании с бамбуком и с насекомыми
(бабочками). В живописи и в поэзии существуют специаль-
ные тематические направления: «стиль мэйхуа» и стихи,
посвященные ее воспеванию.
Алломорфами сливы-л^эй как символа женской красо-
ты и любви являются множество других плодовых деревь-
ев: плодовая слива-ли (бот. Слива китайская) и груша-
ли — омонимы слова «красота» (ли)\ вишня-іш, плоды
которой соотносятся с губками красавицы («вишневый
ротик», инкоу); абрикос-син, цвет плодов которых равно-
значен, с точки зрения вкусов китайцев, цвету кожи кра-
савицы.
«Мужские» и «женские» растения определяются по
характеру строения деревьев — с крепкими, прямыми и,
наоборот, тонкими, хрупкими, стволом и ветвями. Основ-
ными представителями «мужских растений» являются:
1) сосна, кипарис и бамбук; 2) тополь-я« (бот. Ива Матсу-
ды, омоним Ян); 3) тополь-яі/ай (бот. Софора японская),
одновременно служащий и ранговым деревом: его древеси-
на шла на изготовление сидений, предназначавшихся для
сановников высших рангов; 4) тунговое дерево-тун (или
павлония душистая, болыне известная в Европе как Ада-
мово дерево); 5) платан-і/тг/«, который, включая ассоциа-
цию с Мужским началом, может фигурировать в качестве
мифологического дерева: волшебные платаны, служащие
местом обитания и гнездовий фениксов. К «женским» рас-
тениям относится прежде всего ива-люй, особенно плакучая
ива. Любые художественные композиции, составленные из
«мужских» и «женских» деревьев (их ветвей) имеют эроти-
ческий смысл. Кроме того, особое значение придавалось
форме древесных листьев. Все те из них, которые имеют
сердцевидную форму, являются символами взаимной люб-
ви и брачного счастья. В литературных произведениях назы-
ваются несколько самостоятельных типов вышитых узоров,
Живописные изображения
цветов и веток мэйхуа.
С китайской книжноіі
гравюры в стиле
живописных произведении.
Beep с живописной
композициеіі на тему
мэйхуа
Использование образа
мэйхуа в декоративно-
прикладном искусстве
a — узор на шелке (конец X —
начало XI в.); б — серебряная
чашечка (эпоха Мин); в — «мэй-
хуа и бабочки» (тканый орнамент,
конец X — начало XI в.); ? —
«мэйхуа и бамбук» (тканый орна-
мент, конец X — начало XI в.).
о о о о о оооо ооо
377
Использование образа пиона
в декоративно-прикладном
искусстве
a — орнамент из цветов пиона и
лотоса (серебряная инкрустация
по лаку, Х-ХІ вв.); б — золотое
украшение (конец XI в.).
Живописное изображение
орхидеи. С картины первой
половины эпохи Цин
составленных из листьев-сердечек и исполнявшихся на пред-
метах женского костюма.
Ведущее место непосредственно в «цветочной» образ-
ной группе принадлежит пиону, хризантеме, орхидее и
лотосу.
Семейство китайских пионов включает в себя две глав-
ные их разновидности: пион-шаояо, т. е. белоцветный (мо-
лочноцветный) пион (бот. Раеопіа lactiflora), и пион-му-
данъ — древовидный пион (бот. Раеопіа Montan). B художе-
ственной образной системе эти разновидности не различаются
и имеют одинаковую символику. Пион полагается, во-пер-
вых, «царем» всех цветов, следовательно, символом знати,
что находит отражение в его образных названиях: «царь-
цветок» (хуаван) и «цветок богатства и знатности» (фугуй-
хуа). Во-вторых, он выступает календарным растением,
соотносящимся с началом лета. Первый летний месяц (чет-
вертый месяц года по лунному календарю) называется
«Месяцем пиона», a 19-й день этого месяца почитается
днем рождения Богини пионов. В-третьих, пион ассоции-
руется с женской красотой и семейным счастьем, служа
своего рода «барометром» семейных дел. Если букет пио-
нов, стоящий в доме, в течение долгого времени остается
свежим: стебли сохраняют упругость, лепестки не вянут
и не опадают, значит, семье благоприятствует удача. Бы-
стро увядающие пионы — предупреждение о грозящих
неприятностях.
Орхидея (ланъ) и хризантема (цзюй) проявляются уже
в древней мифолого-поэтической образности, где они ока-
зываются устойчиво связанными с божественным миром
и ритуальной обрядностью. В дальнейшем за орхидеей
закрепились два главных символических значения. В пер-
вом из них она является олицетворением исключитель-
ных внутренних качеств человека, в том числе и конфу-
цианской благородной личности, и его способности ока-
зывать облагораживающее воздействие на окружающих
людей, подобно тому как цветок орхидеи источает тон-
чайший аромат. Во втором символическом значении ор-
хидея ассоциируется с женским началом и женской кра-
сотой: например, принятое образное название дворцовых
гаремных покоев и покоев императрицы — «обитель ор-
хидей» (ланъгуй). Данное значение орхидеи, видимо, вос-
ходит к одному из древних календарных празднеств —
Празднику сбора орхидей, который отмечали третьего дня
третьего месяца, судя по его поэтическому описанию (в nee-
He «Ши цзина»), и включал в себя ритуальное очищение-
омовение, поминовение душ усопших и брачный ритуал
(любовные игрища и спонтанные интимные отношения
юношей и девушек).
Хризантема имеет более широкий смысловой спектр.
He исключено, что исходно она почиталась солярным цвет-
ком, связанным с бессмертием. Во всяком случае, вино,
настоянное на лепестках хризантем, служило календар-
ным — осенним — напитком, сопоставимым с эликсиром
долголетия. Во-вторых, хризантема считается олицетворе-
378
Шй
нием осени и одновременно «царицеи» осенних цветов,
которые нередко прямо уподобляются ей. Так, образные
названия бархатцев и ноготков — соответственно «хри-
зантема десяти тысяч лет жизни» (ванъшоу-цзюй) и «хри-
зантема золотой чаши» (цзинъчжанъ-цзюй), Отдельно вы-
деляется символика хризантемы как знака поэтического
вдохновения, внутренней раскрепощенности художника,
его единения с природой и умения воспринимать красоту
окружающей действительности. Такое осмысление хризан-
темы объясняется в литературной традиции особой любо-
вью к этим цветам Тао Юаньмина — поэта, в творчестве
которого излагается философия винопития. Подобно дру-
гим многолепестковым цветам, образ хризантемы воспро-
изводился не только в графических (расписные орнамен-
тальные мотивы и живописные сюжеты), но и в пластиче-
ских формах: стилизованные под этот цветок керамические
и металлические изделия (чаши, кубки, вазы).
Из семейства лотосовых тоже называются две главные
его разновидности — лотос-лянъ (ненюфар) и лотос-дгэ, ко-
торый в специальной литературе отождествляется с лото-
сом орехоносным (Nelumbium nuciferum) или с водяной
лилией. Несмотря на ботанические различия между ними,
лотос-ля«ъ и лотос-яэ образуют в целом единый образ (за
исключением их символики, проистекающей из фонети-
ческих норм), который обладает несколькими исходно раз-
ными значениями. Одни из них восходят к индо-буддий-
ской традиции, в которой лотос относится к числу опор-
ных символов Будды и Учения. Другие обусловлены
национальными религиозно-мифологическими представ-
лениями и фольклорно-поэтической образностью, наделя-
ющими лотос однозначной эротической семантикой. Ро-
зовый (Ян) цветок с широкими округлыми листьями зе-
леного цвета (Инъ), с длинным и прочным стеблем,
уходящим в водную толщу (Инъ)9 являет природную мо-
дель коитуса. He удивительно, что лотос почитается лет-
ним цветком, и не просто календарным растением, a цвет-
ком, который воплощает наивысший расцвет жизненных
сил и плодоносность природы. Ему посвящен шестой месяц
Исполъзование образа
хризантемы в декоративно-
прикладном искусстве
a — фарфоровая тарелка с ор-
наментом из хризантем (эпоха
Юань); б — фарфоровая чашка
с орнаментом из стилизованных
цветов хризантем (эпоха Юань);
в — золотая чашечка в виде цвет-
ка хризантемы (высота 4,6 см,
диаметр устья 10,4 см, XII в.,
пров. Сычуань); г — варианты ис-
полнения цветов хризантемы в
росписях по фарфору юаньской
и минской эпох.
379
Использование образа
лотоса в декоративно-
прикладном искусстве
a — фарфоровая тарелка с релъ-
ефным изображением лотоса (эпо-
ха Сун); б — серебряное блюдо в
виде цветка лотоса (XII в., пров.
Сычуань, высота 1,8 см, диаметр
18,5 см); в — ванна-бассейн Ян-
гуііфэй.
Живописная композиция
с лотосом и насекомым.
С книжной гравюры
no мотивам живописных
произведений
года по лунному календарю, на которыи приходится пик
летнего сезона и день летнего солнцестояния, a 13-й день
этого месяца полагается Днем рождения лотоса. Лотос
ассоциируется с Ян и плодородием усиливаются его пло-
дам-коробочкам, наполненным семенами. Они обознача-
ются в китайском языке тем же иероглифом, что и «ребе-
нок» — цзы. A сочетание «семена лотоса» (ляньцзы) яв-
ляется омонимом сочетания «рождение подряд сыновей»
(лянъ цзы). Все это сделало лотос популярнейшим симво-
лом и благопожеланием многочисленного мужского по-
томства. Лотос-яэ — омоним категориального понятия
«мир», «согласие» (хэ), которое может передавать как
состояние душевной гармонии личности в коннотациях с
буддийским вероучением, так и счастье взаимной любви
и согласие супругов. «Рвать лотосы» (равно как и любые
другие водяные цветы) — распространенный в народной
песне и любовной лирике эвфемизм, означающий «меч-
тать о встрече с любимым».
Лотос тоже является популярнейшим орнаментальным
мотивом и живописным сюжетом. Самое, пожалуй, не-
обычное его художественно-декоративное воплощение —
мраморная ванна-бассейн Як-гуйфэй (возлюбленной тан-
ского императора Сюань-цзуна) в загородной резиденции
этой царственной четы (в окрестностях Сианя). Подобно
бамбуку, бытие лотоса в китайской культуре далеко не
исчерпывается его значимостью как художественного об-
раза. Его побеги и листья использовались в кулинарии, a
особым способом приготовленные семена были деликатес-
ным лакомством.
Независимо от их конкретных символических значе-
ний, все цветы тоже подразделяются на «мужские» и «жен-
ские». К первым относятся цветы, имеющие удлиненные,
заостренные листья или длинный, выступающий пестик,
типа ириса, нарцисса. «Женскими» цветами полагаются
травянистые растения с вьющимися стеблями (вьюнок,
павилика) и цветы с множеством лепестков, наделяемые
откровенным эротическим смыслом через их отождествле-
ние с вульвой. В «женской» семантической группе оказы-
ваются азалия («цветок горлинки», дуцзюанъхуа), роза (цян-
вэй), астра («пурпурное изобилие», цзывань), мальва {куй)>
a также пион, хризантема и лотос. Ассоциации лотоса с
женским началом отчетливее всего проявляются в живо-
писных композициях, когда цветок показывается с паря-
щим над ним насекомым (чаще всего, стрекозой), которое
в данном случае олицетворяет мужское начало.
Из плодов, включая фрукты и овощи, самым распрост-
раненным художественным образом является уже знако-
мая нам по неолитическим (яншаоским) росписям тыква-
горлянка (хулу). Исходно наделявшаяся, судя по всему,
особым магическим смыслом, тыква-горлянка приобрела в
последующих верованиях и натурфилософских представ-
лениях еще более существенные — космологические и кос-
могонические — символические значения. Ее силуэт, на-
поминающий очертание женского тела, и ее форма, как бы
380
составленная из двух вложенных друг в друга сфер, сдела-
ли тыкву-горлянку моделью акта рождения, a ассоциации
с материнской утробой, в свою очередь, повлекли за собой
ее семантику как воплощения «пустотно-вместимой Утро-
бы мира, порождающей из хаоса все сущее». В даосско-
религиозной образности тыква-горлянка превратилась в
сосуд для хранения эликсира бессмертия, став тем самым
эмблемой бессмертия и пожеланием долголетия. В таком
значении она является непременным атрибутом иконогра-
фии божеств, связанных с бессмертием, и элементом благо-
пожелательных композиций. Кроме того, она тоже наделя-
ется в даосизме мифолого-космологической семантикой, пер-
сонифицируя собой так называемые пещерные небеса —
одну из пространственных сфер даосской космологии, слу-
жившей местом обитания бессмертных определенных ран-
гов. В популярных верованиях эти представления оберну-
лись легендой о волшебных обитателях тыквы — «тыквен-
ных старцах», способных помогать человеку и исполнять
все его желания. Тыква-горлянка была воспринята и буд-
дийской образностью в силу того, что монашествующие
использовали ее в качестве сосуда для воды. Это сделало
тыкву-горлянку символом монашеской аскезы и искренно-
сти вероисповедания человека.
Изображения тыквы-горлянки можно встретить не только
в виде живописных произведений и орнаментальных ком-
позиций. Ее форму копируют керамические и фарфоровые
сосуды, ювелирные изделия — кулоны, подвески для серег.
Для «фруктовой» образной группы тоже выделяется
относительно стандартный набор фруктов, обозначаемых
как «счастливые плоды» (жуй го). В него входят: гранат
(лю), мандарин (цзюй), апельсин (ганьцзюй), арбуз («запад-
ная тыква», сигуа) и личжи.
Структура плода граната сделала его очередной эмбле-
мой и благопожеланием многочисленного мужского потом-
ства. Как таковой, он обычно изображается в полураскры-
том виде, чтобы были видны зерна. Символика мандари-
на в некоторой степени перекликается с символикой
персика и тыквы-горлянки: он тоже наделялся способно-
стью даровать бессмертие и считался обителью чудесных
«мандариновых старцев» — мудрецов, проводивших вре-
мя за игрой в облавные шашки. Кроме даосско-религиоз-
ных значений, мандарин имеет отчетливую астральную и
морально-этическую семантику. В китайской астрологии
название этого плода используется в качестве астрономи-
ческого термина — для обозначения луны в момент ее на-
хождения в восточном и юго-восточном секторах звездного
неба, что считалось наиболее благоприятным временем для
рождения будущих благородных и мудрых чиновников.
В центральной администрации ханьской эпохи существо-
вала специальная должность «мандариновый чиновник»
(цзюй гуанъ). Лица, занимавшие эту должность, ведали снаб-
жением цитрусами императорского двора, что было весьма
немаловажным и почетным занятием. Указанные историко-
культурные реминисценции предопределили превращение
Золотая чашечка
в виде цветка мальвы.
XII в. Пров. Сычуань.
Высота 4,4 см,
диаметр устья 8,1 см
л£$аД
&J
Изображение ^~
тыквы-горлянки ^у
в благопожелательных
композициях. По мотивам
цинского декоративно-
прикладного искусства
Тыквенный стпарец.
С книжной гравюры
381
Золотая чаша
в виде половинки арбуза.
XII в. Пров. Сычуанъ,
высота 3,6 см,
диаметр устья 6,8-10 см
Серебряное блюдо
с изображением
«счастливых» плодов.
ХІІ-ХІІІ вв.
Пров. Фуцзянъ
мандарина в одну из эмблем и благопожеланий как долго-
летия, так и успешной служебной карьеры. Все эти симво-
лические значения были перенесены и на апельсин, высту-
пающий в китайской образной системе как бы увеличен-
ным в размерах мандарином. Он получил выразительное
образное название «счастье и исполнение желаний» (цзи-
сян-жуи).
Личжи (личи, бот. Litchi Chinensis) — плоды (неболь-
шие по размеру, продолговатой формы) специфического и
редкого китайского растения, произрастающего на юго-
западе страны, в Сычуани. Они обладают, по мнению ки-
тайцев, необыкновенно приятным вкусом и, что самое глав-
ное, их кожура — прочная, темно-коричневого цвета и по-
крытая узорами — отождествляется с черепахой в ее
значении существа, связанного с бессмертием. В результа-
те личжи стали эмблемой одновременно знатности, богат-
ства и долголетия.
Арбуз попал в Китай ориентировочно во второй поло-
вине X в. от «западных» (уйгуров или других представите-
лей тюркской этноязыковой группы) народов, что и ука-
зывается в его терминологическом названии. He имея,
естественно, связей с национальными верованиями и фи-
лософскими представлениями, он тем не менее оказался
полным соответствием китайской символике: плод округ-
лой формы, сочетающий в себе ярко-красную мякоть и
зеленую кожуру, наполненный зернами.
К «счастливым плодам» примыкает и яблоко, хотя яб-
лоневые деревья в Китае практически не культивирова-
лись и существовали только их дикие сорта, один из кото-
рых с весьма странным названием «горная колючка» (шань-
цзин) характерен для флоры северных районов, a другой —
«морской зал» (хайтан) — для юго-восточных. Тем не ме-
нее яблоко имеет собственное терминологическое обозначе-
ние — nun, благодаря которому оно стало еще одним омо-
нимом иероглифа «мир» (nun)
Последний из образов данного раздела, который заслу-
живает отдельного разговора, — уже неоднократно упоми-
навшийся ранее гриб-чжі/, или, в более точной оригиналь-
ной терминологии, волшебный/божественный гриб (лин
чжи). Он совмещает в себе черты зонтичных грибов, произ-
растающих в различных районах Китая, в том числе в
горных местностях, и древесного гриба (муэр, «древесные
ушки»), и те и другие широко употребляются в китайской
кухне. Возведение гриба-чжи в ранг растения бессмертия
началось, видимо, еще в древних мифолого-религиозных
представлениях и оккультных практиках, a затем он стал
неотъемлемой принадлежностью даосской алхимии. Изве-
стно, что в III—IV вв. даосские отшельники занимались
сбором лесных грибов, используя их для изготовления сна-
добий бессмертия. В текстах по внешней алхимии называ-
ются различные разновидности чжи, некоторые из них
были, по всей вероятности, вполне реальными грибными
плодами. Тогда как другие производят впечатление скорее
мифологических, чем натуральных, даров природы, напри-
382
мер «гриб о девяти ножках», «гриб с пятицветной шляп-
кой» и даже «цветущий гриб», о котором сообщается, что
он цветет трижды в год. Художественные трактовки гриба-
чжи однотипны и единообразны: он показывается в виде
зонтичного гриба с изгибающейся ножкой, которая посте-
пенно утолщается и плавно переходит в широкую, услож-
ненной конфигурации шляпку. В форме чжи, как уже от-
мечалось ранее, нередко исполнялись многие другие обра-
зы — облака, Лунная корица, жезл-жуи. В письменных
источниках упоминается, что такую грибовидную форму
могли иметь и балдахины над колесницами даосских адеп-
тов и, более того, архитектурные строения.
Данный образный раздел является самым объемным и
нуждается в дополнительной классификации, которая мо-
жет строиться исходя либо из семантики образов, либо из
естественнонаучных типологий. В последнем случае мы
получим следующие подразделы и группы: рыбы, земно-
водные, пресмыкающиеся, насекомые, птицы, дикие и
домашние животные. Отдельный подраздел составляют
образы фантастических (в нашем современном понима-
нии) существ.
300М0РФНЫЕ
ОБРАЗЫ
Китайские письменные памятники буквально насыще-
ны названиями и описаниями всевозможных фантастико-
зооморфных созданий, которые, по представлениям китай-
цев, населяли земное, подземное, небесное пространство и
водоемы. Однако собственно китайская традиция в очеред-
ной раз предлагает ключевой набор таких существ, сводя их
к двум когортам: «пять священных [существ]» (у лин) и
«четыре духа» (сы шэнь). Под «пятью священными [суще-
ствами]» понимаются: цилинь, дракон, феникс, Белый тигр
(Байху) и Божественная черепаха (Лингуй). «Четыре духа» —
это существа-покровители четырех частей света: Бирюзо-
вый дракон (Цанлун) — покровитель Востока, Красная пти-
ца (Красный воробей) (Чжуняо, Чжуцюэ) — покровитель
Юга, являющийся представителем «семейства» фениксов,
Белый тигр — покровитель Запада, и Сокровенный воин
(Сюанъу) — покровитель Севера, существо в виде черепахи,
обвитой змеей. Вне когорты «четырех духов» по каким-то
причинам оказался покровитель Центра — Желтый дракон
(Хуанлун), ставший в дальнейшем официально принятой
эмблемой китайского императора и национальной государ-
ственности. Очевидно, что в обеих когортах присутствуют в
целом одни и те же персонажи, и, следовательно, перед
нами предстают всего лишь пять центральных фантазийно-
зооморфных образов: дракон, феникс, Белый тигр, Сокро-
венный воин и Цилинь. Кроме того, выделяется еще один
зооморфно-фантастический персонаж, близкий по степени
его символической значимости и художественной популяр-
ности к «пяти священным существам», — зверь-сечжи.
Когда речь идет о китайском драконе, обычно имеется в
виду существо, определяемое как дракон-лг/w. Дракон-лг/«
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
СУЩЕСТВА
Ханьский погребальный
керамический сосуд
с изображением
«четырех духов»
383
Бирюзовый дракон.
По мотивам
древнекитайских
изображений
Дракон-чи.
Рельефное изображение
на фарфоровой тарелке.
Х-ХІІ вв.
168 Наиболее часто такого
рода истории сообщаются о
драконах-цзяо, которые в древ-
некитайских и последующих
верованиях однозначно счита-
лись обитателями водной сре-
ды, способными вызывать на-
воднения. Например, рассказы-
вается, что ханьский император
Чжао-ди (86-73 гг. до н. э.),
ловя рыбу в реке Вэйшуй (око-
ло столицы — Чанъани), слу-
чайно поймал цзяо — змеевид-
ное существо с белым глад-
ким телом (без чешуи или
панциря) и с мягкими рогами
(рогом) на голове. Император
приказал убить его и засолить.
Мясо оказалось очень вкус-
ным. Несколько иной, но тоже
достаточно подробный и на-
туралистический портрет цзяо
содержится в еще одном бо-
лее позднем сочинении, где
говорится, что это — змее-
видное существо, с четырьмя
ногами, маленькой головой,
тонкой шеей, белым ожерель-
ем на горле и темными пятна-
ми (полосами) на спине, об-
щая длина тела равняется трем
с лишним метрам, которое раз-
множается, откладывая яйца
очень крупного размера.
действительно возглавляет «семейство» дракономорфных
созданий, однако ни в коем случае не исчерпывает собой
их многообразие. В китайских верованиях и в литературно-
мифологической образности фигурирует огромное число
существ, определяемых как «драконы», многие из ко-
торых имеют собственное терминологическое название,
свойства, функции и внешние приметы. Главными вида-
ми называются: дракон-цзло, якобы имеющий змеевид-
ную внешность и тело, покрытое чешуей; крылатый дра-
кок-инлун, рогатый дракон-цю и безрогий дракон-чц. Цю
и чи по обыкновению драконы, запряженные в солнеч-
ную колесницу, причем в рамках солярных представле-
ний их образы смешиваются, превратившись в «рогатого
дракона».
Китайские ученые-гуманитарии предприняли немало
попыток систематизировать подобное обилие дракономор-
фных существ начиная с ханьской эпохи. Так, некоторые
авторы говорят о разных видах драконов как о возрастных
стадиях одного и того же создания: «Цзяо по достижении
им возраста в тысячу лет превращается в дракона-лг/н; лун
по достижении им возраста в пятьсот лет — в дракона-цю,
a в возрасте тысячи лет — в крылатого дракона». Другие,
напротив, доказывают самостоятельное их существование
и даже предлагают концепцию происхождения от них всех
живых существ: «Десять тысяч существ... произошли от
драконов. Юйцзя (мифический предок пернатых) породил
летающего дракона. Летающий дракон породил феникса.
После этого появилась птица Луань (впоследствии ее нача-
ли считать одним из видов фениксов, подробно см. далее)...
и так произошли все пернатые. Маоду (мифический пре-
док животных) породил драконгі-инлун. Инлун породил
Цзянъма. Затем появился Цилинь... и так произошли все
звери. Цзелинъ (мифический предок чешуйчатых) породил
дракона-цзяо. Цзяо породил рыбу Кунъ (гигантская рыба,
обитающая в Великих морях-пучинах)... и так произошли
все чешуйчатые...» Однако в большинстве сочинений дра-
коны все же лишены подобных космогонических свойств
и, более того, нередко рисуются вполне реальными суще-
ствами, которые могут быть пойманы, убиты и съедены168.
Сходные сведения сообщаются и о драконах-лг/н. Рас-
сказывается, что в древности драконов-лг/н умели разво-
дить и содержать в домашних условиях. Таких ручных
драконов, по преданию, имели потомки еовершенномудро-
го государя Шуня и цари династии Ся. Но постепенно,
вслед за деградацией сяского правящего дома, секрет ухо-
да за ними был утрачен, и драконы вымерли. На основа-
нии этих легенд как раз и делается вывод, что драконы
исходно связывались в китайской культуре с институтом
верховной власти и с государственностью.
Перечислим еще несколько видов и разновидностей дра-
конов, которые наиболее часто фигурируют в китайских
верованиях и в литературных произведениях. «Божествен-
ные (облачные) драконы» (шэньлун, юньлун) — олицетво-
рение облаков и ветров и их повелители, ниспосылатели
384
дождя, которые представлялись змеевидными существами
с крыльями. «Свернувшиеся драконы» (панълун) — тоже,
подобно цзяо, обитатели рек и озер, способные вызывать
наводнения. «Кольчатые драконы», также называемые цзяо,
обитают в горах и могут помогать или вредить путникам.
«Морские драконы» (ли) повелители морских пучин, наде-
ляются внешностью гигантских морских змей. «Коне-дра-
коны» (лунма) — с лошадиной головой и змеиным телом,
вопреки своему названию, считались водными существа-
ми, время от времени являющими себя людям (именно та-
кой дракон, по некоторым версиям легенды об изобретении
триграмм, появился перед Фу-си). «Дракон-Светильник»
(Чжулун) — дракон, обитающий на крайнем северо-западе
и хранящий закатное солнце. Судя по его литературным
портретам, он изначально мыслился в виде гигантского
змея с человеческой или полуантропоморфной-полузооморф-
ной головой, a затем приобрел облик, сходный с обликом
дракона-лг/н, но с более отчетливым змеевидным, свернув-
шимся в кольцо туловищем. Дракон по имени «Крылатый
дракон» (Инлун) помогал Сяскому Юю в его деяниях по
усмирению потопа: он прочерчивал хвостом и концами
крыльев русла будущих рек.
He вызывает сомнений, что болыыая часть образов пе-
речисленных существ имеет самостоятельное происхожде-
ние, возникнув, возможно, в различных по характеру и
географической принадлежности верованиях, чем и объяс-
няется противоречивость их свойств, функций и иконогра-
фических примет. *
Множественность литературных образов драконов пол-
ностью согласуется с обилием фантазийно-зооморфных изоб-
ражений. Чаще всего такие изображения, как говорилось
выше, представлены в искусстве позднечжоуского перио-
да, — это существа, в облике которых преобладают то змеи-
ные, то звериные или птичьи черты, то черты оленя или
коня. Многие из этих изображений с трудом поддаются
отождествлению с драконами, называемыми в письменных
источниках. Так, «птице-драконы», чьи образы наиболее
часто воспроизводятся в чуском искусстве, являются, ско-
рее всего, вариантом образа не дракона, a феникса. Тоже
чуские «коне-драконы» и «олене-драконы» могут быть со-
поставлены с солярным драконом цю (связь с солярным
культом образов коня и оленя, которая относится к числу
мифологических универсалий).
Можно с уверенностью говорить о происхождении только
одного древнего «драконьего» мотива — «дракон с черве-
подобным туловищем» (цюанътилун), который был осво-
ен еще позднеиньским декоративно-прикладным искусст-
вом и затем исполнялся на всем протяжении чжоуской
эпохи. Это — нефритовые подвески, выполненные в виде
полностью или полусвернувшегося червеобразного, но со
звериной мордой, существа, голова которого нередко до-
полнена рогами, образующими иногда подобие короны.
Тело существа показывается, как правило, покрытым че-
шуей или узорами, напоминающими узоры на теле змеи,
2;> История искусства Китая
Дракон-Чжулун.
По мотивам стенописей
пещерного монастыря
Могао. ХІ-ХІІ вв.
Дракон-инлуя
(крылатый дракон).
С ханьского каменного
рельефа
^_%#
Чуские «олене-драконы».
По мотивам изображений
на бронзовых
и лаковых изделиях
385
Подвески в виде
«свернувшегося дракона»
a — Поздняя Инь; б — Западное
Чжоу; в — Хань.
что и позволило видеть в данном мотиве художественный
аналог дракона-цзяо. Более убедительной представляется
версия, что он не имеет никакого отношения ни к одному
из видов драконов, a восходит к хуншаньским подвескам с
изображением «свино-драконов», a значит — к личинкам
какой-либо из местных разновидностей жуков.
Неизмеримый интерес вызывает образ дракона-лг/и, за-
нявший со временем ключевую роль в китайской образной
системе, и в целом в культуре. Его непосредственными
воплощениями являются и Желтый дракон, и Бирюзовый
дракон, a также Небесный дракон (Тянълун) — почти пол-
ный семантический и морфологический аналог Хуанлуна.
Проблема генезиса образа лун давно уже дискутирует-
ся в науке, и многочисленные точки зрения по этому пово-
ду сводятся к двум основным гипотезам. Сторонники пер-
вой доказывают, что лун есть изначально сугубо мифоло-
гический персонаж, образ которого возник в результате
сочетания элементов внешнего облика нескольких живот-
ных — тотемов древнейших племенных союзов — змеи (уда-
ва), крокодила, черепахи, броненосца, тапира и т. д. Со-
гласно другой версии, этот образ действительно вобрал в
себя черты различных животных, но все же восходит к
некоему единому и реальному существу отряда ящеров,
наподобие игуаны или ископаемых рептилий. Косвенным
аргументом в пользу второй гипотезы служат находки кос-
тей и яиц динозавров в ряде регионов Китая — на юге
(Юньнань), юго-западе (Сычуань) и на востоке (Шаньдун).
Шаньдунские находки приобретают особое значение ввиду
частоты употребления иероглифа лун в местных топони-
мах и версии о том, что дракон был тотемным животным
именно восточных народностей, потомков неолитической
культуры Луншань. Установлено, что в мезозое на терри-
тории Шаньдунского полуострова обитали диплодоки, до-
стигавшие в длину 15 м. Их костные останки вполне мог-
ли быть найдены обитателями неолитического Китая, под-
вигнув их на вымышленный образ дракона.
Еще один возможный ключ к разгадке образа лун дает
обнаруженное относительно недавно (1971 г.) на террито-
рии провинции Хэнань погребение, которое датируется
IV тыс. до н. э. и относится к позднеяншаоскому куль-
турному кругу. Слева и справа от костяка усопшего рас-
положены выложенные из ракушек фигуры двух зооморф-
ных существ. Семиотические особенности самого погребе-
ния: его крестообразная форма, характер трупоположения
(головой строго на юг), и расположение скелетов сопогре-
бенных людей — дают основание соотнести его с пяти-
членной космологической моделью. И тогда эти ракушеч-
ные фигуры оказываются прототипами Бирюзового дра-
кона и Белого тигра. Изображение «дракона» с достаточной
долей очевидности воспроизводит представителя хищных
ископаемых ящеров — с огромной, наподобие к квадрата,
головой, мощными челюстями, приземистыми лапами с
острыми когтями и длинным хвостом, заканчивающимся
шипами. Кроме того, оно выполнено в столь натурали-
386
стическои и детализованнои манере, что производит впе-
чатление сделанного с натуры либо, в крайнем случае,
исходя из визуального опыта недавних предшествующих
поколений.
Согласно тезису о соответствии пятичленной космоло-
гической модели естественному географическому простран-
ству, логично предположить, что местом обитания этого
существа должен быть район нижнего течения Хуанхэ,
климатические и природные условия которого (тропиче-
ские леса, полноводная река, изобилие добычи) вполне мог-
ли обеспечить выживание какого-то вида ископаемых реп-
тилий вплоть до неолитической эпохи. Это существо долж-
но было быть на тот момент самым сильным и свирепым
хищником, поэтому его и почитали вначале в качестве
владыки местности, a затем и покровителя верховной вла-
сти. Закономерно задаться вопросом: не оно ли фигурирует
в облике «чудовища» на лянчжуских нефритах? И не озна-
чает ли изображение «царя» как бы сидящего на нем, что
лянчжусцы умели ловить и приручать это существо? Тогда
легенды о ручных драконах древних правителей и в самом
деле приобретают определенную историчность.
Так, можно сделать вывод, что образ дракона-лун из-
начально связывался с верховной властью и что Бирюзо-
вый и Желтый драконы суть производные одного и того
же персонажа. Однако, даже если предложенная гипотеза
отвечает действительности, не вызывает сомнений то, что
уже в чжоускую эпоху подлинные истоки образа дракона
были основательно забыты и он воспринимался в каче-
стве сверхъестественного создания. 06 этом свидетельствует
истолкование лун, данное в одном из авторитетнейших
словарно-энциклопедических сочинений позднечжоуско-
го периода — в словаре «Шо вэнь»: «Лун — глава всех
чешуйчатых и панцирных, может становиться [словно]
невидимым, a может — себя полностью проявлять; может
становиться крохотным и огромным; может уменыиаться
в длину и может увеличиваться. Когда наступает весен-
нее равноденствие, поднимается на небо; в осеннее равно-
денствие скрывается в пучине». В другом чжоуском памят-
нике уточняется, что драконы, как и змеи, погружаются в
зимнюю спячку, иначе их холод убьет. Из приведенных
фрагментов следует, по мнению древних авторов, что дра-
кон-лун обладал способностью трансформировать свой об-
лик, меняя его размеры и степень видимости, летать в
небесном просторе и жить в глубине вод, но подчинялся
при этом биологическим закономерностям, свойственным
пресмыкающимся.
Художественная память древних китайцев оказалась
более прочной, чем книжные знания. В иньских «гада-
тельных надписях» наличествуют два типа пиктограмм,
обозначающих, как это принято считать, дракона-лі/к. В од-
ном из них варьируется изображение змеи, очень похо-
жей на кобру и отдаленно напоминающей древнеегипет-
ский урей. A во втором, который и стал прототипом иеро-
глифа лун, напротив,угадываются изображения животного,
Неолитическое погребение
с ракушечными фигурами
Ракушечная фигура
существа, находящаяся
слева (к востоку)
от костяка усопшего
Письменные знаки,
обозначающие дракона
a — пиктограммы, изображаю-
щие змеевидное существо; б —
пиктограммы, изображающие зве-
ровидное существо; в — оконча-
тельная графическая форма иеро-
глифа лун.
387
Изображение дракона-куй
в змеевидном облике.
С орнаментации
позднеинъских
бронзовых изделий
Изображение дракона-куй
в зверовидном облике.
С бронзового сосуда
начала Чжоу
Бронзовая
статуэтка
змеевидного дракона
Нефритовые подвески
в виде змеевидных драконов
a — пров. Шаньдун; б — пров.
Хэнань.
388
причем с оскаленной челюстью и хвостом. Эти две магист-
ральные линии в художественных трактовках дракона от-
четливо прослеживаются в искусстве иньской и чжоуской
эпох, начиная с изображений дракона-то/й. Если в одних
стилистических вариантах этого мотива явно преобладают
змеиные черты, то в других — черты хищного зверя, с
проработкой в ряде случаев оскаленной пасти, когтистых
лап и шипов, идущих по хребту и хвосту.
В чжоускую эпоху змеевидные драконы активнее всего
исполнялись в искусстве центральных регионов Китая. Древ-
нейшим пластическим воплощением этого образа в настоя-
щее время является бронзовая статуэтка (высота 30 см, дли-
на 60 см), обнаруженная (1992 г.) в одном из захоронений
комплекса Фуфэн (пров. Шэньси) и датируемая раннечжо-
уским периодом. Она передает существо со змеиным телом,
четырьмя лапами и огромной звероподобной головой, увен-
чанной парой рожек, и с распахнутой, образуя квадратное
ротовое отверстие, пастью.
Изображения «зверо-дракона» чаще всего встречаются
в искусстве южных и юго-западных районов. Кроме уже
знакомых нам бронзовых фигур-подставок для ритуально-
го барабанчика, такие изображения воспроизведены на ко-
локоле, найденном в погребении Маосянь (Сычуань, ран-
нечжоуский период) и на сычуаньском оружии. В период
Борющихся царств наметилась тенденция к слиянию этих
двух художественных трактовок дракона, и таким образом
начал складываться образ собственно лун.
Дальнейшая эволюция художественного образа лун
происходила уже отдельно для иконографии Бирюзового
и Желтого драконов. В ханьскую эпоху, когда представ-
ления о «четырех духах» окончательно сформировались,
их образы получили чрезвычайно широкое распростране-
ние в художественном творчестве. Они исполнялись в по-
гребальном в декоративно-прикладном искусстве — в ор-
наментике зеркал и расписной керамики, a также на де-
талях черепичного покрытия. Хотя для всех «четырех
духов» допускалась вариативность художественных трак-
товок, их изображения уже тяготеют к некоторой стерео-
типности. Для непосредственно Бирюзового дракона наи-
более стандартным оказывается следующий художествен-
ный вариант образа: звериное туловище с удлиненной,
плавно изогнутой шеей (рудимент облика змеи), голова с
оскаленной пастью, рогами, лапы хищника и крылья.
Встречаются также и изображения, в которых усилены
«змеиные» элементы, например длинный извивающийся
хвост, a туловище покрыто сверху звериной шерстью и
снизу — рыбьей чешуей.
Образ и иконография Желтого дракона должны были
складываться тоже при Хань, так как еще основателем
ханьской династии это существо было провозглашено офи-
циальной эмблемой имперской власти. Однако его изобра-
жения либо вообще не исполнялись, либо не сохранились.
Все письменные свидетельства и артефакты, дошедшие до
нас от последующих исторических эпох, убеждают в том,
что разработка иконографии Хуанлуна непрерывно про-
должалась вплоть до Мин, когда только и установился ее
нормативный вариант, распространяющийся также на Би-
рюзового и Небесного драконов. В этом варианте лун пока-
зывается с головой верблюда, оленьими рогами, глазами
зайца, коровьими (бычьими) ушами, змеиной шеей, живо-
том морского чудовища (шэнъ), телом, покрытым рыбьей
(карпа) чешуей, и тигриными лапами, заканчивающимися
когтями ястреба. To, что здесь присутствуют черты прак-
тически всех классов и отрядов живых существ (рыб, пре-
смыкающихся, птиц, диких и домашних животных), пол-
ностью отвечает осмыслению дракона как царя всех жи-
вых существ, принятому в культуре традиционного Китая.
Одновременно лун считался воплощением природного цик-
ла и естественных процессов, что позволило ему трансфор-
мировать свой облик, и стать существом, объединяющим в
себе Мужское и Женское начала. В иконографии данные
свойства лун передаются введением «водных» и «огнен-
ных» элементов — изображением дракона, парящего сре-
ди облаков или плывущего среди волн (символы Инъ), с
телом, охваченным языками пламени (Ян), которые неред-
ко стилизованы под крылья (реликт древнейших тракто-
вок лун). Особенностями собственно Желтого дракона вы-
ступают его цвет (желтый, золотой) и пять когтей на каж-
дой из лап — знак его владычества над всем миром.
Ранговыми животными принцев крови в цинскую эпоху
служили лун с четырьмя и тремя когтями.
В официальном художественном творчестве минской и
цинской эпох (орнаментация императорского костюма, це-
ремониально-ритуальной утвари, придворных бытовых при-
надлежностей и т. д.) установились и несколько стандарт-
ных типов «драконьих» орнаментальных композиций и
узоров. Важнейшими из них являются: 1) «свернувшийся
дракон» (туаньлун) — дракон со свитым в кольцо тулови-
щем, вписанным в круг, — знак полной гармонии мира и
совершенства правящего режима; 2) «идущий дракон» (син-
лун) — профильное изображение дракона — знак дина-
мичности мировых процессов; 3) «возносящийся дракон»
(шэнлун) — дракон с распрямленным телом, показанный в
полете снизу вверх, — символ усопшего монарха; 4) «низ-
вергающийся дракон» (цзянлун) — дракон, показанный в
полете сверху вниз, — символ прихода к власти нового
государя. «Возносящийся» и «низвергающийся» драконы
исполняются обычно вместе (в пределах одного элемента
или пространственного фрагмента костюма или на раз-
ных его частях, например на рукавах), что символизирует
a
Изображение
«зверо-дракона»
на сычуанъском колоколе
Трактовки образа дракона
в китайском искусстве
до минской эпохи
a — XII в. (с орнамента на се-
ребряном изделии, пров. Цзян-
су); б — I в. н. э. (фрагмент ка-
менной скульптуры, высота ок.
12 см); в — эпоха Тан (апплика-
ция на лаке).
389
Композиции
из «низвергающегося»
и «возносящегося» драконов
на императорском парадно-
ритуалъном облачении
Красная птица.
По мотивам
древнекитайских
изображений
Варианты пиктограмм,
соотносящихся с образом
феникса
Схема расположения
изображений драконов на
императорском парадно-
ритуальном облачении
цинской эпохи
непрерывность линии преемственности верховной власти.
Число изображений драконов и принципы их расположе-
ния тоже строго регламентировались, особенно для риту-
ально-парадного императорского облачения. В конце хань-
ской эпохи и в эпоху Шести династий исполнялись парные
композиции (тканые узоры или вышивки) на плечах и
рукавах. При Мин на всю поверхность платья наносились
изображения 12 драконов-ш/гшь. При Цин изображения
драконов помещались на оплечье, груди и подоле, что было
обязательным и для ритуально-парадного облачения прин-
цев крови, но с использованием четырехпалых и трехпа-
лых лун.
Столь же активно образ дракона реализовывался и в
других видах и сферах китайского художественного твор-
чества, в которых по-прежнему допускались некоторые от-
клонения от официально принятой иконографии: напри-
мер, вариативность сочетаний «змеиных» и «звериных»
черт с преобладанием тех или иных, введение каких-либо
факультативных элементов — например, хвоста, заканчи-
вающегося рыбьим плавником.
Фениксы — фэн — наиболее многочисленное «семей-
ство». Назовем важнейших его представителей: фэнхуан,
луанъ, юанъ, сушуан, и. Феникс-фэнхуан — «царь-феникс» —
собственно феникс и самец-феникс; феникс-луанъ, которо-
го иногда считают самостоятельной чудесной птицей, a
иногда — самкой феникса, внешняя примета которой —
оперенье красного или голубого цвета; фекикс-юанъ — спе-
цифической чертой образа является оперенье с преоблада-
нием в нем желтого цвета; феникс-сушуан — считается,
что он обитает исключительно на Западе; феникс-ц — пти-
ца с пятицветным, радужным опереньем. Полноправным
представителем «семейства» фениксов считается и дух-по-
кровитель Юга — Красная птица.
В литературной образности феникс в его собирательном
значении выступает, во-первых, царем мира пернатых, во-
вторых, олицетворением благородной личности, идеального
390
правления и миропорядка в целом. Считается, что фениксы
обитают в недоступных для человека и прочих «пичуг» мес-
тах, избегают общения с недостойными их живыми тваря-
ми, питаются исключительно «чистой» пищей — семенами
бамбука, a их появление в мире людей есть благое знамение
прихода к власти добродетельного государя. Хотя исходно
феникс ассоциировался с Мужским началом, в официаль-
ной художественной образности имперского Китая он пре-
вратился в эмблему императрицы и стал воплощением Жен-
ского начала, составляя пару дракону-лі/н.
Несмотря на множественность видов фениксов и их
смысловую полифонию, происхождение образа фэн, в от-
личие от образа дракона-лі/н, прослеживается без особого
труда. Болынинство исследователей пришли к выводу, что
он восходит к павлину, что подтверждается этимологией
иероглифа «феникс»: пиктограммы, в которых угадывает-
ся рисунок именно этой птицы — с характерным хохолком
на голове или круглыми пятнами на хвосте. Непосред-
ственными иконографическими прототипами феникса счи-
таются изображения птиц в орнаментации раннечжоуских
бронз — чаще всего парные фигуры, отличающиеся вели-
колепными хохолками на головах и хвостовым опереньем.
Наиболыним разнообразием морфолого-стилистических ва-
риантов художественного образа феникса отмечено искус-
ство периода Борющихся царств. Окончательный же его
иконографический вариант утвердился, судя по письмен-
ным памятникам, в эпоху Шести династий. Согласно это-
му варианту, феникс имеет переднюю часть туловища
(грудь) — как y лебедя, заднюю — как y Цилиня, спину —
как y черепахи, шею — как y змеи, клюв — как y ласточ-
ки, a также петушиный гребень и пятицветное оперенье.
В художественной практике традиционного Китая этот ико-
нографический норматив соблюдался не всегда: чаще всего
встречаются изображения фэн> приближаясь к облику пав-
лина или фазана, пусть даже в их максимально фантазий-
ных трактовках.
Образ Красной птицы имеет значительно более древ-
нее, чем сам феникс, происхождение, восходя к архаиче-
ским представлениям о птице как солярном существе. Та-
кие представления бытовали уже в культуре неолитиче-
ского Китая, о чем свидетельствует наличие (на восточных,
давэнькоуских, сосудах) графических комбинаций (пик-
тографов), состоящих из рисунка и солнца. Тем не менее и
образ, и иконография Красной птицы сложились уже при
Хань и явно под влиянием принятых на тот момент худо-
жественных трактовок феникса. Во всяком случае, все из-
вестные для ханьского времени изображения Красной пти-
цы не имеют каких-либо специфических примет, отличаю-
щих их от изображений фэн.
Белый тигр — главный представитель всего образного
отряда титров-ху. Важно, что он имеет не только космоло-
гическую семантику, но и исходные связи с институтом
верховной власти (нефритовые амулеты-л:і/). Учитывая, что
эти амулеты, в отличие от кубков-цун или жезлов-чжан,
Изображение «чудесных
птпиц» (протпофениксов)
на раннечжоуских бронзах
Трактовки образа феникса
в искусстве традиционного
Китая
a — с орнаментации серебряного
изделия северосунской эпохи; б —
верхняя часть серебряного кув-
шина (XII в., пров. Сычуань).
Неолитическая
пиктограмма с птицей
и солярным символом
391
Белый тигр. По мотивам
древнекитайских
изображений
Бронзовый сосуд для вина
в виде скулыітуры тигра.
Раннее Чжоу. Пров. Хубэй.
Ок. 25 х 34 см
Варианты композиции
из пары тигров и человека
на иньских бронзах
a — на ручке котла-дцн (пров. Ань-
ян); б — на сосуде (Саньсиндуй).
Изображение тигра как
охранителя от злых сил.
Резъба no дереву.
Эпоха Мин
достаточно часто встречаются в царских и княжеских по-
гребениях Поздней Инь и Раннего Чжоу, правомерно гово-
рить о том, что именно они служили принятыми эмблема-
ми верховных властных полномочий. Кроме амулетов-ло/,
образ тигра активно использовался во всем художествен-
ном творчестве Древнего Китая. Напомним, что «тигри-
ные» мотивы — в виде основных фигур или элементов ор-
наментальных сюжетов и пластического декора — часто
повторяются в иньских бронзах. Скульптурные — метал-
лические (бронзовые) и каменные (включая нефрит) — изоб-
ражения тигра тоже устойчиво исполнялись почти на всем
протяжении иньской и чжоуской эпох.
Семантическое значение образа тигра уже в древнеки-
тайской культуре не ограничивалось его связями с верхов-
ной властью. Ассоциируясь с наиболее губительной для
человека пространственной зоной, тигр стал почитаться в
местных верованиях (дуализм, свойственный архаико-
религиозному типу мышления) повелителем злых сил и
защитником от них. Вспомним об иньской мраморной скулыі-
туре «человеко-тигра» и чуских деревянных изваяниях «дра-
коно-тигра», которые считаются изображениями именно
духов-стражей могил. He исключено, что такой же — ох-
ранительно-анимистический — смысл имеют и компози-
ции из парных фигур тигров и человека (головы человека)
между ними, неоднократно встречающиеся в орнамента-
ции иньских бронз. И если в дальнейшем связи образа
тигра с верховной властью были практически утрачены в
результате появления образов новых персонажей — дра-
кона и льва, то его охранительные функции усилились.
В художественном творчестве минской и цинской эпох изоб-
ражения тигра стандартно присутствуют на предметах-обе-
регах, в разного рода композициях заклинательного ха-
рактера, a также в иконографии персонажей, выступаю-
щих в роли защитников от нечисти.
Что касается особенностей художественных тракто-
вок тигра в древнекитайском искусстве, то и в данном
случае уместно обратиться к ракушечной фигуре из хэ-
наньского неолитического погребения, которую справед-
ливо считать древнейшим художественным изображени-
ем Белого тигра. И здесь оказывается, что она воспроиз-
водит совсем не тигра или какого-либо другого зверя из
семейства кошачьих. Показанное в ней существо более
всего отвечает облику волка: голова треугольной формы с
торчащими ушами. Вполне вероятно, что это — изобра-
жение пещерного волка, который вполне мог обитать в
горах западного региона Китая и считался сильнейшим и
опаснейшим местным хищником. В таком случае стано-
вится понятнее противоречивость художественных трак-
товок образа тигра, отчетливо проявляющаяся в древне-
китайском искусстве. Он то приобретает однозначный «тиг-
риный» облик, то наделяется столь же отчетливыми
внешними признаками представителя семейства собачь-
их. Одновременно присутствуют и изображения, выпол-
ненные в зооморфно-фантазийном стиле — «крылатый
392
тигр», «свернувшийся тигр» (нефритовые подвески, по-
вторяющие сюжет «дракона, свернувшегося в кольцо») и
«драконо-тигр». Рудименты зооморфно-фантазийных трак-
товок образа тигра в наиболее явном виде прослеживают-
ся в его иконографии как борца с нечистью и защиты от
злых сил.
Образ Белого тигра на первых порах тоже исполнялся
преимущественно в фантазийно-зооморфном стиле, неред-
ко сближаясь с изображениями Бирюзового дракона. Од-
нако затем он стал приобретать все более реалистический
облик. В таком виде тигр исполнялся в цинском официаль-
ном художественном творчестве (знак различий военных
чиновников IV ранга) и в живописи, где утвердился сюжет
«разъяренный тигр» он будто свирепо рыкает, оскалена
пасть, бьет себя хвостом по бокам, обычно спускется с гор.
Все эти детали ассоциациируют тигра с Западом и его спо-
собностью отгонять злые силы. Такого типа изображения,
по-прежнему имеющие охранительный смысл, воспроизво-
дятся и на современной китайской сувенирной и массовой
художественной продукции — на коврах, полотенцах, оде-
ялах, покрывалах и т. д.
Кроме групповых изображений «четырех духов», в ки-
тайском искусстве существует еще серия стереотипных двух-
членных композиций с драконом и фениксом: «парные
(играющие) драконы», «парные (играющие) фениксы» и
«играющие дракон и феникс».
Первая из перечисленных композиций начала склады-
ваться в чжоуском камнерезном искусстве: исполнение не-
фритовых подвесок полукруглой (сферической, дугообраз-
ной) формы, концы которых заканчивались изображения-
ми голов драконов. Чуть позже они стали либо дополняться
парными фигурами драконов, либо полностью трансфор-
мировались в такие фигуры. Драконы обязательно показы-
ваются в этой композиции в профиль, с разворотом голов
друг к другу и с дополнительным предметом между ними,
который впоследствии превратился в «пылающую жемчу-
жину». Данная композиция до сих nop пользуется исклю-
чительной популярностью в художественном творчестве Ки-
тая и может воспроизводиться в самых разных формах и
материалах — от росписей по керамике и вышивок до де-
коративного кустарника и садовых клумб.
Композиция «играющие фениксы» явно восходит к
«птичьим» орнаментам на иньских и чжоуских бронзах,
которые строились исходя из парных изображений птиц.
Затем она тоже превратилась в излюбленный мотив всего
Ракушечная фигура
существа
из неолитического
погребения (справа
от костяка усопшего)
Трактовки образа тигра
ѳ позднеинъском и
чжоуском искусстве
(нефритовые подвески)
Крылатый тигр.
Модель для отливки
бронзового сосуда. Хоума
Вариант изображений
тигра в ханьском
искусстве. Каменная
подставка. I в. н. э.
Пров. Хэнань
sa
393
Изображение тигра
как рангового животного
Нефритовые подвески
с парными изображениями
драконов. Чжаньго
«Играющие дракон
и феникс». По мотивам
китайских изображений
цинской эпохи
«Играющие фениксы»
a — зеркало (аппликация по лаку,
Тан); б — фарфоровое блюдо (Се-
верная Сун); в — вышивка (Мин).
художественного творчества традиционного Китая, широ-
ко используясь в орнаментации зеркал, керамики, лако-
вых изделий, украшений, в тканых узорах и вышивках.
В отличие от древних орнаментальных схем, подразуме-
вавших профильное исполнение фигур птиц и их располо-
жение по горизонтали, данная композиция в ее «класси-
ческом» варианте содержит в себе изображения как бы
пролетающих друг над другом и навстречу друг другу птиц,
фигуры которых вписываются в круг. Кроме того, она вклю-
чает в себя множество других деталей, чаще всего изобра-
жения цветов или облаков.
Третья из разбираемых композиций возникла, види-
мо, уже в искусстве традиционного Китая и имеет одно-
значную космологическую семантику. Через изображе-
ния дракона и феникса, которые также чаще всего пока-
зываются стремящимися друг к другу и образующими
круг, передается «встреча» весны и лета и взаимодей-
ствие Инъ (феникс) и Ян (дракон). Поэтому данная ком-
позиция служит принятой эмблемой на новогодних по-
дарках, хотя может исполняться на любых произведени-
ях декоративно-прикладного искусства и на предметах
массовой художественной продукции. Между фигурами
дракона и феникса обязательно помещается дополнитель-
ный предмет — «пылающая жемчужина», «круглое дол-
голетие» или просто шар, покрытый благопожелательны-
ми узорами.
Логично было бы ожидать и появления в китайском
искусстве двухчленной композиции «дракон и тигр». Та-
кая композиция, не считая ракушечных фигур из неолити-
ческого погребения, действительно возникла еще в чжоу-
скую эпоху и была самой ранней из всех групповых изоб-
ражений на тему «четырех духов». Именно она, согласно
принятым истолкованиям, воспроизводится в росписи гро-
ба маркиза И. Затем она эпизодически исполнялась в хань-
ских произведениях, в том числе в орнаментации зеркал.
Однако в отличие от «играющих дракона и феникса», оли-
цетворяющих взаимодействие Мужского и Женского на-
чал, эта композиция несет в себе идею противоборства про-
тивоположных стихий или сущностей, что и послужило
вероятной причиной ее исключения из последующей ху-
дожественной образной системы. Она сохранилась только
394
в даосско-религиознои символике, связанной с алхимией,
и в китайской кухне: деликатесное блюдо «Борьба тигра с
драконом», которое приготовляется из мяса кошки и змеи.
Северный «дух» — Сокровенный воин — стандартно
(начиная с ханьского искусства) показывается в виде чере-
пахи, обвитой змеей. Их фигуры располагаются обычно
так, что все изображение образует круг, a головы черепахи
и змеи обращены друг к другу или «кусают» друг друга,
что, по мнению исследователей, символизирует заверше-
ние годового цикла. Понятно, что образ Сюаньу сложился
на основании образов черепахи и змеи, которые и в Древ-
нем Китае, и в последующие исторические эпохи имели
самостоятельные символическое значение и художествен-
ные вошющения. Точное время и причины возникновения
этого образа остаются под вопросом. He исключено, что
первоначально через него передавалось все то же взаимо-
действие Мужского и Женского начал: черепахи считались
в китайских верованиях исключительно самцами, a змеи —
самками. В таком случае изображение Сюаньу в какой-то
мере является семантическим прообразом композиции «иг-
рающих феникса и дракона». Однако в дальнейшем в соот-
ветствии с семантикой Севера Сокровенный воин стал вы-
ступать либо воинской эмблемой (например, его изображе-
ния на знаменах), либо знаком образования и учености.
Как таковой (но в особом его варианте), он широко исполь-
зуется в художественном оформлении стел — специфиче-
ских художественных произведений, находящихся на сты-
ке инженерно-архитектурного, изобразительного, камне-
резного и каллиграфического искусств, которые служили
погребальными и мемориальными памятниками (в послед-
нем случае на них наносились записи о тех или иных
достойных увековечивания исторических событиях или
выбивались тексты официальных документов). Стела со-
стоит из трех архитектонических сегментов, что сразу же
делает ее воплощением троичной космологической вертика-
ли: прямоугольной формы плиты, полусферического навер-
шия (символ неба) и постамента. Навершие обычно украше-
но рельефной или горельефной композицией, изображаю-
щей клубок змей, манера исполнения которой колеблется
от стилизованных геометрических спиралевидных фигур
до натуралистических детализованных изображений змей.
A постаментом нередко (особенно для «южных» стел) яв-
ляется скульптура черепахи.
Образ Цилиня, обычно определяемого в европейской
научной литературе как «Единорог», тоже имеет очень древ-
нее происхождение. 0 нем неоднократно упоминается в
чжоуских текстах, a первое литературное описание его внеш-
ности, хотя и крайне лаконичное, содержится в одной из
песен «Канона поэзии». Исходя из содержания этой песни
делается вывод о том, что Цилинь исходно был тотемным
животным. В философских сочинениях он называется пра-
родителем и властителем парнокопытных животных и во-
площением высших добродетелей живых существ. Все эти
характеристики Цилиня получили дальнейшее развитие
Роспись no гробу маркиза И
Считается изображением Бирю-
зового дракона и Белого тигра.
Сюаньу
a — no мотивам древнекитайских
изображений; б — с каменного
рельефа эпохи Тан.
395
в культуре традиционного Китая. Он почитается олицетво-
рением гуманности, милосердия и благородства (говорится,
что он даже ступает по земле так, чтобы не помять ни одной
травинки и не причинить вреда насекомым). Он служит
символом добродетельной и мудрой личности, в первую оче-
редь государя и его советников. Согласно системе китайских
знамений, явление Цилиня людям есть знак рождения муд-
реца, которому предстоит стать выдающимся правителем или
наставником не менее совершенного монарха, a значит, и
грядущего процветания всей страны.
Тем не менее истоки образа Цилиня теряются в глуби-
нах архаики. По сведениям древних авторов, как ци и линь
изначально вообще определялись два разных существа —
самец и самка, первый представлялся в виде животного с
телом кабарги, хвостом быка и одним рогом, a вторая — в
виде белого оленя. Самка-лымь, подобно дракону-цзло, мог-
ла быть поймана и убита, о чем тоже неоднократно сообща-
ется в ханьских и постханьских сочинениях с приведением
исторических прецедентов. Убитую линь приносили в жерт-
ву Земле. Представления о Цилине как о едином существе,
a также его стандартная иконография закрепились в китай-
ской культуре, видимо, в эпоху Шести династий. С тех nop
его было принято изображать с туловищем оленя, ногами
коня, коровьими копытами и хвостом и головой барана,
увенчанной парой оленьих рогов или одним острым, напо-
добие носорожьего, рогом. Однако существуют и другие его
иконографические варианты, в которых он показывается
львиноподобным или ящероподобным существом.
В официальной образности Цилинь используется в каче-
стве ранговой эмблемы — знака различия военных чиновни-
ков первого (высшего) ранга. В благопожелательной образ-
ности сложился особый тип композиции, называемый «Ци-
линь, дарующий ребенка» (цилинъ-сунцзы) или «Знатный
сын» (гуй-цзы). В ней он показан с ребенком на спине, кото-
рый обычно держит в левой руке цветок лотоса (через пле-
чо), a в правой — оружие, например кинжал. Смысл этой
композиции — пожелание супружеской паре рождения сына,
a младенцу — блестящей карьеры, включая военную, с за-
нятием поста наставника наследного принца или советника
государя. Живописные или скульптурные изображения «Ци-
линя, дарующего ребенка» входили в число обязательных
свадебных подарков и подарков новорожденному.
Зверъ-сечжи (сечжай) — существо, по поверьям, спо-
собное распознавать правого и виноватого. Co временем он
стал официально принятым символом правосудия, высо-
кой нравственности чиновничества и правящего режима и
ранговым животным сановников-цензоров. О сечжи есть
упоминания еще в чжоуских текстах, где он рисуется од-
норогим бараном. Но затем его внешний облик неодно-
кратно переосмысливался. При Тан и Сун он обычно изобра-
жался в виде льва с рогом посередине лба, мордой опущен-
ной вниз. В минскую и танскую эпохи — в оленеподобном
облике. Встречаются также его литературные описания и
изображения в виде зеленого медведя.
Образ рыбы относится к числу древнейших художествен-
ных образов, которые проявили себя уже в неолитическом
искусстве (росписи по керамике Яншао). A сама рыба, по
мнению болынинства исследователей, уже тогда почиталась
священным существом — тотемным животным или, по ана-
логии с верованиями других народов, медиатором между
миром людей и божественным миром, либо воплощением
божеств водной стихии. Подобное осмысление рыбы было
присуще и религиозным представлениям иньской и чжоу-
ской эпох. Известно, что ритуальная ловля рыбы, осуществ-
ляемая лично государем, входила в круг официальных ка-
лендарных обрядовых практик. В виде фигуры рыбы неред-
ко исполнялись царские регалии — нагрудные амулеты-хг/ан
(такие амулеты присутствуют среди погребального инвента-
ря Фу-хао) и ранговые украшения, особенно характерные
для западночжоуского периода. Приблизительно во второй
половине чжоуской эпохи рыба приобрела также устойчи-
вую эротическую символику и превратилась в символ счаст-
ливой любви (стайка или пара играющих рыбок) и много-
численного потомства (обилие икринок). Такое осмысление
рыбы было поддержано и натурфилософской образностью:
существо с удлиненным телом, обитающее в воде, как нельзя
лучше олицетворяло взаимодействие Мужского и Женского
начал. Параллельно в художественном творчестве утверди-
лись ее обобщенно-стилизованные трактовки (без выделе-
ния определенных пород, как это было присуще неолити-
ческому искусству) и стандартные композиции, в первую
очередь состоящие из пары рыбок. Такая композиция с уди-
вительным постоянством исполнялась в декоративно-при-
кладном искусстве древнего и традиционного Китая и прак-
тически на любых типах изделий: керамике, бронзовых со-
судах, украшениях, зеркалах и т. д.
В дополнение к эротической символике, впоследствии
за образом рыбы закрепилось еще несколько смысловых
значений, восходящих к даосской, конфуцианской и буд-
дийской образности, а также обусловленные фонетически-
ми нормами соответствующих иероглифов. Так как слово
«рыба» (юй) является омонимом слов «излишек» (юй) и
«изобилие» (юй), рыба превратилась в эмблему и благопо-
желание материального благополучия и духовного доволь-
ства как отдельного человека, так и всей его семьи. В кон-
фуцианской образности особо выделяется карп — лиюй.
Эта порода обладает природной способностью преодолевать,
идя на нерест, всевозможные преграды и даже плыть про-
тив течения, что и превратило образ карпа в олицетворе-
ние упорства человека в достижении поставленных им це-
лей и в символ жизненного успеха. Более конкретное его
значение — успешная сдача экзаменов на чиновничью дол-
жность и последующий карьерный взлет.
В даосской образности рыба (стайка вольготно резвя-
щихся в воде рыб), напротив, олицетворяет естественность
природы и отшельническое уединение человека, выбрав-
шего путь духовного совершенствования. Ловля рыбы
прямо ассоциируется в даосской литературе с процессом
РЫБЫ,
ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ
И ЗЕМНОВОДНЫЕ
(ЗМЕЯ, ЧЕРЕПАХА,
ЛЯГУШКА)
Раннечжоуский
нефритовый амулет-хугм
в виде рыбы
Композиции из пары рыбок
a — на раннеханьских бронзовых
сосудах; б — на бронзовом сосу-
де IV в.; в — рельефный орна-
мент на керамике (вторая поло-
вина XII в.).
397
Композиции из пары рыбок
a — роспись по керамике (эпоха
Мин, пров. Юньнань); б — вари-
анты изображения пары рыбок
как благопожелательного симво-
ла (Цин).
Роспись no керамике
с рыбьими мотивами
в стиле живописных
произведений. Эпоха Мин.
Пров. Сычуань
Яншаоское блюдо
с изображением змеи
Изображение змеи
на внутренней поверхности
иньских чаш-пань
постижения Дао. A сам рыбак является одним из наиболее
распространенных образных воплощений даосского мудре-
ца. В таком облике рисуется, например, автор трактата
«Чжуан-цзы». Этим объясняется и стандартное введение в
пейзажные живописные композиции фигуры рыбака, на-
пример одинокого рыбака, сидящего в лодке посередине
реки и т. д. И наконец, в буддийской символике и иконо-
графии рыба служит метафорой Будды.
Каждое из перечисленных символических значений
рыбы проявляется в определенных художественно-изобра-
зительных ситуациях. Изображения рыбы в сочетании с
другими благопожелательными эмблемами является зна-
ком общего счастья, материального благосостояния и слу-
жебного успеха. Такой семантический смысл имеет и обы-
чай держать в доме аквариумных рыбок, прежде всего «зо-
лотых», выведенных, как известно, именно китайцами.
Исполняемая на женских украшениях — обычно в парном
виде (подвески серег в виде фигурки рыбы; кулон, укра-
шенный орнаментом из двух рыб) — рыба является эмбле-
мой взаимной любви, счастливого брака и материнства.
В живописных произведениях на даосские темы и в компо-
зиции пейзажного сада (водоемы с золотыми рыбками) она
выступает в своих даосских и натурфилософских символи-
ческих значениях.
Из представителей отрядов пресмыкающихся и зем-
новодных центральное место в китайской художествен-
ной образной системе занимают змея-шэ, черепаха-гг/й и
жаба-чаиь.
Образ змеи тоже впервые появляется в неолитическом
искусстве, a самым выразительным художественным во-
площением ее оказывается роспись по внутренней поверх-
ности одного из позднеяншаоских блюд. Выполненная в
черно-красной гамме роспись воспроизводит изображение
огромной полусвернувшейся в кольцо змеи с длинным,
похожим на колос или ветку хвойного дерева языком и
как бы зубастой пастью. Эта роспись тем более примеча-
тельна, что она — морфологический прототип иньских
«змеиных» мотивов. Для иньских бронз тоже характерны
изображения свившейся в кольцо змеи, которые чаще
всего помещаются на дне (с внутренней стороны) сосудов,
предназначенных для хранения воды — ч&ш-панъ и ma-
зов. Помимо достаточно натуралистических трактовок об-
раза змеи в иньском искусстве наметилась и тенденция к
созданию производных от него зооморфно-фантазийных
изображений и орнаментальных мотивов. На бронзовых
изделиях присутствуют и фигуры гигантских змей со зве-
роподобными головами, которые обычно истолковывают-
ся как древнейшие иконографические варианты дракона,
и змеи с двумя телами или, наоборот, двухголовые змеи,
хотя данные морфологические вариации вполне могли воз-
никнуть как сугубо орнаментальные элементы. Изобра-
жения змей, выполненные в зооморфно-фантазийном сти-
ле, в первую очередь с мощным туловищем и открытой
пастью, продолжали исполняться, но уже эпизодически
398
в чжоуском и ханьском художественном творчестве — как
в декоративно-прикладном, так и в погребальном изобра-
зительном искусстве (каменные рельефы). Для орнамен-
тики самыми характерными образцами служат распис-
ные керамические сосуды (котел-дин и сосуд-доу), най-
денные в одном из погребений конца периода Борющихся
царств в окрестностях Лояна. Их крышки украшены од-
нотипной композицией, состоящей из парных изображе-
ний змей устрашающего вида. Впоследствии образ змеи
во всех его художественных трактовках был вытеснен
образом дракона.
Несмотря на популярность образа змеи в неолитиче-
ском и древнекитайском искусстве, его семантика остается
не совсем понятной. Преимущественное изображение змей
на сосудах для воды позволяет предположить, что они свя-
зывались в китайских верованиях с водной стихией и, воз-
можно, почитались хранительницами воды. Змея в ассоциа-
ции с водой и, что еще более странно, со стихией воздуха и
небесным пространством воплощается и во многих образах
фантастических змей, которые называются в письменных
источниках. Например, змея-саоюн — существо с тулови-
щем змеи, рыбьими плавниками и телом, испускающим
яркое сияние, — обитает, по поверьям, в потаенных горных
водоемах. Или зыея-хуашэ — крылатая змея, парящая в
небесных высях. Еще один образ такого плана: гигантская
змея-башэ, способная проглотить слона, восходит, вероят-
но, к образу удава. Змея в ассоциации с хтоническим ми-
ром, культом плодородия и идеей бессмертия, что типично
для религиозных представлений подавляющего болыпин-
ства народов мира, в китайской культуре практически не
встречаются, либо нет достаточно внятного воплощения в
местном художественном творчестве.
Образ черепахи отчетливо используется во всем ки-
тайском художественном творчестве, начиная с неолитиче-
ской эпохи и вплоть до принятой и в современном Китае
благопожелательной символики. В отличие от змеи чере-
паха исходно, видимо, относилась в китайских веровани-
ях к числу именно хтонических существ, наделяясь при
этом космогонической и космологической семантикой.
Панцирь черепахи, использовавшийся в процедуре гада-
ния, служил воплощением мирового пространства. В не-
которых мифологических сюжетах (миф о Нюй-ва) чере-
паха фигурирует в качестве существа, служащего опорой
земной тверди, что совпадает с ее символикой, универ-
сальной для индоевропейского культурного субстрата. Из
литературных источников известно о существовании в
царстве Чу самостоятельного культа Божественной чере-
пахи, которая мыслилась существом, прожившим несчет-
ное число веков. Никакие иные подробности об этом куль-
те в текстах, к сожалению, не сообщаются. Тем не менее
правомерно предположить, что именно к нему восходит
образ Божественной черепахи как одного из «пяти священ-
ных существ», a также ассоциативный ряд черепахи-гг/й
с бессмертием, хотя такие ассоциации могли иметь место
Фантпазийные
шракшовки образа змеи в
древнекитаиском искусстве
a — с орнаментации раннечжо-
уских бронзовых сосудов; б —
позднечжоуские росписи по ке-
рамике.
«Фантастические» змеи
a — саоюн (с книжной гравюры);
б — гигантская змея Башэ (с хань-
ского каменного рельефа); в —
хуашэ (с книжной гравюры).
Нефритовая фигурка
черепахи. Тянъма.
5,4 х 4 х 2,8 см
1 — вид сверху; 2 — вид сбоку.
399
«Фантастические»
черепахи.
С книжных гравюр.
a — черепаха-сюакь; б — чере-
пах&-би.
Золотое украшенце
в виде жабы. Ранняя Хань.
Пров. Шаньдун.
1,9 х 1,25 см
еще в неолитических верованиях (помещение нефрито-
вых скульптурок черепахи в погребения северо-восточной
культуры Хуншань). Одновременно сохранились и связи
образа черепахи со знанием и ученостью, что проявляет-
ся, в том числе, в практике художественного оформления
тушечниц — в виде ее скульптурных изображений.
Кроме Божественной черепахи и Священного воина, в
китайских верованиях признается существование множе-
ства черепаховидных фантастических существ, например
черепаха-дракон (лунгуй), ядовитая черепаха-юй, черепаха-
сюань — с головой птицы и птичьим же опереньем и трех-
лапая черепаха-бы, которая является алломорфом трехла-
пой жабы. Однако ни одно из этих существ не вошло в
художественную образную систему.
Жаба, совместно с лягушкой-лшнь как ее морфологи-
ческим и смысловым синонимом, исходно занимала одно
из важнейших мест в китайских верованиях и художе-
ственной образности (популярность «лягушачьих» moth-
bob в росписях на яншаоской керамике и в северо-восточ-
ной нефритовой пластике). Возможно, на первых порах
она служила семантическим и художественным аллогра-
фом черепахи: подобная взаимозаменяемость этих двух су-
ществ характерна, как известно, для мифологии и фольк-
лора многих народов. Есть также ряд оснований полагать,
что в древнейших китайских религиозных представлениях
жаба была связана со стихией воды и почиталась свящец-
ным животным, способным вызывать дождь, обеспечивая
тем самым хороший урожай. Рудименты таких представ-
лений о жабе сохранились в последующих популярных
верованиях и обрядовых практиках. Считалось, что, когда
жаба становится очень старой, она обретает способность
пожирать демонов засухи, и чтобы вызвать дождь, доста-
точно поймать ее, высушить в тени и начертить на земле ее
лапкой соответствующие заклинательные иероглифы.
Образ жабы в ее связи с водной стихией отчетливее
всего проявляется в иньском искусстве, в котором изобра-
жения жаб обычно помещались на внутренней поверхно-
сти дна чаш (панъ) и тазов (цзянъ) или, в скульптурном
либо горельефном исполнении, возле ручек переносных кув-
шинов (и). He исключено, что такую же символику имеет и
композиция, состоящая из жабы (лягушки) и пары рыбок,
которая эпизодически воспроизводится в декоративно-при-
кладном (росписи по керамике) и изобразительном (фигур-
ка жабы с двумя рыбками на спине) искусстве конца пери-
ода Борющихся царств и первой половины Хань.
Уже в чжоускую эпоху жаба стала превращаться в лу-
нарный персонаж, a ее изображение — фигура (чаще всего
трехлапая), вписанная в круг, — стало принятой эмблемой
луны. Происхождение Лунной жабы объясняется в мифе о
Чан-э через рассказ о превращении супруги Стрелка после
ее вознесения на луну в жабу (еще одно наказание за ее
вероломный, по отношению к мужу, поступок). В действи-
тельности ассоциации жабы с культом луны могли возник-
нуть гораздо раньше: присутствие среди неолитических
400
«лягушачьих» орнаментальных мотивов изображений трех-
лапой лягушки и лягушки, вписанной в круг, что совпада-
ет с последующей иконографией Лунной жабы. Среди
позднеиньских (аньяновских) артефактов есть серия ка-
менных (включая выполненные из белого мрамора) скулыі-
турок лягушки, поверхность которых покрыта рельефны-
ми спиралевидными узорами, имевшими, по общеприня-
тому их семантическому истолкованию, астральный смысл.
Изображения лягушки, вписанной в круг, присутствуют и
на некоторых изделиях раннечжоуского периода, хотя в
целом чжоуское художественное творчество обращалось к
этому образу заметно реже, чем неолитическое и иньское.
Первые литературные упоминания о Лунной жабе встре-
чаются в письменных памятниках II в. до н. э. (трактат
«Хуайнань-цзы»), где говорится, что на луне живет жаба-
чанъ и что луна поедается жабой. Последнее из этих сооб-
щений можно понимать как указание либо на ежемесяч-
ное убывание луны, либо на лунные затмения, и в таком
случае Лунная жаба приобретает черты космологического
существа. 0 степени прочности ассоциаций жабы с луной в
дальнейшей китайской культуре лучше всего можно су-
дить по образным названиям самой луны: «ночная жаба»
(ечанъ), «серебряная жаба» (инъчанъ).
Иконография Лунной жабы и графическая лунарная эм-
блема тоже начали складываться в ханьскую эпоху. Просле-
живается несколько их основных стилистических вариан-
тов, в которых показывается распластанная фигура лягуш-
ки, но либо заключена в круг, либо расположена на месяце.
Нередко фигура жабы дополняется в этой эмблеме другими
лунарными символами — изображениями Лунной корицы,
Лунного зайца. Подобно всем остальным лунарным персо-
нажам (убывающая и возрастающая луна как олицетворе-
ние процесса смерти-возрождения), Лунная жаба преврати-
лась в общепринятый для Китая символ бессмертия и поже-
лания долголетия. Вера в особые свойства самой жабы и
жабьего мяса удерживались как в популярных верованиях,
так и в даосских религиозных представлениях. Так, еще в
алхимических текстах IV в. (трактат Гэ Хуна) жаба называ-
ется «мясом гриба-чжи», и утверждается, что она может
прожить 1000, 3000 и даже 10 000 лет. Там же говорится,
что отварное мясо жабы и ее кровь, нацеженная из особой
формы (похожих на иероглифы) бугров, есть полноценные
снадобья бессмертия. Бытовало поверье о чудесных жабах,
на спинах которых растет гриб-чжи. И если поймать, сва-
рить и съесть это существо, то можно сразу же обрести
волшебные способности — стать невидимым, вознестись в
небеса и т. д. Особенно чудотворной такая жаба станови-
лась при наступлении сильной жары (в пятый день пятого
лунного месяца). И наконец, в дальнейшем, ориентировоч-
но в минскую эпоху, установились ассоциации жабы с бо-
гатством. В таком своем значении жаба (тоже, как правило,
трехлапая) входит в набор обязательных спутников и ико-
нографических атрибутов божественных персонажей, нис-
посылающих материальное благополучие.
26 История искусства Китая
Композиции с жабой
и парой рыбок
a — росписи по керамике (конец
Чжоу, окрестности Лояна); б —
керамическая фигурка (Ранняя
Хань).
Вариант изображений
Лунной жабы в ханьском
искусстве. С погребального
знамени госпожи Дай
401
НАСЕКОМЫЕ
И ПТИЦЫ
Использование образа
бабочки в декоративно-
прикладном искусстве
a — детали украшений (золото,
серебро, ок. 5 х 3 см, Тан); б —
орнаментация керамического из-
головья (Тан).
Из насекомых особое положение в художественной об-
разной системе занимают бабочка-de и цикада-чань.
Символика бабочки как благопожелательного образа
предопределена прежде всего омонимичностью слова «ба-
бочка» геронтологическому термину де, посредством кото-
рого определялись старики в возрасте от 70 до 80 лет, что,
по китайским представлениям, было почти максимальной
возрастной границей человеческой жизни. Кроме того, в
китайском языке существует еще одно, менее употреби-
тельное слово «бабочка» — ху, которое в южном диалект-
ном его произношении звучит как фу — «богатство», «сча-
стье». Совпадение звучаний указанных слов соответствует
и более глубинному — натурфилософскому, даосскому и
буддийскому — осмыслению образа бабочки. Общий жиз-
ненный цикл насекомого — гусеницы, кокона, бабочки —
воспринимается в них в качестве наглядного примера либо
трансформации одной сущности в другую с конечным об-
ретением бессмертия либо цикла новых рождений, веду-
щих к нирване. В результате изображения бабочки есть в
первую очередь благопожелания долголетия и счастливой
старости. Потому украшенные ими предметы было приня-
то дарить пожилым людям. Более того, как эмблема долго-
летия бабочка может воспроизводиться и в орнаментации
императорского парадно-ритуального облачения.
Следующая семантическая грань образа бабочки проис-
текает из ее природных ассоциаций с весной и цветами, a
значит, с Женским началом, юностью, красотой и любо-
вью. В таком смысловом варианте бабочки — сами по себе
или в сочетании с цветами и растениями (мэйхуа, бам-
бук) — являются излюбленными орнаментальными моти-
вами женских украшений, туалетных принадлежностей и
деталей костюма. Существует несколько типов специаль-
ных узоров с ними, например «сотня бабочек среди цве-
тов» (байде-чжуанъхуа), который, думается, не нуждается
в расшифровке. Отдельного упоминания заслуживают и
живописные композиции на тему бабочек и цветов, кото-
рые составляют отдельное тематическое направление жан-
ра «цветы и птицы» и могут пониматься в обоих указан-
ных главных символических значениях образа бабочки —
как имеющие благопожелательный смысл и метафориче-
ские воспевания весны, любви и женской красоты.
Осмысление образа цикады тоже проистекает из при-
родного жизненного цикла этого насекомого: цикады появ-
ляются весной из личинок, пролежавших в земле, и это
воспринималось китайцами как способность их к возрож-
дению после пребывания в подземном мире. Связь цикады
с анимистическими представлениями и идеей бессмертия
лучше всего прослеживается на материале древней погре-
бальной обрядности: обычай вкладывать в рот усопшего
нефритовые пластинки в виде плоскостных или трехмер-
ных фигурок цикады. В художественном творчестве образ
цикады широко использовался уже в иньском искусстве,
образуя отдельные типы орнаментальных фигур и узоров в
декоре бронзовых изделий. В декоративно-прикладном ис-
402
кусстве традиционного Китая цикады — в их благопоже-
лательном (долголетия, здоровья) значении — вводились в
орнаментику и «мужских», и «женских» изделий. Их мож-
но встретить в декоре императорского облачения и одея-
ний сановников, a также в женских украшениях. Иной
смысл образ цикады имеет в литературно-поэтической об-
разности, где она выступает в роли «поющего насекомого»
(громкие, продолжительные звуки, издаваемые самцами).
В зависимости от поэтического контекста и тематики лите-
ратурных произведений «пение цикад» может служить оли-
цетворением естественной красоты природы и поэтическо-
го вдохновения человека, «свободного от мирских сует»,
либо же, наоборот, знаком осени-старости и метафорой оди-
ночества лирического героя (героини).
В литературной образности и в художественном творче-
стве могут фигурировать и другие насекомые. Так, напри-
мер, муравей-u в силу совпадения звучания его названия
со словом «принципы», «долг» (и) стал метафорой конфу-
цианских добродетелей и непосредственно патриотизма.
Пчела-фэн, благодаря как своим природным свойствам,
так и графическим особенностям обозначающего ее иеро
глифа, состоящего из двух частей-графем — «насекомое» и
«шило», превратилась в метафору трудолюбия и бережли-
вости. Саранча — символ благополучия и многодетного
потомства, что, видимо, восходит к обычаям тех из пред-
ков китайцев, кто исходно были кочевыми народностями,
для которых саранча служила пищей. Паук, по причине
одного из его редких терминологических обозначений —
сы, мог выступать в качестве эмблемы радости-сы и даже
включаться в орнаментацию женских украшений. Среди
древних изделий мы также встречаем немало изображений
различных насекомых — богомола (нефритовая пластина
из комплекса Тяньма), осы (или пчелы) — на одном из
сычуаньских гэ. Однако все эти представители мира насе-
комых остались на периферии китайской художественной
образной системы. Одновременно существуют и «зловред-
ные» насекомые. К их числу в первую очередь относится
муха, олицетворяющая (метафора, идущая еще от песен
«Ши цзина») человеческие пороки и непосредственно завист-
ников и клеветников. Еще один примечательный набор —
«пять ядоносов» (у ду), в который входят скорпион, обыч-
ный паук (чжичжу), многоножка, a также жаба и змея. Но
и насекомые-ядоносы тоже иногда включаются в орнамен-
тацию изделий, придавая им охранительную от них же
самих функцию.
Орнитальный образный отдел в целом включает в себя
представителей практически всех имеющихся в природе
отрядов и семейств птиц. Вместе с тем нельзя не заметить
весьма скромное положение в нем хищных птиц — ястре-
бов, соколов ит. д., которые обычно занимают важное ме-
сто в искусстве (включая эмблематику и геральдику) дру-
гих народов. Проявившие было себя в художественном
творчестве неолитической эпохи (рельефные орнаменты
на керамике южных культур, изображения на нефритах)
Изображения цикады
a — в орнаментации иньских брон-
зовых изделий; б — нефритовая
фигурка (3,9 см, Раннее Чжоу);
в — подвеска для головного убо-
ра (золото, ажурное литье, ок.
5,5 х 4,5 см, IV в., пров. Цзян-
су); г — фигурка из хрусталя
(5,7 х 1,9 см, эпоха Юань, пров.
Шаньси); д — головка волосяной
шпильки (Мин).
Использование образов
насекомых в декоративно-
прикладном искусстве
a — нефритовая подвеска в виде
фигуры богомола (7 х 2,1 см, Ран-
нее Чжоу); б — клинок с изобра-
жением пчелы (Раннее Чжоу, пров.
Сычуань); в — головка шпильки
с изображением паука (Мин); г —
головка шпильки с изображени-
ем скорпиона (Мин).
403
Изображение хищных птиц
в древнекитайском
декоративно-прикладном
искусстве
a — орел (нефрит, Тяньма); б —
сова (нефрит, Раннее Чжоу).
Варианты изображений
Солярного ворона
в древнекитайском
искусстве
a — с каменного рельефа; б —
с погребальных стенописей (окре-
стности Лояна); в — с погребаль-
ного знамени госпожи Дай.
и иньского времени (в том числе образ совы, широко ис-
пользовавшийся в аньяновских бронзах), хищные птицы
оказались практически невостребованными образной сис-
темой традиционного Китая. Возможной причиной этого
послужила их связь, подобно ассоциациям парного изобра-
жения дракона с тигром, с борьбой и насилием. Исключе-
ние составляют только композиции заклинательно-охра-
нительного характера, в которых хищные птицы (чаще
всего соколы) показываются терзающими нечисть и обо-
ротней. Даже в ранговых чиновничьих эмблемах наряду с
«благородными» птицами — фениксом и павлином исполь-
зовались такие весьма малоприметные и малозначитель-
ные, с европейской точки зрения, пернатые, как перепелка
и райская мухоловка (соответственно VIII и XI ранги).
Ведущее же место в китайской художественной образности
занимают представители семейств вороновых, фазановых,
ласточковых, водоплавающих и болотных птиц.
Из семейства вороновых особо выделяются ворон-і/ и
сорока-cu (сицюэ).
Ворон-і/, в мифологических его трактовках «трехногий
ворон» (саньцзу-у), — солярная птица и эмблема солнца.
В собственно мифологических представлениях «птичий» об-
лик солнца (точнее, 10 солнц) оказывается наиболее тесно
связанным с сюжетом о Стрелке. Однако есть все основа-
ния полагать, что этот сюжет и присущая ему солярная
символика наложились на те же самые архаические ассо-
циации птицы с солнцем, которые привели к возникнове-
нию образа Красной птицы. В философских сочинениях
ханьской эпохи солярный ворон упоминается и вне мифа о
Стрелке — в качестве чудесной птицы, обитающей на солн-
це. Солярная эмблема с вороном впервые отчетливо прояв-
ляется в художественном творчестве ханьской эпохи и
вновь, подобно лунарной эмблеме, в нескольких иконогра-
фических вариантах: летящая птица, показанная со спи-
ны (и не ясно, какой именно породы), профильное изобра-
жение ворона, но с двумя лапами, фантастическая птица с
головой человека. В дальнейшем вместо ворона в нее мог
вводиться петух, также почитавшийся солярной птицей.
Сорока считается в Китае птицей, связанной с высшим,
астральным миром, посланницей и вестницей богов, на что
однозначно указывает ее терминологическое название —
Благовестная птица, Птица счастья. Вполне возможно, что
подобное осмысление этой птицы проистекает из особенно-
стей ее природного внешнего облика. Китайская сорока имеет
несколько меныыие размеры, чем европейская, и оперенье
сплошного черного цвета, которое ярко переливается в сол-
нечном свете — словно птица усыпана драгоценными каме-
ньями. Образ сороки в ее связи с высшим миром наиболее
отчетливо рисуется в мифологическом сюжете о Ткачихе и
Пастухе (мост из сорок через Млечный Путь, на котором
только и могут встретиться герои). Кроме того, к нему вос-
ходит и образ чудесной Синей птицы-Диннло (в первона-
чальной версии данных представлений — три птицы), кото-
рая мыслилась прислужницей и вестницей Царицы Запада
404
Сиванму. В благопожелательных композициях обычно изоб-
ражается пара сорок — намек на миф о Ткачихе и Пастухе
и пожелание встречи с любимым.
Представители семейства фазановых, во-первых, отно-
сятся к числу опорных образов, олицетворяющих Мужское
и Женское начала. Фазан-петух (цзи) — принятая словес-
ная и визуальная метафора Ян, курочка (ци) — Инь. Во-
вторых, фазаны чрезвычайно высоко ценились в Китае за
красоту оперенья и за храбрость поведения (брачные драки
петухов, токующий фазан, не обращающий внимания ни
на что вокруг). Поэтому многие представители этого семей-
ства имеют собственные терминологические названия, сим-
волику, используясь в качестве ранговых персонажей.
1. «Золотой фазан» (бе) — специфический китайский
вид фазановых, самцы которого имеют хохолок, спинное
оперение и надхвостье из перьев золотистого цвета и ярко-
оранжевый воротник. Изображения «золотого фазана» по-
мещались на древнейших вариантах императорского пара-
дно-ритуального облачения.
2. «Золотистый фазан» (цзинъцзи) и «серебристый фа-
зан» (байсянъ), также отличающиеся соответствующим
цветом оперения, которые служили ранговыми знаками
гражданских чиновников II и V рангов.
3. Горный фазан-яэ — олицетворение храбрости, сим-
вол патриотизма и противостояния трудностям и испыта-
ниям; его перьями украшались воинские головные уборы.
Отдельного разговора заслуживает и павлин {кунцяо),
будучи, повторим, вероятным прототипом образа феникса.
Известно, что вплоть до конца иньской эпохи павлины
водились в регионе бассейна Хуанхэ и, возможно, почита-
лись священными птицами. Однако в художественном твор-
честве иньской и чжоуской эпох их образы воспроизводи-
лись чрезвычайно редко. Одно из уникальных изделий —
сосуд для вина в виде статуэтки павлина, найденный в
комплексе Тяньма, который выполнен (не считая отдель-
ных фантазийных вкраплений) в сугубо реалистической
манере, что, помимо всего прочего, доказывает факт зна-
комства древнекитайских мастеров с этой птицей. Поэтому
нераспространение образа павлина в древнекитайском ху-
дожественном творчестве объясняется, скорее всего, рос-
том популярности в нем образа феникса. Ситуация резко
изменилась в искусстве танской эпохи и в результате про-
никновения в Китай сасанидского декоративно-приклад-
ного искусства, в котором «павлиньи» мотивы занимают,
как известно, одно из ключевых мест. С тех nop образ
павлина устойчиво присутствует в художественном творче-
стве Китая. Однако в скором времени он вновь сблизился с
образом феникса и в морфологическом, и в семантическом
плане, став символом Женского начала и плодородия. В де-
коративно-прикладном искусстве традиционного Китая
изображения павлинов активно вводятся в орнаментацию
изделий, предназначенных для использования женщина-
ми, начиная с украшений, a также в благопожелательные
художественные композиции. Единственным отклонением от
Солярный петух.
Эмблема-шиэр
на императорском
парадно-ритуалъном
облачении
Изображение
«золотистого фазана»
как ранговой птицы
Изображение
«серебристого фазана»
как ранговой птицы
Тяньмаский сосуд
в виде фигуры павлина
405
Изображение павлина
как ранговой птицы
Изображения попугая
в декоративно-прикладном
искусстве
a — нефритовая пластина (Вос-
точное Чжоу); б — аппликация
по лаку (Тан).
Композиция на тему
«ласточки и мэйхуа».
С книжной гравюры
no мотивам живописных
произведений
Изображение гуся
в декоративноприкладном
искусстве. Деталь
украшения. Эпоха Тан.
Серебро, 2,1 х 2,3 см
указанной символики образа павлина является его использо-
вание в качестве рангового персонажа — знака различий граж-
данских чиновников III ранга, что, вероятнее всего, было
обусловлено его сродностью с образом феникса-самца.
Семантическую близость к образам фазановых обнару-
живают попугай (инъу) и зимородок (фэйцуй). Изображения
попугая устойчиво, хотя и эпизодически, воспроизводятся в
искусстве как древних эпох (в основном нефритовые подвес-
ки), так и традиционного Китая. Однако создается впечат-
ление, что его роль в художественной образной системе ог-
раничивалась лишь красотой оперенья, без наделения его
какой-либо дополнительной символикой. Зимородок-фэй-
цуй — представитель специфической местной разновидно-
сти голубого зимородка, отличающийся опереньем яркого и
насыщенного темно-бирюзового цвета. Перышки зимородка
служили в Китае излюбленным ювелирным материалом,
приведя даже к изобретению специальной ювелирной тех-
ники (подробно см. глава 13). Кроме того, его образ тоже
был связан с весной, плодородием и женской красотой.
Семейство ласточковых сводится в китайской художе-
ственной образной системе к образу ласточки-лкь, исходно
относящейся, видимо, к числу тотемных персонажей: ле-
генда о рождении предка шанцев после того, как его мать
проглотила яйцо ласточки. Такое отношение к ласточке
прослеживается и в чжоуских верованиях. Она почиталась
покровительницей северо-восточных народностей. Назва-
ние чжоуского царства Янь и есть «Ласточка». В дальней-
шем образ ласточки утратил свою изначальную религиоз-
ную символику и превратился в символ весны, взаимной
любви и супружеского счастья.
Из водоплавающих птиц наиболынее признание в лите-
ратурной и собственно художественной образности полу-
чили лебедь (хун), гусь (янъ), утка (в различных ее разно-
видностях) и чайка (оу).
Лебедь и гусь, будучи перелетными птицами, служат,
прежде всего, знаками весны и осени и шире — олицетворе-
нием всего годового цикла, повторяемости природных про-
цессов. Во-вторых, они символизируют одиночество челове-
ка, его пребывание на чужбине и ностальгию по дому, род-
ным, друзьям или любимому, так как в отличие от него они
способны преодолевать огромные расстояния и навещать раз-
личные места. Упоминания о пролетающей гусиной стае, о
крике гусей, вызывающих прилив отчаяния y лирического
героя, и обращение к гусю с просьбой передать весточку
другу или возлюбленному — мотивы, постоянно встречаю-
щиеся в китайской лирической поэзии. В результате изоб-
ражения гуся, нередко пары птиц, в орнаментальных и ху-
дожественных композициях служат, как правило, пожела-
нием скорой встречи с близкими людьми, включая создание
семейного очага. В-третьих, лебедь служит символом высо-
ких моральных достоинств человека, a гусь ассоциируется с
Буддой: согласно житийной литературе о нем, одно из своих
прежних рождений Будда провел в облике гуся. Принятый
эпитет Будды — Царь-гусь (Янь-ван). Поэтому слово «гусь»
406
можно нередко встретить в названиях буддийских культо-
вых строений. He исключено, что этим же объясняется ис-
пользование гуся в качестве рангового персонажа (знак раз-
личия гражданских чиновников IV ранга).
Селезень и уточка являются древнейшими и популяр-
нейшими символами взаимной любви и супружеского сча-
стья. Такое их осмысление привело к созданию самостоя-
тельного мифологического образа — итицы-бииняо или, в
поэтической терминологии, «утки-неразлучницы», которая
мыслится в виде пары птиц со сросшимися телами, двумя
крыльями и лапами. Выделяется и так называемая «ман-
даринская утка» («пурпурная мандаринка», цичи). Обла-
дая очень красивым оперением — красного цвета, с пур-
пурным отливом, — она ассоциируется с благородной лич-
ностью и входит в набор ранговых персонажей (знак
различия гражданских чиновников VII ранга). Сохрани-
лось множество художественных изображений утки начи-
ная с чжоуской эпохи: в орнаментации изделий декоратив-
но-прикладного искусства среди погребальной пластики,
скульптурные фигурки, входящие в архитектоническую
композицию тех или иных предметов, даже оружия.
Образ чайки употребляется преимущественно в литера-
турно-поэтической и живописной образности, где он высту-
пает символом отшельника и человека, способного к едине-
нию с природой или, напротив, бесприютного скитальца,
вынужденного волею судеб покинуть дом и пребывающего в
душевных терзаниях.
Из болотных птиц приоритетное положение в художествен-
ной образной системе занимают цапля (лу) и журавль (хэ).
Цапля благодаря своему природному величественному
облику, неторопливо-гордой походке и способности выдер-
живать даже сильные порывы ветра превратилась в устой-
чивый символ общественного порядка, этикетно-ритуально-
го уложения и упорства человека в достижении своих це-
лей. В литературно-поэтической образности, начиная с песен
«Ши цзина», вереница цапель служит метафорой торже-
ственного шествия свитских или парадного воинского по-
строения. Белая цапля (лусы) — ранговый персонаж (знак
различия гражданских чиновников VI ранга). Скулыітур-
ные изображения голов цапли помещались на лодках в знак
их прочности и готовности преодолевать течение и ветер.
Образ журавля впервые отчетливо проявляется в чуском
искусстве. Настойчивость его использования в художе-
ственном оформлении предметов ритуально-церемониального
Изображение гуся
как ранговой птпицы
Волшебная птпица бииняо.
По мошивам ханьских
погребальных релъефов
Изображение
«мандаринской утпки» как
ранговой птпицы
Изображения утпки
в китпайском искусстве
a — бронзовая статуэтка (7,2 х 6,7
см, конец Чжоу, пров. Сычуань);
б — деталь орнаментации ору-
жия (Ранняя Хань); в — детали
украшений (кость, Тан); г — ке-
рамическая лампада (общая вы-
сота 33 см, Юань); д — нефрито-
вое украшение (Мин).
407
Изображения цапли
a — в декоративно-прикладном
искусстве (с росписи по керами-
ке, Тан); б — в живописи (с книж-
ной гравюры по мотивам живо-
писных произведений); в — как
ранговой птицы.
Изображение даосского
«священного журавля» как
спутника бессмертного-
сяня. С книжной гравюры
Благопожелательная
композиция с даосским
«священным журавлем»
и сосной. С картины-нянъхуа.
Изображение журавля
как ранговой птицы
характера (например, парные фигуры, служащие подстав-
кой для ритуального барабана) дает основание предпола-
гать, что он почитался в чуских верованиях священной пти-
цей. Впоследствии этот образ был заимствован даосской
мифологией, в которой журавль получил специальное наи-
менование — Священный (Таинственный, Сокровенный)
журавль — Сюанъхэ, и превратился в одного из ведущих
персонажей. Считается, что это — птица, прошедшая через
череду трансформаций и достигнувшая возраста 10 000 лет.
Священный журавль считался спутником бессмертных-сяней
или птицей, на которой они странствовали, в результате
чего он выступает почти обязательным атрибутом иконогра-
фии многих даосских персонажей.
В качестве символа бессмертия и благопожелания дол-
голетия он может вводиться и в художественное оформле-
ние любых произведений светского искусства, a также ис-
полняться в виде самостоятельных скульптурных изобра-
жений. Его главной опознавательной иконографической
особенностью является красная «шапочка». В благопоже-
лательных живописных композициях нередко воспроизво-
дится стая журавлей, слетающихся к сосне или располо-
жившихся возле нее, что соответствует легендам о журав-
лях-сюанъхэ, отдыхающих под сенью чудесных деревьев
бессмертия и танцующих на поляне среди волшебных гри-
бов. Вне даосской мифологии образ «танцующих журав-
лей» соотносится с брачным танцем этих птиц и имеет
однозначную эротическую символику. В таком значении
он чаще всего используется в любовно-лирической поэзии.
Изображения летящих журавлей, подобно образам других
перелетных птиц, символизируют разлуку с домом и на-
дежду на скорую встречу с родными и близкими или на
получение от них известия. В официальной образной системе
журавль возглавляет набор ранговых персонажей для граж-
данских чиновников, служа знаком различия высшего,
первого ранга.
Декоративные и певчие птицы представлены в художе-
ственной образной системе удивительно скупо, если учесть
любовь к ним китайцев. Более или менее отчетливо просле-
живается только образ кволги-ин, служащий олицетворени-
ем девичьих добродетелей. И наконец, в орнаментальной
традиции мы постоянно встречаемся с условно-обобщенны-
ми изображениями птичек-«пичуг», которые могут показы-
ваться в одиночном виде, в парах или дополнять собой изоб-
ражения павлина, феникса и прочих «благородных» птиц.
408
Среди образов диких животных главное место занима-
ют представители хищников и травоядных животных.
Образная группа хищников исходно, как это понятно
из сказанного выше, возглавлялась тигром-jq/, основными
смысловыми и морфологическими заместителями которого
служат леопард (бао) и пантера (бяо). Проследить в дета-
лях ход формирования образов этих зверей в китайской
культуре и их иконографии невозможно, так как они явно
находились в тени образа тигра. Очевидно лишь, что оба
они служат олицетворением грозных сил природы, муж-
ской храбрости и воинской доблести, что и способствовало
превращению их в ранговых персонажей (знаки различий
военных чиновников соответственно II и VI рангов).
К местным по своему происхождению образам хищни-
ков относится и медведь. Хотя на территории Китая обита-
ют несколько различных видов медведей — бурый, черный
медведь, гризли и «бамбуковый медведь» панда (отнесем
его к данной образной группе по причине такого его осмыс-
ления в китайской культуре), — в китайских верованиях
и художественном творчестве утвердился обобщенный об-
раз медведя-скж. Судя по литературным источникам, мед-
ведь некогда играл важную роль в местных религиозных
представлениях, практиках и этикетных церемониях. Он
фигурирует в нескольких мифологических сюжетах, в част-
ности в повествованиях о Сяском Юе, где говорится, что
герой во время работ по прокладыванию русел рек через
горные массивы обращался в медведя. Подобное сочетание
«медведь-гора» обнаруживает некоторое типологическое
сходство с верованиями сибирских народов. Из письмен-
ных памятников и художественных произведений (камен-
ные рельефы) известно, что в Древнем Китае проводились
ритуально-карнавальные шествия, участники которых об-
лачались в медвежьи шкуры и надевали маски в виде голо-
вы медведя. Медвежьими шкурами, о чем также неодно-
кратно сообщается в текстах, устилались сидения (циновки)
для особо почетных гостей, a медвежьи лапы были изыс-
каннейшим пиршественным блюдом. Образ медведя впер-
вые был использован еще в художественной творчестве нео-
литической эпохи (северо-восточная нефритовая пластика)
и присутствует в древнекитайском искусстве. К числу наи-
более примечательных артефактов относятся раннечжоу-
ская бронзовая пластина в виде рельефной фигуры медведя
(из комплекса Люлихэ) и нефритовая скульптурка (из ком-
плекса Тяньма), каменное скульптурное изваяние из по-
гребения генерала Хо Цюйбина, деревянные фигурки, при-
сутствующие среди ханьской погребальной пластики юж-
ных регионов Китая. Обращает на себя внимание, во-первых,
широта географии этих произведений, что означает попу-
лярность образа медведя в различных регионах страны, и,
во-вторых, реалистичность их исполнения. В культуре и
искусстве традиционного Китая образ медведя занимает в
целом крайне незначительное место, выступая лишь сим-
волом физической силы и храбрости. В качестве такового
он присутствует и в наборе ранговых животных (знак
ДИКИЕ
ЖИВОТНЫЕ
Изображение леопарда-бао
как рангового животного
Изображение пантерыбяо
как рангового животного
409
Изображения медведя
a — бронзовая пластина (20 см,
комплекс Люлихэ); б — нефри-
товая фигурка (4,7 х 2,9 х 2,1 см,
Тяньма); в — на ханьских погре-
бальных рельефах (участник ри-
туального шествия в облачении
медведя); г — как рангового жи-
вотного.
различия военных чиновников V ранга). Причем, судя по
официально принятой иконографии, его образ исполнялся
в откровенно мифологизированных трактовках, сближаясь
с образом Цилиня, зверя-сечжи и тому подобных фантасти-
ческих существ.
Важнейшее место, нежели местные хищники, в куль-
туре и искусстве традиционного Китая занимает образ льва,
проникший на Дальний Восток с буддизмом. Хотя по ут-
верждению письменных источников живой лев был до-
ставлен ко двору одного из позднеханьских императоров,
не вызывает сомнений, что представления китайцев об этом
животном на первых порах строились на основании его
литературных описаний, содержащихся в индо-буддийских
текстах, и рассказов чужеземных миссионеров и торгов-
цев. Поэтому вполне ожидаемо, что y них сложился фанта-
зийный образ льва, который и предстает перед нами в его
первом известном на сегодня художественном изображе-
нии — на погребальном каменном рельефе из шаньдунско-
го захоронения, который датируется приблизительно вто-
рой половиной I в. н. э. Отчетливо ощущается влияние
иконографии местных мифологических, в первую очередь
тигрообразных, существ. В чуть более реалистическом сти-
ле выдержано каменное скульптурное изображение льва,
служившее подставкой для какого-то изделия, которое было
найдено в погребении принца крови на территории Хэна-
ни, относящемся к первой трети II в. н. э.
Находки изображений львов, созданных приблизитель-
но в одно и то же время, в столь удаленных друг от друга
местах означают, что это животное сразу же привлекло к
себе повышенное внимание китайцев. В индо-буддийской
традиции образ льва играет, как это хорошо известно, ис-
ключительно важную роль, будучи связанным не только с
самим Буддой, но и с верховной властью. Данное его значе-
ние оказалось тем более притягательным для китайцев, по-
скольку в то время еще велись интенсивные поиски персо-
нажа, способного стать символом монарха и национальной
государственности. Образ тигра явно отошел в официальной
символике на второй план, уступив место его ипостаси как
духа-покровителя Запада. A образ Желтого дракона, во-пер-
вых, пока находился в стадии разработки и, во-вторых, он
не имел реального прототипа среди представителей живот-
ного мира, который мог бы находиться рядом с монархом,
подчеркивая его величие и сакральное могущество.
Фантазийные трактовки образа льва нашли свое про-
должение в южнокитайском художественном творчестве
эпохи Шести династий. Самым, пожалуй, показательным
артефактом является каменное изваяние, сохранившееся в
окрестностях Нанкина. В нем показано существо, как бы
сидящее на корточках и сжимающее в передних лапах,
согнутых на уровне груди, каменный шар (возможно, ва-
риант исполнения буддийского колеса-ча/сры). Голова су-
щества с непропорционально огромной пастью и округлы-
ми выпуклыми глазами сразу же заставляет нас вспомнить
об иньских таотэ и скульптурах типа аньяновской (из
410
белого мрамора) фигуры «человеко-тигра». Все же осталь-
ные черты внешнего вида этого изваяния больше всего на-
поминает гигантскую лягушку.
Первые сугубо реалистические варианты изображения
льва принадлежат северовэйскому искусству. Сохранилось
несколько каменных скульптур, украшавших предположи-
тельно резиденцию тобийских правителей в Лояне. Приме-
чательно, что среди них присутствуют фигуры в обеих no-
sax, ставших впоследствии принятыми для иконографии
льва: в сидячей и стоячей (так называемый идущий лев).
Однако и на Севере исполнялись фантазийные изображения
льва, что было наиболее типичным для буддийского культо-
вого искусства (каменные рельефы из буддийских храмов).
Подлинное знакомство китайцев со львом и с его художе-
ственными трактовками, имевшимися к тому времени в ис-
кусстве других народов, состоялось только в танскую эпоху.
И это сразу же сказалось на его китайских воплощениях.
Изваяния львов, присутствующие в погребальных комплек-
сах танских императоров, выполнены, как отмечалось выше,
полностью в реалистической манере, хотя и подчиняющей-
ся общей для того времени официальной стилистике. Введе-
ние таких изваяний в художественное оформление импера-
торских усыпальниц объясняется тем, что лев частично пе-
ренял функции Белого тигра как защитника от злых сил.
Параллельно наметился выход образа льва за пределы
буддийского культового и погребального искусства. Он за-
нимает все более заметное место в светском художествен-
ном творчестве: от орнаментации изделий до монументаль-
ной скульптуры. Первым сугубо светским, мемориальным
по своему характеру, изваянием льва литературные источ-
ники называют гигантскую — высотой 6 м — чугунную
скульптуру, которая была отлита в 954 г. по приказу пра-
вителя одного из центральнокитайских царств эпохи Пяти
династий (Позднее Чжоу) и установлена в провинции Хэ-
бэй в ознаменование его очередной победы над соседями.
Следующая по времени серия скульптурных изображений
льва содержится в оформлении моста Лугоуцяо (подробно
см. глава 16) и датируется XII в. Ориентировочно в мин-
скую эпоху в Китае утвердилась практика помещения пе-
ред входом в любой тип архитектурных ансамблей (дворец,
храм, государственные учреждения) парных фигур львов.
В нормативной иконографии эта композиция должна со-
стоять из изображений льва и львицы, первое из которых
может быть дополнено шаром, расположенным под лапой
льва, a второе — фигурами львят, из которых одна — под
лапой львицы, другие — на ее спине. Помимо таких пар-
ных изваяний, скульптурные изображения львов на протя-
жении минской и цинской эпох включались в художе-
ственное оформление самых разных архитектурно-инже-
нерных сооружений, например в балюстрады мостов или
лестниц. Намного расширился и символический ареал его
образа. Он стал олицетворением благородства человека,
чистоты и величия его помыслов, мужества, внутренней
стойкости и жизненных успехов.
Древнейшие
изображения льва
a — каменный рельеф (вторая
половина I в. н. э., пров. Шань-
дун); б — каменная скульптура
(25 х 33 см, начало II в. н. э.,
пров. Хэнань).
411
Древнейшее изображение
«львиной собаки»
(пекинеса).
Керамический сосуд. IV в.
Пров. Цзянсу
В цинскую эпоху лев вошел и в официальную образ-
ность (знак различия военных чиновников I ранга), и в
благопожелательную, способствуя возникновению несколь-
ких стандартных композиций, которые активно использо-
вались в картинах-няньхуa. К наиболее распространенным
из них относятся изображения мальчика, играющего со
львенком или опирающегося на голову лежащего перед ним
животного, и львенка, играющего с мячом. Первая из указан-
ных композиций — это пожелание ребенку стать в будущем
наставником наследника престола, которое построено на обыг-
рывании одинакового звучания слов «лев» (шицзы) и «на-
ставник, учитель» (шицзы). Вторая композиция опирается
на местные поверья. Считалось, что молоко львицы облада-
ет необыкновенными целительными свойствами. И для того
чтобы его заполучить, нужно бросить львенку мяч. Мате-
ринское молоко только что насосавшегося детеныша при-
липнет к его лапкам, с них перейдет на поверхность мяча и
затем достанется тому, кто первым возьмет мяч в руки.
Одновременно с ростом популярности образа льва в
китайской культуре наблюдается тенденция к отходу от
его реалистических трактовок и возвращению к фанта-
зийным вариантам его изображения. Укореняется образ
так называемого китайского лъва-шицзы, который окон-
чательно занял господствующее положение в художествен-
ном творчестве цинской эпохи. За пределами собственно
художественного творчества он реализуется в простона-
родной праздничной обрядности (шествия с «пляской
львов») и в цирковом искусстве.
С образом льва неразрывно связан образ еще одного
существа, на этот раз реального представителя животного
мира — «львиной собаки» (щицзы-гоу), больше известной
в Европе как «пекинская болонка» («пекинес»). Эта поро-
да была выведена где-то в пределах I—III вв. (т. е. после
знакомства китайцев с буддизмом), возможно, с использо-
ванием генофонда местных декоративных пород — неких
«коротких собак», о которых упоминается в чжоускую
эпоху. «Львиная собака» предназначалась стать живым
заместителем натурального льва, a ee крохотные размеры
должны были лишний раз подчеркивать величие импера-
тора, которому «сам лев едва достает до лодыжек». Извест-
но, что пекинесы жили только в императорской резиден-
«Пляска лъвов»
в карнавальном шествии.
С книжной гравюры.
Эпоха Цин
412
ции и окружались всевозможными почестями. Есть преце-
денты их прямого обожествления и почитания в качестве
воплощений Будды. Первые изображения пекинесов — со-
суды в виде их скульптурки — относятся к IV в. Они одно-
значно свидетельствуют о том, что эта порода целенаправ-
ленно выводилась для создания животного, внешний вид
которого полностью повторял бы фантазийный облик льва,
который восторжествовал в китайской культуре того вре-
мени. Трудно не согласиться с точкой зрения многих ис-
следователей, что и в произведениях китайско-буддийско-
го искусства эпохи Шести династий, и в изображениях
лъвві-шицзы на самом деле воспроизводится именно пеки-
нес. Кроме того, история создания «львиной собаки» как
нельзя лучше иллюстрирует удивительное умение китай-
цев моделировать среду своего обитания и подчинять окру-
жающие их природные формы собственным художествен-
ным замыслам. В этом смысле «львиная собака» находит-
ся в одном семиотическом ряду с пейзажным садом, который
также является воспроизведением, но в предельно умень-
шенных размерах, природного ландшафта. В целом же об-
раз льва служит одним из самых блестящих примеров про-
цесса адаптации чужеземных культурно-художественных
реалий к культуре и искусству Китая и их постепенной
трансформации в органическую принадлежность местных
верований, обычаев и изобразительных средств.
Представители семейства диких собачьих хищников, в
отличие от кошачьих, не только не были восприняты худо-
жественной образной системой, но и неизменно ассоцииру-
ются в китайских верованиях и словесности с враждебными
ио отношению к человеку силами. Такое их осмысление
ярче всего проявляется в образе лисы (ху), которая счита-
лась оборотнем, способным принимать любой человеческий
облик и насылать порчу на тех, кто неосмотрительно всту-
пил с ней в контакты. Столь же зловредными свойствами
наделяются и производные от лисы и волка мифологиче-
ские персонажи, например девятихвостая лисица, завлека-
ющая людей в горы дивным пением, чтобы затем их по-
жрать, или Небесный волк, угрожающий маленьким детям.
Следующая образная группа — травоядные животные —
включает в себя представителей двух основных отрядов
копытных: тропической фауны (слон, носорог) и надсемей-
ства рогатых.
Слоны (сян) и носороги (си) водились на территории
Китая и непосредственно в регионе бассейна Хуанхэ вплоть
до Х-ХІ вв. до н. э. В научной литературе признается, что
иньцы умели приручать и дрессировать слонов, используя
их как рабочую силу и даже в качестве боевых животных.
Так, в одном из вариантов пиктограммы «слон» угадывает-
ся рисунок слона, ведомого человеком. Исследователями
высказывается предположение, что воспоминания об этой
области их хозяйственного уклада как раз и нашли отра-
жение в знаменитом повествовании о совершенномудром
государе Шуне, повествующем о его взаимоотношениях со
сводным братом — коварным и «диким» юношей по имени
Трактовки образа льва
в искусстве
традиционного Китая
a — каменная скульптура (XII в.,
с моста Лугоуцяо); б — бронзо-
вое позолоченное извание (Цин);
в — изображение льва как ран-
гового животного.
413
Изображения слона
в искусстве
традиционного Китая
a — погребальная пластика
(27 х 27 см, IV в., пров. Цзян-
су); б — верхняя часть серебря-
ного кувшина (XII в., окрестно-
сти Чэнду); в — керамический
сосуд (17,5 х 27,5 см, Юань, ок-
рестности Лояна).
Изображение носорога
в искусстве традиционного
Китая. Модель изголовья.
Эпоха Тан. Пров. Цзянсу.
Керамика, 6,6 х 13,5 см
Слон (Сян), который постепенно все-таки подчинился его
авторитету.
«Слоновьи» мотивы широко использовались в орнамен-
тации иньских бронз. Тем не менее нет никаких свиде-
тельств, за исключением саньсиндуйских артефактов, су-
ществования в Древнем Китая подлинного культа слона.
Этим, возможно, объясняется падение популярности обра-
за слона в искусстве чжоуской и ханьской эпох. Его изоб-
ражения встречаются крайне редко и вне видимых ассоци-
аций с известными для древнекитайской культуры мифо-
логическими представлениями и обрядовыми практиками.
Долыые всего «слоновьи» мотивы удерживались в декора-
тивно-прикладном искусстве восточных районов страны
(бронзовые сосуды, найденные в шаньдунских погребе-
ниях). Сохранилось также несколько образцов каменных
рельефов со сценами, включающими в себя изображение
слона. Но все они являются, судя по их местоположению,
произведениями не культового (погребального), a мемо-
риально-иллюстративного характера. Оживлению образа
слона в китайском художественном творчестве вновь спо-
собствовало влияние индо-буддийской образности и ико-
нографии, в которых слон занимает приблизительно столь
же значительное место, как и лев. Однако в отличие от
последнего слон так и не был полностью введен в китай-
скую образную систему и не получил каких-либо новых, по
сравнению с его буддийской символикой, самостоятельных
значений. Подавляющее болыпинство изделий, украшен-
ных изображениями слона, равно как и его скульптурные
фигуры, или имеют какое-либо отношение к буддийскому
культовому искусству, или могут считаться вариациями
на его темы.
Носорог выступает в древнекитайской культуре симво-
лом воинственности, храбрости и физической силы, что
находит наиболее внятное отражение в оружейном деле и
особенностях военно-административной системы. Рог но-
сорога шел на изготовление холодного боевого оружия,
кожа — воинских доспехов. В чжоускую эпоху существо-
вал почетный полководческий титул «Голова носорога»
(Сишоу). Кроме того, рог носорога всегда наделялся в Ки-
тае, как и во многих других культурах, целительными и
охранительными (защита от ядов) свойствами. Подобное
его осмысление предопределило и включение носорожьего
рога в набор «Восьми драгоценностей», и применение его в
качестве поделочного материала (подробно см. глава 13).
Тем не менее художественное творчество обращалось к об-
разу носорога крайне редко. В художественном наследии
Древнего Китая изображения этого животного вообще от-
сутствуют, либо они пока не вычленены из общего потока
зооморфных и зооморфно-фантазийных мотивов. Для ис-
кусства традиционного Китая наиболыпей известностью
пользуется каменное изваяние носорога из императорских
погребальных комплексов, но оно так и осталось на поло-
жении уникального произведения китайского официаль-
ного и культового художественного творчества.
414
Надсемейство рогатых представлено в китайской фауне
достаточно внушительным числом видов этих травоядных
животных. На территории Китая водились и дикий (гор-
ный) козел, и кабарга, обитавшая в долине Янцзы, и не-
сколько разновидностей антилоп, живших в различных гео-
графических местностях — на юго-западе (Сычуань), западе
и северо-западе (Шэньси, Ганьсу) и северо-востоке (Хубэй).
Однако все они в лучшем случае послужили лишь прообра-
зами фантастических существ, например Цилиня. Единствен-
ным представителем данного семейства, образ которого из-
начально привлек к себе повышенное внимание китайского
художественного творчества, оказывается олень (лу).
«Оленьи» мотивы присутствуют, как мы помним, и в
росписях на неолитической керамике, и в орнаментации
иньских бронзовых изделий. Для чжоуского искусства наи-
более характерны нефритовые подвески в виде плоскостных
фигур оленя, которые в период Западного Чжоу нередко
входили в княжеский погребальный инвентарь. На мате-
риале имеющихся артефактов хорошо видно, что уже к
чжоуской эпохе в китайском художественном творчестве
возобладал обобщенно-собирательный образ оленя. Однако
он восходит к конкретному виду оленей — сика (Pseudaxis
sica), который широко встречается как в Южном Китае,
так и в северных и северо-восточных районах (Маньчжу-
рия), a также в Приамурье, Корее и в Японии. Это — круп-
ное животное с длиной тела до 140 см и высотой (в холке)
более 90 см. Летом его шкура приобретает каштановый
цвет с белой пятнистостью, зимой становится однотонной,
серовато-бурой. Сика имеет удлиненные изящные рога,
которые могут быть использованы для получения целеб-
ных препаратов.
Способность животного менять окраску обычно вос-
принималась древними людьми как признак обладания
им чудесными свойствами. Вот одна из вероятных при-
чин популярности образа оленя в неолитическом и древ-
некитайском художественном творчестве. Но никаких ос-
нований говорить о существовании в протоиньскую и инь-
скую эпохи самостоятельного культа оленя y нас все же
нет. Во всяком случае в орнаментации бронзовых изделий
образ оленя формально ничем не выделяется на фоне изоб-
ражений других копытных животных — козла, быка, ба-
рана. В чжоуских и ханьских верованиях, судя по отдель-
ным фрагментарным сведениям, разбросанным по различ-
ным текстам, олень почитался животным, связанным с
культом плодородия. В том числе упоминается, что уби-
тые во время царской (императорской) охоты олени при-
носились в жертву Владычице-Земле. Рассказывается так-
же о царских (для раннечжоуского периода) парковых
угодьях с прирученными оленями. He исключено, что иную
семантику образ оленя имел в верованиях и художествен-
ном творчестве царства Чу, на что указывает настойчи-
вость включения оленьих рогов в изображения разного
рода фантазийно-зооморфных персонажей: драконовидных
существ, духов — охранников могил («чуские идолы»).
Изображение оленя
в древнекитайском
искусстве.
Нефритовая подвеска.
Раннее Чжоу. 5,9 х 8,3 см
Изображения оленя
на привозных
ближневосточных золотых
и серебряных изделиях
415
Изображения оленя
в декоративно-прикладном
искусстве эпохи Тан
Белый олень
с бессмерпгным
в облике подростка.
С книжной гравюры
Небесный оленъ.
Каменное изваяние.
Начало II в. н. э.
Пров. Хэнань
В позднечжоуский период на собственно китайский образ
оленя могли наложиться и представления о нем, прису-
щие культуре скифо-сибирского мира, в которых он вы-
ступает в роли солярного животного.
0 факте проникновения в Китай таких представлений
и соответствующих художественных трактовок позволяет
говорить набор из золотых (высота 11,5 см) и серебряных
(высота 10 см) фигурок оленя, выполненных в характер-
ном «скифском» стиле, который был найден в одном из
погребений в Шэньси, относящемся к периоду Борющих-
ся царств. Однако каковы бы ни были древние религиоз-
ные значения образа оленя, уже в ханьскую эпоху все они
отошли на второй план, уступив место его осмыслению в
качестве персонажа даосской мифологии, связанного с бес-
смертием. Речь идет о Белом олене (Байлу), образ которо-
го впервые воспроизводится в поэтических произведени-
ях I—II вв. и который в скором времени занял определяю-
щие позиции в культуре и искусстве Китая. Подобно
Священному журавлю, Белый олень является ездовым
животным и спутником бессмертных-сяней, равно как и
божеств — подателей бессмертия, и, следовательно, од-
ним из принятых атрибутов даосской иконографии и бла-
гопожеланий долголетия. Он обычно изображается в мак-
симально близком к натуре виде и, вопреки его термино-
логическому обозначению, с пятнистой шкурой. Помимо
своей даосской ипостаси, в рамках благопожелательной
образности олень также фигурирует благодаря омонимич-
ности его названия термину «жалованье», «служебная
карьера» (лу)> в качестве символа и пожелания удачной
чиновничьей карьеры.
В аспекте иконографии оленя ее дальнейшая эволюция
испытала прямое воздействие чужеземных культурно-
художественных традиций, в первую очередь ближневос-
точного искусства. Такое воздействие особенно ощущается
в изображениях оленей на танской золотой и серебряной
посуде, в которых нередко откровенно копируется орна-
ментация- привозных изделий.
Кроме Белого оленя, в китайских верованиях называ-
ется немало других оленеморфных фантастических су-
ществ. Отдельного упоминания заслуживает Небесный
олень (Тянълу), считающийся олицетворением высших,
небесных сил и вестником богов. Изображения Небесного
оленя присутствуют уже в произведениях ханьского ис-
кусства — на каменных рельефах, в росписях лаковых
изделий (гробы госпожи Дай) и в виде самостоятельных
каменных скульптур. Чаще всего он показывается суще-
ством с оленьим туловищем, дополненным внешними чер-
тами хищных зверей, крыльями, с одним рогом на голове.
В традиционном Китае Небесный олень входил в число
персонажей, стандартно воспроизводимых в император-
ской погребальной скулыітуре.
Из всех других представителей дикой фауны особую
популярность в китайской культуре получили заяц (my) и
летучая мышь (ф#).
416
Изображения зайца (в обычном, натуральном его виде)
встречаются уже среди чжоуских артефактов — нефрито-
вые подвески в виде его фигуры и бронзовые сосуды-скульп-
туры. Поэтому мы вправе предположить, что он тоже зани-
мал какое-то место в древних верованиях. Но в дальней-
шем в китайской культуре утвердилась только его ипостась
Лунного зайца (Юэту) — волшебного существа, обитаю-
щего на луне. Лунный заяц, наряду с Лунной жабой и
Лунной корицей, является универсальным лунарным сим-
волом и символом бессмертия, нередко составляя вместе с
ними целостные художественно-орнаментальные компози-
ции. Такие композиции впервые обнаруживаются в худо-
жественном наследии ханьской эпохи и наиболее часто вос-
производились в декоре зеркал. Сразу же установилась и
иконография Лунного зайца — стоящий на задних лапках
и толкущий в ступке снадобье бессмертия. В отличие от
Лунной жабы происхождение образа Лунного зайца и при-
чины его ассоциаций с бессмертием в мифологических сю-
жетах и литературных повествованиях никак не объясня-
ются. Однако вполне вероятно, что культ Лунного зайца
имел не только более архаичные, чем ханьская эпоха, ис-
токи, но и играл важную роль в древнекитайских религи-
озных представлениях. Возможным рудиментом такого
культа является почитание Лунного зайца в календарной
обрядности традиционного Китая. Он считается покрови-
телем осеннего празднества — Праздника Середины осени
(Чжунцю), справляемого в 15-й день 8-го месяца по лунно-
му календарю, имея при этом специальное иконографиче-
ское воплощение — в облачении, стилизованном под импе-
раторское, в окружении детей и различных «благих» жи-
вотных и растений.
Летучая мышь, полный термин бянъфу, имеет множе-
ство образных названий — небесная крыса (тянъшу), бес-
смертная крыса (сянъшу), летающая крыса {фэйшу), ночная
ласточка (еянъ), из которых сразу явствует, что, во-первых,
это животное отождествлялось китайцами с грызунами, и,
во-вторых, оно пользовалось y них необыкновенной попу-
лярностью. Однако и в данном случае нет никаких свиде-
тельств существования в Китае культа летучей мыши как
такового. Создается впечатление, что причиной ее почита-
ния послужила омонимичность ее названия словам «богат-
ство» и «счастье». Понятно, что в таких значениях — сим-
вол и благопожелание счастья и богатства — образ летучей
мыши используется и в художественном творчестве. Он
также может олицетворять все «пять условий счастья»,
для чего существует специальный узор — круг, состоящий
из пяти стилизованных фигурок летучей мыши. Изобра-
жения летучей мыши вводятся в орнаментацию любого
типа изделий (включая украшения), образуют самостоя-
тельные узоры, например «летучие мыши среди облаков»,
являются неизменным элементом даосской иконографии и
художественных композиций благопожелательного харак-
тера: например, избражение ребенка, держащего летучую
мышь за крылышко.
27 Нсторпя искусства Кіпая
Раннечжоуская нефритовая
подвеска в виде фигуры
зайца. 2,1 х 4,8 см
Изображение Лунного заица
с Лунной жабой.
Каменная стела.
Восточная Хань.
Пров. Хэнанъ, горы
Суншань
Изображение Лунного заііца
как покровителя
Праздника Середины осени
Изображение летучей
мыши и узора из пяти
летучих мышей в
благопожелательных
орнаментальных
композициях
417
Изображение божества
(духа)
в виде обезъяны
на чуских шелках
Керамическая
фигурка обезъяны.
Ранняя Хань.
Пров. Сычуанъ.
20,8 см
Генон-лэй.
С изображений
на императорском
парадно-ритуалъном
облачении
Царь обезьян Сунъ Укун.
Сценический костюм.
С картинынянъхуа.
Заключительную группу (исходя из естественнонауч-
ных типологий) анализируемого образного отдела состав-
ляют представители приматов.
Образ обезьяны присутствует в художественном твор-
честве Китая на всем протяжении истории его существова-
ния. Древнейшим ее изображением является свистулька в
виде стилизованной фигурки обезьяны (7x4 см), принад-
лежащая неолитической культуре Мацзяяо. Далее следует
хрустальная фигурка мартышки (но с человеческой голо-
вой) из погребения Фу-хао. Для чжоуской эпохи назовем
изображение обезьянки в художественном оформлении пин-
шаньской лампы, для ханьской — фигуры среди погре-
бальной пластики (пров. Сычуань). Однако и на этот раз
семантика образа обезьяны и его символика непосредственно
в художественном творчестве остаются неясными.
Есть основания полагать, что обликом обезьяны или
обезьяновидного существа в древнекитайских верованиях
наделялись божества и духи. В таком виде, например, мыс-
лилось, судя по пиктограммам, архаическое и в целом ма-
лопонятное божество, именуемое Ди-ку, которое считается
в науке предком-прародителем иньцев. Рисунки духов (бо-
жеств) в виде обезьяны присутствуют и на одном из чуских
шелковых полотнищ. Однако нет никакой уверенности в
том, что такую семантику имеют и изображения обезьяны
в светском художественном творчестве. Исключение состав-
ляет только образ гэнона-лэй — полумифического суще-
ства (с раздвоенным хвостом), который выступает олицет-
ворением мудрости и используется в эмблемах на импера-
торском парадно-ритуальном облачении.
Совершенно особую позицию в культуре и в художе-
ственном творчестве традиционного Китая занимает Царь
обезьян — Сунь Укун — один из главных действующих
лиц знаменитейшего романа «Путешествие на запад»
(«Сиюцзи») У Чэнъэня (1500-1582). Начиная с цинской
эпохи и до настоящего времени изображения Сунь Укуна
массово воспроизводятся в изобразительном искусстве и в
ремесленно-сувенирной продукции. Он обычно показыва-
ется в виде обезьяны, облаченной в костюм чиновника или
в сценический костюм, нередко дополненный специфичес-
ким сценическим гримом. Такие трактовки образа Сунь
Укуна проистекают из популярности театральных поста-
новок на темы названного романа, в которых этот литера-
турный герой обрел свое новое сценическое воплощение.
418
Согласно принятой в Китае типологии домашних жи-
вотных и птиц, они сводятся к пяти существам: корова/бык
(ню), баран (ян)у кура/петух, собака (гоу) и свинья (чжу).
Эта типология, о чем бегло упоминалось при рассказе о
китайских космологических представлениях, возникла из
ритуально-этикетного уложения, в котором мясо перечис-
ленных существ служило календарной пищей, a сами они
соотносились все с теми же пятью пространственными зона-
ми — соответственно с Центром, Востоком, Югом, Западом
и Севером. To есть типология отражает не только хозяй-
ственные, но и общекультурные реалии Древнего Китая, a
потому вполне может использоваться при анализе места и
роли перечисленных животных и птиц в художественной
образной системе. Вне данной типологии осталась кошка
(мао) и лошадь/конь (ма) символика образа последней тоже
намного превосходит ее функции как домашнего животного.
Термин ню в китайском языке определяет как корову,
так и быка, a также их сородичей, например буйвола. Не-
разделение крупного рогатого скота на самцов и самок объяс-
няется тем, что в Китае никогда не было молочного живот-
новодства, и корова использовалась точно так же, как и
бык. Учитывая, что и в художественных трактовках ню их
половые признаки обычно никак не акцентируются, мы бу-
дем далее употреблять только слово «бык». Соотнесение
именно быка с Центром далеко не случайно и проистекает
из специфики официальных жертвоприношений в том виде,
в каком они исполнялись в период централизованной чжо-
уской государственности. Круг таких жертвоприношений
был весьма обширен, но особое значение в нем придавалось
жертвоприношению-ди, осуществлявшемуся строго в 6-й
лунный месяц (т. е. в сезон, соотносящийся с Центром),
лично царем в храме царских предков. В отличие от всех
других ритуалов, в которых жертвенными животными были
и быки, и бараны, и свиньи, при исполнении ди в жертву
приносились исключительно быки с учетом как их окраски,
так и состояния рогов. Чтобы животные случайно не повре-
дили рога, за несколько месяцев до совершения жертвопри-
ношения к ним привязывались палки.
Жертвенных быков приводил в святилище царь и сам
их закалывал с помощью специального жертвенного ножа.
Кровь убитых животных собиралась и посвящалась духам
земли. Лучшие куски мяса жарились, предназначаясь для
небесных духов. Ливер и остатки мяса шли на приготовле-
ние пиршественной трапезы. Из сказанного следует, что
бык не только считался особо священным животным, но и
прямо ассоциировался с правящим домом и верховной вла-
стью. Изображения быка красной нитью проходят через
все художественное творчество Китая, начиная с орнамен-
тации иньских бронз. В чжоускую эпоху они воспроизво-
дились и в бронзовых изделиях, включая сосуды в виде
скульптурных изображений, и в нефритах. При Хань к
ним добавилась погребальная пластика, в которой изобра-
жения быка удерживались по меньшей мере вплоть до
южносунской эпохи. Правда, в погребальном искусстве
ДОМАШНИЕ
ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦЫ
сЛ J^)
Изображения быка
a — нефритовая фигурка (7х4х
х 2,2 см, Раннее Чжоу); б — ко-
лесничное украшение (бронза,
высота 18 см, Раннее Чжоу); в —
подставка для светильника (брон-
за, 11 х 19,2 см, Ранняя Хань);
г — южнокитайская погребальная
пластика (18,4 х 32 см, IV в., пров.
Цзянсу); д — танская погребаль-
ная пластика (21,5 х ок. 30 см).
419
Каменный релъеф
с изображением Бирюзового
дракона и быка. Нанъян
Пастух со своим чудесным
быком. С книжной
иллюстрации легенд
о Ткачихе и Пасшухе
Изображения барана
a — нефритовая фигурка (5 х 2,5 х
х 2 см, Раннее Чжоу); б — нефрито-
вая статуэтка (3,5 х 4,4 см, Раяняя
Хань, пров. Шаньдун); в — севе-
ровэйская погребальная пластика
(ок. 11,8 х 14 см); г — танская по-
гребальная пластика (7,5 х 12 см).
наряду с единичными фигурами быка присутствуют и его
изображения как тяглового животного, которые вряд ли
имеют дополнительные семантические значения. Кроме
того, в Древнем Китае явно существовала и другая религи-
озно-космологическая традиция, в которой бык ассоцииро-
вался с Западом, бессмертием и астральным миром. Так,
именно бык называется ездовым животным Лао-цзы, на
котором тот отправился в свое странствие на Запад, что
находит отражение в принятой иконографии Старого учи-
теля. Среди ханьских погребальных рельефов присутствует
сцена, морфологически сходная с композициями на тему
«борющихся дракона и тигра», но вместо Белого тигра в ней
показан бык. На соотнесенность образа быка с астральным
миром указывает его включение в сюжет о Ткачихе и Пасту-
хе. В некоторых версиях этого сюжета говорится, что един-
ственным другом и помощником сироты Пастуха был ста-
рый бык, который достался ему по наследству и в дальней-
шем помог попасть на небо.
Образ барана вырисовывается в древнекитайской куль-
туре гораздо менее отчетливо и выпукло, чем образ быка.
Можно лишь предположить, что помимо его функций как
мясного домашнего и жертвенного животного баран ассо-
циировался с Мужским началом, с солнцем (универсаль-
ность в древних верованиях такой ассоциации для живот-
ных с рогами округлой формы) и с идеей как внешней
красоты, так и внутреннего совершенства человека. Иеро-
глиф «красивый» (мэй), впоследствии использовавшийся и
для передачи красоты как эстетической категории, вклю-
чает в себя графему «баран». В древнекитайских повество-
ваниях о легендарных личностях прошлого рассказывает-
ся о мудром судье Гао-яо, служившем при дворе государя
Яо. Его помощником был чудесный однорогий баран, по-
крытый сине-зеленой шерстью (цвет Востока), который об-
ладал способностью распознавать правого и виноватого. От
этого существа, как принято считать, и происходит образ
символа правосудия — зверя-сечжи. Изображения барана
тоже устойчиво, хотя, возможно, и не столь часто, как
быка, исполнялись в древнекитайском искусстве, но уже
преимущественно в рамках погребального художественно-
го творчества,
Соотнесение петуха и курицы с Югом обусловлено теми
же архаическими ассоциациями птицы с солнцем. Кроме
того, сам петух считался солярным существом и служил
морфологическим синонимом солнечного ворона. Одно-
временно петух и курица, подобно петуху и курочке фаза-
на, служили олицетворением Мужского и Женского на-
чал. Тем не менее художественные изображения этих до-
машних птиц в искусстве Древнего Китая встречаются
крайне редко, за исключением погребальной пластики.
Много позже, уже в сунскую эпоху, курица с цыплятами
стала относительно распространенным мотивом живопис-
ных произведений.
Образ собаки прослеживается в культуре и художе-
ственном творчестве Китая начиная с иньской эпохи, хотя
420
ее одомашивание состоялось еще, видимо, в неолите. На-
личие скелетов собак в позднеиньских погребениях одно-
значно указывает на то, что они мыслились как живот-
ные, связанные с миром мертвых и способные охранять
своего усопшего хозяина и его пристанище от злых сил
либо служить его проводником в загробном царстве. Ох-
ранительные функции собаки, конечно же, сближают ее
образ с образом Белого тигра, так что и в этом случае
соотнесение собаки с Западом оказывается полностью оп-
равданным. Первыми художественными изображениями
собаки являются ручки охотничьих кинжалов, исполнен-
ные в виде их голов, подсказывающие, что при Инь суще-
ствовали специальные охотничьи собаки. В дальнейшем в
Китае преобладает порода собак, напоминающая лайку, —
животные с рыжей или черной шерстью, загнутым «ко-
лечком» хвостом и стоячими ушами. Именно такие изоб-
ражения собак преобладают в погребальной пластике —
единственной, по сути дела, художественной традиции
Китая, в которой активно использовался этот образ. Од-
нако встречаются и скульптурки, воспроизводящие облик
явно других пород. Массовое присутствие изображений
собак в погребениях, с одной стороны, правомерно рас-
сматривать в качестве рудимента древней (иньской) по-
гребальной обрядности. С другой же стороны, оно могло
быть вызвано и личным пристрастием усопших к этим
домашним животным. О характере отношения китайцев
к собакам лучше всего свидетельствуют уже знакомые
нам ошейники из погребения правителей царства Чжун-
шань. Приведем еще один пример. Рассказывается, что
ханьский император Лин-ди (168-179) настолько любил и
ценил своего пса, что пожаловал ему высший литератур-
ный титул и даже специальный головной убор. Впослед-
ствии в литературных произведениях фигурирует немало
эпизодов, повествующих о верности и уме собак. Однако
вне погребального искусства образ собаки так и не нашел
сколько-нибудь яркого воплощения — ни в живописи, ни
в благопожелательной образности.
После разговора о собаке было бы несправедливостыо
не сказать несколько слов о кошке, тем более что и это
Изображения петуха
и курицы в погребалъном
искусстве
a — Ранняя Хань, пров. Сычу-
ань; б — конец III в. (13,2 х
х 12,4 см, пров. Хэнань); в — эпо
ха Тан (І — ок. 12,9 х 8 см; 2 —
ок. 9x11 cm); г — Северная Сун
(ок. 20 х 25 см, пров. Сычуань).
Изображения собаки
в погребальном искусстве
a — из усыпальницы западно-
ханьского императора Цзин-ди;
б — Восточная Хань (ок. 24,4 х
х 24 см, пров. Хэбэй); в — конец
III в. (14,3 х 12,4 см); г — эпоха
Тан (1 — ок. 7,5 х 12 см; 2 —
12x6 см); д — Северная Сун
(12,5 х 25 см, пров. Сычуань).
421
Погребальный рельеф,
воспроизводящий интерьер
с изображением кошки.
Вторая половина XII в.
домашнее животное было хорошо знакомо китайцам по
меныней мере с чжоуской эпохи. Первые упоминания о
ней содержатся в «Ши цзине». Известно, что кошка назы-
валась «домашней лисицей» (ее мех шел на отделку одеж-
ды простолюдинов) и почиталась защитницей дома от злых
сил. Однако ее образ по каким-то причинам остался прак-
тически за пределами художественного творчества. Изоб-
ражения кошки если и встречаются, то только в качестве
элемента общей художественной композиции, например
керамическая модель постройки, датируемая самым кон-
цом Чжоу, найденная в одном из сычуаньских погребе-
ний. По ее стене карабкается кошка (фигура, выполнен-
ная в горельефной технике с удивительной живостью),
осторожно подкрадывающаяся к сидящим на стрехе (слов-
но воркующим) двум птичкам. Другой пример — камен-
ный погребальный рельеф XII в., воспроизводящий инте-
рьер жилого помещения. На сиденье y самого окна уютно
расположилась очаровательная ухоженная кошечка.
Лошадь («лошадь» и «конь» тоже не различаются и
определяются одним и тем же иероглифом) стала домаш-
ней, цо утверждению некоторых исследователей, еще в нео-
литическую эпоху, в шаньдунском варианте культуры Лун-
шань. Сферы применения лошади в Китае вплоть до поздне-
иньского периода остаются непонятными. Ведь колесничный
транспорт появился там не ранее XIII в. до н. э., a кавале-
рия — еще почти на 10 столетий позже. Первые отряды
всадников-лучников были созданы в царстве Чжао по при-
казу его царя У-лин-вана (329-299 гг. до н. э.) по подобию
войск сюнну. Предком китайской лошади была лошадь
Пржевальского. И так как сами китайцы специально не
занимались коневодством, их лошади оставались низко-
рослыми и коренастыми. Именно лошадка такой породы
воспроизведена в одном из древнейших ее художественных
изображений — нефритовой подвеске из комплекса Тянь-
ма. Это, впрочем, не мешало древним китайцам восхи-
щаться своими конями и воспевать их в поэтических пане-
гириках (такие произведения тоже входят в состав «Ши
цзина»). Но ценились, разумеется, отнюдь не только внеш-
ние достоинства лошади.
Подобно многим другим народам, древние китайцы
верили в ее мистическую связь с потусторонним, высшим,
небесным, мирами и наделяли ее функциями посредника
между людьми и божествами. 06 этом свидетельствует и
древнекитайская погребальная обрядность («ямы с колес-
ницей и лошадьми»), и литературная традиция. Особый
интерес в данном случае представляют легенды о чжоу-
ском царе Му-ване (947-927 гг. до н. э.), в которых он
рисуется обладателем чудесных скакунов, способных за
один миг преодолевать гигантские расстояния, чтобы до-
ставить своего хозяина во владения богов (путешествие
Му-вана к Царице Запада Сиванму). В дополнение к та-
кой религиозно-мифологической семантике, конь служил
олицетворением Мужского начала и мужской потенции
(в литературно-поэтической образности слово «конь» есть
422
метафорическое обозначение мужского полового органа),
a также высоких нравственных качеств и достоинств че-
ловека.
И наконец, лошадь играла важнейшую роль в системе
социальной иерархии китайского общества, служа, по сути
дела, ранговым животным, показателем общественного ста-
туса и материального положения ее владельца. He случай-
но, начиная с иньской эпохи, конскому убранству прида-
валось столь огромное значение, что его изготовление в
скором времени переросло в самостоятельную отрасль мест-
ного ремесленного производства. He менее показательно,
что лошади никогда не приносились в жертвы, — еще одно
их качественное отличие от всех домашних животных. И все
же до раскопок глиняных и бронзовых фигур лошадей из
погребения Цинь-ши-хуан-ди китайское искусство словно
игнорировало это животное. Попутно заметим, что нату-
рой для этих фигур послужили, скорее всего, лошади сюн-
ну, с которыми царству Цинь удалось первому наладить
связи для импорта коней.
Успешная фаза в эволюции образа коня — как в куль-
турном, так и в художественном его аспектах, — прихо-
дится на II—I вв. до н. э., конкретно — на время правле-
ния императора У-ди. Войны с сюнну и возросшая по-
требность китайской армии в кавалерийских войсках
вынудили У-ди приступить к поиску новых возможных
истоков импорта лошадей. В результате сложнейших по-
литических интриг и военных конфликтов ему удалось
добиться поставки коней, которые в полном смысле слова
пленили китайцев своей статью и скаковыми качествами.
Из Ферганы первая партия среднеазиатских коней при-
была в Китай в районе 100 г. до н. э., и они сразу же
приобрели образное название «небесные кони» (тянъма).
Одновременно погребальное искусство буквально насы-
щено изображениями лошадей и сценами с их участием,
что трудно объяснить только желанием китайцев как мож-
но более точно воспроизвести мир, окружавший усопшего
при жизни. Скульптурные изображения лошади создава-
лись и за пределами погребального искусства. Сохрани-
лось немало таких статуэток, выполненных из благород-
ных металлов или в технике позолоченной бронзы, кото-
рые, скорее всего, исходно имели светское предназначение.
В письменных источниках упоминается и о монументаль-
ных металлических скульптурах лошадей, которые сто-
яли y входа в одном из столичных административных
учреждений, благодаря чему возникло название «Ворота
золотых коней». Скульптурные изображения лошадей, вы-
полненные в различных материалах и техниках, присут-
ствуют и в последующих погребениях. A начиная с тан-
ской эпохи каменные изваяния коней в обязательном по-
рядке включались в набор императорской погребальной
скульптуры. Тогда же к образу лошади приобщилась и
станковая живопись.
Хотя лошадь изначально, как видим, наделялась
сверхъестественными свойствами, возникновение культа
Изображения лошади
a — раннеечжоуская нефритовая
фигурка (7,7 х 5 х 1,2 см); б —
восточноханьский каменный ре-
льеф (Шаньдун); в — западно-
цзиньская погребальная пласти-
ка (31,2 х 35,8 см); г — танская
погребальная пластика (начало
VII в., 48 х 52 см); д — танская
погребальная пластика (VIII в.,
ок. 54 х 60 cm).
423
Небесный конь
a — бронзовая статуэтка (3,3 х
х 8,4 см, Ранняя Хань); б — ке-
рамический сосуд (IV в.).
Изображения
Морской лошади (ха.пма.)
как рангового животного
Изображения свинъи
a — каменная статуэтка (начало
II в., пров. Хэнань); б — погре-
бальная пластика, конец VI в.;
в — танская погребальная пла-
стика (ок. 8 х 18 см).
коня привело к появлению сугубо мифологизированных
вариантов его образа. Такие варианты тоже возникли при
Ранней Хань, судя по всему, под влиянием верований
скифо-сибирских и центральноазиатских народностей.
Самым ярким из них выступает Небесный конь (Тянъма —
имя, явно производное от образного названия ферганских
скакунов): он обычно показывается, наподобие греко-рим-
ского Пегаса, с крыльями. Изображения Небесного коня
тоже присутствуют и среди погребального инвентаря, и
среди — уже для традиционного Китая — императорской
погребальной каменной скульптуры. В художественном
творчестве минской и цинской эпох утвердился еще один
производный от образа коня мифологический персонаж —
Морская лошадь (Хайма), олицетворяющая стихию воды.
Морская лошадь относится к числу и благопожелатель-
ных образов, которые широко используются в орнамента-
ции изделий декоративно-прикладного искусства, и ран-
говых животных (знак различия военного чиновника
IX ранга). В искусстве Мин она обычно изображалась воз-
несенной над морскими волнами, как и дракон, объятой
языками пламени. В цинском искусстве Хайма могла ис-
полняться и в реалистических трактовках — в виде ло-
шади, мирно пасущейся на лугу.
Свинья (тоже без разделения на свинью и борова) —
древнейшее домашнее животное, возведенное в Китае в
статус священного (культ свиньи в восточных неолитиче-
ских общностях). Как это животное воспринималось древ-
ними китайцами, точно не известно. Однако изображения
свиньи неизменно создавались в искусстве и Древнего Ки-
тая, и последующих исторических эпох (погребальная пла-
стика). Судя по частоте воспроизведения фигуры именно
свиньи, кормящей поросят, она могла служить символом
плодородия, счастливого материнства, многочисленности
потомства и материального благополучия семьи. Но такое
осмысление свиньи оставалось в силе сравнительно недолго.
В целом верх взяло типичное отрицательное отношение к
поведению и природным привычкам этого животного, и ее
образ превратился в олицетворение людских пороков и
дурных врожденных качеств: глупости, жадности, упрям-
ства, похотливости.
Подведем общий итог нашим изысканиям. Благодаря
образной системе китайское художественное творчество
получило в свое распоряжение весь арсенал изобразитель-
ных средств, которые были необходимы для установления
ассоциативных связей произведений искусства с внешним
по отношению к ним культурно-идеологическим контек-
стом, a также передачи всей совокупности семантических
значений, диктуемых этим контекстом. A обязательное на-
деление художественных образов глубинными смысловы-
ми значениями, их понятийная полифония и постоянное
тяготение к объединению в определенные морфологиче-
ские и семиотические структуры максимально приближа-
ют эту образную систему к собственно иконографической
традиции.
424
ИКОНОГРАФИЯ
ПЕРСОНАЖЕЙ
ИСТОРИКО-ЛЕГЕНДАРНОГО
И БОЖЕСТВЕННЫХ
ПАНТЕОНОВ
ГЛАВА
Первыми произведениями китайского культового изобра-
зительного искусства, в которых воспроизводятся картины
неземного мира и портреты божественных персонажей, яв-
ляются чуские (или ханьского периода, но созданные на
Юге) картины на шелке и фигуративные росписи, допол-
няющие собой текстовые фрагменты. Помимо уже знако-
мых нам картин из погребений Чанша и Мавандуй, к этой
серии артефактов относится небольшое по размеру шелко-
вое полотнище (43,5 х 45 см), получившее в специальной
литературе название «Рисунок духов» («Рисунок божеств
неба и земли», Шэнъ чжи my), который тоже был найден в
Мавандуй. На нем изображены более 10 фигур — часть
почти в полном виде, часть — в едва намеченных деталях
(лица как бы выступающие из небесного пространства).
Одни из них — возможно, собственно боги — имеют в це-
лом антропоморфную внешность. Другие — духи и спут-
ники божеств — зооморфно-фантазийную, в том числе и
драконовидную. Рисунки сопровождаются надписями, из
которых следует, что некоторые из них являются портре-
тами богов, упоминаемых в «Чуских строфах» — Владыки
облаков (Юнъ-цзюнъ), Великого единого (Тай-и). Нельзя не
признать, что с художественной точки зрения «Рисунок
духов» намного уступает и древним чуским картинам, и
погребальному «знамени» госпожи Дай. He будем пытать-
ся выяснить причины их различий и истинное предназна-
чение самой картины. Очевидно, что она является полно-
ценным произведением культового изобразительного ис-
кусства, служа еще одним убедительным свидетельством
приоритетного развития данной художественной традиции
именно в южном регионе Древнего Китая и начала форми-
рования в ней определенных иконографических принци-
пов изображения неземного мира и определенных боже-
ственных персонажей.
И все же древнекитайское культовое искусство впервые
по-настоящему проявляется только при Поздней Хань и в
рамках художественного оформления погребений. Несмот-
ря на тематическое разнообразие рельефов и стенописей
ИЗОБРАЖЕНИЯ
БОГОВ, ГЕРОЕВ
МИФОЛОГИЧЕСКИХ
СЮЖЕТОВ,
ЛЕГЕНДАРНЫХ
И ИСТОРИЧЕСКИХ
ЛИЧНОСТЕЙ
В ДРЕВНЕ-
КИТАЙСКОМ
ИСКУССТВЕ
425
Чуский и многочисленность их действующих лиц, отчетливо выде-
«Рисунок божеств и духов» ляются несколько наиболее устойчивых сюжетов и группа
чаще всего портретируемых персонажей. К ним относятся,
во-первых, легендарные и исторические личности, начи-
ная с совершенномудрых государей древности и включая
правителей и прославленных деятелей последующих исто-
рических эпох, среди которых присутствуют, как об этом
уже упоминалось, Конфуций и Лао-цзы. Во-вторых, герои
мифологических сюжетов, из которых чаще всего изобра-
жается Стрелок. И, в-третьих, собственно божественные
персонажи, для которых особо выделяются Нюй-ва, Фу-си,
Царица Запада Сиванму и бессмертные-сятш.
Все легендарные и историко-легендарные личности по-
казываются в сугубо антропоморфном облике, что полнос-
тью совпадает с трактовками их образов, принятыми в
конфуцианских канонических книгах. Данный нюанс вы-
глядит тем более существенным, если учесть, что в хань-
ских текстах, находящихся вне круга конфуцианской ли-
тературы, приводятся их портретные характеристики, со-
держащие отчетливые рудименты их исходно зооморфного
или зооморфно-фантазийного облика. Так, о Шэнь-нуне
(Божественном земледельце) сообщается, что y него голова
быка и лик дракона. Хуан-ди наделяется щеками дракона,
солнечным рогом, длинной бородой и выступающими ску-
лами. Еще в более фантастическом облике рисуется Яо: с
ликом дракона, солнечным рогом, восьмицветными бровя-
ми, с тремя зрачками в каждом глазу. Шунь тоже имел,
426
согласно такого рода описаниям, лик дракона, квадратный
лоб, болыпой рот, a также был горбат и скрючен телом.
И наконец, Юй, по одной из версий легенд о нем, родился
из тела своего умершего отца в облике двурогого дракона
(цю). Более того, можно предположить, что древнейший
графический вариант его имени (иероглифа юй) есть сти-
лизованный рисунок или какого-то необычного земновод-
ного существа, близкого черепахе или дракону, или двух —
самца и самки — соединившихся драконов. Однако ни одна
из подобных деталей литературных портретов этих персо-
нажей не находит даже отдаленного воплощения в их пор-
третных изображениях.
Следующей важной особенностью иконографии леген-
дарных и историко-легендарных личностей является ее сте-
реотипность. Почти все они показываются в полный рост,
в стоячей позе, в профиль. Их портретные характеристики
настолько условны, a атрибуты — лаконичны, что их мож-
но идентифицировать чаще всего только с помощью пояс-
нительных к ним надписей. Наиболее проработанным ока-
зывается их облачение, универсально стилизованное под па-
радно-ритуальный костюм древних эпох. Единственным
исключением являются изображения Шэнь-нуна, воспроиз-
водимого в облике не правителя, a пахаря на поле с плугом.
Кроме того, его голову венчает подобие необычной причес-
ки, посредством которой, видимо, подчеркивалась его при-
надлежность к Трем великим первопредкам и его деяния
как культурного героя. Преимущественное воспроизведение
изображений легендарных и историко-легендарных лично-
стей в художественном оформлении восточных (шаньдун-
ских) погребений и явное подчинение этих изображений
конфуцианским историологическим взглядам как раз и по-
зволяют говорить о том, что шаньдунское культовое искус-
ство находилось под непосредственным воздействием кон-
фуцианских художественных воззрений.
Чем объясняется повышенное внимание ханьского по-
гребального искусства именно к сюжету о Стрелке, не со-
всем понятно, как непонятна и география таких изображе-
ний — на востоке, юге (Наньян) и юго-западе (Сычуань).
Несмотря на заметные стилистико-морфологические раз-
личия шаньдунских и южных рельефов на данную тему,
их объединяет несколько существенных моментов. Во-пер-
вых, воспроизводится кульминационный эпизод мифоло-
гического сюжета — стрельба Стрелка в солнце. Во-вто-
рых, даются развернутые и достаточно насыщенные по сво-
ему композиционному построению картины, включающие
в себя, помимо фигуры самого Стрелка, изображение Сол-
нечной шелковицы, птиц-солнц (на сычуаньском рельефе —
в виде фениксов, a не воронов) и в ряде случаев — второ-
степенных персонажей и деталей. В-третьих, сам Стрелок
неизменно показывается в сугубо антропоморфном облике
в позе лучника, стреляющего стоя или с колен. Одновре-
менно все эти произведения исполнены динамичности, как
нельзя лучше соответствующей эмоциональному напряже-
нию передаваемого литературного эпизода.
Изображения легендарных
и историко-легендарных
личностей
a — иконографические варианты
образа Божественного земледель-
ца (Шэнь-нуна); б — Желтый им-
ператор; ѳ — Сяский Юй.
427
Сцена на тему мифа
о Стрелке
Изображения
бессмертных-сяией
a — в погребальной живописи
(окрестности Лояна); б — све-
тильник.
Из божественных персонажей самой устойчивой и стан-
дартной иконографией обладают бессмертные-сяни — в виде
антропоморфных существ, но с крыльями и с необычными,
напоминающими удлиненный колпак, головными уборами
или прическами. Изображения сяней, правда, в болынин-
стве случаев в качестве второстепенных персонажей, при-
сутствуют во многих рельефных, живописных и скулыі-
турных композициях. Отдельного упоминания заслужива-
ют светильники-деревья, на ветках которых мы нередко
видим фигурки сидящих на них сяней, что и служит од-
ним из главных аргументов в пользу отождествления этих
светильников с Древом бессмертия.
Гораздо большей сложностью отличаются образы и ико-
нография Нюй-ва, Фу-си и Сиванму.
Изображения Нюй-ва и Фу-си по праву считаются од-
ной из отличительных черт ханьского погребального ис-
кусства. На сегодня известно уже более 130 их образцов —
как рельефов, так и стенописных картин, одна из которых
была обнаружена в шаньдунском (уезд Ляншань, 1953 г.),
a другая — в столичном (окрестности Лояна) погребении,
датируемых соответственно II в. и рубежом нашей эры.
В целом география таких изображений очень обширна. Они
присутствуют в захоронениях восточных (Шаньдун), юго-
восточных (Цзянсу), юго-западных (Сычуань) и централь-
ных (Хэнань) районов, занимая при этом различное место
в их художественном оформлении: на предмогильных свя-
тилищ&х-цытанах, на стенах погребальных помещений и
на поверхности саркофагов. Более того, изображения Нюй-
ва и Фу-си исполнялись и в погребальном искусстве неки-
тайских народностей, соседствовавших с Китаем по разные
стороны его границ. Они есть и среди стенописей древнеко-
рейских (когуреских) гробниц (IV в., пров. Гирин), и среди
погребальных рельефов в захоронениях южных соседей
китайцев (II в., пров. Гуйчжоу, 1995 г.). Все это указывает
на существование в ханьскую эпоху развитого культа Фу-
си и Нюй-ва в его связи с анимистическими представления-
ми и погребальной обрядностью. Хотя, судя по числу нахо-
док, он пользовался несколько большей популярностью в
периферийных регионах, чем в метрополии.
Происхождение и сущность этого культа остаются за-
гадкой для науки. Начнем с того, что налицо принципи-
альные различия между литературными и художественны-
ми трактовками образов Нюй-ва и Фу-си.
В письменных памятниках Нюй-ва фигурирует в каче-
стве не только одного из Трех великих первопредков, но и
вполне самостоятельного божества, с которым связана це-
лая серия мифологических сюжетов. В них она выступает,
во-первых, в роли демиурга, сотворившего людей из лёссо-
вых глин; во-вторых, божества-устроительницы, починив-
шей небосвод и укрепившей земную твердь после повреж-
дений, нанесенных им в космической битве между богами
Огня и Воды. Именно этот сюжет включает в себя мотивы
черепахи как космогонического существа: рассказывается,
что Нюй-ва для укрепления земной тверди поставила под
428
нее четыре опоры, использовав для этого лапы убитой ею
гигантской черепахи. Еще две ипостаси Нюй-ва — куль-
турный герой, спасший людей от хтонических чудовищ
(в том числе гигантского Черного дракона), и богиня бра-
ка, обучившая людей искусству любви и семейных отно-
шений. Сохранились сведения о существовании культа Нюй-
ва как богини брака в царстве Чу.
Однако за внешней развитостью и популярностью пред-
ставлений о Нюй-ва вновь скрывается полная неясность про-
исхождения ее культа и образа. Имя Нюй-ва впервые упо-
минается в поэме «Вопросы к Небу», («Тянъ вэнъ» из свода
«Чуские строфы»), где ей посвящена всего одна строка: «Кем
был тот, кто создал самое Нюй-ва?» Понятно, что никакой
иной информации о культе Нюй-ва, кроме подтверждения
факта его бытования в древнекитайских верованиях во вто-
рой половине Чжоу, в процитированной строке не содер-
жится. В комментариях к поэме, созданных уже во II в.
(Ван И, 89-158), поясняется, что Нюй-ва — имя древнего
божества (без уточнения пола), которое имело тело змеи и
голову человека. В таком виде, кстати, Нюй-ва обычно вос-
производится в изобразительном искусстве традиционного
Китая. Отнесение Нюй-ва к женским божествам обусловле-
но включением в ее имя иероглифа «женщина». A bot bto-
рой иероглиф — ва (гуа) — настолько редок и имеет столь
архаическое происхождение, что его исходное значение было
утрачено уже в позднечжоуский период. В текстах того вре-
мени он истолковывается как обозначение некоего пресмы-
кающегося (ящерицы, змеи), либо членистоногого (земля-
ной, водяной червь), либо панцирного существа (улитка).
В результате в научных работах господствует точка зрения,
что образ Нюй-ва и литературные повествования о ней на
самом деле восходят не к китайской архаике, a к какой-то
иной этнокультурной среде (вероятнее всего, к верованиям
тайских народностей, откуда они и могли быть заимствова-
ны религиозными представлениями Чу).
Образ Фу-си, судя по его имени (дословно «Покоритель
зверей») и функциям культурного героя, обучившего лю-
дей охоте, изготовлению ловчих и рыболовных сетей, ведет
свое происхождение от образа древнего божества, связан-
ного с миром зверей и с охотой, который, видимо, изна-
чально принадлежал верованиям восточного региона Ки-
тая. Рудименты такого его исходного облика проявляются
не только в легендах о нем, но и в его иконографии, приня-
той для светского изобразительного искусства традицион-
ного Китая. Он обычно рисуется в сугубо антропоморфном
виде, но обязательно с зооморфными вкраплениями: рога-
ми на голове, звериными когтями на ногах и облачением
из звериной шкуры (или некое «странное» одеяние). Ни в
одной из литературных версий повествований о Нюй-ва и Фу-
си не оговаривается ни их связь с анимистическими пред-
ставлениями, ни взаимоотношения друг с другом.
Поэтому сразу настораживает, что в погребальном ис-
кусстве они воспроизводятся исключительно в парном
виде. Их фигуры по-разному могут быть расположены по
Изображение Нюй-ва
в свешском искусспгве
тпрадиционного Китпая.
С гравюры ХѴІІ-ХѴШ вв.
Изображение Фу-си
в светском искусстве
традиционного Китая.
С гравюры ХѴІІ-ХѴШ вв.
429
?мш
ffp3
Л-s
II
«£^
Изображения Нюй-ва
u Фу-си в древнем
погребалъном искусстве
a — Шаньдун; б — композиция с
«ребенком» (Шаньдун); в — Фу-си
(Наньян); г — живописное изобра-
жение Нюй-ва (погребальные сте-
нописи, окрестности Лояна); д —
живописное изображение Фу-си
(погребальные стенописи, окрест-
ности Лояна); е — погребальные
стенописи середины III в. (пров.
Ганьсу).
отношению друг к другу: быть повернутыми друг к другу
лицами либо спиной, a также находиться в пределах одно-
го композиционного сегмента или быть разделенными дру-
гими изображениями (например, стенописи из лоянского
погребения). Однако при этом они обязательно наделяются
однотипной внешностью и образуют общую композицию,
которая строится по принципу зеркальной симметрии. Глав-
ной типологической особенностью иконографии Нюй-ва и
Фу-си является снабжение их полуантропоморфной-полу-
зооморфной внешностью с сочетанием человеческого обли-
ка (как правило, голова и вся верхняя часть туловища) и
облика змеевидного, ящеровидного или драконовидного су-
щества — нижняя часть тела с двумя или четырьмя лапа-
ми, заканчивающаяся длинным извивающимся хвостом.
Змеиные хвосты тел Нюй-ва и Фу-си нередко переплетены,
что, по мнению подавляющего болыпинства исследовате-
лей, есть знак коитуса и, следовательно, намек на брачные
отношения персонажей и их связь с культом плодородия.
Следующая важная особенность иконографии разбирае-
мых персонажей — наличие y них устойчивых атрибутов,
какими служат строительные инструменты (циркуль и
угольник) в руках соответственно Нюй-ва и Фу-си и гра-
фические эмблемы луны и солнца (что наиболее типично
для сычуаньских изображений). Строительные инструмен-
ты истолковываются в качестве символов созидательного
труда и миропорядка (в китайском языке слово «порядок»
составлено из гуй — «циркуль» и цзюй — «угольник») и,
значит, мироустроительных функций самих этих божеств.
Введение в их иконографию лунарной и солярной симво-
лики позволяет видеть в них воплощение Женского и Муж-
ского начал и божественных персонажей, почитаемых вла-
стителями потустороннего или даже всего божественного
мира в целом.
Верховенство Нюй-ва и Фу-си подтверждается включе-
нием в их одеяние специальных головных уборов, отожде-
ствляемых с древнекитайскими царскими (женской и муж-
ской) коронами. Имеются и другие иконографические ва-
рианты изображений Фу-си и Нюй-ва, в которых они
показываются либо с фигуркой тоже полуантропоморфного-
полузооморфного существа, расположенного между ними,
либо по бокам от гигантской антропоморфной фигуры. В пер-
вом из указанных иконографических вариантов обычно
430
усматривают «семейную сцену» — Нюй-ва, Фу-си и их ре-
бенок, что соответствует их интерпретации как супруже-
ской пары и божеств, связанных с плодородием. Другой
вопрос: почему эта функция данных персонажей столь на-
стойчиво подчеркивается в погребальном искусстве? По
поводу второго иконографического варианта высказывают-
ся лишь робкие предположения, что гигантская фигура
может быть изображением Пань-гу, a вся композиция в
целом передает акт космогенеза.
Итак, мы видим, что Нюй-ва и Фу-си оказываются чуть
ли не центральными, по их функциям, персонажами хань-
ских верований, a их образы в том виде, в каком они
предстают перед нами в погребальном искусстве, практи-
чески не имеют сколько-нибудь заметных точек соприкос-
новения с образами одноименных литературных героев.
Так, может быть, истоки их культа и иконографии следует
искать за пределами легенд о Трех великих первопредках?
Одним из возможных истоков исследователи называют
некий архаический культ пары змей (драконов или водя-
ных существ), о жертвоприношениях которым упоминает-
ся в «надписях на гадательных костях», с употреблением
при этом специальной пиктограммы. Несмотря на ее пре-
дельную стилизованность, эта пиктограмма действительно
обнаруживает некоторое, пусть даже очень отдаленное,
морфологическое сходство с художественными изображе-
ниями Нюй-ва и Фу-си. Ta же самая пара змей-богов изоб-
ражена, видимо, на двух парных пластинах из слоновой
кости, найденных в Аньяне. Мы видим почти одинаковые
существа со змеиным телом, человеческой головой и как бы
поднятыми вверх руками-лапами. Тело одной из фигурок
покрыто узором, состоящим из кругов, заполненных спира-
лями, что совпадает с некоторыми графическими варианта-
ми пиктограммы «солнце». На другой фигурке — узор, со-
ставленный из треугольников и ромбов, полагаемых для
древнейшей китайской художественной образности ктеиче-
скими символами. Их головы венчают рога, семантически
сопоставимые с головными уборами Нюй-ва и Фу-си. Одно-
временно все особенности изображения иньских змей-
богов — общая конфигурация их фигур, поднятые кверху
руки, детали лиц (точнее, личин) — заставляют нас вспом-
нить о рисунке саламандры на западно-яншаоском неоли-
тическом сосуде. Так протягивается прямая морфологиче-
ская, a может быть и семантическая, ниточка от культа и
иконографии Нюй-ва и Фу-си к архаическим верованиям и
древнейшим образцам национального изобразительного
искусства. Но почему этот таинственный и во многом гипо-
тетический культ пары змей, известный к тому же только
для иньской эпохи, вдруг не просто ожил почти через ты-
сячу лет, a оказался чуть ли не в центре анимистических
верований и погребального искусства?
Другим возможным истоком образов и иконографии
Нюй-ва и Фу-си называются религиозные представления
и культовое художественное творчество того же царства
Чу. Речь в первую очередь идет, конечно, об изображении
ЖУлЖЗЛЫ&ЖЖХ^
Изображеиие Нюй-ва
и Фу-си в погребальном
искусстве южных
народностей.
Пров. Гуйчжоу
ПП
Графические варианты
пиктограммы,
обозначающей
двух змей-богов
Иньские костяные
пластины с изображением
двух змей-богов
431
змеедевы на «знамени» госпожи Дай, сходство которого с
иконографией Нюй-ва и Фу-си еще болыые усилится, если
вспомнить, что оно дополнено фигурами двух огромных дра-
конов со змеиными телами. Некоторыми исследователями
данное изображение прямо отождествляется с Нюй-ва. Но
даже если принять версию, что в нем воспроизводится не
Нюй-ва, a чуская Великая богиня, подательница бессмертия
и владычица мира бессмертных, то суть дела принципиаль-
но не изменится. Художественные трактовки образа Вели-
кой богини, разработанные в чуском культовом искусстве,
вполне могли быть перенесены на образы Нюй-ва и Фу-си.
Кроме собственно китайских религиозных и иконогра-
фических традиций, допустимо и определенное влияние на
формирование культа и образов этих персонажей идеологи-
ческих и художественных реалий, идущих от скифского мира.
Имеются в виду образы «змееногих» персонажей, во множе-
стве присутствующие в скифском искусстве, среди которых
особое место занимает, как известно, «змееногая богиня».
Относимая к числу наиболее сложных образов скифской ре-
лигии и изобразительного искусства, она находится в гене-
тическом родстве с персонажами легенд о происхождении
скифов, где фигурируют «полудева-полузмея» Ехидна, ним-
фа Ора с двумя змеями вместо ног. Образ «змееногой боги-
ни» отчетливее всего проявляется в произведениях скифско-
го искусства IV—III вв. до н. э., найденных в основном в по-
гребениях Северного Причерноморья. Поэтому говорить о
прямом заимствовании в данном случае не приходится. Од-
нако наблюдаются удивительные совпадения между нею и
китайскими персонажами как в семантическом, так и в
морфологическом плане. Считается, что «змееногая боги-
ня», будучи изначально хтоническим существом, олицетво-
ряла одновременно производительные силы земли и силы
смерти — такая трактовка вполне отвечает реконструиро-
ванным функциям Нюй-ва и Фу-си. Из иконографических
совпадений отметим атропоморфность именно верхней части
туловища, наличие особого головного убора, расходящиеся
книзу полы одеяния и включение в нижнюю часть изобра-
жений фигур в виде переплетенных змеиных хвостов, хотя,
в отличие от изображений Нюй-ва и Фу-си, они воспри-
нимаются скорее в качестве орнаментального элемента. Кос-
венным доказательством возможности проникновения в Ки-
тай образа скифских «змееногих божеств» служит появле-
ние в ханьскую эпоху образов «крылатого коня» и «химеры».
Дальнейшая судьба ханьского варианта культа Нюй-ва и
Фу-си тоже оказывается во многих отношениях загадочной.
После столь откровенного торжества в ханьских верованиях
и культовом искусстве он словно неожиданно внешне совер-
шенно исчез из национальной погребальной обрядности. Ос-
новная часть более поздних изображений Нюй-ва и Фу-си
(вплоть до VII-VIII вв.) были найдены в некитайских погре-
бениях, например на крышках северовэйских каменных сар-
кофагов и на шелковых полотнищах, которыми было приня-
то оборачивать тело усопшего в Турфане (Синьцзян). В по-
следнем случае мы имеем дело с консервацией традиции,
которая была, очевидно, занесена в Турфан еще во времена
его вхождения в состав Ханьской империи (с 89 г. до н. э. по
16 г. н. э.) и затем расцвела при повторном завоевании ки-
тайцами этих земель в первой половине танской эпохи.
Культ Царицы Запада Сиванму не содержит в себе на
первый взгляд никаких новых загадок. Общепризнано, что,
возникнув в русле протодаосских религиозных представле-
ний, он впоследствии превратился в неотъемлемую часть
собственно даосской мифологии, в которой эта богиня од-
нозначно мыслилась владычицей Запада как сакральной
части света и подательницей бессмертия. В круг представ-
лений о Сиванму устойчиво входят и упоминавшиеся выше
легенды о ее резиденции на вершине волшебных гор Кунь-
лунь, с чудесными персиковыми деревьями. Однако «про-
стота» культа Сиванму вновь оказывается обманчивой.
Во-первых, остаются до конца неясными причины его уни-
версальности и популярности при Хань, когда Сиванму
приобрела черты Мировой богини и стала объектом куль-
тового поклонения среди самых разных слоев населения —
от социальной элиты общества до сельских низов. В пись-
менных памятниках того времени сообщается, что уже в
начале Хань местной знатью проводились в ее честь специ-
альные ритуалы. Несколько позже в практику вошли ри-
туальные паломничества в горы, имитирующие посещение
Куньлуня и включающие в себя пиршество на берегу водо-
ема, a среди сельского населения проводились массовые
празднества-гуляния, сопровождавшиеся коллективными
плясками и впаданием в состояние транса. Подобная увле-
ченность китайцев культом Сиванму выглядит еще более
неожиданной и малообъясниімой, если учесть, что сама
даосская традиция в то время еще находилась в стадии
формирования и никак не могла оказывать столь масштаб-
ного воздействия на религиозную жизнь всей страны.
Ситуация становится только туманней при обращении
к образу Сиванму. He вызывает особых сомнений, что он
частично наследовал образу чуской Великой богини, вос-
приняв от нее ассоциации с Западом, горами Куньлунь и
бессмертием. Однако при этом в образе Сиванму обнаружи-
ваются и черты, восходящие к другим божественным пер-
сонажам. Надо сказать, что принятое в отечественном и
зарубежном китаеведении ее обозначение — Царица Запа-
да (Queen of the West) — есть результат вторичной интер-
претации ее образа, тогда как ее оригинальное имя состо-
ит из пространственного показателя (си — запад) и тер-
мина родства ванму, употреблявшегося для обозначения
царского женского предка по мужской линии на уровне
прабабки. Так что дословный перевод этого имени — «За-
падная прабабка», без указания на ее связь с бессмертием
или с даосской традицией. Благодаря сходству их имен в
новейших исследованиях прототипом Сиванму все чаще
называется Западная матушка (Си-му), которая, напомним,
упоминается совместно с Восточной матушкой (Дун-му) в
«надписях на гадательных костях». Однако предпочтитель-
нее выглядит версия о трансформация этой пары богинь,
28 Пстория ііскчсо;ь.і !\'ііі.ія
о которых, кроме их имен, ничего не известно, в богинь
солнца и луны — Си-хэ и Чан-э.
Впервые образ Сиванму раскрывается в сочинении «Жиз-
неописание Сына Неба My» («My Тянъ-цзы чжуанъ»), отно-
симом к жанру повествовательной прозы и датируемом
IV—III вв. до н. э. Созданное, видимо, в царстве Вэй (403-
255 гг. до н. э.), которое находилось в непосредственной бли-
зости от ареала распространения чуской культуры, это со-
чинение посвящено чудесному странствию на Запад чжоу-
ского царя Му-вана, того самого государя, который называется
владельцем необыкновенных скакунов. Данные в нем ха-
рактеристики Сиванму, a также подробности эпизода встре-
чи с ней царя My, во многом повторяют соответствующие
мотивы из «Чуских строф», что и позволяет предполагать,
что под Сиванму здесь имелась в виду как раз чуская Вели-
кая богиня. Но такое их отождествление явно осталось до-
стоянием локальной религиозной и литературной традиции.
Во всех других чжоуских текстах, в которых упоминается
имя Сиванму, она объясняется по-разному. Так, в «Чжуан-
цзы» Сиванму называется среди древних персонажей, об-
ретших бессмертие наряду, скажем, с Желтым императо-
ром. В конфуцианском трактате «Сюнь-цзы» о ней говорит-
ся как о покровительнице судеб людей и наставнице Сяского
Юя. «Сиванму — название государства. A еще говорят, что
это — дева [из свиты] Небесного императора. A еще гово-
рят — божество», — такой пассаж содержится во фрагмен-
те некоего текста, датируемого III в. до н. э.
В совершенно иных красках образ и облик Сиванму
рисуется в знаменитом ханьском сочинении «Каталог гор
и морей» («Шанъ хай цзин») — тексте псевдогеографиче-
ского характера, созданном на протяжении III—I вв. до н. э.
В нем читаем следующее: «Сиванму похожа на человека,
но с хвостом барса, клыками тигра, любит свистеть. Она
управляет небесными эпидемиями и пятью наказаниями».
Или: «К югу от Западного моря... вздымается огромная
гора, называемая Куньлунь... [Там] в пещере живет чело-
век. Зовется Сиванму». To есть Сиванму представлена здесь
существом с полузооморфной внешностью, ведающим сти-
хийными бедствиями. Присутствие в ее облике тигриных
элементов и ее вредоносность полностью соответствуют ос-
мыслению Запада, но не в чуской, a в пятичленной космо-
логической модели. В результате получается, что в образе
Сиванму как Царицы Запада объединились исходно раз-
личные персонажи: чуская Великая богиня и «Западная
бабка», бывшая, скорее всего, одним из второстепенных
божеств непосредственно чжоуского пантеона.
Изображения Сиванму тоже присутствуют в основном
в погребальном искусстве двух прямо противоположных
географических регионов — Шаньдуна и Сычуани. При-
чем чаще всего они встречаются именно в юго-западных
захоронениях и в виде не только рельефных композиций,
но и пластических изображений. Почти во всех случаях
Сиванму показывается в женском облике сидящей на тро-
не, образованном драконом и тигром, которые, вне всяких
сомнений, суть Бирюзовый дракон и Белый тигр. Так, по
мнению исследователей, передается идея владычества Си-
ванму над всем миром. Специфическими приметами ико-
нографии Сиванму являются, во-первых, особого типа при-
ческа или специфический головной убор (волосяное укра-
шение). И, во-вторых, изображения «лунных» персонажей —
зайца и жабы, которые могут быть дополнены и Солнечным
вороном — еще один намек на властное положение Царицы
Запада во всем мире. Такую композицию мы видим на кера-
мическом рельефе, где Солнечный ворон, Лунная жаба и
Лунный заяц (с веткой коричного дерева в лапах) как бы
предстают перед Сиванму, торжественно восседающей на
своем троне. Она почти полностью повторяется и в навер-
шии бронзовой модели дерева, с той лишь разницей, что
трон Сиванму находится здесь на вершине круга, копирую-
щего диск-бы. По бокам от него расположены фигуры жабы
и зайца, a снизу — парные фигуры змеевидных существ. От
спины Сиванму отходят две дугообразные планки, передаю-
щие либо крылья, либо окружающий ее голову нимб. Еще
более интересный вариант иконографии Сиванму дается в
керамическом светильнике из погребения, относящегося к
рубежу нашей эры, т. е. являющегося самым ранним изоб-
ражением Царицы Запада. Имея общую высоту 60 см, све-
тильник состоит из трех художественно-архитектонических
сегментов. Внизу находится фигура черепахи, на ней — ус-
трашающего вида жабы, которые выступают здесь, скорее
всего, в роли космогонических существ. И уже на спине
жабы покоится сооружение наподобие стелы, на передней
части которой показан рельефный бюст Сиванму, дополнен-
ный снизу фигурой девятихвостой лисицы, a сверху — фе-
никса. Из боковых граней стелы — прямо по бокам от бюста
Сиванму — выступают две головы зооморфных существ
(в них угадываются, правда, с немалым трудом изображе-
ния дракона и тигра, на которых восседают мужчина и
женщина. Несмотря на ее уникальность и насыщенность
новыми деталями и персонажами, данная композиция по
ее главным морфологическим особенностям отвечает ука-
занным ранее принципам иконографии Царицы Запада и
передает ту же идею ее мирового владычества.
Шаньдунское погребальное искусство предлагает трак-
товку образа Сиванму, несколько отличающуюся от ее сычу-
аньской иконографии. Основное различие между ними зак-
лючается в подаче трона — не в виде дракона и тигра, a в
виде горы, словно окутанной облаками. Кроме того, здесь
уже отчетливо видны крылья за спиной богини, делающие
ее похожей на сяней. Разобранные артефакты убеждают в
том, что образ Сиванму приобрел в ханьском погребальном
искусстве относительно стандартное и в целом универсаль-
ное иконографическое воплощение, которое, заметим, не со-
впадает ни с мавандуйским изображением Великой богини,
ни с литературными зарисовками внешности Царицы Запа-
да. A отсутствие в ее облике отчетливых змеиных черт прин-
ципиально отличает ее иконографию и от иконографии Нюй-
ва и Фу-си. Возможно, при разработке художественных
Изображение Сиванму
в шаньдунском
погребалъном искусстве.
По мотивам каменных
релъефов
Изображение скифской
Владычицы звереіі
трактовок образа Сиванму погребальное искусство опира-
лось на какие-то ее портретные характеристики, остав-
шиеся вне их литературной фиксации, a может быть, в
основу лег чужеземный художественный опыт. Потому что
и в данном случае имеется морфологически сходный с ико-
нографией Сиванму скифский сюжет: изображения Вла-
дычицы зверей, которые строятся по аналогичной иконо-
графической схеме: богиня, сидящая на двух львах, — и обя-
зательно включают в себя боковые фигуры зооморфных
персонажей. Еще одной их общей деталью является специ-
фический головной убор, венчающий Владычицу зверей.
В ханьском погребальном искусстве воспроизводятся и
образы других божеств и духов, некоторые из них удалось
отождествить с известными по литературным повествова-
ниям божественными персонажами. Однако ввиду эпизо-
дичности таких изображений в них трудно уловить нали-
чие каких-либо иконографических закономерностей. От-
метим только, что в целом в ханьском погребальном
искусстве прослеживаются две главные иконографические
традиции. В одной из них, проявляющейся преимуществен-
но на востоке, предпочтение отдается антропоморфным трак-
товкам божественных персонажей. Они показываются пол-
ностью в человеческом облике, облаченными в одеяния, в
целом отвечающие особенностям древнекитайского костю-
ма, a их божественный статус передается с помощью до-
полнительных художественных приемов и вспомогатель-
ных деталей и персонажей. В качестве примера сошлемся
на композицию из погребения семейства У, считающуюся
изображением божества грома Лэй-гуна. Ауру сверхъесте-
ственности ей придает влекомая сянями колесница среди
облаков, которые одновременно оказываются и фантасти-
ческими существами. Другая иконографическая традиция,
преобладавшая в южном погребальном искусстве, более
охотно оперировала, напротив, зооморфно-фантазийными
трактозками. Пример — изображение Чан-э (погребение
из Наньяна) в виде фантастического существа, совмещаю-
щето в еебе черты облика зверя и дракона, которое таким
образом передает момент ее превращения в Лунную жабу.
Итак, в ханьском погребальном искусстве шел интенсив-
ный процесс синтеза различных региональных художествен-
ных традиций. На основании этого синтеза, a также с учетом
опыта словесных портретных характеристик и чужеземного
искусства в нем началась разработка способов передачи пер-
сонажей всех наиболее существенных для национальной ду-
ховной жизни иерсонологических рядов: легендарных, исто-
рических личностей и представителей божественного мира.
Этот процесс завершился созданием серии иконографических
стандартов. Однако они так и не привели к образованию
целостной иконографической системы, необходимой для куль-
тового художественного творчества. Такая система была при-
внесена в Китай буддизмом. Поэтому анализ последующих
традиций культового искусства, порожденного отдельными
идеологическими образованиями, правомерно начать с рас-
сказа о китайско-буддийской иконографии.
436
Буддийское культовое искусство, в первую очередь пла-
стика, начало складываться в III в. до н. э. на основании
нескольких художественных традиций. Индийское пла-
стическое искусство, как и в Китае, восходит к глубокой
древности. Первые известные скульптурные изображения,
в основном в формате миниатюрной пластики, относятся
к культуре Хараппы (конец III — начало II тыс. до н, э.),
составлявшей ядро общего культурно-исторического ком-
плекса, получившего в науке название «индская цивили-
зация»169.
Однако после гибели Хараппы (середина II тыс. до н. э.)
и вплоть до эпохи Мауръя (IV—II вв. до н. э.) история раз-
вития древнеиндийского изобразительного искусства фак-
тически не прослеживается по причине использования ме-
стными мастерами быстро разрушающихся материалов (гли-
на, дерево). До нас дошли лишь единичные и случайно
найденные произведения, например терракотовые статуэт-
ки богини-матери и фрагменты стенописей. Поэтому о фор-
мировании индийского изобразительного искусства, равно
как и зодчества, можно с уверенностью говорить только
начиная с эпохи Маурьев, когда в строительстве и в пла-
стике стал использоваться камень.
Эпоха Маурьев — время существования в Индии перво-
го централизованного государства имперского типа, осно-
ванного в конце IV в. до н. э., сразу же после изгнания из
страны последних отрядов Александра Македонского, и
достигшего своего наивысшего расцвета при третьем госу-
даре династии Маурьев — царе Ашоке, правившем с 268 по
231 г. до н. э. Его владения охватывали почти весь Индий-
ский субконтинент и значительные территории к западу от
Индии, т. е. земли ранее отдельных царств и этнических
объединений. Для упрочения духовных основ империи и
управления ее полиэтническим населением, разобщенным
к тому же множеством религиозных и социальных (варно-
вая система) условностей, царь Ашока использовал буд-
дийское вероучение, бывшее единственной на тот момент
национальной религиозно-философской системой, которая
настаивала на потенциальном равенстве всех людей, неза-
висимо от их происхождения, вероисповедания и обще-
ственного положения. Для проповеди буддизма он исполь-
зовал архитектуру и изобразительное искусство и в том
числе надписи, выбиваемые на каменных столбах («ска-
лах») —«надписи о дхарме», которые и являются древней-
шими сохранившимися буддийскими текстами. Среди руин
его дворца (в Паталипутре, современный город Патна, штат
Бихар) сохранились столбы и колонны с колоколовидны-
ми капителями, украшенными изображениями живот-
ных — льва, слона и коня, исходно занимавших важное
место в буддийской символической образности, и другими
буддийскими символами.
Следующий этап эволюции индо-буддийского культо-
вого изобразительного искусства, по-прежнему находив-
шегося в неразрывной связи с зодчеством, приходится на
II—I вв. до н. э. Речь в первую очередь идет о горельефных
БУДДИЙСКАЯ
ИКОНОГРАФИЯ
ИСТОРИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ
БУДДИЙСКОГО
КУЛЬТОВОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА
169 Этот комплекс, судя по
археологическим материалам,
возник во второй половине
III тыс. до н. э. в долине Инда
(т. е. в северной части Индии)
и в дальнейшем распростра-
нился на юг до низовья реки
Тамти (севернее современно-
го Бомбея) и на запад вдоль
морского побережья Белуджи-
стана. К настоящему времени
открыто около 150 поселений
культуры Хараппа, некото-
рые из них представляют со-
бой полноценные города, по-
строенные по заранее наме-
ченному плану, обнесенные
мощными стенами, с населе-
нием в несколько десятков
тысяч человек. Будучи земле-
дельческой по своему хозяй-
ственно-экономическому укла-
ду культурой, Харалпа облада-
ла весьма развитым не только
градостроением и зодчеством,
но и многими видами декора-
тивно-прикладного искусства
и ремесел, включая бронзоли-
тейное производство, злато- и
среброделание, оружейное и
гончарное дело, хлопкоткаче-
ство, a также ювелирное ис-
кусство с использованием бла-
городных металлов, драгоцен-
ных камней и резьбы по кости.
Хараппские мастера владели
и искусством художественно-
го литья, о чем свидетельству-
ют находки бронзовой скуль-
птуры, среди которых особо
выделяется статуэтка танцов-
щицы. Кроме того, известно,
что Хараппа поддерживала
торговые и культурные связи
как с Южной Индией, так и
со многими другими региона-
ми вне Индийского полуост-
рова вплоть до Нижней Месо-
потамии и Крита. Хараппские
поселения были обнаружены
на Амударье, что указывает на
возможность проникновения в
эту культуру чужеземных ху-
дожественных традиций.
437
Древнейшие китайские
художественные
произведения
на буддийские темы.
Фигура сидящего Будды,
служащая навершием
«денежного дерева».
Пров. Шэньси. Бронза,
6,5 см. Находка 1994 г.
170 Памятники гандхарско-
го искусства сохранились в
самой Индии, в Пакистане
(г. Пешавар), в Афганистане
и на северном берегу Амуда-
рьи (в том числе фриз из Айр-
тама, около Темреза, 'юг совре-
менного Узбекистана). Обраще-
нию гандхарского искусства к
буддийским темам и сюжетам
способствовала политика вер-
ховных властей Кушанской
империи, в первую очередь
легендарного царя Канишки,
который, подобно царю Ашо-
ке, провозгласил себя буддий-
ским адептом, a буддийское
вероучение (в его варианте
школы сарвастивады) — офи-
циальной идеологической си-
стемой страны.
и скульптурных изображениях, выполненных на оградах
вокруг культовых построек — ступ (подробно см. глава 16).
Особое внимание в данном случае обычно уделяется ступе
в Санчи (современный штат Мадхья Прадеш, левая при-
брежная зона низовья Ганга), которая была воздвигнута
еще при царе Ашоке, в 250 г. до н. э. и перестроена во
II в. до н. э. Анализ скульптурных композиций ограды этой
ступы, равно как и некоторых других памятников того
времени, показал, что на начальной стадии своего форми-
рования индо-буддийское изобразительное искусство избе-
гало создания антропоморфных изображений Будды, заме-
няя их такими символами, как колесо-чакра, Древо Бодхи
(Древо Просветления, под которым, по легенде, основопо-
ложник буддизма достиг состояния будды, подробно см.
далее). Одновременно в буддийские по тематике сцены ак-
тивно вводились персонажи, восходящие к небуддийским
верованиям, например ведические женские божества-л/сша.
Тем не менее именно на ограде ступы в Санчи присутству-
ют и первые антропоморфные изображения (точнее, их ико-
нографические прототипы) собственно буддийских бо-
жеств — бодхисаттв Авалокитешвара и Ваджрапани.
Качественно новый этап в истории буддийского изобра-
зительного искусства связывается с Гандхарской и Мат-
хурской художественными школами.
Первая из названных школ возникла на северо-запад-
ной окраине современной Индии, бывшей в то время метро-
полией могущественной Кушанской империи (І-ІѴ вв. н. э.),
в территорию которой (на момент ее расцвета, I—II вв. н. э.)
входила Северная Индия, большая часть современного Аф-
ганистана, Пакистана и некоторые регионы центрально-
азиатских государств170.
Главной особенностью Гандхарской художественной
школы является ее формирование под сильным воздей-
ствием эллинистического (в более ранней научной терми-
нологии — греко-бактрийского) искусства. Настолько силь-
ным, что она нередко считается одной из прямых наслед-
ниц античной — греческой и римской — скульптуры.
Разработанные в ней трактовки образа Будды сравнивают-
ся с эллинистическим образом Аполлона, в том смысле,
что они также были направлены на поиск средств передачи
физического и духовного совершенства человека. Но, вос-
приняв от греко-римского искусства антропоморфность форм
божественных персонажей и идею их эстетического вопло-
щения, Гандхарская школа отнюдь не отказалась от нацио-
нального художественного опыта. В результате созданное в
ней иконографическое направление объединило в себе эс-
тетизм и реалистичность античной скульптуры с натура-
лизмом индийской, попутно восприняв и свойственный
последней метафизический символизм. Причем нацио-
нальные художественные корни оказались в определенной
степени даже сильнее, чем эллинистическое влияние. В от-
личие от персонажей греко-римской скульптуры Будда,
даже в его ипостаси исторической личности, никогда не
показывался в гандхарском искусстве только в качестве
438
воплощения физической красоты человека и объекта эсте-
тического наслаждения. С самого начала все детали его
внешнего облика стали наделяться теми или иными симво-
лическими значениями.
Матхурская школа тоже возникла ориентировочно в
I в. н. э. (или несколько раньше) в самом сердце долины
Ганга — в столице (г. Матхур) одного из царств Северной
Индии. He избежав некоторого влияния Гандхарской шко-
лы и, следовательно, эллинистического искусства, она опи-
ралась в основном на местный художественный опыт, став
таким образом первой индийской сугубо национальной ху-
дожественной школой. Принципиально важно, что в ней
использовались традиции не только собственно изобрази-
тельного искусства, но и искусства танца, исходно связан-
ного в Индии с религиозно-ритуальной деятельностью, в
котором выкристаллизовалась целостная система поз и жес-
тов, наделяемых особым религиозно-космологическим смыс-
лом. Еще до появления буддизма и буддийских психотех-
ник эта система была частично воспринята йогическими
практиками, которые использовались бродячими проповед-
никами-аскетами (шраманами), a также в джайнизме.
Итак, индо-буддийская иконография возникла на осно-
вании нескольких культурно-художественных традиций,
важнейшими из которых являются, повторим, древнеин-
дийское и эллинистическое изобразительное (пластическое)
искусство, искусство танца и йогические практики.
Достижения Гандхарской и Матхурской школ нашли
свое продолжение в искусстве эпохи Гупт (ІѴ-ѴІ вв.), ког-
да Северная Индия вновь была объединена под эгидой одно-
именной империи. Самыми значительными памятниками
этой эпохи считаются великолепные скульптуры и храмы
Эллоры — не только, заметим, буддийские, но и джайн-
ские и индуистские, высеченные из целой скалы (штат Ма-
хараштра). В это же время буддийское культовое изобрази-
тельное искусство начало испытывать на себе воздействие
ваджраяны171. Именно ваджраяна способствовала, во-пер-
вых, утверждению в буддийском изобразительном искусст-
ве многообразия художественных трактовок образов одних
и тех же персонажей, посредством которых передавались
их «спокойные» (в строго антропоморфном облике), «уст-
рашающие» (в облике многоруких и многоликих существ)
и «женские» формы. Согласно этому учению, в таких об-
личиях, буддийские божества (в первую очередь бодхисат-
твы) соответственно являли себя живым существам для
их наставлений, выступали борцами со злом и руководили
медитативными погружениями. Во-вторых, идеи и прак-
тики ваджраяны привнесли во многие иконографические
элементы дополнительные смысловые оттенки, углубив их
семиотичность и эзотеричность172.
06 основных этапах развития китайско-буддийского
культового изобразительного искусства и его важнейших
памятниках будет подробно рассказано в специальном раз-
деле этой книги. Поэтому сейчас лишь отметим, что древ-
нейшее из известных на сегодня китайских художественных
Северовэйская алтарная
скулъптура. V в.
Позолоченная бронза,
16,3 см
171 Ваджраяна («алмазная
колесница», тантрический
буддизм, тантризм) — оче-
редное философское течение,
наметившееся в рамках ма-
хаяны (Болъшая колесница,
одно из двух, наряду с хиная-
ной, Малой колесницей, маги-
стральных направлений буд-
дизма) еще в первых веках
нашей эры и к VII-VIII вв.
превратившееся в самоценную
идеологическую величину, со-
ставившую своего рода эзоте-
рическую часть махаянского
буддизма.
172 Принято считать, что
не получив широкой популяр-
ности в Китае, ваджраяна,
тем не менее оказала ощути-
мое влияние на китайско-буд-
дийское культовое искусство.
Это действительно так. Одна-
ко следует помнить, что дан-
ное влияние носило все же
вторичный, a не морфологооб-
разующий характер, так как
все основные принципы китай-
ско-будцийской иконографии
сложились намного раньше
выделения ваджраяны в ка-
честве самостоятельного уче-
ния и его проникновения в
Китай.
439
произведений на буддийские темы датируется II в. до н. э.
Это — крохотная (высота 6,5 см) фигурка Будды, венчаю-
щая одно из «денежных деревьев» (провинция Шэньси,
1994 г.). Начальный же этап формирования китайско-буд-
дийского изобразительного искусства единодушно соотно-
сится исследователями с IV-VI вв., когда центральные ре-
гионы Китая, напомним, были завоеваны и оказались под
властью тобийского государства Северное Вэй (период
Южных и Северных династий). От этого периода до нас
дошло весьма внушительное количество произведений —
алтарная скулыітура173, пещерные монастыри и скальные
храмы, которые дают возможность в деталях проследить
как общие закономерности развития китайско-буддийско-
го художественного творчества, так и формирование его
иконографической системы, которая, вне всяких сомне-
ний, восходит к раннебуддийским — Гандхарской и, в мень-
шей степени, Матхурской художественным школам.
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ
ПЕРСОНАЖИ
БУДДИЙСКОГО
БОЖЕСТВЕННОГО
ПАНТЕОНА
173 К числу наиболее при-
мечательных образцов алтар-
ной скульптуры, созданной в
Северном Вэй, относятся брон-
зовое позолоченное изваяние
стоящего Будды, высотой
104,3 см, датируемое 477 г.
(хранится в Музее искусств
Метрополитен, Нью Йорк);
переносной бронзовый алтарь
с изображением будды Ами-
табхи (высота 76,7 см, Музей
изящных искусств, Бостон).
174 Такие даты рождения
и физической смерти (ухода
в нирвану) Будды Гаутамы
предлагаются в южной, па-
лийской, буддийской тради-
ции. Однако различные буд-
дийские іпколы и направле-
ния нередко придерживаются
собственных точек зрения по
этому вопросу. Что касается
научных изысканий, то боль-
шинство исследователей в на-
стоящее время считают наи-
более вероятной датой рожде-
ния Будды как исторического
лица 564 г. и смерти 483 г.
до н. э., иногда округляя их
до 560 и 480 гг.
Анализ буддийской иконографии, независимо от ее ре-
гиональной принадлежности, предельно осложняется об-
ширностью философско-религиозных представлений этого
вероучения и многочисленностью его божественного панте-
она. Практически в любом из буддийских храмов мы мо-
жем увидеть скульптурные или живописные композиции,
состоящие из поистине неисчислимого сонма персонажей,
образ каждого из которых отмечен теми или иными своеоб-
разными внешними приметами или нюансами. И все же
для общей ориентации в произведениях буддийского изоб-
разительного искусства вполне достаточно знания иконо-
графических особенностей относительно небольшого числа
персонажей, которые занимают верхние позиции в иерар-
хии буддийского пантеона и подразделяются, согласно при-
нятой в самой буддийской традиции персонологической
классификации, на три основных ранга.
К первому рангу относятся персонажи, определяемые
как «великие личности» (санскр. махапуруша, кит. дажэнъ,
«великий человек»), под которыми понимаются в первую
очередь будды (досл. «просветленные») — личности (в буд-
дийской терминологии), достигшие наивысшей степени
духовного совершенства и просветленности, что позволило
им навсегда выйти из круга новых рождений и смертей
(сансара) и пребывать в состоянии нирваны — в особой и
принципиально отличной от эмпирической форме внелич-
ностного бытия, которая предполагает полное освобождение
живого существа от логико-дискурсивной, психико-эмоцио-
нальной деятельности и от внешней оболочки. Главное мес-
то среди будд отводится основоположнику буддизма — прин-
цу Сиддхарте Гаутаме, жившему, согласно преданиям, с
623/9 по 544 г. до н. э.174 В последующей канонической,
околоканонической и светской литературе он может фигу-
рировать под 30 разными именами и эпитетами (титулами),
каждый из которых отражает черты и свойства его лично-
сти как в исторической, так и религиозно-философской ипо-
стасях: Шакьямуни («Мудрец из племени шакья/сакья»),
440
Татхагата («Так приходящий-уходящий»), Бхаваган
(«Торжествующий») или просто Будда («Просветленный»,
с прописной буквы).
Кроме Будды Шакьямуни, в буддизме признается суще-
ствование множества Будд, в том числе до него (по одним
версиям — 6, по другим — 24, по третьим — тысячи поко-
лений), пяти будд-татхагат175 (панча-татхагаты, в ста-
рой научной терминологии — дхъяни-будды) — властите-
лей частей вселенной, и Будды грядущего Майтреи.
К буддам-татхагата относятся:
1. Будда Вайрочана ( « Солнечный », « Солнцесияющий »,
кит. Дажи-жулай, «Великосолнечный») — олицетворение
сияющего света, властитель центральной или восточной
части космического универсума, владыка семьи татхага-
та, трансформирующей неведение. Хотя его образ впервые
появился лишь в текстах ІѴ-Ѵ вв., культ его в качестве
самостоятельного божественного персонажа получил ши-
рокую популярность в Китае.
2. Будда Амитабха («Беспредельносияющий», «Неиз-
меримый свет», кит. Амито) — властитель Запада, влады-
ка семьи лотоса, трансформирующей сладострастие, и са-
мое главное творец и повелитель буддийского рая — Стра-
ны счастья Сукхавати, также помещаемой в западной части
космического универсума176. Культ Амитабхи в его связи с
представлениями о Сукхавати возник не ранее I—II вв. и в
скором времени снискал себе огромную популярность фак-
тически во всех странах буддийского ареала177.
3. Будда Акшобхья (кит. Ачу-жулай) — властитель Во-
стока, олицетворение бесстрастности и невозмутимости,
глава семьи ваджры, трансформирующей гнев. Его образ
впервые упоминается в текстах начала нашей эры.
4. Будда Ратнасамбхава («Тот, кто возникает из дра-
гоценности», кит. Баошэн-жулай) — властитель Юга, гла-
ва семьи драгоценностей, трансформирующей ревность.
5. Будда Амогхасиддха (кит. Букун-жулай) — власти-
тель Севера, глава семьи кармы, трансформирующей за-
висть. Его образ появляется уже в мифологии ваджраяны,
служа в ней также олицетворением истины.
Культы трех последних из перечисленных будд-татха-
гат не приобрели в Китае самостоятельного значения, и их
изображения в художественных произведениях, за исклю-
чением прямо связанных с еаджраяной, встречаются редко.
Будда Майтрея («Благопожелательный», «Благоволя-
щий», кит. Милэ) — персонаж, выступающий и как буд-
да, и как бодхисаттва. В буддийских религиозно-философ-
ских представлениях он считается земным проявлением
Будды Амогхасиддхи, который пребывает в ипостаси бод-
хисаттвы на небе Тушита (одна из высших небесных сфер
мира страстей — камалока), дабы через многие гряду-
щие космические циклы (калъпы) явить себя в качестве
нового Будды. Однако в массовом религиозном сознании
его культ, подобно культу Амитабхи, выделился в самостоя-
тельный объект поклонения, составив смысловое ядро мес-
сианских и утопических идей: вера в скорый приход
175 Культ и образы панча-
татхагат (в китайской тер-
минологии, Пять будд, У фо,
Пять Наимудрейших Так При-
ходящих, Учжижулай) воз-
никли в мифологии махаяны
и утвердились в ваджраяне,
где они считаются владыка-
ми буддийских «семей». Рас-
полагаясь строго по частям
света и соотносясь с пятью
главными природными эле-
ментами буддийской натур-
философии (земля, вода, огонь,
воздух и ветер), именно они
составляют морфологический
и сущностный архетип всех
мандал (магическая диаграм-
ма, представляющая собой
«карту» космоса и использу-
емая в практике созерцания)
и пятеричных наборов тантри-
ческих понятий («пять позна-
ний», «пять чувств» и т. д.).
Кроме того, тысячи других
божеств ваджраяны могут рас-
сматриваться как их эмана-
ции (духовные дети).
176 Относимая к классу выс-
ших небесных сфер — «чис-
тых земель», Сукхавати пони-
мается в буддийских теорети-
ко-философских построениях в
качестве своего рода «преддве-
рья» к нирване, где живые
существа получают возмож-
ность дальнейшего духовного
самосовершенствования. Од-
нако в массовом религиозном
сознании она прибрела чер-
ты, типологически сходные с
христианскими представлени-
ями о рае как о блаженном
существовании человека пос-
ле смерти.
177 В Китае в ІѴ-ѴІ вв. на
основании этого культа офор-
милась самостоятельная шко-
ла — «Учение о чистой зем-
ле» Щзинту-цзуНу амидаизм),
целью адепта которой явля-
ется возрождение после смер-
ти в райских землях Сукха-
eamUy где ему, по учению этой
школы, уготована вечная сча-
стливая жизнь.
441
178 Как таковые они счита-
ются эманациями (духовными
сыновьями) будд и воплощени-
ями шести совершенств-лара-
мит — мудрости, нравствен-
ности, терпеливости, мужества,
способности к созерцанию и
милосердия. В зрелой махая-
не двумя главными и опреде-
ляющими их качествами ста-
ли Мудрость (праджня) и Со-
страдание (каруна). Число
бодхисаттв тоже признается
неограниченным: личностью
данного ранга может в прин-
ципе стать любое живое суще-
ство, вставшее на истинный
Путь. Бодхисаттвой, до обре-
тения им состояния Просвет-
ленного, был и Будда, пройдя
в таком своем качестве через
550 новых рождений.
179 Пратьекабудда («неза-
висимый» или «отдельный
будда») -г мудрец, достигший
наивысшей степени совершен-
ства, благодаря исключитель-
но собственным усилиям, и
прошедший Путь без учеников
и последователей. Достигнув
нирваныу он остается безраз-
личным к страданиям других
существ. Поэтому образ пра-
тьекабудцы фактически остал-
ся вне религиозных представ-
лений и пантеона махаяны.
в мир людей Будды Майтреи и наступления под его покро-
вительством времени всеобщего материального благополу-
чия и духовного процветания.
Второй ранг буддийского пантеона занимают бодхисат-
твы («существо, стремящееся к просветлению», кит. пути-
садо, пуса), образы которых оформились в мифологии ма-
хаяны, где они считаются личностями, достигшими уров-
ня совершенства и просветленности будд, но добровольно
отказавшимися от пребывания в нирване во имя оказания
помощи для обретения спасения всем остальным живым
существам178.
Как и в случае с буддами, выделяется несколько само-
стоятельных культов бодхисаттв, наибольшей популярно-
стью из которых пользуются: 1) Бодхисаттва милосердия
Авалокитешвара (кит. Гуанъшиинъ, Гуанъинъ, подробно
см. далее) — духовный сын Будды Амитабхи, властвую-
щий вместе с ним над землями Сукхавати, олицетворение
Сострадания; 2) Бодхисаттва Ваджрапани («Рука, держа-
щая ваджру», кит. Цзиньганшоу-пуса) — борец с
ством и заблуждениями, культ которого, являясь порожде-
нием ваджраяны, получил особое распространение в лама-
изме (в Тибете, Монголии, Бурятии); 3) Бодхисаттва
Манджушри (кит. Вэньчжу) — защитник буддийского ве-
роучения (Закона-Дхарма) и олицетворение мудрости;
4) Бодхисаттва Самантабхадра (кит. Пусянъ) — олице-
творение первооснов и истинности Учения.
Третий ранг буддийского пантеона занимают пратье-
кабудды и архаты — оба этих класса личностей принадле-
жат мифологии хинаяны179. Как архаты («достойный», кит.
элоханъ, лоханъ, в европейской терминологии — «буддий-
ский святой») исходно определялись 16 ближайших уче-
ников и последователей Будды, прошедших вслед за ним
весь Путь и вышедших из круга новых смертей и рожде-
ний. Отдельного упоминания в данном случае заслуживает
племянник Будды — Ананда (кит. Ананъ), один из первых
его десяти учеников, который считается в буддийской тра-
диции самым старательным и преданным Учению, полу-
чив за свое рвение эпитет «Многослышащий» (кит. До-
вэнъ). В махаяне утвердилась группа из 18 перво-архатов,
и под этим классом личностей стали пониматься существа,
прошедшие лишь часть Пути и приблизившиеся к состоя-
нию бодхисаттв.
Из других персонажей буддийского пантеона, которые
не будучи прямо связанными с доктринальными положе-
ниями Учения, тем не менее занимают важное место как в
буддийских религиозных представлениях, так и в культо-
вом изобразительном искусстве, отметим Четырех вели-
ких небесных правителей и Царя мертвых.
Четыре великих небесных правителя (санскр. Чатур-
махараджа, кит. Сы-да-тянъван) — повелители четырех
сторон света. 1. Царь Востока Дхритараштра (кит. Моли-
цин, или Чиготяньван — «Хранитель страны»), считаю-
щийся старшим в этой когорте, повелителем всех людей,
способным в качестве кары за их прегрешения насылать
442
магический черный вихрь, обращающий в прах все живое.
Кроме того, он почитался в Китае небесным покровителем
страны и его правящего дома. 2. Царь Запада Варупакша
(кит. Молихай, или Гуанму-тянъван — «Всевидящий») —
повелитель драгоценностей и обладатель волшебного му-
зыкального инструмента (наподобие четырехструнной ги-
тары), от звуков которого весь мир погружается в благо-
стное спокойствие. 3. Царь Юга Вирудхара (кит. Молихун,
или Цзэнчжан-тянъван — «Повелитель роста и приумно-
жения всего живого») — повелитель слонов, способный
вызывать грозы и землетрясения. 4. Царь Севера Вайшра-
вана (кит. Молишоу, или Довэнъ-тянъван — «Всеслыша-
щий») — повелитель лошадей.
Царь мертвых (Ямараджа, кит. Янълован, Янь-ван) —
персонаж, образ которого восходит к образу древнеиндий-
ского бога подземного мира и царства мертвых Яма. В буд-
дийской мифологии он превратился в бога смерти. В Китае
Царь мертвых стал олицетворением единоличной власти в
царстве мертвых и вершителем дальнейших судеб усоп-
ших. Культ Янълована совместно с мифологемой ада выде-
лился в самостоятельную религиозную величину ориенти-
ровочно в ѴІІ-ѴІП вв., превратившись затем в неотъемле-
мую часть популярных верований.
Таков состав наиболее представительных персонажей
китайско-буддийского пантеона, изображения которых за-
нимают центральное место в произведениях культового
искусства.
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Базовыми и наиболее нормативными элементами буд- БУДДИЙСКОЙ
дийской иконографии являются позы (асаны, кит. цзо) и ИКОНОГРАФИИ
символические жесты (мудры, кит. инъ).
Практика изображения персонажей в определенных
позах со всей очевидностью восходит к добуддийским ме-
дитативным техникам: о таких позах упоминается еще в
Упанишадах и в ведической литературе. В качестве буд-
дийского иконографического элемента асаны начали скла-
дываться в Гандхарской и Матхурской школах. Они при-
званы, во-первых, передать нахождение буддийских бо-
жеств в состоянии медитативного сосредоточения, что сразу
же принципиально отличает их от людей, пребывающих в
обыденной повседневности, отмеченной динамичностью и
физической активностью, и, во-вторых, послужить нагляд-
ным примером йогических практик для зрительской ауди-
тории, одновременно создавая y нее надлежащее настрое-
ние. Асаны подразделяются на три основных типа: «лежа-
чая» поза, «стоячие» позы и «сидячие» позы.
«Лежачая» поза используется исключительно в одном
случае — для изображений «спящего Будды», т. е. Будды,
пребывающего в паринирване. В отличие от буддийской
литературной образности, где «сон» есть метафора живо-
го существа, пребывающего в неведении и заблуждениях
(и вступление человека на Путь, и достижение им состоя-
ния просветления обычно квалифицируется как «пробужде-
ние»), через «спящую фигуру» в иконографии передается
«Спящий Будда».
Конец XII — начало XIII в.
Скальный храм
Баодиншанъ.
Пров. Сычуанъ.
Длина 31 м, высота 6,8 м
Танцующая поза
Поза лотоса
Неполная поза лотоса
180 Результатами самадхи
считаются полное успокоение
сознания, снятие противоречий
между внутренним и внешним
миром, слияние индивидуаль-
ного сознания (микрокосма) с
космическим абсолютом (мак-
рокосмом). Как таковое оно
выступает заключительной сту-
пенью Пути, подводящей лич-
ность к вступлению в нирвану.
состояние полной освобожденности Будды от логико-дис-
курсивной и психико-эмоциональной деятельности.
«Стоячие» позы, в которых персонажи показываются
стоящими в полный рост, подразделяются, в зависимости от
положения ног, на несколько разновидностей. Часть из
них — например, поза «со скрещенными ногами», поза «дви-
жения» — передают различные типы движения: ходьбу, бег,
левитацию, магическое прохождение сквозь воздух, скалы
или воду. Но все эти разновидности, как это понятно из
сказанного выше, присущи изображениям второстепенных
персонажей. Еще одна поза — «танцующая», когда одна
нога (как правило, правая) согнута в колене и высоко при-
поднята над землей, — характерна для изображений Небес-
ных царей, божественных танцовщиц и демонических су-
ществ. Наиболее распространенной для иконографии цент-
ральных персонажей буддийского пантеона является поза
«стояния на прямых ногах», которая может реализовывать-
ся в ее четырех основных вариантах: «прямостоячая», с
ровным положением корпуса; «с тремя изгибами», когда
тело показывается с изящным изгибом; «с правой выпрям-
ленной ногой» и «с левой выпрямленной ногой», в обоих
случаях одна нога чуть согнута в колене, другая плавно
отведена в сторону. В раннем китайско-буддийском искусст-
ве в «стоячих» позах могли показываться практически все
персонажи, начиная с Будды. Впоследствии она стала ха-
рактерной принадлежностью иконографии бодхисаттв, Буд-
ды Амитабхи, a также спутников (его учеников, монаше-
ствующих) Будды в групповых композициях.
«Сидячие» позы являются самыми распространенными
в буддийской иконографии и распадаются на несколько
самостоятельных, по их символическим значениям и тер-
минологическим названиям, типов: «поза лотоса», «непол-
ная поза лотоса», «скрытая поза», «поза отдохновения»,
«поза отдыхающего царя», «поза Майтреи» и «поза задум-
чивости».
Важнейшее место в буддийской иконографии (равно
как и в йогических практиках) принадлежит «позе лотоса»
(в более строгой терминологии — «ваджрная поза», ваджра-
сана или «поза созерцания», дхъянасана). Она передает со-
стояние созерцания (дхъяна), доведенное до предельной фор-
мы медитативного сосредоточения (самадхи), при которой
исчезают различия между созерцающим субъектом, созер-
цаемым объектом и процессом созерцания180. «Поза лото-
444
са» показывается (и исполняется) так: ноги согнуты в ко-
ленях и плотно скрещены в области голени или лодыжек.
Колени оторваны от сидения, и образованная скрещенны-
ми ногами линия проходит почти параллельно поверхно-
сти земли. Обе ступни повернуты подошвами вверх, левая
прижата к правому бедру, правая — к левому. Правая нога
должна проходить над левой, так как она является симво-
лом Будды и Учения, тогда как левая нога — мира смерт-
ных. Поэтому само по себе скрещивание ног есть знак
единства Будды со всеми живыми существами, a возложе-
ние правой ноги на левую — путеводной сути Учения. Кроме
Будды, в данной позе могут показываться практически
любые персонажи буддийского пантеона, за исключением
Небесных царей и божеств, связанных с адом.
«Неполная поза лотоса» («поза бодхисаттв», бодхиаса-
на) частично повторяет «позу лотоса»: ноги в ней по-преж-
нему показаны скрещенными, правая нога плотно прижа-
та к левому бедру, a bot левая находится чуть в более
свободном положении. Кроме того, в этой позе левая нога
может проходить над правой, что соответствует ее симво-
лическому значению. Правая ступня — знак истинного,
левая — заблуждений, a вся поза в целом символизирует
истинный Путь и представляет бодхисаттв в их ипостаси
победителей зла и невежества, которые путем распростра-
нения Учения подавляют злобные чувства и наставляют
живые существа.
«Скрытая поза» является, по сути дела, вариантом «ло-
тосовых» поз, однако ноги персонажа показаны в ней пол-
ностью скрытыми одеянием. В тибетской иконографии та-
кая поза использовалась для изображений преимуществен-
но исторических персонажей. В китайском культовом
искусстве, особенно в период Южных и Северных динас-
тий, в ней мог показываться и Будда.
«Поза отдохновения» («приятная поза», лалитасана)
включает в себя две разновидности. В одной из них ноги
персонажа по-прежнему показываются согнутыми в коле-
нях и скрещенными, но колени свободно лежат на сидении.
Скрытая поза.
Буддийская стела.
Конец V — начало VI в.
Пров. Сычуанъ. Ок. 40 см
Поза
царского отдохновения
a — «классический» вариант; б —
со скрещенньгми ногами.
Поза отдохновения
a — со скрещенными ногами; б —
со спущенной правой ногой; в —
со спущенной левой ногой (Бод-
хисаттва Самантабхадра, с япон-
ской гравюры).
445
Поза Майтреи
a — со сггущенными и параллель-
но расположенными ногами; б —
со скрещеяными ногам; в — с
ногами, стоящими на подставке.
Поза задумчивости
Лотосовый трон
из одного ряда лепестков.
Каменъ. X ѳ.
Во второй — одна нога (обычно левая) согнута и, находясь
в перпендикулярном положении по отношению к телу, под-
держивает колено другой ноги, свешивающейся с сиденья
и нередко опирающейся на дополнительную подставку.
«Поза царского отдохновения» (махараджа-лалитаса-
на) подразделяется на три разновидности. Одна из них,
которую условно можно назвать «классической», частично
совпадает со второй разновидностью «позы отдохновения».
Но правая нога персонажа показывается в ней не свешиваю-
щейся с сидения, a согнутой в колене и высоко приподня-
той, так что ее нижняя часть оказывается стоящей почти
перпендикулярно по отношению к поверхности сиденья.
Во второй разновидности данной позы правая нога показы-
вается согнутой в колене, a левая — спущенной вниз. Обе
эти разновидности включают в себя и специальное положе-
ние рук: правая рука вытянута и отведена в сторону, ее
локоть лежит на колене; левая опирается на сиденье.
В третьей разновидности разбираемой позы одно или два
колена оторваны от сиденья, ступня одной ноги кладется
на бедро другой. В целом «поза царского отдохновения»,
как это принято считать, отличается особой простотой и
изяществом, передавая, с одной стороны, глубину Учения,
a с другой — внутреннее спокойствие, обретаемое посред-
ством медитативного сосредоточения. Обычно в ней вос-
производятся бодхисаттвы, особенно часто Авалокитешвара-
Гуаньинь. Однако, согласно свидетельству оригинальных
письменных источников, она могла использоваться в ки-
тайско-буддийском культовом искусстве и для изобра-
жений Будды, но только в тех случаях, когда он показы-
вался в ипостаси бодхисаттвы. Для всех прочих персона-
жей буддийского пантеона данная поза, несмотря на ее
внешнюю простоту, считалась недопустимой.
«Поза Майтреи» («благая поза», бхадрасана) — един-
ственная поза, в которой обе ноги персонажа показывают-
ся спущенными с сиденья-трона, причем в трех вариантах:
скрещенными, идущими параллельно друг к другу и по-
ставленными на высокую подставку. В любом случае спу-
щенные ноги символизируют готовность Будды Майтреи
спуститься с небес Тушита в мир людей. Однако в китай-
ско-буддийском культовом искусстве в этой позе мог пока-
зываться и Будда, тогда как для иконографии Будды Май-
треи был разработан другой ее вариант, копирующий «клас-
сическую» разновидность «позы царского отдохновения» с
той только разницей, что ступня правой ноги показывает-
ся чуть свешивающейся с сиденья.
«Поза задумчивости» не имеет оригинального термино-
логического обозначения и была, видимо, заимствована
Гандхарской школой из античной скульптуры. В китай-
ско-буддийском культовом искусстве она более или менее
активно использовалась вплоть до Х-ХІ вв., в основном в
изображениях Будды Майтреи и Бодхисаттвы милосердия.
Персонаж показывается в ней сидящим на троне, левая
нога спущена, правая согнута в колене и лежит на колене
левой ноги. Правая рука согнута в локте, опирается на
446
приподнятое колено, a ладонь с вытянутым указательным
пальцем касается лица или прически. Левая рука, чуть
согнутая в локте, свободно лежит на лодыжке правой ноги.
Органическим дополнением асан являются троны, на-
бор которых также достаточно разнообразен. Доминирую-
щее положение в китайско-буддийской иконографии зани-
мает лотосовый трону само по себе появление которого в
культовом изобразительном искусстве было связано с эво-
люцией представлений о Будде. В традиции хинаяны он
воспринимался в качестве не божества или сверхъестествен-
ного существа, a как Учитель, нашедший благодаря соб-
ственным трудам путь «к спасению» и указавший его лю-
дям. Поэтому в своих древнейших изображениях Будда
мог показываться сидящим на сиденье-возвышении, копи-
рующем обычное сиденье, или стоящим почти прямо на
земле. Обожествление образа Будды в махаяне и его пре-
вращение в высший принцип единства всего сущего и в
персонификацию мироздания (Тело Будды/Тело Закона)
повлекло за собой соответствующие изменения в его ико-
нографии, когда его изображения стали обязательно поме-
щаться на лотос как космический цветок. Сохранилось
несколько китайско-буддийских скульптурных произведе-
ний периода Южных и Северных династий, в которых за-
фиксирована начальная стадия процесса формирования
«лотосового трона». Цветок или несколько цветков лотоса
образуют в них отдельный сегмент художественной компо-
зиции. В дальнейшем в культовом искусстве утвердилось
несколько стилистических вариантов «лотосового трона»: в
виде относительно реалистического или, напротив, предель-
но стилизованного цветка лотоса, состоящего из одного, двух,
трех и восьми рядов лепестков, a также «тысячелистный»
трон. Лепестки внешнего ряда обычно (но не обязательно)
загнуты вниз, внутреннего — подняты вверх, определяя гра-
ницы плоской части цветка, служащей опорой для статуи.
Сидящими на «лотосовом троне» показываются не только
Будда, будды и бодхисаттвы, но и подавляющее болыпин-
ство всех прочих персонажей божественного и историко-
легендарного пантеонов. Изображения в «стоячих» позах
тоже включают в себя почти в обязательном порядке под-
ставки в виде цветка лотоса. Аналогичные подставки при-
сутствуют в художественных композициях и при воспро-
изведении «сидячих» поз со спущенными ногами. Начи-
ная приблизительно с VIII в. «лотосовый трон» практически
почти полностью вытеснил все остальные виды тронов, за
исключением только тех, которые служат своего рода опо-
знавательным атрибутом того или иного персонажа.
Семантическим аналогом «лотосового трона» выступа-
ет «трон Сумеру» — сооружение довольно сложной конфи-
гурации, состоящее, как правило, из нескольких архитек-
тонических сегментов, базовыми из которых являются две
фигуры в форме усеченной пирамиды, конуса или восьми-
гранника, обращенные суженными частями друг к другу.
Посредством этого сооружения воспроизводилась космиче-
ская гора Сумеру (Меру), которая помещалась в индийской
Будда в позе задумчивости.
Каменная скульптура.
Конец VI в. Пров. Шанъси
Варианты сочетания
«лотосового трона»
с «троном Сумеру»
a — каменная скульптура первой
половины VI в. (из скального хра-
ма Пещеры тысячи Будд, пров.
Шаньси); б — каменная скулыі-
тура ХІІ-ХІП вв. (из скального
храма пров. Чжэцзян).
447
Персонажи буддийского
пантеона иа тронах-
птицах и животных
и буддийской космографии в центре мира и считалась мес-
том обитания богов. Помещение Будды на таком троне
символизировало его вселенскую сущность и универсаль-
ность Учения.
Еще один трон в форме геометрической фигуры — квадрат-
ной платформы — символизирует то место — под Древом Бод-
хи (Древом Просветления), где, по преданию, восседал Сид-
дхарта Гаутама в момент достижения им состояния будды.
К числу тронов-атрибутов относятся троны в виде жи-
вотных и птиц, считающихся спутниками конкретных будд
и бодхисаттв. В целом набор таких тронов достаточно раз-
нообразен: в них использовались образы быка, коня, оле-
ня, вепря, черепахи, мифической птицы Гаруда, павлина
и гуся. Однако в отличие, скажем, от японской или тибет-
ской иконографии в китайско-буддийском культовом ис-
кусстве они не получили сколько-нибудь заметного рас-
пространения. В нем утвердились только два вида зооморф-
ных тронов — «львиный» и «слоновий» (в виде белого слона,
подробно см. далее), которые являются специфической при-
надлежностью иконографии соответственно бодхисаттв
Манджушри и Самантабхадры.
При исполнении групповых — и скульптурных, и жи-
вописных — художественных композиций позы входящих
в них центральных персонажей могут достаточно широко
варьироваться. В художественном убранстве китайско-буд-
дийских храмов стандартно воспроизводятся три почти
одинаковых и помещенных в один ряд изображений будд в
«сидячей» позе, дополненных, как правило, двумя стоя-
щими фигурами, но заметно меньшего, чем они, размера.
Эти утроенные изображения олицетворяют либо прошлое,
настоящее и будущее, либо воспроизводят Будду Шакья-
муни (в центре), Будду Вайрочана и Будду Амитабха. Стоя-
щие фигуры — изображения учеников Будды.
Если Будда показывается в сопровождении бодхисаттв
(чаще всего двух), то либо все три персонажа воспроизводят-
ся в «стоячих» или «сидячих» позах (что, правда, более типич-
но для раннего китайско-буддийского культового искусства);
либо же Будда — в «сидячей», a бодхисаттвы — в «стоячих»
позах. В случае изображения Будды и бодхисаттв в «сидя-
чих» позах, он показывается в «позе лотоса», они — в «позе
бодхисаттв». Все указанные варианты групиовых изображе-
ний Будды и бодхисаттв используются и в иконографии Буд-
ды Амитабха совместно с Бодхисаттвами Авалокитешвара и
Махастхамапрапта, которые все вместе составляют устойчи-
вую триаду, известную как «Три владыки Чистой Земли».
Следующий элемент буддийской иконографии — сим-
волические жесты-мудры — тоже имеет гетерогенное про-
исхождение и в целом те же самые, что и асаны, культурно-
художественные истоки. Восходя в своем основании к ар-
хаической системе жестов церемониально-ритуального
характера (вытянутая рука — знак дарения, поднятая —
приветствия и т. д.), они претерпели дальнейшую транс-
формацию и систематизацию в русле древнеиндийской ри-
туальной деятельности и добуддийских йогических прак-
448
Будда и бодхисаттвы
в сидячих позах. Каменный
фриз монастыря Ситамэнъ.
Начало VI в. Пров. Шаньси
тик. В качестве нормативной принадлежности собственно
буддийской иконографии мудры также начали складываться
в Гандхарской школе, испытав на себе при этом влияние и
эллинистической скульптуры. Однако они далеко не сразу
приобрели всю полноту своих символических значений.
Их исходная цель заключалась лишь в том, чтобы придать
изображениям более строгие иконографические черты в их
связи с конкретными житийными эпизодами и качествами
персонажей, в первую очередь самого Будды. Определяю-
щее воздействие на последующую эволюцию мудр оказала
традиция ваджраяны, благодаря которой они наполнились
особым эзотерическим смыслом, невероятно тонкой и в то
же время абстрактной искусностью.
Всего выделяются 8 основных и 6 вспомогательных ти-
пов мудр, из которых ведущее место в китайско-буддийской
иконографии занимают следующие пять: «жест созерцания»,
«жест дарования защиты», «жест бесстрашия», «жест при-
косновения к земле», «жест проповеди».
29 Истормя искуссгва Кмтая
Будда и бодхисаттвы
в стоячих позах. Каменная
стела. Первая треть VI в.
Пров. Шаньдун. 254 см
Будда Амитабха
с бодхисаттвами
Авалокитешвара
и Махасатхамапрапта
в стоячих позах.
С гравюры-иллюстрации
к китаиско-буддийскому
каноническому своду
«Трипитака»
449
Жест созерцания
a — исполняемый одной рукою
(с китайских храмовых стенопи-
сей); б — со вложенными, одна в
другую, ладонями (вариант); в —
с полураскрытыми ладонями; г —
с соединенными большими паль-
цами; д — с соединенными боль-
шими и средними пальцами.
Жест дарования защиты
450
«Жест созерцания» (дхьянамудра, кит. дин-инъ) прямо
восходит, как это явствует из его терминологического обо-
значения, к техникам медитативного сосредоточения, и в
качестве такового является органической частью «сидя-
чих» поз, прежде всего «позы лотоса». Он может испол-
няться как одной, чаще всего левой, так и двумя руками, и
в нескольких вариантах, практико-морфологическим ар-
хетипом которых выступает раскрытая ладонь, лежащая
тыльной стороной на коленях. При исполнении этого жес-
та двумя руками он может воспроизводиться в трех глав-
ных разновидностях. В первой из них ладони вложены
одна в другую, тыльная сторона одной ладони плотно при-
жата к внешней поверхности другой, пальцы выпрямлены
или чуть согнуты. Правая ладонь (подобно положению пра-
вой ноги в «позе лотоса») обычно покоится на левой, что
подчеркивает, с одной стороны, единство Будды и Учения
со всеми живыми существами, a с другой — их положение
относительно друг друга. Распространенным вариантом этой
разновидности «жеста созерцания» является скрещенное
положение ладоней и их обращение к зрителю.
Во второй разновидности разбираемой позы задейство-
ваны большие пальцы обеих рук, которые соединяются,
оставаясь при этом в горизонтальном положении либо об-
разуя две основные геометрические фигуры — треугольник
и круг. Треугольник символизирует Три драгоценностпи, под
которыми понимаются Будда, Учение и монашеская община
(сангха). Круг — символ круговорота бытия и одновременно
совершенства Учения. В третьей разновидности «жеста со-
зерцания» в дополнение к болыпим пальцам обеих рук за-
действованы указательные и (или) средние, которые тоже
соприкасаются, образуя геометрическую фигуру, как бы со-
стоящую из двух кругов. Будучи, как видим, неразрывно
связанным с образом самого Будды, «жест созерцания» от-
нюдь не является специфической принадлежностью только
его иконографии. Напротив, он может воспроизводиться в
изображениях самых разных буддийских персонажей, на-
чиная бодхисаттвами и заканчивая историческими лицами.
«Жест дарования защиты» (варамудра, варадамудра, кит.
шиюанъ-инъ, «жест проявления намерений») или «жест ис-
полнения клятвы» выполняется одной (как правило, пра-
вой) ладонью, которая открыта и обращена к зрителю лице-
вой стороной, пальцами вниз. Пальцы могут быть выпрям-
ленными, что характерно для индо-буддийской скульптуры
и ранних китайско-буддийских произведений, все пять слегка
согнутыми, либо два или три — полусогнутыми. Сама рука
в индийской скульптуре тоже всегда показана вытянутой,
тогда как в китайских произведениях — согнутой под до-
статочно острым углом, что более отвечает положению тела
в «сидячей» позе. Открытая ладонь считается знаком рас-
цвета и торжества Учения, a вся эта мудра в целом — сим-
волом милосердия Будды и его готовности взять под свое
покровительство всех живых существ. Как таковой данный
жест соотносится с клятвой, данной историческим Буддой,
стремиться к спасению всех живых существ, что и находит
отражение во втором из приведенных его терминологиче-
ских обозначений. Кроме иконографии Будды, этот жест в
тех же самых символических значениях (готовность оказать
покровительство всем живым существам, исполнение соб-
ственной клятвы) широко используется в изображениях бод-
хисаттв, в первую очередь Авалокитешвары-Гуаньинь. Иног-
да Бодхисаттва милосердия показывается с каплями амри-
ты (божественный нектар, аналог эликсира бессмертия, в
китайской терминологии «сладкая роса», гань лу), ниспадаю-
щими с кончиков пальцев, что подчеркивает идею его неис-
черпаемого сострадания ко всем живым существам и, кроме
того, знаменует изгнание злых сил.
«Жест бесстрашия » (абхайямудра, другой перевод —
«жест дарования безопасности», кит. шиувэй-инъ, «жест
объявления бесстрашия») тоже исполняется одной (как пра-
вило, правой) рукой: рука согнута в локте и поднята вверх,
ладонь открыта, расположена пальцами вверх и обращена к
зрителю. Возникновение этого жеста в буддийских предани-
ях связывается с одним из эпизодов деяний Будды в проти-
воборстве с врагами Учения. Рассказывается, что злобный
Девадатта, желая унизить или даже уничтожить Будду, на-
травил на него слона, предварительно напоив его вином.
Опьяненное и разъяренное животное набросилось на Будду,
готовясь его растоптать. Но тот, не двигаясь с места, лишь
поднял правую руку ладонью вверх, и этого оказалось впол-
не достаточно, чтобы укротить и усмирить слона. На самом
деле, именно данный жест с наиболыней степенью очевид-
ности происходит от универсальных архаических ритуально-
церемониальных жестов, которые прослеживаются в раз-
личных региональных религиозных традициях. Так, напри-
мер, типологически сходный с ним жест играл важную роль
в семитских ритуалах, зафиксированных в Библии.
С художественной точки зрения генезис «жеста бесстра-
шия» был связан, скорее всего, с эллинистическим искусст-
вом. Он мог быть прямо заимствован Гандхарской школой
из римской скульптуры, в которой (приблизительно со
II в. до н. э.) было принято изображать императоров стоящи-
ми в полный рост, с поднятой правой рукой и с ладонью,
обращенной к зрителю. Независимо от его подлинного про-
исхождения, «жесту бесстрашия» в буддийской иконогра-
фии придается особое символическое значение. Во-первых,
он считается воплощением внутренней силы Будды и Уче-
ния. Во-вторых, передает способность Учения защитить жи-
вое существо от любой грозящей ему опасности. И, в-треть-
их, призывает живые существа преодолеть врожденное чув-
ство страха, порождаемое как их внутренними сомнениями
и противоречиями, так и угрозами, проистекающими из внеш-
него мира, «наполненного страхами и ужасами». «Жест да-
рования защиты» и «жест бесстрашия» нередко объединя-
ются в одном изображении, как в «стоячих», так и в «сидя-
чих» позах. Первый из них исполняется, как правило (но не
строго обязательно), левой, a второй — правой рукой.
«Жест прикосновения к земле» (бхитисрарашамудра, кит.
чуди-иньу «жест соприкосновения с землей») исполняется
Жест бесстрашия
Изображение Будды
на троне-платформе
и с жестом бесстрашия.
Каменная скульптура.
Северное Вэй.
Пров. Шанъдун
Схема исполнения жеста
дарования защиты, вместе
с жестом бесстрашия
Изображение Будды
с жестами дарования
защиты и бесстрашия
в сидячей позе. Каменная
скулъптура. Вторая
половина VI б. Пров. Шаньси
451
Жест
прикосновения к земле
Жест проповеди
Изображение Будды
с жестом проповеди
и в позе Майтреи.
С каменного рельефа.
ѴІІ-ѴІІІ вв. Пров. Сиань
правой рукой и в трех основных положениях: ладонь, обра-
щенная к зрителю тыльной стороною, пальцами вниз и с
вытянутыми пальцами, с вытянутым указательным паль-
цем и с ладонью, расположенной перпендикулярно земной
поверхности, с пальцами, отведенными вправо. Он характе-
рен для изображений в «сидячих» позах и тоже объясняется
в традиции, исходя из очередного эпизода жизни Будды.
Боги земли предупредили его, что на него собираются на-
пасть демоны, но Будда успокоил их, сказав, что победит
этих демонов при помощи только своей внутренней силы.
Только он успел произнести эти слова, как перед ним воз-
ник Мара — Царь демонов, потребовав, чтобы он продемон-
стрировал свои столь необыкновенные способности. И Буд-
да, направив палец на землю, вызвал духов земли из зем-
ных недр, которые уничтожили демонов. Существует и другая
легенда, объясняющая происхождение и символику этого
жеста: Будда указывает на землю как на свидетеля дости-
жения им состояния просветления.
«Жест проповеди» или «жест успокоения» (кит. ань-
вэй-инъ, «жест успокоения») считается воплощением муд-
рости Будды. Он может исполняться и правой, и левой
рукой. Изображение его состоит из поднятой вверх откры-
той ладони, пальцы которой образуют определенные фигу-
ры. Чаще всего показывается круг, образованный указа-
тельным или средним и большим пальцами, если он испол-
няется левой рукой, то большой палец символизирует
высший ум, средний соответствует элементу «огонь» и воп-
лощает клятвы, данные Буддой. Если правой рукой, то
болыной палец символизирует медитативное сосредоточе-
ние, указательный соответствует элементу «воздух» и воп-
лощает усилия Будды, a их соединение есть знак усердия
Будды в исполнении им своей функции Просветленного.
452
Bee остальные детали внешнего облика персонажей
являются наиболее тщательно разработанными для ико-
нографии Будды, опираясь на «тридцать два икониче-
ских признака великой личности» (дватримшан-махапу-
руша-лакшанану, кит. шисаньэр-сян). Эти признаки из-
лагаются в канонической сутре — «Сутра о признаках»,
которая входит в высший подраздел (Диргха-агамы) пер-
вого раздела (Сутра-питака) буддийского Канона (Три-
питпака), где представлены тексты, считающиеся запися-
ми проповедей Будды. В IV в. названная сутра была пере-
ведена и на китайский язык. Литературные формулировки
признаков, данные в палийской и китайской ее версиях,
крайне туманны по смыслу и содержат немало следов
исходно зооморфных характеристик. Так, например, в них
говорится, что y «великой личности» рот с сорока зубами,
выступающими клыками, широким и длинным языком и
капающей слюною, что между пальцев рук и ног y него
имеются перепонки, как y водоплавающих птиц, что его
половой орган подобен половому органу коня, a бедра —
словно y оленя. Все это позволяет предполагать, что дан-
ные признаки восходят к значительно более древним, чем
буддизм, религиозным представлениям и исходно прила-
гались к образу какого-то персонажа, связанного с вер-
ховной властью, скорее всего «вселенского (идеального)
правителя» (царъ-чакравартин), учение о котором состав-
ляет важную часть раннебуддийских социально-полити-
ческкх концепций.
Впоследствии «тридцать два иконических признака»
стали считаться принадлежностью исключительно.~облика
Будды и подверглись различным интерпретациям. Всего
существует более 20 посвященных им отдельных текстов и
тематических разделов в авторских сочинениях, коммен-
тариях и энциклопедических изданиях, где они истолко-
вываются в метафорическом, психотехническом и эстети-
ческом планах. В результате в них определяются художе-
ственные трактовки основных черт внешности Будды и
объясняются их символические значения.
Исходя из этих интерпретаций, голову Будды венчает
мясистый нарост, покрытый завивающимися в кольца во-
лосами синего цвета, что и передается посредством такого
специфического иконографического элемента, как причес-
кообразное навершие — ушниша. Посередине бровей Буд-
ды растет белый, завивающийся вправо волос, от которого
исходят лучи света, окружающие его голову, — такова се-
мантика буддийского нимба. Лоб Будды должен показы-
ваться широким, нос удлиненным, рот — с ярко-красными
губами и полуоткрытым в знак неустанности его наставле-
ний живым существам. Нижняя часть лица — массивной,
плечи — широкими, дабы придать ему сходство с обликом
льва как царя зверей, символа силы и бесстрашия. Руки,
ноги и пальцы — удлиненными и изящными. От его тела
исходит сияние, чем и объясняется практика золочения
его скульптурных изображений. Свастика на груди Будды
есть символическое воспроизведение буддийского Канона.
ПРИНЦИПЫ
ИЗОБРАЖЕНИЯ
ВНЕШНЕГО ОБЛИКА
КОНКРЕТНЫХ
ПЕРСОНАЖЕЙ
Стандартное изображение
Будды в китайско-
буддийском кулътовом
искусстве ХѴІІ-ХІХ вв.
С гравюры-иллюстрации
к китайско-буддийскому
каноническому своду
«Трипитака»
453
Изображение Будды
Амитабхи в китайско-
буддийском культовом
искусстве. С гравюры-
иллюстрации к китайско-
буддийскому каноническому
своду «Трипитака»
Изображение Будды
с усиками и бородкой.
С гравюры-иллюстрации
к китайскобуддийскому
каноническому своду
«Трипитака»
Изображение Будды
Вайрочана
(со специфическим жестом
высшей мудрости).
С гравюрыиллюстрации к
китайско-буддийскому
каноническому своду
«Трипитака»
181 Указанные цветовые ас-
социации проистекают из об-
щей космолого-цветовой сим-
волики, принятой в ваджрая-
не: белый цвет — для Востока,
синий — для Центра, жел-
тый — для Юга, красный —
для Запада, зеленый — для
Севера. Ей соответствуют и
пять великих элементов, кото-
рые распределяются так: Вос-
ток — ветер, Центр — вода,
Юг — земля, Запад — огонь
и Север — воздух. Однако ин-
дийская культура располага-
ла и другими цветовыми ко-
дами, в которых, например,
синий цвет ассоциируется с
Югом, a желтый — с Севером.
Этим объясняются разночте-
ния цветовых обозначений в
иконографии Четырех Небес-
ных Царей.
Вне разбираемых признаков в иконографии Будды ут-
вердились и такие детали его внешности, как брови в фор-
ме лунного серпа, глаза, подобные бутонам лотоса, руки —
хоботу слона, уши с удлиненными мочками, которые, ско-
рее всего, являются отражением индийских этнографиче-
ских реалий — обычая знатных мужчин носить серьги с
тяжелыми подвесками. Кроме того, в китайско-буддийском
культовом искусстве в определенные периоды, в первую
очередь в танскую эпоху, было принято изображать лицо
Будды (равно как и лица бодхисаттв) с тонкими вьющими-
ся усиками и бородкой.
Перечисленные иконографические нормативы распро-
страняются и на изображения будд-татл:агат, хотя каж-
дый из них имеет собственную цветовую символику и ат-
рибуты, включая сопровождающих их животных и птиц.
Так, с Буддой Вайрочаной соотносятся белый цвет (изобра-
жения на «лотосовом троне» белого цвета) и лев. С Буддой
Амитабхой (запад) — красный цвет и павлин, с Буддой
Акшобхьей (восток) — синий (голубой) цвет и слон, с Буд-
дой Ратнасамбхавой (юг) — желтый цвет и лотос, и с Буд-
дой Амогхасиддхой (север) — зеленый цвет и мифическая
птица Гаруда181. Для Будды Майтреи в китайско-буддий-
ском изобразительном искусстве установился специфиче-
ский иконографический типаж: лысоголовый толстяк в мо-
нашеском одеянии, вольготно расположившийся на троне,
с широким благодушным лицом, расплывшимся в радост-
ной улыбке и с огромным животом (знак довольства). В та-
ком виде Будда Майтрея обычно изображается и в китай-
ском светском художественном творчестве.
454
Характерными приметами внешнего облика бодхисаттв
являются, во-первых, головные украшения — «короны»,
которые утвердились в буддийской иконографии в рамках
Матхурской школы, восходя к местному костюму и юве-
лирному делу. В китайском культовом искусстве «коро-
ны» могут исполняться в различных вариантах — в виде
короно-, тиаро- и диадемоподобных изделий. Во-вторых,
бодхисаттвы, что особенно заметно при их изображениях в
«стоячих» позах, обычно облачены в нарядные одеяния,
дополненные разнообразными украшениями. В-третьих, их
облику присуща определенная женственность, которая не-
прерывно усиливалась по мере развития китайско-буддий-
ского культового изобразительного искусства. Параллель-
но одеяния бодхисаттв приобрели некоторое сходство с ки-
тайским костюмом, хотя всегда могли исполняться и их
изображения «в индийском стиле».
Наиболыними сложностью и разнообразием художе-
ственных воплощений отличается иконография Авалоки-
тешвары, который утвердился в Китае не только под своим
новым именем, но и в женской ипостаси. Китайский вари-
ант его имени — Гуаныииинъ, «Слушающий звуки мира
(«Внимающий звукам [раздающимся] в мире»), впослед-
ствии сокращенный до Гуанъинъ, — возник в результате
смешения ранними переводчиками буддийских текстов двух
санскритских слов: isvara («господин»), и svara («звук»).
Но он оказался в глазах китайцев как нельзя лучше отве-
чающим сущности, качествам и функциям Бодхисаттвы
милосердия, который неустанно прислушивается ко всему,
что творится в мире живых существ и готов прийти к
любому, взывающему о помощи. Так как в буддийской
мифологии Авалокитешвара наделяется способностью при-
нимать различные облики (в соответствии с условиями, в
которых он оказывает помощь живым существам), в ки-
тайско-буддийском искусстве с самого начала проявилась
тенденция к множественности его художественных обра-
зов и трактовок: в строго антропоморфном облике (для
ѴІІІ-Х вв. — чаще всего в облике монашествующего или
воителя), с тысячью рук, с четырьмя или шестью руками и
несколькими — до 13 — ликами. На «многоруких» изобра-
жениях на ладонях нередко воспроизводятся глаза — в знак
его всевидения. Существуют также устойчивые групповые
Изображения бодхисаттв
в китайско-буддиііском
искусстве
a — каменная скульптура (VI в.,
пров. Шаньдун); б — каменная
скульптура (XII в., пров. Чжэц-
зян).
Тысячерукая Гуанъинь.
Скальный храм
Баодиншань.
Конец XII — начало XIII в.
455
Тысячерукая Гуанъинъ.
ѴП-ѴІІІ вѳ.
Скалъный храм.
Пров. Сычуанъ
Изображение
Белохитпонной Гуаныінь
в светпской живописи.
С картины
Фан Вэйи (1585-1668)
456
композиции, состоящие из 6 (по числу типов живых су-
ществ — обитатели ада, демоны-aq/pa, голодные духи-пре-
тау животные, люди и небожители), 7, 33 фигур.
Вплоть до X в. во всех типах художественного образа
Авалокитешвары господствовала его мужская ипостась,
которая постепенно стала вытесняться женской. Вопрос о
том, как именно проходил этот процесс и почему он приоб-
рел в Китае необратимый характер, до сих nop вызывает
дискуссии в науке. Болыпинство исследователей сходятся
во мнении, что женский образ Гуаньинь восходит к одному
из трех женских воплощений Авалокитешвары, разрабо-
танных в ваджраяне (их образы впервые упоминаются в тек-
стах І-ІѴ вв.), — к Белой Tape (Curnamapa), культ которой
получил широчайшее распространение в Непале, Тибете и
Монголии. Непосредственным воплощением образа Белой
Тары является образ Велохитонной Гуанъинъ, изображае-
мой в белом одеянии, отдаленно напоминающем индий-
ское сари, и с накидкой на голове. Примечательно, что
впервые изображения Белохитонной Гуаньинь появились
в Китае не в культовом изобразительном искусстве, а в
светской живописи. Первая такая картина, дошедшая до
нас в копии, выгравированной на камне (1132 г.), была
создана, как считается, знаменитым северосунским худож-
ником Ли Лунмянем (подробно см. глава 8); она вызвала к
жизни многочисленные подражания и вариации. Гуань-
инь рисуется в них трогательно-хрупкой женщиной, оди-
ноко сидящей, закутавшись в свое белое одеяние, прямо на
земле, вне каких-либо буддийских символов и атрибутов.
В цинскую эпоху изображения Белохитонной Гуаньинь ста-
ли включаться и в художественное убранство храмов —
она стоит в полный рост на фоне горы Сумеру на голове
гигантской рыбы, служащей символическим воплощением
Великого океана, окружающего четыре материка буддий-
ской космографии. Кроме Белохитонной Гуаньинь, есть
немало и других типов ее изображений, которые, правда,
более характерны для скальных храмов, чем для собствен-
но буддийских святилищ. Она может показываться в обли-
ке юной девы или величественной матроны и с различны-
ми атрибутами, исходя из которых выделяются несколько
стандартных серий таких изображений — «Гуаньинь с
жемчужиной», «Гуаньинь y воды», «Гуаньинь с нефрито-
вой печатью», «Гуаньинь с кувшином» и т. д.
В ХѴП-ХѴШ вв. в Китае утвердился принципиально
новый вариант культа Бодхисаттвы милосердия — Чадопо-
дательница Гуаньинъ {Сун-цзы Гуанъинь, «Гуаньинь, нис-
посылающая детей»), Предпосылки для его возникновения
сложились еще в эпоху Шести династий, т. е. в период фор-
мирования в китайской культуре простонародных буддий-
ских верований. В одном из сборников рассказов (сяошо) на
буддийские темы, датируемом V в., присутствует произве-
дение под красноречивым названием «Гуаньшиинь дарует
сына». В нем повествуется о некоем даосском адепте, кото-
рый долгие годы мечтал о рождении сына, но его мечта
исполнилась только после того, как он стал молиться Бод-
хисаттве милосердия. Тем не менее определяющее влияние
на становление культа и образа Чадоподательницы Гуань-
инь оказали образ Мадонны и христианская иконопись. He
будучи воспринятым официальной буддийской церковью,
культ Чадоподательницы Гуаньинь приобрел исключитель-
ную популярность среди самых широких слоев населения
Китая. Редко какая из семей не имела дома ее живопис-
ных — иконы-нянъхуа — или скульптурных изображений,
Изображение
Белохитонной Гуаньинь
в храмовом
изобразительном
искусстве.
С книжной гравюры
no мотивам культовых
произведений
Гуаньинь с кувшином.
ѴІІ-ѴІІІ вѳ.
Скальный храм.
Пров. Сычуань
Чадоподательница
Гуаньинь. С иконы-няпъхуа.
457
Небесные цари
a — Царь Востока; б — Царь За-
пада; в — Царь Юга; г — Царь
Севера.
Изображения архатов
которые помещались на домашних алтарях, рядом с поми-
нальными табличками предков. Основные церемонии в честь
Чадоподательницы Гуаньинь проводились, по буддийскому
религиозному календарю, в день рождения Бодхисаттвы
милосердия — в 19-й день второго лунного месяца, и в 19-й
день шестого и девятого лунных месяцев. На иконах-шшь-
хуа и в скульптурных изображениях Чадоподательница Гу-
аньинь стандартно изображается в виде женщины средних
лет, сидящей на троне и держащей на коленях младенца, в
одеяниях, либо напоминающих облачение Белохитонной
Гуаньинь, либо стилизованных под китайский костюм. Спра-
ва и слева стоят ее два главных помощника — Отрок наи-
высших способностей (Шанцай-тунцзы), символ врожден-
ных способностей и блестящего будущего новорожденного,
и Дочь Царя-Дракона (Лунван-нюй, подробно см. далее),
одна из божественных покровительниц детей. В число обя-
зательных для иконографии Чадоподательницы Гуаньинь
атрибутов входят: лотос, птица, держащая в клюве буддий-
ские четки или розу, и ваза с веткой ивы.
Скульптурные изображения Небесных царей обязатель-
но присутствуют в буддийских храмах, где они обычно
ставятся по бокам от центрального входа, что сразу же
указывает на их функции защитников от злых сил. Пар-
ные изображения Небесных царей, выполненные в рельефе
или горельефе, нередко помещались также по бокам от
входа на внешних стенах буддийских строений. Они изоб-
ражаются, как уже упоминалось выше, в «стоячих» или
«танцующих» (устрашающих) позах, в полуцарском-полу-
воинском облачении и имеют собственные цветовые обо-
значения и наборы атрибутов, порядок которых, правда,
далеко не всегда строго соблюдается. В нормативной буд-
дийской иконографии Дхритараштра (царь Востока) имеет
лицо и тело белого цвета, густую бороду, a его опознава-
тельными атрибутами выступают пика или божественный
меч, на ручке которого, как правило, отлиты 4 иерогли-
фа — «земля», «вода», «огонь» и «ветер». Варупакша (царь
458
Запада) соотносится с красным цветом, его атрибут — му-
зыкальный инструмент либо змея (образ, производный от
образа мифических змей-нагов), драгоценность и пагода
(ступа). Вирудхара (царь Юга) соотносится с синим цве-
том, его атрибут — зонт либо меч. Вайшравана (царь Севе-
ра) — с желтым цветом, a его атрибутом может быть зонто-
образный стяг.
Архаты обычно воспроизводятся в облике монашествую-
щих и со специфическими деталями внешнего вида или
атрибутами, которые проистекают из легенд о них.
Кроме изображений персонажей, буддийские произве-
дения культового искусства насыщены всевозможными
атрибутами (санскр. лакшана). Мы остановимся только на
наиболее важных, подразделив их для удобства повество-
вания на несколько тематических разделов: 1) опорные
буддийские символы; 2) музыкальные инструменты; 3) ору-
жие; 4) предметы ритуально-церемониального и бытового
происхождения; 5) строения; 6) животные; 7) растения.
К числу опорных буддийских символов и иконографи-
ческих атрибутов относятся: колесо-чакра, громовержущий
скипетр ваджра, драгоценность-.шшц, патра и четки.
Колесо-чакра (кит. лунь, «колесо» или цзинълунъ, «зо-
лотое колесо») — предмет в виде колеса со спицами, кото-
рый восходит к универсальной для индоевропейского эт-
нокультурного массива солярной символике. Непосредствен-
но в древнеиндийской мифологии ассоциации колеса с
солнцем лучше всего прослеживаются на материале культа
братьев-близнецов Ашвинов, возничих солярной колесницы.
Образ чакры как таковой в собственно буддийской традиции
раньше всего проявляется в учении о вселенском правителе-
чакравартине, дословный перевод титула которого: «царь,
вращающий чакру». Осмысливаясь в виде ниспосылаемого
свыше золотого колеса с тысячью спицами, она считалась
главным из его Семи сокровищ (чакра, слон, конь, драго-
цеккостъ-мани, министр, ведающий казной, министр, ведаю-
щий войсками, и жена). Впоследствии символика чакры
предельно расширилась. Она олицетворяет круговорот бы-
тия (Колесо Космоса), совершенство и непреложность Уче-
ния (Колесо Дхармы), творческие способности Учения и буд-
дийских божеств (приведение колеса в движение), неустра-
шимость и всевластность Учения (распространяется по миру,
подобно катящемуся колесу, сметая все препоны и уничто-
жая всех своих врагов) и, наконец, решимость личности
продвигаться по пути самосовершенствования. Особое зна-
чение придается чакре с восемыо спицами, которая со вре-
менем заняла главное место в буддийской символике и
образности. Такая чакра есть непосредственный символ
Благородного Восьмеричного Пути, т. е. тех основных сту-
пеней, из которых и состоит путь к нирване.182
Ваджра (кит. цзинъган-чу, «золото-твердоносная пали-
ца») считается буддийским символом, равнозначным по сво-
ему значению кресту в христианстве или полумесяцу в исла-
ме. Однако ее образ также отнюдь не является изобретением
БУДДИЙСКАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ОБРАЗНОСТЬ
И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЕ
АТРИБУТЫ
182 ПуТЬ к нирване подраз-
деляется на три больших эта-
па: мудрости (праджня), нрав-
ственности (соблюдения обе-
тов, шила) и сосредоточения
(самадхи). Первый состоит из
двух ступеней: правильное воз-
зрение (обращение человека к
буддийскому вероучению и
освоение его базовых положе-
ний) и правилъная решимостпь
(принятие решения встать на
путь, ведущий к освобожде-
нию, руководствуясь принци-
пами Учения). Второй этап
включает в себя три ступени:
правильная речь (недопущение
«словесных прегрешений» —
лжи, клеветы, пустословия,
бранных слов); правильное no-
ведение (неукоснительное со-
блюдение морально-этических
заповедей и регламентаций);
правилъный образ жизни (пол-
ное соответствие реальных по-
ступков морально-этическим
заповедям и регламентациям).
Третий этап, предназначен-
ный в основном для монаше-
ствующих, тоже состоит из
трех ступеней: правильное
усердие (постоянное внутрен-
нее самосовершенствование
через занятия йогой); правиль-
ное памяпгование (целостный
и всеохватный контроль над
всеми психоментальными и
психофизическими процесса-
ми при развитии непрерыв-
ной осознанности); правиль-
ное сосредопгочение (достиже-
ние собственно самадхи).
459
Чакра
a — древнейшее изображение
(с древнекиндийских монет); б —
с 8-ю спицами; в — на цветке
лотоса.
Изображения божеств
с трезубцами-молниями
в древнем
средиземноморском
искусстве
буддийской традиции. Он восходит к универсальным в це-
лом для мифологии представлениям о божественном ору-
жии, чаще всего в виде трезубца, извергающим молнии и
громовые раскаты, которым обычно наделялись верхов-
ные божества, они же боги-громовержцы (например, Зевс).
Непосредственным мифологическим прототипом ваджры
считается «громовой топор» древнеиндийского бога Инд-
ры. В буддийской традиции ваджра олицетворяет «алмаз-
ный ум» всех будд, разрушая, подобно молнии, твердыни
невежества, чем и объясняется введение этого термина в
имена персонажей — борцов, например Бодхисаттвы Вад-
жрапани. Кроме того, в ваджраяне она воплощает муж-
ское начало вселенной, характеризующееся состраданием
и активностью.
Существует большое число иконографических вариантов
ваджры, в основании которых лежит перехваченный посере-
дине пучок молний с загнутыми концами. К важнейшим
иконографическим вариантам относятся однонаправленная
ваджра с двумя, тремя, четырьмя, пятью и девятью зубца-
ми, напоминающими по форме лепестки полураскрытого
бутона лотоса, и крестообразная ваджра — в форме четырех-
конечного креста, каждый конец которого заканчивается
тремя зубцами. Однонаправленная ваджра семантически вос-
ходит к космической горе Сумеру как мировой вертикали и,
следовательно, символизирует единство вселенной и един-
ство Учения со всеми мирами, a также путь к нирване.
Число зубцов, начиная с трех, соотносится с соответствую-
щими числовыми наборами персонажей и категориальных
понятий (Три драгоценности, четыре периода жизни Будды,
четыре вида рождения живых существ, Пять великих эле-
ментов, пять будд-татхагат и т. д.). Крестообразная вадж-
ра — символ распространения Учения по всем направлени-
ям вселенной. Три зубца в данном случае олицетворяют Дея-
ние, Слово и Мысль, a крест — их равное соотношение.
Драгоценность-л«ши (синтамани, кит. жуи-чжу, «жем-
чужина исполнения желаний») — образ не совсем понят-
ного происхождения. Впервые для буддийской традиции
он также отчетливо проявляется в учении о вселенском
піравителе-чакравартине, где драгоценность-.иа«и входит
в состав его Семи сокровищ, наделяясь, видимо, лунарной
символикой. В буддийской традиции мани стала однознач-
но соотноситься с жемчужиной и олицетворять истинность
Учения, искренность Будды и его готовность внимать лю-
бым мольбам, для чего существует его самостоятельная
ипостась — Tot, kto удовлетворяет желания. Одновремен-
но сложилось несколько легенд, объясняющих ее возник-
новение и именно такие ее значения. Согласно одной из
них, легендарный царь Нанда взял сердце птицы Гаруды и
превратил его в сверкающий драгоценный камень, a Буд-
да, получив этот камень в свое распоряжение, наделил его
способностью выполнять желания.
Дальнейшая судьба мани как буддийского образа в раз-
личных странах буддийского ареала сложилась несколько
по-разному. Так, в Тибете как мани в первую очередь обо-
460
значаются камни с начертаннои или выгравированнои на
них мантройу которые устанавливаются в горах, на пере-
валах, рядом с храмами или памятными местами, служа и
мемориальными знаками, и обозначениями сакрального
пространства, принадлежащего тому или иному монасты-
рю. В Китае она наложилась на образ «пылающей жемчу-
жины» с акцентированием ее благих для человека свойств,
что и находит отражение в ее местном терминологическом
названии. Соответственно драгоценность-лштш изобража-
ется в китайско-буддийском культовом искусстве в виде
предмета сферической, овальной или круглой формы, не-
редко с придачей ему очертания сердца, который обычно
охвачен языками пламени и покоится на цветке лотоса.
В качестве иконографического атрибута она чаще всего по-
коится на одной руке персонажа или в его ладонях: обе
ладони находятся на уровне груди, камень лежит на ниж-
ней, a верхняя прикрывает его. Если персонаж держит
камень в одной руке (как правило, в левой), то она показы-
вается слегка согнутой в локте и с выдвинутой вперед ла-
донью, словно предлагая молящемуся принять мани в дар.
Правая рука персонажа показывается исполняющей раз-
личные мудры, наиболее часто — «жест дарования защи-
ты», который лучше всего соотносится с ней по своему
символическому значению. Кроме собственно иконографии,
драгоценность-.шши широко используется и в китайско-
буддийском зодчестве: воспроизводящий ее архитектурный
элемент (из камня или металла) стандартно вводится в
композицию наверший пагод.
Патпра (кит. бо) — специальная чаша для сбора еды-
подаяния, практика использования которой установилась
еще в монашеской общине хинаяны. Буддийские легенды
объясняют эту традицию ссылками на эпизоды из жизни
Будды. В том числе рассказывается, что Будда пребывал в
состоянии медитации в уединенном месте в пригороде го-
рода Ориза (в центральной части Индии). Когда семине-
дельный срок его медитации уже подошел к концу, мимо
этого места вдруг проследовал торговый караван, и двое
торговцев, заметив Будду, предложили ему еду из смеси
ячменя и меда. Желая показать пример сангхе, Будда при-
нял от них только подаяние, положенное в специальную ем-
кость для милостыни. Важно, что в буддийском вероучении
a — с двумя концами; б — с тре-
мя концами; в — с четырьмя кон-
цами; г — с девятью концами;
д — композиция из скрещенной
и однонаправленной ваджр, по-
мещенных на цветок лотоса; е —
скрещенная ваджра.
Драгоценностпь-м&ни
a — стандартный иконографиче-
ский вариант; б — скульптурное
изображение, входящее в навер-
шие пагоды.
Патра
461
сбор подаяний провозглашается не только знаком аскезы
монашествующего, но и поступком, воплощающим его уси-
лия по воспомоществованию живым существам в их спасе-
нии и его милосердие по отношению к мирянам: подача
милостыни монаху есть благой поступок, улучшающий
карму человека в его последующем рождении. Поэтому
патра входит в обязательный набор личных вещей мона-
шествующего. В более глубинном метафизическом ее значе-
нии она, равно как и другие типы сосудов, олицетворяет
вместилище некой сущности, в первую очередь Учения-
Дхармы, и, следовательно, может выступать заместителем
образа самого Будды. И наконец, в традиции ваджраяны
патра служит воплощением женского начала Вселенной.
Наделение патры указанными символическими значения-
ми сделало ее одним из первоочередных принадлежностей
иконографии будд, которая в принципе отличается значи-
тельно меныиим числом атрибутов, чем иконография бод-
хисаттв. Патра вводится в изображения и Будды, и Буд-
ды Амитабхи, в первом случае обычно показывается лежа-
щей на одной из его рук, во втором — на коленях.
Четки (мала, кит. нянъчжу, «жемчужины для памято-
вания») — как известно, непременная принадлежность ко-
стюма монашествующего. Предназначенные для счета мо-
литв, они представляют собой своего рода ожерелье, состоя-
щее из нанизанных на шнур зерен-бусин, которые могут
быть сделаны из металла, камней, кости, стекла, дерева
или просто плодовых косточек. Четки были заим-
ствованы буддийской традицией из древнеиндийской рели-
гиозно-ритуальной деятельности. В собственно буддийских
текстах и иконографии они устойчиво встречаются только
с III в. н. э. Самым распространенным их вариантом явля-
ются четки из 108 зерен — еще древнеиндийское магиче-
ское число, считавшееся таковым, благодаря его делению
на 9 и соотносящееся в буддизме со 108 видами мирских
страстей и путями их преодоления. Встречаются
четки с 54, 27 (соответственно половина и четвертая часть
от 108-бусенных четок), 32 (для отсчета 32 достоинств или
признаков внешнего облика Будды), 21 (в честь 21 формы
женской ипостаси Бодхисаттвы милосердия — Тары) и 18
(в честь 18 архатов) зернами. Четки с 108 зернами имеют,
как правило, бусины-разделители (более крупного, чем ос-
тальные зерна, размера или другого цвета), располагающие-
ся на нити после 18, 21, 27 и 54 зерен. В композицию четок
входит и навершие, образованное тремя бусинами, — сим-
вол, напомним, триединства Будды, Учения и сангхи, и
дополненное кисточками. Шнур, продетый сквозь бусины,
олицетворяет всепроникающую силу Дхармы. Как иконо-
графический атрибут, четки наиболее часто вводятся в изоб-
ражения архатов, исторических лиц и Гуаньинь, символи-
зируя принятие на себя Бодхисаттвой милосердия всех
мирских страстей для освобождения от них живых существ.
Из музыкальных инструментов самое значительное ме-
сто в буддийской образной системе занимают раковина и
колокол (колокольчик).
Раковина, обозначаемая как Раковина Закона (дхарма-
шанкха, кит. фало) происходит от спиральной (одноствор-
чатой) раковины морского моллюска, которая в Древней
Индии, равно как и в других регионах Древнего мира,
использовалась в качестве трубы, в первую очередь воин-
ской — для передачи армейских сигналов и приказов. Впо-
следствии она была воспринята древнеиндийской мифоло-
гией, став специфическим атрибутом бога Вишну, который
трубил в нее, дабы посеять ужас среди своих врагов. В буд-
дийской образности раковина есть, прежде всего, символ
«громогласности» Учения, распространения Истины, по-
добно трубному звуку, в мире для пробуждения всех жи-
вых существ, и метафорой «голоса Будды», созывающего
паству. Кроме того, благодаря своей односторонней спи-
ральности (причем именно в правую сторону — знак, как
мы помним, Учения), раковина выступает солярным сим-
волом (движение солнца), олицетворением хода времени
(повторяемость дневного и годового циклов), круга новых
смертей и рождений и пути к нирване. Поэтому не удиви-
тельно, что образ раковины имплицитно присутствует в
нормативной иконографии Будды — уподобление завит-
ков его волос спирали раковины.
Колокол (гханта, кит. чжун) — музыкальный инстру-
мент, тоже восходящий к древнеиндийской культуре, об-
раз которого получил наибольшее распространение в ми-
фологии бога Шивы. В буддийской традиции он получил
два основных символических значения. С одной стороны,
он олицетворяет, подобно раковине, раздающийся в мире и
пробуждающий живые существа «голос» Учения. В случае
объединения колокола с ваджрой они подчеркивают един-
ство мира живых существ и мира будд. С другой стороны,
колокол воплощает идею непостоянства: порождаемый им
звук вскоре утихает, его можно услышать, но нельзя удер-
жать. To же самое происходит и со всеми явлениями и
реалиями феноменального мира, которые могут лишь вос-
приниматься человеком посредством органов чувств, a так-
же с его собственной жизнью — постоянно меняющейся и
лишенной устойчивой опоры. И наконец, в китайских ве-
рованиях звук колокола — как воплощение «голоса» Уче-
ния — стал наделяться способностью разгонять злые силы.
He менее значительное место, чем музыкальные инст-
рументы, в буддийской образности занимает и оружие, пред-
ставленное практически всеми основными для древнего
военного дела видами колюще-рубящего и стрелкового воо-
ружения: меч, пика, боевой топор и лук со стрелами. Столь
широкое представительство оружия в образной системе и
иконографии вероучения, отрицающего насилие, объясня-
ется тем, что оно связано не с войной как таковой, a c
идеей победоносности Учения над злом в любых его вопло-
щениях. Вместе с тем каждый конкретный вид оружия
имеет и собственную символику.
Меч (кхадга, кит. цзянь), подобно ваджре, является в
первую очередь олицетворением мудрости будд и Знания,
предназначенным отсекать сомнения и разрубать узлы
Раковина
Колокол
a — стандартный иконографиче-
ский вариант; б — с ручкой-вад-
жрой.
Иконографический вариант
меча с рукояткой-ваджрой
и помещенный
на цветок лотоса
463
Пика и трезубец
Лук со стрелой
Персонаж с зеркалом
>
Иконографический вариант
светильника
(на цветке лотоса)
ложных противоречий. Как таковой он есть символ окон-
чательного торжества Учения над невежеством. Меч неред-
ко изображается с ручкой в виде ваджры, что является
непосредственным воплощением образа «меча мудрости»,
и помещенным на цветке лотоса — знак исполнения клят-
вы будд и бодхисаттв уничтожить зло, царящее в мире.
Пика (кит. мао) с обычным лезвием и пика-трезубец
(кит. санъгуцзи) — символы противодействия злу и охра-
ны от демонических сил. Одновременно трезубец в силу его
архаических ассоциаций с огнем частично перекликается с
ваджрой, a его зубцы воплощают Силу, Власть и Защиту
(как буддийские категориальные понятия) и (или) Три дра-
гоценности.
Топор (парашу, кит. фу) в том виде, в каком он присут-
ствует в буддийской иконографии, совмещает в себе ору-
жие и орудие труда (это особо подчеркивается в его китай-
ском терминологическом обозначении — топор-фі/), чем и
объясняется наличие y него двух главных самостоятель-
ных значений. Как боевой топор он служит оружием, спо-
собным «вырубить под корень» все зло, угрожающее зат-
мить свет Истины. В качестве орудия труда он есть символ
созидания — «строительства» Учения.
Лук и стрелы (шава, кит. гун) — оружие, прогоняю-
щее как злые силы, так и человеческие заблуждения и
пороки, в том числе забывчивость, невнимательность в по-
стижении Учения, пренебрежение к его морально-этиче-
ским регламентациям и т. д. В иконографических компо-
зициях лук и стрела могут быть показаны вместе либо по
отдельности: одна рука персонажа держит лук, другая —
стрелу, что характерно, прежде всего, для «многоруких»
изображений.
Следующий тематический ряд буддийской образности —
предметы исходно ритуально-церемониального и бытового
предназначения — является самым объемным. Тем не ме-
нее и в данном случае отчетливо выделяются несколько
первостепенных для буддийской иконографии атрибутов:
зеркало, светильник, ваза, веровка и мухогонка.
Зеркало (адарша, кит. цзин), изображаемое в соответ-
ствии с китайскими зеркалами, исключительно в виде ме-
таллического диска, сохранило за собой ряд присущих ему
в культуре Китая символических значений, в первую оче-
редь олицетворение внутренней чистоты, способность вы-
свечивать истинную сущность вещей и явлений и отпуги-
вать злые силы. Как собственно буддийский образ оно ста-
ло, во-первых, олицетворением зрения как одной из пяти
индрий — органов чувств (глаза, уши, нос, кожа и язык) и
процесса восприятия ими (вишая) материальных объектов
(зрение, слух, обоняние, осязание и вкусовые ощущения),
относящихся к чувственному (pyna). B этом смысле харак-
терно, что в литературной образности глаза Будды сравни-
ваются с зеркалом. Во-вторых, зеркало служит наглядной
иллюстрацией иллюзорности феноменального мира и лож-
ности его восприятия: оно лишь отражает внешние реалии
без сохранения их субстанционального воплощения.
464
Светильник (лампада, дипа, кит. чжу) олицетворяет
«светильник мудрости», озаряющий мир и «лампаду Зако-
на», образ которой передает метафорическое обозначение
Учения как маяка, указующего путь к спасению в чув-
ственном мире (через море сансары в собственно буддий-
ской терминологии).
Ваза (калаша, кит. nun) — весьма условный термин,
который прилагается к различным категориям изделий —
собственно вазам, горшковидным и кувшиновидным (с крыш-
кой, носиком) сосудам, основное значение которых — слу-
жить вместилищем чего-либо в прямом (в том числе подно-
шений Будде) и метафизическом (вместилище Закона, Ис-
тины) смысле. Относительно самостоятельные значения
имеют: 1) «сосуд бессмертия» («сосуд жизни», амритака-
Лаша) — с эликсиром бессмертия (амритой), сосредоточе-
ние благих намерений как правило, он изображается с
крышкой, из-под которой свешиваются нити (чаще всего
бусы), символизирующие ниспадание в мир этой живи-
тельной влаги; 2) «сосуд с сокровищем» (ратнакалаша),
крышку которого венчает драгоценность-мани; 3) сосуды с
цветами, включая лотосы, знаменующие нравственное и
физическое исцеление; 4) сосуд с веткой ивы — принад-
лежность, напомним, иконографии Гуаньинь.
Веревка (раша, в китайской терминологии «шелковый
шнур», лосо), подобно топору, имеет бинарную символику,
проистекающую из ее предназначения как бытовой реалии
и способов ее употребления. С помощью веревки можно
удержать что-либо или поднять наверх, что и предопреде-
лило ее значение как символа спасения и помощи, оказы-
ваемой буддами и бодхисаттвами живым существам: они
словно бросают им веревку, вытягивая их кз мира страда-
ний. Кроме того, веревочный узел ассоциируется со сва-
стикой (ассоциация, идущая еще от древнеиндийских ре-
лигиозных представлений), служа эмблемой внутреннего
совершенства личности, и в качестве такового входит в
число специальных знаков, помещаемых на ступнях Буд-
ды. Второе значение веревки — предмет, с помощью кото-
рого «связываются» пороки и злые силы. Поэтому в ико-
иографических композициях она обычно показывается в
левой руке персонажа и нередко в комбинации (в правой
руке) с мечом.
Мухогонка (чамара, кит. фуцзы), будучи, казалось бы,
сугубо утилитарной бытовой реалией, приобрела принци-
пиально важное значение для всей буддийской традиции —
не только в иконографик, но и в литургических церемони-
ях. Она символизирует послушание, готовность следовать
Закону и устранять все препоны на Пз7ти, избегая при этом
касилия: мухогонка отгоняет насекомых, не причиняя им
вреда. В буддийских ритуалах посвящения наставник до-
трагивается ею до головы ученика, символически убирая
(отгоняя) все препятствия с его пути к просветлению. При
исполнении литургических церемоний мухогонку нередко
держат буддийские иерархи в знак наставничества и духов-
ного права направлять учеников по пути к просветлению.
-'0 !k'ropi:s мскѵсіггбй Кімля
Ваза
a — один из стандартных иконо-
графических вариантов; б — с ам-
ритой; 0 — с драгоценностью-
мани; г — с цветами лотоса.
Изображение веревки
в руке Гуаньинь
(из набора 42 атрибутов
Тысячерукои Гуаньинъ)
465
Изображение Ананды
с мухогонкой
Строения в буддийской
иконографии:
a — ступы (пагоды); б — вариант
изображения небесного дворца.
Изображение Будды
со львами в раннем
китайско-буддийском
искусстве (каменная
стела, конец V — начала
VI в., окрестности Чэнду)
Поэтому в иконографических композициях мухогонка по-
чти обязательно показывается в правой руке второстепен-
ных (ученики, монашествующие) сопровождающих Будду
персонажей. Как атрибут Гуаньинь, мухогонка еще раз
подчеркивает бесконечное милосердие Бодхисаттвы.
Строения, показываемые в буддийской иконографии,
сводятся к двум основным типам построек — пагода (сту-
па), символизирующая созидательную способность и не-
зыблемость Учения и одновременно служащая одним из
семантических заместителей образа Будды, и дворец, воп-
лощающий блаженную обитель последователей Дхармы, в
первую очередь «сияющие дворцы» р&я-Сукхавати.
Число зооморфных образов — животных и птиц — в буд-
дийской иконографии тоже достаточно велико. Отдельного
разговора заслуживают лев и слон, о которых, правда, уже
неоднократно упоминалось. Лев — животное, повторим,
воспринятое буддизмом из более древних верований и со-
циально-политических воззрений, в которых оно было свя-
зано с институтом верховной власти. В собственно буддий-
ской образной системе лев служит символом Будды в его
ипостаси духовного властителя мира, олицетворяет верхо-
венство и внутреннюю мощь («бесстрашие») Учения. Пока-
зательно, что в культовом искусстве периода Южных и
Северных династий фигуры львов нередко прямо вводи-
лись в иконографию Будды, помещаясь по бокам от его
трона. Однако в дальнейшем, по мере распространения
образа льва в китайском светском художественном твор-
честве, его изображения заняли в лучшем случае перифе-
рийное место в произведениях культового искусства, за
исключением, естественно иконографии Бодхисаттвы Са-
мантабхадры. Обращает на себя внимание и факт стандарт-
ного исполнения изображений льва в китайско-буддийской
иконографии в его «фантазийных» художественных трак-
товках, которые утвердились в китайском искусстве (о чем
подробно говорилось ранее) в IV-VI вв. Эти трактовки гос-
подствуют и в буддийском искусстве Японии и Тибета.
Символика слона, в более точном его определении —
белого слона, также далеко не ограничивается его ролью
спутника и атрибута Бодхисаттвы Манджушри. Этот образ
имеет сложное происхождение, восходя к нескольким пер-
сонажам древнеиндийской мифологии — слон&м-дигнагам,
поддерживающим, согласно древнейшим индийским кос-
мологическим представлениям, земную поверхность по че-
тырем сторонам света; белому слону бога Индры и к богу
мудрости Ганеше, изображавшемуся со слоновьей головой.
Кроме того, он тоже является символом верховной власти,
входя в набор Семи сокровищ ц&ря-чакравартина. В ре-
зультате в буддийской образной системе слон выступает
олицетворением не только мудрости-праджня, но и внут-
ренней силы и верховенства Учения. В отличие от изобра-
жения льва, изображения слона могут присутствовать в
буддийском культовом искусстве в самостоятельном виде —
с сосудом на спине, замещая собой изображения как Бод-
хисаттвы Манджушри, так и самого Будды.
466
Из растительных образов первоочередное место в буд-
дийской иконографии, безусловно, принадлежит лотосу
(падма). Имея исходную солярную символику (что наибо-
лее очевидно в случае исполнения раскрытых цветов лото-
са на потолке помещений), в буддийской традиции лотос
превратился в символ внутренней чистоты и совершенства:
прекрасный цветок, произрастающий из затянутой ряской
мутной воды. Одновременно, будучи летним цветком, он
олицетворяет плодородие, плодоносность природы, Учения
и духовных усилий личности. He случайно именно лотосы
считаются главными цветами, украшающими райские земли
Сукхавати. В собственно иконографии, не считая «лотосо-
вого трона», лотос может быть атрибутом практически
любого персонажа высших рангов. Обычно он изображает-
ся в виде полураспустившегося бутона и в нескольких стан-
дартных вариантах — с восемью лепестками, морфологи-
ческий и семантический аналог чакрыу в виде букетов из
трех цветков на трех стеблях (Три драгоценности) и пяти
цветков на пяти стеблях. В живописных композициях ис-
полняются лотосы трех цветов: красного со скругленными
лепестками — символ способностей и совершенств будд и
бодхисаттв; синего цвета с заостренными лепестками —
Изображение белого слона
с вазой на спине как
симѳола Будды и Учения
Изображения льва
a — в тибетской иконографии;
б — в японско-буддийской ико-
нографии.
Лотос
a — вариант изображения to рас-
крытого цветка лотоса (потлоч-
ная роспись скального храма Лун-
мэнь); Лотос: б — полураскрый
цветок с одним стеблем; в — с тре-
мя цветками и стеблями; г —
с пятью цветками и стеблями.
467
Варианты изображения
персонажей с цветком
лотоса в руке
Начальный вариант
изображения лотосового
трона в китайско-
буддийском искусстве.
Каменная стела.
Пров. Сычуань.
Высота ок. 50 см
«Восемь драгоценностей»
1 — ваза; 2 — раковина; S —
зонт; 4 — лотос; 5 — балдахин;
6 — чакра; 7 — пара рыбок; 8 —
бесконечный узел.
символ Будды; и белого цвета — символ чистоты и добро-
детелей живых существ.
Еще одним важнейшим для буддийской образности ра-
стением является ива — принятый атрибут Гуаньинь, ко-
торая символизирует жизненные силы мира и Учения, нрав-
ственное и физическое исцеление и изгнание злых сил, в
очередной раз подчеркивая тем самым качества и функции
Бодхисаттвы милосердия.
В иконографию «тысячерукой Гуаньинь» обязательно
вводятся 42 строго нормативных атрибута и жеста, в со-
став которых в том числе входят: изображение Будды,
веревка (шелковый шнур), белый стяг (символ победы
над злом и пороками), боевой топор, пика, ветка ивы,
меч, дворец, зеркало, печать (знак высшей власти), не-
фритовое кольцо (символ единения мужского и женского
начал вселенной), ваза (кувшин), лотос красного цвета,
четки, раковина, стрела, патра, чакра, лук, белый ло-
тос, синий лотос, книга (Праджня-парамита-сутра), a
также солнце и луна в их собственно китайских графи-
ческих эмблемах.
Буддийская образная система привела также к возник-
новению двух отдельных наборов предметов — уже упоми-
навшихся ранее Семи драгоценностей и Восьми драгоцен-
ностей. Семь драгоценностей (кит. ци бао) — семь наибо-
лее авторитетных для индийской культуры благородных
металлов, минералов и веществ органического происхож-
дения: золото, серебро, лазурит, хрусталь, перламутр (или
раковины тридахны), красный жемчуг и агат. В Китае,
включая и светское художественное творчество, этот спи-
сок мог несколько варьироваться: вместо трех последних
из перечисленных «драгоценностей» в него включаются
коралл, биотит и янтарь (подробно об этих минералах и
веществах см. глава 13).
Восемь драгоценностей (аштамангала, кит. 6а бао>
другие образные названия «восемь эмблем славы», «восемь
знаков счастья», «восемь благоприятных символов», «во-
семь жертв») — набор, который постоянно использовался
как в буддийской иконографии, в том числе воплощая под-
ношения Будде, так и в китайском светском декоративно-
прикладном искусстве. В него входят: зонт (происходящий
от балдахина как знака царского происхождения Будды) —
символ защиты от злых сил; две золотые рыбки — символ
очей Будды; ваза с амритой; цветок лотоса, раковина,
«вк>«ДО
«бесконечный узел», штандарт (зонт) — символ победы (ис-
ходно семантический заместитель горы Сумеру), и чакра.
В светском декоративно-прикладном искусстве их указан-
ные значения претерпели некоторое изменение под влия-
нием китайской благопожелательной образности. Так, зонт
превратился в символ высокопоставленного лица и удач-
ной официальной карьеры, золотые рыбки — в эмблему
счастья и единства. О значениях лотоса и «бесконечного
узла» подробно рассказывалось ранее.
Влияние буддийского культового изобразительного ис-
кусства и иконографии на художественную культуру Ки-
тая, разумеется, не ограничивается только подобными
заимствованиями. Ее отдельные элементы (позы персо-
нажей, детали одеяния) угадываются в погребальных ху-
дожественных композициях Ѵ-ѴІ вв. Среди погребаль-
ной пластики танской эпохи присутствуют фигуры Небес-
ных царей. Начиная с эпохи Шести династий буддийские
образы и символы стали вводиться в орнаментацию раз-
личных изделий сугубо светского предназначения, a ин-
дийские этнографические реалии привели к изменению
ряда деталей китайского костюма и комплекта украше-
ний. И наконец, буддийское культовое искусство оказало
качественное морфологическое воздействие на всю мест-
ную иконографическую традицию.
Вариант изображения
«восьми драгоценностеи»
в китайском светском
декоративно-прикладном
искусствс.
По мотивам
вышивок
Примеры использования
буддииских образов и
иконографических
атрибутов в искусстве
Китая
a — погребальная пластика, изо-
бражающая Небесного царя (58 см,
VIII в., северный пригород Лоя-
на, находка 1992 г.); б — шпиль-
ка для волос с изображением
Будды (Мин).
Конфуцианская традиция, несмотря на постепенное об-
ретение ею все более отчетливых функциональных черт ре-
лигиозной системы, так и не создала ни пантеона, сопоста-
вимого с божественным, ни самостоятельного культового
изобразительного искусства. Конфуцианские верования (если
только термин «верования» вообще правомерно употреблять
в данном случае) сводятся, в сущности, к культу самого
Конфуция. Хотя и он по ряду показателей качественно от-
личается от культов собственно божественных персонажей.
Начало культа Конфуция было положено его почита-
нием родственниками и учениками сразу же после его смер-
ти. Это проявилось, в том числе в сооружении на месте его
погребения специального поминального святилища. Кон-
фуций был похоронен в окрестностях столицы царства Лу,
где находится современный город Цюйфу, и почти рядом
с пещерой, в которой он родился. Поминальное святили-
ще Конфуция благополучно уцелело в горниле всех после-
дующих междоусобных распрей и войн. По свидетельству
раннеханьских авторов (Сыма Цянь), еще во II в. до н. э.
в нем по-прежнему хранились личные вещи Учителя —
предметы одеяния, a также книги и даже колесница. Но,
ПЕРСОНАЖИ
КОНФУЦИАНСКОГО
ПАНТЕОНА
469
183 За весь период Ранней
Хань оно только единожды
удостоилось посещения авгу-
стейшей особы, да и то по чи-
стой случайности, оказавшись
на пути следования импера-
торского кортежа, проезжав-
шего через Шаньдун.
184 «Сяо цзин» — древний
памятник, считающийся в тра-
диции записью поучений, ад-
ресованных Конфуцием одно-
му из своих учеников. В дей-
ствительности он был составлен
ориентировочно в IV—II вв. до
н. э. В период формирования
конфуцианского Канона, т. е.
на протяжении почти всей
ханьской эпохи, «Сяо цзин»
входил в первоочередной на-
бор конфуцианских книг —
«Пятиканоние», но впослед-
ствии был заменен в нем на
«И цзин».
185 Сохранилось немало до-
кументов, посвященных всей
этой процедуре, включая за-
писи дискуссий (на уровне
высших административных
органов) по деталям ее прове-
дения, и воспевающие ее сти-
хи. Показательно, что про-
хождение через такое обуче-
ние не зависело от реального
возраста наследного принца.
Есть прецеденты, когда оно
осуществлялось и восьмилет-
ним ребенком, и взрослым
мужчиной, уже успевшим про-
явить себя как государствен-
ный деятель и деятель культу-
ры. За точку отсчета прини-
малась дата возведения принца
в статус наследника и его пе-
реезд из императорского двор-
ца в полагающуюся ему рези-
денцию («Восточный дворец»).
несмотря на все возрастающий общественный авторитет
конфуцианства и личности его основоположника, это свя-
тилище до поры до времени оставалось на положении сугу-
бо частной кумирни183. И только в 58 г. н. э., когда к вла-
сти пришел император Мин-ди, подготавливавший рефор-
му государственной идеологии империи, вместо прежней
кумирни было приказано возвести подобающий памяти Учи-
теля храм и совершать там регулярные жертвоприношения
ему. Этот эпизод и есть, собственно говоря, отправной мо-
мент истории официального культа Конфуция.
В эпоху ІПести династий ритуальная сторона культа
Конфуция дополнилась еще одной примечательной проце-
дурой — церемонией обучения наследного принца. Первые
сведения об изучении наследными принцами конфуциан-
ских книг — «Лунь юя» и «Канона сыновней почтительно-
сти» («Сяо цзин»)184, содержащиеся в императорских дек-
ретах, относятся к I в. до н. э. (82 и 74 гг. до н. э.). И, судя
по их текстам, знание наследником конфуцианских сочи-
нений считалось веским доказательством его высоких мо-
ральных достоинств и права на трон. В III в. (в период
Троецарствие) изучение этих сочинений приобрело почти
обязательный характер и превратилось в подлинно ритуаль-
ное действо, протяженное по времени и строящееся по осо-
бому сценарию. Оно включало в себя собственно обучение,
длившееся около года и проводившееся в специальном двор-
цовом помещении, и экзаменационное испытание, включав-
шее в себя специальное жертвоприношение — шидянъ («пре-
поднесение кубка») и завершавшееся грандиозной пирше-
ственной церемонией185. Обряд шидянъ исполнялся, по
данным оригинальных письменных источников, и в выс-
ших государственных учебных заведениях, главным из ко-
торых в эпоху ІПести династий по-прежнему оставалась Го-
сударственная академия (Го сюэ), основанная еще хань-
ским У-ди. Состоявший из возложения на алтарь — перед
поминальными табличками Конфуцию и его любимому
ученику Янь Юаню (Янь Хуэй, 521-481 гг. до н. э.) — кубка
и овощных блюд, он открывал собой ежедневные занятия.
Таким образом, уже в III—V вв. культ Конфуция включал в
себя специальные литургические церемонии.
В начале VI в. был построен и первый храм Конфуцию
с его изображением (правда, не ясно, где именно). Пока-
зательно, что он был возведен по приказу императора
(лянский У-ди, 501-449, основатель южнокитайской крат-
ковременной династии Лян, 501-555), который публично
объявил себя последователем буддизма, a буддийское ве-
роучение — государственной идеологией страны.
Следующий этап эволюции культа Конфуция соотно-
сится с танской эпохой. Почти сразу же после прихода к
власти танской династии, был издан приказ о возведении в
столице храмов в честь Конфуция и Чжоуского князя. Од-
нако в скором времени жертвоприношения Чжоускому
князю были отменены, a Конфуций получил почетное наи-
менование «Первейший мудрец» (Сянъ-шэн), что означало
окончательное отделение его фигуры от других деятелей
470
прошлого и признание уникальности его личности. Даль-
нейший ход развития культа Конфуция нетрудно просле-
дить по изменению его титулатуры, что в целом является
одним из важнейших показателей динамики китайских ве-
рований и отношения к ним официальных властей. В 729 г.
Конфуций был пожалован титулом «царя» (ван) вместо пре-
жнего — «князь» (гун), данного ему еще в начале I в., a в
1106 г. возведен в ранг «императора» (ди). Следует пояс-
нить, что оба этих титула в традиционном Китае устойчиво
прилагались к высшим персонажам божественного пантео-
на. Последнее изменение в его официальной титулатуре про-
изошло при Мин. Августейшим декретом от 4 декабря
1530 г., изданным императором Ши-цзуном (1522-1578),
ему был присвоен специфический и не имеющий аналогов
титул «Достигший совершенства Наипервейший Учитель»
{Чжишэн-сяньши, принятый в отечественном китаеведении
перевод — «Мудрейший Учитель»). И этот титул сразу же
выделил Конфуция из сонма почитавшихся в то время бо-
жественных персонажей, превратив его в уникальную на
фоне государственных верований и культов фигуру.
Параллельно в минскую эпоху предпринимались и дру-
гие меры по упрочению культа Конфуция. В 1382 г., т. е.
менее чем через 20 лет после воцарения минского правя-
щего дома, развернулись работы по реконструкции поми-
нального храма в Цюйфу, который превратился впослед-
ствии в грандиозный храмовый комплекс, включающий в
себя и место рождения Учителя.
В настоящее время этот комплекс выглядит так. Холм,
y подножия которого в пещере Конфуций появился на свет,
сохранился. Он представляет собой небольшую возвышен-
ность (высотой 40-50 м) с плоским верхом, сплошь покры-
тую беседками и стелами, воздвигнутыми в честь Конфу-
ция разными императорами, начиная с минских. Пещера,
получившая название «Пещера наставника» (Фуцзыдун),
находится с восточной стороны подножия холма и являет
собой даже не пещеру, a неболыной грот, образованный
сланцевыми породами. Холм обнесен каменной стеной выше
человеческого роста.
Храмовый ансамбль занимает строго прямоугольную в
плане площадь (619 м в длину и 148 м в ширину), на кото-
рой располагается более тысячи различных построек, боль-
шая часть которых восходит к 1488-1505 гг. Он тоже обне-
сен общей стеной, имеющей специальное название «Стена
в десять тысяч жэней» (Ванъжэнъчэн)186.
Центральный вход храмового ансамбля, обращенный на
юг, образован тремя воротами. Внешние — каменные с на-
вершием, повторяющим крышу с загнутыми вверх краями,
были построены в 1730 г. Средние — «Врата Возвеличива-
ния (Расширения) Пути» (Хундаомэнъ) — деревянные с крас-
ным лаковым покрытием и крышей, выложенной черепи-
цей зеленоватого цвета, первоначально служившие внешни-
ми воротами187, относятся к середине XIV в. Третьи ворота,
носящие название «Врата Великой Середины» (Дачжун-
мэнъ), были построены в XII в. В результате эта триада
186 Жэнь (принятый пере-
вод «сажень») — китайская
мера длины, равная прибли-
зительно 25,6 м. Подобно на-
званиям практически всех
строений, входящих в этот
храмовый ансамбль, оно яв-
ляется исторической реминис-
ценцией, в данном случае —
аллюзией на характеристику
Конфуция и его учения, дан-
ную его учеником Цзы-гуном
(Дуаньму Цы, 520-? гг. до
н. э.) и приведенную в «Лунь
юе». Узнав, что о нем отзыва-
ются как о мудреце, превос-
ходящем Конфуция, Цзы-гун
отреагировал на подобные хва-
лы так: «Возьмем для сравне-
ния стену, окружающую дом.
Стена моего дома не выше
плеча, и любой может узреть,
что есть в доме стоящего. Сте-
на дома Учителя достигает
многих жэней, и если не най-
дешь в ней ворота, то не уви-
дишь красоту храма предков
и богатства палат. Но лишь
немногим суждено отыскать
эти ворота» (Пер. Л. С. Пере-
ломова).
187 Их название содержит
намек и на приведенную ха-
рактеристику Цзы-гуна, и на
высказывание самого Конфу-
ция: «Это человек может воз-
величить (расширить) путь/
учение (dao), a не путь возве-
личить человека» (жэнь нэн
хун даОу фэй дао хун жэнь).
471
Дворец Великого Свершения.
Каменная колоннада
и общий вид
188 Его название на этот раз
проистекает из отзыва о Кон-
фуции философа Мэн-цзы, за-
явившего, что Учитель есть
воплощение великих сверше-
ний (да чэн), обусловленных
его столь совершенными каче-
ствами, что они сопоставимы
лишь с музыкой, издаваемой
бронзовыми и нефритовыми
(т. е. лучшими) музыкальны-
ми инструментами.
ворот как бы олицетворяет неразрывность связи времен и
преемственности поколений, хранящих верность Учению.
Главным строением храмового ансамбля, расположенным
по оси «север-юг», является «Дворец Великого Свершения
(Великих Свершений)» (Дачэндянъ)188. Перед входом в него
высится анфилада каменных колонн, украшенных изуми-
тельным по технике исполнения и уровню художественного
мастерства резным (барельефным) орнаментом: как будто
скользящие вдоль колонн и парящие среди облаков верени-
цы драконов. Эффект достоверности происходящего, контра-
стности упругих мускулистых тел драконов и воздушности
облаков еще болыпе усиливается, когда на колонны падают
лучи солнца, создающие поистине непередаваемую игру све-
тотеней. Перед «Дворцом Великого Свершения» находится
двор, в центре которого стоит беседка, именуемая «Абрико-
совый алтарь» (Синтанъ) — так, по преданию (зафиксиро-
ванному в «Чжуан-цзы»), называлось одно из мест около
древнего алтаря, где Конфуций проводил занятия со своими
учениками. Трчность расположения этой беседки с точки
зрения исторической достоверности, конечно, маловероятна.
Но сама она относится к числу древнейших строений на
территории храма, будучи воздвигнутой еще в XI в. Недале-
ко от нее высится древний кипарис, обнесенный отдельной
каменной оградой, который считается посаженным собствен-
норучно Конфуцием. Попутно заметим, что подобные дере-
вья, посаженные якобы легендарными личностями (начиная
с Желтого императора) и прославленными деятелями про-
шлого, присутствуют во многих мемориально-храмовых ком-
плексах. Трудно удержаться от соблазна усмотреть в этом
обычае реликт архаического культа деревьев.
Восточную часть храмового ансамбля занимают дом Кон-
фуция (небольшая усадьба из трех выстроившихся один за
другим домиков-павильонов и примыкающих к ним боко
вых пристроек) и усадьба клана Кунов — потомков Учите-
ля. У главных ворот в дом Конфуция стоит его каменная
скульптура в половину человеческого роста, высеченная из
472
беловатого камня (создана в XVIII в.). Еще одна достопри-
мечательность — колодец, который, по преданию, находит-
ся в том самом месте, где стоял подлинный дом Конфуция и
из которого он брал воду. Усадьба семейства Кунов в отли-
чие от его собственного дома являет собой обширный архи-
тектурный комплекс, состоящий из десятков зданий. И вновь
уместно оговориться, что в Китае, действительно, сохрани-
лась полная родословная этого клана и что до сих nop живы
его прямые потомки в семьдесят восьмом поколении.
От восточной стены усадьбы семейства Кунов и прямо на
север начинается аллея, ведущая к их семейному кладби-
щу — «Лес Кунов» (Кунлинь), где находится и могила Кон-
фуция. Кладбище также обнесено стеной, a вся его террито-
рия засажена деревьями, превращающими его в настоящий
лес или, точнее, подобие пейзажного сада с насыпными воз-
вышенностями и искусственными ручьями. Непосредственно
к могиле Конфуция ведет новая аллея, обсаженная кипариса-
ми, по обе стороны которой стоят каменные изваяния фанта-
стических существ и чиновников, т. е. повторяющая собой
«аллеи духов» из императорских погребальных комплексов.
Над могилой возвышается округлый холм, перед которым
высится каменная плита с надписью, гласящей, что здесь и
погребен Конфуций. Надпись была выбита в XV в., но плита
покоится на каменном постаменте, заложенном здесь еще при
строительстве первого поминального святилища.
Мы не случайно так подробно остановились на плани-
ровочных и архитектурных особенностях храма Конфуция:
он относится к числу выдающихся произведений китай-
ского культового зодчества.
Своего пика культ Конфуция достиг при Цин, когда по-
священные ему храмы — «Кумирни Учителя Куна» (Кунц-
зы-мяо) или «Кумирни Просвещенности» (Вэнъмяо) — в обя-
зательном порядке строились в любом административном
(уездном, губернском, провинциальном) центре страны. Была
окончательно регламентирована и литургия. Дважды в год,
приблизительно в середине (в день, обозначаемый цикличе-
ским знаком дин) второго и восьмого месяцев, т. е. факти-
чески в середине весны и осени, ему посвящались «большие
жертвоприношения». Они представляли собой грандиозные
церемонии, обязательно возглавляемые руководством соот-
ветствующих административно-территориальных подразде-
лений, в столице — лично императором или, в крайнем слу-
чае, специально посланным им сановником. В церемониях
непременно должны были принимать участие все местные и
гражданские чиновники руководящих рангов, a также уча-
щиеся, которые и выполняли основную черновую работу по
их подготовке и проведению. Все участники церемоний про-
ходили через двухдневный пост. Церемонии сопровождались
музыкой, но исключительно светского характера («граждан-
ские музыкальные произведения»), a в качестве жертвенных
яств преподносились фрукты и овощи. Кроме «болыиих жер-
твоприношений» дважды в месяц — в дни новолуния и пол-
нолуния — в храмах Конфуция исполнялись «малые». Ли-
тургия, присущая культу Конфуция, с одной стороны, явно
Кладбище семеиства Кун
Дерево, посаженное
Конфуцием
473
Древнейшее
изображение Конфуция.
Ханъский
погребалъный рельеф
перекликается с китайским календарным обрядовым цик-
лом и с другими ритуалами жертвоприношений. Однако, с
другой, она тоже обладает рядом специфических черт, в
очередной раз подчеркивая уникальность этого культа.
По-своему уникальной оказывается и иконография Кон-
фуция. Древнейшее известное изображение Конфуция (сцена
встречи Конфуция с Лао-цзы) — на каменном рельефе из
погребения, обнаруженного в провинции Шэньси, не со-
держит в себе специфических иконографических черт и
может быть опознано только по пояснительной надписи к
нему. О характере художественных трактовок образа Кон-
фуция в эпоху Шести династий ничего неизвестно, и мы не
знаем даже точно, исполнялись ли в то время его живопис-
ные или скульптурные портреты.
Самым полным и представительным произведением изоб-
разительного искусства, посвященным Конфуцию, являет-
ся собрание выгравированных на каменных плитах сцен его
жизни — всего более 100 плит, которыми выложены внутрен-
ние стены центрального зала «Дворца Великого Сверше-
ния». Они считаются сделанными с картин знаменитого ху-
дожника танской эпохи — У Даоцзы, который был признан
непревзойденным мастером портретного жанра (подробно
см. глава 8). Чувствуется, что при создании этого художе-
ственного описания жизни Конфуция главным для его со-
здателя было не увековечить исторические реалии или вос-
петь величие основоположника Учения, a передать обаяние
его личности и ту общую атмосферу, которая царила вокруг
него — не божества, a именно Учителя и человека, снискав-
шего себе всеобщее уважение исключительно благодаря сво-
им собственным способностям и усилиям. Здесь есть и сце-
ны, воспроизводящие курьезные или анекдотические ситуа-
ции, которых, надо сказать, хватало в жизни Конфуция; и
сцены, производящие впечатление выполненных с намерен-
ной небрежностью, граничащей с фривольностью. Кроме
того, они изобилуют всевозможными неточностями. Ни одея-
ний, в которых показывается Конфуций и окружающие его
лица, ни кисточек, которыми он пишет, на самом деле, во
времена, когда он жил, еще не существовало. Но если по-
добные нюансы могли быть и неизвестны художнику, то
как он мог снабдить портрет Конфуция в юношеском, двад-
цатилетнем, возрасте длинной бородой? Ho bot что удиви-
тельно: все эти небрежности, неточности и прочие, казалось
бы, несомненные художественные недостатки произведений
как раз и позволяют воссоздать требуемый образ Конфуция
и сделать его максимально понятным восприятию зрителя,
независимо от его собственной эпохи и степени познаний в
конфуцианстве. Если перед нами не авторское творение, все
отмеченные особенности которого обусловлены вдохновени-
ем одной гениальной личности, a реализация неких иконо-
графических установок, то, значит, конфуцианская тради-
ция начала все же обретать собственное художественное во-
площение. Более того, наметившаяся в изобразительном
искусстве танской эпохи иконографическая линия принци-
пиально отличалась или даже намеренно противопоставля-
ла себя буддийской иконографии, акцентируя «человече-
ское начало» в образе Конфуция и делая Учителя не объек-
том религиозного почитания, a примером для подражания.
Вцелом в таком же духе выполнен и парадный портрет
Конфуция, который возводится к портрету, созданному У Да-
оцзы. Оригинал был давно утрачен, но в копиях или вариа-
циях он был, по утверждению письменных источников, вос-
произведен в камне и так смог сохраниться.
На одной из дошедших до нас предполагаемых копий
мы видим поясной портрет человека, в облике которого
вновь удивительно сочетаются величие и величавость, под-
черкнутые парадным костюмом и торжественным голов-
ным убором, и «обыкновенные» человеческие черты. Ум-
ный, внимательный взгляд, несколько задумчивое выра-
жение лица, глубокие морщины, избороздившие лоб (печать
духовных трудов и житейских испытаний), полуоткрытый
рот. Последняя деталь портрета кажется на первый взгляд
прямым заимствованием из иконографии Будды. Но и она
приобретает здесь совершенно иную художественную трак-
товку. Человек не наставляет и не вещает, он разговарива-
ет то ли с незримым собеседником, то ли сам с собой,
усмехаясь собственным мыслям. И эта полуулыбка-полу-
усмешка придает теплый оттенок выражению его лица,
оттенок добродушия и спокойствия. Он явно знает себе
цену, осознает достигнутое, но начисто лишен высокоме-
рия или властных амбиций. Таким виделся Конфуций
У Даоцзы или какому-то неизвестному художнику, следо-
вавшему танскому мастеру. И нельзя не признать, что со-
зданный ими художественный образ Учителя удачно со-
гласуется с тем его обликом, который вырисовывается бла-
годаря его собственным высказываниям и отзывам о нем
учеников и современников.
Однако данная иконографическая линия не нашла себе
достойного продолжения. По указу основателя династии
Мин в храмах, посвященных Конфуцию (за исключением
его поминального святилища), запрещалось помещать его
живописные или скульптурные изображения, — еще одна
попытка отделить культ Конфуция от культов божествен-
ных персонажей и его храмы от буддийских и даосских.
Этот запрет неукоснительно соблюдался в дальнейшем. Во
всех «кумирнях Учителя Куна» вместо художественных
изображений Конфуция и его учеников стояли таблички с
их именами. Поэтому единственным его храмовым изобра-
жением, созданным при Цин, оказывается скульптура из
храмового комплекса в Цюйфу. Хотя ее при всем желании
трудно счесть шедевром китайского изобразительного ис-
кусства, она все же в какой-то мере продолжает указанную
иконографическую линию. В ней не ощущается ни следо-
вания каким-то художественным нормативам, ни влияния
буддийского или даосского культового искусства. He пре-
тендуя на воссоздание исторического облика Учителя, она
вновь подчеркивает его «человеческие» черты: достаточно
свободная поза, спокойное задумчивое лицо и широко рас-
крытые, словно устремленные куда-то вдаль глаза.
Портрет Конфуция,
считающийся копией
портрета У Даоцзы
Конфуций в императорском
облачении. С цинской
книжной гравюры
Конфуций в облике ученого.
С портрета эпохи Мин
475
Конфуций с учениками.
С цинской книжной
гравюры no мотивам
произведений в храмс
Конфуция
Философ Мэн-цзы.
С книжноіі гравюры
no мотивам живописных
произведений
Запрет, наложенный основателем минской династии на
художественное оформление храмов Конфуция, не распро-
странялся на светское изобразительное искусство и на изоб-
ражения, использовавшиеся в государственных учрежде-
ниях, учебных заведениях и частными лицами. Многие
представители служилой интеллигенции цинской эпохи
имели y себя дома живописный или скульптурный портрет
Конфуция. Однако они хранились, как правило, не на до-
машних алтарях, где помещались изображения богов, a в
кабинетах. Статуи Конфуция, судя по гравюрам того вре-
мени, устанавливались также в специально отведенных для
этого помещениях учебных заведений, где и происходила
ежедневная церемония поклонения ему учащихся. Худо-
жественные трактовки образа Конфуция, за исключением
собственно живописных произведений, сводятся к двум
главным вариантам. В одном из них он показывается в
ипостаси ученого — в одеянии, близком к императорскому
костюму и стилизованном под древние эпохи, но с чинов-
ничьей шапочкой на голове (правда, тоже в стилизованном
виде). В другом — в полном императорском облачении тор-
жественно восседающим на троне. Данный вариант факти-
чески ничем принципиально не отличается от иконогра-
фии божественных персонажей ранга «императоров».
Культ Конфуция распространялся и на его учеников.
Уже в ханьскую эпоху утвердилась когорта из 72 его бли-
жайших учеников, которые удостаивались жертвоприноше-
ний. В начале Тан эта когорта была законодательно утверж-
дена соответствующим эдиктом. Однако в скором времени в
иерархию учеников и в их список стали вноситься измене-
ния. Вначале (720 г.) было выделено 10 ближайших учени-
ков Конфуция. В XIII в. (1267 г.) — установлена еще одна
когорта из четырех персонажей, получивших общий титул
«Четыре наимудрейших» (Сысянъ). Ее состав окончательно
определился в первой половине XIV в. (1330 г.), когда в нее
был введен Мэн-цзы. Кроме Мэн-цзы, в ней числятся два
ученика Конфуция — уже упоминавшийся выше Янь Юань
и Цзэн-цзы (Цзэн Шэнь, 505-436 гг. до н. э.), и его внук
Цзи-сы. Подобные перестановки повлекли за собой и измене-
ния в составе 72 учеников, наиболее серьезные из которых
были сделаны в 1530 и 1724 гг. В него вводились все новые
персонажи, ученые и литераторы сунской, минской, a затем
и цинской эпох. Последние добавления в этот список были
сделаны в 1919 г. правительством Китайской Республики.
Ачерез 9 лет (1928 г.) культ Конфуция и все проводимые в
его честь мероприятия были официально отменены.
Понятно, что ни один из учеников Конфуция не имеет
собственных иконографических стандартов. Их портреты,
конечно же, неоднократно создавались в рамках изобрази-
тельного искусства и книжных иллюстраций, но исходя из
правил и принципов светского жанра портрета.
Иначе обстояло дело с даосским культовым искусст-
вом, которое с самого начала попало под влияние буддий-
ской иконографии и затем пыталось создать на ее основе
собственную иконографическую систему.
476
Процесс институализации даосской традиции, начавший-
ся в I—II вв. (возникновение организационно оформленных
даосских школ), не привел к образованию единой даосской
церкви. Эта традиция, в чем заключается одна из ее важней-
ших типологических особенностей, продолжила свое суще-
ствование в виде огромного числа локальных и региональ-
ных организационных форм (школах, сектах, эпизодичес-
ких структурных образованиях). При этом практически в
каждой из них предлагался собственный вариант представ-
лений об устройстве мира и соответствующий им божествен-
ный пантеон. Первый вариант такой космолого-религиозной
модели был разработан в Школе Небесных наставников189.
Согласно учению этой школы, вселенная состоит из
трех сфер — Неба, Земли и Воды, порожденных тремя кос-
мическими пневмами (Сань ци) — Сокровенной (Сюань),
Изначальной (Юанъ) и Первоначальной (Ши). Каждая из
сфер управляется Божественным Министром (Гуанъ), три-
ада которых — Три министра (Санъ гуань) — как раз и
занимает верхнюю позицию в божественном пантеоне Не-
бесных наставников.
Иные варианты космолого-религиозных моделей были
приняты в последующих даосских школах, которые воз-
никли в эпоху Шести династий на Юге. Речь идет, прежде
всего, о школах Маошанъ (или школа Высшей чистоты,
Шанцин) и Линбао (Священной/Духовной драгоценности);
в обеих культивировались учения и практики, направлен-
ные на достижение бессмертия190.
Теоретиками школы Маошань была выдвинута еще бо-
лее сложная и детально проработанная, чем y Небесных
наставников, космологическая схема, в которой мир под-
разделялся на 7 сфер. Высшей из них полагается Сфера
Нефритовой чистоты (Юйцин), где пребывают боги и духи,
никогда на спускающиеся на землю. Далее следуют сфера
Высшей чистоты (Шанцин) и сфера Великого предела (Тай-
цзи), где находятся обители (Дворцы) Совершенных людей
(Чжэнъжэнъ) — бессмертных, по учению этой школы, выс-
шего ранга. Бессмертные низших рангов — сяни — пребы-
вают в трех следующих сферах, относящихся уже к соб-
ственно земному пространству: Великой чистотпы (Дацин),
Девяти дворцов (Цзюгун) и Пещерных небес {Тянъдун),
которые располагаются соответственно на востоке, западе
и в глубине пещер определенных горных массивов (симво-
лическим воплощением этих пещер и является тыква-гор-
лянка). Последняя, седьмая сфера — Фэнду, Град ночи
(Ечэн) — есть загробный мир, который мыслился здесь в
виде острова, находящегося на крайнем севере. Там поме-
щались столица царства мертвых, сеть административных
учреждений, чиновники которых судили усопших, опреде-
ляя характер их дальнейшего существования, и ады. Каж-
дая сфера возглавлялась собственным божественным пер-
сонажем, включая сферу загробного мира, повелителем
которой почитается Северный император (Бэй-ди). Однако
художественные изображения этих персонажей не сохра-
нились, и не известно, создавались ли они вообще. Судя по
ПЕРСОНАЖИ
ДАОССКОГО
ПАНТЕОНА
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ДАОССКИХ
РЕЛИГИОЗНЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
189 Школа Небесных на-
ставников (Тяныиидао, другие
названия — Школа Истинно-
го единства, Чжэнъи дао; Пять
доу риса — по размеру риту-
алъного взноса ее адептов) была
создана в первой половине II в.
на юго-западе страны (пров.
Сычуань) полулегендарным
Чжан Даолином (347-156?).
В скором времени она превра-
тилась в одну из наиболее ав-
торитетных даосских органи-
заций, в этом качестве пребы-
вая и по сей день.
190 История первой из них
восходит к IV в. Достигнув
иика своего расцвета в конце
V — начале VI в., она также
надолго утвердилась в духов-
ной и религиозной жизни Ки-
тая. Но затем постепенно ото-
шла на второй план, хотя
формально и сохранила свой
статус самостоятельной даос-
ской организации. Школа Лин-
бао была основана в самом
конце IV в., став своего рода
элитарной организацией, ори-
ентировавшейся на представи-
телей высших социальных и
интеллектуальных слоев ки-
тайского общества. Она тоже
продолжила свое бытие в по-
следующие исторические эпо-
хи, правда, намного уступая
по степени своей популярнос-
ти Небесным наставникам и
Маошань.
477
191 Значительно большее
значение в религиозных пред-
ставлениях и обрядовых прак-
тиках Маошань придавалось
ее основоположникам: трем
братьям Mao — Mao Ину, Mao
Гу и Mao Чжуну, которые
жили во II в. до н. э. (во вре-
мена правления ханьского им-
ператора Цзин-ди, 157-141 гг.
до н. э.). Решив стать отшель-
никами, они поселились в го-
рах, где впоследствии и утвер-
дился главный центр этой шко-
лы (приблизительно в 150 км
к юго-востоку от Нанкина).
Показательно, что изображе-
ния братьев Mao, титулуемых
Три совершенных господина
Mao (Санъмао-чжэнъцзюнь),
являются единственными
скульптурами в художествен-
ном оформлении храма шко-
лы Маошань («Дворец Вечно-
го процветания Девяти Не-
бес», Цзюсяо-ваньфу-гун) в том
виде, в каком он доступен по-
сетителям сегодня. Это — три
стоящие в ряд и почти оди-
наковые фигуры в полный
рост, которые не имеют от-
четливых иконографических
особенностей. Внешний вид
фигур и их облачение в це-
лом стилизованы под услов-
ный костюм прошлых эпох со
столь же условными чертами
отшельнического одеяния (на-
кидка на плечах). Братья Mao
в настоящее время почитают-
ся и в других даосских шко-
лах, о чем свидетельствует
включение их дней рождения
(Mao Ина — в 3-й день 9-го
месяца, Mao Гу — в 25-й день
6-го месяца, и Mao Чжуна —
во 2-й день 12-го Аіесяца) в
цикл общедаосских торжеств.
Однако и в даосском культо-
вом изобразительном искусст-
ве (вне храма Маошань), и в
китайском светском художе-
ственном творчестве их изоб-
ражения если и встречаются,
то крайне редко.
письменным источникам, их образы остались в аморфном
состоянии191.
В школе Линбао была предпринята попытка объедине-
ния вертикально ориентированной космологической схемы,
разработанной в учении Небесных наставников и Маошань,
с пятичленной пространственно-временной моделью. В ней
выделялись три высшие сакральные сферы и пять простран-
ственных зон. Высшие сферы — Нефритовая чистота (Юй-
цин), Высшая чистота (Шанцин) и Великая чистота (Тай-
цин) — управлялись новой триадой божеств, соответствен-
но Господином Небесной драгоценностпи (Тянъбао-цзюнъ),
Господином Священной драгоценности (Линбао-цзюнъ) и
Господином Божественной драгоценности (Шэнъбао-цзюнъ).
Но их образы тоже остались без конкретной персонифика-
ции и собственно иконографических воплощений.
Одновременно во всех названных школах признавалось
существование множества богов и духов, организованных
по подобию национальной административной или военной
системы: божественные генералы, офицеры, в подчинении
которых находились сонмы «духов-солдат». Большое вни-
мание уделялось также божествам, олицетворявшим аст-
ральные объекты и исходно локальным и региональным
природным божествам (повелителям стихий, покровителям
местностей и элементов ландшафта, гор, рек, озер), кото-
рые чаще всего относились к разряду бессмертных-сямей.
Приблизительно в минскую эпоху наметилась тенден-
ция к контаминации и унификации космолого-религиоз-
ных представлений, принадлежащих различным школам,
приведшая к появлению подобия общедаосской религиоз-
ной системы, которая включает в себя единый набор персо-
нажей и связанных с ними торжеств и обрядовых практик.
Особую роль в этом процессе сыграла позднедаосская Шко-
ла Совершенной истины Щюанъчжэнь дао), которая была
основана во второй половине XII в. Ван Чунъяном (1113—
1170), жившим в чжурчжэньском государстве Цзинь. При
Мин она заняла лидирующие позиции среди всех прочих
школ и стала оказывать определяющее влияние на состоя-
ние как собственно даосской традиции, так и духовно-ре-
лигиозной жизни всей страны. Параллельно происходил и
интенсивный процесс слияния даосских религиозных пред-
ставлений с общенародными популярными верованиями, о
качественных особенностях и отличительных приметах
которых мы поговорим несколько позже. В цинскую эпоху
оба этих идеологических образования настолько синтези-
ровались друг с другом, что провести четкую грань между
ними практически невозможно. Наибольшее число персо-
нажей даосского пантеона оказываются одновременно и
объектами культового поклонения в популярных верова-
ниях, a простонародные по своему происхождению куль-
ты — активно задействованными в даосских религиозных
представлениях и практиках. Поэтому в данном разделе
мы остановимся только на образах персонажей, изначаль-
но связанных с даосской традицией или оставшихся ее
специфической принадлежностью.
478
Главное место в даосском пантеоне, безусловно, принад-
лежит Лао-цзы в его ипостасях как основоположника дао-
сизма, так и божественного персонажа. Процесс обожеств-
ления Лао-цзы прослеживается приблизительно с I в. в рам-
ках одного из структурных направлений даосизма, известного
как Учение Великого равенства (Тайпин дао) по названию
его основного теоретического памятника «Канон Великого
равенства» («Тайпин цзин»), Находившееся на некотором
удалении от непосредственно философского и религиозного
(поиск средств обретения бессмертия) направлений, это уче-
ние продолжило собой развитие древних даосских социально-
политических идей, придав им весьма утопическую и мес-
сианскую окраску. В нем провозглашалась неизбежность
прихода в мир обожествленного Лао-цзы и наступления под
его правлением (или — правлением избранного им намест-
ника-государя) царствия всеобщего благоденствия, справед-
ливости и духовного процветания. При этом в образе Лао-
цзы объединились его собственные черты и черты Желтого
императора, провозглашенного в этом учении идеалом пра-
вителя, что нашло отражение в предложенной им
титулaType Лао-цзы — Желтпый Лао (Хуан-Лао).
Учение Великого равенства послужило теоретической
базой двух самостоятельных организаций: уже упоминав-
шиеся выше Школы Небесных настпавников и Школы Ве-
ликого равенстпва (Тайпин дао), последняя из которых воз-
никла в Шаньдуне и стала инициатором и идейным вдох-
новителем восстания «Желтых повязок», взорвавшего
Ханьскую империю192. Школа Небесных наставников вос-
приняла и мессианско-утопические установки Учения Ве-
ликого равенства, и культ Лао-цзы, но уже под иной его
титулатурой — Высочайший Господин Лао (Тайшан Лао-
цзюнъ) или сокращенно Господин Лао (Лао-цзюнъ). Счита-
лось, что Чжан Даолин приступил к ее созданию, получив
откровения от Господина Лао — право быть его наместни-
ком на земле и поручение готовить паству к наступлению
эры Великого Равенства, но через ее воспитание, a не анти-
правительственные акции. Это позволило Небесным настав-
никам установить контакты с правящими режимами и за-
нять устойчивое положение в обществе.
III—V столетия ознаменовались созданием подлинной
мифологии Лао-цзы, в которой он превратился в вечного и
всемогущего бога, основного действующего лица процесса
космогенеза и всех последующих событий космического
масштаба и мира людей. Великое Дао как бы развертыва-
ется, порождая все сущее, и на одной из стадий этих
самотрансформаций обретает форму трех богов — Трех
Наичистпейших (Санъ цин) или Небесных Достопочтпен-
ных (Тянъ цзунъ), среди которых оказывается и Господин
Лао под именем Небесный Достопочтпенный Путпи и Бла-
гой силы (Даодэ-тпянъцзунъ). Именно он осуществляет тво-
рение мира, который возникает (подобно мифу о Пань-гу)
из его тела, и так становится «корнем Дао», «корнем Неба и
Земли», «праотцом Женского и Мужского начал» и «влады-
кой всех божеств». Но на этом активность Господина Лао не
КУЛЬТ
И ИКОНОГРАФИЯ
ЛАО-ЦЗЫ
192 Сразу же после подав-
ления этого восстания Шко-
ла Великого равенства, в от-
личие от Школы Небесных
наставников, прекратила свое
существование, хотя ее идеи
еще в течение долгого време-
ни служили «питательной сре-
дой» для идеологии повстан-
ческих движений.
479
Древнейшее изображение
Лао-цзы. Ханьский
погребалъный рельеф
прекращается. Он периодически рождается в мире людей,
принимая облик советника государей, наставляя их на путь
благого правления. Исторический Лао-цзы и есть одно из
таких воплощений Господина Лао, для чего он создал свою
мать (госпожу Ли) и сам вошел в ее чрево, проведя в нем
81 год и появившись на свет уже седым старцем. Вот почему
сочетание Лао-цзы в контексте данных мифологических по-
вествований обычно понимается и переводится как «Преста-
релый Младенец». По отношению к самой даосской тради-
ции Господин Лао выступает, кроме того, источником док-
трины Дао и хранителем всех таинств даосских знаний.
В танскую эпоху культу Господина Лао был придан
официальный характер. Происходившие из семейства по
фамилии Ли танские монархи были убеждены в том, что
являются дальними потомками Лао-цзы, благодаря мис-
тическому покровительству которого они только и смогли
прийти к верховной власти. В 666 г. Лао-цзы было прика-
зано именовать еще более торжественным титулом Высо-
чайший Владыка Сокровенного Изначалъного (Тайшан-
сюанъюанъ-хуанди). Декретом от 741 г. во всех городах и
уездах (мельчайших административно-территориальных
единицах) страны повелевалось возвести посвященные ему
святилища, главными из них стали храмы в столице —
Чанъани и в Лояне. Хотя почитание Лао-цзы на государ-
ственном уровне продлилось недолго, это способствовало
упрочению его культа в общенациональном религиозном
сознании.
Предельная мифологизация и сакрализация образа обо-
жествленного Лао-цзы, с одной стороны, способствовала
его превращению в общедаосскую универсалию вне зависи-
мости от теоретических и религиозных установок конкрет-
ных школ. С другой же стороны, он оказался как бы стоя-
щим над любым отдельным божественным пантеоном и не
подлежащим обычному почитанию. Непосредственным
объектом поклонения остался его образ как основополож-
ника даосизма. Наглядным проявлением этого служит
празднование его дня рождения — в 15-й день второго лун-
ного месяца, — входящее в даосскую календарную обряд-
ность, причем наряду с такими же празднествами в честь
всех других персонажей. Исключение составляет создан-
ная во второй половине V в. в тобийском государстве Се-
верное Вэй локальная школа Лоугуаныпай, центр которой
находится в горах Чжуннаньшань (приблизительно в 40 км
к юго-западу от Сианя). Ее пантеон возглавляется именно
Господином Лао в его ипостаси божества.
Приблизительно такая же картина наблюдается и в
истории иконографии Лао-цзы. Его древнейшие, в хань-
ском погребальном искусстве, изображения тоже, как и
Конфуция, лишены сколько-нибудь явных иконографиче-
ских примет и поддаются опознанию благодаря пояснитель-
ным надписям. Поэтому о первых попытках создания иконо-
графического образа Господина Лао приходится говорить
только начиная с эпохи Шести династий, для которой об-
наружено около 50 его скульптурных изображений, сопо-
480
ставимых с буддийской алтарной скульптурой. Они все
выполнены по единой иконографической схеме и с соблю-
дением определенных правил в художественных трактов-
ках его облика. Лао-цзы показывается исключительно стоя
в полный рост, облаченным в длинное складчатое одеяние
(довольно точно повторяющее облачение буддийских скулыі-
тур), с шапкой на голове, с окладистой бородой, имеющей
специфическую треугольную форму. В его правой руке обыч-
но находится мухогонка, которую даосское культовое ис-
кусство восприняло от буддийского по причине, видимо, ее
наибольшей смысловой нейтральности из всех прочих буд-
дийских иконографических атрибутов. В левую руку скульп-
туры помещена табличка с начертанной на ней благопоже-
лательной или заклинательной надписью — деталь, явно
изобретенная уже самой даосской иконографией. Фигура
Лао-цзы чаще всего дополнена двумя боковыми фигурами
его помощников. A вся группа располагается на платфор-
ме, копирующей «лотосовый трон» и нередко снабженной
парными фигурами сидящих львов. Следование буддий-
ской иконографии продолжилось и при Тан. Хотя в пись-
менных источниках сообщается, что в каждом даосском
храме должно было находиться изваяние Лао-цзы, уцелела
всего одна его каменная скульптура, хранящаяся в настоя-
щее время в главном святилище Школы Истинного совер-
шенства — монастыре Байюньгуань (Пекин). В ней Лао-
цзы воспроизведен в «сидячей» позе, практически полно-
стью повторяющей «позу царского отдохновения», но в
национальном костюме, с шапочкой на голове, с бородой
треугольной формы (см. вклейку).
Однако в дальнейшем и даосское культовое искусство, и
светское художественное творчество почти полностью от-
казались от воспроизведения образа божественного Госпо-
дина Лао, сосредоточив свое внимание на его ипостаси муд-
реца. Самостоятельное скульптурное изображение Господи-
на Лао — на месте, предназначенном для центральных
персонажей божественного пантеона, — присутствует толь-
ко в монастыре Лоуганьтай, следуя традициям как буддий-
ской иконографии, так и ранним опытам даосского культо-
вого изобразительного искусства. Он показан в «сидячей»
позе, повторяющей буддийскую «скрытую позу», облачен-
ным в одеяние ярко-желтого цвета — рудимент образа Жел-
того Лао; с волосами, уложенными на голове в пучок, по
форме напоминающий ушнишу, с длинной седой бородой.
В его руках эмблема Великого предела с ба гуа. Изображения
мудреца Лао-цзы тяготеют к определенной стереотипности,
однако лишены строгой иконографической нормативности,
допуская достаточно широкую вариативность трактовок его
внешнего облика и вспомогательных деталей композиций.
Наиболее принятым в культовом и светском изобразитель-
ном искусстве является воспроизведение сцены его стран-
ствования на запад — в виде старца, едущего верхом на
быке. Могут также даваться более развернутые варианты
этой сцены, рисующие, например, встречу Лао-цзы со страж-
ником, которому он отдает текст «Дао дэ цзина».
3 1 Исторпя мскуссгва Кнтая
Сцена встречи Лао-цзы
со стражником
на пограничной заставе.
С минской книжной
гравюры
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ
ПЕРСОНАЖИ
ДАОССКОГО
БОЖЕСТВЕННОГО
ПАНТЕОНА
Из даосских храмов наиболее полная коллекция про-
изведений на тему жизни Лао-цзы представлена в стено-
писях монастыря «Вечной весны» (Чанчуньгуань, вблизи
Уханя, пров. Хубэй), относящегося к Школе Истинного
совершенства. Здесь присутствуют картины с сюжетами:
его странствования (в предельно мифологизированной
трактовке) в небесном пространстве, по облакам, в сопро-
вождении сянейу и занятий с учениками (внешне мало
отличающаяся от соответствующих конфуцианских ком-
позиций), и его медитативного уединения. В последнем
случае Лао-цзы вновь показан в «сидячей» («скрытой»)
позе, под раскидистой сосной (обыгрывание буддийского
Древа Бодхи). Рядом с ним находятся помощник (бес-
смертный подросток), курильница, пара Священных жу-
равлей и Белый олень, что фактически полностью совпа-
дает с набором образов в благопожелательных художе-
ственных композициях.
В целом можно сделать вывод, что, несмотря на отдель-
ные опыты в этом направлении, образ Лао-цзы так и не
приобрел нормативных и соответствующих собственно ико-
нографическим правилам художественных воплощений, что
указывает на отличие его культа от культов центральных
персонажей даосского божественного пантеона.
Верхнюю позицию в даосском божественном пантеоне
в том виде, в каком он утвердился в эпоху Цин, занимает
Нефритовый император (Юй-хуан), полный титул Нефри-
товый Августейший Высший Владыка (Юйхуан-шанди).
Согласно апокрифической легенде о нем, получившей наи-
болынее распространение в простонародной среде, Нефри-
товый император был некогда принцем одного из чжоу-
ских правящих домов. Его рождению предшествовало чу-
десное видение его матери, увидевшей во сне мудреца
Лао-цзы, привезшего с собой и передавшего ей младенца-
сына. Унаследовав трон отца, Нефритовый император по-
казал себя мудрым и добродетельным правителем, но вско-
ре добровольно отказался от верховной власти и, передав
482
бразды правления своему министру, вступил на путь по-
стижения Дао. Проведя долгие годы в отшельническом уеди-
нении, он обрел бессмертие, присоединился к сонму бес-
смертных-сякей и духов, среди которых выделялся доброде-
телями и необыкновенными способностями, что и позволило
ему в конце концов стать их главой. Однако эта легенда,
явно возникшая под влиянием апокрифов о национальных
совершенномудрых государях и исторических лицах (мо-
тивы «чудесного рождения») и жизнеописания Будды (доб-
ровольный отказ от трона, прохождение через отшельниче-
ство-аскезу), не имеет никакого отношения к реальной ис-
тории культа Нефритового императора. Он восходит к
религиозно-космологическим представлениям южнокитай-
ских даосских школ эпохи Шести династий, конкретно —
к пантеону Маошань, в котором сходный титул имел пове-
литель сферы Нефритовой чистоты.
Качественно новая ступень эволюции культа Нефрито-
вого императора связана с деятельностью императора Чжэнь-
цзуна (998-1023), третьего монарха Северной Сун, при ко-
тором как раз и произошло окончательное утверждение
новой династии после предшествующего периода междо-
усобных смут. По признаниям Чжэнь-цзуна, изложенным
в специальных декретах, на протяжении 1007-1012 гг. ему
было явлено несколько видений (первое — в ночь на 11 де-
кабря 1007 г., по современному летоисчислению) посланцев
Нефритового императора, предупреждавших его о гряду-
щем визите великого божества. В последнем из этих виде-
ний Нефритовый император предстал перед ним лично, воз-
вестив ему, что он является одним из Девяти Августейших
Правителей (Цзюхуан, в даосской мифологии — первые
правители мира и человеческого общества), предком и боже-
ственным покровителем сунского правящего дома. В 1014 г.
Чжэнь-цзун приказал воздвигнуть в императорской рези-
денции алтарь для жертвоприношений Нефритовому импе-
ратору с его изваянием и воздавать ему официальные по-
чести под титулами Нефритового императора, Наивысо-
чайшего, Создателя Небес, Воплощения Дао и т. д.193
Следующий этап эволюции культа и образа Нефритово-
го императора тоже оказывается результатом политичес-
ких акций, проводимых последним императором Северной
Сун — Хуэй-цзуном (1101-1126). Кризисная политическая
и экономическая ситуация, в которой оказалась страна,
угроза нового чжурчжэньского вторжения заставили Хуэй-
цзуна приступить к поиску мер для духовного сплочения
нации и предотвращения нависшей над правящим режи-
мом катастрофы. Одной из таких мер стала попытка прове-
дения религиозной реформы и создания новой государствен-
ной идеологической системы. В качестве такой системы им
было использовано Учение о Божественном Небе (Шэнъ-
сяо), разработанное духовным наставником Хуэй-цзуна —
даосом Линь Линсу — для обоснования божественного ста-
туса правящей династии и самого императора.
В Учении о Божественном Небе проповедовалось, что
мир состоит из девяти небесных сфер, высшей из которых
193 Следует заметить, что
акции Чжэнь-цзуна были явно
продиктованы не его личным
даосским вероисповеданием, a
стремлением укрепить пози-
ции правящего дома (клана
Чжао, являвшегося всего лишь
семейством военных чиновни-
ков) и через создание подоб-
ной «божественной» родослов-
ной подтвердить его легитим-
ность. Вполне закономерно,
что культ Нефритового им-
ператора был поддержан и
преемниками Чжэнь-цзуна,
хотя и без придания ему ста-
туса главного государствен-
ного культа.
483
Парадный
иконографический вариант
изображения Нефритового
императора.
С иконы-кякьхуа
194 Важнейшее место в его
культе занимает вера в его
ежегодное посещение мира
людей, происходящее в ночь
с 24 на 25 число двенадцато-
го лунного месяца, для про-
ведения личной инспекции
Поднебесной. Эта инспекция
длится, по даосским верова-
ниям, до 9-го дня лунного
месяца, и все это время Не-
фритовый император незримо
объезжает страну, вознаграж-
дая достойных и наказывая
виновных в нерадивости и дур-
ных поступках. Весь указан-
ный период в даосских хра-
мах проводятся специальные
литургические церемонии и
торжества. Особенно пышно
и тщательно справляется его
встреча, когда даосы монас-
тырей в полном составе коле-
нопреклоненно ожидают его
прибытия, и день его прово-
дов. День проводов, являю-
щийся и днем его рождения,
отмечается торжественной
службой, завершаемой пир-
шественной трапезой, на ко-
торых, по поверью, присут-
ствуют не только люди, но и
бессмертные и духи.
является сфера Божественных небес. Она управляется ве-
ликим Царем Нефритовой чистоты (Юйцин-ван), стар-
шим сыном и наследником древнего Верховного Владыки
(ПІан-ди). Земной же император есть его воплощение и
наместник в мире людей, ниспосланный для установления
там идеального, в духе установок Учения Великого равен-
ства, правления.
Реформа Хуэй-цзуна потерпела полную неудачу и была
законодательно отменена им же самим незадолго до краха
Северной Сун. Тем не менее она стимулировала дальнейшее
развитие культа Нефритового императора и его превраще-
ние в центральное божество не только даосского, но и всеки-
тайского божественного пантеона. Что касается непосред-
ственно даосских религиозных представлений, то культ Не-
фритового императора как верховного божества получил
признание вначале в Школе Истинного совершенства, в ко-
торой и продолжилось создание его мифологии. В даосизме
он почитается воплощением Ян, верховным владыкой всех
божеств, главой бессмертных, повелителем Неба и Земли,
рая и ада (результат смешения даосских религиозных пред-
ставлений с буддийскими) и судеб отдельных людей194.
Скульптурные изображения Нефритового императора
непременно присутствуют в монастырях и храмах Школы
Истинного совершенства и, как правило, но не строго обя-
зательно, в даосских святилищах других школ и сект. Чаще
всего ему отводится центральное строение храмового ан-
самбля — Нефритовый зал (Юйтан). Изображения Нефри-
тового императора тоже отличаются стандартностью. Он
показывается сидящим на троне, в одеянии, повторяющем
старинное (до Сунской эпохи) императорское парадно-
ритуальное облачение, со специфическим головным убо-
ром — короной-мянъ (подробно см. глава 13). В руках, сло-
женных на уровне груди, он держит нефритовый жезл-гуй,
что также соответствует императорской обрядности. В жи-
вописных композициях, в том числе на иконах-нянъхуa,
фигура Нефритового императора обычно дополняется изоб-
ражениями многочисленных персонажей — божеств, оли-
цетворяющих все сферы и области мироздания, либо чле-
нов его семьи, его свитских и помощников. В светском
художественном творчестве допускаются и менее парадные
по стилю его портреты: в «стоячей» позе и как бы прогули-
вающимся по небесным чертогам.
Следующую позицию в даосском божественном пантео-
не занимают уже известные нам Три Наичистейших (Три
Небесных Достопочтенных), культ которых в качестве от-
дельных божеств также утвердился в Школе Истинного
совершенства. Их принятые титулы: Небесный Достопоч-
тенный Изначального Начала {Юаньши-тяньцзунъ), Не-
бесный Достопочтенный Священной Драгоценности (Лин-
бао-тяньцзунь) и Небесный Достопочтенный Дао и Дэ
(Даодэ-тяньцзунь). Эти титулы сразу же подсказывают,
что образы Трех достопочтенных возникли на основании
синтеза мифологии Лао-цзы и космолого-религиозных пред-
ставлений школ Маошань и Линбао. Кроме того, первый
484
из них нередко отождествляется с Нефритовым императо-
ром или считается отцом последнего. Небесный Достопоч-
тенный Дао и Дэ соотносится с Лао-цзы в его ипостаси
небесного божества-демиурга и источника доктрины Дао.
Дни рождения Трех Наичистейших — Небесного Досто-
почтенного Изначального Начала — в день зимнего солн-
цестояния, Небесного Достопочтенного Священной драго-
ценности — в 15-й день лунного месяца, и Небесного Досто-
почтенного Дао и Дэ — в день летнего солнцестояния —
возглавляют собой набор общедаосских торжеств.
Существуют исключительно групповые изображения Трех
Наичистейших, которые помещаются тоже в специально
посвященном им здании храмовых и монастырских комп-
лексов, носящем, как правило, название «Дворец (Палаты)
Трех Наичистейших» (Санъциндянъ). Они показываются в
«сидячих» позах, почти в одинаковых облачениях, стилизо-
ванных под старинное ритуально-чиновничье одеяние, с
шапочками или волосами, собранными в пучок, на голове,
вновь напоминающими ушнишу, и длинными бородами. Их
скульптурные изображения ставятся в один ряд, фактичес-
ки копируя собой тройные скульптуры будд в буддийских
храмах. Сходство между ними еще более усиливается, когда
фигуры Трех Наичистейших дополняются двумя неболыни-
ми дополнительными фигурами (в буддийской иконогра-
фии — ученики Будды). В центре помещается изображение
Небесного Достопочтенного Изначального Начала. Его опоз-
навательным иконографическим признаком служат жесты,
исполняемые левой и правой руками. Пальцы левой руки
сложены в щепоть. Правая рука показывается с поднятой
вверх ладонью с распрямленными согнутыми болыдим и
двумя средними пальцами, что считается знаком благосло-
вения. Изображения Небесного Достопочтенного Священ-
ной Драгоценности и Небесного Достопочтенного Дао и Дэ
помещаются соответственно слева и справа (т. е. к востоку и
западу) от него. Характерным атрибутом первого из них
выступает «Зеркало Инь-Ян» (диск с эмблемой Великого
предела), второго — веер с нарисованным на нем «Зеркалом
Инь-Ян» или жезл-жуи. Кроме того, он, подобно всем ос-
тальным иконографическим вариантам образа Лао-цзы, снаб-
жается седой бородой.
На следующей ступени иерархии даосского божествен-
ного пантеона находятся Четыре Правителя (Сы-юй), культ
которых тоже установился в Школе Истинного совершен-
ства и представляет собой, по сути дела, модифицирован-
ный вариант культа Повелителей частей света в его объ-
единении с Буддами-татхагатами и Небесными царями.
1. Верховный Владыка Великого (Августейшего) Неба
{Хао/Хуантянъ-шанди), полный титул Благоговейно По-
читаемый Великий Августейшии Нефритовый Владыка
Небесных Золотых Привратных Башен (Тянъцзинъцюэ-
чжицзунь-юйхуан-дади), считающийся повелителем Запа-
да и всех духов.
2. Верховный Владыка [Дворцов] Гоучэнъ (Гоучэнь-
шанди), полный титул Великий Авгусшеиший Небесный
Изображение Нефритового
императора в небесных
чертогах. С минскои
книжной гравюры
Три Небесных
Достопочшенных.
С книжной гравюры
no мотивам храмовой
скулыгтуры
485
195 Примечательно введение
в его титул астрономического
термина — Гоучанъ, названия
китайского созвездия, состоя-
щего из 6 звезд Малой Мед-
ведицы. Как «Южный Пре-
дел» в даосской терминологии
обозначается Юг.
196 Сочетание цзывэйу вхо-
дящее в его титул, тоже яв-
ляется астрономическим тер-
мином, посредством которого
обозначался второй из трех
выделяемых в китайской аст-
рологии центральных участ-
ков звездного неба, состоящий
из 15 наиболее ярких звезд.
Владыка Высочайших Дворцов Гоучэнь Южного Предела
(Гоучэнъ-шангун-нанъцзи-тянъхуан-дади) — повелитель
Юга и всех божественных сил, обусловливающих зарожде-
ние, рост и существование всего живого195.
3. Верховный Владыка Светло-пурпурного [Неба] Щзы-
вэй-шанди)у полный титул Наивысочайший Августейший
Великий Владыка Светло-пурпурного Участка Северного
Предела Срединных Небес (Чжунтянъ-цзывэй-бэйцзи-тай-
хуандади) — повелитель Севера и всех звезд и созвездий,
a также олицетворяющих их божеств и духов196.
4. Августейший Владыка-дух Земли (Хоуту-хуан-дици)9
полный титул Воспринявший Волю Небес и Неукоснителъно
Следующий Закону Августейший Владыка-дух Земли (Чэн-
тянъ-сяофа-хоуту-хуанци) — повелитель Востока и всех
злаков. Несмотря на их столь замысловато-выспренные
титулы и, казалось бы, однозначные функции верховных
божеств, образы Четырех Правителей оказываются лишен-
ными сколько-нибудь отчетливых индивидуальных при-
мет, a сами они занимают относительно скромное место в
даосских религиозных представлениях, играя роль помощ-
ников Нефритового императора и Трех Наичистейших, над-
зирая за соответствующими участками мироздания. Их
изображения обычно помещаются во «Дворце Трех наичи-
стейших», и все они показываются в одинаковом облике: в
виде чиновников, облаченных в придворно-парадный кос-
тюм и с табличками в руках.
Функции повелителей отдельных сфер мироздания,
участков мирового пространства, живых существ и челове-
ческих судеб возлагаются и на многих других персонажей,
включая астральных божеств. Однако их культы и образы
проявляются несколько ярче в популярных верованиях,
чем в собственно даосских религиозных представлениях.
Обращает на себя внимание также настойчивое присутствие
в даосской традиции развитых культов женских божествен-
ных персонажей. Хотя о наиболее древних из них известно
очень мало по причине их эзотеричности. Так, в даосских
текстах постоянно фигурирует божество, называемое Сокро-
венная Дева Девяти Небес Щзютянь-сюаньнюй), которое,
судя по частоте упоминаний о ней и введению в ее титул
таких терминов, как «сокровенный», «Девять небес», долж-
на была занимать существенное место в даосском боже-
ственном пантеоне. Однако о ней лишь сообщается, что она
является девой-небожительницей, приближенной Желтого
императора и имеет полузооморфную-полуантропоморфную
внешность: тело птицы и человеческую голову. Все это
указывает на архаичное происхождение ее облика. Изобра-
жений Сокровенной Девы Девяти Небес практически не
сохранилось, если они вообще когда-либо создавались. Уни-
кальный образец — роспись на лаковом блюде (диаметр
около 22 см), найденном (1997 г.) в погребении из север-
ной части провинции Цзянсу (окрестности Наньчана), да-
тируемом IV-V вв. Блюдо украшено подлинной художе-
ственной сценой: богиня играет на музыкальном инстру-
менте (цине) в окружении фантастических существ, словно
486
Лаковое блюдо
с изображением
Сокровенной Девы
Девяти Небес
завороженно слушающих ее музыку. Среди них мы видим
и дракона, и тигроподобное создание, и птицу с человече-
ской головой, примостившуюся подле своей госпожи. Эта
роспись, бесспорно, является весомым подтверждением су-
ществования культа Сокровенной Девы Девяти Небес в эпоху
Шести династий. Однако она не позволяет судить о под-
линном характере этого культа и о правомерности его ис-
ходного отнесения к даосской традиции.
Еще один весьма загадочный персонаж — Нефритовая
дева (Юй-нюй). Из письменных источников известно, что
она была могущественной богиней, вдохновительницей и
покровительницей эзотерических мистерий оргиастическо-
го характера, культ которой возник, видимо, при Хань и
пользовался огромным авторитетом в кругах социальной
элиты Шести династий. Отголоски ее культа прослежива-
ются и в ряде поэтических текстов того времени, в которых
она рисуется хозяйкой пира бессмертных и божественной
исполнительницей. В отличие от Сокровенной Девы Девя-
ти Небес художественные изображения которой не сохра-
нились, образ Нефритовой девы запечатлен в живописных
произведениях. Таковыми считаются стенописные карти-
ны, сохранившиеся от юаньской эпохи. В них дается порт-
рет прекрасной, величественного вида женщины, облачен-
ной в роскошные одеяния с драгоценными украшениями.
Кроме имени богини Нефритовая дева, сочетание юй-нюй
употреблялось в качестве имени собственного божества горы
Тайшань и общего наименования небожительниц низшего
ранга, прислужниц богов и бессмертных-сяией.
В поздних даосских религиозных представлениях ве-
дущие позиции среди женских персонажей заняла боги-
ня, называемая Изначалъная Госпожа Бирюзовой Зари
487
(Бися-юанъцзюнъ). Ее культ прослеживается с северосун-
ской эпохи, когда по приказу императора Чжэнь-цзуна ей
стали воздавать официальные почести. Впоследствии в да-
осской литературе появилась целая серия апокрифических
легенд о ней, называющих ее дочерью Владыки гор Тай-
шань, помощницей Нефритового императора, следящей,
по его поручению, за человеческими судьбами, и повели-
тельницей бессмертных, что находит отражение в ее почет-
ном титуле Ыебесная Бессмертная Совершенная Матушка
(Тянъсянъ-шэнму). До наших дней сохранился посвящен-
ный ей храм — «Монастырь Бирюзовой зари» (Бисясы),
воздвигнутый в горах Тайшань при Мин. В нем находится
выполненное в минскую эпоху ее бронзовое изваяние: в
виде прекрасной девы, облаченной, как и Нефритовая дева,
в роскошные одеяния, дополненные типичным для парад-
ного женского костюма того времени головным украшени-
ем — «фениксовой короной» (подробно см. глава 13).
Тем не менее когорта центральных божественных пер-
сонажей даосского пантеона намного меныпе плеяды пер-
сонажей, которые обозначаются как бессмертные-слтш.
БЕССМЕРТНЫЕ-СЯЯЯ
197 Один из первых вари-
антов такой классификации
был предложен создателями
Учения Великого Равенства,
выделившими три категории
даосских личностей: «человек
Дао» (дао жэнъ), т. е. лич-
ность, достигшая единства с
Дао; «бессмертный человек»
(сянь жэнь) и «совершенный
человек» (чжэнь жэнь) — бес-
смертный высшего ранга. Бо-
лее строгая градация сяней
дается в трактате «Баопу-цзы»
(«Мудрец, объемлющий пус-
тоту»), принадлежащем зна-
менитому даосскому теорети-
ку и алхимику-практику Гэ
Хуну (2847-363?). В ней вы-
деляются: 1) «небесные бес-
смертные» (тянь сянъ)> воз-
несшиеся на небо и поселив-
шиеся в астральных покоях,
заняв место в свитах и адми-
нистративных аппаратах не-
бесных божеств; 2) «земные
бессмертные» (дц сянь), скры-
вающиеся в «знаменитых го-
рах» (мин шань) или «пещер-
ных небесах» для продолже-
ния практик собственного
совершенствования и после-
дующего вознесения на небо;
3) «бессмертные, освободив-
шиеся от трупа» (ши цзе сянь\
личности, обретшие физиче-
ское бессмертие, но еще не до-
стигшие степени совершенства,
позволяющей им покинуть
мир людей. В последующих
даосских учениях, включая
Школу Истинного совершен-
Сяни в даосской традиции, напомним, — это личности,
обретшие не просто бессмертие, но и сверхъестественные
свойства, сближающие их с божественными персонажами.
К ним относятся способности свободно передвигаться через
воздушное пространство, обходиться без пищи и еды или
питаться чудесной пищей (например, минералами, дым-
кой), трансформировать собственный облик и облик дру-
гих существ и предметов, владеть волшебными вещами —
амулетами, мечами и противостоять злым силам. Подоб-
ные способности и красочность образов сяней сделали их
излюбленными героями национальной художественной сло-
весности, изобразительного искусства, a также авторитет-
нейшими персонажами популярных верований. Даосские
мыслители приложили немало усилий для пресечения по-
добных «суеверий», в их терминологии, по отношению к
сяням и для создания их персонологических классифика-
ций исходя из доктринальных установок и «высоких» кос-
молого-религиозных представлений197.
Но они мало сказались на представлениях о сянях,
сложившихся в среде даосских адептов, не говоря уже о
верованиях за ее пределами. Место отдельного сяня в иерар-
хии бессмертных и степень его популярности определя-
лись, прежде всего, притягательностью его образа и ха-
рактером его деяний, особенно, если они совершались во
благо других людей и живых существ. Правда, в поздне-
даосских религиозных представлениях иерархия сяней все
же приобрела некоторую нормативность. В них, во-пер-
вых, стали более или менее четко выделяться, с одной
стороны, персонажи, почитаемые главами бессмертных, a
с другой — сяни низших рангов.
В статусе глав бессмертных оказались уже хорошо нам
знакомая Царица Запада Сиванму и ее супруг Дун Вангун
(Царъ Востока), она — почитаемая прародительницей и
488
покровительницей всех жепщия-сяней, он — бессмертных
мужского пола. О высокой степени их авторитета в даос-
ской традиции свидетельствует включение их дней рожде-
ний — соответственно в 3-й день 3-го лунного месяца и в
б-й день 2-го лунного месяца — в календарный цикл обще-
даосских торжеств.
Подобное положение Сиванму заняла не сразу. В эпо-
ху Шести династий ее культ претерпел заметные изменения
по сравнению с ханьской эпохой. Утратив черты Мировой
богини, она превратилась в покровительницу алхимических
экспериментов, что, впрочем, ничуть не сказалось на кра-
сочности легенд о ней и ее функциях властительницы
Запада и подательницы бессмертия. Представления о ней
как главе жеищик-сяней начали складываться при Тан.
В текстах того времени она именуется почетными титула-
ми Матушка Металла (Цзинь-му) и Госпожа Ванму (Ван-
му-няннян) и называется воплощением Женского начала
мира, божеством, власть которого распространяется на
Небо и Землю. Разительно изменилась и ее иконография,
о чем мы, правда, можем судить уже по более поздним —
минским и цинским — произведениям. «Тигриные», «зме-
иные» и «драконьи» черты полностью исчезли, уступив
место «птичьим». Наиболее принятыми стали ее иконо-
графические варианты, в которых она показывается ше-
ствующей по облакам в сопровождении небесных дев с
огромным, в виде птичьего пера, опахалом в руках, либо
стоящей в окружении фениксов, либо летящей на феник-
се. Трактовки ее собственного облика слегка варьируют-
ся — от юной девы до матроны, но неизменно прекрасная
внешность — остается.
Дун Вангун — архаическое божество растительности,
связанное с культом плодородия, весной и Востоком, о чем
однозначно свидетельствуют все его достаточно многочис-
ленные имена и титулы: Князъ Восточных деревьев (Дун-
му-гун), Князъ деревьев (Му-гун), Господин Восточного цве-
тения (Дунхуа-дицзюнъ). В древних текстах сообщается
ства, наибольшее признание
получила пятеричная класси-
фикация сяней с их подраз-
делением на следующие кате-
гории. 1. «Демоны-бессмерт-
ные» (гуй сянь) — личности,
шедшие по пути постижения
Дао, но no тем или иным при-
чинам не сумевшие достичь
требуемых результатов. Пос-
ле своей физической смерти,
т. е. гибели телесной оболоч-
ки, они продолжают суще-
ствование в виде духов (де-
монов, призраков) — гуй> но
«чистых и духовных», не при-
чиняющих вреда людям, а,
напротив, старающихся доб-
рыми деяниями улучшить
свою природу и превратиться
в подлинного бессмертного.
2. «Люди-бессмертные» {жэнь
сянь) — даосские адепты, ко-
торые смогли достичь внут-
реннего совершенства, доста-
точного для обретения веч-
пой жизни, но в мире людей.
3. «Земные бессмертные» (ди
сянь) — личности, овладев-
шие таинствами «внутренней
алхимии» и трансформировав-
шие свою изначальную при-
роду, но еще подчиняющие-
ся законам земного бытия.
4. «Божественные бессмерт-
ные» (шэнь сянъ), полностью
уничтожившие в себе иньную
пневму и создавшие новое
тело, состоящее из чистого
Яи> что позволило им прийти
в гармонию с космическими
ритмами. 5. «Небесные бес-
смертные» (тянь сянь), воз-
несшиеся на небо и ставшие
«небесными чиновниками»
(тянь гуань).
Изображения Сиванму
в светском искусстве
традиционного Китая.
С книжных гравюр минской
и цинской эпох
489
Парное изображение
Сиванму и Дун Вангуна
в ханъском погребальном
искусстве. ПІаньдунские
каменные релъефы
Изображения Дун Вангуна
в светском искусстве
a — с книжной гравюры эпохи
Цин; б — с книжной гравюры
эпохи Мин.
Древние легендарные сяни
a — бессмертный Пэн-цзу (с мин-
ской гравюры); б — Царевич Цяо
(с минской гравюры); в — Учи-
тель Красная Сосна (с минской
гравюры).
также, что он имел тело человека, голову птицы и хвост
тигра и обитал на вершине одной из восточных гор. В супру-
га Сиванму (вопреки, заметим, всем легендам о ней) он
превратился, видимо, в ханьской мифологии. Сохранилась
серия их парных изображений, выполненных на погребаль-
ных рельефах (Шаньдун) и зеркалах. Во всех случаях они,
подобно одиночным изображениям Сиванму, показывают-
ся исключительно в «сидячих» позах и в сопровождении
Бирюзового дракона и Белого тигра, что указывает на су-
ществование в ханьском художественном творчестве их стан-
дартной иконографии.
В искусстве же традиционного Китая Сиванму и Дун
Вангун, напротив, воспроизводятся по отдельности и не
имеют никаких общих иконографических черт. Более того,
образ Царя Востока, похоже, вообще остался вне строгих
иконографических стандартов, если не считать правило его
показа в сугубо антропоморфном облике и без каких-либо
зооморфных или зооморфно-фантазийных вспомогательных
элементов. Он рисуется то в виде даосского мудреца-
отшельника, как бы взирающего с высокой башни на зем-
ные дали, что сочетается с легендами о его чудесном, из
лилового тумана, дворце, находящемся где-то на горных
вершинах, то в виде кудесника, изрыгающего пламя, —
ассоциативная связь с Востоком, солнцем, Мужским нача-
лом мира и его сверхъестественными способностями.
Низовой ряд в иерархии сяней занимают нефритовые
девы (юйнюй) и золотые отроки (цзинъ-тун). Тун — спе-
цифический термин, исходно употреблявшийся в китай-
ском языке для обозначения подростков в возрасте 12-16 лет,
когда их молочные зубы уже полностью сменились на ко-
ренные, но они еще не достигли половой зрелости и совер-
шеннолетия. В даосской традиции образ отрока (подростка)
вообще занимает особое место, знаменуя собой способность
сяней пребывать в вечно юном возрасте. Поэтому в таком
облике могли в принципе изображаться любые персонажи.
Даосскую символику, на самом деле, нередко имеют и худо-
жественные композиции, воспроизводящие образы играю-
щих детей или подростков. Непосредственно нефришовые
девы и золотые отроки являются прислужниками и спут-
никами бессмертных высших рангов и божеств, каковыми
490
они обычно изображаются в произведениях даосского куль-
тового искусства, в благопожелательных композициях и в
светских произведениях на даосские темы.
Основной корпус сяней тоже претерпел в ходе разви-
тия даосских религиозных представлений немало измене-
ний. Судя по даосским сочинениям и литературным про-
изведениям, в ханьскую эпоху и в эпоху Шести династий
основное место в нѳм занимали легендарные личности,
обретшие бессмертие в незапамятной древности. Чаще всего
в них упоминаются бессмертный Пэн-цзу, считающийся
внуком совершенномудрого государя Чжуань-сюя, кото-
рый дожил до воцарения Шан-Инь, став сановником-дафг/;
Царевич Цяо (Ban Цяо, Ван Цзыцяо), в образе которого
слились два исходно различных персонажа: сын одного
из чжоуских князей, скрывшийся от мира в горах, и маг,
появившийся при дворе ханьского императора Мин-ди;
Учитель Красная Сосна (Чисун-цзы), бывший, по леген-
дам о нем, заклинателем дождя еще при Божественном
Земледельце.
Постепенно личностям этого типа пришли на смену
сяни, происходящие от локальных божеств, и обожеств-
ленные исторические лица — основоположники даосских
школ и учений, даосские мыслители, алхимики-практики,
знатные особы, покровительствовавшие даосизму, и тому
подобные персоны, например хуайнаньский принца Лю Ань
(179-122 гг. до н. э.), по инициативе и при участии кото-
рого был создан центральный для раннеханьского периода
даосский теоретический памятник — трактат «Хуайнань-
цзы». Так же Чжан Даолин, Гэ Хун, Линь Линсу: их изо-
бражения можно встретить как в храмовом, так и в свет-
ском искусстве.
Сяни обычно рисуются (что является одной из отличи-
тельных черт их иконографии) пребывающими в высшем
мире: стоят среди облаков, едут на волшебных колесницах
или фантастических существах, либо держат атрибуты и
детали, передающие их необыкновенные свойства и чудес-
ные деяния. Очень часто их изображения носят иллюстра-
тивный характер, воспроизводя те или иные эпизоды ле-
генд о данном персонаже, a потому могут быть понятны
только при знании этих легенд.
В даосских религиозных представлениях и в популяр-
ных верованиях минской и цинской эпох ведущее положе-
ние заняла когорта сяней, известная как Восемъ бессмерт-
ных (Ба сянъ). В нее входят: Чжунли Цюанъу Чжан Голао,
Люй Дунбинъ, Ли Тегуайу Цао Гоцзю, Ханъ Сянцзы, Ланъ
Цайхэ и Хэ Сяньгу. Каждый из них имеет собственную
историю, и их объединение в названную когорту произошло
в целом стихийно и без участия собственно даосской тради-
ции. Считается, что впервые в качестве устойчивой группы
они появились в театральных постановках ХІП-ХІѴ вв. и
лишь затем были введены в даосский пантеон, получив куль-
товое признание в Школе Истинного совершенства. Суще-
ствует даже специально посвященное им святилище — «Храм
Восьми бессмертных» (Басянъмяо), построенный в XVIII в.
•JS3?^îg.
Ѳ
^=
Изображения исторических
лиц в облике сяней
a — Хуайнаньский принц Лю Ань
(с минской гравюры); б — Чжан
Даолин (с минской гравюры); в —
Линь Линсу (с цинской гравюры).
491
в Сиане, на том самом месте, где, по легенде, они под раска-
ты грома все вместе явили себя людям.
Чжунли Цюань (Хань Чжунли, ханьский Чжунли),
признаваемый старшим в данной когорте, считается или
ханьским генералом, или сыном полководца, жившего в
конце Хань, который сам затем командовал армией цар-
ства Вэй и Западной Цзинь. Суть всех версий повествова-
ний о нем сводится к тому, что в одном из сражений он
потерпел сокрушительное поражение. Чудом спасшийся и
терзаемый угрызениями совести за гибель своих солдат, он
поселился в отшельническом уединении в горах Чжуннань-
шань (тех самых горах, где впоследствии возникла школа
Лоугуаньтай) и приступил к постижению Дао, добившись
на этом поприще значительно больших результатов, чем
на военном. Непосредственно в даосской традиции он по-
читается не только сянем, но и основателем древнейшего
направления «внутренней алхимии» — «школы золота и
киновари Чжунли» (Чжунли-цзинъданъ-дао), именуясь при
этом (почетный титул, данный ему еще сунскими даосами)
НаставникРодоначалъник Истинного Ян (Чжэнъян-цзуши).
В такой своей ипостаси он входит в еще одну, более высо-
кую по статусу, чем Восемь бессмертных, когорту пантеона
Школы Истинного совершенства — Пятъ патриархов
(Уцзу), возглавляемую самим Лао-цзы. В даосском обрядо-
вом календаре тоже предусмотрено специальное торжество
для воздаяния ему почестей — день его рождения, отмечае-
мый в 14-й день 4-го лунного месяца. Этим же объясняется
его старшинство среди Восьми бессмертных: он называется
наставником некоторых из них.
В популярных верованиях образ Чжунли Цюаня при-
обрел немало откровенно фантазийных черт. В том числе
рассказывается, что его матери было явлено чудесное зна-
мение с пророчеством о рождении будущего «великого бес-
смертного». Якобы новорожденным младенцем он уже об-
ладал необычной внешностью: имел, как y трехлетнего ре-
бенка, круглую голову, лицо киноварного цвета, толстые
уши, длинные брови и другие приметы великой будущно-
сти. Кроме того, он стал почитаться в качестве защитника
от любых неприятностей, связанных со служебной дея-
492
тельностью, и покровителя оказавшихся в трудном поло-
ясении. Чжунли Цюань стандартно изображается в виде
мужчины средних лет богатырского телосложения, с обна-
женной грудью, большим округлым животом — знак до-
вольства и беспечности, с широким лицом, окладистой
бородой и непокрытой головой, с прической из двух сим-
метричных пучков, напоминающих «детскую» прическу
(рудимент облика «подростка»). Его главный атрибут —
огромного размера веер, способный, как и мухогонка, отго-
нять любые злые силы и неприятности.
Чжан Голао считается даосским наставником (даоши)
по имени Чжан Го, который жил в первой половине танс-
кой эпохи. Рассказывается, что он уже тогда снискал себе
широкую известность и даже приглашался ко двору импе-
ратором Сюань-цзуном. Рассказывая о себе, Чжан Го пред-
ставлялся бессмертным, родившимся во времена совершен-
номудрого государя Яо, за что и получил прозвище Чжан
Голао (Старец Чжан Го), ставшее впоследствии его именем.
Он почитается обладающим властью над жизнью и смер-
тью, что сделало его в популярных верованиях покровите-
лем супружеского счастья и чадоподателем. По общепри-
нятому поверью, основное время он проводит в странство-
ваниях по стране, разъезжая на волшебном ослике (муле),
способном преодолеть за один раз 10 000 ли (5000 км).
Когда Чжан Голао отдыхает и не нуждается в своем осли-
ке, ему достаточно подуть на него, и тот превращается в
картинку, которую можно свернуть и спрятать в котомку.
Пора продолжить путь — и ослик вновь оживает. В соот-
ветствии с приведенными легендами, Чжан Голао чаще
всего изображается в виде старика с длинной седой боро-
дой, верхом на ослике, но — задом наперед. Ослик тоже
может снабжаться фантазийными деталями, например оле-
ньими рогами. Принятый атрибут Чжан Голао — бамбуко-
вая трещотка. Самостоятельный иконографический вари-
ант составляют изображения Чжан Голао, едущего на ос-
лике с младенцем на руках. Такие изображения, как и
изображения цилиня с ребенком, принято было дарить но-
вобрачным.
Люй Дунбинь — даосский деятель, живший предпо-
ложительно в конце VIII — начале IX в. (в легендах назы-
вается точная дата его рождения — 14-й день 4-го лунно-
го месяца 798 г.). Он признается в даосизме основополож-
ником всей традиции «внутренней алхимии» и тоже входит
в когорту Пяти патриархов. Подлинных сведений о его
жизни сохранилось немного. Известно, что он успешно
сдал провинциальный экзамен и пытался добиться успеха
на столичном. Ho no каким-то причинам отказался от
этого намерения и посвятил себя служению Дао. По од-
ним версиям, толчком послужила его встреча с Чжунли
Цюанем, от которого он и получил наставления в искусст-
ве обретения бессмертия. В других версиях его решение
стать даосским отшельником объясняется видением, яв-
ленным ему во время поездки в столицу. Остановившись
на отдых и ожидая, когда сварится пища — просяная
Иконография
Чжунли Цюаня
a — с минской гравюры; б —
с цинской гравюры.
Чжан Голао.
С минской гравюры
493
198 Люй Дунбиню припи-
сываются также два тракта-
та — «Девять истинных не-
фритовых книг» и «Таблица
заслуг и проступков», и мно-
гочисленные поэтические про-
изведения, которые составля-
ют солидный по объему раздел
(4 главы) в Полном собрании
поэзии эпохи Тан. Особенно
примечателен второй из на-
званных трактатов, который
представляет собой список все-
возможных поступков с их
оценками, например: «Хоро-
шее поведение и работа, что-
бы доставить удовольствие ро-
дителям, — одна заслуга каж-
дый день... Отъезд из дома,
где остались престарелые ро-
дители, — десять грехов».
Повторяющий собой финансо-
вые документы, он как нельзя
лучше соответствовал потреб-
ностям и жизненным устоям
зажиточных горожан — ре-
месленников, купцов, позво-
ляя им подсчитывать, словно
доходы и расходы, свои доб-
рые поступки и прегрешения.
Поэтому появление подобно-
го списка, независимо от того,
был ли он действительно со-
ставлен Люй Дунбинем или
нет, можно считать своего рода
знаковым событием в истории
даосизма, означающим его по-
ворот к городскому населению.
каша, Люй Дунбинь заснул и увидел во сне всю свою
будущую жизнь. Он блестяще сдал столичный экзамен и
добился головокружительного служебного успеха, дойдя
до поста первого министра. Он был дважды женат, оба
раза на девушках из богатых и знатных семей, подарив-
ших ему множество талантливых сыновей. Но, когда он
находился в зените славы и материального процветания,
его вдруг обвинили в тяжком преступлении. Все его иму-
щество конфисковали, a самого отправили в ссылку. Про-
снувшись, Люй Дунбинь обнаружил, что на самом деле
сон был настолько краток, что за это время просяная
каша еще не успела свариться. И тогда он осознал эфе-
мерность мирского бытия и суетных деяний.
Приводятся не менее выразительные детали его отшель-
нической жизни. В том числе рассказывается, что, приняв
монашеский обет и живя в горах в полном уединении, он
все же иногда посещал столицу и даже некоторое время
жил с гетерой, правда, никогда не вступая с ней в интим-
ные отношения. Когда же возлюбленная попыталась со-
блазнить его, он со смехом сказал ей, что не нуждается в
контактах с женщиной, ибо уже сам беременен «бессмерт-
ным зародышем» (практика превращения человека в сяня,
применявшаяся во «внутренней алхимии»)198.
Культ Люй Дунбиня как сяня стал складываться уже
при Сун. В документах того времени приводится история,
произошедшая якобы в 1158 г. Люй Дунбинь посетил не-
коего купца и помог ему выгодно продать товар. Купец
узнал бессмертного и, зная, что тот может превращать в
золото любые предметы, стал требовать дополнительного
денежного подарка. Люй Дунбинь исчез, a вырученные
незадачливым попрошайкой деньги превратились в труху.
В дальнейшем легенды о Люй Дунбине тоже приобрели все
более фантастический оттенок. В них подробно описывает-
ся его внешность при рождении — с шеей журавля, спи-
ной обезьяны, туловищем тигра и щеками дракона; десять
испытаний, которым подверг его Чжунли Цюань. Отдель-
ный рассказ посвящен его обучению искусству владения
магическим мечом под руководством нового наставника с
выразительным именем Бессмертный огненный дракон.
После занятий с ним Люй Дунбинь смог убить чудовищно-
го крокодила, обитавшего в Янцзы, который держал в страхе
местное население. Все эти легенды предопределили осо-
бенности образа Люй Дунбиня в популярных верованиях.
Он почитается в них чудотворцем, помогающим людям (но
лишь тем, кто честен и добр), и защитником от злых сил.
Люй Дунбинь чаще всего изображается в виде мужчи-
ны в расцвете сил, облаченного в чиновничий костюм, но
со специфическим головным убором и обязательно с мечом
за спиной. Есть изображения, воспроизводящие его в роли
заклинателя от злых сил и победителя чудища (стоящий
среди бушующих волн). Отдельного упоминания заслужи-
вает и его иконографический вариант «с демоном Лю».
Имеется в виду еще одно его деяние — усмирение духа-
оборотня старой ивы, прежде вредящего людям, a после
494
Иконография Люіі Дунбиня
a — с цинской гравюры; б — с
демоном Лю (с минской гравю-
ры); в — среди бушующих волн
(с минской гравюры).
ставшего верным учеником и помощником Люй Дунбиня.
Дух-оборотень показывается в виде чудища с растущей из
головы ивой, которое стоит за спиной своего учителя и
господина. Кроме меча, принятым атрибутом Люй Дунби-
ня является мухогонка.
Ли Тегуай (Ли Железный костыль; Ли Сюань, Таин-
ственный Ли) — самый колоритный и овеянный легенда-
ми персонаж из названной когорты. Его вероятным прото-
типом послужил даос по имени (или — прозвищу) Ли-
Хромоножка (Ли Боцзы), живший в начале XII в. Но в
легендах о Ли Тегуае он однозначно называется бессмерт-
ным, родившимся в незапамятные времена и лично встре-
чавшимся с Лао-цзы, от которого и получил наставления в
искусстве Дао. Говорится также, что, пребывая в высшем
мире, он время от времени появляется среди людей, каж-
дый раз в новом облике и под новым именем. По поводу его
имени и внешнего вида существует отдельный рассказ. Од-
нажды, находясь в ипостаси даосского наставника, он по-
кинул свое физическое тело, дабы посетить небесных бес-
смертных и вновь побеседовать с Господином Лао. Перед
этим он предупредил своего любимого ученика, что поки-
нутое им тело в течение трех дней будет как бы мертвым,
и, если через три дня он не вернется — останки можно
сжечь. Уя£е на следующий день ученик вдруг узнал, что
его мать тяжело заболела и умоляет его срочно вернуться
домой. Юноша поспешил исполнить ее просьбу, решив, на
всякий случай, кремировать тело учителя. Ли, вернувшись
из небесных далей, пришлось вселиться в тело первого уви-
денного им только что скончавшегося человека, бывшего
хромоногим нищим. С тех nop он и остается в таком обли-
чии — горбатый, хромоногий, с кудрявой бородой, лицом
темного цвета и большими выпученными глазами (специ-
фические приметы, с точки зрения китайцев, внешности
чужеземца). Как и Чжан Голао, он почитается имеющим
власть над жизнью и смертью и обладающим магическими
способностями. Иконографические варианты изображения
Ли Тегуая в целом однотипны и точно воспроизводят его
приведенный выше литературный портрет. Вспомогатель-
ной деталью его внешности является золотое кольцо, встав-
ленное в ухо или в бровь, — подарок Лао-цзы, a характер-
ными атрибутами — костыль и тыква-горлянка.
Иконография Ли Тегуая
a — с минской гравюры; б — с
минской гравюры; в — с цинской
гравюры.
495
Иконография Цао Гоцзю
a — с минской гравюры; б —
с цинской гравюры.
Иконография Хань Сянцзы
a — с минскои гравюры;
с цинской гравюры.
б —
Цао Гоцзю (Дядюшка Цао) — реальное историческое
лицо, шурин северосунского императора Жэнь-цзуна (1023-
1064), скончавшийся, согласно документам того времени,
в 1097 г. Разочаровавшись в правящем доме и предпочтя
«грязи» суетного мира путь постижения Дао, он укрылся в
горах, где удостоился встречи с Чжунли Цюанем, который
и обучил его искусству «золота и киновари». В популяр-
ных верованиях он стал покровителем музыкантов и акте-
ров. Существуют два различных варианта иконографии Цао
Гоцзю. В одном из них он изображается в виде чиновника
в парадном одеянии, но с кастаньетами в руках — симво-
лом его склонности к музыкальным видам искусства. В дру-
гом показывается в облике старца, с обнаженной, как y
Чжунли Цюаня, грудью и толстым, свисающим животом,
окруженный цветущими растениями.
Хань Сянцзы — племянник знаменитого танского го-
сударственного деятеля, конфуцианского мыслителя и ли-
тератора (поэта, мастера художественной прозы) Хань Юя
(768-824). В легендах о Хань Сянцзы неизменно обыгры-
ваются его взаимоотношения с дядюшкой, который рато-
вал за возрождение древнего конфуцианства и решительно
выступал против даосизма и современного конфуцианства,
клеймя их «ложными учениями», подрывающими обще-
ственные нравы и устои. Племянник же постоянно оказы-
вался его оппонентом, доказывавшим истинную силу даос-
ского учения. To он на глазах y дяди мгновенно вырастил
клумбу цветущих пионов; то, видя, как он взывает к Небу
торжественными молениями о ниспослании дождя (как это
и полагалось сановнику его ранга), небрежным бормотани-
ем вызвал ливень; то предсказал изгнание Хань Юя. В по-
пулярных верованиях считается искуснейшим музыкан-
том, ценителем и любителем цветов (когда он играет на
флейте, повсюду вырастают и расцветают цветы), что сде-
лало его покровителем садовников. Хань Сянцзы стандартно
изображается в виде отрока (мальчика, юноши), с «дет-
ской» прической, играющего на флейте или гуляющего
под цветущими деревьями. Иногда в его одеяние вводятся
фантазийные детали, например накидки из птичьих перь-
ев. Такие накидки нередко присутствуют и в облачениях
других бессмертных, являясь рудиментом облика (с пти-
чьими крыльями) древних сяней. Обязательный атрибут
его иконографии — флейта, a в качестве ее вспомогатель-
ных деталей может использоваться корзина с цветами
или персиками.
Лань Цайхэ — юродивый, живший в X в. в государстве
Южное Тан. Юноша, обладавший женоподобной внешно-
стью, он, как об этом рассказывается, бродил по рынкам,
распевая песни-импровизации, и просил милостыню. Но
если ему бросали монетки, то он тут же раздавал их ни-
щим и детям или же, нанизав их на веревочку, таскал за
собой по земле. He ощущая холода и жары, он летом ходил
в ватном халате, зимой — легко одетым, что впоследствии
стало осмысляться как его особый дар владения собствен-
ным телом и неподвластности природным условиям. В по-
496
пулярных верованиях Лань Цайхэ благодаря своим музы-
кальным талантам превратился в покровителя музыкан-
тов. Он может изображаться в полном соответствии с ле-
гендами о нем — в виде юродивого в рваном платье, одна
нога босая, другая — обутая, который тянет за собой вере-
вочку с монетками. Однако болыиее распространение по-
лучил иной иконографический вариант — в облике подро-
стка (мальчика) с корзиной цветов (обыгрывание его фа-
мильного знака — «корзина»).
Хэ Сяньгу (Бессмертная дева Хэ) называется в леген-
дах о ней простой девушкой, уроженкой крайних юго-
восточных (пров. Гуанчжоу) или южных (Хунань) райо-
нов Китая, жившей во времена правления танской импе-
ратрицы У Хоу (т. е. во второй половине VII в.). Еще
будучи совсем девочкой, она случайно встретилась с Люй
Дунбинем, подарившим ей персик бессмертия, что и пре-
допределило ее дальнейшую судьбу. В популярных веро-
ваниях она почитается покровительницей домоводства и
пророчицей. Обычно изображается в виде юной прекрас-
ной девы с цветком лотоса в одной руке (ее принятый
атрибут) и корзиной с цветами — в другой. Лотос имеет
специфическую форму: с длинным изогнутым стеблем,
повторяющим очертания жезла.-жуи. Более редкий вари-
ант ее иконографии — в облике матроны, облаченной в
«небесное» одеяние (с накидкой из птичьих перьев), и с
мухогонкой в руках.
Все Восемь сяней не только помогали в несчастье и
приносили удачу и защиту, но и стали примером того, как
можно достичь счастья и выйти с честью из самой трудной
жизненной ситуации — военного ли поражения, неудачи
ли на служебном поприще и даже потери собственного
тела. Они показывают, что мир полон чудес и никогда не
надо терять надежду и чувство юмора.
Живописные и скульптурные изображения Восьми бес-
смертных присутствуют в даосских храмах, прежде всего,
в святилищах, относящихся к ІПколе Истинного совер-
шенства и в их собственном святилище. Они воспроизво-
дятся на икоиах-нянъхуа9 в благопожелательных компози-
циях, в сугубо светских художественных произведениях, a
также в орнаментике различных изделий. ІНирокое распро-
странение получили групповые портреты, показывающие
'*&&
Иконография Лань Цайхэ
a — в виде юродивого (с минской
гравюры); б — в виде подростка
с корзиной цветов (с цинской гра-
вюры).
Иконография Хэ Сяньгу
a — с минской гравюры; б —
с цинской гравюры; в — в виде
небожительницы (с минской гра-
вюры).
32 Исторпя искусства Китая
497
^э ^
Иконография
Конопляной девы
a — с минской гравюры; б — с ре-
бенком (с цинской гравюры).
Яован
(целитель Сунь Сымянь).
С цинской гравюры
их в различные моменты общего времяпрепровождения:
трапезничают на лоне природы, плывут по морским про-
сторам в небольшом челне, отважно рассекают бушующие
волны и т. д. Атрибуты Восьми бессмертных — веер (шанъ)
Чжунли Цюаня, меч (цзянъ) Люй Дунбиня, клюка (гуай)
Ли Тегуая, бамбуковая трещотка (юйгу) Чжан Голао, кас-
таньеты (пайбанъ) Цао Гоцзю, флейта (ди) Хань Сянцзы,
корзина с цветами (хуалань) Лань Цайхэ, лотос (лянъ) Хэ
Сяньгу, a также мухогонка и тыква-горлянка — составля-
ют даосский вариант набора «Восьми драгоценностей».
В непосредственной близости, по их функциям и степе-
ни популярности, от Восьми бессмертных находятся еще
два персонажа — бессмертная Конопляная дева (Ма-гу) и
Повелитель снадобий Яо-ван.
Образ Конопляной девы частично перекликается с об-
разом Хэ Сяньгу. Будучи исходно локальным аграрным
божеством, в даосских и популярных верованиях она пре-
вратилась в юную девушку, сумевшую достичь бессмер-
тия и стать весьма могущественным божеством — защит-
ницей от злых сил, подательницей здоровья, долголетия,
удачи, семейного счастья и материнства. Она тоже изо-
бражается в облике прекрасной девы, с корзинкой, на-
полненной целебными травами, мотыгой для их выкапы-
вания и персиком бессмертия в руках. Нередко встреча-
ются парные изображения Ма-гу, предназначенные для
развешивания по сторонам от входа, a ee изображения
дополняются фигурой ребенка, несущего персик или иг-
рающего со львенком, — обыгрывание композиций на тему
благопожеланий мальчику стать наставником наследни-
ка престола.
Яо-ван — обожествленный врач Сунъ Сымяо, живший
в VI-VII вв. По преданию, от рождения он был очень сла-
бым и болезненным ребенком, что и заставило его заняться
даосскими практиками и целительством. Будучи еще со-
всем молодым человеком, он приобрел громкую извест-
ность как целитель, став личным врачом основателя дина-
стии Суй, a затем и первых танских императоров. Но при
этом Сунь Сымяо никогда и никому не отказывал в меди-
цинской помощи, врачуя даже нищих. Сунь Сымяо с рав-
ным усердием почитался и в даосских религиозных пред-
ставлениях, и в популярных верованиях. Его день рожде-
ния как Яо-вана, отмечаемый в 28-й день 4-го лунного
месяца, до сих nop входит в список общедаосских тор-
жеств. В общенациональном обрядовом цикле старого Ки-
тая тоже праздновался его день рождения, но уже как
целителя Сунь Сымяо, в 4-й день 1-го лунного месяца. Он
обычно изображается в виде даосского отшельника, зани-
мающегося в горах сбором целебных трав.
Восемь бессмертных, Конопляная дева и Повелитель
снадобий являют собой весьма яркий пример того, насколько
легко и органично популярные верования впитывали в себя
даосские культы и образы. Однако взаимоотношения меж-
ду ними далеко не исчерпываются подобными частными
заимствованиями.
498
Идеологический континуум, который обозначается как
популярные верования (в англоязычной терминологии —
popular religion), справедливо признан одним из наиболее
впечатляющих, самобытных и вместе с тем сложных для
научного осмысления феноменов духовной культуры Ки-
тая. Все термины, определяющие этот феномен, условны.
Термин «религия» в данном случае вообще мало правоме-
рен, так как характеризуемый континуум не обладает даже
отдаленным подобием теоретической платформы и лишен
специальных обслуживающих его лиц, не говоря уже о
самостоятельных организационных структурах или инсти-
тутах. Термины «популярные», a тем более «простонарод-
ные», тоже выглядят не совсем удачными уже по той про-
стой причине, что он охватывает собой как действительно
простонародные религиозные формы, свойственные низо-
вым слоям населения, так и культы, пользовавшиеся госу-
дарственной поддержкой и фактически входившие в систе-
му официальной идеологии имперского Китая на протяже-
нии последних нескольких столетий его существования.
Для того чтобы лучше понять особенности данного конти-
нуума и причины его возникновения, необходимо хотя бы
кратко познакомиться с историей его формирования.
Его истоки уходят в глубокую древность. He вызывает
сомнений, что уже в древнейшие эпохи, наряду с государ-
ственными религиозными представлениям, принадлежащи-
ми, повторим, ордодоминантной страте китайского обще-
ства, имели место и верования, циркулирующие среди ос-
новной массы населения страны. Чжоуские и ханьские
тексты изобилуют именами неких богов и духов, ссылками
на сюжеты о них и проводимыми в их честь обрядами.
Однако преобладающее число древних авторов расценива-
ли религиозную жизнь широких народных масс не более
чем обычаями и суевериями «невежественных простолю-
динов», что, естественно, отнюдь не способствовало ее
сколько-нибудь полной объективной письменной фикса-
ции199. Однако сколь бы скептическим ни было отношение
членов социальной и интеллектуальной элиты древнеки-
тайского общества к низовой религиозной жизни страны,
именно она служила неисчерпаемым источником для госу-
дарственных культов в случае проведения вначале чжоу-
скими удельными князьями, a затем и императорами ре-
лигиозных реформ, о чем бегло говорилось при рассказе о
китайских мифологических представлениях. Так что с са-
мого начала непроходимой границы между простонарод-
ными верованиями и государственными религиозными
убеждениями на самом деле не было.
В несколько более отчетливом виде «простонародные»
(в данном случае этот термин вполне уместен) верования
прослеживаются для эпохи Шести династий благодаря их
воспроизведению в особого типа литературных произведе-
ниях — сборниках «коротких рассказов» (сяошо). Эти сбор-
ники тоже создавались членами социально-интеллектуаль-
ной элиты, возможно, либо в чисто развлекательных (в про-
тивовес «высокой», изящной словесности), a возможно,
ПЕРСОНАЖИ
ПАНТЕОНА
ПОПУЛЯРНЫХ
ВЕРОВАНИЙ
(ХІѴ-ХІХ вв.)
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
КИТАЙСКИХ
ПОПУЛЯРНЫХ
ВЕРОВАНИЙ
199 По понятным причинам
эти верования не нашли от-
ражения и в древнем худо-
жественном творчестве, до-
шедшем до нас в известных
сегодня археологических ма-
териалах. Ведь все они созда-
вались в рамках тех художе-
ственных традиций, которые
относились к высокому, эли-
тарному искусству и ориенти-
ровались на официально при-
нятые идеологические уста-
новки.
499
и в просветительских целях, когда их авторы стремились
донести до сознания простого народа те или иные философ-
ские и религиозно-философские (конфуцианские, даосские,
буддийские) ценности, апеллируя для этого к присущим
ему обычаям и нравам.
В танскую эпоху в силу выделения городской культуры
и демократизации интеллектуальной и творческой деятель-
ности общественных верхов позиции простонародных веро-
ваний в религиозной жизни страны еще более расширились
и укрепились, a внимание к ним искусства и художествен-
ной словесности возросло. Кроме того, началось их проник-
новение в систему официальной идеологии. Эта тенденция
приобрела необратимый характер в ХІ-ХІІІ вв. Изначаль-
ная уязвимость Северосунской империи, глобальный внут-
ренний политический и экономический кризис, охватив-
ший ее к концу существования, постоянная угроза наше-
ствия извне и очередное частичное завоевание Китая — все
это, с одной стороны, стимулировало подъем религиозно-
мистических настроений населения страны, a c другой —
вынудило центральные власти искать способы сплочения
нации и поддержания собственного авторитета. Для этого
им требовались такие идейно-религиозные формы, которые
воплощали бы «национальный дух» и «величие прошлого».
Ни одно из Трех учений не отвечало подобным требованиям.
Конфуцианство — из-за отсутствия в нем развитого религи-
озного элемента. Даосизм, несмотря на все его попытки пре-
вращения в активную политическую силу, не обладал необ-
ходимыми для этого социально-политическими, этически-
ми и религиозными концепциями. He случайно все опыты
по созданию на его основе государственных учений и веро-
учений в конечном счете закончились полной неудачей. Что
касается буддизма, то, во-первых, в народной памяти все же
закрепилось его чужеземное происхождение, a во-вторых,
его исповедовали враги Китая.
Как именно осуществлялось превращение ранее про-
стонародных — низовых, локальных — верований в госу-
дарственныс, хорошо видно на примере истории культа Не-
фритового императора. Достаточно было августейшего при-
знания того или иного персонажа, наделения его официальным
титулом и приказа совершать в его честь специальные ри-
туалы, чтобы этот персонаж вошел в государственный бо-
жественный пантеон. Можно было, как выясняется, обой-
тись и без непосредственного монаршего участия. Еще во
второй половине XI в. в практику вошло ведение реестров
локальных культов — божеств, духов, обожествленных
усопших и их «чудесных» деяний на благо местного насе-
ления. Такие реестры в приказном порядке составлялись
уездными чиновниками, затем проходили экспертизу на
уровне губернских и провинциальных администраций на
предмет выявления кандидатов в божества государствен-
ного масштаба. Списки представлялись на рассмотрение
чиновников Ведомства Императорских обрядов (Тайчан-
сы) — главного административного органа по контролю и
координации религиозной жизни страны, который и выно-
сил окончательный вердикт200. Апофеозом «карьеры» бо-
ясественных персонажей было возведение их в титулы «ца-
рей» (ван) и «владык» (ди) и строительство в их честь
святилищ в столице. В стороне от такого рода реформ и
новаций, правда, оставались базовые государственные куль-
ты — Неба, Земли и императорских предков, которые пре-
бывали все в том же аморфном состоянии и сопровожда-
лись веками сохранявшимися литургическими акциями.
Религиозную политику сунской администрации продол-
жили и монгольские власти. И в этом нет ничего удивитель-
ного, так как поддержка низовых религиозных форм, во-
первых, позволяла им укрепить собственный сакральный ав-
торитет, отдавая себя под покровительство китайских богов.
Во-вторых, давала возможность продемонстрировать уваже-
ние к обычаям покоренного населения. A в-третьих, такие
верования и культы были куда ближе и понятнее монголам,
чем религиозно-философские глубины даосизма и буддизма.
При Мин и при Цин действовали, в сущности, те же самые
историко-культурные факторы и мотивы. Минские власти
поддерживали низовые и уже получившие официальное при-
знание культы для реставрации национального духовного
наследия. Цинские власти, как и монгольские, — для ук-
репления авторитета правящего режима, удовлетворения
собственных духовных потребностей и демонстрации ува-
жения к китайскому населению. В результате в ХІѴ-ХІХ вв.
некогда действительно простонародные религиозные формы
превратились в доминанту религиозной жизни, определяя
ее по всей социальной вертикали — от низших групп до
верхних властных эшелонов, независимо от национально-
сти — маньчжуры или китайцы — отдельных людей, и во
всех ее аспектах — от каждодневных домашних обрядов до
общенациональных календарных праздников и торжеств
государственного масштаба. Приняв во внимание, что имен-
но эти формы служили главным объектом национального
культового искусства — храмового, икон-нянъхуа, a также
художественного творчества в целом, снабжая его сюжета-
ми, образами, благопожелательной символикой, не будет
болыыим преувеличением сказать, что популярные верова-
ния оказывали определяющее воздействие на всю духовную
и художественную культуру Китая минской и цинской эпох.
Главными отличительными особенностями китайских
популярных верований в том виде, в каком они сложились
и утвердились в указанные эпохи, являются их эклектич-
ность и исключительная объемность их пантеона. Мы име-
ем дело с конгломератом, в котором причудливо перепле-
лись несовместимые, казалось бы, религиозные реалии и
формы — локальные культы, осколки архаических веро-
ваний и мифологических сюжетов, невесть когда и откуда
проникшие в Китай инородные заимствования, персонажи
буддийской и даосской мифологии, но которые приобрели
совершенно немыслимые для этих вероучений воплоще-
ния. Количество самих персонажей, почитаемых в попу-
лярных верованиях, не поддается исчислению. На терри-
тории Поднебесной не было, пожалуй, клочка земли или
200 В случае экстраординар-
ных ситуаций, когда то или
иное локальное божество де-
монстрировало свое особое мо-
гущество (например, неожи-
данное прекращение наводне-
ния, грозившего затопить всю
округу, исчезновение саранчи
или вызволение из беды высо-
копоставленной персоны, ока-
завшейся на периферии), мест-
ным чиновникам разреша-
лось обращаться с петицией
о его официальяом признании
непосредственно в названное
ведомство или даже к импе-
ратору. Известно, что только
за 1075 г. официальное при-
знание получили 37 персона-
жей. В 1100 г. (при императо-
ре Хуэй-цзуне) — около 100.
На протяжении Южной Сун
почти каждый год в офици-
альные титулы возводились от
20 до 50 божеств и духов.
501
крохотной деревеньки, которые бы не имели собственного
божественного покровителя, хотя бы в ранге духа. Как не
было и ни одного момента в жизнедеятельности китайцев,
который не курировался свыше либо не нуждался бы в
защите от злых сил. Одновременно, в силу все тех же
представлений китайцев о «пяти условиях счастья», боль-
шинство персонажей наделяются одними и теми же функ-
циями, фактически дублируя друг друга, что еще болыпе
затрудняет их дифференциацию.
В научной литературе используется несколько вариан-
тов классификации пантеона китайских популярных веро-
ваний — исходя из происхождения персонажей и из их
функций. Если следовать второму подходу, то популярный
божественный пантеон с достаточной долей очевидности
располагает по меныпей мере 8 основными структурными
отделами: 1) божества-повелители мира, отдельных сфер
мироздания, частей света и судеб живых существ; 2) боже-
ства-повелители природных стихий; 3) божества-податели
жизненных благ; 4) аграрные божества и покровители от-
дельных сфер сельскохозяйственной деятельности; 5) го-
родские божества, покровители ремесел и профессиональ-
ных групп; 6) домашние боги; 7) божества-защитники от
злых сил; 8) божества-повелители загробного мира. Мы и
будем придерживаться этой классификации в ходе даль-
нейшего повествования.
БОЖЕСТВА-
ПОВЕЛИТЕЛИ МИРА,
ОТДЕЛЬНЫХ СФЕР
МИРОЗДАНИЯ,
ЧАСТЕЙ СВЕТА
И СУДЕБ
ЖИВЫХ СУЩЕСТВ
В данный структурный отдел входят: Нефритовый им-
ператор, Три Министра, Небесная Владычица, Матушка
Ковша, Пятъ Великих Владык Священных Пиков во главе
с Владыкой гор Тайшань и Божественные Генералы во
главе с Сокровенным Воином.
К сказанному ранее о Нефритовом императоре остается
лишь добавить, что, во-первых, его утверждению в попу-
лярных верованиях способствовал не столько авторитет да-
осизма и официальное признание, сколько его типологичес-
кое сходство с древними мужскими божествами, олицетво-
рявшими Небо, Мужское начало мира и общий миропорядок.
He удивительно, что Нефритовый император порой смеши-
вается с Небесным или даже архаическим Верховным Вла-
дыкой (Шан-ди). Во-вторых, в отличие от Небесного импе-
ратора, который все же оставался объектом почитания на
государственном уровне, культ Нефритового императора
распространялся на все слои китайского общества. Его
живописные, скульптурные изображения или, на худой
конец, таблички или надписи с его именем имелись в са-
мых убогих деревенских кумирнях. И даже бедняки стара-
лись приобрести его икону-няньхуа. Для малоимущего на-
селения изготавливались и соответствующие нянъхуа, на
редкость грубые и примитивные, на которых можно с тру-
дом разглядеть лишь общие фигуры Нефритового импера-
тора и его свитских. И наконец, популярные верования
наделили Нефритового императора многочисленным семей-
ством и пышной свитой, многие члены которых являются
самостоятельными и отдельно почитаемыми богами.
502
Три Министра (Сань гуанъ), или Три Великих Владыки
(Санъгуанъ-дади) занимают следующую, после Нефритово-
го императора, позицию в иерархии популярного пантео-
на, являясь его главными помощниками. Это: Министпр
Неба (Тянь-гуань), Министпр Земли (Ди-гуань) и Минисшр
Воды (Шуй-гуанъ). Нетрудно догадаться, что в этой триаде
объединились Три Небесных Достопочтенных и Три Мини-
стра из пантеона Небесных наставников. Однако в попу-
лярных верованиях они полностью утратили ассоциации с
даосскими космогоническими идеями и космологическими
моделями, на что указывает разведение их дней рождений.
День рождения Министра Неба празднуется в 15-й день
первого лунного месяца, совпадая с календарным праздни-
ком — Празднеством Фонарей, завершающим собой цикл
новогодней обрядности; Министра Земли — в 15-й день
7-го месяца, и Министра Воды — в 15-й день 10-го месяца.
Зато они приобрели новый облик и новые, значительно
более существенные с религиозной точки зрения, функ-
ции. Министр Неба превратился в подателя счастья и всех
мыслимых и немыслимых человеческих благ. Министр Зем-
ли стал ведать земными делами людей и, что очень важно,
право отпускать им их прегрешения. Министр Воды, во-
преки своему титулу, не имеет никакого отношения к вод-
ной стихии. По поручению Нефритового императора, он
ведет запись добрых и злых деяний каждого отдельного
человека, имея при этом полномочия предотвращать угро-
жающие им невзгоды и испытания201.
Помимо торжеств в дни их рождений, Трем Министрам
полагалось совершать специальные жертвоприношения дваж-
ды в месяц — в 1-й и 15-й день, с поднесением им лепешек
в форме черепахи (символ долголетия) или кольца.
Как и Три Небесных Достопочтенных, Три Министра
обычно изображаются все вместе, но в двух позах — сидя-
щими или стоящими в один ряд, и облаченными или в
императорское одеяние, но опять-таки в несколько иной
его разновидности, которая использовалась в сунскую эпо-
ху (тиароподобный головной убор вместо короны-мянъ),
или в парадный чиновничий костюм. Единичные изобра-
жения тоже исполняются, но только для Министра Неба и
тоже в двух иконографических вариантах: в стоячей и си-
дячей позах. В первом случае он держит в руках разверну-
тый свиток, на котором начертано: «Министр Неба ниспо-
сылает счастье» (Тянъгуанъ цы фу). Этот иконографичес-
кий вариант восходит к театральным постановкам. Вплоть
до начала XX в. каждая пьеса начиналась с выхода на
сцену Министра Неба (или другого божества со сходными
функциями), держащего в руках благопожелательные над-
писи. Во втором его иконографическом варианте он пока-
зывается сидящим на троне и держащим в правой руке
свернутый свиток с благопожелательной надписью.
Небесная Владычица (Небесная императприца, Тянъ-хоу),
или Небесная Наивысочайшая Совершенная Мапгушка (Тянъ-
шан-шэнму), ласковое наименование Божественная Бабуш-
ка (Мацзу-шэнъ), несмотря на свой титул, повторяющий
Три Небесных Министпра.
С минской гравюры
Минисшр Неба
с благопожелапгельной
надписью.
С картины-кякъхуа.
201 He исключено, что подоб-
ные функции Трех Министров
проистекают из старинного да-
осского ритуала, практиковав-
шегося адептами Небесных
наставников. Для исцеления
заболевшего человека его пре-
грешения записывались на
трех листках бумаги, которые
затем сжигали, зарывали в
землю и топили, отправляя
таким образом на небеса, в зем-
лю и в воду, дабы очистить от
них страдальца.
503
титулы земных императриц, не связана супружескими от-
ношениями ни с Нефритовым императором, ни с каким-
либо другим божественным государем. A история ее куль-
та — еще один выразительный пример «карьеры» локаль-
ных божественных персонажей. Он возник в юго-восточном
районе Китая (провинция Фуцзянь) в результате обожеств-
ления образа девушки, жившей в VIII или X в. на одном из
островов вблизи южной оконечности этой провинции и про-
исходившей из скромной моряцкой семьи. Отказавшись, по
легенде, от замужества во имя служения Гуаньинь, она была
награждена даром впадать в транс, видеть в таком состоя-
нии терпящих бедствие моряков и спасать их от гибели.
Первыми спасенными ею моряками оказались ее родные
братья, после чего вскоре она скончалась. Культ обожеств-
ленной Фуцзяньской девы внешне совершенно неожиданно
вспыхнул в конце XI в. и начал стремительно распростра-
няться по юго-восточным регионам страны. Исторические
документы XII в. пестрят записями о чудесном спасении ею
путешественников. В 1155 г. ее культ получил официальное
признание, a в 1228 г. в ее честь был воздвигнут храм в
столице (на месте современного Ханчжоу) Южной Сун. По
каким-то весьма не понятным причинам культ Фуцзянь-
ской девы привлек к себе внимание и монгольских властей.
По приказанию основателя династии Юань (в 1278 г.) она
была возведена в статус Небесной Госпожи (Тянь-фэй; фей —
термин, определяющий императорских наложниц высших
рангов), который был дважды законодательно подтвержден
при Мин. Титул Небесной Владычицы был пожалован ей в
1737 г. императором Цяньлуном.
Культ Небесной Владычицы был поддержан и даосиз-
мом. В минскую эпоху она была включена в даосский боже-
ственный пантеон, став в нем помощницей Господина Лао,
которой было поручено защищать людей от злых духов и
демонических сил и отвращать от них бедствия и несчастья,
что сблизило ее образ с образом владычицы Тайшань —
Госпожой Бирюзовой Зари. Однако специально посвящен-
ного ей празднества в списке общедаосских торжеств нет.
В популярном божественном пантеоне Небесная Вла-
дычица заняла положение своего рода старшей придвор-
ной дамы Нефритового императора, хозяйки небесных чер-
тогов. Сохранив при этом за собой функции милостливицы
и защитницы людей и приобретя функцию чадоподатель-
ницы, она превратилась, в сущности, в аналог Гуаньинь.
Ее день рождения, празднуемый 23-го числа 3-го лунного
месяца, входит в национальный календарный обрядовый
цикл. Кроме того, за Небесной Владычицей осталась и роль
покровительницы моряков и путешественников. В той же
провинции Фуцзянь на любом судне обязательно имелся
алтарь для жертвоприношений ей, помещаемый на левом
борту. Жертвоприношения исполнялись перед отправлени-
ем в путь и по прибытии на место, и в нем участвовали не
только члены команды, но и пассажиры. В цинскую эпоху
храмы Небесной Владычицы были построены во всех порто-
вых городах Китая, тянувшихся вдоль южного, юго-восточ-
ного, восточного и северо-восточного побережья (один из
них до сих nop функционирует в Тяньцзине). И в них тоже
исполнялись жертвоприношения ей перед отправкой в путь
и благодарственные жертвоприношения.
Строго стандартной иконографии Небесной Владычи-
цы тем не менее не существует. Она может показываться и
в стоячей (на палубе корабля) позе, и в облике властитель-
ницы, восседающей на троне. Такие ее портретные изобра-
жения также заметно различаются по степени торжествен-
ности и насыщенности вспомогательными персонажами и
деталями. В самом парадном их варианте Небесная Влады-
чица изображается сидящей на троне из облаков или мор-
ских волн, в пышном облачении, в котором присутствуют
элементы костюма сяней (перьевая накидка) и император-
ского одеяния (головной убор, стилизованный под корону-
мянъ). Ее голову окружает нимб (заимствование из иконо-
графии Гуаньинь), a в левой руке может находиться цве-
ток лотоса в виде жезла.-жуи (даосский иконографический
атрибут). Среди окружающих ее персонажей обязательно
присутствуют ее два главных свитских и помощника —
Слышащий на тысячу ли (Цянълиэр) и Видящий на тыся-
чу ли (Цяньлиянъ), изображаемые в облике демонов. Пер-
вый — с красными волосами и рожками на голове, вто-
рой — с лицом голубого цвета. Специфической приметой
их иконографии является также положение правой руки,
поднесенной соответственно к уху и к глазу.
Матушка Ковша (Доу-му) — олицетворение китайского
созвездия Южный Ковш, состоящего из шести звезд со-
звездия Стрелец. Ее образ является откровенным заимство-
ванием из индийской и буддийской мифологии, в котором
слились образы богини Маричи, дочери Брахмы, выступа-
ющей олицетворением света и вершительницей судеб лю-
дей, и одна из шести тантрических женских форм Авалоки-
тешвары — Чанди, также считающаяся покровительницей
Изображения Небесной
Владычицы
a — как покровительницы моря-
ков (с минской гравюры); б — в
царственном облике (с иконы-
няньхуа); в — храмовая скулыі-
тура.
505
Матушка Ковша.
С иконы-някъхуа.
Старшие сыновья
Матушки Ковша.
С и/сокм-няньхуа
Тайбо.
С цинской гравюры
и вершительницей судеб именно людей. Особо почитаемая
в китайском буддизме, она вошла и в даосский божествен-
ный пантеон, став в нем астральным божеством, суще-
ством, овладевшим всеми таинствами искусства Дао, что
позволяет ей излучать священное сияние, преодолевать
любые пространства и свободно странствовать от солнца к
луне. Одновременно она считается ведущей реестры Жиз-
ни и Смерти, не только земных тварей и людей, но и самих
богов. «В высшем мире она ведет записи о происходящем в
Девяти небесах, в среднем мире — составляет списки бо-
гов, в низшем — реестры судеб людей» — такова ее приня-
тая характеристика. В даосских и популярных верованиях
образ Матушки Ковша тоже частично смешивается с обра-
зом Гуаньинь. Однако он окружен множеством специфи-
ческих легенд. Местом ее обитания называются волшеб-
ные чертоги, находящиеся в созвездии Южного Ковша,
где она пребывает вместе со своим супругом — Отцом
Ковша. Она — мать девяти сыновей, которые и есть даос-
ские Девять Августейших Правителей, но уже в их ипо-
стаси астральных богов. Двое старших — повелители юж-
ной и северной сфер мироздания — как раз и входят под
именами Верховный Владыка [Дворцов] Гоучэнь и Верхов-
ный Владыка Светпло-пурпурного [Неба] в когорту Четы-
рех Правителей. Кроме того, первый из них назначает даты
рождения живых существ, a второй — даты их смерти.
Семь остальных сыновей Матушки Ковша — повелители
семи звезд Северного Ковша (Большой Медведицы), занима-
ют почетное место в даосском пантеоне, считаясь вершите-
лями человеческих судеб. Им посвящено специальное тор-
жество, проводимое в 9-й день 9-го месяца, на который
приходится и общенациональное календарное празднество —
Праздник Двойной девятки. Их изображения — в виде про-
цессии императоров — присутствуют во многих даосских
храмах. Сама Матушка Ковша, не имея отдельного празд-
нества, чествовалась дважды в месяц: в 3-й и 27-й дни.
Иконография Матушки Ковша полностью подчиняется
иконографическим принципам тантрических персонажей.
Она показывается исключительно многорукой (с 8,16,18 ру-
ками), нередко держащей атрибуты Тысячерукой Гуань-
инь, с тремя глазами на лице, увенчанной короной бодхи-
саттв и восседающей на «лотосовом троне».
В непосредственной близости от Матушки Ковша, по
его статусу в иерархии популярного божественного пантео-
на, находится еще одно астральное божество — Тай-боу
полный титул Золотая (Металлическая) Звезда Тай-бо
(Тайбо-цзинъсин) — олицетворение и повелитель Венеры,
называемой в китайской астрологии Золотой (Металличес-
кой) звездой. Венера вместе с другими четырьмя планета-
ми (Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн, в оригинальной
терминологии — Пять звезд, Усин), которые издавна извест-
ны китайским астрономам, занимает ключевое место во
всех астролого-натурфилософских и даосско-алхимических
теориях и практиках. Она соотносится, как это нетрудно
понять по ее названию, с Западом и Металлом как одним
506
из Пяти первоэлементов. Образ самого Тай-бо тоже имеет
древнее происхождение. О нем говорится уже в текстах
раннеханьского периода, где он называется сыном Белого
императора (Повелителя Запада). Впоследствии он претер-
пел немало трансформаций, касающихся как его функций,
так и внешнего облика. Исходно бывший мужским персо-
нажем, на протяжении танской, сунской и юаньской эпох
он почему-то мыслился в женском облике. Сохранились
литературные и художественные (стенописные) портреты
девы Тай-бо, в которых она стандартно рисуется облачен-
ной в одеяние желтого или белого (цвет Запада) цвета, с
головным убором в виде фазана (феникса) и играющей на
музыкальном инструменте (пипе — подробно см. глава 13).
В таком облике этот персонаж вошел в даосский пантеон,
где почитается небесной музыкантшей и повелительницей
всех земных тварей. В минскую эпоху утвердилась каче-
ственно новая ипостась Тай-бо — старца, считающегося
свитским Нефритового императора, по-прежнему ведаю-
щего судьбами живых существ и непосредственно людей, с
сохранением в его иконографии ряда рудиментов его преж-
него облика: музыкального инструмента в руках и голов-
ного убора, повторяющего очертание фигуры птицы.
Пять Великих Владык Священных Пиков (Да-ди) — бо-
жества пяти уже хорошо знакомых нам горных массивов,
посредством которых маркировались основные пространствен-
ные зоны пятичленной космологической модели. Они смени-
ли собой древнюю когорту Императоров — повелителей час-
тей света, культ которых, напомним, входил в круг государ-
ственных религиозных представлений на всем протяжении
Хань и эпохи Шести династий. Параллельно он прочно во-
шел в даосскую мифологию и даосские астрологические и
алхимико-медицинские теории, в которых Пять императо-
ров соотносились с небесным пространством, через их отож-
дествление с Пятью звездами, и строением человеческого
тела, ассоциируясь с пятью его основными органами (серд-
це, селезенка, легкие, печень, почки)202. Но чем пространнее
и детальнее становились легенды о Пяти императорах, тем
меныную роль играли они в реальной религиозной жизни
страны. И уже приблизительно с танской эпохи их культ на
уровне и государственных, и простонародных верований на-
чал вытесняться культом Владык священных пиков.
Образы этих персонажей тоже имеют собственную пре-
дысторию. Известно, что уже в древности, помимо культа
Пяти императоров, имелись и представления о божествах-
повелителях каждого отдельного «священного пика», из
которых особо почиталось божество гор Суншань. Сохра-
нились сведения о включении его культа в государствен-
ные верования при Цинь, о строительстве его святилища
по приказанию Цинь-ши-хуан-ди и о принесении ему жер-
твоприношений лично циньским императором.
Тем не менее когорта Великих Владык претерпела прин-
ципиальные изменения, по сравнению с обоими древними
наборами божественных персонажей. Эти изменения выра-
жаются прежде всего в выдвижении на первый план вместо
Августейшие Владыки
Старшие сыновья
Матушки Ковша
(верхний ряд) и повелители
звезд Северного Ковша
(с храмовой стенописной
картины, фрагмент)
202 Образы самих персона-
жей обросли легендами и но-
выми мифологическими под-
робностями. Сине-зеленый им-
ператор (Цин-ди), за которым
укрепилось имя Старший Ве-
ликонебесный (Тай-хао), стал
почитаться повелителем Юпи-
тера (звезда Суйсин), где и
располагалась его небесная
резиденция, называемая Двор-
цом Зеленого дракона. Огнен-
ный император (Янь-ди) счи-
тался повелителем Марса (звез-
да Инхосин, или Огненная
звезда, Хосин), обитающим во
Дворце Красной птицы. Жел-
тый император получил в свои
владения Сатурн (звезда Чжэнь-
син) и созвездия центральной
части звездного неба, концен-
трирующиеся вокруг Северно-
го Ковша, a также волшебный
Дворец Великое Е^циное {Тай-и),
который одновременно есть и
архитектурный ансамбль, и са-
мостоятельное божество, оли-
цетворяющее мозг Желтого
507
императора и трансформи-
рующее свой облик в зависи-
мости от времени суток. Так,
«Новорожденный» (утренний)
Тай-и мыслился сам в облике
правителя, восседающим на
нефритовом троне, в шелко-
вых одеяниях, с подвесками
из огненных языков и с Се-
верным Ковшом в руке. Бе-
лый император (Бай-ди), ко-
торый приобрел имя Младше-
го Великонебесного (Шао-хао),
стал повелителем Венеры, про-
живающим во Дворце Белого
тигра, в ведении которого на-
ходились закат солнца и сти-
хия металла. Черный импера-
тор (Хэіі-ди), образ которого
окончательно слился с обра-
зом совершенномудрого госу-
даря Чжуань-сюя, превратил-
ся в повелителя Меркурия
(звезда Чэнъсин), стихии воды,
a в число его важнейших дея-
ний как архаического госуда-
ря вошли изобретение кален-
дарной системы, установление
правил поведения для жен-
щин и введение наказаний за
инцест.
203 По утверждениям чжо-
уских и ханьских (Сыма Цянь)
авторов, горы Тайшань почи-
тались священными еще в не-
запамятные времена, и имен-
но там, начиная чуть ли ни с
времени правления Божествен-
ного Земледельца и совершен-
номудрых государей, испол-
нялся один из наиболее авто-
ритетных ритуалов — обряд
жертвоприношения Небу. В да-
осской традиции горы Тайшань
стали географическим и семан-
тическим заменителем остро-
вов бессмертных Пэнлай. Кро-
ме того, под ними, по даосским
и простонародным верованиям,
получившим распространение
в конце Хань или в эпоху Ше-
сти династий, находилось и
царство мертвых, откуда по-
являются души будущих де-
тей и куда возвращаются души
умерших, что также сказалось
на особенностях образа и функ-
ций Восточного Владыки.
Желтого императора и божества гор Суншань, Владыки
гор Тайшань, в оригинальной терминологии Великий Вла-
дыка Пика Тай {Тайюэ-дади), или Восточный Владыка (Дун-
дади). Такая трансформация могла произойти под воздей-
ствием как собственно даосских космолого-религиозных
представлений, так и древних государственных верований
и обрядовых практик203.
Восточный Владыка выступает как бы регентом Нефри-
тового императора в земном мире, ответственным за все про-
исходящее в нем, включая определение времени рождения и
смерти каждого отдельного человека и наблюдение за его
судьбой. Главными его помощниками считаются его пять
сыновей, именуемых Пять Сиятельных Божеств (Духов)
(У-сянъ-шэнь), которые и осуществляют наблюдение за тем,
что творится на земле, уделяя особое внимание нравам наро-
да и поведению каждого отдельного человека. Они имеют
собственное иконографическое воплощение, в котором пока-
зываются все вместе в виде высокопоставленных чиновни-
ков. Кроме помощников-сыновей, под началом Восточного
Владыки находится огромный по составу и разветвленный
административно-бюрократический аппарат, состоящий из
нескольких десятков — до 75 — отдельных ведомств из сети
департаментов и отделов. Среди них есть, например, Ведом-
ство рождений и Ведомство смертей, в штат которых входят
департаменты, отдельно отвечающие за рождение каждого
из четырех видов живых существ (которые, заметим, выде-
ляются в буддийских типологиях) — в облике человека, в
облике животных, рождаемых из яиц и рождаемых через
трансформацию. Самостоятельные ведомства занимаются оп-
ределением общественного положения новорожденного, его
будущей служебной карьерой и материальным положением.
Еще одно ведомство предназначено для определения числа
детей в семьях. Серия ведомств занимается наблюдением за
поведением людей: воздаяниями за добрые поступки и нака-
заниями за прегрешения, a также их профессиональной дея-
тельностью. В них предусмотрены департаменты и отделы,
ведающие определенными поступками (проявления сынов-
ней почтительности, верности вышестоящим), чтением свя-
щенных книг, совершением благих деяний по отношению к
людям и животным и т. д. Точно так же есть департаменты
и отделы, отвечающие за конкретные прегрешения, напри-
мер, наблюдающие за профессиональными грабителями и
случайными воришками, отравителями и прочими преступ-
никами или порочными личностями. В состав администра-
тивно-бюрократического аппарата Восточного Владыки вхо-
дят и ведомства природных явлений и стихий — дождя,
наводнений, ветра и т. д., где чиновниками оказались боже-
ства-повелители стихий. Низовые звенья штатного расписа-
ния этого аппарата занимают души усопших, удостоившие-
ся такой чести благодаря своим прижизненным достоинствам
и поступкам. Если же возникает необходимость в ее попол-
нении, Восточный Владыка может призвать к себе любого из
живущих людей — так объясняются в популярных верова-
ниях случаи внезапной и преждевременной смерти.
508
Занимая приблизительно равные позиции в даосском и
популярном пантеонах, Восточный Владыка пользуется все
ясе несколько большим авторитетом в общенациональных
верованиях, чем в собственно даосских. 06 этом свидетель-
ствует выделение в обрядовом цикле посвященного ему праз-
дника — дня его рождения, который отмечается в 28-й день
3-го месяца.
Иконография Восточного Владыки во многом повторя-
ет собой иконографию Нефритового императора: восседаю-
щий на троне, в полном императорском парадно-ритуаль-
ном облачении, но в отличие от него занимающийся дела-
ми правления. Перед ним обычно находятся фигуры
чиновников, как бы выступающих с докладом, рассматри-
вающих дела, ведущих записи и т. д.
Остальные четыре Великих Владыки — Великий Влады-
ка Пика Сун (Сунъюэ-дади, т. е. гор Суншань), Великий Вла-
дыка Пика Хуа (Хуаюэ-дади, гор Хуашань) и т. д. — нахо-
дятся, вопреки своему формальному августейшему статусу,
на периферии популярных верований. Они не были объекта-
ми культового почитания, и их единичные изображения если
и исполнялись, то исключительно редко. Стандартными яв-
ляются их групповые изображения — все пятеро и, включая
Восточного Владыку, в одинаковых сидячих (на троне) по-
зах, в императорском облачении либо в виде свитских (но по-
прежнему в императорских одеяниях) Восточного Владыки
или другого высшего по отношению к ним божества.
Божественные Генералы (Шэнъцзян) — переосмыслен-
ные духи четырех частей света. Но и в данном случае их
набор и их образы претерпели существенную трансформа-
цию. Во-первых, осталось только три генерала: Восточный —
Бирюзовый дракон, Западный — Белый тигр и Северный —
Сокровенный воин, тогда как Красная птица из данной ко-
горты вообще бесследно исчезла. Во-вторых, Восточный и
Западный генералы приобрели сугубо антропоморфный об-
лик, сложившийся к тому же под явным влиянием иконо-
графии буддийских Небесных царей, с которыми они, кста-
ти, почти полностью совпадают и по своим функциям. Они
оба изображаются в виде воинов, облаченных в доспехи и с
оружием (мечом) в руках, и обычно показываются в одно-
типной сидячей позе, но восседающими не на троне, a на
стилизованной горной вершине. У ног их находятся соот-
ветственно изображения дракона и тигра.
Северный же генерал превратился, подобно Восточно-
му Владыке, в самостоятельный божественный персонаж,
сущность и функции которого намного превосходят образ
духа Сюанъу. Титулуемый Наисовершенный Генерал Со-
кровенный Воин (Сюанъу-шэнцзян) или даже Верховный
Владыка Сокровенных Небес (Сюаньтянь-шанди), он по-
читается владыкой и олицетворением семи зодиакальных
созвездий северной части неба, повелителем северной зоны
всего социокосмического универсума, господином стихии
воды и борцом со злыми силами.
Возникновение такого варианта культа Сюанъу связы-
вается с очередным эпизодом из жизни северосунского
Великиіі Владыка Тайшанъ,
С иконы-нянъхуа
Пятпь Сиятельных богов.
С минскои гравюры
509
императора Хуэй-цзуна. В 1105 г. ему якобы было видение
во время исполнения даосской литургии. Небо неожиданно
потемнело, раздались раскаты грома, и среди сверкающих
молний появились чудовищные фигуры змеи и черепахи.
Пав ниц, Хуэй-цзун стал молить божество явить свой об-
лик, доступный восприятию смертных. И тогда перед ним
возникла гигантская фигура человека с распущенными,
развевающимися по ветру длинными волосами, облаченно-
го в черное платье, спускающееся до самой земли, с мечом
в руке, с босыми ногами. Будучи незаурядным живопис-
цем, император поспешил запечатлеть портрет Сокровен-
ного Воина, который, по преданию, и послужил прототи-
пом для его последующей иконографии.
При Юань культ Сюанъу получил официальное призна-
ние и почти сразу же вошел в пантеоны ведущих на тот
момент даосских школ: Небесных наставников и Истинного
совершенства. В них он фигурирует под именем Истинно-
воинствующего (Чжэнъ-у) и считается бессмертным-слне^,
достигшим божественного статуса, и борцом со злыми
силами. Его день рождения, отмечаемый в 3-й день 2-го
месяца, входит в список общедаосских торжеств. В государ-
ственных верованиях Сокровенный Воин был не только за-
щитником от злых сил, но и превратился в покровителя
правящего режима и института имперской власти в целом.
В начале XV в. по повелению минского императора Чэн-цзу
ему было воздвигнуто святилище (в горах Удан, провинция
Хубэй), которое затем дополнилось новыми храмами.
Иконография Сокровенного Воина в его ипостаси Вер-
ховного Владыки Сокровенных Небес относительно стан-
дартна (могут варьироваться лишь отдельные детали). Он
показывается в том же самом облике, который был увиден и
запечатлен императором Хуэй-цзуном, обязательно в стоя-
чей позе и чаще всего — на спине духа Сюанъу — черепахи,
обвитой змеей, которая плывет среди бушующих волн. По-
зади него обычно располагается фигура его помощника —
воина, держащего в руках черное знамя с изображением
духа Сюанъу. В правой нижней части композиции могут
находиться еще два персонажа — антропоморфные вопло-
щения черепахи и змеи, которые, по одним трактовкам,
предлагаемым в старой китайской литературе, являются
духами воды и огня и помощниками Сокровенного Воина в
его борьбе со злом, a no другим — злыми демонами, поко-
ренными им и превращенными в своих слуг. В его даосской
ипостаси (Истинно-воинствующий) Сокровенный Воин обыч-
но изображается в виде мужчины зрелого возраста, облачен-
ного в одеяние полувоенного-полугражданского (напомина-
ющее наряд отшельника) характера, но тоже с мечом, босы-
ми ногами, в сопровождении черепахи и змеи.
Среди помощников и свитских богов-государей значат-
ся, как это следует из представлений о Восточном Владыке,
и божества-повелители природных сущностей и стихий. В то
же время они выступают в качестве самостоятельных персо-
нажей, занимая отдельную позицию в иерархии популярно-
го пантеона.
Множество персонажей, входящих в данный структур-
ный отдел божественного пантеона, имеют архаическое про-
исхождение. Однако они, как правило, не пользовались
государственной поддержкой и остались специфической при-
надлежностью народных верований. Более того, в том слу-
чае, если в официальные религиозные представления вхо-
дили типологически сходные с ними культы, то между
ними наблюдаются серьезные расхождения. Характерным
примером этого выступают культы солнца и луны, введен-
ные в круг официальных религиозных представлений при
Цин (результат соблюдения маньчжурскими властями сво-
их национальных религиозных традиций). Подобно всем
остальным государственным культам — Неба, Земли, им-
ператорских предков — они пребывали в аморфном состоя-
нии с точки зрения их персонификации. В низовых же
верованиях солнце и луна олицетворялись сразу несколь-
кими самостоятельными персонажами. Это, во-первых, пара
Господин Великого Ян (Тайян-цзюнъ) и Госпожа Великой
Инъ (Тайинъ-цзюнъ), первый имеет отдельный посвящен-
ный ему праздник — день его рождения, отмечавшийся в
19-й день 3-го месяца. Во-вторых, две богини луны: уже
хорошо знакомая нам Чан-э и богиня, именуемая Лунное
Сияние (Юэ-гуан)204. Богиня Лунное Сияние оказывается
непосредственным вариантом образа Чан-э, унаследовав-
шим ее иконографию и атрибутику. Она показывается в
облике прекрасной молодой женщины, находящейся в Лун-
ных чертогах, совместно с теми или иными лунными суще-
ствами, чаще всего с Лунным зайцем.
Более важную роль, чем астральные божества, в попу-
лярных верованиях играли боги — повелители природных
стихий, в первую очередь атмосферных явлений — грозы,
дождя и ветра.
Гроза находит воплощение в образах сразу трех персо-
нажей, что, заметим, сочетается с местом «грозовой» сим-
волики в художественной образной системе: бог грозы —
Царъ Грома (Лэй-ван), дух грозы и олицетворение раска-
тов грома — Дух Грома (Лэй-шэнъ), или Громовик (Лэйч-
жэнъ-цзы); и богиня молний — Матпушка Молний (Дянъ-
му), торжественно именуемая также Госпожа Сверкающих
Молний (Шанъдянъ-няннян) и Совершенная Матпушка Зо-
лотпого Сияния (Цзинъгуан-шэнму).
Образ Царя Грома со всей очевидностью, казалось бы,
восходит к образу древнекитайского божества грозы — Кня-
зя Грома (Лэй-гун), о котором неоднократно упоминается в
чжоуских и ханьских текстах и изображения которого при-
сутствуют, напомним, в произведениях погребального ис-
кусства (каменные рельефы). Тем не менее в научной лите-
ратуре преобладает точка зрения, что его образ является
очередным заимствованием, проникшим в Китай в эпоху
Шести династий и от верований юго-восточных (провинция
Гуандун) народностей. Завершающая стадия развития культа
Царя Грома приходится на сунскую или юаньскую эпохи,
после чего он прочно утвердился в популярных верованиях
с празднованием дня его рождения (24-й день 6-го месяца),
БОЖЕСТВА-
ПОВЕЛИТЕЛИ
ПРИРОДНЫХ
СУЩНОСТЕЙ
И СТИХИЙ
Царь Грома.
С иконы-яякъхуа
204 Место Чан-э в иерар-
хии простонародного пантео-
на, правда, не совсем понят-
но. Уже явно не выступая
объектом самостоятельного
культового почитания, она
тем не менее продолжала счи-
таться Хозяйкой луны. Отчет-
ливее всего такое отношение
к ней проявляется в обрядно-
сти праздника Середины осе-
ни. Она считалась его покро-
вительницей, a ee изображе-
ния, вместе с изображениями
других лунных существ и со
«счастливыми» иероглифами,
обязательно помещались на
специально выпекаемых для
данного празднества «лунных
пряниках» (строго круглой
формы, изготовляемые из се-
роватого цвета пшеничной
или рисовой муки с добавле-
нием сахара и различных пря-
ностей).
511
Изображение Громовика
в композициях
охранителъного характера.
С минской гравюры
Матушка Молний,
разгоняющая грозовые тучи.
С книжной гравюры
Громовик.
С иконы-иянъхуа
Матушка Молний,
низвергающая молнии.
С ы/сонм-няньхуа
что является верным признаком высокои степени авторите-
та любого божественного персонажа. Иконография Царя
Грома во многом повторяет иконографию божеств-госуда-
рей: в императорском облачении, в сидячей позе. Но троном
здесь служат облака, a облачение дополнено развевающими-
ся лентами, передающими контуры грозовых туч.
Происхождение образа Громовика точно неизвестно.
Однако его принятые иконографические трактовки сразу
же выдают его архаические истоки и изначально зооморф-
ное — хищная птица (возможно, сова) — воплощение. Он
может показываться в стоячей позе или летающим среди
грозовых туч (иногда два Громовика), но обязательно в
фантазийно-зооморфном облике: с человеческим телом,
птичьей (или птицеподобной) головой, птичьими же лапа-
ми и крыльями (птицы или летучей мыши) за спиной.
Громовик наделяется и способностью противоборствовать
злым силам. Поэтому его изображения, окруженные зак-
линательными символами, часто вводятся в композиции
охранительного характера.
Образ Матушки Молний восходит, по всей вероятности,
к образу богини грома, упоминания о которой под именем
Матушка Грома (Лэй-му) впервые встречаются в текстах
танской эпохи. В литературных источниках Северной и
Южной Сун сообщается, что она является супругой Царя
Грома, и приводятся детали ее внешнего облика: распущенные
волосы ярко-красного цвета и трехпалые (т. е. вновь птичьи)
ноги. Культ и образ собственно Матушки Молний возникли,
видимо, в юаньскую эпоху и приобрели наиболыную попу-
лярность при Цин. В окончательном варианте ее иконогра-
фии какие-либо фантазийно-зооморфные детали отсутству-
ют. Она изображается в виде небожительницы, находящейся
среди облаков, либо разгоняющей веером грозовые тучи,
либо, чаще, низвергающей молнии с помощью двух зеркал.
Иногда в подобные композиции вводится и Громовик.
Происхождение бога ветра и бога дождя, именуемых
Дядюшка Ветер (Фэн-бо) и Управляющий дождем (Юй-ши),
прослеживается без особого труда. Божества под такими
именами постоянно фигурируют в чжоуских и ханьских
сочинениях, в некоторых из них уточняется, что они явля-
ются свитскими Желтого императора, a Дядюшка Ветер
512
есть повелитель не просто ветра, a урагана. Он стандартно
изображается в виде пожилого, но еще физически крепко-
го мужчины богатырского телосложения, одетого в своеоб-
разный костюм. Его облачение составляет желтая куртка,
штаны и обувь, отдаленно напоминающая европейские са-
поги, и специфический головной убор — вроде шапочки с
кокардой красного и голубого цвета. В руках он держит
гигантский веер или кожаный мешок, из которого вырыва-
ются ветра. При Цин существовали и локальные культы
богов ветра. Так, на северо-востоке, в регионе Пекина, по-
читалась богиня ветра — Госпожа Ветер (Фэн-попо), кото-
рая мыслилась пожилой женщиной, разъезжающей по об-
лакам верхом на тигре и возящей за собой ящик с ветрами.
Управляющий дождем тоже имеет принятую иконографию,
в которой он показывается в виде воина, закованного в
доспехи желтого цвета и льющего на землю потоки дождя
из вазы или кожаного мешка.
В качестве повелителей воды — не отдельных водоемов,
a всей водной стихии — почитаются Цари-Драконы (Лун-
ван), образ которых восходит к чудовищным змеям (нага) из
индо-буддийской мифологии. В Китае вначале существовали
представления о четырех Царях-Драконах, обитателях и вла-
дыках четырех Великих морей, располагавшихся, напом-
ним, согласно китайской космографии, по четырем углам
земного квадрата. Они считались родными братьями, стар-
шим из которых был владыка Восточного моря, они подчи-
нялись только Нефритовому императору. Постепенно Цари-
Драконы превратились в повелителей стихии воды, способ-
ных вызывать не только наводнения, но и засуху. Поэтому
их культ пользовался особым авторитетом в крестьянской
среде. Кроме того, в цинскую эпоху как «царь-дракон» не-
редко именовались и божества отдельных водоемов, напри-
мер Царь-дракон Хуанхэ. Цари-драконы, независимо от ипо-
стаси, изображаются в сугубо антропоморфном облике (что
отвечает легенде об их способности принимать внешний вид
любого существа, в том числе и человека), сидящими в тро-
ноподобных креслах, облаченными в наряд высокопостав-
ленных чиновников и окруженными свитскими.
Хотя практически все боги-государи, их свитские и боги-
повелители стихий так или иначе наделялись функциями
подателей жизненных благ и защитников от злых сил, в
популярных верованиях насчитывается целая плеяда от-
дельных персонажей, специализировавшихся в данных об-
ластях божественной деятельности.
Бог ветра Фэн-бо.
С иконы-нянъхуа.
Щ
Щ
«//////'l'Ill!:,'
Бог дождя Юй-ши.
С иконы-няньхуа
Центральными персонажами, выступающими в роли
подателей жизненных благ или, по китайской терминоло-
гии, пяти условий счастья, являются Три Бога счастпъя,
Бог Богатсгпва, Государъ Гуанъ, Бог Литпературы (Вэнь-
чан) и божества-чадоподатели.
Три Бога счастья (Санъ шэнъ) — Бог Счастья (Фу-шэнъ),
Бог Служебного положения (Служебной карьеры, Лу-шэнъ)
и Бог Долголетия (Шоу-шэнь) — считаются олицетворе-
нием так называемых Трех счастливых звезд (Сань син):
33 История искусства Кмтая
БОЖЕСТВА-ПОДАТЕЛИ
ЖИЗНЕННЫХ БЛАГ
И ЗАЩИТНИКИ
ОТ ЗЛЫХ СИЛ
513
205 Так, именно он добил-
ся смягчения приговора вели-
кому поэту Ли Бо, когда тот
был обвинен в пособничестве
мятежникам. «Войска Го Цзыи
возвратились к своим поселе-
ньям, их сам генерал обучает
теперь y Лояна... He плачьте
о детях — они попадут к ге-
нералу, которого войско отцом
называет и братом», — такой
предельно уважительный от-
зыв о нем содержится в сти-
хотворении еще одного выдаю-
щегося танского поэта Ду Фу.
соответственно Звезды счастья (Фусин), которая отожде-
ствляется с Юпитером, Звезды служебного положения (чи-
новников, Лусин), без ее точного астрономического отож-
дествления, и Звезды долголетия (Шоусин), под которой
на самом деле имеется в виду созвездие, состоящее из пяти
звезд зодиакального созвездия Девы. Эта триада, подобно
когорте Восьми бессмертных, возникла далеко не сразу и
объединила в себе различных по происхождению персона-
жей. Бог Счастья и Бог Служебного положения возводятся
в традиции к образам реальных, хотя и нескольких раз-
личных исторических лиц. Прототипами Фу-шэня чаще
всего называются чиновник Ян Чэн и генерал Го Цзыи.
Первый из них жил во времена ханьского императора У-ди
и был губернатором местности Даочжоу, обитатели кото-
рой отличались малорослостью и постоянно увозились в
столицу, где их превращали в придворных шутов и карли-
ков. Каждый год из Даочжоу увозили столько человек, что
местность совсем обезлюдела и обеднела, не говоря уже о
страданиях разлученных родственников. И тогда Ян Чэн
взял на себя смелость обратиться с докладом к трону, в
котором доказывал необходимость освободить местное на-
селение от подобной повинности. Император внял его дово-
дам, и в Даочжоу воцарились спокойствие и счастье.
Генерал Го Цзыи (697-781) был танским полководцем,
командовал правительственными войсками во время подав-
ления мятежа Ань Лушаня и современниками почитался
истинным спасителем правящего дома. Кроме того, по вос-
поминаниям современников, он обладал не только выдаю-
щимися полководческими талантами, но и высокими мо-
ральными достоинствами, по-отечески заботился о солда-
тах, старался помогать попавшим в беду205. В популярных
легендах превращение Го Цзыи в Бога Счастья объясняется,
конечно, по-своему: в них рассказывается, что однажды в
ночь на седьмой день седьмого месяца ему во сне явилась
небожительница, объявившая ему, что он есть воплощение
Звезды счастья. Прототипом Бога Служебного положения
полагается древний сановник Ши Фэнъ9 который еще в юно-
сти встав на сторону основателя Ханьской империи, всю
жизнь прослужил ему верой и правдой и умер в возрасте ста
с лишним лет, окруженный почестями и богатством.
Бог Долголетия является сугубо мифологическим пер-
сонажем, еще более древнего, чем Фу-шэнъ и Лу-шэнъ, про-
исхождения. Впервые культ божества, олицетворявшего
созвездие Шоусин, прослеживается для эпохи Цинь, когда
он был введен, наряду еще с 28 культами астральных бо-
жеств, в государственные верования Циньской империи.
Впоследствии его образ, несомненно, развивался в русле
даосских религиозных представлений и под непосредствен-
ным влиянием образа Лао-цзы, о чем свидетельствует со-
впадение некоторых деталей их внешнего облика. Кроме
того, Шоу-шэнь нередко ассоциируется еще с одним персо-
нажем даосской мифологии — Старцем Южного полюса
(Нанъцзи-лаожэнъ, дух созвездия Октанта), который тоже
мыслился ведающим сроком человеческой жизни.
514
Культ Трех Богов счастья зародился, видимо, в сун-
скую эпоху и утвердился при Мин. На трех из шести со-
хранившихся от минского времени картинах-гравюр (пред-
шественницы собственно нянъхуа) изображены именно они.
Три Бога счастья воспроизводились в старом Китае
(продолжают с тем же энтузиазмом исполняться и сегод-
ня) в самых различных художественных видах, материа-
лах и иконографических вариантах. Наиболее распрост-
ранены их групповые — живописные и скульптурные (три
отдельные фигурки) — портреты. Используются две стан-
дартные (но не строго обязательные) схемы их расположе-
ния: или Бог Счастья — в центре, a Бог Долголетия и Бог
Служебного положения слева и справа от него; или в цен-
тре помещается Бог Долголетия, a Бог Счастья и Бог Слу-
жебного положения — слева и справа от него. В первом
случае все три персонажа обычно показываются стоящи-
ми в полный рост. Во втором — Бог Долголетия изобра-
жается, как правило, верхом на белом олене. Фу-шэнъ и
Лу-шэнъ воспроизводятся исключительно в облике высо-
копоставленных чиновников.
Специфической (но вновь не строго обязательной) дета-
лью иконографии Бога Счастья является младенец y него
на руках. В литературной традиции эта сцена истолковы-
вается в качестве намека на сына генерала Го Цзыи, кото-
рого тот еще в младенчестве представил императору и дво-
ру. В простонародных верованиях она, естественно, пре-
вратилась в символ и благопожелание мужского потомства,
a сам Фу-шэнь приобрел и функцию чадоподателя. В дру-
гих его иконографических вариантах Бог Счастья показы-
вается, подобно Министру Неба, с благопожелательной над-
писью в руках. Наиболее распространенными и опознава-
тельным атрибутом Бога Служебного положения служит
жегл-жуи в его руках.
Бог Долголетия имеет самую примечательную внеш-
ность — старец с длинной седой бородой, огромным вы-
пуклым лбом, ласково улыбающийся (при покупке его изоб-
ражений этой детали всегда придавалось особое значение,
Иконография Трех Богов
счастпья на иконах-яяяьхуа.
Бог Долголетпия
верхом на олене.
С uKOHw-няньхуа
515
Бог Долголетия,
появляющийся из персика.
С ц/соны-няньхуа
так как «хмурый» Шоу-шэнъ может принести несчастье).
Его неизменными атрибутами являются персик бессмертия
(как правило, в его руке), посох (в котором иногда угады-
вается реликтовое изображение Древа бессмертия) и тыква-
горлянка, чаще всего привязанная к посоху. В групповых
и единичных его изображениях он нередко также показы-
вается верхом на олене (либо рядом с ним стоит олень с
персиком бессмертия на рогах) и в сопровождении Свя-
щенного журавля. В групповые портреты Трех Богов сча-
стья, равно как и в портреты одного Шоу-шэня, могут так-
же вводиться мальчики (подростки) с благопожелательны-
ми символами (персик бессмертия, монеты) и летучие мыши.
Еще один возможный иконографический вариант изобра-
жений Бога Долголетия — «Шоу-шэнъ, появляющийся из
персика», который возник в качестве иллюстрации к попу-
лярной детской песенке на тему Трех Богов счастья. И на-
конец, существуют символические композиции, заменяю-
щие собой групповые изображения и состоящие в тех или
иных комбинациях из сосны (семантический синоним Шоу-
шэня), оленя (в данном случае используется ассоциациях
этого образа со служебной карьерой-лу) и летучей мыши,
которые нередко дополнены волшебными грибами-ч^лгіг.
Кроме разобранной триады, в Китае имели место еще
две когорты богов счастья — из пяти и семи персонажей.
В первую из них входят Фу-шэнъ, Лу-шэнь, Шоу-шэнъ и
два новых божества: Бог Богатства Щай-шэнъ) и Бог Счаст-
ливых событий (Си-шэнъ). Несмотря на то, что эта когорта
лучше всего, казалось бы, отвечает принятым в Китае пя-
теричным схемам (или пятичленная космологическая мо-
дель) и наборам, она не получила особого признания. Вто-
рая когорта — Семь Богов счастья Щи-фушэнь), будучи
очередным олицетворением семи звезд Большого Ковша,
оказалась востребованной в Японии.
Бог Богатства является одним из самых сложных пер-
сонажей по своим функциям и образным воплощениям.
Его культ пользовался исключительной популярностью y
всех социальных слоев и профессиональных групп китай-
ского имперского общества, включая сельское и городское
население. Одновременно он выступает в качестве и «про-
фессионального» божества — покровителя торговли, и «до-
машнего» бога — ниспосылателя материального благопо-
лучия семьи, покровителя чиновничьей и военной карьеры
ее членов. Его иконографические изображения непременно
вывешивались на самом видном месте в лавках и на дверях
главного помещения в частном доме. Во многих семьях
были специальные домашние алтари для жертвоприноше-
ний ему с его скулыітурными, живописными изображения-
ми или y бедняков — с табличками, на которых начертано
его имя. В юго-восточных регионах Китая вместо портре-
тов Бога Богатства было принято вывешивать огромного
размера полотнища красной бумаги, на которых красовал-
ся исполненный золотой краской один только иероглиф
шэнь. Жертвоприношения Богу Богатства совершались
дважды в месяц — 1-го и 15-го числа, что особенно неукос-
516
нительно соблюдалось торговцами. При этом считалось не-
обходимым возжигать ему как можно больше куритель-
ных палочек. Кроме того, выделяются два отдельных по-
священных ему праздника: день его рождения и день па-
мяти. Первый входит в общенациональный обрядовый цикл
и отмечается во время новогодних торжеств, в 5-й день
1-го лунного месяца. Второй — в список общедаосских тор-
жеств и проводится в 15-й день 3-го месяца.
Несмотря на популярность культа Цай-шэня, его проис-
хождение остается неясным. В Китае его образ тоже возво-
дится к образам нескольких исторических лиц, преимуще-
ственно местных богачей. В научной литературе высказыва-
ется и такая точка зрения, что он ведет происхождение от
индийского бога богатства Куберу. Трудность выявления
истоков культа Цай-шэня усугубляется множественностью
его воплощений и постоянным смешением его образа с обра-
зами других персонажей, начиная с Министра Неба: неред-
ко он также титулуется как тянъ-гуанъ.
Иконография Цай-шэня тоже чрезвычайно разнообраз-
на и включает в себя множество атрибутов и вспомогатель-
ных лиц. Сам он чаще всего показывается в сидячей позе,
облаченным в чиновничье одеяние и в окружении много-
численных свитских и помощников. Главными его атрибу-
тами, принятыми символами богатства, служат слиток се-
ребра, ветка коралла, связки монет, «таз, наполненный
драгоценностями», «дерево, отряхивающее деньги», «мо-
нетный дракон» и «золотой жеребенок».
Слиток серебра, обозначаемый в данном случае как
«круглое (т. е. совершенное) сокровище» (юаньбао) может
помещаться в руках Цай-шэня, служить ему троном, при-
обретая громадные размеры, входить в орнаментальное офор-
мление композиции. Нефрит чаще всего показывается в виде
лежащей на полу древесной ветки с листвой изумрудно-
зеленого цвета. Происхождение «таза, наполненного драго-
ценностями» (цзюйбаопэнъ), объясняется с помощью несколь-
ких легенд206. «Дерево, отряхивающеемонеты» (яоцянъшу) —
очередной вариант древнего «денежного древа». Оно обычно
изображается в виде комнатного (садового) дерева, растуще-
го в фарфоровой кадке прямо в помещении или во дворике.
Его ветки сплошь состоят из монетных связок и серебря-
ных слитков, которые, если их потрясти (чем занимаются,
как правило, бегающие вокруг него веселые мальчуганы)
дождем сыплются на землю. Такие сцены могут как вклю-
чаться в общие иконографические изображения Бога Бо-
гатства, так и составлять самостоятельные художествен-
ные композиции. «Монетный дракон» обычно изображает-
ся в виде дракона-лі/н, извивающееся тело которого состоит
из связки монет207. Иногда он показывается как бы выра-
стающим (или расположившимся на его вершине) из «де-
нежного дерева». Принятый иконографический вариант
«золотого жеребенка» — лошадка, навьюченная всевозмож-
ными сокровищами (серебряными слитками, каменьями
и т. д.) или везущая за собой наполненную ими тележ-
ку208. Все разобранные символы, как и «денежное дерево»,
206 Согласно одной из них,
некогда в Нанкине жил бед-
ный рыбак, ловивший рыбу в
Янцзы. Как-то раз ему в сети
попался простой глиняный
горшок, который опечален-
ный старик решил употребить
хотя бы как миску для соба-
чьего корма. Но вдруг заме-
тил: собака ест и ест, a корм
не убывает. Его жена накло-
нилась над горшком, чтобы
получше его рассмотреть, да
и уронила в него золотую
шпильку для волос. И тотчас
же горшок до краев наполнил-
ся золотыми украшениями.
Поняли старики, какое сокро-
вище им досталось, сами раз-
богатели и всем родным и со-
седям щедро помогали, за что
и были прозваны еще при
жизни цай-шэнлми.
207 О происхождении «мо-
нетного дракона» (цяньлун)
тоже существует специальная
легенда, в которой рассказы-
вается об императоре, правив-
шем в середине VI в. (лянский
Юань-ди, 552 г.), который,
гуляя в дворцовом парке вме-
сте с гаремными красавица-
ми, вдруг увидел огромную
черную змею со змеенышами.
Дабы защититься от их воз-
можного дурного влияния,
дамы забросали змеиный клу-
бок тысячами монеток.
208 Образ «золотого жере-
бенка» (цзиньмацзюй) или, в
другом его обозначении, *дра-
гоценного коня» (баома) вос-
ходит предположительно к
ферганским скакунам, кото-
рые также образно именова-
лись «драгоценными конями»,
либо к коню буддийского мо-
наха Сюаньцзана, совершив-
шего паломничество в Индию.
В посвященных ему литератур-
ных произведениях его конь
именуется «скакуном, везущим
книжные сокровища», что и
было понято в простонарод-
ной среде как «конь, достав-
ляющий драгоценности».
517
Прототип Гражданского
цай-шэня Фань Ли в облике
даосского бессмертного.
С минской гравюры
ѵ ^\т%к
Прототип Военного
цай-шэня Чжао Гунмин
в облике борца со злыми
силами. С минской гравюры
могут образовывать самостоятельные художественные ком-
позиции, например мальчик с коралловой веткой в руках,
за спиной которого расположились «монетный дракон» и
«золотой жеребенок», или несколько лошадок, везущих
тележки с сокровищами.
Нередко благопожелательные нянъхуа на тему Бога Бо-
гатства приобретают характер подлинных живописных про-
изведений, в которых воспроизводятся картины богатого дома
(роскошные покои, их обитатели в великолепных одеяниях),
сцены чествования и явления Цай-шэня, когда он вместе со
всей своей свитой как бы вырастает из облаков. И иконогра-
фические изображения Бога Богатства, и благопожелатель-
ные картины снабжены, как правило, надписями и стандарт-
ными словесными формулами-заклинаниями, например:
«Дома y нас полное золотом дерево отряхивает деньги, рас-
тет в тазу, где копится богатство», «Бог Богатства нисходит с
Девяти небес, злато и серебро вырастают в горы», «Богатства
и знатного чина!», «Долгой жизни и знатного чина!», «Знат-
ностью и сокровищами да пополнится мой дом!»
Кроме Бога Богатства, в популярных верованиях при-
знается существование множества других цай-шэней. Это,
прежде всего, Гражданский и Военный цай-шэни (Вэнъ-
цайшэнъ, У-цайшэнь), которые тоже выступают одновре-
менно и покровителями отдельных профессиональных
групп. Первый — книготорговцев, второй — военных и ре-
месленников, чей труд связан с активной физической дея-
тельностью, например кузнецов. Образы обоих названных
персонажей имеют самостоятельное происхождение, вновь
возводясь к определенным историко-легендарным и исто-
рическим лицам. Прототипами Гражданского цай-шэня
называются древние сановники Би Ганъ, Фанъ Ли и Ши
Чун. Би Гань — член иньского правящего дома, близкий
родственник его последнего царя, тирана Чжоу-синя. Пы-
таясь увещевать его и спасти династию от гибели, он по-
платился за это жизнью. Чжоу-синь приказал вырвать y
него сердце, дабы посмотреть, насколько правдиво пове-
рье, что сердце мудреца имеет некие специфические при-
меты. Фань Ли — государственный деятель, живший в
конце периода Весен и осеней и прославившийся своими
мудростью, добродетелями и образованностью. Ши Чун
(249-300) — один из богатейших людей Западной Цзинь,
тоже заслуживший признание y современников благодаря
своей учености и щедрости.
Образ Военного цай-шэня возводится к уже знакомому
нам танскому генералу Го Цзыи или к легендарному даос-
скому бессмертному Чжао Гунмину, который появился, по
преданию, среди людей еще при Цинь и затем лично общал-
ся с основателем Школы Небесных Наставников. В своей
ипостаси сяня Чжао Гунмин почитается кудесником и не-
бесным воителем, ведущим борьбу со злыми силами. Граж-
данский и Военный цай-шэни обычно изображаются вместе
соответственно в виде чиновника с жезлом-жуи в руке и
генерала, облаченного в воинский костюм (в сценическом
его варианте), они торжественно восседают перед алтарем.
518
Еще одна устойчивая группа — Цай-шэни пяти дорог
(Улу-цайшэнъ), указывающие пути к достижению богатства
и успеха. Им следовало приносить ежемесячные (в 5-й день)
отдельные жертвоприношения. По одним легендам, Цай-
шэни пяти дорог были некогда ватагой лесных разбойни-
ков, которые раскаялись в своих злодеяниях и раздали на-
грабленное местному населению, за что и удостоились чести
приобщиться к сонму божеств. По другим — в данную груп-
пу входят исходно различные персонажи, начиная с того же
легендарного бессмертного Чжао Гунмина. Эти цай-шэни
также воспроизводятся в групповых композициях в виде
людей, облаченных в полувоенное-полугражданское одея-
ние, в сопровождении свитских и слуг и с атрибутами, ти-
пичными для иконографии Бога Богатства («монетный дра-
кон», «дерево, отряхивающее монеты» и т. д.).
Собственные цай-шэни имелись почти в каждом реги-
оне старого Китая. Так, в Пекине особо почитался Бог
Богатства, умножающий счастъе (Цэнфу-цайшэнъ), не-
редко отождествляемый с обожествленным иньским са-
новником Би Ганем. На юго-востоке (провинция Фуцзянь)
главным божеством богатства считался Бог Богатства,
помогающий обретению материалъного благополучия (Фудэ-
цайшэнь). Отдельно выделяется культ «мусульманского»
цай-шэнЯу именуемого Бог Богатства, возвращающий
[истраченное] (Хуэйхуэй-цайшэнъ). Он возник в качестве
собирательного образа чужеземных народов (в основном,
Денежное дерево
с Монетным драконом,
тазом с драгоценностями
и другими символами
богатства.
С ико«ы няньхуа
Гражданский и военный
цай-шэни. С ы/соны-няньхуа
519
Лю Хайэр в виде отрока,
играющего с жабой.
С иконы-някъхуа.
209 Сохранились сведения,
что он жил в X в. в восточ-
ных районах Китая, входив-
ших на тот момент в террито-
рию киданьского царства Ляо.
Сообщается также, что он по-
лучил классическое конфуци-
анское образование, в 16 лет
выдержал экзамен на офици-
альный чин и поступил на
государственную службу к
местному правителю, где до-
служился чуть ли не до поста
первого министра. Однако за-
тем он встретился с неким
даосом и решил стать отшель-
ником.
«западных варваров» — тюрков, уйгуров), плативших дань
Китаю. Однако и для него в китайской традиции называ-
ются конкретные прототипы — бессмертный Чжао Гунмин
или упоминавшийся ранее минский путешественник-море-
плаватель Чжэн Хэ> бывший выходцем из мусульманского
семейства, проживавшего на юге Китая (пров. Юньнань).
«Мусульманский» цай-шэнь имеет особые иконографическое
воплощение (в виде богатого чужеземца, везущего в осча-
стливленный им дом драгоценные дары) и обрядность (ему
запрещалось преподносить блюда из свинины). Установ-
ление торговых отношений с Европой привело к возник-
новению новых образов цай-шэней и новой благопожела-
тельной формулы: «Цай-шэни шести государств приносят
богатство».
He менее разнообразен и состав свитских и помощни-
ков Бога Богатства, которые считаются чиновниками, тру-
дящимися в возглавляемом им небесном Министерстве
Богатства. Среди них фигурируют, например, Небесный
достопочтенный, отыскивающий сокровища (Чжаобао-
тянъцзунъ), Небесный достопочтенный, доставляющий
драгоценности (Начжэнъ-тянъцзунъ), Бессмертный министр
финансового успеха (Лиши-сянъгуанъ) и тому подобные пер-
сонажи. Все они изображаются, как правило, в виде чи-
новников без каких-либо явно выраженных опознаватель-
ных иконографических черт и образуют вспомогательные
фигуры на соответствующих иконах и картинах.
Самыми примечательными свитскими и даже замести-
телями Бога Богатства являются бессмертный Лю Хайэр
(в отечественной научной литег атуре его имя передается,
следуя его произношению в пекинском диалекте, как Лю
Хар) и близнецы Хэ-Хэ.
Лю Хайэр — неведомо как переосмысленный в просто-
народных верованиях даосский патриарх Лю Цао (Лю Сю-
анъин, Лю Чжаода), признаваемый в даосизме одним из
основоположников традиции «внутренней алхимии» и ду-
ховным преемником Люй Дунбиня209. Особенности его ико-
нографии как божества богатства проистекают из его даос-
ского прозвания Хай Чжанъ(чанъ)цзы — «Морская жаба».
Он изображается в виде смеющегося человека с распущен-
ными волосами, обнаженными (иногда — отвисшими) гру-
дью и животом, с босыми ступнями. Его обязательными
иконографическими атрибутами являются связка монет и
трехлапая жаба (в некоторых китайских диалектах слово
жаба — чанъ — звучит очень близко к слову деньги/моне-
та — цянъ). В картинах-нянъхуа утвердилась относительно
стандартная (хоть и во множестве ее вариантов) компози-
ция «Лю Хайэр, играющий с жабой», в которой он чаще
всего показан с высоко поднятой ногой (как бы для силь-
ного и резкого движения), вращая вокруг головы связку
монет, за которую ухватилась, стараясь перекусить ее, трех-
лапая жаба. Другие варианты этой композиции: жаба, си-
дящая y него на шее или падающая на связку монет отку-
да-то сверху; Лю Хайэр, стоящий на жабе или сидящий на
ней верхом. Нередко Лю Хайэр изображается также в виде
520
ребенка (результат, видимо, омонимичности слов «море» и
«младенец») с «детской прической» или, напротив, с рас-
пущенными волосами, перехваченными обручем. В дополне-
ние к трехлапой жабе и связке монет, на картинах обычно
присутствуют и все другие символы богатства: коралл, не-
фрит, таз с драгоценностями, серебряные слитки и т. д.
Очень часто Лю Хайэр показан и в свите Цай-шэня, где он
играет с жабой, расположившись с ней или на крыше лод-
ки, в которой Бог Богатства плывет к счастливому дому,
или на громадном слитке золота; то «балуется», просунув
голову в отверстие гигантской монеты посреди россыпи
драгоценностей; то летает верхом на «монетном драконе»,
насыпая из своей жабы деньги в корзинки, стоящие во
двориках домов.
Близнецы Хэ-Хэ являются, скорее всего, персонифика-
цией благопожелательного сочетания хэ-хэ, состоящего из
иероглифов-омонимов, первый из которых означает «еди-
нение», a второй — «мир, счастье, гармония»210. Тем не
менее и в данном случае для них называются конкретные
божественные или исторические прототипы. Согласно од-
ной из существующих в традиции и научной литературе
версий, их образ восходит к божеству, именовавшемуся
Старший Братец десяти тысяч возвращений (Ваньхуэй-
гэгэ), культ которого как божества богатства (под «десятью
тысячами возвращений» имеется в виду многократная при-
быль от торговых сделок) процветал при Южной Сун в
юго-восточных районах Китая и в среде мелких торговцев.
По другой версии, отдаленными прообразами близне-
цов Хэ-Хэ послужили два друга, буддийские монахи Ханъ
Шань (Ханъ Шанъцзы, дословно «Холодная гора») и Ши
Дэ (Ши Дэцзы), жившие при Тан (первый из них являет-
ся, кстати, одним из ведущих чаньских поэтов)211. Одна-
ко, даже если эта версия справедлива, происхождение от
образа буддийских монахов мало сказалось на иконогра-
фии и атрибутах близнецов Хэ-Хэ. Они обычно изобража-
ются в виде женоподобных юношей или пухлых мальчуга-
нов, стоящих или сидящих рядом либо находящихся в
симметричных частях картины. Их главными атрибутами
и символами выступают лотос (хэ) — цветок на голове,
бутон на длинном стебле (жезл-жуи) в руках и коробочка
(хэ) с приоткрытой крышкой, из которой, словно в струй-
ке курений, поднимаются «драгоценный конь» и прочие
сокровища. В композиции с близнецами Хэ-Хэ могут вво-
диться и многие другие предметы, которые, как правило,
образуют символические наборы, передающие благопоже-
лательные формулы: слиток серебра (дин) и кисть для
письма (би), дающие вместе с изображениями близнецов
четырехсловное сочетание «да будет согласие-единение»
(бидин хэ хэ); ваза (пин) — «мир/лад порождает согла-
сие-единение» (пин шэн хэ хэ), два паука-сы — «двойное
счастье и согласие-единение» (шуан си хэ хэ). Очень час-
то близнецы Хэ-Хэ изображаются вместе с Лю Хайэром,
нередко смешиваясь с ним: удвоение Лю Хайэра или пре-
вращение Хэ-Хэ в пару Лю Хайэров.
Близнецы Хэ-Хэ.
С иконы-яянъхуа.
210 Это сочетание издавна
входило в набор китайской
религиозно-политической лек-
сики, передавая идею всего
социокосмического порядка
(от гармонии вселенной до до-
машнего уюта) и близости/
единения людей как идеала
общественного устройства и
семейных отношений. Его мож-
но встретить в текстах самых
разных классов, начиная, ска-
жем, с сочинений на философ-
ско-политические темы (напри-
мер, «Ныне государь пребыва-
ет в согласованной [с Небом]
добродетели... a народ — в еди-
нении и согласии») и включая
надписи на амулетах: «В со-
гласии-единении радоваться-
ликовать!»
211 Они пребывали в от-
шельническом уединении (в го-
рах Тяньтайшань, провинция
Чжэцзян) и еще при жизни
снискали себе репутацию пра-
ведников, достигших состоя-
ния бодхисаттвы. С XII в. эти
два монаха все чаще изобра-
жались в живописных произ-
ведениях, непременно вдвоем,
причем их художественные
трактовки — фигуры в поно-
шенных одеяниях, блаженные
улыбки на лицах — все боль-
ше приближались к образу
юродивого, который обычно
прямо связывается в простона-
родном сознании со счастьем и
душевным покоем. В 1733 г.
они были пожалованы титу-
лами В Согласии совершенный
(Хэ-шэн) и В Единении совер-
шенный {Хэ-шэн)> что сдела-
ло их непосредственным
boit лощением формулы хэ-хэ.
521
212 Такой точки зрения на
события конца Хань придер-
живались многие последующие
китайские историки и деятели
культуры, в том числе Ло Гуй-
чжун (13307-1400?) — автор
знаменитого романа «Трое-
царствие», в котором как раз
и повествуется о событиях
конца Хань и периода Сань-
го. По этому роману, Лю Бэй
и его соратники, пытались
воспрепятствовать смуте и
восстановить в стране долж-
ный порядок, a потому они
наделяются многими чертами
конфуцианской благородной
личности. В еще более отчет-
ливом виде эти черты просту-
пают в моральном облике Гу-
ань Юя.
213 Такая история гибели
Гуань Юя, случившейся в
219 г., рассказывается в офи-
циальном историологическом
сочинении «Анналы Трех
царств» («Сань го чжи») и в
еще более пространном ее из-
ложении — в романе «Трое-
царствие» (гл. 47). Сразу же
оговоримся, что поминальный
храм Гуань Юя, после, разу-
меется, многочисленных пе-
рестроек и реставраций, до
сих nop существует в окрест-
ностях Лояна. Называемый
«Лес Гуаня» («Гуань линъ»)у
он являет собой один из ше-
девров архитектурных комп-
лексов храмово-мемориально-
го характера и относится к
числу главных местных исто-
рико-культурных достоприме-
чательностей.
214 Уанъ — местность (в про-
винции Хэбэй), ставшая как
бы владением Гуань Юя, на-
звание которой, состоящее из
иероглифов «война, воинствен-
ный» и «мир, умиротворение»,
может быть понято в качестве
значимой части приведенно-
го титула—«Воинственно-
миролюбивый» или «Усмиря-
ющий насилие». Два других
иероглифа, входящих в этот
титул — «верный долгу, спра-
ведливый» (и) и «храбрый,
отважный» (юн), являются
терминами категориального
ряда, присущими конфуциан-
скому лексическому аппара-
ту; посредством первого, на-
помним, определяется долг-ы
как одно из пяти основопола-
гающих качеств конфуциан-
ского благородного мужа.
Государъ Гуань (Владыка Гуань, Император Гуань, Вое-
вода Гуань, Гуанъ-ди), полный титул — Наисовершенный
Августейший Господин Гуань (Гуанъшэн-дицзюнь) нахо-
дится в непосредственной близости от Бога Богатства. Тоже
может выступать в роли ниспосылателя богатства и жиз-
ненных благ, нередко прямо отождествляясь с Цай-шэнем,
но занимая все же совершенно особое место в популярных
верованиях, в какой-то мере повторяет собой Великого Вла-
дыку Тайшань в его ипостаси регента Нефритового импе-
ратора в мире людей. Но в отличие от последнего, он не
имеет ни обширной свиты, ни административного аппара-
та и оказывается своего рода «благородным рыцарем», по-
добно бодхисаттвам, готов прийти на помощь и вступить в
схватку со злом.
История происхождения его культа достаточно проста.
Это — обожествленный полководец по имени Гуань Юй
(Гуанъ Юнъчан, Гуанъ Чаншэн), живший в конце Хань и
принимавший активное участие в междоусобных войнах
того времени. Соратник и побратим основателя юго-запад-
ного царства Шу-Хань — Лю Бэя, он командовал его вой-
сками, сражавшимися против двух других военно-полити-
ческих фракций — Цао Цао и Сунь Цюаня (основателя
юго-восточного царства У). Лю Юй, выдававший себя за
дальнего родственника ханьского правящего дома, объя-
вил свой режим единственно законным212. Потерпев пора-
жение в битве с армией южан, он был взят в плен и,
несмотря на все уговоры Сунь Цюаня, отказался поступить
к нему на службу, храня верность своему сюзерену. Раз-
гневанный Сунь Юй приказал его казнить, a отрубленную
голову увезти тайком и подбросить в стан Цао Цао, дабы
заставить Лю Бэя заподозрить того в убийстве своего пол-
ководца-побратима и усугубить вражду между ними. Но
Цао Цао, разгадав сей коварный замысел, с величайшими
почестями похоронил отрубленную голову в окрестностях
столицы (Лоян), возведя над могилой поминальный храм213.
Так было положено начало культу Гуань Юя, который
сразу же приобрел государственный характер. В 782 г. он
был законодательно причислен к персонажам, достойным
принесения официальных жертвоприношений. В конце Се-
верной Сун (1102 г.) императором Хуэй-цзуном Гуань Юй
был возведен в статус собственно божества с пожалованием
его красноречивого титула Верный и Храбрый Уаньский
Царъ (Июн-уаньван)214. Немалым авторитетом культ Гу-
ань Юя уже в то время пользовался и во всем китайском
обществе. Он прославлялся в поэтических произведениях,
именуясь в них «сановником-тигром», способным противо-
стоять десятитысячному войску врага. Его изображения
воспроизводились на картинах-гравюрах. При Юань Гуань
Юй превратился во Владыку-ды, хранителя чистоты буд-
дийского вероисповедания, покровителя правящего дома и
защитника страны от злых сил, о чем свидетельствует оче-
редной официально пожалованный ему титул Великий Вла-
дыка, Ниспровергающий Демонов (Фумо-dadu). Статус ди
был подтвержден и минскими властями (при императоре
522
ЦІэнь-цзуне, 1573-1619). A пика своего расцвета в масш-
табе государственных религиозных представлений культ
Гуань Юя достиг в середине Цин, при императоре Жэнъ-
цзуне (Цзяцин, 1796-1821). Чудом избежавший гибели во
время покушения, организованного придворными евнуха-
ми, он посчитал, что обязан своим спасением покровитель-
ству именно Гуань Юя. В результате Гуань Юя было велено
титуловать Государъ (Император)-Воин (У-ди), воздавать ему
почести, равные почестям Конфуцию, возвести ему храмы
по всей стране и включить день его рождения — 13-й день
5-го месяца — в круг государственных праздников. День
рождения Государя Гуаня входил и в список общенацио-
нальных календарных праздников старого Китая, и в набор
общедаосских торжеств. В цинскую эпоху, кроме своей ипо-
стаси защитника правящего дома и страны от внешних вра-
гов, Гуань Юй почитался также покровителем военных чи-
новников, которые приносили ему специальные жертвопри-
ношения и особым образом отмечали день его рождения.
Что касается популярных верований, то в них все его про-
чие функции дополнились функцией чадоподателя: жен-
щины, молящие о материнстве, поклонялись и приносили
дары изваяниям его коня, которые обычно помещались y
входа в посвященные ему храмы.
Иконография Гуань Юя опирается на его литературный
портрет, в котором он наделяется, во-первых, гигантским —
в 8 чи (около 3 м) — ростом. Во-вторых, длинной (1 чи и
8 цуней, т. е. порядка 60 см), черной густой, волнистой, на-
подобие извилистого тела дракона, бородой. По народным
поверьям, в этой бороде есть волосок, являющийся как бы
воплощением Царя-Дракона Северного Моря, заставляющим
его исполнять приказы Владыки Гуаня. В конфуцианских
трактовках образа Гуань Юя его борода является знаком его
верности: «борода длинная, a верность долгу еще болыне».
Портрет Владыки Гуаня довершают лицо красно-коричне-
вого цвета (цвета финикь-жужуба), ярко-красные (словно
накрашенные помадой) губы — знак знатности и богатства,
«фениксовые» глаза — признак мудрой и выдающейся лич-
ности, и густые (словно коконы тутового шелкопряда), срос-
шиеся брови. Приблизительно в таком облике он воспроиз-
водится во всех его иконографических — скульптурных и
живописных — изображениях. Прочие детали его иконо-
графии широко варьируются. Он может показываться в си-
дячей позе — в генеральском облачении, но обязательно с
книгой в руках (Летопись «Весны и осени», намек на исто-
рические деяния и «конфуцианские» добродетели), в стоя-
чей позе, верхом на коне. Изображения Государя Гуаня,
наиболее типичные для его храмовых иконографических
воплощений, обычно включают в себя фигуры его адъютан-
та и сына, расположенные по бокам от него и держащие в
руках соответственно его алебарду и печать (см. вклейку).
Бог Литературы — Августейший Господин Вэнъчан
(Вэнъчан-дицзюнъ), Государь (Владыка, Император) Ли-
гпературы (Вэнъ-ди) — божество, отвечающее за все сферы
человеческой деятельности, связанные с образованием,
215 До сих nop в Китае живо
поверье, что появление на не-
босводе «звезды Вэньчан» в
ночь на день рождения Бога
Литературы знаменует собой
появление на свет в Поднебес-
ной нового яркого таланта.
216 В исторических доку-
ментах приводится эпизод,
подтверждающий могущество
этого юго-западного божества.
Когда в Сычуань прибыла
юная столичная аристократ-
ка, предназначавшаяся в суп-
руги принцу царства Шу, —
брак, инициированный цент-
ральными властями для даль-
нейшего подчинения Шу, —
он, чтобы разрушить такого
рода планы, вызвал камнепад,
преградивший путь столично-
му кортежу и насмерть пере-
пугавший будущую принцес-
су и ее свиту. Подобное деяние
древнего бога грома побудило
губернатора Сычуани воздвиг-
нуть в его честь святилище
(194 г.).
217 Впоследствии была со-
здана обширная апокрифичес-
кая литература о нем — «Жиз-
неописание Грсударя Литера-
туры» («Вэнь-ди чжуанъ»),
«Книга о превращениях Го-
сударя Литературы» («Вэнь-
ди хуа шу>), в которых пове-
ствуется о его 17 перерожде-
ниях и жизни в мире людей в
различных обликах, о приоб-
ретении им в конце концов
божественного статуса и о по-
ручении Нефритового импера-
тора вести реестры всех граж-
данских и военных чиновни-
ков, одновременно наблюдая
за исполнением ими своих
служебных обязанностей.
интеллектуально-творческими занятиями и непосредственно
с литературным творчеством. Как таковой он выступает
покровителем деятелей культуры, литераторов и всех чи-
новников, и вполне мог бы считаться «профессиональным»
или «городским» божеством, если бы занятие чиновничьей
должности и служебная карьера не входили бы в понима-
нии китайцев в универсальные условия счастья. Поэтому
Бог Литературы истово почитался и в среде низового, негра-
мотного населения, каждое семейство мечтало когда-нибудь
да увидеть своего отпрыска чиновником или, на худой ко-
нец, учителем местной школы. Празднование дня его рож-
дения — в 3-й день 2-го месяца — входило в круг общена-
циональных празднеств, равно как и даосских торжеств.
Бог Литературы является по своей сути еще одним аст-
ральным персонажем — олицетворением созвездия Вэнъ-
чан, состоящего из шести звезд в области Большой Медве-
дицы215. Но его культ и на этот раз имеет весьма сложные
истоки, происходя от культа бога грома (грозы), бытовав-
шего y аборигенных народностей, которые населяли в древ-
ности северную часть Сычуани. В ханьскую эпоху этот
культ был воспринят верованиями китайского населения
Сычуани, став в них покровителем данной местности216.
Следующий этап эволюции культа Вэньчана, завершивший-
ся его окончательным официальным признанием, связыва-
ется с событиями середины Тан. Император Сюань-цзун,
бежавший от мятежа Ань Лушаня в Сычуань, посетил его
храм и счел необходимым признать его божественный ста-
тус. Еще более ста лет спустя бывшее локальное божество
было признано «царем» (ван), хотя остается неясным, как
и почему именно его образ объединился с образом бога
созвездия Вэньчан. Известно лишь, что это смешение было
законодательно признано в юаньскую эпоху (императором
Жэнь-цзуном, 1312-1321), послужив отправным моментом
истории культа Вэньчана как общенационального Бога
Литературы217. В домах представителей служилой интел-
лигенции непременно имелся алтарь Государя Литературы
с его скульптурным или живописным изображением либо
с табличкой с его именем. Его изображения исполнялись и
на дешевых икон&х-няньхуа.
В своей полной стандартной иконографии Государь
Литературы показывается в сидячей позе, императорском
облачении и в сопровождении свитских. Главными его
помощниками считаются Куй-син и божество по имени
В Красном одеянии (Чи-и). Куй-син — олицетворение од-
ноименного созвездия (первые четыре звезды Болыпой Мед-
ведицы), почитаемый покровителем непосредственно лите-
ратурного творчества, студентов и экзаменующихся. По
поводу происхождения его культа существует следующая
легенда. Рассказывается, что он был необыкновенно талант-
ливым, но внешне весьма безобразным юношей. Он блестя-
ще сдал столичный экзамен, однако император, почувство-
вав непреодолимое отвращение к его внешнему виду, отка-
зал ему в полагавшейся по такому случаю аудиенции.
Смертельно оскорбленный таким отношением к себе, Куй-
524
син решил покончить жизнь самоубийством и бросился в
бушующие морские волны. Но из водной бездны всплыла
чудесная рыба-ао (рыба-черепаха), которая вынесла его
на берег, и несчастный юноша превратился в божество.
Иконографические воплощения Куй-сина воспроизводят
детали приведенной легенды. Он сам показан в облике
демоноподобного существа, со злобным, устрашающим ли-
цом и в крайне специфической позе: с чуть наклоненным
туловищем, стоя на одной (правой) ноге на голове рыбы-
ао, тогда как другая — откинута назад, словно он совер-
шает прыжок на бегу. В правой руке — кисть для пись-
ма, обычно она поднята вверх; в левой — чиновничья
печать, она согнута вдоль груди (хотя допускаются и дру-
гие варианты). Изображения Куй-сина или таблички с его
именем было принято брать с собой на экзамен. Особенно
желательно было приобрести (а лучше — исполнить соб-
ственноручно) амулет, состоящий из изображения Куй-
сина, выполненного в стилизованной иероглифической
форме (фигура, сочетающая рисунок и иероглифическое
письмо) и обязательно — без отрыва кисти от бумаги.
Божество Чи-и показывается в облике длиннобородого ста-
рика, облаченного в чиновничье одеяние. Это — признан-
ный покровитель плохо подготовившихся к экзаменам
студентов, помогающий им добиться успеха с помощью
благоприятных случайностей.
Плеяда божеств-чадоподателей возглавляется Небесной
Владычицей или самостоятельной богиней, именуемой Не-
бесная Бессмертная Госпожа/Совершенная Матушка
(Тянъсянь-няннян, Тянъсянь-шэнму), которая нередко отож-
дествляется с даосской Госпожой Бирюзовой Зари. Под их
началом находится внушительная когорта — из 8, 9, 12 и
даже 36 персонажей, главными из которых считаются Гос-
пожа Сыновей и Внуков Щзысунь-няннян) и Госпожа,
Ниспосылающая Детпей (Сунцзы-няннян), отвечающие за
наступление беременности, ее благополучное протекание и
успешные роды. Все остальные богини считаются их свит-
скими и являются защитницами детей от болезней и про-
чих напастей, например Госпожа Зрения (Янъгуан-няннян),
Госпожа Слуха (Эргуан-няннян), охраняющие от болезней
глаз и ушей. Обе старшие Госпожи могут изображаться по
отдельности в виде молодых женщин с детьми на руках.
Все остальные богини-чадоподательницы обычно изобра-
жаются в групповых композициях (но каждая занимает ее
отдельный фрагмент) и в абсолютно стереотипных иконо-
графических воплощениях: в виде женщин в богатых одея-
ниях, восседающих на троноподобных сидениях и в сопро-
вождении двух служанок, стоящих по бокам от них. В раз-
личных регионах Китая имелись собственные культы
богинь-чадоподательниц. Так, на юго-восточной перифе-
рии (Гуандун) в качестве таковой почиталась Госпожа Зо-
логпого Цветпения (Цзинъхуа-фужэнь).
Кроме богинь-чадоподательниц, в роли ниспосылателя
потомства, но исключительно мужского, и защитника де-
тей выступает и мужской персонаж — Бессмертный Чжан
Куй-син.
С цинской гравюры
Стандартное
иконографическое
изображение
богинь-чадоподательниц
и защитниц детей.
Госпожа Зрения
525
218 Когда рождался маль-
чик, слева от дверного прохо-
да вывешивался лук из туто-
вого дерева, a через несколько
дней после процедуры призна-
ния новорожденного главой
семьи своим сыном отец вы-
пускал из лука шесть стрел —
в небо, в землю и в четыре
стороны света, дабы оградить
ребенка от злых сйл. Этот об-
ряд долыпе всего удерживал-
ся в юго-западных районах Ки-
тая, где и возник олицетворя-
ющий его персонаж. Сочетание
«господин Чжан» (Чжан-гун)
есть омоним выражения «сги-
бать лук» (чжан гун). Более
того, графема «лук» входит в
состав самого иероглифа чжан.
219 Так, сохранились адре-
сованные ему благодарствен-
ные стихи Су Суня (1009-
1066) за рождение двух своих
сыновей, один из которых —
Су Ши (Су Дунпо), впослед-
ствии стал знаменитым госу-
дарственным деятелем и дея-
телем культуры. Еще в од-
ном поэтическом панегирике
в честь Бессмертного Чжана
(середина XII в.) повествует-
ся о его многочисленных изоб-
ражениях.
(Сянъ Чжан). Он же даровал будущему ребенку природные,
врожденные способности, создавая тем самым необходимые
условия для его будущих успехов и процветания, что ставит
этот персонаж в один ряд с богами-ниспосылателями жиз-
ненных благ. Существует несколько легенд и научных вер-
сий о происхождении его культа. Согласно одной из них, он
был уроженцем Сычуани, жившим там в первой половине
X в. и обретшим бессмертие. Перед тем как стать даосским
отшельником, он встретил на дороге некоего старца с луком
и стрелами, который и сообщил ему, что он станет великим
сянем. На самом деле образ Бессмертного Чжана восходит к
древнему обряду рождения, который практиковался при
Чжоу (о нем довольно подробно рассказывается в «Записях о
ритуалах»)218. Дальнейшей эволюции культа Бессмертного
Чжана способствовали события начала сунской эпохи. Осно-
ватель династии Сун после покорения очередного самостоя-
тельного царства, возникшего в Сычуани, взял в свой гарем
вдову правителя этого царства. Женщина смелая и находчи-
вая, она сохранила портрет мужа и даже повесила его на
видное место в своих покоях, сумев убедить императора, что
это — изображение Бессмертного Чжана, ниспосылающего
сыновей. Независимо от степени достоверности приведенной
легенды, есть немало свидетельств того, что культ Бессмерт-
ного Чжана действительно имел в сунском обществе весьма
широкое распространение219. Окончательное превращение
культа Бессмертного Чжана в общенациональную универса-
лию произошло при Мин. В цинскую эпоху повсеместно име-
лись посвященные ему святилища, a его иконы было при-
нято вывешивать в спальнях новобрачных.
Бессмертный Чжан чаще всего изображается в виде
лучника, стреляющего в Небесного Пса (олицетворение
Сириуса), который, по поверьям, угрожает жизни и здоро-
вью новорожденных (см. вклейку). Фигура бессмертного
обычно дополняется изображением его сына с ребенком на
руках, a в некоторых случаях и Госпожи, Ниспосылающей
Детей. Такой иконографический вариант наиболее харак-
терен для оформления святилищ Бессмертного Чжана. В них
присутствуют, как правило, стенописные картины, воспро-
изводящие образы Духов двенадцати созвездий, отвечавших
за рождение ребенка в каждом конкретном году и месяце.
Вдругих своих иконографических трактовках Сянь Чжан
показывается в виде гражданского чиновника, без лука, но
по-прежнему с ребенком на руках, что делает его почти
полным морфологическим аналогом Бога Счастья.
Набор божеств-защитников от злых сил тоже весьма
многочислен и разнообразен. Следует пояснить, что под «злы-
ми силами» китайцы понимали как стихийные бедствия и
напасти (засуху, наводнение, болезни), так и определенных
существ, среди которых и природные «зловредные» духи, и
звери-оборотни, и души усопших, по каким-то причинам не
нашедшие успокоения и вредящие живым людям. Все они
обозначаются как гуй, чем и объясняется множественность
научных истолкований и переводов этого термина — «де-
мон», «бес», «оборотень», «призрак», «нечисть».
526
Формально главным, в силу его божественного проис-
хождения, защитником от злых сил выступает бог Эр-лан,
считающийся внучатым племянником Желтого императо-
ра и свитским Нефритового императора. Он изображается
в виде юноши-воина, в сидячей позе, типичной для боже-
ственных государей. Однако в реальной религиозной жиз-
ни страны культ Эр-лана явно находился в тени культов
других персонажей данного типологического ряда, кото-
рые подразделяются на две основные категории — исходно
демонические существа, имеющие власть над гуй, и знато-
ки оккультных наук, повелевающие нечистью с помощью
заклинаний.
Наиболее примечательным и ярким представителем
первой из названных категорий является Чжун-куй. Воз-
никновение его культа объясняется в традиции легендой о
видении танского императора Сюань-цзуна220. Будучи тя-
жело больным малярией и находясь в забытьи, он узрел
демона, то ли дразнящего его, то ли (по другим версиям)
пытавшегося украсть его любимые личные вещи. Но тут
неожиданно появился другой демон — огромного роста, в
синем халате и в шапке, который погнался за воришкой,
схватил его, вырвал ему оба глаза и проглотил его живь-
ем. Затем он почтительно представился императору, сооб-
щив ему свое имя и поведав свою историю. По его расска-
зу, он был студентом, провалился на экзамене и, не выдер-
жав такого позора, покончил с собой, после чего превратился
в гуй, но дал обет бороться с нечистью. Очнувшись и по-
чувствовав себя полностью выздоровевшим, Сюань-цзун
призвал к себе уже знакомого нам художника У Даоцзы и
по своим описаниям приказал ему выполнить портрет
Чжун-куя. У Даоцзы выполнил августейший приказ, со-
здав картину «Чжун-куй хватает демона», которая, как
это принято считать, задала собой его последующие ико-
нографические трактовки. В иконографических и светских
художественных произведениях минской и цинской эпох
Чжун-куй обычно изображается в виде воина в «устрашаю-
щей» позе с мечом в руках. Есть и другие варианты его
изображений, например «отдыхающий Чжун-куй» — в
сидячей позе и с мальчиком-слугой (учеником), стоящим
рядом. В некоторых местностях (Хэнань) было принято
вывешивать изображения Чжун-куя в виде всадника на
входные двери дома.
В городских верованиях Чжун-куй приобрел новую
ипостась и новое имя — Судья (Панъ-эр, в принятой в
отечественной литературе транскрипции — Пхар). В со-
ответствии с этим именем он мыслился судьей и свитским
божества города (Чэн-хуан, подробно см. далее), которому
было поручено вершить правосудие над нечистью, также
и над душами усопших. Изображения Пань-эра, пользо-
вавшиеся при Цин огромной популярностью, относятся,
скорее, к категории книжных иллюстраций, отдаленно
напоминающих современные комиксы, чем иконографи-
ческие произведения. В них воспроизводятся всевозмож-
ные сцены, демонстрирующие всевластие Пань-эра над
Эр-лан. С иконы-нянъхуа
Чжун-куй.
С иконы-нянъхуа
220 В научной литературе
господствует точка зрения,
что образ Чжун-куя, подобно
образу Бессмертного Чжана,
является порождением и пер-
сонификацией древних обря-
довых практик. Известно, что
чжункуй — большая палка,
вырезанная из персикового
дерева, которая использова-
лась в восточных районах чжоу-
ского Китая при проведении
обряда изгнания злых сил.
527
*>■#
«Отдыхающий Чжун-куй».
С минскои гравюры
Судья Пань-эр
с демономслугою.
С иконыняиъхуа.
221 Эта мысль четко посту-
лируется в «Бао пу-цзы» Гэ
Хуна, где, кроме того, очер-
чивается круг подобной дея-
тельности даосов: «Так, на
юге выступления заклинате-
лей столь действенны благо-
даря главным образом их раз-
витому духу. Они могут спать
с больным человеком и не
только не заразиться от него,
но и оградить других от зара-
жения... Когда в горах на че-
ловека нападает злой призрак,
дом подвергается наваждению,
в людей летят камни и чере-
пица, дом поджигается, и
даже сами привидения появ-
ляются здесь и там в крайней
материализации. Вот! A хо-
роший заклинатель запретит
им своим сильным духом, и
они замрут моментально... Бо-
лее того, поднимаясь на леси-
стую гору, вы можете попасть
в место, кишащее разнообраз-
ными змеями, и никто не мо-
жет избежать их укуса. Ho bot
появляется хороший заклина-
тель; который может запре-
тить им своей разумной си-
лой, и тогда округа на много
миль освобождается от змей.
Таким же образом он может
остаыовить кровотечение, вы-
править сломанную кость, пе-
ревязать вены и мускулы...
заговорить клинок меча... за-
ставить воду течь вспять...»
(Пер. В. М. Алексеева).
нечистью: пирующий Судья, которому смиренно прислу-
живают бесы; Судья едет в повозке и нещадно хлещет
впряженных в нее чертей и т. д.
В роли охранителей-заклинателей обычно выступают
древние обожествленные полководцы (превращение их во-
инских подвигов и успехов в охранительные способности) и
персонажи даосского пантеона, начиная с самого Лао-цзы.
В этом случае он изображается, как правило, в стоячей
позе, облаченным в одеяние, разрисованное триграммами и
заклинательными символами, и держащим в руках специ-
альный веер, «усмиряющий драконов и повергающий тиг-
ров». Подобное осмысление даосских персонажей не удиви-
тельно, так как даосская традиция изначально предполага-
ла достижение человеком степени внутреннего (духовного и
волевого) совершенства личности, позволяющей ему проти-
востоять любым проявлениям зла221.
Из божеств-полководцев особо выделяется Министр
Цзян Щзян-тайгун), являющийся обожествленным чжоу-
ским полководцем Щзян Цзыя), который возглавлял ар-
мию, разбившую Шан-Инь, a затем стал основателем пра-
вящего дома царства Ци. Он обычно изображается едущим
верхом на фантастическом звере (фигура, составленная из
частей различных животных), с магическим знаменем в
одной руке и с жезлом-жуи — в другой. Всю оставшуюся
часть произведения заполняют всевозможные заклинатель-
ные символы и эмблемы — священный меч, триграммы,
эмблема Великого предела, a также надписи «Министр Цзян
здесь!», «Ничего не страшусь!»
Из даосских персонажей наибольшими популярностью и
авторитетом пользуются Люй Дунбинь, именуемый в данном
случае Патриархом Люй (Люй-цзу), и Небесный наставник
Чжан (Чжан-тянъши). Небесный наставник Чжан — соби-
рательный образ руководства Школы Небесных наставни-
ков, своего рода ее архимаг, наследовавший, по легенде, власть
над нечистой силой от Чжан Даолина. Считалось, что он
пребывает в главной обители школы (на горе Лунхушань в
провинции Цзянси) и обладает способностью повелевать любы-
ми демонами, равно как живыми тварями, вредящими лю-
дям, a также прогоняет кошмары и болезни. В соответствии
528
с его статусом и функциями Небесный наставник Чжан обыч-
но изображается в виде даосского отшельника с набором
специальных предметов: чашей с лекарством против ядови-
тых тварей, «ларцем первозданного хаоса» (хунь юань хэ),
который втягивает в себя любую нечисть, магическим мечом,
способным разрубать бесов. Вокруг его фигуры вновь разме-
щаются заклинательные символы, каббалистические знаки
и надписи. К числу наиболее специфических относятся: иеро-
глиф «гром», написанный так, что он образует контур ку-
рильницы или алтаря, пять «огнедышащих» барабанов. Дру-
гой его иконографический вариант — верхом на тигре, гро-
мящий бесов. В этом случае его свитскими и помощниками
могут выступать Громовик и Матушка Молний. Нередки так-
же случаи, когда образ и атрибуты Небесного наставника
Чжана смешиваются с иконографией Чжун-куя.
Наряду с защитниками от злых сил и заклинателями,
обращение к которым носило в целом эпизодический харак-
тер, в популярном пантеоне имелось еще два персонажа,
которые мыслились неустанно охраняющими дом и всех его
обитателей от нечисти, напастей и бед. Речь идет о духах-
стражах ворот, Божествах дверей (Мэнъ-шэнь), парные жи-
вописные изображения которых — вплоть до исполненных в
полный человеческий рост и более — в старом Китае обяза-
тельно помещались на створках входных дверей (или по бо-
кам от них) в любое здание, исключая буддийские храмы.
Для этих персонажей прослеживается по меныпей мере два
религиозных истока. Первый — культ пяти домашних духов
(У цзи), который бытовал в Древнем Китае и включал в себя
духов центральной части жилого помещения, очага, прохо-
дов, внутренних дверей (с одной створкой) и внешних дверей
или ворот (с двумя створками). Другой исток — представле-
ние о божественных стражах, именуемых Шэнь-ту(шу) и
Юй-лэй. Учитывая, что иероглифы my и лей в древности
использовались для обозначения каких-то растений (совре-
менное словарное значение первого из них «жгучие, едкие
травы»), правомерно предположить, что их образы в свою
очередь, восходят к архаическому обычаю вывешивать тра-
вяные пучки y входа для защиты дома от злых сил. Есть
отдельный мифологический сюжет, посвященный названным
стражам, в котором повествуется, что они были поставлены
Желтым императором охранять Врата Демонов (Гуймэнъ),
которые находились где-то на волшебном острове посередине
Восточного моря и через которые злые духи могли проникать
в мир людей. По свидетельству письменных источников, уже
при Хань было принято помещать их статуи, вырезанные из
древесины персикового дерева, перед входом в дома. He ис-
ключено, что именно их изображения присутствуют и на
каменных погребальных рельефах — фигуры, тоже располо-
женные по бокам, с внутренней стороны входа, ведущего в
погребение. Такова предыстория образов божеств дверей.
Их же собственное происхождение и на этот раз возво-
дится в традиции к реальным историческим лицам и конк-
ретному событию. Рассказывается, что танскому импера-
тору Тай-цзуну как-то нездоровилось, и, когда он тщетно
34 История иск7сства Китая
Небесный наставник Чжан.
С іг/соны-няньхуа
529
Мэньшэни
a — с книжной гравюры (Мин);
б — с иконы-нянъхуа; в — в обли-
ке чиновников (с иконы-няньхуа).
пытался уснуть, за дверями его спальни раздался страш-
ный грохот, словно там кидали кирпичи, били черепицу, и
весь этот шум сопровождался смехом и воплями бесов.
Утром император поведал сановникам о случившемся. В то
время на службе при дворе находились два генерала Цинь
Шубао и Ху ЦзиндЭу которые до этого участвовали во мно-
гих битвах и прославились своим мужеством. Генерал Ху
был, судя по его фамильному знаку («варвар»), выходцем
из западных или северо-западных некитайских народно-
стей, всегда славившихся воинскими умением и доблестью.
Узнав о бесчинствах, творимых бесами в покоях государя,
генералы сразу же вызвались нести охрану. Каждую ночь
в течение целой недели они стояли y входа в император-
скую опочивальню, и ничто не потревожило покой Сына
Неба. Сочтя, что столь доблестным воинам и высокопо-
ставленным лолководцам не по чину все же нести личную
охрану его покоев, Тай-цзун приказал выполнить их порт-
реты, которые с тех nop и вывешивались на створках две-
рей, столь же эффективно отпугивая злые силы, как и бра-
вые генералы. Божества дверей чаще всего изображаются в
виде воинов, в полном боевом облачении и вооруженных
луком, мечом и алебардой. На левой (т. е. западной) створ-
ке дверей помещается портрет Ху Цзиндэ, в облике которо-
го просматриваются «варварские» черты: округлые выпу-
ченные глаза, темный цвет кожи и окладистая борода.
Цинь Шубао рисуется, напротив, в несколько женствен-
ном или юношеском облике. Производным от этого ико-
нографического варианта является изображение «граждан-
ских» мэнь-шэней: в виде чиновников, но с теми же самы-
ми особенностями их внешнего облика.
Исходя из происхождения их образов и функций, Бо-
жества дверей правомерно рассматривать и в качестве до-
машних божеств.
530
Номинально главными домашними божествами в по-
пулярных верованиях выступают духи-ту-ди, покровите-
ли определенного земельного участка и всего, что на нем
находится. Каждый дом имел собственного ту-ди, кото-
рый мыслился маленьким седобородым старичком, нося-
щим старинное длиннополое одеяние и соломенные крес-
тьянские туфли. Ту-ди следил за всем, что творится в
доме, защищал его обитателей от бед и, кроме того, вел
реестры смертей и рождений, являясь таким образом хра-
нителем родословной данного семейства, его обычаев и
нравов. Все это делает его образ типологически сходным с
образом домового222.
Несмотря на столь разработанную мифологию образа
ту-ди, роль первоочередного покровителя дома и семьи
вместо него отводилась, во всяком случае в верованиях
цинской эпохи, Богу Кухонного очага — Цзао-вану. Основ-
ной функцией Цзао-вана считалось наблюдение за поведе-
нием членов семьи, подсчет их хороших и дурных поступ-
ков и доклад о них Небесному (Нефритовому) императору,
который по итогам этого доклада определял дальнейшую
судьбу семейства, осыпая его милостями либо насылая на-
казания. Эти верования, помимо всего прочего, определя-
ли специфику всей новогодней обрядности старого Китая.
Считалось, что в 23-й (или в 24-й — на Юге) день послед-
него месяца года Цзао-ван отправляется к Нефритовому
императору с докладом и пребывает там вплоть до 20-го
дня первого месяца нового года.
Церемония проводов Цзао-вана занимает одно из клю-
чевых мест в сценарии новогодних праздников и продол-
жается на протяжении почти суток. Накануне отбытия
ему преподносится торжественный обед, состоящий из
6 блюд, обязательно включающий его любимую курятину,
и еще нескольких яств: специально приготовленные булоч-
ки из рисовой муки с начинкой из красных бобов и сладо-
сти — целые сахарные головы в форме «счастливых» пред-
метов. Китайцы свято верили, что, вкусив такое количе-
ство сладостей, Цзао-ван либо не сможет внятно представить
Нефритовому императору свой доклад, ибо его губы слип-
нутся от сахара, либо не захочет быть излишне строгим к
столь благостно относящемуся к нему семейству. Отдель-
ные лакомства преподносились и коню Бога Очага: горох,
овес, зерновые, которые бросались на пол. Утром следую-
щего дня осуществлялись непосредственно его проводы.
После поклонов и молитвенных обращений к нему ико-
на Цзао-вана осторожно вынималась из своего постоянного
места — над кухонной плитой и помещалась в заранее
подготовленный бумажный паланкин. Глава семейства,
держа паланкин на вытянутых руках, торжественно нес
его к выходу. Очень важным считалось, чтобы он все вре-
мя находился лицом на юг, a потому ему порой приходи-
лось идти задом наперед, старясь ни в коем случае не сбиться
с шага, a тем более оступиться или споткнуться. Выйдя во
двор, он с такой же осторожностью клал паланкин на
землю, предварительно устланную соломой и посыпанную
ДОМАШНИЕ БОГИ
222 В некоторых регионах
(Сычуань) тпу-ди считался так-
же божеством, способным да-
ровать здоровье и долголетие,
за что его почтительно имено-
вали Ту-диДолгой жизни (Чан-
шэн-mydu). В других верили,
что он женат и что его супруга,
также называемая myduy не-
сет ответственность за семей-
ное счастье и домашний уют.
531
223 Ha юго-востоке, в про-
винции Гуандун, были при-
няты шествия мальчиков, ко-
торые распевали шуточные
песни под звуки гонгов и за-
ходили в дома, вручая их оби-
тателям различные счастли-
вые символы, получая от них
в качестве ответного дара день-
ги. В Цзянсу и Чжэцзян про-
водились шествия ряженых,
тоже в основном подростков
обоих полов. Однако одновре-
менно без божественного над-
зора оказывались и злые силы.
Bot почему китайская ново-
годняя обрядность обязатель-
но включала в себя активное
использование оберегов и эк-
зорцистских средств, в набор
которых входили фейерверки,
хлопушки, громкая музыка
(все это, по представлениям
китайцев, отпугивало несчас-
тья, болезни и непосредствен-
но нечисть); a на стенах поме-
щений и зданий вывешивались
охранительные надписи и ху-
дожественные композиции,
начиная с изображений того
же Чжун-куя. Обычная ку-
хонная плита тоже не исполь-
зовалась. Приготовление ново-
годних блюд и обычной пищи
осуществлялось на специаль-
ных переносных плитах.
224 Правда, единого мнения
о частоте и сроках этих до-
кладов тогда еще не было.
Водних текстах говорится,
что он отправляется в небес-
ные чертоги раз в месяц, в
других — что он делает это
нерегулярно и в зависимости
от происходящего в семье: са-
мое редкое — раз в 300 дней,
самое'частое — раз в 3 дня.
225 He имея собственного
имени, она считалась надзи-
рающей за женской частью
семейства и придворной дамой
Нефритовой Августейшей Со-
вершенной Матушки {Юйху-
ан-шэнму) — богиня, которая
фигурирует в популярных ве-
рованиях только в связи с
культом Цзао-вана.
сверху серебряными бумажками, имитирующими денеж-
ные слитки, и обращался к Цзао-вану приблизительно с
такими молитвенными словами: «Бог Очага! Когда ты до-
стигнешь Небес, пожалуйста, не рассказывай о наших пре-
грешениях! Если ты считаешь, что мы с недостаточным
рвением почитали тебя, прояви снисхождение!» После это-
го паланкин сжигали. Отсутствие Бога Очага означало вре-
менное прекращение надзора свыше за людьми и вступле-
ние в свои права особого «карнавального» («вывернутого
наизнанку») мира: с этого момента начинались всевозмож-
ные игрища и увеселения223.
Возвращение Цзао-вана отмечалось столь же торжествен-
но, как и его проводы, с преподнесением ему праздничного
обеда. Новая икона с очередными поклонами и молитвен-
ными обращениями водружалась на прежнее место. Кроме
церемоний его проводов и встречи, Бог Очага почитался в
день своего рождения — в 3-й день 8-го месяца, и дважды в
месяц — в 1-й и 15-й дни. Ежемесячные поклонения ему
осуществлялись так: глава семьи рано утром (до завтрака)
возжигал перед иконой Цзао-вана две красные куритель-
ные свечи и падал перед ней ниц, оставаясь в таком поло-
жении, пока свечи не сгорят. Только по завершении этой
церемонии семья могла приступить к завтраку. Все осталь-
ное время перед иконой Бога Очага должны были стоять
пустая чарка и чашка для еды с парой палочек.
Культ Цзао-вана восходит, со всей очевидностью, к упо-
минавшемуся ранее древнему (чжоускому) культу пяти
домашних духов. Его формирование как самостоятельной
религиозной величины, включая и обрядовый аспект, про-
слеживается приблизительно со второй половины Хань.
В письменных памятниках ІѴ-Ѵ вв. (впервые в трактате
Гэ Хуна) уже неоднократно упоминается об этом культе,
называемом в них «древним», и о докладах Цзао-вана не-
бесным богам224. Связь культа Цзао-вана с Новым годом и
новогодней обрядностью установилась, видимо, при Тан.
В одном из сочинений того времени («Записи о временах
года в столице») рассказывается, что в новогоднюю ночь
обитатели столицы приглашают в свои дома буддийских
или даосских монахов для чтения священных книг и мо-
литв, a также приготавливают вино и фрукты для прово-
дов Бога Очага.
Понятно, что особое внимание уделялось и иконогра-
фическим изображениям Цзао-вана, которые должны были
ежегодно обновляться. Исполнялись их два основных ва-
рианта, показывающие одного Цзао-вана и Цзао-вана с
женой225. Иконы с его единичным изображением было при-
нято вывешивать в присутственных местах, лавках и в
домах холостяков. Однако в некоторых регионах бытовало
поверье, что иконы с четой Цзао-ванов могут привести к
возникновению в семье разногласий, поэтому все местное
население старалось приобретать его единичные изображе-
ния. В обоих случаях Цзао-ван показан в сидячей позе в
облике седобородого величественного старца, облаченного
в одеяние высокопоставленного сановника или даже в цар-
532
ское одеяние (со специфической шапочкой-короной на го-
лове). Супруга Цзао-вана изображается сидящей с ним ря-
дом в облике матроны. По бокам от них, как правило,
находятся фигуры свитских, в костюмах чиновников и с
эмблемами власти в руках. Позади супругов нередко поме-
щается фигура их коня, a перед ними — столик, уставлен-
ный блюдами и яствами, включая сахарные головы. В ком-
позицию так или иначе (в руках y слуг, на столике перед
Цзао-ваном), непременно включаются два сосуда с надпи-
сями на них «Хорошее» и «Дурное», в которых Цзао-ван,
по поверью, хранил описания поступков членов семьи.
В иконы, предназначенные для сельского населения, часто
вводились изображения 6 домашних животных. Иногда
исполнялся иконографический вариант, в котором Цзао-
ван показывался в стоячей позе, кормя их.
Каждое отдельное помещение и каждый участок дома
тоже имели собственного духа-покровителя, среди кото-
рых особо выделяются божества спальни — Господин По-
стпели (Чуан-гун) и Магпушка Посгпели (Чуан-му), и боги-
ня отхожего места — Пурпурная дева Щзы-гу).
Божества постели мыслились покровителями супружес-
кого счастья и материнства, почитать которых дозволя-
лось только семейной паре. Их иконографическое изобра-
жение — парный портрет высокопоставленного чиновника
и его супруги — вывешивалось над кроватью. Специаль-
ные жертвоприношения им совершались в последний день
старого года или утром в 15-й день 1-го лунного месяца
(в Праздник Фонарей), когда им подносились фрукты, пи-
рожные и отдельно Господину Постели — чашка чая, a
Матушке Постели — чарка вина.
Пурпурная дева, титулуемая также Госпожа Отхожего
места (Кансань-няннян), Дева Выгребной ямы Щзэ-гу),
несмотря на ее, казалось бы, столь ничтожный статус, за-
нимает весьма существенное место в популярных верова-
ниях и религиозной жизни всего китайского общества.
Считалось, что при жизни она была наложницей крупного
сановника второй половины VIII в., убитой его старшей
женой в припадке ревности. Злая женщина утопила ее в
нечистотах утром в Праздник Фонарей. Возмущенные по-
добным злодеянием боги превратили несчастную жертву
в божество отхожего места, наградив ее особыми способ-
ностями являться женщинам, впадающим в состояние
транса, и предсказывать будущее. Известно, что такого
рода спиритические сеансы широко практиковались в сре-
де элиты — в гаремах, семьях придворных и сановников
Северной Сун. Сохранилось несколько художественных (про-
заических) произведений на эту тему. В одном из них пове-
ствуется о некоей юной аристократке, обладавшей способ-
ностями медиума, в которую во время подобного сеанса
вселился дух Пурпурной девы. Во время последующих се-
ансов девушка исполняла необыкновенные по красоте ме-
лодии и сочиняла столь же дивные по стилю стихи. Но все
эти ее таланты бесследно исчезли, как только она вышла
замуж. В цинскую эпоху спиритические сеансы, в которых
ЪЖЖЖА
Цзао ван. С иконы-няиьхуеі
Пурпурная дева.
С минскои гравюры
533
принимали участие только девушки и женщины, проводи-
лись повсеместно ранним утром Праздника Фонарей. Впав-
шей в транс участнице-медиуму задавались различные воп-
росы по поводу будущего каждой из присутствующих (виды
на замужество, взаимоотношения с супругом) и семьи в
целом. Пурпурная дева обычно изображается в виде жен-
щины в возрасте, не отличающейся особой привлекатель-
ностью, одетой в довольно скромное для божественного
персонажа платье и сидящей на стуле в свободной, по срав-
нению с принятыми иконографическими правилами, позе,
словно разговаривая с незримыми собеседницами.
Все охарактеризованные персонажи почитались, как
видим, практически всем населением старого Китая. Те-
перь перейдем к рассмотрению культов божеств, принадле-
жащих к определенным социальным и культурным стра-
там китайского общества.
АГРАРНЫЕ БОЖЕСТВА
И ПОКРОВИТЕЛИ
ОТДЕЛЬНЫХ СФЕР
СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
226 Представления о духах-
тпу-ди возникли, самое позд-
нее, при Хань, причем внача-
ле они полагались покровите-
лями не сельскохозяйственных
угодий, a географических уча-
стков и природных объектов.
Известно, например, о суще-
ствовании во II—III вв. культов
Туди горы Гушань (в окрест-
ностях Ханчжоу, пров. Чжэц-
зян), Туди горы Чжуншанъ
(в окрестностях Нанкина).
Представления о Боге Земель-
ного участка как о самостоя-
тельном божественном персо-
наже' утвердились уже, види-
мо, при Мин с введением его
в государственный пантеон.
Помещение, предназначенное
для жертвоприношений ему
(«Зал Ту-ди»), было включе-
но в столичный (в первой сто-
лице Мин, в Нанкине) храмо-
вый ансамбль, возведенный в
1400 г., незадолго до перене-
сения столицы в Пекин.
Плеяда сельских божеств номинально возглавляется
богиней Земли — Госпожой Хоу-тпу (Xoymy-няннян), яв-
ляющейся, вполне понятно, долгожданной персонифика-
цией древней Владычицы-Земли. Примечательно, что в
государственных верованиях ее культ так и остался в
аморфном состоянии. A в даосских религиозных пред-
ставлениях получил мужское воплощение — Владыка Хоу-
ту из когорты Четырех Правителей. В реальной религиоз-
ной жизни сельского населения цинского Китая культ
Госпожи Хоу-ту занимал относительно скромное положе-
ние, о чем свидетельствует отсутствие для него специаль-
ных обрядовых процедур и титулование самой богини как
нянняну что было принято для божеств второго ранга,
выступавших в роли свитских старших по положению
персонажей. Тем не менее ее день рождения — в 18-й
день 10-го месяца — входил с список национальных празд-
ников; ее иконографические изображения исполнялись в
виде женщины плотного телосложения, облаченной в оде-
яние, стилизованное под наряд императрицы, грузно воссе-
дающей на троне.
Значительно болыпим почитанием пользовались бо-
жества-покровители местностей, точнее — земельных уча-
стков. Существовали представления о Боге Земельного уча-
стка — Ту-ди, имя которого состоит из двух иероглифов
«почва» и «земля» и которого было принято торжествен-
но именовать Князъ Ту-ди (Туди-гун) и Башюшка Ту-ди
(Туди-фу), и духах-тш/ды (туди-шэнъ) — для каждой от-
дельной территории, включая элементы природного ланд-
шафта, a также деревни и крестьянского надела. Духи
ту-ди, как мы помним, считались также покровителями
дома и семьи, что распространялось и на верования город-
ского населения226. Однако культ ту-ди (как Бога Земель-
ного участка и духов-ту-ди) остался специфической час-
тью сельских верований, в которых именно они почита-
лись главными защитниками подвластных им местностей
и угодий от природных и социально-политических (войн,
грабежей) бедствий, a также покровителями домашних
534
ясивотных и подателями урожая. В каждом крестьянском
доме имелся алтарь ту-ди с его живописными (иконы-
нянъхуа), скульптурными изображениями или просто таб-
личками с его именем. Подобно Богу Очага, Ту-ди (вновь
во всех его ипостасях) мог изображаться один и совместно
с супругой — Госпожой Ту-ди (Туди-няннян). Его стан-
дартным иконографическим воплощением является по-
жилой мужчина (или старец) с длинной седой бородой, с
пышными свисающими усами, массивными бровями и доб-
рожелательно-благодушной улыбкой, облаченный в чи-
новничье одеяние. Госпожа Ту-ди показывается в облике
матроны и не имеет сколько-нибудь отчетливых иконо-
графических особенностей. В его единичных иконах Ту-ди
изображается, как правило, сидящим перед столиком с
яствами (намек на хороший урожай) и в окружении до-
машних животных. В иконах четы Ту-ди они показаны
сидящими рядом и обычно без дополнительных иконогра-
фических деталей.
Кроме Ту-ди, ответственность за урожай и его сохран-
ность от вредителей возлагалась на еще двух божеств —
Великого Генерала Ба-чжа (Бачжа-дацзян) и Господина
Генерала Лю Мэна (Лю Мэн-цзянцзюнъ), образы которых
нередко объединяются в один персонаж — Царь насеко-
мых (Чун-ван). Культ Великого Генерала Ба-чжа имеет
древнее происхождение, восходя к чжоуским аграрным
обрядам: ритуалу из восьми благодарственных жертвопри-
ношений — ба чжа, которые исполнялись в честь духов
земли и растительности после сбора урожая и включали в
себя моления о защите новых посевов от природных катак-
лизмов и вредителей. Становление этого культа как таково-
го приходится на эпоху Южной Сун и связывается с опреде-
ленным историческим событием: нашествием саранчи в
1156 г. на провинции Аньхуэй и Цзянсу, которое приняло
столь грандиозные масштабы, что в документах того вре-
мени оно называется «великим восстанием саранчи». Ко-
нец этому «восстанию» положил, по тем же историческим
документам, прилет многочисленных стай аистов, которые
быстро уничтожили саранчу и спасли урожай, что и было
расценено в качестве вмешательства божества-защитника
посевов. Иконография Великого Генерала Ба-чжа напоми-
нает об этой легенде, a c художественной точки зрения —
продолжает собой, подобно иконографическим воплощени-
ям Громовика, древнейшие национальные иконографичес-
кие традиции, сводящиеся к сочетанию антропоморфных и
зооморфно-фантазийных элементов. Он изображается в стоя-
чей позе в виде существа с телом человека, дополненным,
в противовес его титулу, обнаженной женской грудью и
одеянием, похожим на юбку. Его голова и лицо стилизова-
ны под голову птицы, вместо ног — птичьи лапы, но со
звериными когтями. В левой руке он держит меч, в пра-
вой — сосуд, обычно — тыкву-горлянку, в котором нахо-
дится снадобье, убивающее вредителей. Образ Генерала Лю
Мэна восходит, напротив, к историческим лицам, и одним
из наиболее вероятных его прототипов считается генерал
Царь быков и лошадей.
С дешевой иконы-кякьхуа.
227 Известный как «вино
Ду Кана», этот напиток счи-
тался непревзойденным в те-
чение многих веков, прослав-
ляясь в многочисленных по-
этических произведениях. Он
производится и по сей день,
входя в число важнейшей су-
венирной продукцией провин-
ции Хэнань.
228 Имеются отдельные ми-
фологические сюжеты о Цань-
шэнь, объясняющие такой ее
облик и ее функции, вдавать-
ся в детали которых мы сей-
час не будем. Самостоятель-
ная легенда существует и от-
Лю Чэнчжун, возглавлявший некоторое время (XIV в.)
область, располагавшуюся на территории современной про-
винции Цзянсу. Эта область, по легенде, вновь подверг-
лась нашествию саранчи, которую Лю Чэнчжун сам смог
изгнать то ли с помощью молитв и заклинаний, то ли
благодаря своему воинскому искусству. Обожествленный
вначале местным населением, при Цин Лю Чэнчжун под
именем Генерала Лю Мэна был введен в государственный
божественный пантеон, a его культ приобрел повсемест-
ную известность. В ряде районов он признавался Царем
насекомых, тогда как Генералу Ба-чжа отводилась роль
его помощника и свитского. В отличие от последнего Гене-
рал Лю Мэн воспроизводится исключительно в антропо-
морфном облике в виде высокопоставленного гражданско-
го чиновника.
Домашние животные, отдельные сельскохозяйственные
культуры и сельские промыслы тоже находились под покро-
вительством специальных божеств. Для домашних живот-
ных это: божество всего скота — Царь быков/коров и лоша-
дей (Нюма-ван), божество лошадей — Царъ лошадей (Ма-
ван), божество рогатого скота — Царъ быков/коров (Ню-ван),
божество свиней — Священная Свинья (Лин-чжу). Мифоло-
гизированные предания возводят этих персонажей к образам
свитских и полководцев последнего иньского царя, помогав-
ших ему бороться с армиями Чжоу и обладавших способно-
стью принимать демонический облик. Так, Царь быков ри-
суется в письменных источниках существом гигантского ро-
ста, имевшим тело человека и человеческую голову, но с
бычьими ушами, ртом и парой рогов. Ни один из подобных
литературных портретов никак не сказался на принятых
при Цин иконографических воплощениях названных персо-
нажей. Все они изображаются исходя из общего художе-
ственного стереотипа и единой иконографической схемы: в
виде высокопоставленных чиновников или правителей (вве-
дение в их наряд деталей императорского облачения), в си-
дячей позе и в окружении соответствующих домашних жи-
вотных. Их иконы вывешивались, как правило, не в домах,
a на дверях и стенах загонов для скота.
Из божеств-покровителей отдельных сельскохозяйствен-
ных культур и одновременно связанных с ними промыслов
наиболее отчетливо выделяются Бог Чая (Ча-шэнъ), Бог
Вина (Цзю-шэнъ) — покровитель виноделия и использо-
вавшихся для изготовления алкогольных напитков сель-
скохозяйственных культур, и божество шелководства Ло-
шадиноголовая Госпожа (Матоу-няннян). Образы двух пер-
вых из перечисленных персонажей восходят к историческим
или историко-легендарным лицам. Бог Чая считается обо-
жествленным танским ученым Лу Юем, автором первого в
Китае сочинения о чаеводстве и искусстве приготовления
чайного напитка — «Трактат о чае» («Ча цзин»), Образ
Бога Вина возводится к легендарному виноделу Ду Кану,
жившему, по преданию, в III в. до н. э. недалеко от Лояна
и изобретшему способ изготовления напитка, похожего по
составу на водку227.
536
Образ Лошадиноголовой Госпожи, напротив, обнару-
живает гораздо более древние истоки, уходя корнями в
архаическую обрядность и верования. В его основании на-
ходится образ чжоуской богини шелководства и шелкотка-
чества Цанъ-шэнъ, которая мыслилась, судя по литератур-
ным о ней замечаниям, в виде девушки, к телу которой
приросла лошадиная шкура228. В последующих популяр-
ных верованиях Лошадиноголовая Госпожа стала считаться
небожительницей, наложницей Нефритового императора,
и почитаться в них покровительницей не только шелковод-
ства, но и всех женских ремесел, a также покровительни-
цей любви и брака. На картинах-шшьдгі/а, больше похо-
жих, заметим, в данном случае на живописные произведе-
ния, чем на собственно иконы, она изображается в виде
молодой женщины, разгуливающей в облачных чертогах в
сопровождении лошади.
Городские популярные верования отчасти совпадают с
сельскими, так как в них тоже признается существование
покровителей городов и городских участков и отдельных
ремесел и профессиональных групп.
Семантическим аналогом Ту-ди в городских веровани-
ях выступает Бог Городских стен и рвов (Чэн-хуан), тоже
осмыслявшийся в ипостаси единого божественного персо-
нажа и множества духов-чэн-хуанов, бывших покровите-
лями не только отдельных городов и поселений городского
типа, но и их кварталов, улиц и участков застройки.
Представления о духах-чэн-хуан тоже восходят по мень-
шей мере к ханьской эпохе, a древнейшим их проявлени-
ем, о котором упоминается в письменных источниках,
считается культ Бога города Уху (в провинции Аньхуэй),
в честь которого в 240 г. было возведено специальное свя-
тилище. К середине IV в. относятся первые сведения о
жертвоприношениях чэн-хуанам, совершаемых официаль-
ными лицами и августейшими персонами, в частности
императорами южнокитайской династии Лян. В танскую
эпоху установилась практика регулярных жертвоприно-
шений, которые исполнялись главами административных
структур местным чэн-хуанам. При Южной Сун культ
Бога Городских стен и рвов окончательно получил госу-
дарственный статус: возведение в 1172 г. святилища в
честь покровителя столицы, что, заметим, произошло все-
го за несколько лет до гибели южносунской династии.
Однако данный культ был активно поддержан и монгола-
ми, и минскими властями, при которых тоже официально
почитались покровители столичных городов. В отличие
от духов-ту-ди вопрос происхождения которых остался
вне внимания популярных верований, почти для каждого
чэн-хуана прослеживается его собственная история. Часть
из них оказываются переосмысленными локальными бо-
жествами, тогда как другие — обожествленными истори-
ческими лицами229. В минскую же эпоху культ чэн-хуа-
нов был интегрирован в даосские религиозные представ-
ления. Бог Городских стен и рвов был объявлен небесным
носительно Лошадиноголовой
Госпожи. В ней повествуется,
что она была красавицей-де-
вушкой, жившей некогда в
провинции Сычуань (где дей-
ствительно находился один из
древнейших и авторитетней-
ших шелководческих и шел-
коткацких центров, подробно
см. глава 12). Она была по-
хищена лесными разбойника-
ми, и отчаявшийся вновь уви-
деть любимую дочь отец клят-
венно пообещал отдать ее в
жены любому, кто сумеет ее
сласти. Сделать это смог толь-
ко их конь. Но в ужасе от
мысли, с кем ему придется по-
родниться, отец не только на-
рушил свою клятву, но и ири-
казал убить верное животное.
Оиечаленная девушка подо-
шла к шкуре коня, расстелен-
ной во дворе для просушки.
Шкура внезапно ожила, об-
вилась вокруг нее и унесла ее
неведомо куда.
ГОРОДСКИЕ
БОЖЕСТВА-
ПОКРОВИТЕЛИ
РЕМЕСЕЛ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ГРУПП
229 Например, Богом Пеки-
на считался сановник Ян Цзя-
ошань, казненный по ложно-
му обвинению в 1556 г.; Нан-
кина — Юй Цянь, занимавший
в начале Мин пост руководи-
теля Военного Департамента и
лично участвовавший в борь-
бе против монголов.
537
230 Существует отдельное
даосское сочинение — «Ка-
нон Чэн-хуана, отвращающе-
го бедствия и накапливающе-
го счастье» («Чэнхуан сяоцзай
цзифу цзин*), — датируемое
1376 г., в котором присут-
ствуют следующие панегири-
ки: «Небо и Земля являются
хранилищами его сущности.
Горы и реки поддерживают
его могущество. Беспредель-
но велик и ярко сияет в своей
славе, воплощая Светлое Дао.
Он распоряжается небесами и
повелевает всем, что есть на
земле. Отсекает любое зло и
препятствует насилию. Защи-
щает государство и управля-
ет страною».
божеством, пребывающим на одной из высших небесных
сфер и наделенным своими полномочиями лично Госпо-
дином Лао230. В популярных верованиях Чэн-хуан и духи
чэн-хуан тоже наделяются функциями, намного превос-
ходящими их роль как покровителей городов. В общей
иерархии божественного пантеона они были возведены в
ранг высокопоставленных чиновников из администрации
Нефритового императора, каждый из которых имел в сво-
ем подчинении отдельные армейские подразделения и ад-
министративный аппарат с многочисленными отделами,
который возглавляется, по данным представлениям, ду-
хом-туди. В круг основных занятий и полномочий чэн-
хуанову помимо обязанностей защитников данного города
и его обитателей, входило наблюдение за деятельностью
населения и каждого конкретного человека, поощрение
за добрые поступки и наказание за дурные, расследование
преступлений и решение тяжб, оказание помощи обездо-
ленным и нищим, a также ведение реестров деяний лю-
дей, которые после их смерти поступали в администра-
цию Ада. Чэн-хуан в любых его ипостасях изображается в
виде высокопоставленного чиновника, чаще всего занято-
го служебными делами: выслушивает доклады подчинен-
ных, принимает прошения от горожан, ведет судебные
расследования и т. д.
Из культов божеств-покровителей ремесел и професси-
ональных групп наиболыней популярностью пользовался
культ Патриарха-Наставника Лу Баня (Лу Банъ-цзуши) —
покровителя всей ремесленной деятельности и отдельно
столяров, плотников и прочих профессиональных групп,
связанных с обработкой дерева. Лу Бань — знаменитый
ученый и мастер, живший в период Борющихся царств
(507-444 гг. до н. э.), в царстве Лу, о котором неоднократ-
но упоминается в чжоуских сочинениях, в том числе в
трактате «Мэн-цзы». Рассказывается, что он был потом-
ственным ремесленником и великим изобретателем. Ему
приписывается изобретение пилы и рубанка и некоторых
видов оружия. Он проявил себя также как архитектор и
скульптор, изваявший из скалы фигуру птицы, которая
была словно живая. 0 степени авторитета культа Лу Баня
свидетельствует наличие двух посвященных ему праздни-
ков — в 13-й день 5-го месяца и в 21-й день 7-го месяца.
Как покровитель всей ремесленной деятельности, Лу Бань
обычно изображается в полный рост, в сидячей позе, в
императорском облачении (стилизованном под его вари-
ант, бывший в употреблении в минскую эпоху) и в окруже-
нии свитских-мастеровых. В качестве покровителя отдель-
ных профессиональных групп, он чаще всего показывается
в чиновничьем костюме сидящим за столиком с разложен-
ными на нем соответствующими инструментами. В этом
случае его изображения нередко дополняются фигурами
стоящих от него по бокам его двух жен-покровительниц
лакового производства.
В роли покровителей других ремесел и профессиональ-
ных групп выступают совершенно разные по происхожде-
538
Лі/ Бань.
C иконы-нянъхуа
нию персонажи — древние божества, персонажи буддий-
ского и даосского пантеонов, историко-легендарные и ис-
торические лица и даже литературные герои231. Независи-
мо от истории происхождения их образов, все эти персона-
жи стереотипно изображаются в облике чиновников, a в
качестве их специфических иконографических атрибутов
используются предметы или детали костюма, указываю-
щие на данную профессию.
В ведении городских божеств находилась, как это хо-
рошо видно из культа чэн-хуанов, не только прижизнен-
ная деятельность людей, но и их посмертные судьбы.
Посмертным существованием человека могли также рас-
поряжаться, по представлениям китайцев, и многие дру-
гие божества, в первую очередь Великий Владыка Тай-
шань, которые набирали из усопших чиновников в свои
административные аппараты. Однако такой чести удо-
стаивались лишь немногие избранные. Душам же всех
остальных умерших предстояло пройти через адское су-
дилище и, если таковы были их прегрешения, — через
адские муки. Поэтому не удивительно, что представле-
ния об аде составляют неотъемлемую часть популярных
верований.
231 Так, покровителем зла-
тоделания почитался Будда
Майтрея и ханьский даосский
мудрец Дунфан Шо; камнерез-
ного дела — легендарный чжо-
уский мастер Бянь Хэ, который,
по преданию, нашел нефрито-
вый камень необыкновенной
красоты; керамического про-
изводства — Бог Гончарного
дела (Яо-шэнь), являющийся,
как это видно по его имени,
персонификацией технологии
данного производства; обувщи-
ков — генерал Сун Бинь, жив-
ший в IV в. до н. э., которому
приписывается изготовление
первой пары кожаных сапог;
красилыциков — Два Совер-
шенных мудреца Слива и Пу-
эрария (Мэйгэ-эршэн); мясни-
ков — Чжан Фэй, побратим
Гуань Юя, который до присо-
единения его к лагерю Лю Бэя
был торговцем свининой. Са-
мая же низовая профессиональ-
ная группа — цирюльники,
считающиеся в старом Китае
«нечистыми», избрали своим
покровителем Люй Дунбиня.
539
БОЖЕСТВА- Прежде чем раскрыть представления о загробном мире
г» a ™л™?J?JS? »X??? и ЗДе в том виДе> в каком они были присущи китайским
ЗАГРОБНОГО МИРА
популярным верованиям цинскои эпохи, кратко остано-
вимся на истории их происхождения. Известно, что уже
древнекитайская культура освоила представления о нали-
чии y человеческого существа некоей внутренней субстан-
ции, которая в том или ином виде сохранялась после его
смерти, точнее говоря, гибели его телесной оболочки. Хотя
такого рода представления зафиксированы еще в чжоу-
ских текстах, об их содержании мы можем судить только
по более поздним натурфилософским и антропологическим
теориям, разработанным представителями различных фи-
лософских направлений и школ. Смысловой основой дан-
ных теорий является уже известный нам постулат о бинар-
ности строения человеческого существа, состоящего из кон-
центрированной и разреженной пневмы-цы. К сказанному
ранее о нем добавим, что разреженная пневма-цы тоже мыс-
лилась в двух своих состояниях — янной и иньной пневм.
Первая из них, определяемая как душа.-хунъ (термин «душа»
употребляется в данном случае сугубо условно), или в по-
следующих натурфилософских построениях — комплекс из
трех душ, как раз и отождествляется с пневмой-цы в ее
модусе жизненной энергии, и после смерти человека она
поднималась вверх и растворялась в небесной пневме-эфи-
ре. Инъная пневма — душа-гсо (комплекс из семи душ) —
отождествляется с телесностью человеческого существа и
связывается с его физиологической деятельностью. После
смерти человека она еще некоторое время пребывала в
земном мире как призрачное создание — гуй, a затем либо
возвращалась в стихию земли, либо уходила в загробное
царство. В экстраординарных случаях — убийство чело-
века, несправедливый смертный приговор и т. д. — его
душа-по могла оставаться в наземном призрачном суще-
ствовании в течение столь длительного времени, сколько
требовалось для совершения акта отмщения. Таково ре-
лигиозное и натурфилософское объяснение легенд о при-
зраках, духах-мстителях, оборотнях и тому подобных со-
зданиях и о совершенных ими убийствах живых людей.
После совершения ею акта отмщения душа-тіо тоже ухо-
дила в загробное царство. И вот здесь неожиданно оказы-
вается, что развитых представлений об этом загробном
царстве в древнекитайской культуре будто бы и не было.
«Будто бы» — потому что вся погребальная обрядность
свидетельствует об обратном. Приходится констатировать,
что, даже если такие представления и имелись в культуре
Древнего Китая, они по каким-то причинам не получили
внятного изложения в письменных источниках. Древней-
шим вариантом мифологемы загробного царства предполо-
жительно являются тоже упоминавшиеся ранее представ-
ления о Древе мертвых (Императорском древе, Диму), на
ветвях которого обитали души усопших царей. В конце
Инь и в начале Чжоу они сменились, о чем свидетельству-
ют «надписи на гадательных костях» и бронзовых черто-
гах, верой в то, что души усопших правителей и знати
540
попадают в небесные чертоги, становясь там придворными
Верховного Владыки или Небесного императора. О посмерт-
ной судьбе простого люда тексты умалчивают. В литера-
туре предханьского и ханьского времени, включая поэти-
ческие произведения, бегло говорится о подземном цар-
стве, называемом Земля Хаоли или Желтый источник
(Хуанцюанъ), которое мыслилось находящимся где-то «на
краю света» или под землей (по более поздним версиям —
под горным массивом Тайшань). Важно, что в него попада-
ли все жители Поднебесной, независимо от их социального
статуса, общественного положения, качеств и характера
прижизненных деяний, ведя там тенеобразное призрачное
существование. Имеются также намеки на веру в суще-
ствование властителя загробного царства — Владыки ду-
хов, но без пояснения его облика и функций. В несколько
более развитом виде проступают анимистические представ-
ления царства Чу, в которых признавалось существование,
с одной стороны, многоярусного загробного царства со сто-
лицей мертвых — Градом мертвых (Сюанъду), a c дру-
гой — некоего астрального мира мертвых, куда попадали
только души избранных для вечного блаженного бытия
там. Однако в целом создается впечатление, что идеи за-
гробного суда, равно как и посмертного воздаяния за доб-
рые поступки и наказания за дурные, древним китайцам
так и остались неизвестными.
Все дальнейшие идеи посмертного бытия человека —
его райского блаженства и адских мучений — были при-
внесены, повторим, в китайскую культуру буддизмом. Но
примечательная деталь: наибольший отклик в ней нашла
мифологема не рая, которая так и осталась в русле буддий-
ских религиозных представлений (рай Сукхавати), a ада.
Представления об аде и адских муках прочно укореняются в
популярных верованиях уже эпохи Шести династий, сразу
же приобретя специфические китайские черты. Ад мыслил-
ся в них, о чем мы можем судить по его многочисленным
описаниям, содержащимся в рассказах-сяошо на буддий-
ские темы, полным подобием национальной администра-
тивной системы: с ведомствами, огромным штатом чинов-
ников. A определяющее значение придавалось, наряду с
адскими мучениями, процедуре суда над душами усопших.
Постепенно все эти представления приняли относительно
систематизированный вид и трансформировались практи-
чески в новую по сравнению с буддийской концепцией ада
религиозную форму.
Начнем с того, что в китайских верованиях утверди-
лись представления о 10 адах, каждый из которых воз-
главлялся собственным божеством-владыкой, все вместе они
именуются Десять Царей (Ши ван). Первоначально (ориен-
тировочно до минской эпохи) повелителем всех десяти адов
и загробного царства в целом почитался индо-буддийский
бог смерти, называемый в Китае Янъло-ван, или Янъ-ван.
Однако и его образ тоже подвергся переосмыслению, что
объясняется в самих же популярных верованиях так: Янь-
ло-ван был слишком мягок и снисходителен к грешникам,
Иконографический вариант
картины Пятого ада
и царя Янъло-вана.
С иконы-яяяъхуо.
Иконографический вариант
картины Десятого ada u
царя Чжуаньлун-вана.
С иконы-кянъхуа
232 Истоки образов почти
всех Десяти Царей и их име-
на в традиции никак не объяс-
няются, хотя имеется специ-
ально посвященное им сочине-
ние — «Сутра о Десяти Царях»
(«Ши ван цзин»), — создан-
ное буддийским монахом.
разрешал душам усопших вернуться домои и к земнои
жизни. Поэтому Нефритовый император разжаловал его в
повелители Пятого ада, a на его место поставил некоего
Цинъ Гуан-вана (Царъ Цинь Гуан), который заодно возгла-
вил и Первый ад232. Первый ад — место, где происходит
суд над душами усопших и определяется мера их наказа-
ния. Главным судьей является Царь Цинь Гуан, который
лично рассматривает их дела, поступившие от чэн-хуанов
и прочих божественных ведомств. Владыки Второго, Тре-
тьего и Пятого адов именуются соответственно Чу Цзян-
ван (Царъ Чу Цзян), Сун Ди-ван (Царъ Сун Ди) и У Гуанъ-
ван (Царъ У Гуанъ), под присмотром которых и произво-
дятся пытки и муки. Во Второй ад попадают души людей,
совершивших относительно мелкие прегрешения — тор-
говцев, надувавших покупателей, невежественных лека-
рей и тому подобных пройдох. В Третий ад — души людей,
нанесших вред государству и своим близким людям (нече-
стных чиновников, обманывавших друг друга жен и му-
жей, слуг, обкрадывавших своих господ). Четвертый ад
предназначался для душ богачей, неправедно наживших
свое состояние, фальшивомонетчиков, грабителей. В Пя-
том аду, возглавляемом Яньло-ваном, проходят муки души
людей, совершивших преступления, предусматриваемые
буддийским морально-этическим уложением (так называе-
мые десять смертных грехов — убийство, воровство, ложь,
клевета, a также испортившие священные книги и имуще-
ство храмов). Шестой, Седьмой, Восьмой и Девятый Ады
возглавляются соответственно Бянь Чэн-ваном (Царь Бянь
Чэн), Тайшанъваном (Царъ Тайшань) — образ, производ-
ный от образа Великого Владыки Тайшань, Пин Дэн-ва-
ном (Царъ Пин Дэн) и Ду Ши-ваном (Царъ Ду Ши) и
предназначаются для душ людей, виновных в святотатстве
против Неба, Земли и любых богов, ограблении могил и
храмов, нарушении сыновней почтительности и, наконец,
для душ бездарных литераторов и художников, a также
тех, кто поощрял их творения.
Наиболее своеобразным является Десятый ад, где проис-
ходит новое рассмотрение дел усопших, уже с учетом прой-
денных ими мучений, и определяется форма их нового су-
ществования. Во главе этого ада находится не кто иной, как
Царь-Чакравартин (Чжуанлунъ-ван), который в китайских
популярных верованиях из идеального правителя превра-
тился в хозяина «колеса кармы», через вращение которого
и происходит новое рождение существ. Еще одной примеча-
тельной деталью Десятого ада выступает наличие в нем но-
вого и очень важного персонажа — Матушки Мэн (Мэн-
попо), готовящей Отвар Забвения, выпив который души за-
бывают обо всем, произошедшем с ними в адах, и уже в
таком виде выпускаются из них для новой жизни. Образ
Матушки Мэн, равно как и идея Отвара Забвения, — абсо-
лютные новации китайских представлений об аде. Ее прото-
типом называется некая праведница, жившая при Хань.
Существуют иконографические изображения всех на-
званных персонажей. Иконография восьми Царей, за ис-
542
ключением Яньло-вана и Чжуаньлун-вана, почти полно-
стью однотипна и строится по единой схеме. Они изобра-
ясаются в виде правителей (в императорском облачении),
занимающихся служебными делами и в окружении свит-
ских — как в человеческом, так и демоническом облике.
Для опознания конкретного Царя в композицию вводится
пояснительная надпись, размещаемая над ним. Отличи-
тельной особенностью Яньло-вана является темный (крас-
ный) цвет лица и введение в его облик каких-либо «демо-
нических» (зооморфных) вкраплений. В иконы Чжуань-
лун-вана обычно вводятся изображения адской кухни и
вереницы душ, получающих Отвар Забвения. Отдельно ис-
полняются и изображения Матушки Мэн в облике пожи-
лой женщины, тоже, как правило, в сидячей позе и зани-
мающейся с помощью свитских служебными делами.
Суммируя все высказанные ранее наблюдения и замеча-
ния, мы приходим к выводу о том, что анализ художественно-
эстетического канона китайского искусства, системы его
изобразительных средств и иконографических традиций нео-
споримо свидетельствует, с одной стороны, о подчиненности
всего художественного творчества Китая внешним по отно-
шению к нему историко-культурным факторам, a c дру-
гой — о неразрывном и органическом единстве составляю-
щих его величин. В этом плане показательно постоянное
тяготение иконографических традиций, принадлежащих не
только национальному, но и буддийскому культовому ис-
кусству, к светскому художественному творчеству. Одновре-
менно светское художественное творчество, в первую оче-
редь живопись, обнаруживает немало семантических и мор-
фологических черт, свойственных иконографии.
% .
; .1
- -
II«
lllfl
^h .... f |- - : ; : à -. "
i:,!!ffil!li!l!ISIIilBSiïilïliïMlSI
■;і':іИШШІ
:..-:-:::;, шивні
- ^Х..;. . _'.**
_"--/-.."-_""" . ° ■ ■■ 1:1В.
тттаишвшщш^ ,, ^нИІІИІІІІІ. ,--ІЩ
... .
Г л a в a 8
СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ
Глава 9
КИТАЙСКАЯ ПРОСТОНАРОДНАЯ
КАРТИНА-НЯНЬХУА
Глава 10
КИТАЙСКО-БУДДИЙСКОЕ
КУЛЬТОВОЕ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО
35 Исторня искусства Китая
ГЛАВА
СТАНКОВАЯ
ЖИВОПИСЬ
ТЕОРИИ
И ПРАКТИКИ
СТАНКОВОЙ
живописи
КИТАЙСКАЯ
живописно-
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
МЫСЛЬ:
ОСНОВНЫЕ ВЕХИ
ИСТОРИИ
РАЗВИТИЯ
И ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПРОБЛЕМАТИКА
233 Этим рассуждением за-
вершается описание картин,
украшавших дворцовые апар-
таменты. Как пишет Ван Янь-
шоу, «...в этих картинах не
пропущена ни одна частица
мудрости или глупости. Зло,
изображенное здесь, послу-
жит предостережением, a доб-
ро станет примером для под-
ражания». Очевидно, что Ван
Яньшоу переносит на живо-
писное искусство конфуциан-
ские воззрения на художествен-
ное творчество и наделяет его
однозначной дидактико-праг-
матической функцией. Сход-
ные по мысли рассуждения
мы видим и в ряде поэтичес-
ких'произведений и литера-
турно-теоретических сочине-
ний III в. «Когда кто-нибудь
видит картины, изображаю-
щие людей высоких принци-
пов и высоких мыслей, он не-
зависимо от собственного [же-
лания] утрачивает личные
недостатки», — читаем, на-
пример, в эпиграмме знамени-
того поэта эпохи Шести дина-
стий — Цао Чжи (192-232).
Китайская живописно-теоретическая мысль представлена
необозримым количеством самых разных по своей жанро-
вой принадлежности, тематике и проблематике сочинения-
ми: эстетико-философскими трактатами и эссе, сводными
историями живописи, сочинениями, посвященными от-
дельным жанровым направлениям, практическими руко-
водствами и т. д. Важно, что во множестве их авторы
были действующими художниками, в которых сопряга-
лись ипостаси мыслителей, литераторов, каллиграфов и
мастеров живописи. Это, с одной стороны, полностью от-
вечало китайскому стереотипу творческой личности, a c
другой — способствовало укреплению связей живописи
со всеми видами национальной интеллектуально-творче-
ской деятельности.
Первые попытки осмысления природы и целей живо-
писного творчества были предприняты еще в ханьскую эпо-
ху — в виде эпизодических и отрывочных рассуждений и
замечаний, которые присутствуют в литературных, преиму-
щественно поэтических, произведениях. Одно из наиболее
ясных рассуждений такого рода содержится уже в знакомой
нам (по рассказу о древнекитайских стенописях) оде поздне-
ханьского поэта Ban Янъшоу. Из них явствует, что живо-
писное творчество исходно осмыслялось по аналогии с лите-
ратурным и с позиции конфуцианского дидактико-прагма-
тического подхода, и это оставило неизгладимую печать на
всей последующей живописно-эстетической мысли233. Те-
зисы о воспитательной функции живописи и высокой нрав-
ственности самого художника будут, как мы увидим далее,
разделяться болыпинством теоретиков, даже если при оцен-
ках ее природы и сущности живописного творчества они
руководствовались даосскими и буддийскими мировоззрен-
ческими концепциями и эстетическими идеями.
Зачинателем собственно теории живописи считается Лю
Ань (III в.), впервые задавшийся вопросами языка и оце-
ночных критериев непосредственно живописного произве-
дения. В качестве таких критериев им была выдвинута
композиционно-содержательная целостность картины и про-
546
порциональность соотношения всех составляющих ее эле-
ментов: «...увлекаться отдельным мазком — это значит
выражать мысль в малом, тем самым утрачивается главное
в произведении» (пер. Е. В. Завадской). Однако и сами по
себе проблемы, обсуждаемые Лю Анем, и предложенные
им оценочные критерии по-прежнему находились в русле
литературно-теоретической мысли и полностью совпадали
с ее разработками и установками. Поэтому первыми сочи-
нениями строго живописно-теоретического характера при-
знаются трактаты «Предисловие к изображению пейзажа»
(«Хуа шаньшуй сюй») Цзун Бина (375-443) и «Записи о
категориях старой живописи» («Гухуа пинълу») Ce Хэ
(V в.) — единственное произведение данного класса эпохи
Шести династий, которое дошло до нас целиком, a не в
отрывках и извлечениях.
Главным теоретическим достижением Ce Хэ считается
формулировка «шести законов живописи» (лю фа), кото-
рые оказали определяющее воздействие на всю дальней-
шую китайскую живописно-эстетическую мысль. Обратимся
к тексту трактата. «Первый [закон живописи] — „одухо-
творенная гармония" — живое движение; второй — пользу-
ясь кистью, применяй костяк-контур; третий — изображе-
ние должно соответствовать предмету; четвертый — цвет
должен соответствовать типу предмета; пятый — разгра-
ничение и построение; шестой — подражание и копирова-
ние старых образцов. Эти шесть законов являются сущно-
стью теории [живописи], которая в течение десяти тысяч
поколений оставалась неизменной. Однако если последни-
ми пятью законами, начиная с „применения костяка-кон-
тура при использовании кисти", можно овладеть, то „оду-
хотворенная гармония" требует врожденных знаний. По-
этому нельзя овладеть первым законом ни ловкостью, ни
старанием, ни месяцами и годами труда, a только молча-
ливым согласием, духовной сопричастностью. Это такое
состояние, когда нечто уже присутствует, но оно еще не до
конца осознано» (пер. Е. В. Завадской).
He будем акцентировать внимание на утверждении Ce Хэ
о том, что законы живописи, a значит, и само по себе
живописное творчество, существовали в Китае уже «в тече-
ние десяти тысяч поколений», и пока что оставим в сторо-
не значение употребленных им терминологических клише
типа «костяк-контур». Первоочередного внимания в дан-
ном случае, безусловно, заслуживает «первый закон живо-
писи», тем более что ему придается основополагающее зна-
чение и в самом трактате234. Согласно наиболее распрост-
раненной в науке точке зрения, «одухотворенная гармония»
(циюнъ) есть образное обозначение свойства, имманентно
присущего врожденным способностям человека, но лишь
того, кто обладает не только природными талантами, но и
высокими моральными качествами. Закон «одухотворен-
ной гармонии» со временем превратился в одну из фунда-
ментальных аксиом китайской эстетической мысли, содер-
жание которой, если суммировать все его смысловые вари-
анты и истолкования, сводится к следующему. Живопись
234 Для этого закона и непо-
средственно сочетания «оду-
хотворенная гармония» {ци-
юнь) и в комментаторской тра-
диции, и в научной литерату-
ре предлагается немало трак-
товок и вариантов перевода на
европейские языки и, в част-
ности, на русский.
547
«зарождается в сердце» (цун юй синъ), которое, напомним,
в китайских натурфилософских антропологических теори-
ях соотносилось одновременно с рассудочной деятельно-
стью индивида и его психико-эмоциональным состоянием.
Истинный художник в отличие от ремесленника, который
довольствуется воспроизведением формального, внешнего
плана натуры, вкладывает в свое творение «содержание
своего сердца». «Содержание сердца», в свою очередь, оп-
ределяется всей совокупностью естественных закономер-
ностей, происходящих на макро- и микроскопическом
уровне, — явная, заметим, вариация на тему даосских
космологических и антропологических идей. В результате
живописный акт и каждая составляющая его операция
приобретают вселенские масштабы, a способность живо-
писного произведения передавать «содержание сердца» как
раз и составляет его истинную и наивысшую ценность.
Теоретические разработки Цзун Бина, судя по сохра-
нившимся отрывкам его трактата, находились приблизи-
тельно в том же теоретическом ракурсе, что и «законы»
Ce Хэ. A первоочередное внимание им уделялось вопросам
природы и сущности творческого акта. Цзун Бин тоже
прямо связывает этот акт с умением художника проникать
в сущность бытия и видит главную роль и ценность живо-
писного произведения в его способности передавать и про-
цесс, и результат постижения личностью окружающей дей-
ствительности. При этом квинтэссенцией образного вопло-
щения мира им считаются горы, которые и должны быть
главным объектом живописного творчества. Так, подчерк-
нем, им закладываются основы теоретического обоснова-
ния пейзажной живописи и ее приоритетного положения в
иерархии живописных жанров. Но подлинное видение при-
роды доступно, по мысли Цзун Бина, лишь особой катего-
рии людей — мудрецам и отшельникам, которые достигли
(вновь прямое заимствование из даосской философии) не-
обходимого для этого уровня духовности. Параллельно Цзун
Бин высказывает ряд соображений по поводу соотношения
реального рбъекта и его восприятия, натуры и ее живопис-
ных изображений. В очередной раз развивая даосские
идеи — идею о двуединстве природных «вещей» — и пере-
нося тезис о несовпадении их «внутренней сущности» (нэй)
и «внешней оболочки» (вай) на живописное произведение,
он приходит к умозаключению, что целью последнего яв-
ляется не изображение внешних форм предметов и реалий
окружающей действительности, a передача их «духовно-
сти» в том виде, в каком она оказывается доступной вос-
приятию самого художника. Кроме того, исходя из данно-
го постулата, им доказывается, во-первых, возможность
выразить в одном даже крохотном рисунке «все величие
мира». И, во-вторых, обладание живописным произведе-
нием даже большей, чем природные предметы и реалии,
«духовностью», ибо в нем находит воплощение как их соб-
ственный «внутренний смысл», так и «духовность» его твор-
ца. Значит, созерцание природы может быть заменено со-
зерцанием живописного произведения. Понятно, что по-
548
добный подход к живописи придавал исключительную зна-
чимость и фигуре художника.
Итак, анализ начального этапа истории развития китай-
ской живописно-теоретической мысли показывает, что на-
ходясь на первых порах под откровенным диктатом конфу-
цианских эстетических установок и неукоснительно следуя
теориям литературы, она достаточно быстро вышла из этого
состояния, взяв для себя в качестве идейных ориентиров и
моделей именно даосско-философские концепции и натур-
философские теории в их даосских же преломлениях. Поче-
му это смогло произойти? Думается, только потому, что
станковая живопись, возникнув намного позже литератур-
ных видов творчества, оказалась вне набора требуемых кон-
фуцианством нормативных интеллектуально-творческих
занятий благородной личности. В результате живописно-
теоретическая мысль смогла почти сразу же выделиться в
качестве отдельного эстетического направления и приобрес-
ти теоретическую самостоятельность.
Следующий этап в эволюции живописно-теоретической
мысли соотносится с танской эпохой, когда она обогати-
лась новым классом сочинений — сводными историями
живописи. Этот класс открывается трактатом «Записи о
знаменитых картинах прошлых эпох» («Лидай минхуа
цзи») Чжан Яньюаня (8107-990?)235. Названный трактат
содержит в себе как сугубо фактологические, так и теоре-
тические части. Он состоит из 10 разделов, в семи послед-
них из которых, в соответствии с его названием, излагает-
ся история развития национальной живописи, начиная с
глубокой древности и до современных автору работ236.
Первые три раздела целиком посвящены эстетико-тео-
ретическим проблемам, главным из которых остается во-
прос о сущности и целях живописного творчества. При его
рассмотрении Чжан Яньюань опирается на «шесть законов»
Ce Хэ, но, старается, во-первых, максимально приблизить
их к творческим потребностям своего времени и, во-вторых,
объединить их с конфуцианскими дидактико-прагматиче-
скими установками. В результате, не отрицая «духовности»
живописного произведения, он все же на первое место ста-
вит его назидательный смысл и функцию. Подобная двой-
ственность позиций присуща и взглядам Чжан Яньюаня
на технику живописи. Он требует от художника, с одной
стороны, гармонии и изысканности рисунка (т. е. следова-
ния формальным стандартам), a с другой — живости и
свободы письма, ибо, если рисунок, по словам этого теоре-
тика, носит характер чертежа, то он есть не произведение
искусства, a поделка ремесленника.
Важнейшими непосредственно теоретико-философски-
ми сочинениями танской эпохи являются трактаты «Рас-
суждения о горах и водах» («Шанъшуй лунъ») и «Тайны
гор и вод» («Хуасюэ мицзюэ»), приписываемые (при нали-
чии и других точек зрения по поводу их авторства) про-
славленному поэту и живописцу второй половины Тан —
Ban Вэю (699?-759?). Как это видно уже из названий, они
посвящены вопросам пейзажной живописи, продолжая тем
235 Известно, что он был
завершен в 847 г., и, следова-
тельно, в нем должен был учи-
тываться и живописный прак-
тический опыт, который китай-
ское изобразительное искусство
накопило за первую полови-
ну Тан, ставшую временем
утверждения станковой живо-
писи как таковой и формиро-
вания ее ведущих жанров.
236 В этих разделах при-
водятся данные о жизни и
творчестве в общей сложно-
сти 372 художников, вклю-
чая перечень и оценки их тво-
рений. Bot откуда мы узнаем
о живописных произведени-
ях ханьской эпохи. Да и в
целом эти разделы служат са-
мыми полными и во многих
случаях единственными ис-
точниками по истории китай-
ской живописи до Тан. Кроме
того, именно здесь представ-
лены фрагменты впоследствии
утраченных теоретических со-
чинений эпохи Шести динас-
тий — трактатов Лю Аня и
Цзун Бина.
549
237 Достоверных сведений
о жизни Цзин Хао сохрани-
лось очень мало. Известно
лишь, что он жил в первой
половине X в., вел отшельни-
ческий образ жизни и зани-
мался живописным творче-
ством исключительно для соб-
ственного удовольствия.
самым теоретические разработки Цзун Бина. Подробнее об
эстетических взглядах Ван Вэя мы поговорим при анализе
его живописного творчества.
Преемником Ван Вэя в качестве мыслителя и живо-
писца признается Цзин Хао, автор еще одного выдающе-
гося эстетико-теоретического сочинения — трактата «За-
писи о законах кисти» («Би фа цзи»)237. Это неболыное по
объему, но богатейшее по содержанию произведение. Оно
написано в форме диалога между юным художником и
таинственным старцем (форма, присущая даосским и буд-
дийским трактатам) и состоит из вопросов первого и отве-
тов второго. В них последовательно ведется обзор всех ос-
новополагающих проблем живописного творчества, вклю-
чая вопросы его сущности, целей и оценочных критериев.
Отталкиваясь от «шести законов» Ce Хэ, Цзин Хао фор-
мулирует новые принципы живописи, обозначенные им
как «шесть ценностей» (лю яо). В них утверждается трой-
ственная природа живописного творчества: его «духов-
ность», определяемая духовностью-цы, т. е. внутренним
состоянием и личными качествами художника, мыслью-
сы (его рассудочной деятельностью) и ритмом-кжь (живо-
писным мастерством); a также «естественность» (цзин) и
«пластичность», определяемая через кистъ-би и тушъ-мо.
Таким образом, речь вновь идет о соотношении в произве-
дении содержательного и формального планов. И далее
Цзин Хао предлагает систему оценочных критериев, по-
лучивших название «теория недостатков/изъянов [живо-
писного произведения]». Выстроенные в строгом иерархи-
ческом порядке эти оценочные критерии опираются на
пять эстетических категорий: «одухотворенность» (шэнъ),
«утонченность» (мяо), «оригинальность» (ци), «искусность»
(цяо) и «умелость» (нэн).
«Искусность» и «умелость» — категории, определяю-
щие низший уровень живописного творчества и передаю-
щие профессиональные навыки живописца, благодаря ко-
торым он способен лишь «копировать внешние формы».
Высшим возможным достижением такой живописи Цзин
Хао считает достижение ею внешнего эстетического совер-
шенства — «красоты» (мэй), которая одновременно высту-
пает и признаком мастерства художника: «мастеровитый
живописец выкраивает и сливает воедино кусочки красо-
ты». Но и она, в случае работ ремесленника, оборачивается
недостатком произведения — его «цветистостью» (хуа).
«Оригинальность» знаменует собой второй уровень жи-
вописного творчества, характеризующийся проявлением
индивидуальности художника, который, приобретя необхо-
димые знания и навыки, отныне способен создавать соб-
ственный творческий стиль, выражая в нем индивидуаль-
ное мировосприятие и сиюминутное настроение. По мнению
Цзин Хао, живописец, достигший этого художественного
уровня, имеет право на творческую свободу и эксперимен-
ты: он может работать, в терминологии автора, широкими
мазками, которые не соответствуют реальным образам, и
создавать странные и ни на что не похожие изображения.
550
Однако оригинальность только ради оригинальности — если
y художника есть кисть, но нет мысли — тоже оборачивает-
ся изъяном произведения, его показной экстравагантностью.
«Утонченность» (другие переводы-толкования этой ка-
тегории — «превосходность», «таинственность») выражает
оптимальное сочетание мастерства, индивидуальности и
духовности живописца и соответствует, в формулировке
Цзин Хао, манере творчества, которая передается от серд-
ца руке и развивает утонченнейшие качества.
«Одухотворенность» есть высший уровень живописно-
го творчества, на котором «небесное вдохновение возносит-
ся высоко» и «мысли находятся в гармонии с духом». Та-
кой уровень, естественно, доступен лишь личности, кото-
рая «постигла природу всего сущего между небом и землей,
и образы [словно сами собой] сходят с его кисти, отклика-
ясь жизненной правде»238.
Что касается недостатков, то, помимо отмеченных кон-
кретных изъянов, Цзин Хао вновь предлагает их общую
типологию, в которой они подразделяются на два основ-
ных вида: «недостатки, зависящие от формы», т. е. поддаю-
щиеся исправлению, и «фундаментальные», проистекаю-
щие из нарушений природы и закономерностей живопис-
ного творчества, a потому не могущие быть устранены и
исправлены.
Понятно, что подобная иерархия уровней живописного
творчества неизбежно должна была привести к созданию
тоже строго иерархически построенных классификаций
самих художников с их подразделением на «истинных ма-
стеров» и «ремесленников», что и произошло, как мы уви-
дим несколько позже, на самом деле.
Очередной этап эволюции живописно-теоретической
мысли приходится на Х-ХІІІ вв., для которых известно в
общей сложности свыше 50 специальных сочинений, не
считая работ общего эстетико-философского плана. Глав-
ной отличительной особенностью данного этапа является
дальнейшая тематическая дифференциация сочинений и
появление работ, посвященных строго определенным жан-
рам и стилям. Эталонным для всей живописно-теоретиче-
ской мысли того времени произведением является трактат
«Записки о живописи: что видел и слышал» («Тухуа цзянь-
вэнъ чжи») Го Жосюя (XI в.), в котором, подобно трактату
Чжан Яньюаня, сочетаются признаки сводной истории
живописи и теоретико-философского сочинения239.
Практика создания сводных историй живописи была
продолжена такими работами, как «Записи о живописи»
(«Хуа цзи») Дэн Чуня (XII в.) — важнейшего труда по
живописному искусству Южной Сун, «История живопи-
си» («Хуа ши») Ми Фу, трактаты Шэнъ Гуа (1031-1095),
входящие в составленный им монументальный энциклопе-
дический свод («Мэнси битанъ», 1070 г.). Из сочинений,
посвященных отдельным жанрам, назовем «Записи о вы-
сокой сути лесов и потоков» («Линъцюанъ гаочжи цзи») Го
Си, «Записи о смысле пейзажа» («Шанъшуй чунъцюанъ
цзи») Ханъ Чжо (XII в.) — сочинение, состоящее из набора
238 В последующей живо-
писно-эстетической мысли
«утонченность» и «одухотво-
ренность» нередко были от-
несены к одному — третье-
му — уровню художествен-
ного творчества. A высшая
степень его совершенства оп-
ределяется в этих случаях как
«творчество без усилий» (и),
что означает способность жи-
вописца «постигать неповто-
римое в вещах и открывать в
них прежде никем не заме-
ченное» и творить абсолютно
свободно и естественно, не
прилагая для этого никаких
усилий.
239 Он состоит из Преди-
словия и 6 ѵлгв-цзюанеи, каж-
дая из которых подразделя-
ется на серию тематических
разделов. Главной содержа-
тельной частью трактата вы-
ступает его начальная глава,
распадающаяся на 16 разде-
лов, посвященных теоретичес-
ким проблемам и техническим
аспектам живописи. Следуя
примеру своего предшествен-
ника, Го Жосюй пытается
объединить конфуцианский и
даосский подходы к художе-
ственному творчеству. Он пол-
ностью разделяет тезис о не-
обходимости и приоритете для
живописного произведения на-
зидательного смысла, однако
при анализе природы живо-
писи склоняется к постула-
там, выдвинутым Цзин Хао.
В следующих трех главах
трактата приводятся данные
о жизни и творчестве 838 ху-
дожников, начиная с конца
Тан и до 1074 г. В пятой гла-
ве приводятся описания кон-
кретных картин и сообщают-
ся сведения об истории их
создания, преимущественно в
виде притч, апокрифических
легенд и повествований анек-
дотического характера. В за-
ключительной главе расска-
зывается о современных ав-
тору живописцах.
551
240 «Рассуждения о том, как
изобразить человека, словно
живого» (*Лунъ чуань шэнь»)
Су Ши, «Рассуждения о том,
как рисовать человека» (*Лунъ
ce шэньь) Чэнь Цзао (XII в.)
и «Рассуждения о портрете»
(*Лунъ ce чжаоь) Чэнь Ю
(XIII в.). С содержащимися в
них теоретическими установ-
ками и практическими реко-
мендациями мы тоже позна-
комимся при разговоре о со-
ответствующем жанре.
аналитических рубрик, в которых рассматриваются ос-
новные элементы ландшафта совместно с принципами и
правилами их живописных изображений. Кроме того, при
Северной Сун начал складываться подкласс сочинений,
посвященных портрету, которые на первых порах реали-
зовывались в специфической литературной форме (гу вэнъ —
«старая словесность»), сопоставимой с философскими этю-
дами или эссе240.
Сочинения всех перечисленных классов и подклассов
продолжали активно создаваться в юаньскую и минскую
эпохи. Однако, несмотря на их внушительный количествен-
ный состав, они не привнесли ничего принципиально нового
в национальную живописно-теоретическую мысль. Поэтому
качественно новый этап в истории ее развития, ставший
одновременно и заключительным, и периодом наивысшего
ее расцвета, приходится уже на ХѴІІ-ХѴШ вв.
Для указанных столетий существует специально разра-
ботанная тематическая классификация живописно-теорети-
ческих сочинений, в которых они подразделяются на шесть
отдельных классов: 1) сочинения общетеоретического ха-
рактера, рассматривающие фундаментальные эстетические
проблемы и законы живописного творчества (хуафа); 2) со-
чинения, посвященные различным жанровым направле-
ниям и стилям и рассматривающие вопросы их соотноше-
ния (хуати); 3) пособия по обучению искусству живописи,
в которых, наряду с практическими рекомендациями, тоже
обычно присутствуют разделы общетеоретического плана
(хуасюэ); 4) живописно-критические сочинения, т. е. посвя-
щенные оценочным критериям живописных произведений
и дающие отзывы о работах конкретных мастеров; 5) сочи-
нения, посвященные искусству каллиграфии — «о надпи-
сях на свитках»; 6) материалы по истории живописи.
Из этого изобилия работ по-прежнему выделяется не-
большое число сочинений, признаваемых наиболее пред-
ставительными и ценными по содержанию. Таковыми в
первую очередь признаются трактат «Слово о живописи из
Сада с горчичное зерно» («Цзецзыюанъ хуачжуань) и «Бе-
седы о живописи» («Хуа юйлу») Ши-тао, который являет-
ся одной из ключевых творческих фигур первой половины
цинской эпохи. Первый из названных трактатов, строго
говоря, мало подходит для такого терминологического обо-
значения. Это — монументальный труд, созданный кол-
лективом авторов, поставивших перед собой задачу вы-
явить в художественной практике правила — своего рода
«алгебру» живописи, — соблюдение которых обеспечило
бы эстетическую ценность произведения. Для исполнения
этой задачи ими дотошно и педантично рассматриваются
все композиционные и живописные приемы, которыми ус-
пела овладеть национальная живопись — от нюансов рабо-
ты кистью до законов воздушной перспективы, объема и
светотени. Параллельно досконально анализируются рабо-
ты мастеров прошлого с выявлением их стилистического
своеобразия и попытками установить причины этого свое-
образия и художественных достоинств произведений. Сло-
552
весная часть труда дополнена множеством иллюстраций-
гравюр, a в целом составляет более 2000 страниц. Полно-
стью оправданной представляется точка зрения, что этот
труд является самым полным воплощением эстетических
установок, свойственных официальному художественному
творчеству, нашедшему — для живописного искусства —
реализацию в традиции академической живописи. Что ка-
сается сочинения Ши-тао, то, забегая вперед, отметим, что
оно, напротив, завершает собой развитие эстетических идей
и установок, обосновывавших индивидуализированное
живописное творчество, стоявшее в оппозиции к академи-
ческой живописи.
Итак, китайская живописно-теоретическая мысль ха-
рактеризуется, во-первых, преемственностью и непрерыв-
ностью линии своего развития; во-вторых, наличием четко
выделяемого набора центральных вопросов, которые кон-
центрируются вокруг фундаментальных для мировой эсте-
тики и теории искусства проблем, касающихся природы,
сущности и функций художественного творчества, a также
оценочных критериев произведений. В-третьих, достаточ-
но специфической ее особенностью оказывается повышен-
ное внимание к прикладному аспекту живописного искус-
ства, который считался в ней неотъемлемой и во многом
определяющей частью творческого процесса. Следуя дан-
ному подходу китайской эстетической мысли к националь-
ному художественному творчеству, мы также с доступной
для нас степенью подробности остановимся на живопис-
ных материалах, техниках и оформительских принципах
живописного произведения.
Арсенал живописных материалов и техник начал скла-
дываться в Китае задолго до появления станковой живо-
писи как таковой или, в лучшем случае, параллельно с
развитием древней традиции живописи на шелке. Гораз-
до важнее, что непосредственное участие в этом процессе
принимали не только древнейшие формы изобразительно-
го (стенописи), но и многие виды декоративно-прикладно-
го искусства (росписи по керамике, лакам, бронзам), a так-
же письменная культура и книжное дело. С письменной
культурой и книжным делом станковую живопись роднит
прежде всего использование единых материалов — шелка
и бумаги. Вплоть до Тан живописные произведения испол-
нялись на шелковых полотнищах (об их размерах и про-
чих формальных показателях живописных произведений
см. далее), которые приготовлялись из шелка-сырца, т. е.
шелковых нитей, не прошедших предварительную обра-
ботку (подробно см. глава 12). При Тан, параллельно с
превращением станковой живописи в самостоятельный вид
творческой деятельности, начался поиск способов совер-
шенствования живописных материалов. Полотнища, как и
прежде, сотканные из шелка-сырца, теперь стали подвер-
гаться специальной обработке. Их погружали в кипящую
воду с добавленным в нее порошком крахмала, затем били
деревянными валиками, в результате чего их поверхность
ЖИВОПИСНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
И ТЕХНИКИ
553
241 Первое внятное описа-
ние технологии изготовления
бумаги было изложено в докла-
де трону, представленном са-
новником Цай Луном в 105 г.,
который ранее и принимался
за дату ее изобретения. Одна-
ко археологические находки,
сделанные еще в начале про-
шлого века, — фрагменты
писем на бумаге, обнаружен-
ные в Харо-хата (пункт на
маршруте Великого шелково-
го пути), показали, что она
была изобретена еще в конце
I в. К середине следующего
столетия она уже достаточно
активно использовалась в ка-
честве писчего материала не
только для частных эпистол,
но и официальной (военной)
документации, и в быту (из-
готовление салфеток, оберток,
туалетной бумаги).
становилась гладкой и блестящей, метафорически она упо-
доблялась в оригинальных текстах поверхности серебряной
доски. Правда, такой шелк использовался далеко не всеми
танскими живописцами. Многие из них предпочитали рабо-
тать по шелку-сырцу, справедливо считая, что он гораздо
лучше, чем «серебряные доски», впитывает краску и тушь.
В конце Тан и в эпоху Пяти династий особое распростране-
ние в живописных кругах получил груботканый шелк. Но
при Северной Сун и в рамках академической живописи во-
зобновились поиски более подходящего для официальных
произведений материала. Им стал «академический шелк» —
полотнища, изготовляемые по специальной технологии и
отличающиеся очень тонкой и ровной структурой. Такого
типа шелк использовался и в дальнейшем.
Для лучшей сохранности произведения практиковалось
его квасцевание тоже специальным квасцово-желатиновым
раствором. Желатин изготовлялся из кожи специальной
породы коров — разводимой только в провинции Гуандун,
вследствие чего за ним закрепилось название «гуандунов-
ский желатин». Он растворялся непременно в теплой воде,
и использовался исключительно верхний слой получившей-
ся смеси. Затем в нее добавляли предварительно размочен-
ные в холодной воде квасцы. Пропорции желатина и квас-
цов зависели от времени года, когда покрытие должно было
быть нанесено на картину. На роспись последовательно
наносились три слоя раствора, один тоныне другого.
Приблизительно при Северной Сун (точное время этого
события не поддается определению) в качестве живописно-
го материала стала употребляться и бумага. Это нововведе-
ние тоже было вызвано эволюционными процессами, про-
исходившими в самой живописи: ведь бумага была извест-
на китайцам уже давным-давно241. В ханьскую эпоху бумага
делалась из пеньки, тряпья и прочего вторичного сырья с
добавлением к ним растительных компонентов — коры
тутовника и некоторых других древесных пород, которые
обладают антиинсектными свойствами. Этим, кстати, объяс-
няется относительно хорошая сохранность китайской бу-
маги, a затем и книг, которые таким образом предохраня-
лись от порчи насекомыми. В эпоху Шести династий на-
чалось производство высокосортной бумаги на основе
древесной коры, коры бамбука и тростника. Такая рецеп-
тура бумажной массы применялась и в дальнейшем, a глав-
ные бумагоделательные центры страны так и остались на
Юге. В IV в. китайцы умели изготовлять и цветную
буMary. Учитывая важность бумаги для живописного искус-
ства, кратко расскажем о технологии ее изготовления, окон-
чательно разработанной при Мин и Цин.
Бумажное производство начиналось с заготовления сы-
рья и приготовления бумажной массы. Тряпичное сырье
размягчалось в ручных ступах с помощью специальных
деревянных молотков или позже в ножных толчеях. Ветви
бамбука, срубленные в строго определенный сезон, лучше
всего в июне, разрезались на небольшие отрезки и на три
месяца помещались в естественный водоем. После вымачи-
554
вания их отбивали, чтобы отделить твердую кору от неж-
ной зеленой кожицы, еще раз вымачивали в растворе изве-
сти и проваривали. Затем сырье доводили до кашеобразно-
го состояния. Следующая технологическая операция со-
стояла из формовки листа. Полученная бумажная масса
разбавлялась водой в болыном чане и черпалась из него
деревянной рамкой с натянутой на нее частой сеткой, сде-
ланной из бамбуковых волокон или тонкой проволоки.
Чтобы добиться равномерного расположения бумажной
массы на сетке, мастер выверенными движениями потря-
хивал рамку: вода стекала сквозь сетку, и на ее поверхно-
сти оставался слой массы требуемой толщины. Формат бу-
дущего листа зависел от размеров рамки. Готовый лист
отжимался и сушился на воздухе, прикрепленный к кир-
пичной поверхности. Отступая несколько в сторону от
темы нашего разговора, заметим, что бумага являлась в
Китае не только живописным, но и книжным (ориентиро-
вочно с X в.) и даже самостоятельным художественным
материалом. Она использовалась для выделки фонарей,
искусственных цветов, вееров. В русле народного творче-
ства существовало и продолжает активно существовать осо-
бое художественное направление — искусство вырезыва-
ния из бумаги, которое нередко представляет собой слож-
нейшие по композиции, многофигурные и необыкновенно
тщательно исполненные произведения.
Лучшим живописным материалом считалась бумага,
производимая в уезде Сюаньчэн (пров. Аньхуэй), которая
изготовливалась по особой рецептуре: из коры камфарного
дерева и рисовой соломы. Она обладала тонкой, глянцеви-
той и мягкой структурой, имея при этом устойчивый бе-
лый цвет. Поэтому во время рисования на ней все краски и
их оттенки оказывались свободно различимыми. Живопис-
ная бумага тоже нередко подвергалась предварительной об-
работке. Наибольшим спросом пользовалась проквасцован-
ная бумага, листы которой (обычно из Сюаньчэна) покры-
вались квасцово-желатиновым раствором (из алюмокалиевых
Производство бумаги
a — переваривание древесины;
б — формовка листа; в — прессо-
вание листов; г — сушка листов.
555
242 Весьма ответственные,
заметим, процедуры, так как
полученная тушь должна была
быть абсолютно однородной,
без малейших комочков. При-
готовлением туши занимался
сам живописец или его дове-
ренные ученики и подмасте-
рья. Точно также проходила
и подготовка к занятию кал-
лиграфией.
квасцов и желатинового клея), придававшим их фактуре
дополнительную плотность и повышавшим их способность
удерживать влагу. Проквасцованная бумага могла укра-
шаться распудренной позолотой. Несколько реже употреб-
лялись восковая и цветная бумага.
Для росписей использовались тушь и краски. Изобрете-
ние туши на основе лампадной сажи возводится в письмен-
ных источниках к Ѵ-ѴІ вв. до н. э. Археологические наход-
ки подтвердили, что она действительно имела широкое при-
менение уже к концу Чжоу. Параллельно выяснилось, что
вначале она изготовливалась на основе каменного угля, a co
II—III в. н. э. — из сажи, получаемой от сжигания опреде-
ленных пород сосны. Тушь может быть черной и разноцвет-
ной. Из ее разноцветных сортов особо ценилась «золотая
тушь», получаемая путем добавления в основную массу зо-
лотого порошка. Она использовалась преимущественно в
книжном деле. Имеются в виду «золотые книги», текст и
иллюстрации которых выполнены исключительно такой
тушью и по темной — черной, темно-синей — плотной, глян-
цевитой бумаге, что делает их похожими на лаковые изде-
лия с золотой росписью. Но и черная тушь отнюдь не счита-
лась монохромной. Для нее выделяется шесть оттенков
(«шесть цветов», лю цай), которые получаются в зависимо-
сти от качества туши и степени ее разведенности водой, —
черная, светлая, сухая, влажная, густая и жидкая. В тео-
рии и практике живописи особое место отводилось сильно
разбавленной туши (данъ), так как считалось, что работать
ею гораздо сложнее, чем густой, a потому она служит на-
дежным показателем степени мастерства живописца. В тушь
тоже добавлялись различные клеющие и ароматические ве-
щества. Она хранилась в плитках и по мере надобности
разводилась водой, предварительно растиралась на камен-
ной плитке или уже в самой тушечнице242.
Краски были водяными, типологически сходными с ев-
ропейской гуашью, и изготавливались на основе минераль-
ных и реже растительных пигментов. Древнейшими из них
являются, как это понятно из описания чуских картин на
шелке, черная и красная краски. Первая из них делалась на
основе древесного угля (т. е. почти точно так же, как и
тушь), в рецептуру второй входили, в зависимости от исто-
рических эпох, киноварь, охра, гематит, окиси свинца и, из
растительных пигментов, — софлор. Основной же реперту-
ар красок сложился при Тан, благодаря заимствованиям
или привозным красителям. В него входят, помимо красной
и черной красок, белая — на основе свинцовых белил или, в
исключительных случаях, порошка из перламутровых ра-
ковин; синяя — на основе азурита, лазурита или индиго;
желтая — из гуммигута (затвердевший сок одной из индо-
китайских древесных пород, родственных мангостану, из
которого получается высококачественный золотисто-желтый
пигмент) или ауропигмента (желтый самородный сульфид
мышьяка); и зеленая — на основе малахита. Для получения
различных тонов и оттенков краски разводились водой и
смешивались друг с другом. Например, для получения
556
бледно-синего цвета разводили ультрамарин до состояния,
близкого к серому тону, для молочно-зеленого приготавли-
вался раствор из ультрамарина и гуммигута, чайного — из
ультрамарина, гуммигута и гематита.
Живописным, равно как и письменным, орудием слу-
жила кисть, которая, судя по новейшим данным, возникла
еще в неолитическую эпоху и использовалась при Шан-
Инь. Однако более или менее точно мы знаем о конструк-
тивных особенностях китайской кисти только начиная с
периода Борющихся царств. Тогда она исполнялась из тон-
кой бамбуковой трубочки и пучка шерсти, чаще всего зая-
чьей, которому придавалась конусообразная форма. Суще-
ствовало несколько диахронных способов его прикрепле-
ния к ручке: вначале он закреплялся поверх нее, потом
перевязывался понизу нитью, обмазывался канифолью и
вставлялся в прорезь на конце бамбуковой трубочки243.
При Хань длина кисти, конструкция и способы ее изготов-
ления окончательно стандартизировались. Впоследствии
ручка кисти могла исполняться из ценных пород дерева и
орнаментироваться ювелирными материалами.
Принципиальной разницы в способе держать кисть для
письма и для рисования нет, как нет для этого и особо
строгих правил. Кисть можно держать как удобно и исхо-
дя из индивидуальных особенностей каждого человека.
Однако при этом ладонь должна оставаться свободной, что-
бы сохранить раскрепощенность движения пальцев. Рас-
стояние пальцев от острия кисти обусловлено величиной и
родом рисунка или письма: чем больше надо приложить
усилий для их исполнения, тем ближе следует держать
пальцы к острию кисти. Первостепенное значение прида-
валось позе художника. В китайской станковой живописи
картина исполнялась исключительно по поверхности по-
лотнища или листа, лежащих строго горизонтально — на
специальном столике или полу. Считалось, что если рука
будет опираться на стол, то движения кисти окажутся за-
висящими только от пальцев, и тогда удар кисти теряет
силу, a ee ход становится мелким и суетливым. Поэтому
следовало работать с приподнятым локтем (сюй ванъ, «пу-
стое запястье»): рука как бы летает над поверхностью кар-
тины, кисть словно становится продолжением руки, и сила
передается от плеча. Таким образом, по утверждению тео-
рии живописи, в руке концентрируется внутренняя энер-
гия художника, которая через кончик кисти «перетекает»
в исполняемое им произведение.
При исполнении письма и рисовании кисти могли при-
даваться три основных положения — вертикальное, на-
клонное и «лежмя», использование которых зависело от
характера изображений. Перпендикулярно поставленную
кисть рекомендовалось применять, например, для выпис-
ки стволов бамбука, древесных стволов или тонких линий
кровли. Для выписки же веток, травинок или скал лучше
всего было держать кисть в несколько наклонном положе-
нии. Для исполнения горизонтальных линий ее острию при-
давалось незначительное направление кверху, в результате
И
\і
Один из вариантов
держания кисти
243 Известно несколько по-
длинных образцов чжоуской
кисти, длина ручки которых
равняется приблизительно
18 см, диаметр — 0,4 cm, a
работающая часть — 2,5 см.
557
Графические элементы
1 — горизонтальная черта; 2 —
вертикальная черта; 3 — откид-
ная влево; 4 — откидная вправо;
5 — крюки; 6 — точка.
Живописное исполнение
крюков
Стволы сливы,
выписанные быстрым
движением кисти
244 В техниках каллигра-
фии и живописи есть и ряд
других серьезных расхожде-
ний. Так, в каллиграфии го-
ризонтальные линии могут ис-
полняться только слева напра-
во, a вертикальные — сверху
вниз, тогда как в живописи
допускается их исполнение и
с противоположным ходом
кисти. Кроме того, в живо-
писи нередко употребляются
предельно короткие линии,
требующие одного простого
движения кисти, например
при выписывании тонких дре-
весных веток.
кисть немного отклонялась от пишущего. Применение ки-
сти «лежмя» употреблялось в разного рода экстравагант-
ных приемах.
Практиковались два главных способа наложения туши
и красок: линейный (графический) и размывка.
Линейный рисунок восходит к структуре иероглифа, в
которой выделяются 7 основных графических элементов:
шесть типов черт (линий) и точка. Примечательно, что в
теории каллиграфии этим элементам обычно даются образ-
ные определения, делающие их морфологическим подоби-
ем живописных образов. Первая черта — горизонталъная
линия (хэн) — уподобляется облаку, простирающемуся на
10 000 ли, или длинной лодке, застывшей посередине ма-
ленького озерца. Вторая черта — вертикалъная линия
(шу) — сравнивается с тысячелетним, но все еще полным
жизненных сил деревом или с ростком бамбука, тянущим-
ся из каменистых россыпей и преисполненным стремления
к росту. Далее следуют четыре черты наклонного типа:
откидная влево (ne) — словно обновленная земля; откид-
ная вправо (на), которая должна повторять очертание на-
висшей тучи или бегущей волны; откидная вверх (тяо) —
как выстрел из лука; и крюк (гоу) — словно самострел или
тетива с рукояткой. Седьмая же черта — точка (дянь) —
сравнивается с камнем, упавшим с высокой вершины.
В живописной графической работе кистью выделяют-
ся три типа линий: прямая (хуа), объединяющая в себе
каллиграфические вертикальную и горизонтальную чер-
ты, изогнутая (гоу)> восходящая к наклонным чертам, и
штриХу включающий в себя собственно штриховку — бо-
розда-ці/иь, и точку-длнь. Прямая-яі/а в теории живописи
связана с набросками большими линиями, которые образу-
ют первую стадию рисунка, в которой определяется его
структура. Изогнутая-гоі/ называется «костяком» живопи-
си, a цунь — ее «мускулатурой». Для проведения верти-
кальных и горизонтальных линий также имелись специ-
альные правила, проистекающие из техники каллиграфии.
Главным изних является требование изменять направле-
ние острия кисти при его опускании и подъеме. Это прави-
ло обусловлено тем, что при проведении линии сила кис-
ти постепенно ослабевает, и поворот острия придает ей
новый импульс. Причем, если в каллиграфии подъем и
опускание острия кисти должны были быть скрытыми и
не сказываться на структуре линии, то в живописи они,
напротив, подчеркивались244.
Цунъ — прием, употреблявшийся для придачи изобра-
жению объема. В первоначальном и простейшем варианте
«борозды» наносились легким прикосновением заострен-
ной сухой кисти. Впоследствии возникло множество их
вариантов, также получивших собственные образные наи-
менования: «растрепанные волокна» (цзесоцунь), «спутан-
ная конопля» (луаньмацунъ) — смешение штрихов, прове-
денных сухой и жесткой кистью; «кожа черта» (гуйницунъ) —
сплетение прерывистых штриховых линий, действительно
похожих на морщины на старческом лице; «насечки ма-
558
леньким топориком» (сяофупи), «насечки большим топо-
ром» (дафупи), «глыбы облаков» (юанъшоуцунъ) и т. д.245
Точка-дянъ первоначально занимала в живописной тех-
нике второстепенное положение. К этому приему прибега-
ли, в основном, как к вынужденному средству, чтобы за-
маскировать неудавшиеся части рисунка или ошибочные
штрихи. Но в ходе развития пейзажной живописи дянъ
также превратились в самоценный и обладающий, как вы-
яснилось, богатейшими потенциальными возможностями
графический прием, посредством которого было возможно
передать и пятна мха на скале, и зелень, покрывающую
отдаленные горные хребты, и древесную листву. Соответ-
ственно возникла и отдельная классификация дянь, в ко-
торой выделяются более 30 вариантов точек.
Размывка — непосредственно живописный прием, кото-
рый восходит к наложению локального цвета на уже прори-
сованные линейным контуром изображения. В теории и прак-
тике традиционной китайской живописи строго различают-
ся два вида размывки: «размывка водой» («отмывка», хуа)
и размывка-^awb. Первая из них заключается в смачива-
нии обильно увлажненной кистью некоторых частей карти-
ны, чтобы лучше выявить наложенные затем на эти места
тушь или краски. Размывка-жань — легкая окраска тушью
или краской, использовавшаяся в основном для передачи
дымки. На раннем этапе формирования станковой живопи-
си цветовые размывки накладывались равномерно, по всей
поверхности шелка, без какой-либо дополнительной эстети-
ческой функции. Однако по мере появления новых художе-
ственных идей размывки начали приобретать все более важ-
ную морфологическую роль, а их техника — усложняться.
Стали использоваться неравномерные отмывки, многослой-
ные размывки, размывки тушъю. Особенно много нововве-
дений внесла живописная практика VIII в. Вначале был
изобретен вариант послойной размывки тушъю, или, в ори-
гинальной терминологии, «метод прерванной (разорванной)
туши», когда размывки накладывались в несколько распо-
ложенных один над другим слоев с подбором их тонального
соответствия: более темные слои накладывались поверх свет-
лых. Такая техника позволяла моделировать твердые фор-
мы и добиваться оптического эффекта объемности изобра-
жений. Следующий вариант — «разбрызганная (расплескан-
ная) тушь» — осуществлялся в соответствии с его названием
прямым выплескиванием болыного количества туши на по-
верхность картины, что представляет собой кульминацию
потенциальных возможностей данного живописного спосо-
ба как такового. К X в. возникла техника отмывки цве-
том, в которой слои краски наносились таким образом, что
создавали иллюзию постепенных локальных переходов. Кон-
турные же линии при исполнении такой размывки либо
были очень бледными и перекрывались ею, либо вообще не
использовались — «бескостный метод».
В зависимости от степени проработки деталей изобра-
жений и соотношения названных способов и техник в ки-
тайской живописи выделяются две генеральные творческие
Стволы бамбука,
выписанные медленными
движениями кисти
Выписка ветки сосны
на основании крюка
245 Подобная дифференциа-
ция «борозд» полностью от-
вечает характеру их осмысле-
ния в теории живописи, в ко-
торой этот прием признавался
идущим от самой природы и,
следовательно, наиболее адек-
ватно отражающим особен-
ности личностного восприя-
тия художником окружаю-
щей действительности и его
индивидуальный почерк. По-
этому и теоретиками, и кри-
тиками цунь уделялось самое
пристальное внимание. Каж-
дый их вариант подвергается
в сочинениях тщательному
анализу с выяснением его про-
исхождения и способов его ре-
ализации в творчестве отдель-
ных живописцев.
559
Исполнение
скелета горных форм
посредством
структурных линий
манеры: гунби — «прилежная кисть», и сеи — «рисование
мыслей». Первая из них строится на тончайшей проработ-
ке деталей. Вторая отличается эскизностью и лаконично-
стью рисунка, призванного передать не столько объект жи-
вописного творчества, сколько его видение художником.
Итак, мы видим, что в процессе своей эволюции китай-
ская станковая живопись выработала все необходимые тех-
ники и приемы, позволявшие, с одной стороны, передавать
малейшие текстурные нюансы натуры, a с другой — во-
площать индивидуальное мастерство художника. Вместе с
тем столь же понятно, что китайская живопись уже на
уровне своего прикладного аспекта демонстрирует посто-
янную тенденцию к стандартизации и подчиненности внеш-
ним по отношению к ней мировоззренческим и эстетиче-
ским установкам. Если продолжить разговор о данной тен-
денции на уровне прикладного аспекта живописи, то в
более отчетливом виде она предстает в оформительских
принципах живописного произведения.
ОФОРМИТЕЛЬСКИЕ
ПРИНЦИПЫ
живописного
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
\/І-\у' У'Л;г'"' .V V. V
'"''*'
•X;
п
N/Vy.»;.'■ ,ч';>; •>
k
N.
;^:^<>'>^УУ;.
гѴ*«1
Типы оформления
альбомных листов
Китайское живописное и каллиграфическое произведе-
ние существовало только в органическом единстве с его
оформительской частью. Имевшиеся в местной художествен-
ной культуре типы оформления четко распадаются на две
генеральные группы: оформления в виде свитка и в жест-
ком паспарту. Во вторую группу входят открытки (пянъ)
и альбомные листы (цзе), которые возникли и утверди-
лись относительно поздно. В них используется картонная
основа, на которой художественное произведение размеща-
ется путем врезного обрамления, т. е. вставляется в проем,
вырезанный на оформительском материале. В виде альбом-
ных листов могли оформляться собственно живописные
произведения, авторская графика, гравюры, вырезки из
бумаги. Открытки использовались преимущественно для
массовой полиграфической продукции.
Древнейшим же и основополагающим для китайской стан-
ковой живописи оформительским способом является свиток.
Свитки подразделяются на настенные (фу), которые пред-
назначались для развески и могли иметь горизонтальный и
вертикальный формат, и ручные (цзюанъ), рассчитанные ис-
ключительно на индивидуальное рассматривание произведе-
ния, находящегося в горизонтальном положении. Ручные свит-
ки имеют только горизонтальный формат и рассматриваются
справа налево. В такой последовательности исполнялось и
само произведение. Так же исполнялись и настенные карти-
ны горизонтального формата, a вертикального — сверху вниз.
История собственно свитка, в книжном его варианте,
восходит к периоду Борющихся царств, a окончательно он
определился при Ранней Хань, когда установились два ос-
новных его габаритных варианта: широкий и узкий, имев-
шие в высоту соответственно 48 и 24 см. Длина свитка, точ-
нее, составляющего его шелкового полотнища, не имела стан-
дартных размеров. Тогда же свиток дополнился древком для
наматывания на него шелкового полотнища, что и привело к
560
^■"'^■:™т^~шЩ
m
утверждению определяющего конструктивного принципа ки-
тайского как книжного, так и живописно-каллиграфическо-
го свитка: куска ткани, намотанного на древко.
Непосредственно оформительское дело, по-прежнему в
рамках живописно-каллиграфического искусства и книж-
ной традиции, начало складываться в эпоху Шести динас-
тий и продолжало развиваться вплоть до Мин. Важно, что
экспонирование живописно-каллиграфических произведе-
ний, во-первых, носило временный характер: произведе-
ния после определенного периода их пребывания в развес-
ке подлежали хранению в свернутом виде. Во-вторых, оно
никогда не было произвольным и подчинялось серии рег-
ламентаций, в которых учитывались их размеры и количе-
ственный состав. Исходя из этого, настенные свитки под-
разделяются на «залъные» (чжунтан), «парные» (дуймянь),
«трехстворчатые» и «четырехстворчатые» (в оригиналь-
ной терминологии — «ширмообразные», гуапин тяофу).
«Зальные свитки» — единичные крупные произведения,
которые помещались строго в центральной части помеще-
ния. «Парные свитки» — преимущественно каллиграфи-
ческие надписи, которые вешали по бокам от «зального»
или, в случае исполнения благопожелательных надписей, —
по сторонам входных дверей. «Трехстворчатые свитки» со-
стоят из центрального и двух боковых произведений, все
три могли быть живописными, либо же центральное живо-
писным, абоковые — каллиграфическими. «Четырехствор-
чатые свитки» включают в себя четыре одинаковых по
формату произведения. Размеры свитков не были строго
заданными. Длина вертикальных свитков колеблется от
полуметра до двух метров, ширина — от полуметра до мет-
ра. Длина настенных горизонтальных свитков тоже, как
правило, не превышает двух метров, a bot ручные свитки
порой достигали пятиметровой длины и более.
Несмотря на все отмеченные форматные и экспозици-
онные особенности, все типы настенных и ручных свитков
имеют, в целом, общую оформительскую конструкцию, раз-
личаясь лишь по способам крепления художественного про-
изведения. Оно могло быть тоже врезным и с прямым об-
рамлением, состоящим из полей, образованных полосами
оформительского материала. Оформительская конструкция
состоит из лицевой и тыльной сторон, последняя из кото-
рых образована несколькими слоями бумаги. He исключе-
но, что дублирование шелка на бумажные листы тоже вошло
в практику еще при Хань. В качестве клеющего вещества
использовались кожный клей или крахмал, в которые до-
бавлялись сок белой бузины или шелковицы. Верхний уча-
сток тыльной части или для горизонтальных свитков ее
правая часть отводились под «заглавный отворот» (бао-
шоу), куда наклеивалась этикетка с обозначением имени
-36 Иотория искусства Кіітая
Настенный свиток
горизонтального формата
Настенный свиток
горизонтального формата
с круглым середником
ШчѴУі?ііііііУ|^
M
шшшщ
Типы оформления
открыток
P3feSH^F^
m )
Г
р->уч .*-'/•.wj
Кг^ГГ~!г"5гт^Т
kVt'V/V'A'
*
Зальный свиток
вертикального формата
с обрамлением в три цвета
Ручной свиток
561
Залъный и парные свитки
246 Экспонирование произ-
водилось обязательно с уче-
том погодно-климатических
условий, что, сразу же заме-
тим, сказалось на тематике и
содержании живописных про-
изведений. Они нередко созда-
вались с расчетом на экспони-
рование в определенное время
года и соответствовали ему по
мотивам и образам: весенние,
осенние или зимние пейзажи,
изображения весенних или
осенних цветов и т. д. Также
широко практиковалось окка-
зиональное экспонирование,
когда свиток выставлялся на
непродолжительное время для
демонстрации его, скажем, го-
стю или друзьям во время
пиршественного застолья.
247 Изложенные технологи-
ческие операции традицион-
ного оформительского дела
неукоснительно соблюдаются
и в современной китайской
реставрации, при работах над
книжными и живописно-кал-
лиграфическими свитками.
Попутно заметим, что и в ста-
ром оформительском деле все-
гда допускалось использование
технологических архаизмов и
повторение предшествующих
образцов, что чрезвычайно за-
трудняет атрибуцию произве-
дений и опознание подлинни-
ков, копий или подделок.
автора и названия произведения. Подобная технико-офор-
мительская конструкция позволяет хранить даже предель-
но крупноформатные произведения в свернутом виде, за-
щищая их от воздействия солнечного света и запыления.
Однако, с другой стороны, она затрудняет вентиляцию тка-
ных и бумажных материалов, способствуя тем самым раз-
рушению их самих и красочного слоя. Поэтому в Китае и
было принято чередовать моменты экспонирования настен-
ных свитков и их хранения246.
В качестве оформительских материалов использовались
различные виды шелковых тканей: гладкий, камчатый шелк,
парча (подробно см. глава 12) и сорта бумаги. Все они вновь
проходили предварительную обработку, включая окраску.
Необходимость окраски обусловлена эстетическими требова-
ниями — гармоничности сочетания цветовой гаммы офор-
мительских частей друг с другом и с колористическим реше-
нием самого живописного произведения. Для окраски шелка
употреблялись живописные краски, которые растворялись в
теплой воде и размешивались до полного исчезновения осад-
ка. В полученный раствор обязательно добавлялся желатин,
тоже приготовленный из коровьей кожи и предварительно
распущенный в горячей воде, откуда брался только верхний
слой. Затем шелк наклеивали (также с помощью специаль-
ного клея) на дублировочную бумагу. Парча требует еще
более трудоемкой предварительной обработки. Ее вначале
промазывали с обратной стороны густым слоем клея, затем
просушивали, прикрепив по четырем сторонам к дублиро-
вочному стенду — только тогда она образовывала ровную
поверхность. Из бумажных материалов предпочтение отда-
валось бумаге, выпускаемой в Сюаньчэне, но других сортов,
чем для живописи: большей толщины и изготовленных из
массы, состоящей на 80% из тряпичного сырья и на 20% из
пшеничной соломы или бамбукового волокна.
При окрашивании бумаги в разведенную краску добав-
ляли квасцово-желатиновый раствор, который способство-
вал лучшему соединению частичек краски и их смешива-
нию с водой, препятствуя тем самым образованию на бума-
ге пятен и размывов во время ее прокрашивания. Для этих
же целей красочный раствор перед использованием фильт-
ровался через частое сито и еще раз размешивался в широ-
кой миске. Окрашивание производилось специальной ши-
рокой кистью, после чего разложенные листы сушили на
деревянных подставках247.
Для каждого типа и подтипа оформления свитков были
предусмотрены и строгие семиотические правила. Свиток
непременно имел прямоугольный формат, a произведение,
обозначаемое как живописный середник (хуасинъ), обяза-
тельно помещалось в его центральной части. Чаще всего
«живописный середник» тоже имеет прямоугольный фор-
мат. Позднее в практику вошел и их овальный формат —
такие произведения употреблялись как в вертикальном, так
и в горизонтальном типах оформления и могли размещать-
ся по 2-3 единицы на одном свитке. В вертикальном свитке
поля, расположенные над и под живописным середником,
562
яазываются соответственно «небесная глава» (тянь шоу) и
«земная главаь (ди шоу), таким образом придавая свитку
космологическую семантику и делая его воспроизведением
трехчленной вертикально ориентированной модели мира —
Небо-Человек-Земля. В горизонтальном свитке этим полям
соответствуют боковые вертикальные поля, имеющие такие
ясе названия. Оформление полей могло производиться в один
цвет, a для вертикальных свитков — в один, два и три
цвета. Второй и третий цвета вводились с помощью самостоя-
тельных — разделяющих и вспомогательных разделяю-
щих — полей. В результате создавалось трех- или шестичаст-
ное строение свитка по вертикали или горизонтали.
Размеры верхнего и нижнего полей зависели от разме-
ров живописного середника: при его ширине, например, в
32 см, общая высота оформления делалась 35,8 см. Боковые
поля (бянъ) вертикального свитка обычно делались узкими,
но с соблюдением определенных пропорций между ними и
верхним и нижним полями. В нижней части вертикального
свитка укреплялось круглое деревянное древко — «земной
стержень» (дигань), на который свиток наматывался для
хранения и за счет которого создавалось вертикальное на-
пряжение при настенном экспонировании произведения.
Кверхней части прикреплялось плоское деревянное древ-
ко — «небесный стерженъ» (тянъганъ), к которому с помо-
щью петли приделывался шнур. За этот шнур свиток выве-
шивался или распрямлялся в процессе его разворачивания.
СIV в. «небесный стержень» стал снабжаться наконечника-
ми, благодаря которым можно было разворачивать и свора-
чивать свиток, не прикасаясь к нему руками.
Горизонтальный свиток имел два одинаковых плоских
или полувыпуклых древка. Он наворачивался при его свер-
тывании на левое древко и разворачивался за правое, для
чего к нему прикреплялась лента, которая служила и за-
вязкой при его свернутом состоянии. Лента обычно изго-
тавливалась из того же материала, что и боковые поля, a ee
длина равнялась высоте верхнего поля.
Ручной свиток по характеру его семиотического по-
строения подразделяется на два новых оформительских под-
типа: с широким обрамлением поля и узким обрамлением
поля, Они различаются исключительно по величине офор-
мительских частей, тогда как их общее семиотическое
построение в целом совпадает, оказываясь еще более слож-
ным, чем y вертикальных свитков. Оно состоит из следую-
щих главных элементов: правое древко, к которому при-
креплена лента с застежкой, началъное поле или «введе-
ние» (иншоу), за которым следует живописный середник,
«послесловие» (тиба) и «хвостовая часть» (вэйцзи), обра-
зующая своего рода валик для намотки свитка. Ленты и
застежки, подобно наконечникам древка, не только испол-
няли практическую функцию, но и играли важную декора-
тивную роль. Появившись в эпоху Шести династий, они
сразу же получили самостоятельное художественное офор-
мление. Древки исполнялись из ценных пород древесины,
a наконечники и застежки — из благородных металлов
Вариант обрамления
в виде ширмы
Настенный свиток
вертикального формата
с круглым середником
563
и других ювелирных материалов — слоновои кости, корал-
ла, панциря черепахи и т. д.248
Оформительское дело вновь подтверждает генетическое
родство живописи с каллиграфией и книжной традицией.
Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что это
родство не исчерпывалось общностью их материалов, тех-
ник и оформительских способов и принципов произведе-
ний. Есть все основания считать, что иероглифическая пись-
менность оказала на местную станковую живопись весьма
глубинное, морфологическое воздействие.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ КИТАЙСКОЙ
живописи
248 Своего наивысшего рас-
цвета, с декоративной точки
зрения, оформительское дело
достигло в первой половине
Тан, что, в частности, нашло
отражение в оформлении
книжных свитков из импера-
торской библиотеки. Оно было
выполнено по личному распо-
ряжению императора Сюань-
цзуна (еще один красноречи-
вый пример повышенного вни-
мания китайских центральных
властей к письменной и худо-
жественной культуре) и по
разработанным им рекоменда-
циям. Собрание канонических
книг было оформлено с нако-
нечниками из белой слоновой
кости, инкрустированной зо-
лотом, и с желтыми лентами.
Собрание историологических
сочинений — с наконечника-
ми из кости, окрашенной в
зеленый цвет, с золотой инк-
рустацией, и с лентами зеле-
ного цвета.
249 Сошлемся для сравне-
ния на европейскую письмен-
ность. Она заключается, как
известно, в заполнении плос-
кости смысловым текстом и
означает помещение на ней
условных смысловых знаков,
которые, будучи визуально
воспринятыми, ассоциируют-
ся в сознании читателя с оп-
ределённым звуковым набо-
ром, a уж затем вызывают в
нем соответствующие образы и
понятия. Тогда как китайская
иероглифика так и осталась
начертанием на плоскости та-
ких линейных построений, ко-
торые в непосредственном их
визуальном восприятии есть
условные обозначения имен-
но образов и ассоциирующих-
ся с ними понятий.
Причины морфологического воздействия иероглифики
на живопись кроются в природе и свойствах самих иерогли-
фов. Возникнув из предметно-изобразительной формы (инь-
ские пиктограммы), китайский иероглиф, несмотря на все
его последующие графические и содержательные измене-
ния, сохранил за собой линейное построение и свою изобра-
зительную сущность. Дальнейшее развитие иероглифиче-
ского письма шло по пути схематизации исходных изобра-
зительных форм и их превращения в идеографические, т. е.
иероглиф превратился из образа в понятие, с которым это
понятие ассоциируется. Но и находясь уже вне какого-
либо визуального сходства с изображаемым предметом и
без наличия в них репродуктивности, он по-прежнему по-
зволял видеть в нем, понимать и узнавать графическое изоб-
ражение. Если смысловое наполнение иероглифики от этого
нисколько не изменилось, то восприятие изображаемой ви-
димости в корне трансформировалось, превратившись в умо-
зрительное249. В результате иероглифическая письменность
воспитала в китайском зрителе потребность и умение читать
и воспринимать не иллюзорно-достоверные изображения, a
условные знаки, что и предопределило все структурно-семио-
тические характеристики живописного произведения.
Начнем с того, что графическая структура иероглифа
обусловила общие семиотические нормы живописного про-
изведения, тип и характер составляющих его морфем и поря-
док их исполнения. Иероглиф обязательно исполняется сверху
вниз, причем вначале пишутся горизонтальные черты, далее
вертикальные (за исключением нижней горизонтальной ли-
нии, если она имеется), наклонные черты и в последнюю
очередь — точка. При этом налицо два типа движения — в
параллельном и вертикальном направлениях. Точно так же
происходит и исполнение живописного произведения. Если
оно имеет вертикалыюе сечение, то пишется слева направо
(от левой к правой фигуре), если горизонтальное — последо-
вательно сверху вниз. В случае присутствия в нем обоих
сечений (четырехфигурные композиции) за основу берется
горизонтальное движение: хотя картина компонуется с фи-
гур верхней ступени, фигуры, расположенные в пределах
одной ступени, исполняются слева направо. По той же схеме
живописное произведение воспринимается зрителем.
Каждый отдельный иероглиф должен быть, по прави-
лам каллиграфии, вписан в квадрат и помещен строго в его
центре. Иероглифы с небольшим числом черт пишутся не-
564
сколько укрупненно, более сложные по композиции уплот-
няются так, чтобы независимо от числа составляющих их
элементов они соответствовали размеру квадрата. Прин-
цип размещения произведения в центре прямоугольной гео-
метрической фигуры (живописный середник), a также ха-
рактер соотношения величины изображений и их деталей с
его общей композицией (укрупнение или измельчение фи-
гур и элементов) полностью сохраняются и в живописи.
Далее, структуре иероглифа, помимо последовательно-
сти черт и путей движения, свойственно также наличие по-
стоянных и переменных величин. В качестве первых вы-
ступают смыслообразующие графемы — детерминативы
или «ключи», которые исходно являются пиктограммами
и указывают на круг понятий, к которым относится пере-
даваемое посредством данного иероглифа слово. Роль пере-
менных величин играют фонетики, приблизительно пере-
дающие звучание этого слова. Такое же подразделение об-
наруживается и для живописных элементов. Для каждого
живописного жанра выделяется собственный набор констант-
ных образов, о которых уже подробно говорилось при ана-
лизе китайских изобразительных средств. Напомним, что
для пейзажной живописи такими константами являются
гора, вода, дерево и атмосферные явления, в то время как
изображения человека, животных и построек оказываются
переменными величинами. Вместе с тем любой предметно-
изобразительный рисунок, как и иероглиф, наделяется идео-
графической условностью и может обосновывать свое ли-
нейное содержание на смысловом уровне, заключая в себе не
репродуктивное изображение зрительно воспринимаемых
реалий окружающей действительности, a умозрительную
трактовку понятий, вкладываемых в эти реалии. Отсюда
проистекают, во-первых, типизация живописных образов и,
во-вторых, их повышенная символичность. Кроме того, под-
чиняясь структурной детерминированности живописной ком-
позиции, художественные образы, особенно образы-констан-
ты, тоже должны располагаться по заданной схеме. Следова-
тельно, китайская живопись была обречена на разработку
серии семиотических инвариантов, которые и подлежали
варьированию в каждом отдельном произведении. Индиви-
дуальность художника, как и в каллиграфии, могла прояв-
ляться только в предлагаемых им трактовках константных
и переменных величин: скажем, изменение акцентов, заме-
на на семантические синонимы, например валун с засохшей
веткой вместо горы с могучей сосной на вершине.
Сказанное, разумеется, не означает, что в китайской
живописи отсутствовали динамические тенденции и про-
цессы. Сложение тех же семиотических инвариантов тре-
бовало значительного времени, когда происходили различ-
ные трансформации. Качественные изменения претерпева-
ли и отдельные образы-константы в силу совершенствования
методов и способов передачи окружающей действительно-
сти. Параллельно происходили и трансформации внутри жан-
рово-тематического состава станковой живописи, которые
тоже влекли за собой эволюцию семиотических величин
различных уровней. И наконец, в истории китайской жи-
вописи насчитывается немало художников, которые по тем
или иным причинам отступали от сложившихся художе-
ственных стереотипов и создавали принципиально нова-
торские произведения. Творчество именно таких художни-
ков, как правило, и рождает новые жанровые, тематиче-
ские и стилистические направления.
И все же китайская живопись отличается в высшей
степени стандартностью и стереотипностью, чем европей-
ская, одновременно требуя особого, отличного от европей-
ской живописи, характера ее восприятия. Эстетический
смысл и ценность китайского живописного произведения
заключаются отнюдь не в сходстве живописного образа с
объектом изображения и не во внешней привлекательно-
сти, a в красоте линейной структуры и семиотического
построения художественной композиции. Причем картина
предлагает не столько чисто визуальное ее восприятие,
сколько ее умозрительное истолкование, и здесь необходи-
мо знание «живописного языка», т. е. знания образной си-
стемы. Более того, чем образованнее был сам художник и
его потенциальная аудитория, тем сложнее его «живопис-
ный язык» и значительнее глубина его творений. И, напро-
тив, произведения, рассчитанные на массовую и малообра-
зованную зрительскую аудиторию, исполнялись, как прави-
ло, в максимально упрощенной и одновременно стандартной
образной гамме, что наиболее присуще простонародной кар-
тике-нянъхуа.
Таковы общие типологические характеристики китай-
ской живописи, знание которых помогает понять логику
ее развития и художественных достоинств конкретных про-
изведений.
НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП
ФОРМИРОВАНИЯ
СТАНКОВОЙ
ЖИВОПИСИ
(ЭПОХА ШЕСТИ
ДИНАСТИЙ)
250 Создание такого рода
копий объясняется специфи-
кой процесса обучения в Ки-
тае художников — через копи-
рование работ мастеров про-
шлого (о чем и говорится в
шестом* законе Ce Хэ). Однако
при этом допускались различ-
ные отклонения от оригинала,
и поэтому ни для одной из со-
хранившихся копий нет пол-
ной уверенности в их тожде-
стве с подлинниками. Ситуа-
ция несколько облегчается в
том случае, когда в распоря-
жении современных искусство-
ведов имеется несколько копий
одного и того же произведе-
В письменных источниках для эпохи Шести династий
называются имена 149 художников, 80 из которых жили
на Юге. Самым значительным из них в традиции одно-
значно признается Гу Кайчжи (3467-407?). Коренной южа-
нин по происхождению, он принадлежал к богатому и
влиятельному чиновничьему клану и воплощал типич-
ный для верхних слоев китайского общества того времени
образ «чиновника-интеллектуала». В его биографии, по-
добно многим другим биографиям творческих личностей
эпохи Шести династий, чередуются периоды служебной
деятельности (причем на достаточно высоких государствен-
ных постах) и отшельнического уединения. A сам он ярко
проявил себя не только как живописец, но и как литера-
тор и теоретик живописи. Одновременно есть все основа-
ния полагать, что увлечение живописью было его сугубо
частным делом, и, следовательно, Гу Кайчжи представля-
ет плеяду художников-любителей, которые, как мы уви-
дим далее, занимают особое место в истории китайской
живописи.
Творчество Гу Кайчжи известно только по двум его кар-
тинам, которые дошли до нас в более поздних копиях250:
566
«Божество (фея) реки Ло» («Ло шэнь my») и «Наставления
придворным дамам» («Нюй ши чжэнъ my»).
Первая из названных картин Гу Кайчжи дошла до нас
в трех копиях (что свидетельствует об ее огромном автори-
тете в последующих художественных кругах), выполнен-
ных в Х-ХІІІ вв. Две из них хранятся в настоящее время в
КНР — в Музее Гугун и в Ляонинском музее, одна — в
Галерее Фрира. Заметно различаясь в деталях и по цвето-
вой гамме, они тем не менее позволяют в целом достаточно
полно реконструировать картину Гу Кайчжи251. He вызы-
вает сомнений, что она представляла собой длинный и уз-
кий горизонтальный свиток (размер американской копии —
25 х 347 см), выполненный в полихромной технике. Хотя
оригинальное произведение, вероятно, было несколько боль-
ше, чем копии. В одном из своих теоретических сочинений
Гу Кайчжи оговаривает, что все созданные им картины
имеют ширину шелкового свитка в 2 чи и 3 цуня, т. е.
приблизительно в 74 см.
Судя по названию, данная картина была создана по
мотивам знаменитой и популярнейшей в эпоху Шести
династий поэмы Цао Чжи «Божество реки Ло» и носит
откровенно иллюстративный характер. Подобно древним
погребальным стенописям, она имеет несколько отдель-
ных композиционных сегментов, каждый из которых ил-
люстрирует тот или иной эпизод поэмы (см. вклейку).
Ляонинская копия состоит из 5 таких сегментов, в кото-
рых последовательно воспроизводятся: сцена явления пре-
красной владычицы реки Ло лирическому герою поэмы
(в роли которого выступает сам поэт), несколько как бы
отдельных портретов героини, показывающих ее пребы-
вание в своих владениях, и сцена ее вознесения в небес-
ные дали на чудесной колеснице, еще в окружении дру-
гих божественных персонажей252.
Особой выразительностью и художественной целост-
ностью отличается центральный (по его размеру) фраг-
мент картины, в котором владычица реки Ло показана на
фоне пейзажа из условно-стилизованных изображений гор
и деревьев, что по манере повторяет изображения элемен-
тов ландшафта в погребальных стенописях и рельефах.
Горы передаются через несколько маленьких, причудли-
вой формы холмиков, которые расположены в несколько
рядов друг над другом, широкая гладь воды — через уз-
кую струйку, подобную ручью, лес — через несколько
древесных стволов, совпадающих по своему виду и образ-
ной трактовке с деревьями на керамическом панно с «муд-
рецами». Примечательно введение в эту пейзажную зари-
совку дракона (еще один знак принадлежности героини к
божественному миру) и пары уточек (символ взаимной
страсти ее героев, согласно поэме).
A bot трактовка внешнего облика героини, напротив,
выдержана в строго реалистическом стиле, хотя и с ро-
мантическим оттенком, в согласии с ее литературным
портретом. Перед нами — хрупкая, словно бесплотная,
молодая женщина в роскошном одеянии, трепещут на ветру
ния, путем сопоставительного
анализа которых можно более
или менее надежно воссоздать
предполагаемый исходный вид
картин. Кроме копирования
картин в учебных целях, су-
ществовала также практика
исполнения с них копий-гра-
вюр (эстампов), делавшихся
в технике литографии. Копия
вырезалась на поверхности
хорошо поддающегося резьбе
камня (так называемые гра-
вировальные камни), с кото-
рого затем и печатались гра-
вюрные листы. Такие гравю-
ры, как правило, достаточно
точно передают общую стили-
стику и детали оригинала, но
тоже не могут воспроизвести
его адекватно, особенно, если
картина была выполнена в по-
лихромной технике.
251 Наиболее близкой к ори-
гиналу современными искус-
ствоведами признается ляо-
нинская копия, которая была,
видимо, сделана кем-то из при-
дворных художников середины
XII в. с оригинала, еще храня-
щегося в то время в импера-
торской коллекции. Во всяком
случае, по своей стилистике
она близка к стенописям буд-
дийского пещерного монасты-
ря Могао, датируемым VI в., и
решительно отличается от сун-
ской живописной манеры, тог-
да как и пекинская, и амери-
канская копии содержат в себе
немало художественных нюан-
сов, типичных для живопис-
ного творчества Северной и
Южной Сун. Так, первая из
них отмечена решительной,
каллиграфической манерой
письма, которая была харак-
терна для ряда живописцев
именно XII в., a во второй при-
сутствует диагональное постро-
ение, ставшее принятым в ки-
тайской станковой живописи
при Южной Сун. Кроме того,
очевидно, что обе эти копии
представляют собой вариации
на тему, явно полагаясь уже
не на подлинник, a на другие
его копии и вариации.
252 Последний сегмент не
имеет прямого аналога в тек-
сте поэмы, где лишь говорится
о внезапном исчезновении бо-
жественной красавицы («Вне-
запно исчезла она со скалы вы-
сокой, сердце смутилось мое —
сиянье лучей погасло...») и о
тщетных стараниях героя
встретиться с ней вновь. Види-
мо, через такое описание раз-
луки персонажей Гу Кайчжи
хотел подчеркнуть божествен-
ный статус героини и подчерк-
нуть заключительную мысль
поэмы о невозможности любви
небожительницы и смертного.
567
Еподол платья, рукава и поясные ленты, что придает обра-
зу ауру воздушности и эфемерности: она как будто парит
над землей, несомая ветром. Фигура прорисована тонки-
ми, еле уловимыми штрихами и ритмически повторяю-
щимися линиями, наделена редкой выразительностью и
динамичностью. Она как будто устремлена вперед, a лицо
ее обращено назад — туда, где на берегу застыли очаро-
ванные ее красотой Цао Чжи и его свитские. Несмотря на
композиционную дискретность, картине свойственны ху-
дожественная целостность и завершенность, достигнутые
общностью стилистики и настроения. Все изображения
выполнены виртуозными изящными линиями и пастель-
ными — зелеными и коричневато-красными — краска-
ми. Картина излучает нежность и одновременно безыс-
ходную грусть — в такой тональности выдержана и сама
поэма.
Вторая картина Гу Кайчжи (Британский музей) до-
Манера изображения людей шла до нас в копии, выполненной предположительно еще
в творчестве Гу Кайчжи. в yj в непосредственно с оригинала. Она тоже представ-
«Божество реки Ло» ляет собой узкий горизонтальный свиток (высота 25 см) с
членением на композиционные сегменты, обладающие те-
матической и сюжетной автономностью. Картина носит
повествовательно-иллюстративный характер. Ее литера-
турным источником послужил назидательный трактат «На-
ставления придворным дамам» Чжан Хуа (232-300). Пер-
воначально картина Гу Кайчжи состояла из 9 сегментов
(один из них утрачен), каждый из которых являет собой
отдельную жанровую композицию, написанную на тему
конкретных эпизодов из жизни известных красавиц прош-
лого либо сентенций и рекомендаций, обращенных
щинам.
В первом сегменте воспроизводится сцена, рисующая
самоотверженное поведение наложницы ханьского импе-
ратора Юань-ди (48-32 гг. до н. э.) — госпожи Фэн, спас-
шей, по легендам, своего повелителя от разъяренного мед-
ведя, который содержался в придворном зверинце и нео-
жиданно сорвался с цепи на глазах y императора и
гаремных дам. В сцене присутствуют несколько действую-
щих лиц — император, окаменевший от испуга, госпожа
Фэн, бросившаяся между ним и нападающим медведем,
еще одна придворная дама и стражники, бегущие к мед-
ведю с копьями на перевес. И все наделены индивидуаль-
ными чертами. Госпожа Фэн — воплощение решительно-
сти и бесстрашия: она устремлена навстречу опасности —
стремительность движений подчеркнута развевающейся
одеждой, голова гордо вскинута, лицо — само благород-
ство. Вторая дама якобы случайно повернулась к медведю
спиной, не замечая происходящего. В ее лице сквозят
притворство и хитрость, так выразительно переданные
художником через узкие щелочки глаз с затаенным в них
холодным равнодушием. Фигуры стражников даны в от-
кровенно гротескной манере. С изрядной долей комично-
сти показан и медведь, который отнюдь не производит
впечатления свирепого зверя.
568
Вторая часть картины посвящена наложнице импера-
тора Чэн-ди (32-6 гг. до н. э.) — Бакь-цзеюй, бывшей его
фаворитке. Изображен момент отказа героини, которая чтит
репутацию добродетельной женщины, сесть в паланкин с
императором, дабы не отвлекать его от государственных
дел и в дороге.
Третья часть — сцена придворной охоты — примеча-
тельна введением в нее элементов горного пейзажа, едва
намеченных.
Четвертая часть иллюстрирует высказывание из трак-
тата Чжан Хэна (его текст приводится тут же): «Умение
людей следить за своей внешностью еще не означает их
заботу о собственной добродетели». Эта часть решена в
виде сюжетной сцены, состоящей из изображений двух
дам и служанки, которая причесывает одну из дам: она
сидит на коленях на дорогой циновке, перед ней — зерка-
ло на подставке и лаковые туалетные коробочки с косме-
тикой и благовониями. Вторая дама подводит брови перед
зеркалом, ее лицо показано в отражении — прием, кото-
рый впоследствии получил большое распространение в ис-
кусстве всего Дальневосточного региона, особенно в япон-
ской гравюре. Лица обеих дам нарочито бесстрастные, но
их позы, жесты рук и глаза — мастерски исполнены ху-
дожником — выдают их душевную черствость и самовлюб-
ленность.
Пятая часть картины также основана на выдержке из
трактата: «Если ваши речи добродетельны, на них от-
кликнутся все в округе на тысячу ли. Если же вы забуде-
те об этом, то даже ваш супруг усомнится в вас». Для
иллюстрации этого выражения художник прибегает к но-
вому художественному решению. Он показывает импера-
торскую спальню. На задрапированном пологом ложе си-
дит император, снимающий туфли. Рядом стоит налож-
ница, вероятно, позволившая себе фривольную фразу.
Монарх разгневан. Это показано только через глаза импе-
ратора, в которых — искорки ярости, особенно заметные
на его благородно-сдержанном лице. Волнение наложни-
цы передано через ее руки, судорожно сжавших перего-
родку ложа. Впечатление, что между персонажами проис-
ходит напряженный разговор: возникает эффект случайно
подсмотренного зрителем события. К такому художествен-
ному приему при изображении придворно-бытовых и бы-
товых тем китайская живопись будет чрезвычайно охотно
обращаться в дальнейшем.
В шестой части картины изображена августейшая чета
с детьми и слугами. В отличие от других сегментов, отме-
ченных композиционной целостностью, эта сцена разби-
вается на три относительно самостоятельных фрагмента:
супруги, чинно сидящие на коленях; наложница, приче-
сывающая ребенка; на заднем плане — старшие дети, с
которыми ведет занятие домашний учитель. Внешний вид
императора и императрицы, что тоже соответствует пове-
денческим регламентациям, подчеркнуто бесстрастен.
Хотя и в данном случае художник посредством нескольких
выразительных деталей оживляет персонажей, разграни-
чивая их индивидуальность. Губы отца строго сжаты, что
придает его лицу оттенок увещевания и в целом строгость.
Мать явно беспокоится за младшего сына и старается от-
влечь его игрушкой, a tot отчаянно плачет, вырываясь из
рук наложницы. Портрет ребенка выполнен с исключи-
тельной живостью, a его гримаса плаксивости — с изряд-
ной долей добродушного юмора.
На седьмой части картины воспроизведена сцена по-
рицания императором наложницы — так Гу Кайчжи ре-
шил проиллюстрировать мысль о том, что красавице не
следует увлекаться чрезмерным приукрашиванием своей
внешности, ибо любое явление, согласно китайским на-
турфилософским учениям, достигнув своего апогея, воз-
вращается к исходной точке или превращается в свою
противоположность. Лицо императора спокойно-снисхо-
дительно, и создается впечатление, что он, скорее, испол-
няет свой долг, поучая наложницу, чем действительно
гневается на нее. Она это прекрасно знает. За маской
почтительного внимания проскальзывает уверенность в
своих чарах (выпрямленная фигура с гордо посаженной
головой, спокойное выражение лица, сложенные на груди
руки, скрытые рукавами). Более того, губки красавицы
едва заметно, но все же обиженно надуты, и можно не
сомневаться, что после завершения нотаций она найдет
способ отомстить императору за эти неприятные для нее
минуты.
Свиток завершается сценой, как бы подводящей итог
его художественному повествованию: старшая придворная
дама, в облике которой мягкость и достоинство, читает
наставления другим дамам, и перед глазами зрителя слов-
но заново проходят все предшествующие эпизоды.
Разобранное произведение свидетельствует о незауряд-
ном мастерстве Гу Кайчжи в исполнении фигуративных
изображений и непосредственно портрета. К сказанному
ранее о манере его письма добавим, что позы персонажей
естественны и выразительны, все детали их одеяний и
черты лиц прописаны тонкими черными линиями. Губы
дополнительно отмечены красной краской, a раститель-
ность на лице мужчин — едва заметными штрихами. Оче-
видно также, что художник обладал умением передать и
фактуру различных материалов: тяжелых шелковых за-
навесей, легких шелковых одеяний, дерева (столбики им-
ператорского ложа). Складки тканей передаются им с по-
мощью тонких линий, a объем моделируется посредством
легких размывок.
Итак, произведения Гу Кайчжи убеждают нас в том,
что станковая живопись на начальном этапе ее формирова-
ния наследует черты древнего погребального изобразитель-
ного искусства. Это выражается, во-первых, в особенности
композиционного построения картин (горизонтальное рас-
положение, художественная дискретность). Во-вторых, в
манере письма с преобладанием в нем линеарного рисунка
линии. И, в-третьих, в иллюстративно-повествовательном
570
характере картин. Героями станковой живописи вновь ока-
зываются не реальные люди, a легендарно-исторические
или литературные персонажи. Вместе с тем обе картины Гу
Кайчжи ни в коем случае не являются результатом чисто
механического следования предшествующим живописным
традициям. Вне всяких сомнений, что они уже подлинно
авторские творения, характеризующиеся единством худо-
жественного замысла, ритмикой и настроением. Поэтому
полностью оправданным представляется мнение китайских
теоретиков и критиков, что творчество Гу Кайчжи открыва-
ет собой качественно новый этап в истории национального
изобразительного искусства и что в нем наметились специ-
фические для местной станковой живописи черты: графи-
ческая острота; совершенство и плавность каллиграфиче-
ских линий, создающих объем и формы картин; четкость
композиции, основанной на гармонии ритма; использова-
ние свободного фона как пространственной среды.
Однако картины Гу Кайчжи дают возможность просле-
дить начальный этап китайской станковой живописи толь-
ко для ее фигуративных направлений, тогда как проблема
генезиса пейзажной живописи остается открытой. Исклю-
чительно фоновое положение ландшафта в обоих свитках и
манера исполнения его элементов дали повод современным
искусствоведам усомниться в самой возможности появле-
ния пейзажной живописи в эпоху Шести династий. И все
же все известные факты о художественной жизни этой
эпохи свидетельствуют об обратном. В письменных источ-
никах перечисляются более 40 живописных произведений,
которые, судя ио их названиям, были именно пейзажными
свитками. Пять таких картин — «Горы Тайшань», «Горы
Луншань» ит. д. — приписываются Гу Кайчжи253. Еще
более существенным выглядит то обстоятельство, что в своих
рассуждениях о природе и целях живописного творчества
теоретики эпохи Шести династий обращались, как мы по-
мним, к опыту именно пейзажной живописи. Одно из та-
ких сочинений — «Записи о том, как живописать гору
Юньтайшань» («Хуа Юньтайшань цзи») — приписывает-
ся самому Гу Кайчжи. Что же касается отмеченных выше
стилистических особенностей пейзажных деталей в «Боже-
стве реки Ло», то они вполне могли быть результатом со-
знательной стилизации под древние художественные об-
разцы с целью придания картине в соответствии с сюже-
том и временем создания поэмы Цао Чжи (за сто с лишним
лет до рождения Гу Кайчжи) ауры ирреальности и архаич-
ности. Следовательно, вопреки указанной точке зрения, y
нас есть достаточно оснований для утверждения, что по-
явилась пейзажная живопись как раз в эпоху Шести дина-
стий. Хотя, скорее всего, она находилась на весьма прими-
тивном уровне развития, о чем откровенно говорится в
трактате Чжан Яньюаня. Он отмечает неестественность
пейзажных описаний в их художественных трактовках того
времени («вода не течет, фигуры больше, чем горы») и
утверждает, что только танские мастера научились пра-
вильно изображать горы, воды, деревья и скалы.
253 He менее примечатель-
ный эпизод приводится и в
жизнеописании Цзун Бина.
Рассказывается, что когда он
уже достиг преклонного воз-
раста и был не в состоянии
совершать прогулки в горы,
то расписал стены своего жи-
лища картинами любимых
пейзажных видов.
571
264 Личность этого худож-
ника тоже весьма примеча-
тельна. Он был уроженцем
восточного (а не Юга) регио-
на и работал при дворах пос-
ледних северных царств эпо-
хи Шести династий — Север-
ного Ци и Северного Чжоу,
после чего был приглашен ко
двору Суй. Известно также,
что он исполнял в основном
стенописные картины, распи-
сывая храмы в Чанъани, став-
шей столицей Суй, и в Лояне.
Таким образом, в лице Чжань
Цзыцяня мы имеем дело с пер-
вым точно установленным про-
фессиональным художником,
исполнявшим заказы двора.
О том, что представляла собой пейзажная живопись к
концу VI в., мы можем судить по картине Чжань Цзыця-
ня (550-617?) «Весенняя прогулка» («Ю чунъ my», ко-
пия, 43 х 80,5 см, Музей Гугун)254. В названной картине,
которая тоже представляет собой горизонтальный, но не-
большой по размерам, свиток, воспроизводится вид на
реку, обрамленную горами (см. вклейку). Живопись вы-
полнена в серо-голубых, серо-зеленых, синих, желтых и
оранжевых тонах, что придает ей красочность и декора-
тивность. Расположение планов отличается четкостью ком-
позиционной схемы, линии — графической остротой, си-
луэты — ритмичностью. Очерченные плотной силуэтной
линией, скалы расположены, подобно пейзажному фону
в картине Гу Кайчжи, отчетливыми кулисами. Вместе с
тем Чжань Цзыцянь добивается композиционной целост-
ности, и дальнейшие поиски перспективы. Ясно выделя-
ются первый план, заполненный крупными по масштабу,
резко очерченными строениями и деревьями, второй план,
состоящий из групп скал и деревьев, выполненных в мень-
шем масштабе, и задний план, образованный уходящими
вдаль холмами. Между первым и вторым планами изоб-
ражен речной поток, показанный в легкой дымке. В ре-
зультате такого разрыва между планами возникает эф-
фект открытого и протяженного художественного про-
странства. Одновременно картина насыщена множеством
тонко проработанных деталей — это фигурки людей в
светлых, праздничных одеждах, и цветущие кроны сли-
вовых деревьев. Они подчеркивают величественность гор-
ного ландшафта и создают декоративно-праздничный ко-
лорит картины.
Итак, на протяжении эпохи Шести династий произошло
постепенное отделение станковой живописи от древних сте-
нописей в качестве самостоятельного вида китайского изоб-
разительного искусства, происходит становление ведущих
жанровых направлений, среди которых первое место при-
надлежит жанрам, связанным с изображением человека.
живопись
ЭПОХИ TAH
живопись
первой половины
ТАНСКОЙ ЭПОХИ
Первая половина танской эпохи ознаменовалась, во-
первых, ростом популярности и авторитета станковой жи-
вописи как таковой. Во-вторых, дальнейшей эволюцией ее
жанровых направлений, наметившихся в эпоху Шести ди-
настий. И, в-третьих, господством фигуративной живопи-
си, определяемой в оригинальной терминологии как «люди
и предметы» (жэнъу). На самом деле, это — совокупность
нескольких совершенно различных, если подходить к ним
с точки зрения европейского искусства, жанров. В китай-
ских жанровых классификациях жэньу тоже подразделя-
ется на 5 жанровых разновидностей: парадный портрет;
собственно жанровая живопись, которая, добавим от себя,
делится на придворно-бытописательную (сцены из жизни
двора и знати) и бытописательную (сцены из городской и
сельской жизни); живопись на историко-легендарные и ми-
фологические темы, т. е. портреты историко-легендарных
572
и мифологических персонажей и произведения на темы
эпизодов из повествований о них; живопись на религиоз-
ные темы — портреты персонажей даосского и буддийско-
го пантеонов, которая, естественно, тесно смыкается с куль-
товым изобразительным искусством; и анималистический
жанр. Существование этих жанровых направлений и под-
направлений полностью подтверждается живописным
наследием танской эпохи, хотя подавляющее большинство
произведений по-прежнему дошло до нас в копиях, a твор-
чество целого ряда ведущих живописцев того времени ока-
залось полностью утраченным.
Определяющей особенностью художественной жизни
первой половины танской эпохи является становление офи-
циального живописного искусства как приоритетной тра-
диции Китая. Практически все известные для VII-VIII вв.
художники жили в столице и творили в качестве придвор-
ных мастеров.
В каждом из перечисленных жанровых направлений
и их разновидностей есть основоположники и ведущие
представители. Крупнейшим мастером жэнъу во всех его
тематических разновидностях и формах считается упоми-
навшийся ранее художник У Даоцзы (700-760), работав-
ший, напомним, при дворе императора Сюань-цзуна. Он
проявил себя как в станковой, так и в монументальной
живописи: сообщается, что им было создано более 300
стенописных композиций для столичных (Чанъань) и близ-
лежащих к ней (Лоян) буддийских храмов. В эстетико-
теоретической и критической литературе утверждается,
что У Даоцзы владел искусством исключительно реали-
стического и динамического изображения людей («нари-
сованные им платья словно развеваются от ветра, пояс
как будто сопротивляется ветру») и использовал техни-
ческие приемы, позволявшие добиваться оптического эф-
фекта движения и трехмерности: «У Даоцзы рисовал фи-
гуры, подобные теням от фонаря, падающим на поверх-
ность стены. Они двигаются назад и вперед: если смотреть
сбоку, то кажется, что они выпуклые». К сожалению, ни
одного живописного произведения У Даоцзы, даже в ко-
пии, не сохранилось255.
Следующей масштабной фигурой танской живописи и
одновременно основоположником традиции официального
портрета называется Янъ Либэнъ (600-673). Он был потом-
ственным художником: его отец и брат работали при дворе
второго и третьего императоров танской династии (Тай-
цзуна и Гао-цзуна) — и также равно владел искусством
монументальной и станковой живописи. Расцвет его твор-
ческой деятельности приходится на время правления Гао-
цзуна, т. е. на 50-60-е гг. VII в. Сохранились (в копиях)
две его масштабные картины — «Преподнесение дани» («Бу-
нянъ my», 38,5 х 129 см, Гугун) и «Властелины древних
династий» («Лидай ди ван my», 51,3 х 531 см, Бостонский
музей изящных искусств). Первая из них была выполнена
предположительно в начале 40-х гг. VII в. и представляет
собой подобие парадного портрета императора Тай-цзуна:
255 Единственным его сви-
детельством, не считая лите-
ратурных оценок, являются
эстампы с гравировальных
камней, например, «Тянь-ван
с ребенком на руках» (коллек-
ция Абе, Осака), в котором
при всем желании трудно опо-
знать признаки той гениаль-
ной художественной манеры,
на которой настаивают пись-
менные источники.
573
ш
<©
Янь Либэнъ.
«Преподнесение дани».
Прорисовка
Янь Либэнь. «Властелины
древних династий».
Фрагмент. Прорисовка
ш m Z* *& *
в торжественном одеянии, восседающим на платформе-
паланкине, которую несут девушки-прислужницы, и в ок-
ружении придворных дам (всего — 9 персонажей), две из
которых обмахивают его огромными опахалами. В левой
крайней части картины показаны три фигуры оробевших
чужеземных послов, словно ослепленных явленным вели-
колепием. «Властелины древних династий» — свиток, со-
стоящий из портретов 13 императоров предшествующих
эпох: двух ханьских монархов (Чжао-ди, 86-73 гг. до н. э.,
и Гуан-у-ди, реставрировавшего ханьский правящий дом),
основателей царств Вэй, У и Хань-Шу периода Троецар-
ствие, цзиньского У-ди, пяти государей царств Чэнь и Се-
верное Чжоу, завершающих эпоху Шести династий, и обо-
их монархов династии Суй. Такой подбор сам по себе уже
выглядит несколько странным.
Фигуры императоров — в стоячих или сидячих позах
в окружении свитских и слуг (всего на свитке изображено
46 человек) — свободно и внешне в произвольном поряд-
ке размещены на плоскости свитка. По размеру они за-
метно превосходят фигуры сопровождающих лиц, и бла-
годаря этому композиционному приему создается впечат-
ление, что жизнь сосредоточилась вокруг них. Общая
дискретность художественного пространства и фризовый
характер его расположения напоминают погребальные
стенописи. Однако на этом сходство между ними заканчи-
вается, так как картина Янь Либэня безусловно обладает
единством художественного замысла и, кроме того, вы-
полнена с незаурядным живописным мастерством. Пора-
жает совершенство владения художником тонкой и гиб-
кой линией, которая не только уверенно очерчивает кон-
туры лиц персонажей, элементы и складки их одеяний,
но и соединяет разрозненные сцены. A колористическое
решение картины с использованием ярких и теплых то-
нов — зеленого, желтого, коричневого и фиолетового —
574
подчеркивает их единство и придает полотну декоратив-
ность и празднично-приподнятое настроение. Все рисун-
ки выполнены в сугубо реалистической манере. Изобра-
ясениям слуг и свитских присуща определенная живость.
Портреты императоров производят двойственное впечат-
ление, вот почему в исследовательской литературе выска-
зываются различные их оценки и истолкования всего тво-
рения Янь Либэня. Одни специалисты обращают внима-
ние преимущественно на те стилистические особенности,
которые впоследствии превратятся в типологические осо-
бенности китайского официального портрета: нарочитая
бесстрастность лиц, заданность поз и жестов, акцентиро-
вание на элементах облачения (орнаментация одеяний,
головной убор, комплект украшений, регалии) и прочих
символических деталях, призванных показать, прежде все-
го, социальный статус, a не личность. По мнению других
исследователей, за этой внешне условно-статической ма-
нерой портрета скрывается значительно более глубокий,
чем просто увековечивание усопших государей, художе-
ственный замысел256.
О том, что отмеченные художественные и семантиче-
ские особенности портретных изображений были свойствен-
ны стилистике именно парадного портрета, свидетельству-
ет еще одна, относительно малоизвестная, картина Янь
Либэня — «Портрет каллиграфа» (копия, Бостонский му-
зей изящных искусств): небольшой по размеру, вертикаль-
ного, т. е. редкого для танской живописи, формата свиток,
на котором профильное изображение уже немолодого чело-
века, занятого каллиграфическим письмом. Портрет, ско-
рее всего, выполнен с натуры и передает как внешнюю
самобытность портретируемого — удлиненный овал лица,
высокий покатый лоб, нос с неболыпой горбинкой, малень-
кий рот, так и его внутреннее, психологическое состоя-
ние — легкая задумчивость и увлеченная сосредоточенность
творчеством. Это произведение — убедительное доказатель-
ство в танской живописи и другой, несравненно более ли-
ричной и камерной, чем парадный портрет, традиции пор-
третных изображений.
Помимо незаурядного дара портретиста, Янь Либэнь
обладал и не менее ярким талантом художника-анимали-
ста. Именно по его эскизам, по преданию, были выполне-
ны знаменитые барельефные изображения любимых ска-
кунов императора Тай-цзуна, входящих в художественный
ансамбль усыпальницы последнего.
Придворно-бытовой жанр, тоже прямо перекликаю-
щийся с портретом в обоих отмеченных стилистических
вариантах, представлен в первую очередь творчеством
Чжан Сюаня и Чжоу Фана, живших в VIII в. и работав-
ших при дворе. Известны два произведения Чжан Сюаня,
оба — в копиях, выполненных при Северной Сун: «При-
готовление шелка» (37 х 147 см, Бостонский музей изящ-
ных искусств) и «Прогулка весной знатных особ из владе-
ния Го» (52 х 148 см, Ляонинский провинциальный му-
зей). В первом из названных полотен воспроизводится
25Ѳ Но чтобы понять их,
необходимо соотнести каждый
портрет с историко-полити-
ческими реалиями того вре-
мени, с личными качествами
и судьбами самих персона-
жей. Первым (в сидячей позе)
на свитке изображен импера-
тор Чжао-ди, образ которого,
возможно, ассоциировался y
Янь Либэня с расцветом Ран-
ней Хань, a возможно, напро-
тив, с началом ее угасания.
Сразу же за ним, вопреки ис-
торической последовательно-
сти, и снова в сидячих позах
изображены Цао Пи, Сунь
Цюань и Лю Бэй. Их фигуры
выполнены в чуть более сво-
бодной манере, a лица наде-
лены индивидуальными осо-
бенностями. В чертах Цао Пи
ощущается крутой нрав, a в
скорбном выражении лица Лю
Бэя как бы отразились его по-
литические неудачи. Кроме
того, Сунь Цюань и Лю Бэй
изображены обращенными
друг к другу, что, видимо,
подчеркивает их царствование
в противоположных регионах
страны — на юго-востоке и на
юго-западе. Галерею портре-
тов в сидячих позах замыка-
ют изображения чэньских го-
сударей Вэнь-ди (560-567) и
Сюань-ди (569-583), извест-
ных своей приверженностью
буддизму, о чем сообщается
в сопроводительной надписи.
В стоячих же позах, как выяс-
няется, изображены государи,
правление которых способство-
вало упрочению централизо-
ванной имперской государ-
ственности и было отмечено
следованием конфуцианским
575
морально-этическим ценнос-
тям: позднеханьский Гуан-у-
ди, цзиньский У-ди (объеди-
нивший, напомним, страну
после периода Троецарствие),
основатели царства Северное
Чжоу — чжоуский У-ди (557-
581), пытавшийся провести
реформы, направленные на
объединение страны, и осно-
воположник империи Суй.
A их одеяние оказывается не
просто официальным парад-
ным костюмом, но торже-
ственно-ритуальным облаче-
нием, предназначенным для
исполнения самых ответствен-
ных ритуальных акций, на-
пример жертвоприношений
Небу и Земле. Получается, что
художник предпринял попыт-
ку показать через портреты
отдельных государственных
лиц весь ход национальной
истории, оставив, кроме того,
намеки на свое персональное
(или принятое на тот момент
в китайской гуманитарии) от-
ношение к образам и деяни-
ям данных лиц. И в этом пла-
не работа Янь Либэня тоже
задает семантические пара-
метры будущего официально-
го портрета, цель которого,
как мы увидим далее, своди-
лась к передаче качеств и до-
стоинств портретируемого в
его ипостаси члена социума и
оцениваемого исключительно
с позиций государственных
духовных ценностей.
картина повседневной жизни обитательниц гарема, заня-
тых женскими ремеслами (см. вклейку). Она разбивается
на три композиционных фрагмента — фигуры четырех
стоящих дам, которые растирают что-то в болыиой дере-
вянной ступке, трех сидящих дам: две прядут, a одна —
шьет, примостившись на маленькой табуретке, и четы-
рех дам, натягивающих основу (одна из операций, пред-
восхитивших ткачество). Поодаль изображены еще две
женщины, играющие на цине. Бросается в глаза мастер-
ское построение всей композиции: безусловная художе-
ственная целостность, непринужденность расположения
как ее фрагментов, так и отдельных фигур, a также жи-
вость и динамичность портретных изображений. Худож-
ник свободно владел всеми приемами передачи челове-
ческого тела, изображая самые разные позы и ракур-
сы — анфас, в профиль. Часть персонажей хотя показаны
со спины, но не лишены выразительности. Картине при-
сущи яркие, но теплые тона с преобладанием зеленого и
желтовато-коричневого цветов, придающие атмосферу до-
машнего уюта.
Во втором свитке изображена кавалькада, состоящая
из правителя удельного царства (он едет впереди) и сопро-
вождающих его лиц — двух свитских и шести дам, одна
из которых едет на лошади вместе с маленькой дочерью.
Все фигуры тоже отличаются непринужденностью, живо-
стью и выразительностью. С особой динамичностью и пла-
стикой выполнены изображения лошадей. Главный пер-
сонаж показан одетым в костюм темного цвета, что выде-
ляет его на фоне остальных действующих лиц: одеяния
дам выполнены в элегантно-нарядных розовато-серых то-
нах с темными вкраплениями. Все детали внешнего обли-
ка персонажей — не только людей, но и лошадей — тща-
тельно проработаны, вплоть до прядей дамских причесок
и орнаментации конской сбруи. Общая стилистика карти-
ны и цветовое решение создают атмосферу торжественно-
сти и рафинированности.
Чжоу Фан — ученик Чжан Сюаня, работавший при
дворе с 766 по 804 г. и намного превзошедший, по едино-
душному мнению китайских критиков и современных ис-
кусствоведов, своего учителя. Его творчество известно по
четырем произведениям: «Красавицы, обмахивающиеся
веерами» (33,7 х 204,8 см, Музей Гугун), «Красавицы со
шпильками и цветами» (46 х 180 см, Ляонинский про-
винциальный музей), «Дамы, играющие в шашки-го» (го-
ризонтальный свиток, высота 31,7 см, Галерея Фрира) и
«Ян-гуйфэй после купания» (120 х 55 см, ГМИНВ). Пер-
вая из перечисленных работ фактически повторяет собой
картину Чжан Сюаня «Приготовление шелка», также по-
казывая будничную работу обитательниц гарема. Всего в
ней воспроизводятся изображения 13 персонажей, разби-
тых на группы и занятых разнообразными делами или
просто беседующих друг с другом. «Красавицы со шпиль-
ками и цветами» — свиток, состоящий из парадных пор-
третов гаремных красавиц и в некоторых деталях совпа-
576
дающий с композиционным построением «Властелинов
древних династий»: одиночные фигуры дам, расположен-
ные на первый взгляд в произвольном порядке и вне чет-
ких сюжетных связей друг с другом257. Портреты дам от-
личаются, подобно портретам государей на картине Янь
Либэня, с одной стороны, статичностью и заданностью, a c
другой — проработкой всех нюансов внешности (см. вклей-
ку). С доскональностью и скрупулезностью переданы ма-
кияж, прически, головные и шейные украшения, ткани и
отделка нарядов.
Обращает на себя внимание умение художника пере-
давать фактуру материала — узорного шелка, из которо-
го выполнены платья красавиц, газовых, прозрачных на-
кидок, металлических подвесок с каменьями, перьев, вхо-
дящих в головные украшения. Одновременно наряд
героинь оказывается своего рода декоративным обрамле-
нием их телесной изысканно-холеной красоты: лица, шеи,
верхней части груди в декольте, запястий и кистей рук.
Известно, что для достижения подобного эффекта и кон-
трастности между одеждой и плотью Чжоу Фан исполь-
зовал специальные полупрозрачные и транспарантные
краски, сделанные соответственно на основе минераль-
ных и растительных ингредиентов. Кроме того, в облике
дам — полнолицых, статных и неторопливых в своих
движениях — воплощен характерный для первой поло-
вины Тан идеал женской красоты, гораздо более земной
и полнокровный, чем y Гу Кайчжи, сложившийся благо-
даря влиянию городской культуры.
Поразительное мастерство в изображении телесной кра-
соты Чжоу Фан демонстрирует в свитке «Ян-гуйфэй после
купания», хотя не исключено, что многие нюансы худо-
жественной трактовки персонажей и вспомогательные эле-
менты и детали были привнесены в эту картину уже ко-
пиистом. Возлюбленная императора Сюань-цзуна слави-
лась пышностью своих телесных форм и чувственной
привлекательностью: она показана выходящей из бассей-
на в сопровождении слуг. Ее изнеженное тело дразнит
воображение, недвусмысленно просвечивая сквозь окуты-
вающее прозрачное покрывало. Гордую красоту Ян-гуйфэй
подчеркивает интерьер дворцовых покоев, воспроизведен-
ный художником, a приподнятая линия горизонта позво-
ляет зрителю как бы заглянуть внутрь чертога и стать
незримым соучастником происходящего. Эта картина пе-
редает атмосферу роскоши, неги и романтизма, свойствен-
ной танскому времени.
Свиток «Дамы, играющие в шашки-го» выполнен в
совершенно иной стилистической манере и пронизан на-
строением, в котором преобладают грустные нотки. Те-
перь героинями стали не дамы в торжестве своей красоты,
a престарелые обитательницы гарема, утратившие былую
привлекательность. Одетые в скромное, повседневное пла-
тье, они сидят напротив друг друга (одна из дам показана в
профиль), играя в шашки и неторопливо беседуя. Обе фигу-
ры отличает полная непринужденность и художественная
~>і История пскуссгва Китая
257 Всего на нем представ-
лены портреты 5 дам и одной
служанки (маленькая фигур-
ка, теряющаяся за своей гос-
пожой). Изображения четы-
рех дам как бы вынесены на
передний план (построение
перспективы в свитке в це-
лом отсутствует): две играют
с собачкой, одна — с цветком
в руке и журавлем рядом с
нею, и еще одна — вблизи от
пышно цветущего куста, под-
ле ног которой тоже резвится
маленькая собачка. Фигура
пятой дамы, меныпих разме-
ров, показана в некотором от-
далении от них.
577
258 Свиток открывается
фрагментом, изображая глав-
ного героя, слушающим игру
на лютне-пипе, a в роли му-
зыкантши выступает его сес-
тра. На втором фрагменте вос-
производится более сложная,
многофигурная сцена: Хань,
стоя, с упоением бьет в бара-
бан, аккомпанируя танцу сво-
ей любовницы, на что взирают
непринужденно расположив-
шиеся вокруг гости: пять муж-
чин в одеяниях чиновников и
две женщины, компанию ко-
торым составляет уже изряд-
но подгулявший монах. Этот
фрагмент послужил, по мне-
нию исследователей, истоком
самостоятельного тематико-
стилистического направления
в рамках придворно-бытово-
го жанра, специализировав-
шегося на изображениях сцен
пирушек и тому подобных
развлечений знати. В третьем
фрагменте Хань сидит на кро-
вати в окружении ластящих-
ся к нему семи женщин и, не
обращая на них никакого вни-
мания, невозмутимо моет в
тазике руки. На четвертом
фрагменте он показан внима-
ющим игре пяти профессио-
нальных флейтисток, облачен-
ных в яркие розово-бирюзовые
платья. Свиток завершается
сценой, изображающей глав-
ного героя отдыхающим в
кресле в окружении трех жен-
щин и трех мужчин.
убедительность. Особенно колоритной показана дама, сидя-
щая к зрителю в профиль. Весьма сухопарая, сутулая, с
удлиненным лицом, выступающим подбородком и крючко-
ватым носом, она демонстрирует свой нрав: желчная, ко
всему придирающаяся, но все еще манерная особа. Ее на-
парница — толстушка с простоватым лицом, некогда, види-
мо, слывшая придворной прелестницей, еще не избавилась
от жеманного кокетства (см. вклейку).
С не меныним психологизмом выполнены и изображе-
ния второстепенных персонажей. Рядом с дамами в по-
чтительной позе стоят две служанки, в любую минуту
готовые исполнить их приказания, но на их лицах чита-
ется пренебрежительное сочувствие к престарелым госпо-
жам вкупе с лицемерием заядлых сплетниц. Слева и справа
от центральной сцены расположены еще четверо персона-
жей: две девочки-подростка, которые тащат огромный
кувшин вина и словно ожидают гневного окрика, и слуга
со служанкой, тоже взирающие на героинь с напускным
почтением, за которым скрывается сочувствие, смешан-
ное с досадой на собственное напрасное времяпрепровож-
дение. Подобные художественные трактовки персонажей
придают живописному повествованию юмористический от-
тенок. Картина исполнена в приглушенных тонах, внеш-
ность действующих лиц лишена детальных костюмных
подробностей, a лаконичность интерьерных деталей (та-
буреты, на которых сидят героини, низкий столик с шах-
матной доской) и некоторая эскизность одеяний фигур
создают y зрителя впечатление случайно подсмотренной
сценки.
Все стилистические параметры и художественные прие-
мы, заданные творчеством Чжан Сюаня и Чжоу Фана
для придворно-бытоописательного жанра, в наиболее пол-
ном виде нашли свое продолжение в знаменитом свитке
Гу Хунчжу (910-986) «Пир Хань Сицзая» (или «Ночная
пирушка»), история создания которого носит настоящий
детективный характер. Рассказывается, что государь цар-
ства Южное Тан Ли Юй (937-978), до которого дошли
слухи о непозволительно развратном образе жизни его
сановника Хань Сицзая (902-970), устраивавшего в своем
доме ночные пиры-оргии, приказал придворному худож-
нику тайно пробраться туда и запечатлеть увиденное. Со-
хранились сведения о существовании нескольких картин
на эту тему, принадлежащих различным живописцам, и
до нас дошла серия различных копий, одна из которых
была сделана уже в XVI в. в Японии.
Наиболее близким к оригиналу или даже собственно
подлинником, принадлежащим кисти Гу Хунчжу, в на-
стоящее время признается свиток (28,7 х 335,5 см) из му-
зейной коллекции Гугуна. Он состоит из 5 отдельных ком-
позиционных фрагментов, на каждом из которых показан
Хань Сицзай в разных амплуа — явный реликт компози-
ционного построения древних стенописей и станковой
живописи на начальном этапе ее формирования (картины
Гу Кайчжи)258. Несмотря на намеренную композицион-
578
ную замкнутость каждого фрагмента, они все же образу-
іот целостное живописное повествование, проникнутое тон-
ким юмором и увлеченностью самого художника продел-
ками этой веселой, беззаботной компании. Точность и
ясивость изображений главных героев удачно согласуется
с умелой компоновкой групповых сцен, с множеством тон-
ко подмеченных, поданных в юмористическом тоне быто-
вых деталей и визуальным эффектом «случайного подгля-
дывания» (см. вклейку).
Подводя итог, отметим, что придворно-бытовой жанр в
исполнении Чжан Сюаня, Чжоу Фана и Гу Хунчжу являет
собой одно из высочайших достижений не только непос-
редственно танской, но и всей в целом китайской фигура-
тивной живописи, раскрывая его огромные потенциальные
возможности с точки зрения реализма и психологизма в
изображениях человека. Бесспорно, этот жанр опирался на
живую действительность танской эпохи — на реалии об-
щежития, художественно-эстетические тенденции, вызван-
ные городской культурой, и социально-психологический
настрой тогдашнего общества. Впоследствии, утратив свою
питательную среду, он утратил и прежнюю живость, есте-
ственность и правдивость и стал развиваться в сторону
условности и декоративности. Показательно, что в после-
дующие времена художники при работе в этом жанре чаще
всего обращались не к живой натуре, a к историческим
сюжетам, воспроизводя сцены из жизни древних импера-
торов и гаремных красавиц. Архаизованность тематики
картин привела и к архаизации их стилистики, намеренно
уподобляемой живописной манере стенописей и ранних
станковых картин. Показательный пример — картина мин-
ского художника Чоу Ина «Весеннее утро в ханьском двор-
це» (горизонтальный свиток, высота 30,4 см, шелк, тушь,
краски, Национальный дворцовый музей), которая счита-
ется одним из лучших произведений данного жанра мин-
ской и цинской эпох.
Следующий популярнейший при Тан жанр — анима-
листический — возводится, несмотря на то что в нем по-
пробовали свои силы практически все живописцы того
времени, к творчеству Ханъ Ганя, работавшего при дворе
с 740 по 760 г. Известны по меныпей мере три картины,
которые с достаточной долей уверенности приписываются
этому художнику: «Пять буйволов» (20,8 х 139 см, Гу-
гун), «Выпас лошадей» (27,5 х 34,1 см, Национальный
дворцовый музей) и «Сияние ночи» (30,8 х 33,5 см, кол-
лекция П. Дэвида, Лондон). Первый из названных свит-
ков занимают изображения пяти буйволов — огромных
размеров (в соответствии с размерами самого полотна), вы-
полненных с отменной реалистичностью. В центре возвы-
шается могучее животное, выполненное анфас, и будто в
упор смотрит на зрителей. Четыре остальных быка, с двух
сторон от него, показаны в профиль, но в движении и в
различных позах. Каждое животное имеет свою масть,
что также передано с потрясающей натуралистичностью
(см. вклейку). «Выпас лошадей» — картина, изображающая
Хань Гань.
«Выпас лошадей».
Фрагмент. Прорисовка
259 Существует немало под-
ражаний этому произведению.
Одно из них — «Сто коней»
(неизвестный автор, 26,7 х
х 302,1 см, шелк, тушь, крас-
ки, Музей Гугун), изображен
табун из 95 лошадей, сопро-
вождаемый 41 конюхом. Од-
нако ни одному из последо-
вателей Вэй Яня не удалось
повторить ни масштаб худо-
жественной композиции, ни
уровень исполнения.
пастуха и табун из 8 коней, которые считаются теми ле-
гендарными скакунами чжоуского царя Му-вана. Она вы-
полнена с предельной реалистичностью и динамичностью
рисунков. «Сияние ночи» (Чжаоебай) — имя любимого
коня императора Сюань-цзуна, которому и посвящен дан-
ный свиток, признанный шедевром творчества Хань Ганя
и танского анималистического жанра в целом. На есте-
ственном шелковом фоне с помощью уверенных графи-
ческих линий и чуть заметных размывов, передающих
объем конской фигуры и ее масть, с удивительным мас-
терством, знанием анатомии натуры и лошадиных пова-
док, выписан «портрет» (иначе и не скажешь) породисто-
нервного, рвущегося с привязи скакуна. Хотя европей-
скими искусствоведами нередко отмечается определенная
условность изображения, которая, по их мнению, каче-
ственно отличает китайскую графическую анималистику
от античного и европейского искусства, всеми специали-
стами без исключения признаются необыкновенная экс-
прессивность и одухотворенность животного.
В тени Хань Ганя остался, к сожалению, еще один тан-
ский художник-анималист — Вэй Янъ, о котором известно
только, что он был уроженцем столицы и работал в раз-
личных жанрах. Между тем именно ему принадлежит са-
мое грандиозное творение о лошадях — «Табун на выпасе»
(46,3 х 429,8 см, шелк, тушь, краски, Музей Гугун), кото-
рое к тому же сохранилось в копии, выполненной одним из
прославленных сунских живописцев — Ли Гунлинем, Все
пространство свитка плотно заполнено изображениями ко-
ней — скачущих, резвящихся, лежащих на траве, всего
1228 (!) рисунков, дополненных 140 фигурами конюхов, па-
стухов и наблюдающих за ними чиновников259.
Пейзажная живопись на всем протяжении первых по-
лутора столетий танской эпохи явно занимала второсте-
пенные позиции по отношению к жэнъу> о чем лучше всего
свидетельствует единичность известных для того времени
произведений. Собственно говоря, к непосредственно пей-
зажному жанру можно отнести одну-единственную карти-
ну, считающуюся копией свитка Ли Чжаодао — тоже по-
томственного художника, сына известного придворного
живописца — Ли Сысюня (657-716), который и сам рабо-
тал при дворе с 670 по 730 г. Имеющая название «Путеше-
580
ствие императора Минхуана (т. е. Сюань-цзуна) в Шу»
(55,9 х 81 см, Национальный дворцовый музей), эта кар-
тина воспроизводит сцену путешествия императорского
кортежа среди горных кручей Сычуани (см. вклейку). Фор-
мально оставаясь по-прежнему лишь фоном художествен-
ного повествования, пейзаж тем не менее не просто зани-
мает большую часть пространства свитка, но и претендует
на самоценную величину. A императорский кортеж, пока-
занный тонкой извилистой пестрой лентой на переднем
плане свитка, ничтожно маленьким в пропорциональном
соотношении с элементами горного ландшафта восприни-
мается как второстепенная или даже факультативная де-
таль. Главными особенностями пейзажа на этой картине
являются, во-первых, величественная горная панорама, a не
отдельные ландшафтные детали, как это было на свитке Гу
Кайчжи. Во-вторых, трактовки гор — в виде нагроможде-
ния гигантских пиков, образованных причудливой формы
выступами и отрывистыми склонами и резко вздымающих-
ся над облаками. «Космичность» гор подчеркнута крохот-
ными деревьями на их вершинах и склонах. И, в-третьих,
применение приемов передачи на плоскости картины пано-
рамной сцены. Несмотря на графическую плоскость силуэ-
тов гор, пейзаж стремится к пространственности, переда-
ваемой за счет дальних планов (силуэты горных массивов,
скрывающихся в облаках) и, главное, высоты горных пи-
ков: зритель видит их так, будто сам взирает на эту пано-
раму с какого-то высокого места.
Что касается манеры изображения людей и лошадей,
образующих императорский кортеж, то она отличается реа-
листичностью, детализованностью (выписка элементов одея-
ний и конского убранства, вплоть до показа числа косичек, в
которые заплетены гривы скакунов) и яркостью красок.
В целом картине Ли Чжаодао, отвечающей типологи-
ческим особенностям пейзажной живописи на данной ста-
дии ее эволюции, свойственны повышенная композиционная
плотность и декоративность, обусловленная ее цветовым ре-
шением. Использованы пронзительные синие и зеленые крас-
ки (на основе кобальта и меди) с подключением к ним крас-
ного, белого, голубого, черного и желтого тонов. Рисунок
выполнен уверенными, резкими контурными линиями и
плотными, хотя и изящными, размывками. Силуэты гор и
всадников обведены по контуру золотой краской. Впослед-
ствии за этой художественной манерой утвердилось терми-
нологическое название «сине-зеленый стиль».
Итак, при всем жанровом, тематическом и стилисти-
ческом разнообразии раннетанской живописи (что, заме-
тим, уже само по себе подтверждает ее стремительную эво-
люцию), ей в целом присущ ряд общих художественных
черт, a именно: тенденция к монументальности, абсолют-
ное господство реалистической манеры и повышенная де-
коративность. Учитывая, что мы имеем дело с работами
исключительно, повторим, придворных художников, право-
мерно считать перечисленные художественные черты атри-
бутами официального живописного творчества.
живопись
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ
ТАНСКОЙ ЭПОХИ
И ТВОРЧЕСТВО
ВАН ВЭЯ
260 Рассказывается, напри-
мер, о художниках, которые
выплескивали тушь на разост-
ланный на полу кусок шелка
и затем несколькими движе-
ниями кисти превращали по-
лученные пятна в условно-аб-
страктную пейзажную карти-
ну. 0 мастерах, рисовавших
совершенно изношенной кис-
тью или смоченными в туши
прядями своих волос. Некото-
рые такие экспериментаторы
рисовали, отвернувшись от кар-
тины и работая кистью в такт
музыки, другие прибегали к
опьяняющим или наркотиче-
ским средствам и творили в
экстатическом состоянии.
261 Ван Вэй является не
только одной из самых ярких,
но и романтически-загадочных
творческих фигур танской эпо-
хи. Точные годы его жизни не-
известны. По одним данным,
он родился в 701 и умер в
761 г., по другим — в 699 и
759 гг. Его мать, предполо-
жительно уроженка северно-
го региона Китая (пров. Шань-
си), происходившая из про-
винциального чиновничьего
семейства, по его же собствен-
ным воспоминаниям, более
30 лет провела в буддийском
монастыре, но без принятия
монашеского обета. Там же
родился и Ван Вэй, и не ис-
ключено, что его отцом был
кто-то из духовных наставни-
ков его матери. Воспитывался
он тоже, видимо, в монастыре
и, еще будучи подростком, мог
лично общаться с выдающим-
ся чаньским деятелем — Ше-
стым патриархом школы Чань
Хуэинэном. Такого рода ле-
генды о рождении и детстве
Ван Вэя дали повод некото-
рым исследователям видеть в
нем чуть ли не духовного
преемника Хуэйнэна и одно-
го из ведущих представителей
чань-буддизма танской эпохи,
что переносится ими и на его
творческую деятельность. Не-
смотря на монастырское вос-
питание и близость к буддий-
скому духовенству, Ван Вэй в
возрасте 20 лет (в 721 г.) с
блеском сдал столичный экза-
мен на чиновничью должность
и получил очень почетное для
своего возраста и происхожде-
ния назначение на пост музы-
кального распорядителя при
Ориентировочно с середины VIII в., т. е. сразу же вслед
за обострением кризисных тенденций в социаЛьно-полити-
ческой жизни танского общества, наблюдается стремитель-
ный выход живописи за пределы официальной художе-
ственной деятельности, где она вступила в стадию творче-
ских поисков и экспериментов, осуществляемых уже силами
художников-любителей — чиновников-интеллектуалов,
монашествующих, отшельников. Исходя из описаний этих
поисков и экспериментов, приведенных в письменных ис-
точниках, видно, что они были направлены на изобретение
новых изобразительных средств и живописных техник,
принимая порою откровенно эксцентрические формы260.
Ни один из образцов подобной живописи, к сожалению, не
сохранился. A многие живописные новации в последую-
щей теории живописи стали связываться с творчеством
одного человека — упоминавшегося выше живописца и
мыслителя Ban Вэя. Ему принадлежит исключительно важ-
ное место и в истории китайской литературы как создате-
лю принципиально новой по сравнению с предшествующей
поэзией пейзажной лирики261.
Из литературных источников известно, что Ван Вэй с
равным успехом работал в монументальной (храмовые сте-
нописи) и в станковой живописи и в самых разных жан-
рах, в том числе в жанре портрета, но преимущественно
историко-легендарного и религиозного характера. Извест-
но, что им была создана целая серия портретов буддий-
ского аскета Вималакирти: по меньшей мере 4 картины
этой серии хранились (судя по ее каталогу) в коллекции
сунского императора Хуэй-цзуна, но затем они бесследно
исчезли. 06 особенностях творческой манеры Ван Вэя как
портретиста мы можем судить по портрету древнего кон-
фуцианского ученого Фу Шэна, знаменитого тем, что он,
рискуя жизнью, спас некоторые конфуцианские книги от
уничтожения при Цинь-ши-хуан-ди. Это — неболыиой по
размеру вертикальный свиток (Музей Абе, Осака), на ко-
тором изображена данная вполоборота фигура старика,
облаченного в ветхую одежду, сидящего на соломенной
циновке перед низеньким столиком и держащего в руке
книжный свиток. Несмотря на очень серьезные повреж-
дения свитка, восхитительны совершенство линий рисун-
ка, мастерство исполнения фигуры человека, в первую
очередь лица. Картина была выполнена в пастельных то-
нах с применением легкой подцветки и является, по мне-
нию многих искусствоведов, одним из лучших образцов
танской портретистики.
И все же в историю китайской живописи Ван Вэй во-
шел, прежде всего, как художник-пейзажист, основопо-
ложник подлинно нового для национального изобразитель-
ного искусства пейзажно-живописного направления.
Главной новацией творчества Ван Вэя признается отказ
от полихромной техники и переход на монохромную, в кото-
рой им использовались графические линии и различные раз-
мывки. Необходимость работы в пейзажной живописи ис-
ключительно тушью обосновывается им и в теоретическом
582
сочинении «Тайны живописи», которое открывается фра-
зой: «Средь путей живописца тушь простая выше всего»262.
Параллельно Ван Вэй изменяет эстетические принципы изоб-
ражения природы, заменяя фантастическое нагромождение
пиков и скал на мягкий по силуэтным очертаниям ланд-
шафт, объединяющий в себе горы, водное и воздушное про-
странство. Показательный пример — горизонтальный сви-
ток «Просветы после снегопада в горах y реки» (копия, Со-
брание Огава, Киото): весь передний план картины занимает
изображение поверхности застывшей и потемневшей от хо-
лода реки. Вдоль дальнего (от зрителя) ее берега тянутся
скалы, перемежаемые островками и переходящие, на заднем
плане, в горную гряду, очертания которой сглажены снеж-
ным покровом. Белизна снега подчеркивается неравномерно
расположенными, но идущими в определенной ритмической
последовательности группами елей и обнаженных деревьев,
которые выписаны тончайшими штрихами туши. В правой
части берега еле заметны очертания хижин, застывших между
рекой и отдаленной горной вершиной.
Далее. Если в предшествующей живописи пейзаж вы-
ступал ареной человеческой деятельности, то в творчестве
Ван Вэя он впервые приобретает художественную и содер-
жательную самостоятельность, имея при этом отчетливый
религиозно-философский смысл, берущий начало от даос-
ско-буддийских мировоззренческих концепций и поведен-
ческих установок263. В этом аспекте пейзажная живопись
становится прямым семантическим аналогом пейзажной
лирики, что более всего прослеживается на примере твор-
ческой деятельности самого Ван Вэя. «Его картины подоб-
ны стихам, a стихи подобны картинам», — такую афори-
стическую и очень верную по мысли оценку дал живописи
и поэзии один из самых замечательных деятелей культуры
Сун, уже упоминавшийся ранее Су Ши. Действительно,
поэзия и пейзажная живопись Ван Вэя оказываются вариа-
циями на несколько субстанциональных, философско-эсте-
тических тем, a органическое единство обусловлено общно-
стью их тем, мотивов и образов. И живописные, и поэтиче-
ские его произведения воспроизводят, в сущности, одну и ту
же картину окружающей действительности, на которой
императорском дворе. Но его
столь успешно начавшаяся
официальная карьера вскоре
неожиданно прервалась: в на-
казание за промах, допущен-
ный придворными актерами во
время исполнения церемони-
ального танца, он был отре-
шен от должности и сослан на
малозначительный пост в от-
даленную восточную провин-
цию. Там он пробыл 10 лет,
после чего опять был вызван
в столицу, где очутился в гор-
ниле придворных интриг. Си-
туация, сложившаяся при дво-
ре престарелого Сюань-цзуна,
вызвала y Ван Вэя нескрывае-
мое разочарование в правящем
режиме и собственной служеб-
ной активности. Занимая на
всем протяжении второй по-
ловины 40-х — начала 50-х гг.
VIII в. довольно ответственные
посты в столичных и метро-
польных правительственных
учреждениях, он старался че-
редовать официальные обязан-
ности с периодами уединения,
уезжая в загородные имения,
где целиком отдавался творче-
ской деятельности. Во время
восстания Ань Лушаня он либо
не смог, либо по каким-то при-
чинам не захотел присоеди-
ниться к свите Сюань-цзуна,
бежавшей в Сычуань, остался
в столице, попал в плен к мя-
тежному генералу и был вы-
нужден поступить к нему на
службу. Однако и этот посту-
пок не отвратил от него членов
августейшей фамилии. Ван Вэй
вновь оказался в фаворе и дос-
тигал высоких государствен-
ных постов, включая замести-
теля первого министра. Мы не
случайно столь подробно оста-
новились на жизненном пути
Ван Вэя, так как он являет
собой самый показательный
для танского времени пример
«чиновника-интеллектуала» и
художника, творящего для
собственного удовольствия.
262 Здесь и далее перевод
В. М. Алексеева.
263 Примечательно настой-
чивое обращение Ван Вэя к
зимнему пейзажу, о чем сви-
детельствуют названия его кар-
тин, перечень которых сохра-
нился в сунских живописных
каталогах: «Снежный пере-
вал», «Любование рекой, по-
крытойснегом», «Поэтические
чувства, навеянные покрытой
снегом рекой», «Прощальная
трапеза среди снега». Между
Стилистика пейзажей
Ван Вэя
583
тем «снежность» произведе-
ний Ван Вэя прямо противо-
речит воспроизводимым в них
природным реалиям. В его
пейзажах без труда угадыва-
ется ландшафт южных реги-
онов Китая, где Ван Вэй не-
однократно и подолгу бывал
по служебным делам. Но в
этих районах подобных снеж-
ных покровов не может быть
по причине местных климати-
ческих условий. Значит, снег
является в его живописи су-
губо символическим образом,
который олицетворяет собой
пустотность Дао и чистоту его
постижения-наития.
выделяются горы, водные элементы, облака и образы, пе-
редающие пустоту и белизну в их даосско-философских
значениях. Глубинный философский смысл пейзажной
живописи не мог не повлечь за собой сдержанность и
лаконичность ее изобразительных средств. Ведь теперь
каждый композиционный и графический элемент должен
быть наполнен особым смыслом. Поэтому даже если в
действительности Ван Вэй не использовал все те приемы,
которые ему приписываются — считается, например, что
его работы на самом деле не были чисто монохромными, a
подкрашивались после их завершения самим мастером и
его учениками, — новационность его пейзажной живопи-
си несомненна.
живопись эпохи
СЕВЕРНАЯ СУН
СЕВЕРОСУНСКАЯ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ
ШКОЛА ЖИВОПИСИ
И ЕЕ ВЕДУЩИЕ
ЖАНРОВЫЕ
И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
История создания
Академии живописи
и ее роль
в художественной
жизни Северной Сун
С Северной Сун соотносится наивысший расцвет китай-
ской станковой живописи, давшей эталонные, как считает-
ся в традиции, образцы для всех ведущих ее жанровых
направлений и жанрово-тематических групп. При всем мно-
гообразии имевшихся в то время живописных явлений и
тенденций все они сводятся к трем генеральным процессам.
Это, во-первых, дальнейшая жанровая дифференциация. Во-
вторых, решительные изменения в иерархии живописных
жанров, приведшие к выдвижению на первый план пейзаж-
ной живописи и родственных ей жанрово-тематических на-
правлений и групп. Так, из 6400 художников, имена кото-
рых упоминаются в каталоге императорской коллекции для
начала XII в., более половины работали именно в таких
жанрах. При этом границы использования пейзажных ком-
позиций намного расширились. Они стали исполняться те-
перь не только на собственно свитках, но и на шелковых и
бумажных альбомных листах и, кроме того, вводиться в
орнаментацию изделий декоративно-прикладного искусства
и предметов мебели, например ширм. В-третьих, произошел
дальнейший рост общественного авторитета и популярности
живописи как творческой деятельности образованной эли-
ты. Данный процесс сопровождался институализацией жи-
вописного творчества, приведя к возникновению специаль-
ного государственного учреждения — Академии живописи.
Академия живописи как официальное государственное
учреждение является непосредственной преемницей анало-
гичных ей по сути институтов — древней Палаты Юэфу, тан-
ской Академии Ханьлинь, которые до этого курировали книж-
ную культуру и художественную словесность. Поэтому сам по
себе факт создания такого учреждения знаменует собой окон-
чательное превращение живописного творчества в элемент им-
перской государственности, что одновременно означало рас-
пространение на него контроля властных структур и всех тех
идейно-эстетических регламентаций, которые были свойствен-
ны китайскому официальному художественному творчеству.
Впервые Академия живописи была основана в середине
X в., при дворе уже неоднократно упоминавшегося ранее
царства Южное Тан, и затем воссоздана почти сразу же по-
584
сле прихода к власти династии Сун. Она объединяла в себе
образовательный, практико-методологический центр, допол-
ненный мастерскими по изготовлению живописных матери-
алов, и, как это и положено государственному учреждению,
имела штатное расписание, строящееся по иерархическому,
ранговому, принципу. Во главе Академии стоял «Началь-
ник, ожидающий императорских приказов». Следующие
ступени в штатном расписании занимали должности (ран-
ги) «почтительно ожидающий», «наставник в искусстве» и
«ученик». Члены Академии приравнивались к чиновникам
высших гражданских рангов и получали не только казенное
жалованье, но и специальные почетные звания и награды.
Помимо исполнения придворных заказов, им вменялось в
обязанность заниматься преподавательской деятельностью
и вести, говоря современным языком, научно-исследователь-
скую и экспериментальную работу, выражавшуюся в разра-
ботке теории живописи и ее прикладного аспекта. В свобод-
ное от исполнения служебных обязанностей время они име-
ли право работать по заказам частных лиц и на продажу264.
Учебная часть Академии живописи состояла из четырех
отделений — каллиграфии, живописи, математики и меди-
цины. Для поступления в нее нужно было выдержать экза-
мен по живописному мастерству, заключавшийся в написа-
нии картин на заданные темы, в качестве которых обычно
предлагались строки и строфы из поэтических произведений.
Образовательный цикл заканчивался выпускным экзаменом,
по итогам которого отбирались претенденты для пополнения
штата Академии. Методики обучения были основаны на изу-
чении и копировании работ старых мастеров с целью освое-
ния их техники и стиля. Тем самым Академия живописи,
безусловно, способствовала сохранению национальных жи-
вописных традиций и поддержанию преемственности между
живописцами различных поколений. Однако, с другой сто-
роны, такие образовательные методики неизбежно вели к
консервативности и ортодоксальности академической шко-
лы. Многие члены Академии проявили себя самобытными
мастерами и теоретиками живописи. И все же ее общая
практико-эстетическая линия была направлена на выработ-
ку нормативных для живописного творчества критериев, ос-
нованных на профессиональных навыках и требующих в пер-
вую очередь формального сходства изображений с натурой и
декоративности произведений265. Подобные нормативы рас-
пространялись на все жанровые направления, в которых ра-
ботали члены Академии, начиная с пейзажной живописи,
которая, казалось бы, навсегда была выведена творчеством
Ван Вэя за пределы каких-либо формальных ограничений.
264 Так как их творения в
обязательном порядке вклю-
чались во все живописные
каталоги, понятно, что они
пользовались преимуществен-
ным спросом на художествен-
ном рынке. В результате всех
этих привилегий художники-
академисты имели возмож-
ность оказывать решающие
воздействия на формирование
вкусов и запросов столичного
зрителя, a через столичную
аудиторию — и всей страны.
Поэтому, хотя количествен-
ный состав Академии живо-
писи был относительно неве-
лик (с 960 по 1127 г. ее члена-
ми состояли всего 76 человек),
она играла огромную роль в
художественной жизни совре-
менного общества.
265 Исчерпывающая харак-
теристика господствующих в
Академии стилей и требова-
ний дается в таком высказы-
вании одного из сунских де-
ятелей культуры: «Картины
Академии живописи были
очень искусно выполнены, и
в них нередко в той или иной
мере воспроизводились новые
веяния и реалии. Однажды я
видел свиток, изображавший
дворцовую веранду, всю в зо-
лоте и малахите. Алая дверь
была показана полуоткрытой,
и через нее придворная дама
выбрасывала из совка орехо-
вые скорлупки. Среди них
легко можно было узнать и
скорлупку от орехов цинкэ,
тисовых орехов, арахиса, a
также кожуру от каштанов и
плодов личжиу и все они были
отделены друг от друга».
Академическая пейзажная живопись, нередко обозначае-
мая в современных исследованиях как «панорамно-мону-
ментальная», начала складываться вне Академии живописи
и при непосредственном участии лиц, не имевших никакого
отношения к официальному художественному творчеству.
Одним из родоначальников данного пейзажно-живописного
стиля считается известный нам отшельник-теоретик Цзин
Академическая
пейзажная живопись
585
Xao, o живописном творчестве которого мы можем судить
только по единичным копиям. Хотя он являлся, как мы
помним, сугубо самодеятельным художником и опирался в
своих рассуждениях о сущности и целях живописи преиму-
щественно на даосские концепции, его пейзажные произве-
дения наследовали черты панорамно-монументального пей-
зажа, которые обозначились в творчестве Ли Чжаодао. К та-
кому выводу приводит анализ его картины «Горный пейзаж»
(вертикальный свиток, копия ХІ-ХІІ вв., шелк, тушь, крас-
ки, Музей Гугун). На нем воспроизводится, в сущности, тот
же «космический» ландшафт — грандиозный, торжественно-
застывший, вздымающийся к небу горный массив, образо-
ванный кручами причудливых форм. Теряясь в зеленом ту-
мане, они создают впечатление абсолютной неприступности.
Долина, затерявшаяся в расселинах гор, еле заметные нити
водопада, который обрушивается с головокружительной вы-
соты, крохотные деревья на склонах и вершинах — все это
типичные детали танского пейзажа. Пусть даже они даны
Цзин Хао в несколько иных масштабных соотношениях,
благодаря чему он добивается большего, чем танские масте-
ра, композиционного единства произведения, глубины его
пространственного построения и общего зрительно-эмоцио-
нального эффекта (см. вклейку).
Преемниками Цзин Хао и основоположниками непо-
средственно школы академической пейзажной живописи ста-
ли «Три великих пейзажиста X в.» — Гуанъ Тун (X в.), Ли
Чэн (9197-967) и Фанъ Куанъ (вторая половина X — первая
треть XI в.). Творчество каждого из названных художников
своеобразно. Однако все они работали в стиле панорамно-
монументального пейзажа и передавали обобщенный облик
скалистой северной природы, составленный из слоистых
круч, отвесных ущелий, водопадов, петляющих ручьев и
долин, затерянных среди горных громад.
Гуань Тун, уроженец северо-западного региона (Шэнь-
си) был непосредственным учеником Цзин Хао, он работал
в качестве профессионального художника в Кайфыне (пред-
положительно в 895-907 гг.) и после некоторого переры-
ва — при дворецарства Поздняя Тан (932-936). В сочине-
ниях по истории национальной живописи «стилю мастера
Гуаня» дается следующая оценка: «Формы камней твердо
застывшие, сплетение деревьев пышно разросшееся, баш-
ни и павильоны по-древнему изысканы, фигуры людей без-
мятежно уединенные». Приведенная характеристика в це-
лом подтверждается известными (в копиях) произведения-
ми Гуань Туна, из которых наиболее близким к подлиннику
признается свиток «Путники на горной дороге» (копия се-
редины XI в., 144,4 х 56,8 см, шелк, тушь, легкая под-
цветка, Национальный дворцовый музей). Всю поверхность
картины занимают горные формы, расположенные в вер-
тикальных планах и сходящиеся в общий башнеподобный
массив, резко обрезанный в верхней части краем свитка и
как бы выходящий за границы художественного простран-
ства. Сами горные формы образованы тяжелыми, словно
тектоническими, складками и выполнены в трех последо-
вательных техниках. Их контуры переданы графическим
рисунком, состоящим из то расширяющихся, то утончен-
ных линий. Фактура горной породы, углубления и высту-
пы скальной поверхности — скользящими текстурными
мазками, a объем смоделирован посредством тушевой штри-
ховки и размывов, что создает оптический эффект трех-
мерности изображений и пространственной глубины. Вме-
сте с тем контуры горных массивов оказываются здесь
более сглаженными, чем в предшествующих пейзажах,
ощущение неприступности гор снижается. В целом в твор-
честве Гуань Туна делается очередной шаг в освоении зако-
нов перспективы и композиционных принципов для объ-
единения пространственных планов.
Ли Чэн — художник, чье имя еще при жизни было
овеяно легендарной славой, который имел много учеников и
последователей266. Согласно письменным источникам, им
было создано около 300 картин, но почти все они были утра-
чены. Из приписываемых ему сохранившихся свитков, ко-
торые по большей части считаются современными эксперта-
ми копиями, выполненными в ХІІ-ХІѴ вв., наибольшей
известностью пользуются картины «Путник в зимнем лесу»
(или, «Сосны и камни», шелк, тушь, легкая подцветка, Музей
Метрополитен), «Буддийский храм в горах после дождя»
(118,8 х 56 см, шелк, тушь, краски, Галерея искусств
Нельсона-Аткинса, Канзас-сити, см. вклейку) и «Читая сте-
лу» (шелк, тушь, Муниципальный музей, Осака). Во всех
этих произведениях монументальность самого ландшафта со-
четается с тщательностью рисунка и обилием деталей. Од-
новременно в живописи Ли Чэна обнаруживается ряд прин-
ципиальных художественных новаций. Одна из них — упот-
ребление им одноугольной (диагональной) композиции, когда
основные изображения сосредоточены в одном углу карти-
ны. A пустому пространству придается равноценное, по срав-
нению с заполненной частью свитка, эстетико-смысловое
значение. Такое построение мы видим, в частности, в свитке
«Сосны и камни», который четко разделен на две части
диагональю, определяющей сочетание форм камней и дере-
вьев с художественным пространством, которое благодаря
этому приему оказывается как бы полностью открытым.
Другая новация Ли Чэна заключается в изменении прин-
ципов исполнения первого плана. Если Цзин Хао и Гуань
Тун сразу же ставили перед зрителем панораму гор, то Ли
Чэн выдвигает на первый план какую-либо единичную де-
таль — корни древней сосны, сухие древесные ветви, —
обрезая их нижним краем свитка. И эти детали противопо-
ставляются им бесконечной глубине горного простора на
втором плане.
Третья его новация — исполнение пейзажа с низкой точ-
ки зрения, почти на уровне человеческих глаз, т. е. в мане-
ре, близкой к европейской267. И наконец, Ли Чэн работал в
специфической творческой манере, придававшей его творени-
ям особое романтическое настроение. He случайно старые
китайские теоретики и критики живописи называли его
первым художником, кто постиг «прелесть лесного тумана
266 Он происходил из знат-
ного чиновничьего клана, за-
нимал высокие должности при
дворе, был награжден золотой
печатью на пурпурном шну-
ре — знак официального при-
знания его заслуг и творчества.
267 Чтобы ПОНЯТЬ СМѲЛОСТЬ
и новизну данного композици-
онного приема, следует знать,
что фиксированная точка зре-
ния и направленность взгля-
да «снизу вверх», с позиции
стоящего на земле человека,
были абсолютно нетипичны
для китайской живописи. Бо-
лее того, они противоречили
цели живописного пейзажа, в
котором полагалось показать
разные ракурсы натуры (не
только горных форм, но и экс-
терьера и интерьера постро-
ек), причем одновременно в
приближении к ней и в уда-
лении от нее, и при ее рас-
смотрении и сверху, и снизу,
и сбоку. Именно благодаря
такой подвижной точке зре-
ния, или, в более точной ис-
кусствоведческой терминоло-
гии, рассеянной перспективе,
китайская живопись облада-
ет специфическим оптическим
эффектом — зритель словно
свободно двигается над зем-
лей, обозревая меняющиеся
на его глазах предметы и фор-
мы, что и позволяло китай-
ским мастерам воспроизво-
дить пейзажные панорамы.
Поэтому новшество Ли Чэна
не заменило собой подвижную
точку зрения, a указало лишь
национальной живописи иные
потенциальные возможности
структурирования художе-
ственного пространства.
587
268 В разные годы своей
жизни то он жил в отшельни-
ческом уединении, то совер-
шал странствия по гористым
местностям в окрестностях
Лояна и Кайфына. Он первым
осмелился бросить негласный
вызов академической школе,
поставив под сомнение целе-
сообразность4 копирования ра-
бот мастеров прошлого и на-
стаивая на том, что, созерцая
только природу, можно по-
стичь тайны живописного ис-
кусства. По преданию, он и в
самом деле неподвижно сидел
часами, взирая на открываю-
щиеся пейзажные виды и вни-
мательно изучая их элементы
и детали.
и ровных полей». Созданию такого романтического настрое-
ния тоже способствовал ряд деталей, к числу которых отно-
сится трактовка деревьев — с узловатыми, мощными ство-
лами и причудливо изогнутыми, словно когти чудовищного
хищника, ветвями, для исполнения которых Ли Чэн прибе-
гал к специальным структурным мазкам, получившим впо-
следствии образное название «клешня краба». Кроме того,
художником активно используется образ путника — стран-
ствующего неведомо куда через лесные чащобы («Путник в
зимнем лесу») или застывшего в задумчивости перед древ-
ней стелой («Читая стелу»).
Фань Куань — «Фань, ведущий вольготный образ жиз-
ни» — псевдоним художника Фань Чжунчжэна, который
как нельзя лучше соответствует его личности. Выходец из
древнего клана служилых интеллигентов и ученик Ли
Чэна, он, закончив профессиональное обучение, никогда
более не возвращался на служебную стезю, предпочтя офи-
циальной карьере радости вольного бытия «свободного
художника»268. «Духовной сопричастностью с природой
постиг главный принцип мироздания, столь необычным
талантом никто не мог с ним сравниться. Его стиль и
правила отличаются от искусства Гуаня и Ли». С этой
характеристикой Фань Куаня, данной ему в старых сочи-
нениях, трудно, пожалуй, не согласиться, кроме одного
«но». Формально не принадлежа к академическим кру-
гам и не поддерживая академическую живописную шко-
лу, Фань Куань тем не менее, работал именно в панорамно-
монументальном пейзажном стиле, что и позволяет ста-
вить его в один ряд с его учителем и предшественниками.
Сохранились три его картины: «Путники среди гор и по-
токов» (206,3 х 103 см, шелк, тушь, легкая подцветка,
Национальный дворцовый музей), «Заснеженный лес»
(193,5 х 160,3 см, шелк, тушь, краски, Муниципальный
музей искусств, г. Тяньцзинь) и «Сидящий в одиночестве
y горного потока» (156,1 х 106,3 см, шелк, тушь, легкая
подцветка, Национальный дворцовый музей), последняя
из которых, правда, в настоящее время считается либо
копией, выполненной не ранее XII в., либо самостоятель-
ным произведением «в стиле Фань Куаня».
Наиболее показательным для творческой манеры Фань
Куаня считается свиток «Путники y горного потока»
(см. вклейку). На переднем плане, y нижнего края карти-
ны — причудливой формы каменная глыба, которую оги-
бает тропинка, проходящая вдоль реки и теряющаяся в
роще. У самой воды, справа — спешившиеся путники. Чуть
выше, из-за деревьев, виднеются крыши храмовых строе-
ний. Сразу за передним планом возвышается гора с отвес-
ной стеной, изображение которой занимает три четверти
поверхности картины. Она так велика, что не умещается на
свитке и срезана его краем. Оставшаяся часть вершины и ее
склоны покрыты зарослями кустарника. Массив горы рас-
членен струями водопада, который обволакивает брызгами
ее основание и разливается речным потоком на переднем
плане. Вся композиция и различные планы объединены точ-
588
кой зрения сверху вниз, дающей возможность художнику
показать вершину горы, крыши храма и увиденные сверху
фигуры путников. Присутствуют и другие точки зрения:
художник и зритель как бы стоят перед каменной глыбой,
откуда им открывается поворот речного потока и роща,
увиденная на этот раз снизу. Вся картина построена на
сопоставлении огромной массы светлого и темного. Этот
же прием повторяется и усиливается в свитке «Заснежен-
ный лес», в котором обыгрывается контраст горного масси-
ва и снежного покрова. Передний план здесь составляет
замерзшая поверхность реки, моментально создающая эф-
фект открытости пространства. Противоположный (от зри-
теля) речной берег образован заснеженными валунами и
рощей из многовековых деревьев с обнаженными ветвями.
Сразу же за рощей (средний план) вздымается покрытая
снегом гора с храмом на вершине. Задний план составляет
огромная темная гора, за которой намечены уходящие вдаль
грандиозные пики.
Подобно Ли Чэну, Фань Куань прибегал к новым прие-
мам и техникам. Валы и утесы он выписывал особыми
текстурными мазками — «капли дождя», a для передачи
атмосферной среды и снега накладывал 6-7 слоев тушевой
размывки. Горы и валуны в «Путниках...» выполнены гус-
той тушью, точками и штрихами, a чтобы передать брызги
и туман над водой, живописец оставил естественный шел-
ковый фон, обрамив его деталями, выполненными жирной
тушью. Его излюбленный художественно-композиционный
прием — ритмичное чередование светлого и темного, гра-
фических линий со штрихами и точками.
Итак, каждый из «Трех великих живописцев», дей-
ствительно, внес немалую лепту в развитие пейзажной жи-
вописи во всех ее аспектах.
Следующая стадия эволюции панорамно-монументаль-
ного пейзажного стиля связывается с творчеством Цюй Дина
(1033-1056) и Сюй Даонина (9707-1052), которое наиболее
полно представлено соответственно картинами «Летние
горы» (горизонтальный свиток, шелк, тушь, краски, Му-
зей «Метрополитен») и «Ловля рыбы в горном потоке»
(48,9 х 209,6 см, шелк, тушь, легкая подцветка, Галерея
искусств Нельсона-Аткинса, Канзас-сити).
На свитке «Летние горы» изображен вечер в горах,
который, не будучи обозначенным в названии или в харак-
терных природных реалиях для этого времени суток (по-
каз, например, заходящего солнца), угадывается в нюан-
сах поведения людей — рыбаков и лесорубов, возвращаю-
щихся домой после рабочего дня — и самого пейзажа.
Вершины гор высветлены, словно на них падают отблески
последних лучей солнца, в ущельях поднимается туман.
Принципиальным новаторством пейзажа в исполнении Цюй
Дином является передача — вместо изображения в фас еди-
ничной горы или горы, фланкированной сбоку двумя мел-
кими пиками, — нескольких горных цепей, расположен-
ных одна за другой как по горизонтальной, так и по верти-
кальной осям свитка. Это повлекло за собой изменение
Правила изображения
трех далей. С цинских
книжных иллюстраций
a — высокая даль; б — глубокая
даль; в — ровная даль.
всей ритмики пейзажа. В отличие от картин «Великих
пейзажистов», в которых доминирует вертикальное сече-
ние, здесь изобразительные мотивы подчинены именно го-
ризонтали, a их движение построено на постепенном нара-
стании форм и устремляется к главной, центральной гор-
ной гряде, вершина которой срезана верхним правым краем
картины.
Свиток «Ловля рыбы в горном потоке» содержит в себе
очередной авторский вариант трактовки горного ландшаф-
та и его отдельных элементов (см. вклейку). На первом
плане — река с лодками рыбаков, вдоль берега которой —
дорога с идущими по ней путниками. Средний план со-
ставляют кручи гор (справа) и излучина реки с разбросан-
ными по ее берегам валунами и еще одна, полого снижаю-
щаяся гора. Вдали, на третьем плане, тянется горная цепь,
построенная на ритмическом варьировании пиков. Горы
написаны мощными, скользящими от вершин к подножию
мазками кисти. Выступы и впадины и их объем моделиру-
ются путем чередования плотного слоя туши с размывами.
Острые графические приемы в очертании отвесных обры-
вов и обнаженных древесных стволов на переднем плане
сочетаются с мягкими расплывчатыми живописными пла-
нами далеких горизонтов. A все это вкупе с золотистым
ровным тоном шелка помогает передать впечатление целост-
ной непрерывности пейзажа.
Все работы художников, творивших в панорамно-мону-
ментальном стиле, помимо самого по себе воспроизведе-
ния картины величественного горного ландшафта, отме-
чены еще рядом общих художественно-композиционных
особенностей: наличия стандартных композиционных
схем, фронтальных видов, уплотненности и насыщенно-
сти художественного пространства и детализованности изоб-
ражений. Хотя каждому конкретному произведению при-
сущ собственный, специфический эмоциональный настрой,
очевидна тенденция художников к самоабстрагированию от
натуры и к стремлению передать максимально объективи-
рованную картину окружающей действительности. Одна-
ко реалистичность пейзажа, проистекающая из данной
установки, оказывается отличной от художественного ре-
ализма в его европейском понимании. Если европейский
реализм базируется на осознании дихотомии между субъек-
том и объектом, то реалистичность китайской живописи
обусловлена задачей передать через внешние параметры
создаваемых образов внутренний смысл изображаемых
объектов.
В таком виде панорамно-монументальный стиль подо-
шел к стадии наивысшего своего расцвета, которая одно-
значно соотносится с творчеством уже упоминавшегося
художника и теоретика живописи Го Си (10207-1100?).
Го Си — одна из ключевых фигур северосунской акаде-
мической живописи. Ученик Ли Чэна, он в течение многих
лет был членом Академии живописи, занимая в ней круп-
ные руководящие посты. Главной теоретической заслугой
Го Си является детальная разработка принципов и методов
590
пейзажной живописи269. Им подробно разбираются и объяс-
няются, исходя из характера ландшафта в различных (се-
верных, южных, восточных и западных) регионах страны
и времен года, особенности пейзажных видов, многообра-
зие и изменчивость природных форм и реалий270. Опира-
ясь на тезис о географическом и временном многообразии
и разнообразии ландшафтных видов, Го Си предлагает сю-
жетно-тематическую классификацию пейзажной живопи-
си, выделяя для нее более 100 сюжетов, сгруппированных
по темам, в качестве которых им берутся времена года,
суток (рассвет, закат) и отдельные природные реалии (ту-
ман, облака, сосна, камень и т. д.). Для каждой из выде-
ленных сюжетных групп он указывает стандартный образ-
ный ряд, включая изображения людей, которые, по его
мнению, тоже должны полностью отвечать сезонно-погод-
ным условиям и характеру пейзажного вида. Так, при ис-
полнении весенних пейзажей людей следует изображать в
радостном, приподнятом настроении, летних пейзажей —
в безмятежно-спокойном, a осенних и зимних — в печально-
задумчивом и уныло-подавленном состояниях. Каждый
предмет, связанный с человеческой деятельностью, тоже
наделяется определенным смыслом, обусловливающим его
присутствие и местоположение в картине271.
Еще более важный раздел теоретических построений
Го Си составляет разработка конкретных способов переда-
чи пейзажа в зависимости от перспективы и точек зрения.
Его наблюдения и выводы выливаются в «концепцию трех
далей». «Гора имеет три формы: если смотреть, стоя y ee
подножия, и смотреть на вершину, называется это высокой
далъю (гаоюань). Если стоять перед горой и высматривать,
что за горой, называется это глубокой далъю (шэнъюанъ).
Если с ближней горы наблюдать дальнюю гору, называет-
ся это ровной далью (пинъюанъ). Цвет высокой дали —
светлый и ясный; цвет глубокой дали — тяжелый и тем-
ный. Эффект высокой дали — в неожиданном срезе». Орга-
ническое соединение «трех далей» происходит именно бла-
годаря подвижной точке зрения — с позиции, например,
идущего по дороге путника, который видит и ровную даль
реки, и горную высь, если смотреть на нее из деревни, и
петляющую, уводящую к храму за горой тропу. Для опре-
деления масштаба Го Си предлагает использовать «три из-
мерения» — гору, дерево и человека: «Гора имеет три из-
мерения — гора болыне дерева, дерево больше человека...
Когда дерево сравнивают с человеком, начинают с листвы;
когда человека сравнивают с деревом, начинают с головы.
Определенное количество листвы на дереве соответствует
размеру головы человека; голова человека соответствует
определенному количеству листвы».
Следует заметить, что в своих теоретических построе-
ниях и практических рекомендациях Го Си опирался на
творческий опыт не только предшествующей ему живопи-
си («три дали» уже имплицитно присутствуют в работах
прежних художников-пейзажистов), но и поэзии, в кото-
рой словесные картины природы тоже строятся с учетом
269 Его теоретические по-
строения, вошедшие в трак-
тат «О высокой сути лесов и
потоков», были приведены в
стройную систему взглядов не
им самим, a его сыном (Го Сы),
собравшим, обработавшим и
обнародовавшим творческое на-
следие отца, что, впрочем, ни-
чуть не умаляет их значимости
для истории китайской живо-
писно-эстетической мысли.
270 «Горы на востоке и юге
красивы и изящны... горы на
заладе и севере пышны и мас-
сивны... Весенние горы оку-
таны цепью облаков и дым-
кой... летние горы украшены
пышной зеленью деревьев...
осенние горы ясные и холод-
ные... На рассвете лес выгля-
дит так, на закате — иначе;
пасмурно или ясно — и горы
выглядят совершенно по-раз-
ному... Вода может быть глу-
бокой и спокойной, мягкой
и скользящей, просторной с
барашками, петляющей и сви-
вающейся кольцами» и т. д.
(здесь и далее — пер. К. Ф. Са-
мосюк).
271 «Мосты и плотины ука-
зывают на людские дела. Лод-
ка и рыбак с удочкой обозна-
чают желание... Деревня дол-
жна быть расположена на
равнине, a не в горах. На рав-
нине — чтобы удобно было
пахать землю... Бывает, что и
в горах, но в таких местах,
где есть пахотные земли».
591
272 Его трактат изобилует
такого рода рекомендациями:
«Там, где сгиб и охват, поме-
стим, пожалуй, монашеский
скит; y дороги, y вод мы по-
ставим простое жилье. Селу
или ферме придай ряд дере-
вьев... Горе или обрыву дай
водную ленту, пусть брызжет
и мчится... У переправы долж-
но быть«лишь тихо и пусто,
идущие люди пусть будут ред-
ки, поодиночке... Средь скал
нависших и опасных круч хо-
рошо б приютить странное
дерево, в местах, где высит-
ся стеною кряж, невозможно
никак дорогу прокладывать...
Далекие горы нужно снижать
и раскидывать; близким же
рощам надо скорее дать вы-
нырнуть резко».
закономерностей визуальной перспективы. Более того, по-
пытка выделения для пейзажной живописи стандартного
сюжетно-тематического набора была предпринята уже Ван
Вэем272. Поэтому мы вправе говорить, что в этих построе-
ниях и рекомендациях нашла отражение общая для китай-
ского художественного творчества тенденция к стереотип-
ности и стандартизации произведений, которая лучше все-
го отвечала эстетическим установкам непосредственно
академической живописи. Неудивительно, что затем Го Си
переходит к сугубо формальным регламентациям: «Каж-
дый, кто собирается писать пейзаж, должен уметь сочетать
небо и землю... Например, на пустом шелке в полтора чи
(около 48 см) верхнюю часть нужно оставить для неба,
нижнюю для земли, a между ними и по бокам постараться
разместить пейзаж... Болыная величавая гора — владели-
ца горной массы, поэтому раздели ею холст. Возьми хол-
мы, рощи и пропасти, чтобы выделить далекое и близкое,
большое и маленькое». Одновременно Го Си настаивал на
обязательном обучении художника для овладения им про-
фессиональными навыками.
Теоретические соображения и установки Го Си находят
воплощение и в его живописном творчестве, притом что
его художественная манера претерпела немало изменений
вследствие роста и практического мастерства и живописно-
духовного опыта. Сохранилось 12 приписываемых ему кар-
тин, три из которых являются, по мнению экспертов, бе-
зусловными подлинниками, позволяющими досконально
проследить его творческий путь. Его ранние картины еще
очень близки к произведениям Ли Чэна и других пейзажи-
стов X в. Го Си широко использует диагональную компози-
цию, сочетание различных точек зрения и обыгрывает ха-
рактерные для них образы, например «корявые» деревья.
Его творческая самобытность и новаторство, пожалуй,
впервые отчетливо проявляются в картине «Ранняя весна»
(«Начало весны в горах», 158,1 х 108,2 см, шелк, тушь,
легкая подцветка, Национальный дворцовый музей), кото-
рая датируется 1072 г. На ней изображена возносящаяся
над водой гора, являя пейзажную трактовку предшествую-
щих пейзажистов. Но при этом в свитке прослеживается
и новое отношение к пространству, и композиционно-
стилистическая оригинальность. Масса горы уже не зани-
мает всю его поверхность. Композиция построена на по-
вторении и постепенном нарастании форм камней: гро-
моздкие и непрерывно видоизменяющиеся, они набирают
крутизну, затем прерываются поясом тумана и вновь вы-
растают из туманной пелены, образуя горную вершину.
Пустое пространство, оставленное справа и слева, позво-
ляет художнику осуществить «прорыв вдаль» и еще силь-
нее подчеркнуть динамичность каменных форм. Параллель-
но художник смело сопоставляет большие массы светлого
и темного, что вместе с напряженностью форм создает дра-
матический эффект.
Творческие поиски Го Си были продолжены им в свит-
ке «Осень в долине Желтой реки» («Прояснение осеннего
592
неба над горами и долинами», 26 х 206 см, шелк, тушь,
легкая подцветка, Галерея Фрира), который полагается
одним из лучших, если не самым выдающимся, его произ-
ведением. Перед зрителем открывается величественная па-
норама речного и горного ландшафта — не какой-то опре-
деленной, конкретной местности, a как бы пейзажа-воспо-
минания, в котором воплотились впечатления художника
от многократно им виденного и прочувствованного. Он,
вслед за ним и зритель осуществляют своего рода стран-
ствие, во время которого перед их глазами проходит не-
скончаемое многообразие ритмов и форм природы. Один
вид сменяется другим. За скалами, нависшими над ущель-
ями, вздымаются уходящие в туманные дали горные цепи.
Они уступают место соснам и хижинам, расположившимся
вдоль пологого речного берега. Затем — излучина реки, за
которой еле виднеются в дымке вершины холмов, оконча-
тельно теряющие свою материальность и сливающиеся на
горизонте с речной далью. Пространство, в котором разво-
рачивается все это действо, не имеет четко очерченных
границ — даль следует за далью.
В начале свитка (справа) формы как бы возникают из
небытия. Сначала проходит намеченная тушью линия го-
ризонта. Потом появляются невысокие холмы, единичные
камни и деревья, которые, видоизменяясь, нарастая и уве-
личиваясь в размерах, превращаются в огромные, уже не
умещающиеся на свитке (срезанные вершины гор в его цен-
тре) формы, чтобы вновь, постепенно придя в состояние
ритмического покоя, раствориться, слившись с поверхно-
стью шелка. Передний план резко выдвинут к зрителю и
сокращен, будучи образован отдельными нагромождениями
глыб, стволами сосен, зарослями кустарника. Причем они
изображены y самого края и так, что перед ними уже нет
ни земли, ни другого пространства. Средний план в цент-
ральной части свитка практически отсутствует: в него вдви-
гаются вздымающиеся горные массы. A в левой части ему,
напротив, отводится чуть ли не вся фоновая поверхность,
и он оказывается максимально раздвинутым, раскрытым
вширь и вглубь и выгибается к зрителю полусферой, под-
чиняясь законам обратной перспективы. Динамичность
пространственных ритмов подчеркивается изменчивостью
атмосферной среды — туман, переходящий в дымку, вне-
запно рассеиваясь над рекой. He менее важно, что, остава-
ясь панорамно-монументальным по своей сути, горный ланд-
шафт приобрел в творчестве Го Си не только динамичность
и изменчивость, но и мощное эмоциональное звучание.
Панорамно-монументальный пейзажный стиль, найдя
свое высшее воплощение в творчестве Го Си, фактически и
исчерпал себя в нем же. Подобные пейзажи, разумеется,
создавались и в дальнейшем, но уже в большей степени
как дань традиции273.
Закономерен вопрос, почему панорамно-монументаль-
ный пейзажный стиль возник и утвердился в рамках имен-
но официального художественного творчества, и не проти-
воречит ли это ранее неоднократно высказываемой точке
38 Исгория искусства Китая
273 Показательным приме-
ром этого выступает картина
Ван Симэня (конец XI — на-
чало XII в.) «Тысячи ли гор и
рек» (горизонтальный свиток,
длина более 500 см, шелк,
тушь, краски). Написанная
интенсивными синими, мала-
хитово-зелеными, коричневы-
ми и охристыми красками,
она воспроизводит фантасти-
ческую по своим параметрам
панораму гор, рек и долин,
составленную, как это обна-
руживается при вниматель-
ном рассмотрении, из колос-
сального числа тонко выпи-
санных миниатюрных сцен:
птицы на озерах, звери в лес-
ных чащах, люди, занимаю-
щиеся различными делами.
Заметно, что Ван Симэнь ста-
рался решить те же задачи
передачи пространства и мно-
гообразия форм природы, что
и Го Си. Так, он показывает
воду то ровной, то вибрирую-
щей, цепи гор — то четкими
(на переднем плане), то туман-
ными. Нельзя также отри-
цать, что созданное им живо-
писное полотно увлекает зри-
теля своей грандиозностью,
масштабностью художествен-
ного замысла и великолепи-
ем цветовой гаммы. И все же
зритель проникается не более
чем внешним величием приро-
ды, a не ее внутренним смыс-
лом, что было первостепенным
для Го Си и его предшествен-
ников, и чувствует себя не со-
причастным красоте природы,
a скорее, исследователем, по-
знающим мир.
593
зрения, что модель восприятия дикой природы начала
складываться в древних религиозно-космологических пред-
ставлениях южного региона Китая, получив затем теоре-
тическое обоснование в даосской философии, тогда как,
по утверждениям автора, официальное художественное
творчество опиралось преимущественно на конфуцианские
морально-этические и эстетические установки. Нет, не про-
тиворечит. Дело в том, что идейной платформой данного
стиля послужили натурфилософские воззрения на приро-
ду, в которых элементы ландшафта, как мы помним, яв-
лялись воплощением гармонии мироздания. Эти воззре-
ния полностью разделялись древними конфуцианскими
мыслителями и, что самое важное, были восприняты и
развиты представителями неоконфуцианской школы, на-
чиная с Чжу Си.
В учении Чжу Си произошла онтологизация этических
норм, a этические категории превращены в своего рода
нравственный каркас вселенского универсума, который и
находит воплощение в природных закономерностях, в «не-
бесных принципах» (тянъли). Неоконфуцианские мысли-
тели настаивали на том, что только через постижение при-
родных реалий человек способен достигнуть ментального
единства с «небесными принципами» и тем самым по-
стичь высшие этические законы, правящие космосом,
человеческим обществом и персонально им самим. Поэто-
му независимо даже от желаний конкретных художников
создание панорамно-монументальных пейзажных видов
оказывалось, с семантической точки зрения, воспроизве-
дением космического миропорядка, что должно было ока-
зывать морализующее воздействие на зрителя и, следова-
тельно, содействовать нравственному воспитанию обще-
ства и упрочению имперской государственности. Более
того, такого типа пейзажные произведения обладали, как
выясняется, типологическими приметами иконографии,
a все отмеченные их художественно-композиционные осо-
бенности были подчинены задаче создания картин приро-
ды, воплощающих «макроскопический пейзаж». Их стан-
дартные схемы — с доминированием вертикального или
горизонтального расположения элементов, либо сочетав-
шие в себе оба этих сечения, есть не что иное, как воспро-
изведение главных координат — горизонтальной и верти-
кальной осей — вселенной.
Монументальность и панорамность пейзажного вида
продиктованы необходимостыо воссоздания окружающей
действительности во всей ее целостности, a повышенная
плотность художественного пространства и детализован-
ность изображений — осознанием ценности каждого при-
родного элемента и мгновения как органической и неотъем-
лемой части космического универсума. Преимуществен-
но фасное изображение горных форм и других природных
объектов опирается на универсальное для религиозного
искусства представление, что именно через прямое вос-
приятие живописания натуры можно проникнуть в ее
сущность, постигнуть сокрытые в ней высшие, по отно-
шению к человеческому миру, закономерности и пока-
зать их зрителю.
И наконец, утверждение в пейзаже «рассеянной пер-
спективы» оказывается тоже прямо связанным с их «кос-
мической» семантикой. Если исходить из открытой совре-
менной наукой искривленности макро- и микромиров, то
выясняется, что подвижная точка зрения выявляет искрив-
ленность пространства, создавая y зрителя впечатление па-
норамности пейзажного вида и собственного присутствия в
нем, a также вызывая в его сознании ассоциации с величи-
ем мироздания. Следовательно, и в данном случае мы при-
ходим к выводу, что возникновение и бытие панорамно-
монументального пейзажного стиля было предопределено
не столько собственно художественными факторами, сколь-
ко культурно-идеологическими.
Показательно, что вхождение сунского правящего ре-
жима в кризисную ситуацию сразу же привело к падению
популярности данного стиля, который в создавшихся исто-
рико-политических условиях выглядел откровенной на-
смешкой над потугами центральной власти оказывать ми-
роустроительное воздействие на Космос. Пейзажные про-
изведения, украшавшие стены императорских чертогов,
приказано было отправить в запасники или просто выбро-
сить. Такая участь постигла и картины Го Си. Еще недавно
вызывавшие всеобщее восхищение и августейшее одобре-
ние, они использовались, по воспоминаниям очевидцев,
для покрытия столов в мастерских или помещениях при-
слуги. На смену панорамно-монументальному пейзажу не-
избежно должны были прийти жанры, позволявшие вос-
создавать окружающую действительность в более камер-
ных и лирических трактовках. Так оно и произошло на
самом деле.
Искомым камерным жанром пейзажного характера стал
жанр щветы и птицы» (хуаняо), истоки которого восхо-
дят, по наиболее распространенной среди искусствоведов
версии, к буддийской культовой живописи, a именно — к
орнаментам с зооморфными и растительными мотивами,
которые служили дополнением или обрамлением собствен-
но иконописных изображений274. Этот жанр обозначился в
первой половине X в., a его родоначальниками считаются
художники Хуан Цюанъ (900-965) и Сюй Си (X в.). Пер-
вый работал при дворе царства Поздняя Шу, располагав-
шегося в Сычуани, второй — при дворе уже известного
нам царства Южное Тан. И каждый из них предложил
собственное стилистическое решение данного жанра, что
привело впоследствии к появлению двух генеральных сти-
листических линий. Творческая манера Хуан Цюаня опи-
ралась на танскую придворную живопись: она характери-
зуется насыщенностью цветовой гаммы, четкостью линий,
тщательностью проработки деталей, фиксацией всех нюан-
сов натуры и декоративностью. Подлинными образцами
его творчества выступают альбомный лист «Утки в камы-
шах» (28 х 27 см, шелк, тушь, краски, Гугун) и свиток
Жанр
«цветы и птицы»
и анималистический
жанр
274 He лишним будет так-
же вспомнить, что сочетание
образов цветов и птиц отно-
силось к числу излюбленных
мотивов китайского декора-
тивно-прикладного искусства,
который впервые был испол-
нен еще в росписях на неоли-
тической керамике.
595
275 По мнению некоторых
историков китайской живопи-
си, он возник еще в творче-
стве У Даоцзы и обрел само-
стоятельность в конце Тан.
В частности, упоминается кар-
тина, датируемая 910 г., на
которой воспроизводится бам-
бук с сочетанием контурного
рисунка тушью и подкраской.
«Наброски редкостных птиц» (41,5 х 70 см, бумага, тушь,
краски, Гугун). Второе из названных произведений пред-
ставляет собой не связную живописную композицию, a эс-
кизные (но тоже очень тщательно проработанные) изобра-
жения различных птиц и животных (включая черепаху) —
всего более 20 персонажей. В силу своей красочности и
декоративности этот стиль впоследствии получил название
«богатство и знатность». И понятно, что именно он оказал-
ся востребованным академической живописью.
В жанре «цветы и птицы» активно работали не толь-
ко профессиональные художники, но и многие предста-
вители знати — принцы крови, сановники. Его привле-
кательность была обусловлена, с одной стороны, камер-
ностью и лаконичностью набора изображений, что делало
его значительно более простым для исполнения, чем те
же пейзажные полотна, a с другой — он с равным успе-
хом мог реализовываться как в малых (альбомные лис-
ты), так и крупногабаритных по формату произведениях,
которые очень эффектно смотрелись на стенах дворцовых
помещений.
Работы Сюй Си отличаются, напротив, изяществом пись-
ма, элегантностью и приглушенностью цветовой гаммы.
Его излюбленными сюжетами и персонажами были лото-
сы, поднимающиеся из темной воды, опадающие в воду
листья, пышные цветы магнолий, водяные птицы, цика-
ды, бабочки. Он использовал светлые, прозрачные краски,
дополняя ими выписанные тушью контуры и давая по ним
мягкую розовую подцветку. Впоследствии предложенному
им стилистическому варианту стала свойственна подчерк-
нутая эскизность изображений, призванных передать не
столько реальные очертания и фактуру натуры, сколько
впечатление и настроение самого художника.
В сунской академической живописи и придворных жи-
вописных кругах сразу же началась дифференциация жан-
ра «цветы и птицы» с выделением все новых тематиче-
ских разновидностей и групп, которые специализирова-
лись на изображениях отдельных растений, представителей
животного мира или эпизодах окружающей действитель-
ности: болотных птиц, креветок и рыб, бабочек и цветов
и т. д. Самым значительным тематическим, даже стили-
стико-тематическим, направлением является «бамбуковый
стиль», в котором воспроизводились исключительно изоб-
ражения бамбука — от целого растения до нескольких
ветвей или листьев, и который, по всей вероятности, имел
собственное происхождение275. Основоположником и од-
новременно непревзойденным мастером «бамбукового сти-
ля» признан сановный художник Вэнь Тун (вторая поло-
вина X в.), который, по словам критиков, умел передавать
«тонкость красоты бамбука» и изображать его так, что
«кажется, что он вот-вот затрепещет от дуновения ветра».
Подтверждением таких оценок служит приписываемый
Вэнь Туну свиток «Бамбук» (132 х 105,4 см, шелк, тушь,
Национальный дворцовый музей), на котором быстрыми
каллиграфическими мазками выполнена действительно уди-
596
вительная no внешнеи красоте и совершенству рисунка
изогнутая бамбуковая ветвь. Начиная с Вэнь Туна, утвер-
дилось исполнение «бамбукового стиля» только в моно-
хромной технике. В трактате начала XII в. «Каталог живо-
писи коллекции периода под девизом правления Сюань-
хэ» («Сюанъ-хэ хуалу»), где он впервые упоминается в
качестве самостоятельного жанрового направления, к нему
прилагается терминологическое название «живопись бам-
бука тушью» (мочжу).
Популярность и авторитет «бамбукового стиля» были
обусловлены, во-первых, философско-эстетическим осмыс-
лением самого растения. И, во-вторых, сложностью его
живописного исполнения, которое считалось вершиной
мастерства художника. Существует несколько специаль-
ных сочинений, посвященных образу бамбука и правилам
его живописного исполнения276. Из них явствует, что об-
раз бамбука, во-первых, наделялся особой духовностью и
благородной сущностью, ассоциативно или мистически свя-
занными с внутренним миром самого художника. Поэто-
му процесс создания изображения бамбука мыслился не-
ким эзотерическим действом, которое свершалось в мо-
менты наивысшего духовного напряжения человека, его
наития и вдохновения, a самому рисунку передается и это
состояние, и природные дарования и качества его творца:
внутренняя чистота, благородство, тонкость интеллекта,
рафинированность. В-третьих, в живописи бамбука долж-
ны были использоваться все имевшиеся в Китае каллиг-
рафические стили. Его ствол полагалось исполнять в сти-
ле чжуань («печатный стиль», сформировавшийся в древ-
ней, циньской, каллиграфии и исполнявшийся строго
вертикально поставленной кистью со скрытым острием).
Коленца ствола — в стиле лишу («официальный стиль»,
сложившийся в циньской и ханьской каллиграфии), вет-
ви — в стиле цаошу (скорописный стиль, также возник-
ший в древней каллиграфии), a листья — в стиле кайшу
(«уставное письмо», утвердившееся в каллиграфии эпохи
Шести династий и предполагавшее максимально четкую
прорисовку всех графических элементов иероглифа). Впо-
следствии для «бамбукового стиля» была разработана еще
более подробная система способов передачи натуры, в ко-
торых учитывались сорта растения и варианты его изоб-
ражений в зависимости от сезона, времени суток и осве-
щенности. Так, рисунок его ствола, помимо собственно
каллиграфических линий, должен был складываться из
штрихов, передающих продолговатые звенья, и сложных
соединяющихся между собой точек-узелков, предназна-
ченных для передачи округлости ствола и динамики рос-
та растения.
Многие из тематических групп жанра «цветы и пти-
цы», обращавшиеся к образам представителей именно жи-
вотного мира, явно тяготели к объединению с анималисти-
ческим жанром. Тогда как анималистический жанр, в его
исполнении сунскими живописцами, шел по пути сближе-
ния с «цветами и птицами», охотно вбирая в себя образы
Варианты исполнения
бамбука в «бамбуковом
стиле». С книжных
иллюстраций no мотивам
живописных произведений
276 Это в первую очередь
«Записи о живописи бамбука
художника Вэй Юйкэ (т. е.
Вэнь Туна)» и «Книга о бам-
буке» Ли Каня (1245-1320),
которая почти полностью была
использована при написании
соответствующего тематиче-
ского раздела в трактате «Сло-
во о живописи из Сада с гор-
чичное зерно».
597
277 В императорском ката-
логе упоминается о 241 его
картине, среди которых при-
сутствуют и произведения на
религиозные темы.
и элементы, свойственные последнему — те же изображе-
ния птиц, деревьев, цветов, травы с кружащимися над ней
бабочками. Так возникло своего рода пограничное стили-
стико-тематическое направление, которое правомерно рас-
сматривать в качестве производного и от собственно ани-
малистического жанра, и от «цветов и птиц». Выразитель-
нее всего данное направление представлено творчеством
Цуй Бо (?-1074), придворным живописцем, который впо-
следствии называется критиками лучшим мастером жанра
«цветов и птиц» второй половины XII в. и одновременно
великолепным анималистом. Сообщается также, что он дос-
конально знал повадки животных и птиц, что позволяло
ему творить в «необузданно-свободной манере»277. Излюб-
ленными сюжетами Цуй Бо как мастера «цветов и птиц» и
анималиста были утки, гуси, лебеди, цапли, ива, бамбук,
хотя он нередко обращался и к другим персонажам и обра-
зам. Известно более 10 его работ, часть из которых сохра-
нились в копиях, но есть и подлинники. Самыми показа-
тельными для его творчества произведениями считаются
свитки «Бамбук и цапля» (вертикальный свиток, шелк,
тушь краски, Национальный дворцовый музей) и «Две со-
роки, бранящие зайца» (193 х 103,4 см, шелк, тушь, крас-
ки, Национальный дворцовый музей). На первом показа-
ны (в нижней части картины) несколько стволов и ветвей
бамбука, гнущиеся под сильным ветром, и цапля, идущая
по отмели, с трудом преодолевая налетевший шквал, но
все же упрямо продолжая ему сопротивляться. Каждая
деталь картины — от фигуры птицы до коленца бамбу-
ка — выписаны с такой жизненностью и достоверностью,
что y зрителя возникает ощущение полной реальности про-
исходящего. A сама картина пронизана чувством тревоги,
мятежным ожиданием надвигающейся бури и скрытой в
ней опасности.
Совершенно иным настроением проникнут второй сви-
ток, воспроизводящий камерную, полную юмора сценку из
жизни обитателей леса (см. вклейку). Две сороки: одна
расположилась на стволе цветущего, но уже старого, с уз-
ловатыми ветвями кустарника (проходит диагональю по
верхней половине свитка), a другая — кружит над ним,
возбужденно стрекочут, браня случайно пробегающего зай-
ца. A tot, испуганно присев (левый нижний угол свитка),
повернул голову с прижатыми ушами и тревожно-вопроси-
тельно смотрит на стрекочущих птиц.
Общей отличительной особенностью обоих картин Цуй
Бо является изображение птиц и животных на относи-
тельно развернутом пейзажном фоне, что нередко исполь-
зовалось и в последующей китайской живописи, продол-
жавшей активно (особенно при Мин) создавать такого рода
«пограничные» по их жанровой принадлежности произ-
ведения.
Хотя бытописательный жанр явно отошел в сунской
живописи на второе место, он тоже претерпел немало изме-
нений и обогатился новыми тематическими направления-
ми и группами.
598
Бытописательный жанр тоже приобрел монументаль-
ность и панорамность, сосредоточившись при этом на го-
родской жизни, что привело к возникновению масштаб-
нейших по формату произведений, воспроизводящих го-
родской вид с включением в него фигуративных сцен и
архитектурных построек. Это стилистико-тематическое на-
правление начало складываться в конце X — начале XI в.,
и одним из первых его образцов оригинальные источники
называют свиток «Вечер в день празднования Праздника
Седьмого дня», никаких подробностей о котором не со-
хранилось. Лучшим же его воплощением признается кар-
тина Чжан Цзэдуаня (конец XI — первая половина XII в.)
«В день Цинмин на реке» (копия, 24,8 х 528 см, шелк,
тушь, краски, Гугун)278. Свиток начинается с пейзажных
видов предместья, что позволило художнику передать при-
знаки наступающей весны. По мере приближения развора-
чиваемого живописного повествования к столице, художе-
ственное пространство все более насыщается изображения-
ми людей и построек. Собственно город передает городские
стены, ворота, башни, городские кварталы с улицами, улоч-
ками и переулками, заполненными всевозможными пост-
ройками, мосты через реку, которые служат ареной дей-
ствия бессчетного числа разворачивающихся на глазах y
зрителя сценок праздничной городской жизни (см. вклей-
ку). Толпы нарядно одетых горожан растекаются по ули-
цам, бродячие торговцы снуют среди прохожих, покупате-
ли торгуются в лавке, караван верблюдов невозмутимо
шествует по главной улице, лодки, снующие по реке, за-
полнены любителями речного катания, зеваки взирают на
них с моста. Всего на свитке изображено более 550 чело-
век, более 50 животных, свыше 20 лодок и 20 паланкинов
и телег. Причем для каждого типа изображений художник
находит отдельную живописную и графическую характе-
ристику. В рисунке архитектурных элементов и телег пре-
обладают ровные, прямые линии. Фигуры людей и живот-
ных исполнены тонкими, извилистыми мазками. Художе-
ственная целостность свитка обеспечивается единством
темы, сюжетной линии, атмосферы, места действия и сти-
листической манеры живописца.
Расцвет такого «панорамно-городского стиля» также
обусловлен, разумеется, в первую очередь историко-куль-
турными факторами: значимостью в китайском обществе
того времени самой по себе городской культуры, превраще-
нием столицы в главный торгово-ремесленный центр стра-
ны (подробно см. глава 16). A его истинная цель состояла в
воспевании — через показ благополучия городской жиз-
ни — правящего режима. Поэтому вполне ожидаемо, что
последователей творчества Чжан Цзэдуаня не появилось,
хотя, конечно, в рамках последующих академических жи-
вописных школ нередко создавались подобного типа произ-
ведения, показывающие, например, придворные церемонии,
которые разворачивались на фоне столичного городского
пейзажа. Впрочем, от этого стилистико-тематического на-
правления отпочковался, по сути дела, новый жанр —
Бытописательный
жанр и портрет
278 Имеется в виду кален-
дарный весенний праздник
Цинмин (Праздник Чистого
света), отмечавшийся в один
из дней с 4-го по 6-е апреля,
в который было принято по-
минать предков и приводить
в порядок семейные могилы,
a «река» — это река Бяньхэ,
на берегах которой раскину-
лась столица Северной Сун
(на месте Кайфына). Поэто-
му в отечественной литерату-
ре эта картина обычно фигу-
рирует под названием «День
поминовения предков на реке
Бяньхэ».
599
«архитектурный стиль», сводящийся к изображению еди-
ничных строений: дворцов, павильонов, беседок, башен,
совсем не обязательно помещаемых в городскую среду.
Это могут быть, например, павильоны в саду, на берегу
водоема. «Архитектурный стиль», как и «цветы и пти-
цы», допускал свою реализацию в разных по формату
произведениях и тоже отличался декоративностью, что обес-
печило ему многовековую популярность.
Еще одним новым стилистико-тематическим направле-
нием в рамках бытописательного жанра стал «детский
стиль» — картины, воспроизводящие сцены игр малень-
ких детей: селян, юных учащихся, домашней детворы, —
который обнаруживает немалое типологическое сходство с
европейской «пасторальной живописью». Точно так же, в
приукрашенно-слащавом виде — ухоженными, нарядно оде-
тыми и беззаботно-счастливыми — здесь было принято изоб-
ражать детей.
Значительно больший интерес представляет дальнейшее
развитие портретистики, окончательно утвердив прижиз-
ненный парадный портрет. Известно, что при Северной Сун
было исполнено 12 парадных императорских портретов, из
которых до нас дошло три (все — в коллекции Националь-
ного дворцового музея). Это портреты основателя Сун —
Тай-цзу, (191 х 169,7 см), четвертого монарха этой дина-
стии — Жэнь-цзуна, 1023-1064 (188,5 х 128 см) и супруги
Жэнь-цзуна — императрицы Цао (172,1 х 165,3 см).
На всех трех картинах персонажи показаны сидящи-
ми на троне в три четверти оборота. Портрет императри-
цы Цао дополнен изображениями стоящих по обе стороны
трона юных служанок, a сама она показана в пышном
придворном наряде. Облачение императоров на удивле-
ние скромное и простое — длинные белые одеяния, прак-
тически лишенные каких-либо украшений и орнамента-
ции, что уже само по себе решительно отличает сунский
парадный портрет от изображений императоров на карти-
нах Янь Либэня. Единственной бросающейся в глаза дета-
лью на портрете Тай-цзу оказывается трон — кресло с
красным лаковым покрытием и ручками, украшенными
золотыми (возможно, позолоченными) головами драконов.
Заметим, что он выполнен с отменной тщательностью.
При всей заданности поз персонажей, восходящей, воз-
можно, еще к погребальному и культовому (портреты усоп-
ших предков) изобразительному искусству, они не только
выполнены в весьма реалистической манере, но и переда-
ют черты внутреннего облика персонажей. Особенно это
характерно для портретов Жэнь-цзуна и его супруги. Жэнь-
цзун показан явно усталым человеком, для которого се-
анс позирования словно оказался нежданным отдыхом от
государственных дел. Его худощавая, с заметной сутуло-
стью фигура выдает в нем книжника, проводящего все
свободное время за текстами, что полностью совпадает с
жизненными реалиями и историческим обликом этого мо-
нарха. Одним словом, в нем нет и намека на величествен-
ность и торжественность, которыми так щедро наделил
образы своих героев Янь Либэнь. Императрица Цао тоже
изображена, по контрасту с нарядом, без приукрашива-
ния ее внешности. Мы видим преклонного возраста жен-
щину, далеко не красавицу, лицо которой выражает озабо-
ченность государственными делами, что особенно заметно
благодаря контрасту с юными, наивными и по-девичьи
прелестными лицами ее служанок. В результате оба этих
портрета производят впечатление частных портретов и
предназначенных для экспонирования в личных покоях.
Подобная стилистика доказывает, что до определенного
времени парадный портрет находился вне строго норма-
тивного иконографического канона и допускал вариатив-
ность художественных интерпретаций.
Портрет Тай-цзу несколько в большей степени отвеча-
ет нашим представлениям о парадном портрете: крупный,
плотного телосложения мужчина, грузно, но величественно
восседающий на троне. При ближайшем рассмотрении в
нем тоже обнаруживается ряд весьма любопытных и су-
щественных нюансов с точки зрения развития традиции
китайского парадного портрета. В сопоставлении с порт-
ретными изображениями Тай-цзу еще в бытность полко-
водцем, выясняется, что при кажущемся тождестве с внеш-
ностью этого человека черты лица были несколько транс-
формированы и смоделированы так, что оказываются
подобием карты Поднебесной. Так, мы впервые в истории
китайской портретистики сталкиваемся с использовани-
ем физиомантических принципов, которые в дальнейшем
стали определяющими в исполнении портретных изобра-
жений официального характера. В окончательном своем
виде данная практика портрета сложилась уже при Мин
и Цин. Но чтобы не возвращаться более к этой теме, про-
должим наш рассказ об истории и особенностях китай-
ского парадного портрета, выйдя за хронологические рам-
ки данного раздела.
Физиомантия — особое идейное течение, выросшее из
древней натурфилософии и проистекающее из убеждения,
что между человеком и космическим универсумом суще-
ствуют взаимосвязи, которые находят отражение как раз в
чертах его лица. Считалось, что их расположение полно-
стью соответствует космолого-онтологическим схемам, a
каждый из участков лица прямо соотносится с простран-
ственно-временными зонами и через них — со стихиями,
астральными объектами и т. д. Поэтому через особенности
строения лица и каждой отдельной его черты можно опре-
делить врожденные способности человека, качества харак-
тера и его грядущую судьбу. Сама по себе традиция физио-
мантии восходит по меныней мере к первой половине чжоу-
ской эпохи, впоследствии она активно использовалась в
обрядовой деятельности и в процедурах гадания. Ее приме-
нение в национальной портретистике впервые раскрывает-
ся и аргументируется в трактате «О портрете» («Сесян биц-
зюэ») Ban И (XV в.). «Портретист должен знать правила
физиомантии: пять священных гор, четыре реки находятся
в соответствии с расчленением лица»279. Эта теория была
Официальный портрет
сунского Тайцзу.
Прорисовка
Физиомантические
принципы китайской
портретистики
Исполнение контуров основных
частей лица в их соотнесении с
пятью священными пиками.
Типы носа и правила
их живописного исполнения
1 — сухощавый hoc; 2 — узлова-
тый hoc; 3 — вздернутый нос;
4 — крючковатый нос; 5 — об-
рубленный нос.
279 Здесь и далее перевод
К. И. Разумовского.
601
^sH^^ -^З^"
Типы глаз
1 — талантливого человека; 2 —
человека сильного духом; 3 —
близорукие глаза; 4 — глаза ста-
рика.
1 —
ная.
Типы бороды
из пяти прядей; 2 — сплош-
Правила передачи позы
портретируемого
a — портрет в фас; б — портрет в
четыре десятых; в — портрет в
профиль; г — портрет смотряще-
го вниз с опущенной головой.
продолжена и развита в трактатах «Рецепт портрета» («Чу-
анъ шэнъ бияо») Цзян Цзи (XVIII в.) и «Трактат о портре-
те» («Сечжэнъ мицзюэ») Дин Гао (начало XIX в.), в кото-
рых подробно излагаются проистекающие из физиоман-
тии правила написания портрета. В них даются несколько
портретных схем, опирающихся на пятичленную космо-
логическую модель (соотнесение носа, лба, подбородка и
глаз с пятью священными пиками) или какие-либо дру-
гие космографические и астрологические построения, со-
отнесение, например, глаз и носа с расположением «трех
светил», т. е. солнцем, луной и «небесной звездой». В са-
мых сложных вариантах таких схем учитывались все де-
тали анатомического строения лица (теменная, лобная,
носовая, подбородочная кости, скуловые кости и т. д.),
которые соотносились с 12 зодиакальными созвездиями и
всеми возможными «земными координатами»: пятью свя-
щенными пиками, четырьмя реками, «восемью ветрами»,
девятью областями и пр. При этом одна схема могла на-
кладываться на другую по мере исполнения портрета. Для
каждой лицевой черты авторами указанных сочинений
выделяется около двух десятков их типовых форм: 24 —
для бровей, 25 — для носа, 16 — для рта и т. д. Так как
каждый из данных типов форм имеет определенную физио-
мантическую трактовку, то ими требуется их исполнение
в строго стереотипном виде: «Когда человек еще в утробе,
нос первый принимает определенные очертания... он —
основная из пяти главных частей лица. Поэтому... его
следует окрашивать предельно высоко, выдвигая вперед
предельно массивно... Прямой нос: от начала кончика нач-
ни штрихом... Надбровные дуги расположатся с обеих сто-
рон — стержень носа, как висящая печень; снаружи, от
глаз, прозрачной краской охвати переносицу... » Точно так
же излагаются и все остальные правила.
Помимо физиомантических принципов, в китайской
портретистике обнаруживается еще ряд установок, иду-
щих от религиозных и философских традиций. Так, кон-
фуцианские идеи, касающиеся пагубности эмоций для че-
ловека, обуслоййли внешнюю «бесстрастность» портретных
изображений и отсутствие в них даже намека на внутрен-
нее состояние портретируемого. Официальный портрет юань-
ской эпохи (портреты Хубилай-хана и его супруги, альбом-
ные листы 39,4 х 47 см и 61,5 х 48 см, шелк, тушь, крас-
ки, Национальный дворцовый музей) привнес в данный
602
жанр прямой фронтальный ракурс, который восходит к
тибето-буддийскому изобразительному искусству.
В итоге приходим к выводу, что китайский парадный
портрет, оформившийся к минской эпохе, есть явление
уникальное на фоне мировой портретистики. В отличие
от европейского портрета — преемника античного искус-
ства его главная цель заключалась не в передаче внутрен-
ней сущности человека, a в создании его образа как члена
социума, причем представителя определенной социаль-
ной или морально-этической группы — государя, санов-
ника, чиновника, эрудита-книжника, добродетельной
жены и пр. Индивидуальность личности понималась и пе-
редавалась исключительно в аспекте его жизненной конк-
ретики, обусловленной его врожденными качествами и
космолого-астрологическими коррелятами, которые и дол-
жны были запечатлеться в его портрете.
Однако традиция парадного портрета является лишь
одной из составляющих китайской портретистики. Совсем
по-иному сложилась ее судьба, равно как и судьба других
жанров и тематических направлений, в самодеятельном
живописном творчестве.
Официалъный портрет
минской и цинской эпох.
С оригинальных
произведений
a — ученого и государственного
деятеля Гань Цяня (1398-1457);
б — государственного деятеля Хай
Дуаня (1514-1587); в — ученого
Сюй Цзысюаня (1562-1633); г —
императора Цяньлуна.
Портрет Хубилай-хана
Школа «художников-литераторов» (вэнъжэнъ хуа) —
так определяется творческое объединение, сложившееся вок-
руг одного из крупнейших деятелей культуры Северной
Сун — Су Ши (Су Дунпо, «Су с Восточной дамбы», 1036-
1101). Подобно Ван Вэю, он ярко проявил себя во всех
принятых для образованного человека сферах деятельно-
сти — поэзии, каллиграфии, живописи, философской и эс-
тетической мысли, одновременно занимая высокие чинов-
ничьи должности. Названное объединение было организо-
вано им во время службы на руководящих постах на Юге,
в современной провинции Цзянсу. Некоторые из его едино-
мышленников и членов созданного им объединения тоже
состояли на государственной службе, другие по разным
причинам вели свободный образ жизни, посвящая себя твор-
честву. Но они занимались живописью только для соб-
ственного удовольствия.
Истоки данной живописной школы, как принято счи-
тать, восходят к творчеству Ван Вэя и его преемников,
главными из которых считаются художники, жившие во
второй половине X в., — Дун Юань и Цзюйжанъ, живо-
писное наследие которых дошло до нас в копиях.
Дун Юань, южанин по происхождению, служил
при дворе царства Южное Тан. Известно, что он работал
ШКОЛА
«ХУДОЖНИКОВ-
ЛИТЕРАТОРОВ»
Су Ши.
Современный портрет
no мотивам традиционной
китайской живописи
603
преимущественно на бумаге, в полихромной и монохром-
ной техниках, используя в последнем случае легкую под-
цветку. В оценках его творчества, данных последующими
критиками, подчеркивается его мастерство в изображении
«ровной дали в осеннем тумане», и то, что он писал реаль-
ные пейзажные виды Юга, никогда не привнося в них ка-
ких-либо вымышленных деталей. Во всех копиях картин
Дун Юаня («Реки Сяо и Сян», 50 х 141 см, шелк, тушь,
легкая подцветка, Гугун; «Горы Сяшань», 49,2 х 311,7 см,
шелк, тушь, легкая подцветка, Шанхайский музей ис-
кусств) варьируется один и тот же сюжет: река, текущая
издалека среди гор в обрамлении тающих в дымке холми-
стых гор. Характерным образцом его творчества признан
свиток «Вожидании парома на дороге в горах Сяцзин»
(50 х 320 см, шелк, тушь, краски, Ляонинский провин-
циальный музей). Он четко имет три плана; передний
план занимает лесной массив, на заднем — показана ухо-
дящая вдаль и образованная плавно возвышающимися
вершинами горная цепь. Весь средний план отдан водно-
му пространству. Пейзажи Дун Юаня формально тоже
являются панорамными. Однако они решительно отлича-
ются от академического панорамно-монументального пей-
зажного стиля по характеру трактовок горного ландшаф-
та (грациозно-спокойный вместо нагромождения горных
масс и форм), по настроению и живописной манере. Дун
Юань начинает отказываться от острой графической ли-
нии и текстурных мазков, отдавая предпочтение новым
(возможно, собственного изобретения) приемам, среди ко-
торых наиболее примечателен особого типа штрих «во-
локна конопли» и техника «спрятанной точки». Эта тех-
ника заключается в рассеивании точек с помощью сухой
кисти с последующим обильным смачиванием поверхнос-
ти листа. Зернистость точек разрушалась, и они превра-
щались в подобие размывок, способных точно передать
призрачную нежность тумана и дымки.
Цзюйжань — художник, известный под своим буд-
дийским монашеским именем. Сохранились сведения, что
он провел часть жизни в буддийском (нанкинском) мона-
стыре, обучался живописи y Дун Юаня, затем объявился
при дворе царства Южное Тан, и после утверждения Сун
отправился в столицу, где стал придворным живописцем.
В частности, им были расписаны (пейзажные картины)
стены Нефритового зала — парадного помещения Акаде-
мии живописи. Его станковые живописные работы пред-
ставлены несколькими картинами: «Горные кручи и кущи
деревьев» (144,1 х 55,4 см, шелк, тушь, копия середины
XI — середины XII в., Национальный дворцовый музей),
«Поиски Дао в осенних горах» (156,2 х 78,1 см, шелк,
тушь, Национальный дворцовый музей) и «Ветер среди
сосен» (200,7 х 72 см, шелк, тушь, легкая подцветка, Шан-
хайский музей искусств). Первый из названных свитков,
возможно, является частью более масштабной художествен-
ной композиции и повторяет пейзажный вид картин Дун
Юаня: река, теряющиеся в тумане, холмистые горные цепи
и лесные заросли. Картина «Поиски Дао...», напротив,
демонстрирует заметное сходство с «северными» пейза-
ясами (см. вклейку). На ней тоже воспроизводится гора,
показанная в фас, состоящая из слоистых форм, вздымаю-
щаяся к небу, с густо заросшими склонами гора. Выделен
и максимально приближен к зрителю передний план —
глыбы с растущими между ними корявыми, в стиле Ли
Чэна, деревьями. Подвижная точка идет за счет нараста-
ния массы горы снизу вверх: взгляд зрителя перемещает-
ся от подножия к вершине, уходя вслед за петляющей
тропинкой в самую глубь массива и затем вновь выходит
на открытое место на горной вершине. Однако и в данном
случае общая трактовка ландшафта и манера его исполне-
ния расходятся со стилистикой мастеров панорамно-мо-
нументального пейзажа. Масса горы и составляющие ее
скальные образования имеют плавные очертания и вы-
полнены не контурными линиями, a посредством точеч-
ных приемов. Поэтому, хотя атмосферная среда здесь по-
чти не проработана, создается эффект заполненности кар-
тины легкой просвечивающей дымкой.
Такова живописная предыстория школы «художни-
ков-литераторов», a ee идейной платформой послужили
теоретические разработки и установки Су Ши, который
вступил в резкую заочную полемику с представителями
академической школы. Центральное место в эстетичес-
кой концепции Су Ши занимает тезис, что живопись дол-
жна передавать не формальные особенности натуры, a ee
внутренний смысл, раскрывающийся человеку через спон-
танно-интуитивное постижение им окружающей действи-
тельности. Исходя из этого тезиса им опровергается на-
добность точного воспроизведения «безжизненных оболо-
чек», в его терминологии, реалий и предметов. Природный
объект есть не более чем сырой материал, который дол-
жен претерпеть качественную трансформацию в процессе
перевода его в художественный образ. Значит, содержа-
ние, изобразительный ряд и манера исполнения живо-
писного произведения полностью зависят от личности ху-
дожника — его жизненных, мировоззренческих позиций,
индивидуального живописного почерка, a также его сию-
минутного настроения в момент творческого акта. «Тот,
кто рассуждает о живописи в категориях сходства, —
ехидно замечает Су Ши, — подобен несмышленому ре-
бенку».
Спонтанно-интуитивному постижению окружающей
действительности должна соответствовать, по его мне-
нию, и спонтанность творческого процесса, который дол-
жен, в его формулировке, стать «быстрой кистью». Ху-
дожник сколько угодно может готовиться к созданию
картины — созерцать натуру, мысленно отбирать сюже-
ты и образы, прорабатывать композицию и готовить себя
к необходимому для живописного акта психоэмоциональ-
ному состоянию, но само написание картины должно про-
изводиться одномоментно, в максимально короткое вре-
мя — «столь же быстро, как убегает заяц, когда на него
280 Что касается живопис-
ного творчества самого Су Ши,
то в отличие от его теорети-
ческих разработок об этой
сфере его творческой деятель-
ности известно очень мало.
Принято считать, что Су Ши-
художник работал преимуще-
ственно в монохромной тех-
нике и предпочитал создавать
камерные (наподобие «цветов
и птиц») композиции, но со-
стоявшие из каменных валу-
нов, бамбука или засохших
деревьев или ветвей. Признан-
ным мастером подобного типа
живописных композиций был
и Ван Тинъюнь, который впо-
следствии отошел от увлече-
ния живописью. В истории
китайской культуры он остал-
ся, прежде всего, ученым и
литератором, сделавшим офи-
циальную карьеру и получив-
шим признание уже в царстве
Цзинь. При всей скудости све-
дений о живописном творче-
стве Су Ши и Ван Тинъюня,
господствует точка зрения,
что оно полностью отвечало
эстетическим установкам Су
Ши. И, кроме того, к нему
возводится популярное в даль-
нейшем стилистико-темати-
ческое направление «цветов и
птиц» — «бамбук и орхидеи».
Таким образом, ведущими
представителями школы «ху-
дожников-литераторов» ока-
зываются всего три живопис-
ца — Ли Лунмянь, Ми Фу и
Ми Южэнь.
281 Отпрыск старинного чи-
новничьего клана, он в 1070 г.
с блеском сдал государствен-
ный экзамен и поступил на
службу, сделав вполне успеш-
ную официальную карьеру.
Но в 1100 г. был вынужден
из-за болезни подать в отстав-
ку и некоторое время провел
в отшельническом уединении
в горах Лунмяныпань (пров.
Аньхуэй), название которых
и использовал в качестве сво-
его творческого псевдонима.
налетает обрушившийся с неба сокол: если он хоть чуть-
чуть промедлит, все потеряно». Приведенная метафора
Су Ши впоследствии вылилась в один из фундаменталь-
ных постулатов китайской живописно-эстетической мыс-
ли: «живописный акт находится где-то посередине между
созерцанием и малейшим промедлением ». Поэтому лю-
бые профессиональные навыки, с точки зрения Су Ши,
лишь препятствуют свободе творчества и должны оста-
ваться достоянием исключительно ремесленников. Он до-
водит до логического завершения идеи об элитарности
живописи, заложенные еще в теоретических построениях
Чжан Яньюаня и Цзин Хао, категорически разделяя жи-
вописное творчество на «истинную живопись» и «ремес-
ленные поделки». Под создателями «ремесленных поде-
лок» он имеет в виду профессиональных художников, ко-
торые, пройдя обучение и набравшись умелости (нэн) и
сноровки (цяо), способны в лучшем случае адекватно пе-
редать внешний вид натуры. И далее он опротестовывает
профессиональное живописное обучение как таковое —
еще одна «шпилька» в адрес Академии живописи. Важ-
ной теоретической заслугой Су Ши является также чет-
кая формулировка и аргументация идеи органического
единства поэзии, живописи и каллиграфии, которые про-
возглашаются им определяющими видами творческой дея-
тельности личности, с доказательством их предназначе-
ния исключительно для выражения духовного потенциа-
ла и индивидуальности человека.
Вокруг Су Ши собралась большая группа друзей и
единомышленников, которые пробовали силы в живо-
писном искусстве. Тем не менее самыми близкими в твор-
ческом отношении к нему людьми и наиболее последо-
вательными выразителями его идей считаются: Ли Лун-
мянъ (1049-1106), Ми Фу (1052-1109), его сын — Ми
Южэнь (1086-1165), и племянник Су Ши — Ван Тинъ-
юнь (1151-1202)280.
Ли Лунмянь — «Ли с горы Спящего дракона», подлин-
ное имя Ли Гунлинъ, примкнул к окружению Су Ши, уже
будучи состоявшимся как личность и живописец281. Он
был страстным коллекционером живописи и великолеп-
ным ее знатоком, освоившим стилистику и манеру предше-
ствующих мастеров. По словам Ми Фу (его ученика и пер-
вого, кто дал оценку его творениям), Ли Лунмянь с одина-
ковой виртуозностью работал в самых разных жанрах,
используя опыт их основоположников: при изображении
лошадей он следовал манере Хань Ганя, при создании пор-
третов и картин на религиозные темы — У Даоцзы, пей-
зажных композиций — отцу и сыну Ли. Он мог имитиро-
вать любую живописную манеру и, если в том возникала
необходимость, прибегать к любым техникам, что, надо
сказать, вызывало неоднозначную реакцию как y его со-
временников, так и последующих критиков. Одни истори-
ки национальной живописи усматривали в нем первого
среди художников Северной Сун, равного по своему мас-
терству корифеям предшествующих исторических эпох, и
606
ставили его в один ряд с Гу Кайчжи и У Даоцзы. Тогда как
Ми Фу, относившийся к своему учителю с искренним по-
чтением и нежными дружескими чувствами, все же упре-
кал его в эклектизме и недостаточности возвышенной оду-
хотворенности.
Ли Лунмянь известен как автор внушительного числа
произведений, но о многих мы можем судить лишь по их
литературным воспроизведениям и оценкам. He вызывает
сомнений, что наиболее ярко он проявил себя в фигура-
тивной живописи, включая собственно портрет, изобра-
жения исторических деятелей, даосских и буддийских пер-
сонажей и бытописательные сцены. Так, если верить све-
дениям каталога цинской императорской живописной
коллекции, еще в ХѴИ-ХѴШ вв. в ней хранилось не-
сколько, возможно, подлинных портретов кисти Ли Лун-
мяня — основателя империи Хань и из серии «Три зна-
менитости царства У». Но впоследствии они бесследно
исчезли282.
Лучшим образцом религиозного портрета Ли Лунмя-
ня считается небольшой вертикальный свиток с изобра-
жением буддийского аскета Вималакирти (высота 100 см,
шелк, тушь, Токийский национальный музей). Он пока-
зан сидящим на возвышении, напоминающем «троны»
буддийской иконографии, в позе, отчасти повторяющей
«позу отдохновения» (приподнятое колено и повернутое
бедро), в одеянии, характерном для иконописи медитирую-
щего бодхисаттвы. Но, несмотря на такое обилие ико-
нографических деталей, рисунок отнюдь не производит
впечатления близкого к буддийскому культовому изобра-
зительному искусству. И сам Вималакирти, и второй пер-
сонаж картины — служанка, подходящая к нему справа,
со спины, несущая в руках блюдо с фруктами, выполнены
в живой и выразительной манере. A их внешний вид —
пышные одеяния, с многочисленными, красиво лежащи-
ми складками, прическа служанки, украшенная ювелир-
ными изделиями, заставляют нас вспомнить изображения
дам и знатных особ в танских картинах на придворно-
бытовые темы. Более того, фигура Вималакирти источает
изнеженность и негу, но никак не аскетизм, хотя его
лицо (сосредоточенное, взгляд устремлен вдаль) несет пе-
чать могучей внутренней силы. Линии рисунка мягкие,
скользящие, изящные.
Другая картина Ли Лунмяня — «Конюх ведет лошадь
из Хотана» (бумага, тушь, Гугун) — выполнена теми же
мягкими и тягуче-изящными линиями, но как разительно
отличается она по сюжету и настроению от портрета Вима-
лакирти! До предела уставший конь, что отчетливо видно
по его шагу и понурой голове, тоже уставший, немолодой
человек с худым лицом, острыми скулами, крупным с гор-
бинкой носом и заостренной книзу, вьющейся бородкой.
Взгляд — внимательный, цепкий и в то же время невыра-
зимо печальный. Подобие одежды, изможденный вид, бо-
сые ступни — все выдает не просто бедность, a отчаянную
борьбу за кусок хлеба.
282 О собственно портрет-
ных работах Ли Лунмяня дает
некоторое представление раз-
вернутое описание созданно-
го им группового портрета
членов объединения — «По-
этическое собрание y Западно-
го озера». На нем были изоб-
ражены Су Ши и его друзья в
саду, на берегу озера Сиху,
принадлежащего одному из
известных местных литерато-
ров и меценатов (Ван Цин-
чэнь). Су Ши был показан сто-
ящим в полный рост с кистью
в руке, он облачен в одеяние
желтого цвета, стилизованное
под одежду даосского мона-
ха, но с черной чиновничь-
ей шапкой на голове — знак
совмещения им служебной де-
ятельности с духовной свобо-
дой. Невдалеке от него нахо-
дились его брат (Су Чэ) — в
его левой руке книга, a пра-
вая лежит на камне, что так-
же передает его эрудирован-
ность и стремление к освобож-
дению от «мирских сует»; и
Ми Фу, одетый по танской
моде и исполняющий каллиг-
рафическую надпись на ка-
менной стеле — намек на его
страсть к древности. Себя Ли
Лунмянь изобразил рисую-
щим картину. Очевидно, что,
как портретист, Ли Лунмянь
придавал особое значение вне-
шности портретируемых и ста-
рался передать через ее дета-
ли индивидуальные особенно-
сти их внутреннего облика,
что, заметим, соответствует
общим для сунского времени
характеристикам портретного
жанра.
607
Ли Лунмянь.
«Конюх ведет лошадь
из Хотана».
Прорисовка
Даже по этим единичным, весьма плохо сохранившим-
ся, сомнительной подлинности работам видно, насколько
мастерски владел Ли Лунмянь живописным искусством,
как с помощью одних и тех же приемов он умел исполнять
совершенно различные типажи, органически сочетая мет-
кость и точность передачи внешнего вида персонажей с
убедительностью показа их внутреннего облика. He удиви-
тельно, что с его именем связывается самостоятельная
школа портрета, к которой принадлежали и светские ху-
дожники, работавшие в бытописательном жанре, и мона-
шествующие, создававшие портреты буддийских божествен-
ных персонажей и религиозных деятелей (например, мо-
нах Фаньлун, XIV в., кисти которого приписываются
великолепные портреты архатов, Галерея Фрира).
Ми Фу — отпрыск богатейшего купеческого клана, вла-
детель огромного состояния — мог позволить себе роскошь
никогда не иметь дела со служебной карьерой и полностью
посвятить себя своим любимым занятиям — меценатству,
коллекционированию и живописи. Многолетнее собиратель-
ство и изучение работ старых мастеров и современных ему
художников сделали из него непревзойденного для того вре-
мени эксперта. Его размышления по поводу истории нацио-
нальной живописи и критические замечания о виденных им
лично картинах как раз и были изложены в упоминавшем-
ся ранее сочинении «История живописи» («Хуа ши»), за-
нявшем достойное место в китайском живописно-теорети-
ческом и эстетическом наследии. Пройдя обучение живопи-
си под руководством Ли Лунмяня, он долгие годы занимался
лишь копированием, преуспев настолько, что никто из со-
временников не мог отличить сделанные им копии от ориги-
налов. Заняться собственным живописным творчеством он
решил, когда ему уже было около 60 лет, после того как его
учитель был вынужден прекратить работу из-за болезни рук.
Известно также, что перед смертью Ми Фу сжег часть своих
картин, среди которых вполне могли находиться не только
копии, но и его авторские произведения. Достоверно атри-
бутированных работ Ми Фу нет. Сохранились сведения (над-
пись, сделанная на одном из его автопортретов Ми Южэнем)
о написании им многочисленных портретов прославленных
деятелей культуры — каллиграфов, поэтов — прошлых эпох
и автопортретов (4 — по материалам каталога император-
608
ской коллекции). Ho еще прижизненную славу Ми Фу при-
несли его пейзажные произведения, сделавшие его осново-
положником стилистического направления — «туманно-
облачного стиля».
Пейзажи Ми Фу чрезвычайно лаконичны и одновре-
менно поэтичны и загадочны. Их главная тема — горы в
облаках и тумане, что видно по названиям дошедших до
нас (в копиях) и приписываемых ему картин: «Затуманен-
ная заря в горах весною», «Роса и дождь в весенних го-
рах», «Белые облака над синими горами», «Деревья в тума-
не и горы в облаках», «Гряды пиков в тумане и облаках».
Ми Фу работал и в монохромной (например, «Пейзаж»,
бумага, тушь, Коллекция Накамуры, Токио), и в поли-
хромной техниках. Обратимся к одной из таких его кар-
тин — «Весенние горы и сосны» (бумага, Национальный
дворцовый музей). На свитке показаны лишь несколько
мягких конических серо-голубых горных вершин, высту-
пающих из пелены золотисто-розового тумана, который
плотно обволакивает их, и зритель может лишь догады-
ваться об их массивности и высоте, исходя из их пропор-
ционального контраста с изображениями на первом плане.
A там мы видим тоже слегка выступающий из тумана то
ли холм, то ли вершину горы с несколькими деревьями,
выполненными в странной наивно-стилизованной манере.
Все необычно в этой картине, по сравнению с «северными»
пейзажами, и в то же время характерно для манеры самого
Ми Фу. Te же деревья кажутся исполненными неумелой
рукой ребеыка или человека, еще не освоившего азы живо-
писного мастерства. Но это далеко не так. К подобному
псевдодилетантизму Ми Фу прибегал осознанно, избрав его
методом реализации требования Су Ши отказаться от про-
фессиональных навыков. На самом деле, он виртуозно вла-
дел кистью, нередко используя изобретенные им же самим
приемы, которые с трудом поддаются расшифровке283. Не-
редко он использовал и предельно эксцентричные техни-
ки, работая, скажем, соломенной кистью или стеблем тра-
вы. Особая мягкость силуэтов гор тоже не случайна. Ми
Фу впервые окончательно отказался от графической линии
в изображениях твердых объектов, изобретя «бескостный
метод». Пейзаж строился им точками, поставленными ост-
рым («словно шило, пронзающее песок») кончиком кисти;
из них образовывались горные массивы, лесные чащи и
единичные деревья.
Художественный стиль Ми Фу достойнее всего продол-
жил его сын — Ми Южэнь, писавший уже исключительно
пейзажи, которым свойственны большие туманность и при-
зрачность, чем y отца. Картины Ми Южэня, из которых
лучшим образцом признается свиток «Белые облака над
реками Сяо и Сян» (копия ХПІ-ХІѴ вв., 28,7 х 295 см, бу-
мага, тушь, Шанхайский музей искусств), сводятся к изоб-
ражению бесконечно тянущихся горных цепей, почти пол-
ностью скрытых в тумане, в разрывах которого проявляют-
ся, словно призрачные видения, дома, деревья и скалы.
Пейзажи Ми Южэня отличаются не только таинственностью,
~>у Исторпя искусства Китая
283 Примечательно, что при
их описании последующие кри-
тики и эксперты живописи
обычно прибегают и к образ-
ным определениям или мета-
форам, говоря, например, что
исполненные им точки кажут-
ся летящими, светлые части
его картин напоминают Млеч-
ный Путь, a темные — боже-
ственного дракона, который то
прячется, то являет себя, не-
истощимый в жизненной силе.
609
но и отчетливо грустным настроением, что нередко связы-
вается с его биографическими реалиями. В отличие от
отца — человека жизнерадостного, склонного к сибарит-
ству, всегда окруженного друзьями и почитателями и удо-
стоившегося, пусть даже на склоне лет, монаршего фавора,
Ми Южэнь всю свою жизнь провел на посту скромного
провинциального чиновника и вдали от культурных цент-
ров страны, что, по всей видимости, причиняло ему ис-
кренние душевные страдания.
Принципиальные расхождения между академической
школой и школой «художников-литераторов» очевидны. Но
чем они вызваны? Имеем ли мы дело с неожиданной вспыш-
кой творческой активности уникальных по своему дарова-
нию единичных художников либо с масштабными процес-
сами, происходившими внутри художественной жизни стра-
ны? Эта проблема — проблема структурной неоднородности
китайской живописи и наличия в ней двух самостоятель-
ных художественных традиций, обозначаемых обычно в ори-
гинальной терминологии как «южная» и «северная» школа
(наньцзун и бэйцзун), — дискутировалась уже в старых ки-
тайских историях живописи и продолжает вызывать дебаты
в европейском синологическом искусствоведении.
О разветвлении национальной живописи на «северную»
и «южную» первыми заговорили теоретики и критики XVI в.,
которые и наметили изложенную выше линию их генезиса
и преемственности: первой — от раннетанской живописи,
второй — от творчества Ван Вэя. Современные исследовате-
ли, признавая в целом факт наличия данных школ, расхо-
дятся и в их оценках, и в точках зрения на причины их
возникновения. Так, ряд специалистов в первую очередь
японских придерживаются мнения, что такое разделение,
во-первых, исходно распространялось только на пейзажную
живопись. И, во-вторых, что в подлинно самостоятельные
художественные традиции «северная» и «южная» школы
начали превращаться только в конце эпохи Юань, когда на
юге Китая в силу определенных историко-культурных при-
чин чрезвычайную популярность приобрели имитации пей-
зажей в «туманно-облачном стиле». Окончательное их оформ-
ление произошло еще позже — при Мин и Цин, когда они и
вступили в противоборство друг с другом. Поэтому живо-
писное искусство Северной Сун следует считать относитель-
но однородным и объяснять своеобразие творчества «худож-
ников-литераторов», исходя только из установок СуШи и
их собственной творческой индивидуальности.
He менынее число сторонников, в том числе и среди
отечественных китаеведов и искусствоведов, нашла в свое
время и версия, по которой разделение китайской живописи
на указанные традиции носило, напротив, изначальный и
принципиальный характер и было вызвано причинами куль-
турно-идеологического плана, a именно — разветвлением
чань-буддийской школы на северное и южное течения, кото-
рое произошло как раз в середине Тан, первым спровоциро-
вав появление такого художественного феномена, как твор-
чество Ван Вэя. Живописное направление, определяемое как
«южная школа», и есть собственно чаньское. Данная версия
во многом опирается на «Слово о живописи из Сада...», где
возникновение данных школ сравнивается с размежеванием
школы Чань. Нельзя, разумеется, отрицать, что сам Су Ши
и его единомышленники находились под влиянием буддий-
ских и непосредственно чань-буддийских идей и проистекаю-
щих из них эстетических воззрений. Однако, во-первых, эти
воззрения, как мы помним, тесно переплетаются с даосски-
ми по происхождению взглядами на сущность и цели худо-
жественного творчества, a во-вторых, ни для кого из пред-
ставителей «южной школы», за исключением Ван Вэя (да и
то эти сведения проистекают из легенд о нем, a не из досто-
верных биографических фактов), не прослеживаются пря-
мые связи со школой Чань. Поэтому нам остается только
повторить афоризм, все более приобретающий в зарубежном
искусствоведении авторитет, что чаньский буддизм был в
такой же степени ответственен за появление и распростране-
ние в Китае монохромной живописи (отличительная приме-
та «южной школы»), как монохромная живопись ответственна
за появление и утверждение школы Чань.
В числе причин, приведших к появлению «северной» и
«южной» школ или просто обусловивших их своеобразие,
называются также географический и природный факторы —
их локализацию в соответствующих регионах страны и осо-
бенности местного ландшафта. Воздействие данных факто-
ров тоже безусловно, тем более что простые статистические
подсчеты показывают, что представители «северной» шко-
лы были в основном уроженцами центральных регионов
Китая, a «южной» — коренными обитателями районов бас-
сейна Янцзы или проживали там долгие годы. Но ведь раз-
ница между их произведениями заключается не только в
трактовках натуральных пейзажных видов, но и в смысло-
вом наполнении картин. В результате наиболее оправдан-
ной представляется точка зрения, что «северная» и «юж-
ная» школы суть порождение и проявление именно офици-
ального и неофициального художественного творчества,
базовые типологические характеристики которых уже по-
дробно обсуждались нами при анализе китайского художе-
ственно-эстетического канона, но тогда — на материале изящ-
ной словесности. Так, живописное творчество повторило тот
путь развития, который прежде прошла изящная словес-
ность, подчиняясь тем же самым общекультурным законо-
мерностям. Таким образом, китайская живопись была обре-
чена на подобное структурное подразделение, a возникнове-
ние школы «художников-литераторов» было естественной
реакцией на институализацию официальной живописи.
Несмотря на внешне антагонистические противоречия
между официальным и неофициальным живописным твор-
чеством, a в данном конкретном случае — между академи-
ческой школой и школой «художников-литераторов», ника-
кого непреодолимого барьера между ними на самом деле не
существовало и они легко могли вступать во взаимодей-
ствие друг с другом. Такой процесс мы и наблюдаем в за-
ключительные десятилетия существования Северной Сун.
ЖИВОПИСНАЯ
СИТУАЦИЯ КОНЦА
СЕВЕРОСУНСКОЙ
ЭПОХИ
284 По меныней мере наив-
но полагать, что в ситуации
разрастающегося социально-
политического кризиса в стра-
не и неотвратимой угрозы чу-
жеземного вторжения Хуэй-
цзун, каким бы любителем
искусства он ни был, действи-
тельно был озабочен состоя-
нием творческой деятельности
Академии. Аналогичные ак-
ции были предприняты этим
императором и во многих дру-
гих сферах духовной жизни
общества. И все они были на-
правлены на поиск средств
сплочения нации, поднятия
ее массового социально-пси-
хологического настроя и уп-
рочения авторитета правяще-
го режима. Только этим и
можно, на наш взгляд, объяс-
нить «варварское» отношение
Хуэй-цзуна к творениям Го Си.
Ведь это именно по его лич-
ному распоряжению работы
художника были изъяты из
дворцовых чертогов и броше-
ны на произвол судьбы.
285 Результат деятельности
Хуэй-цзуна-живописца со-
гласно новым веяниям хоро-
шо виден на примере одного
из самых известных его про-
изведений — свитка «Пяти-
цветный длиннохвостый по-
пугай на ветке цветущего аб-
рикосового дерева» (52,7 х
х 213,8 см, шелк, тушь, крас-
ки, Музей изящных искусств,
Бостон). На фоне натурально-
го шелка тонко выписаны вет-
ви цветущего дерева, на верх-
ней из которых примостился
попугай. Картина по-прежне-
му отличается детализованно-
стью, прежняя красочность
цветовой гаммы и декоратив-
ность, свойственные «цветам
и птицам», исчезли. Компо-
зиция выполнена в приглу-
шенных белых (цветы), ко-
ричневых (ветки) и зеленова-
тых (оперенье попугая) тонах,
с которым чуть контрастиру-
ют красно-черные грудка и го-
лова птицы. Обращает на себя
внимание и «пустотность»
свитка: болыная часть его по-
верхности оказывается неза-
полненной, придавая компози-
ции легкость, воздушность и
лиричность.
286 Например, свиток «Ры-
бацкая деревня под первым
снегом» (44,5 х 219 см, шелк,
тушь, легкая подцветка, Гу-
В конце Северной Сун в академической живописи про-
изошли решительные изменения, обычно связываемые с
реформой Академии живописи, проведенной императором
Хуэй-цзуном284. Реформы Академии живописи вылились в
открытие в ней новых отделений по подготовке мастеров в
жанре «цветы и птицы», в религиозной живописи на даос-
ские и буддийские темы и в сотрудничество новых лиц.
Приглашение получил и Ми Фу. Но проработав в ней экс-
пертом (заметим, не преподавателем) около года и приоб-
ретя репутацию «экстравагантного гения», образ жизни и
поведение которого несовместимы с придворным этикетом,
он был великодушно отпущен императором домой. Однако
и без присутствия Ми Фу Академию охватили новые вея-
ния. Они в первую очередь затронули жанр «цветы и пти-
цы», в котором возобладала стилистическая линия, иду-
щая от творчества Сюй Си. Сам Хуэй-цзун оказался на
распутье между старыми живописными устоями и художе-
ственными новациями.
Как куратор придворных живописцев, он по-прежнему
требовал от них досконального знания натуры и умения ее
точно и детально воспроизвести. Известен, например, рас-
сказ о его щедром поощрении одного из молодых художни-
ков только за то, что тот без малейших ошибок (по мнению
государя) исполнил изображение розы в весенний полдень.
Но как художник, обучавшийся y ученика самого Цуй Бо,
Хуэй-цзун не мог оставаться верным старым традициям285.
В академическую или шире — столичную живопись
стал проникать и «туманно-облачный» пейзаж — самый
откровенный противник академического пейзажного сти-
ля. Раньше всего, правда, он проявился в творчестве не
членов Академии, a сановных самодеятельных живопис-
цев, a именно — сановника Ban Шэня. Происходивший
из древнего аристократического рода, Ван Шэнь удосто-
ился чести стать супругом принцессы крови, что, впро-
чем, не уберегло его от опалы. В конце концов доброволь-
но отказавшись от политической карьеры, он предался
коллекционированию и живописному творчеству и одним
из первых представителей столичной знати установил дру-
жеские контакты с Ли Лунмянем и Ми Фу. Интерес Ван
Шэня к «художникам-литераторам» очень симптомати-
чен, ибо он являлся одним из наиболее консервативно
настроенных столичных ценителей живописи и мастеров.
Ученик Го Си, он отдавал предпочтение стилю Ли Чэна и,
кроме того, создавал даже «золото-нефритовые», в стиле
танских пейзажей, произведения, позволяя себе отойти
от них и использовать монохромную технику лишь при
исполнении «бамбуковых» (но при этом точно следуя Вэнь
Туну) композиций. Он хранил верность и панорамно-
монументальной живописи, создавая произведения, пол-
ностью подчиняющиеся ее правилам286. Тем неожиданнее
на фоне подобных работ выглядит свиток «Река в тумане
и застывшие пики» (45,3 х 165,5 см, шелк, тушь, легкая
подцветка, Шанхайский музей искусств). Во-первых, он
написан по мотивам стихов Су Ши, что уже само по себе
612
приобретает знаковый характер. И, во-вторых, категори-
чески противоречит всем правилам и принципам «класси-
ческой» академической живописи. Приблизительно две
трети свитка занимает свободное пространство, создаю-
щее эффект густой туманной пелены. В левой части кар-
тины — горы, покрытые деревьями, которые, словно ска-
листый остров, выступают то ли из туманной глади, то ли
из воды, и кажутся, подобно горам на картинах Ми Южэ-
ня, призрачным миражом (см. вклейку).
Итак, в конце Северной Сун творческие эксперименты
и достижения «художников-литераторов» из локального
живописного явления превратились в факт художествен-
ной жизни всей страны и начали влиять на состояние офи-
циального искусства, предопределив дальнейший ход его
развития.
гун). Свиток имеет четкое ди-
агональное построение. Вся его
правая часть заполнена изоб-
ражениями вздымающихся
пиков с выносом на передний
план сосны (копия деревьев
Ли Чэна), которая задает со-
бой общую центральную вер-
тикаль. На левой части кар-
тины показано водное про-
странство, окаймленное на
заднем плане горной цепью,
образованной пиками причуд-
ливо-фантазийных силуэтов.
Историко-политические коллизии 20-х гг. XII в. мало
сказались на условиях существования официального худо-
жественного творчества: Академия живописи наряду с дру-
гими государственными учреждениями и ведомствами была
воссоздана в новой столице империи, и жизнь придворных
художников вошла в привычную для них колею. Однако
характер их творчества претерпел разительные изменения.
Первые годы работы южносунской (ханчжоуской) Акаде-
мии живописи прошли под знаком властвования в ней Ли
Тана (1050 — середина XII в.), с именем которого связано
возникновение нового академического стиля. Он прошел
обучение в северосунской Академии живописи, работал в
ней в период реформ императора Хуэй-цзуна и теперь
пользовался исключительным фавором первого монарха
Южной Сун (Гао-цзун, 1127-1163), считавшего его живо-
писцем, равным Ли Сыюаню и Ван Вэю. Ориентировочно в
50-х гг. XII в., т. е., будучи уже столетним старцем, Ли
Тан возглавил Академию живописи. Он работал преиму-
щественно в двух жанрах и формах — пейзаже, воплощая
его в крупноформатных свитках, и в жанре полупейзажного-
полубытописательного плана: картины, представляющие
собой камерные пейзажные композиции, в которые введе-
ны бытописательные детали. Оригинальность и новизна
Ли Тана как пейзажиста проявилась уже в его работах
кайфынского периода — «Сосны под ветром посередине
долины» (188,7 х 139,8, шелк, тушь, краски, 1124 г., На-
циональный дворцовый музей). С точки зрения стилистики
и техники письма, Ли Тан опирался, прежде всего, на
творчество Фань Куаня. Но при этом он создавал иной тип
пейзажа. Если творения Фань Куаня как бы открывались
перед зрителем, создавая y него ощущение личного при-
сутствия в этом величественном мире природы, то Ли Тан
исполнял именно пейзажный вид, подчеркнуто ограничи-
вая его краями свитка. Такой композиционный ход сочета-
ется и с манерой исполнения картины — очень элегант-
ной, но холодновато-сдержанной. В результате его произ-
ведения оказываются эстетически привлекательными, но
живопись
эпохи
ЮЖНАЯ СУН
АКАДЕМИЧЕСКАЯ
ІПКОЛА
живописи
613
287 Назовем, например, свит-
ки «В заснеженных горах»
(182 х 52,7 см, шелк, тушь,
краски, Национальный двор-
цовый музей), «Утки, скалы
и мэйхуа» (173,9 х 98,8 см,
шелк, тушь, краски, Гугун),
альбомный лист «Ученый со
слугой на горной террасе»
(24,9 х 26,1, шелк, тушь,
легкая подцветка, Собрание
С. С. Вана, Нью-Йорк).
лишенными того внутреннего напряжения, которое было
свойственно северосунскому панорамно-монументальному
пейзажу. В последующих работах Ли Тана (равно как и y
других южносунских пейзажистов) форма и структура па-
норамных свитков претерпели дальнейшие изменения. Го-
ризонт часто опускается, первый план делается более углуб-
ленным, плоскость полотна заполняется все менее плотно,
повышается роль свободного пространства, a изображения
утрачивают свою былую детализованность.
В окончательном своем виде южносунский академиче-
ский пейзажный стиль сформировался в творчестве Ma
Юаня и Ся Гуя, живших во второй половине XII — первой
трети XIII в., ставшем «заключительным аккордом» сун-
ской «классической» живописи.
Ma Юань происходил из семьи потомственных худож-
ников. Достаточно известными придворными живописца-
ми были его отец (Ma ІНижун), дядя (Ma Гунсянъ), стар-
ший брат (Ma Куй). Сам он прошел обучение в Академии
живописи и остался работать в ней (1190-1224), дойдя до
высших должностей и наград. Ему приписывается внуши-
тельное число работ, различных по сюжетам и формату
(панорамные свитки, альбомные листы), многие из кото-
рых сохранились в музейных коллекциях мира287. Подоб-
но Го Си, на раннем этапе своего творчества Ma Юань
достаточно точно следовал работам своих предшественни-
ков — северосунских живописцев и Ли Тана. Его карти-
нам тоже присуща величественность пейзажного вида, на-
личие многих планов и подвижная точка зрения. Но посте-
пенно его творческая манера приобретает все большее
своеобразие и легко узнаваемый индивидуальный почерк.
Сюжеты и темы его произведений не отличаются особым
разнообразием: горы, воды, сосны, нависшие над обрывом,
туманные дали, поникшие над озером ветви ивы. Боль-
шинство пейзажей написаны тушью с легкой подцветкой
или акварельными красками, выдержанными в одной —
мягкой, приглушенной — тональности. Они относительно
просты по композиции, лаконичны по набору изображе-
ний и почти всегда построены намеренно ассиметрично,
что придает им особую пространственность, воздушность и
взволнованно-лирическое настроение.
Свободно владевший самыми разными живописными
приемами и техниками — прозрачными размывками, ка-
пельным нанесением туши — Ma Юань более всего просла-
вился мастерством своего линеарного рисунка, отличаю-
щегося богатством каллиграфической линии — то плавной
и округлой, то резкой, острой, изломанной. Последующие
критики неизменно отмечают эту манеру его письма, гово-
ря, что «его кисть отличается строгостью и правильно-
стью». Известно, что он для исполнения деревьев и скал
работал жженой тушью, ветви и листья деревьев рисовал
сжатой кистью, для передачи фактуры горных пород
пользовался специальными штрихами, наносимыми раз-
бавленной тушью. Рисуя одежду людей в альбомных ли-
стах и маленьких по формату свитках, пользовался линия-
614
ми, «подобными крысиным хвостам», в картинах крупно-
го формата — прозрачными красками, нанося их тонкими
мазками. Эталонными для китайской живописи считают-
ся его манера и техника изображения сосйы: с изогнутыми
ветвями и жесткими («словно железная проволока») игла-
ми, которые исполнялись им посредством специальной, с
обрезанным концом, кисти.
Остановимся чуть подробнее на двух его работах, при-
знаваемых лучшими или самыми блестящими образцами
его творчества. Это, во-первых, вертикальный свиток «Лун-
ная ночь» (шелк, тушь, легкая подцветка, Музей Хаконэ,
Япония), написанный на одну из популярнейших в китай-
ской художественной словесности тем — поэт, созерцаю-
щий луну. На переднем плане мы видим фигуру человека,
полулежащего на земле, y подножия неболыного холмика,
и справа от холмика — крохотную фигурку мальчика-слуги.
В левом углу картины смутно вырисовывается силуэт ог-
ромной скалы, от склона которой, будто врезаясь в ночное
небо, протягиваются могучие, корявые ветви сосны. Всю
остальную часть свитка занимает небо, столь низкое, что
кажется, будто y самых ног поэта начинается бездонная
пропасть. Композиционная асимметрия уравновешивается
темными ветвями сосны, пересекающими свиток по диаго-
нали, диском луны, висящим высоко в небе, и небольшим
холмиком, чернеющим внизу картины.
Второе произведение — альбомный лист «Прогулка по
пути весной» (27,3 х 43,1 см, шелк, тушь, легкая подцвет-
ка, Национальный дворцовый музей, см. вклейку), один
из шедевров живописи Ma Юаня. Все изображения — край
обрыва, ива с тонкими обнаженными ветвями и стоящий
рядом с ней человек — поэт или философ — сосредоточены
в левом углу картины. На ее заднем плане еле виднеются
очертания уходящих вдаль гор. Справа — едва намечен-
ная, теряющаяся в дымке тропа. Свободное пространство
дополнено еще одной диагональю, образованной резко про-
черченной ветвью ивы, за счет чего создается новый ком-
позиционный фрагмент, объединяющий фигуру человека
и изображение только что взлетевшей с дерева птицы.
Ся Гуй (1180-1234), коренной южанин по происхожде-
нию, тоже прошел обучение в Академии живописи и ос-
тался работать в ней, добившись высокого служебного по-
ложения и официального признания. В его творчестве об-
наруживается немало общего с творчеством Ma Юаня.
Ся Гуй также избегал панорамности и излишней детализа-
ции, концентрируя все внимание на предельно важных по
смыслу и настроению эпизодах и реалиях окружающей
действительности. Он сочетал различные живописные прие-
мы. В линеарном рисунке — от чистой и четкой каллигра-
фической линии до элементов скорописного почерка, при
изображении предметов — в широкой живописной манере,
посредством смелых, сочных, свободно расположенных ли-
ний и то густых, то прозрачных размывов туши. Обратим-
ся к двум картинам Ся Гуя — «Буря» (вертикальный сви-
ток, шелк, тушь, Собрание Катаваси, Япония) и «Человек
Стилистика работ
Ma Юаня
615
на осле» (вертикальный свиток, Коллекция Осано Одава-
ра, Токио), считающимся лучшими образцами его творче-
ства. На первом из них на переднем плане — изображе-
ние горного отрога с несколькими пригнутыми от мощно-
го порыва ветра деревьями, со спутанными ветвями, с
которых ураган срывает и уносит листья. Под деревьями,
на самом берегу реки, — ветхое строение. Через бурля-
щий поток переброшен шаткий мостик, на который гото-
вится вступить, вероятно, спешащий домой путник. Ис-
полненные тушью, густыми, скользящими мазками хао-
тические очертания черных крон деревьев и согнувшихся
стволов, которые, кажется, вот-вот рухнут на крышу строе-
ния, создают ощущение всеобщего смятения. Но эта сце-
на, являющаяся эмоциональной доминантой картины, за-
нимает менее половины ее части. Переход от первого пла-
на ко второму осуществляется посредством воздушной
среды. Вверху выступает еле намеченная скала, на кото-
рой видны трепещущие под ветром растения. Ее контур,
ритмически повторяя очертания деревьев на переднем
плане, усиливает общее настроение свитка. Фон второй из
названных картин почти полностью чист. Верхняя часть,
где художник располагает небесное пространство, чуть
тронута кистью. Затем едва выявлены очертания гор, и
опять через чистую поверхность передается море. Все изоб-
ражения сосредоточены в левой части свитка: раскиди-
стые стволы бамбука, окружающие хижины, тропа вдоль
берега и фигуры двух путников. Картина выполнена (при-
чем с редкой для китайской живописи виртуозностью)
сочными, плотными мазками туши, с которыми контра-
стирует изломанно-графическая ветвь цветущей сливы,
подчеркивая приход весны и придавая творению спокойно-
умиротворенный лад.
Творчество Ma Юаня и Ся Гуя уже при их жизни было
провозглашено новым для национального живописного ис-
кусства стилистическим направлением, получившим тер-
минологическое название «школа Ма-Ся». С ретроспек-
тивной точки зрения, оно является своеобразным син-
тезом северосунской академической живописи и пейзажа
«художников-литераторов», влияние которого сказывает-
ся в стремлении обоих художников обыгрывать свободное
пространство и особо подчеркивать воздушную среду. Но
истинное продолжение традиция «художников-литераторов»
нашла в творчестве самодеятельных живописцев — масте-
ров школы Чань.
ЧАНЬСКАЯ Чаньская живопись объединяет произведения, создан-
ЖИВОПИСЬ ные на сюжеты и темы, иллюстрирующие эпизоды исто-
рии и религиозных представлений школы Чань, выпол-
ненные в манере, соответствующей ее эстетическим требо-
ваниям и установкам, и принадлежащие кисти монахов
или связанных с монашеской средой мирян, долгое время
обитавших в монастыре школы или поддерживающих по-
стоянные контакты с монашеской средой. Традиция чань-
ской живописи начала складываться, видимо, во второй
616
половине Тан. A одним из первых ее образцов считается
неболыпой свиток «Патриарх и тигр» (25,3 х 64,3 см, бу-
мага, тушь, Национальный музей, Токио). По мнению экс-
пертов, он является копией, сделанной в ХПІ-ХІѴ вв. с
картины, созданной не позднее X в., автором которой был
либо Ши Кэ, либо художник, работавший в его стиле288.
В нем воспроизведена двухфигурная композиция — то ли
спящий, то ли погруженный в медитацию человек, опира-
ясь на спину пребывающего в таком же состоянии тигра
(см. вклейку). Одеяние, лицо патриарха, a также морда и
тело животного выполнены в условной манере посредством
грубых, рваных и шероховатых, но выразительных и энер-
гичных линий, написанных каким-то иным, нежели обык-
новенная кисть, предметом, возможно соломенной кистью
или бамбуковой щепкой. Там, где рука художника задер-
жалась хотя бы на мгновение, остались потеки глубокого
черного цвета, a там, где движение шло непрерывно, —
специфические тонкие полосы, дублирующие разделенные
волокна использованного орудия письма.
При Южной Сун произошло подобие организационного
оформления чаньской живописи, a ee центром стали мона-
стыри, расположенные в окрестностях столицы. Мы не зна-
ем, каковы были точные организационные параметры дан-
ного художественного центра (если они вообще имелись) и
его количественный состав. Однако имена его ведущих пред-
ставителей доподлинно известны — My Ци, Ин Юйцзюнь
и Лян Кай.
My Ци — настоятель чаньского монастыря Людунсы289.
Он работал практически во всех жанрах, присущих чань-
ской живописи: пейзаж, портрет и «сюжетно-иллюстратив-
ная живопись» — картины на темы эпизодов истории Чань
и притч. Его пейзажи (например, «Закат над рыбацкой
деревней», Галерея Недзу, Токио, см. вклейку) явно про-
должают живописную линию «туманно-облачного стиля»,
характеризуясь еще большей эскизностью и тенденцией к
распаду форм, чем y Ми Фу и Ми Южэня. Картины пре-
имущественно исполнены посредством простой отмывки и
широких, небрежных, как бы шероховатых мазков. Роль
линии сведена к минимуму — условно-намеченные стволы
деревьев, крыши домов, лодки с рыбаками. Далекие, тону-
щие в тумане горы окончательно приобретают призрачно-
фантастический облик, a весь пейзажный вид производит
впечатление зыбкого видения. Видимая природа намеренно
скрывается художником от зрителя: ему предлагается само-
му домыслить ее облик с помощью содержащихся в картине
намеков. Тем самым создается ощущение не просто таин-
ственности природы, чего добивались «художники-литера-
торы», a трансцендентности мира, его постоянной изменчи-
вости и отсутствия в нем строго установленных форм.
Продолжая разговор о чаньском пейзаже, отметим, что
своей наивысшей эскизности и абстрактности он достиг в
творчестве Юн Юйцзюня, в картинах которого (в моно-
хромной технике и на бумаге) — «Горная деревня в рассеи-
вающемся тумане» (30,1 х 83 см, Художественный музей
288 Ши Кэ — известный
живописец (о нем говорится
в трактате Го Жосюя), при-
надлежавший к монашеским
кругам, хотя он и работал на
положении столичного худож-
ника, расписывая, по авгус-
тейшему распоряжению, буд-
дийские храмы. Из данных ему
последующими критиками ха-
рактеристик, в которых ут-
верждается, что его «кисть
и тушь были легкими и сво-
бодными» и что сам он «не
признавал никаких образцов
и правил», мы можем за-
ключить, что творчество это-
го художника отличалось са-
мобытностью и определенной
экстравагантностью. Точная
конфессиональная принадлеж-
ность Ши Кэ неизвестна, но
названное произведение по те-
матике — изображение чань-
ских персонажей — и манере
исполнения полностью отве-
чает перечисленным выше
показателям.
289 Все же остальные со-
хранившиеся о нем биогра-
фические сведения настоль-
ко скудны и противоречивы,
что по ним невозможно даже
приблизительно установить
даты его рождения и смерти.
В некоторых версиях его био-
графии допускается, что он
родился в 70-х гг. XII в. и
умер в самом конце эпохи
Юань, т. е. в 80-х гг. XIII в.,
прожив, следовательно, более
100 лет. Болыыую часть своей
жизни он провел, по всей ве-
роятности, в монастыре, вна-
чале в статусе послушника, a
затем — прямого духовного
преемника одного из извест-
нейших чаньских наставни-
ков того времени, который и
передал ему пост настоятеля.
Наибольшее признание твор-
чество My Ци снискало себе в
Японии, где и сохранилось по-
давляющее болыпинство (чи-
сло которых весьма велико)
приписываемых ему произве-
дений.
617
Идемитцу), «Горная деревня. Просвет после дождя» (30,3 х
х 83,3 см, Художественный музей Идемитцу) — вообще нет
даже условно намеченных изображений. Их художествен-
ная композиция сводится к контурам-намекам, образован-
ным размывами и пятнами туши (см. вклейку).
He меньшей оригинальностью обладают также фигура-
тивные картины My Ци — изображения животных, птиц и
персонажей буддийского пантеона: свиток «Птица багэ на
старой сосне» (78,4 х 38,6 см, собрание Мацудайра, Токио)
и знаменитый триптих (коллекция монастыря Дайтокуд-
зи, Токио), состоящий из свитка с изображением Гуаыь-
инь, и боковых свитков «Обезьяна с детенышем» и «Жу-
равль, выходящий из бамбуковой рощи». Бодхисаттва ми-
лосердия показана пребывающей в состоянии медитации в
ее ипостаси Белохитонной Гуаньинь. Что касается двух дру-
гих свитков, то, находясь в совершенном созвучии с цент-
ральным полотном и олицетворяя гармонию между боже-
ственным и земным мирами, они одновременно демонстри-
руют особенности анималистического стиля My Ци. Он тоже
отличается эскизностью и условностью, которые удивитель-
ным образом сочетаются с абсолютной точностью передачи
натуры и живостью персонажей. Фигура обезьяны, обни-
мающей детеныша, производит на первый взгляд впечат-
ление сплошного, малопонятной формы пятна. Но, резко
выделяясь на фоне свитка, она сразу же приковывает к
себе внимание зрителя, и он постепенно начинает разли-
чать ее детали: мордочку животного с выражением нежно-
сти и пронзительные, умные глаза, как будто они глядят
прямо в глаза зрителя (см. вклейку).
Лян Кай — непревзойденный во всей истории чаньской
живописи художник-портретист. Он начал свою художествен-
ную деятельность в Академии живописи, быстро получив
признание среди ее членов и в столичных художественных
кругах в качестве продолжателя стиля Ли Лунмяня. Судя
по отзывам о его творчестве современников (ни одной рабо-
ты, даже в копиях, для этого периода его жизни не сохрани-
лось), он отдавал предпочтение портретам даосских и буд-
дийских личностей, тщательно прорабатывая все детали их
внешности. Портреты обычно помещались им на пейзаж-
ный фон, который изображался в лаконичной, условной
манере, но с болыиой энергией и выразительностью. В 1201—
1204 гг. Лян Кай получил высшее академическое звание и
Золотой пояс Академии, но внезапно подал в отставку и,
резко оборвав все отношения с академической и столичной
средой, поселился в монастыре My Ци. Впрочем, если ве-
рить тем же свидетельствам современников, его поступок
вовсе не был так уж внезапен или случаен. Он давно тяго-
тился своими служебными обязанностями и придворным
этикетом, предпочитая проводить время за дружеским за-
стольем, позволяя себе при этом столь бурное веселье, что
друзья прозвали его «сумасшедшим Ляном».
Все дошедшие до нас произведения Лян Кая были со-
зданы им, видимо, уже во время пребывания в монастыре.
Они выполнены исключительно в монохромной технике
и особой стилистической манере, считающейся изобрете-
нием художника и получившей терминологическое обозна-
чение «сокращенная кисть». Она сводится к упругим, гиб-
ким линиям, напоминающим траекторию полета брошен-
ного предмета и образованным не собственно линеарным
рисунком, a своего рода растушеванным поворотом тугой
кисти, выделяющей нажимом только часть рисунка. В по-
следующих письменных источниках упоминаются несколь-
ко тематических серий портретов Лян Кая — древних фи-
лософов (в том числе Чжуан-цзы), поэтов, каллиграфов,
чаньских патриархов, a также иконописных изображений
Будды. От всех этих серий сохранились два портрета Шес-
того патриарха Чань Хуэйнэна — «Хуэйнэн, очищающий
бамбук от листьев» (72,7 х 31,8 см, бумага, тушь, Нацио-
нальный музей Токио), «Хуэйнэн, разрывающий сутры»
(японская копия, 73 х 31,7 см, тушь, бумага, Собрание Та-
камуру, Токио) и портрет Ли Бо, известный под названием
«Ли Бо, сочиняющий стихи» (80,4 х 30,7 см, бумага, тушь,
Национальный музей Токио), который считается вершиной
творчества Лян Кая. На нем показана профильная фигура
человека, стоящего в полный рост, с высоко поднятой голо-
вой и одетого в свободно ниспадающее одеяние, с длинными
фалдами, полностью скрывающее контуры тела. Все изобра-
жение выполнено в эскизной манере. Грудь и спина очерче-
ны сильными, как бы намеренно небрежно проведенными
линиями, a слегка видимые ступни ног и стелющийся по
земле край одежды — быстрыми и размашистыми штриха-
ми. Художника не интересует ни фактура материала, ни
детали одеяния, ни портретные черты лица его персона-
жа — только ритм складок, который вместе с силуэтом
фигуры придает изображению подвижность и даже стре-
мительность, будто поэт готов оторваться от земли, в поры-
ве вдохновения.
Этот портрет Лян Кая кажется на первый взгляд диа-
метрально противоположным китайскому парадному порт-
рету. Однако на самом деле их объединяет общность подхо-
да к человеку. Ведь и данный портрет есть не изображение
конкретного исторического лица, a условно-обобщенный об-
раз Поэта в момент вдохновения. Более того, полностью ос-
нованный на чаньской эстетике и выступающий своего рода
иллюстрацией чаньской идеи спонтанности просветления, он
отвечает и главным критериям академической живописи —
требованию адекватности и убедительности в передаче нату-
ры. Таким образом, с объективной точки зрения чаньская
живопись представляет собой истинно китайский художе-
ственный феномен, ставший квинтэссенцией той длительной
живописной традиции — от творчества Ван Вэя и через твор-
чество «художников-литераторов», — которая соединила в
себе натуралистичность внешнего изобразительного ряда с
концептуальной глубиной и опиралась на предельно инди-
видуализированную живописную деятельность.
История существования чаньской живописи формаль-
но ограничивается южносунской эпохой. Принято счи-
тать, что она не получила непосредственного продолжения
Лян Кай. «Хуэйнэн,
разрывающий сутры»
Лян Кай. «Хуэйнэн,
очищающий бамбук
от листьев»
Лян Кай.
«Портрет Ли Бо».
Прорисовка
619
290 Данная проблема все
более активно обсуждается в
искусствоведческих исследо-
ваниях и творческих кругах
как Запада, так и Востока.
Убедительный пример — об-
щество «Май» («Уюэ хуаху-
эй»), основанное на Тайване
в конце 50-х гг. прошлого
века, члены которого, опира-
ясь на тезис о безусловном на-
личии в мировом искусстве
таких фундаментальных прин-
ципов, пытаются объединить
в своем творчестве традиции
китайской и европейской жи-
вописи.
в искусстве Китая в силу ее грубости и экстравагантности.
В действительности ее традиции не были полностью утра-
чены, и ее влияние прослеживается, как мы увидим далее,
в творчестве многих художников минской и цинской эпох.
Одновременно, несмотря на все скептические отзывы о ней
старых китайских критиков, она убедительно доказывает,
что китайская живопись уже в ХІ-ХІІ вв. достигла кон-
цептуального и экспериментального уровня, типологиче-
ски сопоставимого с импрессионизмом и другими европей-
скими живописными течениями XX в. Нельзя также не
признать, что значение чаньской живописи намного выхо-
дит за рамки отдельных исторических периодов и художе-
ственной культуры Китая в целом. Во-первых, она оказала
огромное воздействие на японскую живопись, которая в
свою очередь стала объектом пристального внимания евро-
пейских художников. Во-вторых, неизбежно возникает
вопрос о причинах отмеченного типологического сходства
творческих поисков и стилистики чаньской живописи с
эстетическими идеями и художественными эксперимен-
тами европейской и отечественной живописи конца XIX —
начала XX в., т. е. о возможности существования в миро-
вом искусстве фундаментальных художественных принци-
пов, которые и были реализованы в чаньской живописи и в
западном изобразительном искусстве290.
И наконец, рискнем высказать суждение, что опротес-
товывание чаньской живописи последующей китайской
художественной критикой было во многом обусловлено не
ее собственным своеобразием, a особенностями того пути,
который местное изобразительное искусство было вынуж-
дено выбрать после установления в Китае монгольского
владычества.
живопись
ЭПОХИ ЮАНЬ
Первой реакцией китайского живописного творчества
на установление в стране владычества чужеземного правя-
щего дома стало принятие им на себя миссии сохранения
национальных духовных ценностей и непосредственно ху-
дожественных традиций. И сказанное не плод вымысла
автора или выспренная метафора. Почти одновременно с
утверждением династии Юань, в городе Усине, находив-
шемся вблизи от южносунской столицы и превратившемся
после ее разорения монгольской армией в главный центр
культурной жизни Юга, возникло творческое объедине-
ние, назвавшее себя «Восемь талантов из Усина». Оно было
создано художником и теоретиком живописи Цянь Сюа-
нем (1239-1301?), взявшим за образец «художников-лите-
раторов» и поставившим перед собой цель сплотить мест-
ную творческую интеллигенцию и.выработать программу
действий в сложившейся ситуации.
Основным и единственным способом сохранения нацио-
нальных духовных ценностей им и его единомышленника-
ми признали возвращение к древним художественным тра-
дициям, под которыми они понимали в первую очередь
живопись танской и северосунской эпох. Ими был также
620
выдвинут список конкретных мастеров: У Даоцзы, отец и
сын Ли, Хань Гань — для анималистики, Дун Юань и Ми
Фу — для пейзажа, Хуан Цюань — для жанра «цветы и
птицы», Ли Лунмянь — для фигуративной живописи и
портрета291. Вся эта программа действий, ее идейное обо-
снование и конкретные рекомендации по ее осуществле-
нию изложены в сочинениях усинских теоретиков, близ-
ких к Цянь Сюань, в том числе в «Драгоценном зерцале
живописи» («Тухуэй баоцзянъ») СяВэнъяня. Так, собственно
говоря, и было положено начало художественному рестав-
рационализму, охватившему собой, прежде всего, именно
живопись, ибо изящная словесность в лице поэзии уже
почти полностью утратила свои позиции выразительницы
социально-психологического настроя китайского общества
и хранителя его «национального духа»292.
Как конкретно представляли себе «усинские таланты»
способы сохранения национальных живописных традиций,
становится вполне понятным на примере творчества самого
Цянь Сюаня: пейзажный свиток «Снова дома» (20 х 106,7 см,
шелк, тушь, краски, Музей искусств Метрополитен). Он
создан по мотивам одноименной поэмы V в., что сразу же
указывает на его смысловой подтекст — мечта художника
о возвращении «в прежнюю страну». Свиток распадается
на две композиционные части. Слева — условно-архаизо-
ванное изображение речного берега с деревьями и ворота-
ми, ведущими в усадьбу, выполненное в типичных для
танской живописи зеленых тонах (см. вклейку). Справа —
гладь озера (или разлившейся реки), окаймленного на зад-
нем плане чуть видимой цепью гор. На переднем плане —
лодка с чиновником, одетым в костюм танской эпохи, все
детали и нюансы которого тщательно проработаны, но
тоже в старинной манере. Указанные художественные ар-
хаизмы сочетаются с рядом композиционно-стилистичес-
ких приемов, свойственных южносунской живописи: сви-
ток построен по принципу диагональной асимметрии, ху-
дожественное пространство оказывается разреженным,
фоновая поверхность обыгрывается. Таким же эклектиз-
мом отличаются и произведения Цянь Сюаня в жанре «цве-
ты и птицы», в котором он в основном и работал. В них
сочетаются реалистичность и утонченность северосунской
академической живописи с условностью и декоративнос-
тью танских полихромных картин.
Цянь Сюаню отводится почетное место в истории ки-
тайской живописи. Однако он явно не был выдающимся
художником, способным увлечь за собой творческую ин-
теллигенцию всей страны. Вполне возможно, что его живо-
писные опыты и прокламации «усинских талантов» так и
не вышли бы за пределы этого города, если бы среди них не
присутствовал человек, которому суждено было стать од-
ной из ключевых фигур художественной жизни юаньской
эпохи. Это — Чжао Мэнфу (1254-1322).
Чжао Мэнфу был дальним родственником сунского пра-
вящего дома. После провозглашения монгольской динас-
тии, он, тогда еще 20-летний юноша, подал в отставку,
291 Как видим, наиболее
ценным и значительным в
предшествующей истории на-
циональной живописи ими
считалось творчество худож-
ников, относящихся преиму-
щественно к «южной» живо-
писной традиции, a их ин-
терес к «облачно-туманному
стилю» был обусловлен, по
их собственному признанию,
еще и тем, что в творчестве
Ми Фу они усматривали об-
разец искомой архаичности.
Что касается живописного на-
следия Южной Сун, то из него
ими признавалось творчество
только Ma Юаня и Ся Гуя,
тогда как чаньская живопись
решительно отвергалась как
«абсолютно ни к чему не при-
годная».
292 Политические заявле-
ния «усинских талантов», в
которых утверждалось катего-
рическое неприятие ими мон-
гольского правящего режима,
так и остались декларациями.
Почти все члены этого объ-
единения в скором времени
приняли приглашение мон-
гольских властей приехать в
столицу и поступить к ним на
службу. Единственный, кто
остался в Усине, — Цянь Сю-
ань; он не последовал их при-
меру лишь по причине пре-
клонного возраста. Однако в
своем живописном творчестве
ни Цянь Сюань, ни его быв-
шие соратники не изменили
выработанной ими стратеги-
ческой линии поведения.
621
293 О произведениях Хань
Ганя прямо напоминает его
картина «Лошади на водопое»
(горизонтальный свиток, шелк,
тушь, краски, Гугун), выпол-
ненная в 1312 г., где тоже по-
казан табун лошадей — кони,
пьющие воду из озера, вольно
резвящиеся на берегу. Дей-
ствие разворачивается на фоне
пейзажа, выполненного в ус-
ловно-архаической манере и
сочного по колориту.
294 Одни исследователи
убеждены, что оно, вопреки
столь лестным оценкам ста-
рых китайских критиков, на
самом деле знаменует собой
однозначную деградацию тра-
диции пейзажной живописи,
ибо произведения Чжао Мэн-
фу лишены как достоверности
и выразительности, так и той
философской глубішы, которая
неизменно присутствует в лю-
бых пейзажных стилистиче-
ских вариантах предшествую-
щих эпох. Другие же специа-
листы, напротив, доказывают,
что этим. художником был
создан специфический и са-
мобытный стиль, который, не-
смотря на свою эклектичность,
обладает необыкновенной экс-
прессивностью, превосходя по
данному показателю все пред-
шествующие китайские пей-
зажи, и может быть сопостав-
лен с живописью французских
импрессионистов, в частности
Сезанна.
уехал в Усин и, решив посвятить себя живописи, поступил
в ученики к Цянь Сюаню. В Усине он пробыл относительно
недолго. Вызванный в столицу, он поступил на службу к
монгольскому двору и сделал блестящую официальную
карьеру, дослужившись до высоких административных
постов и княжеского титула гун. Его служебные обязанно-
сти никак не были связаны с живописным творчеством, и
поэтому Чжао Мэнфу справедливо считать скорее самодея-
тельным, чем профессиональным живописцем. Он был не-
обычайно разносторонним мастером, творившим и в пейза-
же, и в «цветах и птицах», включая «бамбуковый стиль», и
в анималистическом жанре. В его анималистических произ-
ведениях центральное место занимают изображения лоша-
дей и скачущих монгольских воинов — сюжеты, принес-
шие ему признание в среде монгольской знати и нередко
считающиеся искусствоведами выражением его лояльности
к монгольской династии. Однако уместно вспомнить, что
лошади были излюбленной темой танских художников293.
Для пейзажа лучшим произведением Чжан Мэнфу и одно-
временно наиболее показательным, пожалуй, образцом
«юаньского реставрационализма» является свиток «Осен-
ние цветы в горах Цяо и Хуа» (28,5 х 93,3 см, бумага,
тушь, краски, 1296 г., Национальный дворцовый музей).
Он представляет собой откровенную реплику на северосун-
ский панорамно-монументальный пейзажный стиль, но
выполнен совершенно в иной манере, включая трактовку
ландшафта. Весь первый план занимает изображение за-
росшего тростником края озера (или речной низины), окай-
мленного отлогим берегом, на котором возвышаются веко-
вые хвойные и лиственные деревья (см. вклейку). На вто-
ром плане, в правой части свитка, — массив уходящей
вверх пирамидальной формы горы. На заднем плане —
ровное водное пространство, смыкающееся с небом. На про-
токе видны непропорционально крошечные, по сравнению
с деревьями, лодки с рыбаками. Все горные формы и дере-
вья выполнены в подчеркнуто примитивно-архаизованной
и вместе с тем фантазийной манере. Колорит картины —
яркий, насыщенный, с преобладанием интенсивных зелено-
синих тонов, разбавленных контрастными по отношению к
ним красновато-оранжевыми пятнами — осенней листвой
на деревьях. В свитке переплелись элементы самых раз-
ных живописных направлений и стилей — танского «сине-
зеленого» пейзажа, сунской академической живописи, «ту-
манно-облачного стиля» и даже в какой-то мере чаньской
живописи. В результате перед зрителем возникает некий
«сказочный», ирреальный пейзажный вид, словно пришед-
ший из древних легенд или навеянный сновидениями че-
ловека, тоскующего о прошлом.
Творчество Чжао Мэнфу исключительно высоко оцени-
валось его современниками и последующими критиками,
считавшими, что он «обладал тонкостью художников тан-
ской эпохи, но без их слабости, силой мастеров Северной
Сун, но без их грубости». Мнения же о нем современных
искусствоведов разделились294.
622
Чжао Мэнфу прославился не только личными творче-
скими достижениями. Пользуясь своим официальным поло-
ясением и фавором монгольских властей, он превратил двор
в подобие художественной обители, собрав вокруг себя це-
лую плеяду живописцев. В нее входили члены его собствен-
ной семьи: сыновья — Чжао Юн (1298-?) и Чжао И,
Гуанъ Даошэн и многочисленные ученики или живописцы,
которых Чжан Мэнфу взял под свое покровительство295.
Из других художников, входивших в окружение Чжао
Мэнфу или близких к нему, назовем хотя бы двух — Чжу
Дэцзяня (1294-1365) и Ban Юаня (XIV в.), которые тоже
оставили заметный след в истории китайской живописи и,
кроме того, были весьма примечательными личностями.
Чжу Дэцзянь, тоже бывший уроженцем юга страны
(хотя точное место его рождения неизвестно, называются
провинция Хунань или Цзянсу), поступил на службу к
монголам и не без помощи, вероятно, Чжао Мэнфу достиг
высокого положения при дворе. Его живописные работы
пользовались большой популярностью y столичной знати296.
Лучшим произведением Чжэ Дэцзяня, предпочитавшего тво-
рить в пейзаже, считается картина «Жилище в деревне»
(28,3 х 118,7 см, бумага, легкая подцветка, Шанхайский
музей искусств), которая была создана им в 1364 г., за год
до смерти. На ней, несмотря на использованный художни-
ком формат, воспроизводится камерная по содержанию сце-
на — павильон, который воздвиг один из его друзей в своем
загородном поместье (провинция Чжэцзян) для приема гос-
тей и интеллектуально-творческих занятий. Фоном для этой
сцены служит пейзаж, объединивший в себе стилистику
«северных» и «южных» пейзажей. В правой части свитка
на передний план вынесена деревня, за которой — средний
и задний планы — высятся уходящие вдаль горные цепи,
теряющиеся в небесных просторах. В левой части свитка —
затуманенный берег реки, переходящий в водную гладь.
Картина изобилует воздушной средой, пришедшей в нее из
«туманно-облачного стиля». A от северосунских мастеров
Чжу Дэцзянь, помимо указанных композиционных приемов,
позаимствовал изящество рисунка, проработанность дета-
лей и экспрессивность штрихов.
Ван Юань, наиболее активно работавший с 1341 по
1367 г. (точные годы его жизни неизвестны), вновь прибыл
в столицу с Юга (пров. Чжэцзян) и, став чиновником, со-
вмещал служебные обязанности с самодеятельными живо-
писными занятиями. Как и Чжао Мэнфу, он работал в
разных жанрах — пейзаже, избрав себе для подражания
манеру Го Си, фигуративной живописи — с обращением к
танским мастерам, и в жанре «цветы и птицы», в котором
и добился лучших результатов. Создаваемые им компози-
ции объединяли в себе изображения птиц и цветов, выпол-
ненные в стиле Хуан Цюаня, и изображения бамбука и
скал, близкие по стилистике к живописи «художников-
литераторов». Кроме того, даже используя монохромную
технику, он умел добиваться подчеркнутой декоративности
произведений, что, заметим, и обеспечило их популярность
295 Оба его сына в основ-
ном подражали работам отца.
A bot Гуань Даошэн обладала
незаурядным художественным
талантом, став признанным
мастером «бамбукового сти-
ля», композиций на тему ор-
хидей и цветущих деревьев, a
также портрета. Ее кисти, в
частности, принадлежит уди-
вительно тонкий по исполне-
нию, лиричности и одухотво-
ренности портрет поэтессы пер-
вой половины IV в. Су Хуэй
(Су Жолань, 29 х 15,5 см,
шелк, тушь, легкая подцвет-
ка, ГМИНВ).
296 Но, постоянно враща-
ясь в придворных кругах, он
подчеркивал любительский
характер своих живописных
занятий: писал для собствен-
ного удовольствия или по
просьбе самых близких лю-
дей. A чтобы избежать выпол-
нения официальных заказов
или просьб высокопоставлен-
ных особ, постоянно сетовал
на слабое здоровье, якобы не
позволяющее ему работать в
полную силу.
623
297 Потомок уйгурского рода,
уже в течение многих поко-
лений проживавшего на тер-
ритории Китая (в районе Пе-
кина), он сразу же и без ма-
лейших колебаний поступил
на службу к монгольским вла-
стям и тоже быстро сделал бле-
стящую официальную карье-
ру, возглавив Департамент
наказаний. В то же время он
поддерживал тесные связи с
сановниками-южанами.
298 До определенного вре-
мени он состоял на службе при
дворе. Однако незадолго до
падения юаньской династии,
он подал в отставку, вернулся
в город Усин и поселился в
отшельническом уединении в
окрестных горах (Хуанхо-
шань) — период его жизни,
продлившийся всего чуть бо-
лее года, но ставший наибо-
лее плодотворным для него
как художника. Сразу же пос-
ле провозглашения минской
династии он вновь поступил
на службу, был назначен на
пост губернатора в восточном
регионе (НІаньдун), но оказал-
ся втянутым в заговор против
трона, арестован и брошен в
тюрьму, где и скончался.
299 Этот стиль отчетливо
проявляется в его произведе-
ниях отшельнического перио-
да — свитках «Читая в весен-
них горах» (132,4 х 55,4 см,
бумага, тушь, краски, Шан-
хайский музей искусств) и
«Уединение в горах Бяныиань»
(141 х 42,2 см, шелк, тушь,
Шанхайский музей искусств),
которые были созданы им со-
ответственно в начале и кон-
це 1366 г. На втором из на-
званных свитков воспроизво-
дится картина ранней весны
в горах Бяныпань, тоже рас-
положенных в окрестностях
Усина и славящихся красотой
своего ландшафта. Несмотря
на столь однозначное соотне-
сение произведения с конкрет-
ной местностью, показанный
художником вид есть услов-
но обобщенная картина пей-
зажа, a не изображение имен-
но данной местности. Почти
все пространство свитка за-
полнено горными формами,
поднимающимися своеобраз-
ными, наподобие морских волн
или стилизованных тел изви-
вающихся драконов, слоями
к центральному пику. Верши-
ны гор имеют плавно-округ-
лые очертания (в стиле Цзюй-
жэня), тогда как их склоны
выполнены массивными и тя-
желыми точечными удара-
ми кисти.
y столичной знати. Пример — картина «Бамбук, скалы и
стая птиц» (137,7 х 95,5 см, бумага, Шанхайский музей
искусств).
Чжао Мэнфу возглавляет когорту «Шести великих ма-
стеров эпохи Юань», выделенную уже последующими ис-
ториками и теоретиками китайской живописи, в которую
кроме него входят: Гао Кэгун (1248-1310), Ван Мэн (1308-
1385), Хуан Гунван (1269-1354), У Чжэнь (1280-1354) и
Ни Цзань (1301-1374).
Гао Кэгун, не входя в непосредственное окружение Чжао
Мэнфу, принадлежал к тому же кругу китайских чинов-
ников-интеллектуалов, обосновавшихся при монгольском
дворе297. Он работал в двух основных жанрах — в пейзаже
и «бамбуковом стиле», избрав себе для образца манеру Ван
Тинъюня. Заметно болыыим своеобразием отличается его
пейзажная живопись, опирающаяся в основном на творче-
ство Ми Фу с привнесением в нее элементов стилистики
Дун Юаня и Ли Чэна. Таковым выглядит, например, сви-
ток «Весенние горы в ожидании дождя» (100,5 х 107 см,
шелк, тушь, легкая подцветка, Шанхайский музей искусств).
В нем воспроизводится типичный для произведений Ми Фу
пейзажный вид: горы, выступающие из пелены тумана и
дополненные выписанными на переднем плане изображения-
ми деревьев (см. вклейку). Несколько приподнятая пер-
спектива, обилие воздушной среды, которая заполняет со-
бой верхнюю часть свитка и разделяет передний и задний
планы, создавая эффект пространственной глубины и сво-
боды, a также четкость проработки первого плана — все
это легко узнаваемые композиционно-художественные прие-
мы творчества Ми Фу. Тогда как высоко вздымающаяся
центральная гора выполнена в манере Дун Юаня.
Ван Мэн — внук Чжао Мэнфу, выросший в творческой
атмосфере, которая сложилась вокруг его деда298. Он рабо-
тал, судя по сохранившимся его произведениям, исключи-
тельно в пейзаже в формате горизонтальных свитков. Пер-
воначально его творчество находилось под определяющим
воздействием стилистики Чжао Мэнфу. Затем он обратил-
ся к манере Ван Вэя и Дун Юаня и в конце концов создал
собственный индивидуальный стиль, отличающийся поли-
фоничностью художественных истоков, красочностью, де-
коративностью, условностью и фантазийностью299. Самым
показательным образцом «стиля Ван Мэна» считается сви-
ток «Лесной грот в Цзуцу» (68,8 х 42,5 см, бумага, тушь,
краски, Национальный дворцовый музей, см. вклейку). Он
плотно заполнен изображениями строений, фигур людей и
причудливых конфигураций горных форм, которые обра-
зуют тесно структурированный и фантазийно-условный ланд-
шафт. Строения и фигуры людей образуют замкнутые ком-
позиционные фрагменты, размещенные в изолированных
уголках этого ландшафта, — прием, идущий от сегментно-
го построения древних стенописей. Стилизация под худо-
жественную архаику еще больше усиливается за счет от-
сутствия атмосферной среды и нарочитой плоскостности
гор. Одновременно свиток отличается яркостью и насы-
624
щенностью цветовои гаммы, виртуозностью письма и свое-
образной экспрессивностью, но экспрессивностью, идущей
не от восприятия художником окружающей действитель-
ности, a от его внутренних умозрительных построений.
Если Чжао Мэнфу, Гао Кэгуна и Ван Мэна мы можем,
с определенной, правда, долей условности, считать наслед-
никами и продолжателями традиции официального худо-
жественного искусства, то трое остальных «великих юань-
ских мастеров», бесспорно, принадлежат к традиции не-
официальной живописи и «южной» школе.
Хуан Гунван, коренной южанин (пров. Чжэцзян), всю
жизнь провел на родине300. Его творческое наследие состо-
ит всего из одного-единственного, но овеянного легендами
произведения — гигантского по формату свитка «Жизнь в
горах Фучунь» (32,7 х 637,5 см, бумага, тушь, Нацио-
нальный дворцовый музей, см. вклейку). По словам само-
го художника, он некогда увидел сюжет этой картины
«в едином порыве вдохновения», a затем, как это утверж-
дается его биографами, потратил на ее написание три года
(с 1347 по 1350 г.), возобновляя работу, когда только его
охватывало необходимое для этого настроение. Названный
свиток является безусловной вариацией на темы и сунской
академической пейзажной живописи, и «южного» пейза-
жа с эклектическим сочетанием элементов их стилистики.
К первой из них восходят панорамность и величествен-
ность пейзажного вида, плотность композиции, детализо-
ванность изображений и тщательность выписки фактуры
горных форм и деревьев. От «южного» пейзажа художник
позаимствовал полихромную технику, мягкость силуэтных
линий гор и внимание к воздушной среде. Вопреки столь
откровенному ее эклектизму, в отличие от работ Чжао Мэн-
фу и Ван Мэна пейзаж, созданный Хуан Гунваном, произво-
дит впечатление написанного с конкретной местности и,
кроме того, несет на себе отчетливую печать эмоционально-
го восприятия художником этой местности. Bot почему с
творчеством Хуан Гунвана связывается начало возрождения
принципов сунской пейзажной живописи, пусть даже в
несколько иных их преломлениях.
У Чжэнь — художник, прославившийся своим мастер-
ством в «бамбуковом стиле», в котором он строго следовал
манере Вэнь Туна. Подобно последнему, он ограничивался
воспроизведением одной детали растения, которая испол-
нялась им в реалистической и динамической манере, на-
пример «Ветка бамбука под ветром» (вертикальный сви-
ток, бумага, тушь, 1350 г., Галерея Фрира). Параллельно
он пробовал себя и в пейзаже, например картина «Рыба-
ки» (вертикальный свиток, бумага, тушь, Галерея Фрира,
см. вклейку), вновь сочетая в нем панорамность «север-
ных» пейзажей с плавностью и просторностью «южных».
Итак, творчество рассмотренных нами пяти «великих
мастеров», a также близких к ним лиц показывает, что
независимо от общественного положения, условий жизни
художников и особенностей их индивидуальной жи-
вописной манеры оно подчиняется общим генеральным
40 Исторпя искусства Китая
Хуан Гунван.
Современный портрет
no мотивам традиционной
китайской живописи
300 В молодые годы он слу-
жил, так и не поднявшись
выше ранга мелкого провин-
циального чиновника, a пос-
ле утверждения Юань вернул-
ся домой и стал зарабатывать
на жизнь преподаванием жи-
вописи и поэзии, время от
времени позволяя себе рос-
кошь отшельнического уеди-
нения.
625
Hu Цзань. «Пейзаж».
Прорисовка
301 Например, «Пейзаж» (го-
ризонтальный свиток, бумага,
тушь, Галерея Фрира), «Осен-
нее небо над деревней рыба-
ков» (96 х 47 см, бумага, тушь,
1335 г., Шанхайский музей
искусств), «Хижина мудреца
осенней порой» (34,3 х 134 см,
бумага, тушь, Гугун).
302 Кратко остановимся на
творчестве нескольких из них.
Наиболее примечательными в
данном случае фигурами пред-
ставляются Фан Цунъи, Tan
Ли и Ли Шэн.
Фан Цунъи (точные годы
жизни неизвестны) — уроже-
нец юго-восточного региона
(пров. Цзянсу), ставший да-
осским монахом. Сохранились
сведения, что он дожил до на-
чала Мин и умер в возрасте
90 лет. Он признается одним
из лучших пейзажистов кон-
ца юаньской эпохи, кто про-
должил традицию «пейзажно-
облачного стиля» — «Горы в
тумане» (25 х 57,4 см, бума-
га, тушь, Шанхайский музей
искусств).
Тан Ли — уроженец про-
винции Чжэцзян, был чинов-
ником, начавшим карьеру с
поста учителя и дослужив-
шимся до начальника уезда в
провинции Аньхуэй. Одновре-
менно он принимал активное
участие в политической жиз-
ни страны конца юаньской
эпохи, тем самым являя со-
закономерностям. Их усилия оказываются сосредоточен-
ными не на фактах и реалиях окружающей действитель-
ности, a на обыгрывании и варьировании внешних дета-
лей и нюансов предшествующих живописных стилей, a
источником вдохновения — не личный жизненный опыт,
a работы прежних мастеров. Отсюда композиционно-худо-
жественные приемы из изобразительных средств стали
превращаться в объекты художественного творчества,
приобретая все более самоценное значение. Все это неиз-
бежно вело живопись к утрате ею подлинно творческого,
созидательного начала.
От этих «оков реставрационализма» китайская живо-
пись начала освобождаться только к концу Юань, и во
многом благодаря творчеству Ни Цзаня.
Ни Цзань (Ни Юнълинъ) — человек, во многом напоми-
нающий Ми Фу. Представитель зажиточного купеческого
клана и обладатель внушительного состояния, он занимал-
ся коллекционированием и меценатством. В 40-х гг. XIV в.,
по достижении 50-летнего возраста, он без видимых на то
причин раздал все свое имущество родственникам и друзь-
ям и стал вести образ жизни нищего странника. Он путеше-
ствовал на лодке по бесчисленным рекам и озерам провин-
ции Цзянсу, останавливаясь на кратковременный отдых то
в буддийских монастырях, то в домах друзей, нередко ода-
ривая их за оказанное гостеприимство здесь же исполняе-
мыми картинами. Все известные картины Ни Цзаня явля
ются исключительно монохромными пейзажами
воспроизводится, в сущности, один и тот же вид:
гладь, пологая цепь гор на заднем плане и несколько деревь-
ев с обнаженными ветвями — на переднем. Опираясь в сво-
ем творчестве на стилистику Дун Юаня и Цзюйжаня, Ни
Цзань тем не менее гораздо далыне отошел от предшествую-
щих художественных традиций, чем все остальные «вели-
кие мастера», и, при всей условности воспроизводимых им
пейзажных видов, все же явно опирался на собственный
жизненный и творческий опыт. Индивидуальности почер-
ка художника способствовали также используемые им жи-
вописные приемы. Он предпочитал работать на рыхлой
бумаге, легко реагирующей на любые прикосновения к по-
верхности влажной кисти, благодаря чему передавались
малейшие нюансы туши, и использовал тонкие, изящные
графические линии, выписывая ими силуэты гор, деревья и
строения и оставляя нетронутыми водный простор и небес-
ный. Все это придает его картинам легко узнаваемые хруп-
кость, воздушность, чистоту и настроение одиночества и
печали. Кроме того, он избегал вводить в пейзажи фигуры
людей, ограничиваясь изображением одиночных строений,
что усиливает ощущение духовной возвышенности природы
и ее отдаленности от будничной повседневности.
За творчеством Ни Цзаня скрывается тенденция к об-
щему оживлению живописного творчества на Юге, которая
обеспечивалась усилиями достаточно большого числа ху-
дожников, хотя никто из них не достиг таких творческих
высот, как Ни Цзань302.
301 Вних
водная
626
Отдельного упоминания заслуживает Жэнъ Жэнъфа
(1254-1327), занимающий совершенно отдельное место в
истории юаньской живописи. Будучи коренным южанином
(пров. Цзянсу), проведя всю жизнь в родных для него мес-
тах, он с полным на то основанием может быть отнесен к
«южному» живописному направлению, творчество которого
если не открывало собой процесс оживления этого направ-
ления, то, безусловно, в немалой степени ему способствова-
ло. Он тоже был самодеятельным художником, совмещав-
шим занятия живописью со служебной карьерой, занимая
при этом посты — чиновник, наблюдающий за очисткой
вод, — мало связанные с творческой деятельностью. В отли-
чие от всех остальных юаньских художников он отдавал
абсолютное предпочтение анималистике и бытоописатель-
ному жанру, но в его придворно-бытовом варианте, следуя
при этом стилистике Ли Лунмяня.
Лучшим его произведением, совмещающим в себе черты
собственно анималистического жанра и сюжетной живопи-
си, считается свиток «Конюхи с лошадьми» (55 х 76 см,
шелк, тушь, краски, Музей Виктории и Альберта, Лондон),
на котором воспроизводится камерная сюжетная сценка:
два конюха, насыпающие в ясли корм для трех стоящих по
сторонам от кормушки коней. Фигуры и людей, и лошадей
выполнены в реалистической и живой манере, хотя им явно
недостает пластичности и отточенности линий Ли Лунмяня.
Интересно ее колористическое решение: неожиданный кон-
траст ярко-красного цвета столбов кормушки и платья стоя-
щего y яслей конюха (спиной к зрителю) с пастельно-при-
глушенными (серовато-белый, коричневый и черный, но
не интенсивный, цвета) тонами, в которых выполнены все
остальные изображения и их отдельные детали.
Для второй из выделенных тематических групп творче-
ства Жэнь Жэньфа особо выделяется свиток «Чжан Голао
на аудиенции y императора Мин-хуана» (41,5 х 107,3 см,
шелк, тушь, краски, Гугун), написанный по мотивам легенд
о бессмертном (из когорты «Восьми бессмертных») Чжан
Голао. На картине запечатлена сцена представления своего
волшебного коня танскому императору Сюань-цзуну. Порт-
рет императора следует стилистике и Янь Либэня — его
фигура явно выделяется по размеру на фоне свитка и по
сравнению с другими персонажами, и суыского официаль-
ного портрета — в три четверти оборота в сидячей позе,
тогда как изображения свитских (группа из четырех чело-
век слева от трона и еще два персонажа — справа), откро-
венно перекликаются с манерой Чжоу Фана. Все фигуры
свободно расположены в пространстве и выполнены, кроме
портрета императора, в эскизной манере, без точной прора-
ботки деталей их внешнего облика. Какие-либо элементы
интерьера, за исключением трона, отсутствуют.
Процессы и тенденции, обозначившиеся в конце юань-
ской эпохи в живописной жизни Юга, во многом предопре-
делили особенности живописного искусства следующей —
минской — эпохи, прежде всего, в первые десятилетия ее
существования.
бой типичный пример «ху-
дожника-литератора». Рабо-
тал преимущественно в пей-
заже, снискав себе еще при
жизни репутацию прославлен-
ного мастера-пейзажиста. Опи-
раясь в своем творчестве глав-
ным образом на стилистику
Го Си, он пытался объединить
ее с художественными трак-
товками природы и компози-
ционно-техническими приема-
ми, характерными для «ту-
манно-облачного стиля » и
манеры Чжао Мэнфу. Все это
отчетливо прослеживается в
его свитке «Ловля рыбы в за-
снеженной протоке» (148,3 х
х 68,2 см), который является
вариацией на тему ранних
работ Го Си: массивный гор-
ный пик, заполняющий боль-
шую часть пространства кар-
тины, на первом плане — по-
ток в обрамлении скалистых
берегов. Однако в свитке ока-
зывается значительно больше
воздушного пространства, чем
y Го Си, a дальняя цепь гор
выполнена в манере, типич-
ной для пейзажей Ми Фу: ис-
пользование «бескостного ме-
тода», сокрытие их нижней
части в дымке.
Ли Шэн — тоже самодея-
тельный художник, наиболее
ярко проявивший себя в «бам-
буковом стиле» и в пейзажных
композициях малого формата,
который также продолжал в
основном стиль академическо-
го пейзажа в его исполнении
Ли Чэном и Го Си, привнеся
в него ряд заметных компо-
зиционно-технических нова-
ций. В частности, он исполь-
зовал особую технику размы-
вок и точек, что выразилось в
создании им новых приемов
передачи фактуры горных по-
род, водной и воздушной сре-
ды — «Пейзаж» (22,7 х 69 см,
бумага, тушь, легкая подцвет-
ка, Шанхайский музей ис-
кусств).
627
живопись
эпохи мин
живописные школы
И НАПРАВЛЕНИЯ
НАЧАЛА
минской эпохи
303 Другая известная рабо-
та Дай Цзиня —- горизонталь-
ный свиток «На реке» (высота
46 см, бумага, тушь, краски,
Галерея Фрира, см. вклейку).
На нем воспроизводится реч-
ной пейзаж, который служит
фоном для множества сюжет-
ных сценок: рыбаки, ставя-
щие сети, лодки, причалива-
ющие к берегу и т. д. Каждая
деталь тщательно выписана
свободными и длинными гра-
фическими линиями и мазка-
ми (манера Ся Гуя). Однако в
целом картину отличает оп-
ределенный схематизм, не го-
воря уже об ее вторичности —
откровенная вариация на тему
«Рыбаков» У Чжэня.
Факт возникновения новой династии на Юге повлек за
собой изменение общественного статуса «южного» живо-
писного творчества, которое теперь воспринималось в ка-
честве главного хранителя национальных художественных
традиций и, что самое важное, соотносилось с националь-
ной государственностью. Поэтому не удивительно, что бук-
вально вслед за утверждением Мин наблюдается процесс
консолидации живописной деятельности, сопровождавший-
ся очередным возрождением традиции профессиональной
живописи — непременной спутницы официального худо-
жественного творчества.
Непосредственным результатом этого процесса стало воз-
никновение школы Чжэ (от названия местности в современ-
ной провинции Чжэцзян, входившей в метрополию Южной
Сун). Ее организатором и творческим лидером был Дай Цзинъ
(1388-1462). Уроженец провинции Чжэцзян, он получил
профессиональное художественное образование и изначаль-
но пользовался известностью в новых придворных кругах.
Он весьма активно проявил себя в фигуративной живописи,
в жанре «цветы и птицы». Но самое значительное место в
его творческом наследии занимает пейзаж, продолжающий
собой, прежде всего, «стиль Ма-Ся», но уже в его интерпре-
тациях, предложенных юаньскими живописцами. От этого
стиля он унаследовал композиционные схемы, манеру пись-
ма (использование энергичных мазков, наносимых влажной
кистью в сочетании с тонкой, изящной линеарной линией)
и образ главного персонажа — человека, пребывающего в
одиночестве на лоне природы и созерцающего открываю-
щийся его взору пейзажный вид.
Такова, например, его картина «Начинающие зеленеть
весенние горы» (141,3 х 53,4 см, бумага, тушь, 1449 г.,
Шанхайский музей искусств). На ней изображен высокопо-
ставленный (судя по его одеянию) чиновник, совершающий
прогулку в весенних горах в сопровождении мальчика-слу-
ги. Как и в картинах Ma Юаня, оба персонажа показаны на
первом плане, стоящими под развесистой (в стиле Ся Гуя)
сосной. Перед ними — едва намеченная, уходящая в даль
дорога. Второй план занимает изображение поросшего ле-
сом горного склона, a на третьем — огромная, уходящая
ввысь гора, резко обрезанная справа краем свитка. Между
вторым и третьим планами располагается тоже чуть наме-
ченная долина с деревушкой. Ритмической доминантой кар-
тины является контраст между склонами гор (фактура кото-
рых слегка обозначена, что создает эффект их затянутости
дымкой) и деревьями, особенно на первом плане, которые
выполнены сильными, тяжелыми структурными линиями
и намеренно грубоватыми штрихами303.
После отъезда Дай Цзиня в столицу, где он поступил
на работу в воссозданную минскими властями Академию
живописи, школа Чжэ превратилась в неформальное твор-
ческое объединение, в котором состояли преимущественно
профессиональные художники и которое находилось в фар-
ватере набиравшей силу академической жизни. На какое-
то время она оказалась своего рода «кузницей кадров» для
628
столичной академии, штат которой пополнялся в основном
за счет художников-южан, a члены Академии живописи, в
случае их отставки или добровольного желания «отдохнуть
от столичной жизни», приезжали в родные края. В резуль-
тате школа Чжэ уже к середине Мин отличалась ярко выра-
женным консерватизмом, вторичностью (варьируя главным
образом «стиль Ма-Ся»), эклектизмом и повышенным вни-
манием к внешней декоративности произведений304.
Указанные особенности присущи и творчеству самого
интересного, после Дай Цзиня, представителя школы Чжэ,
ее последнего лидера — Лань Ина (1585-1664?), тоже про-
фессионального художника, работавшего в основном в пей-
заже305. Самым же характерным образцом его творческой
манеры, равно как и всего стиля возглавляемой им школы,
считается свиток «Горы Хуа в разгар осени» (311,2 х
х 102,4 см, шелк, тушь, краски, 1652 г., Шанхайский му-
зей искусств). Он демонстрирует поистине фантастическое
смешение самых различных по своему происхождению и
исходной художественной принадлежности элементов. Его
основные структурные параметры явно заимствованы из
северосунского академического пейзажа. По композицион-
ной плотности, детализованности изображений и колори-
стической насыщенности он приближается к работам Ван
Мэна. A в его отдельных деталях и приемах письма угады-
ваются заимствования из «южной» живописи. Индивиду-
альность почерка художника сводится к способам достиже-
ния им декоративного эффекта — через достаточно своеоб-
разное моделирование горных форм, распределение цветовых
пятен, передачу фактуры скальной поверхности и сочета-
ние туши и краски.
Что касается традиции собственно самодеятельности
живописи, то она, разумеется, не прервалась. Но почти
сразу же вслед за воссозданием централизованной импе-
рии начала сходить с авансцены национальной художе-
ственной деятельности306.
Вплоть до середины Мин бытие этой традиции обеспе-
чивалось творческими усилиями художников-одиночек,
многие из которых были весьма колоритными и неорди-
нарными личностями. В старых историях китайской жи-
вописи и в современных исследованиях из этих художни-
ков обычно особо выделяются Ban Фу (1362-1416), Ban
Мянъ (13377-1407?) и Ma Ванъ (середина XIV в.).
Ван Фу — уроженец провинции Цзянсу, был выходцем
из некогда почтенного чиновничьего клана, представители
которого уже в течение нескольких поколений, т. е. на
протяжении почти всей юаньской эпохи, вели уединенный
образ жизни, осознанно отказываясь от служебной карье-
ры. Нарушив эту семейную традицию, Ван Фу сполна испы-
тал перипетии официальной карьеры. Он занял пост учите-
ля в государственной провинциальной школе, с которого
был вскоре смещен за какую-то провинность, и стал отшель-
ником. В начале Мин вновь поступил на службу и опять в
чем-то провинился, причем настолько, что был сослан на
север (в пров. Шаньси), ставший теперь периферийным
304 Все это, как мы увидим
далее, полностью отвечало те-
оретическим установкам Ака-
демии живописи, в которых
проповедовалась необходимость
возрождения национальных
художественных традиций че-
рез обращение к работам ма-
стеров прошлого. Данные ус-
тановки как раз и послужили
теоретической базой для но-
вого витка художественного
реставрационализма.
305 Например, «Белые об-
лака, красные деревья» (вер-
тикальный свиток, шелк,
тушь, краски, 1658 г., Гугун),
«Красные деревья, голубые
горы» (вертикальный свиток,
шелк, краски, 1642 г., Хан-
чжоуский музей).
306 Чрезвычайно показа-
тельным в этом плане выгля-
дит быстрый распад творчес-
кого объединения « Десять дру-
зей из Бэйго», которое было
создано в самом конце юань-
ской эпохи на Юге, в провин-
ции Цзянсу. Его лидер — Сюй
Би (точные годы жизни не-
известны) в 1374 г. получил
приглашение на службу и в
скором времени достиг высо-
ких чинов, продолжая зани-
маться живописью, каллигра-
фией и литературой (художе-
ственной прозой) только для
самого себя. В историю ки-
тайской живописи он вошел
в качестве одного из продол-
жателей стиля Дун Юаня,
хотя в его работах ощущает-
ся и сильное влияние манеры
У Чжэня — «Павильон в осен-
нем лесу» (26,7 х 100,3 см,
бумага, тушь, Шанхайский
музей искусств).
629
регионом. Отбыванию ссылки он предпочел жизнь отшель-
ника, продлившуюся на этот раз около 10 лет, после чего
он внезапно оказался в столице и на весьма высоком по-
сту — Главного секретаря Императорского секретариата.
О его творческих достижениях известно в основном для
этого последнего, столичного, периода его жизни. Добив-
шись признания среди столичной знати и интеллигенции в
качестве не только художника, но и знатока буддизма и
даосизма, он работал в жанре «цветы и птицы» и в пейза-
же. Как мастер «цветов и птиц» особо почитался за умение
сочетать «бамбуковый стиль» Вэнь Туна с композициями,
присущими творчеству Су Ши и Ван Тинъюня: бамбук,
засохшие деревья и камни, например «Бамбук и камни»
(68,7 х 23,5 см, бумага, тушь, Шанхайский музей искусств).
A его пейзажи, по мнению современников и последующих
критиков, отмечены наиболее удачной для того времени
попыткой объединения стилистики юаньских пейзажи-
стов, что позволило ему создать собственный индивиду-
альный творческий стиль, воплотившийся, в том числе, в
гигантском панорамном свитке «Занимаясь в горах Ху-
шань» (28 х 821 см, бумага, краски, Ляонинский провин-
циальный музей).
Ван Мянь — человек и художник еще более необыч-
ной, чем Ван Фу, судьбы. Он тоже происходил из коренно-
го южного (пров. Чжэцзян), но крестьянского, семейства
и, не имея возможности получить образование в домашних
условиях, нанялся в слуги к крупнейшему на тот момент
ученому-неоконфуцианцу Хань Сину, став вскоре его лю-
бимым учеником, и после смерти учителя взял на себя
заботу о его детях. Когда его воспитанники подросли, он
блестяще сдал государственный экзамен, но отказался от
полагающегося ему ученого звания и предложенного поста
и поселился в глухой деревне, занявшись выращиванием
сливовых деревьев. Этот поступок вряд ли оказался боль-
шой неожиданностью для близко знавших его людей, так
как еще в бытность учеником и наставником в семье Хань
Сина он совершал столь необычные поступки, что снискал
себе прозвище «сумасшедший ученый». Явно не обогатив
национальную философскую мысль, этот «сумасшедший
ученый» оставил более чем заметный след в истории китай-
ской живописи, став признанным основоположником «сли-
вового стиля». Начиная с творчества Ван Мяня — например
свиток «Цветы сливы» (68 х 26 см, бумага, тушь, Шанхай-
ский музей искусств — они, подобно «бамбуковому стилю»
создавались в монохромной технике).
Ma Вань, напротив, являет собой еще один пример са-
новного самодеятельного художника и чиновника-интел-
лектуала. Губернатор области (на юге пров. Цзянси), про-
званный за решительность и властность характера «прави-
телем Ma», он почитался современниками «подлинным
мастером трех искусств» (поэзии, живописи и каллигра-
фии) и верным последователем Дун Юаня и Ми Фу, право-
мерность чего полностью подтверждается дошедшими до
нас его работами, в частности свитком «Поэтическое вос-
630
приятие вечерних облаков» (96 х 56 см, шелк, краски,
Шанхайский музей искусств).
Хотя творчество всех перечисленных художников, без-
условно, обладало болыней самобытностью, чем представи-
телей школы Чжэ, оно в целом также не выходило за
пределы тем, мотивов, образов и стилистики живописи
предшествующих эпох. Сказанное относится и к творче-
ству Ван Мяня, которое, по сути дела, было лишь произ-
водным от «бамбукового стиля». Следовательно, мы вправе
говорить, что минский реставрационализм не был искусст-
венно спровоцирован теми или иными теоретическими ус-
тановками, a отвечал характеру китайского живописного
искусства, обретенному им на протяжении юаньской эпо-
хи. Тем не менее разработка теоретического обоснования
художественного реставрационализма и его наиболее пол-
ная реализация в живописной практике были осуществле-
ны в Академии живописи.
Академия живописи была учреждена, точнее, восста-
новлена, в середине 20-х гг. XV в. пятым государем мин-
ской династии — Сюань-цзуном (1426-1435), правление ко-
торого прошло под девизом Сюаньдэ. Поэтому ее принято
именовать Академия живописи Сюанъдэ. Возобновление
функционирования Академии живописи и перенесение цен-
тра официального художественного творчества из Нанкина
в Пекин привело, во-первых, к оживлению в нем эстети-
ческих установок, свойственных прежним академическим
школам, и, во-вторых, к постепенной смене ориентации с
«южной» живописной традиции на северосунскую акаде-
мическую живопись. Перед придворными художниками
была поставлена жестко сформулированная задача «возро-
дить дни танской и сунской династии». Исходя из этой
задачи была выработана система предписаний, касавших-
ся тем, сюжетов, образов и методов живописного творче-
ства, малейшие отклонения от которых влекли за собой
административные наказания, вплотъ до ссылки.
Официально принятые эстетические установки и регла-
ментации, царившие в Академии Сюаньдэ, лучше всего
сформулированы и изложены в сочинениях Дун Цичана
(1555-1636) — «Смысл живописи» («Хі/а чжи»), «Основ-
ные моменты живописного творчества» («Хуа янъ») и т. д.,
который почитался в придворных кругах авторитетней-
шим критиком, экспертом и теоретиком живописи307.
Придворным художникам заказывались повествова-
тельно-парадные (прославляющие правящую династию), су-
губо декоративные произведения и пейзажи, которые тоже
должны были либо «возрождать традиции древности», либо
воспевать благоденствие страны. Показательным образцом
минского академического пейзажа выступают работы са-
мого Дун Цичана, например «Пейзаж в стиле Ван Мэна»
(альбомный лист, 62,3 х 40,6 см, бумага, тушь, краски,
Музей Нельсона-Аткинса). Перед нами результат откро-
венной манипуляции, хотя, надо признать, весьма мастер-
ской и выполненной с болыпим художественным вкусом,
АКАДЕМИЧЕСКАЯ
ШКОЛА ЖИВОПИСИ
307 Дун Цичаном провоз-
глашается генеральный тезис:
«В живописи главное — зна-
комое... Это законы глубокой
древности, которые не могут
быть изменены». И далее им
предлагается очередной и еще
более жестко детерминирован-
ный, чем, скажем, y Го Си,
вариант классификации жи-
вописных тем, сюжетов и
элементов, для каждого из
которых указывается строго
обязательный образец: «Изоб-
ражая просторы, нужно под-
ражать Чжао Даняню (вид-
ный деятель северосунской
Академии живописи, работав-
ший в ней с 1070 по 1100 г.)...
Для общего контура пользуй-
ся способом „растрепанной ко-
нопли" Дун Юаня... Образец
для сосны — Ma Хочжи (Ma
Юань), для иссохших деревь-
ев — Ли Чэн...»
631
природными формами в их преломлении в творчестве раз-
личных живописцев. Мы видим здесь и горные кручи, со-
ставленные из слоистых складок и обрезанные сверху кра-
ем картины, которые, как это было положено в панорамно-
монументальной живописи, образуют задний план. A на
переднем плане — сосны с причудливо изогнутым ство-
лом. Ритмика картины построена на повторении силуэтов
очертаний горных форм и деревьев. Архаизм и условность
воспроизведенного пейзажного вида подчеркиваются на-
сыщенностью художественного пространства, неразработан-
ностью воздушной среды и плоскостностью изображений.
С творческими опытами Дун Цичана полностью согла-
суются и работы подавляющего болыиинства художников-
академистов. Сошлемся для примера на творчество хотя
бы трех из них: Вянъ Вэньцзиня (первая половина XV в.),
Ли Цзая, работавшего в Академии с 1426 по 1435 г., и
Линь Ляна (1488-1505 гг.).
Бянь Вэньцзинь — художник, ставший одним из зачи-
нателей минского академического стиля. Он начал рабо-
тать придворным художником еще до переноса столицы в
Пекин и признавался ведущим мастером в жанре «цветы и
птицы», хотя работал и в фигуративной живописи, и в
анималистике, создавая условно-декоративные изображе-
ния тигров. Его композиции «цветы и птицы» полностью
выдержаны в духе северосунских картин, отличаясь ярко-
стью красок, тщательностью проработки всех деталей и
нюансов, подчеркнутой декоративностью и внушительны-
ми размерами — «Весенние птицы и цветы» (155 х 99 см,
шелк, краски, Шанхайский музей искусств, см. вклейку).
Ли Цзай (уроженец провинции Фуцзянь) считался мас-
тером пейзажа, главным творческим достижением которо-
го провозглашалось следование им одновременно стилям
Го Си и Ma Юаня, хотя на самом деле он находился под
определяющим воздействием творческой манеры Дай Цзи-
ня и художников школы Чжэ ее раннего периода. С объек-
тивной точки зрения, лучшим из созданного им являются
произведения на даосско-мифологические темы, наиболь-
шей известностью из которых пользуется свиток «Цинь
Гао верхом на карпе» — по мотивам легенд об этом бес-
смертном, исчезнувшем из мира людей верхом на чудесном
карпе (64,3 х 45,8 см, шелк, легкая подцветка, Шанхай-
ский музей искусств). Несмотря на то что и этому свитку
присуща нарочитая декоративность и условность в изобра-
жении людей и элементов фонового пейзажа, ему все-таки
нельзя отказать в определенной выразительности, передаю-
щей таинственность и притягательность древних даосских
легенд.
Линь Лян — несколько более разносторонний худож-
ник, работавший в жанре «цветы и птицы», в пейзаже, a
также в полихромной и монохромной техниках, продол-
жая и варьируя, главным образом, стили и почерки, при-
сущие южносунской академической живописи: «Дикая
камелия и белые птицы» (152,3 х 77,2 см, шелк, краски,
Шанхайский музей искусств).
Ko второй половине минской эпохи академическая шко-
ла окончательно вступила в стадию стагнации. Несмотря на
щюгочисленность ее штатного состава, в ней так и не по-
явилось фигур, хотя бы отдаленно сопоставимых с северо-
сунскими или южносунскими придворными художниками308.
Чем более ортодоксальной становилась академическая
живопись, тем громче заявляло о себе неофициальное жи-
вописное искусство, хотя в силу определенных историко-
культурных причин оно уже с Академией живописи не
столь решительно оппозиционировало, как это сделали в
свое время «художники-литераторы».
Во второй половине минской эпохи главным центром
живописной жизни страны, находившейся вне академи-
ческой среды, стала школа У, возникшая в Сучжоу (пров.
Цзянсу) и названная так по древнему названию этого го-
рода — Учэн. Определение данной школы как целостного
и однородного творческого объединения весьма условно.
В отличие от школы Чжэ причисляемые к ней художники
не имели ни единой теоретической платформы, ни общих
эстетических установок, a потому работали каждый на
свой манер. Кроме того, среди них были как самодеятель-
ные живописцы, так и профессиональные художники.
Единственное, что их действительно объединяло, так это
родственные, дружеские связи и общность местожитель-
ства. В результате в школе У нередко выделяется множе-
ство отдельных направлений и ответвлений, которые пред-
ставлены, по большей части, творчеством одного-двух ма-
стеров309.
Основоположником собственно школы У считается Шэнъ
Чжоу (1427-1509). Потомственный южанин (из пров. Цзян-
су) и выходец из богатого чиновничьего клана, он, подобно
всем остальным представителям китайской служилой ин-
теллигенции, активно занимался, помимо живописи, ли-
тературным творчеством, каллиграфией и коллекциониро-
ванием. В своих живописных опытах он обращался к твор-
честву самых разных мастеров — Дун Юаня, Ли Чэна,
У Чжэня, Ван Мэна, при этом сохраняя собственную инди-
видуальность, не сводимую к какому-либо определенному
предшествующему стилю. Созданные им произведения от-
личаются разнообразием тем и художественных решений.
Bot, например, перед нами триптих «Три кипарисовых
дерева», состоящий из трех самостоятельных картин, при-
ближающихся по формату (46,1 х 100,4; 46,1 х 121 см) к
пейзажным композициям (Нанкинский исторический му-
зей). Но на них изображены только кипарисовые деревья —
на каждой картине в отдельном ракурсе, все — в моно-
хромной технике. По манере исполнения эти изображения
тяготеют и к северосунским «цветам и птицам», обладая
величественностью, и к «бамбуковому стилю» — по точно-
сти передачи натуры и экспрессивностью. Что касается
пейзажей Шэнь Чжоу, то находящиеся под явным влия-
нием юаньской живописи и отмеченные стилистической
эклектикой, они тоже свидетельствуют о непрерывности
ЖИВОПИСНЫЕ ШКОЛЫ
И НАПРАВЛЕНИЯ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ
минской эпохи
308 И дело заключается не
только в ее предельном кон-
серватизме и эклектизме. Ведь
та же северосунская академи-
ческая, в первую очередь пей-
зажная, школа опиралась на
реально функционировавшие
в современном ей обществен-
ном сознании культурно-идео-
логические модели. Тогда как
минское официальное худо-
жественное творчество было
исходно лишено подобной
концептуальности, подменяя
ее лозунгами о «возрождении
древности», что усугубило ее
схоластичность.
309 К числу таких ответв-
лений относится, в частности,
живописная школа, возникшая
в провинции Аньхуэй благода-
ря творческим усилиям Сяо
Юнъцуна (1596-1673) — само-
деятельного художника, вед-
шего отшельнический образ
жизни и наиболее ярко про-
явившего себя в живописи
уже в зрелом возрасте. И ста-
рые критики, начиная еще с
современников Сяо Юньцу-
на, и ученые-искусствоведы
сходятся во мнении, что он
был одним из наиболее ори-
гинальных минских живо-
писцев, обладавшим сугубо
индивидуальной творческой
манерой, пусть даже в его ра-
ботах ощущается влияние се-
веросунского академического
пейзажа. Неукоснительно сле-
дуя принципам монументально-
сти и панорамности пейзажно-
633
го вида — «Редкие деревья на
облачных горных террасах»
(26,5 х 233,8 см, бумага, крас-
ки, Нанкинский исторический
музей), он тем не менее пред-
лагает совершенно новые сю-
жетно-композиционные ходы,
трактовки природных реалий
и их колористическое реше-
ние. Основную часть простран-
ства картины занимают глы-
бы скал, выполненные в сти-
лизованно-архаической манере
и тяготеющие к прямоуголь-
ным и пирамидальным фор-
мам. С ними резко контрас-
тируют непропорционально
маленькие, по отношению к
скальным образованиям, изо-
бражения деревьев. Картина
выдержана в специфической
пастельной гамме серовато-
зеленых и светло-коричневых
тонов.
Шэнь Чжоу
310 Доказательством этого
служит панорамный свиток
«По мотивам пейзажей Даци»
(211,4 х 110 см, бумага, тушь,
легкая подцветка, Шанхай-
ский музей искусств), который
был создан в 1494 г., когда
художнику уже минуло 67 лет.
Резко отличающийся от всех
остальных пейзажей Шэнь
Чжоу, он действительно пол-
ностью выдержан в стиле
Хуан Гунвана без привнесе-
ния принципиальных автор-
ских изменений или новаций.
творческих поисков художника. Пространственная схема
в его картинах все более упрощается, возрастает значение
графических изображений и линеарной линии, что делает
некоторые из его монохромных произведений внешне очень
похожими на гравюру, например «Пейзаж» (альбомный
лист, бумага, тушь, Музей Гиме). В совершенно иной ма-
нере выполнена одна из наиболее известных работ Шэнь
Чжоу — «Поэт на горе» (альбомный лист из шестилист-
ной серии, 38,7 х 60,2 см, бумага, тушь, легкая подцвет-
ка, Музей Нельсона-Аткинса). Эмоционально-композици-
онной доминантой этой картины является огромный, с
обрывистым склоном утес, на вершине которого застыла
крошечная фигура человека, который пристально смот-
рит вдаль, в одеянии странника, с посохом в руке. Правая
часть картины на переднем плане заполнена изображения-
ми деревьев и скал. На заднем плане — намечены очерта-
ния горного массива. Левая часть картины остается почти
незаполненной: в ней едва намечены облака и выступаю-
щие из них горные вершины, за которыми простирается
небесный простор. Асимметрию уравновешивает помещен-
ный в правом верхнем углу каллиграфический текст: он
словно возникает перед взором героя и зрителя прямо из
небесных далей. Картина выполнена сочными, быстрыми
мазками, придающими изображениям некоторую эскиз-
ность, и равномерными размывками. К концу своей жиз-
ни Шэнь Чжоу вновь обратился к юаньской живописи, но
в ее «южном» варианте, конкретно к творчеству Хуан
Гунвана310.
Следующее поколение живописцев, которые относятся
к школе У, имеет достаточно значительную когорту масте-
ров. Это Вэнь Чжэнмин (1470-1559) — непосредственный
ученик и преемник Шэнь Чжоу, Вэнь Божэнь (1502-1575)
и Цянь Гу (1508-1572?) — соответственно племянник и
ученик Вэнь Чжэнмина, a таклѵѳ Лу Чжи (1496-1576),
Чжан Лин (14707-1520) и Чэнь Чунь (1483-1544). Из пе-
речисленных художников особое внимание, как правило,
уделяется Вэнь Чжэнмину и Чэнь Чуню, творчество кото-
рых признается наиболее существенным и характерным
для разбираемой школы.
С именем Вэнь Чжэнмина связано подлинное возрож-
дение традиции «южной» самодеятельной живописи. Он
много лет потратил на изучение национального художе-
ственного наследия, проявляя интерес к северосунским
мастерам, к Ли Тану и Чжао Мэнфу, что позволило ему
плодотворно работать в разных жанрах — «цветах и пти-
цах», включая «бамбуковый» и «орхидеевый стиль», в
фигуративной живописи и в пейзаже. Одним из лучших
образцов его фигуративных живописных композиций счи-
тается свиток «Две госпожи Сян» (100,8 х 35,6 см, бума-
га, краски, 1517 г., Гугун). Он написан по мотивам ле-
генд о красавицах-сестрах, бывших женами совершенно-
мудрого государя Шуня, которые покончили с собой после
его смерти, бросившись в воды реки Сян, божествами ко-
торой и стали. С художественной же точки зрения, этот
634
свиток является вариациеи, аналогичнои сюжету карти-
ны Чжао Мэнфу, но только смысловой вариацией, так
как Вэнь Чжэнмин прибегает к смелому творческому ре-
шению данного сюжета. На фоне почти пустого простран-
ства показаны лишь две женские фигуры, стоящие в пол-
ный рост и облаченные в длинное, архаизованное одея-
ние. Хрупкость самих фигур, нежно-розовые пастельные
тона их облачения, предельная лаконичность компози-
ции придают этой картине неповторимую романтичность
и лиричность, делая ее одним из шедевров всего китай-
ского живописного искусства (см. вклейку).
Излюбленными мотивами пейзажей Вэнь Чжэнмина
выступают сосны и кипарисы, которые своеобразно и очень
искусно вводятся им в композиционную структуру свит-
ка, состоящую из плоских и извилистых горных и древес-
ных форм, сплетающихся в сложные узоры, которые и
заполняют собой все художественное пространство. При-
мер — свиток «Старые деревья y холодного водопада»
(193,6 х 59 см, бумага, тушь, краски, 1549 г., Нацио-
нальный дворцовый музей). Его композиция объединена
похожим на узкую ленту водопадом, который изображен
струящимся по всей вертикальной оси картины и выходя-
щим внизу на ее передний план. Все остальное простран-
ство — передний план и большая половина средней и
верхней частей свитка — заполнено тонко проработан-
ным изображением огромной многовековой сосны с могу-
чим стволом и узловатыми, извилистыми ветвями и сучь-
ями. Композиция выполнена в достаточно интенсивной,
хотя и выдержанной в пастельных тонах, цветовой гамме
с преобладанием коричневого и зеленого цветов311. Пейза-
жи Вэнь Чжэнмина, безусловно, несут на себе отчетливую
печать влияния творчества Чжао Мэнфу, Ван Мэна (ком-
позиционная насыщенность и общая декоративность пей-
зажного вида) и Шэнь Чжоу (манера выписки деревьев),
однако они не лишены самобытности.
Чэнь Чунь — ученик Вэнь Чжэнмина, бывшего близ-
ким другом его отца, под руководством которого он обучал-
ся и живописи, и искусству изящной словесности, и кал-
лиграфии312. В своих живописных опытах он прошел путь
от преклонения перед творчеством юаньских мастеров, в
первую очередь Гао Кэгуна, до увлечения «туманно-облач-
ным стилем», что, естественно, отразилось в его пейзажах.
Значительных успехов он достиг в жанре «цветы и пти-
цы». Продолжая стилистическую линию, намеченную для
этого жанра еще Шэнь Чжоу, Чэнь Чунь перенес на него
«бескостный» метод письма, полностью отказавшись от
линеарной линии и формируя объем и фактуру изображе-
ний с помощью размывок. Пример — «Камелия и нарцис-
сы» (136,1 х 32,6 см, бумага, тушь, Шанхайский музей
искусств).
Изобретение Чэнь Чуня сразу было по достоинству оце-
нено в южных живописных кругах и признано новым ху-
дожественным направлением, получившим название «цве-
точный стиль».
311 Приблизительно в такой
же манере исполнено еще одно
известное пейзажное произве-
дение Вэнь Чжэнмина — «Вы-
сокие деревья поздней весной»
(170,1 х 65,7 см, шелк, краски,
Шанхайский музей искусств,
см. вклейку), которому прису-
ща чуть более отчетливая, чем
первому из разобранных свит-
ков, архаизованность, выра-
жающаяся в плоскостной пе-
редаче скал, и несколько иная
цветовая гамма: с заменой
зеленых тонов на бирюзовые.
312 Co временем Чэнь Чунь
успешно выдержал государ-
ственные экзамены, но отка-
зался от служебной карьеры,
предпочтя образ жизни «сво-
бодной творческой личнос-
ти», поскольку его семейное
состояние позволяло ему не
только не думать о хлебе на-
сущном, но и оказывать щед-
рую финансовую поддержку
собратьям по кисти. Это об-
стоятельство тоже в немалой
степени способствовало тому,
что он занял ключевые пози-
ции в школе У.
635
Тан Инь
313 Обладавший незауряд-
ными дарованиями, он очень
рано заявил о себе и полу-
чил широкое признание сре-
ди творческой интеллигенции
всей страны, снискав себе ува-
жительное прозвание «Цзян-
наньский гений-романтик ».
В 1498 г. он с блеском выдер-
жал государственные экзамены
и поступил на службу, но его
официальная карьера с самого
начала не сложилась, и он
окончил свои дни в нищете.
314 Лучшим его творением
в данном стилистическом ва-
рианте считается свиток «Шел-
ковый веер под осенним вет-
ром» (77,1 х 39,3 см, бумага,
тушь, Шанхайский музей ис-
кусств). Он сводится к изоб-
ражению исполненной печа-
ли женской фигуры, застыв-
шей под осенним ветром и как
бы воплощающей жизненные
разочарования и несбывшие-
ся мечты самого художника.
315 Например, свиток «Дру-
зья в весенних горах» (81,8 х
х 43,7 см, бумага, тушь, лег-
кая подцветка, Шанхайский
музей искусств), на котором
показаны двое ученых, любу-
ющихся открытому взору ве-
сеннему горному ландшафту.
316 Пример — картина «Ры-
бак на осенней реке» (горизон-
тальный свиток, шелк, тушь,
краски, Национальный двор-
цовый музей), выполненная
им незадолго до смерти, в
1523 г.
317 Известно немало при-
писываемых ему произведе-
ний, большинство из которых
оказалось при экспертном ана-
лизе либо копиями, либо кар-
тинами, выполненными в его
стиле другими профессиональ-
ными художниками того вре-
мени, что, заметим, доказы-
вает высокую степень попу-
лярности и авторитета его
творчества в конце Мин.
Кроме художников, строго представляющих школу У,
в самом Сучжоу и в близлежащих населенных пунктах
жили и работали немало мастеров, формально не принад-
лежавших к данной школе, но нередко находившихся под
ее непосредственным воздействием либо творивших в сход-
ной манере. Наиболее примечательными из них фигурами
считаются Тан Инь (1470-1523), Чоу Ин (1525-1593) и
Сюй Вэй (1521-1593).
Тан Инь тоже является самодеятельным по своему соци-
альному статусу художником, хотя он и прошел полный курс
профессионального обучения313. В пору творческого расцвета
он блистал в самых разных жанрах — в пейзажах, «цветах и
птицах», в «архитектурном стиле» и фигуративной живопи-
си; в последней его излюбленными темами были «красави-
цы», т. е. изображения исключительно женских персонажей,
которые исполнялись им в двух стилистических манерах —
«классической» и «романтической». В обеих воспроизводи-
лись условно-бытописательные сцены, нередко на литератур-
ные или мифолого-легендарные сюжеты. Но в первом случае
все детали внешнего облика персонажей тщательно прораба-
тывались художником с помощью приметных для его инди-
видуального почерка выразительных и элегантных линий.
Освоенная им «романтическая» манера отличается, напро-
тив, максимальной лаконичностью образного ряда и эскизно-
стью письма, выполняемого острыми, сильными мазками314.
Как пейзажист Тан Инь тоже проявил себя в различных
стилистических манерах, обращаясь то к северному, то юж-
носунскому академическому пейзажу, то к работам юаньских
мастеров. Некоторые из его произведений откровенно вторят
«стилю Ма-Ся»315. Но в конце концов ближе всего ему оказа-
лась манера Ван Мэна и Вэнь Чжэнмина, в которую он при-
внес некоторые элементы академической живописи. В резуль-
тате им был разработан не лишенный определенной самобыт-
ности, но все же вторичный пейзажный стилистический
вариант, характеризующийся структурной плотностью форм,
детализованностью изображений, насыщенностью простран-
ства, яркостью цветовой гаммы и общей декоративностью,
причем настолько, что создаваемые им произведения произ-
водят впечатление словно выполненных в Академии живопи-
си по заказу столичной знати316. Поэтому старыми китайски-
ми критиками и историками живописи он, как правило, на-
зывается представителем не сучжоуской самодеятельной
живописи, a минской придворно-академической школы.
Чоу Ин происходил из семьи ремесленников и был из-
начально мастером лакового производства. Решив приоб-
щиться к живописному искусству, он приехал в Сучжоу и
прошел обучение поочередно y нескольких местных ху-
дожников, в том числе y Тан Иня, став затем профессио-
нальным живописцем. Наиболее активные годы его работы
приходятся на первую половину XVI в. Навыки росписи
по лаку и профессиональное обучение, основанное на ко-
пировании работ прежних мастеров, сформировали твор-
ческую манеру Чоу Ина, придав ей бесспорную оригиналь-
ность317. Нетрудно догадаться, что почитателей таланта
636
Чоу Ина в первую очередь привлекала внешняя эффект-
ность его картин. Некоторые из них производят впечатле-
ние гигантского и необыкновенно нарядного лакового пан-
но, например свиток «На дороге в горах Уянынань» (295,4 х
х 101,9 см, шелк, тушь, краски, Шанхайский музей ис-
кусств). Написанный на сюжет творения Ли Чжаодао, этот
свиток тоже воспроизводит «космический» горный пейзаж
с архаизированными деревьями; он выполнен в интенсив-
ных сине-зеленых тонах (см. вклейку). Повышенная плот-
ность структурных форм, детальная выписка изображений
людей еще больше усиливают сходство между ними. Един-
ственное принципиальное отличие картины Чоу Ина от Ли
Чжаодао заключается в изображении в ней императорской
свиты на горной дороге, опоясывающей сверху вниз вер-
шину скалистого массива.
В то же время в художественном наследии Чоу Ина
присутствуют и произведения, следующие стилистике «юж-
ного» пейзажа и непосредственно школы У318. Подобное
стилистическое разнообразие произведений Чоу Ина мож-
но, разумеется, считать признаком совершенства его живо-
писного мастерства, позволявшего копировать любую твор-
ческую манеру. Однако оно доказывает, что во второй поло-
вине минской эпохи самодеятельное живописное творчество
не обрело былой самобытности, не было эксперименталь-
ных поисков, оно словно находилось на распутье между
своим собственным прошлым и академической живопис-
ной школой, с легкостью маневрируя между ними. Эта
двойственность была верно подмечена в старых китайских
историях национальной живописи, в которых творчество
Тан Иня, Чоу Ина и ряда представителей школ Чжэ и У
определяются в качестве то «консервативного крыла» в
«южной» живописной традиции, то «южного» направле-
ния в рамках академической школы.
Однако, вся логика предшествующего развития китай-
ской живописи подсказывает, что подобная ситуация не
могла продолжаться долго и следовало ожидать нового
всплеска самодеятельного живописного творчества в его
оппозиционном противостоянии официальному искусству.
Так оно и случилось. Ожидаемым событием стало творче-
ство последнего из перечисленных выше художников —
Сюй Вэя. Личность этого человека заставляет нас вспом-
нить о Ван Вэе, Су Ши и «безумных гениях» прошлых
веков — Лян Кае, Ван Мяне319.
Несмотря на то что литературное и живописное творче-
ство Сюй Вэя снискало себе признание уже среди современ-
ников, его жизненный путь складывался тяжело и трагич-
но, в основном из-за его личных качеств. Человек крайне
впечатлительный, легко ранимый и психически неуравно-
вешенный, он все ближе и ближе подходил к той грани, за
которой уже ожидало безумие320.
Но именно мятежная натура Сюй Вэя и постоянный
трагизм его мировосприятия превратили его в подлинного
художника-творца, способного отринуть все наносное, и
наделили его творчество неподдельной вдохновенностью.
318 Например, свиток «Ловя
рыбу в уединении» (127,7 х
х 66,3 см, шелк, тушь, краски,
Гугун). На нем показан тихий
и уединенный пейзажный вид
с деревушкой на берегу реки,
когда прошел дождь. Небо
только-только начало прояс-
няться, но горные хребты (на
заднем плане) еще затянуты
густым туманом.
319 Великолепный поэт и
каллиграф, считавший себя в
первую очередь именно лите-
ратором, a не живописцем,
Сюй Вэй оставил после себя
внушительное по объему (из
19 гла.в-цзюанеи) собрание со-
чинений, куда входят стихи,
оды, подражания песенному
народному творчеству, a так-
же прозаические и драматур-
гические произведения. Из них
явствует, что он, подобно сво-
им великим предшественни-
кам, находился под сильным
влиянием даосских и буддий-
ских идей, что отразилось и в
его многочисленных (около
40) псевдонимах: «Рожденный
из Небесного озера» {Тянъчи-
шэн)у «Горец с Небесного
озера» {Тянъчи-шанъжэнъ)у
« Даос с Небесного озера» (Тянь-
чи-даожэнъ), «Дитя» (Жу-цзы),
«Буддийское долголетие» (Фо-
шоу) и т. д.
320 Прямолинейность и не-
сдержанность Сюй Вэя вкупе
с его склонностью к непред-
сказуемым поступкам с само-
го начала послужили неодоли-
мым препятствием его служеб-
ной карьеры, при том что он
осознанно стремился реализо-
вать себя на официальном по-
прище. Ни его собственные
дарования, ни покровитель-
ство высокопоставленных особ
не помогли ему выдержать
государственный экзамен, что
необратимо подорвало его ду-
шевные силы. Он пытался по-
кончить с собой, предваритель-
но написав себе эпитафию.
В 1566 г. в припадке безумно-
го гнева он убил свою вторую
жену, за что был брошен в
тюрьму. Друзьям удалось вы-
зволить его на свободу, но до
конца своих дней он пребы-
вал в тяжелейшем физиче-
ском и психическом состоя-
нии, превратившись уже к
50 годам в дряхлого старика,
которого не оставляли мысли
о самоубийстве. «To вдруг уда-
рял себя топором по голове,
так, что лицо заливала кровь,
череп проламывался и слы-
шался хруст костей; или ши-
лом колол уши, загоняя их
на целый вершок — но смерть
так и не приходила», — та-
кие эпизоды приводятся его
биографами.
637
ЧоуИн
321 Например, «Бамбук» (го-
ризонтальный свиток, высо-
та 32,5 см, бумага, тушь, Га-
лерея Фрира), «Цветы и рас-
тения» (21 х 238 см, бумага,
тушь, ГМИНВ), «Пион, бамбу-
ковое дерево, пальмовая ветвь
и скалы» (120,6 х 58,4 см, бу-
мага, тушь, Шанхайский му-
зей искусств).
Он созидал свободно и спонтанно, подчиняясь порывам
вдохновения и создавая преимущественно камерные по сю-
жетам произведения, которые он мог воплощать в карти-
нах любого формата. Их темами мог стать в принципе
любой привлекший его внимание предмет: любимыми его
мотивами и образами, переходящими из одной картины в
другую, были цветы, растения, засохшие деревья, скалы,
бамбук — достаточно большое число подобных произведе-
ний сохранилось в музеях мира321. Живопись Сюй Вэя
отличается нарочитой небрежностью, эскизностью форм
(см. вклейку). Рисуя элементы окружающей действитель-
ности и фигуры людей, он наносил намеренно грубые, ло-
маные линии, тяжелые капли, пользуясь широкой и обиль-
но смоченной кистью, и прозрачные мазки. Но через столь
внешнюю небрежность и эскизность он добивался порази-
тельной достоверности в передаче натуры и необыкновен-
ной выразительности композиций. Еще одной важной от-
личительной особенностью живописи Сюй Вэя является
органичное соединение рисунка и каллиграфии. Впервые
каллиграфия становится y него неотъемлемой частью ху-
дожественной композиции, и надписи исполнялись им в
том же нарочито небрежном стиле, что и живописные изоб-
ражения. Нетрудно заметить, что Сюй Вэй нередко созда-
вал живописные образы в каллиграфической манере и, на-
оборот, при исполнении текста прибегал к приемам, свой-
ственным живописи.
При всей уникальности творчества Сюй Вэя, в нем с
легкостью прослеживаются все уже известные стилисти-
ческие черты, идущие от живописи Ван Вэя, «художни-
ков-литераторов» и нашедшие свое наиболее полное воп-
лощение в чаньской живописи. Значит, эта традиция,
вопреки всем ее последующим варьированиям и искаже-
ниям, никуда не исчезла и продолжала существовать в
недрах национального искусства. Пусть среди современ-
ников Сюй Вэя не нашлось прямых его последователей —
его творчество всколыхнуло живописную жизнь того вре-
мени, затронув даже, казалось бы, уже ставшие незыбле-
мыми бастионы академической школы. И это потрясение
было своевременным, потому что оно обозначило спаси-
тельные ориентиры для национального искусства в пору
очередных испытаний.
живопись
эпохи цин
После утверждения маньчжурской династии китай-
ское живописное искусство раскололось на два лагеря,
противостояние между которыми теперь приобрело, по-
мимо чисто эстетических расхождений, политический от-
тенок. Академическая школа и традиция официального
художественного творчества превратились в оплот чуже-
земного правящего дома, a традиция неофициального ис-
кусства — в хранительницу подлинно национальных ду-
ховных ценностей. Вот почему, анализируя проблему
структурной неоднородности китайской живописи, мно-
гие исследователи склоняются к точке зрения, что о выде-
638
лении ее «северного» и «южного» направлений следует
говорить применительно уже к цинской эпохе. Сразу же
отметим, что, несмотря на действительно кардинальные
противоречия между академической школой и традицией
неофициальной живописи, обе они были исторически об-
речены на подчинение все тем же реставрационалистичес-
ким тенденциям. Для академической школы они были
обусловлены, во-первых, неизбежным возрождением ее
прежних устоев. И, во-вторых, целенаправленной поли-
тикой центральных властей, которые, стремясь использо-
вать духовный опыт китайской имперской государствен-
ности, ограждали художественное творчество от проник-
новения в него какого бы то ни было свободолюбия,
всячески поэтому поощряя обращение к древности. Пред-
ставители же и создатели неофициального искусства, по-
добно юаньской творческой интеллигенции, видели в та-
ком обращении единственно возможный способ сохранить
национальную самобытность и наследие прошлого. Глав-
ный водораздел между ними пролегал лишь в выборе идей-
ных ориентиров и образцов для подражания.
Академическая школа, пройдя через потрясения, вы- АКАДЕМИЧЕСКАЯ
званные и внутренними живописными процессами, и, в ШКОЛА ЖИВОПИСИ
болыней степени историко-политическими коллизиями, ока-
залась к моменту воссоздания Академии живописи как
государственного учреждения уже в несколько ином состоя-
нии, чем это было в период расцвета Мин. Маньчжурские
центральные власти сразу не сумели навести в ней надле-
жащий порядок. Иблагодаря такой недолгой «передыш-
ке» академическая школа пошла на взлет, дав целую ко-
горту весьма примечательных фигур, хотя все они весьма
уступали мастерам сунских академий.
Первые десятилетия существования цинской академи-
ческой школы прошли под знаком творчества «Четырех
Ванов», лидером которых стал Ban Шиминъ (1592-1680).
Выпускник и штатный сотрудник Академии живописи
Сюаньдэ, авторитетный придворный художник, занимав-
ший высокие должности и обласканный свыше, он, как
это в свое время случилось с Ли Таном, почувствовал и в
чем-то даже воспринял те новации, которые наметились в
художественной жизни страны. Продолжая в своем твор-
честве уже окончательно закосневшую в рамках академи-
ческой живописи традицию южного пейзажа, он через те
или иные оригинальные приемы и колористические ре-
шения сумел все же слегка ее оживить. Именно так, на-
пример, воспринимается его картина «По мотивам сти-
хотворений Ду Фу» (альбомный лист, 39 х 25,6 см, бума-
га, тушь, краски, Гугун), насыщение которой зелеными и
ярко-красными (цвет осенней листвы) цветами в данном
случае производит эффект не декоративности компози-
ции, a соответствует буйству красок осенней природы пе-
ред близким увяданием.
Поступив на службу в цинскую Академию живописи,
Ван Шиминь окружил себя учениками, среди которых по
639
322 Впоследствии, правда,
за ними закрепилось другое
прозвание сомнительной лест-
ности «Четыре великих масте-
ра-ортодокса цинской эпохиж
323 Это может быть, ска-
жем, неожиданное сочетание
условно-архаизованного пей-
зажного вида с типичными
для сунской живописи склад-
ками горных пород и причуд-
ливыми силуэтами скал, и со-
временных художнику реа-
лий — гавани с европейскими
кораблями, что мы видим в
масштабном горизонтальном
свитке «Летний пейзаж»
(шелк, тушь, краски) из со-
брания Эрмитажа.
страннои случаиности оказались три молодых живописца
по фамилии Ван — Ban Цзянъ (1598-1674), Ban Хуэй (1632-
1717) и Ban Юанъци (1642-1715), вместе они образовали
подобие творческого объединения или группы, введя в его
названия свой фамильный знак322. К этой группе на некото-
рое время примкнули еще два молодых тогда живописца —
Юнъ Шоупин (1633-1690) иУЛи (1632-1718).
Все три молодых Вана, вслед за своим учителем, работа-
ли в основном в пейзаже, a их творческая манера различает-
ся, прежде всего, по выбранным ими в качестве образца
прежним стилистическим направлениям и работам конкрет-
ных мастеров. Но и им нельзя отказать в определенной ори-
гинальности и попытках отойти от сугубо схоластических
экспериментов. Ван Цзянь — отпрыск образованного чинов-
ничьего клана (один его дед был известным коллекционе-
ром, другой — художником и каллиграфом), опирался на
творчество юаньских художников и Дун Юаня. Безупречно,
подобно большинству профессиональных живописцев, вла-
дея всеми техниками и приемами письма, он с легкостью
копировал любую творческую манеру. Однако за внешней
эклектичностью его работ ощущается стремление к самостоя-
тельным интерпретациям канонических образов и передаче
через них своего личного мироощущения и настроения. Кро-
ме того, его картины отличаются особым соотношением за-
полненного и свободного (бумажный фон) пространства, по-
средством чего, a не с помощью размывов туши, он переда-
вал воздушную среду или снежный покров; a также несколько
необычными цветовыми контрастами — противопоставлени-
ем, например, густых, насыщенных тонов гор, деревьев, реч-
ной глади тональной прозрачности неба. Все это мы видим, в
частности, в его картине «Странствие в заснеженных горах»
(альбомный лист, 41 х 38,5 см, бумага, тушь, 1669 г., Гуан-
дунский провинциальный музей, Гуанчжоу). В результате
Ван Цзянь считается не только одним из ведущих китай-
ских живописцев начала Цин, но и основоположником оче-
редного пейзажного стилистического варианта, характери-
зующегося поэтичностью и технической виртуозностью.
Картины Ван Хуэя чрезвычайно разнообразны по фор-
мату, композиционным схемам и творческой манере — от
панорамно-монументальных пейзажных видов, вызываю-
щих в памяти свитки Фань Куаня, Ли Чэна и Го Си, до
камерных композиций, выдержанных в стиле Ни Цзаня.
Его индивидуальность вновь проявляется в нюансах, но
вполне достаточных для того, чтобы говорить о его твор-
ческой оригинальности323.
Егце большей, пожалуй, оригинальностью отличается
творчество Ван Юньци, в котором в трансформированном
виде и тоже в их авторских трактовках объединились чер-
ты сунских и юаньских (Ни Цзань) пейзажей, например
«Пейзаж в стиле Ни Цзаня» (95,3 х 50,5 см, бумага, тушь,
краски, см. вклейку).
Итак, вопреки их последующему прозванию, творче-
ство «Четырех Ванов» отнюдь не подлежит столь одно-
значной оценке.
640
Юнь Шоупин, прослужив некоторое время в Академии
живописи, подал в отставку и поселился на Юге, пополнив
собой ряды оппозиционно настроенных к академической
школе живописцев. Он вошел в историю национального
искусства в качестве одного из лучших за все время его
существования мастеров жанра «цветы и птицы». He вы-
ходя за рамки традиционных для данного жанра сюжетов
и образов (бамбук, цветущая слива, лотосы, пионы), он
тоже стремился к новым интерпретациям. Главным его
творческим достижением считается использование при ис-
полнении изображений растений «бескостного метода», но
уже не только в монохромной (как это делал Чэнь Чунь),
но и в полихромной технике — посредством плотных цве-
товых размывок. Такая манера позволяла ему исполнять
композиции, отличающиеся мягкостью, великолепием цве-
товой гаммы и редкой выразительностью — например «Пей-
заж и цветы» (альбомный лист, 28,5 х 43,1 см, бумага,
тушь, краски, Национальный дворцовый музей). Даже после
того, как Юнь Шоупин покинул двор, его творения пользо-
вались огромной популярностью среди столичной знати и,
кроме того, оказали немалое влияние на фарфоровое про-
изводство: именно его «цветы» чаще всего воспроизводи-
лись в росписях по фарфору324.
У Ли, бывший учеником Ван Шиминя и близким дру-
гом Ван Хуэя, продержался при дворе несколько дольше,
чем Юнь Шоупин. Но в 1682 г., в возрасте 51 года, он
принял христианство и покинул двор, резко оборвав вся-
кие отношения с академическими кругами и своими преж-
ними друзьями. Он приступил к освоению европейской
живописи, став одним из первых китайских художников,
кто пытался соединить национальную и западную живо-
писные традиции. В европейской живописи его особенно
привлекали способы передачи перспективы, которые он
начал использовать в сочетании с «подвижной точкой зре-
ния» — «Озеро, небо и весенние краски» (123,8 х 62,6 см,
бумага, краски, Шанхайский музей искусств).
Уход Юнь Шоупина и У Ли из академической среды
внешне был продиктован их сугубо личными жизненны-
ми обстоятельствами. Но, думается, оба они почувствова-
ли нарастание в Академии живописи атмосферы консер-
ватизма и тотального регламентирования деятельности ху-
дожников. Вошедшие в ней в силу установки и требования,
которые излагаются в «Слове о живописи...», и в самом
деле уже не оставляли придворным мастерам ни малей-
шей возможности для проявления собственной творчес-
кой индивидуальности. С конца XVII по начало XX в. в
Китае работало гигантское число профессиональных ху-
дожников — как в Академии живописи, так и вне ее стен.
Они творили во всех жанрах, на шелковых, бумажных
свитках и альбомных листах, в полихромной и монохром-
ной техниках. Их живописное наследие состоит из самых
разных по художественному уровню произведений, начи-
ная с бесконечных пейзажей и «цветочных» композиций,
выполненных в разнообразных стилях, но, как правило,
41 История искусства Китая
324 Помимо работ, находя-
щихся строго в рамках «цве-
точного стиля», он создавал
и более сложные, многофи-
гурные композиции, в кото-
рых с большим мастерством
передавал живую натуру и
водную среду — «Опадающие
цветы и плавающие рыбки»
(65,5 х 30 см, бумага, краски,
Шанхайский музей искусств).
641
заметно более грубых, непомерно красочных и загромож-
денных деталями, чем картины, послужившие им образ-
цами. И среди них не появилось ни одной сколько-нибудь
заметной, с точки зрения истории китайского изобрази-
тельного искусства.
Поэтому на всем протяжении первой половины Цин
определяющими эволюцию национальной живописи были
те процессы и события, которые состоялись в неофициаль-
ном художественном творчестве.
НЕОФИЦИАЛЬНОЕ
ЖИВОПИСНОЕ
ТВОРЧЕСТВО
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ
цинской эпохи
325 В анналы китайской
истории и живописи он во-
шел под своим официально
признанным псевдонимом —
Дао-цзи («Вспомоществующий
в Дао»). Кроме того он, подоб-
но Сюй Вэю, использовал мно-
го (более 30) творческих псев-
донимов, монашеских имен
и самопрозваний, например
Юанъ-цзи («Вспомоществую-
щий в изначальном»), Кугуа-
хэшан («Горькая тыква») —
под этим псевдонимом напи-
сан упоминавшийся выше его
трактат Цинсян-лаожэнъ («Ста-
рец из Цинсяна», или «Ста-
рец с чистой реки Сян»),
Цинсянижэнъ («Эмиссар из
Цинсяна») и т. д. Еще будучи
совсем ребенком (в 1645 г.), он
пережил трагедию. Его отец,
возглавлявший область Гуй-
линь (пров. Гуанси), оказал от-
чаянное сопротивление мань-
чжурским войскам и погиб в
бою на глазах y сына. Чтобы
спасти мальчика, верные слуги
погибшего принца спрятали
его в буддийском монастыре.
Монахи вырастили Ши-тао,
отдав его в ученики к извест-
ному чаньскому наставнику.
Но как только Ши-тао достиг
совершеннолетия, он начал
все более отдаляться от мона-
стырскоц жизни и буддий-
ского духовенства, считая се-
бя абсолютно светским, хотя
и не имеющим социального
статуса человеком. Покинув
приютивший его монастырь,
он около десяти лет — с 1666
по 1678 г. — провел в стран-
ствованиях по южным провин-
циям, посещая знаменитые
буддийские и даосские мона-
стыри и прославленные сво-
Зачинателями традиции неофициального живописного
творчества в ее стадиально новом воплощении являются
Ши-тао (1642?-1718?) и Чжу Да (1625-1705).
«Ши-тао» — «Камень и морской вал» — псевдоним, за
которым скрывается член августейшей фамилии минского
правящего дома, сын принца крови — Чжу Жоцзи325.
Личность Ши-тао выделяется своей многогранностью
даже на фоне известности прежних деятелей культуры,
что находит выражение уже в разнообразии сфер его твор-
ческой деятельности. С равными силой и блеском он про-
явил себя в качестве и живописца, и поэта, и мыслителя,
внесшего немалый вклад в историю живописно-эстетиче-
ской мысли. Обладая обширными познаниями и глубоко
изучив не только чаньскую и буддийскую философию, но и
даосизм и конфуцианство, он создал своего рода мировоз-
зренческий комплекс, отличающийся неподдельной ориги-
нальностью. Столь же многогранно и его живописное твор-
чество. За всю историю китайского искусства трудно, по-
жалуй, найти в ней художника столь широкого диапазона
и с таким обилием стилистических метаморфоз. Виртуоз-
ное владение Ши-тао живописными приемами и техника-
ми и великолепное знание истории национального искус-
ства позволяло ему творить в любой манере, переходя от
одной стилистической крайности к другой: от медленного
и тщательного мазка к грубоватым и резким ударам кисти,
от демонстративной архаичности — то к подобию наивного
примитивизмаі то к эксцентричной дерзости (см. вклейку).
Его художественное наследие не поддается каким-либо
жанровым и тематическим классификациям и дефинициям,
ибо, по словам его почитателей и последующих теоретиков
живописи, он был первым везде и всюду, a его творчество
обладает, с одной стороны, универсальностью, a c другой —
бесконечной изменчивостью. Наиболыпую известность он при-
обрел все-таки как пейзажист, предпочитавший в отличие от
подавляющего большинства китайских живописцев, писать с
натуры, что не мешало ему создавать цейзажные виды иллю-
стративно-повествовательной тональности. Таковым предста-
ет перед нами, например, горизонтальный свиток «Весна цве-
тения персиков» (высота 25 см, бумага, тушь, краски, Гале-
рея Фрира), написанный по мотивам знаменитейшей поэмы
Тао Юаньмина «Персиковый источник».
В ней повествуется о случайном посещении лирическим
героем «чудесной страны» — местности, которая в незапа-
мятные времена оказалась полностью отрезанной от основ-
642
ного мира, благодаря чему в ней сохранились древние обы-
чаи и устои, обеспечивая материальное благоденствие и ду-
ховное процветание местных жителей. Воссоздавая ауру древ-
ности и чудесности «затерянной страны», Ши-тао искусно
объединяет вполне натуральные ландшафтные формы и эле-
менты (сам по себе пейзажный вид) с архаико-стилизован-
ным изображением людей и построек. Для этой же цели им
используется ряд других композиционно-стилистических
приемов, с помощью которых сочетаются и одновременно
контрастируют прозрачность воздушной среды с красочно-
стью гор. Воздушная среда исполнена им размывами туши,
a горы — плотно наложенными, сочными, почти абстракт-
ными мазками, усиленными энергичными штрихами и си-
ними и пунцовыми размывками.
В диаметрально противоположной манере выполнен
свиток «Осень в Хуайяне» (89 х 57 см, бумага, тушь,
краски, Нанкинский исторический музей). В нем воспро-
изведенас высоты птичьего полета панорама реальной
местности — окрестностей г. Янчжоу. Перед зрителем
уходит в бескрайние дали речной вольный поток, окайм-
ленный холмистыми берегами. На переднем плане несколь-
ко сельских строений и остатки городской стены — на-
мек, по мнению критиков, на историю города, возводи-
мую в письменных источниках и легендах к VII в. до н. э.
Берег реки и его растительность — тростниковые зарос-
ли, деревья с уже обнаженными ветвями, на которых тре-
пещут последние уцелевшие листочки, выполнены то плот-
ными, то тщательно наложенными мазками и штрихами,
то тончайшими линиями. Горы и лес на заднем плане —
точками и постепенно светлеющими по тону размывками
с вкраплением оранжевых штриховок. С темной массой
берега контрастируют пастельные тона реки и небесного
простора, передающие хрустальную чистоту воды и на-
бухшие свинцовые тучи.
He меныней достоверности и экспрессивности Ши-тао
достигал, работая в монохромной технике, соединяя всевоз-
можные приемы работы с тушью — густые плотные мазки,
пятна, размывки, линеарный рисунок и разнообразные штри-
ховки. Это позволяло ему добиваться оптического эффекта
не только объемности, но и многокрасочности изображений,
что распространялось как на пейзажи, так и на многочис-
ленные композиции в жанре «цветы и птицы» — например
«Деревня среди скал» (альбомный лист, 24 х 44 см, Гугун),
«Лотосы» (90 х 50,3 см, Гугун).
Чжу Да был дальним родственником минского правя-
щего дома и испытывал жгучую, нескрываемую ненависть
к маньчжурскому режиму. Приняв по доброй воле мона-
шеский обет, он посвятил себя исключительно творческой
деятельности, дав выход чувствам, терзающим его в самом
по себе творческом акте. В противовес Ши-тао, художе-
ственная оригинальность и дерзость которого никогда не
распространялись на его поведение, Чжу Да с демонстра-
тивной настойчивостью совершал в высшей степени экст-
равагантные и эксцентричные поступки. Известно, что он
ей красотой горы, особенно ча-
сто — массив Хуаншань (пров.
Аньхуэй), который навсегда
стал для него желанным мес-
том обитания и источником
живописного и поэтического
вдохновения. В 1680 г. он по-
селился в Нанкине, где тоже
провел около 10 лет, после
чего принял несколько не-
ожиданное решение стать сто-
личным жителем. Проведя в
Пекине чуть более 3 лет, он
вернулся на Юг — в город Ян-
чжоу, где, видимо, и умер.
Куда бы ни приезжал Ши-тао,
он неизменно оказывался в
центре культурной жизни ме-
стной творческой интеллиген-
ции и объектом всеобщего
внимания и почитания.
Ши-тао
643
Чжу Да
326 Например, «Лотос»
(38,1 х 31,6 см, бумага, тушь,
Шанхайский музей искусств),
«Птица на лотосе» (бумага,
тушь, Собрание Сумитомо,
Япония).
обычно работал в состоянии опьянения, считая это самым
надежным способом полностью абстрагироваться от живо-
писных стандартов и стереотипов и отдаться порыву вдох-
новения. Поэтому неудивительно, что уровень его работ
неоднозначен, но в лучших своих произведениях он, и вправ-
ду, достигает невиданной ранее творческой раскрепощен-
ности, одухотворенности и выразительности. Его живопись
крайне единообразна и скромна по темам и сюжетам, в
которых варьируется в основном несколько растительных
образов, восходящих к творчеству Сюй Вэя, и особое место
среди них занимает лотос.
«Лотосовые» композиции Чжу Да, выполненные пре-
имущественно в формате альбомного листа, достаточно
многочисленны и находятся (нередко под одним и тем же
названием) во многих музейных коллекциях326. Все они
выполнены в единой и исключительно самобытной, пусть
даже идущей от чаньской живописи, манере: две-три длин-
ные, образованные стремительным движением кисти ли-
нии, резкие, нервно-динамичные мазки, беглые, шерохо-
ватые штрихи, дополненные пятнами и размывками. На-
пример стебель растения в них может передаваться парой
крест-накрест перечеркнутых линий, пятнами и размыв-
ками — свернутый или плывущий по воде лист. Живопис-
ные изображения — вновь прямая реплика на творчество
Сюй Вэя — часто сопровождаются надписями, выполнен-
ными в соответствующей им каллиграфической манере.
Чуть более богатыми по образам и разнообразию трактовок
натуры предстают композиции на тему «цветов и птиц»,
которые исполнялись художником в формате как альбом-
ных листов, так и крупногабаритных свитков, например
«Банановое дерево и бамбук» (220 х 83 см, бумага, тушь,
Гугун). Чжу Да работал и в пейзажном жанре, причем его
пейзажи порой выглядят еще более эксцентричными, чем
«цветочные» композиции, например «Пейоаж» (альбомный
лист, бумага, тушь, Нанкинский исторический музей,
см. вклейку). Тем не менее, несмотря на всю условность и
лаконичность, отчетливо прослеживается и зоркость ху-
дожника к натуре, и его умение передавать перспективу и
фактуру природных форм — горных склонов, скальных
пород и деревьев.
Ши-тао и Чжу Да, будучи самыми яркими творчески-
ми личностями начала цинской эпохи, тем не менее не
исчерпывали собой список самодеятельных художников
тех лет, тоже способствовавших подъему неофициального
живописного творчества. Отдельного упоминания заслу-
живает Цзян Тао (1610-1663), известный под своим мо-
нашеским именем Хунжэнъ. Отпрыск южного чиновни-
чьего клана (провинция Аньхуэй), он ушел в буддийский
монастырь сразу же после гибели минской династии и в
отличие от Ши-тао прервал всякие связи с внешним ми-
ром, общаясь даже в монашеских кругах только с пре-
дельно узким кругом лиц. Работая главным образом в
пейзажном жанре, Цзин Тао опирался на стиль Ни Цза-
ня, но в его преломлении через собственную, сугубо ав-
644
торскую манеру исполнения и непосредственное настрое-
ние. Оригинальным примером его творчества выступает
свиток «Сосны и скалы в облачном покрове гор Хуан-
шань» (198,1 х 81 см, бумага, тушь, легкая подцветка,
Щанхайский музей искусств). На нем воспроизведен па-
норамный вид гор Хуаншань, где художник подолгу жил
и которые были постоянным объектом его живописи. Глав-
ной отличительной особенностью этой картины и одно-
временно творческим достижением Цзян Тао является
вполне удавшаяся попытка передать атмосферу «облач-
ных морей», окружающих Хуаншань, что не сделал ни
один из мастеров, рисовавших этот массив, включая са-
мого Ши-тао. Еще одной его примечательной чертой спра-
ведливо считают сочетание символически-воображаемого
и реального пейзажей. Так, в очертаниях трех пиков,
помещенных в нижней правой части картины, угадывает-
ся намек на три острова из архипелага бессмертных Пэн-
лая. A огромная гора, поросшая соснами и занимающая
всю левую часть свитка, тоже воспринимается благодаря
манере исполнения в качестве образа неземного мира. На
самом деле, что становится вполне очевидным при внима-
тельном рассмотрении свитка, в нем не содержится ника-
ких ирреальных образов, и натуральный пейзажный вид
Хуаншань и все составляющие его детали — горные фор-
мы, сосны — воспроизводятся почти без искажений.
Духовными и творческими преемниками Ши-тао и
Чжу Да стали художники из творческого объединения,
известного под названием «Восемь чудаков (эксцентри-
ков, сумасшедших) из Янчжоу» («Янчжоу ба гуай»), По-
чти все они были самодеятельными живописцами, заняв-
шимися художественным творчеством уже в зрелом воз-
расте, и жили благодаря финансовой помощи местных
купцов, которые разбогатели на продаже добываемой в
этой местности соли, и теперь — очень показательный
нюанс для понимания обычаев и нравов старого китай-
ского купеческо-ремесленного сословия — с упоением от-
давались коллекционированию и меценатству. В состав
«Восьми чудаков» входили: Цзинь Нун (1627-1703), Ли
Шанъ (17117-1755?), Ло Пинь (1733-1799), Хуан Шэнь
(1687-1768?), Ван Шишэнь (1686-1759), Чжэн Ce (1693-
1765), Гао Сян и Ли Фанъинь, точные годы жизни двух
последних неизвестны. Близкими по образу жизни и твор-
ческим установкам были еще несколько янчжоуских жи-
вописцев, из которых наиболее примечательной фигурой
считается Хуа Янь.
Возникшее, возможно, не без личного участия Ши-тао,
который провел в Янчжоу последние годы жизни, или под
впечатлением воспоминаний о нем, данное творческое объ-
единение в еще более полном объеме, чем деятельность
Ши-тао и Чжу Да, воплотило всю эксцентричность и экс-
периментаторскую направленность, которую обрела на-
циональная живопись в русле «южной» традиции, и соот-
ветствии даосским и чань-буддийским эстетическим иде-
ям. Достаточно сказать, что «Чудаки» сплошь и рядом
прибегали к самым экстравагантным техникам, например,
использованию бамбуковой кисти, щепы или письму паль-
цами рук и даже ног. Все они разделяли убежденность в
спонтанности творческого акта, надобности передачи не
внешних, видимых форм натуры, a ee истинного, внутрен-
него смысла, и, прежде всего, передачи собственного эмо-
ционального переживания окружающей действительности,
чем и объясняется оригинальность творческой манеры каж-
дого из них.
Цзинь Нун, уроженец провинции Чжэцзян, в силу сво-
ей родословной принадлежал к тем литературно-художе-
ственным кругам, которые сложились еще в южносунской
столице. Он прибыл в Янчжоу в возрасте уже 30 лет, примк-
нул к «Чудакам», хотя сам в то время еще не занимался
живописью, и затем надолго покинул их, проведя почти
20 лет в странствиях по Китаю. По возвращении в Ян-
чжоу, переступив уже 50-летний рубеж, он впервые попро-
бовал себя в живописи. Тогда же совершенно неожиданно
Цзинь Нун для окружающих он решил сдать государственный экза-
мен, для чего приступил и к освоению каллиграфии. Не-
смотря на свой откровенный дилетантизм и только благо-
даря природному живописному дару, Цзинь Нун оказался
весьма незаурядным мастером, способным работать в со-
вершенно разных жанрах — от пейзажа и «бамбукового
стиля» до анималистики. Каждый раз он обращался к со-
ответствующим древним образцам — работам Вэнь Туна
(для «бамбукового стиля»), Хань Ганя (при изображении
лошадей), но неизменно предлагал совершенно необычную
их творческую версию. Он не придавал никакого значения
сходству создаваемых им изображений с натуральными
объектами, допуская любые искажения естественных форм
и пропорций, но добивался при этом поразительной досто-
верности и живости. В качестве примера сошлемся на кар-
тину «Орхидея» (25 х 32 см, альбомный лист, бумага, крас-
ки, Ляонинский провинциальный музей, см. вклейку), со-
зданную Цзинь Нуном, когда ему было уже 75 лет. Она
состоит из изображений скалы и растущего около нее цвет-
ка. Однако термин «изображения» в данном случае не со-
всем уместен, ибо художник и не пытался изобразить ска-
лу как скалу, a цветок как цветок: они своего рода импрес-
сионистские наброски, обозначенные несколькими
небрежными мазками, явно не сводимые ни к одной из
традиционных китайских живописных техник. Но каким-
то непостижимым образом скала и орхидея на глазах y
зрителя не просто обретают свою формальную материаль-
ность, a наделяются огромной жизненной силой и бездной
символичности.
Ли Шань, уроженец провинции Цзянсу, тоже происхо-
дил из потомственного чиновничьего семейства и с детства
готовил себя для официальной карьеры. Он успешно сдал
государственные экзамены, получил назначение на долж-
ность, несколько лет прослужил на востоке (Шаньдун), но
по каким-то причинам подал в отставку и, вернувшись на
родину, посвятил себя исключительно живописи. Избрав
646
для подражания работы минских мастеров, он вновь творил
в абсолютно индивидуальной и чуждой каких-либо услов-
ностей манере, избегая при этом использовать принятые
техники письма. Он работал кистью только так, как это
подсказывали его интуиция и вдохновение. Обратимся к
свитку «Весенний пейзаж в Чэннани» (193 х 105,6 см,
бумага, краски, 1754 г., Шанхайский музей искусств,
см. вклейку). Перед нами — своеобразный синтез собствен-
но пейзажа и «цветочного стиля»: все пространство карти-
ны занимает выполненное в достаточно условной манере
изображение скалы, склоны которой покрыты цветущими
пионами и глициниями. Бросается в глаза мастерство ком-
позиционного построения свитка и его колористического
решения. Яркие пятна цветов эффектно выделяются на
фоне скалы, a контраст между их нежностью и массивно-
стью скальной породы придает композиции радостное, дей-
ствительно весеннее и жизнеутверждающее настроение.
Хуан Шэнь, уроженец провинции Фуцзянь, поселился в
Янчжоу в 1731 г. и, помимо живописного творчества, увле-
кался поэзией и каллиграфией, варьируя стили мастеров
эпохи Шести династий и Тан. Известно, что вначале он
попробовал себя в амплуа пейзажиста, создавая вариации
на тему картин Хуан Гунвана и Ни Цзаня. Но ни одной
подлинной работы этого периода его творческой деятельно-
сти не сохранилось. В дальнейшем главными стали карти-
ны на религиозные сюжеты, сводящиеся к изображениям
даосских бессмертных и буддийских монахов, и компози-
ции в «цветочном стиле». Эти композиции тоже выполнены
в условно-импрессионистской манере, близкой к стилисти-
ке Ли Шаня, но отличаются заметно большими, чем y по-
следнего, изысканностью и внешней декоративностью, не-
смотря на их исполнение в монохромной технике, например,
картина «Цветы» («Лилии», альбомный лист, 23,5 х29,1 см,
бумага, тушь, Нанкинский исторический музей). В ней ху-
дожественно-декоративный эффект достигается за счет обыг-
рывания контраста между сочным, мясистым листом и хруп-
ким, словно эфемерным, цветком. Изображение дополнено
каллиграфической надписью, выполненной четкими, но при-
чудливого начертания, иероглифами, которые вновь воспри-
нимаются в качестве органического элемента данной худо-
жественной композиции.
Ло Пинь происходил из чиновничьего семейства урожен-
цев провинции Аньхуэй. Но он с детства воспитывался в
Янчжоу и обучался живописи y Цзянь Нуна, считавшего его
своим лучшим учеником. Это обстоятельство послужило глав-
ной причиной причисления Ло Пиня к когорте «Чудаков»,
потому что его живопись в значительной мере более тради-
ционна, чем творчество представленных художников. Он ра-
ботал в основном в фигуративных жанрах, создавая произве-
дения на исторические, религиозные сюжеты, изображения
духов и всякой нечисти, a также в пейзаже. К числу лучших
его картин историко-иллюстративного характера относится
свиток «Ван Сичжи наблюдает за гусем» (94 х 42,5 см, бума-
га, тушь, легкая подцветка, 1797 г., ГМИНВ). Его темой
послужили легенды о знаменитом каллиграфе Ван Сичжи
(3217-399?), основоположнике ряда каллиграфических сти-
лей, в которых рассказывается, что, разрабатывая эти сти-
ли, он воспринял принципы естественности письма от са-
мой природы, наблюдая за поведением и повадками живот-
ных и птиц. На картине, выдержанной в мягких пастельных
тонах с преобладанием голубого цвета (одеяние главного
персонажа), показан великий каллиграф с мальчиком-слу-
гой, стоящим за его спиной, — оба приманивают вальяж-
ного и неторопливого в своих движениях гусака. Фигура
каллиграфа представляет собой условно-портретное изоб-
ражение, полностью выдержанное в стилистике такого рода
изображений, установившейся еще в минском искусстве:
архаизованный наряд, детально проработанные лицевые
черты и прочие нюансы внешнего облика персонажа. Тем
не менее картина выполнена с искренней душевной тепло-
той и некоторым, чуть заметным лукавым юмором. Пейза-
жи Ло Пиня тоже не отличаются особой новизной. Выпол-
ненные в условно-архаической манере, они сочетают в себе
стилистические и композиционные элементы, идущие от
творчества различных мастеров — от Ли Чжаодао до Ван
Мэна, и характеризуются структурной плотностью, тща-
тельностью проработки всех изображений (людей, деревь-
ев, строений), красочностью цветовой гаммы и как резуль-
тат — общей декоративностью — например «На дороге в
горах Цяныпань» (100,5 х 24,2 см, бумага, краски, 1794 г.,
Гугун, см. вклейку).
Ван Шишэнь, тоже уроженец провинции Аньхуэй, при-
был в Янчжоу уже в зрелом возрасте. У кого и как он обучал-
ся живописному искусству — неизвестно. Работал же он пре-
имущественно в «цветочном стиле», создавая монохром-
ные композиции, и в фигуративной живописи. Отличительной
особенностью его «цветочного стиля» является моделирова-
ние цветочных форм под фигуры даосских бессмертных. A его
фигуративная живопись находилась под определяющим воз-
действием манеры Ши-тао, особенно, когда Ван Шишэнь
обращался к религиозным сюжетам. Пример — свиток «По
мотивам живописи Дао-цзы» (53,5 х 119,8 см, бумага, тушь,
Гуандунский провинциальный музей). На нем показана фи-
гура монаха, сидящего в медитативной позе на фоне затяну-
того клочковатым туманом пространства. Влияние работ Ши-
тао отчетливо сказывается в позе монаха и в общей гротеск-
ности рисунка. Отличие между ними и картиной Ван Шишэня
заключается лишь в разнице их настроений: в первом случае
легко ощущаются одиночество и духовные искания, во вто-
ром — спокойствие и умиротворенность.
Гао Сян, потомственный житель Янчжоу, снискал себе
известность среди местного населения в первую очередь в
качестве мастера резьбы печатей. В живописи он работал не
столь активно, как прочие «Чудаки», и главным образом в
пейзаже. Подлинных его работ сохранилось очень мало, один
из редких их образцов — альбомный лист «Пейзаж» (28,6 х
х 38,5 см, бумага, тушь, Шанхайский музей искусств). Тем
не менее известно, что он варьировал манеру Хунжэня, при-
внося в нее элементы пейзажей Ши-тао. Создаваемым им
пейзажным композициям, что мы и видим в названной кар-
тине, были присущи сдержанность, лаконичность и своеоб-
разный интеллектуализм, проявляющийся, в том числе, в
нескрываемой умозрительности воспроизводимого пейзажно-
го вида. Кроме того, его индивидуальность проявляется в
ряде стилистических нюансов, в частности, в условно-абст-
рактной манере исполнения поросших деревьями горных форм.
Хуа Янь — незаурядный анималист и пейзажист, ко-
торый, подобно Чжу Да, нередко прибегал в своих пейзаж-
ных композициях к гротеску и раскрепощенно-лапидарно-
му стилю, намеренно искажая естественные пропорции и
соотношения человеческих фигур, скал и деревьев и лишь
намечая ту или иную деталь рисунка линией, штрихами
либо размывками. Все это мы видим в одном из лучших
его пейзажных произведений — «Осенняя сцена» (альбом-
ный лист, 22,8 х 16,1 см, бумага, тушь, краски, Галерея
Фрира, см. вклейку).
Что касается еще двух «Чудаков» — Ли Фанъина и Чжэн
Ce, то жизненный путь и творчество первого из них, кроме
факта его членства в данном объединении, практически не
прослеживаются. A bot для Чжэн Ce его пребывание среди
«Чудаков» оказалось мимолетным юношеским увлечением.
Он быстро «взялся за ум», успешно сдал все государствен-
ные экзамены, получив высшую ученую степень, и превра-
тился в респектабельного во всех отношениях чиновника-
интеллектуала, продолжающего, правда, без особого успе-
ха, свои живописные опыты и претендующего на роль знатока
и теоретика изобразительного искусства.
После того как одни «Чудаки» скончались, a пути дру-
гих разошлись, живописная жизнь в Янчжоу постепенно
утихла, a вскоре и вовсе сошла на нет. Если даже y них и
были ученики и последователи, то они уже никак себя не
проявили. Столь быстрое затухание еще недавней яркой
художественной активности чаще всего объясняется в спе-
циальной литературе экономическими причинами. Местные
запасы соли иссякли, меценаты-купцы разорились, и ли-
шенные их покровительства художники покинули Янчжоу.
Но такое объяснение, думается, поверхностно. Доказав в
творчестве «Чудаков» факт собственного бытия, традиция
неофициальной живописи окончательно исчерпала им свой
революционный потенциал. И теперь тоже была обречена на
самоповторения и варьирование одного и того же набора
сюжетов, образов, стилистических приемов и технических
способов. Перед китайским изобразительным искусством как
никогда остро встала проблема поиска такой линии даль-
нейшего развития, которая позволила бы ему, не утрачивая
национальной самобытности и не отрекаясь от накопленно-
го веками художественного опыта, выйти, наконец, из-под
власти реставрационалистических тенденций и вступить в
качественно новую эволюционную фазу. По мнению подав-
ляющего большинства исследователей, такая магистраль-
ная линия была найдена, и новая фаза истории китайской
живописи началась во второй половине XIX в.
живопись
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ
XIX— НАЧАЛА
XX ВЕКА
Воздержимся от дискуссий по поводу причин наступле-
ния «перелома» в живописной жизни Китая в середине XIX в.
Разумеется, внешним толчком для него послужили историко-
политические и социально-идеологические реалии того вре-
мени: рост антиманьчжурских и антиимперских настроений,
охвативших все слои китайского общества, утверждение круп-
ных торгово-промышленных центров, повлекшее за собой сло-
жение сословия компрадорской буржуазии, массовое проник-
новение в Китай европейских философских, общественно-поли-
тических и художественно-эстетических учений и, наконец,
появление нового по своим идейным позициям сословия типа
китайской интеллигенции. Но влияние этих факторов соот-
ветствовало и потребностям, вызревшим внутри самого худо-
жественного творчества, во всяком случае, для наиболее пе-
редовой и здравомыслящей части местной творческой элиты.
Первым событием художественной жизни Китая в опи-
сываемый период стало окончательное размежевание тради-
ционалистских и новаторских школ и направлений. Первые
из них, возникшие на волне академического реставрациона-
лизма XVII в., теперь подцерживались усилиями придвор-
ных и близких к ним столичных живописцев, стремивших-
ся угодить вкусам маньчжурской аристократии, которая,
как мы помним, сама заняла в это время крайне консерва-
тивные позиции, a также второразрядных мастеров, постав-
лявших свою продукцию на массовый рынок и европейским
покупателям, жаждущим «китайской экзотики».
Предпосылки для возникновения «новой» живописи —
так она обычно определяется в искусствоведческих работах,
начали складываться еще в первой половине XIX в. в худо-
жественно-литературных кругах, сосредоточенных как в
прежних южных живописных центрах (гг. Нанкин, Сучжоу,
Уси), так и в городах, входивших в зону влияния европей-
ских держав — Кантоне (Гуанчжоу) и Шанхае. Превращение
Шанхая после Опиумных войн и подавления Тайпинского
восстания в главный портовый, торговый и промышленный
центр страны, находившийся к тому же под политическим
протекторатом Европы, сделало его местом сосредоточения
оппозиционно настроенных по отношению к правящему ре-
жиму деятелей культуры. Во второй половине XIX в. имен-
но там возникло очередное творческое объединение — «Шан-
хайская группа», с которым и связывается возникновение
«новой» живописи. Оно возглавлялось Чжао Чжицянем
(1839-1884) и художниками семейства Жэнъ.
Чжао Чжицянь — одна из центральных фигур китай-
ского изобразительного искусства середины XIX в. и одно-
временно последний великий «художник-литератор». От-
прыск южного (провинция Чжэцзян) чиновничьего клана,
он получил традиционное образование и вел типичный для
старой китайской служилой интеллигенции образ жизни,
совмещая официальную карьеру с занятиями поэзией, кал-
лиграфией, живописью, a также — специфическое увлече-
ние — резьбой печатей. К описываемому периоду он дослу-
жился уже до поста областного губернатора, что не приту-
пило его антиправительственных настроений. Как художник
650
он работал в жанре «цветы и птицы» и в «цветочном сти-
ле», сосредоточившись уже на хорошо знакомом нам набо-
ре тем и образов — скалах, деревьях, цветах. В его манере
тоже на первый взгляд не было ничего принципиально
нового. Его творчество продолжало стилистическую линию,
идущую, с одной стороны, от минских Чэнь Чуня и Сюй
Вэя, a с другой — от «Янчжоуских чудаков», конкретно —
Ли Шаня и Хуа Яня. Однако именно такая стилистическая
двойственность позволила ему проявить творческую инди-
видуальность и создать собственную живописную манеру, в
которой раскрепощенность и выразительность живописи
«Чудаков» совместились с изысканной элегантностью тво-
рений минских мастеров. Кроме того, Чжао Чжицяню было
присуще удивительное колористическое чутье, никогда не
позволявшее ему переступать ту грань, за которой насыщен-
ность цветовой гаммы переходила в пустую декоративность.
Все отмеченные особенности творчества этого художника
полностью проявляются в его свитке «Колоннообразные
утесы» (69,1 х 35,5 см, бумага, краски, Шанхайский му-
зей искусств).
Наравне с Чжао Чжицянем заслуживает внимания ху-
дожник Сюйгу (1824-1896), хотя формально он не входил в
«Шанхайскую группу». Это тоже последний в истории ста-
рого китайского изобразительного искусства самодеятель-
ный живописец, воплощающий образ «экстравагантного ге-
ния». Некогда генерал правительственной армии, занимав-
ший высокое положение при дворе, он встал на сторону
Тайпинского восстания и затем, скрываясь от преследова-
ния центральных властей, постригся в буддийские монахи.
Но жизнь в монастыре оказалось ему не по нутру и, не
снимая с себя монашеского обета, под своим новым буддий-
ским именем, он объявился в Шанхае, сразу же включив-
шись, по слухам, в революционную деятельность. Мятеж-
ный дух Сюйгу не мог, естественно, не сказаться и на его
творчестве. Но совсем не так, как можно было бы ожидать
из аналогичных по сути прецедентов в истории европейско-
го или отечественного искусства. Некогда сановный гене-
рал, недавний отважный повстанец и новоявленный монах-
революционер, он отнюдь не бросился создавать картины,
критикующие ненавистный ему правящий режим или вос-
певающие праведный гнев народных масс, a c упоением
выписывал композиции на темы «цветов и птиц», и особен-
но его привлекали образы золотых рыбок и ласточек. И все
же эти, казалось бы, абсолютно камерные и мирные компо-
зиции были по-своему революционно-мятежными, ибо они
обладали предельной, страстной и полной жизненной энер-
гии раскрепощенностью. Несмотря на эскизность форм и
лаконичность композиции, что в целом было исходно свой-
ственно данному жанру в его «южном» стилистическом ва-
рианте, переданные им сценки производят впечатление жи-
вой натуры, например — свиток «Глицинии и золотые рыб-
ки» (117,4 х 49,3 см, бумага, краски, Гугун).
Родоначальником семейства Жэней как художествен-
ного клана был Жэнъ Сюн (1820-1856), a непосредственно
в «Шанхайскую группу» вошли его младший брат — Жэнъ
Сюнь (1835-1893), и сыновья — Жэнь Юй (1820-1856) и
Жэнь И (1840-1896), болыне известный под своим вторым
именем — Жэнъ Бонянъ.
Все эти художники оставили заметный след в истории
национального изобразительного искусства, так как их твор-
чество в той или иной степени способствовало формированию
«новой» живописи. Жэнь Юй работал в пейзаже, анималис-
тике, фигуративной живописи и в «цветах и птицах». Со-
зданным им работам, независимо от жанровой принадлежно-
сти, присуще мастерское владение кистью, мягкость цвето-
вой гаммы и, самое главное, реалистичность, что теперь
воспринималось в качестве неподдельной новации. Пример —
свиток «Вид Озера Пэнху в ясный день», 133,2 х 64,6 см,
бумага, краски, Цзянсуский провинциальный музей). Жэнь
Сюнь — признанный мастер жанра «цветы и птицы», пред-
почитавший работать в небольших форматах. Ему в заслугу
ставят тоже реалистичность его произведений, a также тща-
т»г> тельность письма, использование необычных композицион-
g \ ных построений и умелое обыгрывание цветовых контрастов,
В -À что мы ВИДИМ> например, в картине «Красные листья и осен-
няя цикада» (30,5 х 27,8 см, бумага, краски, Шанхайский
Ч t Êjpl музей искусств). Главное же место в этом семействе и в «Шан-
>С^|5?Г^ хайской группе» принадлежало Жэнь Боняню, который со
^^^^г временем стал ключевой фигурой всей национальной живо-
х^ писи конца Цин и Республиканского периода. Учитывая, что
Жэнь Бонянь творческое наследие Жэнь Боняня, равно как и других пред-
ставителей «новой» живописи, весьма объемно и достаточно
хорошо известно отечественной зрительской аудитории, мы
ограничимся лишь самой общей его характеристикой без ссы-
лок на конкретные произведения.
Подобно подавляющему болыыинству великих живопис-
цев прежних эпох, Жэнь Бонянь прошел длительный, пол-
ный перипетий творческий путь. Он начинал с пейзажей в
стиле сунских и юаньских мастеров, исполняя их в насы-
щенной цветовой гамме. Следующий этап его творчества озна-
меновался обращением к живописи Ши-тао, от которой он
заимствовал «бескостный» и монохромный методы письма,
открыв их новые изобразительные возможности. От Ши-тао,
подчиняясь объективной логике, он перешел к живописи
«Янчжоуских чудаков», что способствовало усилению экс-
прессивности и индивидуального начала его творческой ма-
неры. И наконец, заметное воздействие оказала на него евро-
пейская живопись, что, в частности, выразилось в использо-
вании им идущих от нее композиционных схем и принципов
компоновки изображений. Так рождалась та новая живо-
писная традиция, которая позже получила терминологиче-
ское название «национальная живопись» (гохуа).
Жэнь Бонянь является представителем так называемо-
го второго поколения «новых» китайских художников, в
котором, помимо него, есть немало имен тоже выдающихся
мастеров, о некоторых из них мы поговорим чуть позже.
Однако равными ему по масштабности художественного да-
рования и по силе влияния их творчества на национальное
652
изобразительное искусство полагаются только два живо-
писца — УЧанши (1844-1927) и Ци Байши (1863-1957).
У Чанши, подлинное имя УЦзюнъ, происходил из южно-
го (провинция Чжэцзян) семейства ремесленников, специа-
лизировавшегося на изготовлении бронзовых сосудов, печа-
тей и деревянных резных досок для ксилографов и гравюр.
Подобные профессиональные занятия требовали от их испол-
нителей владения искусством каллиграфии, живописи, по-
эзии, a также познаний в области национальной истории и
литературы. Уровень образованности этого семейства был на-
столько высок, что, получив только домашнее воспитание,
20-летний У Чанши с первой же попытки успешно сдал госу-
дарственный экзамен и получил приглашение на службу. Но
статусу чиновника, ставшего уже притчей во языцех в широ-
ких слоях китайского населения, он предпочел труд вольного
ремесленника, зарабатывая себе на жизнь выпуском поделоч-
ной продукции, a в свободное время продолжал самообразова-
ние. В 1873 г. У Чанши впервые приехал в Шанхай, где
встретился с Жэнь Бонянем и вошел в состав «Шанхайской
группы», хотя он по-настоящему еще не пробовал себя в
живописном искусстве. Возможно, желание иметь гарантиро-
ванное жалованье, чтобы всерьез заняться художественным
творчеством, подтолкнуло его к переезду в г. Сучжоу, где он
поступил на службу, заняв не очень популярный среди на-
рода пост сборщика налогов. Вот тогда-то, т. е. в возрасте
45-50 лет, и началась его биография как живописца. A пик
его творческой активности пришелся на конец XIX — начало
XX в., когда он окончательно поселился в Шанхае.
Из сказанного понятно, что У Чанши в отличие от
Жэнь Боняня был художником-самоучкой, что лишь под-
черкивает силу его природного живописного таланта. Он
считается ведущим для всей китайской живописи назван-
ного периода каллиграфом и мастером «цветочного стиля».
Набор тем и образов его произведений вновь традиционен:
сосна, бамбук, лотос, цветущие сливовые и персиковые де-
ревья, пионы, нарциссы, хризантемы и т. д. A истоки его
творческой манеры со всей очевидностью восходят к живо-
писи Ши-тао, Чжу Да, «Янчжоуских чудаков» (Ли Шань)
и Чжао Чжицяня. Однако и он, творчески развивая стили-
стику своих предшественников, вышел за рамки принятой
традиционности и создал уникальную во всех отношениях
манеру изображения цветов. Виртуозно владея техникой
письма, он творил легко и непринужденно — казалось, как
вспоминают очевидцы, что его кисть прикасалась к бумаге,
словно неожиданно упавшая капля дождя, и создавал всю
живописную сцену «на одном дыхании». Исполненные в
ярких и свежих тонах, отличающиеся абсолютной естествен-
ностью композиционного построения, его картины облада-
ют невиданной ранее и непревзойденной в дальнейшем жи-
востью и убедительностью (см. вклейку). В начале XX в.
УЧанши стал признанным лидером шанхайских творче-
ских кругов, a когда его ученики начали сами преподавать
в Шанхайской Школе искусств, его авторитет распростра-
нился на живописную жизнь всей страны.
У Чанши
653
Ци Байши — псевдоним (по названию его родной де-
ревни, в Хунани) художника Ци Вэйцина. Отпрыск кре-
стьянской семьи, прошедший обучение резьбе по дереву y
местного ремесленника и затем сам ставший профессио-
нальным резчиком, Ци Байши был поистине художник-
самородок. К тому же он до 50 лет не покидал своей дерев-
ни. Покинуть родные места и переехать в Пекин его заста-
вило вовсе не желание познакомиться со столичной жизнью
или заявить о себе, a боязнь бандитов, бесчинствовавших в
Хунани. Попав в столичные творческие круги, он быстро
получил признание и уже в ранге популярного живописца
познакомился с шанхайскими художниками, в первую оче-
редь с У Чанши, творчество которого произвело на него
неизгладимое впечатление. Он и вправду немало перенял
от него. Но следует помнить, что и в период своей сельской
жизни Ци Байши чисто интуитивно и благодаря врожден-
ному дару освоил в принципе такую же спонтанно-вдохно-
венную и предельно жизненную творческую манеру. Ци
^^^ Байши одинаково мастерски работал в различных жанрах,
/ ѴѴ но наивысших достижений он добился в композициях в
CötfTlLJi жанре «цветы и птицы», включая «цветочный стиль» и
Л^^ѵЩ изображения насекомых. Для него не существовало поня-
і№Ёыж тия выбора натуры. Все, что попадалось на его глаза —
ffWfwS^^ цветок, стрекоза, тыква-горлянка, цветущая повилика —
%іШмѵ превращалось в живописный образ, нередко исполняемый
/ ШШі в Д°бродушно-юмористическом тоне, что дополнительно при-
/ ЧЩУ ) дает его картинам естественность и очарование. He будучи
искушенным в живописных техниках, он работал просты-
Ци Байши ~ » g,
^ ми мазками, искупая их однообразие вдохновеннои безыс-
кусностью и свободой движений кисти (см. вклейку).
Параллельно живописи гохуа, представленной творче-
ством Жэнь Боняня, У Чанши и Ци Байши, развивалось,
тоже в рамках «новой» живописи, и другое художествен-
ное направление, в опыты которого входило соединение
национальных и чужеземных, в первую очередь западноев-
ропейских живописных традиций. Лидерами этого направ-
ления были Гао Лунъ (1879-1951), Чэнъ Хэнкэ (1876-1922)
и Сюй Бэйхун (1895-1953).
Гао Лунь — ведущая фигура так называемой «Линнань-
ской (Гуандунской) школы». Он обучался живописи в Япо-
нии, где изучал не только местное, но и европейское искусст-
во, и много работал по заказам японских художественных
обществ («Общество Белой лошади», Накубайкай, «Тихооке-
анское общество живописи», Тайкейё Габай). Вернувшись в
Китай, он вошел в ближайшее окружение Сунь Ятсена, воз-
главившее революционное движение в стране, принимал ак-
тивное участие в Синьхайской революции и в установлении
Республиканского правительства. И снова возвратился к за-
нятиям живописью. Гао Лунь также работал преимуществен-
но в жанре «цветы и птицы», вводя в свои композиции эле-
менты и национальной, и японской (киотская школа), и евро-
пейской живописи. Однако его произведения, несмотря на
несомненный талант и профессиональное мастерство самого
художника, производят впечатление не более чем творческих
654
экспериментов. Несколько более успешными оказались ана-
логичные опыты Чэнь Хэнкэ — пекинского (но южанина по
происхождению) художника, который тоже профессионально
обучался европейской живописи, правда, в самом Китае. Его
работы — пейзажи и композиции в «цветочном стиле» —
пользовались широкой известностью в Республиканский пе-
риод, причиной тому послужил не столько заложенный в них
синтез национального и европейского искусства, сколько жи-
вая и непосредственная манера исполнения натуры в соедине-
нии с великолепной техникой и приятной для глаза колори-
стической гаммой. Так, творчество Сюй Бэйхуна, действи-
тельно, открывает собой новую страницу в истории китайской
живописи. Но это уже — тема для другого исследования.
Итак, зародившись еще в древние эпохи, за несколько
столетий до нашей эры, китайская станковая живопись про-
шла поистине гигантский по временной протяженности и
полный метаморфоз и испытаний эволюционный путь. Глав-
ной типологической особенностью ее является наличие двух
генеральных структурных направлений, опиравшихся на
принципиально различные мировоззренческие модели и куль-
турно-идеологические установки, что давало возможность
постоянно варьировать свои художественно-эстетические па-
раметры. Одновременно эти структурные направления вопло-
щали официальное художественное творчество, предназна-
чавшееся, повторим еще раз, для удовлетворения духовных
потребностей имперской государственности, и неофициаль-
ное искусство, опиравшееся на индивидуализированную
творческую деятельность и нацеленное на выражение ми-
ровосприятия и сиюминутного эмоционального состояния
личности. Именно такая бинарность китайского живописно-
го творчества позволила ему, как в свое время и поэзии,
превратиться, с одной стороны, в насущный элемент системы
государственности, a с другой — в самый распространенный
вид интеллектуально-творческой деятельности не только об-
разованной элиты китайского общества, но и людей, отказав-
шихся от активной социальной жизни (даосских отшельни-
ков, буддийских монахов). Вместе с тем очевидно, что логика
развития станковой живописи подчинялась общим для ки-
тайской художественной культуры закономерностям и, кро-
ме того, находилась под определяющим воздействием исто-
рико-политических и культурно-идеологических факторов.
Все охарактеризованные формы и направления станко-
вой живописи являются, в конечном счете, принадлежно-
стью высокого, элитарного искусства. Для простонародной
же среды, широких масс китайского населения, их замести-
телем выступает еще один своеобразный вид местного графи-
ческого искусства — картина-«лньхі/а, с которой мы уже ус-
пели вкратце познакомиться и при рассказе об истории раз-
вития китайского искусства (в связи с книгопечатаньем), и
при анализе иконографии персонажей популярных верова-
ний. Однако этот вид графического искусства занимает более
существенное место в китайской художественной культуре,
чем это может показаться из предыдущих замечаний о нем, и
потому заслуживает обстоятельного разговора.
ГЛАВА
КИТАЙСКАЯ
ПРОСТОНАРОДНАЯ
КАРТИНА-НЯНЬХУА
ПРОИСХОЖДЕНИЕ,
ОСНОВНЫЕ
ЭТАПЫ ИСТОРИИ
РАЗВИТИЯ
И ВЕДУЩИЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ТРАДИЦИИ
НЯНЬХУА
Оригинальное название данного вида китайского графи-
ческого искусства — нянъхуа, «новогодняя картина» —
связано с тем, что основная масса таких картин поставля-
лась на рынок и раскупалась к Новому году, как было
принято, в качестве подарков друг другу. В отечественных
изданиях чаще всего используются термины «народная»,
«простонародная», «популярная картина» и «лубок», по-
следний представляется достаточно неудачным. Он не со-
ответствует ни материалу няньхуа, которые, в отличие от
собственно лубка исполнялись исключительно на бумаге,
ни их происхождению — не в крестьянской, a в мещанско-
городской среде, ни их тематике, образности и стилисти-
ческим характеристикам, как мы увидим далее.
Истоки нянъхуа подавляющим большинством иссле-
дователей возводятся к буддийскому культовому изобра-
зительному искусству — бумажным иконам с изображе-
ниями персонажей буддийского пантеона и молитвенны-
ми текстами, которые изготавливались уже при Тан
(находки в пещерном монастыре Могао). Непосредствен-
ным прототипрм няньхуа полагаются тоже праздничные
картины-гравюры — чжихуа, массово выпускавшиеся, по
свидетельству письменных источников в Х-ХІ вв. Чжихуа
известны, к сожалению, лишь в единичных подлинных
образцах. Один из них — картина «Чиновник со слугой»
(коллекция Эрмитажа) — интересна еще и тем, что на
ней воспроизведено самое раннее иконографическое изоб-
ражение Бога богатства Цай-шэня с его атрибутами, став-
ших в дальнейшем нормативными. Изначальное генетиче-
ское родство няньхуа с буддийским культовым искусством
и национальной праздничной обрядностью предопределило
их способность функционировать в качестве икон и близ-
ких к ним по религиозной семантике произведений —
композиций, носящих благопожелательный и охранитель-
ный характер.
Одновременно нянъхуа состояли и в генетическом род-
стве, через само по себе книгопечатанье, со светской худо-
жественной ксилографией и с книжной гравюрой, кото-
656
рые, в свою очередь, тесно примыкали к станковой живо-
писи. Иллюстрированные книжные издания стали выпус-
каться в Китае приблизительно с конца XII в., и первое из
них включало в себя иллюстрации, выполненные именно с
живописного произведения: картины «Наставления при-
дворным дамам» Гу Кайчжи. Поэтому неудивительно, что
нянъхуа восприняли тематический набор и многие стили-
стические особенности и национальной светской живописи.
Первоначально нянъхуа исполнялись в той же техни-
ке, что и печатный текст, художественные и книжные
гравюры: с деревянных резных досок и путем эстампажа,
когда деревянные клише последовательно накладывались
на один и тот же лист. Первое из них давало контур
рисунка, другие — его красочное покрытие. Дошедшие до
нас ранние образцы нянъхуа, относящиеся к ХІП-ХІѴ вв.,
показывают, что они исполнялись в то время с очень тон-
ко и тщательно вырезанных клише, изготовлявшихся, по-
видимому, профессиональными живописцами или масте-
рами очень высокой художественной квалификации. Есть
также некоторые основания полагать, что няньхуа в каче-
стве подсобного промысла могли производиться и в мас-
терских, занимавшихся изготовлением буддийских гра-
вированных икон. Во всяком случае те же иконы, найден-
ные в Могао, по используемым в них материалам —
специфический, желтоватого цвета сорт бумаги, характе-
ру исполнения — черная контурная печать, и размерам
совпадают с последующими нянъхуа. Вплоть до конца
минской эпохи нянъхуа сохраняли в себе много элементов
классической живописи и профессиональной гравюры. Они
по-прежнему делались с клише, отличавшихся сложно-
стью резьбы, которая производилась специальными но-
жами, дающими разную профилировку контура, и печа-
тались с нескольких досок, без применения раскрашива-
ния от руки. Эти нянъхуа отличаются также нежностью
цветовой гаммы и неакцентированием контурных линий,
которые чаще всего были оттиснуты бесцветным конту-
ром. Нередко они прямо повторяют живописные компози-
ции, включающие типичные для изобразительного искус-
ства того времени образы — деревья, скалы, облака, цве-
ты — и выполненные полностью по правилам станковой
живописи.
Постепенное отделение нянъхуа от станковой живопи-
си и художественной гравюры произошло на протяжении
цинской эпохи и во многом по причине роста их популяр-
ности и окончательного превращения в продукцию массо-
вого спроса, предназначенную теперь не для городского, a
для сельского населения. Необходимость выпуска большо-
го объема нянъхуа вкупе с эстетическими запросами их
главного потребителя привели, прежде всего, к изменению
состава производителей. Их выпуск перешел отныне в руки
ремесленников, освоивших лишь азы художественного ма-
стерства, что сразу же сказалось на всех характеристиках
няньхуа, начиная с предельного упрощения техники их из-
готовления. Ранее сложная резьба свелась к простейшему
42 История мскусства Китая
контурному рисунку с его последующей почти полной рас-
краской от руки. Параллельно шел интенсивный процесс
сближения нянъхуа с декоративно-прикладным искусст-
вом, точнее, учитывая, что речь идет о широких кругах
сельского населения, с художественными ремеслами и на-
родными промыслами, сразу же переняв от них яркость
цветовой гаммы, наивную декоративность, упрощенность
системы изобразительных средств. Типичным для стили-
стики нянъхуа теперь стало активное использование орна-
ментальных, особенно цветочных, мотивов, введение деко-
ративных обрамлений. Их темы и сюжеты черпались не
столько из собственно живописных произведений, сколько
из росписей по фарфору или орнаментации лаковых изде-
лий. A образная система претерпела заметную унифика-
цию и стандартизацию, сосредоточившись на благопоже-
лательных образах. Но, утратив непосредственные связи с
высоким, элитарным живописным искусством, нянъхуа
приобрели, во-первых, свою собственную художественную
самобытность, и, во-вторых, способность живо и адекватно
откликаться на современные историко-политические и куль-
турные реалии и отражать малейшие колебания в жизнен-
ном укладе и массовом социально-психологическом настрое
самых широких слоев населения страны. Вот почему их
нередко и полностью оправданно называют энциклопедией
жизни китайцев в цинскую эпоху.
Такова общая схема генезиса и истории развития нянъ-
хуа и основные типологические особенности этого вида
графического искусства Китая. Однако традиция вовсе не
однородна и однотипна, и в ней тоже прослеживается
несколько направлений и школ, серьезно различающихся
по стилистике и тематике произведений. Следует сразу
же предупредить, что изучение истории развития нянъ-
хуа и создание их классификаций максимально осложня-
ется проблемой атрибуции произведений. Они не имеют,
как правило, подписи изготовителя, даты или каких-либо
других выходных данных. К тому же в выпускающих их
мастерских нередко в течение длительного периода ис-
пользовались одни и те же клише, a новые доски явля-
лись копиями прежних трафаретов. Поэтому время и мес-
то выпуска каждой отдельной простонародной картины
чаще всего определяется по характеру рисунка, нюансам
внешнего облика персонажей и набору изображенных пред-
метов и деталей окружающей действительности, a также
по качеству бумаги, красок и тому подобным признакам,
нередко косвенным или даже случайным. Тем не менее
имеющиеся на сегодня данные позволяют восстановить
целостную картину бытия и состояния нянъхуа на протя-
жении цинской эпохи.
Общепризнано, что расцвет данного вида изобразитель-
ного искусства Китая приходится на вторую половину
XVIII в., когда сформировались ведущие художественные
типы няньхуа и, кроме того, их создатели перешли от
только копирования прежних образцов к творческому вос-
произведению прежних тем и сюжетов и, самое главное,
вплотную приблизились к всестороннему охвату совре-
менной им повседневной реальности. Именно с этого вре-
мени отчетливо прослеживаются две магистральные сти-
листические традиции няньхуа, вновь выделяющиеся по
своей региональной принадлежности — «южная» и «се-
верная». «Южная» традиция связана, прежде всего, с ра-
ботой мастерских Таохуау и Гусубанъ в г. Сучжоу, нахо-
дящемся, напомним, в современной провинции Цзянсу, в
прибрежной зоне оз. Тайху.
Таохуау — название одного из районов в этом городе,
где издавна процветали различные художественные ре-
месла и народные промыслы — изготовление вееров, бу-
мажных фонарей и цветов и многих других предметов
массового спроса. Дальнейшему подъему художественно-
ремесленной деятельности в Сучжоу способствовало и гео-
графо-экономическое положение этого города. Находящий-
ся вдали от метрополии и основной арены историко-поли-
тических событий, он за период краха минской империи
и утверждения цинского правящего дома превратился в
один из ведущих торгово-ремесленных центров страны.
He менее важно, что Сучжоу входил в число и ведущих
живописных центров. Показательно, что само название
квартала — дословно «Цветущие персиковые деревья»,
прямо ассоциируется с личностью знаменитого минского
художника Тан Иня: здесь находилась его летняя усадьба
с персиковым садом, где он любил проводить свободное
время. Уже к XVII в. в мастерских Таохуау сложилась
настоящая школа няньхуа, в основании которой лежала
минская художественная гравюра и которая испытала на
себе также влияние других близлежащих живописных
центров — Нанкина, Янчжоу, Ханчжоу. Все это обусло-
вило особенности техники и стилистики местной просто-
народной картины, которая отличается изяществом рисун-
ка и сдержанностью цветовой гаммы с соблюдением в ней
тональных оттенков. На протяжении без малого двух с
половиной столетий (до середины XIX в.) мастерские Тао-
хуау были одним из основных поставщиков няньхуа на
рынок всего южного региона Китая, превратившись в по-
добие производственных цехов. Каждая из них имела вну-
шительный штат подмастерьев и подсобных рабочих, воз-
главляемых ведущим мастером-художником, a также соб-
ственные лавки и торговых агентов. Они располагали и
именными печатями, оттиски которых ставились обычно в
левом нижнем углу картины.
Мастерские Гусубанъ (от древнего названия Сучжоу —
Гусу) возникли в качестве центра выпуска няньхуа в кон-
це XVII — первой трети XVIII в., и тоже дали жизнь
целой художественной школе. Она принципиально отли-
чается от школы Таохуау, равно как и почти от всех
других региональных производств нянъхуа, преимуще-
ственным обращением к европейской гравюре. Болынин-
ство выпускаемых здесь картин были выполнены с клише,
подражающих европейской штриховой гравюре на меди, и
представляют собой подобие видовых композиций на темы
городской и пригородной жизни. При этом в них отчетливо
прослеживаются результаты воздействия как националь-
ной, так и европейской живописи. Пространственное по-
строение городских и пейзажных видов обычно подчиняет-
ся китайским правилам перспективы: наличие «кулис»,
дальний план, заполненный изображениями скрывающих-
ся в облаках горных цепей, небесный простор с облаками.
Но при воспроизведении видов городских улиц и строений
местные художники стремились использовать европейские
приемы перспективы и светотени. В целом, в школе Гусу-
бань была продолжена разработка няньхуа жанрово-быто-
писательного содержания с повышением их художествен-
ного уровня и приглушением присущих данному художе-
ственному виду декоративности, символизма и условности.
Подобная стилистическая специфика произведений этой
школы предопределила ее недолговечность. Еще в начале
XIX в. гусубаньские мастерские почти полностью прекра-
тили свое существование.
Для «северной» традиции няньхуа ведущим художе-
ственным центром полагаются мастерские селения Янлю-
цин, находившегося в окрестностях г. Тяньцзинь — перво-
очередного на тот момент портового и торгово-промышлен-
ного центра столичного региона. Поэтому вполне ожидаемо,
что определяющее влияние на эту школу няньхуа оказала
академическая живопись и порожденная ею столичная ху-
дожественная гравюра, через которые янлюцинские масте-
ра восприняли немало черт, свойственных стилистике юж-
носунского, юаньского и минского официального изобра-
зительного искусства. Их произведения также отличаются
тщательностью исполнения и с болыним вкусом выдер-
жанной цветовой гаммой.
Во второй половине XIX в. выпуск няньхуа был нала-
жен во многих деревенских самодеятельных мастерских.
Из таких локальных производств особо выделяются мас-
терские, сосредоточенные в уезде Вэйсянь провинции Шань-
дун, продукция которых обычно тоже рассматривается в
качестве отделыюй региональной подтрадиции или шко-
лы, называемой «вэйские картины» (вэй нянъхуа). Мест-
ные мастера, ориентировавшиеся уже исключительно на
финансовые возможности и вкусы низового крестьянского
населения, отказались от тщательного исполнения картин,
старясь привлечь зрителя занимательностью сюжета и яр-
костью красок с сочетанием контрастных — синего, крас-
ного, зеленого и желтого тонов. Рисунок этих няньхуа от-
личается лаконичностью и резкостью.
Стилистические особенности «вэйских картин», будучи
обусловленными местными социально-культурными реа-
лиями, тем не менее находились в русле общих для няньхуа
художественных тенденций. В XIX в. наблюдается их не-
уклонная стагнация и деградация, выражающаяся в пер-
вую очередь в ухудшении качества их исполнения. Если в
первой половине Цин почти все нянъхуа, независимо от
места выпуска и принадлежности к конкретной художе-
ственной школе, печатались на высокосортной, мягкой и бе-
лой, бумаге и раскрашивались живописными — на расти-
тельной и минеральной основе — красками, то в XIX в.
начался активный поиск способов удешевления их изготов-
ления. Мастерские вначале перешли на более дешевую, фаб-
ричного производства, японскую бумагу — тонкую, желто-
ватого оттенка, с глянцем на одной стороне, a затем на
низкосортные местные сорта, грубые и с шероховатой по-
верхностью. Качество красок тоже ухудшилось. Исчезли из
употребления красивые карминно-красная и зеленая (во вто-
рой половине XIX в.) краски. В практику вошло использо-
вание тоже дешевых, привозных европейских красок, к ко-
торым подмешивались белые квасцы. В конце XIX — нача-
ле XX в., не выдержав конкуренции с литографией и
гравюрой на меди, исполняемых по европейскому образцу,
няньхуа перешли на олеографический способ исполнения,
что привело к утрате их былого художественного уровня и
торжеству безвкусного шаблона. Однако в это же время
наметилась и противоположная тенденция — рост интере-
са к простонародной картине профессиональных художни-
ков, усмотревших в ней воплощение народного творчества
и исконных национальных художественных традиций,
столь необходимых им в момент нарастания антиимпер-
ских, антиманьчжурских и революционно-демократических
настроений. В няньхуа начали работать многие представи-
тели «новой» живописи, лидером которых в данном случае
считается художник Е Цянъюй (1907 г. рожд.), ставший
впоследствии крупным мастером гохуа, художником-муль-
типликатором, книжным иллюстратором. Его авторству при-
надлежит самое знаменитое в свое время произведение нянь-
хуа — композиция «Великое объединение народов Китая»,
изображающая Mao Цзэдуна за праздничным столом в
окружении представителей всех национальностей и на-
родностей, проживающих на территории Китая. Компо-
зиция выполнена в русле советского «социалистического
реализма». He обсуждая ее действительных художествен-
ных достоинств, отметим лишь, что она еще раз подтвер-
ждает необыкновенную стилистическую и тематическую
гибкость няньхуа. Новому расцвету простонародной карти-
ны способствовала и ее роль в культурно-идеологической
жизни китайского общества в периоды антияпонской и граж-
данской войн 1937-1949 гг., когда она использовалась для
выпуска агитационных материалов. Она продолжила свое
бытие и в искусстве КНР, хотя ксилографический способ ее
исполнения сменился типографическим, a стилистика, те-
матика и образность претерпели очередную качественную
трансформацию. Тем не менее старые нянъхуа постоянно
воспроизводятся и варьируются как в современных художе-
ственных произведениях, так и в поздравительных открыт-
ках, сувенирной продукции и в иконописных картинах,
связанных с даосской религиозной обрядностью.
Из приведенного обзора истории развития и главных
художественных направлений и школ няньхуа, уже, дума-
ется, становится понятным, что простонародная картина
обладала и болыпим жанрово-тематическим разнообразием.
ЖАНРОВЫЕ Нянъхуа с трудом поддаются жанрово-тематическим
И ТЕМАТИЧЕСКИЕ дефинициям в силу, с одной стороны, использования в
РАЗНОВИДНОСТИ различных художественных контекстах одних и тех же
НЯНЬХУА мотивов и образов, a с другой — смысловой полифонии
всех изобразительных средств. Так, изображения прослав-
ленных деятелей национальной истории и литературных
героев могут присутствовать и в картинах иллюстративно-
го характера, и воспроизводящих театральные постанов-
ки, и имеющих откровенный назидательный смысл, про-
истекающий из конфуцианских регламентаций. Поэтому
все предлагаемые в научной литературе варианты их жан-
рово-тематической типологии достаточно условны. Тем не
менее во всех этих вариантах так или иначе признается
подразделение простонародной картины по меньшей мере
на 8 относительно самостоятельных жанрово-тематических
групп, каждая из которых обладала собственным образ-
ным набором и стилистикой. Это: 1) картины на религиоз-
ные темы; 2) картины благопожелательного содержания;
3) картины на историко-литературные темы; 4) «театраль-
ные» картины; 5) картины познавательно-назидательного
характера; 6) картины бытописательного характера; 7) ви-
довые картины; 8) картины на политические темы.
К первой группе относятся прежде всего собственно
иконы, о которых мы уже имеем некоторое представле-
ние. К сказанному об особенностях иконографии персона-
жей и художественному своеобразию такого рода икон
добавим, что, помимо нянъхуа, воспроизводящих отдель-
ных персонажей или персонажей со свитскими, широкое
распространение в Китае имели также «групповые» ико-
ны. Типологически сопоставимые с божницей или иконо-
стасом, они включают в себя до ста и более изображений
различных божеств, которые располагаются в несколько
(до 10 ярусов, см. вклейку) в соответствии с их местом в
иерархии данного пантеона. Чаще всего такие иконы име-
ют смешанное, с точки зрения религиозной принадлежно-
сти, содержание, воспроизводя персонажей буддийского,
даосского и популярного божественного пантеонов. Вот,
например, икона «Девять будд и божества, властвующие
над Небом и Землей» («Тянъ ди цзю фо чжу шэнъ», из
коллекции Эрмитажа). На ней представлены 54 изображе-
ния, расположенные в пять ярусов. Верхний ярус состоит
из изображений Будды (в центре) и 8 будд и бодхисаттв,
включая Гуаньинь, размещенных симметричными пар-
ными группами по сторонам от него. Второй ярус занима-
ют даосские Три достопочтенных, слева от которых пока-
заны 12 духов, персонифицирующих знаки зодиака, a сле-
ва — так называемые «Божества одиннадцати великих
лучей». В третьем ярусе, в центре, находятся изображе-
ния Нефритового императора, божества Земли (в муж-
ской его ипостаси) Хоу-ту и еще незнакомого нам Духа
Звезды, падающей по смерти императора (Цзычжэн-син).
Слева и справа от них находятся божества и духи Север-
ной и Южной Медведицы. В четвертом ряду — Три небес-
ных министра в окружении Государя Гуаня (вместе с его
662
сыном и адъютантом) и Бога богатства (тоже со свитски-
ми). Нижний ярус отведен для Владык ада и их помощни-
ков. Подобная эклектичность групповых икон как нельзя
лучше отражает синкретизм популярных верований и, кро-
ме того, отвечает ментальности старого китайского кресть-
янства, в которой причудливо сочетаются набожность и
практичность. Гораздо удобнее и выгоднее, в финансовом
отношении, было поклоняться и приносить жертвоприно-
шения сразу всем сколько-нибудь могущественным боже-
ствам и духам, чем тратиться на покупку их отдельных
икон и на посещение разных святилищ.
К данной тематической группе правомерно относить
также картины охранительного характера, так как, не бу-
дучи, подобно иконам, объектами непосредственного по-
клонения, они все же наделялись повышенными религиозно-
магическими свойствами.
Картины благопожелательного характера отличаются
от произведений первой разобранной группы прежде всего
тем, что в них обычно изображались не сами божественные
персонажи, a их свитские, атрибуты либо же предметы,
которые вообще не входили в собственно иконографичес-
кую образность — тот же плод граната (символ многочис-
ленного мужского потомства), и приобрели благопожела-
тельное значение благодаря исключительно своей омони-
мичности с соответствующими иероглифами: например,
музыкальный инструмент шэн — омоним шэн — «рождать-
ся». Благопожелательный смысл этих картин нередко под-
черкивается их стилистикой и колористическим решени-
ем, чему, кстати, не придавалось столь важного значения
при исполнении собственно икон: как мы помним, они,
особенно иконы покровителей домашних животных, могли
выполняться в предельно грубой и примитивной манере.
A картины благопожелательного характера должны были
привносить в дом атмосферу радости и как бы предвосхи-
щать или упрочивать своей красотой семейное благополу-
чие. С особой тщательностью исполнялись рисунки детей —
надежды и гордости любой семьи. Они обязательно пока-
зывались упитанными, беззаботно резвящимися (в случае
исполнения групповых сцен) и в нарядных одеждах, с ис-
пользованием ярких цветовых сочетаний: например, кос-
тюмчик оранжевого цвета, красные туфельки и ленточки,
черно-зеленый узор на фартуке.
Отличительной (хотя и необязательной) особенностью
картин на историко-литературные темы является стремле-
ние воспроизвести сюжетную канву повествования, что де-
лалось посредством его разбивки на серию композицион-
ных фрагментов, воспроизводящих различные эпизоды дан-
ного сюжета. Такой ход был подсказан нянъхуа книжной
иллюстрацией, которая в свою очередь использовала опыт
ранней станковой живописи и через нее — древнего погре-
бального искусства. Так, на первый взгляд совершенно не-
ожиданно, учитывая разницу во времени, в простонарод-
ной картине ожили элементы древнейшего национального
художественного творчества. В каждом композиционном
327 Ее заменяли несколько
предметов мебели — стол, ска-
мья, стулья, которые исполь-
зовались как по прямому на-
значению, так и в качестве
условных приспособлений, по-
могающих зрителям предста-
вить нужную ситуацию. Для
передачи разговора генерала
с защитниками осажденной
крепости актер, играющий эту
роль, взбирался на стол, на
котором громоздились табуре-
ты, и перед зрителями сразу
же возникал образ крепост-
ной стены. Стул, положенный
на землю, и весло в руке ак-
тера, изображающего краса-
вицу-деву, означали героиню,
плывущую по широкой реке
в роскошной лодке. Отсюда
первоочередное значение при-
давалось гриму, костюму и
жестам актеров. Все это вос-
производится и в нянъхуа.
фрагменте создатели произведения старались с помощью
лаконичных и хорошо знакомых зрителю живописных
средств (той же образной системы и иконографических ат-
рибутов) показать узловые моменты сюжета и раскрыть
определяющие черты внешнего облика и характера дей-
ствующих лиц. Подобная лаконичность приучила нянь-
хуа с предельным вниманием относиться к любой детали
рисунка и наделять его как можно болыними выразитель-
ностью и смыслом. Наряду с няньхуа «повествовательно-
го типа» исполнялись также условнопортретные изобра-
жения исторических лиц, деятелей культуры (поэтов, фи-
лософов, художников) и литературных героев, но тоже в
виде сцен, воспроизводящих эпизоды из их жизни, ле-
генд о них и литературных сюжетов. He меньшей попу-
лярностью пользовались и нянъхуа на темы легенд и пре-
даний, которые не получили воплощения в художествен-
ной словесности, a циркулировали в устном народном
творчестве, в том числе в виде песенно-повествовательных
произведений, исполнявшихся сказителями. Данная жан-
рово-тематическая группа няньхуа играла огромную про-
светительскую и образовательную роль, знакомя неграмот-
ное население с национальной литературой и культурно-
литературным наследием.
Близкими по своей культурной функции, стилистике и
набору сюжетов и персонажей к картинам на историко-
литературные темы являются и «театральные» нянъхуа,
воспроизводящие сценические представления. Данная груп-
па вообще оказывается самой популярной среди зритель-
ской аудитории, после икон и картин благопожелательно-
го характера, что объясняется исключительной популяр-
ностью в Китае самого по себе театра в различных его
формах — от собственно театральных постановок до все-
возможных театрализованных зрелищ и увеселений, не-
пременно входивших в праздничную обрядность. Так как
основное место в репертуарах театральных трупп и бродя-
чих исполнителей занимали пьесы на историко-литератур-
ные темы и инсценировки тех же литературных произведе-
ний и преданий, в «театральных» нянъхуа фигурируют, в
сущности, те же самые, что и в предыдущей группе, персо-
нажи. Однако они тоже обладают собственной стилисти-
кой, обусловленной отличительными чертами сценическо-
го действия. Воспроизводятся эпизоды именно театраль-
ных постановок, a все действующие лица показываются в
сценическом костюме и в гриме. Композиция произведе-
ний тоже полностью подчиняется свойственной китайско-
му театру условности, где нет ни занавеса, ни кулис, ни
декораций, ни бутафории в привычном для европейского
театрального зрителя виде327. В результате «театральные»
картины тоже избегали введения в их композицию кон-
кретных предметов и изображений реалий окружающей
действительности, ограничиваясь, в лучшем случае, их ус-
ловно-стилизованными рисунками. Зато повышенное вни-
мание при воспроизведении персонажей уделялось их кос-
тюму, гриму и жестам (см. вклейку).
664
Вместе с тем эти нянъхуа отнюдь не являются механи-
ческим копированием театральных сцен. Трактовка теат-
рального сюжета, принципы компоновки персонажей и
окончательное цветовое построение картины зависели от
творческого замысла художника с единственным только
условием — чтобы все его новации и отступления не пре-
пятствовали узнаванию исходного театрального действа.
Еще одна специфическая по сравнению с театром черта
«театральных» нянъхуа — введение в якобы сценическое
действие детей и изображение сцен, разыгрываемых толь-
ко детьми. Будучи абсолютно чужеродной собственно теат-
ру, эта черта сближает «театральные» нянъхуа с картина-
ми благопожелательного характера, придавая им дополни-
тельную привлекательность в глазах покупателя, который
таким образом мог обойтись покупкой одной картины вме-
сто двух. С точки зрения их композиции, «театральные»
няньхуа тоже подразделяются на несколько типов: воспро-
изводящие целостное сценическое действие, оказываясь при
этом своего рода его графическим либретто, отдельный его
эпизод и единственного действующего персонажа.
Картины познавательно-назидательного характера нацеле-
ны исключительно на пропаганду конфуцианских морально-
этических ценностей и устоев. Эта задача может решаться
через воспроизведение нескольких сцен (в рамках одной
картины), иллюстрирующих конфуцианские «добродетели»,
например серии на тему «сыновней почтительности». В каж-
дом ее композиционном фрагменте воспроизводится тот
или иной исторический, литературный или легендарный
персонаж, совершивший «добродетельный» поступок по от-
ношению к живым или покойным родителям328. Другой
художественный тип няньхуа разбираемой группы — про-
изведения, напоминающие бытописательные композиции и
воспроизводящие сцены трудовой деятельности, семейные
сцены или своего рода клановый групповой портрет. Все
они призваны наглядно показать действенность конфуциан-
ских регламентаций и призывов329. Очень часто, как и в
няньхуа благопожелательного характера, подчеркивается ма-
териальное благополучие такой семьи: просторные, с кра-
сивой мебелью и интерьерными украшениями помещения
дома, богатые, но без лишней роскоши наряды его обитате-
лей, жизнерадостные дети330. Нередко, помимо живопис-
ных изображений, во всех типах няньхуа данной группы
присутствуют надписи, порою весьма пространные: изрече-
ния Конфуция, цитаты из конфуцианских канонических
книг, жизнеописания конфуцианских мыслителей или про-
сто декларации или афоризмы. Примечательно, что сам Кон-
фуций, сцены из его жизни или его учеников в простонарод-
ной картине, как правило, не воспроизводились.
Картины бытописательного характера отличаются от
благопожелательных и назидательных нянъхуа несколько
большим разнообразием воспроизводимых в них сцен, ко-
торые не столь умозрительны и не имеют бросающегося в
глаза благопожелательного или конфуцианско-морализую-
щего смысла. Хотя, разумеется, на уровне подтекста такой
328 Например, мальчик ра-
стопивший слезами лед на
реке, чтобы поймать рыбку,
выполняя желание тяжело
больного отца отведать ухи.
Или молодой супруг, кото-
рый столь истово ухаживал
за статуэтками покойных ро-
дителей, что вызвал раздра-
жение своей жены. He сдер-
жавшись, она уколола стату-
этки иглой, и из них закапала
кровь.
329 Так, в групповом порт-
рете воспевается патриархаль-
ное семейство: его глава, бла-
гополучно доживший до пре-
клонного возраста и теперь
наслаждающийся радостями
семейного уюта, его сыно-
вья — все достигшие служеб-
ных успехов (на что указыва-
ют их одеяния), внуки, сдав-
шие или собирающиеся сдать
государственный экзамен. Се-
мейные сцены воспроизводят,
естественно, эпизоды из жиз-
ни тоже патриархального и
«добродетельного» семейства:
все его члены занимаются по-
сильным трудом, свекровь ла-
дит с невестками.
330 В интерьерный вид, как
правило, вводится и изобра-
жение кабинета для занятий,
передающего идею образова-
ния и учености. В кабинете
могут показываться и другие
аналогичные по смыслу де-
тали: этажерка с древними
сосудами, каллиграфический
свиток на стене, письменные
принадлежности и книги на
столе и т. д.
665
331 Впрочем, «красавиц»
охотно приобретали и мужчи-
ны, особенно юноши, предпо-
читавшие лицезреть на стенах
своего жилища юных прелест-
ниц, чем назидательные жи-
вописные повествования или
условно-слащавые сцены. Тем
более что в такие картины не-
редко включались образы-
эротизмы, намекающие на
чувственность героини и ее
искушенность в альковных
похождениях.
смысл почти всегда присутствует. Самым специфическим
отделом этой жанрово-тематической группы выступают
картины в стиле «красавицы». В отличие от одноименно-
го тематического направления станковой живописи в них
воспроизводятся не легендарные героини прошлого, a co-
временные авторам и зрителям нянъхуа женские персона-
жи, которые являются собирательным образом «богатой
красавицы» — дочери и жены чиновников, преуспеваю-
щих торговцев, a co временем промышленников, банков-
ских служащих, — словом, все те «дамы света», о жизни
которых грезила вся женская часть низового населения
Китая. Персонажи могли показываться в групповых сце-
нах: гуляющими в саду, беседующими, поодиночке, на
фоне городского вида (желательно магазинов с богатыми
витринами) или в будуаре, где ухаживали за собой или
томно возлежали на кушетке, но обязательно внешний
вид и антураж соответствовали сиюминутным капризам
моды, как они, естественно, виделись самим художникам
(см. вклейку). В результате такие картины служили для
сельских жительниц своеобразными журналами мод, из
которых черпались сведения, как следует причесываться,
одеваться, какие украшения носить и как лучше всего
ухаживать за собой331.
Видовые картины включают в себя пейзажи, выполняе-
мые обычно по образцам станковой живописи, произведе-
ния с сельскими (деревня) и городскими видами, a также
изображающие архитектурные памятники. Понятно, что
данная группа служила заместителем живописных кар-
тин, a потому пользовалась спросом y незначительной час-
ти населения, которая старалась подражать обычаям «зна-
ти», но не имела возможности купить настоящий нарисо-
ванный свиток. Тем не менее и здесь в нянъхуа были освоены
собственные приемы передачи окружающей действитель-
ности, включая ландшафтный вид. Пейзажи на простона-
родной картине тоже обычно состоят из скал, речного по-
тока и очертания гор, но показаны заметно в более прибли-
зительной и условной манере, чем в живописи. A bot
деревенские и сельсжие виды оказываются чаще всего очень
достоверными и жизненными, особенно в тех случаях, ког-
да художник передавал колорит деревенской или городской
жизни, нередко с юмором, через изображение отдельных,
тонко подмеченных деталей: осыпавшаяся штукатурка, про-
растающая трава на глинобитных стенах, заплатанные кры-
ши. Всем видовым нянъхуа свойственны строгие границы
композиции, которые обычно определяются специальным
обрамлением, придающим произведению художественную
завершенность.
Первая волна подъема нянъхуа на политические темы
была вызвана Тайпинским восстанием. Его вожди и идео-
логи быстро оценили пропагандистские возможности про-
стонародной картины, которая была единственным, в сущ-
ности, видом национального изобразительного искусства,
способным донести до неграмотного населения любую ин-
формацию и разъяснить ему идейные призывы повернуть
666
его настроение в нужную сторону. Получившие название
«картины длинноволосых» (чанмао нянъхуа, тайпины в
знак неповиновения властям носили распущенные воло-
сы), агитационные няньхуа расходились по всей стране,
доходя и до Пекина332. В дальнейшем практика их созда-
ния, как отмечалось, была возобновлена в период анти-
японской войны.
Итак, мы видим, что няньхуа действительно представ-
ляли собой полноценный и самобытный вид китайского
графического искусства, который по древности своих худо-
жественных истоков, тематическому разнообразию и бо-
гатству изобразительных средств и приемов мало в чем
уступал станковой живописи. В то же время именно нянь-
хуа сыграли роль своего рода связующего звена между
элитарным и низовым художественным творчеством. Та-
кую же роль играли и многие виды декоративно-приклад-
ного искусства, которые с равным успехом реализовыва-
лись и в формах, присущих официальному искусству, и в
виде народных промыслов. Но прежде нам предстоит по-
знакомиться еще с одним мощным пластом художествен-
ного наследия Китая — буддийским культовым изобрази-
тельным искусством, знание иконографических принци-
пов которого еще не дает представления о его полном
художественном масштабе.
332 Среди таких агитаци-
онных няньхуа было немало
картин антиевропейского со-
держания, например, сцена в
христианском храме, с обни-
мающимися европейскими па-
рами на скамьях и распятие
со свиньей.
КИТАЙСКО-БУДДИЙСКОЕ
КУЛЬТОВОЕ
ИЗОБРАЗИТЕЛЫЮЕ
ИСКУССТВО
Китайско-буддийское культовое изобразительное искус-
ство представлено поистине астрономическим числом
скульптурных и живописных (в первую очередь стенопи-
си) произведений, которые входят в художественное оформ-
ление разного типа святилищ (монастыри, храмы, кумир-
ни), a также домашних молелен и алтарей.
Напомним, что древнейшие скульптурные изображе-
ния Будды относятся еще к ханьской эпохе, a храмовая и
алтарная скульптура активно, что подтверждается и
археологическими материалами, изготавливалась уже в
IV-V вв. Наиболее же масштабными и самыми показатель-
ными во всех аспектах китайско-буддийскими художествен-
ными памятниками признаны пещерные монастыри и
скалъные храмы.
Пещерные монастыри представляют собой комплекс
естественных или вырубленных пещер, которые служили
местом обитания монашествующих и проведения литурги-
ческих церемоний. Скальные храмы тоже состоят из пе-
щер, a также ниш и гротов, вырубленных в скальной поро-
де, но они никогда не служили собственно помещениями и
предназначались для прославления Учения. Во многих
скальных храмах находятся гигантские по размеру статуи,
которые размещены так, чтобы их можно было видеть с
предельно далекого расстояния. Кроме того, скальные хра-
мы возводились, как правило, не сангхой, a мирянами,
которые заказывали и оплачивали создание отдельных их
фрагментов (пещер, гротов, ниш) во исполнение данных
ими обетов и в знак почитания Учения. Истоки обоих клас-
сов памятников восходят к индо-буддийской культуре и
обрядности — к местным пещерным монастырям вихара и
святилищам чайтия, традиция которых пришла в Китай
из Северной Индии и через Центральную Азию (Кушан-
скую империю). Поэтому неудивительно, что с наиболь-
шей активностью они изначально возводились в Северном
Вэй, где находятся самые масштабные и известные памят-
ники такого рода.
Самым грандиозным и представительным памятником
в истории китайско-буддийского культового изобразитель-
ного искусства является пещерный монастырь Могао. Та-
кое терминологическое обозначение было введено в науч-
ный оборот относительно недавно. До этого он обычно име-
новался Дунъхуан или Цянъфодун («Пещеры тысячи Будд»).
Дуньхуан — название города, расположенного в северо-
восточной окраине провинции Ганьсу, который был осно-
ван еще во второй половине II в. до н. э. в качестве погра-
ничного пункта на маршруте Великого китайского пути.
Пещерный монастырь Могао вырублен в восточном склоне
скального массива (из отвердевших лёссовых почв) Мин-
шашанъ, расположенного в 25 км к юго-востоку от этого
города. Согласно письменным источникам, он начал свое
существование во второй половине IV в., когда — в 353
или 366 г. — была вырублена первая входящая в него пе-
щера (по частной инициативе поселившегося там буддий-
ского монаха, предположительно выходца из Центральной
Азии). В то время Дуньхуан и его окрестности оказались
входящими в территорию кратковременного северного «вар-
варского» царства, a с 440 г. — в территорию Северного
Вэй. С конца VIII в. он вновь оказался вне прямого подчи-
нения китайским властям. В 781 г. этот район был окку-
пирован тибетцами, с середины IX по первую треть XI в.
был зоной владычества местных военных лидеров, a c 1035 г.
стал частью владений тангутского государства Си Ся. Не-
смотря на все эти историко-политические перипетии, строи-
тельство Могао практически непрерывно продолжалось в
течение указанных веков. Известно, например, что только
при Тан в нем было создано около 1000 пещер. В момент
тангутского нашествия часть пещер была замурована, что-
бы сберечь монастырские ценности — литургическую ут-
варь и библиотеку. Но тангутские, a затем и монгольские
власти продолжили возведение монастыря. Таким обра-
зом, Могао — это памятник, который воплотил в себе буд-
дийское культовое изобразительное искусство в самых раз-
ных его этнокультурных, региональных и хронологиче-
ских вариантах.
После Юань этот пещерный монастырь был заброшен и
засыпан оползнями. Его новое открытие состоялось весной
1900 г. по чистой случайности: проживавший в одной из
уцелевших его пещер даосский отшельник обнаружил в
стене своей обители замурованный проход и на свой страх
и риск вскрыл его, попав в пещеры-хранилища, в которых
были собраны книги и живописные произведения333.
Подлинное значение Могао как художественного па-
мятника выяснилось уже в ходе археологических и рестав-
рационных работ, которые активно ведутся там начиная с
50-х гг. прошлого века. К настоящему времени открыты и
полностью либо частично восстановлены 492 пещеры, об-
щая протяженность которых составляет 1700 м. Из них
32 пещеры относятся к Северному Вэй (самая ранняя дати-
руется 513 г.) и последующим кратковременным царствам
(Западное Вэй и Северное Чжоу). Остальные — к эпохам
ПЕЩЕРНЫЕ
МОНАСТЫРИ
333 Всего там оказалось, как
это выяснилось позже, около
40 000 рукописных свитков,
включая не только буддий-
ские сутры, но и конфуциан-
ские и даосские книги, лите-
ратурные (поэтические и про-
заические) произведения, a
также хозяйственные записи,
которые позволили выявить
немало существенных подроб-
ностей, касающихся как мо-
нашеской жизни, так и хозяй-
ственно-экономического уклада
всей страны. В 1907-1914 гг.
Дуньхуан и Могао посетили
английская, французская и
российская (во главе с выдаю-
щимся отечественным востоко-
ведом — академиком Ф. Оль-
денбургом) научные экспеди-
ции, которым удалось вывезти
в Европу и Россию порядка
2000 рукописей и живопис-
ных произведения. Рукописи,
попавшие в Россию, были вы-
делены в специальную коллек-
цию, которая в настоящее вре-
мя хранится в Санкт-Петер-
бургском филиале Института
востоковедения РАН, и слу-
жит важнейшим источником
для различных дисциплинар-
ных китаеведческих исследо-
ваний.
669
• ".уДДугм—ч—
Пещерный монастырь
Могао
a — общий вид; б — северовэй-
ские стенописи.
Суй, Тан, Пяти династий, к периоду владычества тангут-
ского государства Си Ся и к началу эпохи Юань. Всего в
них содержится 2400 скульптурных изображений, порядка
450 000 м2 стенописей, a также внушительное число выпол-
ненных из глины архитектурных сооружений и деталей.
Пещеры Могао еще раз подтвердили, что начальный пе-
риод формирования китайско-буддийского культового изоб-
разительного искусства приходится на IV-VI вв. и что он
ознаменовался постепенным слиянием чужеземных и ки-
тайских художественных традиций. В центре северовэйских
пещер обязательно находится колонна-опора в виде пагоды,
восходящая из центрально-азиатского зодчества к собствен-
но индийским архитектурным формам. В верхней части стен
(как правило, южной и северной) расположены по три высо-
ких ниши с единичными скульптурами Будды или бодхи-
саттв. Они выполнены из глины, с последующей росписью,
что роднит их с китайской погребальной пластикой. Ниши
имеют дополнительное пластическое оформление, воспроиз-
водящее оконные обрамления и другие архитектурные эле-
менты, которые тоже выполнены в стиле центрально-азиат-
ского или индийского зодчества. Основная часть стен по-
крыта стенописями в виде горизонтальных фризов.
По тематике росписи распадаются на две группы: еди-
ничные иконописные изображения Будды и бодхисаттв и
сюжетные сцены на тему джатак (повествований о 550 пред-
шествующих рождениях Будды). Все они выполнены темно-
коричневыми линиями (исходно — красная краска на ос-
нове киновари, которая потемнела от времени) и по красно-
коричневому фону. Hoc выделен белой линией, идущей ото
лба. Обнаженные части тела показаны посредством светло-
бежевой краски, детали одеяния окрашены в темно-зеле-
ный или ярко-зеленый, приближающийся к бирюзовому,
цвета (см. вклейку). Подобная стилистическая манера и
цветовая гамма являются несомненным заимствованием из
центрально-азиатского искусства. Общие иконографические
схемы росписей и художественные трактовки главных пер-
сонажей были тоже со всей очевидностью почерпнуты из
центрально-азиатской пластики и иконографии. Однако рос-
писи иллюстративного характера делались уже, видимо,
не по привезенным художественным образцам, a на основа-
670
нии литературных описании и исходя из художественного
опыта самих мастеров. Кроме того, сама по себе фризовая
композиция росписей тоже позволяет говорить о влиянии
китайских живописных традиций. Получается, что, будучи
производным от индийского и центрально-азиатского куль-
тового искусства, китайско-буддийский изобразительный
канон с самого начала складывался с опорой на местные
художественные реалии.
Подобная стилистическая неоднородность прослежива-
ется для всех пещер VI в. (см. вклейку). Оформление ал-
тарных ниш и живописные композиции на основных ча-
стях стен выполнены в них по некитайским образцам. Рос-
писи же на цокольных частях стен и на потолках по
тематике, образности и манере исполнения тяготеют к ки-
тайским стенописям в том виде, в каком они известны в
танских погребениях. Для многих второстепенных деталей
росписей обнаруживаются сасанидско-иранские истоки, на-
пример красный фон росписи, введение в нее цветочных
орнаментов, напоминающих растительные мотивы на саса-
нидских тканях, «геральдические» фигуры людей и жи-
вотных (оленей), головные уборы правителей, однозначно
воспроизводящие короны сасанидских царей. В манере мо-
делирования объема фигур, оттененных толстым конту-
ром, угадываются индийские живописные истоки. Такая
художественная полифония объясняется еще и тем, что
над росписями наряду с чужеземными трудились и мест-
ные мастера, которым поручалось исполнение живопис-
ных композиций на второстепенных участках поверхности
пещеры (цокольная и потолочная части)334.
Художественное оформление пещер суйского времени
оказывается своего рода рубежом между северовэйским и
танским этапами в истории китайско-буддийского культо-
вого изобразительного искусства. Центральная колонна-опора
исчезла. Типичной стала пещера квадратной формы с по-
толком в виде усеченного конуса. Ниши со скульптурами
теперь исполнялись на задней стене. Начала утверждаться
напольная монументальная скульптура — вначале трехфи-
гурные композиции из изображений Будды и двух бодхи-
саттв, размещенных на одном постаменте, затем — группы
из 7-9 персонажей. Все эти тенденции продолжили свое
развитие в художественном оформлении пещер танского вре-
мени, сопровождаясь увеличением размеров скульптур и
ростом их художественного уровня. Самая крупная из тан-
ских скульптур — фигура Будды Майтреи, выполненная в
713-741 гг. и приписываемая художнику Ma Сьгажуну, имеет
в высоту 26 м. Основные контуры этого изваяния были вы-
сечены из скального массива, затем покрыты слоем глины,
по которому и было произведено раскрашивание.
В конце Тан ниши были заменены алтарем, вынесен-
ным в середину пещеры, a освободившаяся задняя стена
стала покрываться тоже росписями. Параллельно наблю-
дается неуклонное значение живописных изображений, по-
степенно вытеснивших почти полностью скульптуру. Боль-
шая часть изваяний Могао относится именно к VI-VIII вв.
334 Отдельного разговора
заслуживают росписи на пей-
зажные темы — изображения
реки, долины, горной цепи,
которые обычно дополняют
собой композиции иллюстра-
тивного характера. Они не
только занимают важное мес-
то в художественном оформ-
лении самих пещер, но и по-
казывают возможную стилис-
тическую динамику китайской
станковой пейзажной живопи-
си на начальном этапе ее раз-
вития. В росписях, относя-
щихся к первой половине
VI в., пространство замыка-
ется горами и показывается в
качестве изолированного и пре-
дельно конкретного места —
там, где происходит действие
картины, что полностью со-
впадает с повествовательно-
иллюстративными задачами
живописи. Композиционное
построение росписей вновь но-
сит фризовый характер, a фор-
ма гор повторяет их конту-
ры, типичные для ханьских
погребальных стенописей и
рельефов. В картинах же кон-
ца VI — начала VII в. появ-
ляется открытое свободное
пространство, глубина кото-
рого усиливается еще и пере-
ходом от красного фона к бе-
лому. При этом росписи мо-
гут быть выполнены в разных
живописных манерах — в
изящной, линейной и в яр-
кой, живописной, которые в
какой-то степени предвосхи-
щают будущие живописные
пейзажные стили.
671
Техника исполнения, тематика и стилистика роспи-
сей тоже претерпели разительные изменения по сравне-
нию с северовэйскими стенописными картинами. Стены
теперь значительно более тщательно подготавливались для
живописных работ: поверхность покрывалась штукатур-
кой из смеси глины с соломой, на которую последователь-
но накладывались несколько слоев извести и поверх них
еще один слой, состоявший из смеси хорошо промытой
глины и растертого в порошок мела. Контуры будущего
рисунка процарапывались острым инструментом или ри-
совались древесным углем, a затем обводились охрой.
Намного расширилась и палитра красок с употреблением
уже знакомых нам живописных красок — на основе ин-
диго, лазурита (синий цвет), гуммигута и ауропигмента
(желтый цвет) и т. д. Для получения розовой краски, не-
обходимой для исполнения открытых частей тела персо-
нажей, слой красной краски накладывался на слой белой.
Краски разводились в воде, и к раствору подмешивался,
для придания им прочности, животный клей. Основным
живописным орудием служила кисть. Главными темами
росписей, вместо сюжетов джатак, стали повествования,
излагаемые в сутрах, из которых наиболыней популярно-
стью пользовались эпизоды из легенд о Вималакирти: его
диспуты с учениками и оппонентами Будды и с Бодхисат-
твой Манджушри.
Самыми же показательными с художественной точки
зрения являются картины буддийского рая — Чистой зем-
ли. Они, как правило, исполнялись во всю стену и сочета-
ли в себе панорамность, внешнюю величественность и внут-
ренний динамизм. Иконография Чистой земли строится в
соответствии с литературными описаниями, приведенны-
ми в канонических текстах («Сукхавативьюха-сутра», пере-
веденная на китайский язык Сюаньцзаном), и основывается
на двучленной композиционной схеме: объект поклонения в
лице Будды Амитабхи и бодхисаттв Авалокитешвара и
Махастхамапрапта и ритуал почитания (изображение до-
наторов). Условное пространство росписей членится на от-
дельные изобразйтельные фрагменты, и входящие в них
фигуры и предметы сочетаются друг с другом так, чтобы, с
одной стороны, создать y зрителя единый план восприятия,
a с другой — сохранить буддийскую иерархию ценностей.
Переход между триадой Будды Амитабхи и донаторами
обусловливался через изображения многоруких персонажей.
Вся ритмико-пластическая структура картин тоже подчи-
няется их религиозно-ритуальному смыслу: более крупные
размеры фигуры Будды Амитабхи и осознанно искажен-
ные (удлиненные) пропорции находящихся от него слева и
справа фигур бодхисаттв. Дополнительные детали картин
призваны передать атмосферу чувственной неги и наслаж-
дения, царящую в райских садах. Повсюду разбросаны изоб-
ражения летающих журавлей и фениксов, разгуливающих
среди цветущих кущ павлинов, ниспадающих с облаков
цветов. Колористическое решение композиций основано на
сочетании чистых локальных цветов — красного, желтого,
золотого, с тщательно модулируемыми оранжевыми, фио-
летово-розовыми, зелеными и бирюзовыми тонами.
Изображения самого Будды также усложнились и при-
обрели вид многофигурных сцен: Будда, сидящий на «лото-
совом» троне, рядом — два стоящих бодхисаттвы, и вокруг
них — архаты, божества-охранители и другие персонажи и
существа буддийского пантеона. Внизу такие картины обычно
завершались фризовой сценой, показывающей музыкантов
и танцовщиц. Трактовка главных персонажей буддийского
пантеона, что особенно заметно для иконографии бодхи-
саттв, изменилась в сторону утонченности и элегантности
фигур с наделением их женственными чертами: маленькие
изящные руки, крупная верхняя часть туловища.
Кроме собственно иконописных картин, при Тан и в
последующие исторические эпохи все большее место в сте-
нописях Могао стали занимать произведения на придворно-
бытовые темы: изображения процессий следования госуда-
ря и его свиты в храм, сцены молений и собственно жанро-
вые сцены. Причем многие бытовые и этнографические
реалии передаются в них точно в соответствии с предметами
того времени и даже более подробно и адекватно, чем в
погребальных стенописях. Особенной тщательностью отли-
чаются изображения дам с детальной выпиской всех эле-
ментов и нюансов их внешнего облика: причесок, нарядов,
украшений. Повышенное внимание к светским реалиям ока-
зывается характерным и для изображений, вводимых в ико-
нописные произведения. Донаторы обычно показываются в
одеяниях, документально воспроизводящих танский или
сунский костюм, резная ограда, окружающая райский сад,
напоминает дворцовую ограду, и т. д. Все это свидетель-
ствует если не полной секуляризации китайско-буддийско-
го культового искусства, то о размывании его прежнего
изобразительного канона и сближении с местным светским
художественным творчеством.
Указанные процессы и тенденции, проявляющиеся в
стенописях Могао, полностью подтверждаются скулыітур-
ными произведениями из скальных храмов.
4j Исторня нскусства Китая
Пещерный монастыръ
Могао
a — иконописные картины тан-
ской эпохи; б — стенописи на
придворно-бытовые темы. Процес-
сия знатных дам (середина Тан).
673
СКАЛЬНЫЕ
ХРАМЫ
ШЩШЯ;
Скалъный храм Бинлинсы
a — стенописи; б — изваяние Буд-
ды во внешнем гроте.
Древнейшими скальными храмами являются Бинлин-
сы, Майцзишань и Юнъган, находящиеся соответственно в
северо-западной, восточной части провинции Ганьсу и на
северо-восточной окраине провинции Шаньси, где по 460 г.
располагалась столица Северного Вэй (Пинчэн).
Храм Бинлинсы, охватывающий собой скалистый от-
рог, был открыт в 1962 г., и там еще ведутся археологиче-
ские и реставрационные работы. Его основную часть обра-
зуют три самостоятельных, расположенных один над дру-
гим художественно-архитектурных комплекса, получивших
обозначения «верхний храм», «нижний храм» и «проме-
жуточная часть». «Верхний храм» состоит из 1 пещеры и
3 ниш, выбитых в поверхности скалы. «Нижний храм» —
из 34 пещер и 194 ниш. «Промежуточная часть — из 8 пе-
щер. Из открытых пещер две относятся к первой половине
V в., остальные — к VI в. — Суй и Тан. Выяснилось, что
некоторые из ранних пещер были уже отреставрированы
при Мин, но затем и этот скальный храм, находящийся в
глухой, малонаселенной местности, был заброшен и забыт.
Самая древняя из открытых пещер датируется 420 г. и
представляет собой огромную естественную пещеру, шири-
ной 26,45 м, глубиной 8,56 м и высотой 15 м. Она украше-
на 30 стенными нишами, равномерно расположенными по
верхней части всех четырех стен, в каждой из которых
находятся единичные скульптурные изображения. На вос-
точной части стены выполнена живописная композиция —
самый ранний по времени его исполнения образец китай-
ско-буддийской живописи. На ней представлен сидящий Буд-
да в окружении бодхисаттв и персонажей буддийского пан-
теона в молитвенных позах. Картина отличается значитель-
но болыпей, чем ранние стенописи Могао, композиционной
сложностью, но при этом она выполнена в архаичной мане-
ре, отчетливо восходящей к ханьским погребальным стено-
писям. Фигуры переданы черными контурными линиями,
обнаженные части тел раскрашены светло-малиновой или
белой красками, на изображениях одеяний остались следы
зеленой и желтой красок. Несмотря на кажущуюся прими-
тивность и даже небрежность исполнения, изображения
отличаются пластичностью и выразительностью. Влияние
центрально-азиатского искусства здесь почти не прослежи-
вается, если не считать соблюдения общих иконописных
правил. Скульптура этой пещеры храма Бинлинсы сделана
из глины и в отличие от стенописной картины демонстри-
рует заметную близость к центрально-азиатскому и индий-
скому искусству.
Храм Юньган образован 20 пещерами, нишами и огром-
ными гротами, тянущимися по горизонтально вытянутому
скальному образованию. Из имеющихся в нем художествен-
ных произведений наибольшей известностью пользуется вы-
тесанное из той же горной породы изваяние сидящего Будды
высотой 13,7 м, датируемое второй половиной V в. Будда по-
казан в этом изваянии с плотно сложенной и широкоплечей
фигурой, обтянутой складчатым одеянием. Черты лица —
чеканные и строгие, с преобладанием признаков западных
674
этносов (тяжеловесный подбородок, прямой нос). Картину
дополняют массивные уши, мочки которых свисают почти
до самых плеч. Обращают на себя внимание и руки Буд-
ды — с непропорционально большими кистями — и для
естественных пропорций человеческого тела, и в их соотне-
сении с размерами изваяния (см. вклейку). Все отмеченные
особенности трактовки образа Будды относятся к числу ти-
пологических примет индийского и центрально-азиатского
буддийского искусства. Однако геометрически упрощенная
форма изображения и выполненные в высоком рельефе склад-
ки одеяния придают изваянию определенно китайский ко-
лорит. Сказанное позволяет видеть в юньганской скульпту-
ре своего рода промежуточное звено между центрально-ази-
атской и собственно китайской пластикой.
Следующая по времени серия пещер и скульптур по-
зволяет проследить характер эволюции «юньганского» (так
он обычно определяется в научной литературе) стиля. Во
второй половине VI в. (что лучше всего видно на примере
скульптуры стоящего Будды, пещера № 16), лица персона-
жей приобретают овальную, вытянутую форму, их черты
смягчаются, ушниша образована вьющимися локонами, a
одеяние свободно ниспадает вдоль тела. Но сама фигура
Будды пока еще сохраняет величественность и наделяется
развернутыми, широкими плечами.
Заключительная стадия развития «юньганского» стиля
приходится на конец VI — начало VII в. (т. е. вновь на
период эпохи Суй) и характеризуется дальнейшим утонче-
нием силуэтных линий изображений и смягчением лице-
вых черт (статуи сидящего Будды из пещер № 5, 11): длин-
ные изогнутые брови, улыбающийся рот с тонкими губа-
ми, ласково-внимательный взгляд. Голову Будды теперь
венчает нимб, завершающийся лепестками лотоса.
Храм Майцзишань охватывает собой конусовидный пик,
высотой 142 м, и состоит из 188 пещер и ниш, относящих-
ся к Северному Вэй, Суй, Тан и Северной Сун. Некоторые
из них тоже были впервые отреставрированы еще при Мин.
В некоторых из ранних пещер (№ 127, первая половина
VI в.) присутствуют стенописные картины собственно ико-
нописного характера и на светские темы. Все они выпол-
нены на более высоком художественном уровне, чем совре-
менные им стенописи Могао, и явно опираются на стили-
стику ханьского погребального искусства. Кроме того, они
демонстрируют некоторое сходство с древнекорейскими
стенописями. Скульптура Майцзишань выполнена из гли-
ны и несет на себе печать влияния южнокитайского и сычу-
аньского искусства. Это проявляется в элегантности фигур
изображений, вытянутости пропорций тел и особенностях
одеяний, ниспадающих свободными складками. Указанные
стилистические особенности совпадают с «юньганским» сти-
лем на заключительном этапе его эволюции, но примеча-
тельно, что здесь они проявились гораздо раньше: напри-
мер, горельефное изображение стоящего Бодхисаттвы ми-
лосердия, которое относится к 502 г. Самое масштабное
изваяние этого храма — скулыітура сидящего Будды
(пещера № 13) — имеет высоту 15,28 м, оно датируется
началом VII в.
Для танской эпохи наиболее выразительным памятни-
ком выступает скальный храм Лунмэнъ, именуемый так
по названию — « Драконовы врата» — порогов на реке Ихэ,
где он и находится, в 12 км к югу от Лояна. Он состоит в
общей сложности из 2000 неболыдих пещер, ниш и гротов,
вырубленных в скальном береге, которые тянутся более
чем на километр (см. вклейку). Строительство этого храмо-
вого комплекса тоже началось еще при Северном Вэй, a
первая входящая в него пещера датируется 494 г. В зави-
симости от времени их создания пещеры содержат в себе
многочисленные, расположенные в несколько ярусов ниши
с единичными скульптурами или напольные изваяния,
обычно групповые: Будда, бодхисаттвы и ученики Будды.
В художественное оформление многих пещер включены и
росписи, но не собственно картины, a изображения второ-
степенных деталей, дополняющих скульптуры: например,
нимбы персонажей. Потолки пещер украшены лепными
(барельефными) фигурами, воспроизводящими божествен-
ных существ и чаще — раскрытые цветки лотоса, которые
тоже частично раскрашены. Стены многих пещер танского
времени покрыты сплошными рядами крошечных (высота
от 2 см) и абсолютно однотипных фигурок сидящего Буд-
ды335. В целом скульптура Лунмэнь состоит из более чем
100 тысяч произведений (включая двухсантиметровые фи-
гурки Будды), a ee стилистическая динамика соответствует
указанным выше закономерностям: тенденции к сниже-
нию роли центрально-азиатских иконографических трак-
Лунмэнь. товок и элементов и возрастанию влияния собственно ки-
Оформление потолка тайских художественных традиций. Однако изображений,
676
которые полностью совпадали бы с произведениями из Мо-
гао или других скальных храмов, здесь нет. Хотя для ран-
них скульптур тоже свойствен показ персонажей, в первую
очередь Будды, с чеканными лицевыми чертами, крепкой
широкоплечей фигурой и плотно облегающими тело одея-
ниями, выражения их лиц неизменно смягчены улыбкой,
плечи имеют покатые очертания, a одеяния включают эле-
менты китайского костюма.
Непревзойденным шедевром собственно танского изоб-
разительного искусства — не только буддийского, но и
всей национальной пластики того времени — признается
скульптурный ансамбль «Храм Фэнсяньсы», который был
создан в 672-675 гг. Это огромный открытый грот шири-
ной 33,5 м и уходящий в глубину скалы на 38,7 м. В нем
11 изваяний, расположенных вдоль его задней и боковых
стен, — все вырублены из скальной породы. В центре
находится статуя сидящего Будды Вайрочаны высотой
17,14 м — это один из самых масштабных образцов китай-
ско-буддийской монументальной скульптуры (см. вклей-
ку). По преданию, моделью служила императрица У Хоу
и, действительно, статуя производит впечатление портре-
та, лишь формально подчиняющегося буддийскому ико-
нографическому канону. Изваяние отличается величавой,
но явно женственной красотой. Лицо — округлое, с пол-
ными щеками и маленьким, изящной формы подбород-
ком. Полуприкрытые, с поволокой, удлиненные к вискам
глаза обрамлены ровными тонкими дугами бровей. На
полных губах легкая улыбка. Голову венчает ушниша из
переплетенных локонов, отдаленно напоминающая жен-
скую придворную прическу. Голова статуи чуть наклоне-
на — словно Будда с материнской лаской наблюдает за
происходящим в мире людей. В зависимости от точки об-
зора и освещения лицо статуи несколько меняется, при-
обретая то величественно-спокойное, то углубленно-задум-
чивое выражение.
По сторонам от изваяния Будды находятся скульптуры
двух его учеников (высота около 11 м) в облике монахов и
бодхисаттв Манджушри и Самантабхадры (14,5 м), пока-
занных в великолепных одеяниях — с коронами на голо-
вах и множеством украшений. Все детали их внешнего
облика — складки одежды, пояса, ювелирные изделия —
тщательно проработаны с сохранением колорита индо-буд-
дийского костюма. Вдоль боковых частей грота и в некото-
ром отдалении от центральной скульптурной группы рас-
положены изваяния — серии из двух фигур — небесных
царей и небесных воинов (высота около 10 м), с мускули-
стыми телами, в полном воинском облачении. Композиция
завершается боковыми фигурами «благочестивых мирян»
(около 6 м). На стенах грота воспроизводятся (в низком
рельефе) нимбы Будды и бодхисаттв, состоящие из стили-
зованных языков пламени.
В непосредственной близости от Лунмэнь было обнаруже-
но еще несколько скальных храмов, значительно меньших
масштабов, чем этот храмовый комплекс, но выдержанных
Эволюция трактовок лица
Будды в шаньсийских
скальных храмах
a — середина VI в.; б — вторая
половина VI в.; в — начало VII в.
в сходных с ним художественно-стилистических парамет-
рах, — храмы Гунсянъ, Цяньфодун и храм в Сиво. Первый
из них находится приблизительно в 40 км от Лунмэнь, об-
разуя как бы вспомогательный по отношению к нему ком-
плекс. Он вырублен в подножии гор, выходящих к реке
Лошуй, и состоит из 5 гротов с гигантскими скулыітурами,
которые плохо сохранились, и 238 неболыпих пещер, отно-
сящихся к Ѵ-ѴІ вв. Монументальные скульптуры тоже были
изваяны из скальной породы. Пещеры производят впечат-
ление в отличие от других скальных храмов целостного и
подчиняющегося определенным семиотическим правилам
художественного ансамбля: они расположены в единый ряд,
обращены на юг, и четко распадаются на две — восточную
и западную — группы.
Храм Цяньфодун располагается на юго-западной окраи-
не провинции Шаньси, он состоит только из нескольких
пещер. Находящаяся в нем скульптура, которая относится
к Северному Вэй, демонстрирует как бы промежуточный
вариант между «юньгановским» стилем и танскими извая-
ниями из Лунмэнь: лица еще отмечены некоторой массив-
ностью и чеканностью черт, но фигуры показаны с покаты-
ми плечами и в свободных, складчатых одеяниях.
Храм в Сиво (находки конца 80-х гг. прошлого века)
находится к югу от Лояна, на территории уезда Синьань-
сянь. Входящие в него пещеры, датируемые первой третью
VII в., отличаются богатством художественного оформле-
ния, несколько превосходя по данному показателю даже
современные им пещеры Лунмэнь. На их стенах выполне-
ны многочисленные ниши с единичными скульптурами или
сплошные рельефные композиции, состоящие из фигур мир-
ских последователей Учения, которые образуют подобие
процессий на картинах в Могао. Напольная скульптура
образует многофигурные ансамбли. Потолки украшены леп-
ниной с активным использованием растительных мотивов
и образов божественных существ. Трактовку персонажей
характеризуют изящество силуэтных линий и акцентиро-
вание декоративных деталей: нимбы с включением изобра-
жений лотоса, пышные и эффектно лежащие складки одея-
ний, длинные рукава и т. д.
Скальный храм в Сиво.
Внутренний вид пещер
678
Итак, отмеченные памятники служат доказательством
того, что уже на начальной стадии формирования китай-
ского-буддийского искусства и в рамках, по сути, одного
культурно-географического ареала (пров. Ганьсу, Шаньси
и Хэнань) обозначилось несколько региональных стили-
стических вариантов, которые различались соотношением
в них исходных элементов индийской и центрально-
азиатской буддийской иконографии и национального ху-
дожественного творчества. Стилистическое разнообразие
региональных воплощений китайско-буддийского искус-
ства становится еще более очевидным, если мы, наряду со
скальными храмами, обратимся к другим типам скулыі-
туры — алтарной, храмовой, среди которой в настоящее
время известны порядка 500 образцов.
Есть все основания утверждать, что на протяжении IV-
VIII вв. в Китае выделились по меныпей мере 6 самостоя-
тельных буддийских художественных школ, конфигура-
ция которых в некоторой степени повторяет порядок рас-
положения еще древних национальных творческих центров:
шэньсийская, шаньская, хэбэйская, юго-восточная (цзян-
су-чжэцзянская), шаньдунская и сычуаньская школы.
Шэньсийская школа представлена храмовой и алтар-
ной скулыітурой, главный центр производства которой на-
ходился в окрестностях Чанъани и специализировался на
изготовлении каменной пластики. Этот центр тоже возник
еще при Северной Вэй, a его известное древнейшее произ-
ведение — изваяние сидящего Будды Майтреи (высота
86,9 см) — датируется 471 г. Обладая заметным внешним
сходством со скульптурой Бинлинсы, оно одновременно
обнаруживает следы влияния ханьской погребальной шко-
лы (особенности изображения одеяния) и местного искус-
ства резьбы по дереву (характер проработки деталей на
спинке трона Майтреи). О следующей — раннетанской —
стадии эволюции шансийской школы мы можем судить по
единичному, но более чем показательному произведению:
глиняной голове бодхисаттвы (высота 30 см), которая вы-
полнена в реалистичной манере и отличается красотой фор-
мы и подчеркнутой декоративностью. Она увенчана ушни-
шей в виде высокой прически из тщательно и красиво
уложенных локонов.
Первая половина VII в. ознаменовалась в шэньсий-
ской школе всплеском популярности беломраморной, ра-
нее здесь не исполнявшейся, скульптуры, достигшей сво-
его расцвета в 742-755 гг. Одним из лучших ее образцов
признана метровая статуя Локопалы (в настоящее время
находится в коллекции Шэньсийского провинциального
музея). Несмотря на серьезные повреждения (отбиты го-
лова и руки), статуя поражает уровнем художественного
мастерства, и по ряду деталей — полная естественность
позы, изящество линий туловища, совершенство переда-
чи строения человеческого тела и восхищение натурой —
сродни античной скулыітуре.
ВЕДУЩИЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ТРАДИЦИИ
И ЦЕНТРЫ
ПРОИЗВОДСТВА
ХРАМОВОИ
СКУЛЬПТУРЫ
(IV-VIII вв.)
Манера исполнения одеяний
буддийских персонажей
в шанъсийской школе
679
Изображения мирян
в шанъсийской школе.
На материале
скальных храмов
Хэбэйская школа
a — оформление пещер в скаль-
ном храме (Фэнлуншань); б —
образцы скульптур; в — трактов-
ка лица и головы Будды.
Шаньсийская школа как центр изготовления храмовой
и алтарной скульптуры возникла в V в., работая как с
камнем, так и с бронзой. Ее стилистика и художественные
трактовки персонажей в целом находились в русле общей
для данного региона традиции буддийского изобразитель-
ного искусства, хотя в ней обнаруживается сильнее, чем в
скальных храмах, влияние южнокитайских художествен-
ных традиций.
0 существовании хэбэйской школы стало известно в
1953 г., когда обнаружились мастерские при монастыре
Сисюаньсы, которые, видимо, и были ее главным художе-
ственно-производственным центром. Всего было обнаруже-
но 220 скульптур, самая ранняя из них относится к 520 г.
Почти треть найденных произведений (81) были созданы
при Суй. В этих мастерских выпускалась как позолочен-
ная бронзовая, так и мраморная скульптура. Исполнялись
изображения Будды, Амитабхи, Бодхисаттвы милосердия,
но чаще всего — статуи Будды Майтреи, что указывает на
особую популярность его культа в данном регионе. Следуя
в целом за традицией ганьсу-шаньскийского изобразитель-
ного искусства, хэбэйская школа обладала рядом специфи-
ческих примет, что подтверждается и местными скальны-
ми храмами, в первую очередь храмом Фэнлуншанъ. От-
крытый в начале 90-х гг. прошлого века в одноименных
горах (уезд Юанынисянь), он состоит всего из двух (но
очень показательных по художественному оформлению) пе-
щер, относящихся ко второй половине VI в. Несколько не-
обычным оказывается уже их общая внутренняя отделка:
использование напольной единичной скульптуры, разме-
щенной в больших входообразных нишах, наличие множе-
ства расположенных в несколько ярусов и сплошь идущих
по стенной поверхности маленьких ниш. Трактовка персо-
нажей отличается относительной свободой, пластичностью
и естественностью поз — разумеется, насколько это было
возможным в границах иконографических правил асан и
мудр. Персонажи облачены в ниспадающее одеяние, но
образованное более широкими и мягкими складками, чем
в других стилистических вариантах. Иконография самого
Будды отмечена сочетанием «западных» и собственно ки-
тайских этнических черт — широкое лицо, массивный, хотя
и мягких очертаний, подбородок, прямой нос, уши с длин-
ными мочками, «негроидные», толстые губы, узкий разрез
680
глаз. В отличие от шэньсийской и шаньсийской школ
уиіниша может почти не выделяться. Есть образцы, в ко-
торых она передается не прической из локонов, a едва
намеченным навершием на голове.
Юго-восточная школа представлена исключительно про-
изведениями, входящими в скальные храмы, хотя из пись-
менных источников мы знаем, что на протяжении эпохи
ЦІести династий на Юге изготавливалась храмовая скулыі-
тура в самых разных ее вариантах — из позолоченной брон-
зы, благородных металлов (золота и серебра) и камня. Ме-
стные скальные храмы тоже немногочисленны и не имеют
ничего общего, кроме самих по себе конструктивно-худо-
жественных принципов (пещеры и ниши со скулыітурой),
с грандиозными северными ансамблями.
Для эпохи Шести династий самым показательным па-
мятником выступает скальный храм на территории мона-
стыря Цисясы (окрестности Нанкина). Носящий гордели-
вое название «Склон тысячи Будд» (Цянъфоя), он пред-
ставляет собой невысокий склон y подножия холмистого
возвышения, на поверхности которого выполнены 294 не-
болыпие ниши, преимущественно с одиночными скульпту-
рами — всего 515 каменных изваяний. Ниши дополнены
кирпичной кладкой для предотвращения осыпания песча-
ника. Возведение этого храма началось в 484 г. и продол-
жалось вплоть до XVI в. Древнейшими его скульптурами в
письменных источниках называются 13-метровая статуя
сидящего Будды и две 10-метровые статуи бодхисаттв, по-
мещенные в единственную имеющуюся здесь пещеру, точ-
нее, углубленный грот. У входа в пещеру возвышаются
еще два изваяния учеников Будды, приблизительно в
человеческий рост. Сообщается, что данная скульптурная
композиция была выполнена в начале VI в. и является ав-
торской работой — творением сына основателя и первого
настоятеля монастыря Цисясы. Все скульптуры исполнены
в единой художественной манере, близкой стилистике мест-
ного светского и погребального искусства: подчеркнутые
изящество и декоративность внешнего вида персонажей,
обусловленные пышностью их одеяний и драпировки тро-
на и утонченностью силуэтных линий.
Ta же стилистическая линия соблюдается и в скальном
храме на территории монастыря Линъинъсы (окрестности
Ханчжоу), который является наиболее значительным мест-
ным буддийским художественным памятником для эпох
Пяти династий и Северной Сун. Известна только дата на-
чала его создания — середина X в. Но он производит впе-
чатление камерного и целостного художественного произ-
ведения, который исполнялся с учетом архитектурно-ланд-
шафтных особенностей всего монастырского комплекса с
предназначением стать одним из его органических элемен-
тов. Примечательно, что вдоль него тянется ландшафтная
композиция, воспроизводящая горную местность с водо-
падами, озерами и извилистыми реками. Сам памятник
обладает еще меныним сходством с собственно скальными
храмами. Он состоит из серии (около 500) горельефных
Скалъный храм
монастыря Линъинъсы
a — изображения бодхисаттв; б —
скулыггура будцийского наставни-
ка; в — скулыггура мирянки; г —
рельефная композиция.
и скульптурных изображений и сцен, вырезанных на по-
верхности невысокого валунного образования и расстав-
ленных в маленькой искусственной пещерке.
Шаньдунская школа представлена в основном так на-
зываемыми буддийскими стелами — каменными плита-
ми с барельефными или горельефными изображениями.
Ее главные художественно-производственные центры на-
ходились в монастырях Юннинсы (современный уезд Гу-
анцяньсянь) и Лунсинсы (область Цинчжоу). О существо-
вании этой школы стало известно совсем недавно, благо-
даря открытию мастерских названных монастырей. Только
в монастыре Лунсинсы было обнаружены (1996 г.) около
200 стел, древнейшие из которых относятся к середине
V в. Шаньдунские стелы исполнялись из известняка и
расписывались: одеяния — в красный цвет с зеленым,
голубым и желтым орнаментами, украшения — золотой
краской. Изображения тоже отличаются изысканностью
линий, пластичностью, элегантностью, a также скрупу-
лезной проработкой всех деталей внешнего облика глав-
ных персонажей и вспомогательных элементов — это по-
зволяет говорить о стилистической близости шаньдунской
школы и юго-восточной.
Сычуаньская школа представляет собой даже не шко-
лу в обычном понимании этого термина, a целое художе-
ственное направление, которое наравне реализовало себя
как в скальных храмах, так и во всех других типах буд-
дийской культовой пластики. Ее центром были мастер-
ские, располагавшиеся в Чэнду или в окрестностях этого
города: в них исполнялась и собственно скульптура, и
стелы. Первые находки относящихся к данной школе про-
изведений были сделаны еще в 1882 г. — было обнаруже-
но около 100 каменных скульптур. Еще 136 образцов ме-
стной буддийской пластики, включая цельные изваяния
и их фрагменты (головы), принесли археологические ра-
боты 1937 и 1953 гг. Самые ранние из них датируются
424-453 гг., т. е. являются древнейшими образцами ки-
тайско-буддийской пластики. И наконец, очередное архео-
логическое открытие состоялось в 1995 г. При ремонте
дороги из земли были извлечены 9 каменных стел разме-
ром от 50 см до метра, относящихся к заключительной
трети V — началу VI в.
Местными скульпторами использовалась специфическая
горная порода, позволявшая осуществлять по ней предель-
но тонкую резьбу. Скульптурные изображения иногда рас-
писывались. Природные особенности материала предо-
682
Именно в местных скульптурных произведениях впервые
стали использоваться образы животных (льва) и зооморфно-
фантастических существ. Несмотря на свою самобытность,
сычуаньская школа явно примыкала к общей для Юга
генеральной стилистической традиции, что проявляется, в
том числе, в трактовке внешнего облика персонажей, ма-
нере исполнения одеяний.
Сычуаньские скальные храмы тоже представляют со-
бой особое явление в истории китайско-буддийского куль-
тового изобразительного искусства. Достаточно сказать, что
только на территории одного уезда Дацзу выявлено 43 та-
ких памятника, часть которых восходит к VI в. Самым
масштабным сычуаньским скульптурным произведением
683
является колоссальное, высотой 71 м, изваяние сидящего
Будды, высеченное из скалы в горах Лэйшань (на исполне-
ние его ушло 90 лет). A наиболее примечательным с худо-
жественной точки зрения памятником признается комплекс
из нескольких скальных храмов, расположенный в 15 км
к северу от Дацзу. Он распадается на две основные части,
именуемые, по названию соответствующих горных гряд,
«Храм Северной горы» (Бэйшанъ) и «Храм Драгоценной
горы» (Баодиншанъ). Первый из них образован 290 пеще-
рами, созданными при Тан, Сун и Мин, в которых содер-
жатся в общей сложности 6216 скульптур преимуществен-
но танского и сунского времени (см. вклейку). Скульптуры
вырезаны из скальной поверхности, нередко раскрашены,
a их отдельные детали — короны бодхисаттв, украшения —
покрыты позолотой. Художественное оформление почти всех
пещер являет собой сложные, многофигурные композиции
с сочетанием скульптур, барельефных и горельефных изоб-
ражений: панорам буддийских монастырей, картин «чу-
десного мира» с фантастическими животными и божествен-
ными растениями.
«Храм Драгоценной горы» — авторское произведение,
которое по своему масштабу, грандиозности творческого
замысла и уровню исполнения не имеет, пожалуй, прямых
аналогов в искусстве Китая. Он был создан монахом-
художником Чжао Чжифэном (1160-1249), трудившимся
над ним вместе со своими учениками более 17 лет. Это ог-
ромный, высотой 30 м и длиной 500 м, фриз, вырубленный
в скальной поверхности и состоящий из 31 композиционной
сцены, объединенных общностью замысла, a также индиви-
дуальностью творческой манеры автора. Входящие в него
изображения отличаются своей величиной: изваяние «спя-
щего Будды» — длиной 31 м и высотой 6,8 м, изваяние «ты-
сячерукой Гуаньинь», занимает площадь 88 м2. Все скулыі-
туры раскрашены с активным применением позолоты, что
придает им дополнительную величественность и декора-
тивность (см. вклейку). Несмотря на соблюдение иконогра-
фических правил, Чжао Чжифэн сумел придать своим тво-
рениям естественность и живость, что особенно характерно
для изображений «благочестивых мирян», которые вос-
принимаются в качестве скульптурных портретов реаль-
ных людей. Безусловно, мы вправе расценивать этот па-
мятник в качестве произведения, принадлежащего всей Скалъный храм
« «• Баозиншанъ
традиции китаиского изобразительного искусства.
Несмотря на наличие y всех отмеченных школ и от-
дельных памятников специфических стилистических и
художественных особенностей, они демонстрируют общие
для китайско-буддийского культового искусства тенденции
и эволюционные закономерности, тем самым осуществляя
процесс китаизации исходных индийских и центрально-ази-
атских эстетико-иконографических принципов. Во-первых,
это изменение трактовки внешнего вида персонажей в
пользу утончения фигур и черт лица, элегантности и плав-
ности силуэтных линий, в результате чего произошла опре-
деленная феминизация облика этих персонажей, в первую
очередь бодхисаттв. Хотя остается до сих nop неясным, вы-
звана ли подобная феминизация сугубо эстетико-художе-
ственными факторами либо причинами общекультурного
ряда. Во-вторых, статуи гораздо более свободно стали рас-
полагаться в пространстве: их позы, при соблюдении тре-
бований буддийского иконографического канона, приобре-
ли естественность и живость. В-третьих, решительно из-
менился этнографический тип изображений. Они стали
отражать не только местные этнические черты, но и мно-
гие бытовые реалии. Дальнейшая эволюция китайско-буд-
дийского культового искусства происходила через смеше-
ние прежде самостоятельных региональных стилистиче-
ских вариантов и благодаря выработке универсальных для
данной сферы национальной творческой деятельности эс-
тетико-иконографических принципов.
Итак, история формирования китайско-буддийского куль-
тового изобразительного искусства дает нам первый весьма
впечатляющий пример того, как местное художественное
творчество способно воспринимать и адаптировать не част-
ные заимствования, a целостную, исходно совершенно чуж-
дую художественную традицию.
Глава 11
КЕРАМИКА
Глава 12
ТЕКСТИЛЬ И КОСТЮМ
Глава 13
ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО
Глава 14
ЛАКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Глава 15
ЭМАЛЬЕРНОЕ ДЕЛО
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОЕ
ИСКУССТВО
сЛ
ГЛАВА
сЯ
КЕРАМИКА
типологии
И ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
КЕРАМИКИ
ДРЕВНЕГО
И ТРАДИЦИОННОГО
КИТАЯ
ззѳ Все европейские терми-
ны, использующиеся для обо-
значения фарфора, не имеют
никакого отношения к его ори-
гинальному названию. Термин
«фарфор» происходит от сред-
неиранского (на фарси) слова
багпур, которое, в свою оче-
редь, есть неточная транскрип-
ция китайского императорско-
го титула Сын Неба (тяньцзы)
и означает «императорский».
Использование такого терми-
на красноречиво свидетель-
ствует о характере отношения
к фарфору за прсделами Ки-
тая. Итальянскии термин —
порцеляна и французский —
порсэлэн — восходят к ла-
тинскому порчэлла — «белая
ракушка», посредством чего
передается цвет черепка фар-
форовых изделий. Английское
название фарфора — чайна —
опирается на исходно геопо-
литический термин, который
тоже ведет свое происхожде-
ние от персидского слова
чини (с санскритскими кор-
нями), посредством которого
в странах арабо-мусульман-
Керамика древнего (начиная с иньской эпохи) и традици-
онного Китая представлена множеством различных диа-
хронных и региональных видов, которые в настоящее вре-
мя строго подразделяются на 3 главных вида: «гончарная
продукция», «каменная» керамика и фарфор.
Как «гончарная продукция» («горшечный товар», в ев-
ропейской терминологии — earthware) определяются изде-
лия, выполненные из обычных глин и прошедшие обжиг в
температурном режиме в пределах 800-1000°С. «Камен-
ная» керамика (stoneware) и фарфор — изделия, выпол-
ненные из керамической массы, в состав которой входит
каолиновая глина. В китайском языке специального тер-
мина для обозначения собственно фарфора нет. Все кера-
мические сорта, выполненные на основании каолиновой
глины, обозначаются в нем посредством слова цыггб. По-
этому еще недавно в европейском искусствоведении их чет-
кой дифференциации на фарфор и «каменную» керамику
не существовало, и все сорта, относящиеся к последней,
определялись как «протофарфор», «фарфоровидные», «из-
делия с фарфоровидным черепком» и т. д. На самом деле,
между ними есть принципиальные различия, касающиеся
как состава керамического теста, так и особенностей тех-
нологического процесса.
«Каолин» — общее терминологическое обозначение
фракции жидкой и тугоплавкой глины, имеющей в своем
составе вещество каолинит, образовавшееся в ходе геоло-
гических процессов из алюминия и кремнесодержащих гор-
ных пород337. Этот термин происходит от топонима Гао-
лиНу «Высокие холмы» — названия местности и холми-
стой гряды, тянущейся с севера на юг на стыке провинций
Хэнань и Хэбэй. Залежи каолинитосодержащих глин име-
ются и во многих других географических районах Китая.
Они проходят широким поясом по его северо-западному и
центральному регионам, залегая под толщей лёссовых почв,
и затем выходят ближе к поверхности вдоль отрогов гор-
ных массивов на территории Хэбэй и Хэнань. Но самые
богатые и лучшие по своему химическому составу каоли-
688
нитосодержащие глины сосредоточены в юго-восточных и
южных районах Китая.
Другим обязательным компонентом фарфоровой массы
является «фарфоровый» камень — специфическая порода
вулканического происхождения, представляющая собой
разновидность полевого шпата в соединении с белой слю-
дой. Залежи «фарфорового» камня проходят полосой по
южным районам Китая — между провинциями Чжэцзян и
Юньнань, доходя до Вьетнама. Они также имеются в Корее
и на Японских островах. Наиболее же внушительные при-
родные запасы «фарфорового» камня сосредоточены в про-
винции Цзянсу, в окрестностях озера Поянху, где впослед-
ствии и возник главный центр фарфорового производства
Щзиндэчжэнъ, подробно см. далее).
Керамическое тесто «каменной» керамики всегда изго-
тавливалось с добавлением других веществ, в первую оче-
редь кварцесодержащих (песок). Даже если в его рецептуру
входил «фарфоровый» камень, то в иных, чем собственно
для фарфора, пропорциях. Кроме того, оба этих природных
вещества проходили, как правило, в процессе изготовления
«каменной» керамики худшую, чем в фарфором производ-
стве, очистку, результатом чего является окрашивание че-
репка в зеленоватый, бледно-кремовый и серовато-белый цвет,
тогда как фарфор имеет черепок чисто белого (или с крайне
незначительными цветовыми примесями) цвета.
Следующее принципиальное различие между «камен-
ной» керамикой и фарфором заключается в температуре
их обжига. Температура обжига «каменных» керамиче-
ских сортов колеблется (в зависимости от времени и гео-
графии их изготовления) в пределах от 1050 до 1250°С.
Температура обжига фарфора должна быть не менее 1350°С.
Только тогда происходит качественная трансформация ис-
ходной физической структуры керамической массы, и она
становится благодаря содержащемуся в каолиновой глине
кремнию стекловидной, просвечивающей и полностью во-
донепроницаемой.
Из сказанного понятно, что именно фарфоровое произ-
водство располагало наиболее совершенным технологиче-
ским процессом, хотя в нем были, в сущности, задейство-
ваны те же самые базовые операции, что и во всех других
керамических производствах, начиная с неолитического
гончарного дела.
Первая операция — приготовление керамической мас-
сы — включает в себя добычу и обработку природных мате-
риалов. Каолиновую глину вначале обмачивают — разбал-
тывают в воде и пропускают через чан, в результате чего
легкие примеси песка и гравия уносятся водой, a очищен-
ная глина оседает на дно. Потом ее подвергают «гние-
нию»: оставляют на длительное время в воде, благодаря
чему она становится более мягкой и нежной. «Фарфоро-
вый» камень дробят, размалывают и просеивают с доведе-
ния его до однородного порошкообразного состояния338.
Затем каолиновую глину и «фарфоровый» камень смеши-
вают в большом чане, наполненном водой. Полученную
44 История искусства Китая
ского региона было принято
обозначать Китай. В Европе ис-
пользование этого термина за-
фиксировано начиная с XVI в.,
но вплоть до XIX в. он упот-
реблялся исключительно в
приложении к фарфоровым
изделиям, равно как и дру-
гим керамическим сортам, из-
готавливавшимся в южных
регионах Китая.
337 Его полная химическая
формула: А120 • 2Si02 • 2Н20.
338 До XVIII в. все эти про-
цедуры осуществлялись вруч-
ную в специальных ступах,
пока на смену ручному раз-
молу не пришел размол с по-
мощью водяной мельницы.
689
339 Сохранились сведения
о существовании в Нанкине
целой «фарфоровой пагоды»,
которая была уничтожена в
середине XIX в. (во время Тай-
пинского восстания). Ее опи-
сание приводится, в частно-
сти, в книге Марко Поло,
хотя из него остается неяс-
ным, была ли она действи-
тельно выполнена из фарфора
или другого, что представля-
ется более вероятным, керами-
ческого материала. Как «фар-
форовые» в китайской тради-
ции определяются и некоторые
другие типы предельно круп-
ногабаритных изделий, к ко-
торым относятся, в том чис-
ле, садовые павильоны в виде
ладьи (в натуральную величи-
ну). Формовка поддбных изде-
лий осуществлялась посред-
ством одновременных усилий
нескольких сотен мастеров.
340 Алкалиновые (поташ-
ные, содовые) и кальциевые
добавки, занимавшие цент-
ральное место в керамическом
производстве некоторых других
народов, например на Ближ-
нем Востоке, тоже были извест-
ны китайским мастерам, одна-
ко употреблялись ими редко —
в отдельные исторические пе-
риоды или в локальных гон-
чарных промыслах.
суспензию со взвешенными частицами пропускают через
тонкое сито из конского волоса и затем через слой плотного
шелка, после чего переливают в глиняные сосуды, где она
отстаивается. Через некоторое время воду сливают, a влаж-
ную массу заворачивают в полотно, прессуют в кирпичи и
уже в таком виде дополнительно обрабатывают: бросают на
каменный пол и переворачивают деревянными лопатками,
пока она не приобретет требуемую пластичность.
Вторая операция — формовка изделий — по-прежнему
производилась двумя главными способами: формовкой на
деревянном гончарном круге и путем ручного обминания —
в тех случаях, когда изготавливались изделия неправиль-
ных и усложненных форм. Только в XVIII в. к ним добави-
лись прессование, выдавливание и отливка — разлив раз-
жиженной фарфоровой массы в формы. Качество фарфоро-
вого теста было настолько высоким, что из него можно
было формировать крупногабаритные изделия: «драконо-
вые котлы» — чаноподобные сосуды и сосуды-аквариумы,
достигавшие в диаметре до 1 м, изголовья, предметы мебе-
ли (в том числе бочковидные табуретки, садовые скамьи) и
даже архитектурные конструкции339.
Сушка сформированных изделий производилась прямо
на воздухе, иногда в течение почти года, после чего они
подправлялись и обтачивались. Качество фарфоровой мас-
сы позволяло обходиться без обжига перед процедурами
художественного оформления изделий, что является необ-
ходимой операцией в европейском фарфоровом производ-
стве. Однако для некоторых технико-художественных раз-
новидностей такой предварительный обжиг все же произ-
водился, но при невысоком температурном режиме.
Следующие технологические операции сводились уже
непосредственно к художественному оформлению изделий:
глазурование, роспись, исполнение рельефного орнамента.
Глазурное покрытие использовалось не только в фарфоро-
вом производстве, но и во многих сортах «каменной» кера-
мики и гончарной продукции. Придя на смену неолитиче-
скому декоративному покрытию — ангобу, оно было изоб-
ретено еще в раннеиньский период: в комплексе Эрлиган
присутствуют сосуды, покрытые глазурью коричневатого или
соломенно-зеленого цвета, нанесенной поверх штампован-
ного геометрического узора. Все последующие рецептурные
варианты китайской керамической глазури состоят из трех
главных ингредиентов: кремния, алюминесодержащих ве-
ществ и плавленых (флаксовых) добавок, которые снижали
тугоплавкость кремния, способствуя его превращению в стек-
ловидную массу уже при температуре 1700°С. Наибольшее
распространение в «каменном» керамическом производстве
получили глазури со свинцовыми добавками340. В собствен-
но фарфоровом производстве использовались преимуществен-
но шпатовые глазури, которые были изобретены при Тан.
Они тоже приготовлялись из каолиновой глины и «фарфо-
рового» камня, но взятых в иной, чем для керамической
массы, пропорции и с добавлением полевого шпата, кварца
и гипса, смешанного с водой. Глазури подразделяются на
690
бесцветные и цветные, для получения которых использова-
лись различные минеральные добавки: окись меди, дающая
все оттенки зеленого, желтого и голубого цветов, окиси же-
леза (желтая цветовая гамма) и марганца (красно-коричне-
вый и фиолетовый цвета), a для получения белой непрозрач-
ной глазури — известняк. Более подробно о цветовой палит-
ре глазурей, их составе и декоративных функциях мы
поговорим при рассмотрении конкретных керамических сор-
тов и истории развития фарфора.
Роспись может исполняться до глазурования и после,
подразделяясь тем самым на две главные технологические
разновидности — подглазурная и надглазурная. Так как
подглазурная роспись наносится до основного обжига, во
время которого сама глазурь расплавляется, покрывая стен-
ки изделия стекловидной массой, для ее исполнения в фар-
форовом производстве требовались особо тугоплавкие крас-
ки, способные выдержать температуру обжига и не сме-
шаться с глазурью. Такие краски могли быть изготовлены
только из двух природных веществ — кобальта и меди. Ко-
бальт выступает поистине идеальным пигментом для под-
глазурной росписи, обладая столь высокой тугоплавкостью,
что в процессе обжига он обычно (за исключением некото-
рых местных его пород) не меняет своего исходного цвета.
Исполнение кобальтовых росписей отмечено еще для
танской эпохи. Однако они утвердились в фарфоровом про-
изводстве только при Юань. В дальнейшем в нем широко
использовались как местный, так и привозной кобальт, глав-
ным образом с Ближнего Востока и из Юго-Восточной Азии.
В зависимости от происхождения кобальта его химического
состава (присутствие в нем других медесодержащих веществ,
марганца, железа), степени его концентрации в краске и
особенностей общего технологического процесса, готовая рос-
пись может иметь различные цвета и оттенки: серовато- или
пастельно-голубой, ярко-синий, синий с пурпурным оттен-
ком и даже черный. Некоторые привозные сорта кобальта,
отмеченные богатым содержанием железа, давали росписи с
характерными черноватыми или коричневатыми вкрапле-
ниями, что служит одним из показателей для атрибуции
изделий. Такие росписи присутствуют на фарфоре минского
периода. Правда, в цинскую эпоху они искусственно имити-
ровались, как и многие другие технико-художественные осо-
бенности предшествующих фарфоровых сортов. Кобальто-
вые росписи наносятся на еще чуть влажную поверхность,
которая лучше впитывает эту краску. Медь тоже дает не-
сколько цветов и оттенков, в зависимости от химического
состава краски и атмосферных условий в обжиговой печи:
зеленые цвета — при окислительном процессе, красные —
при восстановительном. Роспись медными красками произ-
водится только по сухому черепку.
Надглазурная роспись исполняется после основного об-
жига и эмалевыми красками, представляющими собой
сплав свинца, олова и других окислов с бурой, стеколь-
ным порошком и кварцем. Такая смесь оказывается более
легкоплавкой, чем стекло, и непрозрачной. Для придания
Технологические операции
производстпва фарфора
(с книжных гравюр)
a — формовка изделйй; б — при-
готовление глазури и глазурова-
ние изделий; в — закладка изде-
лий в обжиговую печь.
ей нужного цвета добавлялись различные металлы и мине-
ралы. Так, фиолетовая краска получалась на основе мар-
ганца, красная — на основе меди с добавлением к ней
толченого рубина (при изготовлении, естественно, изделий
высшего ценового уровня), черная — иридия, розовая —
золота. После нанесения росписи изделия, для закрепле-
ния красок, подвергались повторному (муфельному и при
невысоких температурах) обжигу. Так как эмалевые крас-
ки в результате содержащегося в них свинца могли «расте-
каться» в процессе даже муфельного обжига, для работы с
ними использовались особые техники: исполнение конту-
ров рисунка глубоко гравированными линиями, нанесение
на них перегородок, повышение красочного слоя к краю
рисунка. Кроме собственно росписи, широко применялась
еще одна живописная техника, известная как «росписи в
резерве»: вся поверхность изделия, за исключением силуэ-
та будущего орнамента, покрывалась краской. После гла-
зурования и обжига под глазурным покрытием получались
узоры и композиции белого цвета.
Рельефный декор (как в фарфоровом производстве, так
и для «каменной» керамики) исполнялся, как правило, по
еще не просохшей поверхности, которая легче поддавалась
художественной обработке. Он подразделяется на два глав-
ных вида — вогнутый и выпуклый (собственно рельеф).
Простейшим способом создания вогнутого рельефа являет-
ся перфорация, заключающаяся в выдавливании узора на
поверхности с помощью штампа. Следующие два спосо-
ба — гравировка и резьба (врезанный орнамент), второй
из которых предполагал нанесение более широких и глубо-
ких, чем при гравировке, линий. Оба эти способа исполня-
лись в целом одними и теми же инструментами, a каче-
ство линий зависело от метода работы мастера с резцом.
Если он держал его вертикально, то линии получались
тонкими и глубокими. При наклонном положении резца
в ту или другую сторону линии становились широкими
692
и менее глубокими. Кроме врезанного орнамента, по кера-
мической массе могла производиться и натуральная резь-
ба, подобная резьбе по камню или дереву, a также сквоз-
ной — «сетчатый» — орнамент. В этой технике исполняет-
ся, например, знаменитый «рисовый фарфор» (хотя его
принадлежность к собственно фарфору весьма сомнитель-
на), изначально производившийся на юго-востоке. В стен-
ках изделия проделываются маленькие сквозные отверстия,
повторяющие по форме контуры рисового зернышка. По-
том его внутренняя и внешняя стороны покрываются про-
зрачной глазурью. В фарфоровом производстве гравировка
и врезной орнамент могли осуществляться и по уже глази-
рованной поверхности, но до обжига изделий, что позволя-
ло создавать декоративный эффект, близкий к росписям.
Гравированный или прорезанный узор, нанесенный на цвет-
ное (особенно темного цвета) глазурное покрытие, приот-
крывал подглазурный черепок.
Четвертая технологическая операция — обжиг — счи-
талась самой трудной и ответственной, так как именно от
нее зависело в конечном счете качество готовой продук-
ции. Размещение изделий в печи, достижение и поддержа-
ние нужного температурного режима и определение степе-
ни готовности изделий — все это делалось, даже в казен-
ных и хорошо оборудованных мастерских, «на глазок», a
потому требовало участия мастеров, обладавших не только
необходимыми знаниями, но и профессиональной интуи-
цией. В керамическом производстве традиционного Китая
имелось большое число конструктивных вариантов обжи-
говых печей, различавшихся по размерам, оборудованию,
способу загрузки и топливу. Так, еще в ХѴІІ-ХѴШ вв. в
некоторых региональных керамических центрах были печи,
работавшие исключительно на хворосте. В фарфоровом про-
изводстве использовались преимущественно печи однотип-
ной конструкции и масштабных размеров: высотой — до
3, шириной — до 20, длиной — до 6 м, глубина фундамен-
та которых достигала 4 м. Изделия ставились в обжиговую
камеру в специальных капсулах из огнеупорной глины.
После загрузки отверстие печи закладывалось кирпичами
и замуровывалось глиной. На самом ее верху находилось
4-5 неболыпих отверстий с подвижными (черепичными) за-
движками, через которые велось наблюдение за обжигом.
В течение первых 24 часов обжига поддерживалась темпе-
ратура не более 450°С, которая затем медленно доводилась
до требуемого режима. Обжиг продолжался несколько дней.
Когда он заканчивался, мастера, одетые в специальные за-
щитные костюмы (платье, обильно смоченное водой, пер-
чатки, сделанные из десяти слоев ваты и тоже вымоченные
в холодной воде), входили в камеру, вынимали из нее гото-
вый фарфор и сразу же, пока печь еще не остыла, произво-
дили загрузку новой партии изделий.
Таковы вкратце основные особенности китайского ке-
рамического производства, ознакомившись с которыми об-
ратимся к истории развития отдельных керамических тра-
диций.
ДРЕВНИЕ
КЕРАМИЧЕСКИЕ
СОРТА
Образцы раннечжоуской
керамики, воспроизводящей
формы и орнаментацию
неолитических сосудов
a — пров. Хэнань (окрестности
Лояна); б — северовосточный ре-
гион (пров. Хэбэй); в — восточ-
ный регион (пров. Шаньдун); г —
южный регион (пров. Хубэй).
Позднечжоуская керамика,
копирующая
бронзовые сосуды
a — царство Чу (пров. Хунань);
б — царство Чу (пров. Хубэй), пе-
риод Борющихся царств; в — пров.
Хэнань (окрестности Лояна).
В археологических материалах, относящихся к инь-
ской эпохе и к раннечжоускому периоду, керамика зани-
мает относительно скромное место по причине ее вытесне-
ния бронзовыми сосудами из погребального инвентаря. Тем
не менее на сегодня, благодаря находкам последних не-
скольких десятилетий, известно уже достаточное число ар-
тефактов, куда входят как сосуды ритуального назначе-
ния, так и бытовая утварь, чтобы воссоздать общую карти-
ну дальнейшей, после эпохи неолита, эволюции китайской
керамики. Подавляющее большинство сортов иньской и
чжоуской керамики относится к «горшечному товару», вы-
полнявшемуся из красных и серых глин (предположитель-
но третичного периода), залежи которых распространены в
районах бассейна Хуанхэ, с добавлением к ним лёссового
песка. По причине легкоплавкости этих глин и достаточно
высокого процентного содержания в них алюминия и же-
леза обжиг изделий мог осуществляться при температуре
800-900°С, a сами они имеют характерно окрашенный чере-
пок. При Инь и в начале Чжоу производились преимуще-
ственно монохромные и орнаментированные штампованным
геометрическим узором сосуды, формы которых в целом
повторяют формы неолитической керамики в ее позднеян-
шаоском или центрально-луншаньском вариантах.
Приблизительно в период Весен и осеней древнее кера-
мическое производство вступило в новую фазу своего разви-
тия, ознаменовавшуюся, во-первых, переводом в керамику
бронзовых форм и, во-вторых, воссозданием практики вы-
пуска расписной керамики несколько позже. Тенденция к
стилизации керамических сосудов под бронзовые намети-
лась еще при Поздней Инь и приобрела устойчивый харак-
тер в IV—III вв. до н. э. Раньше всего выпуск таких изде-
лий был налажен, судя по географии археологических на-
ходок, на Юге, в царстве Чу, и на юго-востоке, в царстве
Юэ. Отдельного упоминания в данном случае заслуживает
комплект изделий из 26 единиц, находившийся в усыпаль-
нице последнего правителя царства Юэ (Чжэцзян), датируе-
мой первой третью IV в. до н. э. Они точно копируют фор-
мы бронз, a кроме того, имеют глазурное покрытие ко-
ричневого цвета. Их декор — сплошной штампованный
геометрический орнамент — фактически повторяет собой
декор местной неолитической (лянчжуской) керамики. За-
бегая вперед отметим, что технология исполнения керами-
ки с глазурным покрытием в дальнейшем тоже была освое-
на в различных региональных мастерских, в том числе,
как мы помним, и для изготовления погребальной пласти-
ки. A долыне всего такая керамика выпускалась на юго-
694
востоке, в частности в провинции Цзянсу (район современ-
ного Янчжоу). Еще во второй половине Хань там произво-
дились сосуды, по-прежнему сохранявшие формы и орна-
ментацию («струнный» узор) местной неолитической кера-
мики с глазурным покрытием серого, серовато-зеленого и
светло-зеленого цветов. В скором времени керамика, копи-
рующая бронзовые сосуды — уже не только их формы, но
и орнаментацию, передаваемую посредством рельефных
узоров и фигур, — изготавливалась повсеместно, все чаще
взамен бронз.
Приблизительно в это же время обозначилась и работа
сразу нескольких региональных центров, вьшускавших
расписную керамику, также во многом ориентировавшую-
ся на формы и орнаментацию бронзовых изделий. Один из
них, продолжавший функционировать и при Ранней Хань,
находился в непосредственной близости от Лояна. Самая
внушительная коллекция местных изделий, относящихся
к периоду Борющихся царств, была найдена (1993 г.) в
нескольких погребениях, открытых в западном пригороде
Лояна. Именно среди них и находились сосуды, украшен-
ные изображениями змей, лягушки с парой рыб, на кото-
рые мы ссылались при описании китайской образной си-
стемы. Наряду с фигуративными изображениями исполь-
зовался и геометрический орнамент. При Хань стилистика
росписей несколько изменилась. Рисунок стал исполнять-
ся тонкими, элегантными линиями, выполненными крас-
ной и черной красками по белому ангобу (см. вклейку).
Особое распространение получили изображения «четырех
духов» и фризовые композиции, тоже уже знакомые нам,
сюжетного характера, очень близкие по содержанию и сти-
листике последующим погребальным рельефам и стенопи-
сям. Все это позволяет рассматривать расписную керамику
данного типа своего рода промежуточным звеном между
«бронзами с сюжетными композициями» и погребальным
изобразительным искусством и, кроме того, усматривать в
ней один из истоков непосредственно живописи.
Еще один керамический центр, тоже обнаруженный со-
всем недавно (находки начала 90-х гг. прошлого века), на-
ходился в северо-западной части Хэнань (местность Цзию-
анъши, приблизительно в 60 км к северу от Лояна) и актив-
но функционировал с конца периода Борющихся царств и
до первого столетия Хань. Выпускаемые в нем изделия рез-
ко отличаются от лоянских. Их роспись состоит только из
геометрического орнамента, нередко дополненного «облач-
ным узором», весьма перекликающимся с его морфологи-
ческими вариантами на лаках. Также обращает на себя
Лоянская расписная
керамика
a — конец Чжоу (45 см); б
-Ран-
няя Хань (48 см); в — Ранняя
Хань (с сюжетной сценой, 48 см).
Сосуды с глазурным
покрытием
a — из усыпальницы правителя
Юэ; б — восточноханьская кера-
мика (пров. Цзянсу).
695
внимание богатство цветовой палитры росписей и контраст-
ность их колористических сочетаний. Они исполнялись
красной, зеленой, коричневой и светло-лиловой красками
по разноцветному — коричневато-зеленому или темно-
зеленому — ангобу.
Третий керамический центр, работа которого просле-
живается только для Ранней Хань, был выявлен (находки
90-х гг. прошлого века) на территории северной части про-
винции Цзянсу, где при Хань находилась провинция Сюй-
чжоу. Выпускаемые в нем изделия тоже копируют формы и
орнаментику бронзовых сосудов, причем характерные не-
посредственно для периода Борющихся царств. Рисунок,
состоящий, как правило, из широких, размашистых линий
и штрихов, достаточно точно воспроизводит декор бронз, с
сохранением, в том числе, околоручечных личин, но отли-
чается при этом насыщенностью цветовой гаммы и смело-
стью колористических решений. Росписи выполнены белой,
черной, желтой, ярко-синей (индиго) и зеленой красками и
нанесены на ангоб красного, белого и зеленого цветов.
Расписная керамика продолжала выпускаться (во вся-
ком случае, такие изделия присутствуют в погребальном
инвентаре) и при Поздней Хань. Однако среди известных
ее образцов уже нет столь же самобытных изделий, кото-
рые свидетельствовали бы о существовании отдельных цен-
тров расписной керамики. Создается впечатление, что тра-
диция расписной керамики, внезапно оживившись и ярко
заявив о себе, вдруг прервалась. Вероятной причиной этого
могла послужить стремительно растущая популярность
«каменной» керамики.
«КАМЕННАЯ» Древнейшие керамические изделия, в состав теста кото-
КЕРАМИКА рых входила каолиновая глина, были обнаружены, напом-
ним, в находках южных неолитических очаговых культур
Гаомяо и Сунсикоу. Однако в современном искусствоведе-
нии зарождение «каменной» керамики как самостоятель-
ной керамической традиции до сих nop принято соотно-
сить с гончарным делом юго-восточной локальной культу-
ры Мацяо, принадлежащей к верхнему слою общности
Лянчжу и локализовавшейся на территории современного
696
Шанхая. Известно (в основном находки 90-х гг. прошлого
века) уже несколько десятков местных керамических сосу-
дов — исключительно монохромных, украшенных рельеф-
ным орнаментом и прошедших обжиг, по результатам но-
вейших экспертиз, в пределах 1150°С.
В иньскую эпоху производство «каменной» керамики
было налажено в нескольких регионах страны. Более того,
отчетливо выделяются два ареала ее изготовления — «се-
верный», охватывающий собой керамические центры, рас-
полагавшиеся в регионе нижнего и среднего течения Хуан-
хэ, включая Лоян и Аньян, и «южный». Образцы «север-
ной» керамики присутствуют уже в комплексе Эрлиган, и
ее история непрерывно прослеживается вплоть до конца
Западного Чжоу. Она отличается простотой форм, близких
формам местной неолитической керамики, и лаконично-
стью художественного оформления, которое сводится к гео-
метрическому орнаменту или вообще отсутствует. Исклю-
чение составляет кувшин-гуанъ (высота 33 см), который
был обнаружен в Аньяне, эта находка в свое время стала
сенсацией в мировом китаеведении, дав ученым повод го-
ворить об изобретении фарфора еще в иньскую эпоху. Он
выполнен в необычной для «северной» керамики стилисти-
ческой манере — очень элегантной, изысканной и сродни
стилистике бронз. Вся его поверхность украшена орнамен-
том, состоящим из горизонтально расположенных чередую-
щихся узорных и гладких зигзагообразных полос. Узор
выполнен в низком рельефе и состоит из мелких повторяю-
щихся меандров. Горлышко сосуда орнаментировано низ-
корельефными фигурами драконов-кгг/й, a нижняя часть —
двумя зооморфными личинами. Уникальность этого сосуда
подсказывает, что он мог быть сделан не в аньяновских, a
в «южных» мастерских.
Центры изготовления «южной» керамики находились,
как выяснилось, почти на всей территории региона ниж-
него и среднего течения Янцзы: в провинциях Аньхуэй
(район гор Хуаншань), Цзянсу (район оз. Тайху) и Чжэ-
цзян (районы Ханчжоу и гор Тяньтайшань). Относящие-
ся к ним изделия со всей очевидностью восходят к неоли-
тической керамике Лянчжу и Луншань, будучи отмечен-
ными усложненностью форм и употреблением «струнного»
рельефного орнамента. Производство «каменной» кера-
мики в перечисленных центрах продолжалось на всем про-
тяжении Западного Чжоу и периода Весен и осеней. Изде-
лия, относящиеся к чжоуской эпохе, отличаются разнооб-
разием категорий и форм, некоторые из них по-прежнему
восходят к формам неолитических сосудов, a другие — к
формам бронзовых. Есть модели таких специфических
бронзовых изделий, как колокол, и изделия, напоминаю-
щие погребальную пластику (сосуд в виде фигуры медве-
жонка как бы сидящего в котле).
Вся иньская и раннечжоуская «каменная» керамика вы-
полнялась из теста с добавлением в него мелкозернистого
кварца или песка и проходила по меньшей мере десятичасо-
вой обжиг при температурном режиме в пределах 1050-1150°С.
Каменная керамика
эпохи Инь
a — пров. Аньхуэй; б — пров.
Чжэцзян; в — Аньян.
«Северная»
каменная керамика.
Инь — Раннее Чжоу
«Южная» каменная
керамика. Раннее Чжоу
Каменная керамика
из провинции Чжэцзян
середины периода Весен
и осенеи
697
«Зеленая» керамика
из усыпальницы правителя
царства Юэ
Ханьская
«зеленая» керамика
a — пров. Цзянсу (окрестности
Нанкина); б — пров. Чжэцзян.
В IV—III вв. до н. э. появился качественно новый сорт
«каменной» керамики — с глазурным покрытием, сделан-
ным на основе свинца с добавлением окиси железа. Окись
железа давала ему цвета зеленой гаммы: серо-голубой, зе-
леный и зеленовато-коричневый, благодаря чему данный
сорт получил терминологическое название «зеленая кера-
мика» (цинтао). Считается, что она была изобретена на
юго-востоке, в провинции Чжэцзян. A древнейшая и самая
полная ее коллекция была обнаружена в усыпальнице по-
следнего правителя царства Юэ, где, наряду с сосудами,
покрытыми коричневой глазурью, находилось еще 25 из-
делий, выполненных из каолиновой глины с зеленым гла-
зурным покрытием. Примечательно почти полное совпаде-
ние форм и орнаментации обеих этих серий, что позволяет
уточнить истоки «зеленой керамики».
При Хань она стала производиться уже практически во
всех центрах древней «каменной» керамики (в Цзянсу,
Аньхуэй), к которым добавился ряд новых региональных
центров, расположенных еще дальше на юг (Цзянси, Ху-
бэй, Хунань). В эпоху Шести династий этот сорт, точнее,
керамическая традиция, образованная несколькими регио-
нальными, хотя и типологически сходными сортами, заня-
ла ведущее положение в южнокитайском декоративно-
прикладном искусстве. Качество «зеленой керамики» не-
уклонно повышалось, a репертуар изделий расширялся.
В эпоху Шести династий в состав ее керамического теста
входили не только песок, но и «фарфоровый» камень, a
температура обжига была доведена до 1170-1250°С, что
позволяло получать изделия с очень твердым, стекловид-
ным черепком, близким по цвету фарфоровому. В глазурь
вводились известковые и щелочные добавки, снижавшие
ее тугоплавкость настолько, что во время обжига она «тек-
ла», и образовавшиеся потеки служили, в глазах китай-
цев, ее дополнительным украшением.
При Хань в такой технике исполнялись преимуществен-
но погребальные сосуды, например, кувшинов-гі/ань и ху,
и реже — предметы столовой утвари: чашки, блюда. Хотя
основная масса изделий не имела художественного оформ-
ления, еще в конце Чжоу проявилась тенденция к использо-
ванию рельефного декора, что и стало впоследствии опреде-
ляющей приметой «зеленой керамики» и всех производ-
ных от нее сортов.
В эпоху Шести династий изготавливались практически
все категории столовой утвари, погребальные сосуды в виде
скульптурных изображений, курильницы и даже статуэт-
ки, входившие в набор погребальной пластики. Они тоже
орнаментировались рельефным орнаментом — гравировкой,
выпуклым декором, сквозным узором. Крышки сосудов
(практика, вошедшая в моду еще при Хань) нередко укра-
шались пластическими многофигурными композициями, вос-
производящими целые сюжетные сцены (см. вклейку), на
что уже обращалось внимание, когда говорилось о возмож-
ном влиянии загадочной культуры Дяней на китайское худо-
жественное творчество декоративно-прикладного искусства.
698
При Тан «зеленая керамика» обрела свое новое технико-
художественное воплощение, известное как «юэская ке-
рамика» (юэтао) — по названию местности — Юэчжоу,
где находились ее мастерские: на восточной оконечности
провинции Чжэцзян, в правобережной зоне Ханчжоуско-
го залива. От «зеленой керамики» она отличается, во-
первых, составом керамического теста, все компоненты
которого подвергались более тщательной, чем раньше,
очистке, в результате ее черепок приобрел устойчивый
серо-белый цвет, хотя температура обжига оставалась в
прежних пределах и даже несколько снизилась — до 1190-
1200°С. Во-вторых, усложнилась рецептура глазури путем
введения в нее новых минеральных добавок, в том числе
титана, что несколько изменило ее цветовую палитру —
стали преобладать желто-зеленый и нефритово-зеленый
цвета. Подобная цветовая гамма придала «юэской керами-
ке» внешнее сходство с нефритовыми изделиями, повысив
тем самым ее репутацию: известно, что эти изделия ис-
пользовались в качестве церемониально-литургической и
пиршественной утвари, служили дарами и жертвенными
подношениями341.
Своего наивысшего технико-художественного совершен-
ства традиция «зеленой» и «юэской» керамики достигла в
очередной стадиальной разновидности, получившей назва-
ние в китайской терминологии «керамика светло-зеленого
(горохового) цвета» (доуцинтао), a в Европе — селадоны342.
В самом широком его смысле данный термин может упот-
ребляться для обозначения всех сортов монохромной кера-
мики с глазурным покрытием, которые производились в
Китае на протяжении танской, сунской, юаньской и мин-
ской эпох« Но в более узком и правильном, с научной
точки зрения, значении так определяется продукция мас-
терских Лунцюанъ, находившихся в одноименном уезде: в
юго-западной части той же провинции Чжэцзян.
Производство селадонов началось предположительно в
эпоху Пяти династий и утвердилось при Северной Сун.
В состав их керамического теста уже обязательно входил
«фарфоровый» камень, степень очистки природных мате-
риалов приближалась к фарфоровому производству, a тем-
пература обжига находилась в пределах 1170-1270°С.
В XIII в. изготавливались изделия, по всем технологиче-
ским показателям мало чем отличавшиеся от фарфора. Оче-
редному усложнению подверглась и рецептура глазури, в
которую, помимо закисного железа (до 15%), могли вхо-
дить окись магния (0,3-0,6%), кобальта (0,2-0,01%), a
также титана, меди, никеля, которые и в микроскопиче-
ских дозах влияли на ее качество. В цветовой палитре
глазурного покрытия лунцюаневских селадонов теперь уже
варьировались все цвета и оттенки зеленой гаммы: от бледно-
зеленого до оливкового, включая изумрудный. Исполня-
лись также изделия с «пятнистой глазурью», покрытие
которых состояло из разноцветных пятен-«брызг», возни-
кающих благодаря способности закиси железа брать кис-
лород из окиси меди.
«Зеленая» керамика
эпохи Шести династий
a — курильница (период Троецар-
ствие); б — погребальная плас-
тика (курятник, ок. 8 х 12 см, вто-
рая половина Ш в., пров. Чжэ-
цзян); в — посуда (вторая половина
III в., пров. Цзянси); г — посуда
(ГѴ в., пров. Аньхуэй).
341 В 1987 г. при раскоп-
ках буддийского монастыря
Фамэньсы (к северо-западу от
Сианя) был найден целый ком-
плект «юэской керамики»,
который был преподнесен в
дар этому монастырю члена-
ми императорской фамилии.
342 По одним версиям, при-
веденный европейский термин
происходит от арабского слова
салудун — «твердый», *креп-
кий», что полностью соответ-
ствует качеству черепка изде-
лий. По друтим, от имени па-
стушка Селадона — героя
популярнейшего в свое время
французского пасторального
романа «Астрея» Онорэ д'Юр-
фэ. Названный персонаж ро-
мана питал особое пристрас-
тие к серовато-зеленому цве-
ту, который господствовал в
цветовой палитре селадонов
минской эпохи, когда они и
попали в Европу.
699
Северосунские селадоны
Еще одним новым оформительским приемом, изобретен-
ным лунцюаневскими мастерами, являются декоративные
трещины (краклэ или цэк). Они образовывались на глазури
вследствие разницы между коэффициентами расширения
стенок сосуда и глазурного покрытия, что и приводило к
растрескиванию последнего в ходе охлаждения изделий.
Посредством варьирования химического состава керамиче-
ской массы и глазури можно было добиться не только боль-
шего или меньшего расширения глазурного покрытия, но и
заранее задуманного расположения трещин. Существовали
также способы («замедленный цэк»), при которых трещины
появлялись на сосуде через некоторое время — месяц и даже
год. Такой оформительский прием использовался и в дру-
гих керамических центрах с изобретением новых вариан-
тов, например сочетание цэка с краской. В зависимости от
характера трещин и их колористических особенностей по-
добные варианты нередко имели отдельные терминологи-
ческие названия, например «тающий лед с кровью угря»:
цэк на глазурном покрытии голубовато-серого цвета, закра-
шенный кармином. Впоследствии этот прием широко ис-
пользовался и в фарфоровом производстве.
Сунским селадонам был также свойствен собственный
набор форм и орнаментальных мотивов. Многие категории
их сосудов восходят к древним бронзам и даже к неолити-
ческим керамическим формам, сохранившимся благодаря
древней керамике. В художественном оформлении изделий
предпочтение отдавалось выпуклому орнаменту и расти-
тельным мотивам (см. вклейку). Декор исполнялся как на
внешней, так и на внутренней поверхности сосудов.
Селадоны продолжали активно производиться и в юань-
скую эпоху, достигнув пика расцвета при Мин. Минские се-
ладоны сохранили верность прежним формам и орнаменталь-
ным способам, воплотив одну из наиболее консервативных
керамических традиций Китая. Наиболее часто здесь испол-
нялись курильницы, сосуды в виде треножников-ли, кувши-
ны, наподобие ху и гуанъ, блюда, повторяющие собой форму
пань в ее керамическом и бронзовом исполнении. Тем не
менее они приобрели ряд специфических по сравнению с их
сунскими предшественниками черт. Основное место в палит-
ре глазурей заняли пастельные тона — оттенки бирюзового,
голубого и зеленого цветов. Например, для раннеминского
периода (конец XIV — начало XV в.) типичны изделия голу-
бовато-зеленых тонов, нередко украшенные декоративными
трещинами самых причудливых конфигураций. Орнамента-
ция минских селадонов состоит в основном из подглазурного
врезанного или легкорельефного орнамента, по-прежнему с
преобладанием растительных мотивов, a также с использова-
нием фигур птиц и рыб. Отличительной особенностью мин-
ских селадоновых блюд является наличие на их внутренней
поверхности радиально идущих желобков, выпуклых верти-
кальных полос и фестончатых рамок.
В цинскую эпоху производство селадонов постепенно
замерло. Но онй уже успели попасть в Европу и приобре-
сти там не меныпую, чем фарфор, популярность.
700
«Юэская керамика» и лунцюаневские селадоны явля-
ются, бесспорно, ведущими, однако далеко не единствен-
ными представителями «каменной» керамики с глазурным
покрытием, которая производилась в Китае в танскую и
сунскую эпохи. Многие ее сорта и производственные цент-
ры стали доподлинно (не по литературным свидетельствам,
a в оригинальных образцах) известны специалистам лишь
недавно, в результате археологических находок. Для эпо-
хи Шести династий и Тан главным, наряду с Юэчжоу,
керамическим центром для регионов бассейна Янцзы в на-
стоящее время признаются мастерские Хунчжоу — в се-
верной части провинции Цзянсу (территория современного
уезда Цюйцзянчжэнь, приблизительно в 70 км к югу от
Наньчана, раскопки 1992 г.). Эти мастерские возникли в
самом конце Хань и продолжали работу до эпохи Пяти
династий, придя уже к VIII в. в состояние упадка. В пери-
од своего расцвета (на протяжении III-VI вв.) они произво-
дили чрезвычайно своеобразные изделия, в основном чай-
ную посуду: в виде стилизованных цветочных бутонов и
богато украшенной изнутри рельефным растительным ор-
наментом или изображениями распустившихся цветков.
Изделия покрывались глазурью черного, зелено-черного и
желто-черного цветов. Продукция хунчжоуских мастерских
пользовалась широким спросом далеко за пределами дан-
ного района. О ней, в частности, упоминается в «Трактате
о чае» Лу Юя.
Под непосредственным влиянием хунчжоуской кера-
мики находился, как оказалось, ряд других юго-восточ-
ных и южных керамических центров, например, мастер-
ские Учжоу (юго-западной оконечности Чжэцзян), Юэчжоу
(на юго-восточной окраине Хубэй, недалеко от Учана). В пер-
вых выпускалась посуда с желто-зеленым глазурным по-
крытием, во вторых — с покрытием специфических (серо-
го и пурпурного) цветов. Собственные производственные
центры, выпускавшие «каменную» керамику с глазурным
покрытием, возникли даже в предельно периферийных для
того времени юго-восточных и южных районах. Один из
них находился в провинции Фуцзянь. Он возник в эпоху
Шести династий и продолжал работу вплоть до конца Тан,
изготавливая разнообразные категории изделий: не только
посуду, но и курильницы, светильники. Все они отличают-
ся усложненными формами, своеобразным декором (осо-
бенно курильницы, украшенные выступами-налепами) и
явно ассоциируются с бронзовыми изделиями. A их гла-
зурное покрытие — в основном зеленого цвета, ставит их в
один технико-художественный ряд с «юэской керамикой»
и будущими селадонами.
Другой, тоже весьма крупный и самобытный производ-
ственный центр, был выявлен (находки второй половины
80-х гг. прошлого века) на северо-восточной окраине про-
винции Цзянси (местность Гуйлинь). Судя по маркировке
изделий, он функционировал с середины III в. и до VII в.,
создавая преимущественно столовую посуду, сосуды с гла-
зурным покрытием желто-зеленого и зелено-серого цветов.
Хунчжоуская керамика
a — формы изделий V в.; б — фор-
мы изделий конца VI в.; в — ор-
наментация изделий Ѵв.;г — ор-
наментация изделий конца VI в.
Фуцзяньская керамика
Гуйлиньская керамика
701
Нанкинская керамика
Яочжоуская керамика
Данная цветовая гамма также совпадает с «юэской керами-
кой» и селадонами, a формы и характер орнаментации изде-
лий — чаши в виде цветочных бутонов, рельефные изобра-
жения распустившихся цветков на внутренней поверхно-
сти — делают их похожими на хунчжоускую керамику.
Заканчивая разговор о монохромной керамике юго-
восточных и южных регионов Китая, упомянем и о мастер-
ских (находки 1996 г.), работавших при Сун в окрестно-
стях Нанкина и производивших посуду, отчасти повторяю-
щую лунцюаневские селадоны — с глазурным покрытием
таких же цветов, но отличающиеся некоторым своеобрази-
ем форм и декора. Самой специфической категорией изде-
лий выступают кувшиноподобные сосуды с крышками.
Внешние стенки сосудов покрыты рельефным геометриче-
ским узором, состоящим чаще всего из повторяющихся
вертикальных полос, на крышках — изображения распус-
тившихся цветов.
Исключительная интенсивность производства керами-
ки прослеживается и в юго-западном регионе, где в танскую
и сунскую эпохи функционировали пять крупных произ-
водственных центров, включающих множество мастерских,
которые были сосредоточены в центральной части Сычуань
(территории уездов Шаосисянь, Чанцзянсянь и т. д.). К со-
жалению, самым полным свидетельством их работы пока
остаются изделия, найденные (конец 80-х гг. прошлого века)
в схроне, датируемом началом XIII в. Всего в нем находи-
лось 1005 предметов, в основном столовая посуда, как при-
возная (в том числе лунцюаневские селадоны), так и в ос-
новном местного производства. Изделия имеют глазурное
покрытие зеленых тонов (зеленое, серо-зеленое), отличают-
ся простотой форм, элегантностью линий и богатством деко-
ра, состоящего из рельефного орнамента с широким упот-
реблением растительных мотивов, особенно цветов лотоса, и
зооморфно-фантазийных изображений.
Для центрального региона Китая основным центром
производства монохромной керамики в настоящее время
Сычуаньская керамика.
Схрон. Пров. Сычуанъ
702
признаются мастерские Яочжоу, находившиеся в 90 км к
северу от Сианя. В ходе проведенных в этом месте археоло-
гических работ (1984 г.) были найдены остатки более 40 ма-
стерских, 50 обжиговых печей и внушительное число изде-
лий танского и сунского времени. Выяснилось, что этот
центр возник в конце VI в., и на протяжении ѴІІІ-ХП вв.
в нем массово производились изделия, все более отвечаю-
щие признакам фарфора. При Тан выпускалась керамика с
черным глазурным покрытием, при Сун — с покрытием
желтого, бледно-голубого и зеленого цветов, что, возможно,
объясняется влиянием лунцюаневских селадонов. Яочжоу-
ская керамика тоже украшалась рельефным орнаментом,
но более богатым по мотивам и сюжетам, чем лунцюанев-
ская. Помимо растительных мотивов, с преимущественным
использованием образов лотоса и пиона, он включал в себя
изображения птиц — феникса, журавля, утки, a также
рыб. На тулове сосудов нередко помещались горельефные
(приближающиеся к трехмерным) зооморфные фигуры, a
вспомогательные детали (ручки) оформлялись в виде пла-
стических изображений и композиций. В XII в. яочжоу-
ские мастерские прекратили свое существование и оказа-
лись практически полностью забытыми.
И наиболее популярным и известным сортом
керамики центральных регионов Китая выступает «трех-
цветная поливная керамика» (санъцайтао), которая заслу-
женно считается одной из замечательных особенностей всего
местного художественного творчества в эпоху Тан. В такой
технике исполнялась посуда, пиршественная утварь — спе-
цифические винные чарки в виде пластических компози-
ций на зооморфные темы, включающие в себя рога жи-
вотных (рудимент их использования в качестве винных
кубков), и погребальная пластика. Центр производства
«трехцветной поливной керамики» располагался вблизи от
Лояна. Она изготавливалась из керамической массы, при-
готовленной из каолиновой глины с добавлением кварца и
иногда, в неболыпих количествах, «фарфорового» камня и
проходила обжиг при температурном режиме 1170-1300°С.
В состав глазури входили свинец и окисное железо, давав-
шее ей зеленые, желтые и коричневые цвета и оттенки.
Обильно нанесенная на поверхность изделий, глазурь «тек-
ла» в процессе обжига, образуя неравномерные и плавно
переходящие один в другой потеки указанных цветов. Кро-
ме того, на предметы иногда наносились элементы роспи-
сей. Производство «трехцветной поливной керамики» про-
должалось и при Сун, хотя и в значительно меныпих, чем
в танскую эпоху, масштабах. В дальнейшем оно тоже пре-
кратило свое существование либо оказалось на периферии
активного производства керамики, но в настоящее время
возобновлено и является популярнейшим и в самом Китае,
и за пределами его регионального художественного про-
мысла, выпускающего главным образом пластику, — изоб-
ражения коня и верблюда самых разных размеров: от ми-
ниатюрных статуэток до крупногабаритных изваяний, ко-
торые используются в качестве садовой декоративной
Танская тпрехцветпная
поливная керамика
703
Расписная керамика
центрального региона
Китая. Пров. Хэнань
скульптуры. Есть также и монументальные образцы, напри-
мер изваяния (в натуральную величину) коня и верблюда,
стоящие y входа в гостиницу «Дружба» (Лоян). В технике
«трехцветной поливной керамики» выполнены также фигу-
ры львов y входа в монастырь Шаолинь, хотя их датировку
автору выяснить не удалось.
При общем господстве на протяжении III—XII вв. моно-
хромных «каменных» сортов, традиция расписной керами-
ки все же продолжила свое бытие, пусть даже в перифе-
рийных (по отношению к главным керамическим центрам)
мастерских. Во-первых, в центральных регионах Китая во-
зобновилось производство расписной посуды, хотя и приме-
нялись обычные глины. Основным ее центром были мастер-
ские в Цычжоу, находившиеся на южной оконечности Хэ-
бэй (на территории современного уезда Цысянь). Они начали
работу, возможно, еще в IV в., наладив выпуск изделий с
коричнево-черными росписями, нанесенными на беловатую
поверхность. Краски изготавливались на основе меди, a сами
росписи постепенно приобрели композиционную сложность
и тематическое многообразие. Непосредственно при Тан они
включали в себя растительный орнамент, состоявший из
изображений цветов — пионов, лотосов, орхидей, и деревь-
ев — веток цветущей сливы, бамбука; композиции на зоо-
морфные и зооморфно-фантазийные темы, воспроизводящие
образы дракона, феникса, цилиня, тигра, льва, журавля; и
даже полноценные жанровые сцены — играющих детей,
акробатические представления. Сходная по технико-худо-
жественным показателям керамика (росписи, выполненные
медными красками по белому фону) имела место, судя по ее
присутствию в погребальном инвентаре, и в ряде других
мастерских на территориях провинций Хэнань и Шэньси.
И хотя она заметно уступает по качеству росписей цычжоу-
ским изделиям, прорисовывается целая «керамическая зона»,
простиравшаяся от Хэбэй до Шэньси.
Возникновение расписной «каменной» керамики, т. е.
изобретение техники подглазурной росписи, является до-
стижением уже юго-восточного керамического производ-
ства. Это событие произошло в эпоху Шести династий в
мастерских Оу, находившихся на юго-восточной окраине
провинции Чжэцзян, в местности Вэнъчжоу. Там изготав-
ливали сосуды, сплошь покрытые росписью в виде кро-
шечных (с булавочную головку) коричнево-черных точек,
поверх которых наносилась коричневая глазурь. В некото-
рых случаях точки были сгруппированы таким образом,
что получались весьма стилизованные изображения цветов
или растительные орнаменты. Следующий и наиболее зна-
чительный этап эволюции подглазурной росписи связыва-
ется с танской эпохой — с деятельностью мастерских в
Тунгуане, находившихся в центральной части провинции
Хунань (в 27 км к северо-западу от Чанша, вверх по реке
Сяншуй). 06 их существовании стало известно благодаря
археологическим изысканиям (1979 г.), во время которых
были открыты остатки 19 обжиговых печей и найдены
многочисленные готовые изделия. По единодушному мне-
704
нию специалистов, тунгуановское производство представ-
ляло собой не просто крупный керамический центр, но и
полностью самостоятельную художественную школу, вос-
ходившую к расписной керамике чжоуской и ханьских
эпох и, более того, открывшую собой новую эру в эволю-
ции всей китайской керамики.
Росписи исполнялись красками на медной основе, да-
вавшей зеленые и красные цвета, и покрывались коричне-
вато-желтой и коричневой глазурью. Выделяются 5 типов
росписей. Во-первых, геометрические узоры, состоящие из
ромбов, кругов, крестообразных фигур, которые могут быть
дополнены стилизованными изображениями облаков, волн
и лотосов. Во-вторых, композиции на тему «цветы и тра-
вы», состоящие преимущественно из цветов водяной ли-
лии, которые, примечательная деталь, выполнены в соб-
ственно живописных техниках, через сочетание широких
мазков и тонких штрихов, иногда с употреблением легкой
подцветки. В-третьих, росписи на зооморфные и зооморфно-
фантазийные сюжеты, тоже включавшие в себя изображе-
ния как реальных представителей животного мира — зве-
рей (в том числе льва), птиц и рыб, так и фантастических
существ (драконов, фениксов). Такие росписи обычно вы-
полнены несколькими энергичными мазками. В-четвертых,
пейзажные композиции, отдаленно напоминающие «туманно-
облачный» стиль северосунской пейзажной живописи: упо-
требление легких штрихов, придающих этим композициям
особую легкость, и волны, выполненные, напротив, силь-
ными, динамичными мазками. В-пятых, сюжетные сцены,
на которых вновь изображены играющие дети, a также
фигуры чиновных лиц, которые отождествляются с «муд-
рецами из Бамбуковой рощи» в силу их морфологического
сходства с изображениями последних в южнокитайском
погребальном искусстве эпохи Шести династий (керами-
ческое панно). Кроме того, в художественное оформление
изделий активно вводились надписи, иногда заменявшие
собой живописные композиции. Хотя продукция тунгуа-
новских мастерских явно не пользовалась массовым спро-
сом на рынке страны, их работа составляет важное звено в
истории развития всей китайской керамики и непосред-
ственно фарфора.
Предварительно заметим, что расписные сорта «камен-
ной» керамики производились и в дальнейшем, после утвер-
ждения фарфора с кобальтовой росписью. Для юаньской и
минской эпох обнаружилось несколько региональных цент-
ров с аналогичными изделиями. Отдельного упоминания
заслуживают мастерские в Юйси, находившиеся на край-
нем юге страны — в провинции Юньнань (немного южнее
современного Куньмина). Они были учреждены по приказу
центральной администрации в конце XIII в., что, заметим,
специально оговаривается в «Истории династии Юань»
(«Юанъ ши»). Однако и этот центр стал известен науке лишь
недавно: его открытие состоялось в начале 60-х гг. прошло-
го века, a основные раскопки были проведены здесь в 1986 г.
Работа юйсийских мастерских продолжалась и при Мин.
45 Истормя искусства К;ітая
С j C s >L3si
Pocnucu
на тунгуановской керамике
a — цветочные мотивы; б — на
тему «цветы и птицы»; в — на
зооморфные темы; г — фрагмент
сюжетной сцены.
705
WW
Юйсиская (Юнънанъ)
расписная керамика
Сычуанъская расписная
керамика начала Мин
Все это время в них выпускалась посуда, очень близкая
по качеству — с белым, тонким черепком — к фарфору,
производимому в Цзиндэчжэне. Однако их роспись отли-
чается определенной самобытностью. В ней преобладают
растительные мотивы — цветы, ветви деревьев, но в ори-
гинальных трактовках и исполненных в характерной жи-
вописной технике сочных, энергичных мазков и штрихо-
вых линий.
Для минской эпохи наиболее примечательно, пожалуй,
региональное производство кобальтовой расписной кера-
мики, но на уровне частных мастерских, которое находи-
лось тоже в провинции Сычуань. Оно было выявлено слу-
чайно (1998-1999 гг.) благодаря находке остатков винной
лавки (на территории одного из районов Чэнду), где обна-
ружили болыное число керамической посуды, восходящей
к началу Мин. Там присутствовали образцы монохромной
«каменной» керамики с зеленым, темно-коричневым, чер-
ным и белым глазурным покрытием — вся керамика мест-
ного производства. Что касается изделий с кобальтовой
росписью, то они в очередной раз демонстрируют художе-
ственное своеобразие. Используя в целом тот же самый,
что фарфор Цзиндэчжэня и юйсиская керамика, набор
орнаментальных тем и мотивов (геометрический, расти-
тельный орнамент), местные мастера исполняли изделия
в оригинальных трактовках, отличающихся тонкостью и
измельченностью рисунка. Некоторые изделия украшены
настоящими сюжетными композициями и композициями
со «счастливыми» иероглифами.
Итак, мы видим, что в Древнем Китае и вплоть до XII-
XIII вв. развитие национальной керамики происходило в
рамках множества региональных производств, причем каж-
дое отличилось своими технико-художественными дости-
жениями и новациями, которые в конечном счете и сдела-
ли китайский фарфор неповторимым.
ФАРФОР
343 Данная местность отно-
сится к числу наиболее свое-
образных ремесленно-художе-
ственных регионов Китая, где
исходно наблюдается смешение
собственно китайских и чуже-
земных художественных тра-
диций. Именно здесь распо-
лагалось царство Чжуншань,
искусство которого наложило
печать на всю последующую
местную творческую деятель-
ность. На протяжении Ѵ-ІХ вв.
в Динчжоу функционировали
златоделание, шелковое про-
изводство, центр каменной
буддийской скульптуры, при-
чем их работа неизменно от-
личалась высочайшим худо-
История развития фарфора разделяется на несколько
эволюционных этапов. Первый из них — этап возникнове-
ния фарфора и его превращение в самостоятельную кера-
мическую отрасль — соотносится с танской и северосун-
ской эпохами. Фарфор был изобретен в самом конце VI
или в начале VII в.: древнейшие из известных сегодня
образцов датируются 618-620 гг. Они были изготовлены
в мастерских Динчжоу — местности, находящейся на се-
веро-западе провинции Хэбэй (приблизительно в 140 км к
северо-западу от пекинского мегаполиса)343. Определяе-
мые как байдин — «белые [изделия из] Дин[чжоу]», —
первые фарфоровые сосуды представляли собой изделия с
черепком чисто-белого цвета, иногда имеющим чуть замет-
ный голубоватый оттенок (результат воздействия задым-
ленной, от горящей древесины, печной атмосферы), и были
покрыты глазурью цвета слоновой кости. Они отличались
лаконичностью формы, плавностью силуэтных линий, либо
были лишены орнаментации, либо декорировались тонки-
706
ми рельефными или гравированными линиями, воспроиз-
водящими контуры бутонов лотоса. Своего наивысшего рас-
цвета «динский фарфор» достиг к XII в., a его лучшими
образцами признаны изделия периода Сюанъхэ, т. е. в по-
следние годы правления императора Хуэй-цзуна344. В целом
северосунский фарфор характеризовался непрерывным со-
вершенствованием качества сосудов, ставших еще более тон-
костенными, расширением набора их категорий и форм, a
также репертуара орнаментальных способов, который те-
перь включал (подобно, заметим, селадонам и другим сор-
там монохромной керамики) разнообразные растительные и
зооморфные мотивы, выполняемые в гравировке и различ-
ных рельефных техниках.
Кроме того, оказалось (находки 1975 и 1981 гг.), что
еще при Тан выпускался фарфор с кобальтовой подгла-
зурной росписью. Но факт обнаружения таких изделий
на территории некогда одного из важнейших торговых
городов (Янчжоу, пров. Цзянсу) на тракте, ведущем из
Гуанчжоу в метрополию, и их явное подчинение стили-
стике арабо-персидского декоративно-прикладного искус-
ства указывают на то, что они изготавливались исключи-
тельно в качестве экспортной продукции. Никаких сле-
дов хождения расписного фарфора на внутреннем рынке
страны пока не прослеживается. Указанные изделия по-
зволяют также утверждать, что кобальтовая роспись
исходно была заимствованием из художественного твор-
чества Ближнего Востока.
В северосунскую эпоху произошло значительное рас-
ширение географии фарфорового производства. Динские
мастерские дополнились еще несколькими керамически-
ми центрами («великими мастерскими»), — продукция
которых, по мнению некоторых специалистов (хотя оно
не является общепризнанным), по всем определяющим
показателям (тонкий, плотный и просвечивающий чере-
пок, обжиговый температурный режим) отвечает призна-
кам собственно фарфора. Это мастерские Жуяо, Цзюньяо и
Цзянъяо. Первые два из названных керамических центров
находились в метрополии, в центральной части Хэнань:
соответственно в местности Жучжоу (в 50 км к югу от гор
Суншань) и приблизительно в 100 км к востоку от нее (на
территории современного уезда Юйсянь).
Керамика мастерских Жуяо представлена в основном
небольшими по размеру (до 30 см в высоту) и предельно
лаконичными по формам сосудами, покрытыми глазурью
специфического нежно-голубого цвета. He исключено, что
именно эти изделия воспеваются в сунских поэтических
произведениях, повествующих о фарфоре, «голубом, слов-
но небо, тонком, как бумага, и звонком, подобно звуками
циня (струнного музыкального инструмента)». Кроме «го-
лубого фарфора», в мастерских Жуяо производилась кера-
мика с голубовато-зеленым глазурным покрытием, укра-
шенная легкорельефным цветочным орнаментом, но сде-
ланная из мелкозернистой глины и, видимо, служившая
продукцией массового спроса.
жественным уровнем, само-
бытностью и творческими но-
вациями. Этим, возможно,
объясняется факт изобрете-
ния фарфора именно там, a
не в южных или юго-восточ-
ных центрах «каменной» ке-
рамики, которые располагали
всеми необходимыми сырьевы-
ми ресурсами и, казалось бы,
уже вплотную приблизились
к технологии фарфорового
производства.
344 Это и последующие на-
звания этапов фарфорового
производства, равно как и мно-
гих других китайских произ-
водств (лаков, эмалей), проис-
ходит от девизов правления
императоров, так как они обыч-
но включались в маркировку
изделий, особенно выпускае-
мых в казенных мастерских
Сюаньхэ — девиз правления,
под которым прошли 1119—
1125 гг. царствования Хуэй-
цзуна.
Танский фарфор.
Кувшин, 15,7 см
^
~г
^
Фарфор эпохи
Пяти династий
707
Мастерские Цзюньяо изготавливали керамику четырех
сортов: с однотонным глазурным покрытием зеленого и
ярко-голубого цветов и с опалово-голубой или голубовато-
серой глазурью, включавшей пятна красного и красновато-
пурпурного цветов, которые образовывались за счет вос-
становленной меди. Подобная колористическая гамма так
и осталась уникальной в истории китайской керамики.
Мастерские Цзяньяо находились, напротив, на юго-
восточной периферии, на юго-востоке провинции Фуцзянь
(уезд Дэхуа, современная область Цюаньчжоу). Из них вы-
ходила главным образом столовая и чайная посуда — с че-
репком чисто-белого цвета и с черным или пурпурным гла-
зурным покрытием.
Большое значение для развития фарфорового и общего
керамического производства в северосунскую эпоху имели
меры, предпринимаемые центральными властями по его
регламентации. При Северной Сун впервые была учрежде-
на сеть казенных мастерских (гуанъяо) с их подразделени-
ем на два производственных типа: мастерские по выпуску
дворцовой посуды («для внутреннего пользования» — сю-
нэйсы-гуаньяо) и литургической утвари, использовавшей-
ся при исполнении официальных обрядовых акций («для
жертвоприношений в храмах и на алтарях» — цзяотанься-
гуанъяо). Был также законодательно установлен набор ке-
рамической литургической утвари, состоявший из сосудов,
копирующих древние бронзы. В документах того времени
сообщается, что казенные мастерские обоих типов были
сведены в 29 керамических центров, однако без приведе-
ния точного названия. Вполне вероятно (эта версия диску-
тируется в специальной литературе) в их число входили и
мастерские Жуяо.
Все керамические центры региона бассейна Хуанхэ по-
гибли во время нашествия чжурчжэней. Однако их тради-
ции полностью не были утрачены. При Южной Сун произ-
водство фарфора с голубой глазурью было налажено в мас-
терских Гуйшанъяо, учрежденных в непосредственной
близости от столицЬі, куда, возможно, приехали жуяоские
мастера. Существование и активнейшая производственная
деятельность названного керамического центра исчерпы-
вающе подтверждены в настоящее время археологически-
ми материалами (открытие — 1956 г., основные работы —
1984-1986 гг.).
И все же главным событием северосунской эпохи в
перспективе развития китайского фарфора стала органи-
зация фарфорового производства в Цзиндэчжэне. Цзин-
дэчжэнь находится к северо-востоку от озера Поянху, на
северо-восточной оконечности провинции Цзянси, где, на-
помним, сосредоточены лучшие сорта каолиновой глины
и богатейшие запасы «фарфорового» камня. Самостоя-
тельный керамический центр возник в этой местности
еще при Хань, a при Тан там было учреждено казенное
производство, обслуживающее нужды двора. Мастерские
по производству непосредственно фарфора были основа-
ны в 1004-1007 гг. по приказу императора Чжэнъ-цзуна.
Тогда же они получили и название Цзиндэчжэня — по
названию девиза годов правления — Цзиндэ — этого им-
ператора. Для работы в них были вызваны мастера из Дин-
чжоу, наладившие, естественно, выпуск изделий, копиро-
вавших «динский фарфор». Однако на протяжении X-
ХШ вв. основное место в продукции Цзиндэчжэня занимал
отнюдь не фарфор, a керамика, близкая селадонам, произ-
водство которых тоже было налажено приезжими — из
Лунцюаня — мастерами. Эта специализация Цзиндэчжэня
была выяснена тоже совсем недавно, благодаря археологиче-
ским работам, особенно интенсивно проведенным в 1999 г.,
в ходе которых было найдено около 6000 целых изделий и
их фрагментов, относящихся к эпохам Пяти династий, Се-
верной и Южной Сун и к началу Юань. Все это время в
Цзиндэчжэне изготавливалась преимущественно «камен-
ная» керамика с зеленым (для X в.), синевато-белым, желто-
белым, голубым и черным глазурным покрытием. От дру-
гих сортов монохромной керамики, которые были созданы
в то же время, изделия Цзиндэчжэня отличаются сложно-
стью архитектонической композиции и орнаментации, хотя
в ней тоже господствовали растительные мотивы. Наряду
со столовой утварью — блюдами, тарелками, кувшинами,
чашами и т. д., — здесь изготавливались также светиль-
ники, изголовья для сна и миниатюрная пластика (высо-
той в пределах 8-10 см), главным образом статуэтки жи-
вотных (собаки, барана, оленя) и всадников. Столь обшир-
ный опыт выпуска монохромной «каменной» керамики
послужил одним из определяющих факторов дальнейшего
развития цзиндэчжэневского фарфора, но это произошло
уже при Юань.
С юаньской эпохой соотносится следующий этап эволю-
ции фарфора, который ознаменовался, во-первых, оконча-
тельным становлением Цзиндэчжэня как его ведущего про-
изводственного центра: при Мин и при Цин в нем выпуска-
лось до 80% от общего числа национальных фарфоровых
изделий; и во-вторых, возникновением (если не принимать
во внимание танскую экспортную продукцию) и утвержде-
нием фарфора с кобальтовой росписью. Одновременно про-
изошла выработка базового для данного сорта фарфора на-
бора категорий и форм сосудов: блюда, чаши, вазы-гуанъ,
бутыли с грушевидным (в форме тыквы-горлянки) туловом.
Во всех этих формах и их декоративных элементах нетруд-
но уловить рудименты как бронзовых сосудов, так и пред-
шествующих керамических сортов. Так, строгость и изяще-
ство линий юаньского фарфора явно восходит к архитекто-
ническим особенностям динских изделий, тогда как практика
пластического оформления вспомогательных деталей (ру-
чек) сосудов — к орнаментации селадонов и других видов
монохромной каменной керамики. Подлинных образцов
юаньского фарфора сохранилось крайне мало, и многие его
характерные детали прояснились тоже недавно, благодаря
археологическим находкам. Оказалось, что уже в начале Юань
установилась прочная тенденция к нанесению на изделия
сплошных росписей, состоявших из цветочных (мэйхуа,
Монохромная керамика
Цзиндэчжэня
a — Хв.;б — Северная Сун; в —
светильник (Северная Сун); г —
мелкая пластика (Северная Сун).
709
Юанъский фарфор
a — кувшин с кобальтовой рос-
писью (25 см); б — с кобальтовой
росписью на «цветочные» темы;
в — с сюжетной сценой, выпол-
ненной в технике надглазурной
росписи.
Цзиньская керамика
с надглазурной росписью
a — пров. Шаньси; б — пров.
Хэнань.
6 ^\*\UJkliàkàk/
пионы, хризантемы) и «облачных» узоров. Они исполня-
лись тонкими контурными линиями и штрихами с тщатель-
ной проработкой мельчайших элементов рисунка.
Самой неожиданной и во многих отношениях сенсацион-
ной находкой стали сосуды с сюжетными живописными сце-
нами, выполненными, кроме того, в надглазурной технике,
освоение которой фарфоровым производством ранее датиро-
валось первой третью XV в. Более того, оказалось, что эта
техника была изобретена не в Цзиндэчжэне, a в керамичес-
ких производствах, функционировавших еще во второй по-
ловине XII в. на территории чжурчжэньского государства
Цзинь. Изделия с надглазурной росписью выпускались в
мастерских практически всего региона бассейна Хуанхэ:
на северо-востоке (Хэбэй), востоке (Шаньдун), в централь-
ных районах (Хэнань) и на севере (Шаньси). В них изго-
тавливалось 3 относительно самостоятельных технико-
художественных сорта: с росписью по глазурному покры-
тию, нанесенному на неокрашенный черепок; с росписью,
выполненной красной краской по трехцветной глазури; с
сочетанием надглазурной и подглазурной (черного цвета)
росписями. Следовательно, фарфоровое производство воспри-
няло опыт не только национальной керамики, но и исходно
чужеземные техники и орнаментальные способы.
Дальнейшая история фарфора четко подразделяется на
два масштабных этапа, соотносящихся с минской и цин-
ской эпохами, каждый этап имеет три отдельных стади-
альных периода: раннеминский, среднеминский, поздне-
минскийу раннецинскийу среднецинский и позднецинский
соответственно.
«Раннеминский» период принято соотносить со време-
нем правления императоров Чэнцзу (1403-1424) и Сюанъ-
цзуна (1426-1435) и определять (исходя из девизов их прав-
ления) как «период Юнлэ-Сюанъдэ». Хотя на самом деле,
он фактически начинается с момента прихода к власти
Мин, почти сразу же приступивших к восстановлению Цзин-
дэчжэня, очень серьезно пострадавшего, несмотря на свою
географическую удаленность от основной арены историко-
политических событий первой половины XIV в., от воен-
ных действий. Оборудование мастерских было уничтоже-
но, a в лучшем случае настолько обветшало, что требовало
срочного капитального ремонта. Их работа возобновилась
в конце XIV в. Однако количество выпускаемой продук-
ции было ограничено, и она лишь копировала юаньский
фарфор. В годы правления императора Сюань-цзуна дея-
тельность Цзиндэчжэня была не только полностью восста-
новлена в ее количественном объеме, но и приобрела но-
вый художественный уровень: в том числе было начато
масштабное освоение техники надглазурных росписей. Пер-
710
воначально установился их колористическии вариант, из-
вестный как «трехцветные росписи» (санъцай). Они испол-
нялись красками зеленого, желтого и фиолетового (или
темно-лилового) цветов. Наряду с кобальтовой и «трех-
цветной» росписями в разбираемый период также начали
активно производиться изделия, украшенные красной под-
глазурной росписью.
«Среднеминский» период соотносится со временем прав-
ления нескольких императоров: от Ин-цзуна (1436-1464)
до У-цзуна (1506-1521), и определяется как «период Чэн-
хуа-Хунчжи-Чжэндэ». Он характеризуется, во-первых, стре-
мительным увеличением цзиндэчжэневского производства:
менее чем за сто лет (со второй половины XV по середину
XVI в.) число казенных печей возросло в 6 раз (с 50 до
300). Его важнейшими технико-художественными особен-
ностями являются, во-первых, распространение фарфора и
совершенствование надглазурных росписей, трехцветное
сочетание которых в XVI в. сменилось пятицветным (уцай).
Трехцветные росписи тоже исполнялись в то время в свое-
образной технике: контуры рисунка вычерчивались под-
глазурной кобальтовой краской, a затем, после обжига,
заполнялись эмалевыми красками. «Пятицветные роспи-
си» включали в себя краски темно-зеленого, синевато-фио-
летового, голубого, желтого и пурпурно-коричневого цве-
тов, причем нередко в различных их оттенках, число кото-
рых в рамках живописного оформления одного изделия
совсем необязательно должно было сводиться к пяти.
Во-вторых, данный период ознаменовался рядом тех-
нико-художественных новаций, строящихся на сочетании
кобальтовых росписей, цветного глазурного покрытия и
гравировки345.
В-третьих, заметно возросло разнообразие сюжетов рос-
писей. Наряду с растительным орнаментом и изображения-
ми животных и птиц, в среднеминском фарфоре все чаще
стали исполняться сюжетные композиции, преимуществен-
но на даосские темы («восемь бессмертных», «играющие
подростки»). Этот процесс сопровождался, с одной стороны,
установлением стандартных орнаментальных схем, которые
наиболее четко соблюдались в росписи блюд346. Сдругой
стороны, постепенное сближение манеры росписей с живо-
писными техниками дало начало двум генеральным худо-
жественным направлениям. Первое из них — линеарное,
когда художник уделяет преобладающее внимание линии
рисунка, добиваясь ее максимальной гибкости и вырази-
тельности. Второе — живописное, характеризующееся вы-
движением на первый план самого живописного пятна.
В этом случае росписи обычно выполнялись свободным дви-
жением кисти. Краски нередко выходят за пределы конту-
ра, отмеченного более темным кобальтом. Вместе с тем в
конце среднеминского периода (при императоре У-цзуне),
благодаря оживлению торгово-экономических связей Китая
с Ближним Востоком в орнаментацию изделий вновь стали
активно вторгаться мотивы и образы, идущие от арабо-
мусульманского искусства.
Раннеминский фарфор.
Период Сюанъдэ
345 Это, например, изделия
с кобальтовой росписью под
желтой глазурью или сосуды,
украшенные гравированным
орнаментом по натуральной
поверхности, на который на-
несено глазурное покрытие
зеленого и желтого цветов.
Нанесение подглазурной гра-
вировки — тоже прием, иду-
щий от танской и сунской
монохромной керамики.
346 На рубеже ХѴ-ХѴІ вв.
стереотипным стало размеще-
ние в концентрическом поле
центрального сюжета, как пра-
вило, на растительные темы:
изгибающиеся стебли с лис-
тьями и пышными бутонами,
цветы на фоне скал или кам-
ня причудливой формы. Поле
обрамлялось пояском из спи-
ралевидного орнамента.
711
347 Судя по дошедшим до
нас очень немногочисленным
изделиям, в то время суще-
ствовал бедный набор изде-
лий, преимущественно вари-
анты сосудов цилиндрической
формы и типа гуань. Даже про-
стейшая столовая утварь —
блюда и чаши — встречаются
редко. Черепок изделий ока-
зывается излишне плотным,
с сероватым оттенком. Глазурь
нанесена толстым слоем — еще
один верный признак некаче-
ственного фарфора. Преобла-
дают кобальтовые росписи,
выполненные краской темно-
синего цвета с едва заметным
фиолетовым отливом, передаю-
щие пейзажные композиции,
сцены благопожелательного
содержания и на сюжеты ли-
тературных произведений, кото-
рые явно создавались под влия-
нием гравюр-иллюстраций.
348 Уже при Канси началось
восстановление Цзиндэчжэня,
строительство новых мастер-
ских и печей, возобновление
над ними жесткого государ-
ственного контроля: назначение
специальных столичных чинов-
ников для наблюдения за ка-
чеством продукции. К 1686 г.
был достигнут уровень произ-
водства минской эпохи. Из-
вестно, что в начале XVIII в.
только для императорского
двора в казенных мастерских
ежегодно изготавливалось бо-
лее 50 000 предметов столовой
утвари.
«Позднеминский» период открывается временем прав-
ления императора Ши-цзуна (1522-1566), прошедшим под
девизом Цзяцин. Он продлился приблизительно до 20-х гг.
XVII в., когда Минская империя вступила в фазу кризиса.
Он отмечен наибольшим, для всего минского фарфора, раз-
нообразием как форм изделий, так и орнаментальных тем
и мотивов. Одновременно отчетливо прослеживается тен-
денция к усложнению архитектонической композиции со-
судов, например, сосудов в виде «двойной тыквы», груше-
видных кувшинов и чаш, и к заметной роли сюжетных и
пейзажных сцен. Еще более широкое, чем в росписях сред-
неминского фарфора, распространение получают изобра-
жения бабочек, насекомых, птиц, a также символико-благо-
пожелательные образы и композиции («восемь драгоценно-
стей», львы, бегущая по морским волнам лош&дъ-хайма).
Несколько изменилась и стилистика росписей. Очевидно
повышенное внимание художников к их декоративной сто-
роне и стремление к максимальной детализации изобра-
жаемого. При создании сюжетных сцен тщательно выпи-
сываются нюансы внешнего облика персонажей и окру-
жающего мира: например, бытовые реалии, посуда на
столе, предметы мебели и интерьерные украшения. Рос-
писи орнаментального характера теперь, как правило, рас-
пространяются на всю поверхность изделия. Сам орна-
мент измельчается, типичным становится сочетание раз-
нородных по тематике и смыслу мотивов, линеарной
манеры письма с живописным пятном. Орнаментальная
схема блюд тоже несколько усложнилась: к центрально-
му концентрическому полю добавились окаймляющий его
геометрический орнамент и на борту — картуши с эмбле-
мами и ветками цветущими или с плодами персика. При-
мечательно, что при общей нормативности данной схемы
собственно живописная сцена в точности никогда не по-
вторяется.
В конце минской эпохи качество и художественный
уровень фарфора весьма снизились: вначале по причине
снижения спроса на него, a затем в связи с новым упадком
всего Цзиндэчжэня.
«Раннецинский» период охватывает собой первые деся-
тилетия существования Цин, приблизительно до 60-х гг.
XVII в., и обычно определяется в специальной литературе
как «переходный». Имеется в виду, что фарфоропроизво-
дящие мастерские еще только начали налаживать свою
работу347.
«Среднеминский» период соотносится со временем прав-
ления трех самых могущественных цинских императоров —
Канси, Юнчжэна и Цяньлуна, царствовавших, напомним, с
1662 по 1795 г., и включает в себя стадию нового подъема
фарфорового производства и его наивысшего расцвета348.
С художественной точки зрения, разбираемый период отме-
чен, прежде всего, новым расширением репертуара катего-
рий и форм изделий и усложнения их конструкции. Широ-
кое распространение получили, например, сосуды с цилин-
дрическим горлом и с шаровидным, иногда сплюснутым,
712
туловом, сосуды с граненым туловом, фляги, чайники и
тому подобные категории, отмеченные причудливостью ар-
хитектонической композиции. При этом активно использо-
вались образцы предшествующих керамических форм, рав-
но как бронзовых, лаковых, каменных изделий, a также
опыт чужеземного декоративно-прикладного искусства.
Дальнейшее развитие получили и все ранее существо-
вавшие технико-художественные виды — фарфор с ко-
бальтовой, «пятицветной» росписью, — которые попол-
нились новыми (по характеру художественного оформле-
ния) сортами.
Кобальтовые росписи по-прежнему употреблялись для
украшения самых разных категорий изделий: столовой и
чайной посуды (чайников, чайниц, чашечек, тарелок, блюд),
предметов утилитарно-декоративного характера (коробочек,
ваз). Их отличает использование особой краски — глубо-
кого, насыщенного синего тона, которая ярко выделяется
на белом черепке. Набор орнаментальных мотивов и сюже-
тов в целом почти не изменился, но все они претерпели
определенную эволюцию. Растительные мотивы еще болъ-
ше расширились и видоизменились в сторону усложнения
рисунка и усиления компактности композиции. Сюжетные —
жанровые и пейзажные — сцены еще отчетливее тяготеют к
живописным произведениям, нередко копируя их. Общий
художественный уровень росписей тоже явно повысился,
713
349 Росписи производились
как по прежним композици-
онным схемам, предусматри-
вающим их распространение
на всю поверхность изделия,
так и по новой схеме, состоя-
щей из системы полей, поме-
щаемых на различных фонах.
На одном изделии могло рас-
полагаться несколько прямо-
угольных и круглых полей,
заполненных самостоятельны-
ми живописными произведе-
ниями. Их сочетание и худо-
жественная целостность обус-
ловливались обрамлением и
фоном, которые тоже отлича-
ются удивительным разнооб-
разием. Чаще всего в них ис-
пользовались мотивы, идущие
от узоров парчи: например,
зеленый фон с черными точ-
ками; красный или светло-
зеленый фон с цветами (чаще
всего хризантемами) и спира-
левидными завитками; сплош-
ной измельченный геометри-
ческий орнамент, типа сетки
из иероглифа вань.
350 Технология изготовле-
ния такой краски была заим-
ствована из Европы в начале
XVIII в., a выделение «розо-
вого семейства» в качестве са-
мостоятельного орнаментально-
художественного направле-
ния произошло в самом конце
правления Канси.
что, в частности, находит отражение в продуманности орна-
ментальных композиций и тщательности проработки всех
их элементов. Популярным становится введение в росписи
каллиграфических надписей, вплоть до пространных отрыв-
ков из поэтических произведений и художественной прозы.
При Канси появилась еще одна техника использования ко-
бальта: «брызганый кобальт» {фэньцин, в европейской тер-
минологии — blue poudre). Кобальтовый порошок выду-
вался через бамбуковую трубочку на поверхность изделия,
покрывая ее неровными пятнами, которые, после нанесе-
ния на них глазурного покрытия и обжига, служили фо-
ном для росписи золотом. В орнаментацию сосудов могли
вводиться и белые картуши, заполненные надглазурными
полихромными росписями.
Дальнейшая эволюция надглазурных росписей выз-
вала к жизни две ее стадиальные художественные разно-
видности, которые определяются в европейском искусст-
воведении как «семейства»: фарфор в гамме «зеленого
семейства» (famille-verte) и фарфор в гамме «розового
семейства» (famille-rose). «Зеленое семейство» состав-
ляют изделия с оживленной цветовой гаммой, отмечен-
ной господством зеленого цвета во всех его тонах и от-
тенках, но также включающей в себя красные, желтые,
лиловые и черные цвета (см. вклейку). Еще одна его от-
личительная черта по сравнению с минским «пятицвет-
ным » фарфором — уменыпение значения подглазурной ко-
бальтовой росписи за счет использования вместо нее блес-
тящей, почти чистого фиолетового цвета эмалевой краски,
которая придавала изделиям специфический декоративный
эффект. В рамках «зеленого семейства» надглазурные рос-
писи достигли такого художественного совершенства и
творческой свободы, что были способны воспроизводить
любые по сюжетам и характеру композиции, в том числе
адекватно повторяя художественные произведения, тоже
любых жанров и стилистических направлений349.
К концу правления Канси (т. е. к 20-м гг. XVIII в.)
художественный уровень фарфора в гамме «зеленого се-
мейства» несколЬко снизился, a его колористическая гам-
ма претерпела некоторые изменения: зеленый цвет пере-
стал доминировать в ней и, кроме того, дополнился насы-
щенной красной и золотой красками. В 30-х гг. XVIII в.
«зеленое семейство», казалось бы, полностью отошло на
второй план, уступив место фарфору в гамме «розового
семейства». Однако через некоторое время, в середине того
же века (при Цяньлуне), оно на некоторое время вновь
обрело былую популярность, трансформировавшись в два
новых колористических варианта — в зелено-лиловой и
горчично-черной гамме.
«Розовое семейство» объединяет в себе изделия, в рос-
пись которых входит особого типа краска, приготовленная
из коллоидного золота: розовый тон давали мельчайшие
частицы золота, получившиеся в результате химического
взаимодействия солей этого металла с оловом350. По тема-
тике и характеру композиционного построения росписей
714
«розовое семеиство» мало в чем существенно отличается от
«зеленого». Единственное, пожалуй, заметное различие
между ними заключается в том, что в росписях «розового
семейства», несколько более активно, чем в «зеленом се-
мействе», использовались сюжеты, выдержанные в жанре
«цветы и птицы», и применялась техника «бескостной»
живописи, специально, напомним, приспособленная для
данного жанра Юань Шоупином (см. вклейку).
XVIII столетие ознаменовалось дальнейшим усложне-
нием цветовой палитры росписей, изобретением новых
стилистических и технико-художественных вариантов.
Среди них особенно выделяются росписи красной крас-
кой и по бисквиту. Росписи красной краской могли про-
изводиться как в подглазурной, так и в надглазурной
технике. В первом случае они имеют чуть приглушенный
тон, во втором — яркий карминно-красный. Красная крас-
ка могла использоваться и в качестве фонового покры-
тия, на котором в резерве исполнялись различные изоб-
ражения, чаще всего цветы (хризантемы). Для акценти-
рования основных орнаментальных фигур или элементов
фонового орнамента они нередко исполнялись в легком
рельефе. Роспись по бисквиту (неглазированному череп-
ку), в китайской терминологии фаланъцай, производи-
лась тоже эмалевыми красками и использовалась, в ос-
новном, для оформления мелкой пластики и предметов
утилитарно-декоративного предназначения: декоративных
чашечек, тушечниц, настольных украшений, например
парных фигурок львов на высоких подставках. Их цвето-
вая гамма — с преобладанием ярко-зеленого, желтого и
лилового тонов — отдаленно напоминает танскую «трех-
цветную поливную керамику».
Отдельного упоминания заслуживает также стилисти-
ческий вариант росписей, называемый «тысяча цветов».
Вошедший в моду при Цяньлуне, он представляет собой
сложнейшую по колористическому решению композицию,
состоящую из цветочных орнаментов, идущих по бело-жел-
тому или золотому фону.
Следующей примечательной особенностью среднецин-
ского периода является неуклонный рост популярности мо-
нохромного фарфора, что было обусловлено, в том числе,
невиданным ранее богатством палитры глазурей351. Исхо-
дя из цвета и других особенностей глазурного покрытия
монохромный фарфор также группируется в европейском
искусствоведении в несколько отдельных художественных
серий (или орнаментальных стилей). Наибольшей извест-
ностью из них пользуются: «лунная глазурь», «чайная
пыль», «персиковый румянец», «пламенеющая глазурь».
«Лунная глазурь» (clair de lune) — изделия с глазурным
покрытием нежного беловато-желтого цвета, отмеченные,
как правило, элегантностью и изысканностью форм, сопо-
ставимых с формами сунского фарфора. «Чайная пыль» —
изделия с глазурью зеленого цвета, но насыщенной кро-
шечными желтыми крапинками. В такой технике обыч-
но исполнялись сосуды относительно крупных размеров.
351 Так, только для белого
цвета было разработано по-
рядка десяти глазурных во-
площений, имеющих самостоя-
тельные терминологические
названия: «сахарно-белая», «бе-
лая как рыбий пузырь», «белая
как зубы», «подобная цвету
свежего рыбьего мяса» (с чуть
заметным розовым оттенком),
«нефритово-белая» (с зелено-
ватым оттенком) и т. д. Ана-
логичные глазури имелись и
для других цветов: «цвета
чешуи золотой рыбы» (луч-
шая глазурь для желтой гам-
мы), «цвета зеленого яблока»
(для зеленой гаммы), «цвета
жертвенной крови» (красно-
алая).
715
352 Если в конце XVII —
начале XVIII в. фарфор выво-
зился эпизодически, хотя и
болыпими партиями, то с тре-
тьего десятилетия XVIII в. его
экспорт стал ежегодным и си-
стематическим, достигая поис-
тине гигантских объемов. Так,
в 1753 г. пять кораблей (два
британских, французский, гол-
ландский и датский) достави-
ли в Европу в общей сложно-
сти около 1 миллиона фарфо-
ровых предметов. С 1730 по
1790 г. корабли только Ост-
Индийской компании вывез-
ли свыше 1000 комплектных
сервизов.
«Персиковый румянец» — изделия с глазурью мягкого ро-
зового цвета, могущего приобретать различные оттенки,
например желто-розовый или, напротив, мшисто-зелено-
ватый. Подобные ее свойства обусловлены присутствием в
ее рецептуре высокого процентного содержания меди.
«Пламенная глазурь» (фламбэ) — сосуды как бы объятые
переливающимися языками пламени — всех оттенков
красного и пурпурного цветов с голубым отливом. Они
стали изготавливаться при Юнчжэне, a такое покрытие
получается в результате изменения в процессе обжига
структуры глазури и образования в ней кристалликов
жемчужно-белого или голубоватого цветов. Они дают че-
редование голубоватых полосок низлежащему красному
покрытию (от восстановленной меди), создавая впечатле-
ние языков пламени. Иногда в некоторых ее сортах моно-
хромная керамика могла дополнительно украшаться под-
глазурной гравировкой, штампованным или рельефным
орнаментом.
Как бы промежуточное положение между монохром-
ным и расписным фарфором занимает еще один сорт —
«черное зеркало» (black mirror): сосуды, покрытые блестя-
щей черной глазурью, получаемой благодаря добавке в нее
кобальтово-железистой руды марганца, поверх которой идет
золотая роспись.
Фарфоровые изделия производились и вне Цзиндэч-
жэня, в некоторых региональных мастерских, продук-
ция которых на самом деле не относится к собственно
фарфору вопреки ее традиционной квалификации. По-
этому в данном случае мы коснемся только двух таких
центров — мастерских Дэхуа и Ланъяо. Первые из них
являются прямыми наследниками сунских (фуцзяньских)
мастерских Цзяньяо. При Мин в них создавался фарфор
с кобальтовой росписью, a при Цин — белый фарфор с
белым глазурным покрытием, представленный не толь-
ко посудой, но и мелкой пластикой. В мастерских Ланъяо
(пров. Цзянси) был еще один популярный сорт моно-
хромного фарфора — «бычья кровь»: изделия, покры-
тые темно-красной и местами неровно «стекающей» гла-
зурью.
В качестве отдельного фарфорового производства так-
же справедливо рассматривать работу мастерских по вы-
пуску экспортной продукции, тем более что она была от-
мечена определенными технико-художественными особен-
ностями и составляла самостоятельное стилистическое
направление, определяемое как «экспортный стиль». Фор-
мирование этого направления было спровоцировано учреж-
дением Ост-Индийской компании, которая приступила к
массовым поставкам фарфора в Европу352. Экспортный фар-
фор исходно изготавливался в мастерских Гуанчжоу, глав-
ного на тот момент китайского портового и торгового горо-
да, осуществлявшего связи с Европой. В них расписыва-
лись сосуды, доставляемые из Цзиндэчжэня, болыпая часть
которых — любопытная деталь — была отбракована для
употребления на внутреннем рынке.
716
С художественной точки зрения экспортный фарфор
отчетливо делится на две группы: изделия с росписями в
«китайском» и «европейском» стиле. Росписи, выполнен-
ные в «китайском стиле», в целом соответствуют художе-
ственному оформлению современного им цзиндэчжэнев-
ского фарфора. Однако, стараясь учитывать вкусы евро-
пейцев, китайские мастера допускали немало их искажений,
что привело к образованию действительно специфическо-
то стиля, который обозначается в китайской терминоло-
гии как «широкоцветие» (гуанцай), a в европейском и
отечественном искусствоведении — как «национально-
экспортный»353.
Роспись фарфора в «европейском стиле» производи-
лась по конкретным заказам, поступавшим от европей-
ских дворов и частных лиц, которые нередко требовали
изготовления целых сервизов по европейским образцам.
Уже в 70-80-х гг. XVII в. росписи, воспроизводящие ев-
ропейские сюжеты или стилизованные под них, начали
исполняться и на другой экспортной продукции, посте-
пенно заняв главное место в ее художественном оформле-
нии354. На первых порах росписи «в европейском стиле»
выполнялись путем введения в традиционный китайский
художественный контекст отдельных европейских сюже-
тов и их эпизодов, что, однако, делалось явно робко и
неумело. Но постепенно китайские художники-керамис-
ты настолько преуспели в копировании европейских про-
изведений, что стали использовать европейские принци-
пы передачи перспективы, живописные и гравироваль-
ные приемы: штриховку, роспись точечной техникой.
В результате ими создавались оригинальные и вполне це-
лостные орнаментальные произведения. He менее важно,
что, экспортный фарфор, не пользуясь спросом на внут-
реннем рынке, тем не менее был известен китайцам за
пределами Гуанчжоу и способствовал их знакомству с ев-
ропейским искусством.
He оказав заметного влияния на непосредственно фар-
форовое производство, «европейский стиль» был затем под-
хвачен другими видами китайского декоративно-приклад-
ного искусства, приведя к возникновению ряда новых на-
правлений.
Последний из перечисленных периодов истории ки-
тайского фарфора — «позднецинский», приходящийся на
XIX в., — отмечен постепенным упадком фарфорового
производства, равно как и всего китайского декоратив-
но-прикладного искусства, закончившегося его прямой
деградацией. И хотя в это время были достойные про-
изведения, мы воздержимся от их отдельного рассмот-
рения.
В минскую и цинскую эпохи, наряду с фарфоровым
производством, продолжало существовать множество регио-
нальных и локальных керамических центров, часть кото-
рых благополучно функционирует и сегодня, производя
изделия, пользующиеся немалым спросом как на внутрен-
нем, так и внешнем рынке.
353 В соответствии с его
китайским названием, он ха-
рактеризуется обилием зеле-
ного цвета, золота, a также
смешением в пределах одного
орнаментального поля самых
разных элементов — напри-
мер, идущих от пейзажных
композиций, жанра «цветы и
птицы», благопожелательной
символики.
364 При всем тематическом
разнообразии таких росписей,
в них выделяется несколько
типовых тем: религиозно-хри-
стианская, мифологическая,
аллегорическая, галантная,
сцены охоты, портреты, пей-
заж, гербы и монограммы.
В качестве образцов для них
служили доставляемые из Ев-
ропы иллюстративные мате-
риалы — рисунки, гравюры и
реже живописные произведе-
ния. При исполнении портре-
тов европейцев китайские ма-
стера учитывали и свои лич-
ные впечатления.
717
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
КЕРАМИЧЕСКИЕ
ТРАДИЦИИ
И НАРОДНЫЕ
ГОНЧАРНЫЕ
ПРОМЫСЛЫ
СОВРЕМЕННОГО
КИТАЯ
Исинская керамика.
Эпоха Мин
Стена-экран, выполненная
в технике шиванъской
архитектурной керамики.
Фрагмент
Практически каждое административно-территориальное
подразделение Китая — от провинции до уезда и отдель-
ной местности — располагает собственными керамически-
ми производствами и народными гончарными промысла-
ми, также нередко выпускающими высококачественную и
своеобразную по художественному оформлению продукцию.
К тому же многие из этих производств имеют многовеко-
вую историю, восходя к керамическим центрам сунской,
танской эпох, даже еще к более древним временам. Так
как для подробного рассказа хотя бы о наиболее примеча-
тельных региональных керамических традициях требует-
ся отдельное монографическое, a возможно, и многотомное
издание, мы ограничимся обзором только самых извест-
ных и авторитетных, каковыми признаются исинская и
шиванъская керамика.
Исинская керамика производится в уезде Исин (исход-
но — название деревни), расположенном в западной при-
брежной части озера Тайху (пров. Цзянсу). Она изготавли-
вается из местной разновидности каолиновой глины, отли-
чающейся высоким содержанием окислов железа и кремния,
придающих ей натуральные коричневый, красно-коричне-
вый, желтый, зеленый и даже синий цвета. Глины залега-
ют мощным пластом протяженностью 8-10 км, служа на-
дежным сырьевым источником для этого производства. При
смешении исинской глины с кварцем получается мелко-
зернистая керамическая масса, дающая очень твердый,
плотный, тонкостенный и абсолютно водонепроницаемый
черепок, который при последующей обработке приобретает
легкий блеск, напоминающий глазурное покрытие. На са-
мом деле глазури никогда здесь не применялись, как не
применялись и какие-либо красители. Готовый цвет изде-
лий, преимущественно выдержанный в коричневых тонах —
от бежевого до темно-коричневого, — тоже проистекает из
природного состава глины. Ввиду крепости черепка и цве-
та изделий исинская керамика называется в Китае «ка-
менной» (шитао), или «пурпурной» (цзытао).
Литературные источники возводят исинское керамиче-
ское производство к периоду Борющихся царств. Согласно
археологическим данным, оно возникло значительно поз-
же — в VI-VIII вв., когда в указанной местности образо-
вался самостоятельный керамический центр. Однако исто-
рия собственно исинской керамики началась только с мин-
ской эпохи, сразу же завоевав широкое признание не только
среди местного населения, но и далеко за пределами Цзян-
су. Дело в том, что исинская керамика в силу природных
качеств глины обладает повышенной термостойкостью и
теплоизоляцией, что делает ее великолепной чайной посу-
дой. Китайские деятели культуры и люди любых творче-
ских профессий считали необходимым иметь хотя бы не-
сколько предметов исинской керамики — не только чай-
ные сервизы, но и наборы письменных принадлежностей
(тушечницы, подставки для кистей). Пристрастие к ней
объясняется, не только одними указанными качествами.
Исинские глины позволяют исполнять изделия самых при-
718
чудливых и необычных форм, копирующие бронзы, резьбу
по дереву, бамбуковое плетение либо воспроизводящие пла-
стические фигуры и композиции355. Все эти художествен-
ные традиции бережно сохраняются и по сей день. Многие
исинские изделия или их отдельные детали по-прежнему
исполняются посредством ручной лепки356.
Исинская керамика попала в Европу в конце XVII —
начале XVIII в., получив там название «красный фарфор»
и приобретя особую популярность в Англии и Голландии.
В настоящее время она массово, хотя, к сожалению, дале-
ко не всегда в лучших образцах, поступает и на отечествен-
ный рынок.
Шиваньская керамика производится в одноименной
местности, входящей в настоящее время в пригород Гуан-
чжоу. Никакого отношения к экспортному фарфору она не
имеет, являя собой самобытную керамическую традицию,
которая восходит, по самым скромными оценкам, к XV-
XVI вв. Местное производство работает с обычной глиной,
производя из нее два различных типа изделий: архитек-
турную керамику и посуду.
Шиваньская архитектурная керамика обнаруживает
удивительное сходство с европейской майоликой и вклю-
чает в себя декоративную скульптуру, плиты с рельефны-
ми и горельефными изображениями и архитектурные дета-
ли, например навершия крыш. Они представляют собой мас-
сивные, толстостенные изделия с полихромным глазурным
покрытием, с преобладанием в нем густого синего, бирюзо-
вого, темно-фиолетового и желто-коричневого цветов357.
Шиваньская посуда включает в себя столовую, чайную,
винную (комплекты из керамического графина и чарок) ут-
варь и различных размеров вазы. Все категории изделий
выполнены в технике подглазурной кобальтовой росписи,
поверх которой нанесен слой прозрачной глазури. Иногда к
синему цвету добавляются вкрапления розового. Хотя сосу-
ды толстостенные и не отличаются особым изяществом, им
свойственна усложненность форм (например, граненое ту-
лово) и активное введение в композицию пластических де-
талей. Ручки, крышки изделий обычно выполняются в виде
зооморфных или зооморфно-фантазийных фигур. В роспи-
сях преобладают растительные мотивы с акцентированием
живописного пятна. Нередко они выполнены в эскизной
или гротескной манере, нарочито небрежными мазками ки-
сти, что, с одной стороны, сближает их с народным художе-
ственным творчеством, но, с другой, вполне соответствует
китайской эстетике «безыскусности». Подобный художе-
ственный примитивизм и бело-синяя цветовая гамма дела-
ют шиваньскую керамику чрезвычайно похожей на гжель.
Шиваньское производство тоже отличается консерватив-
ностью и верностью традициям, предпочитая воспроизво-
дить образцы, созданные еще в ХѴІІ-ХѴШ вв. (имитируют-
ся даже их клейма). Росписи по болыпей части исполняют-
ся вручную. Несмотря на внешнюю неказистость, шиваньская
посуда имеет весьма высокое качество. Особых успехов мест-
ные мастера достигли в изготовлении глазурей и в технике
355 Примечательно, что в
отличие от других, включая
Цзиндэчжэнь, керамических
центров, где трудились безы-
мянные мастера, в Исине не-
редко (еще в ХѴІ-ХѴІІ вв.)
работали специально приез-
жавшие туда известные худож-
ники, создававшие авторские
произведения — столовые сер-
визы, чайные комплекты, на-
боры письменных принадлеж-
ностей.
356 Еще одной примечатель-
ной особенностью исинского
производства является исполь-
зование в нем специфических
обжиговых печей, прозванных
«драконовыми». Они строят-
ся вниз по склону горы, про-
тягиваясь по нему (до 50 м в
длину), словно извивающееся
тело дракона. Входное отвер-
стие располагается y основа-
ния печи, и еще в двух-трех
местах по сторонам от нее
имеются проходы для загруз-
ки топлива. Под сводами печи
проходят несколько дымовых
труб и находятся смотровые
окна. В одной «драконовой
печи» за один раз проходят
обжиг в среднем 25 тысяч из-
делий.
357 Уникальным произведе-
нием шиваньской архитектур-
ной керамики является Храм
предков в Фошань (окрестнос-
ти Гуанчжоу), который, по сви-
детельству письменных источ-
ников, был построен в конце
XI в. и реконструирован в
1372 г., дойдя в таком виде
до наших дней. Крыши всех
зданий, входящих в этот ар-
хитектурный ансамбль, укра-
шены многофигурными плас-
тйческими композициями,
состоящими из множества из-
ваяний и близкими художе-
ственному оформлению буд-
дийских храмов. У его входа
помещена массивная стена-
экран, украшенная горельеф-
ным панно с изображением
драконов. В такой же техни-
ке выполнена и знаменитая
стена-экран с девятью драко-
нами из пекинского Запрет-
ного города.
719
358 Возникновение этого
гончарного промысла связы-
вается в легендах с историей
изгнания мальчиком-богаты-
рем кровожадных диких зве-
рей, обитавших в местных
горах. Чтобы избежать повто-
рения подобной напасти, кре-
стьяне стали брать глину с
горных склонов и делать из
нее скульптурки своего спа-
сителя.
369 Есть статуэтки, выпол-
ненные в «лубочном» стиле,
с яркой окраской. Другие, на-
против, копируют фарфоро-
вую пластику, отличаются
тщательностью исполнения, a
их росписи сделаны в пастель-
ных тонах. Третьи, чаще все-
го изображения буддийских
персонажей, имитируют де-
ревянную скульптуру, для
чего они вместо раскраски
покрываются темно-коричне-
вой (с красноватым оттенком)
глазурью или такого же цве-
та лаком, которые достаточно
точно передают цвет и факту-
ру ценных пород дерева. От-
дельную серию усиских изде-
лий составляют копии теат-
ральных масок — с яркой
окраской, точно воспроизво-
дящей театральный грим, и
дополненные длинными (из
конского волоса или синтети-
ческого волокна) бородами.
360 В литературных источ-
никах и музейных аннотаци-
ях (в Сиане есть специальный,
посвященный этоку промыс-
лу неболыпой музей с богатой
выставочной коллекцией) эти
маски определяются как «кар-
навальные», хотя, возможно,
они имели и чисто декоратив-
ное предназначение.
361 Благодаря такой тема-
тике и особенностям ее коло-
ристического решения фэнсян-
ская пластика напоминает из-
делия некоторых отечественных
народных промыслов, напри-
мер хохлому, дымковскую иг-
рушку.
обжига, который производится в небольших открытых му-
фельных печах. Шиваньская керамика тоже попала в Евро-
пу очень рано, найдя себе почитателей прежде всего в Ита-
лии и в Голландии, где она прекрасно гармонировала с мест-
ными поливными изразцами.
Для китайских гончарных народных промыслов харак-
терно изготовление не только собственно горшечной про-
дукции, но и игрушек, примитивных музыкальных инст-
рументов, мелкой пластики и изделий утилитарно-декора-
тивного характера, которые исходно использовались для
подарков или служили оберегами. Наибольшей известно-
стью в самом Китае пользуются народный промысел Уси
(прибрежная зона озера Тайху), специализирующийся на
выпуске игрушек и мелкой пластики. Они тоже изготавли-
ваются из местных глин, обжигаются при невысокой тем-
пературе и раскрашиваются358. Классические образцы уси-
ской пластики представляют собой округлые фигуры, на-
подобие «Ваньки-встаньки», обычно в парном (мальчик и
девочка) комплекте. На поверхности фигурок выписаны
детали лица и элементы одежды. Изготавливались также
изображения быка, как символа земледелия, «четырех ду-
хов». В настоящее время здесь производится новая разно-
видность мелкой пластики — «глиняные человечки» (ни-
жэнъ), для которых используется глина, добытая, по уве-
рению местных мастеров, со дна Тайху. Она включает в
себя изображения совершенно разных персонажей — даос-
ских, буддийских героев легендарных повествований и ли-
тературных произведений, и исполняется в столь же раз-
нообразных стилях и художественных манерах359.
Еще один гончарный промысел, тоже достойный от-
дельного рассказа, находится в окрестностях Сианя, в мест-
ности Фэнсян. Его история насчитывает по меньшей мере
пять или шесть столетий. Здесь тоже выпускаются игруш-
ки, мелкая пластика и маски, копирующие театральные,
но больших размеров, чем усиские, без каких-либо дета-
лей, выполненных из других материалов360. Для мелкой
пластики характерно преобладание скульптурок живот-
ных — быка, льва, собаки. Кроме того, в масочной техни-
ке исполняются изображения легендарных героев и персо-
нажей популярного божественного пантеона, например
Чжун-куя, которые (снабжены специальными петельками)
вешают на стену. Все перечисленные категории изделий
имеют однотипное по стилю и манере исполнения художе-
ственное оформление. Они расписаны в яркой и контраст-
ной колористической гамме с преобладанием красного, зе-
леного, желтого и розового тонов. Нередко (кроме масок)
росписи включают в себя цветочный орнамент361. Еще од-
ной специфической деталью фэнсянских скульптур и изоб-
ражений в масочной технике являются металлические пру-
жинки, на которые крепятся уши и хвосты животных,
рожки духов и тому подобные элементы изображений.
Самым же специфическим, по его технологии, народ-
ным промыслом справедливо считаются «бамбуковые изде-
лия», выпускаемые в провинции Сычуань. Восходящий, по
720
некоторым данным, к танскои эпохе, этот промысел нахо-
дится на стыке различных ремесел. Керамические сосуды
местного производства или чаще привозные (для цинской
эпохи — фарфор из Цзиндэчжэня, но тоже, видимо, про-
шедший отбраковку) оплетаются специально выделанными
и окрашенными бамбуковыми волокнами. В такой технике
исполняются преимущественно предметы столовой посуды
и вазы, хотя могут быть изготовлены и изделия других,
более крупногабаритных категорий. Все операции произво-
дятся вручную, и на изготовление только одного изделия
требуется почти месяц.
При всей краткости обзора китайских региональных
керамических традиций и народных гончарных промыс-
лов можно сделать вывод, что эти традиции и промыслы, в
самом деле, представляют художественный феномен, кото-
рый занимал и продолжает занимать достойное место в
декоративно-прикладном искусстве Китая.
Важный аспект, который необходимо затронуть при
рассмотрении китайской керамики, — ее значение в исто-
рии мирового декоративно-прикладного искусства.
Распространение китайской керамики за пределы стра-
ны началось еще при Хань, конкретно — с проникновения
«зеленой керамики» в Древнюю Корею. Наиболее мас-
штабный характер экспорт китайской керамики приобрел
в танскую эпоху. Из Китая вывозились все имевшиеся на
то время ведущие сорта керамики: «юэская» и «трехцвет-
ная поливная керамика». Они проникли в Японию, Корею,
страны Юго-восточной Азии (в Индонезию, Пакистан) и
на Ближний Восток, откуда попали на Африканский кон-
тинент (в Египет)362. В ХІІ-ХПІ вв. из Китая начал экс-
портироваться фарфор, который регулярно поставлялся
вЯпонию, Индию, Иран и через них попадал во многие
другие регионы и государства, в частности на Кавказ (в Ар-
мению, Азербайджан). Уже в XV в. возникла практика
коллекционирования китайской керамики363.
Принципиально важно, что, попав в другие страны и
регионы, китайская керамика почти сразу же стимулиро-
вала возникновение там местных производств, которые
вначале старались копировать ее, a затем неизменно при-
обретали самостоятельность и самобытность. Так, еще
ханьская «зеленая керамика», оказавшись в Древней Ко-
рее, дала жизнь фактически новой керамической тради-
ции, которая активно существует и сегодня, составляя
важнейшую часть национального декоративно-приклад-
ного искусства364. Фаянсовые подражания «трехцветной
поливной керамике» и селадонам выпускались в мастер-
ских Самарра (недалеко от Багдада), Передней Азии, чер-
номорского побережья и Египта. Несколько позже в Ира-
не (города Кашан и Иезд) было налажено производство
фаянсовой посуды с кобальтовой росписью, производи-
мой на первых порах строго по китайским образцам. Бо-
лее того, на кашанские изделия ставились даже марки,
46 История искусства Кнтая
КИТАЙСКАЯ
КЕРАМИКА
В ИСТОРИИ
МИРОВОГО
ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА
362 До сих nop при раскоп-
ках в окрестностях Каира на-
ходят черепки сосудов китай-
ского производства. Извест-
но, что китайская керамика
пользовалась исключительной
популярностью в арабо-мусуль-
манском мире. Так, рассказы
из «Тысячи и одной ночи» на-
сыщены упоминаниями о та-
ких изделиях.
363 Одна из крупнейших та-
ких коллекций была собрана
иранским шахом Аббасом I
(1557-1628). По свидетель-
ству арабских письменных ис-
точников (например, «Хытат»
Макридия, 1364-1442), множе-
ство разнообразных керамичес-
ких предметов хранились в
фатимидском дворце в Каире.
364 Корейская «зеленая ке-
рамика» (ее терминологическое
название сохранилось) отлича-
ется от китайской более широ-
ким репертуаром орнаменталь-
ных способов и техник, среди
которых главную роль играют
инкрустации из керамических
материалов или особых паст.
721
365 Подобные подделки при-
соединялись к подлинному
китайскому фарфору, партии
которого транзитом следова-
ли через этот город. Так как
вблизи от Кашгана имелись
залежи глин, сходных по хи-
мическому составу с каолино-
выми, то выпускаемые в мест-
ных мастерских сосуды по
качеству (характеристики че-
репка) напоминали фарфор.
366 Уступая китайскому фар-
фору по качеству, японский
фарфор обладает таким же
орнаментальным богатством и
эстетической притягательно-
стью. Одной из его специфи-
ческих особенностей, не счи-
тая использования местного
репертуара орнаментальных
средств и своеобразных трак-
товок китайских мотивов и
образов, является насыщение
его декора золотом.
367 Они вставлялись в оп-
равы и, наряду с прочими
драгоценными предметами,
хранились в церковных, мо-
настырских и дворянских со-
кровищницах. Попутно заме-
тим, что знакомству европей-
цев с фарфором способствовали
не только подлинные изделия,
но и «Книга Марко Поло», в
которой содержались первые
внятные его литературные опи-
сания.
368 Следует подчеркнуть,
что фарфор привлекал евро-
пейцев отнюдь не только свои-
ми художественными достоин-
ствами, — фарфоровая посуда
наделялась особыми целитель-
ными и охранительными свой-
ствами, в частности способно-
стью нейтрализовать отравляю-
щие вещества.
копирующие китайские365. Еще одним доказательством влия-
ния китайской керамики на местное художественное твор-
чество является история японского фарфора, который, по-
добно «зеленой керамике» в Корее, занимает ведущие пози-
ции в национальном декоративно-прикладном искусстве366.
В Европу китайский фарфор стал проникать не ранее
XIII в., на первых порах — случайно и крайне редко. Поэто-
му фарфоровые изделия почитались драгоценностями367. Ввоз
фарфора в Европу увеличился, видимо, во второй половине
XV в. 06 этом свидетельствуют попытки создать подража-
ния ему в Италии, о чем, однако, известно только из пись-
менных источников. Начиная со второй половины XVI в.,
когда торговые связи с Востоком и непосредственно с Китаем
перешли в руки итальянских (главным образом, венециан-
ских и генуэзских), португальских и голландских купцов,
экспорт китайской керамики неуклонно возрастал. A к сере-
дине XVIII в., благодаря уже деятельности французских и
английских торговых компаний, он приобрел, как уже отме-
чалось, устойчивый и массовый характер368.
Первые попытки изобрести керамическую массу, ана-
логичную фарфору, неоднократно предпринимались в Ита-
лии — в мастерских Венеции, Генуи, Флоренции — на всем
протяжении XVI в. Они увенчались относительным успе-
хом только в конце этого столетия, когда был изобретен
«фарфор Медичи»: в мануфактуре, организованной во Фло-
ренции тосканским герцогом Франческо I ди Медичи. Эта
керамическая масса занимает как бы промежуточное поло-
жение между фриттовой керамикой («мягкий фарфор», со-
стоящий из кремнесодержащих веществ, селитры, мор-
ской соли, соды, квасцов и толченого алебастра) и настоя-
щим фарфором. Изделия изготавливались из местной
(Виченцы) белой глины, дававшей относительно тонкий и
желтовато-прозрачный черепок, и покрывались белой гла-
зурью, разработанной в местном майоличном производстве.
Роспись исполнялась кобальтовой краской, но по образцам
либо персидской (стилизованные цветочные орнаменты), либо
итальянской керамики с использованием свойственных ей
гротесков с птицами, маскаронов и «четырехглазок».
Во второй половине XVII в. к опытам по изготовлению
фарфора и продукции, копирующей другие китайские кера-
мические сорта, приступили мануфактуры других европей-
ских стран — Англии, Франции, Голландии, Германии. Во
Франции первой проявила себя мануфактура в Руне, осно-
ванная в 1673 г. Луи Потера, где было освоено производство
«мягкого фарфора» с его росписью по болыыей части кобаль-
том и реже зеленой и красной красками. Краски наносились
на глазурное покрытие перед основным обжигом с использо-
ванием орнаментальных средств, присущих местной кера-
мике, без китайских мотивов. Почти одновременно (1679 г.)
секрет изготовления «мягкого фарфора» был открыт Пьером
Шикано, наладившим (1702 г.) его производство в собствен-
ной мануфактуре в Сен-Клу. Быстро развив весьма энергич-
ную деятельность, эта мануфактура выпускала посуду, фор-
мы и декор которой следовали китайским образцам. Декор
722
исполнялся в рельефе, оттискиваясь в формах, с преимуще-
ственным воспроизведением цветов, сливовых почек, веток
и розеток. Отдельные сосуды дополнительно украшались под-
глазурным кобальтом и чуть позже надглазурными роспися-
ми, выполненными бирюзовой, желтой, красной (гематит) и
зеленой красками. В целом в Сен-Клу добились достаточно
верного подражания китайскому фарфору.
Высшим достижением французской керамики стал севр-
ский фарфор. Он изготавливался на мануфактуре, первона-
чально (1745 г.) организованной в Винсенне и затем (1756 г.)
переведенной в Севр. Благодаря открытию в Лиможе залежей
каолинитосодержащей глины, там была изобретена керами-
ческая масса, очень близкая к китайскому фарфору369. В Анг-
лии выпуском керамики, в подражание китайской, занима-
лись мануфактуры в Bay (с 1745 г., в 1785 г. переведена в
Дерби), в Челси (с середины XVIII в.) и Ворчестере (с 1751 г.).
Все они начали свою работу с выпуска «мягкого фарфора»,
качество которого постепенно улучшалось. Производились раз-
нообразные по категориям, формам и декору изделия, кото-
рые следовали не только китайскому, но и японскому, a за-
тем севрскому и мейсоновскому фарфору.
Для Голландии главным центром подобной продукции
были мануфактуры в Делъфте (первая из них основана в
1661 г.), выпускавшие на самом деле фаянсовую посуду, но
стилизованную под китайский (с кобальтовой росписью) и
японский (использование красной и золотой красок) фарфор.
«Синий Дельфт» оказал болыпое влияние на керамическое
производство Германии. В мастерских Дельфта впервые
(с 1670 г.) был налажен и выпуск «красной каменной кера-
мики», вторящей исинской посуде, которая тоже нашла себе
продолжение в фаянсовой продукции Франции (Невер, Руан,
Мустъе), Германии (Франкфурт-на-Майне, Потсдам, Бра-
уншвейг, Цербст) и других странах Центральной Европы.
Изобретение подлинного «твердого фарфора», сопостави-
мого с китайским, было осуществлено, как известно, уже в
начале XVIII в. в немецком городе Мейсен, который в ско-
ром времени превратился в один из ведущих центров фарфо-
рового производства. Подобно остальным европейским кера-
мическим производствам, он быстро перешел от копирова-
ния дальневосточного фарфора к созданию собственных
стилей, отвечающих современным на тот момент европей-
ским художественным направлениям. Параллельно во всех
европейских керамических производствах велась интенсив-
ная работа по созданию новых глазурей, муфельных красок
и общему совершенствованию технологического процесса.
В Россию произведения китайского декоративно-при-
кладного искусства, включая керамику, стали проникать в
конце XV — начале XVI в. в результате посреднической
торговли среднеазиатских купцов. В конце XVII в., сразу
же после заключения Нерчинского договора (1689 г.) между
Россией и Цинской империей, была установлена «караван-
ная торговля», заключавшаяся в прямых торговых контак-
тах между ними, которая, естественно, намного расширила
приток в Россию китайских изделий. Однако подлинное
369 Наряду с посудой (обе-
денные, кофейные, чайные и
шоколадные сервизы), в Сев-
ре выпускались изделия мно-
гих других категорий: табакер-
ки, шкатулки, вазы, корпусы
часов, настольные украшения
и подсвечники. В декоре —
рельефном и в росписях —
использовались преимуще-
ственно местные орнаменталь-
ные сюжеты и мотивы.
723
370 Первый из таких инте-
рьеров — «Зеленая комната» —
был создан в Летнем дворце
Петра I в Санкт-Петербурге.
За ним последовал «Лаковый
кабинет» во дворце Монплезир,
входящем в ансамбль летней
императорской резиденции в
Петергофе. Для этого кабине-
та Петром I было заказано
Ост-Индийской компании бо-
лее 500 китайских изделий.
Внушительные собрания ки-
тайской керамики имелись
также в Преображенском двор-
це, в семье А. Д. Меныпикова,
в его московском (на Чистых
прудах) и столичном дворцах,
во дворце П. Ф. Апраксина.
Судя по сохранившимся опи-
сям имущества этих дворцов,
данные собрания включали в
себя и кобальтовый, и моно-
хромный фарфор, т. е. образ-
цы почти всех важнейших его
технико-художественных раз-
новидностей, которые выпуска-
лись в первой половине Цин.
371 Он обращался с просьбой
к императору Цяньлуну при-
слать ему сведения о техно-
логии фарфорового производ-
ства и чертежи обжиговых
печей, отдавал соответствую-
щие приказы посольству. Од-
нако Цяньлун ограничился
лишь вежливым обещанием
исполнить просьбу российско-
го императора, a все старания
посла раздобыть нужные све-
дения тоже не увенчались ус-
пехом. В 1718 г. Петр I вы-
писал фарфоровых дел ма-
стера из Саксонии, но он не
оправдал возлагаемых на него
надежд.
знакомство с китайским художественным творчеством со-
стоялось уже в Петровскую эпоху. В подражание европей-
ской моде «шинуазри», сам Петр I и лица из его ближайше-
го окружения отдали дань увлечению коллекционировани-
ем китайских вещей и созданием «восточных» кабинетов370.
Фарфор поступал в Россию двумя путями: через Европу
(исходно продукция мастерских Гуанчжоу) и непосредствен-
но из Китая, где он закупался по личному приказу Петра I
посольскими лицами. Поэтому в России оказалось немало
образцов натурального (а не экспортной продукции) китай-
ского фарфора. К Петровской эпохе относятся также первые
попытки наладить собственное фарфоровое производство,
вновь предпринятые по инициативе самого Петра I371. По-
сле смерти Петра I российское правительство несколько раз
(1735, 1739 и 1744 гг.) пыталось раздобыть сведения о фар-
форовом производстве, посылая в Китай в составе торго-
вых караванов дознавателей. Какая-то информация ими
была, видимо, получена, но все же недостаточная для ее
практического использования.
Технология отечественного фарфора была разработана
и налажена в 40-х годах XVIII в. Дмитрием Ивановичем
Виноградовым (1720-1758). A первым российским фарфо-
ровым производством стала организованная им в 1744 г. с
помощью барона Черкасова Императорская фарфоровая фаб-
рика. Она была построена на левом берегу Невы, вблизи
Шлиссельбургского тракта, и впоследствии превратилась в
Императорский фарфоровый завод, который в советский
период был переименован в Ломоносовский фарфоровый
завод. Существенно, что в силу целого ряда объективных
обстоятельств Д. И. Виноградов, его ученики и последова-
тели обратились в первую очередь к собственно китайскиіѵі
образцам, a не к его подражаниям и уже самостоятельному
европейскому фарфору, хотя ими, разумеется, учитывался
европейский опыт, особенно Мейсена, находившегося на
тот момент в расцвете своей известности. Это позволило
отечественному фарфоровому производству найти свою соб-
ственную стилистическую линию, a к XIX в. он уже пре-
вратился в сугубо национальный вид декоративно-приклад-
ного искусства, став неотъемлемой и органической при-
надлежностью российского художественного творчества.
История китайской керамики за пределами Китая убеж-
дает в том, что она обладала удивительной способностью
адаптироваться к любой этнокультурной и художествен-
ной среде и служить благодатнейшим материалом для са-
мых разных творческих экспериментов. Какие бы художе-
ственные направления и стили ни господствовали в евро-
пейском искусстве, фарфор неизменно оставался в центре
внимания художников и воплощал новейшие веяния. С та-
кой же легкостью он отвечал эстетическим запросам раз-
личных социальных слоев и групп — от венценосных особ
и придворных кругов до крестьянского населения. В этом,
на наш взгляд, состоит главный секрет китайской керами-
ки, благодаря которому она превратилась в художествен-
ный феномен мирового масштаба.
724
ТЕКСТИЛЬ
и костюм
ГЛАВА
Китайское текстильное производство освоило выпуск всех
известных для мирового текстиля основных видов тканей,
сделанных из растительных и животных (шерсть) волокон.
Но абсолютно приоритетное положение в нем на протяже-
нии многих веков занимали, как известно, шелковые тка-
ни, изготавливаемые из специфического природного мате-
риала — волокон, получаемых из коконов бабочки тутово-
го шелкопряда.
Происхождение шелкоткачества овеяно в Китае, подоб-
но бронзовому производству, легендами и возводится к пре-
дельно архаическим временам. Чаще всего оно связывает-
ся с богиней по имени Лэй-цзу, супругой Желтого импера-
тора. Известно, что культ Лэй-цзу как покровительницы
шелкоткачества со второй половины чжоуской эпохи вхо-
дил в круг официальных религиозных представлений и
сопровождался специальными жертвоприношениями в ее
честь, которые совершались лично государыней, a затем —
императрицей. О высочайшей степени общественного авто-
ритета шелководства и шелкоткачества в Древнем Китае
свидетельствует также исполнение нефритовых изделий в
виде гусеницы шелкопряда и включение сцен на тему про-
цесса изготовления шелка (сбор листьев тутового шелко-
пряда, тканья и тому подобных процедур, подробно см.
далее) в орнаментацию бронзовых сосудов и позже в погре-
бальные рельефы и стенописи. Сама шелковица тоже почи-
талась священным деревом. Такие представления о ней
прослеживаются еще для иньской эпохи и раннечжоуского
периода372.
Как и во многих других случаях, справедливость тра-
диционной версии о предельно архаическом происхожде-
нии шелкоткачества полностью подтвердилась археологи-
ческими материалами. Выяснилось, что оно восходит к
неолитической эпохе. Древнейшими находками, подтвер-
ждающими факт существования в неолитическом Китае
шелкоткачества, пусть даже в его предельно примитивном,
ШЕЛКОТКАЧЕСТВО
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
ШЕЛКОТКАЧЕСТВА
372 В том числе сохранились
сведения, что алтари иньско-
го правящего дома и некото-
рых из чжоуских княжеских
фамилий находились в рощах
из тутовых деревьев, обозна-
чаемых специальным терми-
ном Санлинь — «Лес шелко-
виц». Места под однотипным
названием «Шелковичная пе-
щера» (КунсаНу Цюнсан) по-
стоянно фигурируют в мифо-
логических повествованиях и
легендах о древних правите-
лях и выдающихся истори-
ческих личностях в качестве
мест их рождения. И нако-
нец, именно к шелковице вос-
ходит, как мы помним, образ
мифологического Солярного
древа — Фусан.
725
Нефритовая фигурка
гусеницы шелкопряда.
Раннее Чжоу
Сцена сбора тутовых
листъев из орнаментации
бронзовых сосудов
373 Примечательно, что
приспособления, аналогич-
ные найденным в Хэмуду, до
сих nop используются в «по-
ясных станках», которые
применяются в промыслах
народностей, населяющих пе-
риферийные юго-восточные и
южные районы Китая (Гуан-
дун, Юньнань).
374 О степени насыщенно-
сти чуских захоронений шел-
ковыми тканями и одежда-
ми можно судить по женско-
му погребению из комплекса
Цзянлин (1982 г.)» датируе-
мому промежутком 340-
378 гг. до н. э. Усопшая была
облачена в 13 слоев одежды,
состоявших в общей слож-
ности из 31 предмета, вклю-
чая 8 халатов на шелковой
вате, 3 легких халата, 1 коф-
ту и 2 юбки. Поверх одежд
находились 3 покрывала и
1 саван. Они были изготов-
лены из гладких и узорча-
тых тканей — тафты, газа,
полихромных шелков. Еще
452 куска шелковых тканей,
представляющих более 60 их
разновидностей, были скла-
дированы в 4 бамбуковых
корзинах.
зародышевом состоянии, являются детали специального
инструментария — деревянные валики для наматывания
готовой ткани, ножи для обрезания основы, насечки для
зевообразования373. Все они были обнаружены (1975,
1978 гг.) для юго-восточной очаговой культуры Хэмуду,
что позволяет датировать начало китайского шелкоткаче-
ства VI-V тыс. до н. э. (!), a его родиной — считать регион
нижнего течения Янцзы. Первые образцы собственно шел-
ковых тканей — крошечные фрагменты (2,4 х 1 см), обна-
ружены для культуры Лянчжу и относятся, по результатам
их радиокарбонного анализа, к 2750 г. до н. э. (± 100 лет).
Они представляют собой ткань типа тафты с плотностью
40 нитей основы на 48 нитей утка на 1 см2 , которая была
выполнена, по данным специальных химических экспер-
тиз, из нитей одомашненной шелковичной гусеницы. Это
означает, что лянчжуские мастера владели не только ис-
кусством шелкоткачества как такового, но и умением раз-
водить бабочек и гусениц тутового шелкопряда.
От иньской эпохи подлинных образцов шелковых тка-
ней не сохранилось. Однако и в данном случае имеется
немало материальных свидетельств иньского шелкоткаче-
ства. В качестве таковых выступают отпечатки тканей на
бронзовых и нефритовых изделиях. Дело в том, что тогда
было принято обертывать предметы погребального инвен-
таря кусками ткани. Прежде чем истлеть, при определен-
ных благоприятных для этого условиях они оставляли от-
печатки на металлической и нефритовой поверхности,
причем настолько четкие, что по ним удается восстановить
тип, фактуру ткани и даже наличие на ней вышивки. Ока-
залось, что иньцы умели уже делать гладкие и полихром-
ные шелковые ткани, которые по некоторым технологи-
ческим показателям (преобладание на единицу измерения
плотности основных нитей над уточными) совпадают с чжоу-
скими и ханьскими шелками. Согласно письменным ис-
точникам, в иньскую эпоху имелось несколько региональ-
ных центров шелководства и шелкоткачества, которые были
сосредоточены на юго-востоке, юге и юго-западе страны —
на территории современных провинций Цзянсу, Аньхуэй,
Хунань и Сычуань.
Самые ранние подлинные образцы древних шелковых
тканей, по-прежнему лишь небольшие их фрагменты, от-
носятся к раннечжоускому периоду и периоду Весен и
осеней. Начиная со второй половины чжоуской эпохи шел-
ка, как в виде кусков, так и в виде предметов одежды,
настойчиво присутствуют в погребениях, в первую оче-
редь в чуских374. Подобные находки совместно с письмен-
ными сведениями позволили почти полностью и в деталях
восстановить репертуар древних шелков и технологию их
производства. Установлено, что именно на протяжении пе-
риода Борющихся царств и ханьской эпохи оформились
все основные производственные операции китайского шел-
коткачества, сложился базовый набор типов тканей и оп-
ределился ареал главных шелкопроизводящих центров. Пе-
речисленные ранее шелкопроизводящие регионы дополни-
726
лись северо-восточным (Хэбэй), восточным (Шаньдун) и
северным (Шаньси).
В танскую эпоху китайское шелкоткачество вступило в
качественно новую фазу своего развития, обусловленную
освоением китайскими мастерами ранее неизвестной им
ткацкой техники — самит, с которой они познакомились
благодаря ткацкому искусству тюркоязычных народов. К се-
редине VIII в. эта техника заняла господствующее положе-
ние в местном шелкоткачестве, приведя к решительному
обновлению способов ткачества и типов тканей. В последую-
щие исторические эпохи происходила дальнейшая эволю-
ция шелкоткацкого производства во всех его аспектах. Сво-
его наивысшего расцвета оно достигло в ХѴІ-ХѴШ вв. Тогда
же установился и окончательный вариант ареала его глав-
ных производственных центров. Так, еще при Тан они рас-
полагались преимущественно в центральном регионе
(Хэнань), в северо-восточных, восточных (Хэбэй, Шань-
дун) и юго-западных (Сычуань) районах. Именно там про-
изводилось подавляющее болынинство тканей, поставляе-
мых ко двору и предназначенных на экспорт. Начиная с
Северной Сун наметилась тенденция к перемещению шел-
ководческих и шелкоткацких центров вновь на юг и юго-
восток. В XIV в. сычуаньское производство окончательно
пришло в упадок, зато в полную силу заявили о себе юго-
восточные мастерские — в Нанкине, Сучжоу и Ханчжоу,
которые остаются самыми авторитетными шелкоткацкими
центрами и по сей день. В конце XVII — начале XVIII в.
шелководство и шелкоткачество укрепились в районе Гу-
анчжоу, что также было во многом вызвано потребностями
экспортной торговли, и, кроме того, наметилось его неко-
торое оживление в Сычуани.
Сцена с прядильным
колесом с ханьских
погребальных рельефов
Шелкоткацкое производство состоит из трех масштаб-
ных операций, производимых в рамках относительно са-
мостоятельных промыслов и ремесленных занятий: шел-
ководства, обработки нитей и ткачества.
Шелководство включает в себя разведение тутовника
и бабочек шелкопряда, выращивание гусениц, получение
коконов и нитей, a также их первичную обработку. Все
эти процедуры осуществлялись в древнем и традицион-
ном Китае в специализировавшихся на них крестьянских
хозяйствах.
Получение будущего шелка начинается со сбора гре-
ны — яичек бабочки тутового шелкопряда, и уже от под-
бора грены зависело качество нитей и тканей. Жизнен-
ный цикл гусеницы приблизительно 40 дней, в течение
которых они превращаются в полупрозрачных, телесного
цвета червей, длиной 7-8 см и толщиной с мизинец муж-
чины. Уход за гусеницами — чрезвычайно трудоемкое и
хлопотное занятие. Гусеницы подвержены массовым за-
болеваниям (известно немало исторических прецедентов,
когда подобные эпидемии охватывали целые уезды, приво-
дя к разорению крестьянских хозяйств) и, кроме того, ис-
ключительно чутко реагируют на любые раздражители:
ТЕХНОЛОГИЯ
ШЕЛКОТКАЦКОГО
ПРОИЗВОДСТВА
727
Сортировка коконов
Станки для размотки
коконов
колебания температуры, сквозняки, запахи и звуки. Все
это приводит к ухудшению их самочувствия и, как след-
ствие, качества нитей. Столь же привередливы гусеницы
и в еде. Листья, идущие на их кормление, должны соби-
раться в строго определенное время суток, с определенных
участков деревьев (верхние, нижние ветви) и специаль-
ным же образом нарезаться, причем следует избегать их
слишком мелкой или крупной нарезки. От подбора сортов
листьев зависит натуральный цвет нитей. Если гусениц
кормить исключительно листьями садовой тутовой шел-
ковицы, что и практикуется на юго-востоке, то получают-
ся нити почти чисто белого цвета. Когда гусениц кормят
листьями садовой шелковицы лишь во второй период их
жизненного цикла, a первые двадцать дней — листьями
дикого (горного) тутовника, то нити приобретают желтый
цвет. Такой режим кормления соблюдался в Сычуани и в
восточных прибрежных районах. И наконец, существует
так называемый дикий шелк, получаемый при кормлении
гусениц листьями особой породы дуба, растущего в горах
северо-восточных районов Китая, на территории Ляодун-
ского полуострова. Он представляет собой коричневого
цвета, с трудом поддающиеся отбеливанию грубые на
ощупь и легко рвущиеся нити, из которых при всех после-
дующих технологических ухищрениях и орнаментальных
уловках невозможно получить сколько-нибудь качествен-
ную ткань.
Далее наступает период витья коконов, продолжающий-
ся в течение 3-4 суток, во время которых соблюдаются все
те же предосторожности (поддержание температурного ре-
жима, ограждение от сквозняка, запахов, шума), что и в
период выращивания гусениц. Готовые коконы сортируют-
ся. Лучшие из них оставляются для получения нового по-
коления бабочек.
Следующая и столь же ответственная процедура — раз-
мотка коконов, которая может осуществляться нескольки-
ми способами. В древности коконы обдавались кипятком.
Затем предпочтение стали отдавать их распариванию в го-
рячей воде, для чего употребляются специальные приспо-
собления. Они состоят из котла, обычно соединенного с
жаровней, помогающей поддерживать необходимую темпе-
ратуру воды, и деревянной конструкции, образованной ра-
мой с мотовильным барабаном и ножным приводом. У каж-
728
дого кокона освобождается кончик волокна. Так как при-
родные волокна микроскопически тонкие, они сразу же со-
единяются в пучок от 4 до 18 коконов, который через на-
правляющий крючок и кольцо (как правило, из нефрита)
выводится на мотовило. Последние слои кокона, близкие к
гусенице, не поддаются размотке и идут на изготовление
шелковой ваты. Самые же непригодные для ремесленного
использования остатки употребляются для удобрения по-
лей. Длина нити, получаемой из одного кокона, колеблет-
ся в зависимости от породы бабочек, условий кормления
гусениц и прочих тому подобных обстоятельств от 350 до
1000 м. Для получения 1 кг нитей (шелка-сырца) требует-
ся 18 кг коконов, a их совокупная длина составляет 300-
900 км. Употребление горячей воды при размотке коконов
обусловлено необходимостью удаления с натуральных во-
локон сирицина — природного вещества, склеивающего их
в кокон. В холодной воде сирицин тоже растворяется, но
очень медленно. Однако при таком способе размотки нити
получаются более крепкими и упругими, чем при употреб-
лении кипятка или горячей воды. Поэтому старые чинов-
ники-специалисты, курировавшие шелкоткачество, неред-
ко призывали крестьян отказаться от распаривания коко-
нов и перейти к их размотке в холодной воде, обращаясь с
соответствующими петициями и ко двору. Размотка коко-
нов в холодной воде еще недавно применялась в китайском
промышленном производстве для получения особо проч-
ных нитей, которые до внедрения синтетических волокон
использовались в военно-технических целях, например, для
изготовления парашютного шелка.
После размотки коконов нити перематываются на мел-
кие бамбуковые мотовила и, в случае необходимости, по-
вторно утолщаются или скручиваются, хотя их качество
позволяло в принципе обходиться без скручивания. Этой
процедурой завершалась стадия шелководства, и нити по-
ступали в распоряжение других специализированных хо-
зяйств и ремесленных производств.
Обработка шелковых нитей включает в себя их повтор-
ную очистку, подготовку к крашению и крашение. Данная
операция не является строго обязательной, так как ткани
могли изготавливаться из необработанных нитей и прохо-
дить все перечисленные далее способы обработки уже в
готовом виде. Нити промывались для удаления с них ос-
татков сирицина и возможных загрязнений, вываривались,
отбеливались и в зависимости от красителя подвергались
травлению. Для окраски употребляются красители из рас-
тительных и минеральных пигментов. Древнейшими рас-
тительными пигментами являлись трава-ла«ь, местная раз-
новидность индиго, корень морены, дающий красный цвет,
плоды гардении (желтый цвет), желуди китайского дуба
(черный цвет). При Ранней Хань к ним добавился сафлор
(красный цвет) — растение, попавшее в Китай по маршруту
Великого шелкового пути и быстро там одомашненное. По
письменным свидетельствам, в некоторых районах страны
выращивались целые плантации сафлора, шедшего на нужды
Станок для приготовления
основы (сновки)
шелкокрасильных мастерских. Из минеральных пигментов
употреблялись киноварь (красный цвет), охра (темно-крас-
ный), свинцовые соединения. Разнообразие цветовой гаммы
чжоуских и ханьских шелков при столь ограниченном набо-
ре красителей объясняется тем, что древнекитайские мастера-
красилыцики в совершенстве владели техникой многослой-
ного окрашивания и умением добиваться нужных оттенков
путем комбинирования красок. Так, для получения нитей
светло-багрового цвета их окрашивали три раза, для получе-
ния темно-пурпурного и черного с пурпурным отливом, со-
ответствующего колористическим характеристикам цвета-
сюань (такими должны были быть некоторые из ритуаль-
ных одеяний), — соответственно 5 и 7 раз.
При Тан набор красителей значительно расширился.
Вкрасильном деле стали активно применяться малахит,
азурит, уже знакомые нам по живописным краскам ауро-
пигмент и гуммигут, a из растительных пигментов — са-
пан, из древесины которого получают красители красного
цвета, персидский индиго и т. д. Среди привозных краси-
телей встречались и весьма экзотические, например «пур-
пурный минерал» — вещество, выделяемое «лаковыми на-
секомыми» (шеллак), которые специально для этого разво-
дились в лесах Юго-Восточной Азии.
Собственно ткачество начинается с приготовления ос-
новы (сновки) и шпулей для утка. Сновка, тоже исполняе-
мая на специальном станке, состоит из горизонтально на-
тянутых и плотно пригнанных друг к другу нитей. Для
подготовки уточных шпулей в ходе истории шелкоткацко-
го производства употреблялись различные по конструкции
шелкокрутильные приспособления. Например, еще в XIV в.
это было мотовило, приводимое в движение рукой. Наибо-
лее существенные изменения в шелкокрутильной технике
730
произошли в XVIII в., когда появились станки с колесом,
приводимые в движение обеими ногами, что резко повыси-
ло производительность труда.
Ткацкие станки тоже постоянно совершенствовались.
Приблизительно до середины чжоуской эпохи повсеместно
использовались «луские станки» — без подножек, с двумя
навоями, бердом и приспособлениями для ручного зевообра-
зования. В позднечжоуский период и при Хань данный тип
ткацкого станка значительно модифицировался и превра-
тился в конструкцию с деревянной рамой и двумя крутящи-
мися — передним и задним — барабанами-навоями. Кроме
того, станок теперь имел две подножки, при помощи кото-
рых осуществлялось механическое разделение основы для
образования зева. Так как руки ткача оставались свободны-
ми, он сам мог, без привлечения помощников, продевать
челнок с утком и гребнем и протягивать утки. Опытный
ткач (или ткачиха, обычно ткачеством занимались женщи-
ны) мог изготовить на таком станке за день работы до 3 м
гладкой ткани. He лишним будет заметить, что аналогичные
по конструкции ткацкие станки были изобретены в Европе в
VI в., a широкое распространение получили лишь к XIII в.
Для изготовления узорчатых и полихромных шелков ис-
пользовались еще более совершенные станки. Уже древние,
чжоуские, узорчатые ткани исполнялись, видимо (их изоб-
ражения не сохранились, a письменная информация крайне
отрывочна), на станках, снабженных рейками или планка-
ми, разделявшими нити основы соответственно рисунку, и
педалями для образования зевов. Судя по сложности узоров,
они должны были иметь до 4 подножек и более 300 планок.
Шелкоткацкое производство традиционного Китая рас-
полагало еще более внушительной серией конструктивных
типов станков. Наиболее сложным устройством обладали
Поясной станок
Региональные варианты
ханьских станков
a — юго-восточный регион (пров.
Аньхуэй и Цзянсу); б — пров.
Сычуань.
Станок для тканья
полихромных
крупноузорчатых шелков
станки, предназначенные для крупноузорного и многоцвет-
ного тканья. Данный тип станков был изобретен предполо-
жительно в конце танской эпохи, о чем можно судить по
характеру дошедших до нас образцов позднетанских и ран-
несунских тканей. И вновь уместно вспомнить, что его
первый европейский аналог, способный ткать только узкие
ленты, появился в Германии в XVI в., a узорное ткачество
как таковое фактически утвердилось в Европе в XVIII в.,
после изобретения приспособления для механического
подъема нитей основы.
Станок для крупноузорного многоцветного тканья, в том
виде, какой он получил в ХѴІ-ХѴП вв., представляет собой
подлинное инженерное сооружение масштабных размеров,
включающее в себя горизонтальный навой и ремизный аппа-
рат с педальным механизмом. Его обслуживали два челове-
ка: ткач, работавший внизу, y основы, и его помощник,
располагавшийся вверху, y верха вертикальной рамы. Изго-
товление многоцветной ткани начиналось с создания заго-
товки-тяохуа («протянутые цветы»): на рисунок будущего
раппорта наиболее опытные (и, заметим, высокооплачивае-
мые) мастера наносили тонкую сетку, по которой раппорт
сплетался из тонких шнуров. Их расположение точно соот-
ветствовало узору рисунка — так получалась тяохуа. Затем
заготовка укреплялась в верхней части вертикальной рамы,
a концы шнуров прикреплялись к веревочному передаточно-
му приспособлению, соединенному с бурами ремизным аппа-
ратом. Помощник ткача тянул то одну, то другую группу
шнуров, изменяя расположение нитей основы, a ткач про-
пускал челнок через определенное число нитей. Для тканья
однотонных и мелкоузорных тканей также использовались
собственные, упрощенной конструкции типы станков.
Процесс создания ткани завершался либо их оконча-
тельной подправкой (у окрашенных и многоцветных), либо
разрезанием двойных волокон (у бархата), либо, в случае
их исполнения из шелка-сырца, окраской и лощением.
С XVIII в. началось замедление технического прогресса
китайского шелкового производства и его постепенное, но
неуклонное отставание от европейской техники шелкокру-
чения и шелкоткачества, что, впрочем, мало сказалось на
качестве и общей популярности китайских шелков.
Технический уровень и постоянный прогресс китайско-
го шелкоткацкого производства полностью соответствуют
богатству репертуара тканей, основные типы которых вы-
делились, повторим, еще в чжоуские и ханьские эпохи.
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ Определяющими показателями для типологической
ШЕЛКОВЫХ ТКАНЕЙ классификации шелковых тканей служат, во-первых, тол-
щина нитей и их средняя плотность для основы и утка.
Во-вторых, характер плетения горизонтальных (основных)
и продольных (уточных) нитей, исходя из чего все шелко-
вые ткани подразделяются на основные и уточные (самит).
В-третьих, цветовая гамма и орнаментальные показатели,
на основе чего ткани делятся на однотонные и полихром-
ные. Однотонные ткани, в свою очередь, распадаются на
732
гладкие (газ, репс, тафта, атлас, бархат) и узорчатые, узо-
ры которых образованы сменой переплетений (узорчатые
газовые и камчатые ткани). Среди полихромных тканей
выделяются малоцветные (из нескольких, начиная с двух,
цветов), многоцветные, мелкоузорные, крупноузорные и с
рельефным узором.
Набор древнекитайских шелков состоял из гладких,
креповых, газовых, камчатых и полихромных тканей. Древ-
ние гладкие ткани, обозначаемые в оригинальной терми-
нологии как телк-мань, подразделяются в традиции на
несколько типов: вываренные (посредством кипячения) —
лянь, с плотными редкими нитями — цзюанъ, с двойными
нитями — цзянь, с яркой окраской — ди и белый блестя-
щий шелк — су. Последний из приведенных терминов впо-
следствии стал прилагаться к шелку-сырцу или сделанной
из него ткани, т. е. ткани, имеющей натуральный цвет.
Если исходить из принятой в мировом текстиле класси-
фикации, то гладкий шелк оказывается представленным
двумя ведущими типами — тафтой и основным репсом,
который имел среднюю плотность 60-90 нитей основы и
30-50 нитей утка на 1 см2. Высшим достижением древ-
них гладких тканей традиция называет «ледяную/глян-
цевитую тафту» (ва) — тонкий белый блестящий шелк,
который выделывался в I в. н. э. в Шаньдуне. Впослед-
ствии секрет ее изготовления был утрачен, и в памяти
последующих поколений о ней остались легенды, насы-
щенные фантазийными подробностями. Рассказывалось, на-
пример, что тафта изготавливалась из нитей коконов вол-
шебных шелкопрядов — огромных, с рогатыми головами и
чешуйчатым телом червей, обитавших где-то в чудесных
горах вдали от мира людей и вивших многоцветные коко-
ны под снежным покровом. Сама ткань наделялась водо-
непроницаемостью и огнеупорностью: считалось, что она
не намокает в воде и не боится огня.
Шелковый креп (чжоу, так могла обозначаться и высо-
кого качества, прочная конопляная ткань) — ткань, изго-
товленная из нитей со слабой или сильной скруткой. Нити
основы со слабой скруткой имели (результат анализа под-
линных тканевых фрагментов) плотность 78 на 1 см2. При
их сильной скрутке плотность нитей основы и утка равня-
лась соответственно 40-60 и 40-50 на 1 см2.
Газовые ткани (ша) представлены гладкими и узорча-
тыми шелками. Последние определяются в оригинальной
терминологии как шелк-ху. Кроме того, отдельно выделя-
ется их разновидность — ло, объясняемая в комментариях
как «узорная и редкая газовая ткань». Впоследствии иеро-
глиф ло стал употребляться в китайском языке в качестве
обобщающего термина для шелковых тканей.
Общими опознавательными особенностями всех газо-
вых тканей являются две группы основ — фоновых и ра-
ботающих («газовые») и наличие «глазков», расположен-
ных в шахматном порядке. Гладкие газовые ткани имеют
«просветы», разделенные группами из трех утков, соеди-
ненные с нитями основы в полотняном переплетении. Ряды
'WVrwvr\
•шжмшт
Схема переплетения
древних (ханьских)
газовых тканей
733
mm lui
Камчатые ткани
a — вариант схемы переплетения
древних (ханьских) тканей; б —
вариант схемы переплетения тан-
ских тканей; ѳ — образец орна-
мента (Ранняя Хань, Мавандуй).
Полихромные шелка
a — схема переплетения древних
(чуских) тканей; б — вариант пе-
реплетения в технике саммит.
«просветов» образованы группами из четырех нитей основы
(две нити фоновой и две нити работающей), которые пере-
плетены между собой и соединены одной нитью утка. Тех-
ника переплетения узорчатых тканей имеет некоторое отли-
чие: здесь ряды «просветов» образованы единственным ут-
ком. В результате типичным для них оказывается орнамент
в виде соединенных ромбов. По мнению специалистов, в
ханьскую эпоху техника исполнения газовых шелков была
доведена до предельного совершенства.
Камчатые ткани, обозначаемые как ци и лин (ткань, по
определению комментаторской традиции, с особым орна-
ментом, похожим на ледяные узоры), изготавливались дву-
мя способами. В первом из них, восходящем еще к иньско-
му ткачеству, основы работают по системе 3 : 1, т. е. про-
ходя над тремя нитями утка и опускаясь на одну нить. Во
втором способе основы, образующие на полотняном фоне
узор, чередуются с основами, работающими в полотняном
плетении.
Полихромные ткани обозначаются термином цзинъ,
который впоследствии стал обозначать и парчу. Поэтому
он нередко понимается и переводится как «парча» и при-
менительно к древним шелковым тканям. На самом деле,
собственно парча появилась в Китае только при Тан. Древ-
ние полихромные ткани выполнялись в технике, произ-
водной от полотняного плетения. Сам узор образовывался
сменой основ и в результате их прохождения над тремя,
пятью или семью нитями утка. Такая техника, продер-
жавшаяся в китайском шелкоткачестве вплоть до конца
VII — начала VIII в., позволяла исполнять достаточно
сложные тканые узоры. Превосходными образцами древ-
них полихромных шелков стали ткани из цзянлинского
женского погребения, среди которых присутствуют шел-
ка с геометрическим орнаментом, состоящим из разнооб-
разных ромбовидных, S-образных, шестиконечных и дру-
гих фигур, с орнаментом, образованным из рядов геомет-
рических фигур и стилизованных изображений фениксов
и уток. В последнем случае фоновая основа состоит из
полос желтого, коричневого и темно-бурого цветов, a эле-
менты орнамента выработаны желтыми и коричневыми
нитями.
Освоение техники уточного тканья привело не только к
появлению принципиально новых типов тканей, но и к
существенному изменению всех прежних ткацких техник
и способов. Так, в камчатых тканях узор теперь стал обра-
зовываться уточным четырехремизовым (3 : 1) и шестире-
мизовым (5:1) саржевым плетением на полотняном фоне
или, в еще более сложном варианте, саржевым плетением
на саржевом фоне.
Кроме сугубо технологических нюансов, важным пока-
зателем времени производства полихромных тканей явля-
ется характер их орнамента. Ведущее место в орнаментации
ханьских шелков занимает уже знакомая нам «облачная
лента» — сильно стилизованное, напомним, изображение
«птице-дракона» в обрамлении причудливых завитков
734
и пальметок. В орнамент нередко вводились также узоры,
составленные из стилизованных изображений цветов (как
правило, шестилепестковые цветы, восходящие к цветам
водяного каштана) и фантазийно-зооморфные фигуры, на-
подобие крылатых и рогатых зверей. В эпоху Шести дина-
стий и при Тан все эти орнаментальные мотивы были по-
чти полностью вытеснены орнаментами чужеземного про-
исхождения — «ячеечным», «клеточным», «жемчужные
цепи». Первый из них имеет ближневосточное происхожде-
ние и состоит из ритмичных кривых, образующих ячейки с
помещенными в них растительными и зооморфными фигу-
рами или реже антропоморфными (фронтально стоящие че-
ловечки) изображениями. «Клеточный орнамент», восхо-
дящий к сасанидскому искусству, образован клетками с раз-
мещенными в них вертикальными изображениями буйволов,
львов, слонов. «Жемчужные цепи» — орнамент средизем-
номорского происхождения, получивший особое распрост-
ранение при Тан, — состоит из круглых или овальных ме-
дальонов, образованных кружками-перлами и вновь запол-
ненных зооморфными изображениями, изображениями
людей, a также растительными узорами. Пик популярно-
сти полихромных шелков с заимствованными орнамента-
ми приходится на VII — начало VIII в., после чего их удель-
ный вес стал снижаться в пользу тканей с растительным
орнаментом, что означало возвращение шелкоткачества к
национальным художественным традициям.
Важнейшими новыми типами тканей, освоенных китай-
ским шелкоткацким производством при Тан, справедливо
считаются атлас, бархат, парча и «резаный шелк»-кэсы.
Атлас и бархат — основная саржа, в которой большое
число тонких основных нитей полностью перекрывают уток.
Парча — ткань с использованием золотых и серебряных
нитей, которые в старом китайском шелкоткачестве изго-
тавливались путем накрутки на нити золотой и серебря-
ной фольги. Более подробного рассказа заслуживает шелк-
кэсы, являющийся одним из наиболее самобытных типов
китайских шелков. Это — полихромная ткань с рельеф-
ным орнаментом, выполненная в технике, близкой евро-
пейскому гобелену. Данная техника была заимствована из
ткацкого искусства уйгуров, a термин кэсы восходит к
арабо-персидскому слову «газ». Такие ткани исполняются
на маленьком ручном станке из шелка-сырца в основе и
окрашенных нитей в утке. Основа закрепляется на дере-
вянных штырях, после чего на нее наносятся контуры бу-
дущего узора. Шелковая пряжа вручную прокладывается
нить за нитью с помощью миниатюрных бамбуковых чел-
ноков и затем плотно пригоняется деревянной щеткой. В со-
ответствии с рисунком уток создает на границах цветовых
участков просветы, и в результате получается орнамент
как бы составленный из вырезанных элементов. Понятно,
что изготовление кэсы требовало много труда и времени.
На исполнение, например, ткани, необходимой для поши-
ва только одного женского одеяния, требовался почти месяц
работы. Ранние кэсы орнаментированы преимущественно
геометрическими узорами и растительными завитками.
В дальнейшем на них стали воспроизводиться причудли-
вые орнаментальные композиции и даже полноценные пей-
зажные и сюжетные сцены. Примечательно, что при Тан и
Северной Сун главным центром производства кэсы были
мастерские в Динчжоу, т. е. той же самой местности, кото-
рой Китай обязан изобретением фарфора.
Главными центрами современного китайского шелко-
ткачества, как в промышленном, так и ремесленном его
производстве, по-прежнему являются Нанкин, Сучжоу и
Ханчжоу. Нанкинское шелкоткачество исходно специали-
зировалось на выпуске атласных, бархатных и парчовых
тканей, которые всегда славились яркостью красок с пре-
обладанием золотисто-желтого, красного и глубокого голу-
бого тонов, четкостью рисунка и обилием золотого и сереб-
ряного тканья. Особо знаменита нанкинская «облачная
парча» (юнъцзинъ). Сучжоу — главный в настоящее время
центр производства газовых, однотонных и мелкоузорных
тканей, в орнаменте которых преобладает мелкий, чаще
всего геометрический рисунок, состоящий из медальонов,
соединенных сложной сетью ломаных линий. Традицион-
ные ханчжоуские ткани близки по характеру сучжоуским,
но отличаются от них преобладанием более светлых тонов
и растительных мотивов. В настоящее время здесь произ-
водятся практически все типы тканей, которые в самом
Китае почитаются лучшими национальными шелками.
Китайский шелк, подобно керамике, получил миро-
вую известность и в целом оказал значительное влияние
на текстиль и декоративно-прикладное искусство многих
стран. Входя в число наиболее массовой экспортной про-
дукции, китайские шелковые ткани еще до начала нашей
эры попали в предельно отдаленные от Дальнего Востока
регионы, вызывая повсюду восхищение и стимулируя ста-
новление собственного шелкоткачества. В Европе широкое
распространение получила легенда о том, что вплоть до
VI в. китайцы хранили в строжайшем секрете тайны ис-
кусства шелководства и шелкоткачества. В действитель-
ности ханьские власти не только не препятствовали их
распространению за пределы империи, a напротив, вся-
чески поощряли знакомство с ними соседних народно-
стей. Правителям периферийных областей предписыва-
лось обучать «варваров» шелководству и шелкоткачеству,
дабы поднять их до уровня «цивилизованных народов».
В результате продвижение культуры шелководства на За-
пад — в сторону Восточного Туркестана, началось еще в
I—II вв. A в Ѵ-ѴІ вв. в Турфанском оазисе было налажено
самостоятельное шелкоткацкое производство, выпускав-
шее гладкие и полихромные ткани, причем по техноло-
гии, качественно отличной от китайской. Нити получа-
лись из коконов, уже покинутых бабочками, из-за чего
они имели сильную скрутку и неодинаковую толщину.
Узоры изготавливались утком, и для упрочнения ткани в
нее иногда вводились нити из конопли и шерсти. К V в.
736
КИТАЙСКИЙ ШЕЛК
В ИСТОРИИ МИРОВОГО
ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА
піелководство и шелкоткачество достигло Мерва и оттуда
іс концу V — началу VI в. проникло в Южный Иран (об-
ласть на юго-восточном побережье Каспийского моря). При-
близительно в то же время сложилась и согдийская шко-
ла шелкоткачества.
В Европе, точнее в Древнем Риме, китайский шелк
стал известен во времена Александра Македонского, сразу
превратившись в предмет роскоши (за него платили золо-
том), окруженный всевозможными легендами и суеверия-
ми. Римляне были убеждены, в частности, что шелковые
ткани изготавливаются из древесного пуха и обладают чу-
додейственными свойствами. Однако с шелководством Ев-
ропа познакомилась гораздо позже, при императоре Юсти-
ниане, когда в Византию была доставлена грена375.
Основное место в византийском шелкоткачестве, центры
которого были сосредоточены в Греции и Сирии, заняла
парча, затканная золотыми и серебряными нитями и укра-
шенная богатой вышивкой, жемчугом и золотом, которую
тоже ценили подобно драгоценностям. Одеяния из самых
дорогих шелковых тканей были исключительной привиле-
гией членов императорской фамилии, из более дешевых —
высокопоставленных сановников. Эти ткани попадали и в
Европу в виде даров королевским семьям376.
Из Византии шелководство и шелкоткачество пришло
в страны арабского ареала (от Северной Африки до Южной
Испании), a затем — в Италию (в эпоху средневековья) и
Францию (в эпоху барокко). Но и после утверждения ви-
зантийского, арабского и европейского шелкоткачества ки-
тайские шелка продолжали цениться на Западе в полном
смысле слова на вес золота. Их красота и качество столь
завораживали европейцев, что из этой «языческой» ткани
исполнялись даже одеяния высших католических иерар-
хов377. Прямой экспорт китайских шелков в Европу начал-
ся в XVI в. и достиг своего пика к середине XVIII в. При-
чем, если в конце XVII — начале XVIII в. преобладал вы-
воз шелка-сырца, то с 30-х гг. XVIII в. в Китае стали массово
закупаться готовые ткани, преимущественно бархат, пар-
ча и полихромные шелка, которые лучше всего отвечали
запросам стиля «шинуазри».
Для России ее знакомство с китайским декоративно-
прикладным искусством началось именно с шелков и за-
долго до Петра I и увлечения российского общества евро-
пейским «шинуазри». По свидетельству архивных источ-
ников, еще в XVII в. китайские шелка достаточно активно
использовались при отделке царских интерьеров в Москве
и подмосковных резидеыциях. Ими обивали стены покоев
и обтягивали предметы мебели.
История китайского шелка за пределами Китая убеж-
дает в правомерности высказанного ранее тезиса об уди-
вительной способности китайских художественных тра-
диций не только адаптироваться к инородной культурной
среде, но и составлять органическое единство с совершен-
но разными по эстетическим установкам направлениями
и стилями.
375 Считается, что ее тайно
с риском для жизни вывезли
некие монахи, специально
посланные для этого Юстиниа-
ном в Китай и успевшие обу-
читься там азам выращива-
ния гусениц и получения шел-
ковых нитей. Судя по всему,
монахи оказались прилежны-
ми и способными учениками,
так как в скором времени Ви-
зантия начала вьшускать соб-
ственный шелк, изготовление
которого, равно как и пурпур-
ного красителя, стало государ-
ственной монополией.
376 Такой дар получил, на-
пример, в 1164 г. чешский
король Владислав II от вен-
герского короля Стефана III и
греческого императора Эмма-
нуила.
377 В далматике из китай-
ской парчи, затканной изо-
бражениями буддийских лото-
сов, был похоронен (в Перуд-
же) Папа Римский Бенедикт II
(1304 г.).
47 История пскусства Кіггая
737
ДРУГИЕ
ВИДЫ ТКАНЕЙ
(КОНОПЛЯНЫЕ,
ХЛОПКОВЫЕ
И ШЕРСТЯНЫЕ)
Спганок
(с пятпью веретпенами )
для прядения конопли
378 На территории самого
Китая произрастал «древовид-
ный хлопок» — дерево с ярко-
красными цветами и плодами,
похожими на собственно хлоп-
ковые коробочки. Оно было
знакомо китайцам с давних
времен. Но так как волокна
«древесного хлопка» плохо
поддаются обработке, то они
употреблялись лишь для под-
бивки домашней одежды и
для набивки тюфяков.
379 Известны находки в по-
гребениях (например, полот-
нище, в которое обернуто тело
усопшего) образцов хлопчато-
бумажных тканей, выполнен-
ных в XVII в. Они были на-
столько хорошо отбелены, что
почти не пожелтели.
Несмотря на архаичность происхождения шелка, са-
мым древним видом китайского текстиля является все же
не он, a конопляная ткань, которая возникла в рамках
Яншао. Хотя обработка конопли и ткачество из ее волокон
требовали значительно болыних затрат труда, чем шелко-
водство и шелкоткачество, оба этих вида текстиля парал-
лельно существовали в течение многих веков. До утверж-
дения в Китае хлопчатобумажного производства именно
конопляные ткани шли на изготовление одежды основной
массы населения — рабочей, повседневной и зимней. Бо-
лее того, по уровню своего технологического развития ко-
нопляное производство мало в чем уступало шелкоткацко-
му. Так, еще в XIII в. был изобретен ножной станок для
прядения конопли с пятью веретенами. Вершиной технико-
инженерной мысли китайцев стала самопрялка с 12 вере-
тенами, которая более чем на четыреста лет опередила по-
явление английской прядильной машины. И хотя к XVI в.
конопляные ткани почти полностью вышли из употребле-
ния, оставшись уделом крестьянского подсобного промыс-
ла, технология их производства во многом подготовила
почву для способов обработки хлопка.
Появление хлопка в Китае — событие, сопоставимое,
пожалуй, с проникновением китайского шелка на Запад.
Оно состоялось при Хань благодаря доставке средиземно-
морских (по маршруту Великого шелкового пути) и (в мень-
ших количествах) южноазиатских хлопчатобумажных тка-
ней. Они поразили воображение китайцев не меньше, чем
шелка — римлян. Обитатели Поднебесной тоже проник-
лись убеждением, что эти дивные привозные ткани намно-
го превосходят по прочности и белизне их собственные
шелка, и искренне верили, что они изготавливаются из
шерсти волшебных баранов, растущих на деревьях378. Толь-
ко в эпоху Шести династий и в результате более тесных
контактов с южно-азиатскими народностями и странами
китайцы получили возможность познакомиться с хлопко-
вой культурой и техникой хлопчатобумажного тканья.
Собственная культивация хлопка началась в Китае при
Тан, однако понадобилось еще несколько веков для нала-
живания там хлопчатобумажного производства. Это про-
изошло в ХІІ-ХІП вв. под воздействием принудительных
мер центральной администрации (юаньской, a затем и мин-
ской), которая стремилась найти более дешевый, чем шелк,
и менее трудоемкого производства, чем конопляные ткани,
текстиль для повседневной и простонародной одежды. Ме-
нее чем за сто лет хлопчатобумажные ткани действительно
вытеснили конопляные, a в ХѴІ-ХѴШ вв. китайское хлоп-
чатобумажное производство уже давало продукцию
чрезвычайно высокого качества: ткани отличались белиз-
ной, прочностью, тонкостью, тщательностью отделки, яр-
костью красок и сложностью рисунка379. Более того, по
ряду показателей китайские хлопчатобумажные ткани того
времени значительно превосходили современный им евро-
пейский текстиль. До второй половины XVIII в. в Европе
почти не было тканей, целиком сотканных из хлопка:
738
в Англии, Германии и Италии изготавливались хлопчато-
бумажные ткани на льняной основе, тогда как китайские
мастера умели выделывать текстиль с хлопковыми и осно-
вой, и утком. Поэтому не удивительно, что в XVII — нача-
ле XVII в. главные позиции в китайском экспорте занимал
не шелк, именно хлопчатобумажные ткани, которые ог-
ромными партиями — в общей сложности до 10 миллио-
нов рулонов в год — поставлялись в самые разные страны:
Индию, Аравию, Америку, Францию и Россию. Производ-
ство хлопчатобумажных тканей занимает существенное
место и в современной текстильной промышленности КНР,
совокупный (совместно с шелком и шерстяными тканями)
объем продукции которой достиг к концу прошлого века
гигантской цифры в 17,48 миллиардов метров в год.
Происхождение и начальный этап истории развития в
Китае шерстяного текстиля остается неясным. Наиболее
принятой является точка зрения, что этот вид ткани про-
ник в Китай при Тан из Западного и Восточного Туркеста-
на. Тогда же там было налажено собственное производство,
но в крайне ограниченных количествах и в весьма экзоти-
ческих формах. He знавшие овцеводства, китайцы изготав-
ливали шерстяные ткани из верблюжьей шерсти (в Ганьсу)
или кроличьего пуха (в районах нижнего течения Янцзы),
в обоих случаях — по технологии, заимствованной y сосед-
них тюркоязычных народностей. Самым необычным ти-
пом китайского шерстяного текстиля являлась ткань из
меха выдры, представлявшая собой сукно, аналогичное
американскому альпану. Ввиду его редкости оно высоко
ценилось на внутреннем рынке и нередко включалось в
набор даров, посылаемых китайскими властями чужезем-
ным правителям. Только в ХІХ-ХХ вв. производство шер-
стяных тканей превратилось в органичную часть китай-
ской текстильной промышленности. В конце прошлого века
производство шерстяной пряжи составляло около 5 мил-
лионов тонн в год.
Наряду с исходно широким распространением в Китае
узорчатых и полихромных шелковых тканей местные мас-
тера издревле прибегали к дополнительным способам деко-
ративного оформления тканых изделий, самым древним из
которых являются вышивки. Искусство вышивки возник-
ло по меныней мере в иньскую эпоху: найдены отпечатки
тканей с фрагментами вышивок, выполненных тамбурным
швом. К периоду Борющихся царств, особенно в южных и
юго-восточных регионах, оно уже превратилось в относи-
тельно самостоятельный вид художественного творчества.
Вышивки исполнялись в трех вариантах тамбурного шва,
в техниках стебельчатого шва, точечной и простой глади,
т. е. древнекитайские вышивалыцики владели уже прак-
тически всеми возможными приемами. Нередко исполня-
лись развернутые орнаментальные композиции, распрост-
ранявшиеся на всю поверхность изделия (например, погре-
бальные покрывала). Использовались нити нескольких
СПОСОБЫ
ДЕКОРАТИВНОГО
ОФОРМЛЕНИЯ
ТЕКСТИЛЯ
(ВЫШИВКИ
И НАБОЙКИ)
739
Фмѣ
Чуские вышивки
Раннеханъские вышивки
цветов, a точность рисунка достигалась с помощью шабло-
нов: они обводились краской, и вышивка шла по получен-
ным на ткани линиям. Вышивками украшались, в основ-
ном, любые типы тканей — газовые, камчатые и даже по-
лихромные. Но чаще всего они наносились на неокрашенную
или окрашенную гладкую ткань — тафту и репс.
При Хань для дополнительного художественного оформ-
ления текстиля стали использоваться и набойки (жань-
се — «орнамент, получаемый погружением в красящую
жидкость»). Техники набойки пришли в Китай двумя пу-
тями: от тайских народностей, обитавших в то время на
территории современной провинции Юньнань, которые
практиковали нанесение красочных узоров на хлопчатобу-
мажные ткани, и по маршруту Великого шелкового пути.
Этап освоения китайцами набоек приходится на эпоху
Шести династий, и при Тан они уже исполнялись тремя
методами: восковым, блоковым и узелковым.
Самой ранней для Китая является восковая набойка
(чжасв — «узоры, [выполненные] воском»), которая осу-
ществляется двумя способами. Либо жидкий воск накла-
дывается на ткань по рисунку, a когда он остынет, ткань
погружается в красильный чан. После окраски воск удаля-
ется, и на поверхности ткани остается неокрашенный ор-
намент. Все эти процедуры могут идти в обратной последо-
вательности: воск накладывается на уже окрашенную ткань,
которая помещается в щелочный раствор, смывающий ее
окраску, за исключением мест, покрытых воском. Оба спо-
соба позволяли производить двухцветные и трехцветные
орнаменты, например желтого, синего и оранжевого цве-
тов, и выполнять их по обе стороны ткани.
Блоковая набойка (цзясе — «сжатые узоры»), заим-
ствованная y соседних с Китаем юго-западных народно-
стей, состоит из нанесения орнамента с помощью мат-
риц — резных деревянных досок. Наибольшей техниче-
ской изощренности данный метод достиг при Тан, когда
были изобретены матрицы, состоящие из деревянной рамы
и помещенных внутри нее бумажных штампов, наклеен-
ных на тонкий шелковый газ. Перед окраской ткань скла-
дывали в вертикальном положении и зажимали между
двумя матрицами, заполненными краской. В результате
посредством блоковой набойки могли исполняться весьма
сложные по композиции и полихромные — до 7 цветов —
орнаменты.
Узелковая набойка (цзяосе — «узелковый узор») — са-
мый простой, по технологии его исполнения, набоечный
метод. В определенных местах ткань сшивается, и на ней
завязываются узелки, чтобы предохранить это место от
проникновения краски в процессе окрашивания. После
окраски и просушки ткани узелки срезаются, и на окра-
шенном фоне получается узор из некрашеных фрагмен-
тов. Узелковая набойка позволяет исполнять только срав-
нительно простые узоры, наподобие ромбиков, «агатового
узора» (чередующиеся полосы), «шерсти оленя» (в виде
повторяющихся пятен), или «икряного узора» (в виде то-
740
чек). Однако коль скоро подобные разновидности узоров
имели самостоятельные и столь поэтические названия,
понятно, что и они соответствовали эстетическим вкусам
китайцев и считались достойным декоративным оформле-
нием текстиля.
История любого текстиля неотъемлема от истории раз-
вития и бытия местного костюма, так как, с одной сторо-
ны, все виды и типы тканей производятся в конечном сче-
те для исполнения одежды, a с другой — особенности регио-
нального костюма оказываются во многом обусловленными
своеобразием ассортимента местных тканей.
История китайского костюма прослеживается с инь-
ской эпохи, правда, «пунктиром» и благодаря только еди-
ничным артефактам (например, статуэтки из погребения
фу-хао). Но уже начиная с периода Борющихся царств
она становится на твердую почву фактов, обеспеченных,
во-первых, подлинными предметами одеяний, во-вторых,
произведениями декоративно-прикладного и изобразитель-
ного искусства и, в-третьих, информацией, содержащей-
ся в письменных источниках. Принципиально важно, что
и иньская миниатюрная скульптура, не говоря уже о
позднечжоуской, ханьской и последующей погребальной
пластике, содержит в себе немало изображений, в кото-
рых, как мы помним, показывается не только общий вид
одеяний, но и их орнаментальные элементы — например,
отделка рукавов, подолов, поясов. Примером могут слу-
жить несколько нефритовых фигурок Фу-хао. Персонажи
показаны одетыми в верхнее платье, наподобие халата,
доходящего до колен и запахнутого направо. Рукав уз-
кий, плотно облегающий руку, доходит до самого запя-
стья. Ворот, подол халата и края рукавов украшены широ-
кой узорной каймой, вышитой или из полихромной тка-
ни. Пояс тоже орнаментирован. Головы персонажей, как
правило, покрыты маленькой круглой шапочкой, внешне
напоминающей тюбетейку и обнаруживающей некоторое
сходство с особым типом головного убора, который вошел
в употребление намного позже — шапочкой-люаиао. Еще
на одной статуэтке, сохранившейся во фрагментарном
виде, показано сплошь покрытое узором одеяние. Богат-
ство декора костюма и тщательность исполнения всех его
орнаментальных нюансов тем более примечательны, что
перед нами, как это говорилось выше, изображения всего-
навсего слуг. Так каким же великолепием обладало одея-
ние высокопоставленных персон и августейших особ того
времени?!
Достаточно подробные, с точки зрения проработки эле-
ментов костюма, изображения присутствуют и среди хань-
ских погребальных рельефов и стенописей; для первых
наиболее существенными в данном случае оказываются
керамические рельефы, отличающиеся, как мы помним,
тщательностью исполнения и детализованностью. Прин-
цип точности передачи натуры сохранялся и в погребальном
костюм
ОСНОВНЫЕ
источники
ПО ИСТОРИИ
КИТАЙСКОГО
КОСТЮМА
Схема кроя китаиской
верхнеи наплечной одежды
Иньский костюм.
Статуэтки.
Из погребения Фу-хао
741
Чжоуский костюм.
Царстѳо Чу
a — халат (из погребальных ар-
тефактов); б — плахта-шак (из
погребальных артефактов); в —
мужская повседневная одежда
(погребальная пластика); г — муж-
ское парадное одеяние (с карти-
ны на шелке).
Древнекитайский
( позднечжоуский
и ханьский) официальный
чиновничий костюм
с головным убором
цзиньсяньгуань.
По мотивам
погребалъных релъефов
искусстве последующих исторических эпох. Хотя при об-
ращении к произведениям погребального искусства следу-
ет помнить, что их основными персонажами являлись лица
обслуживающего персонала, и, следовательно, в них нахо-
дит отражение преимущественно одежда, свойственная дан-
ной социальной группе, которая далеко не всегда, есте-
ственно, совпадала с одеянием элиты. Кроме того, нельзя
исключать вероятность намеренного изображения костюма
под более древний и искаженный, по сравнению с обычной
одеждой, в силу установок самой по себе погребальной
обрядности и иконографических закономерностей культо-
вого художественного творчества. Из изделий декоративно-
прикладного искусства для ханьской эпохи и эпохи Шести
династий особое значение в данном случае приобретают
лаки с росписями на сюжетные темы, так как техника их
исполнения тоже позволяла воспроизводить внешность че-
ловека и его костюм в мельчайших деталях. И наконец, с
эпохи Шести династий первоочередным художественным
источником по истории китайского костюма становится
станковая живопись.
Что касается письменных источников, то уже в древ-
нейших литературных памятниках содержится перечисле-
ние и описание практически всех имевшихся на тот мо-
мент предметов одеяния, причем нередко с пояснением их
ранговых функций. Так, в одном из древних сочинений
читаем: «Халат, шапка, нефритовая табличка, которую
держат в руках при аудиенции, пояс, плахта, обмотки и
туфли... — все указывает на соблюдение установлений, со-
ответствующих рангу», — и перед нами сразу возникает
комплект предметов одеяния и регалий, входивших в си-
стему официального мужского костюма. Еще более про-
странные литературные описания костюма, особенно жен-
ского, могут присутствовать в поэтических произведениях,
например: «Одежда расшита цветами. Красная накидка
согревает прохладным утром... На шелковых туфельках —
узор из парных сердечек, на расшитом поясе — орнамент
из листьев-сердечек. Поверх платья из тонкого шелка —
безрукавка из иіелка-цзинъ...». В приведенном отрывке (из
любовно-лирического стихотворения конца V в.) содержится
весьма полная информация о комплекте женского костю-
ма, включая сведения о типах тканей, из которых испол-
нялись его отдельные предметы, и разновидностях их де-
кора (наличие вышивок и их мотивы).
Однако важнейшими письменными источниками по
истории китайского костюма выступают трактаты, специ-
ально посвященные вопросам этикета, и соответствующие
разделы династийных историй. Серия подобных трактатов
(не считая конфуцианских канонических текстов «Записи
о ритуалах» и «Ритуалы Чжоу») открывается сочинениями
742
«Единственно верное» («Ду дуанъ») известного позднехань-
ского ученого и литератора Цай Юна (132-192) и «Описание
колесниц и одежды» («Юй фу чжи») Дун Ба (III в.). Разде-
лы этнографического характера, обычно имеющие однотип-
ное название «Колесницы и одежда» («Юй фу»), входят
практически во все династийные истории, начиная с «Исто-
рии Поздней Хань», созданной в первой половине V в.
В X в. был составлен свод комментариев и иллюстра-
ций к трем конфуцианским книгам-обрядникам, получив-
ший название «Рисунки к Трем книгам» («Санъ ли my»),
Его первое издание не сохранилось, но он несколько раз
переиздавался в дальнейшем, не только в Китае (1676 г.,
начало XX в.), но и в Японии (1761 г.). Хотя аутентич-
ность многих из входящих в него гравюр подвергается спе-
циалистами сомнениям с точки зрения верности отраже-
ния в них подлинных реалий древнекитайского одеяния,
он позволяет проследить систему и общую эволюционную
линию национального костюма. Следующими энциклопе-
дическими и тоже иллюстрированными изданиями явля-
ются «Собрание иллюстраций, изображающих Небо, Зем-
лю и Человека» («Сань цай тухуэй») и «Высочайше утвер-
жденное полное собрание рисунков и текстов, относящихся
к древности и современности» («Цинъдин гу цзинъ my шу
цзычэн»), составленные соответственно при Мин и при Цин
(в первой трети XVIII в.), во втором из которых непосред-
ственно костюму отведено две объемных главы. В 1759 г.
были изданы законы, устанавливающие формы мужской и
женской одежды, которые включали гражданский, воен-
ный, мужской и женский костюм. В 1766 г. были изданы
и ксилографические иллюстрации к ним, составившие мно-
готомное издание.
Таковы основные классы оригинальных источников по
истории китайского костюма, позволяющие нам, несмотря
на все отмеченные оговорки, выделить его типологические
характеристики, определить специфические приметы его
диахронных вариантов и восстановить общую эволюцион-
ную линию.
Ханьский костюм
a — мужской церемониальный
(с погребального рельефа, Позд-
няя Хань); б — женский парадно-
ритуальный (погребальная пла-
стика, Поздняя Хань); в — муж-
ской повседневный (погребальная
пластика, II в. до н. э.); г — жен-
ский повседневный (погребальная
пластика, I в. до н. э.).
Ведущими типологическими характеристиками китай-
ского костюма являются, во-первых, его консервативность,
во-вторых, нечеткость дифференциации по гендерному при-
знаку, когда одни и те же элементы используются как в
мужской, так и женской одежде, и, в-третьих, ограничен-
ность комплектации. Сказанное остается в силе и для цин-
ского костюма, вопреки его подразделению на отдельные
формы. Всего было законодательно установлено пять форм.
1. Парадно-ритуальное одеяние-чаофі/, т. е. придворный
костюм, служивший облачением при исполнении офици-
альных жертвоприношений и самых торжественных при-
дворных церемоний. 2. Праздничный костюм-цзифу, кото-
рый также полагалось носить при дворе и во время офици-
альных мероприятий, но менее торжественного характера.
3. Повседневный костюы-чанфу — одежда, предназначен-
ная для ношения в домашней обстановке, в том числе
ГЛАВНЫЕ ФОРМЫ
И ЭЛЕМЕНТЫ
КИТАЙСКОГО
КОСТЮМА
743
Южнокитайский костюм
эпохи Шести династий
a — мужской праздничный (с рос-
писи по лаковому блюду); б —
мужской официально-повседнев-
ный (погребальная пластика, V в.).
Северокитайский костпюм
эпохи Шеспги династий
a — официальный мужской (по-
гребальная пластика, V в.); б —
женский праздничный (погребаль-
ная пластика, V в.).
и членами августейшей фамилии и придворными. Все три
перечисленные формы распространялись на императора,
императрицу, императорских наложниц, родственников
правящего дома, аристократов (носителей аристократиче-
ских титулов) и чиновников высших 9 рангов. 4. Дорож-
ный костюм-синфу, который в целом мало чем отличается
от повседневного. 5. Дождевое платье-юіш, которое оказы-
вается единственной по-настоящему специфической фор-
мой и представляет собой своего рода плащ-накидку или
длинную пелерину, которая могла делаться из шерстяных
тканей, птичьего пуха или, для костюма более низких со-
циальных слоев, сплетаться из бамбуковой стружки, соло-
мы и даже травы. Такие плащи бытовали в Китае задолго
до того, как они были возведены в статус законодательно
утвержденной формы и использовались фактически повсе-
местно и в различных слоях населения.
Все остальные перечисленные формы во многом совпа-
дают друг с другом и состоят из почти одинакового набора
элементов.
Основополагающим элементом китайского костюма ис-
ходно и на всем протяжении его бытия выступает верхняя
наплечная одежда, представленная халатом-лао — одея-
нием, которое покрывает всю фигуру до щиколотки или до
земли. Конструктивным вариантом халата является кофта-
фу, отличающаяся от него только своей длиной (до уровня
бедер). Пао и фу бывают только распашные и кроятся по
единой схеме — из трех кусков ткани. Две длинные поло-
сы предназначаются для двух сторон одежды, причем каж-
дая включает и перед, и спинку. Затем они вырезаются и
перегибаются пополам: перегиб соответствует плечевому
шву. Каждая половина сшивается таким образом, чтобы
шов шел по внутренней стороне рукава и вдоль бока. Пра-
вая и левая половины скрепляются на спине швом. Спере-
ди к левой половине пришивается короткий и фигурно
вырезанный вверху третий кусок ткани, функционирую-
щий в качестве запахивающейся полы. Левая пола при
запахе обязательно должна покрывать правую. Обычай пра-
вого запаха установился в Китае, возможно, еще до инь-
ской эпохи. Все статуэтки из погребения Фу-хао показаны
с таким запахом, a при Чжоу он уже воспринимался в
качестве одного из важнейших показателей собственно этни-
ческой принадлежности и главного отличия «цивили-
зации» от «варварства». Исключение составляют изобра-
жения халатов с левым запахом на некоторых ханьских
погребальных рельефах, что, по мнению подавляющего боль-
шинства исследователей, есть символ мира мертвых.
На всем протяжении последующих эпох манера запа-
хивать халат всегда служила первоочередным показателем
межэтнических контактов и перемены националистических
настроений. Так, в эпоху Шести династий в южнокитай-
ских государствах она соблюдалась неукоснительно, хотя
местные аристократы и интеллектуалы, склонные к экс-
травагантности, то и дело нарушали принятые нормы и
обычаи, используя те или иные «варварские» предметы.
744
Тогда как в Северном Вэй манера запахивания халата пре-
вратилась в предмет острейших политических дебатов. Te
представители тобийских правящих кругов, кто стремился
строить национальную государственность по модели ки-
тайской, настаивали на необходимости следовать данному
обычаю. В конце IV в. в Северном Вэй было законодатель-
но введено ношение халата с правым запахом, что вызвало
резкие протесты консервативно настроенной тобийской зна-
ти, настаивавшей на необходимости сохранять собствен-
ные этнографические традиции. Ситуация отчасти повто-
рилась при Северной Сун: в число идеологических мер,
предпринятых китайскими властями для противостояния
киданям, тангутам и чжурчжэням, вошли и законодатель-
ные акты, предписывающие возрождать старинный покрой
одежды и строжайше запрещающие на территории столич-
ного округа ношение одеяний с какими-либо иноземными
чертами. Перед воздействием китайского обычая не устоял
и монгольский официальный костюм, в котором ранее был
принят левый запах. При Юань мужская одежда монголь-
ской знати тоже стала запахиваться направо, тогда как
левый запах на некоторое время превратился в принадлеж-
ность женского костюма. Реставрация собственно китай-
ской государственности сразу же восстановила и абсолют-
ное господство правого запаха.
По фасону халаты и кофты бывают однобортные (дуй-
цзинь) и двубортные (сецзинъ), причем с явным преобла-
данием последних. Однобортные халаты и кофты обычно
имели впереди одну завязку. Двубортные халаты подраз-
деляются на открытые и закрытые. В первом случае
края бортов перекрещиваются на груди — такая манера
их ношения особенно была принята в женском костюме
танской эпохи, производя впечатления платья с декольте.
С XVII в. данный фасон использовался только в одеяниях
даосского духовенства. Закрытые двубортные халаты по-
явились в Китае в качестве заимствования от военной
одежды северных народностей. Они обычно имели завяз-
ку или застежку (на пуговице) на правом плече y шеи и
иногда включали в себя круглый воротник. При Цин ус-
тановился их фасон, при котором застежки располага-
лись по яремной впадинке, правой ключице и по правому
боку. Кроме того, закрытые двубортные халаты могли
иметь (что сохраняется и в цинском костюме) разрезы по
бокам. Диахронные стилистические различия и модные
направления реализовывались только в отдельных дета-
лях халатов: их силуэтной линии, конфигурации выреза,
ширине и длине рукава и подола. Так, в чжоускую эпоху,
в центральных регионах Китая были в ходу, судя по пись-
менных данным, халаты, ширина которых на поясе рав-
нялась приблизительно 90 см, по нижнему краю — около
1,8 м, a рукава халата имели в ширину порядка 30 см.
Длина халата должна быть такой, чтобы полностью по-
крывать тело, но не касаться земли.
Явно иной стилистический вариант демонстрируют чу-
ские картины на шелке, где и мужской, и женский костюм
Костюм эпохи Суй
a — мужской официально-празд-
ничный костюм (погребальная
пластика); б — женский празд-
ничный костюм (погребальная
пластика).
745
Костюм эпохи Tan
a — мужской официальный (по-
гребальная пластика второй поло-
вины VII в.); б — женский при-
дворный (реконструкция); в —
женский праздничный костюм (по-
гребальная пластика, ѴПІ в.); г —
придворной танцовщицы (с погре-
бальных стенописей).
Костюм эпохи Северная Сун
a — мужской официальный (ре-
конструкция); б — женский при-
дворный (реконструкция).
отмечены длинным подолом, образующим подобие шлейфа
и сзади, и спереди. Одновременно мужской костюм снаб-
жен широкими рукавами, a женский — рукавами, собран-
ными y запястья на манжет. Ханьская эпоха и особенно
эпоха Шести династий дают нам расцвет «романтическо-
го» стиля. Для женской одежды того времени, в том виде,
в каком она изображается в живописных произведениях и
сюжетных сценах на изделиях декоративно-прикладного
искусства, были типичны халаты из легких, развевающих-
ся тканей. Их нижняя часть нередко перехватывалась в
нескольких местах тонким матерчатым, с длинными конца-
ми поясом, что создавало эффект рюш. На плечах халат
может быть присборен на манер шали или накидки. Рукава
настолько длинные и широкие, что при сложенных на уров-
не груди руках их отвороты свисают почти до колен. Подоб-
ный «романтический» стиль был свойствен, хотя и в менее
сдержанном виде, и мужскому костюму. Вместе с тем па-
раллельно (или в отдельные исторические моменты) обнару-
живаются и другие стилистические варианты, например муж-
ской костюм строгого силуэта, но с расходящимися на бед-
рах, словно женская юбка, полами. Более сдержанные по
силуэтным линиям одеяния носились, опять судя по их
изображениям в погребальной пластике, в Северной Вэй.
И наконец, в поэтических произведениях упоминается о
женских одеяниях с глубокими разрезами по бокам.
Мода на широкие рукава неоднократно возобновлялась
в дальнейшем, дойдя до своего возможного предела при
Северной Сун. Рукава халатов того времени делались на-
столько широкими, что при сложении рук на уровне груди
края их манжет свисали до середины голени. При Мин
такой крой использовался уже только для ритуального об-
лачения. A bot для цинского костюма, напротив, харак-
терны укороченность и зауженность. Подол халата только
чуть расширен книзу и поэтому в отличие от минского
костюма не фалдит. Рукава сужены и, для мужского костю-
ма, снабжены «копытообразными» манжетами.
Все рассмотренные фасоны халатов исполнялись как в
летнем, иногда на легкой подкладке, так и в зимнем их
вариантах, когда делались на ватной подкладке или под-
746
Костюм эпохи Юань
a — монгольский мужской аристо-
кратический (со стенописей Мо-
гао); б — мужской повседневный
(погребальная пластика); в — мон-
гольский женский аристократи-
ческий (со стенописей Могао); г —
женский повседневный (погре-
бальная пластика).
бивались мехом. Подкладка летнего халата могла испол-
няться из тканей других цветов, чем сам халат.
Конструктивными вариантами халата являются не толь-
ко кофты, но и безрукавки, вошедшие в широкое употреб-
ление в эпоху Шести династий, исподняя одежда — те же
халаты и кофты, но исполняемые из более тонких и, в
основном, белых тканей, и даже шубы, которые кроились
по той же самой схеме. Шубы, которые носили в основном
в северных регионах, делались из козьего, обезьяньего,
собачьего и дорогие — из лисьего, песцового и собольего
меха. Но поверх было принято надевать шелковый халат.
При Чжоу существовали ранговые сочетания шуб и хала-
тов: правителю полагалось носить песцовую шубу и поверх
нее — халат из полихромного шелка, сановникам в зави-
симости от их рангов — шубу из темно-бурой лисы с хала-
том из гладкого шелка темных цветов и шубу из лисы-
огневки с халатом из желтого шелка. Соотношение верх-
ней и исподней одежды, a также халата, кофты и безрукавок
тоже было довольно специфическим. Исподняя одежда не-
редко превышала размеры верхней, и тогда ее ворот, рука-
ва и подол выступали из-под платья, контрастируя с ним
по цвету и характеру тканей. Кофта и безрукавка надева-
лись на халат, что для кофты было законодательно утвер-
ждено для форм парадно-ритуального и праздничного кос-
тюма. Именно на кофте размещались нагрудно-наспинные
знаки различий (буфан). Еще одной особенностью данных
форм является наличие пелериноподобного воротника, вы-
пускаемого поверх кофты.
Так как халат не имел настоящих застежек и никогда
не подгонялся по фигуре, его обязательной принадлежно-
стью был пояс. Древнейший вариант китайского пояса пред-
ставляет собой кусок ткани, обернутый вокруг талии и
завязанный сзади, порой с болыним бантом (вновь сошлемся
на статуэтки из погребения Фу-хао). При Чжоу в широкий
обиход вошли, о чем говорилось ранее, пояса, застегивае-
мые на крючки и пряжки, ставшие специфической принад-
лежностью мужского костюма. При Хань стали использо-
ваться пояса, украшенные поясными пластинами, a в эпоху
Шести династий — составленные из цельнометаллических
—Kj—
f\ (\
I
j
і
Минский костюм
a — чертеж кроя халата; б —
мужской официально-ритуаль-
ный халат (реконструкция на ма-
териале одеяний, найденных в
погребениях); в — мужской по-
вседневный (с книжной гравю-
ры); г — женский придворный
(реконструкция).
747
□
Цинский костюм
a — чертеж кроя халата; б —
элементы форм чаофу и цзифу:
1 — халат с воротником-пеле-
риной, 2 — кофта, 3 — мужской
вариант халата, 4 — мужской ва-
риант кофты, 5 — женский ва-
риант халата, 6 — женский ва-
риант кофты.
Штаны
a — древний вариант (период Бо-
рющихся царств); б — оконча-
тельный вариант (Мин — Цин).
пластин, которые одновременно служили важнеишими
мужскими украшениями и знаками различий. Способы
ношения поясов тоже были различными. Так, при Мин
пояс с накладками превратился в чисто декоративную де-
таль костюма. Вместо того чтобы плотно опоясывать ха-
лат, он держался на петлях, пришитых под рукавом, и
свободно спускался под животом до уровня бедер. В цин-
ском костюме пояс, наоборот, туго стягивался на талии, но
при этом оставался скрытым кофтой или безрукавкой, ко-
торые никогда не подпоясывались, что, заметим, не меша-
ло по-прежнему наделять его ранговой функцией. В жен-
ском костюме использовались преимущественно тканые поя-
са с длинными концами-лентами.
Кроме наплечной одежды, в систему китайского костю-
ма входят три предмета поясной одежды: плахта (шан),
юбка (цюнъ) и штаны (ку), которые относились к категори-
ям исподнего одеяния. Китайская плахта-ша« представля-
ет собой кусок ткани, которым обертывали нижнюю часть
туловища, закрепляя ее завязками на талии. Шан тоже
носили и женщины, и мужчины, причем она входила в
некоторые варианты ритуально-парадного одеяния. В та-
ких случаях она сшивалась из прямоугольных кусков тка-
ни, что символизировало идею «правильности», «прямо-
ты». Для менее торжественного костюма плахту кроили из
суживающихся кверху клиньев.
Юбки-цюнъ, отвечающие признакам европейской юбки
(т. е. сшитые в круг), были наиболее свойственны тан-
ской моде, когда они устойчиво входили в женский ко-
стюм. Вверху по бокам они имели треугольные вырезы, в
которых виднелась заправленная внутрь кофта. Штаны-
ку пришли в Китай, скорее всего, от соседних с ними
исходно кочевых народностей еще до Хань. Они тоже были
принадлежностью как мужского, так и женского костю-
ма, имея лишь небольшую разницу (во всяком случае,
для цинской эпохи) в покрое: женские штаны делались
без поясной полосы, ибо, по поверью, сквозь шов, пересе-
кающий живот по вертикали, легко проникает нечистая
сила, могущая повредить плод беременной женщины. В це-
лом, покрой штанов демонстрирует еще болыную консер-
вативность, чем покрой наплечной одежды. В течение мно-
гих веков исполнялся один и тот же их портняжный тип:
широкие, глухие, без прорехи и со штанинами, расходя-
щимися вразлет, образующими угол, иногда превышаю-
щий девяносто градусов, и с очень низким шагом. При
всей неотъемлемости штанов в китайском костюме, они
обычно были полностью скрыты халатом или плахтой, a
потому считались в высших сословиях сугубо интимным
и неприличным предметом одежды. В широких массах их
носили в качестве рабочей и повседневной верхней одеж-
ды. Штаны изготавливались из конопляных, шелковых
тканей и позже, из хлопчатобумажных тканей. Зимние
штаны делались стеганными на вате.
Еще одним непременным элементом китайского костю-
ма, но на этот раз исключительно мужского, является го-
748
ловной убор — шапка-гуань, — который, подобно самому
халату, выступал признаком «цивилизации» и этнической
принадлежности. Распущенные волосы и отсутствие голов-
ного убора полагались знаком «варварства» или, о чем
упоминалось ранее в анализе иконографии персонажей даос-
ского и простонародного пантеонов, отшельничества. Муж-
чины оставались в головных уборах и в помещениях: в
присутственных местах, при участии в официальных цере-
мониях и пиршественных трапезах и даже в домашней
обстановке.
В ходе истории китайского костюма сменилось несколь-
ко типов головных уборов, почти все из них, за исключе-
нием церемониальных «корон» (подробно см. далее), про-
изошли от головных повязок. Так, древнейший тип голов-
ного убора — цзинъсянъгуанъ («шапка следующего древним
мудрецам»), — входивший в чжоускую и ханьскую эпохи
в костюм свитских правителей, чиновников и любого обра-
зованного человека (в нем на ханьских погребальных релье-
фах показаны и Конфуций, и Лао-цзы), образовался в ре-
зультате совмещения легкого украшения над узлом во-
лос и повязки, превратившейся со временем в околыш.
В эпоху Шести династий он сменился головным убром-жао,
имеющим самые разнообразные формы. Чаще всего такие
шапки шились из ткани или меха. В ѴІІІ-ХШ вв. особое
значение приобрел головной убор-путоу, ведущий проис-
хождение от платка, которым повязывали голову таким
образом, что две завязки завязывались спереди, a две —
сзади, и их концы свободно ниспадали на спину. Позднее
платок стали пропитывать лаком, a задние завязки натя-
гивать на проволочные каркасики, чтобы они торчали в
стороны, служа своеобразным головным украшением. При
Северной Сун задние завязки окончательно превратились в
длинный декоративный прут.
При Юань установились два новых типа головных убо-
ров — «монгольский» и «китайский». Первый представ-
ляет собой широкополую шляпу, отдаленно похожую на
европейский пробковый шлем или музыкальную металли-
ческую тарелку, к внутренней поверхности прикрепляется
Цинский костюм
a — мужской официально-арис-
тократический (с книжной гра-
вюры); б — придворного чинов-
ника высших рангов (с книжной
гравюры); в — парадный чинов-
ника высшего ранга (с книжной
гравюры); г — женский придвор-
ный (с книжной гравюры).
Дождевой плащ
Головные уборы эпохи
Шести династий
( южнокитаиские,
с погребальной пластики)
749
Шапка-тгутоу
a — исходный вариант; б — Тан;
в — Сун.
Юаньский головной убор
Минская шадка-ушамао
a A б
Цинские головные уборы
a — зимний; б — летний.
#еа
Туфли
a — эпоха Шести династий (с по-
гребальной пластики); б — Мин.
кусок ткани, ниспадающий почти до плеч. Второй голов-
ной убор — неболыпая шапочка с круглым верхом. При
Мин в качестве официального мужского головного убора
была восстановлена шапка-nz/moz/, хотя и в сильно моди-
фицированном варианте. Декоративный прут сгладился,
сама шапка обрела круглое очертание, повторяющее кон-
туры головы, и стала шиться из черного шелка, получив
по этой причине новое название — ушамао («шапочка из
шелка [цвета] ворона»).
Для нечиновного люда минские власти законодатель-
но ввели упоминавшуюся выше шапочку-люэмао, сши-
тую из шести клиньев и отчасти похожую на среднеазиат-
скую тюбетейку. Ее покрой и название должны были на-
поминать населению о гармонии шести великих начал
мира, о том, что они проживают в Поднебесной, в центре
четырех сторон света и между Небом и Землей, и о торже-
стве минской династии, объединившей страну под своей
эгидой. Шапочка прижилась и, думается, в большей сте-
пени ввиду ее удобства, чем космологической и геополи-
тической символики. Она осталась органической частью
китайского мужского костюма при маньчжурах и затем
сохранилась в костюме китайцев-эмигрантов, превратив-
шись в своеобразное свидетельство их верности своим эт-
ническим корням и национальным традициям.
Что касается головных уборов, входящих во все фор-
мы официального костюма, то они подверглись при Цин
решительным изменениям. Принципиально изменился и
императорский церемониальный головной убор, приобрет-
ший черты ювелирного изделия, и шапки чиновников,
установленные в зимнем и летнем варианте. Летний го-
ловной убор — шапка параболического профиля с широ-
кими полями, которую плели из тростника или бамбуко-
вой стружки и украшали красной кистью, покрывавшей
почти всю ее поверхность. Зимний головной убор — круг-
лая шапка с круто загнутыми вверх полями и подбитая
черным бархатом, мехом дымчатого соболя, черно-бурой
лисицы или каракулем. Оба головных убора, принадле-
жащие костюму чиновников 9 высших рангов, имели ша-
рик-навершие, выполненное из ювелирных материлов и
служившее знаком отличия. Головные уборы военных чи-
новников включали в себя вместо шариков павлиньи пе-
рья, число глазков которых — три, два и одно — указы-
вало на их ранг.
Китайская обувь также не отличается особым разнооб-
разием. Вплоть до ІХ-Х вв., когда утвердился обычай бин-
товать ноги женщинам, потребовавший и специфической
обуви, принципиальных различий между мужской и жен-
ской обувью тоже не существовало. Исходно ею служили
матерчатые туфли на деревянной или мягкой (войлочной)
подошве. Туфли носили на босу ногу и в отличие от голов-
ного убора обязательно снимали при входе в помещение.
В различных модификациях они сохранялись и в дальней-
шем, благополучно дожив до сегодняшнего дня (китайские
тапочки-бг/се). Туфли использовались и в официальном
750
костюме различных форм, приобретя в нем особое вопло-
щение — праздничные туфли-сы, которые украшались верх-
ним и нижним кантиком и имели над носком надставку в
форме головки жезла жуи. Возможно, в середине периода
Борющихся царств к матерчатым туфлям добавились ко-
жаные, но они не получили особого распространения в
Китае, a с III в. — деревянные сандалии цзи, имевшие
скамеечкообразную подошву и держащиеся на ноге при
помощи матерчатых или плетеных жгутов (словом, очень
похожие на японские гэта). Такие сандалии в дождливую
погоду, в грязь носило все население, независимо от пола и
социального статуса.
Сапоги, ставшие с конца VI — начала VII в. обязатель-
ной принадлежностыо официального мужского костюма,
появились в Китае ориентировочно в конце чжоуской эпо-
хи и вначале использовались только в качестве военной
обуви. На смену кожаным сапогам (отголосок их кочевни-
ческого происхождения) уже при Тан пришел их нацио-
нальный матерчатый вариант — мягкие чулкообразные
сапожки. Сапоги минской эпохи тоже отличаются мягко-
стью очертаний, отдаленно напоминая чулки. При Цин в
парадно-ритуальный и праздничный костюм входили са-
поги, сделанные из черного шелка или кожи, жестких очер-
таний, на очень толстой скошенной подошве и с круглыми
(для гражданских чиновников) или квадратными (для во-
енных) носами.
Ограниченность элементов китайского костюма, однооб-
разие фасонов и отсутствие принципиальных различий меж-
ду мужской и женской одеждой с щедростыо компенсиро-
вались в последней богатством ансамбля украшений.
Цинская женская обувъ
Сапоги
a — период Борющихся царств
(реконструкция); б — эпоха Шес-
ти династий (с погребальной пла-
стики); в — Мин; г — Цин.
ЮВЕЛИРНОЕ
ДЕЛО
Ювелирное дело Китая представлено следующими отдела-
ми, кроме собственно украшений. 1. Предметы ритуально-
церемониального предназначения, к которым относятся,
прежде всего, царские (императорские) и чиновничьи ре-
галии и детали парадного облачения. 2. Церковные пред-
меты, особенно характерные для буддийской церкви: хра-
мовая утварь, алтарные принадлежности, вотивные пред-
меты, ковчеги-реликварии, регалии иерархов, детали
облачения монашествующих, например буддийские чет-
ки, которые могли исполняться и из дорогих ювелирных
материалов. 3. Столовая утварь, включающая не только
собственно посуду, но и такой специфический для Китая
предмет, как палочки для еды, также нередко исполняв-
шиеся из благородных металлов и других ювелирных ма-
териалов (например, кость) и орнаментировавшиеся со-
гласно принятым на тот момент правилам оформления
предметов роскоши. 4. Туалетные принадлежности, пред-
меты повседневного обихода: зеркала (оформление их тыль-
ной части и футляров для хранения), флаконы для косме-
тических средств и благовоний, всевозможные ларцы и
шкатулки, a также предметы для рукоделия. 5. Предме-
ты декоративно-утилитарного предназначения: вазы, на-
стольные украшения, настенные панно, миниатюры, вклю-
чая пейзажные композиции, и модели. 6. Миниатюрная
пластика, служившая настольными и интерьерными ук-
рашениями. 7. Предметы для развлечений (настольные
игры). 8. Письменные принадлежности (тушечницы, под-
ставки для кистей), детали оформления свитков и книг, a
также печати, которые не только исполнялись, как пра-
вило, из ювелирных материалов, но и имели специальное
художественное оформление.
Кроме того, ювелирные материалы и техники широко
использовались во многих других сферах предметно-твор-
ческой деятельности и ремеслах: в лаковом производстве,
оружейном деле, в изготовлении конского убранства и
колесного транспорта (детали упряжи и колесниц, отдел-
ка стремян, седел и кузова), в мебельном и скобяном деле,
при изготовлении музыкальных инструментов, в архи-
тектуре (для отделки конструктивных элементов и ин-
терьеров), в портняжном, обувном и скорняжном деле.
В последнем случае имеется в виду практика украшения
одежды, обуви и даже меховых изделий вышивками из
жемчужного низанья или низанья из бусин, сделанных
из минералов и материалов органического происхожде-
ния, и аппликациями из золотой фольги. Вырезанный из
нее орнамент прикреплялся к тканой или меховой поверх-
ности с помощью лака. Такая практика вошла в употреб-
ление, судя по письменным источникам, в эпоху Шести
династий.
Как видим, во многих отраслях китайского ремеслен-
ного производства были разработаны собственные способы
работы с ювелирными материалами. Хотя в данном разде-
ле речь пойдет главным образом непосредственно о юве-
лирных изделиях, при анализе конкретных материалов и
способов работы с ними мы будем обращаться и к другим
отделам и видам декоративно-прикладного искусства.
Классификация материалов, разработанная в европей- ЮВЕЛИРНЫЕ
ском ювелирном деле, не имеет прямой аналогии в Китае, МАТЕРИАЛЫ
где определяющими были, во-первых, внешние эстетичес- И ТЕХНИКИ
кие характеристики каждого конкретного материала —
его цвет, форма, фактура, индивидуальность природного
рисунка, степень сочетаемости с основой и другими мате-
риалами; и, во-вторых, смысловые ассоциативные пред-
ставления, проистекающие из всего культурно-художе-
ственного контекста. Поэтому понятие «драгоценность»
(бао ши — «драгоценный камень») распространяется на
любые минералы, без принятого на Западе деления на
драгоценные, полудрагоценные (ювелирно-поделочные) и
поделочные камни, a также на материалы органического
происхождения, включая некоторые породы дерева. Прин-
ципы оценки материалов, исходя из их внешних характе-
ристик и образных связей, находят отражение в ориги-
нальных названиях многих материалов, которые являют-
ся, скорее, поэтическими описаниями, чем терминами,
например «душатигра» (хупо) и «медовый камень» (миши) —
янтарь, «водяное сияние» (шуйцзин) — хрусталь, «павли-
ний камень» (кунцюэши) — малахит. Подобно европей-
цам, китайцы драгоценными металлами признают золото
(цзинъ) и серебро (инь).
Китай располагает весьма значительными собствен-
ными запасами золота и серебра, которые сосредоточены
в нескольких географических регионах. Исходными цент-
рами золотодобычи являются северо-восточные (пров. Гань-
су), восточные (пров. Шаньдун) и юго-западные (пров.
Сычуань) районы. Известно, например, что шаньдунские
месторождения наиболее активно разрабатывались в X-
XI вв., и в них находили даже золотые самородки весом
до 1 кг. В Сычуани золото находится в виде крупинок
48 Исторпя искусства Китая
МЕТАЛЛЫ
753
IQÜQI
Буддийское ювелирное дело
a — алтарная скульптура (позо-
лоченная бронза, 56 см., Хв.,
пров. Чжэцзян); б — серебряный
ковчег (длина 33 см, высота 20-
26 см, ширина 14-18 см, вес
1100 г., Северное Вэй);.
380 Стремление китайских
властей получить в свое рас-
поряжение природные богат-
ства этих районов как раз и
послужили одной из весомых
причин для их колонизации,
которая была в основном осу-
ществлена при Тан. В провин-
ции Гуандун имеются не толь-
ко залежи золота (в ее юж-
ной части), но и золотоносные
реки и водоемы. По сообще-
ниям письменных источни-
ков, в танскую эпоху в окрест-
ностях Гуанчжоу находилось
озеро, вода которого была на-
столько насыщена золотом,
что местные жители собира-
ли его из помета гусей и уток,
специально разводимых там.
в аллювиальных отложениях («просевное золото»). Но наи-
более золотоносными районами являются провинции Гу-
андун, Гуанси и Юньнань, которые до их включения в
состав территорий китайских государств были главными
источниками импортных поставок золота380.
Серебряные месторождения сосредоточены на юго-вос-
токе (Фуцзянь, Гуандун) и юге (Гуанси, Гуйчжоу и Юнь-
нань). В течение длительного времени главным центром
добычи серебра оставалась провинция Фуцзянь. Серебро
находится там в виде залежей серебряно-свинцовой руды и
потому получалось способом купирования его из свинцово-
го блока, дающего только 1-2 части серебра на 384 части
свинца. Сохранились сведения, что в середине IX в. в Фуц-
зяни работали 42 аффинажные мастерские, производившие
до 800 кг серебра в год.
Золото и серебро использовались в качестве не только
ювелирного материала, но и денежного металла. Древ-
нейшими золотыми деньгами являются золотые слитки
царства Чу, имевшие там хождение, начиная приблизи-
тельно с VII в. до н. э. вместо бронзовых монет, типич-
ных для денежной системы всех остальных государствен-
ных образований и географических регионов Древнего
Китая. Они представляют собой плоские, иногда строгой
четырехугольной формы, слитки, размер и вес которых
значительно различается по месту и времени их выпуска
(и то и другое указывается в нанесенных на них иеро-
глифических клеймах): от 8,21-17,53 до (для ІѴ-Ѵ вв.
до н. э.) 309-437 гг. Золотые слитки играли роль госу-
дарственных денежных знаков при Цинь и Ранней Хань,
когда они уже выпускались стандартного веса — соответ-
ственно 304 и 244 г.
Серебряные деньги, тоже предположительно в виде слит-
ков, получили хождение, по свидетельству письменных
754
источников, в конце Чжоу. При Ранней Хань, ставшей
временем самого интенсивного использования золотых и
серебряных денег, они выпускались государством наряду с
золотыми. В 120-115 гг. до н. э. была проведена очеред-
ная денежная реформа, установившая стандартные сереб-
ряные слитки трех достоинств. Имевшие одинаковый хи-
мический состав (серебряный сплав с добавлением оло-
ва), они выпускались круглой, квадратной и овальной форм
и весом соответственно 122, 91,7 и 61 г. При Ван Мане
были введены два новых вида серебряных слитков, оба
весом 122 г., но разного достоинства, обусловленного чис-
тотой в них серебра381. При Поздней Хань и в эпоху Шести
династий золотые и серебряные слитки продолжали зани-
мать главенствующее положение в денежной системе стра-
ны382. Тем не менее уже в Ѵ-ѴІ вв. наметилась тенденция
постепенного снижения денежной роли золота и возраста-
ния роли серебра. Окончательное превращение серебра в
главное, наряду с бронзовыми монетами, денежное сред-
ство произошло при Северной Сун, но по-прежнему в виде
слитков. Тогда же утвердились и две их основные формы:
плоская и округло-овальная, получившая название слитки-
биНу и утолщенная, призматическая. Последняя и есть
слитки-дмк, которые постоянно фигурируют в благопоже-
лательной образности и в иконографии божественных пер-
сонажей, связанных с ниспосланием богатства. Слитки-дин
отливались как малыми (весом 150, 350, 700 и 1250 г), так
и болыпими (2,5 кг)383. Денежная роль серебра сохранилась
во все последующие исторические эпохи, хотя с конца XIV в.
государство постоянно стремилось сократить его употребле-
ние в пользу бронзовых монет и бумажных денег384. Одно-
временно серебро служило и главным платежным средством
во внешнеторговых операциях и для выплаты дани. Понят-
но, что Китай испытывал постоянный дефицит серебра, ко-
торый компенсировался его импортом из Юго-Восточной и
Средней Азии, a с начала XVIII в. массовым ввозом мекси-
канских серебряных монет. Роль серебра как денежного
средства и символа богатства предопределили его автори-
тет и в качестве ювелирного материала. Серебряные изде-
лия и украшения всегда признавались в Китае такими же
предметами роскоши, как и золотые.
Так как золото и серебро в самородном состоянии отли-
чаются мягкостью, они могут использоваться в декоративно-
прикладном искусстве только при сплавлении с другими
металлами. Набор ювелирных золотых и серебряных спла-
вов, существовавших в китайском ювелирном деле, внеш-
не совпадает с европейскими аналогами. Но только внеш-
не, так как китайские мастера и в данном случае руковод-
ствовались не химическим составом, a эстетическими
характеристиками. Кроме того, все оригинальные ювелир-
ные термины имеют смысловую многозначность и нередко
обозначают различные по составу сплавы.
Для золота выделяются три основных сплава: «желтое
золото» (хуанцзинъ) — сплав золота с серебром, который
считался наиболее ценным и лучшим с художественной
381 Достоинство раннехань-
ских золотых денег в прин-
ципе совпадало со стоимостью
заключенного в них металла.
При этом золотая единица
признавалась в 10 раз дороже
серебряной, a серебряная — в
10 раз дороже бронзовой. По-
этому неудивительно, что на
протяжении II—I вв. до н. э.
именно золото служило глав-
ным средством оплаты и на-
копления. В золотых слитках
оценивались запасы казны,
суммы платежей и личное со-
стояние, которое могло дости-
гать нескольких сотен тысяч.
382 Несколько раз и на Юге
(на рубеже Ѵ-ѴІ вв., 536 г.),
инаСевере (471-474, 562 гг.)
предпринимались попытки
ввести в денежное обращение
золотые и серебряные моне-
ты — вероятно, под влияни-
ем проникновения в Китай са-
санидских серебряных драхм.
383 В китайской системе
мер и весов их счет, равно как
и счет всех других веществ,
велся на ляны — мера веса,
соответствующая 50 г. Непо-
средственно для серебряных
и золотых денег такой счет
был установлен в VII в.
384 Такая денежная поли-
тика привела к возрастанию
ценовой стоимости серебря-
ных слитков и к превраще-
нию их в самый распростра-
ненный способ накопления.
Так, для XVI в. в оригиналь-
ных документах приводятся
целые поименные списки круп-
ных чиновников и торговцев,
состояние которых достигало
нескольких миллионов лян
серебра.
755
385 В специальной литера-
туре до сих nop остается от-
крытым вопрос о подлинном
составе сплава, известного как
«лиловое (пурпурное) золото»
(цзыцзинъ), о котором неод-
нократно упоминается в ли-
тературных произведениях,
начиная с эпохи Шести дина-
стий и вплоть до Мин. Ни од-
ного сделанного из него пред-
мета не сохранилось. И уже
цинские ученые и коммента-
торы высказывали по этому
поводу различные точки зре-
ния. Одни полагали, что это —
образное обозначение «красно-
го золота», другие — всего
лишь медных, особого худо-
жественного уровня, изделий.
Современными специалиста-
ми высказывается предполо-
жение, что данный сплав мог
быть технологическим анало-
гом знаменитого египетского
«лилового золота», в котором
присутствовало железо, давав-
шее при нагревании предмета
покрывавшую его специфиче-
скую пленку розовато-лилово-
го цвета. Серия таких изде-
лий присутствует в бгипетских
царских усыпальницах (укра-
шения Тутанхамона, вставки
в диадеме царицы Таусерт из
XIX династии, серьги Рамсе-
са XI из XX династии). Есть
также свидетельства, что сек-
ретом изготовления
«лилоBoro золота» владели эллини-
стические алхимики. Поэтому
не исключено, что мы имеем
дело еще с одним фактом про-
никновения в Китай научных
знаний и технологий, идущих
из глубин Древнего мира.
точки зрения; «белое золото» (байцзинь) — тоже золото-
серебряный сплав, но с повышенным содержанием сереб-
ра; и «красное золото» (чицзинъ) — сплав золота с медью,
который, в отличие от европейской ювелирной традиции
(«червонное золото»), ставится здесь на последнее место в
иерархии золотосодержащих сплавов. Кроме того, как «бе-
лое золото» обычно определяются золотая фольга и плати-
на, которая в Китае вошла в употребление в XIX в., a как
«красное золото» — медь. Существует еще один золотосо-
держащий сплав, который, вопреки своему терминологи-
ческому названию — «красная медь» (читун), состоит из
золота, меди и сурьмы385.
Для серебра особо выделяется сплав, называемый «бе-
лая медь» (байтун), который в действительности состоит
из серебра, меди и никеля. Он был изобретен еще при
Хань и пользовался определенной известностью за преде-
лами Китая. Так, в персидских источниках он упомина-
ется под названием «китайский камень» с сообщением,
что сами китайцы делают из него зеркала и наконечники
для стрел (?), a мусульмане — наконечники для копий,
кольца и колокольчики. На самом деле, такой сплав шел
на изготовление различных категорий изделий, в том числе
посуды и курильниц, несколько образцов которых сохра-
нилось с танского времени. Сплав под названием «белая
медь» (в европейской терминологии байтонг) широко ис-
пользуется и в современном китайском ювелирном деле
для изготовления повседневных недорогих украшений и
сувенирной продукции, рассчитанной на иностранных
туристов. Внешне очень похожий на серебро, он состоит
из меди и никеля (до 50%). Другой его лигатурой могут
быть марганец и железо.
Кроме золота и серебра, в китайском ювелирном деле
активно применялись цветные металлы и их сплавы, в
первую очередь медь и латунь (сплав меди с цинком). Ла-
тунь проникла в Китай из Персии и первоначально исполь-
зовалась для декора предметов ритуально-церемониально-
го назначения, в частности для отделки поясов, входящих
в комплект парадного одеяния чиновников. После того как
при Тан китайские мастера овладели секретом изготовле-
ния латуни, она стала одним из первоочередных замести-
телей благородных металлов и тоже широко используется
современными китайскими ювелирами.
История китайского златоделания восходит, напомним,
к позднеинскому периоду и имеет, скорее всего, чужезем-
ные истоки. Начальный период его развития приходится
на первую половину чжоуской эпохи, причем примеча-
тельно, что наиболее отчетливо оно прослеживается в пе-
риферийных по отношению к региону бассейна Хуанхэ цар-
ствах — Цинь, Чу и Янь. Одним из древнейших китайских
золотых изделий считается комплект из 40 литых пластин
(высота 12-50 см, ширина — 7-32 см, толщина — 8-9 см),
найденный в циньском погребении на территории Ганьсу и
датируемый 845-822 гг. до н. э. (период правления цинь-
ского князя Чжун-гуна). Часть этих пластин украшена
756
рельефными зооморфными изображениями, другая выпол-
нена в виде плоскостных фигур животных (тигра) и птиц.
По мнению исследователей, они предназначались для ор-
наментации гроба. Следующая по хронологии серия изде-
лий — колесные декоративные пластины в виде изображе-
ний фантастических существ (1,7 х 2,2 х 0,6 см), тоже вы-
полненные в технике литья. Они были обнаружены в
усыпальнице циньского князя Цзинь-гуна. Указанные на-
ходки свидетельствуют о том, что золото на первых порах
использовалось в китайском декоративно-прикладном ис-
кусстве в качестве вспомогательного художественного ма-
териала для отделки, a также изделий, которые далеко не
принадлежат собственно ювелирному делу.
Что касается серебра, то начальное время его использо-
вания в Китае и сферы его применения остаются загадка-
ми для науки.
Становление злато- и среброделания в качестве относи-
тельно самостоятельных ремесленных занятий приходится
на период Борющихся царств. Наряду с широчайшим, как
мы помним, применением этих благородных металлов в
инкрустации, из них стали все чаще изготавливаться и
самостоятельные изделия, в первую очередь украшения
весьма специфических категорий: поясные пряжки и пла-
тельные бляшки. Комплект таких бляшек из 11 единиц
был найден в усыпальнице маркиза И. Семь из них имеют
круглую форму (диаметр 15,2 см), остальные — треуголь-
ную и прямоугольную. Некоторые бляшки проработаны
чеканным узором, но имитирующим литье. Другие чжань-
гоские золотые изделия подтверждают, что китайские зо-
лотых дел мастера действительно использовали не только
литье, но и чеканку, что является важной новацией по
сравнению с художественными бронзами. К числу наибо-
лее примечательных золотых изделий разбираемого перио-
да относится и уже упоминавшееся нагрудное украшение,
состоящее из золотой цепи (длина 40,7 см) и нефритовых
подвесок в виде фигурок танцовщиц. Цепь образована плот-
но пригнанными друг к другу звеньями, каждое из которых
Золотые и серебряные
изделия периода
Борющихся царств
a — поясная пряжка (золото, ли-
тье, 16 х 3 см, окрестности Лоя-
на); б — поясная пряжка (золо-
то, литье, 17,6 х 3,7 х 0,5 см, вес
124 г, окрестности Лояна); в —
серебряное блюдо (высота 6 см,
диаметр 37 см, пров. Шаньдун).
757
Ханъская позолоченная
бронза. Статуэтка коня.
Ранняя Хань. Пров.
Шаньдун. 9 х 10 см
Ханьские золотые изделия
a — модель щита, украшенная
каплевидным литым орнаментом
(высота ок. 5 см, Ранняя Хань,
пров. Шаньдун); б — фигурки из
золотой фольги.
соединено с другими, являясь важным свидетельством вла-
дения чжаньгоскими ювелирами техникой золотого плете-
ния. К периоду Борющихся царств восходит и практика
золочения изделий, которая вначале осуществлялась в ее
древнейшей форме — путем обкладки деревянной или брон-
зовой основы тонким золотым листом. Такие листы выко-
вывались и украшались рельефным орнаментом, выбивае-
мым с обратной стороны.
К концу чжоуской эпохи китайские мастера освоили и
технику собственно золочения, причем в двух — холодном
и огневом — способах. Эта техника активно развивалась
при Хань. Если верить письменным источникам, то уже во
II—I вв. до н. э. изготавливалась монументальная позоло-
ченная бронзовая скульптура. Серебряные изделия присут-
ствуют в чжоуских погребениях значительно реже, чем
золотые. Тем не менее очевидно, что среброделанье находи-
лось в стадии активной эволюции. Судя по археологиче-
ским находкам, один из главных его центров был в царстве
Ци, и в нем выпускались (в технике литья) достаточно
разнообразные, крупных размеров и богато орнаментиро-
ванные изделия.
В ханьскую эпоху репертуар золотых и серебряных из-
делий расширился. Из золота по-прежнему изготавлива-
лись преимущественно украшения. Наиболее полную кол-
лекцию вновь составляют плательные бляшки (или детали
украшений, 19 единиц), найденные (1978 г.) в одном из
северо-восточных (пров. Хэбэй) погребений. Выполненные
из тонкой золотой фольги в виде изображений животных,
они носят определенную печать влияния скифо-сибирского
искусства, хотя и набор персонажей (тигр, слон, птицы), и
особенности их художественной трактовки в целом совпа-
дают с уже ставшей привычной для китайского художе-
ственного творчества зооморфной образностью. Самыми
характерными для ханьской эпохи золотыми изделиями
являются литые пряжки, выполненные либо в националь-
ном (введение в их декор таотэ, изображений цикад),
либо в скифском орнаментальном стиле. Основа таких пря-
жек обычно отливалась в виде мелкого каплевидного орна-
мента, внешне напоминающего зернь. Важным шагом в
эволюции златоделания стало и изготовление пластиче-
ских изображений, в том числе совпадающих с погребаль-
ной пластикой. Однако главной технологической новацией
того времени является освоение китайскими мастерами тех-
ники зернения (или — гранулирование), которое произво-
дится путем напаивания на металлическую основу зерен-
шариков из такого же металла. Процесс заключается в
нагревании крупинок золота в порошке древесного угля,
чтобы создать пленку карбида золота, которая способству-
ет прикреплению зерни к поверхности основы. Эта техни-
ка возникла в Северном Причерноморье (в искусстве этру-
сков) и проникла в Китай предположительно из Индии.
Первоначально местная зернь была несколько грубоватой
из-за крупного размера зерен, диаметр которых колебался
от 0,5 до 1 мм (против 0,14 мм в этрусских изделиях).
758
Зернь использовалась для создания общего фона и обрам-
ления минеральных вставок386.
Из серебра в ханьскую эпоху исполнялись в основном
предметы пиршественной утвари (чаши, кубки), туалет-
ные принадлежности. Есть образцы серебряной по-
гребальной пластики и специфические предметы погребаль-
ного инвентаря, типа масок. Серебряные изделия исполня-
лись в технике литья и могли украшаться позолотой или
вставками из минералов.
Подлинных золотых и серебряных изделий эпохи Шес-
ти династий до нас дошло немного, главным образом —
детали украшений, по которым трудно судить о действи-
тельном состоянии злато- и среброделания того времени.
Зато мы можем с уверенностью говорить, что именно тогда
окончательно сложились общекультурные представления
об этих благородных металлах, чему способствовали в пер-
вую очередь даосская и буддийская традиции. В даосизме
золото полагалось совершенным металлом, неподвластным
(по причине его антикоррозийных свойств) разрушению и
якобы способным оказывать такое же воздействие на чело-
веческий организм. Поэтому оно играло первоочередную
роль в даосских алхимических экспериментах, направлен-
ных на изготовление снадобий бессмертия. Правда, в них
использовалось специально приготовленное лабораторное
золото, но представления о магических свойствах этого
металла распространялись и на природное вещество. В буд-
дизме золото и серебро почитаются, напомним, главными
из «семи драгоценностей» и прямо соотносятся с буддий-
скими духовными ценностями. Судя по литературным,
прежде всего поэтическим, произведениям того времени,
из золота изготовлялись не только украшения, но и столо-
вая утварь, изделия декоративно-утилитарного назначения.
Причем само слово «золото» выступает в качестве метафо-
ры и символа не только общественного статуса и матери-
ального благополучия персонажа, но и его высоких нрав-
ственных качеств.
И наконец, на ювелирное дело эпохи Шести династий
заметное влияние оказали несколько различных чужезем-
ных ювелирных традиций: индо-буддийская, привнесшая
немало новаций в репертуар изделий, центрально-азиат-
ская и южно-азиатская (тайская). Дело в том, что тайские
народности, в том числе и проживавшие на окраинных
южных землях Китая или по соседству с его территорией
(прежде всего, мяо), владели развитым среброделанием и
ювелирным искусством. В набор свойственных им украше-
ний входят проволочные обручи типа гривны, которые но-
сятся сразу по несколько штук и обычно к ним дополни-
тельно прикрепляются бусы, амулеты и колокольчики. Се-
ребряные колокольчики-бубенцы, тоже входившие, видимо,
в комплект каких-то украшений, нередко присутствуют и
в китайских погребениях ІѴ-Ѵ вв.
Несмотря на все перечисленные изменения, качествен-
но новый этап своей эволюции китайское злато- и сребро-
делание претерпело уже в танскую эпоху, для которой
Золотые изделия эпохи
Шести династий
a — бляшки-украшения, орна-
ментированные зернью (диаметр
1,5-2 см, IV в.); б — подвески в
виде фигурки животного (ок. 0,8 х
х 1,5 см, IV в.)-
т^
Серебряные изделия эпохи
Шестпи династпий
a — колокольчик с бубенцами
(высота ок. 3 cm); б — украше-
ние (подвеска, кулон) в виде тре-
ножника (высота 2,7 см).
386 Пример — поясная пряж-
ка, найденная в Корее, вбли-
зи от современного Пхеньяна,
но явно китайского производ-
ства. Она украшена рельефны-
ми изображениями драконов
на фоне завитков из зерни,
дополненными бирюзовой ин-
крустацией.
759
387 Сошлемся, к примеру,
на серию изделий, обнаружен-
ных в ходе реставрации мо-
настыря Фамэньсы (вблизи от
Сианя). Среди них присут-
ствовали таз для омовения рук
из позолоченного серебра ве-
сом 645 г; посох буддийско-
го иерарха, сделанный из де-
рева и сплошь инкрустиро-
ванный золотом, серебром,
вставками из жемчуга и ми-
нералов; набор ларцов-ковче-
гов, в которых, по преданию,
хранилась величайшая релик-
вия — палец Будды, — дос-
тавленная в то время в Ки-
тай. Всего этот набор состоит
из 8 вставленных один в дру-
гой ларцов. Внешний выпол-
нен из сандалового дерева, три
следующих — соответственно
из позолоченного серебра, чи-
стого серебра и вновь позоло-
ченного серебра. Четвертый
ларец сделан из золота и ук-
рашен рельефным изображе-
нием шестирукой Гуаньинь.
Третий ларец — из золота,
выложенного жемчугом и ка-
меньями. Второй ларец — из
нефрита, тоже с жемчужны-
ми и минеральными вставка-
ми. Последний, внутренний
ларец представляет собой зо-
лотую пагоду. Еще один на-
бор ковчегов был обнаружен
на территории столичного мо-
настыря Циншань. В него вхо-
дят два ларца. Внешний — в
виде гроба (длина 21 см, вы-
сота 14,5 см), сделанный из
серебра и украшенный позо-
лоченными рельефными изоб-
ражениями персонажей буд-
дийского пантеона. По краю
крышки, по всему ее перимет-
ру, идут гирлянды из жем-
чужного низанья. Ковчег по-
коится на фигурной подстав-
ке из позолоченной бронзы,
выложенной жемчугом и би-
рюзой. Внутренний ларец —
из чистого золота. Великоле-
пие этих изделий полностью
согласуется с могуществом са-
мой буддийской церкви, a их
технико-художественное во-
площение отвечает общему уров-
ню развития и эстетике совре-
менного им ювелирного дела.
известно внушительное число артефактов, сохранившихся
в коллекции Сёсоин и найденных в ходе археологических
работ: всевозможные украшения (серьги, браслеты, коль-
ца, волосяные украшения), предметы столовой и пирше-
ственной утвари (блюда, чаши, кубки), буддийские цер-
ковные изделия, которые тоже являются выдающимися
образцами танского ювелирного дела387.
Расцвет танского злато- и среброделания произошел
под определяющим воздействием чужеземных ювелирных
традиций, на этот раз тибетского златокузнечества и ис-
кусства Сасанидского Ирана. Тибетское златокузнечество,
если верить письменным источникам (записи о подноше-
ниях и дарах императорскому двору), по мастерству ис-
полнения и художественному уровню изделий не имело
себе равных во всем Дальневосточном регионе. Рассказы-
вается, например, о присланных из Тибета крупногаба-
ритных (высотой более 2 м и весом до 500 кг) золотых
сосудах, выполненных в виде скульптурных изображе-
ний, и о золотой модели города с фигурками всадников,
лошадей, слонов и львов. Искусство Сасанидского Ирана
стимулировало развитие чеканки (лоукэ), превратившей-
ся теперь в самостоятельную ювелирную технику, и обо-
гатило китайское ювелирное дело принципиально новой
техникой работы с металлом — гравировкой (кэ). Всем
этим приемам и техникам местных златокузнецов и среб-
роделыциков обучили, скорее всего, персидские мастера,
бежавшие в Китай от арабов. Золотая и особенно серебря-
ная чеканка наиболее активно использовались при Тан
для изготовления столовой утвари, в орнаментации кото-
рой тоже использовались мотивы, пришедшие из персид-
ского декоративно-прикладного искусства: сцены «цар-
ской охоты» на фоне растительного ландшафта, симмет-
ричные узоры из побегов виноградной лозы, розетки
(орнаментальный мотив, исходно античного происхожде-
ния), изображения львов и т. д. Для отделки посуды при-
менялись позолота, вставки из золота и гравировка.
Художественные композиции чаще всего либо награ-
вировывались на фоне, густо зачеканенном крошечными
кружочками, либо выполнялись в рельефе чеканом с обо-
рота и местами прорабатывались гравировкой. Персид-
ские и индо-буддийские образы и мотивы активно вводи-
лись и в орнаментацию украшений: например, деревян-
ный гребень с золотым навершием, которое декорировано
выполненными чеканом с оборота изображениями стоящих
на задних лапах львов в окружении узора из побегов с
листьями. Впрочем, увлечение китайских мастеров чуже-
земными формами и орнаментальными средствами не при-
вело их к отказу от национальных художественных тра-
диций. Напротив, среди той же столовой утвари присут-
ствует немало изделий, которые, будучи украшенными в
персидском стиле, воспроизводят формы бронзовых сосу-
дов либо, вторя чужеземным формам, орнаментированы
изображениями, стилизованными под древние каменные
рельефы.
760
Примечателен также факт исполнения сосудов для вина
в виде зооморфных скульптурных изображений, что яв-
ляется прямым продолжением традиции древних бронз.
Одновременно наблюдается процесс постепенного смеше-
ния иранских и местных орнаментальных мотивов и об-
разов. Характерные для иранского искусства цветы, вью-
щиеся растения, пальметки и сказочные существа все чаще
переплетаются с изображениями феникса, дракона, тигра
и прочих персонажей национальной орнаментики. Такое
сочетание мы видим, например, на серебряном покрытии
гребня, датируемого VII—VIII вв. Он украшен низкорель-
ефными стилизованными изображениями фениксов (пав-
линов) в окружении вьющихся растений. Еще в одном
головном украшении объединены завитки буддийского ло-
тоса с драконом и парой летящих уточек — вся компози-
ция выполнена из тонкой серебряной проволоки на сереб-
ряном листе.
Практика изготовления золотой и серебряной посуды
активно продолжалась и в дальнейшем, несмотря на неко-
торый спад местного среброделания, произошедший в IX в.
По воспоминаниям Марко Поло, императоры юаньской ди-
настии владели столь огромным количеством золотой и се-
ребряной посуды, что впервые попавший на придворную
трапезу человек замирал от изумления при виде накрытого
стола. Изготовление серебряной посуды до сих nop остает-
ся одной из главных отраслей китайского ювелирного дела,
центр которой находится в Пекине. Изделия пекинских
мастерских — серебряные приборы для вина, кофейные
сервизы — славятся изысканностью форм, особой четко-
стью пропорций предметов и изяществом декора.
Что касается танских украшений, то для них типична
филигранная работа из прочеканенной («зернистой») про-
волоки, из которой формировались как самостоятельные
орнаментальные фрагменты (например, изображения цве-
тов и птиц) накладкой на металлический лист, так и опра-
вы для камней и жемчуга.
В ювелирном деле сунской эпохи по-прежнему изго-
тавливалась преимущественно накладная филигрань из
витых проволок, образующих узор на поверхности листо-
вого металла. Тогда же (приблизительно в X в.) была изоб-
ретена техника конструирования украшений и их деталей
путем соединения с помощью пайки (ханъцзе) фрагмен-
тов из благородных металлов и других художественных
Танские золотые изделия
a — детали украшений; б — і
лосяные украшения.
Танские серебряные изделия
a — столовая посуда (чеканка);
б — кувшин (высота 12 см).
761
Дальнейшее развитие в минскую эпоху получила и
сама по себе филигранная работа. Теперь значительная
часть украшений уже целиком состояла из проволочных
сеток, без дополнения их листовым металлом. Выпуклые
или плоские, они монтировались в объемные компози-
ции, заполненные вставками из различных ювелирных
материалов. Эта новация в формах украшений позволила
увеличить их размеры и усложнить отделку, не придавая
им лишний вес.
Еще одной существенной новацией минского ювелир-
ного дела, касающейся не столько украшений, сколько
посуды и других аналогичных ей категорий изделий, стала
ажурная работа, исполняемая посредством либо специаль-
ной отливки (с оставлением пустых мест), либо прорезыва-
ния (пропиливания) орнамента напильником.
Заключительный этап истории развития китайского
злато- и среброделания, особенно для отдела украшений,
связан с цинской эпохой. Важнейшей особенностью цин-
ского ювелирного дела является использование всех ранее
изобретенных приемов изготовления и декорирования из-
делий: литья, гравировки, штампа, золочения, филиграни,
инкрустации. Параллельно оно в очередной раз обогати-
лось новыми заимствованиями, теперь — y маньчжурского
и европейского искусства. Благодаря первому, утверди-
лась йрактика отделки металлических украшений низа-
ньем из бисера или бусин, выполненных из жемчуга, ми-
нералов, коралла и стекла. Китайское ювелирное дело
под стать европейскому начинает использование сложной
огранки каменьев и (со второй половины XIX в.) прозрач-
ных цветных эмалей, наложенных на металлическую ос-
нову с чеканным рисунком.
762
шшт
шттт
шм
В целом цинские ювелирные изделия подразделяются,
исходя из их технико-орнаментальных особенностей, на
три главные группы: 1) литые изделия, украшенные гра-
вировкой или инкрустацией; 2) изделия из листового ме-
талла с деталями, закрепленными на проволоках и пру-
жинах, и отделанные штампованным или чеканным узо-
ром, накладками из витой проволоки и различными
вставками, включая сделанные из лака и полихромные
эмали; 3) ажурные филигранные изделия, тоже нередко
украшенные различными вставками.
Украшения всех трех перечисленных групп по-преж-
нему исполняются и в современном Китае, относясь к
числу изделий в «традиционном стиле», хотя болыпим
спросом на внутреннем рынке пользуются украшения,
следующие европейской моде. В этом плане показатель-
ным выглядит всплеск популярности золота, заметно по-
теснившего более привычное в старом китайском ювелир-
ном деле серебро388. На всем протяжении второй полови-
ны XX в. наблюдался неуклонный рост выпуска золотых
ювелирных изделий средней и высокой ценовых групп: из
золота 585-й пробы и со средней ценой 350-500 долларов.
Подавляющее их большинство — украшения в «европей-
ском стиле», нередко украшенные бриллиантами. Стати-
стические данные подтверждают, что такие украшения
пользуются достаточно массовым и устойчивым спросом в
крупных промышленных и торговых городах, например в
Шанхае, Гуанчжоу, не говоря уже о столице. Одновремен-
но китайское ювелирное дело чрезвычайно активно рабо-
тает на экспорт. КНР уже занимает ведущее место (наря-
ду с Гонконгом и Тайванем) по объему экспортных поста-
вок ювелирных изделий в Юго-Восточную Азию, четвертое
место — на мировом рынке, и первое место по экспорту
бижутерии. По прогнозам специалистов, в XXI в. Китай
станет одним из мировых лидеров в производстве и экс-
порте недорогих золотых изделий.
Серебряные изделия
Х-ХІІІ вв.
a — ларец (позолоченное сереб-
ро, высота ок. 16 см, диаметр ок.
22 см, первая половина X в.,
пров. Чжэцзян); б — блюдо (ди-
аметр 12 см, XI в.); в — украше-
ние (XI в., пров. Чжэцзян); г —
чаша (высота 6 см, диаметр ус-
тья 12 см, XII в., пров. Сычуань);
д — шкатулка (высота 6 см, диа-
метр 10,5 см, ХП-ХІІІ вв., пров.
Фуцзянь).
388 Так, уже в начале 90-х гг.
прошлого века Китай совмест-
но с Юго-Восточной Азией еже-
годно потребляли 998,7 тонн
золота, т. е. почти столько же,
сколько все страны Восточной,
Западной Европы, СІПА и Ка-
нада вместе взятые (1009 тонн).
Непосредственно в КНР объе-
мы потребления золота толь-
ко за период с 1989 по 1994 г.
возросли в пять раз (с 39 до
215 тонн в год). В 1994 г. ки-
тайские ювелиры произвели
203 тонны золотых украше-
ний, значительную часть ко-
торых, правда, составляли
цепочки и украшения из
«мягкого золота» (990-999-й
пробы), невысокой стоимости
и пользующиеся преимуще-
ственным спросом среди сель-
ского населения Китая и стран
Юго-Восточной Азии.
763
МИНЕРАЛЫ
389 Сошлемся, например, на
систему ритуально-спортив-
ных призов, вручаемых на
состязаниях по стрельбе из
лука — очень важного меро-
приятия, входившего в круг
официальных придворных це-
ремоний полусветского-полу-
религиозного характера. Его
победитель награждался из-
делием из нефрита, a лица,
занявшие второе и третье ме-
сто, — соответственно изде-
лиями из золота и слоновой
кости. В качестве народной
мудрости старая китайская по-
словица: «Золото имеет цену,
нефрит же бесценен».
390 Более того, иероглиф юй
очень часто употребляется в
значениях «драгоценность»
или «красивый камень» вне
каких-либо определенных ми-
нералогических отождествле-
ний. С другой стороны, в ки-
тайском языке существует
большое число разных терми-
нов, которые, по уверению
комментаторской традиции,
тоже прилагались к нефриту,
но либо к различным его сор-
там, обладавшим теми или
иными отличительными при-
метами, либо к отдельным
камням: нефрит-цюк (нефрит
красного цвета с прожилка-
ми), нефрит-яо (особо драго-
ценный нефрит) и т. д. Что
конкретно представляли собой
подобные нефриты с минера-
логической точки зрения, ос-
тается под вопросом.
Из ювелирных материалов минерального происхожде-
ния ключевое место в китайском ювелирном деле, равно
как и в декоративно-прикладном искусстве в целом, исход-
но и неизменно занимает нефрит, определяемый в ориги-
нальной терминологии как камень-юй. Именно нефрит, как
мы помним, служил неизменным материалом для изготов-
ления царских регалий. Более того, на нерасторжимые се-
мантические связи этого минерала с институтом верховной
власти указывает этимология иероглифа царь-ea«, кото-
рый записывается тем же знаком, что и нефрит, с одной
лишь новой деталью — чертой в правом нижнем углу. Од-
нако значимость нефрита в китайской культуре не исчер-
пывается только смысловыми ассоциациями. Он по праву
считается «национальным камнем» Китая, намного пре-
восходящим не столько материальной, сколько своей ду-
ховной ценностью все остальные ювелирные материалы,
даже благородные металлы. Эта иерархия находит отраже-
ние во многих реалиях культурной и общественной жизни
древнего и традиционного Китая389.
В китайских мифах и религиозных представлениях, в
том числе и даосских, нефрит якобы произошел от спинно-
го мозга космического великана Пань-гу, и считается при-
надлежностью божественного мира и наделяется чудесны-
ми свойствами. Он входит, как мы помним, в имена и
титулы многих божественных персонажей, начиная с Не-
фритового императора, и в названия волшебных предметов
и реалий, в первую очередь связанных с бессмертием —
Нефритовое древо, Нефритовое озеро и т. д. В конфуциан-
стве и во всей китайской гуманитарии он считается вопло-
щением качеств идеальной личности — благородного мужа-
цзюнъ-цзы. Мягкий блеск камня и его внутреннее тепло
соотносится с гуманностью-жэ«ь, его прозрачность, являю-
щая цвет и природную структуру, — с внутренней чисто-
той человека и верностью-cu«, мелодичный звук от удара
по нему, — с мудростью-чз/ш, твердость — с мужеством и
верностью долгу-w. И наконец, нефрит выступает и уни-
версальной эстетической категорией как метафора внешне-
го совершенства предметов, явлений и облика человека.
Сочетания «нефритовый лик», «нефритовыепальчики», «не-
фритовые ножки» входят в число излюбленных поэтиче-
ских характеристик красавицы.
Однако если общекультурная символика камня-юй оче-
видна и не требует каких-то дополнительных разъясне-
ний, то его минералогический аспект оказывается более
чем неопределенным. Дело в том, что как юй в Китае изна-
чально определялись в прииципе любые минералы, кото-
рые соответствовали, с точки зрения китайцев, эстетиче-
ским критериям, в том числе змеевик и яшмы, откуда и
проистекает принятый в отечественной китаеведческой
литературе его перевод как «яшма»390.
В настоящее время в специальной литературе общепри-
нятой является дефиниция камня-юй как собственно не-
фрита. Принятый в Европе термин «нефрит» происходит
от греческого слова nephros — «почка», ввиду некоторого
764
сходства отдельных камней с формой человеческой почки
й, значит, тоже не содержит в себе указаний на его непо-
средственно минералогические характеристики. На самом
деле, нефриты суть минералы класса крепкого амфибола,
являющегося породой метаморфического происхождения,
кристаллическая структура которой изменилась под воз-
действием давления и температуры. В результате всех
этих геологических процессов сформировался силикат,
более прочный, чем сталь (7-8 по шкале Мооса). Все ми-
нералы данного класса имеют общую химическую форму-
лу с основным содержанием окислов и оксидов кальция,
магния, железа и кремния. Но могут присутствовать и
другие вещества. Например, химический анализ некото-
рых древнекитайских изделий, выполненных из минера-
лов, доставленных, предположительно, из Туркестана, вы-
явил наличие в их составе примесей (в пределах 1,5%)
алюминия и натрия. В зависимости от примесей и про-
центного содержания непосредственно магния и железа,
амфиболы подразделяются на несколько минералоги-
ческих серий, главными из которых являются тремоли-
ты и актинолиты. Тремолиты (от названия долины —
Tremola — на юге Швейцарии) — амфиболы с повышен-
ным содержанием магния и с малым (либо отсутстви-
ем) — железа. Актинолиты (от греческих слов aktis —
«луч» и lithos — «камень», т. е. «лучистый камень») —
амфиболы с повышенным содержанием железа. В геоло-
гических классификациях они представляют собой соот-
ветственно водный силикат кальция и магния и минера-
лы кристаллических сланцев. Однако в обоих случаях
нефритами являются только их плотные, скрытокристал-
лические агрегаты. Чистые тремолиты и актинолиты, от-
личающиеся прозрачностью, однотонностью и однородно-
стью структуры, встречаются крайне редко. Основная же
масса нефритов принадлежат к промежуточным сериям,
структура и цвет которых зависят от условий их образова-
ния и химического состава. Нефриты, приближающиеся к
тремолитам и актинолитам, имеют молочно-белый цвет.
Вслучае присутствия в них железа и в зависимости от
степени его концентрации они приобретают коричнево-
зеленую гамму, варьирующуюся от пепельно-зеленого до
темно-зеленого и темно-коричневого тонов. Наличие маг-
ния придает камням розоватый оттенок. Встречаются так-
же нефриты желтого, голубого и даже черного цвета. По-
явление в структуре камней пятен и полос объясняется
присутствием гематита либо хромита (хромистого железа).
Богатая цветовая гамма нефритов сразу же обратила на
себя внимание китайцев. Уже в древности выделялось их
пять основных цветов: белый — подобный, в оригиналь-
ных трактовках, цвету бараньего сала (т. е. желтовато-бе-
лый), желтый — цвета сваренных каштанов (т. е. с корич-
невым отливом), красный — цвета петушиного гребня,
черный — подобный лаковому покрытию, и зеленый.
Приведенная цветовая гамма прилагалась в первую оче-
редь к царским регалиям, так называемым пяти нефритам.
Раннечжоуские
нефритовые изделия
a — подвеска (6 хЗсм, комплекс
Шанцуньлин); б — модель сосуда-
лэй (6,2 см, комплекс Тяньма).
391 Самыми крупными ки-
тайскими нефритовыми изде-
лиями, вырезанными из та-
ких глыб, являются два «вин-
ных кубка», изготовленных
при Юань и при Цин. Первый
из них, сделанный из глыбы
черного цвета, имеет высоту
66 см, диаметр устья — 1,5 м
и общую окружность — 5 м.
Вся его внешняя поверхность
украшена барельефными изоб-
ражениями рыб, драконов и
морских чудовищ, резвящих-
ся среди волн. Он был уста-
новлен в императорской ре-
зиденции, при Мин — пере-
дан в дар одному из даосских
храмов, a в 1745 г. вновь пе-
ренесен в императорскую
резиденцию, в специально со-
оруженное для него строение,
где он экспонируется и сегод-
ня. Второй кубок вырезан из
глыбы темно-зеленого цвета,
диаметром 1,3 м и высотой
59,2 см.
392 He вызывает сомнений,
что они издавна широко при-
менялись в ювелирном деле
Китая при изготовлении и
отделке тех же, что и нефрит,
категорий изделий. Однако
точно проследить их место в
китайском декоративно-при-
кладном искусстве невозмож-
но из-за их постоянного сме-
шения с юй.
Жезлы гуй и чжан, соотносящиеся с востоком/весной и
югом/летом, полагалось исполнять соответственно из не-
фрита зеленого и красного цветов. Амулеты ху (запад/осень)
и хуан (север/зима) — из нефритов белого и черного цве-
тов, a кубки-цун (Центр) — из желтого нефрита. В дей-
ствительности эти колористические регламентации, судя
по всему, не соблюдались, так как отвечающим им наборов
артефактов до сих nop не обнаружено. Тем не менее в лите-
ратурной традиции они считались нормативными, и само
сочетание «пять нефритов» впоследствии приобрело сло-
варное значение «нефриты пяти цветов». Кроме того, особо
ценились нефриты белого и бледно-зеленого или пепельно-
зеленого (цин хуэй юй) цвета, который передается через
несколько непривычный для европейцев образный физио-
логизм — «цвет плевка».
Нефриты существуют в природе в виде не только не-
болыних по размеру камней, но и целых глыб, которые
также использовали в камнерезном искусстве391.
Кроме собственно нефритов, в китайском ювелирном деле
широко использовались и «псевдонефриты», которые тоже
обычно определяются как юй. Самым благородным из них
считается жадеит — твердый пираксен, тоже являющийся
горной породой метаморфического происхождения, но имею-
щий иную, чем нефрит, химическую формулу с наличием в
его составе силиката натрия и алюминия. Он проник в Ки-
тай ориентировочно в ХѴІІ-ХѴШ вв. и в дальнейшем ус-
тойчиво импортировался из Юго-Восточной Азии, главным
образом из Бирмы. Обладающий великолепным яблочно-
зеленым или изумрудно-зеленым цветом, он сразу же снис-
кал любовь китайских ювелиров и оказался идеальным ма-
териалом для изготовления как украшений, так и многих
других традиционных для местного камнерезного искусства
категорий изделий (курильницы, вазы, шкатулки). К XIX в.
жадеит уже существенно потеснил нефрит.
Другим популярным заместителем нефрита, тоже отно-
сящимся к разряду полудрагоценных минералов, являют-
ся яшмы. «Яшма» — собирательное название плотных твер-
дых и мелкозернистых горных пород, состоящих из квар-
ца, халцедона, полевых шпатов, хлорита, гранатов, гематита
и других минералов, которые отличаются высокой прочно-
стью и разнообразием окрасок, нередко имея причудливые
природные рисунки392.
Прочие «псевдонефриты» относятся уже к разряду по-
делочных камней: стеатит, агальматолит и некоторые
сорта мрамора. Стеатит (кит. куайхуаши — «жирный ка-
мень») представляет собой минеральный агрегат плотного
скрытокристаллического строения, состоящий из водного
силиката магния. Агальматолит (кит. шоушанъши — «ка-
мень с Горы долголетия», прозванный в Европе «мыль-
ным камнем») — плотная разновидность лирофиллита,
водного силиката алюминия. Имеющий разнообразную
окраску, сходную с цветами нефрита (серо-зеленый, светло-
зеленый, желто-зеленый, буро-розовый, коричневый и
черный цвета), с легкостью поддающийся резьбе, агаль-
766
6 *#?зй?й^
Ф^ш
матолит был излюбленным (и остается им по сей день)
материалом для изготовления мелкой пластики, в точно-
сти повторяющей нефритовую скульптуру, например пе-
чатей, тушечниц, вазочек, настольных украшений, пе-
пельниц и тому подобных камерных предметов декора-
тивно-утилитарного назначения393.
Теперь перейдем к рассмотрению истории развития ки-
тайского нефритоделания. Вплоть до периода Борющихся
царств работы с нефритом в целом оставались в рамках
технико-художественных приемов, освоенных неолитиче-
ским камнерезным искусством. Орнаментация изделий про-
должала проводиться способами гравировки или легкого
рельефа, который по-прежнему исполнялся посредством
либо резьбы, либо выборочной шлифовки (с одной из сто-
рон контурной линии будущего орнамента).
Появление металлических инструментов намного рас-
ширило технологические возможности камнерезного ис-
кусства, что сразу же отразилось на стилистике изделий.
Во-первых, их поверхность стала покрываться сплошным
узором, состоящим из рельефных завитков («шелкопряд-
ный узор») или кружков («каплевидный узор»), Первый
из названных орнаментальных типов возник в чуском
декоративно-прикладном искусстве под влиянием резьбы
по дереву, второй восходит к работам по металлу (литой
зерновидный узор, который использовался еще в декоре
раннеиньских бронз). Во-вторых, массово начала исполь-
зоваться техника углубленной (инталио) и ажурной резь-
бы, позволявшей исполнять на нефритах сложнейшие ком-
позиции и дополнять их всевозможными орнаментальны-
ми деталями: плоскостными фигурами зооморфных и
зооморфно-фантазийных существ, идущих вдоль краев пред-
мета или завершающих собой его боковые грани и концы
(в случае с подвесками).
Все эти технико-художественные приемы достигли сво-
его наивысшего совершенства при Хань. К числу лучших
достижений ханьского камнерезного искусства относятся
нефритовые кубки, могущие быть высотой до 18,3 см
Нефритовые изделия
периода Борющихся царств
a — со сквозной резьбой (пров.
Хэнань); б — с «шелкопрядным»
узором; в — амулег-хуан с «кап-
левидным» узором (окрестности
Лояна).
Нефритповые изделия
южного региона
a — подвески (пров. Аньхуэй);
б — диск-бы (диаметр 10 см,
пров. Хубэй).
393 Несмотря на определен-
ное их внешнее сходство, изде-
лия из этого минерала нетруд-
но отличить от нефритовых:
они непрозрачны и значитель-
но тяжелее последних.
767
Нефритовые изделия
восточного региона.
Пров. ПІаньдун
a — подвеска; б — диск-бы (диа-
метр 19,4 см).
Ханьские
нефритовые изделия
a — фигурные пластины (5 х
х 1,4 см, 3 х 2,2 см, Ранняя
Хань); б — фигурка танцовщи-
цы (5 х 2,4 см, Поздняя Хань);
в — аглулет-хуан (ок. 4x8 см,
Поздняя Хань).
и исполняемые нередко в форме рога. Подобные кубки из-
готовлялись и в дальнейшем, приобретая все более слож-
ную архитектоническую композицию и орнаментации. По-
давляющее болыпинство чжоуских и ханьских нефрито-
вых изделий изготовлены уже из привозных нефритов (их
импорт начался, напомним, еще при Поздней Инь). Их
главными поставщиками были Яркенд и Хотан — древние
города, находившиеся на территории современного Синь-
цзян-Уйгурского автономного района или, согласно геогра-
фии Китая ханьской эпохи — на южном участке Шелково-
го пути, проходящего через Сериндию. Нефрит добывался
из двух протекавших вблизи от Хотана рек, которые так и
назывались «Черный нефрит» (Каракам) и «Белый нефрит»
(Юрунгкам). В Хотане встречались нефриты различных ми-
нералогических серий, в том числе и почти чистые тремо-
литы — прозрачные и белые.
В ювелирном деле традиционного Китая общекультур-
ный статус нефрита сохранился, однако степень активно-
сти работы с ним существенно различается в разные исто-
рические эпохи. При Тан он продолжал оставаться одним
из самых популярных ювелирных материалов с изготовле-
нием из него все того же репертуара изделий. Правда, те-
перь они нередко отделывались золотом и серебром. Боль-
шое распространение в танском искусстве получила также
камерная нефритовая пластика, состоящая из фигурок жи-
вотных (верблюда, льва, черепахи, зайца, различных птиц)
и мифологических существ. Из литературных источников
известно о существовании нефритовых статуэток (их раз-
мер не уточняется) любимых коней императора Сюань-
цзуна, которые определяются как шедевр национального
камнерезного искусства.
Отдельного упоминания заслуживает также попытка
танских властей возродить обычай использования нефри-
товых изделий при официальных ритуалах. Для исполне-
ния обрядов жертвоприношений Небу и Земле — фэн и
шанъ (которые мыслились повторением одноименных древ-
них ритуалов), проводившихся лично императором в гор-
ном массиве Тайшань, — специально исполнялись таблич-
ки из белого (исключительно хотанского) нефрита. Они
имели размер 40 х 5 х 7 см и покрывались награвирован-
ными на них надписями. Таблички укладывались в нефри-
товый ларец, зарывались в землю и засыпались сверху
пятицветной землей (знак единства пяти пространственно-
временных зон китайской космологии). Еще одной специ-
фической категорией танских нефритовых изделий явля-
ются даосские «нефритовые книги», тоже состоящие из
пластин с выгравированным на них текстом.
При Северной Сун изготовление нефритовых изделий
заметно сократилось по сравнению с предшествующими
историческими эпохами. Вероятными причинами этого
могли послужить, с одной стороны, уменьшение импорт-
ных поставок нефрита, вызванных утратой Китаем конт-
роля над прилегающими к нему северо-западными земля-
ми и маршрутом Шелкового пути, a с другой — растущий
768
йнтерес китайских ювелиров к благородным металлам и
другим художественным материалам. При Южной Сун на-
блюдается новый всплеск популярности нефрита, но теперь
он уже преимущественно использовался для изготовления
не предметов роскоши или церемониально-ритуальной утва-
ри, a изделий повседневного потребления и декоративно-
утилитарного характера394. Помимо собственно китайского
нефритоделания, в ХІ-ХІІ вв. достаточно отчетливо про-
явило себя и камнерезное искусство киданей и чжурчжэ-
ней. Оно представлено в основном неболыдими пластинами,
служившими плательными украшениями, орнаментирован-
ными изображениями животных и птиц, выполненными в
центрально-азиатском художественном стиле. Для декора
киданьских нефритовых изделий характерны также сцены
ритуальной охоты. Перечисленные мотивы и образы стали
проникать при Юань и в китайское нефритоделание. Буду-
чи в скором времени переведенными в местные (точнее,
южно-китайские) трактовки, они привели к образованию
новых орнаментальных направлений.
При Мин нефритоделание в отличие от подавляющего
большинства других видов национального декоративно-при-
кладного искусства не претерпело сколько-нибудь значи-
тельных изменений. Единственным существенным для него
событием оказалось перенесение казенных мастерских из
юго-восточных районов Китая в Пекин. Продолжая нацио-
нальные камнерезные традиции и работая в различных
техниках, пекинские мастера все же явное предпочтение
отдавали ажурной резьбе, характеризующей наиболее изыс-
канную особенность минских нефритов.
Первая половина Цин (с середины XVIII в.) ознамено-
валась очередной вехой популярности нефрита. Это было
вновь обусловлено как объективными, историко-полити-
ческими, так и субъективными причинами. К первым от-
носится завоевание цинскими войсками Синьцзяна, что
открыло прямой доступ китайцам к хотанским нефрито-
вым месторождениям. Ko вторым — личное пристрастие к
нефритам императора Цяньлуна395. По приказу Цяньлуна
в прибрежной зоне озера Тайху, в Сучжоу, были открыты
новые камнерезные мастерские, имевшие тот же статус,
что и казенные в Пекине, исполнявшие самые ответствен-
ные заказы двора и лично монарха. Так, китайское нефри-
тоделание на заключительной стадии своего развития как
бы возвратилось в места своего зарождения.
49 История искуссгва Кіітая
Нефритовые изделия
эпохи Шести династий
a — поясной крючок (длина ок.
10 см); б — гюдвеска (ок. 4x10 см);
в — подвеска (ок. 7 х 5,8 см); г —
подвеска (ок. 10 х 9 см).
Нефритовые изделия
Х-ХѴІ вв.
a — первая половина Хв.;/5 —
эпоха Мин.
394 Главным камнерезным
центром того времени стали
мастерские в столице (Хан-
чжоу), в которых в том числе
был возобновлен выпуск не-
фритовых чар для вина. Они
представляли собой сосуды
средних размеров (высота в
пределах 15 см, диаметр ус-
тья — 7 см) и в отличие от их
ханьских и танских предше-
ственников повторяли формы
селадоновой посуды, тоже
имея пластически оформлен-
ные боковые ручки.
395 Обладатель великолеп-
ной коллекции нефритовых
изделий, Цяньлун был настоя-
щим ценителем и экспертом
камнерезного искусства. До-
статочно сказать, что именно
он впервые опознал в случай-
но попавших к нему лянчжу-
ских нефритах изделия, вы-
полненные в предельно древ-
ние времена неизвестными
(не иньскими или чжоуски-
ми) мастерами.
769
396 Самой, пожалуй, свое-
образной категорией цинских
нефритовых изделий, которые
выпускались и в частных ма-
стерских, являются «нефри-
товые горки» — одиночные
нефритовые валуны с выре-
занными на них пейзажными
композициями и сюжетными
сценами, которые в зависимо-
сти от размера служили садо-
выми, интерьерными или на-
стольными украшениями.
На протяжении второй половины XVIII — начала
XIX в. в казенных камнерезных мастерских стандартно и
наиболее массово изготавливались изделия 5 отделов: ре-
галии и предметы ритуально-церемониального предназ-
начения с реставрацией дисков-би; ритуальные музыкаль-
ные инструменты, состоящие из набора нефритовых ко-
локольчиков (тоже попытка восстановить древнейшие
музыкальные традиции); письменные принадлежности
(подставки для кистей, тушечницы), a также печати и
настольные декоративные курильницы; предметы, пред-
назначенные для убранства интерьера (вазы, экраны, ка-
мерная пластика); украшения396. Одновременно в цин-
ском камнерезном искусстве выделилось три относительно
самостоятельных орнаментально-стилистических направ-
ления: «архаическое» («классическое»), «западное» и «но-
ваторское». В первом исполнялись изделия, неукоснитель-
но следующие формам и орнаментике древних предметов,
не только нефритовых, но и бронзовых, керамических,
лаковых. «Западное» направление, вопреки термино-
логическому обозначению, ориентировалось не на евро-
пейское, a на ближневосточное и юго-восточное искусст-
во. «Новаторское» направление является типологическим
аналогом европейского модерна, в котором допускалось
смешение и эклектическое сочетание самых разных по
происхождению и исходной стилистике образцов, тем и
мотивов.
Нефрит используется и в современном китайском юве-
лирном деле, в том числе для исполнения и отделки укра-
шений. Однако вследствие редкости натуральных камней
он применяется в изделиях высокой стоимости. Украше-
ния средней и низкой ценовых групп, включая сувенир-
ную продукцию, выполнены, как правило, из «псевдо-
нефритов», хотя и обозначаются в тех же ценниках как
нефритовые-юй. Ведущими камнерезными центрами КНР
по-прежнему остаются пекинские и юго-восточные мас-
терские — в Шанхае, Сучжоу, Нанкине.
Древнейшим, со времени его использования, ювелир-
ным материалом минерального происхождения является
бирюза (кит. биу образное название люйсунши — «камень
сосново-зеленого цвета»). Первые изделия, украшенные
бирюзой, относятся, напомним, к неолитической эпохе
(костяные кольца с бирюзовыми вставками), a пик ее при-
менения в качестве художественного материала прихо-
дится на иньскую и чжоускую эпохи (отделка бронзовых
изделий бирюзовыми инкрустациями и панно). Одновре-
менно бирюза наделялась магическими свойствами, сход-
ными со свойствами нефрита, служа также ингредиентом
для снадобий бессмертия. Тем не менее уже при Хань ее
роль в ювелирном деле заметно снизилась.
В ювелирном деле традиционного Китая, начиная с тан-
ской эпохи, она почти полностью уступила место иным
минералам аналогичной цветовой гаммы, в первую очередь
ляпис-лазури, и стала использоваться для отделки изде-
лий, преимущественно (а может быть, и исключительно)
770
в сочетании с другими и непременно контрастными по цве-
ту материалами — агатом, янтарем, кораллом и т. д.397 He
исключено, что такой колористический стиль был своеоб-
разной реакцией китайского ювелирного дела на мно-
гоцветие ближневосточных и индийских украшений. В по-
следующие исторические эпохи бирюза использовалась так-
ясе для изготовления камерных интерьерных украшений,
включая вазочки. В современном китайском ювелирном
деле бирюза применяется весьма активно как для отделки
изделий, так и для производства самостоятельных укра-
шений, например бус и брошей, выполненных из ее цель-
ных кусков.
Ляпис-лазурь (сэсэ), образно называемая также «камень
небесной синевы» (тянъцинши) и «сине-золотой камень»
(цинцзинъши), наиболее отчетливо проявляет себя в ювелир-
ном деле уже танской эпохи. Однако китайские мастера
были знакомы с этим минералом значительно раньше398.
В эпоху Шести династий ляпис-лазурь тоже употреблялась,
но вне ювелирного дела: для изготовления особой ультрама-
риновой краски, следы которой обнаружены в стенописях
Могао северовэйского периода. Возможно, в Древнем Китае
и в эпоху Шести династий ляпис-лазурь имела и более ши-
рокие сферы применения. Однако подлинных артефактов не
сохранилось, a в литературных источниках как сэсэ может
определяться не только ляпис-лазурь, но и бирюза и даже
сапфир. При Тан ляпис-лазурь поступала в Китай в основ-
ном из Хотана, вследствие чего за ней закрепилось образное
название «хотанский камень», но ее подлинной родиной
был Бадахшан (район современного Афганистана), где иско-
паемую лазурь — ярко-синего, бледно-голубого, зеленого или
серого цветов — выбирали из материнской известняковой
породы. Для улучшения цветовых характеристик минерала
излишне бледных цветов, камни нередко искусственно ок-
рашивались. Другой, и даже лучший по внешним достоин-
ствам, чем хотанские минералы, сорт ляпис-лазури достав-
лялся в качестве даров императорскому двору из тайского
государства Наньчжао. Известно, что южная ляпис-лазурь
ценилась выше золота. Несмотря на свое чужеземное проис-
хождение, ляпис-лазурь быстро заняла важное место в ки-
тайских общекультурных представлениях.
Входя в список буддийских «семи сокровищ», она, кроме
того, ассоциировалась с внутренней чистотой и искренно-
стью человека. Поэтому и изделия из нее, и просто необра-
ботанные куски считались ценными дарами и подношения-
ми. В ювелирном деле танской эпохи она шла на отделку
самых дорогих и торжественных украшений, как женских
(нагрудные, волосяные), так и мужских (поясные пласти-
ны). Несколько отделанных ляпис-лазурью празднично-
парадных украшений и регалий сохранились в коллекции
Сёсоин: жезл из слоновой кости, орнаментированный встав-
ками из ляпис-лазури и носорожьего рога; пояс, выложен-
ный пластинами из ляпис-лазури глубокого фиолетово-
синего цвета. В литературе упоминаются изголовья, вы-
полненные из этого минерала, но остается непонятным,
397 qt танской эпохи сохра-
нилась серия артефактов с
подобным декором: золотые
поясные пряжки, отделанные
инкрустацией из бирюзы, ага-
та и серебра; зеркало (из кол-
лекции Сёсоин), тыльная сто-
рона которого выложена би-
рюзой, янтарем и содалитом
(минеральная разновидность
полевого шпата, внешне труд-
но отличимая от ляпис-лазу-
ри). Еще одним выдающимся
и самым, пожалуй, эффект-
ным образцом танских ювелир-
ных изделий с бирюзой высту-
пает украшение, обнаруженное
в одном из столичных погребе-
ний. Оно представляет собой
золотую восьмиугольную пла-
стину, в центре которой по-
мещена золотая фигура пав-
лина среди деревьев. Хвост
павлина и ветки деревьев со-
ставлены из бирюзовых и ко-
ралловых фрагментов раз-
личной конфигурации. Ос-
тальная поверхность пластины
выложена бирюзовыми встав-
ками в обрамлении золотой
филиграни.
398 Древнейшим изделием
из нее на сегодня считается
крошечная скульптурка цика-
ды (из коллекции Британско-
го музея), которая датирует-
ся позднечжоуским периодом.
Высказываются предположе-
ния, что она была вырезана
из афганской ляпис-лазури,
что служит еще одним весо-
мым доказательством суще-
ствования торговых контактов
между Китаем и Центральной
Азией до начала функциони-
рования Великого шелкового
пути.
771
399 Самыми специфически-
ми из нее изделиями, выпус-
каемыми уже при Цин, явля-
ются настольные украшения
в виде пейзажных горок. По
цветовым ассоциациям ляпис-
лазури с небесным простором
и растительностью эти горки
символизировали внутреннюю
свободу личности, его отдох-
новение от мирских сует и
стремление к отшельническому
уединению на лоне природы.
400 Эти сведения отчасти
подтверждаются артефактами
из коллекции Сёсоин, среди
которых присутствует сердоли-
ковое блюдо в форме широко-
го древесного листа с обыгры-
ванием естественного рисунка
камня, который изображает
листовые прожилки.
были вырезаны они целиком или обкладывались им по
внешней поверхности.
При Северной Сун в Китай по-прежнему осуществля-
лись поставки ляпис-лазури из Афганистана, причем не-
скольких сортов, среди которых находился минерал на-
сыщенного синего цвета с вкраплениями пирита, произ-
водящими впечатление золотых вкраплений. Этот сорт,
прозванный «камень золотой звезды» (цзинъсинши), есте-
ственно, занял почетное место в сунском ювелирном деле.
В XII в. китайскими мастерами был изобретен заместитель
натуральной ляпис-лазури — синяя паста на основе стек-
лянной массы. В дальнейшем авторитет ляпис-лазури как
ювелирного материала несколько снизился, хотя она про-
должала использоваться для отделки празднично-повсе-
дневных и ранговых украшений399.
Следующим популярнейшим в китайском ювелирном
деле художественным материалом являются минералы се-
мейства халцедонов (скрытнокристаллические разновидно-
сти волокнистого кварца), которые тоже обнаруживают
определенную символическую и морфологическую близость
к нефриту. Халцедоны встречаются в виде шаровидных,
гроздевидных и почковидных образований и подразделя-
ются, исходя из их природной окраски и структуры, на
несколько минералогических разновидностей: красные хал-
цедоны (карлеон), зеленые (хризопраз), бурые (сардер) и
полосатчатые — оникс, агат и сердолик. Из перечислен-
ных разновидностей особое место в китайском ювелирном
деле занимают сердолик, получивший примечательное на-
звание «нефритовый мозг» (гуанъюйсуй), и агат (манао).
Сердолики могут быть бледно-розовыми, желтыми, оран-
жево-красными и красно-коричневыми и имеют неравно-
мерную окраску, сочетая в себе несколько цветов и участ-
ков — просвечивающих, прозрачных и густоокрашенных.
Благодаря преобладанию в их цветовой гамме красных цве-
тов и оттенков они наделялись мистическим свойством обе-
регать человека от болезней, насилия, злых чар, молнии и
дарить ему душевный покой. Им также приписывались
особые целительные свойства — способность заживлять
раны. Использование сердоликов непосредственно в юве-
лирном деле более или менее отчетливо прослеживается
только с танской эпохи. Известно, что они поступали в
Китай с Запада (из Самарканда) и Востока (из Японии и
Кореи). Литературные произведения танского времени изо-
билуют упоминаниями о вырезанных из сердолика чашах,
блюдах, кувшинах и тому подобных категориях изделий400.
Выпуск сердоликовой посуды и декоративных камерных
изделий осуществлялся в Китае и в последующие истори-
ческие эпохи.
Китайский агат представляет собой тоже камень красно-
бурого цвета с контрастными (серо-голубые, белые) про-
слойками. Его точное место в истории китайского ювелир-
ного дела тоже не поддается определению, так как сочета-
ние манао вновь могло прилагаться к различным минералам,
в том числе и к сердоликам. Судя по археологическим на-
772
ходкам, агат активно использовался китайскими ювелира-
ми по меньшей мере с периода Борющихся царств, вводясь
в конструкцию украшений или служа самостоятельным
материалом. Одним из таких артефактов является выпол-
ненный из агата диск, возможно, служивший браслетом
(диаметр 7,7 см), датируемый IV—III вв. до н. э. Хорошо
видно, с каким умением и в данном случае обыгрывается
природный рисунок камня. Тем не менее в литературных
дроизведениях III—IV вв. н. э. при упоминании агатовых
изделий, в том числе деталей конского убранства (удила),
он называется разновидностью нефрита, но чужеземного
происхождения. Впоследствии агат шел преимущественно
на отделку повседневных украшений.
Несмотря на то что сердолик и агат в основной своей
массе поступали извне, в Китае имеются их собственные
сорта и халцедоновые месторождения, в целом дающие
малопригодные для художественной обработки камни. Одно
из таких месторождений, известное под названием «Гора
дождя из цветов» (Хуаюйшанъ), находится в окрестностях
Нанкина. Месторождение, занимающее небольшую терри-
торию, буквально насыщено халцедонами, о происхожде-
нии которых рассказывается в красивой и романтической
легенде. В ней говорится о некой юной паре, которая ни-
как не могла вступить в брак. Когда же это счастливое
событие вопреки всем трудностям и испытаниям состоя-
лось, даже боги испытали радость за молодоженов и нис-
послали им поистине волшебный свадебный подарок: дождь
из цветов, которые, падая на землю, превращались в дра-
гоценные (с китайской точки зрения) каменья. Нанкин-
ские халцедоны используются для отделки украшений (коль-
ца, броши, кулоны), но болыие всего ценятся в натуральном
виде. Помещаемые в емкости с водой, чтобы подчеркнуть
природный рисунок камня, они служат популярным в Ки-
тае интерьерным украшением. Самые необычные и эффект-
ные по рисунку камни отбираются в специальную музей-
ную коллекцию, где получают именные названия.
Из прозрачных минералов в Китае больше всего ценил-
ся горный хрусталь — чистый прозрачный кристалличе-
ский кварц со стеклянным блеском или, в минералогиче-
ских классификациях, бесцветный природный кремнезем.
Примечательно, что как и в Европе (термин «хрусталь»
восходит к греческому слову krystallos — «лед»), хрусталь
прямо ассоциировался y китайцев с водой и льдом. Вплоть
до XII в. они считали его окаменевшим льдом, откуда и
проистекает его оригинальное название. Благодаря своим
природным свойствам — крепости, прозрачности, способ-
ности пропускать лучи света — хрусталь по своим семан-
тическим значениям во многом совпадает с нефритом.
Несмотря на трудоемкость обработки (минерал твердости 7
по шкале Мооса), хрусталь использовался уже в декора-
тивно-прикладном искусстве иньской эпохи — например,
фигурка мартышки из погребения Фу-хао. В дальнейшем
он достаточно широко использовался для отделки (встав-
ки) украшений и исполнения самостоятельных изделий:
/O,
Изделия из хрусталя
a — бусина (высота 2 см, диаметр
2,5 см, IV в.); б — украшение
(Юань, 8 х 1,9 см).
401 Самое известное в исто-
рии китайского декоративно-
прикладного искусства вы-
полненное из него изделие —
набор музыкальных колоколь-
чиков, подаренный танским
императором Сюань-цзуном
своей возлюбленной Як-гуфэй.
бус, предметов пиршественной утвари (винных кубков и
чаш), ларцов, футляров для благовоний, ваз, a также мел-
кой пластики. Важное место он занимает и в буддийском
ювелирном деле, используясь для украшения культовой
утвари и вотивных предметов и изготовления четок. Прак-
тиковалось также подкрашивание хрусталя, что делает из-
делия из него похожими на цветное стекло. Наряду с при-
менением как непосредственно художественного материа-
ла, хрусталь употреблялся и в некоторых других своих
качествах. Это, прежде всего, линзы и шары. Секретом
изготовления хрустальных линз китайские мастера овла-
дели в I в. н. э. Вначале они применялись исключительно
в обрядовых практиках, для солнечного возжигания жерт-
венного огня, заменив собой предназначенные для этих же
целей специальные ритуальные зеркала с вогнутой поверх-
ностью. Затем хрустальные линзы превратились в ювелир-
ный (увеличительное стекло) и медицинский (для прижи-
гания ран) инструмент. С хрустальными шарами китайцы
познакомились в танскую эпоху, благодаря изделиям, при-
сылаемым в дар из Юго-Восточной Азии. Их родиной была
Индия, где впервые начали изготавливаться такие шары,
называемые «огненная драгоценность» (санскр. агнимани),
которые служили ритуально-церемониальными предмета-
ми. Однако их истоки восходят к эллинистическому Ближ-
нему Востоку и, более того, к искусству Древнего мира
(ассирийские линзы из горного хрусталя, датируемые
IX в. до н. э.). Попав в Китай, хрустальные шары остава-
лись в нем на положении характерных принадлежностей
ритуальных и оккультных практик, обычно определяясь
как «магические». Самым крупным их образцом является
шар диаметром 133 см и весом 48,5 кг.
Из поделочных камней, которые использовались в Ки-
тае наряду с благородными материалами, особенно выде-
ляются мрамор, малахит и азурит.
Древнейшие мраморные изделия — кольца и брасле-
ты — тоже обнаружены еще для неолитической эпохи.
В дальнейшем некоторые сорта мрамора служили, как
отмечалось выше, одними из самых распространенных
«псевдонефритов». Это, во-первых, белый мрамор, кото-
рый обозначается в оригинальной терминологии как «бе-
лый нефрит». И, во-вторых, «ланьтяньский мрамор»у
месторождения которого находятся, кстати, в той самой
местности Ланьтянь (к югу от Сианя), где некогда обита-
ла самая ранняя популяция китайских архантропов. На-
званное месторождение дает удивительно красивые кам-
ни — белого цвета с ярко-красными, зелеными и желты-
ми прожилками401.
Малахит (основная углекислая соль меди) и азурит (ми-
нерал синего цвета, родственный малахиту) фигурируют в
китайском ювелирном деле и литературных источниках
под несколькими образными названиями: соответственно
«павлиний камень», «каменная зелень» (шилюй) и «лазур-
ная медь» (ланътун)у «каменная синева» (шицин) и,
исключительно в даосских алхимических текстах, «девуш-
774
ка с синим станом». Малахитовые месторождения суще-
ствуют в нескольких регионах Китая — на юге (пров. Ань-
хуэй) и на северо-востоке (север Шаньси), где он залегает
вместе с азуритом. Кроме того, его могут давать и медные
рудники. Относительно широко использовавшийся чжоу-
ским декоративно-прикладным искусством (для инкруста-
ции бронз), малахит затем на долгое время словно выпал из
поля зрения китайских ювелиров, используясь, как и азу-
рит, в качестве сырья для окрашивания тканей. Интерес к
нему y местных мастеров пробудился, видимо, в танскую
эпоху под влиянием привозных изделий: о таких изделиях,
отделанных малахитом, неоднократно упоминается в пись-
менных источниках. В X в. оба этих минерала стали ис-
пользоваться для исполнения пейзажных вставок-панно, ко-
торыми орнаментировались подносы и блюда: малахитом
выкладывались поросшие лесом горные склоны, азуритом —
водное пространство. В XI в. в восточной части провинции
Цзянсу, где находились крупнейшие на тот момент медные
рудники, возникло местное производство, специализирую-
щееся на выпуске малахитовых и азуритовых украшений
(бусы, отделанные ими броши и перстни), которое функцио-
нирует и по сей день, производя изделия, чрезвычайно по-
хожие на уральские. В ХІѴ-ХѴШ вв. малахит приобрел
статус официального художественного материала: вставки
из него служили обязательным элементом головных уборов
императриц. Тогда же он начал использоваться для изготов-
ления столешниц и инкрустации мебели.
Что касается собственно драгоценных камней, то они
занимают в ювелирном деле традиционного Китая крайне
незначительное место. Известно, что чужеземные украше-
ния с драгоценными каменьями эпизодически попадали в
Китай уже при Хань и в эпоху Шести династий, a при Тан
они появились массово в виде даров и подношений импера-
торскому двору. Такие изделия привозились в основном из
стран Юго-Восточной Азии и Арабского Востока, ювелир-
ное дело которых исходно ориентировалось именно на са-
моцветы. Но они оказались для китайцев излишне яркими
и эффектными. И при Тан, и при Северной Сун драгоцен-
ные камни считались воплощением иноземной экзотики, a
пристрастие к ним вызывало всеобщее удивление с приме-
сью презрения, считаясь признаком дурного вкуса и стя-
жательства.
Показательна судьба в Китае «главной» из мировых
драгоценностей — алмаза. В течение долгого времени он
использовался лишь в технологических целях — для изго-
товления гранильных инструментов (наконечников и сверл).
Технические алмазы импортировались из Центральной
Азии, из Индии и с берегов Сиамского залива, т. е. из тех
мест, где алмаз служил излюбленным ювелирным материа-
лом. Предубеждение китайцев против алмаза не смог поко-
лебать даже исключительный авторитет этого камня в буд-
дийской традиции402. Тем более интересен повышенный
спрос на золотые изделия с бриллиантами, который захва-
тил Китай в последние 20-30 лет403.
402 ЛуЧШИМ подтвержде-
нием пренебрежительного от-
ношения китайцев к алмазу
выступает его оригинальное
терминологическое обозначе-
ние — цзиньган, которое не
содержит в себе никаких его
образных характеристик, a
является обычной транскрип-
цией арабского слова ал-мас
(от греческого adamas — «не-
сокрушимый»).
403 Согласно маркетинго-
вому исследованию, проведен-
ному в 1993 г. корпорацией
«ДеБирс», которая пришла
на китайский бриллиантовый
рынок в 1987 г., подавляющее
болынинство из 10 000 опро-
шенных женщин имели ук-
рашения с бриллиантами сто-
имостью в пределах 300 дол-
ларов. Аналитики той же
корпорации и, независимо от
них, израильской гранильной
промышленности сошлись в
прогнозе, что в начале XXI в.
Китай станет одним из круп-
нейших покупателей брилли-
антов, способным импортиро-
вать их на сумму в 300-440
миллионов долларов в год.
775
Названия остальных драгоценных камней тоже лише-
ны поэтичности, свойственной китайской ювелирной тер-
минологии. В них лишь констатируются внешние харак-
теристики камней: «зеленый драгоценный камень» (люй-
баоши) или «зеленый нефрит» (люйюй) — изумруд, «синий
драгоценный камень» (ланъбаоши) — сапфир, «красный
драгоценный камень» (хунбаоши) — рубин и т. д. Некото-
рые из драгоценных камней — аметист, рубин, сапфир —
начали осваиваться китайскими ювелирами только в кон-
це Мин. Но они либо обрабатывались резьбой, либо поли-
ровались в виде кабошонов (гладкошлифованных выпук-
лых форм на плоском основании), что делает их в издели-
ях почти внешне не отличимыми от других минералов.
И лишь в конце XIX в. под влиянием европейской юве-
лирной продукции китайские мастера стали применять
сложные виды огранки.
Если репертуар минералов в китайском ювелирном деле,
как видим, серьезно отличался от их репертуара, принято-
го в мировой и европейской ювелирной практике, то набор
веществ органического происхождения в обоих случаях в
целом совпадает.
ВЕЩЕСТВА
ОРГАНИЧЕСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
404 В древнекитайских ре-
лигиозных представлениях и
мифологических сюжетах он
устойчиво фигурирует в ка-
честве принадлежности боже-
ственного мира и в связи с
идеей обретения бессмертия.
В дальнейшем и во многом под
воздействием буддийской ми-
фологии установились его ас-
социативные связи с луной, с
Женским космическим нача-
лом (жемчуг — один из при-
нятых атрибутов Гуаньинь) и
с верховной властью (драго-
ценность-лштш как один из
атрибутов идеального прави-
теля-чакравартцна). Так, на-
чиная с Северной Сун жемчуг
входил в число материалов,
использовавшихся для отдел-
ки императорских регалий.
405 речной и озерный (озе-
ро Сиху) жемчуг добывается
в Китае и по сей день, но он
отличается мелкостью, непра-
вильностью форм и тускло-
стью, a потому используется
или для дешевых украшений,
или в качестве ингредиента
косметических и фармацевти-
ческих средств.
Из веществ органического происхождения в Китае наи-
более активно применялись: жемчуг, раковины тридахны,
кораллы, янтарь, гагат, костные и роговые материалы и
птичьи перья.
Жемчуг (чжу) занимает в китайском декоративно-при-
кладном искусстве почти столь же существенное место,
как и нефрит, также наделяясь целым комплексом симво-
лических значений, образных ассоциаций и магических
свойств404. По утверждению письменных источников, жем-
чуг начал применяться в национальном ювелирном деле
еще в предельно архаические времена — при Сяском Юе.
Однако этимология иероглифа чжу — из двух графем «не-
фрит» и «красный», свидетельствует об относительно позд-
нем знакомстве с ним китайцев. Видимо, он прочно вошел
в набор местных художественных материалов не ранее пе-
риода Борющихся царств, для которого в текстах пере-
числяется немало категорий украшений, включавших в
себя, судя по их названиям и литературным описаниям,
жемчужное низанье. Однако подлинные образцы подоб-
ных изделий пока не обнаружены. В ханьскую эпоху и в
эпоху Шести династий жемчуг постоянно, о чем мы знаем
преимущественно из литературных источников, применялся
для отделки не только собственно ювелирных изделий, но
и тканей, обуви (расшитые жемчугом туфли) и деталей
интерьера (занавеси, пологи, тканая обивка стен). Соглас-
но тем же источникам, в древности главными местами до-
бычи жемчуга были побережье Желтого моря и река Хэ-
пуцзян, на которой находится Гуанчжоу и в ней, по преда-
нию, водились жемчужины до 3 см в диаметре405. При Тан
и в дальнейшем предпочтение местными мастерами отда-
валось импортному жемчугу, привозимому из Юго-Восточ-
776
ной Азии. В XIII в. китайцы научились выращивать ис-
кусственный жемчуг406.
Перламутр (чжуму, «мать жемчуга») начал использо-
ваться в китайском декоративно-прикладном искусстве,
по меньшей мере в раннечжоуский период, о чем допод-
линно известно из археологических данных, например для
отделки оружия (вставки на рукоятках). Однако в после-
дующие исторические эпохи отношение к нему было нео-
динаковым. Он то почитался материалом, родственным
нефриту, то, напротив, причислялся к дешевым поделоч-
ным материалам как «драгоценность простолюдинов».
В декоративно-прикладном искусстве традиционного Ки-
тая перламутр наиболее широко применялся в лаковом
производстве.
Тридахна (чэцюй) — раковины одной из разновидно-
стей морского моллюска (Meretrix meretrix), который во-
дился в прибрежных водах Китая. Они отличаются даже
болыпими белизной и блеском, чем сам перламутр, a пото-
му считались дорогим ювелирным материалом, который в
некоторые исторические эпохи использовался и для отдел-
ки ранговых украшений и регалий.
Кораллы (шаньху) стали известны китайцам тоже ори-
ентировочно при Чжоу, и уже тогда они понимали, что
имеют дело с веществом органического происхождения407.
В танскую и сунскую эпохи кораллы часто использовались
для отделки ювелирных изделий, о чем мы можем судить,
в частности, по указанным ранее предметам, орнаментиро-
ванным кораллом и бирюзой. Кроме того, целые коралло-
вые ветки служили принятыми интерьерными украшения-
ми. Хотя кораллы, включая их редкий сорт черного цвета,
росли в прибрежных водах самого Китая, основная их мас-
са импортировалась из Юго-Восточной Азии и эпизодиче-
ски — из других регионов, даже из Персии. В XVII в. под
влиянием японского искусства y китайских ювелиров про-
будился интерес к коралловой пластике, которая чаще всего
исполнялась на даосские и буддийские темы. Мастера освоили
резьбу по коралловым веткам, которым придавались скулыі-
турные формы, a также производили полноценные пласти-
ческие изображения, что требовало особо тщательного и кро-
потливого труда. Дело в том, что, будучи мягким материа-
лом (3,5-4 по шкале Мооса), легко поддающимся гравировке
и резьбе, коралл отличается ломкой структурой. В цинскую
эпоху из коралла также создавались различные предметы
декоративно-утилитарного предназначения: вазы, подстав-
ки для кистей, которые обычно богато орнаментировались
резным орнаментом, включая изображения цветов, напри-
мер, роз на вьющихся ветках. Одним из авторитетнейших
центров резьбы по кораллу были мастерские Шанхая, из-
делия которых пользовались большим спросом и в Европе.
Коралл по-прежнему широко используется в ювелирном
деле Китая, однако он может заменяться различными ими-
тациями, в качестве которых применяются костные мате-
риалы, розовый жемчуг, гипс и стекло, подвергнутые спе-
циальной обработке и окрашиванию.
406 Выращивание жемчуга
успешно практикуется и в со-
временном Китае. Более того,
во второй половине XX в. КНР
заняла лидирующие позиции
в экспорте пресноводного жем-
чуга, доведя его объем (дан-
ные еще на 1994 г.) до 300 тонн
в год, и цветного жемчуга
(15 тонн в год), который во-
шел в ювелирную моду конца
прошлого века.
407 В текстах конца перио-
да Борющихся царств говорит-
ся, что шаньху — это расте-
ния красного цвета, произра-
стающие в морских глубинах
или горах. Одновременно ус-
тановились семантические свя-
зи коралла с идеей обретения
бессмертия: его древовидные
экземпляры назывались в ки-
тайских верованиях волшеб-
ными деревьями с островов
Пэнлай.
777
Изделия из янтаря.
Фрагмент украшения.
Эпоха Tan
408 Считалось, что он спо-
собен предохранять от злых
сил и исцелять многие болез-
ни — сердечные недуги, ан-
гину и катаракту, останавли-
вать кровохарканье и прочее.
Украшения из янтаря, при-
чем обязательно вишневого
цвета, предписывалось носить
в качестве оберегов членам
aery стейшей фамилии.
409 Факт популярности ян-
таря в древнем декоративно-
прикладном искусстве полно-
стью подтвердился археологи-
ческими находками. Правда,
самые внушительные коллек-
ции янтарных изделий были
обнаружены не в собственно
китайских погребениях, a в
крайних южных и юго-восточ-
ных районах (на территории
провинций Гуанси и Гуандун).
Янтарь исходно считался в Китае предметом чудесного
происхождения, что и находит отражение в его названии —
«душа тигра» (хупо). По древнекитайским верованиям, он
возникает из меркнущего взора умирающего тигра, кото-
рый встретил смерть в потаенном месте. Поэтому не удиви-
тельно, что янтарь наделялся особыми охранительными и
целительными свойствами408. Хотя подобные представле-
ния о янтаре удерживались вплоть до сунской эпохи, еще в
III в. н. э. китайцы осознали подлинную природу янтаря
как сок дерева, ушедший, по их версии, в землю и преобра-
зившийся в камень за многие тысячи лет. A еще раныпе,
на рубеже нашей эры, они открыли и электромагнитные
свойства янтаря.
В качестве ювелирного материала янтарь стал исполь-
зоваться при Чжоу, привлекая местных мастеров не толь-
ко своими эстетическими достоинствами, но и податливо-
стью. Мягкий (2,5 по шкале Мооса), но не хрупкий, подобно
кораллу, a достаточно прочный и вязкий материал, он лег-
ко режется и полируется. По свидетельству письменных
источников, при Хань из янтаря исполнялись не только
отдельные украшения и их детали, но и крупногабаритные
изделия, например, изголовье, подаренное, по легенде, од-
ним из императоров своей возлюбленной409. В традицион-
ном декоративно-прикладном искусстве и ювелирном деле
янтарь использовался преимущественно для отделки укра-
шений и изготовления предметов, находящихся вне отде-
лов собственно ювелирных изделий: буддийских четок,
фишек для настольных игр.
Гагат — тоже ископаемое вещество органического про-
исхождения, о чем китайцы, судя по его оригинальному
терминологическому обозначению — «угольный нефрит»
(мэйюй) — догадались издревле. Правда, когда именно
он стал использоваться в местном декоративно-приклад-
ном искусстве, неизвестно. Сфера применения гагата тоже
оказалась весьма специфической и ограниченной. Из него
изготавливались преимущественно траурные украшения,
специальные зеркала, которыми пользовались родствен-
ники усопшего во время соблюдения траура. Исключение
составляют буддийские четки, которые нередко испол-
нялись именно из этого материала, и кусочки необрабо-
танного гагата, полагавшиеся носить детям в качестве
оберега.
Костные материалы начали использоваться в Китае,
как мы помним, в неолитическую эпоху, причем уже тог-
да, наряду с рогами и костями различных животных (в том
числе свиньи), употреблялась и слоновая кость. Косторез-
ное искусство активно продолжило свое существование и в
последующие исторические эпохи, достигнув своего технико-
художественного совершенства в период Борющихся царств.
В этот период были освоены сквозная, ажурная резьба,
техники росписей и инкрустаций по кости, с применением
бирюзы и золота. Главным древнекитайским центром по
изготовлению расписных и инкрустированных костяных
изделий были столичные мастерские царства Ци. Все эти
778
техники устойчиво применялись и в ювелирном деле тра-
диционного Китая с их дальнейшим усовершенствовани-
ем. Так, исполнение крашено-расписной кости производи-
лось несколькими способами. Орнамент либо вырезался по
окрашенной поверхности, и тогда он выглядит белым по
цветному фону, либо наносился цветными красками, с пре-
обладанием синего, зеленого и красно-малинового цвета,
по натуральному фону. Широко также практиковалось со-
единение в одном изделии неокрашенной, окрашенной
кости и других материалов410.
Слоновая кость позволяет производить предметы как
малого сечения (палочки для еды, заколки для волос, греб-
ни, кольца, браслеты и т. д.), так и более крупных разме-
ров и сложной конфигурации: статуэтки и пластические
композиции, к числу которых относятся знаменитые ки-
тайские «ажурные шары». Все эти изделия требовали спе-
циальных способов работы с костью. Ее обработка начина-
лась с распиливания болыиого клыка на отдельные части,
которое в старом китайском косторезном деле обязательно
производилось вручную, под струей воды — для предохра-
нения кости от тепла, возникающего при трении. После
этого распиленным кускам придается нужная форма. Вна-
чале кость опиливают начерно, потом режут отдельные
части будущей фигуры и, наконец, прорабатывают ее дета-
ли уже с помощью особых металлических (стальных) рез-
цов, напильников и игл. После окончания резьбы изделие
проходит тщательную и длительную (иногда в течение двух
суток) полировку. Первыми, с помощью распаренных в
горячей воде стеблей хвоща, полируются большие плоско-
сти. После этого производится дополнительная полировка
мягкой шелковистой поверхностью бамбукового ствола и
горячей водой. Заключительная операция — обработка из-
делия пудрой — придает ему блеск. В результате на резь-
бу и обработку только одного, простейшего по форме, из-
делия могло уходить до недели411. При Мин и Цин, в
дополнение к казенным пекинским мастерским, выдели-
лось несколько самостоятельных косторезных центров, ко-
торые были сосредоточены на юго-востоке страны. Один
из них располагался в Чжанчжоу (Фуцзянь). Он возник в
начале XVII в. и исходно специализировался на изготов-
лении предметов церемониально-ритуального предназна-
чения — табличек-хі/, письменных принадлежностей и
культовой пластики. Таблички-лсг/ (исходно — таблички для
записи повелений) — длинные, тонкие пластины, выпол-
ненные из костного материала, срезанного с бивня по всей
длине, являлись нормативным элементом чиновничьего офи-
циального костюма, которые полагалось держать в руках во
время церемоний государственного значения. Культовая
пластика вначале исполнялась по буддийским образцам.
Однако вскоре в этих мастерских был налажен выпуск хри-
стианской скульптуры, предназначавшейся в основном на
экспорт. Такие произведения до сих nop нередко встреча-
ются в странах и Юго-Восточной Азии и на предельном
удалении от Китая (например, в Мексике). Фуцзяньская
410 Например, коробочка из
коллекции Сёсоин. Выполнен-
ная из сандалового дерева, она
орнаментирована инкрустиро-
ванным геометрическим узо-
ром из сандала, самшита, гор-
ной хурмы, чистой и окрашен-
ной в зеленый цвет слоновой
кости. К танской эпохе отно-
сятся, кстати, и древнейшие
образцы китайской скулыггу-
ры из слоновой кости, в том
числе статуэтка танцовщицы,
орнаментированная полихром-
ной росписью.
411 Изготовление «ажур-
ных шаров» производится по
отдельной технологии. Рабо-
та начинается с того, что мас-
тер придает кости форму шара
и просверливает в ней кону-
сообразные углубления, рас-
полагающиеся по всей поверх-
ности шара и сходящиеся в
его глубине остриями в цент-
ре. Затем внутри получивших-
ся отверстий намечается ко-
личество будущих, вставлен-
ных один в другой шаров.
Они разделяются специаль-
ным стальным резцом, с по-
степенным переходом от ма-
леньких, внутренних, к боль-
шим. Сквозной ажурный узор
на каждом из шаров произво-
дится через те же конусооб-
разные углубления. В резуль-
тате получаются шары с тон-
чайшими, почти прозрачными
и словно сделанными из кру-
жева стенками.
779
Изделия из слоновой кости
a — поясная пряжка (период Бо-
рющихся царств, пров. Хубэй,
12 см); б — поясная пряжка
(II в. до н. э., расписная кость,
12,9 см); в — детали украшений
(Тан).
412 Несколько экземпляров
танских поясов тоже сохра-
нились в коллекции Сёсоин.
Примечательны цвет и фак-
тура их пластин: желтого цве-
та, с прожилками, что делает
их похожими на янтарь.
скульптура обычно расписывалась или покрывалась поли-
хромными лаками и, кроме того, инкрустировалась юве-
лирными материалами.
Второй косторезный центр составили мастерские Гуан-
чжоу, в которых вновь выпускались преимущественно экс-
портные изделия, предназначенные для Европы: в «китай-
ском стиле» — модели пагод, джонок, и вещи, типичные
для европейского быта, — табакерки, футляры для играль-
ных карт и визитных карточек, дамские веера, шкатулки
для рукоделия с приспособлениями для шитья, кружевно-
го плетения и вязания. Эти шкатулки, орнаментирован-
ные, как правило, сплошной резьбой, выполненной в тех-
нике высокого рельефа, имитирующей резьбу по нефриту и
резные лаки, пользовались наиболее массовым спросом в
Европе. Третий центр утвердился в окрестностях озера Тай-
ху, где до сих nop производятся всевозможные украшения,
сделанные в основном не из слоновой, a из обычной кости,
что и предопределило их невысокую стоимость.
В ювелирном деле традиционного Китая важную роль,
наряду со слоновой костью, играл и рог носорога, спрос
на который начиная с танской эпохи был весьма велик.
В то время носороги еще водились в окраинных южных
районах Китая (в пров. Хунань), и их рог было предписа-
но присылать ко двору в качестве дани. Но ее явно не
хватало, и рог носорога все время закупался в других
странах, в первую очередь в Юго-Восточной Азии, причем
в таких объемах, что они привели почти к полному исчез-
новению носорогов в этом регионе. Подобная популяр-
ность рога носорога объясняется еще и тем, что он считал-
ся целебным средством и эффективнейшим противояди-
ем. Его принимали в виде порошка либо сжигали и, смешав
золу с водой, изготовляли своеобразный напиток. Особым
признанием пользовались сделанные из него чаши, кото-
рые вначале (еще в дотанские времена) выдалбливались
из рога, a затем стали исполняться в виде чашечек типич-
ных для китайской столовой утвари форм. В собственно
ювелирном деле рог носорога почитался драгоценным ма-
териалом. Болыпе всего ценился рог с красивым узором и
зернистой фактурой, на котором после полировки появля-
лось очертание какого-либо существа или необычного пред-
мета. Рог носорога использовался для отделки и изготов-
ления как ранговых украшений и церемониальных пред-
метов, так и изделий каждодневного использования, но
считающихся предметами роскоши. К первым относятся
пояса, полагавшиеся высшим придворным чинам, с плас-
тинами из рога, и особого типа церемониальные жезлы,
которые целиком исполнялись из этого материала и орна-
ментировались резьбой, инкрустациями из благородных
металлов и слоновой кости412. Рог носорога продолжал
использоваться в китайском декоративно-прикладном ис-
кусстве и в дальнейшем, хотя, возможно, не столь актив-
но, как при Тан. Еще в ХѴП-ХѴШ вв. из него продолжа-
ли изготавливать неболыпие резные изделия, в том числе
и чаши для вина.
780
Широкое распространение в Китае получил и черепа-
ховый панцирь, относящийся к числу излюбленных ма-
териалов всего мирового ювелирного искусства. Начало
его применения относится ориентировочно к ханьской
эпохе, и затем он неизменно использовался в местном
ювелирном деле — как для отделки изделий (в том числе,
для лаковых инкрустаций), так и для изготовления само-
стоятельных предметов, преимущественно женских голов-
ных украшений (волосяных шпилек, гребней, подробно
см. далее).
Самым специфическим веществом органического про-
исхождения, который почитался подлинно драгоценным
ювелирным материалом, являются перья зимородка. Они
использовались для создания особых композиций, которые
выполнялись так: перья из грудного оперенья зимородка,
размером около 2x2 мм, наклеивались, с помощью рыбь-
его клея, на металлическую основу. Они подбирались по
цвету и компоновались таким образом, что получались ху-
дожественные композиции, воспроизводящие пышное пти-
чье оперение, картины облаков или расцветающих цветов,
выдержанные в интенсивной лазурно-синей и бирюзовой
гамме. Практика употребления перьев зимородка в каче-
стве художественного материала восходит предположитель-
но к ханьской эпохе (тканое покрытие внутреннего гроба
госпожи Дай, украшенное прикрепленными к нему перыш-
ками зимородка). И, возможно, изначально она имела строго
религиозный смысл. Способ создания перьевых компози-
ций был изобретен, скорее всего, уже при Тан, когда они и
стали применяться непосредственно в ювелирном деле.
Втанскую эпоху и впоследствии они служили деталями
различных категорий украшений.
И наконец, существенное значение в китайском деко-
ративно-прикладном искусстве приобрело стекло, которое
в течение длительного времени считалось, как и в других
древних странах, дорогим ювелирным материалом.
Происхождение и начальная стадия развития китай- СТЕКЛО
ского стекольного производства вплоть до недавнего време-
ни оставались предметами научных дискуссий ввиду все
той же смысловой неоднозначности оригинальных терми-
нов. В китайском языке существуют два термина — люли
и боли, в приложении к совершенно различным веществам
и материалам. Так, люли, являясь отдаленной транскрип-
цией санскритского названия берилла (vaidarya), употреб-
ляется в литературных произведениях для обозначения и
берилла, и ляпис-лазури, и специфической разновидности
нефрита — камней, сочетавших в себе матовую поверх-
ность с узорными прожилками. Под боли могут иметься в
виду биотит, горный хрусталь и прозрачный нефрит. По-
этому воспроизвести историю возникновения в Китае стек-
ла стало возможным только благодаря новейшим археоло-
гическим находкам.
Выяснилось, что стекло стало производиться в Китае при-
мерно в середине периода Борющихся царств под влиянием
Стеклянные изделия
a — бусины периода Борющихся
царств (пров. Хэнань); б — ча-
шечка из стекла-0оли (высота
7 см, диаметр устья 9,1 см, Се-
верное Вэй).
413 Наиболее показательны-
ми артефактами по-прежнему
остаются изделия, сохранив-
шиеся в коллекции Сёсоин.
Это, например, кувшин из зе-
леновато-желтого стекла, снаб-
женный изогнутой ручкой и
носиком в форме птичьего
клюва, т. е. выполненный в
сасанидском стиле и стилизо-
ван под «трехцветную полив-
ную керамику». Пиаловидная
чаша из зеленого стекла в виде
12-лепесткового цветка, кон-
туры которого плавно перехо-
дят на тулове в грани-велю-
ры, повторяя форму и орна-
ментацию ранних фарфоровых
сосудов или селадонов. Мел-
кое коричневое блюдо на нож-
ке и, словно в комплекте к
нему, четырехдольчатая кра-
сно-коричневая чаша на под-
доне, украшенном рельефным
растительным орнаментом и во-
лютами, тоже несущая на себе
отблеск сасанидского стиля.
Отдельного упоминания заслу-
живают комплект браслетов из
зеленовато-белого стекла, пе-
рекликающегося с нефритом,
и браслет яркого янтарного цве-
та с красновато-коричневыми
прожилками, выполненный в
виде обращенных друг к другу
голов драконов.
привозных изделий — стеклянных бус ближневосточного
происхождения. В скором времени китайские мастера ов-
ладели секретом изготовления свинцового стекла, которое
и стало называться люли. Оно представляло собой полу-
прозрачную или слабо проницаемую для света массу, род-
ственную по химическому составу и технологии изготовле-
ния керамической глазури и окрашиваемую в различные
цвета путем добавления в нее различных силикатов. Из
стекла-люлы изготавливались вставки для бронзовых укра-
шений и самостоятельные изделия. Сейчас известно уже
внушительное число таких артефактов: поясные пряжки и
подвески со стеклянными вставками, обычно имитирующи-
ми нефрит (например, пряжка из позолоченной бронзы, дли-
ной 26,7 см с несколькими вставками в виде дисков-бы),
чарды для мечей. Самостоятельные стеклянные изделия пред-
ставлены в первую очередь бусами различных цветов и с
красивыми прожилками, дисками-бы и табличками, кра-
шенными рельефными таотэ. Стекло-люли продолжало
изготавливаться и применяться в китайском ювелирном
деле и в последующие исторические эпохи. Немало выпол-
ненных из него или отделанных им изделий дошло от тан-
ской эпохи: волосяные украшения, браслеты, декоратив-
ные пластины — все выполнены в технике литья.
Термин же боли, как оказалось, скрывает под собой
прозрачное натриевое стекло, которое попало в Китай, как
это и утверждается в письменных источниках, при Хань
по маршруту Великого шелкового пути. Собственное про-
изводство натриевого стекла было налажено в Китае пред-
положительно в эпоху Шести династий в Северном Вэй, в
погребениях которого и найдены древнейшие, сделанные
из него изделия, — миниатюрные сосуды (высотой от 4 до
7 см) из стекла зелено-голубого цвета с пурпурными, жел-
тыми и красными вкраплениями и орнаментированные по
внешней поверхности рельефным узором, состоящим из
переплетенных полос.
В конце VI в. производство натриевого стекла вступило
в качественно новую фазу своего развития, которая продол-
жилась и при Тан. От времени правления династии Суй
тоже до нас дошла серия сосудов, явно копирующих моно-
хромную керамику из стекла зеленого и голубого цветов.
При Тан производились уже различные категории стеклян-
ной пиршественной утвари, которые дополнились украше-
ниями413. Несмотря на то что местное стекольное производ-
ство, несомненно, достигло высокого технико-художествен-
ного уровня, оно продолжало оставаться в тени привозных
изделий, которые массово доставлялись из Ферганы («боли
цвета индиго»), Тохаристана («розовое и синее боли») и
Рима («красное и зеленое боли»),
К сунской эпохи пик увлечения китайцами цветным
стеклом пошел на спад. При Юань и Мин из него исполня-
лась преимущественно буддийская культовая утварь, хотя
сама по себе технология стекольного производства продол-
жала неуклонно совершенствоваться. В минскую эпоху
производились сосуды, орнаментированные гравировкой,
782
резьбой, литыми деталями, и из раскрашенного (камейно-
го) стекла. Примечательно, что почти все они выполнены
по образцам керамических, бронзовых, нефритовых и ла-
ковых изделий в технике литья, a не выдувного стекла,
которая эпизодически, но все же применялась в танскую
эпоху. Исключительно литое стекло продолжало произво-
диться и в начале Цин, но с явным сужением репертуара
изделий, в основном, вазочки и флаконы. Ситуация не-
сколько изменилась с учреждением (1696 г.) казенных сте-
кольных мастерских, быстро освоивших технологию про-
изводства венецианского цветного стекла, которое завезли
в Китай миссионеры, — оно произвело большое впечатле-
ние на двор. В ХѴШ-ХІХ вв. стекло окончательно превра-
тилось в расхожий материал, из которого массово произво-
дилась бижутерия и повседневная продукция, уже не имев-
шая никакого художественного значения: зеркала, оконные
и ламповые стекла.
Итак, мы видим, что китайское ювелирное дело обла-
дало богатейшим набором ювелирных материалов и мно-
жеством техник, что не могло не сказаться на разнообра-
зии ювелирных изделий.
Принятая в Китае классификация украшений полно-
стью подчиняется общему этикетному уложению и строит-
ся исходя из функциональной, возрастной и гендерной при-
надлежности изделий. Наиболее четко разработанный и
полный вариант был принят и законодательно оформлен
при Цин в виде уложения «Образцы предметов ритуальной
утвари царствующей династии» («Хуанчао лици тунши»),
обнародованного в 1766 г. Вопреки его названию, в нем
содержатся регламентации, касающиеся не только непо-
средственно предметов ритуально-церемониального пред-
назначения, но и всех видов и типов ювелирных изделий,
которые строго подразделяются здесь на две главные функ-
циональные группы: ранговые и празднично-повседневные
украшения. Под ранговыми украшениями имеются в виду
изделия, входившие в систему торжественно-парадного (чао-
фу) и полуофициального (цзифу) костюма, которая, на-
помним, распространялась на всю элиту тогдашнего ки-
тайского общества: императора, императрицу, наследника
престола, принцев и принцесс крови и их супругов, чинов-
ников высших рангов и их жен. Вторую функциональную
группу составили украшения, которые можно носить при
дворе (но уже по усмотрению их владельцев), в празднич-
ной обстановке и в обычное время. Надо сказать, что по-
добная классификация украшений не являлась, разумеет-
ся, изобретением цинских властей. Обе данные функцио-
нальные группы всегда существовали в китайском костюме,
причем постоянно происходило взаимосмешение. Некогда
официальные ранговые украшения могли утрачивать свою
нормативность и превращаться в празднично-повседнев-
ные, a исходно празднично-повседневные украшения —
приобретать ранговую и парадно-церемониальную функцию.
ОСНОВНЫЕ
КАТЕГОРИИ
ИЗДЕЛИЙ
783
Поэтому при анализе ранговых украшений и регалий мы
будем опираться уже на их комплект в системе цинского
костюма и на те виды и категории изделий, которые неизмен-
но сохраняли свое специфическое предназначение.
В каждой из названных функциональных групп выде-
ляются мужские и женские украшения, которые в предше-
ствующие эпохи тоже не имели четкой границы между
собой и нередко трансформировались одно в другое. В ряде
случаев (особенно для Древнего Китая) определить гендер-
ную принадлежность украшений чрезвычайно сложно, и
поэтому мы будем рассматривать их исходя из их место-
положения в ювелирном ансамбле (волосяные, шейные,
нагрудные украшения и т. д.). Самостоятельную группу,
согласно цинскому уложению, составляют детские укра-
шения, среди которых, действительно, присутствовали спе-
цифические их категории.
Вопреки изложенной классификации мы начнем рас-
смотрение китайских ювелирных изделий не с ранговых и
мужских украшений, a с женских — ввиду того, что их
ансамбль является самым богатым и наиболее представи-
тельным для ювелирного дела.
ПРАЗДНИЧНО- Ансамбль китайских женских украшений, о чем не-
ПОВСЕДНЕВНЫЕ оспоримо свидетельствуют археологические данные, начал
УКРАШЕНИЯ складываться еще в неолитическую эпоху, и первое место в
нем исходно занимали головные и волосяные украшения.
Их приоритет удерживался и в дальнейшем, что объясня-
ется отсутствием, вплоть до цинской эпохи, в китайском
женском костюме обязательного головного убора. Поэтому
все репрезентативные, знаковые и эстетические функции
возлагались на прическу и соответствующие украшения.
Судя по обилию, размерам (10 см и более) и конструктив-
ным особенностям шпилек для волос, парикмахерское дело
тоже зародилось в Китае в неолитическую эпоху и со вре-
менем превратилось в настоящее искусство. Известно, что
уже в древности женские прически представляли собой
объемные парикмахерские конструкции, состоящие не толь-
ко из живых волос, но и из шиньонов и различных вспомо-
гательных элементов, наподобие валиков. Волосы чаще всего
зачесывались назад и собирались в пучки, которые, соглас-
но господствовавшей в разные исторические периоды моде,
крепились то на темени, то на затылке, порой перерастая в
высокие, горизонтально ориентированные волосяные коп-
ны. В одной прическе могли сочетаться и несколько пере-
ходящих друг в друга пучков. Реже волосы заплетались в
косы, которые, как показывают фигуры воинов из погре-
бального эскорта Цинь-ши-хуан-ди, были, скорее, прерога-
тивой мужской прически. Отдельно формировались височ-
ные пряди, которые укладывались чаще всего в букли. Лоб
обычно оставался открытым: челки присутствуют лишь в
нескольких исторических и возрастных вариантах приче-
сок, состоя из мелких косичек или чаще редких прямых
прядей, доходящих до середины лба. Китайскому парик-
махерскому искусству были знакомы и парики, которые
784
делались из шерсти животных, морскои травы, шелковых
шнуров, нитей и лент и причесывались и украшались так
ясе, как и естественные волосы. Для придачи волосам уп-
ругости и клейкости, необходимых для моделирования па-
рикмахерских конструкций, они пропитывались маслами,
эссенциями, смазывались лаком и воском. Кроме того, го-
товую прическу (или парик) нередко обильно посыпали
цветной пудрой. Понятно, что столь сложные прически
требовали использования многочисленных крепежных
средств, которые одновременно были и волосяными и го-
ловными украшениями.
В собственно китайском ювелирном деле и в теории
костюма женские волосяные и головные украшения под-
разделяются на три основные группы: вставные, навесные
и накладные.
Под вставными украшениями подразумеваются изде-
лия, которые вставляются в прическу, a именно: шпильки,
волосяные булавки и гребни.
Имеется два конструктивных типа китайских шпилек —
цзань и чай. Первый из них снабжен одним стержнем,
второй представляет собой Ѵ-образную шпильку.
Шиилъки-цзанъ — стадиально первый конструктив-
ный тип. Такие шпильки массово присутствуют в археоло-
гических находках всех без исключения неолитических куль-
тур, где они изготавливались из керамики (в культурах ян-
шаоского круга), кости и нефрита (преимущественно в
северо-восточных, восточных, юго-восточных и южных
культурах). Показательно, что все региональные вариан-
ты неолитических шпилек демонстрируют конструктив-
ную и орнаментальную близость. В основном они пред-
ставляют собой сильно вытянутый конусовидный стер-
жень длиной от 6 до 16 см, поверхность которого имеет,
как правило, несколько орнаментальных сегментов. Встре-
чаются еще два их конструктивно-орнаментальных под-
типа: со стержнем веретенообразной конфигурации, кото-
рый, кстати, сохранился в отдельных категориях встав-
ных украшений еще в XX в., и с навершием в форме
гвоздевой шляпки. Кроме того, как это видно по лян-
чжуским нефритам, в неолитическую эпоху проявился и
окончательный конструктивный вариант цзань — с само-
стоятельно художественно оформленным навершием. Этот
вариант утвердился в иньскую эпоху, о чем свидетель-
ствуют шпильки из погребения Фу-хао. Всего там находи-
лось 527 шпилек, 490 из которых были выполнены из
нефрита, a остальные — из слоновой кости. Все они име-
ют декоративное навершие, нередко в виде пластических
зооморфно-фантазийных изображений, повторяющих со-
бой орнаментальные мотивы современных им бронзовых
изделий. Ориентировочно при Хань в практику вошли
два относительно новых конструктивно-декоративных под-
типа цзань, которые сохранились и в дальнейшем: с на-
вершием, оформленным в виде пластических компози-
ций и состоящим из нескольких отдельных головок, сде-
ланных из жемчуга или каменных бусин.
ЬО Истормя искусства Китая
Китаиские женские
прически. Co стенописей
Могао. Эпоха Тан.
Ш пилькии.зав.ь
a — неолитические, кость; б
серебро, 20,5 см (эпоха Сун); в
золото, каменья (эпоха Мин).
785
Комплект шпилек-цзаяъ.
Эпоха Мин.
€
Шпилъка-чай. Эпоха Тан.
Серебро, 8 см
Прическа с комплектом
«цветочных шпилек».
Co стенописей Могао.
Эпоха Тан
414 Когда точно появилась
эта категория волосяных ук-
рашений, сказать трудно, но
ее образцы присутствуют в
погребальном инвентаре эпо-
хи Шести династий, испол-
ненные, как и шпильки-ѵай,
исключительно из благород-
ных металлов.
Шпилька-чай тоже появилась, видимо, при Хань, веро-
ятно, под воздействием южно-азиатских этнографических
и художественных традиций, о чем свидетельствует на-
чальный ареал их распространения — на Юге страны (Ху-
нань). На первых порах они не имели отдельного декора,
но исполнялись исключительно, судя по имеющимся арте-
фактам, из благородных металлов, т. е. входили в ансамбль
женских украшений знати. С конца VI в. они вошли в
набор женских ранговых украшений. В письменных ис-
точниках сообщается, что их число в прическе должно
было строго соответствовать рангу придворной дамы. Те-
перь они исполнялись не только из благородных металлов,
но и из нефрита, коралла, горного хрусталя, янтаря и стек-
ла, и подлежали художественному оформлению. Либо де-
корировалась верхняя часть обоих стерженьков, и они пре-
вращались в подобие навершия, либо они снабжались при-
крепляемым к ним отдельным навершием. Исходя из
конструкции, материала и художественных особенностей
таких наверший, шпильки-чай обычно подразделяются (что
справедливо не только для Тан, но и для последующих
исторических эпох) на «шпильки [с перьями] зимородка»
(цуйчай) и «цветочные шпильки» (хуачай). Первые из них,
как это явствует из названия, имеют навершие, составлен-
ное из перьевых аппликаций. В орнаментации «цветочных
шпилек» преобладают растительные мотивы, однако в них
могли использоваться и все свойственные китайской об-
разной системе «женские» зооморфные сюжеты и персона-
жи: фениксы, павлины, уточки, ласточки, бабочки, цика-
ды и т. д. Оба типа шпилек обычно использовались в виде
комплектов, позволяющих создавать на прическе орнамен-
тальные композиции.
Головные булавки (шоуши) наиболее отчетливо прояв-
ляют себя уже в цинскую эпоху. Однако их история тоже
восходит к древности, a их непосредственным прототипом
являются так называемые уховертки-эрва, комбинация
из шпильки-цзань с длинным заостренным штырем и ми-
ниатюрной ложечки для чистки ушей, которой и закан-
чивался стержень414. Цинские головные булавки обычно
тоже имеют длинный заостренный стержень и уховертку,
замаскированную художественно оформленным наверши-
ем. Их общая длина может достигать 35 см. Они исполня-
лись из различных ювелирных материалов и порой не мо-
гут не изумлять богатством и изысканностью своего деко-
ра. Так, есть образцы с навершием, воспроизводящие целые
сюжетные сцены: обезьянка держит в лапах цветок; прон-
зенный стрелой олень, обернувшись назад, пытается вы-
дернуть ее; попугай с кружащимися над ним бабочками.
Наиболее распространенным орнаментальным вариантом
являются булавки с навершием в виде букета из веточек
цветущей сливы или хризантем, которые заменяли собой
волосяные украшения из живых цветов, или в виде изо-
бражений бабочек. В любом случае они могли дополни-
тельно украшаться аппликациями из перьев зимородка,
подвесными деталями и обычно составляли комплект, по-
786
зволявший компоновать в прическе подобие диадем или
головных уборов. Широкое хождение имели также парные
булавки, с помощью которых создавались симметричные
или, наоборот, намеренно асимметричные композиции. По-
добно шпилькам-чай, головные булавки наделялись ранго-
вой функцией и, кроме того, служили общепринятыми
дарами-пожалованиями императора придворным дамам и
свадебными подарками.
Гребни (шу) тоже возникли в неолитическую эпоху и
уже тогда исполнялись из кости. Известно несколько эк-
земпляров таких гребней (высотой до 9 см), принадлежа-
щих юго-восточным культурам. Следующую серию арте-
фактов составляют три нефритовых гребня Фу-хао. Все они
имеют богато орнаментированную рельефным узором по-
верхность и, самое главное, художественно оформленное
навершие. Особенно выделяется гребень (высота 10,4 см),
навершие которого выполнено в виде профильных изобра-
жений двух птиц повернутых друг к другу головами. На-
личие подобных орнаментальных частей указывает на то,
что уже в то время гребни не только использовались для
ухода за волосами, но и служили волосяным украшением.
В чжоускую и ханьскую эпохи гребни делались преимуще-
ственно из дерева и бамбука с лаковым покрытием и реже —
из нефрита и кости. Начиная с Суй установилась практика
их исполнения из благородных металлов либо обкладки
золотым или серебряным листом.
В формах китайских гребней широко варьируются пря-
моугольные, округлые и трапециевидные геометрические
фигуры. В зависимости от их местоположения в прическе
гребни подразделяются на три типа: затылочные, налоб-
ные (втыкающиеся в прическу спереди, прямо надо лбом)
и ушные (над ушами), последние могут быть одиночными
и парными. Кроме того, они распадаются на два кон-
структивных подтипа — одинарные и двойные, исходя из
характера расположения зубьев. Двойные гребни состоят
из половинок, имеющих зубья различных размеров и ча-
стоты, что позволяло их использовать как в вертикаль-
ном, так и в горизонтальном положении. В одинарных
гребнях частота зубьев зависела от их конкретного назна-
чения: для зажима отдельных прядей (локонов), волося-
ных пучков или концов шиньона. Число гребней в одной
прическе не ограничивалось, и они тоже могли использо-
ваться в комплектах, создающих определенную художе-
ственную композицию или подобие целостного головного
украшения.
Навесные украшения, буяо — «раскачивающиеся при
ходьбе», являются наиболее специфическим видом китай-
ских украшений и, кроме того, вопреки общности их
терминологического обозначения, представляют серию фак-
тически самостоятельных категорий изделий. Первую со-
ставляют подвески, выполненные из нефритового или жем-
чужного низанья, которые тем или иным способом при-
креплялись к прическе. Такие буяо появились, согласно
письменным источникам, при Хань. Впоследствии они
Лючаоские золотые буяо
a — 14,5 cm; б — 18,4 см.
415 При Цин они обычно
исполнялись в виде разверну-
тых композиций на тему «цве-
ты и бабочки» (цветущие вет-
ки, букеты цветов и т. д.),
надевали преимущественно в
домашней обстановке.
превратились в самые разные по материалу и художествен-
ному оформлению подвески, которые могли прикреплять-
ся к любым другим вставным и накладным украшениям, a
позже — и к головным уборам. При Сун стандартным
стало сочетание буяо со шпилькой-чай. Прикрепляемые к
навершию шпильки посредством пружинок, они обычно
делались из золотой филиграни со вставками в виде мно-
гоярусных композиций. Кроме того, в конструкцию буяо
нередко включались звучащие детали (колокольчики, бу-
бенцы) и ароматницы — полые детали, в которые поме-
щались ароматические вещества.
Абсолютно самостоятельной категорией буяо являются
головные, по сути дела, украшения, которые были в ходу
только в эпоху Шести династий. Они представляют собой
металлические (из золота) изделия, состоящие из верти-
кально расположенной несущей части, которая укрепля-
лась на прическе, и декоративной части в виде ветвей с
листьями или бутонами цветов. Сделанные из тонкого ли-
ста, листья и цветы раскачивались при ходьбе и, касаясь
друг друга, мелодично позвякивали. Такие буяо обязатель-
но составляли парный комплект и, размещаясь симмет-
рично над лбом или над височными прядями, образовыва-
ли подобие ветвистых рогов оленя. He исключено, что они
были заимствованы из костюма северо-восточных народно-
стей (находки буяо в погребениях на территории провин-
ции Ляонин), и затем, судя по археологическим материа-
лам, имели хождение как на Севере, так и на Юге.
Накладные украшения составляют тоже два совершен-
но различных, в сущности, вида изделий, одни из кото-
рых, действительно, накладывались на прическу, прикреп-
ляясь к ней прядями волос, тогда как другие надевались
на голову.
К первым из них относятся броши-дянь и бляшки-шэ«.
Волосяные броши появились, по свидетельству письмен-
ных источников, при Хань и исходно представляли собой
искусственные цветы, выполненные из благородных ме-
таллов или других ювелирных материалов. Как именно
они прикреплялйсь к прическе, в текстах не уточняется.
Впоследствии дянь вновь разделились на несколько само-
стоятельных конструктивно-художественных видов. Это,
во-первых, «цветочные украшения» (хуаши), которые по-
прежнему делались в виде цветов и прикреплялись к при-
ческе только с помощью прядей волос. Количество и раз-
мещение таких дянь могли быть самыми разными: над
лбом, сбоку, по всему периметру прически. При Тан они
тоже входили в ансамбль ранговых украшений: императ-
рице полагалось иметь в прическе ровно 9 дянъ. «Цветоч-
ные украшения», несмотря на обилие прочих волосяных
украшений, благеполучно просуществовали до самого кон-
ца имперского Китая415.
Вторая разновидность волосяных брошей — баодянь —
представляет собой специфическое украшение, состоящее
из металлических цветов, перьев, подвесок и тому подоб-
ных деталей, которое помещалось на самом верху прически.
788
Хотя литературные источники возводят эту разновидность
к ханьской эпохе (дянъ в виде фигурок птиц, которые в
отличие от «цветочных брошей» возвышались над причес-
кой), отчетливее всего они обнаруживаются в танском при-
дворном женском костюме. Именно с таким украшением
изображаются придворные дамы на картинах танских жи-
вописцев.
Третья разновидность дянъ — броши со штырем, кото-
рый втыкался в прическу, но таким образом, что сама дянь
как бы находилась на ее поверхности.
Бляшки-шэн являются прямым конструктивным ана-
логом накладных волосяных брошей, с той только разни-
цей, что они имели меньшие размеры и значительно более
простую композицию и художественное оформление, чаще
всего сводясь к выполненным из благородных металлов
геометрическим фигурам, благопожелательным графиче-
ским символам или предельно стилизованным изображе-
ниям «пылающей жемчужины», цветов и деревьев.
Второй из указанных видов накладных украшений имеет
целую серию категорий изделий, большая часть которых
определяется в оригинальной терминологии как гуань —
«головной убор» или «корона» в женских головных укра-
шениях.
В эту серию входят, во-первых, диадемы или, точнее,
диадемовидные головные украшения, которые появились
при Тан, явно став заимствованием из индо-буддийской ико-
нографии («короны бодхисаттв»)416. Однако они не получи-
ли распространения в Китае и, если и проявляются в после-
дующем женском костюме, то крайне эпизодически.
Следующими тремя конструктивными видами гуань
выступают «золотая корона» (цзинъгуанъ), «большая коро-
на» (дагуань) и «цветочная корона» (хуагуань).
«Золотая корона», называемая также «шапочка-пам-
пушка» (туанъгуанъ), представляет собой подобие накос-
ницы — цельнометаллическая конструкция в форме вытя-
нутого овала, напоминающая по устройству раковину с
разжатыми створками, через которую пропускались воло-
сы, заплетенные в косу или связанные в пучок. «Золотая
корона» могла располагаться на затылке, перпендикуляр-
но или горизонтально по отношению к шее, либо ставиться
на голову, возвышаясь над ней на манер головного убора.
Возникнув, возможно, еще при Хань, она получила наи-
болыпую популярность в северосунскую эпоху.
«Болыпая корона» имеет несколько видов, которые
совмещают в себе признаки украшения и собственно го-
ловного убора и тоже были присущи главным образом
сунскому женскому костюму. Одна из них, в том виде, в
каком эти изделия запечатлены в портретах дам из стено-
писей Могао, — это целые конструкции из металличе-
ских полусферических полос, укрепленных нижними кон-
цами на головном обруче и верхними — сходящимися в
центре. Другая представляла собой подобие тиары, сде-
ланной, видимо, из благородных металлов (или ткани, на-
тянутой на каркас), поверхность которой сплошь выложена
«Золотая корона»
(накосница) и способы
ее ношения
416 Древнейшим образцом
китайской диадемы-гі/а«ь счи-
тается украшение из коллек-
ции Сёсоин, выполненное в
виде золотого венца, который
образован параллельными тя-
жами, дополненное изображе-
ниями веток с листвой, птиц
и бабочек.
789
Разновидности сунской
«болыиой короны».
С живописного
произведения
Оформление женской
прически в конце Тан.
Co стенописей Могао
Оформление женской
прически в эпоху Сун.
Co стенописей Могао
каменьями и жемчугами в филигранной оправе. С таким
головным украшением показана императрица Цао (супру-
га северосунского императора Жэнь-цзуна) на ее парадном
портрете. Третья разновидность «болыной короны» оказы-
вается конструкцией горшкообразного вида, тоже, возмож-
но, целиком выполненной из металла и дополненной раз-
личными фигурными деталями, включая конусообразные
витые выступы, которые располагались по разные стороны
от нее, в том числе прямо над лбом, наподобие рога. 06
этой разновидности головных украшений также известно
только по живописным произведениям.
Существование «цветочной короны», напротив, полно-
стью подтверждается и археологическими находками. Две
такие короны, которые, видимо, были венцами императ-
риц, дошли до нас с конца танской и начала сунской эпо-
хи. Первая представляет собой сложную многофигурную
композицию, смонтированную на тонком железном карка-
се, покрытом золотой проволокой. Композицию составля-
ют изображения цветов, птиц и бабочек, вырезанные из
листового золота, отделанного чеканкой, которые переме-
жаются оправленными в золотую филигрань вставками из
жемчуга, кошачьего глаза и рубиновых кабошонов. Спере-
ди к ободу прикреплены 5 фигурок фениксов, тоже из листо-
вого металла, и с хвостами, выполненными в технике фи-
лиграни. Из их клювов свисают жемчужные подвески.
Вторая корона имеет золотой каркас, инкрустированный
жемчугом и каменьями, к которому прикреплены золотые,
из прочеканенного листа с филигранными деталями, фигу-
ры драконов, фениксов, бабочек посреди цветов, дополнен-
ные аппликациями из перьев зимородка.
Итак, китайское ювелирное дело все настойчивее стре-
милось к созданию такого женского головного украшения,
которое уподоблялось бы головному убору, соединив все
остальные волосяные украшения. Потребность в таком из-
делии была обусловлена еще и тем, что в сунскую эпоху
декоративная насыщенность прически превзошла все мыс-
лимые пределы. Моделируемая в форме объемной копны,
высоко возвышавшейся над головой, прическа теперь в
полном смысле слова сплошь покрывалась накладными ук-
рашениями, a в височные букли втыкались горизонтально
расположенные шпильки с многоярусными подвесками —
буяо. Переход к искомому головному украшению был так-
ясе во многом стимулирован монгольским женским костю-
мом. Знатные монголки носили высокие, столбовидные го-
ловные уборы, выполненные из кожи и ткани и обтянутые
по периметру мехом, поверхность которых расшивалась
жемчугом, каменными бусинами и украшалась ювелирны-
ми изделиями. Их дополнял ансамбль из височных, налоб-
ных и затылочных подвесок.
Результатом всех этих ювелирных поисков и чужезем-
ных этнохудожественных влияний и стала знаменитая «фе-
никсовая корона» (фэнгуань), вошедшая в употребление
при Мин и исполнявшая функции венца императрицы,
рангового и праздничного женского украшения, которое
долыпе всего продержалось в свадебном и театральном ко-
стюме. Кроме того, такие короны 'являются, напомним,
характерным иконографическим атрибутом женских бо-
жественных персонажей. «Фениксовая корона» состоит из
тульи, выложенной оправленными в золото жемчугами и
каменьями и золотыми розетками, — она служит несущей
частью главной декоративной композиции. Подобно «цве-
точным коронам», она составлена из металлических эле-
ментов и перьев зимородка, дополненных подвесками-
низаньями. Известно несколько подлинных артефактов,
наиболее уникальными из них выступают короны, кото-
рые были найдены в совместной усыпальнице и принадле-
жали двум женам минского Шэнь-цзуна. Обе они богато
выложены рубиновыми кабошонами и другими каменья-
ми, оправленными в золотую филигрань и жемчуг. Корона
императрицы украшена размещенными вверху и по бокам
фигурами драконов из листового золота, к пасти которых
прикреплены длинные, свисающие почти до плеч подвес-
ки, составленные из нескольких жемчужных нитей, скреп-
ленных в нескольких местах золотыми фигурными пла-
стинами в узорном жемчужном обрамлении.
Кроме «фениксовой короны», в минскую эпоху получи-
ли распространение и другие категории головных украше-
ний: «волосяной колпачок» (дицзи), «головной обруч» (шо-
угу), «волосяной обод» (вэйцзи) и два типа головных повя-
зок — лэйцзы и эрцзы.
«Волосяной колпачок» — маленькая шапочка из фи-
лигранного плетения, которая надевалась на собранные в
пучок волосы и тоже нередко дополнялась вспомогатель-
ными орнаментальными деталями и элементами — изоб-
ражениями цветов, бабочек и подвесками-бг/яо.
«Головной обруч» — металлическая пластина, охватываю-
щая голову, которая могла носиться сама по себе либо до-
полняться еще одним специфическим вставным волосяным
украшением — пластинами-«сердечками» (фэнъсинъ). Вы-
полненные обычно из благородных металлов (золота, позоло-
ченного серебра), такие пластины богато орнаментировались
Монгольский женский
головной убор
«Волосяной колпачок»
791
«Головной обруч»
Пластина-«сердечко»
(позолоченное серебро
с нефритовой вставкой
в центре)
Комплект «головного
обруча» с «волосяным
колпачком», шпилькой
и пластиной-«сердечком»
Î — вид спереди, 2 — вид сзади.
«Волосяной обод»
рельефными или гравированными художественными ком-
позициями, нередко перерастающими в сюжетные сцены,
преимущественно на буддийские темы, и вставлялись в
прическу с помощью загнутых концов либо штырей. Са-
мый полный ансамбль головных украшений включал в
себя «головной обруч», «волосяной колпачок», спереди
которого, прямо над лбом, помещалась пластина-«сердеч-
ко», a сверху в центр прически втыкалась шпилька с орна-
ментальным навершием. Данный комплект тоже оказыва-
ется, по сути дела, аналогом головного убора.
«Волосяной обод» был изобретен еще при Северной Сун
и затем использовался в женском костюме и при Южной
Сун, и при Юань. Он представляет собой подвижную кон-
струкцию, составленную из металлических элементов, ка-
меньев и жемчужного низанья, очень похожую по компо-
зиции на ожерелье. Оба названных типа головных повязок
пришли в китайский женский костюм из костюма тунгусо-
маньчжурских народностей. Лэйцзы — повязка, один раз
охватывающая голову и имеющая застежку в тыльной ча-
сти. Эрцзы — кожаная или шелковая лента, которая обма-
тывалась вокруг головы несколько раз. Обе они отделыва-
лись накладками из благородных металлов, каменьев и
жемчужными вышивками.
Цинская эпоха дает нам новые виды головных уборов и
украшений. В маньчжурский женский костюм тоже вхо-
дили головные уборы, выполненные из ткани и орнаменти-
рованные ювелирными изделиями. Взаимодействие мань-
чжурской и китайской этнохудожественных традиций при-
вело к возникновению иі8иіочки-дянъцзы> являющей собой
комбинацию собственно шапочки с декоративными юве-
лирными элементами. Такие шапочки входили в комплект
парадно-торжественного женского одеяния. В обыденной
обстановке маньчжурки предпочитали пользоваться китай-
скими волосяными и головными украшениями, в первую
очередь шпильками, булавками и гребнями.
Важным дополнением волосяных и головных украше-
ний выступают ушные и нагрудные. Главной особенностью
древних китайских ушных украшений является их исполь-
зование без прокалывания ушей. Обычай прокалывать уши
и носить серьги вошел в обиход только в эпоху Шести
династий под непосредственным влиянием индо-буддий-
ских этнографических и художественных реалий. Тогда
792
как в древние эпохи, начиная по меньшей мере с Шан-
Инь, в качестве ушных украшений употреблялись проре-
занные посередине нефритовые кольца, которые так и на-
зываются «ушное кольцо» (эрхуанъ). Они вставлялись в
ушную раковину или прикреплялись к мочке уха. Прибли-
зительно в период Борющихся царств они дополнились
специальными съемными подвесками — «ушные подвес-
ки» (эрчжуй). Ушные подвески могли быть достаточно круп-
ных размеров и исполняться из различных ювелирных
материалов. Такова, например, подвеска, найденная в од-
ном из шаньдунских погребений (из комплекса Шанван-
цунь). Она выполнена из золота и отделана малахитовыми
вставками и бусинами и достигает в длину 7 см. Начиная с
Тан китайские женские ушные украшения представлены
уже исключительно серьгами, хотя за ними сохранился
древний термин «ушные кольца». В минскую эпоху про-
изошло возрождение съемных ушных подвесок. В случае
использования обычных серег они могли помещаться по
несколько штук в мочку одного уха.
Китайские нагрудные украшения включают в себя в
целом универсальные для мирового ювелирного дела кате-
гории изделий: кулоны, бусы и ожерелья. В качестве куло-
нов правомерно рассматривать единичные подвески, кото-
рые во множестве присутствуют среди археологических ма-
териалов неолитической и древней эпох. Скорее всего,
изначально они служили амулетами и оберегами. Древней-
шие образцы бус и ожерелий вновь относятся к эпохе нео-
лита, причем они были в ходу в различных региональных
культурах. Для Яншао (Баньпо) известны бусы и ожерелья
в наиболее примитивной их форме: составленные соответ-
ственно из плотно нанизанных на тонкую жилу галек и из
раковин и костных фрагментов. В северо-восточных, вос-
точных и юго-восточных культурах, судя по археологиче-
ским находкам, исполнялись нефритовые и бирюзовые бусы.
Правда, неизвестно, служили они женскими или мужски-
ми украшениями либо имели универсальный характер.
И наконец, подлинными по всем показателям ювелирными
изделиями являются лянчжуские ожерелья, которые, вне
всяких сомнений, выступают ранговыми мужскими укра-
шениями.
He останавливаясь подробно на дальнейшей истории
китайских бус, отметим только, что они устойчиво входи-
ли в репертуар женских украшений всех эпох, исполняясь
из камней, кости, жемчуга, стекла (с периода Борющихся
царств), впоследствии (при Цин) пополнившись изделиями
из резного красного лака и эмалей. При этом бусы явля-
лись не просто украшением, но и наделялись особым сим-
волическим значением. Их оригинальное терминологиче-
ское название — чжуцзы — включает в себя иероглиф
цзы — «ребенок, сын», что превратило их в символ и бла-
гопожелание счастливого материнства.
Ожерелья как самостоятельная категория ювелирных
изделий отчетливо проявляют себя в чжоускую эпоху, по-
лучив общее название инло, которое расшифровывается
Нефритовые ушные кольца
a — Раннее Чжоу, диаметр 4,5-
3 см; б — период Борющихся
царств, диаметр 5,5-3,1 см.
Шаньдунская ушная
подвеска
Минские ушные украшения
a — серьги; б — ушные подвески.
793
417 Примечателен графиче-
ский состав первого из иеро-
глифов, входящих в приведен-
ное терминологическое соче-
тание. В него входят графемы
«нефрит», «раковина» и «жен-
щина», что позволяет предпо-
ложить, что данный вид юве-
лирных изделий исходно ис-
полнялся преимущественно из
нефрита и перламутровых ра-
ковин и входил в комплект
женских украшений.
418 Таковыми являются:
упоминавшееся ранее ожерелье
из Люлихэ (окрестности Пе-
кина, 950-900 гг. до н. э.),
которое состояло из 179 не-
фритовых, агатовых и бирю-
зовых бусин и подвесок в виде
дисков-бм и других простей-
ших геометрических фигур;
ожерелье, найденное (1992 г.)
в окрестностях Сучжоу (пров.
Цзянсу) и датируемое перио-
дом Весен и осеней, в состав
которого входили 164 агато-
вых цилиндра, 60 агатовых
бусин и 120 бусин из горного
хрусталя и малахита. Сходные
по конструкции ожерелья,
включают в себя, в основном,
нефритовые детали, найдены
также в погребальном инвен-
таре усыпальниц из комплек-
сов Фэншуй (пров. ІПэньси) и
Тяньма.
419 К ним, в частности, от-
носится ожерелье одной из
принцесс еще суйского пра-
вящего дома, образованное в
общей сложности 33 золоты-
ми пластинами. Его централь-
ную часть составляют пять че-
редующихся пластин круглой
и квадратной формы, первые
из которых выложены сини-
ми и красными кабошонами,
вторые — синими; все — в
жемчужной оправе. К цент-
ральной (круглой формы) пла-
стине прикреплена нефритовая
подвеска в виде плоскостной
фигурки оленя, оправленная
золотом. Остальные пластины
имеют звездообразную форму
и отделаны жемчугом.
в комментаторскои традиции как «нагрудные украшения
из нефрита и жемчуга»417. Изделий, которые полностью
отвечали бы их литературному описанию (из нефрита и
жемчужного низанья), пока не обнаружено ни для Чжоу,
ни для более поздних эпох. Зато отчетливо прослеживают-
ся по меныней мере две отдельные конструктивные разно-
видности чжоуских ожерелий, которые, судя по их место-
положению в погребальном инвентаре, употреблялись и в
мужском, и в женском костюмах, исполняя ранговую функ-
цию. Первая из них, характерная преимущественно для
раннечжоуского периода, представляет собой систему из
низанья и разнообразных по конфигурации подвесок (гео-
метрических форм и в виде плоскостных фигуративных
изображений), которые располагались в несколько ярусов418.
Вторая разновидность чжоуских ожерелий, получившая
широкое распространение уже в период Борющихся царств,
представляет собой конструкцию из двух нитей бус, скреп-
ленных расположенными на равном расстоянии друг от друга
художественно обработанными камнями. Пример — укра-
шение, найденное на территории Хэнани (Ѵ-ІѴ вв. до н. э.),
которое образовано двумя нитями нефритовых бус, нани-
занных на золотую проволоку и скрепленных янтарными
или агатовыми кабошонами.
В качестве отдельной технико-художественной разно-
видности чжоуских нагрудных украшений правомерно рас-
сматривать неоднократно упоминавшееся ранее изделие из
золотой цепочки и нефритовых подвесок, однако оно пока
остается абсолютно уникальным артефактом на общем фоне
чжоуских ювелирных изделий. Дальнейшая эволюция ки-
тайских ожерелий происходила под определяющим воз-
действием все тех же центрально-азиатских, ближневосточ-
ных, южно-азиатских (тайских) и индо-буддийских этно-
графических и художественных традиций. Так, в танскую
эпоху утвердился стандартный тип ожерелий, состоявших
из вставленных друг в друга металлических колец, разде-
ленных филигранными фрагментами, жемчугом и кабошо-
нами. Правда, наряду с ними исполнялись и уникальные
по конструкции и художественному оформлению изделия419.
При Сун наиболее популярными стали ожерелья из жем-
чужных нитей или гирлянд из каменьев с жемчужными
подвесками, которые остались в ансамбле женских укра-
шений и в последующие исторические эпохи.
Волосяные, головные, ушные и нагрудные украшения
обязательно должны были не только составлять единый, с
эстетической точки зрения, ансамбль, но и гармониро-
вать с макияжем, который уже в традиционном Китае
превратился в подобие самостоятельного вида искусства.
Нанесение макияжа было очень длительным и кропотли-
вым занятием, подразумевавшим исполнение серии от-
дельных процедур с употреблением специальных косме-
тических средств. Вначале все лицо покрывалось белила-
ми, в состав которых в некоторые исторические эпохи
входил свинец, в результате чего лицо чуть светилось в
сумерках. Затем наносились румяна, сделанные на основе
794
преимущественно растительных компонентов, и осуще-
ствлялась подводка глаз и моделирование бровей. Брови,
тоже в соответствии с господствовавшей на тот момент
модой, либо выщипывались, либо, наоборот, густо подво-
дились или даже искусственно наращивались (например,
меховыми кусочками): такое впечатление производят брови
танских красавиц на портретах. Всего насчитывается по-
рядка тридцати разновидностей «модных» контуров бро-
вей, в том числе «брови в виде крыльев бабочки», «два
горных пика» (т. е. «домиком»).
Особое внимание придавалось моделированию губ, ко-
торые, по принятым в Китае эстетическим стандартам, дол-
жны были быть небольшого размера, пухлыми и яркого
цвета (наподобие вишенок). Требуемые форма и цвет губ
достигались с помощью помады. Начиная с Хань практи-
ковалась фигурная разрисовка губ с исполнением на них
различных геометрических фигур, визуально уменынав-
ших их естественный размер, a затем стилизованных изоб-
ражений бабочек и цветов. Для подобного оформления губ
употреблялось до 7 сортов и оттенков помады. Кроме того,
было принято исполнять на лице рисунки или помещать
на него вырезки (геометрические фигуры, стилизованные
изображения цветов и бабочек) из цветной бумаги.
Роспись лица в виде цветных точек посередине бровей
вошла в моду в эпоху Шести династий, тоже восходя к
индо-буддийской иконографии. Практика украшения лица
бумажными вырезками возводится к танской эпохе, ког-
да одна из придворных красавиц таким способом замас-
кировала прыщик, портивший ее внешность. Вырезки
могли размещаться над лбом, по углам глаз, на щеках и
по бокам от губ, иногда они наносились по отдельности, a
иногда и все вместе, в результате лицо превращалось в
настоящую маску.
Наручные украшения занимают значительно более
скромное место в ансамбле женских ювелирных изделий,
так как руки в подавляющем болынинстве вариантов ки-
тайского костюма были скрыты рукавами. Тем не менее
китаянки уже в древности специально ухаживали за ру-
ками (древнейший маникюрный набор датируется VI-
V вв. до н. э.) и, следовательно, никак не могли пренеб-
речь и этими категориями украшений.
Полный комплект китайских наручных украшений
включает в себя кольца (чжихуань, «пальцевые кольца»),
запястные браслеты (чжо, шоучжо) и ногтевые футляры
(хучжи). Древнейшими образцами китайских колец и брас-
летов выступают неолитические украшения. В Яншао обе
эти категории изделий исполнялись из глины, но при этом
тщательно отделывались. Примечательно разнообразие ко-
лец: выполненные исключительно из чистой глины, они
имеют самые разные формы — плоские, широкие, с вы-
пуклой, вогнутой, перфорированной поверхностью, пяти-,
шести-, восьмигранные и с зубчатыми краями. Все они
тщательно отполированы и по болыней части орнаментиро-
ваны росписями. В восточных и юго-восточных культурах
\Ê*f
Чжоуское ожерелъе
Оформление губ
Неолитические
керамические кольца
795
Древнейшие китайские
металлические украшения
(железные изделия
культуры Сыба)
•■ — кольцо; б — браслет.
Браслет-«змейка».
Эпоха Мин
420 Одни из них исполня-
ются из листового металла,
который отделывается грави-
ровкой и штамповкой, произ-
водимой, как и чеканка, спо-
собом выбивания рельефа на
поверхности с помощью ма-
леньких чеканов и пунзелей.
После нанесения штампован-
ного рисунка его мелкие де-
тали, как правило, прорабаты-
ваются чеканкой. Такие брас-
леты полые внутри, что делает
их легкими и позволяет носить
на руке по несколько штук.
Иногда в них вкладываются
металлические бусинки, из-
дающие легкое звучание при
малейшем движении руки.
Другая распространенная раз-
новидность браслетов — вы-
полненные ковкой или плете-
нием. Металл отливается тон-
кими полосами, которые затем
куются для придания им нуж-
ной формы или вытягивают- *
ся в проволочную нить. Для
самого плетения используют-
ся нити, скрученные в гиб-
кие жгуты разной толщины.
Такая техника позволяет варь-
ировать сечения проволоки и
комбинации их в жгуте, со-
здавая тем самым разнообраз-
ные узоры.
кольца исполнялись, напомним, из кости и нефрита. В куль-
туре Лянчжу имели хождение и массивные нефритовые
браслеты. Практика изготовления металлических наруч-
ных украшений тоже восходит к неолитической эпохе. Но
она возникла вне собственно китайской культурной среды.
Древнейшие такие изделия (кольца и браслеты, выполнен-
ные из железа) принадлежат культуре Сыба. В Древнем
Китае использовались в целом однотипные кольца и брас-
леты — в виде нефритовых обручей с гладкой или рифле-
ной поверхностью. Браслеты предположительно могли так-
же составляться из нефритовых колечек: именно так ис-
толковываются специалистами маленькие нефритовые
колечки, массово присутствующие в погребениях, особен-
но периода Борющихся царств. По свидетельству письмен-
ных источников, браслеты носили как женщины, так и
мужчины, но без каких-либо принципиальных различий
между ними. Начиная ориентировочно с ханьской эпохи,
кольца и браслеты, по-прежнему в виде обручей, стали
изготавливаться из благородных металлов. При Тан наибо-
лее широкое хождение имели браслеты-обручи, нередко
парные, выполненные из благородных металлов и цветно-
го стекла. При Мин начали изготавливаться и браслеты-
змейки. Практика исполнения перстней — колец со встав-
ками из минералов и других ювелирных материалов —
тоже, видимо, установилась при Мин.
Ногтевые футляры — самая специфическая категория
китайских наручных украшений, которая вошла в обиход
при Цин. Такие футляры, служившие для предохранения
от порчи длинных, холеных ногтей (длиной до 15 см), пред-
ставляют собой изделие, повторяющее форму ногтя и вы-
полненное исключительно из благородных металлов.
Платяные женские украшения — платяные булавки,
броши, поясные подвески — тоже присутствуют в системе
китайского костюма, но они никогда не приобретали ха-
рактера сколько-нибудь значимых, a тем более обязатель-
ных его элементов.
Многие из рассмотренных видов и категорий женских
украшений исполняются в ювелирном деле современного
Китая, преимущественно в вариантах, свойственных цин-
ской эпохе. Это, в том числе, серьги со сложнофигурными
подвесками, могущие почти в точности повторять собой
старые образцы. Броши, плетенные из тончайшей рифле-
ной проволоки в форме цветов или бабочек и орнаментиро-
ванные вставками из минералов (нефрита, бирюзы), янта-
ря, коралла, слоновой кости, цветного стекла, резного лака
и эмалей. Красный резной лак также широко употребляет-
ся для изготовления кулонов, бус, браслетов и отделки
колец и серег, что позволяет подобрать из них полный
ювелирный ансамбль. Болыной популярностью пользуют-
ся также эмалевые и цельнометаллические, преимуще-
ственно серебряные браслеты, выпускаемые главным об-
разом в пекинских мастерских420.
Как видим, современное китайское ювелирное дело,
вопреки стремлению не отставать от мировой и европей-
796
ской моды, сумело сохранить богатство национального тех-
нико-художественного опыта.
Ансамбль мужских украшений древних эпох и тради-
ционного Китая тоже включает в себя волосяные (шпиль-
ки для волос), головные, нагрудные и платяные украше-
ния, состав и иерархическое место которых в общей систе-
ме костюма были, разумеется, неодинаковыми в отдельные
исторические моменты. Употребление мужчинами волося-
ных шпилек было неизбежным по причине ношения ими
прически (волосы, собранные в пучок). Так как прическа
обязательно прикрывалась головным убором, эти шпильки
не играли столь же значимой, как женские волосяные ук-
рашения, представительной и эстетической роли, a потому
они не отличаются ни конструктивным разнообразием, ни
пышным декором.
Самой специфической категорией мужских наручных
украшений выступает специальное кольцо для стрельбы из
лука (банъчжи), которое надевалось на большой палец и
снабжалось выступом, наподобие печатки. Древнейший
экземпляр такого кольца был найден в погребении ею Фу-
хао, чем еще раз подтверждается факт исполнения инь-
ской царицы мужских государственных обязанностей.
Наибольшим же разнообразием и изысканностью деко-
ра отличались ювелирные изделия, входившие в комплект
пояса, — уже хорошо известные нам поясные крючки и
пряжки, появившиеся, напомним, в раннечжоуский пери-
од, поясные пластины и подвески. Поясные пластины, о
чем тоже уже вкратце упоминалось, которые накладыва-
лись на кожаную или матерчатую основу, вошли в упот-
ребление при Хань в качестве очередного заимствования из
скифо-сибирского мужского костюма. В Ѵ-ѴІ вв. на неко-
торое время возобладали пояса (тоже откровенное заим-
ствование из индо-буддийского костюма), составленные из
серебряных и реже — золотых литых пластин, орнаменти-
рованных рельефными изображениями тигров и фениксов
в окружении цветочного орнамента. Но уже при Тан они
уступили место поясам с накладными пластинами, кото-
рые и исполняли первоочередную ранговую функцию, о
чем подробнее мы поговорим при анализе непосредственно
ранговых украшений.
Поясные подвески, обозначаемые в их древнейших вари-
антах как пэй, ведут свое происхождение от утилитарных
предметов (нож, огниво, кольцо для стрельбы из лука
и т. д.), которые всегда должен был иметь при себе мужчина-
охотник. Но уже в иньскую эпоху они намного отошли по
своему художественному исполнению от собственных исход-
ных прототипов, превратившись в самоценные ювелирные
изделия. В III-VI вв. установился принципиально новый
вид поясных подвесок — подвески-цзюй, которые представ-
ляли собой уже не отдельные предметы, a целую компози-
цию из шелкового плетения и нефритовых элементов. Слева
и справа к поясу на крючке или с помощью завязок подве-
шивались нефритовые пластины, к каждой из которых при-
креплялось по три шелковых шнура, унизанных жемчугом.
Комплект браслетов.
Эпоха Цин
Кольцо
для стрельбы из лука
a — кость, период Борющихся
царств; б — способ ношения.
797
Мужские пояса
a — цинский пояс с системой под-
весок; б — из литых пластин (по-
золоченная бронза, IV в.); в —
Ранняя Хань, кожа, золотая
пряжка.
Мужские волосяные
колпачки с прозрачными
шелковыми платками
Женские прически
с головными платками
В середине центрального шнура укреплялась круглая не-
фритовая пластина, на боковых — квадратные. Централь-
ный шнур заканчивался треугольной (с основанием, на-
правленным к земле) нефритовой пластиной, боковые —
нефритовыми полукольцами. В совокупности эта комбина-
ция распространялась на болыыую часть поверхности ко-
стюма ниже пояса и могла доходить по длине до уровня
бедер. Подвески-цзюй> в различных модификациях, сохра-
нялись в системе китайского мужского костюма вплоть до
XX в., тоже наделяясь в некоторые исторические периоды
строгой ранговой функцией: она осуществлялась за счет
цвета шнуров и набора нефритовых элементов.
Заметно болыыим набором украшений обладал повсе-
дневный или праздничный (но не официальный) мужской
костюм. Так, при Мин в домашней обстановке и при встре-
чах с друзьями мужчины тоже надевали на прическу ме-
таллический колпачок, поверх которого красовался, при-
чем с изрядной долей женского кокетства, завязанный
прозрачный шелковый платок. Перекличка с женским ко-
стюмом становится тем более очевидной, что именно в это
время женщины тоже нередко использовали вместо голов-
ных украшений особым образом завязанные шелковые
шарфы. Праздничный наряд цинского юноши-аристокра-
та — так он воспроизводится в литературных произведени-
ях — включал в себя металлический колпачок, прикры-
вавший волосяной узел, налобную повязку из золотого
шнура с силуэтными золотыми изображениями, шейное
украшение из золотой сетки со вставками из нефрита и
цветных камней.
Что касается детских украшений, то в детский костюм,
наряду с некоторыми категориями взрослых ювелирных
изделий, особенно для девочек, входили и специфические
предметы, служившие не столько собственно украшения-
ми, сколько оберегами. Это, во-первых, амулет-юпянь
(«плоский замочек»), носившийся на шейном обруче, дет-
ских бусах или шнуре. Во-вторых, головные обручи-обере-
ги — «замок для макушки» (сотоу) и «серебряный замок»
(инъсо). Нередко эти изделия снабжались колокольчиками
или бубенчиками, позволявшими следить за тем, где нахо-
дится ребенок.
Еще более лаконичным и строгим, чем ансамбль муж-
ских ювелирных изделий в целом, представлен, как это ни
странно, комплект ранговых украшений.
798
Первое место в комплекте китайских ранговых импера-
торских и чиновничьих украшений занимали изделия, вхо-
дившие в состав церемониальных головных уборов.
Древнейшим церемониальным головным убором при-
нято считать уже знакомую нам по иконографии корону-
мянъу которая возникла предположительно в чжоускую
эпоху и на первых порах входила в костюм как царя-
ванау так и высокопоставленных сановников. Однако на-
чиная с Хань она превратилась в исключительную при-
надлежность императорского парадно-ритуального обла-
чения. Корона-.шшь состоит из цилиндрической тульи,
которая охватывает голову своей нижней частью и при-
крепляется к волосам специальной шпилькой; ее концы
выступают по обеим сторонам тульи. Сверху ее венчает
плоский, удлиненный в переднезаднем направлении так
называемый навес-я«ь, представляющий собой подобие
дощечки. Навес может быть прямоугольной формы либо
заканчиваться спереди полукругом. Спереди и сзади с него
свисает ряд шелковых нитей с нанизанными на них не-
фритовыми шариками — так, что лицо и затылок импе-
ратора оказываются почти полностью скрытыми такой
своеобразной вуалью. По бокам короны-.шшь свешивают-
ся два шнура, прикрепленные к концам шпильки, на ко-
торых на уровне ушей удерживаются по одному нефрито-
вому шарику или нефритовой пластине различных форм.
Корона-^я«ь просуществовала вплоть до Сун, навсегда
оставшись в глазах китайцев символом имперской власти,
что мы и видели на примере иконографии.
При Северной Сун на смену ей пришел головной убор,
состоящий из высокого околыша и загнутого по направ-
лению к ушам колпака. Он изготавливался из ткани, на-
тянутой на металлические прутья, идущие спереди вверх
и затем назад. Высота головного убора равнялась прибли-
зительно высоте головы от подбородка до темени. На его
верхней грани укреплялись ровно 24 крупные и строго
круглой формы жемчужины. Над лбом размещалось зо-
лотое украшение в виде бабочки или 12 цикад. Околыш
выкладывался (или расшивался) жемчугом и каменьями.
При Мин императорский головной убор повторял собой
шапку-ш/moi/, но исполнялся не из ткани, a из золота.
Такая золотая корона была найдена в погребении импера-
тора Шэнь-цзуна (Ваньли). Она сплетена из тончайшей
рифленой проволоки, на которую напаяны силуэтные изо-
бражения двух драконов, выполненные из золотого ли-
ста. Их головы и верхние части туловищ образуют над-
лобный орнамент, a нижние спускаются по тыльной сто-
роне короны.
В цинскую эпоху императорский церемониальный убор
приобрел форму круглой шапочки (подбитой мехом в ее
зимнем варианте), оканчивающейся трехъярусным навер-
шием, в котором фигурки золотых драконов перемежают-
ся с оправленными в золото 15 крупными жемчужинами.
Навершие увенчано огромной вертикально поставленной
жемчужиной, имеющей отдельное терминологическое
ИМПЕРАТОРСКИЕ
И ЧИНОВНИЧЬИ
ПАРАДНО-РАНГОВЫЕ
УКРАШЕНИЯ
799
обозначение — чжэньчжу («совершенная жемчужина»).
Спереди головной убор выложен золотым изображением
Будды тоже в обрамлении 15 жемчужин, сзади — золотой
кокардой-шэлинъ, отделанной 7 жемчужинами. Головной
убор наследного принца включает в себя навершие с 13 жем-
чужинами, тоже увенчанное одной большой. Помещаемое
на нем изображение Будды обрамлено 13 жемчужинами,
тыльная кокарда — 6. Навершия головных уборов прин-
цев крови увенчаны рубинами и включают в себя 10 жем-
чужин. Спереди на них выложена кокарда с 5 жемчужина-
ми, сзади — розетка с 4.
Для чиновников их опознавательными ранговыми ук-
рашениями служили шарики-навершия головных уборов,
которые выполнялись из различных ювелирных материа-
лов: для I (высшего) ранга — из рубина, для II ранга — из
гравированного коралла, для III ранга — из сапфира, для
IV ранга — из лазурита, для V ранга — из хрусталя, для
VI ранга — из раковины тридахны, для VII и VIII ран-
гов — соответственно из блестящего и гравированного зо-
лота и для IX ранга — из гравированного серебра.
Императорский парадно-ритуальный костюм включал
в себя и специальное нагрудное украшение. Первоначаль-
но его роль исполнял так называемый нагрудный знак —
изделие в виде шейного обруча, ведущее свое происхожде-
ние от амулета-ода/і. При Юань он сменился ожерельем-
чаочжу, состоящим из 108 бусин и системы подвесок, и
исполнялось из жемчуга, кораллов, лазурита, янтаря и
бирюзы. Такое ожерелье, сделанное, правда, из несколько
других материалов, осталось в системе императорского па-
радно-ритуального облачения минской и цинской эпох.
Что касается всех прочих ранговых украшений, то они
фактически дублируют собой общий комплект мужских
800
ювелирных изделий. Единственная в истории китайского
костюма попытка создания специфических ранговых укра-
шений прослеживается для раннечжоуского периода. Речь
идет о подвесках особого вида, которые совмещали в себе
признаки плательного и нагрудного украшений. Они име-
ли значительные размеры и прикреплялись, по мнению
специалистов, не к поясу, a к верхней части одеяния, где-
то на уровне груди. Эти подвески состояли из бус и нефри-
товых пластин, строго повторяющих собой амулеты-хуан,
которые располагались по ярусам: в каждом ярусе по од-
ной нефритовой пластине. Число пластин и ярусов могло
равняться двум, трем, пяти, семи и восьми. Данный число-
вой набор в целом совпадает с ранговыми комплектами
бронзовых сосудов. Кроме того, такие подвески присут-
ствуют именно в княжеских усыпальницах. Все это и по-
зволяет видеть в них ранговые украшения. Однако уже к
середине периода Борющихся царств такие подвески, судя
по археологическим данным, вышли из употребления, по-
служив возможным отдаленным прототипом подвесок-цзюй,
или же превратились в обычные украшения. Отчетливую
связь с ними обнаруживают тоже сложносоставные и мно-
гоярусные подвески, бывшие в употреблении во второй по-
ловине периода Борющихся царств. Но они явно имеют
декоративное назначение. Дольше всего этот художественно-
конструктивный вид подвесок удерживался в перифе-
рийных юго-восточных районах. Последние по времени
создания образцы — две подвески, датируемые Ранней
Хань, — присутствовали в погребальном инвентаре госуда-
ря южного независимого царства Наньчжао (на террито-
рии современной провинции Гаундун). Кроме того, для
чжоуской эпохи обнаруживается еще один уникальный по
конструкции и загадочный по функциям тип подвесок,
51 История пскусства Китая
Императорское
парадно-ритуальное
облачение
с церемониалъными
головными уборами
a — корона-жлиь с навесами квад-
ратной формы; б — корона-мянь
с округлым спереди навесом; в —
сунская «корона»; г — минская
«корона» (в виде шапки-/гі/тоі/);
д — цинская «корона».
801
Раннечжоуские ранговые
плательные подвески
a — с тремя пластинами-лсуак;
б — с семью пластинами-лгі/ак;
в — с восемью пластинами-лсуак.
Декоративные
многоярусные
нефритовые подвески
a — вторая половина периода Бо-
рющихся царств; б — из усыпаль-
ницы правителя царства Наньюэ.
^А^ <£Äv,
Раннечжоуские нефритовые
подвески из низанья
и пластин в виде жезла-туй
составленных из пучка* нефритовых бус или нитей, на
которые, помимо бусин, нанизаны относительно крупные
нефритовые элементы, повторяющие форму жезла-гі/й. Воз-
можно, эти подвески тоже служили ранговыми украше-
ниями.
Наиболее тщательно и детально ранговая классифика-
ция мужских украшений была разработана при Цин, a
особое значение в ней придавалось поясным украшениям.
В ней предусматривался не только характер материала и
орнаментации поясных пластин, но и их форма и числовой
набор. Императорский пояс, входящий в парадно-ритуаль-
ное одеяние, должен был иметь ровно четыре накладки
круглой и квадратной формы, выполненные из гладкого
золота и отделанные рубинами, и быть оправленным в зо-
лото жемчугом. Пояса аристократов и сановников имели
накладки в зависимости от их ранга либо квадратной, либо
круглой формы. Они делались из гладкого (для принцев
крови и чиновников высших рангов) золота, гравированно-
го золота и гравированного серебра. Пояса наследного прин-
ца, принцев крови и супругов принцесс отделывались только
жемчугом, пояса аристократов и сановников — камнями
синего или зеленого цвета.
Аналогичная ситуация наблюдается и в женских ран-
говых украшениях, функции которых вплоть до цинской
эпохи исполняли, повторим, в основном волосяные и го-
ловные украшения. При Цин официальный костюм импе-
ратрицы, принцесс, наложниц и придворных дам подверг-
ся более строгой, чем прежде, регламентации. Церемони-
802
альным головным убором императрицы тоже стала шапоч-
ка с навершием, составленным не из фигурок драконов, a
трех фениксов. Еще семь золото-жемчужных фигурок фе-
никсов размещаются по периметру головного убора. Его
тыльная часть украшена золотым изображением фазана, с
хвоста которого свисают пять длинных жемчужных нитей.
Головные уборы наложниц, принцесс и придворных дам
исполнены по сходной схеме, но различаются по ряду дета-
лей. В уборах императорских наложниц количество фе-
никсов и бусин в нитях постепенно убывает в соответствии
с их рангом. У супруг принцев крови фигурки фениксов и
фазанов заменены на павлинов. У придворных дам вместо
изображений птиц выполнены золотые розетки. В ансамбль
полуофициального женского костюма входило диадемовид-
ное головное украшение (цзинъюэ), которое исполнялось
для императрицы и придворных дам высшего ранга из
золота и отделывалось определенным количеством жемчу-
жин. Существовали также специальные ранговые ушные —
серьги в форме тыквы-горлянки, которые вставлялись по
три в мочку каждого уха, и нагрудные украшения. Послед-
ние включают в себя жесткий обруч и три ряда ожерелий-
чаочжу, аналогичных по конструкции мужским. В костю-
ме императрицы соседствовали два коралловых и одно жем-
чужное ожерелье, y принцесс и придворных дам — два
коралловых и одно янтарное.
В целом можно сделать вывод, что ювелирное дело
Китая во всех представленных аспектах дает нам возмож-
ность проследить характер взаимодействия собственно ки-
тайских и чужеземных этнографических и художествен-
ных традиций. Если первые обусловливали собой иерар-
хию ювелирных материалов и украшений, то вторые
качественно влияли на эволюцию ювелирных техник и
средств, таким образом расширяя репертуар самих юве-
лирных изделий, так же и их орнаментальных способов.
Раннечжоуские
нефритовые подвески
в виде кисти
из нефритового низанъя
ГЛАВА
ЛАКОВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ТЕХНОЛОГИЯ
ЛАКОВОГО
ПРОИЗВОДСТВА
421 В районах с жарким
климатом он начинается не-
задолго до наступления лет-
него календарного сезона и
продолжается вплоть до лет-
них заморозков, т. е. длится
около 120 дней. В районах с
более холодным климатом он
начинается не ранее первой
декады июня и завершается в
начале октября, т. е. длится
около 90 дней. Из одного де-
рева лак собирается один раз
в 2-3 года и не более 4-5 раз,
после чего растение заменя-
ется. Разовый сбор составля-
ет максимум 50 граммов сы-
рого лака.
Лак — вещество растительного происхождения, сок (смо-
ла) «лакового дерева» (кит. цишу) — растения из семей-
ства анакардиевых (сумак, шмак, лат. Rhus verniciflua).
Хотя различные виды растений этого семейства широко
встречаются во многих других регионах Земного шара, в
частности в Африке, Южной и Северной Америке, китай-
ское «лаковое дерево» является его специфическим даль-
невосточным представителем. В естественном состоянии эти
деревья произрастают в гористой местности, на высоте 900-
2000 м над уровнем моря и в зонах с теплым климатом. Их
культивация началась еще при Ранней Чжоу. К концу
периода Весен и осеней «лаковые деревья», по сообщениям
письменных источников, выращивались в районах средне-
го и нижнего течения Янцзы, включая Сычуань. Во второй
половине Чжоу их плантации уже имелись и в царствах,
располагавшихся в регионе бассейна среднего, нижнего
течения Хуанхэ и к северу от него (Цинь, Хань, Вэй, Чжао,
Ци). В настоящее время «лаковые деревья» выращиваются
на большей части территории КНР, в 23 ее провинциях,
включая как крайние южные и юго-восточные (Юньнань,
Гуйчжоу), так и северные (Шаньси), где насчитывается в
общей сложности 161 лакодобывающий и лакопроизводя-
щий центр.
Технологический цикл лакового производства, сложив-
шийся в чжоускую эпоху, состоит, подобно шелковому про-
изводству, из нескольких масштабных операций, которые
осуществляются в рамках самостоятельных промыслов и
ремесленных отраслей.
Первая из них — выращивание «лаковых деревьев» и
сбор лака. Сбор лака происходит приблизительно так же,
как и сбор каучука. Участок ствола дерева освобождается
от коры и надрезается. Стекающая из надрезов смола со-
бирается в специальные емкости. Сроки сбора зависят от
климатических условий данной местности421. Сырой лак
представляет собой густую жидкость молочно-белого или
серовато-желтого цвета. Благодаря содержащемуся в нем
сложному по химическому составу веществу — урусиол
804
(C14H18O2), oh быстро полимеризуется под воздействием
кислорода воздуха. Еще во II в. до н. э. китайцы сделали
важные открытия, касающиеся химического состава лака,
и нашли способ задерживать процесс его загустения путем
помещения крабов в емкость с лаковой жидкостью. В пан-
цирной части членистоногих присутствуют сильнодействую-
щие вещества, тормозящие активность эндимов, обеспечи-
вающих загустение лака.
Следующая операция — обработка сырого лака. Он очи-
щается, кипятится для удаления лишней влаги и затем в
зависимости от дальнейшего предназначения смешивается
с другими веществами. Для получения цветных лаков ис-
пользуются различные пигменты минерального и органи-
ческого происхождения: киноварь, железо, кальций (крас-
ный цвет), мышьяк (желтый цвет), марганец, кремень, сажа
(черный цвет) и благородные металлы422. Как видим, лако-
вое производство предполагает работу с отравляющими ве-
ществами. Сама лаковая жидкость тоже ядовита и испус-
кает вредные для здоровья человека испарения. Поэтому
все операции, как по обработке сырого лака, так и по
производству лаковых изделий, требуют определенных мер
предосторожности. Вместе с тем лак обладает уникальней-
шими природными свойствами, сопоставимыми со свой-
ствами полимеров: он устойчив к воздействию воды, возду-
ха, выдерживает температуру до 200-25СГС (или даже до
400-450°С), не вступает в реакции с кислотами и щелоча-
ми, обладает способностью консервировать дерево, ткани и
предохранять от коррозии металлы. Одновременно он яв-
ляется универсальным клеющим веществом и может на-
носиться на любую поверхность: на камень, металлы, дере-
во, керамику, кожу, ткань, бумагу. Все это привело к ис-
пользованию лака в самых разных сферах китайской
предметно-творческой деятельности — от строительства (для
покрытия внутренних и внешних поверхностей зданий и
отдельных архитектурных деталей) до оружейного или
ювелирного дела.
Последняя технологическая операция — изготовление
лаковых изделий — тоже состоит из серии относительно
самостоятельных процедур и начинается с производства
заготовок, приготовляемых из различных материалов. Эта
процедура в древние и последующие исторические эпохи
исполнялась, как правило, в отдельных мастерских, снаб-
жавших своей продукцией уже непосредственно лакопро-
изводящие центры. Далее следуют нанесение грунтового
покрытия и художественная обработка лака423.
Грунтовое покрытие обязательно присутствует в любом
технико-художественном виде лаковых изделий, выполняя
крепежную функцию и одновременно являясь основой для
последующих лаковых слоев. Поэтому оно приготовляется
и наносится по особым технологиям. Лаковая субстанция
смешивается с водой и истолченными до порошкообразно-
го состояния глинистыми добавками. Полученная смесь
фильтруется через листы рисовой бумаги и затем наносится
на поверхность заготовки шпателем. Грунтовое покрытие
422 Рецептура бесцветного
лака, который употребляется
в качестве лакового покры-
тия, была изобретена достаточ-
но поздно, только при Южной
Сун. Он получается в резуль-
тате добавки в лаковую суб-
станцию растительного, луч-
ше всего тунгового, масла.
423 Все процедуры, осуще-
ствляемые непосредственно с
лаком, проводятся в специ-
ально оборудованных помеще-
ниях, в которых поддержива-
ется повышенная влажность
и температура, так как изго-
товленный в не подходящей
для него атмосферной среде,
особенно при сухом воздухе,
лак может в скором времени
растрескаться.
805
обычно состоит из двух слоев, каждый из которых сушит-
ся на воздухе приблизительно в течение суток и затем
полируется водой и пемзой. После завершения грунтова-
ния изделие помещается на 8-10 часов в увлажняющую
камеру, в которой поддерживается атмосферный режим с
влажностью до 90%. Затем грунтовое покрытие вновь тща-
тельно очищается для устранения с его поверхности ма-
лейших частиц грязи и пыли. Грунтовое покрытие обычно
имеет черный цвет. Однако существует серия его диахрон-
ных и технологических вариантов. Так, в юаньскую и мин-
скую эпохи поверх грунтового покрытия было принято на-
носить дополнительные слои желтого цвета. В некоторых
производственных центрах и при исполнении определен-
ных технико-художественных разновидностей изделий упот-
реблялось грунтовое покрытие без глинистых добавок, на
основе тканых материалов. Набор и характер дальнейших
технологических процедур зависел от особенностей испол-
нения каждого конкретного вида лаковых изделий.
Таковы, кратко, основные технологические процедуры
лакового производства в том виде, в каком оно установи-
лось в традиционном Китае, пройдя до этого несколько
эволюционных стадий.
ДРЕВНИЕ ЛАКИ Истоки лакового производства восходят, как отмеча-
лось ранее, к предметно-творческой деятельности неоли-
тической эпохи. Древнейшими лаковыми изделиями при-
знаются деревянные бутылеобразные сосуды, найденные
(1978 г.) в ранних слоях юго-восточной очаговой культуры
Хэмуду. Они были покрыты изнутри и снаружи лакосодер-
жащей массой, сделанной из сырого лака, но с добавлени-
ем в него красителей. Кроме того, внешняя поверхность
некоторых из этих сосудов орнаментирована росписями,
тоже выполненными лаковой краской и отдаленно напо-
минающими по стилистике лаковые росписи позднечжоу-
ских и ханьских изделий. Для северо-восточных неолити-
ческих культур использование лака зафиксировано несколь-
ко позже: находка (1977 г.) на территории провинции
Ляонин керамических сосудов, предположительно винных
кубков, расписанных по внешней поверхности красной ла-
ковой краской, которые датируются 3700-3600 гг. до н. э.
Забегая вперед отметим, что керамика с лаковыми роспи-
сями выпускалась в Китае и в дальнейшем, хотя, видимо,
эпизодически и в сугубо локальных керамических цент-
рах. Наиболее полная коллекция таких сосудов, относя-
щихся к раннечжоускому периоду, была обнаружена в
Сычуани (погребение из комплекса Маосянь).
Следующий этап в истории лакового производства в
том виде, в каком она вырисовывается на материале архео-
логических данных, соотносится с иньской эпохой, в пер-
вую очередь с позднеиньским периодом. Среди аньянов-
ских артефактов присутствует внушительное число ла-
ковых изделий, преимущественно предметов столовой
утвари, включая блюда, которые выполнены в трех основ-
806
ных техниках. Это, во-первых, расписные лаки, с рисун-
ком, нанесенным коричневой краской по красному лако-
вому покрытию. С морфологической точки зрения, они
частично совпадают с орнаментацией позднеиньских бронз,
включая в себя личины таотэ, «узор грома», и, кроме
того, стилизованные изображения цветов. Вторая разно-
видность иньских лаковых изделий — выполненные в тех-
нике резьбы по дереву, поверх которого нанесено лаковое
покрытие. Третья разновидность — изделия, лаковое по-
крытие которых инкрустировано бирюзовыми вставками,
тоже перекликающимися по стилистике с бирюзовыми
инкрустациями на бронзах. He исключено также, что в
позднеиньский период исполнялись и лаки с аппликация-
ми из золотой фольги: таково было назначение, по мне-
нию ряда специалистов, найденных в Аньяне фрагментов
золотой фольги.
Своего наивысшего расцвета древнекитайское лаковое
производство достигло в период Борющихся царств. Нач-
нем с того, что в этот период оно окончательно преврати-
лось в самостоятельную ремесленную отрасль (причем от-
носящуюся к разряду «высоких» производств), в формах и
способах организации которой улавливается отдаленное
подобие современной промышленной поточной системы.
Дело в том, что все перечисленные выше технологические
операции осуществлялись не просто по отдельности, но и
строго определенными мастерами. В результате в техноло-
гическом цикле лакового производства оказался задейство-
ван труд множества людей с четкой и дробной дифферен-
циацией их профессиональной деятельности424.
Важнейшей технологической новацией позднечжоуского
лакового производства стало изобретение грунтового по-
крытия, состоявшего на первых порах из зольного слоя и
нанесенной на него ткани. Это открытие дало возможность
использовать в качестве заготовок, помимо дерева, различ-
ные другие материалы, что, в свою очередь, привело к
стремительному расширению репертуара непосредственно
лаковых изделий, равно как и сфер использования лаково-
го покрытия. Наиболее активно, вне собственно лакового
производства, оно использовалось в оружейном деле и для
художественного оформления погребального инвентаря (гро-
бов), хотя первые образцы гробов с лаковым покрытием
относятся, напомним, еще к иньской эпохе. В оружейном
деле лаком покрывались не только детали оружия (напри-
мер, древко пик), колчаны для стрел и ножны, но и кожа-
ные доспехи, что повышало их прочность.
Главные центры позднечжоуского лакового производ-
ства находились в царствах Чу, Ци, Цинь и в Сычуани, и
такая их география в целом сохранилась и при Хань.
Царство Чу или шире — южные и юго-восточные райо-
ны Древнего Китая, располагало самым, пожалуй, разви-
тым, как с технологической, так и художественной точки
зрения, лаковым производством. История его развития до-
статочно отчетливо прослеживается еще с ѴІ-Ѵ вв. до н. э.,
когда лаковые изделия стали постоянно включаться в набор
Сычуаньские
керамические сосуды
с лаковой росписъю
424 По образным характери-
стикам лакового производства,
содержащимся в ханьских тек-
стах, в изготовлении одного-
единственного изделия участво-
вали до 100 человек. Согласно
надписи, сохранившейся на
лаковой чаше IV в. до н. э., к
ее изготовлению были непос-
редственно причастны 12 лиц:
7 мастеров и 5 подмастерьев.
807
Чуские лаковые изделия.
Период Борющихся царств
a — ножны для меча; б — шка-
тулка; в — сосуд в виде плоско-
го ху.
Южно-китайские лаковые
изделия начала Хань.
Пров. Хубэй
местной погребальной утвари. Его отличительными осо-
бенностями являются настойчивое сочетание лакового по-
крытия с резьбой по дереву и использование полихром-
ных росписей. В такой технике исполнялись посуда, раз-
личные предметы повседневного обихода: ларцы, шкатулки,
музыкальные инструменты, предметы мебели, a также,
напомним, произведения изобразительного искусства —-
«чуские идолы», фигуры птиц и изваяния, отождествляе-
мые с изображениями духов-стражей могил. Цветовая па-
литра лаковых красок была доведена до 9 тонов и оттен-
ков, среди которых преобладают красный, желтый, ко-
ричневый, зеленый, белый, черный и золотой цвета. Одним
из показательных образцов чуских лаков выступает на-
польный экран (из комплекса Ваншань), который состоит
из сплошной прямоугольной рамы, заполненной 51 фигу-
рой (выполнены в технике сквозной резьбы) зооморфных
и зооморфно-фантазийных существ — оленей, змей, лягу-
шек, фениксов и т. д. Они покрыты черным лаком, по-
верх которого идут росписи, выполненные красной, ce-
pou, золотой и серебряной красками (см. вклейку).
Непревзойденным шедевром южных расписных лаков,
бесспорно, являются гробы госпожи Дай. Тематика роспи-
сей перекликается с орнаментацией зеркал и включает в
себя геометрический, растительный орнамент, зооморфно-
фантазийные изображения и производные от него стилизо-
ванные фигуры и композиции. К концу Чжоу преобладаю-
щим, не считая погребальной пластики, стал выпуск посу-
ды и предметов повседневного обихода, выполненных в
черно-красной гамме: росписи красной краской по черному
лаковому покрытию и наоборот (см. вклейку). Особое место
в репертуаре южных лаков заняла новая для них категория
погребальной утвари — сосуды в виде пластических изобра-
жений животных, в первую очередь тигра. В наборе орна-
ментальных средств господствующее место занял «облач-
ный» узор в сочетании с геометрическим и стилизованным
растительным орнаментом. Такие изделия продолжали ис-
полняться на Юге и при Хань.
808
Самостоятельный лакопроизводящий центр, видимо,
существовал и на юго-востоке позднечжоуского и хань-
ского Китая, о чем свидетельствует комплект изделий,
найденных (середина 80-х гг. прошлого века) на западной
окраине провинции Цзянсу (в 18 км к северо-западу от
Янчжоу). Датируемые раннеханьским периодом, они тоже
выполнены в красно-черной гамме и с преимуществен-
ным использованием геометрических, растительных мо-
тивов и «облачного» узора, но данных в иных, чем в
чуских лаках, трактовках. Кроме того, среди них присут-
ствовали изделия с росписями на зооморфно-фантазий-
ные темы, включающие в себя изображения тигро-, дра-
коноподобных существ и еще существ какого-то странно-
го вида, внешне похожих на кошку.
Сычуаньское лаковое производство, о котором прежде
имелись только отрывочные сведения, теперь благодаря
открытию усыпальницы местных правителей прослежива-
ется с начала периода Борющихся царств. В ней было об-
наружено более 100 лаковых изделий самых разных кате-
горий и отделов: гребни, посуда, предметы мебели (три
стола), подставки. Все они выполнены в технике расписно-
го лака, в единой красно-черной гамме — красной краской
по черному фону, и выдержаны в общей стилистической
манере. Все это указывает на существование в Сычуани
развитого и более древнего, чем сами данные артефакты,
лакопроизводящего центра. Росписи выполнены в специ-
фической по сравнению с теми же чускими лаками манере.
Отличающиеся детализованностью рисунка, они состоят
из повторяющихся фигур, в которых угадываются сильно
стилизованные изображения существ фантазийно-зооморф-
ного ряда. В некоторых случаях они дополнены тоже мел-
кими и повторяющимися, но чуть более внятными вариан-
тами таких изображений. Орнаментация посуды включает
в себя геометрические элементы — усложненной формы
треугольники, звездообразные композиции, составленные
из ромбов, дуг, квадратов и изогнутых линий. Ее формы
перекликаются с бронзовыми и керамическими сосудами,
Юго-восточные
лаковые изделия
a — со стилизованным раститель-
ным орнаментом; б — с роспи-
сью на тему «облачного» узора;
в — с росписью на зооморфно-
фантазийные темы.
Чуский лаковый сосуд
в виде фигуры тигра.
ІѴ-ІІІ вв. до н. э.
Пров. Хунанъ
Древние сычуаньские
лаковые изделия. Блюдо
на ножке (высота 23 см,
диаметр устья 41,5 см);
809
Древние сычуанъские
лаковые изделия.
Столик (длина 72,2 см,
ширина 44,1 см).
Сычуаньские лаковые
изделия ІІІ-ІІ вв. до н. э.
Крышки.
Диаметр 34,5-37,2 см
Шаньдунское лаковое блюдо
с сюжетной сценоіі
Шанъдунские лаковые
изделия с серебряным
орнаментом. Блюдо. Период
Борющихся царств.
Диаметр 48,8 см
причем, в вариантах, своиственных южному гончарному
делу (например, блюдо-шшь на ножке), a орнаментация в
ряде случаев напоминает декор местных бронзовых пред-
метов раннечжоуского периода.
В дальнейшем характер сычуаньских расписных лаков
претерпел качественные изменения, хотя когда и как имен-
но это произошло — не известно. Все основные находки
местных лаковых изделий относятся уже к концу Чжоу и к
первой половине Хань. Самая полная известная на сегодня
коллекция (1992 г., юго-восточный пригород Чэнду) дати-
руется III в. до н. э. В ней присутствуют предметы посуды,
прежде всего крышки, шкатулки для благовоний или зер-
кал, предметы мебели (столик). Росписи по-прежнему вы-
держаны в черно-красной гамме, но на этот раз черной крас-
кой по красному фону с использованием главным образом
растительного орнамента и зооморфных изображений. Ko II в.
набор и стилистика сычуаньских лаков в очередной раз,
видимо, изменились, о чем мы можем судить по изделиям,
присутствующим в том самом погребении (1987 г.), где на-
ходились керамические светильники в виде сложных плас-
тических композиций и статуэтки обнаженных всадниц.
Самое примечательное из них — футляр (длина 24,6 см),
украшенный полихромной росписью на зооморфно-фанта-
зийную тему, очень похожей по манере исполнения и набо-
ру персонажей на росписи гробов госпожи Дай.
Работа циньского лакопроизводящего центра тоже про-
слеживается приблизительно с начала периода Борющихся
царств. До сих nop обнаружено в общей сложности более
200 фрагментов язделий, судя по которым, в местных из-
810
делиях наиболее массово выпускались предметы наподо-
бие шкатулок и ларцов, которые украшались росписями,
имитировавшими орнаментацию бронз.
Циские лакопроизводящие мастерские были сосредото-
чены в окрестностях столицы этого центра Линьцзы. И к на-
стоящему времени уже известно внушительное число изде-
лий, датируемых Ѵ-ІѴ вв. до н. э. Они тоже отличаются
своеобразием росписей, в которых преобладают геометриче-
ские узоры и специфический орнамент, составленный из
стилизованных изображений змей или драконов с перепле-
тенными телами. Гораздо реже встречаются изделия, укра-
шенные подобием сюжетных росписей с включением в них
фигур птиц, деревьев и даже людей. В конце Чжоу и начале
Хань в местных мастерских тоже стали изготавливаться
погребальные сосуды в виде скульптур животных.
Наряду с развитием техники росписей позднечжоуское
лаковое производство приступило и к освоению новых де-
корировочных техник. Так, начали выпускаться сосуды, в
которых лаковое покрытие сочеталось с металлическими
деталями, прикрепившимися к нему. В Сычуани такие де-
коративные элементы отливались из бронзы или меди, в
царстве Ци — из серебра. Еще в одном способе употребля-
лись аппликации из тончайшей (до 0,1 мм) золотой фоль-
ги. Она накладывалась на красочный слой, выполненный
золотой лаковой краской. Благодаря тоновой контрастно-
сти цвета аппликаций и росписи подобные композиции
производили впечатление выполненных в живописной тех-
нике послойной размывки.
Однако все подобные новации, видимо, не нашли про-
должения в ханьскую эпоху, на протяжении которой на-
блюдается абсолютное господство расписных лаков.
Сычуаньские лаковые
изделия I в. н. э. Футляр.
Длина 24 fi cm, ширина 6 см
Росписи шаньдунских лаков
О состоянии лакового производства в эпоху Шести ди-
настий известно немного. Письменные сведения о нем не-
многочисленны и отрывочны, a подлинных артефактов со-
хранилось еще меныпе. Самыми примечательными из до-
шедших до нас изделий являются, во-первых, деревянная
ширма, датируемая V в. Она покрыта красным лаком, по
которому выполнено несколько сюжетных сцен, напоми-
нающих по тематике и художественной манере картину
«Наставления придворным дамам» Гу Кайжи с той только
разницей, что составляющие ее композиционные сегменты
расположены по вертикали. Рисунок выполнен черными
контурными линиями, в росписи фигур (элементы одеяния)
ЛАКОВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ТРАДИЦИОННОГО
КИТАЯ
811
іѵ в., пров. Цзянси). и вспомогательных предметов (мебель) введены желтая и
реже — голубая краски. Каждая отдельная сцена дополне-
на пояснительными надписями к ней (черной краской по
желтому фону), расположенными в прямоугольниках.
Наиболее представительные коллекции лаковых пред-
метов, хотя и они насчитывают всего несколько изделий,
были обнаружены (1979 г.) в погребениях на территории
центральной части провинции Цзянси (в районе Наньча-
на) и датируются III—IV вв. Среди них находилось уже
известное нам блюдо с изображением Сокровенной Девы
Девяти Небес, a также изделия — блюдо, шкатулка — с
росписями на придворно-бытовые темы. Все они отличают-
ся сложностью композиционного построения, многочис-
ленностью фигур, a также изысканностью и детализован-
ностью самого рисунка, в котором показаны мельчайшие
детали натуры: прически и головные уборы персонажей,
их лица, одеяния, многочисленные окружающие предме-
ты, колесницы и т. д. Как таковые данные росписи отчет-
812
ливо вторят ханьскому погребальному изобразительному
искусству.
В целом же создается впечатление, что лаковое произ-
водство эпохи Шести династий оставалось в пределах тех
технико-художественных способов, которые были освоены
в Китае еще при Чжоу, и не обогатилось в отличие от
остальных видов национального декоративно-прикладного
искусства сколько-нибудь приметными новациями.
Качественно новый этап в истории китайского лакового
производства наблюдается только с танской эпохи, ознаме-
новавшейся расцветом техники пинто, заключающейся в
исполнении по лаковому покрытию орнамента из золотой и
серебряной фольги. В какой-то степени лаки-тшнто тоже
продолжили декорировочные способы, изобретенные поздне-
чжоуским лаковым производством, но достигли технологи-
ческого и художественного совершенства. В такой технике
вновь исполнялись предметы самых разных категорий и
отделов: шкатулки, ларцы, столовая утварь — чаши, блю-
да, палочки для еды, зеркала. Такие изделия сохранились в
коллекции Сёсоин, к ним за последние десятилетия добави-
лось внушительное число археологических находок. Тан-
ские пинто отличаются поразительным тематическим бо-
гатством и тщательностью исполнения орнаментов. В них
воспроизводятся целостные сцены с преобладанием изоб-
ражений птиц и цветов, насыщенных всевозможными вспо-
могательными элементами и деталями. Параллельно в тан-
ское декоративно-прикладное искусство приступило к ос-
воению и некоторых других способов работы с лаком,
которым впоследствии предстояло трансформироваться в
самостоятельные технико-художественные виды. Но и этот
процесс совершенствовался несколько веков. В заключи-
тельную стадию своего развития, когда оформились все тех-
нико-художественные виды, лаковое производство традици-
онного Китая вступило только в минскую эпоху.
Для минской и цинской эпох выделяется 9 основных
технико-художественных лаковых изделий, большая часть
которых подразделяется на несколько видов: изделия с
цветным лаковым покрытием, расписные лаки, рельефные
лаки, резные лаки, инкрустированные лаки, уже знако-
мый нам лак-пинто, лаки с золотой гравировкой, «коро-
мандельский лак» и «сухой лак».
Изделия с цветным лаковым покрытием подразделяют-
ся на монохромные лаки, лаки с золотым покрытием и
лаки с золотым краплением.
Первая из перечисленных технико-художественных раз-
новидностей включает в себя изделия с однослойным лако-
вым покрытием, поверх которого нанесен прозрачный лак.
Их цветовая гамма охватывает черный, красный, желтый,
зеленый, коричневый и пурпурный цвета. В такой технике
исполняются преимущественно столовая утварь и предметы
повседневного использования. Заготовки для них делаются
из дерева, папье-маше, ткани и проволочного плетения. Го-
товые изделия внешне напоминают монохромную керамику
или производят впечатление вырезанных из камня.
425 Эта техника наиболее
широко применялась в тради-
ционном Китае при изготов-
лении ритуально-церемони-
альной утвари и предметов
мебели. Для непосредственно
мебельного дела она возводит-
ся в письменных источниках
к южносунской эпохе и к рабо-
те столичных (ханчжоуских)
мастерских, обслуживавших
двор.
426 В цинскую эпоху эта
техника использовалась в ос-
новном в качестве вспомога-
тельной: для создания фона,
по которому исполнялись рос-
писи или инкрустации.
Лак с золотым покрытием исполняется путем нанесе-
ния на сырую лаковую поверхность сплошного слоя золо-
той пудры или ее обкладку золотой фольгой, поверх кото-
рых тоже наносится прозрачное лаковое покрытие425.
Лак с золотым краплением (кит. шацзиньци, «лак с
разбрызганным золотом») тоже предполагает нанесение на
сырую лаковую поверхность золотой пудры или крошеч-
ных чешуек золотой фольги, но либо под различным уг-
лом, либо в виде узоров, либо неравномерным слоем —
словом, так, чтобы создавался эффект испещренной, пере-
ливающейся поверхности, который усиливается благодаря
верхнему прозрачному лаковому покрытию426.
Расписные лаки подразделяются на лаки с монохром-
ной росписью, с полихромной росписью, с росписью золо-
том и с росписью с золотом под цветным лаковым покры-
тием.
Расписные лаки, несмотря на столь внушительное чис-
ло разновидностей, пользовались в декоративно-приклад-
ном искусстве заметно меньшей популярностью, чем в древ-
ности и в эпоху Шести династий. Росписи могут быть са-
мого разного характера, однако начиная с минской эпохи
предпочтение отдается сюжетным сценам. Технология са-
мих росписей не претерпела особых изменений, не считая
того, что иногда они исполнялись и обычными (живопис-
ными) красками. Наибольшей сложностью отличается рос-
пись золотом, которая исполняется золотосодержащей ла-
ковой краской, поверх которой (по еще не просохшему
слою) наносится золотая пудра или аппликация из золотой
фольги (тоже рудимент древнего лакового производства).
Золотые росписи нередко комбинируются с полихромной и
с инкрустациями, в первую очередь перламутровой. Чет-
вертая из перечисленных разновидностей, как это следует
из ее названия, предполагает нанесение поверх росписи
цветного лакового покрытия.
Рельефные лаки изготавливаются путем формирования
орнамента из специально приготовленной для этого лако-
вой массы, состоящей из смеси обычной лаковой субстан-
ции и загустителя, в качестве которого могут употребляться
различные вещества, например древесный уголь. Рельеф-
ный орнамент может распространяться на всю поверхность
изделия либо образовывать отдельные фигуры и компози-
ции. В зависимости от дополнительной декорировки релье-
фа этот вид подразделяется на рельефно-расписные лаки,
лак с золотым рельефом и красный рельефный лак.
Рельефно-расписные лаки предполагают роспись рель-
ефного орнамента — всего или отдельных его участков.
Практикуется как монохромная, так и полихромная рос-
пись, в последнем случае — нередко с созданием колорис-
тических контрастов, например черные фигуры на крас-
ном фоне. Для исполнения лака с рельефным золотым по-
крытием употребляются два отдельных способа. В первом
из них рельеф покрывается слоем золотой пудры или рас-
крашивается золотой краской. Во втором — формируется
из слоев лака и золотой пудры. Роспись золотой краской и
814
нанесение золотои пудры тоже могут производиться как по
всей поверхности рельефа, так и по его отдельным фигу-
рам и деталям427. Во втором из названных способов рельеф
наращивается посредством чередования слоев из лака и
золотой пудры и после высушивания — дополнительно про-
рабатывается резьбой428. Красный рельефный лак форми-
руется из лаковой массы соответствующего цвета и исполь-
зуется в качестве заменителя резного красного лака.
Резные лаки (дяоци) — изделия, украшенные резьбой,
выполненной по слоям лака, последовательно нанесенным
на грунтовое покрытие. Всего может быть нанесено от 38
до 200 слоев, каждый из них должен проходить отдельную
сушку и, для особо высококачественных лаков, полиров-
ку. Сама по себе техника резьбы по лаку появилась в Китае
предположительно при Сун. В дальнейшем резной лак пре-
вратился в самый популярный технико-художественный
вид, который тоже подразделяется исходя из характера
резьбы и цвета лакового покрытия на три основные разно-
видности: «мраморный лак», красный резной лак и поли-
хромный резной лак.
«Мраморный лак» (янси), называемый также «лак с
облачной резьбой» (юнъдяоци), a в европейском искусство-
ведении известный под японским термином гуриу является
стадиально первой разновидностью резного лака, которая,
возникнув при Сун, утвердилась в южно-сунскую и юань-
скую эпоху. Это — изделия красного цвета, сплошь покры-
тые рельефным геометрическим орнаментом с преоблада-
нием спиралевидных узоров («двойное колесо», «ленточ-
ная петля», «облачный» узор, см. вклейку). Кроме резьбы,
применяется частичная окраска рельефной поверхности
черной или золотой (желтой) красками, что придает релье-
фу оптический эффект бронзового литья429.
Красный резной лак (тихун, «открывающиеся [слои]
красного») — самая популярная разновидность китайских
лаков. От «мраморного лака» он отличается характером
резьбы и использованием неизмеримо более широкого ре-
пертуара орнаментальных групп и мотивов, включая сю-
жетные сцены и подлинно живописные композиции. В хо-
де своей эволюции красный резной лак претерпел немало
технологических и художественных изменений, которые слу-
жат достаточно надежными показателями для атрибуции
изделий. Для XV в. (т. е. середины минской эпохи, когда и
начался расцвет изготовления данной разновидности) ха-
рактерны изделия, резьба которых выполнена мягкими,
округлыми линиями, без резких углов и с преобладанием
геометрических мотивов, что делает их подобием «мрамор-
ного лака».
К концу XV — началу XVI в. резьба становится все
более резкой и угловатой, намечается тенденция к разде-
лению фонового орнамента и основных орнаментальных
фигур. С первой трети XVI в. в качестве фона, прежде
чаще всего гладкого, начинает использоваться «парчовый
узор» — тонко вырезанный и стилизованный под тканое
плетение. Основные орнаментальные композиции все более
427 Иногда они сочетаются
с аппликациями из золотой и
серебряной фольги, что при-
дает изображениям дополни-
тельную пластичность: так,
скажем, передается извиваю-
щееся чешуйчатое тело дра-
кона.
428 При Цин в технике лака
с золотым рельефом чаще все-
го исполнялись вставки, укра-
шающие деревянные поверхно-
сти (дверей, мебели), которые
производили впечатление зо-
лотого литья.
429 в Такой технике произ-
водилась столовая утварь, пре-
имущественно блюда, шкатул-
ки и вазы. Сохранившись в
качестве отдельной художе-
ственной разновидности, «мра-
морный лак» уступил место в
цинскую эпоху двум другим
родственным ему разновидно-
стям.
815
430 Еще одна опознаватель-
ная особенность минских рез-
ных лаков (с середины
XVI в.) — наличие «указатель-
ных линий»: 4-5 слоев черно-
го лака, которые расположе-
ны через 10 слоев красного,
считая от грунтового покры-
тия. К XVII в. эти «линии»
полностью исчезли. Цинские
изделия отличаются, напро-
тив, неглубокостью красного
цвета и определенной туск-
лостью. Указанные различия
между минскими и цинскими
лаками объясняются прежде
всего тем, что технология дан-
ной технико-художественной
разновидности (секрет правиль-
ного наложения слоев лака)
была временно утрачена в пер-
вой половине XVII в. и восста-
новлена только в 1738 г.
431 Например, одно из из-
делий (коробочка) периода
Сюаньдэ имеет следующее че-
редование слоев: красный, зе-
леный, желтый, черный, крас-
ный, желтый, зеленый, крас-
ный, черный, желтый, зеленый,
черный, желтый, ,: красный,
желтый, зеленый, красный.
432 Пример — выполнен-
ная в XVIII в. коробочка в
форме персика, украшенная
сценой на тему деяний бес-
смертного Чжан Голао: вер-
хом на лошади он несется над
бушующими морскими вол-
нами, кишащими чудищами.
Фигура главного героя и изоб-
ражения обитателей морских
глубин оказываются красно-
го и желтого цветов, волн —
зеленого.
усложняются по тематике, тяготея к изображению живо-
писных произведений, и по технике: его элементы, с од-
ной стороны, дробятся, a с другой — приобретают барель-
ефные формы, отчетливо выделяясь на «парчовом» фоне.
Одновременно менялся и цвет лаковых слоев. В минских
изделиях они имеют коричневатый или лилововатый от-
тенок и глубокий насыщенный цвет, достигающий в сере-
дине XVI в. (годы Цзяцзин, 1522-1566) багрово-красного
тона. Кроме того, они обладают некоторой прозрачно-
стью — результат тщательной полировки каждого слоя430.
Своей наивысшей популярности красный резной лак дос-
тиг во время правления императора Цяньлуна, когда в
такой технике стал изготавливаться максимально широ-
кий набор изделий: украшения, предметы утилитарно-
декоративного (шкатулки, вазы) и чисто декоративного
(например, модели построек) назначения, мебель. Парал-
лельно резьба по лаку стала дополняться и другими деко-
рировочными способами с использованием вспомогатель-
ных художественных материалов: аппликациями из по-
золоченной меди, вставками из резного нефрита, эмалей
и чеканки. И наконец, при Цяньлуне ведущим центром
производства красного резного лака, наряду с пекински-
ми мастерскими, стали и мастерские Сучжоу (пров. Цзян-
су), которые до сих nop сохраняют за собой этот статус.
Полихромный резной лак (кит. тици, «прорезной лак»)
исполняется путем нанесения слоев лака различного цве-
та, с учетом которых и производится резьба. Считается,
что эта техника возникла еще во второй половине Сун, a ee
истоки лежат в танском оружейном деле: щиты из верблю-
жьей кожи, на которые наносилось несколько слоев черно-
го и красного лака. Полихромные лаки могут состоять из
слоев до четырех различных цветов — красного, зеленого,
желтого и черного, которые идут в различной последова-
тельности431. В результате такая техника позволяет созда-
вать весьма богатые по цветовой гамме композиции432. Од-
нако чаще исполнялись и продолжают исполняться резные
лаки, выдержанные в двухцветном сочетании, как правило,
контрастном — красный и зеленый цвета (см. вклейку).
Инкрустированные лаки, в зависимости от техники
исполнения инкрустации и используемых в ней художе-
ственных материалов, делятся на три основные разновид-
ности: резной лак с лаковой инкрустацией, инкрустиро-
ванный лак с лаковой инкрустацией, лак с перламутровой
инкрустацией.
Резной лак с лаковой инкрустацией представляет собой
как бы промежуточную технику между собственно резным
и инкрустированным лаком. Он исполняется путем проведе-
ния резьбы по многочисленным лаковым слоям с последую-
щим заполнением образовавшихся пустот разноцветными
лаковыми массами. Для этой разновидности типично так-
же сочетание инкрустации с росписями. Инкрустирован-
ный лак с лаковой инкрустацией вновь исполняется двумя
отдельными способами. В первом из них по лаковому по-
крытию исполняется гравировка, и полученный орнамент
816
тоже заполняется разноцветными лаковыми массами. Пос-
ле просушки и полировки такая инкрустация производит
впечатление полихромной росписи. Второй способ заклю-
чается, напротив, в формировании низкорельефных конту-
ров орнамента, которые после заполнения промежутков
между ними лаковыми массами выглядят кантом, обрам-
ляющим расписной или вышитый орнамент.
Техника перламутровой инкрустации тоже насчитыва-
ет несколько способов, зависящих на этот раз от особенно-
стей инкрустационного материала: могут использоваться
как тонкие пластинки перламутра, которые выкладывают-
ся на лаковую поверхность наподобие мозаичного панно,
так и более толстые и предварительно художественно
оформленные фрагменты раковин, из которых формирует-
ся рельефный орнамент. В любом случае мастера стара-
лись подбирать каждый фрагмент перламутра таким об-
разом, чтобы передать его естественную переливчатость.
Оба указанных способа возникли в юаньскую эпоху и до-
стигли своего расцвета при Цин, когда в технике перламут-
ровой инкрустации стали исполняться и крупногабарит-
ные — мебель — предметы. Выполненные, как правило,
на черном лаковом покрытии, перламутровые инкруста-
ции нередко дополняются вставками из золотой и серебря-
ной фольги и золотыми росписями433. Кроме перламутра, в
качестве инкрустационных материалов могли применять-
ся и многие другие вещества: благородные, цветные и даже
черные (железное литье) металлы, минералы (нефрит, би-
рюза), коралл, янтарь, слоновая кость, рог носорога, чере-
паховый панцирь, древесина434.
Лаки с золотой гравировкой — изделия с тончайшим
гравированным орнаментом, который заполняется золотой
или серебряной пудрой. Существует две их разновидности,
возникшие при Мин. В одной из них гравировка исполня-
лась острым инструментом и воспроизводила целые живо-
писные композиции или каллиграфические надписи. В дру-
гом, получившем название «простая линия» (цингоу), вы-
полнялись только контуры изображений. Несмотря на
художественную лаконичность, такие изделия пользова-
лись большой популярностью y образованной элиты. В этой
технике исполнялась и дворцовая утварь. В то же время
лаки с золотой инкрустацией в силу, с одной стороны,
относительной простоты и дешевизны их изготовления, a c
другой — сходства с «драгоценными изделиями», пользо-
вались и массовым спросом (в этом случае они украшались
сценами на популярные в простонародной среде сюжеты и
мотивы).
Термин «коромандельский лак» восходит к названию
побережья Индийского полуострова, служившего основным
перевалочным пунктом для экспорта китайских изделий в
Европу. Поэтому в европейском искусствоведении данная
техника иногда принимается за сугубо экспортную, по ана-
логии с гуанчжоуским расписным фарфором. На самом же
деле, обозначаемая в собственно китайской терминологии
как гуанъцай, она возникла еще при Мин и на первых
52 История искусства Китая
433 В некоторых региональ-
ных лакопроизводящих цен-
трах совместно (или вместо) с
перламутром использовалась
яичная скорлупа, тоже допол-
ненная золотыми росписями.
434 Хотя они не привели к
выделению отдельных тех-
нико-художественных разно-
видностей, подобные инкрус-
тации широко использовались
в декоративно-прикладном ис-
кусстве минской и цинской
эпох, особенно в мебельном
деле. Функционировало и не-
сколько специализировав-
шихся на них центров, один
из которых располагался в
Янчжоу (пров. Цзянсу).
817
порах использовалась для изготовления различных изделий.
Постепенно она стала применяться преимущественно в ме-
бельном деле — для отделки столов, секретеров, шкафов.
Ав начале Цин (при Канси) так стали изготавливаться на-
польные ширмы, которые под названием «коромандельские
ширмы» быстро попали в Европу и затем действительно ста-
ли массово производиться на экспорт. Техника «короман-
дельского лака» является одной из наиболее сложных, со-
вмещая в себе различные способы работы с лаком. На заго-
товку, в качестве которой обычно используется шелк,
наносится слой лаковой массы, покрываемый черным или
цветным лаком. По полученной поверхности, по заранее
нанесенному на нее рисунку, производится резьба. Затем
лаковая масса выбирается изнутри и образовавшиеся пус-
тоты заполняются разноцветными лаками или какими-либо
другими веществами, приготовленными на масляной осно-
ве, которые поддаются формовке в легком рельефе. В ре-
зультате из них исполняются любые по тематике художе-
ственные композиции, отличающиеся многоцветием, насы-
щенностью композиционного пространства и тонкостью
проработки деталей. Сами по себе «коромандельские шир-
мы» — это крупногабаритные изделия высотой от 177 до
275 см, состоящие из нескольких — 4, 6, 8 или 12 панелей,
декорированных с обеих сторон. Центральную часть панелей
занимают, как правило, целые панорамные картины, вос-
производящие пейзажные виды, дворцовые ансамбли и т. д.
«Сухой лак» (тутайсян) — самая самобытная и спе-
цифическая по характеру ее применения лакопроизводя-
щая техника. Она была изобретена при Мин в провинции
Сычуань для изготовления монументальной скульптуры.
Деревянный каркас, намечающий контуры будущего изоб-
ражения, обертывается несколькими слоями шелковой или
дерюжной ткани, которые пропитываются лаком. Затем из
них формируется скульптурное изображение, поверхность
которого покрывается слоем золотой пудры или обклады-
вается золотой фольгой с нанесением поверх них прозрач-
ного лакового покрытия (т. е. обрабатывается в технике
лаков с золотым покрытием). Полученная скульптура про-
изводит впечатление отлитой из бронзы. Эта техника по-
зволяла изготавливать монументальные изображения вы-
сотой до 2,5 м и наиболее активно применялась в буддий-
ском культовом изобразительном искусстве как в самом
Китае, так и в других странах Дальневосточного региона, в
первую очередь в Японии. Ее популярность объясняется
еще и тем, что лаковые скульптуры очень легкие и могут
переноситься с одного места на другое одним человеком.
В целом, лаковое производство служит одним из самых
убедительных примеров важнейших типологических осо-
бенностей китайского декоративно-прикладного искусст-
ва: устойчивости его технологических приемов и орнамен-
тальных средств, постоянной тенденции к сочетанию в од-
ном изделии различных производительных методов и
художественных материалов, a также к стилизации одних
видов изделий под другие.
ЭМАЛЬЕРНОЕ сЛ
ДЕЛО
ГЛАВА
Перегородчатые эмали (émail cloisonné) являются древней-
шей техникой мирового эмальерного дела, которая была
освоена мастерами Древнего Египта и античного мира, от-
куда она затем проникла в Византию и на Ближний Вос-
ток. В арабском и европейском ее исполнении она состоит
из напаивания на золотую поверхность перпендикулярно
расположенных по отношению к ней тонких золотых пере-
мычек, которые и образуют ячейки (cloison) для внутрен-
них и внешних контуров изображений, заполняемые раз-
ноцветными стеклянными массами. Изобретение уже в
Древнем Китае (период Борющихся царств) техники «яче-
ечной инкрустации» и освоение изготовления стекла со-
здали, казалось бы, все необходимые предпосылки и для
возникновения собственного эмальерного дела. Однако это-
го не произошло. Эмальлерное дело возникло в Китае ори-
ентировочно при Юань, и под непосредственным воздей-
ствием чужеземного декоративно-прикладного искусства
тогда же стали изготовляться непосредственно перегород-
чатые эмали435. Однако о начальном этапе их развития
известно только по литературным описаниям изделий, ко-
торые приводятся в записках европейских путешественни-
ков и миссионеров, обнародованных в ХѴ-ХѴІ вв. В них
говорится о предметах, выполненных, судя по приведен-
ным сведениям об их внешнем виде, именно в технике
перегородчатых эмалей с использованием эмалей черного,
красно-коричневого и темно-синего цветов. Письменная ин-
формация ограничена и отсутствуют подлинные артефак-
ты, поэтому история китайских перегородчатых эмалей
обычно рассматривается начиная с минской эпохи.
Технология китайских перегородчатых эмалей в том
виде, в каком она окончательно сложилась к началу Цин,
состоит из следующих основных операций и процедур. Сна-
чала из тонких листов меди или в отдельных случаях из
золота и серебра прессуют либо выковывают форму изде-
лия. Лист прижимается к чугунной болванке, и мастер
придает ему с помощью ударов молоточка нужные изгибы
ПЕРЕГОРОДЧАТЫЕ
ЭМАЛИ
(ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
И ОСНОВНЫЕ
ЭТАПЫ ИСТОРИИ
РАЗВИТИЯ)
435 Вплоть до недавнего вре-
мени в специальной литера-
туре преобладала точка зре-
ния о проникновении в Ки-
тай техники перегородчатых
эмалей еще при Тан из Ви-
зантии или арабского мира.
Эта точка зрения опиралась
на один-единственный арте-
факт — зеркало из собрания
Сёсоин. Выполненное в форме
12-лепесткового цветка лото-
са, оно украшено с оборотной
стороны узором из светло-зеле-
ных и коричневато-зеленых
эмалей, помещенных в ячей-
ки из серебряной и золотой
проволоки. Однако в новей-
ших исследованиях принятая
ранее его атрибуция подвер-
гается серьезным сомнениям.
Оно считается изготовленным
в Японии не ранее XVII в.
819
436 Or него до нас дошло
немало подлинных артефак-
тов, в основном — предметы
культово-церемониальной ут-
вари (курильницы) и столо-
вой посуды (блюда, тарелки),
позволяющие точно устано-
вить все особенности ранне-
минских эмалей.
и грани. В случае усложненной архитектонической компо-
зиции изделия к форме припаиваются необходимые допол-
нительные детали. Затем на готовую поверхность наносится
рисунок, по которому припаиваются заранее подготовлен-
ные перегородки. Они изготавливаются из расплющенной
медной или латунной проволоки с доведением ее до тонкой
узкой ленты около 3 мм шириной. Мастер нарезает ленту
на кусочки нужной длины и, положив кусочек на медную
пластину, лежащую на рабочем столе, изгибает его в соот-
ветствии с рисунком просто с помощью пальцев или пинце-
та. Изготовленные заранее элементы орнамента прикрепля-
ются ребром к поверхности изделия посредством клейкой
пасты и посыпаются припоем из тщательно размельчен-
ных серебряных опилок.
Далее следует обжиг изделия, во время которого клей-
кая паста сгорает, a серебро тонкой пленкой распределяет-
ся по всей поверхности, прочно прикрепляя перегородки к
основе. Полученные ячейки заливаются, при помощи спе-
циальной маленькой ложечки, эмалями из порошкообраз-
ного стекла, смешанного с водой до кашеобразной конси-
стенции. Для получения смешанных цветов ячейки могут
заполняться по 3-4 раза, и вся эта процедура может зани-
мать до 6-8 часов. После окончательного заполнения яче-
ек изделие проходит повторный обжиг на каменном угле в
течение 10 минут. Остывшую, неровную и шероховатую
поверхность полируют (иногда в течение нескольких дней),
вручную вращая изделие, насаженное на палку, и обраба-
тывая его вначале карборундом (кристаллическое веще-
ство высокой твердости, представляющее собой карбид крем-
ния, или соединение кремния с углеродом) с водой, a по-
том угольной пылью с маслом. Свободные от эмали части
поверхности и выступающие ребра перегородок могут по-
крываться золотом и серебром. Обработка изделия завер-
шается окончательной полировкой, теперь уже для прида-
ния блеска металлическим элементам.
Все описанные операции и процедуры прошли, есте-
ственно, через определенные эволюционные стадии. Ис-
ходя из них историю китайских перегородчатых эмалей
на протяжении минской и цинской эпох принято подраз-
делять на несколько самостоятельных этапов, которые ча-
стично совпадают с периодами истории развития фарфора
и ориентируются на время правления тех же самых импе-
раторов.
Первый из эволюционных этапов китайских перего-
родчатых эмалей соотносится с XV в., конкретно со вре-
менем правления под девизом Сюаньдэ436. Для него было
характерно, во-первых, использование литой бронзовой
основы и бронзовой же проволоки, но выполненной из
металла, имеющего несколько иной, чем собственно брон-
за, химический состав: с высоким процентным содержа-
нием (до 20-30%) цинка и маленьким (не более 1%) свин-
ца и олова. Такой сплав обладает специфическим желтым,
напоминающим цвет золота, оттенком. Раннеминским эма-
лям также присущи тщательность работы с проволокой
820
и углубленность (до 0,6 мм) ячеек. Края проволок часто
выступают над поверхностью и покрыты позолотой, что
делает изделие внешне похожим на обтянутое парчовой
тканью. И наконец, ручки обычно делались отдельно и
припаивались к корпусу изделия уже после завершения
эмальерной работы. Они могли иметь отдельный декор,
нередко выполненный в технике выемчатой эмали. Что
касается форм изделий, то они восходят к бронзовым и
лаковым сосудам.
Во-вторых, раннеминские эмали отличаются относитель-
ной лаконичностью цветовой гаммы и стандартностью ор-
наментальных сюжетов и схем. Используются эмали толь-
ко 7 цветов: бирюзового, ярко-лазоревого (с пурпурными
вкраплениями), темно-красного (могущего приближаться
к шоколадному с красноватым отливом), желтого, белого и
темно-зеленого (нередко приближающегося к черному). В ор-
наментации преобладает однотипный узор, который рас-
пространяется на всю поверхность и состоит из повторяю-
щихся бутонов лотоса желтого, красного, белого и ярко-
синего цветов, даваемых в обрамлении зеленых побегов и
листьев (см. вклейку). Вспомогательным орнаментальным
элементом нередко служит кайма из «облачного» узора, иду-
щая по ободу. Фоновый узор практически отсутствует437.
В конце XV в. в эмальерном деле наметились качествен-
ные технико-художественные изменения, которые в пол-
ной мере реализовались на следующем этапе его развития
(XVI — начало XVII в.). Этот этап характеризуется, преж-
де всего, расширением географии эмалепроизводящих цент-
ров с утверждением частных мастерских, выпускавших
своеобразную по репертуару, формам, технологическим
нюансам и стилистике продукцию. Тем не менее поздне-
минским эмалям также присущ ряд общих особенностей.
К важнейшим технологическим новациям того времени
относится переход (с начала XVI в.) от литой бронзовой
основы к выполненной посредством медной чеканки, и к
медной проволоке для перегородок. Для того чтобы при-
дать изделию необходимую устойчивость, эмалью теперь
покрывалась как внешняя, так и внутренняя поверхность.
Во-вторых, заметно возросла цветовая палитра эмалей. Еще
во второй половине XV в. в практику эмальерного дела
вошел способ создания новых цветовых оттенков путем
заполнения ячеек несколькими эмалевыми пастами. Так
как китайские мастера в то время еще не овладели умени-
ем сплавлять пасты до их полного смешения, то получа-
лись комбинированные цвета, создававшие эффект испещ-
ренной поверхности438. В конце XVI в. исходные пасты
стали уже полностью смешиваться, и к XVII в. палитра
китайских эмалей достигла 12 цветовых групп. Парал-
лельно усложнились формы, репертуар и орнаментальные
принципы изделий. Расширение набора форм изделий про-
исходило в том числе за счет копирования образцов ближ-
невосточной («персидские кувшины») утвари. Отделы и
категории эмалей дополнились камерной пластикой —
статуэтками животных, птиц и чуть позже (в XVII в.) —
437 Правда, наряду с подоб-
ными однотипными по свое-
му художественному оформ-
лению изделиями есть и уни-
кальные образцы. Например,
кувшин, украшенный изобра-
жениями «императорских»
драконов на фоне облаков и
волн. Фигуры драконов вы-
полнены эмалями ярко-желто-
го цвета, a облака и волны —
лазурно-голубого, темного (ко-
бальтового) синего, белого и
темно-зеленого цветов.
438 Наиболее часто в эма-
лях второй половины XV в.
присутствует «минский розо-
вый» цвет, полученный в ре-
зультате заполнения ячейки
красной и белой пастами. В на-
чале XVI в. к нему добавились
желто-зеленый и бирюзово-
зеленый комбинированные цве-
та, a также характерная полу-
прозрачная коричневая эмаль,
на этот раз уже сплавленная
из красной и желтой паст.
821
439 Такие статуэтки, высо-
та которых обычно 15-20 см,
могли исполняться в двух ос-
новных стилистических ма-
нерах: в реалистической и ус-
ловно-архаической, будучи
стилизованными под древнюю
пластику.
440 В случае копирования
минских изделий цинскими
мастерами могла использо-
ваться также бронзовая про-
волока, a при исполнении осо-
бенно дорогих заказов — зо-
лотая.
441 Так, по приказу импе-
ратора Юнчжэна для одного
из столичных буддийских мо-
настырей был выполнен ком-
плект из пяти курильниц,
двух ваз (по 1,8 м в высоту) и
серии зооморфных изваяний.
Несколько предмееов из это-
го комплекта, включая пар-
ные скульптуры слонов, в пер-
вой половине XIX в. были
вывезены в Россию и в настоя-
щее время хранятся в Эрми-
таже. Самыми масштабными
цинскими изделиями в тех-
нике перегородчатой эмали
считаются парные изваяния
львов (2,4 м в высоту), кото-
рые были изготовлены в пе-
кинских мастерских в конце
XVII — начале XVIII в. тоже
для буддийского храма.
людей. Ее стандартными персонажами являются утка, пе-
репелка, журавль, слон, бык, баран439. Изменения в орна-
ментике изделий коснулись, во-первых, размеров ячеек, ко-
торые все более уменыпались и уплотнялись, в результате
чего стал уплотняться и дробиться сам орнамент. Во-вто-
рых, появился фоновый узор. В-третьих, в художественное
оформление эмалей стали вводиться разнообразные компо-
зиции, включая развернутые живописные панно, воспро-
изводящие сюжетные и пейзажные сцены. Особое распро-
странение получили композиции в жанре «цветы и птицы»
с детальной проработкой всех элементов и нюансов изобра-
жений: птичьего оперенья, листвы (см. вклейку).
Следующий этап истории перегородчатых эмалей при-
ходится на первую половину цинской эпохи, когда этот
вид декоративно-прикладного искусства достиг, подобно
фарфору, своего наивысшего расцвета. Этому в немалой
степени способствовала работа казенных эмальерных мас-
терских, учрежденных, напомним, по приказу императора
Канси. Важно, что в них использовался опыт европейского
эмальерного дела, позволивший китайским мастерам не
только усовершенствовать технику перегородчатых эмалей,
но и освоить новые для них виды эмалей. Важнейшим
технологическим заимствованием стало использование (с на-
чала XVIII в.) проволоки, изготовленной способом протя-
гивания, a не ковки. Такая проволока отличалась боль-
шей, чем кованая, прочностью и не растрескивалась, по-
добно ей, во время обжига, с чем мы нередко встречаемся в
эмалях второй половины XVII в.440 Еще одним технико-
художественным достижением цинского эмальерного дела
правомерно считать выпуск крупногабаритных изделий.
Для светской придворной утвари таковыми стали контей-
неры для хранения льда, нередко выполняемые в виде сю-
жетных пластических композиций. Наиболее же активно
изготовлялись крупногабаритные эмали, включая скулыі-
туры, предназначенные для буддийских храмов441.
Репертуар категорий и форм изделий не претерпел су-
щественных изменений, однако цинские мастера заметно
смелее и охотнее, чем их предшественники, эксперименти-
ровали с архитектоникой предметов, обращаясь при этом к
образцам как национального (древним бронзам, лакам, не-
фритам, фарфору), так и зарубежного декоративно-при-
кладного искусства, копируя, в том числе, и ближневос-
точную посуду, и тибето-буддийскую культовую утварь, и
европейские изделия. Кроме того, в технике перегородча-
тых эмалей теперь стали массово создаваться отдельные
декоративные элементы и целые панно, шедшие на укра-
шение мебели, например столешниц.
Что касается тематики орнаментальных композиций
и их цветовой гаммы, то они существенно варьируются на
всем протяжении раннецинской эпохи, подчиняясь об-
щим для того времени стилистическим направлениям и
модным веяниям. Так, в эмалях конца XVII в. наблюда-
ется некоторое упрощение по сравнению с позднемин-
ским эмальерным делом цветовой гаммы. В начале XVIII в.
822
в орнаментику изделий стала вводиться розовая эмаль,
выполненная по той же рецептуре, что и розовая краска
для росписей по фарфору. Изделия периода правления
Цяньлуна характеризуются очередным усложнением цве-
товой гаммы, сопровождавшимся возрастанием плотно-
сти ячеек, детализованности изображений и узоров. Наи-
болыыее распространение в них получили эмали темно-
бирюзового, темно-зеленого (но иного, чем при Мин,
оттенка), желто-зеленого (в нескольких колористических
вариантах), пурпурного, лилового, насыщенного синего и
розового цветов (см. вклейку).
После периода упадка в XIX — начале XX в. эмальер-
ное дело оказалось одним из первых видов китайского деко-
ративно-прикладного искусства, возрождение которого на-
чалось сразу же после образования КНР, чему во многом
способствовала поддержка его со стороны центрального пра-
вительства и администрации Пекина442. В 1952 г. были
открыты специальные экспериментальные мастерские, пред-
назначенные для проведения дальнейших технико-худо-
жественных поисков. И в том же году состоялась первая
всекитайская выставка эмалей, на которой были представ-
лены как коллекционные образцы, так и предметы массо-
вого спроса. Последующая история китайского эмальерно-
го дела показала, что оно сохранило свою способность к
восприятию художественных новаций. Так, в эмалях, со-
зданных во второй половине 1950-х гг., активно исполь-
зуются темы и сюжеты ставших известными в то время
стенописей Могао, в I960-1970-х гг. — орнаментальное
богатство древнекитайского, в первую очередь чуского, по-
гребального искусства. В настоящее время главным цент-
ром эмальерного дела по-прежнему являются мастерские
Пекина, в которых выпускаются всевозможные изделия
широкого потребления и сувенирная продукция: чайные,
кофейные и винные сервизы, пепельницы, коробочки, шка-
тулки, вазы, украшения.
Кроме перегородчатой эмали, китайским декоративно-
прикладным искусством был освоен выпуск и многих дру-
гих видов эмали.
442 Уже в 1949 г. при Пе-
кинском городском управле-
нии была создана государ-
ственная комиссия, призван-
ная проводить консультации
и помогать частным мастерам
в их работе и сбыте выпускае-
мой художественной продук-
ции. Более 700 мастеров-эма-
льеров, проживавших на тот
момент в столице, получили
возможность вступить в офи-
циальное творческое объеди-
нение.
Из других эмальерных техник, освоенных китайским
декоративно-прикладным искусством, важнейшее место
занимают выемчатые и расписные эмали.
Техника выемчатых эмалей (émail chamlève) восходит
к искусству кельтских племен римского времени и впо-
следствии получила наибольшее распространение в Европе
в XII — начале XIII в. Главными европейскими центрами
ее производства были немецкие и французские мастерские
Мааса, Нижнего Рейна и Лиможа. Эмальерные работы в
этой технике исполняются преимущественно на медной или
бронзовой основе: в металлической поверхности с помо-
щью долота или штихеля проделываются неглубокие вы-
емки, которые заполняются опаковой (с добавлением оло-
ва) стеклянной массой.
ДРУГИЕ ВИДЫ
КИТАЙСКИХ
ЭМАЛЕЙ
823
443 Древнейшим образцом
китайских выемчатых эмалей
оказывается фрагмент «лото-
сового трона» из коллекции
Сёсоин (в настоящее время
хранится в Археологическом
музее Киото). Выполненный из
позолоченной бронзы и укра-
шенный эмальерным орнамен-
том, он датируется танской
эпохой и признается собствен-
но китайским артефактом.
Однако он остается абсолют-
но уникальным изделием как
с технологической, так и с
художественной точки зре-
ния: украшающий его орна-
мент заметно отличается по
стилистике от эстетических и
декоративных принципов тан-
ского искусства.
444 Таковы, например, хра-
нящиеся в европейских му-
зеях предметы: чайник на
подставке с горелкой, ими-
тирующий серебряную фор-
му чайной посуды времен Ге-
орга II; кувшин, повторяю-
щий «персидские кувшины»;
коробочка, в орнаментике ко-
торой сочетается пасторальная
сцена (копия с картины гол-
ландского художника Давида
Теньерса) с фигурами драко-
нов, имитирующих изображе-
ния на древних бронзах.
446 О том, насколько успеш-
но она была освоена китай-
скими мастерами, можно су-
дить по одному из изделий
того времени: блюдо с фоно-
вым орнаментом из серебря-
ной фольги, покрытой голу-
бой эмалью, поверх которой
идет узор, выполненный эма-
левыми красками зеленого,
красного и кабачкового цве-
та, тоже наложенными на се-
ребряную фольгу.
Подлинная история китайских выемчатых эмалей Hay-
ice все еще неизвестна443. Устойчивое употребление такой
техники отмечено только для минской эпохи, но в сочета-
нии, как об этом упоминалось чуть ранее, с перегородчатой
эмалью — исключительно для отделки вспомогательных
деталей сосудов. A ее выделение в самостоятельную форму
местного эмальерного дела произошло лишь в начале XVII в.
(в период правления Канси) и под непосредственным воз-
действием лиможских произведений, доставляемых ко двору
христианскими миссионерами.
Основным центром производства выемчатых эмалей
сразу же стали пекинские казенные мастерские, изделия
которых получили в Европе терминологическое обозначе-
ние «бейджинские эмали». Чуть позже, в 20-х гг. XVIII в.,
разбираемая техника получила широкое распространение
в мастерских Гуанчжоу при выпуске экспортной продук-
ции, известной (по старому названию этого города — Кан-
тон) как «кантонские эмали». «Кантонские эмали», подоб-
но экспортному фарфору, чаще всего воспроизводили евро-
пейские или какие-либо другие чужеземные формы и
орнаментировались в европейском или «национально-экс-
портном» стиле444.
Помимо ячейчатой эмали, в Китай проникли и некото-
рые другие европейские эмальерные техники, которые тоже
использовались в казенных мастерских, в первую очередь
прозрачная эмалъ no серебру (basse taille). Эта техника
состоит из исполнения орнамента, который либо вырезает-
ся в неглубоком рельефе по серебряной основе, либо фор-
мируется из серебряной фольги и затем покрывается про-
зрачной эмалью, в результате чего серебряный фон отра-
жает проникающий свет. В Китае пик популярности данного
вида техники пришелся на XVIII — XIX в., когда в ней
изготавливались и предметы столовой посуды (блюда), и
туалетные принадлежности (шкатулки)445. Несмотря на
отдельные всплески популярности разобранных эмальер-
ных техник и их бесспорные технико-художественные дос-
тижения, они все же остались в целом на периферии ки-
тайского декоративно-прикладного искусства. Несколько
по-иному сложилась судьба расписных эмалей.
Китайские расписные эмали представляют собой ме-
таллические изделия, покрытые белой непрозрачной эма-
лью, по которой идут росписи, выполненные эмалевыми
красками. Термин «китайские расписные эмали» относи-
тельно hob. B предшествующей европейской литературе за
ними закрепилось терминологическое обозначение «кан-
тонские эмали», которое, во-первых, предельно затрудняет
дифференциацию выемчатых и расписных изделий. И, во-
вторых, не учитывает того обстоятельства, что расписные
эмали активно выпускались не только в Гуанчжоу, но и в
Пекине. В течение долгого времени расписные эмали счи-
тались крайне незначительным для китайского декоративно-
прикладного искусства художественным видом. Настолько
незначительным, что в оригинальных письменных источ-
никах ХѴШ-ХІХ вв. они практически не упоминаются.
824
Поэтому точное время и условия их возникновения по-
прежнему дискутируются специалистами.
В настоящее время признается, что расписные эмали
на самом деле не только пользовались большой популярно-
стью на местном рынке, но и являют собой весьма своеоб-
разный и чрезвычайно интересный в общекультурном ас-
пекте феномен китайского художественного творчества
цинской эпохи. Именно они оказались как бы на острие
взаимодействия национальных и европейских художествен-
ных традиций. В отличие от экспортного фарфора они из-
начально служили продукцией массового спроса, в усло-
виях всеобщего увлечения китайцами Европой, заменяя
привозные европейские изделия. Поэтому в них содержит-
ся множество прямых заимствований из европейского ис-
кусства, которые в сочетании с национальными орнамен-
тальными средствами и принципами вызвали к жизни ряд
технико-художественных новаций, не имевших себе пря-
мых аналогов в других видах китайского декоративно-при-
кладного искусства.
Наиболее вероятным временем появления техники рас-
писных эмалей в Китае на сегодня считается рубеж XVII-
XVIII вв., a их истоком — французские расписные эмали.
Период их становления приходится на первую половину
XVIII в., когда создавались в основном откровенные под-
ражания — как по формам, так и по декору — европей-
ским (не только, заметим, французским, но и немецким)
изделиям. Например, росписи золотом по черному фону,
прямые прототипы которых обнаруживаются среди лимож-
ских эмалей446.
Для XVIII в. выделяются два самостоятельных этапа
в эволюции расписных эмалей, которые соотносятся с пер-
вой (30-50-е гг.) и второй половинами правления Цяньлу-
на, когда, напомним, мода на «европейщину» достигла в
столичных кругах наибольшего размаха. Первый из этих
периодов отмечен обращением китайских мастеров к бо-
лее широкому, чем непосредственно европейские распис-
ные эмали, чужеземному художественному опыту, равно
как и к национальным традициям. Это сразу же привело
к стремительному расширению ассортимента форм изде-
лий, среди которых присутствуют предметы, воспроизво-
дящие и английскую серебряную утварь XVII — начала
XVIII в., и ближневосточные, и индийские, и собственно
китайские формы. Одновременно наблюдается примеча-
тельная закономерность: в росписях изделий, имеющих
чужеземные архитектонические прототипы, преобладаю-
щее место занимают китайские мотивы и сюжеты, тогда
как изделия традиционных китайских форм украшены
чаще всего росписями на европейские сюжеты. Так про-
исходила адаптация расписных эмалей к местным худо-
жественным требованиям. Еще более симптоматичным вы-
глядит появление особой группы изделий, восходящих по
формам к древним бронзовым сосудам. В их декоре перво-
очередное место занимают композиции в жанре «цветы и
птицы», идущие в обрамлении из поясов со стилизованным
446 Для изделий периодов
Юнчжэна и Цяньлуна типич-
ным является следующий те-
матический набор росписей.
Во-первых, сцены мужских
пирушек, в которых улавли-
ваются отголоски голланд-
ской станковой живописи; во-
вторых, медальоны с погруд-
ными или поясными (иногда
парными) изображениями дам
и кавалеров, которые по фор-
мату, набору атрибутов: ка-
валер с розой в руке или в
короне, сопровождаемый слу-
гой, дама, держащая плод,
похожий на гигантское ябло-
ко, — и некоторой гротескно-
сти деталей напоминают изоб-
ражения на европейских иг-
ральных картах.
825
447 Иллюстративный при-
мер: сцена, изображающая
европейскую даму, сидящую
под деревом с ребенком на
руках, но в руках y ребенка
виден жезл- жуиу a рядом с
дамой — фигура льва с «пы-
лающей жемчужиной».
цветочным орнаментом, выполненным в резерве по сине-
му полю, т. е. в технике, присущей изготовлению роспи-
сей по фарфору. Все прочие росписи, выполненные в на-
циональном стиле, тоже, подчеркнем, принципиально ни-
чем не отличаются от современных им росписей по фарфору
или художественных сцен, воспроизводимых на перего-
родчатых эмалях: в них получают, например, распростра-
нение композиции в гамме «розового семейства».
В то же время хорошо видно, насколько чутко распис-
ные эмали реагировали и на доходившие до Китая евро-
пейские художественные новации. Так, для росписей в ев-
ропейском стиле наиболее характерными в разбираемый
период стали мотивы и сцены, вторящие композициям в
стиле рококо (см. вклейку). Более того, их персонажи по-
казаны, как правило, в естественных, раскованных позах
и в одеждах, близких к французскому костюму периода
Регентства (1715-1730), т. е. соответствуют реалиям, бы-
товавшим в Европе всего на 2-3 десятилетия раньше.
И наконец, отчетливо прослеживается тенденция к эк-
лектическому сочетанию местной и европейской стилисти-
ки. Сцены на европейские сюжеты начинают дополняться
обрамлениями (геометрический орнамент, картуши с вет-
ками цветов), примыкающими к росписям по фарфору.
В рисунки вводятся традиционные китайские благопоже-
лательные образы и символы447. Еще более ярко данная
тенденция проявляется в росписях с растительными моти-
вами и композициями, в которых, наряду с пионами и
цветами персика и сливы, все чаще встречаются изображе-
ния европейских цветов — анютиных глазок, гвоздик.
Во второй половине XVIII в. характер росписей замет-
но изменился, что в равной степени коснулось и компози-
ций в жанре «цветы и птицы», и сюжетных сцен на нацио-
нальные и европейские темы, словно расписные эмали
искали свою стилистическую линию. В росписях в жанре
«цветы и птицы» преобладающее положение занял орна-
мент, выполненный на желтом фоне. Трактовки изобра-
жений тоже претерпели определенную трансформацию:
рисунок стал сухим, чрезмерно, пожалуй, детализован-
ным. Орнамент распространяется на всю поверхность из-
делия, далеко не всегда увязываясь с его формой. Для
росписей в гамме «розового семейства» розовый цвет не-
ожиданно приобрел малиновый оттенок, a их композиция
также сплошь и рядом оказывается перегруженной раз-
личными деталями. В самом конце XVIII в. происходит
сближение расписных эмалей с перегородчатыми. Появ-
ляются изделия, прямо стилизованные под них, в колори-
стической гамме которых преобладают ярко-бирюзовый и
синие цвета. Особую популярность приобретают сочета-
ния легкой, изящной полихромной живописи в картушах
с крупным цветочным орнаментом, расположенных по
темно-синему фону, с золоченым чеканным растительным
узором на плечиках изделий.
Первая половина XIX в. стала временем увлечения тех-
нической стороной эмальерного дела: использование но-
826
вых красителей, постоянные эксперименты с формами,
которые в конечном счете привели к снижению художе-
ственных достоинств расписных эмалей и превратили их в
ремесленную, по сути дела, продукцию. Рисунок отличает-
ся грубостью, композиции оказываются перенасыщенны-
ми деталями и пестрят яркими красками.
Общие антиевропейские настроения, охватившие Ки-
тай в XIX в., не коснулись степени популярности распис-
ных эмалей как таковых, но привели к новым изменениям
в их стилистике и характере орнаментации. Сцены на ев-
ропейские темы, единичные изображения европейцев и эле-
менты, идущие от европейского искусства, почти полно-
стью исчезли. На смену им пришли мотивы и образы, либо
заимствованные из художественного творчества стран Ближ-
него Востока и Юго-Восточной Азии, либо целиком опира-
ющиеся на национальный творческий опыт. Расписные
эмали окончательно утратили свои прежние связи с Евро-
пой и вошли в общее для местного декоративно-приклад-
ного искусства русло.
Итак, история развития китайского эмальерного дела
во всех его формах и техниках позволяет нам наглядно
проследить процесс восприятия национальным искусст-
вом чужеземных художественных реалий, их постепенно-
го приспособления к местному творческому опыту и пре-
вращения в органическую часть собственной художествен-
ной культуры.
Глава 16
АРХИТЕКТУРНО-ИНЖЕНЕРНОЕ
ИСКУССТВО
Глава 17
САДОВО-ПАРКОВОЕ
ИСКУССТВО
Глава 18
МЕБЕЛЬНОЕ ДЕЛО
И ИНТЕРЬЕР
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
АРХИТЕКТОНИЧЕСКИЕ
ВИДЫ
ИСКУССТВА
ГЛАВА
АРХИТЕКТУРНО-
ИНЖЕНЕРНОЕ
ИСКУССТВО
КУЛЬТУРНО-
ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ
СИМВОЛИКА,
ОСНОВНЫЕ
ПАМЯТНИКИ
и источники
ПО ИСТОРИИ
РАЗВИТИЯ
КИТАЙСКОГО
АРХИТЕКТУРНО-
ИНЖЕНЕРНОГО
ИСКУССТВА
448 В качестве конкретного
примера можно сослаться на
«Дворец беспределъного холо-
да» (Гуанханъгун), который,
по легенде, был явлен во сне
танскому императору Сюань-
цзуну. Существует и его жи-
вописное, созданное при Юань,
изображение, из которого яв-
ствует, что подобные «небес-
ные чертоги» представлялись
китайцам грандиозными двор-
цовыми ансамблями.
449 Данное сочетание упот-
ребляется и в современной
китайской лексике в значении
«космос, космический».
Строительство исходно, насколько это позволяют просле-
дить письменные источники, наделялось в Китае особы-
ми семантическими значениями. Во-первых, ему прида-
вался глубокий религиозно-ритуальный и космологиче-
ский смысл, что свойственно архаико-религиозному типу
мышления. Любая постройка, тем более культового на-
значения, мыслилась в нем специально организованным
пространством, противостоящим внешнему хаосу (при-
родным стихиям и враждебным по отношению к челове-
ку высшим силам) и, следовательно, служащим наиболее
благоприятным местом для общения людей с божествами
и духами. Bot почему во всех регионах мира возникает
традиция культового зодчества. Подобный магический
смысл изначально имела и практика обнесения жилищ и
поселений оградами. Высший мир и места обитания от-
дельных божественных персонажей тоже обычно мысли-
лись в древних культурах (Китай здесь не является исклю-
чением) в виде совокупности неких строений. В китай-
ских литературных произведениях содержится множество
описаний «небесных» и «чудесных» чертогов — резиден-
ций богов и духов448.
Во-вторых, организация мира соотносилась во многих
древних культурах со зданием, что находит отражение, в
частности, в русском языке — термин «мироздание». Ти-
пологически сходный термин существует и в Китае. Поня-
тие «вселенная» передавалось еще в чжоуской письменно-
сти через сочетание юйчжоу, основное словарное значение
первого из входящих в которое иероглифов — «стреха кры-
ши, дом», a второго — «балки, стропила»449. Следователь-
но, сам процесс строительства должен был неизбежно мыс-
литься в китайской культуре сакральным актом, в кото-
ром путем сооружения здания приводится в порядок все
мироздание. A планировочно-семиотические принципы от-
дельных строений и архитектурных ансамблей должны
были подчиняться космологическим представлениям и мо-
делям, с чем мы и столкнемся на всех уровнях китайского
архитектурно-инженерного искусства.
830
В-третьих, строительство находилось в Китае в генети-
ческом родстве и нерасторжимом единстве с государствен-
ностью и с институтом верховной власти, что также нахо-
дит отражение в языке. Для передачи процессов строитель-
ства и создания новой династии использовались одни и те
же термины, принадлежащие к строительной лексике, на-
чиная с иероглифа цзянъ — «строить, возводить»450. В ори-
гинальных письменных источниках также утверждается
наличие прямых семантических корреляций между разме-
рами и внешним видом строений и состоянием правящего
режима. Чем грандиознее и великолепнее возводятся зда-
ния, тем большим сакральным могуществом обладает их
хозяин (строитель), и обратная закономерность — для под-
тверждения и укрепления сакрального авторитета госуда-
ря требовалось возведение как можно большего количества
грандиозных и величественных построек. Вот почему каж-
дая новая династия, несмотря на экономические трудности
в стране, начинала свое правление с реконструкции или
строительства столицы и царской (императорской) рези-
денции, которые, как мы увидим далее, порой приобрета-
ли гигантские масштабы.
Из сказанного, думается, понятно, что национальное
архитектурно-инженерное искусство во всех своих аспек-
тах и проявлениях всегда находилось в фокусе внимания
китайской книжной культуры. Изложение взглядов на его
смысл и функции, описание строительных техник, отдель-
ных строений, храмовых, дворцовых ансамблей и городов
мы встречаем в самых разных классах письменных памят-
ников — от философских трактатов до поэтических произ-
ведений, к которым впоследствии добавились и специаль-
ные тематические сочинения. Полнота письменных свиде-
тельств оказывается столь существенной, поскольку от
древних эпох ни одного подлинного архитектурного соору-
жения не сохранилось, за исключением знаменитой Вели-
кой китайской стены, хотя и она дошла до нас в основном
уже в реставрированном и модифицированном виде.
Согласно письменным источникам, строительство Ве-
ликой китайской стены, в оригинальной терминологии —
«Длинная стена» (Чанчэн), «Стена в десять тысяч ли»
(Ванъличэн), началось в 221 г. до н. э., когда в северные
приграничные районы только что созданной Цинь-ши-
хуан-ди империи был послан 300-тысячный воинский кор-
пус для обустройства ее границ и защиты набиравшей
силу державы гуннов. Руководство военными и строитель-
ными мероприятиями было возложено на генерала Мэн
Тяня (?-210 до н. э.), который и считается разработчиком
планов и методов строительства Великой китайской стены.
С технической точки зрения она представляет собой
относительно простую по структуре постройку, возведен-
ную из земли и камня. Были использованы древние форти-
фикационные сооружения — земляные валы, созданные
еще в Ѵ-ІѴ вв. до н. э. и шедшие вдоль северных и северо-
восточных границ царств Янь и Чжао. Валы надсыпались,
укреплялись и затем облицовывались каменными плитами.
450 Такой взгляд на строи-
тельство раскрывается во мно-
гих древних сочинениях. «В бы-
лые времена тот, кто стано-
вился царем-ваном, выбирал
центр Поднебесной и возводил/
устаііавливал (цзянь) там свое
владение (государство/домен-
го). Выбирал центр своего вла-
дения и возводил там свою
столицу. Выбирал центр сто-
лицы и возводил там царский
дворец. Выбирал центр двор-
ца и возводил там Храм пред-
ков», — такой пассаж содер-
жится в одном из чжоуских
философских произведений.
831
Великая китайская стена
a — застава Цзяюйгуань; б —
фрагмент бадалинского участка.
451 Строительные работы и
пограничная служба матери-
ально обеспечивались 34 ба-
зами, равномерно распреде-
ленными по всей длине стены
и связанными сетью дорог с
южными районами стравы, из
которых поступало продоволь-
ствие. Для проживания во-
еннослужащих и строителей
были отдельно возведены гар-
низонные населенные пункты
и поселения. Так что, как ви-
дим, Великая китайская стена
обладала и собственной инфра-
структурой. Весь этот поисти-
не циклопический строитель-
ный комплекс стоил жизни
сотням тысяч людей. По пре-
даыию, рядом со стеной и в
ней самой (для укрепления
земляной массы) погребены
более 400 000 человек.
Сложность работ определялась не только их масштабно-
стью (в строительстве были задействованы, кроме солдат,
более 200 000 каторжан и несчетное количество крестьян),
но и чрезвычайно трудным рельефом местности. Основная
часть стены проходила по горным возвышенностям, под-
нимаясь до 1800 м над уровнем моря. Ее строительство
продолжалось при Цинь в течение 10 лет и завершилось
возведением участка протяженностью 750 км.
О размерах и конструктивных особенностях этого ис-
ходного архитектурно-инженерного варианта Великой ки-
тайской стены в письменных источниках сообщаются сле-
дующие подробности. Рассказывается, что стена включа-
ла в себя 25 000 дозорных башен, которые строились из
разных материалов, но имели однотипную пирамидаль-
ную форму и высоту около 12 м. Они находились на рас-
стоянии «в два полета стрелы» друг от друга и соединя-
лись собственно стеной, высотой приблизительно 7 м.
Ширина стены была такова, что по ней могла пройти
шеренга из 8 человек. Стена была дополнена внешней си-
стемой фортификационных сооружений, состоящей из
дальних форпостов, в виде дозорных башен, и второй,
ближней к ней, оборонительной линии из дозорных пунк-
тов и сторожевых вышек451.
Строительство Великой китайской стены неоднократно
возобновлялось в последующие исторические эпохи, при-
обретя особый размах при Мин, в правление императора
Ваньли. Общая протяженность стены была доведена до
3100 км, в результате чего она протянулась по всему пери-
метру северо-восточной, северной и северо-западной грани-
цы Минской империи — от Бохайского залива и до провин-
ции Ганьсу, где, кстати, находится один из самых величе-
ственных ее участков — застава Цзяюигуанъ, являющаяся
самоценным и великолепным памятником архитектурно-
инженерного искусства минской эпохи. Прежние участки
стены были реставрированы или значительно модифици-
рованы. Наиболыним изменениям подвергся ее участок в
горах Бадалин, проходящий в непосредственной близости
от Пекина. Сторожевые башни были укреплены и снабже-
ны дополнительными укрепленными проходами. Поверх-
ность стены заново облицована каменными плитами, иду-
щими по ее фундаменту, и керамическими блоками. По
внешнему краю стены был сооружен бруствер из пятимет-
ровых зубцов. В своем окончательном виде бадалинский
участок Великой китайской стены имеет следующие пара-
метры: ее высота колеблется от 5,7 до 11,7 м, ширина y
основания и в верхней части составляет соответственно
около 10 и 5 м. Приблизительно через каждые 40 м возвы-
832
шается одноэтажная или двухэтажная дозорная башня.
Болыыая же ее часть состоит из цепочки сигнальных и
оборонительных башен, фортов и относительно невысоких
стен452. Вполне ожидаемо также, что история сооружения
Великой китайской стены была окружена множеством раз-
личных легенд и суеверий. В них рассказывалось, в част-
ности, что к ее строительству Цинь-ши-хуан-ди побудили
либо вещий сон, либо видение, в котором он увидел Подне-
бесную с заоблачных высот, и, придя в ужас от ее крохот-
ности и беззащитности перед внешними врагами, решил
превратить ее в своеобразную крепость, a также говорится,
что линию стены проложил сам император, ехавший на
своем волшебном белом коне, способном без труда преодо-
левать любые естественные препятствия. Там, где конь за-
медлял ход, и возводились дозорные башни. В ломаных и
действительно нередко идущих извивами очертаниях сте-
ны усматривают фигуру дракона, как бы защищающего
своим телом Поднебесную. В такого рода легендах, конеч-
но, содержится рациональное зерно: Великая китайская
стена исходно предназначалась, по замыслу Цинь-ши-хуан-
ди, для исполнения не только чисто фортификационной,
но и магико-религиозной функции. Высказанное предпо-
ложение подтверждается и проведением столь масштабных
работ по ее реконструкции и строительству при Мин, когда
череда нашествий и завоеваний Китая, шедшие именно с
севера и северо-запада, полностью доказали ее несостоя-
тельность как фортификационного сооружения. Циклопич-
ность Великой китайской стены служила, в глазах китай-
ских верховных властей, надежным способом проявления,
подтверждения и упрочения их правящих режимов. Так
что Великая китайская стена служит одним из наглядных
примеров изложенной выше культурно-идеологической сим-
волики строительства. Но вернемся к рассказу о дальней-
шей истории китайского архитектурно-инженерного искус-
ства и важнейших его памятниках.
Для ханьской эпохи единственными подлинными ар-
хитектурно-инженерными конструкциями оказываются
упоминавшиеся ранее пилоны — столбообразные камен-
ные сооружения, снабженные декоративно оформленными,
в виде расширяющейся кверху трапеции, навершиями.
Предназначение пилонов до сих nop остается неясным: по
одним версиям, они служили привратными конструкция-
ми, по другим — непосредственно входили в жилой или
дворцовый архитектурный ансамбль. Их важность для ис-
тории китайского архитектурно-инженерного искусства
заключается в том, что они, во-первых, неопровержимо
доказывают широкое использование в древнем строитель-
стве камня и существование практики архитектурной резь-
бы по камню. И, во-вторых, содержат в себе орнаменталь-
ные детали, воспроизводящие деревянные архитектурные
элементы, которые и позволяют реконструировать некото-
рые особенности древнекитайского деревянного зодчества.
От эпохи Шести династий до нас дошло несколько ка-
менных строений, но это исключительно буддийские пагоды,
53 История искусства Китая
* ^-
Ханьские пилоны
452 He лишним будет так-
же заметить, что Великая ки-
тайская стена является самой
грандиозной в истории чело-
вечества постройкой, един-
ственной, которая видна не-
вооруженным взглядом из
космоса.
833
Древнейшие китайские
деревянные здания
a — центральное строение монас-
тыря Наньчаньсы; б — «Зал Со-
вершенной матушки»: 1 — вид
спереди, 2 — вид сбоку.
по которым невозможно полностью реконструировать со-
стояние светской архитектуры того времени. Скудость и
фрагментарность подлинных архитектурных материалов,
конечно же, во многом восполняется моделями (погребаль-
ная пластика) и изображениями (в стенописях и рельефах)
строений. Однако нет гарантий, что в этих моделях и изоб-
ражениях не допущены те или иные искажения, вызванные
хотя бы особенностями лепки и техники резьбы по камню,
не позволяющими передать все необходимые конструктив-
ные нюансы реальных построек. И только начиная с тан-
ской эпохи историки китайской архитектуры получают в
свое распоряжение подлинные, фактические материалы.
Древнейшими из сохранившихся китайских деревянных
зданий (каменное зодчество на много веков вперед по-преж-
нему будет представлено исключительно пагодами) учеными
признаются центральные строения буддийских монастырей
Наньчаньсы и Фогуансы — оба находятся в провинции
Шаньси. Известно, что первое из названных зданий было
возведено в 782 г. и реконструировано, но без существенных
его изменений, в 1218 г., a второе восходит к 857 г. Они
имеют однотипные конструкцию и внешний вид. Высота
здания в монастыре Наньчаньсы (от верха платформы до
834
кровельного гребня) достигает 11,61 м. Здание монастыря
Фогуан высотой 17,4 м, a его периметр по фундаменту со-
ставляет 35,7 м. Подобная скромность их размеров, проти-
воречащая письменным свидетельствам о масштабах тан-
ских строений, возможно, объясняется тем, что они принад-
лежали скромным периферийным монастырям.
Следующая серия деревянных зданий относится к севе-
росунской эпохе и, что очень важно, среди них присутству-
ют образцы нескольких региональных архитектурных тра-
диций. Северное, шаньсийское, деревянное зодчество
представлено двумя строениями — «Залом Совершенной
матушки» (Шэнмудянъ), около Тайюаня, и пагодой, вхо-
дящей в тот же монастырский комплекс Фогуан. «Зал
Совершенной матушки», возведенный в 1023-1031 гг.,
тоже имеет относительно неболыыие размеры: высота 17,8 м,
площадь y основания 31,2 х 17,8 м. Но он отличается не-
сколько иным конструктивным решением, чем танские
здания, и значительно более богатым и изысканным деко-
ром. Строение возведено на высокой платформе (около
3 м, 36,5 х 28,5 м), облицованной кирпичом и завершаю-
щейся по внешнему периметру балюстрадой. Колонны (вы-
сота около 4 м) украшены горельефными изображениями
Древнейшие китайские
деревянные здания
a — шаньдунский храм Госуда-
ря Гуаня; б — фуцзяньский «Зал
Трех наичистейших».
835
обвившихся вокруг них драконов. Здание увенчано двух-
скатной крышей, включающей сложную систему кронш-
тейнов-доугунов, которые тоже играют здесь важную деко-
ративную функцию. Черепичное покрытие крыши допол-
нено пластическими композициями, расположенными по
бокам и в центре кровельного гребня.
Деревянная пагода была возведена в 1056 г. и достига-
ет в высоту 66,6 м. На ее сооружение пошло почти 3500 м3
дерева, a ee вес, по расчетам специалистов, превышает 300 т.
Внешне она кажется пятиэтажной, но под выступающими
крышами и карнизами скрываются еще 4 этажа. Верхние
четыре этажа пагоды обнесены открытыми галереями типа
балконов. Пагоду венчает крыша в форме зонта, в центре
которой находится маленькая кирпичная площадка с ме-
таллической буддийской ступой. Она построена без едино-
го гвоздя, держась только на деревянных столбах и бал-
ках. Кроме того, при ее возведении было применено более
60 конструктивных видов доугунов. Несмотря на свой по-
чтенный возраст, пагода так и осталась самым высоким
деревянным строением и являет собой непревзойденный
шедевр не только буддийского, но и всего китайского дере-
вянного зодчества.
Архитектурная традиция восточного, шаньдунского ре-
гиона представлена центральным строением из святилища
«Храм Государя Гуаня» (Гуанъдимяо), восходящим к 1128 г.
Оно тоже не отличается грандиозностью размеров: высота
около 10 м, длина фундамента — 12,8 м, и дает новый, по
сравнению со всеми шаньсийскими зданиями, архитектурно-
стилистический вариант: подчеркнуто высокая крыша с
Г-образным боковым профилем и покрытая глазурованной
черепицей, большие оконные проемы, украшенные резны-
ми деревянными решетками. Оно отличается гармонично-
стью пропорций, a ровные, массивные (около 5 м в высоту)
колонны, разделяющие фасадную часть строения на равно-
мерные нефы, придают ему сдержанную строгость.
Архитектурная традиция южных регионов Китая пред-
ставлена «Залом Трех наичистейших» (Санъциндянъ) из
даосского монастыря Юаньмяогуань (пров. Фуцзянь), ко-
торый был построен в 1009 г. и демонстрирует немало кон-
структивных и художественных особенностей. Строение
сильно вытянуто по горизонтали (длина 24 м, высота
10,5 м), причем эффект его горизонтальности еще болыне
усиливается за счет боковой колоннады, опирающейся на
платформу (длина 30 м). Почти вся фронтальная часть строе-
ния заполнена решетчатыми вставками, которые на этот
раз доминируют над передней колоннадой, состоящей из
тонких и кажущихся почти невесомыми по сравнению с
фронтальной массой. Крыша отличается подчеркнутой из-
ломанностью контурных линий, объединяя в себе строго
прямоугольные, дуговидные (форма кровельного гребня) и
треугольные (боковые выносы) фигуры. Все вместе придает
строению изысканность и хрупкость.
От южносунской и юаньской эпох сохранилось уже око-
ло 30 деревянных зданий, все — храмовые строения, под-
робно останавливаться на которых в данном случае пред-
ставляется излишним, так как они во многом повторяют
собой разобранные архитектурные памятники (кроме паго-
ды из монастыря Фогуансы). Понятно, что все они служат
уже достаточно надежной эмпирической базой для уста-
новления конструктивных принципов и декоративных прие-
мов китайского деревянного зодчества ІХ-ХІІІ вв., позво-
ляя даже подметить те или иные региональные архитек-
турно-стилистические нюансы. Тем не менее, во-первых,
все они принадлежат к традиции культового зодчества, и,
837
во-вторых, воспроизводят (опять, кроме пагоды), один и
тот же тип зданий. Поэтому при изучении архитектурно-
инженерного искусства этих эпох первостепенное значение
по-прежнему сохраняется за вторичными художественны-
ми источниками, среди которых теперь массово присут-
ствуют живописные изображения строений (стенописи Мо-
гао, живописный «архитектурный» стиль). He менее ин-
формативной оказывается и погребальная обрядность. Хотя
модели построек уже при Тан почти полностью исчезли из
набора погребальной пластики, им на смену пришли ка-
менные саркофаги, которые имитировали собой жилое зда-
ние, передавая все его конструктивные и декоративные
элементы, a также погребения (начиная, напомним, с Се-
верной Сун), художественное оформление которых воспро-
изводило собой внутренний вид помещения. Начиная с
минской эпохи мы располагаем уже подлинными образца-
ми всех категорий и типов китайских строений и архитек-
турных ансамблей.
Несмотря на белые пятна в архитектурном наследии
Китая, имеющиеся фактические материалы дают возмож-
ность выделить весь генетический ряд китайских архитек-
турных форм, проследить их истоки и дальнейший эволю-
ционный ход.
ТЕХНИКО-
КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
КИТАЙСКОГО
ЗОДЧЕСТВА,
ТИПЫ ЗДАНИЙ
И ВЕДУЩИЕ
АРХИТЕКТУРНЫЕ
СТИЛИ
Главными технико-конструктивными особенностями
китайского зодчества являются каркасно-столбовой метод
строительства и сооружение здания на платформе-стилоба-
те. Они обозначились, о чем подробно говорилось выше,
еще в неолитическую эпоху и сохранялись на протяжении
всей последующей истории местного архитектурно-инже-
нерного искусства. Каркасно-столбовой метод строитель-
ства окончательно сложился ко II—I вв. до н. э. и в даль-
нейшем претерпевал только незначительные изменения.
В этом методе главным конструктивным элементом зда-
ния выступает каркас, состоящий из столбов-балок и ба-
лочных перекрытий, которые и принимают на себя всю
тяжесть кровли. Стены в такой конструкции могут вообще
отсутствовать. Положение не меняется и в тех случаях,
когда наружные ограждающие элементы исполняются из
глины или кирпича, a деревянные столбы (стойки) прохо-
дят в толще стен. В простейшем ее варианте каркасно-
столбовая конструкция состоит из продольных (дун) и по-
перечных (лян) балок. Требовалось минимальное употреб-
ление трех или пяти продольных балок, одна из которых
служила коньковой, и двух поперечных. На поперечных
балках укреплялись стойки (чжужу), служившие опорами
для коньковой балки, a на продольных — слеги (шуай),
составлявшие основу крыши. Несмотря на кажущуюся при-
митивность, каркасно-столбовой метод позволял возводить
самые разные типы строений — вплоть до многоэтажных,
высотных построек, каковыми являются пагоды. Кроме
того, он не нуждался в обязательном использовании допол-
нительных крепежных средств — тех же гвоздей или скоб.
838
Хотя стены, как видим, не имели решающего значения
в конструкции китайского здания, их архитектурная и
стилистико-декоративная роли всегда были очень велики.
Древнейшими для китайской строительной практики яв-
ляются глиняные стены, технология возведения которых —
путем обкладки поверхности стены глиняным раствором —
была тоже освоена в неолитическую эпоху. При Инь на
смену данному способу пришел глинобитный метод строи-
тельства, точно такой же, какой использовался при соору-
жении городских стен и стилобатов. В дальнейшем в зодче-
стве северных и южных регионов Китая практиковались
различные строительные способы. Северное зодчество про-
должило развитие глинобитной техники, создавая массив-
ные стены трапециевидного профиля, тогда как на Юге
исполнялся плетеный — из бамбука или камыша — кар-
кас, который обмазывался сверху глиной и затем белился.
Ввиду тонкости таких стен стоечные столбы обычно от-
четливо проступали через глиняное покрытие, и возникал
оптический эффект полностью деревянного строения. Кир-
пич стал употребляться в светском зодчестве ориентиро-
вочно тоже во II—I вв. до н. э., о чем свидетельствуют архео-
логические данные: находка в западном предместье ранне-
ханьской столицы участков стилобата и стенной кладки из
сырцового кирпича. В эпоху Шести династий, по материа-
лам письменных источников и стенописей в Могао, кир-
пич использовался преимущественно для возведения сти-
лобата, a стены продолжали делаться глинобитными. Тем
не менее уже в то время был широко распространен как
сырцовый, так и обожженный кирпич, точнее керамиче-
ские блоки, хотя и несколько меныпих, чем при Хань,
размеров (в среднем 40 х 20 х 10 см).
Следующей важнейшей типологической особенностью
китайского зодчества является наделение крыши ведущей
репрезентативной ролью в облике здания, что решительно
отличается от европейских архитектурно-эстетических уста-
новок, предполагающих сосредоточение внимания зрителя
главным образом на фасадной поверхности. Китайское зод-
чество начиная с древних эпох располагало богатым репер-
туаром силуэтных форм крыши — с расширенными скатами
и седловидной коньковой частью, скирдоподобными, в фор-
ме лодочного днища и т. д. Но все они имеют ряд общих
характерных особенностей: широкие нерасчлененные поверх-
ности крутых скатов, сильный вынос карнизов и вытянутые
приподнятые углы, которые облегчают массив кровли. Фор-
мирование данного архитектурного типа приходится на
иньскую эпоху. Уже тогда исполнялись односкатные и двух-
скатные крыши, пусть даже пока они отличались малым
выносом и не имели загнутых краев. Крыши обмазывались
глиной и затем покрывались тростником, соломой и тому
подобными материалами. В чжоускую эпоху еще в X-
IX вв. до н. э. было изобретено черепичное покрытие, кото-
рое стало широко использоваться только в период Борю-
щихся царств. Тогда же в силу вступила практика украше-
ния краев черепичной крыши черепичными кольцевыми
Использование
каркасно-балочного метода
в различных типах
строений
a — двухэтажная постройка; б —
высотная постройка (пагода).
839
дисками, орнаментированными рельефными узорами. Начи-
ная с Хань стали изготавливаться два основных вида кро-
вельной черепицы — плоской и полуцилиндрической фор-
мы. A bot история и точное время появления знаменитых
«крылатых крыш» — с сильным выносом карнизов и при-
поднятыми углами — до сих nop дискутируются в науке.
По этому поводу существуют две версии. Согласно од-
ной, такие крыши вошли в строительный обиход в III—
IV вв. либо под влиянием силуэтных форм крыш палаток
кочевников, либо в результате эстетического выбора ки-
тайского зодчества, искавшего новые архитектурно-деко-
ративные решения. Более обоснованной представляется
вторая версия, доказывающая происхождение «крылатой
крыши» в IV—III вв. до н. э. в рамках южной архитектур-
ной традиции и под воздействием местных климатических
условий. Широкий вынос кровли, плоское полотнище ска-
тов и приподнятые углы улучшают, с одной стороны, сте-
кание дождевых потоков и, с другой, воздухообмен внутри
жилища, что более всего соответствует местным погодным
реалиям с постоянным чередованием засушливых и дожд-
ливых периодов. Впоследствии морфогенез «крылатой кры-
ши» шел с одинаковой степенью интенсивности как на
Юге, так и на Севере. Примечательно, что в обеих регио-
нальных архитектурных традициях использовалась в це-
лом единая технология ее создания: толстый глинисто-
известковый раствор, на который укладывалась черепица.
Популярность «крылатой крыши» в китайской культу-
ре объясняется ее повышенными магико-охранительными
свойствами. По местным верованиям, злые духи могут дви-
гаться исключительно по прямой и, столкнувшись с загнуты-
ми углами крыши, обязательно сворачивают в сторону. За
подобными суевериями скрываются, как выяснилось, рацио-
нальные знания или догадки китайцев в области принципов
аэродинамики. Дело в том, что изогнутые края, в отличие
от плоских полотнищ скатов, которые при сильном ветре
вибрируют, приводя к разрушению конструкцию крыши,
формируют турбулентные потоки, гасящие скорость ветра и
снимающие эффект отсоса крыши. Кроме того, тяжелая кры-
ша обладает большей инерционностью при землетрясениях
и своим весом закрепляет конструктивные узлы строения, a
ряды черепиц, уложенные на более пологом, чем углы, кар-
низе, препятствуют сползанию одежды кровли в случае рез-
ких динамических нагрузок. Так что «крылатая крыша»
действительно охраняла дом и его обитателей, если не от
злых духов, то от природных коллизий, a также совместно с
поддерживающими ее деревянными конструкциями она при-
давала зданию эффект воздушности, легкости и способство-
вала его гармоничному сочетанию с природной средой: строе-
ния с «крылатыми крышами» ритмически вторят горным
вершинам, волнистым краям далеких лесов и раскидистым
ветвям столь любимых китайцами сосен.
Задачи сооружения и поддержания «крылатой крыши»
потребовали решения новых функционально-конструктив-
ных проблем, что и привело к созданию еще одного специ-
^^^^^Л^Ш^І^ШГ^ШхГ^АГ^ХГ^^^
фического архитектурного элемента — кронштейна-доі/гі/н.
Доугун служит базовым связующим звеном между колон-
нами, балками и вышележащими конструкциями и пред-
назначается для равномерного распределения вертикальных
нагрузок. Сам по себе он тоже обладает сложным конструк-
тивным построением: образован из отдельных элементов,
соединенных врубками. Его основными деталями явля-
ются: доу — квадратный элемент с пазами в верхней ча-
сти, и гун — собственно кронштейн, продолговатый брус
в виде скобы с вырезами, который вставляется в доу. В ре-
зультате создается конструкция, заметно расширяющая-
ся кверху от опоры, способная выдержать болыние нагруз-
ки. Применение доугунов позволило увеличить площадь опор
кровли и сделать более значительным ее вынос. Доугуны,
Доугуны
a — в ханьском зодчестве (рекон-
струкция по керамическим мо-
делям строений); б — в танском
зодчестве; в — в зодчестве эпо-
хи Пяти династий; г — в сун-
ском зодчестве; д — в минском
зодчестве.
841
Бронзовое и каменное
основания колонн
Архитектурные варианты
павильона-дякь
Архитектурный комплекс
из дянь
находящиеся на балках между колоннами наружных рядов
и над ними, образуют единый многоярусный карниз, кото-
рый входит в набор определяющих декоративных деталей
здания. Доугуны нередко покрывались цветным лаком или
расписывались; яркие цветовые пятна эффектно контра-
стировали с темным черепичным покрытием.
Декоративную функцию исполняли и другие конструк-
тивные элементы, в первую очередь колонны. Они тоже
покрывались лаком, украшались резьбой (и в каменном, и
в деревянном вариантах) и, кроме того, воздвигались (на-
чиная по меньшей мере с иньской эпохи) на бронзовых или
каменных опорах, имевших самостоятельное художествен-
ное оформление.
Несмотря на универсальность каркасно-столбового ме-
тода строительства и, следовательно, конструктивную общ-
ность всех построек, освоенных китайским зодчеством, они
строго делятся на 5 основных типов зданий: павильон-дянь,
башня-лоі/, павильон-mau, павильон-тгшн и галерея-лан.
Павильон-дянь (термин «павильон» условен) является
опорным для китайского зодчества типом здания, который
реализуется в подавляющем болынинстве строений жило-
го, дворцового или храмового характера, вследствие чего
данная оригинальная архитектурная категория в европей-
ской и отечественной научной литературе может перево-
дитьсякак «дворец», «чертоги», «палаты», «храмовый зал»
и т. д. Ее конструктивным инвариантом выступает прямо-
угольная в плане одноэтажная постройка, разделенная ко-
лоннами на 3 продольных нефа. Дянъ могли сооружаться и
по отдельности, и по несколько (2-3) зданий на одной плат-
форме, дополняясь при этом круговой или идущей со сто-
роны главного фасада галереей.
Вашня-лоу — многоэтажное здание, ведущее свое про-
исхождение от дозорных башен. Но уже при Хань она, судя
по керамическим моделям, утратила свое первоначальное
предназначение и стала превращаться в абсолютно светскую
постройку, обладающую собственными архитектурно-эсте-
тическими достоинствами. Показательно, что в истории ки-
тайского зодчества выделяется целая серия лоу, почитае-
мых выдающимися архитектурными памятниками. Одним
из древнейших таких памятников называется «Башня Юэян»
(Юэянлоу), находящаяся в одноименном городе (пров. Ху-
нань). Она была, по преданию, построена еще в период Трое-
царствие, затем неоднократно подвергалась реконструкци-
ям и в окончательном виде представляет собой двухэтажное
строение строго прямоугольного силуэта и словно целиком
составленное из резных панелей.
Другой, более характерный для ХІѴ-ХІХ вв. архитек-
турный вариант лоу демонстрируют два известных памят-
ника этой серии — «Колокольная башня» (Чжунлоу) и «Ба-
рабанная башня» (Гулоу), воздвигнутые соответственно в
1384 и 1380 гг. в Сиане и служащие ключевыми элемента-
ми семиотической композиции этого города. Обе они пред-
ставляют собой двухэтажные, квадратные в плане строения
(высотой 36 и 30 м), воздвигнутые на высоких (до 8 м) ка-
менных платформах. По всему периметру первого этажа
идет колоннада из покрытых красным лаком деревянных
колон. Второй этаж обнесен внешней галереей с решетчатой
балюстрадой. Крыши выложены глазурованной черепицей
зеленого цвета. Кроме того, как лоу определяются башни,
входящие в фортификационные сооружения (например, лоу
из системы Великой китайской стены в ее минском вариан-
те), городские стены и надвратные строения.
Павильон-ттшй также восходит к древним сооружени-
ям башенного типа, и для чжоуских и ханьских текстов
этот термин принято переводить именно как «башня».
Исходно это была глинобитная пирамидальная конструк-
ция на высокой земляной платформе, которая использо-
валась, по сообщениям письменных источников, в каче-
стве сигнальных, дозорных башен, обсерваторий и места
проведения ритуально-пиршественных церемоний453. Впо-
следствии тай лишилась и своего былого общественного
авторитета, и прежнего конструктивного воплощения,
превратившись, в сущности, во вспомогательный тип строе-
ний — неболыную деревянную беседку на очень высокой
каменной платформе.
Павильон-ттшн — садовая беседка, которая ведет свое
происхождение от строений, предназначавшихся для от-
дыха (вспомним о «сценах в павильоне» из ханьских по-
гребальных рельефов). Тин неизменно входят в китайские
садово-парковые ансамбли, отличаясь разнообразием ар-
хитектурных решений. Они могут быть со сплошными сте-
нами или почти полностью открытыми, квадратными или
восьмиугольными в плане, стоящими на низких или, на-
против, подчеркнуто высоких платформах.
Галерея-лан является в какой-то мере производным
типом зданий от тпин и галерей, входящих в комплексы из
дянъ. В цинскую эпоху она была распространенным садо-
вым зданием.
Скудость набора типов зданий компенсируется вариа-
тивностью их архитектурных воплощений и декоративно-
стилистических решений, построенных на бесконечном
обыгрывании главных и вспомогательных конструктив-
ных элементов. Из сказанного выше следует, что уже в
чжоуский период обозначились две генеральные архитек-
турные стилистические традиции — «северная» и «южная»,
различия между которыми были предопределены разницей
в используемых материалах. Преимущественное примене-
ние глинобитных конструкций, камня и кирпича неизбеж-
но вело к преобладанию в «северной» традиции монумен-
тально-геометрических архитектурных форм, отличавшихся
Стандартпный
архитектпурный вариант
лоу для зодчества
Мин и Цин
Стандартный
архитектурный вариант
павилъона-тин
453 Она имела важное по-
литическое значение: напри-
мер, в одной из песен антоло-
гии «Ши цзин» основатель
чжоуской государственности
Вэнь-ван рисуется в облике
зодчего, создающего тай, в
чем ему помогает «весь на-
род» — так метафорически
излагаются деяния этого го-
сударя по созданию собствен-
ного правящего режима.
843
«Северный»
архитектурный стиль.
Городские ворота.
Co стенописей Могао.
Эпоха Тан
«Южный»
архитпектурный стилъ.
Серебряная моделъ здания.
Северная Сун.
Пров. Чжэцзян.
Высота 45 см
величественностью и строгостью, тогда как деревянное зод-
чество позволяло исполнять предельно сложные по конфи-
гурации строения и насыщать их художественно-декора-
тивными деталями. Показательно, что в моменты создания
и расцвета централизованных имперских государств на пер-
вый план выходил «северный» стиль, о чем убедительно
свидетельствует танская архитектура, но с подключением
к нему элементов «южного» зодчества, например, изящ-
ные и воздушные деревянные строения, венчающие гигант-
ские платформы или массивные городские ворота.
Но если региональные архитектурные стили прослежива-
ются без особого труда, то диахронные стилистические вари-
анты в рамках одной исторической эпохи оказалось возмож-
ным выявить только начиная с минского времени. Всего вы-
деляются три таких стиля: «раннеминский», «позднеминский»
и «цинский». Первый из них соотносится с периодом, про-
длившимся с начала Мин и до конца XVI в., и характеризу-
ется монументальностью, преобладанием конструктивных
форм над декоративной стороной и созданием эффекта боль-
В44
шои нерасчлененнои плоскости, словом, во многом повторяет
собой танское зодчество. Показательными образцами этого
стиля служат сианьские «Башни» и, разумеется, дворцовые
строения из столичной императорской резиденции, о кото-
рых подробно будет говориться в следующем разделе.
В конце XVI — начале XVII в. (в период правления импе-
ратора Ваньли) наметились новые архитектурные тенденции,
достигшие своего апогея к XVIII в., т. е. уже в «цинском»
стиле. В целом «позднеминский» и «цинский» стили отмече-
ны следующими определяющими особенностями. Во-первых,
раздробленность поверхности стены многочисленными деле-
ниями, различными пространственными нюансами или обиль-
ной орнаментацией, a также за счет лестниц и ярусов с балю-
страдами. Во-вторых, акцентирование крыши через сосредо-
точение орнаментации под верхним карнизом. Кроме того,
конек, боковые грани и скаты обычно одеваются в сложный
и запутанный узор, a концы крыш максимально приподни-
маются кверху. В-третьих, в композицию здания вводится
множество вспомогательных конструктивных и сугубо деко-
ративных деталей — лестницы, выложенные каменными пли-
тами с рельефным орнаментом и с перилами, образованными
фигурными столбиками; балюстрады; крупногабаритные
бронзовые позолоченные сосуды; металлические и камен-
ные скульптуры, которые расставлялись вдоль внешних стен.
В-четвертых, наблюдается эклектическое сочетание самых
разных строительных и декорировочных материалов: кам-
ня, оштукатуренной поверхности, резного и с красным ла-
ковым покрытием дерева, глазурованной плитки насыщен-
ных сине-зеленых тонов. Нетрудно заметить, что перечис-
ленные особенности «цинского» архитектурного стиля почти
полностью совпадают с чертами тех художественных сти-
лей, которые господствовали в цинскую эпоху и в академи-
ческой живописи, и в декоративно-прикладном искусстве,
образуя типологическое подобие европейского «модерна».
Несмотря на указанные различия между зодчеством
Севера и Юга, обе эти региональные традиции оперировали
единым набором не только типов зданий, но и категориями
архитектурных ансамблей, которые подчинялись общим
планировочным принципам.
Раннеминский
архитектурный стиль.
Застава Шаньхайгуань
Цинский
архитектурный стиль.
Здание театра
в столичном
императорском дворце
(в Запретном городе)
rafiCHpfiEua
Декоративные элементы
в цинском зодчестве.
Деревянные резные перила
845
ГЛАВНЫЕ
КАТЕГОРИИ
АРХИТЕКТУРНЫХ
АНСАМБЛЕЙ И ИХ
ПЛАНИРОВОЧНЫЕ
ПРИНЦИПЫ
(ЖИЛАЯ УСАДЬБА,
ДВОРЕЦ, ХРАМ)
Ханьский вариант усадьбы
сыхэюань. С каменного
погребального рельефа,
пров. ПІанъдун
В китайском зодчестве минимальной архитектониче-
ской единицей является не отдельное здание, a определен-
ный комплекс построек. Выделяются 3 главные категории
таких архитектурных комплексов: частная усадьба (чжао),
дворцовый и храмовый ансамбли.
Усадьба-чжао — категория, распространяющаяся на все
повседневное жилище и присущая как сельской, так и
городской застройке практически на всех социальных уров-
нях. Ее история прослеживается с ханьской эпохи, для
которой отчетливо проявляются два генеральных типа усадь-
бы. Простейший из них — усаідъба-саньхэюанъ — комп-
лекс из двух жилых помещений, соединенных в виде бук-
вы «Г», к которым зачастую присоединялись подсобные
строения и отхожее место. Обнесенная стеной, такая усадь-
ба получала в плане форму квадрата и оказывалась замк-
нутым двориком. Второй тип — ус8ідъба.-сыхэюанъ — вклю-
чает в себя шесть отдельных строений: жилой дом, поме-
щения y ворот, амбар, кухню, башню и отхожее место, как
правило, совмещенное со свинарником. В I—III вв. наблю-
дается тенденция к увеличению размеров сыхэюань и пре-
вращению их в подобие крепости. В окончательном своем
виде данная категория сложилась в ІХ-Х вв., разделив-
шись на серию стандартных вариантов — для сельского,
городского жилья, a также исходя из особенностей ланд-
шафтной среды — в долине, на склоне или на вершине
холма, на берегу реки и т. д. Однако все эти варианты
обладали едиными планировочно-семиотическими принци-
пами и включали в себя обязательный набор компонентов.
В плане усадьба всегда была прямоугольной формы,
она была обнесена стеной и сориентирована строго по ча-
стям света. Ее обязательными компонентами являлись двор
(юанъло); главное жилое помещение (тан), которое распо-
лагалось в глубине двора, y северного участка стены и
фасадом к воротам; восточный (дунфан) и западный (си-
фан) боковые флигели, расположенные по обе стороны глав-
ного помещения; кухня (чушэ) и привратное строение (мэнъ-
дао). Могли возводиться и другие разновидности жилых и
подсобных помещений, в том числе галереи, которые не-
редко, соединяя перечисленные категории строений, шли
по периметру двора. В планировке усадьбы доминировал
принцип симметрии, хотя он мог нарушаться за счет мес-
тоположения второстепенных строений, что, как это было
принято считать, придавало ей определенную живописность.
бу непременно находился в южном участке стены, либо Каменный жран-икби.
строго в его центре, либо смещался к восточному углу, что Дворцовый вариант
способствовало, по натурфилософским и геомантическим
представлениям, более активному проникновению в жилье
янной энергии. Сразу же за входом ставилась неболыная
стена-экраы (инби), предназначавшаяся, исходя из верова-
ний, для защиты от злых духов, a в ее сугубо утилитарном
значении — для сокрытия внутреннего пространства усадь-
бы от взглядов любопытствующих прохожих. Кроме глав-
ного входа, имелись еще один или два, исключительно для
хозяйственных нужд, a потому их местоположению не при-
давалось принципиального значения. Хозяйственные по-
стройки располагались вдоль восточного и западного участ-
ков стены.
Для главного помещения наиболее распространен был
пятикомнатный вариант, но он мог состоять и из семи или
десяти комнат. Независимо от числа, все комнаты строго
подразделялись на парадные и жилые. К первым относи-
лись гостиная, кабинет, комната с домашним алтарем, ко-
торые располагались непосредственно y входа в дом. Ком-
наты, составляющие жилую часть, помещались в глубине
дома. Южный фасад главного здания занимали (нередко до
двух третей всей поверхности) дверной проем и окна. Его
северная стена оставалась глухой для предотвращения про-
никновения в него злых духов и инъной энергии.
Особое значение придавалось двору, носившему сим-
волическое название «небесный колодец». Являясь мес-
том общения всех обитателей усадьбы он как бы очерчи-
вал социальное пространство китайского дома. Но при
этом двор имел и немаловажное практическое значение,
служа своеобразным хранилищем света и воздуха. Рацио-
нальное расположение шедших по его периметру галерей
и переходов способствовало созданию локальных воздуш-
ных потоков, и поэтому даже в жаркие дни в помещениях
было прохладно. Внутренний дворик
847
Усадьба-чжао выступает архетипической моделью и для
двух других категорий архитектурных ансамблей — двор-
ца и храма.
История дворцового архитектурного ансамбля после
иньской эпохи и на протяжении Чжоу прослеживается
очень слабо. Самым величественным древним дворцом пись-
менные источники называют резиденцию Цинь-ши-хуан-
ди, состоявшую из 270 строений. Рассказывается, что сразу
же после завоевания им очередного царства Цинь-ши-хуан-
ди приказывал возвести точную копию дворца правителя.
Но как именно они располагались и что представляла со-
бой резиденция цинского императора в окончательном сво-
ем виде, в источниках не уточняется. Известно только,
что центральное место в ней занимало грандиозное строе-
ние — дворец Эфан (Эпан). Новейшие археологические
работы подтвердили существование этого дворца, полно-
стью уничтоженного во время антицинского восстания, и
позволили реконструировать его облик. Выяснилось, что
он представлял собой двухэтажное здание, высотой 30 м,
строго прямоугольное в плане и имеющее размеры 700 м с
запада на восток и 120 м с севера на юг. Здание возвыша-
лось на гигантской глинобитной платформе, высотой 7-
8 м и площадью 1000 х 500 м. К дворцу Эфан вела, по
литературным свидетельствам, широкая прямая аллея,
вдоль которой как раз и стояли упоминавшиеся ранее брон-
зовые скульптуры.
Следующие ключевые этапы в эволюции китайского
дворца соотносятся с ханьской и танской эпохами. Для
первой наиболыыей известностью пользуется раннехань-
ский (в Чанъани) дворцовый ансамбль « Дворец Бесконечно-
го» (Вэйянгун), состоявший из 43 дянъ, башен и открытых
террас, которые занимали общую площадь 11 км2 и были
обнесены массивной стеной. Центральное дворцовое зда-
ние, по свидетельству письменных источников и археоло-
гических данных, было в высоту 11,7 м и в длину (с восто-
ка на запад) 170 м. По его внешнему фасаду тянулась ко-
лоннада из резных каменных колонн. Деревянные стропила
и балки были расписаны многоцветными узорами, двери
выложены золотыми и нефритовыми вставками, поверхно-
сти внутренних стен инкрустированы золотыми полосами,
между которыми были прикреплены интерьерные украше-
ния из жемчужного и нефритового низанья, издававшие
Дворец Ханъюанъдянь. ПРИ малейшем дуновении ветра мелодичный звон. Пол был
Реконструкция деревянный, покрытый красным лаком.
Танский императорский дворцовый ансамбль «Дво-
рец Великого света» (Дамингун), возведенный в
663-682 гг., имел площадь 3,5 км2. Центральное место в
нем занимали три комплекса — «Дворец Изначального»
(Ханъюанъдянъ), предназначенный для проведения офи-
циальных церемоний и приема иностранных послов, «Па-
латы Парящего феникса-лг/ань» (Сянлуанъгэ) и «Палаты
Отдыхающего феникса-фэн» (Цифэнгэ). «Дворец Изна-
чального» представлял собой комплекс павильонов-дя/іь,
дополненных шестью боковыми флигелями, возвышав-
шимися на массивных платформах и соединенными с
главными строениями галереями. Весь этот комплекс по-
коился на 20-метровом стилобате, облицованном кирпич-
ной кладкой, в центре которого проходила величествен-
ная лестница.
Заключительная стадия развития дворцового архитек-
турного ансамбля приходится на минскую и цинскую эпо-
хи, и ее первоочередным представителем выступает За-
претный (Пурпурный) город в Пекине, строительство кото-
рого было начато в 1420 г. и завершено в 1460 г., хотя
многие входящие в него строения впоследствии неодно-
кратно реконструировались, так что этот ансамбль может
считаться памятником и минского, и цинского зодчества.
Кроме того, известно, что он возводился с учетом древней-
ших национальных планировочно-семиотических правил
и, следовательно, аккумулировал в себе архитектурный
опыт предшествующих исторических эпох.
Общая площадь Запретного города составляет 370 га,
строго прямоугольной в плане формы. Он окружен глино-
битной и облицованной серыми кирпичными плитами сте-
ной, высота которой превышает 10 м, ширина y основания
колеблется от 18 до 20 м, y верха — от 12 до 18 м. В стене,
по одному в каждом из ее четырех участков, находятся
ворота. Южные и северные — «Врата Пятого месяца»
Танский императорский
дворцовый ансамбль
Дамингун.
Реконструкция
Пекинскии Запретный
город. Вид снаружи
54 ІІсторпя пск7сства Кптая
849
Ворота Умэнь (Умэнъ)454 и Шэнъумэнъ — располагаются строго в центре
соответствующих стенных участков. Западные и восточные
ворота — «Врата западного процветания» (Сихуамэнъ) и
«Врата восточного процветания» (Дунхуамэнъ) сдвинуты к
югу. Над южными воротами возведено великолепное над-
вратное строение — «Башня Пяти фениксов» (Уфэнлоу). По
четырем сторонам стены возвышаются дозорные башни.
Вход в Запретный город оформлен дополнительными
архитектурно-инженерными элементами. Он открывается
внешними воротами — «Врата Небесного спокойствия»
(Тянъаньмэнъ), перед которыми раскинулась одноименная
площадь. Эти ворота были построены при Мин, реконструи-
рованы в 1651 г., когда и получили свое наименование, и
представляют собой самоценный архитектурно-инженерный
памятник. Ворота состоят из массивного корпуса, возве-
денного на мраморном основании, и увенчаны квадратной
формы строением с двухъярусной крышей, покрытой жел-
той черепицей. За воротами, если идти от площади Тянь-
аньмэнь, проходит канал, называемый «Река золотой воды»
Щзинъшуйхэ). Через него переброшены семь каменных
мостиков с резными каменными перилами. Перед мости-
ками возвышаются две декоративные каменные колонны,
тоже щедро украшенные резьбой, и пара изваяний львов.
Сразу же за «Вратами Пятого месяца» располагается еще
одна площадь, которую пересекает канал — «Внутренняя
река золотой воды» (Нэйцзинъшуйхэ) с переброшенными
через него пятью мраморными мостиками. Берега канала
облицованы плитами тоже из белого мрамора и завершены
перилами. С высоты птичьего полета этот канал в обрамле-
850
нии перил кажется лежащим на земле извилистым нефри-
товым поясом. За «Внутренней рекой золотой воды» воз-
вышаются третьи, внутренние, южные ворота — «Врата
Высшей гармонии» (Тайхэмэнъ), возведенные в 1524 г.;
их высота 24 м. To есть и в данном случае соблюдается
принцип троичного построения центрального входа, с ко-
торым мы уже столкнулись при рассмотрении храма Кон-
фуция в Цюйфу.
«Врата высшей гармонии» завершают собой архитек-
турно-планировочную преамбулу Запретного города и од-
новременно открывают собственно дворцовый ансамбль,
который поделен на две болыпие архитектурно-планиро-
вочные части — «Внешние апартаменты» (Вайчао) и «Внут-
ренний двор» (Нэйтпин), подчиняющиеся принципу диаго-
нальной симметрии. Понятно, что такое архитектурно-пла-
нировочное членение есть воспроизведение семиотики
главкого помещения усадьбы. «Внешние апартаменты» от-
крываются новой площадью (семантический и семиотиче-
ский аналог «небесного колодца»), в северной части кото-
рой, прямо по центру генеральной оси, идущей через триа-
ду южных ворот, возвышается мраморный постамент, на
котором один за другим стоят три строения — «Палаты
(Дворец) Высшей гармонии» (Тайхэдянъ), «Палаты (Дво-
рец) Полной гармонии» (Чжунхэдянъ) и «Палаты (Дворец)
Сохранения гармонии» (Баохэдянь). Эти три строения, обыч-
но называемые «Три больших павильона (дворца)», состав-
ляют архитектурную доминанту «Внешних апартаментов».
«Палаты Высшей гармонии» — тронный зал, где про-
водились важнейшие государственные церемонии — коро-
нования, празднования Нового года и дня Зимнего солнце-
стояния, дней рождения императоров, объявление августей-
ших указов и т. д. Построенный в 1627 г., он представляет
собой грандиозное строение (высота 26,9 м, общая площадь
около 237 м2, длина с востока на запад — 70 м и с севера
на юг — 38 м), увенчанное двухъярусной крышей с чере-
пицей ярко-желтого цвета, опирающейся на красные ко-
лонны. Здание покоится на беломраморном шестиметро-
вом стилобате, образованном тремя возвышающимися друг
над другом террасами, обнесенными балюстрадами из рез-
ных беломраморных столбиков и дополненных четырьмя
лестничными пролетами, вдоль которых тоже идут узорные
Г^нігі
Запретпный город.
План внешней
(парадной) частпи
1 — Ваохэдянь; 2 — Чжунхэдянь;
3 — Тайхэдянь; 4 — ворота Тай-
хэминь; 5 — Внутренняя река
золотой воды; 6 — ворота Умэнь.
Дворец Тайхэдянь
465 He исключено существо-
вание и других категорий дан-
ного класса архитектурных
ансамблей, возможно, к ним
может быть отнесено ранне-
чжоуское святилище, остатки
которого были обнаружены в
комплексе Фэнси. Оно состоя-
ло из главного здания (42 м с
севера на юг и 32,5 м с запа-
да на восток), четырех гале-
рей, боковых и привратных
строений, которые все вместе
располагались на прямоуголь-
ной в плане площади и были
обнесены общей стеной. Одна-
ко предназначение и характер
этого святилища остаются не-
ясными, и можно лишь гово-
рить, что по своим архитек-
турно-планировочным прин-
ципам оно в целом совпадает
с позднеиньскими (аньянов-
скими) храмовыми и дворцо-
выми ансамблями.
466 Между ним и воротами
пролегал «Болыпой двор» (Дац-
зянь, дословно «Великое стро-
ительство/установление), где
начинались ритуальные цере-
монии и пребывала основная
масса свитских правителей и
допущенных к уч*астию в них
лиц низших рангов. За Хра-
мом предков располагалась
еще пара ворот, разделявших
культовую и светскую части
дворцового ансамбля. Светская
часть включала в себя «Сре-
динный двор» (Чжунцзянъ) и
собственно дворцовый комп-
лекс — «Великое помещение»
(Тайіии). Такова картина ран-
нечжоуского дворца и входя-
щего в него Храма предков, ре-
конструированная на материа-
ле письменных источников.
балюстрады. «Палаты Полной гармонии» (1645 г.) — отно-
сительно небольшое по размеру здание с одноярусной кры-
шей, которое служило местом подготовки императора к
официальным мероприятиям. «Палаты Сохранения гармо-
нии» — здание с двухъярусной крышей, в котором устраи-
вались придворные пиршественные церемонии и проводился
заключительный — «дворцовый» — тур столичного экза-
мена на чиновничью должность.
Во «Внутренних покоях» находятся здания, служившие
жилыми помещениями членам императорского семейства, и
строения для обслуживающего персонала. В этой части За-
претного города особо выделяется «Дворец Изначальной чи-
стоты» (Цянъцингун), при Мин служивший императорской
опочивальней. В 1797 г. он был перестроен и стал местом
размещения личной канцелярии императора — «Палаты го-
сударственных дел». В дошедшем до нас виде он представля-
ет собой здание с двухъярусной крышей, стоящее на бело-
мраморном постаменте с резными балюстрадами.
Кроме собственно архитектурного компонента, Запрет-
ный город включает в себя и парковый ансамбль, о кото-
ром будет рассказано при рассмотрении китайского садово-
паркового искусства.
Храмовые архитектурные ансамбли состоят, исходя из
их конфессиональной принадлежности, на 6 основных клас-
сов: официальные святилища, связанные с ведущими госу-
дарственными культами и предназначенные для проведения
соответствующей литургии, святилища в честь персонажей
национального божественного и историко-легендарного пан-
теона, которые могут иметь сугубо религиозный и религиозно-
мемориальный характер (присутствие в архитектурном ан-
самбле связанных с данным персонажем памятных мест —
рождения, погребения), конфуцианские, даосские, буддий-
ские и мусульманские храмы. Для даосских и буддийских
святилищ под «храмами» понимаются не только собственно
храмовые, но и монастырские комплексы.
Традиция официального культового зодчества вновь
восходит к неолитической эпохе, a начальная стадия ее
формирования соотносится с доиньской и иньской эпоха-
ми (соответствующие архитектурные ансамбли подробно
разбирались в главах, посвященных художественному на-
следию этих эпох). Для чжоуской и ханьской эпох пись-
менные источники единодушно называют три главные ка-
тегории государственных святилищ — храм царских (им-
ператорских) предков, предместный храм (цзяо) и храм
Минтан («Светлый (Пресветлый) Зал»)455.
Храм предков (мяо) входил, как это и указывается в
приведенном ранее высказывании по поводу семантических
связей строительства с утверждением нового правящего ре-
жима, в состав дворцового ансамбля. Но он находился не в
его центре, a располагался по центральной оси, почти сразу
же за главными — южными — воротами456. В позднечжоу-
ский период Храм предков превратился в самостоятельный
архитектурный комплекс, состоявший из 7 или 5 (для удель-
ных князей) строений. Центральное, расположенное по ма-
852
гистральной оси в северной части комплекса и обращенное
на юг, предназначалось для проведения общесемейных це-
ремоний. Слева и справа (на востоке и западе) от централь-
ного строения располагались здания, в которых хранились
таблички предков соответственно по женской и мужской
линиям и в которых приносились жертвоприношения им.
Последующая архитектурная история Храма предков (при
том что это святилище постоянно фигурирует в письменных
источниках) остается малопонятной. Во всяком случае при
Мин и Цин он по-прежнему входил в непосредственный
ансамбль императорской резиденции, a no своему архитек-
турному решению практически ничем не отличался от свет-
ских дворцовых построек.
Совершенно не ясно и архитектурное воплощение свя-
тилища-цзяо. Известно только, что они составляли набор
из четырех отдельных комплексов, которые располагались
по четырем частям света от столицы, размещались в ее
окрестностях, чем и объясняется перевод данного термина
как «предместный храм», и служили местом проведения
сезонных — в честь наступления каждого из четырех вре-
мен года — жертвоприношений. Вполне вероятно, что цзяо
изначально вообще состояли из алтаря и прилегающей к
нему открытой площадки.
Значительно большее внимание, чем Храму предков и
цзяо, в китайской книжной традиции и гуманитарии в
целом исходно уделялось храму Минтан, который провоз-
глашается в них древнейшим и важнейшим национальным
государственным святилищем. Первые описания Минта-
на содержатся в конфуцианских канонических книгах
(«Шу цзин»), a от ханьской эпохи до нас дошла серия
специально посвященных ему трактатов, в которых по-
дробно излагаются его история и устройство. В названных
сочинениях говорится, что Минтан возник еще при динас-
тии Ся и затем неизменно возводился при всех последую-
щих династиях. Исходно он представлял собой строение
без стен, воздвигнутое на квадратном постаменте, с круг-
лым верхом и четырьмя проходами, что передавало Землю,
Небо и четыре стороны света.
В ханьских текстах сообщается, что это должен быть
храмовый ансамбль, включающий в себя главное здание —
«Небесные палаты», 9 покоев-нш и 12 дворцов-гг/w, вопло-
щающие 9 областей (т. е. идеальное территориально-адми-
нистративное устройство) Поднебесной и 12 знаков зодиа-
ка или месяцев (т. е. передающих небесное устройство и
годовой цикл). Потолок «Небесных палат» образован 28 бал-
ками, равномерно распределенными по четырем секторам
потолочной поверхности, что символизировало 28 созвез-
дий — по 7 в каждой четверти неба. В него вели 8 входов.
Очевидно, что перед нами полное и адекватное воспроиз-
ведение китайской космологической модели в ее самом
развернутом варианте с подключением горизонтальной и
вертикальной пространственных схем. Из ханьских же
письменных источников известно, что Минтан воздвигал-
ся к юго-западу от столицы, что тоже соответствовало
Минский Храм
императорских предков
853
Раннеханъский храм
Минтан. Реконструкция
План пекинского
Храма Неба
древнекитайским (с чжоуской эпохи) космологическим пред-
ставлениям, в которых юго-запад почитался, наряду с Цен-
тром и Югом, священной пространственной зоной. В при-
веденных описаниях дается, скорее всего, идеальное архи-
тектурно-планировочное устройство храма. Такой вывод
можно сделать после изучения остатков раннеханьского
Минтана, обнаруженных в пригороде Сианя. Во-первых,
он располагался не к юго-западу, a к югу от столицы. Во-
вторых, состоял из единичного здания, обнесенного сте-
ной. Однако в его планировке действительно сочетались
квадратные, круглые формы и неукоснительно соблюдался
принцип ориентации по четырем частям света. Храм был
расположен на абсолютно круглой в плане площади. Сте-
ны образовывали вписанный в этот круг квадрат. В каж-
дом участке стены находилось по одному проходу, оформ-
ленному воротами с надвратными башнями.
Новое архитектурное решение было предложено тан-
скими зодчими, когда императрица У Хоу вознамерилась
(в 687 г.) продолжить создание этого святилища. Остатки
танского Минтана, найденные в 1973 г., на этот раз почти
полностью подтвердили достоверность его литературных
описаний. В своем очередном архитектурно-планировоч-
ном варианте он состоял из двух самостоятельных строе-
ний — «Светлого зала» и «Небесного зала» (Тянътан). Пер-
вое из них совмещало в себе круглую (корпус здания) и
квадратную (постамент) формы и состояло из пяти этажей
(возможно заимствование из буддийских пагод), достигая
в высоту более 90 м (294 чи, по указанию письменных ис-
точников). Периметр его постамента составлял около 100 м
(300 чи). «Небесный зал» являлся зданием круглой формы
на круглой же платформе (диаметр 18,4 м).
Последним архитектурным воплощением Минтана яв-
ляется знаменитый Храм Неба, построенный в первой по-
ловине XV в., именно к юго-западу от Запретного города.
Он обладает значительно более сложным, чем все преды-
дущие варианты данного святилища, семиотическим по-
строением, хотя в нем по-прежнему обыгрываются круг и
квадрат. Южная часть территории Храма Неба имеет квад-
854
ратную форму, северная — форму полукруга. Главный
вход, вопреки всем китайским планировочным принци-
пам, ориентирован не на юг, a на запад. От западных
ворот — «Западные небесные врата» (Ситянъмэнъ) — идет
полукилометровая широкая аллея, по обеим сторонам ко-
торой были посажены кипарисы. Она приводит к подно-
жию террасы длиной 360 м, шириной 28 м (число дней в
году и число созвездий) и высотой 2,5 м. На ней располо-
жены — по прямой линии с севера на юг — три строения,
которые и составляют данное святилище: «Зал жатвенных
молитв» («Храм моления об урожае», Цинянъдянь, кото-
рый нередко в популярных изданиях называется «Храмом
Неба») — на севере, «Зал Небесного свода» (Хуанцюнъ-
юй) — в центре, и «Алтарь Неба» (Хуаньцю) — на юге.
«Зал жатвенных молитв» — святилище, где исполня-
лись жертвоприношения Небу в первый день Нового года.
Он был построен в 1420 г., полностью сгорел в 1889 г. от
попавшей в него молнии и почти сразу же был восстанов-
лен. Это круглое здание, стоящее на трехступенчатом и
тоже круглом в плане пьедестале, площадью свыше 5900 м2
и выполненном из белого мрамора. Каждая ступень окру-
жена балюстрадой из белокаменных резных столбиков. По
пьедесталу проходят 8 лестничных маршей. Само здание
имеет в диаметре 30 м и достигает в высоту 38 м. Оно
увенчано трехъярусной крышей, покрытой темно-синей
(цвет неба) глазурованной черепицей и заканчивающейся
позолоченным навершием. Здание построено без общего
каркаса, т. е. применения крупных стропил и длинных
поперечных балок, и лишено столь привычной для нацио-
нального зодчества внешней колоннады. Высокая и тяже-
лая кровля поддерживается 28-ю внутренними колоннами,
расположенными в 3 ряда. Первый ряд образуют 4 колон-
ны (4 части света и сезона года), высотой в 19,2 м. Сред-
ний и наружный ряды образованы 12-ю колоннами в каж-
дом, символизируя соответственно 12 месяцев и 12 времен
суток (основные суточные интервалы, каждый из которых
подразделяется на две части, что дает систему, внешне
совпадающую с европейским 24-часовым суточным цик-
лом). Все колонны сделаны из цельных стволов гигантских
реликтовых деревьев, доставленных из периферийных
южных районов (из провинции Юньнань). Пол выложен
каменными плитами, в центре которых находится кусок Зал жатвенных молитв
855
457 Здание обнесено стеной
правильной круглой формы,
сложенной из плотно пригнан-
ных друг к другу кирпичей;
стена обладает поразитель-
ными акустическими свой-
ствами: слова, произнесенные
шепотом в стену, сразу же
внятно доходят до слуха чело-
века, стоящего y диаметраль-
но противоположного участ-
ка стены. Такой акустический
эффект, подтверждающий до-
скональное знание китайски-
ми зодчими законов акустики,
проистекает из способности сте-
ны многократно отражать рас-
пространяющиеся вдоль нее
звуковые волны. Перед лест-
ницей, ведущей в здание, на-
ходится еще один знаменитый
инженерно-акустический па-
мятник — три лежащие ря-
дом каменные плиты, имену-
емые «Камень трехкратного
эха» (Санъиныии). Если встать
на первую и крикнуть или
хлопнуть в ладоши, — услы-
шишь однократное эхо, на
второй и третьей плитах —
двукратный и трехкратный
отголосок. Это объясняется
тем, что плиты находятся на
разном расстоянии от круглой
стены, отражающей звук.
458 «Алтарь Неба» тоже об-
ладает специфическими акус-
тическими свойствами: слова,
произнесенные человеком ше-
потом, стоящим в 4ентре ка-
менной плиты верхнего яру-
са, будут казаться ему само-
му громко сказанными, тогда
как люди, находящиеся вбли-
зи от него, вообще не услы-
шат ни звука. Дело в том, что
звуковая волна голоса гово-
рящего отражается по всей
окружности каменной балю-
страды, что усиливает перво-
начальный звук и одновремен-
но препятствует его распро-
странению извне.
мрамора с естественным узором, внешне напоминающим
очертания фигур «играющих дракона и феникса». Пото-
лок покрыт многоцветными росписями. Стены заменяют
резные ажурные деревянные панели, окрашенные в красно-
золотой цвет.
«Зал Небесного свода» был построен в 1530 и перестро-
ен в 1752 г. Имея значительно меныние, чем «Зал жатвен-
ных молитв», размеры — высота 19,5 м, диаметр 15,6 м,
он тоже являет собой уникальное творение китайского ар-
хитектурно-инженерного искусства, будучи возведенным
без единой поперечной балки. A его крыша держится на
болыном количестве доугунов*57.
«Алтарь Неба», построенный в 1530 и перестроенный в
1749 г., представляет собой круглую трехступенчатую тер-
расу из белого мрамора. Площадь вокруг него обнесена
двойной стеной — квадратной наружной и круглой внут-
ренней. Здесь совершались моления и жертвоприношения
Небу в день летнего солнцестояния. В устройстве «Алтаря
Неба» воплощены все существовавшие в китайской куль-
туре числовые коды космологического характера. Общая
высота террасы составляет 5 м, диаметр верхнего яруса —
30 м, среднего — 50, и нижнего — 70 м, что дает основной
ряд нечетных чисел (3-5-7), олицетворяющих Небо и Муж-
ское начало мира. В центре верхнего яруса находится круг-
лая каменная плита, окруженная 9-ю кольцами из камен-
ных плит. Первое кольцо образовано 9-ю плитами, вто-
рое — 18-ю, третье — 27-ю, последнее, девятое — 81 плитой.
Средний и нижний ярусы тоже выложены 9-ю кольцами
из каменных плит каждый. Если считать от колец верхне-
го яруса, то средний ярус начинается с 10-го кольца, со-
ставленного из 90 плит, и заканчивается 18-м кольцом из
162 плит (9 х 18). Нижний ярус начинается с 19-го кольца
и заканчивается 27 из 243 плит (9 х 27). В каждом ярусе
расположено по четверо ворот, и число ступеней, ведущих
к каждому из них, тоже оказывается кратным девяти. Ба-
люстрада, окружающая верхний ярус, состоит из 72 столби-
ков, средний и нижний — из 108 столбиков каждая. To
есть всего в них наличествует 360 столбиков, символизи-
рующих 360 градусов небесного свода458.
Подробный обзор всех остальных выделенных классов
храмовых ансамблей излишен, так как все они, несмотря
на некоторую вариативность их планировочной компози-
ции, подчиняются тем же самым планировочно-семиоти-
ческим правилам: расположение на прямоугольной в пла-
не площади, наличие главной оси, идущей с юга на север,
симметричность расположения всех компонентов по отно-
шению к этой оси, обнесение общей стеной, иногда двой-
ной, оформление центрального входа посредством ворот
и т. д. Эти правила соблюдаются, пусть с некоторыми ис-
кажениями, даже в случае расположения храмовых (мона-
стырских) ансамблей в горной местности, на склонах или
посреди скал. При расположении храма на высоком месте
он нередко может включать в себя длинный лестничный
марш, что мы видим, например, в святилище, посвящен-
836
ном Мэн Цзяннюй — героине популярнейшей в Китае ле-
генды, муж ее погиб на строительстве Великой китайской
стены. Допускалась также сегментарная разбивка храмо-
вого комплекса, когда его планировочная композиция рас-
падалась на относительно самостоятельные семиотико-архи-
тектурные сегменты, каждый из которых имел собствен-
ную архитектурную или смысловую доминанту. Такая
организация присуща храму Конфуция, объединившему
в себе, как мы помним, место погребения Учителя, родо-
вую усадьбу Кунов и т. д. Еще один характерный при-
мер — святилище, которое находится в окрестностях
г. Ханчжоу, посвященное полководцу Юэ Фэю (1103-1142),
в свое время возглавившему сопротивление чжурчжэням.
Здесь тоже отдельно выделяются могила Юэ Фэя и соб-
ственно святилище. Входящие в храмовые ансамбли строе-
ния по типу зданий и архитектурному воплощению тоже
практически ничем не отличаются от аналогичных свет-
ских построек.
Сказанное полностью относится и к китайско-буддий-
скому культовому зодчеству, которое, за исключением
пагод, не содержит в себе сколько-нибудь специфических
компонентов. Как именно происходил процесс адаптации соб-
ственно буддийского зодчества к китайскому архитектурно-
инженерному искусству, точно сказать невозможно по при-
чине крайней ограниченности сведений о характере древ-
нейших китайско-буддийских храмов и монастырей.
Традиция китайско-буддийского культового зодчества еди-
нодушно возводится в письменных источниках к Монасты-
рю Белой лошади, но нигде не приводится его сколько-
нибудь внятного описания. Известно также об интенсив-
ности китайско-буддийского культового зодчества в эпоху
Шести династий: в конце V — начале VI вв. в Китае
Святилище
Мэн Цзяннюй
Даосские храмы.
Образец оформления входа
Даосские храмы.
Образец централъного
здания. Зал Трех
наичистпейших храма
Сюаньмяогуань.
Сучжоу
Святпилище Юэ Фэя.
План
857
Горный буддийский
монастырь. Сюанькунсы.
Ок. V в. Пров. Шаньси
Пример планировки
буддииского монастыря.
Монастырь Линъиньсы.
Центральная часть
комплекса. Ханчжоу
Гуанчжоуская мечетъ
функционировало 2846 храмов, включая столичные свя-
тилища и горные монастыри. Однако и в данном случае, в
рассказе о них, как правило, основное внимание уделяет-
ся пагодам, следовательно, в них и в самом деле не содер-
жалось никаких уникальных по сравнению с местными
архитектурными ансамблями планировочных или строи-
тельных деталей.
Сходная картина наблюдается и в мусульманском зод-
честве, которое, придя в Китай, очень быстро утратило
свою специфику. Так, уже самая ранняя китайско-мусуль-
манская мечеть — Хуанъшэнсы, возведенная в Гуанчжоу,
построена по тем же самым планировочным правилам и
состоит из китайских типов зданий. Ее принадлежность к
мусульманству выдает лишь постройка, отдаленно напо-
минающая минарет. В самом же авторитетном мусуль-
манском святилище — мечети Цинчжэндасы, воздвигну-
той в Сиане при Мин, элементы арабо-мусульманского
зодчества сведены к минимуму. Минарет превратился в
полное подобие башни-лоі/ (трехъярусное строение, увен-
чанное «летящей крышей»), и влияние исламского искус-
ства проявляется только во внутреннем убранстве цент-
рального здания, которое по своему внешнему виду оказы-
вается типичным павильоном-^я«ь.
Одной из возможных причин подобной китаизации буд-
дийского и арабо-мусульманского зодчества, думается, по-
служил высочайший уровень развития местного архитек-
турно-инженерного искусства, которое не нуждалось в но-
вых для себя планировочных принципах и моделях. Еще
больших высот, чем в дворцовых и храмовых ансамблях,
оно достигло в градостроении.
858
Ключевой этап в истории китайского градостроения со-
относится с чжоуской эпохой: восприняв те основы градо-
строительной практики, которые сформировались на про-
тяжении неолитической и иньской эпох, оно приступило к
дальнейшему развитию планировочных принципов город-
ского ансамбля. Речь идет именно об ансамбле, так как
определенная часть чжоуских городов, в первую очередь
столиц, несомненно, возводилась по заранее разработанно-
му плану.
Первый вариант чжоуского столичного города дает нам
городище, обнаруженное в комплексе Фэнси и считающее-
ся, напомним, столицей, возведенной еще в правление Вэнь-
вана. Оно занимает прямоугольную в плане площадь, но
отличается несколько необычным для предыдущего и по-
следующего китайского градостроения числом и схемой рас-
положения городских ворот. Всего их было 11, что не укла-
дывается ни в какие присущие древнекитайской культуре
числовые наборы: двое — в южном участке стены, и по
три — в каждом из остальных ее участков. Возможно, в
данном случае сказались какие-то исходно чжоуские про-
странственные представления, либо чжоуские зодчие еще не
придавали должного значения подобным тонкостям.
Следующим по времени строительства и гораздо более
существенным для истории национального градостроения
столичным городом является Лои, заложенный, по преда-
нию, Чжоуским князем (Чжоу-гун, младший брат, напом-
ним, основателя Чжоу — У-вана) и ставший с 770 г. столи-
цей чжоуского государства. Называемый «Градом царей»
(Ванчэн), он в течение многих последующих веков призна-
вался эталонным образцом столичного города. «Град ца-
рей » занимал площадь почти 11 км2 и был окружен глино-
битной стеной протяженностью 3700 м с севера на юг и
2890 м с востока на запад. Дворцовые ансамбли и прави-
тельственные учреждения располагались строго в его цент-
ре, образуя еще один обнесенный стеной прямоугольник.
В городской стене было 12 ворот, по три в каждом из ее
участков, расположенных строго симметрично по отноше-
нию друг к другу и к воротам противоположного участка
стены. Магистральная ось была подчеркнута пятью допол-
нительными южными воротами. Все здания, входящие в
дворцово-правительственный ансамбль, находились либо
на этой оси, либо по сторонам от нее, образуя композицию,
построенную по принципу зеркальной симметрии.
В период Борющихся царств были разработаны и пись-
менно зафиксированы еще более детальные правила созда-
ния плана столичного города и возведения его. Так, в од-
ном из текстов III—II вв. до н. э. говорится, что город дол-
жен иметь квадратную в плане площадь со сторонами
длиной обязательно 9 ли (около 4,5 км), что его террито-
рия должна быть разделена 9 улицами меридиального на-
правления, a их ширина должна равняться девятикратной
ширине колесной повозки. Насколько указанные регла-
ментации находили воплощение в градостроительной прак-
тике, остается неясным.
ГРАДОСТРОЕНИЕ:
СЕМАНТИКА
И СЕМИОТИКА
столичного
ГОРОДА
m щ w
щ
m
^.»„„jji^jg^g
План Града царей
859
Общая планировочно-
семиотическая композиция
раннеханъской Чанъани
и прилегающего к ней
пространства
Ханьская эпоха ознаменовалась новыми градостроитель-
ными идеями, явно нацеленными на поиск дополнитель-
ных способов усиления семантического смысла столицы и
акцентирования ее сакральной значимости. 06 этом одно-
значно свидетельствуют особенности планировки и семи-
отической композиции Чанъани. К созданию собственной
столицы ханьские власти приступили уже в 200 г. до н. э.,
a основные работы по ее строительству были завершены в
районе 196 г. до н. э. — в немыслимо быстрый срок, учи-
тывая масштабы возведенного города. Известно, что в его
строительстве было задействовано 140 000 человек.
Чанъань раскинулась на площади 65 км2, строго пря-
моугольной в плане, и была окружена стеной общей протя-
женностью 30 км. В городской стене вновь располагалось
12 ворот, по три в каждом из ее участков. Каждые ворота
состояли из трех проходов по 6 м шириной. Костяк морфо-
логической структуры города образовывали 9 пересекаю-
щиеся под прямым углом улиц, все — шириной 20 м, шесть
из которых, включая главный проспект, шли в меридиаль-
ном направлении, по оси «север-юг», a три остальным — в
широтном направлении. В отличие от «Града царей» и
вопреки чжоуским письменным градостроительным пред-
писаниям, дворцовый ансамбль находился не в центре, a в
южной части города. Но, как выяснилось (археологиче-
ские работы 1993 г.)> семиотическая композиция Чанъани
не ограничивалась непосредственно городской территори-
ей, a строилась по необычайно длинной архитектурной
линии протяженностью 74 км.
Эта линия начиналась от ущелья Цзыугу, отрога мас-
сива Цинъцэнъ, и, затем идя строго на север, пересекала
ровно по середине дворцово-правительственную часть
Чанъани. Далее она проходила между двумя могильными
курганами — захоронениями основателя Хань — Гао-цзу,
и его супруги — императрицы Люй-хоу, образующими
могильный ансамбль Чанлин, по сторонам и на равном
расстоянии от которого находятся еще две императорские
усыпальницы (Анълин и Янлин). Затем архитектурная
линия шла вдоль излучины реки Цинхэ — притока Вэйхэ,
в южной прибрежной зоне которой располагалась Чанъ-
ань, и, наконец, она упиралась в комплекс ритуальных
строений. Непосредственным ее завершением служила це-
ремониальная постройка, отожествляемая исследователя-
ми со святилищем Небу. На этом месте был вскрыт котло-
ван глубиной 32 м, имеющий в плане форму круга (диа-
метр y поверхности земли — 260 м, в нижней части —
170 м). Котлован был обнесен рвом, его основание вымо-
щено каменными плитами. В северо-западном секторе со-
хранились остатки ведущей вниз лестницы со ступенями
4 м шириной. К востоку от этого святилища находился
алтарь, предположительно для жертвоприношений импе-
раторским предкам, который вместе со вспомогательны-
ми элементами образовывал композицию в форме пра-
вильного креста. Данный семиотический комплекс ждет
от ученых разрешения весьма однозначных вопросов: что
860
именно представляли собой найденные церемониальные
постройки? Почему святилище Небу было опущено ниже
уровня земли, a не возвышалось над ее поверхностью, что
было типично для всех известных ранее разновидностей
этой категории китайских храмов? Чем объясняется вы-
нос столь важных ритуальных построек на север? Тем не
менее очевидно, что создатели Чанъани пытались сконст-
руировать целостное ритуально-административное семи-
отическое пространство, в котором были объединены соб-
ственно столица, дворец (воплощение политического мо-
гущества правящего режима), императорские усыпальницы
(символ преемственности верховной власти), церемони-
альные строения (олицетворение сакральных функций го-
сударя) и базовые элементы ландшафта (ущелье и река),
олицетворяющие горы и водную стихию.
Строители восточноханьской столицы (на месте древне-
го Лои) отказались, видимо, от повторения этого рода экспе-
риментов, предложив взамен новый вариант планировочно-
семиотической композиции столичного города. Восточно-
ханьский Лоян занимал площадь 14 км2 и имел в плане
прямоугольную, тяготеющую к квадрату форму. Протяжен-
ность северного участка городской стены равнялась 3700 м,
восточного — 3895 м, западного — 420 м и южного —
2460 м. Высота стены достигала 5-7 м, но ее ширина замет-
но различается в зависимости от пространственной ориента-
ции отдельных участков. Наибольшей массивностью отли-
чаются северная и западная части стены, имеющие ширину
y основания соответственно 25-30 и 20 м, против 14-10 м
для восточного и южного участков. Возможно, так строите-
ли Лояна старались повысить магико-охранительную функ-
цию участков городской стены, экранирующих столицу от
северной и западной пространственных зон. Костяк морфо-
логической структуры Лояна образовывали, вместо сплош-
ной сетки пересекающихся улиц, два квартала, занимаю-
щих квадратную в плане площадь и обнесенных отдельны-
ми стенами с четырьмя ориентированными по четырем
частям света воротами. Внутренняя планировка каждого
квартала строилась исходя из оси «север-юг» и принципа
зеркальной симметрии. Внешняя городская стена по-преж-
нему имела 12 ворот, но прежняя схема их расположения
тоже была нарушена: в южной части стены располагались
четверо ворот, a в северной — двое, что сразу же приводит к
приоритету южной пространственной зоны.
Логично предположить, что указанные планировочно-
семиотические разночтения между ханьскими столица-
ми отражают изменения, произошедшие в религиозно-
космологических представлениях китайского общества
того времени.
Эпоха Шести династий, вопреки своим историко-поли-
тическим коллизиям, представляет знаменательную веху в
интенсивности градостроения. При сопоставительном ана-
лизе абсолютных показателей строительной активности (чис-
ло городов, возведенных на 10 000 км2 в течение столетия)
выясняется, что в III-VI вв. за каждые сто лет на единицу
[р~ ш
m
т
% 1
6*
fcà
ö
г
ö
1"«*" •»
Ѳ «fc*
<ta- -&
ö ö
1 до-t» të
II '
ый
-& &
ö" -»
*» «
ö
==A=
1»—-II
|V- _
1
еэ -©. *fr
ö ö *M
-£3- 1
€* & »
S ö ^
ö <*
1
m
ф -& "Ö тЮ ]
oft]
4nf "& 'ö 1
■£& 7П1 ш 1
■ ■1Й J
Ш M l
План позднеханьского
Лояна
861
Северокитайский город
со стеной с зубчатыми
украшениями.
Co стенописей Могао
Городская стена
с зубчатыми украшениями
в танском градостроении.
Co стенописей Могао
площади строилось примерно столько же городов, сколько в
период Борющихся царств, устойчиво считающийся време-
нем наиболыней интенсивности градостроительства в исто-
рии Китая. При этом центрами градостроительной деятель-
ности оказываются регионы метрополий Южных династий
и Северного Вэй, где было возведено соответственно 204 и
215 городов. Для Юга подобная масштабность градострое-
ния объясняется процессом колонизации китайцами новых
районов их обитания. A для Севера она является еще одним
весомым свидетельством стремительной трансформации еще
недавно племенного союза полукочевых племен в централи-
зованное государственное образование и восприятия тобий-
цами цивилизационных достижений Китая. Одновременно
северная градостроительная практика вобрала в себя немало
заимствований из архитектуры государств Западного края
(Восточного Туркестана, Средней Азии), которые тоже обла-
дали многовековыми градостроительными традициями. В ре-
зультате существенные изменения произошли, во-первых, в
облике городских стен, о чем мы можем судить по стенопи-
сям Могао. Они стали окаймляться по верхнему срезу ажур-
ными зубчатыми конструкциями, идущими от архитектур-
ных деталей (зубчатые кирпичи, венчающие городские сте-
ны), свойственным «западному» градостроению (города
ахаминидского Ирана, среднеазиатских государств и поли-
сных образований, таких как Самарканд, Чачи).
Во-вторых, стали применяться и новые планировочные
схемы, в которых доминирующее положение окончательно
заняли принципы осевой симметрии. Эти планировочные
схемы были реализованы в тобийской столице, воздвигну-
той на месте Лояна в середине V в. — во время правления
тобийского государя Вэнь-чэн-ди (452-465), приказавшего
полностью реконструировать остатки прежнего города. Се-
веровэйский Лоян отчетливо делится на две половины —
северную и южную, граница между которыми проходила
по улице, тянувшейся от западных (Сиянмэнъ) до восточ-
ных (Дунъянмэнъ) ворот. Императорская резиденция те-
перь располагалась в северной части столицы, занимая пло-
щадь примерно 1 км2, что составляло порядка одной деся-
той всей ее территории. Второй осью города, включая
императорскую резиденцию, являлась магистраль, прохо-
дившая от южных городских ворот и делившая его на за-
862
падную и восточную половины. По обе стороны этой маги-
страли располагались административные здания. Вся ос-
тальная территория южной части была занята жилыми
кварталами, вновь образующими «сетку» с прямоугольны-
ми ячейками, и многочисленными буддийскими храмами.
Южнокитайские градостроители при возведении мест-
ной столицы — города Цзянькана — столкнулись с иными
проблемами, обусловленными сложностью рельефа местно-
сти. В их распоряжении оказалась небольшая котловина,
зажатая между руслом Янцзы и окружающими ее с трех
сторон горными массивами. К тому же по этой котловине
протекало несколько речушек, впадающих в Янцзы. Все же
им удалось сохранить требуемую прямоугольную в плане
форму столицы, максимально приблизив ее к квадрату, и
«северо-южную» ось, которая была доведена ими на юге до
горной местности, ставшей местом проведения ряда офици-
альных ритуальных церемоний. С севера и запада столицу
окаймляла река, в изгиб которой и был вписан городской
квадрат. Южная магистраль, ведущая к горам, тоже пересе-
кала еще одну речку, — так столица оказалась как бы под
защитой природных стихий. Подобно северовэйскому Лоя-
ну, она распадается на две главные части — северную и
южную, в первой из которых находилась императорская
резиденция, a во второй — жилые кварталы. Морфологи-
ческую структуру южной части города образуют магист-
ральные улицы, идущие в меридиальном (4) и широтном (1)
направлениях, но принцип зеркальной симметрии здесь
оказывается нарушенным за счет смещения оси к западу.
В целом южнокитайский Цзянькан являет нам первый, по-
жалуй, столь выразительный пример китайского архитек-
турно-инженерного искусства выигрышно соотносить гра-
достроительные планы с топографическими реалиями и умело
использовать природные ландшафтные элементы.
Градостроительные идеи, наметившиеся в архитектурно-
инженерном искусстве эпохи Шести династий и реализо-
ванные в северовэйском Лояне, получили дальнейшее раз-
витие при Тан, воплотившись в новом варианте Чанъани.
Хотя от танской Чанъани сохранились только две камен-
ных пагоды, ее описания, содержащиеся в литературных
источниках, дошедшие до нас ее подлинные планы и ре-
зультаты археологических работ позволили реконструиро-
вать облик этого города в малейших деталях. Строительство
Чанъани началось еще при суйском Вэнь-ди, который от-
верг место расположения раннеханьской столицы, сочтя,
что там за прошедшие с момента ее разрушения восемь
веков накопилось слишком много негативной энергии. По-
сле многократных гаданий он остановил свой выбор на
низине, окруженной горами и находившейся к юго-восто-
ку от старого города. Но по-настоящему развернуть строи-
тельные работы суйская администрация не успела, их про-
должили танские власти. В окончательном виде танская
Чанъань приобрела циклопические размеры, заняв площадь
84,1 км2, тяготевшую в плане к квадрату. Она была обнесе-
на стеной общей протяженностью 36 км (9721 м с востока
r
L_.
авЕ|
■ [ I
l_t Л—LJ
#i
1 —1 il |
ІРн
H_J
Ялан танской Чанъани
Bopoma Миндэмэнь
на запад и 8652 м с юга на север), высота которой достига-
ла 5,3 м, a толщина y основания колебалась от 3-5 до
12 м, доходя в некоторых фрагментах до 20 м. Построен-
ная в глинобитной технике, она впервые в национальной
градостроительной практике была облицована тесаными
каменными плитами и кирпичной кладкой. В стене нахо-
дилось 12 ворот, столь же равномерно и симметрично рас-
положенных, как и в «Граде царей». Особым великолепи-
ем отличались главные, южные ворота, получившие назва-
ние «Врата Просветленной добродетели» (Миндэмэнъ). Они
состояли из пирамидальной формы глинобитного основа-
ния шириной 18,5 м, пяти проходов и надвратной конст-
рукции в виде здания с внешней колоннадой, увенчанного
одноярусной крышей. Карнизные части здания и глино-
битного основания составляли многочисленные доугуны,
превратившие это строение по степени декоративности в
подобие дворцового здания. Как и в случае с танскими
дворцами, особый художественный эффект ему придавало
контрастное сочетание гладких нижних поверхностей с
обилием резных деревянных деталей в верхней части.
Пространственно-планировочная среда Чанъани моде-
лируется исходя из совмещения крестообразного и осевого
принципов. Принцип крестообразного построения прояв-
ляется в трехчастном делении города на «Внешний город»,
который и занимает больше половины территории столи-
цы, образуя ее южную часть, административный район —
«Августейший город» (Хуанчэн), и дворцовый район —
«Дворцовый город» (Гунчэн). Обнесенные отдельными сте-
нами и разделенные площадью (2750 х 435 м), «Августей-
ший» и «Дворцовый город» составляют фокус простран-
ственно-планировочной среды Чанъани. При этом дворцо-
вый район оказывается прямо примыкающим к северной
стене, a собственно резиденция — известный нам ансамбль
Дамингун — и вовсе вынесен за пределы городского квад-
рата, образуя как бы его вспомогательный компонент.
Из города в резиденцию вели отдельные ворота, a в се-
верном участке ее стены, прямо напротив южных ворот,
находился еще один проход — «Врата Сокровенного воина»
(Сюанъумэнъ), которые, судя по названию, составляют се-
мантическую оппозиционную пару с главными городскими
воротами («светлый» — «сокровенный, сокрытый», «добро-
864
детель, сила-дэ» — «военная сила»). Принцип осевого пост-
роения реализуется путем усиления оси «север-юг», архи-
тектурным воплощением которой на этот раз стала главная
городская магистраль шириной 150 м, ведшая по абсолют-
но прямой линии от «Врат просветленной добродетели» к
«Августейшему городу». Ее семиотическая значимость под-
держана, во-первых, двумя параллельными, почти точно
такой же ширины улицами, идущими к «Августейшему
городу» от боковых южных ворот. И, во-вторых, двумя —
«Восточным» и «Западным» — рынками, которые распола-
гаются на равном расстоянии к востоку и западу от трех
главных улиц. Каждый из них занимал территорию в 2 км2
(приблизительно равную площади средневекового Лондона).
В результате опять возникает трехчленная и крестообраз-
ная композиционная фигура, которая одновременно построе-
на по закону зеркальной симметрии.
Костяк морфологической структуры города был образо-
ван такой же сеткой пересекающихся под прямым углом
улиц, но и этот планировочный компонент претерпел эво-
люционную трансформацию. Число улиц возросло: 11 — в
меридиальном направлении, 14 — в широтном. Длина пер-
вых из них равнялась 7 км, вторых — 9. Улицы посыпа-
лись белым песком и обсаживались (с VIII в.) фруктовыми
деревьями. Соответственно основной ячейкой столицы слу-
жили кварталы, возникшие за счет прямоугольной улич-
ной сетки. Заселение кварталов происходило по социаль-
ному и профессиональному признаку. Знать проживала в
западной (к западу от главной магистрали) части столицы,
простой народ — в восточной. Наиболее густо были заселе-
ны северные кварталы, примыкавшие к административно-
му району и рынкам. Однако независимо от денежного
достатка и общественного статуса обитателей каждый квар-
тал был обнесен глинобитной стеной высотой до 3 м, вдоль
которой шла пешеходная дорожка.
Грандиозность размеров Чанъани и совершенство ее пла-
нировки, безусловно, были призваны подчеркнуть и упро-
чить величие и совершенство правящего режима. Вместе с
тем многие ее архитектурно-планировочные элементы име-
ли и рациональный, сугубо практический смысл. Ta же
система квартальной застройки препятствовала стихийно-
му строительству и облегчала полицейский надзор за сто-
личными жителями: в каждый квартал назначался сле-
дивший за порядком чиновник, его ворота запирались на
ночь. Разделение на западную и восточную части способ-
ствовало поддержанию системы социальной иерархии: оби-
татели восточных кварталов не допускались в кварталы
знати. Таким образом, танское градостроение нашло дей-
ственные способы удовлетворения и духовных потребно-
стей, и насущных административных нужд имперской го-
сударственности459.
Внутриполитическая и геополитическая ситуация, сло-
жившаяся к моменту утверждения Северной Сун, не позво-
лила новому правящему дому соблюсти положенные прави-
ла обустройства столицы. Ее выбор был уже продиктован не
5 5 История мскусства Китая
459 Весьма примечательной
оказывается и планировка тан-
ского Лояна, превратившего-
ся в подобие духовной сто-
лицы страны, где были со-
средоточены национальные и
буддийские храмы и святы-
ни (в том числе, скальный
храм Лунмэнь). Его создате-
ли в очередной раз изменили
местоположение города, дабы
очистить его от «дурных по-
ветрий», тобийского владыче-
ства над ханьской империей.
Для этого им пришлось рас-
положить свое детище на обо-
их берегах реки Лохэ. Развив
опыт ханьских и южнокитай-
ских градостроителей, они
включили в планировочно-
семиотическую композицию
Лояна само русло реки, пре-
вратив его в искомую струк-
турообразующую ось, которая
и разделила город на две при-
близительно равные по кон-
фигурации части — северо-
западную и юго-восточную.
Как и в Чанъани, в первой из
них были сосредоточены пра-
вительственные учреждения,
образующие аналог столич-
ного «Августейшего города».
A в юго-восточной части была
воспроизведена ячеечная квар-
тальная система, образован-
ная 120 улицами. Общая пло-
щадь Лояна по-прежнему была
прямоугольной в плане, a в
городской стене находились
12 ворот, хотя указанные то-
пографические реалик уже не
позволили добиться требуемой
симметричности их располо-
жения.
865
460 Последние попытки при-
дать столице должный облик
были предприняты — приме-
чательная деталь — импера-
тором Хуэй-цзуном (еще один
аспект его реформаторской
деятельности). Лавки и част-
ные конторы, размещавшие-
ся вдоль центрального проспек-
та, были снесены. Началось
строительство двух монумен-
талъных сооружений — холма-
сада (более 15 км в окруж-
ности и высотой 140 м) и
комплекса из 100 зданий для
3000 учащихся Император-
ской школы (высшего госу-
дарственного учебного заве-
дения Северной Сун). Первое
из них воздвигалось в севе-
ро-западном углу столицы,
что заставляет нас вспомнить
о местоположеніЁи: раннехань-
ских святилищ и танской им-
ператорской резиденции, вто-
рое — в южном пригороде
Кайфына, что также совпада-
ет с древними космологиче-
скими представлениями и нор-
мами культового зодчества.
Однако понятно, что и эти
акции Хуэй-цзуна не принес-
ли желаемого результата ни с
практической (оба сооруже-
ния так и не были заверше-
ны), ни с идеологической точ-
ки зрения.
идейно-ритуальными факторами, a меркантильными — во-
енно-стратегическими и торгово-экономическими — сооб-
ражениями. Сунские власти отказались от мысли о вос-
становлении уже полностью разрушенной к тому времени
Чанъани или строительства нового города, предпочтя обо-
сноваться в Кайфыне. Их выбор вполне понятен: Кайфын
служил столицей нескольких северных государств эпохи
Пяти династий и, самое главное, занимал исключительно
выгодное географическое положение, находясь на глав-
ном речном торговом пути между Севером и Югом. Это
облегчало доставку туда продовольствия и товаров юго-
восточных и южных районов, пострадавших значительно
меньше, чем регион Хуанхэ, во время восстаний и междо-
усобных войн. Но Кайфын относился к числу городов,
которые возникли и развивались стихийно, и к середине
X в. представлял собой конгломерат торгово-ремесленных
поселений со столь плотной застройкой, что правитель-
ству негде было разместить даже государственные учреж-
дения и императорскую резиденцию. Так перед китайски-
ми градостроителями встала принципиально новая для них
задача — привести уже имеющуюся городскую реальность
в соответствие с планировочными нормами имперской сто-
лицы. Для этого им пришлось расширить городское про-
странство путем сооружения более вместительных город-
ских стен и перепланировать кварталы, a центральной
администрации — принять жесткие законодательные меры
по пресечению притока деревенских жителей и самоволь-
ных застроек, к чему уже так привыкли коренные обита-
тели Кайфына и жители его окрестностей. В результате
получилось градостроительное образование, в котором при-
чудливо смешались амбиции сунского режима, его нос-
тальгия по прошлому имперскому величию и далекая от
этих мечтаний городская реальность.
Последовав принципу трехчастного построения про-
странственно-планировочной среды столицы — разделению
города на «Внешний», «Августейший» и «Дворцовый», со-
здатели Кайфына разместили административный и двор-
цовый районы почти в самом его центре, как это и предпи-
сывалось древнейшими градостроительными правилами.
Территория города была доведена ими до формы, близкой
к квадрату. Мощная городская стена высотой более 12 м,
толщиной y основания — 18 м, протяженность которой
после ряда реконструкций составила почти 27 км, имела
12 ворот. Главная ось города — Императорский проспект —
шла с юга на север. Но город так и не приобрел надлежа-
щей композиционной четкости: его план оказался ромбо-
видных очертаний, центральная ось — сдвинутой к восто-
ку. He удалось ни восстановить поквартальную застройку,
ни внедрить приличествующую столице планировку по
признаку социальной иерархии. Вплотную к император-
ской резиденции примыкали торговые ряды и даже увесе-
лительные заведения. В 1078 г., вопреки амбициозным
планам, власти разместили правительственные учрежде-
ния и военные лагеря в гуще жилых кварталов460.
866
История создания южносунской столицы на месте со-
временного Ханчжоу как будто повторила историю южно-
китайского Цзянькана и Кайфына. С одной стороны, импе-
раторским градостроителям пришлось вновь иметь дело с
уже сложившимся (с VII в.) ремесленно-торговым городом,
a с другой — с топографическими трудностями. Территория
его застройки тянулась между озером Сиху и холмистой
местностью, что, казалось бы, никак не позволяло реализо-
вать столичный градостроительный канон. Но и в данном
случае градостроителям удалось более или менее успешно
решить все эти проблемы. На относительно небольшой ров-
ной местности были воздвигнуты обе основные части сто-
личного ансамбля, получившие теперь название «Внешний»
и «Внутренний город», которые были обнесены стенами,
соответственно длиной 17 и 12 км. Высота стен «Внутренне-
го города» достигала 10 м, но она уже имела совсем необыч-
ное число ворот — 13, дополненных 5 вспомогательными
проходами. Планировка «Внутреннего города» подчинялась
принципу зеркальной симметрии, a роль главной «северо-
южной» оси играл главный проспект, длина которого те-
перь уже была менее 4 км. Основная масса населения (око-
ло 1 млн человек) проживала вне собственно территории
столицы. Представляя лишь жалкие остатки былого сто-
личного величия, Ханчжоу был расположен в необыкновен-
но живописной местности, окружен красивейшими ланд-
шафтами, пронизан сетью каналов с перекинутыми через
них деревянными и каменными мостами — и все это удиви-
тельно точно соответствовало камерности и поэтичности ху-
дожественной культуры того времени.
Последняя китайская столица — Пекин — является вен-
цом национального градостроительного искусства и вопло-
щает все культурно-идеологические реалии своего времени461.
В том виде, в каком Пекин дошел до наших дней, он
является творением именно минского градостроения, так как
при Цин была предпринята только реконструкция старых
зданий или строительство единичных сооружений без при-
внесения каких-либо принципиальных изменений в общую
композицию города. Пекин выступает воплощением древне-
го градостроительного канона, в который влились последую-
щие градостроительные идеи. Его главные части — импера-
торская резиденция (Залретный город), административный
район («Внутренний город») и «Внешний город» — полно-
стью подчиняются принципу сфокусированного простран-
ства, представляя собой вставленные одна в другую прямо-
угольные (тяготеющие к квадрату) фигуры. Вот конкретный
результат и наглядный пример минского реставрационализ-
ма в области непосредственно градостроения. Вместе с тем
сохранился принцип осево-зеркальной планировки.
Функцию городской оси исполняет 8-километровая ма-
гистраль, идущая от центральных южных ворот внешней
стены (в настоящее время они разобраны). Далее она прохо-
дит через южные ворота стены, окружающей «Внутренний
город» (ворота Цяньмэнь или Чжэнъянмэнь), и пересека-
ет — уже в качестве умозрительной линии — площадь
461 В наследство минским
властям досталось место с мно-
жеством «старинных и дурных
веяний». Впервые, после бы-
тия его столичным городом
чжоуского царства Янь, Пе-
кин (под другим, естествен-
но, названием и в совершен-
но ином облике) вернул себе
столичные функции при ки-
данях. В начале XII в. кидань-
ская столица была захвачена
чжурчжэнями, объявившими
ее столицей собственного го-
сударства. В 1263 г. туда же
была перенесена резиденция
Хубилай-хана, который в от-
личие от чжурчжэньских пра-
вителей отстроил город зано-
во, взяв за образец китайские
столичные города. Юаньский
Пекин, точнее, город Даду
(«Великая столица»), имел
прямоугольную в плане фор-
му и строился исходя из оси
«север-юг». Минская адми-
нистрация, естественно, не-
сколько изменила местополо-
жение города и тоже возвела
фактически новый столич-
ный ансамбль, учитывая, прав-
да, уже имеющиеся секторы
застройки.
867
План центральной части
Пекина
1 — внутренний город; 2 — внеш-
ний город; 3 — Храм Неба; 4 —
Храм земледелия; 5 — Храм им-
ператорских предков; 6 — Алтарь
пяти хлебных злаков; 7— За-
претный город.
Тяньаньмэнь и сам Запретный город, доходя до его северно-
го края. К ней же стягиваются и все важнейшие ритуально-
церемониальные строения, болыпинство из которых было
воздвигнуто уже при Цин, образующие симметрично распо-
ложенные парные комплексы. В юго-восточном и юго-
западном предместьях (реликт святилищ-цзяо) «Внутреннего
города» находятся соответственно Храм земледелия и Храм
Неба. Слева и справа y самого подхода к Запретному горо-
ду — Алтарь пяти хлебных злаков (Шэцзи) и Храм импера-
торских предков (вспомним о его местоположении в ранне-
чжоуской царской резиденции). В восточном и западном
предместье «Внутреннего города» — Алтарь луны и Алтарь
солнца (принесение жертвоприношений солнцу и луне —
собственно маньчжурская религиозная традиция). Их до-
полняют, но уже не в столь четкой симметрии, Алтарь шел-
ководства (на территории Запретного города, к северо-восто-
ку от дворцового комплекса), Храм Конфуция и Ламаист-
ский храм (в северо-западной части «Внутреннего города»).
Подобный набор храмов и алтарей как нельзя лучше демон-
стрирует эклектичность официальных религиозных пред-
ставлений минской и цинской эпох, в которых соседствуют
базовые для Китая государственные культы (Земли и Неба),
ожившие рудименты национальной архаики, маньчжур-
ские верования, конфуцианство и буддизм. С точки зрения
истории градостроения планировочно-семиотическая ком-
позиция Пекина в совершенстве объединила светское, по-
литическое и ритуально-религиозное пространство.
Итак, китайские столицы являют не просто образцы ме-
стного градостроения и архитектурно-инженерного искусст-
ва, a представляют настоящую летопись национальной исто-
рии и духовной культуры, в которой наглядно воплотились
социально-экономические реалии, религиозно-космологиче-
ские представления, политические амбиции и уровень соци-
ально-психологического настроя китайского общества, свой-
ственные каждой определенной исторической эпохе.
КИТАЙСКО-
БУДДИЙСКОЕ
КУЛЬТОВОЕ
30ДЧЕСТВ0
(ПАГОДЫ)
КУЛЬТУРНО-
АРХИТЕКТУРНЫЕ
ИСТОКИ ПАГОД
Термин «пагода», кит. ma, восходит к индонезийскому
слову дагоба, посредством которого определялся местный
вид буддийских культовых строений и который в свою оче-
редь является неточной транскрипцией индийских слов бха-
готи (на пракрите) и бхавагати (на санскрите), означаю-
щих «священный». Архитектурно-семантическим прототи-
пом пагод является особый тип древнеиндийских культовых
сооружений, известный как ступа. Словарное значение это-
го термина в санскрите — «священный». Исходно ступы
являлись погребальными памятниками, практика созда-
ния которых возникла и утвердилась в рамках еще веди-
ческой обрядности, в XV-VI вв. до н. э. Известно, что они
представляли собой сооружения, состоящие из постамен-
та, размещенной на нем полусферической части и верхнего
каменного куба, служившего реликварием — в него заму-
ровывался пепел усопшего после кремации. Завершал со-
оружение центральный шпиль с нечетным количеством
868
зонтов. Ступы обносились каменной оградой, повторявшей
по форме древнеиндийскую ограду жилищ — ведика462.
В буддийской традиции факт восприятия ею ступ объяс-
няется в нескольких различных легендах. По одной из
них, зафиксированной в палийских текстах, Будда заве-
щал сжечь его останки и поместить пепел в ступу, как это
и надлежало сделать для представителя высшего слоя
кшатриев. Принято считать, что физическое тело Будды
было действительно сожжено, a его прах поделили на во-
семь частей. Две из них были вручены его любимым уче-
никам. Шесть остальных увезены в основные для того
времени буддийские обители, для хранения которых мо-
нашествующие соорудили первые собственно буддийские
ступы. Несколько иной вариант истории происхождения
буддийской ступы излагается еще в одной легенде. В ней
повествуется, что когда Будду спросили, каким должен
быть его погребальный памятник, то он молча сложил свое
верхнее одеяние так, что оно образовало постамент, сверху
поставил на него перевернутую вверх дном патру (чашу
для сбора подаяния) и проткнул их посередине посохом.
Эта легенда примечательна тем, что в ней зафиксирована
начальная стадия формирования буддийской символики
ступы и ее отдельных конструктивных элементов. В даль-
нейшем квадратный постамент ступы стал мыслиться во-
площением земного пространства, полусфера — высшего
мира, a зонтичное навершие (посох Будды) — символом
ухода в нирвану.
Начальный этап истории развития ступ как памятни-
ков буддийского культового зодчества приходится на зна-
комую нам уже эпоху Мауръев и время правления царя
Ашоки, за которое, по преданию, было возведено 84 тыся-
чи таких сооружений. Сохранилось несколько ступ, дати-
руемых II в. до н. э. — II в. н. э., из которых эталонным
памятником раннего буддийского культового зодчества
признается ступа в Санчи. Возведенная еще в середине
III в. до н. э. и исходно состоявшая из круглой платформы
и полусферического корпуса (тела), она затем была пере-
строена. Ее размер был увеличен почти вдвое с помощью
кирпичной кладки и облицовочных блоков из красного
песчаника. Ее окружили основанием в виде барабана, по
которому был проложен обходной путь (прадакшина). В зе-
ните полусферы установили каменный куб с квадратной в
плане оградой и снабженный в центре стержнем с зонтами.
В окончательном своем виде ступа стала иметь диаметр y
основания 36,6 м, высоту тела 16,5 м и общую высоту
23,6 м. Вокруг нее была установлена ограда-ведытса, кото-
рая в середине I в. до н. э. была дополнена четырьмя (ори-
ентированными по сторонам света) воротами-торана, ко-
торые и содержат в себе первые произведения буддийской
пластики. Тело самой же ступы лишено каких-либо орна-
ментальных деталей, что считается типичным для началь-
ного этапа буддийского культового зодчества.
В I в. до н. э. поверхность ступ начала декорироваться
рельефами на тему джатак, что мы видим на примере еще
462 В наук&полагается, что
данный тип культовых соору-
жений восходит либо к северо-
индийскому древнему жили-
щу — хижине, напоминающей
по форме улей, с шестом по-
середине, либо к южно-индий-
ским могильным памятни-
кам — в виде болыыих камен-
ных полусфер, обнесенных
оградой с воротами.
869
Исходный архитектурно-
архитектонический
вариант ступы.
Ступа в Санчи
Гандхарская ступа
Рунавели-дагоба
463 На территории каждо-
го монастыря возводилась
большая ступа, служившая
реликварием, вокруг которой
затем сооружались погребаль-
ные, с прахом монашествую-
щих, ступы. Кроме того, во
II в. до н. э. — II в. н. э. по-
лучил распростра^ение осо-
бый тип буддийских святи-
лищ — чайтшіу внутри кото-
рого помещались модели ступ
в качестве уже самостоятель-
ных вотивных предметов.
464 Указанные изменения во
многом произошли под влия-
нием эллинистического и иран-
ского зодчества. Так, квадрат-
ный пьедестал обнаруживает
прямые архитектурные парал-
лели как со стилобатами гре-
ческих храмов, так и с терра-
сами иранских дворцово-хра-
мовых комплексов.
нескольких ступ из Санчи, богато украшенных такими сце-
нами. Параллельно на протяжении III—I вв. до н. э. ступа
превратилась в обязательный компонент монастырского
комплекса463. Перечисленные памятники относятся к тра-
диции североиндийской архитектуры. О состоянии и ходе
развития буддийского культового зодчества в южных рай-
онах Древней Индии практически ничего неизвестно. Бу-
дучи построенными не из камня, a из дерева, местные
архитектурные памятники погибли. He сохранились и их
литературные описания.
Следующий этап в эволюции буддийского культового
зодчества связывается, подобно истории буддийской плас-
тики, с Кушанской империей и с Гандхарской художе-
ственной школой. Ступы стали возводится на территории
Гандхары тоже еще в III в. до н. э., представляя собой мак-
симально простое строение: купол на цилиндрическом цо-
коле, без пьедестала и декора. На протяжении I в. до н. э —
I в. н. э. их облик претерпел решительную трансформацию.
В их композицию были введены квадратные или кресто-
видные пьедесталы с лестницами, тело значительно вытя-
нулось, превратившись в многоярусную постройку, шпиль
в зените удлинился, число зонтов возросло464. С технико-
конструктивной точки зрения гадхарские пагоды есть за-
бутовочный массив из гальки и земли, связанный раство-
ром и облицованный кладкой из булыг и плоских плит.
Поверх кладки наносилась штукатурка, a на уровне пьеде-
стала и цилиндрического основания закреплялись плиты с
рельефными изображениями, выполненные из шифера раз-
личных оттенков — от серого до черного, с голубоватым и
зеленоватым отливом. Одновременно возросла и роль плас-
тического декоративного оформления ступ.
Зодчество Гандхары, или североиндийский архитектур-
ный стиль, оказало определяющее влияние на буддийскую
архитектуру всего центрально-азиатского региона, откуда
ее традиция и проникла в Китай. Параллельно в ходе про-
цесса распространения буддизма в Юго-Восточную Азию,
возник ряд новых региональных буддийских архитектур-
ных традиций, к важнейшим из которых относятся цей-
лонская, бирманская, таиландская и индонезийская.
На Цейлоне ступы, или, в местной терминологии, даго-
бы, стали возводится ориентировочно с III в. до н. э., тоже
превратившись в скором времени в обязательный компо-
нент буддийских храмовых комплексов. Сохранив общую
структуру древнеиндийской ступы, дагобы приобрели соб-
ственные локальные архитектурные и декоративные черты.
Она получила вытянутое тело, высокую круглую трехсту-
пенчатую платформу и конусообразный верх — результат
слияния индийского зонтичного навершия с заостренными
шпилями, свойственными местной архитектуре. Цейлон-
ские дагобы могли достигать значительно болыпих, чем
индийские ступы, размеров. Пример — знаменитая Руна-
вели-дагоба, возведенная из кирпича во II—I вв. до н. э.,
которая имеет платформу в 150 м диаметром и общую вы-
соту 80 с лишним метров. Принято считать, что именно
870
цейлонское буддийское культовое зодчество качественно
повлияло на все остальные южноазиатские региональные
архитектурные традиции.
В Бирму (точнее, в южноазиатский регион, находив-
шийся на территории современной Бирмы), буддизм проник
в I в. н. э., когда туда стали массово переселяться индий-
ские монахи и торговцы. Приблизительно тогда же возник-
ло и местное буддийское культовое зодчество, давшее само-
стоятельный стилистический вариант. Бирманско-буддий-
ский архитектурный стиль характеризуется разнообразием
форм ступ с использованием в них элементов как индийско-
го, так и местного происхождения465. Самая ранняя из до-
шедших до нас бирманских дагоб (Бупая, II—III вв. н. э.)
имеет удлиненную, конической формы верхнюю часть и за-
остренный шпиль, что и относится к числу опознаватель-
ных типологических особенностей бирманско-буддийского
архитектурного стиля, который окончательно сложился уже
к IX в. В отличие от индийских и цейлонских ступ в бир-
манских дагобах отсутствовал кубический реликварий с ог-
радой, зато повышенное внимание уделялось основанию,
впоследствии превратившемуся в многоярусный пьедестал,
который может составлять до одной трети всего строения.
Возросло и значение шпиля, трансформировавшегося в свое-
образное шпилеобразное навершие (хти), которое может
занимать тоже до трети от общей высоты дагобы. Эти навер-
шия исполнялись из металла, покрывались позолотой и со-
стояли из нечетного числа богато украшенных колец, к ко-
торым нередко подвешивались колокольчики.
Таиландско-буддийское культовое зодчество стало скла-
дываться в VII-VIII вв., во время установления в данном
регионе первых централизованных государств. В нем было
разработано новое архитектурное воплощение ступы, по-
лучившее название пра-чеди, в котором объединились эле-
менты индийского, цейлонского и бирманского буддийско-
го культового зодчества. Таиландские пра-чеди характери-
зуются, во-первых, наличием высокого (более трети от общей
высоты строения) многоступенчатого основания, которое
имеет в плане круглую или квадратную форму, и, во-вто-
рых, вытянутым колоколообразным телом, увенчанным
высоким шпилеподобным навершием, которое также со-
стоит из множества нанизанных на стержень и уменыпаю-
щихся кверху дисков.
Начальный этап формирования индонезийско-буддий-
ского культового зодчества приходится на VI-VII в., и он
тоже был вызван переселением на острова Малайского ар-
хипелага буддийских священнослужителей, бежавших из
Индии и спасавшихся от гонений индуистов. К VIII в. дан-
ной региональной архитектурной традицией, основным цен-
тром которой стал о. Ява, был предложен очередной конст-
руктивно-художественный вариант ступы — каменный
храм чанди, родственный, как это принято считать, южно-
индийскому храму и имеющий квадратную или крестооб-
разную в плане цокольную часть и башнеобразный или
пирамидальный корпус466.
465 Древнейшие образцы
бирманско-буддийских памят-
ников были обнаружены бла-
годаря археологическим на-
ходкам. При раскопках были
вскрыты остатки сооружений
с трехступенчатым и квадрат-
ным в плане основанием, с
цилиндрическим корпусом и
на круглом в плане трехсту-
пенчатом основании, восьми-
гранных в плане и т. д.
466 Отдельный тип буддий-
ских культовых строений при-
сущ архитектуре о. Бали: стро-
ения-меру, которые представ-
ляют собой многоярусные
деревянные сооружения, воз-
двигнутые на каменных тер-
расах, отдаленно, заметим,
напоминающие китайские па-
годы, возводимые там имен-
но на Юге.
871
В целом история буддийского культового зодчества по-
казывает, что, равно как и само Учение, оно обладало спо-
собностью адаптироваться к любой архитектурной среде,
реализуясь в различных архитектурных формах и сохра-
няя при этом свои базовые конструктивные элементы (трех-
частная композиция строений) и семантические значения,
которые проистекали из буддийских космологических пред-
ставлений, доктринальных положений и обрядности. Ука-
занные генеральные особенности буддийского культового зод-
чества полностью проявились и в китайских пагодах.
НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП
ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ
КИТАЙСКО-
БУДДИЙСКОГО
КУЛЬТОВОГО
ЗОДЧЕСТВА
(І-ѴІ вв.)
Начальный этап формирования китайско-буддийского
культового зодчества, аналогично традиции изобразитель-
ного искусства, соотносится со второй половиной Хань и с
эпохой Шести династий. Первой пагодой в истории местной
архитектуры письменные источники называют пагоду упо-
мянутого «Монастыря Белой лошади», но никаких подроб-
ностей о ее внешнем облике и размерах в них не приводят-
ся. В одном из сочинений VI в. («Записи о буддийских хра-
мах Лояна») говорится, что уже ко второй половине III в. на
территории только одного столичного города (Лояна) и его
окрестностей функционировало 32 буддийских храма и мо-
настыря, но все они сгорели во время захвата Лояна «варва-
рами». Уцелела лишь одна каменная пагода (без каких-
либо сведений о ней). Из приведенного сообщения явствует,
что исходно основным строительным материалом для буд-
дийских построек служило дерево, a не камень. Для IV-
VI вв. в синхронных и последующих текстах называется
множество буддийских храмов, монастырей и непосред-
ственно пагод и утверждается, что они были высотными,
многоярусными строениями.
Правомерность этого подтвердилась обнаружением
(1979 г.) на территории современного Лояна остатков фун-
дамента пагоды, о существовании которой было известно
из письменных источников: в них называется точная дата
ее строительства — 499 г., и оговаривается, что она была
воздвигнута в столичном монастыре Юннинсы по личному
повелению северовэйского государя. На основании сопо-
ставительного анализа литературных описаний пагоды и
археологических материалов был реконструирован ее об-
лик. Оказалось, что она представляла собой гигантское
сооружение, высотой 123 м. Тело пагоды покоилось на не-
высоком, квадратном в плане основании и состояло из де-
вяти этажей, каждый из которых был построен по принци-
пу павильона-^л«ь, т. е. имел внешнюю колоннаду и от-
дельный вынос крыши с карнизом из доугунов. Пагода
завершалась навершием, составленным из 11 дисков оди-
наковых размеров, нанизанных на штырь, который снизу
был прикреплен к «пылающей жемчужине», a сверху за-
канчивался фигурой в форме вытянутого овала (или яйца).
Эта пагода исчерпывающе подтверждает тот факт, что уже
на начальной стадии развития китайско-буддийского куль-
тового зодчества возводились высотные многоярусные строе-
ния, и доказывает непосредственное участие в формирова-
872
нии данной традиции местных архитектурных приемов и
типов зданий, особенно дянь и башен-лоі/, являвшимися,
напомним, единственными национальными высотными и
ярусными сооружениями. В силу конструктивных особен-
ностей пагоды (употребление дерева и собственно китай-
ских строительных методов), определить степень влияния
на нее какой-либо региональной буддийской архитектур-
ной традиции невозможно.
Древнейшими дошедшими до нас подлинными пагода-
ми являются Пагода монастыря Сунъюэсы (Сунъюэсыта)
и Пагода монастыря Юнтайсы (Юнтайсыта), воздвиг-
нутые соответственно в 520 и 521 гг. в горах Суншань.
Вторая из них была перестроена в 581-618 гг. Обе они —
памятники северовэйского зодчества. Пагода монастыря
Сунъюэсы была построена из лёссовой глины и кирпича и
достигает в высоту около 40 м (см. вклейку). Она обладает
мощным основанием, разделенным на две горизонтальных
части. Нижняя имеет форму восьмигранника в плане, a ee
внешняя поверхность стен (в 2,54 м толщиной) совершенно
гладкая. Верхняя часть выполнена в форме двенадцати-
гранника и снабжена множеством дополнительных конст-
руктивных и орнаментальных элементов. В ней размеще-
ны четыре дверных прохода (впоследствии частично зало-
женные и превратившиеся в квадратные оконные проемы),
арочные оконные проемы и глубокие ниши, в которых
некогда были размещены единичные статуи персонажей
буддийского пантеона, — все с орнаментальными обрамле-
ниями, имитирующими архитектурные детали. Между ними
вдоль каждого угла двенадцатигранника проходят трех-
гранные пилястры с базами в форме трехлепесткового цветка
лотоса и увенчанные капителями с «пылающей жемчужи-
ной». Тело пагоды, сохраняя форму додекагона, состоит из
15 этажей, четко отделенных друг от друга ступенчатыми
карнизами. Каждая грань отмечена арочным проемом и
двумя нишами. Этажи постепенно уменьшаются в разме-
рах по горизонтали, придавая пагоде криволинейный си-
луэт. Наверху находится конусообразная каменная башен-
ка, имитирующая навершие с девятью дисками, которая
заканчивается шаром с некогда прикрепленным к нему
штырем. В этой пагоде уже заметно прослеживается влия-
ние североиндийского (гандхарского) архитектурного сти-
ля, хотя многие ее элементы (пилястры, имитирующие ко-
лоннаду, карнизы, оконные проемы и арки) явно восходят
к китайскому зодчеству467.
Пагода монастыря Юнтай была построена для женско-
го монастыря, заложенного по указу северовэйского госу-
даря (Сяо-мин-ди) для его сестры, принцессы Юнтай, имя
которой впоследствии и дало название данному мона-
стырскому комплексу. Пагода представляет собой камен-
ное сооружение приблизительно шестиметровой высоты,
покоящееся на высоком квадратном в плане основании
облицованном кирпичом (см. обложку). Тело пагоды состо-
ит из 11 этажей, выделенных слегка изогнутыми кверху
карнизами, и тоже обладает отчетливым криволинейным
Пагода монастыря
Юннинсы. Реконструкция
467 Обращает на себя так-
же внимание использование и
привычное сочетание восьми-
гранника и двенадцатигран-
ника (внутреннее помещение
пагоды тоже имеет октагональ-
ную форму), что не было свой-
ственно гандхарскому зодче-
ству. И наконец, использо-
вание в качестве навершия
каменной башенки (вместо
зонтичных наверший) было
характерно для юго-восточно-
го зодчества.
873
Пагода
монастыря Цисясы
силуэтом. Навершием служит каменная башенка. Тем не
менее эта пагода заметно отличается от пагоды монасты-
ря Сунъюэсы как по внешнему облику (характер карни-
зов), так и отсутствием орнаментальных деталей: поверх-
ность основания и этажей — совершенно гладкие.
Для Юга древнейшим памятником буддийского куль-
тового зодчества выступает пагода на территории уже зна-
комого нам монастыря Цисясы (там, где находится скаль-
ный храм «Склон тысячи будд»). В письменных источни-
ках указывается, что она была построена из дерева в 601 г.
и затем переведена в камень, с точным сохранением ее
прежнего облика, в 937-975 гг. Имея в высоту всего 18,4 м,
эта пагода представляет собой значительно более сложное
по композиции, чем северовэйские пагоды, сооружение. Ее
нижнюю часть составляет ступенчатое основание округло-
октагональной формы, выполненное в виде стилизованно-
го цветка лотоса, что делает его подобием «лотосового тро-
на». На «лотосовом троне» возвышается цоколь значитель-
но меньшего, чем основание, размера в диаметре, имеющий
подчеркнуто восьмиугольную форму. Каждая грань его по-
верхности орнаментирована рельефными изображениями
буддийских персонажей. Собственно тело пагоды состоит
из пяти ярусов, разделенных широкими гнутыми карни-
зами, имитирующими загнутые крыши с черепицей. Про-
странство между ярусами тоже заполнено рельефами —
изображениями Будды и орнаментальными деталями. Верх-
нюю часть составляет каменная башенка, имитирующая
не зонтичное навершие, a многоярусную ступу. Пагода яв-
ляется цельнокаменной, без внутреннего помещения, и по
этому признаку может рассматриваться в качестве прото-
типа так называемых пагодоообразных мемориальных ко-
лонн — буддийских памятников особого разряда, которые
в дальнейшем получили наибольшее распространение имен-
но на Юге.
В этой пагоде вновь угадываются исходные конструк-
тивно-композиционные принципы гандхарских ступ —
сложнообразованный постамент с элементами лотоса, на-
личие скульптурных изображений в нишах, опоясываю-
щих тело строения. Однако влияние северо-восточного ар-
хитектурного стиля в данном случае было, скорее всего,
опосредованным юго-восточным зодчеством. Так, именно
индонезийским буддийским культовым строениям была
присуща четкая поярусная разбивка посредством широ-
кого выноса карнизов, покрытых дополнительным мате-
риалом — соломой, тростником и позже черепицей. He
исключено также, что определяющее влияние на конст-
руктивно-композиционное решение разбираемой пагоды
оказали особенности местного (южнокитайского) светско-
го архитектурного стиля. Либо юго-восточные архитек-
турные заимствования могли совместиться с типологиче-
ски сходными элементами местного зодчества. Важно, что
подобный конструктивный тип пагод был хорошо изве-
стен и в других регионах Китая, о чем свидетельствует
настойчивое воспроизведение их изображений в рельефах,
украшающих скальные храмы, в том числе в провинции
Хэнань.
Итак, начальный этап формирования китайско-буддий-
ского культового зодчества ознаменовался, во-первых, по-
явлением нескольких конструктивно-композиционных ва-
риантов пагод, в которых сочетались элементы различ-
ных буддийских архитектурных традиций и местного
зодчества, и, во-вторых, переводом буддийских культовых
строений из дерева в камень, что тоже отвечало общим
закономерностям, свойственным буддийскому культовому
зодчеству.
Следующий важнейший этап истории развития китай-
ских пагод приходится на танскую и сунскую эпохи.
На протяжении танской и сунской эпох окончательно
сложились все архитектурные формы и региональные ар-
хитектурные стили китайских пагод. Следует сразу же
оговориться, что, несмотря на их внешнее разнообразие,
все пагоды имеют общие функции и семантику. Любая
пагода, безотносительно ее размеров и строительного ма-
териала, обязательно состоит из трех архитектонических
частей — основания, тела и навершия, которые символи-
зируют три основные вертикально ориентированные зоны
буддийского космоса: «чувственный мир» (мир чувству
мир страстей — камалока), «мир форм» (рупалока) и
«мир-не-форм» (арупалока). Поясним, что под «чувствен-
ным миром» понимается физический мир как место пре-
бывания пяти типов живых существ — обитателей ада
(нарака), голодных духов (прета), рожденных в облике
животных (все живые твари), имеющих человеческую
(люди) форму существования и форму существования не-
бесных богов. To есть он охватывает подземное (где разме-
щаются Ады), собственно земное и небесное пространство.
«Мир форм» — иллюзорный мир, где происходит осво-
бождение живых существ от чувственных переживаний
при сохранении их внешней (физической) оболочки. «Мир-
не-форм» — сфера чистого сознания. Оба этих высших
мира подразделяются соответственно на 16 и 4 уровней,
которые в буддийской философско-теоретической мысли
и йогической практике соотносятся со ступенями совер-
шенствования личности. Проходя через них, живое суще-
ство обретает качественно новое состояние, постепенно
приближаясь к той степени просветленности и духовного
совершенства, которые необходимы для его выпадания из
круга новых рождений и смертей (сансарического бытия)
и достижения нирваны. Ярусное построение тела пагоды
и навершия как раз и передает уровни «мира форм» и
«мира-не-форм», ачисло ярусов обусловлено особенностя-
ми космологических представлений и йогических прак-
тик той или иной буддийской школы. Таким образом,
пагода выступает своего рода воплощением и наглядной
моделью буддийского психокосма.
Китайская пагода сохранила за собой и функцию релик-
вария, причем в древнейшем, погребальном ее варианте:
ПАГОДЫ ТАНСКОЙ
И СУНСКОЙ ЭПОХ
(ОСНОВНЫЕ
КОНСТРУКТИВНЫЕ
типы
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ
АРХИТЕКТУРНЫЕ
СТИЛИ)
«Лес пагод»
монастыря Шаолинь
875
Танские малые пагоды.
Пагода монастыря
Сюдинсы
468 Подобный архитектур-
ный «кубизм» обыгрывается
еще в двух строениях: в паго-
де, входящей в шаолиньский
«Лес пагод» (791 г.), и в па-
годе на территории Кайфына
(ѴІІ-ѴІІІ вв.). В первой из
них также доминируют про-
стейшие геометрические фор-
мы — прямоугольное основа-
ние, ступенчатый карниз. Но
ее навершие оказывается как
бы выполненным в юго-восточ-
ном стиле. Своим колоколо-
образным очертанием оно на-
поминает силуэт цейлонской
дагобы, только вместо удли-
ненного шпиля здесь красует-
ся трехъярусный скульптур-
ный пьедестал, завершающий-
ся трехмерным изображением
лотоса с каменным шаром —
«пылающей жемчужиной» —
посередине. Кайфынская паго-
да построена исключительно на
варьировании квадрата. На
прежнем низком основании
возвышаются три этажа, раз-
деленные широким ступенча-
тым карнизом, обрамленным
с двух сторон рельефными зуб-
чатыми полосами из керами-
ческой плитки. З^горой этаж
снабжен арочными и прямо-
угольными проемами. Кирпич-
ные стены по всему телу паго-
ды облицованы керамической
плиткой. Третью архитекто-
ническую часть строения об-
разует маленькая башенка.
Простота архитектурного ре-
шения, четкость пропорций и
матовая керамическая обли-
цовка придают этой пагоде
камерность, лиричность и од-
новременно, несмотря на ее
неболыпие размеры, монумен-
тальность.
хранение пепла усопшего. Самым известным образцом
местных могильных пагод является кладбище монастыря
Шаолинь (горы Суншань, начало VI в.), получившее общее
название «Лес пагод» {Талинъ). В него входят более 500
пагод, построенных в различные исторические эпохи с за-
мурованным в них пеплом настоятелей и прославленных
священнослужителей этого монастыря, которые занимают
общую площадь 14 000 м2. Другие пагоды, за исключени-
ем пагодообразных мемориальных колонн, служили места-
ми хранения буддийских реликвий, вотивных предметов,
a наиболее масштабные из них, имеющие пространное внут-
реннее помещение, — книгохранилищами.
Китайские пагоды характеризуемых эпох четко имеют
два главных конструктивных типа — малые и высотные,
и два ведущих региональных стилистических варианта,
которые по обычаю соотносятся с центральным регионом
Хуанхэ и с регионами бассейна Янцзы. «Северный» архи-
тектурный стиль лучше всего представлен памятниками,
сосредоточенными в Сиане, Лояне и в горах Суншань, «юж-
ный» — в Нанкине, Сучжоу и Ханчжоу.
«Северные» малые пагоды представлены целой серией
подлинных памятников, каждый из которых отличается
специфическим конструктивно-художественным обликом.
Одним из ранних их образцов является Пагода монасты-
ря Сюдинсьіу находящаяся на северо-западе от Лояна. Ее
тело имеет кубическую форму со сторонами, сложенными
из хорошо обтесанных каменных плит. С каждой стороны
по центру расположены арочные входы, вследствие чего
за этой пагодой закрепилось еще одно название — «Паго-
да четырех ворот» (Сымэнъта). Тело пагоды покоится на
невысоком квадратном в плане основании. A завершается
оно четырехступенчатым карнизом (заменяющим в дан-
ном случае поярусную разбивку), который, в свою оче-
редь, служит основанием для четырехскатной крыши. На
ней строго по центру расположен пьедестал усложненной
конфигурации с четырьмя высокими акротериями, внеш-
не напоминающими рога, на котором возвышается не-
большая каменная башенка, на этот раз отдаленно пере-
кликающаяся с формами тибетско-буддийских культовых
строений468.
Другой архитектурный подтип «северных» малых па-
год составляют октагональные в плане сооружения. Их
наиболее выразительными образцами выступают пагода
Чаньшита («Пагода чаньского наставника») и пагода Цзю-
тайта («Девятибашенная пагода»). Первая, воздвигнутая
в первой половине VIII в., тоже находится в горах Сун-
шань (см. вклейку). Ее основанием служит большой окта-
гон, несколько сужающийся кверху. Тело пагоды распада-
ется на два архитектурных сегмента. Нижний выдержан в
виде четкого восьмигранника и снабжен декоративными
элементами: каждый угол отмечен граненым пилястром с
доугунами, a no поверхности грани проходят ниши, ими-
тирующие деревянные окна с решетками и дверные прое-
мы. Все эти элементы выполнены путем кирпичной клад-
876
ки. Сегмент завершается ступенчатым карнизом, за кото-
рым следует второй архитектурный сегмент — округло-
октагональной формы, колоколоообразного силуэта и раз-
битый на подобие ярусов с помощью нескольких карнизов.
Третью часть строения по-прежнему образует каменная ба-
шенка, но теперь в форме «пылающей жемчужины». По-
верхность пагоды облицована небольшими, наподобие кир-
пича, каменными плитами разных оттенков. Для облицов-
ки основания был использован камень розовато-сиреневого
тона, для нижнего сегмента тела — светло-желтого, для
верхнего сегмента и навершия — серого.
«Девятибашенная пагода» (высота 15 м) имеет основа-
ние, разделенное горизонтальным выступом на две части,
нижняя выложена каменными плитками, верхняя — гладко
оштукатурена. Тело пагоды образовано изогнутым снизу
карнизом, состоящим приблизительно из 17 слоев камен-
ной кладки. Выступ карниза за пределы стен решен мягко
и плавно, что достигнуто посредством постепенного нарас-
тания слоев без ступенчатого перехода. Навершие составля-
ли девять маленьких пагод (уцелело только три), восемь из
которых располагались строго по углам восьмигранника, a
девятая, самая крупная, — строго по центру сооружения469.
Разнообразие конструктивно-художественных воплоще-
ний «северных» малых пагод свидетельствует о том, что в
танскую эпоху в китайско-буддийском культовом зодче-
стве шел активный поиск собственных архитектурных ре-
шений. В то же время все пагоды отличаются четкостью
силуэтных линий и лаконичностью орнаментации.
«Северные» высотные пагоды отчетливо разделяются
на два генеральных стилистических типа, которые право-
мерно обозначить как «монументально-геометрический» и
«с криволинейным силуэтом».
Эталонным образцом пагод «монументально-геометри-
ческого» стиля признается «Большая пагодагуся» (Даянъта).
Она была воздвигнута на территории столичного (приблизи-
тельно в 4 км к юго-западу от исторической части современ-
ного Сианя) монастыря Цыэнъсы, который был заложен в
648 г. по приказу будущего танского императора Гао-цзу-
на, пожелавшего так увековечить память своей усопшей
матери. В дальнейшем названный монастырь стал обите-
лью выдающегося буддийского деятеля Сюаньцзуна (со-
вершившего длительное паломничество в Индию). «Боль-
шая пагода гуся» была возведена в 652 г. в качестве храни-
лища для привезенных Сюаньцзуном священных текстов.
Известно, что вначале она имела вид усеченной пира-
миды с квадратным основанием и пятиярусным телом.
В 701-704 гг. пагода подверглась полной реконструкции и
превратилась в циклопическое сооружение, достигающее в
высоту 64 м. Тело пагоды, состоящее из 7 этажей, покоит-
ся на массивном, почти квадратном в плане (46 х 49 м)
основании. Пагода образована как бы поставленными одна
на другую, постепенно уменьшающимися в размерах усе-
ченными пирамидами, между которыми проходят много-
слойные кирпичные карнизы с большим выносом. Этот
Пагода Даяньсы
469 Такой архитектурно-
художественный вариант ре-
шения навершия является
уникальным для всего китай-
ско-буддийского культового
зодчества. В какой-то степе-
ни это навершие может быть
сопоставлено с юго-восточной,
бирманской и индонезийской
архитектурой, для которой
было характерно создание де-
коративных и сведенных в
группы строений.
877
470 «Белая пагода», пост-
роенная в 773 г., тоже пред-
ставляет собой террасообраз-
ное (или пирамидальнообраз-
ное) сооружение, состоящее из
массивного прямоугольного в
плане основания и пяти эта-
жей, разделенными карниза-
ми с зубчатыми поясками. По
мере движения вверх разме-
ры этажей плавно уменыпа-
ются, создавая общий контур
пирамиды. A четкость их рит-
ма усиливается вертикалью
арочных окон. Пагода увенча-
на шатровой крышей с малень-
кой колоколообразной башен-
кой-ступой. Пагода монасты-
ря Хуаян, возведенная в 803 г.,
имеет в высоту всего 13 м. Но
она повторяет геометрическую
форму, пропорции и все про-
чие стилистические особенно-
сти обеих разобранных ранее
пагод. Она образована семью
пирамидоподобными, хотя на
этот раз тяготеющими к па-
раллелепипеду, этажами, по-
коящимися на прямоугольном
в плане основании, они посте-
пенно уменьшаются кверху и
разделены карнизами. Тело
ступы завершается вогнутой
четырехскатной крышей, на-
верху которой находится ма-
ленький кубический пьедестал
с каменной башенкой-ступой.
Стены этажей украшены по уг-
лам пилястрами, имитирую-
щими доугуны. Пагода мона-
стыря Сянцзисы, црстроенная
в 706 г. в память о монахе
Шаньдао (основателю школы
«Чистой земли»), находятся
в 17 км к юго-западу от Сиа-
ня. Она имеет массивное, при-
ближающееся к кубу, основа-
ние и 13 пирамидопобных эта-
жей, главным орнаментальным
элементом которых являют-
ся многослойные, с болыпим
выносом, кирпичные карни-
зы. Дополнительные целост-
ность и стройность сооруже-
ния обеспечиваются единой
осью арочных проемов.
архитектурный прием, с одной стороны, акцентирует убы-
вающие вверх этажи, подчеркивая оптический эффект мно-
гоярусности сооружения, a с другой — придает ему цело-
стность и органичность. Пагода производит впечатление
высеченной как бы из огромной каменной глыбы. Каж-
дый этаж расчленен узкими пилястрами, число которых
сокращается по мере продвижения вверх. В центральной
части их фронтальных поверхностей проделаны оконные
проемы, обработанные арками, которые расположены стро-
го по одной вертикальной оси, — еще один композицион-
ный прием, придающий стройность и целеустремленность
строению. Стены облицованы слабо обожженным кирпи-
чом желтовато-серого цвета, создающим цветовой контраст
между основанием и телом пагоды и ее крышей, покры-
той темной черепицей. Внутри пагоды почти до самого ее
верха ведет каменная лестница. Эффект особой величе-
ственности пагоды, ее устремленности в небесные выси уси-
ливается расположением ее на небольшом холме. «Боль-
шая пагода гуся» до сих nop остается архитектурной доми-
нантой Сианя, органически гармонируя и с окружающим
город природным ландшафтом.
«Монументально-геометрический» стиль был реали-
зован еще в серии танских пагод: Байта («Белая паго-
да»), Пагода монастыря Хуаян, Пагода монастыря Сян-
цзисы470.
Многочисленность пагод в «монументально-геометри-
ческом» стиле указывает на то, что он занял господствую-
щее положение в «северном» китайско-буддийском куль-
товом зодчестве первой половины Тан. Его архитектурны-
ми истоками со всей очевидностью являются башни-тай,
что, видимо, и способствовало его популярности. Однако
такие пагоды обладали излишним внешним сходством со
светскими дворцовыми строениями, что и послужило веро-
ятной причиной быстрого угасания этого стиля, на смену
которому пришли пагоды с криволинейным силуэтом. Кроме
того, такие пагоды образовывали более удачное, с архитек-
турно-эстетической точки зрения, сочетание со строгими
геометрическими пропорциями собственно монастырского
комплекса.
Одним из первых (если не первым для танской эпохи) и
наиболее выразительным образцом данного стиля является
«Малая пагода гуся» (Сяоянъта), тоже находящаяся на тер-
ритории современного Сианя, недалеко от «Болыной пагоды
гуся». Она была воздвигнута в 707 г. в монастырском комп-
лексе Цзянъфусы и предназначалась для хранения рукопи-
сей, привезенных из Индии еще одним монахом-паломни-
ком — Ицзином, проведшим там около 25 лет. Эта пагода
изначально имела высоту 45 м, состояла из 15 этажей, от
которых сохранилось 13. С пагодами «монументально-гео-
метрического» стиля ее сближают геометрическая четкость
конфигурации основания и этажей, наличие промежуточ-
ных (между ярусами) ступенчатых карнизов с зубчатыми
поясками и вертикальная ось арочных проемов. Но она об-
ладает отчетливым криволинейным силуэтом.
878
Своеобразной вариацией «Малой пагоды гуся» и одно-
временно Пагоды из монастыря Юнтай является пагода,
возведенная в 1175 г. на территории Монастыря Белой ло-
шади (см. вклейку). Высотой 25 м, образованная 9 этажа-
ми, она тоже обладает ярко выраженным криволинейным
силуэтом. Но в отличие от «Малой пагоды гуся» разделяю-
щие карнизы и разделяющие этажи смоделированы квер-
ху, a пьедестал совместно с первым ярусом образует уст-
ремляющийся ввысь параллелепипед. Возможно, такое ар-
хитектурное решение было продиктовано стилизацией этой
пагоды под предшествующий ей памятник или шире —
под северовэйское зодчество, уже ставшее к тому времени
национальной древностью. Данная пагода еще раз подтверж-
дает связь танского «криволинейного стиля» с той архи-
тектурной линией, которая наметилась в северовэйском
искусстве и восходит к гандхарскому зодчеству. Однако
использовавшаяся в этом стиле композиционная система,
a также свойственная ему трактовка архитектурных эле-
ментов и принципы соотношения отдельных частей, без-
условно, являлись самостоятельными находками китай-
ской архитектурной мысли.
При Сун «криволинейный стиль» претерпел немало су-
щественных изменений. Кривизна самого по себе силуэта
строений все более сглаживалась, этажи вытягивались по
вертикали, геометрические формы усложнялись, a роль де-
коративных элементов возрастала. На теле пагод стали бо-
лее активно воспроизводиться рельефные композиции, в том
числе повторяющие элементы исходно деревянного зодче-
ства, в чем, возможно, сказалось влияние «южной» архи-
тектуры. Показательным образцом заключительного этапа
развития «криволинейного стиля» признается «Железная
пагода» (Tema), построенная в 957 г. в Кайфыне. Она имеет
в плане форму восьмигранника, состоит из 13 этажей и
достигает в высоту 55,8 м. Вся поверхность пагоды выложе-
на глазурными изразцами зеленовато-коричневого цвета,
вторя цвету бронзы, чем и объясняется такое ее название.
На плитках воспроизведены изображения персонажей буд-
дийского пантеона, развернутые сцены ритуально-мифоло-
гического характера, либо просто орнаментальные компози-
ции. Карнизы, разделяющие этажи, имитируют резные де-
ревянные конструкции. Все это, совместно с выверенностью
пропорций и плавностью силуэтных линий, придает строе-
нию эффект легкости и нарядности.
При Мин и Цин центром «северной» архитектурной
традиции стал новый столичный регион. Единственным
масштабным памятником, созданным после северосунской
эпохи в центральных районах страны, является пагода на
территории тоже неоднократно упоминавшегося выше мо-
настыря Фамэнъсы. Она была возведена в начале Мин на
месте прежде находившейся здесь четырехэтажной дере-
вянной постройки и впоследствии оказалась почти полно-
стью разрушенной сильным землетрясением. Однако сохра-
нившиеся ее фрагменты и результаты недавних археолого-
реставрационных работ позволили восстановить ее внешний
Пагода Сяояньсы
Пагода Tema (г. Кайфын)
879
Пагода монастыря
Фамэньсы. Реконструкция
471 Пример — два сооруже-
ния, находяіциеся в южной ча-
сти провинции Хэнань, дати-
руемые приблизительно 1118 г.
Первое из них состоит из осно-
вания в виде двойного пьеде-
стала: цветок лотоса и возвы-
шающийся на нем столб —
стержень колонны. Пьедестал
и стержень колонны имеют
октагональную фррму, их по-
верхность украшена рельеф-
ными изображениями персо-
нажей буддийского пантеона,
которые дополнены надписью.
Далее следует 7-ярусная кон-
струкция, воспроизводящая
выносы крыш. Второе соору-
жение отличается более про-
стым формообразованием, по-
вторяя собой деревянную ко-
лонну. Акцент здесь сделан
на его художественном оформ-
лении, тоже включающем в
себя, помимо орнамента, фи-
гуративные изображения.
облик. Это было внушительное по размерам строение — вы-
сотой 54 м, состоящее из основания и 13 этажей. Оно имело
подчеркнуто октагональную форму, что сближает его, с од-
ной стороны, с «северными» малыми пагодами, a c дру-
гой — с каменными высотными пагодами, характерными
для «южного» буддийского зодчества. От танского архитек-
турного стиля она унаследовала гладкие (из оштукатуренно-
го кирпича) стены, карнизы с болылим выносом и арочные
проемы, идущие по одной оси, аот сунского и «южного»
зодчества — насыщенность орнаментальными деталями,
сконцентрированными вдоль карнизов: имитации доугунов,
балконных балюстрад и резного деревянного декора.
Подводя итог сказанному, приходим к выводу, что глав-
ными отличительными приметами «северного» буддийско-
го культового зодчества в том виде, в каком оно проявляет
себя в танскую и сунскую эпохи, являются, во-первых,
доминирование строгих геометрических фигур, из которых
предпочтение отдавалось квадрату, прямоугольнику и реже
восьмиграннику. Во-вторых, строгость пропорций и линий
строений. В-третьих, относительная лаконичность архи-
тектурного решения и скупость орнаментальных деталей.
Хотя, повторим, к концу Северной Сун разбираемая тради-
ция начинает утрачивать эти приметы и сближаться с « юж-
ным» буддийским зодчеством.
Характерные особенности «южного» буддийского куль-
тового зодчества (которые уже проявились в пагоде из мо-
настыря Цисясы) наиболее отчетливо прослеживаются в
пагодообразных мемориальных колоннах. Лишенные, по-
вторим, внутреннего пространства, такие строения пред-
ставляют собой как бы промежуточный вариант между
собственно пагодами и алтарями. Они возводились, види-
мо, как из камня, так и из дерева, но до нас дошли только
их каменные образцы471.
Наряду с пагодообразными мемориальными колонна-
ми на Юге тоже возводились и малые, и высотные пагоды,
но их эволюция прослеживается гораздо менее отчетливо,
чем для «северного» зодчества, по причине единичности
дошедших до нас памятников. Судя по всему, наиболее
употребительным строительным материалом здесь продол-
жало оставаться дерево. О конструктивных и стилистичес-
ких подробностях «южных» малых пагод мы можем су-
дить по пагоде из монастыря Линъиньсы (в Ханчжоу). Она
восходит к X в., первоначально была исполнена из дерева
и затем переведена в камень. Высотой менее 3 м, она имеет
октагональную, но со сглаженными углами, форму, мяг-
кий криволинейный силуэт и разделена изогнутыми вверх,
в их волнистой трактовке, карнизами на 9 этажей. В оформ-
лении пагоды явно чувствуется стремление к особой деко-
ративности. Вся ее поверхность сплошь покрыта резными,
тонко выполненными узорами — те же карнизы, ложные
двери и оконные проемы, ленты опоясывающих корпус
доугунов и сюжетные сцены. Такое обилие резных деталей
и светлый цвет использованной горной породы делают па-
году похожей на выполненную из кости.
880
От танской и сунской эпох на юге сохранились всего
4 высотных памятника пагод. Самой ранней из них являет-
ся пагода, входящая в ансамбль монастыря Хунцзюэсы, за-
ложенного в 627 г. в южных окрестностях Нанкина — на
склонах горы Нюшоу («Коровья голова») — и в скором вре-
мени превратившегося в грандиозный храмовый комплекс.
Всередине XIX в., в ходе восстания Тайпинов, этот комп-
лекс был, к сожалению, полностью уничтожен. Сама пагода
была воздвигнута в 774 г., почти одновременно с сианьски-
ми пагодами. Тем более примечательными выглядят ее рас-
хождения с «северным» архитектурным стилем в обоих его
вариантах. Она имеет восьмигранную в плане форму, кото-
рая сохраняется на протяжении всей ее высоты, и чуть
сужающийся кверху силуэт. Вся поверхность пагоды обли-
цована изразцами, близкими по цвету к облицовке «Желез-
ной пагоды». Посредством изразцов исполнены и карнизы,
опоясывающие тело пагоды широкими лентами и больше
похожие на резной рельефный орнамент, чем на собственно
строительные конструкции. Они делят пагоду на 5 этажей,
размер которых (в высоту) оказывается приблизительно рав-
ным ширине карнизных лент. Особо примечательным пред-
ставляется расположение арочных проемов — не вертикаль-
но, a в шахматном порядке, что придает конструкции «бес-
покойный» ритм, усиливая ее декоративность.
Самой известной южной высотной (каменной) пагодой
является «Пагода на тигрином холме» (Хуцюта)472. Она
восходит к 664 г., но затем неоднократно перестраивалась,
превратившись в результате в памятник не танского, a
сунского буддийского зодчества. Высокая, октагональной
формы и выполненная из светло-серого кирпича, она впе-
чатляет своей кажущейся легкостью и нарядностъю. Ее
оформление вновь включает в себя множество декоратив-
ных элементов, повторяющих деревянные конструкции:
выступающие карнизы, например, убедительно подчерк-
нуты фризами из доугунов и мелкоступенчатыми перехо-
дами. По всем этажам проходят пилястры, арочные прое-
мы даются в орнаментальном обрамлении. Пагода увенча-
на каменной башенкой изломанного силуэта473.
В еще более откровенном виде специфика «южного»
буддийского зодчества проявляется в деревянных пагодах,
для которых уже в сунскую эпоху начал складываться уни-
версальный архитектурный инвариант. Этот инвариант от-
мечен, во-первых, октагональностью формы. Во-вторых,
выделением ярусов с помощью не просто карнизов, a нату-
ральных крыш с широким выносом. В-третьих, наличием
на каждом этаже внешней обходной галереи с балюстра-
дой. Впоследствии утвердилось и их стереотипное цветовое
решение: вся поверхность пагоды окрашивается в желтый
цвет, балюстрады — в красный, a черепичное покрытие
делается зеленого цвета.
Первым дошедшим до нас памятником, в котором обо-
значились перечисленные специфические черты «южных»
деревянных пагод, является «Пагода Шести гармоний» (Лю-
хэта), возведенная в 970 г. к югу от Ханчжоу, на самом
56 История искуссгва Китая
Пагода Шести гармонии
472 Она тоже исходно пред-
назначалась для монастыр-
ского комплекса — Юньянь-
сы> который располагался на
склоне горы под названием
«Холм тигра» (Хуцю) районе
г. Сучжоу — в 3,5 км к северо-
западу от его современной тер-
ритории.
473 Два других памятни-
ка — так называемые «пагоды-
близнецы», которые были по-
строены в 984-987 гг. двумя
братьями в их родном городе
Ханчжоу. Воздвигнутые из
кирпича и достигающие по
10 м в высоту, они тоже име-
ют октагональную в плане
форму и состоят из 7 этажей,
оформленных с помощью ши-
роких выносов. Вместо камен-
ных башен их завершают под-
линные шпили с нанизанны-
ми на них дисками.
881
Пагода из г. Путянь
Серебряная модвлъ
южно-китайской пагоды
берегу озера Сиху. Высотой 60 м, она состоит из основания
с внешней колоннадой и 7 этажей, поверхность которых
насыщена оконными проемами. Расположенные друг про-
тив друга (внутренняя часть пагоды представляет собой
свободное помещение), они кажутся издали ажурной резь-
бой, что во многом снижает визуальную массивность са-
мой пагоды, обусловленную приземистыми, вытянутыми
по горизонтали этажами.
О дальнейшей эволюции традиции южных деревянных
пагод мы можем судить по пагоде, находящейся в провин-
ции Фуцзянь, в юго-западной части современного г. Путянь,
которая восходит к 1165 г. Хотя она выполнена из камня,
но либо была переведена в камень из дерева, либо строи-
лась в качестве стилизации под деревянное строение —
настолько полно и точно в ней передаются конструктивные
особенности и элементы деревянного зодчества. Видно, как
утончилось по сравнению с «Пагодой Шести гармоний» ее
тело, увеличился вынос крыш, a обходные галереи, если
еще и не вошли в практику, то явно наметились. На поверх-
ности каждого этажа выполнены пилястры, проходящие
между подчеркнуто болыних — почти во всю часть стены,
приходящуюся на грань октагона, — дверных и оконных
проемов. Все вместе эти детали создают эффект внешней
колоннады. Навершием пагоды служит стержень с диска-
ми. Почти точно такая же по конструкции пагода — тоже
явно выполненная из дерева, с подчеркнуто болыпими вы-
носами крыш и обходными галереями — воспроизводится
в серебряной модели, найденной в провинции Чжэцзян и
относящейся к Южной Сун.
Заключительная стадия формирования архитектурного
архетипа «южных» высотных деревянных пагод приходит-
ся на минскую эпоху, после чего в местном зодчестве воз-
водились уже совершенно однотипные строения. Интерес-
ный пример — «Пагода Северного монастыря» (Бэйсыта),
входившая в комплекс монастыря Баоэньсы, также нахо-
дившегося в Ханчжоу. Она была возведена еще в 1031—
1061 гг. и имела первоначально 11 этажей, но затем не-
однократно перестраивалась, и свой окончательный вид
приобрела в 1617 г. Она имеет высоту 76 м и состоит из
9 этажей, снабженных обходными галереями и «крылаты-
ми крышами».
Все отмеченные особенности «южных» пагод позволя-
ют говорить, что определяющее влияние на данную регио-
нальную традицию китайско-буддийского зодчества оказа-
ли южноазиатские архитектурные стили и местное архи-
тектурно-инженерное искусство.
Как и в случае с буддийским изобразительным искус-
ством, относительно самостоятельный архитектурный стиль
был разработан юго-западным, в провинции Сычуань, буд-
дийским зодчеством. На территории Сычуани имеется не-
сколько памятников сунского времени, из которых наи-
больший интерес представляют пагода в горах Баодиншань
и пагода Цзючжоута, обе — каменные. Первая, построен-
ная в 1179-1249 гг., высотой 17,63 м, представляет собой
882
как бы промежуточный вариант между «северными» и
«южными» пагодами. С «северным» зодчеством (в танском
его варианте) ее сближает четкость формы, использование
прямоугольных фигур (квадрат в основании, все части,
тяготеющие к кубу), общая пирамидальная конфигурация,
загнутые кверху карнизы и наличие навершия-башенки.
Ac «южным» зодчеством — богатство орнаментации. Вся
поверхность пагоды (точнее, два сегмента, составляющие
ее тело) украшены рельефными изображениями персона-
жей буддийских пантеонов, надписями, орнаментом, вос-
производящим «лотосовый трон» (внизу сегментов) и под-
карнизным узором. «Лотосовый трон» включен и в компо-
зицию навершия.
Пагода Цзючжоута, построенная в 1000 г., тоже совме-
щает в себе элементы, идущие от обеих региональных ар-
хитектурных традиций. От «северного» зодчества она вос-
приняла квадратную в плане форму, высокое, с гладкой
внешней поверхностью основание, карнизы из кирпичной
кладки, разделяющие ее на 12 этажей, криволинейный
силуэт. От «южного» — множественность оконных прое-
мов на каждом этаже и более широкое, чем y танских
пагод, тело.
С сычуаньским архитектурным стилем отчетливо пере-
кликается и буддийское зодчество, обнаруживающее себя в
крайних периферийных южных районах — в провинции
Юньнань. Показательными для него являются три пагоды,
входящие в комплекс монастыря Чуншэнсы, который вос-
ходит к IX в. Примечательно их местоположение — в не-
посредственной близости друг от друга, так как создание
подобных групповых ансамблей относится к числу харак-
терных особенностей южноазиатского буддийского зодче-
ства. Самая высокая пагода (69,3 м) состоит из 16 ярусов и
демонстрирует немалое внешнее сходство с сычуаньской
пагодой Цзючжоута: она покоится на квадратном в плане,
высоком основании, обладает криволинейным силуэтом и
такими же по конфигурации кирпичными карнизами. Две
же другие пагоды (по 42,9 м в высоту, 10 этажей), напро-
тив, имеют октагональную форму, вторя по этому показа-
телю «южному» зодчеству.
Китайско-буддийское зодчество сунской эпохи ознаме-
новалось также экспериментами со строительными мате-
риалами, выразившимися в использовании металлических
конструкций. Одна из дошедших до нас таких построек —
пагода Бэйтуцунь, возведенная в X в. в провинции Шань-
си, выполнена из нескольких материалов. Ее основание —
массивное, почти круглое в плане — сделано из камня.
Три нижних 9 этажей — в глинобитной технике, с после-
дующей облицовкой металлическими и украшенными ре-
льефом плитами. Шесть верхних этажей и навершие — из
чугунных плит, тоже богато орнаментированных рельеф-
ными изображениями и узорами.
Другая пагода, возведенная в 1061 г. в Данъяне (пров.
Хубэй), уже целиком выполнена из чугунных литых кон-
струкций. Высотой 16,94 м, она состоит из основания,
Пагода Бэйсыта
^
\ rfnnnooüü/
^
Ж?ТОкТ^
ü
Пагода в горах Баодиншань,
западная сторона.
Пров. Сычуанъ
883
Пагода Цзючжоута.
Пров. Сычуань
Пагоды монастыря
Чуншэнсы.
Пров. Юньнань
в верхнюю часть которого введены также чугунные кариа-
тиды в виде богатырей, как бы поддерживающих тело па-
годы, 13 этажей и навершия-башенки. По стилистике —
волнистые линии крыш, обходные балконы с ажурными
перилами, арочные проемы, диагонально бегущие вокруг
тела — она полностью совпадает с «южным» деревянным
зодчеством. Кроме того, все эти детали придают ей, не-
смотря на тяжесть и грубость строительного материала,
неповторимые воздушность и легкость.
Если на всем протяжении минской и цинской эпох
«южная» архитектурная традиция пребывала в неизмен-
ном, уже полностью сложившемся состоянии, то «север-
ное» зодчество с момента изменения его географического
ареала вступило в новую стадию творческих поисков и
экспериментов.
КИТАЙСКО-
БУДДИЙСКОЕ
КУЛЬТОВОЕ
30ДЧЕСТВ0
МИНСКОЙ
и цинской
эпох
Переместившись в регион Пекина, китайско-буддий-
ское зодчество сразу же соприкоснулось с новыми для него
композиционно-художественными типами культовых строе-
ний, принадлежащих киданьской и монгольской архи-
тектуре.
В киданьском (ляоском) архитектурно-инженерном ис-
кусстве был разработан собственный стилистический ва-
риант, характеризующийся, во-первых, сложностью ком-
позиционного построения пагод и, во-вторых, акцентиро-
ванием их декоративного аспекта. Их основание состоит,
как правило, из двух отдельных сегментов. Внизу нахо-
дится пьедестал, образованный рядами фигурной кладки
и воспроизводящий «лотосовый трон», нередко в сочета-
нии с «троном Сумеру». Далее следует цокольная часть,
поверхность которой украшена пилястрами, ложными
дверями и оконными проемами, которые могут быть до-
полнены рельефными изображениями божественных пер-
сонажей. Этажи оформлены карнизами с широкими вы-
носами, имитирующими крыши с доугунами. Навершия
884
отличаются высотой и массивностью и включают в себя
шаровидные фигуры и штыри с дисками. Еще одной важ-
ной отличительной особенностью ляоских пагод является
частое отсутствие внутренней части — внутреннего ство-
ла, лестниц, этажных перекрытий, что делает их скорее
архитектурно-декоративными произведениями, чем соб-
ственно зданиями474.
Буддийское культовое зодчество юаньской эпохи в каче-
стве образцов для подражания использовало как ляоский
архитектурный стиль, так и тибетское культовое зодчество,
сохранившее и развившее традицию ступ в ее преломлении
через южноазиатские формы. Наиболее показательным в
данном случае памятником выступает «Белая пагода», воз-
веденная в 1271 г. в окрестностях столицы и обнаруживаю-
щая заметное сходство равно с цейлонской дагобой и с
тибетской ступой. Имеющая высоту 62 м, она состоит из
шаровидного (в китайской терминологии — в виде тыквы-
горлянки) основания диаметром свыше 30 м, и тела в виде
длинного, устремленного ввысь конуса, разделенного на
13 ярусов. Сверху тело прикрывает узорчатый медный бал-
дахин, к которому подвешены металлические колокольчи-
ки. Навершие образует литая медная башенка475.
Минское буддийское культовое зодчество также пошло
по пути освоения чужеземными архитектурными стилями,
пытаясь объединить их с национальными художественны-
ми традициями. Самым впечатляющим результатом тако-
го рода экспериментов является, пожалуй, «Храм пяти
пагод» (Утасы), возведенный в 1473 г. в пригороде тог-
дашнего Пекина. Он состоит из пяти пагод, воздвигнутых
на одной платформе высотой в 15 м, снабженной винтовой
лестницей. Посредством архитектурно-декоративных прие-
мов платформа четко подразделяется на 7 ярусов, пять
из которых украшены сплошными горизонтальными ря-
дами рельефных ниш с изображениями фигуры Будды —
явный отголосок принципов художественного оформле-
ния внутренней поверхности пещер в «скальных храмах».
Пагоды сгруппированы по крестообразной схеме — одна,
13-ярусная, в центре, и четыре (по 11 ярусов, высотой око-
ло 10 м) — по бокам. Все пагоды имеют квадратное в плане
основание, сильно вытянутое по вертикали и сужающееся
кверху тело и массивное «дагобообразное» навершие. Их
поверхность орнаментирована рельефными изображения-
ми Будды, бодхисаттв, сценами на тему джатак и сан-
скритскими надписями.
Зодчество столичного региона цинской эпохи продол-
жило эксперименты в области архитектурных форм и де-
коративного оформления строений, по-прежнему активно
используя при этом чужеземные (собственно индийские,
южноазиатские и тибетские) образцы и национальные ар-
хитектурные стили. Почти каждый из возведенных в то
время памятников по-своему самобытен, и уже само по
себе подобное конструктивно-художественное многообра-
зие справедливо считать одной из главных отличительных
примет пекинской буддийской культовой архитектуры.
*?»««?<>?*М<
Тяйаіяі
Ляоская пагода
474 Таковы, например, паго-
да из монастыря Цзюэшаньсы
(провинция Шаньси, 44,23 м,
13 этажей), возведенная в
1089-1090 гг. и реконструи-
рованная при Мин, и пагода
монастыря Тяньнинсы (56 м,
13 этажей) —древнейший ляо-
ский памятник собственно пе-
кинского региона (в настоя-
щее время находится к юго-
востоку от исторической части
города).
475 Сохранились сведения,
что «Белая пагода» была по-
строена чужеземным архитек-
тором и предназначалась для
постоянного представитель-
ства тибетского духовенства,
которое постоянно приглаша-
лось в Пекин монгольскими
властями.
885
Из памятников, выполненных в «чужеземном стиле»,
наиболыиий интерес представляют еще одна «Белая паго-
да», «Желтый храм» (Хуансы) и «Пагода Цзинъганбаоц-
зота». «Белая пагода», воздвигнутая на территории За-
претного города в 1651 г., является вариативной копией
монгольской Байта, сохраняя все отмеченные ее формаль-
ные особенности и композиционные элементы. «Желтый
храм», построенный в 1780 г. в 2 км к северу от Пекина,
является мемориальным культовым строением, сооружен-
ным в память Паньчэн-ламы Третьего. С архитектурной
точки зрения, он перекликается с «Храмом пяти пагод»,
тоже состоя из пяти ступовидных сооружений, воздвиг-
нутых на одном постаменте. Центральное строение — ре-
ликварий для хранения одеяний Паньчэн-ламы, копиру-
ет тибетскую ступу, поверхность которой покрыта рель-
ефными изображениями. Остальные четыре сооружения
выполнены в виде пагодообразных колонн с сочетанием
собственно китайских и южноазиатских элементов. «Па-
года Цзиньганбаоцзота» также представляет собой настоя-
щий архитектурный ансамбль, состоящий из трехъярус-
ного пьедестала и набора самостоятельных сооружений.
Поверхность верхнего яруса украшена рядами ниш с го-
рельефными изваяниями Будды. Внутри пьедестала про-
ходит каменная лестница, ведущая на верхнюю площад-
ку, на которой расположены 5 каменных девятиэтажных
пагод, две ступы в тибетском стиле и собственно Цзинъ-
ганбаоцзота — строение высотой 37,4 м, выложенное бе-
ломраморными, щедро декорированными плитами. Оно
воспроизводит собой стилизованный вариант индийской
ступы, но с типично китайской, по стилистике и моти-
вам, орнаментацией.
Для памятников в «национальном стиле» назовем «Ла-
зуритовую пагоду» (Люлибаота) и «Пагоду множества
драгоценных изображений Будды» (Добаофота). Первая,
построенная в 1780 г., находится на территории совре-
менного парково-мемориального комплекса, расположен-
ного в 20 км к северо-западу от Пекина. Она представляет
собой весьма специфическое по всем показателям соору-
жение, состоящее из семиэтажного восьмигранного строе-
ния, с равной окружностью по всей его высоте, и огромно-
го, почти в две трети от общего размера пагоды, основа-
ния, имеющего в плане форму сглаженного (тяготеющего
к кругу) октагона. Диаметр основания тоже намного пре-
вышает диаметр тела пагоды. Поверхность основания ор-
наментирована рельефными изображениями Будды, до-
полненными вспомогательными узорами. Тело пагоды
выложено глазурованным кирпичом желтого и зеленого
цветов, посредством кладки которого исполнены и эле-
менты, передающие поярусную разбивку.
Вторая из названных пагод входит в ансамбль летней
императорской резиденции. Имея в высоту около 17 м и
семиярусное тело, она также отличается необычностью
ее композиционного решения. Основание (в верхней, цо-
кольной части) снабжено двумя широкими выносами, ими-
тирующими крышу, что придает ему визуальное сход-
ство с распустившимся цветком лотоса. Ритм тела паго-
ды строится на обыгрывании неравномерности вертикаль-
ных размеров ярусов. Все сооружение вновь облицовано
глазурованным кирпичом, на каждом выполнено изобра-
жение Будды.
He отрицая эстетических достоинств разобранных па-
мятников, отметим все же, что и в данном случае в них
отчетливо прослеживается тенденция к эклектическому
сочетанию различных по происхождению конструктив-
ных и орнаментальных элементов, ставшая типичной, как
неоднократно отмечалось выше, для всего цинского ис-
кусства.
Помимо собственно зданий, важное место в китайских
архитектурных ансамблях занимают арки (пайлоу) и мо-
сты (цяо).
Происхождение и точное время появления арок как са-
мостоятельной архитектурно-инженерной категории неиз-
вестно. Одни исследователи считают их производными от
древних пилонов, другие — очередным заимствованием из
индо-буддийской архитектуры, возводя их к воротам-тяора-
нам, входившим в композицию ограды ступ. Подавляющее
болынинство известных на сегодня подлинных образцов арок
относятся к минской и цинской эпохам, из чего мы можем
сделать вывод, что практика их возведения утвердилась не
ранее ХІѴ-ХѴ вв. Арки могли исполняться из камня и из
дерева. Независимо от материала, они подразделяются на
три конструктивных типа: с одним, тремя и пятью пролета-
ми. По своему предназначению арки распадаются на две глав-
ные функциональные группы — погребальные и декора-
тивно-мемориальные. К первой относятся сооружения, слу-
жившие своего рода воротами, ведущими к погребальным
комплексам. Наиболее яркими их образцами считаются арки
из храма Конфуция в Цюйфу и из погребальных ансамблей
минских и цинских императоров. Все они представляют
собой однотипные конструкции с пятью пролетами прямо-
угольной формы, богато украшенными резными колоннами
и верхней частью, завершающейся, наподобие здания, кры-
шами с черепичным покрытием.
Арки декоративно-мемориального характера могли воз-
двигаться в принципе в любом месте и в ознаменование
любого события. При Цин особое распространение получи-
ли уличные арки, имевшие, как правило, сугубо декора-
тивное предназначение и служившие своего рода аналогом
европейской городской скульптуры. Такие арки, чаще все-
го исполненные из дерева, могли стоять на улицах круп-
ных городов через каждые 20 м и украшаться, в дополне-
ние к их собственному орнаменту, парчовыми полотнища-
ми, цветочными и ленточными гирляндами и длинными
шелковыми кистями.
Мосты имеют гораздо более древнее, чем арки, про-
исхождение и глубинную семантику, проистекающую из
ДРУГИЕ
ВАЖНЕЙШИЕ
КАТЕГОРИИ
КИТАЙСКИХ
АРХИТЕКТУРНО-
ИНЖЕНЕРНЫХ
СООРУЖЕНИЙ
(АРКИ И МОСТЫ)
Погребальная арка
с тремя пролетами
887
Hf-^-'-'r £?*«***■ »«1-ѵл
Мостп Лоянцяо
Погребальная арка
с пятпью пролепгами
476 Блестящий пример —
висячие мосты с чугунными
цепями, которые наиболее ши-
роко использовались в Сычуа-
ни и в южных районах (вклю-
чая Юньнань). Они были изоб-
ретены не позднее VI в,, тогда
как в Европе типологически
сходная инженерная конст-
рукция была теоретически раз-
работана только в XVI в. и
внедрена в мостостроительную
практику в конце XVIII в.
архаического осмысления реки как границы между раз-
личными — своим (человеческим) и чужим (потусторон-
ним) — мирами. Исходя из этих представлений можно сде-
лать вывод, что мост был символом преодоления данной
границы и перехода из одного мира в другой. Вот почему
мосты совместно с искусственными руслами столь настой-
чиво вводятся в семиотику дворцовых ансамблей (вспом-
ним о композиции южной «преамбулы» Запретного горо-
да) и садово-парковых комплексов. Многие китайские сады
имеют перед входом мостик, иногда перекинутый через
маленький ров. Кроме культурно-идеологических факто-
ров, развитию мостостроения в Китае способствовало нали-
чие в нем огромной сети сухопутных и водных транспорт-
ных коммуникаций, которая начала складываться в госу-
дарственном масштабе еще при древних империях.
Китайское мостостроение освоило все известные в ми-
ровой инженерной практике типы мостов: с балочными и
каменными опорами, арочные, висячие, a для их сооруже-
ния использовались самые разные материалы — камень,
кирпич, дерево и металл. Причем и в этой области архи-
тектурно-инженерного искусства было сделано немало тех-
нических открытий, которые намного предвосхитили до-
стижения европейской инженерной мысли476.
Ширина и стремительность течения китайских рек,
особенно на Юге, привели к необходимости строительства
масштабных по размеру мостов, совмещающих в себе раз-
личные разновидности опорных конструкций. Одним из
высших технолого-конструктивных достижений старого
китайского мостостроения справедливо признается мост
через реку Лоянцзян в провинции Фуцзянь. Построенный
еще в ХІ-ХІІ вв., он имеет общую протяженность 1080 м
и ширину более 5 м.
Однако наиболыпую популярность в китайской мосто-
строительной практике приобрели арочные каменные мос-
ты, которые исполнялись в трех основных конструктив-
ных разновидностях — полукруглые, эллипсовидные и по-
логие (сегментные).
Полукруглые или, в образной терминологии, «лунные»
мосты были изобретены, видимо, при Хань, a их автори-
тет в национальном архитектурно-инженерном искусстве
был обусловлен и эстетическими характеристиками, и се-
мантическими значениями. Арка такого моста, и ее отра-
888
жение в воде образуют круг, ассоциировавшийся в созна-
нии китайцев одновременно с лунным диском (откуда и
проистекает их образное название) и со схемой Великого
предела: пролет мыслился воплощением Ян, отражение —
Инь. Постепенно в мостостроительной практике были раз-
работаны несколько способов создания каменных ароч-
ных конструкций, которые тоже позволяли возводить до-
статочно масштабные по размерам сооружения — в длину
до 10 м и с арочным пролетом высотой около 5 м. Такие
мосты перебрасывались не только через искусственные
водоемы в рамках садово-парковых ансамблей, но и через
естественные русла.
Изобретение пологих мостов, обладавших повышеиной
прочностью и в то же время более экономичных по исполь-
зуемым в них материалам, стало одним из революционных
достижений китайской архитектурно-инженерной мысли.
Это событие связывается с мастером Ли Чунем, который
жил в начале VII в. и почитался основоположником целой
строительной школы, влияние которой прослеживается в
национальном мостостроении на протяжении многих после-
дующих веков. Непосредственным творением Ли Чуня счи-
тается мост Анъцзицяо, построенный в 605-616 гг. через
реку Цзяо (современный уезд Чжаосянь, провинция Хэ-
бэй) и великолепно сохранившийся до наших дней. В его
конструкции использованы четыре небольшие сквозные
арки — первые в мире арочные антрвольты, которые одно-
временно решают несколько проблем. Они снижают общий
вес конструкции и лучше пропускают паводковые воды,
уменыыая опасность ее разрушения. Протяженность этого
моста — 37,5 м. Для сравнения скажем, что пролет самого
большого из сохранившихся древнеримских арочных мос-
тов (мост Св. Мартина) равен 35,5 м, a обычный для того
времени мост имел пролет от 18 до 25 м. В собственно Евро-
пе пологие арочные мосты стали возводиться в лишь в XIV в.
Самым же крупным пологим арочным мостом является
мост Лугоуцяоу перекинутый через реку Юндинхэ — в 15 км
к юго-западу от исторической части Пекина. Возведенный
в 1189-1192 гг., он выполнен из белого камня и состоит из
11 пологих арок. Длина каждой из них составляет в сред-
нем 19 м, a общая протяженность моста — 235 м. Мост
украшен каменной резной балюстрадой, образованной
140 столбиками (для каждой из сторон), увенчанными из-
ваяниями львов, причем ни одно из них не повторяется.
Таким образом, этот мост выступает уникальным памятни-
ком китайского светского изобразительного искусства, даю-
щим древнейшие, не считая погребальной скульптуры,
скульптурные изображения льва.
Арочный «лунный» мост
Основные конструктивные
варианты арочного моста
Мост Анъцзицяо
889
ГЛАВА
САДОВО-ПАРКОВОЕ
ИСКУССТВО
Китайское садово-парковое искусство насчитывает боль-
шое число различных категорий композиций. Садовый эле-
мент в том или ином виде обязательно вводился практичес-
ки во все типы архитектурных ансамблей — в храмовые и
погребальные комплексы, в жилую усадьбу (оформление
дворика посредством хотя бы нескольких деревьев или са-
довых клумб). Кроме того, садовые фрагменты — напри-
мер, павильон в окружении искусственно посаженных де-
ревьев, скамейка с клумбой и каменной горкой и т. д.,
было принято создавать в живописных уголках природно-
го ландшафта: по берегам озер, на горных террасах. Но
наиболее ярко садово-парковое искусство проявляет себя в
двух основных категориях: в императорском парке и в
пейзажном саде.
ИМПЕРАТОРСКИЙ
ПАРК
477 Примечательно, что
именно в парковой зоне — на
острове посередине водоема
либо на его берегу — находи-
лось и государственное учеб-
ное заведение.
Традиция императорского парка, т. е. парковых ансамб-
лей, входящих в дворцовый комплекс, восходит к иньской
эпохе: упоминания о дворцовых садах, в которых иньские
цари устраивали пиршественные трапезы. Но более или
менее внятные описания таких парков в письменных ис-
точниках (в том числе, в произведениях антологии «Ши
цзин») приводятся только для чжоуской эпохи. Из них
следует, что уже резиденция чжоуского Вэнь-вана вклю-
чала в себя целую парковую зону (в современной термино-
логии), которая, возможно, переходила в охотничьи уго-
дья. На ее территории располагался водоем (непонятно,
искусственный или естественный), в котором разводили
рыбу; тростниковые заросли, тоже служившие местом оби-
тания диких птиц; лесные вкрапления (не исключено, что
искусственные насаждения), состоящие из рощиц и лужа-
ек. Парк населяли прирученные олени и декоративные по-
роды птиц (павлины)477. Впоследствии аналогичные парки
разбивались и в резиденциях чжоуских удельных правите-
лей. Остатки стенописных картин, принадлежащих двор-
цу Цинь-ши-хуан-ди, тоже, как мы помним, воспроизво-
дят картину некоего паркового ансамбля.
890
Судя no всем этим сведениям, пусть даже крайне ла-
коничным и фрагментарным, древнекитайский дворцово-
парковый ансамбль обладал некоторыми типологически-
ми приметами ландшафтного парка и включал в себя как
естественные, так и искусственно организованные участ-
ки. He исключено, что в какой-то момент обозначилась
тенденция к превращению дворцово-паркового ансамбля
в подобие регулярного парка. Вспомним упоминавшийся
выше (в связи с проблемой состояния древнего светского
пластического искусства) парк ханьского У-ди. По сооб-
щению письменных источников, он был разбит к югу от
столицы, занимал площадь приблизительно в 20 км2 и
состоял из искусственных водоемов и аллей, сориентиро-
ванных строго по частям света. Однако практика регуляр-
ного парка не привилась, да и не могла привиться в ки-
тайской художественной культуре, по той простой причи-
не, что сад исходно мыслился в ней воплощением природы
и находился в семантической оппозиции к архитектурно-
му ансамблю как олицетворению созидательной челове-
ческой деятельности.
Обратимся к двум главным для минской и цинской
эпох произведениям официального садово-паркового искус-
ства — парковому комплексу Запретного города и летней
императорской резиденции, носящей примечательное на-
звание «Сад абсолютной гармонии» (Ихэюанъ).
Парковый комплекс Запретного города состоит из не-
скольких относительно самостоятельных ансамблей, сосре-
доточенных по берегам трех соединяющихся между собой
озер, именуемых «Южным» (Нанъхай), «Центральным»
(Чжунхай) и «Северным морем» (Бэйхай), что сразу же
указывает на их космографическую семантику. Самым об-
ширным и проработанным является парк «Северного моря»,
история которого восходит еще ко временам чжурчжэнь-
ского правления. «Северное море» — искусственный водо-
ем, вырытый именно на территории резиденции тогдаш-
них монархов. По берегам водоема были насыпаны холми-
стые возвышения, в северной части — оставлен остров, на
котором соорудили горку из декоративных валунов, специ-
ально доставленных для этого из гор, расположенных вблизи
от Кайфына. Свободное пространство острова, получивше-
го отдельное название Цюнхуадао, было засажено деревья-
ми. Если принять во внимание, что остров посередине во-
доема есть устойчивый семантический аналог обители бес-
смертных в Восточном море, то парк Бэйхай оказывается
исходно связанным с даосскими космолого-религиозными
представлениями.
Работы по расширению и благоустройству Бэйхая не-
прерывно велись почти на всем протяжении юаньской,
минской и цинской эпох. В годы правления императора
Цяньлуна на Цюнхуадао были воздвигнуты два буддий-
ских культовых строения — уже известная нам «Белая па-
года» и «Башня десяти тысяч будд» (Ванъфолоу). Воздвиг-
нутая по приказу императора Цяньлуна в честь восьмиде-
сятилетия его матери, она представляет собой трехэтажное
сооружение с 10 000 ниш, в каждой из которых находи-
лось по позолоченному изваянию Будды. Несколько стран-
ным, с европейской точки зрения, архитектурным аккомпа-
нементом этих буддийских святилищ стали многочислен-
ные беседки и павильоны, завершающиеся протянувшейся
вдоль северного берега острова галереей для прогулок, кон-
туры которой следуют извилинам горы.
He будучи воплощением единого художественного за-
мысла, парк Бэйхай тем не менее обладает несомненной
семиотической и эстетической целостностью, обусловлен-
ной гармоничным сочетанием самих по себе ландшафтных
элементов (озеро, остров, береговая зона) и входящих в
него архитектурных деталей. Соединение же в рамках од-
ного пространства светских и культовых (буддийских) по-
строек полностью отвечает уже хорошо знакомой нам идее
совмещения государем функций политического и духовно-
го лидера страны.
Несколько другой вариант дворцового парка демонст-
рирует сад «Гора прекрасного вида» (Цзиншанъ), располо-
женный к северу от собственно дворцового комплекса. Он
начал создаваться при Юань и в дальнейшем планомерно
благоустраивался. На его территории был также насыпан
холм и посажены плантации фруктовых деревьев, сосен и
кипарисов. На холме были воздвигнуты пять беседок, цен-
тральная из которых — «Беседка вечной весны» (Ванъ-
чунътин) — с трехъярусной покрытой глазурованной че-
репицей крышей — являлась самой высокой точкой в За-
претном городе, с которой открывалась панорама всей
столицы. Именно через эту беседку проходит и главная ось
Пекина, пересекающая Запретный город. Все пять беседок
образуют гармоничную архитектурную группу, которая од-
новременно оказывается и подобием храмового ансамбля:
в них находились статуи божественных персонажей. Куль-
товое значение беседок подчеркивается расположенными
к северу от них собственно святилищами — «Храмом дол-
голетия» (Шоухуадянъ) и «Храмом императорских пред-
ков» (Гуанъдэдянъ). В отличие от парка Бэйхай этот сад
обнесен отдельной стеной с тремя — восточными, запад-
ными и южными — проходами. Главные, южные ворота
892
дополнены специальным строением — «Башней для ли-
цезрения» Щиванлоу). Получается, что «Гора прекрасного
вида» повторяет композиционные правила дворцового и
городского ансамбля, полностью подчиняясь принципам
осевого и симметричного построения.
Летняя императорская резиденция находится в 10 км
к западу от Пекина и расположена в естественной ланд-
шафтной среде — на берегу озера, окаймленного холми-
стыми берегами (отроги гор Сишань). Первый загородный
императорский дворец был построен здесь еще при чжур-
чжэнях, a окончательный свой вид «Сад абсолютной гар-
монии» приобрел при Цин. Тогда же за озером закрепи-
лось название Куньминху (намек на волшебные горы бес-
смертия Куньлунь), a за главной горой его береговой зоны —
«Гора долголетия» (Ванъшоушанъ). Общая площадь лет-
ней резиденции составила примерно 240 га. Ее четвертую
часть занимает горное пространство, a три четверти — озе-
ро, что не могло, разумеется, не сказаться на всем облике
этого дворцово-паркового комплекса. Ихэюань четко со-
стоит из множества композиционных фрагментов, образо-
ванных непосредственно дворцовым ансамблем, храмовы-
ми строениями и видовыми участками. На переднем скло-
не «Горы долголетия» находится комплекс дворцовых жилых
зданий — «Дворец заоблачных высот» (Пайюнъдянъ), над
которым возвышаются два буддийских храма — «Палаты
благовония Будды» (Фосянгэ) и «Mope истинной мудрости»
(Чжихуэйхай). Противоположный северный, склон «Горы
долголетия» занимают два парковых фрагмента, один из
которых (восточный) воспроизводит пейзажный сад. Второй
парковый фрагмент выдержан в духе ландшафтного парка,
но воспроизводит пейзаж, свойственный юго-восточным ре-
гионам страны. Береговая линия озера и разбросанные по
нему острова тоже, как и в парках Запретного города, пре-
вращены в архитектурно-видовые композиции с сочетанием
собственно садовых элементов и строений, среди которых
главенствующее положение занимают дамбы и мосты. Сре-
ди последних особо выделяются «Мост семнадцати проле-
тов» (Шицикунцяо) и «Мост-нефритовый пояс» (Юйдай-
цяо). Первый из них, действительно состоящий из 17 про-
летов, украшен колоннами и балюстрадой с изваяниями
львов (копируя тем самым мост Лугоуцяо) и ведет к остров-
ному «Святилищу Царя-Дракона» (Лунванмяо). Второй
мост, также скопированный с одного из прославленных
старых мостов (на оз. Сиху) отличается высотой пролета,
делая похожим его на вознесшийся к небу изгиб пояса.
893
Отмеченные парковые комплексы показывают, что
главной приметой китайского императорского парка в том
виде, в каком он сложился к цинской эпохе, служит от-
сутствие y него самостоятельных планировочно-семиоти-
ческих принципов и схем. По сути дела, он оказывается
своеобразной моделью Поднебесной, соединяющей в себе
опорные для природы Китая ландшафтные элементы и те
искусственные элементы, которые с наибольшей вырази-
тельностью олицетворяют основные сферы человеческой
деятельности — институт верховной власти (дворец), ре-
лигиозно-ритуальную активность (культовые строения) —
и воплощают национальные практико-художественные до-
стижения. Этим объясняется практика введения в импера-
торский парк копий уже имеющихся строений. Понятно
также, что каждый из образующих его сегментов неизбеж-
но должен был подчиняться планировочным и композици-
онным правилам соответствующего архитектурного ансамб-
ля. A аморфность границ императорского парка — раз-
мытость собственной территории и отсутствие отдельной
стены — подчеркивает неотделимость человеческого об-
щества от естественной среды его обитания и, кроме того,
придает парковому ансамблю оттенок безграничности кос-
мического универсума.
В отличие от императорского парка пейзажный сад ис-
ходно являлся порождением и также воплощением инди-
видуализированного мировосприятия. Поэтому между ними
не могло не возникнуть ряда принципиальных различий.
894
Традиция пейзажного сада возводится в оригинальных ПЕЙЗАЖНЫЙ САД
письменных источниках еще к одному парковому ансамб-
лю, разбитому ханьским У-ди, на этот раз — на юго-востоке
страны, недалеко от будущего Нанкина, и олицетворяюще-
го, по замыслу императора, волшебные сады в обители бес-
смертных Пэнлай. Более подробных сведений о данном пар-
ковом ансамбле не сохранилось. Подлинным же родоначаль-
ником частного пейзажного сада справедливо считать видного
государственного деятеля и деятеля культуры (литератора,
философа) эпохи Шести династий — Сунь Чо (314-371),
который, по преданию, впервые построил на территории
своей столичной усадьбы, под любимой им вековой сосной,
специальное здание, имитирующее хижину отшельника.
В нем Сунь Чо уединялся в моменты праздного времяпре-
провождения, вместо того чтобы совершать поездку в горы.
Этап начального формирования пейзажного сада прихо-
дится на Ѵ-ѴІ вв., и этот процесс тоже связывается в тек-
стах с определенными историческими лицами. Первым на-
стоящим пейзажным садом в них называется сад «Приста-
нище сокровенного» (Сюанъпу), разбитый в 80-х гг. V в.
тогдашним наследным принцем на территории своей сто-
личной официальной резиденции, но предназначенный для
дружеских и интимных встреч. Рассказывается, что сад был
окружен высокими стенами, вдоль которых тянулись зарос-
ли бамбука, что в его центре возвышалась буддийская паго-
да, y подножия которой струился искусственно прорытый
ручей с кристально-чистой водой. По берегам ручья в живо-
писном порядке разбросаны различные по форме и цвету
каменные валуны, доставленные из близлежащих от столи-
цы гор, чтобы создать эффект естественных «гор и вод».
Дружеские застолья и интимные встречи проводились в двух-
этажном строении. Вход в него находился на втором этаже,
куда приглашенные в «Пристанище сокровенного» гости
поднимались с помощью подъемного механизма, — будто
бы они бессмертные, взлетающие в чудесные сады на вер-
шине Куньлуня. Еще один аналогичный сад (но без подоб-
ных технических ухищрений) был создан ученым V в. —
Дай Юном. Вознамерившись воссоздать рядом с домом «горы
и воды», он направил в нужное ему русло течение речушки,
собрал на ее берегу камни, насадил деревья и возвел среди
них небольшой грот.
Все приведенные истории неоспоримо свидетельствуют
о том, что пейзажный сад возник под воздействием даос-
ских философских и религиозных представлений и исход-
но должен был стать заместителем уединенного время-
препровождения в горах, как этого требовали от личности
даосские ценностные установки.
На протяжении VI в. пейзажный сад утвердился и на
Севере. По свидетельству современников, в городских домах
лоянской знати стало общепринятым разбивать сады, состо-
явшие из зарослей бамбука, фруктовых (т. е. цветущих) де-
ревьев и прудов с извилистыми берегами. При Тан пей-
зажный сад в виде самостоятельного сегмента превратился
и в обязательную принадлежность императорского парка.
895
ras*
Центральная часть
сучжоуского
«Сада отдохновения»
Централъная часть
нанкинского сада Сюйюань
478 Поэтому для украшения
сада были слециалыю подобра-
ны каменные глыбы с берегов
озера Тайху, которые формой
напоминали очертание фигу-
ры льва в различных позах.
В дальнейшем он превратился
в излюбленное место отдохно
вения представителей местных
литературных и артистических
кругов, о чем напоминает уни-
кальное каллиграфическое со-
брание: 67 каменных плит, на
которых выгравированы над-
писи, исполненные знамениты-
ми поэтами, художниками и
каллиграфами.
На протяжении последующих столетий популярность пей-
зажного сада неуклонно возрастала. Известно, что на рубеже
ХІ-ХІІ вв. только в одном Лояне имелось свыше 20 отдель-
ных пейзажных садов, которые современниками почитались
подлинными художественными шедеврами. Однако главным
центром искусства пейзажного сада по-прежнему оставался
юго-восточный региоы. Особенно славился в то время своими
садами города Уси, где их насчитывалось к XIII в. свыше 30.
В конце минской эпохи появилось первое теоретическое
сочинение по садовому искусству, которое было сразу же при-
знано «классическим»: «Устроение садов» («Юанъе») Цзи
Чэна. Цзи Чэном и его последователями была разработана и
типология пейзажного сада с выделением пяти его основных
типов исходя из их местоположения: в горах, в городе, в
деревне, в пригороде, вдоль реки или на берегу озера. Понят-
но, что китайскими теоретиками учитывались все ранее отме-
ченные категории садовых композиций. В данном же случае
речь пойдет только о тех пейзажных садах, которые представ-
ляют собой самостоятельную архитектоническую величину.
Эталонными образцами пейзажного сада являются сады,
находящиеся в Сучжоу, Уси, Янчжоу, Нанкине и Шан-
хае — все они уже хорошо знакомы нам в качестве центров
китайской живописи, и такое совпадение, разумеется, не
случайно. Два первых города с полным правом можно назы-
вать «садовой Меккой» Китая: в одном лишь Сучжоу к
середине XVII в. насчитывалось около 270 садов. Старей-
шими и авторитетнейшими из имеющихся в нем в настоя-
щее время садов являются: 1) «Сад темно-голубого павильо-
на» (Цанлангпинъюанъ), восходящий еще к X в. 2) «Запад-
ный сад» (Сиюанъ), основанный в самом конце XIII в. при
буддийском монастыре и затем перешедший в частные руки.
3) «Сад львиного леса» (Шицзылинь), заложенный в 1342-
1350 гг. Он тоже был основан буддийскими монахами в
память о своем наставнике, обитавшем одно время в горной
местности под названием «Львиная скала»478. 4) Два мин-
ских сада, изначально основанных частными лицами, —
«Сад невежественного управляющего» (Чжочжэнъюаиъ), раз-
битый в 1513 г. и впоследствии неоднократно (1631 и
1738 гг.) перестроенный; и «Сад отдохновения» (Лююанъ),
восходящий к 1522-1566 гг. и тоже прошедший через ряд
реконструкций, последняя, не считая современных рестав-
рационных работ, состоялась в 1798-1819 гг.
Старейшими нанкинскими садами называются «Сад ду-
шевной теплоты» (Сюйюанъ), другое название — «Сад запад-
ных цветов» (Сихуаюань); и «Сад для любования» (Чжанью-
анъ), оба восходящие к минской эпохе. Примечательна исто-
рия второго из этих садов. Он в свое время был разбит по
приказу основателя Мин в качестве дворцового парка, затем
входил в официальные резиденции губернаторствовавших
здесь принцев крови и перешел «по наследству» к вождям
Тайпинов, также разместивших в нем собственную штаб-
квартиру. Последним высокопоставленным его обитателем
стал Сунь Ятсен в бытность президентом Китайской Респуб-
лики. Так что с формальной точки зрения его правомерно
896
относить и к традиции императорского парка, сразу же за-
метим, что почти никак не сказалось на его облике. Прямым
аналогом сучжоуских и нанкинских садов выступает шан-
хайский «Сад праздности» (Юйюанъ). Тоже основанный еще
в середине Мин (1559 г.), он был полностью разрушен в
XX в. и относительно недавно детально и бережно восста-
новлен, сделавшись одной из главных историко-культурных
и туристических достопримечательностей Шанхая.
Как видим, каждый сад имел собственную историю. Столь
же специфическим и неповторимым кажется и внешний об-
лик любого из них. Невольно возникает впечатление, что
пейзажные сады создавались «на одном дыхании», в резуль-
тате наития-вдохновения некоего гениального художника, a
потому для них просто немыслимо наличие каких-либо пла-
нировочных нормативов и стандартных семиотических схем.
На самом деле все обстоит совсем наоборот. Именно пейзаж-
ный сад, в отличие от императорской резиденции имел чет-
кие семиотические и эстетические принципы проистекаю-
щие из генеральной для него культурно-идеологической ус-
тановки: создание места для отдохновения человека от суетной
повседневности, которое должно ассоциироваться с местом
обитания отшельника и пребывания бессмертных.
Реализация данной установки начинается с окружения
пейзажного сада стеной, что и является его определяющей
типологической особенностью, отличающей пейзажный сад
от всех других категорий национального садово-паркового
искусства, которым была присуща демонстративная экстра-
вертность. Посредством стены — как в семантическом, так
и в практическом аспектах — создается замкнутое, изоли-
рованное пространство, призванное подчеркнуть отшельни-
ческое уединение пребывающих в саду. Эта его инородность
по отношению к внешнему миру акцентируется мостиком
перед входом. Кроме того, стена имела важные художе-
ственно-эстетические функции. В «классических» пейзаж-
ных садах возводились исключительно гладкие, окрашен-
ные в белый цвет стены, которые, во-первых, ассоциирова-
лись с живописным материалом, на котором, по словам
китайских теоретиков, обладающий воображением и худо-
жественным вкусом человек «вышивает камни». Во-вто-
рых, белые поверхности стены служат оптимальным фо-
ном для многоцветных садовых композиций. И, в-третьих,
тени от этих композиций на стенах, особенно в лунную
ночь, создают иллюзию еще одного, таинственного и эфе-
мерного, сада.
Все планировочно-семиотические принципы пейзажного
сада ориентированы на одну-единственную цель: воспроизве-
дение натуральной картины природы во всем ее многообра-
зии и постоянной изменчивости. Поэтому его композиция и
все декоративные элементы уподобляются ландшафтному виду
и реалиям окружающей действительности. В нем отсутству-
ют такие свойственные европейскому садово-парковому ис-
кусству компоненты, как прямые аллеи, газоны, симмет-
рично расположенные клумбы, скульптуры, — словом, все,
что хоть сколько-нибудь указывает на рукотворность сада.
57 История искусства Китая
члИ-л^аЛи^ч
Нанкинский сад
Чжаньюань
a — фрагмент; б — резиденция
вождей Тайпинов (современный
вид); в — резиденция Сунь Ятсена.
897
Первоочередным способом решения задачи воспроизведе-
ния многообразия и изменчивости природы служит именно
внешняя вариативность и многоликость садов. На уровне от-
дельного садового ансамбля эта задача решается через искус-
ственную дискретность пространства, создаваемую путем его
сегментной планировки. Пейзажный сад непременно состоит
из серии участков, которые нередко (но не строго обязатель-
но) обнесены стенами или живыми оградами (заросли бамбу-
ка, декоративного кустарника). Например, шанхайский «Сад
праздности», занимая площадь в 2 га, распадается на 40 с
лишним сегментов. В случае наличия y них стен сегменты
соединяются проходами, могущими иметь самую разную кон-
фигурацию: прямоугольную, овальную, ромбовидную, шес-
тигранную, в форме тыквы-горлянки. При этом они распо-
ложены так, чтобы при подходе к ним y человека создава-
лось впечатление как бы постепенно открывающегося перед
ним живописного изображения, в которое ему предстоит войти.
По мере следования через проход картина трансформируется,
превращаясь в реальность, a обернувшись назад, человек
вновь видит оставленный им сегмент в живописном облике.
Каждый сегмент и составляющие его участки имеют
собственное композиционное построение и смоделированы
таким образом, что они постоянно визуально изменяются в
зависимости от времени суток, погодных условий и угла
зрения. Дискретность садового пространства тоже кажется
совершенно хаотичной и лишенной внутренней логики. Но
достаточно внимательнее присмотреться к планам, напри-
мер, сучжоуских садов, чтобы убедиться в том, что на
самом деле сегменты четко сведены в квадратную или пря-
моугольную фигуру и расположены по инвариантной схе-
ме, совмещающей в себе осевой принцип и принцип сфоку-
сированности пространства. Для каждого сада существует
его центральная часть, состоящая из главных строений,
расположенных, как правило, на берегу замкнутого водое-
ма, и осевая линия, ведущая к ней от главного входа.
Опорными конструктивно-семиотическими единицами
пейзажного сада выступает та же триада «гора-вода-дере-
во». Воплощением гор служат каменные нагромождения и
единичные глыбы. В специальном каталоге, составленном
в начале XVII в., перечисляются более 100 разновидностей
используемых в садово-парковом искусстве камней. Они раз-
личались по конфигурации, структуре, цветовой гамме, ха-
^ рактеру их установки и многим другим еще более специфиче-
ским показателям. Отдельно выделяются, например, дырча-
тые, ноздреватые, морщинистые, продолговатые, округлые,
наполовину вросшие в землю камни. Существовали и специ-
альные места их добычи. Чрезвычайно ценились камни с гор
Линби (пров. Аньхуэй), отличающиеся причудливостью форм,
наличием прожилок, напоминающие фактуру нефрита и из-
дававшие при ударе по ним мелодичное звучание; белые кам-
ни с гор Луншань (пров. Цзянсу), шаньдунские камни, по-
крытые красноватым узором. Но наиболыией популярностью
пользовались камни, поднимаемые со дна озера Тайху. Затей-
ливо источенные водой, они имели множество пустот и отвер-
898
стий и часто напоминали по конфигурации очертания фигур
людей, животных и фантастических существ.
Столь же разнообразными были методы и способы рас-
становки камней: одиночная глыба, воспроизводящая со-
вместно с растущим рядом с ним деревом горный пик; двух-
или чаще трехчленная композиция; целый каменный ан-
самбль, имитирующий горную гряду, скалистый берег или
каньон. Они могут стоять на фоне стены, образовывать про-
ход к строению или тропинку, ведущую через ручей, возвы-
шаться над водной гладью, a также использоваться в каче-
стве экранов, столов и скамеек. Особое внимание уделялось
сочетаемости камней с растениями. Под соснами полагалось
размещать камни с шероховатой поверхностью, среди бам-
буковых зарослей — удлиненной формы, на участках, вос-
производящих низину, — изящной формы. Отдельную раз-
новидность каменных композиций составляют горки, в ко-
торых сооружались подземные пещеры, гроты и туннели,
по которым можно было пройти от их надземной части к
вершине. За счет подбора цветовой гаммы камней могли
также создаваться имитации горных вершин в разные вре-
мена года: заснеженные (белые камни), усеянные осенними
листьями или, напротив, зеленеющие юным весенним мхом.
Отдельные камни и композиции часто имеют собственные
названия и овеяны множеством легенд, особенно в тех слу-
чаях, когда они прямо ассоциируются (о чем гласит находя-
щаяся тут же надпись) с какими-либо прославленными или
волшебными горами.
Вода представлена в пейзажном саде замкнутыми водо-
емами, потоками (речки, ручейки) и водопадами. Самыми
распространенными видами деревьев, употребляемых в садо-
вых композициях, являются сосна, кипарис, бамбук, слива,
персик, ива, тополь, магнолия и банановое дерево. Их стан-
дартные символические значения в данном случае почти пол-
ностью оказываются вытесненными их эстетическими досто-
инствами. Практиковалось и создание сезонных садовых сег-
ментов, предназначенных для посещения в определенное время
года. «Весенние» сегменты засаживались сливовыми, вишне-
выми деревьями, миндалем, жимолостью, «летние» — ду-
бом, ясенем, платанами. Из декоративных цветов предпочте-
ние отдавалось пиону, хризантеме, гортензии, нарциссу, ор-
хидее, глицинии, a из водяных цветов — лотосу. Для каждого
из этих видов было выведено множество сортов. Цветы могли
высаживаться в карьерах, вокруг каменных композиций и в
виде беспорядочных зарослей. Кроме того, в садовую компо-
зицию нередко включались плантации фруктовых деревьев и
цветники с лекарственными травами. Широкое распростра-
нение имели и карликовые деревья, практика разведения
которых восходит к танской эпохе. Они могли служить вспо-
могательными по отношению к натуральным растениям эле-
ментами или составлять отдельные композиции.
Архитектурный компонент представлен в пейзажном саду
почти всеми знакомыми нам типами зданий, которые слу-
жили жилыми помещениями (павильоны-дянь), домика-
ми для чаепития, дружеских застолий, кабинетами для
Образцы камней
и композиций из них
a — камни из озера Тайху; б —
композиция из камней, по форме
напоминающих очертания фигур
бессмертных; в — композиция,
имитирующая горную гряду.
899
. :*&£
Садовые архитектурные
сооружения
a — иавильон-дянь; б — беседка
для любования садом; в — па-
вильон в виде лодки.
Современные туристические
лодки в пейзажнопарковых
районах юговостока Китая.
Озеро Наньху. Пров. Чжэцзян
интеллектуально-творческих занятий и местами для любо-
вания садом. Характерно расположение строений на берегу
замкнутых водоемов, когда за счет их отражения в воде
создается иллюзия еще одного, эфемерного сада. Кажущий-
ся хаотическим беспорядок строений на самом деле образует
единый эстетико-ритмический ансамбль, который находит-
ся в органическом единстве с ландшафтными и раститель-
ными элементами и играет структурообразующую роль, орга-
низуя вокруг себя пространство и придавая ему композици-
онную определенность.
К числу наиболее специфических садовых построек отно-
сятся павильоны в виде лодки. Выполненные целиком из
камня или имеющие каменный фундамент и деревянный кор-
пус, они обычно расположены в воде, возле самого берега,
чуть выступая на сушу, т. е. имитируют только что прича-
лившую или, наоборот, готовую к отплытию лодку. Такого
типа строения восходят к образу рыбака, олицетворявшего,
напомним, в даосской философии истинного мудреца, и переда-
ют идею рыбной ловли и речного странствования как полной
отрешенности человека от обыденной повседневности. Пока-
зательно, что на некоторых озерах Юга, на берегах и островах
которых находятся садовые участки, до сих nop в качестве
туристического транспорта используются лодки, стилизован-
ные под старинные рыбачьи челны или богатые ладьи.
Важное место в эстетике и семиотике пейзажного сада
занимают и мосты, среди которых предпочтение отдается
«лунным» и зигзагообразным мостам. Последние воплоща-
ют петляющую горную тропинку, уводящую человека в
глубины гор. Подобная смысловая ассоциация усиливает-
ся размещением вдоль перил горшков с растениями, кото-
рые создают подобие зарослей.
Итак, китайский пейзажный сад демонстрирует уни-
кальный для мировой художественной культуры пример
единения естественного и искусственного, архитектуры и
пейзажа. A его главным свойством является постоянный
метаморфизм: искусственная планировка и тщательно про-
думанная композиция оборачиваются живописным природ-
ным хаосом; замкнутое пространство трансформируется во
«множественность миров», которые, в свою очередь, выли-
ваются в единый художественно-эстетический универсум:
архитектурные формы приобретают очертания ландшафт-
ных элементов, a природные формы сливаются с архитек-
турными. При этом каждый отдельный элемент пейзажного
сада — будь то каменная глыба, дерево, цветник, проход в
стене, павильон или мостик — воспринимаются в качестве
самоценной эстетико-художественной величины и одновре-
менно оказываются абстрактно-символическим образом, вле-
кущим за собой целую цепочку смысловых и художествен-
ных асеоциаций. Поэтому не будет болыпим преувеличени-
ем сказать, что искусство пейзажного сада есть высшее
воплощение всего национального художественного опыта.
В рамках архитектурного комплекса садовый компо-
нент, в любых его категориях, служит своеобразной пре-
людией к собственно жилому помещению и интерьеру.
900
МЕБЕЛЫЮЕ ДЕЛО с^
И ИНТЕРЬЕР
ГЛАВА
История развития китайского мебельного дела и искусства
интерьера отчетливо подразделяется на два глобальных хро-
нологических этапа, граница между которыми приходится
на Х-ХІІ вв.
Древнейшей известной на сегодня формой китайской
мебели выступает стол в нескольких его функциональных
и конструктивных разновидностях. Первый образец —
бронзовый столик (длина 89 см, ширина 47 см и высота
18,5 см) дошел до нас от позднеиньского периода (наход-
ки в аньяновских погребениях). Он представляет собой
примитивную ящикообразную конструкцию, совпадающую
по внешнему виду с литературными описаниями и позд-
нейшими изображениями одной из разновидности чжоу-
ских столов, предназначенных для расстановки жерт-
венной пищи. Кроме него, для Поздней Инь обнаружено
еще несколько каменных и бронзовых моделей столи-
ков, высотой чуть более 10 см, длиной 20-30 см и ши-
риной 10 см. Они воспроизводят либо П-образную кон-
струкцию, либо конструкцию, снабженную боковыми опо-
рами фигурной формы. Обе эти конструкции совпадают
еще с одной последующей разновидностью ритуальных
столов (цзу). Все модели богато орнаментированы, что
указывает на возможность художественного оформления
и их прототипов.
На протяжении чжоуской эпохи репертуар столов не-
уклонно расширялся: в текстах называется пять самостоя-
тельных разновидностей. Ритуальные столы дополнились
и собственно предметами мебели — столами-акь, которые,
судя по найденным образцам, исходно имели наиболее
широкое распространение на Юге и изготавливались пре-
имущественно из дерева. Самый полный для позднечжоу-
ского периода комплект столов-аиь присутствовал в погре-
бальном инвентаре правителя сычуаньского царства Ба-
Шу. Все они выполнены в технике расписного лака и имеют
однотипное устройство — П-образную форму и боковые
опоры, составленные из нескольких скрепленных между
собою планок. Высота этих столов колеблется в пределах
ОСНОВНЫЕ
ЭТАПЫ ИСТОРИИ
РАЗВИТИЯ
КИТАЙСКОГО
МЕБЕЛЬНОГО ДЕЛА
И ИСКУССТВА
ИНТЕРЬЕРА
901
Древнейшие (иньские)
ритуальные столы-цзу
a — каменная модель; б — брон-
зовые модели.
Чжоуские ритуалъные
столы-цзу
a — период Весен и осеней; б —
царство Чу.
Круглый стол-ань
с тремя ножками
35-40 см. Модели столов также нередко встречаются в чу-
ских погребениях конца периода Борющихся царств — пер-
вой половины Хань. Подавляющее их болыиинство имеет
крышку прямоугольной формы и либо боковые опоры, либо
четыре ножки. На этом фоне резко выделяется стол на трех
ножках с крышкой круглой формы (высота 60 см, диаметр
крышки — около 70 см), обнаруженный в погребении из
окрестностей Чэнду. Эта находка (вместе с чжуншанской
столешницей и чуским напольным экраном) свидетельствует
о том, что уже тогда в силу вступила тенденция к варьиро-
ванию и усложнению мебельных форм.
0 мебели ханьской эпохи мы знаем по погребальным
моделям и изображениям соответствующих предметов на
погребальных рельефах и стенописях. Среди них присут-
ствуют изображения платформообразных сидений и шка-
фов — в виде квадратного ящика на невысоких ножках с
вертикальными дверцами и покатым верхом, напоминаю-
щим крышу дома. Точно известно, что и в чжоускую, и в
ханьскую эпохи доминирующее положение в интерьере за-
нимали не предметы мебели, a циновки, которыми засти-
лался пол помещения и которые, в зависимости от толщи-
ны, могли использоваться в качестве сидений и лежанок.
Как показали археологические находки (в том числе в Ма-
вандуй), циновки были двух основных видов: грубые, сде-
ланные из тонких полосок расщепленного бамбука, и более
тонкие, из конопли и соломы. Способ их плетения был
похож на тот, который применяется в современных народ-
ных промыслах: основу составляют 53 конопляных шнура,
a в качестве утка используются сухие стебли травы. По
краю циновки обычно обшивались полосами ткани. Гру-
бые циновки могли иметь размер до 2,35 х 1,96 м, тонкие
имели в ширину 80-82 см. На такой циновке, по свиде-
тельству литературных описаний и художественных изоб-
ражений, обычно сидели по несколько человек.
Циновка стала прародительницей древнейших мебель-
ных форм, предназначенных для лежания и сидения, ко-
торые начали проявляться в период Борющихся царств в
качестве ранговых предметов. Если люди, равные по со-
циальному статусу, располагались на одной циновке, за-
стилаемой в особо торжественных случаях медвежьими шку-
рами, то высшее по отношению к ним лицо выделялось
посредством расположения на специальном предмете. Не-
маловажную роль в процессе трансформации циновки в
мебельные формы сыграли, возможно, и климатические
условия, что было наиболее актуальным для регионов Ху-
анхэ. Стадиально первыми такими предметами стали си-
дение-ma и платформа-чуан. Ta представляли собой либо
предмет с квадратным или прямоугольным верхом и на
коротких изогнутых ножках, либо тоже ящикообразную
конструкцию с прорезями по бокам. Видимо, они служи-
ли исключительно тронами. Во всяком случае, древние
императоры в свитке Янь Либэня показаны восседающи-
ми именно на ma. Чуан — платформообразное сидение,
на котором, судя по его изображениям на ханьских релье-
902
фах, могло разместиться в ряд 2-3 человека. На него же
ставили и столик с яствами и напитками. На циновках
сидели, поджав под себя ноги, т. е. почти в той же самой
позе, которая до сих nop принята в Японии. Такая поза
осталась в силе и после утверждения ma и чуан. Получа-
ется, что на протяжении всего Древнего Китая большая
часть действий совершалась на уровне пола, и, следова-
тельно, пространство интерьера располагалось не столько
вокруг человека, сколько над ним.
Революционные изменения в китайском мебельном деле
и интерьере наметились в эпоху Шести династий, когда в
местную материальную культуру проникли два совершен-
но не свойственных ей ранее предмета обстановки — пе-
реносной подлокотник-пинцзы и «варварское сидение» (ху-
чуан). Пинцзы — дугообразная подставка на трех нож-
ках, на которую можно было опираться, сидя в обычной
позе с подогнутыми ногами, и в лежачем положении. «Вар-
варское сидение» — большой складной табурет с мягким
плетеным сидением и перекрещивающимися ножками, ко-
торый (что и нашло отражение в его оригинальном терми-
нологическом обозначении) был заимствован y западных
народностей. Введение хучуан приписывается ханьскому
императору Мин-ди, но вплоть до периода Южных и Се-
верных династий оно не проявило себя сколько-нибудь
отчетливо в китайской материальной культуре. В IV-VI вв.
«варварское сидение» использовалось в основном на Юге
и вне дома: в поездках, при наблюдении за сражением, в
саду, причем на нем по-прежнему сидели, поджав ноги.
В IV в. их использование в интерьере считалось верхом
неприличного поведения и сурово порицалось современ-
никами. Но уже к концу V в. общественное мнение сми-
рилось с употреблением «варварских сидений» в качестве
полноправных предметов мебели, особенно при приеме
чужеземных гостей.
Ііодлокотник-пинцзы и «варварское сидение» подгото-
вили почву для появления собственно стула. Определенное
участие в этом процессе приняла и индо-буддийская этно-
графическая традиция, в которой существовали такие фор-
мы мебели, как стул и кресло. Сохранились сведения, что
китайские монахи сидели, в подражание индийским, на
стульях. В свете сказанного особое значение приобретает
находка остатков стула рамообразной конструкции из че-
тырех квадратных в сечении ножек и поперечных планок,
который датируется III—IV вв. Этот стул, снабженный пря-
моугольным сидением и предположительно прямой спин-
кой, был орнаментирован узором, близким к декоратив-
ным мотивам гандхарских рельефов.
Тем не менее для появления в Китае собственно стула
и кресла жесткой конструкции потребовалось еще несколь-
ко столетий, которые приходятся, по мнению специали-
стов, на вторую половину танской эпохи. Их утверждение
в быту, что произошло в Х-ХІ вв., привело к решитель-
ной трансформации прежних мебельных форм и к изме-
нению принципов организации всего интерьера. Так как
іШи&ЗІ&ІІ3
Столакъ из усыпальницы
правителя царства Ба-Шу
Платформа для сидения та.
Прорисовка со свитка
Янъ Либэня
Подлокотники-пинцзы
903
479 Впервые подобного типа
отопительная система зафик-
сирована на территории При-
морья для III—I тыс. до н. э.,
где она прошла путь от очага,
обложенного камнями, до оча-
га-ящика, который и стал про-
тотипом собственно кана. Ори-
ентировочно во II—I тыс. до н. э.
кан появился y предков корей-
цев, a к концу I тыс. распро-
странился по всему северно-
му, по отношению к Китаю,
региону, включая Забайкалье.
В III—VI вв. н. э. кановая си-
стема использовалась почти
всеми народностями, прожи-
вавшими на территории При-
морья и Маньчжурии, y ко-
торых ее, видимо, заимство-
вали вначале кидане, a затем
и чжурчжэни.
ранее основной плоскостью бытовых действий и своего рода
«культурным горизонтом» являлся пол, то мебель пред-
ставляла собой подобие утвари, которая, повторим, кла-
дется или ставится во время ее использования на пол, a
затем убирается. Теперь же все предметы мебели, во главе
со столами, во-иервых, увеличились в размерах, в резуль-
тате намного приподнявшись над уровнем пола. И, во-вто-
рых, за ними стало закрепляться определенное постоянное
место, что способствовало их превращению в определяю-
щие структурные элементы интерьера.
Северосунская эпоха ознаменовалась еще одним суще-
ственным для китайского жилища нововведением, которое,
правда, не было непосредственно связано с указанными из-
менениями в мебельных формах и интерьере, — изобрете-
нием кана — отапливаемой лежанки, ставшей со временем
необходимой принадлежностью северокитайского жилища479.
В юаньскую, минскую и цинскую эпохи развитие мебе-
ли шло в сторону расширения набора ее видов, усложне-
ния форм предметов и их декора, a также возрастания
насыщенности пространства интерьера не только собствен-
но мебелью, но и всевозможными другими предметами де-
коративно-утилитарного и сугубо декоративного предназ-
начения. С художественно-эстетической точки зрения, сво-
его наивысшего расцвета мебельное дело достигло при Мин,
когда все мебельные формы оказались отмеченными двумя
главными приметами — целесообразностью и внешней при-
влекательностью. При Цин мебель, подобно всем другим
типам произведений изобразительного и декоративно-при-
кладного искусства, вошла в стадию предельной конструк-
тивной усложненности и орнаментальной насыщенности.
Итак, мы видим, что история развития китайского ме-
бельного дела тоже находилась в русле общей эволюции
национального искусства и проходила под определяющим
воздействием всего комплекса историко-культурных, вклю-
чая естественно-экологические (влияние климатических
условий), факторов.
ФОРМЫ И ВИДЫ
ТРАДИЦИОННОЙ
МЕБЕЛИ
Традиционная китайская мебель отличается обилием и
разнообразием форм, для многих из которых не существует
адекватных или приближающихся к ним европейских и
русскоязычных терминов. При этом отчетливо прослежива-
ется ряд опорных, генетических форм, имеющих длитель-
ную и непрерывную эволюционную линию и сохранивших-
ся вплоть до начала XX в. В специальной литературе пред-
лагается несколько вариантов типологии китайской мебели,
исходя из ее конструктивных особенностей, материала и
характера использования. В одном из них все мебельные
формы подразделяются на два базовых конструктивных типа:
состоящие из «сундука-ларя» и обнаженного каркаса. Этот
вариант во многом опирается на конструктивные совпаде-
ния мебели с архитектурными строениями. Действительно,
в мебельных формах, основанных на каркасе, налицо архи-
тектурное начало. Их элементы, подобно элементам строе-
904
нии, подразделяются на нееомые, несущие и ограждающие.
Например, ножки столов, стульев и кресел оказываются
подобными колоннам. К тому же они обычно расходятся
под неболыыим углом, концы поперечных перекладин верх-
ней части выступают наружу и поддерживают детали, напо-
минающие консоли. Края верхней планки спинки кресел и
стульев часто имеют характерный загиб кверху, напомина-
ющий вынос крыши. Архитектоническое родство мебели и
строений проявляется также в широком использовании в
них решеток, которые ограждают края кроватей и лежанок,
помещаются между ножками столов и кресел. Однако более
оправданной представляется типология, построенная исхо-
дя из характера использования предметов мебели, согласно
которой они распадаются на четыре главных вида: предме-
ты для возлежания, для сидения, для хранения вещей и
столы. Отдельно выделяется также серия вспомогательных
предметов (вешалки, полки, подставки).
Первый из перечисленных видов включает в себя кро-
ва.тъ-чуан и кушетку-/тш, которые произошли от древнего
сидения-чуан. Его трансформация в лежанку произошла
еще в позднечжоуский период. Древнейшим образцом та-
кой лежанки кровати полагается чуан, обнаруженная в
одном из погребений провинции Хэнань и относящаяся к
V—III вв. до н. э. Она представляет собой конструкцию из
деревянной рамы и четырех коротких резных ножек. Рама
дополнена невысокими перилами, которые препятствовали
соскальзыванию постели вниз. Дальнейший процесс форми-
рования кровати-чг/а« происходил так: в ханьскую эпоху к
остову добавились ограждения по задней продольной сторо-
не и боковым сторонам. В эпоху Шести династий огражде-
ния выросли по вертикали и стали заходить и на четвертую
сторону (доказательство — изображение кровати на свитке
Гу Кайчжи). К ним добавились высокие вертикальные опо-
ры, несущие легкое реечное ограждение, на которые натяги-
валась ткань. Пролеты между опорами тоже драпировались
тканью и занавешивались пологом. В таком своем конст-
руктивном виде кровать-чуан осталась в последующих исто-
рических эпохах, когда видоизменялись лишь отдельные ее
детали. Так, вместо боковых драпировок могли использо-
ваться сплошные или частичные решетчатые ограждения.
Общая высота чуан достигала 2,5 м, высота непосредствен-
но лежанки колебалась в пределах 45-55 см, длияа и шири-
на составляли соответственно 2 и 1 м. Для облегчения подъе-
ма на нее возле кровати, с долевой ее стороны, ставилась
специальная подставка, на которой также оставляли обувь.
Ta — лежанка, каркас которой покоится на свободно
расставленных опорах, завершающихся основанием, внешне
напоминающим лошадиное копыто, a потому и получившее
терминологическое обозначение «копыто лошади» (мати).
От кушетки в европейском значении этого термина, она от-
личается отсутствием мягкой обивки. Ее сиденье обычно было
сплошным деревянным или плетеным, причем для него, как
правило, подбирался материал, отличающийся ио цвету от
цвета древесины, из которой сделан каркас.
Кровать
Прикроватная подставка
905
Простейший вариант
изголовья в комплекте
с подставкой для ног
Между кроватью-чі/ан и кушеткой-/па существует до-
вольно обширная группа промежуточных форм, y которых
имеются спинка и боковые ограждения. От чуан они отли-
чаются отсутствием верха. Такие лежанки внешне напоми-
нают европейские диваны, но без обивки и более глубокие.
Весьма примечательный образец ma являет собой камен-
ная модель кушетки, найденная (конец 90-х гг. прошлого
века) в погребении в окрестностях Сианя, датируемая вто-
рой половиной VI в. Выполненная в натуральную величи-
ну (длина 228 см, ширина 103 см, высота 114 см) и снаб-
женная высокой спинкой, она состоит из 11 каменных
блоков, на которых вырезаны в общей сложности 12 сю-
жетных сцен — пиров, охоты, увеселительных представле-
ний и т. д. Подобное художественное оформление, видимо,
имела в то время и обычная мебель.
Насущной и неотъемлемой принадлежностью обеих ме-
бельных форм для лежания являются изголовья, заменяв-
шие китайцам подушку. В наиболее простом их варианте
это была деревянная конструкция, состоящая из изогнутой
дуги, дополненной посередине ножкой и очень похожая по
устройству и внешнему виду на подлокотник-пинцзы. Зна-
чительно чаще изголовья исполнялись в виде округлых или
сложнофигурных предметов, a в их архитектоническую ком-
позицию могли включаться пластические композиции, по-
рой выполненные на достаточно высоком художественном
уровне. Специальная подставка существовала и для ног: в
виде невысокой скамеечки.
Предметы для сидения представлены креслами и сту-
льями, которые в оригинальной терминологии определя-
ются посредством общего слова — и; скамейками и табуре-
а — базовый вариант (без ограж-
дений); б — эпоха Мин; в — ка-
менная модель из погребения.
906
тами, также обозначаемыми одним и тем же термином —
дэн; табуретами-сюдг/ttb. Несмотря на такую терминологи-
ческую однородность, каждый из этих видов мебели распа-
дается на серию самостоятельных подвидов, располагаю-
щих собственными формами.
Среди кресел и стульев выделяется 8 таких подвидов,
самыми древними из которых являются «складное кресло»
(цзяои), восходящее к «варварскому сидению» и снабжен-
ное перекрещивающимися (наподобие буквы «X») опорами,
спинкой и подлокотниками; и кресло-чуаншии, ведущее свое
происхождение как это понятно из его терминологического
обозначения, от платформы-чі/а«. Чуаншии никогда не были
парными и считались наиболее почетными сидениями. Одна
из их разновидностей, использовалась в качестве император-
ского трона, называемого «драгоценным сидением» (баоцзо).
Для всех разновидностей кресел характерны большие
размеры и наличие подлокотников, a различия между ними
заключаются в формах спинок и завершении ножек. От-
дельно выделяются: «кресло великого учителя» (тайши-и),
«кресло [со спинкой] в форме шапки чиновника» (гуань-
маоши-и), «кресло в форме цветка розы» (мэйгуйши-и) и
«кресло с овальной спинкой» (цзюанъи). «Кресло великого
учителя» имеет прямоугольное сидение на четырех нож-
ках и спинку, составленную из нескольких (чаще всего
трех) сегментов, центральный из которых намного высту-
пает над боковыми и иногда оказывается загнутым назад.
Еще одна отличительная его деталь — уступчатая форма
подлокотников. Вторая из перечисленных разновидностей
кресел по своим конструктивным особенностям в целом
совпадает с «креслом великого учителя». Но центральный
выступ на его спинке отсутствует, a сиденье может быть не
только прямоугольной, но и шестиугольной формы. В этом
случае количество ножек тоже увеличивается до 6, a спин-
ка приобретает слегка вогнутую форму. «Кресло в виде
цветка розы» снабжено спинкой, составленной из рамы и
центральной доски (боковые проемы остаются незаполнен-
ными). Сиденье и подлокотники обычно имеют строго пря-
моугольную форму. «Кресло с овальной спинкой» в соот-
ветствии с его терминологическим названием снабжено ок-
руглой формы (обычно из трех сегментов) спинкой, которая
плавно переходит в подлокотники.
У всех разновидностей кресел сиденья могут быть дере-
вянными, плетеными (из тростника, кожи, веревок) или
выполненными из тонких каменных плит. В их спинки, что
было наиболее типичным для цинской мебели, монтирова-
лись фарфоровые пластины или эмалевые (в технике пере-
городчатой эмали) панно, воспроизводящие развернутые
Способ использования
изголовья и подставки
для ног
Фарфоровое изголовъе в виде
скулъптурной композиции.
Северная Сун
Складное кресло
a — Северная Сун (с погребаль-
ного рельефа); б — эпоха Мин;
в — эпоха Цин.
907
Кресла
a — «кресло великого учителя»
(первая половина Цин); б — «крес-
ло со спинкой в форме шапки чи-
новника» (эпоха Мин); в — «крес-
ло со спинкой в форме цветка
розы» (эпоха Цин); г — кресло с
овальной спинкой (эпоха Мин).
Вариант позы сидения
в китайском кресле,
с ножной подставкой.
С северосунской картины
Стулья
a — стул дэнгуаши-и (Северная
Сун); б — складной стул.
Скамья
пейзажные или сюжетные сцены. Так как китайские кресла
отличаются высотой (на несколько сантиметров выше евро-
пейских), то в их конструкцию вводилась передняя перекла-
дина, слегка выступающая вперед и служившая подставкой
для ног. Для парадных кресел, обладающих наиболыыими
размерами, предусматривалась отдельная подставка высо-
той 10-13 см. Вне парадного интерьера кресла обычно ис-
пользовались для интеллектуально-творческих занятий и для
отдыха, скажем, для любования видом, открывающимся из
окна. Они давали возможность сидящему избрать макси-
мально удобную для него позу, a высокая спинка надежно
отгораживала его от «внешнего мира».
Собственно стулья (т. е. кресла без подлокотников) под-
разделяются на две главные разновидности: «стул [со спин-
кой] в форме подвешенной лампы» (дэнгуаши-и) и «стул
[со спинкой] слитной формы» {итунши-и). Разница между
ними заключается лишь в том, что y второго верхняя план-
ка спинки заканчивается сразу же за стойками стула. Все
остальные их конструктивные особенности и детали в це-
лом совпадают: квадратное сиденье, прямая или слегка
изогнутая (по спине сидящего) спинка, которая обычно
образована круглыми в сечении стойками и центральной
узкой доской, и четыре ножки, соединенные внизу планка-
ми. Кроме того, исполнялись и складные стулья (чжэдеи),
но они использовались, как правило, вне интерьера — во
время прогулок и путешествий.
Все китайские скамейки-дэн типологически совпадают с
европейскими скамьями. Они состоят из верхней части, ли-
шенной каких-либо ограждений, и четырех ножек, a разли-
чаются исключительно по размерам. Табуретки-оэн имеют
две основные разновидности — с квадратным и круглым
сиденьем. Табуретки с квадратным сиденьем (фандэн) обыч-
но имели в высоту 47-52 cm, a их ножки соединялись ввер-
ху, внизу или посередине перекладинами, которые могли
располагаться вдоль краев или крест-накрест, соединяя про-
тивоположные ножки. Сиденья делались из дерева, плете-
ния и реже из каменных плит. Табурет с круглым сиденьем
(юанъдэн) преимущественно использовался в качестве парад-
ной и гостевой мебели. Такие табуреты чаще всего изготав-
ливались из дорогих пород древесины и отделывались, что
тоже характерно для цинского мебельного дела, вставками
из каменных и эмалевых пластин. Их сиденья могли иметь
форму не только круга, но и цветка айвы или плода перси-
908
ка. Они использовались в комплекте из четырех или более
штук и обычно составляли гарнитур с квадратным столом-
фанчжОу по сторонам которого и расставлялись.
Табурет-сюдунъ — предмет бочкообразной формы, мо-
гущий целиком исполняться как из дерева, так и из кам-
ня, фарфора или плетения. Они использовались в интерье-
ре и в качестве садовой мебели.
Столы, достигшие своего наивысшего конструктивно-
го и внешнего разнообразия при Мин и Цин, подразделя-
ются, исходя из конфигурации, на три основных типа:
цзи> чжо и ань. К первому относятся неболыиие столики,
которые можно ставить на другие предметы — кровать,
кушетку или кан. Самыми распространенными из них
являются «столики для канаъ (канцзи), применение ко-
торых было чрезвычайно разнообразным — от письма до
приема пищи или просто использования в качестве опоры
(для локтя) при возлежании. В случае его ненадобности,
такой столик (ввиду его миниатюрности) могли не уби-
рать с канау a просто отодвинуть к стенке, положив на
ребро.
Напольные столы-цзи включают в себя три главных
разновидности — тпяоцзи и фанцзиу высота которых не
превышала 80 см, и «ласточкин стол» (яньцзи). Первый —
предмет, состоящий из четырех прямых ножек, сразу же
переходящих в края прямоугольной крышки. Фанцзи —
столик с крышкой квадратной формы, ножки которого,
как правило, соединены внизу перекладинами. Они упот-
реблялись в основном для чаепития, a также служили под-
ставками для ваз и курильниц. «Ласточкин стол» — осо-
бый раздвижной и разборный стол, изобретение которого
приписывается одному из художников и коллекционеров
юаньской эпохи. Он состоял из шести отдельных частей,
позволяющих собирать столы различных размеров и кон-
фигураций: квадратные, прямоугольные, Ѵ-образные. Янь-
цзи использовались в качестве обеденного (но для неболь-
шого числа человек), игрального стола или подставки для
карликовых деревьев и цветочных ваз.
Чжо — столы крупных размеров и преимущественно
квадратной формы, которые использовались в качестве
парадной и обеденной мебели. Для них отдельно выделя-
ются: собственно обеденный стол (фанчжо), за которым
могло разместиться до 8 персон; тпяочжо — стол с крыш-
кой прямоугольной формы, ножки которого в отличие от
фанчжо могут крепиться немного отступив от краев крыш-
ки стола; полукруглый стол с четырьмя ножками, распо-
ложенными по периметру полукруга (юэячжо), который
приставлялся прямой стороной к стене и очень напомина-
ет европейский консольный столик; a также серия столов
строго определенного предназначения. К ним относятся
снабженные ящиками туалетные столики, которые были
изобретены уже в цинскую эпоху, и стол для игры на
цине (цинчжо), имеющий вытянутую прямоугольную фор-
му, отвечающую конфигурации этого музыкального инст-
румента.
Стпул итунши-и. Цин
Табуреты
a — квадратный;
в — сюдунь.
б — круглый;
Столыцзи
a — квадратный; б — «ласточкин
909
Столы-чжо
a — обеденный стол (фанчжо) (из
северосунского погребения); б —
с полукруглой крышкой; в — туа-
летный столик.
Стол&къ для занятий
каллиграфией и живописью
'ИП
IJ
и
Шкафы
a — книжный; б — книжный, с
отделением для храц^ния семей-
ной казны.
Комод. Конструктивный
вариант
Анъ — столы обязательно прямоугольной формы на че-
тырех ножках, которые предназначались для интеллекту-
ально-творческих занятий. Отдельно выделяются, во-пер-
вых, «столы для книг» (шуанъанъ) — для кабинетов и биб-
лиотек, отличающиеся особыми размерами столешницы: ее
длина в 2-3 раза превосходит ширину. Ножки значительно
отступают от торцовых краев крышки и располагаются по-
чти вровень с ее лицевыми краями. Во-вторых, стол для
живописи и каллиграфии («стол с приподнятыми краями»,
цяотоуань), торцовые края крышки которого заканчивают-
ся волнообразным изгибом. Учитывая, что надписи и карти-
ны исполнялись стоя, такой стол делался высотой 90 см.
Горизонтальный свиток раскладывался вдоль его длины,
вертикальный — свешивался поперек. В-третьих, стол с пол-
ками (цзяцзианъ), стандартно имеющий ровную узкую (до
40 см) и длинную (от 1,5 до 2 м) крышку, положенную на
две тумбочки с выдвижными ящиками и полками.
Предметы для хранения вещей состоят из двух основ-
ных видов — шкафа-гг/й и комода-чг/. Эти формы сложи-
лись, скорее всего, в результате того, что y исходно прямо-
угольного сундука появилась нижняя подставка, предо-
храняющая его от сырости. Судя по дошедшим до нас
изображениям древних шкафов, все их конструктивные
особенности сложились еще в I—III вв. и в дальнейшем
претерпели лишь незначительные изменения. Мебель мин-
ской и цинской эпох представляет два типа шкафов: пла-
тяные («шкаф для одежды», игуй) и книжные («шкаф для
книг», шугуй). Платяные шкафы могли быть одинарными
и сдвоенными. Книжные шкафы внешне похожи на пла-
тельные. Они тоже снабжены дверцами, но за ними шли
ряды полок для книг и ящиков для письменных принад-
лежностей. В библиотеках и кабинетах обычно ставилось
несколько шкафов, которые изготавливались в комплекте
и расставлялись вдоль стен вплотную друг к другу. Отдель-
но выделяется книжный шкаф («шкаф для денежных слит-
ков и книг», диншугуй), к которому сверху добавлено еще
одно звено с двумя дверцами. В нем хранилась семейная
казна, доступ к которой затруднялся высотой шкафа (бо-
лее 2 м) и тяжелыми навесными замками.
Комод-чг/ утвердился в качестве самостоятельной ме-
бельной формы при Мин, a его конструктивным прототи-
пом является сундук на ножках с открывающейся сверху
крышкой. Чу имели выдвижные ящики, a также (в опре-
деленных разновидностях) отделения с полками и дверца-
ми. Еще одна специфическая разновидность комодов —
910
«комод для хранения лекарств» (яочу), представляющий
собой небольшого размера (около 0,5 м в высоту) шкаф-
чик, за двумя лицевыми створками которого находится
множество ящиков различных габаритов. Яочу стояли на
столах и легко переносились с одного места на другое, для
чего в их торцы вставлялись ручки.
К вспомогательным мебельным формам относятся пол-
ки, подставки, ширмы и экраны.
Китайские полки отличались огромным разнообразием
и могли образовывать в пределах прямоугольного каркаса
различные ритмические и пространственные вариации. Как
правило, они компоновались в стеллажи, где располага-
лись либо горизонтальными ярусами, либо в ячеечном по-
рядке в соответствии с размерами и очертаниями тех пред-
метов, для расстановки которых они предназначались. На
таких стеллажах размещались статуэтки, вазы, карлико-
вые растения, пейзажные миниатюры и другие изделия
декоративного характера, что превращало сами полки в
подобие орнаментального панно.
Подставки, исходя из их предназначения, разделяются
на собственно подставку (цзя), на которую ставились раз-
личные предметы, «подставку для умывания» (пэнъцзя),
«подставку для одежды» (ицзя) и «подставку для свечи»
(чжутай), каждая из которых обладает собственным кон-
структивным воплощением. Цзя в целом повторяет собой
столик-факцзы, но может иметь крышку самых разных
форм — квадратную, круглую, в форме цветка сливы, лис-
та лотоса, банана и т. д. и снабжаться различкым числом
ножек. «Подставка для умывания» служила для поддер-
жания таза для умывания и других туалетных принадлеж-
ностей. Она состоит из высокой П-образной рамы и четы-
рех вертикальных планок, соединенных по диагонали рей-
ками так, чтобы на место их пересечения можно было
поставить таз с водой. Так как концы планок немного
выступали над уровнем реек, то таз с них не соскальзывал.
П-образная рама (высотой до 170-180 см) служила вешал-
кой для полотенец и обычно богато украшалась резьбой.
Для дворцовой утвари вместо такой подставки использо-
вался специальный столик со стоящим на нем тазом, сде-
ланный из дорогих материалов.
«Подставки для одежды» представляют собой, собствен-
но говоря, платяные вешалки, которые исполнялись в виде
тоже П-образной конструкции, состоящей из двух боковых
стоек и трех поперечных перекладин, центральная из ко-
торых имела прорезные вставки.
«Подставки для свечей», будучи обязательной принад-
лежностью китайского интерьера, являют собой, несмотря
на вариативность их орнаментально-архитектонического ис-
полнения, однотипную конструкцию, образованную верти-
кальным стержнем, на который и ставились подсвечники,
и обеспечивающей его устойчивость крестообразной под-
порки. Примечательно, что в отличие от древнего декора-
тивно-прикладного искусства, в котором, как мы помним,
практиковалось введение в художественное оформление
ІІі-^^Зг
ш
» ~га
п н
»g^^
In
Шкафчик для храпепия
лекарств ("яочу^
Сложнофигурная
полка
kg&&
Использование
сложнофигурной полки
в интерьере. С цинской
книжной гравюры
911
Подставка для умывания
a — стандартный вариант; б —
вариант дворцовой мебели (Цин).
Вешалка для одежды
Подставка для свечей
осветительных приборов пластических изображений и ком-
позиций, данная форма традиционной мебели никогда не
включала в себя подобные декоративные элементы.
Экран и ширма также обозначаются в китайском язы-
ке посредством общего термина — пинфэн, «заслона от
ветра». Интерьерные экраны мало чем отличаются от экра-
нов, ставившихся перед входом в усадьбу: они представля-
ют собой цельные предметы прямоугольной формы, выпол-
ненные из дерева или камня. Ширмы, напротив, выделяют-
ся на фоне всех других мебельных форм как по особенностям
конструкции, так и по функциям. Они являются, на самом
деле, легкой передвижной стеной, которая может к тому
же заламываться под разными углами, что позволяет ис-
кусственно дифференцировать все пространство интерьера.
Ширмы вошли в обиход китайцев по меньшей мере при
Хань, a древнейшим известным на сегодня их образцом
считается ширма из погребения Мавандуй в виде прямо-
угольной доски (75 х 58 см). При Северной Сун установи-
лась практика художественного оформления ширм посред-
ством росписей, подражающих современной им живописи.
Живописные композиции могли наноситься как на весь
разворот ширмы, превращая ее в подобие художественного
свитка, так и на каждую отдельную створку. Ширмы были
обязательной принадлежностью не только интерьера, но и
тронного зала. В чжоуских текстах сообщается, что еще в
древние эпохи перед местом, где восседал государь, ставил-
ся особый экран (фуи). Обычай заслонять трон ширмой
сохранялся вплоть до Цин.
Интерьерные ширмы минской и цинской эпох варьиру-
ются от маленьких настольных экранов до напольных, круп-
ногабаритных конструкций (вспомним «коромандельские
ширмы»). Чаще всего они исполнялись из деревянного кар-
каса и ткани, которая по-прежнему расписывалась или
расшивалась. Специфическую разновидность пинфэн обра-
зуют приспособления для защиты от солнечных лучей или
яркого света лампы (индэн): вертикально закрепленный
шест, к верхней части которого прикреплялся маленький
экран. Такие приспособления появились, самое позднее,
при Северной Сун, и могли прикрепляться к стульям и
креслам, о чем свидетельствует соответствующая керами-
ческая модель из сычуаньского погребения.
Главное место среди материалов традиционного китай-
ского мебельного дела занимает дерево, которое в традици-
онной классификации распределяется по четырем основ-
ным группам древесины. Это, во-первых, древесина-цзы-
тань, которая чаще всего отождествляется исследователями
с палисандром (красное сандаловое дерево). Палисандро-
вые деревья произрастают в тропических лесах Индии и на
Зондских островах, a их древесина отличается плотной,
испещренной красивыми прожилками фактурой и красно-
ватым цветом. Co временем она может приобретать корич-
нево-лиловый или темно-фиолетовый оттенок. Несмотря
на то, что палисандровое дерево было привозяым и, следо-
вательно, дорогим материалом, оно чрезвычайно активно
912
использовалось в китайском мебельном деле. Самым же
ранним сделанным из него предметом мебели является тан-
ское кресло из коллекции Сёсоин.
Следующим по популярности материалом является дре-
весикві-хуали, которая не поддается однозначным ботани-
ческим определениям. Считается, что при Сун как хуали
обозначался надук (Pterocarpus indicus) — порода, расту-
щая в Южном Китае и в Юго-Восточной Азии. Впослед-
ствии данный термин стал прилагаться ко всем местным и
импортным сортам древесины, обладающим желтым цве-
том. Дошедшие до нас предметы мебели из хуали распо-
знаются по янтарному цвету древесины и по специфиче-
скому строению волокон, образующих «глазки», «узлы»,
глубокие полосы и целые линейные узорные композиции,
которые могут напоминать вереницу облаков, волны и тому
подобные природные формы. В более поздней (приблизи-
тельно с начала XVIII в.) мебели хуали оказывается тяже-
лой древесиной темного красновато-коричневого или розо-
вато-коричневого цвета, с плотной структурой и тоже кра-
сивой фактурой, естественные узоры которой дополнены
неболыпими трещинками, возникшими при просушке де-
рева на воздухе.
Третья группа древесных материалов — хунму — тоже
идентифицируется с несколькими древесными породами: с
надуком; с красным сандаловым деревом (Adenanthera
раѵопіа), растущим в тропических лесах Бенгалии, Бирмы
и имеющим темно-красную, с эффектной зернистостью,
древесину; с индийским розовым деревом (Dalbergia latifolia),
тоже дающим древесину красного или пурпурно-коричне-
вого цвета, но с черными полосами. Общей особенностью
хунму выступает красный цвет с коричневым оттенком и
наличие фактурных полос.
Четвертая группа — цзичиму — объединяет в себе дре-
весину серовато-коричневого цвета, со временем приобре-
тающую глубокий кофейный тон. В ботанических ее отож-
дествлениях это были предположительно несколько раз-
ных древесных сортов во главе с кассией сиамской (Cassia
siamea Lam) и южно-китайской породой, известной под
местным названием дерево-хунтоуму.
Кроме перечисленных пород в китайском мебельном
деле использовалось более 20 других местных сортов древе-
сины, включая китайскую разновидность кедра (со светло-
коричневой древесиной), каштан, дуб, грушу, кипарис, вяз,
камфарное дерево и японскую березу (при Цин). В декоре
использовалось также черное дерево.
Отдельную группу мебели составляют предметы, выпол-
ненные из бамбука и бамбукового плетения. Популярность
такой мебели при Цин достигла столь высокого уровня, что
фактура стволов и колец бамбука стала имитироваться в
дорогих породах дерева, приведя к возникновению в мест-
ной мебели «бамбукового стиля» (в европейском его обозна-
чении). Самую же специфическую группу материалов со-
ставляют так называемые «корни деревьев» (шугэн) и «на-
плывы» (цзюму), получавшиеся в результате искусственного
58 История иск7сства Китая
іь—A
Интерьерный
напольныіі экран
a — стандартный вариант; б —
изображение на погребальном ре-
льефе начала XIII в.
Экран для защиты
опг яркого света
щ
ІМІ
1
ш
Керамическая модель стула
с экраном для защиты
от света
913
Т аб ypem-сюдуяь,
выполненный в технике
плетения
Подстаѳка из наплывов.
С цинскоіі
книжной гравюры
культивирования особых разновидностей местного кустар-
ника. Из них исполнялись целые предметы (кресла, сту-
лья) и отдельные части (ножки столов), которые произво-
дили впечатление из образованных самой природой спле-
тенных ветвей.
И наконец, в китайском мебельном деле исключитель-
но широко использовалась техника плетения, в которой
изготавливались не только сиденья кресел, стульев, лежа-
нок, но и полные предметы — табуреты и даже кровати.
В качестве материалов применялись главным образом не-
сколько видов камыша и тростника, лыко бамбука, a так-
же солома хлебных злаков и растительные волокна: коноп-
ли, джута, хлопчатника, кокосового ореха.
Все предметы мебели подлежали и художественному
оформлению. Для минской и цинской эпох в мебельных
декоративных способах установилось абсолютное преобла-
дание лакового покрытия, которое могло исполняться в
подавляющем большинстве уже знакомых нам техник. Од-
нако изготовление крупногабаритных предметов требовало
некоторых специфических технологических процедур и при-
емов. Дерево тщательно полировалось, швы заполнялись
тонкой паклей. Затем на всю поверхность накладывалась
очень тонкая бумага или шелковая материя, на которые
наносились несколько слоев грунта из смеси наждачного
порошка, красного песчаника, киновари (или гуммигута)
и коровьей желчи. Каждый слой после высыхания полиро-
вался песчаником, пемзой и порошком древесного угля.
Процесс позолоты лакового покрытия в мебельном деле
тоже осуществлялся несколько иначе, чем в собственно
лаковом производстве. На толстую бумагу наносился рису-
нок, который затем прокалывался и посыпался мелом. Да-
лее по меловому контуру резцом или иглой дублировался
рисунок уже по самой лаковой поверхности. Углубления
от иглы или прорезанные линии заполнялись лаковой мас-
сой, смешанной с киноварью. И только после этого рису-
нок покрывался золотой фольгой. Отдельную разновидность
лаковой мебели составляют цзянъцяньлинские изделия, вы-
пускавшиеся в мастерских провинций Гуандун, Аньхуэй,
Цзянси и Цзянсу. Они характеризуются наличием богатой
золотой росписи по черному фону и инкрустацией из ра-
дужного перламутра и серебряных пластин. Кроме того,
для отделки мебели применялись ювелирные материалы —
слоновая кость, перламутр, нефрит, коралл и т. д. и, как
говорилось выше, панно, выполненные в технике перего-
родчатой эмали.
He исключено, что в отдельные периоды в локальных
мебельных центрах изготавливалась металлическая мебель.
На это указывает комплект из стола, стульев и подставки,
отлитый из олова, который был обнаружен в погребении
на территории провинции Фуцзянь и датируется XVI в.
Однако в целом из металла исполнялись только отдельные
детали — петли, на которых крепились дверцы, ручки
ящиков, замки. Использовались медь и особый сплав, со-
стоящий из меди, никеля и цинка.
914
Китайская мебель, как отмечалось выше, не имеет мяг-
ких частей, обитых тканью и заполненных волосом или
ватой. Тем не менее такие мягкие части все же использова-
лись, во-первых, в виде подушек, которые подкладывались
под голову, за спину и на сиденья. Во-вторых, широко
применялись накидки, покрывавшие кресла и стулья и
крепившиеся к ним с помощью завязок, и скатерти, неред-
ко дополненные оборками.
Итак, одной из главных типологических особенностей
китайской мебели является устойчивость ее форм, кото-
рые начали складываться еще в древности. Впоследствии
это привело к одновременному сосуществованию в инте-
рьере архаических и более новых форм: этим искусство
китайского интерьера принципиально отличается от евро-
пейского, которому всегда была свойственна смена худо-
жественных стилей и направлений. Сама по себе возмож-
ность подобного сосуществования была обусловлена в пер-
вую очередь тем, что и меблировка, и все семиотические
принципы интерьера в очередной раз подчинялись уста-
новкам, проистекающим из тех же космологических пред-
ставлений.
Ключевым для построения китайского интерьера явля-
ется его осмысление исходя из вертикали «Небо-Человек-
Земля» и в качестве вместилища самого человека. Соответ-
ственно потолок оказывается олицетворением неба, a пол —
земли. Влияние пятичленной космологической модели пре-
допределило структурную неоднородность интерьерного
пространства: выделение его центральной части, главен-
ство восточной части над западной и южной — над север-
ной. Пространственная ориентация сохраняется и для каж-
дого отдельного входящего в него предмета.
Главным свойством интерьера, подобно пейзажному
саду, выступает его пространственный метаморфизм. С од-
ной стороны, ему свойственно стремление к означенности
границ, a с другой — тенденция к их преодолению. Пере-
городки, посредством которых членится интерьерное про-
странство, обязательно имели проем с занавесками, кото-
рые обычно перехватывались и подтягивались к косяку,
оставляя широкий проход в другое помещение. Сплошной
горизонтальный потолок ввиду каркасно-балочной систе-
мы в китайском помещении отсутствовал. Балки, обра-
зующие потолочный свод, предпотолочные конструкции,
внутренние доугуны и колонны покрывались резьбой или
расписывались, что оптически размывает верхние грани-
цы интерьера. Такому эффекту способствовали также сви-
сающие с потолка или вдоль стен фонари. Нередко дости-
гающие весьма внушительных размеров (особенно в двор-
цовых интерьерах) и богато орнаментированные, они
зрительно приподнимали потолочную поверхность, обес-
печивали, подобно колоннам, единство интерьерного про-
странства по вертикали и служили важным интерьерным
украшением.
СЕМИОТИЧЕСКИЕ
ПРИНЦИПЫ
И СПОСОБЫ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОФОРМЛЕНИЯ
ИНТЕРЬЕРА
915
Стены уже в древности, как мы помним, украшались
стенописями с развернутыми панорамными сценами, кото-
рые уступили место вначале драпировкам, расшитым жем-
чугом (во дворцах и домах знати), каменьями и перьями
зимородка, a затем обоям. Когда именно в Китае установи-
лась практика использования в интерьере обоев, точно не
известно. Но к цинской эпохе они уже повсеместно упот-
реблялись с применением специальной технологии их из-
готовления и принципов использования. Ткань пропиты-
валась веществом типа крахмала и потом протягивалась
между горячими валиками для дополнительного упроче-
ния и уплотнения нитей. Обои могли быть ткаными и рас-
писными. Для их росписей тоже применялись особые крас-
ки: исключительно на минеральной основе и с добавлени-
ем клеящих веществ растительного происхождения. Обои
наносились как на всю стену, так и на ее часть, приблизи-
тельно в три четверти ее поверхности. Кроме обоев, приме-
нялись и тканые панно, выполненные в технике кэсыу быв-
шие своеобразным аналогом настенного ковра.
Понятно, что драпировки, обои и тканые панно, как и
стенописи, раздвигали границы интерьера и превращали
стену в своего рода окно в «другой мир». Такую же функ-
цию выполняли и настенные свитки, развеска которых в
помещении подчинялась ряду новых, уже сугубо инте-
рьерных правил. Композиция развески в пределах одной
стены обязательно должна была иметь центр и симмет-
ричные по отношению к ней части. Каждому свитку отво-
дилось пропорциональное его эстетическим свойствам сво-
бодное поле восприятия (один свиток не должен был зри-
тельно налагаться на другой). Свитки дополнялись разного
рода декоративными предметами — вазами, растительны-
ми композициями, статуэтками, которые служили его свое-
образным художественным обрамлением. Но при этом за-
полнение ими пространства вокруг свитка всегда было
подчинено интересам расположения последнего, благода-
ря чему он и становится одной из доминант убранства
интерьера. A практика посезонного обновления развески
с подбором соответствующих данному времени года по
тематике и колористическим особенностям картин (вес-
ной — изображения пиона и лотоса, летом — пейзажей с
тенистыми рощами и т. д.) приводила к трансформации
интерьера по подобию годового цикла. Кроме того, важ-
ное значение имел подбор картин исходя из времени их
исполнения. Доминантой развески должны были быть
наиболее «древние» произведения — подлинники, копии
творений старых мастеров или картины, выполненные в
их стиле. Все другие свитки подбирались и развешива-
лись так, чтобы их оттенить. «Древние» живописные и
каллиграфические произведения поддерживались други-
ми старинными или стилизованными под архаику пред-
метами — бронзовыми сосудами, копирующими древние
бронзы вазами и курильницами, архаизованными форма-
ми мебели. В результате интерьер утрачивал свою сиюми-
нутную временную принадлежность и становился вопло-
щением всей национальной «философии времени», за-
ключающейся, повторим, в преклонении перед древно-
стью и признании неразрывности связей между прошлым
и настоящим, культурным наследием и современными ху-
дожественными ценностями. С объективной точки зре-
ния, подобные установки служили еще одним фактором,
способствовавшим устойчивости художественных форм и
их органической интеграции в новую историческую и сти-
листическую реальность.
Важное значение в семиотике и художественном оформ-
лении интерьера придавалось также окнам и дверям. Окно
тоже могло трансформироваться в подобие стенной поверх-
ности — когда оно затягивалось бумагой или было занаве-
шено драпировками, и живописного произведения. Терри-
тория, непосредственно примыкавшая к жилому помеще-
нию, всегда обустраивалась так, чтобы из выходящих на
нее окон открывался вид, сходный с живописной компози-
цией. Более того, экстерьерным фрагментам нередко при-
давался характер замкнутого пространства, что создавало
иллюзию смотрения через окно не вовне, a внутрь. Иллю-
стративным примером выступает эпизод из биографии од-
ного из знаменитых знатоков и теоретиков сада. Он создал
перед окном своего кабинета садовую композицию, переда-
вавшую красоту природного ландшафта во всех ее сезон-
ных вариантах, разместил в ней скульптурное изображе-
ние себя самого в виде рыбака с удочкой, a к окну, с
внутренней его стороны, приделал обрамление, воспроиз-
водящее обрамление свитка.
Окно, затянутое бумагой, исполняло как практические,
так и эстетические функции. Сама бумага не только смяг-
чала струящиеся через окно потоки солнечного света, но и,
пропуская через себя солнечные лучи, окрашивала их и
выявляла их цвет как существенное свойство света. Более
того, она становилась поверхностью для новых художе-
ственных произведений — вырезок из бумаги, что наибо-
лее часто использовалось в дни календарных праздников и
семейных торжеств, включая свадебные. И наконец, само-
стоятельную эстетическую роль играли конфигурация окон
и оконные решетки. Поскольку решетка является сквоз-
ной структурой, то пространство под воздействием реек
зрительно то сжимается, то расширяется и уже в таких его
значениях преподносится восприятию. Кроме того, свет,
проходящий через решетку, приобретает специфический
узорный характер.
Дверные проемы могли быть разной конфигурации. Так,
при Мин им чаще всего придавалась форма круга. Дела-
лись также двери в форме восьмигранника и в форме
тыквы-горлянки. Конфигурация окон и дверных проемов
сочеталась по принципу либо их подобия, либо, напро-
тив, оппозиции: круглое окно и прямоугольный дверной
проем, символизировавшие гармонию Земли и Неба. Двер-
ные проемы или оставались свободными, сливаясь в этом
случае с поверхностью стены, или занавешивались, или
заполнялись сквозными резными панелями, превращаясь
Вариант эстетического
сочетания оконного
и дверного проемов.
С цинской книжной
гравюры
Пример художественного
оформления входных дверей.
С погребалъного рельефа.
Начало XIII в.
917
Использование садовых
элементов возле жилых
строений. С цинской
книжной гравюры
Использование карликовых
деревьев для оформления
входа в дом. С погребальных
рельефов. Начало XIII в.
Вариант карликового
садика на террасе.
С цинской книжной гравюры
в подобие окна. В любом из перечисленных конструктивно-
оформительских вариантов они должны были за счет ха-
рактера занавеси или узора деревянных панелей сочетать-
ся с окнами, создавая вместе с ними единый эстетический
ансамбль.
«Вторжение» в интерьер пейзажных и садовых элемен-
тов не ограничивалось только картинами и оконными ви-
дами. По мере развития садово-паркового искусства и рос-
та авторитета пейзажного сада интерьер все более насы-
щался такими элементами и прямо уподоблялся пейзажному
саду. Все это привело к предельному совмещению в нем
собственного интерьерного начала и экстерьера, природно-
го и искусственного. Еще при Северной Сун вступила в
силу практика создания крытых террас, выходящих в сад.
С минской эпохи утвердился еще один архитектонический
прием: центральная часть одного из скатов крыши немно-
го укорачивалась, оказавшаяся открытой зона помещения
обносилась стеной и обсаживалась деревьями. «Вхожде-
ние» сада непосредственно в жилые апартаменты начина-
лось с организации карликового садика (из нескольких
растений) или цветочных композиций по бокам от вход-
ных дверей, либо на террасе. Их продолжением служили
единичные карликовые деревья, которые нередко распола-
гались в непосредственной близости от пейзажного свитка,
композиции из таких деревьев или цветочные компози-
ции, a также всевозможные пейзажные миниатюры.
Композиции из карликовых деревьев располагались на
полках и этажерках, нередко образуя целый сад. Карлико-
вые растения, независимо от формата их расстановки, обя-
зательно должны были сочетаться по конфигурации, внеш-
ней фактуре и цвету с горшком и подставкой, образуя еди-
ную пластическую фигуру. Например, сосна с корявым,
изогнутым стволом помещалась в горшок из фарфора с рос-
писью, вторящей кроне сосны, который, в свою очередь,
ставился на подставку, перекликающуюся по силуэтным
линиям с очертаниями древесного ствола. Цветущее и с
осенней листвой растение требовало горшка лаконичной
формы, желательно с матовой сдержанного оттенка поверх-
ностью (типа исинской керамики), и «барочной» подставки,
нередко выполненной из «наплывов», которая бы аккомпа-
нировала своей формой силуэту древесной кроны. Пейзаж-
ные миниатюры, помимо уже знакомых нам настольных
каменных горок, включали в себя трехмерные пластические
композиции, воспроизводящие ландшафтный вид (кит. пэнъ-
цзин, «пейзажный вид в чаше»): гора на берегу водоема, по
глади которого скользят лодки; горный поток, зажатый меж-
ду скал с перекинутым через него мостиком; деревня посе-
редине долины; храм под раскидистыми древними деревья-
ми и т. д. Такие композиции, которые тоже могли вклю-
чать в себя карликовые растения, создавались в емкостях
(наподобие больших блюд) прямоугольной или овальной
формы, снабженных специальными подставками. Они тоже
могли расставляться одинарно или в формате общего ансамб-
ля, часто в сочетании с собственно карликовыми деревьями.
918
Семиотические совпадения между интерьером и пей-
зажным садом заключаются в стремлении к искусственной
дискретности пространства, что осуществляется посредством
ширм и компоновки предметов мебели. Наибольшей дис-
кретности и композиционной плотности интерьер достиг в
цинскую эпоху. Исключение составляют только парадные
дворцовые апартаменты, которым были свойственны в ин-
терьере (точно так же, как и императорскому парку) под-
черкнутая масштабность и экстравертность. Характерный
пример — тронный зал, который членится только рядами
колонн, a из мебельных форм в нем присутствует лишь сам
трон и вспомогательные по отношению к нему элементы
(экран, декоративные предметы).
На интерьер полностью распространяются и морфоло-
гические закономерности иероглифа и живописи. В его
структуре отчетливо выделяются постоянные и перемен-
ные величины, набор которых определяется предназначе-
нием комнаты (спальня, гостиная, парадная комната). К по-
стоянным величинам относятся кан, кровать, кушетка,
крупноформатные столы и кресла, a к переменным — ма-
ленькие столики, стулья, табуреты, подставки. Постоян-
ные элементы образуют узловые группы, по отношению к
которым переменные элементы выступают в качестве до-
полняющих деталей. Узловая группа вновь имеет, как пра-
вило, трехчленное строение и образуется по принципу зер-
кальной симметрии: центральный, стержневой и парные
боковые предметы. Например, стол и два стула, кан с дву-
мя табуретами или подставками по бокам и т. д. В струк-
туру мебельной группы вовлекаются и все остальные деко-
ративно-утилитарные предметы, соотношение которых стро-
ится на принципе интегрирования. С эстетической точки
зрения он реализуется в виде ряда соответствий и подобий
между материалом, формой, символикой предметов и их
цветовыми значениями. Широко также применяется прин-
цип дублирования постоянных величин: стол — свиток,
пара кресел — парные свитки.
В пределах одного интерьера обычно создавалась се-
рия узловых групп (морфологический аналог иероглифи-
ческой надписи), которые могли находиться как в непо-
средственной близости (три свитка на стене и рядом стол
с двумя подставками), так и на значительном расстоянии
друг от друга. В последнем случае связь между ними осу-
ществлялась посредством вспомогательных элементов, рас-
становка которых допускала и асимметрию, и диагональ-
ное построение. Предметы могли располагаться также «бок
о бок» или «лицом к лицу», но обязательно так, чтобы, во-
первых, сохранялась их дифференциация по отношению
друг к другу и, во-вторых, чтобы зритель воспринимал
данную композицию в ее семиотической и эстетической це-
лостности и вместе с тем распознавал и оценивал все вхо-
дящие в нее величины и единицы. Собственно эстетика
интерьера строилась на обыгрывании составляющих его
компонентов и деталей исходя из соотношения их разме-
ров, степени их реальности и характера воспроизводимых
Интеръерное
карликовое дерево
Пример интерьерной сцены
из карликовых деревьев
и пластической композиции.
С цинской книжной гравюры
Вариант использования
цветочных композиций
и карликовых деревьев
в интерьере.
С погребального рельефа.
Начало XIII в.
919
Пример узловой
интеръерной группы.
Стол и пара стулъев.
С цинской книжной
гравюры
в них пространственно-временных координат. Ведь те же
расписные ширмы, настенные картины, карликовые сады,
вазы и курильницы обладают самостоятельной и совер-
шенно иной, чем предметы мебели, иллюзорной простран-
ственной мерой. Следовательно, было необходимо выстро-
ить их в определенный зрительный ряд, который основы-
вается на соотношении масштабов реальных предметов и
явлений и их художественных воплощений. В такой зри-
тельный ряд могли вовлекаться и экстерьерные величи-
ны, пусть даже в умозрительных их образах: натуральная
горная вершина, проходящая где-то за домом, имитирую-
щий ее камень в саду, живописный горный ландшафт,
воспроизведенный на ширме и на настенном свитке, и
пейзажная миниатюра. Зрительный ряд мог также стро-
иться и на метаморфичности предметов: стол или шкаф,
инкрустированные пейзажными композициями, оказыва-
ются подобием картин; изображенная на свитке ваза дуб-
лирует стоящую рядом натуральную вазу, которая, в свою
очередь, украшена росписями на пейзажные темы. В ре-
зультате в интерьерной среде постоянно создается смена
пространственно-временных ощущений, психологически
необходимая для человека.
Наличие стереотипного набора инвариантных семио-
тических моделей отнюдь не приводило к стандартности
интерьера. Напротив, путем варьирования этих моделей
можно было не только добиться создания индивидуально-
го убранства каждого покоя, но и изобретать бесконечные
интерьерные импровизации в соответствии с эстетически-
ми пристрастиями, профессиональными занятиями, твор-
ческими увлечениями и духовными потребностями инди-
вида. Присутствие в интерьере большого числа вспомога-
тельных величин делало возможным даже сиюминутные
изменения его пространства и художественного оформле-
ния. Например, при приеме гостей стол отодвигался в
сторону, что сразу же изменяло данную и все другие узло-
вые группы. Желая оказать гостю особое почтение, хозя-
ин усаживал его в выдвинутое в центральную часть поме-
щения кресло, a сам присаживался сбоку на стул или
табурет — и пространственный фокус интерьера тоже сразу
же трансформировался. Для близких же друзей или рав-
ных по положению людей было принято садиться на рас-
ставленные в одну линию стулья, что вновь приводило к
изменению узловой группы и созданию новой простран-
ственной композиции.
И наконец, за счет введения в их декор благопожела-
тельных мотивов и символов, включая «счастливые» иеро-
глифы, все предметы мебели приобретали дополнительную
семантику, превращаясь в подобие художественных обра-
зов. Знаковый характер имело даже их цветовое решение.
Так, в минскую эпоху, правящий дом которой полагал
себя находящимся в мистической связи с Югом и под по-
кровительством стихии огня, предпочтение отдавалось дре-
весине с красным оттенком, a сама мебель покрывалась
красным лаком. При цинской династии, считающейся со-
920
относящейся с Севером и со стихией воды, восторжествова-
ли древесина густого темно-коричневого цвета, желатель-
но с сиреневато-лиловатым отливом, и черное лаковое по-
крытие.
Итак, мы видим, что все виды китайского архитекто-
нического искусства — архитектурно-инженерное искус-
ство, включая зодчество и градостроение, садово-парковое
искусство, мебельное дело и искусство интерьера — состоя-
ли в генетическом и нерасторжимом единстве друг с дру-
гом, которое определялось в первую очередь общностью
исходных для них космологических представлений и эсте-
тических установок. Поэтому все они имеют, во-первых,
отчетливую космологическую семантику и религиозно-
философский смысл, чем и объясняется универсальность
их планировочных и семиотических принципов. Во-вторых,
все произведения китайского архитектонического искус-
ства обнаруживают тенденцию к сочетанию природного и
искусственного, что и приводит к наделению их повышен-
ными метаморфическими свойствами. В-третьих, они на-
ходятся в морфологическом родстве с иероглифической пись-
менностью и изобразительным искусством, восприняв от
них как знаковый характер входящих в них величин, так
и принципы их соотношения. И наконец, в отличие от
европейского зодчества, садово-паркового искусства, ме-
бельного дела и искусства интерьера все китайские виды
архитектонического искусства не имеют столь же четко
сменяющихся и нередко противостоящих друг другу сти-
листических направлений.
С точки зрения генезиса, семантики и общекультурных
функций наиболыиую близость к архитектоническим ви-
дам искусства обнаруживает музыка.
Глава 19
ИСТОРИЯ И ТЕОРИИ
КИТАЙСКОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Глава 20
ИНТОНАЦИОННЫЙ СТРОЙ
И ИНСТРУМЕНТАРИЙ
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
МУЗЫКАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО
ГЛАВА
ИСТОРИЯ И ТЕОРИИ
КИТАЙСКОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО
ИСКУССТВА
В китайской художественной культуре исходно и на про-
тяжении многих еѳков существовал единый музыкальный
комплекс, обозначаемый в оригинальной терминологии как
«музыка-ю.э» и объединявший в себе все виды музыкально-
го искусства — музицирование, пение и танец. Определяю-
щим же элементом данного комплекса являлось именно
музицирование, также определяемое как юэ, что и позво-
ляет нам ограничиться при рассмотрении китайского му-
зыкалького творчества только этой его традицией.
ПРОБЛЕМА
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
И ОСНОВНЫЕ
ЭТАПЫ ИСТОРИИ
РАЗВИТИЯ
КИТАЙСКОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО
ИСКУССТВА
480 Так, в одном из чжоу-
ских сочинений («Люйши чунь-
цю», «Весны и осени дома
Люй») говорится, что Ди-ку
повелел одному из своих са-
новников «создать музыку и
пение», и тогда тот приду-
мал девять песен типа шао,
шесть — типа ле и шесть —
типа Ян. A для их исполне-
ния он же изобрел музыкаль-
ные инструменты — барабаны,
колокола, литофоны, флейты,
окарины и т. д. Затем, по это-
му же сочинению, Ди-ку по-
велел всему народу хлопать в
ладоши, бить в барабаны, уда-
рять в колокола, дуть в ока-
рины и флейты. Услышав по-
лучившуюся мелодию, феник-
В китайских религиозно-мифологических представле-
ниях, изложенных в древних (чжоуских, ханьских) и по-
следующих текстах, возникновение национального музы-
кального искусства (включая изобретение основных инст-
рументов и появление музыкально-песенных произведений)
настойчиво возводится к предельно архаическим временам
и связывается с божественными персонажами. Чаще всего
родоначальником музыкального искусства называется бо-
жественный государь Ди-ку (Цзюнъ), считающийся иссле-
дователями тотемным предком иньцев480.
Часто в роли основоположника местного музыкального
искусства фигурирует и персонаж по имени Куй (символи-
ческим художественным воплощением которого считается
одноименный орнаментальный мотив на иньских бронзах),
который почитается в религиозно-мифологической тради-
ции «музыкальным министром» Желтого императора. Куй,
по легендам, первым из людей научился извлекать мело-
дичные звуки при ударах по камням и каменным пласти-
нам, настолько совершениые и гармоничные, что, заслы-
шав их, звери и птицы пускались в пляс. A затем он создал
мелодию, подражающую журчанию горных рек и потоков,
при звуках которой люди обретали состояние покоя и уми-
ротворенности, прекращались ссоры и конфликты. Так по-
средством исполнения музыкальных произведений Куй
сумел привести весь мир к гармонии и процветанию. Оче-
видно, что во всех приведенных легендах подчеркиваются
924
два основных момента: архаическое происхождение музы-
кального искусства и его магические свойства.
Новейшие археологические находки, как и во многих
других случаях, подтвердили правоту древних текстов о
незапамятных истоках национального музыкального ис-
кусства481. Сегодня установлено, что оно восходит к ниж-
ним слоям неолитической эпохи. A древнейшие музыкаль-
ные инструменты принадлежат юго-восточной культуре Хэ-
муду: свистульки из трубчатых костей конечностей птиц и
керамические свистульки. Первые (всего найдено около
50 экземпляров) имеют длину 6-10 см, слегка изогнутую
форму и снабжены круглыми или овальными отверстия-
ми, вырезанными верхней точкой плавной дуги. Все это
делает их, по мнению специалистов, отдаленными пред-
шественниками популярнейшего впоследствии китайского
музыкального инструмента — свирели-шао. Керамические
свистульки характерной яйцевидной формы считаются про-
тотипом окарины-сюань, тоже занимавшей важное место в
древнекитайском инструментарии. Примечательно, что его
изобретение в самих же китайских текстах относилось к
IX-VIII вв. до н. э.
Примитивные музыкальные инструменты — те же ока-
рины и керамические свистульки — были обнаружены и в
памятниках, относящихся к Яншао. В комплексе Баньпо
была найдена довольно большая свистулька (длина 5,8 см,
диаметр 2,8 см) со сквозным отверстием (диаметр 0,5 см),
в Мацзяояо — свисток (высота 7 см, диаметр 4 см) в виде
скульптурного изображения головы обезьяны (о нем упо-
миналось при анализе образа этого животного). Последняя
из перечисленных находок указывает на то, что уже в
неолитическую эпоху музыкальные инструменты могли
иметь самостоятельное художественное оформление.
Несколько позднее, но тоже еще в хронологических рам-
ках неолитической эпохи и в пределах культуры Яншао,
появились и первые ударные инструменты: керамические
барабаны. Несколько их экземпляров (все разной конфигу-
рации и имеющие самостоятельное художественное оформ-
ление в виде росписей и налепов) были найдены в районе
среднего течения Хуанхэ. География первоначального ape-
ana распространения барабанов в очередной раз заставляет
нас вспомнить о мифах и легендах, в которых изобретение
барабана приписывается Желтому императору. Рассказы-
вается, что он был сделан во время великой битвы Хуан-ди
с его врагами (чудовищем Чи-ю), дабы его звуками устра-
шить войско противника. Приводится и его описание — из
звериной (точнее, фантастического существа) шкуры, по
которой били болыпими костяными палками. Вполне ве-
роятно, что за этим описанием скрывается вполне реаль-
ный тип древнейших китайских барабанов, которые по
понятным причинам не сохранились.
В целом получается, что и для музыкального искусства
Китая исходно прослеживаются две региональные традиции,
одна из которых — «южная» — оперировала в первую оче-
редь духовыми инструментами, a вторая, локализовавшаяся
сы стали летать по небу ей в
такт, и все живые твари воз-
радовались. Так было создано
первое музыкальное произве-
дение, которое послужило об-
разцом для всех последующих
музыкально-песенных творе-
ний, которые «выражали ма-
гическую силу и добродетели
(дэ) государя». В другом, уже
ханьском сочинении («Ката-
лог гор и морей») излагается
несколько иной вариант про-
исхождения музыкального ис-
кусства. В нем утверждается,
что первые музыкальные ин-
струменты, a также музыкаль-
ные, песенные и танцевальные
произведения были созданы
восьмью сыновьями Ди-ку.
481 Эти находки стали под-
линной сенсацией в музыко-
ведческих кругах, так как
вплоть до недавнего времени
генезис китайской музыки
связывался с иньской эпохой
и с ударными инструментами,
что вступало в противоречие с
общими закономерностями на-
чального этапа развития ми-
рового музыкального искусст-
ва, в котором первоочередное
значение имели примитивные
духовые инструменты.
925
Неолитические барабаны
482 Наиболее полно китай-
ский оркестр та#о времени
представлен в рельефах Инань-
ской гробницы. На восточной
стороне ее среднего зала изоб-
ражены сцены, состоящие в
общей сложности из 17 музы-
кантов. Внизу — три группы
исполнителей, сидящие на
циновках, вверху — еще три
человека, рядом с которыми
показаны барабаны и музы-
кальные инструменты, состоя-
щие из рам с подвешенными
к ним двумя колоколами и
четырьмя литофонами.
в регионе среднего течения Хуанхэ, отдавала предпочте-
ние ударным инструментам. Кроме того, из легенд о Жел-
том императоре следует, что ударные инструменты изна-
чально ассоциировались с верховной властью и государ-
ственностью.
Есть также все основания полагать, что музыкальные
виды искусства начали складываться в Китае, как и y
других народов мира, в рамках обрядовой деятельности.
Косвенным аргументом в пользу данной точки зрения слу-
жит этимология иероглифа «стих, поэзия» (ши). Анализи-
руя его протоформы, ученые сходятся во мнении, что он
происходит от графемы, передававшей определенное дей-
ствие в ритуале, которое сопровождалось музыкой и танцем.
Следующий этап в истории китайского музыкального
искусства соотносится с иньской эпохой. Он характеризу-
ется, во-первых, дальнейшим развитием ударных инстру-
ментов, занявших господствующее место в инструмента-
рии. И, во-вторых, формированием «музыкального комп-
лекса», который, из «надписей на гадательных костях»,
теперь специально выделялся и служил обязательным и
существенным компонентом официальной ритуальной дея-
тельности.
Заключительная стадия формирования древнекитайской
музыкальной культуры приходится на период Борющихся
царств и первую половину Хань, когда, во-первых, оконча-
тельно проявили себя все особенности интонационного строя
местной музыки. Во-вторых, сложился базовый инстру-
ментальный фонд. В-третьих, возникли музыковедческие
идеи и теории, объясняющие природу музыкального твор-
чества, его сущность и общественнозначимые функции.
И, в-четвертых, были предприняты первые шаги по орга-
низации музыкального искусства как элемента системы
государственности. Имеется в виду учреждение в чжоу-
ском центральном административном аппарате поста «Ве-
ликого министра музыки» (Дасыюэ), в ведении которого
находилась и ритуально-церемониальная деятельность.
0 состоянии чжоуского и ханьского музыкального ис-
кусства мы знаем не только по письменным сведениям, но
и по многочисленным находкам подлинных инструментов.
Самый полный их набор — 124 единицы, включая удар-
ные, духовые и струнные инструменты, который был, пред-
положительно, придворным оркестром, находился среди
погребального инвентаря маркиза И. В ханьскую эпоху к
числу первоочередных источников по истории китайского
музыкального искусства добавились модели инструментов
и художественные (рельефные и стенописные) изображе-
ния оркестровых групп482.
Важнейшим событием для музыкальной жизни страны
стала также организация уже знакомой нам Палаты Юэфу,
сотрудники которой занимались, помимо сбора и обработ-
ки песенного фольклора, созданием ритуально-церемони-
альных музыкальных, песенных и танцевальных произве-
дений. К Палате были приписаны и коллективы исполни-
телей (музыкантов, певцов, танцоров), общей численностью
926
в 800 человек, которые, по сообщениям письменных ис-
точников, были привезены в столицу из различных облас-
тей и местностей империи. Создание подобного музыкаль-
ного коллектива неизбежно должно было способствовать, с
одной стороны, повышению квалификации исполнителей,
a с другой (что даже более важно) — слиянию ранее само-
стоятельных региональных музыкальных традиций.
Дошедшие до нас списки и классификации ханьских
музыкально-песенных произведений, созданных или обра-
ботанных в Палате Юэфу, свидетельствуют о том, что древ-
некитайское официальное музыкальное искусство развива-
лось по пути усложнения и дифференциации его репертуа-
ра483. Параллельно при Хань произошли важные изменения,
по сравнению с чжоуской эпохой, в составе оркестра и на-
метилась тенденция к заимствованию чужеземных инстру-
ментов и музыкальных произведений.
Эта тенденция еще ярче проявилась в эпоху Шести ди-
настий, когда в местную музыкальную культуру вторглось
индо-буддийское музыкально-песенное творчество, принес-
шее с собой совершенно новый тип инструментов и произ-
ведений. Тогда же произошло окончательное разделение
официального и неофициального музыкального творчества;
признанным идеологом второго стал уже знакомый нам мыс-
литель и литератор Цзи Кан (организатор и идейный вдох-
новитель литературно-поэтического объединения «Семеро
мудрецов из бамбуковой рощи»). Его главным теоретиче-
ским сочинением является «Ода о цинеь («Цинъ фу»), в
которой впервые в китайской гуманитарии четко формули-
руется тезис о самоценности музыкального искусства и его
сущности как сугубо индивидуализированной творческой
деятельности, предназначенной для самовыражения и ду-
ховного совершенствования личности. Подобно теорети-
кам литературной и живописно-эстетической мысли, Цзи
Кан в своих рассуждениях опирался, в первую очередь, на
даосские философские идеи и ценностные установки. Следо-
вательно, развитие музыкального искусства находилось в
русле общих для художественной культуры Китая эволюци-
онных процессов, прямо перекликаясь с историей развития
станковой живописи.
Новый ключевой этап в эволюции музыкального искус-
ства приходится на танскую эпоху, от которой до нас до-
шло немало подлинных образцов инструментов (в том чис-
ле, из коллекции Сёсоин) и изображений оркестровых групп.
Особый интерес в данном случае представляет орнамента-
ция каменного саркофага раннетанского сановника Ли Шоу,
на стенках которого изображен оркестр из 140 исполните-
лей — только женщин.
Этот этап ознаменовался, во-первых, утверждением про-
фессиональной придворной школы. В 714 г. были открыты
5 специальных учебных заведений, в которых обучали му-
зыке пению и танцу. Организационной базой профессио-
нальных придворных музыкантов стал «Грушевый сад»
(«Лиюань», другой принятый перевод этого названия —
«Консерватория грушевого сада»), в штат которого при
483 Всего выделяется пять
основных разновидностей му-
зыкально-песенных произ-
ведений, различавшихся по
тематике, времени и месту ис-
полнения и характеру акком-
панемента. Это, во-первых,
«Храмовые песнопения» Щзяо-
мяо гэцы), которые подразде-
лялись на две группы: «Му-
зыка, [исполняемая] по вели-
кому дозволению» ІДаюйюэ)
и «Высокоторжественная му-
зыка» (Ясунъюэ). В первую из
них входили произведения,
предназначенные для испол-
нения исключительно в хра-
ме императорских предков. Во
вторую — произведения, ис-
полнявшиеся во время жерт-
воприношений Небу, Земле и
сезонных жертвоприношений.
Вторая разновидность — «Пес-
ни [для исполнения во вре-
мя] пиршественных церемо-
ний» (Яныиэ гэцы). Третья
разновидность — «Песни [ис-
полняемые] под аккомпане-
мент гонга и барабана» (Гучуй
цюйцы). В четвертую разно-
видность — «Песни [испол-
няемые] под аккомпанемент
свирелей» (Хэнчуй гэцы) —
входили произведения, пред-
назначенные для исполнения
во время следования офици-
ального кортежа или прохож-
дения войска. Пятая разновид-
ность — «Песни для [сопро-
вождения] танца» (Уцюіі) —
тоже состояла из двух отдель-
ный групп: «Песни для [со-
провождения] высокоторже-
ственноготанца» {Яуцюй), т. е.
музыкально-песенные произ-
ведекия для сопровождения
храмовых танцев; и «Песни
для [сопровождения] разных
танцев» (Цзауцюй), т. е. для
сопровождения танцев, испол-
няемых во время проведения
официальных пиршественных
церемоний. Из приведенного
перечня также явствует, что
в ханьскую эпоху не суще-
ствовало такой сферы офици-
альной ритуально-церемони-
альной деятельности, которая
не включала бы в себя музы-
кального компонента.
927
Танская оркестпровая
группа. С релъефа
на саркофаге Ли Шоу
Танская
оркестровая группа.
Погребалъная пластика
императоре Сюань-цзуне входило около 3000 исполните-
лей. Во-вторых, танская эпоха стала временем наиболее
активных и масштабных заимствований, которые теперь
уже не сводились к локальным вкраплениям в местное
музыкальное творчество, a оказали на него глобальное
трансформирующее воздействие. В силу принятых в Ки-
тае воззрений на музыку как воплощения и отражения
принципов государственности китайские власти требова-
ли от дипломатических и торговых миссий преподносить
двору в качестве даров или дани их национальную «музы-
ку», т. е. инструменты и исполнителей, преимуществен-
но женского пола. Из них при дворе были созданы отдель-
ные иностранные оркестры, игравшие во время дворцо-
вых торжеств неофициального характера. Имелись и
другие, гораздо более эффективные пути распространения
чужеземных музыкально-песенных произведений. Приве-
зенные в Китай музыкантши, певицы и танцовщицы раз-
мещались в специально отведенном для них столичном
квартале, где они находились на положении привилеги-
рованных гейш, для посещения которых требовалось осо-
бое августейшее дозволение. Помимо обслуживания высо-
копоставленных гостей, им вменялось в обязанность обу-
чать музыкальному искусству местных дам полусвета,
которые, в свою очередь, наставляли обитательниц увесе-
лительных заведений более низких рангов. Через эти за-
ведения чужеземные музыкальные новинки вливались в
поток городской столичной культуры и затем распростра-
нялись по всей стране.
Из западных (по отношению к Китаю) музыкальных
традиций наибольшее влияние на танскую музыкальную
культуру оказали древнеиранская музыка, центр которой
в то время переместился в Хотан, согдийская (с центром в
Самарканде) и тохарская, центр которой находился в
Куче — полисном образовании на территории Восточного
Туркестана. Наибольшей популярностью пользовалось ку-
чинское музыкальное творчество, из которого в Китай при-
шли, в том числе, специфическая разновидность лютни —
четырехструнный инструмент с изогнутой шейкой, бара-
банчик-цзегг/ — кожаный лакированный барабанчик, ис-
кусным мастером игры на котором был, по легендам, лич-
но император Сюань-цзун. На технические возможности и
строй той же кучинской лютни были рассчитаны около 30
популярнейших в танском Китае мелодий и песен. Кроме
собственно кучинской музыки, широкое признание снис-
928
кал ее гибридный вариант, сложившийся в пограничном
регионе и представлявший собой ее сплав со старой китай-
ской музыкой, давший сочетание столь, казалось бы, не-
совместимых звучаний, как звучания кучинской лютни с
местными ударными инструментами (литофонами).
Из Центральной и Юго-Восточной Азии в Китай при-
шли музыкальные традиции индийского происхождения и
принадлежащие южно-азиатским народностям: правители
местных государств порой присылали в Китай целые орке-
стры. Так, в 724 г. оркестровый коллектив прибыл с о. Су-
матра, во второй половине IX в. — с о. Ява. Самый же
экзотический подарок двор получил в 802 г. от одного из
княжеств на территории современной Бирмы. Это был му-
зыкально-танцевальный коллектив из 35 человек, который
специализировался на исполнении пьес с аккомпанемен-
том круглых морских раковин и бронзовых барабанов, на-
писанных на сюжеты буддийских сочинений484.
Музыка северных соседей Танской империи казалась
китайцам «унылой и резкой», что не помешало им почерп-
нуть из нее некоторые новации, которые лучше всего подо-
шли для местной военной музыки и заметно отразились на
военных оркестрах.
О стремительности распространения чужеземных про-
изведений и степени их влияния на китайскую музыкаль-
ную культуру красноречиво свидетельствует такой факт.
Если еще в VII в. местными музыкантами создавались и
исполнялись произведения, лишь стилизованные под чу-
жеземные образцы, то в VIII в. и такие стилизации полно-
стью сошли на нет. Популярная городская музыка стала
фактически копией центрально-азиатской музыки, и мно-
гие прославленные в легендах танские произведения явля-
ются не более чем обработками центрально-азиатских пе-
сен. К концу Тан китайская музыка превратилась в самый
настоящий синкрет, удельный вес в котором национально-
го элемента был достаточно скромен.
При Северной Сун была предпринята первая попытка
возрождения национальной «классической» музыки, что
было возложено на новое государственное учреждение —
«Двор музыки бессмертных небожителей» («Сянъшао-
юанъ»), уже в самом названии которого присутствует от-
кровенный архаический и даосско-религиозный подтекст.
Была продолжена и разработка музыковедческих теорий,
доказывающих приоритетность для музыкального произ-
ведения его общественно значимых функций, a не эстети-
ческих достоинств. Приток чужеземных произведений в
это время почти полностью прекратился по причине гео-
политической изоляции империи. Если в Китай и попада-
ли чужеземные образцы (в основном из Южной Азии), то
они уже оставались инородным телом в национальной
музыкальной культуре.
Последующие историко-политические события не могли
не способствовать очередному массовому проникновению в
страну иноземных музыкальных традиций, в противоборство
с которыми теперь уже вступили минские официальные
59 Исторпя искусства Китая
Простонародная
оркестровая группа
минской и цинской эпох
484 Южно-азиатская музы-
кальная культура принесла с
собой также искусство танце-
вальных пантомим, которое,
не приобретя особой популяр-
ности в самом Китае, достиг-
ло через него Японии, где
превратилось в полноценную
художественную традицию.
Там до сих nop исполняются
в застывшей их хореографии
некоторые танцева льные пан-
томимы, имеющие южно-ази-
атское происхождение и со-
вершенно забытые как на ро-
дине, так и в других странах
Азиатского континента. A bot
сопровождающие их оркест-
ры довольно точно воспроиз-
водят китайские музыкаль-
ные коллективы танского вре-
мени. Они состоят из трех
групп инструментов, первая
из которых включает в себя
духовые деревянные инстру-
менты (типа горизонтальных
флейт), исполняющие мело-
дию в высоком регистре, вто-
рая — ударные инструменты
(гонг, барабан-ц^егі/), третья —
инструменты басового звуча-
ния. Так что, как видим, тан-
ская музыкальная культура
не только впитывала в себя
чужеземные заимствования,
но и щедро делилась ими с
другими народами.
929
власти, тоже задавшиеся целью возрождения националь-
ного музыкального наследия. Но на самом деле минское
музыкальное творчество, как и живопись, ориентирова-
лось не на подлинно древние традиции, a на искусство
танской эпохи.
Итак, китайское музыкальное искусство в ходе своей
истории претерпело немало метаморфоз, возможно, даже
болыне, чем другие виды национальной предметно-твор-
ческой деятельности. Зато неизменными и непоколе-
бимыми оставались воззрения на него, выкристаллизо-
вавшиеся в древних религиозных и философских пред-
ставлениях.
АРХАИКО-
РЕЛИГИОЗНЫЕ,
НАТУР-
ФИЛОСОФСКИЕ
и этико-
ФИЛОСОФСКИЕ
ВОЗЗРЕНИЯ
НА МУЗЫКУ
485 Здесь и далее цитаты из
Сыма Цяня приводятся в пере-
воде Р. В. Вяткина и В. С. Та-
скина, см. Библиографию.
С позиций архаико-религиозного типа мышления му-
зыка являет собой идеальную модель процесса перехода
от состояния природного хаоса к гармонии, осуществляе-
мого, прежде всего, самим человеком посредством сделан-
ных его руками предметов (музыкальные инструменты).
Одновременно и само музицирование, и все другие входя-
щие в «музыкальный комплекс» виды искусства наделя-
лись способностью оказывать мироустроительное воздей-
ствие на социокосмический порядок и содействовать ус-
тановлению коммуникации людей с высшими силами, о
чем неоднократно и однозначно говорится в древнекитай-
ских текстах. «Затем Куй заиграл на музыкальных инст-
рументах, [на звуки которых] явились [души] предков.
Все князья стали уступать друг другу, птицы взлетели и
звери пустились в пляс; когда же на свирелях была ис-
полнена мелодия шао в девяти вариациях, торжественно
прилетели фениксы. Все животные пустились в пляс, и
среди чиновников установилось доверие и согласие», —
такое описание некоего архаического действа приводится
в «Ши цзи» Сыма Цяня485. В нем со всей очевидностью
рисуется картина контакта с душами предков и высшими
силами (персонифицированы фениксами) и наступления
состояния «гармонии» всего мира (людей и дикой приро-
ды), наступивших благодаря музицированию. С еще боль-
шей определенностью идея о сущности и магических свой-
ствах музыки излагается в следующем пассаже из «Ри-
туалов Чжоу»: «С помощью шести нечетных ступеней
звукоряда, шести четных ступеней звукоряда, пяти зву-
ков и восьми тонов, шести танцев и величественно-гармо-
ничных музыкальных произведений обращаются к духам
и божествам, упорядочиваются дела в удельных владени-
ях и царствах, приводятся в согласие десять тысяч наро-
дов (т. е. все население мира), умиротворяются гости, при-
бывшие к правителю (т. е. иноземные посланники), на-
ставляются люди, проживающие в периферийных краях».
Таким образом, именно музыка оказывается первооче-
редным способом исполнения сакральных функций самого
правителя и выражения его магической силы и добродете-
лей. Эта мысль красной нитью проходит не только через
мифы и легенды, но и постулируется в официальных доку-
930
ментах: «Мы слышали, что в древности цзу — основатель
династии — отличался заслугами, a цзун — самый почи-
таемый правитель — отличался добродетелями, и каждый
из них имел основание для установления обрядов и музы-
ки. Мы слышали, что с помощью песен прославляются
добродетели, a c помощью музыки делаются ясными заслу-
ги», — гласит императорский эдикт от 157 г. до н. э., тоже
процитированный в труде Сыма Цяня.
Архаико-религиозные воззрения на музыку ярче всего
проступали и долыне всего удерживались в традиции пир-
шественной церемонии, которая, по определениям древних
авторов, выступает «вершиной музыки и радости». «Ра-
дость» — еще одна опорная категория «музыкального ком-
плекса», которая записывается тем же самым иероглифом,
что и «музыка», но имеющим другую фонетическую нор-
му — лэ. Впоследствии в натурфилософских и философ-
ских теориях как радость-лэ определялось качественное
внутреннее состояние правителя или истинного мудреца:
«знающий — радуется» («Лунь юй»). Однако изначально
под радостъю понималось состояние экстаза, отожествляе-
мое с танцем и вызываемое самой же музыкой: «музыка
возбуждает чувства и сердце человека и приводит в движе-
ние его тело; руки и ноги начинают непроизвольно пля-
сать, что и является вершиной радости». Или: «Так вот
рождается радость! Рождается и ее не остановить. He оста-
новить, и уже не осознавая почему, притопываешь ногами
и делаешь руками танцевальные движения».
To, что вхождение в экстатическое состояние происхо-
дило под воздействием музыки, вполне соответствует пси-
хогенному эффекту древнекитайских музыкальных произ-
ведений: пентатонные и длительно исполняемые мелодии с
преимущественным участием ударных инструментов. Но
такое состояние могло достигаться и психотропными сна-
добьями, в первую очередь вином. A так как все музыкаль-
ные виды искусства и экстатическое состояние, вызванное
винопитием, в наиболее целостном виде присутствуют в
сценарии проведения пиршественной церемонии, то в Древ-
нем Китае она превратилась в самостоятельное действо,
дополнявшее или даже полностью заменявшее собой соб-
ственно обрядовые акции. Развернутые описания пирше-
ственных сцен с захмелевшими и танцующими гостями
несколько раз приводятся в произведениях «Ши цзина»:
«День и ночь в чертогах князя все блестит-сверкает... Бара-
баны гремят-грохочут. Гости, опьянев, пускаются в пляс,
и вот так все вместе предаются радости».
Во время ханьской эпохи и эпохи Шести династий из-
вестно немало историй пиров (зафиксированы в династий-
ных историях), во время которых государь, находясь в
состоянии опьянения (что тоже подчеркивается в ориги-
нальных текстах) лично играл на музыкальных инстру-
ментах, пел им же сложенный экспромт и танцевал486.
Еще одним проявлением изложенных архаико-религиоз-
ных воззрений на музыку в их связи с верховной властью
является практика императорского музыкально-песенного
486 Такой эпизод приводит-
ся, в том числе, в официаль-
ном жизнеописании основате-
ля Хань, где рассказывается,
что после очередной одержан-
ной победы Гао-цзу устроил
пир, на который он «пригла-
сил старых друзей, отцов-ста-
рейшин, молодых мужчин,
чтобы вволю погулять с ними».
Когда все захмелели, «он уда-
рил по струнам цитры-чжи и
запел сложенный им стих...
Затем Гао-цзу встал и принял-
ся танцевать... ».
931
487 Так, все тому же хань-
скому Гао-цзу приписывает-
ся сочинение «Танца воин-
ской доблести» («Удэу»)> ко-
торое затем исполнялось при
поминальных жертвоприно-
шениях ему. Ханьскому им-
ператору Вэнь-ди — «Танец
четырех времен года» («Сы-
шыу»), чем он сделал, по сло-
вам историков, «Ясными мир
и покой, наступившие в Под-
небесной».
творчества. Сообщается, что многие ритуальные музыкаль-
ные, песенные и танцевальные произведения были созда-
ны лично государями487. Из сказанного, думается, понят-
но, что владение игрой на музыкальных инструментах и
хотя бы азами композиторского искусства считалось обя-
зательными качествами государя, равно как и всех лиц,
причастных к делам управления страной. Подобное отно-
шение к музыке было воспринято и конфуцианством, вклю-
чившим музицирование в число нормативных шести видов
занятий благородной личности. Уже при Чжоу музыкаль-
ные курсы непременно входили в программу высших госу-
дарственных учебных заведений.
Концептуализация и этизация архаико-религиозных
воззрений на музыку, предпринятые в нарождающейся
натурфилософии и философской мысли (в первую очередь
конфуцианской) привели к возникновению полноценных
музыковедческих теорий, в которых музыка провозглаша-
лась порождением и воплощением мирового музыкального
начала («космической музыки»), являющегося гармонизи-
рующей основой социокосмического универсума. Впервые
идеи такого плана излагаются в тексте под названием
«Sannen о музыке» («Юэ цзи»), будучи исходно, как предпо-
лагают, самостоятельным сочинением и затем (ориентиро-
вочно в кокце I до н. э.) включенным в состав конфуциан-
ского канонического памятника «Записи о ритуале». В нем
обосновываются взгляды на космическую природу музы-
ки, доказывается органическое единство музыкальных ви-
дов искусства в их связи с ритуальной деятельностью и
формулируется тезис о мироустроительной сущности соб-
ственно музицирования: «Познавший музыку приводит в
гармонию Небо и Землю... Тот, кто разбирается в голосах,
тем самым познает звук; [тот, кто] разбирается в звуках,
тем самым познает музыку; [тот, кто] разбирается в музы-
ке, тем самым познает способы управления государством».
Следующими основополагающими древними теоретико-
музыковедческими сочинениями являются трактаты «Рас-
суждения о музыке» («Юэ лунь») Сюнь Куана (одного из
ведущих философов следующего за Конфуцием поколения
конфуцианских мыслителей) и «Весны и осени дома Люй».
В «Юэ лунь», входящем на положении раздела в сводное
сочинение Сюнь Куана («Сюнь-цзы»), предпринимается по-
пытка выделения типологических особенностей музициро-
вания в контексте ритуала-ла — как человеческой обрядо-
вой деятельности, так и «вселенского церемониала». Фи-
лософ приходит к выводу, что сущность ритуала-ли состоит
в том, что он обеспечивает целостность мира путем «разли-
чения и разъединения вещей». Тогда как музыка их «со-
гласует п объединяет», приводя в состояние гармонии. И да-
лее им акцентируются ее этическая и социально-аксиоло-
гическая значимость: способность гармонизировать весь
социум — в соответствии с закономерностями «вселенского
церемониала» и «космической музыки» — и каждое отдель-
ное человеческое существо. В результате им были заложены
основы концепции музыкального этоса с характерной для
932
нее «педагогической гипертрофпей» — убежденности в
огромной силе воспитательного и морализующего воздей-
ствия музыки.
«Весны и осени дома Люй» — коллективный труд,
созданный лицами из ближайшего окружения Люй Бувэя
(?-235 гг. до н. э.), бывшего в то время первым министром
царства Цинь и регентом при малолетнем Цинь-ши-хуан-
ди. Этот памятник примечателен прежде всего тем, что в
нем был осуществлен опыт объединенных взглядов и идей,
принадлежащих различным школам — конфуцианской,
легистской, моистской и даосской (это касается не только
музыковедческих воззрений), авторы тоже опираются на
натурфилософское осмысление окружающей действитель-
ности и выдвигают на первый план прежде всего утили-
тарные аспекты идеологических доктрин: принципы по-
литического и социального устройства общества, воспита-
ния и т. д. Под таким углом зрения ими рассматриваются
и теоретические проблемы, и прикладная сторона музы-
кального творчества. В трактате приводятся версии (мифы,
легенды, повествования натурфилософского характера)
происхождения музыки и отдельных инструментов, объяс-
няется физическая природа музыкальных звуков и мело-
дий, излагаются закономерности интонационного строя
национальной музыки. Но и здесь в очередной раз под-
черкиваются космологическая семантика музицирования
и обладание им в первую очередь мироустроительных и
воспитательных свойств. Таким образом, данное сочине-
ния убедительно свидетельствует в том, что представите-
лям всех древнекитайских философских школ были при-
сущи общие в целом взгляды на природу, сущность и
функции музыкального творчества.
Итоговыми для древнекитайской теоретико-музыковед-
ческой мысли сочинениями считаются разделы «Трактат о
музыке» («Юэ шу») и «Трактат о музыкальных звуках и
трубках» («Люй шу») из труда Сыма Цяня. Второй из них
посвящен интонационно-акустическим основам музьтки, тог-
да как в первом излагаются взгляды общетеоретического
плана. Развивая мысли предшествующих ему авторов, Сыма
Цянь пишет: «Музыка — это гармония, [дарованная нам]
Небом и Землей; обряды и ритуалы — это порядок, [уста-
новленный] Небом и Землей. Гармония приводит к измене-
нию и развитию всего сущего; порядок позволяет разли-
чать всю массу существующего. Музыка создается, беря
пример с Неба; обряды устанавливаются, опираясь на зако-
ны Земли... Ясно понимая [законы] Неба и Земли, можно
добиться расцвета обрядов и музыки. Суть музыки в том,
чтобы законы поведения людей не страдали; роль музыки
в том, чтобы царили радость и веселье, счастье и любовь».
Исходя из этого генерального теоретико-музыковедческого
постулата, Сыма Цянь доказывает наличие прямых при-
чинно-следственных связей между характером музыкаль-
ного творчества и «нравами и обычаями» современного ему
общества: «Музыка прославляет справедливость и осуждает
низкие поступки, предательство и разврат. Музыка эпохи
процветания и мира несет людям радость и гармонию. My-
зыка эпохи беспорядков и упадка несет гнев и дисгармо-
нию. Музыка находится в связи с образом правления...
Слова могут обманывать, люди могут притворяться, толь-
ко музыка не способна лгать». Отсюда именно нарушения
музыкальных устоев оказываются, по мысли Сыма Цяня,
первичным проявлением отступлений людей от должного
миропорядка, которые влекут за собой и природные, и со-
циально-политические коллизии: «В эпоху политических
смут обычаи и обряды меняются. Тогда музыка становится
непристойной. Звукам печальным недостает благородства,
звукам веселья — спокойствия... Музыка тогда смущает и
расслабляет энергию, нарушает законы гармонии».
Так музыковедческие теории превратились в Китае в
составную часть концепций государственности. Поэтому
неудивительно, что «музыкальные разделы» — «Анналы
музыки» («іоэ чжиь), в которых совмещаются теоретиче-
ские и прикладные по содержанию части — присутствуют
почти во всех последующих официальных историологиче-
ских сочинениях (династийных историях). Кроме данных
разделов, насчитывается внушительное число и самостоя-
тельных сочинений как сугубо теоретического, так и при-
кладного характера.
Изложенные воззрения на природу, сущность и функ-
ции музыкального творчества полностью распространяют-
ся на все его составные величины, начиная с интонацион-
ного строя и инструментария.
ИНТОНАЦИОННЫЙ СТРОЙ
И ИНСТРУМЕНТАРИЙ
ГЛАВА
Наиболее существенной особенностью древней и традици-
онной китайской музыки является пятиступенчатый (со-
стоящий из пяти основных hot) звукоряд, обозначаемый в
оригинальной терминологии как «пять звуков» — y шэн, a
в европейской терминологии как пентатоника (от грече-
ских слов pente — «пять», и tonos — «музыкальный тон,
главный устойчивый звук лада»). Подобная звуковая си-
стема, в основе которой лежат пять звуков разной высоты
в пределах октавы, была, как известно, характерна не толь-
ко для китайской музыки, но и для музыкального творче-
ства многих других народов, причем живущих на значи-
тельном географическом удалении друг от друга: шотланд-
ской, например, и татарской музыке.
Каждая нота (ступень) пентатонной гаммы имеет в ки-
тайском языке собственное название, в котором нередко
усматривают намек на их семантику. Первая ступень на-
зывается гун — «дворец»; вторая — шан — основные сло-
варные значения этого иероглифа «беседовать, договари-
ваться, советоваться»; третья— цзюэ— «рог», который
использовался в качестве охотничьего и сигнального рож-
ка; четвертая — чжи, этот иероглиф в другом его произно-
шении означает «призывать»; и пятая — юй — «крылья».
В европейской темперации они соответствуют Ре, Фа-диез,
Ля, Ми и Си.
Утверждение пентатонного звукоряда возводится в ори-
гинальных письменных источниках к раннечжоускому пе-
риоду и объясняется в них подражанием природным зву-
кам. Нота гун считается воспроизведением раската грома,
цзюэ — потрескивания дров в огне, шан — шума осеннего
ветра в ветвях, чжи и юй — журчания воды. Нельзя не
заметить, что подобное их этимологическое истолкование
отчасти согласуется с осмыслением «пяти звуков» с пози-
ций пятичленной космологической модели, когда они впи-
сывались в общий набор пространственно-временных зон и
их коррелятов: стихий, природных сущностей, типов жи-
вых тварей, цветовых обозначений и астральных объектов.
В результате гун ассоциируется с Центром, стихией земли,
ПЕНТАТОННАЯ
ГАММА
И ЛАДОВАЯ
СИСТЕМА
935
488 tjto касается социаль-
но-политической символики
пентатоники, то она вновь
наиболее полно раскрывается
Сыма Цянем: «Если эти пять
нот (гаммы) не перепутаны,
то нет и негармоничных ме-
лодий. Если тон гун расстро-
ен, то звуки беспорядочны, —
значит, правитель высокоме-
рен; если тон шан расстроен,
то звуки грубы, — значит,
чиновники испорчены; если
тон цзюэ расстроен, то звуки
тревожны, — значит, народ
недоволен; если тон чжи рас-
строен, то звуки печальны, —
значит, народ изнурен тру-
дами; если тон юй расстроен,
то звуки отрывисты, — зна-
чит, богатства государства ос-
кудели. Когда же пять тонов
гаммы расстроены, они посто-
янно мешают друг другу, и
это называется мань — рас-
пущенность. При таком поло-
жении дни гибели государства
близки».
489 Некоторые из них во-
шли в состав созданной им же
династийной истории — «Ис-
тория династии [Лю] Сун»,
посвященной времени правле-
ния соответствующего южно-
китайского государства.
желтым цветом, громом, Сатурном и человеком; цзюэ — с
Востоком, весной, стихией дерева, сине-зеленым цветом,
ветром, Юпитером и насекомыми; чжи — с Югом, летом,
стихией огня, солнцем, красным цветом, Марсом и птица-
ми; шан — с Западом, осенью, стихией металла, белым цве-
том, Венерой и хищными зверями; m юй — с Севером, зи-
мой, стихией воды, черным цветом, луной, Меркурием и
панцирными. В перенесении этих ассоциаций непосредствен-
но на человеческое общество нота гун становится символом
правителя и воплощением такой добродетели (из набора
«пяти добродетелей», y дэ)у как искренность-u; цзюэ — народа
и гуманности-жэнь; чжи — человеческих деяний и ритуа-
ла/ритуального благоговения-ли; шан — чиновников и спра-
ведливости-ц; юй — природных объектов и мудрости-чжц.
Подобное осмысление пентатоники дается уже в древней-
ших чжоуских сочинениях, в том числе в трактате «Гуань-
цзы», который возводится в традиции к VII в. до н. э. В нем
говорится и о числовом выражении «пяти звуков». Гун по-
читается здесь выражением самого «совершенного» числа —
81 (9 х 9), все другие — последовательным увеличением или
уменьшением числа на одну треть по сравнению с предше-
ствующим числовым выражением тона. Помимо использова-
ния принятого в древнекитайской культуре нумерологиче-
ского кода, это построение является точным отражением аку-
стических закономерностей пентатонного звукоряда488.
Первоначально лишенный полутонов, пентатонный зву-
коряд обогатился в музыкальной практике V—III вв. до н. э.
двумя дополнительными звуками, получившими названия
«ниже гун» («становящийся гун»у бянъ-гун) и «ниже чжи»
(«становящийся чжи», бянъ-чжи). Тем самым он образовал
семиступенную гамму с полутоновыми интервалами (бянь)у
которая типологически соответствует лидийскому ладу. Од-
нако такое изменение пентатоники никак не отразилось на
ее осмыслении.
Уместно задаться вопросом, являлась ли пентатоника
естественным порождением древнейшей китайской музыкаль-
ной практики и лишь затем осмыслена местными теоретика-
ми в соответствии с общими космологическими и социально-
политическими представлениями или она действительно была
создана искусственно по модели этих представлений. Воз-
можный ключ к ответу на поставленный вопрос содержат
разработки в области интонационных закономерностей на-
ционального языка, осуществленные в эпоху Шести динас-
тий. Ведущим в данном случае теоретиком признается Шэнъ
Юэ (441-513), создатель ряда сочинений музыковедческого
характера и по теории стихосложения489. Предложенная им
теория стихосложения основывается на изучении интонаци-
онных характеристик языка и закономерностей метрической
композиции поэтических текстов. Шэнь Юэ был первым из
китайских теоретиков, кто осознал наличие в китайском
языке такой его особенности, как тоновое построение. Тон —
это голосовая модуляция звукового состава иероглифа, кото-
рая обязательно имеет знаменательную функцию. Одно и то
же сочетание звуков (слова-омонимы) передает, в зависимо-
936
сти от того, каким тоном оно произносится, совершенно раз-
личные значения. Анализируя речевую и поэтическую прак-
тику, Шэнь Юэ выделил четыре тона: «ровный» (пиншэн),
«высокий» (шаншэн), «ниспадающий» (цюишэн) и «входя-
щий» (жушэн), чередование которых и составляет законы
просодии стиха. При этом он настаивал на аналогичности
поэтической просодии инструментальной пентатонике490.
Итак, Шэнь Юэ подметил и доказал ритмико-интонацион-
ные связи инструментальной музыки с речевым потоком,
чем и заслужил почетное прозвание «отца китайской мело-
дики». Следовательно, правомерно предположить, что пен-
татонная гамма стихийно складывалась в русле развития
инструментально-речевого потока и утвердилась в результа-
те тоже первоначально стихийного отбора и закрепления
опорных звуков лада в их связи с интонационными особен-
ностями речи. Этим также объясняются, во-первых, столь
прочные и уникальные на фоне европейской художествен-
ной культуры связи в Китае мелоса и речи. И, во-вторых,
врожденная интонационная чуткость китайцев, их способ-
ность к замечанию и точной фкксации почти неуловимых
для европейского слуха интонационных колебаний.
Пентатонная гамма является частью 12-ступенного хро-
матического звукоряда — люй-люй, который и образует
диатоническую гамму, определяющую звуковую шкалу всех
китайских инструментов.
Каждый из 12 ладов тоже имеет собственное название
(большая часть из которых могут считаться имеющими
некое смысловое значение) и аналоги в европейской темпе-
рации: I лад — хуанчжуну «желтый колокол», примерно
соответствует Ре, имея 292,7 колебания для первой окта-
вы; II лад — далюй, «болыиой люй», Редиез, 305,6 ко-
лебания; III лад — тай/дацоу, «большой садок», Миу
326,2 колебания; IV лад — цзячжун, «сжатый/закреплен-
ный колокол», Фау 343,1 колебания; V лад — гусянъ, Фа-
due3f 365,7 колебания; VI лад — чжунлюй, «серединный
люй»у Солъ; VII лад — жуйбинъ, «множество гостей», Соль-
диез, 410,1 колебания; VIII лад — линъчжун, «лес колоко-
лов», Ля, 437 колебаний; IX лад — ицзэ> Ля-диез или Си-
бемолъ, 460 колебаний; X лад — нанълюйу «южная люй»,
Cuj 491 колебание; XI лад — уи> Доу 547,3 колебаний для
второй октавы; XII лад — ипчжун, «откликающийся ко-
локол», До-диеЗу 549,5 колебания для второй октавы.
Этот строй является незамкнутым, нетемперированным
и однофакторным, строясь по чистым квинтам. Одновре-
менно он подразделяется на так называемые «мужские»
(нечетные, люй) и «женские» (четные, люй), ступени, по
шесть в каждом из обоих рядов, и соотносится с пентатон-
ной гаммой. Нота гун соответствует I ладу хуанчжун, яв-
ляющемуся первой ступенью всего 12-ступенного звукоря-
да и «мужского» звукоряда; нота шан — III ладу тайцоу
(вторая ступень «мужского» звукоряда); нота цзюэ —
V ладу гусянь (вторая ступень «женского» звукоряда); нота
чжи — VIII ладу линьчжун (четвертая ступень «женского»
звукоряда); нота юй — X ладу наньлюй (пятая ступень
490 «Пять цветов в сочета-
нии дают нужный оттенок,
звуки восьми видов музыкаль-
ных инструментов гармониру-
ют друг с другом. Это проис-
ходит оттого, что каждый цвет
спектра и знак гаммы соот-
ветствуют своему назначению.
Должно быть так: изменения
тона гун вызывает соответ-
ствующие изменения тона юй,
низкий и высокий звуки со-
ставляют единый строй. Если
звук был плывуще-ровный,
необходимо, чтобы его сменил
отрывистый. Пусть в стихо-
творной строке двустишия со-
четаются с легким, a не с по-
добным себе» (пер. Л. Е. Бе-
жина).
937
0 * A
0 * *
0 * g
ü * «
0 * It
Q ft t
(Г"> s
Q3Z
ŒZ3_U
Q * %
o *. s
о~ТГ"Й
Z)
Z3
=3
ZU
zz:
]
ZZZ!
1
1
1
I
1
Набор трубок-люй.
Внизу — хуанчжун
491 Начальный лад опреде-
лял собой характер и предна-
значение всей мелодии. СI ла-
да начинались произведения,
исполнявшиеся при жертво-
приношениях Небу. Co II ла-
да — мелодии и песнопения в
честь Земли, божеств плодо
родия, гор и рек. С III лада —
мелодии и песнопения, испол-
няемые при жертв&іриноше-
ниях предкам. Й так далее —
чем далыие от первоначаль-
ного исходного тона, тем ме-
нее почетным оказывается
предназначение этого лада.
Произведения, начинавшиеся
с VI лада, служили аккомпа-
нементом для процедуры под-
ношения государю напитков,
с VII лада при следовании им
в женские покои, с XI лада —
коронования государыни, a c
XII лада — застолий наслед-
ного принца.
«женского» звукоряда). Однако при этом в 5-ступенном
звукоряде каждая ступень может быть только гун491.
Согласно легенде, система люй была изобретена очеред-
ным придворным Желтого императора — Лин Лунем, стра-
стным любителем птичьего пения. Стремясь искусственно
воссоздать голоса птиц, он сделал 12 бамбуковых трубо-
чек, находившихся между собой в определенных соотно-
шениях по размерам, и разделял их на две равные группы.
Трубочки, относящиеся к первой группе, издавали звуки,
подобные голосу самца феникса, ко второй — подобные
голосу самки. В действительности эта система была созда-
на, скорее всего, при Чжоу в результате целенаправленно-
го выбора из естественных звуков наиболее пригодных для
инструментального исполнения с их организацией по прин-
ципу звуковысотных отношений. Инструментальным вопло-
щением системы люй чаще всего и в самом деле выступали
наборы из деревянных или бамбуковых трубок. Но это мог-
ли быть и нефритовые трубки-люй, a также наборы, со-
ставленные из точно настроенных колокольчиков или не-
фритовых плиток. Трубки-люй должны были иметь строго
фиксированную длину и сечение, каждая — в полтора раза
болыпе предыдущей. Их размеры заносились в официаль-
ные документы наряду с мерами длины и веса. Трубки,
закрытые с одного конца, имели сбоку неболыиое квадрат-
ное отверстие, облегчающее звукоизвлечение, которое осу-
ществлялось посредством вдувания воздуха в открытый
конец трубки. Особое значение придавалось способу звуко-
извлечения: струя воздуха должна была быть не слишком
сильной, но и не слишком слабой, губы следовало прибли-
жать к устью трубки, но не захватывать его.
Камертоном набора люй служила трубка хуанчжун,
которая должна была быть длиной в 9 цуней (28,8 см) и с
сечением в 9 линий. Из такой трубки извлекается звук,
соответствующий Ми третьей октавы. Остальные трубки
подстраивались к хуанчжун с помощью скрупулезных вы-
числений. Задолго до Пифагора китайцы знали закономер-
ности математического соотношения тонов: соотношение
длины струны или столба воздуха один к двум дает окта-
ву — наиболее консолидирующее звучание; соотношение
два к трем дает чистую квинту, т. е. рождает новый тон, в
отличие от октавы, которая только повторяет основной тон.
Все эти познания вылились в теорию и практику системы
люй. В теории — аксиома, гласящая, что каждый тон рож-
дает другой, т. е. чистую квинту. В практике — подбор
комплекта трубок-люй, каждая следующая должна была
быть в отношении 2:3 к предыдущей. Но чтобы диапазон
не получался излишне широким, эти соотношения чере-
довали, изменяя размеры трубок один раз на две трети,
другой — на четыре третьих, т. е. удваивая размер труб-
ки, создающей тон, который выходит за пределы октавы
(2/3 4- 2/3 = 4/3).
Все приведенные расчеты исполнялись уже по меньшей
мере в период Борющихся царств, так как они подробно
излагаются в трактате «Осени и весны дома Люй»: «Если
938
хуанчжун взять за единицу, то рожденный им звук будет
линъчжун, составляющий две трети длины от трубки хуан-
чжун. Линьчжун рождает звук тайцоу, составляющий че-
тыре трети длины от трубки линъчжун. Тайцоу рождает
звук нанълюй, составляющий две трети от трубки гпайцоу...»
и т. д. В результате такого подбора трубок возникает последо-
вательность, построенная по квинто-квартовому принципу.
Постепенно возникли и системы настройки всех других
инструментов — ударных, струнных, завершившиеся раз-
работкой в III в. н. э. наиболее совершенной настроечной
шкалы, в которой за основу была взята длина струн. Для
12 струн были рассчитаны следующие параметры: хуан-
чжун — 9 чи (2,8 м), 100%, далюй — 8,44 чи> 93,7%, mail-
цоу — 8,0 чи (секунда), 88,88%, цзячжун — 7,51 чи> 83,44%,
гусянь— 7,13 чі/, 79,22%, чжунлюй — 6,68 чи, 74,22%,
жуйбинъ — 6,33 чи, 70,33%, линьчжук — 6,0 чи (квинта),
66,66%, ицзэ— 5,63 чи, 62,55%, нанълюй— 5,34 чи,
59,33%, уи — 5,01 чи, 55,66% и инчжун — 4,75 чи, 52,77%.
Система-люй предопределила и традиционную китайскую
нотацию492. Ноты передаются иероглифами, расположенны-
ми в колонки и идущими, подобно любому иероглифическо-
му тексту, справа налево. Точка справа обозначает конец
музыкальной фразы. Дополнительные указания даются в
более мелких по написанию иероглифах, что совпадает с
размерами комментария к основному тексту. Вокальные
партии обычно выделяются рамкой и фиксируются в размет-
ке пентатонной гаммы с указанием, какое место в данном
музыкальном фрагменте занимает нота гун. Партии удар-
ных инструментов записываются в системе-люй. Для партии
струнных инструментов впоследствии (начиная с XIII в.) стала
использоваться монгольская нотация, приспособленная к диа-
пазону каждого инструмента. Такая нотация обладает рядом
непривычных для европейских музыкантов лакун: в ней не
указаны ни относительная длительность звука, ни паузы.
Иногда, правда, краткость или долгота звука фиксируются,
но описательно и без точного определения длительности. Ритм
может обозначаться особыми знаками, но необязательно, так
как в традиционной китайской теории музыки он полагался
существующим как бы независимо от мелодии и могущим
произвольно варьироваться.
Значимость системы-люй тоже не ограничивается сфе-
рой только музыкальной практики и теории музыки. Она
выступает в качестве важнейшего репрезентанта всей нацио-
нальной общепознавательной мысли, давая тот же тип ми-
ропонимания, что и натурфилософия, с сочетанием логико-
понятийного (т. е. научного) и чувственно-образного (харак-
терного для искусства) способов осмысления окружающей
действительности. Как таковая она выполняла своего рода
метаязыковую функцию, служа универсальной классифи-
кационной схемой для оформления в принципе любой фак-
тической информации. В исходно музыкальных терминах
описываются космогонические и космологические процес-
сы, законы бытия мира и человеческого общества493. Поэто-
му неудивительно, что проблема установления точного строя
492 Первое известное про-
изведение в нотной записи —
пьеса для циня «Одинокая
орхидея» («Ю лянь») датиру-
ется VI в.
493 Так, хуанчжун отожде-
ствляется с Великим пределом,
порождающим все сущее. Че-
редование «мужских» и «жен-
ских» ступеней служит оли-
цетворением взаимодействия
Ян и Инь. Каждый из 12 ла-
дов соотносится с месяцами и
суточными интервалами, дви-
жением светил, расположени-
ем звезд, климатическими ус-
ловиями и т. д.
939
494 По его собственному при-
знанию, после долгих размыш-
лений он понял, что древняя
система люй есть не более чем
приблизительная шкала то-
нов, о чем уже давно догада-
лись простые исполнители,
которые фиксировали лады не
так, как это требовалось в тео-
рии люй, a no четверти, трети
струны и т. д.
люй относилась к числу важнеиших государственных задач,
для решения которой привлекались астрологи, философы,
ученые-естествоиспытатели, теоретики музыки и прослав-
ленные исполнители. Любые реформы в этой области прово-
дились по инициативе исключительно верховных властей и
законодательно оформлялись.
Было предпринято немало попыток модификации систе-
мы-люй для еще большего уподобления ее природным про-
цессам. В конце I в. н. э. была создан 60-ричный вариант
системы-люй, который базировался на 60-летнем календар-
ном цикле. В эпоху Шести династий — 360-ричная люй>
опиравшаяся на годовой цикл и позволявшая соотносить
все ее основные подразделения с календарной системой. Воз-
можность подобных модификаций была обусловлена тем,
что 12-ступенчатый звукоряд допускал выход за собствен-
ные пределы с последующим движением по чистым квин-
там. Однако такого рода эксперименты мало сказались не-
посредственно на музыкальном творчестве. Полутоновый
хроматический ряд оставался нетемперированным и одно-
факторным по причине природы образующих его звуков,
которые лишены тенденции к интенсивным ладовым спря-
жениям и тяготениям друг к другу. Конечно, в ходе эволю-
ции музыкального творчества происходили и изменения
ладовой системы, заключающиеся в естественном отборе
определенных ступеней хроматического ряда и нахождении
новых закономерностей в их расположении. Многочислен-
ные заимствования, развитие исполнительского искусства,
требовавшие гетерофонического наложения звуков и аккор-
довых созвучий при аккомпанементе пению на некоторых
струнных инструментах — все это вело к фактическому раз-
мыванию «классической» системы-люй. Но процессы, имев-
шие место в музыкальной реальности, в течение долгого
времени оставались вне поля зрения теоретиков музыки.
Впервые проблемой темперации хроматического строя
задался северосунский ученый и музыкант Цзай Ю, обра-
тивший внимание на откровенные несовпадения некото-
рых делений нормативного звукоряда хуанчжун со шко-
лой одного из самых авторитетных и популярных нацио-
нальных инструментов — циня49і. Отталкиваясь от этих
наблюдений, Цзай Ю пришел к системе равномерной темпе-
рации, основанной на весьма точных математических рас-
четах, предвосхитив таким образом на целый век открытие
Веркмейстера. Но его разработки и практические предложе-
ния не получили применения, с одной стороны по причине
отрицательного отношения верховных властей того времени
к любым музыкальным новациям, «искажающим истин-
ную древность», a с другой — в связи с упадком националь-
ной музыкальной культуры в условиях стремительной де-
градации правящего режима.
Итак, мы видим, что интонационный строй китайской
музыки, действительно, отнюдь не являлся фактом мест-
ного музыкального искусства как такового, a превратился
в подлинно общекультурную реалию, воплотившую все осо-
бенности национального мировосприятия.
940
Основной фонд китайского национального инструмен-
тария, сложившийся ко второй половине чжоуской эпохи,
насчитывал около 70 инструментов: столько их названий
приводится в письменных памятниках того времени. Па-
раллельно с утверждением этого фонда в Древнем Китае
была разработана и типология музыкальных инструмен-
тов, в которой они подразделяются на 8 групп исходя из
материала: каменные, металлические, из глины, из дере-
ва, из кожи, из тыквы-горлянки, из бамбука и из шелка
(т. е. с шелковыми струнами).
Инструменты из камня (цин) — в европейской термино-
логии, каменные ударные самозвучащие инструменты —
представлены литофоном и било. Литофон — набор опреде-
ленным образом подобранных каменных плит. История его
происхождения восходит, по всей вероятности, еще к неоли-
тической эпохе, и он занимал значительное место в иньском
инструментарии. На сегодня известно несколько образцов
литофонов, датируемых позднеиньским периодом. Они со-
стоят из плит треугольной или полукруглой формы, имею-
щих в длину около 50 см и в ширину — чуть менее 40 см.
Один из таких наборов состоит из трех плит различных раз-
меров. С Ѵ-ІѴ вв. до н. э. каменные плиты стали подвеши-
ваться на горизонтальной раме, a звукоизвлечение достига-
лось ударами по ним молотком, вследствие чего в европей-
ской литературе за этим инструментом утвердилось название
«каменный гонг». Впоследствии каменные плиты были за-
менены нефритовыми, a их число увеличилось до 12 или
16 штук. Они настраивались по шкале люй. Так образовался
фактически новый инструмент, называемый бяньцин, кото-
рый входил в состав придворных и храмовых оркестров,
постепенно превратившись в сугубо ритуальный инструмент,
использовавшийся при исполнении «древних» произведений.
Каменное било — инструмент, похожий на котелок или
перевернутый колокол. Он обычно имеет вытянутый корпус
и выпуклое навершие, украшенное изображением животного
или птицы. Несмотря на откровенную примитивность, било
считалось инструментом, производящим необыкновенно чис-
тый звук, a потому рождающим умение, по словам Сыма
Цяня, различать добро и зло и тем самым воспитывать в
человеке чувство ответственности и готовность к самопожерт-
вованию во имя интересов общества и страны. «Совершенный
муж, — продолжим характеристику этого инструмента, дан-
ную в «Ши цзи», — слыша звон каменного била, думает о
чиновниках, погибших в борьбе за жалованные земли».
Инструменты из металла — металлические ударные
самозвучащие инструменты — включает в себя семейство
колоколов, гонгов, кимвалов, a также бронзовые бараба-
ны, хотя они и не учитываются в приведенной типологии.
Древнейшей разновидностью китайского колокола на
сегодня считается колокол- нао, представляющий собой пред-
мет, напоминающий по форме лезвие лопаты с ручкой, ко-
торый насаживался на деревянную колотушку. Прототипом
нао, скорее всего, послужили секиры-юэ. Звук извлекался
путем битья по лопаточной части деревянной колотушкой.
ВАЖНЕЙШИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ И
ЗАИМСТВОВАННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Колокол-hslo
a — стандартный вид; б — Позд-
няя Инь (высота 50 см, макси-
мальная ширина 32,5 см, пров.
Хунань).
941
Колокол-чжуи
(стандартный вид)
Колокол-юкчжуя.
Раннее Чжоу.
Пров. Сычуань. 56 см
Колокола
a — набор из 3 колоколов-кюч-
жун. Раннее Чжоу (Пров. Сычу-
ань); б — колокол-бо. Стандарт-
ный вид.
Существует точка зрения, что именно нао были главными
официальными инструментами в иньскую эпоху. Известна
серия их образцов, самый крупногабаритный из которых
имеет высоту 89 см и вес 154 кг. Нао достаточно активно
использовались и в раннечжоуский период, достигнув в это
время наибольшего богатства своего художественного оформ-
ления. Но уже к VIII в. они почти полностью вышли из
употребления, долыпе всего продержавшись, подобно мно-
гим категориям бронзовых сосудов, на Юге.
Тем не менее сам этот термин прочно вошел в китайскую
музыкальную культуру. Нао уже в конце периода Борю-
щихся царств стали называть специальный войсковой ко-
локол, удар по которому служил сигналом к военным дей-
ствием или отбоя. Этот термин также входит в название
отдельной разновидности боевых песен — «Песни под ак-
компанемент нао» («Наочуйгэ»), которые исполнялись на
марше и перед началом боя под звуки барабанов, гонгов и
флейт. В результате в музыковедческих теориях разбирае-
мый инструмент во всех воплощениях превратился в сим-
вол воинского долга и доблести, что мы и видим в его харак-
теристике, данной Сыма Цянем: «Долгий звук колокола
рождает призыв, a призыв рождает решимость, решимость
же зовет к делам. Совершенный муж, заслышав звук коло-
кола, думает о военных чиновниках-офицерах».
Непосредственным преемником древнего нао стал ко-
локол-чжун. В дальнейшем этот термин трансформировал-
ся в родовой, посредством которого обозначались любые
колокола, в том числе, как мы помним, и буддийские
(с язычком). Первоначально колокол-чжун тоже представ-
лял собой лопаткообразный инструмент, который в отли-
чие от своего предшественника подвешивался. Чжоуские
чжун в зависимости от размеров подразделялись на «боль-
шие» (нючжун) и «маленькие» (юнчжун) колокола, кото-
рые подвешивались чуть наклонно.
Отдельную разновидность древних колоколов образует
колокол-бо, тоже появившийся в начале чжоуской эпохи.
Он имеет колоколовидную форму и снабжен специальной,
петлеобразной рз^чкой, позволявшей подвешивать его стро-
го вертикально. Бо могли иметь весьма внушительные раз-
меры (например, колокол из погребения удельного прави-
теля царства Цинь, высотой 75 см и весом 62,5 кг) и, как
правило, пышно декорировались.
942
Чаще всего колокола образуют инструментальные набо-
ры — бяньчжун, которые на всем протяжении чжоуской
эпохи являлись наиболее распространенным оркестровым ин-
струментом. Их древнейшие образцы относятся к началу
раннечжоуского периода. Они состоят из деревянной рамы
с двумя брусками, к которой могли подвешиваться до 16 ко-
локолов, хроматически настроенных от До третьей октавы
до Ми четвертой. Самым же масштабным бянъчжуном яв-
ляется уже упоминавшийся инструмент из погребения мар-
киза И. Он состоит из 19 болыпих колоколов-чжі/н, 45 ма-
леньких и одного колокола-бо, подвешенных в три яруса на
деревянных (резных, с лаковым покрытием) рамах.
При Хань число колоколов в бянъчжунах заметно со-
кратилось — не более двух на одной раме, что свидетель-
ствует об общем сокращении удельного веса колоколов в
оркестре. Позднее бянъчжун трансформировался в стан-
дартный музыкальный инструмент, состоящий из набора
небольших колокольчиков.
Все разобранные разновидности древних колоколов не
имели язычка, и звукоизвлечение достигалось путем уда-
ров по их поверхности деревянными или металлическими
предметами.
Бронзовый гонг — чжэн — представляет собой большое
металлическое блюдо, закрепленное с помощью кожаных
подвесок внутри деревянного кольца. В дальнейшем он
служил преимущественно войсковым музыкальным инст-
рументом для подачи сигналов к исполнению приказов
Набор из 8 колоколов-
юнчжун. Раннее Чжоу.
Пров. Шэньси
Музыкальный инструмент
бяньчжун
Музыкальный инструмент
из набора гонгов (ао)
943
Кимвалы.
С рельефа на саркофаге
Ли ПІоу
Барабан-иягу
Барабанчик-т&огу
или началу атаки. Кроме собственно гонга, существовал и
порожденный им отдельный музыкальный инструмент —
ао, состоящий из набора (чаще всего 10) небольших одина-
ковых по размеру металлических тарелок, закрепленных
на одной деревянной раме.
Кимвалы — инструменты в виде двух бронзовых таре-
лочек. В зависимости от размера они подразделяются на
7 разновидностей.
Бронзовые барабаны появились, возможно, в иньскую
эпоху. На сегодня известен один такой экземпляр (1977 г.),
который предназначался, возможно, не для игры на нем, a
для экспонирования в храме. Еще два бронзовых барабана
обнаружены для периода Весен и осеней. Оба они богато
украшены рельефным орнаментом в виде переплетенных
змеиных тел, однако и их истинное предназначение остает-
ся не совсем понятным.
Под инструментами из кожи имеются в виду барабаны,
т. е. ударные инструменты с мембраной. Уже при Чжоу
существовало огромное число различных разновидностей
барабанов, выполненных из металла, дерева, тыквы и даже
бычьего пузыря. Наиболынее распространение из них име-
ли, во-первых, «большой барабан» (цзянъгу или ингу), с
корпусом из меди и мембраной из кожи. Он устанавливался
горизонтально на деревянной подставке. Играли на нем с
помощью двух бит. Удары «болыыого барабана» служили
для отметки сильной доли такта, a в военных оркестрах —
для создания устрашающего грохота. Нередко по бокам под-
вешивались два маленьких барабанчика, и вся эта компози-
ция украшалась лентами и перьями.
Вторая популярная разновидность древних барабанов —
«маленький барабанчик» (сяогу) — небольших размеров,
круглой формы инструмент, высота которого значительно
меньше диаметра. Его держали в одной руке или клали на
пол, a звук извлекался с помощью ударов палочек, пальцев
рук или ноги. Третья разновидность — барабан-пгаогу —
тоже небольшой плоский барабанчик, с рукояткой и двумя
шариками на шнурах, производящими громкий треск при
их прокручивании. О таогу упоминается в чжоуских (кон-
фуцианских) текстах и, судя по археологическим находкам,
он достаточно широко применялся и при Хань. Впослед-
ствии данная разновидность превратилась в ритуальный
инструмент и в инструмент разносчиков товаров.
Все разобранные ударные инструменты употреблялись
не только в оркестровых группах для исполнения собствен-
но музыкальных произведений, но и для обеспечения ритма
песнопений. Так, например, сохранилось описание исполне-
ния гимна, приписываемого Конфуцию, в котором отмеча-
ется, что на каждое его слово приходились один удар коло-
кола, два удара литофона и четыре удара барабана.
Под инструментами из глины понимаются уже хорошо
знакомые нам окарины, a из дерева — цинбалы (деревян-
ные колотушки, чжуюй).
Инструменты из тыквы-горлянки — одни из самых спе-
цифических китайских инструментов, относящиеся в ев-
944
ропейской классификации к духовым язычковым. Они пред-
ставляют собой комбинацию из воздушного резервуара, роль
которого чаще всего действительно исполнял тыквенный
сосуд, снабженный особым приспособлением для регуля-
ции притока воздуха, и набора бамбуковых или тростнико-
вых трубок. Самым известным инструментом данной груп-
пы является губной органчик-шэн.
Литературные источники вновь возводят его к глубокой
древности и наделяют необыкновенными музыкальными
достоинствами. В том числе считалось, что его звучание
точно воспроизводит пение фениксов. Настройка шэн про-
изводилась по шкале люй, a диапазон зависел от количества
и размера трубок. Звук в этом инструменте извлекается пу-
тем вдувания воздуха в резервуар и закрытием пальцами
круглых отверстий на трубках. Закрытая трубка издает оп-
ределенный звук, соответствующий настройке. По мере его
эволюции (шэн сохранялся почти на всем протяжении исто-
рии китайской музыкальной культуры) возникали различ-
ные модификации губного органчика. По письменным сви-
детельствам, количество трубок могло варьироваться от 7
до 90. Однако лучше всего представлены две основные его
модификации — шэн, применявшийся в придворных орке-
страх и в простонародном музыкальном творчестве. В пер-
вом случае он обычно включал в себя набор из 17 трубок и
воздушный резервуар, сделанный из выдолбленного дерева.
Простонародный шэн по-прежнему имел тыквенный резер-
вуар и набор из 13 трубок. В любой его модификации этот
инструмент позволял получать характерный двухголосый
органум в параллельных квинтах и с привходящими други-
ми интервалами, что делает его сходным с западноевропей-
ским средневековым органом. Играть на нем можно было
как сидя, так и стоя.
Кроме шэна, существовал еще один инструмент — юй,
имевший почти точно такую же конструкцию, но отличаю-
щийся от губного органчика размерами: он мог достигать в
длину около 1 м. Подлинный образец этого музыкального
инструмента был обнаружен в Мавандуй. Он имеет 22 бамбу-
ковые трубки, толщиной 8 мм и длиной от 14 до 78 см. Труб-
ки расположены в два ряда, две самые длинные — в центре.
Инструменты из бамбука — духовые деревянные инст-
рументы, включающие в себя весьма обширное семейство
свирелей и флейт. Изредка свирели исполнялись и из дру-
гих материалов — нефрита, бронзы (несколько таких об-
разцов найдены для неолитической, иньской эпох и для
раннечжоуского периода). Однако металлические духовые
инструменты не получили в Древнем Китае дальнейшего
развития и не выделились в отдельную инструментальную
группу. Часть китайских свирелей и флейт почти полностью
совпадают со своими европейскими аналогами. В том числе,
это поперечная бамбуковая флейта-юэ с шестью пальцевыми
отверстиями и открытым концом, флейта-чжи — с восемью
отверстиями. Другие разновидности, например, сяо и гуанъ,
по своему устройству представляют собой род гобоя. Отдель-
ного упоминания заслуживает флейта-^і/ — с девятью или
60 Исторпя искуссгва Кмтая
Губной органчик (тэн)
и способы игры на нем
a — период Борющихся царств
(бронзовая скулыггура, пров. Чжэ-
цзян); б — эпоха Тан (с рельефа
на саркофаге Ли Шоу).
945
Древние духовые
инструменты
a — нефритовая свирель (Позд-
няяИнь, высота 5,2 см, диаметр
1,5 см); б — набор бронзовых
флейт (период Весен и осеней,
пров. Ганьсу, высота 3-5 см).
і м«і*м*ічч'іт я і і>
Типовой вариант
китайской флейты
Способы игры
на свирели-и&йсяо.
С рельефа на саркофаге Ли
Шоу. Эпоха Тан
Цинь. Типовой вариант
десятью отверстиями, имевшая диапазон до двух с полови-
ной октав и издававшая резкий пронзительный звук. В при-
дворных оркестрах чаще всего использовалась ее разновид-
ность, называемая «драконова флейта» (лунди), заканчива-
ющаяся скульптурным изображением головы дракона.
Наиболее специфическим видом местных духовых ин-
струментов является пайсяо, китайский сиринкс, представ-
ляющий собой род флейты Пана. Он состоит из открытых
сверху и закрепленных на деревянной основе трубок, каж-
дая следующая из которых равнялась двум третям преды-
дущей. Настройка, число и характер расположения тру-
бок — в два ряда и по шесть в каждом из них, делали
пайсяо, с одной стороны, своеобразным аналогом литофо-
нов и наборов колоколов, a с другой — воплощением систе-
ыы-люй. Этим, возможно, объясняется их устойчивость.
Возникнув не позднее периода Борющихся царств, они ак-
тивно применялись в оркестровых группах и танской, и
последующих исторических эпох, хотя и в нескольких раз-
личных модификациях. Играть на пайсяо тоже можно было
и стоя, и в сидя.
Инструменты из шелка — струнные щипковые инстру-
менты, возглавляемые уже неоднократно упоминавшимся
выше цинем и так называемыми гуслями-сэ. Цинъ — цит-
роподобный инструмент, изобретение которого настойчиво
приписывается божествам или легендарным правителям
древности, чаще всего — Фу-си. По преданию, он выбрал
дерево элеккока и сделал из него круглую — подобно Небу —
резонаторную доску и квадратную — как Земля — нижнюю
деку. В своем стандартном варианте цинъ имеет длину чуть
более 1,5 м и снабжен 5 или 7 струнами, каждая из которых
должна быть сплетена из определенного количества нитей.
Первая — из 108, вторая — из 96, третья — из 81, четвер-
тая — из 72, пятая — из 64, шестая — из 54 и седьмая —
из 48. Нетрудно заметить, что и в данном случае применяет-
ся уже хорошо знакомый нам числовой код, основанный на
обыгрывании числа 9. На верхней деке циня закреплялись
13 кружков из перламутра или кости, указывающих лады.
Обладавший мягкостью звучания, широким диапазоном
и точностью настройки, цинь, начиная с древности, неиз-
менно входил в число самых популярных и авторитетных
музыкальных инструментов, служивших, помимо оркестро-
вых ансамблей, для сольного исполнения и уединенного
музицирования представителей социальной и интеллекту-
альной элиты общества. По преданию, великолепным мас-
тером игры на нем был сам Конфуций, всегда носивший с
собой любимый инструмент и нередко игравший на нем
перед учениками, объясняя им истинный смысл каждой
мелодии. Конфуцию приписывается и серия пьес для циня,
о которых постоянно упоминается в древних текстах и в
позднейших музыковедческих трактатах. Во II в. н. э. был
составлен подробный перечень произведений для циня, вклю-
чающий в себя названия мелодий и пьес, имена их предпо-
лагаемых авторов и сведения об истории создания. Описа-
ние этого музыкального инструмента в различных его диа-
946
хронных вариантах и методов игры на нем приводятся во
многих сочинениях по истории и практике музыкального
творчества, a изображения исполнителей присутствуют в
многочисленных художественных произведениях.
Гусли-сэ — инструмент, видимо, изобретенный и полу-
чивший наибольшее распространение на Юге, в царстве Чу.
За период с 1935 по 1973 гг. в чуских погребениях было
найдено в общей сложности 56 образцов сэ, позволивших в
деталях выявить особенности его устройства. Длина чуских
гуслей колеблется от 53 до 187 см, ширина — от 50 до 47 см.
Количество струн обычно составляет 23, 24 и 25. Самый
болыпой из них имеет размеры 187х47сми85 струн, са-
мый маленький — 53 х 27 см и 24 струны. Еще один сэ
находился среди погребального инвентаря госпожи Дай.
Он имеет резонатор 116 х 39,5 см с несколько выпуклой
поверхностью: высота средней части — 10,8 см, по бокам —
8,4 см, и 25 струн. Игра на сэ производилась исключитель-
но сидя положении, но в нескольких позах. Инструмент
либо клался перед музыкантом, и в этом случае исполни-
тель, вытянув руки над ним, перебирал струны указатель-
ными пальцами; либо один его конец размещался на коле-
нях, a другой касался пола.
Итак, традиционная музыковедческая типология в це-
лом достаточно точно отражает национальный инструмен-
тальный фонд, хотя в ней и упускается специфика отдель-
ных инструментов, которую принято учитывать в европей-
ских типологиях и классификациях. Кроме того, вне ее
остались некоторые предельно самобытные инструменты,
отличающиеся спецификой способов игры на них, напри-
мер, чжу и юй. Чжу — резонирующий деревянный ящик с
узким дном и широким верхом, по которому наносились
удары деревянной колотушкой. В дальнейшем он использо-
вался для подачи сигнала о начале исполнения музыкаль-
ного произведения, но в Древнем Китае служил самостоя-
тельным инструментом. Юй — инструмент в виде фигуры
лежащего животного (тигра), в спину которого вделаны
2 ряда зубьев из шелка. Звук извлекается посредством их
трения бамбуковой щеткой. Практика подобных способов
звукоизвлечения еще раз подчеркивает интерес древних ки-
тайцев в большей мере к внешним свойствам музыки, чем к
возможности использовать тот или иной инструмент для
выражения «внутренних» ладовых соотношений.
Важность традиционной типологии для изучения ис-
тории китайского музыкального искусства заключается
еще и в том, что она отражает общекультурные взгляды
на музыкальные инструменты и их иерархию. Понятно,
что сама по себе эта восьмеричная типология опирается на
все ту же космологическую модель, прямо соотносясь с
«восьмью ветрами» и «восьмью чертами». Соответственно
и все группы инструментов так или иначе соотносятся с
пространственно-временными координатами и всеми про-
чими природными элементами, чем и объясняется их иерар-
хия в оркестре в музыковедческих теориях. Верхнюю по-
зицию в этой иерархии занимали барабаны, считавшиеся
Способы игры на цине
a — зпоха Тан (с рельефа на сар-
кофаге Ли Шоу); б — Северная Сун
(с живописного произведения).
Гусли-сэ и способ игры
на них. Бронзовая
скулъптура.
Период Борющихся царств.
Пров. Чжэцзян
Специфические
инструменты
a — чжу; б — юй.
947
Скрипка-хуцинь
Скрипка-сыху
Пипа
Способ игры на пипе.
С рельефа на саркофаге
Ли Шоу. Эпоха Тан
воплощением звуков Неба (грома), и колокола, ассоцииро-
вавшиеся с Центром и Землей, a значит, символизировав-
шие государственность и правителя. «Барабан можно срав-
нить с Небом, колокол — с Землей», — гласит «Сюнь-цзы».
«Управление подобно музыке. Звук приводит в гармонию
музыку, a ладовая система приводит в порядок звуки. Ин-
струменты из металла и камня зачинают музыку, инстру-
менты из шелка и бамбука способствуют ее продвиже-
нию», — читаем еще в одном известном чжоуском сочине-
нии конфуцианского круга «Речи царств» («Го юй»)
Подобное отношение к ударным инструментам отра-
жает важнейшую типологическую особенность древнеки-
тайского музыкального искусства — преобладание в нем
инструментов-«монохромов», которые дают возможность
воспроизводить отдельные изолированные тона, макси-
мально затрудняя при этом или делая принципиально
невозможным гибкий и быстрый переход из одного строя
в другой.
Несмотря на их многообразие, национальные по проис-
хождению инструменты составляют лишь неболыную часть
инструментального фонда, который сложился на протяже-
нии последующих исторических эпох и дошел до наших
дней. Он состоит приблизительно из 500 инструментов, 80%
которых являются заимствованными.
К заимствованным инструментам относятся практиче-
ски все смычковые, a также многие виды духовых и удар-
ных инструментов, которые, придя в Китай при Хань или
в эпоху Шести династий, в скором времени стали воспри-
ниматься в качестве сугубо местных. Нередко они вытес-
няли их древнекитайские аналоги.
Из струнных инструментов наиболее существенными
заимствованиями считаются хуцинь, пипа и кунхоу.
Хуцинъ, «варварский цинъ» или «китайская скрип-
ка» — струнный смычковый инструмент, который был
заимствован при Хань y северных соседей империи, на
что указывает его оригинальное терминологическое обо-
значение. В «классическом» его варианте этот инструмент
должен иметь корпус, сделанный из скорлупы кокосового
ореха и закрытый сверху деревянной резонирующей де-
кой, гриф без ладов и две струны, которые настраиваются
при помощи колков. Смычок, выполненный из тонкого
бамбукового прута, на котором натянут конский волос,
продевается между струнами. В дальнейшем хуцинь дал
жизнь нескольким относительно самостоятельным видам
смычковых струнных инструментов, в том числе скрипке-
сыху, имеющей 4 струны.
Пипа — разновидность гитары, тоже проникшая в
Китай при Хань и быстро снискавшая там всеобщее при-
знание. Ее точное происхождение неизвестно. В ханьских
текстах только говорится, что это — инструмент инозем-
цев, на котором играют, сидя на лошади. Извлечение зву-
ка руки вниз по струнам называется nu> a вверх — па,
откуда и проистекает его название. Там же рассказывает-
ся, что первая пипа и мастер игры на ней были привезены
948
в Поднебесную некоей тюркской принцессой, присланной
в императорский гарем. Современные исследователи по-
лагают, что пипа является либо исходно согдийским му-
зыкальным инструментом, либо центрально-азиатским,
который попал в Китай через согдийское музыкальное
искусство. Первоначально, судя по дошедшим до нас изоб-
ражениям, на пипе играли, держа ее почти горизонталь-
но. Корпус инструмента делался из дерева, резонирую-
щая доска была плоской, нижняя дека — округлой. Он
имел четыре шелковых струны, натянутых на колки, что
позволяло менять настройку, которая была отчетливо свя-
зана с пентатонной гаммой. Звук извлекался с помощью
плектра. Постепенно устройство пипы и способ игры на
ней изменился: плектр был упразднен, отверстия на деке
исчезли. Инструмент стали держать вертикально, что по-
зволяет руке, нажимая на струны и играя всеми пятью
пальцами, как на гитаре, свободно двигаться по его шей-
ке. Все это значительно расширило технические возмож-
ности пипы.
Кунхоу — инструмент рода арфы, пришедший в хань-
ский Китай из Средней Азии или с Ближнего Востока.
Первоначально (судя по изображениям) он имел три стру-
ны и держался, при игре на нем, в горизонтальном поло-
жении. В дальнейшем его стандартным конструктивным
вариантом стала изогнутая рама с комплектом из 20 струн.
Известно, что уже в III—IV вв. кунхоу превратилась в жен-
ский аристократический музыкальный инструмент, обуче-
ние игры на котором входило в домашнее воспитание дево-
чек из знатных семей. Играть на этой арфе тоже можно
было и сидя, и стоя: в первом случае ее нижний край
упирался в верхнюю часть груди, во втором — на колено.
В обеих позах игра производилась двумя руками посред-
ством перебирания струн. Кунхоу использовались как для
оркестрового, так и сольного исполнения. На протяжении
танской и сунской эпох она продолжала оставаться на по-
ложении аристократического инструмента и вышла из упот-
ребления при Юань.
Из других заимствованных струнных инструментов от-
дельного упоминания заслуживают также танбур, сетар
и калун.
Танбур — инструмент типа лютни, с корпусом груше-
видной формы, переходящим в длинную шейку, снаб-
женный тремя струнами — исходно индийский музыкаль-
ный инструмент, получивший широчайшее распростране-
ние в странах Арабского Востока и Средней Азии, откуда
он и попал в Китай. В китайском своем конструктивном
варианте, называемом танбула, он приобрел корпус из
высушенной тыквы, деревянную верхнюю деку и металли-
ческие струны. Сетар тоже исходно арабский музыкаль-
ный инструмент, пришедший в Китай, видимо, из Кашга-
рии. Получивший здесь название сайтоюй, он приобрел
девять струн — семь металлических и две шелковые — и
23 кольца из шелковых нитей на грифе, которые располо-
жены строго в определенных местах, служа ладами. Играют
Кунхоу
a — исходные варианты (рекон-
струкция); б — эпоха Тан (с ре-
льефа на саркофаге Ли Шоу).
Сетар (сайтоюи)
949
на нем с помощью деревянного плектра. Калун (персид-
ское название, узбекский калин, в китайской терминоло-
гии — гуюйнай) — цимбалоподобный музыкальный инст-
румент, состоящий из крылообразного деревянного резона-
торного ящика и 18 натянутых на него металлических и
шелковых струн. Играют на нем с помощью утолщенных
на концах палочек.
Из заимствованных ударных инструментов назовем пер-
сидский наксера (кит. нагула) — парные вертикальные
барабаны с металлическим корпусом и кожаной мембра-
ной. Из духовых — инструмент туба (кит. дахао) — ме-
таллическую трубу кольцеобразной изогнутой формы с боль-
шим раструбом, которая пришла в Китай уже при Тан.
Утверждение в китайском музыкальном творчестве столь
внушительного числа заимствованных инструментов слу-
жит лучшим доказательством того, что его развитие проис-
ходило естественным путем и вне реальной зависимости от
музыковедческих теорий космолого-этического характера.
Тем не менее эти теории продолжали поддерживать обще-
ственный авторитет национального музыкального искусст-
ва, что и способствовало его неизменному пребыванию в
ранге органического и насущного элемента китайской им-
перской государственности. Таким образом, музыкальное
искусство тоже демонстрирует нерасторжимое единство в
китайской художественной культуре собственно творческой
деятельности и идеологических традиций.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Определяющей особенностью китайского искусства является гетеро-
генность его происхождения, которая обусловлена фактом полицентри-
ческого генезиса самой по себе национальной цивилизации. Как неоспо-
римо следует из новейших археологических данных, она начала склады-
ваться еще в рамках неолитической эпохи на основании нескольких
изначально самостоятельных культурных общностей. Вырисовываются
по меньшей мере два исходно самобытных художественных ареала, соот-
носящихся с неолитическими культурами, располагавшимися в регионах
бассейна Хуанхэ и Янцзы, каждый из которых обладал собственными
типологическими особенностями. Первый характеризуется художествен-
ным традиционализмом, выражающимся, прежде всего, в тенденции к
типизации и стандартизации творческой активности, приоритетном ис-
пользовании графических образов и господстве натуралистического сти-
ля. Второй — художественной инновационностью, развитостью простран-
ственного воображения и общего имагинационного начала, a также нали-
чием «фантазийного» стиля, нацеленного на создание изображений
фантастических существ. Следовательно, китайское искусство изначаль-
но располагало совершенно различными художественными установками,
эстетическими ориентирами и изобразительными средствами, получив
тем самым возможность создавать все новые и новые стилистические
модификации путем варьирования и комбинирования исходно регио-
нальных элементов, не выходя при этом за пределы единого художе-
ственного субстрата. Кроме того, благодаря автохтонности своего проис-
хождения, региональные традиции сохраняли самые разные, порой взаи-
мопротиворечащие художественные образцы. Поэтому практически для
любого заимствования китайское искусство находило свои типологиче-
ские или типологически близкие аналоги, и эти заимствования, наклады-
ваясь на них, быстро и естественно адаптировались к исходно чуждой
художественной среде. В этом заключается имманентная способность ки-
тайского искусства воспринимать различные новации, проникавшие из-
вне, и практически все виды местного декоративно-прикладного искусст-
ва блестяще это подтверждают.
Устойчивость самих по себе региональных художественных тради-
ций объясняется особенностями исторического развития китайской ци-
вилизации, которое происходило по циклической модели и состояло из
смены периодов существования централизованной государственности и
административно-политической раздробленности страны. Если в периоды
становления и господства централизованной (особенно имперской) госу-
дарственности доминировали тенденции к унификации и стандартизации
всей предметно-творческой и интеллектуальнотворческой деятельности
Китая, то в периоды раздробленности происходило очередное оживление
региональных и локальных художественных форм, пусть даже в искажен-
ном, рудиментарном и реликтовом виде. Эти формы остаются легко узнава-
емыми на протяжении всей истории искусства древнего и традиционного
Китая, что мы наиболее отчетливо видим на материале живописи и архи-
тектонических видов искусства, которые устойчиво подразделяются на
две — «северную» и «южную» — генеральные стилистические линии.
Следующая важнейшая типологическая особенность китайского ис-
кусства заключается в отсутствии подразделения его на светское и рели-
гиозное, и причины кроются в особенностях местного института верхов-
ной власти и государственности: совмещение правителем функций свет-
ского и духовного лидера страны и отсутствие самостоятельного жреческого
сословия. Поэтому китайская предметно-творческая деятельность содер-
жит сферы и уровни, обусловленные исключительно социокультурным
признаком. Четко выделяются традиции официального (предназначенно-
го для удовлетворения запросов государственности и находящегося в гене-
тическом родстве с институтом верховной власти) и неофициального (ори-
ентированного на духовные нужды личности) искусства, a также элитар-
ного (создаваемого представителями социально-интеллектуальной элиты
общества) и простонародного, низового творчества. Причем в силу совпаде-
ния в китайском протоимперском и имперском обществе контуров его со-
циальной и интеллектуальной элиты, традиции официального и неофици-
ального искусства оказываются порождением творческой активности од-
них и тех же людей и, как следствие, соотносятся по принципу универсалыюй
для человечества оппозиции «социум-индивидуум», никогда не вступая в
подлинно антагонистические противоречия друг с другом. Более того, обе
они подчинялись общекультурным императивам, образующим единый
художественно-эстетический канон.
Такие императивы начали складываться еще в русле древнейших ре-
лигиозных и миропознавательных представлений, т. е. задолго до появле-
ния собственно эстетической мысли. Распространявшиеся первоначально
только на ведущие в тот момент виды национальной предметно-творче-
ской деятельности (литературное творчество, музыкальное искусство и
строительство), они впоследствии приобрели универсальный характер и
легли в основание собственно эстетических установок и концепций. В сво-
ем окончательном виде, сложившемся к ѴІІ-ѴІП вв., китайский художе-
ственно-эстетический канон являет собой полисемантическое и полиморф-
ное образование, состоящее из нескольких структурных уровней, которые
распадаются на два главных отдела. В первый входят императивы, обус-
ловливающие авторитет и действенность художественного творчества в
качестве элемента системы государственности и предназначенного для
удовлетворения духовных потребностей общества. Будучи порождением
древнейших религиозно-космологических представлений и обрядовых прак-
тик, принадлежавших центрально-китайскому (регион бассейна Хуанхэ)
культурному субстрату, в которых художественное творчество наделялось
сакральным смыслом и магическими функциями, они получили дальней-
шее развитие и теоретическое обоснование в натурфилософии и конфуциан-
стве, упрочивших соответственно космологическую семантику творческой
деятельности и ее общественный статус. Второй отдел образуют императи-
вы, направленные на обоснование, напротив, сугубо индивидуализиро-
ванной творческой деятельности, предназначенной для удовлетворения
исключительно персональных духовных запросов человека и открывав-
шей простор для раскрытия его психоэмоционального состояния. Они
обязаны своим происхождением культурной и религиозной традиции юж-
ного региона Древнего Китая и теоретически были разработаны и концеп-
туализированы в древней даосской философии, в производных от нее
учениях и культурно-идеологических течениях и в школе Чань. В резуль-
тате китайское искусство располагало художественно-эстетическим кано-
ном, способным охватить все возможные виды и сферы предметно-твор-
ческой деятельности, что составляет еще одну его важнейшую специфи-
ческую примету.
Указанные характеристики китайского искусства требовали особой
системы изобразительных средств, каковой и стала художественная об-
разность. Она прошла приблизительно тот же путь развития, что и худо-
жественно-эстетический канон, с той существенной разницей, что процесс
ее формирования начался еще в неолитической предметно-творческой дея-
тельности и продолжался вплоть до конца существования имперского
Китая. Важно, что в китайской образной системе знаменательной функци-
ей наделялись не только фигуративные изображения и орнаментальные
мотивы, но и практически все морфолого-семиотические единицы произве-
дения: его конфигурация, числовые (размеры, комплектация наборов изде-
лий, количество архитектурных деталей и т. д.) и цветовые показатели.
Кроме того, китайская образная система обладает способностью адекватно
реализовываться и в визуальных, и в архитектонических, и в словесных
(литературных) формах. В результате китайское художественное творче-
ство получило в свое распоряжение арсенал изобразительных средств, по-
средством которых устанавливаются, во-первых, нерасторжимые связи
между различными видами творческой деятельности и, во-вторых, конно-
тации каждого отдельного произведения искусства с внешним культурно-
идеологическим контекстом, благодаря которым оно насыщается всей со-
вокупностью семантических значений, диктуемых этим контекстом.
Образная система, в свою очередь, привела к образованию стандартно-
го набора морфологических и семиотических моделей. С равным успехом
они реализуются в таких, казалось бы, принципиально различных сфе-
рах предметно-творческой деятельности, как живопись, архитектони-
ческие и музыкальные виды искусства. Таким образом китайское худо-
жественное творчество обретает органичное единство, которое с трудом
поддается дифференциации на существующие в европейском искусство-
ведении виды.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ
ЛИТЕРАТУРА
ОБОБЩАЮЩИЕ
ИЗДАНИЯ
ПО ИСТОРИИ,
ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ
И ИСТОРИИ
ИСКУССТВА
КИТАЯ
1. МОНОГРАФИЧЕСКИЕ
ИЗДАНИЯ
В библиографический спи-
сок включены только моногра-
фические исследования, авто-
рефераты диссертаций и сбор-
ники статей.
Виноградова Н. А. Искусство Китая: Альбом. М., 1988.
Виноградова Н. А. Искусство средневекового Китая. М., 1962.
Виноградова Н. А.у Каптерева Т. П. Искусство средневекового Восто-
ка. М., 1989.
Виноградова Н. А. Николаева Н. С. Малая история искусства. М., 1979.
Виноградова Н. А. и др. Традиционное искусство Китая: Терминологи-
ческий словарь. М., 1997.
Глухарева О., Денике Б. Краткая история искусства Китая. М.; Л., 1943.
Кравцова M. E. История культуры Китая. 2-е изд. СПб., 2003.
Крюков M. B.f Софронов М. В., Чебоксаров Н. Н. Древние китайцы.
Проблема этногенеза. М., 1978.
Крюков М. В,у Малявин В. В., Софронов M. B. Китайский этнос на no-
pore средних веков. М., 1979.
Крюков М. В.у Переломов Л. С, Софронов М. В., Чебоксаров Я. Н. Древ-
ние китайцы в эпоху централизованных империй. М., 1983.
Крюков М. В.у Малявин В. ß., Софроноѳ М. В. Китайский этнос в сред-
ние века. М., 1984.
Крюков М, В.у Малявин В. В., Софронов М. В. Этическая история ки-
тайцев на рубеже средневековья и нового времени. М., 1987.
Купер Р.у Купер Дж. Шедевры искусства Китая: Пер. с англ. Минск,
1997.
Изобразительное искусство Китая / Сост. 0. Н. Глухарева. М., 1956.
История Китая с древнейших времен до наших дней. М., 1974.
Искусство стран и народов мира. Краткая художественная энциклопе-
дия. М., 1965. Т. 2.
Роуленд Б. Искусство Запада и Востока / Пер. с англ. М., 1958.
Страна Хань. Очерки о культуре Древнего Китая. Л., 1959.
Сычев В. Л. Искусство Китая. М., 1990.
Фицджералъд С. И. Китай. Краткая история культуры: Пер. с англ.
СПб., 1998.
2. СБОРНИКИ СТАТЕЙ
Публикации по художе-
ственной культуре и различ-
ным видам искусства Китая
широко представлены также в
периодическом издании Госу-
дарственного Эрмитажа («Тру-
ды Государственного Эрмита-
жа») и в материалах ежегод-
ной BœpoccidicKOÎi конференции
«Общество и государство в Ки-
тае» (Москва).
Бог-человек-общество в традиционной культуре Востока. М., 1993.
Государство и общество в Китае. М., 1978.
Китай. Государство и общество. М., 1977.
Китай: история, экономика, культура, героическая борьба за нацио-
нальную независимость. М.; Л., 1940.
Китай. История, культура и историография. М., 1977.
Китайские социальные утопии. М., 1987.
Культура и искусство Индии и стран Дальнего Востока. Л., 1975.
Культура и искусство народов Средней Азии в древности и средневеко-
вье. М., 1979.
Маньчжурское владычество в Китае. М., 1966.
Проблема человека в традиционных китайских учениях. М., 1983.
Роль традиций в истории и культуре Китая. М., 1972.
Теоретические проблемы изучения литературы Дальнего Востока. М., 1974.
Этика и ритуал в средневековом Китае. М., 1988.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ЛИТЕРАТУРА
К ЧАСТИ I
1. На русском языке
Быков A. A. Монеты Китая. Л., 1969.
Василъев Л. С. Проблема генезиса китайского государства М., 1992.
Древние культуры Китая, Палеолит, неолит и эпоха металла. Новоси-
бирск, 1985.
Глухарева О. Я., Кречетова M. H. Памятники искусства Китая в музе-
ях СССР. М., 1959.
Искусство Востока и античность / Под ред. М. А. Коростовцева. М., 1977.
Искусство Древнего Востока. М., 1986.
Искусство стран Востока / Под ред. Р. С. Василевского. М., 1986.
История Древнего Мира. Т. 1-3. М., 1989.
Кашина Т. Керамика культуры Яншао. Новосибирск, 1977.
«Книга» Марко Поло. М., 1955.
Кучера С. Китайская археология. М., 1977.
Малявин В. В. Китай в ХѴІ-ХѴИ веках. Традиции и культура. М., 1995.
Новое в археологии Китая. Исследования и проблемы: Сб. статей. Ново-
сибирск, 1985.
Научный гений Древнего Китая. История открытий и изобретений //
Курьер ЮНЕСКО. 1988. Ноябрь.
Сыма Цянь. Исторические записки / Пер. Р. В. Вяткина, В. С. Таски-
на, вступл. М. В. Крюкова. Т. 1-5. М., 1972-1987.
Сычев В. Л. Погребальные рельефы Китая I—II вв. н. э.: Автореф. дис.
... канд. М., 1970.
Шефер Э. Золотые персики Самарканда. Книга о чужеземных дикови-
нах в империи Тан / Пер. с англ. М., 1981.
954
All Treasures of the Shanghai Museum. Zagreb, 1981. 2. Ha европейскнх языках
Allan S. The Shape of the Turtle // Myth, Art and Cosmos in Early China.
Albany, 1991.
Ancient Chinese Art. New York, 1985.
Ancient Chinese Bronzes in the Avery Brundage Collection. San Francisco,
1966.
The Archeology of the Northeast China. Beyond the Great Wall / Ed. by
S. M. Nelson. London; New York, 1995.
Arts of China. Tokyo. 1969-1970. Vol. 1-3.
Arts of China. Jades, Ceramics, Sculptures. New York, 1942.
Bagley R. W. Shang Ritual Bronzes in the Arthur M. Sackler Collections.
Cambridge, 1987,
The Cambridge History of Ancient China. From the Origins of civilization
to 221 D. C. / Ed. by M. Loewe, L. Shaughnessy. New York, 1999.
Carter Th. Fr. The Invention of Printing in China and Its Spread Westward.
New York, 1955.
Chang Kch. Shang Civilization. New Haven; London, 1980.
Chang Kch. Early Chinese Civilization Anthropological Perspectives.
Cambridge, 1976.
Chine. Les bronzes du Sichuan. Paris, 2003.
Das Alte China. Menshen und Gotter im Reich der Mitte 5000 v. Chr.-220 n.
Chr. München, 1995.
Defining Chu. Image and Reality in Ancient China / Ed. by C. A. Cook,
J. S. Major. Honolulu, 1999.
International Conference on Shang Civilization. Abstracts of Papers.
Honolulu, 7-11 September, 1982 // Early China. 1986. Supplement 1.
The Freer Chinese Bronzes. Washington, 1967. Vol. 1; 1969. Vol. 2.
Freer Gallery of Art. Washington, 1973.
The Great Bronze Age of China / Ed, by Wen Fang. New York, 1980.
Hulemann Th. O. Jinan: Die Chu-Haupstadt Ying im China. München,
1986.
Keithtly D. N. Sources of Shang History. The Oracle Bones Inscriptions of
Bronze Age China. London, 1978.
Keithtly D. N. The Ancestral Landscape. Time, Space and Community in
Late Shang China (ca. 1200-1045 B. C). Berkeley, 2002.
Lawton Th. Chinese Art of the Warring States Period. Change and Continuity.
Washington, 1982.
Li Xueqin. The Wonder of Chinese Bronzes. Beijing, 1980.
Li Xueqin. Eastern Zhou and Qin Civilizations. New Heaven; London, 1985.
Li Xueqin. Chinese Bronzes. A General Introduction. Beijing, 1995.
Lin D. Bronze Mirrors Reflect Ancient Times. Taipei, 1997.
Loehr M. Ritual Vessels of Bronze Age China. New York, 1968.
Luo Zhewen. China's Imperial Tombs and Mausoleums. Beijing, 1993.
Le Musée de Pékin. Paris, 1964.
Luoyang: An Ancient Capital City. Luoyang, 1988.
National Palace Museum, Taipei. Taipei, 1996.
Needham J. Science and Civilization in China. Vol. 1-5. Cambridge, 1956-
1976.
Noël B. The Ch'u Silk Manuscripts: Scientific Examination. Canberra, 1972.
Vol. 1; 1973. Vol. 2.
Mysteries of Ancient China. New Discoveries from the Early Dynasties /
Ed. by J. Rawson. London, 1996.
Peking Today and Yesterday. Peking, 1956.
Possessing the Past. Treasures from the National Palace Museum, Taipei.
Taipei, 1996.
Rawson J. Ancient China. Art and Archeology. London, 1980.
Schloss E. Art of Han. New York, 1979.
The Shanghai Museum of Art / Ed. by Zhen Zhiyu. New York, 1981.
Stories from China's Past: Han Dynasty Pictorial Tomb Reliefs and
Archeological Objects from Sichuan Province. San Francisco, 1987.
Sullivan M. Chinese Art. Recent Discoveries. London, 1973.
Sullivan M. The Ats of China. Berkly; Los Angeles; London, 1984.
Treasures from the Tombs of Zhong Shan Guo Kings. Catalogue of an Exibition
Held at Tokyo National Museum. March 17 — May 5. Tokyo, 1981.
Xi'an — Legacies of Ancient Chinese Civilization. Beijing, 1992.
Xian: Places of Historical Interest. Memories of Chang'an. Xian, 2000.
Watson W. Art of Dynastic China. New York, 1981.
Weber Ch. D. Chinese Pictorial Bronze Vessels of the Late Chou Period.
Ascona, 1968.
Weng Wan-go. The Palace Museum: Peijing. New York, 1982.
Wilkinson E. Chinese History. A Manual. Revised and Enlarged. Harvard-
Yenching Institute Monograph Series. 52. (2000).
Wu Hong. The Wu Liang Shrine. The Ideology of Early Chinese Pictorial
Art. Stanford, 1992.
955
3. Ha китайском языке Ван Жэнъбо и др. Цинь Хань вэньхуа (Культура эпох Цинь и Хань).
Шанхай, 2001.
Вэньу (Cultural Relicts). 1990-2002.
Гуан Минши. Дэнбэй (Светильники). Шанхай, 2001.
Ду ЦзиньпэНу Ян Цзюйхуа. Чжунго шицянь ибао (Драгоценности насле-
дия китайской древности). Шанхай, 2000.
Иньсюй Фу-хао му (Погребение Фу-хао из «руин столицы Инь»). Пекин,
1980.
Каогу (Археология). 1990-2002.
Ло Цзунчжэнъ, Шао Вэньлян. Вэй Цзинь Наньбэйчао вэньхуа (Культу-
ра периодов Вэй, Цзинь и Южных и Северных династий). Шанхай,
2000.
Лоян гуму боугуань (Лоянский Музей гробниц). Лоян, 1987.
Лоян вэньу юй гуцзи (Культура и исторические достопримечательности
Лояна). Пекин, 1987.
Лючао ишу (Искусство эпохи Шести династий). Пекин, 1981.
Наньцзинши люйю фуу чжинань (Путеводитель по Нанкину). Цзянсу, 1988.
Наньцзин. Наньцзяо фэнцзин миншэн (Достопримечательности южного
пригорода Нанкина). Нанкин, 1986.
Наньян лян Хань хуа асянши (Каменные рельефы Наньяна, периода
обеих династий Хань). Пекин, 1991.
Синь чжунго чуту вэньу (Новейшие археологические находки Китая).
Пекин, 1972.
Сучжоуши люйю фуу чжинань (Путеводитель по Сучжоу). Цзянсу, 1988.
Ханчжоу ю (Путеводитель по Ханчжоу). Ханчжоу, 1990.
Ху Сяохуэй. Чжунго цайтао юй яньхуа дэ шэн сы мути (Проблемы
появления и исчезновения китайской расписной керамики и на-
скальной живописи). Шанхай, 2000.
Цао Чжэчжи, Сунь Цзянъгэнь. Чжунго гудай юн (Древняя погребальная
пластика Китая). Шанхай, 1996.
Цзян Шуцин. Пофэн тяныпу: Чжунго цайтао вэньхуа цземи цуншу
(Разбитые священные книги: разгадывая загадки китайских куль-
тур расписной керамики). Шанхай, 2000.
Циншихуан лин бин ма юн (Воины и лошади из погребения Цинь-ши-
хуана). Пекин, 1998.
Чанша Чу му бохуа (Шелковая картина из чуского погребения в окрест-
ностях Чанша). Пекин, 1973.
Чжан Минчуань. Чжунго цайтао тупу (Иллюстрированный каталог ки-
тайской расписной керамики). Пекин, 1990.
Чжан Чжэнмин. Чу вэньхуа ши (История культуры царства Чу). Шан-
хай, 1987.
Чжунго да бай кэ цюаныпу (Энциклопедия китайской археологии). Пе-
кин; Шанхай, 1986-1988.
Чжунго фэнсу тунши (Общая история обычаев и нравов Китая). Т. 1-12.
Шанхай, 2001-2002.
Абаев Я. В. Чань-буддизм и культурно-психологические традиции в сред-
невековом Китае. Новосибирск. 1989.
Алексеев В. М. Китайская поэма о поэте: стансы Сыкун Ту. СПб., 1916.
Алексеев В. М. Китайская народная картина. М., 1966.
Алексеев В. М. Китайская литература. Избранные труды. М., 1978.
Баранов И. Г. Верования и обычаи китайцев. М., 1999.
Буддизм. Словарь. М., 1992.
Буддизм. Карманный словарь / Сост. Е. А. Торчинов. СПб., 2002.
Веселовский Я. Китайские символы в предметах украшения. СПб., 1911.
Виногродский Б. Китайские благопожелательные орнаменты. М., 2003.
Голыгина К. И. Великий предел. Китайская модель мира в литературе и
культуре (І-ХІІІ вв.). М., 1993.
Гэ Хун, Баопу-цзы / Пер. с кит., предисл. и ком. Е. А. Торчинова. СПб.,
1999.
Дао и даосизм в Китае: Сб. статей. М., 1982.
Древнекитайская философия. Т. 1-2. М., 1994.
Васильев Л. С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 1970.
Дюмулен Г. История дзэн-буддизма. СПб., 1994.
Евсюков В. В. Мифология китайского неолита. Новосибирск, 1989.
Ермаков M. E. Мир китайского буддизма. СПб., 1994.
История китайской философии. М., 1989.
Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл,
М„ 1989.
Китайская геомантия / Сост., пер. с англ. и коммент. М. Е. Ермакова.
СПб., 2003.
Китайская философия: Энциклопедический словарь. М., 1994.
Китайский эрос: Научно-художественный сборник. М., 1993.
К ЧАСТИ II
1. На русском языке
956
Кравцова M. Е. Поэзия Древнего Китая. Опыт культурологического ана-
лиза. СПб., 1994.
Кравцова M. E. Поэзия вечного просветления. Китайская лирика вто-
рой половины V — начала VI века. СПб., 2001.
Кривцов В. А. Эстетика даосизма. М., 1993.
Лисевич И. С. Литературная мысль Китая. М., 1979.
Малявин В. В. Жуань Цзи. 0 жизни и творчестве китайского поэта и
мыслителя Жуань Цзи. М., 1978.
Малявин В. В. Конфуций. М., 1992.
Малявин В. В. Чжуан-цзы. М., 1985.
Мифы народов мира. Т. 1-2. М., 1980.
Переломов Л. С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. М., 1993.
Померанц Г. Дзэн и его наследие. М., 1978.
Померанцева Л. Е. Поздние даосы о природе, обществе и искусстве. М.,
1979.
Религии Китая: Хрестоматия. СПб., 2001.
Рифтин Б. Л. От мифа к роману. Эволюция изображения персонажа в
китайской литературе. М., 1979.
Пугаченкова Г. А. Искусство Гандхары. М., 1982.
Сидихменов Б. M. Китай: страницы прошлого. М., 1974.
Сидорова В. С. Скульптура Древней Индии. М., 1971.
Сидорова В. С. Художественная культура Древней Индии / Предисл.
C. И. Тюляева. М., 1972.
Сычев Л. Д., Сычев В. Л. Китайский костюм: символика, история, трак-
товка в литературе и искусстве. М., 1975.
Тертицкий К. Китай: Традиционные ценности в современном мире.
Т. 1-2. М., 1994.
Ткаченко Г. А. Космос, музыка, ритуал. М., 1990.
Торчинов Е. А. Даосизм. Опыт историко-религиоведческого описания,
СПб., 1998.
Торчинов Е. А. Даосизм. «Дао дэ цзин». СПб., 1999.
Торчинов Е. А. Введение в буддологию: Курс лекций. СПб., 2000.
Торчинов Е. А. Даосские практики. СПб., 2001.
Тюляев С. И. Искусство Индии. Архитектура, изобразительное искусст-
во, художественное ремесло. М., 1968.
Феоктистов В. Ф. Философия и общественно-политические взгляды
Сюнь-цзы: Исследование и перевод. М. 1976.
Философия китайского буддизма / Под ред., пер. с кит. и ком. Е. А. Тор-
чинова. СПб., 2001.
Чжан Бодуань. Главы о прозрении истины (У чжэнь пянь) / Предисл.,
пер. с кит. и коммен. Е. А. Торчинова.
Ши цзин (Книга песен и гимнов) / Пер. А. А. Штукина, предисл. H. T. Фе-
доренко. М., 1987.
Штейн В. М. Гуань-цзы: Исследование и перевод. М., 1959.
Шуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен». М., 1960
(1-е издание), 1992 (2-е издание), 1993 (Доп. издание).
Эберхард В. Китайские праздники / Пер. с нем. М., 1977.
Юань Кэ. Мифы Древнего Китая / Пер. с кит. М., 1965.
Яншина Э. М. Формирование и развитие китайской мифологии. М., 1984.
Bilsky L. J. The State Religion of Ancient China // Asian Folklore and 2. Ha европейских языках
Social Life Monographs. Vol. 70. Taipei, 1975. Vol. 1-2.
Bodde D, Festivals in Classical China. New Year and other Annual
Observances During the Han Dynasty. Princeton, 1975.
Bodde D. Essays on Chinese Civilization // Ed. and Intr. by Ch. Le Blanc,
D. Borei. Princeton, 1981.
Burkhardt V. R. Chinese Creeds and Customs. Hong Kong, 1953.
Cahill S. E. Transcendence and Divine Passion. The Queen Mother of the
West in Medieval China. Stanford, 1993.
Chang K. C. Art, Myth and Ritual: The Path to Political Authority in
Ancient China. Harvard, 1983.
Chang c/. The Tao of Love and Sex. The Ancient Chinese Way to Ecstasy.
London, 1977.
Ch'en K. K. S. Transformation of Buddhism. Princeton, 1973.
Cheng Manchao. The Origin of Chinese Deities. Beijing, 1995.
Deneck M. M. Indian Sculpture. Masterpieces of Indian, Khmer and Cham
Art. London, 1963.
Dieny J, P. Le symbolism du dragon dans la Chine Antique. Paris, 1987.
The Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion. New York, 1999.
Fang Ch. Animals and Birds in Chinese Art // Catalogue of an Exibition at
China House. New York, 1967.
Granet M. Danses et legendes de la Chine anciene. Vol. 1-2. Paris, 1959.
Grant S. C, BrawerC. C. The Auspicious Dragon in Chinese Decorative
Art. New York, 1978.
957
Greel H. G. What is Taoism? And other Studies in Chinese Cultural History.
Chicago; London, 1970.
Gulik R. Я., van. Sexual Life in Ancient China. Leiden, 1961.
Hausen V. Changing Gods in Medieval China. 1127-1277. Princeton, 1990.
Hentze C. Mythes at symboles lunaires (Chine ancienne). Antwerpen, 1932.
Holzman D. Poetry and Politics: The Life and Works of Juan Chi (210-263).
Cambridge, 1976.
Holzman D. Landscape Appreciation in Ancient and Early Medieval China:
The Birth of Landscape Poetry. Taiwan, 1996.
Kohn L. Daoism and Chinese Culture. Cambridge, 2001.
Lao-tzu and Tao-te-ching / Ed. by L. Kohn, M. Lafargue. New York, 1998.
The Legacy of China / Ed. by R. Duarson. Oxford, 1964.
Lipiello T. Auspicious Omens and Miracles in Ancient China: Han, Three
Kingdoms and Six Dynasties. Leiden, 1995.
Loewe M. Chinese Ideas of Life and Death (Faith, Myths and Reason in the
Han Period). London, 1982.
Marshall J. The Buddhist Art of Gandhara. Cambridge, 1960.
Maspero H. Taoism and Chinese Religion / Ed. by F. A. Kierman. Amherst,
1981.
Powers M. J. Art and Politic Expression in Early China. New Haven, 1991.
Rhie M. Interralations between the Buddhist Art of China and Art of India
and Central Asia. Napoli, 1988.
Saunders E. D. Mudra. A Study of Symbolic Gestures in Japanese Buddhist
Sculpture. Princeton, 1985.
Zoeren St., van. Poetry and Personality. Reading, Exegesis and Hermeneutic
in Traditional China. Stanford, 1991.
Zurher E. The Buddhist Conquest of China. The Spread and Adaptation of
Buddhism in Early Medieval China. Leiden, 1959.
Yang C. K. Religion in Chinese Society. A Study of Contemporary Social
Functions of Religion and Some of their Historical Factors. Berkley-Los
Angeles, 1961.
Williams C. Encyclopedia of Chinese Symbolism and Art Motives. New
York, 1960.
Williams C.A. S. Outlines of Chinese Symbolism and Art Motives. 3-d
edition. New York, 1976.
Woodcock G. The Greeks in India. London, 1966.
3. Ha китайском языке Дин Фубао. Фоцзя да цыдянь (Болыпой буддийский словарь). Пекин, 1984.
Люй Сымянь. Чжунго чжиду ши (История китайского общественного
устройства). Шанхай, 1985.
Ma Шутянь. Хуаяся чжушэ (Божества китайского пантеона). Пекин, 1990.
Сянь Цинь Лян Хань вэньсюэ пипин ши (История литературной мысли
до циньского периода, эпох Цинь и Хань). Шанхай, 1990.
Ху Фучэнъ. Вэй Цзинь шэньсянь даоцзяо (Даосское учение о бессмерт-
ных периодов Вэй и Цзинь). Пекин, 1990.
Цзунцзяо цыдянь (Словарь религий). Шанхай, 1983.
Чжан Цзяньчжун и dp. Чжунго байцзо мин шань люйю чжинань (Пу-
теводитель по ста прославленным горам Китая). Сиань, 1990.
Чжу Жуйкай. Лян Хань сысян ши (История идеологии эпохи Хань).
Шанхай, 1989.
Чжунго даоцзяо. Дунтянь шэнцзин (Виды «Пещерных небес». Знамени-
тые даосские горы). Пекин, 1987.
Чжэнь Шонань. Чжунго кунлун (Динозавры Китая). Шанхай, 1997.
Чжунъюэ Суншань (Центральный пик — гора Суншань). Пекин, 1989.
Шисянь шицзе (Мир богов и бессмертных). Шанхай, 1990.
Юань Кэ. Чжунго шэньхуа чуаньшо цыдянь (Словарь китайских мифов
и легенд). Шанхай, 1985.
К ЧАСТИ III Белозерова В. Г. Китайский свиток. М., 1995.
Ван Вэй. Стихотворения / Стихотворн. перелож. А. Штейнберга. Сост.,
1. На русском языке вступ. ст., прим. В. Сухорукого. М., 1979.
Виноградова Е. В. Живопись гохуа в новом Китае. М., 1961.
Виноградова Н. А. Китайская пейзажная живопись. М., 1972.
Виноградова Т. И. Китайский народный театр на китайской народной
картине (театральные няньхуа как источник изучения традицион-
ной культуры Китая): Автореф. дисс. ... канд. СПб., 2000.
Восточные сборники. Литература-Искусство. Вып. 1. М., 1924.
Го Жо-сюй. Записки о живописи: что видел и слышал / Пер. с кит.
Я. Ф. Самосюк. М., 1978.
Дагданов Г. Чань-буддизм в творчестве Ван Вэя. Новосибирск, 1984.
Завадская Е. В. Культура востока в современном западном мире. М., 1993.
Завадская Е. В. Мудрое вдохновение Ми Фу. М., 1983.
Завадская Е. В. Ци Бай-ши. М., 1982.
958
Завадская Е. В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. М., 1975.
Китайская современная живопись. Пекин, 1955.
Классическая живопись Китая: Альбом. М., 1981.
Муриан И. Ф. Китайский народный лубок. М., 1960.
Николаева Я. С. Художник, поэт, философ Ma Юань и его время. М., 1968.
Пострелова Т. А. Академия живописи в Китае в Х-ХІІІ вв. М., 1976.
Поспгрелова T. А. Творчество Сюй Бэйхуна и китайская художествен-
ная культура XX в. М., 1987.
Разумовский Е. И. Китайские трактаты о портрете. Л., 1971.
Роули-Дж. Принципы китайской живописи / Пер. с англ. М., 1989.
Слово о. живописи из сада с горчичное зерно / Пер. с кит. Е. В. Завадской.
М., 1969.
Самосюк К. Ф. Го Си. М., 1976.
Соколов С. H. K проблеме изучения классического наследия дальневос-
точной живописи. М., 1972.
Соколов-Ремизов С. Н. Литература, каллиграфия, живопись. М., 1986.
Сторожук А. Г. Введение в китайскую иероглифику. СПб., 2002.
Хван М. Ф. Структурный анализ китайских иероглифических знаков.
Л., 1967.
Художественный образ и декоративность в искусстве Азии и Африки:
Сб. статей. М., 1969.
Ши-Тао. Беседы о живописи / Пер. с кит. Е. В. Завадской. М., 1978.
Bush S. Chinese Literati on Painting: From Su Shi (1037-1101) to Tung
Ch'i-ch'ang (1556-1636). Cambridge, 1971.
Cahill J. The Distant Mountains: Chinese Painting of the Late Ming Period,
1570-1644. New York; Tokyo, 1982.
Cahill J. La peinture chinoise (Texte de James Chaill). Paris, 1977.
Falco H. Tang Buddhist Sculptures of Sichuan. Stockholm, 1988.
Fontein H. Zen Painting and Calligraphy. New York, 1985.
Gao Jiaping. The Expressive Act in Chinese Art: From Calligraphy to
Painting // Act Universitatis Upsaliensis. Aethetica Upsaliensia.
Stochholm, 1996. Vol. 7.
Siren O. Chinese Painting. Leading Masters and Principles. Vol. 1-2.
London, 1958.
Sullivan M. The Birth of Landscape Art in China. Berkley, 1962.
Sullivan M. Symbols of Eternity: Landscape Painting in China. Stanford,
1979.
Treasures of Dunhuang. Hong Kong, 1983.
Taohuawu Woodblock New Year Prints, Suzhou. Jiangsu; Hongkong, 1991.
Waley A. An Introduction to Study of Chinese Painting. New York, 1958.
2. Ha европейских языках
Разделы, посвященные ки-
тайской живописи, содержат-
ся также во всех сводных из-
даниях по истории китайско-
го искусства и в изданиях,
посвященных отдельным му-
зейным центрам.
Лян сун мин хуа цэ (Альбом знаменитых живописных произведений
обеих династий Сун). Пекин, 1963.
Лунмэнь шику (Скальный храм Лунмэнь). Пекин, 1958.
Дацзу шику ишу (Искусство скальных храмов Дацзу). Пекин, 1985.
Ся Шуфань. Сисяшань (Монастырь Сисяшань). Цзянсу, 1986.
Чжунго мэйшу цюань цзи. Хуэйхуа бянь (Полное собрание китайского
изобразительного искусства. Живопись). Т. 1-6. Пекин, 1984.
Чжунго шику. Дуньхуан Могао ку (Китайские пещерные монастыри и
скальные храмы. Пещерный монастырь Могао из Дуньхуана). Пе-
кин, 1982.
3. На китайском языке
Арапова Т. Б. Китайские расписные эмали. Собрание Государственного
Эрмитажа. М., 1988.
Арапова Т. Б. (сост.) Китайский фарфор в собрании Эрмитажа. Конец
XIV — первая треть XVII в.: Альбом-каталог. Л., 1977.
Арапова Т. Б., Кудрявцева Т. В. (сост.). Дальневосточный фарфор в Рос-
сии ХѴІІ-ХХ вв. Каталог выставки. Л., 1994.
Аттербери Р.у Tapn JI. Иллюстрированная энциклопедия антиквариа-
та. М., 1997.
Белозерова В. Г. Традиционная китайская мебель. М., 1980.
Большая иллюстрированная энциклопедия древностей. Прага, 1980.
Виноградова Е. В. Современное прикладное искусство Китая. М., 1959.
Иллюстрированная энциклопедия моды. Прага, 1986.
Кверфельдш Э. К. Фарфор: Краткий исторический очерк. Л., 1940.
Кочетова CM. Фарфор и бумага в искусстве Китая. М.; Л., 1956.
Кречетова М. #., Вестфалэн Э. X. Китайский фарфор. М.; Л., 1947.
Лансере A. K. Русский фарфор. Искусство первого в России фарфорово-
го завода. Л., 1968.
Лубо-Лесниченко Е. Древние китайские ткани и вышивки (V в. до н. э. —
III в. н. э.) в собрании Государственного Эрмитажа. Л., 1961.
К ЧАСТИ IV
1. На русском языке
959
2. Ha европейских языках
3. Ha китайском языке
Лубо-Лесниченко Е. Китай на Шелковом пути. М., 1994.
МоранА. де. История декоративно-прикладного искусства. М., 1982.
Неглинская М. А, Китайские расписные эмали в коллекции Государ-
ственного Музея искусств народов Востока. М., 1995.
Неглинская М. А. Семантика и эстетика китайских ювелирных укра-
шений периода Цин (XVII — начала XX в.): Автореф. дисс... канд.
наук. М., 1998.
Стужина Э. П. Китайское ремесло в ХѴП-ХѴШ вв. М., 1970.
Эмме Б. Н. Русский художественный фарфор. M.; JI., 1950.
Ayers J. Far Eastern Ceramics. London, 1980.
Bi Keguan. Chinese Folk Painting on Porcelain. Beijing, 1991.
Brinker Я., Lutz AI. Chinese Cloisonne. The Pierre Uldry Collection / Tr.
by S. Swoboda. New York, 1989.
Chinese Export Porcelain From Museum of Anastacio, Lisbon. London, 1966.
Garner H. Chinese and Japanese Cloisonne Enamels. London; Boston, 1977.
Garner H. Chinese Lacquer. London, 1979.
Liu Liang-yu. Chinese Enamel Ware: Its History, Authentication and
Conservation. Taipei, 1978.
Pierson St. Earth, Fire and Water. Chinese Ceramic Technology: A Handbook
for Non-Specialists. London, 1996.
Relly C. W. Chinese Gold and Silver in American Collections. Dayton, 1984.
Singer P. Early Chinese Gold and Silver. New-York, 1971.
Urushi. Proceedings of the Urushi Study Group. June 10-27, 1985, Tokyo /
Ed. by N. S. Branmelle, P. Smith. Tokyo, 1988.
Vainber S. J. Chinese Pottery and Porcelain. From Prehistory to the Present.
London, 1991.
Valenstein S. G. A Handbook of Chinese Ceramics. New York, 1975.
Wang Shixiang. Ancient Chinese Lacquer ware. Beijing, 1987.
Wirgin J. C. Sung Ceramic Designs. Stockholm, 1970.
Zeileis Fr. G. Aus gewählte Chinesische Jade aus Sieben Jahrtausenden
Gallspach. Korneuburg, 1994.
Гугун боугуань цзан дяоти (Резные лаки в коллекции музея Гугун).
Пекин, 1985.
Е Чжэминъ, Е Пэйлань. Жуяо цзюйчжэнь (Сводное издание керамики
мастерских Жуяо). Пекин, 2002.
Инъ Чжицян. Чжунго гудай юйци (Древние нефритовые изделия Ки-
тая). Шанхай, 2000.
Чжунго лидай фунюй чжуанши (Китайские женские украшения). Шан-
хай. 1989.
Чжунго таоцы цюаньцзи (Полное собрание керамики Китая). Т. 1-15.
Пекин, 1999.
Чжунго фуши y цянь нянь (Китайский костюм за 5000 лет). Гонконг, 1984.
Чэнь Вэнъпин. Чжунго гу таоцы цзяньшан (Общая характеристика древ-
ней керамики Китая). Шанхай, 1998.
К ЧАСТИ V
1. На русском языке
2. На европейских языках
3. На китайском языке
Ащепков Е. А. Архитектура Китая. М., 1959.
Денике Б. П. Архитектура Китая. Альбом. М., 1935.
Стужина Э. П. Китайский город ХІ-ХІІІ вв.: экономическая и соци-
альная жизнь. М., 1979.
BoydA. Chinese Architecture and Town Planning. Chicago, 1962.
Chung Wah Nan. The Art of Chinese Gardens. Hong Kong, 1982.
Luo Zhewen, Zhang Luo. The Great Wall of China in History and Legend.
Beijing, 1986.
Wheatley P. The Pivot of the Four Quarters. A Preliminary Enquiry into
the Origins and Character of the Ancient Chinese City. Edinburg, 1971.
Wu N. I. Chinese and Indian Architecture. New York, 1963.
Бэйцзин гу цзяньчжу гайшу (Обзор древних строений Пекина). Пекин,
1986.
Ихэюань. ІПанхай, 1957.
Чжунго пэньцзин (Китайские пейзажные миниатюры). Пекин, 1985.
Чжунго юаньлинь ишу (искусство китайского сада). Гонконг, 1972.
К ЧАСТИ VI
1. На русском языке
2. На китайском языке
Алендер И. 3. Музыкальные инструменты Китая. М., 1958
Грубер Р. И. История музыкальной культуры. Л., 1941. Т. 1.
Музыкальная эстетика стран Востока: Сб. статей. М., 1967.
Шнеерсон Г. Музыкальная культура Китая. М., 1952.
Сю Хайлинъ, Ban Цзычу. Юэци (Музыкальные инструменты). Шанхай,
2001.
960