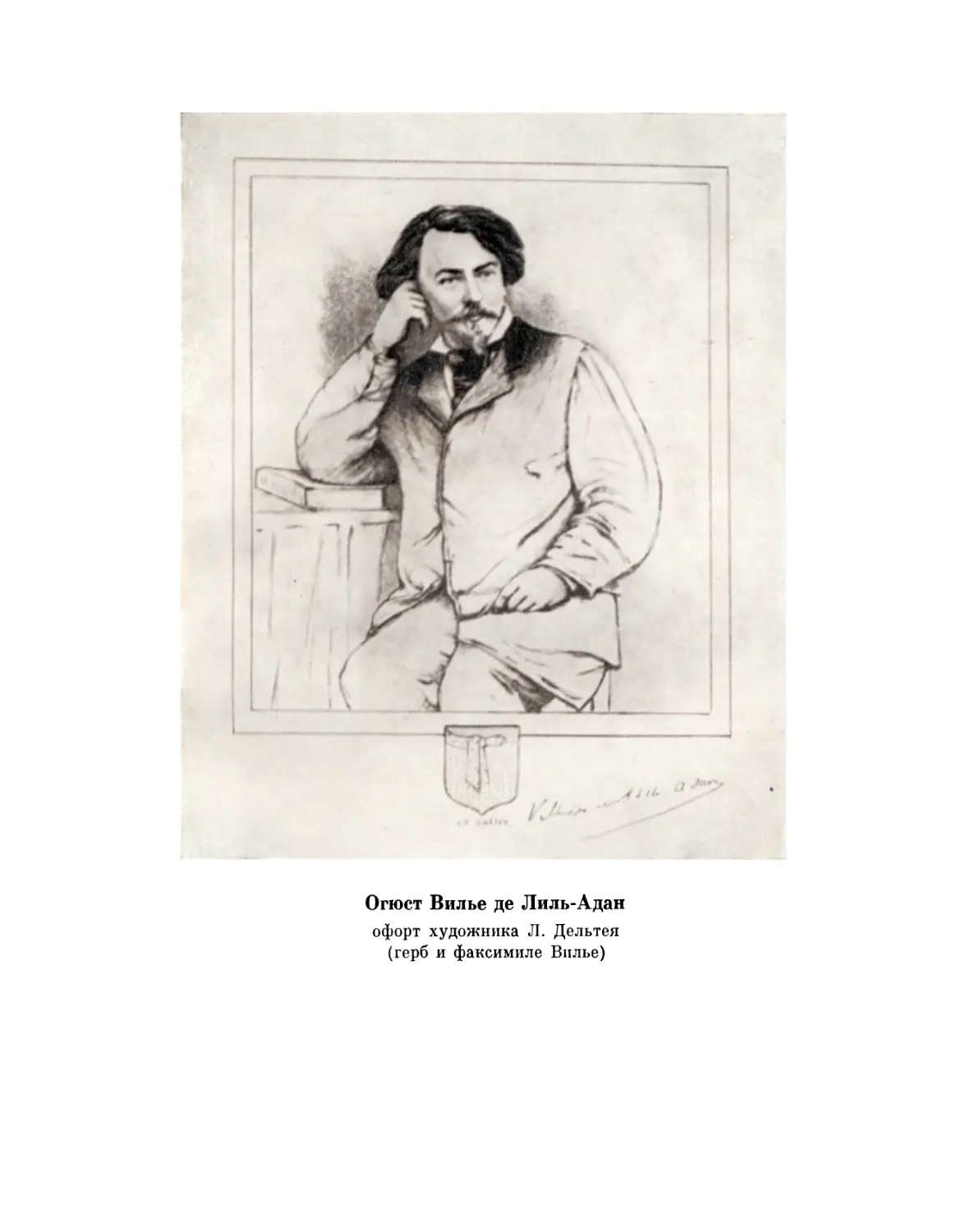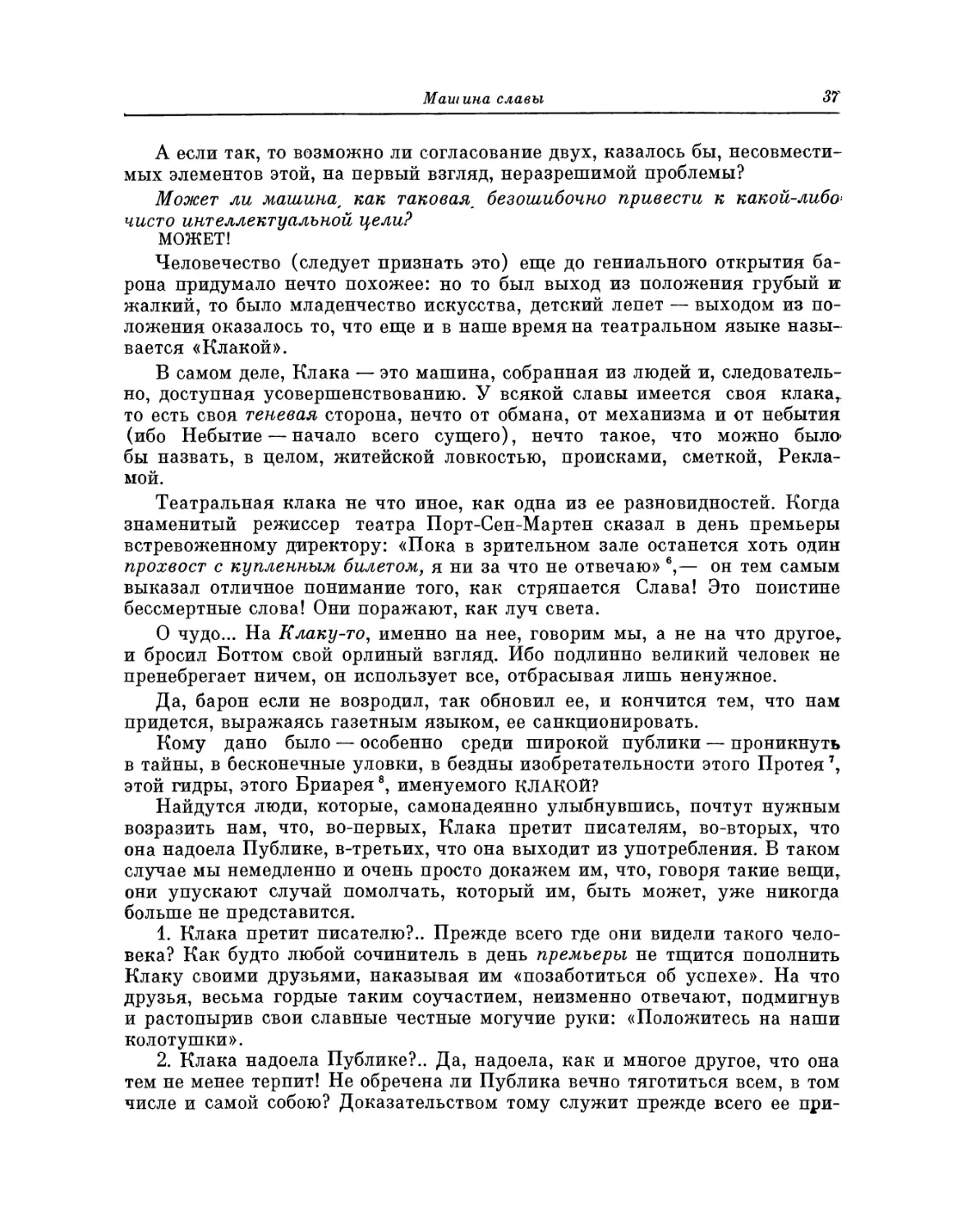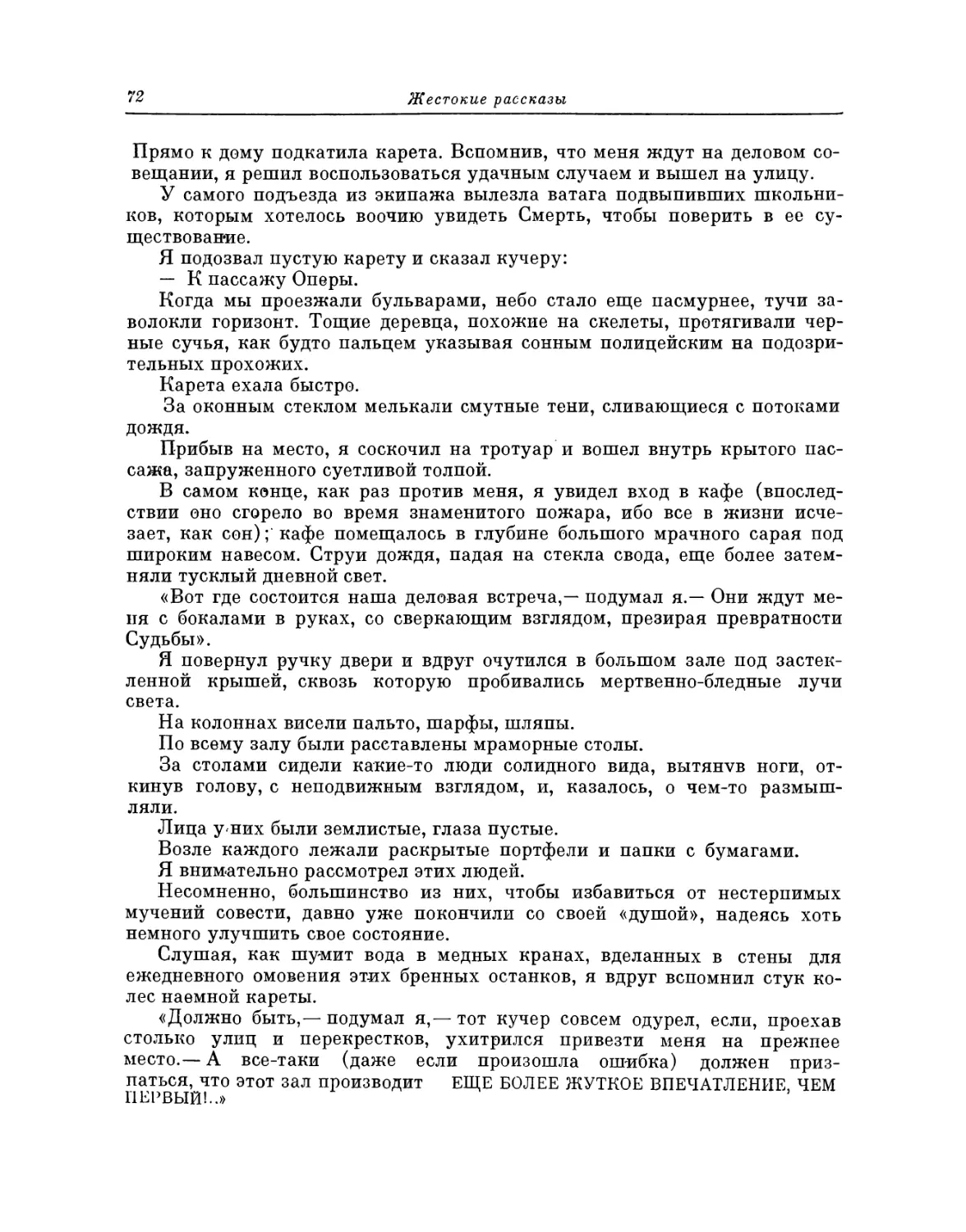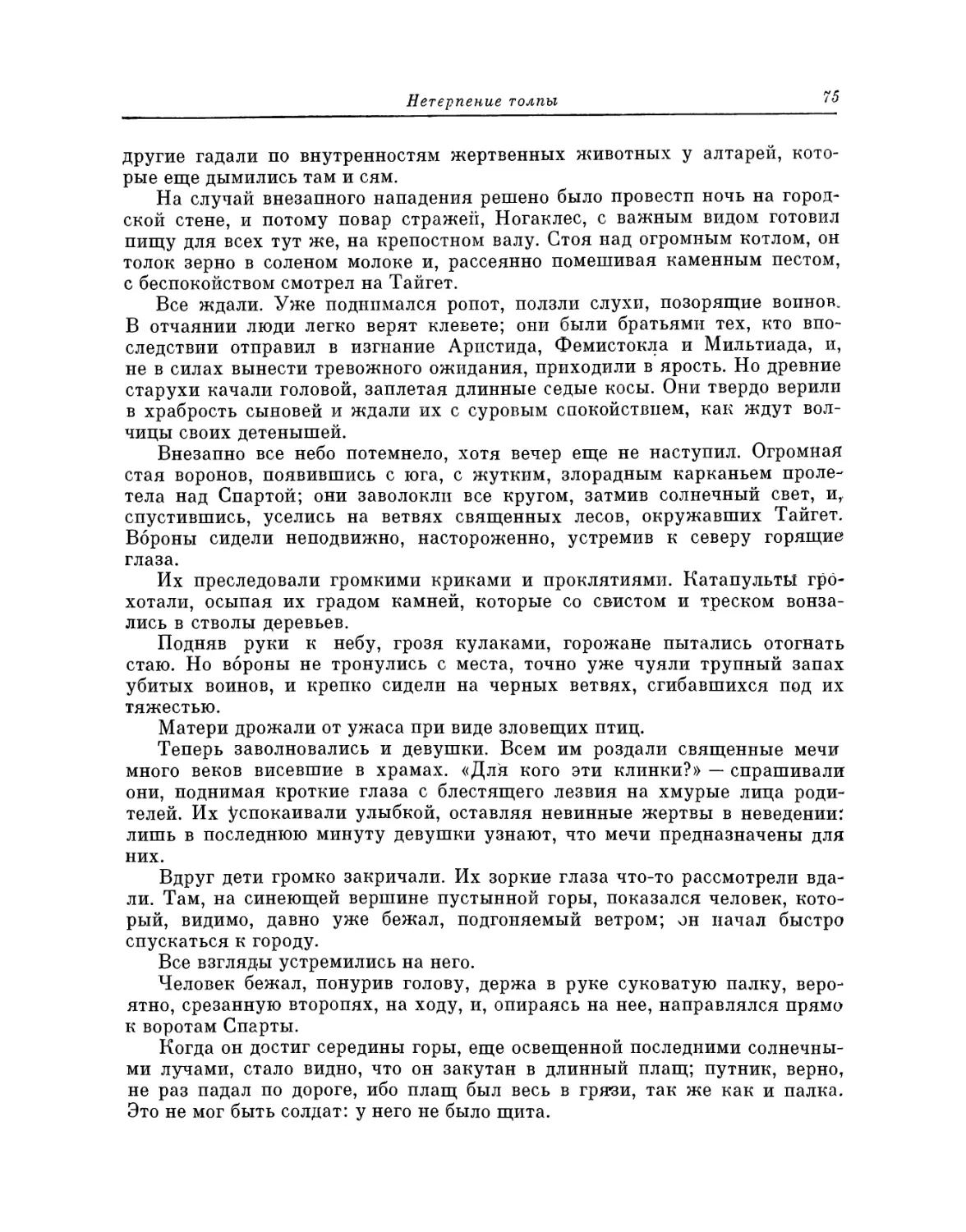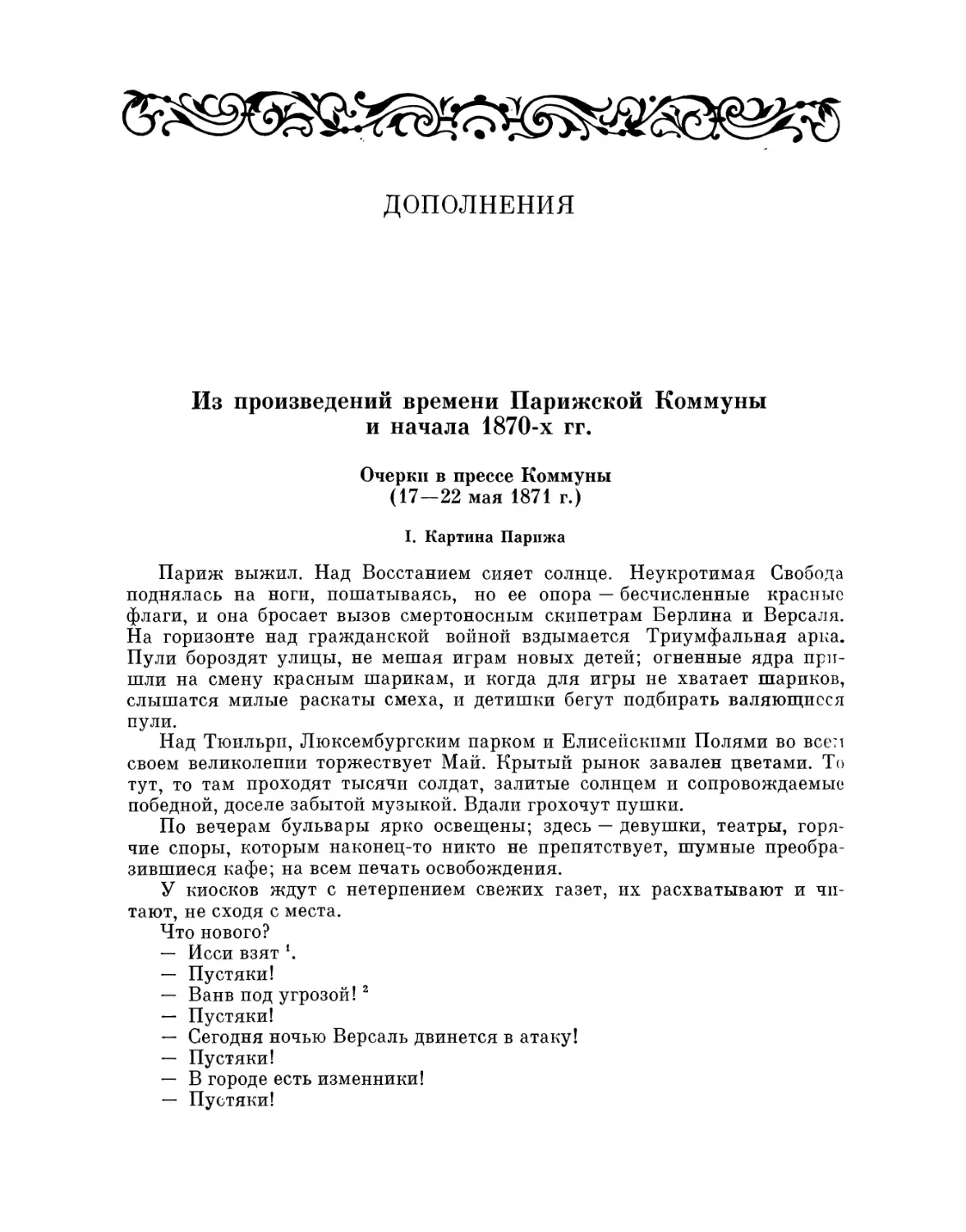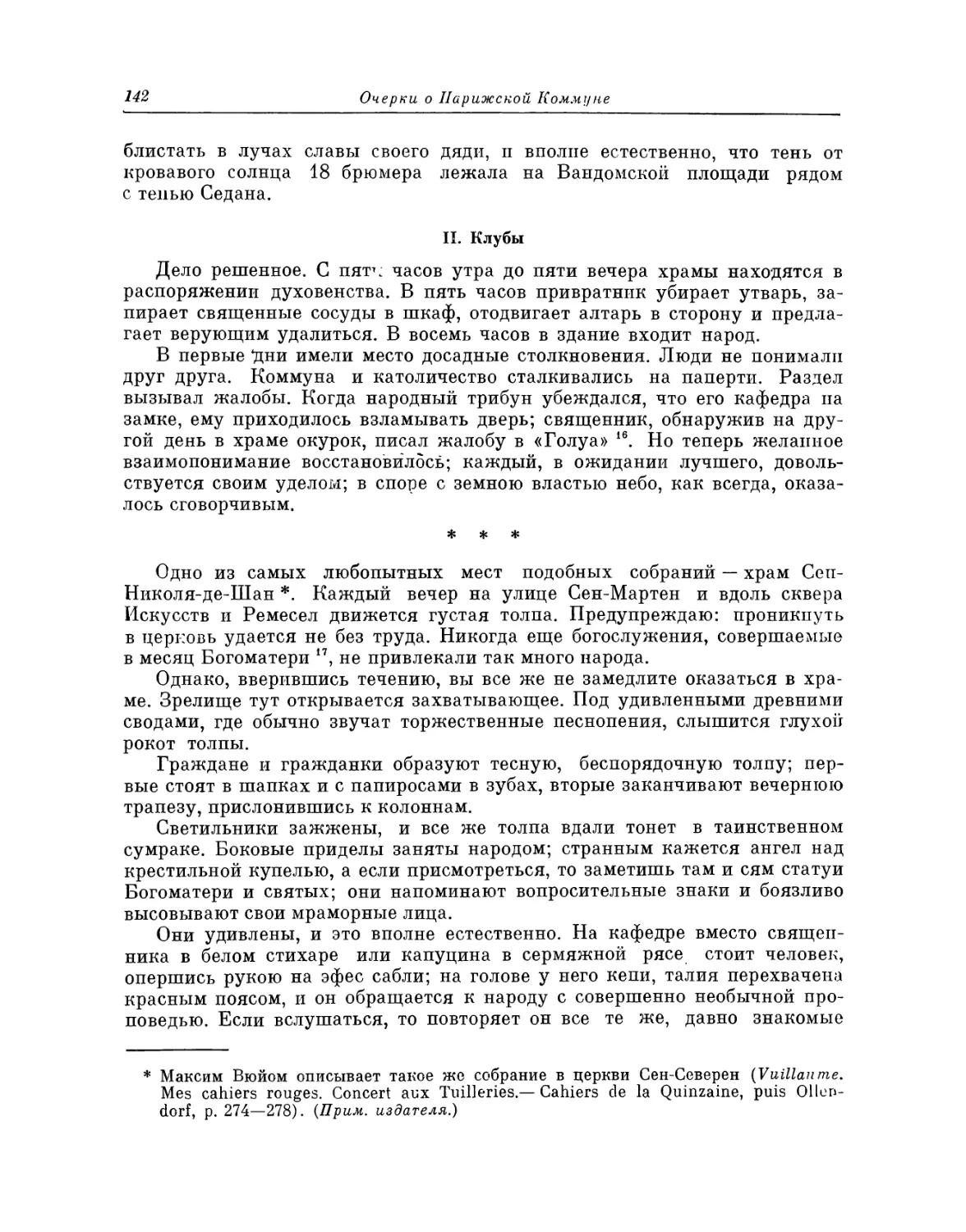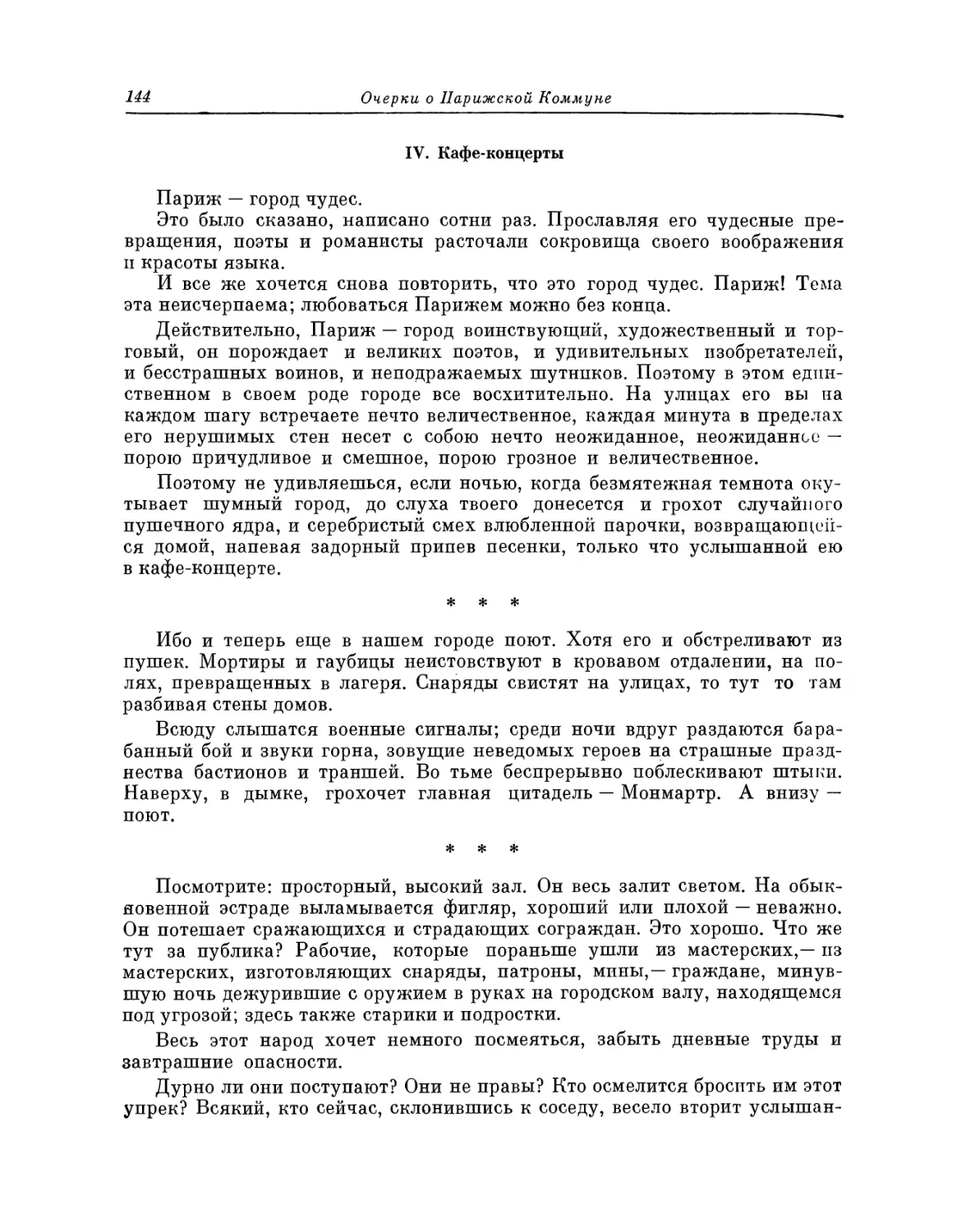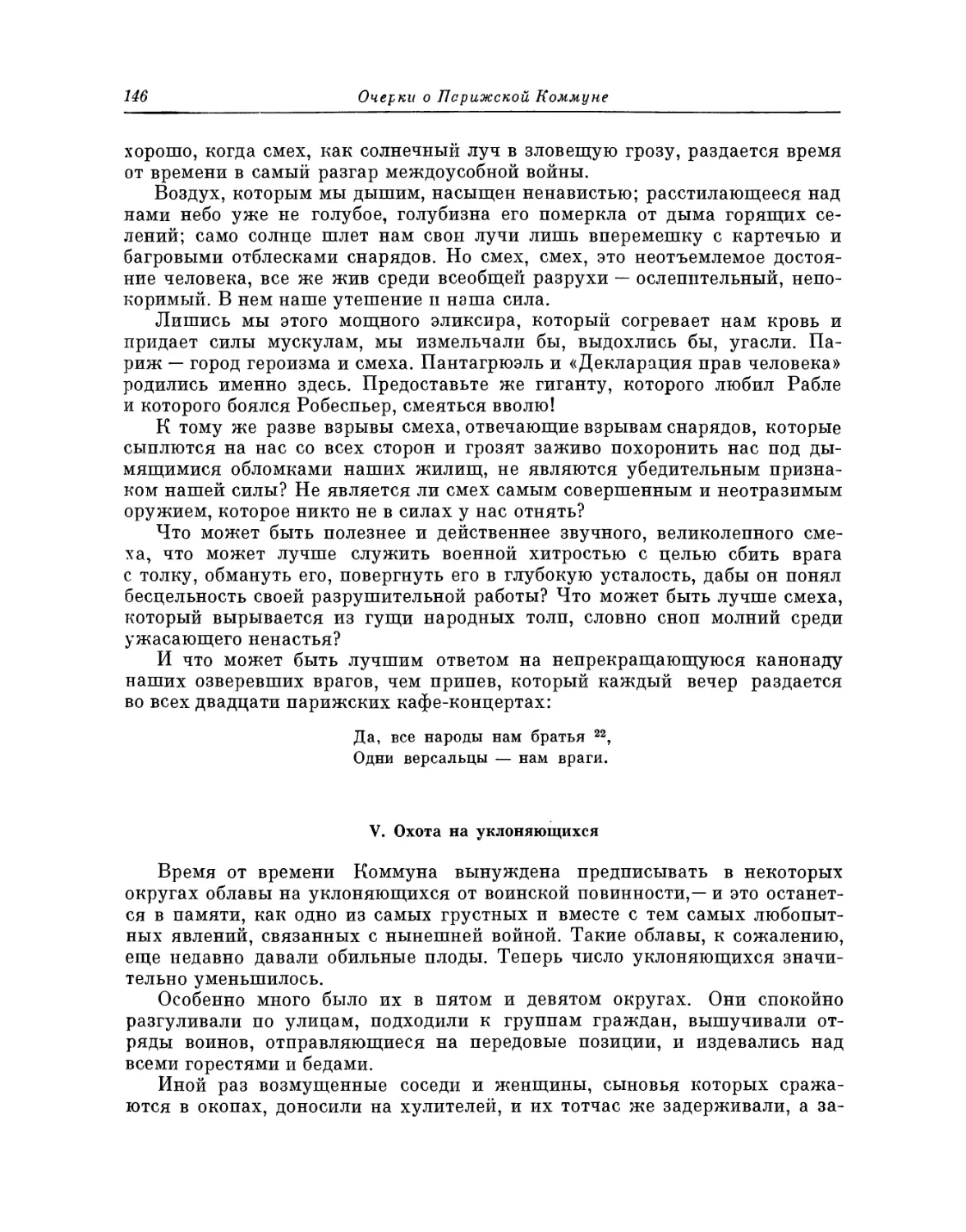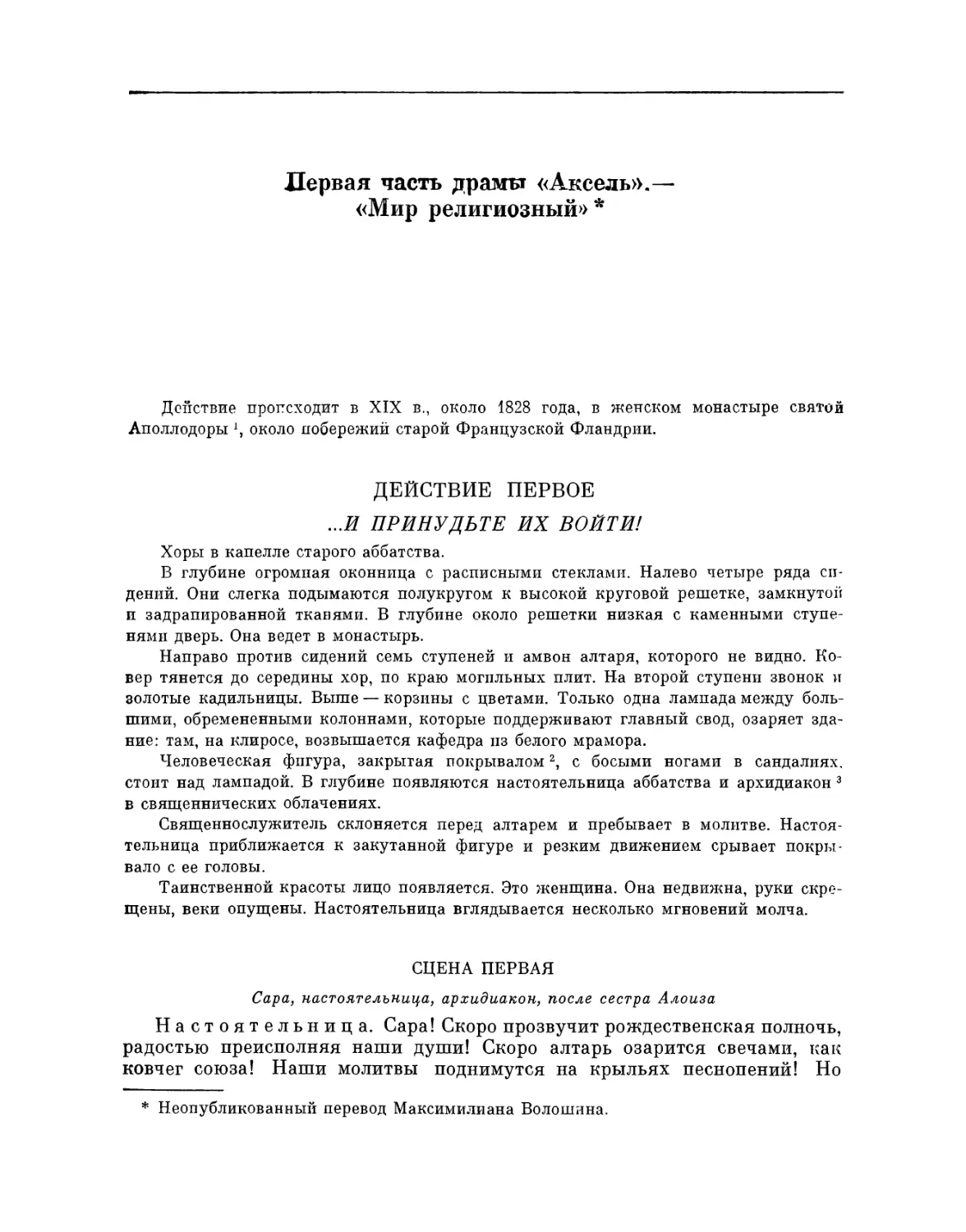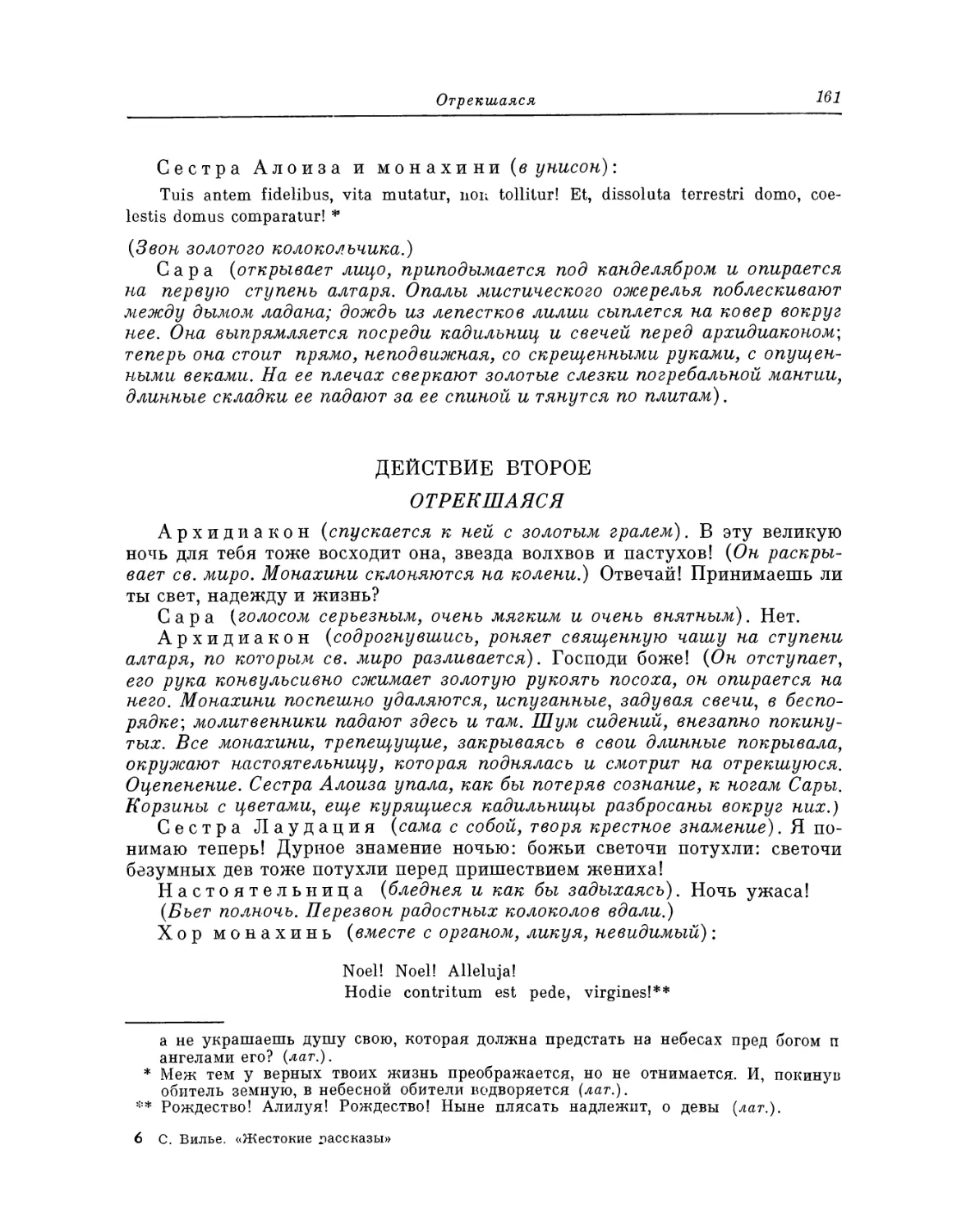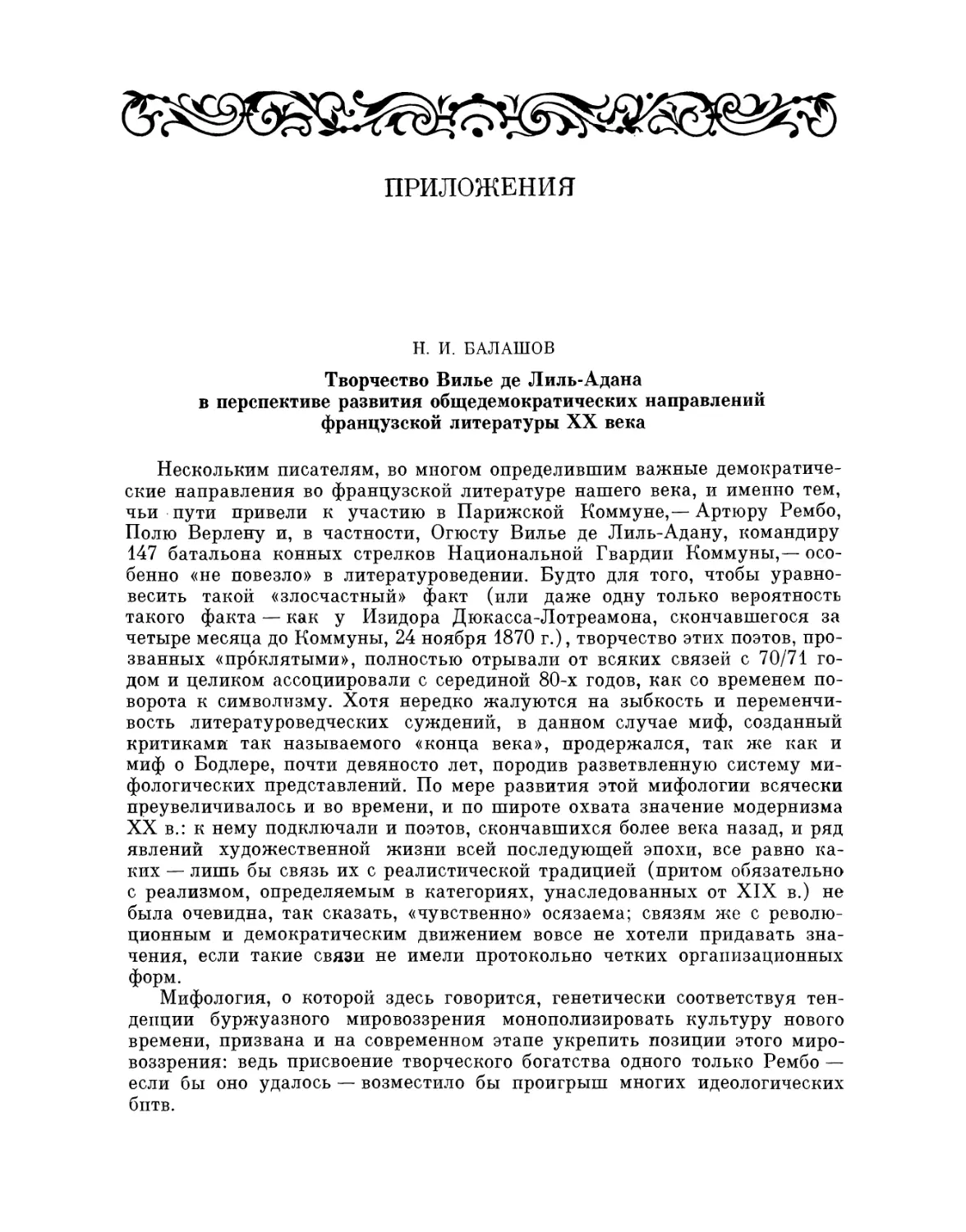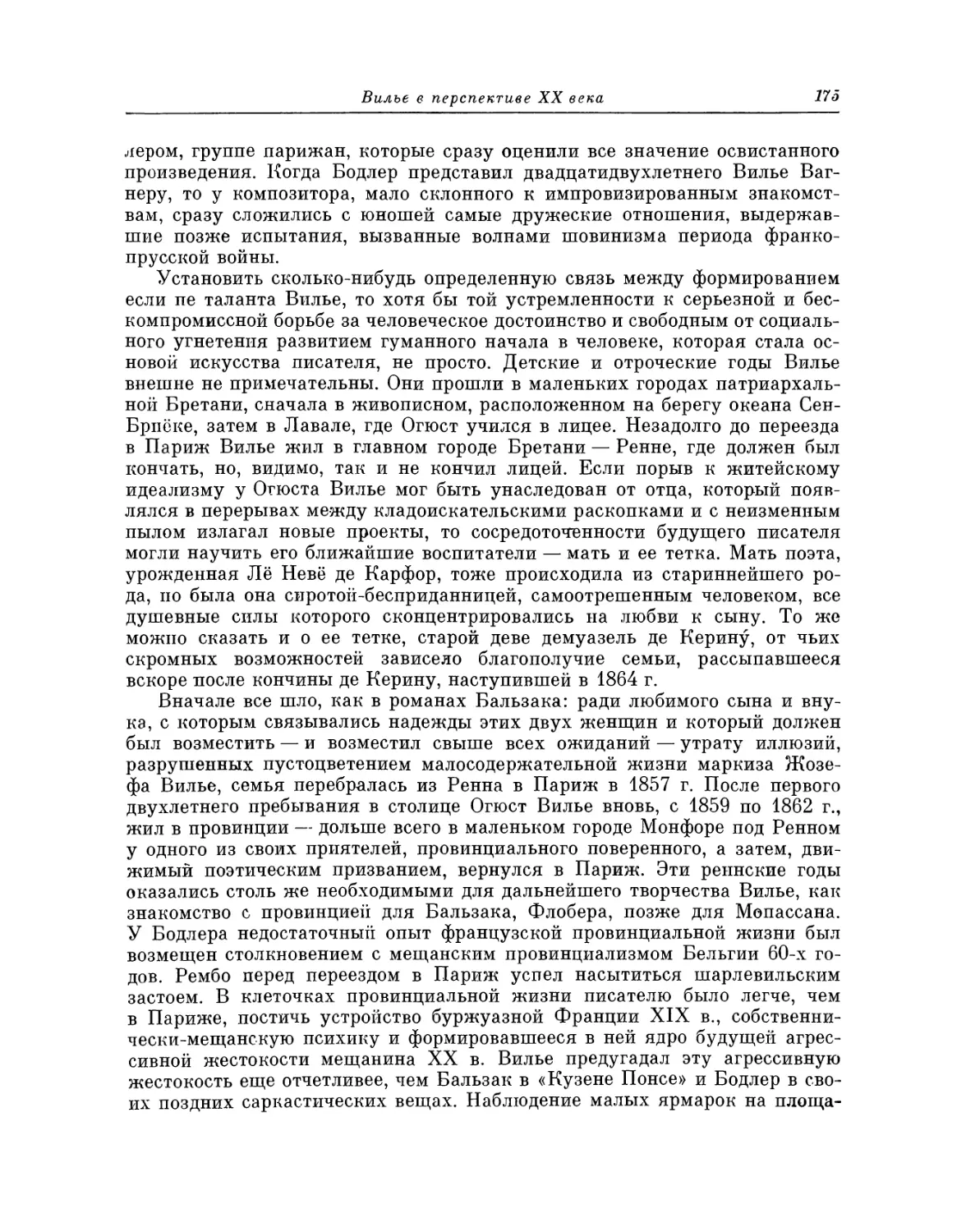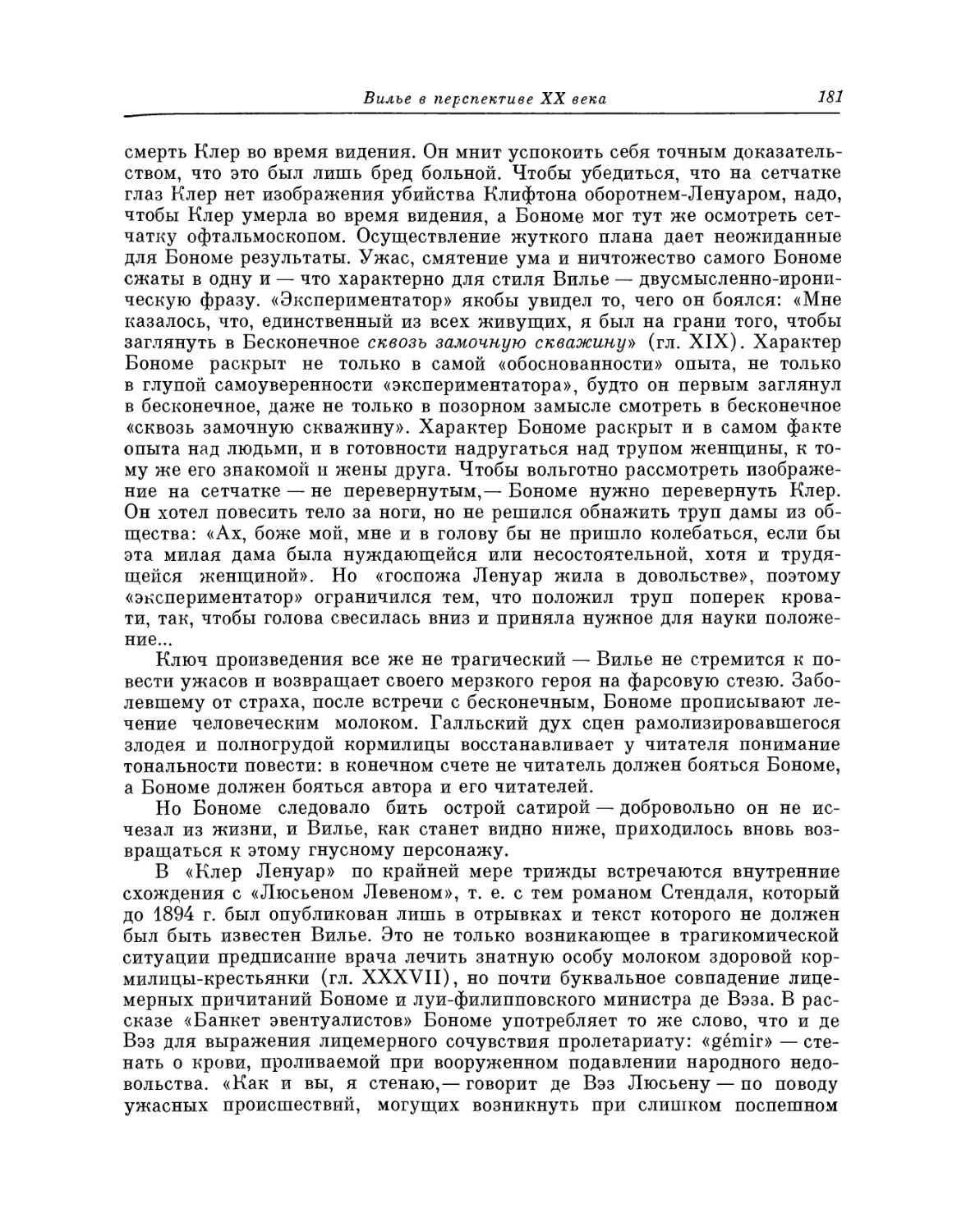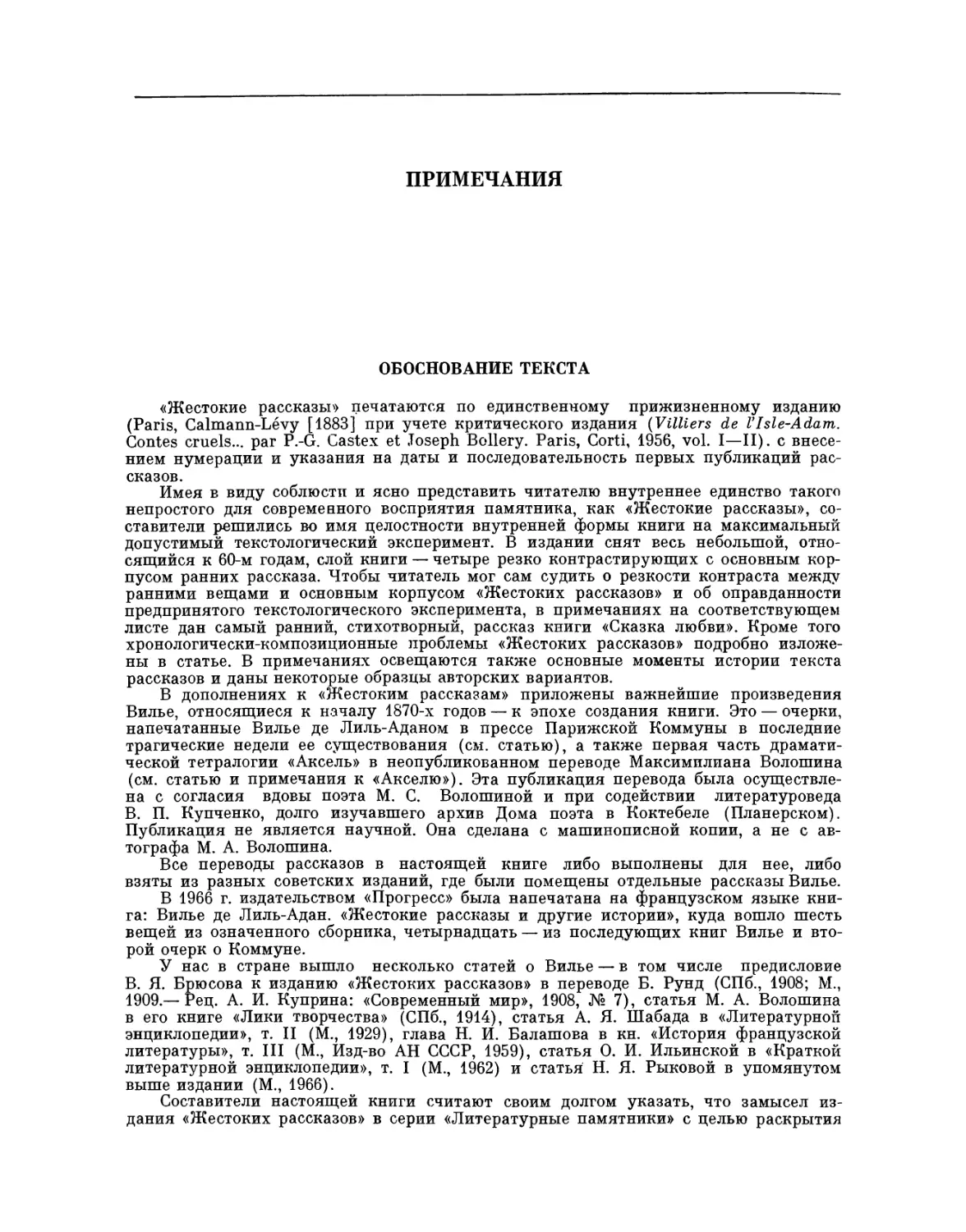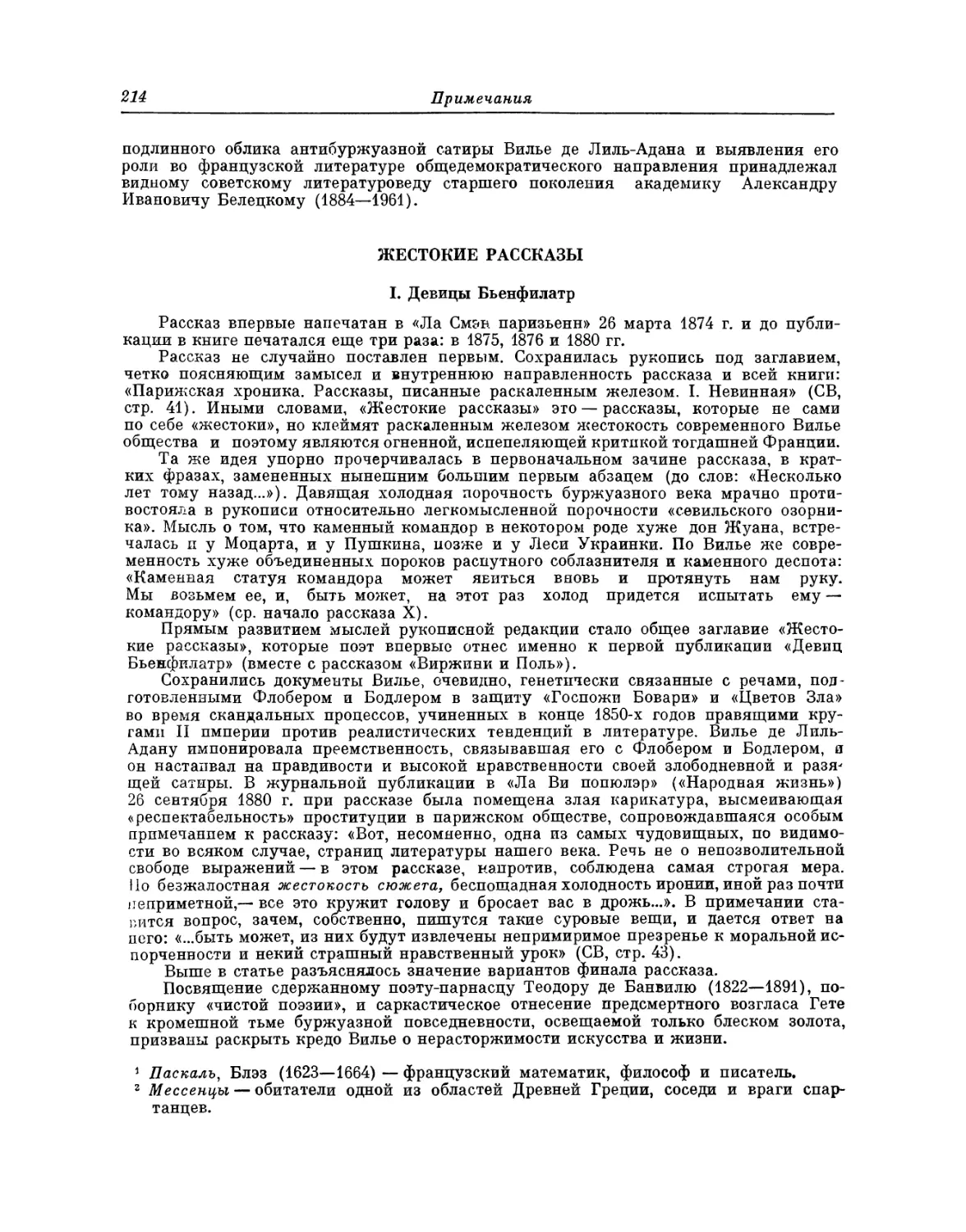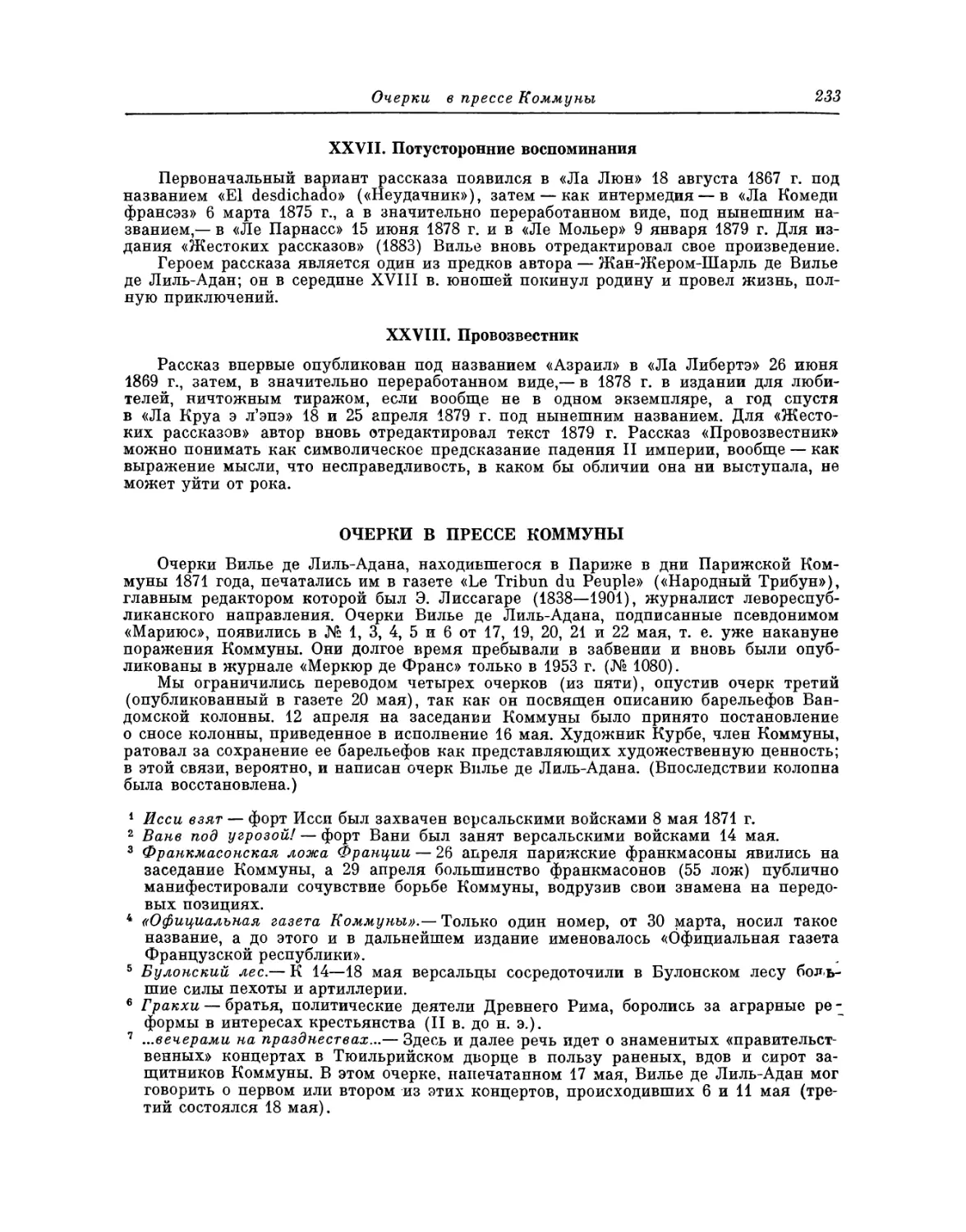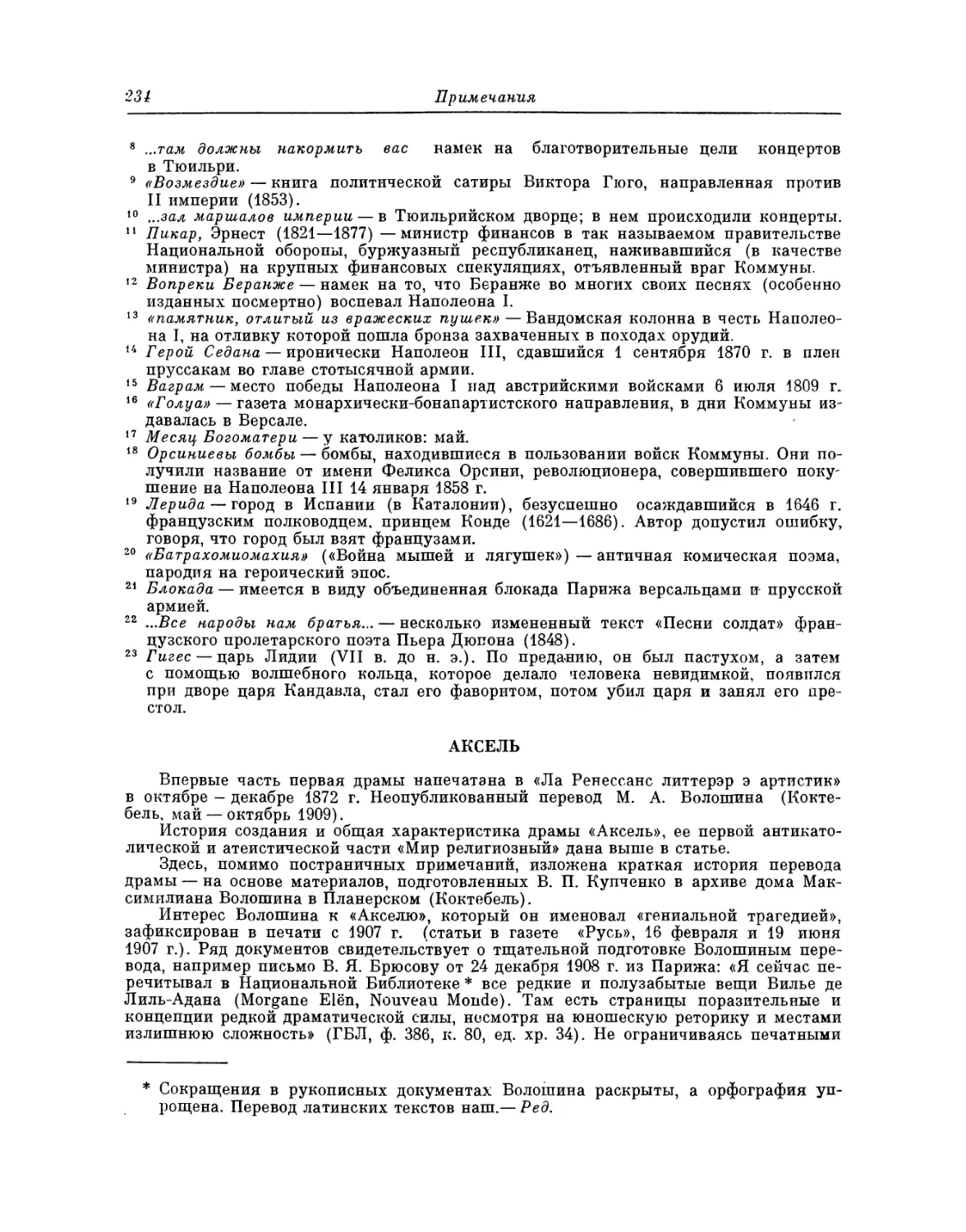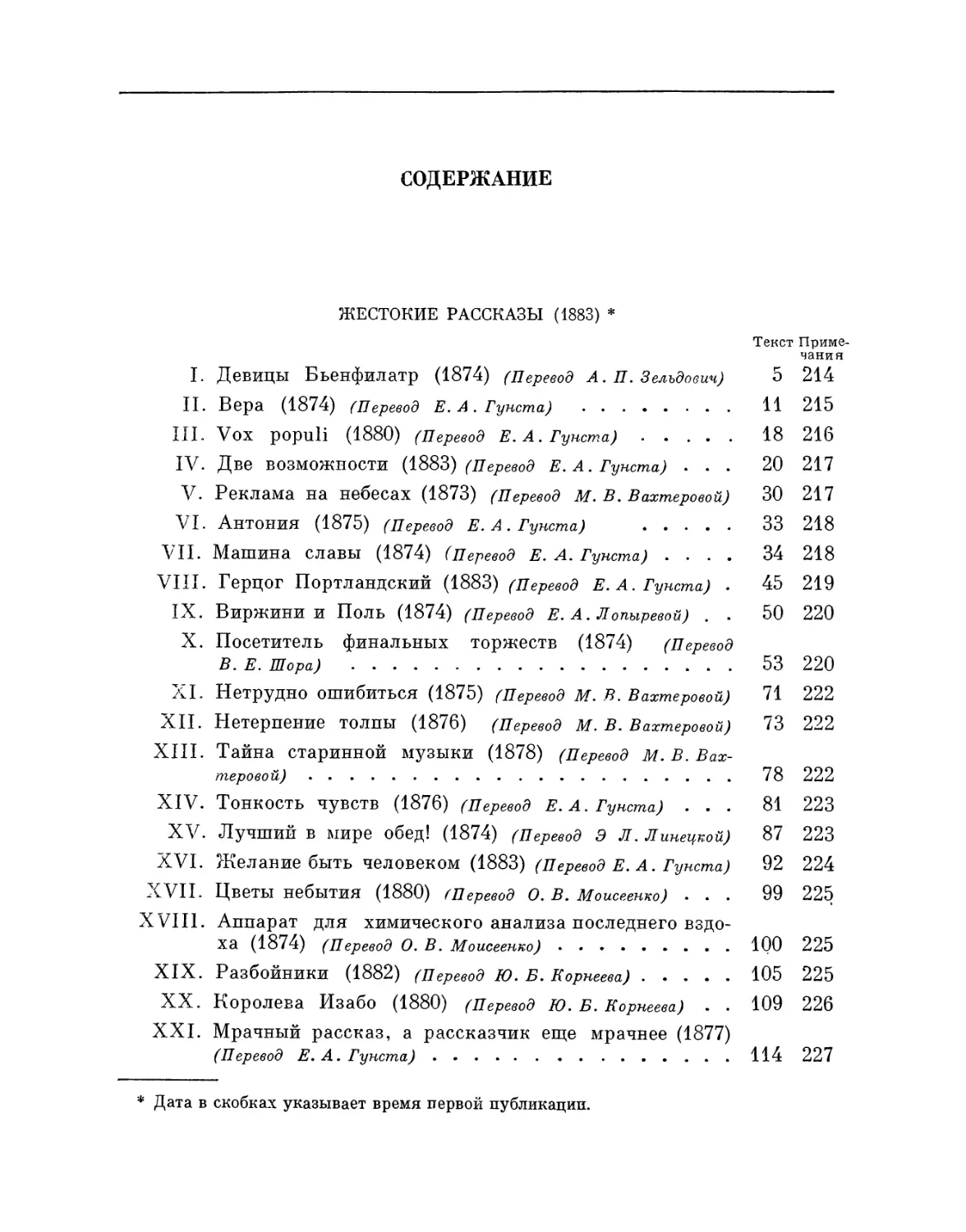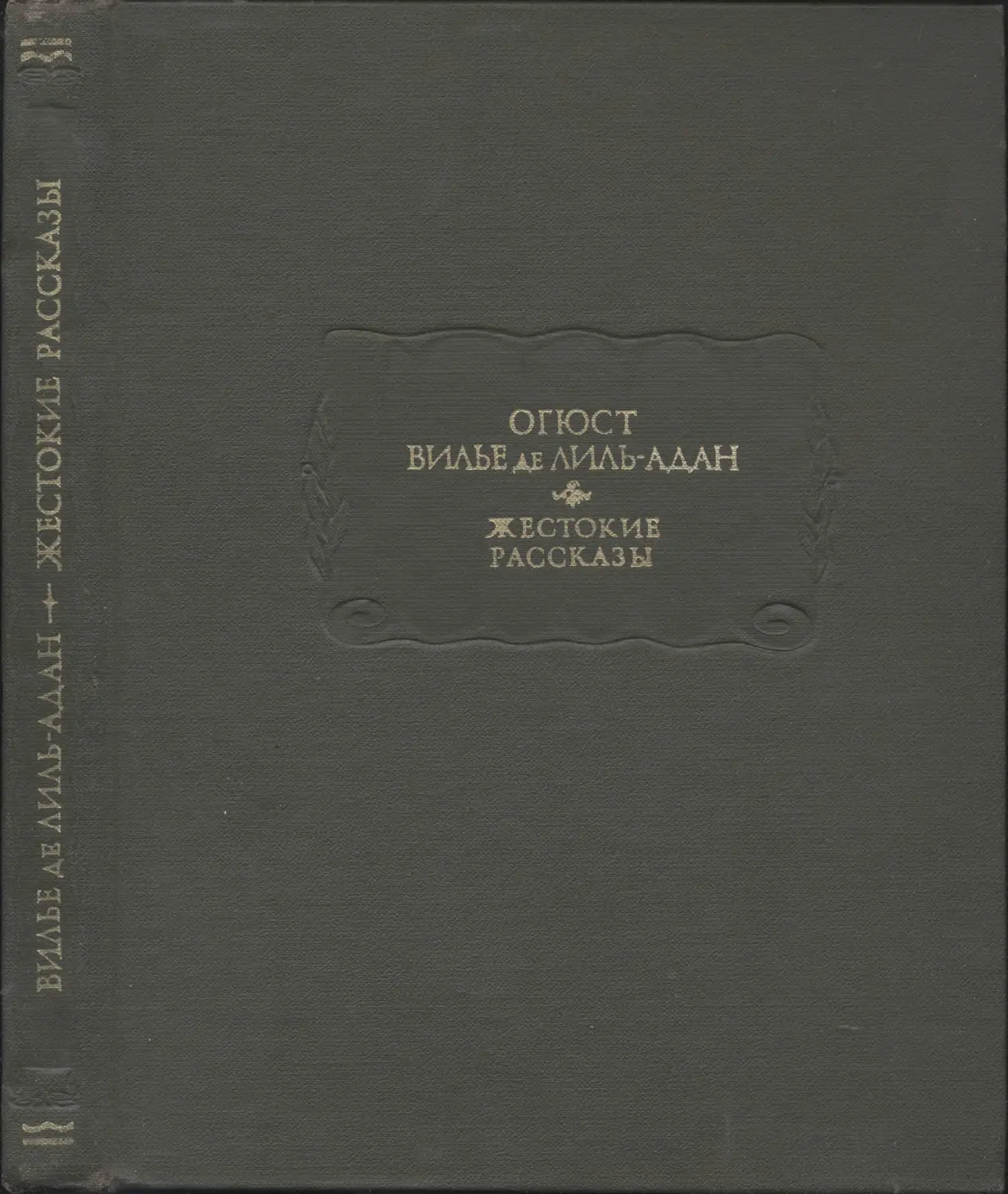Author: Вилье де Лиль-Адан О.
Tags: культура художественная литература этика литературные памятники литературоведение каталог академия наук ссср
Year: 1975
Text
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ
AUGUSTE
VILLIERS de l' ISLE-ADAM
CONTES CRUELS
огюст
ВИЛЬЕ де ЛИЛЬ-АДАН
ЖЕСТОКИЕ РАССКАЗЫ
ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВИЛИ
Ы. И. БАЛАШОВ, Е. А. ГУНСТ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА
1975
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»
М. П. Алексеев, Н. И. Балашов, Д. Д. Благой, И. С. Брагинский,
А. Л. Гришунин, Л. А. Дмитриев, Б. Ф. Егоров, Д. С. Лихачев (председатель),
А. Д. Михайлов, Д. В. Ознобишин (ученый секретарь),
Д. А. Ольдерогге, Ф. А. Петровский,
Б. И. Пуришев, М. И. Стеблин-Каменский, А. М. Самсонов (заместитель председателя),
Г. В. Степанов, С. Л. Утченко
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Я. II. БАЛАШОВ
РЕДАКТОРЫ ПЕРЕВОДА
Е. А. ГУНСТ} М. В. ВАХТЕРОВА
70304—177 306—75 О Издательство «Наука», 1975 г.
Огюст Вилье де Лиль-Адан
офорт художника Л. Дельтея
(герб и факсимиле Внлье)
ЖЕСТОКИЕ РАССКАЗЫ
1883
I. Девицы Бьенфилатр
Посвящается Теодору де Банвилю
Света, больше света!
(Последние слова Гете)
Паскаль * утверждает, что Добро и Зло — поскольку речь идет о поступ-
ках — вопрос географической широты. И в самом деле, один и тот же
поступок здесь считается преступным, там — добродетельным, и наоборот.
В Европе, например, престарелых родителей, как правило, окружают лю-
бовью, между тем по обычаям некоторых племен, населяющих Америку,
их заставляют взобраться на дерево и затем это дерево трясут. Если они
свалятся, священный долг доброго сына, как некогда у мессенцев2, при-
кончить их ударами томагавка3, дабы избавить их от тягостной старости.
Хватит у них сил уцепиться за какой-нибудь сук — значит, они еще годны
для охоты и рыбной ловли, и им дают отсрочку. Другой пример: северяне
любят вино, искрящуюся влагу, где дремлют солнечные лучи. Наша народ-
ная мудрость гласит, что «доброе вино веселит сердце». А у наших сосе-
дей— магометан, на Юге, употребление вина считается тяжким грехом.—
В Спарте воровство было в ходу и считалось почетным занятием. Это было
установление, освященное древностью, необходимое дополнение к воспи-
танию добропорядочного спартанца. Отсюда, по-видимому, прозвище
«грек».— В Лапландии глава семьи считает для себя честью, если его дочь
становится предметом благосклонности путника, нашедшего приют у его
очага. То же в Бессарабии.— В Северной Персии или среди племен, живу-
щих близ Кабула в древних гробницах, если вы после сердечного и радуш-
ного приема, оказанного вам в каком-нибудь уютном склепе, не подружи-
тесь за сутки со всем потомством вашего хозяина — парса, вахабита или
гебра, вы можете быть готовы к тому, что вам просто-напросто свернут
шею — расправа весьма обычная в тех краях. Итак, поступки сами по себе
ничего не выражают. Только намерения, которые мы вкладываем в них,
делают их хорошими или дурными. Тайной причиной, лежащей в основе
этого величайшего разногласия, является врожденная потребность человека
Жестокие рассказы
создавать себе моральные преграды и правила и, в зависимости от того,
что ему нашептал ветер его страны, накладывать запрет на одни поступки
и разрешать себе другие. Можно подумать, что Человечество забыло ка-
кой-то утраченный Закон и теперь ощупью пытается его найти.
Несколько лет тому назад почти напротив одного из наших театров-
варьете, фронтон которого напоминает языческий храм, существовало ог-
ромное, сиявшее огнями кафе — гордость наших бульваров. Здесь каждый
день собирались лучшие представители молодежи, которые впоследствии
отличились — кто своими артистическими талантами, кто своей бездарно-
стью, а кто ролью, сыгранной в пережитые нами смутные дни4.
Среди последних были даже и такие, коим пришлось держать в своих
руках бразды правления. Как видите, не какая-нибудь мелкота посещала
это кафе «Тысяча и одна ночь». Парижские буржуа, говоря об этом панде-
мониуме 5, всегда понижали голос. Частенько префект полиции небрежно,
словно визитпую карточку, забрасывал туда нежданный, тщательно подо-
бранный букет — горсточку жандармов, и те, со свойственным им рассеян-
ным и любезным видом, своими дубинками смахивали пыль с задорных и
строптивых голов. Эти знаки внимания, хотя и довольно нежные, все же
были весьма чувствительны. На другой день, впрочем, не оставалось ника-
ких следов ночного происшествия.
На террасе, между вереницами пролеток и окнами кафе, за круглыми
железными столиками, выкрашенными в ярко-зеленый цвет, пестрел цвет-
ник непринужденно расположившихся женщин в сногсшибательных
туалетах, целое море шиньонов, словно вышедших из-под карандаша
Гиса6. На столиках стояли всевозможные напитки. В глазах женщин было
нечто, напоминавшее взгляд ястреба или домашней птицы. У одних на
коленях лежали огромные букеты, у других — собачки, у некоторых —
ничего. Казалось, они кого-то ждут.
Среди молодых женщин две выделялись своим постоянством. Завсегда-
таи прославленного кафе запросто называли их Олимпией и Анриэттой.
Обе они приходили с наступлением сумерек, усаживались в хорошо осве-
щенном проходе, на виду, заказывали, приличия ради, рюмочку веспетро7
или бокал мазаграна8, а затем принимались внимательно осматривать про-
хожих.
Это были девицы Бьенфилатр!
Их родители, честнейшие люди, прошедшие суровую школу нужды,
пе обладали достаточными средствами, чтобы доставить своим дочерям
радость обучения какому-нибудь ремеслу, ибо занятие этих безупречных
супругов состояло главным образом в том, что они поминутно, с выраже-
нием отчаяния, дергали конец длинного шнура, с помощью которого откры-
вают входную дверь. Тяжкий труд! А в награду за него — редко перепа-
давшие жалкие гроши!!! Даже в лотерее им никогда не удавалось вытянуть
счастливый номер! Недаром папаша Бьенфилатр брюзжал, приготовляя
себе по утрам кофей. Анриэтта и Олимпия, как почтительные чочери, рано
поняли, что надо помогать родителям. Став с юных лет жрицами веселья,
Девицы Бьенфилатр
они на трудовые деньги, добытые ценой бессонных ночей, в поте лица,
поддерживали в каморке привратника скромный, но приличный достаток.—
«Бог благословляет наши старания» 9, — зачастую говорили они, ибо им
в детстве внушили твердые правила, а воспитание, основанное на твердых
началах, рано или поздно приносит плоды. Когда их спрашивали, не вреден
ли для здоровья их труд, порой непосильный, они с кротостью и застенчи-
востью, присущими истинной скромности, потупив взор, уклончиво отвеча-
ли: «Господь нас поддерживает».
Девицы Бьенфилатр принадлежали к труженицам, которые, как гово-
рится, «выходят на поденную работу ночью». Они выполняли достойно,
насколько это возможно (принимая во внимание некоторые распространен-
ные в обществе предрассудки), неблагодарную, а временами и тяжелую
работу. Они не были бездельницами, которые стыдятся честных трудовых
мозолей. Приводили немало их благородных поступков, таких, что Мон-
тион10, вероятно, встрепенулся от радости в своей роскошной гробнице.—
Однажды вечером, и не впервые, они состязались друг с другом во рвении
и превзошли самих себя, чтобы оплатить похороны старого дядюшки, к сло-
ву сказать, оставившего им в наследство лишь воспоминание о тумаках,
которыми он, не задумываясь, щедро награждал их, когда они были малень-
кими. И потому завсегдатаи почтенного заведения, а среди них были и лю-
ди, никогда не поступавшиеся своей совестью, смотрели на них благосклон-
но. На улыбку, на взгляд сестер неизменно отвечали дружеским приветст-
вием, ласковым кивком. Никогда ни от кого не доводилось им слышать
в свой адрес жалобы или упрека. Все в один голос признавали, что они
ласковы и приветливы в обращении. Короче говоря, они с честью выполня-
ли все свои обязанности, ни перед кем не были в долгу и потому могли
ходить с высоко поднятой головой. Будучи примерного поведения, они от-
кладывали деньги на случай непредвиденных обстоятельств, «про черный
день», чтобы, когда время придет, с достоинством удалиться на покой.—
Они были девушки богобоязненные и поэтому соблюдали воскресные дни.
По натуре благоразумные, они не прислушивались к словам юных верто-
прахов, годным лишь на то, чтобы совратить молодых девушек с суровой
стези труда и долга. Они придерживались мнения, что в наше время
в любви только лунный свет дается бесплатно. Их девизом было: «Быстро-
та, скромность и безопасность». На своих визитных карточках они добав-
ляли: «Особые специальности».
Но в один прекрасный день случилось так, что младшая, Олимпия,
пошла по дурной дорожке. Безупречная до этих пор, она вняла искуше-
нию, коему была подвержена больше других (которые, может быть, черес-
чур опрометчиво ее осуждают), благодаря среде, где ее заставляло жить ее
ремесло. Короче говоря, она совершила грех: она полюбила.
Это было ее первое прегрешение, а кто измерит глубину пропасти,, куда
нас может увлечь первый грех? Молодой студент по имени Максим (фа-
милию его не назовем), непосредственный, красивый, одаренный артисти-
ческой пылкой душой, но бедный, как Иов11, очаровал ее. любовными реча-
ми и совратил с избранного ею пути.
S Жестокие рассказы
Он внушил неземную страсть бедной малютке, которая, ввиду своего
положения, имела так же мало права любить, как Ева вкусить от божест-
венного плода Древа Жизни. С этой минуты она забыла все свои обязан-
ности. Порядок ее жизни был нарушен, все пошло вкривь и вкось. Уж если
девчонке взбредет на ум любовь, то пиши пропало!
А в это время ее сестра, благородная Анриэтта, изнемогала под непо-
сильным бременем. Порой она хваталась за голову, теряя веру во все —
в семью, в принципы и даже в самое Общество. «Все это одни слова!» —
восклицала она. Однажды ей навстречу попалась Олимпия, одетая в прос-
тенькое черное платье, без шляпы, с маленьким жестяным кувшином в руке.
Не подавая виду, что узнала ее, Анриэтта, как поравнялась с нею, шепну-
ла: «Сестра, ваше поведение возмутительно. Соблюдайте, по крайней мере,
приличия».
Быть может, этими словами она надеялась вернуть ее на путь добро-
детели.
Все было тщетно. Анриэтта поняла, что Олимпия погибла безвозвратно;
она покраснела и прошла мимо.
Дело в том, что в почтенном заведении пошли толки. По вечерам, когда
Анриэтта приходила одна, ее встречали иначе. Есть вещи, о которых не
может быть двух мнений. Она улавливала какой-то оттенок пренебреже-
ния к себе. К ней стали относиться значительно холоднее с тех пор, как
в кафе распространилась весть о падении Олимпии. Будучи гордой, она
улыбалась, как тот юный спартанец, которому лисенок раздирал грудь 12,
но каждый удар поражал ее чувствительное, правдивое сердце. Истинно
чуткую душу какой-нибудь пустяк ранит подчас больнее, нежели грубое
оскорбление, а в этом отношении Анриэтта была чувствительнее мимозы.
Как она должна была страдать!
А каково было ей по вечерам, за семейным ужином! Отец и мать молча
ели, опустив голову. Имя отсутствующей не произносилось. За десертом,
когда наполнялись рюмки, Анриэтта и ее мать, незаметно переглянувшись
и смахнув набежавшую слезу, безмолвно пожимали друг другу руки под
столом. À старый привратник, убитый горем, беспричинно дергал шнур,
чтобы заглушить подступавшие к горлу рыдания. Время от времени он
вдруг отворачивался и резким движением хватался за петлицу, словно же-
лая сорвать воображаемый боевой орден.
Один раз швейцар даже предпринял попытку вернуть дочь в лоно семьи.
С мрачным видом взобрался он по лестнице, которая вела в жилище моло-
дого человека. «Отдайте мне мое несчастное дитя!» — простонал он, войдя
туда. «Сударь, — ответил Максим, — я люблю ее и прошу у вас ее руки».
«Негодяй!» — воскликнул Бьенфилатр, возмущенный таким «цинизмом»,
и выбежал вон.
Анриэтте пришлось испить чашу до дна. Оставалось еще одно, послед-
нее средство. Она решилась на все, даже на скандал. Однажды вечером,
узнав, что беспутная Олимпия должна прийти в кафе, чтобы уплатить ка-
кой-то старый долг, она рассказала об этом дома, и вся семья направилась
к сверкающему огнями кафе.
Девицы Бъенфилатр
Подобно обесчещенной Тиберием Маллониж13, которая, прежде чем
в отчаянии пронзить себя кинжалом, явилась в римский сенат, дабы обли-
чить своего оскорбителя, Анриэтта вошла в зал, где восседали суровые
судьи. Отец и мать сочли более пристойным для себя остаться у дверей.
Посетители пили кофей. При появлении Анриэтты многие слегка нахмури-
лись. Но когда стало ясно, что она хочет говорить, развернутые газеты
опустились на мраморные столики, и в зале воцарилось благоговейное мол-
чание: ведь предстояло вершить суд.
В уголке за столиком, пристыженная, стараясь казаться незаметной,
сидела Олимпия в простеньком черном платье.
Анриэтта заговорила. Во время ее речи сквозь стеклянную дверь видны
были встревоженные супруги Бьенфилатр; не слыша ни слова, они следи-
ли за происходящим. В конце концов отец не выдержал: он приотворил
дверь и, схватившись за дверную ручку, стал внимательно прислушиваться.
Когда Анриэтта слегка воевышала голос, до него долетали обрывки
фрав: «Надо считаться с окружающими... Такое поведение... Это значит
восстановить против себя всех порядочных людей... Молокосос, который не
дает ей и медного гроша... Какой-то шалопай... От нее все отшатнулись...
Должно же быть чувство ответственности... До такой степени забыться...
Шляться без дела... А еще недавно всеобщее уважение... Я надеюсь, что
мнение присутствующих, куда авторитетнее моего, и советы людей, умуд-
ренных жизненным опытом, внушат ей более разумные и здравые мысли.
Живешь не для забавы... Скажите ваше веское слово... Я напоминала ей
о нашем детстве, взывала к голосу крови. Она стала бесчувственной... Она
погибла... Какое упорство!.. Увы...»
Тут в зал благородного судилища, сгорбившись, вошел отец. При виде
незаслуженного страдания все поднялись со своих мест. Есть горести,
в которых утешать нельзя. Каждый из присутствующих молча подошел
к почтенному старцу и пожатием руки деликатно выразил ему сочувствие
в постигшем его горе.
Олимпия ушла подавленная и бледная. Она почувствовала свою вину
и уже готова была броситься в объятия родных и друзей, всегда раскрытые
для раскаявшегося грешника. Но страсть одержала верх. Первая любовь
пускает в сердце глубокие корни и совершенно заглушает все прежние
чувства.
Однако разыгравшийся в кафе скандал роковым образом отразился на
здоровье Олимпии. Ее растревоженная совесть не давала ей покоя. На
следующий день у нее открылась горячка. Она буквально умирала со стыда.
Дух убивал тело. Клинок истер ножны.
Лежа в своей комнатушке и чувствуя приближение смерти, она позва-
ла на помощь. Сердобольные соседки пошли за духовником. Одна из них
высказала мнение, что Олимпия слаба и нуждается в чем-то подкрепляю-
щем. Какая-то служанка принесла ей тарелку супа.
Явился пастырь.
Старый священнослужитель пытался утешить больную словами мира,
сострадания и всепрощения.
10 Жестокие рассказы
— У меня был любовник,— прошептала Олимпия, сознаваясь в своем
бесчестии.
Она не упоминала о других своих грешках, о минутах раздражительно-
сти, недовольства... Одна лишь мысль неотступно владела ею: «Любовник!
Даром! Ради удовольствия!» Вот в чем заключалось ее преступление.
Она не хотела умалять свою вину рассказом о прежней жизни, без-
упречной и полной самопожертвования. Она прекрасно сознавала, что
в прошлом ей не в чем себя укорять. Но зато какой позор навлекла она на
себя потом, беззаветно полюбив юношу без всякого положения, который,
по злобному и точному выражению сестры, не давал ей и «медного гроша».
Анриэтта, никогда не нарушавшая своего долга, явилась пред ней словно
в ореоле. Себя же она чувствовала осужденной, и ее страшила кара все-
вышнего, перед которым ей вскоре надлежало предстать.
Священнослужитель, привыкший к зрелищу человеческих страданий,
приписал горячечному бреду некоторые слова в исповеди Олимпии, пока-
завшиеся ему странными, если не лишенными смысла. Вероятно, он даже
не понял ее, а кое-какие выражения бедной девушки просто приводили его
в недоумение. Но так как для него имело значение лишь самое раскаяние,
сокрушение, то ему безразличны были обстоятельства прегрешения; доста-
точно было искренности кающейся, ее чистосердечной скорби. Но в ту
минуту, когда он простер руку, чтобы отпустить ей грехи, дверь с шумом
распахнулась; вошел Максим, ликующий, весь сияя от радости и счастья,
держа в руке несколько экю и три-четыре золотых, которыми оп позвяки-
вал с торжествующим видом. Его родители принесли эту жертву, дабы
он мог внести необходимую сумму за предстоящие экзамены.
Олимпия, не сразу заметив это немаловажное, смягчающее обстоятель-
ство, в ужасе протянула вперед руки.
Пораженный этой картиной, Максим остановился.
— Мужайтесь, дитя мое,— прошептал священник, усмотрев в жесте
Олимпии отречение от постыдной греховной страсти.
На самом же деле Олимпия отстраняла от себя лишь преступление это-
го юноши, преступление, заключавшееся в том, что он не был человеком
«солидным».
Но в тот миг, когда на нее снисходила небесная благодать, блаженная
улыбка озарила ее невинный лик. Священник подумал, что она чувствует
себя спасенной и что в зловещих сумерках последнего часа перед нею
предстали неясные райские видения. В действительности же Олимпия
смутно различила блеск священного металла в преображенных руках
Максима. И только тогда она ощутила благодатную силу небесного мило-
сердия! Завеса спала. Свершилось чудо! Узрев это знамение, она поняла,
что прощена и что грех ее искуплен.
Восхищенная, с умиротворенной совестью, она смежила веки, словно
желая сосредоточиться, прежде чем воспарить в заоблачные выси. Уста ее
полуоткрылись, и она испустила последний вздох, нежный, как аромат ли-
лии, прошептав слова надежды:
— Он пришел заплатить мне!
Вера 11
II. Вера
Посвящается графине д'Омуа.
Форма тела для него ваэ1снее, чем его
содержание.
( «Современная физиология» )
Любовь сильнее Смерти — сказал Соломон1; да, ее таинственная власть
беспредельна.
Дело происходило несколько лет тому назад в осенние сумерки, в Па-
риже. К темному Сен-Жерменскому предместью 2 катили из Леса3 послед-
ние экипажи с уже зажженными фонарями. Один из них остановился
у большого барского особняка, окруженного вековым парком; над аркой
его подъезда высился каменный щит с древним гербом рода графов д'Атоль,
а именно: по лазоревому полю, с серебряной звездой посередине, с девизом
PallidaVictrix* под княжеской короной, подбитой горностаем. Тяже-
лые двери особняка распахнулись. Человек лет тридцати пяти, в трауре,
со смертельно бледным лицом, вышел из экипажа. На ступенях подъезда
выстроились молчаливые слуги с канделябрами в руках. Не обращая на
них внимания, приехавший поднялся по ступенькам и вошел в дом. То
был граф д'Атоль.
Шатаясь, он поднялся по белой лестнице, ведущей в комнату, где он
в то утро уложил в обитый бархатом гроб, усыпанный фиалками и оку-
танный волнами батиста, королеву своих восторгов, свое отчаяние, свою
бледную супругу Веру.
Дверь в комнату тихонько отворилась, он прошел по ковру и откинул
полог кровати.
Все вещи лежали на тех местах, где накануне их оставила графиня.
Смерть налетела внезапно. Минувшей ночью его возлюбленная забылась
в таких бездонных радостях, тонула в столь упоительных объятиях, что
сердце ее, истомленное наслаждениями, не выдержало — губы ее вдруг
оросились смертельным пурпуром. Едва успела она, улыбаясь, не проронив
ни слова, дать своему супругу прощальный поцелуй,— и ее длинные рес-
ницы, как траурные вуали, опустились над прекрасной ночью ее очей.
Неизреченный день миновал.
Около полудня, после страшной церемонии в семейном склепе, граф
д'Атоль отпустил с кладбища ее мрачных участников. Потом он затворил
железную дверь мавзолея и остался среди мраморных стен, один на один
с погребенной.
Перед гробом, на треножнике, дымился ладан; над изголовьем юной
покойницы горел венец из светильников, сиявших, как звезды.
Он провел там, не присаживаясь, весь день, и единственным чувством,
владевшим им, была безнадежная нежность. Часов в шесть, когда стало
смеркаться, он покинул священную обитель. Запирая склеп, он вынул из
замка серебряный ключ и, взобравшись на верхний приступок, осторожно
* Бледная победительница (лат.).
12 Жестокие рассказы
бросил его внутрь. Он его бросил на плиты через оконце над порталом.—
Почему он это сделал? Конечно, потому, что принял тайное решение ни-
когда сюда не возвращаться.
И вот он снова в осиротевшей спальне.
Окно, прикрытое широким занавесом из сиреневого кашемира, заткан-
ного золотом, было распахнуто настежь; последний вечерний луч освещал
большой портрет усопшей в старинной деревянной раме. Граф кинул взгляд
вокруг — на платье, брошенное на кресло накануне, на кольца, жемчужное
ожерелье, полузакрытый веер, лежавшие на камине, на тяжелые флаконы
с духами, запах которых Она уже никогда не будет вдыхать. На незасте-
ленном ложе из черного дерева, с витыми колонками, у подушки, где среди
кружев еще виднелся отпечаток ее божественной, любимой головкп, он
увидел платок, обагренный каплями крови в тот краткий миг, когда юная
душа ее отбивалась от смерти; он увидел раскрытый рояль, где замерла
мелодия, которая отныне уже никогда не завершится; индийские цветы,
сорванные ею в оранжерее и умирающие теперь в саксонских вазах: a v
поднсжья кровати, на черном мехе — восточные бархатные туфельки, ка
которых поблескивал вышитый жемчугом шутливый девиз Веры: «Кто
увидит Веру, тот полюбит ее» \ Еще вчера утром босые ножки гго возлюб-
ленной прятались в них, и при каждом шаге к ним стремился прильнуть
лебяжий пух туфелек.— А там, там, в сумраке — часы, пружину которых
он сломал, чтобы они уже никогда не возвещали о беге времени.
Итак, она ушла!.. Куда же? И стоит ли теперь жить? Зачем? Это не-
мыслимо, нелепо.
И граф погрузился в сокровенные думы.
Он размышлял о прожитой жизни. Со дня их свадьбы прошло полгода.
Впервые он увидел ее за границей, на балу в посольстве... Да. Этот миг
явственно воскресал перед его взором. Он снова видел ее там, окруженную
сиянием. В тот вечер взгляды их встретились. Они смутно почувствовали,
что пуши их родственны и что им суждено полюбить друг друга навеки.
Уклончивые речи, сдержанные улыбки, намеки, все трудности, созда-
ваемые светом, чтобы воспрепятствовать неотвратимому счастью предназ-
наченных цруг другу, рассеялись перед спокойным взаимным доверием,
которое сразу же зародилось в их сердцах.
Вере наскучили церемонные пошлости ее среды, и она сама пошла ему
навстречу, наперекор препятствиям, царственно упрощая тем самым из-
битые приемы, на которые расходуется драгоценное время жизни.
О, при первых же словах, которыми они обменялись, легковесные оцен-
ки безразличных к ним людей показались им стаей ночных птиц, улетаю-
щей в привычную ей тьму! Какие улыбки подарили они друг другу! Как
упоительны были их объятия!
Вместе с тем натуры они были поистине странные! — То были два су-
щества, наделенные тонкой чувствительностью, но чувствительностью чи-
сто земной. Ощущения длились у них с тревожащей напряженностью. Они
так полно отдавались им, что совсем забывали самих себя. Зато возвышен-
ные идеи, например понятия о душе, о Бесконечном, даже о боге, представ-
Вера 13
лялись им как бы в тумане. Сверхъестественные явления, в которые верят
многие живущие, вызывали у них всего лишь недоумение; для них это
было нечто непостижимое, чего они не решались ни осудить, ни одобрить.—
Поэтому, ясно сознавая, что мир им чужд, они тотчас же после свадьбы
уединились в этом сумрачном старинном дворце, окруженном густым пар-
ком, где тонули все внешние шумы.
Здесь влюбленные погрузились в океан того изощренного, изнуряющего
сладострастия, в котором дух сливается с таинственной плотью. Они ис-
пили до дна все неистовство страсти, всю безумную нежность, познали всю
исступленность содроганий. Сердце одного вторило трепету сердца другого.
Дух их так пронизывал тело, что плоть казалась им духовной, а поцелуи,
как жгучие звенья, приковывали их друг к другу, создавая некое нерастор-
жимое слияние. Восторги, которым нет конца! И вдруг очарование оборва-
лось; страшное несчастье разъединило их; объятия их разомкнулись. Что
за враждебная сила отняла у него его дорогую усопшую? Усопшую? Нет!
Разве вместе с воплем оборвавшейся струны улетает и душа виолончели?
Прошло несколько часов.
Он смотрел в окно, как ночь завладевает небесами: и Ночь казалась ему
одухотворенной; она представлялась ему королевой, печально бредущей
в изгнание, и одна только Венера, как бриллиантовый аграф на траурной
королевской мантии, сияла над деревьями, затерянная в безднах лазури.
— Это Вера,— подумал он.
При этом звуке, произнесенном шепотом, он вздрогнул, как человек,
которого вдруг разбудили; очнувшись, он осмотрелся вокруг.
Предметы в комнате, доселе тускло освещенные ночником, теплившим-
ся в потемках, теперь, когда в вышине воцарилась ночь, были залиты си-
неватыми отсветами, а сам ночник светился во тьме, как звездочка. Эта
лампада, благоухавшая ладаном, стояла перед иконостасом, фамильной
святыней Веры. Там, между стеклом и образом, на русском плетеном
шнурке висел старинный складень из драгоценного дерева. От его золотых
украшений на ожерелье и другие драгоценности, лежавшие на камине,
падали мерцающие отблески.
На венчике богоматери, облаченной в небесные ризы, сиял византий-
ский крестик, тонкие красные линии которого, сливаясь, оттеняли мерца-
ние жемчужин кроваво-алыми бликами. С детских лет Вера с состраданием
обращала взор своих больших глаз на ясный лик божьей матери, перехо-
дивший в их семье из рода в род. Но, увы, она могла любить ее только
суеверной любовью, и, в задумчивости проходя мимо лампады, она порою
простодушно обращалась к пречистой деве с робкой молитвой.
Граф взглянул на образ, и это горестное напоминание тронуло его до
глубины души; он вскочил с места, поспешно задул священное пламя,
ощупью в сумраке отыскал шнурок и позвонил.
Вошел камердинер — старик, одетый во все черное; лампу, которая
была у него в руках, он поставил перед портретом графини. Обернувшись,
он содрогнулся от суеверного ужаса, ибо увидел, что хозяин, стоя посреди
комнаты, улыбается как ни в чем не бывало.
И Жестокие рассказы
— Ремон,— спокойно сказал граф, — мы с графиней сегодня очень уста-
ли; подай ужин в десять часов.— Кстати, мы решили с завтрашнего дня еще
более уединиться. Пусть все слуги, кроме тебя, сегодня же вечером поки-
нут дом. Выдай им жалованье за три года вперед и пусть уходят. Потом
запри ворота на засов; внизу, в столовой, зажги канделябры; прислужи-
вать нам станешь ты один. Отныне мы никого не принимаем.
Старик дрожал и внимательно смотрел на графа.
Граф закурил сигару, потом вышел в сад.
Сначала слуга подумал, что от непомерного, безысходного горя разум
его господина помутился. Он знал его еще ребенком; сейчас он понимал,
что внезапное пробуждение может оказаться для этого спящего наяву ро-
ковым ударом. Его долг прежде всего — сохранить слова графа в тайне.
Он поклонился. Стать преданным соучастником этой трогательной ил-
люзии? Повиноваться?.. Продолжать служить им, не считаясь со Смер-
тью? — Что за страшная мысль!.. Не рассеется ли она к утру?.. Завтра,
завтра,— увы!.. Однако как знать?.. Быть может!..— Впрочем, это благо-
честивый замысел.— И по какому праву он, слуга, берется судить
господина?
Он удалился, в точности выполнил данные ему распоряжения, и с этого
вечера началось загадочное существование графа.
Надо было создать страшпую иллюзию.
Неловкость, сказывавшаяся в первые дпи, вскоре исчезла. Ремон сна-
чала с изумлением, а затем со своего рода благоговением и нежностью
старался держаться естественно и так преуспел в этом, что не прошло и
трех недель, как он сам порою становился жертвою своего рвения. Истина
тускнела. Иной раз голова у него начинала кружиться, и ему приходилось
напоминать самому себе, что графиня в самом деле скончалась. Он все
глубже и глубже погружался в эту мрачную игру и то и дело забывал
действительность. Вскоре ему уже мало стало одних размышлений, чтобы
убедить себя и опомниться. Он чувствовал, что в конце концов безвозвратно
подпадет под власть страшного магнетизма, которым граф все более и
более насыщал окружающую их обстановку. Его охватывал ужас, ужас
смутный и тихий.
Д'Атоль действительно жил в полном певедении о смерти своей воз-
любленной. Образ молодой женщины до такой степени слился с его соб-
ственным, что он беспрестанно чувствовал ее присутствие. То, в ясную по-
году, он, сидя на скамейке в саду, читал вслух ее любимые стихотворения,
то, вечерами, у камина, за столиком, где стояли две чашки чая, он беседо-
вал с Иллюзией, которая сидела, улыбаясь, в кресле против него.
Пронеслось много дней, ночей, недель. Ни тот, ни другой не отдавали
себе отчета в том, что происходит с ними. А теперь начались странные
явления, и тут трудно было различить, где кончается воображаемое и где
начинается реальное. В воздухе чувствовалось чье-то присутствие — чей-то
образ силился возникнуть, предстать в каком-то непостижимом простран-
стве»
Д'Атоль жил двойственной жизнью, как ясновидец. Порою перед его
Вера 15
взором, словно молния, мелькало нежное, бледное лицо; вдруг раздавался
тихий аккорд, взятый на рояли; поцелуй прикрывал ему рот в тот миг,
когда он начинал говорить; чисто женские мысли рождались у него в от-
вет на его собственные слова; в нем происходило такое раздвоение, что он
чувствовал возле себя, как бы сквозь еле ощутимый туман, благоухание
своей возлюбленной, от которого у него кружилась голова; а по ночам,
между бодрствованием и сном, ему слышались тихие-тихие речи: все это
служило ему предвестием. То было отрицание Смерти, возведенное в ко-
нечном счете в какую-то непостижимую силу.
Однажды д'Атоль так ясно почувствовал и увидел ее возле себя, что
протянул руки, чтобы ее обнять, но от этого движения она развеялась.
— Дитя! — прошептал он, вздыхая.
И он снова уснул как любовник, обиженный шаловливой, задремавшей
подругой.
В день ее именин он шутки ради добавил цветок иммортели в букет,
положенный им на подушку Веры.
— Ведь она воображает, будто умерла,— молвил он.
Силою любви граф д'Атоль восстанавливал жизнь своей жены и ее при-
сутствие в одиноком особняке, и благодаря его непоколебимой, всепобеж-
дающей воле такое существование приобрело в конце концов некое мрач-
ное и покоряющее очарование.— Даже Ремон, постепенно привыкнув
к новому укладу, перестал ужасаться.
То на повороте аллеи промелькнет черное бархатное платье, то веселый
голосок позовет графа в гостиную, то утром, при пробуждении, как прежде,
прозвучит колокольчик — все это стало для него привычным; покойница,
казалось, как ребенок, играет в прятки. Это было вполне естественно: ведь
она чувствовала, что горячо любима.
Прошел год.
В канун Годовщины граф, сидя у камина в комнате Веры, читал ей
флорентийскую новеллу: «Каллимах». Он закрыл книгу и, беря чашку
чая, сказал:
— Душка5, помнишь Долину Роз, берег Лана6, замок Четырех Ба-
шен?.. Эта история тебе напомнила их, не правда ли?
Д'Атоль встал и, бросив взгляд на голубоватое зеркало, заметил, что
он бледнее обычного. Он вынул из вазочки жемчужный браслет и стал его
внимательно рассматривать. Ведь Вера только что, раздеваясь, сняла его
с руки. Жемчужины были еще теплые, и блеск их стал еще нежнее, слов-
но они были согреты ее теплом. А сибирское ожерелье с опалом в золотой
оправе, который был до того влюблен в прекрасную грудь Веры, что бо-
лезненно бледнел, если молодая женщина на некоторое время забывала
о нем? Некогда графиня особенно любила этот камень за его верность!..
Сегодня опал сиял, словно графиня только что рассталась с ним; он еще
весь был пронизан очарованием прекрасной усопшей. Кладя ожерелье и
драгоценный камень на прежнее место, граф случайно дотронулся до ба-
тистового платка, кровавые пятна на котором были еще влажны и алы,
как гвоздики на снегу!.. А тут, на рояли, кто же перевернул страницу
10 Жестокие рассказы
прозвучавшей некогда мелодии? Вот как? И святая лампада в киоте тоже
затеплилась? Да? золотистое пламя таинственно освещало лик богоматери
с прикрытыми глазами. А восточные, только что сорванные цветы, высив-
шиеся в старинных саксонских вазах,— чья же рука поставила их здесь?
Комната казалась веселой и полной жизни, жизни более значительной и
напряженной, чем обычно. Но графа ничто не могло удивить. Все это ка-
залось ему вполне естественным, и он не обратил внимания даже на то,
что бьют часы, остановившиеся год тому назад.
А в тот вечер можно было подумать, что графиня Вера, преиспол-
ненная любви, порывается вернуться из бездны мрака в эту комнату, бла-
гоухающую от ее присутствия. Так много осталось здесь от нее самой!
Ее влекло сюда все, что составляло суть ее жизни. Здесь все дышало ее
очарованием; долгие неистовые усилия воли ее супруга, по-видимому, рас-
сеяли вокруг нее туманные путы Невидимого!
Она была принуждена вернуться. Все, что она любила, находилось
здесь.
Ей, должно быть, хотелось снова улыбнуться самой себе в этом таин-
ственном зеркале, где она столько раз любовалась своим лилейным лицом!
Нежная усопшая, вероятно, содрогнулась там, под фиалками, среди погас-
ших факелов; божественная усопшая испугалась своего одиночества в скле-
пе при виде серебряного ключа, брошенного на каменные плиты. Ей тоже
захотелось вернуться к нему. Но воля ее растворялась в клубах ладана и
в отчужденности. Смерть — окончательное решение только для тех, кто
питает надежду на небеса; а ведь для нее и Смерть, и Небеса, и Жизнь —
все заключалось в их объятиях. И призывный поцелуй мужа влек к себе
в сумраке ее уста. А звуки затихшей мелодии, былые пылкие речи, тканя,
облекавшие ее тело и еще хранившие его благоухание, магические драго-
ценности, льнувшие к ней и полные таинственного благоволения, главное
же — царившее вокруг могучее и непреложное ощущение ее присутствия,
которое передавалось даже неодушевленным предметам,—все призывало
ее сюда, все уже так долго и так неотступно влекло ее сюда, что, когда она
исцелилась наконец от дремоты Смерти, здесь недоставало только Ее одной,
О, идеи — это живые существа!.. Граф как бы наметил в воздухе очер-
тания своей возлюбленной, и пустота эта непременно должна была запол-
ниться единственным одномерным ей существом, иначе Вселенная распа-
лась бы в прах. В тот миг возникла окончательная, непоколебимая, полная
уверенность, что Она тут, в комнате] Он был уверен в этом твердо, как
в своем собственном существовании, и все вокруг него было тоже убежде-
но в этом. Ее видели здесь! И так как теперь недоставало только самой
Веры — осязаемой, существующей где-то в пространстве, то она непремен-
но должна была оказаться здесь, и великий Сон Жизни и Смерти непремен-
но должен был приоткрыть на мгновение свои неисчислимые врата! Дорога
воскресения была верою проложена до самой усопшей! Задорный взрыв
мелодичного смеха весело сверкнул, осветив брачное ложе; граф обернулся.
И вот перед его взором явилась графиня Вера, созданная волею и памятью;
она лежала, неуловимая, облокотившись на кружевную подушку; рука ее
Вера 17
поддерживала тяжелые черные косы; прелестный рот был полуоткрыт
в райски-сладострастной улыбке; словом, она была несказанно прекрасна,
и она смотрела на него, еще не совсем очнувшись от сна.
— Рожэ! — окликнула она возлюбленного, и голос ее прозвучал как бы
издалека.
Он подошел к ней. Их уста слились в божественной радости,— неисчер-
паемой,— бессмертной!
И тогда они поняли, что действительно представляют собою единое су-
щество.
Каким-то посторонним веянием пронеслось время над этим экстазом,
в котором впервые слились небо и земля.
Вдруг граф д'Атоль вздрогнул, словно пораженный неким роковым вос-
поминанием.
— Ах, теперь припоминаю,— проговорил он.— Что со мною? Ведь ты
умерла?
В тот же миг мистическая лампада перед образом погасла. В щель меж-
ду шторами стал пробиваться бледный утренний свет, свет нудного, серо-
го, дождливого дня. Свечи померкли и погасли, от рдеющих фитилей под-
нялся едкий чад; огонь в камине скрылся под слоем теплого пепла; цветы
увяли и засохли в несколько минут; маятник часов мало-помалу снова за-
мер. Очевидность всех предметов внезапно рассеялась. Опал умер и уже
не сверкал; капли крови на батисте, лежавшем возле него, тоже поблекли;
а пылкое белое видение, тая в отчаянных объятиях графа, который всеми
силами старался удержать его, растворилось в воздухе и исчезло. Рожэ
уловил отчетливый слабый, далекий прощальный вздох. Граф встрепенул-
ся; он только что заметил, что он один. Мечта его внезапно рассеялась, он
одним-единственным словом порвал магическую нить своего лучезарного
замысла. Теперь все вокруг было мертво.
— Все кончено,— прошептал он.— Я утратил ее! Она одна! По какому
же пути мне следовать, чтобы обрести тебя? Укажи мне дорогу, которая
приведет меня к тебе!
Вдруг, словно в ответ ему, на брачное ложе, на черный мех упал ка-
кой-то блестящий металлический предмет: луч отвратительного земного
света осветил его... Покинутый наклонился, поднял его, и блаженная улыб-
ка озарила его лицо: то был ключ от склепа.
18 Жестокие рассказы
III. Vox populi*
Посвящается господину Леконт де Лилю.
Прусский солдат и кофе варит исподтишка.
(Сержант Офф)
В тот день на Елисейских Полях был большой военный парад!
Со времени этого зрелища мы вытерпели двенадцать лет 4.
Летнее солнце вонзало свои длинные золотые стрелы в крыши и купола
древней столицы. Несметное множество окон перебрасывалось ослепитель-
ными бликами; толпы народа, окутанные мглистым светом, запрудили
улицы — всем хотелось посмотреть войска.
Возле решетки паперти собора Нотр-Дам на высоком деревянном
складном стульчике сидел, скрестив ноги, обмотанные черными лохмотья-
ми, столетний Нищий, старейшина парижской Бедноты; его скорбное лицо
пепельного цвета, землисто-темная кожа, изборожденная морщинами, ру-
ки, сложенные под дощечкой, которая официально освящала его слепоту,
словом, весь облик его являл теневую сторону празднества и разливавше-
гося вокруг торжественного «Тебе, бога, хвалим!».
Вся эта толпа, окружающая его,— не его ли ближние? А веселые про-
хожие — не его ли братья? Разумеется, Род людской. К тому же престаре-
лый гость величественного портала отнюдь не был лишен всех благ:
Государство признало за ним право на слепоту.
Владея такой привилегией и пользуясь святостью места, которое он
официально занимал, обладая- наконец правом участвовать в выборах, он
был нам во всех отношениях ровней,— за исключением разве того, что был
лишен Света.
И вот этот человек, как бы задержавшийся среди живых, время от вре-
мени жалобно бормотал слова, в которых изливалась вековечная скорбь
всей его жизни:
— Сжальтесь над несчастным слепцом, сделайте милость!
А вокруг него, под мощные раскаты музыки, раздававшиеся сверху,—
извне, оттуда, из-за пелены, закрывающей ему глаза,— доносился топот
кавалерии, временами слышались звуки рожков, приветственные крики,
сливающиеся с орудийными залпами из Дворца Инвалидов, с величествен-
ными возгласами команды, лязг стали, громоподобный бой барабанов, ко-
торым сопровождалось бесконечное шествие пехоты,— все это несмолкае-
мым гулом славы доходило до его ушей. Его обостренный слух улавливал
все, вплоть до шуршания тяжелой бахромы знамен, касавшейся кирас.
В сознании старого пленника тьмы возникали бесчисленные неуловимые и
неопределенные молнии ощущений. Внутренним чутьем он угадывал все-
общее опьянение сердец и мыслей.
А народ, завороженный, как всегда, чарами, которые присущи в его
глазах смелости и удаче, выражал чувства, владевшие им в этот день,
несмолкавшими криками;
* Глас народа (лат.)
Vox populi 19
— Да здравствует император!
Но среди всех возгласов и грохота этой триумфальной бури, со стороны
священной ограды порою слышался слабый голос слепца. Прислонившись
затылком к ограде, словно к позорному столбу, обратив к небу мертвые
зрачки, забытый всем народом, истинные чувства которого, погребенные
под восторженными криками, выражал, пожалуй, он один, старик-заступ-
ник пророчески твердил все те же, никому не понятные сейчас, слова:
— Сжальтесь над несчастным слепцом, сделайте милость!
В тот день на Елиссйских Полях был большой военный парад!
Со дня этого солнечного праздника пролетело десять лет2. Те же звуки,
те же голоса, тот же хмель. Однако в тот день что-то приглушало шумное
народное ликование. Какая-то тень омрачала взоры. Обязательные для
парада залпы с крыши Пританея3 на этот раз сопровождались отдаленным
рокотом орудий наших фортов. Прислушиваясь к эху, народ пытался уло-
вить — не слышны ли уже ответные выстрелы приближающихся враже-
ских орудий.
Правитель 4 проезжал, расточая улыбки и отдаваясь на волю своего пре-
красного иноходца. Народ, ободренный и полный доверия, которое всегда
внушает ему безупречная выправка, распевал патриотические песни, пере-
межая их чисто военными приветствиями, славившими этого солдата.
Но слова прежнего безумного восторга толпы теперь изменились; на-
род в волнении выражал свои нынешние чаяния:
— Да здравствует Республика!
А поодаль, возле священного порога, по-прежнему раздавался одино-
кий голос Лазаря 5. Выразитель затаенных мыслей народа ничуть не изме-
нил свою извечную суровую жалобу.
Оставаясь и на этом празднестве искренним, он обращал к небесам
угасшие глаза и время от времени взывал, как бы убеждая:
— Сжальтесь над несчастным слепцом, сделайте милость!
В тот день на Елисепских Полях был большой военный парад!
Мы выдержали девять лет 6 с того дня, освещенного мглистым солнцем.
Все те же крики! Все тот же лязг оружия! То же ржание коней! Только
все глуше, чем в прошлом году, хотя и так же крикливо.
— Да здравствует Коммуна! — возглашал народ, и ветер подхватывал
эти крики.
А голос вековечного Избранника Невзгод в отдалении, у священного
^порога, по-прежнему твердил свой напев, выражавший неизбывную мысль
народа. Подняв голову к небу, он в сумраке стонал:
— Сжальтесь над несчастным слепцом, сделайте милость!
А два месяца спустя7, когда при последних отзвуках набата генералис-
симус регулярных войск государства проводил смотр своим двумстам ты-
20 Жестокие рассказы
сячам винтовок, увы, еще дымившимся после прискорбной гражданской
войны8, устрашенный народ кричал, наблюдая, как вдали пылают здания:
— Да здравствует маршал!
В сторонке, возле спасительной ограды, все тот же неизменный Голос,
голос людских Невзгод, привычно и скорбно молил:
— Сжальтесь над несчастным слепцом, сделайте милость!
И с тех пор, из года в год, от парада к параду, от возгласов к возгласам,
какое бы имя ни выкрикивал народ в своих приветствиях,— те, кто вни-
мательно вслушиваются в земные голоса, всегда различают в разгар рево-
люционных восторгов и воинственных празднеств далекий Голос, Голос
истинный, сокровенный Голос грозного символического Нищего, Ночного
Стража, возглашающего подлинное состояние Народа, неподкупного часо-
вого совести граждан, того, кто в совершенстве выражает стенания и тай-
ную мольбу Толпы.
Непреклонный патриарх Братства, всеми признанный носитель физи-
ческой слепоты, будучи невольным посредником, не перестает молить о бо-
жественном милосердии для своих духовных собратьев.
И когда Народ, опьяненный фанфарами, перезвоном колоколов и зал-
пами орудий, одурманенный льстивыми выкриками, тщетно пытается под
любыми лживо-восторженными словами скрыть от самого себя свои истин-
ные чаяния. Нищий, обратив лицо к Небесам, воздев руки, встает во весь
рост в окружающей его великой тьме, у вечного порога Церкви и по-преж-
нему пророчески возглашает горькую истину, звучащую все жалобнее и
жалобнее, но восходящую за звездные пределы:
— Сжальтесь над несчастным слепцом, сделайте милость!
IV. Две возможности
Главное — никаких талантов.
(Современный девиз)
Юноши-французы, мыслители и поэты, мастера будущего Искусства,
молодые творцы, вступающие в жизнь со сверкающим челом, непреклон-
ные в своих новых верованиях, решившие при необходимости принять сле-
дующий, например, предлагаемый мною девиз: «ТЕРПЕТЬ, ЧТОБЫ ПЕТЬ!»,—
вы, ныне еще мирно сидящие возле лампы в какой-нибудь холод-
ной каморке столичного дома, но уже восклицающие в глубине души:
«О всемогущая пресса, на страницах которой я возвещу невиданно вели-
колепные мысли!» —вы окрылены вполне законной надеждой, что вам бу-
Две возможности 21
дет дозволено высказать мысли, внушенные вам свыше, а не пережевы-
вать то, что желает слышать полоумная толпа,— вы, скромные и нищие,
воображаете, будто блистательные страницы, которые вы развернете пере?
Человечеством, окупят хотя бы хлеб ваш насущный и масло, сгорающее
во время ночных бдений?
Ну, так послушайте же причудливый и, на первый взгляд, парадоксаль
ный (хоть и выдержанный в духе строжайшего реализма) диалог, произо-
шедший недавно между неким редактором газеты и нашим другом, кото-
рый любопытства ради принял личину начинающего журналиста.
Подобная сцена, убежден, разыгрывается постоянно, и все другие в та-
ком же духе — немые или громогласные,— в сущности, всего лишь разно-
видность этой (вечной!);—поэтому, о юноши, коим суждено самим разы-
грать ее, я вынужден прибегнуть к настоящему времени изъявительного
наклонения.
Проникнем в кабинет (почти всегда выдержанный в прекрасных зеле-
ных тонах), где редактор — один из тех, кто видит в добрых буржуа лишь
потенциальных подписчиков,— сидит за столом, одной рукой облокотив-
шись о ручку кресла и рукою держась за подбородок; вид у него глубоко-
мысленный, и он небрежно вертит традиционный нож из слоновой кости.
Появляется курьер; он подает сему мыслителю визитную карточку.
Тот берет ее, бросает на нее рассеянный взгляд, потом, слегка вздрог-
нув, удивленно поднимает брови и шепчет:
— Никому не известный? Уж, наверно, это какой-нибудь гасконец,
хвастающийся своею неизвестностью, чтобы добраться до меня. Теперь не-
известные перевелись, все изучены досконально.— А каков этот господин
на вид?
— Молодой человек, сударь.
— Черт побери! Просите!
Минуту спустя появляется наш юный друг.
Редактор встает и самым любезным тоном говорит:
— Я действительно имею честь говорить с неизвестным?
— Не располагая этим титулом, я никак не осмелился бы представить-
ся вам,— ответствует вошедший якобы бумагомаратель.
— Не угодно ли присесть?
— Я пришел, чтобы предложить вам небольшую заметку на современ-
ные темы — несколько вольную, конечно...
— Насчет этого я не сомневаюсь. Ближе к делу. Сколько вы хотели бы
за строку?
— Да франков триста, триста пятьдесят... не так ли? — важно отвечает
новичок.
Редактор подскакивает,
— Позвольте,— возражает он,—какой-нибудь Монтепен1, Гюго даже,
Дю Террай наконец — и те не получают такого гонорара.
Молодой человек встает и холодно отвечает:
— Как видно, господин редактор забывает, что я со-вер-шен-но неиз-
вестен.
22 Жестокие рассказы
Молчание.
— Сядьте, прошу вас. Так дела не делаются. Спору нет, в наше время
неизвестный, действительно, птица редкая. Тем не менее...
— Добавлю к тому же, сударь,— развязно перебивает его будущий пи-
сатель,—что у меня ни крошки таланта, полное, что называется, отсутст-
вие таланта... абсолютное отсутствие! На светском языке таких называют
«кретинами». Единственный мой талант — в знании тонкостей бокса как
английского, так и ирландского. А что касается Литературы, заявляю вам:
для меня это дело темное, это тайна за семью печатями.
— Как? — восклицает редактор, трепеща от радости,—вы, молодой
честолюбец, считаете, что лишены малейшего проблеска литературного
таланта?
— Могу, не сходя с места, доказать свою полную беспомощность в этой
сфере.
— Увы, это невероятно! Вы хвастаетесь! — лепечет редактор, явно
взволнованный тем, что затронуты самые заветные из его давнишних на-
дежд.
— Я из числа тех,— продолжает незнакомец,— кого называют бесцвет-
ными и самодовольными писаками; мне свойственны скудость идей и пер-
воклассная пошлость стиля; слог у меня на редкость затасканный.
— Да бросьте! Быть того не может! Ах, если бы то была правда!
— Сударь, клянусь вам...
— Рассказывайте это кому-нибудь другому,— продолжает редактор
со слезами на глазах и грустной улыбкой.
Потом, умильно взирая на юношу, говорит:
— Да, такова Молодежь! Ничего не знает! Священный огонь! Иллюзии!
Воображает, что сразу же добьется успеха.— Ни малейшего таланта, гово-
рите вы? Да знаете ли вы, сударь, что в наши дни, чтобы не иметь никако-
го таланта, надо быть из ряда вон выходящей личностью, личностью весь-
ма значительной? Знаете ли, что зачастую человек достигает успеха лишь
после пятидесяти лет борьбы, работы, унижений и нищеты и что тогда его
считают всего лишь выскочкой? О молодость! Весна жизни! Primavera del-
la vita! * А я, сударь,— я, сидящий перед вами,— вот уже двадцать лет
ищу человека, который был бы ЛИШЕН ТАЛАНТА! Понимаете? И ни разу
не встретил такого. В погоне за этой белой вороной я растратил более по-
лумиллиона; увлекшись этой безумной идеей, я совсем потерял голову.
Что же поделать! Я был молод, простодушен, я разорился.— В наши дни,
дорогой мой, все талантливы, и вы в том числе. Не будем хвастаться. По-
верьте, это совершенно бесполезно. Это старо, это крючок, на который
уже никто не попадется. Надо говорить серьезно.
— Сударь... такие подозрения... Да будь у меня талант, я не сидел бы
сейчас здесь.
— А где бы вы сидели?
— Я бы лечился, поверьте мне.
* Весна жизни! (итал.).
Две возможности 23
— Как бы то ни было,— щебечет теперь редактор, немного подобрев и
по-прежнему хитро улыбаясь,— как бы то ни было, мой курьер, тот самый
изящный юноша, который подал мне вашу карточку... он, не угодно ли,
лиценциат словесности, да еще удостоен особой награды (вот до чего могу-
щественна Наука!., в наши дни она открывает доступ куда хотите)... так
вот, он — автор трех-четырех превосходных драматических произведений,—
простите за выражение, вполне «литературных», отмеченных среди сотен
других на нескольких конкурсах Французской Академии и даже поставлен-
ных на сцене — в большинстве случаев, конечно, только для своих. И вот
несчастный этот отказался от какого-либо лечения. Поэтому, как свиде-
тельствуют его лучшие друзья, он на самом деле всего лишь полоумный,
и ничего ему не достигнуть. Они со слезами на глазах утверждают, что он
пьяница, шалопай, сводник, мошенник, неудачник, и добавляют при этом,
устремив взоры горе: «Как жаль!» — Конечно, я отлично знаю, что в Пари-
же — где твердо заведено, что утром все оказываются обесчещенными, а
к вечеру реабилитированными,— это не влечет за собою никаких послед-
ствий; в сущности это даже своего рода реклама; но по свойственной ему
беззаботности и неловкости он не умеет воспользоваться обстоятельствами
и сделать карьеру, и тут он вызывает, согласитесь, уж вполне законное
возмущение. Поэтому я лишь из чистого человеколюбия избавляю его
в настоящее время от больницы.— Но вернемся к вашему делу.— «Неиз-
вестен и ни капли таланта»,— говорите вы о себе.— Нет, я не могу этому
поверить. Если бы так было в действительности, карьера ваша, да и моя
тоже, не оставляла бы желать ничего лучшего. Я предложил бы вам по
шести франков за строчку.— Однако, между нами говоря, кто мне пору-
чится, что статья ваша совершенно бездарна?
— Прочтите ее, сударь! — гордо произносит юный искуситель.
— Сразу видно, сударь, что вы едва вышли из стадии отрочества,— го-
ворит, смеясь, редактор,— мы читаем лишь то, что заранее решаем ни в
коем случае не печатать. А печатаем лишь то, что явно неудобочитаемо.
Ваша же статья, насколько я вижу через пенсне, вдобавок испорчена до-
вольно красивым почерком,— а это уже дурное предзнаменование. Это дает
повод заподозрить вас в том, что вам свойственно тщательно отделывать
рукопись. Между тем журналист, действительно достойный этого великого
титула, должен писать небрежно и все, что только взбредет ему в голову,—
а главное, не перечитывать написанное! Печатать как есть! А убеждения
мои зависят исключительно от злобы дня и от направления газеты. И не-
чего рассуждать!.. Ведь совершенно очевидно, что иначе хорошая ежеднев-
ная газета не могла бы появиться на свет! Нам, дорогой мой, недосуг, и
мы не можем зря тратить время на обдумывание того, что говорим, в то
время как' поезд ждет наши кипы бумаги, чтобы везти их в провинцию.
Впрочем, это ясно всякому. Ведь подписчику важно сознание, что он что-
то читает, понимаете? Если бы вы только знали, до чего' ему безразлично
все остальное!
— Не беспокойтесь, сударь. Это почерк переписчика.
— Вы нанимаете переписчика? Несчастный! Да вы шутите, что ли?
24 Жестокие рассказы
— Черновик был не только крайне неразборчив, в нем имелись такие
погрешности в правописании и в стиле, что... право же... для первого раза...
я подумал...
— Наоборот, вот именно в первый-то раз и надо было принести мне его
таким, какой получился. Алмаз обесценить невозможно. Погрешности
в правописании, в стиле! Знайте же, что нам никак не удается добиться
от корректоров, чтобы они не исправляли их, а ведь после исправления
зачастую пропадает вся соль статьи! Именно естественность-то, непосред-
ственность, пикантность и ценят истинные знатоки. Горожанин обожает
опечатки, сударь! Ему лестно обнаружить их. Особенно провинциалу. Вы
поступили совершенно неправильно. Ну что ж поделать! — А вы показы-
вали свою статью какому-нибудь опытному человеку?
— Признаться, господин редактор? Я сам себе не доверяю, ибо я, слава
создателю, человек бесталанный...
— Надеюсь, надеюсь, что бесталанный... — молвил редактор, предвари-
тельно бросив взгляд на револьвер, лежавший на письменном столе.
— Поэтому я для проверки стал искать человека, который представлял
бы собою типичный образец заурядного ума, и выбор мой остановился на
моем... будь что будет, скажу!., на моем привратнике25, а он — старый
овернец-полицейский, поседевший на своем посту, измученный постоян-
ными ночными тревогами и в полном смысле слова ошалевший от чтения
одних только адресов на конвертах.
— Гм, гм,— промычал редактор, весь обратившись в слух,— выбор, дей-
ствительно, тонкий и вместе с тем практичный и разумный. Ибо публика,
заметьте, с ума сходит по Необыкновенному. Но так как публика хорошень-
ко не знает, что именно понимать в литературе (еще раз извините за вы-
ражение) под Необыкновенным, от которого она без ума, то, по-моему,
в серьезной журналистике мнение привратника должно предпочесть мне-
нию Данте. А скажите, какой же приговор вынес домовый страж вашей
статье?
— Он был в восторге! Восхищен! Упоен! До такой степени, что вырвал
у меня рукопись, чтобы собственными глазами еще раз прочесть, так как
боялся, что я его обманываю и читаю не то, что написал. Он даже подска-
зал мне концовку.
— Простофиля! Надо было прислать ее прямо ко мне! Знаете, один
мудрый человек сказал (или должен бы был сказать), что идеальный жур-
налист — это, во-первых, Репортер, во-вторых — неудачник с насупленны-
ми бровями (насупленными от природы) ; он бранит первого подвернувше-
гося ему под руку и даже дерется с простаками, которые принимают это без
малейшего удивления, и делает он это с единственной целью добиться при-
знания своей воинствующей бездарности со стороны подлой толпы. В та-
ком дуэте певца и танцора — жизненная сила всякой мало-мальски ува-
жающей себя газеты. Не считая «статей» этих двух Столпов, весь прочий
материал должен состоять из одних лишь «концовок», нанизанных наугад,
как жемчужины. Публика читает газету, черт возьми, не для того, чтобы
думать и соображать. Читают так же, как едят. Хорошо, я согласен озна-
Две возможности 25
комиться с вашим писанием. Да, посмотрим. Если (как удачно сказал ка-
кой-то древнеримский сочинитель) достоинства ваши созрели, не дожи-
даясь зрелого возраста...
— Вот рукопись! — сказал автор, сияя, и с юношеским самодовольст-
вом подал редактору свое произведение.
Минуты три спустя редактор вздрагивает, потом с презрением бросает
листки, и они разлетаются по всему столу.
— Ох,— стонет он, тяжко вздыхая,— так я и знал! Опять разочарова-
ние! Я уже потерял им счет!
— Что такое? — лепечет в испуге юный герой.
— Увы, благородный друг мой, но ведь здесь брызжет талант! Очень
сожалею, но вынужден сказать вам это. Больше трех су за строку это не
стоит, да и то лишь потому, что имя ваше еще никому не известно. Если
я напечатаю эту статью, то неделю спустя буду печатать вас бесплатно, а
через две недели платить будете вы мне,— разве что станете выступать
под псевдонимом. Да, да; поговорим же серьезно в конце концов. Вы чело-
век несерьезный, и, как видно, не так-то легко вам будет стать серьезным,
ибо у вас, к несчастью, талант такого рода, что вы, простите за выражение,
писатель... а не какой-нибудь бесстыжий прохвост, у которого нет ни идей,
ни совести, каким вы только что прикидывались, чтобы злоупотребить моей
благожелательностью, моими убеждениями, завладеть моей кассой и ува-
жением.
— Нет, нет... — лепечет, изменившись в лице, мнимый кандидат в га-
зетчики,— вы ошибаетесь, тут недоразумение. Вы прочли недостаточно...
внимательно...
— От такой статьи тираж может сократиться на пять тысяч за одни
сутки!.. — восклицает редактор.— Только в совершенстве стиля, говорю я,
и заключается талант. В газете миллион писак может излагать суть какой-
нибудь так называемой идеи. Black upon white] * Но достаточно писателю
по-своему коснуться той же идеи в книге — и все предыдущее забыто. Все
решительно. Словно все сдул порыв ветра.— Конечно, явление это весьма
загадочное, но, что поделать, так оно есть.— Следовательно, если вы — пи-
сатель, так вы прирожденный враг всякой газеты.
Будь у вас только ум,— его всегда можно помаленьку сбывать. Хуже
всего то, что в ваших фразах чувствуется стремление скрыть свой ум, что-
бы не вспугнуть читателя. А ведь люди не любят, когда их унижают.
В самом этом стремлении сказывается впечатляющая мощь присущего вам
стиля, и нет такого средства, которое могло бы излечить от столь значи-
тельного, столь явного порока. Напечатать вашу статью? Да я предпочел
бы переиздавать Боттена 3. Это было бы выгоднее. Словом, вы во всей этой
истории похожи на человека, который, зная, что особе, на приданое коей
он зарится, особенно по вкусу колченогие, решается притвориться хромым,
лишь бы понравиться ей, или на школьника, который краспт себе волосы
под седые, чтобы заслужить уважение учителей и товарищей.— Сударь,
Черным по белому (англ).
26 Жестокие рассказы
нескольких страниц, которые я сейчас просмотрел, мне вполне достаточно,
чтобы отлично понять, с кем я имею дело. Теперь простачков нет! У пуб-
лики появился инстинкт, нюх — столь же непогрешимый, как у животных.
Публика чует своих и никогда не ошибается. Ее не проведешь. Она заранее
знает, что, отдавая себе лучше других отчет в достоинствах, в действитель-
ном и мрачном значении своих писаний, вы отнесетесь к ее оценкам —
к похвале или порицанию — не иначе как к пыли, осевшей на ваши баш-
маки; она заранее знает, что ее туманным и легкомысленным рассуждени-
ям на ваш счет вы придадите не больше значения, чем кудахтанью индюш-
ки или свисту ветра в замочной скважине. Явное усилие, которое вы сде-
лали в данном случае — несомненно под влиянием безвыходных денежных
затруднений,— стараясь опуститься до ее «идей», страшно оскорбляет ее.
Вы напускаете на себя смирение и делаете это так неуклюже, что оно мо-
жет задеть ее апатичное самодовольство. Притворяясь, будто вы просите
милостыню, вы так срываете с головы шляпу, что можете расквасить ей
нос — а этого читатель никогда не прощает автору. Только гениальные пи-
сатели в своих книгах могут позволить себе такую фамильярность, ибо если
они иной раз и хватают читателя за волосы и спокойно, величественно ду-
басят его кулаком по черепной коробке, то делают они это только для того,
чтобы он поднял голову. В газете же, сударь, такие приемы по меньшей
мере неуместны: они компрометируют газету в глазах Редакционного со-
вета. Вот в чем заключается недостаток таких статей.
Обыватель, у которого голова уже забита всяческими заботами, просмат-
ривает газету, таращит глаза, шепотом обзывает вас «поэтом», улыбается
про себя и отказывается от подписки, заявляя при этом во всеуслышание,
что вы .* НА РЕДКОСТЬ талантливы! — С одной стороны, он показывает
тем самым, что ваши писания ничуть не тронули его, а с другой стороны,
уничтожает вас в глазах своих собратьев, которые улавливают его мысль,
сами становятся на ту же точку зрения, расхваливают вас, но, то ли дове-
рившись ему, то ли по инстинкту, и в руки-то не берут ваши сочинения,
ибо почувствовали, что у вас есть душа, т. е. нечто самое для них ненавист-
ное.— А расплачиваюсь за все — я!
(Тут редактор скрещивает руки на груди и устремляет на собеседника
тусклый взгляд.)
— Уж не принимаете ли вы читателей за идиотов? Честное слово, вы
меня удивляете. Читатели наделены... другого рода умом, чем ваш,— вот
и все.
— Однако,— возражает с улыбкой разоблаченный литератор,—слушая
вас, начинаешь думать, что из нас двоих не я самый убежденный ненавист-
ник читателей.
— Разумеется, юный друг мой! Но, глумясь над ними, я делаю это
осмотрительно, и мне это приносит доход. Действительно, мещанин (а он
противник всего и даже самого себя) всегда вознаградит меня в угоду сво-
ей подлости, но с условием: он должен верить, будто я поливаю грязью не
его, а его соседа. В таком деле стиль не имеет ни малейшего значения.
Единственный принцип, которому должен следовать в наше время серьез-
Две возможности 27
ный литератор, это: — БУДЬ ПОСРЕДСТВЕННЫМ! Именно этого принципа
я и придерживаюсь. Отсюда и моя известность.— Дело в том, что в отноше-
нии французского мещанства времена Эсташа де Сен-Пьера4 давно мино-
вали. Мы ушли далеко вперед. Человеческий ум беспрестанно развивается.
Теперь третье сословие, в целом, вполне резонно не мечтает ни о чем дру-
гом, как только о возможности беспрепятственно и мирно испускать газы
из кишечника и давать волю икоте и урчанию в животе. А так как ме-
щанство, благодаря своей численности и деньгам, сильно, как бык, взбун-
товавшийся против пастуха, то лучше всего приноровиться к нему. Вы же
являетесь с намерением заставить его глотать настойку алоэ, поданную
в чеканном золотом сосуде. Конечно, оно будет брыкаться и морщиться,
ибо вовсе не желает, чтобы ему насильно прочищали мозги. И оно тотчас
же вернется ко мне, предпочитая в конечном итоге пить мое разбавленное
винцо из грязной старой кружки, ибо привычка — вторая натура. Нет, поэт!
Нынче гении не в моде! Монархи, как они ни деспотичны, ценят и чтут
Шекспира, Мольера, Вагнера, Гюго и т. д.; республиканцы же изгоняют
Эсхила, преследуют Данте, казнят Андре Шенье. В республиках и без того
много забот, тут уж не до гениальности. Хлопот не оберешься, вы понимае-
те. Но чувства, конечно, сами по себе. Итак, подытожим. Юный друг мой,
мне тяжело сказать вам это, но у вас большой, огромный талант. Простите
мне грубую откровенность. Я не хочу оскорбить вас. Знаю, в вашем воз-
расте трудно выслушивать некоторые истины, однако... будьте мужествен-
ны! Я понимаю, даже одобряю неимоверное усилие, которое вы приложи-
ли, чтобы написать эту предосудительную статью,— но что поделаешь!
Усилие оказалось бесполезным: невозможно искусственно сделаться иск-
ренним мерзавцем; тут нужен природный дар. Нужна благодать, это да-
ется от рождения. От гнусной статьи не должно дурно пахнуть, наоборот,
должно веять искренностью и, главное, непреднамеренностью; иначе вы
станете неприятным, вас разгадают. Лучше всего вам смириться. Впрочем,
если вы не гениальны (на что я надеюсь, хоть и не уверен в этом), ваше
положение не совсем безнадежно. Если вы не станете работать, то чего-
нибудь, пожалуй, достигнете. Например, если вы вздумаете стать явным
плагиатором, то вызовете полемику, ваши сочинения станут раскупаться,
и тогда вы можете опять прийти ко мне, а пока что нам с вами делать не-
чего.— Послушайте, что я вам скажу на ухо: у меня — у меня, стоящего
перед вами,— тоже талант, и я тоже никогда не печатаюсь в своей газете,
иначе я дня через три стал бы нищим. У меня есть особые соображения,
почему я не издаю ни одной своей книжонки, не печатаю ни одной своей
строки, которая в дальнейшем дала бы повод заподозрить у меня хоть намек
на способности!.. Пусть за мною останется абсолютная пустота.
— Как? Не останется даже десяти строк? — прервал его изумленный
литератор.
— Нет. Ни строчки. Я намерен стать министром,— безапелляционно
ответил редактор.
— А! Это другое дело!
— Пусть это кажется парадоксом, но то, что я вам говорю, с точки
28 Жестокие рассказы
зрения практики, до такой степени соответствует истине, что... послушайте:
если бы пост министра искусств замещался во Франции путем всеобщего
голосования, то вы первый же, хоть и пожимали бы плечами, стали бы го-
лосовать за меня. Да да! Шутки в сторону, черт возьми! Я никогда не
шучу. Ну хорошо, хватит. Все-таки оставьте мне вашу рукопись.
Минутное молчание.
— Позвольте, сударь,— отвечает наконец Неизвестный, беря со стола
свою работу,— в данном случае вы ошибаетесь. В политике я придержи-
ваюсь других убеждений, чем в журналистике, и представляю себе на ми-
нистерском посту только человека исключительной прямоты, редкостных
способностей, знаний и возвышенного ума. И вне руководимой вами газеты
найдутся во Франции журналисты, честность коих идет вразрез с продаж-
ными нравами нашего времени; их стиль безупречен, слово пылает ясным
пламенем, их критика беспрестанно выправляет опрометчивые суждения
толпы. Уверяю вас, что если бы представился случай, о котором вы упомя-
нули, я предпочел бы отдать свой голос одному из них.
— Вы, кажется, начинаете кипятиться, мой юный друг. Честность вне
времени.
— И глупость тоже,— отвечает литератор с легкой улыбкой.
— Ну, доживете до моих лет, и вам станет стыдно за такие речи.
— Благодарю, что напомнили о своем возрасте; слушая вас, можно
подумать, что вы... еще очень молоды!
— Как вы сказали? Вы, сударь, кажется, ищете в моих словах что-то
дурное?
Тут незнакомец встает с места.
— Господин редактор, вы доказали мне, что, ища дурное, можно найти
что-то хорошее,— рассеянно ответил он.
— Вот как? Дерзость ваша меня забавляет, но откуда эта внезапная
язвительность?
Тут молодой человек бросает на собеседника взгляд, напоминающий
взгляд боксера: он до того холоден, что по телу сидящего в кресле пробе-
гает ледяная дрожь.
— Хорошо. Буду откровенен,— отвечает он.— Ведь я пришел, чтобы
предложить вам нелепость во сто раз худшую, чем то, что вы печатаете
изо дня в день, предложить нудную хронику, самодовольную жвачку, не-
возмутимый цинизм, глубокомысленный вздор,— идеал этого жанра, сло-
вом — жемчужину. И вот вместо того, чтобы ответить мне «да» или «нет»,
вы осыпаете меня бранью. Вы забрасываете меня издевательскими эпите-
тами. Вы в лицо обзываете меня литератором, писателем, мыслителем, черт
знает кем. Вы чуть было... безо всякого повода с моей стороны (тут наш
приятель понизил голос и осмотрелся по сторонам, словно опасаясь, что
кто-то подслушивает)... чуть было не обозвали меня талантливым! Не от-
рекайтесь, я отлично понял, к чему клонилась речь.— Сударь! Нельзя так,
ни с того ни с сего обзывать талантами людей, которые не сделали вам
ничего худого. Притом с вашей стороны это была не оплошность, а злой
умысел. Вы хорошо знаете, что такие слова могут повлечь за собою роковые
Две возможности 29
последствия, и ни в чем неповинный человек лишится всякого заработка,
став дойной коровой и всеобщим посмешищем. Вы могли отвергнуть мою
статью, но никак не обесценивать ее, говоря, что в ней видны проблески
таланта. Куда же мне теперь, по-вашему, нести ее? Скажу прямо: я не
забуду вашего враждебного отношения! И предупреждаю вас, что если вы
станете распространять на мой счет такую клевету, я вызову вас к барьеру
или потребую официальных извинений, написанных под мою диктовку,—
ибо я не намерен подыхать с голоду, в позоре и нищете, среди одобритель-
ных полуулыбок и поощрительных подмигиваний преуспевающих лакеев,
в окружении коих я живу. — Довольно! Несколько слов, которыми мы об-
менялись, доказывают, что мы вряд ли подружимся, поэтому позвольте
мне удалиться по-английски, предупредив вас, однако (в порядке любез-
ности и к вашему сведению), что, занимаясь фехтованием, я упорно изу-
чал искусство не получать и не наносить удара, который может выбить
шпагу из руки; поэтому свидетельство об отваге может обойтись дороже в
поединке со мною, чем с кем-либо другим. Слуга покорный.
Тут литератор надел шляпу, закурил папиросу и не спеша удалился.
Оставшись один, редактор прошептал:
— Рассердиться? Нет, будем мудры. Сократ, завоевав в битве при По-
тидее 5 награду за храбрость, с пренебрежением просил присудить ее юно-
му Алкивиаду6: последуем же примеру греческого мудреца. Вдобавок,
молодой человек довольно занятен, и его задор мне по душе. КОГДА-ТО и и
САМ БЫЛ ТАКИМ.
Тут наш герой вынимает часы.
— Пять часов! Ну, шутки в сторону! Что мне заказать сегодня на обед?
Палтус? Отлично! Пятнистый? Нет, не надо. Или таймень? Да, пожалуй.
А из легких блюд?
И вот, вновь вооружившись ножом из слоновой кости, редактор по-
литической, литературной, коммерческой, общественной, промышленной,
финансовой и театральной газеты опять погружается в обширные, глубоко-
мысленные размышления. Но проникнуть в их сокровенную сущность нет
никакой возможности, ибо, как справедливо утверждается в старинной
поговорке мосарабов7,— «Факел не освещает свое древко».
30 Жестокие рассказы
V. Реклама на небесах
Посвящается Анри Гису.
Eritis sicut DU *•
(Ветхий Завет)
Хоть это покажется странным и вызовет усмешку у человека делового,
но речь идет о Небе! Однако оговоримся: о небе с точки зрения чисто прак-
тической, промышленной.
Некоторые исторические явления, в наше время научно доказанные и
объясненные (или почти объясненные),— например лабарум2 императора
Константина, кресты на облаках, отраженные снежной равниной, явления
рефракции над горой Броккен3, северное сияние в полярных странах —
чрезвычайно заинтересовали, можно сказать, вдохновили ученого
инженера из южных провинций, г-на Грава, и у него несколько лет назад
созрел блистательный проект: извлечь пользу из обширных пространств
ночного неба, словом, поднять небеса ыа уровень современной эпохи.
В самом деле, какой нам прок от лазурного небосвода, на что он годен?
Лишь на то, чтобы тешить болезненное воображение пустоголовых мечта-
телей. Разве не заслужит права на благодарность общества и, Скажем пря-
мо, на восхищение Потомства тот, кто обратит эти бесполезные простран-
ства в поистине плодотворное, назидательное зрелище, кто извлечет выгоду
из пустынных ланд, кто наконец сделает доходными необозримые небесные
равнины?
Здесь нет места чувствительным излияниям! Дело есть дело. Необходи-
мо прибегнуть к советам и, если понадобится, к содействию деловых людей,
чтобы точно определить все значение, все финансовые выгоды поразитель-
ного открытия, о котором идет речь.
На первый взгляд самая идея представляется неосуществимой и даже
безрассудной. Распахать небесную лазурь, сосчитать звезды, эксплуатиро-
вать восход и закат, организовать вечерние сумерки, извлечь пользу из
небосвода, до сей поры совершенно бесполезного,— какая дерзкая мечта!
Какой сложный, тернистый путь, полный непреодолимых трудностей! Но
разве Человек, вдохновленный идеей прогресса, не в силах разрешить лю-
бые проблемы?
Проникшись этой мыслью и решив, что если уж Франклин4, типограф
Бенджамин Франклин, сорвал молнию с неба, то a fortiori возможно
употребить ее на пользу человечеству, г-н Грав начал путешествовать, ис-
следовать, сравнивать, расходовать средства, изобретать и в конце концов
усовершенствовал гигантские линзы и колоссальные рефлекторы американ-
ских инженеров, в частности аппараты, установленные в Филадельфии п
Квебеке и, при попустительстве автора, присвоенные фирмой Cant и Ргг//**.
* И будете, как боги (лат.) *.
** Чопорное лицемерие и дутая реклама (англ.)
Реклама на небесах 31
И вот теперь означенный г-н Грав (предварительно заручившись патента-
ми) предлагает свои услуги нашим крупным промышленникам, фабрикан-
там и даже мелким торговцам, обещая создать для них поистине неслыхан-
ную Рекламу.
Никто не будет в состоянии конкурировать с новой системой великого
популяризатора. В самом деле, представьте себе один из наших крупных,
густо населенных торговых центров, например Лион, Бордо и т. п., в час
вечерних сумерек. Вообразите сутолоку, оживление, лихорадочное возбуж-
дение, какие в наше время одни лишь финансовые интересы способны
вызвать в толпе большого города. И вот на вершине какого-нибудь цвету-
щего холма, излюбленного приюта юных парочек, вроде нашего милого
Монмартра, вдруг вспыхивают ослепительные огни — магния или электри-
чества; разноцветные лучи, усиленные в сотни тысяч раз при помощи мощ-
ных прожекторов, устремляются в небо, и там, между Сириусом и Альде-
бараном, в созвездии Тельца или даже среди Гиад, внезапно появляется
изображение очаровательного юноши, держащего в руках шарф, на кото-
ром мы день за днем все с тем же удовольствием читаем утешительную
надпись: «Если вам не нравится купленная вещь, мы возвращаем ее стои-
мость в золоте». Вообразите только, какой радостью озаряются при этом
все лица, вообразите восторг шумной толпы, ликование, крики «браво!».—
После недолгого, вполне простительного замешательства старые враги бро-
саются в объятия друг другу, самые тяжкие семейные раздоры предаются
забвению, все рассаживаются в беседках, чтобы с удобством любоваться
этим великолепным, назидательным зрелищем, и славное имя г-на Грава,
разнесенное повсюду на крыльях ветра, улетает к Бессмертию.
Легко представить себе блистательные результаты этого гениального
изобретения.— Как поражена будет сама Большая Медведица, если между
ее царственными лапами вдруг вспыхнет надпись, грозно вопрошающая:
«Носить корсеты или не носить?». Или еще лучше: в какое смущение при-
дут слабодушные, как насторожится духовенство, если на диске нашего
спутника, на сияющем лике Луны, внезапно проступит изящно гравиро-
ванная табличка, которой мы все недавно любовались на бульварах:
«Кафе Лохматых». Какая гениальная выдумка поместить в сегменте v со-
звездия Скульптора5 краткое объявление: «Статуя Венеры, уменьшенные
копии Колла» 6.— В какое волнение придут любители десертных ликеров,
рекламируемых под многими названиями, если вдруг к югу от Регула,
главной звезды созвездия Льва, на самой макушке Девы появится ангел
с бутылкой в руке, а изо рта у него выскочит бумажная лента с надписью:
«Боже, как вкусно!».
Короче говоря, совершенно ясно, что речь идет о грандиозном, небы-
валом рекламном предприятии с беспредельными возможностями и совер-
шенной техникой: правительство могло бы даже, впервые в истории, фи-
нансировать эту антрепризу.
Излишне распространяться о тех поистине неоценимых услугах, какие
подобное изобретение может оказать Обществу и Прогрессу. Представьте
себе, например, как пригодятся фотографии на стекле или картинки Лам-
32 '/Ь естокие рассказы
увеличенные новым способом в сотни тысяч раз, при розыске
сбежавших банкротов или при поимке знаменитых преступников.— Отныне
злодею, как поется в песне, «нигде от погони не скрыться»; едва он
высунет нос из окна вагона, как увидит в облаках свою собственную фи-
зиономию и будет изобличен.
А в области политики? В предвыборной кампании, например? Как лег-
ко теперь добиться решающего перевеса, подавляющего большинства го-
лосов! Как невероятно просто вести пропаганду, прежде столь разоритель-
ную! — Не надо больше голубых, желтых, трехцветных листочков, которые
уродовали стены домов и мозолили нам глаза, навязчиво повторяя одно и
то же имя. Не надо больше дорогостоящих фотографий (чаще всего неудач-
ных), которые никогда не достигали цели, ибо кандидаты, не отличаясь
ни приятной внешностью, ни величественной осанкой, не могли привлечь
симпатии избирателей. Ведь в конце концов истинные заслуги политиче-
ского деятеля, по мнению толпы, бесполезны, опасны и даже вредны; самое
главное, чтобы он умел держаться с достоинством.
Представим себе, например, что на недавних выборах овальные портре-
ты господ Б. и А. * в натуральную величину появлялись бы каждый вечер
как раз под звездой (ï в созвездии Лиры.— Это, бесспорно, их законное ме-
сто, ибо, если верить молве, господа Б. и А. некогда оседлали Пегаса8.
Оба государственных мужа красовались бы на небосклоне всю ночь нака-
нуне голосования, улыбающиеся, с легкой складкой озабоченности на челе,
но с уверенным, ясным взором. При помощи вращающихся колесиков Лам-
поскоп мог бы даже поминутно изменять выражение их лиц. Они улыбались
бы светлому Будущему, проливали слезы о прошлых бедствиях, открывали
бы рот, хмурили брови, раздували ноздри в порыве гнева, напускали на
себя величественный вид,— словом, применяли бы всю ту мимику, какая
придает столько блеска речам опытного оратора. Любой избиратель мог бы
сделать выбор, отдать себе отчет, заранее составить представление о своем
депутате, а не покупать, как говорится, кота в мешке. Осмелимся даже
добавить, что без изобретения г-на Грава всеобщие выборы не что иное,
как смехотворный фарс.
Итак, нам следует ожидать, что в один прекрасный день или, вернее,
в один прекрасный вечер г-н Грав при содействии просвещенного прави-
тельства начнет свои замечательные опыты. Хороши будут тогда скептики,
нечего сказать! Придется им вспомнить времена г-на де Лессепса9, кото-
рый обещал соединить два океана и действительно это сделал несмотря
на карканье маловеров. И на этот раз, как всегда, последнее слово оста-
нется за наукой, а гениальный г-н Грав восторжествует и посмеется над
своими противниками. Благодаря его чрезвычайно важному открытию мы
поймем, наконец, что небесный свод хоть на что-нибудь годен, и точно
определим его подлинную ценность.
* NB — Оба депутата, которых автор, вероятно, имеет в виду, скончались за то
время, пока мы печатали эту новеллу. (Прим. издателя.)
Антония 33
VI. Антония
Мы часто собирались у прекрасной Дютэ; мы
занимались вопросами нравственности, а по-
рою и кое-чем похуже.
(Принц де Линь ')
Антония налила в свой бокал холодной воды, поставила туда букетик
пармских фиалок и воскликнула:
—Прощайте, фляжки испанских вин!
И она с улыбкой склонилась к канделябру, чтобы прикурить papelito *,
от этого движения ее волосы, черные, как каменный уголь, сверкнули
искрометным блеском.
Мы всю ночь пили херес. Из парка, окружавшего виллу, через распах-
нутое окно доносился шелест листвы.
Усы наши благоухали сандалом, а также ароматом алых губ Антонии,
которая охотно позволяла нам срывать с них поцелур1 и держалась при
этом с каждым так непринужденно, что не возбуждала ни малейшей рев-
ности. Затем она весело посматривала на себя в зеркала, висевшие в зале,
а когда с видом Клеопатры2 снова оборачивалась к нам, то в наших взорах
опять-таки искала самоё себя.
На ее юной груди позвякивал матовый золотой медальон с вензелем
(ее вензелем) из драгоценных камней; он висел на черной бархотке.
— Это знак траура? Ты разлюбила его?
Когда гости стали настаивать, требуя ответа, она сказала:
— Вот смотрите.
И она ногтем нажала на замочек медальона; крышка открылась. Внут-
ри дремал темный цветок любви — анютин глазок, изящно вплетенный
в черные волосы.
— Судя по всему, Антония, ваш возлюбленный — какой-нибудь юный
дикарь, которого вы околдовали своими чарами?
— Распутник не стал бы так простодушно признаваться в своих неж-
ных чувствах!
— Нехорошо выставлять залог любви на всеобщее обозрение в часы
утех!
Антония залилась таким звонким, таким веселым смехом, что ей
пришлось поскорее отпить несколько глотков из бокала с фиалками, чтобы
не поперхнуться.
— Ведь в медальоне непременно должна быть прядь волос, не так ли?—
промолвила она.— Это доказательство...
— Конечно! Конечно!
— Увы, милые мои любовники! Основательно порывшись в воспомина-
ниях, я выбрала для медальона свой собственный локон и ношу его... в до-
казательство верности самой себе.
* Папироску (исп.).
2 О. Вилье. «Жестокие рассказы»
34 Жестокие рассказы
VII. Машина славы
S.G.D.G. *
Посвящается Стефану Малларме *.
Sic ituz ad astro!.. *
Какой со всех сторон шепот!.. Какое на всех лицах оживление, а вме-
сте с тем и растерянность... Что случилось?
— Случилось то, что... Небывалая в истории Человечества новость!
Баснословное изобретение барона Боттома, инженера Батибиуса Бот-
тома!
При упоминании этого имени (уже прославленного в заморских стра-
нах) Потомство будет осенять себя крестным знамением, как при упоми-
нании имени доктора Грава и еще некоторых изобретателей, истинных
апостолов Пользы. Судите сами, преувеличиваем ли мы заслуженную им
дань восторга, изумления и благодарности. Его машина вырабатывает не
что иное, как СЛАВУ. Она приносит Славу, как розовый куст — розы!
Аппарат выдающегося физика изготовляет Славу.
Он поставляет ее. Он органически и неуклонно порождает ее. Он обвола-
. кивает вас ею! Даже если не желаешь Славы, бежишь от нее прочь, она
гонится за тобою по пятам.
Короче говоря, Машина Боттома специально предназначена для удовле-
творения особ того и другого пола, именуемых драматургами, которым —
хоть они от рождения (по какой-то непостижимой прихоти судьбы) и ли-
шены той (отныне не имеющей значения) способности, какую современные
литераторы все еще упрямо клеймят словом «Талант»,— тем не менее хо-
чется обзавестись за наличный расчет миртами какого-нибудь Шекспира,
акантами какого-нибудь Скриба, пальмами какого-нибудь Гете и лаврами
какого-нибудь Мольера. Что за человек этот Bottom! Судите сами после
анализа, после хладнокровного анализа его метода с точек зрения отвле-
ченной и конкретной.
Л priori ** возникают три вопроса:
1. Что такое Слава?
2. Можно ли установить между машиною (физическим средством) и
Славою (интеллектуальною целью) нечто общее, образующее их единство?
3. Что представляет собою это единство?
Рассудим.
1. Что такое Слава?
Если вы обратитесь с таким вопросом к какому-нибудь шутнику, паяс-
ничающему на страницах газеты и искушенному в высмеивании самых
священных устоев, он, несомненно, ответит нечто вроде следующего:
* Таков путь к славе!., (лат.).
** Прежде всего (лат.).
Маи/.ина славы 35
— Машина Славы, говорите вы?.. Так ведь существует же паровая ма-
шина. А Слава, сама по себе, ведь не что иное, как легкий пар... Как...
своего рода дым... как...
Вы, разумеется, сразу же отвернетесь от этого жалкого фигляра, кото-
рый не может сказать ничего вразумительного, а говорит только потому,
что язык без костей.
Если обратитесь к поэту, то из его благородной глотки вылетит прибли-
зительно следующее:
— Слава есть ореол имени в памяти людей. Чтобы постигнуть природу
литературной Славы, надо привести пример.
Так, вообразим себе, что в зале собралось двести слушателей. Если вы
произнесете в их присутствии имя СКРИБА (возьмем хотя бы его для
примера), то электрическое воздействие этого имени непременно вызовет
многочисленные восклицания, вроде следующих (ибо теперь каждый имеет
представление о своем СКРИБЕ) :
— Сложный ум! Пленительный талант! — Плодовитый драматург! —
Да, как же, автор «Чести и денег» 3?.. Он смешил еще наших отцов!
— СКРИБ?., Черт побери! Что и говорить!..
— Еще бы! Как умеет вставить куплет! Глубок, хоть на первый взгляд
и забавник!.. Да, он вызывал на размышления! Заправский писатель, слов
нет! Великий человек, человек на вес золота *.
— А как знал все секреты театра!— и т. д.
Хорошо.
Если вы затем произнесете имя одного из его собратьев, имя МИЛТОНА4
например, то можно рассчитывать, что, во-первых, из двухсот присут-
ствующих сто девяносто восемь никогда не листали и даже не заглядывали
в книги этого писателя, а во-вторых, одному Великому Зодчему Вселенной
может быть ведомо, каким образом оставшиеся двое воображают, будто
читали его, когда, по нашим сведениям, на всем земном шаре не бывает и
ста человек в столетие (да и то вопрос!), которые могут вообще что-либо
читать, даже этикетки на баночках с горчицей.
Тем не менее при имени МИЛТОНА у слушателей сразу же возник-
пет представление о сочинениях ДАЛЕКО НЕ ТАКИХ занимательных, с поло-
жительной точки зрения, как произведения СКРИБА. Но эта безотчетная
осторожность все же не помешает тому, что, отдавая практически пред-
почтение СКРИБУ, мысль о сравнении МИЛТОНА с ним покажется (ин-
стинктивно и наперекор всему) равносильной мысли о сравнении скипетра
* Скриб весил около ста двадцати семи фунтов, если верить старому завсегдатаю
ярмарки в Нейи, во время которой поэт соблаговолил взвеситься в Елисейских
полях с условием, что это не получит огласки. Его своеобразное творчество при-
несло около шестнадцати миллионов дохода, т. е. куда больше стоимости золота,
соответствующего его внсу, особенно если вычесть вес одежды и тросточки.
(Прим. автора.)
36 Жестокие рассказы
с парою туфель — как бы ни был беден МИЛТОН и сколько бы ни зара-
ботал СКРИБ, как долго ни пребывал бы в безвестности МИЛТОН и как
бы всемирно знаменит ни был СКРИБ. Короче говоря, впечатление от сти-
хов МИЛТОНА, даже незнакомых, слито с именем их автора, и в данном
случае отношение слушателей к ним будет таково, словно они их читали.
И правда, поскольку Литература в собственном смысле слова не сущест-
вует, так же как не существует чистое Пространство, то от великого поэта
в памяти остается скорее Впечатление величия, которое он произвел свои-
ми произведениями и посредством их, чем сами произведения, и впечатле-
ние это, под покровом человеческой речи, передается даже в самых пош-
лых переводах. Когда это явление бывает окончательно признано в отно-
шении какого-нибудь сочинения — то итогом этого признания и является
СЛАВА!»
Вот, вкратце, что ответит наш поэт; мы можем заранее утверждать это,
и пусть нам поверит даже третье сословие, ибо мы осведомились у людей,
причастных к Поэзии.
Ну, а что касается нас самих, то мы в заключение ответим на это, что
вся эта болтовня, в которой сквозит чудовищное тщеславие, столь же пусто-
звонна, как тот вид Славы, которую она превозносит.— Впечатление? —
Что это такое?— Неужели мы обманываемся?.. Нам надо самим, непред-
взято и искренно, разобраться в том, что такое Слава!—Мы хотим произ-
вести добросовестный опыт над Славой! Такой Славы, о какой вы сейчас
говорили, ни один почтенный и действительно серьезный человек не за-
хочет добиваться, не захочет даже терпеть ее, даже за определенное воз-
награждение.— Так мы, по крайней мере, надеемся, имея в виду современ-
ное общество.
Мы живем в век прогресса, когда — выражаясь словами одного поэта
(великого Буало 5) — кошку называют КОШКОЙ.
В соответствии с этим и основываясь на опыте новейшего Театра, мы
считаем, что Слава выражается в знаках и проявлениях, ощутимых для
всех! А вовсе не в пустозвонных речах, произносимых более или менее
торжественно. Мы из числа тех, кто не забывает, что пустая бочка всегда
резонирует лучше полной.
Короче говоря, мы констатируем и утверждаем, что чем сильнее дра-
матическое произведение встряхивает вялую публику, внушает восторг,
вызывает рукоплескания и возбуждает толки, чем больше его венчают лав-
рами и миртами, чем больше оно исторгает слез и взрывов хохота, чем
сильнее, так сказать, его воздействие на толпу, словом, чем больше произ-
ведение ее захватывает,— тем больше, значит, заключается в нем обычных
признаков шедевра и, следовательно, тем больше оно заслуживает СЛА-
ВЫ. Отрицать это значило бы отрицать очевидность. Надо не пускаться
в рассуждения, а основываться на фактах и неоспоримых доводах; мы взы-
ваем к совести Публики, которая — слава богу — уже не довольствуется
болтовней и восклицаниями. И мы уверены, что в этом вопросе она заодно
с нами.
Машина славы 37
А если так, то возможно ли согласование двух, казалось бы, несовмести-
мых элементов этой, на первый взгляд, неразрешимой проблемы?
Может ли машина, как таковая^ безошибочно привести к какой-либо
чисто интеллектуальной цели?
МОЖЕТ!
Человечество (следует признать это) еще до гениального открытия ба-
рона придумало нечто похожее: но то был выход из положения грубый и:
жалкий, то было младенчество искусства, детский лепет — выходом из по-
ложения оказалось то, что еще и в наше время на театральном языке назы-
вается «Клакой».
В самом деле, Клака — это машина, собранная из людей и, следователь-
но, доступная усовершенствованию. У всякой славы имеется своя клакаг
то есть своя теневая сторона, нечто от обмана, от механизма и от небытия
(ибо Небытие — начало всего сущего), нечто такое, что можно было-
бы назвать, в целом, житейской ловкостью, происками, сметкой, Рекла-
мой.
Театральная клака не что иное, как одна из ее разновидностей. Когда
знаменитый режиссер театра Порт-Сен-Мартен сказал в день премьеры
встревоженному директору: «Пока в зрительном зале останется хоть один
прохвост с купленным билетом, я ни за что не отвечаю» 6,— он тем самым
выказал отличное понимание того, как стряпается Слава! Это поистине
бессмертные слова! Они поражают, как луч света.
О чудо... На Клаку-то, именно на нее, говорим мы, а не на что другоег
и бросил Bottom свой орлиный взгляд. Ибо подлинно великий человек не
пренебрегает ничем, он использует все, отбрасывая лишь ненужное.
Да, барон если не возродил, так обновил ее, и кончится тем, что нам
придется, выражаясь газетным языком, ее санкционировать.
Кому дано было — особенно среди широкой публики — проникнуть
в тайны, в бесконечные уловки, в бездны изобретательности этого Протея \
этой гидры, этого Бриарея8, именуемого КЛАКОЙ?
Найдутся люди, которые, самонадеянно улыбнувшись, почтут нужным
возразить нам, что, во-первых, Клака претит писателям, во-вторых, что
она надоела Публике, в-третьих, что она выходит из употребления. В таком
случае мы немедленно и очень просто докажем им, что, говоря такие вещи,,
они упускают случай помолчать, который им, быть может, уже никогда
больше не представится.
1. Клака претит писателю?.. Прежде всего где они видели такого чело-
века? Как будто любой сочинитель в день премьеры не тщится пополнить
Клаку своими друзьями, наказывая им «позаботиться об успехе». На что
друзья, весьма гордые таким соучастием, неизменно отвечают, подмигнув
и растопырив свои славные честные могучие руки: «Положитесь на наши
колотушки».
2. Клака надоела Публике?.. Да, надоела, как и многое другое, что она
тем не менее терпит! Не обречена ли Публика вечно тяготиться всем, в том
числе и самой собою? Доказательством тому служит прежде всего ее при-
38 Жестокие рассказы
«утствие в театре. Ведь она, горемычная, приходит сюда в надежде хоть
немного развлечься. И в надежде уйти от себя самой! Следовательно, гово-
рить так,— значит, в сущности ничего не сказать. А что Клаке до того, что
она надоела Публике? Публика терпит ее, содержит ее и вполне убеждена,
что Клака необходима—«во всяком случае для актеров». Дальше.
3. Клака вышла из употребления? — Зададим простой вопрос: когда же
она процветала пышнее, чем теперь? — Требуется вызвать смех? В местах,
притязающих на остроумие, но дающих осечку, вдруг слышится в зале звук
приглушенного, сдержанного смеха, нечто вроде пьяной икоты, которая
производит неотразимо смешное впечатление. И этих звуков порою бывает
достаточно, чтобы расхохотался весь зал. Это капля воды, переполняющая
сосуд. А так как никому не хочется сознаться ни в том, что он смеялся
попусту, ни в том, что кто-то увлек его, то зрители начинают утверждать,
что пьеса смешная и что им было очень весело. А больше ничего и не тре-
буется. Цена же тому, кто издал эти звуки,— червонец, а, может быть, и
того меньше.— (Клака.)
Если же одобрительный шепот, на беду вырвавшийся у публики, тре-
буется довести до овации, тут Рим всегда к вашим услугам9. На такой
случай имеется «Уа-Уау».
Уа-Уау — это «браво», доведенное до пароксизма; это сокращение —
следствие энтузиазма, когда от восторга, от исступления перехватывает
горло и уже нет возможности полностью произнести итальянское слово
«браво», а хватает сил только на гортанные звуки «Уа-Уау». Начинается
это потихоньку, все с того же слова «браво», глухо произносимого двумя-
тремя голосами; постепенно звуки растут, переходят в «брао», потом их
подхватывает уже вся топочущая ногами публика, и они доходят до ко-
нечного «Бра-уа-уау»; тут уже почти лай. Это и есть овация. Стоимость:
три золотых по двадцать франков... —(Все та же Клака!)
А может быть, требуется — когда положение уже совсем отчаянное —
отвлечь разъяренного быка и заманить его в сторону? В подобных случаях
появляется Господин с букетом. А это вот что такое. В то время как моло-
дая героиня изощряется в нудном монологе и сама не своя от мертвой ти-
шины, царящей в зале, из ложи высовывается безукоризненно одетый гос-
подин с моноклем и бросает на сцену букет, затем протягивает длинные
руки и не спеша громко аплодирует, ничуть не смущаясь тем, что в зале
стоит полнейшая тишина и что он заглушает монолог. Проделка эта имеет
целью опорочить честь артистки и развлечь публику, всегда падкую на
всякую Вольность... И Зрители, действительно, начинают перемигиваться.
Сосед обращается к соседу, делая вид, будто отлично понимает подоплеку
происходящего; взоры переходят с поклонника на актрису и с актрисы на
поклонника; все упиваются смущением молодой женщины. Затем толпа
расходится, несколько утешенная инцидентом, который в известной мере
возместил нелепость пьесы. Потом люди снова устремляются в театр,
в надежде, что происшествие получит дальнейшее развитие.— В конечном
итоге: полууспех драматурга.— Стоимость — франков тридцать, не считая
цветов.— (И тут опять-таки Клака.)
Машина славы 39
Если бы нам вздумалось рассмотреть все возможности хорошо органи-
зованной Клаки—рассказу не было бы конца.—Отметим, однако, для
чувствительных драм и для так называемых «пикантных» пьес: Вопли ис-
пуганных женщин, Сдержанные рыдания, Настоящие заразительные Сле-
зы, резкие и тотчас же подавленные Смешки зрителя с замедленным вос-
приятием (экю в шесть ливров), Скрип табакерок, к благодатным недрам
коих прибегает растроганный зритель, Завывания, Стенания, Бисы, Вызо-
вы, немые Слезы, Угрозы, Вызовы с Завыванием, Знаки одобрения, громо-
гласно высказываемые Мнения, Венки, Принципы, Убеждения, нравствен-
ные Устремления, Припадки падучей, Роды, Пощечины, Самоубийства,
Шумные споры (Искусство ради Искусства, Форма и Идея) и т. д., и т. д.
Довольно! А то зритель в конце концов вообразит, что он, сам того не зная,
тоже участник Клаки (что, впрочем, неоспоримая, безусловная истина) ;
но пусть у него на этот счет остается хоть тень сомнения.
Последним словом Искусства является то, что порою сама Клака начи-
нает кричать «Долой Клаку», потом притворяется, будто и она увлечена; и
рукоплещет по окончании пьесы, словно она и в самом деле Публика; и
что просто состоялся обмен ролями; тут уж не кто иной, как она начинает
умерять чересчур бурные восторги и высказывать некоторые замечания.
Клака, живая статуя, восседающая при полном освещении посреди
публики, является официальным признанием, непреложным символом не-
способности публики самостоятельно разобраться в ценности того, что она
слышит. Короче говоря, Клака по отношению к Театральной Славе то же,
что Плакальщицы были по отношению к Скорби.
Теперь можно крикнуть, как волшебник из Тысячи и одной ночи: «Кому
обменять старые светильники на новые?» Требовалось изобрести такую ма-
шину, которая была бы по отношению к Клаке тем же, чем железная доро-
га является по отношению к дилижансу, и которая предохранила бы Теат-
ральную Славу от изменчивости и случайностей, порою угрожающих ей.
Надо было прежде всего заменить несовершенные, случайные, зыбкие сто-
роны чисто человеческой Клаки и улучшить их на основе абсолютной точ-
ности чистого Механизма; далее — и это было самое трудное — надо было
обнаружить (по-видимому, пробудить) в ДУШЕ публики то чувство, бла-
годаря которому проявления Славы, исходящие из Машины, разделялись
бы, одобрялись и утверждались как нравственно ценные не чем иным,
как Духом Большинства. Это был единственно возможный выход из по-
ложения.
Наконец еще один шаг, казавшийся совершенно невозможным. Но ба-
рон Bottom не испугался этого слова (которое следовало бы раз навсегда
исключить из слогаря), и отныне, даже если у актера память коротка, как
у сороки, даже если автор — олицетворенная Тупость, а зритель глух, как
тетерев, Машина все равно создаст подлинный триумф!
Собственно говоря, зрительный зал и представляет собою эту Машину.
Он приспособлен к ней. Он составляет ее основную часть. Машина прояв-
ляется в нем. Таким образом, всякое произведение — драматургическое или
какое-либо иное,— попадая в зал, сразу же становится шедевром. Значение
40 Жестокие рассказы
такого зала сильно отличается от нынешних театральных помещений.
Великий инженер уже берет подряды, принимает на себя все переоборудо-
вание и предлагает авторам скидку в размере десяти процентов суммы,
выплачиваемой обыкновенной Клаке. (В Нью-Йорке, Барселоне и Вене
уже взяты патенты и учреждены товарищества на вере.)
Стоимость Машины и ее приспособления к залу средних размеров не
так уж велика; существенны лишь первичные расходы, содержание же
хорошо налаженного аппарата обходится недорого. Механические детали
и пользование Машиной весьма просты, как все, что действительно пре-
красно. Тут сказывается простота гения. Кажется, будто это сон. Не ре-
шаешься вникнуть в такое чудо. Покусываешь себе палец и кокетливо
опускаешь взор.— Розовых, позолоченных амурчиков, склоняющихся
с балконов, кариатид на авансцене и т. п. теперь куда больше — они вид-
неются повсюду. Именно в их ротики, служащие отныне отверстиями для
фонографов, вставлены свистульки, которые при помощи электричества из-
дают то Уа-уау, то крики «Вон отсюда, мерзавцы!», то Смех, Рыдания,
«Бис», Споры, Критические замечания, Скрип табакерок и т. п., а также
В УСОВЕРШЕНСТВОВАННОМ ВИДЕ все звуки, издаваемые толпой. По ут-
верждению Боттома, особенно обеспечена безупречность передачи Крити-
ческих замечаний.
Так Машина незаметно становится все сложнее и сложнее, и замысел
ее углубляется; трубки для осветительного газа чередуются с другими, по-
дающими газы слезоточивый и веселящий. Места на балконах оборудованы
особыми механизмами, представляющими собою невидимые металлические
кулаки, которыми в случае надобности можно будить зрителей; кроме того
они снабжены букетами и венками. Особые приспособления внезапно за-
сыпают сцену миртами и лаврами с именем Автора, написанным золотыми
буквами. Под каждым сиденьем, будь то кресло в партере или на балконе
(отныне они привинчены к полу), сложено (так сказать, после употребле-
ния) по паре прекрасных рук, которые изящно выточены из дуба по рисун-
ку Дебаролля 10 и для полной иллюзии покрыты опойковыми перчатками.
Излишне разъяснять здесь, для чего они предназначаются. Руки тщатель-
нейшим образом изготовлены по самым знаменитым образцам, дабы ка-
чество рукоплесканий было самое отменное. С этой целью в лучших руко-
водствах по хиромантии были отобраны в качестве моделей, достойных
воспроизведения, руки Наполеона, Марии-Луизы11, госпожи де Севинье12,
Шекспира, дю Террайя13, Гете, Шаплена 14 и Данте.
В ножках каждого кресла скрыты короткие трости (бычьи жилы и же-
лезное дерево) с наконечниками из твердого каучука, подкованные креп-
кими гвоздями; они приводятся в движение рессорами с валиками; их на-
значение — стучать по полу, создавая впечатление оваций, вызовов и то-
пота. Малейший перерыв электромагнитного тока произведет такое сотря-
сение всего механизма, какого со времени существования Клаки еще не
бывало; разразится гром аплодисментов. А Машина настолько мощная,
что при надобности может буквально сокрушить весь зал. Тогда автор бу-
дет погребен под собственным своим триумфом, подобно юному капитану
Машина славы 41
де Бюшу 15 после осады Равенны, которого горько оплакивали все женщи-
ны. Это гром, это залп, это апофеоз приветствий, возгласов, криков браво,
одобрений, оглушительных Уа-уау, всевозможных звуков, не исключая ет
пугающих, судорог, громких утверждений, топота, идей и славы, вспыхи-
вающих одновременно со всех сторон — безразлично — ив самых пошлых,
и в самых удачных местах пьесы. Тут уж никаких случайностей быть
не может.
И тогда-то и сказывается неоспоримое магнетическое явление, оправды-
вающее этот шум и придающее ему абсолютную ценность; явление это
подтверждает ценность Машины Славы, без коего она была бы почти что
мистификацией.— Вот оно! В нем-то и заключается великая сущность, из;
ряда вон выходящее значение, ослепительный блеск гениального изобре-
тения Боттома.
Чтобы лучше вникнуть в идею этого гения, вспомним прежде всего, что
заурядные люди избегают идти вразрез с общественным мнением. Им
с колыбели свойственно считать непреложным, несмотря ни на что, сле-
дующее утверждение: «Человек этот ПРЕУСПЕВАЕТ; следовательно, во-
преки дуракам и завистникам,— это незаурядный, светлый ум. По воз-
можности будем подражать ему и, на всякий случай, станем на его сторону,,
хотя бы для того, чтобы не казаться дурачками».
Таково, согласитесь, сокровенное рассуждение, внушаемое самой ат-
мосферой зала.
Если для того, чтобы вызывать воодушевление, о котором мы говорили,
достаточно примитивной Клаки, какой мы пользуемся в настоящее времяг
то что же будет при наличии Машины, принимая во внимание, что тогда
страсти станут единодушными?— Публика и сейчас уже позволяет Клаке
увлекать себя, хотя и знает, что эта человеческая машина дурачит ее, а
сама Клака будет тогда еще легче воспламеняться, поскольку на нее будет
воздействовать НАСТОЯЩАЯ машина: не надо забывать, что машины —
душа нынешнего века.
И вот даже самый равнодушный зритель, слыша, что творится вокруг,
легко заражается общим воодушевлением. Такова сила вещей. Немного
погодя он уже оглушительно и вполне искренне хлопает. Он, как всегда,
разделяет чувства Большинства. И, будь это в. его возможностях, он готов
был бы шуметь громче, чем сама Машина,— из опасения, что выделится
из толпы.
Таким образом, перед нами решение проблемы: физическое приспособ-
ление достигает интеллектуальной цели,— успех становится реальностью...
СЛАВА действительно снизошла в зал. Иллюзорная же сторона Аппарата
Боттона исчезает, положительно сливаясь с сияющей Истиной!
Если пьеса написана просто кретином или каким-нибудь болтливым пе-
дантом, так что и одной сцены не высидишь, то, во избежание всяких слу-
чайностей, аплодисменты могут греметь беспрерывно от поднятия занавеса
до самого конца спектакля.
Тут ни о каком сопротивлении и речи быть не может. В случае надоб-
ности можно выделить особые кресла для признанных поэтов, для тех,
42 Жестокие рассказы
кто изобличен в гениальности, словом, для строптивых, а также для клики
интриганов: гальваническая батарея направит ток в ручки кресла, вну-
шающего подозрение, и насильно заставит рукоплескать сидящего в нем
человека. И тогда все будут говорить: «Как видно, это на самом деле пре-
красное произведение, раз даже они АПЛОДИРУЮТ!».
Излишне добавлять, что если такие драматурги (прибегнув к вмеша-
тельству какого-нибудь опрометчивого государственного деятеля,— ко все-
му надо быть готовым!) все же добьются постановки их «творений» без
купюр, избавятся от просвещенных соавторов и избегнут директорского
давления, то Машина с помощью варианта, предусмотренного неисчерпаь
мой и поистине благодатной выдумкой Боттома, все-таки отомстит за поря-
дочных людей. Иными словами, вместо того, чтобы осенить драматурга сла-
вою, она на сей раз станет шикать, реветь, свистеть, брыкаться, квакать,
тявкать, плеваться, так что из «пьесы» не разобрать ни слова. Поднимется
такой скандал, какого не бывало со времени знаменитой премьеры Тангей-
зера 16 в парижской Гранд-Опера. Таким образом, совесть порядочных лю-
дей и особенно Буржуазии не попадет в ловушку, как случается, увы, не-
редко! Сразу же будет объявлена тревога, как некогда в Капитолии по
случаю нападания галлов.— При Машине состоят двадцать Андреидов *,
выпущенных из лабораторий Эдисона, с благообразными лицами, скром-
ной и понимающей улыбкой, со значком в петлице; в случае отсутствия
или болезни образцов, по подобию коих они созданы, их разместят в ложах,
и на лицах их будет написано глубокое презрение, которое передается и
зрителям. Если же, паче чаяния, последние вздумают взбунтоваться и вы-
разят желание прослушать пьесу, автоматы закричат: «Пожар!», и это
сразу вызовет такой настоящий крик и смятение, что протест мигом за-
глохнет. А «пьеса» после этого уже не оживет.
Что же касается Критики, так о ней нечего pi говорить. Если драмати-
ческое произведение будет написано человеком серьезным и влиятельным,
достойным уважения, человеком благонамеренным, значительным и после-
довательным, то Критике — исключая нескольких заядлых снобов, голо-
са коих, слившиеся с общим гвалтом, только усилят последний,— нечего
будет возразить: она начнет выражать свой восторг не менее бурно, чем
Аппарат Боттома.
К тому же критические статьи, заранее заготовленные, также будут
связаны с Машиной: написание их упрощается путем пересмотра всех ста-
рых клише; их обновляют, подкрашивают и пускают в оборот сотрудники
Боттома, подобно молитвенным мельницам китайцев, наших предшествен-
ников во всех вопросах Прогресса **.
* Электро-человеческие автоматы, появившиеся в результате новейших науч-
ных открытий и создающие полную иллюзию человека. (Прим. автора.)
** В этих мельницах имеется колесико, которое молящийся вращает, и тогда из
мельницы тысячами вылетают бумажки с напечатанными пространными молит-
вами. Таким образом, один человек за одну минуту произносит больше мо-
литв, чем целый монастырь за год; ведь суть — в благом намерении! (Прим.
автора.)
Машина славы &&
Аппарат Боттома почти таким же путем упрощает работу Критики. Он
избавляет от труда до седьмого пота, упраздняет немало грубых граммати-
ческих ошибок, немало чепухи и немало пустых фраз, пускаемых на ве-
тер! — Фельетонисты, любители сладостного безделья, могут сговориться
с бароном при свидании с ним. На случай, если у кого-нибудь обнаружит-
ся ребяческое самолюбие, гарантируется полнейшая тайна. Существует
твердая расценка, она обозначена в начале статьи обычными цифрами; го-
норар уплачивается по столько-то за каждое слово, состоящее из трех букв
и более. Когда же подписать статью считается за честь, то за такую честь
взимается особо.
В отношении чистоты линии, совершенства букв, неукоснительной ло-
гики и механической преемственности идей эти статьи бесспорно столь же
превосходят написанные от руки, как, скажем, вещи, сшитые на швейной
машинке, превосходят те, что сшиты старинной иглой.
И сравнения-то здесь быть не может! Что в наши дни силы человече-
ские рядом с силами машины?
Благотворное действие Статей Боттома особенно скажется, когда они
повлекут за собою провал пьесы какого-нибудь крупного поэта.
То будет, что называется, смертельный удар!.. Являясь набором и
отстоем самых устаревших, скользких, тошнотворных, клеветнических и
безудержных пошлостей, собранных в отечественной выгребной яме, эти
Статьи так понравятся Публике, что ничего лучшего и пожелать нельзя
будет. И они уже вполне готовы! Они создают полную иллюзию.
С одной стороны, подумаешь, что читаешь человеческие статьи о вели-
ких живых современниках, а с другой — какой яд, какая квинтэссенция
гнусности!
Статьи эти станут, несомненно, одним из величайших достижений ны-
нешнего века! Барон дал несколько образцов таких статей кое-кому из наи-
более остроумных наших критиков: они разахались и от восторга даже
выронили перья из рук! Тут от каждой запятой веет тем невозмутимым
равнодушием, которое слышится, например, в прелестных словах, сказан-
ных маркизом де Д ***, редактором Королевской Газеты, Людовику XIV
(при этом маркиз небрежно обмахивался кружевным платочком): «Не при-
кажете ли, Ваше Величество, послать тарелку бульона великому Корнелю?
Он ведь при смерти...»
Основной механизм клавиатуры Машины устанавливается в углубле-
нии, именуемом в театре Суфлерской Будкой. Здесь помещается Оператор,
каковым должен быть человек надежный, почтенный и с внешностью, при-
личествующей, скажем, привратнику. Под рукой у него электрические ком-
мутаторы и рубильники, регуляторы, щупы, краны от трубок с углекислым
и двууглекислым газом, аммиачные пары и прочее, кнопки рычагов, шату-
ны, блоки. Давление в системе и степень Бессмертия указываются мано-
метром. Особый аппарат производит калькуляцию, и Драматург платит по
счету, который подает ему какая-нибудь красавица в роскошном наряде
Славы, под звуки фанфар. Красавица при свете бенгальских огней оливко-
вого цвета — цвета Надежды,— улыбаясь, вручает Автору во имя потомков,
44 Жестокие рассказы
в виде подношения, его собственный бюст, отличающийся большим сходст-
вом (это гарантировано), окруженный сиянием и увенчанный лаврами;
бюст изготовляется из прессованного бетона (изобретение Куанье). Все это
можно заготовить заблаговременно!!!
Если Сочинитель пожелает, чтобы слава его гремела не только в настоя-
щем и будущем, но даже и в прошлом, так и на этот случай барон все пред-
усмотрел: Машина может действовать и в обратном направлении. Дейст-
вительно, трубы с веселящим газом, ловко проложенные на перворазряд-
ные кладбища, должны каждый вечер насильно вызывать улыбку у пред-
ков, покоящихся в могилах.
Что же касается практической и деловой стороны изобретения, то были
составлены подробнейшие сметы расходов. Стоимость переоборудования
Большого Театра в Нью-Йорке в усовершенствованный зал не превышает
пятнадцати тысяч долларов; за гаагский театр барон возьмет шестнадцать
тысяч крон; Москве и Санкт-Петербургу это будет стоить около сорока
тысяч рублей. Цены для парижских театров еще не установлены, ибо
Боттом желает предварительно приехать сюда, чтобы ознакомиться с ними
на месте.
В конечном счете можно утверждать, что загадка современной театраль-
ной Славы — такой, как ее понимают простые здравомыслящие люди,—
разрешена. Теперь Слава будет ПОНЯТНА им. Сфинкс обрел своего
Эдипа *17.
* Недавно прошел слух о приспособлении этой занятной Машины для нужд Пар-
ламента и Сената; но это пока только слух. Всевозможные «уа-уау» якобы бу-
дут заменены возгласами: «Отлично!», «Конечно, конечно!», «К голосованию!»,
«Это ложь!», «Нет, нет!», «Прошу слова!», «Продолжайте!» и т. п.— Словом, всем
тем, что требуется. {Прим. автора.)
Герцог Портландский 45
VIII. Герцог Портландский
Посвящается Анри Ля Люберн.
Добро пожаловать в Эльсинор, господа.
(Шекспир. «Гамлет»)
Жди меня здесь: я непременно приду к тебе
в эту глубокую ложбину.
(Епископ Холл M
В прошлом году, после возвращения своего с Востока, Ричард, герцог
Портландский,— юный лорд, некогда прославившийся на всю Англию свои-
ми ночными празднествами, своими чистокровными лошадьми, познаниями
в боксе, охотами на лисиц, замками, баснословным богатством, отважными
путешествиями и любовными приключениями,— внезапно исчез.
Один только раз, вечером, видели, как его старинная золоченая карета
в окружении всадников с факелами промчалась с опущенными шторами
через Гайд-Парк 2.
Засим последовало его столь же неожиданное, сколь странное затвор-
ничество в родовом поместье; он стал одиноким обитателем обширного
замка с бойницами, воздвигнутого в стародавние времена на портландском
мысу среди мрачных садов и тенистых лужаек.
Единственным далеким соседом его был красный свет маяка, горевший
днем и ночью в напутствие большим пароходам, которые бороздили бур-
ное море, оставляя на горизонте переплетающиеся полоски дыма.
Крутая тропа, сбегающая к морю, извилистая дорожка, вьющаяся
между скал и окаймленная на всем протяжении дикими соснами, приводит
внизу к тяжелой золоченой калитке, которая открывается прямо на пес-
чаный берег, затопляемый в часы прилива.
В царствование Генриха IV 3 с этим укрепленным замком было связа-
но немало легенд; внутренние его покои с окнами, украшенными витра-
жами, блещут феодальными сокровищами.
На его плоской крыше, соединяющей семь башен, во всех бойницах до
сих пор стоят сторожевые в воинственных позах: тут несколько лучников,
там — каменный всадник; они изваяны еще во времена крестовых похо-
дов... *
Лица статуй теперь стерты грозовыми ливнями и холодом многих сотен
зим; молнии не раз искажали их черты,—вот почему они по ночам
превращаются в какие-то причудливые видения и внушают суеверный
страх.
* Это описание гораздо больше соответствует Нортумберландскому замку, чем
Портландскому. Надо ли добавлять, что, хотя подробности этой истории большей
частью правдивы, автору все же пришлось кое-что изменить в облике самого
герцога Портландского,— ведь он излагает эту историю так, как она должна была
бы произойти. (Прим. автора.)
46 Жестокие рассказы
А когда волны, вздыбленные штормом, во мраке обрушиваются много-
ликими валами на прибрежные скалы, запоздавшему путнику, торопливо
идущему по берегу,— особенно если луна льет свет на эти гранитные гро-
мады,— может привидеться некое извечное сражение призрачного герои-
ческого гарнизона с сонмищем злых духов, осаждающих замок.
Что же означало уединение беззаботного английского аристократа?
Не стал ли он жертвою сплина? Он, человек столь веселый от природы?
Не может быть! — Какое-нибудь таинственное наваждение, не покидав-
шее его со времени пребывания на Востоке? — Возможно.— При дворе его
исчезновение вызвало тревогу. Из Вестминстера, от королевы, лорду-за-
творнику было отправлено послание.
В тот вечер королева Виктория 4 допоздна задержалась на необычной
аудиенции. Она сидела, облокотившись о столик, на котором стоял канде-
лябр, а рядом с нею, на скамеечке из слоновой кости, сидела ее юная
чтица, мисс Элен X ***.
От лорда Портландского пришел ответ, запечатанный черным сургу-
чом.
Девушка разорвала конверт и своими голубыми глазами, полными ве-
селых небесных отсветов, пробежала по строкам немногословного письма.
Вдруг она, закрыв глаза и не проронив ни звука, передала его ее вели-
честву.
Королева, тоже молча, прочла послание.
С первых же слов ее лицо, обычно бесстрастное, приняло крайне удив-
ленное и печальное выражение. Она даже вздрогнула; немного погодя она
молча поднесла листок к пламени свечи. Затем, роняя вспыхнувшую бу-
мажку на мраморные плиты пола, сказала, обращаясь к стоявшим на
почтительном расстоянии пэрам:
— Вы больше никогда не увидите нашего любезного герцога Портланд-
ского, милорды! Впредь он не обязан заседать в Парламенте. Мы освобож-
даем его от этого по необходимости, в силу особой привилегии. Тайна его
да будет соблюдена. Не беспокойтесь больше о нем, и пусть никто из его
друзей никогда не обращается к нему.
Потом, жестом отпуская престарелого гонца, королева добавила, взгля-
нув на черный пепел послания:
— Расскажите герцогу Портландскому обо всем, что вы здесь видели
и слышали.
После этих загадочных слов ее величество встала и направилась в свои
апартаменты. Но тут она заметила, что чтица ее замерла на месте и как
бы уснула, прислонясь щекой к белой ручке, лежащей на пурпурной ска-
терти столика. Королева, снова удивившись, тихо прошептала:
— Вы идете за мной, Элен?
Девушка не шелохнулась, все бросились к ней.
Она ничуть не побледнела от волнения,— может ли побледнеть лилия? —
но она была без чувств.
Герцог Портландский 47
Год спустя после того, как королева произнесла эти слова, в ненастную
осеннюю ночь с судов, проходивших в нескольких милях от Портландского
мыса, заметили, что замок освещен.
Да, уже не первый раз отсутствующий лорд устраивал у себя в разное
время года ночные празднества.
Об этом ходило много толков, ибо их мрачная вычурность граничила
с фантастикой, причем сам герцог в них не участвовал.
Празднества устраивались не в покоях замка — туда уже никто не вхо-
дил; да и сам лорд Ричард, уединившись в башне, казалось, забыл о них.
По возвращении из странствований он приказал облицевать стены и
своды обширных подземелий замка огромными венецианскими зеркалами.
Пол был выложен мраморными плитами и великолепной мозаикой.— Ан-
филаду величественных зал разделяли только высокие драпировки, кое-где
перехваченные шнурами; под сверкающими позолоченными люстрами, за-
литыми светом, среди тропических растений, прекрасных статуй и благо-
ухающих фонтанов, ниспадавших в порфировые водоемы, была расстав-
лена восточная мебель, расшитая драгоценными арабесками.
Здесь, по любезному приглашению владельца, неизменно «весьма со-
жалевшего о том, что сам не может присутствовать», собиралось блестящее
многолюдное общество, весь цвет юных английских аристократов, очаро-
вательные артистки и пленительные беззаботные представительницы
gentry *.
От имени лорда Ричарда приглашенных встречал на этих празднествах
кто-нибудь из его былых друзей. И тут начиналась по-королевски пышная
ночная оргия.
Только кресло молодого лорда, стоявшее на почетном месте, оставалось
пустым, а герцогский герб, возвышавшийся над спинкой, бывал неизменно
затянут длинным траурным крепом.
Гости, повеселевшие от вина и непринужденности, невольно отворачи-
вались от него, обращая взор на что-нибудь более приятное.
Так в Портланде в полночь, в роскошных залах, полных дурманящим
благоуханием экзотических растений, своды подземелий приглушали взрыв
смеха, звук поцелуев, звон бокалов, хмельные песни и музыку.
Но если бы кому-нибудь из гостей вздумалось встать из-за пиршест-
венного стола и выйти наружу, чтобы подышать морским воздухом в тем-
ноте, на берегу, под отчаянными порывами ветра, дующего в моря,— он,
пожалуй, увидел бы зрелище, которое испортило бы ему настроение, во
всяком случае на остаток ночи.
Действительно, в этот час на извилистой тропинке, спускающейся к
океану, нередко появлялся человек в плаще, с лицом, закрытым черной
маской, которая была прикреплена к круглому капюшону, облегавшему
всю голову; он направлялся к берегу; в руках его, обтянутых длинными
перчатками, светился огонек сигары. Словно в какой-то старомодной фан-
* Дворянства {англ.).
Жестокие рассказы
тасмагории, перед ним шествовали двое седовласых слуг; двое других шли
немного позади, держа в руках коптящие красные факелы.
Впереди всех шел мальчик в траурной ливрее; паж поминутно звонил
в колокольчик, издали предупреждая, чтобы люди сторонились гуляющего.
Эта маленькая группа производила впечатление не менее жуткое, чем
преступник, которого ведут на казнь.
Перед человеком в маске отворялась калитка, ведущая на берег; сопро-
вождающие оставляли его, и он подходил к волнам. Здесь, погрузившись,
как видно, в безнадежные размышления, он замирал, уподобившись камен-
ным призракам в бойницах замка, и стоял под порывами ветра, под дож-
дем, при вспышках молнии, лицом к лицу с ревущим Океаном. Проведя
так около часа, зловещий незнакомец той же тропинкой направлялся об-
ратно к башне, и опять его сопровождал звон колокольчика и сопутство-
вали ему факелы. И не раз, пошатываясь, он цеплялся за острые выступы
скал.
Утром, накануне этого осеннего празднества, юная чтица королевы (со
дня получения первого послания всегда одетая в глубокий траур) моли-
лась в часовне ее величества; в это время ей подали письмо, написанное
одним из секретарей герцога.
Оно содержало всего лишь два слова: «Сегодня вечером».
Вот почему около полуночи у Портланда причалила королевская яхта.
Из яхты вышла молодая женщина в темной накидке, одна. Призрак этот,
окинув взором темное побережье, бегом устремился к факелам, в ту сто-
рону, откуда ветер доносил звон колокольчика.
На песке, положа голову на камень и временами содрогаясь от смерт-
ной муки, лежал таинственный человек в маске, закутанный в плащ.
Молодая женщина, откинув капюшон, подошла к нему.
— Несчастный! — воскликнула она и зарыдала, закрыв лицо руками.
— Прощай! Прощай! — ответил он.
Издали слышались песни и смех,— они доносились из подземелья древ-
него замка, и отсветы огней колыхались, отражаясь в волнах.
— Ты свободна! — добавил он, вновь склоняя голову на камень.
— Отмучился! — ответила бледная пришелица, протягивая к небу, усе-
янному звездами, золотой крестик; а страдалец уже умолк и только смот-
рел на нее.
После долгого молчания, когда она стояла перед ним недвижимо, за-
крыв глаза, он прошептал, глубоко вздохнув:
— До свидания, Элен!
Прошло около часа; слуги наконец подошли и увидели девушку, пре-
клонившую колена на песке, возле их господина; она молилась.
— Герцог Портландский скончался,— проронила она.
И, опершись на плечо старого слуги, она взглянула на судно, которое
доставило ее сюда.
Три дня спустя Дворцовый Вестник сообщал следующую новость:
«Мисс Элен X ***, невеста герцога Портландского, приняла католиче-
ство и вчера постриглась в кармелитской обители Л ***».
Герцог Портландский 49
В чем же заключалась тайна, приведшая к смерти могущественного
лорда?
Однажды, во время своих дальних путешествий на Восток, молодой
герцог отделился от каравана в окрестностях Антиохии и, беседуя с мест-
ными проводниками, услыхал о нищем, которого все с ужасом сторонятся,
отчего он и живет в полном одиночестве среди развалин.
Герцогу вздумалось навестить насчастного, ибо от судьбы своей ни-
кому не уйти.
А этот зловещий Лазарь 5 был последним на земле носителем великой
древней проказы, проказы сухой, неизлечимой — того несокрушимого не-
дуга, от которого один только бог мог некогда избавлять легендарных
Иовов 6.
И вот, невзирая на уговоры перепуганных проводников, Портланд
осмелился бросить вызов заразе и войти в пещеру, где умирал всеми от-
верженный страдалец.
Давая несчастному умирающему горсточку червонцев, блестящий вель-
хможа, отважный до безрассудства, из удали пожелал пожать ему руку
В тот же миг какая-то тень заволокла его взор. Вечером, поняв, что он
погиб, он покинул город и его окрестности, а как только появились первые
признаки заболевания, отплыл на корабле, чтобы попытаться вылечиться
в своем поместье или умереть там.
Но при виде страшных язв, открывшихся во время переезда, герцог
осознал, что единственная его надежда — это скорая смерть.
Всему конец! Прощай молодость, слава древнего имени, любящая не-
веста, продолжение рода! Прощайте силы, радости, неисчислимое богат-
ство, красота, будущность! Все надежды потонули в ладони страшной руки
прокаженного. Лорд наследовал нищему. Минута удали,— вернее, чересчур
благородный жест! — положила конец блестящему существованию, окру-
жив тайной его жуткую смерть.
Так погиб герцог Портландский, последний прокаженный на земле.
50 Жестокие рассказы
IX. Виржини и Поль
Посвящается мадемуазель Огюсте Ольмес !.
Per arnica silentia lunae *.
(Вергилий)
Ограда старых садов пансиона. Где-то вдали бьет десять. Синяя ап-
рельская ночь, тихая и ясная. Серебром блестят звезды. Порывы легкого
ветерка пробегают над молодыми розами; шелестит листва; в конце длин-
ной аллеи ниспадает снежно-белая струя фонтана. В торжественной ти-
шине дождем чарующих звуков рассыпаются песни друга ночи — соловья.
Приходилось ли вам в шестнадцать лет, когда вами еще владели обман-
чивые грезы юности, любить совсем молоденькую девушку? Вспоминается
ли вам ее перчатка, забытая на скамье в увитой зеленью беседке? Испытали
ли вы смятение при ее нежданном, внезапном приходе? Горели ли у вас
щеки, когда взрослые посмеивались над тем, как вы робеете друг подле
друга, встретившись на каникулах? Знакома ли вам сладостная, бездонная
глубина чистого взгляда, устремленного на вас с задумчивой нежностью?
Касались ли вы 1убами губ испуганной, вдруг побледневшей девочки, грудь
которой трепещет у вашего сердца, стесненного счастьем? Хранили ли вы,
как святыню, голубые цветы, собранные вдвоем у реки, вечером, на пути
домой?
Долгие годы разлуки вы таите это воспоминание в самой глубине серд-
ца. Оно — словно капля восточных ароматов в драгоценном флаконе, капля
бальзама, столь тонкого и столь крепкого, что если бросить этот флакон
в вашу могилу, смутный неумирающий запах переживет ваш прах.
О, как сладостно наедине в вечерний час вновь отдаться во власть этого
волшебного воспоминания, в последний раз услышать его отзвук!
Наступает время уединения; в предместье замирает шум работ. Не знаю
сам, как я забрел сюда. Это здание в старину было аббатством. В лунном
свете по ту сторону решетки виднеются каменные ступени и слабо осве-
щенные древние статуи святых, которые совершали чудеса и, вероятно,
смиренно бились об эти плиты лбом, просветленным молитвой. В пору,
когда англичане еще занимали наши анжуйские города 3, здесь раздава-
лись шаги бретонских рыцарей.— Теперь мрачные каменные стены и окон-
ные своды помолодели от веселых зеленых жалюзи. Аббатство стало пан-
сионом для юных девиц. Днем они, наверное, щебечут меж руин, как
птички. Среди уснувших сейчас девочек многие на ближайших пасхальных
каникулах заронят в сердца нежных подростков великое и священное вол-
нение, а может быть, уже... — Чу, что это? Нежный голосок зовет тихонь-
ко: «Поль! Поль!». Миг — и белое муслиновое платьице с голубым пояском
колыхнулось у столба решетки. Молоденькая девушка порою может пока-
заться видением. Как раз такое видение и спустилось сюда сейчас. Это
одна из воспитанниц: я различаю пелеринку пансионерки и серебряный
* Под защитой луны молчаливой (лат.)
Виржини и Поль 51
нашейный крестик. Я вижу ее личико. Овеянные поэзией черты тают в
ночной темноте! О, эти светлые волосы юного существа, еще не распро-
стившегося с детством! О, голубой взор, бледная лазурь которого как будто
сродни извечному эфиру!
Но что это за мальчик проскользнул там между деревьями? Он спешит;
вот он уже у столба решетки.
— Виржини! Виржини! Это я.
— Ах, тише, тише, Поль! Я здесь!
Обоим по пятнадцать лет!
Это первое свидание! Страница вечной идиллии! Как они оба, наверное,
трепещут от счастья! Приветствую тебя, божественная невинность, вас, мои
воспоминания, вас, ожившие цветы!
— Поль! Милый кузен!
— Протяните мне ручку через решетку, Виржини. Ах, какая ручка!
Прелесть! Вот вам цветы, я их нарвал в отцовском саду. Они не стоили мне
денег, но зато подарок — от чистого сердца.
— Благодарю, Поль. Однако вы запыхались! Как вы бежали!
— Ах, это из-за папы; он сделал дельце сегодня, отличное дельце!
Он купил рощу за полцены: тем людям понадобилось спешно продать ее.
Удачный случай подвернулся. Папа был очень доволен сделкой, и я остался
посидеть с ним, чтобы он дал мне немного денег. Вот и пришлось бежать,
иначе я не поспел бы вовремя.
— Через три года мы уже поженимся, если вы хорошо сдадите экза-
мены, Поль!
— Да, я буду адвокатом. Так ведь станешь адвокатом — и жди еще не-
сколько месяцев, пока придет известность. И только потом удастся зара-
ботать немного денег.
— А то и много денег!
— Да. А вам хорошо живется в пансионе, кузиночка?
— О да, Поль! Особенно с тех пор, как мадам Панье расширила дело.
Раньше было так себе, а теперь ведь у нас здесь есть и дворянские дочки.
Я дружу со всеми этими барышнями. Ах, что у них за вещицы! Притом,
с тех пор как они появились, нам стало лучше, гораздо лучше, потому что
мадам Панье может расходовать на хозяйство больше денег...
— Все равно, эти старые стены... Не очень-то весело тут жить.
— Ах, нет, привыкнешь к ним, так даже не замечаешь. Кстати, Поль,
вы заходили к нашей тетушке? Через неделю день ее рождения. Надо бы
сочинить ей поздравительные стихи. Она такая добрая!
— Я не очень-то ее люблю, эту тетушку! Прошлый раз она мне дала
лежалых конфет, вместо того чтобы подарить что-нибудь стоющее — какой-
нибудь красивый кошелек или несколько монеток, которые можно поло-
жить в копилку.
— Ах, Поль, это нехорошо. Надо с ней быть поласковей и во всем ей
угождать. Она ведь старая и, наверное, оставит нам немного денег...
— Пожалуй. Ах, Виржини, ты слышишь соловья?
— Поль, будь осторожен, не обращайся ко мне на «ты» при других.
52 Жестокие рассказы
— Кузиночка, да ведь мы поженимся! Впрочем, я постараюсь быть
поосторожней. Но как чудесно поет соловей! Голос точно чистое серебро!
— Да, чудесно, только он мешает спать. Какой теплый вечер — луну
словно высеребрили, смотри, как красиво!
— Я знаю, вы любите поэзию, кузиночка.
— Ах, да! Поэзия!.. Я учусь играть на рояле.
— В коллеже я выучил для вас много прекрасных стихов. Я помню
наизусть почти всего Буало 4. Если вы захотите, мы будем часто ездить в
деревню, когда поженимся, хорошо?
— Разумеется, Поль! Впрочем, мама даст мне в приданое свой загород-
ный домик, при нем есть и ферма: мы будем ездить туда на лето. Мы
и земли прикупим, если удастся. Ферма тоже принесет немного денег.
— Ну, тем лучше. И потом в деревне можно расходовать на жизнь го-
раздо меньше денег, чем в городе. Это мне родители говорили. Я люблю
охоту и настреляю там дичи. Охота тоже поможет сэкономить немного
денег!
— И к тому же это ведь деревня, милый Поль! А я люблю все поэти-
ческое!
— Как будто кто-то ходит наверху?
— Ш-ш! Мне пора идти — вдруг мадам Панье проснулась. До свиданья,
Цоль.
— Вы придете к тетушке через неделю, Виржини? Вы будете на обеде?
Я/ тоже боюсь, как бы папа меня не хватился, а то он больше не будет
давать мне денег.
— Руку, вашу руку, скорее!
В умилении я уловил еще дивный звук поцелуя, и мои ангелочки раз-
бежались в разные стороны. Запоздалое эхо руин неясно повторило: «Де-
нег! Немножко денег!»
О юность, весна жизни! Будьте благословенны, о дети, с вашей детской
восторженностью! Вы, чьи души чисты и наивны, как цветы, вы, чьи речи,
вызывая в памяти первое свидание, почти во всем подобное этому, застав-
ляют прохожего проливать сладкие слезы!
Посетитель финальных торжеств 63
X. Посетитель финальных торжеств
Посвящается Нине де Виллар г«
Львиная доля сущего принадлежит неведомому.
(Франсуа Араго 2)
Теперь пусть является к нам на ужин сама статуя Командора, пусть
протягивает руку: мы готовы пожать ее. Как знать, быть может, именно
статую пронижет при этом смертный хлад!
В карнавальный вечер 186... года, по чистой случайности — одной из
тех, которые сопровождают жизнь людей, подверженных «мучительному и
неясному» томлению,— я со своим приятелем К *** оказался на балу в
Опере.
Сидя вдвоем в ложе у самой сцены, мы некоторое время с любопытст-
вом наблюдали сквозь пыльную дымку за пестрой толпой масок, которая
шумела и бурлила в ярком свете люстр, захваченная неистовым ритмом
штраусовской музыки.
Внезапно дверь ложи отворилась: три дамы, шелестя шелками, прошли
между стульями, сняли маски и сказали:
— Добрый вечер!
Это были на редкость умные и красивые молодые особы, которых мы
иногда встречали в художественном мире Парижа. Их звали: Клио ла
Сандре, Антония Шантильи и Энн Джексон.
— Так, значит, и вы решили укрыться здесь, сударыни? — сказал К ***,
знаком приглашая их сесть.
— Мы собирались поужинать втроем, потому что публика на этом балу
такая ужасная и такая скучная, что мы настроились совсем на тоскливый
лад,— ответила Клио л а Сандре.
— Да, мы уже хотели было уходить, как вдруг заметили вас,— отозва-
лась Антония Шантильи.
— Знаете что: пойдемте с нами, если у вас нет в виду ничего луч-
шего,— заключила Энн Джексон.
— Что ж, да здравствует веселье! — спокойно ответил К ***.
— Можете ли вы представить какие-нибудь серьезные возражения
против «Мезон-Доре» 3?
— Ровным счетом никаких,— сказала ослепительная Энн Джексон, рас-
крывая веер.
— В таком случае, мой друг,— продолжал К ***, обращаясь ко мне,—
вырви листок из записной книжки, напиши, что оставляешь за собой крас-
ный кабинет, и отошли записку с лакеем мисс Джексон. По-моему, это
единственный правильный выбор, если только у тебя нет каких-либо осо-
бых соображений.
— Сударь,— сказала мисс Джексон,— раз уж ваше самопожертвование
простирается так далеко, что вы готовы обеспокоить себя ради нас, по-
звольте вам объяснить, что вы найдете этого человека в фойе, где он пре-
дается отдохновению, одетый не то птицей-фениксом, не то — мухой. Он
откликается на прозрачный псевдоним Батиста или Лапьера. Пожалуйста,
54 Жестокие рассказы
разыщите его и скорее возвращайтесь, чтобы потом неотступно ухаживать
за нами.
Однако уже несколько минут я почти не слышал того, что говорилось
вокруг меня. Я вглядывался в некоего господина, по виду иностранца, си-
девшего в ложе напротив нас. Это был человек лет тридцати пяти; в лице
у него была какая-то восточная бледность. Он поклонился мне, глядя на
меня в лорнет.
— Э, да это мой висбаденский незнакомец! — припомнил я после неко-
торого размышления.
Так как этот господин оказал мне в Германии одну из тех мелких услуг,
которыми у путешественников принято обмениваться (все дело сводилось
к тому, что во время беседы в гостиной он обратил мое внимание на пре-
имущества одного сорта сигар),— я ответил на его поклон.
Затем в фойе, ища глазами феникса Энн Джексон, я увидел, что незна-
комец направляется ко мне. Его поведение было настолько тактичным и
ненавязчивым, что я счел своим долгом — долгом воспитанного человека —
предложить ему наше общество, если он чувствует себя одиноким и зате-
рянным в этой шумной толпе.
— Но кого же я буду иметь честь представить кружку моих друзей? —
спросил я его с улыбкой, когда он принял мое предложение.
— Барон фон Г ***,— назвал он себя.— Однако, принимая во внима-
ние, что дамы сегодня настроены беззаботно, что это праздничный карна-
вальный вечер и что мое имя трудно произносимо, позвольте мне в течение
часа зваться иначе — все равно как,— добавил он,— ну, хотя бы... (и он
засмеялся) — барон Сатурн, если угодно.
Его причуда меня несколько удивила, но в этот вечер все вели себя
сумасбродно, поэтому я холодно представил его нашим прелестным дамам
под тем мифологическим именем, которое он соизволил принять.
Выдумка барона расположила к нему присутствующих: все готовы бы-
ли поверить, что это какой-то калиф из Тысячи и одной ночи, путешествую-
щий инкогнито. Клио ла Сандре, скрестив пальцы, даже произнесла впол-
голоса имя некоего Жюда, в то время знаменитого и еще не пойманного
преступника, который приобрел громкую славу и неслыханное богатство
путем многочисленных убийств.
После обычного обмена любезностями всегда предупредительная Энн
Джексон спросила между двумя приступами непреодолимой зевоты:
— Может быть, барон окажет нам честь поужинать с нами, ради сим-
метрии, столь желательной в таких случаях?
Он стал было отнекиваться.
— Энн обратилась к вам совсем как Дон Жуан к Статуе Командора,—
заметил я в виде шутки.— Шотландки ведь всегда склонны к высокопар-
ности!
— Следовало спросить господина Сатурна, не отправится ли он уби-
вать с нами Время,— сказал К ***, который держал себя холодно и хотел,
чтобы гость был приглашен по всем правилам.
— Мне очень жаль, но я вынужден отклонить ваше любезное предло-
Посетитель финальных торжеств 55
жение,— сказал барон.— Прошу уважить мои мотивы: завтра чуть свет
я должен отправиться в такое место, где мне поистине до смерти необхо-
димо быть.
— Дуэль от скуки? Взамен возбуждающего напитка? — спросила Клпо
ла Сандре, поморщившись.
— Нет, сударыня,... свидание... раз уж вы меня удостаиваете вопросом
по этому поводу,— ответил барон.
— Да ну! Бьюсь об заклад, что все дело в каком-то словечке, брошен-
ном в фойе,— воскликнула прекрасная Энн Джексон.— Надо полагать,
ваш портной, вырядившись гусаром королевской роты, оскорбил вас, назвав
художником или смутьяном. Дорогой барон, такого рода замечания не
стоят самого ничтожного укола рапиры. Вы здесь человек чужой, это сразу
видно.
— Не только здесь, но почти всюду, сударыня,— с поклоном ответил
барон Сатурн.
— Вот как! Но вы ведь желанный гость, не правда ли?
— Не всегда желанный, смею вас уверить,— произнес вполголоса наш
странный собеседник, придерживаясь все той же в высшей степени любез-
ной и вместе с тем крайне уклончивой манеры изъясняться.
Мы с К *** переглянулись: было совершенно непонятно, что имеет в
виду господин Сатурн. Однако приключение начинало казаться нам до-
вольно занятным.
Но тут Антония воскликнула, как ребенок, которого только раззадори-
вают, отказывая ему:
— До зари вы принадлежите нам, и я увожу вас.
Он покорился, и мы покинули зал.
Итак, в итоге случайного сцепления обстоятельств образовалась весь-
ма своеобразная компания: нам предстояло провести время в довольно
тесном общении с человеком, о котором мы ровно ничего не знали, кроме
того, что он когда-то играл в висбаденском казино и хорошо осведомлен по
части гаванских сигар.
Какое, впрочем, это имело значение? Не вернее ли всего в наши дни
пожимать руку кому попало?
Когда мы вышли на бульвар и сели в экипаж, Клио ла Сандре со сме-
хом откинулась на подушки и бросила своему груму-мулату, который
почтительно ожидал ее распоряжений:
— В «Мезон-Доре».
Затем, наклонившись ко мне, она проговорила:
— Я не знаю этого вашего друга: что он за человек? Я им чрезвычайно
заинтригована. У него такой странный взгляд...
— Моего друга? — ответил я. — Да я его всего два раза видел в про-
шлом году, в Германии.
Она удивленно посмотрела на меня.
— Что же делать,— продолжал я,— он зашел к нам в ложу и едва
успел поздороваться, как вы тут же пригласили его на ужин, доверчиво
отнесясь к знакомству на костюмированном балу! Допустим, что вы по-
56 Жестокие рассказы
ступили опрометчиво и заслуживаете за это тысячи казней; но теперь уже
поздно тревожиться из-за нашего гостя. Если люди, ужинавшие вместе,
на следующий день не испытывают особого желания продолжать знаком-
ство, они просто раскланиваются друг с другом, как накануне: вот и все.
Совместный ужин еще ничего не значит.
На свете нет ничего забавнее, чем делать вид, будто принимаешь
всерьез наигранную щепетильность иных особ...
— Как, вы ничего больше о нем не знаете? А если это один из...
— Но ведь я назвал вам его — барон Сатурн. Уж не боитесь ли вы его
скомпрометировать, мадемуазель? — добавил я суровым тоном.
— Вы совершенно несносны, сударь.
— На мошенника он не похож: следовательно, ничего необычайного
в нашем приключении нет. Интересный миллионер! Разве это не ваш
идеал?
— Мне этот господин Сатурн кажется вполне приемлемым,— сказал
К ***
— К тому же во время карнавала даже очень богатый человек имеет
право на уважение,— спокойно заключила прекрасная Энн.
Лошади тронулись; следом за нами покатила тяжелая карета господина
Сатурна. Кроме самого таинственного незнакомца, в ней ехала согласив-
шаяся составить ему компанию Антония Шантильи (более известная под
несколько жеманным прозвищем Изольды).
Заняв красный кабинет, мы отдали распоряжение Жозефу не допус-
кать к нам ни одно живое существо, за исключением его самого, устриц
да еще нашего прославленного друга, легендарного доктора Флориана Лез
Эглизота, если он случайно явится сюда полакомиться обожаемыми им
раками.
В камине рассыпалось углями пылающее полено. Вокруг нас витали
пресные запахи тканей, мехов, сброшенных с плеч, оранжерейных цветов.
Стоявшие на консоле серебряные ведерки, в которых стыло печальное вино
Аи, отражали пламя свечей. На столе в хрустальных вазах пышно цвели
камелии на длинных упругих стеблях.
За окнами шел мелкий дождь вперемежку со снегом: ночь пронизывала
холодом. Стук карет, крики масок — в Опере кончился бал, и улица запол-
нилась людьми. То были видения Гаварни, Девериа, Гюстава Доре4.
Чтобы заглушить весь этот шум, мы тщательно задернули шторами
плотно закрытые окна.
Итак, в красном кабинете находились саксонский барон фон Г ***, бе-
локурый красавец К *** и я, а также Энн Джексон, Клио ла Сандре и
Антония.
Во время ужина, пенившегося бездумным весельем, я незаметно для
других отдался своей невинной страсти наблюдать за окружающими и,
надо сказать, вскоре не преминул заметить, что сидевший напротив меня
незнакомец и в самом деле заслуживает некоторого внимания.
О, наш случайный гость отнюдь не был развязным весельчаком. Его
лицо, манеры свидетельствовали о благовоспитанности, примиряющей нас
Посетитель финальных торжеств 57
с любым собеседником; в отличие от других иностранцев он говорил по-
французски чисто, без удручающего акцента; только его бледное лицо при-
обретало порой удивительно мертвенный оттенок и даже становилось как
бы совершенно бескровным; линия губ была тоньше, чем штрих, проведен-
ный кисточкой; брови все время были немного нахмурены, даже когда он
улыбался.
Отметив про себя эти и еще ряд других черт облика нашего гостя,—
в силу той инстинктивной наблюдательности, которой обязаны обладать
иные литераторы,— я пожалел, что так легкомысленно ввел его в нашу
компанию, и тут же дал себе обещание вычеркнуть его на заре из списка
наших знакомых. Я говорю здесь, разумеется, только о К *** и о себе са-
мом; ибо тот же случай, который осчастливил нас обществом трех дам,
должен был унести их, как видения, на исходе ночи.
Вскоре все присутствующие обратили внимание на некоторую стран-
ность в речах иностранца. Все, что он говорил, не поднималось над уров-
нем заурядности по прямому значению высказываемых им мыслей, но на-
стораживало каким-то вторым неясным смыслом, присутствие которого он,
как будто сознательно, давал почувствовать своей интонацией.
Эта особенность тем более удивляла нас, что, вдумываясь в слова гос-
подина Сатурна, мы не в состоянии были обнаружить ни в одной из его
фраз какого-либо иного смысла, нежели обычной светской болтовни. У него
была своеобразная манера подчеркивать отдельные слова, создававшая
впечатление, что за ними скрывается какая-то задняя мысль, и мы с К ***
два-три раза невольно вздрогнули.
Внезапно, как раз когда Клио ла Сандре отпустила вольную, но весьма
забавную шуточку и все расхохотались, во мне шевельнулось некое смут-
ное воспоминание — будто я видел этого господина и раньше, при обстоя-
тельствах совсем иных, чем в Висбадене.
Действительно, его черты отличались такой характерностью, что они
врезывались в память, а глаза, в тот момент, когда он поднимал веки, так
озаряли его бледное лицо, что, казалось, их свет исходит от какого-то внут-
реннего пламени.
Но что это были за обстоятельства? Я напрасно силился очистить их
от посторонних наслоений в своей памяти. Уж не поддамся ли я искуше-
нию выразить словами те туманные догадки, которые пробудились во мне
и представлялись мне связанными именно с этими обстоятельствами?
Из недр памяти всплывало какое-то событие, вроде тех, что порой
видишь во сне.
Но где это могло происходить! Как согласовать мои связные представ-
ления о прошлом с настойчивыми, хотя и неуловимыми воспоминаниями
о каком-то убийстве, о глубоком молчании, тумане, испуганных лицах, фа-
келах, крови — воспоминаниями, которые при виде этого человека возни-
кали у меня в мозгу, с острым, непреодолимым ощущением чего-то пози-
тивного!
— Да что такое! — пробормотал я про себя,— в голове у меня мутится
сегодня, что ли?
68 Жестокие рассказы
Я осушил бокал шампанского.
Волны созвучий и отзвуков, которые' распространяются по нашим нерв-
ным сплетениям, обладают таинственными вибрациями. Они, так сказать,
заглушают многообразием своих взаимных откликов вызвавший их перво-
начальный толчок и не позволяют обнаружить его. Память воспроизводит
окружение факта, но самый факт тонет в этом общем ощущении, и его
никоим образом не удается извлечь на свет.
Вот так же бывает, когда неожиданно встречаешь человека, хорошо
знакомого тебе по прошлым временам, и испытываешь беспокойство от
резкого пробуждения каких-то давних и еще дремлющих переживаний, ко-
торые пока еще невозможно определить словами.
Но изысканные манеры незнакомца, его иронически-сдержанный тон,
его странно-чопорное поведение (что, несомненно, было маскировкой,
скрывавшей его весьма неприглядное подлинное существо) побудили меня
счесть (по крайней мере на краткий срок) эти ассоциации порождением
моей фантазии, чем-то вроде обмана зрения, вызванного моим возбужден-
ным состоянием и поздним ночным часом.
Поэтому я решил не выказывать неприязни к нашему гостю: этого
требовал мой долг, и к тому же мне не хотелось омрачать общее веселье.
Подстегиваемые молодым задором, мы то и дело вскакивали из-за сто-
ла,— и взрывы хохота смешивались с бравурными музыкальными пасса-
жами, которые наудачу извлекались из фортепьяно чьими-нибудь легкими
пальцами.
Итак, я отбросил всякую тревогу. Вскоре беседа засверкала остроуми-
ем, послышались полушутливые признания и поцелуи (похожие на звук
лопающегося цветочного листа, который в задумчивости срывает и под-
носит к губам юная красавица), вспыхивали огни улыбок и бриллиантов:
магия глубоких зеркал беззвучно отражала длинными, уходившими в бес-
конечность голубоватыми рядами каждый жест и пламя каждой свечи.
Мы с К ***, участвуя в общем разговоре, предались своим мечтам.
Все предметы в большей или меньшей степени преображаются в зави-
симости от гипнотической силы приближающихся к ним людей, и для дан-
ного индивидуума ни одна вещь не имеет другого значения, чем то, кото-
рое он способен ей придать.
Таким образом, современный стиль окружавшей нас назойливой позо-
лоты, тяжелой мебели, фабричного хрусталя искупался особым способом
смотреть на вещи, присущим моему другу К ***, поэту по натуре, и мне
самому.
Для нас эти канделябры и впрямь были выделаны из червонного зо-
лота, а чеканка на них была, несомненно, подлинным произведением ма-
стера из Кенз-Вен 5, ювелира божьей милостью. Положительно, эту мебель
мог сделать только обойщик-протестант, живший во времена Людови-
ка XIII и потерявший рассудок из-за религиозных гонений. Кто другой мог
быть создателем этих хрустальных ваз и бокалов, кроме некоего пражского
шлифовальщика, развращенного любовью какой-нибудь новой Пентеси-
леи? 6 — Эти шторы из узорчатого шелка, конечно, представляли собой не
Посетитель финальных торжеств 59
что иное, как древний пурпур, обнаруженный при раскопках Геркуланума
в ларце для священных velaria * из храма Асклепия 7 или Афины Палла-
ды. Особую грубость ткани можно было, на худой конец, объяснить разъ-
едающим действием земли или лавы, и — о бесценное несовершенство! —
это свойство превращало ее в нечто уникальное.
Что касается скатерти и салфеток, то мы колебались в вопросе об их
происхождении. Не исключалась возможность опознать в них образцы
домотканого холста, найденного на дне какого-нибудь озера. В крайнем
случае мы надеялись обнаружить в знаках, вышитых на ткани, указания
на аккадское или троглодитское происхождение этих предметов8. Быть
может, нам удалось увидеть воочию некоторые из бесчисленных полотнищ
савана Ксизутра 9, кем-то выстиранных и пущенных на скатерти и сал-
фетки? — Однако после тщательного исследования нам пришлось удовлет-
вориться предположением, что на них клинописными знаками начертано
меню, составленное всего лишь при Немвроде 10: мы с удовольствием пред-
вкушали, каковы будут удивление и радость г-на Оппера и, когда ему ста-
нет известно об этом новейшем открытии.
А Ночь налагала на все свой отпечаток и причудливой игрой света и
полутеней поддерживала в нас желание мечтать и верить.
В прозрачных чашках дымился кофей; К *** с наслаждением смаковал
гаванскую сигару: окутывая себя клубами белого дыма, словно облаком,
он становился похож на некого полубога.
Барон фон Г *** раскинулся на диване и лежал с полузакрытыми гла-
зами; с виду он не был сейчас ничем примечателен: его бледная рука,
державшая бокал с шампанским, свесилась и почти касалась ковра; каза-
лось, он внимательно слушает чарующий ночной дуэт из Тристана и
Изольды Вагнера, который с большим чувством играла Энн, искусно вос-
производя модуляции, придающие особую выразительность теме крово-
смесительной любви. Антония и Клио ла Сандре сидели с сияющими ли-
цами, обнявшись, и молча слушали медленно разрешающиеся аккорды,
которые брала эта отличная пианистка.
Я был очарован настолько, что мне даже совсем расхотелось спать, и
тоже слушал, стоя возле фортепьяно.
Наши ветреные красотки избрали на сегодняшний вечер бархат.
Трогательная Антония, с глазками, как фиалки, была в черном без
всякого кружева; бархат у выреза ее платья был лишен какой-либо от-
делки, поэтому плечи и шея, словно изваянные из каррарского мрамора,
резко оттенялись черной тканью.
На мизинце у нее было золотое колечко, а в каштановых волосах, ни-
спадавших почти до колен двумя завитыми на концах косами, сверкали
три сапфировых василька.
Что касается ее духовного облика, то о нем говорит следующий эпизод:
на заданный ей как-то одним высокопоставленным лицом вопрос, «поря-
дочная» ли она, Антония ответила:
* Покровов (лат.).
60 Жестокие рассказы
— Да, ваша светлость, поскольку теперь во Франции слово «порядоч-
ность» означает лишь то же, что «благовоспитанность».
Клио ла Сандре, изящная блондинка с черными глазами,— богиня Бес-
стыдства (эту молодую разочарованную особу князь Салт *** 12 окрестил
на русский манер, вылив ей на грлову пенистый редерер 13) —была в платье
из зеленого бархата, отлично облегавшем ее фигуру; шею ее окружало ру-
биновое ожерелье.
Об этой двадцатилетней креолке говорили как о средоточии всех до-
стойных порицания качеств. Она могла бы свести с ума самых суровых
греческих философов и самых глубоких немецких метафизиков. Бесчис-
ленные денди влюблялись в нее настолько, что готовы были драться на
дуэли, подписывать векселя, даже преподносить фиалки.
Ола недавно вернулись из Баден-Бадена, где оставила на зеленом
сукне пять тысяч луидоров, смеясь при этом, как ребенок.
Что касается ее духовного облика, то о нем говорит следующий эпизод:
одна старуха-немка, особа, впрочем, весьма алчная, сказала ей в казино,
потрясенная таким ее мотовством:
— Будьте осторожны, мадемуазель; иногда бывает нужно поесть хлеба,
а вы, кажется, забыли об этом.
— Спасибо за совет, сударыня,— ответила, зардевшись, прекрасная
Клио.— Чтобы не остаться у вас в долгу, позвольте сообщить вам, что для
некоторых хлеб всегда был чистым предрассудком.
Энн, или, точнее, Сьюзен Джексон, шотландская Цирцея 14, с волосами
чернее ночи, метавшая острые, как копья, взгляды и отпускавшая ехидные
замечания, сияла бесстрастной красотой, облаченная в пунцовый бархат.
О, пусть тебе никогда не доведется встретиться с ней, юный иностра-
нец! Знай, она подобна зыбучим пескам, которые с головой засасывают
человека. Она убьет в тебе все, кроме желания. Долгая, мучительная лихо-
радка, расслабляющая и доводящая до безумия, будет твоим уделом. Не-
мало смертей значится на ее счету. Ее своеобразная красота, цену которой
она хорошо знает, настолько распаляет простых смертных, что они доходят
до полнейшего неистовства.
Тело ее словно лилия — лилия темная, но все же девственно чистая.—
Оно оправдывает ее имя, которое по-древнееврейски означает, кажется,
именно этот цветок.
Сколь утонченным бы ты себя ни считал, молодой иностранец (будучи,
возможно, еще в очень нежном возрасте), если твоя несчастливая звезда
скрестит твой путь с путем Энн Джексон, то нам достаточно будет вообра-
зить себе совсем молодого человека, скромно питавшегося целых двадцать
лет подряд яичками всмятку и молочком, а затем, без всякой подготовки
переведенного на чудовищный рацион из сверхострых пряностей и при-
прав, которые своим жгучим и изысканным вкусом вызывают судорожные
сжатия в горле, лишают сил и сводят с ума,— и мы получим полное пред-
ставление о том, каков ты будешь уже через две недели.
Эта искусная обольстительница порой забавлялась тем, что вызывала
слезы отчаяния у старых пресыщенных лордов, ибо ее может соблазнить
Посетитель финальных торжеств 61
только обещание наслаждения. По слухам, она намерена предаться уеди-
ненной жизни на берегах Клайда 15, в сельском домике стоимостью в мил-
лион, вместе с каким-нибудь красивым мальчиком, которого она сможет
там в свое удовольствие медленно убивать без всяких помех.
Что касается ее духовного облика, то о нем говорит следующий эпи-
зод. Однажды скульптор К.-Б ***, решив подшутить по поводу зловещего
черного пятнышка возле ее правого глаза, сказал ей:
— Неведомый ваятель, создавший вас, не заметил, обтесывая мрамор,
вот этой маленькой шероховатости.
— Не браните эту шероховатость,— возразила Сьюзан,— именно об нее
все и спотыкаются.
То был ответ, достойный пантеры.
У каждой из этих трех ночных красавиц на поясе была бархатная по-
лумаска под цвет платья с двойными шелковыми завязками.
Что до меня самого (если есть надобность говорить об этом участнике
нашей компании), то я тоже носил маску, только невидимую для глаз,
вот и все.
Как порой в театре, сидя в середине ряда, терпишь, из нежелания по-
тревожить соседей,— то есть исключительно из деликатности,— нудную,
написанную тяжелым языком пьесу, так и я продолжал жить из одной
лишь учтивости.
Это, однако, не помешало мне с веселым видом воткнуть в петлицу
фрака цветок — как истинному рыцарю Ордена Весны.
Между тем Энн кончила играть. Я взял со стола и протянул ей букет,
— Вы настоящая diva*\ — сказал я при этом, иронически глядя на
нее.— Приколите себе на грудь цветок из этого букета, и пусть он знаме-
нует ту любовь, что питают к вам ваши тайные поклонники.
Она выбрала ветку гортензии и, приветливо улыбнувшись мне, прикре-
пила ее к корсажу.
— Я не читаю анонимных писем,— ответила она, кладя весь остальной
салям 16 на фортепьяно.
Затем дерзкая и блистательная Энн Джексон положила обе руки на
плечо одного из нас, как бы желая встать, чтобы вернуться на свое место.
— О, холодная Сьюзан! — со смехом воскликнул К ***.— Вы явились
в этот мир с единственной целью: напомнить ему, что и снег обжигает.
Это был, надо сказать, один из тех изощренных комплиментов, которые
обычно приходят в голову к концу ужина, и если вообще имеют какой-
нибудь реальный смысл, то уж чересчур тонкий, а ведь где тонко, там и
рвется. В таких случаях всегда кажется, что человек сказал просто глу-
пость, и различие здесь подчас совершенно неощутимо. Услыхав элегиче-
ское замечание К ***, я понял, что фитили наших мозгов начинают коп-
тить и что пора что-то предпринять. Иногда одной искры бывает доста-
точно, чтобы пламя разгорелось снова, и я решил во что бы то ни стало
высечь эту искру из нашего молчаливого гостя.
* Богиня (итал.).
62 Жестокие рассказы
В это время вошел Жозеф, неся (оригинальности ради!) замороженный
пунш, так как мы решили напиться, как лорды.
Я уже несколько минут внимательно следил за бароном Сатурном. Мне
показалось, что он нервничает и куда-то торопится. Он извлек из карма-
на часы, посмотрел на них, затем вручил Антонии бриллиант и поднялся
с места.
— Это что же значит, господин из дальних краев? — воскликнул я,
сидя верхом на стуле и попыхивая сигарой.— Уж не собираетесь ли вы по-
кинуть нас до срока? Вы прослывете человеком таинственным, а это дур-
ной тон, как вам должно быть известно.
— Глубоко сожалею,— ответил он мне,— но речь идет об исполнении
долга, не терпящем никакого отлагательства и исключающем для меня
всякую возможность задержаться долее. Примите мою величайшую благо-
дарность за приятные минуты, которые я провел в вашем обществе.
— Значит, в самом деле дуэль? — спросила, несколько встревожившись,
Антония.
— Бросьте,— воскликнул я, тоже склоняясь к мысли, что причиной
этой поспешности является какая-то пустячная ссора на маскараде.—
Я уверен, что вы преувеличиваете важность этого дела. Ваш противник
уже давно залез под стол от страха. Прежде чем разыграть сцену по кар-
тине Жерома 17, в которой вам будет принадлежать роль победителя —
Арлекина, отправьте вместо себя лакея туда, где назначена встреча: пусть
он узнает, ждут ли вас там. Если и в самом деле ждут, ваши лошади живо
наверстают упущенное время.
— Конечно! — поддержал меня спокойным топом К ***.— Поухажи-
вайте лучше за прекрасной Энн: она умирает от любви к вам. Вы избегнете
насморка и сбережете свое здоровье, зато растранжирите два-три миллио-
на, и это вас утешит. Прислушайтесь к совету, подумайте как следует и
решайтесь.
— Господа, признаюсь вам, что я глух и слеп всегда, когда на то бы-
вает божья воля\ — сказал барон Сатурн.
Он произнес эту возмутительную бессмыслицу так многозначительно,
что нам стали приходить на ум всякие предположения, одно нелепее дру-
гого. Я даже совсем забыл, что собирался высечь из барона искру. Мы
переглядывались, натянуто улыбаясь, не зная, что и думать о такой шут-
ке... и вдруг у меня вырвался громкий возглас: я вспомнил, где в первый
раз видел этого человека.
И мне сразу почудилось, что хрусталь, лица, шторы, все наше ночное
пиршество озарились, как при световом эффекте в театре, зловещим крас-
ным сиянием, исходящим от нашего гостя.
Я провел рукой по лбу и, с минуту помолчав, подошел к иностранцу.
— Сударь,— прошептал я ему на ухо,— простите меня, если я оши-
баюсь... но, мне кажется, однажды, лет пять-шесть тому назад, я имел
удовольствие видеть вас в большом южном городе — как будто, в Лионе? —
около четырех часов утра, на городской площади.
Сатурн медленно поднял голову и пристально посмотрел на меня.
Посетитель финальных торжеств 63
— Что ж! — сказал он,— возможно.
— Да, постойте! — продолжал я, устремив на него такой же присталь-
ный взгляд.— Там, на площади, находился страшный предмет — очень
страшный,— посмотреть на который меня повели двое моих приятелей-
студентов, после чего я закаялся когда-либо взглянуть на него вторично.
— Вот как? — сказал господин Сатурн.— А что это был за предмет,
разрешите спросить?
— Право же, что-то вроде эшафота; гильотина, сударь, если мне не
изменяет память,— да, это была гильотина! Теперь я в этом совершенно
уверен!
Весь короткий разговор между мною и господином Сатурном велся ше-
потом, едва слышным шепотом. К *** и три дамы тем временем беседовали
в полумраке чуть поодаль от нас, возле фортепьяно.
— Вот-вот! Теперь я вспомнил,— прибавил я громче.— Ну-с? Что вы об
этом думаете, сударь? Недурная у меня память, не так ли? Хотя вы очень
быстро проехали мимо меня, все же моя карета на какое-то мгновение за-
держала вашу, и я смог в свете факелов разглядеть вас. Благодаря обстоя-
тельствам, при которых я вас видел, ваше лицо навсегда запечатлелось в
моей памяти. У вас было тогда именно такое выражение лица, как сейчас.
— Да, да, вы правы! — ответил господин Сатурн.— Сходство должно
быть поразительное, не могу с вами не согласиться!
Его резкий смех напомнил мне лязг ножниц, состригающих волосы с за-
тылка приговоренного.
— В числе прочего одна подробность произвела на меня особое впечат-
ление,— продолжал я,— издали я видел, как вы вышли из кареты возле
того места, где был воздвигнут помост... и, если только я не введен в за-
блуждение случайным сходством...
— Нет, дорогой друг, вы не заблуждаетесь, это был действительно я,—
ответил он.
Тут я почувствовал, что разговор стал недружелюбным и что, следова-
тельно, я не сумел проявить той щепетильной вежливости, которую мог
требовать от нас палач столь странного свойства. Я уже хотел ответить
какой-нибудь банальной фразой, чтобы изменить направление наших мыс-
лей, в этот момент одинаковых у нас обоих, как вдруг прекрасная Анто-
ния отвернулась от фортепьяно и с беспечным видом произнесла:
— Кстати, господа, вам известно, что сегодня утром должна состояться
казнь?
— Ах, вот как! — вскричал я, потрясенный до глубины души ее слу-
чайно оброненными словами.
— Казнят несчастного доктора де ла П ***18,— печально продолжала
Антония,— он лечил меня когда-то. Я со своей стороны осуждаю его только
за то, что он оправдывался перед судьями. Я считала его более мужествен-
ным. Когда твоя судьба предрешена, по-моему, остается только смеяться
в лице судейским крючкам. Господин де ла П *** спасовал.
— Вы говорите, казнь должна состояться сегодня? Это точно? — спро-
сил я, стараясь изо всех сил говорить безразличным тоном.
64 Жестокие рассказы
— В шесть часов, в роковой час, господа,— ответила Антония.— Вчера
вечером ко мне явился сообщить об этом любимец Сен-Жерменского пред-
местья 19, красавчик-адвокат Оссиан,— он избрал такой своеобразный спо-
соб ухаживать за мной. А я и забыла совсем. Кажется, даже на помощь
парижскому палачу приглашен какой-то иностранец (!) ввиду важности
дела и общественного положения осужденного.
Не обращая внимания на нелепость, содержавшуюся в последних сло-
вах Антонии, я обернулся к господину Сатурну. Он стоял у двери, заку-
танный в широкий черный плащ, со шляпой в руке; вид у него был сухо-
официальный.
Пары пунша туманили мне голову! У меня рождались воинственные
замыслы. Я чувствовал, что, пригласив его, «дал маху», как принято теперь
говорить, и уже не мог спокойно видеть физиономию затесавшегося в на-
шу компанию субъекта; я с трудом сдерживал желание показать ему это.
— Барон,— обратился я к нему с улыбкой,— так как речь ваша полна
странных недомолвок, мы, пожалуй, вправе спросить вас, не уподобляете
ли вы себя самому Закону, говоря, что вы «глухи и слепы всегда, когда
на то бывает божья воля»?
Шагнув ко мне, он, со странным выражением на лице, нагнулся к мо-
ему уху и сказал:
— Да замолчите же вы, ведь здесь дамы.
Затем он отвесил общий поклон и вышел, а я, ощущая внутреннюю
дрожь, не мог шевельнуться, онемев и не зная, верить ли своим ушам.
Позвольте сказать здесь попутно несколько слов, читатель.— Когда
Стендаль хотел описать какую-нибудь любовную историю, несколько сен-
тиментального характера, он, как известно, имел обыкновение сначала
прочитывать с полдюжины страниц уголовного кодекса, чтобы «задать се-
бе тон». Что до меня, то когда мне пришла в голову мысль записать кое-
какие истории, я, по зрелом размышлении, счел более целесообразным по-
просту ходить вечерами в кафе в пассаже Шуазёль, куда почти ежедневно
инкогнито являлся перекинуться в биллиард покойный г-н Н***, тогдаш-
ний исполнитель смертных приговоров по городу Парижу. Он был, каза-
лось мне, человеком ничуть не менее благовоспитанным, чем всякий дру-
гой; говорил он очень тихо, но вполне внятно и всегда с добродушной
улыбкой. Я усаживался за соседний столик, и он занимал меня разговора-
ми, пока его не увлекал демон игры и он не вскрикивал «Режу!» —безо
всякой дурной мысли при этом. Именно там, помнится мне, я написал са-
мые поэтичные из моих произведений — если воспользоваться этим мещан-
ским выражением. Итак, я уже был как бы застрахован от того чувства
ужаса, которое неизменно испытывают обыватели при виде человека, при-
званного спроваживать своих ближних на тот свет.
Меня самого удивляло поэтому, что я так потрясен, опознав в нашем
случайном госте одного из этих субъектов.
К ***, присоединившийся к нам с бароном в самом конце нашего раз-
говора, слегка ударил меня по плечу.
— Ты что, совсем потерял голову? — спросил он меня.
Посетитель финальных торжеств 65
— Вероятно, он получил большое наследство и пока еще продолжает
исполнять свои обязанности в ожидании преемника,— пробормотал я,
приведенный в крайне нервное состояние парами пунша.
— Да ну! — сказал К ***,— неужели ты думаешь, что он в самом деле
имеет какое-то отношение к церемонии, которая должна состояться сего-
дня утром?
— Ты уловил суть нашей небольшой беседы, мой друг? — спросил я
шепотом,— беседы короткой, но поучительной! Этот господин — просто
палач. По-видимому, бельгийский. Он и есть тот самый чужестранный
гость, о котором только что говорила Антония. Если бы не его самообла-
дание, могла бы произойти большая неприятность: он перепугал бы наших
дам.
— Полно тебе! — воскликнул К ***.— Палач, раскатывающий в экипа-
же стоимостью в тридцать тысяч франков! Преподносящий бриллианты
соседке по столу! Ужинающий в «Мезон-Доре» накануне д*ш, когда ему
предстоит обслужить своего клиента! С тех пор как ты посещал кафе в
пассаже Шуазёль, тебе всюду мерещатся палачи. Выпей-ка лучше пунша.
Знаешь, твой господин Сатурн просто охотник до скверных шуток, вот и
все!
Тут я подумал, что, пожалуй, логика — да, самая строгая логика, хо-
лодный рассудок — на стороне нашего милого поэта. Сильно раздосадован-
ный, я схватил шляпу и перчатки и устремился к выходу, процедив сквозь
зубы:
— Хорошо же...
— Правильно,— сказал К ***.
— Это тяжеловесная, недобрая шутка длилась слишком долго,— приба-
вил я, отворяя дверь.— Если я настигну этого зловещего мистификатора,
клянусь, я...
— Минуточку: давай разыграем, кому идти первым,— сказал К ***.
Я собирался что-то возразить ему и исчезнуть, как вдруг рядом со мной
из-за приподнятой портьеры раздался хорошо мне знакомый звонкий го-
лос:
— Не нужно! Оставайтесь, дорогой мой.
Действительно, это был не кто иной, как наш прославленный друг, ма-
ленький доктор Флориан Лез Эглизот, который пришел за минуту до того
и застал конец разговора. Он-то и стоял передо мной, живой и экспансив-
ный; его польская шуба была еще вся в снегу.
— Немного погодя я буду весь в вашем распоряжении, дорогой док-
тор,— сказал я ему,— но сейчас...
Ои остановил меня.
— Бьюсь об заклад, что после того, как я расскажу вам историю чело-
века, выходившего из этой гостиной, когда я шел сюда, вы и не подумаете
требовать, чтобы он держал перед вами ответ за свои выходки. Кроме того,
слишком поздно. Карета унесла его уже далеко отсюда.
Тон, которым доктор произнес эти слова, был настолько странным, что
я сразу отказался от своего намерения уйти.
3 О. Вилье. «Жестокие рассказы»
66 Жестокие рассказы
— Итак, что же это за история, доктор? — сказал я, снова усевшись в
конце концов.— Н© имейте в виду, Лез Эглизот, ответственность за мое
бездействие падет на вас, и вам от нее не отделаться.
Князь Науки поставил в угол свою трость с золотым набалдашником,
галантно прикоснулся губами к пальчикам наших трех изумленных кра-
савиц, налил себе мадеры и, при всеобщем гробовом молчании, начал так:
— Мне понятно все стечение обстоятельств этой ночи. Я чувствую себя
настолько осведомленным в происшедшем, как если бы я был тут, среди
вас... Хотя сейчас нет особых причин волно-ваться из-за того, что с вами
приключилось, все же они могли легко возникнуть.
— Вот как! — произнес К***.
— Этот господин действительно барон фон Г *** и принадлежит он к
одному из самых аристократических семейств Германии. Богатство его
исчисляется миллионами, но...
Тут доктор обвел нас взглядом.
— Но он представляет собой, как это признано медицинскими факуль-
тетами в Мюнхене и Берлине, удивительный случай умственного расстрой-
ства, выражающегося в самой странной и наименее излечимой из всех
наблюдавшихся по сие время маний! — Последнюю фразу доктор произ-
нес таким тоном, как если бы читал одну из своих лекций по сравнитель-
ной физиологии.
— Как, он сумасшедший? Объясните же, Флориан что все это озна-
чает?— проговорил К***, направляясь к двери, чтобы запереть ее на
задвижку.
Дамы и те перестали улыбаться, услышав ошеломляющее сообщение
доктора, мне же стало настойчиво казаться, что я сплю и вижу дурной сон.
— Сумасшедший! — воскликнула Антония; — но таких людей как буд-
то держат взаперти?
— Я ведь уже сказал вам, не правда ли, что наш барон — архимиллио-
нер,— весьма серьезно возразил доктор.— И потому — с вашего разреше-
ния — именно он указывает, кого надо держать взаперти.
— А что у него за мания? — спросила Энн.— Предупреждаю, лично я
нахожу его очень приятным.
— Возможно, вы сейчас измените свое мнение, сударыня! — продолжал
доктор, закуривая папиросу.
За окнами вставал белесый рассвет, пламя свечей желтело, огонь в ка-
мине угасал; то, что мы услышали, вызвало у нас ощущение кошмара.
Доктор отнюдь не был любителем мистификаций; все рассказанное им, не-
сомненно, представляло собой такой же позитивный факт, как гильотина,
воздвигнутая на площади этой ночью.
— По слухам,— продолжал он, потягивая мадеру,— едва достигнув со-
вершеннолетия, этот молчаливый молодой человек отправился в Ост-Ин-
дию. Он много путешествовал по азиатским странам. Здесь-то и начинает-
ся глубокая тайна, скрывающая происхождение его недуга. Во время
какого-то восстания на Дальнем Востоке он наблюдал пытки, которым по
законам, действующим в тех краях, подвергают повстанцев и всякого рода
Посетитель финальных торжеств 67
преступников. Конечно, он наблюдал их сначала просто как любопытст-
вующий путешественник. Но, надо полагать, зрелище этих пыток пробуди-
ло в нем врожденную жестокость, превосходящую все, что понимается
обычно под этим словом, затуманило его рассудок, и в конце концов он
стал тем необыкновенным существом, каким является ныне. Вообразите —
барон фон Г *** благодаря своему золоту стал вхож в старинные застенки
главных городов Персии, Индокитая и Тибета и многократно получал от
правителей разрешение заменять местных палачей в исполнении их ужас-
ных обязанностей. Вам известна история о сорока фунтах вырванных
глаз, которые были преподнесены на двух золотых блюдах шаху Наср-
Эдинну 20 в день его торжественного вступления в усмиренный город? Ба-
рон, одетый по-туземному, принимал самое горячее участие в этих звер-
ствах. Казнь двух главарей мятежа была изощренно чудовищной. Соглас-
но приговору, у них должны были сначала вырвать клещами все зубы,
которые затем надлежало вбить им в обритую для этой цели голову, да
так, чтобы вывести персидскими письменами инициалы преемника Фетх-
Али-шаха 21.—И в этом случае наш палач-любитель при помощи целого
мешка рупий получил право собственноручно казнить осужденных, что и
совершил с обычной для него чопорной угловатостью.— (Хочется спро-
сить: кто более безумен — тот ли, по чьему велению производятся такие
пытки, или тот, кто осуществляет их на деле? Вы возмущены? Полно!
Если бы первый из этих двоих удостоил Париж своим посещением, мы
были бы настолько нольщены, что запалили бы в его честь фейерверки и
склонили на всем пути его следования воинские знамена — и все это якобы
во имя «бессмертных принципов» 1789 года. Ну да, впрочем, не стоит
задерживаться на этом.) Если верить сообщениям капитанов Гоббса и
Эджинсона, утонченный садизм, подсказываемый ему в подобных случаях
его прогрессирующей манией, дошел до геркулесовых столпов нелепости
и затмил не только изуверства Тиберия и Гелиогабала, но и вообще все
примеры свирепой жестокости, какие только отмечены в летописях чело-
вечества. Ибо,— прибавил доктор,— никто не может сравниться с сумас-
шедшим в совершенстве, если речь идет о пункте его помешательства.
Доктор Лез Эглизот умолк и обвел нас всех насмешливым взглядом.
Мы были так захвачены рассказанной им историей, что забыли о си-
гарах, и они погасли.
— Вернувшись в Европу,— продолжал доктор,— барон фон Г ***, пре-
сыщенный настолько, что уже можно было рассчитывать на его выздоров-
ление, вскоре, однако, опять взвинтился до крайности. Им овладела одна
всепоглощающая мечта — более извращенная, более мрачная, чем самые
омерзительные измышления маркиза де Сада 22: он вознамерился ни более
ни менее как выправить себе патент ГЕНЕРАЛЬНОГО палача всех европей-
ских столиц. Он утверждал, что добрые традиции и подлинное мастерство
в этой художественной отрасли цивилизации приходят в упадок, что, как
говорится, время не терпит и что он, исходя из своих заслуг перед восточ-
ными правителями (так гласили рассылаемые им повсюду прошения), на-
деется (если правители удостоят его Своим доверием) извлекать из госу-
68 Жестокие рассказы
дарственных преступников такие душераздирающие вопли, каких еще ни-
когда не слыхали под тюремными сводами уши судейских чиновников.—
(Да, вот что любопытно! Когда при нем говорят о Людовике XVI, в его
глазах загорается страшная ненависть к покойному королю. В самом деле,
Людовик XVI счел за благо отменить пытку при допросах, и он, по-види-
мому,— единственный человек на свете которого господин фон Г*** иск-
ренне ненавидит.)
Как вы сами понимаете, все его ходатайства оставлялись без внимания,
и лишь благодаря хлопотам наследников его не упрятали в сумасшедший
дом, как он того заслуживает. Условия завещания, оставленного его от-
цом, покойным бароном фон Г***, заставляют семью безумца всячески
избегать его гражданской смерти из-за огромного денежного убытка, кото-
рый эта смерть повлечет за собой для его родственников. Поэтому-то он
и разъезжает на свободе. С заплечных дел мастерами он на самой корот-
кой ноге. В городах, которые ему доводится посетить, он прежде всего
заявляется к ним. Нередко он предлагал им крупные суммы, чтобы они
разрешили ему заменить их по службе,— и, между нами говоря, я полагаю
(прибавил доктор, подмигнув нам), что в Европе ему удал®еь-таки подку-
пить некоторых из них.
Если не считать этих выходок, его мания, можно сказать, безобидна,
поскольку она распространяемся только на лиц, обреченных на смерть
Законом.— Вне проявлений своего умственного расстройства он слывет че-
ловеком мирного и даже располагающего к себе нрава. Возможно, порой
от его двусмысленной любезности у тех людей, для которых не секрет его
жуткий заскок, и пробегают, как мне передавали, мурашки по спине,— но
этим дело и ограничивается.
Тем не менее он часто с сожалением вспоминает Восток и постоянно в
мыслях возвращается туда. Оттого, что он не получил диплома главного
палача земного шара, им овладела черная меланхолия. Представьте себе,
о чем могли бы мечтать Торквемада 23 или Арбуес24, герцог Альба 25 или
герцог Йоркский 26. Его мания усиливается с каждым днем. Поэтому вся-
кий раз, когда где-нибудь должна состояться казнь,— а он узнает о таких
случаях от своих тайных эмиссаров даже раньше, чем сами рыцари то-
пора! — он спешит, летит, преодолевает расстояния, и ему всегда обеспе-
чено место у подножия эшафота. Там-то он находится и сейчас. Он лишил-
ся бы сна, если бы на его долю не достался последний взгляд осужденного.
Вот, Боспода, каков тот джентльмен, с которым вы имели удовольствие
провести эту ночь. Добавлю, что, когда он не захвачен своим безумием и
общается с приличными людьми, он предстает перед всеми как человек с
безупречно светскими манерами, интереснейший собеседник, очень остро-
умный, очень..:
— Довольно, доктор, пощадите!— воскликнули в один голос Антония
и Клио ла Сандра, на которых ехидно-язвительное подшучивание доктора
произвело необычайное впечатление.
— Да это какой-то чичисбей Гильотины,— прошептала Энн,— дилетант
от Пытки!
Посетитель, финальных торжеств 69
— Право, если бы я вас так хорошо не знал, доктор...— пробормотал
К ***
— Вы бы мне не поверили? — прервал его Лез Эглизот.— Я и сам дол-
гое время отказывался верить; но, если хотите, отправимся сейчас туда.
У меня есть при себе пропуск, и мы доберемся до него, проникнув сквозь
конный кордон. Я попрошу вас только об одном: посмотреть внимательно
на его лицо в момент совершения казни. После этого вы уже перестанете
сомневаться.
— Покорно благодарю за приглашение! — воскликнул К***.— Я пред-
почитаю поверить вам на слово несмотря на поистине чудовищную неле-
пость вашего рассказа.
— Да, занятный субъект, этот ваш барон!— продолжал доктор, притра-
гиваясь к пирамидке из раков, которая каким-то чудом оставалась нетро-
нутей.
Но увидев, что мы совсем помрачнели, он сказал:
— Не следует ни удивляться случаю, о котором я вам сейчас поведал,
ни слишком близко принимать его к сердцу. Омерзителен во всем этом
лишь особый характер его мании. Что касается прочего, то сумасшедший
есть сумасшедший, и больше ничего. Почитайте-ка сочинения психиат-
ров: вы найдете в них немало таких же странных и удивительных случаев.
И уверяю вас, мы сталкиваемся с людьми, подверженными таким забо-
леваниям, на каждом шагу, средь бела дня, ничуть о том не подозревая.
— Друзья мои,—сказал в заключение К***, после того как прошла
минута всеобщего молчания, вызванного испугом,— признаюсь вам, я не
испытал бы непреодолимого отвращения, если бы мне протянула бокал,
чтобы чокнуться со мной, «рука светского правосудия», как говорили в ту
пору, когда руки палачей могли быть освящены Церковью. Я бы не стал
сам искать подобного случая, но если бы так произошло, то — скажу вам
без излишней декламации (Лез Эглизот особенно может меня понять) —
ни вид, ни даже общество тех, чья обязанность умерщвлять приговоренных
к казни, меня бы ничуть не взволновали. Я никогда не понимал мелодра-
матических эффектов этого рода.
Но увидеть человека, впавшего в безумие оттого, что он не может на
законном основании отправлять эту должность,— да, вот это не может не
взволновать и меня. И я не побоюсь сказать: если среди людей на земле
есть души, вырвавшиеся из Преисподней, то наш вчерашний гость — одна
из самых ужасных, каких только можно встретить. Сколько ни повторяй,
что он сумасшедший, это еще не объяснит существа его натуры. Настоя-
щий палач был бы мне безразличен. Наш страшный маньяк вызывает у
меня непередаваемую дрожь.
Слова К*** были встречены таким торжественным молчанием, как
если бы сама Смерть внезапно просунула свой голый череп между канде-
лябрами.
— Мне что-то не по себе,— сказала Клио ла Сандре голосом, прерываю-
щимся от нервного возбуждения и прохлады наступившего утра.— Прошу
вас, не оставляйте меня одну. Поедемте в мою виллу. Постараемся забыть
'fO Жестокие рассказы
это приключение, друзья: поедемте, там есть ванные, лошади и отдельные
комнаты для отдыха. (Она едва ли знала, что говорит.) Это в Булонском
лесу, мы будем там через двадцать минут. Поймите меня, пожалуйста.
Мысль об этом субъекте не дает мне покоя, и, если я останусь одна, я все
время буду с тревогой ждать, что вот он вдруг войдет, неся в руке лампу,
освещающую его неживую, жуткую улыбку.
— Вот уж поистине ночь, полная загадок,— сказала Энн Джексон.
Лез Эглизот, покончив с пирамидкой из раков, с удовлетворенным ви-
дом вытирал губы.
Мы позвонили, вошел Жозеф. Пока мы расплачивались с ним, шотланд-
ка, припудривая щеки пуховкой, едва слышно прошептала Антонии:
— Не хочешь ли ты что-нибудь сказать Жозефу, маленькая Изольда?
— Да, конечно,— ответила прекрасная Антония, которая была сейчас
очень бледна,— ты угадала, плутовка!
И затем, обернувшись к метрдотелю, произнесла:
— Жозеф, возьмите это кольцо, рубин на нем несколько темноват для
меня.— Не правда ли, Энн, бриллианты тут — словно слезы вокруг капли
крови?— Велите кольцо продать, а вырученные деньги раздайте нищим,
которые проходят мимо вашего заведения.
Жозеф взял кольцо, отвесил один из тех механических поклонов, сек-
ретом которых обладал он один, и вышел сказать, чтобы нам подали ка-
реты; дамы тем временем приводили себя в порядок, закутывались в свои
черные атласные домино и надевали полумаски.
Часы начали бить шесть.
— Погодите,— сказал я, указывая на стрелки; — вот час, когда мы все
становимся сообщниками безумной мании этого человека. Будем же к ней
более снисходительны. Не являемся ли в сущности и мы в настоящую ми-
нуту почти такими же мрачными варварами, как и он?
При этих словах воцарилось полное молчание, все застыли на месте.
Энн бросила на меня взгляд из-под маски; мне показалось, что сверк-
нула сталь. Она отвернулась и быстро распахнула окно.
Издали доносился бой всех башенных часов Парижа.
При шестом ударе мы, как один, вздрогнули, а я задумчиво поглядел
на медного беса с искаженным гримасой лицом, который поддерживал
отведенную вбок и ниспадавшую кровавым потоком красную штору.
Нетрудно ошибиться 71
XI. Нетрудно ошибиться
Посвящается Анри де Борнье '.
Вперив пуда-то вдаль зрачки слепых очей 2.
(Ш. Бодлер)
Однажды, в пасмурное ноябрьское утро, я быстрым шагом шел вдоль
набережной. Моросил холодный дождь, заливая тротуары. Темные тени
прохожих, прячась под безобразными зонтами, пробегали мимо, натыкаясь
друг на друга.
По желтой воде Сены плыли торговые баржи, похожие на огромных
майских жуков. Резкий ветер на мосту срывал шляпы с пешеходов, и те,
стараясь их удержать, принимали уродливые, неестественные позы, столь
несносные для глаз художника.
На душе у меня было смутно и беспокойно; мысль о деловом свидании,
назначенном накануне, тревожила и терзала меня. Надо было спешить, и
я решил укрыться под навесом какого-нибудь подъезда, чтобы оттуда
окликнуть проезжий экипаж.
В ту же минуту я заметил совсем рядом парадные двери большого до-
ма, по-видимому, частного владения.
В тумане возвышалось передо мной, точно призрак, высокое каменное
здание, и несмотря на строгую архитектуру фасада, на заволакивавшую
его мрачную, фантастическую дымку оно показалось мне приветливым и
гостеприимным, и это сразу меня успокоило.
«Должно быть,— подумал я,— здешние хозяева большие домоседы;
они как бы приглашают вас зайти: недаром дверь гостеприимно отво-
рена».
Итак, я вошел, осторожно, как нельзя более учтиво, со шляпой в руке,
любезно улыбаясь и даже сочиняя заранее галантный комплимент для
хозяйки дома,— и вдруг очутился на пороге большого зала под застек-
ленной крышей, сквозь которую пробивались мертвенно-бледные лучи
света.
На колоннах висели пальто, шарфы, шляпы.
По всему залу были расставлены мраморные столы.
За столами сидели какие-то люди солидного вида, вытянув ноги, от-
кинув голову, с неподвижным взглядом, и, казалось, о чем-то размыш-
ляли.
Глаза у них были пустые, лица землистые.
Возле каждого лежали раскрытые портфели и папки с бумагами.
И я повял тогда, что хозяйка этого дома, где я ожидал встретить ра-
душный прием,— Смерть.
Я внимательно рассмотрел собравшихся.
Несомненно, большинство из них, чтобы избавиться от докучной жиз-
ненной суеты, покончили со своей плотью, надеясь хоть немного улуч-
шить свое состояние.
Слушая, как шумит вода в медных кранах, вделанных в стены для
ежедневного омовения этих бренных останков, я вдруг уловил стук колес.
72 Жестокие рассказы
Прямо к дому подкатила карета. Вспомнив, что меня ждут на деловом со-
вещании, я решил воспользоваться удачным случаем и вышел на улицу.
У самого подъезда из экипажа вылезла ватага подвыпивших школьни-
ков, которым хотелось воочию увидеть Смерть, чтобы поверить в ее су-
ществование.
Я подозвал пустую карету и сказал кучеру:
— К пассажу Оперы.
Когда мы проезжали бульварами, небо стало еще пасмурнее, тучи за-
волокли горизонт. Тощие деревца, похожие на скелеты, протягивали чер-
ные сучья, как будто пальцем указывая сонным полицейским на подозри-
тельных прохожих.
Карета ехала быстро.
За оконным стеклом мелькали смутные тени, сливающиеся с потоками
дождя.
Прибыв на место, я соскочил на тротуар и вошел внутрь крытого пас-
сажа, запруженного суетливой толпой.
В самом конце, как раз против меня, я увидел вход в кафе (впослед-
ствии оно сгорело во время знаменитого пожара, ибо все в жизни исче-
зает, как сон); кафе помещалось в глубине большого мрачного сарая под
широким навесом. Струи дождя, падая на стекла свода, еще более затем-
няли тусклый дневной свет.
«Вот где состоится наша деловая встреча,— подумал я.— Они ждут ме-
ня с бокалами в руках, со сверкающим взглядом, презирая превратности
Судьбы».
Я повернул ручку двери и вдруг очутился в большом зале под застек-
ленной крышей, сквозь которую пробивались мертвенно-бледные лучи
света.
На колоннах висели пальто, шарфы, шляпы.
По всему залу были расетавлены мраморные столы.
За столами сидели какие-то люди солидного вида, вытянув ноги, от-
кинув голову, с неподвижным взглядом, и, казалось, о чем-то размыш-
ляли.
Лица у них были землистые, глаза пустые.
Возле каждого лежали раскрытые портфели и папки с бумагами.
Я внимательно рассмотрел этих людей.
Несомненно, большинство из них, чтобы избавиться от нестерпимых
мучений совести, давно уже покончили со своей «душой», надеясь хоть
немного улучшить свое состояние.
Слушая, как шумит вода в медных кранах, вделанных в стены для
ежедневного омовения этих бренных останков, я вдруг вспомнил стук ко-
лес наемной кареты.
«Должно быть,—подумал я,—тот кучер совсем одурел, если, проехав
столько улиц и перекрестков, ухитрился привезти меня на прежнее
место.— А все-таки (даже если произошла ошибка) должен приз-
паться, что этот зал производит ЕЩЕ БОЛЕЕ ЖУТКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕМ
ПЕРВЫЙ!..»
Нетерпение толпы 7$
Тут я тихонько притворил за собой стеклянную дверь и возвратился
домой, твердо решив, вопреки всем правилам,— что бы мне ни грозило,—
никогда больше не вести никаких финансовых операций.
XII. Нетерпение толпы
Посвящается Виктору Гюго.
Путник, пойди возвести нашим гражданам
в Лапе демоне,
Что, их заветы блюдя, здесь мы костьми
полегли.
(Симонид ')
Главные ворота Спарты с тяжелыми створами, примкнутыми к город-
ской стене, точно бронзовый щит к груди воина, были раскрыты на гору
Тайгет. Пыльные склоны багровели в холодных осенних лучах заката, и
людям, стоявшим на крепостной стене города Геракла, казалось, будто
на пустынном кряже в этот зловещий вечер свершается кровавое жертво-
приношение.
Над городскими воротами возвышались массивные стены, и на пло-
щадке крепостного вала толпился народ. Железные доспехи, пеплосы \
острия копий, колесницы ярко сверкали в кровавом зареве заходящего све-
тила. Но глаза граждан Спарты были мрачны: пристально, неотступно
толпа смотрела на вершину горы в ожидании грозных вестей.
Два дня назад отряд Трехсот во главе с царем выступил в поход. Они
шли в бой, увенчанные цветами во славу Отчизны. Те, кому суждено было
вечером пировать в царстве мертвых, в последний раз умастили себе во-
лосы в храме Ликурга 3. Потом, подняв щиты, бряцая мечами, под привет-
ственные клики женщин, распевая стихи Тиртея \ юноши исчезли в утрен-
нем тумане. Высокие травы в теснине Фермопил5 теперь, наверно, льнули,
шелестя, к их голым ногам, словно родная земля, которую они шли защи-
щать, нежно ласкала своих сынов, прежде чем принять их в свое священ-
ное лоно.
Утром ветер донес шум битвы и торжествующие крики, так что все
поверили рассказам перепуганных пастухов. Персы были дважды оттес-
нены, разгромлены и отступили, бросив без погребения десять тысяч уби-
тых. Локрида 6 стала свидетельницей победоносной битвы. Фессалия под-
нялась на борьбу. Даже Фивы вдохновились этим славным примером.
Афины прислали отряд воинов и начали вооружаться под предводитель-
ством Мильтиада 7. Фаланга лаконян получила подкрепление в семь ты-
сяч солдат.
Но вот, пока в храме Дианы раздавались молитвы и победные гимны,
пятеро эфоров 8 получилп новые донесения и обменялись странным взгля
74 Жестокие рассказы
дом. Старейшины тут же отдали приказ готовиться к обороне города.
Спешно начали копать рвы, ибо Спарта обычно пренебрегала укрепления-
ми, гордо полагаясь на доблесть своих граждан.
Зловещая тень омрачила всеобщую радость. Никто уже не верил рос-
сказням пастухов; победные вести были сразу забыты, как глупые басни.
Жрецы содрогались в тревоге. Авгуры9, воздевая руки, освещенные пла-
менем треножников, взывали к богам преисподней. Страшная весть пере-
давалась шепотом, кратко, из уст в уста. Эфоры повелели увести из храма
юных дев, чтобы не произносить при них имени предателя. И девушки со-
шли по ступеням портика, не замечая, что ступают по телам лежащих
там илотов, опьяненных темным вином, и задевают их каймой своих длин-
ных одежд.
Тогда народу возвестили страшную новость.
Изменник открыл врагам обходный путь в Фокиду 10. Мессенский па-
стух предал Элладу, Ефиальт отдал в руки Ксеркса и мать-родину. И пер-
сидская конница уже вторглась в благословенную страну, сатрапы в свер-
кающих золотом доспехах уже топтали землю, вскормившую героев!
Прощайте храмы, жилища предков, священные равнины! Враги прибли-
жаются, о Лакедемон!12 — бледные, изнеженные чужеземцы закуют в цепи
твоих сынов, они возьмут себе в рабыни твоих дочерей!
Когда граждане Спарты поднялись на крепостную стену и взглянули
на горные склоны Тайгета, их тревога еще более возросла.
Ветер завывал в скалистых ущельях, ели сгибались и скрипели, их го-
лые ветви сплетались, словно спутанные волосы человека, в ужасе отки-
нувшего голову. По небу проносилась тень Горгоны 13, в дымке облаков
как бы вырисовывался ее грозный лик. И толпа, освещенная пожаром за-
ката, теснилась у бойниц, глядя на тягостную картину обреченной земли
под грозовым небом. Однако эти люди с сурово сжатыми губами хранили
молчание ради девственниц. Не подобало смущать их юные сердца и вол-
новать им кровь, называя при них предателем одного из сыновей Эллады.
Надо было оберегать будущее потомство.
Нетерпение, обманутые надежды, неуверенность еще усугубляли мрач-
ное уныние толпы. Каждый думал о грядущих бедствиях, общая гибель
всем казалась близкой и неизбежной.
Едва начнет смеркаться, как появятся вдали передовые отряды врагов!
Кое-кому уже мерещилась на горизонте блистающая золотом конница пер-
сов и даже колесница самого Ксеркса. Жрецы внимательно прислушива-
лись, уверяя, будто шум и крики доносятся с севера, хотя их плащи ше-
лестели от ветра южных морей.
Мужчины подкатывали баллисты 14, развозя их по местам, натягивали
скорпионы 15, складывали возле колес груды метательных копий. Девушки
расставляли жаровни, чтобы плавить смолу. Ветераны, вновь облачившись
в панцири, стояли, скрестив руки, и прикидывали, сколько врагов они ус-
пеют уничтожить, прежде чем пасть в бою. Ворота решили замуровать, ибо
Спарта не сдастся никогда, даже если ее возьмут приступом; женщинам
велели не даваться врагам живыми. Одни подсчитывали запасы провианта,
Нетерпение толпы 45
другие гадали по внутренностям жертвенных животных у алтарей, кото-
рые еще дымились там и сям.
На случай внезапного нападения решено было провестп ночь на город-
ской стене, и потому повар стражей, Ногаклес, с важным видом готовил
пищу для всех тут же, на крепостном валу. Стоя над огромным котлом, он
толок зерно в соленом молоке и, рассеянно помешивая каменным пестом,
с беспокойством смотрел на Тайгет.
Все ждали. Уже поднимался ропот, ползли слухи, позорящие boiihor.
В отчаянии люди легко верят клевете; они были братьями тех, кто впо-
следствии отправил в изгнание Аристида, Фемистокла и Мильтиада, и,
не в силах вынести тревожного ожидания, приходили в ярость. Но древние
старухи качали головой, заплетая длинные седые косы. Они твердо верили
в храбрость сыновей и ждали их с суровым спокойствием, как ждут вол-
чицы своих детенышей.
Внезапно все небо потемнело, хотя вечер еще не наступил. Огромная
стая воронов, появившись с юга, с жутким, злорадным карканьем проле-
тела над Спартой; они заволокли все кругом, затмив солнечный свет, и,,
спустившись, уселись на ветвях священных лесов, окружавших Тайгет.
Вороны сидели неподвижно, настороженно, устремив к северу горящие
глаза.
Их преследовали громкими криками и проклятиями. Катапульты гро-
хотали, осыпая их градом камней, которые со свистом и треском вонза-
лись в стволы деревьев.
Подняв руки к небу, грозя кулаками, горожане пытались отогнать
стаю. Но вороны не тронулись с места, точно уже чуяли трупный запах
убитых воинов, и крепко сидели на черных ветвях, сгибавшихся под их
тяжестью.
Матери дрожали от ужаса при виде зловещих птиц.
Теперь заволновались и девушки. Всем им роздали священные мечи
много веков висевшие в храмах. «Для кого эти клинки?» — спрашивали
они, поднимая кроткие глаза с блестящего лезвия на хмурые лица роди-
телей. Их Успокаивали улыбкой, оставляя невинные жертвы в неведении:
лишь в последнюю минуту девушки узнают, что мечи предназначены для
них.
Вдруг дети громко закричали. Их зоркие глаза что-то рассмотрели вда-
ли. Там, на синеющей вершине пустынной горы, показался человек, кото-
рый, видимо, давно уже бежал, подгоняемый ветром; он начал быстро
спускаться к городу.
Все взгляды устремились на него.
Человек бежал, понурив голову, держа в руке суковатую палку, веро-
ятно, срезанную второпях, на ходу, и, опираясь на нее, направлялся прямо
к воротам Спарты.
Когда он достиг середины горы, еще освещенной последними солнечны-
ми лучами, стало видно, что он закутан в длинный плащ; путник, верно,
не раз падал по дороге, ибо плащ был весь в грязи, так же как и палка.
Это не мог быть солдат: у него не было щита.
76 Жестокие рассказы
Пришельца встретили угрюмым молчанием.
Откуда он бежит? От кого спасается? — Дурное предзнаменование!
— Такое бегство недостойно мужчины. Чего он хочет?
— Он ищет пристанища?.. Значит, его преследуют?— Наверное, вра-
ги? — Они уже близко?
В ту минуту, когда косые лучи заходящего солнца осветили путника с
головы до пят, все увидели поножи 16 у него на ногах.
Чувство возмущения и жгучего стыда всколыхнуло толпу. Все забыли
о присутствии девушек, которые сразу поникли и побледнели, как лилии.
В воздухе прозвучало имя, его повторяли со страхом и отвращением.
Это был спартанец! Один из Трехсот! Его узнали.— Он, это он! Солдат,
уроженец Спарты, бросил свой щит! Бежал! А другие? Неужели те, не-
устрашимые, тоже бежали с поля боя? — Люди с искаженными от ужаса
лицами, глядя на беглеца, воочию видели картину разгрома. Ах, зачем
скрывать дольше постигшее их бедствие? Воины бежали... Все до одного...
Они идут за ним вслед! Они появятся с минуты на минуту!.. За ними го-
нится персидская конница! — И, глядя вдаль из-под руки, повар восклик-
нул, что уже видит их там, в тумане!..
Горестный вопль заглушил гул голосов. Это застонали разом старик и
высокая старая женщина. Оба они, закрыв лицо руками, произнесли роко-
вые слова: «Мой сын!»
Взрыв негодования охватил толпу. Беглецу грозили кулаками.
— Ты сбился с пути. Поле битвы не здесь, поверни назад!
— Не беги так быстро. Береги силы!
— Скажи-ка, дорого платят персы за щиты и мечи?
— Ефиальт, наверно, разбогател.
— Берегись, держи правее! Ты попираешь ногами кости Пелопа, Ге-
ракла и Поллукса 17.
— Проклятие! Ты потревожил прах предка — посмотрим, будет ли он
гордиться тобой.
— Гермес одолжил тебе крылья со своих сандалий? Клянусь Стиксом 18,
ты всех победишь на Олимпийских играх!
Воин, казалось, ничего не слышал и продолжал бежать к воротам го-
рода.
Он не отвечал, не останавливался, и это приводило толпу в бешенство.
Выкрики становились все грубее, все громче. Девушки замерли в оцепе-
нении.
Жрецы вопили:
— Трус! Ты весь вымазался в грязи. Ты не целовал родную землю, ты
грыз ее!
— Он бежит к воротам! — Клянусь богами преисподней! — Ты не вой-
дешь в город!
Множество рук поднялось вверх с угрозой.
— Назад! Тебя бросят в пропасть... Нет! Ступай прочь! Мы не хотим
осквернить наши рвы твоею кровью!
— Назад! Возвращайся на поле боя!
Нетерпение толпы 77
— Берегись! Тебя окружают тени героев!
— Персы украсят тебя венками! Дадут в руки лиру! Ступай, услаждай
их на пиру, подлый раб!
При этих словах девы Лакедемона потупили голову и, сжимая в руках
мечи, которые принадлежали древним царям свободной Спарты, молча
заплакали.
Юные героини увлажняли слезами грубые рукоятки клинков. Они всё
поняли и обрекли себя на смерть ради отечества.
Вдруг одна из них, бледная и стройная, приблизилась к краю крепо-
стной стены; все расступились, давая ей дорогу. Это она должна была
стать женой беглеца.
— Не гляди на него, Семеида! — крикнули ей подруги.
Но девушка пристально посмотрела на юношу и, подняв с земли ка-
мень, бросила прямо в него.
Камень попал в цель; несчастный поднял глаза и остановился. Дрожь
пробежала по его телу, он вскинул голову и снова опустил ее на грудь.
Казалось, он задумался. О чем?
Дети смотрели на него во все глаза; матери, что-то шепча им на ухо,
показывали на него пальцем.
Сердитый великан-повар перестал стряпать и бросил пест. В священ-
ном гневе он позабыл свои обязанности и, отойдя от котла, нагнулся над
бойницей. Потом, собрав все силы и надув щеки, ветеран плюнул в сторо-
ну изменника, а пролетавший ветер, точно соучастник его благородной
ярости, запечатлел на лбу отверженного это позорное клеймо.
Горожане разразились восторженными возгласами, приветствуя столь
бурный порыв негодования.
Они были отомщены.
Воин стоял в раздумье, опираясь на палку, и пристально смотрел на
распахнутые ворота Города.
Но тут по знаку, поданному одним из старейшин, тяжелые створы
преградили путь беглецу и плотно сомкнулись меж двумя гранитными
косяками.
Тогда перед запертыми воротами Спарты, откуда его изгнали навсегда,
юноша упал навзничь, растянувшись во весь рост у подножия горы.
В тот же миг, лишь только зашло солнце и опустились сумерки, черная
стая воронов, под одобрительные крики толпы, разом накинулась на лежа-
щего и, накрыв его смертоносным покровом, оградила от оскорблений же-
стоких людей.
Потом выпала вечерняя роса и прибила пыль вокруг его трупа.
На рассвете от человека остались только разбросанные исклеванные
кости.
Так погиб, потрясенный до глубины души, храбрый воин, достойный
высшей славы, которой завидуют сами боги; умер, благоговейно сомкнув
глаза, чтобы ничем тягостным не омрачить свято им хранимый лучезар-
пый образ Отчизны, умер на родной земле, безмолвно сжимая в руке побед-
ную пальмовую ветвь; так умер, покрытый вместо пурпура собственной
7S Жестокие рассказы
кровью, благородный герой из отряда Трехсот; он был смертельно ранен, и
именно поэтому его послали из Фермопил возвестить о победоносной битве
и, бросив в горный ручей теснины его меч и щит, велели ему спешить в
Спарту из последних сил ради спасения Республики; — так принял смерть
оскорбленный и поруганный теми, ради кого он погиб, ПОСЛАНЕЦ ЛЕОНИДА.
XIII. Тайна старинной музыки
Посвящается Рихарду Вагнеру.
В этот день в Национальной музыкальной академии должна была со-
стояться репетиция.
Дирекция поручила оркестру разучить произведение одного немецкого
композитора (его имени, уже всеми забытого, мы, к счастью, не можем при-
помнить) ; — если верить многочисленным заметкам в «Ревю де Дё монд»,
этот иностранный музыкант был творцом « новой» музыки — ни больше, hi?
меньше!
Оркестранты Оперного театра собрались сегодня именно для того, что
бы, сыграв с листа партитуру самонадеянного новатора, проверить, на-
сколько справедливы эти отзывы.
Наступила торжественная минута.
На эстраду вышел директор и передал капельмейстеру объемистую пар-
титуру сомнительного шедевра. Просмотрев ее, дирижер вздрогнул и объя-
вил, что, по его мнению, оркестр Парижской музыкальной академии не
может исполнить этой симфонии.
— Что вы говорите? Объяснитесь! — воскликнул директор.
— Господа! — сказал капельмейстер.— Франция никогда не позволит
себе исказить несовершенным исполнением творение композитора — к ка-
кой бы нации тот ни принадлежал.— Дело в том, что в числе оркестровых
партий, написанных автором, участвует... музыкальный инструмент, давно
уже вышедший из употребления, на котором никто из нас не умеет играть;
инструмент этот, некогда услаждавший слух наших дедов, назывался
бунчук. А потому я полагаю, что из-за полного отсутствия во Франции
бунчуков мы вынуждены, к величайшему сожалению, отказаться от чести
исполнить эту симфонию.
Речь капельмейстера повергла слушателей в то состояние оцепенения,
какое физиологи называют коматозным.— Бунчук! — Самые старые из ор-
кестрантов смутно припоминали, что слыхали в детстве этот инструмент,
но теперь с трудом даже могли бы объяснить, какой он формы.— Вдруг
кто-то неожиданно произнес:
Тайна старинной музыки У9
— Позвольте, я, кажется, знаю одного исполнителя.
Все обернулись на голос, дирижер вскочил с места.
— Кто это сказал?
— Это я, цимбалы,— ответил голос.
Минуту спустя цимбалиста вывели на эстраду, окружили, обласкали,
забросали вопросами.
— Да,— подтвердил он,— я знаю старого музыканта, слывшего в свое
время блестящим исполнителем на бунчуке, и знаю, что он еще жив.
Эти слова вызвали единодушный восторг. Все прославляли цимбалиста
как спасителя! Капельмейстер обнимал своего юного помощника (цимба-
лист был еще молод). Растроганный тромбон одобрительно ему улыбался,
контрабас бросал на него завистливые взгляды, барабан ворчал, потирая
руки:
— Он далеко пойдет!
Словом, в этот краткий миг цимбалист вознесся на вершину славы.
Не теряя времени, депутация Опернего театра во главе с цимбалистом
отправилась в Батиньоль \ где давно уже поселился, удалившись от све-
та, старый виртуоз.
Приехали в Батиньоль.
Музыканты в одну минуту разыскали жилище сурового отшельника,
взобрались, запыхавшись, на десятый этаж, дернули облезлый шнурок
звонка и столпились в ожидании на лестничной площадке.
Вдруг все как один обнажили головы: на пороге появился почтенный
старик с длинными, до плеч, седыми кудрями, похожий лицом на Беран-
же и на персонажей его песен; он пригласил посетителей войти.
Это был он!
Оркестранты проникли в святилище маэстро. Сквозь открытое окно,
обрамленное вьющимися растениями, виднелось.вечернее небо, алеющее
дивными красками заката. Несколько стульев да кушетка заменяли здесь
все те модные пуфы и оттоманки, какие обычно загромождают гостиные
современных музыкантов. По углам висели старые инструменты, бунчуки;
там и сям лежали нотные тетради, заголовки которых невольно привлека-
ли внимание.— Среди них: Первая любовь, пьеса для бунчука соло, Бле-
стящие вариации на лютеранский хорал, концерт для трио бунчуков. За-
тем септет бунчуков в унисон под названием ТИШИНА. Дальше юно-
шеское произведение (с романтическим душком) Ночная пляска юных
мавританок Гренады в разгар Инквизиции, болеро для бунчука. И наконец
главное произведение композитора — Дивный вечер, увертюра для ста пя-
тидесяти бунчуков.
Цимбалист, сильно взволнованный, взяв слово от имени Национальной
музыкальной академии, объяснил цель их прихода.
— Ах вот как! — с горечью воскликнул старый виртуоз,— наконец-то
вспомнили обо мне! Я бы мог... Честь родины прежде всего. Господа, я
согласен.
Тромбон заикнулся было, что партия бунчука очень трудна для испол-
нения.
80 Жестокие рассказы
— Это не страшно,—успокоил его маэстро, снисходительно улыбаясь.
И, протянув им на прощанье бледные руки, натруженные игрой на небла-
годарном инструменте, он прибавил:
— До завтра, господа, в восемь вечера в Оперном театре.
На следующий день все в театре были охвачены волнением: за кули-
сами, в кулуарах, на галерее, в будке озабоченного суфлера. Удивительная
новость распространилась повсюду. Оркестранты сидели у пюпитров в не-
терпеливом ожидании, держа инструменты наготове. Партитура новой
симфонии вызывала у них теперь лишь второстепенный интерес. Внезап-
но низенькая дверца в оркестре растворилась, и появился старый музы-
кант: пробило восемь часов! При виде него все поднялись с места в знак
почтения, как бы желая приветствовать посланца старинной музыки от
лица потомства. Патриарх нес под мышкой в простеньком саржевом фут-
ляре давно забытый инструмент, точно символ былых времен. Уверенно
пробираясь между пюпитрами, он быстро прошел на свое прежнее место в
оркестре и уселся слева от большого барабана. Надев на голову черную
люстриновую шапочку и укрепив над глазами зеленый козырек, маэстро
вынул из футляра бунчук, и увертюра началась.
Но при первых же тактах, при первом взгляде на поты старый виртуоз
утратил всю свою уверенность; он взволновался, на лбу его выступил хо-
лодный пот. Старик низко наклонился, чтобы лучше видеть, и, хмуря бро-
ви, впиваясь глазами в строчки, едва дыша, стал перелистывать оркестро-
вую партию...
Что же необыкновенного было в этой рукописи? Чем она могла так
расстроить старого маэстро?..
Дело в том, что германский композитор, снедаемый давнишней зави-
стью, с чисто немецкой мстительной злобой коварно уснастил партию бун-
чука почти непреодолимыми трудностями. Они следовали одна за другой,
замысловатые, изощренные, неожиданные! Это был дерзкий вызов!—Су-
дите сами: вся партия состояла исключительно из пауз. Между тем даже
профану ясно, что самое трудное для исполнителя на этом инструменте —
выдерживать паузы... А старому виртуозу предстояло исполнить КРЕШЕНДО
пауз!
Увидев это, он весь напрягся, не в силах подавить нервную дрожь... Но
ничто в его исполнении не выдавало обуревавших его чувств. Ни один ко-
локольчик не звякнул, ни одна погремушка, ни один бубенец не дрогнули.
Видно было, что музыкант владеет инструментом в совершенстве. Да, он
тоже был мастер своего дела!
Он сыграл свою партию до конца. Без единой ошибки. Уверенно, без-
упречно, с блеском, вызвав восхищение всего оркестра. Его игра, сдер-
жанная, но богатая оттенками, отличалась таким изысканным благородст-
вом, такой чистотой стиля, что, как ни странно, временами казалось, буд-
то его слышно!
Уже все готовы были разразиться аплодисментами и криками «браво»
но тут старый классик-виртуоз, в порыве негодования, вскочил с места
Тонкость чувств SI
Глаза его метали молнии, он с грохотом потрясал своим инструментом, ко-
торый, словно разгневанный демон, колыхался над оркестром.
— Господа,—яростно вопил почтенный профессор,—я отказываюсь на-
отрез! Я ничего не понимаю. Нельзя писать увертюру для одного соло!
Эту партию сыграть невозможно, она слишком трудна. Клянусь памятью
Клаписсона2, я протестую. Здесь нет мелодии! Это какофония! Искусство
гибнет, мы падаем в пропасть.
И старик, сам потрясенный этой бешеной вспышкой, пошатнулся п
упал.
При падении он прорвал верх большого барабана и рухнул туда, исчез-
нув словно видение!
Увы! Провалившись в чудовищную утробу большого барабана, маэстро
унес с собой пленительную тайну старинной Музыки.
XIV. Тонкость чувств
Посвящается Жану Маррасу !.
Когда я наблюдаю за собою, я мало себя>
ценю, но когда сравниваю себя с другими,
ценю себя высоко.
(Господин-Весь-Свет)
Весенним вечером два безупречно воспитанных молодых существат
Люсьенна Эмери и граф Максимилиан де В***, сидели под сенью высоких
деревьев аллеи Елисейских полей.
Люсьенна — прелестная молодая женщина, всегда одетая в черное, с
лицом бледным, как мрамор, и никому неведомым прошлым.
Максимилиан, о трагической гибели которого мы недавно узнали, был
юным поэтом, наделенным чудесным талантом. К тому же он отличался
превосходным сложением и безукоризненными манерами. Взор его светил-
ся высокой интеллектуальностью,—он был прекрасен, но чуть холодноват,,
как драгоценные камни.
Они были близки всего полгода.
Итак, в тот вечер они молча наблюдали гуляющих, смутные очертания
карет, движущиеся тени.
Вдруг госпожа Эмери нежно взяла своего возлюбленного за руку:
— Не кажется ли вам, друг мой,— спросила она,— что у великих ху-
дожников, вроде вас, которые беспрестанно находятся во власти искусст-
венных и, так сказать, отвлеченных впечатлений, в конце концов притуп-
ляется способность действительно переживать муки и наслаждения, кото-
рые ниспосылает им Судьба? Во всяком случае вы как бы стесняетесь
проявлять ч^зства, постоянно сопутствующие жизни, так что вас даже
#2 Жестокие рассказы
легко принять за бесчувственных. Наблюдая, как умеренны ваши порывы,
можно подумать, что вы трепещете от волнения только из вежливости.
Мысль об Искусстве владеет вами безраздельно, и это сказывается даже в
любви и страданиях. Вы анализируете сложность этих чувств и чересчур
боитесь, что вам не удастся их выразить, не правда ли?.. Боитесь недоста-
точно точно описать ваш недуг... И вам никак не удается отделаться от
этих опасений. Они сдерживают ваши прекраснейшие порывы и умеряют
непосредственное выражение любого чувства. Можно подумать, что вас,
владык некоего иного мира, беспрестанно окружают незримые толпы, го-
товые критиковать вас или восхвалять.
Короче говоря, когда вам выпадает великое счастье или великое горе,
оно прежде всего — еще до того, как вы осознаете это,— вызывает в вас
смутное желание обратиться к какому-нибудь выдающемуся лицедею,
чтобы узнать, каковы жесты, которые должны вырваться у вас при данных
обстоятельствах. Неужели Искусство приводит к черствости?.. Меня это
тревожит.
— Люсьенна,— возразил граф,— я знавал некоего певца, который, стоя
у смертного ложа своей невесты и слыша судорожные рыдания ее сестры,
не мог, невзирая на свое горе, не замечать изъянов в голосе рыдающей и
не думать о том, какие упражнения могли бы придать ему большую звуч-
ность. Вы считаете, что это дурно?.. А между тем певец сам вскоре умер,
не вынеся разлуки, сестра же, пережив горе, поспешила снять траур
в тот самый день, когда это допускается обычаем.
Госпожа Эмери взглянула на Максимилиана.
— Из ваших слов можно заключить,— сказала она,— что весьма труд-
но определить, в чем состоит истинная чувствительность и по каким при-
знакам удается ее уловить.
— Я охотно рассею ваши сомнения на этот счет,— отвечал, улыбнув-
шись, господин де В***.— Но термины... технические... крайне непривле-
кательны, и я боюсь...
— Полноте! У меня в руках пармские фиалки, у вас — сигара. Я слу-
шаю.
— Будь по-вашему, подчиняюсь,— сказал Максимилиан.— Клетки моз-
га, реагирующие на радостные или горестные чувства, говорите вы, у лю-
дей Искусства, видимо, расслаблены в итоге чрезмерного духовного напря-
жения, которого требует повседневное служение Искусству.— А я думаю,
что, наоборот, у художников эти таинственные клетки еще утонченнее.
На первый взгляд кажется, будто заурядные люди наделены способностью
более непосредственного выражения чувств, более искренними, словом,
более глубокими страстями... А я уверяю вас, что вялость их натуры, вдо-
бавок несколько притуплённой Инстинктом, приводит к тому, что мы у
них принимаем за самые возвышенные проявления простой избыток жи-
вотного начала.
Я утверждаю, что у них сердце и мозг находятся в зависимости от нерв-
ных центров, пребывающих в постоянном оцепенении, и поэтому вибри-
руют они гораздо реже и глуше, чем наши. Можно подумать, что люди эти
Тонкость чувств 8$
торопятся излить свои чувства в крике лишь для того, чтобы обмануть са-
мих себя или заранее найти оправдание вялости, в которую — они это сами
понимают — им вскоре предстоит вновь погрузиться.
Такие безотзывные существа принято называть «людьми с характе-
ром» — это люди, у которых сердца необузданны и пусты. Пусть же их бес-
содержательные вопли не вводят нас в заблуждение. Выставлять напоказ
свою немощь с тайным расчетом заразить ею окружающих и таким обра-
зом, хотя бы и притворно в своих собственных глазах, воспользоваться1
действительным волнением, вызванным у кого-то другого при помощи это-
го подлого лицемерия,— это к лицу только существам неполноценным.
По какому реальному праву могут такие люди утверждать, будто все
эти неистовства, весьма сомнительные по качеству, обязательны для выра-
жения наших страданий или восторгов, и по какому праву смеют они клей-
мить бессердечными тех, кто из стыдливости воздерживается от проявле-
ния своих чувств? Разве луч света, направленный в алмаз, еще окружен-
ный породою, ярче отражается в нем, чем в алмазе, искусно ограненном.,
в который проникает самая субстанция огня? Право же, люди, которых
может тронуть неумеренное проявление чувств, готовы предпочесть оглу-
шительный крик глубоким мелодиям: вот и все.
— Простите, Максимилиан,— прервала его госпожа Эмери,— я слушаю
ваш несколько замысловатый анализ с искренним восхищением... но будь-
те добры, скажите, который час только что пробило?
— Десять, Люсьенна,— ответил юноша, взглянув на часы при отблеске
горящей сигары.
— Благодарю. Продолжайте.
— Почему столь необычная забота об убегающих мгновениях?
— Потому что это последние мгновения нашей любви, друг мой! — от-
ветила Люсьенна.—Я согласилась на свидание с господином де Ростанжем
сегодня в половине двенадцатого; я откладывала сказать вам об этом да
последней минуты. Вы сердитесь? Простите меня.
Если граф слегка и побледнел от такого признания, то тьма-покрови-
тельница скрыла от Люсьенны этот знак волнения; ни единым жестом не
выдал он того, что должен был переживать в этот миг.
— Конечно, это превосходный молодой человек, и он вполне заслужи-
вает вашего расположения,—ответил граф ровным, мелодичным голосом.—
Так прощайте же, дорогая Люсьенна,— добавил он.
Он взял руку возлюбленной и поцеловал ее.
— Как знать, что сулит нам будущее? — ответила Люсьенна с улыбкой
и не без смущения.— Ростанж — всего лишь непреодолимая прихоть. А те-
перь,—продолжала она, помолчав минуту,—продолжайте, друг мой; про-
шу вас. Прежде чем нам расстаться, я хотела бы узнать, что именно дает
великим художникам право до такой степени презирать образ действий
прочих людей.
Прошел миг — безмолвный, страшный для обоих.
— В сущности мы переживаем обычные впечатления так же сильно,
как и другие люди,—продолжал Максимилиан.—Да, естественное, ин^
'84 Жестокие рассказы
стинктивное воздействие того или другого впечатления мы физически ис-
пытываем так же, как и все. Однако испытываем его так лишь в первые
мгновения]
Но выразить дальнейшие длительные переживания почти невозмож-
но,— именно поэтому мы нередко кажемся как бы скованными. У зауряд-
ных людей впечатления недолговечны, и они скоро забывают о случившем-
ся, в нашем же существе эти впечатления продолжают разрастаться,—
скажем, как разрастается рокот волн, когда приближаешься к морю. Имен-
но восприятием этого потустороннего продолжения чувства, этих нескон-
чаемых, таинственных вибраций и определяется превосходство людей на-
шего склада. Отсюда — кажущееся несоответствие между мыслями и по-
ступками, когда кто-нибудь из нас пытается выразить свои чувства так,
как выражают их все. Подумайте о том, сколь далеки мы от первобытных
времен Чувства, которые уже давным-давно погребены в недрах нашего
сознания. Тихий голос, сдержанные жесты, изысканные выражения — все
это находится в противоречии с ходячей непосредственностью и с пош-
лостью общепринятого языка, приспособленными к чувствам толпы. Мы
звучим не в унисон: нас считают холодными. Наблюдая нас в такие ми-
нуты, женщины не могут прийти в себя от изумления. Они ведь вообража-
ли, что и мы хоть немного побеснуемся, словом, вознесемся на «небеса»,
где и должны обретаться «поэты»,— как гласит поговорка, умышленно рас-
пространяемая Буржуазией. Каково же их удивление, когда они видят
нечто прямо противоположное! При этом открытии у женщин вспыхивает
такое негодование и презрение к тем, кто их дурачил насчет нас, что они
переходят всякие границы, и если бы мы жаждали мести, это весьма
позабавило бы нас.
Нет, Люсьенна, нас не прельщает возможность грубо и неуклюже вы-
ражать свои чувства в лживых проявлениях, к которым прибегает толпа.
Тщетно стали бы мы напяливать на себя рубище, забытое людьми в нашей
прихожей еще в незапамятные времена! Мы сроднились с самой сущно-
стью Радости, с живым представлением о Скорби. Ничего не поделаешь.
Это так.— Среди людей мы одни дошли до обладания почти божественной
способностью: преображать своим прикосновением радости Любви, напри-
мер, или муки ее, придавая им характер извечных ценностей. В этом-то
и заключается наша сокровенная тайна. Мы инстинктивно таим ее от по-
сторонних, дабы по возможности избавить близких от унизительного созна-
ния, что мы для них непостижимы.— Увы, мы подобны тем редкостным
хрустальным сосудам, в которых на Востоке дремлет чистый аромат мерт-
вых роз и которые наглухо обернуты тройной оболочкой воска, золота и
пергамента.
Одной-единственной их благовонной слезинки, одной капли влаги, хра-
нимой в драгоценной амфоре (богатстве целой семьи, которое передается
ко наследству как священное сокровище и благословение предков), быва-
ет достаточно, чтобы заблагоухали потоки свежей воды, уверяю вас, Люсь-
енна! А воды так много, что она долгие годы будет наполнять благоухани-
<ем множество жилищ, множество могил. Но мы не походим (и в этом наше
Тонкость чувств 85
преступление) на флаконы дешевых духов, на унылые и никчемные
склянки, которые люди пренебрегают закупоривать и аромат которых пор-
тится и улетучивается от случайных дуновений.— Мы выработали в себе
такую остроту ощущений, какая недоступна непосвященным, и мы стали
бы обманщиками в собственных глазах, если бы заимствовали общепри-
нятую мимику и пошлые выражения, коими довольствуется обыватель.
Мы искренно поспешили бы разубедить его, поверь он на мгновение не-
вольному возгласу, который иной раз исторгает у нас радостное или горе-
стное событие.— У нас непогрешимое понимание Искренности,— вот поче-
му мы должны быть сдержанными в жестах, щепетильными в выборе
слов, скупыми на восторги, умеренными в отчаянии.
Значит, именно превосходство наших эмоциональных способностей на-
влекает на нас обвинение в черствости? — Уверяю вас, дорогая Люсьенна,
если бы нам захотелось (от чего избави, боже!), чтобы нас стало понимать
большинство людей, захотелось встретить с их стороны иную награду, по-
мимо безразличия, то, правда, следовало бы пожелать, кад вы только что
сказали, чтобы в критических обстоятельствах за спиной у нас стоял хо-
роший комедиант, который приводил бы в движение наши руки, жестику-
лировал и говорил бы вместо нас— Тогда мы были бы вполне уверены, что
нашли именно тот способ, которым можно взволновать толпу.
Госпожа Эмери смотрела на графа де В*** в глубокой задумчивости.
— Но ведь так, дорогой Максимилиан, вы, пожалуй, дойдете до того,
что уже не будете решаться сказать «здравствуйте» ил.и «до свидания» из
опасения... уподобиться... рядовым смертным! — воскликнула она.— Мину-
тами вы бываете восхитительны, незабываемы; признаю это и горжусь
тем, что вдохновляла вас на такие взлеты... Порою вы изумляли меня глу-
биной своих чувств и трогательными излияниями нежности,— да, вплоть
до каких-то непередаваемых озарений, и причудливое, волнующее воспо-
минание о них я сохраню навсегда... Но что поделать! Вы ускользаете от
меня, потому что я не могу следовать за вами по этому пути,— и я никогда
не буду вполне уверена в том, что сами вы испытываете в действительно-
сти, а не в воображении, те чувства, какие вызываете у других.— Вот по-
чему, Макс, мне не остается ничего другого, как расстаться с вами.
— И все же,— отвечал граф,— я примиряюсь с мыслью, что я не зау-
рядный человек,— пусть мне грозит презрение тех добрых людей, которые
мнят (быть может, не без основания), что они по натуре лучше меня.—
Впрочем, мне кажется, что в наше время уже никто ничего не переживает.
Надеюсь, что вскоре в столицах будет по четыреста-пятисот театров, где
обычные жизненные события будут разыгрываться гораздо лучше, чем в
действительности, и никто уже не станет утруждать себя переживанием
каких-либо собственных чувств. Когда человеку захочется увлечься чем-
нибудь или растрогаться, он купит себе билет в театр — это будет куда
проще.— С точки зрения здравого смысла, такая уловка в тысячу раз пред-
почтительнее, не правда ли?.. Зачем растрачивать себя в страстях, обре-
ченных на забвение? Есть ли что-либо на свете, что не забывается уже че-
рез полгода? —Ах, если бы только знали, какое великое безмолвие, мы та-
S6 Жестокие рассказы
им в себе! — Однако простите, Люсьенна: уже половина одиннадцатого, и
с моей стороны было бы неделикатно, после вашего признания, не пред-
упредить вас об этом,— промолвил Максимилиан, улыбаясь и вставая с ме-
ста.
— А что же вы скажете в заключение? — спросила она.— Туда я пос-
пею.
— Я скажу,— ответил Максимилиан,— что когда кто-нибудь кричит о
другом человеке, бия себя в грудь, словно чтобы отвлечься от пустоты,
которую сам ощущает у себя внутри: «Он слишком умен, чтобы быть чув-
ствительным!»,—то, во-первых, весьма вероятно, что он не на шутку ра-
зозлится, если ему ответят, что сам он «слишком чувствителен, чтобы
быть умным»,— а это доказывает, что даже в глазах того, кто бросил нам
упрек, мы избрали не худшую участь. Затем, обратили ли вы внимание,
во что превращается эта фраза, если ее внимательно проанализировать?
Ведь это все равно, что сказать: «этот человек слишком хорошо воспитан,
чтобы утруждать себя хорошими манерами». В чем состоят хорошие ма-
неры? Этого ни толпа, ни люди действительно хорошо воспитанные нршог-
да не узнают несмотря ни на какие кодексы как мелочной, так и истинной
вежливости. Поэтому подобная фраза всего лишь наивно выражает ин-
стинктивную и, так сказать, меланхолическую зависть, которую мы вызы-
ваем у некоторых людей. И в самом деле, разделяют нас не мелкие
различия, а целая бездна.
Люсьенна поднялась и взяла господина де В*** под руку.
— Из нашей беседы я делаю вывод,— сказала она,— что, как ни проти-
воречивы ваши слова и поведение в некоторых тяжелых или радостных об-
стоятельствах, из них все же не следует, что вы...
— Деревянный...— договорил граф, улыбнувшись.
Мимо них вереницей проезжали ярко освещенные кареты. Максимили-
ан жестом подозвал одну из них, она остановилась. Когда Люсьенна села,
молодой человек молча ей поклонился.
— До свидания! — крикнула Люсьенна, посылая ему воздушный по-
целуй.
Карета удалилась. Граф, как и следовало ожидать, проводил ее взгля-
дом, потом пешком, с сигарой в зубах, отправился домой.
Оказавшись в своей комнате, он уселся за письменный стол, вынул из
несессера пилочку и, видимо, весь погрузился в уход за ногтями.
Потом он сочинил несколько строк стихотворения... о шотландской до-
лине, которая, по странной прихоти Разума, почему-то вспомнилась ему.
Потом он разрезал несколько страниц повой книги, пробежал их — и
отложил томик в сторону.
Пробило два часа: он потянулся.
— Сердце так колотится... это становится просто невыносимым! —
прошептал он.
Он поднялся с места, опустил тяжелые драпировки, направился к се-
кретеру, открыл его, вынул из ящика маленький револьвер, подошел к со-
фе, приложил дуло к груди, улыбнулся и, зажмурившись, пожал плечами.
Лучший в мире обед! 87
Раздался глухой, поглощенный гардинами выстрел; юноша рухнул на
подушки, и из груди его заструилось голубоватое облачко дыма.
С тех пор на вопросы поклонников, почему она всегда одета в черное,
Люсьенна весело отвечает:
— А что ж? Черное мне к лицу!
Но при этом траурный веер трепещет у нее на груди, как крылышки
ночной бабочки над могильным камнем.
XV. Лучший в мире обед!
Удар Командора/ Удар Жарпапа! х
(Старинная поговорка)
Ксанф, хозяин Эзопа2, наученный баснописцем, заявил, что если, по-
бившись об заклад, он и обещал выпить море, то отнюдь не брался выпить
реки, которые, как изысканно выражаются наши ученые переводчики,
«втекают в него».
Несомненно, эта увертка была весьма остроумна. Но, руководимые Ду-
хом Прогресса, разве в наши дни мы не могли бы найти подобных ей, столь
же изобретательных? Например:
— Предварительно удалите из моря всю рыбу, потому что она не вхо-
дит в пари: профильтруйте море. После та-кой очистки выпить его будет
нетрудно.
Или еще лучше:
— Не отрицаю, я бился об заклад, что выпью море. Но не залпом же!
Мудрец не должен действовать поспешно: вот я и пью медленно. Итак, я
буду ежегодно выпивать по капле. Согласны?
Словом, на свете не так уж много обязательств, которых нельзя было
бы выполнить тем или иным способом... И этот способ следовало бы на-
звать философским.
«Лучший в мире обед!»
В таких словах нотариус Персенуа, ангел-хранитель Эмфитевсиса3,
дал во всеуслышание точное определение обеда, на который он собирался
пригласить видных граждан городка Д***7 где тридцать с лишним лет про-
цветала его контора.
Да. Он произнес эти слова в клубе, стоя спиной к камину, подобрав
фалды фрака, засунув руки в карманы, распрямив плечи, устремив глаза
в потолок, подняв брови, вздернув очки на морщинистый лоб, сдвидув
шапочку на затылок, заложив правую ногу за левую, кончиком лакирован-
ного башмака едва касаясь пола.
$S Жестокие рассказы
Слова эти тщательно запечатлел в памяти его давнишний соперник,
ангел-хранитель Параферналия4, мэтр Лекастелье, который, укрывшись
за огромным зеленым абажуром, сидел против мэтра Персенуа и злобно на
него взирал.
С незапамятных времен между этими собратьями по профессии велась
глухая борьба. Обед должен был стать полем сражения, досконально об-
думанного мэтром Персенуа и предложенного теперь, чтобы кончить спор.
Поэтому мэтр Лекастелье, с усилием вызвав улыбку на потускневшую
сталь своего кинжалоподобного лица, в ту минуту ничего не ответил. Он
понимал, что на него нападают. Но он был старше годами и не мешал Пер-
сенуа, младшему коллеге, говорить и связывать себя, на манер легкомыс-
ленной дурочки, невыполнимыми обещаниями.— Уверенный в себе (но
осторожный!), он хотел во всех подробностях изучить позиции противни-
ка и его силы и лишь потом принять бой.
На следующий день городок Д*** пришел в волнение. Всех занимал
вопрос, каково будет меню обеда.
Сборщик особых податей вспоминал самые редкостные подливы и те-
рялся в догадках. Супрефект делал сложные выкладки и предсказывал
сюпремы5 из фениксов, поданные на их собственном пепле. Неведомые
феникоптеры6 реяли в его мечтах. Он цитировал Апиция7.
Весь муниципальный совет в полном составе перечитывал Петрония8
и подвергал его критике. Именитые особы говорили: «Подождем» — и вно-
сили некоторое успокоение в возбужденные умы. По совету супрефекта
все приглашенные за неделю до обеда приняли слабительное.
Наконец торжественный день настал.
Дом мэтра Персенуа был расположен близ городского бульвара, на рас-
стоянии ружейного выстрела от дома его соперника.
С четырех часов дня у входной двери двумя рядами выстроились жела-
ющие взглянуть на прибытие гостей. Ровно в шесть они появились.
Все пришли вместе, встретившись будто бы случайно на бульваре.
Впереди шел супрефект под руку с г-жой Лекастелье; за ними — сбор-
щик особых податей и начальник почты; потом три влиятельных особы;
потом доктор под руку с банкиром; потом знаменитость — Распространи-
телъ филлоксеры во Франции9; потом директор лицея и несколько круп-
ных землевладельцев. Шествие замыкал мэтр Лекастелье, время от време-
ни задумчиво бравший понюшку табака.
Мужчины были во фраках, в белых галстуках, и в петлице у каждого
красовался цветок. На худощавой г-же Лекастелье было почти закрытое
платье мышиного цвета.
У подъезда, при виде медной дощечки, сверкавшей в зареве заката,
гости обернулись к ослепительному небосклону. Дальние деревья пламене-
ли, птицы умолкли в соседних садах.
— Какое великолепное зрелище! — воскликнул Распространитель фил-
локсеры, окидывая взглядом запад.
Все приглашенные согласились с ним и несколько мгновений наслаж-
дались красотами природы, словно желая позолотить ими обед.
Лучший в мире обед! 89
Гости вошли в дом. В передней, соблюдая достоинство, они замедлили
шаги.
И вот двери столовой распахнулись. Персенуа, который был вдов, сто-
ял там один, радушно улыбаясь.— С видом скромным и вместе с тем по-
бедоносным он широким жестом пригласил всех садиться за стол. Карточ-
ки с именами приглашенных, как хохолки, торчали из салфеток, сложен-
ных в виде епископской митры. Г-жа Лекастелье глазами сосчитала гостей,
в надежде, что за столом окажется тринадцать человек: их было семна-
дцать.— После этой прелюдии гости молча приступили к еде; чувствова-
лось, что они собираются с силами и, как говорится, берут разбег.
Столовая была уютная, ярко освещенная комната с высоким потолком;
сервировка не оставляла желать лучшего. Обед был скромный: два супа,
три рыбных блюда, три жарких, три легких блюда, безукоризненные вина,
еще с полдесятка различных блюд, затем сладкое.
Но все было превосходно!
И если вдуматься и принять в расчет вкусы и наклонности гостей, для
них этот обед был действительно «лучшим в мире»! Обед-в ином роде по-
казался бы причудой, тщеславной выходкой, шокировал бы. Он был бы,
возможно, сочтен чем-то ателланским 10, навел бы на мысль о некоем не-
приличии, об оргии... и г-жа Лекастелье удалилась бы из-за стола. Не тот
ли обед лучший в мире, который вполне отвечает вкусам гостей?
Персенуа торжествовал. Гости горячо поздравляли его.
Внезапно после кофея мэтр Лекастелье, на которого все смотрели с ис-
кренним сожалением, поднялся, холодный и суровый, и среди гробового
молчания раздельно произнес следующие слова:
— В будущем году я дам лучший обед.
Затем он отвесил поклон и ушел вместе с женой.
Мэтр Персенуа встал. Его вид, исполненный достоинства, охладил не-
описуемое волнение гостей и умерил шум, поднятый ими после ухода четы
Лекастелье.
Со всех сторон неслись удивленные возгласы:
— Но как он сможет в будущем году дать лучший обед, если обед мэт-
ра Персенуа — лучший в мире?
— Бессмысленная затея!
— Весьма сомнительная!..
— Неслыханная!
— Небывалая!
— Смехотворная!!!
— Ребяческая...
— Недостойная здравомыслящего человека!
— Зависть помутила ему ум... Или, быть может, старость?
Смеялись много и долго. Распространитель филлоксеры, который во
время обеда увивался за г-жой Лекастелье, был неистощим в остротах:
— Ха-ха-ха! Вот уж действительно! — Лучший обед! — А как ему это
удастся? Нет, вы скажите, как ему это удастся? Вот уж одолжил!
Он был неистощим.
90 Жестокие рассказы
Мэтр Персенуа хохотал до слез.
Этим забавным происшествием завершился вечер. Превознося до небес
амфитриона, гости, взяв друг дружку под руки, беспорядочной толпой вы-
шли из дому. Предшествуемые слугами, которые несли фонари, онж до из-
неможения смеялись над нелепым, более того, самонадеянным, не выдер-
живающим критики намерением дать «обед лучший, чем лучший в мире
обед».
Веселые, причудливо озаренные, они прошли сквозь толпу, которая
стояла у входа в ожидании новостей.
Потом все разошлись по домам.
У мэтра Лекастелье сделалось сильнейшее несварение желудка. Боя-
лись за его жизнь. Персенуа, «не хотевший смерти грешника» и к тому же
рассчитывавший еще насладиться в будущем году фиаско, которое, несо-
мненно, ожидало его коллегу, ежедневно посылал справляться о самочувст-
вии достопочтенного нотариуса. Бюллетень о состоянии его здоровья пе-
чатался в департаментской газетке, ибо неосторожное пари занимало всех:
везде только и разговору было, что об обеде. Стоило участникам пиршества
где-нибудь встретиться, как они начинали шептаться. Дело было серьезное,
очень серьезное: на карте стояла честь городка.
Весь год мэтр Лекастелье уклонялся от объяснений. Приглашения он
разослал за неделю до назначенного дня. Через два часа после утреннего
обхода почтальона в городке поднялся необычайный переполох. Во имя
справедливости супрефект счел своим долгом подать пример прочим и не-
замедлительно принял слабительное.
Наступил знаменательный вечер, и все сердца забились сильнее. Как и
в прошлом году, приглашенные будто бы случайно встретились на бульва-
ре. Еще издали их появление вызвало восторженные клики толпы.
И по-прежнему закатное небо заливало багрянцем ряды могучих де-
ревьев, великолепных буков, являющихся безраздельной собственностью
мэтра Персенуа.
Приглашенные снова полюбовались этим зрелищем. Потом они вошли
в дом четы Лекастелье и наконец переступили порог столовой. Поздоровав-
шись с хозяевами и усевшись, они строгим взором пробежали меню и с не-
годующим изумлением обнаружили, что обед точно ТАКОЙ же!
Уж не смеются ли над ними? При этой мысли супрефект нахмурился
и сделал про себя соответствующие выводы.
Гости потупились, ибо, отличаясь изысканной учтивостью и тактом,
этими достоинствами, присущими провинциалам, они не хотели показать
амфитриону и его жене, как глубоко они их сейчас презирают.
Персенуа не считал даже нужным скрывать свое торжество: победа ка-
залась ему обеспеченной. И тут гости развернули салфетки.
О чудо! Каждый нашел на своей тарелке — что бы вы думали?— так
сказать жетон, двадцатифранковую монету.
Лучший в мире обед! 91
Мгновенно, словно добрая фея взмахнула палочкой,—фьють!—и все
«желтенькие» исчезли с поистине волшебной быстротой.
Один лишь Распространитель филлоксеры, занятый сочинением мадри-
гала, заметил золотой на своей тарелке значительно позже других гостей.—
Произошла некоторая заминка.— С видом растерянным и смущенным, по-
детски улыбаясь, он прошептал соседке несвязные слова, прозвучавшие
как маленькая серенада:
— До чего же я рассеян!.. Какая оплошность!.. Чуть было не уронил...
Проклятый карман... А меж тем только благодаря ему во Франции распро-
странилась... Вечно все теряю из-за своей неосторожности... суну случайно
деньги в жилетный карман... потом какое-нибудь неловкое движение —
когда развертываю салфетку, например...— и дзинь!—прости-прощай!
Г-жа Лекастелье многозначительно улыбнулась.
— Рассеянность великих людей,— сказала она.
— В ней повинны прекрасные глаза,— галантно ответил знаменитый
учетный и с нарочитой небрежностью снова засунул в жилетный карман
соблазнительную монету, которую чуть было не потерял.
Женщины умеют ценить деликатность чувств, и г-жа Лекастелье, отда-
вая должное намерениям Распространителя филлоксеры, была так любезна,
что даже несколько раз покраснела, когда ученый что-то нашептывал ей
на ухо.
— Будет вам, опасный вы человек!— повторяла она.
Персенуа, этот простофиля, не заметил ничего и ничего не полу-
чил. Он в эту минуту болтал, как сорока, и, глядя в потолок, сам себя
слушал.
Обед прошел оживленно, на редкость оживленно. Разговор вращался
вокруг политики европейских держав; супрефекту пришлось даже время
от времени молча взглядывать на трех влиятельных особ, и те, давно уже
постигшие все тайны дипломатии, каждый раз сворачивали беседу с опас-
ного пути залпом каламбуров, ослеплявших, точно фейерверк. Всеобщий
восторг достиг апогея, когда подали миндальный торт, который, как и в
прошлом году, был точным изображением городка Д ***.
Часам к девяти вечера гости, деликатно размешивая сахар в кофее, по-
вернулись друг к другу. Брови у всех были приподняты, в глазах застыло
туманное выражение, присущее людям, которые собираются после званого
обеда высказать о нем свое мнение.
— Обед как будто точно такой же?
— Да, такой же.
Потом, после вздоха, молчание и напряженное раздумье.
— Совершенно такой же.
— И все же была ведь какая-то разница?
— Да, какая-то была.
— Ну, словом, он лучше.
— Да, как это удивительно! Такой же... и все-таки лучше.
— Непонятная вещь!
Но чем же он был лучше? Все напрасно ломали себе головы.
92 Жестокие рассказы
Порой им казалось, что они вот-вот поймут причину этого неясного,
однако общего у всех ощущения различия, но своенравная мысль тут же
ускользала, как Галатея и, не желающая, чтобы ее увидели.
Потом они расстались, надеясь, что на досуге им удастся решить этот
вопрос.
С тех пор городок Д *** находится во власти мучительной неуверенно-
сти. Словно над ним навис какой-то рок!.. Никто не может проникнуть в
тайну, по сей день окружающую победоносное пиршество мэтра Лека-
стелье.
Несколько дней спустя мэтр Персенуа, погруженный в эти размышле-
ния, поскользнулся у себя на лестнице и разбился насмерть.— Лекастелье
горько его оплакивал.
И сейчас еще, долгими зимними вечерами, собравшись в супрефектуре
или в податной конторе, обитатюли городка Д *** беседуют, обсуждают,
раздумывают, строят предположения, но вечная загадка так и'остается не-
разгаданной. У них прямо руки опускаются!.. Иногда они уже совсем на-
ходят ответ, получают его с точностью до одного сто шестьдесят восьмого
десятичного знака, но тут икс уравнения снова исчезает в бесконечности,
теряясь меж двух утверждений, ставящих в тупик человеческий Разум и
все же составляющих в нашей подлунной Символ непререкаемых предпоч-
тений Общественного мнения:
ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ... И ВСЕ-ТАКИ ЛУЧШЕ!
XVI. Желание быть человеком
Посвящается Катюлю Мендесу г.
Сложились
В нем так черты2, что может встать природа
И всем сказать: «Он человеком был».
(Шекспир)
Под небом, усеянным звездами, часы на Бирже пробили полночь. В ту
пору над жителями еще тяготели законы военного времени, и, стараясь не
нарушать приказ о полицейском часе, официанты торопились закончить
работу в еще ярко освещенных ресторанах.
В кафе, расположенных вдоль бульваров, огненные мотыльки, трепе-
тавшие над газовыми рожками, один за другим уносились во тьму. Из по-
мещений доносился грохот стульев, укладываемых по четыре на мраморные
столики; настал тот момент, когда каждый хозяин кафе, держа салфетку
в руке, считает себя обязанным указать замешкавшимся посетителям на
Кавдинские ущелья3 дверей.
Желание быть человеком 93'
В то воскресенье дул унылый октябрьский ветер. Под его порывами
последние листья, сухие и запыленные, неслись по улицам, шурша на кам-
нях, скользя по асфальту, потом, словно летучие мыши, исчезали во тьме,
как бы напоминая о безвозвратно минувших будничных днях. Театры на
бульваре Преступлений, где весь вечер наперебой пронзали друг друга
кинжалами всевозможные Медичи, Сальвиати и Монтефельтры4, теперь
высились как некие тайники Молчания, и безмолвные кариатиды охраняли
их двери. Экипажей \и пешеходов с каждой минутой становилось все мень-
ше и меньше; тут и там замелькали слабые фонарики тряпичников,
бродивших по грудам отбросов, которые, казалось, сами источают эти
огоньки.
На углу улицы Отвиль, под фонарем, у фешенебельного кафе, остано-
вился высокого роста человек с мрачным бритым лицом и длинной седею-
щей шевелюрой под шляпой в духе времен Людовика XIII; на нем был'
старый синий плащ, подбитый сомнительного качества каракулем; рука
его, в черной перчатке, опиралась на трость с набалдашником из слоновой
кости. Он шел неуверенно, как лунатик, и вдруг остановился, словно не*
решаясь перейти улицу, отделявшую его от бульвара Благовещения.
Домой ли возвращался этот запоздалый прохожий? Или случайно, со-
вершая вечернюю прогулку, забрел он сюда? По виду его трудно было бы
ответить на этот вопрос. Как бы то ни было, когда он вправо от себя заме-
тил высокое и узкое, как он сам, зеркало,— такие нередко вставляют в вит-
рины модных кафе, чтобы прохожие могли взглянуть на себя,— он сразу
остановился, уставился на свое изображение и внимательно смер.ил себя
с головы до ног. Потом жестом, в котором угадывалось его прошлое, он
неожиданно приподнял шляпу и довольно учтиво приветствовал самого
себя.
Как только он обнажил голову, любой прохожий узнал бы в нем знаме-
нитого трагика Эспри Шоваля, настоящая фамилия которого была Лепен-
тёр, а прозвище — Монантейль, отпрыска весьма почтенного рода лоцманов
из Сен-Мало, который непостижимой волей Судьбы стал известным про-
винциальным актером, украшением гастрольных афиш и соперником (по-
рою счастливым) нашего Фредерика Леметра 5.
В то время как он несколько ошеломленно созерцал себя, официанты
подавали последним завсегдатаям пальто и шляпы, шумно извлекали из
никелевых копилок дневную выручку и укладывали полукругом на при-
лавке стопки мелких монет. Эта торопливость и суета были вызваны вне-
запным и не предвещавшим ничего доброго появлением двух полицейских,
которые стояли на пороге, скрестив руки, и сверлили леденящим взглядом
замешкавшегося хозяина.
Вскоре навесы были спущены и закреплены болтами на железных ра-
мах; осталась открытой лишь витрина с зеркалом, о которой по странной
случайности забыли в общей спешке.
Наконец бульвар совсем затих. И только Шоваль все еще стоял на углу
улицы Отвиль, глядясь, словно завороженный, в забытое зеркало и не за-
мечая, что вокруг него все опустело.
■94 Жестокие рассказы
Зеркало было таким холодным, таким лунно-синим, что Шовалю пока-
залось, будто он погружается в пруд; он задрожал.
Глядясь в это темное жестокое стекло, артист впервые заметил — увы!
это была правда,— что стареет.
Чуть ли не вчера еще его волосы были только слегка тронуты сединой,
а теперь он обнаружил, что они совсем белые!.. Все кончено! Прощайте ова-
ции и венки, прощайте розы Талии и лавры Мельпомены. Нужно навсегда
распроститься, пожимая руки и проливая слезы, с великолепной внешно-
стью, создаваемой гримером, с роскошными мантиями, с пышными тирада-
ми, со всеми Эллевиу и Ларуеттами, с Дюгазонами 6 и всеми инженю.
Остается только спрыгнуть с колесницы Феспида7 и потом смотреть,
как, удаляясь, она увозит собратьев по сцене, взирать, как за дальним по-
воротом дороги исчезают в сумерках мишура и пестрые ленты, эти игрушки
радостного ветра Надежды, еще поутру весело развевавшиеся на солнце.
Шоваль вдруг осознал, что ему уже за пятьдесят (хотя он был еще
вполне здоровым мужчиной), и вздохнул. По телу пробежала ледяная
дрожь, перед глазами поплыл туман, и от страшных видений расширились
зрачки.
Он так долго вглядывался в роковое зеркало, что глаза его приобрели
ту способность увеличивать предметы и придавать им особый смысл, кото-
рую физиологи давно уже отметили у людей, охваченных сильным душев-
ным волнением.
Неясные, спутанные мысли блуждали в его мозгу, и под их влиянием
длинное зеркало стало преображаться. Воспоминания о детстве, об отлогих
морских берегах, о серебристых волнах заплясали в его сознании. Зеркало
это (виной тому, несомненно, были звезды, как бы углублявшие его) сна-
чала представилось Шовалю дремлющей в заливе водой. Но чем тяжелее
вздыхал старик, тем больше углублялось стекло, и вот оно уже преврати-
лось в морскую пучину и в ночь — в этих старых друзей всех оыустошен-
.ных сердец.
Шоваль упивался своим видением, пока отраженный в страшном стекле
свет фонаря, окрашивавший багрянцем изморозь на деревьях, не показал-
ся ему кровавым отблеском маяка, который предупреждает об опасности
потерявший курс корабль его будущности.
Актер стряхнул с себя наваждение, выпрямился во весь рост и разра-
зился горьким, неестественным, нервным смехом, от которого вздрогнули
двое полицейских, проходившие в это время неподалеку под деревьями.
К счастью для Шоваля, они, по-видимому, приняли его то ли за пьяного,
то ли за обманутого любовника и продолжали свой обход, не обратив вни-
мания на злополучного лицедея.
— Что ж, уступим место другим,— сказал он так же просто и тихо, как
иной приговоренный к смерти и внезапно разбуженный говорит палачу:
«Я к вашим услугам, мой друг».
После чего старый актер в состоянии крайней подавленности произнес
.следующую тираду:
— Я поступил предусмотрительно, поручив моей давнишней приятель-
Желание быть человеком 95
нице мадемуазель Пенсон (к услугам которой и ушки и подушки минист-
ра) выпросить для меня, между двумя страстными нризнаниями, место
сторожа на маяке, которое занимали еще мои предки, жившие на берегу
Атлантического океана. Так вот оно что! Теперь мне понятно, почему фо-
нарь, отраженный в зеркале, произвел на меня такое странное впечатле-
ние!..— Это было предчувствие.— Я нисколько не сомневаюсь, что маде-
муазель Пенсон скоро пришлет мне назначение. И укроюсь я на маяке, как
крыса в норке. И буду светить далеким кораблям, ушедшим в море. Маяк!'
Он всегда немножко напоминает декорацию. Я совершенно одинок, и для
меня это самый подходящий приют на старости лет.
Шоваль вдруг осекся.
— Что это я! — воскликнул он, шаря рукой по груди под плащом.—
Ведь письмо, поданное мне почтальоном, когда я выходил из дому, вероят-
но, и есть ответ!.. Вот так штука! Я же собирался зайти в кафе, чтобы
прочесть его, и совсем о нем забыл!—Видно, и впрямь я сдаю!—А вот ж
оно!
Тут Шоваль извлек из кармана объемистый конверт; едва он вскрыл
его, как оттуда выпал документ явно министерского происхождения; актер
с жадностью подхватил его и впился в него взглядом при красноватом
свете фонаря.
— Маяк! Мое назначение!—радостно закричал он. Но тут же, не в си-
лах избавиться от старой привычки, добавил: «О, боже, я спасен!»—так
театрально и громко, что сам оглянулся, проверяя, нет ли рядом посторон-
него.
— Что ж, спокойствие! И надо стать человеком.
Но, произнеся эти слова, Эспри Шоваль, он же Лепентёр, по прозвищу
Монантейль, остановился, словно обратившись в соляной столб; казалось,
они парализовали его.
— Так, так...— продолжал он после паузы.— Что это я только что по-
желал себе? — Стать человеком?.. В конце концов почему бы и нет?
Он скрестил руки в раздумье.
— Вот уже почти полвека, как я представляю на сцене, играю
страсти других людей, никогда не испытав их сам,— ведь в сущности-то я
никогда ничего не испытывал.— Только на потеху публике разыгрывал
я сходство с этими «другими людьми», стало быть, я не что иное, как тень?
Страсти! Чувства! Подлинные поступки! ПОДЛИННЫЕ! Они-то и создают
настоящего Человека! ЧЕЛОВЕКА в полном смысле слова. И коль скоро
возраст вынуждает меня вернуться в лоно Человечества, я должен по-
заботиться о том, чтобы испытать какую-нибудь страсть или подлинное
чувство. Ведь это непременное условие, без которого и притязать-то на
звание Человека нельзя. Какое замечательное рассуждение! Тут говорит
здравый смысл.— Итак, попробую испытать страсть, которая больше всего*
подойдет моему воскресшему наконец «я».
Он призадумался, затем начал не без грусти перебирать:
— Лгсбось?.. Слишком поздно.— Слава?.. Я ее познал.— Честолюбие?...
Оставим этот вздор политическим деятелям.
96 Жестокие рассказы
Вдруг он воскликнул:
— Нашел! УГРЫЗЕНИЯ СОВЕСТИ — вот что больше всего подходит
моей натуре, склонной к драматизму.
И, придав лицу выражение, которое должно было изображать сверхъ-
естественный ужас, он посмотрелся в зеркало.
— Все ясно! Угрызения совести,— закричал он.—Нерон, Макбет!
Орест, Гамлет, Герострат!—Призраки!.. О да! Я тоже хочу видеть настоя-
щие привидения, как все эти люди, которые шагу не могли ступить, чтобы
им не явились духи.
Он хлопнул себя по лбу.
— Но как это сделать? Я невинен, как агнец, который и на свет-то
появиться не решается.
Он выдержал паузу и продолжал:
— Пусть это меня не смущает. Кто хочет добиться цели, не разбирает-
ся в средствах... Я имею право любой ценой стать тем, кем мне суждено
быть. У меня есть право на человеческое «Я». Чтобы почувствовать угры-
зения совести, нужно совершить преступление? Что же, совершим его!
Какие тут могут быть колебания, раз это во имя... во имя блага.— Да будет
так! (Он начал разговаривать за двоих.) — «Я совершу страшное преступ-
ление.—Когда?—Тотчас же! Не следует ничего откладывать на завтра.—
Сколько преступлений?— Одно, но чудовищное, необычайное, по жестоко-
сти такое, что все фурии слетятся из преисподней.— Какое именно?— Черт
возьми! Самое что ни на есть сногсшибательное!.. Браво! Придумал!
ПОДЖОГ! У меня как раз достаточно времени, чтобы совершить поджог,
собрать пожитки, затем нанять экипаж и, припав к его окошку, как подо-
бает в таких случаях, торжествовать при виде смятения толпы, а потом, за-
печатлев в памяти проклятия умирающих, сесть в поезд, идущий на северо-
запад, и увезти с собой запас угрызений совести, которого хватит до конца
моих дней. Затем я укр#юсь на своем маяке! Стану невидимым в его свете!
В безбрежном Океане! И полиции не найти меня — ведь не корысти ради
совершил я преступление. Там, в одиночестве, я буду страдать!
Шоваль выпрямился и продекламировал тут же сочиненные стихи в ду-
хе Корнеля:
От правосудья скрыт величьем преступлений!
— Решено!— А теперь,— воскликнул великий артист и схватил булыж-
ник, предварительно осмотревшись по сторонам, дабы убедиться, что во-
круг никого нет,— теперь ты больше уже никого не будешь отражать!
И он запустил камнем в зеркало, которое рассыпалось на тысячи свер-
кающих осколков.
Исполнив сей долг, Шоваль, видимо вполне удовлетворенный своим пер-
вым, но весьма энергичным поступком, поспешил к бульварам, спустя не-
сколько минут остановил знаком экипаж, вскочил в него и исчез.
Часа через два во всех окнах предместья Тампль отражалось огромное
зловещее пламя, вырывавшееся из больших складов, где хранились керо-
син, горючие масла и спички. Вскоре со всех сторон примчались отряды по-
Желание быть человеком $7
жарных; они стали подтаскивать шланги. Проснувшись от тревожного,
пронзительного воя их рожков, жители многолюдного квартала испуганно
вскакивали с постелей. Неумолчно и торопливо постукивали по тротуару
каблука: толпа заполняла большую площадь Шато д'О и соседние улицы.
Уже растянулись наспех организованные цепи людей. Не прошло и чет-
верти часа, как целый батальон солдат оцепил место пожара. В кровавом
свете факелов полицейские сдерживали людской поток, напиравший со
всех сторон.
Экипажи, попав в плен, остановились. Толпа орала. Сквозь жуткий
треск огня издалека доносились крики — то вопили жертвы этого ада, на
которых обрушивались крыши домов. Десятки семейств рабочих из горя-
щих мастерских останутся теперь без хлеба и крова.
А там, за толпой, теснившейся у Шато д'О, стоял одинокий экипаж,
нагруженный двумя большими чемоданами. В этом экипаже сидел Эспри
Шоваль, он же Лепентёр, по прозвищу Монантейль; время от времени он
раздвигал занавески и созерцал содеянное им.
— Какой ужас я должен внушать богу и людям!—думал он.—Ах, я
несчастный! На мне клеймо проклятья!..
Лицо доброго старого комедианта сияло от радости.
— Сколько бессонных ночей, наполненных призраками моих жертв,
познаю я в отмщенье,— надеялся он.— Я чувствую, как возрождается во
мне душа Нерона, сжигающего Рим в порыве художественного экстаза,
душа Герострата, сжигающего храм Дианы Эфесской в порыве тщеславия!..
Ростопчина, сжигающего Москву в порыве патриотизма, Александра, сжи-
гающего Персеполь8 в порыве нежности к своей бессмертной Таис!.. Я же
сжигаю ИЗ ЧУВСТВА ДОЛГА, ибо у меня нет другого доступа к настоящей
жизни.— Я поджигаю потому, что я в долгу перед самим собой!.. Я воздаю
себе должное! Каким настоящим Человеком я теперь стану! Как полно бу-
ду жить! Я познаю наконец, что же испытывают люди, терзаясь угрызения-
ми совести.— Сколько я проведу дивных сладостно-мучительных ночей!..
Да, я начинаю дышать, я возрождаюсь, живу!.. Подумать только, что я
был фигляром! Теперь, когда в глазах толпы я просто висельник, остается
одно — бежать, бежать с быстротой молнии! Уединиться на маяке и там,
в тиши, наслаждаться угрызениями совести.
На следующий день к вечеру Шоваль благополучно прибыл на место
и вступил во владение старым, давно заброшенным маяком на северном
побережье Франции. Светом этого развалившегося сооружения уже давно
не пользовались, но теперь, по распоряжению добросердечного министра,
его снова вернули к жизни ради Шоваля.
Вряд ли сигналы этого маяка могли кому-нибудь понадобиться. Это
был бесполезный придаток, должность без дела, но с окладом, жилище со
сверкающим лучом на крыше, маяк, в котором никто не нуждался, кроме
Шоваля.
Итак, достойный трагик немедленно скрылся от людских подозрений
в этом убежище, перетащив туда свое ложе, съестные припасы и большое
зеркало, в котором он собирался изучать игру выражений своего лица.
4 О. Вцлье. «Жестокие рассказы»
98 Жестокие рассказы
Вокруг него роптало море, в котором извечная бездна небес омывала
сверкающие звезды. Он, подобно некоему столпнику9, смотрел, как, гони-
мые порывами ветра, волны набегают на маяк.
Бессмысленным взглядом следил он за далеким дымком парохода или
за рыбачьим парусом.
И с каждой минутой этот мечтатель все больше забывал о своем поджо-
ге.— Он только и делал, что спускался и поднимался по каменной лестнице.
На третьи сутки, сидя вечером в своей комнатке, которая возвышалась
на шестьдесят футов над морским простором, Лепентёр решил перечи-
тать в парижской газете описание страшного бедствия, случившегося на
днях.
«Неизвестный злоумышленник бросил зажженные спички в погреба,
где хранился керосин. В предместьях Тампль вспыхнул чудовищный по-
жар, который не утихал всю ночь и поднял на ноги не только пожарных,
но и жителей близлежащих кварталов.
Погибло около ста человек, и семьи несчастных обречены на крайнюю
нищету.
Предместье погружено в траур и все еще дымится.
Имя преступника неизвестно, как неизвестны и мотивы, побудившие
его совершить столь ужасное преступление».
— Какой успех! Какой я прекрасный изверг! Сколько призраков посе-
тит меня! Ах, сколько я увижу привидений! Я же знал, что в конце концов
стану Человеком! — Сознаюсь, мне пришлось прибегнуть к жестокому
средству, но это было необходимо... совершенно необходимо!
Перечитав всю газету и найдя там упоминание о том, что в пользу
погорельцев будет дано грандиозное представление, Шоваль прошептал:
— Мне следовало бы своим талантом принести пользу несчастным
жертвам!— Это было бы моим прощальным выступлением!.. Я продеклами-
ровал бы монолог Ореста, да еще как естественно!
И Шоваль зажил на своем маяке.
Длинной чередой потянулись, сменяя друг друга, вечера и ночи.
Но с актером происходило нечто необъяснимое, нечто поистине ужасное.
Вопреки всем своим надеждам и ожиданиям, он не испытывал никаких
угрызений совести. Ни одно привидение не являлось ему!—Он ничего не
чувствовал, решительно ничего...
Он отказывался верить тому, что совесть его молчит. Просто не мог
с этим примириться.
Иногда, смотрясь в зеркало, он убеждался, что его добродушное лицо
ничуть не изменилось! — Тогда он приходил в бешенство, давал ложные
сигналы, надеясь, что, погубив какое-либо судно вдали, расшевелит, возбу-
дит непослушную совесть! Увидит наконец какой-нибудь призрак!
Напрасный труд!
Бесплодные старания! Тщетные усилия! Он ровно ничего не чувство-
вал. Грозные призраки не являлись к нему! Отчаяние и стыд так его му-
чали, что он лишился сна.— И вот однажды ночью, когда он находился, как
обычно, в своем одиноком, залитом огнями убежище, у него началось вое-
Цветы небытия 90
паление мозга, и под грохот океана, под рев соленого ветра, сотрясавшего
затерянный в бесконечности маяк, он в предсмертных муках молил:
— Призраков!.. Ради бога!.. Пусть мне явится хоть один призрак! —
Я ведь его заслужил\
Но бог, к которому он взывал, не даровал ему этой милости,— и старый
фигляр, не переставая твердить с пустой напыщенностью, что жаждет
призраков, испустил дух, так и не поняв, что призраком был он сам.
XVII. Цветы небытия
Посвящается Леону Дьерксу '.
Добрые люди, прохожие,
молитесь за усопших!
(Надпись у проселочной дороги)
Что за прекрасные вечера! Сколько женщин в ярких туалетах, сколько
элегантных «зевак» сидят на бульварах в сверкающих кафе и на террасах
прославленных мороженщиков. Между столиками ходят с корзинами мо-
лоденькие цветочницы.
Прекрасные бездельницы принимают цветы, которые проплывают мимо
них только что сорванные, таинственные...
— Таинственные?
— Вот именно!
Да будет вам известно, улыбающиеся читательницы, что в самом Па-
риже существует некое сомнительное агентство, которое входит в сделку
с устроителями пышных похорон и даже с могильщиками, дабы обобрать
покойников, похороненных утром, и не дать напрасно увянуть на свежих
могилах всем тем великолепным букетам, венкам, розам, которые ежеднев-
но отягчают катафалки, как дань сыновней или супружеской любзи.
По окончании траурной церемонии об этих цветах почти всегда забы-
вают. О них уже не думают: все спешат разойтись — и это понятно!..
Вот тут-то наши любезные могильщики и дают себе волю! Эти господа
не забывают о цветах! Они не витают в поднебесье. Они люди практичные.
Они уносят их потихоньку, охапками. Для них минутное дело перебросить
цветы через ограду в поджидающую на дороге тележку.
Двое или трое могильщиков из наиболее расторопных и смышленых
отвозят ценный груз знакомым цветочницам, золотые руки которых под-
бирают на тысячи ладов эти печальные остатки, делают из них множество
букетов, бутоньерок, сортируют розы.
Молоденькие торговки приходят тогда со своими корзинами. Они появ-
ляются на улицах, едва зажгутся фонари, и расхаживают, как мы ужо
4*
100 Жестокие рассказы
говорили, по бульварам, перед роскошными кафе и в многочисленных уве-
селительных местах.
Скучающие молодые люди, надеясь понравиться щеголихам, к которым
они питают известную склонность, покупают по дорогой цене эти букеты
и преподносят их своим дамам.
Красавицы принимают цветы с равнодушной улыбкой, прикалывают
пх к корсажу или держат в руке.
И при отблеске газа их лица, белые от притираний, кажутся мертвепно
бледными.
Таким образом, эти женщины-привидения, украшенные цветами Смер-
ти, являют, сами того не подозревая, символ любви, которую они дают и
которую получают.
XVIIL Аппарат для химического анализа
последнего вздоха
Utile dulci *.
(Гораций)
Дело в шляпе!— Нашим победам над Природой уже нет числа. Осанна!
Не достает даже времени о них подумать! Какое торжество!.. В самом деле,
к чему думать?— По какому праву?— Да и что в сущности означает «ду-
мать»?— Пустые слова всо это!.. Давайте спешно открывать, изобретать,
забывать, вспоминать! Начинать все сызнова и — вперед! Во весь опор!
Чего там! Все и так канет в Небытие.
О чудо! Наконец-то тончайшие научные инструменты становятся иг-
рушками в руках детей! Свидетельством тому служит восхитительный Ап-
парат профессора Шнейтцофера (младшего) из Нюрнберга (Бавария) для
Химического анализа последнего вздоха.
Цена — один двойной талер (7,95 франков вместе с коробкой) — согла-
ситесь, что это даром!.. Продается за наличный расчет. Отделения фирмы
имеются в Париже, Риме и во всех прочих столицах.— Доставка оплачи-
вается особо.— Избегайте подделок.
Благодаря этому Аппарату дети смогут отныне без горечи сожалеть
о потере родителей.
Физическое благополучие прежде всего!—Даже если оно походпт на
описание монастырской жизни, данное одним моралистом в книге
Жюстина, или Вознагражденная добродетель 2.
* Полезное с приятным (лат.) 4.
Аппарат для химического анализа последнего вздоха 101
Словом, так и кажется, что снова настанет Золотой век.
Подобный инструмент займет, естественно, почетное место среди по-
лезных подарков, которые следует вдвойне рекомендовать семьям, ибо он
приносит радость детям и спокойствие родителям.
Его можно вложить также в пасхальное яйцо, повесить на рождествен-
скую елку и т. п.
Знаменитый изобретатель предоставил скидку газетам, которые поже-
лают премировать Аппаратом своих подписчиков; последний незаменим
для устроителей тбмболы3; национальные лотереи возобновляют на него
свои заказы.
Эту драгоценность можно весьма кстати положить под салфетку дедуш-
ки во время праздничного обеда (или свадебного пиршества), в корзину
с цветами, преподносимую теще, и даже попросту передать из рук в руки
внукам старых провинциальных друзей, если хочешь доставить им так на-
зываемый приятный сюрприз.
Представим себе, в самом деле, вечерние часы в небольшом провин-
циальном городке.— Сделав покупки, матери семейств вернулись восвояси.
Поужинали.— Члены семьи перешли в гостиную. Это один из тех вечеров
без посторонних, когда родители тихо дремлют, усевшись у очага. Фитиль
лампы приспущен, и абажур еще больше смягчает свет. Шелковые черные
чепцы клонятся книзу, выглядывая из-за спинки кресел. Лото, приводящее
порой к столь бурным стычкам, заброшено. «Гусёк» и тот позабыт в ящике
стола. Газета валяется у ног спящих. Престарелый друг, поклонник (тай-
ный) Вольтера, мирно переваривает пищу, потонув в мягком кресле. Слы-
шится только равномерный звук иглы — это старшая дочь вышивает возле
стола, вторя под тиканье часов спокойному дыханию родителей. Словом,
все в этой добропорядочной буржуазной гостиной говорит о вполне заслу-
женном покое.
Прогресс отнюдь не нарушает эту прелестную семейную картину, на-
оборот, он обновляет ее, подобно искусному мастеру, реставрирующему
старинную мебель.
Но не будем умиляться.
Интересно посмотреть, чем займутся в этот вечер дети; ведь они не шу-
мят, не будят гневающихся родителей своими прежними, несносными иг-
рушками! — Взгляните! — Они входят в гостиную on tiptoe, на цыпочках,
с трудом подавляя взрывы юного безудержного смеха.— Тише!.. Они про-
стодушно подносят к губам старших небольшой Аппарат профессора
Шнейтцофера (младшего)! (У нас во Франции произносят для упрощения
Аппарат Бертрана).
Так вот во что они играют!—Бедные малыши!..— Они упражняются!..
Они предваряют ту минуту (с которой, увы, было бы столь естественно
свыкнуться заранее), когда им придется сделать это на самом деле. Они
притупляют путем своеобразной моральной гимнастики слишком острую
боль, которую причинила бы им в будущем потеря близких (не будь этой
искусственно приобретенной привычки). Они заранее ослабляют грозящую
им мучительную скорбь.
102 Жестокие рассказы
Сущность этого остроумного метода заключается в том, чтобы собрать
в роскошную реторту Аппарата изрядное количество предпоследних вздо-
хов, полученных в течение Временного сна, дабы определить, когда пробьет
час, чем отличается от полученных осадков первый вздох Вечного сна.
Эта забава, в сущности, не что иное, как превентивное средство, которое
заблаговременно подавляет в нежных душах наших отпрысков всякую
склонность к слишком сильным волнениям! Оно искусственно приучает их
к горю утраты, которое покажется им в БУДУЩЕМ чем-то избитым, скуч-
ным и незначительным.
Зато с какой любовью целуют при пробуждении старшие эти дорогие
детские головки!—С какой сладостной грустью прижимают они к сердцу
веселых проказников!
Можем ли мы, не поступившись нашим званием философа, воспроти-
виться велению долга и не повторить еще раз, даже против собственной во-
ли: Аппарат, о котором идет речь,— научная безделушка, необходимая в
любой светской гостиной, а услуги, которые он может оказать обществу,
как таковому, и Прогрессу, налагают на нас обязанность горячо рекомен-
довать его.
Необходимо прививать вкус к этому гигиеническому времяпрепровож-
дению подросткам и даже, со временем, маленьким детям.
Аппарат Шнейтцофера (младшего) — единственный инструмент, упо-
требление которого тонизирует нервную систему слишком любящих де-
тей,— призван стать, так сказать, uade mecum * школьника в каникулярное
время, и наш милый шалун научится применять его между спряжением
двух возвратных или неправильных глаголов. Учителя зададут ему это
упражнение в качестве обязательного урока.— В начале учебного года
научная игрушка займет место на его парте.
Счастливый век!—Каким утешением служит теперь для родителей,
лежащих на смертном одре, сознание, что их нежным отпрыскам — слиш-
ком любимым! — не придется больше терять времени (время — деньги!)
на никчемные выделения слезных желез и на нелепые жесты, которые поч-
ти всегда вызывает неожиданная смерть!.. Скольких неудобств можно бу-
дет избежать при ежедневном употреблении этого предупредительного
средства!
Стоит такой привычке укорениться, и наследники, обретя перед кончи-
ной близких просвещенное, сочувственное, печальное и пристойное безраз-
личие и, как мы уже говорили, издавна разжижив горе, перестанут опа-
саться последствий оторопи, скорби, в которую неожиданность траурных
приготовлений погружала порой их предков: они будут застрахованы от
отчаяния. Положительно, в этом отношении наступит новая эра.
Похороны будут проходить, черт возьми, без помех, или, что называет-
ся, без сучка, без задоринки.
Спокойствие! Спокойствие! Спокойствие! — таков должен быть наш
девиз (никогда не следует забывать об этом).
* Карманным справочником {лат.).
Аппарат для химического анализа последнего вздоха 103
Пренебрежение к личным интересам в первые дни после кончины близ-
ких, расстройство, смятение, которые идут на пользу лишь ненасытной
алчности могильщиков — (что за несносные вымогатели!..),— завещание,
составленное наспех или, иными словами, как бог на душу положит, непо-
нятные каракули завещателя, на которые набрасывается черная стая за-
коноведов к вящему убытку родственников, ставших безутешными,— по-
следняя воля, необдуманно выраженная умирающим, беспорядок, царящий
в доме усопшего, хищения слуг — всех этих вредных последствий можио
будет избежать благодаря каждодневному употреблению Аппарата Шнеыт-
цофера (младшего).
От покойника отделаются как можно скорее,—и в семье даже не заме-
тят, что человека уже нет в живых. Жизнь пойдет своим чередом, словно
ничего особенного не случилось.
Такой порядок вещей скажется даже на искусствах. Через какие-нибудь
десять лет картина Дочь Тинторетто 4 станет цениться лишь за свой коло-
рит, а траурные марши Бетховена и Шопена будут восприниматься только
как танцевальная музыка.
О, нам прекрасно известно, против каких предрассудков приходится
бороться Шнейтцоферу! Но ведь мы живем в практический, позитивный и
просвещенный век, не так ли? Будем же людьми своего века! Пойдем в но-
гу с веком! — Скажите, положа руку на сердце, кому хочется страдать
в наши дни?— Никому.— Итак, долой бесплодную, вредную и зачастую
преувеличенную сентиментальность, которой не верят даже прохожие, по
привычке снимающие шляпы перед похоронными дрогами.
Проявите во имя Земли хоть немного здравого смысла и чистосерде-
чия! — Как бы мы с вами ни важничали, скажите, разве можно было нас
рассмотреть в солнечный микроскоп несколько лет тому назад? Нет. Зна-
чит не следует слишком поспешно осуждать то, что нас коробит за отсут-
ствием привычки и глубины мысли! Давайте, как мужественные вольно-
думцы, введем в моду безмятежное достоинство в сыновней скорби, заранее
лишив ее тех нелепых сторон, которые граничат порой с гротеском.
Более того, не является ли в наши дни роскошью (которую не могут
позволить себе бедняки, изнывающие под бременем каждодневного труда)
благочестивая скорбь сына, потерявшего, скажем, престарелую мать?
Разве так уж необходимо проводить время в горестных размышлениях?
Ведь без них в конце концов можно обойтись. Жалобные вздохи зажиточ-
ных людей — бесполезная трата общественного времени, компенсируемая
трудящимися классами, которые, не пользуясь благосклонностью госпожи
Фортуны, ропщут все сильнее и сильнее.
Рантье оплакивает своих покойников лишь за счет неимущих: он кос-
венно присваивает себе социальную стоимость слез — стоимость прерога-
тивы, за которую расплачиваются те, кто проливает их лишь втихомолку.
Мы все принадлежим ныне к великой Человеческой семье — это дока-
зано. Следовательно, к чему скорбеть об одном человеке больше, нежели
о другом?.. Вывод: раз все забывается, не лучше ли приучить себя к немед-
ленному забвению?— Отчаяние самое безумное, стоны, рыдания самые го-
104 Жестокие рассказы
рестные, крики, стенания самые громкие еще никого, увы, не воскресили.
Да это и к лучшему!.. Иначе мы вскоре оказались бы на Земном шаре
в такой же тесноте, как сельди в бочке.— При нашей теперешней плодови-
тости положение стало бы невыносимым. Мрачные предсказания экономи-
стов незамедлительно сбылись бы: досточтимый человеческий Полип по-
гиб бы от полнокровия, и — поскольку такие спорадические средства, как
войны и эпидемии, были бы признаны недостаточными — нам пришлось бы
убивать друг друга чем попало, продолжай мы упорствовать в своем жела-
нии дышать и двигаться на этой планете — на планете, где Наука доказы-
вает, как дважды два — четыре, что люди всего-навсего недолговечные па-
разиты.
Да будет все это сказано для насмешников, для заумных писателей, ко-
торых приходится перечитывать по нескольку раз, чтобы проникнуть в ис-
тинный смысл того, что они хотят сказать.
— «Средство безболезненное, господа! Спешите! Заказывайте! Поку-
пайте! 7,95 фр. коробка!—Взгляните, господа, на Аппарат!.. Душа его со-
крыта в глубине. Должна быть там сокрыта!—На картинке, которую вы
видите вот здесь, в витрине (следите за моей указкой), изображен прослав-
ленный профессор в ту минуту, когда он высадился на благословенных
берегах Сены и был встречен г-ном Тьером5, персидским шахом и множе-
ством просвещенных людей.— Аппарат безвреден! Совершенно безвреден!
В особенности если вы потрудитесь ознакомиться (и не рассеянным, блуж-
дающим взглядом, подобным тому, которым вы удостаиваете меня в эту
важнейшую минуту, а с должным вниманием и вдумчивостью) с прилагае-
мой к нему инструкцией. К сожалению, Отдел патентов запрещает нам
разглашать состав использованных реактивов — отвлекающих, токсических,
чихательных, ибо они — тайна Изобретателя. Это распоряжение было нами
получено вчера через посредство специального Бюро.
Желая, однако, успокоить клиентов из Буржуазии, класса, к которому
особо обращается профессор, мы считаем необходимым сказать, что жид-
кость, наполняющая разноцветный хрустальный сосуд — он-то и придает
шарообразную форму Аппарату,— состоит в основном из нитроглицерина,
а всем известно, что глицерин — превосходное средство, безвредное, масля-
нистое, которое применяют ежедневно для смягчения кожи (перед употреб-
лением взбалтывать).— Поторопитесь! Эти изящные аппараты для ортопе-
дии сердца — величайшее достижение науки! Их раскупают целыми грос-
сами! Нюрнбергская фабрика завалена заказами!..
Достойный восхищения профессор Шнейтцофер (младший), и тот по-
пал в безвыходное положение: он уже не в состоянии справиться со всеми
заказами, несмотря на препятствия, каждодневно чинимые духовенством.
Вышеуказанный Аппарат — истинное сокровище для нервов, превос-
ходное успокоительное средство, целительный бальзам для семейств! Он
необходим вдумчивым родителям, которые сумели освободиться от мораль-
ных предрассудков, ибо если в иные минуты чувство и доставляет наслаж-
дение, излишек его вреден тому, кто поистине является Человеком.—В са-
мом деле, Человечество, шагающее вперед под древними светилами, име-
Разбойники 105
нуется в наши дни лишь обществом, а Человек — индивидуумом. Призы-
ваем тому в свидетели, господа, уже не расплывчатый, вышедший из моды
небосвод, а Солнечную систему, да, господа, Солнечную систему от Мерку-
рия до неминуемой Зеты в созвездии Геркулеса» *.
XIX. Разбойники
Посвящается Анри Рушону '.
Чем является третье сословие? — Ничем. Чем
оно должно стать? — Всем.
(Сюлли 2, потом — Сийес 3)
Пибрак ж Нерак, этот дуэт супрефектур-близнецов, со времен Орлеан-
ской династии соединенных проезжей дорогой, услаждал умиленные небеса
изумительной гармонией дел, нравов, воззрений.
Как и в других городах, муниципальный совет волновали страсти; —
как и всюду, буржуа пользовались всеобщим и своим собственным уваже-
нием. Итак, все дышало миром и радостью в этом благословенном краю>
как вдруг в один из октябрьских вечеров старый неракский скрипач, ока-
завшись в стесненных обстоятельствах, остановил на большой дороге
пибракского церковного сторожа и под покровом темноты тоном, не допу-
скавшим возражений, потребовал у него денег.
Хранитель колокольни с перепугу не узнал скрипача и отдал кошелек,
но, вернувшись в Пибрак, так расписал это происшествие, что в умах,
взбудораженных его рассказом, бедный неракский старик-музыкант пре-
вратился в ненасытную шайку разбойников, чьи убийства, поджоги и гра-
бежи опустошили весь юг страны и обезлюдили большую дорогу.
Умудренные жизнью буржуа обоих городов поощряли эти слухи хотя бы
уже потому, что истый собственник всегда склонен преувеличивать вину
людей, которые, как ему кажется, зарятся на его капиталы. Сами они,
правда, не дались в обман! Они-таки докопались до источника слухов.
* Теперь доподлинно известно, что вся Солнечная система незаметно движется
по направлению к точке, отмеченной на небосводе шестой звездой созвездия Гер-
кулеса (иначе говоря, Zêta Herculis). По данным астрономии, эта огненная
бездна,— размеры которой таковы, что, пытаясь вообразить их, невольно те-
ряешься в мыслях (если для тех, кто мыслит, видимое небо имеет хоть какое-
нибудь значение),— послужит, вероятно, местом гибели или неминуемого исчез-
новения той совокупности явлений, которую мы собою представляем.— На эту
развязку и намекает, без сомнения, баварский профессор. Нас, французов, уте-
шает лишь сознание, что мы знаем это так же хорошо, как и он, и что у нас
еще есть время об этом подумать. (Прим. автора.)
06 Жестокие рассказы
Подпоив церковного сторожа, буржуа принялись его выспрашивать. Сто-
рож зарапортовался, и теперь они лучше его самого знали, в чем сущность
дела!.. Однако, потешаясь над доверчивостью толпы, наши достойные со-
граждане решили поберечь секрет, ибо они всегда любовно берегут то, что
держат в руках. Впрочем, такая сдержанность есть отличительный признак
людей рассудительных и просвещенных.
Месяц спустя, вечером в середине ноября, когда часы на башенке ми-
рового суда пробили десять, неракские буржуа разошлись по домам с ви-
дом несколько более лихим, чем обычно, и даже — честное слово!—сдви-
пув шляпы набекрень, за что супруги, потрепав мужей за бакенбарды, на-
звали их мушкетерами — прозвищем, приятно пощекотавшим сердца лю-
бящих пар.
— Знаешь, сударыня, завтра я спозаранку уезжаю.
— Ах, боже мой!
— Сейчас время получать аренду: я должен сам съездить на фермы.
— Никуда ты не поедешь!
— Это почему?
— А разбойники?
— Ба! Я и не таких видывал!
— Ты не поедешь!—категорически заявляла супруга, как это и подо-
бает между людьми, умеющими читать мысли друг друга.
— Постой, постой, деточка... Предвидя женские страхи, мы ради ваше-
го успокоения уговорились ехать все вместе; мы наймем линейку и захва-
тим с собой охотничьи ружья. Наши земли сопредельны, так что к вечеру
мы вернемся. Вытри-ка слезы, и поскольку Морфей раскрывает нам объя-
тия, дай мне спокойно завязать концы фуляра на лбу.
— Ну, раз вы едете все вместе — в добрый час: ты должен поступать,
как другие,— мгновенно успокоившись, произносила супруга.
Ночь прошла восхитительно. Нашим буржуа снились штурмы, побои-
ща, абордажи, турниры и лавры. Посвежевшие и благодушные, проснулись
они с первыми радостными лучами солнца.
— Идем!..— бормотал каждый достаточно громко, чтобы супруга могла
расслышать, и, с великолепной беспечностью махнув рукой, принимался
натягивать чулки.— Идем! Час пробил! Двум смертям не бывать!
Дамы с восхищением взирали на этих современных паладинов и, так
как была осень, набивали им карманы леденцами от кашля.
Но глухие к рыданиям герои поспешно вырывались из объятий, в кото-
рых их тщетно пытались удержать...
— Последний поцелуй!— просили они, выходя на лестницу.
И — каждый по своей улице — направлялись на городскую площадь,
где кое-кто из них (холостяки) уже поджидали коллег у повозки и, нахму-
рив брови, оглашали утро щелканьем курков охотничьих ружей, затравки
которых они засыпали свежим порохом.
Пробило шесть, и линейка тронулась под мужественные звуки Парижан-
ки 4, подхваченной всеми четырнадцатью сидевшими в ней землевладель-
цами. В дальних окнах лихорадочные руки неистово замахали платками,
Разбойники Ю7
а» героическая песня взывала:
Так смелей идем!
Пушки их сметем!
Пусть встречают нас батальоны огнем!
Затем десницы взлетали в воздух, и с ревом вырывалось:
Вперед, к победе славной!
А сидевший на козлах рантье отбивал такт размашистыми ударами
кнута, которым он изо всей силы угощал лошадей.
День прошел превосходно.
Буржуа умеют пожить и в делах охулки на руку не кладут. Но что ка-
сается честности — извините! Тут уж они нравственны до такой степени,
что готовы повесить ребенка за украденное яблоко.
Итак, пообедав на своих фермах, на десерт ущипнув служанку за под-
бородок, положив в карман кошель с арендной платой, обменявшись с се-
мейством хозяина несколькими прочувствованными изречениями, вроде:
«Счет дружбы не портит», «По хозяину и слуга», «Работа лучше молитвы»,
«Всякий труд достоин уважения», «Исправный должник богатеет» и дру-
гими общепринятыми поговорками, наши землевладельцы скромно укло-
нились от сыпавшихся на них, как это полагается, благословений и заняли
места в линейке, которая поочередно объезжала фермы, подбирая седоков,
и с наступлением темноты двинулась обратно в Иерак.
Однако на душе у них было смутно!—В самом деле, из рассказов
крестьян они узнали, что у скрипача нашлись последователи. Пример ока-
зался заразительным. Похоже было на то, что к старому злодею присоеди-
нилась целая орда настоящих грабителей, и дорога — тем более в пору
арендных платежей — стала положительно небезопасной. Поэтому, хотя
в головах у них еще некоторое время шумело от выпитого кларета5, наши
герои распевали теперь Парижанку куда сдержаннее, чем раньше.
Спускалась ночь. Черные силуэты придорожных тополей вытянулись,
их ветви заскрипели под ветром. Выделяясь из великого множества ночных
шуисз и перемежаясь с цоканьем копыт трех мерно рысивших мекленбург-
ских тяжеловозов, издалека доносился зловещий вой бродячей собаки.
Вокруг побледневших пассажиров, которых скупо освещали первые лучи
луны, сновали летучие мыши... Брр!.. Конвульсивно зажав ружья между
подрагивающих колен, седоки то и дело потихоньку ощупывали кошели
с деньгами. Никто не раскрывал рта. Как это ужасно для порядочного
человека!
Внезапно — о горе!—на развилине дороги показались устрашающие
фигуры с искаженными лицами, засверкали ружья, послышался конский
топот, и во мраке раздалось грозное «Стой!» Как раз в эту минуту луна
спряталась за черными тучами.
Большую дорогу загородила большая повозка, набитая вооруженными
людьми.
108 Жестокие рассказы
Кто они? Несомненно, злодеи! Бандиты!—Несомненно!
Увы, нет! То был отряд-двойник, компания честных пибракских буржуа.
То были пибракцы, которым накануне пришла в голову та же мысль, что
и неракцам.
Покончив с делами и направляясь домой, мирные рантье обоих городов
просто-напросто столкнулись на дороге.
Мертвенно побелев, всматривались они в темноту. От сильного страха,
причиной которого была владевшая ими неотвязная мысль, на благодуш-
ных лицах этих людей отпечатлелись их сокровеннейшие инстинкты,—
подобно тому, как ветер, взволновавший озеро, поднимает глубинные воды
на поверхность; естественно поэтому, что обе стороны приняли друг друга
за тех самых разбойников, которых они одинаково боялись.
Они зашептались во тьме и мгновенно так обезумели, что, дрожа и суе-
тясь, пибракцы для храбрости схватились за оружие; чей-то курок заце-
пился за сиденье; грянул выстрел, и пуля попала в грудь одного из нерак-
цев, раздробив миску с гусиным паштетом, которой тот машинально вос-
пользовался, как щитом.
Ах, этот выстрел! Он оказался той искрой, от которой взрывается порох.
Пароксизм всепоглощающего чувства привел их в исступление. Загремела
частая, неистовая стрельба. Их ослепил инстинкт, повелевавший охранять
себя и свои деньги. Трясущимися руками они торопливо совали патроны
в ружья и палили наугад в толпу врагов. Рухнули лошади, опрокинулась
одна из линеек, люди и кошели с деньгами вперемешку посыпались на зем-
лю. Охваченные смятением и ужасом, раненые восстали, как львы, и при-
нялись расстреливать друг друга, никого не узнавая в дыму!.. Свались
в это время с неба жандармы, им за свое рвение, несомненно, пришлось бы
заплатить жизнью.— Короче говоря, это было взаимное истребление, так
как отчаяние пробудило в буржуа энергию самого человекоубийственного
свойства, одним словом, ту самую, которой отличается класс порядочных
людей, когда их доводят до крайности!
В это время настоящие разбойники (то есть с полдюжины бедняг, ви-
новных самое большее в том, что они крали где придется корку хлеба, ку-
сок сала или несколько су) дрожали от испуга в каком-то заброшенном
вертепе, слыша грозно нарастающий грохот пальбы и дикие крики буржуа,
которые ветер доносил к ним с большой дороги.
Остолбенев от неожиданности и вообразив, что на них ведется облава,
опи прервали безобидную игру в карты вокруг кувшина с вином, повска-
кали с мест и, без кровинки в лице, уставились на предводителя. Старик-
скрипач сам, казалось, вот-вот упадет в обморок. Длинные ноги подгиба-
лись под ним. Бедняга, застигнутый врасплох, совершенно растерялся. То,
что он слышал, превосходило его разумение.
Однако после нескольких минут замешательства честные разбойники
увидели, как он внезапно вздрогнул и в раздумье приставил палец к кон-
чику носа, вслушиваясь в безостановочную перестрелку.
Королева Изабо 109
Затем, подняв голову, он сказал:
— Дети мои, этого не может быть! Дело не в нас... Тут какое-то недо-
разумение, какая-то путаница... Берите-ка потайные фонари и пойдем
поможем несчастным раненым. Шум доносится с большой дороги.
С бесконечными предосторожностями раздвигая кусты, они вышли на-
конец к месту жуткого побоища, над которым опять взошла луна.
Только что последний уцелевший буржуа, торопясь перезарядить рас-
каленное ружье, прострелил себе голову,— не с умыслом, конечно, а по
недосмотру.
При виде потрясающего зрелища трупов, которые устилали окровавлен-
ную землю, подавленные разбойники, не веря своим глазам, оцепенели
в молчании. И тогда в головах у них забрезжила смутная догадка о том,
что здесь произошло.
Вдруг предводитель свистнул, подал знак, и фонари выстроились коль-
цом вокруг музыканта.
— Ох, друзья мои!—чуть слышно пробормотал он (и зубы его защел-
кали от нового приступа страха, пожалуй, еще более сильного, чем пер-
вый)— ох, друзья мои! Подбирайте скорей деньги этих достойных буржуа,
и махнем через границу! Бежим что есть духу! Ноги нашей в этой стране
больше не будет!
И так как сообщники смотрели на него, разинув рты и ничего не пони-
мая, он пальцем указал на мертвецов, вздрогнул и произнес нелепую, но
наэлектризовавшую всех фразу, которая, без сомнения, была плодом глу-
бокой житейской мудрости и долголетнего знакомства с энергией, с Чест-
ностью третьего сословия:
— ТЕПЕРЬ ОНИ ДОКАЖУТ, ЧТО ЭТО СДЕЛАЛИ МЫ...
XX. Королева Изабо
Посвящается графу д'Омуа.
Хранитель Дворца книг повествует: Прекрас-
ная царица Нитокрис, чьи ланиты были по-
добны розам, вдова Папи I из 10 династии,
возжелав отомстить убийцам брата, созвала
их на yoicuH в подземный зал своего Азнакско-
го дворца и, внезапно покинув пирующих, при-
казала впустить туда воды Нила.
(Манефон ])
Около 1404 года (я обращаюсь к столь отдаленным временам лишь для
того, чтобы не шокировать моих современников) Изабелла 2, супруга коро-
ля Карла VI п регентша Франции, жила в Париже в старинном особняке
Монтагю, своего рода дворце, более известном иод названием особняка
Барбет.
НО Жестокие -рассказы
Там задумывались знаменитые потешные бои, происходившие на водах
Сены при свете факелов; непрерывной чередой шли ночные празднества,
музыкальные представления и пиры, обязанные своей чарующей преле-
стью как красоте дам и молодых вельмож, так и неслыханной роскоши
двора.
Королева только что ввела в моду ажурные платья, которые едва при-
крывали грудь сеткой лент, расцвеченных драгоценными камнями, и те
самые прически, из-за которых пришлось на несколько локтей увеличить
высоту дверных сводов в феодальных замках. Днем придворные собирались
неподалеку от Лувра — в приемном зале и апельсиновом саду королевского
казначея мессира Эскабаля. Там велась крупная игра, и нередко кости,
выброшенные из стаканчика игроком в гальбик, падали на ставки, способ-
ные вызвать голод в целых провинциях. Понемногу расточались немалые
сокровища, с таким трудом накопленные бережливым Карлом V 3. Казна
пустела, зато росли подати, повинности, сборы, субсидии4, секвестры, на-
лог на соль и всякие незаконные пошлины. Радость царила во всех серд-
цах.— Но в те же самые дни угрюмый, избегавший двора и уже отменив-
ший в своих землях все эти гнусные поборы Жан де Невер, рыцарь и
сеньор Саленский, граф Фландрии и Артуа, граф Неверский, бароп Ретель-
ский, палатин Малинский, дважды пэр и первый из пэров Франции, дво-
юродный брат короля, воин, провозглашенный впоследствии на Коястапц-
ском соборе 5 единственным полководцем, за слепое повиновение которому
никто не мог быть отлучен от Церкви, первый вассал короны и первый
подданный короля (который в свою очередь всего лишь первый подданный
народа;, наследственный герцог Бургундский, будущий герой Никополя и
того победоносного сражения на плато Эсбэ, где, покинутый фламандцами,
он стяжал у всего войска героическое прозвище Бесстрашный, избавив
Францию от самого опасного врага,— в те же самые дни, говорю я, Иоанн
Бесстрашный6, сын Филиппа Отважного и Маргариты II, ради спасения
отчизны готовился огнем и мечом сокрушить Генриха Дерби7, графа Гер-
фордского и Ланкастерского, пятого из королей Англии, носивших такое
имя, но добился лишь того, что неблагодарная Франция, подражая ан-
гличанину, назначившему награду за его голову, объявила его измен-
ником.
Делались первые, еще неумелые попытки играть в карты, которые со-
всем недавно привезла во Францию Одетта де Шан-д'Ивер8.
По любому поводу бились об заклад; пили вино с лучших виноградни-
ков герцогства Бургундского. Слушали новые тенсоны9 и вирелэ 10 герцога
Орлеанского и (одного из самых влюбленных в звучные рифмы принцев
герба Лилии12). Спорили о модах и об искусстве оружейников; частенько
распевали нескромные песенкп.
Берениса, дочь богача Эскабаля, была любезной и прехорошенькой де-
вицей. Ее невинная улыбка привлекала в дом блестящий рой дворян.
Было известно, что она принимает всех с равной учтивостью.
Однажды молодой вельможа, видам 13 де Моль, бывший в то время воз-
любленным Изабеллы, побился (выпив вина, разумеется!) об заклад под
Королева Изабо Ш
честное слово, что восторжествует над непреклонной девственностью
дочери мэтра Эскабеля, короче— что овладеет ею в самые ближайшие
дни.
Он бросил эти слова обступившим его придворным. Вокруг раздавались
смех и песни, но шум не заглушил неосторожной фразы молодого человека.
Об этом пари, заключенном под стук кубков, стало известно Людовику Ор-
леанскому.
Людовика Орлеанского, своего деверя, королева еще с первых дней
регентства удостоила страстной привязанности. То был блестящий, легко-
мысленный и в то же время на редкость коварный и опасный принц.
В Изабелле Баварской и в нем было от природы много родственного, и от
этого их связь походила на кровосмешение. Не говоря уже о случайных
возвратах увядшей нежности, принц умел поддерживать в сердце королевы
некое подобие любовной склонности к нему, которая объяснялась скорее
общностью интересов, нежели симпатией.
Герцог следил за фаворитами невестки. Когда ехму казалось, что бли-
зость любовников начинает угрожать тому влиянию на королеву, которое
ему хотелось сохранить за собой, он был не слишком разборчив в средст-
вах и, не гнушаясь даже доносом, вызывал разрыв, почти всегда траги-
ческий.
Поэтому он позаботился, чтобы вышеупомянутые слова дошли до све-
дения венценосной возлюбленной видама де Моля.
Изабелла улыбнулась, пошутила над ними и, казалось, оставила их без
внимания.
У королевы были свои доверенные лекари, которые продавали ей секре-
ты восточных снадобий, способных разжигать огонь вожделения к ней.
Эта новая Клеопатра была создана скорее председательствовать на судах
любви 14 в каком-нибудь замке или быть законодательницей мод в дальней
провинции, чем освобождать от англичан родную страну. Но на этот раз
она не стала советоваться со знахарями — даже с Арно Гилемом, своим
алхимиком.
Однажды, спустя некоторое время, сир де Моль находился ночью у ко-
ролевы в особняке Барбет. Час был поздний; утомленных наслаждениями
любовников клонило ко сну.
Внезапно г-пу де Молю показалось, что в Париже раздались редкие,
зловещие удары колокола.
Он приподнялся и спросил:
— Что это?
— Ничего... Оставь!..— томно ответила Изабелла, не открьгвая глаз.
— Как ничего, царица души моей? Ведь это набат!
— Да... Возможно... Но что из того, мой друг?
— Горит какой-то дворец!
— Мне как раз это и снилось,— сказала Изабелла.
Губы охваченной дремотой красавицы приоткрылись в улыбке, обна-
жив два ряда жемчужин.
— И знаешь, милый, мне снилось, что поджигал ты,— продолжала
-7 72 Жестокие рассказы
она.— Я видела, как ты швырнул горящий факел в подвал, полный сена и
бочек с маслом.
— Я?
— Да!..— Она лениво цедила слова.— Ты поджег дом месира Эскабаля,
зпаешь, моего казначея, чтобы выиграть давешнее пари.
Охваченный смутным беспокойством, сир де Моль полуоткрыл глаза.
— Что за пари? Вы еще не проснулись, мой ангел?
— Ну, то самое: что ты станешь любовником его дочери, маленькой
Беренисы, у которой такие красивые глаза!.. Какая это милая и славная
девушка, не правда ли?
— Что вы говорите, любезная Изабо?
— Разве вы не поняли меня, мой повелитель? Я сказала, что мне при-
снилось, как вы поджигали дом моего казначея, решив во время пожара
похитить его дочь, сделать ее своей любовницей и выиграть пари.
Видам безмолвно посмотрел вокруг.
Зарево далекого пожара освещало цветные стекла спальни; под пх
пурпурным отблеском рдело кровью горностаевое покрывало королевского
ложа; алели лилчи на гербах и лилии, увядавшие в покрытых эмалью ва-
зах. И на подносе, уставленном вином и плодами, багрянели две чаши.
— Ах, да! Припоминаю...— вполголоса сказал молодой человек,—это
правда; я хотел привлечь взгляды придворных к этой девочке, чтобы от-
вратить их от нашего счастья!..— Но взгляните, Изабо, пожар и в самом
деле сильный — огонь полыхает рядом с Лувром.
При этих словах королева приподнялась на локте, пристально и молча-
ливо посмотрела на видама де Моля и покачала головой, а затем, шаловли-
во рассмеявшись, запечатлела долгий поцелуй на губах юноши.
— Ты расскажешь об этом мэтру Каппелюшу, когда он будет колесо-
вать тебя на Гревской площади.— Вы коварный поджигатель, возлюблен-
ный мой!
И зная, что ошеломляющий восточный аромат ее тела разжигает чув-
ственность до такой степени, что мужчина лишается способности мыслить,
она прижалась к нему.
Набат не стихал; вдали раздавались крики толпы.
Де Моль шутливо возразил:
— Но ведь надо еще доказать преступление.
И вернул ей поцелуй.
— Доказать преступление, злой?
— Разумеется.
— А сумеешь ли ты доказать, сколько поцелуев получил от меня?
Ведь это все равно, что пересчитать мотыльков, порхающих в воздухе лет-
ним вечером!
Не отрываясь, смотрел он на свою пламенную — и такую бледную! —
возлюбленную, которая несколькими мгновениями раньше расточительно
и самозабвенно дарила ему самые восхитительные ласки.
Королева Изабо 113
Потом он взял ее за руку.
— Все будет очень просто,— продолжала она.— Кому был нужен под-
жог, чтобы похитить дочь мессира Эскабаля? Одному тебе. Ты же побился
об заклад под честное слово!—А сказать, где ты был, когда произошел
пожар, ты не можешь... Как видишь, этого достаточно, чтобы в Шатле 15
начали уголовный процесс. Сначала будет следствие, а потом...— она по-
давила зевок,— пытка довершит остальное.
— А я не могу сказать, где был?— спросил г-н де Моль.
— Конечно, нет; король Карл VI жив, а вы во время пожара пребыва-
ли в объятиях королевы Франции, наивное дитя!
За обвинением неизбежно и зловеще вставала смерть.
— Вы правы! — воскликнул сир де Моль, очарованный нежным взгля-
дом возлюбленной.
Он упоенно обхватил рукой ее юный стан, окутанный волной волос,
светлых, как расплавленное золото.
— Все это дурной сон!— сказал он.— О, жизнь моя, как ты прекрасна!..
С вечера они занимались музыкой; на подушке еще лежала отброшен-
ная им лютня; в эту минуту на ней лопнула струна.
— Усни, мой ангел! Ты устал!—прошептала Изабелла, тихо склоняя
к себе на грудь голову юноши.
Услышав звон инструмента, она вздрогнула: влюбленные суеверны.
Наутро видам де Моль был схвачен и брошен в одну из камер Большо-
го Шатле. Ему предъявили предсказанное королевой обвинение, и следст-
вие началось. Все было так, как предугадала венценосная очаровательница,
«краса коей была столь велика, что пережила ее страсти».
Видам де Моль не сумел доказать того, что на языке правосудия назы-
вается алиби.
После допросов, сопровождавшихся пыткой предварительной, обычной
и чрезвычайной, он был приговорен к колесованию.
Ничто не было забыто: ни церковное покаяние, ни черное покрывало,
ни прочие кары, назначаемые поджигателям.
Но тут в Большом Шатле произошел необычный случай.
Адвокат молодого человека, которому тот признался во всем, проникся
к нему глубоким сочувствием.
Убедясь в невиновности г-на де Моля, заступник сам оказался повинен
в героическом поступке.
Накануне казни он явился в темницу и, надев свою мантию на осужден-
ного, дал ему возможность бежать. Короче говоря, заменил его собой.
Был ли он человеком большой и благородной души? Или просто често-
любцем, затеявшим страшную игру? Кто это угадает!
Не успев даже залечить переломы и ожоги, полученные им во время
пыток, видам де Моль уехал на чужбину и умер в изгнании.
Но адвоката не отпустили.
114 Жестокие рассказы
Прекрасная подруга видама де Моля, узнав о бегстве юноши, ощутила
только сильнейшую досаду *
Она не соизволила прызнать в узнике заступника своего возлюбленного.
Чтобы вычеркнуть имя г-на де Моля из числа живых, она приказала
совершить казнь, несмотря ни на что.
И адвокат был колесован на Гревской площади вместо сира де Моля.
Молитесь за них.
XXI. Мрачный рассказ,
а рассказчик еще мрачнее
Посвящается господину Коклену-младшему Ч
Ut declaratio fiat **.
В тот вечер я был весьма торжественно приглашен отужинать в компа-
нии литераторов, которые намеревались отпраздновать успех товарища по
пору. Было решено собраться у Б ***2, излюбленного ресторатора писате-
лей.
Поначалу ужин проходил уныло. Однако после нескольких бокалов
старого леонвиля беседа оживилась. Тем более что речь зашла о непре-
кращающихся дуэлях, а они в те годы преимущественно и служили темой
для разговоров парижан. Каждый с напускным равнодушием вспоминал,
как ему приходилось орудовать шпагой, и старался исподволь устрашить
собеседников, развивая ученые теории насчет фехтования и стрельбы и
многозначительно подмигивая при этом. А самый простодушный из го-
стей, слегка захмелев, увлекся, по-видимому, комбинацией удара со вто-
рой позиции и проверял ее, размахивая вилкой и ножом над своей та-
релкой.
Вдруг один из гостей, господин Д *** 3 — человек весьма опытный в
театральных делах, светило по части всяческих драматических ситуаций,
словом, тот, кто лучше всех доказал свое умение добиваться успеха,—
воскликнул:
* Вещь странная и столь же малоизвестная, как, впрочем, и множество других!
Почти все историки, изучавшие эту эпоху, единодушно утверждают, что короле-
ва Изабелла Баварская, начиная с бракосочетания и до дня, когда стало извест
но о безумии короля, казалась народу — как беднякам, так и всем остальным —
«ангелом кротости, святою и мудрою государыней».— Следовательно, есть осно-
вания предполагать, что тяжелая болезнь короля и пример разнузданных при-
дворных нравов оказали влияние на тот новый облик, в котором Изабелла пред-
стала ко времени, к которому относится наш рассказ. (Прим. автора.)
** Да будет брошен вызов! (лат.).
Мрачный рассказ, а рассказчик еще мрачнее 115
— Ах, господа, что бы вы сказали, если б попали в такое приключение,
как я на днях!
— В самом деле! Ты ведь был секундантом у господина Сен-Севера? —
раздалось со всех сторон.
— Ну, так расскажи, как было дело! Но только откровенно!
— Охотно,— согласился Д ***,— хотя при одном воспоминании об этом
у меня все еще сжимается сердце.
Молча затянувшись несколько раз папиросой, Д *** начал так.
(Я в точности передаю его слова.)
— Две недели тому назад, в понедельник утром, не было еще семи
часов, как меня разбудил звонок: я даже подумал — не Перагалло ли это?
Мне подали карточку, я прочел: Рауль де Сен-Север.— Это имя моего луч-
шего школьного товарища. Мы не виделись уже лет десять.
Гость вошел.
Да, это действительно был он!
— Как давно я не пожимал твою руку! — воскликнул я.— До чего я рад
тебя видеть! Давай завтракать, вспомним былые годы. Ты из Бретани?
Я накинул на себя халат, налил в рюмки мадеры и, усевшись, про-
должал:
— Вид у тебя озабоченный, Рауль. Ты какой-то задумчивый. Ты всегда
такой?
— Нет, я взволнован.
— Взволнован? Проигрался на бирже?
Он покачал головой.
— Слыхал ли ты что-нибудь о поединках насмерть? — спросил х он
просто.
Признаюсь, эти слова удивили меня своей неожиданностью.
— Странный вопрос,— ответил я, чтобы что-то сказать.
И я взглянул на него.
Зная об его увлечении литературой, я подумал, что он хочет посовето-
ваться со мною насчет развязки пьесы, задуманной им в тиши провин-
ции.
— Еще бы не слышал! Ведь мое ремесло, ремесло драматурга, в том
и состоит, чтобы сочинять, развивать и распутывать конфликты такого
рода! Именно дуэли — моя специальность, и по отзывам знатоков я слыву
мастером в этой области. Разве ты никогда не читаешь газеты, выходящие
по понедельникам?
— Так вот,— сказал он,— речь идет как раз о чем-то подобном.
Я присмотрелся к нему. Он казался задумчивым, рассеянным. Взгляд
и голос были у него спокойные, обычные. Он очень напоминал в этот мо-
мент Сюрвиля 4... причем Сюрвиля в лучших его ролях. Я подумал, что он
находится в состоянии вдохновения и что, быть может, у него талант...
талант нарождающийся... словом, что-то особенное.
— Скорее рассказывай, в чем заключается конфликт,— воскликнул я в
нетерпении.— Скорее давай конфликт! Может быть, если хорошенько об-
думать...
116 Жестокие рассказы
— Конфликт? — удивленно повторил Рауль.— Да он самый обыкновен-
ный. Вчера, приехав в гостиницу, я нашел у себя пригласительный билет
иа бал у госпожи де Фревиль, в тот же вечер, на улице Сент-Онорэ.
Я поехал. В самый разгар праздника (суди сам, что должно было произой-
ти) мне пришлось при всех бросить перчатку в лицо некоему господину.
Я понял, что он разыгрывает передо мною первую сцену своего ше-
девра.
— О, как ты лихо развиваешь сюжет! Ну, конечно, первое произведе-
ние! Тут молодость, огонь! Ну, а дальше? Почему брошена перчатка? Как
дальше строится сцена? В чем идея пьесы? Короче говоря, в чем ее смысл? —
Ты говори главное. Говори, говори!
— Речь шла, друг мой, об оскорблении, нанесенном моей матери,— от-
ветил Рауль, словно не слушая меня.— Оскорбление, нанесенное матери,—
достаточный, кажется, повод?
(Здесь Д *** замолчал, бросив взгляд на собравшихся,— они не могли
сдержать улыбки при последних словах).
— Улыбаетесь, господа? Я тоже усмехнулся. «Я дерусь за честь мате-
ри» показалось мне старомодным и фальшивым до тошноты. Я представил
себе, как это прозвучит со сцены. Публика будет хохотать до упаду. Не-
опытность бедняги Рауля в театральных делах огорчила меня, и я уж
собрался отговаривать его от этой мертворожденной затетц когда он доба-
вил:
— Внизу находится Проспер, мой друг по Бретани; он приехал в Ренн
вместе со мною. Это Проспер Видаль, он ждет меня в карете у подъезда.
В Париже я, кроме тебя, ни с кем не знаком.— Скажи, согласен ты быть
моим секундантом? Секунданты противника будут у меня через час. Если
согласен,— одевайся поскорее. До Эркелина 5 нам ехать на поезде пять
часов.
Тут только я понял, что он говорит о событии реальном, о случае из
действительной жизни. Я был ошеломлен. Прошло несколько секунд, преж-
де чем я в знак согласия пожал ему руку. Мне было тяжело. Признаюсь,
лезвие шпаги привлекает меня не больше, чем всякого другого, однако
думаю, что я был бы не так взволнован, если бы речь шла обо мне самом.
— Разумеется! Вполне понятно! — воскликнули гости, желая показать
себя с лестной стороны.
— Ты бы мне сразу сказал! — ответил я ему.— Расспрашивать тебя
я не стану. Я не любопытен. Рассчитывай на меня. Выходи, я сейчас.
(Здесь Д *** помолчал, явно взволнованный воспоминанием о том, что
он нам рассказывал.)
— Оставшись один и поспешно одеваясь, я наметил план действий,—
продолжал он.— Преувеличивать события не было надобности: положение
(для театра, правда, довольно пошлое) с житейской точки зрения пред-
ставлялось достаточно серьезным. Оно несколько напоминало Хуторок в
дроковом саду6, не в обиду будь сказано; но я не замечал этого, думая
о том, что на карту ставится жизнь моего бедного Рауля. Не теряя ни
минуты, я спустился вниз.
Мрачный рассказ, а рассказчик еще мрачнее 117
Другим секундантом был Проспер Видаль, молодой врач, весьма сдер-
жанный в речах и повадках, человек незаурядного, несколько тяжеловес-
ного ума, напоминающий старинных Морисов Кост 7. Для данных обстоя-
тельств он показался мне вполне подходящим. Вы согласны со мной, не
правда ли?
Все присутствующие, слушавшие Д *** с большим вниманием, в ответ
на этот ловкий вопрос, конечно, утвердительно закивали.
— Рауль представил нас друг другу, и мы отправились на бульвар
Бон-Нувель, в гостиницу, где он остановился (близ театра «Жимназ»).
Я поднялся в его номер. Мы застали там двух господ, чопорных, как и по-
лагается в таких случаях, и несколько старомодных. (Между нами говоря,
я считаю, что такие люди кажутся в реальной жизни чуточку устаревши-
ми.) Мы обменялись поклонами. Десять минут спустя условия поединка
были согласованы: пистолеты, двадцать пять шагов, стрелять по команде.
В Бельгии 8. Завтра. В шесть утра. Словом, все как полагается.
— Ты мог бы придумать что-нибудь поновее,— прервал его, пытаясь
улыбнуться, тот гость, что изобретал новые выпады при помощи вилки и
ножа.
— Друг мой, ты шутник,— отвечал Д *** с горькой иронией,— прики-
дываешься циником и все рассматриваешь в театральный бинокль.
А если бы ты, подобно мне, присутствовал при этом, то и ты стремился
бы упростить дело. Это был не тот случай, когда, как в Деле Клемансо 9,
можно в виде оружия предложить нож для разрезания бумаги. Надо по-
нять, что не все в жизни — комедия. Сам я легко увлекаюсь тем, что не-
принужденно, что правдиво... что случается на самом деле. Не все еще
умерло во мне, черт побери!.. И, уверяю вас, мне совсем было не до смеха,
когда мы полчаса спустя сели в поезд с пистолетами в чемоданах. Сердце
у меня билось, даю слово, куда сильнее, чем когда-либо перед любой
премьерой.
Тут Д *** замолчал и залпом выпил стакан воды; он был очень бледен.
— Продолжай! — послышалось со всех сторон.
— Не буду описывать дорогу, границу, таможню, гостиницу, где мы
провели ночь,— прошептал Д *** хриплым голосом.
Никогда еще не питал я к Сен-Северу таких искренних дружеских
чувств. Я не сомкнул глаз ни на секунду, несмотря на изнеможение. На-
конец, стало . рассветать. Было половина пятого. Погода стояла отлич-
ная. Уже пора! Я встал, облил голову холодной водой и оделся, не
мешкая.
Я вошел в комнату Рауля. Он всю ночь писал. Всем нам, господа, слу-
чалось сочинять такие сцены; теперь, чтобы быть естественным, мне
стоило только припомнить их. Он спал за столом, в кресле; свечи еще го-
рели. Когда я вошел, он очнулся и посмотрел на часы. Я ждал этого, мне
этот рефлекс знаком. Тут я понял, насколько это тонко подмечено.
— Благодарю, друг мой,— сказал он.— Проспер готов? Нам идти целых
полчаса. Пожалуй, пора его разбудить.
Несколько минут спустя мы втроем вышли из дома и ровно в пять уже
118 Жестокие рассказы
шагали по большой Эркелинской дороге. Проспер нес пистолеты. При-
знаюсь, мной владел самый настоящий страх. Я не стыжусь его.
Они как ни в чем не бывало беседовали о семейных делах. Рауль был
великолепен — весь в черном, сосредоточенный, решительный и спокойный
на вид; он держался так естественно, что внушал уважение!..— От него
веяло каким-то особым величием... Скажите, видели вы Бокажа 10 в Руане
в репертуаре 1830—40 годов? Вот где он бывал в ударе! Пожалуй, он играл
там вдохновеннее, чем в Париже.
— Ну, ну...— возразил кто-то.
— Это уж ты увлекаешься...— перебили Д *** два-три голоса.
— Короче говоря, Рауль восхищал меня как никто другой,— продолжал
он,— уверяю вас. Мы явились на место поединка одновременно с против-
ником. Меня удручало какое-то дурное предчувствие.
Противник был человек холодный, с офицерской выправкой и казался
баловнем семьи; лицом он напоминал Ландроля и, но в жестах его не было
такой широты. Переговоры были бы излишни, поэтому сразу же стали
заряжать пистолеты. Шаги отсчитывал я, и мне приходилось «крепиться
изо всех сил» (как выражаются арабы), чтобы чувства не вырвались в
a parte. Лучше всего было придерживаться классического распорядка.
Я выполнил все, что полагается. Я был тверд. Наконец дистанция была
размечена. Я вернулся к Раулю. Я обнял его и пожал ему руку. На глазах
у меня показались слезы — и не нарочитые, а самые искренние.
— Ну, ну, милый мой Д ***, спокойно,— сказал он.— Это еще что такое?
В ответ я взглянул на него.
Господин де Сен-Север был действительно великолепен. Можно было
подумать, что он на сцене! Я восхищался им. До тех пор я думал, что такое
хладнокровие можно увидеть только на подмостках.
Враги заняли места друг против друга, став у проведенной черты. Серд-
це у меня неистово билось. Проспер подал Раулю пистолет — заряженный,
с взведенным курком.— Я же в страшной тревоге отвернулся и отошел
к канаве.
А птицы заливались! У подножья деревьев — настоящих деревьев! —
росли цветы. Никогда еще Камбону 12 не приходилось подписываться под
таким восхитительным утром! Что за ужасающее противоречие!
— Раз... два... три...— скомандовал Проспер с равными интервалами,
хлопая в ладоши.
Голова у меня так затуманилась, что мне показалось, будто трижды
выстрелил сам Проспер. В тот же миг раздался двойной выстрел. Ах, боже
мой, боже!
Д *** умолк и закрыл лицо руками.
— Знаем, знаем, что у тебя доброе сердце!.. Рассказывай дальше! —
закричали со всех сторон гости, взволнованные не меньше рассказчика.
— Так вот,— продолжал Д ***,— Рауль перевернулся волчком, стал на
колено и рухнул на траву. Пуля попала в самое сердце, вот сюда. (Д ***
постучал себя по груди.) — Я бросился к нему.
— Бедная мама! — прошептал он.
Мрачный рассказ, а рассказчик еще мрачнее 119
(Д *** посмотрел на присутствующих; те, как люди воспитанные, по-
нимали, что теперь уже некстати было бы улыбаться. Слова «бедная мама»
прошли без запинки; они соответствовали обстоятельствам и, следователь-
но, были вполне уместны.)
— Вот и все,— закончил Д ***,— изо рта у него хлынула кровь. Я по-
смотрел на его противника — тот был ранен в плечо. Его стали перевязы-
вать. Я приподнял своего бедного друга. Проспер поддерживал его голову.
В один миг — представьте себе — в памяти моей пронеслись наши детские
годы — игры, беззаботный смех, праздничные дни, каникулы,— мы тогда
играли в дуэли]..
(Гости склонили головы в знак того, что тронуты этими воспомина-
ниями.)
Волнение Д *** заметно усиливалось, он провел рукой по лбу. Он про-
должал каким-то особенным голосом, устремив взгляд вдаль:
— Да... все это произошло, словно во сне! Я смотрел на него. Он меня
уже не видел: он умирал. И так просто! Так мужественно! Без единой
жалобы. С таким достоинством! Я был потрясен. Из глаз моих хлынули
слезы... Мне бы хотелось, чтобы их видел Фредерик 13. Он-то бы их понял!
Я пролепетал какие-то прощальные слова, и мы положили моего бедного
друга Рауля на землю.
Он лежал перед нами неподвижный, чуждый малейшей фальши — ни-
каких поз! — ПОДЛИННЫЙ. На одежде — кровь. Манжеты — алые... Чело
уже совсем бледное. Глаза закрыты. В уме у меня была одна только мысль:
как он величествен] Да, господа, величествен — вот настоящее слово. Да
что говорить, мне кажется... что он и сейчас еще у меня перед главами!
Я восторгался им до самозабвения! Я не владел собою! Я уже ничего не
понимал. У меня все спуталось! — Я рукоплескал ему, я... я готов был
вызывать его...
Здесь Д ***, до того увлекшийся, что повысил голос до крика, вдруг
умолк; потом, безо всякого перехода, спокойным голосом, с грустной улыб-
кой, добавил:
— Да, увы! Я хотел бы вызвать его... к жизни.
(Это удачное слово отозвалось одобрительным шепотом.)
— Проспер увел меня.
(Тут Д *** встал, устремив взгляд в одну точку; казалось, он действи-
тельно во власти глубокой скорби; затем он снова опустился на стул.)
— Ну, что ж! Все мы смертны,— сказал он в заключение тихим, раз-
битым голосом.
(Потом он осушил стакан рома, шумно поставил его на стол и отстра-
нил от себя, как отраву.)
Он настолько заворожил слушателей своим рассказом — его впечатляю-
щей силой и тем волнением, с каким он говорил,— что, когда он умолк,
раздались шумные аплодисменты. Я почел долгом присоединить к ним и
свою скромную похвалу.
Все были крайне взволнованы.— Крайне взволнованы!
Они так рукоплещут только из уважения к нему,— подумал я.
120 Жестокие рассказы
— Молодец же этот Д ***! Настоящий талант,— шептал каждый на ухо
соседу.
Все бросились пылко пожимать ему руки. Я вышел.
Несколько дней спустя я встретил своего приятеля-литератора и рас-
сказал ему историю Д *** так, как слышал ее собственными ушами.
— Что скажете? — спросил я, кончив.
— Да что ж? Это почти готовая новелла,— отвечал он,— напишите ее!
Я пристально посмотрел на него.
— Да,— промолвил я,— теперь я могу ее написать; она завершена.
XXIII. Незнакомка
Посвящается графине де Лакло.
Лебедь молчит всю жизнь, чтобы хорошо спеть
лишь раз, перед смертью.
(Старинная поговорка)
Это небесное дитя бледнело, услышав пре-
красные стихи.
(Адриен Шювиньи)
В тот вечер все блестящее общество Парижа собралось в Итальянской
опере. Давали Норму *. Это было прощальное выступление Марии-Фелисии
Малибран2.
При последних звуках каватины Беллини Casta diva * вся публика
поднялась с мест, шумно и восторженно вызывая певицу. На сцену броса-
ли цветы, венки, драгоценности. Ореол бессмертия окружал великую ар-
тистку — больную, почти умирающую, которая пела, как бы расставаясь
с жизнью.
В первых рядах кресел какой-то юноша с гордым, мужественным лицом
так бурно аплодировал, желая выразить свое восхищение, что изорвал
перчатки.
Никто в парижском свете не знал этого молодого человека. Он походил
скорее на иностранца, чем на провинциала.— Он был в прекрасном костю-
ме безупречного покроя, но, пожалуй, слишком новом, и мог показаться
несколько странным среди публики первых рядов, если бы не врожденное,
неуловимое изящество во всем его облике. При взгляде на него почему-то
приходили на ум широкие просторы, небо, одиночество. Это было непости-
жимо, но ведь и сам Париж — город непостижимый.
Кем был незнакомец и откуда он взялся?
Непорочная (итал.).
Незнакомка 121
Это был застенчивый, нелюдимый юноша, сирота, наследник очень
знатного рода — одного из последних, сохранившихся в наши дни,— владе-
лец поместья па севере, который лишь три дня назад вырвался из сумрач-
ного Корнуэльсского замка.
Его звали граф Фелисьен де ла Вьерж; ему принадлежало поместье
Бланшланд в Нижней Бретани. И там, в глуши, этого лесного охотника
внезапно обуяла жажда бурной, деятельной жизни, жгучее любопытство
к нашему упоительному парижскому аду!.. Он пустился в путь и вот при-
ехал сюда. Он лишь нынче утром впервые увидел Париж, и его большие
глаза еще горели от восхищения.
Ему едва минуло двадцать лет; это был его первый выезд! Он только
вступил в мир пламенных страстей, самозабвения, пошлости, золота, на-
слаждений. И случайно попал на прощальный вечер великой артистки.
Ему понадобилось всего несколько минут, чтобы освопться в этом рос-
кошном театральном зале. Но первые же звуки голоса Малибран потрясли
его душу, и все вокруг померкло. Этот гордый юноша вырос поэтом; он
привык к тишине леса, к резкому ветру в прибрежных скалах, к шуму
бурлящих потоков, к таинственным вечерним сумеркам, и в голосе певицы
ему слышался далекий призыв родной природы, молящей его вернуться.
Вне себя от восторга он бешено аплодировал вдохновенной артистке,
как вдруг руки его бессильно повисли, и он замер.
В одной из лож появилась женщина необыкновенной красоты.— Она
смотрела на сцену. Ее тонкий, чистый профиль выделялся в красноватом
сумраке ложи, точно флорентийская камея на медальоне.— Незнакомка
сидела одна, бледная, с гарденией в темных волосах, облокотясь на перила
тонкой рукой; во всем ее облике было что-то аристократическое. На корса-
же черного муарового платья, отделанного кружевами, сверкал драгоцен-
ный камень, благородный опал, вероятно, под стать ее душе. Одинокая,
безучастная к окружающему, она как будто всецело отдалась неотразимо-
му очарованию музыки.
Однако случилось так, что она рассеянно обратила взгляд к толпе, и
в этот миг ее глаза и глаза юноши встретились на одну секунду, блеснув
и погаснув.
Знали ли они друг друга прежде?.. Нет. На земле — никогда. Но пусть
те, кто может сказать, откуда начинается Прошлое, объяснят, где же были
знакомы эти два существа, ибо, обменявшись одним-единственным взгля-
дом, они поверили отныне и навсегда, что любили друг друга еще до рож-
дения. Молния освещает разом, в один миг, пенистые волны ночного моря
и серебристые дали горизонта: так этот мимолетный взгляд сразу пронзил
сердце юноши; ему словно открылся в ослепительном блеске волшебный,
таинственный мир! Фелисьен сомкнул веки, чтобы удержать в памяти
сияние синих глаз, глубоко проникшее ему в душу; потом ему захотелось
избавиться от непонятного наваждения. Он устремил взгляд на незнакомку.
Она задумчиво смотрела ему прямо в глаза, как будто угадывала сокро-
венные мысли робкого влюбленного и считала его страсть совершенно есте-
ственной. Фелисьен почувствовал, что бледнеет; у него вдруг возникло
122 Жестокие рассказы
ощущение, будто ее руки медленно, томно обнимают его за шею.— Сверши-
лось чудо! Их мысли непостижимым образом слились, лицо женщины от-
разилось, словно в зеркале, в его душе, узнало себя в ней и запечатлелось
там навеки! Он полюбил первой, неповторимой, самозабвенной любовью.
Между тем незнакомка, развернув и поднеся к губам веер с черными
кружевами, отвела глаза с рассеянным видом. Теперь казалось, будто, ни-
чем не отвлекаясь, она просто слушает мелодии Нормы.
Фелисьен навел бинокль на ее ложу, хотя чувствовал, что поступает
неучтиво.
— Но ведь я люблю ее!— сказал он себе.
Нетерпеливо дожидаясь конца действия, он стал раздумывать.— Как
с ней заговорить? Как узнать ее имя? Он ведь ни с кем не знаком.— Про-
смотреть завтра список абонентов Итальянской оперы? А вдруг это слу-
чайная ложа, купленная лишь на один вечер? Время не терпит, видение
скоро исчезнет. Ну что же, его карета поедет вслед за ее экипажем, вот и
всё... Ему казалось, что иного способа нет. А дальше будет видно! И он ска-
зал себе с восхитительной наивностью: «Если она любит меня, то догада-
ется и подаст мне знак».
Занавес опустился. Фелисьен поспешно вышел из зала. Сойдя в вести-
бюль, он стал тихонько прохаживаться среди статуй.
К нему приблизился слуга, и он отдал ему распоряжения шепотом; тот
отошел в угол и замер в ожидании.
Восторженный гул оваций, обращенных к артистке, постепенно смолк,
как смолкает всякий шумный триумф на этом свете.— Публика спускалась
по ступеням парадной лестницы.— Фелисьен ждал, не отводя глаз от
верхней площадки меж двумя мраморными вазами, откуда струился широ-
кий поток элегантной толпы.
Он не замечал ничего — ни сияющих лиц, ни драгоценных уборов, ни
цветов на девичьих головках, ни горностаевых накидок, ни блестящей
публики, которая проплывала мимо него в сиянии люстр.
Вскоре все зрители постепенно разошлись, а молодой женщины все
еще не было видно.
Неужели он не заметил ее ухода, не узнал ее?.. Нет, это невероятно.—
В вестибюле еще стоял чей-то старый слуга в мехах, в напудренном па-
рике. На пуговицах его черной ливреи сверкали листья герцогской ко-
роны.
Вдруг на опустевшей лестнице появилась она. Одна! Легкая и стройная,
в бархатном плаще, в кружевной мантилье, она оперлась рукой, затянутой
в перчатку, на мраморные перила. Она как будто заметила Фелисьена,
стоявшего внизу, возле статуи, но не обратила на него внимания.
Незнакомка спокойно сошла с лестницы и что-то сказала вполголоса
подошедшему лакею. Слуга поклонился и тут же исчез. Минуту спустя
с улицы послышался шум колес отъезжавшего экипажа. Тогда женщина
вышла из театра и в одиночестве спустилась по ступенькам на тротуар.
Фелисьен едва успел отдать приказание своему лакею:
— Возвращайся в гостиницу без меня.
Незнакомка 123
В один миг юноша очутился на площади Итальянской оперы, в несколь-
ких шагах от молодой дамы; толпа уже рассеялась по соседним улицам,
шум экипажей затихал вдали.
Стояла ясная, звездная октябрьская ночь.
Незнакомка медленно и как бы неуверенно шла впереди.— Последовать
за ней? Это было необходимо, и он решился. Осенний ветер доносил до него
слабый аромат амбры и легкий шорох муарового платья, волочившегося
по асфальту.
Не доходя улицы Монсиньи, дама секунду помедлила, огляделась, за-
тем с безучастным видом направилась к пустынной, едва освещенной ули-
це Граммон.
Юноша вдруг остановился: его поразила страшная мысль. А что если
она здесь чужая, приезжая?
Ее может нагнать какая-нибудь карета и увезти навсегда! Завтра он
останется один, будет метаться в каменных стенах чужого города и не
встретит ее больше!
Любая случайность, любая уличная встреча может разлучить их на миг,
который продлится вечность. Какое беспросветное будущее! Эта мысль так
потрясла его, что он забыл все правила благопристойности.
Обогнав молодую даму на углу темной улицы, Фелисьен повернул
назад и, опершись на чугунный столб фонаря, побледнев, как полотно,
низко ей поклонился. Какая-то чарующая притягательная сила исходила
от всего его существа.
— Сударыня,— сказал он просто,— вы всё знаете: нынче вечером я
встретил вас впервые. И я так боюсь не увидеть вас больше, что мне необ-
ходимо вам сказать: я люблю вас]— Он тихо вымолвил это, едва не лишив-
шись чувств от волнения.— Если вы оттолкнете меня, я умру, но не скажу
этих слов ни одной женщине на свете.
Незнакомка остановилась, откинула вуаль и устремила на Фелисьепа
пристальный, внимательный взгляд.
— Сударь,— отвечала она после короткого молчания нежным чистым
голосом, передающим тончайшие оттенкп мысли,— сударь, ваша бледность
и странная манера держаться вызваны, без сомнения, истинно глубоким
чувством, коль скоро вы находите в нем оправдание своему поступку.
Поэтому я нимало не считаю себя оскорбленной. Успокойтесь, придите
в себя и считайте меня своим другом.
Фелисьена не удивили ее слова: ему казалось естественным, что идеаль-
ная женщина дала идеальный ответ.
В самом деле, в их положении оба они, чтобы сохранить достоинство,
должны были помнить, что они из породы тех людей, кто создает правила
поведения, а не из тех, кто им подчиняется. Ведь приличными манерами
в широкой публике называется всего лишь механическое, рабское, чуть ли
не обезьянье подражание тем нравственным правплахМ, которые непринуж-
денно соблюдаются среди избранных натур в подобных обстоятельствах.
В неудержимом порыве Фелисьен нежно поцеловал протянутую ему
РУку.
124 Жестокие рассказы
— Окажите мне милость, подарите цветок, который был у вас в воло-
сах сегодня вечером!— попросил он.
Незнакомка молча вынула из прически под кружевом мантильи блед-
ную гардению и протянула Фелисьену.
— Теперь прощайте,— сказала она,— прощайте навсегда.
— Прощайте?!—пробормотал юноша.—Разве вы не любите меня? Ах,
вы должно быть замужем!
— Нет.
— Свободны? О небо!
— И все же забудьте меня. Так надо, сударь.
— Но вы завладели моим сердцем! Разве я могу без вас жить? Я хочу
быть рядом, дышать одним воздухом с вами. Я не понимаю ваших слов...
Забыть вас? Как это возможно?
— Меня постигло страшное несчастье. Если я откроюсь вам, я омрачу
всю вашу жизнь. Это бесполезно.
— Какое несчастье может разлучить двух любящих?
— Именно это.
Произнеся эти слова, она закрыла глаза.
Впереди тянулась пустая, безлюдная улица. Рядом с ними были рас-
крыты ворота в какой-то дворик, в чей-то запущенный сад, как будто
призывая их укрыться в тени.
Фелисьен с детским упорством, с настойчивостью влюбленного ув-
лек свою спутницу под темный свод, обняв ее за талию; она не сопротив-
лялась.
Волнующее ощущение теплого скользящего шелка, обтягивающего ее
стан, вызвало в нем страстное желание обнять ее, унести с собой, забыться
в поцелуе. Он овладел собой. Но от волнения почти лишился дара речи.
Он лишь бессвязно бормотал:
— Боже мой, боже мой, как я люблю вас!
Тогда женщина склонила голову на грудь влюбленного, и в голосе ее
прозвучало горькое отчаяние:
— Я вас не слышу! Я готова умереть со стыда, я не слышу ни слова.
Не расслышу вашего имени, не уловлю вашего последнего вздоха. Я не
слышу даже биения вашего сердца, хотя ощущаю его, приложив голову
к вашей груди. Разве вы не видите, как мучительно мое положение.—
Я ничего не слышу... я глухая!
— Глухая?— вскричал Фелисьен, холодея от ужаса и трепеща всем
телом.
— Да, уже много лет. Никакая наука, никакие врачи не в силах исце-
лить меня, избавить от этого тягостного безмолвия. Я глуха, как небо,
глуха, как могила. Я готова проклясть жизнь, но это правда. И потому
оставьте меня, сударь.
— Глухая,— повторял Фелисьен, который настолько был потрясен
этим невероятным признанием, что совсем растерялся и даже не сообра-
жал, что говорит.— Глухая!
Потом, спохватившись, он воскликнул:
Незнакомка 12r>
— Но как же так? Ведь нынче вечером, у Итальянцев, вы же слушали
музыку, вы аплодировали!
Он осекся, испугавшись, что она не слышит его. Все это обернулось
так неожиданно, так ужасно, что его лицо исказила улыбка.
— У Итальянцев?..— переспросила она, тоже улыбаясь.— Вы забывае-
те, что у меня было время наблюдать людей, изучать проявления различ-
ных чувств. Да разве я единственная? Мы обязаны держаться на высоте
положения, дарованного нам судьбой. Эта прекрасная певица вполне за-
служивала всяческих знаков одобрения. Не думайте, впрочем, что мои ап-
лодисменты сильно отличались от бурных рукоплесканий восторженных
дилетантов из публики. Ведь когда-то я была музыкантшей.
При этих словах Фелисьен растерянно взглянул на нее, силясь улыб-
нуться.
— Боже!— сказал он с упреком.— Зачем вы издеваетесь над человеком,
который любит вас до умопомрачения? Вы уверяете, будто ничего не слы-
шите, а между тем отвечаете мне.
— Увы,— вздохнула она,—вам кажется, мой друг, что вы говорите
особенные, свои собственные слова. Вы искренни, но все это ново только
для вас.— Для меня же это давно знакомый диалог, в котором все ответы
я выучила заранее. Год за годом он повторяется слово в слово. В этой пье-
се каждая фраза подсказана и продиктована с поистине ужасающей точ-
ностью. Я овладела своей ролью до такой степени, что если бы согласи-
лась — а это было бы преступлением — соединить свою злосчастную судьбу
с вашей, вы поминутно забывали бы о роковой тайне, которую я вам откры-
ла. Уверяю вас, я дала бы вам полную, совершенную иллюзию, не хуже и
не лучше любой другой женщины. Я сыграла бы несравненно правдоподоб-
нее самой правды. Поймите, что те же обстоятельства диктуют всегда те же
самые слова, а выражение лжца обычно соответствует словам. Вы никогда
не поверили бы, что я не слышу, настолько точно я бы угадывала ваши
мысли.— Давайте забудем об этом, хорошо?
На этот раз Фелисьен по-настоящему испугался.
— О, какие жестокие слова вы говорите!..— воскликнул он.—Но если
это так, я разделю с вами вашу судьбу, даже вечное безмолвие, если нуж-
но. Почему вы отстраняете меня от своего горя? Мы испытали бы счастье
вместе. Слияние душ восполняет все, чего недостает нам в жизни.
Незнакомка вздрогнула, и глаза ее засветились благодарностью.
— Дайте мне руку, пройдемся немного по этой темной улице,— сказа-
ла она.— Вообразим, будто мы гуляем под деревьями, весной, в солнечный
день.— Мне тоже надо сказать вам то, чего я не скажу никому другому.
Удрученные, со стесненным сердцем, точно изгнанники в чужой стране,
двое влюбленных медленно тронулись в путь рука об руку.
— Слушайте внимательно,— вы-то слышите мой голос,— начала она.—
Отчего я сразу поверила, что вы не оскорбите меня? И почему я вам отве-
тила? Вы не знаете?.. Вполне естественно,, что я научилась читать по чер-
там лица, по жестам все чувства, предопределяющие поступки человека;
но гораздо важнее, что я умею угадывать с поразительной, почти безгра-
126 Жестокие рассказы
иичной точностью глубину и силу этих сокровенных чувств в душе собе-
седника. Когда вы решились сегодня на неслыханную дерзость, обратив-
шись ко мне прямо на улице, я, быть может, единственная среди женщин,
способна была сразу попять истинное значение вашего поступка.
Я ответила вам потому, что распознала в вас человека, отмеченного
особой, таинственной печатью; вы из тех, чей дух не затемнен, не прини-
жен, не порабощен страстями, вы очищаете и возвеличиваете все жизнен-
ные впечатления, вы ищете идеальное, божественное в каждом своем
чувстве. Друг, позвольте открыть вам мою тайну. Постигшее меня роковое
несчастье, вначале столь мучительное, прпнесло мне избавление от многих
пут. Оно освободило меня от топ духовной глухоты, которой страдает
большинство женщин.
Мой недуг сделал меня чуткой к высшему смыслу явлений, о котором
представительницы моего пола обычно имеют лпшь смутное понятие. Их
уши не воспринимают этих чудесных отзвуков, этих дивных символов. Об-
ладая острым слухом, они способны различать лишь инстинктивные, внеш-
ние проявления даже самых тонких, чистых страстей. Они подобны Геспе-
ридам3, которые сторожат заколдованные яблоки, не подозревая об их вол-
шебной силе. Увы, я глухая... но они? Что они слышат? Или, вернее, что
они понимают в обращенных к ним речах, кроме смутного шума в соче-
тании с мимикой собеседника? Они внимательны к внешнему смыслу, но
не вникают в самую суть, в сокровенный, глубокий, истинный смысл каж-
дого слова; стоит им услыхать что-то лестное, приятное,— им этого вполне
достаточно. Они называют это с этакой особенной улыбочкой «практиче-
ской стороной жизни»... О, вы сами увидите, если поживете среди них.
Вы узнаете, какую странную смесь наивности, самонадеянности, подлого
легкомыслия таит в себе эта очаровательная улыбка!—Попробуйте рас-
сказать какой-нибудь женщине о любви таинственной, неземной, сияющей
звездами, как ночное небо, любви возвышенных душ, вроде вашей!.. Если
ваши речи и западут ей в голову, они так же неузнаваемо исказятся, как
замутится, впадая в болото, чистый родник. Так что в сущности женщины
не услышат вас. «Жизнь не может осуществить эти мечты,— скажут они,—
вы требуете от нее слишком многого!» О, да разве не сами люди создают
Жизнь!
— Бог мой!— прошептал Фелисьен.
— Да,— продолжала незнакомка,— ни одна женщина не в силах пре-
одолеть природный недостаток — умственную глухоту, разве только ей
придется заплатить за это, подобно мне, неслыханную цену. Вы, мужчины,
приписываете женщинам некую тайну, потому что они проявляют себя
только в поступках, а мыслей своих не выражают. Обольщая вас, гордясь
этой тайной, неведомой им самим, они стараются внушить вам, будто их
можно разгадать. PI каждый мужчина, польщенный ролью долгожданного
отгадчика, готов понапрасну сгубить свою жизнь, женясь на каменном
сфинксе. Никому из них не приходит в голову заранее, что даже величай-
шая тайна, если она никогда ни в чем не выражается, просто не существует.
Незнакомка умолкла.
Незнакомка 127
— Сегодня вечером мои слова полны горечи и вот почему,— продолжа-
ла она. — Я уже перестала завидовать другим женщинам, поняв, как дур-
но они пользуются даром, которого я лишена,— да я и сама, верно, посту-
пала бы так же! Но вот явились вы, тот, кого я так любила бы в прежние
годы!.. Я вижу вас... ваши глаза... я по глазам угадываю ваши чувства...
Вы отдаете мне сердце, а я не могу его принять.
Несчастная женщина закрыла лицо руками.
— Боже мой,— прошептал Фелисьен со слезами на глазах,— я почув-
ствую твою душу, упиваясь дыханием твоих уст!— Пойми меня! Не отре-
кайся от жизни, ты так прекрасна!.. В тишине и молчании наша любовь
станет еще более возвышенной, несказанно прекрасной; твои страдания,
наша общая печаль еще усилят мою страсть... Возлюбленная моя, наречен-
ная супруга, будем жить вместе!
Она устремила на него глаза полные слез, нежно сжав обнимавшую
ее руку.
— Вы сами поймете, что это невозможно,— вздохнула она.— Слушайте
дальше, дайте мне высказать свою мысль до конца... вы больше никогда
меня не услышите, а я не хочу, чтобы вы меня забыли.
Она медленно шла рядом с юношей, склонив голову ему на плечо.
— Жить вместе, говорите вы... Вы забываете, что после первых востор-
гов наступает тесная душевная близость, потребность откровенно делиться
мыслями. Это священные часы! И часы тяжкого разочарования для тех,
кто вовремя не прислушивался к словам другого, потому, что эти слова
имеют подлинный, ЕДИНСТВЕННЫЙ смысл, вложенный в них тем, кто их
высказал. Они жестоко наказаны. «Иллюзии рассеялись»,— говорят они,
пытаясь скрыть под пошлой усмешкой то мучительное презрение, какое
испытывают к своей неудавшейся любви, и то отчаяние, с каким себе в
этом признаются.
Они не хотят понять, что получили именно то, чего домогались. Не мо-
гут поверить, что любая вещь на земле всего лишь ИЛЛЮЗИЯ — кроме
Мысли, которая все преображает. И всякая страсть, стремящаяся лить
к чувственным наслаждениям, вскоре становится горше смерти для тех,
кто ей предается.— Посмотрите на лица прохожих, и вы убедитесь, что я
права.— А мы,— что с нами будет завтра? Когда наступит этот час?!..
Я увижу ваш взор, но не услышу голоса, обрадуюсь вашей улыбке, но не
угадаю слов! А я чувствую, что вы говорите иначе, чем другие!
Ваша наивная, открытая душа выражается в словах живых и непосред-
ственных, неправда ли? Значит, тончайшие оттенки чувства могут про-
явиться лишь в звуках, в самой музыке вашего голоса. Я буду верить, что
мой образ царит в вашей душе, но никогда не узнаю, каким он представ-
ляется вам в мыслях, как верно вы меня понимаете, как выражаете это
в искренних словах, каждый раз новых; этот смутпый, зыбкий образ, кото-
рый, оставаясь неясным, с помощью ваших дивных слов стремится к Све-
ту, чтобы расплыться и проникнуть в сокровенную глубь вашего сердца,—
эту единственную реальность мне не постичь никогда! Увы! Неизъяснимо
прекрасная музыка любимого голоса, прерывистый, упоительный шепот,
228 Жестокие рассказы
от которого замирают и бледнеют,— всего этого мне не суждено услышать!..
Тот, кто написал на первой странице бессмертной симфонии «Так Судьба
стучится в дверь!»4, слышал и знал голоса инструментов, прежде чем его
постигло то же несчастье, что и меня.
Он сочинял музыку, вдохновляясь воспоминаниями. А я, как могу я
вспомнить ваш голос, когда вы сказали мне впервые «Я люблю вас!»?..
Слушая ее, юноша становился все мрачнее: сейчас он испытывал под-
линный ужас.
— О боже!— вскричал он.— Вы ввергаете меня в бездну отчаяния и гне-
ва. Я стою на пороге рая, а вы велите мне самому запереть двери, ведущие
к счастью. Быть может, вы искусительница, посланная свыше? Мне чудит-
ся в ваших глазах блеск злорадства, вы гордитесь, что истерзали мою душу.
— Полно, я та, что никогда тебя не забудет,— ответила она.— Разве
можно забыть слова, которые я угадала, но так и не услышала?
— Увы, сударыня, вы губите понапрасну все мои юные надежды...
И все же поверь мне, если ты будешь со мной, мы победим, мы вместе от-
стоим будущее. Побольше мужества! Доверься нашей любви!
И тут, в темноте, незнакомка приникла к нему в неожиданном, чисто
женском порыве, и губы их слились на несколько секунд. Потом она от-
странилась и проговорила печальным, усталым голосом:
— Друг мой, повторяю вам, это невозможно. В минуту уныния, раз-
драженный моим недугом, вы будете искать случая в нем еще более удосто-
вериться. Вы не сможете забыть, что я глухая... ни простить мне этого,
уверяю вас! Когда-нибудь у вас неизбежно явится соблазн не говорить со
мной, не произносить при мне слов. Вы будете шептать «Я люблю вас» од-
ними губами, беззвучно, не нарушая тишины. Вы дойдете до того, что
начнете писать мне на бумаге, а это, право же, будет мучительно для обо-
пх. Нет, немыслимо! Я не запятнаю свою жизнь ради такой половинной
Любви. Хотя я девственна, но ношу траур по несбывшейся мечте и не ищу
утешения. Говорю вам, я не вправе принять в дар вашу душу в обмен на
мою. Однако вы тот самый, кто был предназначен мне судьбой, к кому я
привязалась бы всем существом!.. Именно поэтому я не могу отдаться вам,
мой долг — уйти из вашей жизни. Мое тело — тюрьма, я молю бога осво-
бодить меня поскорее!..— Я не хочу знать вашего имени, не хочу его про-
честъ\ Прощайте! Прощайте!..
В нескольких шагах от них, на повороте улицы Граммон блеснули
стекла кареты. Фелисьен смутно припомнил ливрейного лакея, которого
видел в вестибюле Итальянской оперы; внезапно, по знаку молодой жен-
щины, слуга опустил подножку.
Незнакомка отпрянула, вырвалась, точно птица, из рук Фелисьена а
вскочила в экипаж. Минуту спустя карета скрылась из вида.
Граф де ла Вьерж на другой же день уехал в свой уединенный замок
Бланшланд,— и больше никто о нем ничего не слыхал.
Без сомнения, он был вправе гордиться, что сразу же встретил женщи-
ну искреннюю, смелую, которая имела собственные суждения и не боялась
их высказывать.
Мариэлъ 129
XXIV. Мариэль
Посвящается баронессе де ла Саль.
Протяни губы свои,— сказала она.— Мои по-
целуи подобны плоду, они растают в твоем
сердце.
(Гюстав Флобер «Искушение святого Антония»)
Ее отсутствие на балах в саду Мабий *, происшедшая в ней перемена,
скромная изысканность ее темных нарядов, наконец ее манера держать
себя noli me tangere * и к тому же определенная сдержанность, которую
стали отныне соблюдать ее фавориты, говоря о ней,— все это в какой-то
мере занимало меня, когда я вспоминал пленительную девушку, еще недав-
но блиставшую за ужинами, где ее изящный, остроумный щебет оживлял
даже самых угрюмых светских хлыщей; назовем ее Мариэль.
Так как обычно всякий, даже малейший, намек на целомудрие являет-
ся у сверхгалантных дам всего лишь признаком крайней развращенности,
я решил, от нечего делать, исследовать эту загадку.
Да, от вполне понятной скуки, от жажды чего-то легкомысленного, ко-
торую подчас ощущает всякий философ (и которую не следует слишком
поспешно и сурово осуждать), я решил при случае выяснить, как глубоко
проник в нее налет стыдливости; причем я не сомневался, что при первом
же умело затеянном пикантном разговоре с нее слетит по крайней мере
несколько чешуек наносной краски.
Вчера, на авеню д'Опера, я повстречал эту загадочную девочку; она
была в черном шелковом платье, с кроваво-алой розой у корсажа и с вуа-
леткой на тонком миловидном лице.
Теперь Мариэли двадцать пять весен; она немного побледнела, но
все так же стройна, так же соблазнительна своей красотой, чем-то напоми-
нающей туберозу, изысканностью театральной виконтессы и каким-то осо-
бым, чарующим взглядом.
Заметив после двух-трех обычных банальностей, что она не так чопорна,
как я ожидал, я попросту пригласил ее пообедать со мною в Булонском
лесу, в каком-нибудь ресторанчике, и поскучать там вдвоем; томительный
сентябрьский вечер, подумал я, толкнет ее на откровенность.
Сначала она отказалась было, потом, как бы покоренная моим безза-
ботным, скромным тоном, согласилась. Было пять часов. Мы поехали.
Прогулка под сенью пустынной аллеи Леса прошла тихо. Мариэль опус-
тила вуалетку, то ли боясь, что ее увидят, то ли чтобы несколько сдержи-
вать меня. По ее желанию, экипаж ехал шагом. Я не замечал в поведении
нашей загадочной подруги ничего особенного,— разве только то, что она
удостоила закат солнца каким-то необычным вниманием.
Обед проходил в такой официальной атмосфере, что будь он перенесен
в мещанскую семью в день рождения дедушки, то и там он никого не шо-
кировал бы. Мы толковали, насколько помнится, о... будущей выставке.
Девушка знала о ней много подробностей и, по-видимому, интересовалась
* Не тронь меня! (лат.).
5 О. Вилье. «Жестокие рассказы»
130 Жестокие рассказы
ею. Словом, мы были совершенно нелепы: но так забавно играть в хлыща!
Я это предпочитаю картам.
Чтобы поразвлечь ее и заманить в более веселые области Остроумия,
я за десертом стал ей подробно рассказывать о проделке одного мститель-
ного дворянчика, который застал (кого? держу пари, не угадаете!) —свою
жену — представьте себе!—за игривой беседой с поклонником и смертель-
но ранил его; когда тот уже отдавал богу душу, а безутешная молодая жен-
щина в отчаянии склонилась над ним, ревнивец вздумал (какая утончен-
ность!) пощекотать в темноте пятки неверной супруги, чтобы она расхохо-
талась в лицо своему умирающему избраннику.
Рассказ мой, сдобренный пикантными подробностями, вызвал у Марпэ-
ли улыбку; лед тронулся, нам стало веселее.
Окна нашего кабинета выходили в сад с высокими деревьями. Когда
нам принесли канделябры, неизбежный кофей, благоухающие ящики га-
ванских сигар и русские папиросы, я обратил ее внимание на месяц,
в свете которого блестели последние золотые, уже темнеющие листья:
— Дорогая Мариэль, помнишь ли ты, хотя бы смутно, минувшую осень?
Она чуть меланхолично повела головой и сказала:
— Что же! Как только пришла зима, прекрасные цветы тех двух вече-
ров, о которых ты говоришь, умерли под снегом. Знаешь, не стоит старать-
ся оживить букет увядших чувств — это значило бы тянуться к призрач-
ным радостям. Прихоть улетела, она —редкая птичка! Оставим клетку от-
крытой — на память, согласен? И будем по-прежнему друзьями.
Настали чудесные минуты: Мариэль сказала нечто столь же разумное,
сколь и милое; что могло теперь быть лучше дружеской беседы? Она пони-
мала, что — по крайней мере сейчас — для меня важнее рассказ о ее ны-
нешних делах, чем воспоминание о прошлых наслаждениях... Однако я
почел своим долгом из деликатности принять несколько опечаленный вид—
это простой знак внимания по отношению к прелестному созданию, обяза-
тельный для всякого благовоспитанного мужчины. Она, конечно, поняла
меня, но мило попала в ловушку. Мы с улыбкой протянули друг другу
руки — и с этим вопросом было покончено.
И вот, избрав меня наперсником под обманчивым, быть может, но обод-
ряющим предлогом, будто я «не такой, как все» (так и должна была она
считать, ибо ей хотелось во что бы то ни стало освободиться от тревоги,
разрывавшей ей сердце),—Мариэль, пригубливая мятный ликер, поведала
мне следующую историю, предварительно взяв с меня слово (которое я
сейчас и выполняю), что (если мне когда-либо доведется говорить о ней)
я скрою имя героини под изящным и непроницаемым псевдонимом.
Вот эта история, без комментариев. Необычным мне показалось только
своеобразие ее банальности.
Прошлой зимой, в театре, Мариэль привлекла внимание весьма юного
зрителя, которого в Париже, от улицы Бланш до улицы Кондорсе, никто
не знал.
Да, то был подросток лет семнадцати-восемнадцати, изящно и просто
одетый; бинокль его не раз обращался к ее ложе.
Ma pu эль 131
Надо вам сказать, что когда Мариэль появляется в закрытом платье,
провинциал легко может поверить, что она упорхнула с приема из гости-
ной супруги префекта.
Эта коварная красавица сильна тем, что не чужда ни орфографии, ни
некоторого такта, благодаря которому она преображается в зависимости от
того, кто с ней беседует,— и происходит это достаточно быстро, чтобы со-
здалась полная иллюзия. Раз запев, она уже не детонирует: качество редкое!
В тот вечер ее сопровождала почтенная торговка платьем, которой она,
едва только вскинул на нее бинокль «господин», шепотом велела принять
самый строгий вид.
Таким образом, уже со второго действия Мариэль даже самым проница-
тельным людям должна была казаться обеспеченной, безразличной вдо-
вушкой, состоящей под охраной дальней родственницы.
«Господин» был не кто иной, как тот семнадцатилетний юноша: пре-
красные глаза, доверчивый вид, сама невинность. Паж. Однако скромный
и вместе с тем пикантный вид очаровательной особы, по-видимому, взвол-
новал нашего юнца необыкновенно; он без конца бродил по кулуарам (не
смея подойти, конечно) ; достаточно сказать, что по окончании спектакля
его карета последовала вслед за простым извозчиком, увозившим незнаком-
ку с ее спутницей.
Как опытная соблазнительница Мариэль приютилась на ту ночь у тор-
ге шш платьем. На случай, если «придут справляться», были даны точные
указания. Короче говоря, она сразу превратилась в почтенную вдову от-
ставного военного, старого, увешанного орденами, которому ее в раннем
возрасте принесла в жертву семья; в Париже она проездом. Словом, все
было предусмотрено — даже два года вдовства; портрет покойного, если
понадобится, легко будет раздобыть. Такова укоренившаяся традиция, и
даже в наши дни этот заезженный, надоевший прием без промаха действу-
ет па юное воображение. Мариэль ограничилась этим, памятуя, что луч-
шее — враг хорошего; а там видно будет.
Ночь распалила пылкие мечты влюбленного мальчика, и все произошло
так, как и подсказал нашей героине безошибочный нюх.
Узнав только что придуманное имя незнакомки, юный провинциал об-
ратился к ней письменно.
(Мариэль дала мне прочитать это письмо, прикрыв пальчиком подпись.)
Должен признаться, я был поражен искренним тоном этого послания; оно
исходило, несомненно, от не в меру наивного, но весьма благородного
юноши. То был безумец! Но как это было прекрасно! Ах, милое, очарова-
тельное создание! Какая почтительность, какая неотразимая робость! Дитя
приносило к ее ногам свою первую любовь, принимая эту изломанную де-
вушку за самую сдержанную женщину! Я даже огорчился, представив
себе неизбежную развязку этого приключения.
— Зовут его Раулем,— сказала она,— он из очень хорошей провинци-
альной семьи; его родные, «весьма почтенные чиновники», обеспечат его
132 Жестокие рассказы
будущность. В Париж он приезжает три раза в месяц, украдкой. Это про-
должается уже шесть недель.
Мариэль закурила папиросу и продолжала, как бы разговаривая сама
с собою.
Прекрасная грешница была девушкой податливой и не осталась равно-
душной к этой, столь «мило» выражаемой страсти. После двух последую-
щих «весьма трогательных записочек» с глаз ее как бы спала пелена; ее
«душа» узрела жизнь в совсем новом свете. В ней, долго витавшей в обла-
ках легкомыслия, проснулась новая Марион Делорм2.
Словом, было назначено свидание.
Мальчик, по ее словам, оказался редкостный; он был без ума от счастья,
был простодушен, искренен до исступления. Чувствуя, что ее в первый раз
(и в последний, конечно) любят свято, очаровательная сумасбродка сама
увлеклась, и началась идиллия.
Любовь сводила ее с ума.
Да, тут самый настоящий роман! Тут и тайна, сопутствующая каждому
приезду Рауля, и домик, нанятый в тихом предместий, с цветами на балко-
не и видом на скромный садик. Только здесь, воскреснув от тех «прежних»,
она бездумно отдается счастью, трепещет от целомудренной страсти, упи-
вается всеми радостями любви, которой она «не ведала так долго». (При
этих словах у сентиментальной девушки на ресницах блестели слезы.)
Рауль играет роль Ромео, которому, пожалуй, никогда не разгадать
свою Джульетту, ибо она намерена в один прекрасный день исчезнуть.
Позже.
Другая женщина, таившаяся в ней, по ее словам, умерла; или, лучше
сказать, для нее никогда и не существовала.— Женщины обладают спо-
собностью по желанию мгновенно забывать прошлое; они говорят своим
воспоминаниям: «Исчезните до завтрего»— и те исчезают.
Но, в сущности, заслуживает ли то, что говорят женщины не слишком
строгих нравов, большего внимания, чем ветер, до глубокой осени шурша-
щий листвой?
Тем временем сбережения ее ушли на скромную, но изящную обстанов-
ку их домика. Рауль несовершеннолетний и не располагает никаким состоя-
нием. Но будь он даже богачом, Мариэль не сочла бы возможным прини-
мать от него деньги; они страшат ее, когда речь идет об этом ребенке.
Деньги напомнили бы ей «прежних». С ним заговорить о деньгах? Ни за
что! — Она предпочла бы умереть. Умереть на самом деле. В ее глазах
любовь оправдывает неуместность, неприличие такого положения,— пусть
ото даже нечестно, когда имеешь дело с таким бесхитростным подростком.
А он, принимая ее за обеспеченную женщину из одной с ним среды, п
не задумывается над этим; все заботы его сводятся к тому, чтобы поднести
ей цветы или какие-нибудь подвернувшиеся безделушки — вот и все. Да
это и вполне естественно.
Итак, они на небесах! Это простодушное и искреннее благоговение! Это
самая настоящая любовь с ее милыми ласками, самозабвенными экстазами
и восторгами.
Мариэлъ 133
Нежно воркующие Дафнис и Хлоя3: вот с кем их можно сравнить.
Тут Мариэль прервала свой рассказ, потом, обратив девически чистый
взор к далеким облакам и звездам, смотревшим в окно, добавила:
— Да, я ему верна. И ничто, чувствую, ничто в мире не в силах совра-
тить меня! Да, СКОРЕЕ Я ПОКОНЧУ С СОБОЮ,— прошептала она с ка-
кой-то холодной убежденностью и покраснела от стыда при одной мысли
о возможной измене.
— Погоди...—возразил я, вскинув голову от удивления,—погоди, ну
а... как же Жорж и Гастон д'Аль?.. А красавец Аурелио? А Франсис X***?
Мне казалось, что...
Мариэль разразилась хрустальным, золотистым смехом.
— Что за болтуны! — вдруг воскликнула она вместо ответа.— Ах, эти
назойливые, добившиеся благоволения! С ними — конец веселью! — Ты
о них? Ну, что ж... да, конечно!..
(И она презрительно пожала плечами.)
— Моя ли вина, что нужно же как-то жить? — добавила она.
— Понимаю: ты ему верна... в мыслях?
— И в мыслях, и в чувствах! — опять воскликнула Мариэль с возму-
щенным достоинством.
Последовало молчание.
— Дорогой мой,— продолжала она, обратив на меня тот странный жен-
ский взгляд, который трудно понять смертным,— если бы только знали,
до какой степени моя история (в этом по крайней мере отношении) ничем
не отличается от историй всех женщин\ Ведь так легко не осквернять бес-
ценную радость, даруемую только любовью, тем божественным чувством,
которое объединяет этого мальчика и меня!.. А все прочее?— Какое нам
до него дело?— Разве это касается сердца? Разве это дает радость? Разве
это приносит хотя бы скуку!.. Правда, дорогой мой поэт, то, что ты имеешь
в виду,— лишь сон пустой и решительно ничего не означает.
Женщины имеют обыкновение так произносить слово «сон» и слово
«поэт», что можно бы умереть со смеху, если бы располагать для этого до-
статочным временем.
— Поэтому,— закончила она,— я имею право утверждать, что не могу
ему изменить.
— А скажи, дорогая Мариэль,— продолжал я шутя,— хоть я отнюдь
не собираюсь притворяться, будто не понимаю, что некоторые милости тре-
буют вознаграждения, все же, ка?к я ни скромен, как мне ни хочется ду-
мать, что я ласкал не просто химеру,— неужели прикажешь ты мне счи-
тать, что я держал в объятиях лишь твою ТКНЬ?
То был безрассудный вопрос, вызванный, пожалуй, досадой, ибо, рас-
сказывая свою историю, она воодушевилась, и это придавало ей поистине
особую прелесть; в ответ она грустно облокотилась на стол; ее тонкие,
бледные пальцы касались прически; она смотрела, прищурившись, на пла-
мя свечи, потом, помолчав, с непередаваемой улыбкой сказала:
134 Жестокие рассказы
— Дорогой мой, ты меня смущаешь своим вопросом; но пойми, в наше
время никто не расточает самого себя. В том числе и мы с тобою. Ведь
теперь почти все предпочитают видимость любви самой любви. Ведь ты
сам дал мне пример прискорбного святотатства... которым сейчас пытаешь-
ся попрекнуть меня. Положа руку на сердце, разве ты сам не оказался бы
в затруднительном положении, если бы я действительно любила тебя?..
Неужели ты принимаешь всерьез заранее предусмотренную прелесть ка-
кого-то мгновения,— быть может, совсем случайную, быть может, отнюдь
не разделенную,— за жгучую, испепеляющую радость Любви? — Тебе,
предположим, довелось сорвать поцелуй с губ задремавшей девушки; так
неужели ты заключаешь из этого, что она способна на измену... своему
жениху, например? А встретившись с нею позже, неужели осмелишься,
не шутя, воображать, будто был соперником того, кто... Уверяю тебя, она
н не почувствовала твоего поцелуя, и поэтому ей даже не пришлось за-
пывать тебя. Как ни безразличен ты мне в отношении любви, ты, не са-
мообольщаясь, можешь быть уверен, что я сумела различить удовольствие,
которое доставил ты мне сам по себе, от удовольствия, доставленного мне
прекрасным бриллиантом, который ты надел мне на палец (правда, ты
сделал это деликатно, придав подарку вид скромного сувенира) ; но ведь,
говоря начистоту, тем самым ты расплачивался с бедной девушкой, лас-
ковой по обязанности, как твоя покорнейшая служанка Мариэль. Что же
касается большего, то есть того, чем я, быть может, одарила тебя в мину-
ту рассеянности или веселья, то считай, что эта иллюзия улетела навсег-
да ?— сверкающая пыльца всегда стирается с крылышек этой бабочки от
жестокого прикосновения пальцев, когда хотят вновь поймать ее.
Дорогой мой, не пытайся уверить меня, будто ты познал в любви
только такие бесплодные порывы, которым сопутствуют неизбежные,
унылые размышления.— Ты спрашиваешь, всегда ли держал ты в своих
объятиях только мою тень,— сказала в заключение прекрасная насмеш-
ница,— так вот, позволь ответить тебе, что вопрос этот был бы нескром-
ным и непристойным (именно непристойным), ие будь он просто дурац-
ким... Ибо — это не твое дело.
— Беги скорее к своему Раулю, несчастная,— вскричал я, вне себя от
гнева.—Что за неслыханная дерзость! Но я утешусь тем,что опишу твою
нелепую историю... Верность твоя выдержит... любые испытания.
— Не забудь про псевдоним!— ответила, смеясь, Мариэль.
Она надела шляпу с вуалеткой, длинную накидку и, уклонившись от
поцелуя, предписываемого, казалось бы, обычаем,— исчезла.
Оставшись один, я облокотился на перила балкона и смотрел, как под
деревьями аллеи мелькает коляска, увозящая влюбленную к предмету
ее любви.
«Вот уж поистине новая Лукреция!» 4 — подумал я.
Под окном в вечернем свете блистала трава, омытая пронесшимся лив-
нем; скрывая смущение, я бросил в нее потухшую сигару.
Лечение по методу доктора Тристана 135
XXV. Лечение по методу доктора Тристана
Посвящается Жюлю дс Брайе.
Fill Domini, putasne vivent ossa ista... *
(Пророк Исайя ')
Ура! Свершилось! О радость! For everlll** Прогресс увлекает пас
в своем течении. И поэтому для нас, ввергнутых в его стремительный по-
ток, любая задержка поистине равна самоубийству. Победа! Победа!
Скорость, с которою нас уносит, такова, что все сливается вокруг и мы
едва можем разглядеть впереди кончик собственного носа.
Чтобы избежать ужасного наваждения, которым грозит эта быстрота,
что еще остается нам, как не зажмуриться? Разумеется, ничего иного.
Опустим же веки долу, и будь что будет!
Сколько открытий! Сколько изобретений, приятнейших для всех! —
Человечество между одним потопом и другим становится совершенно бо-
жественным явлением!
Переберем же по порядку:
1. Черная рисовая пудра для высветления лица беглых негров.
2. Отражатели д-ра Грава, которые уже завтра покроют объявления-
ми обширную стену ночного неба.
3. Искусственная паутина на колпаки ученым.
4. Машина Славы знаменитого Батибиуса Боттома, одного из верши-
телей судеб нашего времени.
5. Новая Ева — электро-человеческая машина (почти животное!),
штампующая первую любовь,— творение удивительного Томаса Альвы
Эдисона, американского инженера, отца фонографии.
— Но довольно! Вот кое-что новенькое!— Кое-что еще поновей!.. Сно-
ва и снова иное!.. На этот раз нас поразит Медицина. Послушаем же!
Изумительнейший врач, д-р Т. НТавассю только что открыл радикальный
способ лечить всякий шум и звон в уймах и прочие изъяны слуха. Он изле-
чивает даже тех, кому повсюду слышится худое — болезнь, ставшую весь-
ма заразительной в наши дни.— Наконец, досконально изучив все бара-
банные перепонки слухового аппарата человека, Шавассю воздействует
интеллектуальным образом на тех нервных, слишком чутких лиц, кому,
как говорится «блоха в ухе не дает спать спокойно».—Он утихомиривает
раздражение, которое, например, возникает за слуховым отростком у лю-
дей отсталых, излишне щепетильных, не желающих «пропускать мимо
ушей» ничего обидного! Но в чем он одержал полную победу, что стало
его специальностью — это лечение лиц, которым «слышатся Голоса»,
словно какой-нибудь Жанне д'Арк2.—Тут-то и коренится его право на
общественное признание.
* Сыне человоче, оживут ли кости сия? (Библия, кн. Иезскттиля, 37, ст. 3.).
** Навеки!!! (англ.).
136 Жестокие рассказы
Метод доктора Шавассю вполне рационален; его девиз — «Все для
Здравого Смысла и посредством Здравого Смысла». С этим доктором нам
нечего опасаться приступов героизма. Этот Князь Науки в случае необхо-
димости не даст больному различить даже голос своей совести. Он руча-
ется, что никакая Жанна д'Арк, выйдя из его просвещенных рук, не ус-
лышит больше ни одного Голоса (даже своего собственного) и что ее ба-
рабанные перепонки потеряют звучность, как то и надлежит сегодня
любому серьезному и разумному барабану.
Отныне конец необдуманным порывам, возникающим, например, при
болезненном волнении, которое старые песни родной страны пробуждают
в сердцах иных запоздалых энтузиастов! Конец ребячествам! Нечего опа-
саться, что мы легкомысленно полезем отвоевывать отнятые у нас провин-
ции! Доктор тут как тут. Вас преследуют своим отдаленным зовом сирены
Славы?.. Шавассю избавит вас от такого звона в ушах.— Вам слышатся
в ночной тиши вдохновенные звуки, словно к вам обращается душа вашей
родины?.. Вам не дает покоя возмутившееся чувство чести, когда горечь
поражения и неукротимая надежда на величие в грядущем вспыхивают
в вашем сердце так, что у вас даже начинают гореть уши?..— Скорее! Ско-
рее! К доктору: он избавит вас от этого зуда!
Он дает советы от двух до четырех. И какой обходительный человек!
Какой обаятельный! Какой неотразимый!— Вы проходите в кабинет, уб-
ранный со строгим изяществом, как то и пристало Науке. Из предметов
роскоши вам бросается в глаза лишь связка луковиц, висящая под бюс-
том Гиппократа, чтобы люди сентиментальные знали, где им после
успешного лечения позаимствовать, если понадобится, слезы благодар-
ности.
Шавассю указывает на привинченное к паркету кресло... Едва вы успе-
ваете усесться, как жесткие металлические скобы охватывают вас, словно
когти тигра, и парализуют любое движение.— Затем, уставясь вам в лицо,
подняв брови, Доктор пристально рассматривает вас; он перекатывает
языком за щекой, поигрывает зубочисткой и всячески выражает всем сво-
им видом, какой живейший интерес вы в нем вызываете. •
— И часто вас мучает такая чуткость! — спрашивает он.
— Ну, как всех нынче,— шутливо отвечаете вы.— Бывает, для разно-
образия.
— В таком случае, не теряйте надежды,— заявляет Доктор.— Это,
друг мой, все отголоски; настоящих Голосов вы и не слыхивали.
Тут доктор вдруг кидается к вам и прижимается ртом к вашей ушной
раковине. И сначала шепчет тихонько, но вскоре уже громыхает вам в
ухо одно-единственное слово: «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО». Не отводя глаз от своего
хронометра, он через двадцать минут ухитряется произносить это слово
уже со скоростью семнадцати раз в секунду и притом не путает в нем ни
единого слога — уменье, которое далось ему ценою стольких бессонных
ночей! Стольких изнурительных упражнений!
И вот он все твердит, долбит таким странным образом это слово в вы-
шеупомянутое ухо; и вовсе не потому, что для него в том сочетании звуков
Лечение по методу доктора Тристана 137
содержится какой-либо смысл! Наоборот! (Он лично применяет его так,
как иной певец пользуется по утрам словом «Каркассон» —просто лишь
бы прочистить глотку, только и всего.) Но доктор приписывает этому сло-
ву магические свойства и считает, что, усыпляя, выхолащивая и заклеивая
таким образом ваши мозги, он на три четверти обеспечивает выздоров-
ление.
Добившись своего, он переходит к другому уху и начинает бормотать,
с переливами тирольской песенки, Охвостъя-слов своей подборки, числом
до сотни. Эти Охвостья-слов — игра на окончаниях известных терминов,
нынче вышедших из моды, самое значение которых почти невозможно вос-
становить. Например, таких терминов, как: Великодушие!.. Доверие!.. Бес-
корыстие!.. Бессмертная душа!., и прочих странных выражений. В конце
концов, внимая им, вы начнете тихо кивать головой и улыбаться словно
в каком-то упоении.
На исходе получаса, когда сосуд вашего сознания наполнился таким об-
разом до краев,— оказывается необходимым закупорить его, неправда ли?.,
а то его драгоценное содержимое может и выдохнуться. И вот Шавассю,
определив соответствующий психологический момент, вставляет вам в уши
два электрических провода — особо изолированных, изготовленных и на-
сыщенных позитивным током, что является секретом доктора.— Спокойно!
Не шевелиться! Он касается переключателя установленной рядом вольто-
вой дуги; искра проскакивает в ваше ухо. Триста тысяч цимбалов грянуло
разом в вашей черепной коробке. Вас одолевает страстное желание сде-
лать безумный прыжок, но металлические скобы кресла не дозволяют
этого.
— Ну вот! Каково? Каково? — улыбаясь, безостановочно твердит вам
Доктор.
Вторая искра. Крак! Теперь хватит. Победа!.. Перепонка лопнула —
то есть уничтожена та таинственная точка, та болевая точка, та беспокоя-
щая точка, которая через барабанную перепонку злополучного органа слу-
ха доносила до вашего сознания все эти нашептывания чести, славы п
геройства.— Вы спасены! Вы не слышите больше ничего. Чудеса! Чистые
Абстракции и Охвостья-слов заглушат в вашей душе любой яростный вопль
в защиту старого умерщвленного Идеала! Исключительная любовь к сво-
ему благополучию и удобствам внушит вам возвышенное презрение ко
всем обидам! Отныне и десяти тысячам пощечин не возмутить вас.—
— НАКОНЕЦ-то!!! Вы вздохнули свободно. Шавассю дает вам легкого
щелчка по носу в знак вашего выздоровления; вы поднимаетесь; — вы
СВОБОДНЫ...
Если вы опасаетесь еще каких-либо ребяческих приступов чувства соб-
ственного достоинства, если, короче говоря, у вас еще остались сомнения,
доктор Тристан, пожевывая зубочистку, отвесит вам здоровый пинок
чуть пониже поясницы, который вы примете с сердцем, исполненным бла-
годарности, и оглянетесь при этом на связку луковиц. Теперь вы совер-
шенно успокоились. Осыпав доктора золотом, вы удаляетесь. Вы выходите
от него свежим, бодрым, легкой походкой, в своем отличном черном фраке —
138 Жестокие рассказы
rulgo * свисток, alias ** сорочий-хвост, который вы так чудесно носите в
знак траура по только что казненным словам; вы идете, заложив руки
в карманы, по солнечной стороне, с умным видом, презрительно погляды-
вая вокруг,— и душа ваша теперь начисто избавлена от всех этих пустых
и смутных Голосов, мучивших вас еще накануне. Вы ощущаете, как Здра-
вый Смысл живительным бальзамом наполняет все ваше существо.
Вашему равнодушию... нет пределов. Рассудительность, как некая благо-
дать, подымает вас выше всякого стыда. Вы стали человеком во Челове-
честве.
* Обычно именуемом [лат.).
** Иначе {лат).
^
il/
ДОПОЛНЕНИЯ
Из произведений времени Парижской Коммуны
и начала 1870-х гг.
Очерки в прессе Коммуны
(17-22 мая 1871 г.)
I. Картина Парижа
Париж выжил. Над Восстанием сияет солнце. Неукротимая Свобода
поднялась на ноги, пошатываясь, но ее опора — бесчисленные красные
флаги, и она бросает вызов смертоносным скипетрам Берлина и Версаля.
На горизонте над гражданской войной вздымается Триумфальная арка.
Пули бороздят улицы, не мешая играм новых детей; огненные ядра при-
шли на смену красным шарикам, и когда для игры не хватает шариков,
слышатся милые раскаты смеха, и детишки бегут подбирать валяющиеся
пули.
Над Тюильри, Люксембургским парком и Елисейскнмн Полями во всел
своем великолепии торжествует Май. Крытый рынок завален цветами. То
тут, то там проходят тысячи солдат, залитые солнцем и сопровождаемые
победной, доселе забытой музыкой. Вдали грохочут пушки.
По вечерам бульвары ярко освещены; здесь — девушки, театры, горя-
чие споры, которым наконец-то никто не препятствует, шумные преобра-
зившиеся кафе; на всем печать освобождения.
У киосков ждут с нетерпением свежих газет, их расхватывают и чи-
тают, не сходя с места.
Что нового?
— Исси взят \
— Пустяки!
— Ванв под угрозой! 2
— Пустяки!
— Сегодня ночью Версаль двинется в атаку!
— Пустяки!
— В городе есть изменники!
— Пустяки!
140 Очерки о Парижской Коммуне
Кто вопрошает? — Прохожий. Кто отвечает? — Свобода.
Так обстоят дела с марта месяца; Париж — грозный город. Сравниться
с ним может только пушка.
У Парижа собственное мнение, он упрям, как не раз удостоверился в
этом весь мир.
Кое-какие магазины закрылись; кое-какие осторожные люди бежали;
кое-кто из полицейских арестован; отмечено несколько истерик перепуган-
ных и негодующих буржуа; нескольким глубокомысленным дипломатам
удалось вызвать к себе всеобщее презрение. Вот и все.
Иной раз улица внезапно погружается в глубокую тишину, и тогда
слышишь вокруг себя глухое шипение неискоренимого шпионажа, подоб-
ного тысячеглавой гидре; а затем Париж, как ни в чем не бывало, возвра-
щается к обычной жизни.
Впрочем, экипажей очень мало. Группы прохожих оборачиваются,
провожая взором офицера Коммуны, галопом скачущего к передовым пози-
циям, или розенкрейцера или франкмасонской ложи Франции 3, облечен-
ного таинственными знаками и направляющегося на крепостные валы *.
Возле харчевен стоят старые-престарые женщины в новых траурных
платьях. Ни пятьдесят тысяч версальцев, сосредоточенных в Булонском
лесу 5, ни двадцать тысяч других, замкнувшихся в форте Исси, ни два-
дцать тысяч, составляющих гарнизон Аньера,— никого особенно не тре-
вожат.
На перекрестках встречаются мрачные похоронные процессии с фан-
фарами, скорбным барабанным боем и длинными стягами цвета отмщения.
Итак, ни стужа, ни осада, ни предательство, ни голод, ни черная оспа,
ни обстрел, ставший обычным делом, ни скорбь, вызванная поражением,
ни междоусобная война, ни зверские казни, ни опасности, таящиеся в бу-
дущем,— ничто не нарушило невозмутимости древней столицы.
Парижане! История поведает об этом так, что и потомки будут гордить-
ся нынешними событиями, как гордитесь ими вы.
Итак, раб, чело коего было доныне отмечено изгнанием, плавучими
тюрьмами, виселицей и ссылкой в заморские края, народ-раб заявил теперь
о своих правах на жизнь и солнечный свет.
В груди французов вдруг забилось сердце античных Гракхов 6, головы
гордо поднялись, а старые ржавые цепи раскололись от судорожно сжав-
шихся кулаков и, взметнувшись в воздух, посыпались на глупые, перепу-
ганные головы всех заевшихся, бездарных и изменников, правивших стра-
ной. Вот отчего они сбежали, вот откуда эта сумятица и великолепный
бунт. А скоро пробьет и час наступления.
Запомните, сыны стоической Свободы, запомните павших, которых вы,
склонив знамена, провожали на переполненные кладбища! Запомните
своих сестер-страдалиц, которые, однако, удерживались от слез над от-
* См. «Официальную газету Коммуны» от 27 апреля 1871 г. (Парижская Коммуна,
заседание 26 апреля). {Прим. автора) 4.
Картина Парижа 141
крытыми гробами! — Вдумайтесь, сыны Отчизны, настал ведь не только
день славы, но и день освобождения! Ударим же в барабаны, и пусть мар-
китантки ваших батальонов нальют на последних крепостных валах Па-
рижа вина в ваши манерки, чтобы выпить за освобождение всего мира!
Взявшись за оружие в защиту человечества, вы тем самым восторже-
ствовали над всеми поражениями.
Если вы падете, воины, знайте, что ваше дело победит, ибо оно бес-
смертно, и вы будете жить в благодарной памяти грядущих поколений,
потому что — можете быть в этом уверены — кровь ваша прольется неда-
ром. Мы видели вас вечерами на празднествах 7, которые вы устраивали
перед лицом вражеских пушек, во дворце, которому нет равных в мире!
И пузатые орлы, держа в лапах смехотворные молнии, взирали на вас
с плафонов зал, словно из глубины позора.
Было что-то поистине величественное в том, как скромно одетые жен-
щины и мужчины уверенно проходят под сводами, где столько веков
шествовали лишь лицемерие, убийства, супружеские измены, лихоимство
и пытки! Чело этих новых властелинов как бы венчалось диадемой, а к но-
гам стекалось всеобщее уважение.
С оружием в руках вы учредили это небывалое зрелище,— такова была
ваша воля! А вдовы, старухи-матери и дети могли поодаль любоваться са-
дами и залитыми светом окнами Тюильри, теперь уже не проклиная
празднества, ибо там должны накормить вас 8!
С дворцового балкона было видно, как позади Елисейских Полей,
в ночной тьме, под темным лиловым небом, с баррикады Курбевуа взлетел
фейерверк, оплаченный на сей раз не ценою золота, а ценою крови. Время
от времени в открытые окна слышался далекий смутный треск митральез,
доносимый весенним ветерком и сливавшийся с восторженными рукоплес-
каниями, приветствовавшими строки «Возмездия»9, которые звучали в
зале маршалов империи 10.
Пикар и, слушая рассказ об этом незабываемом вечере, усмехался от
злости и презрения, а Дантон, вероятно, перевернулся в могиле. Все это
возвращает народу самоуважение.
Да, после этого убеждаешься: слава, победа, воины и лавры зависят
от пушек; они добываются путем происков и освящаются голодом; завое-
вывают их вовсе не на открытых полях сражений — такими победами на-
род не гордится.
Вопреки Беранже 12 и вопреки грудам устричных раковин, валяющихся
по углам кафе, вопреки прежним песенкам народ объявил, что одна только
колонна достойна славы — его колонна! Все же остальное — не более как
припев к старинной песенке! А потому «памятник, отлитый из вражеских
пушек» 13, будет сброшен со своего основания и лишится своих желтых
венков.
Герой Седана 14 уже внес было поправки к этой колонне. Тщетное
вмешательство! — Ваграм 15? — Допустим, но куда важнее взятие Басти-
лии! Свобода превыше всего! Не будь 89 года, не было бы ни Ваграма, пи
Аустерлица, так же как и Лейпцига, и Ватерлоо. Племянник вздумал
142 Очерки о Парижской Коммуне
блистать в лучах славы своего дяди, п вполне естественно, что тень от
кровавого солнца 18 брюмера лежала на Вандомской площади рядом
с тенью Седана.
II. Клубы
Дело решенное. С пятт: часов утра до пяти вечера храмы находятся в
распоряжении духовенства. В пять часов привратник убирает утварь, за-
пирает священные сосуды в шкаф, отодвигает алтарь в сторону и предла-
гает верующим удалиться. В восемь часов в здание входит народ.
В первые *дни имели место досадные столкновения. Люди не понимали
друг друга. Коммуна и католичество сталкивались на паперти. Раздел
вызывал жалобы. Когда народный трибун убеждался, что его кафедра на
замке, ему приходилось взламывать дверь; священник, обнаружив на дру-
гой день в храме окурок, писал жалобу в «Голуа» 16. Но теперь желанное
взаимопонимание восстановилось; каждый, в ожидании лучшего, доволь-
ствуется своим уделом; в споре с земною властью небо, как всегда, оказа-
лось сговорчивым.
Одно из самых любопытных мест подобных собраний — храм Сеи-
Николя-де-Шан *. Каждый вечер на улице Сен-Мартен и вдоль сквера
Искусств и Ремесел движется густая толпа. Предупреждаю: проникнуть
в церковь удается не без труда. Никогда еще богослужения, совершаемые
в месяц Богоматери 17, не привлекали так много народа.
Однако, вверившись течению, вы все же не замедлите оказаться в хра-
ме. Зрелище тут открывается захватывающее. Под удивленными древними
сводами, где обычно звучат торжественные песнопения, слышится глухой
рокот толпы.
Граждане и гражданки образуют тесную, беспорядочную толпу; пер-
вые стоят в шапках и с папиросами в зубах, вторые заканчивают вечернюю
трапезу, прислонившись к колоннам.
Светильники зажжены, и все же толпа вдали тонет в таинственном
сумраке. Боковые приделы заняты народом; странным кажется ангел над
крестильной купелью, а если присмотреться, то заметишь там и сям статуи
Богоматери и святых; они напоминают вопросительные знаки и боязливо
высовывают свои мраморные лица.
Они удивлены, и это вполне естественно. На кафедре вместо священ-
ника в белом стихаре или капуцина в сермяжной рясе стоит человек,
опершись рукою на эфес сабли; на голове у него кепи, талия перехвачена
красным поясом, и он обращается к народу с совершенно необычной про-
поведью. Если вслушаться, то повторяет он все те же, давно знакомые
* Максим Вюйом описывает такое же собрание в церкви Сен-Северен (Vuillaume.
Mes cahiers rouges. Concert aux Tuilleries.— Cahiers de la Quinzaine, puis Ollon-
dorf, p. 274—278). (Прим. издателя.)
Клубы 143
слова. Как и священник, оратор говорит о свободе и братстве, но слова эти
он произносит совсем по-иному, и легко понять, что он им придает новый
смысл. Церковное эхо вторит этим мужественным и отважным словам, за-
бытым на протяжении многих веков, и звуки речи выступающего множат-
ся, словно каждый выступ стены шепотом повторяет их.
Когда какая-нибудь звонкая фраза приходится народу по вкусу, он
рукоплещет. Крики «браво», шум, возгласы — в общем самые обыкновен-
ные — приобретают здесь какую-то причудливую торжественность. Верую-
щий, пожалуй, так представляет себе ад. Между тем все здесь благопри-
стойно и лояльно. И оратор, и слушатели суровы и сосредоточенны. Так
доблестные пастыри-пустынножители некогда направлялись в отвоеван-
ные у врагов храмы, чтобы проповедовать новую веру.
Будем откровенны. При первом взгляде на все это сердце поэта сжи-
мается. Воспоминания смущают его. Как бы мало богомолен он ни был,
ему кажется, что множество таинственных теней выходит из-под пола,
словно требуя у людей ответа, зачем они пробудили их от вековечного сна,
пробудили тех, кто уже не от мира сего, а быть может, никогда и не был
к нему пргичастен.
Даже неверующие говорят, что хоронить мертвых должны мертвые.
Кто же позволил жизни так шумно вторгнуться в царство могил?
Оратор находится здесь по завоеванному им праву. Так Каин Байрона
надругался над предписаниями всевышнего. Но вскоре душа проникается
глубоким волнением. Обитель простодушной веры приобретает какое-то
особое величие: не апостолы ли все эти люди — как говорящие, так и вни-
мающие им? Кто бы они ни были — они готовы пролить свою кровь ради
правого дела. Слышите грохот пушек? Врата святилища могут распах-
нуться перед мучениками.
* * *
Люди входят, выходят, передвигаются с места на место, встречаются.
Смех уличного мальчишки прерывает политические споры. Подойдите
к группам, послушайте. Народ обсуждает важные вопросы; здесь впервые
слышишь, как рабочие обмениваются мнениями по таким проблемам, ко-
торыми доселе занимались только философы. Не видно ни одного сыщика,
ни одного из полицейских, мешающих движению на улице. Царит полный
порядок.
Прежде, когда тот же народ выходил под хмельком из кабачков на
окраинах города, буржуа сторонился, шепча: «Что сталось бы с нами, будь
эти люди свободными? Что сталось бы с ними самими?»
Теперь они свободны и больше не пляшут. Они свободны — и они тру-
дятся. Они свободны — и они сражаются.
Проходя мимо них в эти дни, всякий добросовестный человек убеж-
дается, что отныне положено начало новому веку, и даже заядлый скептик
поневоле задумывается.
144 Очерки о Парижской Коммуне
IV. Кафе-концерты
Париж — город чудес.
Это было сказано, написано сотни раз. Прославляя его чудесные пре-
вращения, поэты и романисты расточали сокровища своего воображения
и красоты языка.
И все же хочется снова повторить, что это город чудес. Париж! Тема
эта неисчерпаема; любоваться Парижем можно без конца.
Действительно, Париж — город воинствующий, художественный и тор-
говый, он порождает и великих поэтов, и удивительных изобретателей,
и бесстрашных воинов, и неподражаемых шутнпков. Поэтому в этом един-
ственном в своем роде городе все восхитительно. На улицах его вы на
каждом шагу встречаете нечто величественное, каждая минута в пределах
его нерушимых стен несет с собою нечто неожиданное, неожиданное —
порою причудливое и смешное, порою грозное и величественное.
Поэтому не удивляешься, если ночью, когда безмятежная темнота оку-
тывает шумный город, до слуха твоего донесется и грохот случайного
пушечного ядра, и серебристый смех влюбленной парочки, возвращающий-
ся домой, напевая задорный припев песенки, только что услышанной ею
в кафе-концерте.
Ибо и теперь еще в нашем городе поют. Хотя его и обстреливают из
пушек. Мортиры и гаубицы неистовствуют в кровавом отдалении, на по-
лях, превращенных в лагеря. Снаряды свистят на улицах, то тут то там
разбивая стены домов.
Всюду слышатся военные сигналы; среди ночи вдруг раздаются бара-
банный бой и звуки горна, зовущие неведомых героев на страшные празд-
нества бастионов и траншей. Во тьме беспрерывно поблескивают штыки.
Наверху, в дымке, грохочет главная цитадель — Монмартр. А внизу —
поют.
Посмотрите: просторный, высокий зал. Он весь залит светом. На обык-
новенной эстраде выламывается фигляр, хороший или плохой — неважно.
Он потешает сражающихся и страдающих сограждан. Это хорошо. Что же
тут за публика? Рабочие, которые пораньше ушли из мастерских,— из
мастерских, изготовляющих снаряды, патроны, мины,— граждане, минув-
шую ночь дежурившие с оружием в руках на городском валу, находящемся
под угрозой; здесь также старики и подростки.
Весь этот народ хочет немного посмеяться, забыть дневные труды и
завтрашние опасности.
Дурно ли они поступают? Они не правы? Кто осмелится бросить им этот
упрек? Всякий, кто сейчас, склонившись к соседу, весело вторит услышан-
Кафе-концерты 14$
ной песенке, завтра, быть может, будет лежать холодный и недвижимый
в санитарной повозке, наполненной ранеными на передовых позициях. Он
не скупится на отвагу, не будем же скупо отмеривать ему радость.
* * *
Вот так-то! Париж сражается и поет! Париж накануне атаки, которая
будет предпринята яростной, неумолимой армией,— а он смеется. Париж
ощетинился фортами, опоясался брустверами и окопами, и в то же время
в пределах его грозных стен есть уголки, где смеются.
У Парижа имеются воины, имеются и певцы! У него есть и пушки и
скрипки! Он одновременно создает и орсиниевы бомбы18 и куплеты, п
в жутком перерыве между артиллерийскими залпами слышатся игривые
мелодии, веселые песенки сливаются с пронзительным стрекотом амери-
канских митральез.
Так обстоят дела. Но ведь мы знаем, что Париж — город чудес.
При осаде Лериды 19 офицерам армии великого Конде вздумалось при-
гласить скрипачей, и бедняги, обезумев от страха, играли, как могли, мод-
ную куранту в самый разгар атаки. И музыканты, и воины исполнили свой
долг: куранта была сыграна от начала до конца, а Лерида взята и основа-
тельно разграблена.
Факт этот занесен в скрижали истории, и обоим видам отваги воздано
должное. Но разве сейчас наши сограждане не превзошли воинов и музы-
кантов Лериды — и притом намного?
Действительно, здесь поют, едва избавившись накануне от неминуемой
смерти и хорошо зная, что завтрашний день грозит новыми опасностями;
это не мешает воспользоваться краткой передышкой. Нельзя всегда быть,
героем: приятно спускаться время от времени с эпических высот. Париж-
ский горожанин может, как древний Гомер, отдохнуть от Илиады за чте-
нием Батрахомиомахии 20.
Париж, несомненно, должен представлять собою любопытное зрелище
для человека, далекого от нашей борьбы и наших чаяний, который, вдруг
оказавшись среди нас, беспристрастно взглянет на наш город, превращен-
ный безбожной блокадой21 в город загадочный, непостижимый.
На каждом шагу чужестранец встречает здесь неожиданную, захваты-
вающую картину. Там, где он ожидает увидеть опечаленный народ, в от-
чаянии бродящий по безлюдным улицам и опустевшим площадям, он видит
горожан, занятых мирными делами; в зависимости от времени дня и от
особенностей своего характера они спешат туда, куда их зовут долг или
развлечения.
Особенно кафе-концерты должны вызывать у него глубокое удивление.
Однако если он призадумается и притом непредвзято, то поймет, что очень
146 Очерки о Псрижской Коммуне
хорошо, когда смех, как солнечный луч в зловещую грозу, раздается время
от времени в самый разгар междоусобной войны.
Воздух, которым мы дышим, насыщен ненавистью; расстилающееся над
нами небо уже не голубое, голубизна его померкла от дыма горящих се-
лений; само солнце шлет нам свои лучи лишь вперемешку с картечью и
багровыми отблесками снарядов. Но смех, смех, это неотъемлемое достоя-
ние человека, все же жив среди всеобщей разрухи — ослепительный, непо-
коримый. В нем наше утешение и наша сила.
Лишись мы этого мощного эликсира, который согревает нам кровь и
придает силы мускулам, мы измельчали бы, выдохлись бы, угасли. Па-
риж — город героизма и смеха. Пантагрюэль и «Декларация прав человека»
родились именно здесь. Предоставьте же гиганту, которого любил Рабле
и которого боялся Робеспьер, смеяться вволю!
К тому же разве взрывы смеха, отвечающие взрывам снарядов, которые
сыплются на нас со всех сторон и грозят заживо похоронить нас под ды-
мящимися обломками наших жилищ, не являются убедительным призна-
ком нашей силы? Не является ли смех самым совершенным и неотразимым
оружием, которое никто не в силах у нас отнять?
Что может быть полезнее и действеннее звучного, великолепного сме-
ха, что может лучше служить военной хитростью с целью сбить врага
с толку, обмануть его, повергнуть его в глубокую усталость, дабы он понял
бесцельность своей разрушительной работы? Что может быть лучше смеха,
который вырывается из гущи народных толп, словно сноп молний среди
ужасающего ненастья?
И что может быть лучшим ответом на непрекращающуюся канонаду
наших озверевших врагов, чем припев, который каждый вечер раздается
во всех двадцати парижских кафе-концертах:
Да, все народы нам братья 22,
Одни версальцы — нам враги.
V. Охота на уклоняющихся
Время от времени Коммуна вынуждена предписывать в некоторых
округах облавы на уклоняющихся от воинской повинности,— и это останет-
ся в памяти, как одно из самых грустных и вместе с тем самых любопыт-
ных явлений, связанных с нынешней войной. Такие облавы, к сожалению,
еще недавно давали обильные плоды. Теперь число уклоняющихся значи-
тельно уменьшилось.
Особенно много было их в пятом и девятом округах. Они спокойно
разгуливали по улицам, подходили к группам граждан, вышучивали от-
ряды воинов, отправляющиеся на передовые позиции, и издевались над
всеми горестями и бедами.
Иной раз возмущенные соседи и женщины, сыновья которых сража-
ются в окопах, доносили на хулителей, и их тотчас же задерживали, а за-
Охота на уклоняющихся 147
тем, снабдив оружием, отправляли на фронт. У меня на глазах однажды
задержали троих, которые посмеивались и пожимали плечами, когда везли
гроб, украшенный красными флагами.
Но таких случайных расправ было недостаточно... Пришлось прибег-
нуть к приему, которым пользуются в отношении женщин дурного поведе-
ния,— к облавам в целом округе. Обычно охота начинается часов в девять
утра. На перекрестках всех улиц данного района расставляются пикеты,
запрещающие всякое передвижение. За какие-нибудь четверть часа весь
округ оцеплен.
Входить туда можно сколько угодно, а вот выйти оттуда без удостове-
рения, свидетельствующего, что человек состоит в одном из маршевых
батальонов или что он по возрасту освобожден от воинской повинности, не
так-то просто. Тут разыгрываются сцены, в равной мере и прискорбные,
и потешные. Один пытается убедить патруль, что он полный инвалид и не
годен к какой-либо службе. Другой уверяет, что ему надо навестить уми-
рающую тетку. Некоторые решительно утверждают, что им необходимо
побывать в мэрии или в министерстве по важнейшему вопросу, касаю-
щемуся Коммуны. Этим не позавидуешь: четыре конвоира немедлен-
но отводят их в учреждение, где их якобы ждут, и горе этим безобразни-
кам!
Ни у одного не хватает мужества сказать, что он отказывается воевать
из-за политических убеждений. Большинство не входит в пререкания
с патрулем, а направляется на другую улицу, но и там беглеца ждет пи-
кет. Тут бедняга пускается наутек; он удирает во все лопатки, удирает
в отчаянии, пыхтит, теряет шляпу, натыкается на прохожих. Как майский
жук, попавший в графин, он всюду встречает непреодолимую преграду:
цепь часовых! Париж для него словно ощетинился бесчисленными дамок-
ловыми мечами. В надежде как-нибудь проскочить он кидается во все
переулки, во все подозрительные тупички — но все напрасно. С севера,
юга, запада и востока оцеплено решительно все!
Тут-то в его затуманенной голове волнами вздымаются темные мысли
и безрассудная злоба против Коммуны, требующей от него исполнения
гражданского долга. Он предпочел бы находиться где угодно — хоть на
шпице Пантеона или на дне сточной ямы; он сожалеет о временах, когда
существовали феи, в мгновение ока переносившие людей из одной стра-
ны в другую, когда имелось кольцо Гигеса 23, делавшее человека невидим-
кой. Беглец доходит до полного отчаяния. Некоторые, прикидываясь без-
участными, просто останавливаются посреди улицы, но как можно даль-
ше от часовых.
Напрасная предосторожность: подходит национальный гвардеец и от-
водит его к начальнику. Иной в надежде улизнуть забирается на верх
омнибуса. Верный просчет: омнибус останавливается у пикета. Прихо-
дится слезть под насмешливыми взорами окружающих, делать вид, будто
ищешь несуществующий документ, клясться, что потерял бумажник, и
в конечном счете — отправляться в мэрию, чтобы присоединиться к тем,
кто попался, удирая пешком.
148 Очерки о Парижской Коммуне
Возвратиться домой и сунуть пять франков привратнику, чтобы он всем
говорил, будто вас нет дома,— в таких случаях бесполезно. Привратник не
прочь подработать, а потому сообщает первому же встретившемуся гвар
дейцу, что в его доме находится уклоняющийся на таком-то этаже, дверь
направо. Попадаются все или почти все,— исключая тех, кто случайно про-
водит день вне своего округа. В пять часов облава кончается, движение по
улицам опять свободно. Одновременно с уклоняющимися ищут также п
спрятанное оружие, и редко случается, чтобы такого рода обыск не дал
значительного результата.
Приведем только один случай: на Римской улице однажды вечером
пашли восемьдесят винтовок, спрятанных по три-четыре штуки у разные
лиц. Не проходит дня, чтобы Коммуна таким же путем не получала боль-
шого количества сабель и револьверов, данных ею офицерам, которые по-
том подали в отставку, но сохранили оружие «на память».
Мы сейчас сказали, что охота на уклоняющихся и обыски предприни-
маются особенно часто в некоторых округах; в других же, где население
ближе к сердцу принимает интересы Коммуны, надобности в таких меро-
приятиях нет. Например, в восемнадцатом округе, можно сказать, вовсе
пет уклоняющихся. Там мэрии создали для них такие невыносимые усло-
вия, что все они либо вступили в армию, либо переселились.
В заключение отметим факт, на первый взгляд могущий показаться
зесьма странным. А именно — все эти люди, став военными и оказавшись
яа передовых позициях, сражаются ничуть не хуже других. Труден только
первый шаг.
Коммуна мобилизует их в тот момент, когда они меньше всего об этом
думают,— и поступает она так, конечно, для того, чтобы оправдать по-
говорку: «Первый шаг делают, не помышляя о нем».
Дервая часть драмы «Аксель»,—
«Мир религиозный»*
Действие происходит в XIX в., около 1828 года, в женском монастыре святой
Аполлодоры ], около побережий старой Французской Фландрии.
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
...И ПРИНУДЬТЕ ИХ ВОЙТИ!
Хоры в капелле старого аббатства.
В глубине огромная оконница с расписными стеклами. Налево четыре ряда си-
дений. Они слегка подымаются полукругом к высокой круговой решетке, замкнутой
и задрапированной тканями. В глубине около решетки низкая с каменными ступе-
нями дверь. Она ведет в монастырь.
Направо против сидений семь ступеней и амвон алтаря, которого не видно. Ко-
вер тянется до середины хор, по краю могильных плит. На второй ступени звонок и
золотые кадильницы. Выше — корзины с цветами. Только одна лампада между боль-
шими, обремененными колоннами, которые поддерживают главный свод, озаряет зда-
ние: там, на клиросе, возвышается кафедра из белого мрамора.
Человеческая фигура, закрытая покрывалом2, с босыми ногами в сандалиях,
стоит над лампадой. В глубине появляются настоятельница аббатства и архидиакон 3
в священнических облачениях.
Священнослужитель склоняется перед алтарем и пребывает в молитве. Настоя-
тельница приближается к закутанной фигуре и резким движением срывает покры-
вало с ее головы.
Таинственной красоты лицо появляется. Это женщина. Она недвижна, руки скре-
щены, веки опущены. Настоятельница вглядывается несколько мгновений молча.
СЦЕНА ПЕРВАЯ
Сара, настоятельница, архидиакон, после сестра Алоиза
Настоятельница. Сара! Скоро прозвучит рождественская полночь,
радостью преисполняя наши души! Скоро алтарь озарится свечами, как
ковчег союза! Наши молитвы поднимутся на крыльях песнопений! Но
* Неопубликованный перевод Максимилиана Волошина.
loO Аксель
прежде чем этот час совершится в небесах, я должна вам поведать свя-
щенное, мною принятое относительно вашей судьбы, решение.
Вспомните, Сара! Отец ваш и мать, чувствуя приближение смерти,
призвали меня в свой замок, чтобы поручить вас мне. Семь лет живете вы
в этом монастыре, свободная, как ребенок 4 в саду. Но игры детей были
вам всегда чужды, и я ни разу не видела, чтобы вы улыбались. Что зна-
менует характер столь прилежный и столь уединенный? Бесконечное пере-
читывание всех наших старых книг разве сможет научить смирению ваш
ДУХ?
Слушайте, Сара, вы темная душа. На вашем всегда бледном лице свер-
кает отблеск неведомой древней гордыни. Она дремлет в вас... О! те созву-
чия, что вы находите в органе, выдали вас!.. Они так мрачны, что я про-
сила сестру Алоизу заступить ваше место. Несмотря на сдержанность и
простоту ваших редких слов и всех ваших поступков, я размышляла о вас
долго и внимательно. Вы с молчаливой безразличностью подчиняетесь
правилам вашего послушания. Берегитесь ожесточить свое сердце!
Дочь моя! Вы лампада в глубине гробницы: я хочу оживить вас для
надежды. Жизнь без молитвы — суета! Двадцать третий год вашей жизни
исполнился; то, что необходимо для спасения вашего,— это помазание!
Вы должны всецело отдаться господу, усмиряющему беспокойные сердца.
Конечно, согласно человеческому взгляду, я должна допустить, что вы
свободны нас покинуть. Но пред господом я, которой поручена ваша душа,
могу ли я допустить вернуться в мир вас — одинокую, богатую и столь
прекрасную посредине наших искушений (коих не безызвестны мне оболь-
щающие насилия настолько же, как смертельное отчаяние) ? Не имею ли
я права в этих обстоятельствах, раз вы доверены мне, действовать в делах
истинного нашего счастия, раз вы сами не способны отличить его? Опыт
наслаждений ведет к отчаянию: позже, вопреки собственной воле, у вас
не хватит сил вернуться; я должна предвидеть это за вас. Как! Головокру-
жение подстерегает вас на краю бездны, и я не буду иметь прав защищать
вас от него! Мое невмешательство было бы предательским попущением,
за которое вы бы потребовали у меня отчета в последний день. Поддержать
вас, когда вы готовы утонуть во мраке! Без руководителя, без семьи!
И с этой пламенеющей душой, которую я угадываю под вашими опущен-
ными ресницами!? Нет! Нет! Вы не сумеете прожить там по заветам божи-
им! Сегодня же вечером я посвящу вас ему, да, сегодня ночью. {Молча-
ние.)
Дочь моя, когда три месяца тому назад я вам раскрыла свои планы,
я стерпела отказ с вашей стороны. Я прибегла к in pace *, к строгим
лишениям и умерщвлению плоти... И в то время, когда вы, смирившись,
исполняли наложенную эпитимью, я приказала молиться за вас и сама
предстательствовала с ревностью, принося мои слезы тому, кто сам — все-
прощение.
* Место успокоения {лат.) — лицемерное наименование монастырской темницы.
(Ред.)
...И принудьте их войти! 151
Не принуждайте же меня вновь прибегать к строгостям, чтобы заста-
вить вас подумать о самой себе, чтобы вас, так сказать, толкнуть к небу.
Сегодня, в этот прекрасный вечер праздника, я растворила вашу темницу;
я избрала эту святую ночь, чтобы посвятить вас господу, посреди цветов,
огней и благовоний. Вы будете горькой невестой этого брачного вечера.
Так благодать снизойдет на вас; забвение усмирит беспокойство вашего
духа; вы почувствуете скоро бремя божественной любви; и наступит день
(и он уже недалек, быть может), когда вы, трепеща воспоминанием этого
святого часа, вы будете целовать меня со щеками, омытыми слезами экста-
за и радости. И это будет трогательным и укрепляющим зрелищем для
девушек, живущих под сенью этого алтаря. И вы поймете тогда, что
дерзнула я сделать, исполнение чего приняла я на себя. Да будет же мир
с вами. (Она оборачивается.)
Сестра Лаудация, зажгите свечи. (Алтарь постепенно озаряется во вре-
мя конца сцены.)
Теперь, сестра моя и дочь моя, я сказала: вы богаты в миру. Сюда же
входят освобожденные от гордости и богатства. Мы бедны, но то, что есть
у нас, мы отдаем: бедность облагораживается милостыней. Вами унасле-
дованы замки, леса и равнины. Вот документ, в котором вы отрекаетесь
от всех своих имуществ в пользу общины 5. Вот перо. Подпишите. (Сара
разнимает руки, берет перо и равнодушно подписывает.) Хорошо. Это так.
(Она смотрит на Сару, которая вновь погрузилась в свою неподвижность.)
Благодарю. (Про себя, направляясь к архидиакону.) Пусть господь видит
меня — и судит! (Подойдя к старому священнику, она трогает его за плечо
и, склонившись, шепчет несколько слов.)
Архидиакон (Подымаясь, тихим голосом). Пост, заключение и
молитва рождают свет в этих гордых душах: так было нужно! Так нужно!
(Громко, приближаясь к Саре.) Сара, сестра Эммануила в господе! Сомне-
ния, которые заставляли нас предполагать около вас присутствие злого
духа, рассеялись. В такой день могли ли мы отогнать от себя все беспо-
ь-ойные мысли относительно вас: но милостыня, которую господь дал вам
возможность подать нам, заканчивает ваше в наших глазах очищение,
освобождая от всякого подозрения в нетвердости (...)
Настоятельница. Дочь моя, мы оденем вас в венчальное платье,
и этот лоб украсим венцом посвящаемых дев в знак вашей грядущей свадь-
бы. Потом вы вернетесь сюда, на это место, среди песнопений. Вы будете
здесь распростерты в ознаменование смерти: и на вас будет накинут по-
кров наших покойников. Под этой плитой покоится святая, основавшая
монастырь, и вы помолитесь ей особо до выноса даров. Когда обеты будут
произнесены, ваши мирские волосы обрежутся ножницами наших уставов.
После вас облекут в святую одежду, которую вы сохраните до конца испы-
тания всей юдоли. (Юная монахиня, ребенок с милым лицом, в платье бе-
лом с синим, появляется сзади алтаря. Она кажется побледневшей. Она
смотрит на Сару.) Я, я скоро уйду на покой вечный; вы примете в насле-
дие мой костяной посох и в свою очередь будете делать... то, что делаю я.
{Оборачиваясь.) Сестра Алоиза, приблизьтесь! (Монахиня подходит.)
152 Аксель
СЦЕНА ВТОРАЯ
Те же и сестра Алоиза
Настоятельница (продолжая). Сестра Алоиза, вот ваша подруга,
вами другим предпочтенная, наша милая дочь, которую вы любите с неж-
ностью. Ваш голос ей милее моего, и я полагаюсь на ваши добрые слова,
которые отгонят те искушения, что могут обступить сердце в этот великий
час. (Молчание.) (...)
Сестра Алоиза (в сторону, приближаясь к Саре). Господи! (Сжи-
мая руки на плече Сары, голосом тихим, почти неразличимым.) Сара,
вспомни наши розы в аллее между гробницами! Ты явилась мне сестрой,
которую я уже не ждала. После бога — ты! (...).
Уступи, стань, как мы, под монашеским покрывалом! Раздели с нами
испытания одного мгновения. Ты же знаешь, что мы не можем жить. Тем
скорее мы будем вместе на том же небе, с одной душой!.. Сара, ты видишь
звездное небо в глубине моих глаз — туда удаляют вечно звездные небеса.
Пусть ты придешь! Я хочу убрать тебя сама, как божью невесту, неизре-
ченную супругу, божественное существо. Горе сделало меня красивой, и ты
меня не оттолкнешь больше с грустью, если посмотришь на меня. Какие
слова найти мне, чтобы смягчить тебя! Сара, Сара! (Сара молча разнимает
руки: лоб ее склоняется к челу послушницы. Та берет ее за руку. Обе про-
ходят через часовню. Сдавленным голосом, еще более тихим и неожидан-
ным.)
О, не опирай своего лба! Мои колени подгибаются! (Сара выпрямляется
и, поддерживая одной рукой сестру Алоизу, ставшую белой, как ее покры-
вало, выходит вместе с ней через боковой свод.)
Настоятельница (стоит, облокотившись спиной на колонну, за-
думчиво следя за ними). Свершилось! Это дитя уже испытывает наслаж-
дения и восторги адовы! Обольщения ангелов мрака! Чрезмерная, опасная
красота Сары смущает и тревожит это избранное сердце своей непристой-
ностью. (Размышляя.) Сестра Алоиза этой ночью обрежет ей волосы; и она
останется без покрывала так до крещения.
Архидиакон (подходя к ней). Сестра, вот наследственные доку-
менты Сары де Моперс и акты, сюда относящиеся: они становятся собствен-
ностью монастыря; богатства, ими предоставляемые, пополнят ограничен-
ность наших монастырских доходов; примите их и перешлите завтра в
экономат.
СЦЕНА ТРЕТЬЯ
Настоятельница, архидиакон, после сестра Лаудация
Настоятельница (принимая документы, равнодушно). Благо-
дарю вас, мой отец (...).
Архидиакон. Посвящаемая должна приготовиться к приятию по-
стрижения, не правда ли? Вы сообщили ей об обряде нашей литургии при
посвящении?
...И принудьте их войти! 153
Настоятельница {озабоченная, прерывает его). Мадемуазель де
Моперс готовится к церемонии, да, мой отец. {Молчание; затем как бы
уступая вдруг внутренней необходимости.) Прежде божественной службы
дозвольте мне спросить у вас разъяснений (...)• Обстоятельства навели
меня на мысль, столь необычайную, что я не решаюсь принять собствен-
ным умом предчувствие это как уверенность: мне надо ваше мнение. Дело
идет о Саре. Отче, сердце этой юной девицы, высокой и бледной, как пас-
хальная свеча, для нас закрыто.
Архидиакон. Я тоже не доверяю этой упрямой овце нашего стада.
Но, во всяком случае, я думаю, что долгий монастырский режим обуздает,
я хочу сказать, вернет нам это своенравное дитя; да, я уповаю, что мы
направим милостиво ее мысли к богу, и все пойдет хорошо! Что, поведе-
ние ее действительно предосудительно?
Настоятельница. Оно слишком холодно-безукоризненно. Я часто
наказывала ее, чтобы испытать ее сдержанность. Она все принимала; но,
повторяю вам, отец, что покорность ее лишь внешняя. Кары бессильны
над ней и лишь укрепляют ее гордость. {Прерывая как бы самое себя.)
Эта девушка, как сталь: она сгибается до самой сердцевины и после вы-
прямляется или ломается. У нее (если такое сравнение дозволено), у нес
душа мечей. И не один раз ее вид смущал меня, да, меня, каким-то неве-
домым ужасом.
Архидиакон. Она никогда не пыталась бежать из монастыря?
Настоятельница {качая головой). Она чувствует, что над ней
бодрствуют днем и ночью; одна попытка к бегству ее привела бы к заточе-
нию еще более строгому.
Архидиакон {глядя на нее, спустя мгновение). Надо быть осто-
рожной в таких суждениях, чтобы самой не оказаться под властью дьявола!
Следовало предварительно осведомить сестру Эммануилу о тех мерах, ко-
торые приняты относительно ее, вот и все.
Настоятельница {со слабой, холодной улыбкой). Под власть
дьявола?.. Хорошо, отче, судите сами: вот факты в их точной последова-
тельности. Я нахожу им мрачными... {Она садится, опирается на подлокот-
ник и несколько мгновений размышляет, потом, медленно подымая глаза
на архидиакона, который стоит перед ней.) Вы знаете, что весьма древняя
секта Розенкрейцеров 6 тому три века, во время одной войны, занимала это
аббатство. Они составили там, наверху, различные рукописи, касающиеся,
говорят, тирийских диалектов и наречий, на которых говорили в Гезере
или Тадморе — не знаю... Мы сохранили эти рукописи в качестве досто-
примечательности. Прежде всего, не удивительно ли, что я часто заставала
Сару погруженной в терпеливое изучение этих трудов? (...).
Архидиакон (...). Эти книги далеки от того, чтобы быть книгами
поучительными. Надо завтра же уничтожить их посредством сожжения...
Розенкрейцеры, чтобы избежать костра, имели обыкновение скрывать под
видом молитв свои гнусные формулы.
Настоятельница. Теперь и, к сожалению, слишком поздно, эти
книги в моей келье. Я помню, это было три года назад, зимним утром,
154 Аксель
накануне сретенья, я спустилась довольно рано в библиотеку, там я заста-
ла эту удивительную девушку. Она провела там всю ночь одна несмотря
на сильный холод. Она не видела, как я вошла, и не заметила, что я наблю-
даю за ней! Она кончила сжигать на лампе первый лист пыльного треб-
ника, первый пергаментный лист того готического часовника с эмалевыми
застежками, который был нам прислан когда-то из Германии одним из
корреспондентов его святейшества патриарха Павла, нашего благочести-
вого епископа.
А р х и д и а к о н. Да... Я вспоминаю... Венгерским врачом, которого
патриарх сам не знал и никогда не видел! Доктором Янусом. {Семисееч-
ник около алтаря бросает очень яркий свет и потом тухнет сразу.)
Настоятельница {зовет). Сестра Лаудация, скорее! Лампу! Лам-
пу! Отчего бы это могло быть? Вы отбудете эпитимью в трапезной.
Сестра Лаудацпя {подбегает, сжимая руки, смущенная, расте-
рянная). Мать моя, я забыла заправить его сегодня вечером. Правда! Со
мною этого ни разу не случалось с тех пор, как я ношу ключи у пояса.
{Она молча зажигает лампу, затем уходит за престол.)
Архидиакон. Вы говорите, значит, сестра, что Сара уничтожила
эту грамоту?
СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ
Архидиакон, настоятельница, одни
Настоятельница. Отец, вы помните немного тот лист, о котором
я вам говорю? Он был покрыт письменами странных форм, на которые мы,
не имея возможности разобрать их, обратили мало внимания.
Архидиакон. Помню: конечно, какое-нибудь благочестивое возгла-
шение?
Настоятельница {все более и более задумчивая). Эти письмена
ужасно странно напоминают те, значение которых сообщено в Розенкрей-
церских книгах! Лист пергамента был вклеен в молитвенник и скреплен
печатью с этим гербом. {Она показывает документы.)
Архидиакон {спустя минуту). Я еще не разбираю вашу мыслр:».
Продолжайте, сестра. Каким образом этот поступок, столь маловажный...
в некотором смысле дажепохвальный?..
Настоятельница {с остановившимся взглядом, как бы говоря
сама с собой). Все черты Сары светились в это мгновение таинственноiï
радостью! Глубокой и страшной радостью 7. Нет, то, что она прочла, была
пе молитва!.. В ней было что-то торжественное, неведомое, незабываемое.
Я обратилась к ней вдруг, не спуская с нее глаз. Взгляд, который она под-
няла на меня, был так пуст, что он оставил впечатление опасности. Поело
долгого молчания, страшно побледнев, она ответила мне, что она проста
уничтожила воспоминание о суетной гордости: собственный свой герб, ко-
торый она узнала на этой странице. Подозрительная ревность! Я перечла
письмо патриарха, чтобы убедиться в истинности. Книга действительна
принадлежала покойной владелице замка Ауерспергов,— и это теперь по-
...И принудьте их войти! 155
ясняет слова Сары... Тем не менее, мой отец, признаюсь, что эта минута,
которая длилась лишь одно мгновение, посеяла во мне известную мысль...
О, смутную, быть может, даже суеверную мысль, но я от нее не могу от-
делаться! Подозрение, которое у меня относительно Сары, одно может дать
ключ этого характера, непроницаемого, серьезного и холодного, который
нас смущает в ней. Разве вы не видали ее часто, как и я, гуляющей под
монастырскими сводами, сосредоточенную, как бы потерянную в какой-то
безмолвной грезе?
Архидиакон {внимательно всматриваясь в нее). Вы думаете, что
эта девушка...
Настоятельница {омрачившись). Да... это мое тайное убеждение.
Я думаю, что Сара де Моперс разобрала некое темное извещение, какое-то
необычайное разъяснение — верховное внушение! Важную тайну, да, мой
отец! Да, повторяю вам, важную тайну, вне всякого сомнения! Теперь она
погребена вместе с сожженным листком.
Архидиакон {помолчав). Скажите мне, двери для публики будут
крепко заперты сегодня вечером, не правда ли?
Настоятельница. Железные затворы церковного портала закры-
ты. Корабль останется пустым. Рыбаки и обитатели селенья будут слушать
всенощную в городе.
Архидиакон. Хорошо. Когда же обеты будут произнесены, надо
будет установить строжайший надзор за нею 8.
Настоятельница {вполголоса). Однако... Я думала, я обязана
была думать, что эта душа не неведома нам! Она, значит, не приносит
покаяния, она, когда в вашей исповедальне на коленях...
Архидиакон {прерывая ее). На это я не могу ответить вам, будем
говорить лишь о том, что мы знаем. Пострижение дает особую благодать,
а мы знаем, что она весьма нуждается в ней. Я боюсь, правда, что само-
бичевание ей, может быть, до известной степени необходимо...
Настоятельница {спокойно). Конечно, ее надо спасти! От нее
самой! И если в ее сердце живут адские плевелы, надо их искоренить для
ее спасения. И посмотрите, мой отец, до каких пределов простирается
соблазнительная власть этой девушки! Я просила самую юную из наших
обращенных, сестру Алоизу, у которой простое сердце и ангельская душа,
искать ее дружбы. Я надеялась таким образом, рано или поздно, уловить
хотя бы несколько слов... освещающих скрытые мысли Сары. И что же
случилось? Неожиданная, невероятная вещь... Необычайная красота маде-
муазель Сары де Моперс глубоко поразила сестру Алоизу: она стала мол-
чаливой, как бы ослепленной.
Архидиакон {вздрогнув). Остерегайтесь! Это нечто вроде древней
порчи! Нечистые лихорадки Земли и Крови выделяют мертвенные испаре-
ния, которые сгущают воздух души и вдруг совершенно скрывают лик гос-
подний. И пост, и молитвы бессильны иногда! Опасный случай! Опасный
случай! {с дрожью). Ужасно!
Настоят ел ь н и ц а {ледяным голосом). Мой отец, я умыслила еще
иные опасности. В то время, когда сегодня ночью вы будете совершать над
Î56 Аксель
Сарой заупокойную обедню, ее поручительницей во время допроса будет
именно сестра Алоиза: я избрала ее быть посредницей при покаянии. Что
же касается вашей проповедп, вы можете обращаться к Саре, мой отец,
так, как если бы вам надо было поразить сердце и мысль в известном
смысле неверующей...9 (это неопределимо) и главным образом мысль.
Ее мысль представляется мне одной из наиболее отвлеченных и глубоких!..
Мое стадо чистых душ не поймет вас: ничего предосудительного не про-
изойдет. Она одна, я уверена в этом, последует за вами в эти бездны ду-
ховных исследований, которые ей слишком знакомы.
Архидиакон (очень удивленный, с полуулыбкой). Как? Что вы го-
ворите? Или мы грезим?..
Настоятельница. Ах, если бы я смела обнаружить всю мою мысль!
Если я прибавлю, что ее широкие познания, столько раз сквозившие в ее
точных и редких ответах, дали мне понять слишком поздно, в то время,
когда я думала предоставить ей играть в чтение, что ее удивительная
восприимчивость постигла без посторонней помощи все, до самых основ-
ных положений этой мудрости, скрытой там в тысячах столь различных
произведений.
Архидиакон (становясь задумчивым). Мрачная сирота, воистину
столькими книгами соблазненная и совращенная.
Настоятельница. Отнеситесь серьезно к тому, что я говорю: я
считаю ее одаренной страшным даром понимания!
Архидиакон (серьезно). Тогда горе ей, если она не станет святой!
Мечты погубили столько душ! В женщинах же этот дар становится чаще
ковчегом, чем факелом... Пусть тогда она не читает до тех пор, пока ее
вера, укрепившись, не осветит пустоту человеческих страниц! Вы должны
были раньше объяснить эту особенность ее. Вижу, что мне придется
сегодня вечером употребить красноречие в моем увещевательном слове.
(...) Хорошие удары дисциплины, долгие и смиренные молитвы, хорошие
лишения и хорошие посты — вот что дает основу нашей вере, вот то, что
стоит чего-нибудь, что имеет значение и в смерти, вот что создает право
и укрепляет наше сверхъестество. Что ж! Если необходимо красноречие,
чтобы убедить эту душу в опасности... (Презрительно) я употреблю се-
годня вечером красноречие, да, истощив круг ученых текстов, священ-
ной схоластики, я дерзнул сам, в качестве ритора, побороть их греховные
неточности, не забывая, однако, вещего слова псалмопевца Quoniam non
cognovi litteraturam, introibo in potentiam Dei *.
Настоятельница. Тем не менее мне кажется, что она хорошо рас-
положена! Быть может, она сама ищет молитвы, смотрите, ведь она же
подписала тут, под моими руками, отречение от своих земных богатств.
Архидиакон (посмотрев акт даяния). О! Я забыл! Это справед-
ливо! Сколько бедных накормится! Сотни! Сколько странников приютит-
ся!.. Да, быть может, действительно благодать осенила ее! Быть может,
* Поскольку не познал я премудрости книжной, войду во власть господню (лат.).
...И принудьте их войти! 157
мы сами смущаемы одним из этих беспредметных подозрений, насылае-
мых духами зла в торжественные минуты для того, чтобы напугать нашу
слабость (...).
СЦЕНА ПЯТАЯ
Архидиакон, настоятельница, сестра Лаудация, сосвященствукщий,
служащий заукопойную обедню, монахини
Орган. Четыре ряда сидений теперь заняты. Две монахини в праздничных одеж-
дах приближаются к алтарю, берут кадильницы и кидают в них ладан. Другие, стоя
на ступенях, с корзинами в руках, берут цветы пригоршнями и сыпят на амвон.
Настоятельница с посохом в руке сидит на аббатском месте. Она одета в сверкающую
мантию. Подымается песнопение. Архидиакон в черном ораре приближается. Сосвя-
щенствующий преклоняет колено. Звенит золотой колокольчик. Это входная (...).
СЦЕНА ШЕСТАЯ
Те же, Сара и сестра Алоиза
Орган гремит. Сара, одетая в длинную тунику из белого муара, появляется с оже-
рельем из священных опалов на груди. Она опирается рукой на плечо сестры Алоизы,
которая бледна, но улыбается. Померанцевые цветы переплетают ее длинные распу-
щенные волосы, которые спадают, волнисто чернея, отдельными прядями на ее
платье. Ее лицо как бы высечено из камня. При ее появлении ей кидают цветы, п
кадильницы приподнимаются. Она молча преклоняет колена на плите пред алтарем
и распростирается ниц, прижимая лоб к перекрещенвым рукам. Сестра Алоиза по-
крывает ее широким белым покрывалом, испещренным золотыми каплями, изобра-
жающими крупные слезы. Покрывало скрывает ее целиком. Мистическая свеча пы-
лает вад головой Сары на первой ступени алтаря.
Архидиакон (на амвоне, обращаясь к присутствующим). Есть ли
здесь душа, которая жаждет распять свою смертную жизнь, безвозвратно
причастившись жертвы божественной, мною приносимой?
Сестра Алоиза (приближаясь).
Ego pro defuncta illa!Ego vox eius! *
(Стоя около Сары, поет формулу посвящения.)
Suscipe me, Deus! Secundum elogium tuum, et vivam! **
(Заупокойный колокол ударяет один раз)
(...)
(Теперь дряхлый прислужник на самом амвоне алтаря облекает ар-
хидиакона ризами, в которых старые великие приоры аббатства прини-
мали монашеские обеты в полном облачении. Длинная черная мантия,
застегнутая на плечах; малая митра на голове; опираясь на пастырский
золотой посох, архидиакон под черно-пурпуровым балдахином, поддержи-
ваемый четырьмя старейшими монахинями, попечительницами монасты-
* Я говорю за нее, погребенную! Я голос ее (лат ).
** ирими меня боже, по слову твоему, п лчива ^уду (лат).
158 Аксель
ря, в длинных покрывалах, опускается к распростертой Саре 10. Орган за-
молк.)
Архидиакон. Если та, что умерла уже для земли и пресмыкается
здесь, перед ликом божиим, отрекается навсегда от презренных радостей
плоти и крови, да будет она благословенна у подножия алтаря.
Сестра Алоиза {обеими руками указывая на Сару). Ессе ancilla
Dei *. {Во время молчания, которое наступает, сестра Лаудация, по зна-
ку настоятельницы, приближается к сестре Алоизе и вручает ей большие
серебряные ножницы. Сестра Алоиза принимает их и, похолодев, закры-
вает глаза.)
Архидиакон {останавливаясь на третьей ступени, к Саре). Ты ли,
призванная свыше, воистину — та, что хочет жить во смиренной чистоте,
осеняющей нас? (...) О женщина, если ты принимаешь послушничество
добровольно, любви ради к господу, восходя на костер, то, когда ты всту-
пишь в вечность, ты станешь своей собственной воплощенной любовью.
(Заупокойный звон.)
Ибо вечность, как превосходно говорит св. Фомаи, не что иное, как
полное познание самого себя в единое мгновение. И «любовь моя — бремя
мое»,—сказал св. Августин12. Низвергнись же13, если ты небесное серд-
це, в того, кто сама любовь. Верь, и ты будешь жить; вера, согласно оп-
ределению св. Павла 14, есть самая сущность того, на что должно надеять-
ся {заупокойный звон). Ею ты воскреснешь, преображенная в собственное
свое славословие; ибо душа есть гармония, как вдохновенно сказала
св. Гильдегарда 15. Pulcher hymnus Dei homo immortalis **,— сказал также
Лактанций16, ум красноречивый и достойный всякой похвалы. Только
одно должна ты ненавидеть: всякую препону на возвратном пути твоем
к богу! Всякую грань, то есть зло! Ненавидеть изо всех твоих сил! Ибо,
как удивительно определяет св. Исидор Дамиеттский 17, избранные, скло-
няясь с высоты небес для созерцания мук кающихся, испытывают вели-
кую радость от зрелища их пыток, без чего ни сбор плодов божественных
дел, ни славословие божественной справедливости (в чем и заключена
одна из форм рая) не будут полными (...).
Учись со смирением и главное — с чистым сердцем, если ты хочешь
преуспеть в познании бога (...). И вскоре, без сомнения, благодать раск-
роет тебе, что единственный путь понимания — это молитва.
Но не забывай того, что никогда ты не будешь с чистым духом: даже
твоя душа, твоя бессмертная душа, состоит прежде всего из материи, для
того чтобы иметь возможность радоваться или страдать вечно, оставаясь
различной от господа. Первоматерия, говорит ангел Учения, вопрос 75...
И вспомни, что булла папы Климента V18 грозит отлучением всякому, кто
дерзнет помыслить иное. И если вне духовного повиновения церкви твое
понимание бунтует и мыслит искать бога иными путями, увы! —для спа-
сения твоего повтори себе это смущенное признание языческого ритора:
Се раба господня (лат.).
Прекрасный гимн богу — человек бессмертный (лат.).
...И принудьте их войти! 169
«Такова тщета и бессилие человеческого разума, что не может постигнуть
бога, которому хотел стать подобным!» Умей же обуздать гордыню твоего
самонадеянного разума. Как иначе искать залогов божьих, если не в мо-
литве? Вера не единственное ли свидетельство вещей невидимых? Ника-
кое же иное, принесенное чувством или сознанием, не удовлетворит, ты
сама знаешь это, твоего духа. А тогда к чему искать?... (...).
Слушай же еще, пока колокол мертвых звучит над тобой. Если каждая
из трех тайн 19, из трех сущностей божественных не казалась бы немыс-
лимой и нелепой очам нашей персти и гордыни, какая бы заслуга была
в нашей вере? И если бы они были возможны и разумны, приняла ли бы
ты их, как божественное, когда ты, прах, ты можешь измерить их своею
мыслию? Если же они нелепы и невозможны, то они именно то, чем они
должны быть, и, как учит Тертулиан, они нам прежде всего являют пер-
вое свидетельство своей истинности: их человеческая бессмысленность —
единственная сверкающая черта, которая делает их доступными нашей
логике одного дня, под условием веры. Очисти же навсегда свою душу от
этого бельма гордыни, которая одна заслоняет ей созерцание господа;
перестань быть человечной, стань божественной. Мир смотрит на нас, как
на безумцев, которые обольщены призраками до того, что свою жизнь
жертвуют для детской грезы, ради тени какого-то выдуманного неба. Но
кто из людей, когда наступит его час, не признает, что жизнь свою он
расточил в горьких, никогда не осуществленных мечтах, в суетах, ею не
удовлетворенных, в непрерывных разочарованиях, которые и не сущест-
вовали в действительности, а только в его душе? А тогда по какому прл-
ву мир будет смотреть на нас с высоты, если нам даже сознательно угод-
но предпочесть великую грезу о боге смертельным лжам земли... И дети
века во имя горестного уныния, которое оставляют им обманные реаль-
ности чувства, смеют называть воображаемой нашу истинную радость!
Прочь! (Улыбаясь.)
Иллюзия за иллюзию! А мы сохраним иллюзию бога, которая одна
дает своим верным слепцам и радость, и свет, и силу, и примирение.
Никакая тварь, никакое бытие не уйдет от веры. Человек одно верование
предпочитает другому, и для того, кто сомневается даже и в незакончен-
ности своей мысли, сомнение, свободно им допускаемое в разуме своем,
опять-таки одна лишь из форм веры, потому что в сущности оно так же
таинственно, как наши таинства. Только сомневающийся остается со сво-
ей нерешительностью, которая становится пустым мигом его жизни. Он
мыслит анализировать, он копает могилу в своей душе и возвращается
в небытие, которое отныне не может называться иначе, чем адом (...).
(Заупокойный звон.)
(...) Мы не покоримся этому рабству: мыслить. Сомневаться — это
значит тоже повиноваться ему (...).
Все же метания, противные возвеличения нашей души в боге,— поте-
рянное время, которое лишь спаситель один может искупить. Все силится
вокруг нас! Хлебное зерно, гниющее в земле и в ночи, видит ли оно солн-
це? Нет, но у него есть Вера. Поэтому оно растет смертью и через смерть
160 Аксель
к свету. Так избранные семена всех вещей, исключая семян неверующих,
в которых дремлет Сомнение, его нечистоты и его соблазны, они же, без-
различные, умирают целиком. Мы, мы пшеница господня; мы чувствуем,
что воскреснем в нем, кто есть, по вещему и великолепному слову одного
теолога, местопребывание духа, точно так же, как пространство — тела.
{Заупокойный звон.)
Верь в чаяние и молитву! И в сердце полное любви! Таково наше
учение! И если даже допустим невозможное, как предупреждает нас все-
ленский собор, ангел с небеси спустится, чтобы преподать нам иное, мы
не поколеблемся, твердые и несокрушимые в вере нашей. {Молчание.)
Теперь, Ева-Сара-Эммануила, княжна де Моперс, вспомните о власти
слов, которыми клянутся перед наместниками божиими, слов, по велению
которых Слово становится плотью. Произнесите же свободно величайшие
обеты, которые свяжут вашу душу.
Хор монахинь. Ессе inviolata soror coelestis! *
Архидиакон {продолжая и сменяясь с хором). Ваша кровь, ваше
существо и в этом и в ином мире...
Хор монахинь. Ессе conjunx! **
Архидиако н... вашу надежду, единую и бесконечную.
Хор монахинь. Sacra esto! ***
Сосвященствующий {во время заупокойной обедни читает одно-
образным голосом тексты св. Бернара20 для подготовления к страшному
суду):
Attende, homo, quod fuisti ante ortum te quod eris usque ad occasum. Profocto fuit
quod non eras. Postea, de vili materia factus, in utero matris de sangue menstruali nut-
ritus, tunica tua fuit pellis secundina. Deinde in vilissimo panno involutus, progressus
es ad nos — sic inductus et ornatus! Et non memor es quai sit origo tua. Nihil est aliud
homo quam sperma foetidum, saccus stercorum, cibus verminum. Scientia, sapientia,
ratio sine Deo Christo, sicut nubes transeunt.
Post hominem verrais: post vermem foetor et horror; Sic in non hominem, vertilur
omnis homo. Cur carnem tuam adornas et impinguas, quam, post paucos dies, vermi
devoraturi sunt in sepulchro, animam, vero, tuam non adornas,— quas Deo et Angelis
«ins presenteada est in Coelis! ****
{Молчание.)
* Се непорочная сестра небесная (лат.).
** Се супруга (лат.).
*** Пребудь посвященной (лат.).
**** Внемли, человек, чем был ты до рождения твоего и чем будешь до кончины. Во
истину, некогда не было тебя. Потом был ты в низменном веществе зарожден,
во чреве матери месячной кровью вскормлен, одеянием твоим стал послед. За-
тем, презренными пеленами повитый, явился ты к нам — так облаченный и ук-
рашенный! И не помнишь ты, каково происхождение твое. Не что иное человек,
как зловонное семя, мешок испражнений, пища червей. Знание, премудрость,
разум без господа Христа — подобно облакам — развеиваются. После челове-
ка — червь; после червя — смрад и мерзость.
Так, в нечеловеческое превращается всякий человек. Зачем украшаешь и
умащиваешь ты плоть свою, которую в скором времени черви пожрут в могиле,
Отрекшаяся 161
Сестра Алоиза и монахини (в унисон):
Tuis antem fidelibus, vita mutatur, non tollilur! Et, dissoluta terrestri domo, coe-
lestis domus comparatur! *
(Звон золотого колокольчика.)
Сара (открывает лицо, приподымается под канделябром и опирается
на первую ступень алтаря. Опалы мистического ожерелья поблескивают
между дымом ладана; дождь из лепестков лилии сыплется на ковер вокруг
нее. Она выпрямляется посреди кадильниц и свечей перед архидиаконом-,
теперь она стоит прямо, неподвижная, со скрещенными руками, с опущен-
ными веками. На ее плечах сверкают золотые слезки погребальной мантии,
длинные складки ее падают за ее спиной и тянутся по плитам).
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
ОТРЕКШАЯСЯ
Архидиакон (спускается к ней с золотым гралем). В эту великую
ночь для тебя тоже восходит она, звезда волхвов и пастухов! (Он раскры-
вает св. миро. Монахини склоняются на колени.) Отвечай! Принимаешь ли
ты свет, надежду и жизнь?
Сара (голосом серьезным, очень мягким и очень внятным). Нет.
Архидиакон (содрогнувшись, роняет священную чашу на ступени
алтаря, по которым св. миро разливается). Господи боже! (Он отступает,
его рука конвульсивно сжимает золотую рукоять посоха, он опирается на
него. Монахини поспешно удаляются, испуганные, задувая свечи, в беспо-
рядке; молитвенники падают здесь и там. Шум сидений, внезапно покину-
тых. Все монахини, трепещущие, закрываясь в свои длинные покрывала,
окружают настоятельницу, которая поднялась и смотрит на отрекшуюся.
Оцепенение. Сестра Алоиза упала, как бы потеряв сознание, к ногам Сары.
Корзины с цветами, еще курящиеся кадильницы разбросаны вокруг них.)
Сестра Лаудация (сама с собой, творя крестное знамение). Я по-
нимаю теперь! Дурное знамение ночью: божьи светочи потухли: светочи
безумных дев тоже потухли перед пришествием жениха!
Настоятельница (бледнея и как бы задыхаясь). Ночь ужаса!
(Бьет полночь. Перезвон радостных колоколов вдали.)
Хор монахинь (вместе с органом, ликуя, невидимый) :
Noel! Noel! Alleluja!
Hodie contritum est pede, virgines!**
а не украшаешь душу свою, которая должна предстать на небесах пред богом п
ангелами его? (лат.).
* Меж тем у верных твоих жизнь преображается, но не отнимается. И, покинув
обитель земную, в небесной обители водворяется (лат.).
** Рождество! Алилуя! Рождество! Ныне плясать надлежит, о девы (лат.).
6 С. Вилье. «Жестокие рассказы»
162 Аксель
Настоятельница (стуча посохом по плитам). Прекратите! Пре-
кратите пение!
Хор (с органом, в то же самое время покрывая ее голос) :
Noel! Alleluja! Noel!
{Монахини на., хорах органа не видели того, что происходило перед
алтарем, и хоры, под звон колоколов, ликуют Славой рождества. Кроме то-
го, бездетные, эти избранные девы, при вести о том, что младенец, царь ан-
гелов, рождается, чтобы умирить их мистическую жажду нежности,— что
могут услышать они из того, что происходит на земле? Эти нежные души,
навсегда девственные, больше не помнят о себе.)
Хор (с органом^ под гул благовеста всех колоколов) :
Adeste fidèles!
Laeti triumphantes!
Venite in Bethléem!*
Настоятельница (с громким криком, в то вргмя как песнопения
продолжаются под возгласы «Аллелуйя\»). Замолчите... О, это ужасно!
(Старик-священник убегает в ужасе из храма.)
Хор (ничего не слыша, в ликующем песнопении, под гул органа и ко-
локолов) :
Natum videte regem Angellorum!
Deum infantem, pannis involutum!
Venite, adoremus Dominum!**
(Сестра Лаудация бьет своим посохом в неистовстве; пение прекраща-
ется сразу; большие занавесы из саржи распахиваются, и видна пустын-
ная церковь и в свете висячих ламп между колоннами — стулья, скамьи
и запертый портал. В глубине, на освященных органных хорах — сестры-
певчие теперь безмолвствуют, ошеломленные.)
Настоятельница (крича вне себя). Молчите! Молчите! (Колоко-
ла, орган, песни смолкают.)
Архидиакон (с жутким вздохом). Наконец!..
Настоятельница (жестом ужаса простирая свой крест к дверям
хоров). Бегите! Бегите все мои дочери! Запритесь каждая в своей келье и
там, распростершись в горячей молитве, молите о милосердии божием (...).
(Монастырские двери раскрываются, монахини разбегаются и исчезают,
как тени. Сестры-управительницы тоже покинули свои скамьи около орга-
на; теперь лишь две или три темные фигуры, вероятно, послушницы, ухо-
дят и проходят по пустынным хорам; они тушат свечи и закрывают нотные
книги. Вскоре наступает тьма, и они удаляются тоже. Теперь уже все спус-
тились в монастырь.)
* Придите, верные! //Ликуя, торжествуйте! //Грядите в Вифлеем (лат.).
* Рожденного зрите царя ангелов! // Бога-младенца, повитого пеленами!//Придите,
восславим господа! [лат.).
Отрекшаяся 163
СЦЕНА СЕДЬМАЯ
Сара, настоятельница, архидиакон,
сестра Лаудация, сестра Алоиза
Настоятельница (спускается и приближается к архидиакону;
после, стоя рядом с ним па ступенях алтаря, она продолжает голосом глу-
хим и прерывающимся от страшного волнения, указывая на Сару). Отец
мой! Это поступок одержимой! Завтра же надо очистить церковь огнем!
Я оставляю вас. Я леденею, я ошеломлена. Кощунство... О, кощунство
столь велико, что лишь всеблагое Милосердие одно может омыть его. Все,
что вы ни прикажете относительно этой погибшей девушки, бывшей под-
руги нашей, будет исполнено.
(Сестра Лаудация, которая оставалась на коленях возле колонны, вста-
ет и вдруг подходит к Саре.)
Сестра Лаудация (яростно, глядя на нее). Зачумленная! (Она
подошла, чтобы ударить ее по лицу, но рука ее, уже приподнятая, вдруг
останавливается, как бы таинственно парализованная. Сара даже не при-
подняла век, не вздрогнула.)
Настоятельница. Сестра-привратница, не приближайтесь к этой
несчастной и сдержите свое негодование в этом святом месте.
Сестра Лаудация (про себя, задумчиво удаляясь через дверь мо-
настыря). Какое неожиданное смущение удержало мою руку? Почему я
не ударила ее?
Настоятельница (очень тихо, архидиакону). Помните главным
образом о том, о чем я вас предупреждала: исследуйте глубины этого тем-
ного сердца. Тайна, мой отец, тайна! (Она опускается и поднимает своими
руками сестру Алоизу, которая приходит в себя) (...).
(Они выходят. Сестра Лаудация следует за ними, бросив последний
зловещий взгляд на Сару. Потом слышен звук тяжелого замка, который
запирается снаружи. Сара и архидиакон остаются одни.)
СЦЕНА ВОСЬМАЯ
Архидиакон, Сара
Архидиакон (грозно). Женщина малодушная! Ты устыдилась то-
го... кто не устыдился тебя! Ты ужаснула души столь же чистые, как ут-
ренняя звезда. Ты презрела божественный гнев! Ты оскорбила бога, кото-
рый низвел тебя из небытия и открыл тебе свое царство! Имя тебе — Ла-
зарь, и ты отказалась повиноваться высшему слову, которое приказало
тебе выйти из гроба. Ты не приняла места своего на пире, и это перед ли-
цом моим, чей долг принудить тебя сесть за трапезу. Ибо точно так же, как
законы обязуют человека к исполнению долга, точно так же господь, на-
чало и конец каждого закона, всякой силы, может клонить и неволить чу-
десным образом все сознания, все свободы! (Молчание.)
Во имя твоего спасения, которого ради на горе, извечной тайной, он
предал свой дух на кресте неотвратимом, в тебе хочу я видеть лишь жертву,
6*
164 Аксель
околдованную князем адовым. На что ты надеешься? Что тебя освободят
из монастыря? Нет, безумная, ты не выйдешь отсюда! Власть мирская ук-
рыла бы теперь твое бегство, я знаю, но ты не выйдешь отсюда! Если в глу-
бине твоего сердца кроется какая-нибудь одинокая тайна, подобно змее
внутри скалы, забудь ее, ибо она останется бесплодной: она тебе будет
бесполезна, потому что ты нищая, ты отреклась от своих богатств во имя
веры, как бы повинуясь последней воле божественного откровения и бла-
годати!
Нет, ты не пойдешь по большим дорогам, как бродяга, чтобы, подобно
остальным людям, развеять по ветру то малое, что осталось тебе от твоей
души! Это мы, слышишь ты, отвечаем за эту душу! Не мыслишь ли ты
себя свободной перед нами, которые научили людей распоряжаться их си-
лой и которые одни знаем, в чем сущность права? Чем была женщина
здесь на земле до христиан? Она была рабой... Мы сняли с нее узы, мы
освободили ее, и ты посмеешь произнести перед нами слово свобода, как
будто мы не сама свобода! Слушай и взвесь мои слова: наша Справедли-
вость и наше Право не зависят от законов человечества. Это мы для их
спасения, в сознании их, братоубийственном в самой своей сущности, ос-
новали и зажгли эти правящие идеи. Они забыли это, я знаю, но не гово-
рят ли они ныне, как они говорили при Вавилонском столпотворении, не
в состоянии согласиться одни с другими относительно искаженного смысла
слова; эта кара за древнюю их гордыню. Наше преобладание на земле —
единственная санкция для какого бы то ни было закона. Ничто не может
нас проверить, потому что следствие не может усомниться в своей причине
или начать исследовать ее под страхом потерять уверенность в собственном
бытии; и всякий человек, раб или царь, может упрекать нас за нашу пищу
лишь с куском нашего собственного хлеба во рту. Мы — власть; нам она
передана от бога, и мы сохраним ее в наших глубоких руках до соверше-
ния времен. И это вопреки угрозам грядущего, вопреки иллюзиям науки
и всем нечистым испарениям человеческого мозга, да исполнится слово
писания Stat Crux dum volvitur orbis *. Пусть бьют нас, пусть оставляют,
пусть забудут, пусть нас ненавидят, презирают, пусть нас мучат и убива-
ют, что ж из этого! Все это суета! Бесплодный мятеж! (...) Сара, так как
чудом дана мне власть действовать в этом случае путем неуклонным и спа-
сительным я, во имя господа, вооружаюсь силой против тебя, чтобы тебя
спасти от твоей отвратительной природы. Ты вернешься в темницу! Ты
будешь поститься там до тех пор, пока твоя жалкая плоть, которая мяте-
жится, не будет укрощена. Твоя красота, это — от ада, который подымается;
волосы искушают себя! Взгляд твой — молнии соблазнов! Все это долж-
но угаснуть и испепелиться; ибо это призрак внешнего мрака, в котором
все преображается и стирается... могильного беру в свидетели червя. Та-
кой, как ты сейчас, ты не увидишь себя больше, или умрешь. Ты думаешь,
что Магдалина не была настолько же прекрасна? Знай же, с той минуты,
* Стоит крест, доколе вращается мир (лат.).
Отрекшаяся 165
как она познала себя, просветленная взглядом господа, святая грешница
на всю жизнь сохранила трепет ужаса (...)
Настанет день, быть может, если раскаяние твое будет искренне, когда
ты вернешься в наш круг. Сомневаюсь, но мой долг надеяться... ибо бо-
жественная милость и любовь беспредельны. До тех же пор мы будем о те-
бе молиться день и ночь, постясь в смущении и слезах!.. Я сам, произнося
заклинательные слова, облачусь во власяницу в вашу честь. (Он опускает-
ся. Непостижимая Сара ни разу не вздрогнула, не подняла глаз.)
Но вот — неожиданная мысль, которой само небо осенило меня! Под
этой плитою покоится святая основательница этого древнего аббатства,
блаженная Аполлодора. Этот склеп, это соседство с чудотворными моща-
ми — то in pace, которое вам подобает! Здесь преблагая будет вашей заступ-
ницей, рядом с вами и во время бодрствования, и во время сна, освящая
ваш хлеб и вашу воду, если вы будете жить в память ее! (Наконечником
своего тяжелого посоха он отодвигает затворы широкого могильного камня,
после продевает его в кольцо. Камень, уступая усилиям священнослужите-
ля, приподымается. Видны широкие землистые ступени могильного подва-
ла: большая плита остается открытой, поднятая на своих петлях.) Эта
дверь... janua *... через которую я имею право принудить вас вступить
в жизнь; ибо, как проникновенно сказал св. Игнатий Лойола, «цель оправ-
дывает средства», и написано «принудьте их войти»... Приблизьтесь, дочь
моя! Дочь моя возлюбленная! Спуститесь сюда! Будьте счастливы! Мило-
стыни, которую вы сотворили нам, вы обязаны, без сомнения, этой послед-
ней милостью. Воспользуйтесь же ею. Благословите же свое испытание,
да будет оно достаточно для вас, и в свой черед (смиренно склоняется перед
нею)... помолитесь за меня!
Сара (наконец подымает глаза на священника. Она смотрит на гроб-
ницу, которая раскрывается перед нею. Молча, с чертами лица, не выдаю-
щими никакого ее впечатления, она направляется к колонне. Она берет
среди ex voto **, пожертвованных благодарными моряками, старую дву-
острую секиру-гизарм, после возвращается, по-прежнему медленно и бес-
страстно. Подойдя к разверстому отверстию, она протягивает палец по нап-
равлению к провалу и делает широкий властный жест старому священни-
ку, приказывающий ему самому спуститься в гробницу.
Ошеломленный архидиакон отступает. Сара наступает на него, на этот
раз высоко подняв сверкающий топор/ Старик смотрит вокруг себя, после
смотрит на нее. Он видит, что он один: если только он раскроет рот, страш-
ное оружие, зажатое в юной руке, спокойной и мятежной, обрушится на
него, как гром. Он улыбается с выражением горького сострадания, печально
пожимает плечами, и, как бы для того, чтобы спасти ее от преступления,
еще более ужасного, он повинуется под холодным взглядом Сары. Он осе-
няет себя широким знамением креста и спускается по ступеням, которые
* Дверь (лат.).
** Дары церкви по обету (после счастливого воявпашения из плавания и т. п.) (.:ат\).
Ï66 Аксель
он нащупывает своим посохом и метет своей длинной черной мантией; по-
степенно голова его в золотой митре опускается вниз и исчезает).
Голос архидиакона (под могильным сводом). In te, Domine,
speravi non confundar in aeternum *.
СЦЕНА ДЕВЯТАЯ
Сара, одна
Сара (бросает топор. Одним движением опускает камень и равнодуш-
но, концом ноги, задвигает затворы).
(Сделав это, она приближается к окну и дергает за веревку рамы; окно
широко распахивается с шумом. Клубы снега и ночной ветер врываются
в церковь и тушат свечи.
Тогда Сара в темноте разрывает погребальный покров, крепко связы-
вает одну половину с другой. Потом, набросив страннический плащ на свои
праздничные одежды и встав на аббатское кресло, гибким и сильным поры-
вом хватается за один из железных переплетов, хватает его рукой и одним
прыжком выпрямляется на краю окна.
Потом она проскальзывает между решеток на внешний карниз и смот-
рит оттуда вниз, в пространство, в даль, в бесконечность. Снаружи глядит
ночь, жуткая, темная, беззвездная. Ветер гудит и завывает. Падает снег.
Сара оборачивается, прикрепляет к решетке разорванное и скрученное
покрывало, пробует узел, закрывает голову серым капюшоном плаща, по-
том, наклоняется, уменьшается и исчезает снаружи, в дождливой и холод-
ной ночи, безмолвно.)
* На тебя, господи, уповаю, да не буду посрамлен вовеки (лат.).
ПРИЛОЖЕНИЯ
Н. И. БАЛАШОВ
Творчество Вилье де Лиль-Адана
в перспективе развития общедемократических направлений
французской литературы XX века
Нескольким писателям, во многом определившим важные демократиче-
ские направления во французской литературе нашего века, и именно тем,
чьи пути привели к участию в Парижской Коммуне,—Артюру Рембо,
Полю Верлену и, в частности, Огюсту Вилье де Лиль-Адану, командиру
147 батальона конных стрелков Национальной Гвардии Коммуны,— осо-
бенно «не повезло» в литературоведении. Будто для того, чтобы уравно-
весить такой «злосчастный» факт (или даже одну только вероятность
такого факта — как у Изидора Дюкасса-Лотреамона, скончавшегося за
четыре месяца до Коммуны, 24 ноября 1870 г.), творчество этих поэтов, про-
званных «проклятыми», полностью отрывали от всяких связей с 70/71 го-
дом и целиком ассоциировали с серединой 80-х годов, как со временем по-
ворота к символизму. Хотя нередко жалуются на зыбкость и переменчи-
вость литературоведческих суждений, в данном случае миф, созданный
критиками так называемого «конца века», продержался, так же как и
миф о Бодлере, почти девяносто лет, породив разветвленную систему ми-
фологических представлений. По мере развития этой мифологии всячески
преувеличивалось и во времени, и по широте охвата значение модернизма
XX в.: к нему подключали и поэтов, скончавшихся более века назад, и ряд
явлений художественной жизни всей последующей эпохи, все равно ка-
ких — лишь бы связь их с реалистической традицией (притом обязательно
с реализмом, определяемым в категориях, унаследованных от XIX в.) не
была очевидна, так сказать, «чувственно» осязаема; связям же с револю-
ционным и демократическим движением вовсе не хотели придавать зна-
чения, если такие связи не имели протокольно четких организационных
форм.
Мифология, о которой здесь говорится, генетически соответствуя тен-
денции буржуазного мировоззрения монополизировать культуру нового
времени, призвана и на современном этапе укрепить позиции этого миро-
воззрения: ведь присвоение творческого богатства одного только Рембо —
если бы оно удалось — возместило бы проигрыш многих идеологических
битв.
168 H. И. Балашов
Миф реакции, что общедемократического литературного направления
будто бы почти и не было, и надежда присвоить живое наследие писателей,
так или иначе связавших себя с Коммуной, рухнули в годы создания На-
родного фронта и в период Сопротивления. Причем первыми были отбиты
не самые, казалось бы, для этого подходившие Вилье и Верлен, а самые
сложные, противоречивые — Рембо и Дюкасс-Лотреамон. Были отбиты
именно те, от которых брал начало не только поэтический реализм XX в,,
но к экспериментам которых с известной степенью обоснованности моглъ.
апеллировать изобретатели и защитники субъективно-конвенциональныж
эстетических систем, т. е. могли апеллировать и адепты искусства
непонятного и художественно бездейственного, если ключ к нему не дан
внешними по отношению к природе искусства рассудочными средствами.
Однако у Рембо, пусть и повинного вместе с Лотреамоном в этих грехах
искусства следующего века, был слишком очевиден революционный пафос,
во знаменование которого поэт и крушил, без оглядки на возможные пос-
ледствия, привычные эстетические нормы. Вольность, с которой в конце
20-х годов Багрицкий и Штейнберг в своем переводе передали гневные
строки о поражении Коммуны, соответствовала подсказанной социальной
ломкой раскованности французского поэта-новатора:
Ты плясал ли когда-нибудь так, мой Париж?
Получал столько ран ножевых, мой Париж?
Ты валялся когда-нибудь так, мой Париж?
На парижских своих мостовых, мой Париж?..
Ты покрылся паршою, цветут гнойники,
Ты — отхожее место позора земного.
Слушай! Я прорицаю, воздев кулаки:
В нимбе пуль ты воскреснешь когда-нибудь снова! г
Перед такими стихами упорство реакции пасовало, ибо это, говоря
словами из предисловия А. В. Луначарского к книге, где они были напе-
чатаны по-русски, был «материал живой и для нас, заставляющий кипеть
нашу кровь в ответ на братские нам строфы» 2.
Дюкасс-Лотреамон — поэт, в некотором роде еще более сложный, ибо
французский уругваец, одинокий в бонапартистской Франции, катившейся
к катастрофе, то более необузданно прямолинеен в гневе, чем Рембо, то
будто захлебывается в одолевающем кошмаре зла. Непризнанный, умер-
ший юношей при неясных обстоятельствах, унесших почти все бумаги, до-
кументы, даже портрет, Лотреамон, если его вспоминали, долго жил лишь
в предании. Реакционному мифу здесь противостояли не факты, как у Рем-
бо, Верлена, Вилье, но антимиф, типизировавший сущность пути Лотреа-
мона и посмертно приводивший его на баррикады Коммуны. Спустя пол-
1 «Революционная поэзия Запада ХТХ века» М., 1930, стр. 28—29.
2 Там же, стр 4.
Вигъе в перспективе XX века 16У
века собранными по крупицам биографическими данными было доказано
и стало общеизвестным, что поэт скончался до Коммуны. Но когда молодые
советские исследователи Л. А. Лория (Тбилиси) и H. H. Полянский (Моск-
ва), работы которых о Лотреамоне пока полностью не опубликованы, при-
стально вгляделись в его произведения, они обнаружили обусловленность
антимифа глубинной художественной логикой «Песен Мальдорора» и «Пре-
дисловия к будущей книге». Вообще к концу 60-х — началу 70-х годов
XX в. история литературы и общественная мысль сомкнулись в этом во-
просе с поэзией как таковой. Творчество Лотреамона стало все больше за-
нимать передовых поэтов и общественных деятелей Франции — много
страниц посвятил ему в своих «Мемуарах» Жак Дюкло3, касающийся так-
же вопроса о перспективе Коммуны для Лотреамона.
Наследие Лотреамона приобрело большое значение не только во Фран-
ции, но и для демократической культуры латиноамериканского континен-
та. Голос континента — мудрый Неруда, хорошо знавший обстоятельства
жизни Лотреамона, по духу его поэзии, свободно пересоздал в небольшой
поэме «Отвоеванный Лотреамон» путь поэта, объединив его посмертную
судьбу с преображением его героя — мрачного Мальдорора. Под пером
Пабло Неруды сложилась притча, удивительно глубоко, широкоохватно и
точно раскрывающая роль самых «проклятых поэтов» 1870-х годов для де-
мократической культуры XX в. (см. ниже: «В пространствах страха рас-
пустилась роза...» и последующие стихи). Даже отрывок из поэмы Неру-
ды — картина гибели Дюкасса-Лотреамона, его возрождения в Коммуне,
а затем в поэзии XX в.—сразу вводит в тему Рембо, Вилье, Верлена, Лот-
реамона, притом и в общественном, и в том эстетическом плане, над кото-
рым критике предстоит еще много думать. Сказав о гибели поэта — «Ноч-
ная парижская жаба... порожденье бесчеловечного города... пожрала ма-
ленького Дюкасса»,— Неруда пишет:
Со стороны похоже, будто узенький гроб
содержит хрупкую скрипку или мертвую ласточку:
уже от несчастного юноши осталась горстка костей,
никто не видал катафалка, который его увез,
Теперь он избрал Коммуну: на окровавленных улицах
граф де Лотреамон, стройная красная башня,
в свое горящее сердце вобрал всю ярость народа
и подобрал знамена поверженной наземь любви,
и в дни Кровавой недели Мальдорор не погиб,
его бесплотную грудь пронзила шрапнель — при этом
никто не увидел крови и никогда не узнал,
что с этой самой поры привиденья не стало:
парижское кровопролитие его породнило с жизнью —
так Мальдорор признал в людях братьев своих.
3 Jacques Duclos. Mémoires, t. VI. Paris, 1972. p. 462—463.
170 H. И. Балашов
Но перед тем, как исчезнуть, он хмурый лик повернул
и тронул рукою хлеб, нежно погладил розу
и вымолвил: «Я верховный защитник каждой пчелы,
одной лишь ясностью должен жить на земле человек»,
Подавленные,— мы из рук ребенка
берем его раздробленные Песни,
ю малое, что от него осталось,
крылатый траур мрачного фрегага,
и черный курс его теперь нам ясен...
В пространствах страха распустилась роза.
Надежда проросла из смертных мук.
Любовь перетекла за кромку чаши.
Долг,— несгибаемый росточек дуба.
Роса,— целующая руки листьям.
Добро,— чьих глаз на свете больше звезд.
Честь,— без расчета на медаль и замок 4.
(Пер. Павла Грушко)
Участие писателей демократического направления в Коммуне прихо-
дится рассматривать не только в ракурсе высокой поэзии Неруды, но и
в обстановке террора «Страшного года». Если они не попали под горячую
руку в дпи Кровавой недели,— угроза расстрела, может быть, и не шла за
ними по пятам, как за ставшими профессиональными революционерами
Кохммуны Потье, Валлесом, Лепеллетье. Но и они вынуждены были таить
свое участие, скрываться, жили в обстановке травли и преследований.
Сохранились печатные доносы на Вилье, например помещенный в газете
«Фигаро» в октябре 1871 г. и чреватый судом и каторгой: «Ради униформы
или за жалованье в несколько франков весьма знатные люди навеки зама-
рали свои имена, служа Коммуне. Говорят, что в их числе был и один
подлинный граф — Вилье де Лиль-Адан». Сохранился и лаконический ответ
обвиненного, рисующий его характер: «Подлинный граф Вилье де Лиль-
Адан, это — я. Во время восстания я не носил никакой униформы и не
получал никакой платы» («Фигаро», 12 октября 1871 г.).
Тогда Вилье не мог сказать правды. Но он действительно служил ка-
питаном кавалерии (т. е. на российский лад — ротмистром) Коммуны. Мы
еще вернемся к сохранившемуся в частной коллекции Роллана де Маржери
официальному документу, собственноручно подписанному Вилье в качест-
лзе командира 147 батальона конных стрелков Коммуны.
Литературовед Д.-А. де Грааф, воспроизведший в статье «Вилье де
Лиль-Адан — коммунар» 5 переписку в «Фигаро», с полным академическим
бесстрастием, хотя он и не располагал документами о службе Вилье в На-
циональной Гвардии, обращает впимание на то, что Вилье даже не отрица-
>Л П. Неруда. Церемониальные песнопения [1968]. Неопубликованный перевод.
3 «Меркюр де Франс», 1953, № 1082 (1 октября), стр. 375.
Вилье в перспективе XX века 171
ет своего «активного участия» в Коммуне6. А наш читатель, познакомив-
шийся уже с саркастически-экспрессивным стилем «Жестоких рассказов»,,
поймет скрытый пафос слов Вилье: «Я не носил той кровавой версальской
униформы, которую носили вы — палачи; я не получал той иудиной пла-
ты, которую получаете вы — доносчики».
Тут же рядом в статье цитата из первого тома воспоминаний Эмиля
Бержера, опубликованных через двадцать лет после смерти Вилье: «Я слы-
хал, как Верлен, шагая по книжной лавке издателя Лемерра, возвещал
славу движению (коммунаров.— //. Б.) и хвалил деятелей Ратуши7; и я
все еще вижу Вилье де Лиль-Адана в кепи капитана Национальной Гвар-
дии, прикрытом, правда, картонным чехлом, пытающегося убедить поэтов-
парнасцев примкнуть к делу Коммуны...» 8 Де Грааф, сопоставляя все это
с живым описанием Вилье захвата коммунарами склада винтовок шаспо,
приходит к выводу, что Вилье участвовал в Коммуне не только словом...
Но главный аргумент, подтверждающий, что Вилье остался верен Па-
рижской Коммуне вплоть до Кровавой недели, «дремал» восемьдесят лет
в немногих библиотеках мира, где хранились подборки прессы Коммуны.
Как это ни странно, «дремал» он в нескольких шагах от дворца российских
императоров в Петербурге. Царский военный атташе в Париже собирал на
всякий случай прессу Коммуны. И вот перед нами комплект газеты «Ле
Трибэн дю Пёпль» («Народный трибун»), трагической газеты, начавшей
выходить в канун Кровавой недели (17 мая 1871 г.— 26 флореаля года Ре-
волюции LXXVIII) и сражавшейся до конца. Редакторы — Лиссагаре,
Симмон, Лепеллетье. На первой же странице большой очерк — картина
жизни революционного Парижа, подписанная именем древнеримского рес-
публиканца: Марий (Мариюс); его же очерки в номерах 3, 4, 5, 6; только
в последних номерах 7 и 8 (23 и 24 мая) нет больше очерков Мария, а по-
мещены воззвания о критическом положении и последние приказы поги-
бавшей Парижской Коммуны. Марий и есть Вилье; верен Коммуне он был
до конца, а скрываться стал, лишь попав на территорию города, захвачен-
ную версальцами 25 мая 1871 г.
Когда исследователь Ж.-А. Борнек напечатал в условиях обновленной
Сопротивлением Франции в «Меркюр де Франс» (№ 1080, 1 августа
1953 г.) очерки Мария со своим введением — «Вилье при Коммуне. Кар-
тина Парижа», разгорелась бурная полемика. Борнек имел тогда весьма
убедительные, но лишь косвенные или логические доказательства. Бориеку
помогла статья Виктора-Эмиля Мишле, напечатанная рядом со стихами
Аполлинера в журнале «Стих и проза» («Вэр э проз», 1913, т. 35, октябрь-
декабрь, стр. 98): «После амнистии [коммунарам] Вилье вновь казался
национальным гвардейцем, готовым начать битву сызнова, как тогда, ког-
да он с Верленом приветствовал первые усилия Коммуны. Исследователи
могли бы отыскать в маленькой газетке «Трибэн дю Пёпль», выходившей
6 Там же.
X OUVA ПХ О.
7 Парижская Ратуша (Отель-де-Виль) была правительственным центром Коммуны.
8 «Меркюр де Франс», 1953, № 1082, стр. 375.
172 H. И. Балашов
в 1871 г., пламенную статью Вилье в защиту рождавшейся Коммуны, в ко-
торой Вилье вздымал «знамена цвета отмщения...»». В.-Э. Мишле писал
дальше о Вилье: «этот бретонец был объят тем же трепетом, что душа
Парижа, и готов был сражаться вновь...»
Свидетельство В.-Э. Мишле было замечательно тем, что оно показывало
настроение Вилье в 80-е годы, в период издания «Жестоких рассказов».
Слова о «знаменах цвета отмщения» были почти точной цитатой из первой
статьи Мария. Но в этом пункте свидетельство Мишле было вторичным
(он родился в 1861 г., и во время Коммуны ему было десять лет) и не имело
характера документального доказательства идентичности Мария и Вилье.
Как п следовало ожидать, большинство участников дискуссии во фран-
цузских журналах начала 50-х годов сомневались в этой идентичности.
А тут еще Э. Другар, знавший Мишле, рассказал, что когда он около
1926 г. расспрашивал его, «тот не смог уточнить, была ли статья, о которой
он упоминал, единственной, была ли она подписана именем Вилье или
лишь псевдонимом» 9.
Надежно же версальцы и их наследники истребили во Франции доку-
менты Парижской Коммуны (кроме того архива, который держали семь-
десят лет под замком в военном министерстве), если четко сформулиро-
ванный Другаром вопрос о статье в газете, выходившей всего несколько
дней, удалось разрешить четверть века спустя!
Первенство в опубликовании формального доказательства идентично-
сти Мария и Вилье принадлежит тому же Э. Другару, который в статье
«Вилье де Лиль-Адан. Старая история» 10 покаялся в своем скептицизме и
привел это доказательство.
Наша же первая статья о Вилье была напечатана в «Истории француз-
ской литературы» (т. III. M., 1959). Но так как большие библиотеки хра-
нят отметки на формулярах востребованных книг, то можно установить,
что мы, независимо от Другара, и 1957 г. обнаружили это доказательство.
Оно содержится в томе третьем книги одного из редакторов газеты «На-
родный трибун», Э. Лепеллетье,— «История Коммуны 1871 г.» (ГБЛ
223
U-цо). Рассказывая о пламеневших знаменах Коммуны, Лепеллетье до-
бавляет: «...«знамена цвета отмщения»,— сказал Огюст Вилье де Лиль-Адан
в своей «Картине Парижа», напечатанной в газете «Народный трибун»» и.
Эти слова объясняют источник сведений в статье Мишле 1913 г., в ко-
торой повторена ошибка, сделанная Лепеллетье, цитировавшим по памяти
и написавшим «знамена» («drapeaux») вместо «флаги», «стяги», «штан-
дарты » ( « étendards » ).
Эти слова являются бесспорным доказательством, ибо Лепеллетье ни-
как не мог спутать ни с кем Вилье — одного из главных авторов газеты,
которую он издавал в десять самых напряженных дней своей жизни.
9 «Меркюр де Франс», 1953, № 1084 (1 декабря), стр. 740.
10 «Меркюр де Франс», 1958, № 1135 (март), стр. 548—549.
11 Е. Lepelletier. Histoire de la Commune de 1871, t. III. Paris, 1913, p. 313.
Вилъе в перспективе XX века 173
Но читатель вправе наконец узнать подробнее, кто же был этот Вилье
и какова его роль именно для французской общедемократической литера-
туры XX в.
По сравнению с Верленом, Рембо, Дюкассом-Лотреамоном, рассматри-
ваемыми в аспекте, связывающем этих мятежных поэтов рубежа 1870-х
годов с перспективой развития французской общедемократической лите-
ратуры XX в., Вилье имел явный изъян. В отличие от этих поэтов, кото-
рые все были простонародного происхождения, Вилье де Лиль-Адан по
крови принадлежал к знатному роду, к старинным дворянам, отличавшим-
ся со времен крестовых походов главным образом на морской службе. Од-
нако граф Жан-Мари-Матиас-Филипп-Огюст Вилье де Лиль-Адан (а тако-
во было его полное прозвание, сокращенно же его звали именем Огюст или
Матиас) почти все двадцать лет своего творческого расцвета прозябал
в настоящей нищете. Часто у него не было денег на еду, и он буквально
голодал; хорошо еще, если Вилье имел пустую, не обставленную комнату
и писал, лежа на голом полу, а то иной раз приходилось ночевать где по-
пало, ютиться в недостроенных зданиях, жить, нанимаясь за гроши ходя-
чей «рекламой» или боксером-тренером, т. е., проще сказать, манекеном для
битья.
Родился Огюст де Вилье в городе Сен-Бриёк в Бретани 7 ноября 1838 г.,
а скончался он от рака в одной из парижских больниц (куда друзья по-
местили его на свой счет) 19 августа 1889 г.
Род Вилье был почти столь же древен, сколь род королей Франции.
Родульф Вилье упоминается уже под 1065 г., т. е. во время, когда во Фран-
ции правила наша Анна Ярославна — Бертрада, вдова третьего Капетинга
Генриха I и мать Филиппа I. Как это ни странно, окончательное разорение
роду Вилье принесла, собственно, не Революция, как таковая, а Реставра-
ция. Тяжелый удар семье нанес тот из Капетингов-Бурбонов, которого ис-
пытания должны были сделать мудрее других,— Людовик XVIII. По неяс-
ным причинам он не только обошел компенсацией из пресловутого милли-
арда для дворян-эмигрантов деда поэта, но, едва оправившись от Ста дней,
дал 7 сентября 1815 г. право именоваться «де Лиль-Адан» представителю
другой семьи Вилье.
Восьмисотлетнее дворянство и служба принцам в изгнании не помогли
деду12. При отце поэта, маркизе Жозефе Вилье де Лиль-Адане, драма рода
стала превращаться в горькую комедию. Жозеф Вилье, доживший до вось-
мидесяти лет (он умер в 1885 г., оставив нищему сыну титул маркиза и
право быть командором мальтийских рыцарей), всю жизнь с наивностью
подростка, начитавшегося приключенческих романов, занимался кладоис-
кательством, зажигая энтузиазмом других простодушных неудачников и
тратя на бессмысленные раскопки свои и их скудные средства. И самого
писателя, несмотря на всю глубину и серьезность его видения мира, знат-
ность порой ставила в гротескные ситуации. Однажды его выдвинули пре-
12 Это был не столь редкий случай. У Стендаля в «Люсьеяе Левене» (гл. XI) описа-
на аналогичная несправедливость короля в отношении семьи де Пюилоранов.
174 H. И. Балашов
тендентом на греческий престол — как прямого потомка Филиппа-Огюста
Вилье де Лиль-Адана, который в начале XVI в. руководил обороной остро-
ва Родос от султанского флота. Другой раз, когда Вилье был уже совсем
нищ, а богат был лишь нереализованным талантом — нереализованным,
потому что Вилье не издавали,— да громким именем, его уговорили выста-
вить свою кандидатуру в палату депутатов, и он, конечно, был забаллоти-
рован. А раз случилось Вилье самому затеять безнадежное — кончившееся
провалом — судебное дело в защиту чести маршала Жана Вилье де Лиль-
Адана, полководца времен Столетней войны. Писатель в 1876 г. подал
в суд по поводу оскорбления Жана Вилье, в неприглядном виде выведен-
ного в пьесе «Перине Леклер, или Париж 1418 г.». Речь шла о возобнов-
лении на сцене старой пьесы 1832 г., написанной совместно двумя типи-
ческими представителями мещанской мелодрамы. Даже фамилии у авто-
ров были какие-то символически мещанские: Анисе — Буржуа и Локруа —
Симон. Хотя главный автор, Буржуа, уже умер в 1871 г., юстиция III Рес-
публики встала на защиту своего «буржуа» и ополчилась против нищего
нобиля: суд не только отказал ему в иске, но и наказал — по своему разу-
мению — непомерным для кармана Вилье возмещением убытков.
Нужно иметь в виду и то, что на протяжении большей части XIX в.,
когда устанавливалось и бюрократизировалось царство буржуазии, такие
обстоятельства, как знатность Байрона, Пушкина, Вилье или призванный
заменить ее дендизм Бодлера, либо вымышленный аристократизм Бальза-
ка, могли в некоторых случаях (подобно плебейской гордости революцио-
нера) помочь художнику или вообще мыслящему молодому человеку за-
нять независимую позицию по отношению к буржуазным идеям, мещан-
ской пошлости и к казенщине буржуазно-помещичьего государства. Диа-
лектика подобных процессов с анатомической точностью раскрыта в рома-
нах Стендаля и в «Отце Горио» Бальзака.
Бывало и так — когда Вилье был еще не совсем нищ,—что злополуч-
ная для него знатность иногда все-таки открывала перед ним, как перед
юным Растиньяком, иные массивные двери, но писатель был не способен
извлечь из этого какую-либо выгоду. Его духовными наставниками были
Стендаль, Бальзак, Бодлер, Гегель, Вагнер, но никак не Вотрен.
История формирования творческой личности Вилье не очень ясна.
К тому времени, когда молодой Вилье впервые в 1857—1859 гг. поселился
в Париже, он уже отличался широтой кругозора. Хотя, как и большинство
начинающих литераторов тех лет, Вилье зачитывался романтиками — Гю-
го, Виньи, Ламартином, Мюссе, он рано усвоил урок романа Бальзака и
особенно Стендаля. К воспринятому у этих великих реалистов глубинному
пониманию искусства и его проблематики прибавлялась редкая тогда среди
французской молодежи осведомленность в немецкой философии и музы-
кальной культуре. К моменту появления первых значительных работ Ау-
густо Веры и его французских переводов Гегеля (а это относится к 1859—
1861 гг.) Вилье был уже подготовлен к восприятию гегелевской филосо-
фии. Во время скандально знаменитой постановки «Тангейзера» во Фран-
ции Ifi марта 1861 г. Вилье оказался в той небольшой, возглавленной Бод-
Вилъе в перспективе XX века 175
лером, группе парижан, которые сразу оценили все значение освистанного
произведения. Когда Бодлер представил двадцатидвухлетнего Вилье Ваг-
неру, то у композитора, мало склонного к импровизированным знакомст-
вам, сразу сложились с юношей самые дружеские отношения, выдержав-
шие позже испытания, вызванные волнами шовинизма периода франко-
прусской войны.
Установить сколько-нибудь определенную связь между формированием
если пе таланта Вилье, то хотя бы той устремленности к серьезной и бес-
компромиссной борьбе за человеческое достоинство и свободным от социаль-
ного угнетения развитием гуманного начала в человеке, которая стала ос-
новой искусства писателя, не просто. Детские и отроческие годы Вилье
внешне не примечательны. Они прошли в маленьких городах патриархаль-
ной Бретани, сначала в живописном, расположенном на берегу океана Сен-
Брпёке, затем в Лавале, где Огюст учился в лицее. Незадолго до переезда
в Париж Вилье жил в главном городе Бретани — Ренне, где должен был
кончать, но, видимо, так и не кончил лицей. Еслр1 порыв к житейскому
идеализму у Огюста Вилье мог быть унаследован от отца, который появ-
лялся в перерывах между кладоискательскими раскопками и с неизменным
пылом излагал новые проекты, то сосредоточенности будущего писателя
могли научить его ближайшие воспитатели — мать и ее тетка. Мать поэта,
урожденная Лё Неве де Карфор, тоже происходила из стариннейшего ро-
да, по была она сиротой-бесприданницей, самоотрешенным человеком, все
душевные силы которого сконцентрировались на любви к сыну. То же
можно сказать и о ее тетке, старой деве демуазель де Керину, от чьих
скромных возможностей зависело благополучие семьи, рассыпавшееся
вскоре после кончины де Керину, наступившей в 1864 г.
Вначале все шло, как в романах Бальзака: ради любимого сына и вну-
ка, с которым связывались надежды этих двух женщин и который должен
был возместить — и возместил свыше всех ожиданий — утрату иллюзий,
разрушенных пустоцветением малосодержательной жизни маркиза Жозе-
фа Вилье, семья перебралась из Ренна в Париж в 1857 г. После первого
двухлетнего пребывания в столице Огюст Вилье вновь, с 1859 по 1862 г.,
жил в провинции — дольше всего в маленьком городе Монфоре под Ренном
у одного из своих приятелей, провинциального поверенного, а затем, дви-
жимый поэтическим призванием, вернулся в Париж. Эти реннские годы
оказались столь же необходимыми для дальнейшего творчества Вилье, как
знакомство с провинцией для Бальзака, Флобера, позже для Мопассана.
У Бодлера недостаточный опыт французской провинциальной жизни был
возмещен столкновением с мещанским провинциализмом Бельгии 60-х го-
дов. Рембо перед переездом в Париж успел насытиться шарлевильским
застоем. В клеточках провинциальной жизни писателю было легче, чем
в Париже, постичь устройство буржуазной Франции XIX в., собственни-
чески-мещанскую психику и формировавшееся в ней ядро будущей агрес-
сивной жестокости мещанина XX в. Вилье предугадал эту агрессивную
жестокость еще отчетливее, чем Бальзак в «Кузене Понсе» и Бодлер в сво-
их поздних саркастических вещах. Наблюдение малых ярмарок на площа-
176 H. И. Балашов
ди способствовало пониманию и воссозданию большой ярмарки на площади.
Конечно, провинциальные контакты не были односторонними. У Вилье
не укоренился пессимизм флоберовского типа; скорее по душевному складу
Вилье напоминал Бальзака. Опыт общения с витавшим в иллюзиях и до-
живавшим свой век безземельным дворянством Бретани, те отвращение и
ненависть, которые будили в Вилье буржуазные круги, набиравшиеся си-
лы, богатства, злости и наглой претензии подмять под себя культуру,—
дополнялись впечатлениями иного рода. В душе Вилье жила и другая Бре-
тань: ее угрюмые, но поэтически возвышенные ландшафты выдвинувшего-
ся в океан полуострова; ее молчаливо-сосредоточенные труженики — кре-
стьяне, рыбаки, ремесленники. Сумма бретонских впечатлений не подавля-
ла, а обостряла проникновение Вилье в общественное и художественное
развитие Парижа. Насколько в практических делах Вилье был неловок,
настолько способен был он свободно ориентироваться в мире духовных
ценностей. В произведениях парнасцев, которые выходили тогда на видное
место в поэтической жизни страны, особенно в стихах Леконт де Лиля,
Вилье почувствовал не формальное, а содержательное начало в самой фор-
ме поэзии — лаву отчаянного гнева, бушевавшую под коркой намеренной
невозмутимости. Среди пестроты проявлений завершавшегося романтиче-
ского периода Вилье сумел выделить особую значимость художественного
урока великих реалистов — Стендаля и Бальзака, а затем во многом вопло-
тить этот урок в своем творчестве 70—80-х годов. Оказался Вилье и в чис-
ле тех немногих молодых литераторов, которые поняли Бодлера не только
в духе поверхностного восприятия, породившего символистскую легенду
о поэте.
Литературный и музыкальный талант Вилье внешне проявлялся
в блестящих импровизациях, в основе которых часто лежал завершенный
текст, однако дополнявшийся пространными вставками и мимической ин-
сценировкой; талант Вилье выступал в критических сентенциях такой
степени отточенности, которой французские литературные салоны редко
блистали со времен Стендаля; развитие таланта Вилье можно проследить
и по произведениям первого десятилетия его творчества, в которых писа-
тель еще как бы ищет свой жанр.
В 1858 г. двадцатилетний Вилье напечатал «Первые стихотворения».
В сборнике заметно прямое влияние романтиков — Гюго, Виньи, Мюссе,
а собственные творческие находки еще редки. К ним относится отмечав-
шийся критикой 13 монолог дон Жуана в поэме «Эрмоса», выражающий
жажду абсолютного.
С начала 60-х годов Вилье почти оставляет стихи и сосредоточивает
внимание на драмах и романах, затем преимущественно на рассказах.
К незавершенному юношескому роману «Изида», вышедшему в 1862 г.,
надо подходить как к опыту, художественно неудавшемуся, любопытно-
му — не только для изучения пластов, из которых складывались воззрения
и познания Вилье, но и в плане зарождения форм романа XX в. Автор сам
13 См.: Max Daireaux. Villiers de l'Isle-Adam. Paris, 1936, p. 280—281.
Вилъе в перспективе XX века 177
изъясняет, что его «Изида» — это «общая формула целой серии философ-
ских романов; это — «икс» некоей проблематики и некоего идеала; это —
великая неизвестность». Современники Вилье, любуясь отдельными ярки-
ми страницами, видели в книге лишь растянутую экспозицию ненаписан-
ного произведения; сто лет спустя она может показаться прототипом без-
фабульного философски-эссеистического романа.
Субъективно Вилье следовал «Пармской обители» Стендаля. Действие
происходит в Италии конца XVIII в. Туллия Фабриана, энергичный чело-
век больших духовных запросов, пытающийся отстоять себя от пустого
светского общества, напоминает Джину дель Донго. Но сюжетно-интона-
ционное сходство с «Пармской обителью» не подкрепляется ни социальной
определенностью романов Стендаля и Бальзака, ни динамизмом действия.
Зато загадочность характера Туллии Фабрианы, тайны и ужасы ее дворца,
призванные предохранить героиню на случай произвола властей, угроза
фатальной страсти, которая может привязать к ней нового квази-Фабри-
цио, являющегося в лице Вильгельма де Штралли д'Антаса,— все это очень
романтизировано. Будущая общественная миссия героев только намечена:
«Им дозволено судить, ибо, со взглядом, прикованным к идеалу, они лю-
бят и прощают» (гл. IV). Хотя в романе есть и свой граф Моска — принц
Форсиани, объясняющий юному Вильгельму жестокую механику светской
суеты, герои по преимуществу остаются погруженными в мистическое от-
чаяние. Подхваченная на лету и еще не освоенная гегелевская идея един-
ства бытия — небытия романтически смещена у Вилье в сторону мысли,
что лишь смерть может разрешить конфликт героев с пошлым обществом.
Подобным же образом почерпнутая у Гегеля мысль о непрерывном ста-
новлении не вплетена молодым писателем в ткань жизни его героев и по-
ходит в романе на уже обветшавшие романтические представления о роке.
Прямые ссылки на Гегеля, Фихте, Шеллинга, которыми отягощена, напри-
мер, глава VIII, не возмещают этих упрощений. При всем том ясно, что
рождается новый для французской литературы тип романа.
Еще одно нововведение, поворачивающее «Изиду» Вилье к будущему:
это — саркастическая критика буржуазно-позитивистской античеловече-
ской концепции прогресса науки. Эта тема, проходящая впоследствии через
многие произведения Вилье, будто прочерчивает один из жизненных воп-
росов литературы XX в., протягивает нить на сто лет вперед, к Андрею
Вознесенскому: «Все прогрессы —//реакционны, //если рушится чело-
век...».
В первой половине 1860-х годов обращенность Вилье в будущее реали-
зовалась в постановке темы мятежа и в нарастании социальной конкрети-
зации, отмечающих последние собственно романтические его произведе-
ния — драмы «Элен» и особенно «Моргана» (напечатаны соответственно
в 1865 и 1866 гг.), возможно, именно из-за этой мятежности, больше чем
из-за некоторой тяжеловатости для сцены, так и не увидевшие света рампы.
Романтическая драма «Моргана» воссоздает пафос восстания в Неапо-
литанском королевстве против кровавого Фердинанда IV в 1799 г. На пер-
вом плане — воодушевление революционеров-дворян. Хотя они живут
178 H. И. Балашов
в мире романтической мечты, готовя восстание — «le projet de la révolution»
(акт II), поддержкой им служит гнев нищего и возмущенного преступле-
ниями дворцовых кругов народа, а также та новая обстановка в мире, ко-
торая создалась после Французской революции (скованность феодальной
коалиции войнами с Францией, «ветер свободы», достигающий самого Ри-
ма). Рядовые повстанцы не идеализированы, но показано рождение в их
среде героизма и общеитальянской национальной гордости (сцена акта IV,
когда повстанцы снимают шапки перед полотном Тициана). В драме судь-
бы восстания решаются не на площади, а в психологическом поединке сил
зла, представленных прежде всего известной авантюристкой леди Гамиль-
тон, и поборников свободы — великодушной Морганы и любимого ею таин-
ственного изгнанника Сергиюса. Леди Гамильтон использует цельность
чувств своих противников, для которых победа — ничто, если нет уверен-
ности в благородстве друга. Посеяв ревность в Моргане, Гамильтон на вре-
мя разобщает Моргану и Сергиюса. Моргану удается арестовать. Она от-
равлена в заключении, а верный Сергиюс, не успевший ее спасти, в отчая-
нии идет под пули, что символизирует поражение всего восстания. Позже
Вилье, сам переживший Коммуну и версальский террор, дал в особом
очерке, датируемом концом 70-х годов и как бы дополняющем драму, бо-
лее реальную характеристику леди Гамильтон как организатора террора
против неаполитанцев, заподозренных в сочувствии идеям революцион-
ной Франции: «со времени этих массовых убийств существование леди Га-
мильтон больше не пробуждает любопытства, которое оно вызывало до
этих пор... она сама заклеймила себя в такой степени, что оставила потом-
ству лишь воспоминание о презренной и кровавой блуднице» 14.
Подобно некоторым драматическим фрагментам и драмам романтиков
не только во Франции, но и за ее пределами — Байрона, Мицкевича, Сло-
вацкого,— «Моргана» Вилье не столько драма о восстании, сколько драма
о пафосе мятежа. Поэтому сцену в конце III акта, где Моргана появляется
с топором (или, если угодно, с секирой революции) в руке, надо оценивать
не критерием буквального правдоподобия, а с точки зрения романтической
символики. Так, же надо подходить и к знаменитой отповеди Сергиюса
(в середине того же акта) на угрозы леди Гамильтон: «Пойми, колдунья
в маске мрака, у меня будит лишь сострадание страх физических мук; они
все равно, что оскорбления, которые не могут меня затронуть, или утехи
счастья, от которых я в силах отказаться; пойми, ощущение собственной
вечности придает мне стойкость; то же, что ты привыкла считать реаль-
ностью, признается мною таковой, лишь если оно живет внутри моего соз-
нания» (акт III). Такое самозабвенное воспевание силы духа в момент,
когда, несмотря на разные кризисные явления, II империя казалась до-
вольно прочной, производило — отчасти своей гиперболической фантастич-
ностью — впечатление на мечтавшую о бунте молодежь, и очень многое
14 A. Villiers de VIsle-Adam. Lady Hamilton.—Chez les passants. Paris, 1914, p. 270—
271.
Вилье в перспективе XX века 179
в мятежных монологах лотреамоновского Мальдорора идет именно от па-
фоса речей, подобных отповеди Сергиюса «колдунье в маске мрака».
Мечтательность никогда не покидала Вилье, но он закалялся под влия-
нием своего все более горького социального опыта, и испытанные им лте-
ратурные и философские влияния более не проявлялись как таковые, а
синтезировались в собственной творческой манере писателя.
С середины 60-х годов Вилье посещал литературные салоны Нины де
Виллар и поэта-республиканца Ксавье де Рикара, а также те кафе, где
собирались не только поэты парнасской группы, но и революционеры —
многие будущие видные участники Парижской Коммуны — Делеклюз,
Флуранс, Риго, Лепеллетье и др. Вилье напечатал несколько стихотворений
в «Современном Парнасе», но оригинальность его таланта, стремление
к новым формам реалистической выразительности проявились впервые
по-настоящему в философской повести из современной жизни «Клер Ле-
нуар» (1867). Здесь выступает созданный Вилье сатирический тип бур-
жуа — Трибюла Бономе.
С рождением Бономе французская литература сразу шагнула в 30—40-е
годы XX в. Доктор Бономе, именующий себя естествоиспытателем, это —
позитивист, упоенный прогрессом буржуазного общества, глубоко невеже-
ственный субъект, почитающий себя не только ученым, но и великим ор-
ганизатором науки, устроителем культурной жизни будущего. Это меща-
нин взбесившийся, возомнивший себя сверхчеловеком, исполненный пош-
лости, узколобого высокомерия, агрессивной злобы к людям — тех черт,
которые два-три поколения спустя стали характерными качествами обык-
новенного фашиста. Тип, подобный Бономе, в различных вариациях по-
явится также в нескольких «Жестоких рассказах». Бономе, конечно, гене-
тически связан со знаменитыми тогда во Франции воплощениями буржуаз-
ной пошлости и филистерства — с главным персонажем книги Анри Мон-
нье «Величие и падение г-на Жозефа Прюдома» (1853) и с аптекарем Оме
из романа Флобера «Мадам Бовари» (1857). Но несмотря на короткий
хронологический интервал он далеко ушел не только от них, но и от еще
не созданных флоберовских Бувара и Пекюше (1881). К воплощению пош-
лой буржуазности первой половины XIX в., к Жозефу Прюдому, хищный
Бономе, согласно остроумному замечанию одного литературоведа, «нахо-
дится в таком же отношении, как кайман к садовой ящерице» 15.
Бономе — рьяный политический реакционер, навязчивой идеей кото-
рого является отыскание способов предотвращения революций 16.
Вилье обобщенно передал и другую особенность Бономе — черты дема-
гога-циника нового склада, постоянно заверяющего о своей любви к пре-
зираемому им народу: «О, Народ? Конечно, никто не любит его так нежно,
как я. Но так же, как моя функция скорбеть над ним, его функция — стра-
дать. Если бы было доказано, что Наука идет на пользу Народу, кто из
нас — и я первый! — не отдал бы ему свою душу, жизнь, любовь?.. Но, увы,
15 Цит. по: Е. de Rougemont. Villiers de l'Isle-Adam. Paris, 1910, p. 284.
16 См.: A. Villiers de l'Isle-Adam. Oeuvres complètes, vol. III. Paris, 1922, p. 65-6(>.
ISO H. И. Балашов
у жертвы, сразу после того, как с нее сняты путы, появляется одно стрем-
ление — накинуть их на шею своему освободителю, ибо место несчастных
никогда в этом мире пусто не бывает, и единственный способ спасти хоть
одного отверженного — это самому стать на его место... И вот я говорю:
да сгинут благодетели, если их борьба может повести к исчезновению
жертв. При одной мысли, что меня могут лишить удовлетворения проливать
сладкие слезы по поводу участи народов, при одной этой мысли в моих
жилах начинает течь желчь вместо крови» (гл. XI).
Предваряя «Жестокие рассказы», повесть соединяет (хотя и не так
органически, как рассказы) злую иронию, кошмары и фарс. Повесть напи-
сана в форме своего рода отчета Бономе, «ученого мужа», который уверен
в своем превосходстве, о его долгих спорах с весьма образованным гегель-
янцем врачом Ленуаром и его женой Клер, чувствительным существом,
верящим, что есть не доступные разуму связи событий. Кошмар, ирония,
фантастика сплетаются здесь в еще более горькое соцветие, чем в таких
вещах Эдгара По, как «Воспоминания мистера Августа Бедло». Объектом
ненависти и злого осмеяния для автора является Бономе. Он не только
наглец, он еще и трус. Предчувствия Клер в большей степени, чем развер-
тывание гегелевской аргументации Ленуаром, внушают Бономе мистиче-
ский страх перед чем-то нематериальным, потусторонним. При всем своем
грубо маханистическом понимании мира и при уверенности, будто он воп-
лощает вершину развития человеческой мысли, Бономе совершает — как
затем на рубеже XIX и XX вв. это случилось едва ли не в глобальном
масштабе со многими идеологами его класса — крутой поворот от позити-
визма к бессознательному. Вилье, пусть он сам не чужд спиритуализиро-
ванного идеализма, заглядывает на полстолетие вперед и высмеивает пе-
реход Бономе от вульгарного позитивизма к вульгарному спиритуализму.
Бономе, в противоположность автору, не осознает этого сдвига. Желая из-
бавиться от страха и доказать свою позитивистскую правоту, он (Вилье
вновь оказывается мрачным пророком) ставит эксперимент на живых лю-
дях — на супругах Ленуар: сюда входит и отравление Ленуара, и ускоре-
ние смерти его вдовы, и надругательство над ее трупом. Однако результат
получается обратным, и прямолинейный позитивизм экспериментатора-
палача терпит крушение. Частично оно обусловлено и тем, что — как это
ясно Вилье — ив жизни Ленуаров были свои, не понятные Бономе, теневые
стороны. Пожилой Ленуар, обходительный с молодой супругой вплоть до
вызывавшей у нее презрение беспринципности («...мой ужасный муж...
из любви к моему несчастному телу притворялся, будто уважает мою ве-
ру»), втайне дико ревновал Клер. Вдове кажется, что он посмертно узнал
о ее прошлой любви к английскому моряку Клифтону. Когда Клер полу-
чает сообщение, что лейтенант Клифтон варварски убит и оскальпирован
на каком-то далеком острове Тихого океана людоедом из таинственного
племени оттисоров, ее преследует видение убийства, причем в людоеде она
узнает своего супруга. «Значит,— спрашивает Клер,— он в самом деле был
хамовым отродьем, если он так посмертно реализовался!» (гл. XIX). Бо-
номе, одолеваемый страхом и нездоровым любопытством, провоцирует
Вилъе в перспективе XX века 181
смерть Клер во время видения. Он мнит успокоить себя точным доказатель-
ством, что это был лишь бред больной. Чтобы убедиться, что на сетчатке
глаз Клер нет изображения убийства Клифтона оборотнем-Ленуаром, надо,
чтобы Клер умерла во время видения, а Бономе мог тут же осмотреть сет-
чатку офтальмоскопом. Осуществление жуткого плана дает неожиданные
для Бономе результаты. Ужас, смятение ума и ничтожество самого Бономе
сжаты в одну и — что характерно для стиля Вилье — двусмысленно-ирони-
ческую фразу. «Экспериментатор» якобы увидел то, чего он боялся: «Мне
казалось, что, единственный из всех живущих, я был на грани того, чтобы
заглянуть в Бесконечное сквозь замочную скважину» (гл. XIX). Характер
Бономе раскрыт не только в самой «обоснованности» опыта, не только
в глупой самоуверенности «экспериментатора», будто он первым заглянул
в бесконечное, даже не только в позорном замысле смотреть в бесконечное
«сквозь замочную скважину». Характер Бономе раскрыт и в самом факте
опыта над людьми, и в готовности надругаться над трупом женщины, к то-
му же его знакомой и жены друга. Чтобы вольготно рассмотреть изображе-
ние на сетчатке — не перевернутым,— Бономе нужно перевернуть Клер.
Он хотел повесить тело за ноги, но не решился обнажить труп дамы из об-
щества: «Ах, боже мой, мне и в голову бы не пришло колебаться, если бы
эта милая дама была нуждающейся или несостоятельной, хотя и трудя-
щейся женщиной». Но «госпожа Ленуар жила в довольстве», поэтому
«экспериментатор» ограничился тем, что положил труп поперек крова-
ти, так, чтобы голова свесилась вниз и приняла нужное для науки положе-
ние...
Ключ произведения все же не трагический — Вилье не стремится к по-
вести ужасов и возвращает своего мерзкого героя на фарсовую стезю. Забо-
левшему от страха, после встречи с бесконечным, Бономе прописывают ле-
чение человеческим молоком. Галльский дух сцен рамолизировавшегося
злодея и полногрудой кормилицы восстанавливает у читателя понимание
тональности повести: в конечном счете не читатель должен бояться Бономе,
а Бономе должен бояться автора и его читателей.
Но Бономе следовало бить острой сатирой — добровольно он не ис-
чезал из жизни, и Вилье, как станет видно ниже, приходилось вновь воз-
вращаться к этому гнусному персонажу.
В «Клер Ленуар» по крайней мере трижды встречаются внутренние
схождения с «Люсьеном Левеном», т. е. с тем романом Стендаля, который
до 1894 г. был опубликован лишь в отрывках и текст которого не должен
был быть известен Вилье. Это не только возникающее в трагикомической
ситуации предписание врача лечить знатную особу молоком здоровой кор-
милицы-крестьянки (гл. XXXVII), но почти буквальное совпадение лице-
мерных причитаний Бономе и луи-филипповского министра де Вэза. В рас-
сказе «Банкет эвентуалистов» Бономе употребляет то же слово, что и де
Вэз для выражения лицемерного сочувствия пролетариату: «gémir» — сте-
нать о крови, проливаемой при вооруженном подавлении народного недо-
вольства. «Как и вы, я стенаю,—говорит де Вэз Люсьену — по поводу
ужасных происшествий, могущих возникнуть при слишком поспешном
380 H. И. Балашов
применении самой согласной с законностью силы. Но вы должны согласить-
ся, что несчастный случай, оплаканный и исправленный при первой воз-
можности, не может служить обвинением против системы! Разве человек,
ранивший на охоте друга,— убийца?» (гл. XLIX). Кроме того, это — свой-
ственная «Клер Ленуар», а затем даже и «Жестоким рассказам», осмотри-
тельность перед такого рода ужасной истиной, описание которой было са-
моцелью особого вида развлекательного чтения, предшествовавшего бур-
жуазной «mass culture» XX в. Стендаль отказывается описывать грязные
проделки ренегата из либералов некоего Дюмораля во время избирательной
кампании: «Это истинно, но истинно, как Морг, это такой жанр истины,
который мы можем оставить предназначенным для горничных романам
карманного формата» (гл. XLI).
Начиная с повести «Клер Ленуар» определенно выраженные разобла-
чительные и гуманистические тенденции проявлялись у Вилье в разных
планах. В плане с виду бытовом они получили развитие в драме «Бунт»,
пять представлений которой в Париже в мае 1870 г. были освистаны и выз-
вали подлинный скандал в консервативных кругах.
Вновь каким-то удивительным образом Вилье совершил рывок в буду-
щее и не только предварил почти на десять лет «Кукольный дом» Ибсена,
но и предугадал философски-притчевую тенденцию в облегченной от быто-
вых подробностей бытовой драме XX в. Сила и слабость драмы Вилье
(имевшей позже, особенно после постановки 90-х годов у создателя Сво-
бодного театра Андре Антуана, большую сценическую историю) — именно
в притчевой обнаженности конфликта. Бунт это — бунт жены буржуа-мил-
лионера после четырех лет вполне добропорядочной семейной жизни, за
которые Элизабет была превращена мужем в отличный автомат-делопро-
изводитель, способствовавший быстрому утроению капитала. Бунт Элиза-
бет против Феликса, так же как затем бунт Норы против Хельмера, это —
выступление за эмансипацию личности женщины, а не только за свободу
ее чувства. Еще в меньшей степени, чем у Норы, в бунте Элизабет повинно
какое-либо одно действие супруга-буржуа. Бесчеловечно-прозаичное про-
никает весь уклад брака, всю душу Феликса, не вырываясь наружу, как
в дышащей черной неблагодарностью желчной истерике тайно спасенного
Норой Хельмера (последний акт «Кукольного дома»). В порыве к эманси-
пации Элизабет инициативнее Норы, и своим упорством она отдаленно
напоминает героинь Антониони, восстающих против некоммуникабельно-
сти индивидов, создающей атмосферу удушья в обеспеченных слоях совре-
менного западного общества.
Пока беседа супругов касается повседневной деятельности капитали-
ста — а характеристика бесчеловечности этой деятельности заострена Вилье
умелым применением в диалоге биржевого жаргона,— Феликс прекрасно
понимает Элизабет. Но когда супруга, безропотно покорявшаяся четыре
года, объявляет о решении уйти от него — своего мужа и отца ее дочери,
он перестает что-либо понимать. Монологи Элизабет, раскрывающие ее
трагедию, кажутся ему то ли глупой шуткой, то ли болезненным бредом, и
он даже подумывает, не применить ли свою трость в качестве воспитатель-
Вилье в перспективе XX века 1S3
ного средства. Супруг не может понять желания Элизабет жить так, чтобы
в ее жизни какое-то место занимала бы поэзия, красота, борьба за свободу.
«Ты,—говорит Элизабет, обращаясь к самой себе,—была создана, чтобы
давать жизнь смелым людям, тем, кто добивается свободы!., создана, чтобы
к тебе на грудь склонялся благородный лоб товарища на дороге к свобо-
де...» 17. Следуя традиции таких произведений, как «Евгения Гранде» Баль-
зака, Вилье показывает, что выгодная для мужа несправедливость буржу-
азного брака XIX в. лишает самого собственника способности понимать
человеческое в членах своей семьи: не может ведь Элизабет думать об ухо-
де, если по закону она должна оставить мужу свое приданое!
Своей притчевой драме Вилье дал двойной финал: Элизабет уходит, и
Феликс, еще более смятенный, чем Хельмер, когда Нора навек захлопнула
за собой дверь, остается безмолвно распростертым на полу, а часы судьбы
пробивают над ним один, два, три часа ночи... Однако Ибсен и Вилье жили
в разных странах с разными литературными традициями. То, что уклады-
валось в понятие реалистического для первого, воспринималось в художе-
ственной системе второго, четыре-пять лет спустя после «Морганы», как
отзвук романтизма. И Вилье дал драме реальный для французского искус-
ства 70-х годов трагический финал: Элизабет вернулась.
Идейная смелость драмы, новизна сценических решений возмутили
реакционную критику — клака топала ногами и свистела, не давая слушать
и настраивая других зрителей на погромный лад. После пятого спектакля
с «Бунтом» было покончено. Вилье предпослал изданию, осуществленному
в том же 1870 г., резкое предисловие в защиту своей драмы и проблемного
искусства вообще. Особенно удивлен был Вилье, увидев среди хулителей
«Бунта» Жюля Барбе д'Оревилли. Писатель странный и чудаковатый, но
пользовавшийся уважением за прямоту, с которой он высказывал то, что
думал, Барбе воспринимал ненавистный ему буржуазный порядок как ре-
зультат крушения вековых устоев. Он как бы утрировал в форме почти
карикатурной противоречия, свойственные Бальзаку в период его макси-
мального увлечения легитимистскими идеями. Немногим более дворянин,
чем «де» Бальзак, Барбе д'Оревилли, полагая, будто он выступает от жмени
бывших первых сословий, хлестал в своих романах и рассказах, как это
делал и Бальзак, но со взвинченной истеричностью, дворян и священни-
ков, видя в них недостойных представителей старого мира, виноватых
в его гибели. При этом Барбе шумно апеллировал к легитимизму и к като-
лицизму. «Бунт» Вилье он осудил с «сословной» точки зрения за несоот-
ветствие идеи драмы аристократическому происхождению автора. Вилье,
должно быть, это казалось смешным, но он воспользовался случаем, чтобы
высказать свою гуманистическую концепцию искусства: «Разве может моя
фамилия,— писал он в ответ,— прибавить или убавить что-либо в литера-
турной и человеческой ценности того, что я пишу». Пожелание Барбе,
чтобы граф Вилье де Лиль-Адан воссоздавал на сцене славу своих рыцар-
ственных предков, обороняющих остров Родос, было воспринято с явной
17 A. Villiers de VIsle-Adam. La révolte. Paris, 1910, p. 58.
184 H. И. Балашов
иронией: «Г-ну кавалеру д'Оревиллр1, несомненно, угодно, чтобы я воскре-
сил султана Сулеймана и заставил его вновь осаждать Родос. Но что се-
годня может быть прекрасней и благородней, чем защита мысли...» 18.
Направленность произведений Вилье второй половины 60-х годов долж-
на быть понята и оценена. Ведь это она объясняет непонятную иначе по-
зицию графа Вилье де Лиль-Адана на стороне Парижской Коммуны! Авто-
ры самых известных биографий Вилье — Эдуард де Ружмон, Фернан Клер-
же, Макс Деро и другие — либо не верили глазам своим, ЛР160 сознательно
скрывали поразительный факт участия Вилье в Коммуне. Они ограничи-
вались намеками, из которых очевидно, что они не сочли нужным обнаро-
довать имевшиеся у них данные по этому вопросу 19.
Как говорилось в начале статьи, лишь восемьдесят лет спустя в ходе
дискуссии, возникшей в связи с перепечаткой Ж.-А. Борнеком в августе
1953 г. в «Меркюр де Франс» очерков Вилье 1871 г.20, стали выясняться
некоторые обстоятельства его участия в Коммуне. Вилье, будучи офицером
Национальной Гвардии, остался в Париже и продолжал служить при Ком-
муне, а в последние дни ее существования писал в газете «Трибэн дю
Пёпль». Все пять статей или, точнее, очерков жизни революционного Па-
рижа подписаны «Мариюс», т. е. Марий (Marius). Этот псевдоним можно
понять как второе имя Вилье — Marie — в его книжном обличий. Во фран-
цузском народном языке мужская форма имени, восходящая к римскому
Мариус, исчезла, совпав и соединившись с той женской формой, основан-
ной на греческом варианте (Марйа) восточного имени Мириам, которая
получила широчайшее распространение как имя богородрщы и самое упот-
ребительное женское имя (особое мужское имя Мари, с ударением на
первом слоге, наподобие итальянского Марио, встречается лишь на юге
Прованса). Имя Марий могло подойти для прессы Коммуны. Традиции об-
ращения к римскому республиканству долго сохранялрюь у французских
революционеров. Ассоциация с Каем Марием особенно уместной была
в 1871 г., когда против Коммуны фактически объединились и французские
реакционеры, и прусская армия. Кай Марий, родом из незнатной провин-
циальной семьи, полководец, демократизировавший армию, прославился,
в частности, как победитель тевтонов; он стал главой народной партии
в Риме, самым упорным борцом против аристократической диктатуры Кор-
18 A. Villiers de VIsle-Adam. La révolte, p. 11
19 Поучительно привести то, что сказано в книгах Ружмона, Клерже и Деро о Вилье
и Коммуне: «...по поводу его жизни в эти суровые месяцы рассказывают самые
поразительные истории» (Edouard de Rougemont. Villiers de l'Isle-Adam. Paris, 1910,
p. 151); «...он приветствовал первые шаги Коммуны... хотел продолжать бороться в
народном Париже, дал даже, говорят, одну статью в «Трибэн дю Пёпль». Но де-
магоги захватили руководство движением...» (Fernand Clerget. Villiers de l'Isle-
Adam. Paris, s. d. (1913, 1920), p. 66); «Война кончается, потом Коммуна. Последний
раз у издателя Лемерра писатели встречаются... Потом судьба разбрасывает их...
Война окончена. Для одних жизнь продолжается, для других начинается сызнова.
Как она сложится у Вилье де Лиль-Адана? Увы, это будет страшная агония...»
(Max Daireaux. Villiers de l'Isle-Adam. Paris, 1936, p. 116).
20 См.: «Villiers sous la Commune». Présentation de J. H. Bornecque.— «Mercure de
France», 1080, 1 août 1953.
Вилъе в перспективе XX века 1RS
нелия Суллы. Вилье могло дополнительно импонировать плебейское зву-
чание имени Мария.
Нужно оценить неизмеримое значение того факта, что Вилье стал на
сторону Коммуны, но не нужно упрощать положения и полагать, что
Вилье слился с массой коммунаров, подобно таким поэтам, как Эжен Потье.
Сочувствуя Коммуне, защищая ее своим писательским пером, а по-види-
мому, и в качестве ротмистра красной Национальной Гвардии,— Вилье ис-
ходил из общедемократических, гуманистических позиций и в своих очер-
ках дружески описывал Парижскую Коммуну. В момент высшей степени
обострения классового конфликта такая не зависимая от версальской идео-
логии позиция была редкой среди крупных французских писателей и очень
важной для Коммуны и ее дела. Помимо военной осады, Парижская Ком-
муна подвергалась также духовной блокаде. Защиту дела Коммуны затруд-
нял и подрывал колоссальный перевес версальской печати. Отрицательное
отношение к Коммуне ряда писателей было продуктом этой дезинформации
и само способствовало ей. Полное преобладание версальской печати, рас-
пространявшей особенно дикие небылицы по поводу политики Коммуны
последних недель и условий, в которых гибли многие культурные ценности
Парижа, повлияло на позицию Флобера. Но молчание Флобера в печати
или клеветнические выступления Жорж Санд в свою очередь способство-
вали духовной осаде Парижа.
В этом историческом контексте понятно все значение позиции Вилье.
Ведь даже в тех литературно-художественных журналах, от которых рань-
ше можно было, в худшем случае, ждать лишь аполитичности, в 1871 г.
царила самая чудовищная предвзятость. Летний номер литературного жур-
нала «JTАртист» и спустя сто лет кажется отпечатанным желчью. Тут
будто забыли и о Наполеоне III, и о пруссаках, а версальцев видели в бла-
гостном свете. Жюль Жанен квалифицирует выступление «communeux»
как «нашествие варваров». Рядом К. де Вилларсо в манере еще более
мерзкой, если это возможно, клеймит «коммунозаразную ассамблею». При-
чем «Коммуну-разрушительнрщу» он корит и за снесение дома кровавого
Тьера. Сам Теофиль Готье, писатель иного склада и иного масштаба, чем
эти интриганы, и тот сгоряча нашел возможным обрамить академическое
описание погибших во время осады Парижа шедевров нелестными по от-
ношению к коммунарам вводным и заключительным абзацами. В поме-
щенной в конце номера «Хронике литературы и искусства», написанной
Р. де ла Фертэ, поношения чередуются с доносамр1 на конкретных лиц.
Вилье противостоял всему этому.
Читатель нашей книги, если он уже ознакомршся с рассказами Вилье,
оценил его талант и характер, привязался к нему, вздрогнет, узнав, что
журнал «JTАртист», видимо, открыл серию печатных доносов на Вилье.
Список художников и писателей, участвовавших в деятельности Коммуны,
на которых доносил Фертэ, замыкается справкой: «Villiers de l'lsle-Adam
qui a signé: capitaine-général des cavaliers de la République» 21. Здесь уж
«L1 Artiste», juillet— août 1871, p. 306.
186 H. И. Балашов
Фертэ перестарался. Буквальное значение доноса: «Вилье де Лиль-Адан,
подписавшийся: командующий кавалерией Республики». Капитаном На-
циональной Гвардии Вилье состоял, но командующим кавалерией Комму-
ны едва ли...
Во всяком случае на фоне всей этой лавины лжи и нетершшости спо-
койный и благородный тон очерков «красного ротмистра» выделяется сра-
зу. Восторженно рассказывает он о героизме свободного Парижа. В Пари-
же Коммуны, пишет он, «народ обсуждает важные вопросы; здесь впервые
слышишь, как рабочие обмениваются мнениями по таким проблемам, кото-
рыми занимались только философы. Не видно ни одного сыщика, ни одного
из полицейских, мешающих движению на улице. Царит полный порядок».
Смеясь над буржуа, твердившими, подобно Бономе, будто рабочие в ин-
тересах порядка, как и в своих собственных, нуждаются в угнетении, Вилье
воспевает величие новых людей и наступление нового века. Он пишет
о коммунарах: «Они свободны — и они трудятся. Они свободны — и они
сражаются... добросовестный человек убеждается, что отныне положено
начало новому веку, и даже заядлый скептик поневоле задумывается».
Обращаясь к бойцам Коммуны, Вилье восклицает: «Взявшись за ору-
жие в защиту человечества, вы тем самым восторжествовали над всеми
поражениями». Если солдатам Коммуны суждено погибнуть, говорит Ви-
лье,— они падут, уверенные, что их бессмертное дело будет продолжено
людьми будущего.
По статьям Вилье видно, что в некоторых случаях он выступал как
дружественный наблюдатель; не скрывая своих сомнений, рассказывает он,
например, как сжималось его сердце поэта в церкви, превращенной в ре-
волюционный клуб; но все же его смущение проходило при мысли, что
эти люди, «кто бы они ни были — готовы пролить свою кровь ради правого
дела... Врата святилища могут распахнуться перед мучениками».
1871 г. преобразил жизнь и творчество Вилье. Оставшиеся ему девят-
надцать лет, которые Макс Деро назвал «страшной агонией», были агони-
ей в смысле обреченности писателя на униженное, нищенски-страдальче-
ское существование, вначале прямо, а затем косвенно обусловленное клас-
совым возмездием III Республики за участие в Коммуне. Но годы страда-
ний 6ылр1 временем высшего расцвета таланта Вилье, и именно в это время,
начиная с драмы «Аксель» и особенно с «Жестоких рассказов», журналь-
ные публикации которых приходятся в большинстве на 70-е годы, он и
выступает как очень большой писатель, один из родоначальников специфи-
ческих форм французского общедемократического искусства XX в.
Мы приводили гордые ответы Вилье на обвинения в службе Коммуне;
но первое время, когда версальцы ставили к стенке правого и виноватого,
Вилье приходилось скрываться и унижаться. Надежды писателя было ожи-
вились с конца 1871 г., когда крайние в правительстве Тьера стали терпеть
поражение и, в частности, вместо Фавра министром иностранных дел был
назначен старый знакомый Вилье по литературным салонам 60-х годов,
литератор и философ умеренно республиканских взглядов Шарль де Ремю-
за. Вилье надеялся, что Ремюза поможет ему легально уехать за границу
Вилъе в перспективе XX века 187
и, возможно, даст даже какое-нибудь место nppi французском посольстве
в Великобритании. В одном сохранившемся письме от августа 1871 г.
Вилье в осторожно-зашифрованной форме намекает, что до этого ему гро-
зила ссылка в Гвиану или Новую Каледонию: «назначение г. де Ремюза
меня очень обрадовало, а то при г. Жюле Фавре так старались найти доста-
точно диковинную страну, чтобы устроить мне там консульство...» 22. Мо-
жет быть, прежнее личное знакомство с Вилье таких людей, как Ремюза,
объективно и избавило его от отправки в «диковинную страну», но помощи
он не получил. Негласным приговором ему был удел изгоя, обреченного
на голодное прозябание. Недаром Вилье в «Жестоких рассказах» высмеял
странные выборы 1873 г., в которых победа «радикала» Бароде над Ремюза
привела к смене «республиканца» Тьера монархистами («Реклама на не-
бесах»).
В искусстве Вилье в 70—80-е годы на воспринятые раньше романтиче-
ские традиции pi на уроки Стендаля и Бальзака накладывается воздействие
саркастически-экспрессивной манеры позднего Бодлера. Теперь, должно
быть, Вилье особенно оценил Бодлера как «великого ненавистника» (сам
Бодлер так определял Байрона) за непримр1римость к современному об-
ществу, за то сочетание гуманности и сарказма, которое вело к идеологи-
ческой насыщенности, ошеломляющей выразительности и лаконизму ис-
кусства нового времени.
Теперь Вилье, начинающему век XX, тоже нужно было искусство, ко-
торое могло бы стать эффективным оружием в разрушении буржуазного
общества, причем не длительным воздействием, как романы Флобера, а
взрывным ударом. Как когда-то Гойя вдохновлял Бодлера, так Бодлер те-
перь ориентирует и вдохновляет разгневанного Вилье. Целью художника
становится прожигать панцирь мещанского индифферентизма и заскору-
злости, стремиться пронять и тех, кто не хочет и не может читать, смотреть,
слушать художника. Если поставить вопрос очень широко, то подобные,
предваряющие XX в., поиски остроты и новой выразительности искусства
можно в середине прошлого века обнаружить у Домье, Мане, Вагнера,
Салтыкова-Щедрина, Мусоргского и даже у того же Флобера, которому,
однако, было труднее, потому что для достижения этой цели в западном
романе должен был обновиться сатирический жанр и произойти разносто-
ронняя лиризация эпргческих жанров.
Вилье развил в своей зрелой прозе — начиная с «Жестоких расска-
зов» — те новые эстетические качества, которые во многом определили од-
но PI3 важнейших направлений французской общедемократической литера-
туры едва ЛР1 не на столетие вперед. Но, конечно, Вилье, как Рембо и
другие родоначальники обновления демократического искусства во Фран-
ции, развивая одолевавшую Бодлера идею эстетической эффективности pi
строя искусство обостренной общественной действенности, не имели (а
практически и не могли иметь) четкого общественного идеала, во имя кото-
рого их искусство должно было разить социальную несправедливость.
22 Max Daireaux. Villiers de l'Isle-Adam. Paris, 1936, p. 117.
188 Я. И. Балашов
Даже крещение огнем Парижской Коммуны не дало такой ясности ни
посмертно крещенному этим огнем Дюкассу-Лотреамону, ни «красному
ротмр1стру», ни Вердену, ни самому Рембо. Известно суждение В. И. Ле-
нина, что «Коммуны не понимали те, кто ее творил, они творрши гениаль-
ным чутьем проснувшихся масс, и ни одна фракция французских социа-
листов не сознавала, что она делает» 23. При таком положении трудно на-
деяться найти четкость общественного идеала у тех художников, которых
к Коммуне привела не органическая связь с рабочей массой, а непримири-
мость к социальной несправедливости и общедемократические гуманисти-
ческие устремления.
При всем том значение выхода в такой решительный момент на арену
истории под «знаменами цвета отмщения» не должно быть как-то прини-
жено. Год 1871 был годом смены фаз развития общедемократического дви-
жения во Франции и его искусства. Ведь от полного неприятия Коммуны,
как показывает пример Флобера, не предохраняли критицизм и глубокая
ненависть к старому миру, а как демонстрирует еще более разительный
пример Жорж Санд, не предохраняло и творческое участие в демократи-
ческом движении XIX в.
Некоторыми писателями поколения Вилье — Верлена — Рембо этот
урок воспринимался как сигнал, что романтизм, критический реализм, пар-
насская поэзия в тех формах, в каких они тогда мыслились во Франции,
больше не осуществляют полностью свою общественно-эстетическую функ-
цию; среди других факторов под знамена Коммуны таких художников, как
Вилье и Рембо, ставило стремление к взрывной социальной действенности
искусства, требовавшее новой, не волновавшей не только Жорж Санд, но
не найденной также Флобером и Леконт де Лилем, особой, порой сжатой
до символов остроты. Такая опосредствованная эстетическим моментом
связь с передовым движением была глубоко органична: отсюда живучесть
импульса, данного Рембо, Верленом, Лотреамоном, Вилье французской
литературе XX в. вплоть до Сопротивления и новейшего времени. Однако
в той мере, в какой связь с будущим выступала как интенсификация мета-
форичности, она была хоть крепкой, но кружевной связью. С годами она
могла рваться; элементы обостренной метафоричности могли отчуждаться
от традиций 1871 г., а лет через двенадцать их научились отрывать и вклю-
чать в совсем другую ткань. Эти элементы с 1880—1890-х годов действи-
тельно отчуждали от демократического литературного движения и фор-
мально осваивали символисты, в том числе те, которые были связаны
с декадентством, позже, в XX в., художники различных правоавангардист-
ских и модернистских направлений, стремившиеся к новизне «чистой»
формы. Эти школы, нередко шумно заявлявшие о себе, заслоняли суть об-
новления эстетической выразительности в том течении общедемократиче-
ской литературы Франции, которое шло от Вилье, Рембо, Верлена.
У реакционной критики XX в. все это порождало искушение двоякого
рода: обесценивать демократических художников, писавших, подобно Фран-
23 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 50.
Еилъе в перспективе XX века 189
су, Роллану, Роже Мартен дю Гару, в более традиционной манере; тех же
прогрессивных художников, которые унаследовали эстетический порыв
1871 г.,— трактовать как якобы модернистов. Если бы нить жизнр1 Пикассо
оборвалась до «Герники», Элюара, Матисса, Десноса — до Сопротивления,
эти художники в схемах буржуазной науки обретались бы где-либо побли-
зости от тех кругов царства Аида, в которые до 30-х годов мнили поместить
Аполлинера и куда до совсем недавнего времени безоговорочно помещали
Марселя Пруста.
Сопротивлением и «Герникой» для Вилье была Парижская Коммуна и
«Жестокие рассказы».
Переломным произведением Вилье начала 70-х годов, в котором старая
его эстетика уже перепахана воздействием Страшного года, но новая еще
не установилась, были первые две части драмы «Аксель». Публикация пер-
вой части в скромном журнале «Ренессанс литтерэр э артистик» относит-
ся к октябрю—декабрю 1872 г. Размышлял над драмой Вилье еще в 60-е
годы, а последние части завершались им двадцать лет спустя. Отдельной
книгой драма вышла лишь посмертно, в 1890 г.24, а в 1894 г. она впервые
была поставлена в театре «Гэтэ». В четырех частях «Акселя», образую-
щих во многом самостоятельные произведения, говорится о поисках абсо-
люта. Для Вилье это — то, что порождает в людях головокружительный
героизм и готовность бесстрашно стремиться ввысь. Реальности года «штур-
ма неба» выступают в драме такими, какими сквозь призму горечи пора-
жения они в буйном воображении Вилье проецировались на вечность. Об-
манутые и травимые герои драмы — Ева-Сара-Эммануила де Моперс и
Аксель Ауэрсперг последовательно отрекаются от ценностей старого MPipa—
от религии, от высшего света, от мистики, от соблазна золота и страстей.
Как Фауст, они останавливают мгновение счастья и любви и осознанного,
но еще не осуществимого стремления. Вопреки тому, что действие npopi3-
ведений фаустианской традиции с годами сосредоточивалось в сфере ис-
кусства, герои Вилье ищут полноты жизни и борьбы и совершают, когда
необходршо, решительные практические шаги.
Драма отнесена ко времени Реставрации, а враждебный героям мир
это — Mpip церковио-католический и дворянский, но уже пропитанный бур-
жуазной алчностью и лицемерием. «Аксель» при своей антр1буржуазности
мог служить ответом и тем, кто предположил бы, будто поэт, подобно Барбе
д'Оревилли, осуждает буржуазный мир прежде всего во ршя прошлого, во
имя Вилье де Лиль-Аданов девяти веков.
Иному современному читателю, совсем не искушенному в тогдашней
злободневности столкновения католических представлений с мистической
символикой франкмасонов и розенкрейцеров, столкновения, важного для
становления героев Вилье, драма местамр1 может показаться старомодной.
Но следует помнить, что и в самое горячее время Коммуны в ее борьбе,
притом не только антрщерковной, но и в ее политической борьбе вообще,
24 В ноябре 1885 — марте 1887 г. журнал «Жён Франс», редактором которого был
друг Рембо Поль Демени, впервые напечатал драму целиком.
190 H. И. Балашов
заметную роль играла революционная активность и поддержка парижских
франкмасонов. Этот вопрос постоянно освещался на страницах официоза
Коммуны «Журналь оффисьель де ла Репюблик Франсэз» 2\ в газете «Три-
бэн дю Пёпль» 26, где сотрудничал Вилье, а одно из последних воззваний
Парижской Коммуны было адресовано «К франкмасонам всех лож и сте-
пеней» 27.
По построению драма представляет собой философские диалоги в ма-
нере Дидро и очень трудна для сценического воплощения. Однако револю-
ционный заряд драмы и значительность образа главной героини открыли
«Акселю» путь не только к французской, но и к русской сцене. Перевод
был выполнен Максимилианом Волошиным. Смерть В. Ф. Комиссаржев-
ской помешала тому, чтобы в ряд великих бунтарок, получивших новую
жизнь на русском театре конца XIX — начала XX века,— Лауренсии, Звез-
ды Севильи, героинь Ибсена — стала бы и Ева де Моперс: героиня не слом-
ленная, победившая, хотя церковные власти грабили ее, вершили над ее
волей многолетнее насилие, хотели похоронить заживо.
Быть может, наибольшей цельностью и силой отличается как раз пер-
вая, антиклерикальная часть «Акселя», подхватывающая традицию одного
из острейших разоблачргтельных произведений Просвещения — «Монахи-
ни» Дидро. Драма бескомпромиссна. В изображении несовместимости ка-
толической церквр1 времен Реставращш с какой-либо человечностью Вилье
решительнее, чем Стендаль в «Красном и черном» и в «Пармской обители».
В долгой, имеющей постоянный сатирический подтекст беседе между на-
стоятельницей pi архидиаконом раскрываются мерзкие интриги, плетущие-
ся церковью для захвата имущества и заточения в монастырь сироты Евы
де Моперс, последней представительницы вымершего старинного рода.
Лукавые пастыри душ лицемерят и наедине друг с другом. Вилье с неумо-
лимостью общественного обвинителя строит их диалог таким образом, что
из него выясняется трагедия девушки, содержащейся в монастыре, как
в тюрьме, и не имеющей никакого выбора, кроме отказа в пользу церкви
от всего имущества и пострижения в монахини. В вину Еве вменяются
даже ее прилежание и смирение, расцениваемые тюремщиками как симп-
томы гордыни.
Над Евой де Моперс все явственней нависает угроза расправы. Но
в драме отнюдь нет атмосферы безысходности. Напротив, рассказ о мерах
обуздания, применяемых в монастыре к Еве, показывает ее душевную си-
лу. Хотя во время Реставрации церковь была могущественна, в драме вид-
но смятение церковных иерархов перед народом, перед революцией. Apxpi-
25 См. «Journal officiel de la République Française» du 27 avril, 2, 5, 8, 11, 13, 17 et
24 mai 1971.
26 Напр., «Le Tribun du Peuple» du 17 mai 1871.
27 «Братья! // Коммуна, защитница ваших принципов, зовет вас к себе. // Вы вняли
ее зову, и наши святые знамена были разорваны пулями и бомбами врагов. // Вы
вели себя как герои: продолжайте же быть ими и впредь с помощью наших братьев
из других лож» (А. И. Молок. Парижская Коммуна 1871 года в документах и мате-
риалах (Хрестоматия). Л.— М., 1925, стр. 470).
Вилъе в перспективе XX века 191
диакон то и дело произносит заклинания, что революция невозможна; он
опасается, как бы Еве не помогли жители прибрежного поселка, где рас-
положен монастырь; но настоятельница и сама распорядилась произвести
пострижение ночью, чтобы моряки и жители поселка не были допущены
в храм. Ева де Моперс по-прежнему безмолвна, но архидиакон произносит
длинную и устрашающую проповедь против разума, доказывая, что «един-
ственный путь понимания это — молитва». Архидиакон подбирает особо
изуверские церковные тексты, вроде суждения св. Исидора Дамиеттского,
что счастье блаженных в раю будет неполным, если их лишить несказан-
ной радости созерцать мукР1 грешников. Над Евой читают унижающие
человеческое достоинство слова св. Бернара: «Не что иное человек, как
зловонное семя, мешок испражнений, пища червей. Знание, премудрость,
разум без господа Христа — подобно облакам — развеиваются...»
Наибольшего драматизма действие достигает в момент пострижения,
когда Ева, не произнесшая до тех пор ни одного слова, в ответ на вопрос,
согласна ли она стать монахиней — «Отвечай! Принимаешь ли ты свет,
надежду и жизнь?» — внятно и твердо отвечает — «Нет!»
Теперь для архидиакона и настоятельницы ночь их торжества превра-
щается в «ночь ужаса». Вилье создает драматичную и исполненную глу-
бокого внутреннего смысла сцену. Звонарь, органист, хор монахинь не зна-
ют о том, что прор1зошло на ступенях алтаря, не видят, что погашены свечи
и из опрокинутого сосуда разлито священное миро. Настоятельнице долго
не удается остановить радостные песнопения, наполняющие храм: «Ликуя,
торжествуйте! Грядите в Вифлеем». Для Вилье это — высшая апология
победы истины, воплощенной не в римской церкви, а в отрекшейся от нее
бунтарке, художественный прием, напоминающий будущий финал «Две-
надцати» Блока.
Однако до победы Еве де Моперс еще далеко. Ее запирают в опустев-
шей церкви с архидиаконом. Он глумится над бунтовщицей: «На что ты
надеешься? Что тебя освободят из монастыря?.. Власть мирская укрыла бы
теперь твое бегство, я знаю, но ты не выйдешь отсюда!.. Мы — власть; нам
она передана от бога, и мы сохраним ее... до совершения времен. И это воп-
реки угрозам грядущего, вопреки иллюзиям науки и всем нечистым испа-
рениям человеческого мозга...» Инквизиторски вкрадчиво, елейно, с иезуит-
скими ссылками на Игнатия Лойолу архидиакон понуждает Еву спу-
ститься в подземный могильный склеп, где ей предстоит страшное заточе-
ние или погребение заживо.
Леденящая душу убедительность этой сцены может быть объяснена тем.
что она написана под свежим впечатлением от установленных при Ком-
муне и преданных гласности в ее прессе фактов сравнительно недавних
(XIX в.) противозаконных церковных тайных захоронений, в том числе
молодых женщин. Например, 16 мая 1871 г. «Журналь Оффисьель» сооб-
щал о незаконном захоронении трупа молодой женщины «с хорошо сохра-
нившейся пышной копной светлых волос». В номере от 20 мая приводились
дополнительные факты, в частности установленные в церкви Нотр-Дам-
де-Виктуар. Вилье вполне мог быть очевидцем подобных расследований
192 H. И Балашов
фактов насилия и умерщвления монахинь, ибо такого рода материалы
применр1тельно к монастырю де ль'Ассонсьон в Отёйе в Париже были под-
робно изложены в том самом номере газеты «Трибэн дю Пёпль» за 19 мая
1871 г., где был помещен его собственный третий очерк о Коммуне —-
«Клубы».
С поразр1тельной пластичностью, полностью переданной Волошиным,
Вилье рисует «немую» сцену бунта юной героини. Безмолвно сняв со
стены секиру — приношение моряков, она заставила сойти в склеп убийцу
архидиакона, закрыла над ним тяжелую плиту, разорвала тот смертный
саван, в который ее облачили для пострига, и, связав куски, спустилась
через окно церкви — на свободу...
Велргчественный характер первой части «Акселя» придает не только
спокойная стойкость Евы, но и весь общественно-насыщенный подтекст
драмы. Вилье неспроста то и дело наводит на мысль о внутренней связи
одинокой героини с народом. Церковные власти убеждены, что в присут-
ствии моряков Ева взбунтовалась бы, а те поддержали бы ее и помогли ей
вырваться из монастыря. Несомненно, символический смысл имеет изобра-
жение того, что Ева воспользовалась секирой — даром моряков, т. е. и
вправду помощь Еве прршша от простых людей!
Первая часть драмы, по замечанию Волошина, который не только пе-
ревел «Акселя», но и посвятил ему статью «Апофеоз мечты», «сжимает»
в нескольких страницах «все мировое значение католицизма». Волошин
находит, что «по громадному историческому захвату ее можно сопоставить
только с «Легендой о великом инквизиторе» из «Братьев Карамазовых»» 28.
Надо обратить внимание на определение Волошина — «сжимает», ха-
рактеризующее стршь Вилье и его вклад в литературу XX в.
В следующих частях «Акселя» Вилье в большей степени, чем в первой,
действительно создает «апофеоз мечты». Во второй части изображена борь-
ба уединившегося в заброшенном шварцвальдском замке мечтателя Акселя
Ауэрсперга с соблазнами высшего света и богатства. Эгоизм и грабитель-
скую мораль старого общества воплощает дядя героя — Каспар Ауэрсперг.
Он сожалеет о временах феодального насилия, тянется к низменным нас-
лаждениям. Полагая, что «всякий человек, думающий к сорока годам о ком-
либо, кроме себя, не достоин жизни», Каспар решает ограбить пле-
мянника, рассчитывая при этом на поддержку немецких князей. Как цер-
ковь в первой, так феодально-абсолютистское государство во второй части
выступает в качестве главного врага героев. Вторая часть, более утопичная,
чем первая, показывает возможность такой неравной борьбы. При этом
здесь настойчргвее, чем в первой, поднимается вопрос о народном сопротив-
лении существующим порядкам. Аксель в своих планах борьбы с немецки-
ми князьями рассчитывает на помощь со стороны углекопов, которым «еле
зарубцевавшиеся шрамы на плечах напоминают о перенесенном в молодо-
сти в армиях угнетении» и внушают ненависть к государям.
28 Максимилиан Волошин. Лики творчества. СПб., 1914, стр. 12.
Вилье в перспективе XX века 193
Опыт, приобретенный во время Коммуны, сказался не только в смелой
постановке общественных вопросов в «Акселе», но и в демократическом
пафосе драмы «Новый Свет», написанной в 1876 г. (т. е. в те же годы, что
и основное ядро «Жестоких рассказов») для конкурса на лучшую пьесу
к столетию Американской революции.
Драма была отрицательно принята буржуазной общественностью:
Вилье не получил полностью премии, присужденной ему жюри иод пред-
седательством Виктора Гюго, издание затянулось до 1880 г., а поставлен-
ная в 1883 г. драма была освистана.
Вилье вновь выступил как новатор. Его драма прокладывала путь
«Театру Революции» Ромен Роллана (1898—1902). Она тяготела к мас-
совому действу, отличалась красочной жанровостью, тенденцией к занима-
тельному приключенческому сюжету, к возрождению в театре тех ка-
честв, которые позже объединяли под названием революционной роман-
тики.
Положительные герои драмы — среди республиканцев, борцов за неза-
висимость Новой Англии; но Вилье не дает им однообразно идеализирован-
ной характеристики; он рисует разные политические направления и очер-
чивает различные индивидуальности. Ход развития революционных собы-
тий в драме определяется в народных сценах. В живой картине народного
собрания в Маунт-Верноне Вилье показывает и революционные настрое-
ния масс, и опасливость зажиточных американцев, вынужденных для за-
щиты своих материальных интересов, ущемленных колониальными побо-
рами, принять участие в революционной войне. У таких практичных лю-
дей, по Вилье, уже в те годы было порядочно консерватизма и пуританско-
го ханжества.
Идеи Коммуны повлияли на образ Стивена Эшвеля, в котором Вилье,
по его словам, «воплотил принципы Свободы». Этот храбрый командир от-
ряда, лишенный всяких элементов пуританизма и национализма, пользу-
ется еще большей симпатией автора, чем сам Вашингтон. Эшвель борется
«не только за Америку, но и за новый мир... для всех угнетенных...»: «Мы
здесь не только затем, чтобы защитить наши доходы от притязаний того
пли иного королевства... мы отдаем кровь, чтобы помочь созданию сооб-
щества народов — сегодня еще скрытого в грядущем, но общие черты ко-
торого уже вырисовываются вдали» (акт IV, сц. 5). В написанных с не-
обыкновенным подъемом обращенных к грядущему монологах Эшвеля
звучат отголоски речей и воззваний коммунаров29. Возникающее в этих
монологах определение интернационального общества будущего — la Com-1
m union des peuples — ассоциируется с наименованием Коммуны и соответ-
ствует ее лозунгу «всемирной республики». В соответствии с политическим
пафосом драмы находится стремление Вилье вывести на фоне народного
движения выдающихся, благородных людей (Эшвель, его возлюбленная —
скромная ирландка Рут, французский доброволец дю Водрей, отважная
29 Ср., напр., воззвание мэрии XVIII округа Парижа («Журналь оффисьель», 1 мая
1871 г.), манифест Центрального комитета союза женщин (там же, 8 мая 1871 г.),
воззвание Делеклюза (там же, 11 мая 1871 г.). -
7 О. Вилье. «Жестокие рассказы»
194 IL И. Балашов
индианка Дагю, Вашингтон, Франклин), показать их в борьбе с опасными
врагами (лорд Сесиль, Эдит) и придать образный и романтически возвы-
шенный характер речи действующих лиц.
Вилье де Лиль-Адан, подвергавшийся остракизму буржуазных изда-
тельств и печатавшийся лишь в периодике, опубликовал с 1871 по 1885 т.7
кроме «Нового Света» и двух брошюр, всего одну книгу, но это были «Жес-
токие рассказы» («Contes cruels», 1883).
При подходе к «Жестоким рассказам», к знаменитой книге, с которой
определенно начался «Вилье XX века», читателю полезно уяснить себе ее
построение во времени.
Хронологически двадцать восемь рассказов книги разделяются на три
группы:
I. Четыре ранние вещи, написанные и опубликованные по отдельности
в периодике и в других изданиях до 1870 г.;
П. Основное ядро сборника — пятнадцать рассказов, синхронных под-
готовке книги как целого, т. е. написанных в первой половине 70-х годов
и напечатанных в журналах между 1873 и 1877 гг.
III. Девять более поздних рассказов, напечатанных в периодике после
1877 г. или впервые опубликованных в издании, т. е. после того, как сбор-
ник в 1877 г. сложился как целое. Дата 1877 г. подтверждается письмом
издателя Кальмана Леви от 30 октября этого года, содержащим отказ пе-
чатать книгу Вилье 30.
В следующих ниже таблицах дана хронология «Жестоких рассказов».
Перед каждым рассказом арабской цифрой обозначено его место в хроно-
логической последовательности, римской цифрой — его порядковый номер
в книге. В скобках даны даты первой публикации. Для «Сказки любви»,
представляющей собой не рассказ, а цикл из семи небольших стихотворе-
ний, указаны даты основного корпуса и заключительного стихотворения.
От ядра «Жестоких рассказов» по художественной манере и по идейной
направленности резко отделяются четыре более ранние вещи, помещенные
затем автором в конце книги и не являющиеся собственно «жестокими
рассказами»:
Группа I. Ранние рассказы
1. XXVI. Сказка любви (I—VI: 1862-1868 гг.; VII: 1875 г.).
2. XXVII. Потусторонние воспоминания (18 августа 1867 г.).
3. XXII. Предчувствие (29 декабря 1867 г.— 12 января 1868 г.).
4. XXVIII. Провозвестник (26 июня 1869 г.).
Хотя «Провозвестник» может рассматриваться как своевременное про-
рочество крушения II Империи, все эти четыре произведения не являются
еще безжалостными к буржуазному обществу, «жестокими», в собственном
30 История текста «Жестоких рассказов» впервые была научно воссоздана П.-Ж. Кас-
тсксом и Ж. Боллери в кн.: V illier s de V Isle-Adam. Contes cruels. Paris, éd. Cortir
1956 [vol. II]. Étude historique et littéraire par P.-G. Castex et J. Bollery, p. 36. Да-
лее будет указано: СВ.
Вилъе в перспективе XX века 195
смысле слова, рассказами. Мало того, некоторые тенденции ранних изу-
крашенных и овеянных дымкой мистицизма вещей оказывали, в обход
сатиричных и художественно сжатых рассказов Вилье 70-х годов, влияние
на символистские круги, в которых, например, «Провозвестник» пользо-
вался большим успехом.
От основного ядра отличается также группа рассказов, напечатанных
после 1877 г. или вообще не появившихся в периодике до выхода книги
в 1883 г. Не все эти рассказы могут быть поставлены в связь с опытом и
настроениями Вилье 1871 г. Замысел двух (первых в нашей таблице) рас-
сказов сложился уже к 1873 г. и зафиксирован в наброске оглавления,
относящемся к этой дате (СВ, р. 35).
Группа III. Поздние рассказы
20. XIII. Тайна старинной музыки (1878 г.).
21. XX. Королева Изабо (21 октября 1880 г.; первоначальный текст
восходит к 1876 г. СВ, р. 239).
22. III. Vox populi (14 декабря 1880 г.).
23. XVII. Цветы небытия (25 декабря 1880 г.).
24. XIX. Разбойники (3 декабря 1882 г.; объявлен в 1880 г.).
25. IV. Две возможности (1883 г.; этот и три следующих рассказа были
впервые напечатаны в книге).
26: XXIV. Мариэль (1883 г.).
27. XVI. Желание быть человеком (1883 г.).
28. VIII. Герцог Портландский (1883 г.).
В некоторых вещах третьей группы сказалось усложнение обществен-
ной и литературной обстановки во Франции на рубеже 80-х годов, разви-
тие символизма как все более кризисного явления, связанного с прибли-
жавшимся декадансом «конца века». Важнейшие тенденции творчества
Вилье противостояли этим настроениям, но атмосфера кризисностп, ощу-
щения безысходности отразились и на его творчестве. Оно сохраняет свой
критический заряд, но делается менее цельным, в нем получают известное
развитие «боковые» линии таких рассказов 60-х годов, как «Провозвест-
ник», «Предчувствие». Наряду с произведениями «жестокими» в смысле
сурового суда над социальной несправедливостью, рядом с произведениями
остросатирическими, такими, как «Разбойники», «Две возможности», воз-
никают рассказы, хотя не лишенные общественной остроты, но «жестокие»
порою также в смысле изображения жестокости—«Королева Изабо»,
«Желание быть человеком». Возникают и рассказы просто мрачные без
ясного выхода к позиции автора-сатирика как положительного героя мрач-
ной сатиры — «Цветы небытия».
Конечно, элементы подобной противоречивости, усиление которой было
обусловлено общественной обстановкой в III Республике, могут быть обна-
ружены и в основном ядре «Жестоких рассказов», но там они играют мень-
шую роль.
7*
136 H. П Балашов
Противоречивость «жестоких рассказов» третьей группы характерна и
для последующего творчества Вилье, где социально насыщенные рассказы
поремежаются порой кризисными, внутренне статичными. Однако со сре-
дины 80-х годов у Вилье вновь нарастают настроения социального протеста.
Основное ядро «Жестоких рассказов» составляет вторая группа рас-
сказов (1873—1877). Именно с произведениями этой группы — рассказами
«Виржини и Поль», «Девицы Бьенфилатр», «Лучший в мире обед», печа-
тавшимися в «Ла Смэн паризьенн» в марте—июле 1874 г. под общим заго-
ловком «Жестокие рассказы», попало впервые в печать само наименование
книги.
В числе пятнадцати рассказов второй группы чаще всего встречаются
произведения особой сатирической интенсивности, как раз те, в которых
Вилье предваряет новые формы выразительности французской демократи-
ческой литературы XX в. Если расположить эти рассказы по датам публи-
кации, получится следующая картина:
Группа II. Основное ядро
5. V. Реклама на небесах (30 ноября 1873 г.).
6. X. Посетитель финальных торжеств (1 января 1874 г.).
7. IX. Виржини и Поль (22 марта 1874 г.).
8. VII. Машина славы (22-29 марта 1874 г.).
9. I. Девицы Бьенфилатр (26 марта 1874 г.).
10. II. Вера (7 мая 1874 г.).
И. XV. Лучший в мире обед (21 мая 1874 г.).
12. XVIIL Аппарат для химического анализа последнего вздоха (21 мая
1874 г.).
13. VI. Антония (18 июня 1874 г.).
14. XI. Нетрудно ошибиться (16 декабря 1875 г.).
15. XIV. Тонкость чувств (20 января 1876 г.).
16. ХХИ1. Незнакомка (1 мая 1876 г.).
17. XII. Нетерпение толпы (20 июня 1876 г.).
18. XXV. Лечение по методу доктора Тристана (18 февраля 1877 г.).
19. XXI. Мрачный рассказ, а рассказчик еще мрачнее (3 июня 1877 г.).
Хотя хронология журнальных публикаций может оказаться не во всем
полной31, хотя она, естественно, не отражает с абсолютной точностью хро-
нологию творческого процесса Вилье, а развитие самого этого процесса
не может быть представлено однолинейным и построенным по какому-то
ранжиру,— приведенные таблицы разъясняют, где суть «Жестоких расска-
зов» и в чем смысл их заголовка.
Итак, «Жестокие рассказы» начинались с «Рекламы на небесах»— пря-
мой сатиры па вчерашних версальских победителей. Пусть читатель вспом-
нит в этом маленьком п полном выразительности рассказе абзац, откры-
31 Вилье приходилось печататься в таких кратковременных периодических изданиях,
что не исключено, что часть публикаций еще не установлена.
Вилъе в перспективе XX века 197
вающийся словами: «Представим себе, например, что на недавних выборах
овальные портреты господ Б. и А. в натуральную величину появлялись бы
каждый вечер как раз под звездой [} в созвездии Лиры...»
Точному пониманию сатиры Вилье может содействовать знание усло-
вий появления п истории текста. «Недавние выборы» это — те злополучные
для стабильности версальского единства дополнительные выборы 1873 г.,
на которых неожиданная победа радикала Бароде над известным нам (от-
казавшим Вилье в помощи) республиканцем Ремюза обусловила падение
правительства кровавого Тьера и создала неустойчивость, расшатывавшую
III Республику еще шесть лет (до начала 1879 г.).
В редакции ноября 1873 г., когда вся история с неудачными для Тьера
выборами была злободневной, Вплье открыто издевался над грызней в ста-
не врагов. Тогда он начинал абзац так: «Представим себе, например, что
на недавних выборах портреты господ Бароде и де Ремюза в натуральную
величину...»
Но вот текст публикации 5 января 1881 г. Крайние реакционеры отбро-
шены прочь — правительство переехало из Версаля в Париж, Огюст Блан-
ки освобожден из тюрьмы, объявлена амнистия коммунарам, день взятия
Бастилии стал национальным праздником...
Борьба Бароде и де Ремюза канула в прошлое — Вилье снимает отцвет-
шие имена, заменяя их литерами А и Б. Но тут же Вилье, в виде примеча-
ния издателей, помещает заметку, намекающую на уход версальского
отребья с политической арены: «Оба депутата, которых автор как будто
имеет в виду, скончались за то время, пока мы печатали эту новеллу».
Иными словами, новеллы Вилье печатают медленно, а версальцы исчеза-
ют с политической арены быстро. Кстати, Бароде был жив, однако умер
пе только Ремюза, но и Адольф Тьер, политически мертв был и Мак-Магоп.
Сатира новеллы и ее выразительность развиваются в сторону все боль-
шего обобщения. Первоначальный насмешливый заголовок «Открытие г-на
Грава», где сатиричность была заключена в характерном для класса и
эпохи наречении изобретателя-шарлатана «г-ном Важным», заменяется
заглавием, точнее соответствующим идее «поднять небеса на уровень сов-
ременной эпохи». Вилье дает заголовок, всеохватывающий и бьющий на
столетие вперед: «Реклама на небесах»!
В «Рекламе на небесах» определился характерный прием притворно со-
чувственного и притворно научно-серьезного изложения нелепостей бур-
жуазно-позитивистской морали, мышления, политики. Сочетая сарказм
с довольно веселой насмешкой, Вилье «изнутри» изображает трагикомиче-
ское будущее избирательной системы, науки, рекламы. Ирония просвечи-
вает в каждой строке, начиная с выбора латинского эпиграфа из льстивых
и лживых слов библейского змия ЕЕе (по-славянски: «будете яко бози»)
и кончая обсуждением разностороннего использования звездного простран-
ства для целей коммерческой и политической рекламы.
«Хоть это покажется странным и вызовет усмешку у человека делового,
но речь идет о Небе! Однако оговоримся: о небе с точки зрения чисто прак-
тической, промышленной». Такой фразой, как бы резюмирующей ирониче-
198 H. И. Балашов
скую выразительность сатиры Вилье, и начинается рассказ о блистательном
проекте: «извлечь пользу из обширных пространств ночного неба...»
Сатира Вилье не только стилистически компактна, но она и метко
ориентирована. Речь уже шла о конкретности и точности собственно поли-
тической сатиры Вилье в этом рассказе. Но должно сказать, что точность
эта не наносит ущерба широте и долговременности сатиры: «... в области
политики? В предвыборной кампании, например? Как легко теперь добить-
ся решающего перевеса, подавляющего большинства голосов! Как неверо-
ятно просто вести пропаганду, прежде столь разорительную!». После пред-
ложения спроецировать на созвездие Лиры портреты господ Б. и А., Вилье
продолжает: «Оба государственных мужа красовались бы на небосклоне
всю ночь накануне голосования, улыбающиеся, с легкой складкой озабо-
ченности на челе, но с уверенным, ясным взором... Они улыбались бы свет-
лому Будущему, проливали слезы о прошлых бедствиях... Любой избира-
тель мог бы сделать выбор, отдать себе отчет, заранее составить представ-
ление о своем депутате, а не покупать, как говорится, кота в мешке.
Осмелимся даже добавить, что без изобретения г-на Грава всеобщие выборы
не что иное, как смехотворный фарс».
Структура, выработанная Вилье в рассказе «Реклама не небесах», пов-
торяется в принципе довольно часто: «Машина славы», «Аппарат для хи-
мического анализа последнего вздоха», «Лечение по методу доктора Три-
стана», «Мрачный рассказ, а рассказчик еще мрачнее»; подобная структура
встречается и в рассказах третьей группы — «Две возможности» напри-
мер. Но такое «повторение» показывает каждый раз бесконечную изобре-
тательность Вилье, ресурсы его фантазии в области злого гротеска.
Притворное «утверждение» ценностей буржуазной жизни по-иному
выступает в таких рассказах, как «Девицы Бьенфилатр», «Виржини и
Поль», «Лучший в мире обед». Тон рассказа «Девицы Бьенфилатр» на-
столько серьезен, а героини столь несчастны, что, вероятно, могли найтись
читатели с достаточной степенью наивности, чтобы принять утверждения
автора всерьез и возмутиться его безнравственностью. Между тем в гротеск-
ной форме Вилье передает суть горькой правды жизни.
Труженицы Бьенфилатр с таким убеждением в своей нравственности
выполняли при почтенном столичном кафе свою «поденную работу ночью»,
пользовались такой нравственной поддержкой семьи и окружающих, что
когда одна из них, Олимпия, полюбила, т. е. полюбила бесплатно, это про-
извело потрясение. Негодовала и отчасти была скомпрометирована ее се-
стра, «бесчестие» повергло в горе всю семью. Сама героиня на смертном
одре «осознала» грех и покаялась в нем. Когда же умирающая смутно
разглядела в руках у своего милого несколько золотых, данных его роди-
телями на предстоящие экзамены,— «только тогда она ощутила благодат-
ную силу небесного милосердия!.. Свершилось чудо!., она поняла, что про-
щена и что грех ее искуплен... Уста ее полуоткрылись, и она испустила
последний вздох, нежный, как аромат лилии, прошептав слова надежды:
— Он пришел заплатить мне!»
«Пробивать» столь густо замешанную антибуржуазную сатиру было
Вилъе в перспективе XX века 1УУ
непросто даже в малозаметных журналах. До перепечатки 1876 г. этот
«жестокий рассказ» был еще более жестоким. Последними словами несчаст-
ной девицы было святотатственное восклицание: «Я искуплена!» («Je suis
rachetéel» — СВ, p. 45). Ни забитое создание, ни Вилье не кощунствовали.
Но Вилье безжалостно обнажил кощунство морали общества, формально
признававшего искупление грехов Христом, но уверенного в равнозначно-
сти положений «я оплачена» и «я искуплена», уверенного, будто высшая
санкция морали, будто высшее искупление это — деньги.
Тот же мир кошмара просвечивает и сквозь каждое слово влюбленных
подростков в рассказе-идиллии «Виржини и Поль». Может быть, лучше
было бы переводить его заглавие «Виргиния и Поль», потому что рассказ
пародирует известную русскому читателю с XVIII в. сентиментальную
идиллическую повесть Бернардена де Сен-Пьера «Поль и Виргиния»
(1787). У Вилье речь тоже идет о чистых радостях первой скромной любви,
о первом свидании пятнадцатилетних влюбленных в лунный апрельский
вечер. Вилье рисует вечерний пейзаж, хрупкую нежность девочки, делает
лирическое отступление о чистоте первой любви. И, однако, в разговоре
влюбленных все чаще и настойчивее повторяются слова «получить деньги»,
«накопить деньги», и даже эхо прощального поцелуя отдается замирающим
звуком—«Денег! Немножко деиег!» Эти подростки из состоятельных се-
мей уже настолько изуродованы, что и в час первого свидания их мысли
прикованы к проектам разных выгодных сделок и комбинаций. Вилье за-
остряет идею рассказа гротескным приемом, частично утрачиваемым в пе-
реводе с французского, в котором деньги обозначаются словом «серебро»
(«аржан»; ср. в старославянском: «сребролюбие»): для этих Поля и Вир-
гинии соловьиная песнь прекрасна, так как она льется серебром, и луна
хороша своим серебристым сиянием.
Здесь уместно еще раз напомнить, что именно в безжалостном изобра-
жении социально обусловленной нравственной деградации современного
общества была заложена для Вилье идея «Жестоких рассказов» и что как
раз «Виржини и Поль», «Девицы Бьенфилатр» и «Лучший в мире обед»
были первыми напечатаны под этим общим заглавием.
Разные формы жестокости персонажей таких страшных рассказов, как
«Нетерпение толпы», «Посетитель финальных торжеств», «Тонкость
чувств», а из более поздних— «Королева Изабо», конкретизируют вопло-
щение той слепой черствости и жадности, которая показана «на корню»
в простых душах девиц Бьенфилатр, их родителей, подростков Поля и Вир-
жини.
Конечно, между несчастными девицами Бьенфилатр и зловещим героем
рассказа «Посетитель финальных торжеств»—большая дистанция. Но дис-
танция есть и в их возможностях и общественном положении. Герой рас-
сказа, окруженный мрачной тайной «сотрапезник смерти», оказывается
маниакально жестоким немецким бароном, путешествующим из страны
в страну для того, чтобы присутствовать при казнях, а если представится
возможность,— самому устраивать мучительные убийства и принимать
в них участие.
200 П. И. Балашов
На удивленный вопрос одной из дам, при которых излагалась история
палача, «раскатывающего в экипаже стоимостью в тридцать тысяч фран-
ков»,— почему этот маниакальный злодей до сих пор на свободе, рассказ-
чик отвечает: «Я ведь уже сказал вам, не правда ли, что наш барон архи-
миллионер... И потому — с вашего разрешения — именно он указывает,
кого надо держать взаперти».
Со злым сарказмом в рассказе поясняется, что для барона фон Г *** и
ему подобных широко раскрыты границы Французской республики — хотя
бы во имя бессмертных принципов 89 года.
Психологически напряженные, «страшные», рассказы в своей луч-
шей части включают социальный мотив и осуждают как жестокость бур-
жуазии, так и жестокость феодального государства и церкви.
В рассказе Вилье «Королева Изабо» действие происходит в начале
XV в., во времена Столетней войны. Сюжет рассказа составляет месть рас-
пущенной и ревнивой королевы Франции Изабеллы Баварской своему лю-
бовнику де Моллю. Изабо подстраивает поджог в городе с тем, чтобы об-
винить любовника, который не сможет объявить на суде, что во время
пожара находился в объятиях королевы. Она заранее упивается местью,
рассказывая в постели де Моллю, как бы шутя, об ожидающих его пытках
и колесовании. Вилье, однако, оттеняет в этом «жестоком рассказе» пре-
ступное распутство двора и его измену национальным интересам в момент,
когда само существование Франции было поставлено под угрозу. Знаме-
нательно, что в рассказе есть и положительный персонаж, отдающий жизнь
ради спасения жертвы, и то, что Вилье сопроводил рассказ особым «при-
мечанием», в котором настаивает на негативном пересмотре исторической
характеристики королевы и связывает ее перерождение с влиянием «раз-
нузданных нравов двора».
Тема жестокости, взятая в копкретном социальном преломлении, чаще
выступает в произведениях Вилье, созданных и изданных в 80-е годы.
В рассказе «Пытка надеждой» (сб. «Новые жестокие рассказы», 1886) дана
убийственная картина извращенной жестокости инквизиторов, причем
Вилье выводит в палаческой роли историческое лицо — «святого» Педро
Арбуэса, арагонского инквизитора, в конце концов убитого в Сарагоссе
в 1485 г. в отместку за его жестокость и канонизированного католической
церковью.
Накануне сожжения узника, выдержавшего пытки в течение целого
года, инквизиторы во что бы то ни стало, из «принципиальных соображе-
ний», желают сломить его дух. Арбуэс подвергает узника пытке надеждой:
несчастному создают иллюзию, будто он, по недосмотру тюремщиков, мо-
жет вырваться на свободу, но в последний момент хватают его: «Он был
в руках у самого великого инквизитора, преподобного дона Педро Арбуэса
д'Эспилы, глядевшего на него глазами полными слез, с видом доброго пас-
тыря, обретшего свою заблудшую овечку!— «Что же вы, мой мальчик!
Быть может, накануне спасения... и вы хотели уйти от нас!»». В Арбуэсе
тотчас узнается один из возможных исторических прототипов обобщенного
сбраза палача и лицемера в сутане — архидиакона из драмы «Аксель».
Вилъе в перспективе XX века 201
«Страшные» рассказы часто бывают у Вилье антиклерикальными. Свое-
го рода памфлетом против католической церкви буржуазной эпохи являет-
ся ^рассказ «Час господень» (сборник «Высокая страсть», 1886), будто
демонстративно посвященный автором Льву XIII, папе с 1878 по 1903 г.,
мастеру по соглашениям с великими державами и по приспособлению церк-
ви к буржуазному мировоззрению. В рассказе речь идет как раз о «сотруд-
ничестве» государства с церковью. Санкционированные государством бес-
человечные опыты с целью выяснить, сохраняет ли отрубленная голова
чувствительность, используются церковью, дабы понудить казненного по-
дать знак о покаянии. Вилье рисует весь ужас такого замысла новой циви-
лизации, оставившей позади палаческие измышления инквизиторов
прошлого.
Крушение основ католицизма, обуржуазиванпе церкви дают Вилье ма-
териал и для мрачного фарса. Таков рассказ «Ставка» («Новые жестокие
рассказы»). Неизвестно, какими путями добывает деньги аббат Тюссер.
Но этот человек, в котором католическая дисциплинированность сочетается
с глухим кипением страстей, проводит ночи за игрой в салоне дамы небез-
укоризненного поведения. Проиграв крупную сумму, аббат ставит на кар-
ту церковную тайну. Он проигрывает — и раскрывает ее: «Чистилища не
существует!» С одинаковой силой Вилье изображает и крушение католи-
цизма, устои которого проигрываются в карты, п жалкое легкомыслие
светских щеголей, до которых только смутно доходит значение такого от-
кровения.
Среди «страшных» «Жестоких рассказов» достоин особого внимания
рассказ «Нетерпение толпы», казавшийся придирчивому Флоберу сравни-
мым с лучшими главами его романа «Саламбо» (СВ, р. 171). Сюжет произ-
ведения Вилье целиком заложен в нескольких строках VII книги «Истории»
Геродота, где рассказано о позоре и гонении, которым подвергся в родной
Спарте Аристодем — вестник героического подвига трехсот лакедемонян
под Фермопилами. Вилье дает объяснение и новую жизнь событию. Пафос
тона, усиливаемый посвящением Виктору Гюго и торжественным эпигра-
фом из Симонида: «Путник, пойди возвести нашим гражданам в Лакеде-
моне, //Что, их заветы блюдя, здесь мы костьми полегли»,— сочетается
с гневной настойчивостью в показе бессмысленности осуждения раненого
героя и трагизма его гибели. Откуда такой пыл? С каким событием могли
ассоциироваться у Вилье осуждение и отчуждение соотечественниками
провозвестника обновления Эллады после греко-персидских войн? С каким,
если не с расправой над современными провозвестниками обновления —
коммунарами и певцами Коммуны. В соотношении кошмара и героики
рассказ построен так же, как приводившееся выше прорицание Рембо Па-
рижу дней поражения Коммуны:
Ты покрылся паршою, цветут гнойники,
Ты — отхожее место позора земного.
Слушай! Я прорицаю, воздев кулаки:
В нимбе пуль ты воскреснешь когда-нибудь снова!
202 H. И Балашов
Пусть читатель сам вдумается в заключительные строки рассказа.
Не заключена ли в его горечи горечь писателя, который вынужден в проти-
воположность Симониду писать нечто вроде эпитафии героям непризнан-
ным — всем тем, кто пал, кто сослан, да и самому себе, и подобным себе
изгнанникам на собственной родине? Н'е допущенный в город, подвергну-
тый поруганию, погиб смертельно раненный посланец победы: «так умер,
покрытый вместо пурпура собственной кровью, благородный герой из от-
ряда Трехсот; он был смертельно ранен, и именно потому его послали из
Фермопил возвестить о победоносной битве и, бросив в горный ручей тес-
нины его меч и щит (чтобы они не попали в руки врагов.— Н. £.), велели
ему спешить в Спарту из последних сил ради спасения Республики; — так
принял смерть посланец Леонида, оскорбленный и поруганный теми, ради
кого он погиб».
Пафос и горечь есть в другом, более позднем, впервые напечатанном
в декабре 1880 г., рассказе «Vox populi» («Глас народа»), в котором Ком-
муна названа прямо. Это, может быть, один из самых горьких рассказов
Вилье.
Писателю не под силу было логически разобраться в общественной
обстановке во Франции начала 80-х годов. С одной стороны, несмотря на
муки непризнания, унизительной нищеты, просто голода, бывший славный
публицист Коммуны имел основания радоваться явным успехам демокра-
тических сил, и мы видели, каким озорным сарказмом загорелись строки
в относящейся к этому времени редакции рассказа «Реклама на небесах».
Но, с другой стороны, либерализация III Республики означала и упрочение
того уклада, который победил в 1871 г., упрочение завуалированной неспра-
ведливости. И волны горечи, отчаяния временами захлестывали Вилье.
В ходе одного из таких мрачных раздумий, когда поражение Коммуны и
стабилизация III Республики казались Вилье результатом политического
безразличия народа, и был создан рассказ «Vox populi». Здесь писатель
сосредоточен на реальной, но лишь на одной стороне исторических уроков.
Марксисты тоже отдавали себе отчет в том, что Парижская Коммуна не
была поддержана большинством народа, констатировали это со всей реши-
тельностью, но, разумеется, анализировали иначе, чем мог это сделать
Вилье, и делали из этого другие — диалектические и боевые — выводы.
В статье «Памяти Коммуны» В. И. Ленин пишет о том, что «... покинутая
вчерашними союзниками и никем не поддержанная, Коммуна неизбежно
должна была потерпеть поражение» 32. Ленин констатирует, что буржуаз-
ной коалиции «удалось восстановить темных крестьян и мелкую провин-
циальную буржуазию против парижского пролетариата...» 33. Ленин пишет
и о борьбе на стороне врагов Коммуны части трудящихся, в том числе про-
летариев: «Что часть эксплуатируемых из наименее развитых средне-
крестьянских, ремесленных и т. п. масс идет и способна идти за эксплуата-
торами, это показывали до сих пор все революции, Коммуна в том числе
32 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 219.
33 Там же.
Вилъе в перспективе XX века 203
(ибо среди версальских войск, о чем «забыл» ученейший Каутский, были
и пролетарии)»34. В работе «Государство и революция» В. И. Ленин напом-
нил, «что за несколько месяцев до Коммуны, осенью 1870 года, Маркс
предостерегал парижских рабочих, доказывая, что попытка свергнуть пра-
вительство была бы глупостью отчаяния» 35.
Но, продолжая свою мысль, Ленин переносит центр тяжести на то, что,
когда восстание стало фактом, Маркс не только восторгался героизмом
коммунаров. «В массовом революционном движении, хотя оно и не достиг-
ло цели, он видел громадной важности исторический опыт, известный шаг
вперед всемирной пролетарской революции, практический шаг, более важ-
ный, чем сотни программ и рассуждений» 36.
Пафос Вилье не сразу выявляется в рассказе «Vox populi». Наоборот,
основной ход рассказа ни в какой мере не отражает положительного урока,
который марксистская теория сумела извлечь из опыта Коммуны, и вопло-
щает лишь горькую рефлексию по поводу причин поражения. Вилье пред-
ставляется, будто любому режиму легко увлечь часть народа, будто во
время военного парада 1868 г. парижская толпа так же приветствовала
императора Наполеона III, как осенью 1870 г.— Республику, весной
1871 г.— Коммуну, и почти так же, как, хотя испуганно и уныло, будет
вынуждена два месяца спустя приветствовать криками — «Да здравствует
маршал!»— парад версальских войск во главе с Мак-Магоном. В соответ-
ствии с мрачным духом рассказа Вилье берет такой отрезок цикла полити-
ческих смен, который восстановил и оставил у власти буржуазный строй.
В этом контексте скорбная мольба символического героя рассказа — старого
нищего: «Сжальтесь над несчастным слепцом...»— кажется в своей неиз-
менности полнее выражающей «глас народа», чем крики непостоянной
толпы...
И все же в этом горьком рассказе не все так просто, как может пока-
заться с первого взгляда. Ирония Вилье касается не только непостоянства
толпы, его ирония не щадит и символического нищего, слепого свидетеля
истины. Ведь по рассказу он не вещий пророк, а нищий, угнетенный и за-
висимый. Его слепота и униженная мольоа официально санкционированы:
«Государство признало за ним право на слепоту» («l'État lui avait reconnu
le droit d'être aveugle»). Таким образом, слепой не выведен Вилье за пре-
делы гротескного карнавального крута буржуазной государственности; это
не пушкинский Николка, твердо стоявший на том, что «нельзя молиться
за царя Ирода».
Мольба слепого, как противоположность торжественным песнопениям
«Тебе, бога, хвалим!», адресуемым очередному правителю, находится, гак
сказать, в «правильном» противостоянии хвале политическим мертвецам—
Наполеону III, генералу Трошю, маршалу Мак-Магону.
Но характер противостояния, конечно, нарушается, когда речь заходит
о кликах — «Да здравствует Коммуна!» Здесь для участника восстания,
34 Там же, т. 37, стр. 263.
35 Там же, т. 33, стр. 36.
36 Там же.
204 H. И. Балашов
пусть и погрузившегося в рефлексию, не было места развитию иронии, по-
этому эпизод с парадом Коммуны — самый краткий из четырех.
В рассказе имеются существенные нюансы в том, как характеризуется
время, минувшее после каждого парада. Двенадцать лет после парада
II империи в 1868 г. «мы вытерпели» 37 (Voici douze ans de subis...»); десять
лет после парада Республики осенью 1870 г. «пролетело» («Voici dix ans d'
envolés...»); девять же лет со времени парада Коммуны, когда солнце уже
застилал дым осады и близкого поражения,— «выдержали» («Voici neuf
ans de supportes depuis ce soleil trouble»).
Мы «выдержали» это — главная мажорная нота в рассказе. Сквозь го-
речь притчи пробивается ощущение сдвига истории: «выдержали», а к
тому же и вырвали у III Республики декрет от 11 июля 1880 г., объявляв-
ший амнистию коммунарам. В соответствии с упором на мы «выдержали»
Вилье с особо бичующим сарказмом воссоздал парад версальцев после
подавления Коммуны. Мак-Магон, тогда «генералиссимус регулярных
войск государства», «при последних отзвуках набата» «проводил смотр
своим двумстам тысячам винтовок, увы, еще дымившимся после прискоро-
ной гражданской войны, а устрашенный народ кричал, наблюдая, как вдали
пылают здания: Да здравствует маршал!»
Врагов Коммуны разит здесь каждое слово: и изображение дымящегося
после расстрелов Кровавой недели оружия; и растерянности народа, кото-
рый устрашен и должен кричать «Да здравствует маршал!»; и особенно же
воплощение версальских солдат в мертвых и предназначенных для смерти
орудиях — в «винтовках». Конечно, в военном арго слово «винтовка», как
по-русски «штык», могло обозначать «пехотинца» в неэкспрессивной обы-
денной речи. Но Вилье употребляет словосочетание «Fusils, hélas! encore
fumants...» («винтовкам, увы, еще дымившимся»); это словосочетание де-
лает образ эквивалентным характеристике: Мак-Магон «проводил смотр
своим двумстам тысячам штыков, увы, еще окровавленным после прискорб-
ной гражданской войны...»
Таким образом, если ныне рассказ может казаться слишком горь-
ким потому, что в нем недостаточно выделено особое историческое место
Парижской Коммуны, то современникам могло казаться весьма смелым
как раз возвращение Коммуны в историю, будто навеки вычеркнутой от-
туда Тьером и Мак-Магоном. Могло казаться слишком смелым напомина-
ние о.тех днях, когда над Парижем неслись клики: «Vive la Commune!».
Не только «могли казаться», но и казались. В результате действия ка-
ких-то остающихся неизвестными сил в издании 1883 г. пришлось хотя бы
символически отступить и сделать менее контрастно сочувственной харак-
теристику Коммуны. В журнальных публикациях 1880 и 1881 гг. народ
не выкрпкивал, а кричал «Да здравствует Коммуна!», а к словам «глуше,
чем в прошлом году», не было прибавлено — «хотя и так же крикливо».
Чтобы представить себе, в каких условиях проходила правка, надо вспом-
нить, что «Жестокие рассказы» уже шесть лет отвергались издателями:
37 Курсив з цитатах наш,— Н. Б.
Вилъе в перспективе XX века 205
Кальманом Леви в 1877 г., Жоржем Шарпантье в 1880 г., Этзелем в 1881 г.
Когда же наконец они были буквально выморочены у умиравшего с голоду
Вилье тем же Кальманом Леви за безобразную цену в 300 франков (т. е.
сто рублей того времени!), осуществление издания до последнего момента
висело в воздухе...
Но Вилье все-таки боролся. Отступая па вершок, он продвигался на
версту. «Va oultre!» («Преступи за!») —таков был девиз Вилье де Лиль-
Аданов. Когда книга уже была в наборе, 3 декабря 1882 г. Вилье напеча-
тал одно из самых антибуржуазных произведений французской литерату-
ры конца века — рассказ «Разбойники». Пока осуществлялся набор, Вилье
де Лиль-Адан совершенствовал рассказ и сделал его в книжной публика-
ции еще более художественно цельным и социально острым.
Читатель оценит сам необыкновенную гротескную гиперболичность
рассказа, способствующую раскрытию остроты его социальных идей, в ча-
стности искусное изображение того, как легко добропорядочные буржуа
XIX в., когда «их ослепил инстпнкт, повелевавший охранять себя и свои
деньги», могут превратиться в готовые на массовые убийства орды взбе-
сившихся обывателей.
Для художественной направленности искусства Вилье к XX столетию
характерны тот выразительный лаконизм, с которым он «сжимает» в не-
сколько страниц путь буржуазии за целый век, смысловая и сатирическая
компактность рассказа, особенно его окончания — от сцены взаимного
смертоубийства озверевших собственников до мудрой заключительной сен-
тенции нищего бродяги: «Теперь они докажут, что это сделали мы...».
Это сатира на Тьера и версальцев, сначала спровоцировавших восста-
ние коммунаров, а затем кровавой мерой взыскавших с этих «разбойников»
за все беды гражданской войны.
П.-Ж. Кастекс и Ж. Боллери, склонные преуменьшать связь Вилье
с Коммуной, все же увидели за строками финала рассказа осуждение зве-
риного разгула версальцев, мстивших коммунарам, кроме прочего, также
за неудачный исход своей войны с пруссаками. В этом свете исследователи
по-иному оценили также контраст между словами Вилье о «прискорбной
гражданской войне» в «Vox populi» и ее клеветническим освещением
у большинства литераторов-современников, радовавшихся победе «поряд-
ка» (СВ, стр. 230-231).
Тут-то ученые-комментаторы наконец привели точные данные о факте,
вероятно, известном еще полсотни лет назад Эдуарду де Ружмону,— о до-
кументальном доказательстве службы Вилье де Лиль-Адана в Националь-
ной Гвардии Парижской Коммуны. Мимоходом, посреди книги, нонпа-
релью в примечапии 5 к стр. 230 комментария 1956 г. к «Жестоким рас-
сказам», как нечто не имеющее особого значения, П.-Ж. Кастексом и
Ж. Боллери приведено «неопровержимое», по их собственным словам, до-
казательство службы Вилье в кавалерии Коммуны: «un document officiel
qui appartient à la collection de M. Roland de Margerie. Il s'agit d'une note de
service que Villiers a signée en qualité de commendant du 147 bataillon de
chasseurs à cheval» («официальный документ, входящий в коллекцию
206 H. PL Балашов
г. Ролана де Маржери. Это — служебная бумага, которую Вилье подписал
в качестве командира 147 батальона конных стрелков») (СВ, р. 230, п. 5).
Рассмотрение «Жестоких рассказов» в диапазоне от «Рекламы на не-
бесах» до «Разбойников» дает ответ на вопрос о творчестве Вилье в пер-
спективе развития общедемократических направлений французской лите-
ратуры XX в. в тех пределах, в которых это входит в задачу послесловия
данной книги. Об оставшихся шести годах творческой деятельности Вилье
придется сказать короче. Успех книги и появившихся затем изданий так
и не вызволил Вилье из нищеты. Перенести последние тяжелые годы и
творить во что бы то ни стало писателю помогла преданная и заботливая
любовь вдовы парижского рабочего Мари-Элизабет Дантин. На смертном
одре Вилье обвенчался с нею. Сын писателя и простой работницы Виктор,
которому было около десяти лет, может быть, и не понимая этого, получил
на четыре дня графский титул, а после кончины отца и остальные звания.
Со смертью подростка через несколько лет прекратился древний род Вилье
де Лиль-Аданов.
В некотором роде парадоксом истории является то, что выход такой
книги, как «Жестокие рассказы», и книги такого автора, как нераскаянный
«красный ротмистр», открыл ему доступ к «солидным» издательствам и
журналам.
Вслед за «Жестокими рассказами» было напечатано подряд несколько
книг Вилье: в 1886 г. роман «Ева будущего», сборник рассказов «Высокая
страсть»; в 1887 г.— «Трибюла Бономе»; в 1888 г.— «Новые жестокие рас-
сказы» и другой сборник «Необычайные истории». Вилье торопился, будто
предчувствуя, что конец его близок.
Причины парадоксального предсмертного успеха Вилье отчасти связа-
ны с тем, что его книги, так же как произведения Верлена и Рембо, вос-
принимались в 80-е годы односторонне, сквозь призму разраставшегося
в атмосфере духовного кризиса и упадочнических настроений символист-
ского движения. Вилье тоже начали читать «по-декадентски». Например,
применительно к таким рассказам, как «Нетрудно ошибиться», в самом
деле ошибались и видели только страшное само по себе. Не хотели, а мо-
жет быть, и утратили способность видеть обличение в действительно
«страшпом», но сдержанном по сравнению с «романом ужасов» сопостав-
лении биржевиков, убивших свои души, с самоубийцами, убившими своп
тела; утратили способность видеть обличение в параллели между бирже-
вым кафе и моргом, столь похожими одно на другое, что герою кажется,
будто он дважды попадает в одно и то же место, а в струйках пива в кафе
ему мерещатся струйки воды, которыми тогда охлаждали трупы в морге.
В рассказе «Вера» видели лишь налет мистики, не замечая противоре-
чивости произведения, содержащего в себе и гимн земной, даже чувствен-
ной любви, любви, которая выдерживает в течение года страшное состяза-
ние со смертью в воображении мужа Веры. Воспринимали книгу прежде
всего в ключе немногочисленных самых ранних вещей, таких, как «Пред-
чувствие», «Провозвестник», заслонявших художественное обновление
сатиры Вилье в 70-е годы, его подлинное новаторство, повернутое к буду-
Вилъе в перспективе XX века 207
щему. Упрощали в соответствии с собственными кризисными, декадент-
скими настроениями саму идею «жестокости» рассказов и не хотели видеть,
что преемственные связи произведения уходят вглубь, к традиции Стенда-
ля и Бальзака. В духе увлечения субъективно-идеалистическими и мисти-
ческими течениями не воспринимали выделявшую Вилье ориентацию на
немецкую классическую философию. Между тем наиболее проницательные
из критиков, выступавших с реакционных позиций, резко дифференциро-
вали объективный идеализм и противостоявшие ему модные тогда упадоч-
ные философские течения. Барбе д'Оревилли видел в объективном идеализ-
ме чуть ли не замаскированный материализм Дидро38. Барбе у Гегеля
пугала «ложная и безумная концепция всесилия человека» 39. Как вообще
соглашались символисты 80-х годов примириться с удивительной тогда
ориентацией Вилье на Гегеля, если уже Барбе догадывался, что «истори-
ческий метод под предлогом объяснения мира может повести к перевороту
в мире»?40. Один из наиболее серьезных теоретиков символизма, Реми де
Гурмон, желая отстоять Вилье для символизма, нашел нужным в «Книге
масок» (1896) доказывать, будто тот в последние годы жизни шел от геге-
левской философии к фидеизму41.
Вся эта атмосфера и наступивший после тринадцати лет полного не-
признания успех в символистских кругах оказывали известное воздействие
на творчество Вилье, но, пожалуй, не большее, чем на поздние «Жестокие
рассказы». Уже говорилось, что их третья группа, относящаяся к началу
80-х годов, была отмечена усилением раздвоения, невольными уступками
тому, что тогда казалось «духом времени». Дальше этого по существу
Вилье не шел и в следующих книгах, а к середине десятилетия у него
вновь усиливается тенденция к острой критике буржуазного общества.
Какие-либо конкретные примеры приближения к вкусам 80-х годов не
так легко найти в произведениях Вилье. В первую очередь таким приме-
ром можно считать растянутый рассказ об индийской царице Акидессе-
риль, но здесь нужно быть осторожным в отношении хронологии, ибо своей
напыщенностью рассказ напоминает «Провозвестник», завершенный уже
в 1869 г. (В рекламном объявлении при сборнике «Необычные истории»
Вилье поставил «Акидессериль» в ряд ранних произведений.)
Другие уступки кризисным настроениям трудно поддаются научному
определению. Поиски произведений такого рода совпадают с выделением
рассказов относительно более слабых, в которых привычная для позднего
Вилье отработанность формы не находится в соответствии с малозначи-
тельностью содержания. Наиболее показательным примером может слу-
жить «Сильвабель» из «Новых жестоких рассказов». Это в некотором роде
история укрощения строптивой. Новобрачная — увлекающаяся охотой по-
мещичья дочь, с равнодушной иронией относящаяся к жениху и к браку
38 Jules Barbey d'Aurevilly. Les Oeuvres et les Hommes (XIXe siècle). Sér. I, vol. I.
Paris, 1912, p. 92—93.
39 Ibid., p. 94.
40 Ibid.
41 Remy de Gourmont. Le livre des masques. Paris, 1908, p. 92, 96.
208 H. И. Балашов
с ним. Жених, по совету своего родственника, методично демонстрирует
Сильвабели во время охоты в первый день свадьбы не свойственную ему
вспыльчивость и жестокость к животным, не зная, что она слыхала разго-
вор и осведомлена о замысле. Однако это спасает мужа в глазах Сильва-
бели, которая отнюдь не восхищается «мужественными» жестокостями
новоявленного Петруччо, но поражена твердостью, с которой он ради нее
осуществляет абсурдный и противный ему самому план.
Преобладающую роль, как и в первом сборнике «Жестоких рассказов»,
продолжают играть характерные для манеры Вилье жгуче сатирические
вещи — «Любовь к естественному», «Ставка» в «Новых жестоких расска-
зах»; «Новая профессия», «Агентство золотой подсвечник» в «Высокой
страсти»; «Героизм доктора Галлидонгилля», «Этна у себя дома», «Плагиа-
торы молний» в «Необычайных историях»: наконец — новые рассказы
о Трибюла Бономе.
Роман Вилье «Ева будущего», сатирический оттенок заголовка которо-
го точнее был бы передан словами «Будущая Ева», во многом также об-
ращен вперед и предваряет позднейшее развитие научно-фантастического
жанра, все более вовлекаемого в притчевое иносказательное решение боль-
ших нравственных и общественных проблем. Манера Вилье не выступает
здесь в столь выигрышной ситуации, как в рассказах. В «Еве будущего»
показана угроза все большей фальсификации человеческих ценностей
в современном Вилье обществе, гротескно воплощенная в замысле серий-
ного заводского производства искусственных «идеальных» людей (кн. V,
гл. VI42). Действие романа протекает как бы в трех планах. Первый план —
это типичная для Вилье едкая сатира. Объектом ее на этот раз стали поро-
ки американского общества, препятствующего свободной деятельности свое-
го крупнейшего ученого и изобретателя Эдисона. Мещанское бездушие и
эгоизм воплощены также в образе Алисии, возлюбленной мечтательного
лорда Эвальда. Красавица, внешностью подобная античной статуе Венеры
Победительницы, оказывается всего-навсего «буржуазной богиней»— «une
Déesse bourgeoise» (кн. I, гл.* XVI, p. 55). Алисия, которая, как с горечью
отмечается в романе, «была бы идеалом женщины для трех четвертей сов-
ременного человечества» (кн. I, гл. XVII, р. 70), приводит Эвальда в отчая-
ние своей убогой практичностью, пустотой, отсутствием всяких нравствен-
ных понятий и интеллектуальных интересов. Окончательно уничтожен был
Эвальд в момент, когда (в главе иронически озаглавленной «Конфронта-
ция») он, пытаясь возвысить душу Алисии, возит ее по красивейшим
странам Европы и приводит наконец к статуе Венеры Победительницы:
«Смотри-ка, это ж — я. Да — я, только у меня еще и руки есть, и вид по-
изысканнее...» (кн. I, гл. XVII, р. 73).
Второй план романа это — научная фантастика. Эвальд когда-то спас
Эдисона, который погибал в нищете, а теперь изобретатель берется создать
Эвальду искусственную женщину, внешне подобную Алисии, но без ее
душевной черствости. Идея искусственной женщины (пока не серийной
42 A, Villiers de VIsle-Adam. Eve future. Paris, 1902, p. 55.
Вилъе в перспективе XX века 209
«Евы будущего») — насмешка не над прогрессом науки, а над таким об-
ществом, многих людей которого может нравственно превзойти искусствен-
ный человек! Вилье заинтересовался Эдисоном (1847—1931) тогда, когда
значение этого типа ученого в подготовке техницизма будущего было мало
кому понятно. Знакомясь с изобретениями Эдисона, захваченный их масш-
табностью, Вилье оставляет привычные ему темы разоблачения шарлата-
нов — изобретателей всяких машин славы, реклам на небесах и т. п.
В своей фантастике писатель обгоняет мысль Эдисона, предвидя соедине-
ние звукозаписи с фотографированием движения, т. е. звуковое кино и
кинохронику, возможность создания самоуправляющихся автоматов и т. п.
Разрыв с тем, что тогда непосредственно интересовало Эдисона, был велик,
и ученый равнодушно отнесся к книге.
Третий план — выход самоуправляющегося автомата из-под контроля
изобретателя. Прекрасная Андреида, вызванная изобретателем из небытия,
делается чем-то большим, чем совершенный автомат. У нее развивается
не предусмотренный Эдисоном характер и склад мышления. «Возможно ли
это? — вслух подумал лорд Эвальд.— Нет, этого не может быть, но это есть,—
ответил электрик-исследователь» (кн. VI, гл. XII, р. 361). Эвальда одно
время возмущает, что он всерьез полюбил автомат. На это Андреида отве-
чает красноречивой защитой своего статуса идеального существа: «Пле-
ненный идеал устрашает тебя. Здравый смысл тебя вновь подчиняет себе;
раб своей породы, ты уступаешь ему и хочешь меня уничтожить... Если
ты усомнишься в моем существовании, я погибла... Ты должен сделать
выбор между мною и той старой действительностью, которая ежедневно
лжет тебе, обманывает тебя, приводит тебя в отчаяние, предает тебя»
(кн. VI, гл. X и VIII, р. 341, 336).
Для понимания техники создания легенды о Вилье любопытно, что эти
рассуждения, горестный вопль прекрасной Андреиды, автомата, превзо-
шедшего запрограммированные возможности, послужили Реми де Гурмо-
ну «главной опорой для тенденциозных общих выводов о философии Вилье.
Вынужденный констатировать признание Вилье де Лиль-Аданом сущест-
вования материи43, Реми де Гурмон именно на рассуждениях Андреиды
(причем в произвольной комбинации с черновиками романа) строит вы-
вод, будто Вилье изгонял реальное и открывал дорогу философскому иде-
альному в литературе 44.
Между тем Вилье, прибегая к приему, по-видимому, заимствованному
из развязки «Неведомого шедевра» Бальзака, показал, что мечты Андреи-
ды и сама Андреида фатально должны были погибнуть в столкновении
с действительностью. В заключительной главе, так и названной «Фатум»,
рассказывается, как искусственная женщина погибла при кораблекруше-
нии, унеся с собой загадку своего, не зависимого от Эдисона и Эвальда,
существования и своих идей.
43 Remy de Gourmont. Le livre des masques, p. 95.
44 Ibid, p. 91, 93—94.
8 О. Вилье. «Жестокие рассказы»
210 H. И. Балашов
В книге «Трибюла Бономе» Вилье перепечатал самое сатирическое из
своих произведений — повесть «Клер Ленуар» в обрамлении нескольких
новых рассказов. Гнусный Бономе бесовски многолик, и автор не стремит-
ся, чтобы герой новых рассказов был точно тем же Бономе, что и в 60-е
годы. Но едва читатель принимает эту посылку,— новые рассказы о Бономе
предстают как произведения бьющей наповал экспрессивности, продолжаю-
щие ту основную линию творчества Вилье, которая ведет к литературе
XX в. Краткий сатирический рассказ, датируемый 1887 г.,— «Тезисы д-ра
Трибюла Бономе по утилизации землетрясений» — посвящен вопросу об
отношении господствующего класса к деятелям искусства. «Конечно,— при-
знается Бономе,— мы награждаем их орденами, покрываем золотом, насы-
щаем выражением восхищения и пылкой симпатии; но в душе мы ясно
отдаем себе отчет в том, что презираем и ненавидим их, как грязь, пристав-
шую нам к обуви. Когда бы не тот дух терпимости, который является
принципом нашего существа и нашей эпохи, мы уже давненько извели бы
их под палками» 45. И вот д-р Бономе предложил для «социальной чистки»,
для истребления деятелей культуры рационально использовать землетря-
сения. Художники и поэты, имеющие наглость сомневаться в совершенст-
ве существующего строя, будут «со всей той ласковостью, заманчивой и
сладкой, в которой мы, слава богу, настоящие мастера», приглашены в по-
строенные в местах, подверженных землетрясениям, дворцы с садами,
располагающими к мечте видами закатов, завлекательными девицами,
звездами, миртами,—но «под гранитной крышей!» «Таким образом,—
пишет Бономе,—землетрясения, эти периодические вторжения абсурд-
ного... будут использованы и рационализированы». «Similia similibus!»
(«Подобное лечить подобным!») — восклицает торжествующий ученый муж.
Сатира поздних рассказов о Бономе усилена умелым применением пер-
вого лица множественного числа. Бономе говорит как бы от имени своего
класса: «...Если б удалось выменять шесть тысяч почтенных особ, задав-
ленных во время последней катастрофы, на шесть тысяч бумажных пач-
кунов,—кто из НАС заколебался б,—пусть на одно, мгновенье?».
Рассказ «Убийца лебедей» — один из шедевров позднего Вилье. С не-
навистью, густой и сожигающей, как расплавленный металл, писатель
отдает на суд общественности символический образ Бономе в новом качест-
ве покровителя искусств: «меценат своей эпохи» систематически и нето-
ропливо «à la bourgeoise» («по-буржуазному»46) убивает художников и
наслаждается их предсмертными муками. Каждый поворот мысли в этом
внешне бесстрастном, наподобие произведений Флобера, но по-иному, по-
новому компактном, рассказе рассчитан на то, чтобы до конца заклеймить
торжествующее мещанство.
«Эстетически выросший» Бономе покровительствует искусству, но лю-
бит наслаждаться им с комфортом: подкрадываясь ночью к стае лебедей,
45 A. Villiers de VIsle-Adam. Oeuvres complètes, vol. III. Paris, 1922, p. 29. Далее цит.
стр. 30—31. Прописные буквы Вилье де Ли ль-Адана.
46 Ibid., p. 20—21. Далее цит. стр. 19—21.
Вилъе в перспективе XX века 211
он надевает безопасный, непромокаемый костюм. Приближение Бономе вы-
зывает у дремлющих на озере птиц «неясное сознание нависшей смертель-
ной опасности». Приговаривая, что «сладко поощрять художников», Бо-
номе смакует мучения, доставляемые обреченным птицам одним только
его приближением. На рассвете Бономе совершает нападение. Вооружен-
ный, несмотря на показную любовь к новому, средневековыми железными
перчатками, он прокалывает и ломает шеи нескольким птицам-поэтам.
Вилье не упускает никакого случая заклеймить гнусность и возведен-
ный в принцип вандализм Бономе в его конкретной реальной характери-
стике. Железные перчатки символизируют выступление буржуа в качестве
правопреемника феодализма. Внимание Бономе к «чистой форме» — новое,
декадентское эстетство мещанина. Мало того, что Бономе, чтобы натешить-
ся предсмертной песней, убивает певцов. Этот «солидный знаток» не удо-
стаивает вниманием чувства, трагическое содержание песни, но «оцени-
вает только одно —тембр». Рассказ заканчивается картиной мерзкого
триумфа убийцы. Не смущаемый моральными соображениями, рас-
тягивается он на траве и в «сладострастном оцепенении» медленно, «à la
bourgeoise» «пережевывает утонченные впечатления вплоть до восхода
солнца».
Непосредственная политическая характеристика Бономе и его круга
дана Вилье в третьем, столь же стилистически завершенном рассказе —
«Банкет эвентуалистов». Бономе в зените славы. Он уверен, что открыл
наконец надежное средство окончательного предотвращения революции.
По его научно обоснованному предложению правительством Франции уже
приняты меры. Секрет Бономе прост — питейные заведения будут откры-
ты до двух часов ночи. Систематическое спаивание быстро возымеет дей-
ствие, и энергия недовольных пойдет на убыль. Неистощимый в сарказме
Вилье приписывает Бономе претензию сломить революционное движение
также и в России, действительно волновавшее тогда французскую буржуа-
зию. «Если бы подобный указ («l'ukaze»),— самоуверенно разглагольству-
ет Бономе,— был бы издан в Санкт-Петербурге, то я склонен думать, что
и Нигилизм не смог бы устоять больше полугода. Можно лишь удивляться,
как мысль о таком отвлекающем средстве, столь простая и практичная, до
сих пор ускользала от прозорливости, впрочем баснословной, московитско-
го кабинета министров» (р. 40).
Всю эту чушь Бономе городит, председательствуя на отнюдь не без-
обидном мероприятии. «Эвеытуалисты» означает — приспосабливающиеся
к моменту, оппортунисты. Банкет их — собрание крупных буржуа. Бономе
поднимает бокал за правительство III Республики, которое заслужило эту
честь, ибо «ограждает безопасность нашего безделия» от всех неумерен-
ных требований того самого Пролетариата, над бедами которого мы можем,
увы, лишь стенать» («...de toutes exagérées revendications... de ce même
Prolétariat sur les plaies duquel nous ne pouvons, hélas! que gémir») (p. 41).,
В рассказе дана ясная расстановка классовых сил: Боиоме показан
в качестве представителя буржуазии непосредственно в борьбе с проле-
тариатом! «Красный ротмистр» будто обновился. Как во времена Коммуны,
8*
212 П. И. Балашов
Вилье, едва во Франции оправилось рабочее движение, снова заговорил
о революционном будущем. В «Банкете эвентуалистов» и в рассказе «Этна
у себя дома» (1886, «Необычайные истории»), где Вилье высмеял страх
перед анархистами, писатель пугает постаревших версальцев, пугает
буржуазию перспективой новых революционных потрясений. На бан-
кете среди «любезных споров, которыми люди со вкусом умеют стимули-
ровать свое просвещенное пищеварение», внезапно возникла паника. За-
говорили о возмущении народа, поползли слухи о подготовке взрыва пар-
ламента, префектуры. Перепуганным буржуа ничто больше не казалось
надежным: «...к концу месяца, быть может, новое восстание и, по-своему,
еще более грозное, чем в 1871 году,— так как неприятель больше не дер-
жит столицу в кольце,— могло бы...» 47.
Кто же здесь перед читателем? Символист 80-х годов, подверженный
упадочным настроениям и пролагающий путь к декадансу конца века?
А не прогрессивный ли писатель, объединивший в этих двух строках
антибуржуазность, патриотизм, верность самой революционной традиции
Франции XIX в.— традиции Парижской Коммуны,— с готовностью начи-
нать все сызнова? — «...быть может, новое восстание... еще более грозное,
чем в 1871 году...» Теперь читатель оценит свидетельство В.-Э. Мишле
1913 г., приведенное в начале статьи: «После амнистии Вилье вновь ка-
зался национальным гвардейцем, готовым начать битву сызнова, как тогда,
когда он с Верленом приветствовал первые усилия Коммуны...»
Можно ли было яснее выразить подобавшее Вилье, именно как
публицисту Коммуны, негодование национальным предательством
господствующих классов, готовых при серьезной угрозе своему благо-
получию бросить Францию под копыта коня нового Бисмарка, можно ли
было яснее осудить их готовность повторить измену 1870—1871 гг,
и отдать родину на произвол иностранной оккупации? Можно ли было
яснее прозреть в 1887 г. то, что стало тягостной былью 1938—1940 гг.?
* * *
Когда печаталась книга о Трибюла Бономе, автора уже подстерегала
смертельная болезнь — завершение почти двадцати лет нищеты и голода.
Жизнь писателя, общественная обстановка в III Республике, разрастание
кризисных явлений во французской литературе 80-х годов — все это внесло
много горечи в произведения Вилье де Лиль-Адана. Но, как показывает
сарказм и ноты торжествующего смеха в последних рассказах о Бономе,
Вилье не был ни сломлен, ни отторгнут от импульса, полученного в дни
Коммуны. А это объясняет, почему творчество Вилье, по большому счету,
оказалось обращенным вперед, к общедемократическим направлениям
французской литературы XX столетия.
47 A. Villiers de VIsle-Adam. Oeuvres complètes, vol. III, p. 36, 37.
ПРИМЕЧАНИЯ
ОБОСНОВАНИЕ ТЕКСТА
«Жестокие рассказы» печатаются по единственному прижизненному изданию
(Paris, Galmann-Lévy [1883] при учете критического издания (Villiers de Г Isle-Adam.
Contes cruels... par P.-G. Castex et Joseph Bollery. Paris, Corti, 1956, vol. I—II). с внесе-
нием нумерации и указания на даты и последовательность первых публикаций рас-
сказов.
Имея в виду соблюсти и ясно представить читателю внутреннее единство такого
непростого для совремевного восприятия памятника, как «Жестокие рассказы», со-
ставители решились во имя целостности внутренней формы книги на максимальный
допустимый текстологический эксперимент. В издании снят весь небольшой, отно-
сящийся к 60-м годам, слой книги — четыре резко контрастирующих с основным кор-
пусом ранних рассказа. Чтобы читатель мог сам судить о резкости контраста между
ранними вещами и основным корпусом «Жестоких рассказов» и об оправданности
предпринятого текстологического эксперимента, в примечаниях на соответствующем
листе дан самый ранний, стихотворный, рассказ книги «Сказка любви». Кроме того
хронологически-композиционные проблемы «Жестоких рассказов» подробно изложе-
ны в статье. В примечаниях освещаются также основные моменты истории текста
рассказов и даны некоторые образцы авторских вариантов.
В дополнениях к «Жестоким рассказам» приложены важнейшие произведения
Вилье, относящиеся к началу 1870-х годов — к эпохе создания книги. Это — очерки,
напечатанные Вилье де Лиль-Аданом в прессе Парижской Коммуны в последние
трагические недели ее существования (см. статью), а также первая часть драмати-
ческой тетралогии «Аксель» в неопубликованном переводе Максимилиана Волошина
(см. статью и примечания к «Акселю»). Эта публикация перевода была осуществле-
на с согласия вдовы поэта М. С. Волошиной и при содействии литературоведа
В. П. Купченко, долго изучавшего архив Дома поэта в Коктебеле (Планерском).
Публикация не является научной. Она сделана с машинописной копии, а не с ав-
тографа М. А. Волошина.
Все переводы рассказов в настоящей книге либо выполнены для нее, либо
взяты из разных советских изданий, где были помещены отдельные рассказы Вилье.
В 1966 г. издательством «Прогресс» была напечатана на французском языке кни-
га: Вилье де Лиль-Адан. «Жестокие рассказы и другие истории», куда вошло шесть
вещей из означенного сборника, четырнадцать — из последующих книг Вилье и вто-
рой очерк о Коммуне.
У нас в стране вышло несколько статей о Вилье — в том числе предисловие
В. Я. Брюсова к изданию «Жестоких рассказов» в переводе Б. Рунд (СПб., 1908; Мм
1909.—Рец. А. И. Куприна: «Современный мир», 1908, № 7), статья М. А. Волошина
в его книге «Лики творчества» (СПб., 1914), статья А. Я. Шабада в «Литературной
энциклопедии», т. II (М., 1929), глава Н. И. Балашова в кн. «История французской
литературы», т. Ill (M., Изд-во АН СССР, 1959), статья О. И. Ильинской в «Краткой
литературной энциклопедии», т. I (М., 1962) и статья Н. Я. Рыковой в упомянутом
выше издании (М., 1966).
Составители настоящей книги считают своим долгом указать, что замысел из-
дания «Жестоких рассказов» в серии «Литературные памятники» с целью раскрытия
214 Примечания
подлинного облика антибуржуазной сатиры Вилье де Лиль-Адана и выявления его
роли во французской литературе общедемократического направления принадлежал
видному советскому литературоведу старшего поколения академику Александру
Ивановичу Белецкому (1884—1961).
ЖЕСТОКИЕ РАССКАЗЫ
I. Девицы Бьенфилатр
Рассказ впервые напечатан в «Ла Смэн паризьенн» 26 марта 1874 г. и до публи-
кации в книге печатался еще три раза: в 1875, 1876 и 1880 гг.
Рассказ не случайно поставлен первым. Сохранилась рукопись под заглавием,
четко поясняющим замысел и внутреннюю направленность рассказа и всей книги:
«Парижская хроника. Рассказы, писанные раскаленным железом. I. Невинная» (СВ,
стр. 41). Иными словами, «Жестокие рассказы» это — рассказы, которые не сами
по себе «жестоки», но клеймят раскаленным железом жестокость современного Вилье
общества и поэтому являются огненной, испепеляющей критикой тогдашней Франции.
Та же идея упорно прочерчивалась в первоначальном зачине рассказа, в крат-
ких фразах, замененных нынешним большим первым абзацем (до слов: «Несколько
лет тому назад...»). Давящая холодная порочность буржуазного века мрачно проти-
востояла в рукописи относительно легкомысленной порочности «севильского озорни-
ка». Мысль о том, что каменный командор в некотором роде хуже дон Жуана, встре-
чалась и у Моцарта, и у Пушкина, позже и у Леси Украинки. По Вилье же совре-
менность хуже объединенных пороков распутного соблазнителя и каменного деспота:
«Каменная статуя командора может яеиться вновь и протянуть нам руку.
Мы возьмем ее, и, быть может, на этот раз холод придется испытать ему —
командору» (ср. начало рассказа X).
Прямым развитием мыслей рукописной редакции стало общее заглавие «Жесто-
кие рассказы», которые поэт впервые отнес именно к первой публикации «Девиц
Бьенфилатр» (вместе с рассказом «Виржинк и Поль»).
Сохранились документы Вилье, очевидно, генетически связанные с речами, под-
готовленными Флобером и Бодлером в защиту «Госпожи Бовари» и «Цветов Зла»
во время скандальных процессов, учиненных в конце 1850-х годов правящими кру-
гами II империи против реалистических тенденций в литературе. Вилье де Лиль-
Адану импонировала преемственность, связывавшая его с Флобером и Бодлером, и
он настаивал на правдивости и высокой нравственности своей злободневной и разя^
щей сатиры. В журнальной публикации в «Ла Ви попюлэр» («Народная жизнь»)
26 сентября 1880 г. при рассказе была помещена злая карикатура, высмеивающая
«респектабельность» проституции в парижском обществе, сопровождавшаяся особым
примечанием к рассказу: «Вот, несомненно, одна из самых чудовищных, по видимо-
сти во всяком случае, страниц литературы нашего века. Речь не о непозволительной
свободе выражений — в этом рассказе, напротив, соблюдена самая строгая мера.
Но безжалостная жестокость сюжета, беспощадная холодность иронии, иной раз почти
неприметной,— все это кружит голову и бросает вас в дрожь...». В примечании ста-
вится вопрос, зачем, собственно, пишутся такие суровые вещи, и дается ответ на
пего: «...быть может, из них будут извлечены непримиримое презренье к моральной ис-
порченности и некий страшный нравственный урок» (СВ, стр. 43).
Выше в статье разъяснялось значение вариантов финала рассказа.
Посвящение сдержанному поэту-парнасцу Теодору де Банвилю (1822—1891), по-
борнику «чистой поэзии», и саркастическое отнесение предсмертного возгласа Гете
к кромешной тьме буржуазной повседневности, освещаемой только блеском золота,
призваны раскрыть кредо Вилье о нерасторжимости искусства и жизни.
1 Паскаль, Блэз (1623—1664) — французский математик, философ и писатель.
2 Мессенцы — обитатели одной из областей Древней Греции, соседи и враги спар-
танцев.
Жестокие рассказы 215
3 Томагавк — боевой топор североамериканских индейцев. Здесь отнесение томагавка
к миру античности — насмешка над безграмотной эклектикой бульварной лите-
ратуры.
4 ...пережитые нами смутные дни — франко-прусская война 1870—1871 гг. и собы-
тия, связанные с Парижской Коммуной и ее поражением.
5 Пандемониум (миф.) — царство сатаны, место, где сосредоточены все пороки. Здесь
это упоминание передразнивает страх буржуа перед парижской богемой (см. ниже
в тексте о «горсточке жандармов»).
6 Гис, Константен (1805—1892) — французский художник, известен изображающими
бытовые сцены рисункамР1, часто близкими к карикатуре на буржуазные нравы.
Прославлен Бодлером в статье «Поэт современной жизни» (1863).
7 Веспетро — водка, настоенная на анисе, кориандре, дягиле и укропе.
8 Мазагран — холодный кофей, подаваемый в большом бокале.
9 «Бог благословляет наши старания».— Этот и другие выпады против ханжеского
характера буржуазного аморализма, даже взятого в его самом скромном выраже-
нии, у жалких Бьенфилатров, типичен для реалистических тенденций второй по-
ловины XIX в., и ему можно искать аналогии у широкого круга писателей — ет
Флобера до Салтыкова-Щедрина.
10 Монтион (1733—1820) — барон, французский филантроп, учредил премии за ли-
тературные произведенпя п за заслуги в области нравственности, нередко был
предметом насмешек радикально настроенных писателей.
11 Иов (библ.) — смиренный человек, безропотно перенесший все ужасные страда-
ния, которыми испытывал его бог.
12 ...спартанец, которому лисенок раздирал грудь... — Имеется в виду рассказ Плу-
тарха о мальчике, который украл лисенка и прятал добычу за пазухой; лисенок
стал грызть его грудь, но он стерпел боль, чтобы не выдать себя (Плутарх. Рас-
сказ о Ликурге, VIII).
13 Маллония — молодая римлянка, которую император Тиберий (42 до н. э. — 37 н. п.)
не только обесчестил, но и оклеветал перед судом, после чего она заколола себя
кинжалом (см. Светоний. Жизнь двенадцати цезарей, гл. «Тиберий», § 45).
II. Вера
Рассказ впервые напечатан в журнале «Ла Смэн паризьенн» 7 мая 1874 г. и до
выхода книги печатался в 1876 г. и в 1880 г.
Рассказ более, чем какой-либо из «Жестоких рассказов», связан с романтической
новеллой XIX в., в которой был распространен мотив отвоевания молодой прекрасной
женщины любовью у смерти.
О преобладании в рассказе чувственно-земного начала над мистическим гово-
рилось в статье. Здесь надо отметить также значение последней «прозаической» стра-
ницы рассказа, которой Вилье от редакции к редакции придавал все больший вес.
Почти очевидно, что Вилье отдавал себе отчет в многослойной и парадоксальной
символике заглавия, т. е. понимал и значение русского имени Вера (ср. другие рус-
ские реминисценции в рассказе), и то, что оно означает по-латыни: «Истинные [со-
бытия]», и будущее время французского глагола «видеть» — «увидит», и наконец,
что оно созвучно фамилии известного тогда итало-французского гегельянца Аугусто
Вера (см. статью), идеи которого отразились и в данном рассказе. Они позволяют
трактовать его в совершенно переносном смысле: Вера — лишь идея идеального (см.
абзац текста: «О, идеи — это живые существа!..»)
Сведениями о даме, которой посвящен рассказ, видимо, не располагали и ком-
ментаторы GB (стр. 55 и ел.). Любопытно, что писательница Жанна д'Омон
(Osmont),— которая не может подразумеваться в рассказе, так как она родилась
в 1872 г.,— была позже (1920—1930-е годы) автором большой серии книг по симво-
лике отдельных предметов (чаши, круга и др.).
1 Первые слова рассказа «Вера» — парафраза из «Песни песней» царя Соломона
(Библия), где сказано: «Крепка, как смерть, любовь» (VIII, 6).
2 Сен-Жерменское предместье — аристократический квартал Парижа.
216 Примечания
3 ...катили из Леса — т. е. из Булонского леса, парка под Парижем, ныне в черте
города.
k Девиз «Кто увидит Веру, тот полюбит ее» (в подлиннике «Qui verra Véra l'aime-
ra») является шуточной переделкой скептической поговорки «Qui vivra verra»
(«кто доживет — тот увидит»), смысл которой близок к русскому «поживем —
увидим». Каламбур построен на одинаковом звучании французского глагола «ver-
ra» («увидит») и имени «Вера». Изящество фразы трудно передать в переводе,
может быть: «Кто увидит Веру, будет ей верен».
ь Душка —в подлиннике это русское слово напечатано латинскими буквами. Ср.
другие руссицизмы в рассказе — одно из свидетельств интереса Вилье к России.
15 Лап — река, приток Рейна.
III. Vox populi
Рассказ впервые напечатан в газете «Л'Этуаль франсэз» 14 декабря 1880 г., до
выхода книги печатался также в 1881 г.
Рассказ, его варианты и структурные особенности подробно разбирались
в статье.
Посвящение такого политически программного произведения главе парнасской
школы Леконт де Лилю (1818—1894) имеет такой же двойственный характер, как по-
священие «Девиц Бьенфилатр» Банвиллю. Внешне Вилье будто солидаризируется
в этих произведениях с провозглашавшимся парнасскими поэтами бесстрастием; но,
посвящая им подобные рассказы, обнаруживает свое понимание солидарности пар-
насцев с ним самим в глубокой ненависти к буржуазному обществу.
Иронию по поводу установки буржуазных правительств тогдашней Франции
строить свою политику на обмане можно уловить и в эпиграфе. Сержант Офф— ге-
рой тогдашней шовинистической прессы, возможно лично действительно храбрый,
но рекламировавшийся прессой подобно тому, как в начале войны 1914 г. реклами-
ровался казак Кузьма Крючков. После 1872 г. Офф служил сторожем одного из па-
рижских скверов.
1 ...мы вытерпели двенадцать лет — подразумевается военный парад, происходивший
при Наполеоне III в 1868 г.
2 ...пролетело десять лет.— Речь идет о времени падения II империи и провозгла-
шения III республики, вероятно, до 17 сентября 1870 г., когда Париж был осажден
прусской армией.
3 Пританей — военное училище.
4 Правитель — генерал Трошю (1815—1896), глава так называемого «правительства
национальной измены» в 1870—1871 гг.
5 Лазарь — нищий в струпьях, лежавший у ворот дома богача, упоминаемый в прит-
че Евангелия от Луки (16, 19—31), в средние века считался покровителем прока-
женных. С его именем, может быть, связано название ордена, магистром которого
в далеком прошлом мог быть прокаженный. Целью ордена был уход за пленными
больными и ранеными (ср. слово «лазарет»).
6 Мы выдержали девять лет. — Здесь говорится о Парижской Коммуне, провозгла-
шенной 18 марта 1871 г., и о годах реакции, которые после ее поражения при-
шлось выдержать французскому народу.
7 А два месяца спустя...— парад подавивших Парижскую Коммуну версальских
войск во главе с маршалом Мак-Магоном. Патрис Мак-Магон, герцог де Мажента
(1808—1893), участник Крымской войны против России. Во время франко-прусской
войны — один из виновников поражения при Седане, затем главный после Тьера
версальский палач Коммуны. С 1873 по 1879 г.—президент Французской респуб-
лики. Далее в тексте — маршал, генералиссимус. В этот ранг возведен Вилье иро-
нически. Во Франции такого чина не было, и он мог быть применен к командую-
щим коалиционными войсками: т. е. к Мак-Магону как к предателю — главе «коа-
лиции» версальцев и пруссаков против Коммуны и народа Франции.
8 ...после прискорбной гражданской войны — т. е. после гражданской войны, траги-
чески кончившейся для Парижской Коммуны.
Жестокие рассказы 217
IV. Две возможности
Впервые напечатан в «Жестоких рассказах» (1883). Сохранился рукописный фраг-
мент, близкий по теме и относящийся примерно к 1877 г. (СВ, стр. 74—76).
Рассказ Вилъе вписывается в традицию разоблачения буржуазной прессы и ли
тературных нравов, восходящую к «Утраченным иллюзиям» Бальзака и развивав-
шуюся до «Милого друга» Мопассана, «Ярмарки на площади» Ромен Роллана и дру-
гих произведений французской литературы.
Прототипом образа издателя-редактора скорее всего был Эмиль де Жирарден
(1806—1881) — один из основателей дешевой, «массовой» пропагандистской буржуаз-
ной печати (газета «Ла Прэсс» и др.)
1 Монтепен, Ксавье де (1823—1902) — французский писатель, автор многочисленных
романов-фельетонов. Дю Террай, точнее Пьер-Алекси Понсон дю Террай' (1829 —
1871),—французский писатель, автор популярных романов-фельетонов* («Приклю-
чения Рокамболя» и др.) Важна та ироническая последовательность по «качеству»
и по «стоимости» писателей, при которой Гюго оказывается между Монтепеном и
Дю Террайем!
2 ...выбор мой остановился на моем... привратнике.— В подлиннике слово из па-
рижского арго «pipelet» — презрительное обозначение привратника, вошедшее в
употребление после выхода в свет романа Эжена Сю «Парижские тайны» (1842).
3 Боттен — краткое название справочника о жителях Парижа, издаваемого Бот-
теном.
4 Эсташ де Сен-Пьер (ум. в 1371) — гражданин города Кале, прославившийся бес-
корыстием, патриотизмом и самопожертвованием во время осады города англий-
ским королем Эдуардом III (1347). Редактор выражает взгляды, противоположные
точке зрения автора. Но вперед смотрел не редактор, а Вилье: через три года,
в 1886 г. Роден закончил знаменитую скульптуру «Граждане города Кале», поэти-
зировавшую подвиг Эсташа и его друзей. Редактор и дальше громоздит глупость
на глупость, например о почитании монархами Шекспира, Мольера, Вагнера, Гюго
(см. ниже в тексте: «обзываете меня мыслителем» и т. д.).
5 Битва при Потидее. — В начале Пелопоннесской войны Потидея, город в Греции,
колония Афин, восстала против Афин (432 до н. э.), но после длительной осады
(429) вновь утратила самостоятельность. Философ Сократ был участником битвы
при Потидее.
6 Алкивиад (450—404 до н. э.)—древнегреческий полководец и государственный
деятель.
7 Мосарабы — так именовали испанцев-христиан, живших в период арабского гос-
подства на завоеванных мусульманами землях.
V. Реклама на небесах
Рассказ печатался в «Ла Ренессанс литтерэр э артистик» 30 ноября 1873 г., за-
тем—в «Ле Спектатёр» 30 декабря 1876 г. под названием «Изобретение г-на Грава»
и под нынешним названием — в «Л'Этуаль франсэз» 5 января 1881 г.
О ярко выраженной сатиричности этого рассказа и об основных чертах эволю-
ции его текста говорится в статье.
Согласно Кастексу и Боллери, страницы «Рекламы на небесах» «содержат под
шутливой оболочкой один из самых свирепых приговоров, которые когда-либо были
вынесены утилитаризму и погоне за наживой, свойственным современному общест-
ву» (СВ, стр. 100).
1 ...будете, как боги — слова змия (сатаны), искушающего Еву: «... в день, когда вы
вкусите их [плодов райского дерева], откроются глаза ваши, и вы будете, как
боги, знающие добро и зло» (Бытие, III, 5). Эпиграф этот, появившийся впервые в
редакции 1881 г., придает рассказу особенно ироническую окраску.
2 Лабарум — знамя римских императоров. Автор намекает на споры, которые шли
тогда между учеными относительно происхождения этого слова.
~l& Примечания
3 Броккен — гора, получившая известность из-за так называемого «Броккен-
ского призрака» - гигантской тени человека, которая на закате будто бы появ-
ляется на краю горизонта; по народным повериям здесь в Вальпургиеву ночь
ведьмы собираются на шабаш.
4 Франклин, Бенджамен (1706—1790) — американский государственный деятель и
ученый-физик; в юные годы работал в типографии.
г° Созвездие Скульптора — созвездие южного неба. Шутка основана на том, что бук-
ва v по-гречески называется «ню», а по-французскн слово «ню» означает «нагая,
обнаженная».
6 Колла (Каулла) — Люси де Колла, по происхождению австрийка или баварка,
дама полусвета, хорошо знакомая посетителям ресторанов того времени. Она вы-
шла замуж за полковника Юнга, чиновника Военного министерства. В 1880 г. ее
привлекли к суду по обвинению в шпионаже, что вызвало большой шум в печати.
Одно время она жила в России. Салтыков-Щедрин упоминает ее в IV главе «За
рубежом». Колла была невысокого роста, и это обстоятельство дало Вилье повод
для каламбур i: «Колла, уменьшенная копия Венеры», ибо именно в то время ин-
женер Колла (Collas) изобрел способ изготовлять уменьшенные копии знаменитых
статуй. Копии Афродиты Милосской, изготовленные по его способу, пользовались
большим успехом. (Фамилии Kaulla и Collas звучат по-французски одинаково.)
7 Лампоскоп — оптический прибор, разновидность волшебного фонаря.
8 Пегас (миф.) — крылатый конь, возносящий поэтов и художников в заоблачные
еыси. Пегас стал символом поэтического вдохновения.
9 Лессепс, виконт Фердинанд де (1805—1894) — французский дипломат и инженер,
строитель Суэцкого канала (1869) и один из главных виновников панамского кра-
ха, знаменитой «паыамы» 1889 г., обнаружившей коррупцию III Республики.
VI. Антония
Это, по выражению французских комментаторов П.-Ж. Кастекса и Ж. Боллери,
«чудесное стихотворение в прозе, достойное Бодлера» (СВ, стр. 101). Впервые напе-
чатано в «Ла Смэн паризьенн» 18 июня 1874 г., затем — в «Ла Комеди франсэз» 13 мар-
та 1875 г., оба раза под заглавием «Интермедии. Медальон». Текст рассказа не претер-
пел существенных изменений.
1 Принц де Линь, Шарль-Жозеф (1735—1814) —француз по происхождению, служил
в австрийской армии, получил чин фельдмаршала. В 1782 г. был с дипломатической
миссией в России. В 1788 г. участвовал в русско-турецкой войне (под начальством
Потемкина). Де Линь славился остроумием и обаянием. Его сочинения, посвящен-
ные военному делу, а также вопросам литературы, составляют свыше тридцати
томов.
VII. Машина славы
Рассказ впервые напечатан в «Ла Ренессанс литтерэр э артистик» 22 и 29 марта
1874 г. Текст рассказа перерабатывался в сторону усиления сатирического элемента.
1 S.G.D.G. — формула (sans garantie du gouvernement), обозначающая, что государст-
во не гарантирует качества изобретения, на которое выдан патент.
2 Малларме, Стефан (1842—1898) — поэт, глава школы символистов. Автор был свя-
зан с ним тесной дружбой, но характер посвящения здесь таков же, как в случае
с Леконт де Лилем и Теодором де Банвилем: внешняя бесстрастность поэта —ад-
ресата посвящения должна по контрасту подчеркнуть социальную насыщенность
рассказа. Возвышенной поэзии Малларме противостоит изобретение Боттома. Само
имя это — сатирично. The bottcm (батэм) означает по-английски нижнюю часть
чего-либо, низ, дно, грунт, фундамент, нижнюю ступень. Выбор имени инженера
связан с восходящей к Стендалю, Эдгару По и Бодлеру традицией обличать мер-
кантилизм на примерах из жизни тогда самых выраженно буржуазных стран —
Англии и Соединенных Штатов.
Жестокие рассказы 219
3 «Честь и деньги».— Обыватель, восторгаясь Скрибом, приписывает ему пьесу дру-
гого французского мещанского драматурга Понсара (1814—1867).
4 Милтон, Джон (1608—1674) — английский поэт, автор поэмы «Потерянный pan»
Здесь писатель, недоступный мещанину.
5 Буало, Никола (1636—1711) — французский поэт, теоретик классицизма, автор са-
тир, посланий и трактата «Поэтическое искусство». В I сатире (стих. 52) поэт го-
ворит, что неспособен лгать и льстить и кошку так и называет кошкой.
6 «Пока в зрительном зале останется...» — Режиссер хочет, чтобы в зрительном зале
не было ни одного человека, купившего билет и, следовательно, имеющего право
свободно высказывать свое одобрение или неудовольствие; пусть в театре сидят
только клакеры, послушные полученным ими указаниям.
7 Протей (мпф.) —морское божество, сын Посейдона (Нептуна), обладающий даром
перевоплощения.
8 Бриарей (миф.) — веллкан с пятьюдесятью головами и ста руками, сын Солнца и
Земли.
9 ...Рим всегда к вашим услугам.— Имеются в виду «римляне»; так французы на-
зывают клакеров. Прозвище это связывают с римской историей: император Нерон
развлекался игрой на сцене, а угодливые придворные наполняли театр клакерами,
которые и создавали коронованному артисту «успех».
10 Дебароллъ, Адольф (1801—1886) — французский художник и писатель-популяриза-
тор.
11 Мария-Луиза (1791—1847) —императрица, супруга Наполеона I.
12 Севинье, Мария де (1626—1696) — французская писательница. Большую извест-
ность получили ее «Письма».
13 Дю Террай — см. прим. 1 к рассказу «Две возможности».
14 Шаплен, Жан (1595—1674) — французский поэт.
15 Капитан de Бюш (Жан де Грайи, ум. в 1377 г.) —французский военачальпик.
1в «Тангейзер» — опера Рихарда Вагнера (1844). Речь идет о первом представлении
оперы в Париже 13 марта 1861 г., вызвавшем бурю негодования консервативной
мещанской публики.
17 Эдип (миф.) — разгадал загадку Сфинкса.
VIII. Герцог Портландский
Рассказ впервые опубликован в «Жестоких рассказах» (1883) и написан неза-
долго до этой даты. Перевод заглавия на русский язык — некоторая вольность пере-
водчика. У Вилье рассказ назван по-английски «Duke of Portland» («Дьюк оф Порт-
лэнд»).
Вплье де Лиль-Адан прав, утверждая, что лишь слегка изменил в рассказе образ
своего героя, прототипом коего являлся герцог Уильям (не Ричард) Джон Кавендиш
Скотт Бентинг, герцог Портландский (1800—1879).
Замок Портлэнд находился не на берегу, а в глубине Ноттингэмшира. Сам Вилье
поясняет в примечании, что в качестве прототипа замка взят другой замок на бе-
регу моря. Это — Олнвик Кэстл, принадлежавший герцогам Нортумберлэндским.
Впрочем, в примечании Вилье важны не эти детали, а опора на принципиальный
астетическпй тезис, восходящий к «Поэтике» Аристотеля и связанный с теорией реа-
лизма, тезис о том, что писатель в отличие от историка «излагает историю так, как
она должна была бы произойти».
Данными об Анри Ла Люберне, которому посвящен рассказ, мы не располагаем.
1 Епископ Холл (Hall). — Эдгар По (1809—1849), выдающийся американский писа-
тель, поместил в виде эпиграфа к своему рассказу «Встреча» цитату из сочинений
этого автора, а к рассказу «Погоня за знаменитостью» («Lionizing», 1835; 1845) —
цитату из сочинения Генри Кинга, епископа Чичестерского. Вилье ошибочно
приписал приведенную им цитату епископу Холлу, в действительности она при-
надлежит Генри Кингу.
220 Примечания
Рассказы Эдгара По были переведены на французский язык Шарлем Бодлером
(1821—1867).
2 Гайд-Парк — парк в западной части Лондона.
3 Генрих IV — король Англии с 1399 по 1413 г.
4 Виктория — королева Англии с 1837 по 1901 г.
5 Лазарь — см. прим. 5 к рассказу «Vox populi».
6 Иов — см. прим. И к рассказу «Девицы Бьенфилатр». здесь примечателен атеисти-
ческий тон, в котором Вилье трактует «Книгу Иова», содержащую одно из фунда-
ментальных положений Ветхого Завета, перешедшее к христианству,— тезис о
бесконечном долготерпении.
Испытание мужества безбоязненным контактом с прокаженными — частый мотив
средневековых преданий. Во Франции он был оживлен театрально-героическим по-
ступком молодого генерала Бонапарта, посетившего во время экспедиции на Ближ-
ний Восток чумную лечебницу в Яффе. Это событие, увековеченное на знаменитом по-
лотне художника Жана-Антуана Гро (1771—1835), ученика Давида, было предметом
бесконечных пересудов. Картина Гро «Чумные больные в Яффе», вероятно, психоло-
гически — важнейший источник рассказа.
IX. Виржини и Поль
Рассказ вначале печатался в одной подборке с «Девицами Бьенфилатр», под об-
щим заголовком «Жестокие рассказы» в «Ла Смэн паризьенн» 22 марта 1874 г.,—
в «Ла Комеди франсэз» 13 февраля 1875 г., затем — в «Ла Репюблик де лэттр» 20 ап-
реля 1876 г. и в «Ла Ви попюлэр» 26 декабря 1880 г. Прежде чем войти в книгу «Же-
стоких рассказов», он был напечатан пятый раз, причем под прозрачным названием
«Хроника. Любовь и деньги» («Л'Этуаль франсэз», 29 декабря 1880 г.).
Рассказ является сатирической репликой на сентиментальную повесть Бернанде-
на де Сен-Пьера «Поль и Виргиния» (1787), в которой описывается беззаветная лю-
бовь двух юных существ. Имя Виргиния (по-французски произносится: Виржини)
по-латыни значит «девственно чистая».
Достойно внимания, что в любовном объяснении героев Вилье слово «деньги»
звучит двенадцать раз! Редактор «Ла Ви попюлэр», поэт Катюль Мендес, печатая рас-
сказ, предварил его заметкой: «С той жестокостью, которая отличает юмор Вилье де
Лиль-Адана, писатель метко подобрал имена самой нежной, самой идеальной пары
наивных влюбленных для обозначения современных жениха и невесты, увы, ве-
роятно, таких, каковы они суть на самом деле — снедаемых, одержимых алчностью
к деньгам в разгар первой любви» (GB, стр. 133).
1 Олъмес, Огюста (Holmes, 1847—1903) — французская пианистка, композитор.
2 Под защитой луны молчаливой — ироническая цитата из «Энеиды» Вергилия (II,
255). Перевод С. А. Ошерова.
3 ...англичане еще занимали наши анжуйские города. — Графство Анжу, граничившее с
Бретанью, принадлежало Англии с 1154 по 1203 г., когда французский король Фи-
липп Август отвоевал его у Иоанна Безземельного. Вторично оно было захвачено
англичанами во время Столетней войны в XIV—XV вв.
4 Буало — см. прим. 5 к рассказу «Машина славы». Слова юного героя свидетельст-
вуют о его безвкусии: стихи Буало отнюдь не подходят для лирических излияний.
X. Посетитель финальных торжеств
Рассказ типологически связан с ранним слоем книги; хотя он появился впервые
на страницах «Ревю дю Монд нуво» 1 января 1874 г., его замысел упоминается еще
в письме Вилье Стефану Малларме И сентября 1866 г., показывающем связь произ-
ведения с событиями середины 60-х годов. См. ниже прим. 18. В чем-то рассказ внут-
ренне не удовлетворял Вилье 70-х годов. Текст подвергся очень значительной передел-
Жестокие рассказы 222
ке, в которой, однако, нелегко выявить четкую систему. Вилье усиливал момент
отвращения и ужаса по отношению к миллионеру-палачу, момент авторского отстра-
нения от него. Например, на стр. 63 перед строками: «...я обернулся к господину Са-
турну...» автор вставил — «Не обращая внимания на нелепость, содержавшуюся в
последних словах Антонии, я обернулся...» (речь идет о словах, приоткрывающих
тайну садизма барона фон Г ***).
Заглавие рассказа («Le convive des derniers fêtes») трудно поддается переводу.
Отчасти оно восходит к идее мрачно-торжественного последнего пира дон Жуана
с Каменным гостем (ср. у Мольера «Каменный пир»), отчасти к феодальной концеп-
ции торжественности акта казни. Заглавие можно передать как «Сотрапезник смер-
ти» или как «Сотрапезник торжественных кар». В первом варианте рассказ назывался
проще: «Le convive inconnu» — «Неведомый сотрапезник», «Неведомый гость».
1 Нина де Виллар (1846—1884) — дама, салон которой посещали многие поэты и пи-
сатели; одно из увлечений Вилье.
2 Араго, Франсуа (1786—1853) — французский физик и астроном.
3 «Мезон-Доре» — «Золотой дом», ресторан на Итальянском бульваре. Ниже: барон
Сатурн — по мифу Сатурн (Хронос) пожирал своих детей.
4 Гаварни (1804—1866), Девериа (1800—1857), Доре (1832—1882) — французские ху-
дожники.
5 Кенз-Вен — приют для слепых, основанный в Париже королем Людовиком IX в
1260 г. Нельзя упускать из виду, что здесь и дальше речь идет о вульгарных ве-
щах, преображенных поэтическим воображением в сокровища древности.
6 Пентесилея — царица амазонок, участница Троянской войны.
7 Асклепий (миф.) — бог врачевания, сын Аполлона.
8 ...аккадское или троглодитское происхождение этих предметов.— Аккад — древний
город в Двуречье, к северу от Вавилона, на берегу Евфрата. Троглодиты — древне-
греческое наименование легендарных пещерных племен, якобы живших в Эфиопии.
9 Ксизутр — легендарный царь Ассирии, живший будто бы до всемирного потопа.
История его сходна с историей библейского Ноя.
10 Немврод — легендарный основатель Вавилонского царства.
11 Оппер, Жюль (1825—1905) — французский историк и археолог, знаток ассирий-
ской культуры.
12 Князь Салт ***...— О русских реминисценциях Вилье см. рассказ «Вера» и прим. 5
к нему.
13 Редерер — сорт шампанского.
14 Цирцея (миф.) — волшебница.
15 Клайд — река в Шотландии.
16 Салям — восточное название для букета, в котором расположение цветов имеет
определенный смысл.
17 Ж ером, Жан-Леон (1824—1904) — французский живописец; здесь намек на его кар-
тину «Выход из маскарада, или Поединок Пьерро» (1857).
18 Доктор де ла П.— Подразумевается доктор де ла Поммере, казненный в 1864 г. за
отравление своей любовницы.
19 Сен-Жерменское предместье — см. прим. 2 к рассказу «Вера».
20 Иаср-Эдинн — персидский шах с 1848 г. Позже, в 1896 г. был убит за свою жесто-
кость фанатиком-сектантом.
21 Фетх-Али-шах - персидский шах с 1797 по 1834 г.; ему наследовал его внук Му-
хамед (1810—1848).
22 Сад, Донасьен маркиз де (1740—1814) — французский писатель, известный склон-
ностью к описанию всяческих жестокостей (отсюда термин «садизм»).
23 Торквемада (правильно: Торкемада), Томас (1420—1498) — испанский инквизитор.
24 Арбуес, Педро (1442—1485) — испанский инквизитор.
25 Алъба, герцог (1508—1582) — испанский полководец; будучи наместником в Нидер-
ландах, отличался крайней жестокостью.
26 Герцог Йоркский (1763—1827) —сын английского короля Георга III, фельдмаршал;
известен жестокостью, проявленной в борьбе с католиками.
222 Примечания
XI. Нетрудно ошибиться
Рассказ впервые напечатан в «Ле Спектатер литтерэр э артистик» 16 декабря
1875 г. О значении сопоставления биржи с моргом см. в статье. Текст перерабатывал-
ся в сторону сближения со стилем стихотворения в прозе.
1 Борнъе, виконт Анри (1825—1901) — французский драматург.
2 Вперив куда-то вдаль...— строка из сонета Шарля Бодлера «Слепцы». См. в серпи
«Литературные памятники»: Шарль Бодлер. Цветы Зла. Издание подготовили
Н. И. Балашов и И. С. Поступальский. М., «Наука», 1970, стр. 154, 407,— где это
стихотворение дано в двух переводах (С. Петрова и Иннокентия Анненского).
XII. Нетерпение толпы
До появления в книге «Жестоких рассказов» рассказ «Нетерпение толпы» был
трижды напечатан в периодической прессе: в «Ла Репюблик де лэттр» 20 июня 1876 г.,
в «Ла Круа э л'эпе» (3 и 10 мая 1879 г.) и в «Л'Этуаль франсэз» (19 декабря 1880 г.).
Рассказ и отражение в нем горечи непонятых людей будущего подробно характери-
зуются в статье.
1 Симонид (VI—V вв. до н. э.) —древнегреческий поэт. Перевод Л. В. Блуменау.
2 Пеплосы — длинная верхняя женская одежда.
3 Храм Ликурга.—Лнкурт — древний законодатель Спарты (IX в. до н. э.); в его
честь был воздвигнут храм. Ликург требовал, чтобы перед боем воины расчесыва-
ли и умащали себе волосы.
4 Тиртей (VII в. до н. э.) — древнегреческий поэт.
5 Фермопилы — ущелье в горах Эты, служившее проходом из Фессалии в Локрпду.
Место славной гибели трехсот воинов во главе с Леонидом в 480 г. до н. э. Воины
погибли, но спасли Грецию от персидского завоевания. Власти Спарты и толпа,
по рассказу, не поняли, что герой-посланец возвестил победу. Их, в частности, вве-
ло в заблуждение, что он прибежал без оружия,— но Вилье специально объясняет,
что оружие вестника славы было брошено в пропасть, чтобы он скорее принес
весть, а оно не попало в руки врагов.
6 Локрида — область в Средней Греции.
7 Милътиад (V в. до н. э.) — афинский полководец, победитель персов в битве при
Марафоне.
8 Эфоры — высшие должностные лица в Спарте.
9 Авгуры — прорицатели.
10 Фокида — область в Средней Греции.
11 Ксеркс I — царь Персии с 485 по 465 г. до н. э., пытавшийся покорить Грецию.
12 Лакедемон — другое название Спарты.
13 Горгона {миф.) —чудовище в образе женщины; взгляд ее будто бы обращал че-
ловека в камень.
14 Баллиста — военная машина для метания камней.
15 Скорпионы — род осадного орудия.
16 Поножи — часть древнего защитного вооружения в виде пластин, защищавших
ногу впереди от колена до щиколотки.
17 Ты попираешь ногами кости Пелопа, Геракла и Поллукса (миф.).— Пелоп — сын
фригийского царя Тантала; впоследствии объединил под своей властью весь по-
луостров на юге Греции, откуда и название его — Пелопоннес. Поллукс, брат пре-
красной Елены и Кастора, сын спартанского царя Тиндарея (или самого Зевса)
и Леды; славился, помимо прочего, искусством кулачного боя.
18 Стикс (миф.) — река в преисподней.
XIII. Тайна старинной музыки
Рассказ впервые был напечатан в составе сборника «Сценки и монологи» разных
авторов (ч. III), вышедшего в издательстве г-жи Тресс в 1878 г. Вопреки воле авто-
ра рассказ назывался «Бунчук».
Жестокие рассказы 223
Рассказ был куплен у Вилье за нищенскую цену — 40 франков (около 15 руб.
того времени). Первоначально он был пссвящен актеру Коклену-младшему (см.
прим. 1 к «Мрачному рассказу...»), включавшему его в свою концертную программу.
Первое издание вдобавок было дефектным, и Вилье был готов отказаться и от него,
и от гонорара. Текст рассказа был сильно переработай автором.
В неизданном черновом начале рассьэза, относящемся к 1875—1876 гг., Вилье
собирался открыть рассказ спором о новой музыке и о Вагнере, что было в те годы
актом гражданского мужества и интернационализма, ибо шовинистическая пресса
70-х годов третировала Вагнера, тогда ни разу не исполнявшегося во Франции, впро-
чем и самого повинного в этой кампании как автора некоторых франкофобских вы-
сказываний во время войны 1870—1871 гг.
Посвящение Вагнеру и проект начала рассказа были вызовом мещанским
пошлякам:
«В эти годы такое событие серьезно волновало оркестр Национальной академии
музыки. Растущая слава нового немецкого мастера все больше занимала умы. Ис-
полнителей и композиторов особенно волновал не понятный им дух новизны (курсив
здесь и ниже Вилье.— Ред.), который критика будто единодушно признавала у этого
музыканта.
— Как это так? Новая музыка?..
— Вот именно: какая ерунда!
— Музыка — и новая?
— Так утверждают. Но это непонятно,
— Новое! И в музыке!..» (СВ, стр. 181—182).
Вилье де Лиль-Адан был во Франции одним из первых после Ш. Бодлера страст-
ных ценителей таланта Рихарда Вагнера (1813—1883), музыка которого' вызывала
ожесточенные споры. В 1869 г. Вилье гостил у Вагнера в Трибшене. Через год Вилье
вторично посетил композитора. Им написаны две статьи о творчестве Вагнера (о «Зо-
лоте Рейна» и «Лоэнгрине»), опубликованные в газетах «Конститюсионель» и «Си-
туайен».
1 Батинъолъ — квартал в северо-западной части Парижа.
2 Клаписсон, Луи (1808—1866) — французский композитор.
XIV. Тонкость чувств
Рассказ впервые появился на страницах «Ла Репюблпк де лэттр» 20 января
1876 г. Он имеет отчасти и в широком смысле слова художнически-автобиографиче-
ский характер, однако в отличие от писателей романтического направления Вилье
не говорит о своих переживаниях непосредственно. Это отстранение было усилено
Вилье заменой первого эпиграфа из стихотворения «Ворон» Эдгара По, говорившего
0 некоей Леноре (намек на юношескую любовь Вилье), эпиграфом из пошлых суж-
дений обывателя — Господина-Весь-Свет. Рассказ построен, собственно, не как внеш-
ний диалог двух собеседников, а как внутренний диалог пошлости «равнодушных
детей земли» и настоящего — общественного и художественного — человека.
1 Жан Маррас — друг Вилье, с которым он вел доверительную переписку с 60-х по
80-е годы.
XV. Лучший в мире обед!
Впервые появился среди произведений под общим заголовком «Жестокие рас-
сказы» на страницах «Ла Смэн паризьенн» 21 мая 1874 г., затем — в «Ла Ви попю-
лэр» 7 августа 1881 г. Рассказ принадлежит к числу откровенно антибуржуазно-са-
тирических вещей Вилье.
1 Удар Жарнака (иначе: Удар Командора) —удар ловкий, неожиданный, а в неко-
торых случаях и вероломный. Происхождение этого выражения таково: Ги де
Жарнак, придворный короля Генриха II, поссорился с другим дворянином и ис-
224 Примечания
просил у короля разрешение драться с ним на дуэли. Жарнак уже терпел пора-
жение, когда ему удалось нанести противнику неожиданный решающий удар. Это
была последняя дуэль из числа разрешенных французскими королями.
2 Эзоп (точнее: Эсоп) — полулегендарный древнегреческий баснописец. Согласно
позднейшим литературным биографиям, жил в VI в. до н. э. и был фригийским
рабом; отпущенный хозяином на свободу, состоял при лидийском царе Крезе,
оценившем его выдающиеся способности.
3 Эмф итеееис — договор, по которому владелец недвижимого имущества передает
его на долгий срок в распоряжение другого лица за определенную ренту.
4 Параферналий — имущество, являющееся личной собственностью жены, а не при-
даным.
5 Сю прем — блюдо из птицы.
6 Феникоптеры — научное название фламинго.
7 Апиций — древнеримский гастроном, чревоугодник, известный тем, что растратил
на пиршества все свое огромное состояние. Именно он, как гласит легенда, открыл
высокие вкусовые качества язычков фламинго.
8 Петроний (I в. н. э.) — древнеримский писатель; в своем романе «Сатирикон» дал
знаменитое описание пира Тримальхиона.
9 Распространитель филлоксеры.— Знаменитость под таким прозвищем в рассказе
Вилье — яркий пример предварения крайнего гротеска в сатирической литерату-
ре XX в. Филлоксера — злейший вредитель винограда, ее распространение разоря-
ло сотни тысяч виноградарей и заставляет по настоящее время закладывать вино-
градники усложненным и удороженным способом: посредством прививки культур-
ных сортов к устойчивым к вредителю диким американским корням винограда.
Образ Распространителя филлоксеры дает ключ к пониманию сводного образа
«сливок» провинциальной буржуазии в рассказе и в творчестве Вилье (ср. рассказ
«Разбойники»).
10 ...чем-то ателланским.— Ателланами в Древнем Риме назывались грубоватые, про-
стонародные комедии.
11 Галатея (миф.) — нимфа, олицетворение глади спокойного моря, умело ускользав-
шая от вожделений безобразного киклопа Полифема.
XVI. Желание быть человеком
До первого издания сборника «Жестокие рассказы» (1883) этот рассказ нигде
не печатался. С первого взгляда — один из наименее социально окрашенных расска-
зов Вилье. Однако не следует упускать из виду, что он показывает, как общество
извращает желание «быть человеком»: герою рассказа это не удается, и он впадает
в ничтожество, включается в тот жестокий мир, над которым хотел подняться (см.
конец рассказа).
1 Мендес, Катюль (1841—1909) — французский писатель парнасской школы, один из
друзей Вилье.
2 ...Сложились Ц В нем так черты...— цитата из трагедии Шекспира «Юлий Цезарь»
(д. IV, сц. 5). Перевод И. Б. Мандельштама.
3 Кавдинские ущелья — в Аппенинских горах, где во время войны с самнитянами
оказалось окруженным римское войско (321 г. до н. э.). Чтобы спасти солдат,
римский консул Спурий Постумий согласился на унизительное условие: он вме-
сте со всей своей армией должен был пройти под ярмом между двумя рядами
скрещенных вражеских копий.
4 Медичи, Салъвиати и Монтефелътры — княжеские и аристократические семейства,
игравшие значительную роль в истории Италии в средние века и в эпоху Возрож-
дения. Здесь упоминаются представители этих семейств, ставшие героями много-
численных исторических драм эпохи романтизма.
5 Леметр, Фредерик (1800—1876) — известный французский актер, прославился в
ролях романтического репертуара.
6 Эллевиу, Ларуетт, супруги Дюгазон — французские актеры, имена которых стали
нарицательными для обозначения определенных амплуа.
Жестокие рассказы 225
7 Феспид (VI в. до н. э.) — древнегреческий поэт; считается родоначальником ан
тичной трагедии; согласно легенде, он разъезжал со своими актерами по Греции,
причем колесница служила им подмостками.
8 Персеполъ — столица древней Персии, взятая Александром Македонским в 330 г.
до н. э. Согласно легенде, Александр после пышного пиршества, по наущению
куртизанки Таис, приказал поджечь дворец, чтобы отомстить за Афины, сож-
женные персидским царем Ксерксом (см. прим. 11 к рассказу «Нетерпение тол-
пы»).
9 Столпник — так называют отшельников, которые в первые века христианства уст-
раивали себе кельи на покинутых, полуразрушенных колоннадах и портиках.
XVII. Цветы небытия
Рассказ напечатан впервые без особого заглавия как «хроника» в «Л'Этуаль
франсэз» 25 декабря 1880 г. Рассказ дает символическое изображение буржуазной
культуры эпохи Вилье.
1 Дъеркс, Леон (1838—1912) — французский поэт парнасской школы (см. выше
прим. к посвящениям Банвилю, Леконт де Лилю, Малларме в рассказах: «Девицы
Бьенфилатр», «Vox populi» и «Машина славы»).
XVIII. Аппарат для химического анализа
последнего вздоха
В первоначальной редакции рассказ появился в «Ла Смэн паризьенн» 21 мая
1874 г. под названием «Аппарат доктора Абея Э. Э. для химического анализа послед-
него вздоха», затем — под нынешним заглавием в переработанном виде 7 января
1881 г. как «хроника» в «Л'Этуаль франсэз». Для «Жестоких рассказов» он был ав-
тором заново отредактирован и дополнен. Комментаторы отмечают, что в данном
случае Вилье не избежал влияния своего друга, поэта Шарля Кро, автора научно-
фантастических произведений, в частности рассказа «Наука любви», сатиры, в кото-
рой говорится об изобретении аппарата для исследования чувства любви: подопытно-
му субъекту вставляют между десятым и одиннадцатым ребром аппарат для опреде-
ления ритма биения сердца, а к губам пристраивают счетчик для поцелуев. Однако
идейный смысл рассказа органичен для Вилье: он не раз возражал против современ-
ного ему плоского буржуазного утилитаризма, игнорирующего духовную сторону
человека, и против вульгарной лженауки, которая стремится все взвесить, измерить,
описать и свести к взаимодействию молекул.
1 Полезное с приятным — цитата из «Искусства поэзии» Горация (стих. 343).
2 «Жюстина, или Вознагражденная добродетель».— Злая ирония: намек на ро-
ман маркиза де Сада «Жюстина, или Страдания добродетельной девушки» (1791).
3 Томбола — вещевая лотерея.
4 «Дочь Тинторетто».— Речь идет, вероятно, о картине французского художника
Леона Коньие «Тинторетто у смертного одра своей дочери» (1855). Картина имела
успех у современников.
5 Тъер, Адольф (1797—1877) — французский историк и государственный деятель,
главный организатор кровавой расправы над участниками Коммуны. Мстительное
упоминание Тьера как суетного ничтожества, санкционирующего мещанскую
пошлость, характеризует убеждения Вилье.
XIX. Разбойники
Рассказ впервые напечатан в «Панюрж» 3 декабря 1882 г. Об этой антибуржуаз-
ной сатире см. статью.
1 Ружон, Анри (1853—1914) — друг Вилье, литератор, главный редактор журнала
«Ла Репюблик де лэттр», где было напечатано несколько рассказов Вилье.
220 Примечания
2 Сюлли, герцог Максимильен де (1559—1641) — французский государственный дея-
тель, покровительствовавший развитию тогда прогрессивной буржуазной эконо-
мики.
3 Сийес, Эммангоэль-Жозеф (1748—1836) — французский политический деятель, участ-
ник Великой французской революции, автор известной брошюры о третьем со-
словии, т. е. о буржуазии (1789). Эпиграфы, вставленные в редакцию 1886 г., при-
дают рассказу и его заглавию обобщающий по отношению к буржуазии характер.
4 «Парижанка» — песня на слова Казимира Делавиня, музыка Обера (1830). Песня
возникла в дни Июльской революции и явилась своего рода гимном буржуазии.
5 Кларет — легкое столовое вино.
XX. Королева Изабо
Рассказ написан в 1876 г., но впервые напечатан 21 октября 1880 г. в «Бомарше»
под заглавием «Любовная история былых времен», а затем — в «Ла Ви попюлэр»
6 декабря того же года под названием «Месть королевы».
Замысел этого рассказа возник, по-видимому, во время занятий Вилье в архивах,
где он собирал данные о своем предке, маршале Жане де Вилье, который был вы-
веден в неблагоприятном свете драматургами Буржуа и Локруа в пьесе «Перрине
Леклер» (см. статью). Граф д'Омуа, которому посвящен рассказ, знакомый Вилье,
видимо, супруг дамы, которой Вилье посвятил рассказ «Вера».
1 Манефон (III в. до н. э.) — египетский жрец, живший в царствование Птоломея
Филадельфа, автор утраченной «Истории Египта»; из сочинений его сохранилось
лишь несколько отрывков.
2 Изабелла (Изабо) Баварская (1371—1435) — дочь герцога Баварского, жена фран-
цузского короля Карла (Шарля) VI, который в 1393 г. лишился рассудка. Отрица-
тельная нравственная характеристика Изабо у Вилье могла способствовать уточ-
нению ее предательской роли в истории: по договору, подписанному в 1420 г.
в Труа, она фактически передавала Фракцию англичанам.
3 Карл (Шарль) V (1337—1380) — французский король, взошел на престол в 1364 г.
4 Субсидии — поборы, которые взимались с населения при каких-либо чрезвычай-
ных обстоятельствах.
5 Констанцский собор.— Был созван в 1414 г. императором Сигизмундом и папой
Иоанном XXIII (ложным).
6 Иоанн Бесстрашный, герцог Бургундский (1371—1419) — глава партии бургипьон-
цев, после поражения Франции при Азенкуре занял Париж.
7 Генрих Дерби.— С 1413 по 1422 г.— английский король Генрих V, одержал победу
над французами в битве при Азенкуре и заставил признать себя регентом Фран-
ции и наследником французского престола. У Шекспира герой хроник «Король
Генрих IV» (принц Гарри) и «Король Генрих V».
8 Одетта де Шан-д'Ивер — дочь торговца лошадьми, фаворитка Карла VI, ухаживав-
шая за больным королем. Существует легенда, будто Одетта развлекала умали-
шенного короля картами с рисунками, которые затем превратились в игральные
карты. В действительности же в то время игральные карты уже существовали
в Германии и Италии.
9 Тенсона — распространенное в средние века стихотворение в форме диалога,
участники которого вступают в спор.
10 Вирелэ — шестистрочное стихотворение, основанное на двух рифмах с припевом.
11 Герцог Орлеанский, Луи, т. е. Людовик (1372—1407) — брат французского короля
Карла VI, убитый в Париже сторонниками Иоанна Бесстрашного. При первом упо-
минании, возможно, что с небольшой хронологической неточностью, назван не он,
а его сын Шарль Орлеанский (1391—1465) — видный поэт, отец будущего короля
Франции Людовика XII.
12 Принцы герба Лилии.— Лилия стала эмблемой дома французских королей
еще в XIII в.
13 Видам — в средние века наместник епископа.
Жестокие рассказы 227
14 Суды любви.— Во времена рыцарства во Франции, особенно на юге, в аристокра-
тических кругах существовали своеобрг^ные кодексы любви и суды, разбиравшие
сложные вопросы любовной этики.
15 Шатле — имеется в виду замок в Париже, где помещался суд.
XXI. Мрачный рассказ, а рассказчик еще мрачнее
Рассказ впервые напечатан под заглавием «Заслуженный успех» в «Ла Рспюблпк
де лэттр» 3 июня 1877 г.
В критическом издании 1956 г. Кастекс и Боллери высказывают предположение,
что в тексте первого издания «Жестоких рассказов» допущена опечатка: следует
читать: «Ut declamatio fiat, т. е. «Пусть господствует декламация» (как было в пер-
вой публикации, где, впрочем, была другая опечатка: fias; CB, стр. 237), а не «Пусть
господствует декларация».
Рассказ свидетельствует об отличном знании автором театральной среды того
времени; в нем упоминаются несколько действительно существовавших актеров.
Вместе с тем в рассказе чувствуется горечь, оставшаяся у Вилье от его неудач
в театре. Автор отвергает современных ему драматургов типа Деннери, которые до-
бивались успеха, подлаживаясь под вкусы мещанства. Такие драматурги набили себе
руку на построении завлекательной интриги, ловкого диалога, и профессиональная
техника затмевала у них вдохновение, искренние чувства и мысли («Пусть господст-
вует декламация»). Однако главная особенность произведения точно выражена в его
окончательном заглавии — как ни мрачна описываемая грустная история, пошло-
театральный, «декламационный», лживый тон, в котором она излагается и восприни-
мается слушателями, бросает особо мрачную тень на состояние нравственности и
культуры буржуазного мира времен Вилье, развившиеся в аморализм и «mass cultu-
re» XX в.
Ирония Вилье наиболее заметна со слов: «Скорей рассказывай, в чем заключается
конфликт...» и вплоть до концовки, когда в ответ рассказчику раздаются шумные
аплодисменты.
Идее правдоподобия литературы противостоит у изображенных Вилье пошляков
идея штампованной литературности жизни.
1 Коклен-младший, Эрнест (1848—1909) — известный французский комедийный ак-
тер.
2 £**#— Подразумевается ресторан Бребана в Париже в районе Монмартра.
3 Господин Д *** — под этим инициалом современники узнавали Адольфа Деннери
(1811—1899), популярного драматурга, автора многочисленных мелодрам. Именно
в те годы шумным успехом пользовалась пьеса Деннери «Две сиротки» и его ин-
сценировка романа Жюля Верна «Вокруг света в восемьдесят дней». Рассказывая
что-либо в обществе, в кругу приятелей, Деннери тоже неизменно прибегал
к мелодраматическим эффектам и выражениям.
4 Сюрвилъ, Виктор-Лоран — известный французский актер; к тому времени он за-
канчивал в театре «Гэтэ» свою артистическую карьеру.
5 Эркелин — городок в Бельгии, близ франко-бельгийской границы.
6 иХуторок в дроковом саду» — драма французского драматурга Фредерика Сулье
(1800—1847), впервые поставленная в театре «Амбигю-Комик» в Париже в 1846 г.
7 Кост, Морис — французский актер, пользовавшийся успехом в 1860-х годах в ро-
лях героев.
8 В Бельгии.— Во Франции дуэли были запрещены, поэтому секунданты решают,
что встреча состоится заграницей.
9 «Дело Клемансо» — роман Александра Дюма-сына (1866).
10 Бокаж, Пьер-Мартиньян (1797—1863) — одно время был директором театра
«Одеон»; гастролировал несколько лет на провинциальных сценах, выступая в ро-
лях романтического репертуара. В 1861 г. он вновь обосновался в Париже.
11 Ландролъ — актер театра «Жимназ».
228 Примечания
12 Камбон, Шарль-Антуан — известный художник-декоратор.
13 Фредерик — подразумевается Фредерик Леметр (см. прим. 5 к рассказу «Желание
быть человеком»).
XXII. Предчувствие
Рассказ впервые напечатан в «Ревю де лэттр э дез ар» 29 декабря 1867 г., 5 и
12 января 1868 г. О причинах исключения в нашем издании четырех ранних расска-
зов см. Обоснование текста и статью.
XXIII. Незнакомка
Рассказ впервые появился в «Спектатер литтерэр э артистик» 1 мая 1876 г., за-
тем — в «Л'Эколь де фам» 31 июля и 14 августа 1879 г., но его замысел, видимо, вос-
ходит ко времени юносги Вилье, когда он наивно увлекался поэзией Мюссе. При
оценке рассказа надо помнить, что идиллия все же не состоялась.
1 «Норма» — опера итальянского композитора Винченцо Беллини (1831).
2 Малибран, Мария-Фелисия (1808—1836)—французская певица, сестра Полины
Виардо.
3 Геспериды (миф.)—дочери Вечера (Геспер, Веспер), они жили на крайнем За-
паде, у Океана, и охраняли золотые яблоки с помощью дракона, который никогда
не спал. По оцним вариантам мифа Геракл убил дракона и силой взял яблоки,
по другим — защитил Гесперид и получил яблоки в дар от них.
4 «Так Судьба стучится в дверь!» — По преданию, этими словами определил Бетхо-
вен основную тему своей Пятой симфонии.
XXIV. Мариэль
Рассказ впервые напечатан в «Жестоких рассказах» (1883). В критическом изда-
нии 1956 г. суть рассказа связывается с мыслью, высказанной на обрывке черновика
Вилье о женщине, утверждающей: «Я не отдаюсь, я сдаю себя в наем» (СВ, стр. 271).
Но рассказ и жесток, и идеален. Сопоставление с Лукрецией, кажущееся злой
насмешкой, не поверхностно в рассказе. Мариэль со своей единственной любовью
выше вертопрахов, покупавших ее ласки, и выше своего собеседника: она в некото-
ром роде новая Лукреция в том обличий, в котором могла быть таковой девица ее
круга и ее эпохи.
Напомним, что Лукреция — синоним целомудрия — жена Тарквиния Коллатина,
ставшая жертвой насилия со стороны Секста Тарквиния, сына седьмого римского
царя, рассказала мужу и отцу о своем горе, а затем закололась. По легенде это при-
вело к свержению царской власти и установлению республики в Риме в 510 г.
до н. э.
1 Сад Мабйй — увеселительное заведение на Елисейских Полях, в Париже, где уст-
раивались публичные балы, иллюминации, всевозможные аттракционы; балы
в этом саду посещались преимущественно небогатыми людьми, богемой и женщи-
нами легкого поведения.
2 Марион Делорм (1613—1650) —куртизанка, прославившаяся своей красотой и лю-
бовными приключениями.
3 Дафнис и Хлоя — беззаветно любящие друг друга герои одноименной повести
древнегреческого писателя Лонга (II—III вв. н. э.)
4 Лукреция (VI в. до н. э.) — см. преамбулу к примечаниям к данному рассказу.
XXV. Лечение ио методу доктора Тристана
Рассказ впервые появился на страницах «Ла Репюблик де лэттр» 18 февраля
1877 г. Тогда в заглавии была указана и фамилия преступного шарлатана: Шавас-
сю. Рассказ принадлежит к группе остросатирических, антибуржуазных произведе-
ний Вилье.
Жестокие рассказы 229
В ходе работы Вилье дополнительно заострял сатиру. В журнальной редакции
шарлатан пользовался для оглушения пациентов выхолощенным словом «реаль-
ность»; окончательная редакция подчеркивает дегуманизацию буржуазной культуры,
меняя «реальность» на «человечество». В этой редакции раскрыто и ложное поня-
тие «свободы» — как всепоглощающего эгоистического интереса к «своему самочувст-
вию и своим удобствам».
1 Пророк Исайя — опечатка во всех французских изданиях! Надо: Книга пророка
Иезекииля, 37, ст. 3.
2 ...«слышатся Голоса» словно какой-нибудь Жанне д'Арк.— Легенда гласит, что
народная героиня Жанна д'Арк в тринадцатилетнем возрасте услышала голос с не-
бес, подвигнувший ее принять участие в войне с англичанами за освобождение
родины.
XXVI. Сказка любви
Этот рассказ в стихах состоит из отдельных стихотворений, из которых I—VI
написаны и многократно опубликованы в период с 1862 по 1868 г., а одно, VII, на-
печатано впервые в 1875 г. Стихотворения связывают с историей увлечения Вилье
в 60-е годы некоей Луизой Дионне.
XXVI. Сказка любви
Да не вознаградит тебя бог
за добро, тобою мне оказанное!
(Г. Гейне. Лирическое интермеццо)
I. Ослепление
Ночь, вся в очарованье тайны,
Ларец открыла голубой.
Теперь луга в цветах бескрайны,
Как и созвездья надо мной.
Полупрозрачной ночи тени
Озарены в спокойном сне
Цветами в свежести весенней
И звездами там, в вышине.
А ночь моя с ее тоскою
Озарена еще светлей
Одним цветком, одной звездою:
Мечтой моей, красой твоей.
//. Признание
Где лес мой, тени на поляне
И холодок апрельских дней?
Дай губы мне! В твоем дыханье
Есть свежесть леса и полей.
Где Океан мой, весь в тумане,
Где ропот волн и шум глухой?
Скажи мне что-нибудь,— и станет
Волна катиться за волной.
Как от тоски бы мог бежать я?
Зову я солнце прежних дней...
О, спрячь меня в свои объятья,
Верни в спокойствие ночей!
230 Примечания
III. Дары
Когда захочешь ты узнать
Больной души моей отраду,
Могу тебе я рассказать
Одну старинную балладу.
Когда, устав душой в борьбе,
Клянешь ты злой судьбы угрозы,
Я принести готов тебе
Росой обрызганные розы.
Когда, как грустные цветы
Могил и скорби неизбежной,
Мои томленья делишь ты,—
Иду к тебе с голубкой нежной.
IV. На морском берегу
Покинув этот бал, мы шли с ней вдоль прибоя
К жилью изгнанника в туманном далека.
Мы шли; увядший мак дрожал в ее руке;
Был час полночных грез и звездного покоя.
Шумел во тьме прибой, а там при свете звезд
Плыла Атлантика в отливах из опала,
Мистически над ней сияние лежало,
И водорослей йод прохладный ветер нес.
Валы о берег бьют, где злобный ветер свищет,
И с дикой яростью бегут, бегут сквозь мглу,
Чтоб, пеною вскипев, разбиться о скалу.
А в дюнах ряд крестов белеет на кладбище.
Все глуше грохот волн средь мертвой тишины,
И нет уж на крестах, молчаньем угнетенных,
Венков, цветных гирлянд, давно уж унесенных
Порывом злобных бурь во власть ночной волны.
Могильные холмы на берегу, у склона,
Священной полумглы укрыл немой покров,
И тщетно ищет тень ответа мертвецов,—
Ей тайну не узнать извечного Закона.
Дрожа, в свой черный плащ она укрыла грудь
Убежище моих неистовых мечтаний,—
И все дивился я ее лицу в тумане.
О, сфинкс, дурной мой сон и тайной муки путь!
Взгляд, убивающий детей! Все разрушая,
Она готова влечь погибшее с собой.
Ее и любят те, кто породнился с Тьмой,
И говорят о ней, лишь голос понижая.
Опасности над ней сияет ореол,
Но и в объятиях, исполненных отрады,
В ней говорит порок — и грубо, как приклады
Солдатских ружей, враз ударившие в пол.
Жестокие рассказы 231
Но и под бременем позорной славы гулкой,
Под трауром души, бескрылой и пустой,
Она еще полна невинной чистотой,
Подобно лилии в эбеновой шкатулке.
К ней моря грозный гул доносится едва,
Она, склоняя лик, где отложились годы,
Припоминая вновь судьбы своей невзгоды,
Роняет тихие и горькие слова:
—«Давно, давно, когда жила я меж живыми,
Их страсти, факелом ночей озарены,
Вздымались и ко мне, как этот гул волны,
И равнодушно я стояла перед ними.
Прощальный поцелуй касался рук моих,
Но, мертвая душой, без злобы, без желаний
Внимала я мольбам волнений и страданий.
Чего же можно ждать от жертвы волн морских?
Я, чувств лишенная, души гасила пламя.
Я вовсе не жила. И тщетно жизнь текла.
Судьба мне радостей для сердца не дала,
И все мне мерила неверными весами.
Такой останусь я и в тьме могил немых,
Хоть грезится порой мне пиршество былое.
Пусть ищут мертвые в дыханье бурь покоя,
Я буду длить свой сон, не понимая их.»—
Склонил я голову пред бледными крестами
Была близка заря. Чтоб принести покои
Душе, томящейся всей жизнью прожитой,
Так утешал ее я тихими словами.
А море билось там о темных скал края.
—«Но на балу ваш лик улыбка озаряла
И пенью ваших фраз задумчиво внимала
Браслета на руке коварная змея.
Смеясь и радуясь, вдыхая запах розы,
Вплетенной в волосы в сверкании камней,
Когда нас вальс кружил, ваш взор горел нежней,
И тени не было в нем грусти иль угрозы.
Я рад был видеть вас в волнении живом,
Готовую забыть про горечь и печали,
Глаза у вас тогда таинственно сверкали,
Как скаты ледника под солнечным лучом. »-
Но мрачно в сумерках ее сверкали очи,
А бледность смертную окутывал туман
—«По-твоему я вся из заполярных стран
Полгода солнце там. полгода —- сумрак ночи
232 Примечания
У сердца моего есть много тайных сил,
И мой не выдаст взор того, что не забыто...
Люби меня, но знай, что под улыбкой скрыто:
Я вся — подобие покинутых могил.»—
V. Пробуждение
Меня презревшая давно,
Я знаю глубь твоих падений
И цену этих увлечений:
Случайность, деньги — все равно!
В любви ты жаждешь лишь отмщенья,
Улыбкой лживою маня.
Ты стала, небеса кляня,
Забавой ангелов паденья.
И поцелуй кляну я твой,
Отраву нежных уст впивая,
Очаровательница злая,
Жди встречи со своей зимой!
VI. Прощание
В прохладу рук твоих влюбленный,
Всю душу в них я погружал
Прощай! Я от тебя узнал
Тоску ночей, всех звезд лишенных!
Бледнеть при имени твоем?
— Нет, без желаний, без проклятий
Я не хочу твоих объятий,
Чтоб позабыться скучным сном
Дышу я морем в вольной пене,
Я счастлив от тебя вдали,
И кудри мрачные твои
На жизнь мою не бросят тени.
VII. Встреча '
Горит могильный факел твой —
Как будто мертвой ты не стала.
Но за решеткой из металла
Ты мне не кажешься живой.
Не знаю я, какое пламя
Еще горит в твоей груди.
К себе сочувствия не жди,
Смеюсь над прежними мечтами.
Вернуть ты хочешь те года?
Иль только счастья ищут души?
К твоей я страсти равнодушен...
Ты не воскреснешь никогда.
(Перевод Вс. А. Рождественского)
Очерки в прессе Коммуны 233
XXVII. Потусторонние воспоминания
Первоначальный вариант рассказа появился в «Ла Люн» 18 августа 1867 г. под
названием «El desdichado» («Неудачник»), затем — как интермедия — в «Ла Комеди
франсэз» 6 марта 1875 г., а в значительно переработанном виде, под нынешним на-
званием,— в «Ле Парнасе» 15 июня 1878 г. и в «Ле Мольер» 9 января 1879 г. Для из-
дания «Жестоких рассказов» (1883) Вилье вновь отредактировал свое произведение.
Героем рассказа является один из предков автора — Жан-Жером-Шарль де Вилье
де Лиль-Адан; он в середине XVIII в. юношей покинул родину и провел жизнь, пол-
ную приключений.
XXVIII. Провозвестник
Рассказ впервые опубликован под названием «Азраил» в «Ла Либертэ» 26 июня
1869 г., затем, в значительно переработанном виде,— в 1878 г. в издании для люби-
телей, ничтожным тиражом, если вообще не в одном экземпляре, а год спустя
в «Ла Круа э л'эпэ» 18 и 25 апреля 1879 г. под нынешним названием. Для «Жесто-
ких рассказов» автор вновь отредактировал текст 1879 г. Рассказ «Провозвестник»
можно понимать как символическое предсказание падения II империи, вообще — как
выражение мысли, что несправедливость, в каком бы обличий она ни выступала, не
может уйти от рока.
ОЧЕРКИ В ПРЕССЕ КОММУНЫ
Очерки Вилье де Лиль-Адана, находившегося в Париже в дни Парижской Ком-
муны 1871 года, печатались им в газете «Le Tribun du Peuple» («Народный Трибун»),
главным редактором которой был Э. Лиссагаре (1838—1901), журналист левореспуб-
ликанского направления. Очерки Вилье де Лиль-Адана, подписанные псевдонимом
«Мариюс», появились в № 1, 3, 4, 5 и 6 от 17, 19, 20, 21 и 22 мая, т. е. уже накануне
поражения Коммуны. Они долгое время пребывали в забвении и вновь были опуб-
ликованы в журнале «Меркюр де Франс» только в 1953 г. (№ 1080).
Мы ограничились переводом четырех очерков (из пяти), опустив очерк третий
(опубликованный в газете 20 мая), так как он посвящен описанию барельефов Ван-
домской колонны. 12 апреля на заседании Коммуны было принято постановление
о сносе колонны, приведенное в исполнение 16 мая. Художник Курбе, член Коммуны,
ратовал за сохранение ее барельефов как представляющих художественную ценность;
в этой связи, вероятно, и написан очерк Вилье де Лиль-Адана. (Впоследствии колонна
была восстановлена.)
1 Исси взят — форт Исси был захвачен версальскими войсками 8 мая 1871 г.
2 Ване под угрозой/ — форт Вани был занят версальскими войсками 14 мая.
3 Франкмасонская ложа Франции — 26 апреля парижские франкмасоны явились на
заседание Коммуны, а 29 апреля большинство франкмасонов (55 лож) публично
манифестировали сочувствие борьбе Коммуны, водрузив свои знамена на передо-
вых позициях.
4 «Официальная газета Коммуны».— Только один номер, от 30 марта, носил такое
название, а до этого и в дальнейшем издание именовалось «Официальная газета
Французской республики».
5 Булонский лес.— К 14—18 мая версальцы сосредоточили в Булонском лесу боль-
шие силы пехоты и артиллерии.
6 Гракхи — братья, политические деятели Древнего Рима, боролись за аграрные ре -
формы в интересах крестьянства (II в. до н. э.).
7 ...вечерами на празднествах...— Здесь и далее речь идет о знаменитых «правительст-
венных» концертах в Тюильрийском дворце в пользу раненых, вдов и сирот за-
щитников Коммуны. В этом очерке, напечатанном 17 мая, Вилье де Лиль-Адан мог
говорить о первом или втором из этих концертов, происходивших 6 и 11 мая (тре-
тий состоялся 18 мая).
231 Примечания
8 ...там должны накормить вас намек на благотворительные цели концертов
в Тюильри.
9 «Возмездие» — книга политической сатиры Виктора Гюго, направленная против
II империи (1853).
10 ...зал маршалов империи — в Тюильрийском дворце; в нем происходили концерты.
11 Пикар, Эрнест (1821—1877) —министр финансов в так называемом правительстве
Национальной оборопы, буржуазный республиканец, наживавшийся (в качестве
министра) на крупных финансовых спекуляциях, отъявленный враг Коммуны.
12 Вопреки Беранже — намек на то, что Беранже во многих своих песнях (особенно
изданных посмертно) воспевал Наполеона I.
13 «памятник, отлитый из вражеских пушек» —Вандомская колонна в честь Наполео-
на I, на отливку которой пошла бронза захваченных в походах орудий.
14 Герой Седана — иронически Наполеон III, сдавшийся 1 сентября 1870 г. в плен
пруссакам во главе стотысячной армии.
15 Ваграм — место победы Наполеона I над австрийскими войсками 6 июля 1809 г.
16 «Голуа» — газета монархически-бонапартистского направления, в дни Коммуны из-
давалась в Версале.
17 Месяц Богоматери — у католиков: май.
18 Орсиниевы бомбы — бомбы, находившиеся в пользовании войск Коммуны. Они по-
лучили название от имени Феликса Орсини, революционера, совершившего поку-
шение на Наполеона III 14 января 1858 г.
19 Лерида — город в Испании (в Каталонии), безуспешно осаждавшийся в 1646 г.
французским полководцем, принцем Конде (1621—1686). Автор допустил ошибку,
говоря, что город был взят французами.
20 «Батрахомиомахия» («Война мышей и лягушек») — античная комическая поэма,
пародия на героический эпос.
21 Блокада — имеется в виду объединенная блокада Парижа версальцами и прусской
армией.
22 ...Все народы нам братья... — несколько измененный текст «Песни солдат» фран-
цузского пролетарского поэта Пьера Дюпона (1848).
23 Гигес — царь Лидии (VII в. до н. э.). По преданию, он был пастухом, а затем
с помощью волшебного кольца, которое делало человека невидимкой, появился
при дворе царя Кандавла, стал его фаворитом, потом убил царя и занял его пре-
стол.
АКСЕЛЬ
Впервые часть первая драмы напечатана в «Ла Ренессанс литтерэр э артистик»
в октябре — декабре 1872 г. Неопубликованный перевод М. А. Волошина (Кокте-
бель, май —октябрь 1909).
История создания и общая характеристика драмы «Аксель», ее первой антикато-
лической и атеистической части «Мир религиозный» дана выше в статье.
Здесь, помимо постраничных примечаний, изложена краткая история перевода
драмы — на основе материалов, подготовленных В. П. Купченко в архиве дома Мак-
симилиана Волошина в Планерском (Коктебель).
Интерес Волошина к «Акселю», который он именовал «гениальной трагедией»,
зафиксирован в печати с 1907 г. (статьи в газете «Русь», 16 февраля и 19 июня
1907 г.). Ряд документов свидетельствует о тщательной подготовке Волошиным пере-
вода, например письмо В. Я. Брюсову от 24 декабря 1908 г. из Парижа: «Я сейчас пе-
речитывал в Национальной Библиотеке * все редкие и полузабытые вещи Вилье де
Лиль-Адана (Morgane Elën, Nouveau Monde). Там есть страницы поразительные и
концепции редкой драматической силы, несмотря на юношескую реторику и местами
излишнюю сложность» (ГБЛ, ф. 386, к. 80, ед. хр. 34). Не ограничиваясь печатными
* Сокращения в рукописных документах Волошина раскрыты, а орфография уп-
рощена. Перевод латинских текстов наш.— Ред.
Аксель 235
источниками, M. A. Волошин расспрашивал людей, лично знавших Вилье (например,
вечер у Рене Гиля в июне 1908 г.). Незадолго до возвращения из последней поездки
во Францию М. А. Волошину удалось в беседе с упоминавшимся в статье В. Э. Миш-
ле осуществить фактическую проверку своего сопоставления первой части «Акселя»
с «Легендой о великом инквизиторе»: «Это было в 1916 году — перед моим отъездом
в Россию (...), беседа (с Мишле.— Ред.) перешла на «Великого Инквизитора». «Братья
Карамазовы» как роман еще не был переведен. Но «Великий Инквизитор» в пере-
ложении (не знаю чьем) появился в «Revue Blanche». Вилье его прочел и говорил об
этой теме. Ему не нравилась трактовка Достоевского, и он на эту тему импровизи-
ровал целый рассказ. Который тут же кем-то был записан с его слов и напечатан.
Не помню, в каком из малых журналов, которых в ту эпоху много возникало и гиб-
ло (...) Так что влияние «Великого Инквизитора» на «Акселя» можно считать уста-
новленным. Я это сделаю непременно, когда попаду в Париж» (пз записей 1932 г.,
в настоящее время переданных М. С. Волошиной в ИРЛИ АН СССР).
Перевод «Акселя» М. А. Волошин предполагал напечатать в журнале «Аполлон»
в 1911 г., но, как видно из его письма секретарю редакции «Аполлона» Е. Зноско-
Боровскому, публикация не состоялась, так как журнал не мог напечатать драму
целиком, а на частичную публикацию Волошин не соглашался.
Поскольку мы печатаем драму в качестве дополнения к «Жестоким рассказам»,
редакция допустила некоторое сокращение текста, всюду отмеченное отточием в
скобках. В остальном перевод М. А. Волошина оставлен без изменений. Читателю
наших дней могут не сразу открыться обволакиваемая церковной лексикой идея «Ак-
селя» и связь драмы с переворотом, произведенным Парижской Коммуной, отделив-
шей и в мышлении современников церковь от государства.
Вилье символически показывает не одно крушение католической церкви, но уяс-
, ненное им самим до конца, вероятно, именно в 1871 г., крушение основ веры.
Лишь в эпоху глубокого кризиса самой веры — на пороге XX в.— могла стать
по-настоящему актуальной задача, которую надеется решить архидиакон в своей
проповеди героине: «...поразить сердце и мысль в известном смысле неверующей...
и главным образом мысль». Вынужденный, в связи с новыми историческими усло-
виями, обращаться к атеистически мыслящим людям, католицизм, по драме, проти-
вопоставляет атеизму несостоятельную уже в предпосылке, поскольку он обращается
к мысли, риторику: «Мы не покоримся этому рабству: мыслить. Сомневаться — это
значит тоже повиноваться ему...»
Обращаться к мысли с протестом против мышления — бессмыслица, и Вплье по-
казывает, что действительным аргументом католической церкви было насилие. По-
родить свет в гордой душе — темницей и насилием! Насилие проходит через всю
драму, принимая к концу произведения самые чудовищные формы, аналогичные тем,
о которых сообщала пресса Коммуны. Право принудить героиню к монашеству обос-
новывается и теоретически («...господь... может... неволить... все сознания, все сво-
боды!»), и практически. Ева де Моперс ограблена («...ты нищая, ты отреклась от
своих богатств во имя веры...»). Девушка насильственно заточена вопреки закону,
который даже во время реставрации Бурбонов должен был защитить ее: «Власть
мирская укрыла бы теперь твое бегство, я знаю, но ты не выйдешь отсюда!»
Прямо опираясь на разоблачения прессы Парижской Коммуны (о которых гово-
рилось в статье), Вилье показывает во всем ужасе форму насилия, избранную цер-
ковью: заточенье в подземном могильном склепе, долженствующее превратить моло-
дую девушку в больную старуху. И это в лучшем случае,— ибо всем действием под-
сказывается, что героиню ждет погребение заживо.
Все эти преступления католицизма, согласно драме, ткутся по канве самого от-
вратительного лицемерия — даже заточая Еву де Моперс в могильный склеп, духов-
ный палач исполнен елейности: «Приблизьтесь, дочь моя! Дочь моя возлюбленная!
Спуститесь сюда! Будьте счастливы!..»
Лицемерие отчасти послужило причиной неудачи церковной расправы. «Ласко-
вое» погребение заживо один на один сорвалось, когда безмолвная девушка воору-
жилась пожертвованной моряками двуострой секирой. Простая драматическая ре-
марка в сцене у входа в склеп запела под пером Вилье, как стихотворение в прозе:
236 Примечания
«Ошеломленный архидиакон отступает. Сара наступает на него, на этот раз высоко
подняв сверкающий топор! Старик смотрит вокруг себя, после смотрит на нее. Он
видит, что он один: если только он раскроет рот, страшное оружие, зажатое в юной
руке, спокойной и мятежной, обрушится на него, как гром».
Действие первое
1 Аполлодора — малоизвестная святая. В связи с дальнейшей судьбой героини дра-
мы возможна ассоциация со св. Аполлинарией, подвизавшейся, по легенде, в муж-
ском одеянии.
2 ...фигура, закрытая покрывалом — это безмолвная героиня драмы Ева-Сара-Эмма-
нуила де Моперс, произносящая лишь одно слово, слово отречения — «Нет».
3 Архидиакон — здесь старший иеродиакон, осуществляющий высшую церковную
власть в женском монастыре. У Вилье. вероятно, и символически, это — «главный
служитель церкви» (греч:. «архидиаконос»).
Сцена первая
4 ...свободная, как ребенок... (ср. далее: «...вы свободны нас покинуть») —начало темы
церковного лицемерия: в ходе действия раскрывается, насколько Ева «свободна»
в своих решениях, каким наказаниям она подвергалась и какие ей грозят.
Уже первые страницы воспроизводят «классику» католического лицемерия.
5 Вот документ, в котором вы отрекаетесь от всех своих имуществ в пользу общи-
ны.— Вилье не забывает материальную подоплеку драмы (ср. конец сцены вто-
рой).
Сцена третья
6 ...весьма древняя секта Розенкрейцеров.— Официальная церковь, особенно католи-
ческая, жестоко преследовала различные братства «иллюминатов» (озаренных, по-
священных), в большей или меньшей степени связанных с различными антифео-
дальными движениями, и считавших, что они обладают более глубокой тайной
мудростью по сравнению с церковным учением. Розенкрейцеры, с XVIII в. часто
сотрудничавшие с франкмасонами, вели родословие своего учения чуть ли не от
времен фараона Эхнатона, древнеаравийских и древнесирийских мистиков (отсю-
да указание на города Тадмор и Гезер). Первым печатным источником секты яв-
ляется изданная в 1614 г. книга «Слава братства», где излагается легенда об осно-
вателе братства с явно символическим пменем: Христиан Розенкрейц («Христианин
Розы Креста»). Автором книги, по-видимому, был лютеранский пастор И. Ф. Ан-
дреэ (1586—1654). Господство позитивизма в XIX в. порождало в виде протеста
интерес к мистическим сектам. В начале 70-х годов у Вилье он мог быть обострен
активностью франкмасонов и розенкрейцеров в защите Коммуны, отмеченной, как
было видно, и в официальных документах Коммуны, и в очерках о Коммуне са-
мого Вилье.
Для сюжета дальнейших частей «Акселя» связь героев с розенкрейцерами
имеет большое значение.
Сцена четвертая
7 Глубокой и страшной радостью.— Вилье отмечает страх церковных деятелей пе-
ред радостным утверждением человеческого начала.
8 ...надо будет установить строжайший надзор за нею — даже если Ева де Моперс
стала бы монахиней, с нее не был бы снят «строжайший надзор».
9 ...поразить сердце и мысль... неверующей...— см. вводное примечание к «Акселю».
Аксель 237
Сцена шестая
10 ...к распростертой Саре — Вилье собирает воедино все античеловеческое в посвя-
щении в монахини: «пресмыкается здесь», «восходя на костер», «удар заупокой-
ного колокола», именование монахини «покойной» и т. п.
11 св. Фома (и ниже Ангел Учения) —т. е. знаменитый доминиканский теолог XIII в.
Фома Аквинский (1225—1274), прозванный «ангелическим доктором».
12 св. Августин — по-православному блаженный Августин (354—430), один из осно-
вателей специфического учения римско-католической церкви.
13 Низвергнись же...— здесь начинается собственно проповедь архидиакона Еве, ярко
обнаруживающая бесчеловечность и противоречия церковных авторитетов.
14 св. Павел — т. е, апостол Павел; следует обратить внимание, что вслед за его сло-
вами о надежде верующих д драме Вилье указано: «заупокойный звон».
15 св. Гилъдегарда (1098—1179) — «Рейнская сивилла», настоятельница монастыря
в Рупертсберге, прославившаяся описанием своих видений и богословски-естествен-
нонаучными трактатами.
16 Лактанций (ок. 240 — ок. 320) — христианский апологет времен императора Кон-
стантина, настаивавший на насаждении христианства среди ученых и деятелей
искусства. Позже на его авторитет охотно ссылались враги ренессансной концеп-
ции освобождения культуры от церкви.
17 св. Исидор Дамиеттский (середина V в.) — обычно именуемый не Дамиеттским, а
Пелусийским, по названию города в низовьях Нила; христианский апологет, автор
многочисленных писем, достаточно характеризуемый приведенным Вилье изувер-
ским суждением.
18 ...булла папы Климента V (1305—1317).— Ссылка может расцениваться как зло-иро-
ническая, ибо при Клименте V, враге Данте, помещенном великим поэтом в ад,
началось «авиньонское пленение пап» (1309—1377/1408), подорвавшее средневе-
ковый авторитет католической церкви.
19 Если каждая из трех тайн...— Определение веры от противного — если бы вера ив
казалась «немыслимой», «какая заслуга была бы в нашей вере?» — представляет
собой ироническую аргументацию. Такой же характер имеет ниже ссылка на Тер-
туллиана (ок. 160 — ок. 220), римского христианского апологета, сторонника не-
терпимости и преследования еретиков, которому приписывается формула: «верю,
потому что абсурдно».
20 св. Бернар (1090—1153) — по-русски чаще употребляют латинизированную фор-
му — Бернард. Реформатор католической церкви, сторонник придания ей строгого
и воинствующего характера.
СОДЕРЖАНИЕ
ЖЕСТОКИЕ РАССКАЗЫ (1883)
Текст Приме-
чания
I. ДеВИЦЫ Бьенфилатр (1874) (Перевод А. П. Зельдович) 5 214
II. Вера (1874) (Перевод Е.А.Гунста) И 215
III. Уох рориН (1880) (Перевод Е.А.Гунста) 18 216
IV. Две ВОЗМОЖНОСТИ (1883) (Перевод Е.А.Гунста) . . . 20 217
V. Реклама на небесах (1873) (Перевод м. В. Вахтеровой) 30 217
VI. Антония (1875) (Перевод Е. А. Гунста) 33 218
VII. Машина славы (1874) (Перевод Е. А. Гунста) .... 34 218
VIII. Герцог ПортланДСКИЙ (1883) (Перевод Е. А. Гунста) . 45 219
IX. ВирЖИНИ И Поль (1874) (Перевод Е. А. Лопыревой) . . 50 220
X. Посетитель финальных торжеств (1874) (Перевод
В. Е. Шора) 53 220
XI. Нетрудно ошибиться (1875) (Перевод М. В. Вахтеровой) 71 222
XII. Нетерпение ТОЛПЫ (1876) (Перевод М. В. Вахтеровой) 73 222
XIII. Тайна Старинной музыки (1878) (Перевод М. В. Вах-
теровой) 78 222
XIV. ТОНКОСТЬ чувств (1876) (Перевод Е. А. Гунста) ... 81 223
XV. Лучший В мире обед! (1874) (Перевод Э Л. Липецкой) 87 223
XVI. Желание быть человеком (1883) (Перевод Е. А. Гунста) 92 224
XVII. Цветы небытия (1880) (Перевод О. В. Моисеенко) ... 99 225
XVIII. Аппарат для химического анализа последнего вздо-
ха (1874) (Перевод О. В. Моисеенко) 100 225
XIX. Разбойники (1882) (Перевод Ю. Б. Корнеева) 105 225
XX. Королева Изабо (1880) (Перевод Ю. Б. Корнеева) . . 109 226
XXI. Мрачный рассказ, а рассказчик еще мрачнее (1877)
(Перевод Е.А.Гунста) 114 227
* Дата в скобках указывает время первой публикации.
Содержание 2 39
XXII. Предчувствие (1867—1868) * 228
XXIII. Незнакомка (1876) (Перевод М. В. Вахтеровой) .... 120 228
XXIV. Мариэль (1883) (Перевод Е. А. Гунста) 129 228
XXV. Лечение по методу доктора Тристана (1887)
(Перевод Е. А. Лопыревой) 135 228
XXVI. Сказка любви (1862—1868) ** 229
XXVII. Потусторонние воспоминания (1867) 233
XXVIII. Провозвестник (1869) 233
ДОПОЛНЕНИЯ
Из произведений времени Парижской Коммуны
и начала 1870-х гг.
Очерки в прессе Коммуны (17—22 мая 1871 г.)
(Перевод Е. А. Гунста) 139
I. Картина Парижа 139 233-
234
II. Клубы 142 234
IV. Кафе-концерты 144 234
V. Охота на уклоняющихся 146 234
Первая часть драмы «Аксель» (1872). — «Мир религиозный».
(Перевод Максимилиана Волошина) . • 149 234
Действие первое. ...И принудьте их войти! . . . 149 236
Действие второе. Отрекшаяся 161
ПРИЛОЖЕНИЯ
Н. И. Балашов. Творчество Вилье де Лиль-Адана в перспективе
развития общедемократических направлений француз-
ской литературы XX века 167
ПРИМЕЧАНИЯ
(Составили Н. И. Балашов и Е А Гунст)
Обоснование текста 213
Жестокие рассказы 214
Очерки в прессе Коммуны 233
Аксель 234
* Об этом рассказе и рассказах XXVI, XXVII, XXVIII см. в Обосновании текста.
** Текст рассказа в переводе Вс. А. Рождественского помещен в Примечаниях
(стр. 229—232).
Огюст Вилье де Лиль-Адан
ЖЕСТОКИЕ РАССКАЗЫ
Утверждено к печати
редколлегией серии
«Литературные памятники»
Редактор Д. П. Лбова
Художественный редактор
Г. П. Поленова
Технический редактор Ю. В. Рылина
Корректоры
В. А. Гейшин, Ф. Г. Сурова
Сдано в набор 7/1 1975 г.
Подписано к печати 30/У 1975 г.
Формат 70X90716. Бумага № 1. Усл. печ. л. 17,6.
Уч.-изд. л. 18,3. Тираж 100 000 экз. 1-й завод
(1—50 000). Тип. зак. 1594. Цена 1 р. 44 к.
Издательство «Наука».
103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука».
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 10
огюст
ВИЛЬЕ де ЛИЛЬ-АДАН
ЖЕСТОКИЕ
РАССКАЗЫ