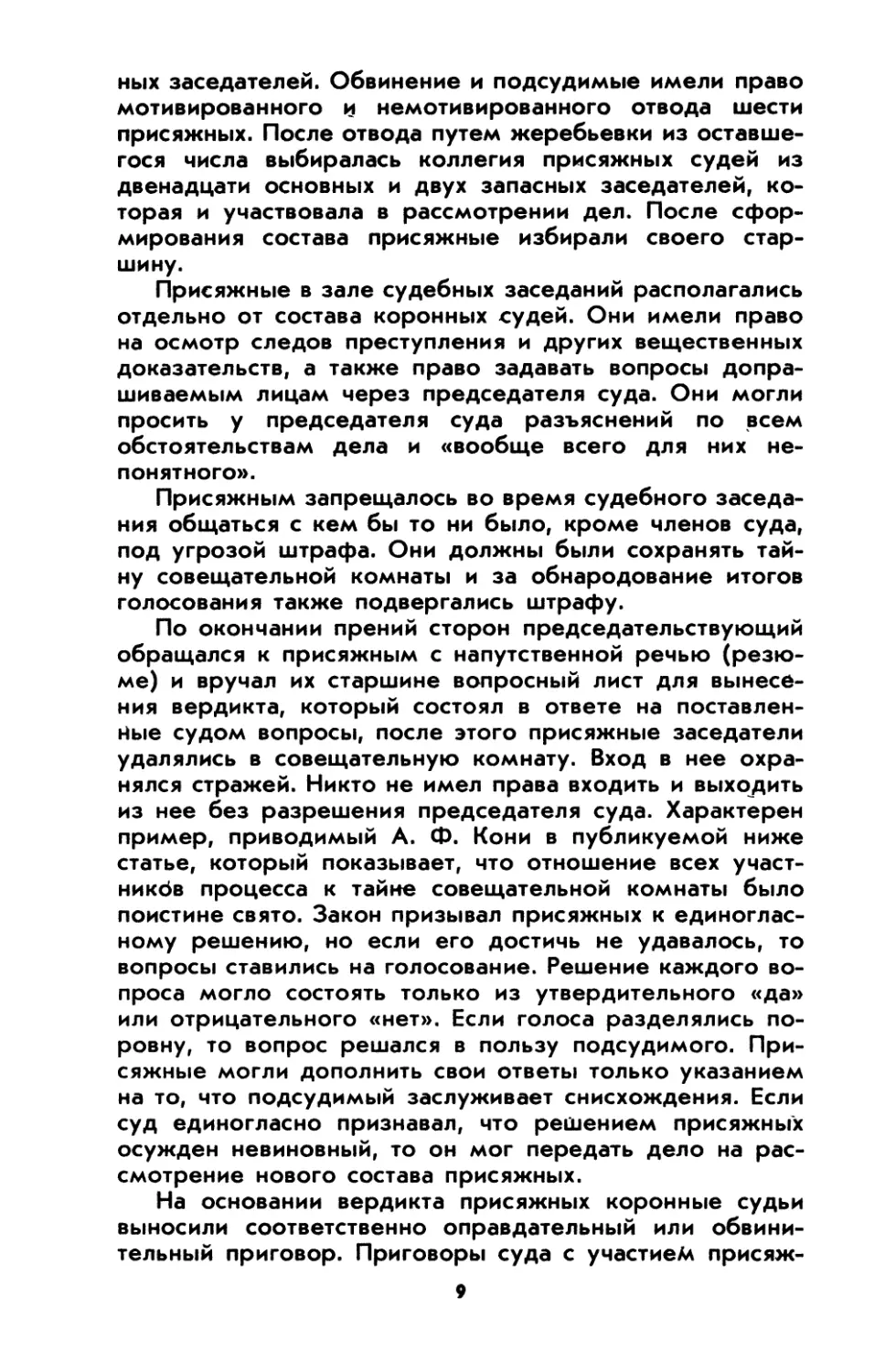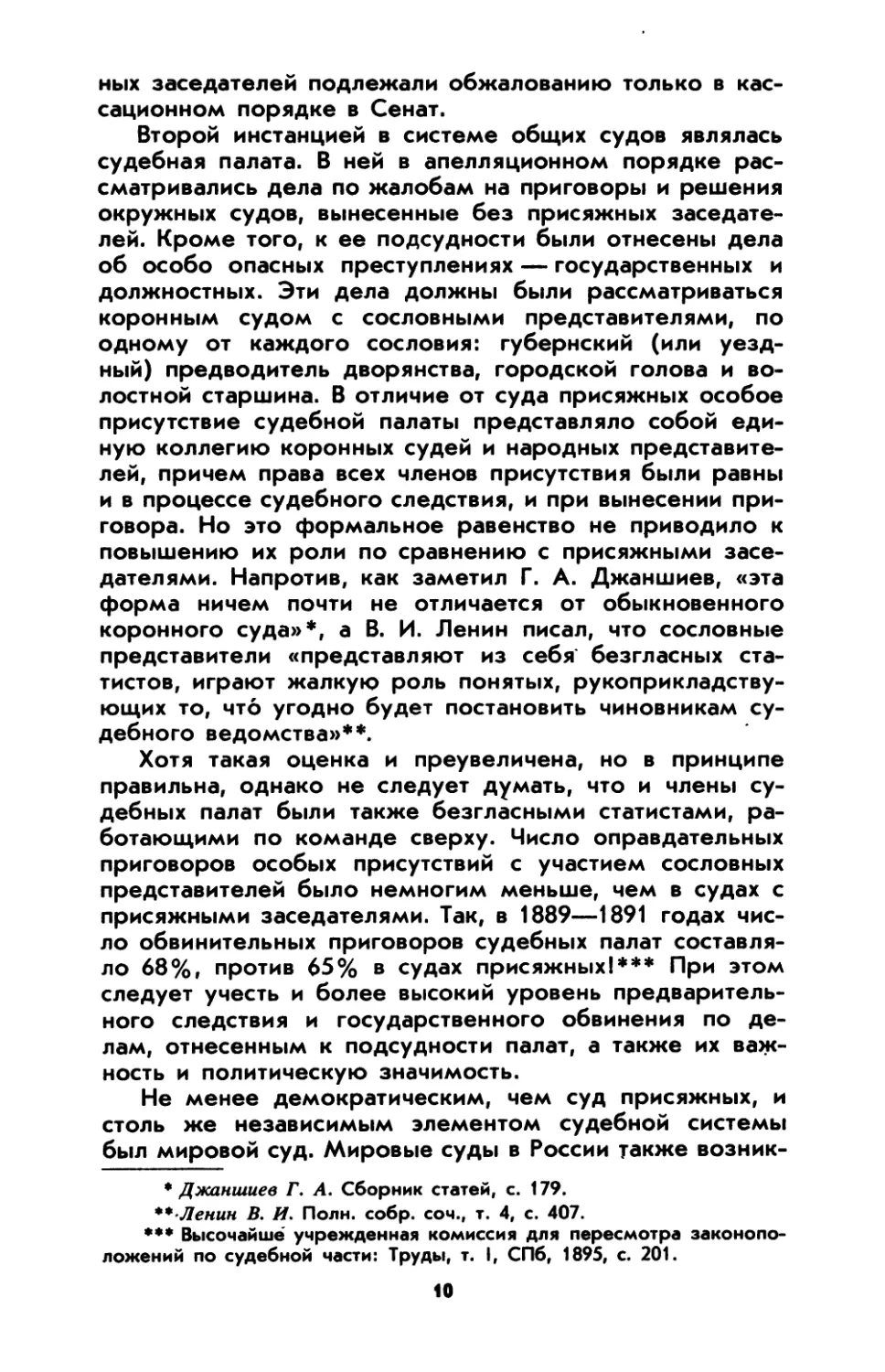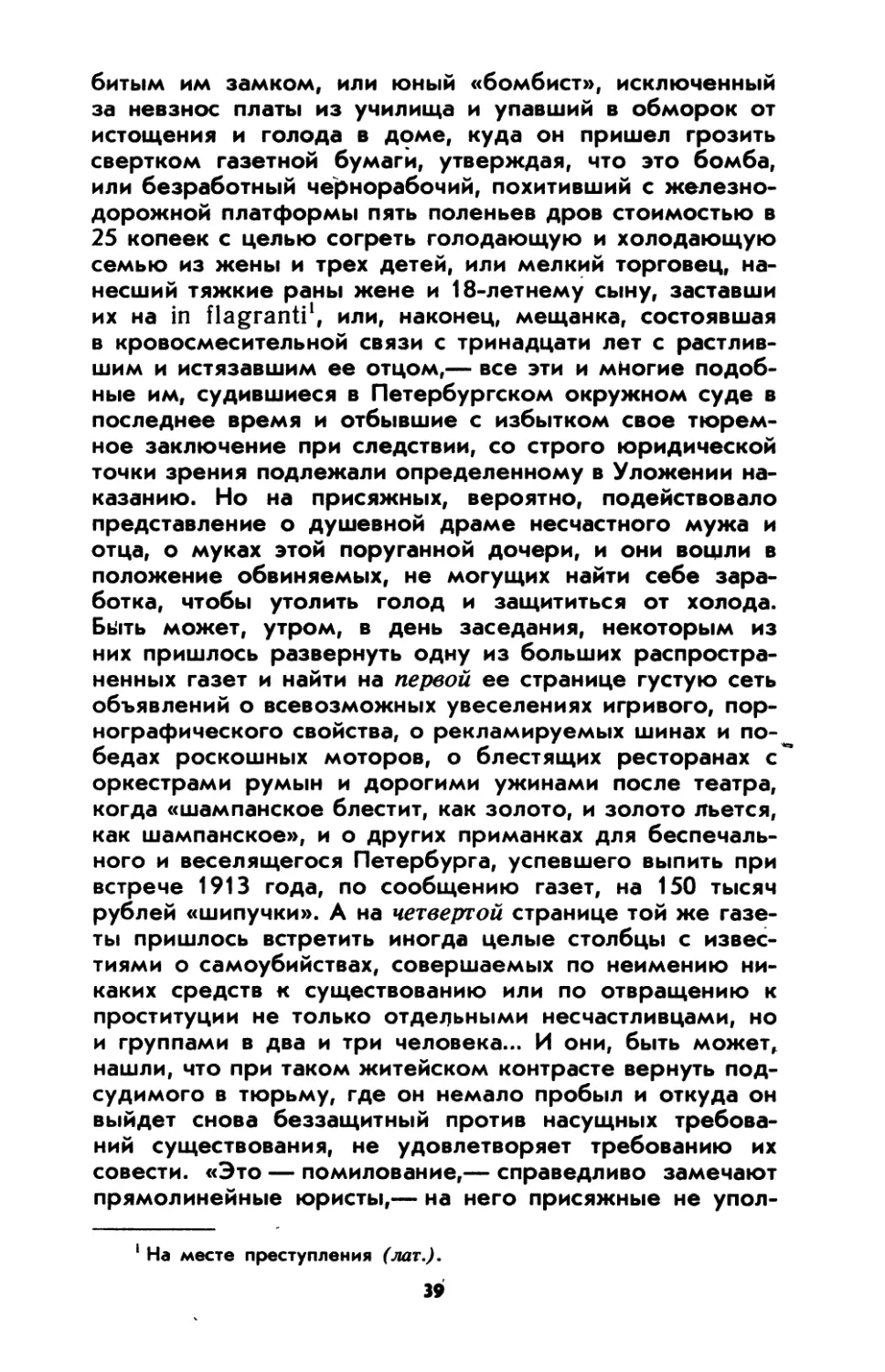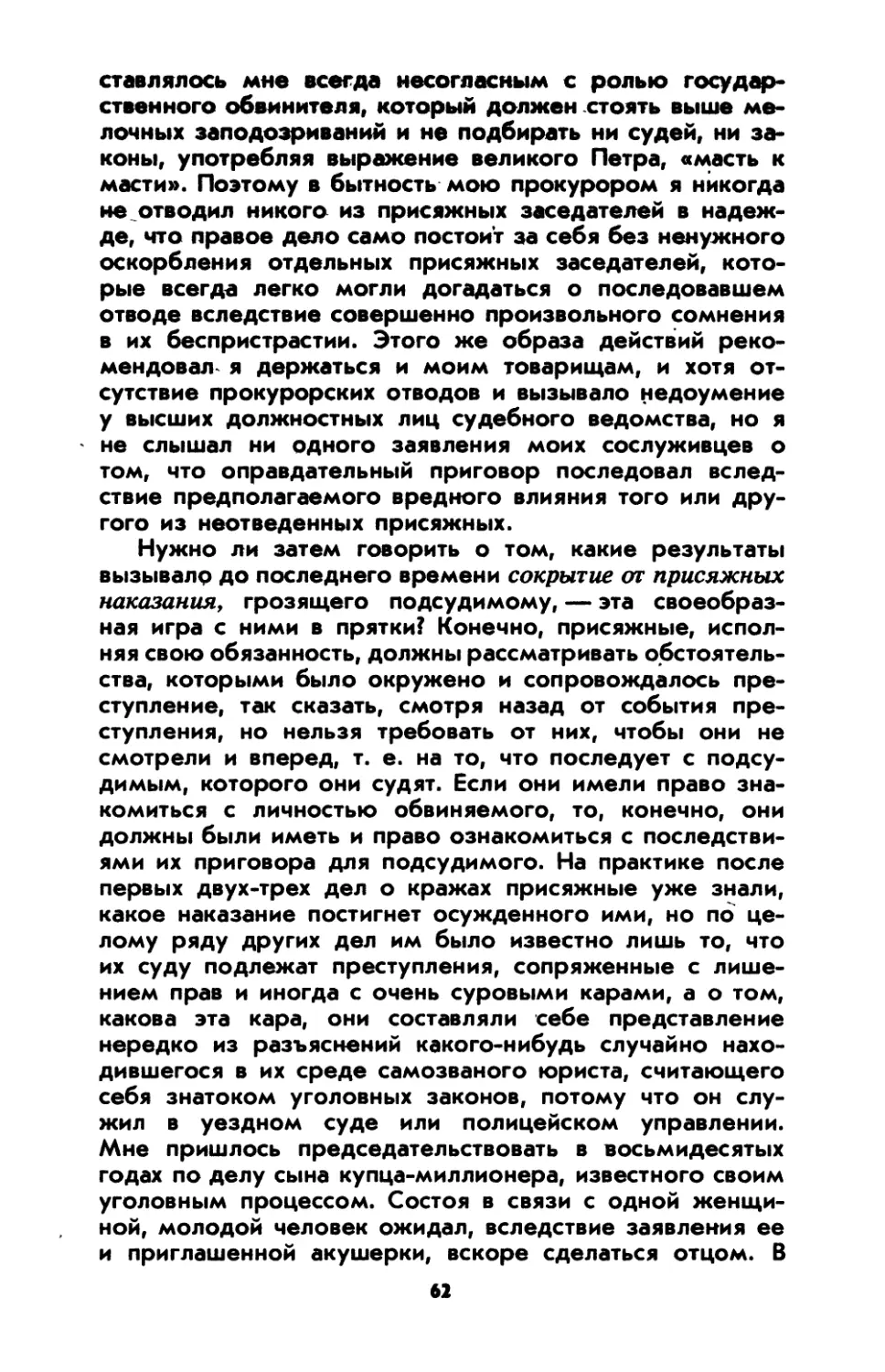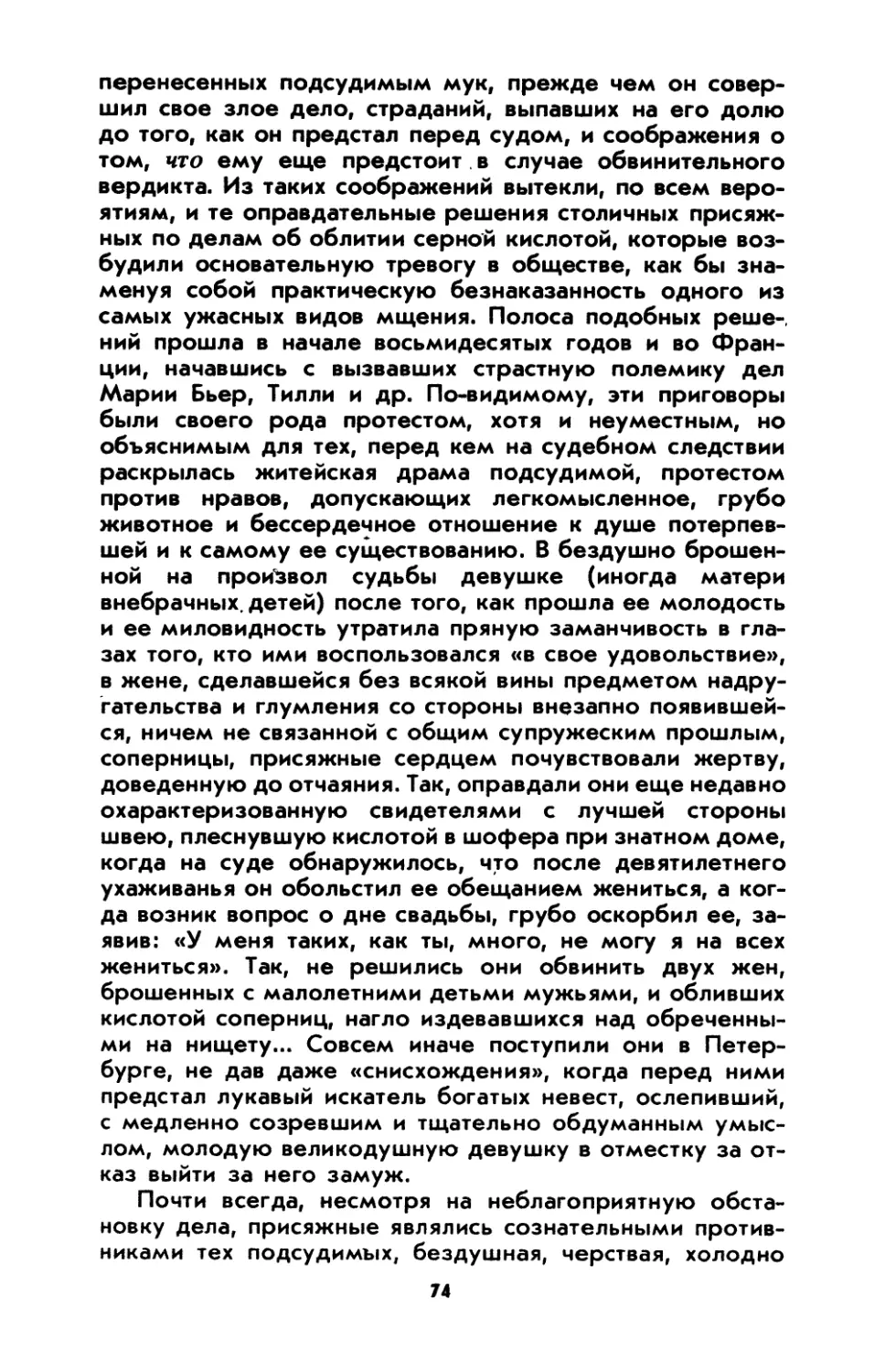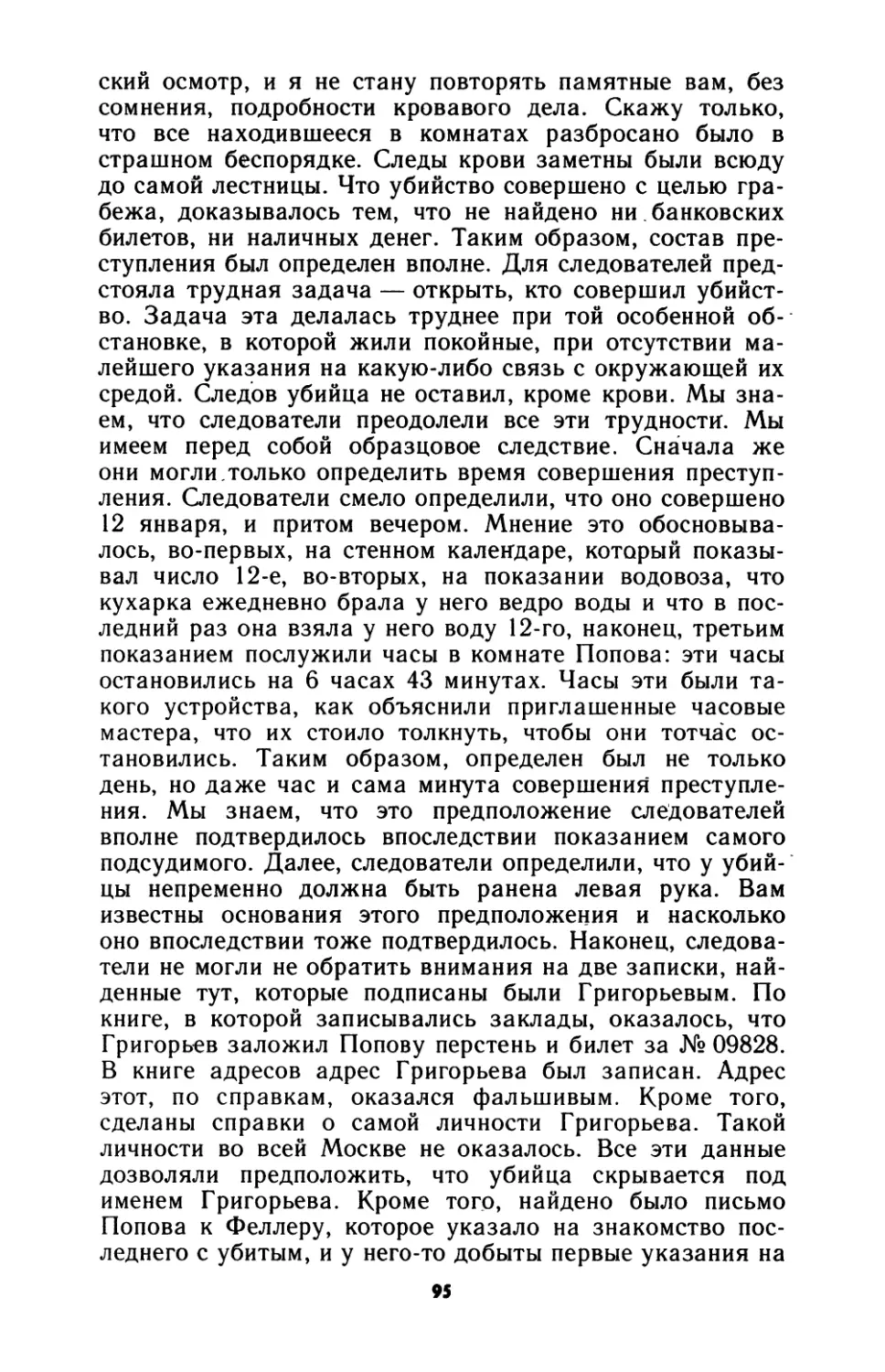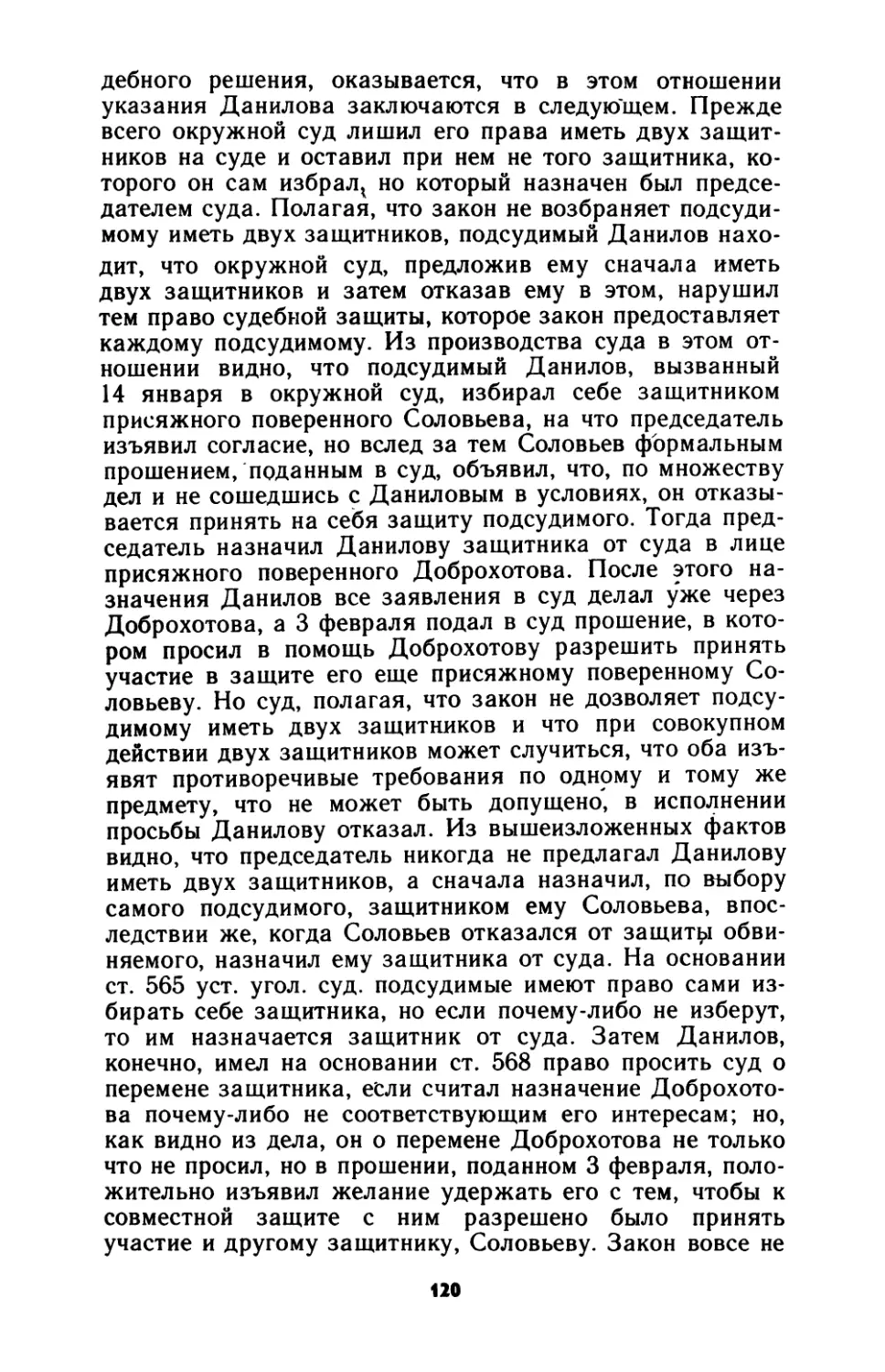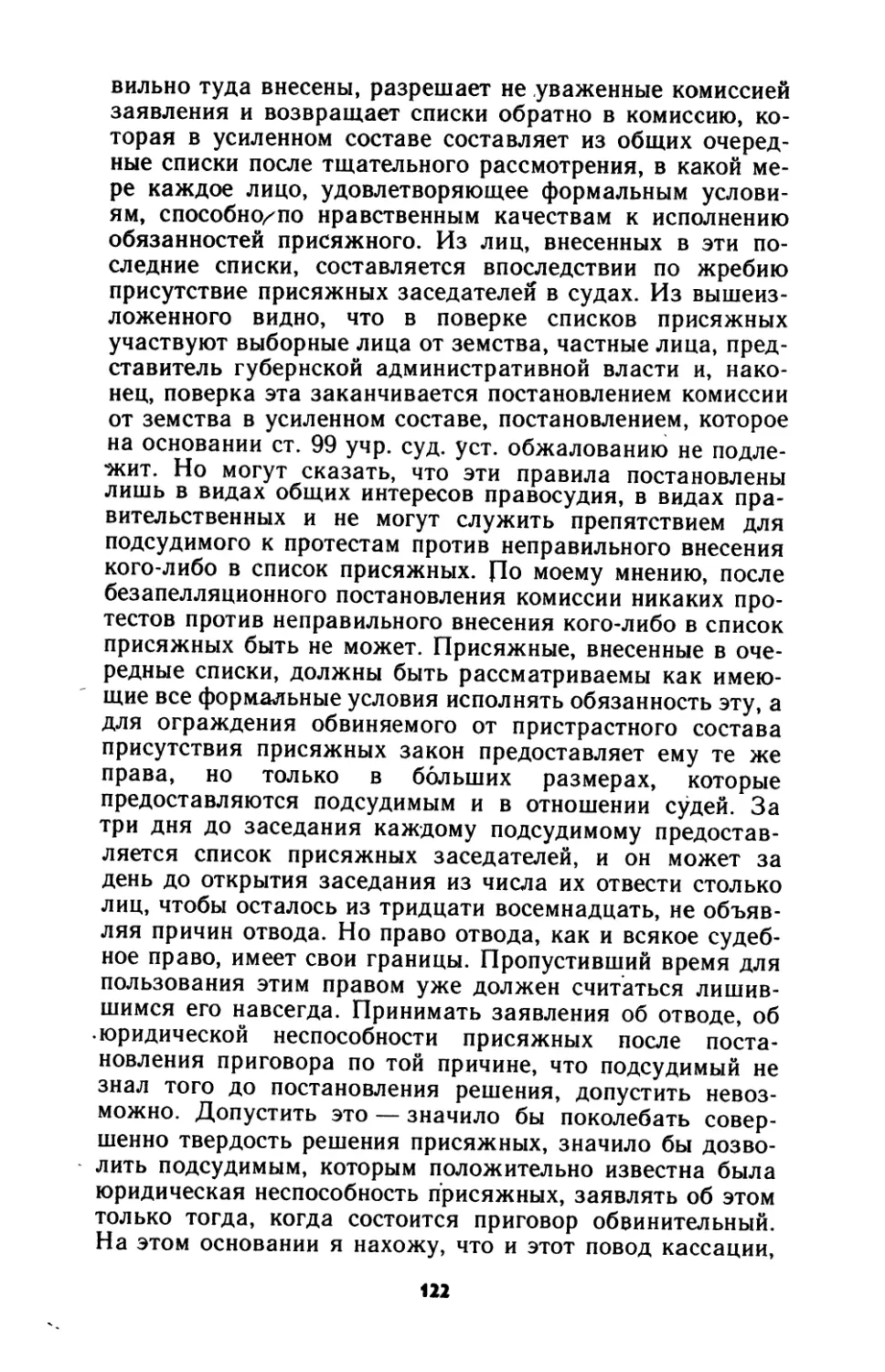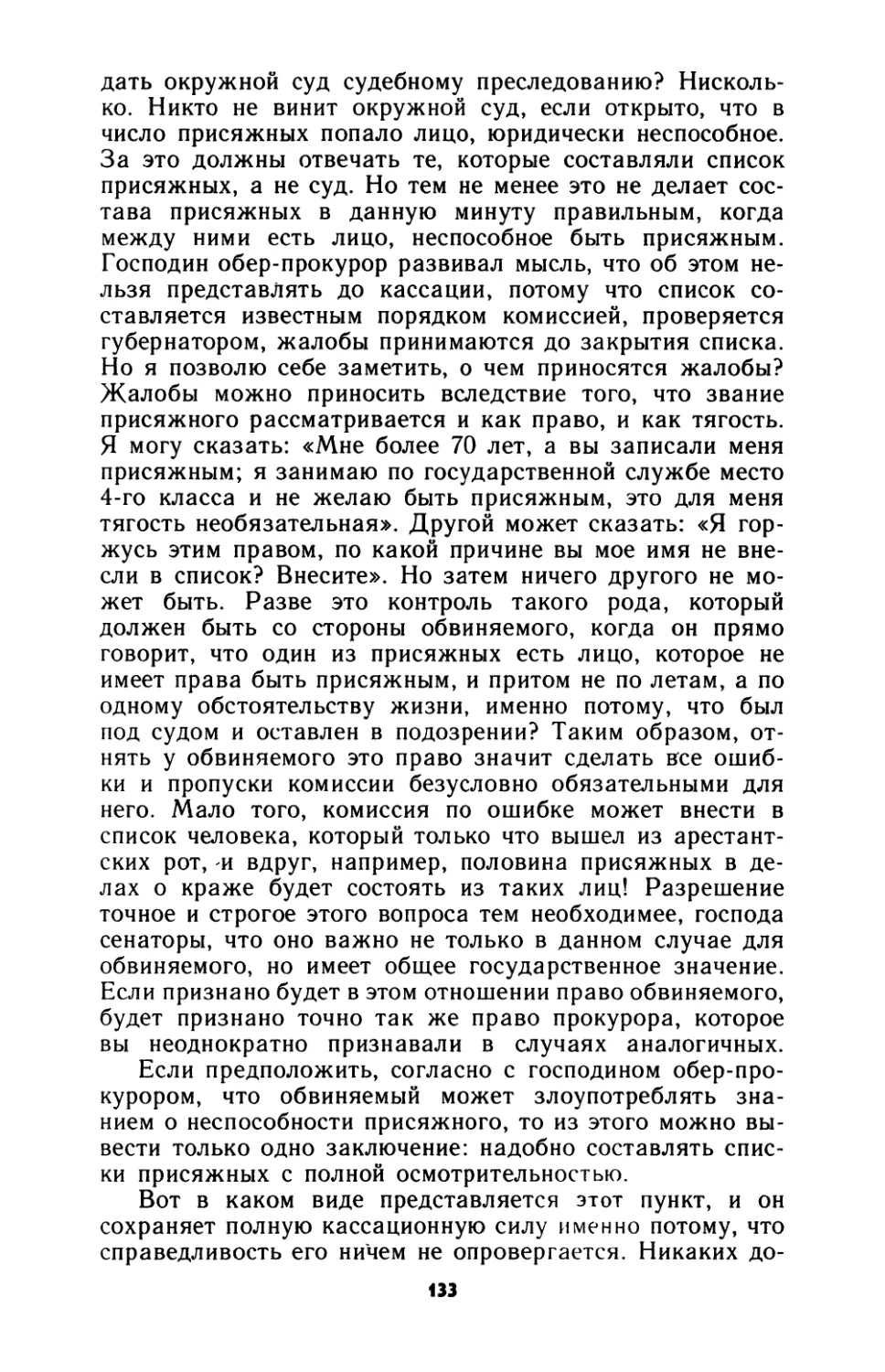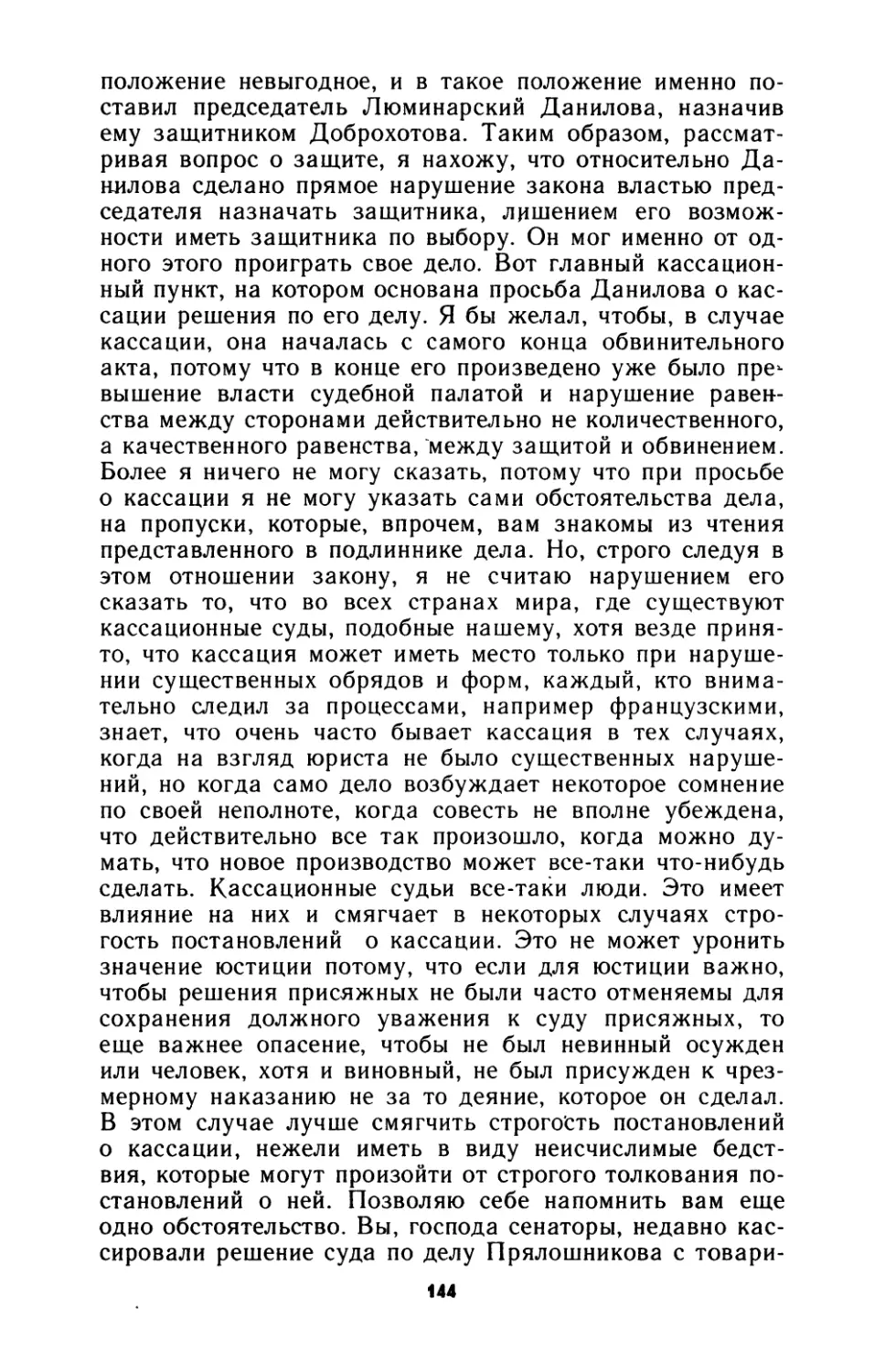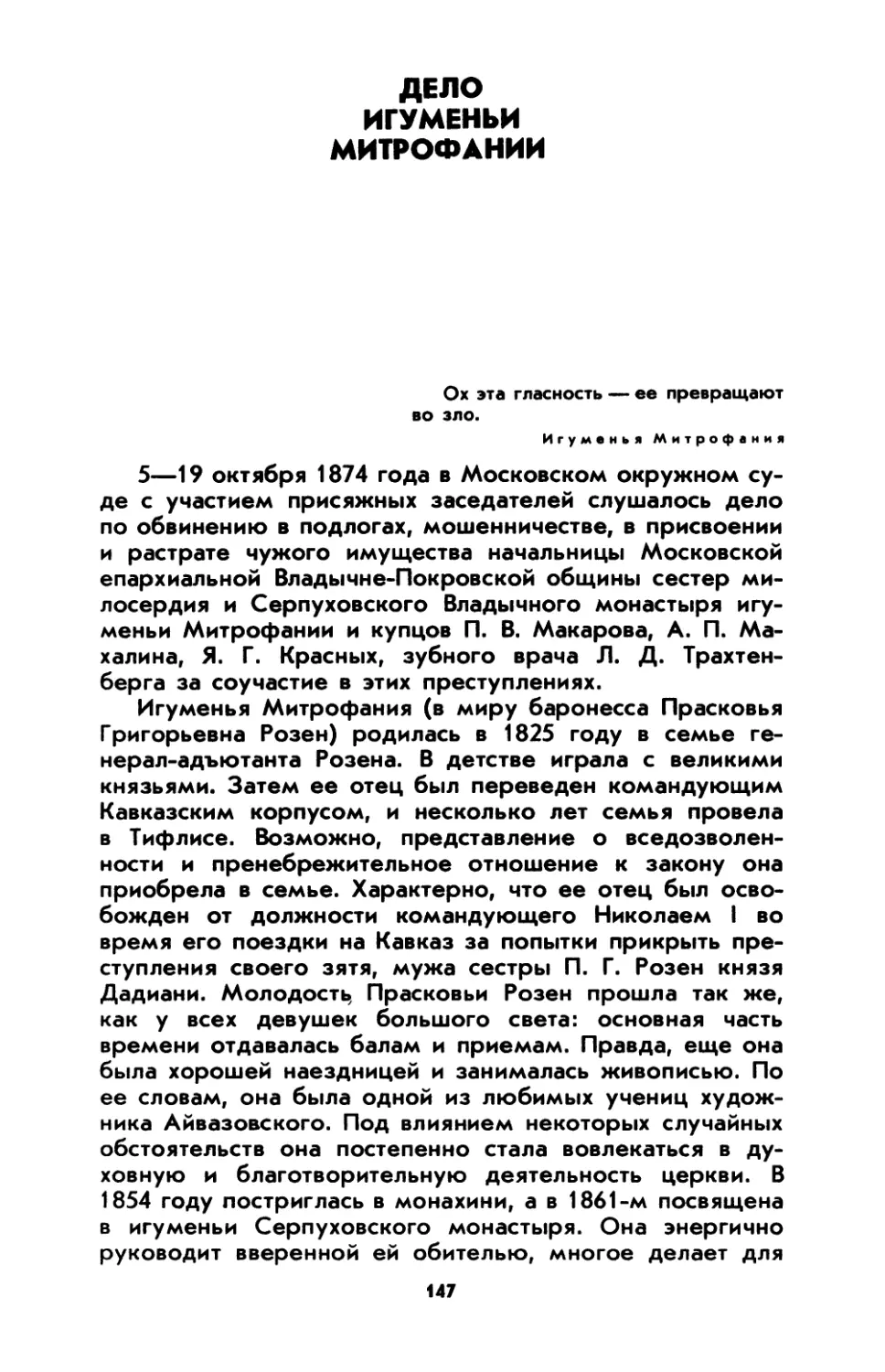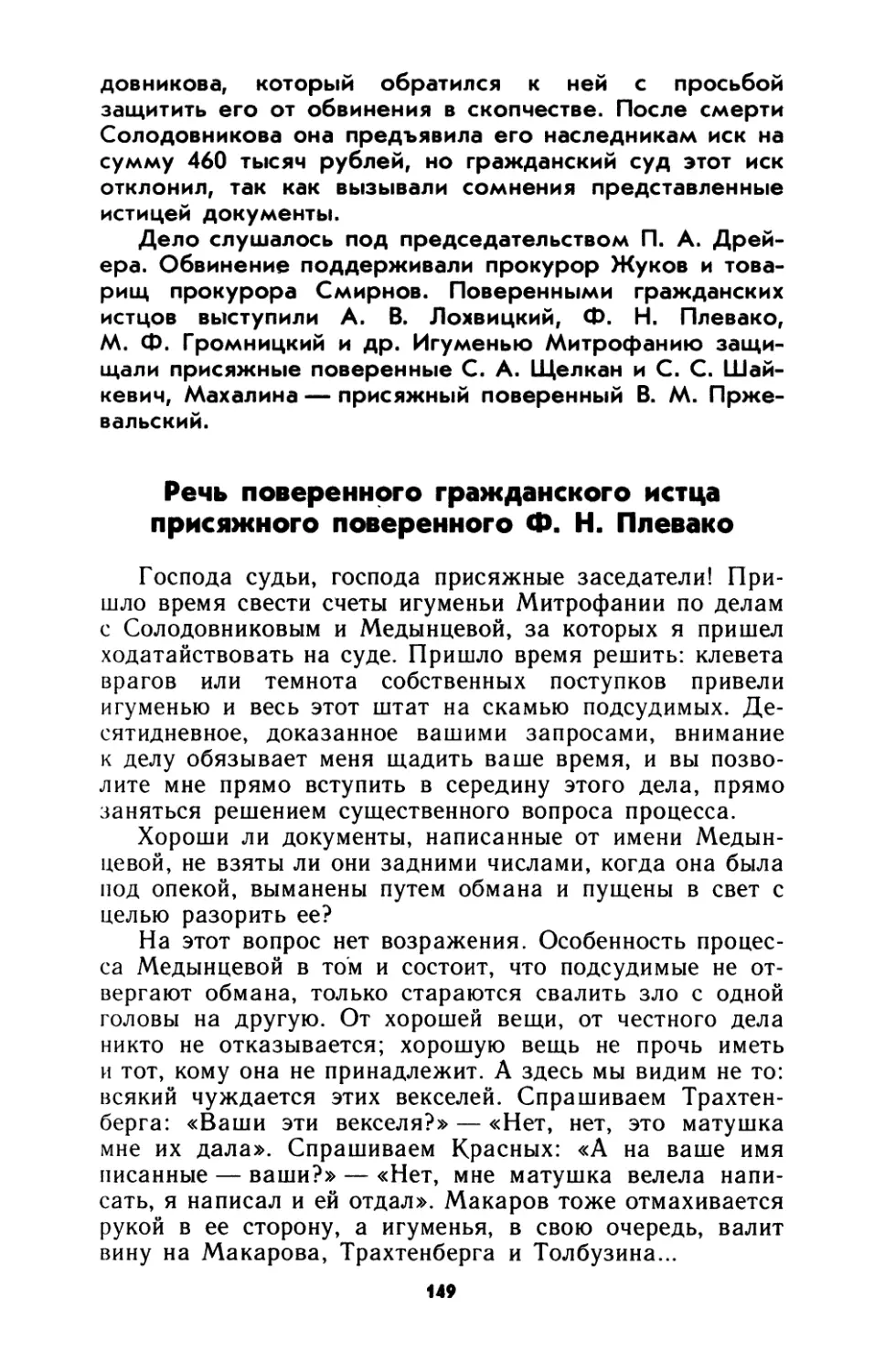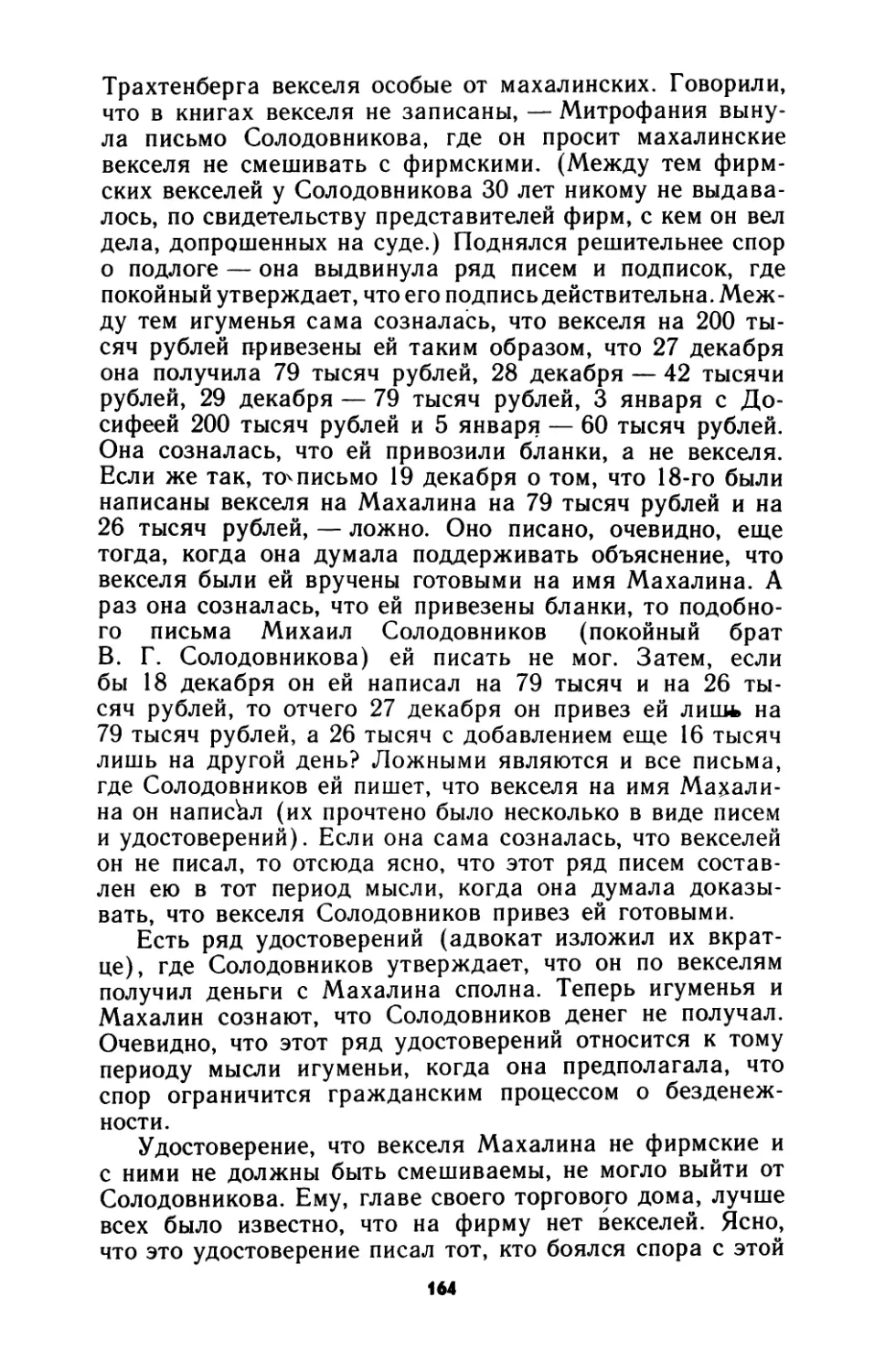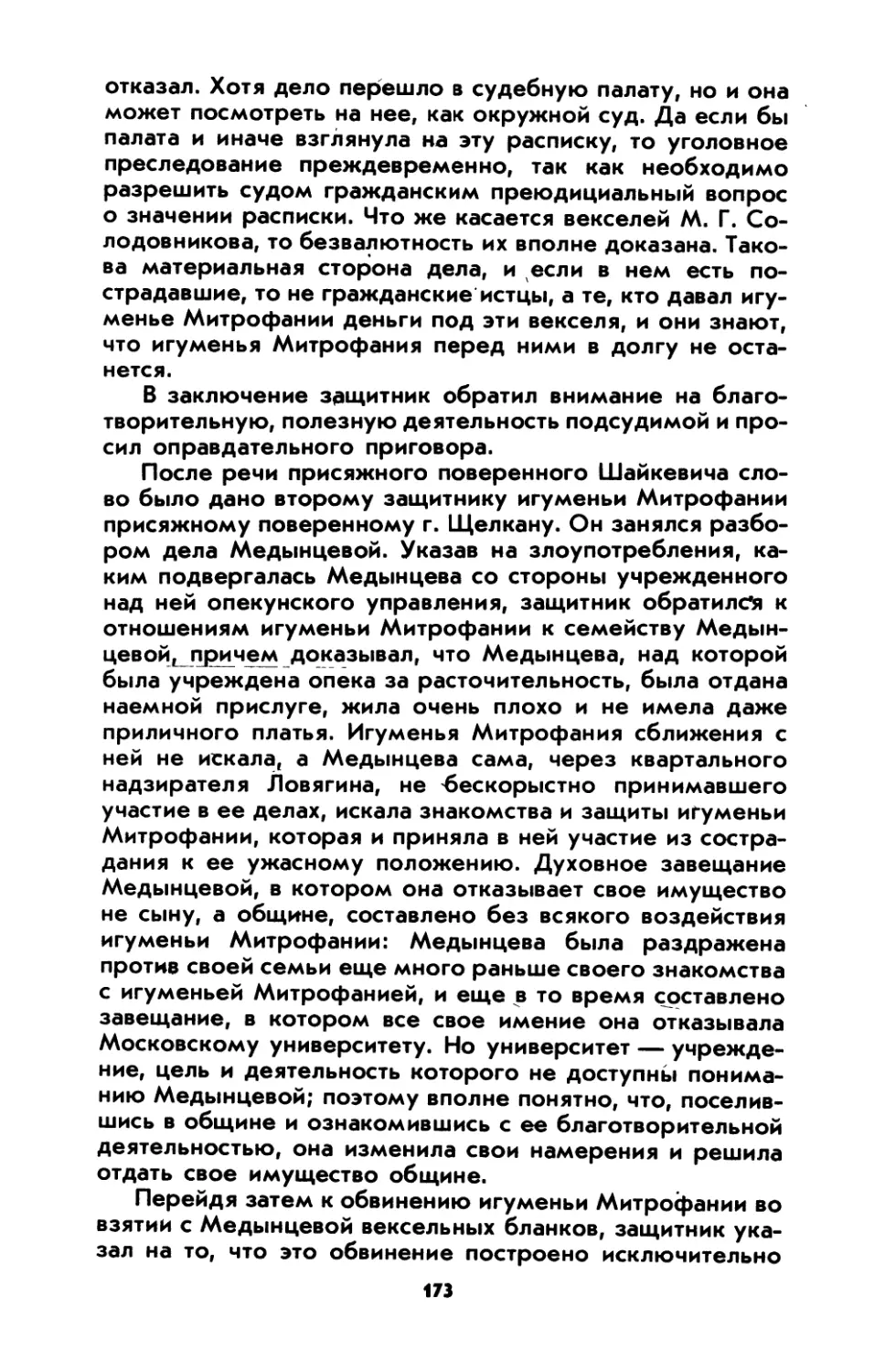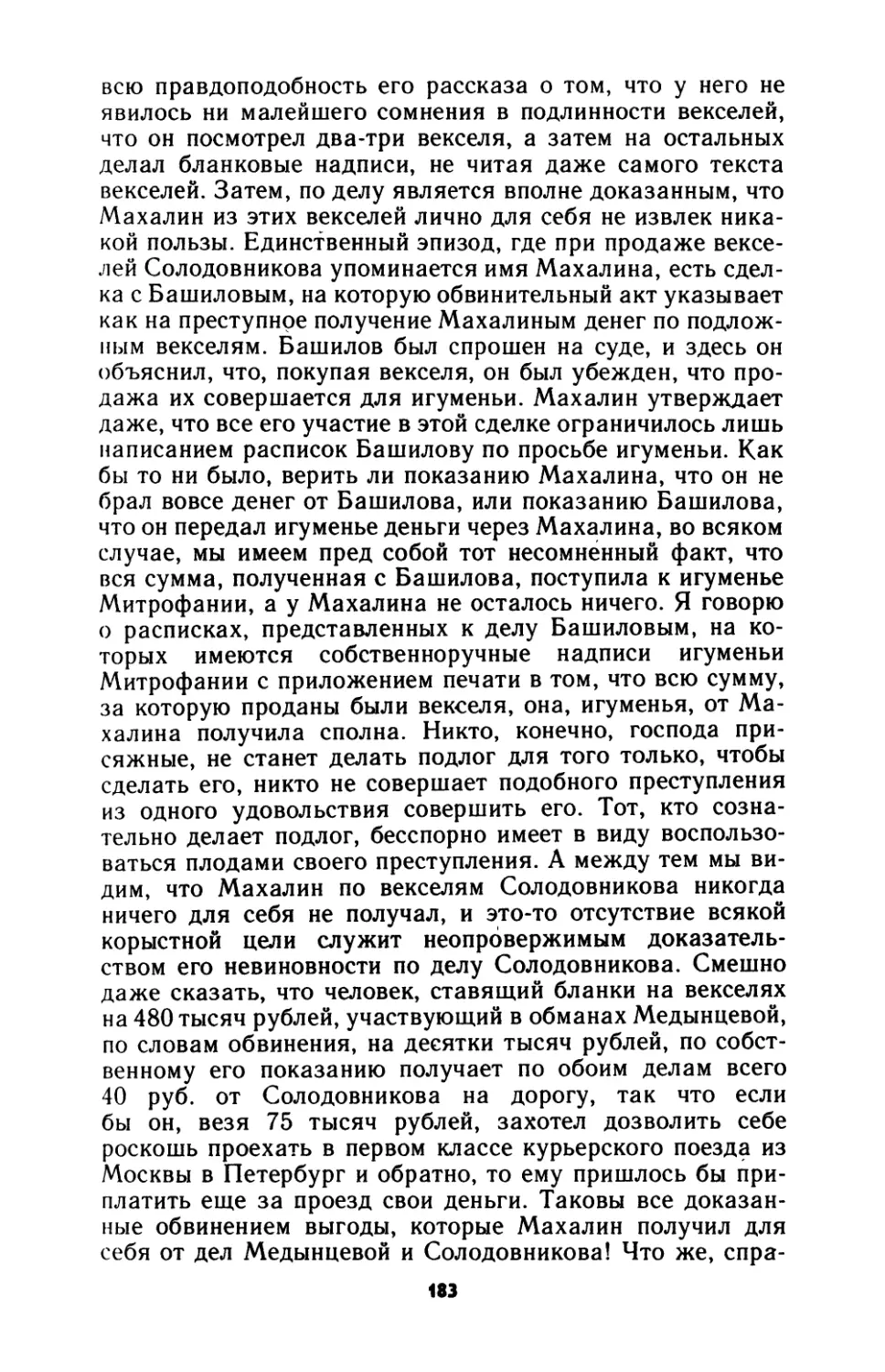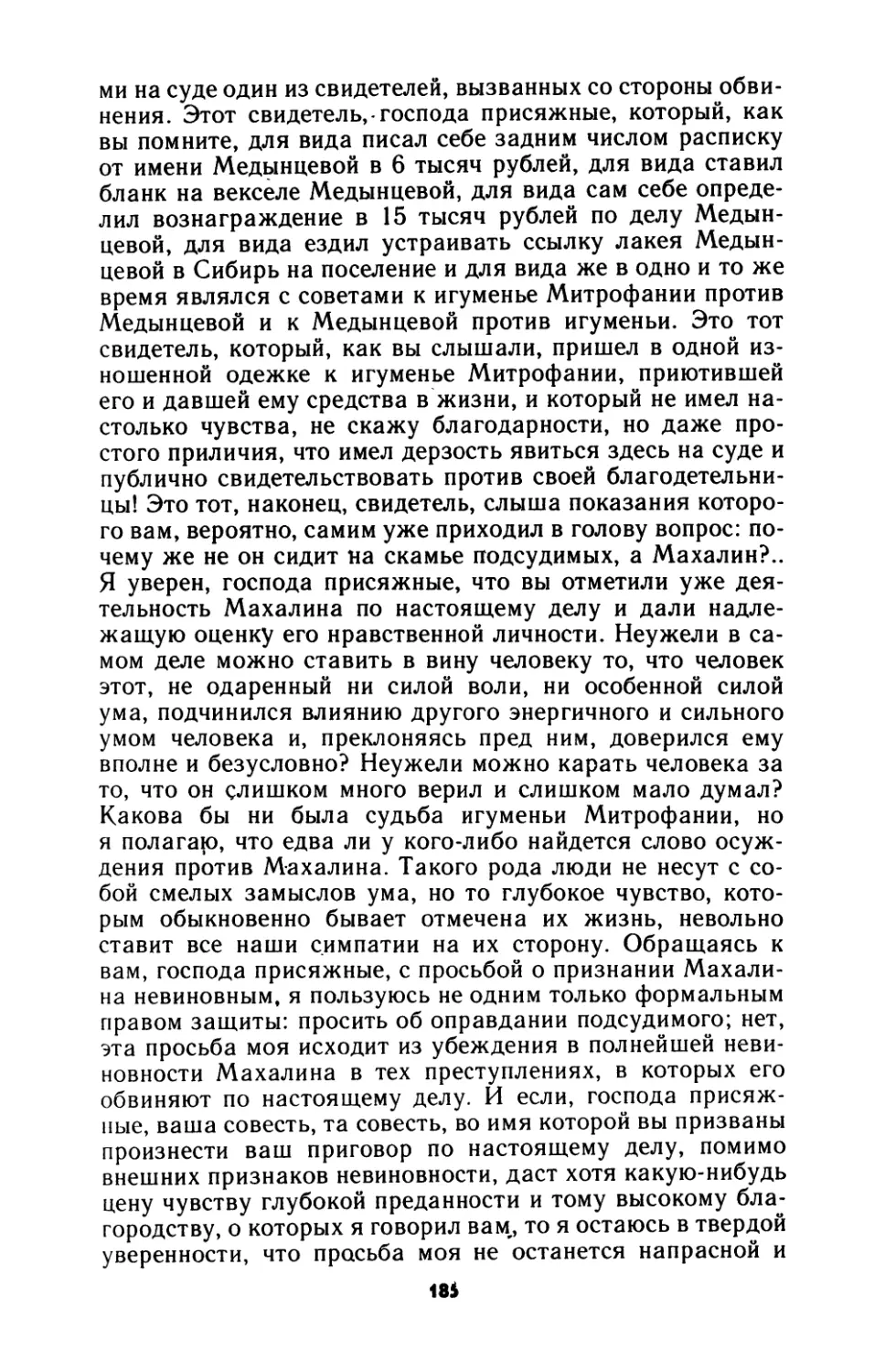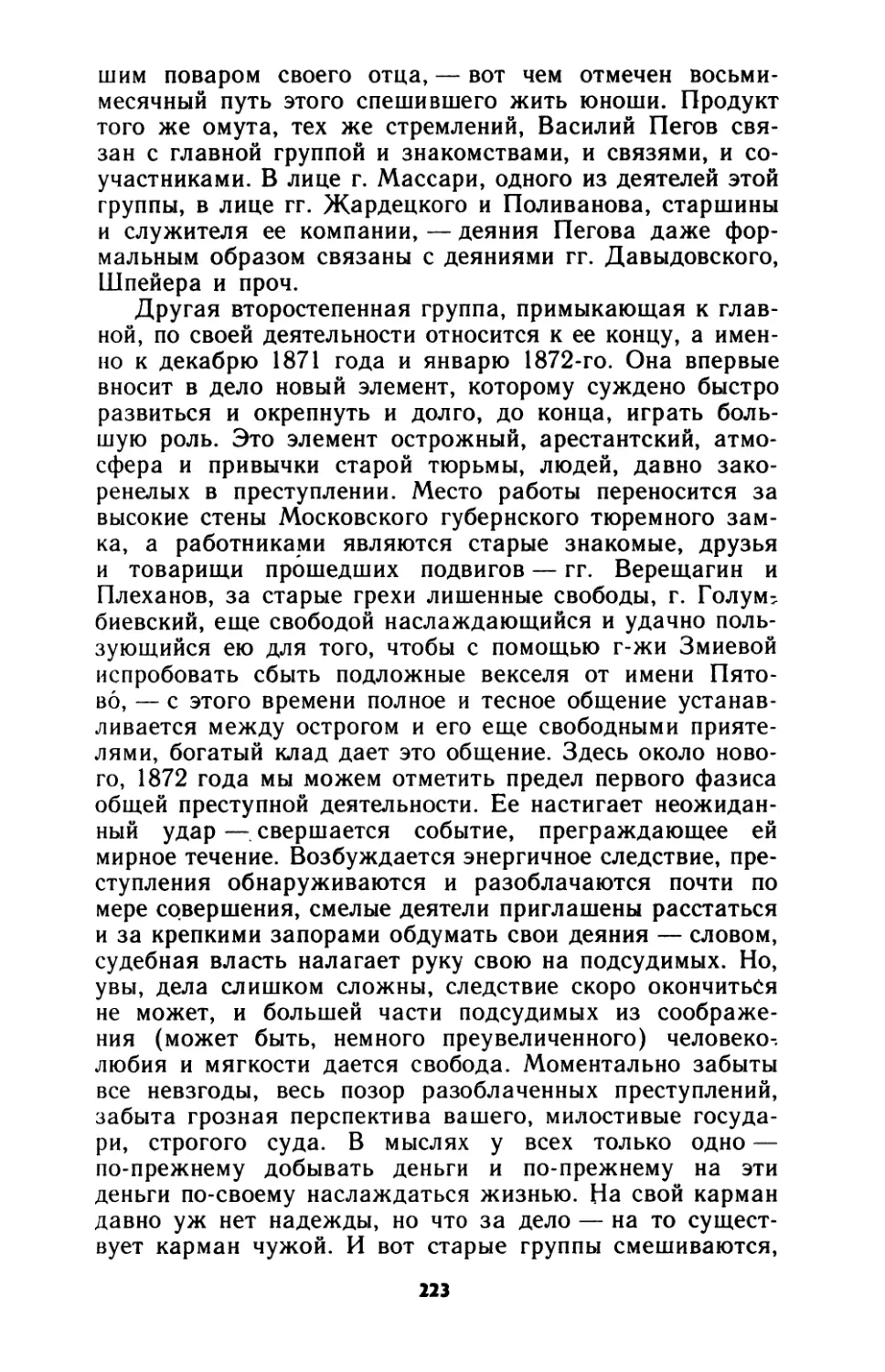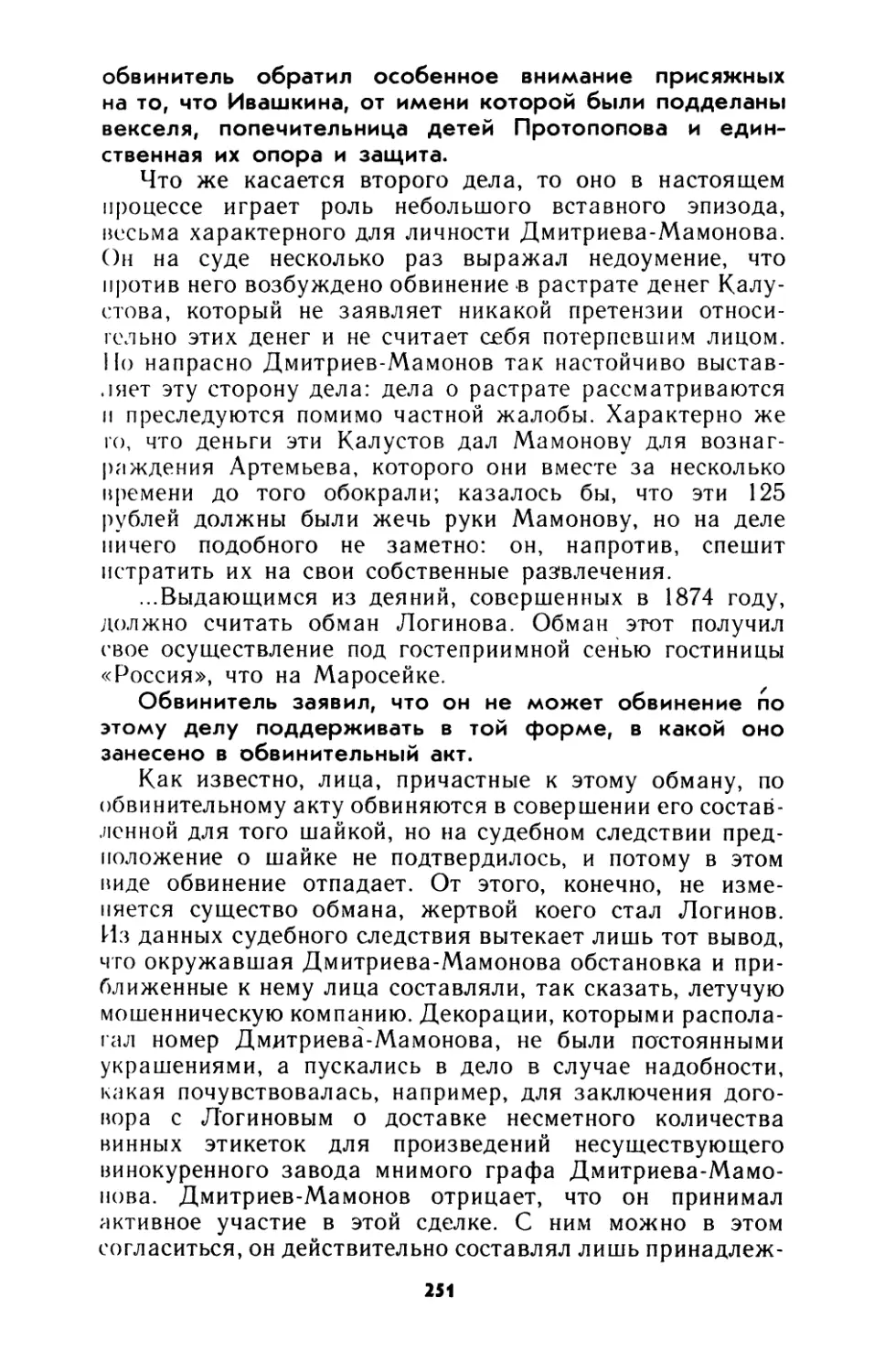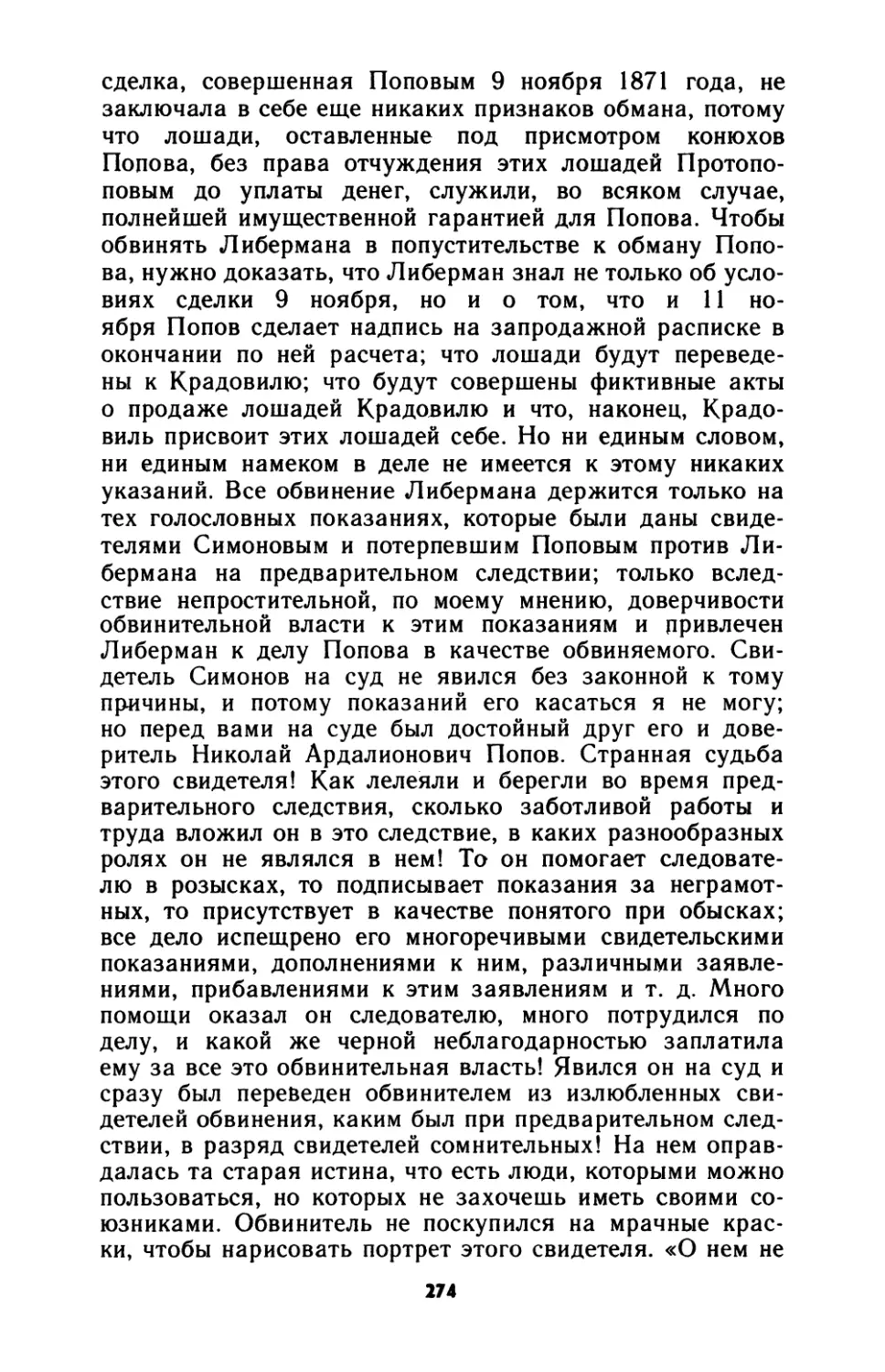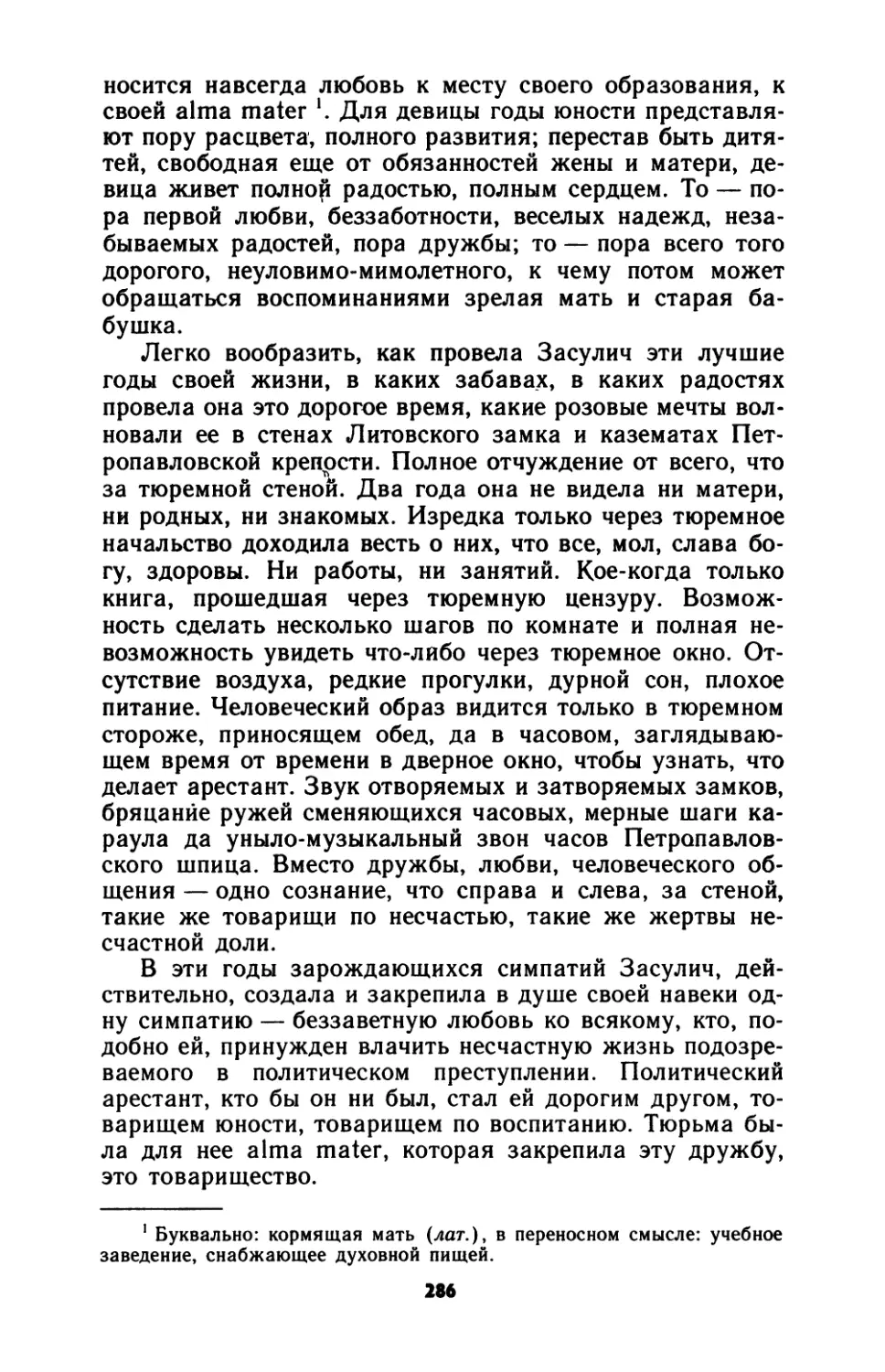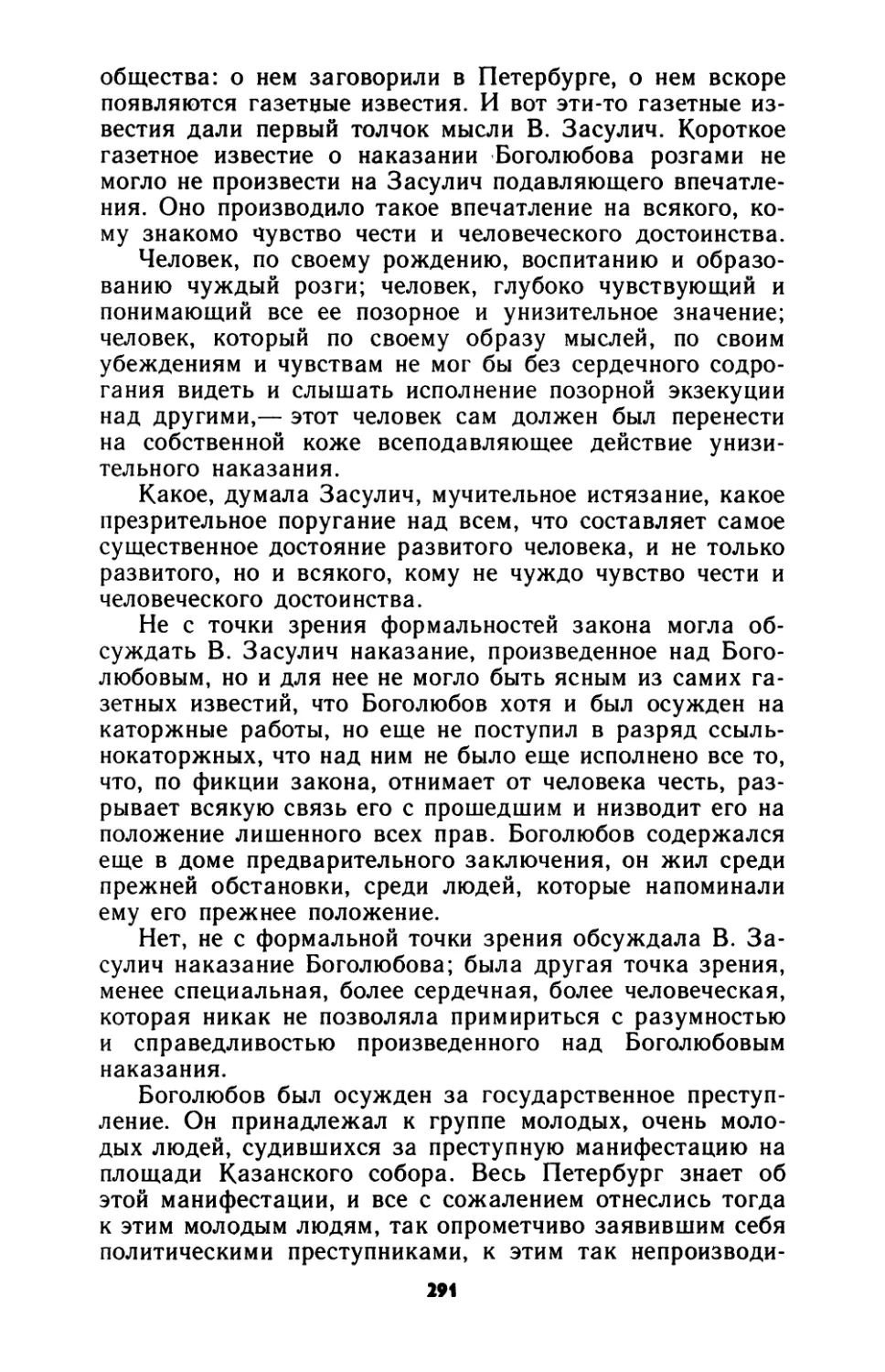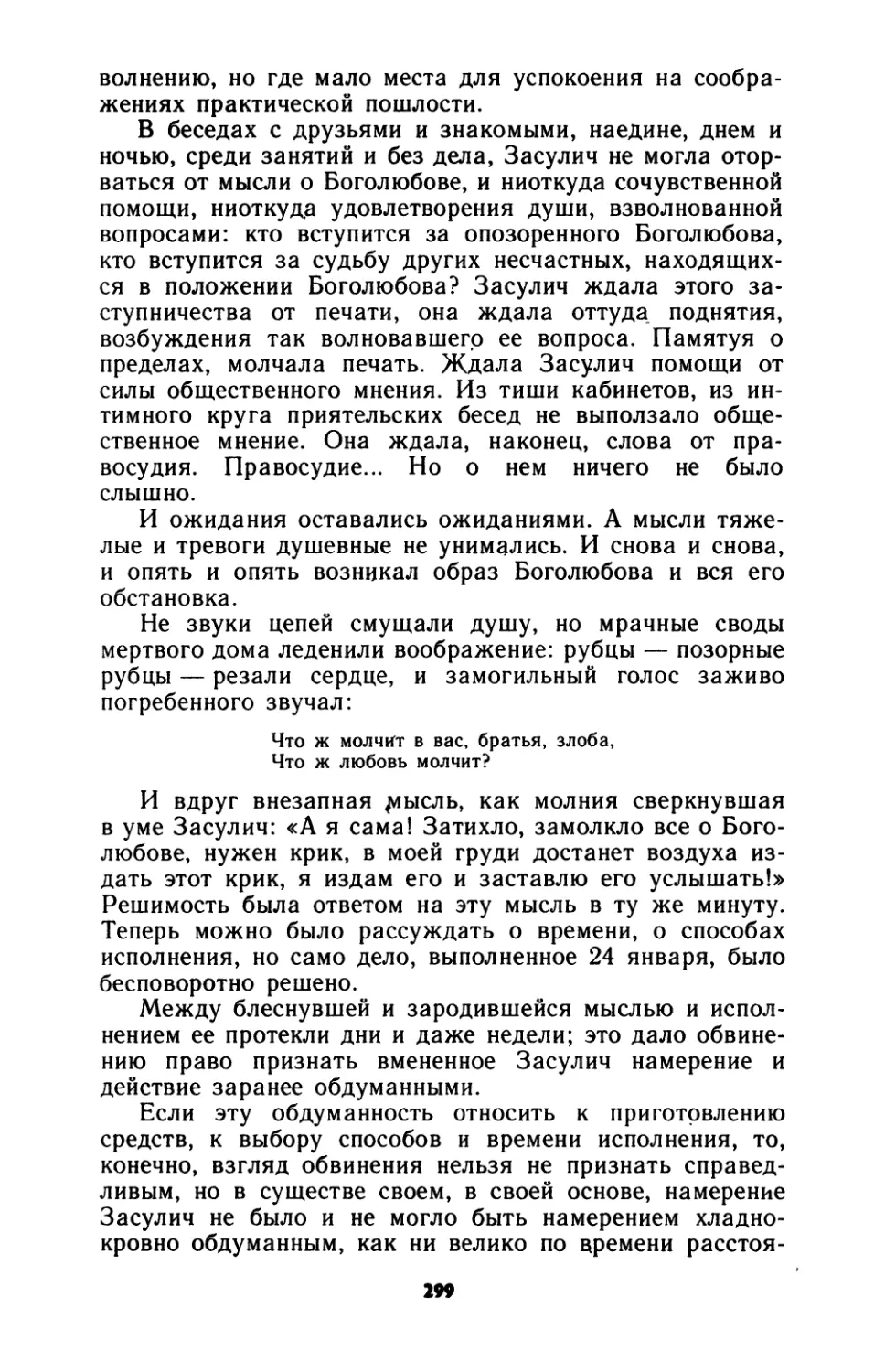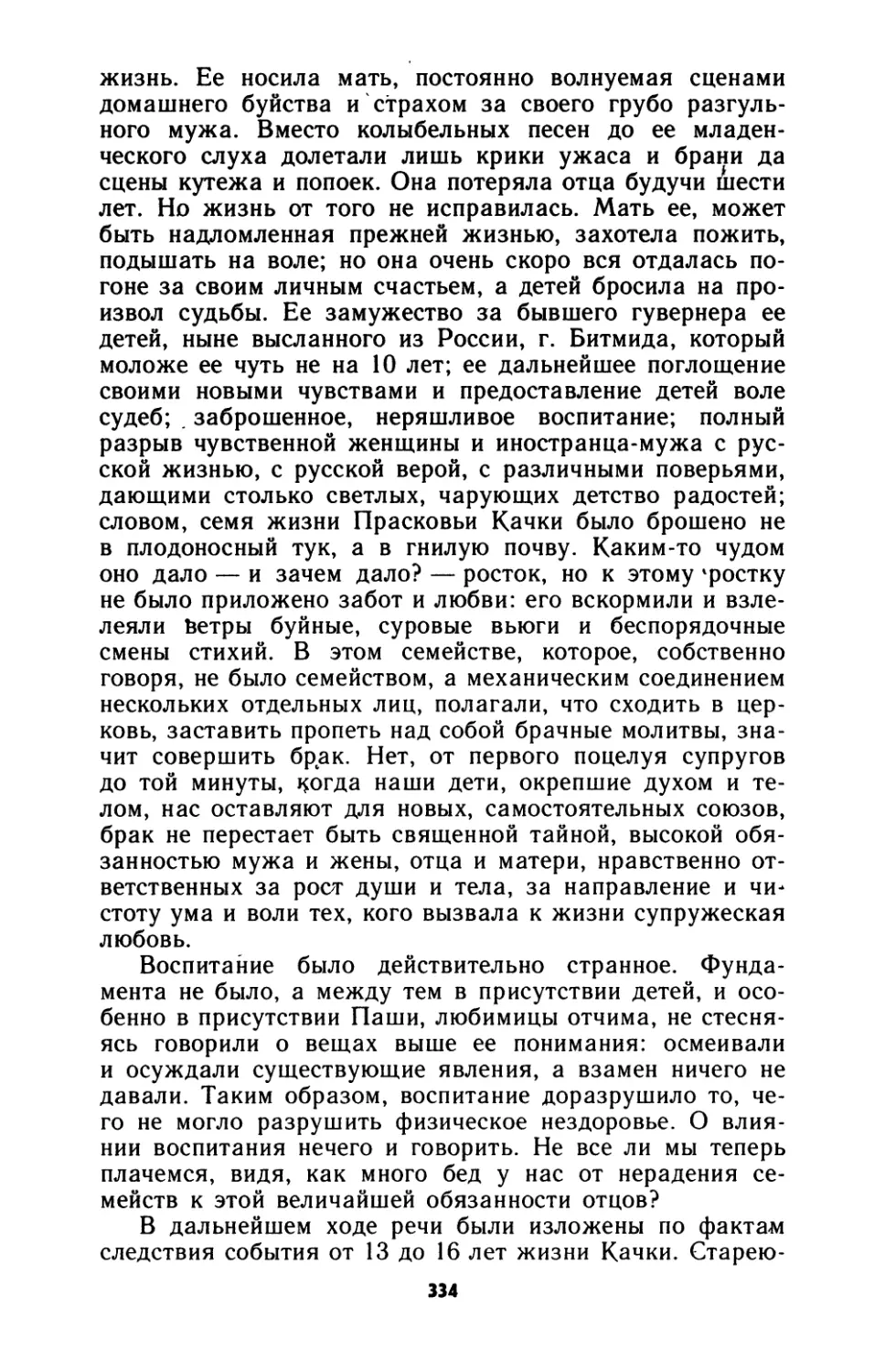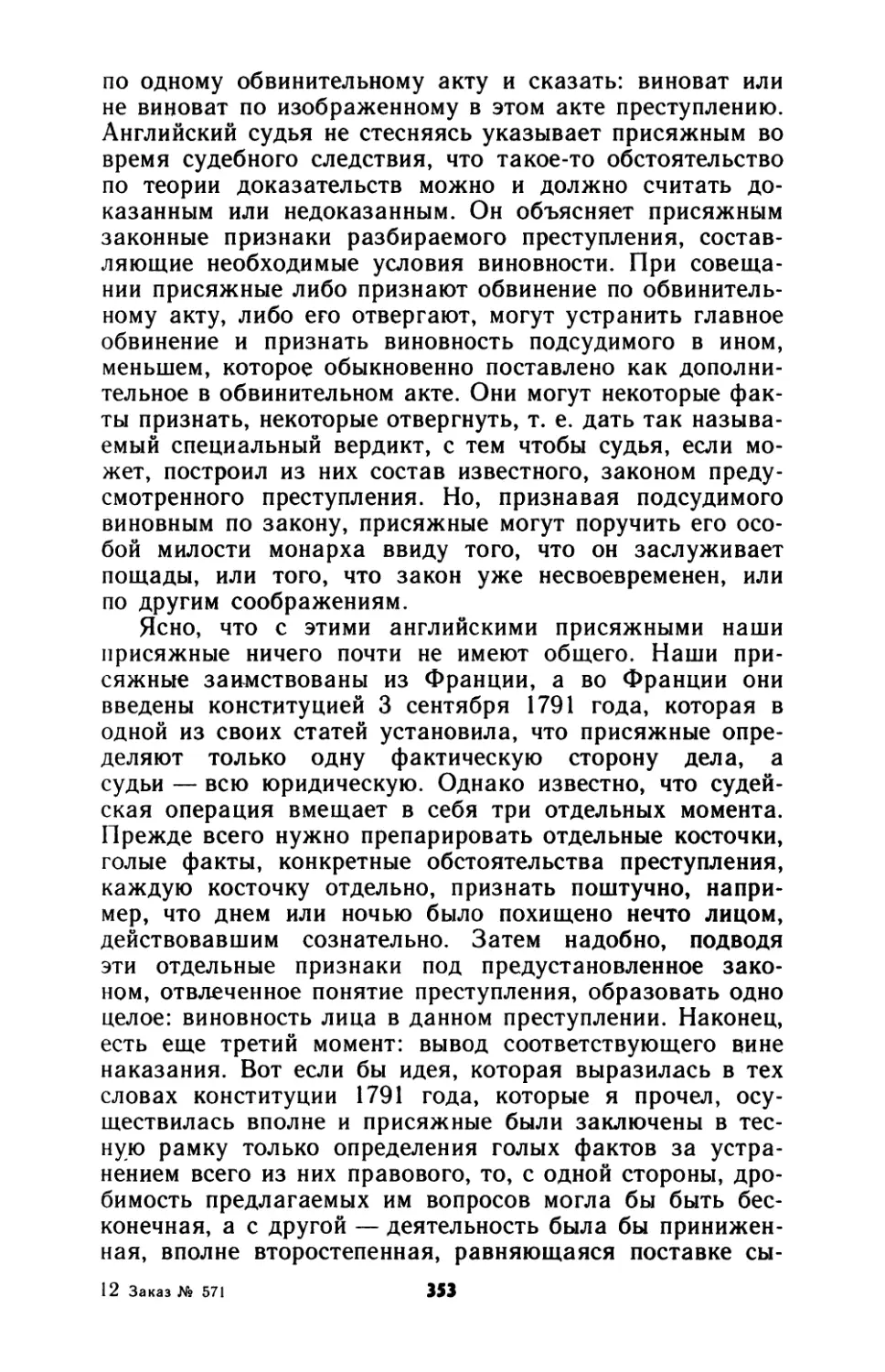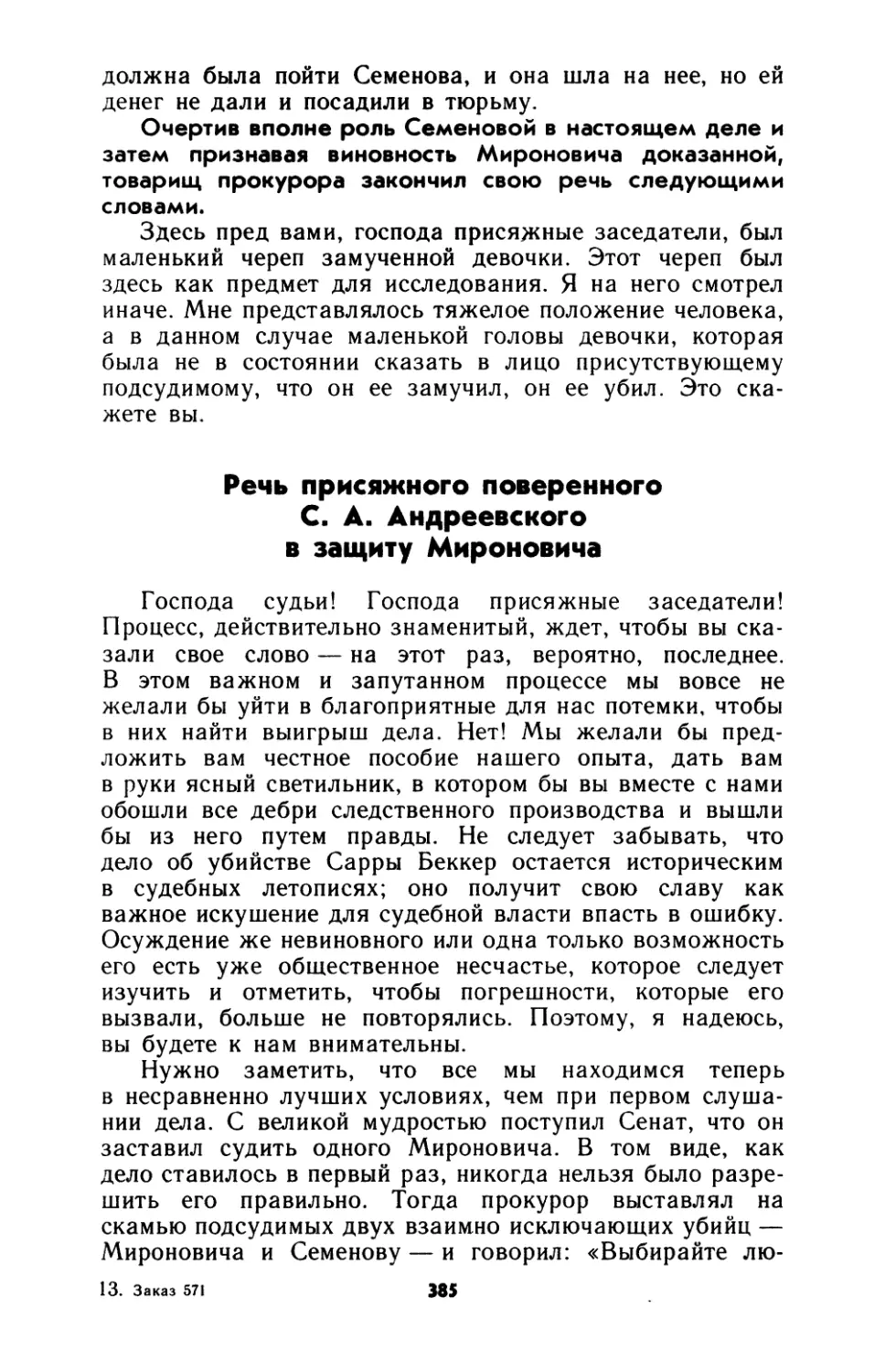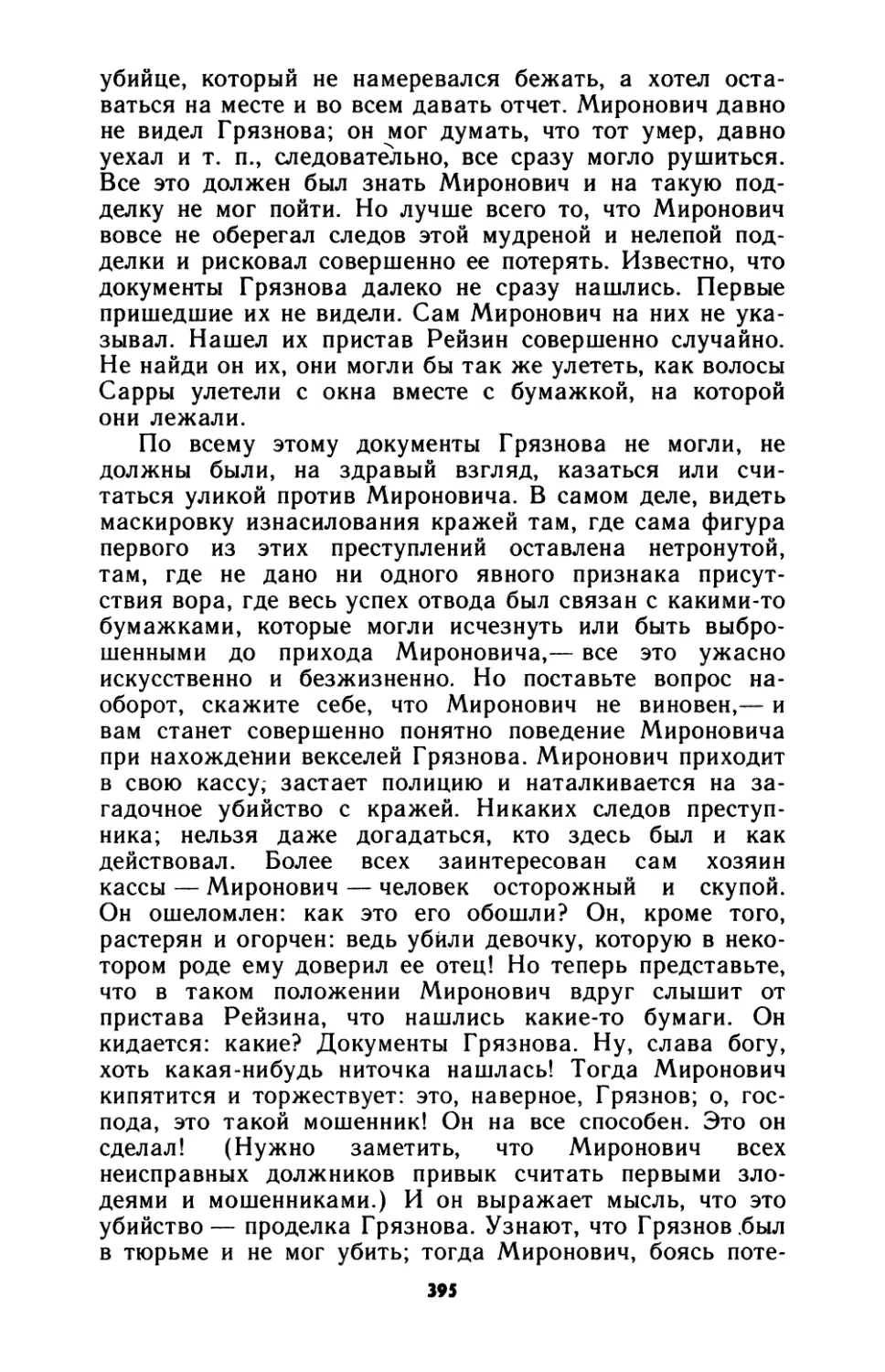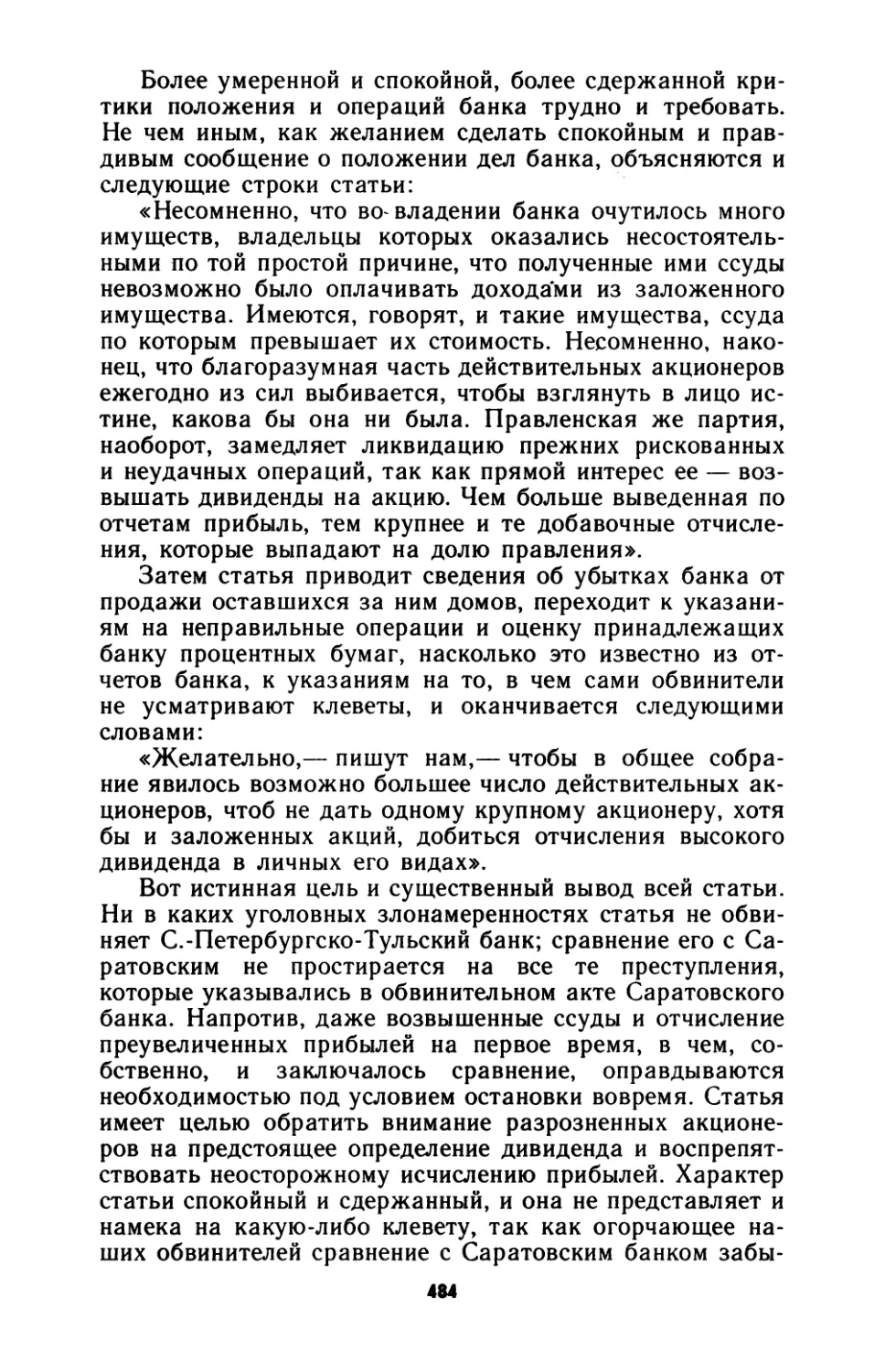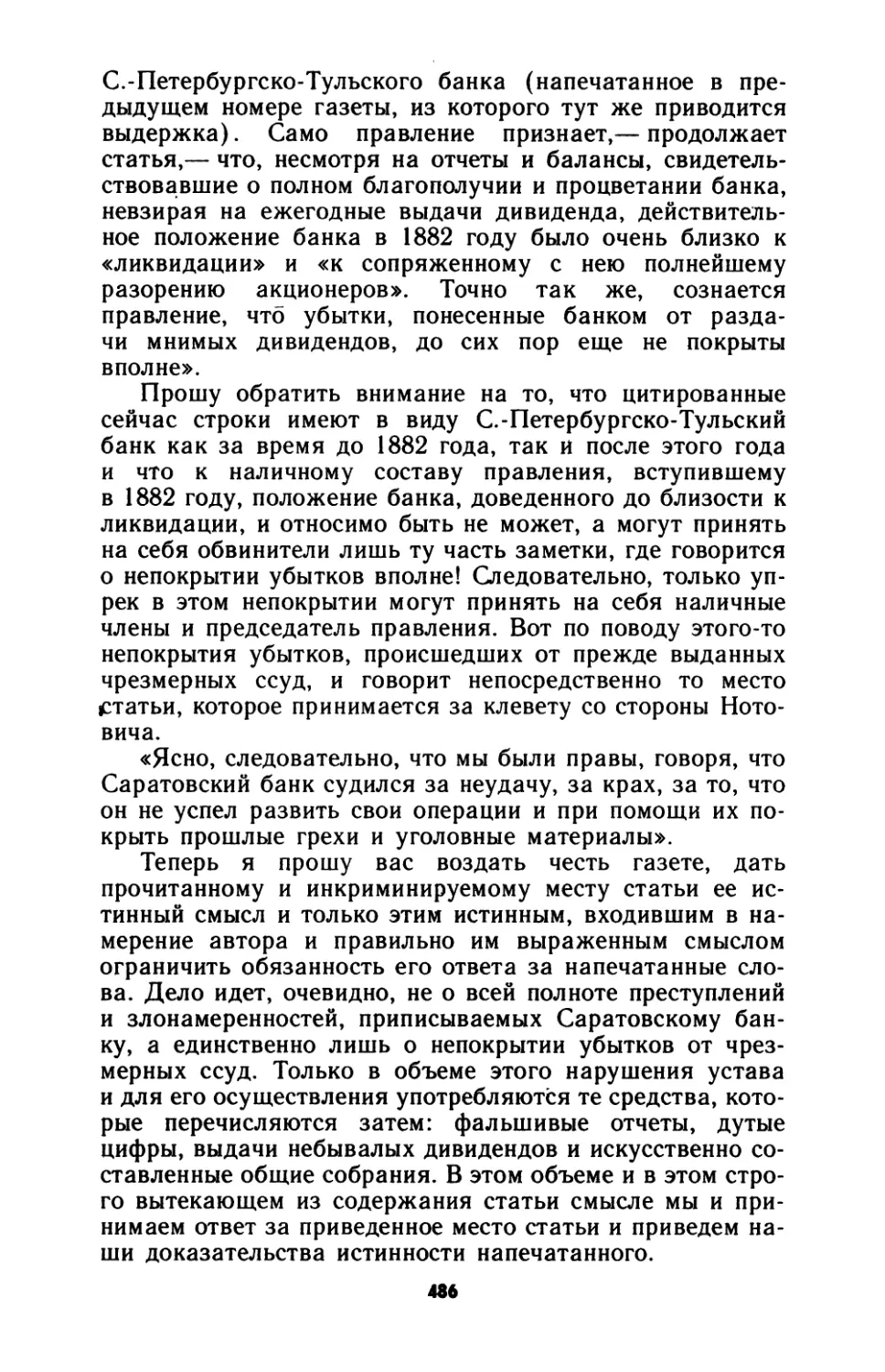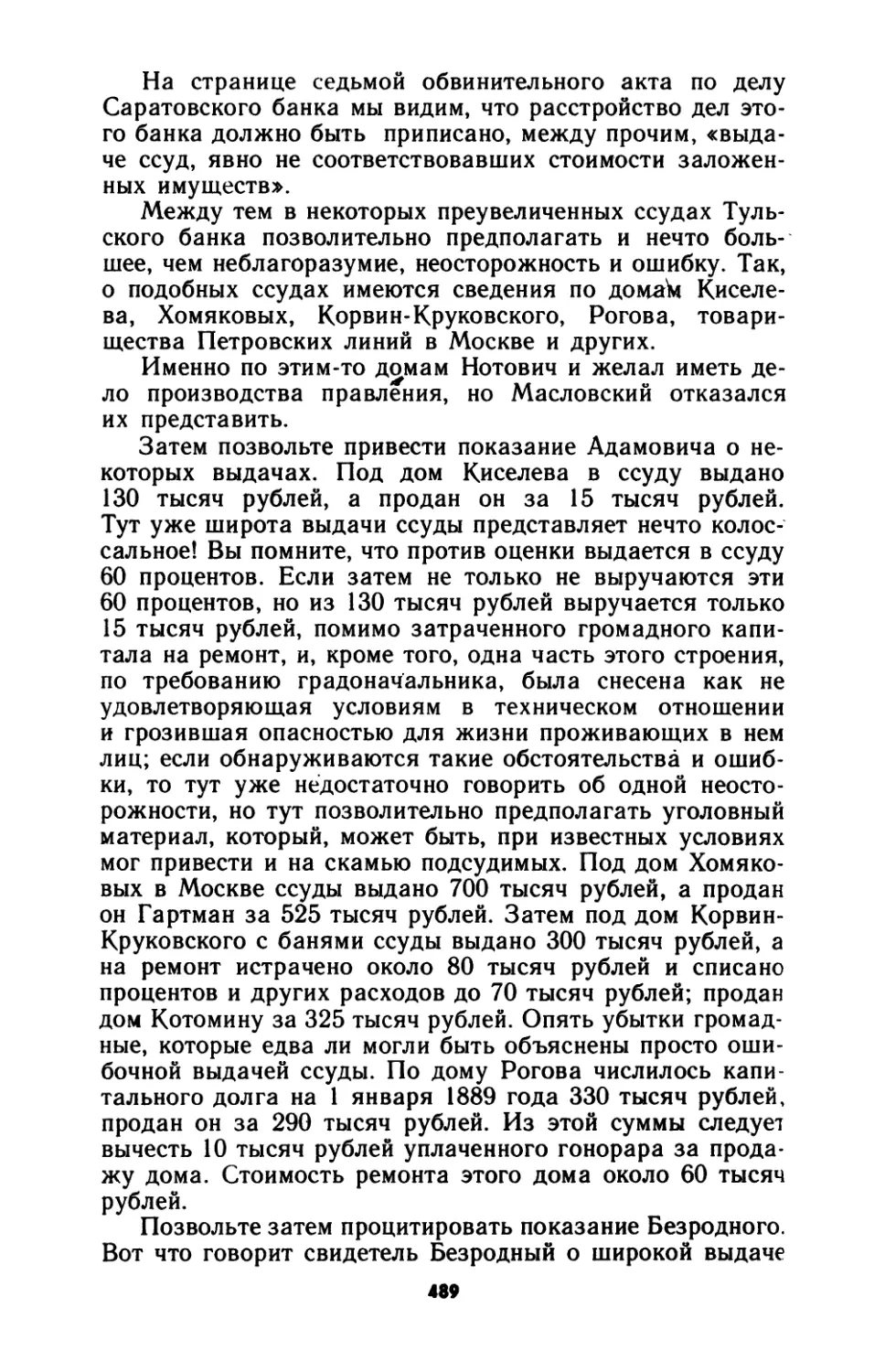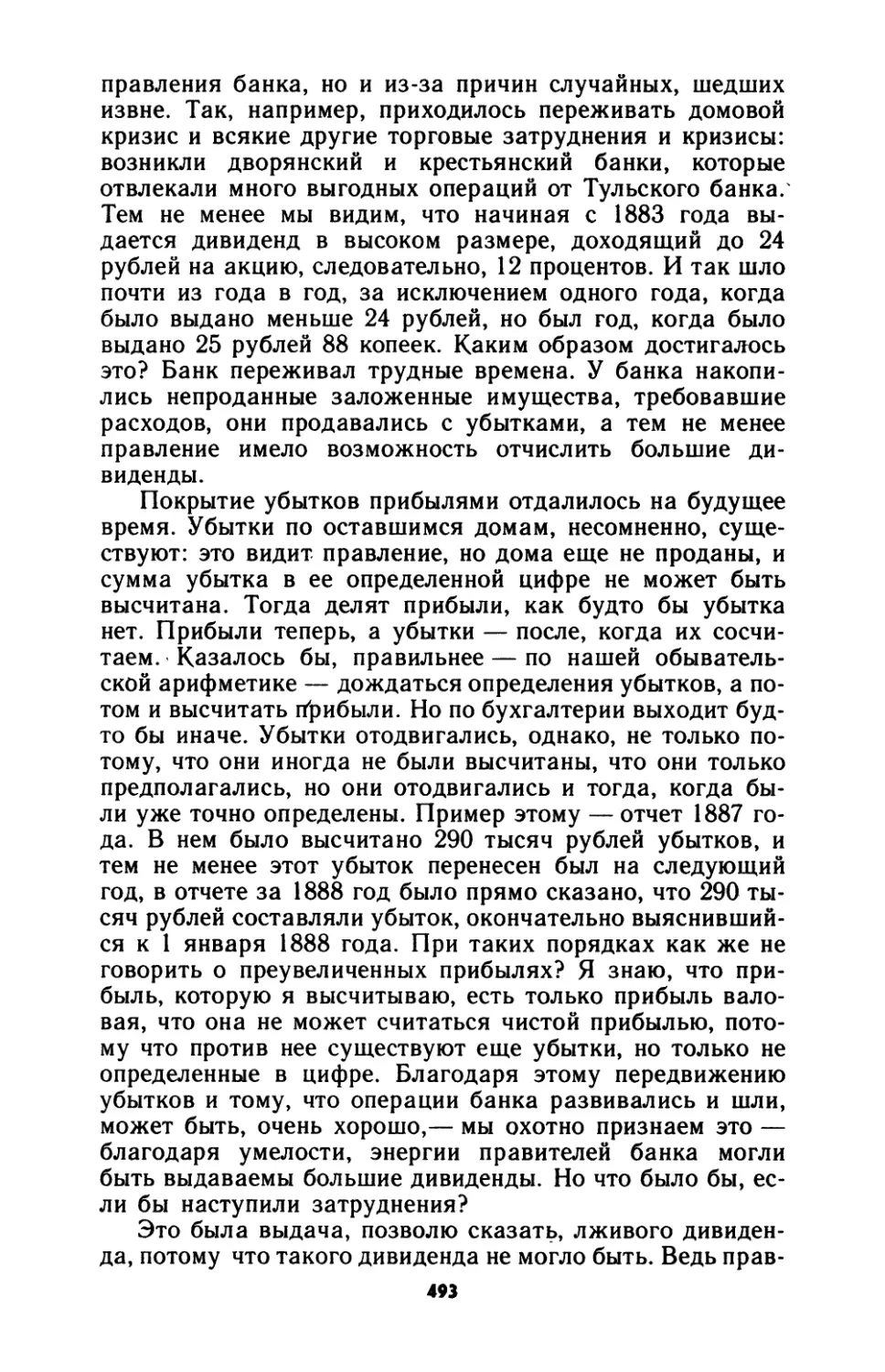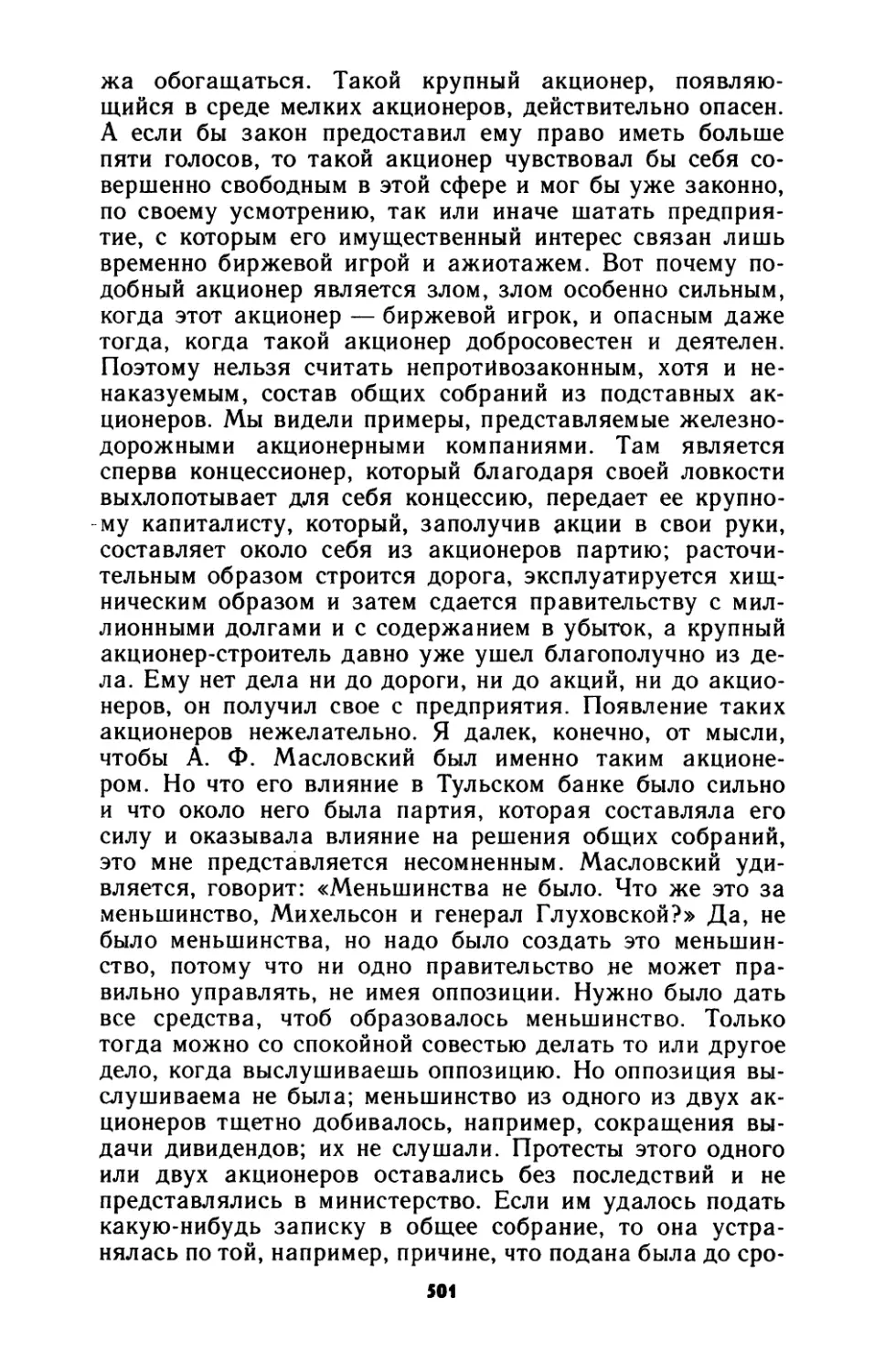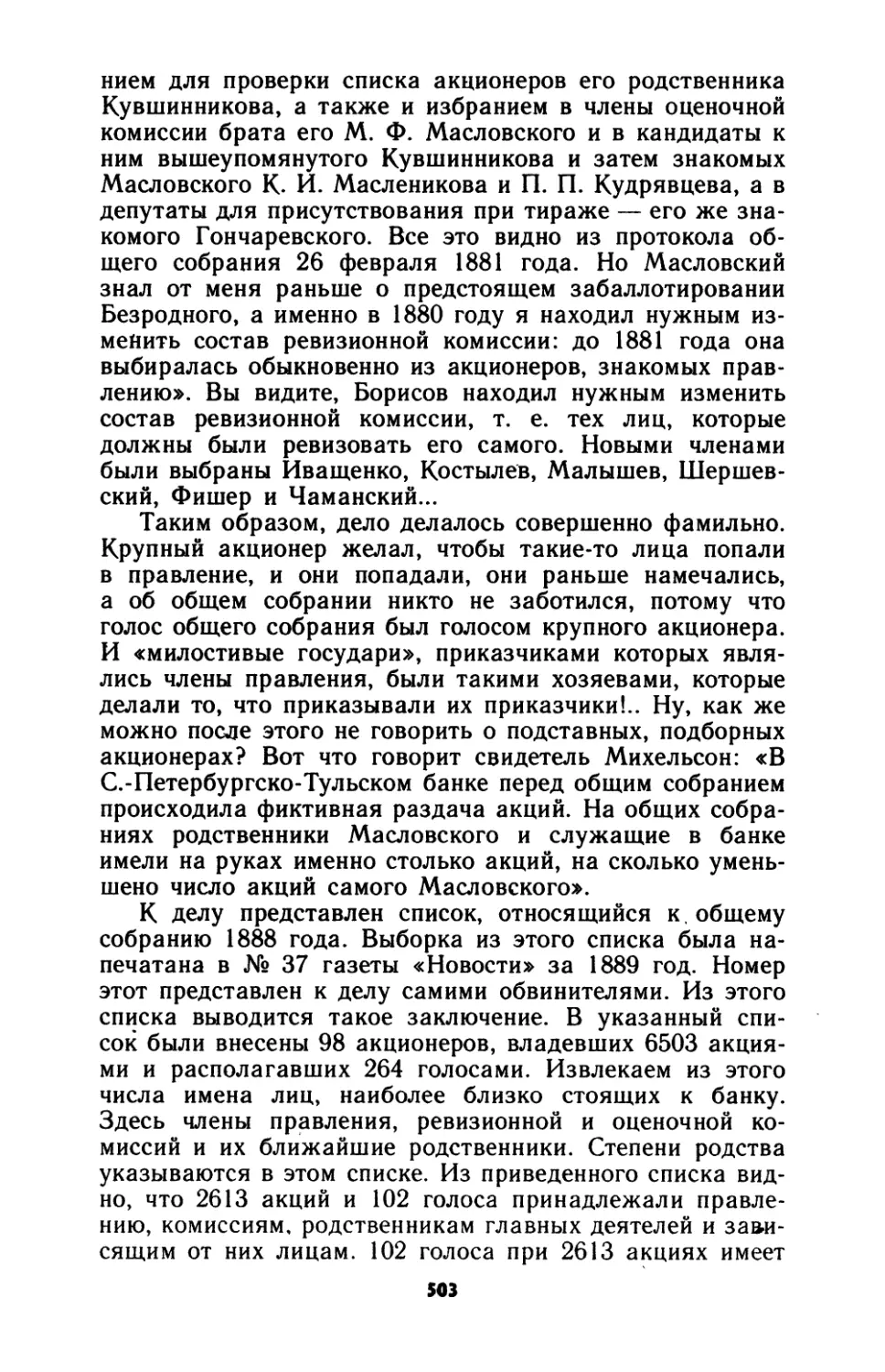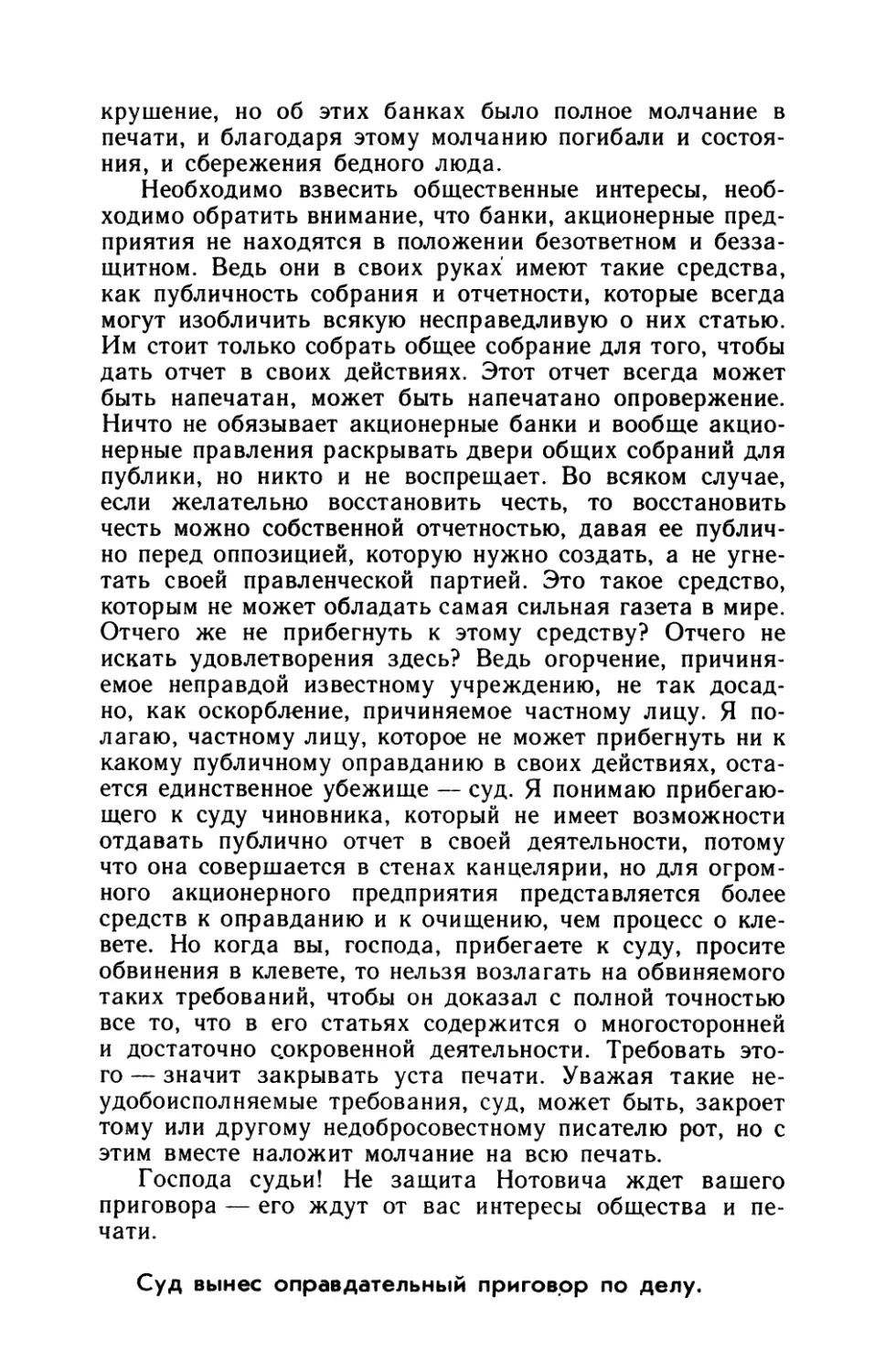Author: Казанцев С.М.
Tags: юриспруденция уголовный процесс российская империя судебные дела суды
ISBN: 5-289-01078-5
Year: 1991
Text
в росснн:
ГРОМКИЕ
УГОЛОВНЫЕ
ПРОЦЕССЫ
1864-1917 гг.
ЛЕНИЗДАТ
1991
67.99(2)0
С89
Суд присяжных в России: Громкие уголовные
С89 процессы 1864—1917 гг./Сост. С. М. Казанцев.— Л.:
Лениздат, 1991.—512 с, ил.
ISBN 5-289-01078-5
В сборнике представлены речи известных деятелей периода наивысшего
расцвета судебной системы дореволюционной России. Включены также выдержки
из обвинительных актов и приговоров по уголовным процессам — таким, как дело
игуменьи Митрофании, дело о «Клубе червонных валетов», дело Веры Засулич
и др., ставшим классикой русской юриспруденции благодаря участию
выдающихся судебных ораторов, которые были не только безупречными правоведами,
но и тонкими психологами и прекрасными полемистами.
- «203010000-049 „ „. „ --,,..
С М171(03)-91 78_91 67"(2)°
Научно-популярное издание
СУД
ПРИСЯЖНЫХ
В РОССИИ
Громкие уголовные процессы
1864—1917 гг.
Составитель
КАЗАНЦЕВ Сергей Михайлович
Заведующая редакцией И. Г Турундаевская. Редактор И. В. Петрова. Младший редактор
И. Н. Чугунова. Художник Н. Н. Гульковский. Художественный редактор И В Зарубина.
Технический редактор Г. В. Преснова. Корректор Е В. Сокольская.
ИБ № 5548
Сдано в набор 31.08.90 Подписано к печати 21.02.91. Формат 84X108'/^. Бумага офсетная.
Гарн. литерат. и журн.-рубл. Печать офсетная. Усл. печ. л. 26,88. Усл. кр -отт. 27,30. Уч.-изд. л.
29,37 Тираж 200 000 экз. Заказ № 571 Цена 3 р. 50 к
Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59 Типография им. Володарского Лениздата,
191023, Ленинград, Фонтанка, 57.
с 1203010000—049 78_91 © с. М. Казанцев, составление, всту-
М171(03)— пительная статья, краткий биогра-
ISBN 5-289-01078-5 фнческий очерк, 1991
«СУДЕБНАЯ
РЕСПУБЛИКА»
ЦАРСКОЙ
РОССИИ
Это издание не претендует на исчерпывающую
информацию об институте присяжных в России; цель его
скромнее — показать суд присяжных в работе на
примере нескольких наиболее известных уголовных
процессов.
Приводимые в книге речи выдающихся русских
судебных деятелей дают наглядное представление о
достоинствах и недостатках суда присяжных и служат
образцом судебного красноречия. Знакомство с ними
весьма полезно особенно сегодня, когда принят закон о
возрождении этого института в нашей стране (ст. 11
Основ законодательства СССР и союзных республик в
судоустройстве). Тем более что советское искусство
речи на суде из-за определенных условий своего развития
существенно отличается от дореволюционных судебных
речей. В современном суде речи главным образом
произносятся для судьи и его коллег, т. е. для
профессиональных юристов. Возрождение суда присяжных
потребует вернуться к тому типу красноречия, который
обращен к не искушенным в юридических тонкостях
присяжным заседателям. Иными должны стать ораторские
приемы, логика изложения, культура речи, система
доказательств. То, что чрезвычайно важно для
профессионала, роль которого стала ключевой в современном
суде с двумя народными заседателями, может вообще
не представлять интереса для присяжных. И наоборот,
пафос и образность речи, акцент на
социально-экономических условиях совершения преступления и глубокий
психологический анализ личности преступника и
потерпевшего, нередко кажущийся излишним для юриста,
могут оказать решающее влияние на вердикт присяжных.
3
Эта книга, кроме того, может заинтересовать
читателей живым и точным описанием жестоких
жизненных драм, сложных людских судеб и трагических
столкновений характеров. Будем надеяться, что эти дела
давно минувших дней смогут взволновать умы и души
современных читателей. В них продолжают привлекать
загадочность и необъяснимость многих событий, гневное
обличение холодного и жестокого расчета преступника,
сострадание к жертве, яркая и страстная защита
невинных.
Институту присяжных, думается, уже в скором
будущем будет посвящено немало новых научных трудов и
ретроспективного, и перспективного плана. Здесь же
нам хотелось бы дать краткое изложение основных черт
русской судебной системы России второй половины
XIX — начала XX века.
По мнению как современников, так и исследователей
судебной реформы 1864 года, она была самой
демократической из всех реформ, проведенных правительством
Александра II. Даже будущий глашатай реакции и ярый
борец против суда присяжных М. Н. Катков в
шестидесятые годы писал, что это «не столько реформа, сколько
создание судебной власти»*. Действительно, в
результате реформы суд был отделен от администрации;
вводился гласный, состязательный процесс; была
создана адвокатура, обеспечившая право обвиняемого на
защиту; почти полностью отказались от сословных судов;
устанавливалась презумпция невиновности; на смену
теории формальных доказательств пришла свободная
оценка доказательств; мелкие уголовные и гражданские
дела из ведения полиции были переданы мировой
юстиции; еще раньше у полиции было изъято и
предварительное следствие, оно передавалось судебным
следователям; устанавливался принцип несменяемости судей
и следователей. А краеугольным камнем этой реформы
и одним из главных гарантов демократических
принципов судоустройства и судопроизводства стал суд
присяжных, обеспечивший реальное и непосредственное
участие населения в отправлении правосудия.
Судебными уставами 1864 года (учреждения
судебных установлений, устав уголовного судопроизводства,
устав гражданского судопроизводства, устав о наказани-
*Джаншиев Г. А. Сборник статей. М., 1914, с. 5.
Здесь и далее примечания, сделанные составителем, помечены
звездочками. Примечания, принадлежащие авторам приводимых
статей, обозначены цифрами. — Ред.
4
ях, налагаемых мировыми судьями) создавалась
оригинальная и эффективная система правосудия. Она имела
две ветви, две подсистемы, которые объединял высший
судебный орган — Сенат: общие суды и мировые суды.
Кроме того, существовали суды особой подсудности:
военные, волостные, коммерческие и другие, создание
которых предусматривалось иными законодательными
актами. Следует также иметь в виду, что проведение
судебной реформы продолжалось до конца XIX века.
Первые общие суды открылись только в 1866 году, они .
распространили свою деятельность лишь на десять
губерний центральной России. На остальной же
территории страны продолжали действовать прежние суды,
руководствовавшиеся и несколько иным процессуальным
законодательством.
Административно-территориальное и судебно-терри-
ториальное деление империи после реформы не
совпадали. Уезды и города были разделены на участки
мировых судей. Территория, подведомственная окружным
судам, охватывала несколько уездов, округа судебных
палат — несколько губерний. Окружные суды были
судами первой инстанции общих судов, судебные
палаты — судами второй инстанции. В начале XX века в
империи было 106 окружных судов и 14 судебных палат.
«Отцы» судебной реформы объясняли такую судебно--
территориальную структуру сочетанием мировой и
общей юстиции, а также недостатком квалифицированных
юристов для создания общих судов в каждом уезде. Но
сегодня мы видим преимущества такой организации
правосудия в большей изоляции судебных и
административных органов. При такой структуре все уездное
начальство не только по табели о рангах, но и по
реальному статусу было лишено возможности оказывать на
судей какое-либо влияние. Соответственно, и судьи
второй инстанции избавлялись от давления на них со
стороны губернской бюрократии.
Еще более значительной гарантией независимости
судов стал принцип несменяемости судей, закрепленный
ст. 243 учреждения судебных установлений. Согласно
этой статье, председатели и члены окружных судов и
судебных палат не могли быть уволены или переведены
с одной должности на другую без их согласия, кроме
как по приговору суда. Все постоянные,
профессиональные члены окружного суда и судебной палаты, так
называемые коронные судьи, назначались императором по
представлению министра юстиции. Для назначения на
5
должность члена окружного суда необходимо было
иметь высшее юридическое образование и стаж работы
в суде или прокуратуре не менее трех лет (в звании
присяжного поверенного—10 лет). Для более высоких
должностей стаж увеличивался.
Окружные суды состояли из одного или нескольких
отделений по уголовным и гражданским делам. Они
разбирали большинство дел, причем все гражданские и
значительная часть уголовных разбирались коронными
судьями. Для рассмотрения дел о преступлениях, за
которые могло быть назначено наказание в виде
лишения прав состояния, как особенных, связанных с принадт
лежностью к привилегированным сословиям, так и всех
прав (имущественных, брачно-семейных и т. д.),
привлекались присяжные заседатели. Как правило, лишение
прав состояния сопровождалось другими наказаниями:
каторжными работами, ссылкой, тюрьмой —г- и
назначалось за тяжкие преступления. Таким образом, суд
присяжных являлся не самостоятельным учреждением, а
особым присутствием окружного суда.
Как и другие демократические институты судебных
уставов, суд присяжных был заимствован у европейских
государств. Родиной суда присяжных считается Англия,
где его становление приходится на XII—XV века.
Великая Французская революция дала толчок широкому
распространению этого института в Европе. Революционеры
видели в нем орудие борьбы с деспотизмом, но
отмечали и его непреходящую ценность. Так, М. Робеспьер
главными достоинствами нового суда считал разделение
суждения о факте и праве и то, что судебная власть
предоставляется «простым гражданам, выбранным
народом, которые скоро возвратятся в массы, где они
будут сами подчинены той же самой власти, которую
они только что осуществляли»*. Следует отметить, что
французский суд присяжных, а впоследствии немецкий
и другие не были точной копией с английского
образца. Составители судебных уставов 1864 года
тщательно изучали не только английское и французское
законодательство. В частности, в редакционной комиссии
внимательно рассмотрели процессуальные кодексы
Женевы и Сардинского королевства. Таким образом,
русский суд присяжных стал новым шагом в развитии
европейской правовой культуры. Известный немецкий
* Робеспьер М. О введении суда присяжных. — В кн.:
Революционная законность и правосудие. M., 1959, с. 64.
6
юрист К. Миттермайер, сравнивая проект устава
уголовного судопроизводства с законодательством
Европы, писал, что «он стоит выше даже многих новейших
законодательных работ». А относительно института
присяжных он отметил, что в нем «несравненно менее
заметна подражаемость предписаниям французского
законодательства... напротив того, он гораздо больше
держится английского образца, хотя и с этой стороны
далек от слепого подражания»*. Здесь нет возможности
подробно сравнивать законы России и других
государств, заметим только, что создатели русского суда
присяжных подчеркивали его отличие от европейских
аналогов, состоящее в аполитичности. К его подсудности
не были отнесены дела о государственных
преступлениях, а также значительная часть должностных
преступлений и некоторые другие. Еще одним изобретением
российского законодателя стало введение служебного
ценза. Независимо от уровня дохода или жалованья в
списки присяжных заседателей включались все
гражданские чиновники с V по XIV класс, все выборные
служащие городских и дворянских учреждений и крестьяне,
занимавшие не менее трех лет выборные должности
сельских старост, старшин и др.
Вообще же присяжными заседателями могли быть
только мужчины в возрасте от 25 до 70 лет, русские
подданные. Для них были установлены ценз
оседлости — два года и имущественный ценз. Не могли быть
присяжными заседателями лица, состоявшие под судом
и следствием, слепые, глухие, умалишенные,
объявленные несостоятельными должниками, впавшие в крайнюю
бедность, домашняя прислуга. Кроме того, не
подлежали включению в списки присяжных священнослужители
и монашествующие, лица, занимавшие генеральские
должности (первые четыре класса по табели о рангах),
работники суда и прокуратуры, чиновники полиции,
военнослужащие, учителя и некоторые другие.
Все лица, обладавшие необходимым цензом,
включались в общие списки присяжных заседателей. Система
общих списков является одним из главных достоинств
суда присяжных, так как присяжные — не выборные
судьи, а все лица, обладавшие необходимым цензом.
Недаром у противников суда присяжных он получил
наименование: «суд улицы», «суд толпы». Но как раз это
* Миттермайер К. Новый проект русского уголовного
судопроизводства.— Журнал Министерства юстиции, 1864, т. 22, с. 16.
7
его качество получало высокую оценку в либерально и
революционно настроенных кругах. Это выражение
удачно обыграл С. А. Андреевский в своей речи по делу
Кронштадтского банка: «Еще недавно один публицист
дерзнул назвать суд присяжных «улицей». Но, вопреки
намерениям автора, я вижу в этом слове не унижение
или поругание суда присяжных, а такую характеристику
его, в которой метко соединены едва ли не самые
дорогие черты этого суда. И правда: пусть вы — улица!
Мы этому рады. На улице свежий воздух; мы бываем
там все, без различия, именитые и ничтожные; там мы
все равны, потому что на глазах народа чувствуем свою
безопасность; перед улицей никто не позволит себе
бесстыдства — вспомним и похороны, о которых
говорил вчера прокурор: когда вы по улице провожаете
близкого покойника, незнакомые люди снимут шапку и
перекрестятся... На улице помогут заболевшему,
подадут милостыню нищему, остановят обидчика, задержат
бегущего вора! Когда у вас в доме беда — грабеж,
убийство, пожар, — куда вы бежите за помощью? На
улицу. Потому что там всегда найдутся люди, готовые
служить началам общечеловеческой справедливости.
Вносите к нам, в наши суды, эти начала... Приходите
судить с улицы, потому что сам законодатель пожелал
брать своих судей именно оттуда, а не из кабинетов и
салонов..;»*
В. И. Ленин в 1901 году писал: «Суд улицы ценен
именно тем, что он вносит живую струю в тот дух
канцелярского формализма, которым насквозь пропитаны
наши правительственные учреждения»**. Думается, что
при формировании, нашего суда присяжных следует
также придерживаться не принципа выборности присяжных,
а принципа ценза.
На основе списков присяжных заседателей
специальная комиссия составляла очередные списки, которые
публиковались в газетах. В очередные списки вносились
лица, подлежащие призыву в суд в течение будущего
года. Так, например, в 1908 году в С.-Петербурге в
очередные списки было включено 4200 лиц. Никто не мог
быть призываем в качестве присяжного чаще одного
раза в два года. Для участия в сессиях окружного суда
приглашения присяжным рассылались председателем
суда. В суд к открытию сессии приглашалось 30 присяж-
* Андреевский С. А. Драмы жизни. Пг., 1916, с. 609.
** Ленин В, И. Поли. собр. соч., т. 4, с. 407.
8
ных заседателей. Обвинение и подсудимые имели право
мотивированного и немотивированного отвода шести
присяжных. После отвода путем жеребьевки из
оставшегося числа выбиралась коллегия присяжных судей из
двенадцати основных и двух запасных заседателей,
которая и участвовала в рассмотрении дел. После
сформирования состава присяжные избирали своего
старшину.
Присяжные в зале судебных заседаний располагались
отдельно от состава коронных судей. Они имели право
на осмотр следов преступления и других вещественных
доказательств, а также право задавать вопросы
допрашиваемым лицам через председателя суда. Они могли
просить у председателя суда разъяснений по всем
обстоятельствам дела и «вообще всего для них
непонятного».
Присяжным запрещалось во время судебного
заседания общаться с кем бы то ни было, кроме членов суда,
под угрозой штрафа. Они должны были сохранять
тайну совещательной комнаты и за обнародование итогов
голосования также подвергались штрафу.
По окончании прений сторон председательствующий
обращался к присяжным с напутственной речью
(резюме) и вручал их старшине вопросный лист для
вынесения вердикта, который состоял в ответе на
поставленные судом вопросы, после этого присяжные заседатели
удалялись в совещательную комнату. Вход в нее
охранялся стражей. Никто не имел права входить и выходить
из нее без разрешения председателя суда. Характерен
пример, приводимый А. Ф. Кони в публикуемой ниже
статье, который показывает, что отношение всех участ-
ников процесса к тайне совещательной комнаты было
поистине свято. Закон призывал присяжных к
единогласному решению, но если его достичь не удавалось, то
вопросы ставились на голосование. Решение каждого
вопроса могло состоять только из утвердительного «да»
или отрицательного «нет». Если голоса разделялись
поровну, то вопрос решался в пользу подсудимого.
Присяжные могли дополнить свои ответы только указанием
на то, что подсудимый заслуживает снисхождения. Если
суд единогласно признавал, что решением присяжных
осужден невиновный, то он мог передать дело на
рассмотрение нового состава присяжных.
На основании вердикта присяжных коронные судьи
выносили соответственно оправдательный или
обвинительный приговор. Приговоры суда с участием присяж-
9
ных заседателей подлежали обжалованию только в
кассационном порядке в Сенат.
Второй инстанцией в системе общих судов являлась
судебная палата. В ней в апелляционном порядке
рассматривались дела по жалобам на приговоры и решения
окружных судов, вынесенные без присяжных
заседателей. Кроме того, к ее подсудности были отнесены дела
об особо опасных преступлениях — государственных и
должностных. Эти дела должны были рассматриваться
коронным судом с сословными представителями, по
одному от каждого сословия: губернский (или
уездный) предводитель дворянства, городской голова и
волостной старшина. В отличие от суда присяжных особое
присутствие судебной палаты представляло собой
единую коллегию коронных судей и народных
представителей, причем права всех членов присутствия были равны
и в процессе судебного следствия, и при вынесении
приговора. Но это формальное равенство не приводило к
повышению их роли по сравнению с присяжными
заседателями. Напротив, как заметил Г. А. Джаншиев, «эта
форма ничем почти не отличается от обыкновенного
коронного суда»*, а В. И. Ленин писал, что сословные
представители «представляют из себя безгласных
статистов, играют жалкую роль понятых,
рукоприкладствующих то, что угодно будет постановить чиновникам
судебного ведомства»**.
Хотя такая оценка и преувеличена, но в принципе
правильна, однако не следует думать, что и члены
судебных палат были также безгласными статистами,
работающими по команде сверху. Число оправдательных
приговоров особых присутствий с участием сословных
представителей было немногим меньше, чем в судах с
присяжными заседателями. Так, в 1889—1891 годах
число обвинительных приговоров судебных палат
составляло 68%, против 65% в судах присяжных!*** При этом
следует учесть и более высокий уровень
предварительного следствия и государственного обвинения по
делам, отнесенным к подсудности палат, а также их
важность и политическую значимость.
Не менее демократическим, чем суд присяжных, и
столь же независимым элементом судебной системы
был мировой суд. Мировые суды в России также возник-
* Джаншиев Г. А. Сборник статей, с. 179.
**-Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 4, с. 407.
*** Высочайше учрежденная комиссия для пересмотра
законоположений по судебной части: Труды, т. I, СПб, 1895, с. 201.
10
ли в ходе судебной реформы 1864 года. Они имели две
инстанции: участковый мировой судья и уездный
(городской) съезд мировых судей. Мировые судьи решали
дела единолично. Они избирались земскими собраниями
на три года. К их компетенции были отнесены такого
рода дела, которые почти ежедневно возникают между
людьми, не знающими законодательства и не
терпящими формализма и волокиты судебных обрядов и потому
предпочитающими суд скорый и справедливый,
основанный не столько на законе, сколько на правосознании.
Главнейшим показателем качества работы мирового
судьи и его целью являлось примирение сторон. Его
рассмотрению подлежали гражданские дела с суммой
иска до 300 рублей, а также уголовные проступки,
максимальное наказание за которые — год тюремного
заключения.
Съезд мировых судей рассматривал жалобы на
решения судей, и его постановления являлись
окончательными, они могли быть обжалованы только в
кассационном порядке в Сенат.
Сенат в процессе судебной реформы также
претерпел изменения. Он превратился в единственный в
стране кассационный суд. Основное отличие кассационного
порядка обжалования судебных решений и приговоров
от апелляционного в России состояло в том, что
поводом для кассации являлись процессуальные
правонарушения.
Большое значение для независимости суда и
упрочения принципа законности в уголовном и гражданском
процессах дореволюционной России имело создание
адвокатуры и реорганизация прокуратуры. Адвокатура,
созданная судебной реформой, сразу заявила о себе
решительно и смело. Современники даже поражались
обилию талантливых адвокатов и их популярности у
публики. Волна демократического движения шестидесятых
годов вынесла в адвокатуру многих свободомыслящих,
одаренных и образованных юристов, которые по своим
убеждениям тяготились служить самодержавию и
надеялись использовать судебную гласность как легальную
возможность обличения пороков существующего строя.
Адвокатура по судебным уставам была двух
категорий. Адвокатами высшей категории являлись
присяжные поверенные, которые объединялись в корпорации
по округам судебных палат. Присяжные поверенные
избирали Совет, который ведал приемом новых членов
и надзором за деятельностью отдельных адвокатов.
11
Диаграмма числа судебных дел, приходящихся на одного адвоката по
округам судебных палат.
Присяжными поверенными могли быть только лица,
имеющие высшее юридическое образование и стаж
работы по специальности не менее 5 лет, не моложе
25 лет, несудимые. Для приобретения необходимого
стажа адвокаты могли начинать свою деятельность в
качестве помощников присяжного поверенного.
Вторую, низшую категорию адвокатуры составляли
частные поверенные. Они занимались
малозначительными делами и могли выступать в тех судах, при которых
состояли. Свидетельство на звание частного
поверенного могли получать лица, и не имеющие высшего
юридического образования, если они выдержали экзамен в
соответствующем суде.
Большое значение для утверждения новых
демократических принципов судопроизводства имела и
реорганизация прокуратуры. После судебной реформы
прокуратура освобождалась от функций общего надзора, ее
деятельность ограничивалась только судебной сферой.
Если до судебной реформы прокурор должен был
выступать в суде «как взыскатель наказания и вместе с
тем защитник невинности», то теперь главной его
задачей становился надзор за дознанием и следствием и
поддержание государственного обвинения в суде. Новая
прокуратура создавалась при судах. В соответствии с
12
судебными уставами учреждались должности прокурора
судебной палаты и его товарищей, прокурора окружного
суда и его товарищей. Организация прокуратуры
строилась на принципах строгой иерархичности,
единоначалия и взаимозаменяемости в процессе. Прокурорский
надзор осуществлялся под высшим руководством
министра юстиции как генерал-прокурора.
Обер-прокуроры Сената и прокуроры судебных палат
непосредственно подчинялись генерал-прокурору. Прокуроры
окружных судов действовали под руководством прокуроров
судебных палат. Число товарищей прокурора и
распределение их обязанностей зависели от размеров
судебного округа. Безусловно, прокуроры находились в гораздо
большей зависимости от правительства и в силу их
прямого подчинения министру юстиции, и потому, что на
них не распространялся принцип несменяемости. Они,
конечно, должны были выполнять роль «говорящего
орудия» самодержавия в суде, они находились на
переднем крае борьбы с преступностью — как общей, так
и политической. Но не следует преувеличивать эту
зависимость. Попытки местной администрации обойти и
нарушить закон они пресекали смело и решительно.
Даже если это приводило к столкновениям с
губернским начальством. Они не только не были зависимы от
полиции и жандармерии, но, наоборот, рассматривали
себя в качестве начальства по отношению к ним. Как
правило, из числа прокуроров подбирались
руководящие кадры не только министерства юстиции, но и
министерства внутренних дел.
Первое поколение работников прокуратуры
немногим уступало своим коллегам-противникам — адвокатам
и в соблюдении норм судебной этики, и в стремлении
установить в деле истину, а не доказывать вину
подсудимого во что бы то ни стало. Прокуратура ни в первые
годы своего существования, ни впоследствии не была
подвержена коррупции. К чести прокуратуры следует
отнести выигранное дело миллионера Овсянникова,
дело игуменьи Митрофании, так называемые банковские
процессы и др. Отчасти это объясняется достаточно
высокими окладами. Так, в начале XX века товарищ
прокурора окружного суда получал 2400 рублей в год, т. е.
примерно в 10 раз больше среднего рабочего.
Таким образом, судебная реформа создала не
только новый суд, но и новую систему правоохранительных
органов, более того, новое понимание и представление
о законности и правосудии. Как образно выразился
13
А. Ф. Кони, новое вино заполнило новые мехи.
Губернатор уже не мог, как раньше, арестовать судью за не
соответствующий его представлению о законе приговор,
а подсудимые и потерпевшие, истцы и ответчики были
избавлены от необходимости задабривать судебных
чиновников. Избираемые мировые судьи пришли на
смену полицейским чиновникам. Вину подсудимого нужно
было доказывать гласно, а не келейно, в борьбе с
адвокатурой перед лицом представителей населения —
присяжных заседателей. Суд присяжных оказал мощное
благотворное влияние на всю судебную систему и даже
в некоторой мере на политическую систему России.
Первые шаги новых судов, и в особенности суда
присяжных, были встречены одобрением и правительства, и
печати. Во Всеподданнейшем отчете за 1866 год министр
юстиции Д. Н. Замятнин отмечал: «Присяжные
заседатели, состоящие преимущественно из крестьян, вполне
оправдали возложенные на них надежды»*. А
«Московские ведомости» писали по поводу этого отчета: «Суд
присяжных — лучшая гарантия гражданской свободы...
успех превосходит самые смелые ожидания»**. Но
очень быстро эйфория консервативных кругов по
поводу присяжных прошла. На смену ей появляется столь
же эмоциональное возмущение судом толпы. В рядах
критиков суда присяжных можно выделить две линии,
две группы. Первая — прагматики реакционного толка,
стремившиеся устранить суд присяжных от
рассмотрения дел, которые в той или иной мере носили
политический характер. Можно даже согласиться с тем, что
они исходили в принципе из духа судебных уставов. Ко
второй группе следовало бы отнести идеалистов и
идеологов реакции, которые стремились к полной и
окончательной ликвидации суда присяжных. Конечно, такое
деление несколько условно, и организаций борьбы против
суда присяжных не существовало. Но борьба эта, то
утихая, то разгораясь, затрагивала придворные и
правительственные сферы, общественность и печать.
Борьба с присяжными приносила свои плоды. В
1866 году судебным палатам были переданы дела о
преступлениях печати. Серьезной угрозой суду присяжных
стала реакция на процесс В. Засулич, материалы
которого приводятся в нашем издании. Он, как никакой
другой, продемонстрировал не только перед страной, но
♦Журнал Министерства юстиции, 1867, № 2, с. 114.
** Джаншиев Г. А. Сборник статей, с. 227.
14
даже перед всем миром независимость русского суда
присяжных от давления не только со стороны
министров, но даже и самого императора. Но после этого
процесса указом 9 мая 1878 года из подсудности
присяжных были изъяты дела не только террористов, но и все
преступления против должностных лиц и все
должностные преступления.
Независимость судов ограничивалась и в других
направлениях. Так, в 1881 году «Положение о мерах к ох-
- ранению государственного порядка и общественного
спокойствия», аналогичное нашему Закону о
чрезвычайном положении, предоставило министру внутренних
дел и генерал-губернаторам право требовать
рассмотрения дел при закрытых дверях, передавать дела из
гражданских суд<ов в военные. В 1884 году число
присяжных заседателей, которых стороны могли отводить
без объяснения причин, сократили до трех. Но нападки
реакционеров на суд присяжных продолжались, так же
как и попытки исправить другие «недостатки» судебных
уставов. Неизбежные в каждом новом деле ошибки
подхватывались прессой и раздувались до невероятных
размеров. Промахи следствия и обвинения нередко
игнорировались, все списывалось на присяжных. Белое
выдавалось за черное, достоинства нового суда
изображались как недостатки. Так, один из ярых критиков суда
присяжных В. Фукс писал: «„Суды общественной
совести", упразднив суд по закону, поколебали в сфере
уголовного правосудия саму правду, справедливость и
нравственность, предоставив применение этих основных
начал всякого благоустроенного суда — делу случая»*.
Присяжных обвиняли в неуважении к закону, излишней
впечатлительности, которая превращала суд в лотерею,
когда за одно и то же преступление одних оправдывали,
а некоторых осуждали. Но такого рода обвинения лишь
подчеркивали, что суд присяжных — это не машина
правосудия, это живые люди, которые пользуются
своим правом во имя справедливости пренебречь законом,
если он представляется им слишком суровым или
неясным. Для законодателя, который стремится к
выражению народных интересов, вердикты присяжных должны
быть одним из самых важных выразителей
общественного мнения, лакмусовой бумажкой, по которой можно
определить качество закона. Как правило, обвинения в
адрес присяжных начинали обостряться после оправда-
* Фукс В. Суд и полиция. M., 1889, с. 79.
15
ния присяжными подсудимого в каком-нибудь громком
процессе. Упрек в слабой репрессивности всегда
присутствовал в этих обвинениях, но он практически не
подтверждался данными судебной статистики. Выше мы
приводили цифры соотношения обвинительных
приговоров в суде присяжных и в суде с сословными
представителями. Еще современники заметили, что наиболее
резко нападают на присяжных за мягкость приговоров,
как правило, люди, далекие от судебной практики.
Еще одна особенность суда присяжных, которая
вызывала диаметрально противоположные оценки его
противников и защитников: присяжные заседатели не
имели возможности изучать материалы предварительного
следствия. Конечно, знакомство со всеми материалами
дела, которые нередко составляют десятки томов,
способствует лучшему пониманию происходящего в
судебном заседании, но как практика русского
дореформенного процесса, так и наш недавний опыт
свидетельствуют о том, что это же приводит к формированию у
судей предубеждения в виновности подсудимого. По
единодушному мнению русских процессуалистов,
«благодаря усвоенному судьями по бумажным данным
взгляду, судебное, т. е. устное, следствие, прения
сторон и пр. на суде коронном отодвигаются на второй
план, и только при наличности присяжных
установленные законом гарантии правильного суда, т. е. устность,
состязательность, даже гласность, получают настоящий
смысл и значение»*. Защитники суда присяжных
отмечали и другие его достоинства. Так, прогрессивный
юрист Н. П. Тимофеев, обобщая материалы судебной
практики, пришел к выводу, что суд присяжных
оказывает благоприятное воздействие на общество, которое
проявляется в искоренении взяточничества, уменьшении
в некоторых местностях числа преступлений, особенно
тех, на которые присяжные смотрят строже, увеличении
числа подсудимых, сознающихся в совершенных
преступлениях, повышении доверия народа к суду,
повышении уровня правовой культуры народа, повышении
профессионального уровня коронных судей**.
Эти преимущества суда присяжных были
очевидны в восьмидесятых годах прошлого века далеко не для
всех. Консервативный публицист М. Н. Катков тогда же
призывал обновить судебные учреждения, «рабски ско-
* Джаншиев Г. Л. Суд над судом присяжных. M.f 1896, с. 46.
** См.: Тимофеев Н. П. Суд присяжных в России. M., 1881, с. 16.
16
пированные с чужих образцов», и требовал, чтобы
«министр юстиции был поистине министром своего
государя, а не казался бы дипломатическим при нем агентом
самодержавной судебной республики»41. Тех же
взглядов придерживались и лица, приближенные к
императору. В 1885 году глава консерваторов К. П.
Победоносцев передал царю записку «о необходимости Судебных
реформ», где, в частности, предлагал от института
присяжных «отделаться, чтобы восстановить значение суда
в России»**. В том же году создается Высшее
дисциплинарное присутствие Сената, которое, вопреки
принципу несменяемости судей, было наделено правом
переводить судей, а в исключительных случаях даже
увольнять их. В 1889 году на большей части страны был
ликвидирован институт мировых судей. Коснулась
реакция и суда присяжных. В 1887 году устанавливается
образовательный ценз для присяжных — умение читать
по-русски, а также увеличивается имущественный ценз.
Однако до революции попытки ликвидировать суд
присяжных не увенчались успехом. Безрезультатно
закончилась и деятельность комиссии под руководством
министра юстиции Н. В. Муравьева, о которой
упоминает в своей статье А. Ф. Кони. Суд присяжных был
упразднен вместе с другими судебными органами
декретом о суде № 1, принятым Совнаркомом 22 ноября
1917 года.
Более подробно особенности суда присяжных
показаны ниже в интересной статье А. Ф. Кони,
опубликованной в 1914 году. В ней затрагиваются, в частности,
такие спорные вопросы, которые могут встать при
рассмотрении законопроектов о нашей судебной реформе, как,
например, отвод присяжных сторонами, назначение
наказания, общение коронного суда с присяжными и др.
А. Ф. Кони внимательно анализирует роль участников
процесса: председательствующего, прокурора, адвоката,
предостерегает от возможных ошибок и промахов. Его
статья служит прекрасным, практически не устаревшим
учебным пособием для всех, и особенно молодых,
юристов, начинающих свою деятельность в суде
присяжных.
Троицкий Н. А. Царизм под судом прогрессивной
общественности. M., 1979, с. 46.
** Виленский Б, В. Судебная реформа и контрреформа в
России. Саратов, 1969, с. 295—305.
17
В настоящий сборник включены только громкие,
широко известные процессы, привлекшие к себе внимание
общества, в которых участвовали выдающиеся русские
юристы. При подготовке сборника возникли
определенные трудности. Дело в том, что стенографировались
далеко не все даже известные уголовные дела, многие
из них дошли до нас только в более или менее
подробных судебных отчетах, публиковавшихся в прессе. Кроме
того, следует отметить, что большинство изданных
речей принадлежит адвокатам. Это объясняется и их
популярностью у читающей публики вследствие
эмоциональности и красочности, и заинтересованностью
адвокатуры в публикации сочинений. Полные тексты речей
обвинителей, и особенно судей, сохранились в
мизерном количестве. Нелегко было сделать и выбор среди
интересных дел, вызвавших в свое время общественный
резонанс. Поскольку многие речи известных русских
юристов издавались в советское время*, в данный
сборник хотелось включить что-то новое, но нельзя было
выбросить дела, ставшие классикой как с точки зрения
юридической, так и с точки зрения судебного
красноречия — такие, как, процессы Веры Засулич, Мироновича.
Читателю следует также иметь в виду, что многие
известные уголовные процессы, прежде всего по
политическим и должностным преступлениям, не могли войти
в эту книгу, так как судом присяжных они не
рассматривались.
Заметим, что большинство дел относится к раннему
периоду развития суда присяжных и всей
пореформенной судебной системы. Это был период наибольшей
законности в работе судов и наибольшей
демократичности судебной системы. Реакция
восьмидесятых—девяностых годов XIX века оказала негативное влияние на
«судебную республику». Прокуратура все чаще сквозь
пальцы смотрела на нарушения законности, а в борьбе
с революционным движением даже подавала пример
полиции, как можно пренебрегать законом. Адвокатура
тоже не отличалась принципиальностью. К началу XX
века, как писал замечательный адвокат С. А. Андреевский,
в адвокатуре «сформировалась крепкая школа рекламы
и актерского пустозвонства», которая привела к тому,
что присяжные поверенные «годились лишь для дел, ко-
* См: Судебные речи известных русских юристов. M., 1956, 1957,
1958; Речи известных русских юристов. M., 1985; Смолярчук В. И.
Гиганты и чародеи слова. M., 1983.
18
торые сами собой выигрывались»*. Безусловно,
интересные дела и искусные судебные ораторы были в
Российской империи в XX веке. Продолжали трудиться
многие представители старшего поколения, появились новые
имена: Н. М. Муравьев, В. А. Маклаков, О. О. Грузен-
берг, А. С. Зарудный и др. Но из этого периода
наибольший интерес представляют политические процессы,
проходившие без участия присяжных заседателей.
И еще одно дополнение. Просмотрев большую часть
материалов известных уголовных процессов XIX —
начала XX века, мы не обнаружили ни одного
преступления, которое бы сегодня могло поразить общественное
мнение, от которого волосы вставали бы дыбом и стыла
бы кровь у нашего современника. Видимо, слишком
много нам пришлось пережить в XX веке, чтобы
содрогнуться от того, что казалось чудовищным сто лет назад.
В период деятельности суда присяжных в России
практически не было безмотивных и садистских убийств, почти
не встречается нередких сегодня убийств, сопряженных
с изнасилованием женщин и детей (приводимое в книге
дело Мироновича об убийстве Сарры Беккер является
исключением, и то если следовать версии обвинения).
Шайке «червонных валетов» было далеко до масштабов
и методов современных рэкетирских банд.
Организованная и профессиональная преступность в России
существовала, но она не достигала того мафиозного
уровня, до которого поднялась сегодня. Так что в XIX веке
довольно трудно отыскать более зверские и
немыслимые преступления, чем те, которые совершены нашими
современниками.
Конечно, было бы наивно объяснять рост
преступности и нравственной деградации общества только
уничтожением института присяжных, но вместе с тем
закономерно и то, что процесс демонополизации, деидеоло-
гизации и демократизации, происходящий сегодня в
СССР, сопровождается возрождением суда присяжных.
Речи приводятся по следующим источникам: Русские
судебные ораторы в известных уголовных процессах,
т. 1—4. М., 1895—1900; Судебные речи известных
русских юристов. М., 1985; Спасович В. Д. Сочинения, т. 6.
СПб, 1894; Кони А. Ф. Собрание сочинений, т. 1—2. М.,
1966.
С. M. КАЗАНЦЕВ,
кандидат юридических наук
* Андреевский С. А. Драмы жизни, с. 33.
КРАТКИЙ
БИОГРАФИЧЕСКИЙ
СЛОВАРЬ
Александров Петр Акимович (1838—1893). Родился в семье
священника. После окончания в 1860 году юридического
факультета Петербургского университета назначен следователем в
Царское Село. В 1866 году — товарищ прокурора Петербургского
окружного суда, с 1867-го— прокурор Псковского окружного
суда. В 1871 —1873 годах — товарищ прокурора, а затем прокурор
Петербургской судебной палаты, с 1874-го — обер-прокурор
кассационного департамента Сената. В 1875 году П. А. Александров
дал заключение по делу Суворина и Ватсона, обвинявшихся в
клевете в печати, и выступил в защиту свободы слова. Это
повлекло конфликт с начальством, и он уходит из прокуратуры. Выйдя
в отставку, становится присяжным поверенным. После участия
в «процессе 193-х» и особенно после защиты Веры Засулич
П. А. Александров выдвигается в ряд ведущих адвокатов
страны. Большую известность получили также его речи,
произнесенные в кутаисском процессе (об убийстве Сарры Модебадзе) и
в процессе Нотовича.
В. Д. Спасович писал о нем: «Он был остер, как бритва,
холоден, как лед:, бесстрашен, как герой»*. А Н. П. Карабчев-
ский вспоминал: «Речи свои Петр Акимович произносил
несколько гнусавым, не слишком громким голосом, со спокойной
манерой закаленного в боях судебного бойца. Он почти не
жестикулировал. Оружие, как и стройная худощавая фигура
самого бойца, было не из громоздких. Оно не пестрило кричащими
орнаментами и не производило шумных, болезненно бряцающих
ударов. Оружие это почти исключительно было «режущим» и
«колющим». При этом оно было дивно закалено и необычайно
остро отточено»**.
* Смолярчук В. И. Указ. соч., с. 34.
**Карабкевский Н. П. Около правосудия. СПб, 1902, с. 103.
20
Андреевский Сергей Аркадьевич (1847—1919). Родился в
дворянской семье. В 1868 году окончил юридический
факультет Харьковского университета. В 1870—1873 годах —
следователь, а затем товарищ прокурора Казанского окружного
суда, с 1873-го — товарищ прокурора Петербургского
окружного суда. За отказ поддерживать обвинение по делу В. Засулич
из прокуратуры уволен. С 1878 года — присяжный поверенный.
С. А. Андреевский — адвокат-художник и психолог,
«умеющий пробудить добрые чувства в сердцах судей при самых
неблагоприятных условиях»*. Он обладал приятным звучным
голосом. Свободная и красивая речь его вызывала восторг
публики. Лучшие его судебные речи близки к литературным
произведениям. Писал стихи, критические статьи, прозу.
Недостатками его речей коллеги считали рискованные парадоксы и
идеализацию своих подзащитных, приводившую его к
моральному оправданию не только преступника, но иногда и
преступления.
Бобрищев-Пушкин Александр Михайлович (1851 — 1903).
В 1873 году закончил Училище правоведения. Служил
следователем в Казани, товарищем прокурора в Новгороде. С 1883-
го — товарищ прокурора Петербургского окружного суда, с
1893-го — прокурор Ярославского окружного суда,
с 1896-го — товарищ прокурора Московской судебной палаты,
с 1897-го — председатель Московского окружного суда,
с 1900 года—товарищ обер-прокурора уголовного
кассационного департамента Сената. Занимался научной работой. Его
перу принадлежат некогда широко известные книги
«Эмпирические законы деятельности русского суда присяжных» (1896) и
«Суд и раскольники-сектанты» (1901). Поэт. Был избран
председателем литературно-художественного кружка поэта Я.
Полонского.
Громницкий Михаил Федорович. До судебной реформы —
губернский стряпчий в Воронеже. С 1866 года —товарищ
прокурора Московского окружного суда. Патриарх русского
обвинительного красноречия. Его речи отличались неотразимой
логикой, ясностью и простотой изложения. А. Ф. Кони
вспоминал о нем: «Сочетание силы слова с простотой слова,
отсутствие всяких ненужных вступлений и какого-либо пафоса,
спокойное в своей твердости убеждение и самое подробное
изучение и знание всех обстоятельств и особенностей
разбираемого преступления делали из его речи то неотразимое
«стальное копье закона», о котором говорит король Лир.
Почти по всем большим и сложным делам того времени, о котором
я говорю. Громницкий выступал обвинителем, являясь не толь-
* Ляховецкий Л Д. Характеристики известных русских судебных
ораторов. СПб, 1897, с. 47.
21
ко достойным, но и опасным противником талантливых
защитников, которых в изобилии выделяла из своей среды тогдашняя
московская адвокатура»*.
Доброхотов Михаил Иванович (1827—1869). Первый
председатель Совета присяжных поверенных округа Московской
судебной палаты (1866—1869).
Карабчевский Николай Платонович (1851 —1925). После
окончания в 1874 году юридического факультета
Петербургского университета вступил в адвокатуру. Быстро приобрел
популярность. Выступал почти во всех громких уголовных
процессах конца XIX — начала XX века: дело об интендантских
злоупотреблениях во время русско-турецкой войны, дело
Мироновича, дело Имшенецкого, дело Ольги Палем, дело братьев
Скитских, мултанское дело, дело о крушении парохода
«Владимир» и др. Принимал участие и в политических процессах.
Он защищал убийцу Плеве Сазонова, руководителя боевиков
партии эсеров Гершуни, Е. К. Брешко-Брешковскую. Его
отличали мастерство, эмоциональность и выразительность речи,
глубокий психологический анализ, умение допрашивать
свидетелей в процессе, опровергать доводы противной стороны.
Правда, излишняя эмоциональность не могла заменить
систематического изучения дела. От этого страдали красота слога и
логика изложения.
Занимался литературным творчеством. Его перу
принадлежат ряд прозаических и поэтических сочинений, воспоминания
и очерки по судебным делам.
В 1895 году Н. П. Карабчевский был избран в состав
Совета присяжных поверенных Петербургской судебной палаты,
а затем и ее председателем и остался на этом посту до
Октябрьской революции. К Советской власти отнесся
отрицательно и эмигрировал.
Ковалевский Михаил Евграфович (1829—1884). В 1849
году закончил Училище правоведения. Служил на секретарских
должностях в Сенате, затем на судебных должностях в
Петербурге, с 1857-го — председатель палаты уголовного суда.
В 1862-м — член-редактор комиссии по выработке основ
судебной реформы. Был первым обер-прокурором уголовного
кассационного департамента Сената. В 1870—1881 годах — сенатор.
С 1881-го — член Государственного совета.
Кони Анатолий Федорович (1844—1927). Родился в
Петербурге в семье литератора. После окончания в 1865 году
юридического факультета Московского университета работал в
должности помощника секретаря Петербургской судебной
палаты. В 1867—1870 годах — товарищ прокурора Харьковского
*Кони А Ф. Собр. соч., т. 4, с. 190
22
окружного суда, с 1870-го — товарищ прокурора
Петербургского окружного суда, с 1871-го — прокурор. С 1878 года —
председатель Петербургского окружного суда, затем, с 1881-
го, член Петербургской судебной палаты, с 1885 года — обер-
прокурор . кассационного департамента Сената, с 1897-го —
сенатор, с 1907-го — член Государственного совета.
Будучи на прокурорских должностях в Харькове, Казани и
Петербурге, Кони зарекомендовал себя превосходным
судебным оратором. Как писал Н. В. Муравьев, в то время прокурор
Московской судебной палаты, по поводу изданных в 1888 году
судебных речей А. Ф. Кони, «литературная оценка этих
художественных и вместе содержательных речей общеизвестна, и в
новых похвалах они не нуждаются; им трудно, почти
невозможно подражать, но по ним следует учиться»*.
Свою прокурорскую, а затем судейскую работу А. Ф. Кони
успешно сочетал с педагогической деятельностью и
литературным творчеством. С 1876 года он преподавал курс уголовного
судопроизводства в Училище правоведения.
В 1878 году А. Ф. Кони председательствовал в процессе
В. Засулич. В соответствии с принципом несменяемости судей,
закрепленным в судебных уставах, он сохранил за собой пост
председателя Петербургского окружного суда, несмотря на
желание императора уволить его в отставку. Это потребовало от
него не меньшего мужества, чем вынесение оправдательного
приговора. Но поскольку независимость А. Ф. Кони от власти
никогда не переходила границы дозволенного и носила
характер либеральной оппозиции в рамках закона, его дальнейшая
карьера складывалась сравнительно удачно. Но этим он был
обязан не благосклонности императоров и министров, а своему
таланту и огромной работоспособности.
В 1896 году он был избран почетным академиком
Академии наук.
Временным правительством А. Ф. Кони был назначен
первоприсутствующим (председательствующим) в уголовном
департаменте и общем собрании Сената.
После Октябрьской революции А. Ф. Кони продолжал
преподавательскую деятельность в Петроградском университете и
других вузах.
Лохвицкий Александр Владимирович (1830—1884).
Закончил Московский университет, преподавал историю русского
права и энциклопедию права. С 1869 года — один из
редакторов «Судебного вестника» и защитник по отдельным уголовным
делам. С 1874-го — присяжный поверенный в Москве. Автор
* Муравьев Н. В. Прокурорский надзор в его устройстве и
деятельности. М., 1889, с. 489.
23
многих научных трудов, в том числе «Обзора современных
конституций» (1862) и «Курса русского уголовного права»
(1868), в котором предложен целый ряд решений по
приведению в соответствие Уложения о наказаниях 1845 года и
судебных уставов 1864 года.
Люминарский Елисей Елисеевич (1829—1883). Закончил
Училище правоведения. Служил в московских департаментах
Сената. После судебной реформы — первый председатель
Московского окружного суда, затем член Московской судебной
палаты. От предложенного ему поста сенатора отказался.
Е. Е. Люминарский, по выражению А. Ф. Кони, был «судья с
головы до ног». Самостоятельный и независимый, недоступный
внешнему давлению, чуждый карьеризма, снисходительный и
сострадательный к слабым, он пользовался всеобщим доверием
и уважением.
Муравьев Николай Валерианович (1850—1908). После
окончания Московского университета остался на кафедре и
читал лекции по уголовному процессу. В 1881 году назначен
прокурором Петербургской судебной палаты. С 1884-го на той же
должности в Москве. С 1891 года — обер-прокурор уголовного
кассационного департамента Сената, с 1892-го —
государственный секретарь. В 1894—1905 годах — министр юстиции. В
1905—1908-м — посол в Италии. Считался одним из лучших
судебных ораторов. Наиболее известны его речи по делу пер-
вомартовцев, по делу «червонных валетов», по делу Тупицыных,
а также его обер-прокурорские заключения. Его лекции также
пользовались успехом. Одной из целей своей деятельности
ставил подчинение суда воле монарха. Для ее достижения
стремился ограничить роль суда присяжных, отменить принцип
несменяемости судей, с тем чтобы превратить суд в «один из
органов правительства».
Обнинский Петр Наркизович (1837—1904). Известный
судебный деятель и публицист. В шестидесятых годах — мировой
судья в Калужской губернии, в семидесятых —
восьмидесятых — товарищ прокурора, затем прокурор Московского
окружного суда. Ему посвятил А. Ф. Кони свой очерк
«Нравственный облик Пушкина». Характеризуя П. Н. Обнинского и тот
тип обвинителя, который он представлял, А. Ф. Кони сказал:
«Прокурор — говорящий публично судья». Речи П. Н.
Обнинского «были всегда проникнуты спокойствием тона,
человечностью и убедительностью доводов без преувеличенного
толкования улик и доказательств»*.
Плевако Федор Никифорович (1842—1908). После
окончания в 1864 году юридического факультета Московского уни-
* Обнинский П. Н. Сборник статей. М., 1914, с. 15.
24
верситета работал секретарем Московского окружного суда. С
1866-го — в. адвокатуре. Слава его гремела по всей стране. О
его защитах ходили легенды. По мнению современников,
главная сила Ф. Н. Плевако заключалась в интонациях и «в
прямо колдовской заразительности чувства, которым он умел занять
слушателя»*. Он обладал живописным даром речи. Его
выступления отличались глубоким психологизмом, остроумием и ясностью
мысли. В них виртуозно сочетались трагизм, пафос и простота
формы, доходчивость. Благодаря его участию многие
процессы становились громкими, как, например, дело о беспорядках
на Коншинскрй фабрике (где дана интересная характеристика
преступлений, совершенных толпой), на фабрике Морозова,
дело Каструбо-Карицкого, дело крестьян из села Люторичи и др.
В 1907 году Ф. Н. Плевако был избран депутатом III
Государственной думы от партии октябристов.
Пржевальский Владимир Михайлович (1840—1900). После
окончания в 1860 году Московского университета преподавал
историю в кадетском корпусе и в гимназии. В 1866—1870 годах
работал обер-секретарем Московского департамента Сената.
В 1870-м вступил в сословие присяжных поверенных в Москве.
Одновременно являлся редактором «Юридического вестника».
С 1880-го был гласным Московской городской Думы.
Он блестяще выступал в уголовных процессах, особо
выделяли его речи (помимо приведенных в настоящем издании)
по так называемым банковским делам. И, кроме того, он был
одним из лучших адвокатов-цивилистов. Как отмечал
известный адвокат и политический деятель С. Муромцев, «речь
В. М. Пржевальского принадлежала к тому роду красноречия,
которое, отличаясь постоянной серьезностью тона, побивает
противника и знанием дела, и логичностью своих выводов;
недостаток же блестящего остроумия восполнялся в этой речи то
трудно преоборимым сарказмом, то — руководимым
благородными побуждениями негодованием»**.
Спасович Владимир Данилович (1829—1908). После
окончания в 4-849 году юридического факультета Петербургского
университета работал чиновником в палате уголовного суда.
Затем занимался научной и педагогической деятельностью в
Петербургском университете. Получил степень доктора прав,
стал профессором. Им опубликовано большое число работ по
уголовному праву и процессу, гражданскому и
международному праву. Ему принадлежит один из лучших для своего
времени учебников по уголовному праву. В 1861 году вместе с
другими учеными ушел из университета в знак протеста против
* Смолярчук В. И. Ф. Н. Плевако — судебный оратор. М., 1989, с. 15.
* Право, 1900, с. 331.
25
расправы над студентами. В 1863 году его учебник был
запрещен и сам Спасович не был допущен к преподавательской
работе в Казанском университете.
В 1866 году вступил в адвокатуру. По праву считался
самым заслуженным присяжным поверенным. Его называли
«королем адвокатуры». С. А. Андреевский вспоминал: «Вся
администрация — министры, сенаторы и прокуроры поневоле
смотрели на него снизу вверх»*. В. Д. Спасович выступал на
многих крупных политических процессах: «нечаевцев», «50-ти»,
«193-х» и др. Не менее известны его речи по тифлисскому делу
(об убийстве Н. Андреевской), делу Дементьева, делу
Овсянникова, делу Кронеберга, делу о злоупотреблениях в
Московском коммерческом ссудном банке, делу Нотовича, делу
Мельницких и др.
По всеобщему признанию, Спасовича отличали широкая
эрудиция, превосходное знание * различных отраслей права,
простота и ясность речи, доскональное, до мелочей, изучение
дела, глубокий аналитический обзор всех обстоятельств.
Несмотря на то что авторитет В. Д. Спасовича был
несколько подорван его защитой по делу Кронеберга и некоторым
другим, адвокатура всегда относилась к нему с большим
уважением и доверием. Андреевский уже после смерти Спасовича
писал: «Я настаиваю на суровой честности Спасовича,
невзирая на язвительные выходки против него Достоевского за
дело Кронеберга... Спасович был неизменно искренен и тверд в
своих убеждениях. В вопросах адвокатской этики он был до
щепетильности разборчив»**.
Им опубликовано много статей по истории русской и
мировой литературы. Сочинения изданы в десяти томах (1889—
1902).
Урусов Александр Иванович (1843—1900). Князь Урусов
после окончания юридического факультета Московского
университета в 1866 году поступает в адвокатуру. Сразу
приобрел широкую известность своими речами по делу Волоховой и
делу Дмитриевой и Каструбо-Карицкого. Находясь в
Швейцарии после известного «нечаевского» дела, вел агитацию за
невыдачу Нечаева России. За это был сослан в Лифляндию.
В 1876 году был принят в прокуратуру. Служил в Варшаве,
а затем в Петербурге. Прославился как государственный
обвинитель, особо отмечали его речи по делу Гулак-Артемовской
и делу Юханцева. В 1881-м возвращается в адвокатуру.
С. А. Андреевский считал его одним из создателей
«свободного литературного языка защитительной речи». По всеобщему
* Андреевский С. А. Указ. соч., с. 615.
** Андреевский С. А. Указ. соч., с. 616.
26
признанию, его речи отличались эмоциональностью, яркими
эпитетами и эффектными фразами, они сверкали как
фейерверк. Импозантная внешность, приятный голос и талант
полемиста способствовали его неизменному успеху во многих
громких процессах. В 1881 году он защищал в Париже
французского литератора Л. Блуа и выиграл дело.
Шубинский Николай Петрович. Родился в 1853 году. После
окончания в 1875-м юридического факультета Московского
университета записался помощником присяжного поверенного
к Ф. Н. Плевако. Расцвет его популярности как адвоката
приходится на «грань веков», когда он «как бы приблизился к
первому ряду „львов адвокатуры"»*.
Широкую известность ему принесли речи в защиту
рабочих морозовской фабрики, а также рабочих кузнецовской
фабрики.
Его речи отличались не виртуозностью, а умом и смелостью.
Защищая подсудимого, он был энергичным и изобретательным.
Некоторые его выступления получили скандальный успех:
чтобы достичь своей цели, Н. П. Шубинский иногда не брезговал
сомнительными приемами, он, например, мог позволить
«играть на струнах патриотизма присяжных». Ему принадлежит
фраза, ставшая хрестоматийным примером неуважительного
отношения к сопернику в прениях сторон: «Эту часть речи
прокурора я могу сравнить лишь с тем, что ежедневно
выметается из каждой мало-мальски опрятной комнаты»**. Он любил
блеснуть цитатами, но они бывали искусственны и
претенциозны. Активно занимался общественной и политической
деятельностью. Был депутатом III и IV Государственной думы от
партии октябристов.
* Ляховецкий Л. Д. Характеристики известных русских судебных
ораторов. СПб, 1902, с. 101.
** Там же.
А. Ф. Кони
ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ *
Моя служебная деятельность в должностях товарища
прокурора, прокурора, председателя окружного суда,
обер-прокурора и сенатора уголовного кассационного
департамента Сената дала мне возможность в течение
30 лет иметь дело с судом присяжных. Являясь то
стороной-обвинителем, то руководителем судебного
заседания, то, наконец, исследователем и ценителем, с
кассационной точки зрения, условий, в коих постановлено
решение присяжных, причем, конечно, приходилось
знакомиться и с обстоятельствами подлежавшего их
решению дела по существу, я имел неоднократно случай
проверить справедливость столь частых у нас нападок на
эту форму суда. Последние раздавались не только в
печати и в обществе, но свивали себе по временам гнездо
в официальных кругах и в недрах правительственных
учреждений. Не раз предпринимался у нас поход против
суда присяжных, и дальнейшее его существование
покупалось ценой значительного умаления пространства и
объема его действия. Особенно опасным для него были
так называемые «громкие дела», т. е. такие, которые по
личности потерпевших или подсудимых, по важности
преступления или выдающейся его обстановке
привлекали к себе внимание публики. Когда по таким делам,
в особенности в столицах, приговор присяжных шел
вразрез с предвзятым ожиданием большинства, в
печати и обществе, за отсутствием серьезных политических
интересов и вопросов, поднимался шум и гам и суду
присяжных нередко произносился решительный приго-
* Впервые очерк был опубликован в январе и феврале 1914 года
в либеральном историческом журнале «Русская старина».
28
вор. В прессе появлялись статьи, подчас очень
страстные, начинавшиеся обыкновенно словами: «Мы давно
уже говорили» и кончавшиеся своего рода «delenda
Carthago» и «quousque tandem»*. Являлись добровольцы
с напускным возмущением — иногда из среды самого
судебного ведомства, а в министерстве юстиции
начинали с тревожным упованием взирать на кассационный
суд, смущенно ду/^ая в то же время, быть может, о
неизбежном новом законодательном членовредительстве
по отношению к провинившемуся учреждению. Мне
памятны несколько совещаний прокуроров судебных
палат, созванных в семидесятых годах министром
юстиции для обсуждения размеров искупительной жертвы
ввиду реальной опасности, грозившей суду присяжных.
Эта почти постоянно висевшая над судом присяжных
опасность, то ослабевая, то усиливаясь, внушала
некоторым из насадителей его в России почти суеверный страх.
Когда в начале восьмидесятых годов я заявил
юридическому обществу, что намереваюсь сделать в уголовном
его отделении доклад об условиях, тормозящих в
некоторых случаях успешное действие суда присяжных и
требующих законодательного врачевания, председатель
общества, почтенный Н. И. Стояновский **, приехал ко
мне уговаривать меня не делать этого доклада, боясь,
что всякое указание на эти условия будет по
непониманию или коварству обращено на само существо
дорогого ему учреждения.
Обращаясь к личным воспоминаниям о деятельности
суда присяжных и к беглому обзору нападок на нее, я
прежде всего должен заметить, что охранение суда при-
сяжных и улучшение условий, в которые была
поставлена у нас его деятельность, вовсе не соответствовали ни
потребностям этого суда в упрочении, ни силе и
опасному влиянию нападок на него. Все в этом отношении
ограничивалось паллиативными мерами, не
приносившими в практическом своем осуществлении осязательных
результатов, а каждое реальное и неоднократное
предложение, вызванное действительными потребностями
этого суда, в целях правосудной деятельности,
принималось неохотно и надолго увязало в канцелярской тине
* «Карфаген должен быть уничтожен» и «до каких пор» (лат.).
** Стояновский Николай Иванович (1820—1900)— видный судебный
деятель, активный участник судебной реформы. В 1862—1866 годах —
товарищ министра юстиции; в 1867—1875 годах—сенатор (с 1872-го
первоприсутствующий) уголовного кассационного департамента; с
1875 года — член Государственного совета.
29
петербургского бюрократического болота. Достаточно
указать хотя бы на то, что для осуществления такой
насущной меры, как улучшение состава комиссий,
изготовляющих общие списки присяжных, потребовался
тринадцатилетний горестный опыт. Лишь на двадцать
восьмом году существования суда присяжных обнародовано
разумное ограничение права отвода присяжных и
устранение произнесения присяги заседателей перед
каждым делом, обращавшего ее в пустую и скучную
формальность, теряющую всякое значение от частого ее
повторения. В Петербургском окружном суде в мое
время, в семидесятых годах, четыре дня в неделю
действовали два отделения с присяжными, которым в
неделю приходилось рассматривать в среднем около 32 дел,
т. е. выслушивать столько раз присягу присяжных и
столько же раз присягу свидетелей, так что священник,
приглашенный судом, был вынужден, запыхавшись,
спешить из одного отделения в другое и торопливо
«барабанить» присягу и увещание присягающим. Для того же,
чтобы перестать держать представителей общественной
совести в тумане неведения о грозящем подсудимому
наказании, потребовалось сорок пять лет, А между тем в
первые же тринадцать лет были произведены
существенные и обширные сокращения подсудных присяжным
заседателям дел, значительная часть которых (по
преступлениям должности) ныне и самим министерством
юстиции признается нецелесообразной и
нежелательной.
Выслушивая нападки на суд присяжных, прежде
всего приходилось спросить себя: да тот ли это именно суд
присяжных, который, в разумном соблюдении всесослов-
ности и одновременного участия представителей всех
слоев общества, создали составители судебных уставов?
Предположения законодателя о единении
представителей различных отраслей управления в деле выработки
общих списков присяжных заседателей на практике
встретились с полнейшим разбродом этих
представителей, благодаря чему суд присяжных, по отношению к
своему личному составу, обратился в житейском
осуществлении вместо тщательно оберегаемого детища в
обременительного для членов особых комиссий
подкидыша, судьбой которого никто серьезно не
заинтересован. В первые пятнадцать лет существования этого суда
установленные законом временные комиссии
действовали столь небрежно, что в общие списки присяжных,
вопреки точному указанию закона, заносились сумасшед-
30
А. Ф. Кони.
шие, умершие, слепые и глухие, состоящие под судом,
не знающие русского языка, перешедшие 70-летний
возраст и т. п. И одновременно в целом ряде
местностей совсем не заносились в списки представители
поместного элемента и купеческого сословия. А
чиновники, внесенные в эти списки, являлись затем, попав в
списки очередные, к началу судебных заседании
вооруженные свидетельствами начальства о фиктивных, в
сущности, командировках или внезапно оказавшихся
особых поручениях. Те же из неслужащих, которые
все-таки попали, зачастую оказывались щедро снабженными
свидетельствами о болезни, не препятствовавшей им,
однако, просиживать вечера и ночи за картами в
губернских и уездных клубах и восседать в креслах не суда,
а театров. Когда была образована в конце семидесятых
годов при Сенате комиссия об устранении неудобств
при составлении списков присяжных заседателей, мне
в качестве члена ее пришлось заявить, что даже по
Петербургу, где списки составлялись с большим
вниманием, чем в провинции, в течение года, с 1878 по 1879 год,
пришлось исключить из списков, присланных в Петер-
31
бургский окружной суд, 5 иностранцев, 12 человек
старше 70 лет, не проживающих в Петербурге—106,
оказавшихся умершими за несколько лет перед занесением
в списки —23, признанных сумасшедшими —3, не
знающих русского языка — 5, слепых — 2, глухих — 8, не
имеющих права быть присяжными заседателями — 18
и отбывших в предшествующем году свою
обязанность — 5. В провинции в большинстве случаев
положение было еще хуже. Так, например, в Тверском суде в
списках за 1874 год было найдено 14 человек умерших,
из которых один скончался в 1858 году, а другой в 1859
году, т. е. задолго до введения суда присяжных.
Оказалось также, что выбор из общих в очередные списки
производился большей частью в канцеляриях земских
управ или письмоводителями предводителей
дворянства. Таким образом, основу личному составу того суда,
которому вверяются существенные интересы
правосудия в стране, клал вольнонаемный писец, легко
доступный соблазнам в виде запрашивания и мелких
подачек. Следствием этого было то, что в очередные
списки присяжных вносились преимущественно мещане
и крестьяне, а в списки запасные — чиновники и
дворяне, и притом преимущественно на третью четверть года,
когда большинство судов, ввиду летних полевых работ,
не делает выездных сессий. Несмотря на некоторые
улучшения, введенные сенатской комиссией 1879 года,
состав присяжных заседателей и поныне, зачастую из-за
небрежного, а иногда и слишком любезного
составления списков, может представлять довольно
значительное собрание людей, которым лишь не удалось по их
служебному положению или по каким-либо другим
причинам избежать своего внесения в список. В то время,
когда крестьяне безропотно несут обязанности
присяжного заседателя и по-своему стараются свято исполнять
свой долг, лица высших сословий, и в особенности
чиновники, и ныне спешат представлять в суд
свидетельства о болезни (вероятно, о пресловутой неврастении)
или заявления начальства о командировках и особых
поручениях. В этом отношении характерно, например,
то, что 16 июля истекшего года 14 присяжных из 33,
явившихся в Петербургский окружной суд к началу
новой сессии, ходатайствовали об освобождении их,
представив 13 свидетельств начальства о командировках и
одно свидетельство о болезни. Хотя с 1887 года на
основании ст. 82 учреждений судебных установлений из
числа присяжных заседателей устраняются лица, впавшие
32
в крайнюю бедность и находящиеся в услужении в
качестве домашней прислуги, но до этого года 200 рублей
валового дохода от промысла или жалованья, дававшие
право быть присяжным заседателем, едва ли
представляли гарантию того, что суд будет состоять из людей,
не зависимых от ежедневной нужды и от тех страстей,
которые) она может порождать, ибо человек, имеющий
16 рублей 60 копеек в месяц как единственный
нормальный доход, несомненно, находится в крайней бедности,
а при нынешней дороговизне даже 33 рубля 20 копеек
ежемесячной получки ставят человека семейного в
очень трудное положение, хотя бы он и жил в
небольшом уездном городе.
Бедность крестьян, призываемых к исполнению
обязанностей присяжных, и сопряженное с ней трудное
положение их во время сессии давно уже обратили на
себя внимание и литературы (Златовратский. Крестьяне-
присяжные, 1874), и земств. Многие из последних в
конце шестидесятых годов стали выдавать
крестьянам-присяжным небольшое пособие на время пребывания их в
городе. Но скрытые недоброжелатели суда присяжных
начали вопить о том, что исполнение судейских
обязанностей обывателями не есть повинность, а дорогое
политическое право, вознаграждение за пользование
которым извратило бы его существо. К сожалению, первый
департамент Сената в 1872 году разделил этот
взгляд бездушного формализма . и. воспретил
земствам такие выдачи на том основании, что
земство может заботиться исключительно «о
хозяйственных пользах и нуждах губернии», причем Сенатом
было забытр, что на земстве лежат такие
нехозяйственные траты, как расходы на народное образование и
здоровье и выдача содержания мировым судьям. И только
теперь взгляд земств признается наконец — после
сорока лет материальной нужды большинства русских
присяжных — правильным, и внесенный министерством
юстиции в Государственную думу законопроект о выдаче
вознаграждения недостаточно обеспеченным
присяжным заседателям принят Государственным советом.
Припоминая ряд оправдательных решений
присяжных заседателей, которыми мне пришлось заниматься,
я нахожу между ними такие, которые были с
неразборчивой поспешностью заклеймены названием
«возмутительных» и «вопиющих». Да! Были между ними
решения, не удовлетворявшие строгой юридической логике
и формальным определениям закона, были решения, с
2. Заказ 571
33
которыми коронному судье трудно согласиться, но не
было таких, которых нельзя было бы понять и объяснить
себе с точки зрения житейской. Вдумываясь' в
соображения присяжных, а иногда выслушивая и их заявления,
высказываемые обыкновенно в конце сессии,
приходится признать, что часто в их, по-видимому, неправильном
решении кроется действительная справедливость,
внушаемая не холодным рассуждением ума, а голосом
сердца. Не надо забывать, что согласно закону их
спрашивают не о том, совершил ли подсудимый преступное
деяние, а виновен ли он (ст. 754 устава уголовного
судопроизводства) в том, что совершил его; не факт, а
внутренняя его сторона и личность подсудимого, в нем
выразившаяся, подлежат их суждению. Своим вопросом о
виновности суд установляет особый промежуток между
фактом и виной и требует, чтобы присяжные,
основываясь исключительно на «убеждении своей совести» и
памятуя свою великую нравственную ответственность,
наполнили этот промежуток соображениями, в силу
которых подсудимый оказывается человеком виновным
или невиновным. В первом случае своим приговором
присяжные признают подсудимого человеком, который
мог властно и твердо бороться с возможностью
преступления и вырваться из-под ига причин и побуждений,
приведших его на скамью подсудимых, который имел для
этого настолько же нравственной силы, насколько ее
чувствуют в себе сами присяжные. Надо заметить, что
и до сих пор знание, а тем более понимание уголовного
процесса очень многим из нашего общества совершенно
чуждо. Читая с жадностью газетные отчеты о
сенсационных процессах, едва ли кто-либо отдает себе ясный отчет
о смысле и причине тех или других действий суда и о
законных условиях, в которых они должны
производиться. После одного из громких процессов, очень
волновавшего петербургское общество, мне пришлось услышать,
как один сановник, занимавший в высоком учреждении
руководящее положение, негодовал перед светской
публикой, собравшейся в гостиной, восклицая: «А? Как
вам это нравится? Подсудимая созналась, а
председатель ставит присяжным вопрос: «Виновна ли она?» А?
виновна ли?! Вот до чего у нас дошло!» Даже и
профессиональными юристами-практиками по временам
проводился в суде взгляд, что защита не может просить об
оправдании сознавшегося подсудимого. Понадобилось в
1901 году всестороннее и глубокое по содержанию
заключение обер-прокурора уголовного кассационного
34
департамента И. Г. Щегловитова * по делу Семенова и
согласное с ним руководящее решение Сената, чтобы
раз навсегда разъяснить, что «виновен» и «совершил»—
не синонимы. К этому надо добавить, что не только
относительно виновности, но даже и относительно факта
преступления наши (да и большинство
западноевропейских) присяжные поставлены далеко не в то удобное
положение, в котором находятся присяжные.в
Шотландии, где их задача облегчается правом, не выбирая
исключительно между двумя ответами, избрать средний
путь и сказать «не доказано» (not proven)!
Закон открывает перед присяжными широкий
горизонт милосердия, давая им право признавать
подсудимого заслуживающим снисхождения «по
обстоятельствам дела». Из всех «обстоятельств дела» самое важное,
без сомнения, личность подсудимого, с его добрыми и
дурными свойствами, с его бедствиями, нравственными
страданиями, испытаниями. Но где возникает вопрос о
перенесенном страдании, там рядом с ним является и
вопрос об искуплении вины. Зачерпнутые из глубины
общественного моря и уходящие снова, после дела, в эту
глубину, ничего не ищущие и по. большей части
остающиеся безвестными, обязанные хранить тайну своих
совещаний, присяжные не имеют соблазна рисоваться
своим решением и выставлять себя защитниками той или
другой теории. Осуждать их за приговор, сомневаясь в
его справедливости, может лишь тот, кто вместе с ними
сам изучил и исследовал обстоятельства дела и перед
лицом подсудимого, свобода и честь которого зависят
от одного его слова, вопрошал свою совесть и в ней, а
не в голосе страстного негодования нашел ответ,
идущий вразрез с приговором. Но такой человек, особливо
если он долго занимался судебной практикой, знает, что
убеждение в виновности подсудимого не зависит от его
сознания в факте, вызываемого иногда отчаянием,
расчетом, побуждениями великодушия относительно
действительно виновных и т. п., а нарастает постепенно из
ряда обстоятельств, обнаруживаемых при разбирательстве
дела. Из них нередко трудно со стороны уловимое
образуется ^ имеющее решающее значение впечатление.
Опытные судебные деятели, конечно, не раз замечали,
как какая-нибудь характерная черта в личности потер-
*Щегловитов Иван Григорьевич (1861—1918)—в начале 1900-х
годов обер-прокурор уголовного кассационного департамента
Сената, впоследствии министр юстиции (1906—1915) и председатель
Государственного совета (1917).
35
певшего или подсудимого, иногда какая-нибудь его
фраза, возглас, замешательство, открывающие внезапно
внутреннюю сущность человека, свойство его
деятельности и житейского поведения, сразу приобретают
огромное значение по произведенному ими впечатлению
и властно склоняют мысль присяжных к обвинению иди
оправданию. В моих «Воспоминаниях и заметках
судебного деятеля», публиковавшихся на страницах
«Русской старины» с 1907 года и собранных затем в книге
«На жизненном пути», приведен ряд таких примеров.
Не стану их повторять здесь, но скажу, что то, что
строится и разрабатывается в судебном заседании,
напоминает собой струю фонтана: поднимаясь все выше и
выше, она наконец переламывается и спадает в одну
сторону, и эта сторона обусловливается почти
незаметными, но, однако, очень влиятельными причинами.
Поэтому кричать против решения присяжных, не
проследив за всем процессом в заседании, по меньшей
мере, слишком поспешно. Публика судит о подсудимом и
его/деянии по газетным отчетам. Но они или отличаются
кратким сообщением о выдающемся деле под громкими
заголовками «Ужасная драма», «Кровавая расправа»,
«Дерзкий подлог», «Семейная трагедия», «Жертва
доверия» и т. п., или представляют отчет односторонний,
подчас партийный, причем показания свидетелей, из-
лагаясь репортером своими словами и сопровождаясь
его собственными выводами и замечаниями, смотря
по его личным вкусам и задачам, то сокращаются, то
излагаются с преднамеренной подробностью. Но между
автором такого отчета, в его торопливой и подчас
лихорадочной работе, ни к чему притом не обязывающей
и в лучшем случае представляющей в своем конечном
выводе лишь мнение газетного труженика, и работой
совести присяжных, от которых требуется не мнение, не
«взгляд и нечто», а приговор, чреватый
последствиями,— большая разница... Даже и стенографические
отчеты далеко не всегда дают верную внешнюю картину
того, что происходит на суде. Не всегда стенографы
успевают в точности уловить быстро текущее слово или
отдать себе правильный отчет о смысле сказанного,
произвольно соединяя отдельные места, среди которых
ими был сделан пропуск. Не могу не вспомнить о
стенографистке официальной газеты, которая передавала в
своем напечатанном отчете мою обвинительную речь
по делу об умерщвлении Филиппа Штрама. Она
пропустила слова: «Кругом все так вопиет об убийстве, что
36
подсудимому только и осталось сознаться, но если бы
этого сознания и не было, то перед нами целый ряд
улик, доказывающих и помимо этого сознания
совершение преступления подсудимым, а именно и т. д.» и
передала это место речи так: «Кругом все так и вопиет,
что тут убийство, но это, впрочем, ничего, а именно...»
Вот почему ни на отчетах, ни тем более на рассказах
и суждениях по поводу происходившего на суде нельзя
основывать правильной критики решения присяжных:
Тут обыкновенно рисуется резко намалеванная
декорация, но в судебном заседании развертывается картина,
некоторые части которой написаны красками жизни с
точностью и подробностью миниатюры, или сложены,
подобно мозаике,' из отдельных кусочков, в которые
судьям пришлось пристально всматриваться, переживая
в душе их место*и значение в слагающемся целом.
Дела, по которым раздаются нарекания на
присяжных заседателей, распадаются, в сущности, на две
категории: на дела, по характеру и свойствам
преступления не привлекающие особого общественного внимания,
в которых присяжным, изрекшим оправдание, ставится в
упрек признание невиновности, несмотря на
собственное сознание подсудимого, и на дела, в которых
оправдание идет вразрез с надеждами услышать приговор
обвинительный. По делам первой категории
могущественным толчком к оправданию служит очень часто
долговременное предварительное заключение обвиняемого.
При неявке какого-либо существенного свидетеля дело,
назначенное к слушанию, вновь откладывается на
несколько месяцев (бывали дела, в которых
неоднократные отсрочки вызывали пятнадцать лишних месяцев
заключения подсудимого под стражей), и, в конце
концов, перед присяжными на скамье подсудимых
находится человек, виновность которого в их глазах
несомненна, но также несомненно и то, что он уже понес
наказание, иногда даже и свыше того, которое было бы ему
назначено судом по закону. Вся разница в том, что он
подвергся этой каре не по приговору суда, а по
постановлению следователя, действующего иногда под
влиянием предвзятого взгляда на заподозренное им и
привлеченное в качестве обвиняемого лицо. К сожалению,
при начертании Устава о наказаниях, налагаемых
мировыми судьями, была сохранена сословная подсудность
и цена похищенного лицами непривилегированными
определена слишком низко. Вследствие этого
множество дел, разбор которых в мировых и временно заме-
37
нявших их учреждениях занял бы две-три недели,
поступает к судебному следователю и тянется у него в
обвинительной камере и в суде многие месяцы, которые
обвиняемый проводит в предварительном заключении.
Притом, ввиду организации нашего тюремного дела, сам
. порядок отбытия заключения по распоряжению
следователя и по приговору суда не представляет особой
разницы в обоих случаях. Присяжным трудно отрешиться
от мысли о последствиях своего решения, и в то же
время им известны как сомнительные исправительные
свойства русского тюремного заключения, так и
несомненный вред, приносимый людям, преступившим закон,
но еще не испорченным окончательно, пребыванием в
этой школе взаимного обучения праздности, разврату,
насилию и ненависти к общественному порядку. Перед
ними проходят поодиночке и в группах рецидивисты,
за которыми числится обширная судимость и отбытие
наказания в среднем от пяти до десяти раз. Сознание
бесплодности тюремного заключения в связи с
продолжительностью предварительного ареста давно уже
заставляет присяжных при окончании своих сессий
высказывать настойчивое, но покуда тщетное желание,
чтобы было наконец обращено внимание на сокращение
предварительного заключения обвиняемого и на
устройство работных домов, в которых праздность заменялась
бы принудительным трудом. В отношении работных
домов их пожелания сходятся с таковыми же со стороны
высшей полицейской власти в Петербурге и всех тех,
кого справедливо пугает всевозрастающее хулиганство.
Но ни в чем скаредность нашего бюджета по
отношению к настоятельным нуждам страны, тот паралич
законодательства, которым мы страдаем, и велеречивая
бездеятельность некоторых крупных городских
самоуправлений не сказываются с такой резкостью, как именно в
этом вопросе.
Присяжные заседатели — люди жизни, а не рутины.
Их нельзя считать представителями того, что Гете в
«Фаусте» называет «die richtende gefuhllose Mensch-
heit»1. Поэтому от них нельзя и требовать, чтобы они
замкнулись в сухие юридические схемы там, где жизнь
выдвигает перед ними вопиющие картины своих
противоречий. Несомненно, например, что 17-летний юноша,
тщетно ищущий и не находящий себе какой-либо
работы, застигнутый на лестнице у шкафа с провизией с от-
Судящее (осуждающее) бесчувственное человечество (нем.).
38
битым им замком, или юный «бомбист», исключенный
за невзнос платы из училища и упавший в обморок от
истощения и голода в доме, куда он пришел грозить
свертком газетной бумаги, утверждая, что это бомба,
или безработный чернорабочий, похитивший с
железнодорожной платформы пять поленьев дров стоимостью в
25 копеек с целью согреть голодающую и холодающую
семью из жены и трех детей, или мелкий торговец,
нанесший тяжкие раны жене и 18-летнему сыну, заставши
их на in flagranti1, или, наконец, мещанка, состоявшая
в кровосмесительной связи с тринадцати лет с
растлившим и истязавшим ее отцом,— все эти и мйогие
подобные им, судившиеся в Петербургском окружном суде в
последнее время и отбывшие с избытком свое
тюремное заключение при следствии, со строго юридической
точки зрения подлежали определенному в Уложении
наказанию. Но на присяжных, вероятно, подействовало
представление о душевной драме несчастного мужа и
отца, о муках этой поруганной дочери, и они вошли в
положение обвиняемых, не могущих найти себе
заработка, чтобы утолить голод и защититься от холода.
Бьтть может, утром, в день заседания, некоторым из
них пришлось развернуть одну из больших
распространенных газет и найти на первой ее странице густую сеть
объявлений о всевозможных увеселениях игривого,
порнографического свойства, о рекламируемых шинах и
победах роскошных моторов, о блестящих ресторанах с
оркестрами румын и дорогими ужинами после театра,
когда «шампанское блестит, как золото, и золото льется,
как шампанское», и о других приманках для
беспечального и веселящегося Петербурга, успевшего выпить при
встрече 1913 года, по сообщению газет, на 150 тысяч
рублей «шипучки». А на четвертой странице той же
газеты пришлось встретить иногда целые столбцы с
известиями о самоубийствах, совершаемых по неимению
никаких средств к существованию или по отвращению к
проституции не только отдельными несчастливцами, но
и группами в два и три человека... И они, быть может,
нашли, что при таком житейском контрасте вернуть
подсудимого в тюрьму, где он немало пробыл и откуда он
выйдет снова беззащитный против насущных
требований существования, не удовлетворяет требованию их
совести. «Это — помилование,— справедливо замечают
прямолинейные юристы,— на него присяжные не упол-
1 На месте преступления (лат.).
39
номочены, и оно может последовать лишь по
ходатайству суда!» Совершенно справедливо, но в этом
«может» и содержится невольный соблазн для присяжных,
которые — что так понятно — предпочитают
окончательное слово оправдания шаткой надежде на то, что
суд решится по каждому подобному делу обременять
верховную власть своими ходатайствами о помиловании
или смягчении наказания. Не всякое предание суду
обусловливает собой осуждение. Довольно часто оно значит:
есть основание думать, что обвиняемый виновен, но
разберите вы, т. е. присяжные заседатели, вы, которые
увидите и услышите его и свидетелей непосредственно. На
суде однообразная темная краска карательных
определений постепенно стирается и из-под нее выступают
другие, житейские образы. Перед присяжными
развертывается не один преступный эпизод из жизни
подсудимого, но иногда история его жизни. Но история, по
чудесному выражению СМ. Соловьева* (об Иване
Грозном), подчас может подметить даже под мрачными
чертами мучителя скорбные черты жертвы. Тем более
история обыкновенного человека, впавшего в
преступление, может открыть в его жизни страницы, взывающие
к сострадательному пониманию, «как дошел он до жизни
такой». Формальная справедливость не всегда равна
истинному правосудию. «Qui n'est que justice — est
cruel»',— говорят французы, и Екатерина II была права,
выразив ту же мысль словами: «Stride justice n'est pas
justice: justice est equite»2. Можно ли поэтому осуждать
присяжных за оправдательный приговор, когда перед
ними, например, плачет и клянется потерпевшая, прося
простить «родимого и кормильца детей», или когда
старик отец, носящий имя, неразрывно связанное со
«священной памятью двенадцатого года», со слезами молит
отпустить 16-летнего сына, обвиняемого в краже из
передней калош и шапки и попавшего в дурную
компанию подростков, обязуясь отправить его в заграничный
исправительный приют? Поучительные примеры
приговоров, где житейская правда кладется в основание
справедливости приговора, представляет практика
некоторых коронных судей во Франции и Англии. Таков,
например, известный president Magnand 3 в Шато-Тьерри,
* Соловьев Сергей Михайлович (1820—1879)—историк.
1 Кто только правосуден — жесток (франц.).
2 Строгое правосудие — не правосудие. Правосудие —
справедливость (франц.).
3 Главный судья Мань ян (франц.).
40
которому население присвоило название «le bon juge»1
и решения которого, в высшей степени интересные по
своей мотивировке, изданы в двух томах.
Исследователь практического положения английского
судопроизводства Гектор Франс приводит следующий
чрезвычайно характерный случай из практики одного из
лондонских городских судей. Один молодой человек похитил
хлеб из незапертой булочной в минуту отсутствия в ней
булочника. «Я был голоден, милорд»,— объяснял
обвиняемый судье. «Закон осуждает за кражу как куска
хлеба, так и золотой цепи,— отвечал ему судья,— и не
делает между этими предметами кражи никакого
различия. Если бы я следовал только указаниям закона, то
осудил бы вас. Но, руководствуясь моей судейской
совестью, я вас оправдываю». Затем, не ограничиваясь
оправданием, судья через судебного пристава
предложил имевшейся налицо публике помочь молодому
человеку и тем самым избавить его от необходимости
совершения новой кражи. Обращаясь же к булочнику
как обвинителю, судья сказал: «Из-за нескольких
пенсов вы не затруднились лишить свободы человека,
несчастный вид которого, равно как свойство совершенной
им кражи, должен был бы указать вам на крайнее
состояние, в котором он находился. На основании старого
закона королевы Елизаветы, карающего всякого
лавочника за уход из незапертой лавки, я приговариваю вас к
одному дню тюремного заключения и к денежной
пене».
Для «общественного мнения» по делам второй
категории далеко не всегда ясно, что причиной
оправдательных приговоров, вызывающих нарекание на
присяжных, является во многих случаях само ведение судебного
заседания, которое не может быть признано согласным
с правильным соотношением участвующих в процессе
сил, равнодействующую которых должна представлять
бдительная власть председателя. Делая последнего
полным распорядителем и распределителем подлежащего
рассмотрению на суде материала, закон возлагает на
него, так сказать, синтез всего дела в том руководящем
напутствии, за которым следует совещание присяжных.
Бывают, однако, и притом в наиболее сложных и
важных процессах, случаи, когда материал располагается
и подносится присяжным в таком виде, что засоряет их
память ненужными данными и отвлекает их внимание
1 Добрый судья (франц.).
41
в сторону от предстоящей им задачи, заставляя
исследовать не идущие к делу обстоятельства, а руководящее
напутствие ничего в этом сумбуре не исправляет или
пытается исправить часто неумело и почти всегда
запоздало. Утомленные присяжные, внимание которых не
напряжено в одном направлении, а издергано такими
не идущими к делу отвлечениями, уходят в
совещательную комнату под впечатлением искусственно
перемещенного центра тяжести дела, обращаясь из судей
обвиняемого в судей потерпевшего или какого-нибудь
явления в общественной жизни или в государственном
строе. В первое десятилетие после судебной реформы
подобные явления были редки, но с восьмидесятых
годов они стали учащаться. Кассационное рассмотрение
большинства оправдательных приговоров по
выдающимся делам, вызывающих грустное и тревожное
недоумение в друзьях суда присяжных и ожесточенные личные
и печатные нападения со стороны его
недоброжелателей, раскрывало, что истинная причина
неудовлетворяющего чувства справедливости оправдания лежала не в
недомыслии, слепом произволе или тенденциозном
направлении присяжных, а в неправильном ведении
судебного заседания и в нагромождении излишних и чуждых
делу данных, которыми, как вредной корой, обрастало
настоящее ядро дела. В этих случаях бывало, впрочем,
виновато не одно ведение судебного заседания.
Иногда недостатки или, вернее, излишества судебного
следствия вызывались неправильной деятельностью
судебного следователя и даже судебной палаты в качестве
обвинительной камеры. Происходило это от нарушения
пределов исследования преступления в тех случаях,
когда недостаточное уяснение себе состава преступления
и его необходимых признаков заводило судебного
следователя на путь исследования таких обстоятельств,
которые для суждения о чьей-либо виновности в этом
преступлении значения иметь не могут и не должны, или
когда усердие не по разуму побуждало его к
неуместной любознательности о таких действиях или событиях в
жизни обвиняемого или потерпевшего, которые
никакого отношения к делу не имеют. Если в этих случаях
прокуратура не удерживалась от соблазна воспользоваться
увлечениями следователя для архитектурных украшений
в постройке обвинительного акта, а судебная палата,
по недосмотру или неполноте доклада, такой акт
утверждала, то суду невольно приходилось иметь дело с
данными, которые могли повлиять на присяжных заседа-
42
телей в смысле затемнения истинных очертаний дела. К
этому присоединялось еще и перегружение списка
свидетелей по ходатайству сторон и по требованию
прокурора потому, что разрешению вопроса о том,
относятся ли некоторые из них к делу, судом не было
уделено достаточного внимания.
Нет сомнения, что сведения о поведении
обвиняемого, его занятиях и образе жизни необходимы там,
где обвинение строится исключительно на одних
уликах. Составителями судебных уставов было высказано,
что судом всегда судится не отдельный поступок
подсудимого, но его личность, насколько она проявилась в
известном противозаконном поступке. Ознакомление
с личностью подсудимого в значительной степени
спасает от судебной ошибки, которая одинаково возможна
как в случаях осуждения только на основании сведений
о дурном характере подсудимого, так и в случаях
осуждения только на основании преступного факта, который
может быть следствием несчастного и рокового
стечения обстоятельств и против которого громко вопиет вся
безупречная и чуждая злу прошлая жизнь подсудимого.
В этом отношении свидетельские показания имеют
большое значение. Необходимо только, чтобы эти показания
действительно относились к делу, т. е. чтобы ими
разъяснялись такие стороны жизни обвиняемого, в коих
выразились именно те его свойства, которыми вызваны
движущие побуждения его деяния или, наоборот, с
которыми его деяние состоит в прямом противоречии. Поэтому,
например, в деле московского нотариуса Назарова,
обвинявшегося в насильственном поругании целомудрия
девушки в обстановке, не допускающей посторонних
свидетелей, усложненном последующим ее
самоубийством, допрос свидетелей о той роли, которую
играли в жизни обвиняемого чувственные
стремления, и о его взгляде на характер своих отношений
к женщинам вообще представлялся вполне
уместным. Но он являлся бы совершенно неуместным там,
где отсутствует связь между внутренними
преступлениями и сведениями о личности обвиняемого.
Расточительность обвиняемого, весьма важная, например, в делах о
банковых хищениях, не имеет никакого значения в делах
о богохулении, а вспыльчивость обвиняемого,
приобретающая серьезный смысл при обсуждении убийства в
запальчивости и раздражении, совершенно утрачивает его
при обвинении в делании фальшивой монеты. Не надо
забывать, что суд, рассматривая преступное деяние,
43
осуждает подсудимого за те стороны его личности,
которые выразились в этом деянии, а не за всю его
жизнь. Не будет ли такое исследование всей жизни
напоминать tout proportion gardee1
провинциального присяжного, который был заменен запасным
после того, как в заседании по делу о покушении
подсудимого на изнасилование он, возмущенный тем, что
последний упорно и растерянно молчит на вопрос
председателя: «Чем вы занимаетесь?», воскликнул с
негодованием: «Николашка! Что же ты молчишь? Отвечай
же! Скажи: кражами, ваше превосходительство!»
Мне пришлось давать кассациЪнные заключения по
нескольким громким делам, где было допущено резкое
отступление от такого взгляда на пределы исследования.
Типичным являлось дело Ольги Палем, обвиняемой в
убийстве студента Довнара, стремившегося прервать
с ней связь, препятствовавшую ему готовиться к
экзаменам. Здесь судебная палата утвердила обвинительный
акт, в котором приведено мнение убийцы о том, что
убитый был человек бесхарактерный, гаденький и
нахальный, пользовался ее деньгами, закладывал и
присваивал себе ее вещи, купленные на средства, полученные
от прежнего ее сожителя, а затем подробно изложена
проверка всего этого, предпринятая на
предварительном следствии. При этой проверке прошлое самой
обвиняемой исследовано на пространстве двадцати лет,
причем произведен ряд допросов и оглашена переписка о
принятии Палем православия и об отношениях ее к
родителям и крестному отцу, о ее предшествующих
связях, о хранящихся на текущем счету ее деньгах, о
записях пересылки ей денег в 540 почтовых книгах... Вместе
с тем произведены обыск у одного из старых сожителей
Палем, жившего в Одессе, и выемка его переписки и
торговых книг, с производством бухгалтерской экспертизы,
в явное нарушение устава торгового, в силу которого
такие книги составляют неприкосновенную коммерческую
тайну и только в случае признания несостоятельности
торговца отбираются по определению суда. Нужно ли
говорить, насколько такая одновременная травля
подсудимой ее прошлым и опорочение памяти потерпевшего
не имели никакого отношения к делу. Такое же
выворачивание наизнанку прошлой жизни подсудимой
пришлось мне встретить в деле графини Н.,
обвинявшейся в присвоении якобы рожденному ею ребенку не
1 При равных условиях (франц.).
44
принадлежащих ему прав состояния, причем
следователем были рассмотрены и описаны производства сыскной
полиции и допрошены указанные в них свидетели по
обстоятельствам, никакого отношения к обвинению не
имевшим, но бросавшим тень из далекого прошлого на
уже весьма немолодую женщину, сочувствие напрасным
страданиям которой на суде вызвало, в конце концов,
оправдательный приговор присяжных заседателей. Еще
более ненормальны подобные способы исследования по
отношению к потерпевшим от преступления, когда в
судебном заседании, вследствие увлечения следователя,
неразборчивости прокурора и попустительства
обвинительной камеры, о нем производится целое следствие,
причем, присутствуя в судебном заседании, он лишен
права отвода и допроса свидетелей и предъявления
присяжным заседателям своих объяснений, если только не
выступает гражданским истцом. При этом жизнь и
личность его могут быть раскапываемы с самой мелочной
подробностью, точно дело идет исключительно о
решении вопроса, достоин ли он был постигшей- его участи,
как будто его житейское поведение может изъять его из
покровительства закона и по отношению к нему сделать
дозволенным, по личному взгляду подсудимого, то, что
не дозволено и преступно по отношению к другим
людям. Не слаще и положение свидетелей по делам, где
слишком развязные представители сторон, и в
особенности — что печально отметить — защиты, позволяют
себе на их счет иронические выходки, насмешливые
прозвища, унизительны^ намеки и ставят их в
щекотливое положение вопросами, вовсе не относящимися к
делу, но возбуждающими в. публике, пришедшей в
заседание из праздного любопытства, веселое настроение и
неприличное хихиканье. Конечно, председатель не
может устранить от показаний свидетеля, вызванного по
списку при обвинительном акте или по постановлению
суда, но форма производимого допроса, но оценка
характера вопросов зависит вполне от него, и он не
исполняет своей обязанности, если не пользуется полнотой
власти и не пресекает подобного злоупотребления
правом допроса в самом его начале, не допуская
глумления над свидетелем и дерзкого вторжения в его личную
жизнь.
В бытность мою председателем Петербургского
окружного суда мне пришлось два раза решительным
образом остановить попытку на подобный допрос.
Приехавшая из провинции дама, потерпевшая от кражи, в
45
которой обвинялась служанка гостиницы, объяснила, что
вечером, уезжая из своего номера, оставила в комоде
портфель с крупной суммой денег, а наутро обнаружила
его исчезновение. «Мы позволим себе
полюбопытствовать, где вы провели ночь?» — спросил защитник.
«Свидетельница, — сказал я, — запрещаю вам отвечать на
этот вопрос, а вас, господин защитник, предупреждаю,
что при повторении подобных вопросов, указывающих
на непонимание вами прав и*обязанностей вашего
звания, я вас удалю из залы заседания!» В другом случае
товарищ прокурора, в общем весьма талантливый
человек, обвиняя в заседании по крупному процессу,
предложил вопрос, никоим образом не вытекавший из
существа дела и ответ на который был бы сопряжен для
свидетельницы с унижающим ее признанием. Я
предложил ему не ожидать ответа на такой вопрос, как
не имеющий никакого отношения к делу, и объявил
допрос свидетельницы исчерпанным. Но при допросе
одного из последующих свидетелей представитель
обвинения предложил ему вопрос, ответа на который он
ожидал от свидетельницы. Я должен был снова
устранить этот вопрос и на обиженное заявление обвинителя,
что суд преграждает ему путь к исследованию истины
в деле, сказал ему: «Суд предоставляет вам для этого
все законные пути, кроме избранного вами, и при
неподчинении вашем сделанному мной уже однажды
указанию я буду вынужден, к прискорбию, прервать
заседание и просить ваше начальство о командировании
другого лица прокурорского надзора в состав присутствия по
настоящему делу». Разительный пример
непозволительного обращения со свидетелями при допросе, а также
явки в суд свидетелей, показания которых, почерпнутые
из области бесшабашного кутежа и прожигания жизни
с забвением элементарных нравственных условий
общежития, отодвинули на задний план существо дела,
представляет недавнее дело в Московском окружном суде
по обвинению Прасолова в предумышленном убийстве
жены. Свидетелям предлагались вопросы, уличавшие их
самих в предосудительном поведении; одного из них,
например, спрашивали, что помешало ему вступить в
связь с убитой — собственное нежелание или ее
добродетель; в речах защиты указывалось, что с такими
господами, как один из свидетелей, на дуэли не дерутся, а
известного артиста-певца называли «кумиром
безмозглых девиц». Все это создало вокруг дела нездоровую
атмосферу и в сущности обратилось не столько в произ-
46
водство 6 совершенно ясном событии преступления,
сколько в безапелляционный суд над убитой, давший
основательный повод прокурору сказать: «Я не знаю,
чем руководились те свидетели, которые приходили
сюда с утомленными, бледными лицами и без краски
стыда бросали здесь комьями грязи в могилу покойной,
в которую отсюда ринулся бурный и грязный поток».
Сенат еще в 1892 году высказал, что «условия
современного судопроизводства не таковы, чтобы свидетели
выходили из суда нравственно измятыми, так как суд
должен быть святилищем осуществления правды и
справедливости, а не позорищем, где могла бы проявляться
разнузданность нравов». Надо заметить, что эта
разнузданность может, помимо искажения отправления
правосудия, вызвать и тяжкую реакцию, чему
доказательством служит кулачная расправа в здании
Петербургского суда покойного писателя Всеволода Крестовского*
с оскорбившим его в своей речи присяжным
поверенным, человеком в общем весьма достойным, но
забывшим в данном случае слова Пушкина: «Блажен, кто
словом твердо правит и держит мысль на привязи свою».
В обвинительной форме процесса несомненную роль
играют судебные прения, Я уже говорил в своих
«Воспоминаниях и заметках судебного деятеля» о тех условиях,
которым должны удовлетворять речи обвинителя,
гражданского истца и. защитника. Сенатом еще в начале
семидесятых годов твердо было установлено, что поводом
для отмены приговора могут служить прения, в которых
нарушены статьи закона, определяющие необходимые
требования о содержании речей сторон. Сенат требовал,
чтобы эти прения были ведены с достоинством,
спокойствием и правильностью, которые необходимы для того,
чтобы присяжные могли приступить к рассмотрению
дела без всякого увлечения к обвинению или оправданию
подсудимого. Не раз приходилось на этом основании
отменять решения присяжных. На представителях
сторон в суде вообще, а на суде присяжных в особенности,
лежит нравственная обязанность охранять суд от
искажения его исключительной — и достаточно высокой,
чтобы быть исключительной, — цели: служить
отправлению уголовного правосудия. Исполнение этой
обязанности особенно важно по отношению к присяжным
заседателям, для которых судебные речи не представляют,
* Крестовский Всеволод Владимирович (1840—1895) — беллетрист
и поэт.
47
как для судей коронных, обычного и привычного в
течение многих лет явления и перед которыми блестящая
и энергическая оболочка сказанного может, при
неблагоприятном стечении обстоятельств и бездействии
председателя, заслонить нездоровое существо сказанного.
Это случается, например, при извращении уголовной
перспективы, благодаря которому в искусственно
подогретой речи почти совершенно исчезает обвиняемый
и дурное дело, им совершенное, а на скамье
подсудимых оказываются отвлеченные подсудимые, не
подлежащие каре закона и называемые обыкновенно
«средой», «порядком вещей», «темпераментом»,
«страстью», «увлечением», а иногда и сами
потерпевшие, забывшие пословицу: «Не клади плохо, не вводи
вора во грех». Таково возбуждение в присяжных —
преимущественно со стороны обвинителей — племенной
вражды или религиозной нетерпимости, застилающих
перед их глазами истинные очертания разбирающегося
дела. Таковы указания присяжным на вред, могущий
последовать от оправдательного приговора; умышленная
односторонность в освещении преступной стороны дела
с целью возбудить в судьях ту нездоровую
чувствительность в отношении к подсудимому, которая не
имеет ничего общего ни с деятельной любовью к людям,
ни с христианским милосердием; таковы язвительные
насмешки и неуместная ирония по адресу противника
и, наконец, истолкование задачи присяжных, а также
значения и цели закона в смысле, противоречащем
общественному порядку и намерениям законодателя. Все
это не может не иметь влияния на присяжных и не
отражаться в их решении. Не надо забывать, что
присяжный заседатель, вырванный из обыденной обстановки
в торжественную, непривычную обстановку судебного
заседания, не может быть так мало впечатлителен, как
«дьяк, в приказах поседелый», и что тяжкий млат
обвинения в устах представителя государственной власти —
прокурора — и пафос защитника не могут не оставлять
следа в его душе в тех случаях, когда председатель
не исполняет или не умеет исполнить свою обязанность
устранять «девиации»* сторон. Нужно помнить, что
присяжные заседатели представляют собой
восприимчивый организм. Превратное толкование им общих
вопросов права или извращение перед ним закона,
оставленное без авторитетного опровержения, может быть
♦Девиация — отклонение от правильного курса.
48
принято ими с тем доверием, которое всегда невольно
внушает к себе энергичное слово, и может пустить в их
взгляде на дело, неправильные корни и вредные ростки.
В моей судебной практике было много случаев
познакомиться с нарушениями подобного рода. Приводить их
здесь не стану. Напомню лишь о громких процессах,
бывших в Москве.
В одном из них прокурор заявлял о «непотребных
мыслях и противобожеских теориях» защитника, а
защитник называл речь прокурора тем, «что ежедневно
выметается из каждой мало-мальски опрятной
комнаты», удивляясь особенностям «мыслительного его
аппарата», а в другом, по делу о краже почтовыми
чиновниками пост-пакета на 120 тысяч рублей, отправленного из
Германии, защитник приглашал присяжных подняться на
высоту государственных интересов и на немецкие
ввозные пошлины с хлеба ответить оправданием
сознавшихся подсудимых, введенных потерпевшими в соблазн
вопреки евангельскому изречению: «Горе миру от
соблазна, но двойное горе тому, кто внесет соблазн в мир».
В другом процессе — по делу о присвоении и растрате
казначеем воспитательного дома и его сыном 307 тысяч
рублей — защитой проводился взгляд, что истинная
причина этого хищения, названного «грустной драмой»,
заключается в «холодном и бесцеремонном отношении
начальства к казенным деньгам, благодаря которому в
руках казначея оказалась такая большая сумма», и
испрашивался у присяжных оправдательный приговор на
том безнравственном основании, что «если похищенные
307 тысяч рублей причинили ущерб казне, которая
возместила его со всех граждан России, то каждому
пришлось внести так мало, что из-за этого говорить не
стоит, а тем более обвинять подсудимых». В .четвертом же,
очень недавнем процессе обвинителю в отчете о
заседании приписывается указание на то, что облитие серной
кислотой мужа хотя и является слишком специфической
местью женщины, но местью понятной, и сожаление о
том, что муж для защиты своей чести не прибегнул по
отношению к предполагаемому любовнику жены к
пистолету и клинку. Находя, что вся Москва ждет
обвинительного приговора «как благовеста», прокурор заявлял
присяжным, что когда такой приговор состоится, то он в
темную ночь пойдет возвестить о нем на далекую
могилу потерпевшей, под дождем и под развевающим его
волосы ветром. Сюда же, для примера, можно отнести
жалобу обвинителя в его ответной речи защитнику на то,
49
что последний «топчется грязными сапогами в его
сердце», или заявление другого, что подсудимая
«плачет по данному ей расписанию».
Я говорил уже выше о равнодушном, а подчас и
злорадном отношении к суду присяжных со стороны
лиц и учреждений; от которых зависел почин
законодательных мер к устранению препятствий для
правильного действия этого суда. С грустью приходится
сознаваться, что часто и со стороны людей, призванных
вместе с присяжными служить делу правосудия,
проявлялось полное отсутствие заботы о нем. Успех
обвинительной речи или оправдательный приговор, добытые
словесными неправдами, ставились в этом случае
единой и желанной целью, хотя бы их приходилось
достигнуть, подвергая суд присяжных резким нападкам и
нареканиям. В этих, к сожалению, нередких случаях,
выражаясь словами одного их стихотворений Некрасова,
суд присяжных «любящей рукой не был ни охранен,
ни обеспечен». Наоборот, можно указать случаи, когда
на оправдательный приговор, находивший отголосок и в
сердцах коронных судей, участвовавших в заседании и
вполне удовлетворенных им, приносился кассационный
протест с указанием на то, что присяжные не поняли
своей обязанности или противозаконно присвоили себе
право помилования. По поводу обвинительного
приговора, покаравшего справедливым и мудрым словом
осуждения притеснителя слабых, развратителя невинных,
расхитителя чужих трудовых сбережений или
уверенного в своей безнаказанности изверга, в стенах
кассационного суда широко оплаченное ораторское слово
прозрачно намекало иногда на неразвитость, неспособность
и тупоумие присяжных заседателей. Нельзя отрешиться
от тревоги за правосудие вообще при тех участившихся
за последние годы случаях, когда личность обвиняемого,
с одной стороны, и его действительные интересы, с
другой, а также ограждение присяжных заседателей от
могущих отразиться на достоинстве их приговора
увлечений приносятся в жертву эгоистическому желанию
возбудить шумное и небезвыгодное в разных смыслах
внимание к своему имени, причем делается попытка и
человека, а иногда и целое учреждение обратить
в средство для личных целей, чуждых правосудию.
Серьезной причиной оправдательных приговоров,
волнующих общественное мнение, потому что ни в
событии тяжкого преступления, ни в сознательной
виновности в последнем подсудимого не может быть никако-
50
го сомнения, являлись, как я уже говорил, не только
руководящие напутствия, но также и разъяснения
председателя присяжным их прав и обязанностей, делаемые
в начале каждой сессии в связи с приводом к присяге.
Они далеко не всегда, по крайней мере за то время,
когда я служил в «действующей армии» судебного
ведомства, соответствовали своему назначению. В них
больше всего обращалось внимание присяжных на
технику их работы, и лишь упоминались вскользь вопросы
о внутреннем убеждении, о сомнении, о значении
признания присяжными подсудимого «заслуживающим
снисхождения по обстоятельствам дела» и т. п. Между тем
именно по этим вопросам прежде всего следует
вооружить присяжных здравыми и правильными понятиями.
Излишне говорить, как важно, например, разъяснение
присяжным разницы между сомнением в виновности,
остающимся после тщательного взвешивания всего, что
говорит за и против нее, и тем сомнением, которое
легко возникает там, где умственная работа
недостаточно напряжена или где легко возникающее сомнение
дает соблазнительный повод от этой умственной работы
уклониться. Точно так же необходимо с полной
ясностью и наглядностью объяснить присяжным, что их
решение, в основу которого должно быть положено
внутреннее убеждение, не есть простое мнение их по
делу, а является чреватым последствиями для
подсудимого и для общества приговором их совести,
призываемой ограждать общество и от поощрения зла путем
безнаказанности преступления, и от того несчастья,
которым должно быть признано осуждение невинного. К
сожалению, мы имеем еще меньше печатных образцов
таких объяснений присяжным, чем печатных
руководящих напутствий, так что почти нет примеров для
подражания или руководства. Мне известно лишь одно
такое объяснение, превосходное по форме и по
содержанию, произнесенное при открытии сессии
присяжных моим старым сослуживцем, товарищем
председателя Петербургского окружного суда В. К. Случев-
ским*, и напечатанное в «Новом времени» в № 309
1879 года.
* Случевский Владимир Константинович (1844—1926) — известный
юрист, профессор в Училище правоведения и Военно-юридической
академии, автор многих трудов. В 1870-х годах — товарищ прокурора,
затем товарищ председателя Петербургского окружного суда; с
1897 года — обер-прокурор уголовного кассационного департамента
Сената.
51
Я уже говорил в моих «Воспоминаниях» о деле Жю-
жан о том, как мало обращалось у нас долгое время
внимания на выработку руководящих напутствий и как
большинство из них отличалось бесцветностью и
отсутствием внутреннего содержания, которое должно бы
содействовать облегчению задачи присяжных. Печать,
уделяя по громким процессам место речам сторон, почти
никогда не помещала речи председателя, так что даже
и там, где она представляла полезный образец для
подражания, эта речь оставалась неизвестной никому,
кроме присутствовавших. Таким образом, пропали для
изучения и подражания некоторые из слышанных мной
превосходных напутствий присяжным со стороны
А. А. Сабурова* в Петербурге и Э. Я. Фукса** в
Харькове. По этой же причине ныне я мог бы указать лишь
на напечатанные руководящие напутствия А. М.
Кузьминского*** в Петербургском окружном суде по делу
Меранвиль-де-Сенклера и одного из товарищей
председателя Московского окружного суда по делу
официанта Куликуна, обвиняемого в сводничестве своих
малолетних дочерей, как вполне отвечающие своему
значению и назначению. Не могу не выразить при этом
крайнего сожаления, что превосходные напутствия
нынешнего председателя Петербургского окружного суда
С. В. Кудрина не были напечатаны. Но зато я мог бы
отметить целый ряд слышанных мной руководящих
напутствий, состоявших из усыпительного повторения статей
закона или из таких толкований, которые вносили смуту
в умы присяжных и вызывали недоумение даже в
участвующих в деле лицах. Таким было, например, ничем не
вызванное тяжкодумное объяснение разницы между
заявлением о подлоге акта и спором о его
недействительности, объяснение, вслушиваясь в которое можно было
добросовестно признать, что никакой разницы между
ними не существует; или авторитетное объяснение
различия между выемкой и обыском, сводившееся к тому,
что когда ищут, то это обыск, а когда что-нибудь при
этом /шшли, то это выемка. Вообще говоря/ на предва-
* Сабуров Андрей Александрович (родился в 1837(1838] году) —
во второй половине 1860-х годов товарищ председателя
Петербургского окружного суда, впоследствии министр народного просвещения
(1880—1881).
** Фукс Эдуард Яковлевич (1834—1909) — в конце 1860-х годов
председатель Харьковского окружного суда; в первой половине 1870-х
годов — прокурор Одесской, затем Петербургской судебной палаты.
*** Кузьминский Александр Михайлович (родился в 1844 году) —
в 1880-х годах председатель Петербургского окружного суда.
52
рительную, спокойную и обдуманную подготовку
руководящего напутствия вне судебного заседания и течения
судебного следствия, особливо по серьезным и
сложным делам, у нас, по-видимому, обращалось мало
внимания, несмотря на то что в некоторых случаях очень
важное объяснение о составе преступления, его
существенных признаках и общественном значении может быть
обдумано и построено еще до открытия судебного
заседания. Между тем я помню случаи, где в этом
отношении допускалась торопливая импровизация или
обдумывание предстоящего напутствия совершалось в самый
разгар прений сторон, без необходимого
сосредоточения внимания на них председателя. Так, мне пришлось в
Сенате участвовать в рассмотрении дела, в котором
сторонами в речах были сделаны совершенно
недопустимые на суде выпады против подсудимого и некоторых
свидетелей, направленные к возбуждению и разжиганию
племенных страстей и оставленные
председательствовавшим не только без своевременной остановки
беззастенчиво зарвавшихся противников, но и без всякого
указания в руководящем напутствии на их более чем
неуместный характер. В объяснении, представленном
Сенату, этот председатель наивно говорил, что не мог
обратить внимания на такие выходки, потому что был
погружен во время судебных прений в подготовление
своего «резюме». Этот «погруженный в обдумыванье»
председатель, не отдающий себе отчета в
происходящем вокруг, напоминает мне невольно рассказ об
одном председателе, находившемся в таких же условиях. В
то время, когда он всецело отдавался созерцанию
мысленной постройки своего будущего напутствия
присяжным, стоящий сбоку подсудимого, бывшего под
стражей, солдат задремал и наклонил ружье в сторону
присяжных. Их это стало тревожить, и наконец старшина,
перебивая речь защитника, воззвал к председателю.
«А! Что?» — спросил тот, оторванный от своей
творческой работы и еще весь находясь под ее влиянием. «Да
вот, господин председатель, вот этот нижний чин так
держит ружье... присяжные опасаются... как бы оно не
выстрелило... ведь кого-нибудь из нас убить может...» —
«Убить? — рассеянно сказал председатель, все еще
пребывая в своем автогипнозе. — Но ведь у нас есть
запасные (т. е. присяжные заседатели)!»
Я давал заключение в Сенате по наделавшему шуму
делу о злоупотреблениях в Саратовско-Симбирском
земельном банке. Важнейшим из оснований к отмене при-
53
говора присяжных послужило в нем руководящее на*
путствие председателя Тамбовского окружного суда, в
котором он советовал присяжным заседателям
«обогатить свою житейскую опытность наблюдением за тем,
как себя выказывают и проявляют своим поведением во
время заседания подсудимые», т. е. рекомендовал им
самые неправильные, смутные и неустойчивые
основания для суждения о человеке, поставленном в условия,
для него необычайные, тягостные и роковые. Затем он
внушал присяжным, что возложение уголовной кары
на людей, «увлекшихся течением и направлением
времени» и которые «не пожелали оставаться на
скромных ступенях житейской лестницы, а пустились в аферы,
спекуляции и биржевую игру, было бы равносильным
неисполнению возложенной на присяжных обязанности,
так как подложные документы, счета и отчеты были
составлены в данном случае людьми, которые лишь
вследствие сложившихся, быть может, в их жизни
обстоятельств не захотели ограничиться ролью труженика
и мирного гражданина, но вследствие среды, в которой
вращались, и неособенного умственного развития и
направления пожелали плавать шире и глубже». Не
меньшее значение имеют и неправильные объяснения
председателя присяжным способа оценки ими доказательств,
а также разъяснение им ограничительных ответов на
вопросы, ставящие их иногда в безвыходное положение.
• Таким образом, пришлось отменить оправдательный
приговор присяжных о жестоком и возмутительном
убийстве, по которому на их разрешение был поставлен
вопрос о виновности с двумя отягощающими
обстоятельствами: обдуманным заранее намерением и
предварительным с другими соглашением, причем присяжные,
не находя в деле признаков этих отягощающих
обстоятельств, просили председателя объяснить им, могут ли
они в своем ответе таковые отвергнуть. Председатель
им сказал, что отрицание этих обстоятельств не может
иметь влияния на судьбу подсудимого, поставив их тем
в необходимость или вопреки своему убеждению
признать эти обстоятельства, или если совесть их с этим
не мирилась, то оправдать подсудимого. Они избрали
второе.
Необходимым условием для руководящего
напутствия является разумная уверенность председателя в
закономерности и житейской целесообразности даваемых
им разъяснений, в которых, разбирая относительную
силу представленных доказательств для правильного ура-
54
зумения их присяжными, он не должен, однако,
обнаруживать личного мнения о вине или невиновности
подсудимого. К сожалению, далеко не всегда напутствие
удовлетворяет этому требованию. Анализ веса и
значения доказательств по делу в виде общих начал,
преподаваемых присяжным, -дело нелегкое и требующее
большой вдумчивости, а фарватер между Сциллой и
Харибдой обвинения и оправдания узок и извилист.
Поэтому бывают случаи, когда в делах, требующих именно
веского и твердого слова, в напутствии проявляются
неуверенность и колебание или, наоборот, вместо
разбора доказательств — навязывание присяжным своего
мнения о виновности, приводящие к отрицательным
результатам. Там, где председатель, вместо судьи,
обращается в дополнительного прокурора, напоминая
президентов французских асе и зов* с их всегдашним
предубеждением против подсудимого, там присяжные
обыкновенно теряют доверие к его разъяснениям и склонны
решать дело, как выражается народ, «своим средстви-
ем». Выдающийся лример такого рода был предметом
моего доклада в Сенате по громкому делу о
священнике Тимофееве, обвинявшемся вместе со своим
работником в лишении жизни крестьянина Аксенова с целью
продолжения связи с женой последнего, которая еще
малолетней была развращена и растлена подсудимым.
По этому делу председатель просил присяжных, вос-
становляя в своей памяти обстоятельства дела, не
руководиться его собственным их изложением и вместе с
тем оставить вовсе без обсуждения показания одного
из свидетелей, как данное разноречиво при дознании,
следствии и на суде. Таким образом, им, в сущности,
была упразднена необходимость восстановления истинных
обстоятельств дела, что придало его напутствию
характер бесцельной траты времени. В этом деле,
возбуждавшем страстное к себе отношение, председатель
предоставил присяжных исключительно их собственным силам
и снабдил их совершенно неправильным советом не
утруждать себя сопоставлением разноречивых
показаний свидетеля, а оставить их вовсе без рассмотрения.
Как далеко это от тех здравых взглядов на руководящее
напутствие, которых держится английская судебная
практика. Вот что, между прочим, сказал сэр Кокберн
в своем напутствии присяжным в знаменитом процессе
самозванца Тичборна: «По мнению-моему, тот судья
* А с с и з ы (assisae — заседания) — здесь: суд присяжных.
55
не исполняет долга своего, который только
воспринимает приводимые доказательства, с тем чтобы их передать
потом присяжным, не указывая на существенные факты
и на те выводы, которые из них, естественно,
неизбежно вытекают. Судья должен устанавливать весы
правосудия так, чтобы они висели ровно, но он обязан вместе
с тем следить за тем, чтобы все обстоятельства дела
по мере того, как они раскрываются, клались сообразно
той категории, к которой они принадлежат, в ту или
другую чашу весов. Его дело позаботиться о том, чтобы
заключения, к которым приводят последовательно факты,
были указаны присяжным, и поддерживать себя при
этом отрадным сознанием, что если он ошибается, то
под боком у него находятся двенадцать человек,
знакомых с явлениями ежедневной жизни, которые исправят
ошибки, в которые он, быть может, впал. Но если одна
чаша весов перетянет другую при разложении
обстоятельств дела на весах, то это не вина судьи, а является
лишь плодом действительности».
Встречались в моей практике, к прискорбию, и
обратные случаи, гдр председатель, оценивая
доказательства, делал это в такой форме, которая, оскорбляя
участвующих в деле лиц, в то же время содержала и
явное мнение о виновности или невиновности
подсудимого. Так, согласно с моим заключением, Сенат отменил
решение присяжных по делу, в котором председатель
охарактеризовал подлежащее решению присяжных дело
пословицей: «На то и щука в море, чтобы карась не
дремал» — и неоднократно называл подсудимого
«щукой». Выдающееся и очень характерное в этом
отношении дело доходило до Сената из Московского
окружного суда. Один из известных московских негоциантов,
желая отделаться от иностранной артистки, учившейся
играть на арфе, подбросил ей свой золотой портсигар
и обвинил ее в краже. Лживость обвинения,
удостоверенная судебным разбирательством и следствием,
вызвала предание его суду за ложный донос. Товарищ
председателя, допустивший защитника подсудимого
безвозбранно сказать по адресу потерпевшей, что хотя
она и говорит, что училась играть на арфе, «но всем
ясно, на каком инструменте играла эта госпожа», со
своей стороны в руководящем напутствии позволил себе
выразиться: «Вы, быть может, господа присяжные
заседатели, скажете себе, что наука, которую она хотела
себе усвоить, была наука не в сфере искусства, а наука
56
Здание судебных установлений в Петербурге.
страсти нежной, о которой упоминает поэт, но только на
денежной подкладке».
Сенат признал такое поведение председателя
непозволительным и в установленном порядке предал его
суду за бездействие власти по отношению к защитнику,
за совершение при отправлении должности
непристойного поступка (ч. 2 ст. 347 Уложения о наказаниях).
Но этим дело не кончилось. Судебная палата нашла,
однако, в действиях обвиняемого лишь простое
упущение, выразившееся в некотором недостатке внимания
по отношению к Допущенному им «игривому» (?)
выражению, не заключающему в себе ничего непристойного,
так как слова о «науке страсти нежной» заимствованы
из «Евгения Онегина» — романа, читаемого в институтах
57
Здание судебных установлений в Москве.
благородных девиц. Этот, в свою очередь, «игривый»
приговор не был, однако, опротестован прокуратурой.
Сенат, рассмотрев в порядке надзора действия палаты и
признав ее рассуждения явно неосновательными и
ошибочными, сделал замечание самой судебной палате, а
о бездействии прокурорского надзора передал на
усмотрение министра юстиции. Вообще председатель в
своем руководящем напутствии никогда не должен
забывать второй части уже приведенной мной цитаты из
Пушкина: «Блажен, кто в сердце усыпляет или давит
мгновенно прошипевшую змею»*. Еще недавно
председателем по делу генерала Левашева, обвинявшегося
в убийстве земского начальника Шпанова под влиянием
жестокого оскорбления, нанесенного ему последним,
был дан пример совершенного непонимания этого
золотого правила, и по отношению к подсудимому, не
имеющему права возражать и возможности защищаться,
в напутствии был употреблен тон и способ выражений,
недопустимый в устах председателя, понимающего свои
обязанности.
Постановка вопросов присяжным заседателям состав*-
ляет одну из важнейших задач суда. От умелого ее
выполнения в большинстве случаев зависит правильный
ответ присяжных. Поэтому закон дает в ряде статей под-
* Неточная цитата из поэмы А. С. Пушкина «Домик в Коломне»
(строфа 12).
58
-,VT«r
^чЙЩчЙШ
'•&#
'■К i»
%
ш
•гШ»ШЯ
'ьоШР..-
ш»,
Здание судебных установлений в Москве. Внутренний двор.
ровные указания .о содержании и форме вопросов,
причем требует, чтобы предлагаемые присяжным
вопросы составлялись в общеупотребительных
выражениях, а не в виде принятых законом определений.
Нельзя, однако, сказать, чтобы от этих правил не делались
довольно частые отступления, ставящие иногда
присяжных в тупик или заставляющие их отвечать на
непонятные им юридические термины, недостаточно
разъясненные председателем; к тому же эти вопросы то страдают
чрезмерной краткостью, допускающей произвольные
толкования, то содержат в себе такое изложение
фактической стороны события преступления, со включением
в него улик и доказательств, которое затемняет перед
присяжными смысл ожидаемого от них ответа. К
сожалению, я не нахожу возможным привести здесь
редакции некоторых вопросов, предложенных по делам,
разбираемым при закрытых дверях. В них преступление
описывалось с такими ненужными подробностями и
перечислением улик судебно-медицинского характера,
что, смешивая существенное с несущественным и
случайным, рассеивая, а не концентрируя внимание
присяжных, эти вопросы могли бы зато доставить лакомое
развлечение любителям фривольного чтения. Один из
таких вопросов по делу о покушении на изнасилование,
представляя массу вводных и придаточных
предложений, занимал три страницы убористого письма! Наряду
с этим требование общеупотребительных выражений
понимается нашей судебной практикой весьма
своеобразно, и это понимание со своей стороны влечет за собой
добросовестное непонимание присяжными, о каких
именно признаках преступления спрашивает их суд. Так,
вследствие указайий Сената признаются вполне
понятными для присяжных, хотя бы и состоящих из крестьян,
выражения: «порицание», «насилие», «оскорбление»,
«тайное похищение», и в то же время считаются не
общепонятными выражения: «приготовиться», «ошибка»,
«умышленно», «истязания», «растрата» (вместо этого
рекомендовано понятное слово: «израсходование»),
«намерение», «сопротивление», «грабеж» и даже «открытое
похищение» и т. д. Такое едва ли на чем-нибудь
основанное разделение слов богатого и изобразительного
русского языка на «понятные» и «непонятные» для
народа, к сожалению, нашло себе место и в новом
Уголовном уложении, где, например, в ст. 550 говорится о
повреждении рыбы в чужих водах посредством
отравления воды, причем в объяснениях к ней проводится
60
мысль, что это повреждение может вызвать истребление
рыбы. А в проекте Уложения, очевидно, признаваемое
«непонятным» народу слово «поджог» было заменено
выражением «повреждение огнем», которое особое
совещание при Государственном совете заменило словами
«повреждение поджогом», тоже считая, что повреждение
заключает в себе и понятие истребления. В своих по
меньшей мере оригинальных рассуждениях особое
совещание, вопреки ясному смыслу русского языка,
нашло, что «повреждение чужой вещи проявляется не
только в форме ее порчи, но и в истреблении, которое
уже заключается в понятии повреждения, имеющем
много степеней, начиная с самого незначительного
изменения, имеющего влияние лишь на существо или
назначение вещи, и кончая полным ее истреблением.
Следует при этом принять также во внимание, что, строго
говоря, в природе ничто не уничтожается и не
истребляется, а только трансформируется». Дозволительно
усомниться, чтобы обыкновенный русский присяжный
заседатель, не изучивший книги Молешотта «Kreislauf
des Lebens»*, мог ясно представить себе, что сгоревший
дотла дом, скирда, изгородь и т. п. не уничтожены, а
лишь повреждены или трансформированы или что
отбитие у статуи пальца или у бюста кончика носа или
разбитие целого барельефа на мелкие осколки
одинаково покрываются словом «повреждение».
За состоявшейся отменой широкого права
немотивированного отвода присяжных указывать вред такого
права сторон не приходится. Но следует заметить, что в
прежние годы благодаря ему не только составлялось
более или менее тенденциозное, с точки зрения
прокурора или защитника, присутствие присяжных по делу,
но очень часто совершенно исключался наиболее
подходящий для суда элемент в лице развитых и
образованных людей, если предстоял процесс о нарушениях из
области банковой, акционерной или служебной
деятельности, неясной в своих тонкостях и специальных
условиях для простых людей. Это стремление к союзу с
предполагаемым невежеством и темнотой даже не
умерялось коррективом мотивировки, как это делается в
Англии, или провозглашением имен отводимых, как это
существует в Германии. В особенности право прокурора
вычеркивать из списка присяжных шесть человек пред-
* «Круговорот жизни»—(нем.). Молешотт Яков (1822—1893) —
немецкий физиолог.
61
ставлялось t^ne всегда несогласным с ролью
государственного обвинителя, который должен стоять выше
мелочных заподозриваний и не подбирать ни судей, ни
законы, употребляя выражение великого Петра, «масть к
масти». Поэтому в бытность мою прокурором я никогда
не отводил никого из присяжных заседателей в
надежде, что правое дело само постоит за себя без ненужного
оскорбления отдельных присяжных заседателей,
которые всегда легко могли догадаться о последовавшем
отводе вследствие совершенно произвольного сомнения
в их беспристрастии. Этого же образа действий
рекомендовал я держаться и моим товарищам, и хотя
отсутствие прокурорских отводов и вызывало недоумение
у высших должностных лиц судебного ведомства, но я
не слышал ни одного заявления моих сослуживцев о
том, что оправдательный приговор последовал
вследствие предполагаемого вредного влияния того или
другого из неотведенных присяжных.
Нужно ли затем говорить о том, какие результаты
вызывало до последнего времени сокрытие от присяжных
наказания, грозящего подсудимому, — эта
своеобразная игра с ними в прятки? Конечно, присяжные,
исполняя свою обязанность, должны рассматривать
обстоятельства, которыми было окружено и сопровождалось
преступление, так сказать, смотря назад от события
преступления, но нельзя требовать от них, чтобы они не
смотрели и вперед, т. е. на то, что последует с
подсудимым, которого они судят. Если они имели право
знакомиться с личностью обвиняемого, то, конечно, они
должны были иметь и право ознакомиться с
последствиями их приговора для подсудимого. На практике после
первых двух-трех дел о кражах присяжные уже знали,
какое наказание постигнет осужденного ими, но по
целому ряду других дел им было известно лишь то, что
их суду подлежат преступления, сопряженные с
лишением прав и иногда с очень суровыми карами, а о том,
какова эта кара, они составляли себе представление
нередко из разъяснений какого-нибудь случайно
находившегося в их среде самозваного юриста, считающего
себя знатоком уголовных законов, потому что он
служил в уездном суде или полицейском управлении.
Мне пришлось председательствовать в восьмидесятых
годах по делу сына купца-миллионера, известного своим
уголовным процессом. Состоя в связи с одной
женщиной, молодой человек ожидал, вследствие заявления ее
и приглашенной акушерки, вскоре сделаться отцом. В
62
один прекрасный день он был приглашен к
умирающей родильнице, которая подарила ему сына. Уступая
ее желанию, тронутый ее судьбой и рождением
ребенка, который, по словам акушерки, был похож на него
как две капли воды, он дал ей 6 тысяч рублей для
того, чтобы успокоить ее, быть может, в последние
минуты ее жизни, за сына. Через три дня акушерка пришла
к нему и сказала, что с такой мошенницей, как
недавняя родильница, дела иметь не желает и щадить ее
не хочет, так как будущая родильница обещала 3 тысячи
рублей, а дала за труды только 300 рублей. При этом
она объяснила, что беременность была притворная,
«гуттаперчевая», а ребенок был взят напрокат. Таким
образом, возникло дело о шантаже, но так как наш закон
шантажа не знает до сих пор, то по аналогии
приходилось применить постановления о мошенничестве.
Подсудимые сознались, а известный адвокат Александров
просил только о снисхождении, но присяжные после
четверти часа совещания вынесли оправдательный
приговор. И, когда я в разговоре со старшиной присяжных
указал на трудно объяснимый и странный результат их
совещаний, он мне сказал: «Помилуйте, господин
председатель, кабы за это тюрьма была, то »лы бы с дорогой
душой обвинили, а ведь за это каторжные работы».
Когда же я ему указал, что подсудимым следовало
наказание от 1 до 3 месяцев тюремного заключения, то
старшина пришел в крайнее изумление,, сожалея, что
они впали в такую ошибку вследствие того, что в составе
присяжных был отставной чиновник, который их уверил,
что за это преступление непременно должны быть
назначены каторжные работы. Это незнание о наказании
особенно бывало вредно по делам о преступлениях,
кончающихся лишением жизни. Есть между этими
преступлениями такие, которые вовсе не Заслуживают и не
влекут по закону высшего по строгости наказания —
каторжных работ. Таково, например, убийство в драке,
нанесение побоев без умысла на убийство, но
вызвавшее, однако, смерть, убийство новорожденного урода,
не имеющего человеческого образа, и т. п. Между тем
все эти дела подсудны присяжным заседателям. У них
являлась мысль: тут убийство, смерть, а раз смерть,
конечно, будет и самое строгое наказание — каторга. 'Им
никто не имел права объяснить, что тут о каторге нет и
помину, что тут наказание гораздо более слабое.
Защитник не имел права упоминать о наказании, но иногда
он говорил горячую речь, в конце которой его пафос
63
увеличивался, и речь кончалась обыкновенно словами:
«Господа присяжные заседатели, я надеюсь, что ваш
приговор не заставит подсудимого в тундрах Сибири,
под холодным Полярным кругом, в снегах и стуже,
вспоминать нынешний роковой день». Председатель
восклицал: «Вы не имеете права говорить о наказании!»
Защитник отвечал: «Я кончил». Затем подсудимый
говорил последнее слово. Но как удержать простого
человека, а их большинство, от того, чтобы он не сказал:
«Помилуйте, кормильцы, куда же вы меня теперь в Сибирь:
у меня жена, дети...» Недаром в 1895 году съездом
старших председателей и прокуроров судебных палат
большинством 19 против 1 было признано необходимым
в целях правосудия допустить оглашение перед
присяжными наказания, которое грозит обвиняемому. Однако
это пожелание осуществлено лишь через 15 лет...
Нельзя затем не отметить и тех неудобных, но, к
сожалению, трудно отвратимых условий, которые
косвенным образом могут отражаться на настроении и
расположении духа присяжных заседателей, нарушая в них
сосредоточенность, душевное равновесие и спокойствие,
столь необходимое при исполнении их важной
обязанности. Присяжные по всем делам, имеюа^иы^ серьезное
значение, окружены своего рода оградой, которая
стойко поддерживается с разных сторон всеми
участвующими в процессе, через которую никто и ничто не
переходит и у входа в которую стоит кассация, как
библейский ангел со своим мечом. Но сделано ли что-либо для
присяжных внутри этой ограды — одинаковое и
равномерное повсюду? Созданы ли условия, устраняющие
их „физическое и нравственное утомление? Приходится
отвечать отрицательно. Пребывание присяжных в суде
по делам, длящимся не только несколько дней, но и
целые недели и более (харьковское дело о
злоупотреблениях в Таганрогской таможне продолжалось шесть
недель), представляет для них во многих отношениях
тяжкое испытание. Указания Сената и основанная на них
практика судов представляют значительные колебания.
Так, разрешение отпуска присяжных домой и
освобождение их от отяготительного ночного пребывания в суде
ставились сначала, в течение долгого времени, в
зависимость от важности обстоятельств дела. Затем было
разрешено делать различие между угрожающим
подсудимому уголовным или исправительным наказанием. Потом
признано допустимым отпускать присяжных и при
угрозе уголовным наказанием при полной невозможности
64
оставаться им в здании суда. Наконец, циркулярным
указом Сената по делам, влекущим уголовное
наказание, такой отпуск не дозволен «ни под каким видом».
После этого указа, однако, снова начались колебания
и отпуск присяжных домой возлагается всецело на
ответственность председателя и не служит поводом к
отмене приговора, если не будет доказано, что
присяжные с вредом для беспристрастия их решения входили в
сношение с кем-либо из посторонних. Ввиду всего этого
в делах, представляющих особую важность по
возбуждаемому ими в обществе интересу или волнению,
присяжные заседатели, безусловно, лишаются иногда на
долгое время свободы. Не говоря уже о том, что в
большей части провинциальных судов, при постройке новых
зданий или приспособлении старых, на устройство
отдельных помещений для ночлега присяжных не было
обращено особого внимания, а в уездных городах, где
происходят выездные сессии, таких помещений и вовсе
не существует, нет основания предполагать, чтобы и в
столицах и в наиболее крупных центрах эти посещения
были устроены с необходимыми удобствами и
предусмотрительностью. Но даже если бы таковые и
существовали, то есть ряд причин, по которым безотлучное
пребывание присяжных в суде в течение долгого
времени не может не влиять на них удручающим образом.
Стоит представить себе картину пребывания присяжных
в суде при очень длинных заседаниях в насильственном
сообществе людей, весьма часто по своему воспитанию,
образу жизни/ привычкам общежития и т. п. чуждых
друг другу. Необходимость оставить надолго управление
домашними или торговыми делами, служебные или
профессиональные занятия не может не нарушать
душевного спокойствия присяжных, тревожа их и заставляя
невольно задаваться мыслью: «А что-то там, дома, в лавке,
в бюро и т. д.?» Плохие гигиенические и дорогие
кулинарные условия вместе с отсутствием оживляющих
впечатлений, особливо там, где, до девяностых годов,
иногда целыми днями тянулась скучная и сложная
бухгалтерская или банковская экспертиза, не могли не отражаться
на присяжных, усугубляясь долгое время еще и
запрещением отпускать их для прогулки в здании или во
дворе суда. В своем циркуляре по этому поводу Сенат
говорил о предоставлении присяжным для отдыха зала
заседаний. Но им нужно движение, а не пребывание в
зале, где целый день находилось и дышало множество
народа и где обычно не существует правильно устроен-
3. Заказ № 571
65
ной вентиляции. Быть может, все это в некоторых случаях
и неизбежно, но нельзя не учитывать обращения
судебного помещения в изоляционную камеру для присяжных
при оценке справедливости тех категорически суровых
приговоров, которыми присяжными признаются не
только виновными, но и не заслуживающими снисхождения.
И вот что еще надо заметить: коронные судьи во всех
инстанциях признаютсяч— и справедливо —
гарантированными от посторонних влияний и от рассеяния своего
внимания и вдумчивости в дело свиданием с семьей и
пребыванием в привычной домашней обстановке, между
тем как ими решаются, вместе с сословными
представителями, дела о преступлениях государственных и
против порядка управления, влекущих за собой бессрочную
каторгу и смертную казнь. То же признается и
относительно сословных представителей, которые притом
далеко не всегда, за исключением неизменного
волостного старшины, являются в первоначальном составе,
начертанном судебными уставами. Губернских
предводителей дворянства часто заменяют уездные, а уездных —
члены депутатских собраний и дворянских опек, а
городских голов — члены управ и даже смотрители
отдельных хозяйственных городских предприятий. Если к этому
прибавить, что эти представители судейской присяги не
приносят, то не совсем понятно, почему по отношению
к ним не предпринимаются, хотя бы отчасти, те меры
ограждения, которые признаются необходимыми для
присяжных заседателей. По отношению к последним
Сенат не допускает, под угрозой отмены приговора, даже
и простой, вызываемой необходимостью и совершенно
не касающейся обстоятельств дела, беседы с ними
председателя суда. В известном деле Гулак-Артемов-
ской, обвиняемой в подлоге векселей, в заседании,
длившемся несколько дней, судебное следствие было
закончено в начале первого часа ночи. Присяжные
заседатели, желавшие вернуться домой, просили меня через
судебного пристава вести заседание непрерывно до
конца и не оставлять их ночевать. Я отвечал отказом,
предвидя, что речи прокурора, двух защитников и
поверенного гражданского истца, постановка вопросов и мое
руководящее напутствие займут с необходимыми
перерывами, по крайней мере, от пяти до шести часов и что
таким образом присяжные уйдут совещаться около 7
часов утра после бессонной ночи: Присяжные, однако,
настойчиво повторили свою просьбу, и я счел себя
вынужденным войти в сопровождении судебного пристава
66
в их комнату и объяснить им мотивы моего отказа,
обратив их внимание на необходимость приступать к
решению участи подсудимой не под влиянием крайнего
утомления и искусственного нервного возбуждения.
Хотя Сенат ввиду представленного мной объяснения и не
отменил по этому поводу обвинительного приговора, но,
однако, признал, что в крайних случаях председатель
должен объясняться с присяжными в присутствии
сторон, а не ограничиваться заявлением им о существе
происшедшей беседы при открытии продолжающегося
судебного заседания. Такой взгляд, исполненный
странного недоверия к председателю суда, объясняющемуся
со всем составом присяжных заседателей, несогласный
притом с точным смыслом ст. 675 устава уголовного
судопроизводства, в силу которой присяжным
заседателям воспрещается входить в сношения с лицами, не
принадлежащими к составу суда, не получив на то
разрешения председателя, вызвал на практике немало
затруднений. Приходилось иногда по маловажным
поводам во время перерывов судебных заседаний посылать
разыскивать представителей сторон и в присутствии их
разъяснять присяжным какое-либо совершенно чуждое
делу житейское недоразумение или объяснять
невозможность удовлетворения их просьбы. Я уже не говорю
о том, что бывают случаи, где присутствие сторон
стесняет присяжных в свободном выражении оснований
своего желания. Так, например, нередко именно
излишние и чрезмерно продолжительные упражнения
участников судебных прений в элоквенции* и побуждают
присяжных просить поскорее «отпустить их душу на
покаяние». Страх перед входом председателя в комнату
присяжных принимал иногда трагикомические размеры: Во
второй половине девяностых годов старший
председатель одной из судебных палат южной половины России
рассказывал мне следующий, трогающий за сердце и
вместе вызывающий невольную улыбку, случай. Во
время заседания с участием присяжных заседателей в
уездном городе заслуженный и весь отдавшийся судебному
делу товарищ председателя почувствовал себя очень
дурно. Его перенесли в единственную непроходную
комнату, из которой удалили на время присяжных, и
положили на диван. Старое усталое сердце
отказывалось продолжать служить, но перед кончиной
умирающий пришел в себя и спросил: «Где я?» — «В комнате
Элоквенция — ораторское искусство.
67
присяжных заседателей», — был ответ. «Ах! —
воскликнул он с волнением и упреком. — Зачем это? Ведь это
кассационный noeodl» И это были его последние слова...
Нужно ли затем говорить, как действуют речи сторон
в смысле утомления присяжных, направления их мысли
по ложному пути и нарушения спокойствия их
душевного настроения, необходимого для одинаково
справедливой оценки всех обстоятельств дела? Гораздо меньшая
важность большинства дел, рассматриваемых судом без
участия присяжных заседателей, и сам состав суда, для
которого судебное разбирательство есть дело
привычное и однообразное, накладывают некоторые границы
на словоохотливость сторон. Но этого не существует на
суде присяжных, где некоторая подробность объяснений
вполне законна и часто полезна.. К сожалению, правом
на такую подробность изложения нередко
злоупотребляют, в особенности те из судебных ораторов, которые
выступают вновь или впервые и, подготовив дома свою
речь, не решаются пожертвовать ее сомнительными
«красотами», забывая совершенно о том, что внимание
и терпение слушателей имеют свои пределы. Надо,
впрочем, заметить, что у нас неумение поставить себя
в положение слушателей свойственно не одним
судебным ораторам, а и вообще лицам, говорящим публично.
Каждый член многочисленной коллегии это знает по
собственному горькому опыту. Знают это и посетители
торжественных собраний ученых обществ и
учреждений. Им нередко приходится выслушивать
длиннейшие двухчасовые и более речи, в которых говорящий,
не обращая никакого внимания на публику, созванную
его послушать, упражняется в технических
подробностях, совершенно непонятных большинству, подвергая
его словесному истязанию с самодовольством,
граничащим с тупоумием. По отношению к таким ораторам
невольно приходится припомнить слова Монтескье: «Се
qui manque aux orateurs en profondeur, ils le donnent en
longueur»l и пожалеть, что они не следуют совету
малороссийского народного философа: «Лучше ничего
не сказать, чем сказать ничего». К сожалению, такое
злоупотребление количеством слов встречалось и
встречается в судебной практике нередко и утомляет
присяжных до крайности, рассеивая их внимание, вместо
того чтобы его сосредоточить, и раздражая их, людей,
оставивших свои занятия и семьи, напрасной тратой
1 Недостаток глубины ораторы возмещают длиннотами (франц.).
68
времени. В моих «Воспоминаниях и заметках судебного
деятеля» я приводил типичный случай, в котором на мой
отказ от обвинения, о чем согласно ст. 740 устава
уголовного судопроизводства я заявил суду «по совести»,
молодой защитник отвечал двухчасовой речью, среди
которой повторил заранее заготовленную патетическую
фразу: «Напрасно обвинитель силится утверждать...»,
забывая, что я не только ничего не утверждал, но и,
признав невозможность утверждать что-либо, сложил
оружие. Покойный Боровиковский* передавал мне
случай, бывший при нем в Симбирском окружном суде
вскоре после его открытия. Присяжные заседатели,
просидев в суде на двух делах, приступили к слушанию
третьего, весьма немногосложного ввиду собственного
сознания подсудимого в краже со взломом, и могли
рассчитывать, что на этот день их тяжелая обязанность
скоро кончится. Но защитник оказался весьма
словоохотливым и начал свою речь с заявления, что так как
кража есть преступление против чужой собственности,
то необходимо проследить развитие понятия о
собственности, начиная с первого лица, положившего ей,
согласно утверждению Жан Жака Руссо, основание, вплоть до
настоящего времени. Затем в течение часа, при
благодушном попустительстве председателя, он
рассматривал взгляд на собственность у народов патриархального
и родового быта, а затем в Египте, Вавилоне, Риме и в
средние века. Присяжные — преимущественно из
торгового сословия — сидели понурив голову. «Теперь
перехожу к обстоятельствам дела», — сказал защитник и,
сделав паузу, стал наливать себе стакан воды.
Старшина присяжных заседателей, старик купец с седой
бородой, поднял голову, взглянул на своих товарищей,
посмотрел на образ и на судей и, сказав громко: «Эхе-хе-
хе-хе!», тяжело вздохнул и снова поник головой. «Я
кончил», — неожиданно провозгласил защитник и,
сконфуженный, сел на свое место. Надо к этому заметить, что
чем меньше судебный оратор в заседании, при
перекрестном допросе, обнаруживает знания дела, тем
больше в его речи банальных, общих мест и пустопорожних
рассуждений, так что, слушая его, иногда невольно
хотелось бы повторить восклицание Альфреда де
Виньи: «Mon Dieu, quel supplied avoir une seule tete
* Боровиковский Александр Львович (1844—1905) — известный
русский судебный деятель и адвокат, автор ряда юридических
работ.
69
et deux oreilles par lesquelles on vient vous verser des
sottises»*.
Но не одно количество слов составляет терния для
бедных присяжных заседателей. Наравне с ним играет
роль и качество слов, которыми ловко и искусно
подменивается настоящий смысл понятий и создается
трескучая и сентиментальная фразеология, содействующая
тому, что простые и здравые понятия уступают место
болезненным и ложным. Благодаря искусно
подобранным софизмам извращается правильная перспектива
дела, и вместо обыкновенного слабовольного или
увлеченного человека, нарушившего уголовный закон и
впавшего в преступление, перед глазами присяжных
изображают или мрачного злодея, или невинного агнца. «Я
восстаю,— писал в своей статье о деле Тичборна И. П. За-
кревский **, бывший в то время убежденным
защитником суда присяжных,— против превращения суда, в
котором заседают присяжные, в арену для
высказывания софизмов, для возбуждения всякого рода эмоций в
судящихся и слушающих, для разрисовки ненужных
психологических этюдов, для представления зрелищ, как
говорил Миттермайер ***, которые бы и дамам
нравились (da8 die Damen auch dabei ihr Vergnugen haben)».
Некрасов со свойственной ему поэтической чуткостью
подметил и охарактеризовал проявление этого
словесного блудословия. «Перед вами стоит гражданин чище
снега альпийских вершин!»— восклицает у него
защитник. А что говорит обвинитель, явствует из утешения
поэта подсудимому: «А невинен — отпустят домой,
окативши ушатом помой». Нет сомнения, что эти крайности,
практические примеры которых я уже приводил в своих
«Воспоминаниях», не могут не вызывать невольной
реакции в душе присяжных заседателей и не нарушать
равновесия в их суждениях. Сама форма выражений
повсюду, где относительная истина вырабатывается путем
словесных прений, будет ли то суд, ученый диспут или
законодательное собрание, играет немаловажную роль.
Грубость и пошлость выражений оставляют свой след
* Боже мой, какая мука! Иметь одну голову и два уха, через
которые вливают глупости (франц.). Альфред де Вииьи (1797—1863) —
французский поэт.
"Закревский Игнатий Платонович (1839—1906) —в 1880-х
годах — первой половине 1890-х годов прокурор Казанской, затем
Харьковской судебной палаты; с 1895-го — сенатор.
*** Миттермайер Карл-Иосиф-Антон (1787—1867) — немецкий
правовед.
70
на слушателях, иногда совершенно противоположный
той цели, с которой они были употреблены. Вообще
говоря, шуточки, язвительные выходки и дешевое
остроумие не находят себе отголоска у присяжных
заседателей, которые именно потому, что для них суд — дело не
обычное и не повседневное, желают и ищут серьезной
обстановки для той работы, к которой государство
призывает их совесть. Такие выходки, оскорбляя в
некоторых из присяжных чувство эстетического такта, почти у
всех идут вразрез с их нравственным настроением. Один
присяжный заседатель рассказывал мне, какое тяжелое
впечатление произвело на него и на его товарищей
начало речи обвинителя по делу о дворнике, который в
сообществе с кухаркой совершил кражу у ее хозяев.
«Господа присяжные заседатели!— развязно начал
обвинитель.— Жил-был дворник, жила-была кухарка.
Снюхались они и...»—«Разве можно так говорить на суде?—
негодовали присяжные.— Ведь это не за чаем в
трактире!» Я замечал со своей стороны, что обычно
присяжные заседатели хранят серьезное молчание даже и
тогда, когда показания свидетеля 'заставляют судей
невольно улыбнуться, и никогда во время
двенадцатилетней работы с присяжными заседателями не видел я
их смеющимися даже в такие минуты, когда публикой
овладевал неудержимый хохот.
Те, кто кричит против отдельных оправдательных
приговоров присяжных заседателей, грешат тем, что или
не знают, или не хотят знать о громадной работе
присяжных, почти ежедневно совершающейся на всем
пространстве Европейской России, за исключением окраин,
и о той массе вполне правильных приговоров, о которых
никто из хулителей даже и не упоминает. Свойственное
нашему обществу забвение «вчерашнего дня» сказыва-.
ется и в этом случае. Решения присяжных, дававшие
нравственное удовлетворение общественной совести
суровым и заслуженным словом осуждения виновного,
никогда не вспоминаются там, где общественная
неосведомленность или предубеждение, не разбирая причин
оправдания, выдвигают огульное обвинение против этого
суда. А между тем я уверен, что каждый судебный
деятель может припомнить в своей практике не одно из^
так называемых громких дел, в которых, несмотря на
усилия блестящих представителей адвокатуры, присяжные —
и подчас довольно скромного состава — вынесли
обвинительный вердикт, не поддавшись «внушению»
красивых слов и ярких декораций и соблазну снять с себя тя-
71
жесть ответственности, ссылаясь на услужливое
сомнение или замещая настоящего виновного отвлеченными
подсудимыми, о которых уже говорил в начале этих
страниц. Я не могу не вспомнить без глубокого
уважения к суду присяжных ряда процессов, где они с честью
разобрались в самых сложных обстоятельствах и свято
исполнили свой долг перед обществом. Дела
Овсянникова (о поджоге паровой мельницы), игуменьи Митро-
фании (о подлоге векселей и духовного завещания)
говорят сами за себя. Но и по менее громким, хотя иногда
еще более сложным, делам, по которым мне
приходилось выступать обвинителем или председательствовать
(обвинительные речи и руководящие напутствия по
которым собраны в моей книге «Судебные речи»), я не
могу указать ни одного решения присяжных, которое
оставило бы в моей душе впечатление поруганной
правды и оскорбленной справедливости.
А между тем по многим из них присяжным
приходилось сидеть по целой неделе и держать свой курс
среди прилива и отлива энергичной защиты и обвинения,
в водовороте противоречивых свидетельских показаний
и сложных, далеко не всегда единогласных экспертиз.
И в кассационной моей практике мне встречалось
немало вполне разумных решений, постановленных по
делам, в которых не только подсудимые, но подчас и
некоторые местные общественные слои принимали все
меры, чтобы повлиять на провинциальных присяжных
речами блестящих столичных гастролеров, напускным
негодованием влиятельных свидетелей, глубоко
возмущенных «привлечением невинного», и показаниями
сведущих людей, расходившихся, несмотря на свое
ученое высокомерие, со спокойной и убедительной логикой
фактов. Присяжные заседатели не раз вступались за
житейскую правду дела, несмотря на искусное
перемещение центра тяжести дела в область безразличных, с
точки зрения уголовного закона, деяний. Они вошли в
положение несчастной девушки, сделавшейся предметом
покушения на ее целомудрие со стороны наглого
«красавца мужчины» и жертвой лживого медицинского
освидетельствования, доведшего ее до отчаяния и
самоубийства, причем по вскрытии трупа оказалось, что она,
провозглашенная чуть не профессиональной
проституткой и шантажисткой, была совершенно девственна.
Они осудили купца-миллионера, истязавшего в далеком
заграничном курорте маленькую девочку, взятую для
развлечения его дочери и подвергавшуюся жестокому
72
сечению, продолжительному стоянию на коленях, под
которые предварительно ставились горчичники, и
сидению обнаженными частями на обширном горчичнике,
крепко привязанной к стулу, несмотря на то что весьма
ученый судебный врач признал следы этих истязаний, о
которых с ужасом рассказывала простая женщина —
няня в доме купца, за возможные последствия золотухи.
На представителей общественной совести не
подействовали ни обычные намеки на шантаж со стороны
родителей потерпевшей, ни заявление настоятеля местной
заграничной церкви о великом благочестии подсудимого,
выразившемся в разных щедрых вкладах на облачения,
ни лестные для подсудимого показания со стороны
хозяина отеля, прислуги и других лиц, для получения
которых ездил, специально за границу особый присяжный
поверенный. Сколько прошло через мои руки дел, в
которых, например, при благосклонном содействии местных
властей здоровых людей, лишь с нервной организацией,
упрятывали родственники или будущие наследники
в дома умалишенных или добивались признания их
сумасшедшими; дел, в которых предприимчивые люди
пользовались для своих корыстных целей умственным
расстройством потерпевших, питавших к ним
неограниченное доверие; наконец, дел, в которых против слабых,
беззащитных и безгласных жены или детей, а тем паче
пасынков или падчериц практиковалась систематическая,
безжалбстная жестокость, сопровождаемая побоями,
голоданием, смертельным истощением и всякого рода
нравственными пытками, не говоря уже о проявлениях
садизма или мщения за отказ в удовлетворении
противоестественной похоти! И замечательно, что в этих
случаях суровое нравственное осуждение, находившее себе
выражение в обвинительном решении, исходило от
простых, трудовых, серых людей, на которых многие из
подсудимых с высоты своего материального и
общественного положения и умственного развития привыкли
смотреть пренебрежительно и свысока.
Вообще надо заметить, что там, где преступление
являлось результатом страстного порыва, которому
предшествовали душевные терзания подсудимого, как
результат ревности, перенесенной обиды, постоянного
унижения и т. п., присяжные часто бывали склонны к
широкому снисхождению, а иногда и к оправданию. Не
следует думать, что это было с их стороны признанием,
что страсть все извиняет, тогда как она лишь многое
объясняет,— нет! Это являлось результатом сознания
73
перенесенных подсудимым мук, прежде чем он
совершил свое злое дело, страданий, выпавших на его долю
до того, как он предстал перед судом, и соображения о
том, что ему еще предстоит в случае обвинительного
вердикта. Из таких соображений вытекли, по всем
вероятиям, и те оправдательные решения столичных
присяжных по делам об облитии серной кислотой, которые
возбудили основательную тревогу в обществе, как бы
знаменуя собой практическую безнаказанность одного из
самых ужасных видов мщения. Полоса подобных
решений прошла в начале восьмидесятых годов и во
Франции, начавшись с вызвавших страстную полемику дел
Марии Бьер, Тилли и др. По-видимому, эти приговоры
были своего рода протестом, хотя и неуместным, но
объяснимым для тех, перед кем на судебном следствии
раскрылась житейская драма подсудимой, протестом
против нравов, допускающих легкомысленное, грубо
животное и бессердечное отношение к душе
потерпевшей и к самому ее существованию. В бездушно
брошенной на произвол судьбы девушке (иногда матери
внебрачных, детей) после того, как прошла ее молодость
и ее миловидность утратила пряную заманчивость в
глазах того, кто ими воспользовался «в свое удовольствие»,
в жене, сделавшейся без всякой вины предметом
надругательства и глумления со стороны внезапно
появившейся, ничем не связанной с общим супружеским прошлым,
соперницы, присяжные сердцем почувствовали жертву,
доведенную до отчаяния. Так, оправдали они еще недавно
охарактеризованную свидетелями с лучшей стороны
швею, плеснувшую кислотой в шофера при знатном доме,
когда на суде обнаружилось, что после девятилетнего
ухаживанья он обольстил ее обещанием жениться, а
когда возник вопрос о дне свадьбы, грубо оскорбил ее,
заявив: «У меня таких, как ты, много, не могу я на всех
жениться». Так, не решились они обвинить двух жен,
брошенных с малолетними детьми мужьями, и обливших
кислотой соперниц, нагло издевавшихся над
обреченными на нищету... Совсем иначе поступили они в
Петербурге, не дав даже «снисхождения», когда перед ними
предстал лукавый искатель богатых невест, ослепивший,
с медленно созревшим и тщательно обдуманным
умыслом, молодую великодушную девушку в отместку за
отказ выйти за него замуж.
Почти всегда, несмотря на неблагоприятную
обстановку дела, присяжные являлись сознательными
противниками тех подсудимых, бездушная, черствая, холодно
74
рассчитанная, обдуманно корыстная деятельность
которых вела к страданиям, несчастью и горю потерпевших.
Но и при этом они отводили обыкновенно большое
место даже и в таких преступлениях накопившейся горечи и
раздражительности обвиняемого, вызванным условиями
его несчастной личной жизни. Таким образом, отнесясь
строго и без признания смягчающих обстоятельств к
жене чиновника, воспитаннице института, доведшей
падчерицу до голодной смерти от такого истощения, что в ее
исхудалом теле под кожей завелись насекомые, или к
вышеупомянутому купцу-истязателю, они, однако, как
видно было из доходившего до Сената дела, оправдали
несчастную чахоточную поденщицу, брошенную своим
любовником, расправлявшуюся после тяжелого
рабочего полуголодного дня слишком круто с жившими в
«углу» и вызывавшими жалобы других квартирантов детьми.
Присяжные, по моим воспоминаниям, особливо в
провинции, редко бывали увлечены некоторыми из
защитников, любивших одно время советовать им вдуматься в
слова Шекспира: «Нет в мире виноватых!» Продолжение
этих слов: «Одень злодея в золото — стальное копье
закона сломится безвредно, одень его в лохмотья — и
погибнет он от пустой соломинки пигмея»— огромному
числу из них было, конечно, неизвестно, но житейский
смысл и голос сострадания, очевидно, побуждали их войти
в положение одичавшей в борьбе за кусок хлеба
носительницы «лохмотьев» и твердо удержать в руке по двум
другим делам «стальное копье закона».
Отсюда видно, как огульные нападки на присяжных
по многим делам более поспешны, чем справедливы,
особенно потому, что при этом совершенно забывается
деятельность суда коронного в тех местностях, где нет
присяжных заседателей, или в учреждениях, где они
заменены сословными представителями. Можно указать
немало случаев оправданий, состоявшихся в судебных
палатах, которые вызвали бы, несомненно, резкую
критику и осуждение, будь они постановлены присяжными
заседателями. В кассационной практике встречались
примеры таких приговоров, ничем не отличавшихся от
ставимых в вину присяжным «помилований». Достаточно
указать хотя бы на дело помещика Западного края,
обвинявшегося в подстрекательстве и попустительстве
шестнадцати своих рабочих к двухдневному при участии
урядника и при угощении водкой истязанию «с чувством,
с толком, с расстановкой» четырех лиц, заподозренных в
краже у него тройки лошадей, причем крики их разно-
75
сились далеко за пределы усадьбы. Один из истязуемых
лишился навсегда работоспособности, а другой не
перенес истязаний и умер. Судебная палата, выслушав
красноречивые речи о вреде конокрадства в сельском быту,
постановила оправдательный о всех подсудимых
приговор. Чем этот приговор отличается от оправдательных
решений присяжных заседателей по делам об убийстве
конокрадов, за что их обвиняют в извинении самосуда?
Их упрекали иногда также и в том, что они признают
извинительным покушение на убийство, когда мотивом
к нему послужило желание подсудимого обратить
внимание общественного мнения на свое тяжелое положение
или на какие-либо вопиющие поступки лиц, власть
имущих. Достаточно вспомнить нарекания на присяжных
по поводу дела Веры Засулич, когда один лишь ленивый
не бросал в них не только камнями, но, по выражению
автора «Былого и дум», даже целой мостовой.
Однако в 1902 году одна из судебных палат, рассматривая
дело о счетоводе городского общественного банка Хаха-
лине, обвиняемом в том, что, имея намерение лишить
жизни директора банка Степашкина, он произвел в него
почти в упор выстрел, причем пуля, пробив сюртук и
жилет, контузила потерпевшего в левую часть живота,
отвергла намерение обвиняемого убить, признав, что под
давлением мысли о несправедливости начальства он
решился своим выстрелом вывести эту несправедливость
за стены банка на суд общественного мнения, и
оправдала его, т. е. признала заслуживающим уважения тот
же мотив, который приводила и Засулич в объяснение
своего поступка. Наконец, мне пришлось давать
заключение в Сенате по делу председателя Самарской
земской управы Алабина, преданного суду судебной
палатой, с участием сословных представителей за
бездействие власти, выразившееся в том, что осенью 1891 года,
в самый разгар голода; постигшего приволжские
губернии, он не только ничего не предпринял для обеспечения
добросовестного исполнения обязательств, принятых на
себя поставщиками муки и зернового хлеба на 700 тысяч
рублей, но приобрел в виде муки пятого сорта, вопреки
постановлению земского собрания, совершенно
негодный продукт с умышленной примесью куколя и
других сорных трав, а также гнилую муку, вызвавшую
тяжкую болезнь 1272 крестьян, потребителей ее, и
обусловившую смерть одной крестьянки. Палата оправдала
Алабина, объясняя неисполнение им своей святой в
данном случае обязанности его неумелостью распорядиться
76
имевшимися у него средствами. Не говоря уже о том,
что простое утверждение о неумелости человека,
находящегося на службе 48 лет, бывшего управляющим
удельной конторой и палатой государственных иму-
ществ, губернатором в Болгарии и самарским городским
головой, звучало более чем странно, надо заметить, что
закон требует от всякого служащего «человеколюбия,
усердия к общему добру и покровительства к
скорбящим», вменяя должностному лицу в «главнейшее
поношение упущение должности и нерадение по части блага
общего, ему вверенного». Такого приговора, конечно,
никогда не изрекли бы присяжные заседатели,
противопоставив, подобно палате и сословным представителям,
как нечто равносильное, неумелость опытного человека
и жестокое бедствие, постигшее население целой
губернии. Коронно-сословный суд в данном случае не мог не
понять, что начало неумелости, как основание к
оправданию, недопустимо потому, что, получив право
гражданства, оно явилось бы разлагающим по отношению к
началу долга, на котором зиждется всякое служение. Это
начало было бы опасным, так как в силу его
представлялась бы возможность, относясь легкомысленно,
невнимательно, высокомерно или бездушно к общественному
бедствию и даже усугубив его таким отношением к
делу, уходить из-под карающей длани закона и
драпироваться в удобную и безопасную мантию неумелости. Это
начало было бы несогласным с требованиями
нравственности, так как при допущении его призываемый по долгу
службы на помощь против общего несчастия, решаясь
взяться за дело, стал бы руководиться, вместо смирения
перед важностью задачи и строгой проверки себя и
своих сил, одними лишь аппетитами к власти, влиянию и
разного рода наградам.
Присяжных заседателей одно время жестоко упрекали
за частые оправдательные приговоры по преступлениям
должности. Под влиянием этих обвинений дела по
преступлениям должности были изъяты от суда присяжных
вместо того, чтобы улучшить условия производства этого
рода дел до поступления их в суд. В судебных уставах
отдел о преследованиях по преступлениям должности
всегда составлял самую слабую часть. На ней сильнее
всего отразилось влияние того «ветхого Адама» нашего
старого бюрократического строя, «совлечь» который
в нашей судебной жизни были не в силах, несмотря на
все свое желание, составители этих уставов. Дача этим
делам законного хода почти всецело была пре достав л е-
77
на усмотрению начальства обвиняемого. Слишком
большой простор, данный в этом случае личному
взгляду, и отсутствие законных сроков для истребования
объяснений обвиняемых создавали целый ряд
ненормальных отступлений от правильного и правосудного хода
этих дел. К производству следствия приходилось
приступать зачастую при вполне остывших и изглаженных
следах преступления. Наиболее крупным участникам
преступлений удавалось во многих случаях занять
положение простых свидетелей, а на скамье подсудимых
фигурировал обыкновенно традиционный «стрелочник». Если
же судебная власть пыталась привлечь действительно
виновного, то ей предстоял целый ряд мытарств,
именуемых в законе «пререканиями», как по вопросу о
привлечении к ответственности, так и по вопросу о
предании суду. Это затягивало дело еще на новые сроки и
давало повод обвиняемому ссылаться на разные
злоключения, пережитые им до судебного заседания, что, в
свою очередь, не могло не влиять на приговор
присяжных. Как на типичный пример ненормальных условий
предварительного досудебного производства дел по
преступлениям должности, я могу указать на дело
полицеймейстера одного из приволжских городов, который,
грозя вследствие анонимного доноса двум девушкам из
местной «буржуазии» зачислением их в разряд
проституток, вынудил их для снятия с себя оскорбительного и
незаслуженного подозрения подвергнуться
медицинскому освидетельствованию в компании
зарегистрированных публичных женщин, причем несчастные,
опозоренные девушки оказались невинными. Жалобы их
родителей оставлены были начальством, на лоне которого
покоился предприимчивый полицеймейстер, без
последствий. Тогда вступился в дело прокурор, но и его
домогательства о привлечении виновного встретили отпор
в губернском правлении, и лишь Сенат, рассмотревший
пререкания между губернским правлением и
прокурором, предписал привлечь полицеймейстера к
ответственности. Но и затем, когда следствие с заключением
прокурора о предании суду поступило в губернское
правление, последнее с ним не согласилось. Тогда вновь
возникло пререкание, которое было разрешено
постановлением Сената о предании суду. Покуда медленно
двигалась громоздкая колымага пререканий, дело в
значительной степени выцвело, и, в конце концов, виновный
в возмутительном надругательстве над честью и
достоинством двух беззащитных перед вверенной ему влас-
78
тью девушек отделался пустяками и остался на
своем месте, причем этот приговор был постановлен не
присяжными заседателями.
Большая часть неудовлетворительных решений
присяжных относилась к растратам вверенных по службе
сумм. При разбирательстве, с одной стороны,
обнаруживалось полное отсутствие каких бы то ни было начал
правильной отчетности в наших волостных и сельских
правлениях, а с другой стороны, присяжных не могло не
смущать то, что карательные законы за должностную
растрату не допускают смягчения наказания и
уменьшения ответственности в случаях обязательства пополнить
растраченное по легкомыслию, что, однако, существует
по отношению к растратам в частном быту. Уже 24 года
действует по этим делам судебная палата с сословными
представителями, но участие этих представителей
именно по этим делам не может быть признано
целесообразным и во многих отношениях представляет
своеобразные недостатки, которые приписывали суду присяжных
его противники. В 1895 году многие из старших
председателей палат присоединились к заявлению одного из
них, что «временные члены» относятся весьма пассивно
к своим обязанностям и во всяком случае не
осуществляют той строгости, в расчете на которую дела по
преступлениям должности были отняты у присяжных
заседателей. По заявлению одного старшего
председателя, обыкновенно по входе в совещательную комнату для
решения дела представители дворянства справляются
о том, какое самое малое наказание за судимое
преступление, и с размером его сообразуют и вывод свой о
виновности; представители города спрашивают у
председателя, нельзя ли оправдать подсудимого; волостные
старшины на вопрос об их мнении обращаются, в свою
очередь, к председателю с вопросом: «Как прикажете?»
Поэтому, в сущности, дело решают коронные судьи,
присутствие- которых вызывает во временных членах
равнодушное отношение к подаваемому мнению, за
исключением редких случаев, где оно упорно
тенденциозно и, следовательно, неправосудно. Вместе с тем, как
показала практика палат, надлежащие сословные
представители дворянства и городов всемерно уклоняются
от исполнения своих судебных обязанностей, заменяя
себя, в порядке обратной постепенности, совершенно
неподходящими лицами вроде секретарей дворянских
депутатских собраний и членов городских управлений по
надзору за торговлей и т. п. Еще в первой половине
79
восьмидесятых годов тогдашний прокурор
Петербургской судебной палаты Муравьев сделал в юридическом
обществе очень поучительный доклад, в котором со
свойственной ему ясностью и категоричностью доказал с
цифрами в руках, как шатки и произвольны надежды,
возлагаемые на особую репрессивность суда без участия
присяжных заседателей. В комиссии по пересмотру
судебных уставов он - поддерживал, уже в качестве
министра юстиции, замену сословных представителей
специальными присяжными заседателями особого состава
с повышенным имущественным и образовательным
цензом. А ныне теперешний министр юстиции И. Г. Щег-
ловитов, при обсуждении в марте истекшего года в
общем собрании Государственного совета законопроекта
о порядке преследования должностных лиц, на
основании многолетнего и разностороннего опыта, высказался
решительным образом за возвращение дел о
преступлениях должности суду присяжных заседателей.
Есть еще один упрек, делаемый присяжным их
теоретическими и практическими противниками,— упрек в
пассивности и малой самодеятельности. Но и этот упрек,
по моим наблюдениям и воспоминаниям,
несправедлив. Судебная практика представляет случаи, где
коронные судьи пользовались предоставленным им ст. 818
устава уголовного судопроизводства правом и, находя,
что решением присяжных осужден невинный,
передавали дела другому составу присяжных для нового
рассмотрения. В семидесятых годах обратило на себя
внимание дело домовладелицы одного из уездных городов
Петербургской губернии, обвиняемой в поджоге своего
дома с целью получения преувеличенной страховой
премии. Несмотря на существующую вообще трудность
добычи и выяснения доказательств поджога, присяжные
признали подсудимую виновной. Сенат отменил
приговор по судопроизводственным нарушениям, и
присяжные снова вынесли обвинительное решение. Тогда суд
применил ст. 818, но новый состав присяжных
согласился со своими предшественниками. То же самое
произошло в одной из южных губерний в восьмидесятых годах
по делу о священнике и его жене, обвиняемых в
отравлении дьячка. Нужно ли затем упоминать о таких,
например, случаях, вовсе не свидетельствующих о
пассивности присяжных, как очень частые просьбы присяжных
о постановке судом дополнительных вопросов,
подлежащих их разрешению; как заявление о том, что
обвинение, в смысле квалификации деяния подсудимого,
80
должно быть поставлено строже и на место вопроса о
запальчивости и раздражении следует поставить вопрос
о предумышлении; как отказ от разрешения дела,
представляющегося неясным по отсутствию на суде важного
свидетеля или сообщника подсудимого; как, наконец,
просьбы некоторых присяжных об освобождении их от
обязанностей, так как еще- до судебного заседания у
них, по слухам и частным сведениям, составилось
непреодолимое убеждение в виновности или невиновности
подсудимого, могущее оказать давление на товарищей.
Остается сказать еще о тех вызывающих нарекания
приговорах присяжных заседателей, которые смущают
чрезмерно широким применением понятия о
невменяемости подсудимого в то время, когда весь образ его
действий, рассчитанная и подготовленная жестокость
преступления, обдуманное сокрытие следов последнего
или система своего оправдания заставляют невольно
усомниться в том, что суду пришлось иметь дело с
больным. Психиатрическая экспертиза в последние годы все
более и более переходит из области одного из видов
доказательства в область решительных приговоров,
облеченных всеми внешними атрибутами непререкаемой
научности. Кто следил за объяснениями сведущих людей
в столицах и больших центрах по вопросам о вменении,
не может не заметить, как под их влиянием постепенно
расширяется понятие о невменяемости и суживается
понятие об ответственности. В большинстве так
называемых сенсационных процессов перед присяжными
развертывается яркая картина эгоистического бездушия,
нравственной грязи и беспощадной корысти, которые в
поисках не нуждающегося в труде и жадного к
наслаждениям существования привели обвиняемого на скамью
подсудимых. Задача присяжных при созерцании такой
картины должна им представляться хотя и тяжелой «по
человечеству», но, однако, не сложной. Но вот
фактическая сторона судебного следствия окончена, допрос
свидетелей и осмотр вещественных доказательств
завершен, и на сцену выступают служители науки во
всеоружии страшных для присяжных слов: нравственное
помешательство, неврастения, абулия, психопатия,
вырождение, атавизм, наследственность, автоматизм,
автогипноз, навязчивое состояние, навязчивые идеи и т. п.
Краски житейской картины, которая казалась такой ясной,
начинают тускнеть и стираться, и вместо человека,
забывшего страх божий, заглушившего в себе голос
совести, утратившего стыд и жалость в жадном желании
81
обогатиться во что бы то ни стало, утолить свою
ненависть мщением или свою похоть насилием, выступает по
большей части не ответственный за свои поступки по
своей психофизической организации человек. Не он
управлял своими поступками и задумывал свое злое дело,
а во всем виноваты злые мачехи — природа и жизнь,
пославшие ему морелевскйе уши или гутчинсоновские
зубы, слишком длинные руки или седлообразное
нёбо или же наградившие его, в данном случае к счастью,
в боковых и восходящих линиях близкими родными, из
которых некоторые были или пьяницами, или болели
сифилисом, или страдали падучей болезнью, или,
наконец, проявляли какую-либо ненормальность в своей
умственной сфере. В душе присяжных поселяется
смущение, и боязнь осуждения больного — слепой и
бессильной игрушки жестокой судьбы — диктует им
оправдательный приговор, чему способствует благоговейное
преклонение защиты перед авторитетными словами
науки и почти обычная слабость знаний у обвинителей в
области психологии и учения о душевных болезнях. На
наших глазах создалось и проникло в науку учение о
неврастении, впервые провозглашенное американцем Бир-
дом*, и разлилось безбрежной рекой, захватывая
множество случаев слабости воли, доходя до совершенно
немыслимых проявлений невменяемости вроде
мнительности, склонности к сомнениям, боязни острых и
колющих предметов (belonofobia), антививисекционизма,
болезненной наклонности к опрятности, наконец, такого
естественного, хотя и печального, чувства, как ревность.
И несмотря на то что современная жизнь с ее
ухищрениями и осложнениями, с ее гипертрофией духа и
атрофией тела, с ее беспощадной борьбой за существование,
конечно, не может не отражаться на нервности
современного человека, ничуть не исключающей вменяемости,
приходится часто слышать в судах рассуждение о том, что
подсудимый страдает каким-нибудь признаком
неврастении, или, по новейшей терминологии, психастенией,
освобождающей его от ответственности или, во всяком
случае, ее уменьшающей. Когда недавно вызвали
справедливый ропот и понятное смущение действия
судебного следователя, допустившего в своих протоколах ряд
искажений и умышленных подделок в целях раздутия
объема исследуемого им политического преступления,
* Бирд Георг Миллер (1839—1883)—американский
врач-невропатолог.
82
эксперты нашли, что он страдает цереброспинальной
неврастенией, которая, однако, не помешала ему
считаться способным и усердным — быть может, слишком
усердным — следователем и затем членом судебной
коллегии. На наших глазах появился и термин
«психопатия», впервые произнесенный в русском суде на
процессе Мироновича и Семеновой, обвиняемых в убийстве
Сарры Беккер. Эта психопатия получила тоже
чрезмерное право гражданства в суде. Слово стало популярным.
«Признаете ли вы себя виновным?»— спрашивает
председатель человека, обвиняемого в ряде крупных
мошенничеств и подлогов. «Что же мне признавать?— не без
горделивого задора отвечает подсудимый.— Я ведь
психопат...» «Действовав в состоянии психопатии,—
пишет в своей кассационной жалобе отставной
фельдшер, обвиненный в умышленном отравлении,— я не
могу признать правильным состоявшийся о мне
приговор» и т. д. Таким образом, это слово служит как бы
для определения такого состояния, в котором все
дозволено и которое составляет для подсудимого своего
рода «position sociale»1 или, вернее, «antisociale»2. В
благородном стремлении оградить права личности
подсудимого и избежать осуждения больного и
недоразвитого под видом преступного некоторые
представители положительной науки иногда доходят до крайних
пределов, против которых протестует не только логика
жизни, но подчас и требования нравственности.
Наследственность, несомненно существующая в большинстве
случаев лишь как почва для дурных влияний среды и
неблагоприятных обстоятельств и притом исправляемая
приливом новых здоровых соков и сил, является лишь
эвентуальным* фактором преступления. Ее нельзя
рассматривать с предвзятой односторонностью и
чрезвычайными обобщениями, приводящими к мысли об
атавизме, в силу которого современное общество, по
мнению итальянских антропологов-криминалистов,
заключает в себе огромное количество людей — до 40% всех
обвиняемых, представляющих запоздалое одичание,
свойственное их прародителям первобытной эпохи.
Насколько эти обобщения бывают произвольны, видно,
например, из того, что к одному из признаков вырожде-
1 Общественное положение (франц.).
2 Антиобщественное (франц.).
"Эвентуальный — здесь: косвенный.
83
ния известным Ломброзо* и его последователями
долгое время бывала относима страсть людей
преступного типа к татуировке. Однако на международном
антропологическом конгрессе в Брюсселе было доказано,
что всего более татуировка распространена не в мире
нарушителей закона, страдающих атрофией
нравственного чувства, или прирожденных преступников, а в
высших, кругах лондонского общества, где существуют
особые профессора татуировки, получающие за свои
рисунки на теле разных денди и леди суммы, доходящие
до 100 фунтов стерлингов за узор. Понятно, что под
влиянием этих взглядов и теорий, при которых главное
внимание экспертов направляется не на поступки
подсудимого и другие фактические данные дела, а на
отдаленные и лишь возможные этиологические** моменты
предполагаемого в нем состояния невменяемости в
момент совершения преступления, присяжные иногда
после долгих колебаний не решаются произнести
обвинительного приговора. Мне пришлось однажды слышать
в заседании суда мнение весьма почтенного эксперта,
доказывавшего, что подсудимый, обвиняемый в
убийстве в запальчивости и раздражении, должен быть
признан невменяемым, потому что находится в состоянии
душевного расстройства, характеризуемого отсутствием
или подавленностью нравственных начал, очевидным из
того, что по делу он представляется хитрым и
тщеславным эгоистом с наклонностью к жестокости и
разврату. Мне хотелось спросить эксперта, не находит ли
он, ввиду таких выводов, что только тихие,
великодушные и нравственно чистые люди являются субъектами,
представляющими исключительный материал для
вменения, и что эти их свойства, в случае совершения
преступления в страстном порыве, неминуемо должны
обращаться им во вред? ч
В годы моей непосредственной работы с
присяжными крайности экспертизы, направленные в сторону
широких обобщений и односторонне понимаемого
человеколюбия, были сравнительно редки, но в последние
годы они значительно участились. Молодой человек
университетского образования, отлынивающий от всяких
определенных занятий, в течение четырех лет
занимается искусно обставленной и ловко задуманной кра-
* Ломброзо Чезаре (1836—1909) — итальянский психиатр и
криминалист.
** Этиологические (aitia — причина)—здесь: причинные.
84
жей дорогих шуб в гостиницах, театрах и публичных
собраниях, а также, выдавая себя за местного мирового
судью, требует доверия к своим заказам в дорогих
ресторанах, отказываясь затем платить по счетам.
Психиатрическая экспертиза утверждает, что он
представляет признаки физического и психического
вырождения и поэтому невменяем. Пятнадцати- и
восемнадцатилетние девушки, возненавидев воспитательницу
старшей из них, достают цианистый калий и пускают его в
дело, hq в недостаточной дозе; затем принимают меры,
чтобы добыть стрихнин, но когда и он недостаточно
скоро действует, то убивают старуху во время сна
топором— и, по мнению экспертов, совершают это
все/действуя без разумения. Молодой человек, о котором все
отзываются как об умном, хитром, очень способном и
понятливом, но ленивом, решительно не желает учиться,
а желает жить и кутить за счет богатого отца и, когда
последний требует от него трудовых занятий, грозит
ему убийством, старается раздобыть яд и револьвер и,
наконец, подкравшись ночью к спящему отцу, зарезы-
вает его припасенным ножом, выписав перед тем в
записную книжку статьи Уложения — о наказаниях за
отцеубийство. После убийства, восклицая: «Собаке
собачья смерть!», он идет с приятелем выпить и закусить и
отправляется в объятия проститутки, а из-под ареста
спрашивает письмами, нельзя ли пригласить защитника,
умеющего гипнотизировать присяжных, и какая часть
наследства после отца достанется ему в случае
оправдания. На суде эксперты находят, что у подсудимого
асимметрия лица и приросшие мочки ушей (морелев-
ские уши); покатый лоб и длинные ноги; у него
притуплено чувство нравственности, он угрюм и не сразу
отвечает на вопросы, подергивает плечом и неуместно
улыбается. Кроме того, его отец лечился от
ревматизма, а мать страдала бессонницей и дважды лечилась от
нервов. Все это, как дважды два, доказывает, что
подсудимый — глубокий вырожденец, заслуживающий
сострадания, а не осуждения. И вот присяжные, не
решаясь идти против такого многостороннего вывода,
давшего, конечно, благодарный материал для гипноза
защитительной речи, выносят оправдательный приговор.
Можно ли их винить за это, когда и коронный суд, быть
может, затруднился бы мотивировать свое несогласие
с категорическим взглядом нескольких специалистов,
говорящих от имени и во имя науки. Но
дозволительно спросить, не смешали ли они в данном случае по-
85
следствия с причинами, не нашли ли, что «post hoc ergo
propter hoc»1, и не слишком ли щедро одарили они
злого бездельника дарами более чем сомнительной
наследственности, причислив, между прочим, к признакам
вырождения и то, что сидящий на скамье подсудимых
отцеубийца не находится в светлом настроении духа, а
угрюм и, рассчитывая, как он сам заявлял при
следствии, быть признанным действующим в умоисступлении,
медлит ответами на вопросы о предумышленности
своего злодеяния.
Для полноты обзора условий деятельности
присяжных остается еще указать на некоторые явления в нашей
судебной жизни, вследствие которых присяжные
вызывают против себя нарекания, будучи в сущности «без
вины виноватыми». Так, бывают случаи, когда судебная
палата по обвинительной камере, встретясь с
недостаточностью улик, не прекращает своим властным словом
дела, а решает лучше предоставить высказаться
присяжным, суду коих и предает обвиняемого. Взваливая,
таким образом, свое законное бремя на их плечи, палата
забывает о своей обязанности оградить обвиняемого от
лишенного достаточных оснований предания суду и
сопряженных с этим напрасных страданий, а присяжных
от еще больших сомнений, чем ее, что почти неминуемо
должно повлечь оправдательный приговор после
судебной процедуры, которую следовало своевременно
предотвратить. Таковы также случаи, когда судебный*
следователь по каким-либо причинам не держится строго
установленных для него рамок следственного судьи,
а, смешивая и переплетая негласный розыск со след-
ственными действиями, становится игрушкой в руках
служебных и добровольных сыщиков, всегда
односторонних, часто нечистоплотных в приемах и нередко лично
заинтересованных в направлении следствия по тому или
другому пути. Собирание и оценка доказательств
обращается при этом в необдуманные порывания в разные
стороны с ущербом для ясности дела, и если оно
ставится на суд, то присяжные, подавленные сумбуром
противоречивых данных и отсутствием обдуманной
последовательности в их добывании, видят, и совершеннЬ
справедливо, в оправдательном решении спасительный
исход из своих сомнений.
Говоря о присяжных заседателях, нельзя забывать и
педагогического значения суда присяжных и значения их
1 После этого, следовательно, вследствие этого (лат.).
86
решений как показателей для законодателя, не
замыкающегося в канцелярском самодовольстве, а чутко
прислушивающегося к общественным потребностям и к
требованиям народного правового чувства. Важная
педагогическая роль этого суда состоит в том, что люди,
оторванные на время от своих обыденных и часто
совершенно бесцветных занятий и соединенные у одного
общего, глубокого по значению и по налагаемой им
нравственной ответственности дела, уносят с собой,
растекаясь по своим уголкам, не только возвышающее
сознание исполненного долга общественного служения, но и
облагораживающее воспоминание о внимательном
отношении к людям и о достойном обращении с ними. А
это так полезно, так необходимо ввиду многих привычек
и замашек, воспитанных нашей обыденной жизнью! Не
менее важен суд присяжных и как показатель для
законодателя. Примером оправдательных приговоров,
составлявших свыше 62% всего числа постановляемых
присяжными и заставивших законодателя призадуматься и
выйти из созерцательного положения, явились
приговоры по паспортным делам. Перед присяжными не было
потерпевшего, не было ничьего материального ущерба,
не было со стороны подсудимого ни мщенья, ни
ненависти, ни корысти, а было нарушение отживших свой
век правил... Потерпевшей являлась паспортная система,
грозившая за неуважение к себе тяжкими карами. А
между тем обстановка и житейские условия
обвиняемого зачастую указывали на то, что он был вынужден
прибегнуть к нарушению формальных правил, обрекающих
его на неизбежные, нравственные страдания или
трудовые затруднения. И паспортные преступления были кор-
рекционализированы, т. е. наказание за них уменьшено
настолько,- что дела о них пришлось распределить
между бесприсяжным судом и мировыми судьями. К
сожалению, однако, редко оказывалось наше
законодательство столь отзывчивым на голос общественной совести,
звучащий в оправдательном решении присяжных. Оно
предпочитало, при повторяемости таких решений,
передавать дело от присяжных сословным представителям,
т. е., в сущности, как мной уже замечено, коронному
суду, не утруждая себя пересмотром хотя бы отдельных
статей Уложения о наказаниях с точки зрения их
житейской применимости. Во время моего председательства
в Петербургском окружном суде было вынесено
присяжными оправдание 18-летнему письмоносцу
Алексееву, обвинявшемуся в утайке и растрате части вверен-
87
ной ему корреспонденции, просидевшему восемь
месяцев под стражей и чистосердечно сознавшемуся,
ссылаясь на полную невозможность аккуратной и
своевременной доставки массы писем, приходившихся на его долю.
Оправдание это вызвало не только «негодование» и
«возмущение», но даже и одну из министерских «бесед»
о дальнейшей судьбе суда присяжных. А между тем
почти вслед за слушанием этого дела был опубликован
отчет о деятельности письмоносцев в Петербурге; из
него оказывалось, что в последнее трехлетие перед
делом Алексеева число письмоносцев увеличилось на 66
человек (всего было 592 летом и 537 зимой), а число
доставленных писем увеличилось на 6 164 000, так что
каждому приходилось вместо 36 тысяч писем в год
разнести 50 тысяч, причем на содержание письмоносцев
почтовый департамент испрашивал ежегодно сумму в
75 тысяч рублей. Казалось бы, что вместо негодования
на присяжных следовало прислушаться к их решению и
подумать об улучшении отношения между силами
письмоносцев, лежащим на них трудом и вознаграждением
за него. Казалось бы... но в действительности
департамент экономии4 Государственного совета в близоруких
заботах о сокращении расходов уменьшил
испрашиваемую ничтожную сумму на 5 тысяч...
В нынешнем году наступает пятидесятилетие
судебных уставов, создавших и водворивших суд присяжных в
России. Много пришлось ему пережить тяжелого и даже
опасного для его существования. По странной судьбе
многих наших учреждений эпохи «великих реформ»
опасность эта грозила одновременно и со стороны
врагов, и со стороны равнодушных, и со стороны слепых
приверженцев. Не желая видеть ненормальности многих
условий, в которые была поставлена деятельность этого
суда, враги обращали отдельные, спорадические факты,
возможные во всяком деле человеческого
несовершенства, в огульное обвинение и раздували редкие острые
случаи в неизлечимый хронический недуг. Равнодушные,
облеченные властью и почином для устранения
недостатков этого суда, давали им зреть и укореняться
годами и даже десятилетиями и замыкались в близоруком
бездействии законодательной рутины. Приверженцы
боялись сознаться, что у суда присяжных есть и могут
быть недостатки, чтобы не дать нового оружия в руки
его врагов. Но никем не охраняемые и подчас яростно
осуждаемые как «суд улицы», русские присяжные
делали свое дело, не рассчитывая на награды и повыше-
88
ния и не страшась личного неудовольствия начальства
или ответственности за то, чтб послушались голоса
совести. Когда в 1895 году состоялось в Петербурге
специально созванное совещание старших председателей и
прокуроров судебных палат, их общий вывод был,
безусловно, в пользу присяжных сравнительно с многими
формами суда. Изучившие его на своей многолетней
практике, эти лица нашли, что суд присяжных есть суд
жизненный,, имеющий облагораживающее влияние на
народную нравственность, служащий проводником
народного правосознания. Не отходить в область
недалеких преданий, а окончательно укрепиться в русской
жизни должен он. Русский присяжный заседатель, в
особенности из крестьян, которые кладут, как
неоднократно замечено, призывную повестку, сулящую им тяжелый
труд и материальные лишения, за образа, честно и
стойко вынес и выносит тот опыт, которому его подверг
законодатель. Думалось, что после такого приговора
сведущих людей, изучивших и испытавших суд присяжных
на деле, в его статике и динамике, а не на страницах
газетных отчетов о процессах, можно было считать его
прочность обеспеченной. Но у нас, в стране
«неожиданных возможностей», случилось не так. Без всякого
внешнего повода, при затишье в лагере противников,
министром юстиции Муравьевым был возбужден в
комиссии по пересмотру судебных уставов (причем
необходимый и полезный ремонт их грозил обратиться во
многих отношениях в коренную и легкомысленную ломку)
вопрос о самом существовании у нас суда присяжных,
и по его настоянию были открыты для похода против
последнего страницы официального журнала
министерства юстиции. На его страницах и в других
периодических изданиях появились «обличительные статьи»
практических противников этого учреждения,
встретившие горячий и достойный отпор со стороны Г. А. Джа-
ншиева* («Суд над судом присяжных»). Затем
совершенно неожиданно выступил со страстными статьями и
юридическими фельетонами, исполненными инсинуаций
против заступников за присяжных, бывший прокурор
Харьковской судебной палаты сенатор И. П. Закревский,
перешедший «avec armes et bagages»1 во вражеский
* Джаншиев Григорий Аветович (1851—1900)—московский
адвокат, теоретик права, публицист и историк; в своих трудах
пропагандировал и защищал основные начала судебной реформы.
1 С оружием и обозами (франц.).
89
стан. Такое обращение видного судебного деятеля из
«Павлов в Савлы» было знаменательно и представляло
тревожный признак новых испытаний для суда
присяжных. Но страшен сон, да милостив бог! В многолюдном,
ad hoc1, заседании комиссии лишь трое из противников
этого суда, никогда, впрочем, не скрывавшие своего
мнения, прямодушно подали голос против него и
остались верными себе, а Закревский беззастенчиво заявил,
что его возражения имели лишь значение
теоретическое, и снисходительно допустил существование этой
формы суда для России. Таким образом, надо думать,
что вопрос об упразднении у нас суда присяжных
окончательно отошел в область прошлого и что наши
представительные законодательные учреждения никогда
сами не поднимут его и, во всяком случае, никогда его
не поддержат. Хочется надеяться, что наши судебные
деятели будут, в своей совместной работе с
присяжными, облегчать им их высокую задачу и, любовно
руководя ими, не станут подвергать их тяжелым испытаниям
необдуманными обвинениями или односторонним
освещением дела.
Несомненно, что суд присяжных, как и всякий суд,
отражает на себе недостатки общества, среди которого
он действует и из недр которого он выходит. Поэтому
иногда, слушая ссылки на «общественное негодование»
по поводу некоторых оправдательных приговоров,
обыкновенно отменяемых кассационным судом по
нарушению форм и обрядов судопроизводства, невольно
вспоминаешь Гоголя. «Над кем смеетесь?!— восклицает
он в «Ревизоре» устами городничего.— Над собой
смеетесь!» «Чем возмущаетесь?—хочется сказать этим
ярым хулителям, говорящим от лица общества.—
Собой возмущаетесь!» По этому поводу интересно
отметить, что, по сообщению газет, в Москве недавно
состоялось в одном из литературных собраний
«заседание», посвященное суду над женоубийцей из
ревности— героем пьесы Арцыбашева*. Были избраны
присяжные, допрошен эксперт, доктор Каннабих**,
признавший, что обвиняемый действовал не в
патологическом, а в физиологическом аффекте и потому вменяем,
были произнесены «увлекательные» и «горячие» речи об-
1 Специально (для -этой цели) (лат ).
*Арцыбашев Михаил Петрович (1878—1927)—писатель и
драматург.
** Каннабих Юрий Владимирович (родился в 1872
году)—психиатр.
90
винителем и двумя гражданскими истцами, покрытые
аплодисментами публики, затем сказаны «красивые, но
без подъема» речи двух защитников, и при общем
«твердом убеждении», что женоубийца не будет
оправдан, присяжные ушли совещаться и... вынесли
оправдательный приговор. Можно себе представить, какие
нарекания вызвал бы такой приговор, будь он произнесен
настоящими присяжными. А ведь они в значительной
степени «плоть от плоти, кость от кости» того общества,
представители которого собрались судить «по всем
правилам искусства» героя Арцыбашева, с той только
разницей, что перед ними стоял бы живой человек со
слабой волей и уязвленным сердцем, судьба которого
зависела бы от их: «Да! Виновен».
ДЕЛО
О БЫВШЕМ
СТУДЕНТЕ
ДАНИЛОВЕ
14—15 февраля 1867 года Московским окружным
судом с участием присяжных заседателей было
рассмотрено дело по обвинению бывшего студента Алексея
Михайловича Данилова в убийстве, мошенничестве и
наименовании себя ложными фамилиями.
Председательствовал председатель окружного суда Е. Е. Люминар-
ский, обвинял М. Ф. Громницкий, защищал
подсудимого М. И. Доброхотов.
Данилов обвинялся в том, что 12 января 1866 года он
убил отставного капитана Попова и его служанку,
финляндскую уроженку Марию Нордман. Покойный Попов
приехал из Петербурга в Москву в октябре 1865 года и
решил заняться ссудой денег под проценты. По
сведениям родственников, у него было 23—29 тысяч рублей
капитала. Большая часть денег и несколько оставленных
под залог вещей были похищены. Подозрение пало на
Данилова, но ни на следствии, ни в суде он виновным
себя не признал.
Мы видим, что это дело похоже на дело студента
Родиона Раскольникова. Только здесь вместо старухи
процентщицы — ростовщик, вместо Петербурга —
Москва... Но Данилов не мог прочесть роман Ф. М.
Достоевского и не мог служить прототипом Раскольникова, так как
«Преступление и наказание» было уже написано, но еще
не опубликовано, когда были убиты Попов и Нордман. Не
похожи и преступники, реальный и книжный: несмотря на
тяжесть улик, Данилов так и не сознался в совершенном
преступлении.
На разрешение присяжных заседателей судом были
поставлены пять вопросов: о виновности Данилова в
совершении убийства с корыстной целью, о виновности его
92
в укрывательстве похищенного, в мошенничестве, в
недонесении и в именовании себя не принадлежащими
ему фамилиями. Присяжные признали его виновным в
умышленном убийстве с корыстной целью, но
заслуживающим снисхождения, а также виновным в именовании
себя чужими фамилиями. На основании вердикта
присяжных заседателей суд приговорил Данилова, лишив
всех прав состояния, сослать на каторжные работы в
рудниках на девять лет, а затем поселить его в Сибири
навсегда.
На этот приговор Даниловым была принесена
кассационная жалоба, содержание которой передается в
заключении обер-прокурора и речи защитника, которые
были произнесены ими в заседании уголовного касса-*
ционного департамента Сената 5 мая 1867 года,
помещенные ниже.
Речь обвинителя товарища прокурора
М. Ф. Громницкого
Господа присяжные! Преднамеренное, с целью
грабежа убийство отставного капитана Попова и его служанки
Марии Нордман, мошенническое присвоение чужой
собственности и наименование себя чужими фамилиями —
вот совокупность тех преступлений, в которых
обвиняется подсудимый и которые подлежат вашему
обсуждению. Так как убийство составляет здесь неизмеримо
важнейший пункт обвинения, то я начну с этого пункта.
Чтобы вы могли лучше судить о личности покойного Попова
и дабы вам понятнее стала сама цель преступления, я
познакомлю вас с обстоятельствами, предшествовавшими
1 января. До 1865 года отставной капитан Попов
проживал в Финляндии, где у него были родные и недвижимое
имение. В 1865 году он продает свое недвижимое имение
и переселяется в Москву. За имение он выручил 23
тысячи рублей. В верности этой цифры удостоверяет и
список банковых билетов, найденный в квартире убитого, и
такой же список, присланный его родными. Сами билеты
не найдены. Были ли у него наличные деньги, неизвестно.
Но если и были, то немного. В сентябре 1865 года он
переселился в Москву и 5 октября поселился в квартире
дома Шелягина. Из переписки с родными, найденной
между бумагами убитого, видно, что Москва произвела на
него весьма хорошее впечатление. С удовольствием
рассказывает он о московской жизни, о своей уютной квар-
93
Прибытие подсудимого во двор Петербургского окружного суда. 1871 г.
тирке; с восторгом отзывается о здешнем театре и,
наконец, сообщает, что записался в библиотеку, откуда
намерен брать книги для чтения. Вообще из этой переписки
можно вывести то заключение, что Москва давно влекла
его к себе воспоминаниями, которые он хранил о ней как
о месте своего прежнего служения. Не могу не
упомянуть также, что родные, до переезда его в Москву,
предлагали ему отдать свои деньги под залог домов и земель.
Но на это он отвечал им, что считает достаточными для
прожития проценты, получаемые им от своих банковых
билетов, и отказывается от этого предложения; а потому
родные удивляются слухам о том, что он стал заниматься
отдачей денег под залог вещей, и полагают, что его кто-
нибудь подбил на это не совсем почетное занятие. Из
сведений, собранных по делу, можно утверждать
положительно, что у него не было никаких знакомых в
Москве. Если его кто действительно подбил к этому, то это,
вероятно, была не кто иная, как кухарка его, Нордман.
Ее личность отчасти также обрисовывается из переписки.
Это была женщина чрезвычайно домовитая и большая
экономка. Попов описывает, как он накупил различные
принадлежности хозяйства и в каком она была от этого
восторге. С этой женщиной, сорока четырех лет, жил
Попов в совершенном уединении. И вот 14 января оба
он# найдены убитыми. Вы слышали подробный медицин-
94
ский осмотр, и я не стану повторять памятные вам, без
сомнения, подробности кровавого дела. Скажу только,
что все находившееся в комнатах разбросано было в
страшном беспорядке. Следы крови заметны были всюду
до самой лестницы. Что убийство совершено с целью
грабежа, доказывалось тем, что не найдено ни.банковских
билетов, ни наличных денег. Таким образом, состав
преступления был определен вполне. Для следователей
предстояла трудная задача — открыть, кто совершил
убийство. Задача эта делалась труднее при той особенной
обстановке, в которой жили покойные, при отсутствии
малейшего указания на какую-либо связь с окружающей их
средой. Следов убийца не оставил, кроме крови. Мы
знаем, что следователи преодолели все эти трудности. Мы
имеем перед собой образцовое следствие. Сначала же
они могли,только определить время совершения
преступления. Следователи смело определили, что оно совершено
12 января, и притом вечером. Мнение это
обосновывалось, во-первых, на стенном календаре, который
показывал число 12-е, во-вторых, на показании водовоза, что
кухарка ежедневно брала у него ведро воды и что в
последний раз она взяла у него воду 12-го, наконец, третьим
показанием послужили часы в комнате Попова: эти часы
остановились на 6 часах 43 минутах. Часы эти были
такого устройства, как объяснили приглашенные часовые
мастера, что их стоило толкнуть, чтобы они тотчас
остановились. Таким образом, определен был не только
день, но даже час и сама минута совершения
преступления. Мы знаем, что это предположение следователей
вполне подтвердилось впоследствии показанием самого
подсудимого. Далее, следователи определили, что у
убийцы непременно должна быть ранена левая рука. Вам
известны основания этого предположения и насколько
оно впоследствии тоже подтвердилось. Наконец,
следователи не могли не обратить внимания на две записки,
найденные тут, которые подписаны были Григорьевым. По
книге, в которой записывались заклады, оказалось, что
Григорьев заложил Попову перстень и билет за № 09828.
В книге адресов адрес Григорьева был записан. Адрес
этот, по справкам, оказался фальшивым. Кроме того,
сделаны справки о самой личности Григорьева. Такой
личности во всей Москве не оказалось. Все эти данные
дозволяли предположить, что убийца скрывается под
именем Григорьева. Кроме того, найдено было письмо
Попова к Феллеру, которое указало на знакомство
последнего с убитым, и у него-то добыты первые указания на
95
таинственного обладателя перстня. Феллер и его
приказчики, в особенности мальчик его, Шохин, заявили, что
черты этого господина, которые они описали, врезались
в их память. Кроме того, Феллер припомнил, что это
лицо называло себя Всеволожским. Здесь, на судебном
следствии, подсудимый заподозрил это показание Фелле-
ра, утверждая, что этим именем не назывался. Но именно
то, что Феллер не сразу припомнил эту фамилию, а лишь
через несколько дней, доказывает справедливость его
показаний; иначе, кто же мешал ему назвать тотчас же
первую, пришедшую на ум, вымышленную фамилию и кто
мог бы уличить его в этом? С тех пор как Феллер и его
приказчики дали эти указания и вплоть до 31 марта
производились поиски — они продолжались два месяца,— и
в это время было заподозрено много личностей, но
подозрения оказались несостоятельными. 31 марта было
Светлое воскресенье. Зная, что в дни больших праздников
больше всего бывает движения на московских улицах,
полиция поручила своим агентам и Шохину следить
особенно зорко за проезжими. Шохин подметил знакомое
ему лицо, проследил его до квартиры. Оказалось, что это
студент Данилов. Он взят был в том самом пальто, в
котором был в магазине Феллера. Первоначально
замечено было, что у Данилбва находятся следы раны на левой
руке. По обыску в его квартире ничего подозрительного
не нашли, но захватили несколько бумаг, написанных
рукой Данилова, для сличения его почерка. На первом
допросе Данилов от всего отрекся: он показал, что никогда
не знал Попова, никогда не бывал у Феллера, никакого
перстня не закладывал и Григорьевым не назывался, весь
день 12 января и вечер провел безвыходно дома. Но
полицией собрано уже было тогда против него достаточно
улик. Случайно узнали о его отношениях к закладчику
Рамиху, имя которого он шепнул своей матери при
свидании. От Рамиха узнали, что он приносил оценивать к
нему перстень и что у него был заложен билет № 09828.
Билет этот, выкупленный у него Даниловым 8 января
и заложенный 11 января у Попова, тот самый билет,
который оказался похищенным в числе других из квартиры
Попова. Записки, подписанные Григорьевым, оказались
писанными его рукой. Депутат от университета Должи-
ков заявил следователям о записке, переданной ему
Даниловым, в которой он просил заготовить для него
свидетелей насчет 12 января. Отец и мать передали о
рассказе его насчет происхождения раны на руке. Студент
Трусов подтвердил тот же рассказ и, кроме того, сооб-
96
щил о пятнах на пальто и о том, как они продавали
бриллианты. Девица Шваллингер и Малышев, на которых
он сослался в подтверждение того, что он был дома,
этого не подтвердили. Этого не подтвердили и его родные.
Все это я перечислил с тем, чтобы показать вам, какое
значение вообще имеют его показания и особенно то,
которое он дал 6 апреля. Не подлежит сомнению, что он
был вынужден к этому показанию силой собранных
против него улик. Ввиду таких улик молчать было
невозможно и неблагоразумно. Ему оставалось или сознаться, или
выдумать какую-нибудь истбрию. И вот он выдумывает
фантастическую историю, в которой сознается в
укрывательстве преступления. Я прослежу эту историю шаг за
шагом. В этой истории подсудимый говорит, что Феллер
советовал ему назваться у Попова Григорьевым. Не
говоря уже о том, что это показание совершенно
голословно, я спрашиваю: с какой целью мог ему Феллер это
посоветовать? Цели тут никакой и придумать v нельзя. А
между тем известно, что он и прежде менял свое имя;
естественнее, стало быть, предположить, что имя
Григорьева он сам выдумал. Далее, он говорит, что Феллер знал
его адрес. Но в таком случае зачем же он скрывал его
два месяца, тогда как мальчик его же магазина
послужил главным агентом в долговременных поисках за
подсудимым? Если Феллер, по предположению
подсудимого, не мог этого сделать прямо, то неужели ему трудно
было в течение двух месяцев так или иначе намекнуть
полиции на место жительства Данилова? Стало быть, и
это его показание голословно и невероятно. Затем он
говорит, что он оставил свой старый шарф у Феллера по
предложению последнего. Но из сведений, собранных
следователями, известно, что подсудимый имел
привычку оставлять старые вещи в магазине, где он покупал
новые. Так, он в магазине «Амстердам» тоже оставил раз
свой старый шарф, у сапожника он оставил свои старые
сапоги. Конечно, все это мелочи, но эти мелочи и важны,
как указание на степень искренности его показаний.
Перехожу к более важным его показаниям. 8 января он
встретился с Феллером в клубе и просил будто бы его
посредничества для пятипроцентного билета. Билет этот
будто бы поручила ему выкупить у Рамиха Соковнина.
Соковнина ему этого не поручала, но, как бы то ни
было, билет у него был, и ему понадобилось заложить
Попову. Спрашивается, зачем он показывал его Феллеру?
Это уже не бриллиантовая вещь, которую тот мог
оценить высоко к его выгоде. Попов знал курс билетов не
4 Заказ №571
97
хуже Феллера. К чему тут посредничество Феллера? Мы
знаем, что он и прежде бывал у Попова и был с ним
знаком. В доказательство, что билет заложен Попову не им,
а Феллером, он указывает на то, что о залоге перстня он
дал Попову расписку под именем Григорьева, а насчет
билета никакой расписки не найдено. Но у Попова в
книгах нет расписок ни одного из тех лиц, которые ему
закладывали вещи: в его квартире только и найдена
единственная расписка насчет перстня. Попов все заклады
записывал в особую книгу, и в этой книге под 11 января
собственной рукой Попова записано, что билет за
№ 09828 заложен ему Григорьевым. Далее, 11 января
будто бы Феллер назначил ему быть 12 января у Попова.
Но в книге клуба в числе гостей Феллер в этот день не
значится. Клубовская книга должна в этом случае слу:
жить для нас полным доказательством. Феллер в этот
день в клубе не был; пусть подсудимый докажет мне
противное! Для какой цели звал его Феллер к Попову на
12-е число и зачем он туда поехал, решительно
неизвестно. Сам же он говорит, что Феллер вручил ему 100
рублей. Неужели Феллер только для того назначил ему
приехать, чтобы он получил от Попова еще несколько
рублей, следовавших по курсу? Остальные билеты, которые
он намеревался будто бы тоже перезаложить от Рами-
ха Попову, в руках его еще не были. Я решительно не
вижу, зачем ему было отправляться 12 января к Попову, а
между тем надобность ехать к Попову, по-видимому,
настояла большая, так как он оставил даже сестру свою
одну вечером на Кузнецком мосту, и она возвратилась
домой одна. 12-го вечером он приехал, нашел дверь
отворенной, ступил в комнату, увидел на полу труп
женщины, и тут на него набросились убийцы и т. д. Не
говоря уже о том, что немыслимо, чтобы убийца, совершая
преступление, оставлял все двери отворенными, мы имеем
неопровержимое доказательство, что убийца отпирал
изнутри двери, когда выхоДил: об этом свидетельствуют
крючок на внутренней стороне косяка наружной двери и
ручка второй двери, обагренная кровью. Эта первая
несообразность. Вторая несообразность в его показании та,
что он, вступив в комнату один шаг, тогда только
заметил труп убитой женщины. Ему доказали, что если дверь
была отворена, как он говорит, то он не мог не заметить
трупа, находясь еще на лестнице. Я от себя могу
удостоверить, что это действительно так. Я был в квартире
Попова и убедился, что внутренность первой комнаты
видна вся еще с лестницы, потому что голова человека,
98
стоящего на шестой или седьмой ступени лестницы,
сверху вниз, приходится в уровень с полом комнаты. Заметив
и эту несообразность, подсудимый здесь, на судебном
следствии, уже изменяет свое показание и говорит, что
он не помнит, вошел ли он в комнату или нет, и что
заметил только какую-то темную массу. Все эти изменения
в каждой из подробностей того чистосердечного
показания, той «исповеди», как он сам выразился, на которую
он решился наконец 6 апреля, сами по себе уже
составляют сильную улику против подсудимого. Но он не
ограничился упомянутыми изменениями. Он показал, что,
когда он вступил в комнату, из спальни выскочил человек и
бросился на него с кинжалом, нанес ему рану в руку и
затем он стремглав бросился вниз и выбежал на улицу.
Ему было доказано, что если бы он сделал хотя бы один
шаг в комнату, то человек, выскочивший из соседней
комнаты, тем уже отрезал бы ему всякое отступление.
Заметив, что это невероятно, он изменил и это показание.
При предварительном следствии он сказал, что получил
вторую рану, которая пробила будто бы насквозь его
руку, от убийцы, следовавшего за ним по пятам. Ему
доказали, что это невозможно, что убийца, следовавший
по пятам, намеренно или ненамеренно, мог нанести ему
рану во всякую часть тела скорее, чем в руку. Он
изменил эту подробность. Он сказал далее, что получил удар
кинжалом и в пальто, и указал место удара,
впоследствии будто бы им зашитое. При тщательном осмотре
пальто никакого зашитого места не оказалось. Он сказал, что
бежал вниз стремглав, придерживаясь раненой рукой за
стену. Ему доказали, что в двух местах на лестнице он
должен был остановиться, что доказывается большим
количеством крови, найденным в этих местах. Этот пункт
он оставил без разъяснения. Он выбежал на улицу,
пробежал пространство в 75 шагов и во все это время не
кричал и не звал на помощь, хотя был всего девятый
час вечера, сел на извозчика и уехал домой. Теперь он
говорит, что, может быть, и кричал. Новое изменение
того чистосердечного показания, которого он держался
несколько месяцев. Что значит восклицание: «А, это вы!»,
которым будто бы встретил его неизвестный убийца?
Стало быть, его ожидали у Попова? Какая связь между
Поповым и Даниловым, чтобы убийцы знали наперед, что он
будет? Если же его нарочно туда послали, как хочет
намекнуть подсудимый, то я опять спрашиваю: для какой
цели? Неужели для того только, чтобы иметь свидетеля
убийства? А если убийцы не знали, что он должен прий-
99
ти, то как оказались отворенными двери и что в таком
случае означают слова: «А, это вы!», обращенные, по-
видимому, к знакомому человеку? Наконец, как мог он
убежать от убийц, которым помешал в их деле и которые
никак не могли надеяться, что он выбежит молча на
улицу, сядет на извозчика и уедет спокойно домой? Но самое
трудное объяснение предстояло подсудимому
относительно билета. Вам известно, что билет этот, выкупленный
им 8 января у Рамиха, был им заложен 11 января у
Попова и им же 15 января снова заложен у Юнкера. Ему не
оставалось ничего более, как выдумать новую историю, и
он сочинил историю невероятную, немыслимую. Здесь он
отказывается от этой истории, а он не раз напирал в
своем чистосердечном показании именно на этот рассказ об
анонимных письмах. Таких писем, утверждает он теперь,
он не получал, а билет получил в запечатанном
конверте днем, на улице, от неизвестного человека, который на
вопрос его, что это такое, отвечал: «Увидите». На
предварительном следствии он не так рассказывал, там
неизвестный быстро пробежал мимо него, сунул ему
конверт и исчез, не говоря ни слова. Распечатав конверт,
рассказывает далее подсудимый, и найдя в нем свой
пятипроцентный билет, он ужасно смутился. Но в чем же
выразилось это смущение? В том, что он в тот же день
заложил билет у Юнкера... Данилова спросили, носил ли
он перчатки. Он сказал, что носил постоянно, 12 января
на левой руке его надета была перчатка и что, вероятно,
она спала с руки во дворе. Но, во-первых, невероятно,
чтобы перчатка спала с руки его от нанесения в нее
раны, а во-вторых, перчатка эта ни в квартире Попова, ни
во дворе не найдена. Я полагаю, господа присяжные,
что я опровергнул во всех частях то чистосердечное
показание Данилова, которым он старался отстранить от
себя обвинение в убийстве, хотя и сознавался в его
укрывательстве. Теперь я исчислю более положительные
доказательства того, что убийца именно он, и никто другой.
Прежде всего уликой против него является его
карандашная записка, подписанная именем Григорьева,
которая найдена у Попова. Подсудимый отказывается от этой
записки, понимая всю важность этой улики. Но после
показания экспертов и товарища его, Трусова, для вас,
господа присяжные, не может быть никакого сомнения в
том, что записка эта писана им. Почему он так упорно
отказывается от нее? Очень просто: ему хочется
доказать, что он всего три раза был у Попова и что, стало
быть, никаких особенных отношений у него к Попову не
100
было. Записка прямо уличает его в противном и, кроме
того, уличает его еще во лжи перед Поповым насчет
поездки в Тулу, которая для чего-нибудь да понадобилась
же ему. Что кроется под лживым содержанием этой
записки, нам неизвестно. Можно только заключить, что она
писана незадолго до убийства Попова, иначе она
.затерялась бы. На более близкие отношения к Попову и более
частые посещения его указывает и то, что тот же
Григорьев заложил Попову еще какую-то пару серег, серьги
эти также не оказались между вещами Попова. Стало
быть, одно из двух: или убийца похитил вместе с
перстнем и серьги, или мнимый Григорьев их выкупил прежде;
значит, он был у Попова еще лишний раз. Это первая
положительная улика. Второй уликой я считаю
запирательство подсудимого до 6 апреля и то, что он изменял
свой почерк. 6 апреля он дал наконец свое
«чистосердечное» показание, которое я разобрал перед вами. Если
Данилов виновен только в укрывательстве, то почему же
его показание до такой степени опровергается в
мельчайших подробностях? Я понимаю, что виновный в
укрывательстве может долго не доносить о нем, не
доносить до тех пор, пока главные преступники не открыты
и он сам не уличен в укрывательстве. Но, раз сознавшись
в укрывательстве, виновный в нем, из собственного
интереса, постарается раскрыть преступление во всей его
целости, чтобы тем облегчить меру следующего ему
наказания. То ли сделал Данилов? Вот почему я смело
выставляю его показание 6 апреля как третью у^лику
против него. Далее, уликой служит рана на левой руке
Данилова. 18 января следователи сделали заключение, что у
убийцы должна быть ранена левая рука. Через два с
половиной месяца подсудимый арестован, и на левой руке
оказались явственные следы двух ран. Сверх того у него
найдены царапины на правой руке; вы слышали
объяснение, данное Даниловым насчет происхождения этих
царапин, а также и то, как эксперты оценили
достоверность его объяснений. 15 апреля делали сличение, и шрам
на ладони его левой руки пришелся как раз против
пятна на ручке двери. Между вещами Попова не оказалось
только тех вещей, которые были заложены Григорьевым,
да еще перстня Беловзора. Понятно, что убийца не взял
прочих вещей, потому что похищенные вещи могут
всегда навести на след похитителя. Но мы знаем, что
Данилов продал два бриллиантика. Сначала я думал, что эти
бриллиантики из перстня Соковниной, теперь, судя по
описанию этих бриллиантиков, я склонен думать, что они
101
из перстня Беловзора. Как ни любопытно объяснение
происхождения этих бриллиантиков, купленных будто бы
у неизвестного мальчика на Театральной площади, еще
любопытнее то, что будто бы он, купив их, тут же про них
забыл и вспомнил, только когда Трусов просил помочь
ему заложить вещи. Данилов, вечно нуждавшийся в
деньгах, вечно закладывавший свои собственные и чужие
вещи, вдруг забыл про такое выгодное приобретение!
Известно, что Данилов накупил разных вещей у Фел-
лера рублей на 25. Через три месяца ни одной из этих
вещей, кроме шарфа, не оказалось. Это наводит на
мысль, подтверждаемую показанием Трусова
относительно шарфа, что вещи эти уничтожены, чтобы скрыть все
знаки его сношений с Феллером. Не могу не указать и на
то, что с января Данилов стал тратить больше денег.
Правда, эти траты не были очень велики. Но они,, и не
могли быть велики. Я уже сказал вам, что весь капитал
Попова заключается в билетах на 23 тысячи, билеты эти
были похищены, но разменять их было опасно, потому
что номера их были тотчас сообщены во все конторы
банка. Наличных денег у Попова не могло быть много,
потому что известно, что, как только он стал отдавать
деньги под заклады, он разменял два билета на 600 рублей.
Самое большее, что было в квартире Попова кредитными
билетами, — это 200, много 300 рублей, да и то только
в таком случае, если перед этим были выкуплены у него
какие-либо из заложенных вещей. Надо полагать, что
кредитные билеты были у Попова в одной пачке. Об этом
заставляет догадываться и окровавленная пятирублевая
бумажка, которая, вероятно, была верхней в пачке, и
убийца ее бросил. Одним ли совершено убийство или
несколькими? Я, со своей стороны, полагаю, что одним. Я
думаю так потому, что убийство Попова и Нордман
совершено в разное время. Основываясь на
драгоценном указании часов, можно с достоверностью сказать,
что убийство Попова совершилось в 7 часов, а в 7 часов,
как известно, Нордман находилась в аптеке Кронгельма.
А если убийство совершено в разное время, то нет
основания предполагать, что его совершил не один. Далее
спрашивают, возможно ли, чтобы Данилов, будучи еще
так молод, совершил такое зверское преступление. Но
мы имеем ясные доказательства, что он созрел вполне,
как умственно, так и физически. Мы знаем его уже как
жениха, знаем также, что с 17 лет он жил жизнью
самостоятельной, сам зарабатывал деньги. Что же
касается его нравственности и душевной теплоты, свойствен-
102
ной молодости, то какие имеем мы на этот счет указания?
У него счастливая наружность и недюжинный ум. А между
тем, где его друзья? Мы знаем только, что в семействе
Соковниных он был как жених Алябьевой; он пользовался
доверием г-жи Соковниной. Но мы знаем также, как
воспользовался он этой доверчивостью. Этот один факт
может служить меркой его нравственности.
Господа присяжные! Мое обвинение окончено. Вы,
вероятно, ждете моего мнения насчет смягчающих
обстоятельств. Но не подумайте, что я, как обвинитель, считаю
себя обязанным говорить лишь о том, что клонится к
обвинению. Обвинение, по моему глубокому убеждению,
должно быть прежде всего искренним и добросовестным,
а можно ли назвать добросовестным обвинение, когда
обвинитель сознательно обходит факты, говорящие в
пользу подсудимого? Если я умолчал о смягчающих
обстоятельствах, то это потому, что их нет в настоящем
деле. Правда, подсудимый молод, но я не привожу этого
обстоятельства, потому что молодость послужит к
смягчению его наказания в силу самого закона. С понятием
молодости мы соединяем обыкновенно искренность и
раскаяние, а разве мы замечаем хоть что-нибудь подобное
в подсудимом? Вспомните, как совершено убийство,
количество ран, нанесенных убитым, вспомните цель
преступления и то, как он вышел к Попову под видом
хорошего знакомого; вспомните, наконец, как вел он себя
на предварительном и здесь,^ на судебном следствии! До
тех пор, пока не укажут смягчающих обстоятельств, я
буду утверждать, что подсудимый не заслуживает вашего
снисхождения. Я обвиняю его в предумышленном
убийстве Попова и Марии Нордман, в мошенническом
присвоении денег, принадлежавших г-же Соковниной, и в
наименовании себя фальшивыми фамилиями.
Речь присяжного поверенного
М. И. Доброхотова в защиту Данилова
Господа присяжные заседатели! Прежде исполнения
возложенной на меня господином председателем
обязанности защищать подсудимого я считаю нужным
напомнить вам те улики, которые были приведены прокурором.
Здесь обращают на себя внимание не только
обстоятельства дела, но и само производство следствия. Оно было
произведено не в порядке, определенном судебными
уставами 20 ноября 1864 года, а в порядке инквизиционном.
103
М. И. Доброхотов.
Я уже обращал ваше внимание во время судебного
следствия на допросы подсудимого при этом следствии и на
некоторые осмотры, столь важные в настоящем деле.
Товарищ прокурора обвиняет подсудимого в трех
преступлениях, между которыми и Даниловым не вдруг было
найдено соотношение. Следователи, как вы видели из
показаний частного пристава Врубеля, находили
основательным привлекать различных лиц к обвинению в том
же убийстве. Так, например, г. Врубель в донесении
своем обер-полицеймейстеру высказал свое убеждение, что
все условия, в которых должен был находиться
убийца, не Оставляют в нем сомнения в том, что
преступление совершено каким-то Кашиным. Затем были
арестованы и другие лица, и не только в Москве, но и в
других городах России! Так, например, один господин, по
случаю получения им раны в левую руку в трактире, был
арестован и просидел под арестом не одни сутки. Из
разных мест получались фотографические карточки
заподозренных лиц, и вот, при этих средствах, была добыта
104
фотографическая карточка Кашина, которую Феллер,
Шохин и Ильин признали сходной с тем лицом, которое
являлось не один раз в магазин к Феллеру. Ввиду
таких первоначальных действий следователей я обращаю
внимание ваше, милостивые государи, на то, что каждая
улика должна быть вами принимаема с особой
осмотрительностью, так как по разуму законов ни в ком нельзя
предполагать виновности, если вина его не доказана, и,
в случае самого молчания подсудимого, молчание нельзя
признавать за сознание виновности, а должно изыскивать
другие обстоятельства к изобличению виновного. Вся
суть обвинения заключается в том, что личность
Данилова и условия, в коих он находился, совпадают с теми
предположениями следователей, которые они имели в
виду для определения личности убийцы. Если
рассматривать обвинительный акт, то первое заключение
следователей состоит в том, что убийца был знакомый Попова,
так как следователи пришли к заключению, что
покойный с кем-то беседовал в той комнате, где найден
убитым, и что во время этой беседы ему были нанесены
первые удары. Само содержание этого поспешного
заключения следователей, вошедшее в обвинительный акт,
предупредило то мнение, которое вы могли себе составить
при спокойном обсуждении дела. Это показывает, с
каким увлечением и рвением комиссия производила
настоящее дело. Записка, найденная в бумагах Попова от
имени Григорьева о недавнем его возвращении из Тулы, и по
содержанию своему не может служить объяснением
особого знакомства с Поповым. Подсудимый ее за
действительную не признает. Сходство почерка признано
экспертами, из которых один высказался, что он потому, между
прочим, находит сходство, что у учителя чистописания
4-й московской гимназии, где учился подсудимый, именно
такая метода. При таких обстоятельствах признавать
записку за написанную Даниловым я считаю
неосновательным. Нет также основания приписывать Данилову
залог серег, так как следствием не открыто, чтобы кто-
нибудь поручал Данилову их закладывать. Сам
обвинитель указывает, что у него знакомство было небольшое.
Если залог этот и значился от имени Григорьева, то эта
фамилия до такой степени общая, что могло быть и
другое лицо с той же фамилией. Попов беседовал с таким
человеком, который пил крепкие напитки, но Данилов,
как положительно известно, не только не употребляет
этих напитков, но даже не может переносить
употребления кофе. Заключение, что Попов беседовал с убийцей,
105
именно с Даниловым, едва ли основательно. Я перехожу
к другому заключению, что убийца был ранен и обмывал
руки в комнате Нордман наверху, а не в кухне. Осмотр
указывает, что убийца нуждался в омовении рук; он их
также вытер о наволочку и простыню. Обмывал ли
убийца руки, обтирал ли их именно о простыню, это только
предположение, которое не следовало и записывать в
протокол по точному смыслу ст. 139 уст. угол. суд. Затем,
следователи предположили, что у убийцы была ранена
левая рука. Между тем в осмотре сказано, что были
выдвинуты все ящики, все было разбросано по полу, а
потому то, что капли крови текли именно из левой руки,
едва ли можно принимать за несомненное. Наконец, если
сообразить, что кровавые следы все из левой руки, то,
рассчитывая расстояние квартиры Попова от жилища
Данилова, обращая внимание на свойство раны и
возможность сильного кровотечения, нельзя допустить
предположения, чтобы все эти следы были из руки Данилова,
ибо, естественно, последствием этого было бы до такой
степени сильное физическое ослабление, при котором он
едва ли бы мог добраться домой. Затем, следует
предположение следователей, что убийцей мог быть только
Григорьев, потому что похищение заложенных им
перстня и билетов с выигрышами займа, подлог в адресе,
неявка за выкупом вещей по публикации относились к
нему же, Григорьеву. Предположение это не менее
поспешно. Но вы, милостивые государи, слышали объяснения
Данилова по всем этим обстоятельствам: объяснений
этих нельзя положительно отвергнуть. Адрес с
достаточной подробностью указывает ту местность, где жил
Данилов, именно на Покровке, в приходе Воскресения в Ба-
рашах, в доме Лукина. Данилов действительно жил на
той же улице, в том же приходе, в доме Лукина. Я не
могу счесть этот адрес подложным тем более, что он
должен был быть объяснен Попову и Феллеру еще 17
декабря 1865 года. Я думаю, что тут вкралась простая
ошибка при записывании Поповым адреса Григорьева
(Данилова). Данилов не заботился о выкупе перстня по
публикации, потому что он был заложен им выгодно и
выкупать его он не хотел, о чем было объявлено и г-же Со-
ковниной 18 декабря. Поэтому нет «основания признавать
адрес и неявку за выкупом вещи сильной уликой.
Затем, по указанию Шохина, Данилов был арестован
1 апреля. Следователи не могли найти новых
доказательств тому, что виновен в убийстве именно он. Они
стали основывать обвинения его единственно на его показа-
106
ниях: того же самого придерживается и господин
прокурор. Он не объяснил, что могло бы дать следователям
возможность открыть его отношения к Попову. Самое
первоначальное сокрытие этих отношений и известных
ему обстоятельств дела весьма возможно и естественно,
и нет никакого основания объяснять его в смысле
какого-либо участия в преступлении. Такое сокрытие часто
является в юридической практике единственно из личного
расчета, чтобы не подвергаться тем неудобствам,
которые влечет за собой прикосновенность к делам,
подобным настоящему. У Данилова была ранена левая рука,
и удар был нанесен неизвестным лицом. Я позволю себе
при этом сделать одно предположение, на которое и
обращу ваше внимание, господа присяжные. Если бы
Данилов был в числе убийц, то при таком кровоизлиянии,
которое могло быть из его раны, он должен был запачкать
кровью подкладку левого рукава гораздо более, нежели
это найдено по осмотру. Между тем как те кровавые
пятна, которые найдены при осмотре в рукавах, по отзыву
врачей на судебном следствии, могли явиться при
вдевании одной руки в рукав другой. Обвинительный акт
указывает на то, что у Данилова был синий сюртук,
которого следователи не нашли при его заарестовании,
причем придается этому обстоятельству такой вид, что
сюртук скрыт именно потому, что на нем была кровь, следы
преступления. Из судебного следствия вы, милостивые
государи, могли заметить, что свидетели Жуковский
и Трусов видели этот сюртук и после января, а
Жуковский даже сказал, что сюртук этот был у Данилова
незадолго перед его арестом. Но если бы была кровь на
сюртуке, то она оставила бы следы и на подкладке
пальто, а между тем кровавых пятен на подкладке не было.
Трусов заметил же на наружной стороне полы пальто
пятна крови, но о пятнах крови на сюртуке ни,Трусов,
ни Жуковский ничего не говорили. Из присяжного
показания свидетелей Степанова и Гольма видно, что у
порога входной двери было много следов крови от подошв
обуви, замаранных кровью. Если это действительно так,
то, принимая в соображение, что убийцей оставлены
калоши, на следах сапогов остались бы знаки крови.
Между тем сам обвинитель заметил, что, покупая новую
вещь взамен старой, Данилов обыкновенно оставлял
последнюю в той лавке, где делал покупку, и что на
подошвах тех сапог, которые были оставлены Даниловым у
сапожника и которые по замеченным пятнам были
вытребованы для исследования, никаких следов крови не
107
оказалось. Феллер говорит, что 8 января он был у
Попова, но в его комнату не входил, а был принят во
входной комнате, причем заметил, что у Попова были
посетители и на лестнице стояли две пары калош. Из следствия
видно, что при осмотре 14 и 15 января 1866 года также
на лестнице найдено две пары калош, из которых одни
принадлежали будто бы Попову, а другие неизвестному
лицу. Это дает мне повод я основание предполагать,
что и те и другие калоши принадлежали неизвестным
лицам, и не думаю я, чтобы какие-нибудь калоши из них
принадлежали Попову; принадлежность же Данилову
этих калош не доказана. Теперь я считаю возможным
перейти к показанию Данилова 6 апреля 1866 года, но
прежде замечу, как естественно и возможно
запирательство со стороны лица, привлеченного к делу, особенно
при прежнем порядке следствия, когда запирательство
было одним из самых обыкновенных явлений. Вот
почему я не могу придавать особенное значение, в смысле
улики, запирательству Данилова после его заарестова-
ния. Он уже уговорился со своей сестрой в день самого
происшествия, 12 января, чтобы не доводить о
случившемся поранении до сведения полицейских людей.
Почему же, однако, Данилов не донес? Данилов был
женихом, предполагаемый брак не одобряли его родители, и
так как по этому обстоятельству возникли не совсем
приязненные отношения между г-жой Соковниной и его
родителями, то всякое сведение о продолжении
сношений Данилова и Соковниной возбуждало неудовольствие
как отца, так и матери. А так как 12 января он был в
квартире Попова для исполнения поручений г-жи
Соковниной, то по согласию с сестрой своей придумал
объяснение о нанесении ему раны на улице в
Средне-Кисловском переулке. Господин товарищ прокурора этот
рассказ Данилова о получении раны считает уликой, но вы,
господа присяжные, при вашем знании действительной
жизни дадите истинную оценку этому обстоятельству и,
вероятно, не придадите ему значения улики. В
первоначальном запирательстве и этом объяснении поранения,
высказанном родителям, видна единственная цель —
отстранить себя от дела. Умолчание о том, что он был на
месте преступления, не может быть признано
укрывательством. Наконец, 6 апреля он решился рассказать все,
что было на самом деле. Вспомните, что это было при
инквизиционном процессе; при показаниях требовались
мельчайшие подробности и объяснения. Вот почему в
показание Данилова могло попасть и то, чего на самом
108
деле не было, как, например, получение писем и
некоторые объяснения о подробностях. Когда он шел по
лестнице, он увидел что-то, какую-то темную человеческую
фигуру. Его спрашивали после привода на место, что
он именно видел, и в показании его значится, что он
видел труп Нордман. Весьма важно, как объяснить рану,
нанесенную ему в левую руку, и легкие поранения на
правой руке, последовавшие, по словам Данилова, от
того, что он правой рукой прихватил кинжал, которым
была ранена левая рука. Мне кажется, что подробного и
точного объяснения нельзя и требовать от Данилова.
Наблюдение и внимательность естественно уменьшаются
при внезапном грубом влиянии на чувство, а само собой
ясно, что Данилов был поражен тем положением, в
которое он попал при встрече с нападавшим на него лицом.
Само собой разумеется, что свойство ран правой руки
обусловливалось тем, что лезвие кинжала могло быть не
на всем протяжении одинаково остро, и Данилов
естественно мог ухватиться за ту часть лезвия, которая была
ближе к ручке и, следовательно, тупее. Поэтому
отрицать объяснения Данилова о получении им раны
положительно нельзя. Затем, похищение из квартиры вещей
или чего-либо другого могло быть сделано' даже и не
убийцами, тем более не Даниловым. Когда он явился
в квартиру Попова и тем самым побудил, их торопиться
удалением из квартиры, они, из опасения быть
захваченными, естественно должны были остановиться в своем
грабеже, и найденный около комода пятирублевый
билет указывает именно на эту поспешность ухода убийц
из квартиры Попова. Притом от 12-го до 14-го числа,
как видно из судебного следствия, могли входить в
квартиру Попова и другие, не участвовавшие в убийстве
лица. Весьма вероятно, что убийцы нанесли смертельные
удары Марии Нордман в то время, когда она
воротилась в квартиру из аптеки и не заперла входной двери,
а Данилов мог явиться в ту же квартиру весьма скоро
после ее прихода; по его же удалении после поражения
убийцы могли, заперев на крючок дверь и таким образом
окровавив крючок, возвратиться вновь в квартиру лишь
для захвата того, что могло служить к открытию их
личности. Образ жизни Данилова не дает повода к
предположениям, что им было сделано похищение вещей и
денег. Он получал 70 рублей ежемесячно при готовом
содержании в родительском доме. При таком положении
можно было иметь и хорошего извозчика, и приличное
место в театре, изредка даже ложу и т. п. Если господин
109
товарищ прокурора мог заметить в этом некоторую
роскошь, то мне кажется, что это легко объяснить тем, что
в январе жизнь течет обыкновенно веселее и живее.
Обвинитель обращает внимание на слова, сказанные
убийцами Данилову: «Ах, это вы!», но мне кажется, что если,
во-первых, допустить, что Попов беседовал с убийцей, то
Попов, предупрежденный Феллером о приходе
Григорьева, заложившего ему перстень и билет, мог сообщить об
этом убийце, даже показать этот перстень убийце, а
последний после совершения убийства мог встретить
Данилова вышеприведенными словами; во-вторых, убийца,
зная адрес Григорьева, мог заметить его физиономию и
передать конверт с билетом при встрече с ним. Товарищ
прокурора указывает на несообразность в способе
получения билета. Но какая же сообразность в том, что
Данилов, будучи убийцей и зная, что билет заложен
Феллером Попову, предъявил его к залогу в контору
Юнкера под своей собственной фамилией, хотя ему не могло
не быть очень хорошо известно, что номера билетов у
закладчиков записываются в особые книги? Притом
нельзя не заметить, что Данилову, если бы он был убийцей,
незачем было утверждать, что этот билет именно тот,
который он отдал для залога у Попова Феллеру, так как
в серии 50 номеров, и ему представлялась возможность
сказать, что этот билет не тот, который им был отдан
Феллеру. Обвинитель утверждал, что убийство совершено
одним лицом. Я имею основание утверждать, что
убийство совершено никак не менее как двумя лицами. Нет
сомнения, что калоши, найденные при осмотре квартиры
Попова на лестнице, забыты убийцами; что одна пара
калош принадлежала Попову, ничем не доказано.
Принимая в соображение объяснение Данилова, весьма
естественно предполагать, что убийцы стремглав бросились
вон из квартиры, забыв даже калоши, а оказавшееся на
вешалке неизвестно кому принадлежащее пальто может
служить подтверждением сделанного мной
предположения. Обвинитель говорит тоже об обстоятельствах,
изобличающих Данилова в воровстве-мошенничестве и
присвоении чужого имущества. При судебном следствии вы,
милостивые государи, видели, что г-жа Соковнина
сознательно относилась к цене перстня, но Данилов не
воспользовался той ценой, которая ему была объявлена:
он передал деньги Соковниной, как видно из
обстоятельства дела, не указав на те мелкие издержки, о которых
г-жа Соковнина не требовала от него и отчета. Я здесь
никакого мошеннического поступка не вижу.
110
Что касается до присвоения Даниловым не
принадлежащих ему фамилий, то я могу признать присвоение
непринадлежащей фамилии лицом, когда оно это делает
для обозначения, так сказать, номера вещи. Закон видит
в присвоении чужой фамилии или поступок тщеславный,
или соединенный с каким-либо преступлением. В
поступке Данилова ни того, ни другого не видно. При закладе
у г. Рамиха Данилов назвал себя в 1864 году
Новосильцевым, потом у Попова — Григорьевым. У Попова в
книге встречается фамилия Старый Леонтьев, который нигде
не отыскан, и эта личность не могла, по моему мнению,
быть оставлена без внимания сыскной полиции. Товарищ
прокурора указал, что хотя Дацялов и был молод, но в
таких отношениях, которые указывают на него как на
вполне развитого человека. Он был жених, говорит
товарищ прокурора, он упомянул и о других
обстоятельствах жизни подсудимого все для того, чтобы доказать,
что Данилов не представляет тех данных, при которых
присяжным представлялась бы возможность оказать
Данилову снисхождение. Я позволю себе заметить, что
желание жениться нисколько не доказывает зрелого
развития; я полагаю, что человек в более развитом
положении никогда не решится так легко на такой важный шаг,
как переход из холостой жизни к семейной. Сама
легкость, с которой Данилов намеревался приступить к
исполнению обязанностей семейного человека, по-моему,
отнюдь не указывает на удовлетворительность его
умственного и нравственного развития. Он еще был только
на 2-м курсе юридического факультета. Жизнь в
родительском доме, занятия уроками, незначительное
знакомство не доказывают еще возможности
приобретения житейской опытности. Товарищ прокурора по
незначительному числу лиц, с ним знакомых, заключает об
отсутствии у него теплоты души; но вы, господа
присяжные, видели здесь на суде его семейство, видели
положение отца и сестры; мать не могла явиться в суд. Вы
видели, что эти люди из той среды, где свято хранятся
семейные добродетели, следовательно, блюдется и
теплота души. Я уверен, что после этого указания вы не
согласитесь с таким предположением обвинителя, особенно
если обратите внимание на то, что время Данилова было
посвящено не знакомствам, а урокам и другим деловым
занятиям. Товарищ прокурора указывает на то, что
закрой уже сам по себе смягчает наказание
несовершеннолетним; но вы имеете право по закону оказать
подсудимому снисхождение по соображении обстоятельств дела
in
и того, что вам известно о прежней жизни подсудимого.
Товарищ прокурора обратил ваше внимание на
поведение подсудимого во время судебного следствия; но я не
думаю, чтобы эта мелочь в сравнении со свойством
обвинения заставила вас смотреть на дело в том же свете и
имела влияние на ваше убеждение. Во всяком случае, я
уверен, что приговор ваш будет основан на вашей
опытности и знании действительной жизни.
Резюме председателя Е. Е. Люминарского
Господа присяжные заседатели! Вручая вашему
старшине вопросный лист, я обязан по закону изложить вам:
во-первых, существенные обстоятельства дела,
подлежащего вашему рассмотрению, во-вторых, законы,
относящиеся к определению свойства тех преступлений, в
которых обвиняется подсудимый, и, наконец, в-третьих,
общие юридические основания к суждению о силе
доказательств за и против подсудимого. Сущность настоящего
дела состоит в следующем: в числе знакомых г-жи Со-
ковниной был подсудимый Данилов, он даже пользовался
особенной приязнью и доверием ее, доказательством чему
могут служить неоднократные поручения, которые она
ему давала. Так, она ему поручила заложить
пятипроцентные билеты внутреннего с выигрышами займа и
продать перстень, осыпанный бриллиантами. Подсудимый
объявил ей о разных ценах, которые предлагают за
перетечь, и она наконец изъявила согласие уступить его за
550 рублей. Для оценки перстня Данилов обращался к
разным бриллиантщикам, в том числе и к г. Феллеру.
Возымев намерение заложить перстень у закладчика
Попова, он просил бриллиантщика Феллера оценить его
подороже Попову, с которым потом вновь являлся к г.
Феллеру. 17 декабря хлопоты Данилова кончились залогом
перстня у вышеуказанного Попова за 750 рублей. Г-же
Соковниной же подсудимый заявил, что он продал
перстень за 580 рублей, не додав ей при этом 10 рублей,
потерянных им будто бы при промене одного банковского
билета. Кроме продажи перстня г-жа Соковнина, как я
уже говорил, поручила ему и еще заложить
пятипроцентные с выигрышами билеты. Билеты эти он заложил
у г. Рамиха; 8 января один из этих билетов за
№ 09828 был им выкуплен у последнего и 11 января
заложен у Попова, убийство которого и его служанки Марии
Нордман совершилось 12 января. Я не намерен, господа
112
присяжные заседатели, повторять подробности осмотров
квартиры Попова, трупа его и служанки Марии Норд-
ман — судебное следствие разъяснило вам это
достаточно. Считаю, впрочем, нелишним напомнить вам, что
поводом к открытию обвиняемого ныне в убийстве Попова и
Нордман дворянина Алексея Данилова послужили: неока-
зательство в числе вещей Попова, заложенных
неизвестным Григорьевым, перстня и билета за № 09828 и следы
крови на левой стороне лестницы, если идти из комнат
вниз на двор, из чего достоверно можно было заключить,
что убийца был ранен в левую руку. Феллер (к которому
было найдено в квартире Попова письмо) и работники
его подробно описали приметы ценившего, заложенный
17 декабря перстень, и один из них проследил мнимого
Григорьева, назвавшегося при оценке перстня (как
показал Феллер) Всеволожским, до его квартиры. Человек
этот оказался сыном коллежского асессора Алексеем
Михайловым Даниловым. При первоначальных допросах
Данилов не только отказался от бытности 12 января в
квартире Попова, но даже и от знакомства с ним и Фел-
лером, объяснив, что 12 января он весьхвечер был дома и
что у родителей его в это время была девица Шваллин-
гер. Относительно же раны на левой руке показал, что она
произошла от обжога утюгом и от падения с лошади.
Для того чтобы рассказ этот не встретил опровержения
со стороны родителей подсудимого и девицы Шваллин-
гер, Данилов предупреждал их об оном записками,
которые и передал депутату от университета Должикову, а
сей последний представил их к делу. Наконец, когда сами
родители Данилова показали, что рану на руке сын
объяснял тем, что получил ее на Кисловке от неизвестного
человека, который, заподозрив его в том, что он, проходя
по улице, видел в окошко совершение какого-то
преступления, ранил его кинжалом в левую руку, когда
оказалось, что билеты Соковниной он заложил у Рамиха,
назвавшись Новосильцевым, и один из них- за № 09828
выкупил в начале января, Данилов 6 апреля сознался не
только в оценке перстня у Феллера и в залоге оного
Попову, но и в бытности 12 января вечером в квартире
последнего. Последний факт он передавал следующим
образом: Феллер, встретив его 8 января в Немецком клубе,
предложил ему заложить что-либо у Попова, вследствие
чего он передал ему выкупленный им по поручению
Соковниной от Рамиха пятипроцентный билет за № 09828.
11 января он вновь встретился в Немецком клубе с Фел-
лером, который ему сказал, что означенный билет он за-
113
ложил Попову, и, выдав Данилову 100 рублей,
приглашал его прийти в среду вечером (т. е. 12 января)
к Попову для перевода и других в его ведение.
Вследствие чего он, Данилов, вечером 12 января отправился в
квартиру Попова. Придя к флигелю, в котором последний
проживал, он нашел входную дверь полуотворенной, а
взойдя на лестницу, увидел в первой комнате что-то
темное, похожее на труп женщины, которая отворяла ему
дверь по время прежних посещений Попова. Едва он
сделал один шаг в комнату, как увидел вышедшего из
спальни Попова неизвестного человека, который с
криком: «А, это вы!»— бросился на него с кинжалом и ранил
его в ладонь левой руки. Убегая от неизвестного злодея
по лестнице и придерживаясь левой рукой за стену, он
получил новую рану в руку, но с другой стороны.
Выбежав со двора на улицу, он немедленно поехал домой, не
заявив никому о случившемся. На другой или на третий
день он получил анонимное письмо, в котором
неизвестные лица просили его хранить все виденное и
слышанное в тайне, говоря, что они берут с него в том клятву.
Вскоре после того он был остановлен на улице
неизвестным ему человеком, который передал ему конверт, в
коем находилось письмо, подобное первому, и билет за
№09828, который он в тот же день заложил у Юнкера.
Наконец, он получил еще анонимное письмо, в котором
неизвестные злодеи уведомляли его, что они в
безопасности, и советовали, в награду за полученную им рану,
купить шкаф Попова, в котором должны храниться деньги.
Все эти письма были им уничтожены. При судебном
следствии Данилов подтвердил показание 6 апреля с тем
только изменением, что анонимных писем он не получал и
что, приняв билет от неизвестного человека, он
усомнился, чтобы билет этот был заложен Феллером Попову.
Феллер в данном под присягой на судебном следствии
показании отверг всякое участие в залоге Попову билета.
Вот, господа присяжные, в чем заключаются
существенные обстоятельства настоящего дела.
Переходя за сим к обозначению признаков, коими
определяются преступления, приписываемые подсудимому,
я начну с главного, с убийства. Оно может быть учинено
или без заранее обдуманного намерения или умысла, или
же с обдуманным заранее намерением. Само собой
разумеется, что обдуманное убийство почитается более
преступным того, которое учинено без предварительного
умысла. Наконец, обдуманное убийство может быть
сделано с целью воспользоваться чужой собственностью, и в
114
этом роде убийства закон видит наиболее преступной
воли со стороны обвиняемого. Укрывателем признается по
закону тот, кто, не участвуя в преступлении, по
свершении оного скроет следы преступления или преступника
или же воспользуется заведомо противозаконно добытой
вещью. Наконец, о признаках недонесения о содеянном
преступлении я считаю излишним распространяться, так
как значение слова «недонесение» понятно для каждого.
Мошенничеством называется добытие чужой вещи или
денег посредством обмана. При этом я должен вам
заметить, что закон видит более преступной воли в том из
обвиняемых в мошенничестве, кто пользовался особым
доверием со стороны обманутого.
Теперь я перехожу к силе доказательств,
представленных за и против подсудимого. При этом я вам должен
сказать, что прежняя теория доказательств, на основании
которой одно доказательство считалось более
достоверным, а другое менее, эта теория в настоящее время у нас
более не существует, и потому я ограничусь лишь
некоторыми указаниями о силе доказательств, почерпнутыми из
юридической практики. Против подсудимого со стороны
обвинения представлены следующие данные: во-первых,
знакомство его с Поповым; во-вторых, залог у него
подсудимым перстня и билета, из коих последний оказался
после преступления в руках Данилова; в-третьих, следы
крови в квартире Попова на левой стороне и рана у
подсудимого на левой руке; в-четвертых, первоначальный
отказ подсудимого от знакомства с Феллером и Поповым,
опровергнутый отзывом сведущих людей, сличавших
записки, найденные у Попова за подписью Григорьева с
почерком руки подсудимого; в-пятых, старание его доказать
бытность свою 12 января вечером дома, и, наконец,
в-шестых, собственное сознание в том, что 12 января вечером
он был в квартире Попова, видел злодеев, коими,
по-видимому, был узнан, получил от них билет, сам же
преступников не узнал и никому о случившемся не объявил.
Подробности сознания Данилова вам известны. Если даже
вы и не дадите веры его рассказу о последствиях,
которыми сопровождался для него приход к Попову, то и в
таком случае его сознание подтверждает нахождение его
на месте совершения преступления. Сознание
подсудимого считается достоверным доказательством, если оно
согласно с обстоятельствами дела и не вынужденное.
Свидетельство сведущих людей считается также при
отсутствии подозрения в пристрастии достоверным
доказательством. Осмотр, составляемый по требуемым правилам,
115
имеет также силу доказательства, но только
относительно описания, как и в каком положении и виде
найдены известные предметы. Соображения же лиц,
учинивших осмотр, почему найденные предметы оказались в
таком, а не в другом положении, уже не имеют
такого характера достоверности, как описательная часть
осмотра. Из свидетельских показаний считаются
достоверными те, которые даны под присягой или хотя и без
присяги, но таким лицом, которого в пристрастии
заподозрить нельзя. Что же касается до улик вообще, то они
приобретают тем более силы и убедительности, чем более
одна согласна с другой, чем более одна дополняет другую,
чем более они обусловливают друг друга и в конечном
результате доводят до того факта, из которого уже само
преступление истекает как необходимое следствие из
известной причины. Вы слышали также сознание подсудимого в
укрывательстве убийства, т. е. в том, что ему был передан
билет, заложенный им у Попова и добытый через
преступление, и что билет этот он в тот же день заложил у
Юнкера. Г-жа Соковнина, допущенная самим
подсудимым к спросу под присягой, показала, что подсудимый ей
заявил о продаже им перстня за 580 рублей, между тем-
как он его заложил в 750 рублей. Заявление же ее, что
она на подсудимого претензии не имеет, еще не
освобождает его от законной ответственности за мошенничество,
если он в таком будет вами признан виновным. Кроме
того, подсудимый назывался различными именами, на что
есть присяжные показания гг. Рамиха, Феллера и
собственное его сознание. В оправдание свое подсудимый
сослался на показания свидетелей; некоторые из них
были вызваны судом, другие приглашены самим
обвиняемым. Вы слышали, господа присяжные, их показания и
можете сами судить, насколько они служат к оправданию
подсудимого. Отец его засвидетельствовал, что он знал
сына человеком хорошим, сам наблюдал за его
воспитанием. Сестра его, что 12 января она с братом ехала по
Кузнецкому мосту; ее он оставил у Бартельса, а сам
куда-то уехал и возвратился домой часов в восемь, когда
семейство их пило чай. О полученных ранах он показал
ей согласно с объяснением, данным на суде, но просил
скрыть о том от отца. Показания Миланова и Врубеля и
бывшего при следствии священника Озерова опровергают
показания Данилова о пристрастных действиях
следственной комиссии.
Господа присяжные заседатели! Все сказанное мной не
должно иметь в ваших глазах характера непреложных
116
положений, это не более как предостережение от увлечения
к обвинению подсудимого или к оправданию его по
чувствам снисхождения. Приговор вы должны постановить
по внутреннему убеждению вашей совести,
основанному на всестороннем обсуждении дела. Кроме того, я
должен вам сказать, что в случае признания подсудимого
виновным закон предоставляет вам драгоценное право
признать подсудимого заслуживающим снисхождения, но
этим правом вы не должны пользоваться произвольно. Вы
можете и обязаны воспользоваться этим правом лишь в
том случае, если найдете достаточные к тому основания
при подробном и всестороннем обсуждении обстоятельств
дела.
На приговор Московского окружного суда подсудимым
Даниловым была принесена кассационная жалоба,
содержание которой вполне исчерпывается заключением обер-
прокурора и речью защитника Данилова, произнесенными
ими в заседании уголовного кассационного департамента
правительствующего Сената 5 мая 1867 года.
Заключение обер-прокурора
М. Е. Ковалевского
Подсудимый Данилов... приводит различные поводы
кассации решения окружного суда, состоявшегося с
участием присяжных заседателей. Некоторые из этих поводов
относятся к неправильностям, допущенным Московской
судебной палатой в постановлении о предании его суду,
другие относятся к производству дела его в окружном суде.
Неправильность постановления судебной палаты
Данилов главнейшим образом основывает на том, что
постановление это основано на предварительном следствии,
которое было произведено до такой степени не полно,
что не выяснило самых существенных обстоятельств
дела; между тем судебная палата в постановлении
своем назвала это следствие законным и произведенным
с примерной распорядительностью. Таким образом,
палата, изложив обвинение скорее в виде
судебного решения, чем в виде обвинения, и назвав
Данилова в этом постановлении не обвиняемым,* а
преступником, нарушила равенство между защитой и
обвинением. Что неполнота судебного следствия не может быть
поводом кассации решения присяжных заседателей по
существу дела, в том, мне кажется, не может быть никако-
117
го сомнения. Конечно, судебная палата, в качестве
обвинительной власти и на точном основании ст. 534 уст.угол.суд.,
может предавать суду лишь по таким делам,
обстоятельства коих приведены в надлежащую ясность, но безусловная
полнота следствия не всегда может быть достигнута:
весьма часто и, к сожалению, в делах именно наиболее важных
и сложных встречаются пробелы, которые следователь,
несмотря на все старание, на всю добросовестность,
пополнить не в состоянии. Но эти пробелы не могут служить
причиной оставления подсудимых без судебного
преследования, если обвинительная власть признает, несмотря на
необнаружение при следствии некоторых обстоятельств
дела, несмотря на то что не все соучастники
преступления обнаружены, что остальные собранные следователем
доказательства достаточны для того, чтобы обвиняемый
признан был виновным окончательным решением.
Разрешение вопросов, должен ли обвиняемый, несмотря на
неразъяснение следствием некоторых фактов дела, признан
быть виновным, зависит ли доказательная сила
собранных против него улик от разъяснения этих самых фактов,
или эти сомнительные факты представляются лишь
обстоятельствами побочными, зависит окончательно от того
суда, который рассматривает дело по существу, а в деле,
подобном делу Данилова, от решения присяжных. Перед
лицом присяжных проверяется предварительное
следствие, причем подсудимый и защитник имеют полную
возможность указать на недостатки предварительного
следствия и опровергнуть выводы обвинительного акта,
если он основан на доказательствах шатких, требующих
еще разъяснения. Но когда присяжные заседатели,
основываясь на убеждении совести, убеждении, которое они
вынесли из рассмотрения проверенного критически
следствия, признают, что недостатки следствия не могут
опровергать силу улик, собранных против обвиняемого, и он
должен быть признан виновным,—тогда само собой
разумеется, что вопрос о неполноте следствия падает, и такой
обвинительный приговор присяжных может подлежать
уничтожению лишь в таком случае, когда обвиняемый
докажет, что был лишен нарсуде средств к защите, которую
закон предоставляет каждому. Но прежде рассмотрения
указаний подсудимого относительно нарушения судом тех
законов, которые, по мнению подсудимого, лишили его
возможности доказать перед присяжными свою
невиновность, мне остается еще упомянуть о вышеприведенном
замечании подсудимого относительно редакции самого
обвинительного акта. В этом акте судебная палата,
118
М. Е. Ковалевский.
предавая Данилова суду, нашла, что предварительное
следствие произведено законно, с примерной
распорядительностью, и в одном месте назвала подсудимого
преступником. Я совершенно согласен с тем, что судебная
палата должна была назвать Данилова обвиняемым, а не
преступником и что похвалы предварительному
следствию в обвинительном акте неуместны, но не могу
придать этим выражениям то значение, которое придает им
подсудимый. Обвинительный акт предложен был
окружному суду установленным в законе порядком,4 не в виде
непреложной истины, но обыкновенного обвинения,
которое подвергнуто было проверке на судебном следствии;
следовательно, выражения эти не могли иметь тех
последствий, на которые указывает подсудимый.
Переходя за-сим к рассмотрению указаний
подсудимого относительно нарушения окружным судом законов
судопроизводства, таких нарушений, по мнению
подсудимого, последствия которых лишают приговор суда силы су-
119
дебного решения, оказывается, что в этом отношении
указания Данилова заключаются в следующем. Прежде
всего окружной суд лишил его права иметь двух
защитников на суде и оставил при нем не того защитника,
которого он сам избрал^ но который назначен был
председателем суда. Полагая, что закон не возбраняет
подсудимому иметь двух защитников, подсудимый Данилов
находит, что окружной суд, предложив ему сначала иметь
двух защитников и затем отказав ему в этом, нарушил
тем право судебной защиты, которое закон предоставляет
каждому подсудимому. Из производства суда в этом
отношении видно, что подсудимый Данилов, вызванный
14 января в окружной суд, избирал себе защитником
присяжного поверенного Соловьева, на что председатель
изъявил согласие, но вслед за тем Соловьев формальным
прошением, поданным в суд, объявил, что, по множеству
дел и не сошедшись с Даниловым в условиях, он
отказывается принять на себя защиту подсудимого. Тогда
председатель назначил Данилову защитника от суда в лице
присяжного поверенного Доброхотова. После этого
назначения Данилов все заявления в суд делал уже через
Доброхотова, а 3 февраля подал в суд прошение, в
котором просил в помощь Доброхотову разрешить принять
участие в защите его еще присяжному поверенному
Соловьеву. Но суд, полагая, что закон не дозволяет
подсудимому иметь двух защитников и что при совокупном
действии двух защитников может случиться, что оба
изъявят противоречивые требования по одному и тому же
предмету, что не может быть допущено, в исполнении
просьбы Данилову отказал. Из вышеизложенных фактов
видно, что председатель никогда не предлагал Данилову
иметь двух защитников, а сначала назначил, по выбору
самого подсудимого, защитником ему Соловьева,
впоследствии же, когда Соловьев отказался от защиту
обвиняемого, назначил ему защитника от суда. На основании
ст. 565 уст. угол. суд. подсудимые имеют право сами
избирать себе защитника, но если почему-либо не изберут,
то им назначается защитник от суда. Затем Данилов,
конечно, имел на основании ст. 568 право просить суд о
перемене защитника, если считал назначение
Доброхотова почему-либо не соответствующим его интересам; но,
как видно из дела, он о перемене Доброхотова не только
что не просил, но в прошении, поданном 3 февраля,
положительно изъявил желание удержать его с тем, чтобы к
совместной защите с ним разрешено было принять
участие и другому защитнику, Соловьеву. Закон вовсе не
120
запрещает подсудимому иметь двух защитников (ст.
391 учр. суд. уст.) но, по мнению моему, совокупное
действие двух защитников возможно лишь в тех случаях,
когда эти защитники назначены по взаимному между
собой и подсудимым соглашению. Назначение же двух
защитников от суда или одного по выбору подсудимого, а
другого по назначению от председателя невозможно,
во-первых, потому, что по закону (ст. 566 уст. угол, суд.)
председатель обязан назначить лишь одного защитника и,
во-вторых, назначение двух защитников от суда или
одного от суда, а другого по избранию подсудимого
действительно может повлечь за собой те последствия,
которые послужили ближайшим поводом к отказу в просьбе
Данилова, а именно, что назначенные против воли два
защитника могут смотреть на дело с разных точек зрения
и предъявлять на суд требования разноречивые. На сем
основании окружной суд, имея в виду, что Данилов в
просьбе 3 февраля не просил вовсе о перемене
защитника, а лишь о допущении совместной с Доброхотовым
защите другого защитника, Соловьева, причем не объяснил
даже, что Соловьев этот, отказавшийся формально от его
защиты, переменил свое намерение,— имел полное право
отказать Данилову в его ходатайстве.
Следующий затем по ходу судебного заседания повод
кассации, приводимый подсудимым, заключается в том,
что в числе 12 присяжных, составлявших присутствие
суда 14 февраля, один, именно купец Чибисов, был под
судом в 1861 году Московской уголовной палаты и по
решению палаты оставлен в подозрении. Так как на
основании ст. 82 учр. суд. уст. лица, бывшие под судом и не
оправданные судебным приговором, не могут быть присяжными
заседателями, подсудимый полагает, что состав
заседания, бывшего 14 февраля, не соответствует тому,
который определен ст. 661 уст. угол. суд. Не говоря уже о
том, что в подтверждение своего объяснения Данилов не
представил никаких доказательств, я нахожу, что едва ли
это обстоятельство может служить поводом кассации
решения присяжных. Порядок составления списков
присяжных следующий: выбранная земством комиссия
составляет общие списки присяжных, которые в течение
целого месяца могут быть рассматриваемы всеми
желающими, каждый может делать заявления о неправильном
внесении или невнесении кого-либо в списки комиссии.
По рассмотрении этих заявлений комиссия исправляет
списки и представляет их губернатору, который со своей
стороны вычеркивает из списков всех тех, которые непра-
121
вильно туда внесены, разрешает не уваженные комиссией
заявления и возвращает списки обратно в комиссию,
которая в усиленном составе составляет из общих
очередные списки после тщательного рассмотрения, в какой
мере каждое лицо, удовлетворяющее формальным
условиям, способно/по нравственным качествам к исполнению
обязанностей присяжного. Из лиц, внесенных в эти
последние списки, составляется впоследствии по жребию
присутствие присяжных заседателей в судах. Из
вышеизложенного видно, что в поверке списков присяжных
участвуют выборные лица от земства, частные лица,
представитель губернской административной власти и,
наконец, поверка эта заканчивается постановлением комиссии
от земства в усиленном составе, постановлением, которое
на основании ст. 99 учр. суд. уст. обжалованию не
подлежит. Но могут сказать, что эти правила постановлены
лишь в видах общих интересов правосудия, в видах
правительственных и не могут служить препятствием для
подсудимого к протестам против неправильного внесения
кого-либо в список присяжных. По моему мнению, после
безапелляционного постановления комиссии никаких
протестов против неправильного внесения кого-либо в список
присяжных быть не может. Присяжные, внесенные в
очередные списки, должны быть рассматриваемы как
имеющие все формальные условия исполнять обязанность эту, а
для ограждения обвиняемого от пристрастного состава
присутствия присяжных закон предоставляет ему те же
права, но только в больших размерах, которые
предоставляются подсудимым и в отношении судей. За
три дня до заседания каждому подсудимому
предоставляется список присяжных заседателей, и он может за
день до открытия заседания из числа их отвести столько
лиц, чтобы осталось из тридцати восемнадцать, не
объявляя причин отвода. Но право отвода, как и всякое
судебное право, имеет свои границы. Пропустивший время для
пользования этим правом уже должен считаться
лишившимся его навсегда. Принимать заявления об отводе, об
• юридической неспособности присяжных после
постановления приговора по той причине, что подсудимый не
знал того до постановления решения, допустить
невозможно. Допустить это — значило бы поколебать
совершенно твердость решения присяжных, значило бы
дозволить подсудимым, которым положительно известна была
юридическая неспособность присяжных, заявлять об этом
только тогда, когда состоится приговор обвинительный.
На этом основании я нахожу, что и этот повод кассации,
122
подобно предыдущему, не заслуживает уважения. Третий
повод заключается в том, что судебное заседание
открыто было без бытности присяжных заседателей, что, таким
образом, присяжные не слышали первых вопросов и
ответов на них Данилова. Из протокола судебного заседания
видно, что присяжные введены были в залу заседания
после того, как председателем отобраны были от
подсудимого ответы на вопросы, которые означены в ст.
(338 уст. угол, суд., и после поверки председателем по
списку явившихся свидетелей. Окружной суд объясняет, что
порядок этот соблюдается на том основании, что по закону
судебное заседание открывается при бытности лиц, из
которых составляется состав присутствия; на основании же
закона (ст. 636 уст. угол, суд.) только 12 человек
присяжных входят в состав присутствия, и так как выбор этих
двенадцати должен делаться не ранее, как после поверки
списка свидетелей, т. е. после того, как суд удостоверится
в том, что действительно можно открыть присутствие, то
поэтому Московский окружной суд не вызывал
присяжных в залу заседания прежде поверки списка
свидетелей. Не подлежит сомнению, что выбор по жребию
присяжных, из которых должно состоять заседание, может
последовать не прежде, как по удостоверении, во-первых,
в самоличности подсудимого, во-вторых, после проверки
того, явились ли все свидетели, т. е. возможно ли открыть
заседание. Но, по мнению моему, хотя в законе об этом
положительно не сказано, однако же нет никаких
оснований не вводить присяжных в залу судебного заседания с
самого его начала, так как присяжные заседатели, как
судьи, само собой разумеется, должны быть свидетелями
всего того, что с самого начала происходило на суде,
хотя бы предварительные действия суда заключались в
исполнении одной формальности. Из протоколов, которые
представляются сюда из Петербургского окружного суда,
видно, что в нем этот порядок соблюдается, поэтому и
пет оснований к тому, чтобы этот порядок, как более
согласный со смыслом закона, не соблюдался бы и в
Московском окружном суде. Но, рассматривая действия
суда в сем отношении как повод кассации, я нахожу, что
в действиях этих если и есть действительно нарушение
закона, то, во всяком случае, оно не могло иметь
никакого влияния на постановление приговора присяжными.
Далее, подсудимый объясняет, что эксперты допрошены
были все вместе, вопреки ст. 699 уст. угол, суд., а не
порознь. Окружной суд в объяснении против этой жалобы
говорит, что он допрашивал экспертов не порознь на том
123
основании, что ст. 699 относится не к экспертам, а к
порядку допроса свидетелей. Специального закона о
порядке допроса экспертов нет. По мнению моему, в отношении
допроса экспертов закон предоставляет суду более
обширное право, нежели при допросе свидетелей. Судебная
практика, в том числе уголовный кассационный
департамент Сената, показала возможность без нарушения
законных прав сторон допрашивать экспертов не порознь,
но выслушивать лишь общее мнение их; это может иметь
место в тех случаях, когда эксперты, рассматривая
какой-либо предмет, придут к единогласному заключению и
стороны не выставили со своей стороны никаких
препятствий к отобранию от них общего заключения, что,
как видно из протокола заседания, и было в настоящем
деле.
Прочие затем поводы кассации, приводимые
Даниловым, заключаются в следующем: во-первых, суд
приступил к решению дела без бытности на суде многих
свидетелей; но из протокола видно, что суд приступил к
рассмотрению дела без личной явки свидетелей и
ограничился прочтением их показаний, данных при
предварительном следствии, с согласия бывших сторон, на что имел
полное право по ст. 646 и 629. Далее, что свидетель Фел-
лер был, вопреки закону, спрошен под присягой, но из
протокола также видно, что суд спросил Феллера под
присягой на том-основании, что подсудимый Данилов не
представил никаких причин отвода, которые на
основании закона могли бы лишить суд права спросить Феллера
под присягой. Затем подсудимый объясняет, что
протоколы предварительного следствия прочитаны были вместе с
показаниями свидетелей; ст. 687 уст. угол. суд. разрешает
читать на суде протоколы предварительного следствия об
осмотрах, выемках и т. д., и поэтому в прочтении на суде
подобного рода протоколов, хотя бы в них и заключались
показания лиц, присутствующих при осмотрах, не
заключается, по моему мнению, никакого отступления от
закона.
Затем проситель жалуется на то, что товарищ
прокурора, давая свидетелям вопросы, делал их в таком виде,
что в этих вопросах заключались и ответы, которые он
желал иметь; что он изложил заключение свое
односторонне и крайне пристрастно, а председатель в
заключительной речи прямо выразил мнение о виновности
подсудимого и даже позволил себе сказать, что он и по
старым законам должен быть признан виновным. Но, не
говоря уже о том, что эти объяснения, в особенности от-
124
носительно председателя, опровергаются объяснениями
окружного суда, настоящие заявления подсудимого не
могут быть приняты во внимание уже потому, что если
действительно прокурор позволил себе предлагать
подобные вопросы или изложить пристрастно свое
заключение или председатель позволил себе выразить мнение
относительно виновности подсудимого, то от него зависело
требовать, чтобы подобного рода вопросы прокурора и
обвинение председателя были записаны в протокол, чего
он не сделал, а потому и настоящее указание, как
совершенно голословное, не может быть принято во внимание.
Вот все поводы и основания, приводимые Даниловым
для кассации решения суда. По моему мнению, поводы
эти не заслуживают уважения.
Мне остается упомянуть еще об одном пункте
дополнительной просьбы Данилова, поданной в Сенат. В этом
пункте он просит уже не о кассации решения, а о
возобновлении дела на основании п. 3 ст. 935 уст. угол, суд.
Подсудимый объясняет, что в числе вещественных
доказательств, представленных против него, на столе
присутствия находились калоши, которые были найдены при
обыске квартиры Попова; между тем добросовестный
Степанов, который приложил к этим калошам печать
во время предварительного следствия, объявил, что, так
как на этих калошах его печати нет, тождество их он не
может удостоверить. Признавая, что вследствие
подмены калош доказательство не должно быть признано
подложным и что закон допускает в случае, если решение
суда окажется основанным на подложных документах,
просить о возобновлении дела, Данилов ходатайствует на
этом основании о возобновлении его дела. Пункт 3 ст.
935 уст. угол. суд. действительно разрешает, в числе
других поводов, просить о возобновлении дела, когда
окончательное решение суда основано на подложных
документах. Но статья эта может иметь применение лишь в
тех случаях, когда судебное решение основано
было на таких доказательствах, которые считались в то
время действительными и которые только впоследствии
оказались подложными. Между тем сам Данилов
объясняет, что, осматривая калоши в заседании суда,
добросовестный Степанов объявил о подлоге, объясняя, что
калоши не те, которые были найдены в квартире
Попова; следовательно, присяжные уже имели в виду
заявление свидетеля, что это доказательство не есть
настоящее доказательство, следовательно, имели все
основания сделать правильную оценку этого доказательства.
125
Вследствие сего и приводимый Даниловым повод к
возобновлению дела не может быть принят в уважение.
На вышеизложенных основаниях я полагал бы
кассационную жалобу Данилова оставить без последствий.
Речь А. В. Лохвицкого в защиту Данилова
Господа сенаторы! Закон наш предоставляет
частному человеку два разных суда — суд ваш и суд
присяжных — и каждому из них придает свою особенную роль:
присяжные судят по совести и объявляют подсудимого
виновным или невиновным. Им дела нет до соблюдения
форм и обрядов, они знают, что на это есть другой суд,
высший. Они говорят о факте, как он им
представляется в данное время. Вад] же суд, напротив того, не знает
и не хочет знать ни всей драмы дела, ни обстоятельств
преступления, он не рассматривает их вновь. Какие бы
ни были пропуски в следствии, сколько бы ни
представлялось на ваш взгляд недоказанного, не разъясненного
в деле, ваш суд не обратит на это внимания. Его дело
есть только одна формальная сторона, разрешение
вопросов: получил ли подсудимый все те гарантии на суде
присяжных, которые дает ему закон; соблюдены ли были
все формы и обряды; есть ли такие нарушения, которые
заставляют предполагать, что судебный приговор не есть
истинный? Но хотя закон и разделил эти роли,
естественно, что ваш суд, который дает последний приговор,
которому дело представляется решенным, не может не
подвергаться влиянию этого решения. Поэтому я умоляю
вас выкинуть на этот раз всякое чувство ненависти и
омерзения, которое могло внушить вам это дело, по той
простой причине, что я, каковы бы ни были мои
убеждения, ничего не могу сказать против этого; какого бы
мнения я ни был относительно обвинения Данилова в
преступлении, считал бы его невиновным, следствие
неполным, преступление не обследованным вполне,— не могу
ничего говорить об этом. Поэтому строгая
справедливость руководит мной, когда я вас прошу забыть,
насколько это возможно для людей, по крайней мере на время, те
чувства, которые может возбудить доклад обстоятельств
этого дела, и в настоящее время рассмотреть его с
одной формальной стороны. Каков бы ни был Данилов —
виновный или невиновный,— будем рассматривать его
дело только с одной стороны, холодной, формгльной
стороны.
126
А. В. Лохвицкий.
Господин сенатор-докладчик представил вам
кассационные пункты, изложенные в двух жалобах Данилова:
первой и дополнительной. Я с ним согласен, равно и с
господином обер-прокурором, что многие из пунктов этих
жалоб касаются самой сущности дела. Как бы ни были они
сами по себе важны, но в настоящее время они не имеют
никакого значения при рассмотрении вопроса о кассации.
Из всех пунктов этих жалоб я буду обращать ваше
внимание только на те, которые мне кажутся, после долгого
и тщательного изучения, действительно пунктами
кассационными.
Закон наш в ст. 912 уст. угол. суд. говорит, что
кассация решения происходит лишь тогда, когда закон был
приложен или истолкован неверно, или, во-вторых, когда
нарушены формы и обряды столь существенные, что за
их нарушением нельзя считать приговор справедливым,
и, наконец, в-третьих, когда судебное установление
превысило свою власть. Что касается первого пункта касса-
127
ции, то в деле его нет: закон приложен верно,
истолкован верно. Но в деле этоммы видим, что есть повод для
кассации по второму пункту ст. 912, именно по
несоблюдению обрядов и форм таких существенных, которые
совершенно лишают приговор характера действительно
справедливого приговора, и что есть превышение
судебной власти. Первый кассационный пункт, по моему
мнению, есть именно акт Московской судебной палаты,
которым она предала Данилова суду присяжных. Само
определение уже изложено господином
сенатором-докладчиком, и читано было то знаменитое место этого акта, на
которое указано в кассационной жалобе, но я. прочту его
в подлиннике. По закону нашему власть судебной палаты
определена в отношении утверждения обвинительных
актов ст. 534 уст. угол, суд., в которой говорится об этом
ясно: «Признав следствие достаточно полным и
произведенным без нарушения существенных форм и обрядов
судопроизводства, палата постановляет окончательное
определение о предании суду или о прекращении дела,
а в противном случае обращает его к доследованию или
законному направлению». Вот в чем ее дело: палата
является местом, которое утверждает следствие. Между
тем, что же палата сделала в данном случае? Она
выразила то, что предписывала ей выразить ст. 534, т. е. что
предварительное следствие достаточно полно, но вместе с
тем выразила и другое. Она находит, что приставы Реб-
ров и Дзюбенко-Козеровский произвели следствие не
только с соблюдением установленных форм и обрядов
судопроизводства, «но и с полным знанием следственной
части и примерной распорядительностью». Так
действовать значит предрешать дело. Когда с такой высоты, на
которой стоит палата, читается присяжным ее акт, в
котором такое высокое судебное место говорит, что, по его
мнению, следствие произведено с примерной
распорядительностью и полным знанием дела, какое впечатление
должен был произвести этот акт на членов окружного
суда и на присяжных? Они видят, что высшая судебная
власть считает следствие превосходным: нет никакой
неполноты, никакой неточности. Между тем дело палаты
только сказать, что по закону дело является ей
достаточно обследованным, что есть достаточное основание,
чтобы обвиняемый был перед судом присяжных. Я
нахожу, что в этом случае палата вышла из пределов
предоставленной ей власти. Закон предоставляет ей только
утверждать следственные акты, но она сделала более,
объявила благодарность следователям, так что действитель-
128
но, после ее объявления, следователи получили награды.
Таким образом, с одной стороны, это акт превышения
пределов своей власти, с другой стороны, последствия его
для обвиняемого безмерные; невозможно и вычислить их.
Это был суд присяжных, людей, которые объявляют
решения по внутреннему убеждению. Никто не вправе
рыться в их совести. Что же значило заключение? Мы
приводим в доказательство громадного значения этого
заключения то общее коренное постановление, которое
весьма мудро включено в закон, что председатель
окружного суда, сидящий в присутствии присяжных, должен
быть вполне беспристрастен и не только не отказывать
в содействии защите обвиняемого, даже дополнять ее,
если бы видел, что сам подсудимый по неопытности
пропускает факты, говорящие в его пользу. Закон прямо
воспрещает председателю выражать свое мнение, потому что
этот высокий сановник в борьбе защитника с прокурором
выражением своего мнения может в сомнительном случае
перетянуть чашу весов на ту или на другую сторону.
Если такова роль председателя, разве не ту же роль, по
крайней мере морально, имела судебная палата в
отношении к присяжным, тем более что сам председатель
окружного суда до известной степени -связан чувством
иерархического начала, чувством уважения к высшей
судебной инстанции? Поэтому повторяю, палата вышла в
этом случае из пределов своей власти, и этот самый
обвинительный акт, прочитанный перед присяжными, уже
разрушил равенство, которое должно существовать
между защитой и обвинением, так как за обвинение
высказывается не только прокурор, но и судебная палата. Это,
но моему мнению, существенный повод для кассации.
Господин обер-прокурор говорит, что хотя эти слова
судебной палаты неловки, но не могут служить поводом
кассации. Посмотрим, могут или не могут. На
обвинительный акт не может быть жалоб, потому что
следствие, по нашим законам, окончательное
безапелляционное производство; притом акт о предании суду —
обвинительный акт — неразрывно связан с судом. Коль
скоро найдено, что власть, давшая обвинительный акт,
вышла из своих пределов, то обвинительный акт ничтожен,
и вместе с тем требование кассации распространяется
на все производство дела по тесной, неразрывной связи
всех частей его между собой. Если бы господин обер-
прокурор мне указал ту раздельную черту, которая
лежит между следствием, утвержденным палатой, и
судебным решением, т. е. черту, на которой обвинитель и за-
Г) Заказ №571
129
щитник могли бы остановиться, могли бы поправить все
недостатки следственного ак¥а, тогда бы я согласился с
ним. Но я не вижу такой черты, я нахожу, что
обвинительный акт и дело составляют, так сказать, одно тело
нераздельное: когда одна часть тела поражена
гангреной, тогда все тело болезненно, ничтожно, т. е.
требует кассации.
Перехожу теперь ко второму пункту, также, по моему
мнению, кассационному в полном смысле слова. Второй
пункт касается состава присутствия присяжных.
Подсудимый в своей кассационной жалобе объясняет, что в
числе присяжных, как ему сделалось известным
впоследствии, находился купец Чибисов, человек, который в
1861 году приговором Московской уголовной палаты
оставлен был в подозрении по делу о присвоении себе
чужой шерсти. Подсудимый совершенно справедливо
требует на основании ст. 28 учр. суд. уст. кассации решения.
Рассмотрим важность этого вопроса. Закон дает
двенадцати лицам, присяжным, в руки нашу судьбу; им дается
это громадное верховное право* вязать и разрешать
безусловно. Но, давая им эту власть, закон нам дает
единственную гарантию, что эти люди совести, которым он
предоставляет нашу судьбу, в полном смысле слова
безупречны. На этом основании сказано в первом пункте
ст. 82 учр. суд. уст., что лица, которые были под судом
за проступки или преступления, влекущие за собой
заключение в тюрьме или иное более строгое наказание,
и те, которые» быв под судом за преступления или
проступки, влекущие за собой такие наказания, не
оправданы судебными приговорами, не могут быть в числе
присяжных. Это выражение —«окончательным приговором
не оправданы»— именно значит то, что при старом
судебном порядке было «оставлены в подозрении», т. е. именно
не оправданы. Если в числе присяжных находится такого
рода человек, которого закон признает юридически
неспособным быть присяжным, то можно ли допустить
какое-нибудь сомнение в том, что все 12 присяжных одного
судебного заседания, составляющие одно целое, не могут
постановить приговора, который не был бы юридически
ничтожен? Мало того, у нас даже присяжные
произносят свои приговоры не зсегда единогласно, а часто по
большинству голосов, так как закон не требует
непременно единогласия. Может бЪпъ, Чибисов, подав голос за
обвинение, решил все дело о Данилове, и без его голоса
не образовалось бы большинства. Так может ли быть
малейшее сомнение в том, что относительно института,
130
которому предоставлена такая сильная власть,
необходимо самое строгое исполнение всех предписанных
законом гарантий? В числе этих гарантий то условие, что
присяжные должны быть люди безупречной
нравственности, не бывшие под судом, не наказанные за
преступления, есть, конечно, самое существенное, более важное,
нежели постановление, например, о постоянном
местожительстве и т. п., потому что прямо показывает, что
человек подозрительной нравственности своим присутствием
между присяжными уничтожает все значение решения
присяжных. Но подсудимый заявил об этом не на суде,
а после суда. Господин обер-прокурор говорит, что таких
заявлений нельзя принимать, что он мог бы заявить
прежде, иначе никогда не будет конца делу — всякий
будет после решения суда приводить доказательства;
господин обер-прокурор говорит: подсудимый может знать, что
один из присяжных юридически неспособен, и молчать
об этом, с тем чтобы воспользоваться этим знанием по
окончании дела, когда решение состоится к его
невыгоде. Вот почему господин обер-прокурор полагает, что
такие заявления о неспособности присяжных не могут
иметь места по окончании дела. Московский окружной
суд объяснил не эту причину, но ссылался на то, что не
он составляет списки присяжных. Господин
обер-прокурор напомнил нам статьи закона о том, кто и как
составляет эти списки. Затем Московский окружной суд
говорит, что так как он не может входить в это
обстоятельство, то считает заявление не заслуживающим
уважения. Но рассмотрим, так ли это? Если Данилов объявил
по окончании дела о том, что один из присяжных, именно
купец Чибисов, который судился в Московской уголовной
палате в 1861 году, юридически неспособен, должен ли
был он привести доказательства? Разве Московская
уголовная палата позволит каждому частному человеку
рыться в ее архиве? Станет ли выдавать ему копии, когда
по прежнему порядку, как известно всякому, уголовные
дела считались канцелярской тайной? Но окружной суд
дело другое: ему стоило только послать за справкой,
действительно ли купец Чибисов в 1861 году был судим
за такое-то преступление и дело так-то окончено, в
несколько часов он получил бы должную справку. Между
тем окружной, суд говорит совершенно непостижимую, для
меня вещь: подсудимый не представляет доказательства.
Какие же из тюрьмы он может представить
доказательства? Он не имеет к тому никакой возможности.
Напротив того, есть положительная статья, которая говорит,
131
что председатель окружного суда должен стараться
предоставлять подсудимому все возможные средства к его
оправданию. Он есть, так сказать, его опекун, тем более
такого подсудимого, как Данилов, который
несовершеннолетен и мог не знать постановлений о присяжных;
он мог узнать о них, даже о самом факте, после
приговора. Поэтому я нахожу, что председатель Московского
окружного суда Люминарский нарушил совершенно
постановление закона (ст. 612 уст. угол, суд.) о
предоставлении обвиняемому всех средств к защите, и факт,
выставленный Даниловым, остался неопровергнутым
окружным судом, стало быть, сохраняет кассационное
значение. Если он ложен, тогда в том, что произойдет
кассация, виноват Московский окружной суд, который не
собрал никаких справок относительно этого вопроса.
Наконец, кассация может основываться на нарушении ст.
612. Но нам предстоит разрешить еще один вопрос,
обратить внимание на то, что было высказано господином
обер-прокурором. В самом деле, имел ли право Данилов
представлять о юридической неспособности присяжного
после приговора? Мне кажется, что это несомненно.
Закон после окончательного приговора запрещает
представлять какие-либо дополнительные доказательства,
потому что подсудимый имел достаточно времени выяснить
все; но всегда возможно представлять доказательства
того, что суд присяжных был не суд, а простое собрание
людей, коль скоро в числе их один был юридически
неспособен быть присяжным. В глазах закона решение
присяжных не должно иметь силы, коль скоро их было
одиннадцать вместо двенадцати, двенадцатый был
человек, не имеющий права голоса. Если состав присяжных
не верен, то все его действия незаконны. Я говорю, что
вопрос об юридической неспособности одного из
присяжных, о недействительности, стало быть, самого суда,
может быть возбужден во всякое время, разумеется до
кассации. Это более, нежели несоблюдение обрядов и форм,
это просто несоблюдение суда, все равно если бы
окружной суд судил Данилова вовсе без присяжных. Данилов
не мог ничего другого сделать, как, получив
уведомление, что один из присяжных юридически неспособен,
представить об этом председателю окружного суда.
Окружной суд отказался совершенно незаконно войти в
рассмотрение этого обстоятельства и таким образом
сохранил за ним кассационное значение. Окружной суд
говорит, что список присяжных не им составляется и поэтому
он за него не отвечает. Но разве Данилов просит пре-
132
дать окружной суд судебному преследованию?
Нисколько. Никто не винит окружной суд, если открыто, что в
число присяжных попало лицо, юридически неспособное.
За это должны отвечать те, которые составляли список
присяжных, а не суд. Но тем не менее это не делает
состава присяжных в данную минуту правильным, когда
между ними есть лицо, неспособное быть присяжным.
Господин обер-прокурор развивал мысль, что об этом
нельзя представлять до кассации, потому что список
составляется известным порядком комиссией, проверяется
губернатором, жалобы принимаются до закрытия списка.
Но я позволю себе заметить, о чем приносятся жалобы?
Жалобы можно приносить вследствие того, что звание
присяжного рассматривается и как право, и как тягость.
Я могу сказать: «Мне более 70 лет, а вы записали меня
присяжным; я занимаю по государственной службе место
4-го класса и не желаю быть присяжным, это для меня
тягость необязательная». Другой может сказать: «Я
горжусь этим правом, по какой причине вы мое имя не
внесли в список? Внесите». Но затем ничего другого не
может быть. Разве это контроль такого рода, который
должен быть со стороны обвиняемого, когда он прямо
говорит, что один из присяжных есть лицо, которое не
имеет права быть присяжным, и притом не по летам, а по
одному обстоятельству жизни, именно потому, что был
под судом и оставлен в подозрении? Таким образом,
отнять у обвиняемого это право значит сделать #се
ошибки и пропуски комиссии безусловно обязательными для
него. Мало того, комиссия по ошибке может внести в
список человека, который только что вышел из
арестантских рот, и вдруг, например, половина присяжных в
делах о краже будет состоять из таких лиц! Разрешение
точное и строгое этого вопроса тем необходимее, господа
сенаторы, что оно важно не только в данном случае для
обвиняемого, но имеет общее государственное значение.
Если признано будет в этом отношении право обвиняемого,
будет признано точно так же право прокурора, которое
вы неоднократно признавали в случаях аналогичных.
Если предположить, согласно с господином
обер-прокурором, что обвиняемый может злоупотреблять
знанием о неспособности присяжного, то из этого можно
вывести только одно заключение: надобно составлять
списки присяжных с полной осмотрительностью.
Вот в каком виде представляется этот пункт, и он
сохраняет полную кассационную силу именно потому, что
справедливость его ничем не опровергается. Никаких до-
133
казательств от обвиняемого нельзя требовать, когда он
содержится под арестом или в тюрьме, в особенности
если он указывает на такую вещь, которую окружной суд
мог проверить в несколько минут, и был обязан это
сделать; в особенности председаФель — лицо, которое закон
ставит, так сказать, опекуном обвиняемого.
Перехожу к третьему кассационному пункту. На мой
взгляд, самый важный в деле вопрос касается судебной
защиты. Вопрос о судебной защите вообще принадлежит
к числу самых важных. Законодатель в новых судебных
уставах ставит защиту как неизменное право
обвиняемого: без защиты не может быть суда и приговора. Но
для того, чтобы защита была настоящей защитой, надо,
чтобы обвиняемый в пользовании ею имел все права,
которые предоставляет ему закон, чтобы эти права ни в
чем не были нарушены. Относительно защиты здесь-то и
произошло чрезвычайно важное нарушение этого
коренного начала уголовного судопроизводства.
Расскажу дело в нескольких словах, тем более что
это обстоятельство известно из недавно читанной
кассационной жалобы подсудимого. Подсудимый выбрал себе
14 декабря в защитники г. Соловьева. Остановимся на
этом факте. Закон наш допускает в уголовном суде
защиту двух родов, именно: когда защитник избирается
самим обвиняемым, и другой способ защиты, через
защитника, назначаемого для подсудимого председателем
суда, так называемого защитника официального, по
нашему бы сказать, казенного. Который из этих двух
способов защиты главный и существенный? Несомненно, что
по духу нашего законодательства главный способ
защиты есть избрание защитника самим обвиняемым. Закон
прямо говорит (ст. 565), что подсудимый имеет право
избирать защитников. Итак, главная форма защиты есть
собственное избрание защитника подсудимым. Второй
дополнительный способ защиты есть назначение
защитника председателем, но председателю инициативы в этом
не дано; он должен ждать, когда подсудимый попросит
его о назначении защитника, потому что подсудимый,
даже не избравший себе защитника, сохраняет
неотъемлемое право сам себя защищать. Ст. 566 говорит: «По
просьбе подсудимого председатель назначает ему
защитника». Итак, вот когда начинается председательская
власть в назначении защитника, когда подсудимый
изъявит об этом просьбу. Что же произошло в данном деле?
Подсудимый объявил, что избирает присяжного
поверенного Соловьева; ему дали этого защитника 14 декабря.
134
Через семь недель г. Соловьев представляет в суд
бумагу содержания, по моему мнению, довольно странного,
именно, что по множеству занятий и по недостижению
соглашения с обвиняемым просит освободить его от
защиты. Я повторяю, что считаю это заявление весьма
прискорбным фактом. Что значит выражение: «по
множеству занятий»? Разве какое-нибудь дело может быть
важнее защиты лица, обвиняемого в таком ужасном
преступлении, как убийство? Разве для этого не надо
бросить другие исковые, гражданские, может быть,
выгодные дела? Я не присяжный поверенный и не обязан
являться защитником, но когда ко мне обратились и
просили меня принять на себя защиту, я оставил многие
дела и явился в Сенат. Это долг совести и чести для за-
коноведца. Что значит еще выражение: «недостижение
соглашения»? Я хочу думать, что здесь г. Соловьев
хотел сказать о недостижении соглашения относительно
пунктов защиты, а не каких-нибудь других пунктов. Но
председатель окружного суда даже не обратил внимания
на такого рода заявление, весьма странное по своему
содержанию, а что же сделал? Вы изволите найти бумагу
с пометой: «на основании ст. 393 уст. угол. суд. назначаю
защитником присяжного поверенного Доброхотова». Но
вот здесь-то я нахожу первое превышение власти со
стороны председателя. Он обязан назначать защитников из
присяжных поверенных по просьбе подсудимого. Что
должен был он сделать в этом случае?' Приняв отказ
Соловьева, формальным образом послать Данилову
повестку такого содержания: избранный вами защитник
Соловьев отказался, кого вы теперь избираете защитником?
Он этого не сделал, но прямо представил подсудимому:
вот вам защитник г. Доброхотов. Заметим, что текст
закона самый ясный. Ст. 393 учр. суд. уст., на которую
ссылается председатель, говорит, что в делах уголовных
присяжные поверенные принимают на себя защиту
подсудимых или по соглашению с ними, или по назначению
председателя судебного места. Разве это постановление
нарушает ст. 565 о том, что подсудимый сам избирает
себе защитника? Разве ст. 393 говорит, что председатель
может назначить защитника, когда ему угодно и кого ему
угодно? Эта статья не опровергает ст. 566, в которой
сказано, что по просьбе подсудимого председатель суда
назначает ему защитника: Мало того, в ст. 568 сказано:
подсудимые не лишаются права переменить с ведома
председателя избранных ими защитников или просить о
перемене защитников, назначенных от суда. Следователь-
135
но, и в этом случае, когда самому подсудимому не
понравился избранный защитник, то подсудимый имеет право
вовсе не просить председателя о перемене защитника, а
только заявить об этом: имею честь вас уведомить, что
я избранного прежде защитника отстраняю от дела и
пригласил такого-то. Если это право сохранено за ним
безусловно, когда он сам отстраняет защитника, то
каким образом отнимать у него это право, когда защитник
отстранился сам? Каким образом председатель мог по
собственной инициативе назначить Данилову г.
Доброхотова? Повторяю, председатель окружного суда
поступил совершенно неправильно и явно нарушил указанные
мной ст. 565, 566 и 568 уст. угол. суд. Председатель Лю-
минарский в оправдание свое говорит, что Данилов
принял Доброхотова, с ним совещался и только 3 февраля
прислал записку о том, что сверх Доброхотова желает
иметь защитником и г. Соловьева. Разъясним этот
вопрос. Если председатель, как я уже сказал, по закону
должен был спросить обвиняемого, кого он избирает по
отстранении Соловьева, и вместо того прислал
Доброхотова и Данилов его принял, то последнее вовсе не
равносильно свободному избранию. Это могло произойти,
во-первых, оттого, что обвиняемые не знают часто своих
прав, но председатель суда должен знать законы, под
страхом или взыскания, или уничтожения своих
распоряжений; во-вторых, если к подсудимому явился
Доброхотов и сказал: я прислан к вам председателем защищать
вас, спрашивается, каково положение обвиняемого? Как
ему сию минуту вступать в борьбу с председателем, в
руках которого отчасти находится его судьба? Как
сказать присланному от председателя защитнику: ступайте
с Богом, я не хочу вас знать, я избираю себе другого.
Во-первых; обвиняемый мог считать, что этим поставит
себя в положение весьма невыгодное относительно
председателя. Я не говорю о беспристрастии этого судебного
сановника, но о чувствах обвиняемого, который,
естественно, всего боится, тем более своих судей. Итак, тот
факт, что Данилов не отверг г. Доброхотова, не
доказывает вовсе того, чтобы Данилов по собственной
инициативе избрал его своим защитником. Совершенно нет!
Другое дело, если бы сам подсудимый пригласил г.
Доброхотова или никого другого выбрать не мог и заявил бы
председателю: я не могу выбрать защитника, на
основании закона прошу вас назначить мне защитника — тогда
бы председатель мог назначить г. Доброхотова, а
теперь — симпатизировал ли Данилов этому защитнику
136
или не симпатизировал, доверял или не доверял, — он
уже подчинился сделанному председателем назначению,
но, как из всего видно, не вполне охотно. Он убеждает
г. Соловьева, не уделит ли он от своих занятий
несколько времени, чтобы помочь советами защитнику,
назначенному председателем. Данилов открывал прежде свою
дущу г. Соловьеву, который знал его в обществе и был
ему симпатичен. В самом деле, защитник есть, так
сказать, духовник подсудимого. Разве можно каждому с
одинаковым чувством раскрыть свою душу? Данилов
просит Соловьева содействовать его защите, и мы видим,
что Соловьев сам не прочь от этого. В удостоверение
этого я привожу номер от 4 февраля газеты «Москва».
3 февраля написано Даниловым письмо в суд о том,
чтобы в помощь г. Доброхотову по трудности дела
назначить г. Соловьева, а 4 февраля напечатано в газете
«Москва» и в других московских газетах заявление,
которое было написано накануне, т. е. 3 февраля, в тот
самый день, когда суд рассматривал прошение Данилова
о назначении Соловьева в помощь Доброхотову. В этом
заявлении сказано, что разнеслись слухи о том, что
Данилов погиб в тюрьме самоубийством, но это неправда;
этот слух может повредить Данилову перед судом,
показывая, что он отчаялся, сознался в преступлении. Это
заявление подписано присяжными поверенными
Доброхотовым и Соловьевым; стало быть, Соловьев считал себя
в то время в связи с Даниловым в качестве его
защитника. Может быть, и действительно, когда был прислан
Доброхотов, Данилов обратился к Соловьеву, и Соловьев
полагал, что не нужно особых формальностей для того,
чтобы продолжать свое назначение быть защитником
Данилова. Вот в каком положении было дело.
Председатель, получив бумагу Данилова, вместо того чтобы
поправить сделанную ошибку в том, что он навязал
Данилову защитника, которого тот не желал, в нарушение
коренных прав подсудимого, после объявления Данилова,
что он сам избрал защитника, созывает окружной суд,
который постановил отвергнуть прошение Данилова о
совокупном бытии двух защитников, Доброхотова и
Соловьева, на следующих основаниях. Мы разберем эти
основания и все мотивы окружного суда: во-первых,
окружной суд оттого не может допустить совместно двух
защитников, что закон не предоставляет подсудимому
права иметь по одному и тому же делу несколько
защитников, что ст. 630 и 631 уст. угол. суд. прямо указывают,
что при судебном заседании должен находиться у подсуди-
137
мого один защитник. Остановимся на этом. Что такое
говорится в ст. 630 и 631? В них просто сказано:
«Прокурор или частный обвинитель, с одной стороны, и
подсудимый или его защитник, с другой, пользуются в судебном
состязании одинаковыми правами... Правами,
означенными в предыдущей статье, пользуется и гражданский истец
по всем предметам, касающимся его иска». Таким образом,
по букве выходит, что у подсудимого бывает только один
защитник, потому что в законе сказано «его защитник»,
а не «его защитник или защитники». Но если принять
такой взгляд, то на этом же основании можно сказать, что
на суде гражданском не может быть адвоката у
тяжущегося, потому что в законе везде говорится: тяжущийся
представляет такие-то бумаги, делает то-то. Мало того,
если привязываться к грамматике до такой степени, что
если в законе сказано защитник подсудимого, то на этом
основании по букве закона подсудимый не может иметь
двух защитников, то, следуя такой системе, я могу
доказать, что половина русских подданных не наказуема за
преступления, именно все женщины, потому что в
Законах везде говорится: виновный в убийстве, виновный в
краже, а не виновная в убийстве или виновная в краже.
Но, вникая ближе в смысл приведенных узаконений, мы
увидим, что выражение «его защитник» имеет
отвлеченный смысл — защита; можно сказать, что несколько
солидарных между собой защитников представляют
все-таки одного защитника. Если сказано, что чиновник, когда
болен и не ходит в должность, должен представить
свидетельство врача, следует ли принять бумагу, которая
подписана несколькими врачами? Я нахожу ссылку
окружного суда на буквальное выражение закона не
выдерживающей ни малейшей критики. Пойдем далее.
По мнению окружного суда, потому еще нельзя иметь
двух защитников, что на основании ст. 567 уст. угол. суд.
даже «для двух и более подсудимых по одному и тому же
делу может быть назначен один общий защитник»,
впрочем, только тогда, когда существо защиты одного из
них не противоречит защите другого. Но что такое
определяет закон, говоря, что для двух и более обвиняемых
по одному и тому же делу может быть назначен один
защитник, если защита одного подсудимого не
противоречит защите другого? Он определяет minimum, а вовсе не
maximum; он говорит, что может быть и 1/2 защитника,
т. е. один защитник на двух подсудимых, если защита
одного не противоречит защите другого. Но разве
определением *не менее следует исключить всякое более? Это
138
противно и логике, и математической теории неравенства;
коль скоро мы говорим, что такая-то вещь не менее
этого, мы про то, что она не более того-то, ничего не
говорим. Перехожу к следующему пункту объяснения
окружного суда. Он полагает, что подсудимый не может иметь
совместно двух защитников, основываясь на том, что
допущением нескольких защитников для одного
подсудимого нарушалось бы равенство сторон обвиняющей и
обвиняемой. Здесь, признаюсь, я ничего не могу понять.
Что это за равенство? Разве суд — турнир, в котором
нельзя одному сражаться против двоих, но каждый
должен сразиться с одним противником? Если признать
означенную теорию равенства, то последствия ее будут
чрезвычайно любопытны. Равенство на суде, где дерутся
не материальным оружием, а оружием разума,
заключается не в количестве, но в качестве; следовательно, по
теории равенства защитник должен быть не сильнее и не
слабее прокурора. В каком же положении будет суд,
если ему придется искать всякий раз прокурора,
равного защитнику, и защитника, равного прокурору? В таком
случае редкий процесс не подвергнется кассации: то
скажут, что прокурор, обвинявший человека, известный
своим умом, талантом и знанием, а защитник молодой
адвокат, не знающий хорошо законов, путающийся, не
умеющий ясно выражаться; борьба была неравна, надо
кассировать решение. То наоборот. Кроме того, окружной
суд позабыл, что даже количественного равенства в суде
не бывает беспрестанно; его не бывает, если судятся
несколько обвиняемых и каждый из них имеет своего
защитника: тут прокурор говорит один против нескольких
защитников, несколько человек ведут борьбу с одним.
Мало того, возьмем такой случай: обвиняемый имеет
одного защитника, но ему самому предоставляется
последнее слово, и вот против прокурора говорят двое.
Если добиваться количественного равенства, то никакой
уголовный процесс немыслим. Посмотрим на вопрос с
другой стороны. Обвиняемый имеет много случаев
сказать, что равенства нет. Во многих делах за
осуждением подсудимого, кроме уголовного наказания, следует
частное вознаграждение лиц, потерпевших от
преступления. Их может быть 15 человек, и каждый явится со
своим адвокатом. Ваш суд недавно признал всю
важность слова лица, имеющего право искать частного
вознаграждения. Оно должно говорить до постановления
приговора. Таким образом, против обвиняемого могут
говорить 16 человек: прокурор и 15 адвокатов, предъяв-
139
ляющих требования частного вознаграждения. Таким
образом, эта система равенства совершенно немыслима и
никогда не существовала; принятие ее повело бы к
разрушению всякого уголовного суда. Далее, окружной суд
говорит, что если допустить несколько защитников по
одному и тому же делу, то при этом могут произойти
со стороны их разноречивые требования. Этот пункт
заставляет меня несколько удалиться на время от разбора
мнения окружного суда. Всегда и везде, даже в древнем
мире, существовал принцип, что подсудимый не
ограничивается в числе и выборе защитников. У римлян
обвиняемый имел всегда несколько защитников, и принято
было общим правилом, что обвиняемому необходимо
иметь двух защитников; из них один был оратор,
который, так сказать, играл увертюру, произносил перед
народным собранием речь, в которой старался, на
основании политических и нравственных начал, представлять
дело в известном свете; затем говорил законник, юрист.
В Англии и до сих пор постоянно существует
общее правило, что у подсудимого бывает два защитника.
Что касается Франции, то мы обратим на нее особенное
внимание, потому что наши судебные уставы, в
особенности постановления о кассации, имеют всего более
сходства с французскими. Я ссылаюсь на колоссальный
сборник французской юридической науки и практики, на
репертуар Доллоза*. Доллоз именно разбирает вопрос,
который представляется в объяснении окружного суда,
что не могут возникнуть со стороны нескольких
защитников разноречивые требования, проще говоря, они
солидарны. Кроме того, он ставит еще другой вопрос: если
каждый обвиняемый может избрать 10, 15 защитников,
обвиняемых 20, судебное заседание будет бесконечно
тянуться. Он отвечает на это, что если обвиняемый и
найдет в среде адвокатского сословия защитников, которые
согласятся помогать ему как-нибудь затянуть дело, то
председатель суда обладает достаточной властью для
того, чтобы в случае, если второй защитник говорит
то же, что первый, остановить его. Мало того, у
французов, казалось бы, интерпретация закона должна
клониться скорее к тому, что двух защитников обвиняемому
иметь не следует, потому что в прежнем французском
кодексе, изданном во время республики, положительно
* Даллоз (Доллоз) Виктор-Алексис-Дезире (1795—1869) —
французский адвокат и политический деятель; известен как автор
многотомных юридических справочников.
140
было сказано, что обвиняемый может иметь одного или
нескольких защитников, а при новой редакции кодекса
вычеркнули выражение «или нескольких» и просто
сказали, что обвиняемый сам имеет право избрать себе
защитника (как у нас). Но Доллоз в 5-м томе своего
репертуара в статье «Defense» («Защита») говорит:
«Надобно ли заключить из молчания уст. угол, суд., что
обвиняемый может иметь.только одного защитника? Этого
нельзя полагать. Бывают процессы такие обширные и
сложные и при одном обвиняемом, что необходимо
пособие двух и даже многих защитников. В Англии каждый
обвиняемый обыкновенно имеет двух защитников. То, что
в обычае у многих соседей, часто бывает и у нас, и
бывает таким образом, что обвиняемые и защитники
видят в этом неотъемлемое право, а *не одну терпимость
председателя». Вот как выражается в этом отношении
французская доктрина. Если так делается в целом мире,
стало быть, такая теория не противна и не может быть
противна никаким общим началам. Подобные случаи
бывают в^ медицинской сфере. Разве человек больной
должен непременно лечиться у одного медика и не может
пригласить двух? Скажут, что взгляды их могут быть
разноречивы. Разумеется, странно, если бы один медик
лечил больного от одной, а другой от другой болезни. Но
их пригласят для того, чтобы они согласились в
убеждениях, чтобы помогали друг другу советами; тогда дело
другое. Разве этого не встречается в сфере
дипломатической? Обыкновенно представляет монарха и страну
один посланник, но коль скоро начинается дело
особенной важности, например заключение трактата, тогда
назначают двух посланников с разными полномочиями; так,
например, наше правительство посылало в 1856 году на
парижский конгресс двух уполномоченных, графа Орлова
и барона Бруннова. Разноречие во взглядах двух
посланников может быть, но оно устраняется соглашением
между ними и инструкциями; каждый умеряет крайности
другого и помогает ему своими советами. Этим способом
надеются достигнуть более зрелой мысли. Итак, куда ни
обратимся, мы встречаем этот принцип совместного
действия двух или нескольких лиц. Разноречия не может
быть. Когда люди преследуют одну цель, они должны
согласиться на известных пунктах. Для защитников есть
притом начало, которое ведет их к соглашению, есть
общий знаменатель — сам подсудимый. Таким образом,
я нахожу, что мотивы, выраженные Московским
окружным судом, и в подтверждение того, что по нашим зако-
141
нам подсудимый может иметь только одного защитника,
не выдерживают критики. Господин обер-прокурор
говорит, что хотя он находит мнение окружного суда не
вполне справедливым, но что действия председателя
окружного суда относительно назначения Данилову защитника
не могут быть кассационным пунктом на том основании,
что Данилов не мог просить, чтобы суд назначил ему
защитником сверх Доброхотова еще и Соловьева, потому
что каждый подсудимый может просить одного
защитника. Но когда Соловьев отказался, тогда председатель
назначил Доброхотова, и суд не...
Обер-прокурор (прерывая). Позвольте мне сказать
одно слово. Я не имею права опровергать речь господина
защитника, но именно оттого, что не имею права
говорить после вас, г. Лохвицкий, я должен теперь заявить,
что вы повторяете не то, что я сказал, что вы придаете
моим мыслям не то значение.
Лохвицкий. Поправьте, ваше превосходительство...
Если этого не было сказано, тем лучше. Я понял слова
господина обер-прокурора в том смысле. Если это не так, я •
представляю соображение, которое, как мне кажется,
может родиться при решении вопроса. Окружной суд
говорит, что Данилову был назначен один защитник и он
не имел права просить другого. Допускаю на время, что
защитником Данилова назначен был один Доброхотов,
но коль скоро председатель суда от подсудимого, в
особенности несовершеннолетнего, получает записку с
просьбой назначить по трудности дела еще и другого
защитника, Соловьева, как могло не прийти на мысль
председателю, что обвиняемый недоволен назначенным
защитником? Зачем он не сказал: двух защитников вы не
можете иметь, но одного я позволю переменить; итак,
избирайте или Доброхотова, или Соловьева? Или он
должен был сказать: я вам могу назначить только одного
защитника, если хотите иметь еще другого, вступите с
ним в соглашение. На деле представляется вовсе не то.
Доброхотов не есть защитник, выпрошенный Даниловым
у председателя Люминарского, а, напротив, защитник,
назначенный председателем, которого председатель сам,
по собственной инициативе, дал Данилову; поэтому
председателю оставалось взять назад своего защитника, если
он не считал возможным допустить двоих, но объявить
Данилову: двоих мы не допускаем, довольствуйтесь тем,
кого я прислал, — не имел права. Говоря, что
председатель по просьбе подсудимого назначает ему защитника,
закон хочет оградить сословие присяжных, чтобы их не
142
слишком часто тревожили, почему дозволяет назначать
одного защитника для двух и более подсудимых по
одному и тому же делу, но й здесь не связывает безусловно
председателя и не дает права присяжным поверенным,
когда дело важное, запутанное, сложное, говорить: мы
не хотим защищать вдвоем, пускай будет защитников
один. Между тем, назначив от себя, помимо просьбы
обвиняемого, защитником Доброхотова, председатель
именно нарушив постановление закона о том, что подсудимый
имеет право сам себе избрать защитника. Данилов
желал иметь своим защитником Соловьева, который сам
считал себя защитником Данилова, как видно из газеты
«Москва» от 4 февраля. Но председатель окружного
суда сказал: мне до этого дела нет, я поступок Соловьева
передал на рассмотрение совета присяжных. Мне
кажется, что если мы вникнем в сущность дела, вместо того
чтобы останавливаться на форме, то увидим, что
председатель суда по закону должен оказывать обвиняемому,
в особенности несовершеннолетнему, всевозможное
содействие к его оправданию. А какая высшая, лучшая
гарантия для обвиняемого, нежели не та, чтобы иметь
защитника по выбору? В самом деле, защитник,
назначенный судом, официальный, не может возбудить к себе
такого чувства доверия в подсудимом. Он может исполнить
свое дело добросовестно, и я прямо говорю, что г.
Доброхотов исполнил его добросовестно, но будет ли у него та
сердечная влага, при которой слова могущественно
действуют на судей и в особенности на присяжных, какая
бывает у защитников, которые свободно были
приглашены подсудимыми, сошлись и согласились с ними. Он
назначен не по своей воле, он может быть недоволен
назначением; дело, по его мнению, не представляет никаких
удовлетворительных сторон для защиты; он холодно
исполнит свою обязанность. Наконец, на суде присяжных,
когда является перед нами обвиняемый, который не мог
сам найти себе защитника, которому защитник дан
председателем, это производит эффект не совсем хороший для
подсудимого, разве он совершенный бедняк или невежда,
который не понимает значения защиты. Подсудимый
тогда является перед присяжными вроде неизлечимого
больного, которого никто не хочет лечить. Присяжные
могут видеть в такой защите только один обряд; могут
думать, что защитник является не для того, чтобы
оправдать подсудимого или облегчить его участь, но для того
только, чтобы была соблюдена форма, был исполнен
обряд, для того, чтобы, так сказать, пропеть отходную. Это
143
положение невыгодное, и в такое положение именно
поставил председатель Люминарский Данилова, назначив
ему защитником Доброхотова. Таким образом,
рассматривая вопрос о защите, я нахожу, что относительно
Данилова сделано прямое нарушение закона властью
председателя назначать защитника, лишением его
возможности иметь защитника по выбору. Он мог именно от
одного этого проиграть свое дело. Вот главный
кассационный пункт, на котором основана просьба Данилова о
кассации решения по его делу. Я бы желал, чтобы, в случае
кассации, она началась с самого конца обвинительного
акта, потому что в конце его произведено уже было
превышение власти судебной палатой и нарушение
равенства между сторонами действительно не количественного,
а качественного равенства, между защитой и обвинением.
Более я ничего не могу сказать, потому что при просьбе
о кассации я не могу указать сами обстоятельства дела,
на пропуски, которые, впрочем, вам знакомы из чтения
представленного в подлиннике дела. Но, строго следуя в
этом отношении закону, я не считаю нарушением его
сказать то, что во всех странах мира, где существуют
кассационные суды, подобные нашему, хотя везде
принято, что кассация может иметь место только при
нарушении существенных обрядов и форм, каждый, кто
внимательно следил за процессами, например французскими,
знает, что очень часто бывает кассация в тех случаях,
когда на взгляд юриста не было существенных
нарушений, но когда само дело возбуждает некоторое сомнение
по своей неполноте, когда совесть не вполне убеждена,
что действительно все так произошло, когда можно
думать, что новое производство может все-таки что-нибудь
сделать. Кассационные судьи все-таки люди. Это имеет
влияние на них и смягчает в некоторых случаях
строгость постановлений о кассации. Это не может уронить
значение юстиции потому, что если для юстиции важно,
чтобы решения присяжных не были часто отменяемы для
сохранения должного уважения к суду присяжных, то
еще важнее опасение, чтобы не был невинный осужден
или человек, хотя и виновный, не был присужден к
чрезмерному наказанию не за то деяние, которое он сделал.
В этом случае лучше смягчить строгость постановлений
о кассации, нежели иметь в виду неисчислимые
бедствия, которые могут произойти от строгого толкования
постановлений о ней. Позволяю себе напомнить вам еще
одно обстоятельство. Вы, господа сенаторы, недавно
кассировали решение суда по делу Прялошникова с товари-
144
щами. Точно так же в этом случае был суд присяжных и
сложная процедура. Решение было кассировано на том
основании, что защитнику гражданской стороны не было
дано слова до произнесения приговора, между тем как
гражданский истец не есть существенная часть
уголовного производства. Обвинитель, защитник, судьи,
присяжные необходимы, но гражданский истец может быть и не
быть; от воли потерпевшего, от преступления совершенно
зависит предъявить иск о вознаграждении или не
предъявить; закон дае*г ему только право, а не обязанность, и
вместе с тем, говоря о требовании вознаграждения, истец
касается самого преступления. Я, со своей стороны,
разделяю мнение, утвержденное вами, что когда в деле есть
два обвинителя, один коронный прокурор, а другой
частный, который требует вознаграждения, и когда права
частной стороны не были уважены, то должна иметь место
кассация. Но позвольте же сказать, что дело, которое я
защищаю, несравненно важнее. Судом было нарушено право
защиты — священное право, которое важнее, нежели
право гражданского обвинителя, потому что если есть
бедствия, когда злодей не получает должного наказания,
то бедствия несравненно более громадны, когда
'невинный подвергается наказанию. Если вы были так точны
в отношении охранения прав обвиняющей стороны,
будьте на этот раз так же точны в охранении прав
защиты.
Позвольте мне присоединить, что все то, что я говорил
о кассации, сказано мной не по одному чувству долга,
как защитника, но что я вполне разделяю в уме и совести
убеждение, что производство Московского окружного
суда по делу Данилова непременно следует кассировать.
Позвольте прибавить два слова относительно последнего
пункта кассации, которые я пропустил в жару речи.
Наша судебная практика, хотя очень молодая,
представляет уже пример допущения двух защитников, с согласия
их самих и подсудимого. По делу о подделке серий,
которое было судимо в 5-м департаменте, когда в числе
членов был один из господ сенаторов, находящийся
теперь среди вас, были для обиняемого, Гаврилова,
допущены совместно два защитника: гг. Самарский-Быховец
и Турчанинов. Кроме того, позвольте сделать еще одно
замечание: обвинение может иметь также двух
представителей; прокурор может являться с товарищем для
совместного обвинения. Это также было на практике: в
Верховном уголовном суде во время процесса над Карако
зовым и его сообщниками господин министр юстиции
145
в качестве генерал-прокурора явился с товарищем, что
могут подтвердить находящиеся здесь присяжные
поверенные. Если признать незаконным бытие двух
защитников, то придется признать незаконным бытие прокурора с
помощником, который может заменить его в
продолжительном заседании.
Определением Сената жалоба подсудимого была
оставлена без последствий.
ДЕЛО
ИГУМЕНЬИ
МИТРОФАНИИ
Ох эта гласность — ее превращают
во зло.
Игуменья Митрофания
5—19 октября 1874 года в Московском окружном
суде с участием присяжных заседателей слушалось дело
по обвинению в подлогах, мошенничестве, в присвоении
и растрате чужого имущества начальницы Московской
епархиальной Владычне-Покровской общины сестер
милосердия и Серпуховского Владычного монастыря
игуменьи Митрофании и купцов П. В. Макарова, А. П. Ма-
халина, Я. Г. Красных, зубного врача Л. Д. Трахтен-
берга за соучастие в этих преступлениях.
Игуменья Митрофания (в миру баронесса Прасковья
Григорьевна Розен) родилась в 1825 году в семье
генерал-адъютанта Розена. В детстве играла с великими
князьями. Затем ее отец был переведен командующим
Кавказским корпусом, и несколько лет семья провела
в Тифлисе. Возможно, представление о
вседозволенности и пренебрежительное отношение к закону она
приобрела в семье. Характерно, что ее отец был
освобожден от должности командующего Николаем I во
время его поездки на Кавказ за попытки прикрыть
преступления своего зятя, мужа сестры П. Г. Розен князя
Дадиани. Молодость, Прасковьи Розен прошла так же,
как у всех девушек большого света: основная часть
времени отдавалась балам и приемам. Правда, еще она
была хорошей наездницей и занималась живописью. По
ее словам, она была одной из любимых учениц
художника Айвазовского. Под влиянием некоторых случайных
обстоятельств она постепенно стала вовлекаться в
духовную и благотворительную деятельность церкви. В
1854 году постриглась в монахини, а в 1861-м посвящена
в игуменьи Серпуховского монастыря. Она энергично
руководит вверенной ей обителью, многое делает для
147
Игуменья Митрофания.
повышения материального благосостояния монастыря,
организации школы и больницы, преступая при этом и
закон Божий, и закон государственный.
Обвинение против игуменьи выдвинули трое
потерпевших: Медынцева, Лебедев и Солодовников.
Медынцева состояла под опекой, которая была учреждена по
требованию мужа из-за ее постоянного пьянства и
расточительного образа жизни. Желая освободиться от
опеки, Медынцева искала поддержки у игуменьи Митрофа-
нии. Но та, не сделав для Медынцевой фактически
ничего, обманным путем получила с нее с помощью
Макарова и Трахтенберга долговых обязательств на имя Трах-
тенберга, Махалина и Красных на общую сумму 300
тысяч рублей. Во время следствия выяснился и факт
подделки игуменьей векселей на несколько десятков тысяч
рублей петербургского купца Лебедева, которого она
знала по совместной деятельности в Петербургской
общине сестер милосердия. И наконец, игуменья
Митрофания была уличена в вымогательстве денег и подделке
подписей на векселях и других документах купца Соло-
148
довникова, который обратился к ней с просьбой
защитить его от обвинения в скопчестве. После смерти
Солодовникова она предъявила его наследникам иск на
сумму 460 тысяч рублей, но гражданский суд этот иск
отклонил, так как вызывали сомнения представленные
истицей документы.
Дело слушалось под председательством П. Л. Дрей-
ера. Обвинение поддерживали прокурор Жуков и
товарищ прокурора Смирнов. Поверенными гражданских
истцов выступили А. В. Лохвицкий, Ф. Н. Плевако,
М. Ф. Громницкий и др. Игуменью Митрофанию
защищали присяжные поверенные С. А. Щелкан и С. С. Шай-
кевич, Махалина — присяжный поверенный В. М.
Пржевальский.
Речь поверенного гражданского истца
присяжного поверенного Ф. Н. Плевако
Господа судьи, господа присяжные заседатели!
Пришло время свести счеты игуменьи Митрофании по делам
с Солодовниковым и Медынцевой, за которых я пришел
ходатайствовать на суде. Пришло время решить: клевета
врагов или темнота собственных поступков привели
игуменью и весь этот штат на скамью подсудимых.
Десятидневное, доказанное вашими запросами, внимание
к делу обязывает меня щадить ваше время, и вы
позволите мне прямо вступить в середину этого дела, прямо
заняться решением существенного вопроса процесса.
Хороши ли документы, написанные от имени
Медынцевой, не взяты ли они задними числами, когда она была
под опекой, выманены путем обмана и пущены в свет с
целью разорить ее?
На этот вопрос нет возражения. Особенность
процесса Медынцевой в том и состоит, что подсудимые не
отвергают обмана, только стараются свалить зло с одной
головы на другую. От хорошей вещи, от честного дела
никто не отказывается; хорошую вещь не прочь иметь
и тот, кому она не принадлежит. А здесь мы видим не то:
всякий чуждается этих векселей. Спрашиваем Трахтен-
берга: «Ваши эти векселя?» — «Нет, нет, это матушка
мне их дала». Спрашиваем Красных: «А на ваше имя
писанные — ваши?» — «Нет, мне матушка велела
написать, я написал и ей отдал». Макаров тоже отмахивается
рукой в ее сторону, а игуменья, в свою очередь, валит
вину на Макарова, Трахтенберга и Толбузина...
149
Есть векселя, писанные на подрядчиков общины и на
монахинь, но и те в один голос отвечают, что с
Медынцевой векселей не брали, дел не имели и что до опеки она
была им неизвестна. Казалось бы, при таком порядке
вещей следствие должно было остановиться на тех, на
чьи имена писаны векселя. Но, к чести правосудия, оно
не оставалось на внешности, на орудиях преступления;
оно проникло вглубь, отыскало действительных
виновников, отыскало душу преступления и предложило труды
свои вашему вниманию. Следствие доказало вам, что
было время, когда Медынцева, отданная под опеку, жила
у игуменьи Митрофании и подчинялась ее влиянию.
Защита не оспаривает подобной черты характера
Медынцевой и в течение этих дней очень часто обращала
внимание на то, что и сейчас Медынцева подчиняется слепо
влиянию тех, кто ее окружает и кому она верит.
Медынцева была такой и тогда, и игуменья имела все средства
взять с нее бланки. Но когда они взяты? Обвинение
предполагает, что это случилось в квартире Трахтенберга,
когда взяты были с нее подписи на продолговатых белых
бумажках. Я не стану поддерживать этого положения.
Медынцева, с полной откровенностью показавшая о
деле, что она помнит, рассказала, что всегда и везде
бесконтрольно подписывала все, что ей приказывала
игуменья; но, рассказывая, что она помнит, она сочла
долгом не утверждать того, что эти белые бумажки были
векселя.
Не уловив момента, когда были взяты бланки,
обвинение и потерпевшая сторона ничего от этого не теряют.
В дальнейшей судьбе векселей, в их пользовании и
способе обращения их выясняются люди, кому эти векселя
были надобны, и средства, какими они пользовались при
этом.
У нас факт, что текст векселей в большинстве написан
измененной рукой игуменьи, в чем она здесь созналась,
хотя и отрицала это на следствии, — факт, что они
написаны на имя ее послушниц, на имя ее подрядчиков и
ее спутников в делах — Махалина, Трахтенберга. Каким
же образом могло случиться, что обманывали
Медынцеву Трахтенберг и Толбузин с Макаровым, а на векселях
появлялись не отвергаемые ее послушницами
безоборотные бланки и собственноручные тексты игуменьи?
Игуменья говорит, что тексты и бланки были заранее
написаны для дел Смирновых, что эти тексты и бланки исчезли
и ими злоупотребили ее бывшие друзья и ближние.
Неправдоподобное объяснение! По делу Лебедева игуменья
150
Ф. Н. Плевако.
говорила другое, что она, напротив, любительница на
случай нужды брать с купцов бланки без текста, а здесь
уверяла, что у нее заранее заготовляются, на случай
надобности, тексты без всяких подписей.
Затем, есть или нет правды в объяснениях игуменьи
о похищении бланков, но написанные задним числом и
выманенные у Медынцебой подписи на векселях в начале
1873 года все собираются в руках игуменьи. Это время
сушкинской сделки. Она очень характерна. В ней мы
увидим всех действующих лиц этой обирающей Медынцеву
компании и единодушную работу для этой цели.
Из слов Ушакова вы знаете, что на 150 тысяч рублей
векселей Медынцевой он свез к Сушкину. Сушкин не
изумлялся, не сомневался: от игуменьи он уже знал о
товаре, ему предложенном. За векселя он заплатил полтину
за рубль, заплатил товаром, который ценил втридорога;
и свидетели обвинения, и свидетели защиты единогласно
свидетельствуют о чудовищном барыше, о
ростовщической жестокости Сушкина, который захотел
попользоваться 150 тысячью рублями Медынцевой, заплатив за
151
это много-много по 30 или 35 копеек за рубль. Куда
же пошли вырученные деньги? В общину и к Макарову
Из чего состояли векселя? Из векселей руки Митро-
фании и прибавленного десятого векселя, писанного на
имя Яненко, свояченицы Макарова. Эта Яненко признает,
что она писала его по просьбе Макарова. Прежде она
говорила, что подпись Медынцевой уже была, на суде
она отступила от прежнего показания, она сказала, что,
когда текст был написан, подписи не было. Мы не верим
этому; это показание подделывается под объяснение
Макарова, на суде утверждавшего, что этот вексель без
подписи он вручил игуменье, а та уже добыла подпись
Медынцевой. Мне кажется до очевидности ясным, что
Макяров был владельцем этого векселя, что он просил
Яненко, как она и показала на следствии, вписать текст.
Зачем же он попал к нему? Да недаром же Макаров,
опекун Медынцевой, помогал игуменье и Сушкину
обобрать Медынцеву. Что за бескорыстное служение злу! И
вот вексель на имя Яненко и часть денег, уплаченных
Ушаковым Макарову и Порохонцеву, обличают
Макарова. Нет сомнения, что бланк Медынцевой есть дар,
предложенный Макарову за содействие при сбыте векселей
опекаемой. И поработал Макаров! В опекунских бумагах
мы читаем запрос Сушкина о достоинстве векселей
Медынцевой; такой же запрос опекуна Медынцевой и ее
покорное признание, что эти векселя действительны и
писаны в 1869 и 1870 годах, до опеки. А ведь о том, что
эти векселя дурны и эта подписка Медынцевой неверна,
никто не спорит. К чему же было лгать себе во вред
Медынцевой? Подписка эта могла быть взята или
принуждением, или на заранее подписанном бланке, данном
Макарову. Но Медынцева не обвиняет Макарова в
принуждении и взятии бланков; следовательно, этим
материалом его ссудила та личность, которая владела такими
бумагами, а личность эта — игуменья, по свидетельству
ряда лиц, здесь допрошенных.
Этим работа не кончилась. Домашние подтверждения
недостаточны для Сушкина, и Макаров задумал взять
с Медынцевой подтверждение нотариальное, чтобы ни
время, ни место взятия бумаги не подлежали
сомнению. Является к Медынцевой нотариус Подковщиков и
берет заявление. Макаров сидит уже у Медынцевой и
дает ей совет подписать заявление, обнадеживая ее
ничтожностью этой бумаги. Никого другого, кто бы, по-
видимому, от игуменьи дожидался этой бумаги,
нотариус не видел. Кто же, как не Макаров, брал эту бумагу?
152
А в это время не дремлет и игуменья. Обеспеченная
первым завещанием Медынцевой, совершенным у
нотариуса Рукавишникова, в пользу общины, игуменья заменяет
это завещание другим. Медынцева едет в Серпухов и при
участии священников Владычного монастыря в качестве
свидетелей совершает завещание, где специально
подтверждает свои до опеки данные долги, долги, которых,
по общему сознанию всех, не существует. Не
Медынцевой нужна была эта ложь, а тем, кого это касалось. Что
завещание есть дело игуменьи, это несомненно; оно у нее
и хранилось до сих пор. Что этим завещанием-
укреплялись интересы Сушкина — ясно; что с этой целью оно
писалось — несомненно. Значит, в Серпухове хлопотали
о Сушкине и интересовались им.
Получив эти векселя, Сушкин хорошо понимал, что
они низкой пробы. Как же поправить дело? Придумано
недурно: Сушкин, старожил московский, хорошо
знающий, что Медынцева живет в Москве, знающий это от
ее опекунов, с которыми вел переговоры до покупки
векселей, вдруг усылает векселя для взыскания в Курск,
Орел и Тамбов. Переезжая из города в город, его
услужливый поверенный заявляет, что Сушкину неизвестно
местожительство Медынцевой, и вызывает ее через
«Сенатские ведомости». Кто из граждан читает эту газету?
Никто. Пройдет срок, и вот по закону суды постановят
заочное решение, оно войдет в законную силу. Сушкину
выдадут исполнительные листы, с которыми уже спорить
нельзя, и деньги отдать придется. Но, к счастью, в лице
опекуна Гатцука и поверенного Иванова Медынцева
встретила защиту. Было доведено до сведения властей о
подковщиковской бумаге, и приняты законные меры к
уничтожению вредных последствий. Тогда пошла другая
работа, направленная к тому, чтобы устранить вредных
людей, а вредные люди те, кто мешает обобрать
Медынцеву. Вы знаете, что старались сместить Гатцука:
именем Медынцевой, без ее воли, уничтожают в
«Полицейских ведомостях» доверенность, данную Иванову. «За что
же вы лишаете меня полномочия, не я ли спас вас от
разорения, задуманного Макаровым?» — спрашивал он
доверительницу. Она изумлена. Она этого не делала.
Тогда делается в газетах новая публикация, и
обнаруживается ложь первой. Что же делает Макаров? Он спешит
заявить, что первая публикация была искажена, что
типография ошиблась. Публикация эта делается от имени
типографии, вроде извещения об опечатке. Но кто не
видывал, кто. не читывал «Полицейские ведомости»? Ска-
153
жите мне, случалось ли вам встретить редакторские
поправки в этой газете? Не помню такого случая. Поэтому
та особая щепетильность, с какой исправляется первая
публикация Медынцевой, не есть ли дело Макарова,
который увидел, что он нарвался в этом деле?
Я думаю, что дело Сушкина — общее дело игуменьи
и Макарова.
Векселя на имя Красных носят тот же след работы
игуменьи и Макарова. Красных признался, что игуменья
упросила его написать текст, указывая на благо общины;
игуменья факта не отвергает. А по передаче этих
векселей какой-то госпоже Тицнер, по словам того же
чистосердечно признающегося Красных, ведь уже не игуменья,
а Макаров потребовал расписки о продаже векселей
и получении расчета.
Кроме Тицнер оказались векселя еще на имя
несуществующего лица Карпова. От Карпова они переходят
к какому-то Мейергейму. Где этот Мейергейм? Кто он?
Этого, как и личности Тицнер, мы не могли узнать.
Вообще, кроме Сушкина, характер которого и жадность к
наживе мы достаточно изучили и которого смерть
освободила от ответственности, прочие владельцы куда-то
скрылись, куда-то бежали. Темные люди... Они охотно
вступили в темное дело и скрылись от опасности, выдав
одну игуменью, рассчитывая, не спасет ли ее сан и
положение, не удастся ли ей каким-нибудь способом обмануть
правосудие и выйти чистой. А если это свершится? О!
Тогда выползут они из своих нор и, осмеивая слабость
правосудия, начнут рвать в куски чужое добро и уже не
спрячутся, а гласно будут заявлять свое
местожительство, может быть, придадут ему блеск и роскошь на
добытые средства.
Но довольно об этом. Темное происхождение и
ничтожность добытых обманом векселей явны, явно и
участие подсудимых. Оно вызвало со стороны
Сиротского суда преследование, к нему присоединилась
Медынцева. Началась борьба. И какие же средства для этой
борьбы затеяла игуменья?
Игуменья подрывает значение следствия тем, что
поданная Медынцевой жалоба писана не ею, а мной, а ею
подписана. Да, это так. Но что же из этого? Разве
просьбы, подаваемые суду, пишутся теми, кто
подписывался? Разве вы, являясь к вашему поверенному или
знающему законы человеку, заставляете его под ваш
диктант писать нужные бумаги? Вы излагаете ваше
желание, просьбу, обстоятельства, а знающий человек или ад-
154
вокат даст отделку или форму бумаге. И мне странно, что
на это обращено внимание ваше не только подсудимыми,
но и защитой игуменьи. Разве в вашем портфеле о
вашей деятельности нет таких случаев, разве вы стесняете
себя способом выражения неразвитых просителей,
заявляющих свои справедливые, но неловко выраженные
просьбы? Адвокат не писарь: он обязан согласовываться
с желанием, а не развитием клиента.
Защита подрывает дело, указывает на нравственные
недостатки таких свидетелей, каковы Толбузин и
Ефимов, и ставит это в укор обвинению. Да разве они —
основа дела, разве на них держится дело и наше
требование? С доверием к Толбузину мы не относимся: два
года приближенный игуменьи, два года — наперсник ее
торгово-промышленных тайн, пособник ее в делах
Медынцевой, мог ли он остаться добросовестной личностью?
Он — улика, живое обличение игуменьи. Он страшен
нам, и опека ни минуты не сомневается в его вредном
влиянии на Медынцеву. Но на суд нельзя тянуть
человека нехорошего, пока не* уловят его в делах. А ведь
Толбузин именно и стоит в таком положении. Говорят, что
ему и Трахтенбергу дан был вексель на 6 тысяч рублей от
имени Медынцевой. Но ведь вексель этот нашелся не у
него, а у игуменьи и написан он на имя одного Трахтен-
берга. Он сознает, что расписку в 6 тысяч рублей
игуменья просила его написать на его имя, но мы ее не
могли найти. Словом, пока Медынцева была в руках
Макарова и игуменьи Митрофании, явилось на сотни тысяч
векселей, а теперь, пока не оторваны еще от Медынцевой
Ефимов и Толбузин, никаких обязательств не появляется.
А если эти люди, обойдя бдительность теперешней
опеки, сумеют воспользоваться Медынцевой, то разве
сегодня же закроется суд на Руси? Уйдете вы домой,
на ваши места сядут другие; вот эта решетка и скамья
подсудимых не уберется, мы не устанем просить тех, кто
займет ваши судейские места, о законности и
правосудии. Новая опека — опека энергичная. С передачей в
руки ее дел Медынцевой судебная власть встретила
поддержку и ни малейшего противодействия. Медынцева
в первый раз спокойна и довольна ею. Начинать же с
Толбузина и Ефимова было бы бестактно. Это маленькие
и неопасные злодеи.- Преследуя маленьких, мы даем
дерзость большим, а справившись с большими, до маленьких
дойти всегда успеем. Когда, войдя в кладовую, хозяин
выгоняет тайно забравшихся крыс, и мыши разбегутся
по норкам...
155
Далее адвокат разобрал показания инокинь и
показаниям монахинь Магдалины и Зинаиды противополагал
показание монахини Феодосии.
...Она сперва дала благоприятное для игуменьи
показание, но затем, мучимая совестью, показала
следователю, что она боялась депутата от духовного
ведомства, оттого и говорила, что вексель Медынцевой она
писала по приказанию игуменьи. Ее слова: «Я в
монастырь пошла не для того, чтобы лгать»; ее слова: «Я
под присягой лгать не могу...» — какой укор игуменье,
какое обличающее тайну ее обители слово!
От тех показаний, в которых есть все, кроме правды,
как разнится свидетельское показание архимандрита
Григория! Вот свидетель не из подвластных игуменье
Митрофании, свидетель, носящий на себе высокий сан
монашества и долг священства. Глядите, как он держит
себя на суде. Одно его слово за игуменью могло бы
поколебать обвинение, но он дорожит правдой и поэтому
ничего полезного не может сказать для обвиняемой. Той же
правдой дорожит и выше его стоящий архипастырь
митрополит Иннокентий, письмо которого мы прочли вчера.
Каждое слово, каждое выражение его знаменательно. Вы
помните, что игуменья, по словам владыки, два раза
привозила к нему Медынцеву. «Раз она была одета, —
говорит митрополит, — неприлично, крайне бедно, а другой
раз прилично». Слышите: не успела еще сшить ей
приличного платья, а везет уже к владыке. Зачем такая
торопливость? Ответ в том # же письме. «Игуменья,—
продолжает архипастырь, — сказала, что Медынцева
жертвует общине дома», что Медынцева подтвердила.
Вот зачем ее возила игуменья Митрофания. Не успела
одеть, а уже берет с нее дом. Заметьте еще, что у
владыки эта словоохотливая женщина, которая здесь
говорила так много о себе, о своей опеке, молчит и только
подтверждает чужую речь — речь игуменьи. Слышите ли
вы в этом ту деятельность, которую мы и доказываем,
что игуменья держала Медынцеву в руках и заставляла
ее только подтверждать ее слова, запрещая всякую от
себя исходящую беседу, всякое проявление своей личной
воли?
Вот когда началось дело с Николаем Медынцевым,
когда он ценой дома в 125 тысяч рублей и обязательств
на 50 тысяч рублей купил право говорить с матерью,
игуменья действует иначе: Николая Медынцева она с
собой не везет к владыке, а, по словам письма, только
доносит о нем архипастырю. Обвиняемая знала, что он ска-
156
жет, почему он решился на вынужденную жертву, и что
архипастырь не похвалит затей игуменьи.
Указав еще на несколько данных по делу против
подсудимых, адвокат так заключил свою речь по делу
Медынцевой.
Неприглядная картина рисуется пред вашими
глазами, когда мы вспомним все, что проделывалось с этой
женщиной и кем проделывалось! Игуменья — душа этого
дела; темные личности вроде тех, кого она привела с
собой на скамью, и тех, чьи имена так часто повторялись
на суде — Фриденсоны, Сушкины, Тицнеры, Мейергей-
мы, — ее друзья и сообщники сомнительных денежных
сделок. Инокини — векселедержательницы и бланко-
подписательницы и потом услужливые ее свидетельницы
на суде, и какие, к стыду своему, свидетельницы! Верь
после этого внешности! Путник, идущий мимо высоких
стен Владычного монастыря, вверенного нравственному
руководительству этой женщины, набожно крестится на
золотые кресты храмов и думает, что идет мимо дома
Божьего, а в этом доме утренний звон подымал
настоятельницу и ее слуг не на молитву, а на темные дела!
Вместо храма — биржа, вместо молящегося люда —
аферисты и скупщики поддельных документов, вместо
молитвы — упражнения в составлении вексельных текстов,
вместо подвигов добра — приготовление к ложным
показаниям, — вот что скрывалось за стенами. Стены
монастырские в наших древних обителях скрывают от монаха
мирские соблазны, а у игуменьи Митрофании не то.
Выше, выше стройте стены вверенных вам общин, чтобы
миру было не видно дел, которые вы творите под
покровом рясы и обители!
Игуменья говорит: «Не для себя, для Бога я делала
все это!» Я не знаю, для чего совершали это ограбление,
но Богу таких жертв не надо. Каинова жертва не может
быть Ему приятна; лепта добровольного приношения
вдовицы Ему лучше золота фарисейского. Ей это известно
лучше нас, так пусть же не прикрывается она этим,
пусть кощунством не обморачивает умы. Пусть ее дела во
всей наготе своей свидетельствуют на нее и на друзей ее!
Солодовниковское дело, этот венец дел игуменьи, по
выражению обвинительной власти, имеет ту особенность,
что подсудимой не на кого сбрасывать вины. Люди ме-
дынцевского кружка давно оказались ненадежными,
дерзость преступления могла смутить преданных ей инокинь;
пришлось все совершить одной, доверив лишь часть
тайны Махалину. Если же сбрасывать вины не на кого, то
157
осталось одно средство — отрицать преступление,
отрицать до крайности, с невозможной, раздражающей
смелостью, отбиваться средствами отчаянной схватки,
которые сами по себе обличают подсудимую в том, в чем
ее обвиняет прокуратура и за что преследуем мы. Вы
слышали, что чудовищная масса векселей на 460 тысяч
рублей, ряд расписок на 35 тысяч рублей, на 50 тысяч
рублей, на 200 тысяч рублей, две по 250 тысяч рублей и,
наконец, расписка на 580 тысяч рублей — вот творение ее
рук. Сумма, далеко превышающая все состояние Соло-
довникова, — вот приписываемая ему жертва. Сотни
писем и записок, будто бы им писанных, писанных, когда
он еще был жив, и направленных на то, чтобы подорвать
настоящее дело, — вот средства ее борьбы.
Мы усомнились в этой жертве и начали борьбу. Что
же сказало следствие в нашу защиту?
Обзор документов, сделанный вами и экспертизой,
показал, что мы имеем дело с подлогом. Вы слышали
слово экспертов: никогда еще на суде не раздавалась
такая энергичная, такая богато мотивированная речь
сведущих людей по этого рода делу. Потратив несколько
дней напролет на самое тщательное изучение рукописей
настоящего дела, оказав своими ответами по делу
Лебедева и по вопросу о сличении почерков игуменьи на
разных векселях осторожность, они резко и решительно
высказались о подлоге документов Солодовникова и его
писем. Литограф Бекан взялся на суде публично
изложить ход мысли экспертов и указать на материалы,
которые дали основание их мнению. Он чертил вам буквы,
как их пишет Солодовников и как они написаны в
подложных бумагах, и вызывал защиту указать отступления
или исключения. Она не нашла их. Он открыл вам, что
под подражанием руке Солодовникова, старческой,
дряблой, но весьма оригинальной, скрывается рука, пишущая
прекрасно, владеющая почти искусством каллиграфа. То
же сказали и другие эксперты. Они сказали и доказали
вам, что, кроме неумения писать, Солодовников не знал и
правописания, и привели рельефные примеры на словах
«генварь», «дикабрь», которые написаны правильно лишь
в документах игуменьи. Они указали вам, что
Солодовников писал свое отчество всегда «Грасимович», сливая
оригинально букву «е» и букву «р» в одну букву, а на
подложных документах везде написано «Герасимович».
Эти указания весьма важны. В самом деле, отчего
Солодовников, всегда пишущий одним почерком, только для
игуменьи переменил его, отчего, всегда пишущий не-
158
e0£^k~~r*fy*.
&"ppfp+t-*M> '•£%?)*■ -
■*£rfL.-#*& f-ft**^ 'ft *W-«i/i»*« /f^f ^^уу^ ^.-^4»^.* *** *|!*гД«Ч
£
Г"
^
V^y «яе* ,**.***.*.*. ■*
*<*Ы<£*
^>Жь
т
'с* -c-rt-j*-**,^ «ИЧй«-**~;
Прошение игуменьи Митрофании в Петербургский окружной суд.
правильно, только для игуменьи Солодовников пишет и
отчество свое, и название месяцев безупречно в
грамматическом отношении? Ответ один — оттого, что не Со-
лодовникова, а чужая рука, умеющая писать как
каллиграф, знающая грамматику, потрудилась за него.
Хорошо пишущий может еще иногда писать дурно, но
чтобы Солодовников, до 70 лет писавший дурно, связно,
так, что трудно читать, вдруг бы с 18 декабря 1870 года
по 5 января 1871 года стал писать каллиграфически —
это невозможно и прямо изобличает подделку. Точно так
же вдруг появившаяся грамматическая правильность в
названии месяцев, правильность, исключительно
замеченная в документах игуменьи и не повторяющаяся в
современных подделке бесспорных документах, может быть
объяснена лишь преступным происхождением
документов. А характерная манера писать «Грасимович» вместо
«Герасимович» разве не улика? Правда, защита
обращала ваше внимание на то, что подделыватель не станет
настолько свободно отступать от оригинала. Но защита
забыла, что единственный бесспорный документ —
расписка в 6 тысяч рублей, бывший в руках игуменьи и
подписанный именем, отчеством и фамилией, был ею
подан ко взысканию еще в 1871 году, при жизни Солодов-
никова, когда о подделке она еще и мысли не имела,
оттуда он, оплаченный тогда же, перешел к нам, и у
игуменьи не было подписанного отчеством оригинала. У нее
оставались письма Солодовникова, которые ей и служили
оригиналами, а в письмах отчеством не подписываются;
вот почему ей слово «Герасимович» пришлось
воспроизводить по отдельным буквам и оно изобличило ее.
На экспертизу, конечно, будут нападки, будут
говорить: что за наука чистописание! Но, господа, не всегда
научные сведения необходимы для суда; бывают
предметы и вопросы, где спорный вопрос есть вопрос
ремесленный, где хороший мастер — лучший эксперт дела. Едва
ли портной не лучше всех решит вопрос о прочности
шитья; едва ли мастер фабрики не лучше всех укажет
достоинства и недостатки изделий, которые он
производит. Чистописание — не наука, письмо — не премудрость,
но все же никому, как лицам, занимающимся обучением
письму, исправлением почерка, лицам, постоянно
воспроизводящим в качестве граверов и литографов чужие
письмена, так не знаком навык видеть малейшие
особенности почерка и находить сходство и несходство в
сравниваемых рукописях. Бекан — эксперт, вызванный
самой защитой, сверх того доказал, что может сделать лю-
160
бовь к делу и добросовестное исполнение обязанности;
он показал, что не сразу, не с первого впечатления, а по
сличению и сравнению всех особенностей, давая
заключение о деле, экспертиза письма может иметь убеждающее
значение в процессе. Сама защита почувствовала силу
этой экспертизы и прибегла к решительному испытанию
ее: с разрешения суда она предлагала г. Бекану
несколько действительных и фальшивых писем Солодовникова,
с тем чтобы он различил их, и вы помните, с каким
торжеством вышел из этой борьбы эксперт. На такую
экспертизу можно положиться. С знанием она соединила и
нравственное достоинство: энергичные, прекрасно
мотивированные ответы ее говорили ясно, что мы имее^ дело
с людьми, убежденными в правоте своего мнения. От еди^
ногласной экспертизы отделился только один Михайлов.
Один он твердил, что везде и во всем он видел полное
сходство. Почему, невольно задавали мы вопрос, вы
держитесь особого мнения? Но ответа не получали. Его
письменное мнение лишено было всякой попытки на
определенность, его ответы вы сами помните. Когда же после
Бекана предложили и ему объяснить ход его мыслей, то
он для объяснения своего мнения Представил
предположения о том, что Солодовникову кто-то указывал, как
писать отчество, когда он писал векселя игуменьи, что
расписки он списывал с какого-то оригинала, словом, ряд
таких выводов, которые не решалась поддерживать
даже сама обвиняемая. Я не верю этому эксперту, да и
вы не поверите. Экспертиза требует двух качеств: знания
дела и добросовестности. Без знания невозможно ее
производить, без нравственных качеств невозможно ручаться
за соответствие ответа эксперта с тем, что он видел на
самом деле. Обоими ли этими свойствами обладает
Михайлов, вам то подскажет ваша совесть.
Но довольно об экспертизе: и без нее, если бы ее
вовсе не было подлог был бы очевиден. Припомните,
что тексты на солодовниковских векселях, подобно тому
как и на медынцевских документах, писаны Митрофанией.
Это она признает. Но было время, когда она отступалась
от этого, так что понадобилась экспертиза, которая и
узнала руку. Рука изменена, иначе бы отказываться
было нельзя, изменена настолько, что даже Михайлов дал
о сходстве ее нерешительный ответ. А зачем сделано это
изменение почерка и затем отказ от своей руки? Цель
очевидна: игуменья знала, что векселя эти нечисты, что
они — плод преступления, вот почему она и заметала
след и отказывалась от своей работы. Невинный человек,
6. Заказ № 571
161
какое бы преступление ни совершилось в местности, в
доме, где он провел время, так не делает, он не боится
сказать правды, а лицо, которое знает за собой дурное,
старается всеми силами уничтожить следы своей работы и
своего пребывания в заподозренной местности. Так
поступила и игуменья. Выдает ее и другой образ действий:
вспомните сбыт векселей. В 1872 году наступают сроки
векселям. Ей нужны деньги. Не проще ли было бы дать
знать наследникам, что у нее груды векселей, сотни тысяч
пожертвований? Но она скрывает от них и продает их
тайно. Не проще ли было бы в любом банке
дисконтировать? Фирма Солодовникова прочна, вера в нее не
поколеблена: банки из-за одной копейки в месяц учли бы
векселя. Но и этого не делается, а по 60, 50, даже по 40
копеек за рубль сбывают эти векселя темным личностям
под строгим секретом. Хороший товар, господа
присяжные, не так сбывают. На хороший товар есть и хороший
покупатель, неси лишь на базар свое сокровище. Но если
товар краденый, воровской, низкопробный, тогда беда с
ним показаться на бирже. Такой товар сбывают из-под
полы, в темных закоулках, темным, промышляющим
покупкой краденого людям. И не то ли мы видим? Кому
сбыты векселя? Какие-то могилевские и минские евреи;
какие-то Израильсоны, Фриденсоны, Моясы, Мейеры,
Эпштейны, Россиянские выползли из своих нор, скупили
и ждут минуты запустить свои жадные до чужого руки в
чужое добро. Уж по одному этому видна
доброкачественность векселей. Эти люди напоминают мне червей: их не
видать на свежем куске мяса, на свежем, только что
созрелом плоде. Но они кишат на всем разлагающемся и
гнилом. Как по чутью бегут они на нечистое дело; но их
нет там, где идет честная и открытая сделка, а такой
сделки не могло выйти из кельи игуменьи Митрофании.
Изобличает игуменью и сумма векселей, и вид их.
Когда пошли поразившие своей неожиданностью слухи о
векселях Солодовникова, мой веритель приобрел вексель
в 2 тысячи рублей. Домашняя экспертиза утвердила нас
в мысли о подлоге. Но враг казался сильным, надо было
собирать данные. Пока шла эта приготовительная
работа, печать огласила слухи. Тогда игуменья печатно,
совершенно ясно заявляет, что у нее векселей только на
200 тысяч рублей. Ни о каких других векселях, ни о
каких обязательствах нет и помину. Между тем проходит
месяц, и сумма векселей растет до 460 тысяч рублей,
являются сверх того расписки. Не ясно ли после той
статьи, которую здесь читали, что все документы, кроме
162
200 тысяч рублей, сфабрикованы уже после? Но если она
была способна к подделке после статьи, то разве до
статьи она была не способна на то же? Изучив векселя,
вы заметили, что они делятся на две группы: векселя
черные и векселя, писанные рыжими чернилами.
Последние имеют ту особенность, что писаны все в фамилии Со-
лодовникова с начала строки, а первые имеют
особенность ту, что фамилия Солодовникова начинается и с
начала, и с середины, и с конца строки. Вот эти-то
черные векселя и суть векселя второй группы, позднейшие; они
появились тогда, когда, по обозрению образчиков первой
группы в моем доме, было сказано ее посланному (Толбу-
зину), что форма подписи Солодовникова сомнительна и
изобличает сколку с одного векселя. Цвет чернил текста
совпадает с цветом чернил подписи. Игуменья здесь дала
объяснение, странное до смешного: она рассказала, что
Солодовников привозил ей пузырек чернил и такой же
прислал с Досифеей. Я не стану оспаривать то, чему
невозможно поверить, но лучше вам напомню, что весь этот
рассказ и свидетельство Досифеи явились уже тогда, как
экспертиза предварительного следствия изобличила руку
игуменьи в тексте и сходство чернил текста и подписи.
Сознавшись в писании текста, игуменья утверждала, что
Солодовников привозил ей бланки, подписанные дома, а
она у себя вписывала текст, но сходство чернил
изобличило единовременность текста и подписи. Надо было
выйти из затруднения, и игуменья придумала историю с
пузырьками, а Досифея явилась поддержать игуменью.
Насколько ловко и умно это объяснение и сколько в нем
правды, на это мне не нужно обращать вашего внимания.
Оно само себя обличает.
Когда завязалась борьба, игуменья начала
обнародовать целый ряд подтвердительных документов,
написанных покойным Солодовниковым. Особенность их
состояла в том, что покойный необыкновенно
предусмотрительно оспаривал те возражения, которые после него
сделали наследники. Так родилось сомнение, денежные ли
это документы. Солодовников из гроба отвечает, что
документы его денежны и спору не подлежат. Усомнились,
мог ли 18 декабря 1870 года он их выдать, — явилось
письмо от 19 декабря, где он пишет: «Вчера я> написал
векселей на 79 тысяч рублей,, да вечером на 26 тысяч
рублей на Махалина». Сомневались, что 18-го числа
могли быть выданы векселя Серебряному, а позднее Трах-
тенбергу, — игуменья представила письмо, где
Солодовников предупреждает наследников, что Серебряного и
163
Трахтенберга векселя особые от махалинских. Говорили,
что в книгах векселя не записаны, — Митрофания
вынула письмо Солодовникова, где он просит махалинские
векселя не смешивать с фирмскими. (Между тем фирм-
ских векселей у Солодовникова 30 лет никому не
выдавалось, по свидетельству представителей фирм, с кем он вел
дела, допрошенных на суде.) Поднялся решительнее спор
о подлоге — она выдвинула ряд писем и подписок, где
покойный утверждает, что его подпись действительна.
Между тем игуменья сама созналась, что векселя на 200
тысяч рублей привезены ей таким образом, что 27 декабря
она получила 79 тысяч рублей, 28 декабря — 42 тысячи
рублей, 29 декабря — 79 тысяч рублей, 3 января с До-
сифеей 200 тысяч рублей и 5 января — 60 тысяч рублей.
Она созналась, что ей привозили бланки, а не векселя.
Если же так, то^письмо 19 декабря о том, что 18-го были
написаны векселя на Махалина на 79 тысяч рублей и на
26 тысяч рублей, — ложно. Оно писано, очевидно, еще
тогда, когда она думала поддерживать объяснение, что
векселя были ей вручены готовыми на имя Махалина. А
раз она созналась, что ей привезены бланки, то
подобного письма Михаил Солодовников (покойный брат
В. Г. Солодовникова) ей писать не мог. Затем, если
бы 18 декабря он ей написал на 79 тысяч и на 26
тысяч рублей, то отчего 27 декабря он привез ей лишь на
79 тысяч рублей, а 26 тысяч с добавлением еще 16 тысяч
лишь на другой день? Ложными являются и все письма,
где Солодовников ей пишет, что векселя на имя
Махалина он написал (их прочтено было несколько в виде писем
и удостоверений). Если она сама созналась, что векселей
он не писал, то отсюда ясно, что этот ряд писем
составлен ею в тот период мысли, когда она думала
доказывать, что векселя Солодовников привез ей готовыми.
Есть ряд удостоверений (адвокат изложил их
вкратце), где Солодовников утверждает, что он по векселям
получил деньги с Махалина сполна. Теперь игуменья и
Махалин сознают, что Солодовников денег не получал.
Очевидно, что этот ряд удостоверений относится к тому
периоду мысли игуменьи, когда она предполагала, что
спор ограничится гражданским процессом о
безденежности.
Удостоверение, что векселя Махалина не фирмские и
с ними не должны быть смешиваемы, не могло выйти от
Солодовникова. Ему, главе своего торгового дома, лучше
всех было известно, что на фирму нет векселей. Ясно,
что это удостоверение писал тот, кто боялся спора с этой
164
стороны, но книг торгового дома не знал. Солодовников
не мог написать подобного бессмысленного
удостоверения. Наконец, количество удостоверений (на 640 тысяч
рублей) не совпадало с цифрой векселей. Есть
удостоверения (например, башиловское), данные не только
раньше составления векселей, но раньше выдачи бланков.
Они помечены 30 декабря. Между тем векселя, кроме
200 тысяч рублей, на которые уже имеются
удостоверения 27, 28 и 29 декабря, даны лишь, по словам игуменьи,
3 января следующего года.
Кроме удостоверений игуменья дала следствию груды
писем по тем же предметам. Глядя на них, изумляешься:
неужели у Солодовникова, заплатившего 250 тысяч
рублей за хлопоты о своей свободе, боявшегося ареста,
вдруг с 27 декабря по 6 января нет другого дела, кроме
того, что возить к игуменье векселя да по два раза с ней о том
в один и тот же день переписываться? Особенно
интересно письмо от 5 января 1871 года. Оно надписано:
«Секретно. 5 января рокового для меня 1871 года».
5 января — начало года. В это время Солодовников
еще не был арестован. Он еще не знал, что если его
арестует следователь, то удержит ли эту меру суд? Ему
было еще неизвестно, предадут ли его суду, будет ли он
жив или мертв. Поэтому вперед обзывать этот год
роковым он не мог. Только тот, кто знал, когда писал это
письмо, что 7 января Солодовникова арестовали, что этот
арест продолжался до 3 октября, что в это время
Солодовникова предали суду, что в этот год он помер, мог
заклеймить этот год именем рокового. 5 января
Солодовников, не будучи пророком, не мог всего этого знать;
представившая это письмо к делу в 1873 году игуменья
знала все события 1871 года в жизни Солодовникова
и могла обозвать этот год роковым.
Смелость подлогов игуменьи — кажущаяся, внешняя.
В самом же деле это грубый и далеко не умный подлог. С
механической стороны он легко обнаружен экспертизой;
с внутренней, с точки зрения содержания, он сам себя
выдает с головой.
Вы видите, что женщина решилась на подлог в
200 тысяч рублей. О нем заговорили. Она огласила
сумму векселей, но их подделка кидалась в глаза. Тогда
она вздумала пустить новую серию векселей, высшего
сорта, вразрез с собственным заявлением о 200 тысячах
рублей. Но векселя были слабы; и вот она начинает
закреплять их удостоверениями. Пришла ей мысль, что
будут оспаривать денежность, — она составила удостове-
165
рения по этому поводу. Могут возразить торговыми
книгами, — она их противополагает фирмским
документам. Но червь сомнения ее душит, никакие
удостоверения саму ее не могут убедить в подлинности ей
известного подлога, и она, громоздя удостоверение на
удостоверение, создала кучу противоречивых бумаг. Но всего
этого мало. Она пишет расписки, вписывает их между
строками в старые монастырские книги, в чем здесь наивно
сознается, заменяет одну расписку другой, заканчивает
дело подлогом в 580 тысяч рублей распиской, о которой
в начале 1872 года, когда она переговаривалась с
наследниками Солодовникова, ле упомянула и с которой
копии не приедала (потому что ее в это время еще и
составлено не было). Запутавшись в подлогах, она
забывает, что в 1871 году был эпизод, изобличающий ее в
том, что у нее в этом году не было тех документов,
которыми она теперь владеет. Расписка в б тысяч рублей,
писанная в октябре 1870 года, бесспорна. Она ведь
послужила и для экспертизы. Она была в руках игуменьи
до июня 1871 года. В это время Солодовников сидел в
тюрьме. Брать с него, как брала она вкупе с
Серебряным, ей не приходилось; петербургская юстиция указала
ей, что ее дело молиться, а не хлопотать по делам
скопцов. Иссяк источник дохода, касса Солодовникова
закрылась, и он потерял в ее глазах всякую цену. Хоть
шерсти клок с дурной овцы, подумала она и стала
взыскивать 6 тысяч рублей, по расписке 1870 года. Вы
слышали, как она искала: в суд подала, встревожила
старика. Я вас спрашиваю теперь: если бы настоящие
документы были действительны, то ведь в июне 1871 года
они бы уже были у нее. В июне 1871 года Солодовников
был для нее жертвователем почти миллиона! Имея
миллион векселями и обязательствами от щедрого
вкладчика, неужели решилась бы она его беспокоить из-за 6
тысяч рублей, сердить старика и портить дело? Конечно,
нет. И я утверждаю, что вымогательством уплаты 6
тысяч рублей по расписке ясно доказывается, что в это
время ей щадить его было незачем, что расписка в 6
тысяч рублей была единственная расписка Солодовникова,
последний клок шерсти, и игуменья не поцеремонилась.
После разбора каждой расписки в отдельности
г. Плевако перешел к фактам предварительного и
судебного следствия.
Появление документов, оправдывающих игуменью
каждый раз после обнаруживающейся при следствии
улики, заявления и дополнительные показания монахинь,
166
вспоминавших забытое только тогда, когда это было
нужно для игуменьи, странная находка документов в
столе у дьякона Сперанского, рассказ игуменьи о подкупе
экспертов*, о подкупе Трахтенберга, о подкупе кучера,
которого, однако, не побоялась прогнать с места,
напоминают те же средства защиты, с какими вы, господа
присяжные, ознакомились в деле Медынцевой.
Секретная переписка из Сущева, в которой игуменья
Валерия доносит Митрофании о том, что делается по
следствию, а Митрофания просит Торопова подтвердить
ее показание, Зинаиде передает целую программу
лживых фактов, Эпштейна просит не проговориться о
времени получения векселя, о Блюменфельде беспокоится —
благополучно ли у него обошелся обыск, — рисует нам
характер подсудимой и ее друзей. Им ничего не стоит
тормозить правосудие, они за добродетель считают
скрывать след преступления, за подвиг — ложь на суде. Вся
эта переписка указывает, что правды нет в поступках
игуменьи и средства, свойственные защите невинности,
ей не годятся. Искренность и правдивость
показаний ей опасна, она прибегает к обману и
подстрекательству на лжесвидетельство. Самым грандиозным
образчиком средств защиты игуменьи служит знаменитое
донесение в консисторию о пожертвовании. Известно, что оно
перехвачено в декабре 1873 года, и из письма игуменьи
Валерии видно, что писано накануне, между тем как оно
помечено 2 апреля 1872 года, т. е. сделан подлог в
рапорте по начальству. Цель его была очевидна: доказать,
будто бы в 1872 году уже существовали все те
документы, которые она приготовила в позднейшее время. На
успех этого подлога игуменья рассчитывала вполне.
Зинаиде было приказано солгать о времени вручения ей
донесения, а на Розанова (секретаря консистории)
возлагалась твердая надежда, что он знает свое дело. И весь
этот подлог, эта тонкая работа, сопровождался самым
циничным кощунством: Митрофания писала Валерии, что
Ангел Хранитель и Св. Анастасия вразумили ее на это
дело.
Когда донесение попало не туда, куда следовало, и
игуменья созналась, что оно писано задним числом, она
задумала поправить дело оглашением своего завещания.
Это завещание носит следы времени и места своего
происхождения. Оно не подписано свидетелями, а между тем
заключает в себе распоряжения об имуществе. Игуменья,
женщина деловая, не могла не знать, что завещание без
свидетелей ничтожно. Если бы она действительно писала
167
его в 1871 и 1872 годах, то, будучи на свободе, конечно,
скрепила бы его свидетелями и дала бы ему силу. Но
ничего этого нет. Ясно, что она писала его там, где
свидетелей достать было нельзя, т. е. в Сущевском частном
доме, куда к ней никого не допускали. Это соображение
подтверждается и содержанием завещания. Точно у нее
вся жизнь была только рядом отношений к Солодовнико-
ву, — ведь все завещание есть докладная, лучшая
защитительная записка против данных предварительного
следствия. О других важных событиях ни слова, о ме-
дынцевской опеке тоже. Затем в завещании помещен
рассказ о рытовских векселях — факт, опровергнутый
судебным следствием. Таким образом, характер
завещания определяется вполне, это — фабрикация позднейшего
времени, написанная для того, чтобы доказать, что
векселя и расписки Солодовникова действительно получены
в те дни, как это утверждается ею на следствии. Затем
конец завещания — восхваление своей личности, своих
добродетелей и уверение в своей невинности прямо
рассчитаны на то, что, будучи предъявлено следователю,
завещание это прочтется на суде и увлечет слушателей и
судей. Вот почему игуменья сама заявила, что она
требует, чтобы завещание было прочитано.
Из приемов, которые употребляла игуменья на
судебном следствии, заслуживает внимания сцена между
игуменьей Валерией и подсудимой. На суде Валерия
заявила, что она может подтвердить действительность векселей
Солодовникова, но ее сдерживает честное слово, взятое
Митрофанией. Та ее торжественно на суде освобождает
от честного слова. Тогда Валерия сказала, что при жизни
Солодовникова она уже видела документы его, но
Митрофанией взят был с нее обет молчать о жертве.
Показание, по-видимому, сильное, но отчего же
игуменья Валерия не сказала этого судебному следователю,
когда от него зависела честь ее подруги? Честное слово
связывало уста? Но ведь и тогда Митрофания могла ей
разрешить. Мало того: если слово было взято в 1871
году, потому что жертва была тайная, то ведь в 1873 году
тайна миновала, все документы были оглашены, — чего
же было не сказать следователю о том, что знала
Валерия? Из этой нелепости один вывод: Валерия говорит
неправду; весь этот грустный эпизод сочинен недавно и
сшит такими живыми нитками, что совестно даже и
возражать на него.
Все, что я изложил вам, достаточно для признания
подлога. Но это не все, что можно сказать против подсу-
168
димой. На сотни речей, на целые годы бесед достанет
материалов, приготовленных этой женщиной в свое
обличение. Позвольте же надеяться, что вы признаете подлог
и не дадите семейству, тридцать лет отличавшемуся
образцовой коммерческой честностью, разориться, не
дадите возможности сообщникам игуменьи, накупившим у нее
ее изделия, разжиться неправедно на чужой счет.
Наружные знаки благочестия да не увлекут вас.
Давно и искусно злоупотребляла ими эта женщина. Вы уже
знаете, что, отыскивая темными и бесчеловечными
средствами деньги на свое мнимое служение человечеству,
она перед теми, чье имя и внимание ей было нужно,
разыгрывала роль добродетельной и смиренной
отшельницы. Тартюфы бывают и в женском платье. Но, к счастью,
ее скоро разгадали, и, когда-то принятая как гостья во
дворце Ее Величества Александры Петровны, она скоро
оказалась недостойной этого места. Свергнутая по
заслугам, она продолжала своими поступками отвращать от
себя людей, ей когда-то близких. Даже Трахтенберг
просил ее освободить его от своего посещения, и где-то в
гостинице она должна была приютиться во время своих
петербургских афер. И после этого она смеет говорить, что
жизн^ ее всецело посвящена Богу, что без нее погибнут
сироты и бедные, находящиеся на руках ее. Неужели эти
фальшиво звучащие фразы найдут отголосок в вашей
душе, неужели вы решитесь из сострадания к мнимой
добродетели не только признать ее невиновной, но и
дозволительными средства ее? Этого благочестия, которое
примиряет с людьми и многое прощает им, мы здесь не
видели. Овечья шкура на волке не должна ослеплять вас.
Я не верю, чтобы люди серьезно думали о Боге и добре,
совершая грабительства и подлоги. Не может дочь
утешить свою мать, если ценой разврата она достанет ей
какой-либо дар; не может Церковь одобрить
благотворение верующего, милосердие на чужой счет путем грабежа
и мошенничества; так пусть не прикрываются они под ее
защитой и не зовут христианским милосердием
ужасающего душу рядом преступлений! Не увлечь ей вас и
учением о снисходительности к средствам, когда благая цель
достигается ими. Наша Церковь, наша восточная
Церковь, гнушалась этого правила. Не ошиблись послы
Владимира предпочесть ее католичеству. Из этого последнего
родилось и охватило мир иезуитство, все оправдывающее
во имя цели, опозорившее и себя, и ту Церковь, из
которой оно развилось. Человечество проклинает его, а она,
игуменья, пересаживала это ядовитое дерево на нашу
169
почву. Не давайте пустить ему корни: вредное плодовито,
вырвите его, чище вырвите на первых порах и спасите
честь Церкви, в которой прививает она этот яд, и честь
русского правосудия. Не умиляйтесь судьбой сирот и
храмов ее обители: на Руси благотворение не оскудело — и
здесь и там у нас воздвигнуты сотни школ и заведений,
равно как вся Русь переполнена храмами и
христианскими общинами. Но какие же из этих зданий
воздвигнуты на обманы, насилия и подлоги?!
Подсудимая скажет вам: «Да, я многого не знала, что
оно противозаконно. Я — женщина». Верим вам, что
многое, что написано в книгах закона, вам неведомо. За
это я не решусь осудить вас. Но ведь в этом же законе
есть и такие правила, которые давным-давно приняты
человечеством как основы нравственного и правового
порядка. С вершины дымящегося Синая сказано: «Не
укради» — вы не могли не знать этого, а что вы творите?
Вы обираете до нищеты прибегнувших к вашей помощи.
С вершины Синая сказано: «Не лжесвидетельствуй» —
а вы посылаете вверивших вам свое спасение инокинь
говорить неправду и губите их совесть и доброе имя.
Оттуда же запрещено «всуе- призывать имя Бога», а вы,
призывая Его благословение на ваши подлоги и обманы,
дерзаете обмануть правосудие и вместо себя свалить
вину на неповинных. Нет, этого не удастся вам: правосудие
молодо и сильно, и чутка совесть судей... Пусть строит
защита оплот против нас; ей придется защищать полное
противоречий и неправды показание подсудимых; ей
придется его ставить в основание своего здания, придется
пользоваться, как материалом, показаниями таких
личностей, как Ироида, Магдалина, Валерия, Фриденсоны и
т.п... жалкий материал. Хрупкое здание!.. От первого
вопроса вашего испытующего ума оно пошатнется, от
первого прикосновения судейской совести падет во прах;
в вашей памяти ничего не останется от их усилий, и, если
вы захотите разрешить дело по правде, вы правдой
удовлетворите все наши требования...
За речью присяжного поверенного Плевако следовали
речи поверенного малолетнего племянника Солодовни-
кова присяжного поверенного г. Громницкого и
поверенного г-жи Тицнер присяжного поверенного г. Алексеева,
после чего слово было предоставлено первому
защитнику подсудимой игуменьи присяжному поверенному
г. Шайкевичу. Защитник громко протестовал против той
страстности и той горячности, с которыми велись прения
по этому делу, причем такое отношение к делу и к обви-
170
няемой имело место, по его мнению, не только со
стороны представителей гражданских истцов, но и со стороны
прокурора. Затем он перешел к характеристике
обвиняемой и ее деятельности. Вкратце содержание, его речи
таково: игуменья Митрофания — общественный деятель,
прошлое которого говорит за нее: она — дочь бывшего
наместника Кавказского края, выросла в добром,
благочестивом семействе. Будучи фрейлиной двора Ее
Величества, она предпочла этому положению и светской
жизни жизнь инокини и добровольно удалилась в
монастырь. Она всегда отличалась глубокой страстью к
благотворению: так, будучи еще неотделенной дочерью,
она пожертвовала на добрые дела свои фрейлинские
деньги и свой шифр. Полученные ею от матери 100
тысяч рублей и все то, что перешло к ней от тетки графини
Зубовой, Митрофания употребила в разное время на
дела благотворения. 12-летнее пребывание игуменьи
Митрофании в Серпуховском монастыре было для этого
последнего светлым временем: материальная и духовная
жизнь монастыря воскресла. Когда в Петербурге
возникла община сестер милосердия, игуменья Митрофания
была вызвана туда для ее переустройства. Трудами
игуменьи Митрофании возникает и Московская Владычне-
Покровская община сестер милосердия. Учреждая
общины, игуменья Митрофания разрабатывала и уставы для
них и здесь впала в ошибку, включив в них пункты, в
которых говорится, что начальница изыскивает средства к
существованию общин. Эта ошибка и привела ее на скамью
подсудимых. Выдаваемые игуменьей Митрофанией
векселя не есть пожертвование в точном смысле слова, а
лишь помощь, которую некоторые добровольно ей
оказывали, давая на вексельной бумаге свои имена;
игуменья Митрофания пользовалась такой помощью как
орудием кредита. Многие купцы выдавали ей свои
векселя, но ни один не заплатил по ним ни копейки.
Игуменье ставят в вину то, что она торговала орденами и
крестами, но такой порядок не ею установлен. Обвинение
игуменьи Митрофании в подделке лебедевских
векселей — клевета. Лебедев — человек, не заслуживающий
большого доверия, так как его показания ма
предварительном следствии оказываются неверными: раньше он
говорил, что игуменье Митрофании он никогда никаких
векселей или бланков не выдавал, между тем по дубро-
винскому векселю, выданному Лебедевым Митрофании,
он сам же учинил и платеж. Объяснения же Лебедева,
что он сделал это из уважения к игуменье Митрофа-
171
нии,— неправдоподобны: нельзя допустить
предположения, чтобы купец, дорожащий своей подписью, молчал
и не обращал внимания на то, что по городу ходят
фальшивые векселя его. Начиная дело о подложности
векселей, Лебедев действует очень нерешительно; наоборот,
игуменья Митрофания поступает с его векселями вполне
открыто: она посылает Фриденсона дисконтировать,
векселя Лебедева в постоянное его место жительства, чего
не сделала бы, если бы векселя были фальшивыми.
Должно предположить, что Лебедев возбудил извет о
подлоге из страха, так как до него дошли слухи, что его
векселей имеется на 150 тысяч рублей. Экспертиза по
делу Лебедева — самая сбивчивая и нерешительная, да
и вообще она — доказательство крайне шаткое. Что
касается будто бы подделки подписи Макарова, то этого
делать игуменье Митрофании не было цели, во-первых,
потому, что и сам Макаров никогда не отказывал в своей
подписи, а во-вторых, его имя в торговом мире ничего не
значит, кредитом он не пользовался и не пользуется.
По делу Солодовникова многие доводы обвинения
кажутся защитнику почти неопровержимыми, но, с другой
стороны, пожертвование М. Г. Солодовниковым крупной
суммы в пользу общины находит себе подтверждение в
семейном положении М. Г. Солодовникова и в его
личности вообще: с одной стороны — ненависть к невестке,
ее детям и нелюбовь к больному брату, а с другой —
склонность к благотворению и уважение к игуменье
Митрофании, которая старалась выручить его из беды,
делают факт пожертвования им солидной суммы в пользу
общины весьма вероятным, особенно если принять во
внимание, что он роздал свыше 300 тысяч рублей разным
поверенным на ходатайство по его делу. Несмотря на
то что заподозренных в подлинности документов
является очень много, действительное значение для
настоящего дела имеют лишь векселя и одна расписка в 480
тысяч рублей, по которой начат был иск в окружном суде.
Все прочие расписки, по которым игуменья Митрофания
еще раньше возникновения этого дела отказалась от
всякого требования, равно как и письма, никакого значения
иметь в этом деле не могут, ибо они представлены не как
документы, на которых основывается какое-либо
гражданское требование, а как судебное доказательство, но
игуменья судится не за представление подложных
доказательств по делу, она обвиняется в подделке
документов денежных — расписки и векселей. За распиской
гражданский суд никакого значения не признал и в иске по ней
172
отказал. Хотя дело перешло в судебную палату, но и она
может посмотреть на нее, как окружной суд. Да если бы
палата и иначе взглянула на эту расписку, то уголовное
преследование преждевременно, так как необходимо
разрешить судом гражданским преюдициальный вопрос
о значении расписки. Что же касается векселей М. Г. Со-
лодовникова, то безвалютность их вполне доказана.
Такова материальная сторона дела, и если в нем есть
пострадавшие, то не гражданские истцы, а те, кто давал
игуменье Митрофании деньги под эти векселя, и они знают,
что игуменья Митрофания перед ними в долгу не
останется.
В заключение защитник обратил внимание на
благотворительную, полезную деятельность подсудимой и
просил оправдательного приговора.
После речи присяжного поверенного Шайкевича
слово было дано второму защитнику игуменьи Митрофании
присяжному поверенному г. Щелкану. Он занялся
разбором дела Медынцевой. Указав на злоупотребления,
каким подвергалась Медынцева со стороны учрежденного
над ней опекунского управления, защитник обратился к
отношениям игуменьи Митрофании к семейству
Медынцевой^ причем доказывал, что Медынцева, над которой
была учреждена опека за расточительность, была отдана
наемной прислуге, жила очень плохо и не имела даже
приличного платья. Игуменья Митрофания сближения с
ней не искала, а Медынцева сама, через квартального
надзирателя Ловягина, не бескорыстно принимавшего
участие в ее делах, искала знакомства и защиты игуменьи
Митрофании, которая и приняла в ней участие из
сострадания к ее ужасному положению. Духовное завещание
Медынцевой, в котором она отказывает свое имущество
не сыну, а общине, составлено без всякого воздействия
игуменьи Митрофании: Медынцева была раздражена
против своей семьи еще много раньше своего знакомства
с игуменьей Митрофанией, и еще в то время составлено
завещание, в котором все свое имение она отказывала
Московскому университету. Но университет —
учреждение, цель и деятельность которого не доступны
пониманию Медынцевой; поэтому вполне понятно, что,
поселившись в общине и ознакомившись с ее благотворительной
деятельностью, она изменила свои намерения и решила
отдать свое имущество общине.
Перейдя затем к обвинению игуменьи Митрофании во
взятии с Медынцевой вексельных бланков, защитник
указал на то, что это обвинение построено исключительно
173
на показаниях Толбузина и Трахтенберга; но как тот, так и
другой предстали на суде в невыгодном свете, почему
показаниям их доверять нельзя, а можно основательно
утверждать, что векселя с Медынцевой были взяты
обманом Трахтенбергом при участии Толбузина. Игуменьей же
Митрофанией взято с Медынцевой векселей лишь на 50
тысяч рублей, с тем чтобы достать под них денег для
отсылки в Петербург Трахтенбергу, хлопотавшему по
делу Медынцевой, что и было сделано. Эти векселя взяты
без всякого обмана со стороны игуменьи Митрофании.
В сделке с Сушкиным защитник видит вину Сушкина, а
склонял Медынцеву признать подложные векселя своими
опекун ее Макаров, который составил и два счета на не-
существовавшие расходы для получения по ним денег из
опекунского управления. Опровергая затем обвинение
игуменьи Митрофании в присвоении шубы и муфты
Медынцевой, защитник доказывал, что вещи эти проданы
по требованию самой Медынцевой за 380 рублей, когда
нужно было уплатить Толбузину за поездку его в Рязань
по делу Ефимова.
В заключение защитник выразил уверенность в том,
что присяжные заседатели не припишут игуменье
Митрофании тех действий в отношении Медынцевой, которые
были совершены другими лицами, и притом такими,
которые стояли во главе учрежденного над ней опекунского
управления.
Речь присяжного поверенного
В. М. Пржевальского
в защиту Махалина
Господа присяжные заседатели! Вместе с игуменьей
Владычного Серпуховского монастыря Митрофанией, в
мире баронессой Розен, по настоящему делу предан суду
временно-серпуховский 2-й гильдии купец Алексей Плато-
нович Махалин, защиту которого я принял на себя. Эти
два лица, столь различные между собой по
происхождению, общественному положению и деятельности, в
настоящее время одинаково ждут вашего приговора.
Несмотря на такую разницу между ними, по мнению
представителей обвинения, их соединила вместе одна и та же
злая цель, во имя которой они совершают ряд
преступлений. Если верить словам обвинения, то по настоящему
делу мы видим пред собой такую массу подлогов и
обманов, что самое смелое воображение отказывается
верить подобной дерзости преступления: нам считают под-
174
ложные документы десятками, нам говорят о сотнях
тысяч рублей, приобретенных путем обмана и подлогов.
И среди такой обстановки нам указывают на робкую,
лишенную всякой энергии и самостоятельности личность
купца Махалина, которого называют соучастником
игуменьи Митрофании в том длинном ряде преступлений,
которые ей приписываются. Происходившее пред вами,
господа присяжные, следствие дало достаточный
материал для определения значения и деятельности каждого
из лиц, участвующих в настоящем процессе. Вы помните,
что имя подсудимого Махалина упоминается по двум
делам: Медынцевой и Солодовникова; но вы, вероятно,
не забыли также и те обстоятельства, при которых имя
это упоминается: Махалин провожает Медынцеву, Маха-
лин берет билеты на железной дороге, Махалин отво-.
зит приглашения, Махалин по приказу пишет векселя,
Махалин по приказу ставит бланки на векселях и т. п.,—
одним словом, если брать мерилом для оценки
человеческой деятельности не одно только безмолвное, покорное
исполнение чужих приказаний, то, как видите, Махалину,
вместе с другим подсудимым Красных, в настоящем
процессе должен быть отведен едва ли не самый скромный
уголок. Начало знакомства Махалина с игуменьей Мит-
рофанией было чисто случайное. В 1869 году он берет в
аренду у Серпуховского монастыря принадлежащий
монастырю мыловаренный завод, и с этих-то пор
начинаются отношения его к игуменье Митрофании, которая
вовлекла его незаметно в тот род деятельности, в каком
является он в настоящем процессе. Он попал к игуменье
Митрофании в самый разгар ее деятельности:
оканчивались работы по Серпуховскому монастырю, начиналось
устройство общин сестер милосердия, Петербургской и
Псковской, полагалось основание общине Московской.
Здесь и позволю себе, господа присяжные, обратиться к
этой стороне деятельности игуменьи Митрофании, в
которой принял участие и подсудимый Махалин. Что бы ни
говорили противники наши, как бы ни старалось
обвинение чернить имя игуменьи Митрофании, но к этой
стороне ее деятельности нельзя не отнестись с глубоким
уважением; здесь она стоит выше всякого упрека, вне
всякого порицания. Явившись игуменьей в Серпуховской
монастырь, она тотчас же начинает его переделку и
перестройку, заводит в нем мастерские, учреждает школу,
больницу. Та почтенная монахиня, которая 43 года
провела в этом монастыре и истину слов которой едва ли
кто-либо может заподозрить, говорила здесь на суде,
175
что с поступлением Митрофании игуменьей в
Серпуховской монастырь он стал неузнаваем в сравнении с тем,
что был прежде. Если русский человек, проходя мимо
этого монастыря, осеняет себя крестом, как говорил нам
один из представителей интересов гражданского истца,
он осеняет себя неДаром: не биржа в этом монастыре,
как говорили нам, в нем — дом Божий; в нем — школа,
где учатся дети; в нем — больница, в которой бедный
люд получает бесплатно медицинскую помощь.
Останутся ли те же стены общины, или придется их строить
выше, как указывал тот же поверенный гражданского
истца,— но за этими стенами жили и живут собранные
игуменьей Митрофанией бедные дети, бесприютные
сироты; там подается и готовится к подаянию помощь
страждущему человечеству. И все это дело рук игуменьи
Митрофании, над всем этим работает неутомимая
труженица — игуменья Митрофания. Но не одно только суровое
чувство долга связывает ее в этой работе с ее
подчиненными; нет, ее деятельность проникнута любовью, и, в
свою очередь, она пользуется неподдельной любовью тех,
которые ее окружают. Припомните, например, рассказ
священника Скороходова о том, как прощались с
игуменьей Митрофанией в Петербургской общине, когда,
по словам этого свидетеля, «проливались потоки слез».
Нам говорили здесь о том, что деятельность игуменьи
носит светский характер, что деятельность эта не
соответствует строгому уставу монашеской жизни, но при
этом забывали об одном: монастырь XIX столетия —
не тот монастырь, что был прежде. Было такое время,
когда люди, проникнутые сознанием ничтожества всего
земного, бросали семьи, общество, бежали в пустыни и
там, в подвигах умерщвления плоти, искали спасения
своей души. Наше время совсем иное: теперь монах,
чтобы не быть тунеядцем, должен идти в мир;
монастырь, чтобы не стать бесплодным учреждением, должен
принимать участие в,общественной деятельности. И
игуменья Митрофания поняла это: она заводит
монастырскую школу, мастерские, больницу, под сенью
монастырского покрова устраивает общины сестер милосердия;
в этом велика ее заслуга! Недаром великий иерарх
русский митрополит Филарет ценил такую ее деятельность,
недаром же он почтил ее особенным своим вниманием!..
Здесь, господа присяжные, поверенный гражданского
истца говорил вам, что игуменья преступила те
заповеди, которые Господь даровал своему народу с вершин
дымящегося Синая; но не забудьте, что тот же Господь
176
простил даже разбойника и даровал ему Царство
небесное. Пусть же те дела добра, которые совершила
игуменья Митрофания, будут пред вами лучшими ходатаями
за нее, и за них многое должно быть прощено... Я
сказал вам, господа присяжные, что подсудимый Махалин
очутился именно среди этой деятельности игуменьи Мит-
рофании, на которую я вам только что указывал.
Невольно вовлеченный в такого рода деятельность, он
доверился игуменье вполне и безусловно. Да и как было
не верить? Уже с одной внешней стороны высокий сан
игуменьи, знатность происхождения, близость ко
Двору — все это не могло не влиять обаятельно на такого
простого человека, каков Махалин; с другой стороны,
сам род деятельности, для которой требовали его услуг,
не мог также, конечно, не оставаться без влияния на
него. Ему указывали на женщину, говоря, что она
лишена своего состояния, поругана своим мужем, изгнана из
своего дома, и просили помочь этой несчастной
женщине; он видел пред собой общины для призрения сирот,
попечения для больных и раненых — и для таких благих
целей просили его ничтожных услуг, в которых он не
видел ничего противозаконного. Если другие жертвовали
на такое дело капиталы, десятки тысяч рублей, то
Махалин считал себя в нравственном смысле не вправе
отказать в такой незначительной услуге, как, например,
написание векселя на его имя или выставление им своего
бланка. Ослепленный величием сана и общественного
положения, подавленный энергией и массой деятельности
игуменьи, Махалин видел во всех своих услугах только
одну благую цель и доверился игуменье Митрофании
безусловно. Рассматривая обстоятельства настоящего дела,
невольно поражаешься этой безусловной его верой,
доходящей иногда почти до самоотвержения, его
преданностью, которая не знала границ. Никогда никакие
планы не выходили из головы Махалина; вся деятельность
его состояла в исполнении только того, что ему
приказывали, но никогда не возникало у него даже
малейшей тени подозрения в том, чтоб игуменья могла
требовать от него чего-либо противозаконного. Представляя
в таких чертах личность Махалина и его деятельность,
я далек от преувеличения: за меня говорят факты,
имеющиеся в деле. Каково же было разочарование Махалина,'
когда ему вдруг объявили, что все им сделанное по
просьбе игуменьи есть ряд обманов и подлогов, что
оказанные им услуги суть преступления; когда те лица, по
просьбе которых и для которых он думал делать добро,
177
явились его же обвинителями! Началось следствие. Ма^
халин был призван к допросу, взят под стражу, предан
суду, и вот теперь, убитый горем, измученный
физически и нравственно, он ждет вашего приговора. Как-то
странно даже видеть, господа присяжные, на скамье
подсудимых человека, обвиняемого в участии в целом
ряде тяжелых преступлений, о котором в течение всего
процесса на суде никто не сказал ни одного дурного
слова! А между тем обвинительная власть приписывает
ему преступное участие в деле Медынцевой и в деле
Солодовникова. По первому из этих дел его обвиняют в
написании текстов на двух векселях и в выставлении
своих бланков на некоторых векселях, взятых обманным
будто бы образом у Медынцевой; сверх того, он
обвиняется также в получении денег по вымышленному
обязательству Медынцевой на имя доктора Трахтенберга и
по счету портнихи Игнатовой. Приступая к~ разбору этих
объяснений, я прежде всего остановлю ваше внимание,
господа присяжные, на показании, данном по этому делу
самим лицом потерпевшим — Медынцевой. Когда идет
речь о причинении кому-либо имущественного вреда
путем обмана, то здесь, конечно, нельзя не придавать
большого значения показанию лица потерпевшего о том, кого
считает оно виновником нанесенного ему ущерба. Вот
почему, в качестве защитника Махалина, я на суде
обратился к Медынцевой с вопросом, считает ли она, чтобы
подсудимый Махалин хотел себе когда-либо присвоить ее
состояние, на что получил с ее стороны отрицательный
ответ. Продолжая затем далее свои показания,
Медынцева на мой вопрос о том, имеет ли она какую-либо
претензию по настоящему делу к Махалину, отвечала
категорически на своем оригинальном языке: «Никакой
безысключительно». Уже одно такое заявление могло бы
избавить, конечно, защиту от представления дальнейших
доказательств в пользу подсудимого; но, желая убедить
вас еще более в его невиновности, я считаю своим
долгом в кратких чертах рассмотреть те данные, на
которые указал вам обвинитель как* на доказательства к
обвинению Махалина. По первому из обвинений вы
вспомните, что сама Медынцева утверждает, что в мае 1871
года в квартире доктора Трахтенберга, где, по ее словам,
она подписала те «экземпляры», в которых
обвинительная власть видит вексельные бланки и бланки для других
документов, Махалина не было, что подтверждают и
другие свидетели; сама Медынцева об этих подписях в то
время, по ее словам, ни Махалину, ни кому-либо другому
178
не говорила. Махалин, со своей стороны, объясняет, что
тексты векселей, под которыми оказались подписи
Медынцевой, были им налисаны ранее, именно в декабре
1869 года, по просьбе игуменьи для ее родственниц
Смирновых и по случаю оказавшейся ненадобности остались у
игуменьи Митрофании. Она сама подтверждает этот
факт, и в деле нет никаких дальнейших доказательств,
которые опровергали бы показания Махалина. Таким
образом, в этом факте не видно положительно никакого
преступления. Равно так же бланки Махалина на
векселях, написанных на имя других лиц, где значатся бланки
Медынцевой, поставлены им после бланковых надписей
тех лиц, на имя коих векселя были писаны, и нет
никакого основания предполагать, что Махалин знал об
обманном взятии этих векселей, тем более что даже та
Харламова, на имя которой написаны два векселя, суду
не предана. Если обвинение не представляет вам никаких
доказательств виновности, то, конечно, вы не можете
обвинять человека, потому что всегда всякий
предполагается невиновным, пока противное не будет доказано. Что
касается затем до расписки в сумме 5 тысяч рублей за
купленные будто бы у доктора Трахтенберга
драгоценности, то вы, конечно, не забыли, что на расписке этой
имеется дважды подпись Медынцевой: под самым текстом
расписки и еще внизу страницы, где Медынцева признает
долг ее подлежащим уплате. Сверх того, Медынцева
подписывает удостоверение опекунам также с признанием
этого долга; Трахтенберг дает Махал ину доверенность, в
которой просит его получить с Медынцевой деньги по
расписке. При таких условиях действует Махалин,
притом же ему весьма легко могло быть известно, что у
Медынцевой было описано много бриллиантов, и- ничего не
было странного, если у Трахтенберга оказались расписки
ее о покупке драгоценностей. Махалин видел пред собой
тот несомненный факт, что Медынцева признает долг.
Хотя Медынцева здесь на суде и отвергла существование
этой покупки и долга, но я имею сильное основание
сомневаться в том чистосердечии показания Медынцевой,
о котором вам уже говорили много. Медынцева, как
признает сам ее поверенный, женщина такого свойства, что
постоянно находится под чьим-либо влиянием,— да это
мы видим и из всего дела. И вот, благодаря именно тому
или другому влиянию, она действует так или иначе. Ей
сказали, чтоб она говорила, что не подписывала ни одной
бумаги иначе как по приказанию игуменьи
Митрофании,— она так и говорит; ей сказали, чтоб она не призна-
179
вала никаких денежных обязательств,— она так и
делает. Доказательством несправедливости ее показаний
в этом отношении служат факты, относящиеся к счету
портнихи Анастасии Игнатовой, о котором речь будет
впереди. Во всяком случае, Махалин утверждает, что он,
расписавшись три раза в получении денег по расписке
Трахтенберга, ни разу ни единой копейки не получал.
Зная, каково участие Махалина в деле Медынцевой и
каково его положение было вообще, едва ли мы можем
сомневаться в справедливости его показания в этом
случае; тем более что даже свидетель Толбузин, менее всего
расположенный показывать в пользу защиты, и тот
говорит, что о получении Махалиным таких сумм, как 5 тысяч
рублей из опекунского управления Медынцевой, он
никогда не слыхивал. Сказанное мной по поводу расписки
доктора Трахтенберга еще с большей силой может быть
отнесено к счету портнихи Игнатовой. И здесь-то, господа
присяжные, видна та неправдивость показаний
Медынцевой, о которой я упомянул выше. Это единственный
случай по делу, когда при подписании Медынцевой документа
присутствует лицо, расположенное в пользу Медынцевой,
так как Игнатова племянница того Михаила Ефимова, с
которым Медынцева находится в самых близких
отношениях, и ее, конечно, никак нельзя заподозрить в желании
дать показание не в пользу Медынцевой. Между тем
свидетельница эта положительно утверждает в прочтенном за
неявкой по болезни на суд показании ее, что сама
Медынцева при ней подписала счет на сумму 1500 рублей и
просила подписать ее, Игнатову, указывая на свое бедное
положение. Если бы при этом было какое-либо выманивание
или принуждение Медынцевой с чьей-либо стороны, то,
конечно, Игнатова не преминула бы рассказать об этом.
Нельзя не обратить при этом внимания также и на то, что
счет Игнатовой подписан дважды Медынцевой и ее
собственной рукой написано несколько строк о признании этого
счета вполне верным; а между тем в настоящее время
Медынцева отвергает его. Вот почему, господа присяжные,
при обсуждении вопроса об обмане или при обсуждении
такой личности, как Медынцева, вы должны провести
строгую границу между советом и принуждением. Личность
эта, как вы видите, легко подчиняется совету каждого,
имеющего над ней влияние; но между советом и
принуждением или обманом огромная разница, и немыслимо
обвинять кого-либо за дачу совета, которому по
собственному согласию последовало известное лицо, быть может
иногда даже и не в свою пользу. Махалин, по словам той
180
же Игнатовой, по просьбе Медынцевой расписывается в
получении денег по счету, и мне кажется, что в этом
случае скорее следовало бы если обвинять, то Игнатову,
удостоверившую правильность счета, а не Махалина,
подписавшего получение по нему денег и не получившего
на самом деле, так же как и по расписке Трахтенберга, ни
копейки. Таким образом, беспристрастное рассмотрение
фактов, относящихся по делу Медынцевой к подсудимому
Махалину, мне кажется, должно привести нас к тому
убеждению, что в этом деле со стороны Махалина не
совершено никаких преступных деяний, за которые он мог бы
подлежать наказанию. В заключение, господа присяжные,
я считаю нужным еще раз вспомнить заявление самой
Медынцевой на суде, что к Махалину она никакой претензии
по настоящему делу не имеет, и полагаю, что заявление это
служит еще лучшим доказательством его невиновности. Не
менее шаткие и недостаточные улики против Махалина
приводятся обвинительной властью и по делу Солодовни-
кова. Если из свидетельских показаний на суде не
выяснились личные отношения покойного Солодовникова
к подсудимому, так как из приказчиков Солодовникова
один только Простаков показал, что видел Махалина
раза два у Михаила Герасимовича Солодовникова, а
остальные отказались даже от простого знакомства с
ним, то мы, с другой стороны, в деле имеем несомненные
доказательства того, что Махалин находился в самых
лучших отношениях к покойному Солодовникову и
пользовался его доверием. Так, мы знаем, что
Солодовников открыл Махалину кредит у своего мясника Лощенова
по покупке сала для Серпуховского мыловаренного
завода, который был на аренде у Махалина. Мы видим также
самое убедительное доказательство доверия
Солодовникова к подсудимому Махалину в таком факте, как
вручение ему на 75 тысяч рублей облигаций, чтоб отвезти их в
Петербург адвокату Серебряному за ходатайство по
скопческому делу. Согласитесь сами, что нужно считать
человека очень честным и иметь к нему большое доверие,
чтобы поручить ему такую сумму, и притом еще без
всякой расписки. Само собой разумеется, что Махалину, как
человеку, бывшему при постройке общины и знавшему,
насколько Солодовников был заинтересован этим
учреждением, слышавшему от игуменьи и от самого
Солодовникова о значительных пожертвованиях последнего, не
показалось ничего странного, когда он был позван
игуменьей для того, чтобы поставить бланки на данных Со-
лодовниковым на его имя, Махалина, векселях. В самом
181
деле, если Солодовников дает Серебряному с лишком 200
тысяч рублей, то почему же было, ввиду преклонной
старости, не сделать ему пожертвования для общины, в судьбе
которой он принимал живейшее участие, когда больше
некому было оставлять состояние, так как брат больной и
богатый человек, а невестку он, как известно, не любил?
Последнее Махалину было, конечно, известно, и сделанное
пожертвование нисколько не могло казаться ему
удивительным, тем более что Махалин даже и не знал в то время
всей цифры пожертвования. Внешний вид векселей равным
образом не мог возбуждать в нем подозрения. В
обвинительном акте ставилось Махалину в вину то
обстоятельство, что при следствии он показал, что почерк руки,
которым написаны тексты зекселей, ему неизвестен, тогда
как они писаны, по собственному ее признанию,
игуменьей Митрофанией; Но вы, господа присяжные,
слышали, что почерк, которым написаны тексты векселей Соло-
довникова, -настолько не похож на обыкновенный почерк
письма игуменьи Митрофании, что даже часть экспертов
показали, что они не могут положительно сказать, чтобы
тексты были писаны рукой игуменьи, и сам обвинитель
признал на суде подобное несходство. Можно ли после
этого ставить в вину Махалину, что он, знавший,
конечно, только обыкновенный почерк игуменьи, не признал в
текстах векселей Солодовникова ее руки? Точно так же и
относительно подписей Солодовникова на векселях
эксперты, выразившие мнение, что подписи эти сделаны не
Солодовниковым, высказали, что подделка весьма
искусна, сделана рукой опытной, и только внимательное
рассмотрение привело их к убеждению в подложности
подписей. Но Махалин не каллиграф, он не мог
исследовать ни почерка, ни букву за буквой, и в его глазах
подписи Солодовникова не представляли никаких сомнений в
подлинности. Насколько сказанное мной справедливо, вы,
господа присяжные, можете судить сами, так как вы
лично обозревали векселя. Кроме того, отсутствие
какой-либо корыстной цели не возбуждало, конечно, в Махалине
чувства более строгого, критического отношения к
векселям. Если бы ему предстояло что-нибудь получать по ним
или ответствовать каким-либо образом самому, то,
естественно, он отнесся бы к ним внимательнее. Но игуменья
просила его только сделать безоборотные бланковые
надписи на векселях, которые его ставили по вексельному
праву вне всякой ответственности в платеже,— и более
ничего. Прибавьте к этому то доверие, которое Махалин питал
к игуменье Митрофании, господа присяжные, и вы поймете
182
всю правдоподобность его рассказа о том, что у него не
явилось ни малейшего сомнения в подлинности векселей,
что он посмотрел два-три векселя, а затем на остальных
делал бланковые надписи, не читая даже самого текста
векселей. Затем, по делу является вполне доказанным, что
Махалин из этих векселей лично для себя не извлек
никакой пользы. Единственный эпизод, где при продаже
векселей Солодовникова упоминается имя Махалина, есть
сделка с Башиловым, на которую обвинительный акт указывает
как на преступное получение Махалиным денег по
подложным векселям. Башилов был спрошен на суде, и здесь он
объяснил, что, покупая векселя, он был убежден, что
продажа их совершается для игуменьи. Махалин утверждает
даже, что все его участие в этой сделке ограничилось лишь
написанием расписок Башилову по просьбе игуменьи. Как
бы то ни было, верить ли показанию Махалина, что он не
брал вовсе денег от Башилова, или показанию Башилова,
что он передал игуменье деньги через Махалина, во всяком
случае, мы имеем пред собой тот несомненный факт, что
вся сумма, полученная с Башилова, поступила к игуменье
Митрофании, а у Махалина не осталось ничего. Я говорю
о расписках, представленных к делу Башиловым, на
которых имеются собственноручные надписи игуменьи
Митрофании с приложением печати в том, что всю сумму,
за которую проданы были векселя, она, игуменья, от
Махалина получила сполна. Никто, конечно, господа
присяжные, не станет делать подлог для того только, чтобы
сделать его, никто не совершает подобного преступления
из одного удовольствия совершить его. Тот, кто
сознательно делает подлог, бесспорно имеет в виду
воспользоваться плодами своего преступления. А между тем мы
видим, что Махалин по векселям Солодовникова никогда
ничего для себя не получал, и это-то отсутствие всякой
корыстной цели служит неопровержимым
доказательством его невиновности по делу Солодовникова. Смешно
даже сказать, что человек, ставящий бланки на векселях
на 480 тысяч рублей, участвующий в обманах Медынцевой,
по словам обвинения, на десятки тысяч рублей, по
собственному его показанию получает по обоим делам всего
40 руб. от Солодовникова на дорогу, так что если
бы он, везя 75 тысяч рублей, захотел дозволить себе
роскошь проехать в первом классе курьерского поезда из
Москвы в Петербург и обратно, то ему пришлось бы
приплатить еще за проезд свои деньги. Таковы все
доказанные обвинением выгоды, которые Махалин получил для
себя от дел Медынцевой и Солодовникова! Что же, спра-
183
шивается, привело его на скамью подсудимых? Я
полагаю, господа присяжные, что привлечение Махалина к
суду объясняется прежде всего свойством настоящего
процесса, обусловленного положением и деятельностью
лица, стоящего во главе подсудимых по делу игуменьи
Митрофании. Подобно тому, как падение какого-либо
огромного здания влечет за собой обыкновенно массу
мелких обломков, так и падение какой-либо высоко стоящей
выдающейся личности увлекает за собой всегда других
незначительных лиц, стоявших близь нее. Обширная и
разнообразная деятельность не может не затрагивать
массы мелких интересов лиц второстепенных, и здесь уже
не всегда бывает возможно строго разобрать и отделить
деятельность каждого из них. Вот почему эти лица
обыкновенно остаются не одними только простыми зрителями
падения. Не существует ни одного большого уголовного
процесса, где бы не было такого рода подсудимых,
которые по большей части выходят из суда оправданными,
потому что они и попадают на скамью подсудимых
именно благодаря лишь близости к другим лицам, более
высоко стоящим. Так было и в настоящем деле. За преданием
суду игуменьи ^Митрофании последовало предание суду
Махалина, и этот маленький человек должен был
разделить участь той, подле которой его поставила несчастная
судьба. К этому еще присоединилось, господа
присяжные, и личное качество Махалина, которое я назову
благородством и которое, быть может, иные назовут
недогадливостью. Когда разнесся слух, что игуменья Митрофа-
ния арестована и против нее возбуждено уголовное
преследование, тотчас же явился ряд личностей, которые
поспешили забежать вперед и предложить свои услуги
против нее. История падения игуменьи Митрофании,
признаюсь, во многом напоминает мне известный рассказ об
умирающем льве, которого все звери боялись при его
жизни, но, прослышав о приближающейся кончине его,
даже осел и тот счел себя вправе явиться, чтобы лягнуть
уже бессильного в то время льва. Тут, господа присяжные,
было широкое поле для такого род*а деятельности! К тому
же многим приходилось спасать самих себя, и в этом
случае вопрос о разборчивости в средствах казался для них
излишним. И эти лица достигли своей цели: они получили
свою награду, они купили себе свободу ценой
предательства или клеветы. Но не таков был Махалин. Он так честен,
что не захотел быть доносчиком, и достаточно уважал себя
для того, чтобы не унизиться клеветой. Он не хотел
освобождать себя, явясь в роли, в какой явился здесь пред на-
184
ми на суде один из свидетелей, вызванных со стороны
обвинения. Этот свидетель,-господа присяжные, который, как
вы помните, для вида писал себе задним числом расписку
от имени Медынцевой в 6 тысяч рублей, для вида ставил
бланк на векселе Медынцевой, для вида сам себе
определил вознаграждение в 15 тысяч рублей по делу
Медынцевой, для вида ездил устраивать ссылку лакея
Медынцевой в Сибирь на поселение и для вида же в одно и то же
время являлся с советами к игуменье Митрофании против
Медынцевой и к Медынцевой против игуменьи. Это тот
свидетель, который, как вы слышали, пришел в одной
изношенной одежке к игуменье Митрофании, приютившей
его и давшей ему средства в жизни, и который не имел
настолько чувства, не скажу благодарности, но даже
простого приличия, что имел дерзость явиться здесь на суде и
публично свидетельствовать против своей
благодетельницы! Это тот, наконец, свидетель, слыша показания
которого вам, вероятно, самим уже приходил в голову вопрос:
почему же не он сидит на скамье подсудимых, а Махалин?..
Я уверен, господа присяжные, что вы отметили уже
деятельность Махалина по настоящему делу и дали
надлежащую оценку его нравственной личности. Неужели в
самом деле можно ставить в вину человеку то, что человек
этот, не одаренный ни силой воли, ни особенной силой
ума, подчинился влиянию другого энергичного и сильного
умом человека и, преклоняясь пред ним, доверился ему
вполне и безусловно? Неужели можно карать человека за
то, что он слишком много верил и слишком мало думал?
Какова бы ни была судьба игуменьи Митрофании, но
я полагаю, что едва ли у кого-либо найдется слово
осуждения против Махалина. Такого рода люди не несут с
собой смелых замыслов ума, но то глубокое чувство,
которым обыкновенно бывает отмечена их жизнь, невольно
ставит все наши симпатии на их сторону. Обращаясь к
вам, господа присяжные, с просьбой о признании
Махалина невиновным, я пользуюсь не одним только формальным
правом защиты: просить об оправдании подсудимого; нет,
эта просьба моя исходит из убеждения в полнейшей
невиновности Махалина в тех преступлениях, в которых его
обвиняют по настоящему делу. И если, господа
присяжные, ваша совесть, та совесть, во имя которой вы призваны
произнести ваш приговор по настоящему делу, помимо
внешних признаков невиновности, даст хотя какую-нибудь
цену чувству глубокой преданности и тому высокому
благородству, о которых я говорил вам,, то я остаюсь в твердой
уверенности, что просьба моя не останется напрасной и
185
что ваш приговор о Махалине будет его полное
оправдание.
Присяжным было поставлено 270 вопросов. После
четырехчасового совещания присяжные вынесли вердикт,
которым признали игуменью Митрофанию виновной
в составлении подложных документов от имени
Лебедева и подложных документов Солодовникова, а также в
том, что она обманным образом выманила у
Медынцевой ее бланки на вексельной бумаге, и в присвоении
денег, вырученных незаконным путем. Присяжные
признали, что подсудимая заслуживает снисхождения по всем
пунктам. Остальные подсудимые были признаны
невиновными. На основании вердикта присяжных суд
приговорил Митрофанию к лишению всех прав состояния и
ссылке в Енисейскую губернию на три года и в другие
губернии еще на одиннадцать лет.
Но ссылка в Сибирь была заменена на Ставрополь.
И там, по ее же словам, в райском месте, она провела в
монастыре два года. Затем она жила в монастырях в
Одессе, Полтавской, Нижегородской и Тамбовской
губерниях. А в 1893 году за казенный счет отправилась
в Иерусалим, где жила три года.
дело
КРОНЕБЕРГА
Банкир дворянин Станислав Леопольдович Кронен-
берг, 1845 года рождения, определением
Петербургской судебном палаты от 13 ноября 1875 года был
предан суду с участием присяжных заседателей по
обвинению в том, что он летом 1875 года сознательно
подвергал свою семилетнюю дочь Марию истязаниям: бил
до синяков, продолжительно сек розгами. Дело
слушалось 23—24 января 1876 года. Председательствовал
председатель Петербургского окружного суда А. А.
Лопухин.
Правильное написание фамилии подсудимого — Кро-
ненберг (так и в материалах дела), но уже в газетной
уголовной хронике, а позже у Ф. М. Достоевского
и других авторов она была переделана, видимо, на
русский лад в Кронеберга.
Несмотря на кажущуюся незначительность — все-
таки не убийство,— дело оказалось очень громким.
Как отмечено в «Истории русской адвокатуры», это дело
стало чрезвычайно важным, «так как, благодаря участию
в возникшей полемике самых выдающихся писателей
того времени, резюмированы были и кристаллизованы
все притязания к адвокатуре»*. Другой, не менее
серьезной причиной, обусловившей широкий общественный
резонанс дела Кронеберга, было столкновение
различных подходов к семейной педагогике. Консерваторы
опасались, что это дело послужит прецедентом для
вмешательства государства в дела семьи, либералы —
напротив, приветствовали процесс, полагая, что таким
♦История русской адвокатуры. М., 1914, т. 1, с. 200.
187
образом удастся обуздать жестокость некоторых
родителей. Действительно, в том же году в России прошло
еще несколько аналогичных процессов.
Делу Кронеберга Ф. М. Достоевский посвятил
большой очерк в «Дневнике писателя». Полностью
соглашаясь со Спасовичем в юридической оценке события,
он не мог простить ему аморальной тактики защиты,
когда истязание ребенка отрицается только на том
основании, что оно не подходит под статью Уложения о
наказаниях, а также того, что, защищая отца, В. Д. Спасович
порочил дочь. «Слушатели почти забыли, что она
семилетняя; г. Спасович ловко конфисковал лета, как
опаснейшую для себя вещь»*. Ф. М. Достоевский не
мог оправдать ни Кронеберга, который «сек долго, вне
себя, бессознательно, как попало!», потому что «нельзя
быть вне себя, потому что есть предел всякому гневу
и даже на семилетнего безответного младенца за ягодку
чернослива и за сломанную вязальную иголку»; ни Спа-
совича, который жертвует своей совестью и своим
талантом ради защиты клиента и поддержания своего реноме.
Дело Кронеберга отразилось в замысле
ненаписанного романа Ф. М. Достоевского «Отцы и дети» и
упомянутого в «Братьях Карамазовых», а В. Д. Спасович
стал одним из прототипов адвоката Фетюковича.
Мнение Достоевского об этом деле разделяли люди
разных взглядов и положения в обществе — от М. Е.
Салтыкова-Щедрина до К. П. Победоносцева, от
студенческой молодежи до солидных судебных деятелей.
Иронизируя над защитой Спасовича и рассматривая ее
как аморальную, М. Е. Салтыков-Щедрин писал: «Всего
естественнее было бы обратиться к г. Спасовичу с
вопросом: если вы не одобряете ни пощечин, ни розог, то
зачем же ввязываетесь в такое дело, которое сплошь
состоит из пощечин и розог?»**
Речь присяжного поверенного В. Д. Спасовича
в защиту Кронеберга
Господа присяжные заседатели!
Хотя мы люди обстрелянные и привыкшие к подобным
настоящему состязаниям, но когда принимаешь к сердцу
дело, которое защищаешь, то невольно боишься и бес-
* Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч., т. 22. Л., 1981, с. 57.
** Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. в 20 т., т. 15. М„ 1973, с. 226.
188
ДО НАСТОЛЬНОМУ РЕЗСГРУ
jfm7
дмо
ПРОКУРОРА
t-шпрнишп одожиго ид
Въ семъ двл* номерованных-ь яистовъ
Титульный лист дела Кронеберга.
покоишься. Я не стану скрывать, что я испытываю теперь
подобного рода чувство: я боюсь, господа присяжные
заседатели, не определения судебной палаты, не обвинения
господина прокурора, которое весьма серьезно и вместе
с тем и сдержанно,— я боюсь отвлеченной идеи, призрака,
боюсь, что преступление, как оно озаглавлено, имеет
своим предметом слабое, беззащитное существо. Само
слово «истязание ребенка», во-первых, возбуждает
чувство большого сострадания к ребенку, а во-вторых,
чувство такого же сильного негодования в отношении к тому,
кто был его мучителем. Я, господа присяжные, не
сторонник розги, я вполне понимаю, что может быть
проведена система воспитания, из которой розга будет
исключена, тем не менее я так же мало ожидаю совершенного
и безусловного искоренения телесного наказания, как
мало ожидаю, чтоб перестали суды действовать за
прекращением уголовных преступлений и нарушений той правды,
которая должна существозать как дома в семье, так и в
государстве. В нормальном порядке вещей употребляются
нормальные меры. В настоящем случае была употреблена
мера, несомненно, ненормальная; но если вы вникнете
в обсто5Ггельства, вызвавшие эту меру, если вы
примете^ соображение натуру дитяти, темперамент отца, те
цели, которые им руководили при наказании, то вы многое
в этом случае поймете, а раз вы поймете — вы оправдаете,
потому что глубокое понимание дела непременно ведет
к тому, что весьма многое объяснится и покажется
естественным, не требующим уголовного противодействия.
Такова моя задача: объяснить случай. Я постараюсь
передать обстоятельства дела такими, какими они были,
ничего не увеличивая и не уменьшая. Я должен начать,
господа присяжные заседатели, с того романа, которому
обязана девочка своим существованием.
К.*— сын известного богача. Сам он не имеет
никакого состояния, лично ему принадлежащего, и вполне
зависит от отца, человека весьма уважаемого, но и весьма
строгого, воспитавшего детей в суровой школе подчинения.
В 1863 году подсудимый, окончив гимназию, поступил
в Варшавский университет в самое время смут, когда
почти вся молодежь поголовно волновалась; во избежание
опасности отец услал его за границу — в Брюссель. Это
заграничное воспитание сделало то, что К.— почти ино-
*В собрании сочинений В. Д. Спасовича (т. VI), по которому
воспроизводится эта речь, полностью фамилия подзащитного не
приведена.
190
В. Д. Спасович.
странец, т. е. хотя он русский подданный, уроженец
Царства польского, но он более немец, а еще более француз.
Из Брюсселя К. возвратился в Варшаву в 1867 году,
кончил курс в главной школе со степенью магистра прав,
что соответствует нашему кандидатскому диплому; потом
отправился вновь за границу для большего
усовершенствования в науках в университетах: Боннском и Гейдель-
бергском. В этот промежуток времени, между Брюсселем
и Бонном, во время бытности в Варшаве в 1867 году, он
сошелся с женщиной, старше его летами, вдовой,
имеющей детей. Женщина эта понимала, что они не
соответствовали друг другу по летам, что родители К. никогда не
согласятся на брак. Она сама взяла почин в размолвке.
К. и не подозревал, что она от него беременна. Он был
сильно огорчен, скучал и искал какого-нибудь развлечения,
какого-нибудь поприща для деятельности. Когда началась
франко-прусская война, он отправился во Францию,
вступил в ряды французской армии, участвовал в двадцати
трех сражениях, получил орден Почетного легиона,
дослужился до чина подпоручика и вышел в отставку, уже
191
по окончании войны. Пережитое заставило его забыть
о женщине, которую он когда-то любил. В 1872 году
он встретился с ней в Варшаве, когда она уже была
замужем; тут он узнал, что есть ребенок, ему
принадлежащий, в Женеве. Рождение этого ребенка сопровождалось
следующими обстоятельствами: беременная мать желала,
чтобы рождение не огласилось; она отправилась за
границу и разрешилась в Женеве. По тамошним законам,
ребенок, когда он незаконный, записывается на имя
матери, а . на имя отца только тогда, когда отец налицо
и признает ребенка. Мать не могла взять ребенка с собой
и оставила его на попечении у крестьян за денежное
вознаграждение. Так как сама она вышла вторично замуж, то
между ней и ребенком воздвигнулась как бы каменная
стена, не допускающая ни малейшей возможности, чтоб
когда-нибудь эта мать могла приласкать свое дитя или
чтоб дитя могло ее отыскать. Когда К. узнал, что ребенок
жив, то он тотчас возымел твердое намерение найти его
и обеспечить. Спрашивается: каким образом? Решение
этого вопроса во многом зависит от законов, под которыми
живет человек; законы, в свою очередь, действуют на
нравы; с другой стороны, и нравы отражаются в законах.
Ни в одном отношении, может быть, взаимодействие
законов и нравов не проявляется так сильно, как в
отношениях родителей к незаконным детям. Возьмите наш быт.
Закон строг к незаконнорожденным: они не имеют
никаких прав и даже не определено, есть ли над ними власть
отеческая. Как же приходится устраивать родителям
незаконных детей? Если у родителей сердце сколько-
нибудь сердобольное, если им не по нутру отдать дитя
в воспитательный дом, то единственный способ устроить
ребенка заключается в деньгах: отдать дитя куда-нибудь
на сторону на воспитание, посмотреть за ним тайком без
свидетелей, не давая ребенку узнать, чей он; если и
допускаются излияния ^нежности, то только секретно, без
свидетелей. Таково отношение, которое необходимо
вытекает из существующей системы законодательства; эта
система не может не действовать на нравы, т. е. родители,
зная, что они не могут сделать для ребенка ничего более,
успокаиваются в совести своей, когда исполнили все, что
допускается законом, когда дали ребенку денег в виде
приданого, когда отдали его в какое-нибудь учебное
заведение.
Но, господа присяжные заседатели, в пределах вашей
империи есть страна — Царство польское, имеющая свои
особые законы. Когда Царство польское было Княжест-
192
вом варшавским, тогда там введен был, в 1808 году, кодекс
♦Наполеона. Кодекс этот в 1825 году, в царствование
Александра I, переделан в некоторых частях, которые
касаются прав семейственных, именно в книге 1-й и в книге
3-й. Это издание кодекса 1825 года действует и до сих
пор. В томе 19 «Дневника законов» содержится закон
1836 года, по которому семейственные права жителей
Царства польского и определяются законами Царства,
когда эти жители переселяются в пределы Российской
империи. Кодекс 1825 года устанавливает между
родителями и незаконными детьми следующие отношения:
по ст. 101, отец может во всякое время признать ребенка
своим; это делается посредством отметки имени отца на
реестре гражданского состояния. Вследствие этого
признания, по ст. 303, родитель берет на себя юридическую
обязанность воспитать, содержать и устроить ребенка,
т. е. то самое, чем отец обязан и в отношении к законным
детям. По ст. 756 и последующим, такой ребенок
участвует даже в Наследстве после родителей на следующих
основаниях: при законных детях он получает 1/3 часть того,
что получают законные дети; при братьях или родителях
умершего незаконные дети наследуют 1/2; при более
дальних родственниках — 3/4. Если нет в виду
правильных наследников, они получают все состояние. Этим
правам, конечно, соответствует и власть родителей над
детьми. Власть эта двоякая: она выражается, во-первых,
в опеке, которая принадлежит матери; если же мать не
может быть опекуншей, то отцу; во-вторых, в праве
наказывать детей. Сверх того, есть ст. 339, которая
чрезвычайно важна и значение которой я позволю себе
объяснить вам; она заключается в следующем: родители,
недовольные поведением детей, могут их наказывать
способами, не вредящими здоровью и не препятствующими
успехам в науках. За злоупотребление этой властью
родителям делается внушение в присутствии гражданского
трибунала первой инстанции при закрытых дверях
и проч. ...
Председатель. Не угодно ли вам не касаться
наказания? Вы можете ссылаться на закон, но не говорить о
наказании.
Присяжный поверенный Спасович. Это не наказание,
это только мера, предоставляемая гражданскому суду по
гражданскому кодексу. Я долгом считаю заявить, что, по
ст. 339, никакого наказания не полагается за превышение
власти наказывать, а только у родителей может быть
отнята власть родительская и дети переданы другому лицу
7 Заказ №571
193
на воспитание за счет родителей. К.— магистр прав: он
знал свои законы, он понимал, что может сделать для
дитяти, и захотел сделать самое большее, что только может
делать по закону. Он обратился за советом к
женевским юристам, крторые посоветовали ему отметить в
регистре признание им дитяти. Он хлопотал о том,
чтобы сделать признание посильнее, чтобы признание
его имело силу и действие в пределах Царства
польского. Конечно, он очень хорошо понимал, что у
него еще нет своего собственного состояния. Но,
давая свое имя ребенку, он был уверен, что если его
постигнет несчастье, то родители и родственники
позаботятся о девочке, носящей имя К., что в крайнем
случае дочь его будет принята в одно из
правительственных воспитательных заведений Франции, как дочь
кавалера Почетного легиона. К. взял девочку от тех крестьян,
у которых она воспитывалась и где не могла получить
никакого образования, и отдал ее в дом, который казался
ему наиболее приличным, к пастору де Комба, жена
которого была крестной матерью девочки. Так прошли годы
1872, 1873 и 1874-й до начала 1875 года. В течение этих
лет произошли некоторые перемены в намерениях, в
занятиях и в положении К.
Есть люди, которые по натуре своей более склонны
к жизни семейной; есть люди, которые могут прожить
целый век холостяками. К. именно принадлежит к людям
первого ряда, которых так и клонит к браку; он чуть-чуть
не женился в 1872 году; в 1873 году также имел
намерение, но партия расстроилась, и сильнейшим
препятствием было то, что он заявил о существовании дочери,
вторым препятствием был отец К., который никак не
позволил бы, чтобы брак устроился без его участия и
соизволения. В Париже К. познакомился с девицей Жезинг.
Когда ему предстояла поездка в Петербург на 1874 год,
в город совершенно чужой, где он был бы совершенно
одинок, он принял предложение Жезинг поехать с ним
и взял ее с собой. Вы могли оценить, насколько г-жа
Жезинг походит или не походит на женщину полусвета, с
которыми завязываются только летучие связи. Конечно, она
не жена К., но их отношения не исключают ни любви,
ни уважения. Вы видели, бессердечна ли эта женщина
к ребенку и любит ее или нет ребенок. Она желала бы
сделать ребенку всякое добро. В свидетельских
показаниях против подсудимого, даже самых неблагоприятных,
например Титовой, нет ни слова против г-жи Жезинг. В 1874
году они приехали в Петербург, в 1875 году г-жа Жезинг
194
Группа служащих у канцелярии Петербургского окружного суда в день
чествования В. Д. Спасовича. 1912 г.
заболела; она сильно привязалась к подсудимому и сама
стала напрашиваться: «Возьмите дитя, будет и вам и мне
веселее; я буду ухаживать за ним, воспитывать его». К. не
имел еще в то время определенного намерения взять
ребенка, но решился заехать в Женеву посмотреть... В
Женеве он был поражен: ребенок, которого он посетил
неожиданно, в неуказанное время, был найден одичалым, не
узнал отца. Воспитанием его К. был недоволен и тут же
расплатился с мадам де Комба, после чего привез ребенка
в Петербург. Они приехали 28 апреля; некоторое время
они жили в гостинице Демут, потом устроились в городе
и наконец в июне переехали на дачу. Весь май К. был
занят делами одной железной дороги, которая не давала
ему ни минуты досуга. На даче произошло событие,
которое дало начало делу. Причины этого события
собрались разные, внутренние и внешние, заключавшиеся как
в ребенке, так и в отце, а равно и в различных влияниях
на ребенка. Прежде чем я перейду к изложению причин
катастрофы 25 июля, я должен разобрать точнее сам
внешний факт, за который судится К.,— факт побоев де-
195
вочки, удостоверяемый как вещественными
доказательствами, так и свидетельскими показаниями. Знаки,
бывшие предметом исследования, можно подразделить на
знаки на лице, знаки на руках и конечностях, знаки на
задних частях тела и пятна крови на белье. Каждый из
этих следов надо разобрать отдельно, и прежде всего
знаки на лице. Когда пристально вглядишься в лицо
ребенка, то это лицо точно исписано по всем направлениям
тонкими шрамами, прикрытыми в иных местах волосами,
так что они едва-едва заметны. Знаки эти г. Чербишевич
признал неизгладимыми на лице обезображениями, с чем
я только тогда мог бы согласиться, если бы каждый
человек ходил вооруженный двумя микроскопами. Так как
девочку свидетельствовали вследствие сечения розгами, то
натурально должно было явиться предположение, не от
сечения ли произошли и знаки на лице. Я думаю, что
именно эта идея и была невольно усвоена
свидетельствовавшими врачами, особенно г. Чербишевичем,
сделалась предвзятой идеей и помешала исследованию.
Акты освидетельствования надобно разбирать отдельно,
потому что они между собой не сходятся. Если их
скучить вместе, как это сделано в обвинении, то
выходит как будто нечто связное, но если их
разобрать отдельно, то видно, что каждый из
исследовавших врачей тянул в иную сторону, так что в
заключениях они расходились на неизмеримое расстояние.
Г-н Чербишевич, разобрав знаки на лице, разделил их,
во-первых, на белые шрамы, рубцы, во-вторых, на пятна
желто-бурого и желтого цвета и, в-третьих, на струпья.
Рубцы на левом веке и левой щеке он признал
единственными знаками, которые можно отнести к давнему
времени. Он усмотрел желтые и желто-бурые пятна, но
не багровые и не сине-багровые. Я должен заметить, что
подобных синих и багровых пятен ни один из докторов
не находил. Желтые и желто-бурые пятна г. Чербишевич
отыскал на виске во всю его длину, на носу, на правой
щеке, а струпья оказались в ноздре и под носом. Все эти
знаки и струпья были признаны недавними. Некоторые
из этих знаков, по мнению Чербишевича, весьма
характеристичны, как несомненно происходящие от розог, именно:
рубчики продольные, параллельные по всей длине носа.
Таково было заключение доктора Чербишевича, видевшего
девочку 31 июля. Дней через десяток девочку
свидетельствовали вчетвером: он же и еще трое. Заключение вышло
совершенно иное. Некоторые из тех знаков, которые г.
Чербишевич признавал недавними, отнесены к весьма давним:
196
так, например, желтое пятно на виске превратилось в
рубец с перламутровым отливом, образовавшийся никак не
раньше полугода, т. е. когда девочка совсем не была еще
в Петербурге. Знаки на переносье также отнесены более
чем за полгода назад. Ни один из знаков на лице не
признан характеристичным следом от розог; один только
маленький значок на щеке замечен профессором Фло-
ринским как могший произойти от розог, но и то не
с достоверностью. Несмотря на то что вторая экспертиза
была умереннее и осторожнее первой, она все-таки
заходила слишком далеко в своих предположениях, что
служит доказательством, как трудно объяснить
происхождение повреждений по одному внешнему виду, а не на
основании фактических данных. Доктора, осматривавшие
девочку 11 августа, предполагали, что розовые знаки на
носу и щеках возникли недавно, между тем впоследствии
узнано от супругов де Комба, Женни Геке и доктора
Фоконэ, что каждому из всех этих знаков, не исключая
рубцов на носу и щеках, три или четыре года. Таким
образом, что касается знаков на лице, то из них нет ни
одного, о котором можно было бы сказать, что он
произошел от удара, нанесенного отцом. Остается открытым
вопрос о пощечинах и о тех синяках, которые были,
может быть, последствием пощечин. К. давал пощечины
ребенку, это верно, он сам признает, что ударил девочку
по лицу раза три или четыре. Я признаю, что пощечина
не может считаться достойным одобрения способом
отношения отца к дитяти. Но я знаю также, что есть весьма
уважаемые педагогики, например английская и немецкая,
которые считают удар рукой по щеке нисколько не
тяжелее, а, может быть, в некоторых отношениях
предпочтительнее сечения розгами. Причины, почему пощечина
считается особенно обидным ударом, кроются в нравах,
в прошедшем. Следя в истории за возникновением этого
понятия, мы отыщем его в те времена рыцарские, когда
рыцари ходили в шлемах с забралом, когда ударить их
по лицу в обыкновенном их наряде было невозможно,
а подобные удары сыпались только на смердов, на вила-
нов. Разбирая власть родительскую, трудно сказать, чтобы
она не доходила ни в каком случае до пощечины. От
постороннего человека удар по лицу может сделаться
кровной обидой, но не от отца. Я полагаю, что вы
не можете признать мучением или истязанием
пощечины, если эти пощечины не произвели видимых
повреждений на лице. Спрашивается: какие были
последствия от ударов по лицу? В настоящем случае —
197
оставляли ли они пятна или синяки на лице?
Если бы даже от них оставались пятна, то вы слышали
показание профессора Корженевского о том, как эта
девочка расположена к золотухе и как при золотушном
сложении, при изобилии лимфы, самый легкий удар, щипок,
простой нажим производят пятна на теле. Вы слышали,
что знаки на локтях образовались почти несомненно
только оттого, что ее держали за руки при наказании.
Итак, синяки могли произойти и от слабых ударов. Но
я не вижу основания для признания, что синяки
существовали. Кто о них говорит? Титова; но и она не видела
синяков ни в городе, ни на даче, до 25 июля; она их
усмотрела будто бы после 25 июля. Заметьте, госиода
присяжные, что Аграфена Титова — та женщина, которая,
вместе с Бибиной, понесла розги и белье к судебному
следователю; они вместе действовали, они вместе возбудили
преследование против К. Если бы эти синяки были, то
их видел бы кто-нибудь кроме Титовой. Вспомните
показания свидетелей Ковалевского, Воловского и Линна,
которые отвергают существование синяков. Прокурор,
чтобы ослабить показания Линна, ставит на вид, что Линн
не заметил шрама на виске, значит, он невнимательно
относился к девочке; но, господа, ведь шрам под
волосами — заметит^ его можно только усиленно вглядываясь
и отвернув волосы. После сечения, на следующий день,
в субботу 26 июля, у К. была гувернантка, г-жа де Горне,
дававшая уроки девочке и ничего похожего на синяки не
заметившая. Но, говорят, сама г-жа Жезинг не отрицала
синяков в показании, данном у следователя, и только
теперь показывает противное. Я полагаю, что из двух
ее показаний скорее можно не верить тому, которое дано
на предварительном следствии; правда, ей переводил
господин следователь, но, во-первых, она, вероятно, так же
волновалась, как и теперь, т. е. была в нервном состоянии,
не располагающем к тому, чтобы взвешивать слова,
которые ей читали. Во-вторых, я не могу не сказать, что это
следствие немного муссировано, что выведены в нем такие
обстоятельства, которые теперь значительно стушевались.
Вот почему я полагаю, что синяки на лице не доказаны
даже и по показанию Жезинг. Перехожу к знакам на
руках и на ногах; эти знаки произошли просто оттого, что
ребенка держали во время наказания. Следуют затем
знаки крови на рубахе и платках. Кровь эта произошла
самым естественным образом: от кровотечения из носу.
Рубашка совершенно чиста с задней стороны, только на
груди есть несколько капель; новые платки тоже усеяны
198
каплями. Очевидно, между кровью на рубашке и на
платках есть прямая, непосредственная связь. Быть может,
пощечины ускорили излияние этой крови из струпа
золотушного в ноздре, но это вовсе не повреждение: кровь без
раны и ушиба вытекла бы немного позже. Таким образом,
кровь эта не заключает в себе ничего такого, что могло бы
расположить против К. В ту минуту, когда он нанес удар,
он мог не помнить, мог даже не знать, что у ребенка
бывает кровотечение из носу. Все данные о кровотечении
собраны уже впоследствии, когда следствие началось.
Остаются знаки на задних частях тела. Знаки эти были
исследованы трижды: раз, 29 июля, г. Лансбергом, во второй раз,
5 августа, одним г. Флоринским и 11 августа четырьмя
докторами, в том числе Лансбергом и Флоринским. При
всей неблагоприятности для К. мнения г. Лансберга я для
защиты К. заимствую многие данные из его акта от 29
июля. Г-н Л ансберг положительно удостоверил, что на
задних частях тела девочки не было никаких рубцов, никаких
рассечений кожи, а только темно-багровые подкожные
пятна и такие же красные полосы. Пятен этих всего более
было на левой седалищной области с переходом на
левое же бедро. Не найдя никаких травматических знаков,
никаких даже царапин, г. Лансберг засвидетельствовал,
что полосы и пятна не представляют никакой опасности
для жизни. Через шесть дней потом, J> августа, при
осматривании девочки профессором Флоринским он
заметил не пятна, а только полосы — одни поменьше, другие
побольше; но он вовсе не признал, чтобы эти полосы
составляли повреждение сколько-нибудь значительное, хотя
и признал, что наказание было сильное, особенно ввиду
того орудия, которым наказывали дитя. При
освидетельствовании 11 августа четырьмя докторами они нашли на
ягодицах розовую кожицу со следами от отвалившихся
струпьев, из чего можно было бы заключить о
существовании ран, если бы мы не имели акта освидетельствования
девочки 29 июля Лансбергом, из которого несомненно
явствует, что никаких ран не было. Происхождение этих
струпьев всего лучше объяснил профессор Корженевский,
изобразивший их как местное омертвление кожи, которая
сходила и заменялась новой. Это повреждение кожи было
самое поверхностное, наружное, но при организации
ребенка, при множестве лимфатических сосудов, сечение
непременно должно было оставить видимые следы. Таково
заключение г. Корженевского. Что касается вопроса
о том, было ли в настоящем случае сильное наказание,
то, мне кажется, господин эксперт вполне основательно
199
сказал: это не мое дело разбирать — было ли оно сильное
или нет. Сам вопрос оказывается не медицинским, а
педагогическим, и для разрешения его посредством
экспертов надо бы не медиков, а инспекторов и учителей
гимназий. Медик не может определить ни пределов власти отца,
ни силы неправильного наказания. Знаки на задних
частях происходят несомненно от розог. Эти розги здесь,
они были сорваны за несколько дней до наказания К.,
который хотел ими напугать ребенка, потому что те меры,
которые употреблялись до сих пор, не производили
надлежащего впечатления на дитя. Срывая эти рябиновые
прутья, он, быть может, не знал, что придется их в
самом деле употребить. Потом явилась минута гнева,
совершенно справедливого и законного, и наказание было
произведено. Мне кажется, что из всего следствия вы
не можете прийти к другому заключению, как к тому,
что этим орудием он наказывал свою дочь только раз.
Он сам говорит, что наказал ее раза три в промежутках
времени, довольно значительных, маленькими ветками,
которые не могли оставить знаков. Наказание сильное,
за которое судится К., наказание, выходящее из ряда
обыкновенных, как говорит обвинительная власть, было
только 25 июля. Что это было только одно наказание,
подтверждается всеми обстоятельствами дела. О
предшествующих наказаниях не может быть и речи. Только
одна Бибина говорит, что девочку секли каждый день, но
это опровергается всеми данными, опровергается Валев-
ским, который слышал плач три или четыре раза,
опровергается г-жой^Жезинг, всеми находившимися в доме, и,
несомненно, достаточно только взглянуть на ребенка,
на его здоровый вид, чтобы убедиться, что если бы его
секли каждый день в течение полутора месяцев, то
девочка не могла бы быть в таком виде. Она часто кричала
на даче, но она кричать горазда, она кричит, когда ее
ставят в угол или на колени. Никто не присутствовал при
этих наказаниях. Титова участвовала в наказании только
один раз, именно 25 июля. Чтобы покончить с внешней
стороной преступления, мне остается остановиться на тех
окончательных выводах, выраженных в ученых терминах,
которые даны были господами экспертами. Г-н Лансберг
заключил, что он считает повреждения хотя и не
угрожающими жизни, но все-таки тяжкими. Когда мы
спросили, почему он называет эти повреждения тяжкими,
он отозвался, что называет их так по внутреннему
убеждению, по своему субъективному взгляду, что он вовсе не
руководствовался 18-м томом «Свода законов», притом
200
что он делал судебно-медицинское освидетельствование
первый раз в жизни. Между тем едва ли нужно
доказывать, что признак «тяжкий» не в такой степени
субъективен, каким представляет его Лансберг, что он не зависит от
личного взгляда, что есть некоторые общие основания
разделения повреждений — на тяжкие и легкие. На эти
основания указали профессора Флоринский и Корженев-
ский. Если ткань повреждена, повреждена глубоко, тогда
это будет тяжкое повреждение, в противном случае — нет.
Кассационная судебная практика, на которую ссылается
обвинение, истолковала для руководства судам, что
считать тяжкими и легкими повреждениями. Оказывается,
что эти слова не медицинские, а юридические, что
разграничение введено в закон для того, чтобы взыскивать
строго или менее строго; из закона оно входит в судебную
медицину, и медики, слушая курс судебной медицины,
изучают, между прочим, и основания сортировки
повреждений на тяжкие и легкие. В классическом по
предмету повреждений решении 1872 года, № 1072, по делу
Локтева, уголовного кассационного департамента сказано,
что характеристическая черта тяжких повреждений
заключается в том, что такие повреждения причиняют болезнь,
продолжительное расстройство организма, невозможность
работать в течение известного времени. Спрашивается:
имеется ли этот признак в настоящем случае? Нет, его
вовсе не было, его не было до такой степени, что девочка
на следующий день играла, отбывала урок и никто не
замечал в ней каких-нибудь изменений; врачи,
наблюдавшие ее 29 и 31 июля, не находили в ней никаких
болезненных симптомов. Сам г. Лансберг совершил, по
моему мнению, отступление, потому что, написав в акте
«повреждения тяжкие», разъяснил на суде, что тяжким
разумел он не повреждение, а только наказание; словом,
он вступил в роль педагога, который оценивает
относительную тяжесть детских наказаний. Я думаю, что, как
ни разбирать дело, все-таки по совести вы непременно
придете к тому заключению, что повреждения были, во
всяком случае, весьма легкие. Легкие повреждения даже
и не походят под область деяний, подсудных окружному
суду: они решаются на основании мирового устава. В
последующих освидетельствованиях врачи, давая другие
заключения, определили эти повреждения следующим
образом: они говорят, что это наказание выходит из ряда
обыкновенных. Это определение было бы прекрасно, если
бы мы определили, что' такое обыкновенное наказание,
но коль скоро этого определения нет, то всякий затруд-
201
нится сказать, выходило ли оно из ряда обыкновенных.
Допустим, что это так. Что же это значит? Что
наказание это, в большинстве случаев, есть наказание,
не применимое к детям. Но и с детьми могут быть
чрезвычайные случаи. Разве вы не допускаете, что власть
отеческая может быть в исключительных случаях в таком
положении, что должна употребить более строгую меру,
чем обыкновенно, меру, которая не похожа на те
обыкновенные меры, какие употребляются ежедневно? Но
допустим, что господа эксперты, предрешая уголовный
вопрос, пришли к выводу, что г. К. во зло употребил
отеческую власть. В таком случае судите его за
злоупотребление властью. Но он судится за нечто совершенно иное —
он судится за истязания и мучения, причиненные дитяти.
Чтобы понять, откуда идет такая постановка обвинения,
я должен коснуться закона и опять той же уголовной
кассационной практики, на которой останавливается и
обвинение. В законе специально по предмету побоев в ст. 142
устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями,
определяются насилия, вмещающие в себя также и легкие
побои; но затем в Уложении о наказаниях есть на этот
счет громадный пробел, и говорится уже только о
тяжких, подвергающих жизнь опасности побоях и иных
истязаниях в ст. 1489. Между этими видами преступления,
очевидно, есть промежуток, и промежуток большой,
потому что всякие тяжкие побои подвергают жизнь
опасности. Бывали между тем случаи, когда наказывать как
за насилие представлялось бы странным. В Тифлисе один
кавказский князь высек больно чиновника, ухаживающего
за его женой; в Рязани или Курске товарищи отодрали
подпоручика; муж Высоцкой мучил свою жену, надев
на нее петлю, после чего тянул за веревку и привязал эту
веревку к столу. Во всех таких случаях не было никакой
опасности для жизни, тем не менее наказание как за
насилие было бы бессилием власти. Вот почему Сенат
истолковал таким образом ст. 1489, что прилагательное
«подвергающие жизнь опасности» относится только к
побоям, а вовсе не к истязаниям и мучениям. Вместе с тем,
однако, Сенат понял, что понятие истязания и мучения
слишком неопределенное. Если я ущипну кого-нибудь,
если я сожму ему сильно руки и устрою так, что
человек ляжет на кровать, наполненную насекомыми, и не
будет спать всю ночь, если я другую какую-нибудь малень^
кую пакость сделаю, то разве можно признать тут
истязание или мучение? Поэтому-то правительствующий Сенат
в тех же решениях, на которые ссылается обвинительная
202
власть, определил, таким образом, с другой стороны, что
под истязанием и мучением следует разуметь такое
посягательство на личность или на личную неприкосновенность
человека, которое сопровождалось мучением и
жестокостью. При истязаниях и мучениях, по мнению Сената,
физические страдания должны непременно представлять
высшую, более продолжительную степень страдания, чем
при обыкновенных побоях, хотя бы и тяжких. Если
побои нельзя назвать тяжкими, а истязания должны быть
тяжелее тяжких побоев, если ни один эксперт не назвал их
тяжкими, кроме Лансберга, который сам отказался от
своего вывода, то, спрашивается, каким образом можно
подвести это деяние под понятие истязаний и мучений? Я
полагаю, что это немыслимо.
Я, господа присяжные заседатели, до сих пор
занимался только одной стороной дела, которая для вас
представляет гораздо мейее важности, чем другая
сторона, сторона внутренняя, чем мотивы, заставившие К.
действовать. Я знаю, что Сенат в своем решении,
на которое сослался представитель обвинения, говорит,
что цель собственно не важна, лишь бы только
мучения были тяжкие и продолжительные; я полагаю,
что если бы судился здесь перед вами тот самый
человек, ради которого было постановлено это решение,
т. е. тот самый князь кавказский, который высек
предполагаемого любовника жены, то вы все-таки
приняли бы в соображение то обстоятельство, была
ли злоба со стороны мучителя совершенно напрасная,
из-за одного удовольствия смотреть на чужие страдания,
или гнев был справедливый, имевший разумную причину.
Это внутреннее побуждение, эта жестокость не только
страдания, но и жестокость сердца мучителя имеют
громадное значение, когда судится отец за то, что он
жестоко наказал дочь — значит, что он употребил меру
домашнего исправления в увеличенных размерах.
Спрашивается: была ли причина к употреблению этой
чрезвычайной меры? Следовательно, главный вопрос
заключается не в тех синяках и полосах на теле, о которых
удостоверяли свидетели, а в соответствии между причиной,
вызвавшей наказание, и самим наказанием. Если вы
войдете в разбор этих причин, то, я полагаю, вы
пожалеете дочь, пожалеете также и отца.
Девочка, как вы могли видеть сами, необыкновенно
шустрая, необыкновенно понятливая, живая,
вспыхивающая как порох, с сильным воображением, развитая
физически хорошо; правда, она имеет некоторое рас-
203
положение к золотухе, но вообще здоровье ее в
цветущем состоянии. Это хорошая сторона — как физическая,
так и нравственная. Но есть и теневая, нехорошая
сторона, зависящая отчасти и от воспитания. Она
воспитывалась между мужицкими детьми без присмотра; у де Ком-
ба ее не перевоспитали; когда отец привез ее к себе, он
нашел в ней много недостатков: неопрятность, неумение
держать себя, начатки болезни от дурной привычки, но
главное, что возмущало отца,— это постоянная, даже
бесцельная, ложь. Правильно или неправильно, но К. считает, что
ложь есть мать всех пороков и что все недостатки людей,
главным образом, происходят от того, что они неправдивы.
Для него правдивость есть абсолютная обязанность без
исключений. В письме, написанном в июле 1871 года
к г-же де Комба, задолго до того, как он взял дочь,
он выражается, что ложь есть подлость ума и сердца
(lachete de coeur et (Tesprit). Вот почему с первйх
же пор К. прежде всего старался искоренить этот порок
лжи. Быть может, он принялся искоренять его слишком
рьяно — он плохой педагог, это он сам сознает. Девочка
между тем не слушается, не боится ни отца, ни Жезинг,
мало слушается и гувернанток. Еще пока были в городе,
все устраивалось как-нибудь; но переехали на дачу, и все
условия воспитания переменились к худшему. Дача
лежала между Удельною станцией и Парголовом,
совершенно уединенная; отец приезжает только по вечерам,
уезжает утром; Жезинг — женщина больная, занятая
лечением, малоподвижная. Ребенок резвится, бегает к
дворнику и прислуге, заводит с ними знакомство и попадает
под дурное влияние прислуги, научается разным пакостям,
воровству. Сначала эти маленькие похищения проходят
незамеченными, подозревают других, но не ее в таскании
вещей, замечают только, что ребенок одичал и выбивается
из рук. Отец высек ее легко раза два или три, но это
совсем не действовало: девочка к сечению привыкла еще
у де Комба. 25 июля приезжает отец на дачу и в
первый раз узнает, что ребенок шарил в сундуке
Жезинг, сломал крючок и добирался до денег. Я не знаю,
господа, можно ли равнодушно относиться к таким
поступкам дочери? Говорят: «За что же? Разве можно так
строго взыскивать за несколько штук чернослива,
сахара?» Я полагаю, что от чернослива до сахара, от
сахара до денег, от мгнег до банковских билетов путь
прямой, открытая дорога. Это то же самое, что
привычка лгать: раз она укоренилась, она растет все более
204
и более, как тот дикий репейник, который покрывает
поля, если его не искоренять и не полоть.
Когда обнаружилась эта дурная привычка,
присоединившаяся ко всем другим недостаткам девочки, когда
отец узнал, что она ворует, он действительно пришел
в большой гнев. Я думаю, что каждый из вас пришел бы
в такой же гнев, и я думаю, что преследовать отца за то,
что он наказал больно, но поделом свое дитя,— это плохая
услуга семье, плохая услуга государству, потому что
государство только тогда и крепко, когда оно держится
на крепкой семье. Благо отцу, который остановит свое
дитя вовремя; в прежнее время говорили: «Он
избавляет сына от виселицы» — мы говорим в подобных
случаях, что отец избавляет сына от каторжных работ и
поселения, а дочь от того, чтобы она не сделалась распутной
женщиной. Если отец вознегодовал, он был совершенно
в своем праве, он высек ее больно, сильнее, чём это
делается обыкновенно; он был выведен из себя, после
чего он зарыдал и упал на постель в нервном припадке.
После этого кризиса, явившегося следствием таких
естественных причин, нет никакого основания выводить
заключение, которое делается в настоящем деле, что если бы
такое наказание повторялось чаще и в продолжение более
долгого времени, то оно могло бы вредно подействовать
на здоровье ребенка. А если бы оно не повторялось?
Ведь то же самое можно сказать и о всяком приеме;
не дать человеку есть в течение шести часов ничего не
значит, но не дать ему есть в течение шести дней значит
заморить его голодом; вырвать один зуб ничего, а вырвав
все зубы в челюсти, можно умертвить человека от одной
боли. Следовательно, такое заключение, что если бы
подобное наказание было помножено на многое число раз,
то оно произвело бы такие-то результаты, в настоящем
деле ни к чему не ведет, не имеет никакого практического
значения и должно быть совсем устранено.
Я признаю, господа присяжные заседатели, что К.,
наказывая девочку сильно, больно, так, что остались
видны следы наказания, совершил две логические ошибки,
которые отразились в самом поступке: во-первых, он
поступил слишком рьяно; он предполагал, что можно одним
разом, одним ударом искоренить все зло, которое посеяно
годами в душе ребенка и годами взращено. Но этого
сделать нельзя, надо действовать медленно, иметь
терпение. Другая ошибка, что он действовал не как осторожный
судья, т. е. что, поймав ребенка на краже, в которой она
созналась, он не вошел в исследование тех обстоятельств,
205
ПРИГОВОРЪ
Пс ушу ЕГО КМЕРАТОРСШО ШНЦЕОТА, С.-1Т*^^у?г^* &??***§ Суд>
■ Щ*аШмшш$Ш% t
»Pt*4*4
tt+ Чти $?4М£С^*^
jfa#^*-#~***&i**»
#*i* 4% **ду, ifl» ftowefc** Гг. 0до**од% $»адеш*& одежде*»«
Су|ц ** тшт 51* » 77i **» Sfar« #*»»* Суд, домкгдеммммнь; я^рвщ^.#^_^.^-^>_
ri-esfc^ae^Su-
^^^С^^т, Jg^^***' <2&3******% ^-^^йлЛ * - ***** ~ v-**
Приговор Петербургского окружного суда по делу Кронеберга.
которые склонили девочку к краже; он не расследовал
порядком того, что от девочки идет след к
окружающим ее лицам; он просто спросил, почему и для кого
она брала деньги. Девочка отвечала упорным,
молчанием; потом уже, несколько месяцев спустя, она
рассказала, что хотела взять деньпгдля Аграфены. Если
бы он расследовал более подробно обстоятельство кражи,
он, быть может, пришел бы к тому заключению, что ту
порчу, которая вкралась в девочку, надо отнести на счет
людей, к ней приближенных. Само молчание девочки
свидетельствовало, что ребенок не хотел выдавать тех, с кем
был в хороших отношениях. Но странна природа
человеческая. Все в доме убеждены, что все-таки последнее
наказание хорошо подействовало на ребенка; несмотря на то что
следствие поколебало отеческую власть К., наказание
произвело то действие, что она меньше лжет и есть надежда,
что она придет к большему и большему исправлению.
В заключение я позволю себе сказать, что, по моему
мнению, все обвинение К. поставлено совершенно
неправильно, т. е. так, что вопросов, которые нам будут
предложены, совсем решать нельзя. Я полагаю, вы все
признаете, что есть семья, есть власть отеческая по природе,
а в настоящем случае и по закону, простирающаяся и на
детей незаконных; вы признаете, что родители имеют
право и наказывать своих детей. Я думаю, вы не можете
отрицать и того, что ваша власть здесь на суде
происходит из того же источника — вы производите тоже в своем
роде телесное наказание в иной форме, соответственное
более зрелому возрасту. Следовательно, отрицать власть
отеческую, отрицать право наказывать так, чтобы это
наказание подействовало, вы не можете, не отрицая тем
самым своей собственной власти, власти уголовной. Отец
судится за что же? За злоупотребление властью;
спрашивается: где же предел этой власти? Кто определил,
сколько может ударов и в каких случаях нанести отец,
не повреждая при этом наказании организма дитяти?
Если бы это было злоупотребление, то вы должны судить
за излишек, за эксцесс. Если вы судите человека,
который, защищаясь при необходимой обороне, нанес
без надобности удар нападающему, убил его, разве вы
будете судить его за убийство? Нет, вы будете судить его
только за эксцесс. Если вы будете судить за обиду
сильнейшую, которую человек нанес другому, обидевшему его,
вы вычтете ту последнюю обиду, которую он сам получил
из первой; но в настоящем случае от вас требуют, чтобы
вы наказывали не по разнице, а по сумме, наказывали
207
бы не за злоупотребление власти, не за то, что это
наказание вышло за пределы обыкновенного, а за
истязания, совершенные посторонним Над взрослым человеком.
Если вы вдумаетесь в эту странную постановку вопроса,
вы, господа присяжные заседатели, должны будете
оказать, что в таких пределах вы наказывать не можете.
Раз будет поставлен вопрос об излишке, вы разрешите
его, но если вас заставят судить о сумме, вопрос
становится неразрешимым. Если вы станете разрешать вопрос
о сумме, то вы поступите более неосмотрительно, чем
поступил К., наказывая свою дочь. К., по крайней мере,
знал, какие розги он связал в пучок, которым он
наказывал, и наказал все-таки так, что на здоровье девочки
это не подействовало; но вы не знаете размера того
большого, может быть, железного прута...
Председатель. Не угодно ли вам не упоминать
относительно наказания?
Присяжный поверенный Спасович. Я кончил.
Вердиктом присяжных Кронеберг был оправдан.
ДЕЛО
О «КЛУБЕ
ЧЕРВОННЫХ
ВАЛЕТОВ»
8 февраля —5 марта 1877 года Московским окружным
судом с участием присяжных заседателей было
рассмотрено дело по обвинению 48 человек в организации
преступного сообщества в целях похищения чужого
имущества различными способами. Председательствовал
товарищ председателя окружного суда С. Я. Орловский.
Следствие по этому делу началось еще в 1871 году
по заявлению Еремеева, у которого члены преступной
группы получили денежные обязательства, когда тот
был пьян. В процессе расследования одно за другим
начали выявляться обманы, мошенничества и кражи,
совершенные преступниками по предварительному
сговору. С легкой руки следователя, который вел это дело,
преступное сообщество стало именоваться «Клубом
червонных валетов»— так якобы называли себя его
члены. Столь эффектное название и большое число
обвиняемых, а также затянувшееся на шесть лет
следствие интриговали публику, пресса — и отечественная,
и даже зарубежная — уделяла этому делу много
внимания. Особенности его заключались в том, что из 48
обвиняемых 36 принадлежали к высшим слоям
общества, в том числе 28 дворян, причем большая их часть не
имела определенных занятий и других источников
существования, кроме преступных. Внушали «уважение» и
сумма добытого имущества — не менее 280 тысяч
рублей, и изобретательность, и находчивость, и дерзость
преступников.
Но при ближайшем рассмотрении дела в судебном
заседании обвинению пришлось отказаться не только
называть группу «клубом», но и от версии о существовании
стройной, централизованной преступной организации. Из
209
показаний подсудимых и свидетелей вырисовывалась
картина даже не шайки, а нескольких небольших групп
и группок мошенников и проходимцев, бездельников
и прожигателей жизни, естественно более или менее
знакомых между собой, которые несколько лет по
существу на глазах полиции и прокуратуры обирали и
обманывали доверчивых людей, преимущественно тоже
далеко не идеальных. Только из показаний обвиняемого
Верещагина, опровергаемых другими подсудимыми,
можно сделать вывод... не о шайке, а только о планах
ее создания. Они разрабатывались группой заключенных
Московского тюремного замка в 1872 году. Неофитов,
Плеханов и другие мечтали создать преступную
ассоциацию, возглавляемую председателем и советом из трех
членов, которые должны были планировать операции,
руководить ими, снабжать членов шайки деньгами из
основного складочного капитала общества и
поддельными документами. Думали и о внедрении своих
людей на важные должности для облегчения совершения
хищений. Предполагали начать дело с изготовления
и распространения фальшивых и похищенных ценных
бумаг. Но тот же Верещагин в своем последнем
слове заявил, что обвинение, выдвинутое следствием и
прокурором, о якобы существовавшей в тюремном
замке подпольной мастерской по производству поддельных
документов несерьезно и основано на провокации.
Следователь предложил заключенным купить
поддельные документы, которые фигурируют в деле. «Истратил
тысячу рублей и получил четыре поддельных билета;
если бы он истратил десять тысяч, он достал бы их
четыреста»,— утверждал подсудимый.
Но несмотря на то что установить существование
«клуба», как такового, не удалось, все же обвинение
было сбито крепко, речь обвинителя Н. В. Муравьева
великолепна и цифры внушительны, процесс остался в
анналах русского правосудия. Он являет пример
борьбы власти с организованной преступностью, правда
скорее мнимой, чем действительной.
Речь обвинителя товарища прокурора
Н. В. Муравьева
Господа присяжные заседатели! Многотрудная и
многосложная задача выпала на вашу долю. Вам суждено
было быть тем составом суда присяжных, последнее сло-
210
во которого должно завершить дело, гигантское по своим
размерам, чрезвычайное по крайней сложности и
бесконечному разнообразию своих обстоятельств. Три недели
неустанной тяжелой работы и напряженного внимания
посвятили вы все, здесь присутствующие, на
рассмотрение и поверку обширного материала, собранного след:
ствием. Три недели, вырванные из вашей частной, личной
жизни, недели, отданные вами на бескорыстное служение
высокому гражданскому долгу,— вот та, громче и
красноречивее всяких речей говорящая, внешняя форма
вашего священного труда, перед которой не может не
преклониться с благоговением само общество, вас
избравшее. И трудились вы не напрасно; не бесплодны, смею
думать, были те усилия рассудка и чувства, которые
приходилось вам делать в эти долгие дни, проведенные здесь
для того, чтобы усвоить себе и оценить по достоинству
бесчисленные подробности происходившего перед вами
судебного следствия. Загадочное стало понятно,
сомнения рассеялись, неясное и сбивчивое разъяснилось, лучи
света проникли во тьму и осветили самые мрачные
закоулки человеческой совести, самые печальные факты
человеческого падения. На ваш правый суд отдано 45 ваших
сограждан, людей всех возрастов и всех состояний. Они
сошлись перед вами на одной скамье подсудимых, потому
что их всех, хотя не в равной мере, опутывает одна и та
же неразрывная и крепкая, в течение девяти лет
сплетенная сеть многочисленных преступлений. Эти особенности,
характеризующие внешнюю, так сказать количественную,
сторону процесса, особенности, по поводу которых
небесполезно будет упомянуть и о трехстах с лишком
свидетелях, вами выслушанных, и о колоссальной груде
прочитанных на суде документов и писем, о бесчисленных
представленных вам вещественных доказательствах,—
все это сразу определяет размер материала, данного
судебным следствием, и вашу задачу на этом материале
основать свои решения. Огромная масса фактов, имен
действующих лиц, цифр, показаний, оговоров, сознаний и
полусознаний, недомолвок; полные, спутанные и
переплетающиеся нити, иногда поразительные своей странностью
личных счетов и взаимных отношений между
подсудимыми и некоторыми свидетелями; царство подробностей и
мелочей, которые то вносятся в дело Бог весть откуда
для того, чтобы его запутать и заслонить собой его
горькую сущность, то по необходимости должны служить
почвой для сложных выводов и соображений. Множество
самых неожиданных и новых эпизодов, перипетий и слу-
211
Н. В. Муравьев.
чайностей судебного следствия, неожиданно другим
светом освещающих данные следствия предварительного,
бесчисленные оттенки и новые сведения, добытые
перекрестным допросом свидетелей и пространными
рассказами подсудимых, и рядом самое дивное сочетание на
каждом шагу истины с ложью и полновластное господство
последней там, на скамье подсудимых. Таковы те
крупные и резкие черты; которыми обрисовывается состав
всего на суде перед вами обнаруженного. Настало время
разобраться в этой массе, подвести итоги данным, ее
наполняющим, из сырого материала фактов вывести точный
смысл или оценку перед общественной совестью. На мне
лежит обязанность сделать это, развивая перед вами
выводы обвинения и предъявляя надлежащие вашему
рассмотрению требования справедливости и поруганного
закона.
Я считаю нелишним заметить, что в отношении
объема ваша и моя дорога совершенно совпадают. Между
тем как защита раздробляется по личностям подсудимых
и падающим на долю каждого из них обвинениям, между
212
тем как каждый из моих многочисленных противников по
необходимости имеет в виду своего подсудимого с его
личными и частными, отдельными интересами,— и вам
и мне предстоит обозреть и воскресить в уме и сознании
личности всех подсудимых, все преступления, все
обстоятельства в их общем взаимном и совместном значении.
Такое совпадение пределов вашей и моей задачи
налагает на меня нравственную обязанность, помня о
громадности и сложности дела, преследовать
одновременно две цели, стремящиеся к двум результатам:
во-первых, выяснить и доказать перед вами виновность
подсудимых и необходимость соответствующего ей
приговора и, во-вторых, облегчить вам вашу задачу таким
изложением обвинения, в котором, по возможности,
возобновились бы в вашей памяти все данные судебного
следствия, чтобы перед вами предстала полная и ясная
картина преступлений и преступников.
Поставив себе условием не вдаваться в излишние
подробности и мелкие частности, легко затемняющие
главные предметы, и в то же время не упустить из виду
ничего сколько-нибудь существенного и бросающего на дело
хотя бы самый слабый свет истины, я прошу у вас
вашего благосклонного внимания и терпения на время, быть
может, довольно продолжительное. Продолжительна и
громадна, разностороння и разнохарактерна была
многообразная преступная деятельность; пусть же не
посетуют на меня судьи общественной совести, если
разоблачение перед ними этой деятельности волей-неволей
не всегда будет односложно и кратко. О времени и труде
мне думать не приходится, когда от этого времени и
труда разом зависит и решение участи многих десятков лиц,
и ограждение общества от множества рук, поднятых
против него. Приступая к развитию обвинения, я имею к вам
еще одно предварительное заявление: я решился
пригласить вас уверенно и смело идти за мной по тому пути,
который я буду иметь честь проложить перед вами; я
решился на это потому, что вы не ждете ни
односторонности, ни преувеличения, а в конце его не встретите
ничего, кроме истины. Всей своей тяжестью падет
беспощадное обвинение на действительно преступных, но,
призванная требовать им справедливой кары, обвинительная
власть первая укажет вам на оправдавшихся и
несчастных, непременно такие есть. И, отмечая их
беспристрастной и спокойной рукой, она сама скажет вам: отделите их
от других, к этим другим будьте суровы и строги, но к ним
будьте милостивы — и вы будете справедливы. Не жертвы
213
нужны обвинению; оно требует только того, чтобы каждый
получил по заслугам, и пусть осмелится кто-либо сказать
обвинению, что такие требования его лишены основания.
Вооруженное страшным оружием правды и очевидности
и глубоко убежденное в чистоте и правоте своего дела,
обвинение уверенно и твердо возвышает перед вами свой
голос: оно знает, что против него — преступления, а за
него — закон, справедливость, нравственность, совесть
и честь.
Значение уголовного дела и отношение к нему всех,
приходящих с ним в какое-либо соприкосновение, всегда
до некоторой степени определяется тем общественным
интересом, который с ним связан. Такова сила всемогу--
щей гласности, преимущество и вашего, милостивые
государи, первенствующего участия в разрешении
важнейших уголовных дел. 'Это в особенности применимо к так
называемым крупным, из ряда вон выходящим делам, т. е.
к тем, с которыми связаны крупные, из ряда вон
выходящие общественные интересы. Замечательные страницы
в истории русского судопроизводства — дело Мясникова,
дело Митрофании, коммерческого ссудного банка —
лучшие тому доказательства. С каждым из них крепко и
неразрывно соединяется самое живое и свежее
представление с целым рядом явлений и взглядов огромного
общественного значения. При одном имени каждого из дел
разом всплывают своеобразные, драгоценные своей
жизненностью, яркие типы зла, поднятые ими из мутной
в#ды современного общества. Вряд ли ошибусь, если
скажу, что то же самое свойственно отчасти и настоящему
делу. Но, рассматривая его с этой стороны, я не могу не
остановиться на одной, сюда же относящейся резкой и
оригинальной его особенности. Я имею в виду то
причудливое и романическое название, под которым
настоящее дело известно в обществе. Допросы некоторых
свидетелей огласили перед нами тот факт, что настоящее дело
слывет в публике под именем дела о «червонных валетах»
или, точнее, о «Клубе червонных валетов».
Таким образом, если название это принять за нечто
серьезное и основательное, пришлось бы признать, что
перед вами на скамье подсудимых не просто подсудимые,
а господа «червонные валеты», составляющие даже свой
особый клуб. На суде уже достаточно обнаружились
случайность и неосновательность этого названия, и в
качестве судей, оценивающих только то, что они видели и
слышали, вы не должны придавать ему никакого
значения и с пользой можете выбросить его из собранного пе-
214
ред вами материала. Пусть общество называет
подсудимых как ему угодно, вам до этого не может быть дела.
Названия, каково бы ни было их происхождение, могут
иметь значение общественное, но не должны иметь
значения судебного.
С общественной точки зрения, в представлениях
публики, для толпы подвижной и впечатлительной, быть
может, уже давно под именем «червонного валета»
сложился своеобразный и характерный тип нравственной порчи,
зла и преступления. Об этом темном типе речь еще
впереди,— его черты весьма схожи с чертами того типа,
который в течение долгого судебного следствия шаг за
шагом медленно, но верно обрисовывался перед вами.
Оставим обществу называть этот тип каким ему угодно
именем. Есть люди, и есть прозвища, которые так
сживаются, срастаются друг с другом, что разлучить их не
властны никакие силы. Но в дни суда забудьте,
милостивые государи, об этом, не имеющем в деле основания,
случайном и фантастическом названии. Убийцу,
фальсификатора, похитителя, обманщика как ни называйте,
червонным ли валетом или другим из тысячи случайных в
публике имен того же разбора, он всегда будет только
тем, чем сделало его преступление и что одно только
важно для его судьбы.
Наряду с собирательным названием, которое публика
приписывает подсудимым, стоит еще другое особенное
свойство настоящего процесса, возбуждающее в
подсудимых неоднократно заявляемое ими негодование. Свойство
что — совместное и одновременное предание всех
подсудимых вашему суду, совместное и одновременное
рассмотрение их виновности одним составом присяжных
заседателей. На этот раз в числе протестующих и
негодующих оказывается уже не одна только главная группа
подсудимых, стоящих в центре дела и имеющих полное
основание считать себя безнадежными,— так много за
ними преступлений и так мало у них в распоряжении
сколько-нибудь приличных оправданий. Это уже не
только гг. Давыдовский, Шпейер, Протопопов, Массари,
Верещагин, Долгоруков, Голумбиевский,
Дмитриев-Мамонов и проч. и проч. Нет, ряды взывающей к вашей
справедливости против несправедливости обвинительной
власти обставлены богаче. Нотариус Подковщиков,
почетный гражданин Мазурин, купец Чистяков, купец
Смирнов, обер-офицерский сын Брюхатов, поручики
Дружинин и Засецкий, Николай Калустов, а за ними
многие другие, глубоко огорченные своим местом на од-
215
ной общей скамье подсудимых, наряду с людьми,
которым давно уже терять нечего, с горькой укоризной
указывают на свое отдельное, как бы случайное в деле
положение, полнейшее отсутствие солидарности между собой
и своими настоящими товарищами. Я понимаю это
недовольство, это торопливое и лихорадочное отречение от
'тех, которые вправду или в шутку, все равно, любили
называть себя «червонными валетами». Между тем как в
г. Мазурине, как мне кажется, неудержимо говорит
искреннее сокрушение о том, что несчастно сложившиеся
обстоятельства и собственная его неосторожность
вовлекли его в несвойственную ему среду, другим
действительно тяжело, обидно и опасно сидеть на общей скамье
подсудимых перед одними присяжными в роковой связи
с кружком, составляющим собой ядро процесса. Им
весьма хотелось бы, если суд неизбежен, судиться каждому
отдельно, порознь, без этой подавляющей массы фактов,
проделок и приемов, не имеющих содержания и смысла,
без этой смрадной атмосферы, так густо пропитанной
преступлением, без этого грязного сообщества, которое и
на них бросает так трудно смываемые пятна. Итак, я не
отдам им несправедливости — они только видят свои
выгоды. Так, г. Подковщиков, судимый отдельно, сам по
себе, кто он такой? Почтенный нотариус Московского
окружного суда, обладатель известной весьма конторы и
большой практики. Ему ли не понимать, что и под
обвинением не стыдно и не опасно стоять в таком положении
перед судом присяжных? Но г. Подковщиков, как
деятель еремеевского дела, судимый в тесной дружбе с гг.
Давыдовским, Шпейером, Ануфриевым и проч., г.
Подковщиков, являющийся в деле любимым нотариусом
почти всех подсудимых, г. Подковщиков, облекающий в
законную форму всякие их сделки, — это другое дело...
Так, купцы Смирнов и Чистяков сами по себе только
довольно крупные торговцы — каждый в своей сфере:
один — содержатель гостиницы на бойком месте,
другой — богатый закладчик, уважаемый своими
кредиторами. Каково же г. Смирнову выступать в положении
искусного главы маленькой домашней шайки для
мошенничеств, щедрым содержателем гг.
Дмитриева-Мамонова, евреев Мейеровича, Левина, в дни их невзгод
и нищенства, а г. Чистякову фигурировать в качестве
укрывателя г. Бобка-Голумбиевского, только что
обокравшего своего хозяина. Так, гг. Дружинину и Засец-
кому в их звании отставных офицеров, с обширным
знакомством неприятно на скамье подсудимых занять вид-
216
ные места с изобличающимися чуть не в карманных
кражах компаниями устроителей искусного подлога и не
менее искусной и успешной кражи с подобранным
ключом. Так я долго не кончил бы, если бы стал
перечислять все те контрасты, представляемые общественным
положением подсудимых по сравнению с их поступками.
Я предпочитаю только, чтобы покончить с
объяснением их уже указанного недовольства/ напомнить им одну
старую ходячую истину; как истина она «проста и
неотразима». Скажи мне, с кем ты знаком, гласит она, и я
скажу тебе, кто ты таков. Нимало ее не изменяя, я
позволю себе только ее перефразировать по отношению к
подсудимым. Скажите нам, с кем вы совершали
преступления, и мы скажем вам, какие вы преступники,
случайные или умышленные, ничтожные или глубокие,
достойные жалости или отвержения. Вот такого решения
и боятся они, стоя там, в шайке бойцов, давно
потерявших само сознание совести. Что делать? Пусть на себя
и пеняют. Не обвинительная власть, а их общая
деятельность, общие чувства и взгляды, общие вкусы, их
дружба, связи — словом, вся оборотная, во тьме прятавшаяся
сторона уготовила им в дни суда общее место. Нить
общественных интересов и если не всегда общего образа
жизни, то нить, по крайней.мере, знакомства и близости
тянется от одного подсудимого к другому с самой
безотрадной для них привязчивостью. Разбиваясь на
отдельные кружки, они неразрывно соединяют их в лице
некоторых своих сотоварищей, принадлежащих к тем или
другим кружкам.
Не прихоть, не случай, не желание преувеличить
виновность руководили обвинительной властью при
совместном и одновременном представлении всех
подсудимых вашему суду. Она повиновалась прежде всего
прямым и безусловным требованиям закона, которые
выражаются в двух неприятных для подсудимых
занятиях — соучастии виновных и совокупности преступлений.
Эти-то два требования со стороны формальной и
склонили подсудимых в ту густую тьму, из которой им так
страстно хочется и так трудно вырваться. Я согласен
с тем, что положение подсудимых было бы выгоднее и
приятнее, если бы не было таких предписаний закона,
какие есть. Вот они — эти предписания. Все
соучастники преступления судятся в одном суде, и именно в том,
коему подсудимы главные виновные или в ведомстве
коего находится большее число обвиняемых. Но если один
из соучастников в преступлении подсуден высшему, а
217
другие низшему суду, то дело подлежит решению
высшего суда. И дальше: в случае обвинения кого-либо в
вышепоименованных преступлениях, из коих одни подлежат
рассмотрению высшего, а другие низшего суда, дело
решается тем судом, которому подсудно важнейшее из сих
преступлений. Глубокий смысл скрывается в сих словах
закона и основывается на том твердом, коренном
судебном обычае, чтобы всех подсудимых, связанных
между собой какими бы то ни было видами и случаями
соучастия, за все совершенные каждым из них
преступления судить по возможности вместе, в одном заседании,
в одно время, одним составом суда и присяжных
заседателей. Только этим путем судьи вполне знакомятся с
преступлением и виновниками, со всей обстановкой
первых и жизнью последних, а не с обрывками фактов,
вырвавшимися из общей связи с их причинами, условиями
и последствиями. Только при такой постановке
уголовного дела оно развертывается перед судьями в полном
своем объеме и они получают возможность верно
постигнуть, с кем и с чем именно они имеют дело, и,
следовательно, могут действительно стать на высоте своего
призвания. Изречение о том,,что соединение создает
силу, вполне применимо и к миру преступности, и
уголовный судья только тогда может сломать преступную
силу, когда видит ее всю со всеми ее составными
частями и деталями. Итак, все слышанные вами жалобы
подсудимых на их совместную одновременную судимость
лишены всякого и законного, и разумного основания. Если
же кому-либо из них, г. Подковщикову, например, или
г. Поливанову, или г. Смирнову и проч. обидно и
стыдно сидеть на одной скамье с гг. Шпейером, Давыдовским,
Дмитриевым-Мамоновым, Пеговым, Мейеровичем и
другими, то я могу им теперь рекомендовать только одно —
горько пожалеть о том, что тогда, давно, в те далекие
дни преступлений, им было не стыдно, не оскорбительно
идти рука об руку с теми же гг. Шпейером,
Давыдовским, Дмитриевым-Мамоновым, Пеговым, Мейеровичем
и другими в их смелом походе против чужой
собственности.
Кроме требований закона и особенности свойств
настоящего дела есть еще одно соображение, которое
обвинительная власть имеет в виду, — соединение всех
подсудимых в одну общую массу одним обвинительным
актом, подлежащим его рассмотрению.
Да будет позволено мне несколько коснуться и этого
соображения, которое, я полагаю, всего менее может слу-
218
жить основанием к упрекам обвинительной власти. Ей
казалось, что настоящее дело тянется слишком долго, что
шесть лет следствия слишком тяготят и над
подсудимыми, и над обществом, r котором они до последнего
времени не переставали вращаться. Ей думалось, что все
это пора кончить, кончить разом, и чем скорее, тем
лучше. Вот почему обвинительная власть в тесном единении
с властью судебной решилась приготовить
представителей общественной совести в вашем лице, не пожалеть
ваших сил и труда и одним могучим подъемом всех
умственных и физических сил сослужить обществу службу
тяжелую и великую — рассмотреть и разрешить
настоящее дело в полном его составе. Сопоставление всех этих
соображений побудило обвинительную власть не терять
времени представлением дела на ваш суд. Она решилась
пожертвовать некоторыми второстепенными пунктами
дела, требовавшими, быть может, дополнительного
рассмотрения, она решилась даже умышленно и, конечно,
временно оставить без последствий некоторые
повторившиеся и на судебном следствии упущения по виновности
лиц, еще к суду не привлеченных. Придет и их череда;
но, будучи обращено к доследованию для разработки
встречающихся в нем, не вполне еще разъясненных
пунктов и упущений, дело неминуемо повлекло бы за
собой такое продолжительное производство, такое
замедление, перед которыми останавливается обвинительная
власть. Может быть, ее упрекнут и за эту
добросовестную решимость, но она смело встретит эти упреки,
потому что знает, что только таким путем и удалось
приблизить судный день для многих, томившихся в
ожиданиях и неизвестности.
Довольствуясь теми и без того обширными
материалами, которые перед вами обнаружены, и ytвepждaя, что
из них не было утрачено ничего главного, ничего сколько-
нибудь существенного и важного, я, прежде чем перейти
к изложению и группировке, прошу у вас позволения
сделать еще несколько замечаний, необходимых для
правильной их оценки. Мне обвинение подсудимых, вам ваше
суждение о их виновности предстоит строить на одной
и той же почве. Бросим же общий и беглый взгляд на
форму изложения этих доказательств, на их типичные и
резкие особенности, с которыми они явились на судебное
следствие.
Некоторые общие, как бы родные черты и выводы,
которые легко будет при этом отметить, очень важны
для нас, именно в силу общего своего характера, ввиду
219
того что им свойственны некоторые особенности
настоящего дела и что, относясь к целым разрядам его фактов,
они не укладываются в рамки отдельных обвинений, а все
окрашиваются своеобразным цветом. По сложности и
громадности дела весьма естественно, что при его
расследовании и рассмотрении дело это склеилось в одной
посильной и дружной работе; все виды доказательств
известны уже суду. Действительно, показания подсудимых,
их сознание, запирательство и ложь, их недомолвки и
молчание, показания потерпевших и простых свидетелей
под присягой и без присяги, протоколы обысков и
осмотров, экспертизы и вещественные доказательства самых
разнообразнейших разрядов и значений — все
безграничной вереницей проходило перед вами на судебном
следствии.
Таковы доказательства, такова твердая почва, на
которой стоит обвинение. Обратимся же к обозрению
возведенного на этой почве колоссального здания
преступлений. От фундамента до вершины, от деталей до целого,
камень за камнем должны мы рассмотреть его. Только
тогда будем мы в силах разрушить его, только тогда,
обращенные в прах, скоро изгладятся сами следы его
темного существования. Если всю огромную массу судебного
следствия окинуть на мгновение одним общим взглядом,
невольно придется остановиться на одной выдающейся
внешней черте ее — по отношению этой массы ко
времени. Она обнимает собой девять долгих лет — целую
эпоху в жизни человека. С 1867 года, по
приблизительному исчислению, и по 1875 год тянется непрерывная
цепь преступлений, отдельные звенья которой
поочередно отламываются подсудимыми. Раскрыв и изучив эти
звенья одно за другим, следствие насчитало около
шестидесяти преступных деяний, которые должны были
предстать на ваш суд. Но я глубоко убежден, что это
количество чисто случайное, что оно не только не
исчерпывает всего открывшегося перед вами преступного
мира, но составляет, быть может, даже самую
незначительную часть. Было бы самоуверенно думать, что
правосудию . удалось наложить руку на все, что в течение
не только всей жизни своей, но в этот 9-летний период
подсудимые совершили преступного и наказуемого.
Средства суда, как и все исходящее из рук человеческих,
ограничены, порой слабы, слишком часто несовершенны.
Следствие сделало, что было возможно, оно обнаружило
много, но еще больше, я смело говорю это перед лицом
подсудимых, таится во тьме, закупленное, потушенное,
220
заглохнувшее, глубоко зарытое. Многочисленные
указания и намеки на это, то в лице проговорившегося
подсудимого, то в виде недосказанного эпизода, часто
проскальзывавшего во время судебного следствия, — вот
мимолетные просветы скрытой темной шайки. Я не
думаю, что эти хорошо опущенные в воду концы когда-
нибудь выплывут на свет Божий. Да и не нужно,
слишком довольно того, что мы видим перед собой. Если эти
56 преступлений только образцы того, что было содеяно,
но по разным причинам осталось необнаруженным, то
мы можем довольствоваться и такими образчиками, по
ним можем судить, ценить и безошибочно оценить со-
деятелей по достоинству. Неоткрытые преступления
подсудимых, разоблачения в тех, которые открыты, нам
остается только, говоря словами старого уголовного
судопроизводства, предать воле Божьей. Для удобнейшего
обозрения того 9-летнего периода, в который
укладываются отдельные обвинения, для обозрения его в том
хронологическом последовательном порядке, который
кажется мне наиболее правильным и пригодным, отметим в
пределах этого периода несколько переходных и
выдающихся точек, вокруг коих легко и свободно сами собой
группируются обвинения.
Вот в каком общем внешнем виде мне
представляются все предъявленные мной против подсудимых
обвинения, взятые все вместе, в своем последовательном
развитии и постепенности. Резкой гранью, важной эпохой в
жизни преступной деятельности подсудимых является
вторая половина 1871 года, время — с начала лета по
декабрь этого года. То было время образования первых
кружков и первой шайки, время процветания, время
первых крупных и характерных преступлений, начало
самого разгара воровской работы. Весь предыдущий
период, все время с 1866 года по весну 1871 года занято лишь
отдельными, не имеющими между собой связи
преступлениями. Это прелюдия к той грандиозной и сложной
мелодии, которая скоро должна разыграться. Это
интересные отдельные страницы из отдельной личной жизни и
быта каждого из главных деятелей, будущих крупных
и дружных подвигов на общем пути. В таком
первоначальном фазисе, который я могу назвать
подготовительным, перед нами выступает темное и грязное
прошедшее, прежняя судимость, подозрительная обстановка и
отдельные преступления, совершенные главнейшими из
подсудимых, за свой собственный еще пока, а 'не на
общий счет. Личности гг. Давыдовского, Шпейера, Долго-
221
рукова, Андреева, Башкировой, Массари, Верещагина,
Голумбиевского, Плеханова, Неофитова, Щукиных, Пе-
гова, Зильбермана, Панасевича одна за другой
появляются на обширном поприще добывания денег из чужих
карманов и обрисовываются так ярко, что
неизбежность всего последующего становится понятна. Тут же
встречаем' мы и гг. Топоркова, Эрганьянца и Адамчев-
ского в качестве случайных, но не столь важных
соучастников отдельных преступлений. Наступает лето 1871
года; подготовительный период, прелюдия окончена; скоро,
обгоняя одна другую, превосходя друг друга в дерзости
и тонкости, темной чередой возникают обширные и
глубоко задуманные преступные аферы. С разных концов
России: из Петербурга, Тулы, Иркутска, Харькова, Нижнего,
как хищные птицы, почуявшие добычу, мало-помалу
собираются в Москву, скучиваются, соединяются в кружки,
связанные друг с другом, копошащиеся между
меблированными комнатами дома Любимова и
меблированными комнатами дома Андреева на Тверской, между
гостиницей Шеврие в Газетном переулке и дачей Попова в
Петровском парке. Оживленная, таинственная
деятельность темного мира занимает внизу и вверху по
Тверской улице и примыкающей к ней местности городского
центра в домах Андреева, Любимова, Галяшкина,
Кайсарова, в номерах и трактирах, в конторах нотариусов и
квартирах ростовщиков. Заключаются знакомства,
сводится дружба, обдумываются планы, происходят
совещания, сводятся счеты, пишутся разнообразнейшие
документы, и все это вьется в безобразном вихре вокруг
одного всемогущего идола — денег во что бы то ни стало;
денег на разгулы, на чувственные наслаждения — денег
и этих наслаждений, хотя бы преступлением, хотя бы
кровью. Так, с лета по декабрь 1871 года неустанно
работает одна из главных групп подсудимых, группа, если
можно так выразиться, основная. Она работает — и
подлог векселя Серебрякова, обман Еремеева, обман
Батракова, обман Попова, убийство Славышенского быстро
сменяются одно другим.
К этой первой главной группе подсудимых и
преступлений примыкают две второстепенные, одна к началу,
другая к концу. Второстепенные только по качеству
замысла и исполнения, но никак не по преступности и злой
воле. С марта по осень 1871 года непрерывным рядом
тянутся многосторонние похождения г. Пегова. Масса
подложных векселей по небывалой доверенности отца, а в
конце мая дикий ночной грабеж, совершенный над быв-
222
шим поваром своего отца, — вот чем отмечен
восьмимесячный путь этого спешившего жить юноши. Продукт
того же омута, тех же стремлений, Василий Пегов
связан с главной группой и знакомствами, и связями, и
соучастниками. В лице г. Массари, одного из деятелей этой
группы, в лице гг. Жардецкого и Поливанова, старшины
и служителя ее компании, — деяния Пегова даже
формальным образом связаны с деяниями гг. Давыдовского,
Шпейера и проч.
Другая второстепенная группа, примыкающая к
главной, по своей деятельности относится к ее концу, а
именно к декабрю 1871 года и январю 1872-го. Она впервые
вносит в дело новый элемент, которому суждено быстро
развиться и окрепнуть и долго, до конца, играть
большую роль. Это элемент острожный, арестантский,
атмосфера и привычки старой тюрьмы, людей, давно
закоренелых в преступлении. Место работы переносится за
высокие стены Московского губернского тюремного
замка, а работниками являются старые знакомые, друзья
и товарищи прошедших подвигов — гг. Верещагин и
Плеханов, за старые грехи лишенные свободы, г. Голум-
биевский, еще свободой наслаждающийся и удачно
пользующийся ею для того, чтобы с помощью г-жи Змиевой
испробовать сбыть подложные векселя от имени Пято-
вб, — с этого времени полное и тесное общение
устанавливается между острогом и его еще свободными
приятелями, богатый клад дает это общение. Здесь около
нового, 1872 года мы можем отметить предел первого фазиса
общей преступной деятельности. Ее настигает
неожиданный удар — свершается событие, преграждающее ей
мирное течение. Возбуждается энергичное следствие,
преступления обнаруживаются и разоблачаются почти по
мере совершения, смелые деятели приглашены расстаться
и за крепкими запорами обдумать свои деяния — словом,
судебная власть налагает руку свою на подсудимых. Но,
увы, дела слишком сложны, следствие скоро окончиться
не может, и большей части подсудимых из
соображения (может быть, немного преувеличенного)
человеколюбия и мягкости дается свобода. Моментально забыты
все невзгоды, весь позор разоблаченных преступлений,
забыта грозная перспектива вашего, милостивые
государи, строгого суда. В мыслях у всех только одно —
по-прежнему добывать деньги и по-прежнему на эти
деньги по-своему наслаждаться жизнью. На свой карман
давно уж нет надежды, но что за дело — на то
существует карман чужой. И вот старые группы смешиваются,
223
перепутываются и переплетаются в новом походе
против закона чужой собственности; старые знакомства
скрещиваются, новые заводятся, и продолжаются
старые, вырастают новые кружки, в которые входят частью
прежние, — и среди всего этого свято сохраняются и
передаются друг другу еще свежие предания о
совершенных преступлениях. Деятельность старых групп находит
себе продолжение в деятельности новых. Ни одного
месяца не проходит без новых преступлений. Меньше
приходится их на 1872 год, на непосредственно
следующий за первым судебным разгромом всей компании; лето
1873 года не уступает 1871-му. В том 1872 году
Дмитриев-Мамонов, соучастник Шпейера и Давыдовского в
подлоге векселя Серебрякова, в сообществе с Николаем Ка-
лустовым, близким приятелем этого же Шпейера,
совершает при помощи Засецкого и Соколовой
отвратительную по подробностям кражу у Артемьева. В октябре
того же года Пегов, только что старательно
направленный своими доброжелателями на истинный путь,
похищает запертую сумку с 50 тысячами рублей и тем
показывает, как успешны и уместны были их старания. Месяц
спустя, в ноябре 1872-го, в стенах Московского
тюремного замка возникает обширная переделка и подделка
банковых билетов. Дело кипит и спорится в руках все тех
же гг. Верещагина, Плеханова и новых соучастников, в
лице тех же гг. Щукина, Зильбермана и Сидорова,
принимавших участие еще в подготовительный период.
В замке переделывают, вне замка — принимают и
сбывают, а в качестве приемщиков и сбытчиков
являются новые лица: г-жа Щукина, г. Огонь-Догановский.
1873 год застал толпу в Москве. Банковское дело на
полном ходу, целые месяцы', несмотря на следствие и
изобличения, тянется подделка/ и только к августу этого
года относятся ее последние обнаруженные действия.
Но не остаются праздными и рассеявшиеся
представители других групп. Между тем как в том же августе
гг. Протопопов и Массари искусно составляют
подложный вексель от имени Ивашкиной, Дмитриев-Мамонов,
только что освобожденный из-под стражи по делу
Артемьева, не смущаясь и не колеблясь присваивает себе
деньги, которые ему его лишенный свободы соучастник
и сотоварищ Н. Калустов передал для вознаграждения
потерпевшего. Между тем как товарищи Голумбиевского
в замке безраздельно погружены в переделку банковых
билетов, он сам не теряет времени и, пользуясь
удобным случаем, под именем лакея Бобка, вооруженный
224
подложными документами, спешит навести на дом
хозяина своего, Яфа, другого похитителя, с которым вместе
и совершает кражу, находя в г. Чистякове себе
снисходительного укрывателя похищенных серебряных вещей.
Не на одного Голумбиевского так возбудительно и
ободрительно действует снова сгустившийся воздух
Московского острога, воздух преступлений. Одной рукой
i Огонь-Догановский принимает из замка переделанный
(iO-тысячный банковый билет, а другой подает снова
появившемуся участнику первой группы экс-князю
Долгорукову на сотрудничество и союз. Обширное
мошенническое предприятие знакомого уже характера ловко и
быстро пущено в ход с января по март 1873 года путем
мифического общества коннозаводства; успешно дочиста
очищены многочисленные карманы бедняков. 1873 год
приходит к концу; январь, февраль и март нового,
1874 года представляют или случайный перерыв в
общей работе подсудимых, или пробел предварительного
следствия. Но наступает апрель, и вместе с весенним
пробуждением природы пробуждаются к энергии и новой
жизни и те, кто в былые годы любили называть себя
«червонными валетами». Нужно жить по-прежнему,
нужно наслаждаться жизнью, нужны деньги, а денег нет.
Где же взять их, как не по старой памяти —, подлогом и
мошенничеством. Апрель, май, июнь, июль, август и
сентябрь 1874 года — полгода сплошь наполнены новыми
преступлениями. Старые знакомые, но в новых
сочетаниях, работают над ними. Они — ядро, вокруг которого
бистро нарастают и новые обвинения и соучастники.
Дмитриев-Мамонов, выбитый из колеи, находит себе
укромное пристанище в гостинице* Смирнова, который
быстро постигает, какую пользу можно извлечь из
такого деятеля — опытного, бывалого и вместе
покладистого и мягкого, как воск. Под руководством и под
ведомством старшины выросшие как будто из земли евреи Гейне,
Левин и Мейерович усердно трудятся над устройством
[юкруг не потерявшей еще мужества личности Мамонова
роскошной мошеннической обстановки. Один
доверчивый субъект попадает в сети, а издали не допущенные
к участию гг. Плеханов, Массари, Протопопов
наблюдают за поучительным зрелищем. И у них те же
потребности, тот же избыток силы, то же презрение ко всему,
что не добыча, и вот подлог каулинских векселей при
участии прежнего Андреева и нового Никитина, подлог
других документов, оригинальных по плану и по
исполнению. Мошенническая отправка из Нижнего Новгорода
8 Заказ № 571
225
застрахованных сундуков, подлог векселя и бланка князя
Голицына, получение посредством этого векселя 10
тысяч рублей из конторы Волковых, несчастное участие
в этом деле злополучной г-жи Шпейер, наконец,
ярмарочный обман Наджарова — такой бесконечной
вереницей тянутся последние подвиги подсудимых.
Переполняется мера терпения следственной и обвинительной
власти; главнейшие из подсудимых вновь заключаются
под стражу, и с осени 1874 года следствие быстро и
решительно подвигается к концу. Но Шпейер, Николай
Калустов, Долгоруков еще на свободе, еще продолжают
свой прежний образ жизни к истинному удивлению и
соблазну порядочных людей. Скоро и этому должен быть
поставлен предел. Не далее первых месяцев 1875 года
гг. Шпейер и Николай Калустов красноречиво убеждают
всех, что и до суда они недостойны пользоваться
свободой. Шпейер же с.непонятной дерзостью становится во
главе компании, на все готовой для скандала, и девять
лет деяний, противных нравственности и закону,
блистательно завершаются самой гнусной комедией —
кощунственным подражанием обряду погребения над живым
г. Брюхатовым. В последний раз стены тюрьмы
раскрываются перед гг. Шпейером, Долгоруковым и Ка-
лустовым, и это делается последним актом следствия.
Таков внешний общий вид того громадного здания,
которое теперь нам предстоит разбирать по частям, и
таков тот последовательный порядок, в котором я хотел
бы совершить этот труд.
Летом 1871 года начинает мало-помалу собираться
вся компания. Старые знакомства возобновляются, новые
заводятся, всем живется весело и беззаботно. Но
веселых и грубых оргий мало, хочется роскоши, кутежей
и проч., нужно добывать деньги, и все быстро
догадываются, что вместе это делать гораздо легче. И вот
начинается дружная общая работа, в которую каждый вносит
свою лепту по мере сил и умения. Кто что умеет, тот то и
делает. Неистощимое богатое воображение,
неисчерпаемая изобретательность доставляют планы, в которых не
знаем, чему удивляться больше ;— смелости ли замысла
или отчетливости исполнения. Дело не обходится и без
раздоров по дележу добычи, но милые бранятся —
только тешатся: сладкое примирение следует за ссорой.
А кто опасен, вреден или уже совсем не нужен, выжаты
силы, того совсем отбрасывают прочь, принцип
солидарности и совместности служит только остальным. Грянул
гром — и все врассыпную, верные девизу: «Спасайся
226
кто чем и как может». И тут оговорить товарища,
запутать его, забежать вперед и подать жалобу, а самому
остаться в стороне, в тени, ничего не значит. Напротив —
это ловкость, правила, внушаемые чем-то вроде
мошеннической стратегии. Только ка совершение
преступлений давали друг другу руку пЬдсудимые, а вовсе не на
расплату за них, — тогда каждый как знает.
Центр, сборный пункт, главная квартира или притон —
в номерах дома Андреева и в особенности у Фохта, в доме
Любимова. Перечислим всех/участников: Иван
Давыдовский, умерший уже Петр Давыдовский, Шпейер, Либер-
ман, Ануфриев, Массари, Протопопов, Долгоруков, у них
есть свои дома, Марья Петрова и Башкирова. Десять
человек, готовых на все, с решимостью, энергией, умом,
ловкостью, с блестящей внешностью, с доступом еще ко
многим порядочным людям, и денег нет ни у кого, а жажда
у всех большая. Неудивительно и нестранно, что они
в каких-нибудь пять месяцев успели и легко совершили
семь преступлений.
Я говорил уже, что между отдельными
преступлениями первого периода невозможно установить никакой
связи. Они совершены ими задолго до образования общего
кружка и тесного знакомства между подсудимыми или
почти накануне, но, во всяком случае, прежде того и
другого. Представляя собой отдельные и самостоятельные,
и притом далеко не маловажные, обвинения, они важны
еще и постольку, поскольку яркими красками рисуют
прошлое многих подсудимых, к которым относятся. Они
доказывают, как глубоки причины зла, в них коренящиеся.
Как рано вступили эти господа на преступное поприще,
как мало оснований они имеют впоследствии колебаться
и краснеть перед новыми подвигами; среди разнообразных
приключений сомнительного t свойства создав пир, как
будто мимоходом каждый из них вкушает от
запрещенного плода. С давних пор у них сложилось убеждение,
что только те деньги сладки, которые достались даром,
путем мошенничества и подлога. Так затем в этом
подготовительном периоде можно проследить, как
развивалась и расширялась деятельность этих профессиональных
похитителей. Как постепенно подготовлялось и
совершалось их личное нравственное падение. В разных
местах — ив самой Москве и вне ее,, и в Петербурге,
и в провинции, и в глуши, и в деревне — затаились
будущие друзья и соучастники, еще далеко не все между собой
знакомые, еще не спевшиеся, они уже были невидимо
друг с другом связаны одним общим своим положением,
227
безденежьем, с одной стороны, разгульными
эпикурейскими вкусами — с другой. Люди такого сомнительного
достоинства, как Андреев, люди, разорившиеся,
почерпнувшие все свойства старой помещичьей среды, как
Давыдовский, Массари, люди, давно уже удивлявшие
порядочных людей своей наглостью и скандальным образом
жизни, как Шпейер и Верещагин, люди, вышедшие Бог
весть из какой тьмы, как Башкирова, Андреев и
Топорков,— все, каждый на своей дорожке, когда недоставало
денег, смело обратились к преступлениям. Г-ну Массари,
если не ошибаюсь, принадлежит первый по времени почин;
с его-то сложной операции я начну свою длинную и
скорбную повесть.
Она будет прежде всего касаться Массари и Эрганьян-
ца. Вспомните стоявшую перед вами несчастную,
опиравшуюся на костыли старушку, которая из-за сына сидела
в долговом отделении и потом состояла под конкурсом,
сумма которого доходила до 300 тысяч рублей;
припомните, когда ее спрашивали по делу, она говорила:
«Спросите сына, я ему все доверила: какие у меня долги? Разве
рублей сто?» Впечатление, которое произвела эта старуха,
врезалось в нашу память: то была мать, опечаленная
положением сына, но мать, этим сыном обобранная, дошедшая
до нищеты; то была мать, не сказавшая слова в укор сыну,
и рядом с ней мы видели двух людей. Первый из них —
Массари с вечно бродящей на лице хитрой и тонкой
улыбкой; он говорил перед нами долго и много, его как-то
трудно было понять, и никакого конечного вывода из его
показаний сделать было нельзя, у него все как будто
скользит, как будто он везде оставляет себе выходы и
лазейки. Вы видели также другого старого человека; я
говорю об Эрганьянце. Г-жа Массари, вы помните, к началу
шестидесятых годов имела хорошее состояние. Имение
ее в Горбатовском уезде было оценено в 38 тысяч, на
нем лежал только один долг в 15 тысяч Приказу
общественного призрения; имением этим заведовал скн Массари
и вскоре обременил его запрещениями, появились
взыскания в 26 тысяч по векселям сына, по которым
поручилась мать. В 1866 году Массари взял от
матери доверенность на управление Ъсеми ее
имениями с неограниченным правом кредита; каким
образом он пользовался этим правом, доказывает скоро
выросшая конкурсная сумма в 300 тысяч. Когда на имение
был наложен секвестр и оно было взято под опеку, тогда,
вооруженный доверенностью матери, Массари оставил
Горбатовский уезд — и тут-то началось добывание денег,
228
которое в конце концов и привело его на скамью
подсудимых.
Указав на разорение старушки г-жи Массари,
господин обвинитель в дальнейшем изложении доказывал
невероятность того факта, чтобы Массари мог верить
фантастическому рассказу Эрганьянца содействовать
с ним сознательно заодно '.
Вторым же изложено в обвинительной речи дело
Давыдовского о выдаче им векселей от имени своей
матери и сестер по несуществовавшей доверенности.
На это дело обвинитель указывал как на имеющее
значение для определения прошлого в жизни подсудимого
Давыдовского. В заключение обвинитель просил
присяжных обратить особое внимание на то, что с этих пор
Давыдовский начинает заниматься комиссионерством.
Этой профессии в настоящем деле принадлежит
громадная роль.
Подсудимый Давыдовский сознался на суде в
составлении подложных векселей от имени своей матери и сестры и
своим высокомерным сознанием хотел как бы купить
право на оправдание. Он указывал и настаивал, что это
сознание вполне добровольное и искреннее. Но если бы
даже это и была правда, то что же из этого следует?
Разве вследствие сознания преступление перестает быть
преступлением и обращается в действие похвальное? Но
мне не верится, чтобы сознание Давыдовского вытекало
из благородных побуждений. Мне сдается, что
несвойственно характеру Давыдовского, насколько этот
характер выяснился на суде, чистосердечное сознание и
раскаяние. Мотивом для сознания послужила ненависть его
к Ольденбургу, ненависть, которая ясно сквозила через
все объяснения подсудимого, ненависть, быть может, за те
чрезмерно высокие проценты, которые брал ростовщик
Ольденбург с Давыдовского. Давыдовский имел в виду
отомстить Ольденбургу и посадить его на скамью
подсудимых.
Покончив с делом Ольденбурга, господин товарищ
прокурора перешел к другим обвинениям, располагая
их в хронологическом порядке совершения
преступлений, и перешел к делам Долгорукова. Прежде чем
приступить к изложению обвинений по этим делам,
обвинитель представил характеристику личности
подсудимого Долгорукова.
1В связи с отсутствием полного текста речи некоторые ее части
даются в изложении.
229
Не будем преувеличивать, излишества всегда вредны.
Я не буду говорить вам, что перед вами стоит закоснелый
-преступник, опытный во всевозможных проделках, я этого
не скажу, потому что это было бы неверно' Не много нам
рассказывал подсудимый о своей прошлой жизни, и в деле
вообще имеется мало сведений, из которых можно было
вывести полную характеристику личности подсудимого.
Подсудимый говорил нам о своем происхождении, титуле,
о том, что фамилия Долгорукова запоминается легче,
нежели Иванова, Петрова и проч., говорил также о своих
родственниках. О княжескрм титуле здесь не время и не
место говорить, в особенности после тех перемен, которые
произошли в судьбе Долгорукова. В представленном вчера
защитником Долгорукова письме писателя Немирова
довольно верно обрисована личность подсудимого. В
Долгорукове особенно резко бросается в глаза одна черта:
легкость характера, необыкновенное легкомыслие. Получив
довольно поверхностное образование, послужив юнкером
во флоте, Долгоруков вышел в отставку. Неимение средств
заставило его подумать о приискании каких-нибудь
занятий. Природная талантливость и отсутствие серьезного
образования определили свойство занятий Долгорукова:
он посвятил себя в конце шестидесятых годов мелкому
литературному труду. В письме Долгорукова, прочтенном
вчера, встречается одна замечательная фраза, рисующая
нам обстановку, среди которой он жил в то время, и
нравственное состояние, в котором он находился. Фраза эта
дает ключ для понимания всех последующих поступков
Долгорукова и происшедших в нем перемен. «Чувствую,—
пишет он,— как все более и более окружающая среда
начинает давить меня, чувствую, как все более и более
слабеют мои лучшие помыслы». Да, мечты юности исчезли,
лучшие помыслы улетучились, и на месте их стали
вырастать другие мысли, другие цели и стремления. Это
перерождение не подлежит сомнению: работа над ним шла
медленно, но верно. Долгоруков сначала робко,
нерешительно, затем все смелее и хладнокровнее совершает
несколько обманов и мошенничеств. Сначала обман Арен-
сона, за ним следует Белкин, Дриссен и целая серия
обманутых, нанимавшихся в конторе Огонь-Доганов-
ского. Два условия способствовали приготовлению почвы
для восприятия дурного влияния. Княжеский титул
Долгорукова, привычки и вкусы, развитые в нем прежней
жизнью, требовали от него необыкновенных усилий, чтобы
честным трудом добыть столько средств, сколько нужно
было для жизни, соответственной носимому им княже-
230
скому достоинству. Такого запаса трудолюбия в
Долгорукове не оказалось, у него не хватило и силы воли
ограничить свои потребности до тех размеров, на которые
хватило бы его средств, и явилась необходимость искать их
где-нибудь в другом месте, в такой области, с которой
честная натура Долгорукова ничего общего не имела.
Нравственное бессилие, неспособность сопротивляться
искушениям сильным и действующим упорно — таковы
черты, характеризующие подсудимого Долгорукова.
Затем обвинитель коснулся в нескольких словах
жизни Долгорукова в Петербурге, переезда его в
Москву и дурного влияния, оказанного на него обществом
Давыдовского и других, и перешел к отдельным
обвинениям. Изложив обстоятельства, при которых был
обманут Батраков, господин товарищ прокурора продолжал:
Долгоруков говорил, что он не называл себя
племянником генерал-губернатора, и в этом объяснении есть
значительная доля вероятия. Конечно, Долгорукову, хорошо
знакомому с условиями великосветской жизни, неловко
было самому лично отрекомендоваться посетителям
племянником генерал-губернатора. Но он причастен обману
уже тем, что позволял, чтобы Андреев распускал
подобные слухи. Андреев еще вчера весьма энергично доказывал
происхождение Долгорукова от великого князя Михаила
Черниговского и родство его с московским
генерал-губернатором. Эти усилия Андреева убеждают нас, что он
действительно распространял слухи об этом родстве. Здесь
не место распространяться об этом, достаточно указать на
один документ, прочтенный вчера на суде.
Генерал-губернатор благодарит Долгорукова за присланные ему книги
и через канцелярию посылает ему 25 рублей. С
родственниками, столь близкими, как племянник, не ведут
переписку через канцелярию. Главным руководителем при всех
обманах был Андреев. Значительный комический талант
его, о котором упоминали свидетели, давал ему шайсы
с успехом разыгрывать разные роли. И вот он является
при Долгорукове в ролях наставника-руководителя,
управляющего, поверенного, комиссионера и проч.
Перейдя к обвинению Долгорукова в обмане Попова,
господин обвинитель заметил:
Хотя личность самого свидетеля рисуется в крайне
неблагоприятном свете, однако это обстоятельство
нисколько не избавляет подсудимого от ответственности за
обман даже такого лица.
От следовавшего затем обвинения Долгорукова в
обмане г-жи Яцевич товарищ прокурора отказался, так как
231
за неявкой в суд г-жи Яцевич и за невозможностью
прочесть ее показания в деле не представляется решительно
никаких данных для обвинения Долгорукова. По делу об
обмане Аренсона обвинитель поддержал обвинение
всецело.
В объяснениях Долгорукова замечается косвенное
сознание. Бесцеремонность его не дошла до того, чтобы он
сказал, что тетка его поручала ему нанять винокура для
нее. Сам подсудимый признает свой поступок с Аренсоном
неблаговидным. А если бы Долгоруков имел такое
поручение от тетки, то в поступке его не было бы ничего
неблаговидного.
Излагая обстоятельства белкинского дела,
обвинитель остановился на участии в нем подсудимого
Адамчевского.
Адамчевский участвует только в настоящем деле, и
потому понятно, что ему неприятно сидеть на скамье
подсудимых с лицами, которые обвиняются в 10—12
преступлениях. Но обвинение против Адамчевского подтвердилось
вполне. Белкин и его приказчик признали его за то именно
лицо, которое выдавало себя за управляющего князя
Долгорукова и явилось к ним в магазин. Подсудимый
указывал на то, что он не мог решиться на обман из-за 100—
200 рублей, что он в настоящее время имеет порядочное
состояние, высокопоставленных клиентов и проч. Все это
нисколько не опровергает обвинения: в продолжение
десяти лет много утекло воды, и то, что теперь
подсудимому кажется ничтожной суммой, могло иметь десять
лет назад значение сильной приманки. Конечно,
десятилетняя честная жизнь имеет право на ваше внимание, но
лишь как обстоятельство, уменьшающее вину и дающее
подсудимому право на снисхождение... Таково уж
свойство настоящего дела, что совершение только одного
преступления вызывает снисхождение.
Затем обвинитель перешел к делу об обмане
Дриссена.
Как провел Долгоруков 1868—1869 годы, мы не
знаем, но только' в то время, когда утверждался приговор
С.-Петербургского окружного суда о лишении
Долгорукова всех особенных прав состояния, он обманул владетеля
оружейного магазина Дриссена буквально тем же
способом, как и.Белкина.
Изложив обстоятельства дела, господин обвинитель
продолжал:
Оправдания, представленные подсудимым, не
заслуживают никакого уважения. Он говорит, что совершал
232
гражданскую сделку, заем, но заем тогда только может
иметь силу и значение гражданской сделки, когда он
совершается добровольно; займы же Долгорукова были
насильственны. Он указывает также на то, что вся
наша молодежь, как имущая, так и неимущая,
прибегает к помощи таких же займов. Если это
действительно правда, то следует пожалеть нашу
молодежь и пожелать, чтобы пример Долгорукова
подействовал на нее отрезвляющим образом.
Подсудимый говорит еще, что он выдал векселя, но вы
знаете, какую цену имеют его векселя; он также
ссылается на то, что полиция в 1870 году не возбудила
уголовного дела об обмане Дриссена. Это доказывает только
то, что полиция не исполнила своей обязанности, но не
оправдывает подсудимого.
Покончив с делами Долгорукова, господин
обвинитель перешел к Верещагину и начал с подлога векселя
Рахманинова.
Подсудимый сознался в преступлении, потому что
сознание для него безразлично. На предварительном
следствии он оговаривал Султан-Шаха, здесь он снял свой
оговор. Оговор свой он объясняет тем, что желал
получить от судебного следователя какую-нибудь льготу.
По словам Верещагина, судебный следователь устроил
настоящую травлю подсудимых. Но понимает ли Верещагин,
какую он играл роль при этой травле? Об этой роли вы
посудите сами. Мы опускаем на нее завесу: на эту тему
чем меньше говорить, тем лучше.
Господин обвинитель перешел далее к обману Ашвор-
та, совершенному Топорковым, Верещагиным и
Андреевым. Определив долю участия Верещагина, который
«под влиянием винных паров и дружбы» выдал
подложную запродажную запись, и Андреева, «который много
говорит, но никогда не договаривает», господин
обвинитель несколько дольше остановился на участии в деле
Топоркова.
Настоящее дело было дебютом для Топоркова.
Топорков может служить наглядным и блистательным
примером всесильного и неотразимого влияния среды.
Топорков хотел сознаться, первые слова его дышали
непритворным чистосердечием и прямодушием и невольно
располагали в его пользу. Но эта решетка, эта среда —
Верещагиных, Протопоповых, эта одежда и проч. сковали
подсудимому уста и не дали вырваться из груди словам
правды и раскаяния. В конце своего сознания он указал
на то, что он сам был обманут Степановым, у которого
233
он будто бы купил землю на векселя, но купчей крепости
не получил. Но кто такой Топорков и откуда у него
взялись средства для покупки земли? Он окончил курс
в уездном училище, служил писарем у посредника
полюбовного размежевания и, приехав в Москву, не имел
ничего, кроме того, что имел на себе. Защитник
Топоркова представил суду свидетельство о бедности, а известно,
как редко выдается такое свидетельство. Обвинение
просило бы у вас снисхождения для Топоркова, но
запирательство его отняло у него имевшуюся для этого почву.
В порядке хронологической последовательности
господин обвинитель дошел до обвинений,
предъявленных против Башкировой. Коснувшись полной
разнообразных приключений жизни Башкировой, обвинитель
заметил, что повествование ее слишком часто вращалось
около разных мужских имен: «Рассказ подсудимой,
вероятно, послужит защите темой для нарисования
потрясающей романической картины». И в виде контраста
с этой картиной обвинитель начал изложение обвинения
Башкировой в краже с подобранным ключом из
соседнего номера Дубровиной. Разобрав улики, обвинитель
пришел к заключению, что виновность Башкировой
доказана вполне.
Летом 1871 года собирается в доме Любимова довольно
большой кружок молодых людей. Общей целью,
соединившей воедино разнородные элементы этого кружка,
было добывание денег, охота за чужим карманом. И вот
закипает дружная работа. Задумываются и приводятся
в исполнение предприятия, в которых смелость замысла
спорит с отчетливостью исполнения. В состав этого
круга входили Иван Давыдовский, Петр
Давыдовский, которого смерть избавила от земного суда, душа
кружка — Шпейер, Либерман, отчасти Ануфриев, весьма
близко стоявший к кружку Массари, всеми своими
помыслами и деятельностькгпринадлежавший к кружку
Протопопов, Долгоруков, случайно к ним попавший; из
женщин — Марья Петрова и Башкирова. Десять человек,
нечуждых блеска, открывавшего доступ в хорошее
общество, с неудержимыми страстями и аппетитом, с
жаждой денег и удовольствий, но без привычки к
продолжительному и серьезному труду — чего не могли они
сделать? И вот мы видим, что в продолжение пяти месяцев
совершается семь преступлений.
После этого господин обвинитель приступил к
разбору преступлений, совершение которых приписывал
шайке, и начал с подделки серебряковских векселей.
234
Подробно разобрав все обстоятельства- дела, как они
выяснились на суде, и объяснение обвиняемых
Дмитриева-Мамонова и Давыдовского, обвинитель находил
их совершенно неправдоподобными и несогласными
с обстоятельствами.
Говорят, что по настоящему делу нет потерпевшего
лица. Вчерашний рассказ подсудимой Шпейер показал
нам, что есть потерпевшая и она сидит за решеткой.
Интересы такой потерпевшей не менее дороги для
правосудия, нежели всякой другой.
Не успели высохнуть чернила на серебряковском
векселе, как началось еремеевское дело, столь искусно
задуманное и смело веденное при содействии «дружественного»
нотариуса. При исследовании этого дела невольно
поражаешься непроходимой нравственной грязью, грубым
цинизмом, безотрадным зрелищем гибели человека,
обессиленного, порабощенного, доведенного вином до
состояния бессловесного животного и преждевременно отнятого
у семейства.
После нескольких общих замечаний господин
обвинитель приступил к изложению обстоятельств дела
со слов Еремеевой, Петрова, умершего, Еремеева
и др. С особенным вниманием остановился он на
последнем акте настоящего дела — на подписании векселя
в конторе нотариуса Подковщикова. Не утверждая того,
что Еремеев находился в совершенно бесчувственном
состоянии, господин обвинитель заметил, что если он
и не лишен был способности движения, то все же
находился в таком состоянии, что не могло быть сомнения
в том, что он не может понять смысла и значения
совершаемого документа. Это обстоятельство господин
обвинитель доказывал заключением экспертов, которые
нашли почерк руки Еремеева в реестре нотариуса
ненормальным, и рассказом самого Еремеева, а также
другими данными.
Обвинение против нотариуса Подковщикова я
поддерживаю всеми силами. Этого обвинения требуют закон
и общество. Нотариус поставлен законом на страже
интересов граждан, а Подковщиков, под сенью своей
нотариальной печати, участвовал в обмане. Старый закон
говорит, что маклеры и нотариусы, служа частным интересам,
должны при всей услужливости оказывать во всех случаях
честность и совершенное нелицеприятие, предостерегая
своего клиента в случае обмана или вреда, и не должны
принимать поручения, в котором усматривают умысел
к подлогу или обману. Все эти обязанности были нару-
235
шены Подковщиковым. Я не сомневаюсь, что вы
произнесете против Подковщикова приговор строгий, который
послужил бы примером для других.
Переходя к другим обвиняемым по настоящему
делу, обвинитель поддержал обвинение против
сожительницы Давыдовского Марьи Петровой в
попустительстве обмана Еремеева, но просил для нее
снисхождения; от обвинения же Либермана и Мазурина
господин обвинитель отказался.
Мазурин не на своем месте. В отношении к нему
предстоит разрешить вопрос, учитывая вексель Еремеева, знал
ли он, каким способом получен вексель. Данные
предварительного следствия — первое показание самого
Мазурина о том, что у него вовсе нет векселей Еремеева, и
указание свидетеля Попова, что он предостерегал
Мазурина, незадолго до учета им еремеевского векселя, от
всякой сделки с Еремеевым. На суде это показание не
подтвердилось, мало того, обнаружилось, что Мазурин
не имел никаких сведений о состоянии Еремеева. Вот что
можно сказать против Мазурина, это то, что, он не был
достаточно осторожен, осмотрителен, но за" излишнее
доверие никого не 'судят. Не находя возможным по
совести поддерживать обвинение против Мазурина, я на
основании ст. 740 уст. угол. суд. отказываюсь от сего,
о чем имею честь заявить суду.
Затем господин товарищ прокурора перешел к
обвинению Протопопова, которое начал с характеристики
личности подсудимого.
До 1866 года у Протопопова было порядочное
состояние, но уже с 1868—1869 годов он является человеком
без денег и без дела. В 1868 году он получил из Тульского
окружного суда аттестат о своей службе, в котором
прописаны были на беду все те имения, которыми когда-то
владел Протопопов. Этот аттестат послужил орудием
многих обманов. В 1871 году Протопопов приехал
в Москву и остановился в тех же номерах в доме
Андреева, где жил и Давыдовский. Опытный и
проницательный, Давыдовский сразу увидел, какое удобное и
послушное орудие он может приобрести в лице Протопопова
для исполнения своих замыслов. Протопопов,
легкомысленный молодой человек, только и думал о том, чтобы
хорошо одеваться, бывать на гуляньях, иметь хороших
лощадей и вообще жить весело. Ради своих удовольствий
Протопопов готов был на все действия, которые от него
требовались Давыдовским и Шпейером. И вот мы видим,
что сначала Протопопов играет роль немого, безучаст-
236
ного орудия в руках Шпейера и Давыдовского, а затем
мало-помалу до того втягивается в сферу преступлений,
что уже проявляет в них активную деятельность и
даже инициативу.
Затем господин обвинитель продолжал изложение
дела Батракова, Попова и Носова.
Батраковское дело было как бы приготовлением
к предприятиям более трудным, к целой тонкой и сложной
сети обманов, которую задумали сплести вокруг личности
Протопопова. Он сам и некоторые из соучастников
пробовали свои силы. Для денег и малым не брезговали. Но не
за малым вообще они гнались — им нужно отдать
справедливость. Личность Протопопова должна была доставить
им богатый источник и хорошую почву для более крупного
предприятия. Оно не замедлило осуществиться в обмане
Попова. Странная и замечательная участь постигла их
в этом деле. Поставив посреди себя Протопопова как
живую вывеску, они сомкнулись ^вокруг него тесной
толпой и под видом доставления ему денег и разных
принадлежностей отправились дружно опустошать чужие
карманы. Прежде всего наметили они ростовщиков, людей,
желающих нажиться на займах, и у многих из них разной
ложью успели вытянуть деньги, воспользовавшись их
жадным и чисто слепым доверием к тому, что обещало
прибыль и обогащение. Это слепое доверие упростило путь
подсудимым.
Им можно было ограничиться одной пустой внешней
обстановкой да громкими убеждениями в богатстве
Протопопова, и не понадобилось подтверждать эти уверения
какими-либо особыми фактическими ложными
удостоверениями. Так, они удачно обманули и побудили дать
взаймы самых знатных ростовщиков — сосланного уже
Пономарева и ныне временно по болезни
избавленного от суда вашего подсудимого Султан-Шаха. И,
обманывая их, по независящим от себя причинам,
остановились, как увидим дальше, на поступках
только безнравственных и бесчестных и еще не
сделали их поступками преступными и наказуемыми.
Что один раз было дело случайности, то не повторилось
в другой. Они же, как только понадобилось, смело прибег-
нули к преступлениям. С ростовщиками возиться было
трудно, долго, хлопотливо и скучно, давали они неохотно
и мало, а компании, окружавшей Протопопова, нужно
было скоро и много. Бросили они поэтому проницательные
взоры свои в другую сторону, и взоры эти остановились
на бывшем их же товарище и приятеле свидетеле Попове.
237
Решили обобрать своего, и что особенно характерно,
особенно ярко рисует личности подсудимых — решили это
потому, что с этим своим «в последнее время» не только
расстроились и выжили, втайне злобствуя на него еще
за еремеевское дело, но и именно потому, что был «свой»
человек одного с ними закала, человек сам ловкий, старый,
знакомый всем им насквозь. Противник, думали они, будет
сильный, достойный, борьба трудная и победа сладкая.
Пылкое самолюбие гг. Давыдовского и Шпейера не
слабело, и в особенности приятно щекотало это своего рода
мошенническое молодечество, которое они видели в
возможности своего «Попова» — давнишнего приятеля,
надоевшего им,— провести и вывести. Сказано — сделано.
Усердно делали, хлопотали гг. Давыдовский и Шпейер,
усердно слушался и поддерживал их г. Протопопов,
усердно помогали им в чем могли Калинин и покойный
Крадовиль, усердно фигурировали гг. Либерман, Массари
и Марья Петрова, в виде молчаливых бутафорских
принадлежностей импровизированной мошеннической сцены,
ловко одно за другим совершились все действия
преступного обмана — и пять тысячных рысаков г. Попова быстро
и притом безденежно предоставили себя в распоряжение
гг. Шпейера, Давыдовского, Протопопова и К°; но одних
рысаков было мало; на них нельзя же было г.
Протопопову, богатому помещику трех губерний, кататься верхом,
понадобились экипажи, и взоры участников обратились
на каретника Носова. Не устоял и каретник Носов, и скоро
его экипажи присоединились к рысакам Попова.
Наживали гг. Давыдовский и Шпейер, затеяв всю операцию, вовсе
не в интересах Протопопова, а только под его фирмой,
в интересах собственного своего бумажника. Но не
суждено было им кататься в даром доставшихся экипажах
Носова, на не дороже им стоивших рысаках Попова, не
суждено было им также и с лишком семитысячную стои-
мость^этих предметов положить в свой карман. Случилось
происшествие совсем неожиданное. Коса нашла на камень,
и оказалось, что и на людей, много мудрости вносящих
в преступление, всегда бывает довольно простоты.
Победителем оказался один только из всех соучастников, тот,
которого я не могу обвинить потому, что смерть избавила
его от людского суда,— г. Крадовиль. Он удачно
воспользовался обоюдной передачей ему Протопоповым экипажей
и лошадей, которая по необходимости, для устранения
всяких мер со стороны Попова, была облечена в
письменную и законную форму купли-продажи. Он взял экипажи
и лошадей, будто бы ему проданных на сохранение,— взял
238
и не отдал, Шпейеру же и Давыдовскому он весьма
резонно объявил, что Протопопова он не знает и знать не хочет,
но что дело он имел с ними; что же до них касается, то
с ними он экипажами и лошадями делиться не станет,
так как они оба раза ввели его в крупный убыток по
покупке векселя Томановского, первого мужа свидетельницы
г-жи Давыдовской. За счет этого убытка он причисляет
экипажи и лошадей. Таким образом, обманувшие
оказались обманутыми, и ни лошадями Попова, ни экипажами
Носова никому из компании, если не считать
двухдневного летнего катания, попользоваться не пришлось.
Между тем Попов поднял шум, мир не устроился, явилось
как бы легкое предвкушение уголовного преследования,
и в неприятной перспективе выступают такие неприятные
ооразы, как следователь, прокурорский надзор,
подследственный арест, окружной суд, присяжные заседатели;
тогда стали думать о спасении, и первым стал спасаться
г. Шпейер, являя собой необычайный пример самого
дерзкого и притом самого бессмысленного предательства:
он бросился к следователю с жалобой и документами и
нашел в себе достаточно духа, чтобы, будучи сам автором
и душой обмана, обвинить в этом обмане своего
послушного ученика — Протопопова, а себя самого выставить
его невинной жертвой. Справедливость не дала
совершиться такому гнусному и грязному делу, и с первого
шага следствия все не замедлило обнаружиться.
Подсудимые жестоко поплатились на поповском деле; судебная
власть скоро увидела, с кем имеет дело; внезапно
вспыхнуло потухавшее уже было еремеевское дело; 18 декабря
грянул выстрел, направленный в Славышенского; не
ослабевая в трудолюбии и энергии, началась деятельность,
обширная и всесторонняя, разоблачение совершенных
подсудимыми преступлений. Вот в каком общем свете
представляется мне это сложное и запутанное дело в
обмане Попова и Носова, очерченное мной. Оно поможет вам
вникнуть в смысл тех главных фактов и подробностей,
которые укладываются между ее чертами. Оно позволяет
мне также многие ненужные мелочи обойти молчанием.
Приступив к анализу данных судебного следствия,
господин обвинитель сказал, что хотя обвинительная
власть обыкновенно и бывает солидарна с потерпевшим
лицом, но в деле Попова она не может не отвергнуть
такую солидарность. «Если Протопопов и другие
обманули своего же человека, — заметил он, — то обман
через это не превращается в ненаказуемое деяние».
Господин товарищ прокурора затем всецело поддержи-
239
вал обвинение против Протопопова, Калинина, Марьи
Петровой и Либермана. Относительно Либермана он
указал на близость сношений его с Протопоповым
(написание векселей на его имя и проч.).
Затем, ссылаясь на необыкновенную сложность и
необычайные размеры настоящего дела, обвинитель
дополнил свою обвинительную речь против нотариуса Под-
ковщикова двумя замечаниями. Во-первых, он
припомнил присяжным заседателям рассказ Еремеевой о том,
как она посещала контору нотариуса и предупреждала
не совершать актов от имени* ее мужа, и об обещании
нотариуса не совершать актов, если Еремеев будет
находиться в ненормальном состоянии. Во-вторых, он
припомнил присяжным результат экспертизы подписей и
сослался на их личный осмотр. Новый осмотр, по
мнению господина товарища прокурора, не оставляет
никакого сомнения в том, что Еремеев при подписании
векселя находился в ненормальном состоянии.
К декабрю 1871 года положение компании лиц,
занимающих теперь места на скамье подсудимых, в
достаточной степени выяснилось. На ней уже образовалось
немало нравственных пятен, недоставало только
кровавого пятна, и 19 декабря была пролита кровь,
составляющая то пятно, которое бросает кровавый отблеск на всю
скамью подсудимых. Преступление это было совершено
спокойно, обдуманно и хладнокровно, точно речь шла
о выпитом стакане воды.
Рассказав обстоятельства, при которых стало
известно властям событие, совершившееся 19 декабря в
номере Башкировой, господин обвинитель перешел к
группировке тех данных, обнаруженных судебным
следствием, которые должны привести к заключению, что
убийство Славышенского совершено Башкировой не в
запальчивости и раздражении, как он а старалась
представить на суде в своем пространном объяснении, а по
обдуманному плану.
То, что застали в номере Башкировой лица,
прибежавшие на крик Славышенского, могло быть
самоубийством, или убийством случайным, или, наконец,
убийством умышленным. Сначала старались выдать это за
самоубийство: эта остроумная выдумка — ложь очень
удачная, показывающая, что она придумана умной
головой. Но с таким объяснением не согласовались
обстоятельства, при которых произошло убийство; этому
противоречит направление и положение раны, нанесенной Сла-
вышенскому. Рана, произведенная пулей, оказалась
240
перпендикулярной кости черепа и находящейся позади
левого уха, почти на затылке. Что в номере Башкировой
произошло не самоубийство, тому служат неотразимым
доказательством слова, которые произносил с криком
Славышенский после раздавшегося выстрела. «Меня
убивают, меня убили» — вот зов, на который сбежались
люди. Да Славышенский и не мог решиться на
самоубийство, в этом убеждает нас все, что нам известно об
этой личности. Он был человеком трусливым, мелочным и
неспособным на тот хотя бы только моментальный
подъем духовных и физических сил, который требуется для
совершения подобного противоестественного деяния. От
этого объяснения обстоятельств, при которых
приключилась смерть Славышенского, Башкирова отказалась
уже при втором допросе у следователя. Последнее
показание свое у следователя она с некоторыми
изменениями повторила и на суде. Если вспомнить то, что она
говорила здесь в продолжение многих часов, то нельзя
не обратить внимания на тот характерный признак
этого рассказа, что она передает события весьма
отдаленные и совсем к делу не идущие с замечательной
отчетливостью и самыми мелкими подробностями: точно так
же описывает историю своего продолжительного
знакомства со Славышенским, помнит все с удивительной
ясностью и забывает одни лишь подробности, при которых
был сделан ею выстрел в Славышенского. Но эти
подробности занесены с ее слов в показание, данное ею на
предварительном следствии. Почему она так ведет свой
рассказ на суде, понять легко. Она, так сказать,
запрашивает у своих судей мног.о с тем, чтобы получить мало,
она уже не отрицает убийства, но старается выгородить
для себя признание, что она совершила его в
запальчивости и раздражении, и рассказывает, что она
совершила его случайно. Это стремление совершенно
естественно в момент, когда решается ее судьба, но она не
заслуживает того снисхождения, которого добивается.
Она не говорит о подробностях злодеяния, ею
совершенного, но мы знаем их помимо, ее рассказа; мы
видим их ясно и отчетливо из обстоятельств дела. Она
говорит, что в запальчивости ударила Славышенского
револьвером, из которого произошел выстрел. Но это
неправда. При убийстве в запальчивости к нему не
готовятся. А что Башкирова готовилась к убийству, в этом не
может быть никакого сомнения. Зачем оказался у нее
револьвер? Ведь револьвер — не женская игрушка, хотя
Давыдовский и рекомендовал ей таким образом это ог-
241
нестрельное оружие. Зачем револьвер оказался
заряженным? Отчего он лежал на таком месте, откуда его
можно было достать, протянув руку с постели, на
которой лежала Башкирова? Нельзя также не придать
большого значения тому, что за Славышенским на этот раз
было послано. Мало того, 18-го числа, накануне,
Башкирова после жестокой ссоры со Славышенским против
обыкновения первая отправляется к нему и предлагает
мириться. Наконец, Никифоровой, которую она за ним
посылает, она велит передать ему, что «если он может не
скандалить, то она приглашает его к себе», — говорятся
такие слова, которых Славышенский не привык слышать
и которые должны" были на него подействовать самым
неприятным образом: он действительно ни минуты не
медля является на зов Башкировой. Он не только
приходит в подготовленную ему ловушку, но за ним еще
запирают дверь — это ли не приготовления? Если какое-
нибудь действие производится человеком в безотчетном
состоянии крайнего возбуждения, то за этим действием
тотчас следует реакция, ослабление всех сил. Не так
было с Башкировой. Убедившись, что рана, нанесенная
ею Славышенскому, не сразу привела к желанному
концу, она с остервенением бросается на него с подушкой
и начинает душить его. В этом нельзя не видеть
проявления той кипучей злобы, которая охватывает человека,
когда он видит, что обдуманное и опасное предприятие
его не хочет осуществиться. Действительно, люди,
сбежавшиеся на крик Славышенского, застали Башкирову
со зверским выражением и распущенными волосами
сидящей на кровати и судорожно вцепившейся в
окровавленную подушку. Не так поступает после преступления
человек, совершивший его в исступлении, как поступила
Башкирова. Хоронить концы и уничтожать следы
преступления может только тот, кто сознательно и
умышленно совершил его. Башкирова же вслед за убийством
принимает различные меры предосторожности:
выковыривает шпилькой пулю, сидящую в печной глазури, и
бросает ее в ведро с водой, выбрасывает ящик с патронами
и, наконец, учит Никифорову, как ей показывать о
случившемся. Важно также вспомнить, что за несколько
дней до убийства Башкирова пробует стрелять из
револьвера в своем номере и то, что, рассердившись на
Никифорову, она говорит ей: «Смотри, чтобы я не
пустила тебе пулю в лоб вместо Славышенского».
Но если Башкировой совершено убийство
умышленное, то могла ли она решиться на этот шаг самостоятель-
242
но, по собственной инициативе? Против такого вывода,
кроме показания самой Башкировой, говорят все
известные нам обстоятельства дела; участие третьего лица
логически вытекает из них. Башкирова не такого
характера человек, чтобы сделать подобный, решительный и,
во всяком случае, энергичный шаг. Она женщина с
темным прошлыми такого поведения, над которым лучше
всего опустить завесу. Отношения ее к Славышенскому
стали давно принимать враждебный характер. Они не
раз ссорились, бранились и дрались, и ничего
решительного из этого не выходило. Причина тому — чувство,
которое испытывала к Славышенскому Башкирова. Она
вообще не человек сильных и fviy6oKHX чувств, цод
давлением которых можно отважиться на отчаянный шаг.
Отношения ее к Славышенскому были отношения лица,
заинтересованного материально к человеку любящему. Она
всегда могла оставить его, и Славышенский это
чувствовал. По показанию одного из свидетелей, чтобы
привязать ее к себе, он взял с нее вексель, при помощи
которого мог постоянно пугать ее долговым отделением, если
она его бросит; у всякого человека бывают
оригинальные проявления любви. Славышенский был человек
вспыльчивый, но не злопамятный, и победительницей в
ссорах всегда выходила Башкирова, чего же еще было
нужно? Сообразив все это, нельзя не прийти к
заключению, что руку Башкировой направляла другая рука —
рука сильная, опытная. Так говорил и Славышенский в
своем предсмертном показании: он говорил, что
Башкирова была орудием, которым воспользовался другой
человек. Обвинение не может не разделять этого мнения и
заявляет на основании глубокого убеждения, что этот
другой человек был не кто иной, как подсудимый Иван
Давыдовский. Однако открыть его участие в деле
нелегко; к этому встречается множество препятствий,
сопутствующих всегда обвинению человека, который не сам
совершает преступление, а выбирает' для этого орудием
другого и сам прячется во тьме, который, действуя
чужими руками, тщательно заметает следы своей деятельности
и своего участия. Но, следуя старому правилу «ищи,
кому было выгодно сделать преступление, и ты нападешь на
след самого преступника», обвинение собрало
достаточно данных для того, чтобы убедиться, что в смерти Славы-
шенского нуждался Давыдовский (может ^ыть, не для
одного себя) и что он подговорил на убийство Башкирову.
Историю отношений Давыдовского к
Славышенскому надо вести издалека. Материалом для этого может
243
служить их переписка, из которой некоторые письма
читаны в суде. Из них видно, что Славышенский был
адвокатом, юрисконсультом всей компании, окружавшей
Давыдовского, долго служил в уголовной палате и был
таким криминалистом, в каком нуждалась эта компания.
Отношения к нему Давыдовского в конце шестидесятых
годов видны из двух писем его, к Славышенскому и
другого к Либерману и к брату своему Петру. К
Славышенскому он обращается со словами: «Дорогой Сергей
Федорович», а в письме к своим он называет его дурным
человеком, который уже несколько раз их выдавал.
Когда было возбуждено еремеевское дело, то. по показанию
самого Давыдовского, немедленно потребовался совет
Славышенского; за этот совет ему было обещано 100
рублей. Этих денег ему не отдали; кроме того,
Славышенского начинала злить эта компания тем, что он замечал,
как она привлекала к себе Башкирову. Он по натуре был
очень ревнив, а здесь его ревность, может быть, имела
основание. Вследствие этого Славышенский стал
высказывать угрозы, что он донесет властям о каких-то
преступлениях; за это его однажды при Протопопове побил
Шпейер. О том, что Славышенский знал о проделках
некоторых из подсудимых, свидетельствует Попов, по
словам которого Славышенский, встретясь с ним в суде,
говорил, что он знает о многих преступлениях Шпейера и
Давыдовского. На суде было также прочитано письмо
Славышенского, найденное у Шпейера, в котором
высказывается угроза, что если ему не будет в скором времени
уплачен долг, то уже будет поздно. Об еремеевском деле,
как известно присяжным, 2 декабря 1871 года
прокурором было представлено в палату заключение о
прекращении. Казалось бы, что теперь угрозы
Славышенского не могли казаться опасными. Но через несколько дней,
по прошению Попова, было возбуждено против тех же
лиц новое преследование, и они могли почувствовать
новый страх перед Славышенским; как известно, вследствие
дела Попова некоторые из подсудимых были взяты под
стражу, и еремеевское дело 31 декабря возвращено
к доследованию.
Такова побудительная причина, которая могла
породить в Давыдовском желание смерти Славышенского.
Как же он проявил такое свое желание? Об этом
убедительно свидетельствует Башкирова в показаниях, данных
ею на предварительном следствии и на суде.
Последнее показание ее, в котором она, по-видимому,
выгораживает Давыдовского, для него еще опаснее. Если бы она
244
в своем показании сваливала вину на Давыдовского,
тогда можно было бы подумать, что подробности,
касающиеся этого подговора, ею придуманы; но такого
подозрения нельзя иметь теперь, когда смысл ее рассказа
сводится к тому, что она по собственному побуждению
даже случайно убила Славышенского. Впрочем,
передаваемые ею подробности такого рода, каких не могла
придумать неразвитая и простая женщина, подобная
Башкировои. Она сама, не сознавая этого, рисует нам
поразительную и верную картину того, как подговаривал
ее Давыдовский и как действительно должен вести свой
подговор такой сильный и умный человек, как он.
Простой человек совершает и преступление просто; если он
подговаривает на преступление, то он делает это прямо —
человеку, избранному орудием, он говорит: «Такой-то мне
не нравится, убейте его» — и приносит нужное оружие.
Не так поступает Давыдовский. Он систематически
напитывает ядом душу человека, назначенного им орудием
для достижения своих целей, и подготовляет его к
нужному действию так, чтобы тот сам этого не заметил и
поступил согласно желанию Давыдовского как бы по
собственной воле. Башкирова рассказывает о первом своем
свидании с Давыдовским и говорит, что она до сих пор
помнит пронизывающий взгляд, которым он
разглядывал ее. Так и чувствуется, что Давыдовский с первого же
знакомства с Башкировои хотел заглянуть ей в душу и
узнать, каков она экземпляр и какое можно сделать из
нее употребление. По-видимому, он скоро ее изучил.
Приехав однажды к ней после недавней ссоры ее
со Славышенским, о чем он мог узнать от Чебоксаро-
вой, он роняет такое замечание: «Эх вы, женщины,
женщины! Вот вы поссорились, а там, смотри, и помиритесь».
Это первый булавочный укол, который он делает
самолюбию Башкировои. Когда затем, не без его участия в этом,
ссоры и драки между Башкировои и Славышенским
становятся чаще, он учащает свои посещения Башкировои.
Когда Башкирова, жаЛуясь ему, однажды сказала, что
она готова была бы застрелить Славышенского из ружья,
он говорит ей, что ружье не дамское оружие, а вот
револьвер — это как раз подходящее и для женщины
оружие. Таким образом, передается Башкировои револьвер,
из которого она должна убить Славышенского, и
делается это с необыкновенным мастерством. В душе
Башкировои, женщины самолюбивой, злопамятной и не особенно
мягкой, оТо всех этих приготовлений след неприязни к
Славышенскому делается все глубже и глубже. Почти та-
245
ким же образом передает ей Давыдовский ящик с
патронами. Нужна вещь для заклада, Давыдовский
приносит ей как бы для этой цели названный ящик. Башки-
рова спрашивает, как стрелять этими патронами, и
наводит револьвер на Давыдовского. Он говорит ей: «Меня
не нужно, вы лучше укокошьте Славышенского». Таким
путем он растравляет ее душевную рану и направляет ее
на кровавый замысел. При этом Давыдовский постоянно
старается выразить ей свое расположение, дает ей
небольшие деньги и при таком случае однажды говорит ей:
«Сердце у меня горячее, да денег мало». Таким путем
следует один булавочный укол за другим. За два дня до
убийства Давыдовский говорит Башкировой, что Славы-
шенский возбудил против нее уголовное преследование,
и при этом уже высказывается откровенно: «Он негодяй,
дурной человек. Где ваш револьвер? Отчего вы старого
черта не укокошите?» Таков медленный и верный процесс
подготовления Давыдовским чужой души к
преступлению. Труды его увенчались полным успехом, и желанный
результат достигнут.
Затем господин обвинитель перешел к критике тех
возражений, которые приводил Давыдовский против
рассказа и оговора Башкировой.
Сначала он говорил, что был у Башкировой не более
двух раз, но в противном уличают его Чебоксарова и
половые гостиницы. Протопопов говорил на суде, что он
на предварительном следствии давал вынужденное
показание против Давыдовского. Но ему ни здесь, ни там
особенной веры придавать нельзя. Никифорова отчасти
изменила свое показание ha суде, но это только
показывает, что она податливее, нежели Башкирова, так как
здесь выяснилось, что Никифорова содержалась в одной
части с Давыдовским. Г-жа Давыдовская явилась на суд
как оскорбленная жена для опровержения улик,
собранных против ее мужа. Нельзя же считать доводом то, что
она говорила, что если бы Давыдовский был таким,
каким его представляет себе обвинительная часть, то она
не вышла бы за него замуж: условия суда и
супружеского союза ничего общего между собой не имеют. Главнее
же всего этого признание, сделанное на предварительном
следствии самим Давыдовским. Как бы он ни объяснил
происхождение его, из дела этого невозможно
вычеркнуть. Если он дал его для того, чтобы воспользоваться
свободой для опровержения улик, собранных против
него, то для чего он этого не сделал, ведь он заключен под
стражу только осенью прошлого года.
246
Что касается сообщничества Никифоровой, то
изобличает ее собственное признание, согласное с показанием
Башкировой. Мотивы, какие она при этом имела, станут
понятны, если обратить внимание на то, что они с
Башкировой принадлежат к той сфере, где интересы
госпожи и служанки почти совпадают... Данные судебного
следствия дают нам возможность очертить довольно
рельефно нравственный облик Пегова. Свидетель
Леонтьев, которому он отдан был на исправление, отозвался
о нем как о человеке, обладающем в высшей степени
увлекающейся натурой. Но если Пегов и увлекался,
когда был мальчиком, и увлечения его не имели тогда
преступного характера, то в настоящее время он
представляется юношей глубоко испорченным и безвозвратно
погибшим. Вывод ужасен, но, по мнению обвинителя, имеет
прочное основание во всей прошлой жизни подсудимого.
С самого раннего детства Пегова окружали в
родительском доме горячая любовь, нежная заботливость,
старания направить его на путь истины и добра. Но
мальчику пришлась не по вкусу тихая семейная жизнь в
родительском доме, и с первых лет отрочества его манит
и загородные рестораны, на грубые оргии и скандальные
кутежи. Учение не идет на ум молодому Пегову, несмотря
на все старания его отца в этом отношении. Поведение
Пегова из-за его диких выходок сделалось просто
невыносимым для его домашних (появление в гусарском
мундире и размахивание саблей). Шалости Пегова тгали
переходить всякую меру, и любящий отец не остановился
перед тем, чтобы силой своей родительской власти
отдать его в исправительное заведение. Но это
заключение на него не подействовало, и отец, взяв его оттуда,
попробовал еще раз приучить к серьезному труду и
порядочной жизни. Но Пегов, следуя влечению своей
природы, рвался на свободу и нашел ее вне родительского
дома, в своей любимой компании.
Вслед за этим господин обвинитель перешел ко
второй группе, которую он назвал «Леговской», и начал с
подложных векселей, выданных Пеговым,
предварительно охарактеризовав личность подсудимого Пегова.
Людей, окружавших Пегова, господин обвинитель разделил
на две категории.
С одной стороны, жадные ростовщики, ищущие
удобного случая поживиться на счет ближнего вообще, а от
молодых людей в особенности, таковы: подсудимые
богатый купец Фирсов и бывший черниговский городничий,
горбатовский окружной начальник и отставной штаб-
247
ротмистр Жардецкий. Другая категория — это молодые
люди, нуждающиеся в деньгах и не всегда разборчивые
в способах для их добывания.
Затем господин обвинитель сделал несколько общих
замечаний, касающихся всех подсудимых по этому делу,
а именно: он остановился на разрешении общего
вопроса о том факте, что подсудимые, принимая и пуская в
обращение векселя Пегова, знали об их подложности.
По мнению обвинителя, не было возможности не знать
этого, и вот по каким причинам: Пегов в то время, как
выдавал векселя, был несовершеннолетен и очень
моложав на вид; изгнание его из родительского дома ясно
доказывало разрыв между Пеговым и его отцом; кроме
того, известно было, что Пегов-отец не только не
выдавал никому доверенности на право кредитоваться его
именем, но даже и сам никогда векселей не выдавал.
Изложив улики против Жардецкого, Фирсова и Массари
(Пегов сознался в подлоге), господин обвинитель
коснулся в нескольких словах и положения Поливанова в
настоящем деле.
Поливанов — сын достаточных и пользующихся
общим уважением родителей — в настоящее время
занимает совершенно несоответствующее ему место.
Привлечение его по настоящему делу есть результат не совсем
осторожного знакомства с людьми, подобными Пегову,
о каковом знакомстве, вероятно, немало сожалел в
последние годы и сам Поливанов.
Отметив сдержанность и скромное поведение
Поливанова на суде, а также и простоту, с которой он
поддерживал на суде свои объяснения, данные на
предварительном следствии, господин обвинитель тем не
менее полагал, что сообщество с дурными людьми
бросает на Поливанова некоторую тень и поддерживал
против него обвинение в том, что он принял и учел за
25 рублей вексель Пегова в 4 тысячи рублей,
подписанный им, Пеговым, по доверенности отца, зная, что тот
не писал такой доверенности. Ссылаясь на показание
Жардецких и Абрамова, господин товарищ прокурора
считал доказанным это заявление, не утверждая, однако,
чтобы Поливанов имел какую-нибудь выгоду при учете
векселя за 25 рублей.
Рассмотрев затем обвинение против Пегова в
ограблении повара Васильева и похищении сумки с 50
тысячами рублей, обвинитель пришел к заключению, что
Пегов последним делом завершил свое нравственное
падение. «Молод он, — сказал обвинитель, — но старо в
248
нем преступное направление, стара в нем опытность,
перед ним теперь только одна дорога!» В
обстоятельствах дела обвинитель не усмотрел ни одного мотива
не только для оправдания подсудимого, но и для
оказания ему снисхождения. «Только ваш строгий
приговор— заключил он, — может что-нибудь сделать для
Пегова».
После пеговских дел обвинение перешло к делам
«арестантской группы».
Дела эти возникли и развивались в стенах
Московского тюремного замка и являются типичным
продуктом «старой русской тюрьмы», давно уже осужденной в
законодательных сферах и ждущей со дня на день
реформы. Я, как представитель обвинительной власти, в
интересах истины должен заявить, что за высокими
стенами тюремного замка совершается много такого, чего
нельзя было бы ожидать. Какие можно придумать
преграды, которые бы не пали под давлением сильной воли и
неудержимых страстей! В тюрьме существует совершенно
особый, своеобразный мир, вполне отделенный' от мира
общественного. В этом мире, отделенном высокой
оградой от всего остального мира, весьма легко и удобно
составляются преступные сообщества, о которых так
много и так красноречиво рассказывал Щукин.
Излагая первое дело из «арестантской группы» —
дело о векселях Пятово — и поддерживая обвинение
против Верещагина, Плеханова, Голумбиевского и Змие-
вой, господин обвинитель, между прочим, остановился
на оговоре первыми двумя в написании текста векселя
сосланного в Сибирь Лонцкого: этот оговор он объяснил
желанием подсудимых бросить тень на
беспристрастность судебного следователя и прокурорского' надзора.
Затем господин прокурор приступил к обвинению по
так называемому «банковскому» делу. Прежде всего
он остановился на «роковой борьбе», происходившей на
суде между Неофитовым и Щукиным. Не беря на себя
разрешение этого спора, господин обвинитель
предоставил его всецело судейскому разумению присяжных
заседателей, ограничившись представлением некоторых
доводов. Объяснения Неофитова он находил,
безусловно, несправедливыми; что же касается рассказа
Щукина, то в нем, по мнению обвинителя, было больше
искренности, чем во всех подсудимых, вместе взятых. Не
будь показания Муравлева и некоторых других данных,
господин товарищ прокурора отказался бы вовсе от
обвинения Щукина. Судьбу Щукиной обвинитель также
249
всецело предоставил усмотрению присяжных. Против
всех других подсудимых — Неофитова, Огонь-Доганов-
ского и Верещагина — господин товарищ прокурора
поддерживал энергично обвинение в сбыте банковских
билетов. Относительно Верещагина он, между прочим,
заметил, что если признать справедливыми его
объяснения на суде, то все же виновность его представляется
доказанной: он сбывал билеты судебному следователю
для облегчения своей участи, т. е. ради личного
интереса и [уже] поэтому подлежит ответственности^
После краткого обвинения по делу о краже у Яфа,
направленного против Голумбиевского — Бобка и
Чистякова, обвиняемого в укрывательстве этой кражи,
господин обвинитель перешел к обвинению Огонь-Доганов-
ского и Долгорукова в мошенническом обмане 20 лиц.
Признавая участие Долгорукова второстепенным,
господин обвинитель с особенной силой остановился на
обвинении Огонь-Догановского, находя в его действиях
признаки высшей преступности и испорченности.
Наконец, господин обвинитель изложил обвинение
по артемьевскому делу (кража и обман) против Николая
Калустова, Дмитриева-Мамонова, Соколовой и Засецко-
го. Обвинитель в особенности отметил бьющее в глаза
ухарство, с которым Калустов давал свои объяснения
на суде. Сопоставив простые, чистосердечные
показания Артемьева с объяснениями подсудимых,
обвинитель указал на полную несостоятельность последних.
Назвав поступки обвиняемых одним из возмутительных
разоблачений человеческой природы, свое обвинение
господин обвинитель заключил так:
Засыпкин в своем объяснении сказал, что знал
Дмитриева-Мамонова, когда тот служил в гусарах, именно
в то время, когда он имел доступ в лучшее общество.
Мамонов, по словам Засыпкина, воспитанный в
привычках прежней барской жизни, подобно большинству
нашей молодежи, неспособен был к труду и жил свыше
своих средств. Этот отзыв бросает некоторый свет на
настоящее дело... Но пало крепостное право- так пусть падут
также и порожденные им исчадия!
Речь господина обвинителя дошла до разбора
преступлений, учиненных в 1874 году. Но прежде чем
перейти к этим делам, господин обвинитель уделил
несколько слов на обвинение Протопопова и Массари
в подделке векселей от имени Ивашкиной и на дело
о растрате Дмитриевым-Мамоновым 125 рублей,
принадлежавших Калустову. Относительно первого дела
250
обвинитель обратил особенное внимание присяжных
на то, что Ивашкина, от имени которой были подделаны
векселя, попечительница детей Протопопова и
единственная их опора и защита.
Что же касается второго дела, то оно в настоящем
процессе играет роль небольшого вставного эпизода,
весьма характерного для личности Дмитриева-Мамонова.
Он на суде несколько раз выражал недоумение, что
против него возбуждено обвинение в растрате денег Калу-
стова, который не заявляет никакой претензии
относительно этих денег и не считает себя потерпевшим лицом.
Но напрасно Дмитриев-Мамонов так настойчиво выстав-
,1яет эту сторону дела: дела о растрате рассматриваются
и преследуются помимо частной жалобы. Характерно же
го, что деньги эти Калустов дал Мамонову для
вознаграждения Артемьева, которого они вместе за несколько
времени до того обокрали; казалось бы, что эти 125
рублей должны были жечь руки Мамонову, но на деле
ничего подобного не заметно: он, напротив, спешит
истратить их на свои собственные развлечения.
...Выдающимся из деяний, совершенных в 1874 году,
должно считать обман Логинова. Обман этот получил
свое осуществление под гостеприимной сенью гостиницы
«Россия», что на Маросейке.
Обвинитель заявил, что он не может обвинение по
этому делу поддерживать в той форме, в какой оно
занесено в обвинительный акт.
Как известно, лица, причастные к этому обману, по
обвинительному акту обвиняются в совершении его
составленной для того шайкой, но на судебном следствии
предположение о шайке не подтвердилось, и потому в этом
виде обвинение отпадает. От этого, конечно, не
изменяется существо обмана, жертвой коего стал Логинов.
Из данных судебного следствия вытекает лишь тот вывод,
что окружавшая Дмитриева-Мамонова обстановка и
приближенные к нему лица составляли, так сказать, летучую
мошенническую компанию. Декорации, которыми
располагал номер Дмитриева-Мамонова, не были постоянными
украшениями, а пускались в дело в случае надобности,
какая почувствовалась, например, для заключения
договора с Логиновым о доставке несметного количества
винных этикеток для произведений несуществующего
винокуренного завода мнимого графа
Дмитриева-Мамонова. Дмитриев-Мамонов отрицает, что он принимал
активное участие в этой сделке. С ним можно в этом
согласиться, он действительно составлял лишь принадлеж-
251
ность мошеннической конторы, но это нимало не
избавляет его от ответственности: он знал, для чего его
сподвижники употребляли его имя, и принимал в их
проделках в таком виде вполне сознательное участие.
Неопровержимым доказательством последнего служит
представленное в суде Барбеем письмо к нему Дмитриева-Мамрно-
ва, в котором говорится тоном богатого и сановного
человека об имеющих последовать от него заказах
сельскохозяйственных машин. Участие Смирнова в
настоящем деле выясняется показанием пострадавшего
Логинова: в богатстве и аккуратности Дмитриева-Мамонова
уверял его не кто иной, как сам Смирнов.
Затем господин товарищ прокурора перешел к делу
Каулина.
Ввиду сознания подсудимых на предварительном
следствии об этом деле нечего было бы много говорить,
если бы на суде Верещагин и Плеханов не пытались
вынести всю тяжесть этого обвинения на своих
многострадальных плечах. Обвиняемый Протопопов и тут не
преминул указать на отсутствие потерпевших от преступления
лиц, как будто от преступлений должен страдать только
карман частных лиц, а интересы общества,
нравственности, закона не должны иметь при этом никакого
значения. В настоящем деле в числе привлеченных к
ответственности фигурирует Андреев, который, по-видимому,
чувствует себя гораздо более оскорбленным тем, что
в обвинительном акте он назван странствующим
антрепренером Аверино, нежели всеми позорными
преступлениями, в которых он обвиняется. Дело Каулина дает
основание думать, что высказанные Андреевым в
найденном у него прошении на имя петербургского
прокурора признания в том, что он поставил себе целью
испытать не открытые полицией и прокурорским надзором
лазеи нового порядка судопроизводства, и в том, что он
на этом таинственном пути в течение двух лет совершил
около 85 преступлений,— что эти признания заключают
в себе долю правды. Восьмидесяти пяти преступлений он,
вероятно, не совершил, но некоторая доля этого количества
лежит на его совести.
Сказав несколько слов по делу об отправлении
через транспортные конторы пустых сундуков,
обвинитель перешел к подложным векселям от имени князя
Голицына.
При определении степени виновности многих лиц,
привлеченных по этому делу, нельзя не остановиться
252
на том оправдании, которое приводит в свою пользу
подсудимый Протопопов. Он говорит, что сама следственная
власть заставила его добывать себе незаконными путями
средства к жизни. Выпущенный из-под ареста, он должен
был проживать по реверсу, выданному ему
следователем; а с этим видом на жительство он будто бы нигде не
мог найти себе приюта; при этом Протопопов выражал
удивление, почему следователь нашел нужным применить
к нему самую строгую меру пресечения способа
уклоняться от следствия и почему он не мог довольствоваться
для этого полицейским надзором. По этому поводу следует
категорически сказать, что полицейский надзор в
подобных случаях не имеет никакого значения и фактически
сводится к нулю. Что же касается путей и средств,
которые оставались еще Протопопову для честной жизни, то
лучше было идти на поденную работу, бить камни или
чинить мостовую, нежели достав ть при помощи
подложных векселей 9 тысяч рублей, из коих 900
рублей тут же были употреблены на покупку мягкой
мебели.
Поддерживая далее обвинение против Дружинина
и Никитина, господин товарищ прокурора почти
отказался поддерживать обвинение против г-жи
Шпейер.
Виновность ее в настоящем деле чисто формальная,
но нравственная сторона говорит вполне в ее пользу;
она действительно стала жертвой несчастного стечения
обстоятельств на эту сторону, конечно, будет в свое
время указано присяжным защитой.
Рассказав в кратких словах остальные обвинения,
господин товарищ прокурора повторил высказанный им
еще на судебном следствии отказ от обвинения
Долгорукова в обмане Гарниш. После этого оставалось еще
разобрать обвинение в кощунстве.
На суде это дело появилось в довольно бледном
цвете, вследствие отсутствия души этого дела — Шпейера.
Кощунское подражание скорбному таинству смерти тем
не менее вполне доказано. Если подсудимые хотят
выдавать это за шалость, то это само указывает на кощун-
ский характер их поступка. Совершили они его из
молодечества, чтобы показать, что нам, мол, все нипочем, все
гойдет безнаказанно. Но это поведение должны
заклеймить своим обвинительным приговором присяжные, дабы
и другим неповадно было так делать. При этом
присяжным нечего стесняться тем, что это деяние совершено
подсудимыми в состоянии опьянения; закон наш иреду-
253
сматривает такие случаи, и под эту статью и подведено
в обвинительном акте настоящее преступление.
За рассмотрением всех отдельных обвинений
господин обвинитель приступил к обвинению в составлении
некоторыми из подсудимых в разное время трех
злонамеренных шаек.
Против этого обвинения уже на судебном следствии
раздавались со стороны подсудимых и их защитников
неоднократные протесты. В этих протестах кроется
простое недоразумение. Недоразумение это происходит
вследствие смещения понятия о шайке нашего уголовного
закона с фантастическим представлением о каком-то
«Клубе червонных валетов»; но, как уже было сказано,
это романическое название не имеет ничего общего
с простым понятием о русской шайке. По понятию нашего
законодательства, шайкой называется такое
злонамеренное сообщество, состоящее из нескольких лиц, не менее
трех, которые уговаривались между собой на совершение
преступлений. При этом надо различать два вида шайки.
Периыи — когда лица условливаются на совершение
одного только преступления, но условливаются об этом таким
образом, что роль каждого из участников определяется
наперед; тут существует также соразмерное распределение
добычи. Другой вид шайки, предусматриваемый нашим
уложением, тот, где лица условливаются не на
совершение какого-либо определенного преступления, а просто
на совершение преступлений; здесь достаточно, чтобы эти
условленные преступления были определены только в роде,
например, против собственности, и не требуется никакой
определенной заранее организации. В составлении
последнего рода шаек обвиняются некоторые из подсудимых
за различные периоды времени. Что эти лица твердо
решили между собой опустошать чужие карманы, в этом
не может быть никакого сомнения. Что эти
преступления совершались по общему и предварительному
соглашению, в этом можно убедиться по отношению к первой
шайке, например по письму Протопопова к Шпейеру,
где говорится о Калустове. О нем говорится, что хотя он
человек и неумный, но работник хороший; если он не
особенно проницателен, то зато человек исполнительный.
Смысл этих слов только один, и именно тот, который
видит в них обвинение. Не может также подлежать
сомнению, что лица, обвиняемые по делам о векселях
Ивашкиной, Каулина и Голицына, об отправлении пустых
сундуков через транспортную контору, по делам об обмане
254
Наджарова и Логинова, уговорились между собой жить
подлогами и мошенничествами. Что же касается третьей
шайки, составившейся в 1874 году в тюрьме с целью
подделывать банковые билеты, то о ней перед присяжными
с неподдельным красноречием распространялся на суде
подсудимый Щукин.
...Немного остается говорить обвинению. Смею думать,
что, насколько хватило сил и было возможно, задача его
исполнена. Доказано совершение всех преступлений,
составляющих предмет дела, доказана виновность тех,
которые их совершили, доказана и настоятельная,
неопровержимая необходимость того, что виновные, все без
изъятия, каждый по мере содеянного, были осуждены
возмущенной общественной совестью. Моя задача
исполнена — скоро наступит время исполнения вашей,
скоро, как только смолкнет сейчас имеющий раздаться
гул красноречивых речей моих уважаемых противников.
И вот когда в вашей совещательной комнате пробьет
час подсудимых и будет решаться их участь, вместе
с участью всех тех великих истин, которые ими попраны,
оскорблены и нарушены, в последнюю решительную
минуту, когда ваши совещания будут приближаться к концу,
вспомните мою последнюю просьбу, обращенную к вам.
Перед тем как рука вашего старшины станет писать на
вопросном листе роковые ответы, окиньте еще раз
мысленным взором картину всего того, что в этой зале прошло
перед вами, того, что вы узнали о преступлениях
подсудимых, отданных вам на суд. Непривлекательной,
мрачной и возмутительной предстанет перед вами нравственная
ее сторона. Чего не увидите вы в ней! Забвение всех
правил совести и чести, безвозмездная потеря способности
краснеть перед тем, что дурно и постыдно, сознательная
и спокойная бесчестность везде и во всем, торг всем, чем
можно торговать с какой-либо выгодой, холодный и
презрительный цинизм в самых безнравственных поступках,
расчетливая, твердая решимость идти по всяким темным
путям, ко всякой темной цели, готовность при всяком
удобном случае отнять у ближнего что можно, а бедняка
хоть пустить по миру, тонкий ум, изобретательность
неисчерпаемая, ловкость на все преступное или же
бессилие и безучастность на все хорошее, извращение всех
нормальных человеческих стремлений и глубоко
испорченное воображение в довольстве жизни самого дикого
разгула и самой грубой чувственности, мелкое тщеславие
и безумная, не знающая пределов дерзость перед тем, что
скрыто в беде и скудности, малодушное предательство
255
товарищей и трусость, и под страшной цепью этих
страшных свойств, поставляющих владычество одной могучей,
всеобъемлющей корысти, жажда денег и наслаждения
низкого разбора. Горько и безотрадно это зрелище
поклонения золотому тельцу, вид людей, всю жизнь свою
распростертых во прахе перед ним, все для него
оставивших, все отвергнувших и забывших. Негде в этой картине
остановиться мысли, тщетно ловящей хоть проблеск света,
не на чем отдохнуть возмущенному и негодующему
чувству — все безутешно и сухо, и для добра — все глухо
и мертво. Но не останавливайтесь, милостивые государи,
исключительно на этой ужасающей в своей наготе и
ясности нравственной стороне дела, не сосредоточивайте
только на ней ваших суждений, не кладите ее одну в
основание вашего приговора, не делайте этого потому, что
иногда в вашем суждении чувство возьмет перевес над
рассудком, человек заслонит собой судью — и вы не будете
уже в ограниченной области судебной истины. Пусть перед
вами с решающей и первенствующей силой предстанет
другая, главная сторона выслушанного вами дела —
сторона фактическая, законная сторона, где господствует
мрачная истина и простой здравый смысл, где выводы так
ясны и просты, как вывод о том, что дважды два
составляет четыре. Неутешительна для подсудимых и эта
сторона, немного надежды дает она им. Они легко
укладываются в числовые, почти статистические данные, в цифры,
слагающиеся из фактов, неутешных в своей страшной
наглядности. Их нельзя ни закрыть, ни сдвинуть с места, ни
смягчить их жестокой души. Обвиняя всех подсудимых,
кроме особо уваженных и исключенных, признавая их
всех неразрывно и тесно связанными между собой, я
считаю нелишним заключить свое изложение небольшой
молчаливой аргументацией цифр, маленькой картиной чисел,
тщательно и осторожно извлеченных мной из дела. Мне
кажется, что гармония, которую они представляют, не
будет лишена поучительности. Я тем более имею право
привести эти данные потому, что сами подсудимые в
течение всего судебного следствия усердно действовали на
таком же пути. Они забросали нас числами, цифрами,
суммами, они вводили нас в целый лес своих бесконечных
взаимных долгов и расчетов, они приглашали нас
погрузиться в самую глубину того, кто кому должен, сколько
должен и почему задолжал, и у кого какие с кем были
темные денежные дела, и кому сколько, с кого и за что
приходится получить, кто с кого и за что именно требовал,
и дал ли тот или не дал, зачел или вычел, на что именно
256
Заседание Московского окружного суда по делу о «Клубе червонных
валетов». Скамья подсудимых.
нужны были деньги и куда они употреблены, и что
осталось еще неоплаченным и какие из этого возникли
взаимные отношения: дружба и преданность или раздоры,
ненависть, вражда. Вы внимательно слушали эту огромную
массу денежных и личных счетов, которыми были
исполнены объяснения подсудимых в свое оправдание,
выслушайте теперь снисходительно и небольшой, хотя, может
быть, и выразительный, последний расчет и обвинения.
Ксли к колоссальному делу, нами исследованному, мы
применим бесхитростное арифметическое счисление и при
ггом счислении условимся, как это требует и уголовный
закон, каждый подложно составленный документ, каждый
обман, совершенный над одним лицом, считать за
отдельный подлог, отдельное мошенничество и условимся, кроме
того, к потерпевшим причислять всех тех, доброе имя
которых было затронуто подлогами от их имени, а
обобранными будем считать только тех, которые действительно
тяжко пострадали в материальном отношении, мы увидим,
что на последней, конечной странице общественного
поприща соединенных вместе подсудимых написано:
подложных векселей — 23, переделанных банковых
билетов — 4, разных подложных казенных нотариальных
бумаг — 4, итого всего подлогов — 31. Обманов, мошен-
() Заказ №571
257
ничеств на сумму более 300 рублей — 15, мошенничество
на сумму не менее 300 рублей — 14, вовлечений
посредством обмана в. невыгодные сделки — 13, итого всех
мошенничеств — 42, из них обманов с особыми
приготовлениями, т. е. со сложной мошеннической обстановкой,—
22. Краж — 4, из них с подобранными ключами — 1 (на
сумму 50 тысяч рублей серебром), с наведением
похитителей на дом своего хозяина — 1, растрата — 1, грабеж —
1, кощунство — 1, шаек, составленных для краж, подлогов
и обманов,— 4 и в заключение одно убийство.
Преступления направлены против собственности — все, кроме
трех — оскорбления должностного" лица, кощунства и
убийства.
Всех потерпевших, не считая в этом числе нескольких
подсудимых,— 59. Из них обобранных, частью в своем
избытке и частью в своем последнем достоянии,—49
человек. Таков короткий и простой расчет, который обвинение
составило и представляет вам на основании 9-летней
деятельности подсудимых. По этому исследованному
расчету именем закона и правосудия я приглашаю их
к расплате перед вашим справедливым судом.
Речь присяжного поверенного Ф. Н. Плевако
в защиту Мазурина
Я не хочу, да и не должен, господа присяжные,
злоупотреблять вашим терпением. Не из-за вас, о нет,—
недели труда неустанного, недели внимания неослабного
доказали, что вы сил не жалеете, когда это нужно для
общего блага; я должен поступиться моим правом вот для
этих десятков людей, среди которых много виновных,
но много и невинных, много "таких, над которыми тяготеют
несчастно сложившиеся улики и не пускают их к свободе
и счастью, много и таких, чье прошлое темно, от чьих
дел отталкивает, но которые ждали и хотят вашего суда,
хотят вам сказать, что и в них не погибло все
человеческое, что и к ним не следует относиться безучастно, что
и их не надо судить холодно, жестоко и бессердечно.
Защищаемый мной А. Мазурин не должен
претендовать на это: с трибуны обвинения, откуда подсудимые
привыкли слышать слово, от которого леденеет кровь
в их жилах, слово, от которого умирает надежда увидеть
дом и семью и когда-нибудь встретить светлое утро
свободного дня свободным человеком, с этой трибуны
Мазурин услыхал другое слово — животворящее, воскре-
258
шающее. Как звуки порванных цепей узника, как слово
дружбы и любви оно в его душе: ему верят, что он
невиновен, ему верят, что руки его не совершали бесчестного
дела, ему возвращают незапятнанное имя, это счастье,
ценность которого люди постигают только тогда, когда
им грозят отнять его, разорвать, смять, погрести под
тяжестью общественного приговора.
Защита счастлива, что ей не приходится вести борьбы
с обвинением, не приходится ставить подсудимого в
томительное ожидание того, кто из борцов одержит верх в
вашем решительном ответе, что обвинитель уже сказал то
самое по убеждению, что я должен был говорить прежде
всего по долгу.
Благодарно, со страстью выслушали мы это слово,
изумляясь тому, что ни масса данных, ни гигантские
размеры задачи не увлекли обвинения и оно ни разу не
сбросило в одну общую массу виновных и
оправдавшихся и не закрыло глаз от того, что разбивало
первоначальные взгляды, ясно и внятно говоря
непредубежденному уму о необходимости уступок в интересе правды.
В числе оправдавшихся бесспорно первое место
принадлежит Мазурину. Он более чем невиновен, он —
лакомая жертва в руках тех, кто, подобно древней
распущенной римской черни, за хлеб и наслаждение поступаются
всеми правами и обязанностями, поступаются тем легче,
что они приносят в жертву не свои, а чужие права, не
свои, а чужие карманы.
Мне не нужно перечислять перед вами всех
обстоятельств дела, чтобы убедить в этом. Дайте себе отчет:
человек, одаренный счастливой судьбой, весьма
значительным состоянием, до сих пор сохранившимся, имел ли он
надобность поступать в общество, промышляющее
обманами, чтобы добыть себе рубль на наслаждения; могли
ли те, с кем его мешают, принять его в долю, когда он
сам, как богатый юноша, мог быть только целью их на-
падков?
От свидетелей вы знаете, что он не дисконтер, что
он, учитывая векселя Попову, учитывал лишь по приязни,
не скидывая ни рубля.
Вы знаете от Петрова, что едва Мазурин узнал, что
Шпейер обманом выманил у Еремеева вексель, как он
уничтожил вексель и даже не искал вперед данных 2500
рублей.
Вы знаете, что перед выдачей Мазурину векселя для
того, чтобы его убедить в богатстве Еремеева, от
последнего взяли на имя Мазурина доверенность на управление
259
домом, а Петров (поверенный от Еремеева) показал, что
никакого дома, который бы находился в личной
собственности Еремеева, вовсе не было. Очевидно, обман был
направлен не против Еремеева, а против Мазурина;
средство было пущено то же, какое уже не раз всплывало.на
свет в этом деле: доверенностью обманывали того, кому ее
вручали.
Конечно, будь все эти данные в руках обвинителя,
едва ли бы он привлек подсудимого. Но я не виню, не
осуждаю его. Предприняв геркулесову работу —
перечитать десятки тысяч листов, описывающих десятки лет
распущенной жизни, по меньшей мере распущенной юности,
и не встретя на пути ни одного светлого лица, ни одного
светлого факта, обвинитель поддался чувству
брезгливости. Подвалы культурного мира, зараженные пороком,
куда ему пришлось спуститься, раздражали чувство.
Под этим общим впечатлением, под этой общей
антипатией к среде, с которой пришлось столкнуться нравственно
развитой личности блюстителя закона, в нем притупилась
критическая способность, способность анализа отдельных
явлений: все лица, все вещи казались грязными, хотя
между ними попадалась завлеченная случайно, заманенная
обманом личность другого мира и другого склада. Так
в притоне разврата силой захваченная честная женщина
краснеет от стыда при входе постороннего человека, а он
считает этот румянец непорочности за средство
обольщения блудницы.
Под этим-то общим негодующим чувством создалось
грандиозное обвинение, где на каждом шагу было
заметно, как моралист, оскорбленный распущенностью
наблюдаемой и изучаемой им среды, оставлял назади
спокойного юриста, сравнивающего подлежащие его
ведению факты с мерой свободы и запрета, начертанными
в законе. Вторичное рассмотрение здесь, на суде, убедило
обвинителя в излишестве его требований: он отступил.
Задача защиты и ваша идти далее и еще поискать в
этом деле ошибок и возвратить дело на строго законную
почву.
Мазурину же, а через него и всему обществу да
послужит его привлечение уроком. Мало быть честным
человеком в сознании своей совести; нет, надо заботиться, чтобы
в наш дом, в наш круг не взошли люди недостойного
образа жизни, и сближением с ними не надо вводить в
соблазн и в сомнение карающее общественное мнение и
представителей Закона. Вот она какова,
неразборчивость связей. Шесть лет, как привлечен Мазурин к делу,
260
и шесть лет будущее было для него загадкой. Ни одной
ночи, ни одной зари пробуждающегося дня не покидала
тяжелая мысль о страшном судном дне душу молодого
человека, отравляя счастье, усугубляя горе обыденной жизни.
Пора положить конец! Мазурин ждет вашего слова,
вашего разрешающего слова, как возмездия за отравленную
жизнь и за безвозвратно погибшую юность!
Речь присяжного поверенного
В. М. Пржевальского
в защиту Либермана
Господа присяжные! Большие уголовные дела имеют
нередко свои большие недостатки. Ввиду
незначительной доли участия, которая отведена по обвинительному
акту в настоящем деле подсудимому, мною
защищаемому, почетному гражданину Эрнесту Либерману, а также
и значительного количества времени, потраченного на
слушание настоящего дела, я не стану, конечно, входить
в подробное рассмотрение всех этих недостатков, но не
могу не остановиться на тех выдающихся чертах
настоящего процесса, на той его постановке, которая, по
моему мнению, имела несомненное влияние и объясняет
появление многих лиц, судящихся по настоящему делу, и
в том числе Эрнеста Либермана, на скамье подсудимых.
Каждый, кто припомнит возникновение
рассматриваемого ныне дела и потом взглянет на его настоящее
положение, не может не поразиться ничтожностью его
начала в сравнении с громадностью его конца. Хотя
обвинительный акт и захватывает 9-летнее расстояние времени,
к которому относятся излагаемые в нем дела, но дело,
послужившее краеугольным камнем всех обвинений, та
искра, от которой вспыхнул пожар,— было так
называемое .поповское дело. Кто бы мог подумать, что та сделка,
которая 9 ноября 1871 года была заключена между
Протопоповым и Поповым о покупке первым у
последнего лошадей, станет поводом небывалого при новом
судебном порядке уголовного следствия, воскресившего
перед нами многолетние следствия блаженной памяти
старых времен и старых судов! Мог ли предполагать
отставной поручик Николай Ардальонов Попов, подавая 22
ноября того же года прокурору Московского окружного
суда свою жалобу, что этой жалобе суждено сделаться
основой дела, приобретшего в настоящее время такую
громкую и вместе такую печальную известность? Малень-
261
кое, едва видимое сначала на горизонте облачко
превратилось в грозную тучу; из ничтожного, едва заметного
семечка выросло гигантское растение. Подобно тому, как
в горных странах катящаяся с гор снеговая глыба с
каждым шагом растет все более и более, захватывая
на своем пути без разбора все ей встречающееся — и
людей, и животных, и деревья, и строения,— так
возбужденное по жалобе Попова уголовное следствие в течение
многолетнего своего производства захватывало
попадавшихся ему случайно на пути массу дел и массу лиц, пока
наконец не превратилось в одно чудовищное,
бесформенное следственное производство под общим
собирательным именем «дела о „Клубе червонных валетов"».
Уголовное следствие приняло чудовищные размеры:
вместо одного обвинения и двух-трех обвиняемых их
появились десятки; время производства следствия стало
нужным определять уже не днями и месяцами, а годами;
листы предварительного следствия считать не десятками,
не сотнями и даже не тысячами, а десятками тысяч.
Казалось, алчность обвинения возрастала по мере того,
как увеличивались размеры следствия, дававшего
обвинителю все новую и новую пищу. Материалы обвинения
накоплялись в ужасающем обилии, и сила обвинения
увеличивалась с каждым шагом. Но в этой его силе
вместе с тем кроется и источник его слабости.
В этой массе, которая лежит перед вами как
результат многолетней работы нескольких следователей,
трудно найти между большинством дел какую-либо
органическую связь, здесь ряд бессвязно нагроможденных
друг на друга дел, и нет положительно возможности
разобрать и определить их взаимное отношение друг к
другу. Каждый слушавший со вниманием судебное
следствие невольно задается вопросом: почему все эти дела
соединены между собой? И не может найти никакого
более или менее разумного объяснения, кроме желания
искусственно создать большое, выдающееся из ряда
обыкновенных уголовное дело. Несмотря на все старания
обвинителя искусным образом указать на связь всех этих
дел между- собой, речь его нисколько не разрешала
возникающих по этому поводу недоумений. Обвинитель
указал нам на законы о совокупности преступлений и
соучастии преступников, защита знает эти законы, но
никак не может из них вывести того заключения, чтобы
можно было по нескольку лет оставлять без движения
дела, следствие по которым вполне окончено. Мы весьма
нередко слышим, как откладывают приведение приго-
262
воров в исполнение о подсудимом ввиду других
возводимых на него обвинений, по которым еще
производится о нем уголовное следствие, но не отлагают суда
над ним в ожидании конца производящих дел. Живой
пример налицо в подсудимом Бреще, судившемся, как
известно, в ноябре прошедшего года, и тем не менее дело
о нем не было присоединено или отложено для
совместного слушания с настоящим делом. Сам обвинитель
говорил, что не все обвиняемые по настоящему делу
преданы суду и что дела о них отделены для того, чтобы
не замедлить ход правосудия. Если это можно было
сделать теперь, то почему же, спрашивается, нельзя было
сделать того же самого 4, 5 лет раньше? Да наконец,
зачем нужно было ряд дел, не имеющих между собой
положительно никакой связи, соединять в один
обвинительный акт? Совокупность преступлений и соучастие в
них определяются связью лиц и фактов; но ни того, ни
другого между большинством разбираемых ныне дел не
существует, не говоря уже о том, что из числа
подсудимых более трети обвиняются только в совершении
какого-либо одного преступления, что общего может быть
между Эрнестом Либерманом и рязанским купцом Фир-
совым? Между Башкировой и Эрганьянцем? Или между
Мазуриным и Верещагиным? Самым наглядным
образом отсутствие всякой связи между большинством
подсудимых выразилось в том, что многие из них впервые
имели случай даже увидеться и познакомиться друг с
другом на судебном заседании в Московском окружном
суде, несмотря на то что они обвиняются по одному и
тому же обвинительному акту. Нет, господа присяжное,
не по соучастию лиц соединены все эти дела между
собой, но тут было нечто иное. Рассматривая эти дела
отдельно, большинство из них прошло бы, по всей
вероятности, незамеченным, а в общей связи и будучи
приурочены к нескольким выдающимся из ряда
обыкновенных дел, они действительно подавляют своим
количеством, особенно если принять еще во внимание то
громкое имя, которым, собственно, по большей части они и
связаны только между собой. Возьмем для примера дело
об убийстве Славышенского в 1871 году. Имена
Башкировой и Дарьи Никифоровой встречаются единственно в
этом д^ле, и более ни в одном, а соединено это дело с
другими делами для того, чтобы, по собственному вьь
ражению обвинителя, кровавым блеском этого дела
озарить всю скамью подсудимых, да разве еще потому, что
следователю и обвинителю явился призрак мнимого под-
263
стрекателя к убийству Славышенского в лице
подсудимого Ивана Давыдовского. Подсудимый Николай Калус-
тов, являющийся по обвинительному акту весьма
оригинальным образом в трех видах — как обвиняемый, как
свидетель и как потерпевший, встречается, за
исключением совершенно отдельного дела о кощунстве, лишь в
одном деле о краже денег у Артемьева, а присоединено
это дело к другим потому, что нужно было Калустова
ввести в какую-то небывалую шайку для кражи,
мошенничеств, шайку, в которой кража совершается в секрете
от главы этой шайки Шпейера и затем члены шайки
обвиняются в краже друг у друга. Здесь же рядом с этой
шайкой мы встречаем совершенно отдельно так
называемое «банковое дело», поучительное по внутреннему
своему содержанию тем, что тюремные арестанты
трудились по заказу следователя над переделкой банковых
билетов, осуществляя в тюремной неволе закон
свободного экономического развития в смысле соответствия
между спросом и предложением, по справедливому
замечанию одного из подсудимых. Далее дело о том, как
помощника квартального надзирателя назвали «пустой
головой», дело о совершении обряда погребения над
живым человеком и многие другие дела. Бог знает
почему и зачем соединенные вместе. Грустным результатом
подобного приема было то, что в настоящее время
проверка фактов стала весьма затруднительной, а иногда
и совсем невозможной, что большинству обвиненных
пришлось быть под судом и следствием в течение пяти
с лишком лет и что многие из них по нескольку лет уже
томятся в тюрьмах, искупив давно таким
многолетним заключением те вины, за которые их только что
теперь собрались судить.. Нельзя также сказать, чтобы не
было правды и в том объяснении некоторых из
подсудимых, которое показалось обвинителю геркулесовыми
столпами их смелости, что подобное долговременное
нахождение их под судом и следствием само становилось
иногда до некоторой степени причиной преступления. В
самом деле, обвиняемый находится год, два, три, пять
лет поД уголовным следствием: то его выпустят, то опять
посадят. Нет ничего хуже, томительней для человека, как
эта неопределенность положения; лучше как-нибудь да
кончить,— а конца не видно. Что делать подсудимому?
Куда пойдет он искать средств к жизни честным трудом;
кто возьмет к себе для занятий человека, состоящего
под уголовным следствием, да еще под каким — по делу
о «Клубе червонных валетов»! Нужно было знать чело-
264
века, чтобы решиться на это; нужно было много верить в
неиспорченность и честность Либермана, например,
чтобы поручить ему заведование кассой в сумме с лишком
300 тысяч рублей. В большинстве случаев каждый может
на просьбу о*каком-либо месте, которое могло бы
доставить ему средства пропитания, заранее рассчитывать
услышать, наверное, только один отказ. Жить чем-нибудь
нужно, а жить нечем; самым законным образом
отрезаны пути к законному образу жизни этой долговременной,
нескончаемой бытностью под судом и следствием.
Положение безысходное, человек бьется как рыба об лед, а
выхода нет; и вот, не успев еще расквитаться за прошлое,
он решается совершить новое преступление.
Согласитесь сами, есть доля горькой правды в таком
объяснении подсудимых. А между тем мы, наверное, не слыхали
бы ничего подобного, если бы дела шли своим порядком
и разбирались по м^ре окончания по ним следствия,
потому что, повторяю опять, связь между большинством из
них такова, что следователь и обвинитель могли бы с
неменьшим правом присоединить к ним половину дел о
кражах и мошенничествах, производящихся в
Московском окружном суде, так как вся связь этих дел между
собой выражается иногда по отношению к следователю
последовательностью номерации страниц и томов дела, а
по отношению к обвинению совместным внесением их
в один и тот же обвинительный акт.
Эта внешняя, материальная сторона настоящего дела
не могла не отразиться и на внутреннем его содержании.
Когда перед нами лежит такая груда материала, то с
ней нелегко бывает справиться. Эта масса поражает
человека, который теряется в ней до известной степени,
перестает быть всегда осторожным, строго разборчивым,
перестает критически относиться к материалу, не может
хладнокровно смотреть на это поражающее количество,
особенно если еще человек работает притом с известной
предвзятой мыслью. Отсюда, с одной стороны, является
преувеличение обвинения, с другой — привлечение в
качестве обвиняемых таких лиц, которым бы никогда не
следовало занимать места на скамье подсудимых. На
таком широком поле, которое представляет собой
данный материал, невольно также разыгрывается
человеческая фантазия: здесь количество несомненным образом
влияет на качество. Все помогает фантазии
обвинителя — как внешняя обстановка, так и внутреннее
содержание. И действительно, весь этот материал,
обставленный пышными декорациями убийства, разных злонаме-
265
ренных шаек и т. п., при блестящем освещении его
эффектной, талантливой речью производит изумительное
впечатление. В особенности первое впечатление
настолько сразу ошеломляет, что нужно немало времени и
усилий, чтобы прийти в себя, отбросить увлечение и пыл
фантазии и призвать на помощь холодную силу
рассудка. Вооружаясь необходимым терпением, оставя
увлечение, нужно войти в этот полуфантастический мир,
созданный обвинительной властью, и посмотреть поближе,
каков он в действительности. Из увлекающегося
зрителя нужно стать строгим исследователем и
беспристрастным судьей. Многое тогда изменится: то, что прежде
казалось в этой пышной обстановке, в этих блестящих
декорациях чем-то необыкновенным, поразительным,
окажется самым простым, обыкновенным материалом. Эти
великолепные, видимые нами на сцене волнующиеся моря
окажутся колеблющимся куском простого холста, громы
и молнии — ударами железного листа и вспышками
щепотки пороха, роскошные леса превратятся в
размалеванное дерево и полотно, блестящие цветы — в простую
разноцветную бумагу. Вся наша иллюзия исчезнет; но
насколько пропадет сила иллюзии, настолько от этого
выиграет сила правды. Дело столь раздутое, изукрашенное
обвинительной властью, снимется с пьедестала и
снизойдет на подобающий ему уровень. Тогда окажется, что
обвинение очень часто сшито белыми нитками, что связь
между делами по большей части искусственная, что
большинство привлеченных к делу лиц ничем не
отличается от тех заурядных личностей, которые так часто
встречаются на скамье подсудимых, и что многие из них вовсе
не по плечу тому громкому имени, которое упрочил за
ними в обществе обвинительный акт. Не ограничиваясь
этим и идя далее, мы встретим на этой сцене зла и
преступлений, где разыгрываются дурные страсти и
совершаются порочные дела, таких лиц, которых мы
поспешим схватить за руку и скорее, скорее увести с этой
позорной сцены, потому что там не их место. За что
выведены на эту сцену Екатерина Шпейер, Марья Петровна
Байкова, зачем находятся там Алексей Мазурин, зачем
Эрнест Либерман и некоторые другие? Только
увлечением обвинителя и неразборчивостью в громадной массе
материала я и могу объяснить себе привлечение их в
качестве обвиняемых по настоящему делу, потому что
никакого фактического основания к тому найти в
обстоятельствах дела невозможно.
266
Но, господа присяжные, чем блестяще представление,
тем больше действующих лиц и разнообразнее роли;
пышности декораций и величине сцены должно, конечно,
соответствовать богатство действия и количество
действующих лиц. И в этом отношении настоящее дело
представляет замечательное богатство и разнообразие.
Глядя на этих подсудимых, которые сидят перед вами,
можно сказать: какая смесь племен, наречий, состояний!
По национальностям здесь и русские, и немцы, и поляки,
и евреи, и армяне. По происхождению и роду
деятельности: потомок Рюрика, коловратностью людской судьбы
превратившийся в ефремовского мещанина Долгорукова,
помещается вместе с иркутской мещанкой Башкировой,
после крушения у берегов Японии явившейся в
Москву для того, чтобы сесть на скамью подсудимых;
учитель танцев и нотариус окружного суда; «живой
мертвец» вместе с веселой компанией распорядителей его
погребения; лица полноправные и лица, лишенные всех
или всех особенных прав состояния; аристократические
фамилии рядом с неизвестными плебейскими именами —
одним словом, все это разнохарактерное общество,
связанное по воле обвинительной власти в один
искусственный кружок, которое вы видите перед собой ожидающим
от вас решения своей участи. Ни одно большое
представление, однако же, как известно, не совершается через
одних только главных лиц: за главными идут лица
второстепенные, а за ними следуют лица без речей, роли без
слов, почти без действия, которые по временам
появятся на сцене, иногда скажут два-три пустых слова или
большей частью молча постоят, походят, посидят и
уйдут, дополняя лишь собой необходимую обстановку
пьесы. Это те, что в театральных афишах не пишутся
по фамилиям, а означаются обыкновенно под рубрикой
«Гости обоего пола». Эти лица ничтожны в смысле их
деятельности, но тем не менее необходимы для картины
в каждом блестящем представлении. К числу таких лиц
принадлежит и защищаемый мной подсудимый
Эрнест Либерман. Я не могу найти более подходящего
сравнения для определения его деятельности по настоящему
делу. Его именно заставляли играть подобную роль в
этом парадном спектакле, который устроила
обвинительная власть. Дружба с детства с Давыдовскими,
совместное жительство, дружеская услуга, необдуманно
сказанное в приятельской беседе слово — все это
способствовало подозрительности обвинения и помогло тому, что
Либерман в конце концов в качестве обвиняемого при-
267
ютился на страницах настоящего обвинительного акта,
как безмолвный гость блестящей театральной пьесы!
Но кроме искусственности создания большого
уголовного дела и неразборчивости привлечения к суду у
этого дела есть еще один недостаток, на который я хочу
обратить ваше внимание, господа присяжные, и который
может иметь весьма значительное влияние на
правильное отправление правосудия. Есть дела, которые имеют
свою историю прежде, нежели они становятся достоянием
суда; о них судят гораздо ранее того, чем они
сделаются предметом публичного рассмотрения. Такие дела
порождают в обществе подчас весьма оживленные
разговоры; стоустая молва делает их предметом самых
разнообразных толков, и, как обыкновенно бывает, эти толки,
расходясь в обществе все далее и далее по
естественной человеческой слабости, к действительности
прибавляют небылицы, и истина, наконец, до того
перемешивается с вымыслом, что иногда невозможно отличить
первую от последнего. Так было и с настоящим делом. Еще
задолго до того судебного разбирательства, на котором
мы теперь присутствуем, в обществе уже стали ходить
слухи, сначала неясные, а потом все более и более
определенные, о каком-то небывалом до сего времени
грандиозном обществе ловких мошенников с известного рода
правильным устройством и организацией. Следственная
власть в этом случае помогала подобным слухам. Не из
общества, как говорит обвинитель, получило это дело
свое название, но от следственной власти оно перешло
в общество; мы встречаемся с ним уже в первом томе
предварительного следствия, произведенного по настоя:
щему делу. Сама следственная власть ухватилась за
роман и перевела его в действительность: «Парижские
драмы» Пансона дю Террайля были перенесены на
московскую почву, фантастические похождения Рокамболя
получили реальность, облеклись в плоть и кровь. С этих
пор незавидная доля готовилась тому, кто имел несчастье
тем или другим способом быть замешанным в это дело;
личность человека, каков бы он ни был, как скоро он
привлекался к следствию, изглаживалась, исчезала и
уступала место безличному прозвищу «червонного
валета». Слово было сказано. Оно стало с этих пор в
обществе одним из самых ужасных для человеческого
достоинства имен, символом самого отъявленного
мошенничества, самого глубокого нравственного падения.
Достаточно было сказать, что такой-то состоит под следствием
как обвиняемый по делу «червонных валетов», чтобы
268
каждый честный человек поспешил отвернуться от него.
«Червонный валет»— это нравственный пария, существо,
отвергнутое от людского общества, без жалости, без
сострадания осужденное еще прежде суда над ним.
Общество не имело возможности, само собой разумеется,
ни определить положение каждого подсудимого, ни
судить о степени правильности его привлечения к делу, и
многим, случайно, или по несчастью, или даже по ошибке
попавшим в это дело, пришлось безвинно испытывать
на себе всю тяжесть незаслуженного унижения.
Вот почему, господа присяжные, в этом деле более,
чем в каком-либо ином, чувствуется вся мудрость того
закона, который налагает на вас обязанность судить о
деле на основании только того, что вы слышали и видели
здесь, на суде, отбросив всякое стороннее влияние,
всякую извне приходящую мысль. И вас, конечно, не могли
не коснуться ходившие в обществе и печатавшиеся по
этому делу сведения и слухи; человек вообще по природе
своей более консервативен, чем радикален, и иногда
бывает весьма трудно отрешиться от известной мысли или
мнения, раз запавшего в голову. Но вы должны сделать
над собой нравственное усилие, усилие даже, быть
может, немалое, чтобы избавиться от тяготеющих над вами
мыслей по поводу этого дела, с которыми вы пришли на
суд. Спокойно, с совестью, чуждой всякого
предубеждения, отнестись к делу — такова великая задача,
которая предстоит вам. Во имя того святого долга, который
возложен на вас, того высокого права, которое дано вам,
вы должны исполнить эту задачу, помня притом, что, как
бы низко ни пал человек, все же он хотя и падший, но
наш собрат, что если, быть может, и померкла в нем
искра человеческого достоинства, то никогда она не может
совсем погаснуть в человеке. Без злобы и увлечения
судите это дело, и тогда суд ваш станет судом правды в
полном значении этого слова, когда вы без ошибки,
насколько то возможно суду человеческому, отделите правое
от неправого, истину от лжи, и мы с уважением
преклонимся пред вашим приговором, каков бы он ни был.
Тяжелым годом, господа присяжные, был для Эрнеста
Либермана 1871 год; навек неизгладимыми чертами он
отмечен для него. Этот год внес в историю его жизни
печальную и мрачную страницу, которая тянется до сего
времени; на этой странице начертаны: преступление,
уголовное следствие, тюрьма, скамья подсудимых...
Посмотрим же, насколько справедливо, насколько
заслуженно так много горечи и скорби примешали к этой бед-
269
ной, но честной трудовой жизни. Обвинительный акт
приписывает Либерману совершение двух преступлений в
весьма краткий промежуток времени — с половины
августа до половины ноября 1871 года. Как будто из
целого ряда годов вдруг проснулась в Либермане злая воля
и с лихорадочной поспешностью ринулась на совершение
преступлений, чтобы затем опять успокоиться навсегда!
Как будто Либерман нарочно приезжал в Москву для
того, чтобы в течение трех месяцев совершить два
преступления и потом снова вернуться к своей безупречной
жизни! Если собрать все то, что говорится о Либермане
в обвинительном акте, и выразить количественно, то на
его долю из 112 печатных полулистов обвинительного
акта достанется с небольшим двадцать строк. В них
занесены против Либермана два обвинения: в
пособничестве ко взятию безденежных векселей с пьяного
Еремеева и в попустительстве к обману поручика Попова при
продаже им лошадей Протопопову. Начну с последнего
из этих обвинений.
Господа присяжные! Когда обвиняют человека в
каком-либо преступлении, то судья требует прежде всего
фактов, на которых это обвинение основывается. Если
закон и совесть, даже сам факт, возбуждающий
сомнение, велят истолковывать в пользу подсудимого, то тем
более странным для совести судьи является обвинение,
лишенное всяких фактов, которые бы служили ему
доказательством. Таким положительным отсутствием фактов
блистает обвинение Либермана по делу об обмане
Попова. Чувствуя всю шаткость почвы, обвинитель
старается заменить такое отсутствие данных к обвинению
смелостью предположений, выводя их из области фактов, не
имеющих никакой связи с обманом Попова. К числу таких
фактов обвинительная речь относит прежде всего близость
Либермана к Давыдовским и частое посещение Либер-
маном Протопопова. Для объяснения этого
обстоятельства, выставляемого обвинителем уликой преступления,
я считаю нужным обратиться к рассказу самого
подсудимого. Подсудимым, господа присяжные, на суде
позволяют очень много говорить и в то же время
обыкновенно им очень мало верят. Но бывают личности,
которые возбуждают к себе невольную симпатию своей
искренностью и правдивостью, им веришь, где бы они ни
находились: будут ли они среди нас в самом утонченном
светском костюме или же за решеткой подсудимых в
сером арестантском халате. Они внушают к себе доверие
даже там, где им менее всего склонны верить. Такой
270
Коридор Петербургского окружного суда во время заседания. 1871 г.
правдой, глубокой, неподдельной искренностью дышал,
как вы, вероятно, помните, небольшой по словам, но
богатый по содержанию рассказ подсудимого Либермана,
за которым не мог не признать правдивости и
искренности даже сам обвинитель. Из этого рассказа мы узнаем,
что Либерман начал свое знакомство с Давыдовскими
еще во 2-м классе гимназии и здесь он подружился с
ними, в особенности с Петром Давыдовским. Шесть лет
гимназического учения и четыре года
университетского скрепили их дружбу. Кому из нас не известна эта
дружба со школьной скамьи, память о которой свято
хранит в себе каждый человек и с которой бывает жаль
расстаться, потому что такая дружба уже не
приобретается в жизни впоследствии? Эта-то дружба, господа
присяжные, которая заставляет слепо верить в человека,
закрывать глаза на его недостатки, объяснять по-своему
его слабости и дурные дела, та дружба, которая любит
честно, бескорыстно, беззаветно и умеет многое
прощать,— такая-то дружба связала Либермана с
Давыдовскими. По выходе из университета Либерман расстался с
ними, и каждый пошел своей дорогой. Но они
сохранили в себе прежнее чувство и, расставаясь, дали слово
друг другу, в случае приезда в тот город, где будет жить
кто-либо из них, останавливаться один у другого. Ли-
271
берман получил место на каменноугольных копях в
Тульской губернии и уехал туда. В Туле он познакомился с
Протопоповым и даже жил с ним вместе некоторое
время; он знал Протопопова за человека, бывшего богатым,
но затем потерявшего все свое состояние. В самом конце
июля или в начале августа Либерману нужно было
съездить в Москву по своим делам. Приехав в Москву, он,
согласно данному слову, отыскал Давыдовских и
остановился у них. Несчастная звезда его привела в этот дом
Любимова.
Спустя некоторое время явился в Москву и
Протопопов, хорошо знакомый также и с Давыдовскими. По
приезде Протопопов сообщил, что у него умер богатый дед Ко-
ноплин, помещик Тамбовской губернии, и оставил ему
богатое наследство в недвижимых имениях, не оставя,
впрочем, никакого денежного капитала. Никто не
усомнился в справедливости этого рассказа, настолько он
казался правдоподобным; по крайней мере, Либерман
искренне верил в богатое наследство Протопопова, как
верили тому же свидетель Симонов и другие. Вот каким
простым образом, господа присяжные, объясняются как
близкие отношения Либермана с Давыдовскими, так и
посещения им Протопопова. Точено так же, как и
приводимый обвинителем второй факт, служащий, по его
мнению, уликой против Либермана в деле Попова, т. е.
взятие Либерманом двух векселей на свое имя. Весьма
естественно, что Либерман, не имевший в Москве никого
знакомых, кроме двух братьев Давыдовских и
Протопопова, мог часто посещать этого последнего. Весьма
естественно также, что, считая Протопопова богатым
человеком, только временно не имеющим наличных денег,
он не считал преступным оказать как ему, так и
Давыдовским товарищескую услугу, согласившись, чтобы два
векселя, дисконтированные потом у ростовщиков Султан-
Шаха и Пономарева, были написаны Протопоповым на
его, Либермана, имя. Сами ростовщики, как вы слышали,
просили об этом. Тут не было и не могло быть с его
стороны никакого обмана, и имя Либермана,
ставившего на этих векселях безоборотные бланки, не имело
никакого значения в смысле состоятельности или
несостоятельности его к уплате, так как верили не ему, а
Протопопову и Давыдовскому, что ясно видно из
свидетельских показаний упомянутых ростовщиков. Может быть,
это было неосторожно со стороны Либермана, и знай он,
что впоследствии этот факт будут выставлять против
272
него уликой в совершении преступления, он, наверное,
этого бы не сделал; но он никогда не мог предполагать
ничего подобного. Да и какое в самом деле может иметь
отношение выдача Протопоповым означенных векселей,
из которых один даже оплачен, на имя Либермана к делу
об обманной покупке лошадей у Попова? Точно так
же какой уликой в этом деле может быть последнее из
указанных обвинителем в подтверждение виновности
Либермана обстоятельств, а именно: передача хозяину
гостиницы Шеврие Вавассеру Либерманом векселя
Протопопова в 225 рублей с указанием будто бы ложного
адреса Протопопова, на Садовой улице в доме Белкина?
Либерман, пришедший к Протопопову в то время, как он
собирался уезжать из гостиницы Шеврие, действительно
выполнил просьбу Протопопова передать Вавассеру за
долг в гостинице вексель, по которому потом и были
заплачены деньги, но ложного адреса никогда не указывал,
а передал Вавассеру, со слов Протопопова, адрес
помощника присяжного поверенного Симонова, к которому,
как он думал, Протопопов действительно переезжает на
квартиру. Итак, вы видите, господа присяжные, что
ни один из фактов, приводимых обвинителем как
доказательство виновности Либермана в покупке лошадей
у Попова, не имеет положительно ни малейшей связи
с этим делом. А между тем Либермана обвиняют в
попустительстве к обману Попова!
Я даже, признаюсь, не понимаю, в какую
фактическую рамку событий можно уложить подобное обвинение.
В теории, в идее закона такое преступление, как
попустительство к обману в имущественной сделке,
существует, но в действительности оно представляет неуловимые
черты по свойству самого преступления. Обман в
имущественной сделке есть преступление, стоящее на грани
прав гражданского и уголовного: один шаг в ту или
другую сторону, и дело становится или уголовным, или чисто
гражданским. Не всякая невыгодная или убыточная
сделка по имуществу составляет обман, точно так же
как ряд действий, состоящих в неисполнении принятых
на себя обязательств и в обыденном смысле
называемых зачастую обманом, не имеет в себе ничего
уголовного. Попустительство предполагает по закону знание
об умышленном преступлении; но невозможно доказать
попустительство там, где до последнего момента нельзя
определить свойство самого факта, в смысле гражданской
сделки или уголовного преступления. Так, в данном случае
273
сделка, совершенная Поповым 9 ноября 1871 года, не
заключала в себе еще никаких признаков обмана, потому
что лошади, оставленные под присмотром конюхов
Попова, без права отчуждения этих лошадей
Протопоповым до уплаты денег, служили, во всяком случае,
полнейшей имущественной гарантией для Попова. Чтобы
обвинять Либермана в попустительстве к обману
Попова, нужно доказать, что Либерман знал не только об
условиях сделки 9 ноября, но и о том, что и 11
ноября Попов сделает надпись на запродажной расписке в
окончании по ней расчета; что лошади будут
переведены к Крадовилю; что будут совершены фиктивные акты
о продаже лошадей Крадовилю и что, наконец, Крадо-
виль присвоит этих лошадей себе. Но ни единым словом,
ни единым намеком в деле не имеется к этому никаких
указаний. Все обвинение Либермана держится только на
тех голословных показаниях, которые были даны
свидетелями Симоновым и потерпевшим Поповым против
Либермана на предварительном следствии; только
вследствие непростительной, по моему мнению, доверчивости
обвинительной власти к этим показаниям и привлечен
Либерман к делу Попова в качестве обвиняемого.
Свидетель Симонов на суд не явился без законной к тому
причины, и потому показаний его касаться я не могу;
но перед вами на суде был достойный друг его и
доверитель Николай Ардалионович Попов. Странная судьба
этого свидетеля! Как лелеяли и берегли во время
предварительного следствия, сколько заботливой работы и
труда вложил он в это следствие, в каких разнообразных
ролях он не являлся в нем! То он помогает
следователю в розысках, то подписывает показания за
неграмотных, то присутствует в качестве понятого при обысках;
все дело испещрено его многоречивыми свидетельскими
показаниями, дополнениями к ним, различными
заявлениями, прибавлениями к этим заявлениям и т. д. Много
помощи оказал он следователю, много потрудился по
делу, и какой же черной неблагодарностью заплатила
ему за все это обвинительная власть! Явился он на суд и
сразу был переведен обвинителем из излюбленных
свидетелей обвинения, каким был при предварительном
следствии, в разряд свидетелей сомнительных! На нем
оправдалась та старая истина, что есть люди, которыми можно
пользоваться, но которых не захочешь иметь своими
союзниками. Обвинитель не поскупился на мрачные
краски, чтобы нарисовать портрет этого свидетеля. «О нем не
274
знаешь, что сказать,— говорил он на суде,— не то это
свидетель, не то подсудимый». Да, господа присяжные,
бывают в уголовных процессах такие свидетели, которые
одной ногой стоят на свидетельском месте, а другой —
за решеткой подсудимых. Это те двуликие Янусы,
которые одной своей стороной обращены к белому свету, а
другой смотрят на острожные стены. Бедный отставной
поручик Николай Ардалионович Попов! Захотелось ему,
по старой привычке, сбыть за двойную цену своих
лошадок — не удалось; выручил он их кое-как при следствии
предварительном. Явился он затем по зову
обвинительной власти на суд — и здесь не посчастливилось: сколько
нелестных комплиментов пришлось ему услыхать от того,
кто сам его призвал. Как же не пожалеть о нем: он
вдвойне потерпел — и при следствии предварительном,
и на следствии судебном... Но тем не менее он является
по закону лицом потерпевшим и, следуя объяснению
обвинителя, таким свидетелем, который яснее всего должен
помнить обстоятельства дела. Что же ответил Попов на
мои вопросы о Либермане? Что он Либермана «к этой
компании*, как он выразился о подсудимых, никогда не
причислял; что Либерман никакого участия в деле
покупки лошадей не принимал и при заключении сделок не
присутствовал; что он ни попустителем, ни пособником
к его обману не был и на вопрос о состоятельности
Протопопова ответил: «Кто его знает, музыка у него есть!»
Вот все данные, господа присяжные, которые имеются в
деле по обвинению Либермана в попустительстве к
обману по делу Попова. Я полагаю, что мне нечего
прибавлять еще что-либо к сказанному мной, потому что
несостоятельность подобного обвинения несомненна и
очевидна для всякого непредубежденного судьи. Обвинение
это не выдерживает ни малейшей критики, не имеет для
себя никаких прочных оснований: это какой-то карточный
домик, который стоит только толкнуть пальцем для того,
чтобы он развалился...
Еще более мифическим, так сказать, характером
отличается, господа присяжные, обвинение Либермана по
еремеевскому делу. Впрочем, сам обвинитель счел
долгом отказаться от этого обвинения, указав на
обнаружившуюся на суде ошибку в показании свидетельницы
Еремеевой, на основании которой Либерман был
привлечен к этому делу. Дело, видите ли, в том, что при
предварительном следствии или следователю недостало
времени, или по каким-либо другим соображениям, но Ли-
275
берман не был узнан Еремеевой, и она по
фотографической карточке приняла Фохта, содержателя номеров в
доме Любимова, за Либермана. Здесь же на суде Ли-
берман предварительного следствия оказался Фохтом.
Я вполне согласен с обвинителем в том, что предание
Либермана суду по этому делу есть ошибка; но я думаю,
что эта ошибка открылась не на суде, а существовала
уже с того времени, как появился на Божий свет тот
обвинительный акт, в котором имя Либермана значилось в
списке обвиняемых. Какое может иметь, спрашивается,
значение, в смысле обвинения в пособничестве ко взятию
безденежных векселей с пьяного Еремеева, ответ, данный
Глафире Еремеевой, что ее муж уехал с
Давыдовскими,— был ли этот ответ дан Либерманом или Фохтом?
Заметьте, что Еремеевой не говорят, что мужа ее вовсе
нет или не было,— тогда бы еще можно было видеть в
этом желание скрыть его,— но отвечают, что он уехал с
Давыдовскими, т. е. то, что и было в действительности.
Что Клавдия Еремеева в то время, когда за ним
приезжала его жена, т. е. 14 августа 1871 года, не могло быть
в номерах в доме Любимова, это несомненно доказано
по делу. Выходит, следовательно, так, что нужно было
солгать, сказать, что Еремеев здесь, когда его не было,
для того чтобы избежать впоследствии обвинения в
уголовном преступлении. А между тем, кроме этого ответа,
данного Еремеевой, обвинительный акт не приводит
положительно ни одного из фактических признаков
действительного участия Либермана в преступлении, как
пособника ко взятию с Клавдия Еремеева в пьяном виде
безденежных векселей. Для защиты Либермана даже нет
дела до того, в каком состоянии находился Еремеев в
описываемое время: был ли он пьян или нет, находился
ли в состоянии беспамятства или был в своем рассудке.
Чтобы доказать невиновность Либермана, я готов верить
на слово обвинительному акту, я беру его целиком, каков
он есть, и буду бороться с обвинителем его же
собственным оружием.
Три фактических момента указывает обвинительный
акт как на доказательство преступной деятельности
обвиняемых в нем лиц по еремеевскому делу. Во-первых,
спаивание Еремеева в гостинице «Тверь» и взятие там
с него вексельных бланков; по указанию
обвинительного акта там были: Петр Давыдовский, Ануфриев, а
также приезжал и Шпейер. Как вы слышите, господа
присяжные, Либерман, по мнению самого обвинителя, в
276
гостинице «Тверь» не присутствовал. Затем, далее
следует взятие безденежного векселя на 20 тысяч рублей
на имя Алексея Мазурина в конторе нотариуса Подков-
щикова, где, по словам обвинительного акта, находились,
кроме самого Еремеева, Шпейер, Иван Давыдовский и
Ануфриев. И здесь также о Либермане не упоминается.
Наконец, третий, и последний, так сказать, завершающий
все дело момент — это дележ денег, добытых Шпейером
от Мазурина по векселю, совершенному Еремеевым у
Подковщикова: из этих денег, по обвинительному акту,
получают от Шпейера по 200 рублей Иван Давыдовский,
Ануфриев и Бабашев, причем последний требует еще
1000 рублей. О Либермане же и в этот раз не
говорится ни слова. Итак, ни в первом, ни во втором, ни в
последнем случае Либерман в деле еремеевском не
принимает ни малейшего участия и ни одним своим
действием не выражает того преступного пособничества,
которое приписывается ему по обвинительному акту, так что
все выводы обвинительного акта по этому предмету
являются результатом одних только произвольных
соображений обвинительной власти, не подкрепленных
никакими фактическими данными. Припомните при этом, что
сам умерший ныне Клавдий Еремеев нигде в своих
показаниях о Либермане не упоминает и что жена его
Глафира Еремеева и поверенный Еремеевых Петров на
судебном следствии удостоверили, что не только не знают
Либермана, но даже и имени его не слыхали. После
этого, господа присяжные, для вас, без сомнения, станут
вполне понятными слова, сказанные подсудимым Либер-
маном перед вами на суде по поводу предложения
господина председателя разъяснить обстоятельства участия
его, Либермана, в этом деле, что он находится в полном
и печальном недоумении относительно того, за что его
привлекли к суду по настоящему делу. И я полагаю, что
теперь, выслушав обстоятельства дела, вы не можете не
разделять с подсудимым высказанного им недоумения.
Да и сам обвинитель должен был признать, что
привлечение Либермана в качестве обвиняемого по
еремеевскому делу произошло по ошибке. Ошибка несомненная,
бесспорная; но думается мне, ужели отказ обвинителя в
настоящую минуту от обвинения Либермана по этому
делу может вознаградить его за все то, что он уже
вытерпел и перенес благодаря несправедливому обвинению?
Привлекут человека к уголовному следствию, произведут
это следствие по фотографическим карточкам, назовут
277
безвинно «червонным валетом», введут на публичный
показ в арестантском халате и затем, после всей этой
пытки, скажут: «Извините, это ошибка!» Неужели с
таким фактом можно спокойно примириться?!
Но, господа присяжные, я скажу вам еще более того:
я утверждаю, что все предание уголовному суду Либер-
мана, как по еремеевскому делу, так и по делу об
обмане Попова, есть не что иное, как один грустный
результат прискорбной ошибки правосудия. И вот что в
особенности меня удивляет: как обвинительная власть
не могла заметить того, что весь образ жизни Либерма-
на, вся его деятельность состоит в полнейшем
противоречии как с содержанием обвинительного акта, так и с
той характеристикой дела, которая представлена в этом
акте? На сотне страниц читаем мы в обвинительном акте
рассказы о том, как один подсудимый путем кражи
получил известную сумму денег, другой для приобретения
денег совершил подлог, третий добыл их через
мошенничество и т. д.; уже на первой странице обвинительного
акта указывается как на одну из характерных черт этого
дела величина суммы, добытой преступлениями и
доходящей, по словам обвинителя, до 280 тысяч рублей
серебром. Я спрашиваю у обвинителя: пусть докажет он
мне, получил ли подсудимый Либерман из этих денег
хотя бы одну медную копейку? Я обещаю обвинителю
вперед, если он докажет мне это, то я ни одного слова
не скажу в защиту Либермана. Но обвинитель не может
этого доказать, потому что этого не было. Судите же
теперь сами, насколько подобное положение подсудимого
вяжется с представлением о «червонном валете», этом
рыцаре легкой наживы, не останавливающемся ни перед
каким обманом ради корысти, не стесняющемся
никакими нравственными принципами для «золотого тельца»,
по собственному выражению обвинителя? Насколько
идет имя «червонного валета» к человеку, в руках
которого во время его заарестования находилась касса
с лишком в 300 тысяч рублей, которой он заведовал
самым честнейшим образом в продолжение почти трех лет?
Нет, каким бы позором ни было покрыто настоящее дело,
я смело, положа руку на сердце, могу сказать, что
Либерман в этом деле остается чистым! Его сердцу и уму
чужды те преступные замыслы, те беззаконные
стремления, которые ему приписывает обвинительная власть;
его руки не замараны ни кровью убийства, ни грязью
корысти! Мы с любовью останавливаемся на образе Ли-
278
бермана в настоящем деле, мы нравственно отдыхаем
при виде этой личности. Не жажда корысти, не алчность
добычи, не кража, подлог или мошенничество привели
его на скамью подсудимых, но дружба к товарищу
детства, которая ввела в обман обвинителя и была
единственной причиной того, что Либерман попал в число
лиц, обвиняемых по делу «Клуба червонных валетов».
Эта дружба принесла ему с собой в его жизни слишком
тяжелое испытание; и это не фраза, не пустые слова.
Не пустые слова — его бледное, изможденное лицо в
тридцать с небольшим лет от роду; не пустые слова —
потеря места и общественного уважения, которым
пользовался подсудимый; не пустые слова — лишение
свободы и восьмимесячное заключение в одиночной камере
тверского частного дома, в стенах которой не удастся,
смею думать, благодаря суду вашему, господа
присяжные, обвинительной власти схоронить честь
подсудимого, но зато уже вполне удалось схоронить навек его
цветущее до сего времени здоровье! И за что же, за что
все это?
Кто-то сказал, что раз разбитая жизнь уже не
склеивается более. Если это правда, то единственное утешение
для подсудимого осталось теперь в том, чтобы услышать
от вас, господа присяжные, приговор, которым вы
публично засвидетельствуете его невиновность по
настоящему делу. Этот приговор будет ему служить
нравственной опорой и утешением до конца его жизни. Вместе с
ним прозвище «червонного валета» отойдет для
подсудимого навсегда в обласю страшного прошедшего, и
возвратится ему снова его прежнее человеческое имя. В
ту последнюю минуту, когда вы будете писать ваш
приговор, который решит участь подсудимых, остановитесь
со вниманием на имени Эрнеста Либермана и отнеситесь
к нему не только vc холодным беспристрастием судей, но
с теплым, сердечным, человеческим участием, которого
он вполне достоин. Вы люди, и я глубоко уверен в том,
что вам, выражаясь словами древнего человека, не
чуждо ничто человеческое. Когда вы вспомните все
сказанное мной о Либермане и восстановите в вашей памяти
его деятельность по настоящему делу, то я полагаю, что
ни у кого из вас в душе не сыщется для него слова
осуждения, но что совесть ваша, ни на минуту не
задумываясь, ни минуты не сомневаясь, подскажет вам
произнести о нем приговор оправдания, которого он
поистине заслуживает. Произнося такой приговор, вы, гос-
279
пода присяжные, не только сотворите правый суд, но вы
вместе с тем сделаете великое благое дело, дело ваше,
святее которого, быть может, не знает людская
деятельность,— вы спасете невинно гибнущего человека.
На разрешение присяжных заседателей были
поставлены судом 239 вопросов. Их вердиктом 19 человек
(в том числе Мазурин и Либерман) оправданы, 9
человек приговорены судом к ссылке, остальные — к
тюремному заключению сроком от 3,5 года до 2
месяцев.
ДЕЛО
ВЕРЫ
ЗАСУЛИЧ
Дело Веры Засулич, наверное, является самым
известным из всех дел, рассмотренных судом присяжных
в России. Оно стало классическим с момента
оправдания В. И. Засулич, продемонстрировав практически
полную независимость суда присяжных от самодержавия.
Превосходная речь П. А. Александрова и мудрое
наставление присяжным заседателям, произнесенное
председательствующим А. Ф. Кони, стали эталоном русского
судебного красноречия.
Фабула дела достаточно проста и широко известна,
чтобы на ней останавливаться подробно. Вера Засулич
обвинялась в том, что 24 января 1878 года выстрелом
из пистолета тяжело ранила петербургского
градоначальника генерал-адъютанта Ф. Ф. Трепова. В
обвинительном акте ее действия квалифицировались как
покушение на убийство с заранее обдуманным
намерением, т. е. как общеуголовное, а не политическое
преступление. Хотя по существу это был террористический акт.
Вера Засулич рассматривала его как возмездие за
превышение Ф. Ф. Треповым своей власти лично и как
протест против произвола, творящегося в стране. В июле
1877 года Трепов приказал высечь политического
заключенного Боголюбова (настоящее имя — А. С.
Емельянов), что вызвало волнение в доме предварительного
заключения и возмущение всей революционно
настроенной молодежи России. В речи П. А. Александрова
подробно анализируются судьба и нравственный облик
подсудимой, но ничего не сказано о потерпевшем,
который тоже был достаточно колоритной фигурой в своем
роде. Ф. Ф. Трепов — внебрачный сын Николая I— был
281
истый служака и уже не в первый раз страдал от руки
революционеров. В 1860 году он был ранен камнем в
голову во время разгона демонстрации в Варшаве, где
служил обер-полицеймейстером. Позже, уже в
должности начальника округа корпуса жандармов, получил
ранение топором в голову.
Дело рассматривалось Петербургским окружным
судом 31 марта 1878 года. Обвинение поддерживал
товарищ прокурора К. И. Кессель. Об этом деле остались
подробные воспоминания А. Ф. Кони.
Речь присяжного поверенного
П. А. Александрова в защиту Засулич
Господа присяжные заседатели! Я выслушал
благородную, сдержанную речь товарища прокурора, и со многим
из того, что сказано им, я совершенно согласен; мы
расходимся лишь в весьма немногом, но тем не менее задача
моя после речи господина прокурора не оказалась
облегченной. Не в фактах настоящего дела, не в сложности
их лежит его трудность; дело это просто по своим
обстоятельствам, до того просто, что, если ограничиться одним
только событием 24 января, тогда почти и рассуждать не
придется. Кто станет отрицать, что самоуправное
убийство есть преступление; кто будет отрицать то, что
утверждает подсудимая, что тяжело поднимать руку для
самоуправной расправы? Все это истины, против которых нельзя
спорить, но дело в том, что событие 24 января не может
быть рассматриваемо отдельно от другого случая: оно так
связуется, так переплетается с фактом, совершившимся в
доме предварительного заключения 13 июля, что если
непонятным будет смысл покушения, произведенного В.
Засулич на жизнь генерал-адъютанта Трепова, то его можно
уяснить только сопоставляя это покушение с теми
мотивами, начало которых положено было происшествием в
доме предварительного заключения. В [таком]
сопоставлении, собственно говоря, не было бы ничего трудного; очень
нередко разбирается не только [само] преступление, но и
тот факт, который дал мотив этому преступлению. Но в
настоящем деле эта связь до некоторой степени
усложняется, и разъяснение ее затрудняется. В самом деле, нет
сомнения, что распоряжение генерал-адъютанта Трепова
было должностное распоряжение. Но должностное лицо
мы теперь не судим, и генерал-адъютант Трепов
является в настоящее время не в качестве подсудимого долж-
282
В. И. Засулич.
постного лица, а в качестве свидетеля, лица,
потерпевшего от преступления. Кроме того, чувство приличия,
которое мы не решились бы переступить в защите нашей и
которое не может не внушить нам известной сдержанности
относительно генерал-адъютанта Трепова как лица,
потерпевшего от преступления. Я очень хорошо понимаю, что
не могу касаться действий должностного лица и
обсуждать их так, как они обсуждаются, когда это должностное
лицо предстоит в качестве подсудимого. Но из того
затруднительного положения, в котором находится защита
в этом деле, можно, мне кажется, выйти следующим
образом. Всякое должностное, начальствующее лицо
представляется мне в виде двуликого Януса, поставленного
в храме на горе: одна сторона этого Януса обращена к
закону, к начальству, к суду, она ими освещается и
обсуждается, обсуждение здесь полное, веское, правдивое;
другая сторона обращена к нам, простым смертным, стоящим
в притворе храма, под горой. На эту сторону мы смотрим,
и она бывает не всегда одинаково освещена для нас. Мы к
ней подходим иногда только с простым фонарем, с гро-
283
шовой свечкой, с тусклой лампой, многое для нас темно,
многое наводит нас на такие суждения, которые не
согласуются со взглядами начальства, суда на те же действия
должностного лица. Но мы живем в этих, может быть,
иногда и ошибочных мнениях, на основании их мы
питаем те или другие чувства к должностному лицу, порицаем
его или славословим его, любим или остаемся к нему
равнодушны и радуемся, если находим распоряжения вполне
справедливыми. Когда действия должностного лица
становятся мотивами для наших действий, за которые мы
судимся и должны нести ответственность, тогда важно
иметь в виду не только то, правильны или неправильны
действия должностного лица с точки зрения закона, а
как мы сами смотрели на них. Не суждения закона о
должностном действии, а наши воззрения на него должны
быть приняты как обстоятельства, обусловливающие
степень нашей ответственности. Пусть эти воззрения будут и
неправильны — они ведь имеют значение не для суда над
должностным лицом, а для суда над нашими поступками,
соображенными с теми или другими руководившими
нами понятиями. Чтобы вполне судить о мотиве наших
поступков, надо знать, как эти мотивы отразились в наших
понятиях. Таким образом, в моем суждении о событии
13 июля не будет обсуждения действий должностного
лица, а только разъяснение того, как отразилось это
действие на уме и убеждениях Веры Засулич. Оставаясь в
этих пределах, я, полагаю, не буду судьей действий
должностного лица и затем надеюсь, что в этих
пределах мне будет дана необходимая законная свобода
слова и вместе с тем будет оказано снисхождение, если я с
некоторой подробностью остановлюсь на таких
обстоятельствах, которые с первого взгляда могут и не
казаться прямо относящимися к делу. Являясь защитником
В. Засулич, по ее собственному избранию, выслушав от
нее в моих беседах с ней многое, что она находила
нужным передать мне, я невольно впадаю в опасение не быть
полным выразителем ее мнения и упустить что-либо, что,
по взгляду самой подсудимой, может иметь значение для
ее дела.
Я мог бы начать прямо со случая 13 июля, но
нужно прежде исследовать почву, которая обусловила
связь между 13 июля и 24 января. Эта связь лежит во
всем прошедшем, во всей жизни Веры Засулич.
Рассмотреть эту жизнь весьма поучительно; поучительно
рассмотреть ее не только для интересов настоящего дела, не
только для того, чтобы определить, в какой степени ви-
284
иовна В. Засулич, но ее прошедшее поучительно и для
извлечения из него других материалов, нужных и
полезных для разрешения таких вопросов, которые выходят из
пределов суда: для изучения той почвы, которая у нас
нередко производит преступления и преступников. Вам
сообщены уже о В. Засулич некоторые биографические
данные; они не длинны, и мне придется остановиться
только на некоторых из них.
Вы помните, что семнадцати лет, после окончания
образования в одном из московских пансионов, после того,
как она выдержала с отличием экзамен на звание
домашней учительницы, она вернулась в дом матери.
Старуха мать ее живет здесь, в Петербурге. В небольшой
сравнительно промежуток времени семнадцатилетняя
девушка имела случай познакомиться с Нечаевым и его
сестрой. Познакомилась она с ней совершенно случайно,
и учительской школе, кудр она ходила изучать звуковой
метод преподавания грамоты. Кто такой был Нечаев,
какие его замыслы, она не знала, да тогда еще и никто не
знал его в России; он считался простым студентом,
который играл некоторую роль в студенческих волнениях, не
представлявших ничего политического.
По просьбе Нечаева В. Засулич согласилась оказать
ему некоторую, весьма обыкновенную услугу. Она раза
три или четыре принимала от него письма и передавала
их по адресу, ничего, конечно, не зная о содержании
самих писем. Впоследствии оказалось, что Нечаев —
государственный преступник, и ее совершенно случайные
отношения к Нечаеву послужили основанием к
привлечению в качестве подозреваемой в государственном
преступлении по известному нечаевскому делу. Вы помните
из рассказа В. Засулич, что двух лет тюремного
заключения стоило ей это подозрение. Год она просидела в
Литовском замке и год в Петропавловской крепости.
Это были восемнадцатый и девятнадцатый годы ее
юности.
Годы юности, по справедливости, считаются лучшими
годами в жизни человека; воспоминания о них,
впечатления этих лет остаются на всю жизнь. Недавний ребенок
готовился стать созревшим человеком. Жизнь
представляется пока издали своей розовой, обольстительной
стороной, без мрачных теней, без темных пятен. Много
переживает юноша в эти короткие годы, и пережитое кладет
след на всю жизнь. Для мужчины это пора высшего
образования; здесь пробуждаются первые прочные
симпатии, здесь завязываются товарищеские связи, отсюда вы-
285
носится навсегда любовь к месту своего образования, к
своей alma mater l. Для девицы годы юности
представляют пору расцвета, полного развития; перестав быть
дитятей, свободная еще от обязанностей жены и матери,
девица живет полнор радостью, полным сердцем. То —
пора первой любви, беззаботности, веселых надежд,
незабываемых радостей, пора дружбы; то — пора всего того
дорогого, неуловимо-мимолетного, к чему потом может
обращаться воспоминаниями зрелая мать и старая
бабушка.
Легко вообразить, как провела Засулич эти лучшие
годы своей жизни, в каких забавах, в каких радостях
провела она это дорогое время, какие розовые мечты
волновали ее в стенах Литовского замка и казематах
Петропавловской крепрсти. Полное отчуждение от всего, что
за тюремной стеной. Два года она не видела ни матери,
ни родных, ни знакомых. Изредка только через тюремное
начальство доходила весть о них, что все, мол, слава
богу, здоровы. Ни работы, ни занятий. Кое-когда только
книга, прошедшая через тюремную цензуру.
Возможность сделать несколько шагов по комнате и полная
невозможность увидеть что-либо через тюремное окно.
Отсутствие воздуха, редкие прогулки, дурной сон, плохое
питание. Человеческий образ видится только в тюремном
стороже, приносящем обед, да в часовом,
заглядывающем время от времени в дверное окно, чтобы узнать, что
делает арестант. Звук отворяемых и затворяемых замков,
бряцание ружей сменяющихся часовых, мерные шаги
караула да уныло-музыкальный звон часов
Петропавловского шпица. Вместо дружбы, любви, человеческого
общения — одно сознание, что справа и слева, за стеной,
такие же товарищи по несчастью, такие же жертвы
несчастной доли.
В эти годы зарождающихся симпатий Засулич,
действительно, создала и закрепила в душе своей навеки
одну симпатию — беззаветную любовь ко всякому, кто,
подобно ей, принужден влачить несчастную жизнь
подозреваемого в политическом преступлении. Политический
арестант, кто бы он ни был, стал ей дорогим другом,
товарищем юности, товарищем по воспитанию. Тюрьма
была для нее alma mater, которая закрепила эту дружбу,
это товарищество.
1 Буквально: кормящая мать (лат.), в переносном смысле: учебное
заведение, снабжающее духовной пищей.
286
Два года кончились. Засулич отпустили, не найдя
даже никакого основания предать ее суду. Ей сказали:
«Иди»— и даже не прибавили: «И более не согрешай»,
потому что прегрешений не нашлось, и до того не находи-
лось их, что в продолжение двух лет она всего только два
раза была спрошена и одно время серьезно думала, в
продолжение многих месяцев, что она совершенно
забыта. «Иди». Куда же идти? По счастью, у нее есть, куда
идти,— у нее здесь, в Петербурге, старуха мать, которая
с радостью встретит дочь. Мать и дочь были обрадованы
свиданием; казалось, два тяжких года исчезли из памяти.
Засулич была еще молода — ей был всего двадцать
первый год. Мать утешала ее, говорила: «Поправишься,
Верочка, теперь все пройдет, все кончилось благополучно».
Действительно, казалось, страдания излечатся, молодая
жизнь одолеет и не останется следов тяжелых лет
заключения.
Была весна, пошли мечты о летней дачной жизни,
которая могла казаться земным раем после тюремной
жизни; прошло десять дней, полных розовых мечтаний. Вдруг
поздний звонок. Не друг ли запоздалый? Оказывается —
не друг, но и не враг, а местный надзиратель. Объясняет
[он] Засулич, что приказано ее отправить в пересыльную
тюрьму. «Как в тюрьму? Вероятно, это недоразумение, я
не привлечена к нечаевскому делу, не предана суду, обо
мне дело прекращено судебной палатой и
правительствующим Сенатом».—«Не могу знать,— отвечает
надзиратель,— пожалуйте, я от начальства имею предписание
взять вас».
Мать принуждена отпустить дочь. Дала ей кое-что:
легкое платье, бурнус; говорит: «Завтра мы тебя
навестим, мы пойдем к прокурору, этот арест, очевидно,
недоразумение, дело объяснится, и ты будешь
освобождена».
Проходит пять дней, В. Засулич сидит в пересыльной
тюрьме с полной уверенностью скорого освобождения.
Возможно ли, чтобы после того, как дело было
прекращено судебной властью, не нашедшей никакого
основания в чем бы то ни было обвинять Засулич, она, едва
двадцатилетняя девица, живущая у матери, могла быть
выслана, и выслана, только что освобожденная после
двухлетнего тюремного заключения.
В пересыльной тюрьме навещают ее мать, сестра; ей
приносят конфеты, книжки; никто не воображает, чтоб
она могла быть выслана, и никто не озабочен
приготовлениями к предстоящей высылке.
287
Ф. Ф. Трепов.
На пятый день задержания ей говорят: «Пожалуйте,
вас сейчас отправляют в город Крестцы».—«Как
отправляют? Да у меня нет ничего для дороги. Подождите, по
крайней мере, дайте мне возможность дать знать
родственникам, предупредить их. Я уверена, что тут какое-
нибудь недоразумение. Окажите мне снисхождение,
подождите, отложите мою отправку хоть на День, на два,
я дам знать родным».—«Нельзя,— говорят,— не можем
по закону, требуют вас немедленно отправить».
Рассуждать было нечего. Засулич понимала, что надо
покориться закону, не знала только, о каком законе тут
речь. Поехала она в одном платье, в легком бурнусе;
пока ехала по железной дороге, было слоено, потом
поехала на почтовых, в кибитке, между двух жандармов. Был
апрель, стало в легком бурнусе невыносимо холодно;
жандарм снял свою шинель и одел барышню. Привезли
ее в Крестцы. В Крестцах сдали ее исправнику,
исправник выдал квитанцию в принятии клади и говорит
Засулич: «Идите, я вас не держу, вы не арестованы. Идите и
по субботам являйтесь в полицейское управление, так
как вы состоите у нас под надзором».
288
Рассматривает Засулич свои ресурсы, с которыми ей
приходится начать новую жизнь в неизвестном городе.
У нее оказывается рубль денег, французская книжка да
коробка шоколадных конфет.
Нашелся добрый человек, дьячок, который поместил
ее в своем семействе. Найти занятие в Крестцах ей
не представлялось возможности, тем более что нельзя
было скрыть, что она — высланная административным
порядком. Я не буду затем повторять другие
подробности, которые рассказала сама Вера Засулич.
Из Крестцов ей пришлось ехать в Тверь, в Солигалич,
в Харьков. Таким образом, началась ее бродячая
жизнь — жизнь женщины, находящейся под надзором
полиции. У нее делали обыски, призывали для разных
опросов, подвергали иногда задержкам не в виде арестов и,
наконец, о ней совсем забыли.
Когда от нее перестали требовать, чтобы она
еженедельно являлась- на просмотр к местным полицейским
властям, тогда ей улыбнулась возможность контрабандой
поехать в Петербург и затем с детьми своей сестры
отправиться в Пензенскую губернию. Здесь она летом
1877 года прочитывает в первый раз в газете «Голос»
известие о наказании Боголюбова.
Да позволено мне будет, прежде чем перейти к этому
известию, сделать еще маленькую экскурсию в область
розги.
Я не имею намерения, господа присяжные заседатели,
представлять вашему вниманию историю розги — это
завело бы меня в область слишком отдаленную, к весьма
далеким страницам нашей истории, ибо история розги
весьма продолжительна. Нет, не историю розги хочу я
повествовать перед вами, я хочу привести лишь
несколько воспоминаний о последних днях ее жизни.
Вера Ивановна Засулич принадлежит к молодому
поколению. Она стала себя помнить тогда уже, когда
наступили новые порядки, когда розги отошли в область
преданий. Но мы, люди предшествовавшего поколения,
мы еще помним то полное господство розог, которое
существовало до 17 апреля 1863 года. Розга царила везде:
в школе, на мирском сходе, она была
непременной принадлежностью на конюшне помещика, потом
в казармах, в полицейском управлении...
Существовало сказание апокрифического, впрочем, свойства —
что где-то русская розга была приведена в союз с
английским механизмом и русское сечение совершалось по
всем правилам самой утонченной европейской вежливо-
10 Заказ №571
289
сти. Впрочем, достоверность этого сказания никто не
подтверждал собственным опытом. В книгах наших
уголовных, гражданских и военных законов розга испещряла
все страницы. Она составляла какой-то легкий
мелодический перезвон в общем громогласном гуле плети, кнута и
шпицрутенов. Но наступил великий день — день, который
чтит вся Россия,—17 апреля 1863 года,— и розга
перешла в область истории. Розга, правда, не совсем, но все
другие телесные наказания миновали совершенно. Розга
не была совершенно уничтожена, но крайне ограничена.
В то время было много опасений за полное уничтожение
розги, опасений, которых не разделяло правительство, но
которые волновали некоторых представителей
интеллигенции. Им казалось вдруг как-то неудобным и опасным
оставить без розог Россию, которая так долго вела свою
историю рядом с розгой,— Россию, которая, по их
глубокому убеждению, сложилась в обширную державу и
достигла своего величия едва ли не благодаря розгам. Как,
казалось, вдруг остаться без этого цемента, связующего
общественные устои? Как будто в утешение этих
мыслителей розга осталась в очень ограниченных размерах и
утратила свою публичность.
По каким соображениям решились сохранить ее, я не
знаю, но думаю, что она осталась как бы в виде
сувенира после умершего или удалившегося навсегда лица.
Такие сувениры обыкновенно приобретаются и
сохраняются в малых размерах. Тут не нужно целого шиньона,
достаточно одного локона; сувенир обыкновенно не
выставляется наружу, а хранится в тайнике медальона, в
дальнем ящике. Такие сувениры не переживают более
одного поколения.
Когда в исторической жизни народа нарождается
какое-либо преобразование, которое способно поднять дух
народа, возвысить его человеческое достоинство, тогда
подобное преобразовайие прививается и приносит свои
плоды. Таким образом, и отмена телесного наказания
оказала громадное влияние на поднятие в русском
народе чувства человеческого достоинства. Теперь стал
позорен тот солдат, который довел себя до наказания
розгами, теперь смешон и считается бесчестным тот
крестьянин, который допустил себя наказать розгами.
Вот в эту-то пору, через пятнадцать лет после отмены
розог, которые, впрочем, давно уже были отменены для
лиц привилегированного сословия, над политическим
осужденным арестантом было совершено позорное
сечение. Обстоятельство это не могло укрыться от внимания
290
общества: о нем заговорили в Петербурге, о нем вскоре
появляются газетные известия. И вот эти-то газетные
известия дали первый толчок мысли В. Засулич. Короткое
газетное известие о наказании Боголюбова розгами не
могло не произвести на Засулич подавляющего
впечатления. Оно производило такое впечатление на всякого,
кому знакомо чувство чести и человеческого достоинства.
Человек, по своему рождению, воспитанию и
образованию чуждый розги; человек, глубоко чувствующий и
понимающий все ее позорное и унизительное значение;
человек, который по своему образу мыслей, по своим
убеждениям и чувствам не мог бы без сердечного
содрогания видеть и слышать исполнение позорной экзекуции
над другими,— этот человек сам должен был перенести
на собственной коже всеподавляющее действие
унизительного наказания.
Какое, думала Засулич, мучительное истязание, какое
презрительное поругание над всем, что составляет самое
существенное достояние развитого человека, и не только
развитого, но и всякого, кому не чуждо чувство чести и
человеческого достоинства.
Не с точки зрения формальностей закона могла
обсуждать В. Засулич наказание, произведенное над
Боголюбовым, но и для нее не могло быть ясным из самих
газетных известий, что Боголюбов хотя и был осужден на
каторжные работы, но еще не поступил в разряд
ссыльнокаторжных, что над ним не было еще исполнено все то,
что, по фикции закона, отнимает от человека честь,
разрывает всякую связь его с прошедшим и низводит его на
положение лишенного всех прав. Боголюбов содержался
еще в доме предварительного заключения, он жил среди
прежней обстановки, среди людей, которые напоминали
ему его прежнее положение.
Нет, не с формальной точки зрения обсуждала В.
Засулич наказание Боголюбова; была другая точка зрения,
менее специальная, более сердечная, более человеческая,
которая никак не позволяла примириться с разумностью
и справедливостью произведенного над Боголюбовым
наказания.
Боголюбов был осужден за государственное
преступление. Он принадлежал к группе молодых, очень
молодых людей, судившихся за преступную манифестацию на
площади Казанского собора. Весь Петербург знает об
этой манифестации, и все с сожалением отнеслись тогда
к этим молодым людям, так опрометчиво заявившим себя
политическими преступниками, к этим так непроизводи-
291
тельно погубленным молодым силам. Суд строго отнесся
к судимому деянию. Покушение явилось в глазах суда
весьма опасным посягательством на государственный
порядок, и закон был применен с подобающей
строгостью. Но строгость приговора за преступление не
исключала возможности видеть, что покушение молодых людей
было прискорбным заблуждением и не имело в своем
основании низких расчетов, своекорыстных побуждений,
преступных намерений, что, напротив, в основании его
лежало доброе увлечение, с которым не совладал
молодой разум, живой характер, который дал им направиться
на ложный путь, приведший к прискорбным
последствиям.
Характерные особенности нравственной стороны
государственных преступлений не могут не обращать на себя
внимания. Физиономия государственных преступлений
нередко весьма изменчива. То, что вчера считалось
государственным преступлением, сегодня или завтра
становится высокочтимым подвигом гражданской доблести.
Государственное преступление нередко — только
разновременно высказанное учение преждевременно
провозглашенного преобразования, проповедь того, что еще
недостаточно созрело и для чего еще не наступило время.
Все это, несмотря на тяжкую кару закона,
постигающую государственного преступника, не позволяет видеть
в нем презренного, отвергнутого члена общества, не
позволяет заглушить симпатий ко всему тому высокому,
честному, дорогому, разумному, что остается в нем вне
сферы его преступного деяния.
Мы, в настоящее славное царствование, тогда еще с
восторгом юности, приветствовали старцев,
возвращенных монаршим милосердием из снегов Сибири, этих
государственных преступников, явившихся энергическими
деятелями по различным отраслям великих
преобразований, тех преобразований, несвоевременная мечта о
которых стоила им годов каторги.
Боголюбов судебным приговором был лишен всех
прав состояния и присужден к каторге. Лишение всех
прав и каторга — одно из самых тяжелых наказаний
нашего законодательства. Лишение всех прав и каторга
одинаково могут постигнуть самые разнообразные
тяжкие преступления, несмотря на все различие их
нравственной подкладки. В этом еще нет ничего
несправедливого. Наказание, насколько оно касается сферы права,
изменения общественного положения, лишения свободы,
принудительных работ, может, без особенно вопиющей
292
неравномерности, постигать преступника самого
разнообразного характера. Разбойник, поджигатель,
распространитель ереси, наконец, государственный преступник
могут быть, без явной несправедливости, уравнены
постигающим их наказанием.
Но есть сфера, которая не поддается праву, куда
бессилен проникнуть нивелирующий закон, где всякая
законная уравнительность была бы величайшей
несправедливостью. Я разумею сферу умственного и
нравственного развития, сферу убеждений, чувствований, вкусов,
сферу всего того, что составляет умственное и
нравственное достояние человека.
Высокоразвитый, полный честных нравственных
принципов государственный преступник и безнравственный,
презренный разбойник или вор могут одинаково, стена об
стену, тянуть долгие годы заключения, могут одинаково
нести тяжкий труд рудниковых работ, но никакой закон,
никакое положение, созданное для них наказанием, не в
состоянии уравнять их во всем том, что составляет
умственную и нравственную сферу человека. Что для одного
составляет ничтожное лишение, легкое взыскание, то для
другого может составить тяжкую нравственную пытку,
невыносимое бесчеловечное истязание.
Закон карающий может отнять внешнюю честь, все
внешние отличия, с ней сопряженные, но истребить в
человеке чувство моральной чести, нравственного
достоинства судебным приговором, изменить нравственное
содержание человека, лишить его всего того, что
составляет неотъемлемое достояние его развития, никакой закон
не может. И если закон не может предусмотреть все
нравственные, индивидуальные различия преступника,
которые обусловливаются их прошедшим, то является на
помощь общая, присущая человеку, нравственная
справедливость, которая должна подсказать, что применимо
к одному и что было бы высшей несправедливостью в
применении к другому.
Если с этой точки зрения общей справедливости
смотреть на наказание, примененное к Боголюбову, то
понятным станет то возбуждающее, тяжелое чувство
негодования, которое овладевало всяким неспособным безучастно
относиться к нравственному истязанию над ближним.
С чувством глубокого, непримиримого оскорбления за
нравственное достоинство человека отнеслась Засулич
к известию о позорном наказании Боголюбова.
Что был для нее Боголюбов? Он не был для нее
родственником, другом, он не был ее знакомым, она никогда
293
не видела и не знала его. Но разве для того, чтобы
возмутиться видом нравственно раздавленного человека,
чтобы прийти в негодование от позорного глумления
над беззащитным, -нужно быть сестрой, женой,
любовницей?
Для Засулич Боголюбов был политический арестант,
и в этом слове было для нее все: политический арестант
не .был для Засулич отвлеченное представление,
вычитываемое из книг, знакомое по слухам, по судебным
процессам, — представление, возбуждающее в честной душе
чувство сожаления, сострадания, сердечной симпатии.
Политический арестант был для Засулич — она сама, ее
горькое прошедшее, ее собственная история: история
безвозвратно погубленных лет, лучших и дорогих в жизни
каждого человека, которого не постигает тяжкая доля,
перенесенная Засулич. Политический арестант был для
Засулич — горькое воспоминание ее собственных
страданий, ее тяжкого нервного возбуждения, постоянной
тревоги, томительной неизвестности, вечной думы над
вопросами: что я сделала? что будет со мной? когда же
наступит конец? Политический арестант был ее
собственное сердце, и всякое грубое прикосновение к этому
сердцу болезненно отзывалось на ее возбужденной натуре.
В провинциальной глуши газетные известия
действовали на Засулич еще сильнее, чем они могли бы
действовать здесь, в столице. Там она была одна. Ей не с кем
было разделить своих сомнений, ей не от кого было
услышать слово участия по занимавшему ее вопросу. Нет,
думала Засулич, вероятно, известие неверное, по
меньшей мере оно преувеличено. Неужели теперь, и именно
теперь, думала она, возможно такое явление? Неужели
двадцать лет прогресса; смягчения нравов,
человеколюбивого отношения к арестованным, улучшения судебных
и тюремных порядков, ограничения личного произвола,
неужели двадцать лет поднятия личности и достоинства
человека вычеркнуты и забыты бесследно?
Неужели к тяжкому приговору, постигшему
Боголюбова, можно было прибавлять еще более тяжкое
презрение к его человеческой личности, забвение в нем всего
прошлого, всего, что дали ему воспитание и развитие?
Неужели нужно было еще наложить несмываемый позор
на эту, положим, преступную, но, во всяком случае, не
презренную личность? Нет ничего удивительного,
продолжала думать Засулич, что Боголюбов в состоянии
нервного возбуждения, столь понятного в одиночно
заключенном арестанте, мог, не владея собой, позволить себе то
294
или другое нарушение тюремных правил, но на случай
таких нарушений, если и признавать их вменяемыми
человеку в исключительном состоянии его духа,
существуют у тюремного начальства другие меры, ничего общего
не имеющие с наказанием розгами. Да и какой же
поступок приписывают Боголюбову газетные известия?
Неснятие шапки при вторичной встрече с почетным
посетителем. Нет, это невероятно, успокаивалась Засулич;
подождем, будет опровержение, будет разъяснение
происшествия; по всей вероятности, оно окажется не таким,
как представлено.
Но не было ни разъяснений, ни опровержений, ни
гласа, ни послушания. Тишина молчания не располагала
к тишине взволнованных чувств. И снова возникал в
женской экзальтированной голове образ Боголюбова,
подвергнутого позорному наказанию, и раскаленное
воображение старалось угадать, перечувствовать все то,
что мог перечувствовать несчастный. Рисовалась
возмущающая душу картина, но то была еще только картина
собственного воображения, не проверенная никакими
данными, не пополненная слухами, рассказами
очевидцев, свидетелей наказания; вскоре явилось и то и другое.
В сентябре Засулич была в Петербурге; здесь уже она
могла проверить занимавшее ее мысль происшествие по
рассказам очевидцев или лиц, слышавших
непосредственно от очевидцев. Рассказы, по содержанию своему,
неспособны были усмирить возмущенное чувство. Газетное
известие оказывалось непреувеличенным; напротив, оно
дополнялось такими подробностями, которые заставляли
содрогаться, которые приводили в негодование.
Рассказывалось и подтверждалось, что Боголюбов не имел
намерения оказать неуважение, неповиновение, что с его
стороны было только недоразумение и уклонение от
внушения, которое ему угрожало, что попытка сбить с
Боголюбова шапку вызвала крик со стороны смотревших
на происшествие арестантов независимо от какого-либо
возмущения их к тому Боголюбовым. Рассказывались
дальше возмутительные подробности приготовления и
исполнения наказания. Во двор, на который из окон
камер неслись крики арестантов, взволнованных
происшествием с Боголюбовым, является смотритель тюрьмы и,
чтобы «успокоить» волнение, возвещает о предстоящем
наказании Боголюбова розгами, не успокоив никого этим
в действительности, но несомненно доказав, что он,
смотритель, обладает и практическим тактом, и пониманием
человеческого сердца. Перед окнами женских арестант-
295
ских камер, на виду испуганных чем-то необычайным,
происходящим в тюрьме, женщин, вяжутся пуки розог,
как будто бы драть предстояло целую роту; разминаются
руки, делаются репетиции предстоящей экзекуции, и в
конце концов нервное волнение арестантов возбуждается
до такой степени, что ликторы in spe1 считают нужным
убраться в сарай и оттуда выносят пуки розог уже
спрятанными под шинелями.
Теперь, по отрывочным рассказам, по догадкам, по
намекам, нетрудно было вообразить и настоящую
картину экзекуции. Восставала эта бледная, испуганная
фигура Боголюбова, не ведающая, что он сделал, что с
ним хотят творить; восставал в мыслях болезненный
его образ. Вот он, приведенный на место экзекуции и
пораженный известием о том позоре, который ему
готовится; вот он, полный негодования и думающий, что эта
сила негодования даст ему силы Самсона, чтобы устоять
в борьбе с массой ликторов, исполнителей наказания; вот
он, падающий под массой пудов человеческих тел,
насевших ему на плечи, распростертый на полу, позорно
обнаженный, несколькими парами рук, как железом,
прикованный, лишенный всякой возможности
сопротивляться, и над всей этой картиной мерный свист
березовых прутьев да также мерное исчисление ударов
благородным распорядителем экзекуции. Все замерло в
тревожном ожидании стона; этот стон раздался—то не
был стон физической боли — не на нее рассчитывали;
то был мучительный стон удушенного, униженного,
поруганного, раздавленного человеческого достоинства.
Священнодействие совершилось, позорная жертва была
принесена!.. (Аплодисменты, громкие крики: браво!)
Председатель. Поведение публики должно выражаться
в уважении к суду. Суд не театр, одобрение или
неодобрение здесь воспрещается. Если это повторится вновь, я
вынужден буду очистить залу.
П. А. Александров, Сведения, полученные Засулич,
были подробны, обстоятельны, достоверны. Теперь
тяжелые сомнения сменились еще более тяжелой
известностью. Роковой вопрос восстал со всей его беспокойной
настойчивостью. Кто же вступится за поруганную честь
беспомощного каторжника? Кто смоет, кто и как искупит
тот позор, который навсегда неутешимой болью будет
напоминать о себе несчастному? С твердостью перенесет
осужденный суровость каторги, он примирится с этим
1 В надежде (лат.).
296
Дом предварительного заключения в Петербурге. Фасад здаппя со
стороны ул. Захарьевской (ныне ул. Каляева).
возмездием за его преступление, быть может, сознает
его справедливость, быть может, наступит минута, когда
милосердие с высоты трона и для него откроется, когда
скажут ему: «Ты искупил свою вину, войди опять в то
общество, из которого ты удален, войди и будь снова
гражданином». Но кто и как изгладит в его сердце
воспоминание о позоре, о поруганном достоинстве; кто и как
смоет то пятно, которое на всю жизнь останется
неизгладимым в его воспоминании? Наконец, где же гарантия
против повторения подобного случая? Много товарищей по
несчастью у Боголюбова — неужели и они должны
существовать под страхом всегдашней возможности
испытать то, что пришлось перенести Боголюбову? Если
юристы могли создать лишение прав, то отчего психологи,
моралисты не явятся со средствами отнять у лишенного
прав его нравственную физиономию, его человеческую
натуру, его душевное состояние; отчего же они не укажут
средств низвести каторжника на степень скота,
чувствующего физическую боль и чуждого душевных страданий?
Так думала, так не столько думала, как инстинктивно
чувствовала В. Засулич. Я говорю ее мыслями, я говорю
почти ее словами. Быть может, найдется много
экзальтированного, болезненно преувеличенного в ее думах, вол-
297
Дом предварительного заключения в Петербурге. Внутренний двор.
новавших ее вопросах, в ее недоумении. Быть может,
законник нашелся бы в этих недоразумениях, подведя
приличную статью закона, прямо оправдывающую случай с
Боголюбовым: у нас ли не найти статьи закона, коли
нужно ее найти? Быть может, опытный блюститель
порядка доказал бы, что инач£ поступить, как было поступ-
лено с Боголюбовым, и невозможно, что иначе и порядка
существовать не может... Быть может, не блюститель
порядка, а просто практический человек сказал бы, с
полной уверенностью в разумности своего слова: «Бросьте
вы, Вера Ивановна, это самое дело: не вас ведь
выпороли».
Но и законник, и блюститель порядка, и практический
человек не разрешили бы волновавшего Засулич
сомнения, не успокоили бы ее душевной тревоги. Не надо
забывать, что Засулич — натура % экзальтированная,
нервная, болезненная, впечатлительная; не надо
забывать, что павшее на нее, чуть не ребенка в то время,
подозрение в политическом преступлении, подозрение, не
оправдавшееся, но стоившее ей двухлетнего одиночного
заключения, и затем бесприютное скитание надломили
ее натуру, навсегда оставив воспоминание о страданиях
политического арестанта, толкнули ее жизнь на тот путь
и в ту среду, где много поводов к страданию, душевному
298
волнению, но где мало места для успокоения на
соображениях практической пошлости.
В беседах с друзьями и знакомыми, наедине, днем и
ночью, среди занятий и без дела, Засулич не могла
оторваться от мысли о Боголюбове, и ниоткуда сочувственной
помощи, ниоткуда удовлетворения души, взволнованной
вопросами: кто вступится за опозоренного Боголюбова,
кто вступится за судьбу других несчастных,
находящихся в положении Боголюбова? Засулич ждала этого
заступничества от печати, она ждала оттуда поднятия,
возбуждения так волновавшего ее вопроса. Памятуя о
пределах, молчала печать. Ждала Засулич помощи от
силы общественного мнения. Из тиши кабинетов, из
интимного круга приятельских бесед не выползало
общественное мнение. Она ждала, наконец, слова от
правосудия. Правосудие... Но о нем ничего не было
слышно.
И ожидания оставались ожиданиями. А мысли
тяжелые и тревоги душевные не унимались. И снова и снова,
и опять и опять возникал образ Боголюбова и вся его
обстановка.
Не звуки цепей смущали душу, но мрачные своды
мертвого дома леденили воображение: рубцы — позорные
рубцы — резали сердце, и замогильный голос заживо
погребенного звучал:
Что ж молчит в вас, братья, злоба,
Что ж любовь молчит?
И вдруг внезапная доысль, как молния сверкнувшая
в уме Засулич: «А я сама! Затихло, замолкло все о
Боголюбове, нужен крик, в моей груди достанет воздуха
издать этот крик, я издам его и заставлю его услышать!»
Решимость была ответом на эту мысль в ту же минуту.
Теперь можно было рассуждать о времени, о способах
исполнения, но само дело, выполненное 24 января, было
бесповоротно решено.
Между блеснувшей и зародившейся мыслью и
исполнением ее протекли дни и даже недели; это дало
обвинению право признать вмененное Засулич намерение и
действие заранее обдуманными.
Если эту обдуманность относить к приготовлению
средств, к выбору способов и времени исполнения, то,
конечно, взгляд обвинения нельзя не признать
справедливым, но в существе своем, в своей основе, намерение
Засулич не было и не могло быть намерением
хладнокровно обдуманным, как ни велико по аремени расстоя-
299
ние между решимостью и исполнением. Решимость была
и осталась внезапной, вследствие внезапной мысли,
павшей на благоприятно для нее подготовленную почву,
овладевшей всецело и всевластно экзальтированной
натурой. Намерения, подобные намерению Засулич,
возникающие в душе возбужденной, аффектированной, не
могут быть обдумываемы, обсуждаемы. Мысль сразу
овладевает человеком, не его обсуждению она подчиняется, а
подчиняет его себе и влечет за собой. Как бы далеко
ни отстояло исполнение мысли, овладевшей душой,
аффект не переходит в холодное размышление и остается
аффектом. Мысль не проверяется, не обсуживается, ей
служат, ей рабски повинуются, за ней следуют. Нет
критического отношения, имеет место только безусловное
поклонение. Тут обсуживаются и обдумываются только
подробности исполнения, но это не касается сущности
решения. Следует ли или не следует выполнить мысль —
об этом не рассуждают, как бы долго ни думали над
средствами и способами исполнения. Страстное состояние
духа, в котором зарождается и воспринимается мысль,
не допускает подобного обсуждения; так вдохновенная
мысль поэта остается вдохновенной, не выдуманной, хотя
она и может задумываться над выбором слов и рифм
для ее воплощения.
Мысль о преступлении, которое стало бы ярким и
громким указанием на расправу с Боголюбовым, всецело
завладела возбужденным умом Засулич. Иначе и быть
не могло; эта мысль как нельзя более соответствовала
тем потребностям, отвечала на те задачи, которые
волновали ее. Руководящим побуждением для Засулич
обвинение ставит месть. Местью и сама Засулич объяснила свой
поступок, но для меня представляется невозможным
объяснить вполне дело Засулич побуждением мести, по
крайней мере мести, понимаемой в ограниченном смысле
этого слова. Мне кажется, что слово «месть»
употреблено в показании Засулич, а затем и в обвинительном акте
как термин наиболее простой, короткий и несколько
подходящий к обозначению побуждения, импульса,
руководившего Засулич.
Но месть, одна месть была бы неверным мерилом для
обсуждения внутренней стороны поступка Засулич. Месть
обыкновенно руководится личными счетами с
отомщаемым за себя или близких. Но никаких личных,
исключительно ее интересов не только не было для Засулич в
происшествии с Боголюбовым, но и сам Боголюбов не был
ей близким, знакомым человеком.
300
Месть стремится нанести возможно больше зла
противнику; Засулич, стрелявшая в генерал-адъютанта Тре-
пова, сознается, что для нее безразличны были те или
другие последствия выстрела. Наконец, месть старается
достигнуть удовлетворения возможно дешевой ценой,
месть действует скрытно с возможно меньшими
пожертвованиями. В поступке Засулич, как бы ни обсуждать
его, нельзя не видеть самого беззаветного, но и самого
нерасчетливого самопожертвования. Так не жертвую^
собой из-за одной узкой, эгоистической мести. Конечно, не
чувство доброго расположения к генерал-адъютанту Тре-
пову питала Засулич; конечно, у нее было известного
рода недовольство против него, и это недовольство имело
место в побуждениях Засулич, но ее месть всего менее
интересовалась лицом отомщаемым; ее месть
окрашивалась, видоизменялась, осложнялась другими
побуждениями.
Вопрос справедливости и легальности наказания
Боголюбова казался Засулич не разрешенным, а
погребенным навсегда; надо было воскресить его и поставить
твердо и громко. Униженное и оскорбленное человеческое
достоинство Боголюбова казалось невосстановленным,
несмытым, неоправданным, чувство мести —
неудовлетворенным. Возможность повторения в будущем случаев
позорного наказания над политическими преступниками
и арестантами казалась непредупрежденной.
Всем этим необходимостям, казалось Засулич, должно
было удовлетворить такое преступление, которое с
полной достоверностью можно было бы поставить в связь со
случаем наказания Боголюбова и показать, что это
преступление явилось как последствие случая 13 июля, как
протест против поругания над человеческим
достоинством политического преступника. Вступиться за идею
нравственной чести и достоинства политического
осужденного, провозгласить эту идею достаточно громко и
призвать к ее признанию и уверению — вот те побуждения,
которые руководили Засулич, и мысль о преступлении,
которое было бы поставлено в связь с наказанием
Боголюбова, казалось, может дать удовлетворение всем этим
побуждениям. Засулич решилась искать суда над ее
собственным преступлением, чтобы поднять и вызвать
обсуждение забытого случая о наказании Боголюбова.
Когда я совершу преступление, думала Засулич, тогда
замолкнувший вопрос о наказании Боголюбова
восстанет; мое преступление вызовет гласный процесс, и
Россия, в лице своих представителей, будет поставлена в
301
необходимость произнести приговор не обо мне одной, а
произнести его, по важности случая, в виду Европы,
той Европы, которая до сих пор любит называть нас
варварским государством, в котором атрибутом
правительства служит кнут.
Этими обсуждениями и определились намерения
Засулич. Совершенно достоверным поэтому представляется
то абъяснение Засулич, которое притом же дано было ею
при самом первоначальном ее допросе и было затем
неизменно поддерживаемо, что для нее было безразлично:
будет ли последствием произведенного ею выстрела
смерть или только рана. Прибавлю от себя, что для ее
цели было бы одинаково безразлично и то, если бы
выстрел, очевидно направленный в известное лицо, и совсем
не произвел никакого вредного действия, если бы
последовала осечка или промах. Не жизнь, не физические
страдания генерал-адъютанта Трепова нужны были для
Засулич, а появление ее самой на скамье подсудимых и
вместе с ней появление вопроса о случае с Боголюбовым.
Было безразлично, совместно существовало намерение
убить или ранить; намерению убить не отдавала Засулич
никакого особенного преимущества. В этом направлении
она и действовала. Ею не было предпринято ничего,
чтобы выстрел имел последствием смерть. О более опасном
направлении выстрела она не заботилась. А, конечно,
находясь в том расстоянии от генерал-адъютанта Трепова,
в котором она находилась, она действительно могла бы
выстрелить совершенно в упор и выбрать самое опасное
направление. Вынув из кармана револьвер, она
направила его так, как пришлось: не выбирая, не
рассчитывая, не поднимая даже руки. Она стреляла, правда, в
очень близком расстоянии, это делало выстрел более
опасным, но иначе она и не могла действовать. Генерал-
адъютант Трепов был окружен своей свитой, и выстрел
на более далеком расстоянии мог грозить другим,
которым Засулич не желала вредить. Стрелять совсем в
сторону было совсем дело неподходящее: это сводило бы
драму, которая нужна была Засулич, на степень
комедии.
На вопросе о том, имела ли Засулич намерение
причинить смерть или имела намерение причинить только
рану, прокурор остановился с особенной подробностью. Я
внимательно выслушал те доводы, которые он высказал,
но я согласиться с ними не могу, и они все падают
перед соображением о той цели, которую имела В.
Засулич. Ведь не отвергают же того, что именно оглашение
302
дела с Боголюбовым было для Веры Засулич
побудительной причиной преступления. При такой точке зрения мы
можем довольно безразлично относиться к тем
обстоятельствам, которые обратили внимание господина
прокурора, например то, что револьвер был выбран из самых
опасных. Я не думаю, чтобы тут имелась в виду
наибольшая опасность; выбирался такой револьвер, какой
мог удобнее войти в карман; большой нельзя было бы
взять, потому что он высовывался бы из кармана, —
необходимо было взять револьвер меньшей величины. Как
он действовал — более опасно или менее опасно, какие
последствия от выстрела могли произойти — это для
Засулич было совершенно безразлично. Мена револьверов
произведена была без ведения Засулич. Но если даже и
предполагать, как признает возможным предполагать
прокурор, что первый револьвер принадлежит Засулич,
то опять-таки перемена револьвера объясняется очень
просто: прежний револьвер был таких размеров, что не
мог поместиться в карман.
Я не могу согласиться и с тем весьма остроумным
предположением, что Засулич не стреляла в грудь и в
голову генерал-адъютанта Трепова, находясь к нему en
face1, потому только, что чувствовала некоторое
смущение, и что только после того, как несколько оправилась,
она нашла в себе достаточно силы, чтобы произвести
выстрел. Я думаю, что она просто не стреляла в грудь
генерал-адъютанта Трепова потому, что она не
заботилась о более опасном выстреле; она стреляет тогда,
когда ей уже приходится уходить, когда ждать более нельзя.
Раздался выстрел... Не продолжая более дела,
которое совершала, довольствуясь вполне тем, что
достигнуто, Засулич сама бросила револьвер, прежде чем успели
схватить ее, и, отойдя в сторону, без борьбы и
сопротивления отдалась во власть набросившегося на нее майора
Корнеева и осталась не задушенной им только
благодаря помощи других окружающих. Ее песня была теперь
спета, ее мысль исполнена, ее дело совершено.
Я должен остановиться на прочтенном здесь
показании генерал-адъютанта Трепова. В этом показании
сказано, что после первого выстрела Засулич, как заметил
генерал Трепов, хотела произвести второй выстрел и что
началась борьба: у нее отнимали револьвер. Это
совершенно ошибочное показание генерал-адъютанта
Трепова объясняется тем весьма понятным взволнованным со-
1 Прямо перед (ним), напротив (франц.).
303
стоянием, в котором он находился. Все свидетели, хотя
так же взволнованные происшествием, но не до такой
степени, как генерал-адъютант Трепов, показали, что
Засулич совершенно добровольно, без всякой борьбы,
бросила сама револьвер и не показывала намерения
продолжать выстрелы. Если же и представилось генерал-
адъютанту Трепову что-либо похожее на борьбу, то это
была та борьба, которую вел с Засулич Корнеев и вели
прочие свидетели, которые должны были отрывать Корне-
ева, вцепившегося в Засулич.
Я думаю, что ввиду двойственности намерения
Засулич, ввиду того, что для ее намерений было
безразлично последствие большей или меньшей важности, что ею
ничего не было предпринято для достижения именно
большего результата, что смерть только допускалась, а
не была исключительным стремлением Засулич, — нет
оснований произведенный ею выстрел определять
покушением на убийство. Ее поступок должен бы был быть
определен по тому последствию, которое произведено в
связи с тем особым намерением, которое имело в виду
это последствие.
Намерение было: или причинить смерть, или нанести
рану; не последовало смерти, но нанесена рана. Нет
основания в этой нанесенной ране видеть осуществление
намерения причинить смерть, уравнивать это нанесение
раны покушению на убийство, а вполне было бы
справедливо считать не более как действительным нанесением
раны и осуществлением намерения нанести такую рану.
Таким образом, отбрасывая покушение на убийство как
неосуществившееся, следовало бы остановиться на
действительно доказанном результате, соответствовавшем
особому условному намерению — нанесению раны.
Если Засулич должна понести ответственность за свой
поступок, то эта ответственность была бы справедливее
за зло, действительно последовавшее, а не такое,
которое не было предположено как необходимый и
исключительный результат, как прямое и безусловное
стремление, а только допускалось.
Впрочем, все это — только мое желание представить
вам соображения и посильную помощь к разрешению
предстоящих вам вопросов; для личных же чувств и
желаний Засулич безразлично, как бы ни разрешился
вопрос о юридическом характере ее действий, для нее
безразлично быть похороненной по той или другой статье
закона. Когда она переступила порог дома
градоначальника с решительным намерением разрешить мучившую ее
304
мысль, она знала и понимала, что она несет в жертву
все — свою свободу, остатки своей разбитой жизни, все
то немногое, что дала ей на долю мачеха-судьба.
И не торговаться с представителями общественной
совести за то или другое уменьшение своей вины явилась
она сегодня перед вами, господа присяжные заседатели.
Она была и осталась беззаветной рабой той идеи,
во имя которой подняла она кровавое оружие.
Она пришла сложить перед вами все бремя
наболевшей души, открыть перед вами скорбный лист своей
жизни, честно и откровенно изложить все то, что она
пережила, передумала, перечувствовала; что двинуло ее на
преступление, чего ждала она от него.
Господа присяжные заседатели! Не в первый раз на
этой скамье преступлений и тяжелых душевных
страданий является перед судом общественной совести
женщина по обвинению в кровавом преступлении.
Были здесь женщины, смертью мстившие своим
соблазнителям; были женщины, обагрявшие руки в крови
изменивших им любимых людей или своих более
счастливых соперниц. Эти женщины выходили отсюда
оправданными. То был суд правый, отклик суда божественного,
который взирает не на внешнюю только сторону деяний,
но и на внутренний их смысл, на действительную
преступность человека. Те женщины, свершая кровавую
расправу, боролись и мстили за себя.
В первый раз является здесь женщина, для которой
в преступлении не было личных интересов, личной
мести, — женщина, которая со своим преступлением
связала борьбу за идею во имя того, кто был ей только
собратом по несчастью всей ее молодой жизни. Если этот
мотив проступка окажется менее тяжелым на весах
общественной правды, если для блага общего, для
торжества закона, для общественной безопасности нужно
призвать кару законную, тогда — да совершится
ваше карающее правосудие! Не задумывайтесь!
Немного страданий может прибавить ваш приговор
для этой надломленной, разбитой жизни. Без упрека, без
горькой жалобы, без обиды примет она от вас решение
ваше и утешится тем, что, может быть, ее страдания,
ее жертва предотвратит возможность повторения случая,
вызвавшего ее поступок. Как бы мрачно ни смотреть на
этот поступок, в самих мотивах его нельзя не видеть
честного и благородного порыва.
Да, она может выйти отсюда осужденной, но она
не выйдет опозоренной, и остается только пожелать, что-
305
бы не повторялись причины, производящие подобные
преступления, порождающие подобных преступников.
Резюме председателя Л. Ф. Кони
Господа присяжные заседатели! Судебные прения
окончены, и вам предстоит произнести ваш приговор.
Вам была предоставлена возможность всесторонне
рассмотреть настоящее дело, пред-вами были открыты
беспрепятственно все обстоятельства, которые, по мнению
сторон, должны были разъяснить сущность деяния
подсудимой,— и суд имеет основания ожидать от вас
приговора обдуманного и основанного на серьезной
оценке имеющегося у вас материала. Но прежде чем вы
приступите к означенному обсуждению дела, я обязан дать
вам некоторые указания о том, как и в каком порядке
надо приступать к оценке данных дела.
Когда вам предлагается вопрос о виновности
подсудимого в каком-либо преступлении, у вас естественно и
прежде всего возникает два вопроса: кем совершено
деяние и что именно совершено. Вы должны спросить себя,
находится ли перед вами лицо, ответственное за свои
проступки, т. е. не такое, в котором старость ослабила,
молодость не вполне развила, болезнь погасила
умственные силы. Вы должны убедиться, что перед вами
находится человек, сознающий свои поступки и,
следовательно, могущий подлежать за них ответственности.
В настоящем деле нет указаний на душевную болезнь,
нет и вопроса о возрасте, и если защитник говорил перед
вами о состоянии «постоянного аффекта», т. е.
гнетущего и страстного порыва, то и он не указывал на то, чтобы
этим состоянием у подсудимой затемнялось сознание. Что
же касается до нервности подсудимой, следы которой
не могли ускользнуть от вас, то нервность лишь
вызывает большую впечатлительность.
Поэтому я думаю, что первый вопрос не представит
для вас особых трудностей. Но второй вопрос труднее.
Вы должны знать, на основании твердых данных, что
именно совершено. Мало знать, что то или другое
преступное деяние совершено,— необходимо знать, для него
оно совершено, т. е. знать цель и уяснить себе намерение
подсудимого.
А затем возникает более общий вопрос: из каких
побуждений сделано то, что привело подсудимого пред
вас.
306
Есть дела, где эти вопросы разрешаются
сравнительно легко, где в самом преступлении содержится уже и
его объяснение, содержится указание на его цель. В
таких делах, по большей части, для всякого ясно, к чему
стремится обвиняемый. Так, кража в огромном
большинстве случаев совершается для завладения чужим
имуществом тайно, грабеж — для похищения его явно,
изнасилование — для удовлетворения животной страсти
и т. д.
Но есть дела более сложные. В них неизбежно надо
исследовать внутреннюю сторону деяния. Один факт еще
ничего не говорит или, во всяком случае, говорит очень
мало. Таково убийство. Убийство — есть лишение жизни.
Оно является преступным, когда совершается не для
самообороны. Но оно может быть совершаемо различно.
Я могу совершить убийство необдуманно, играя
заряженным оружием; я могу убить в драке, нанося удары
направо и налево; могу прийти в негодование и в порыве
гнева убить оскорбителя; могу, не ослепляемый
раздражением, сознательно лишить жизни другого и могу,
наконец, воспитать в себе прочную ненависть и под
влиянием ее в течение многих иногда дней подготовить себя
к тому, чтобы решительным, но задолго предвиденным
ударом лишить кого-либо жизни. Все это будут ступени
одной и той же лестницы, все они называются убийством,
но какая между ними разница! И для того, чтобы
ошибочно не стать ступенью ниже или, в особенности,
ступенью выше, чем следует по справедливости, необходимо
рассмотреть внутреннюю сторону преступления. Это
рассмотрение укажет, какое это убийство, если только это
убийство.
Но в настоящем деле обвинением поднят вопрос о
покушении. Вам из явлений обыденной жизни известно,
что такое покушение. Оно может быть различно. Бывают
случаи, когда человек сам останавливается, приступив
к совершению преступления. Стыд, страх, внутренний
голос, слабость воли могут остановить его в самом
начале. Но когда и выстрелил человек, когда замахнулся
оружием, Могут быть разные исходы: удар пришелся
мимо, последовал промах, или удар пришелся в
защищенное, случайно или не случайно, место и, встретив
препятствие, не причинил вреда, или же, наконец, удар дошел
по назначению, но особенности организма того, кому он
был назначен, уничтожили, ослабили смертоносную силу.
Удар может быть нанесен так, что есть полная
вероятность, что он разрушит такие части тела, с невреди-
307
мостью которых связана сама жизнь, а между тем
случайное отклонение лезвия ножа или пути, избранного
пулей, оставит важные внутренние органы без
существенных повреждений или причинит такие, для борьбы
против которых окажется достаточно жизненной силы у
поврежденного организма. В этих последних случаях
закон считает, что обвиняемый исполнил все, что от него
зависело. Смерть не произошла не по его воле, и не от него
уже зависело устранить ее, отдалить ее приход.
С таким именно случаем, по мнению представителя
обвинительной власти, имеете вы теперь дело. Вы
вдумаетесь в обстоятельства дела и в то, что было
объясняемо вам здесь, и решите — есть ли прочные данные для
этого вывода.
Картина самого события в приемной
градоначальника 24 января должна быть вам ясна. Все
свидетельские показания согласны между собой в описании того,
что сделала Засулич. Револьвер, брошенный ею, пред
вами. Объяснение, почему она его бросила, вы слышали.
Оно подтверждается как устройством спуска курка
револьвера, так и той, предвиденной ею, суматохой около нее
после выстрела, о которой обстоятельно рассказали здесь
Курнеев и Греч. Некоторое сомнение может возбудить
лишь показание потерпевшего, прочитанное здесь на
суде. Но это сомнение будет мимолетное. Для него нет
оснований, и предположение о борьбе со стороны
Засулич и о желании выстрелить еще раз ничем не
подтверждается. Надо помнить, что показание потерпевшего дано
почти тотчас после выстрела, когда под влиянием
физических страданий и нравственного потрясения, в жару
боли и волнения, генерал-адъютант Трепов не мог
вполне ясно различать и припоминать все происходившее
вокруг него. Поэтому, без ущерба для вашей задачи, вы
можете не останавливаться на этом показании.
Факт выстрела, причинившего рану, несомненен. Но
какая это рана, какой ее исход, каково ее значение?
Здесь были выслушаны эксперты. Эксперты — те же
свидетели. Они также говорят о том, что видели или
слышали. Но они отличаются одним свойством от
свидетелей обыкновенных. Обыкновенный свидетель — человек
простой, относящийся непосредственно к виденному и
слышанному. Его личные впечатления и выводы иногда
затемняют то красноречие фактов, которое содержится в
его показании. Но эксперт — свидетель, по
преимуществу вооруженный научным знанием и специальным
опытом. Поэтому он не только может, но должен говорить
308
о значении того, что он видит и слышит; его выводы
освещают дело, устраняют многие сомнения и неясность
обыденных представлений заменяют определенным
взглядом, основанным на строгих данных науки.
И к свидетелям и к экспертам можно относиться с
большим или меньшим доверием. Я напомню, что доверие
к свидетелю на суде должно основываться на
нравственном, а если они даны экспертом, то и на научном его
авторитете.
Вы примените эти условия к показаниям экспертов,
бывших перед вами. Если вы найдете, что эксперты
относились к делу с полным спокойствием и вниманием,
что они, несмотря на разнообразное свое положение,
вполне свободно сошлись в одних и тех же выводах, то
вы, вероятно, отнесетесь к ним с доверием. Если, затем,
вы припомните, что здесь пред вами были трое из
наиболее выдающихся хирургов столицы, и в том числе два
профессора хирургии, и что они имели возможность
проследить ранение и его последствия, так сказать, по
горячим следам, у постели больного, то вы придадите их
показаниям научный авторитет. Сущность этих
показаний от вас не ускользнула: рана нанесена, как
оказывается из осмотра опаленного места на мундире, почти
в упор — рана тяжелая и грозившая опасностью жизни.
Внутренняя сторона деяния Засулич будет затем
подлежать особому вашему обсуждению. Здесь надо
приложить всю силу разумения, чтобы правильнее оценить
цель и намерение, вложенные в действия подсудимой.
Я укажу лишь на то, что более выдающимися
основаниями для осуждения представляются здесь: во-первых,
собственное объяснение подсудимой и, во-вторых,
обстоятельства дела, не зависимые от этого объяснения, но
которыми во многих отношениях может быть
проверена его правильность или неправильность.
Собственное объяснение подсудимой прежде всего
оценивается по тому доверию, какое вообще внушает или не
внушает личность подсудимой. На скамью обвиняемых
являются люди самых различных свойств. Обстановка, в
которой они действовали до появления на этой скамье,
обыкновенно отражается и на степени доверия, внушаемого их
объяснениями перед судом. В большинстве случаев к
объяснениям подсудимого надо относиться с осторожностью.
Он слишком близкий к делу человек, он слишком
большое участие в нем принимает, чтобы относиться к нему со
спокойствием, чтобы иногда, под влиянием своего
положения, невольно не смотреть на деяние свое односторонне,
309
т. е. не вполне согласно с истиной. Это настолько понятное
явление, что обращаться к подсудимому с укором не
следует, а следует лишь искать проверки объяснения
подсудимого в сложившихся так или иначе фактах дела. Но
собственное объяснение подсудимого, в особенности в делах,
подобных настоящему, всегда должно быть принимаемо во
внимание.
Существует, если можно так выразиться, два крайних
типа по отношению к значению даваемых ими
объяснений. С одной стороны — обвиняемый в преступлении,
построенном на своекорыстном побуждении, желавший
воспользоваться в личную выгоду плодами преступления,
хотевший скрыть следы своего дела, бежать сам и на суде
продолжающий то же, в надежде лживыми
объяснениями выпутаться из беды, которой он всегда рассчитывал
избежать,— игрок, которому изменила ловкость,
поставивший на ставку свою свободу и желающий
отыграться на суде. С другой стороны — отсутствие личной
выгоды в преступлении, решимость принять его неизбежные
последствия, без стремления уйти от правосудия,—
совершение деяния в обстановке, которая заранее
исключает возможность отрицания вины.
Между этими двумя типами укладываются все
обвиняемые, бывающие на суде, приближаясь то к тому, то
к другому. Очевидно, что обвиняемый первого типа
заслуживает менее доверия, чем обвиняемый второго.
Приближение к тому или другому типу не может
уничтожать преступности деяния, приведшего обвиняемого к
необходимости давать свои объяснения на суде, но может
влиять на степень доверия к этим объяснениям.
К какому типу ближе подходит Вера Засулич —
решите вы и сообразно с этим отнесетесь с большим или
меньшим доверием к ее словам о том, что именно она
имела в виду сделать, стреляя в генерал-адъютанта Тре-
пова. Вы слышали объяснения Засулич здесь, вы помните
сущность ее объяснения тотчас после происшествия.
Оно приведено в обвинительном акте. Оба эти показания
в сущности сводятся к желанию нанесением раны или
причинением смерти отомстить генерал-адъютанту Тре-
пову за наказание розгами Боголюбова и тем обратить
на случившееся в предварительной тюрьме общее
внимание. Этим, по ее словам, она хотела сделать менее
возможным на будущее время повторение подобных случаев.
Вы слышали прения сторон. Обвинитель находит, что
подсудимая совершила мщение, имевшее целью убить
генерал-адъютанта Трепова.
310
Обвинитель указывал вам на то нравственное
осуждение, которому должны подвергаться избранные
подсудимой средства, даже и в тех случаях, когда ими
стремятся достигнуть нравственных целей. Вам было
указано на возможность такого порядка вещей, при котором
каждый, считающий свои или чужие права
нарушенными, постановлял бы свой личный, произвольный
приговор и сам приводил бы его в исполнение.
Рассматривая с этой точки зрения объяснения подсудимой и
проверяя их обстановкой преступления, прокурор находил,
что подсудимая хотела лишить жизни потерпевшего.
Вы слышали затем доводы защиты. Они были
направлены преимущественно на позднейшее объяснение
подсудимой, в силу которого рана или смерть генерал-
адъютанта Трепова была безразлична для Засулич,—
важен был выстрел, обращавший на причины, по
которым он был произведен, общее внимание. Таким
образом, по предположению защиты, подсудимая считала
себя поднимающей вопрос о восстановлении чести
Боголюбова и разъяснении действительного характера
происшествия 13 июля, и не только перед судом России, но и
перед лицом Европы. То, что последовало после
выстрела, не входило в расчеты подсудимой.
Вы посмотрите спокойным взглядом на те и другие
доводы, господа присяжные заседатели. Вы остановитесь
на их беспристрастном разборе и, произведя его,
вероятно, встретитесь с вопросами.
Если нужно обращать на что-либо общее внимание,
хотя бы путем необыкновенного или даже незаконного
поступка, то является ли стрельба из револьвера и на
расстоянии, на котором трудно промахнуться,
единственным неизбежным средством? Общее внимание
исключительно ли. связано с действиями, которые почти
неминуемо сопровождаются пролитием крови? Выстрел,
направленный не в человека, но с внешними признаками
покушения, не так же ли может поднять вопрос? Наконец,
поднятие вопросов, хотя бы и о действительно больных
сторонах общественной жизни, способом, избранным
подсудимой, не является ли резким нарушением правильного
устройства этой жизни, не является ли лекарством,
которое оставляет болезненные следы, так как определение
в каждом данном случае вопроса, который должен быть
таким образом поднят, ставится в зависимость от произвола,
от развития, от разума или неразумия отдельного лица.
Обратясь к показанию Засулич, вы поищите в нем
доказательств того, что она могла быть твердо уверена,
311
что дело ее будет разбираться обыкновенным судом,
публичным, гласным; ввиду этого вопроса я должен вам
напомнить, что она здесь, на суде, объяснила
именование себя Екатериной Козловой боязнью за своих
знакомых, так как предполагала, что дело о ней будет
производиться политическим порядком. А по этим делам закон
разрешает закрывать двери суда всегда, когда это будет
признано судом нужным.
Обсуждая доводы прокурора, вам придется
остановиться на том, что надо понимать под мщением..
Придется разобрать значение первоначального заявления
подсудимой о желании отомстить. Быть может, в самом
этом слове вы найдете и объяснение практической цели,
для которой был произведен выстрел, если вы
согласитесь с обвинителем в его взгляде на поступок Засулич.
Чувство мщения свойственно немногим людям; оно
не так естественно, не так тесно связано с
человеческой природой", как страсть, например ревность, но оно
бывает иногда весьма сильно, если человек не
употребит благороднейших чувств души на подавление в
себе стремления отомстить, если даст этому чувству
настолько ослепить себя и подавить, что станет смешивать
отомщение с правосудием, забывая, что враждебное
настроение — плохое подспорье для справедливости
решения. Каждый, более или менее, в эпоху, когда еще
характер не сложился окончательно, испытывал на себе
это чувство. Состоит ли оно в непременном желании
уничтожить предмет гнева, виновника страданий,
вызвавшего в душе прочное чувство мести? Или наряду с
желанием уничтожить — и притом гораздо чаще —
существует желание лишь причинить нравственное или
физическое страдание или и то и другое страдание вместе?
Акты мщения встречаются, к сожалению, в жизни в
разнообразных формах, но нельзя сказать, чтобы в
основе их всегда лежало желание уничтожить, стереть с лица
земли предмет мщения.
Вы знаете жизнь, вы и решите этот вопрос. -Быть
может, вы найдете, что в мщении выражается не
исключительное желание истребить, а и желание причинить
страдание и подвергнуть человека нравственным ударам.
Если вы найдете это, то у вас может явиться
соображение, что указание Засулич на желание отомстить еще не
указывает на ее желание непременно убить генерал-
адъютанта Трепова.
Разрешить так или иначе вопрос о степени доверия к
показанию подсудимой нельзя, не перейдя к проверке его
312
данными дела. И здесь вы снова встретитесь с рядом
вопросов. Во-первых, вы обратите внимание на оружие
и на то, что оно куплено по поручению подсудимой.
Показание Лежена охарактеризовало перед вами свойства
револьвера. Это — один из сильнейших. Вместе с тем по
конструкции своей он один из самых коротких. Вы
припомните мнение обвинителя, что калибр револьвера, его
боевая сила указывают на желание убить, но вы не
упустите из виду и Того соображения, что размер револьвера
делал удобным его ношение в кармане и его незаметное
вынутие оттуда, причем не цель непременного убийства
могла быть в виду, а лишь обстановка, в которой
придется стрелять. Во-вторых, вы обсудите расстояние, с
которого произведен выстрел, и место, куда он
произведен. То, что он произведен почти в упор, может служить
указанием на желание причинить смертельное
повреждение, но не надо упускать из виду, что расстояние между
генерал-адъютантом Треповым и Засулич
обусловливалось обстановкой и, быть может, с другого места
выстрела уже и нельзя было произвести. Вы решите, было ли
расстояние, с которого был произведен столь близкий
выстрел, выбрано Засулич произвольно и не было ли бы
удобнее для целей убийства стрелять с несколько
большего расстояния, так как тогда можно, не стесняясь
расстоянием, навести пистолет в наиболее опасную часть
тела. При этом вы сделаете и оценку выбора места, куда
произведен был выстрел. Вы припомните, что говорил
обвинитель о волнении подсудимой, мешавшем ей
сделать выстрел иначе, но не забудете также и того, что,
по обыденным понятиям и по медицинскому исходу
настоящего ранения, наиболее опасными местами для
причинения смерти являются голова и грудь. Вы вообще
обратите особое внимание на оценку данных самого
события.
Перед вами здесь было высказано, что для
определения того, что Засулич не хотела убить, не нужно
особенно останавливаться на фактах,— они, по-видимому,
представляются не имеющими значения. Но я не могу со
своей стороны дать вам такого совета. Я думаю, что
на факты нужно во всяком деле обращать особое
внимание. На одних предположениях и теоретических
выводах судебного решения — обвинительного или
оправдательного безразлично — строить нельзя. Предположения
и выводы являются иногда прочной и верной связью
между фактами; но сами по себе еще ничего не
доказывают. Всего лучше и несомненнее цифры, где нет цифр,
313
там остаются факты, но если цифр нет, если факты
отбрасываются в сторону, то всякий вывод является
произвольным1 и лишенным оснований. Поэтому, повторяю,
при обсуждении двух возникающих из дела вопросов о
покушении на убийство и о нанесении раны вдумайтесь
в факты и подвергните их тщательному разбору.
Отвечая на первый из поставленных вам вопросов, вы
ответите на вопрос о ране — тяжелой и обдуманной
заранее; отвечая не только на первый, но и на второй вопрос,
вы отвечаете на вопрос об убийстве, которое, как вы
видите из прежнего вопроса, предполагается не
совершившимся только от причины, которые устранить или создать
было не в силах Засулич.
Ответ на все эти вопросы дает полную картину
покушения на убийство, ответ на один первый — дает
картину нанесения, сознательно и обдуманно, тяжелой раны.
При признании подсудимой виновной вам придется
выбирать между этими двумя ответами. Быть может,
у вас возникнут сомнения относительно выбора одного
из этих ответов. Ввиду этого я должен вам напомнить,
что по общему юридическому и нравственному
правилу всякое сомнение толкуется в пользу подсудимого;
в применении к двум обвинениям в различных
преступлениях это значит, что избирается обвинение в
преступлении слабейшем.
Остается указать еще на ту часть вопроса первого,
одинаково применимую и к покушению на убийство, и к
нанесению тяжелой раны, которая говорит о заранее
обдуманном намерении.
Каждое действие чем серьезнее, тем более оно
обдуманно; то же и по отношению к преступлению.
Обвинительная власть находит, что подсудимая учинила свое
деяние, задолго его обдумав и приготовясь к нему; за*
щита полагает, что ничего обдуманного заранее не было
и что Засулич, думая о том, что она впоследствии
совершила в приемной градоначальника, находилась в
состоянии постоянного аффекта, т. е. в состоянии
постоянно гнетущего и страстного раздражения. Преступления,
совершенные в состоянии раздражения, существенно
отличаются от обдуманных заранее. Если вы признаете,
что подсудимая в то время, когда стреляла в генерал*
адъютанта Трепова, находилась в состоянии вызванного
в ней незадолго перед тем раздражения и гнева, то вы
отвергнете обдуманность и исключите ее из .первого во*
проса, прибавив к нему, в случае утвердительного
ответа на прочие его части, «но без обдуманного намерения».
314
Закон, однако, признает запальчивость и раздражение
как последствия внезапно налетевшего гнева, который
вполне овладевает человеком. Неожиданная обида,
насилие, явное притеснение, возмутительное поведение могут
в очевидцах или в потерпевшем вызвать негодование,
которое заставит его забыть об окружающем и
броситься на обидчика или, вступив с ним в объяснение,
постепенно потерять всякое самообладание и свершить над
ним преступное деяние, последствий которого
совершитель за час, за полчаса иногда вовсе и не предвидел и
которых он в спокойном состоянии сам ужаснулся бы.
Но где есть некоторое время подумать, побыть с самим
собой, где на первом плане не гнев, а более спокойное
и более глубокое враждебное чувство, там убийство
является уже умышленным. Там же, где желание
причинить вред или убить существует более или менее
продолжительное время, где человек встает и ложится с
одной мыслью, с одной решимостью, где он приобретает
средства для своего деяния и затем, однажды все
обдумав и предусмотрев и на все решившись, идет на
свершение своего дела,-^- там мы, с точки зрения закона,
имеем дело с преступлением предумышленным, т. е.
совершенным с заранее обдуманным намерением. Каждый
день, в течение долгого приготовления и обдумывания,
человек этот может негодовать на свою будущую
жертву, каждый день воспоминание о ней может возбуждать
и гнев, и раздражение, и все-таки, если это
продолжалось много-много дней и в течение их мысль о будущем
деле созрела и развивалась, закон указывает на пред-
умышление.
Не в гневе, не в страстном негодовании отличие
преступления, совершенного предумышленно, от деяния,
сделанного в раздражении, а в промежутке времени,
дающем возможность одуматься, критически отнестись к
себе и к задуманному делу и, призвав на помощь силу
воли, отказаться от заманчивого плана. Там, где была эта
возможность критики, возможность отказа, возвращения
назад, возможность раздумия, там закон видит условия
обдуманности. Где этого нет, когда человек неожиданно
поглощен страстным порывом, там закон видит аффект.
Господа присяжные! Мне нечего говорить вам о
порядке ваших совещаний: он вам известен. Нечего
говорить о важности ваших обязанностей как представителей
общественной совести, призванных творить суд.
Открывая заседание, я уже говорил вам об этом, и то
внимание, с которым вы относились к делу, служит залогом
315
вашего серьезного отношения к вашей задаче. Указания,
которые я вам делал теперь, есть не что иное, как
советы, могущие облегчить вам разбор данных дела и
приведение их в систему. Они для вас нисколько не
обязательны. Вы можете их забыть, вы можете их принять во
внимание. Вы произнесете решительное и окончательное
слово по этому важному, без сомнения, делу. Вы
произнесете это слово по убеждению вашему, глубокому,
основанному на всем, что вы видели и слышали, и ничем
не стесняемому, кроме голоса вашей совести.
Если вы признаете подсудимую виновной по первому
или по всем трем вопросам, то вы можете признать ее
заслуживающей снисхождения по обстоятельствам дела.
Эти обстоятельства вы можете понимать в широком
смысле. К ним относится все то, что обрисовывает перед
вами личность виновного. Эти обстоятельства всегда
имеют значение, так как вы судите не отвлеченный предмет,
а живого человека, настоящее которого всегда прямо или
косвенно слагается под влиянием его прошлого.
Обсуждая основания для снисхождения, вы припомните
раскрытую перед вами жизнь Засулич. Быть может, ее
скорбная, скитальческая молодость объяснит вам ту
накопившуюся в ней горечь, которая сделала ее менее
спокойной, более впечатлительной и более болезненной по
отношению к окружающей жизни, и вы найдете
основания для снисхождения.
(К старшине.) Получите вопросный лист. Обсудите
дело спокойно и внимательно, и пусть в приговоре вашем
скажется тот «дух правды», которым должны быть
проникнуты все действия людей, исполняющих священные
обязанности судьи.
ДЕЛО
КАЧКИ
Дело Прасковьи Качки принадлежит к числу очень
популярных в те времена дел об убийстве из ревности.
За такие дела известные адвокаты брались охотно:
была возможность блеснуть красноречием, тонким
психологическим анализом, предстать в благородном
облике защитника несчастного и нередко обезумевшего
от горя супруга или обманутой девушки. Речи адвокатов
на таких процессах пользовались большим успехом в
обществе. Особенно удавались они Н. П. Карабчевскому
и Ф. Н. Плевако. Речь Ф. Н. Плевако по делу Качки
современники относили к числу шедевров судебного
красноречия и даже сравнивали ее с художественным
произведением. Столь же эффектна и безупречна и речь
прокурора П. Н. Обнинского.
Дело по обвинению дворянки Прасковьи Петровны
Качки, 19 лет, в умышленном убийстве Байрашевского
слушалось 22 и 23 марта 1880 года в Московском
окружном суде с участием присяжных заседателей под
председательством Д. Е. Рынкевича. Обстоятельства дела
достаточно подробно излагаются в речах сторон.
Решением присяжных заседателей Прасковья Качка
была оправдана, как совершившая убийство в состоянии
умоисступления.
Речь обвинителя прокурора
окружного суда П. Н. Обнинского
Господа присяжные заседатели! 15 марта 1879 года,
вечером, в меблированных комнатах Квирина на
Басманной был убит выстрелом из револьвера бывший сту-
317
дент Медико-хирургической академии дворянин
Бронислав Байрашевский. Убийство совершено в номере
студента Гортынского в то время, когда у него
собирались товарищи и знакомые; между ними находилась
девица Прасковья Качка, тут же сознавшаяся в этом
убийстве, но объяснившая, что открыть причину убийства
она не желает.
Предварительным следствием было между прочим
обнаружено, что Качка и Байрашевский познакомились
в Москве еще в 1878 году. Почти одинаковый возраст,
общая цель — подготовить себя к предстоящей
деятельности научным образованием, наконец, совместное
жительство на общей квартире — все это не могло не
способствовать к сближению молодых людей. Научные
занятия шли без всякого руководства, без достаточной
к тому подготовки и потому, вместо желаемой цели,
привели к совершенно иному результату: молодые люди
полюбили друг друга.
Зародившись в дружбе, любовь эта скоро, в Качке
по крайней мере, перешла в страсть: обещание Байра-
шевского жениться на Качке давало полный простор
такому чувству. По отзывам свидетелей, Качка
перестала заниматься, появились перемены в характере,
привычках, и она, видимо, находилась под гнетом какого-то
страстного беспокойного влечения, с резкими переходами
от беспредельной веселости к мрачному настроению, как
это часто случается у влюбленных. Байрашевский,
напротив того, начал заметно охладевать к Качке,
избегал даже встречаться с ней, откладывал свадьбу и т. п.—
и это уже после того, когда взаимные отношения их
достигли того предела, за которыми подозревалась
возможность сделаться матерью.
В этом периоде их взаимных отношений, когда
страстное чувство Ка^ки достигло своего высшего напряжения,
Байрашевский изменяет ей и становится женихом
другой девушки, ее же подруги — Ольги Пресецкой,
которая также одновременно жила и занималась с ними
в общей квартире.
Сначала только подозревая измену, но вскоре затем
убедившись в этом, Качка начинает жестоко страдать,
ищет выхода в мысли о самоубийстве, решает покончить
и с Байрашевским, покупает револьвер, но еще
колеблется в своем решении. Через неделю, именно 15 марта,
узнав о приезде из Петербурга Ольги Пресецкой, с тем
чтобы ехать с Байрашевским к родителям его и
обвенчаться там, Качка вечером того же дня убивает Байра-
318
П. Н. Обнинский.
шевского в то время, когда все окружающие
наслаждались ее пением.
Вот и вся история несчастной любви Качки и того
трагического исхода, который привел ее сегодня на
скамью подсудимых. Уже из моего короткого рассказа,
основанного на бесспорных фактах судебного следствия,
вы, господа присяжные заседатели, могли убедиться,
что дело идет об одном из обыкновенных убийств,
с обыкновеннейшим мотивом — ревностью, т. е. о деянии
хотя и несомненно преступном, но вызванном и
обусловленном логическим ходом событий, последовательным
развитием страстей, присущих каждому и умственно
здоровому человеку, а стало быть — о деянии
психически нормальном.
Не столь ясным и простым представлялось дело
прежде, в начале предварительного следствия: в
высшей степени самолюбивая, все еще любящая убитого
ею жениха, Качка долгое время не хотела раскрыть
319
причину убийства, ей тяжело было обнаружить
поведение покойного, бросить на него тень, сделать ему
упрек... еще тяжелее было ей признать, что она,
отдавшаяся своему жениху, забыта ради другой, забыта
и поругана; ей было больно даже и подумать об этом;
понятно, что на первых порах она должна была молчать
о причине. Это сообщило загадочность делу;
подозревался болезненный аффект, появились слухи о
политической цели убийства... Следствию удалось, однако,
доказать как полнейшую несостоятельность этих обоих
предположений, так и раскрыть истинную причину
убийства. На это, между прочим, потребовалось много
времени, и вот почему мы только сегодня приступаем
к судебному разрешению события, совершившегося
ровно год тому назад,— события, столь несложного по
своим внешним очертаниям и, кроме того,
засвидетельствованного собственным сознанием обвиняемой. Зато
факт, сначала загадочный, низведен был в область
понятных для каждого, того искренне желающего, и самых
обыкновенных явлений. Доказать это последнее
положение составляет в нашем деле главнейшую
преобладающую задачу обвинения, так как сама подсудимая и ее
защита, как это видно по оконченному судебному
следствию, стараются, совершенно для меня неожиданно,
вернуть дело снова в ту туманную сферу, из которой
оно первоначально возникло.
Для уразумения того, является ли известное деяние
свободным продуктом злой воли или совершено оно под
гнетом душевной болезни, весьма важно знать повод,
вследствие которого возникло первое сомнение
относительно умственной состоятельности и свободной воли
обвиняемого. Важно это потому, что если повод такой
обусловлен каким-нибудь субъективным явлением,
обнаруженным в поведении самого обвиняемого, то,
естественно, к предположению о его ненормальном
состоянии мы должны отнестись более или менее
доверчиво; если же, наоборот, повод этот стоит вне сферы
личных явлений из жизни и натуры обвиняемого
и возник по чьему-либо стороннему указанию или по
излишней, хотя и весьма почтенной в этом случае,
мнительности следователей, то такое обстоятельство
может иметь значение только тогда, когда
возбужденной по такому поводу врачебной экспертизой подозрения
эти в чем-либо подтвердятся. Применяя эти общие
положения к рассматриваемому случаю, мы видим, что повод,
благодаря которому возникло сомнение в умственном
320
здоровье девицы Качки, должен быть отнесен не к первой,
а ко второй категории; он пришел к нам, /гак сказать,
снаружи. Первое сомнение было возбуждено братом
подсудимой, заявившим следователю о беременности
сестры и о развившемся вследствие этого ее душевном
расстройстве; сомнение подкреплялось долгим и упорным
молчанием подсудимой об истинной причине убийства.
Но когда стараниями следователя была обнаружена
эта причина, когда произведена была врачебная
экспертиза, то стало несомненным: первое, что заявление
о беременности было внушено исключительно чувством
братской любви и не имело под собой никакой
фактической основы, и второе, что мотивом убийства была
не душевная болезнь, а просто ревность. Итак, повод
к сомнению, зародившись извне, не получил при
обследовании никакого подтверждения.
Результатом освидетельствования явилось
заключение врачей о полном умственном здоровье и,
следовательно, полной способности к эменению. Единственным
диссонансом в таком гармоническом соглашении
представляется мнение врача Державина. Мнение это,
основанное не только на кратком, а, можно сказать, на
мимолетном наблюдении, положительно опровергается как
заключением врача Булыгинского, наблюдавшего ее
более месяца и, стало быть, изучившего ее природу
несравненно основательнее, так и конечным заключением
коллегии врачей-экспертов гг. Кетчера, Доброва и Гиля-
рова, свидетельствовавших Качку в судебном заседании.
Оба эти акта были прочитаны на суде, и вы могли
убедиться в основательности, всесторонности и
внимательности, с которыми отнеслись эксперты эти к своей
трудной и сложной задаче. Далеко не таково
заключение Державина. Державин в своем заключении
совершенно игнорирует фактические обстоятельства и
говорит лишь о субъективных свойствах обвиняемой,
дознанных им из ее же слов; действительно, если закрыть
глаза на отношения Качки к Байрашевскому и Пресец-
кой, на поведение Байрашевского, на его измену, на
силу любви Качки и т. д., тогда, пожалуй, можно
приписать убийство душевной болезни, но уж никак не той
raptus melancholicus*, которую нашел Державин.
Основные признаки этой болезни, как определяют их Маудсли
и Крафт-Эбинг, таковы: «Наступлению помешательства
с наклонностью к убийству или самоубийству пред-
* Исступление, импульсивное действие в виде приступов (лат.).
11 Заказ №571 321
шествует обыкновенно мрачное состояние духа с бредом
или без бреда, убийство совершается под влиянием
угнетения, вызванного ложными убеждениями, вдруг, при
каком-нибудь Незначительном поводе; больной впадает
в бешенство, совершенно не знает, что делает в это
время, и приходит в ужас, когда впоследствии узнает
об этом» (Mayдели, доктор и профессор.
Ответственность при душевных болезнях, стр. 241).
«Аффект появляется столь внезапно и с такой
напряженностью, что во время припадка утрачивается не
только сознание и рассудительность, но даже и память.
Образ действий при raptus melancholicus имеет особый
механизм, с которым необходимо познакомиться,
чтобы не смешивать его с другими состояниями: больной
никогда не стремится к достижению какой-либо
объективной цели, а лишь к внешнему выражению того, что
тяготит его сознание; в образе действий такого больного
никогда не бывает плана, целесообразности, а,
напротив, больной действует как слепой, как бы
конвульсивно; он не довольствуется, например, убийством своей
жертвы, а калечит ее самым жестоким отвратительным
способом; иногда больной предостерегает окружающих;
если же приступ быстр, то за ним следует слепое,
бессознательное неистовство» (Крафт-Эбинг, доктор.
Начала уголовной психологии, стр. 63—64.).
Ничего подобного никто — ни врачи, ни свидетели
убийства — в Качке, не наблюдали; поступок ее, как это
мы видели, далеко не бесцельный; убийство совершено
без всяких жестокостей, память и самосознание
полнейшие, неистовства по совершении убийства никакого и т. д.
Насколько Качка обладала сознанием в момент
убийства и чутко относилась даже к мелочным событиям,
видно из двух доказанных следствием явлений, из
которых одно предшествовало убийству, а другое за ним
следовало: за два часа до выстрела Качка вручает
свидетелю Малышеву прочитанную на суде записку свою о
брате и домашних своих распоряжениях, а тотчас после
убийства, по поводу чьего-то смеха, иронически замечает,
что она доставила своим поступком кому-то удовольствие.
Мысль об убийстве зрела и развивалась в долгом,
хотя и мучительном, процессе нравственного страдания
обвиняемой; она зародилась в измене Байрашевского,
а не в каких-нибудь «ложных убеждениях» и
разрешилась 15 марта, когда приехала его новая невеста Пре-
сецкая и когда Качка, в последний раз перед разлукой
навеки, видела своего бывшего жениха; в этих последних
322
обстоятельствах, пожалуй, можно допустить внешний
толчок, ускоривший развязку, но .разве это может
лишить факт его осмысленной причины, сознательного
стимула, логически подготовленного рядом событий мира
действительного, помимо всякой деятельности
воображения, миража «ложных убеждений», аффекта и т. п.
Где же тут raptus melancholicus?
Что касается указаний Державина на пьянство отца
Качки, о чем говорит и ее мать в своем показании, то
и отсюда невозможно вывести какого-либо заключения
о нравственной болезненности дочери их, Прасковьи
Качки, так как у тех же родителей кроме нее были дети:
Александр, Владимир, Анна и Елизавета; все они
умственно совершенно здоровы; отчего же пьянство отца
отразилось бы только на одной Прасковье Качке?
На предложенный мной по этому поводу вопрос
эксперт Державин мог возразить только то, что в
семействе Качки запой отца отразился кроме Прасковьи
Качки и на сестре ее Анне физическим уродством; но
вы помните, господа присяжные заседатели, что об этом
уродстве показывала мать ее, г-жа Битмид, и причину
его объяснила случайным обстоятельством — падением
или ушибом.
Врач Левенштейн вовсе не наблюдал Качку, и
поэтому его заключение уже чисто теоретического
свойства. Чтобы доказать вам всю его несостоятельность
в этом отношении, а также чтобы помочь вам в уяснении
психической стороны дела и того значения, какое может
иметь для суда врачебная экспертиза вообще, мне
необходимо привести, хотя и в выдержках, мнения
нескольких научных авторитетов в занимающем нас вопросе.
«Ни в одном из случаев, требующих вмешательства
судебного врача,— говорит Шайнштейн (см.:
Руководство к изучению судебной медицины, пер. Чацкина,
стр. 663—664),— для него не бывает так близка
возможность преступить черту своей компетентности, как
при исследовании умственного состояния с целью
определить, находится ли данное лицо в здравом уме или
нет; ибо, высказывая свое мнение, он тем самым
высказывает и свое личное суждение о том, можно ли этому
лицу вменить данное действие его как свободное и
сознательное. А между тем решение этого последнего
вопроса, как по здравой логике, так и по точному смыслу
большей части законодательств, принадлежит не врачу,
а судье. Ни в одном отделе судебной медицины не было
поэтому более бесплодных теоретических рассуждений
323
и ни к чему не ведущей полемики, как в судебной
психиатрии. Задача врача душевных болезней ограничена
представлением судье возможно полной картины
физического и нравственного состояния обвиняемого
и объяснением, какое влияние то или другое могло
иметь на его образ действий вообще. Дальнейшую же
оценку этих фактов врач представляет судье; притом
к сфере компетентности врача относится только часть
тех душевных состояний, которыми исключается
вменяемость,— именно одни душевные болезни; все же другие
условия, как-то: недостаточное воспитание, заблуждение,
страсти и нравственные потрясения в качестве
общепонятных психологических моментов, подлежат оценке судьи».
«Решение вопроса о вменяемости,— говорит Миттер-
майер,— принадлежит исключительно судье или
присяжным, а врачи должны доставить им только сведения,
дающие возможность решить этот вопрос или
облегчающие это решение».
«Не всякое видоизменение умственной деятельности,
происшедшее вследствие болезненного состояния,
возможно бывает признать душевной болезнью; болезненное
расстройство умственной деятельности в конкретном случае
еще не безусловно влечет за собой признание того, что
действия больного находились под влиянием такого
расстройства, исключающего свободное определение воли, и
несомненно, что не все действия душевнобольных носят
отпечаток душевных их страданий» (Скржечка, доктор и
профессор. Душевные болезни по отношению к учению о вменении).
«Нет ни одного симптома расстройства умственной
деятельности, который бы исключительно был свойством
душевной болезни и не встречался бы в нормальном
состоянии. Отдельные лица в умственном отношении
бесконечно разнообразны, и нет типа, который мог бы
служить нормой умственно-душевного здоровья.
Судебная антропология вращается исключительно на почве
врачебного опыта и наблюдения и не должна ни
разрешать вопроса о способности ко вменению, как понятии
чисто юридическом, ни теряться в метафизически
спекулятивном исследовании абстрактной свободы воли.
Абсолютной свободы воли, в смысле философов,
вероятно, не было и не будет; требования же, предъявляемые
государством к индивидуальной воле, всегда
ограничиваются относительной ее свободой; государство требует
от частного лица лишь способности производить
сравнительную оценку представлений и до известной,
установленной обществом нормы поступаться чувственными
324
эгоистическими побуждениями в пользу разумных
представлений, соответствующих требованиям
нравственности и государственным законам. Относительно вопроса
о том, насколько для судьи обязательно заключение
врача, можно положительно сказать, что судье
принадлежит право оценки заключения и он может отвергнуть
его. Ввиду столь многих плохих заключений,
предъявляемых по настоящее время в судах, было бы весьма
неудобно не признавать этого права за судом, но оно
должно распространяться лишь на формальную
правильность, точность и тщательность его, а никак не на
научную компетентность выводов, сделанных врачом»
(Крафт-Эбинг, доктор. Начала уголовной психологии).
Все только что приведенные мной отзывы
известнейших представителей науки сводятся к такому общему
выводу, имеющему прямое отношение к
рассматриваемому сегодня делу: судебная психиатрия изобилует
бесплодными теоретическими рассуждениями;
неосновательные заключения врачей очень часто предъявляются
в судах; врачебная экспертиза поэтому служит для суда
только пособием, пользоваться которым можно лишь
с величайшей осторожностью; решение вопроса о
вменении и оценка фактов, послуживших поводом к
экспертизе, всецело принадлежат суду, ибо это вопросы
исключительно юридического свойства. Условия воспитания,
страсти и нравственные потребности (т. е. единственные
двигатели в убийстве Байрашевского) отнюдь нельзя
смешивать с душевными болезнями. Бывают случаи,
когда и одержимые такими болезнями могут обладать
свободной волей, и потому тогда и они даже подлежат
вменению за совершенные ими деяния. Вообще для
вменения достаточно и относительной свободы воли, так
как безусловной не существует. Применяя эти общие
выводы к нашему делу, мы получаем конечный и до
очевидности простой итог: там, где мнения врачей
расходятся, надо отдать предпочтение тому, которое более
согласуется с выводами из фактов.
Правда, некоторые психиатры допускают
возможность болезни и в человеке, действующем, по-видимому,
целесообразно и разумно, т. е. с мотивом, предумышле-
нием, даже скрытностью и т. п., но для этого
необходимо, чтобы на такую болезнь имелись какие-нибудь
указания в жизни и поведении субъекта вне
совершенного им преступного деяния сомнительной
вменяемости; таких указаний в биографии Качки, очень
подробно и именно с этой целью обследованной, мы не
325
находим. С другой стороны, в этом отношении следует
иметь в виду, что все иностранные кодексы, на которые
обыкновенно такие врачи ссылаются, допускают
«неполную вменяемость», а некоторые врачи и юристы просто
указывают на сомнительные психические страдания как
на обстоятельства, смягчающие вину, и в таком случае
роль подобных внутренних влияний делается совершенно
тождественной с тем значением, какое имеют иногда
внешние обстоятельства, например повод к
раздражению, вовлечение другим, несовершеннолетие,
вынужденность и т. п. обстоятельства, при наличности которых
смягчается наказание.
Наконец, существуют мнения, доводящие подобный
взгляд до крайних пределов: по мнению некоторых
врачей, сумасшедший человек может действовать
совершенно так же, как и умственно здоровый; существует
так называемая «больная логика», «судорожное
сознание»; границ нет, по крайней мере для современной
психиатрии они неуловимы. Что же это значит? Это
значит, что и экспериментальное знание имеет свои
границы, за которыми вся сумма его сводится к нулю. Но,
господа присяжные заседатели, человек обладает
свойством более высшего источника, свойством, ему
прирожденным,— разумом, здравым смыслом. Область его
начинается как раз там, где экспериментальный вывод
дает в результате такой нуль.
Итак, обратимся к этой нашей способности и
последуем ее указаниям, тем более что такое право в данном
случае признают за нами, юристами, и приведенные мной
медицинские авторитеты. Мы видели, что преступление
было сознательное, больше — оно совершено лицом,
способным, как оказалось по показаниям и переписке
его, к тонкому и глубокому анализу личных ощущений
и к чуткой восприимчивости явлений внешнего мира;
мотив, бесспорно доказанный,— ревность; цель узкая,
себялюбивая, выраженная формулой: «Если не мне, так
никому!»; раскаяние, угрызения совести, ясные следы
которых мы видели в последующем поведении
подсудимой: она мучается, просит себе кары, покушается
отравиться; наконец, колебания (записка в жандармское
управление) и т. п.— вот те несомненные очертания,
в каких предстает нашему умственному взору страшная,
как и всегда, картина убийства, совершенного Качкой;
очертания эти стройны и гармоничны, они останутся
теми же, откуда бы ни вздумалось освещать их, и только
близорукому наблюдателю может в них мерещиться
326
нечто иное, чем то, что они изображают в
действительности. Преступление в данном случае не
представляется явлением, стоящим особняком, явлением, как бы
выхваченным из окружающей его сферы
предшествовавших и следующих за ним событий, чем-то совершенно
им чуждым, как это бывает у сумасшедших. Напротив
того, убийство здесь тесно, органически связано со всем
тем, что ему предшествовало и что за ним следовало.
Оно — необходимое звено в этой прочно составленной
цепи; разорвать такую живую цепь не в силах никакая
экспертиза; прежде чем уверовать в противное, надо
отречься от своего собственного разума или умышленно
закрыть глаза перед очевидными каждому, победоносно
убедительными фактами.
Таким образом, по вопросу о вменении,
главнейшему в рассматриваемом процессе, судебное и
предварительное следствия дают нам такие общие итоги: с одной
стороны, предположение о душевной болезни
обвиняемой, возникшее по ошибочному заявлению брата Качки
и затем поддержанное врачом Державиным с не менее
очевидными для каждого ошибками, разрушается
теоретически коллективным заключением врачей-экспертов;
с другой стороны, фактические обстоятельства,
доказанные следствием,— обманутая любовь, ревность,
разрыв и т. п.— складываются в таком бессомненном
для вывода сочетании, что совокупностью своей
образуют вполне естественный, для каждого понятный
мотив преступления. Оба эти различными, совершенно
самостоятельными путями достигнутые итога ведут к
третьему убеждению в полном умственном здравии
подсудимой, а следовательно, и в полной способности ее ко
вменению. Так высказалось большинство экспертов, так
говорят все до единого обстоятельства дела, наконец,
так говорит и сама подсудимая; так, следовательно,
должны сказать и вы, господа присяжные, в своих
ответах по этому вопросу.
Покончив с психологической стороной процесса,
перехожу к рассмотрению другого, особо от этой стороны
стоящего взгляда, который я рискую встретить в
возражениях защиты или в некоторых впечатлениях,
вынесенных лицами, призванными участвовать в разрешении
дела; взгляд этот, возводимый иногда в теорию, уже не
раз проявлялся в известных судебных процессах, и
потому мне нельзя оставить его без внимания.
Качка вызывает к себе сострадание: это далеко
не заурядная подсудимая; для многих она окружена
327
ореолом романического трагизма; убийство совершено
под гнетом тяжелым, осложняющимся страстной натурой
обвиняемой, едва ли не обезумевшей от любви и
ревности. Байрашевский вырвал из ее рук счастье, которое
она, доверчивая и влюбленная, купила дорогой ценой —
ценой своей девственности! Она получила право на месть!
Все это с известной точки зрения так, все это еще
подробнее скажет вам защита... Но вдали от всего этого,
в грозном безмолвии смерти одиноко стоит перед вами
образ убитого юноши... Родственники Качки пришли
сюда, чтобы вместе с моим талантливым противником
своими речами и показаниями облегчить участь
подсудимой; за Байрашевского никто не явился: его нечего
спасать, его никто не подымет из гроба! Мы не видим
здесь безутешного горя его родителей, на старости лет
потерявших единственного сына; мы не слышим здесь
отчаянного плача его невесты, у которой убили жениха
чуть не накануне свадьбы! Я один здесь, который говорю
от его имени; на мне одном лежит обязанность
защищать перед вами его святое право на осуждение
убийцы... Он умер с детски беззаботной улыбкой на устах,
застывший отблеск которой сохранился на
предъявленной вам фотографии с трупа. Вряд ли у человека с
черным прошедшим можно подметить в момент смерти
такую улыбку.
Не спорю, Байрашевский виноват перед Качкой. Я
первый принял это во внимание при определении сте:
пени уголовной ответственности в своем обвинительном
акте; но разве за такие вины казнят смертью? Если
государство в таких случаях не считает себя вправе на
такую казнь, то может ли защищаться таким правом
частное лицо? За что в самом деле погиб
Байрашевский? Он изменил своей возлюбленной — в этом
виновато его молодое сердце; корыстного мотива измены,
мотива, который сделал бы ее отвратительной, здесь
не было; было просто сердечное увлечение, с которым
20-летний юноша, быть может, был не в силах и бороться.
И вот за это смертная казнь, казнь беспощадная,
исполненная публично, как бы в назидание окружающим!
Вот что сказал бы нам убитый Байрашевский, если бы
мог находиться здесь.
К этому я должен прибавить еще следующее:
уголовное правосудие преследует двойственную задачу. Кроме
наказания преступнику всякий приговор по каждому
делу вообще, а по такому, как сегодняшнее, в
особенности имеет воспитательное значение: есть люди, которые
328
прислушиваются к решениям гласного суда, сообразуют
с ними поведение свое в тех или иных случаях, и если
суд представителей общественной совести торжественно
и всенародно объявляет, что частное лицо может
безнаказанно мстить за обиду даже лишением жизни, то
вслед за оправданным преступником всегда готова
двинуться целая вереница последователей,
рассчитывающих на безнаказанность,— и тогда где и в чем найдется
гарантия личной свободы и безопасности? Чем оградится
естественное право каждого живущего на продолжение
своей жизни? Все это — вопросы высшего порядка,
вопросы, перед которыми должна в вашем приговоре
склониться и личность подсудимой, сколько бы ни вызывала
она к себе превратной симпатии и малодушного в этом
случае сострадания.
Полагая поэтому, что Качка не будет оправдана
ни ради ошибочно подозреваемого в ней душевного
расстройства, ни ради только что рассмотренных мной столь
же ошибочных и еще более опасных социологических
соображений, я могу заняться теперь определением тех
границ, в которых считаю справедливым предъявить вам
свое обвинение. В этом отношении я обязан особенно
осмотрительностью ввиду тех последних слов, которые
записала Качка в протоколе предъявленного ей
следственного производства: «Преступно мое прошлое,
бесполезно настоящее — судите беспощадно!»
Я ищу только справедливости и только с этой целью
ставлю себе вопрос. К какому именно из
предусматриваемых нашим уложением видов убийства следует
отнести совершенное Качкой преступление? С первого
взгляда казалось бы, что оно является плодом «заранее
обдуманного намерения», т. е. при обстоятельстве,
особенно отягчающем вину. Действительно, мысль об
убийстве рождается и зреет в голове подсудимой. Задолго
до его совершения она покупает револьвер, заряжает
его, держит его при себе в вечер убийства. Но при
внимательном сопоставлении и тщательной оценке всех
фактов, рисующих нам внутренний мир подсудимой
незадолго до убийства и в самый момент его совершения,
нельзя сказать с полной уверенностью, чтобы тут
действовало заранее обдуманное намерение в том смысле,
как это понимает наш уголовный закон. Револьвер Качка
покупает, чтобы застрелить себя. Это объяснение ее не
опровергается по следствию, и потому мы не имеем
основания заподозрить его искренность. Затем Качка
в момент преступления настолько еще, по собственному
329
ее показанию, любила и вместе с тем ненавидела своего
бывшего жениха, настолько еще страдала недавней
изменой, что намерение убить его могло, скорее, явиться
внезапно под влиянием особо угнетающих или особо
раздражающих нервную восприимчивость условий.
Такими условиями в данном случае были: во-первых,
известие, полученное за два часа до убийства, о приезде
из Петербурга невесты Байрашевского и о предстоящем
отъезде^ее со своим женихом. Качка поэтому знала, что
видит Байрашевского свободным уже в последний раз;
он уезжает, чтобы соединиться с другой навсегда; теперь,
в этот ужасный вечер рушится ее. последняя надежда,
и затем — разлука навеки! Во-вторых, пение. Песни
Качки, по словам собеседников, отличались на этот раз
особенно мрачным и вместе с тем особенно чарующим
характером; они были так близко по содержанию к ее
собственному тогдашнему душевному настроению, были
так обаятельны даже для посторонних слушателей.
Очевидно, сама Качка, любящая музыку и глубоко ее
чувствующая, не могла не проникнуться такими песнями:
«голос ее дрожал и обрывался, в нем слышались
рыдания», говорят свидетели; явилось нервное возбуждение...
револьвер был в руках; Байрашевский сидел почти
рядом, мечтая о своей новой невесте; Качка пела про
несчастную любовь и в то же время на лице его
мучительно наблюдала ту улыбку чужого нарождающегося счастья,
какую он унес с собой и в могилу... И Качка не
устояла: раздался выстрел и разбил это ненавистное счастье!
Не приезжай в этот день Пресецкая, не будь этого
раздражающего пения, может быть, решимость Качки,
с которой она боролась (это доказано письмом ее в
жандармское управление), не достигла бы своего ужасного
осуществления. Да и сама эта решимость, как
выразилась Качка в одном из своих показаний, «как-то не
оформливалась»; мысли — то об убийстве
Байрашевского, то о самоубийстве, то об исполнении того и
другого зараз,— очевидно, возникали в уме и проносились
мимо. Так по ясному когда-то небу проносятся перед
грозой облака, но кто угадает, из которого впервые
сверкнет молния и загремит гром? То было
представление, искушение, идея, отчаяние, все, что хотите, но только
не «намерение», и притом «заранее обдуманное».
Вот почему, господа присяжные заседатели, я не
решаюсь возвышать свое обвинение, настаивая на этом
признаке, хотя в некоторых взятых в отдельности фактах и
можно было бы подыскать для того известное основание.
330
Заседание Петербургского окружного суда по делу об убийстве
фон Зона. 1870 г.
Я предпочитаю приурочить деяние Качки к ст. 455
уложений, т. е. той, которая выставлена в утвержденном
судебной палатой обвинительном акте и которая говорит
об убийстве без заранее обдуманного намерения, в
запальчивости или раздражении, но не случайном, а
умышленном, т. е. сознательном. Если не было
«запальчивости», то могло быть «раздражение», вызванное, с одной
стороны, суммой всех тех психических, но совершенно
нормальных явлений, о которых так много было гово-
рено вчера, и с другой — той обстановкой самого
преступления, о которой я только что упомянул.
В конце концов, от вас, господа присяжные
заседатели, будет зависеть признать в деянии Качки
наличность «раздражения» или отвергнуть этот признак; все
сказанное мной в этом отношении внушено лишь целью
представить вам свои соображения и тем облегчить
разрешение этого частного, второстепенного в обвинении
вопроса. Что же касается остальных признаков
преследуемого приведенной ст. 455 преступления — не
случайности и сознания,— то в том^ что эти признаки были
налицо, ни в ком не может возникнуть и сомнения:
стреляя из ею же самой заряженного револьвера в лоб,
чуть не в упор, Качка не могла не сознавать, что посягает
331
на жизнь другого, и поэтому действовала умышленно,
а поступая так, не могла, конечно, застрелить Байра-
шевского «случайно».
Приговор ваш в тех скромных пределах обвинения,
какие я установил в своей речи, будет справедлив. Вы
можете признать смягчающие обстоятельства, но не
оставите подсудимую без наказания, которого одинаково
требуют как ее собственная возмущенная совесть, так
и совесть общественная, представителями которой
являетесь вы на суде.
Речь присяжного поверенного Ф. Н. Плевако
в защиту Качки
Господа присяжные! Накануне, при допросе
экспертов, господин председатель обратился к одному из них
с вопросом: по-вашему, выходит, что вся душевная
жизнь обусловливается состоянием мозга? Вопросом
этим брошено было подозрение, что психиатрия в ее
последних словах есть наука материалистическая и что,
склонившись к выводам психиатров, мы дадим на суде
место «материалистическому» мирообъяснению. Нельзя
не признать уместность вопроса, ибо правосудие не
имело бы места там, где царило бы подобное учение, но
вместе с тем надеюсь, что вы не разделите того
обвинения против науки, какое сделано во вчерашнем
вопросе господина председателя. В области мысли
действительно существуют то последовательно, то рядом два
диаметральных объяснения человеческой жизни —
материалистическое и спиритуалистическое. Первое хочет
всю нашу духовную жизнь свести к животному,
плотскому процессу. По нему, наши пороки и добродетели —
результат умственного здоровья или расстройства
органов. По второму воззрению, душа, воплощаясь в тело,
могуча и независима от состояния своего носителя.
Ссылаясь на примеры мучеников, героев и т. п.,
защитники этой последней теории совершенно разрывают
связь души и тела. Но если против первой теории
возмущается совесть и ее отвергнет ваше нравственное
чувство, то и второе не устоит перед голосом вашего опытом
богатого здравого смысла. Допуская взаимодействие
двух начал, но не уничтожая одно в другом, вы не
впадете в противоречие с самым высшим из нравственных
учений, христианским. Это возвысившее дух человеческий на
подобающую высоту учение само дает основания для
332
третьего, среднего между крайностями, воззрения.
Психиатрия, заподозренная в материалистическом методе,
главным образом, стояла за наследственность душевных
болезней и за слабость душевных сил при расстройстве
организма прирожденными и приобретенными болезнями.
В библейских примерах (Ханаан, Вавилон и т. п.)
защита доказывала, что наследственность признавалась
уже тогда широким учением о милосердии, о
филантропии путем материальной помощи, проповедуемой
Евангелием; защита утверждала то положение, что
заботой о материальном довольстве страждущих и
неимущих признается, что лишения и недостатки мешают
росту человеческого духа: ведь это учение с
последовательностью, достойной всеведения учителя, всю жизнь
человеческую регулировало с точки зрения единственно
ценной цели, цели духа и вечности.
. Те же воззрения о наследственности сил души и ее
достатков и недостатков признавались и историческим
опытом народа. Защитник припомнил наше
древнерусское предубеждение к Ольговичам и
расположение к Мономаховичам, оправдывающееся фактом:
рачитель и оберегатель мира Мономаха воскрешался в роде
его потомков, а беспокойные Ольговичи отражали
хищнический инстинкт своего прародича. Защитник опытами
жизни доказывал, что вся наша практическая мудрость,
наши вероятные предположения созданы под влиянием двух
аксиом житейской философии: влияния
наследственности и материальных плотских условий в значительной дозе
на физиономию и характер души и ее деятельности.
Установив точку зрения на вопрос, защитник прочел
присяжным страницы из Каспара, Шюлэ, Гольцендорфа
и других, доказывающих то же положение, которое
утверждалось и вызванными психиатрами. Особенное
впечатление производили страницы из книги доктора
Шюлэ, из Илленау («Курс психиатрии») о детях-наслед-
ственниках. Казалось, что это не из книги автора, ничего
не знающего про Прасковью Качку, а лист, вырванный
из истории ее детства.
Затем началось изложение фактов судебного
следствия, доказывающих, что Прасковья Качка именно
такова, какой ее представляли эксперты в период от
зачатия до оставления ею домашнего очага.
Само возникновение ее на свет было омерзительно.
Это не благословенная чета предавалась естественным
наслаждениям супругов. В период запоя, в чаду вина и
вызванной им плотской сладострастной похоти, ей дана
333
жизнь. Ее носила мать, постоянно волнуемая сценами
домашнего буйства и страхом за своего грубо
разгульного мужа. Вместо колыбельных песен до ее
младенческого слуха долетали лишь крики ужаса и брани да
сцены кутежа и попоек. Она потеряла отца будучи iiiecTH
лет. Но жизнь от того не исправилась. Мать ее, может
быть надломленная прежней жизнью, захотела пожить,
подышать на воле; но она очень скоро вся отдалась
погоне за своим личным счастьем, а детей бросила на
произвол судьбы. Ее замужество за бывшего гувернера ее
детей, ныне высланного из России, г. Битмида, который
моложе ее чуть не на 10 лет; ее дальнейшее поглощение
своими новыми чувствами и предоставление детей воле
судеб; . заброшенное, неряшливое воспитание; полный
разрыв чувственной женщины и иностранца-мужа с
русской жизнью, с русской верой, с различными поверьями,
дающими столько светлых, чарующих детство радостей;
словом, семя жизни Прасковьи Качки было брошено не
в плодоносный тук, а в гнилую почву. Каким-то чудом
оно дало — и зачем дало? — росток, но к этому 1ростку
не было приложено забот и любви: его вскормили и
взлелеяли Ьетры буйные, суровые вьюги и беспорядочные
смены стихий. В этом семействе, которое, собственно
говоря, не было семейством, а механическим соединением
нескольких отдельных лиц, полагали, что сходить в
церковь, заставить пропеть над собой брачные молитвы,
значит совершить брак. Нет, от первого поцелуя супругов
до той минуты, ^огда наши дети, окрепшие духом и
телом, нас оставляют для новых, самостоятельных союзов,
брак не перестает быть священной тайной, высокой
обязанностью мужа и жены, отца и матери, нравственно
ответственных за рост души и тела, за направление и
чистоту ума и воли тех, кого вызвала к жизни супружеская
любовь.
Воспитание было действительно странное.
Фундамента не было, а между тем в присутствии детей, и
особенно в присутствии Паши, любимицы отчима, не
стесняясь говорили о вещах выше ее понимания: осмеивали
и осуждали существующие явления, а взамен ничего не
давали. Таким образом, воспитание доразрушило то,
чего не могло разрушить физическое нездоровье. О
влиянии воспитания нечего и говорить. Не все ли мы теперь
плачемся, видя, как много бед у нас от нерадения
семейств к этой величайшей обязанности отцов?
В дальнейшем ходе речи были изложены по фактам
следствия события от 13 до 16 лет жизни Качки. Старею-
334
щая мать, чувствуя охлаждение мужа, вступила в борьбу
с этим обстоятельством. При постоянных переездах с
места на место, из деревни то в Петербург, то в Москву,
то в Тулу, ребенок нигде не может остаться, освоиться,
а супруги между тем поминутно в перебранках из-за
чувства. Сцены ревности начинают наполнять жизнь господ
Битмидов. Мать доходит до подозрений к дочери и,
бросив мужа, а с ним и всех детей от первого брака, уезжает
в Варшаву. Проходят дни и годы, а она даже и не подумает
о судьбе детей, не поинтересуется ими..
В одиночестве, около выросшей в девушку Паши,
Битмид-отчим действительно стал мечтать о других
отношениях. Но когда он стал высказывать их, в
девушке заговорил нравственный инстинкт. Ей страшно
стало от предложения и невозможно долее оставаться
у отчима. Ласки, которые она считала за отцовские,
оказались ласками мужчины-искателя; дом, который она
принимала за родной, столь чужим. Нить порвалась.
Мать далеко... Бездомная сирота ушла из дому. Но куда,
к кому?.. Вот вопрос.
В Москве была подруга по школе. Она — к ней. Там
ее приютили и ввели в кружок, доселе ею невиданный.
Целая кучка молодежи живут не ссорясь; читают,
учатся. Ни сцен ее бывшего очага, ни плотоядных
инстинктов она не видит. Ее потянуло сюда. Здесь на нее
ласково взглянул Байрашевский, выдававшийся над прочими
знанием, обстоятельностью. Бездомное существо, зверек,
у которого нет пристанища, дорого ценит привет. Она
привязалась к нему со всем жаром первого увлечения.
Но он выше ее: другие его понимают, а она нет.
Начинается догонка, бег; как и всякий бег — скачками. На
фундаменте недоделанного и превратного воспитания
увлекающаяся юность, увидевшая в ней умную и
развитую девушку, начинает строить беспорядочное здание:
плохо владеющая, может быть, первыми началами
арифметики садится за сложные формулы новейших
социологов; девушка, не работавшая ни разу в жизни за
вознаграждение, обсуживает по Марксу отношения труда
и капитала; не умеющая перечислить городов родного
края, не знающая порядком беглого очерка судеб
прошлого человечества, читает мыслителей, мечтающих о
новых межах для будущего. Понятно, что звуки доносились
до уха, но мысль убегала. Да и читалось это не для
цели знания: читать то, что он читает, понимать то, что его
интересует, жить им — стало девизом девушки. Он едет
в Питер. Она — туда. Здесь роман пошел к развязке.
335
Юноша приласкал девушку, может быть сам увлекаясь,
сам себе веря, что она ему по душе пришлась. Началось
счастье. Но оно было кратковременно. Легко
загоревшаяся страсть легко и потухла у Байрашевского. Другая
женщина приглянулась, другую стало жаль, другое
состояние он смешал с любовью, и легко, без борьбы, он
пошел на новое наслаждение.
Она почувствовала горе. Она узнала его. В словах,
которые воспроизвести мы теперь не можем, было
изложено, каким ударом было для покинутой ее горе.
Кратковременное счастье только больнее, жгучее сделало
для нее ее пустую, бесприютную, одинокую долю.
Будущее с того шага, как захлопнется навсегда дверь в покой
ее друга, представлялось темным, далеким, не озаренным
ни на одну минуту, неизвестным. И она услыхала
первые приступы мысли об уничтожении. Кого? Себя или
его — она сама не знала. Жить и не видеть его, знать,
что он есть и не мочь подойти к нему — это какой-то
неестественный факт, невозможность. И вот, любя его и
ненавидя, она борется с этими чувствами и не может
дать преобладание одному над другим.
Он поехал в Москву, она, как ягненок за маткой, за
ним, не размышляя, не соображая. Здесь ее не узнали.
Все в ней было перерождено: привычки, характер. Она
вела себя странно; непривычные к психиатрическим
наблюдениям лица и те узнали в ней ненормальность,
увидав в душе гнетущую ее против воли, свыше воли тоску.
Она собирается убить себя. Ее берегут, остаются с ней,
убирают у нее револьвер. Порыв убить себя сменяется
порывом убить милого. В одной и той же душе идет
трагическая борьба: одна и та же рука заряжает пистолет
и пишет на саму себя донос в жандармское управление,
прося арестовать опасную пропагандистку Прасковью
Качку, очевидно желая, чтобы посторонняя сила связала
ее больную волю и помешала идее перейти в дело. Но
доносу, как и следовало, не поверили.
Наступил последний день. К чему-то страшному она
готовилась. Она отдала первой встречной все свои вещи.
Видимо, мысль самоубийства охватила ее. Но ей еще раз
захотелось взглянуть на Байрашевского. Она пошла.
Точно злой дух шепнул ему новым ударом поразить
грудь полуребенка, страдалицы: он сказал ей, что
приехала та, которую он любит, что он встретил ее, был с
ней; может быть, огнем горели его глаза, когда он
говорил, не щадя чужой муки, о часах своей радости. И
представилось ей вразрез с ее горем, ее покинутой и
336
осмеянной любовью, молодое чужое счастье. Как в вине
и разгуле пытается иной забыть горе, попыталась она в
песнях размыкать свое, но песни или не давались ей, или
будили в ней воспоминания прошлого утраченного
счастья и надрывали душу. Она пела, как никогда; голос
ее был, по выражению юноши Малышева, страшен. В
нем звучали такие ноты, что он — мужчина молодой,
крепкий — волновался и плакал. На беду попросили
запеть ее любимую песню из Некрасова: «Еду ли ночью
по улице темной». Кто не знает могучих сил этого певца
страданий, кто не находил в его звучных аккордах
отражения своего собственного горя, своих собственных
невзгод? И она запела... и каждая строка поднимала
перед ней ее прошлое со всем его безобразием и со
всем гнетом, надломившим молодую жизнь. «Друг
беззащитный, больной и бездомный, вдруг предо мной
промелькнет твоя тень», — пелось в песне, а перед
воображением бедняжки рисовалась сжимающая сердце
картина одиночества. «С детства тебя невзлюбила судьба;
суров был отец твой угрюмый»,— лепетал язык, а память
подымала из прошлого образы страшнее, чем говорилось
в песне. «Да не на радость сошлась и со мной...» —
поспевала песня за новой волной представлений,
воспроизводивших ее московскую жизнь, минутное счастье и
безграничное горе, сменившее короткие минуты света. Душа
ее надрывалась, а песня не щадила, рисуя и гроб, и
падение, и проклятие толпы. И под финальные слова: «Или
пошла ты дорогой обычной и роковая свершилась
судьба» — преступление было сделано.
Сцена за убийством, поцелуй мертвого, плач и хохот,
констатированное всеми свидетелями истерическое
состояние, видение Байрашевского... все это свидетельствует,
что здесь не было расчета, умысла, а было то, что на
душу, одаренную силой в один талант, насело горе, какого
не выдержит и пятиталантная сила, и она задавлена им,
задавлена нелегко, не без борьбы. Больная боролась,
сама с собой боролась. В решительную минуту, судя по
записке, переданной Малышеву для передачи будто
бы Зине, она еще себя хотела покончить, но по
какой-то неведомой для нас причине одна волна, что
несла убийство, перегнала другую, несшую самоубийство,
и разрешилась злом, унесшим сразу две жизни, ибо и в
ней убито все, все надломлено, все сожжено упреками
неумирающей совести и сознанием греха.
Я знаю, что преступление должно быть наказано и
что злой должен быть уничтожен в своем зле силой
337
карающего суда. Но присмотритесь к этой, тогда
18-летней, женщине и скажите мне, что она? Зараза, которую
нужно уничтожить, или зараженная, которую надо
пощадить? Не вся ли жизнь ее отвечает, что она
последняя? Нравственно гнилы были те, кто дал ей жизнь.
Росла она как будто бы между своими, но у нее были
родственники, а не было родных, были производители, но не
было родителей. Все, что ей дало бытие и форму,
заразило то, что дано. На взгляд практических людей — она
труп смердящий. Но правда людей, коли она хочет быть
отражением правды Божьей, не должна так легко делать
дело суда. Правда должна в душу ее войти и
прислушаться, как велики были дары, унаследованные, и не
переборола ли их демоническая сила среды, болезни и
страданий? Не с ненавистью, а с любовью судите, если хотите
правды. Пусть, по счастливому выражению псалмопевца,
правда и милость встретятся в вашем решении, истина
и любовь облобызаются. И если эти светлые свойства
правды подскажут вам, что ее «я» не заражено злом, а
отвертывается от него, содрогается и мучится, не
бойтесь этому кажущемуся мертвецу сказать то же, что
вопреки холодному расчету и юдольной правде книжников
и фарисеев сказано было великой и любвеобильной
Правдой четверодневному Лазарю: «гряди вон».
Пусть воскреснет она, пусть зло, навеянное на нее
извне, как пелена гробовая, спадет с нее, пусть правда
и ныне, как и прежде, живит и чудодействует! И она
оживет. Сегодня для нее великий день. Бездомная
скиталица, безродная, — ибо разве родная ее мать, не
подумавшая, живя целые годы где-то, спросить: а что-то
поделывает моя бедная девочка, — безродная скиталица
впервые нашла свою мать — родину, Русь, сидящую
перед ней в образе представителей общественной совести.
Раскройте ваши объятья, я отдаю ее вам. Делайте, что
совесть вам укажет. Если ваше отеческое чувство
возмущено грехом детища, сожмите гневно объятия, пусть
с криком отчаяния сокрушится это слабое создание и
исчезнет. Но если ваше сердце подскажет вам, что в ней,
изломанной другими, искалеченной без собственной
вины, нет места тому злу, орудием которого она была;
если ваше сердце поверит ей, что она, веруя в Бога и в
совесть, мучениями и слезами омыла грех бессилия и
помраченной болезнью воли, — воскресите ее, и пусть ваш
приговор будет новым рождением ее на лучшую,
страданиями умудренную жизнь.
ДЕЛО
МЕЛЬНИЦКИХ
8 ноября 1882 года Московским окружным судом
с участием присяжных заседателей был осужден бывший
казначей Воспитательного дома коллежский асессор
Ф. И. Мельницкий, 52 лет, признанный виновным в
присвоении 307 тысяч рублей. Причем большая часть
похищенного так и не была обнаружена. В связи с этим
полиция продолжала наблюдать за Ф. И. Мельницким и
его родственниками. Было установлено, что за время
содержания Ф. И. Мельницкого под стражей
родственники удовлетворяли все его прихоти, и в ссылку на
житье в Томскую губернию он намеревался
отправиться со своими взрослыми детьми. Сын Ф. И.
Мельницкого Борис поселился в квартире владельца магазина
Альберта Дорвойдта — мужа сестры его невесты —
Елены Блезе. После этого переезда торговля
Дорвойдта резко пошла в гору. Подозрений накопилось
достаточно.
И вот 31 декабря были произведены обыски на
квартирах родственников осужденного Ф. И. Мельницкого,
в результате которых были обнаружены деньги и
ценные бумаги на сумму 234 тысячи рублей. На этом
основании к уголовной ответственности были привлечены:
1. Б. Ф. Мельницкий (сын), 23 лет, за соучастие в
хищении денег из Воспитательного дома; 2. А. Дорвойдт, 25
лет, Е. Блезе, 17 лет, В. Ф. Гетманчук (дочь Ф. И.
Мельницкого), 25 лет, В. Н. Мельницкая (невестка Ф. И.
Мельницкого), 48 лет, за недоносительство о совершенном
преступлении, укрывательстве и расходовании
похищенных средств; 3. Л. И. Мельницкий (брат Ф. И.
Мельницкого), 42 лет, за недоносительство и распоряжение
похищенными деньгами. Их дело также рассматрива-
339
лось Московским окружным судом с участием
присяжных заседателей. 16—22 декабря 1883 года Бориса
Мельницкого защищал В. М. Пржевальский. На
разрешение присяжных заседателей было поставлено 23
вопроса. На вопрос, доказано ли, что Б. Ф. Мельницкий
по предварительному соглашению с отцом был его
пособником в похищении и действовал с корыстной целью,
а по получении этих денег самовольно их расходовал
и укрывал, присяжные ответили: «Да, доказано, но без
корыстной цели»; на вопрос о его виновности ответ был
отрицательный. Остальные подсудимые также были
признаны невиновными.
Оправдание Мельницких, и особенно Бориса,
фактического соучастника преступления, вызвало бурю
негодования прежде всего в среде противников суда
присяжных. Успешная защита не принесла большой радости
и адвокатам. Появилось мнение, что защита ослабляет
степень тяжести преступления. На приговор суда и
вердикт присяжных были принесены протест прокурора
Московского окружного суда и кассационные жалобы
гражданского истца и Л. И. Мельницкого. Разбор дела
происходил в Уголовном кассационном департаменте
Сената 13 марта 1884 года. На скамье защиты
появился патриарх русской адвокатуры В. Д. Спасович. На него
была возложена задача отстоять достоинство суда
присяжных и свободы слова адвоката.
Речь присяжного поверенного В. Д. Спасовича
Настоящее заседание отметится в летописях нашей
кассационной практики как одно из самых важных по
тем неисчислимым последствиям, какие оно будет иметь
и которыми определится на будущее время образ
действия и функционирование суда присяжных. С 1878 года
не было еще столь важного, столь решающего момента.
До 1878 года институт присяжных действовал ко
всеобщему никем не оспариваемому удовольствию. В 1878
году он пошатнулся. Закон 8 мая 1879 года, изъявший
часть дел из ведения суда присяжных, правда только
временно, а именно все дела о посягательстве на власть, о
сопротивлении ее органам, об оскорблении этих органов,
выразил, что судом присяжных недостаточно ограждено в
этих делах государство, что присяжные недостаточно
отстаивают в этих делах государственный интерес. Теперь
набежала другая волна. Теперь ставится вопрос, что при-
340
сяжными недостаточно охраняется казенная
собственность, мирские деньги, вообще общественная
собственность от всякого рода хищений, что они склонны вообще
извинять казнокрадство. Может быть, набежит со
временем и третья волна, может быть, станут находить, что
и для разбирательства простой кражи, простого убийства
или нанесения ран присяжные судьи слишком слабые,
мягкосердные, что в судьи и по этим делам они не
годятся. Отголоски этих ходячих толков раздаются везде.
Они возмущают теперь непривычные к ним своды зала
заседаний кассационного департамента. Ими только я
объясняю ту страстность, которой дышат кассационные
протест и жалобы на решение Московского окружного
суда по делу Мельницких. В протесте прокурора Вой-
тенкова прямо выражено, что приговор этот не
удовлетворяет требованиям правосудия, не удовлетворяет по
содержанию, явно не удовлетворяет по существу, что
судьи, значит, судили неправедно. Я не смею даже и
воспроизвести то многое и несомненно лишнее, что
содержится в жалобе поверенного воспитательного дома,
г. Шмакова. Страстность эту можно не одобрять, но
понять ее легко. Я сам не в состоянии говорить
совершенно хладнокровно. По настоящему делу судятся не лица,
не Мельницкие, Дорвойдт, Гетманчук, которых я вовсе
и не знаю, которые представляются для меня как
условные имена, как условные знаки, а обвиняется и судится
сам институт присяжных, обличаемый в дурном и
неправильном действовании. Этот институт вырос на наших
глазах, взлелеян нашими руками, на него мы молились,
его мы нежили и чествовали, а теперь, может быть, будем
собственными руками разрушать. Не правда ли,
впечатление похоже на то, какое бывает у пациента перед
ампутацией, когда собираются ему отрезать кусок его же
тела. Я не вправе вносить в дело личную страсть, но да
будет мне разрешено ввиду того, что разбирается живой
и наболевший вопрос, говорить не стесняясь и называя
вещи их надлежащими именами вполне и совершенно
откровенно, выразить без иносказаний, какими они мне
представляются. Здесь предлагаемы были крупные мерыч
для обуздания речей защиты. Эти меры еще не приняты,
слово защиты еще свободно; да будет и мне позволено,
может быть в последний раз, воспользоваться им во всем
объеме этой свободы.
Вопрос, на мой взгляд, ставится такой: действительно
ли есть основание думать, что дело, подобное настоящему,
не единичный факт, не единичный того рода приговор,
341
что им обнаруживается общий порок, общий недостаток
в образе действования суда присяжных, уклоняющемся
от своего назначения? Если это верно, то какими
средствами надлежало бы злу противодействовать, какими
его врачевать? Какие из этих мер и способов
зависят специально от кассационной практики
правительствующего Сената вообще и какие вызываются в-
особенности явлениями, обнаруженными и раскрытыми по
делу Мельницких, явлениями, на которые указывают
как на явные признаки довольно далеко
подвинувшейся болезни, которой одержим институт? Прежде всего
ставится ребром вопрос, действительно ли существует
та болезнь, следствием которой бывают, по словам
протеста, не удовлетворяющие требованиям правосудия
приговоры? Собственно говоря, ни один такой случай не
может быть точно и юридически доказан. Причина тому
простая. Присяжные решают дело окончательно и, по
существу, на основании таких фактических данных,
которых никто потом, не исключая и кассационной инстанции,
не будет иметь в своем распоряжении. Следовательно,
как только не усмотрено в их деятельности отступления
не от живой действительности, а только от предписаний
закона, от законных форм и обрядов или не
оказывается поводов к пересмотру их решения, то их решение
делается законом... Тем не менее этот вопрос о
правоте по содержанию каждого приговора суда
присяжных — для общества самый существенный, которым оно
постоянно озабочено и ради которого само судоговорение
устроено публичное и обставлено условиями устности
и гласности. Общество, как известно, держится законом,
иначе оно тотчас же распалось бы на свои составные
атомы. Закон — его цемент, его живая связь, он
походит на свод в здании, он ограждает свободу каждого
лица в его правовой области. Всякий раз, когда он не
исполняется, его надо восстановлять. Работа
постоянного ремонтирования возложена на суд. Раз суд не
будет исполнять своей задачи, стены здания будут
трескаться, общество начнет разлагаться. Для общества
важно, конечно, в высокой степени, чтобы суд
правильно действовал, но еще, может быть, важнее и
существеннее, чтобы все были убеждены, что он только
удовлетворительно и только правильно действует. Когда все
убеждены в том, что суд работает как следует, тот или
другой его промах, тот или другой случай уклонения суда
от своего назначения проскальзывают незаметно, не
возбуждая нареканий, и общество чувствует себя здоровым.
342
И прежде бывали оправдываемые судом случаи
казнокрадства или растраты общественных сумм. Но эти
случаи не обращали на себя внимания. Теперь каждое
лыко идет в строку, каждый факт отмечается и
зачисляется. Действительно, отмечаемые факты некрасивы.
Если признается, что содеянное доказано, а содеяно оно
лицами взрослыми, действовавшими в состоянии
вменяемости, сознательно и свободно, которые, однако, после
того провозглашены невиновными, то какой же из
этого возможен вывод? Только тот, что закон не
исполняется, что он не господствует, что на место его
становится милосердие господ присяжных заседателей, что
если в статье закона написано: тот, кто совершит
такое-то действие, подвергается такому-то наказанию, то
надлежит читать: кто совершил такое-то действие и
господам присяжным заседателям угодно было признать его
виновным, тот за сие подвергается такому-то
наказанию. Таким образом дела долго идти не могут. Присяжные
не располагают правом помилования, они призваны не на
то, чтобы проявлять высокие чувства сострадания и
милосердия, а чтобы восстановлять нарушаемый закон.
Если они не будут исполнять своего назначения, то сам
институт будет по необходимости заменен чем-нибудь
другим. Без него существовало государство многие
века, оно найдет, чем его заместить. С этой точки
зрения смотря на дело, я готов допустить, что институт
болен, .серьезно болен, что* худшую услугу оказывают
ему его льстецы и хвалители, распинающиеся за его
непогрешимость, что лечить его надо энергично и
немедленно, так как болезнь давно уже существует и
запущена, а дальнейшее ее запущение может довести до
необходимости ампутации.
Итак, лечение необходимо, и подлежит лечению не
институт присяжных вообще, по своей идее, а только
институт присяжных в России, как общий продукт всех
условий, содействовавших в течение 18 лет его
существованию, его развитию, как институт, воспитанный всеми
теми деятелями, которые с ним соприкасались, за ним
ухаживали, ему прислуживали, его баловали, его
систематически искажали и портили. Все факторы,
содействовавшие его развитию и порче, должны теперь
соединиться и, действуя дружно, помочь уврачеванию больного
учреждения. Прежде всего существование института
зависит от самого закона, от власти законодательной. От
законодателя зависит прежде всего дать суду в руки
порядочный уголовный кодекс, более удовлетворительный, нежели
тот, которым мы орудуем с 1845 года и при котором можно
343
еще удивляться, что не бывает больше оправдательных
приговоров. Затем от законодателя зависит установить
известные личные условия, требуемые от присяжных,
повысить образовательный ценз. Невысоки были бы наши
требования знания, но я полагаю, что подсудимые
могли бы претендовать на то, чтобы их судили люди,
обладающие знанием азбуки. Законодатель мог бы
исключить из закона и тот отвод присяжных без показания
причин, который много возбуждает нареканий, а пользы
не приносит никакой. Не все условия существования
института, дарованные ему законодателем, осуществлены в
жизни, некоторые задержаны администрацией,
властями, которым поручено ведение списков присяжных.
Исполняется ли, например, пункт 5 ст. 84 учреждения, по
которому повинность присяжных заседателей должны
нести в столицах получающие дохода 500 рублей, а в
провинции 200 рублей от своего капитала, занятия,
ремесла или промысла? Я утверждаю, что не исполняется,
что в заседатели попадают главным образом помещик,
который тяготится этим занятием, чиновник,
крестьянин. Кроме законодательной власти и администрации на
развитие института влияли все составные части
персонала судебного ведомства, подчиненного уголовному
кассационному департаменту: магистратура, прокуратура,
адвокатура. Кто без греха? На вопрос, исполнили ли эти
органы все свои обязанности по отношению к
институту как следует, едва ли не придется дать ответ
отрицательный. Наши судьи коронные так были сердечно рады,
в такое пришли умиление, когда им пришлось водворять
учреждение, обновляющее весь порядок производства,
что с ними произошло нечто подобное тому, что
описано в Евангелии как поклонение волхвов младенцу
Иисусу. Все торопились ударить челом, поклониться Мессии,
передать дары и власть, втолковать ему, какой великий
и почти таинственный смысл заключается в великом
слове, которое им придется произносить: «виновен»,
объяснять присяжным, что их спрашивают не о голых добрых
фактах внешних, а по внутреннему убеждению совести о
цельной вине. Что касается прокуратуры и адвокатуры,
то от них и требуется меньше и нельзя с них многого
взыскивать за результаты деятельности присяжных. Ведь
это только, состязающиеся стороны, скорее стихийные
силы, чем руководители. Их слово никогда не
принимается на веру без критической оценки. Кроме того, их
работа — искусство, художество. Как обвинение, так и
защита имеют реальную подкладку, но всякий знает, что
344
по своему назначению они обязаны укладывать,
подстраивать, прихорашивать реальные факты, чтобы
произвести известное одностороннее впечатление. Наконец,
институт присяжных зависит еще от одной власти — от
кассационной инстанции. Если можно сказать, что
законодатель есть как бы отец учреждения, если
адвокатура, прокуратура и даже магистратура представляются
как бы служителями и охранителями института
присяжных, то несомненно, что правительствующему Сенату
с его кассационной практикой подобает звание и
наименование пестуна, воспитателя суда присяжных, роль
опытного педагога.
Спрашивается, каким образом Сенат справился с этой
возложенной на него многотрудной задачей. Я думаю,
что могу определить эту деятельность двумя главными
чертами. Во-первых, вопроса о праве присяжных не
только судить, но и миловать Сенат никогда еще не
разбирал. О том, что оно передавалось присяжным с самого
появления их, он как будто бы не знал до дела
Мельницких. С другой стороны, Сенат на институт смотрел как
на вещь ломкую, нежную, хрупкую, точно хрустальную,
которую следует постоянно держать, так сказать, под
стеклянным колпаком, чтобы она не разбилась; вещь,
которую надобно ограждать от всяких дурных влияний
до такой степени, по взглядам Сената, что прочтение
малейшей, не поименованной в уставе судопроизводства
бумаги, выслушивание всякого лишнего, не относящегося
к делу свидетеля уже может испортить весь результат
их деятельности. Коснувшись этого неправильного, по
моему мнению, взгляда на присяжных, я, так сказать,
въехал в самую середку кассационных протеста и
жалобы, потому что обе эти бумаги сводятся к двум
пунктам: к указанию на неправильную постановку вопросов
и к указаниям на то, что по делу Мельницких
присяжные заседатели не были достаточно изолированы, что
председательствующий не держал их все время под
стеклянными колпаками, что были какие-то веяния извне,
которые до них доносились или могли доноситься и
содействовать образованию их убеждения по делу
независимо от слышанного на суде. К числу таких упущений
этносится и нарушение якобы судом ст. 616 разрешения
присяжным расходиться ночевать домой. Попавший в
:остав присяжных делается в некотором отношении
узником, арестантом. Если бы не знающий наших порядков
иностранец зашел в заседание и, видя с двух сторон на-
юлненные скамьи, задался вопросом, где подсудимые, то
345
он легко мог бы ошибиться и принять за подсудимых
тех 12 человек, которые, превратившись в решителей
судеб, являются окруженными жандармами с саблями
наголо и шагу не делающими без сторожей и судебных
приставов. Заседания длятся иногда много дней. Как
быть с ночлегами? Сам закон допустил возможность
доставления присяжным в большинстве случаев
некоторого в этом отношении удобства, разрешил отпускать их
по домам. Статья 616 гласит, что только по делам
особой важности председатель может преградить всякие
сношения присяжных с внешним миром, может заставить
их ночевать в суде. Признак особой важности дела есть
обстоятельство, до того с существом дела связанное, что
оно и выделено быть не может из этого существа,
которое кассационной инстанции не подлежит и ей
безусловно недоступно. Смысл закона, значит, таков, что
председателю предоставляется дискреционная, неограниченная
и бесконтрольная власть обсудить, можно ли отпустить
присяжных домой или нет. Тем не менее;
правительствующий Сенат озаботился этот предмет нормировать
вопреки закону и своими решениями, и циркуляром он
это право председателя значительно ограничил: он
установил, что нельзя отпускать присяжных домой, когда
судятся дела о преступлениях, влекущих за собой
наказания уголовные: каторгу или поселение. Сенат требует,
чтобы в протоколе об отпуске по домам были объяснены
причины, почему присяжные отпущены, и указаны меры,
предупреждающие влияния на них извне. Я полагаю,
что таким образом ст. 616 сужена и стеснена
посредством разных кассационных надстроек. Оставалась
маленькая продушина, но и ее хотят теперь законопатить.
Лучше, конечно, закрыть совсем это отверстие вопреки
прямому закону, чем возиться с вопросом, умаляя
отверстие так, что через него никогда не пройдешь. Лучше
прямо запретить всякий роспуск присяжных по домам.
Как может убедиться Сенат, что дело это особенно
важное? По своему назначению никаким критерием
Сенат не обладает для разрешения этого вопроса. Я могу в
данном случае перед окружным судом доказывать, что
дело важное, но как констатировать в протоколе, что
оно не важное? Как устанавливать факт отрицательный?
Какие особые меры могут быть приняты для ограждения
от сношений ночующих на дому присяжных с внешним
миром? Нельзя же давать каждому присяжному в
качестве ангела-хранителя, обязанного ночевать в той же
комнате, судебного пристава, жандарма или даже сто-
346
рожа. Не было ли бы правильнее, если бы
правительствующий Сенат отступился от своего циркуляра и
разобрал собственную надстройку над законом, которая этот
закон совсем видоизменила. Не лучше ли попробовать
постепенно снимать те стеклянные колпаки, под
которые поставлено учреждение.
Перехожу к вопросу об указываемых в протесте и
жалобе некоторых излишествах, заключающихся в
прочтении ненужных документов, лишних бумаг. Толкования
ст. 625, 629 и 687 выросли в кассационной практике
наподобие ветвистого, густой листвой покрытого дерева,
под которым тень такова, что не пропускает ни одного
луча света. Вся эта на буквоедстве основанная
казуистика лишена всякой идеи, всякого принципа и столь
запутана, что кассационный Сенат поминутно себе
противоречил: то признавал, что можно все читать, лишь бы
с согласия сторон, то не разрешал читать, хотя бы
стороны на это согласились, то запрещал читать
показания подсудимого, даже если подсудимый сам того
просил, то разрешал, то считал известный документ
вещественным доказательством, то не считал. При таких
противоречиях следовало бы прямо заключить, что
надлежало бы от всей этой казуистики отказаться, выбросить
ее за борт и согласовать судебное исследование истины
с коренными правилами и началами всякого
исследования истины, будь оно судебное или научное. Главный,
коренной принцип всякого научного исследования тот,
что исследователь должен воспользоваться всеми
доступными ему источниками познания, разобрать их от
первого до последнего. Правда, в судебном исследовании
дело поставлено несколько иначе: исследованию должен
быть положен предел во времени, и во избежание
всяких затяжек надлежит, собрав возможно больше данных,
сказать: довольно, больше не собирать, больше
свидетелей не вызывать, не допускать. Правда еще и то, что
при научном исследовании можно и не прийти ни к
какому решающему спор результату, ограничиться
осторожным: не знаю, не решил; а в судебном исследовании
обязателен прямой ответ: да или нет. Но во всем остальном
приемы обоих исследований совпадают, и нельзя даже
и придумать, почему нельзя было бы прочесть какую-
либо из бумаг, вошедших в следственное
производство. Этого запрещения не содержит ни ст. 625,
устанавливающая, что производство должно быть устное при
судебном следствии, но с изъятиями, ни ст. 629,
разрешающая защите читать всякие бумаги, имеющиеся у
347
нее в руках, ни ст, 687, разрешающая читать
известные протоколы и не намекающая даже на то, чего
читать не дозволено. Запреты создал не закон, а
казуистика; не закон, а она пришла к тому выводу, что следует
давать сосать присяжным только отдельные, судом
выбираемые и, может быть, не самые сочные кусочки
делового артишока, а не предлагать им весь этот артишок.
Я полагаю, что на все дело следует смотреть как на
источник, доступный исследованию, из которого каждая
сторона может заимствовать свои доводы и
доказательства, что все дело есть не что иное, как совокупность
вещественных доказательств.
Определив мой взгляд на кассационный повод,
заключающийся в прочтении ненужных бумаг, перехожу
к значению его в деле Мельницких. По этому делу
прочитано было с согласия сторон письменное заявление при
следствии подсудимой Гетманчук, имеющее значение
показания по делу. Практикой установлено, что чтение
документов возможно, если стороны на то согласны. В
одном заседании прокурор не соглашался на прочтение
заявления, а в другом согласился. Он утверждает, что
согласился по ошибке на прочтение не того, а другого
заявления, что не то, о котором он думал, было
прочитано. И в этом случае он мог, заметив ошибку, прервать
чтение, чего он, однако, не сделал. Мало того: если бы
даже было доказано, что прокурор не соглашался на
прочтение заявления Гетманчук, то оно могло быть
прочитано как показание самой подсудимой. Вы сами
признали своим решением по делу Андроникова (1869 год,
№298), что можно читать показание подсудимого при
предварительном следствии, если он сам об этом просит,
если он на него ссылается, потому что по ст. 634 уст.
угол. суд. подсудимому должны быть предоставлены все
средства к оправданию. Говорят, что подсудимый может
устно повторить в судебном заседании все то, что
занесено в протоколе следствия. Это не совсем так.
Подсудимый может иметь интерес в том, чтобы знали, что он
заявил по делу полгода или год тому назад, что он не
теперь, а прежде пришел к известному выводу или
убеждению. Представьте: в обвинительном акте прописано,
что при следствии подсудимый признавался в
преступлении, тогда как на самом деле он не признавался.
Неужели ему может быть воспрещено прочтение всех его
показаний, чтобы изгладить впечатление, произведенное
обвинительным актом? Кроме показания Гетманчук
кассационным поводом является прочтение удостоверения
348
бежецкого уездного земского собрания от 21 сентября
1883 года о том, что подсудимый хороший человек и они
надеются, что Мельницкий возвратится в их среду
очищенным и оправданным. Да, это удостоверение было в
руках присяжного поверенного Герарда, который его
представил суду во время заседания. По содержанию
своему оно есть не что иное, как коллективное
свидетельское показание товарищей о его порядочности, о
хорошей его нравственности. Относится ли оно к делу? Я
полагаю, что Сенат не может об этом и судить, так как
он не входит в существо дела, но с точки зрения
окружного суда его нельзя признать не относящимся к делу,
так как оно служит до известной степени определению
нравственных качеств обвиняемого лица и служило
таким испокон веков. Еще в римском процессе
подсудимый приводил с собой целый сонм так называемых
laudators — свидетелей, имеющих удостоверить, что он
человек достойный и честный. В средние века так
называемые Eideshelfer, или соприсяжники, являлись сам-
третей, сам-семь или еще в большем числе, клятвенно
удостоверяя, что обвиняемый не мог по своим
нравственным качествам совершить возводимого на него
преступления.
В современной практике едва ли есть такой
окружной суд, который бы не разрешал подсудимым вызывать
(по крайней мере, на свой счет) свидетелей, имеющих
свидетельствовать об образе их жизни и поведении. Если
можно привести свидетелей о поведении, то, конечно,
можно представить и документ, по содержанию
одинаковый с показаниями таких свидетелей, а этот документ,
по ст. 629, несомненно подлежит прочтению защитой,
так как эта статья разрешает прочтение писем и бумаг,
полученных участвующими в деле лицами и
находящихся у них. Итак, разница заключается разве только в
том, что председатель заставил читать этот документ
секретаря, а не возвратил его защитнику, с
тем чтобы прочел его сам защитник Герард. Когда
анализ доходит до таких дрязг и мелочей, когда ставится
вопрос, не имеет ли влияния на видоизменение
впечатления не содержание документа, а орган читающего его
или, лучше сказать, звание чтеца, то продолжение его
становится излишним, потому что такой анализ не
соответствует достоинству и серьезности суда.
Затем подлежит разбору опорочиваемый
кассаторами допрос судебного следователя Сахарова. Свидетель
Сахаров был спрошен с согласия сторон. Можно ли во-
349
обще допрашивать следователя о совершенных им и
записанных в протоколе следственных действиях? С 1866
года не проходит года без подобных случаев в практике
С.-Петербургского окружного суда, никто не считал
такого спроса не только противозаконным, но даже и
неудобным. Ссылались на следователей и обвинение, и
защита. Они удостоверяли свои наблюдения, свои приемы
при допросе, свои впечатления о свидетелях. Если этим
путем можно добыть интересные сведения по делу, то
почему же не пользоваться таким драгоценным
источником? Во всяком случае, обвинение, когда соглашалось на
спрос Сахарова, отлично знало, что его будут
спрашивать о том, что ему сделалось известным после
возникновения следствия и при самом совершении
следственных действий. Я не только утверждаю, что этот
кассационный мотив лишен малейшей тени какого бы то ни было
основания, но что и идет он от недоброкачественного
корня, от ложного представления о падкости присяжных
и податливости их всем дурным впечатлениям. К
сожалению, следует признать, что распространению этих
понятий сильно содействовали некоторые кассационные
приговоры. Так, в решении по делу Веры Засулич 20 мая
1878 года признано, что показание не относящегося к
делу свидетеля, стремящегося запутать дело, или
выслушанная даже частица такого показания способны
произвести на присяжных ложное впечатление. С другой
стороны, само недопущение председателем такого
свидетеля к представлению не относящихся к делу
объяснений может также предрасположить против обвинения
присяжных, особенно чутких к стеснению всяких прав
защиты. Если институт присяжных такая недотрога,
такая mimosa pudica*, что всякое впечатление им
воспринимается пассивно, то это значит, что он не пригоден
ни для наших грубьГх рук, ни для нашего сурового
климата. Всякий уголовный процесс состоит из данных,
из которых одни производят впечатления хорошие,
близкие к истине, а другие — дурные, т. е. удаляющие вос-
приявшего их от действительности. При восприятии
никому, не только присяжным, но и суду, неизвестно,
какое впечатление произведут те или другие
разбираемые данные, предлагаемые для поверки. Когда они
поверены — получается убеждение. Убеждение может быть
ложное, но впечатление бывает сильное или слабое, даже
обманчивым оно может показаться только после повер-
* Стыдливая мимоза (лат.).
350
ки; ложным бывает не оно, а убеждение. Если в
присяжных предполагается малейшая доля практического
смысла, то надобно и относиться к ним доверчивее. Для чего
же они призываются в суд? Зачем заставляют их судить?
Затем, что они считаются способнее коронных
судей-техников оценивать здраво и толково житейские бытовые
стороны отношений между людьми. Если предположить,
что они обладают этой житейской опытностью, то все
ненужное, выслушанное ими одним ухом, выйдет
другим, а останется только то, что намечено, усвоено и
заслуживает того, чтобы оставаться. Так как я надеюсь,
что вы склонитесь к этому большему для присяжных
доверию, то я признаю возможным пройти вскользь по
целому ряду кассационных доводов, основанных на
неохранении председателем слуха присяжных от всяких
излишеств со стороны речей защиты, от неприличных
будто бы речей гг. Пржевальского, Одарченко, Герарда и др.
Я не знаю, таковы ли были эти речи, какими они
занесены в стенографические отчеты. Я допускаю, что в
пылу состязания всякий защитник может увлечься, может
произнести сорвавшиеся с языка слова, да будет мне
позволено употребить вульгарное, но меткое выражение:
может сбрехнуть. Всякий председатель обязан
останавливать злоупотребления словом стороны. Если
председатель не исполнил своего долга — взыщите с
председателя, но зачем кассировать приговор? Кончая разбор
первого разряда кассационных мотивов, я утверждаю,
что все эти мотивы основаны не на законе, а на
кассационной практике, которая в совокупности своих
решений действительно выражает об институте присяжных
такое представление, что присяжные являются сборищем
людей весьма простых и ограниченных, крайне
близоруких и слепых, которые ежеминутно спотыкаются и
падают, которыми надо руководить, которых, как детей,
нужно водить на помочах. Между тем правительствующий
Сенат как будто бы не знал, что этим близоруким
присяжным дана полнота власти решать и миловать, что
они этой властью пользуются уже 18 лет и что они
сильно вошли во вкус ее. Ныне только возбуждается об этом
вопрос, как будто бы впервые только московский суд
предоставил миловать подсудимых присяжным по делу
Мельницких. Мне кажется, было бы правильнее стать
сразу на другую точку зрения, дать им побольше
доверия и поменьше власти, функцию их надлежащими
пределами ограничить и внушить им, что они обязаны
держаться в этих пределах. Очевидно, что при избрании
351
такого образа действия надлежало бы во многом, в очень
многом отступиться от наслоившейся многолетней
кассационной практики.
Перехожу к другому разряду кассационных мотивов,
к самому коренному вопросу о применении ст. 754 уст.
угол. суд. Говорят, во-первых, что неправильно было
допущено в данном случае разделение цельного вопроса о
вине на элементарные составные части, во-вторых, что
неправильно поставлен последний вопрос о вменении,
когда первым вопросом, определяющим, что сделано
подсудимым, уже все разбирательство исчерпывалось. Здесь
я опять обретаюсь в настоящем лабиринте, в путанице
самых противоположных, перекрещивающихся
кассационных решений. Нити руководящей нет, да и едва ли она
может быть найдена; одним буквальным истолкованием
текста закона едва ли можно чего-нибудь достигнуть.
Но да разрешено мне будет заметить, что насколько я
позволял себе нападать на кассационную практику Сената
по первому разряду кассационных мотивов, настолько я
буду стоять за нее по второму разряду кассационных
мотивов и постараюсь доказать, что корень недоумений
не в практике Сената, а в самом законе, в
неудачном построении ст. 754.
У нас привыкли твердить, что закон свят, а
исполнять его не умеют. Иногда оказывается, что такой взгляд
неверен. Если сравнить наш институт присяжных с
другими современными законодательствами Западной
Европы, где также действует этот суд, то окажется, что
постановление, соответствующее этой статье, не
существует и не может существовать ни в одном из
современных законодательств; что даже в то время, когда
сочиняемы были судебные уставы, т. е. в 1864 году, она
выражала понятие, даже по тому времени отжившее и
принадлежавшее целиком области прошлого. Я позволю
себе простое сравнение: есть целая булка и есть булка,
разрезанная на три куска. Все ли равно, целую булку
получить или три ломтя, происходящие от разрезанной
булки на части? Я утверждаю, что этот вопрос
разрешается отрицательно законодательствами Европы, которые
требуют от присяжных непременно цельного ответа о
вине, а не ответов по элементарным вопросам, из которых
не слагается, а выводится понятие вины. Начну со
страны, бывшей отечеством суда присяжных, т. е. с Англии.
Там не может быть речи о дроблении судом вопросов
о вине, так как не существует даже и сама постановка
вопросов, но судья отпускает присяжных совещаться
352
по одному обвинительному акту и сказать: виноват или
не виноват по изображенному в этом акте преступлению.
Английский судья не стесняясь указывает присяжным во
время судебного следствия, что такое-то обстоятельство
по теории доказательств можно и должно считать
доказанным или недоказанным. Он объясняет присяжным
законные признаки разбираемого преступления,
составляющие необходимые условия виновности. При
совещании присяжные либо признают обвинение по
обвинительному акту, либо eFO отвергают, могут устранить главное
обвинение и признать виновность подсудимого в ином,
меньшем, которое обыкновенно поставлено как
дополнительное в обвинительном акте. Они могут некоторые
факты признать, некоторые отвергнуть, т. е. дать так
называемый специальный вердикт, с тем чтобы судья, если
может, построил из них состав известного, законом
предусмотренного преступления. Но, признавая подсудимого
виновным по закону, присяжные могут поручить его
особой милости монарха ввиду того, что он заслуживает
пощады, или того, что закон уже несвоевременен, или
по другим соображениям.
Ясно, что с этими английскими присяжными наши
присяжные ничего почти не имеют общего. Наши
присяжные заимствованы из Франции, а во Франции они
введены конституцией 3 сентября 1791 года, которая в
одной из своих статей установила, что присяжные
определяют только одну фактическую сторону дела, а
судьи — всю юридическую. Однако известно, что
судейская операция вмещает в себя три отдельных момента.
Прежде всего нужно препарировать отдельные косточки,
голые факты, конкретные обстоятельства преступления,
каждую косточку отдельно, признать поштучно,
например, что днем или ночью было похищено нечто лицом,
действовавшим сознательно. Затем надобно, подводя
эти отдельные признаки под предустановленное
законом, отвлеченное понятие преступления, образовать одно
целое: виновность лица в данном преступлении. Наконец,
есть еще третий момент: вывод соответствующего вине
наказания. Вот если бы идея, которая выразилась в тех
словах конституции 1791 года, которые я прочел,
осуществилась вполне и присяжные были заключены в
тесную рамку только определения голых фактов за
устранением всего из них правового, то, с одной стороны, дро-
бимость предлагаемых им вопросов могла бы быть
бесконечная, а с другой — деятельность была бы
приниженная, вполне второстепенная, равняющаяся поставке сы-
12 Заказ № 571
353
рого материала, из которого и виновность, и
наказуемость выводимы были бы судьями коронными. Такое
понимание функции присяжных не могло осуществиться
даже и во Франции, на первых порах деятельности
института. Законодательство пришло скоро к тому понятию,
что деятельность присяжных гораздо обширнее, что она
идет не только до определения конкретных признаков
деяния, но и до оценки всех сторон вменяющейся в этих
признаках уголовной ответственности. Когда
составлялся устав 1808 года, тогда была установлена обязательная
по всякому делу форма вопросов. Эта форма не
допускает никакого дробления понятия вины на составные ее
элементы.
В то время, когда составлялись наши судебные
уставы, не было других современных кодексов, кроме
французского, усвоенного уже тогда Бельгией, Италией и
некоторыми немецкими государствами. Ныне имеются
цельные, глубоко обдуманные два процессуальных
кодекса новейшей отделки: австрийский (1873) и
германский (1877). Оба кодекса форму главного вопроса
определяют совершенно одинаково: Die Hauptfrage be-
ginnt mit den Worten: 1st der Angeklagte schuldig? Sie
muss dem Angeklagten die zur Last gelegene. That nach
ihren gesetzlichen Merkmalen und unter Hervorbringung
der zu ihrer Unterscheidung erforderlichen Umstande
bezeichnen * Такая неделимость имеет свои причины,
заключающиеся в том, что на присяжных, по ныне
господствующим понятиям, возложено определение целого
состава вины: Die ganze Schuldfrage**, а не одно только
определение фактической стороны судимого деяния. Но
если с начала XIX века уже не признавалось возможным
делить вопрос о вине, то спрашивается: откуда могла к
нам прийти мысль резать вопрос о вине на его составные
элементы? Надобно отыскать подлинный источник. Я
его отыскал и утверждаю, что источник старый. Когда
учредительное собрание издало законы 16—29 сентября
1791 года, определяющие устройство и
судопроизводство в судах с присяжными, то вслед за тем, в
дополнение к этим законам, издана инструкция, в которой
определяем был порядок совещаний присяжных в их
совещательной комнате...
* Главный вопрос начинается словами: виновен ли подсудимый?
Им обозначается деяние подсудимого, вменяемое ему в вину, по его
признакам, указанным в законе, и обстоятельства, которые требуется
выяснить (нем.).
** Весь вопрос о вине (нем.).
354
Группа прокуроров Петербургского окружного суда. 1912 г.
На странице 42 брошюры, изданной в 1866 году
бывшим председателем редакционного комитета устава
уголовного судопроизводства Николаем Андреевичем Буц-
ковским, мы читаем: «Понятие о виновности слагается
из трех элементов: 1) событие преступления, 2)
происхождение его от действия или бездействия и 3) зло-
употребленный или неосторожный характер действий
подсудимого. Без преступления не может быть и
преступника» и т. д. Достопамятный и почтенный человек,
которому принадлежат эти строки, не был знаком с
немецкой литературой, но пользовался весьма прилежно
французской. Его прельстила логическая красота деления
вопроса о вине, хотя, надобно признать, оно уместно как
инструкция присяжным, как им поступать при открытии
виновности, и очень мало пригодно для построения
дедуктивно уже окончательно признанных результатов
исследования. Очевидно, что при исследовании вопроса о
вине внимание останавливается сначала на признаках
внешних, заставляющих предположить, что имело место
преступление, затем разыскивается лицо виновника, а
венцом исследования является определение состояния его
355
сознания, участие его ума и воли в деянии. Если с этой
точки зрения без преступления, как говорит Н. А. Буц-
ковский, нет преступника, то при построении решения из
признанных фактов можно сделать противоположный
вывод: где нет преступника, там нет и преступления.
Следовательно, для расположения ответов по вопросам о
вине надлежало бы идти другим порядком, т. е. сказать,
что с умыслом или без умысла такой-то человек
совершил такое-то действие, которое имелр такие-то
преступные последствия. Моего метода я не предлагаю, но не
сомневаюсь, что вследствие существования ст. 754,
составленной по старинному источнику еще в XVIII
столетии, когда наступило применение этой статьи, вопрос о
виновности подсудимого мог быть обойден, потому что
ставились три элементарных воггроса, из которых будто бы и
слагалась виновность: о событии преступления, о соде-
янии его подсудимым и о том, может ли оно быть вменено
ему в вину. Такой обход вопроса о виновности
противоречит и ст. 7 учр. суд. уст. (присяжные заседатели
установлены для определения вины или невиновности
подсудимых) и ст. 760 уст. угол, суд., по которой вопросы и
ответы присяжных даются по существенным признакам
преступления и виновности подсудимого. По случайному
стечению обстоятельств кассационная практика, вовсе не
сознавая этого недостатка ст. 754, совершенно случайно
исправила этот недостаток и ввела опять в вопросы
присяжных слово «виновен», которое подлежало
исключению при делении вопроса о вине на три (по ст. 754).
В решении по делу Жулина (1872 год, № 1414) Сенат
признал, что слово «вменение» (в вину) есть
юридический термин, неудобопонятный присяжным, который надо
обходить. Изгоняя слово «вменение», Сенат сам заставил
суд прибегнуть к единственному выражению, могущему
заместить слово «вменение», а именно — к «виновен ли»,
чем и поставлена была у нас форма вопросов на ту точку,
на которой стоят ныне все европейские кодексы, т. е. на
точку безусловной необходимости разрешения
присяжными вопроса о вине, а не о конкретных обстоятельствах,
от которых только зависит вывод преступления. Таким
образом, не скрывая моего глубокого убеждения, что,
в сущности, всегда следовало бы ставить вопрос цельный
и неделимый о том, виновен ли, не скрывая того, что
если бы было возможно, то надлежало бы стараться
изменить ст. 754, я утверждаю, что вопросы по делу
Мельницких были поставлены правильно и с законом
согласно. Три вопроса по ст. 754 всегда находятся в такой
356
между собой зависимости, что от отрицательного
разрешения первого вопроса зависит безусловно
отрицательное разрешение второго и третьего, т. е. что
отрицательное решение их подразумевается само собой. При
признании преступления совершившимся, т. е. при
положительном решении второго вопроса, все-таки может
последовать еще отрицательный ответ на третий вопрос о
вменении. Следовательно, третий вопрос (о вменении)
должен быть обязательно поставлен после второго, если
он с ним не соединен в одно. Так как Сенат запретил
спрашивать присяжных о вменении, то им надо ставить
по третьему вопросу слова: «виновен ли», без чего в
утвердительном смысле не может считаться выясненной
субъективная сторона вины. Применим эти выводы к
делу Мельницких.
Прежде всего кассаторы утверждают, что
неправильно было само разделение вопросов по ст. 754, так как
никто не возбуждал сомнения ни относительно события
преступления, ни относительно его содеяния
обвиняемыми, а только оспаривалась их виновность. Я полагаю,
что вся аргументация кассационных протестов и жалобы
может быть опровергнута очень легко соображениями,
заимствованными от простого здравого смысла. Если
действительно всякий вопрос не есть цельный, а
составной и содержит в себе три элементарных, то
надлежало бы по всякому делу вообще разлагать вопрос о вине
на три элементарных; если же сего не делается, то только
для сбережения времени и упрощения производства.
Если бы нашелся суд, который желал бы, жертвуя своим
временем, поступать таким образом по всем делам, то
надлежало бы дать ему в том полную волю, потому что
не может быть противозакония в разбирательстве дела
с наибольшей обстоятельностью. Во всяком случае,
требование деления вопроса связано с существом дела.
Необходимости его нельзя проверить. Сенат признал в
решении по делу Мешкова и Мироновой (1873 год,
№ 208), что сама постановка судом раздельных вопросов
по ст. 754 свидетельствует, что было какое-то сомнение в
совпадении события и содеяния со вменением. Мало того,
оказывается, что в Московском окружном суде по всем
делам, в которых заявлялись гражданские иски, всегда
отделялся вопрос о содеянии от вопроса о вменении.
Итак, я полагаю, что необходимость деления вопросов
по делу Мельницких не требует никаких доказательств.
Другое возражение против постановки вопросов — то,
что будто бы не надо было вовсе ставить третьего во-
357
проса о вменении, а надо было ограничиться одним
вопросом, вмещающим в гебе содержание и события
преступления и содеяния. Если преступное деяние содеяно
известным лицом, то вменение само собой
предполагается, коль скоро нет причин невменения, которые
перечислены в ст. 92 и о которых, по ст. 763 уст. угол, суд.,
надлежит ставить особые вопросы, если таковые причины
имеются. Против сего возражения считаю долгом
ответить следующее: существует практика сенатская
(решение по делу Вашенцовой, 1870 год, № 488), практика,
которой я теперь не буду обстоятельно опровергать, что
если по делу возникает вопрос о причине невменения
(например, о сумасшествии или необходимой обороне и
тому подобному), то вопрос о вменении ставится в
отрицательной форме, т. е. при признании, что совершил
деяние, второй вопрос будет: если совершил, то доказано ли,
что он был в то время в припадке умоисступления или
в состоянии необходимой обороны и т. п. За этими двумя
вопросами ставится условно третий, только на случай
отрицательного ответа на второй: если не доказано, что X.
был в сумасшествии или в состоянии необходимой
обороны, то виновен ли он в означенном в первом вопросе
преступлении? Я знаю, что по другим делам вы
признавали эту форму формулировки вопросов совершенно
удовлетворительной. Я полагаю, что она все-таки
неправильна, потому что закон требует или должен требовать
прямого ответа на вопрос о вине или невиновности
подсудимого, а эта вина или невиновность является выводом
самого суда, а не удостоверением со стороны присяжных.
Но, оставляя в стороне всю эту полемику с
кассационной практикой, я полагаю, что все эти выводы к
настоящему случаю не применимы. Так как не было указываемо
никем ни на одну из причин невменения, то не могло быть
поставлено вопроса о невменении. Если же нельзя было
поставить вопроса о невменении, то по необходимости
надо было поставить вопрос о вменении. Если же, по
сенатской практике, вопрос о вменении замещается
вопросом о виновности, то надлежало поставить вопрос о
виновности. Если же вы придете к иному заключению, а
именно к тому, что и ставить вопроса о виновности не
следует, что можно ограничиться только вопросом о соде-
янии, отпустив присяжных, как будто бы они всю свою
работу сделали, то тем вы сами отнесете все наше
производство с присяжными из XIX в XVIII столетие, вы
поступите противно указаниям науки, возлагающим на
358
присяжных die ganze Schuldfrage*, весь цельный вопрос
о вине, вы разорвете связь между нашим институтом
присяжных и таковым же в Западной Европе.
Я утверждаю, что причина погрешности,
неправильности, неправоты приговора по делу Мельницких, если
она есть, не заключается вовсе в форме вопросов; искать
ее можно только в содержании ответов присяжных.
Начнете болезнь лечить средствами исправления формы
вопросов, а ответы все-таки будут получаемы
ненадлежащие и нежелательные, потому что разве можно
предположить, что те судьи, которые судили дело
Мельницких, если бы им был предложен один цельный,
совокупный вопрос о вине, решили бы его иначе,
утвердительно, а не отрицательно? Не видно, чтобы они отвечали
«не виновен» по недоразумению. Так уж настроен
институт на снисхождение и помилование, а почему он так
настроен — тому причин искать пришлось бы далеко. Я
полагаю, что и закон поставил их в неопределенное
положение, не вполне ясно высказал, что от них
требуется. Форма присяги обязывает их только судить «по сущей
правде и убеждению совести», но она их вовсе и не
склоняет судить по существующему закону. Я полагаю, что
весьма полезно было бы заимствовать из австрийского
кодекса 1873 года хотя бы установленную в § 313
формулу присяги: «Das Gesetz dem sie die Geschworenen Gel-
tung verschaffen sollen zu beobachten»**. Я не скрываю,
что предварительно такому заимствованию надлежало бы
ввести новый кодекс уголовный. Кроме того, надлежало
бы сразу и самым решительным образом перестать
держать присяжных в отдалении от закона, в таком
искусственном неведении техники и терминологии уголовного
закона, что употребление слова «вменение» в вопросах
уже считается нарушением закона, что слово «украл»
недопустимо, а надо сказать «тайно похитил», что
нельзя сказать «изнасиловал», а нужно описать саму
внешность акта. Присяжных не только не следует держать в
неведении о законе, но придется переубедить, что они-то
и есть органы этого закона и исполнители. Надобно
удалить сначала причины, а затем исчезнут и
последствия этих причин, но кассирование того или другого
приговора не помешает произнесению сотен и тысяч
подобных же приговоров, потому что они в духе века, в
особенностях общего настроения, с которым надобно
* Весь вопрос о вине (нем.).
** Следовать закону, который установлен для присяжных (нём.).
359
считаться и на которое надобно подействовать. Всякие
паллиативные средства ни к чему не поведут.
Сенат определил: решение присяжных и приговор
Московского окружного суда отменить, передав дело
для нового рассмотрения в другое отделение того же
суда, протест прокурора и обе жалобы оставить без
последствий, составу присутствия, рассматривавшему дело,
за явное нарушение закона при постановке вопросов
присяжным сделать замечание.
ДЕЛО
МИРОНОВИЧА
27 августа 1883 года, в субботу, в Петербурге в
помещении ссудной кассы, расположенной на Невском
проспекте, в доме 57 (дом перестроен, сейчас там
находится гостиница «Балтийская»), был убита Сарра Беккер,
14 лет. Ссудная касса принадлежала отставному
подполковнику И. И. Мироновичу, Сарра Беккер была дочерью
приказчика этой кассы Ильи Беккера. Труп обнаружен на
следующий день утром дворником и посетителями
кассы. Помещение кассы было не заперто. Сарра Беккер
лежала поперек большого мягкого кресла, одета в
черную шерстяную накидку, в платье, в чулках и
полусапожках. Обнаженные выше колен ноги были раздвинуты.
На правой части лба зияла огромная рана.
При осмотре места происшествия была обнаружена
пропажа денег и ценных вещей на незначительную
сумму. Шкафы для хранения ценностей остались
нетронуты. Таким образом, поза убитой и украденные вещи
давали основание для двух взаимоисключающих версий:
убийство, сопряженное с изнасилованием, или убийство
из корыстных побуждений. И хотя следов покушения на
изнасилование экспертизой установлено не было,
следствие взяло на вооружение первую версию. Подозрение
пало на Мироновича, так как, по словам свидетелей, он
прежде неоднократно приставал к Сарре, чем она
тяготилась. Прошлое Мироновича тоже характеризовало его
не с лучшей стороны. С 1859 по 1871 год он служил в
полиции. Ссудную кассу он открыл в 1882-м. В
помещении кассы проживал конторщик И. Беккер с Саррой,
дочерью от первого брака. Семья же его жила в Сестро-
рецке, куда он уезжал на выходные.
В течение месяца следствие по делу Мироновича
было почти завершено, но в этот момент произошло собы-
361
тие, для многих совершенно невероятное. 29 сентября
1883 года к приставу 3-го участка Московской части
Петербурга явилась молодая женщина, назвавшаяся
Екатериной Николаевной Семеновой, и объявила, что это она
убила С. Беккер с целью ограбления ссудной кассы.
Деньги и вещи, похищенные с места преступления, были
переданы ею М. М. Безаку. Вскоре был арестован Безак
и обнаружены искомые вещи. Безак признал, что вещи
им получены от Семеновой, но отрицал, что он знает
что-нибудь об убийстве. В связи с недостатком улик
15 января 1884 года Безак был освобожден из-под
стражи. А 25 января Семенова заявила, что она Сарру не
убивала, и кто совершил это преступление, ей неизвестно.
Вещи она получила от незнакомого мужчины в кассе, в
день преступления. 15 февраля она отказалась от этого
заявления и подтвердила свое первоначальное признание
в убийстве. 18 апреля Семенова вновь возвратилась к
своему заявлению от 25 января.
Суду были преданы: Миронович, обвинявшийся
в убийстве, Семенова за непредотвращение убийства и
Безак за недонесение об убийстве. Кроме того,
Семеновой и Безаку было предъявлено обвинение в
кражах и укрывательстве краденого. Первое
разбирательство этого дела проходило 27 ноября — 3 декабря
1884 года в Петербургском окружном суде.
Председательствовал А. М. Кузьминский, обвинял товарищ
прокурора И. Ф. Дыновский, Мироновича защищали Н. П. Ка-
рабчевский и Леонтьев. В процессе было допрошено
более 70 свидетелей.
На разрешение присяжных были поставлены
следующие вопросы:
«1. Виновен ли И. И. Миронович в том, что вечером
27 августа 1883 года вследствие внезапно явившегося
порыва гнева, ярости или страсти намеренно лишил Сарру
Беккер жизни, душил ее, всунув ей в рот платок, и
причинил ей каким-либо твердым орудием безусловно
смертельное повреждение черепных костей, от чего
Сарра тут же умерла?
2. Доказано ли, что дворянка Семенова, подойдя
вечером 27 августа 1883 года к двери ссудной кассы и убе-
дясь, что в ней другим лицом совершается
намеренное убийство, и имея возможность помешать
совершению убийства, позвав посторонних лиц или заявив
о том полиции, ничего не предприняла, а, получив
от убийцы деньги и вещи, допустила лишить жизни
С. Беккер?
362
3. Если описанное во втором вопросе деяние не
доказано, то доказано ли, что дворянка Семенова, зная о
совершении 27 августа 1883 года другим лицом убийства
С. Беккер: а) приняла от убийцы деньги и вещи и, не
представив их надлежащей власти, умышленно
способствовала сокрытию личности виновного и б) для
сокрытия этой личности в конце сентября 1883 года явилась в
полицию с повинной, ложно обвинила себя виновной в
убийстве С. Беккер?
4. Если Семенова совершила описанное во втором
или третьем вопросе деяние, то доказано ли, что она
действовала в состоянии умопомрачения во время
совершения деяния: а) изложенного во втором вопросе и
б) изложенного в третьем вопросе?»
Пятый вопрос касался виновности Безака в сокрытии
убийства С. Беккер. Остальные 14 вопросов относились к
эпизодам преступной деятельности Семеновой и Безака,
не связанным с убийством.
На основании вердикта присяжных Миронович был
приговорен судом к семи годам каторжных работ, Бе-
зак — к ссылке в Сибирь, а Семенова была оправдана,
поскольку совершала преступные действия в
невменяемом состоянии.
По кассационной жалобе Мироновича Сенат отменил
приговор окружного суда в связи с допущенными
процессуальными нарушениями и направил дело на новое
рассмотрение в тот же суд. Новый процесс, уже по
обвинению только Мироновича, проходил 23 сентября —
2 октября 1885 года. Председательствовал Крестьянинов,
обвинял товарищ прокурора А. М. Бобрищев-Пушкин,
защищали Мироновича Н. П. Карабчевский и С. А.
Андреевский. Представителем гражданского истца И. Беккера
выступал А. И. Урусов.
Ниже приводятся речь Н. П. Карабчевского в первом
процессе, речи А. М. Бобрищева-Пушкина, С. А.
Андреевского и А. И. Урусова во втором процессе.
Речь обвинителя товарища прокурора
Л. М. Бобрищева-Пушкина *
Настоящее дело слушается во второй раз, и
невольно, разумеется, останавливаешься — хотя это
совершенно для дела значения иметь не должно — на том или дру-
* Речь дается в изложении.
363
гом отношении материала, который разбирается теперь, к
материалу, имевшемуся в виду при первом
разбирательстве. Как небезызвестно, те или другие мнения по
настоящему делу были весьма разнообразны; так называемое
общественное мнение разделилось. Был9 ли это
следствием того, что дело, быть может, недостаточно полно
разобрано,— но теперь, кажется, его полно разобрали,— было
ли это следствием того, что люди, высказывающие в иных
случаях свое мнение, действуют иногда не совсем
основательно, основываясь на фактах, может быть полученных
из десятых рук, которые намеренно так или иначе
исказили, или вследствие ошибки,— во всяком случае, были
мнения такие, были мнения сякие.
Обращаясь к предыдущей судьбе этого дела,
которая весьма разнообразна, обвинитель счел нужным
вспомнить решение правительствующего Сената по
этому делу.
Нет никакого сомнения, что, как бы то ни было,
влияния общественного мнения на решении Сената
отразиться не могли, потому что, во-первых, Сенат в существо
дела не входит, а во-вторых, его положение, как высшего
судебного места, совершенно гарантирует его от таких
влияний. Следовательно, если посмотреть на дело прямо,
то невольно придет в голову вопрос: каковы были те
поводы, которые послужили к отмене первого решения?
Поводов было три: именование экспертизы блестящей,
невызов свидетеля Езерского и непрочтение протокола об
утрате волос. Так как Сенат в существо дела не входит, то
не будет неловким сказать, что эти поводы
представляются несущественными. Действительно, при настоящем
рассмотрении дела можно было убедиться, что протокол
об утрате волос явился повторением целого ряда
свидетельских показаний, потому что из них было ясно
видно, что волосы потеряны или унесены. Затем показание
свидетеля Езерского заключалось в словах: «Я ничего по
делу не знаю». Наконец, нельзя утверждать, чтобы от
слова могло что-нибудь статься, т. е. если сказать, что
экспертиза блестящая, то она и всем такой покажется.
Поэтому, проходя мимо всего этого, должно сказать, что
теперь, когда дело переисследовано подробно, можно
думать, что оно достаточно раскрыто для того, чтобы
никаких разговоров по этому поводу больше быть не могло.
Вот только что очерченный период, период,
последовавший после первого разбора дела, может быть по
справедливости назван периодом разгула всевозможных сплетен,
и если вспомнить характер этих сплетен, то их следует
364
Заседание Петербургского окружного суда по делу об убийстве
С. Беккер. Вверху слева — Семенова, вверху справа — Миронович.
выкинуть за борт, потому что всевозможные посторонние
влияния не могут отражаться на решении присяжных.
Закон прямо устанавливает, что даже свидетель,
вызванный в суд, должен показывать правду, говорить только о
том, что действительно знает, догадок не высказывать,
скороспелых заключений не делать и не повторять
слухов, неизвестно от кого исходящих. Если стать на эту
точку зрения и, взглянув на большинство нашей
периодической печати, обратить внимание на то, что
значительная часть печатных сведений носит на себе характер
слухов, неизвестно откуда исходящих, то понятно, что такие
сведения в счет, при здравом и осторожном обсуждении
дела, идти не могут. Если откинуть тот характер, который
имеют всякие газетные сведения, выставляемые на
продажу за 17 рублей в год, если выкинуть эту
существующую рядом с розничной продажей номеров розничную
продажу столбцов газет, то затем бывает и так, что не
всегда только неизвестно откуда исходящий слух
неверен, бывает неверен и тогда, когда он точно означен: все
знают известные разговоры корреспондентов со
знаменитыми людьми, где сплошь и рядом грешат против истины,
и понятно, почему они впадают в додобные ошибки.
Обращаясь к содержанию дела, нельзя не заметить, что и в
содержание его прокрались так называемые сплетни или,
365
определяя ближе это понятие, такие факты, которые или
не имеют под собой почвы, или, имея почву, до такой
степени неопределенны, неясны, что с ними считаться
невозможно. К таким фактам или сплетням следует
отнести те явления, которые подкрадывались и здесь в виде
отдельных вопросов без "связи с предыдущими. Известна
пословица, что у семи нянек дитя без глаза, и если
представить себе картину детской, где семь таких нянек,
одни — помоложе, другие — постарше, и одна с другой
перекоряются, что «ты своего дела не делаешь, а я своего
из-за этого не могу делать» и т. п., то все это будут
дрязги, мелкие перекоры нянек, которые для нас не могут
иметь никакого значения, раз из этих перекоров не
обозначился никакой твердый, определенный факт. Все эти
сплетни и перекоры не должны иметь места в настоящем
деле, которое интересно, разумеется, не с точки зрения
пересудов, а с точки зрения самого его содержания. Мы
имеем здесь замечательный продукт совместной
деятельности трех весьма характерных личностей:-личности
Мироновича, затем личности Семеновой, полусумасшедшей,
и, наконец, личности Безака, который был изобличен
здесь в том, что был готов продать свое показание.
Рядом с Мироновичем постоянно стоят два лица,
относительно которых возникает ряд вопросов, так что целые
отделы судебного следствия отзывались то Семеновой, то
Безаком; все время мы как будто бы имели не одного, а
троих. Почему? Причина очень простая. Суд был
поставлен в преоригинальное положение: в необходимость
выслушивать свидетельские показания женщины, которая
теми же присяжными была признана сумасшедшей. Что
это было так, что это в силу рокового порядка вещей не
могло быть иначе, это ясно следует из следующих
соображений. Когда Сенат признал Семенову здоровой, он
этим самым возвратил ей полную гражданскую
правоспособность, и кто бы из сторон на нее ни сослался, она
должна была быть допрошена, ей нельзя было отказать в
присяге, потому что она вполне правоспособный человек.
Предвидя это положение, обвинитель ни на минуту
не останавливался на вопросе о том, насколько придется
считаться с тем или другим показанием Семеновой по
вопросу о совершении ею преступления.
Семеновой в этом деле нет, и, если доказывается
виновность Мироновича, она должна быть доказана так,
что приходи хоть десять Семеновых, они этого
приговора не пошатнут. Здесь не может быть поставлено
вопроса: виновен тот или другой,— на суде есть подсуди-
366
мый, и выбора, жребия, гадания тут не может быть.
Поэтому если перед судом Миронович, то должно задаться
только вопросом о Мироновиче. Затем все остальное
является дополнением, интересным обстоятельством, но не
более. Но и такая постановка вопроса относительно
интересного дополнительного обстоятельства имеет свое
оправдание в настоящем деле. Как известно, никто
Мироновича во время совершения преступления не видел,
прямых указаний на него в деле не имеется, а характер
исследования подобного рода дел имеет свои
особенности. Когда приходится восстанавливать виновность
человека из первостепенных и второстепенных
обстоятельств, то окончательное убеждение, составляемое из
всех этих обстоятельств, все-таки в конце концов должно
дать ясное представление о всей картине преступления,
должно ответить на все вопросы, которые могут
возникнуть при обсуждении виновности Мироновича.
Поэтому, если будет доказана виновность
Мироновича, необходимо затем доказать все то участие, которое
здесь принимали Семенова и Безак, потому что, только
осветив все детали, можно будет сказать, что картина
освещена верно. Вот для этого-то полного освещения и
необходимо исследование показаний Семеновой, тех или
других деталей, относящихся к ее показаниям. Установив
эти основные положения, следует остановиться на
экспертизе. Здесь были вызваны три новых эксперта и один
прежний эксперт. Отношение этих двух сил к процессу
было неодинаково. По тем или другим причинам, по тем
или другим данным, бывшим в виду прежнего суда,
профессор Сорокин установил тот или другой свой
определенный взгляд на настоящее дело. Когда он был вызван
сюда, масса новых данных, получившихся при
исследовании черепа, а равно из свидетельских показаний,
видоизменила физиономию дела, и нет ничего удивительного в
том, что заключение трех экспертов, как людей свежих а
этом деле и не имевших надобности считаться с двумя
противоположными и разными группами материала
прошлого и нынешнего заседания,— что это заключение
было более или менее прямолинейным. В другом
положении очутился профессор Сорокин. Так как черепа он
не видел в первом заседании, так как те или другие пятна
на кальсонах оказались несуществующими, так как те
или другие подробности исследования, на которые он
опирался, в настоящее время не были воспроизведены, то
в связи с целым рядом свидетельских показаний, из
которых некоторые были совершенно новые, естественно до-
367
лжно получиться то или другое видоизменение его
заключения. Обращаясь к вопросу об экспертизе, нельзя
пройти молчанием общего вопроса о положении экспертов на
суде. Для чего приглашается эксперт? Если бы эксперт-
медик представлял собой лицо вроде кудесника, чародея,
отгадчика мыслей, то он действительно мог бы быть
приглашен для того, чтобы сказать присяжным, кто
преступник. Но это не задача эксперта, и он не вправе доходить
до таких категорических заключений.
Эксперт приглашается по вопросам своей
специальности, и едва ли кто будет спорить об этом. Но эксперт
находится в особенных условиях, которые игнорировать
нельзя. Статья 333 уголовного судопроизводства ставит
эксперта в положение как бы научного судьи, и это
совершенно понятно. Не будучи сведущим лицом, обвинитель
не может сказать эксперту: посмотрите на то, или другое,
или третье, не рискуя пропустить, может быть, важное
обстоятельство. Поэтому эксперт должен сам находить
факты, которые упущены должностным судебным лицом
и которые ему в его заключении могут понадобиться. При
таком положении нет никакой возможности согласиться с
теми посылками, которые ставились экспертами по
вопросу о значении вообще экспертизы, причем они слишком
ограничивали экспертизу. Например, профессор Эргардт
ставил такое положение, что он будет руководствоваться
только судебно-медицинскими данными, между тем когда
приходилось проверять его заключение в деталях, то он
руководствовался и другими данными, так что это
захождение экспертов в чужую область тотчас же сказывалось.
Да иначе и быть не может. Нельзя сказать, каким
ударом причинены повреждения черепа, от каких
последствий произошла рвота и т. п., не войдя в
рассмотрение окружающей среды и всей обстановки
преступления,— ведь труп не на воздухе. Вот, установив
такое положение, следует подойти к экспертизе с такой
стороны. Те или другие данные, принятые экспертами в
основание своего заключения, могут быть и неправильны,
могут быть неверны выводы из свидетельских показаний,
и тогда полная возможность наша проверить их стоит
вне всякого сомнения. Например, профессор Эргардт
говорит, что крови со свечой не искали, что надо было
искать со свечой, а из показания дворника оказывается,
что.кровь искали со свечой. Когда являются такого рода
ошибки, то мы вправе их исправлять. И вот при таких
условиях все-таки получился целый ряд
судебно-медицинских заключений, которые для обвинения имеют извес-
368
тное значение. Прежде всего необходимо взять те
данные, в которых эксперты были более или менее согласны.
Все они дали весьма драгоценное заключение по тому
вопросу, что. положение трупа, в каком оставил его
преступник, должно быть принято в соображение при
разрешении настоящего дела. Далее эксперты признают, что
смерть Сарры последовала часа через два после еды, а
известно, что в 7-м или 9-м часу она ужинала, и таким
образом определяется до известной степени время
совершения преступления. Затем они утверждают, что борьба
была. Следующее их положение то, что рана на лбу
безусловно нанесена в лежачем положении. Но они
немного разошлись по вопросу о нанесении первого удара в
том отношении, стояла ли жертва, лежала или сидела.
Если вглядеться в эту разницу, то можно усмотреть
общую точку, в которой все эксперты сходятся: все они
признают, что удар был нанесен сверху по касательной,
что удар был весьма сильный, потому что сделал вдавле-
ние. Таким образом, независимо от положения жертвы,
остается открытым вопрос, было ли удобно преступнику
наносить так удары, если бы он стоял сбоку жертвы.
Затем установлено, что была рвота, причем эксперт
Монастырский категорически заявил, что даже при самой
незначительной рвоте маленький кусочек ее легко мог
задушить Сарру. Вот на этом основании эксперты пришли
к заключению, что в данном случае была не полная
асфикция, не полное задушение. Так что тут действовали
две причины: и удары, и задушение. Далее, все эксперты
согласились в том, что было сжатие челюстей, но вывод
их из этого различный. Профессор Сорокин говорит, что
если зубы сжаты и является судорожное движение
челюстей, то, конечно, платок нельзя было всунуть в рот;
другие же эксперты находят, что при этих условиях
возможно было всунуть не только платок, но даже целый палец.
Затем все эксперты пришли к тому заключению, что нет
судебно-медицинских данных для установления вопроса
о попытке к изнасилованию, с чем обвинитель
совершенно согласен, потому что нанесение тех или других
царапин и повреждений могло зависеть от других причин.
Рассматривая те данные, которые дала экспертиза,
оказывается, что даже при том положении, что в основе
будут данные, принятые всеми экспертами, есть полная
возможность построить две противоречивые картины
преступления. Одна картина, нарисованная профессором
Сорокиным, заключалась в том, что задушение
предшествовало нанесению ударов, в противоположность мнению
369
трех экспертов, что задушение явилось после нанесения
ударов. Мотивируя свое заключение, профессор Сорокин
представляет два весьма веских аргумента. Он говорит,
что если бы задушение было после нанесения ударов, то
платок нельзя было бы всунуть в рот убитой, вследствие
сжатия челюстей, и что те удары, которые нанесены,
представляются нанесенными посмертно, причем в
подтверждение этого привел весьма веское доказательство. Все те
подробности, которым остальные эксперты или не могли
дать объяснения, или не придавали значения, объясняются
при принятии заключения профессора Сорокина о том, что
задушение предшествовало нанесению ударов.
Разобрав затем подробно другую картину
преступления, представляемую тремя экспертами, товарищ
прокурора находил, что вопрос о том, что последовало
раньше — задушение или нанесение ударов, никакого
решающего значения для дела не имеет, а потому ставить эти
две экспертизы одну против другой совершенно
бесполезно. Взяв из них те данные, которые признают все
эксперты, остается сказать, что картина могла быть и другая:
труп по небрежности тех, которые его вскрывали, или по
другим причинам не дает ясных указаний для
определения картины преступления. Затем следует обратиться к
рассмотрению исключительно юридических данных,
имеющихся в настоящем деле. Но прежде чем перейти к
рассмотрению доказательств обвинения, необходимо
посчитаться с тем весьма серьезным оправдательным
приемом, который был употреблен подсудимым в этом деле.
Так называемое alibi—'отсутствие преступника в месте
совершения преступления во время его совершения —
весьма сильное орудие в руках подсудимого.
Если предположить самый обыкновенный случай, что
человека не тотчас ловят, а несколько часов спустя, то
нет ничего мудреного, что он в эти несколько часов
успеет получить не одного только свидетеля, который скажет,
что он был не здесь, а там. Ясно, что весьма трудно в
большинстве случаев отвечать на такие доказательства,
представляемые подсудимым. Тем не менее даже это
трудное для опровержения в обыкновенных случаях
оправдательное доказательство весьма легко опрокидывается
в настоящем деле. Это главное доказательство было
представлено здесь портнихой Федоровой, одной из
любовниц Мироновича. Для того чтобы рассмотреть этот
вопрос обстоятельнее, следует обратиться вообще к
вопросу о возможности для Мироновича в вечер 27 августа
незаметно проникнуть в кассу ссуд, войти во двор и
370
подняться к себе. Эта возможность, конечно, была, если
вспомнить обстановку дома № 57, этого распущенного
дома, как говорил один свидетель, где и ворота Бог знает
как запирались, и дворники дома плохо смотрели.
Дворник Прохоров, который дежурил тогда у ворот, на суде
откровенно сознался, что в этот вечер он был выпивши.
Из показаний целого ряда свидетелей видно, что у
швейцара Мейкулло в этот вечер праздновались именины и
происходило пьянство; дворник Прохоров заходил туда
и в 11 часов, и раньше, чтобы выпить. Словом, в этот
вечер сторожевых людей у ворот не было. Мейкулло
запер подъезд в 11 часов и ушел к себе на квартиру, где
у него были гости до 2-го часа. Но не было ли тут
жильцов, которые могли бы видеть, когда Миронович
приходил и уходил? На лестнице, где помещается касса ссуд, в
то время жил только Севастьянов и жильцы квартиры
№ 2. Севастьянов только в начале 11-го приехал в
Петербург по Николаевской дороге; поезд должен был прибыть
в 10, но несколько опоздал. Следовательно, Севастьянова
безусловно не было дома до начала 11-го часа. Жильцы
другой квартиры: Алелеков, Повозков, Неустроев и Ипа-
тов — путешествовали в этот вечер в баню, потом в
трактир. Таким образом, таких лиц, которые могли бы
столкнуться с Мироновичем на лестнице, не было. Был
случай, что Ипатов встретил двух женщин на лестнице
около квартиры, но других таких случаев не было; например,
приходит Федорова — и ее никто не видел. При таких
условиях обвинение было бы поставлено в весьма
затруднительное положение, если бы не было установлено, что в
этот вечер из дома № 57 случайно вышло несколько
человек за ворота, именно Тарасов, Гершович и Короткое.
Эти свидетели дали весьма ценное показание, что
Миронович вернулся в дом, проводив какую-то женщину. Это
«вернулся» было сказано так внушительно, что
Миронович не выдержал и стал защищаться. Но во всяком
случае этот факт установлен: это было в начале 10-го часа.
Спрашивается: если это было в начале 10-го часа, если
Миронович так энергически это отвергает, то нет ли к
этому веских причин? Что такое 11-й час для
Мироновича в этот день? Из экспертизы уже известно, что
преступление было совершено часа через два после принятия
Саррой пищи, следовательно, в 11-м часу, может быть,
около 10. Если же обратить внимание на то, что Сарра
была не раздета, что на ней был ватерпруф, что она, по-
видимому, недавно вошла в квартиру, что постель была
не постлана, то можно будет сказать, что это было почти
371
вслед за возвращением Сарры с лестницы в 10-м часу.
Спрашивается, можно ли доказать, что в то время, когда
она вернулась в квартиру, Миронович находился там?
Если это прямо доказать нельзя, то весьма большая
вероятность за это существует. Когда Сарра сидела с
женщиной на лестнице, то она весьма резко обошлась с Ипато-
вым: она указала ему на кассу и сказала, что тут живет. Эти
два условия, вместе взятые, говорят, что там сидел хозяин,
который таким образом как бы прикрывал ее и давал ей
возможность так резко обращаться со взрослым
проходящим человеком и присутствие которого в кассе позволило ей
отлучиться. Если принять эту громадную вероятность, то
окажется, что преступление совершено около 10 часов, тем
более что известно, что в начале 12-го часа Семенова
появляется с вещами уже в гостинице и моется, а на все это
нужно время. Следовательно, преступление было
совершено раньше 11 часов, а если принять во внимание такие
данные, что Сарра была еще не раздета и постель не была
постлана, то следует прийти к тому заключению, что это было
близко к 10 часам. Таким образом, вот рамки: не дальше
11 и не раньше 10 часов. Что же может теперь сказать
Миронович о своем отсутствии за это время в кассе? Он
указывает на ряд дворников и на Наталью Иванову, которая
находилась в квартире с его малолетней дочерью. Что же
говорят эти свидетели? Прежде всего, они до известной
степени противоречат друг другу. Они сказали здесь, что
Миронович вернулся домой около половины 11-го. Старший
дворник сказал даже, что он был дома в 10 часов 40 минут,
но когда обратились к приметам, которыми определяется
время, то оказалось, что вслед за тем, как Мироновичу
подали самовар, заперли гостиницу, следовательно, это будет
около 11 часов, потому что гостиницы раньше 11 часов не
запираются. Таким образом, против Мироновича имеется
то указание, что он попал домой в конце 11 -го часа. Что
остается ему делать? Ему остается отвергать; он говорит, что
это неправда, у меня есть такая свидетельница, которая
докажет то, что я утверждаю. Свидетельница эта
Федорова. Она показывает, что 27-го числа пришла к Мироновичу
в дом № 57 к 9 часам, что он ждал ее. Оставляя в стороне
то обстоятельство, что он ждал Федорову в 9 часов, а
в 7 часов гнал из кассы Лихачева, спрашивается:
доказано ли, что Федорова совершила с Мироновичем то
путешествие, о котором она рассказывала? Она говорит, что по
дороге из кассы заходила в булочную, пошла до конно-же-
лезной дороги, села в вагон, в начале 9:й улицы оставила
его, отправилась домой, вернулась и получила от него вещи;
372
возвращаясь, она увидела, что было доловина 11-го. Если
даже поверить Федоровой, то выходит, что Миронович
вернулся тоже в половине 11 -го, даже немного раньше, потому
что она успела сбегать к себе домой. Но дело в том, что это
показание совершенно неверно, и вот почему здесь были
вызваны два эксперта, служащие на конно-железной
дороге, которые с большой точностью определили время,
необходимое для проезда с того пункта Невского до
Болотной улицы. Это время определено самое большее в
11 минут, а вероятность ожидать вагон самое большее
7 минут, итого 18 минут. Но Миронович говорит, что он
ждал вагон минуты три, следовательно, получится всего
14—15 минут на проезд. Затем время, необходимое для
того, чтобы пройти от дома №57 до вокзала
Николаевской дороги, определено было свидетелями в 5—6 минут;
но если даже набросить 10 минут, то потребуется 1 /4
часа, да по конке до Болотной *Д часа, следовательно,
всего полчаса, а Федорова хочет уверить, что она
путешествовала с Мироновичем от кассы ссуд до Болотной
в течение Р/г часа. Вещь совершенно
несообразная. Вот почему не на шатком основании доверия или
недоверия к свидетельнице, а на основании цифр, на
основании того, что если бы даже принять заявление
Мироновича, что он 3/4 часа употребил на дорогу, то и тогда
показание Федоровой неверно, лживо. Раз дело стоит
таким образом, что оправдание, представленное
подсудимым в свою пользу, рушится и показание приведенного
им свидетеля является ложным, то это есть уже улика
против него. Покончив с этим вопросом, следует перейти
к обстановке, при которой совершено"преступление.
Прежде всего здесь играет большую роль вопрос о том,
насколько касса была защищена от людей посторонних; как
по содержанию в ней ценных вещей, так и по характеру
деятельности — мало ли кто может прийти в кассу и
нашуметь. Совершенно вероятно, что днем девочка не
могла быть в ней одна. Известно, что даже тогда, когда
Миронович отлучался на короткое время, он всегда
просил дворника посмотреть за кассой. Точно так же и
ночью 14-летней девочке в такой богатой кассе одной
оставаться было нельзя, и она одна никогда в ней не
оставалась. Из показаний нескольких свидетелей видно, что
во время поездок Беккера в Сестрорецк в кассе всегда
ночевали дворники. Это делалось с такой осторожностью,
что вечером Миронович ждал дворника и не уходил, пока
тот не придет, а утром дворник не смел уйти до тех пор,
пока не явится Миронович. Таким образом, касса была
373
охраняема целые сутки так тщательно, что Сарра никого
- не впускала даже и тогда, если бы она не имела никакого
сомнения в том, что это человек знакомый. Например,
приходит раз Федорова, она слышит, что это она,
признает ее, час не поздний, одиннадцатый, но она не пускает
ее, потому что и сама боится, да и хозяин строг. Таким
образом, прежде всего приходится остановиться на
следующем: дверь цела, крюк цел, замок в порядке, ключ в
кармане у Сарры, дверь не заперта. Следовательно, как
проник в кассу чужой человек при этих условиях? Это
совершенно невозможно, потому что все, что известно из
прежней жизни Сарры, доказывает, что только свой
человек мог войти в то время в кассу. Затем само место
совершения преступления. Была речь о том, что
преступление могло быть совершено в коридоре, на лестнице.
Защита может доказывать, насколько удобно с верхней
ступеньки колотить девочку, стоящую внизу, и не полететь
вниз головой. Необходимо остановиться на том, что пятен
на полу не было. Их не нашел следователь, их не нашли
лица, которые осматривали впервые, их не нашли,» когда
в кассе находились Лихачев, Пальцева, Черняк и
Балакирев, искали со свечой, но нигде их не нашли. Если бы
даже можно было остановиться на незначительном
количестве крови из раны первоначальной, то нанесение раны
второй, может быть, помогло бы хлынуть крови из
первой. Раз это повреждение было так значительно, что оно
должно было коснуться больших сосудов свода черепа,
кровоизлияние непременно должно было быть. Затем
нужно принять во внимание еще то, что происходило
при перенесении и борьбе. Между тем крови нет ни
одного пятнышка, крови нет на том месте, где совершено
убийство,— вещь совершенно немыслимая. Отсюда
можно сделать один вывод, что преступление совершено в
маленькой комнате. Если допустить, что преступление
совершил чужой человек, то он совершил бы его при
входе в коридор или в кассе, но не в последней комнате,
куда ему незачем было идти, куда даже и Сарре незачем
было отправляться.
Затем есть еще одно обстоятельство, маленькое на
вид, но имеющее значение,— это вопрос о потушенной
лампе. Обвинитель не знает ни одного случая из своей
практики, где бы преступник, уходя с места
преступления, заботился о потушении огня, а тем более об
уменьшении его. Между тем странный факт: лампа
оказывается потушенной. Это опять показывает, что здесь был свой
заботливый человек. В таком же положении вопрос о
374
ключе. Известно, что ключ был найден в кармане Сарры.
Обыкновенно это делалось тогда, когда ночевал дворник:
собираясь ложиться спать, Сарра запирала дверь и
клала ключ в карман, чтобы дворник не унес вещей. Между
тем в этот раз при таких предосторожностях дверь была
отперта. Из этого можно сделать несколько выводов.
Дело в том, что если этот ключ не находится в двери, то
можно смело утверждать, что Сарра не запиралась на
ночь. Раз она не запиралась на ночь, то это имеет
некоторый смысл. Если Миронович поставил себе задачей так
или иначе добиться в этот вечер своей цели, то Сарра,
боясь, что он ее запрет, спрятала ключ и оставила дверь
на крюке, чтобы легче было выбежать' из кассы, когда
будет нужно; это весьма понятный способ самозащиты.
Но если это так, то почему же Миронович не вынул
ключа из кармана, почему не спустил подол, почему не
соединил ног, почему не сбросил их на пол? Ответ на это
заключается в заявлении самого Мироновича, что он
боится трупрв. Вот почему- он не мог переменить положение
трупа и оставил ноги раздвинутыми.
Переходя к фактам настоящего дела, товарищ
прокурора прежде всего остановился на витрине.
Если бы даже посторонний человек и нашел ключ
от нее, то не мог бы им воспользоваться вследствие
секрета, о котором говорил И. Беккер; витрину мог
открыть лишь свой человек. Что же касается способа, о
котором говорит Семенова, т. е. что она приподняла
крышку, просунула руку и вынула вещи, то он не
выдерживает никакой критики, во-первых, потому, что
произведенный опыт не подтвердил этого, а во-вторых, что, во
всяком случае, остальные вещи оказались бы
сдвинутыми, перепутанными вместе, тогда как их видели
лежащими в полном по'рядке. К тому же нужно принять во
внимание, что Семенова действовала в темноте, и как бы она
ни была осторожна, пятна крови из пораненного пальца
оказались бы на витрине и внутри ее, а их нет. Если бы
вор был человек посторонний, он не стеснялся бы разбить
стеклянную крышку витрины и никоим образом не стал
бы запирать ее и вешать ключ на прежнее место после
кражи вещей. Отпереть витрину, вследствие секрета,
могли только свои люди, какими являлись лишь трое:
Миронович, Беккер и дочь его Сарра. Беккера в то время не
было в Петербурге, Сарре не для чего было брать
вещи, назначенные к продаже. Все это. вместе взятое,
говорит, что витрину отпер и снова запер один человек, это —
хозяин кассы, Миронович. Не следует упускать из виду
375
еще и того, что в витрине хранилось вещей с лишком на
1000 рублей; взято же так немного, что с первого
раза даже не заметили пропажи, и это обстоятельство
доказывает, что здесь не было настоящей корыстной цели, а
было похищение для другой цели, это был отвод,
сделанный своим человеком, а им~следует признать одного
Мироновича.
Остановившись подробно на эпизоде с векселями
Грязнова, разобрав все мельчайшие детали, товарищ
прокурора причислил его к тому же ряду улик для
отвода глаз следственной власти. Сюда же можно отнести и
поведение Мироновича 28 августа. Обвинитель придавал
известное значение показанию Егоровой, видевшей
в первом часу ночи шарабан на дворе дома, где
помещалась касса ссуд Мироновича,— шарабан, очень
похожий на тот, в котором имел обыкновение приезжать
Миронович. Конечно, никто не приезжает в экипажах для
совершения убийства, но для отвода глаз это могут
сделать. Необходимо вспомнить, что в ту же ночь такое же
сонное видение, как и Егоровой, в тот же час, имел
другой человек, плотник Константинов, которому дворник
Мироновича говорил, что ходил отпрягать лошадь, на
которой приехал его хозяин. Затем товарищ прокурора
перешел к разбору того, что принято называть «мотивом
преступления».
Этот мотив весьма резко обозначен в процессе и
относится прямо к тем половым излишествам, которые в
характере Мироновича. Мы видели здесь на суде жену его,
любовниц, слышали сплетни о дочери и уверения, что
Миронович жил с несколькими женщинами, что он
весьма и весьма приглядывался к женскому полу.
Независимо от экспертизы мы имеем основание, руководствуясь
показаниями свидетелей, сказать, что отношения
Мироновича к Сарре носили на себе именно такой характер.
Обвинитель напоминает показания скорняка
Лихачева, Араратова, Соболевой и многих других, которым
Сарра жаловалась на предосудительные поступки
Мироновича, и спрашивает: какой же смысл, помимо
эротического, могло иметь ухаживание Мироновича за Саррой
Беккер? По мнению оратора, это представляется
совершенно ясным и заключается в том, что люди известного
возраста, с известной, расшатанной половой системой,
очень легко соблазняются девочками-подростками и в
момент неудовлетворенной страсти решаются на все,
даже на кровь. Эта связь — крови с половой
раздражительностью — факт общеизвестный. Главным образом
376
товарищ прокурора обращает внимание на обстановку, в
которой Сарра находилась при кассе Мироновича.
Это была приказчица, о которой Миронович говорил
Филипповой и другим, что она стоит больше, что он
положит ей 15 рублей в месяц, и которая, как следует
заключить из всего слышанного на суде, могла заменить ему
дарового приказчика. Теперь ни для кого не тайна, что
все женщины, с которыми жил Миронович, работали у
него; он у всех их вытягивал соки. Так, Филиппова
стирала на него белье, имея несколько человек детей от
Мироновича; мы видели Федорову, которая на него шила,
которая работой оплачивала его подарки. Что оставалось
Мироновичу, раз он стоит на этом пути? Перспектива
казалась заманчивой, и вот он сначала развращает Сарру,
затем имеет в виду поссориться с ее отцом,
наклевывается возможность поставить девочку в такое же положение,
как и остальных женщин,— поставить в это новое, миро-
новичское положение. Эта приказчица представляла
слишком лакомый кусок во многих отношениях. Вот
откуда явилось стремление воспользоваться Саррой.
Миронович повел дело так, что уже подносил кусок ко рту, но
вдруг — опасность, что Сарра уедет совсем в Сестрорецк.
Таким, образом, эти две последние ночи, которые имел в сво-
емфаспоряжении Миронович, чтобы осуществить мечту на
почву, имеют большое значение. Это как раз те две ночи,
когда Миронович не посылал дворников в кассу и в
которые Сарра ночевала одна.
Товарищ прокурора доказывает, что Миронович
делал особые приготовления для приведения в
исполнение задуманного плана, причем господин обвинитель
напомнил показание скорняка Лихачева, которого
Миронович прогнал с работой, заявление Федоровой, которую
он не пустил в кассу, когда она приходила вечером
27 августа, и еще то, что мебель, ради сохранения места
поставленная друг на друга, изменила свое положение, а
диван, с приставленными к нему вплотную мягкими
стульями, представлял собой удобное ложе. Опровергая
экспертизу Штольца о неудобстве положения жертвы на
кресле и присоединяясь к мнению Сорокина,
обвинитель рисует такую картину: Сарра от преследования
Мироновича вбегает в комнату, сопротивляется и в это
время получает удар кулаком в голову, который мог иметь
своим последствием сотрясение мозга. Господин
обвинитель категорически доказывает, что последующие
удары были нанесены в раздраженном состоянии
старого, ослабленного организма, который впал в крайнюю
377
степень полового раздражения, кончающегося всегда
и безусловно смертью и кровью.
Переходя в последней части своей речи к эпизоду с
Семеновой и Безаком, товарищ прокурора заметил, что
как ни некрасив эпизод, но он имеет свою даже
комическую сторону.
Здесь вспоминается ходячий анекдот о том, как на
деревенском празднике мещанин набуянил, его привели,
разложили и «сделали что следует»; он встает, улыбается
и отряхивается; те, которые его наказали, в большом
недоумении: «Что такое?»—«А я,— говорит,—
мещанин».—«Так что же ты не сказал раньше?»—«А кто
же,— говррит,— от своего счастия отказывается». Такого
же рода положение отчасти готовилось и для Семеновой:
она имела в виду «счастие» в своем сознании. Надо
сказать, что Семенова с Безаком явились героями одного из
распространившихся в настоящее время приемов
действий, которые называются шантажом. Дело в том, что
Семенова и Безак стояли близко к преступнику. Имея
вещи в руках в ту же ночь, имея сведения о том, что вот
совершено преступление тогда-то в таком-то часу,
сведения, недостаточные для других, они получают
основание, с которого им представляется полная возможность
эксплуатировать то или другое лицо, и, разумеется, этим
лицом явился прежде всего тот, кто виноват в этом деле.
Роль Семеновой и Безака в данном случае несколько
различна. Тут необходимо припомнить разные выражения в
семеновских письмах, записочках и стихах — везде
встречается одно и то же: она постоянно укоряет Безака в
том, что он «любит вынимать каштаны, не обжигая бла:
городных рук». Действительно, все время приходилось
обжигаться Семеновой; Безак стоял в стороне. Он
немного ее поддерживал, но тем не менее главную
действующую роль приходилось играть Семеновой. Ей
приходилось надеть на себя, как она писала, «личину позора»—
значит, маску. Если, подходя к эпизоду Семеновой,
необходимо остановиться на ее сознании, то вскользь
приходится посчитаться и с вопросом, что такое сознание в
уголовном деле. Если сознание не подтверждается делом,
оно никогда не может служить к обвинению подсудимого,
а такое, которое опровергается, теряет всякое значение,
оно является ложным, и на нем строить ничего нельзя.
Вот то простое отношение к сознанию,- которое вообще
принято, и если этот прием приложить к Семеновой, то
картина получится совершенно ясная. Она может быть
неясна с психиатрической точки зрения; можно было бы
378
поставить вопрос: действительно ли Семенова
сумасшедшая? Разумеется, надо согласиться с доктором Чечотом,
что она так называемая психопатка и что даже Сенат
был вправе признать ее здоровой с той точки зрения, что
в настоящее время этот тип так распространился, что
всех не признаешь сумасшедшими. Итак, эта женщина —
психопатка, лишенная нравственных идеалов, понятия
о добре и зле, и в то же время это идеалистка. Эта черта
в поведении Семеновой'сказывается все время. Она
упорно открещивается от корыстных мотивов. Только раз
прорвалось в ее показании: «Я рассердилась и потому взяла
назад сознание, что Миронович водил, водил и ничего не
дал». Если затем обратиться к ее сознанию, то окажется,
что оно от начала до конца не выдерживает никакой
критики и потому особенно серьезной критике его подвергать
не приходится. Прежде всего, являясь к Иордану, она
заявляет, что слышала, будто бы обвиняется в убийстве
Наранович, между тем ни для кого не было тайной — и
это можно было узнать из газет, которые она читала,—
что подозревается Миронович, а не Наранович.
Следовательно, эта ошибка могла быть только умышленная и
имела только один смысл: поставить себя дальше от
Мироновича. Затем даже в отдельных деталях ее показание
совершенно разбито. Прежде всего она сама его разбила,
потому что несколько раз и на предварительном
следствии, и здесь показывала различно; например, по
отношению к удару она говорит, что нанесла один удар в лоб
или темя, затем бросила гирю и отнесла труп в
маленькую комнату. Таким образом, больше ударов ей не
приходилось наносить уже потому, что гиря осталась в
коридоре. Затем в письменном показании она говорит: один
или пять ударов. Наконец, в третьем показании — удар
посредине лба у волос, который, по заключению врачей,
не мог быть нанесен стоя, как она заявляет, на верху
лестницы, а непременно в лежачем положении. Таким
образом, из показания ее выходит такое несоответствие с
данными экспертизы, что останавливаться на этом не
приходится.
Разобрав подробно показание Семеновой,
обвинитель признавал, что все указанные ею детали не только
подрывают доверие к ее показаниям, но совершенно
опровергают его в целом и в частностях.
Спрашивается: при таком положении можно ли
как-нибудь считаться с показанием Семеновой, хотя бы с
той точки зрения, что какой же это свидетель, которому
ни в чем верить нельзя? Понятно, ни о каком доверии
379
к Семеновой, в чем бы то ни было, не может быть и речи,
потому что она.невменяема. Но затем ведь Семенова
находится в несколько особом отношении к делу. Это то лицо, у
которого раньше всего очутились вещи, которое в эту
ночь ездило по городу, отдала вещи Безаку и затем оба
уехали. Есть полное основание утверждать, что
Семеновой по настоящему делу могло быть известно, откуда
взяты вещи, и весьма важно целым рядом показаний
установить, как могли попасть к ней эти вещи. Хотя
показания ее и противоречивы, что весьма понятно, потому
что она — больной человек, она не может сказать всей
правды без того, чтобы не переплести ее ложью, но тем
не менее во всех ее показаниях есть один факт, который
проходит твердо,— это факт нахождения ее на лестнице
кассы в ночь на 28 августа. Этот факт она ни разу не
отвергла, и, совершенно независимо от показаний
Семеновой, само положение вещей в эту ночь в начале 11-го
часа говорит, что действительно это событие могло иметь
место. Если поставить такое положение как вывод, то
придется считаться с двумя вопросами. Первый вопрос о
том, откуда могла Семенова узнать все те мелкие
подробности, которые изложены в ее показании, сама ли она
научилась или ее научили? Второй вопрос тот, насколько
вероятно такое событие, что она была на лестнице и что
Миронович передал ей вещи? Первый вопрос гораздо
важнее, потому что вопрос о вероятности передачи
вещей — вопрос второстепенный. Подобные явления весьма
часто встречаются в судебной практике,'и такой случай
представился господам присяжным в начале сессии,
когда они разбирали дело Щербакова, который оудился за
кражи и всегда употреблял один прием: украдет и сунет
вещи человеку, который ему подвертывается, а тот
сбывает их. Что касается до того, откуда Семенова могла
получить материал, все подробности дела, то здесь следует
остановиться на тех газетах, которые представлены к
делу. Из показания Зарудного видно, что он довольно
подробно описал в газетах все событие преступления,
расположение квартиры и т. п. Таким образом, достаточно
сослаться на тот факт, что в газетах печаталось о том, ^то
найдена гиря с полотенцем, что Миронович человек
богатый, что преступление совершено, по-видимому, с
изнасилованием, но потом оказалось, что нет изнасилования.
Все эти мелкие детали и план квартиры представили
богатый материал для того, чтобы Семенова и Безак сразу
же им воспользовались. Что Семенова действительно
читала газеты, доказывается тем, что у нее был отобран
380
«Петербургский листок», а в одном из писем она пишет,
что читала «Новости» от 29 августа, в которых
сообщались сведения об убийстве Сарры Беккер. Но ясно было,
что уж если брать вину на себя, надо достать
воображаемую гирю, придумать, как она бросила ее в воду
и т. п., и вот тут-то помощь Безака была существенна.
Но кроме получения сведений из газет они могли иметь их
и другим путем. Например, 14 сентября Семенова
приходила в кассу, осматривала витрину и расспрашивала об
убийстве. Спрашивается: если Семенова действительно
была убийцей, то какой смысл человеку, бывшему на
месте и от которого никто не вздумал бы требовать
десятилистных показаний о всяких подробностях, идти и
справляться, как совершено преступление и какая
география этого места? Это ни с чем не сообразно. Тем не
менее она пошла и училась. В ее показании
проскальзывает, однако, то, что называется пересолом: она говорит,
говорит и вдруг сочинит что-нибудь. Например, у нее
вдруг выскочил из кармана двугривенный и попал в
карман дворнику Прохорову. В первом показании Прохоров
не помнит об этом двугривенном, потому что был пьян, а
между тем Семенова в показании своем говорит, что она
дала ему 20 копеек. В октябре Прохорова привозят из
деревни, и оказывается, что двугривенный у него цел. Как
только оказалось, что он цел, у него сейчас просветлела
мысль, а в сыскном отделении ему помогли: Боневич
устанавливает, что только тогда Прохоров вспомнил, что
Семенова дала ему двугривенный, когда его спросили, не
давала ли ему женщина 20 копеек. Вот тот период
знакомства Семеновой с обстоятельствами дела, когда
началось обучение ее. Но этих начальных сведений было
недостаточно, и-потому учение производилось различным
образом. Тут обращает на себя внимание следующее
обстоятельство. С 11 по 14 сентября Семенова жила в
Думской гостинице, 14-го числа она была в кассе ссуд, между
тем в Думской гостинице она сказала, что уезжает в
Финляндию и вернется к 17-му числу. Но если она
проживала в это время в Петербурге, а считалась выбывшей в
Финляндию, то, значит, она была где-нибудь в таком
месте, где могла приобрести полезные сведения по делу.
Если теперь обратиться к витрине, то нельзя не
сознаться, что здесь является чрезвычайно интересным
страшный для Мироновича вопрос о запертой витрине.
Совершенно правильно указание защиты, что в газетах
в то время было напечатано, что Миронович сразу
заявил, что витрина была не заперта. Да иначе ему нельзя
381
Наброски и типы в суде во время слушания дела об убийстве
С. Беккер.
было бы ответить, потому что сам себя запер бы в этой
витрине, если бы сказал, что она была заперта. Вот при
этих условиях нужно было, чтобы Семенова умела
обращаться с этой витриной, для того чтобы рука ее
проходила насколько-нибудь в витрину. Но в кассе этого
делать было нельзя; крышку еще можно было приподнять,
но заниматься фокусами там было неудобно. И вот опять
факт, освещающий картину: витрина, после того как
Семенова 14 сентября осматривала кассу, вдруг около 17—
18-го числа куда-то исчезает,— или на квартиру г-жи
Миронович, или туда, где гостеприимная хозяйка не
отказала бы в -знакомстве с этой витриной. Затем можно
указать еще на другой способ обогащения сведениями,
именно при посредстве агентов сыскной полиции. Из
представленной на следствии справки видно, например,
что надзиратель сыскной полиции, производивший
исследование по делу об убийстве Сарры Беккер, на другой
день скачет по городу и ищет неизвестную женщину,
имея, конечно, в виду Семенову. Затем, некоторая
дружба между Боневичем и Мироновичем ни для кого не
тайна. Боневич даже проявил особенную любовь к
Мироновичу здесь на суде. Эта дружба, которая поощрялась от-
382
части тем, что его наградят по-царски, могла вызвать
готовность отыскать женщину, которую упустили из виду.
Тут нужно еще припомнить, что Боневич — это то лицо,
которое возило Мироновича из дома предварительного
заключения в кассу, а также и Семенову в ту же кассу.
Та нравственная неопрятность, которой необходимо
отличаются сыщики, должна быть принята здесь в
расчет. Затем надо вспомнить, что Миронович прежде был
полицейским чиновником и знал таких лиц, а
следовательно, имел полную возможность ориентироваться. Раз
он выходит на звонок постороннего лица, пришедшего в
11-м часу ночи заложить мелкую вещь и просящего
пустить его в кассу, он прежде всего видит, что это за
женщина, он видит, что это человек нуждающийся и
находящийся в крайности, но он и сам в крайности: ему
остается или задушить эту женщину, или привлечь ее на
свою сторону. При таких условиях, не будучи даже
тонким человеком, Миронович имел полное основание отдать
этой женщине вещи, потому что она иначе вошла бы в
кассу или позвала бы дворника. Но затем Мироновичу
могло прийти в голову: кто знает, что это за женщина,—
она может пойти к дворнику и заявить. Но для
предупреждения этого есть очень простой способ: он идет вместе
с ней и на дворе ждет, пока она уйдет, а затем
возвращается, когда она уходит; при таком способе для него
ничего опасного не было. Таким образом, факт получения
Семеновой вещей в 11-м часу стоит вне всякого сомнения.
Затем для полного освещения картины необходимо
установить те мотивы, которые могли руководить Семеновой в
ее повинной. Эти мотивы заключались прежде всего в
вещах, которые у нее на руках; она находится в
положении, в котором можно извлечь доход, а он ей необходим,
потому что находится в безвыходном материальном
положении, проживая только кражами. Рядом с этим нельзя
упускать из виду характеристики Семеновой в смысле
больной женщины, которую, может быть, преследовала
какая-нибудь идея, чтобы прославиться. Но затем никоим
образом нельзя допускать, чтобы Семенова
руководствовалась здесь злобой к Безаку, и это ни в каких
обстоятельствах подтверждения себе не находит. Прежде всего,
она любила Безака, и то обстоятельство, что он будто бы
скрылся от нее, оказывается вымышленным. Здесь было
представлено письмо к Безаку в село Жар, но оно
оказалось полученным им здесь, в Петербурге, потому что оно
даже без штемпеля, следовательно, оно было доставлено,
вероятно, посыльным и принято Безаком. Таким образом,
383
сношения Семеновой с Безаком за это время были, и за
отсутствие сношений, за то, что он будто бы ее бросил, ей
не приходилось сердиться, потому что, несомненно, в
данном случае Безак являлся соучастником Семеновой в
этом шантаже... Надо сказать, что я ни на одно
мгновение не думаю, чтобы Семенова хохя бы копейку получила
за всю ту тяжелую работу, которую она несла два года,
не думаю потому, что имею свои личные убеждения
относительно той легкости, с которой раскошеливается
Миронович. Она, очевидно, держалась в «худом теле».
Еще в конце сентября, даже пред самой явкой с
повинной, она совершает две кражи у хороших знакомых,
потому что ей есть нечего. Что касается до личности Беза-
ка, то в отношении его надо сказать следующее.
Показаниями прислуги Финляндской гостиницы установлено, что
27 августа Безак находился в этой гостинице и ждал
Семенову до 12 часов ночи.
Кроме того, из письма Безака к жене видно, что он
намерен был приехать к ней 28 или 29 августа.
Следовательно, рассказ Безака, что он собирался в этот вечер
ехать в Финляндию, вполне подтверждается. В этот вечер
Семенова привезла в гостиницу вещи. Раз она привезла
вещи, возникал вопрос: что же с ними делать? Тут
необходимо вспомнить отношения Безака к Семеновой. Во
всем деле сквозит, что Семенова любила Безака
безгранично, любила его по-своему. Она несла ему все, она
отдала ему в эту ночь все, оставив себе только часы и
5 рублей. При таких условиях есть полное основание
выразиться о Безаке таким образом: это был человек,
который эксплуатировал любящую женщину, эксплуатировал
как ее тело, так и душу. Эта эксплуатация выражается
во всех письмах Семеновой, везде говорится о вынимании
каштанов не обжигая благородных рук. Затем в деле
есть весьма крупное обстоятельство, которое говорит, что
"навстречу мысли Безака шло течение со стороны
Мироновича. Разумеется, Миронович не имел никакой
возможности выставить Семенову, достать ее, пока она сама не
придет, но он мог ее приманивать, и вот этот факт, что с
разных сторон выдвигается эта манящая Семенову
цифра в 5 тысяч рублей, весьма характерен. Семенова
считала эти 5 тысяч чем-то необыкновенным, ей казалось, что
это богатство на всю жизнь, она говорит, что сразу
разбогатеет. Эти 5 тысяч даже в рифму вошли в ее
стихотворении «Идея и надежды правды», помеченном июнем. Это
была та приманка со стороны Мироновича, на которую
384
должна была пойти Семенова, и она шла на нее, но ей
денег не дали и посадили в тюрьму.
Очертив вполне роль Семеновой в настоящем деле и
затем признавая виновность Мироновича доказанной,
товарищ прокурора закончил свою речь следующими
словами.
Здесь пред вами, господа присяжные заседатели, был
маленький череп замученной девочки. Этот череп был
здесь как предмет для исследования. Я на него смотрел
иначе. Мне представлялось тяжелое положение человека,
а в данном случае маленькой головы девочки, которая
была не в состоянии сказать в лицо присутствующему
подсудимому, что он ее замучил, он ее убил. Это
скажете вы.
Речь присяжного поверенного
С. А. Андреевского
в защиту Мироновича
Господа судьи! Господа присяжные заседатели!
Процесс, действительно знаменитый, ждет, чтобы вы
сказали свое слово — на этот раз, вероятно, последнее.
В этом важном и запутанном процессе мы вовсе не
желали бы уйти в благоприятные для нас потемки, чтобы
в них найти выигрыш дела. Нет! Мы желали бы
предложить вам честное пособие нашего опыта, дать вам
в руки ясный светильник, в котором бы вы вместе с нами
обошли все дебри следственного производства и вышли
бы из него путем правды. Не следует забывать, что
дело об убийстве Сарры Беккер остается историческим
в судебных летописях; оно получит свою славу как
важное искушение для судебной власти впасть в ошибку.
Осуждение же невиновного или одна только возможность
его есть уже общественное несчастье, которое следует
изучить и отметить, чтобы погрешности, которые его
вызвали, больше не повторялись. Поэтому, я надеюсь,
вы будете к нам внимательны.
Нужно заметить, что все мы находимся теперь
в несравненно лучших условиях, чем при первом
слушании дела. С великой мудростью поступил Сенат, что он
заставил судить одного Мироновича. В том виде, как
дело ставилось в первый раз, никогда нельзя было
разрешить его правильно. Тогда прокурор выставлял на
скамью подсудимых двух взаимно исключающих убийц —
Мироновича и Семенову — и говорил: «Выбирайте лю-
13. Заказ 571
385
бого! Мне который-нибудь останется». И хотя для формы
Миронович именовался исполнителем убийства, а
Семенова — попустительницей, но всякий чувствовал, что
между ними будет отчаянная борьба и что лжи не будет
конца. Сенат рассек это противоестественное сплетение
Мироновича и Семеновой, и, в сущности, сенатский указ,
если смотреть далее формальностей, говорит
преследующим властям: «Будьте откровеннее в приемах». И
теперь действительно легче. Хотя Семенова и Безак
отрезаны, но целость картины не нарушена. Напротив,
с выпадением этих участков для нас отпадает политика
размежевания защит, и мы можем трактовать о них
с более легким сердцем, не опасаясь им повредить.
Второе преимущество теперешнего разбирательства —
общее обогащение наше в приемах критики. Когда
прежние присяжные вынесли свой приговор, то не только никто
не успокоился, что судьи внесли ясность, но, напротив, все
принялись работать над этим делом с новым усердием:
ученые стали опровергать экспертизу, публицисты
критиковали судебных деятелей, беллетристы придумывали
рассказы, в которых по-своему разгадывали судебную
драму. Всякий, кто мог, высказывался печатно, и даже
находились любители, которые сочиняли защитительные
речи за Мироновича — увы! — после обвинительного
приговора. Все эти материалы были в нашем
распоряжении при подготовке к делу, и теперь, когда я буду
почти дословно повторять убежденную защиту моего
товарища, сказанную им в первый раз, я буду все-таки,
чувствовать себя крепче, потому что многие из его
доводов были разделены теми, кто после него работал над
делом, и, таким образом, доводы эти, отраженные в
зеркале чужого ума, перестали быть эфемерными, перестали
быть изобретением защиты: они получили облик правды.
После всего, что я извлек из этого материала,
я имел возможность сделать свой вывод; он стал для
меня ясен, как для судьи, который больше не
колеблется. И затем уже, не страшась никаких сюрпризов
от противников наших, я знал, что ничто на суде не
может повредить подсудимому. Пред нами было
прежнее обвинение присяжных. Мы перед ним преклоняемся
и убеждены, что оно произнесено по совести. Но те
присяжные не имели того громадного опыта, которым
мы владеем теперь. И притом — какие же воздействия
были на их совесть! Мы должны эти воздействия
разобрать. Наученные первым страшным уроком, мы должны
«то же слово, да иначе молвить». Убежденная защита
386
С. А. Андреевский.
есть законный противник и следственной власти, и
прокурорского надзора, и обвинительной камеры. Она
вправе сказать им: до сих пор вы работали без нас; но
мы пришли, и, как люди свежие, обозрев то, что вы
сделали, мы ясно видим, как вы глубоко ошиблись; все,
что вы нашли и усмотрели, только сбивает с дороги.
Истина вовсе не там, где вы ее искали. Вот в какой
стороне, вот где она, по нашему убеждению, эта истина!
Поэтому мы не можем ограничиться блужданием
только по той дороге, куда нас влечет обвинение, и
согласиться, что в одном сомнении насчет Мироновича
сосредоточены теперь все вс эосы дела. Нет! Миронович,
по нашему мнению, не оольше как бельмо на глазу
следственной власти, которое ей мешало видеть правду
и которое мы намерены снять с этого глаза. И если мы
достаточно вооружены для подобной операции,, то,
конечно, такая защита будет самой правильной, как
потому, что этим путем совесть судей очищается от
всяких сомнений, так и потому, что нет совершеннее
возражения со стороны подсудимого прокурору, как
ясный отвод обвинения к определенному другому лицу
387
как простая формула: «Вы меня приняли за другого».
Хотелось бы мне, чтобы и защита моя была так же
ясна для вас, как эта короткая формула. Но материала
много. Спрашивается: как поступить с ним? Мне
вспоминаются слова; сказанные профессором Эргардтом
прокурору: если вы будете выдергивать мелочи, вы целого
никогда не поймете. Поэтому нужно вооружиться
системой. И первые вопросы, без которых нельзя дальше
двинуться, капитальные вопросы в деле: 1) время
убийства, 2) цель и способ убийства.
Займемся временем. С вопросом времени я не намерен
обращаться так, как здесь делали на судебном
следствии, потому что время у человека в обыденной жизни
ускользает, когда он не вооружен часами и не следит
по стрелкам. Понятие о скорости у каждого
индивидуальное. Время возможно устанавливать только тогда,
когда есть твердые границы. Такими границами я беру:
закрытие буфета в Финляндской гостинице в двенадцать
часов ночи и прибытие вечернего поезда
Николаевской железной дороги в десять часов вечера, с
опозданием в одиннадцать минут по наблюдению пассажира
Севастьянова. Между этими пределами можно
прибегнуть к приблизительному расчету. Итак, о времени
убийства мы можем судить по прибытию Семеновой
с вещами, взятыми с места преступления, в
Финляндскую гостиницу; по сведениям о последнем приеме пищи
Саррой Беккер и по времени, когда Сарра сидела с
Семеновой на лестнице перед кассой.
По первому способу. Известно^, что Семенова прибыла
с вещами, добытыми немедленно после убийства, в
Финляндскую гостиницу около двенадцати часов ночи и
ровно в двенадцать, когда запирался буфет (значит,
этот час верный), уже сбегала с лестницы вместе с
Безаком, чтобы уехать в другую гостиницу. В двенадцать
ровно она убегала, но когда же именно приехала?
Положим на ее краткую беселу с Безаком, на умывгание
и на уплату по счету мин>; пятнадцать (так как, по
словам прислуги, она пробыла очень недолго); выйдет,
что она могла приехать в двенадцать без четверти.
Подвигаясь от этого срока еще назад, мы должны задаться
вопросом, как долго она ехала от кассы. По нашему
опыту, езды от кассы до Финляндской гостиницы
двадцать минут. Вычитая эти двадцать минут из трех
четвертей двенадцатого, мы видим, что она вышла из ворот
кассы в одиннадцать часов двадцать пять минут или
около половины двенадцатого. Но вещи взяты из вит-
388
рины после убийства, и притом омытыми руками. Кладем
на умывание, на выбор вещей от пяти до десяти минут.
Вычитаем их из двадцати пяти минут двенадцатого,
выходит, что около четверти двенадцатого Сарра испустила
дух. Это приблизительная минута смерти. Первый удар,
конечно, мог быть нанесен гораздо ранее, потому что
продолжительности агонии мы не знаем.
По другому способу. Дворник Прохоров видел Сарру,
возвращавшуюся ужинать в начале десятого. Минут
двадцать спустя, т. е. около половины десятого, она
возвращалась и затем, не успев приготовить себе постель
и лечь, была убита. По заключению врачей, она умерла
максимум через два часа после приема пищи. Опять
выходит: умерла около половины двенадцатого, но,
быть может, и около четверти двенадцатого, потому что
врачи брали максимум. Значит, несмотря на
приблизительность расчета, выводы по обоим способам совпадают.
Но эти два способа не указывают другого, очень
важного момента — когда убийца вошел в кассу? На это
нам отвечают показания Ипатова, Севастьянова, Але-
лекова и Повозкова. Ипатов видел на лестнице перед
кассой около десяти часов женщину, разговаривавшую
с Саррой. И в том сознании, которому не верят, и
в одном из тех показаний, которым верят, Семенова не
отвергает,* что эта женщина была она. Об этом, впрочем,
и спорить нечего, потому что сам обвинительный акт
это признает. В сознании своем Семенова утверждает,
что вслед за уходом Ипатова она вошла вместе с Саррой
в кассу для совершения убийства. В другом же
показании она говорит, что в ту минуту (т. е. после ухода
Ипатова) неизвестный убийца разогнал их и, пошел за
Саррой в кассу. Таким образом, кого бы ни считать
убийцей, Семенову или неизвестного (впоследствии
Мироновича), нужно признать, что момент ухода обеих
женщин с лестницы, вслед за удалением Ипатова, есть
в то же время момент входа убийцы в кассу. Поэтому
нужно только твердо установить, когда мимо женщин
прошел Ипатов. Это время можно проверить с точностью.
Как только Ипатов вошел с той же лестницы в контору,
напротив кассы, дожидавшиеся его Алелеков и
Повозков вышли, и уже на лестнице женщин не было.
Алелеков i.% Повозков пошли по Невскому и на расстоянии
пяти минут ходьбы, на углу Николаевской, встретили
Севастьянова, который приехал с поездом в десять
часов одиннадцать минут и успел отойти от вокзала то же
почти расстояние в пять-шесть минут ходьбы. Значит,
389
женщины скрылись в самом начале одиннадцатого часа,
значит, тогда же вошел убийца в кассу.
Итак, убийца вошел в кассу в начале одиннадцатого,
Сарра умерла в четверть или половину двенадцатого.
Прошу помнить и то, что по этим выводам Семенова
пробыла в вечер убийства возле кассы более часа.
Обращаемся теперь ко второму, едва ли не самому
пикантному в деле вопросу: о цели и способе убийства.
В каждом знаменитом по своей загадочности процессе
есть свой знаменитый пустяк, который всех сбивает
с толку. В нашем деле такой пустяк — поза убитой
Сарры Беккер: она найдена мертвой в кресле, с
задранной юбкой и раздвинутыми ногами. Этот образ
случайный, как фигура на стене от литого воска, ослепил все
власти. Все, придя на место преступления, сказали
себе в один голос: здесь было изнасилование. Это первое
впечатление было так сильно, что впоследствии, какие
бы разительные возражения против него ни возникали,
следственная власть роковым образом к нему
возвращалась и продолжала поддерживать это воображаемое
изнасилование. Я называю его воображаемым, потому
что не вижу решительно ни одного довода в его пользу.
Врачи-эксперты установили с самого начала — и это
блистательно подтвердилось к концу дела вчера,— что
Сарра умерла от ударов по черепу, что смерть ее была
ускорена задушением и что ее половые органы остались
неприкосновенными. Врачи тогда же заключили, что
данные эти исключают предположение о попытке к
изнасилованию. Мы слышали, как не понравилось это
заключение, как выпрашивался у врачей какой-нибудь
намек на изнасилование. Им говорили: неужели нельзя
признать хотя отдаленной мысли об изнасиловании? Они
ответили: мы в мыслях не читаем... Но дайте, по крайней
мере, обвиняемого; быть может, на нем остались следы
борьбы. Нет! Его вчера осматривали. «Пожалуй,
пересмотрим сегодня». И Мироновича вторично раздели и
обследовали — ничего, решительно ничего нет. Тогда врачи
категорически высказали, что они исключают попытку
изнасилования. Но настойчивость прокурорского надзора
не унималась. Через четыре месяца прокурор пишет
следователю предложение — мы его здесь прочли,— где
врачам внушается, что они, конечно, пропустили «не»
перед словом «исключают», т. е., конечно, написали
совершенно обратное тому, что думали. Врачи защищаются:
они писали не навыворот, они держатся первого мнения,
они не пропускали частицы «не», они исключают попытку
390
изнасилования. И с таким-то висящим в воздухе, не
оставляющим следов посягательством на целомудрие
Мироновичу приписывается один из самых мерзких
поступков, и этот воображаемый поступок выставляется
мотивом убийства, за которое его прямо предают суду?
Но на суде, при первом слушании дела, неожиданным
союзником обвинения выступил профессор Сорокин.
Экспертизу его называли блестящей — прилагательное
это я готов принять только в одном смысле: экспертиза
эта, как все блестящее, мешала смотреть и видеть.
Вернее было бы назвать ее изобретательной.
Действительно, экспромтом, ознакомившись с делом только на
суде, подчинить своей мысли об изнасиловании материал,
по-видимому, самый неблагодарный для такого вывода,—
на это нужна была большая изобретательность.
Профессор Сорокин — в этом мы глубоко убеждены,—
присутствуя на суде, слушая все, что происходило, поддался
невольному увлечению — мысли об изнасиловании; но
он в то же время понял то, что экспертиза
предварительного следствия не годится не только для
[объяснения] реальной, но даже и какой-нибудь идеальной
попытки изнасилования: ведь в самом деле, кто же,
задавшись целью изнасилования, начнет прямо со
смертоносных ударов по голове, да потом еще станет придушивать
свою жертву, не касаясь к половым органам? Уж это
будет походить на желание изнасиловать мертвую...
Профессор Сорокин сообразил, что эти приемы убийцы надо
перевернуть: сперва душил, заглушая крики, потом
пробирался к половым органам, а затем, получив
отвращение в результате извержений, нанес удары и убил —
так еще может что-нибудь выйти... И, как всегда бывает
в случае подобных вдохновенных открытий, профессор
Сорокин нашел все, что хотел видеть. Ученый наметил
в своем, уме составные положения своей догадки, они
сложились на первый взгляд чрезвычайно удачно;
соблазн их высказать, сделать открытие был слишком велик,
и почтенный профессор, человек живой и
восприимчивый, поддался этому соблазну. Но теперь все очарование
этой находки рассеялось. Доказано, что удушение не
могло предшествовать нанесению ударов; что налицо
все признаки смерти от трещины на черепе. У профессора
Сорокина во всем не осталось его картины. Главное
положение, что вся драма убийства происходила на
кресле, рухнуло. Выяснилось, что Сарра принесена на
кресло из другого места и положена на него почти
мертвой; борьбы здесь не было, потому что чехол остался
391
неподвижен и пятна крови спокойно просачивались
с чехла на материю кресла. Против этого и выдумать
ничего нельзя. Кровавые следы пальцев на чехле,
которыми профессор Сорокин снабжал убийцу в дорогу
к половым частям, оказались пальцами дворников,
а пикантное пятнышко на кальсонах, единственное,
величиной с чечевичное зерно, признано оттиском клопа. При
самом тщательном обследовании вначале, ввиду страхов,
рассказанных Саксом, при тщательном осмотре теперь —
все нижнее белье убитой оказывается девственным от
прикосновения убийцы. В четвертый раз к нему
приглядывались микроскописты — и ровно ничего: ни крови,
ни семени. Мало того, драма на кресле разбита
бесспорным положением, к которому примкнул в конце концов
и профессор Сорокин, что первый удар нанесен в
вертикальном положении. Что же осталось от гипотезы, от
прежней экспертизы профессора Сорокина? Экспертиза
эта оказалась наскоро сшитым саваном для Мироновича;
но Миронович не умер; работа профессора не ушла с ним
в темный гроб, и теперь, рассмотрев ее при свете, мы
видим, как она была сделана не по росту Мироновичу,
как она плоха, как рвутся ее нити... с окончательным
и громким падением изнасилования на вчерашней
экспертизе. Мы полагали, что обвинители сами отрезвятся,
мы начали складывать бумаги, готовились выиграть бой
без сражения! Что же вышло? Выпрашивалась
экспертиза на предварительном следствии — значит, ею
дорожили; опирались на гипотезу профессора Сорокина
в прошлом заседании, как на краеугольный камень,—
значит, в ней черпали силу. Теперь все последние
надежды, которыми питались с самого начала, исчезли;
между обвиняемым и подсудимым открывается ничем
не наполненная пропасть — отсутствие связей между
убийцей и трупом, 'отсутствие- похотливых
прикосновений к детскому телу, отсутствие повода к убийству.
Но обвинителям это нипочем: Мироновича можно и без
всего этого обвинить; проиграна экспертиза — долой
экспертизу; ничего не нужно; никакие препятствия не
существуют... Прокурор' рисует в своем воображении
свои картины, не имеющие ни единой опоры в
вещественных следах, делает предположения, признанные
профессором Эргардтом «из всех невозможных
невозможностей самыми невозможными!» и не допущенные никем из
других ученых. А гражданский истец говорит прямо: нам
довольно одного мотива. Лакомка на ребенка — и убил.
Но за что же? Не касаясь к ребенку, не пытаясь зав-
392
ладеть им, не получив никакого отпора, ни одной
царапины? Нет, так рассуждать невозможно. Мало ли кому
чего хочется от живого существа, а другие его
убивают. Вам хотелось поскорее наследство получить от
старого богача, а его убивает вор — и вас будут судить
только потому, что вы не огорчены его смертью? Разве
допустимо уличить одним мотивом, когда самого факта
не существует?
Итак, поза убитой — случайная. Покойная перенесена
в каморку из другой комнаты, где ей были нанесены
первые удары. Убийца, вероятно, оттаскивал свою жертву
из передней, где слышнее и опаснее были крики. И если
он хотел ее затащить в скрытый уголок, то через кухню
он попадал неминуемо в каморку. Здесь прямо подле
двери — фатальное кресло. К нему-то прямо, на обеих
руках, было отнесено тело и сложено поперек кресла, как
всегда складывают ношу. И вот почему получилась поза,
с одной стороны, совершенно непригодная для
изнасилования, а с другой — поза, напоминающая скабрезные
картинки, потому что короткие юбки задрались и ноги
на покатой ручке кресла раздвинулись.
Выходит, что факта посягательства на честь Сарры
Беккер нет. В другом деле этого было бы совершенно
достаточно для присяжных. Но здесь формальным правом
пользоваться нельзя. Нужно разбирать еще многое.
И главное — дальнейшую историю заблуждения с
Мироновичем.
Когда пришли в помещение кассы, то нашли девочку
в описанной нами позе и притом в заброшенной, в самой
отдаленной комнате от места, где находилась касса
и вещи. По всему казалось, что убийца был свой
человек, потому что нигде никаких взломов не было
(полиция привыкла к взломам) и еще потому, что не было
даже видимых следов кражи; нужно было верить
Мироновичу на слово, что в конторке похищено 50 рублей
и что в витрине недостает нескольких ценных вещиц.
Витрина была заперта, ключики висели на местах,
отсутствия вещей, беспорядка не было заметно. Люди
вообще ленивы думать, да и не всегда достаточно
тонки для этого. Поэтому извинительно было с первого
раза остановиться, на том, что казалось, по рутине, всего
проще: кражи не видать, раздвинутые ноги налицо —
значит, изнасилование; взломов не было следа — значит,
убийца свой человек — значит, Миронович. И все от
мала до велика, от младшего полицейского чина до
прокурора судебной палаты Муравьева, так именно
393
рассудили. Миронович, не выходя из кассы, в тот же
день был арестован. Заблуждение это, как я говорю,
может быть еще названо понятным. Но непонятна при
этом еще одна улика, воздвигнутая в то же время против
Мироновича, а именно — векселя Грязнова. Любопытно
теперь читать то место обвинительного акта, где
говорится, что убийство было совершено из каких-то
личных видов на покойную и только для отвода
замаскировано похищением вещей и векселей Грязнова! Особенно
хорошо это «замаскировано». Все, как один человек,
нашли, что было изнасилование, и добавляют, что оно
было замаскировано. Между тем стоило сдвинуть Сарре
ноги, задернуть юбку, ударить раз, другой по стеклам
витрины — и весь следственный синедрион был бы за
тридевять земель от изнасилования. Но Миронович этого
не сделал, хотя, вероятно, и очень бы хотел отвести
глаза властям. Он, по мнению противников наших,
поступил так: девочку он оставил с поднятыми юбками,
стекла витрины пожалел, а придумал приписать
убийство одному из своих бесчисленных должников, Гряз-
нову, и для этого Один вексель Грязнова и его
просроченные квитанции вынул из ящика и бросил на
диван в комнате, смежной с кассой. Какая удивительная
психология! Предполагают, что Миронович после
убийства, когда у него весь мир должен был завертеться
в голове, из всех живущих на свете людей почему-то
остановился на одном каком-то Грязнове, которого он
давным-давно не видел, и до того потерял способность
думать о чем-либо другом, что все свое гнусное дело
оставил, говоря языком прислуги, нисколько не
прибранным и возмечтал, что одним подбросом грязновского
векселя и его квитанций на диван он все свалит на
Грязнова! Не только психологически это несостоятельно,
но несостоятельно и практически в глазах всякого, кто
изучал или просто наблюдав приемы убийц,
маскирующих свое преступление. Ни один убийца не отведет
вам своего дела на одно какое-либо ясное
определенное лицо, т. е. именно на А или Б. Он вам отведет его
на целый алфавит, на всевозможных, самых
разнообразных людей, чтобы они растерялись и кинулись в разные
стороны. Для того чтобы отводить подозрение на
определенное лицо, нужно было быть слишком уверенным,
что сразу же не оборвешься; нужно достоверно знать,
что подставляемый убийца во время совершения
преступления находился в подходящих для подозрения условиях.
Особенно строго нужно было все это взвешивать тому
394
убийце, который не намеревался бежать, а хотел
оставаться на месте и во всем давать отчет. Миронович давно
не видел Грязнова; он мог думать, что тот умер, давно
уехал и т. п., следовательно, все сразу могло рушиться.
Все это должен был знать Миронович и на такую
подделку не мог пойти. Но лучше всего то, что Миронович
вовсе не оберегал следов этой мудреной и нелепой
подделки и рисковал совершенно ее потерять. Известно, что
документы Грязнова далеко не сразу нашлись. Первые
пришедшие их не видели. Сам Миронович на них не
указывал. Нашел их пристав Рейзин совершенно случайно.
Не найди он их, они могли бы так же улететь, как волосы
Сарры улетели с окна вместе с бумажкой, на которой
они лежали.
По всему этому документы Грязнова не могли, не
должны были, на здравый взгляд, казаться или
считаться уликой против Мироновича. В самом деле, видеть
маскировку изнасилования кражей там, где сама фигура
первого из этих преступлений оставлена нетронутой,
там, где не дано ни одного явного признака
присутствия вора, где весь успех отвода был связан с какими-то
бумажками, которые могли исчезнуть или быть
выброшенными до прихода Мироновича,— все это ужасно
искусственно и безжизненно. Но поставьте вопрос
наоборот, скажите себе, что Миронович не виновен,— и
вам станет совершенно понятно поведение Мироновича
при нахождении векселей Грязнова. Миронович приходит
в свою кассу, застает полицию и наталкивается на
загадочное убийство с кражей. Никаких следов
преступника; нельзя даже догадаться, кто здесь был и как
действовал. Более всех заинтересован сам хозяин
кассы — Миронович — человек осторожный и скупой.
Он ошеломлен: как это его обошли? Он, кроме того,
растерян и огорчен: ведь убили девочку, которую в
некотором роде ему доверил ее отец! Но теперь представьте,
что в таком положении Миронович вдруг слышит от
пристава Рейзина, что нашлись какие-то бумаги. Он
кидается: какие? Документы Грязнова. Ну, слава богу,
хоть какая-нибудь ниточка нашлась! Тогда Миронович
кипятится и торжествует: это, наверное, Грязнов; о,
господа, это такой мошенник! Он на все способен. Это он
сделал! (Нужно заметить, что Миронович всех
неисправных должников привык считать первыми
злодеями и мошенниками.) И он выражает мысль, что это
убийство — проделка Грязнова. Узнают, что Грязнов .был
в тюрьме и не мог убить; тогда Миронович, боясь поте-
395
рять последнюю нить, настаивает, что, вероятно,
Грязное подослал другого, но когда и это отпадает, он
разубеждается. Что может быть натуральнее? Человек
ошибся. Словом, как подделка со стороны Мироновича
убийства другим лицом, векселя Грязнова бессмысленны,
потому что были другие настоятельные и более легкие
средства отвести глаза; но как простая ошибка его
в объяснении себе убийства, для него непонятного,
эпизод с этим документом весьма понятен. Из этого только
можно заключить, что в полицейских способностях
исследования дела Миронович недалеко ушел от прочих
своих товарищей по службе. Кстати, мы здесь же имеем
превосходный пример: помощник пристава Сакс, увидав
раздвинутые ноги Сарры Беккер, решил бесповоротно,
что тут было изнасилование, и не только изнасилование,
но он был готов пари держать, что доктор найдет
изуродованные половые части — полнейшее растление. И,
однако же, на другой день это документально
опровергалось, так же документально, как подозрение
Мироновича против Грязнова опровергалось справкой из
тюрьмы. И я не понимаю, почему Сакс может ошибаться,
а Миронович не имеет на этб никакого права?
Таким образом, если в первый день картина места
преступления могла при поверхностном взгляде
внушить преследующей власти мысль об изнасиловании, то,
с другой стороны, именно откровенность этой картины
уже тогда должна была предостеречь следователя от
увлечения этой мыслью. Натуральнее всего было
задаться вопросом: да уж не вздор ли это изнасилование?
Уж больно прост должен быть насилователь, который
в такой степени не замаскировал своего дела. Но
предположение, бу^то одно нахождение документов Грязнова
означало маскировку Мироновичем изнасилования, уже
тогда показывало, что следственная власть так
поддалась предвзятой идее, что от нее трудно ожидать
трезвого взгляда на все последующие, имеющие
открыться данные.
Так и случилось. На второй день следствия открыли
разительный факт, что Сарра Беккер невинна и
неприкосновенна. Открытие это должно было образумить
обвинителей, но перед ним уже не останавливались.
Тогда выступает новое обстоятельство, которое еще
громче и решительнее говорит за Мироновича,
а именно — на третий день следствия обнаруживается
его алиби: дворники Кириллов и Захаров, няня Наталья
Ивановна, девочка Маша и сожительница Мироновича
396
Федорова в согласных и правдивых показаниях
удостоверяют, что Миронович в вечер и в часы убийства
был далек не только от места преступления, но от
мысли о преступлении. Он вышел из кассы в десятом
часу, когда Сарра была еще жива, догнал в нескольких
шагах от кассы свою давнишнюю сожительницу и
направился в свой дом на Болотную. Того же Мироновича,
в десять часов с небольшим, видят входящим к себе
домой все домашние. Он раздевается, надевает халат,
меняет сапоги на туфли и пьет чай. Расставаясь с ним,
Федорова видит на часах ближайшего магазина
половину одиннадцатого. Но и после того Миронович пьет
чай с девочкой Машей. Я настаиваю, что все эти
показания согласуются. Даже в обвинительном акте
признавалось, что прослеженное шаг за шагом поведение
обвиняемого не внушало подозрения. Прием,
употребленный здесь, сбивать свидетелей на минутах, проверять
время экспертами по движению конки — это прием
искусственный, софистический. Не дай вам Бог,
чтобы когда-нибудь, если вас привлекут безвинно, к вам
самим применяли этот способ. Этим средством все
низведешь ко лжи, ни в чем не получишь достоверности.
Я ссылаюсь не на вычисление, а на другое — на бьющее
впечатление правды в честных лицах свидетелей, в их
полном бесстрашии перед мелочным допросом, в
отсутствии повода лгать. Все они ручаются с непоколебимой
твердостью за большой промежуток времени,
проведенного Мироновичем у них на глазах, между девятью и
одиннадцатью часами. А вы знаете уже, что в начале
одиннадцатого убийца вошел в кассу.
Не должны ли были свидетели рассеять мысль об
обвинении Мироновича? Мироновичу, как захваченному
врасплох и неожиданно, не было никакой возможности
внушить или подготовить эти показания. В них нет и
следа пристрастия: Федорова рисует нам Мироновича
и скучным, и суровым, но в правде отказать ему' не
может; дворники и няня сообщают сведения только до
того часа, в который действительно видели
Мироновича,— за ночь Мироновича они не ручаются и даже
сами доказывают возможность бесконтрольной его
отлучки из дому в середине ночи. Можно ли поэтому не
доверять этим людям? Не выгоднее ли было Мироновичу,
если бы он их подстраивал, заручиться их защитой на
всю ночь, чем добиться их свидетельства в свою пользу
только на спорные и сравнительно ранние часы? Да
и была ли бы у них такая непринужденность в передаче
397
подробностей, если бы они выдумали все то, о чем
показывают?
Но следствие продолжает держаться своей мысли.
Оно ищет, не подрывается ли чем-нибудь и такое алиби?
Нет ли чего-нибудь, что могло бы вернуть Мироновича
в кассу после того, как он из нее вышел? Тогда
всплывают Гершович, Устинья Егорова и Константинов. Что
мне говорить о них? Гершович показывает, будто
Миронович, проводив женщину в девять часов, затем на его
глазах вернулся во двор кассы; но сам-то свидетель
простоял после этого ухода на своем месте всего две-три
минуты и не знает, вышел ли Миронович тотчас опять
на Невский. Спрашивается, подрывает ли этот свидетель
остальных, которые не упускали Мироновича из виду?
Да и Сарра была еще до десяти часов жива, одна на
виду у других свидетелей. Или Устинья Егорова? Ведь
она Мироновича даже не называет, показывает о каком-
то шарабане в первом часу, когда все давно было
кончено, о видении, обставленном условиями зубной боли,
тьмы во дворе, за преградой кисейной занавески. Ну
разве и это данное идет в какое-нибудь сравнение
с предыдущими, с данными оправдания? А
Константинов? Просыпается в дворницкой на несколько секунд,
усталый после дороги, и ему кажется, что дворники
говорят, будто барин приехал, когда те говорят, что
пришел.
А сын его, Золотое, спящий тут же, всей этой сцены
не слышит. Этот Константинов такой же «свой
человек» у Мироновича, как и прочие дворники. Неужели
его одного нельзя было уломать на ложное показание?
Неужели бы его не поддержал сын? Не ясно ли здесь
простое, обыденное недоразумение, ошибка?
Сравните же первых и вторых свидетелей — которые
яснее, тверже, доказательнее? Можно ли колебаться
в выборе?
Казалось бы, что же дальше? Половые органы Сарры
Беккер не повреждены; Миронович в часы убийства был
дома. Был еще только четвертый день следствия. Еще
было своевременно заняться настоящим, а не
фантастическим убийцей. Но что же делают? На что тратят
время? Исследуют нравственные качества Мироновича
и его отношения к Сарре Беккер. Спрашивается, ну
к чему это?
Если бы он был мужчина, самый лакомый до
женщины, если бы он даже заглядывал на Сарру Беккер,
или мимоходом трогал ее, или даже намечал ее себе
398
в будущие любовницы, то все-таки в настоящем случае
он на нее не нападал и не поругал ее чести. Повторяю,
к чему же нам §го прошлое, его вкусы, его привычки,
тайны его постели, его старческие связи и т. п.? Кому
нужна эта громоздкая декорация из совсем другой
оперы — эта декорация из «Отелло», когда идет балет
«Два вора»? Вот это-то и есть то, что один наш славный
оратор назвал «извращением судебной перспективы»:
ненужным заслоняют зрение, а главное упускают.
Но разберем эту напрасную работу. Чисто
искусственное приведение Мироновича к мнимому
преступлению против Сарры Беккер ведется издалека. Прежде
всего говорится, что Миронович человек вообще
скверный. Я ни слова против этого не скажу. Вопрос о
хороших и дурных людях бесконечен. Иной вырос на туяном
черноземе, под солнцем — и кажется хорош; другой жил в
болоте — и вышел много хуже. Вы знаете, какая трясина
вся прошлая служба Мироновича, все, на чем он
воспитывался. Быть может, если бы он был дворянином,
был бы выхолен в детстве, окружен гувернантками, знал
бы литературу, имел бы какие-нибудь таланты, быть
может, он избрал бы другую карьеру. Но иное дано
ему было от жизни. И если он дурной человек, то,
вероятно, все-таки хотя несколько лучше нарисованного здесь
портрета. Но пусть он таким и останется. Это не идет
к делу... Биография Мироновича в обвинительном акте
заканчивается следующими словами: он слыл и за
человека, делавшего набеги на скопцов, проживавших в его
участке, и к тому же за большого любителя женщин.
«Большой любитель женщин... делает набеги на
скопцов...» Можно подумать, что Миронович, как фанатик
сластолюбия, искоренял скопцов за их равнодушие
к женскому полу!.. Но оказывается, что здесь
говорится о взятках. Спрашивается, при чем взятки в
изнасиловании?.. Отчаянное же сластолюбие Мироновича
доказывается такими фактами: имея больную жену, он сошелся
с женщиной, с которой затем жил 15—16 лет и прижил
от нее пять детей, а когда эта женщина устарела, он
сошелся с другой, от которой хотя детей й не имел,
потому что лета уже не те, но с которой живет по-
супружески уже лет пять. Притом, однако, он не утратил
способности любоваться и другими хорошенькими
женщинами. Специально же виды Мироновича на Сарру
Беккер представлены в таком, как мы сейчас увидим,
неверном освещении: он старался оставить Сарру при
себе одну и потому отправил Илью Беккера в Сестро-
399
рецк; Беккер незадолго до преступления видел, как
Миронович, лежа на креслах, обнимал и целовал его
дочь, на что ни дочь ничего не ответила, ни отец не
протестовал. Мещанкам Бочковой и Михайловой Сарра
за неделю до убийства будто бы жаловалась, что
Миронович ей рассказывает о своих любовницах, пристает
с ласками, что отец этого не знает, иначе бы не допустил
(как это похоже на предыдущее!), что Миронович
помадится, старается ей нравиться, «но может понравиться
только одному шуту», и страшно ее ревнует ко всякому.
Рассказывая это, Сарра будто бы плакала и говорила,
что с нового года она уйдет. Однако ни отцу, ни
ближайшей к себе женщине, Чесновой, Сарра Беккер о
приставании Мироновича не сообщала. Затем выставляют
маленьких детей, которые будто бы наблюдали, что
Сарра была в день смерти грустна. Наконец, приводится,
что на ночь убийства Миронович, вопреки всегдашнему
правилу, не прислал в кассу дворника, и, таким образом,
выходит или получается впечатление, будто Миронович,
как коршун, издавна чертил круги вокруг этого
цыпленка — Сарры и наконец-таки, уединив и оставив ее
беззащитной, заклевал.
Нетрудно убедиться, что все это освещение
отношений Мироновича к Сарре неверное. Прежде всего,
Миронович не заклевал Сарру, потому что того, чего,
по мнению сплетен, он добивался у Сарры, он не тронул.
Но затем во всех этих показаниях очень легко отделить
искусственное наслоение. С одной стороны, оказывается,
что даже, по словам отца, Сарра относилась к
поцелуям и объятиям Мироновича не с криком, который
нужно было заглушать просовыванием платка чуть не до
желудка, а очень мирно и наивно. Значит, если правда,
что Миронович имел виды на Сарру, то попытка к
сближению вовсе не была бы оставлена так странно, что
Сарра, едва отворив дверь, не успев снять ватерпруф,
найдена была с раздробленной головой и нетронутыми
половыми частями. С другой стороны, в показаниях
сорокалетних мещанок совершенно ясна ретушь. И как
вы, в самом деле, хотите требовать, чтобы сорокалетние
кумушки, которым известно, что Сарра найдена на
кресле с раздвинутыми ногами, чтобы они совладали
со своим воображением... Это вещь невозможная! И вы
видите, как они пересолили. Они усердствуют доказать,
что Миронович ревновал Сарру решительно ко всякому,
даже к скорняку Лихачеву, и что он ее берег для себя.
Но возможно ли было Мироновичу ревновать Сарру
400
к скорняку Лихачеву, к этому свидетелю с
волнообразным носом, и рядом не ревновать к своим красивым
и молодым дворникам, которых он посылал ночевать
с девочкой. Так же точно заблуждаются дети насчет
грусти Сарры Беккер; впечатления эти образовались,
очевидно, задним числом, когда маленькие друзья Сарры
вспомнили, что это был последний день ее жизни. Но мы
имеем факты. Сарра в тот день играла, была в
праздничном платье, с аппетитом перед смертью поужинала,
в ее кармане найдены незатейливые лакомства —
подсолнечные семечки, недоеденное яблоко,— выходит, что
здесь было именно то, о чем говорит наш Тургенев:
«Человек не предчувствует своего несчастия, как
белка, которая чистит себе нос в то самое мгновение,
когда стрелок в нее целится...» И то, что дворник на эту
ночь не был прислан, тоже совершенно лишено
значения умышленной западни со стороны Мироновича.
Давно уже чуть не вся публика в один голос
порешила с этой уликой тем соображением, что в
предыдущую перед убийством ночь дворник не ночевал, а в ту
ночь Миронович ничего не сделал,— значит, это
случайность. И правда, Сарра тяготилась присылкой
дворников, они сами показали, что она от них запиралась.
В последнее время она возмужала и не прибегала к этой
мере. Но все же дворник ее стеснял. Запоры были так
крепки, Сарра была так расторопна, с зимы до осени
она успела зарекомендовать себя такой
самостоятельной слугой — почему же и не снизойти к ее просьбе?
Словом, для Мироновича вопрос о дворниках успел
утратить свою настоятельность: страхуешь десять раз — не
горит, на одиннадцатый рассудишь: авось и так
уцелеет — ан тут-то и пожар. Разве это не натурально?
И разве вы не слышите самой искренней ноты в ответе
Мироновича на вопрос Янцыса в то самое утро, когда
открылось преступление: «Почему не было дворника?» —
«Сама просила не присылать». Кроме того, Миронович
в этот день имел заботы с Порховниковым и векселями
Янцыса. Он мог забыть о дворнике. И разве вы не хотите
понять раскаяний Мироновича в это утро за
послабление Сарры или за свою неосторожность? Не понимаете
чувства, с которым он приник к плачущему Беккеру со
словами: «Сам знаю, что золотой был ребенок; что же
делать!»?
Я затем совершенно опускаю целый ряд показаний
о выражении глаз Мироновича, его голосе, походке
и прочих признаках волнения, о которых свидетель-
401
ствуют нам власти, прибывшие на место преступления,—
все это я называю полицейской психологией и не придаю
ей никакого значения. Дар чтения в чужой душе
принадлежит немногим, да и те немногие ошибаются.
А здесь мы встречаемся и с наблюдательностью очень
сомнительной тонкости, мы видим, что даже наглядные
факты оцениваются грубо и неумело,— где уж тут до
чтения по глазам! Вспомните только следующее: наутро
после фатальной ночи Миронович, как мы знаем, в свой
обычный час, рано утром, пьет свой чай так же спокойно,
как и накануне перед сном. Из дому он отправляется
разыскивать Порховникова, котЬрый задолжал ему 200
рублей, не застает его в доме Лисицина и идет на
Пушкинскую улицу, но и тут узнает от Подускова, что Пор-
ховников скрылся. Миронович ругается и негодует, как
истинный скупец, и на замечание, что сумма долга очень
невелика, Миронович произносит типичную фразу,
типичное оправдание людей его профессии: «Не сумма
важна, а важно то, что меня, честного человека, надули!»
И представить, что это раздражение Мироновича
приводится как доказательство его душевного потрясения
после убийства! Ну как, в самом деле, серьезно считаться
с такой психологией: придираются к голосу Мироновича
и слышат в нем ноты виновности, а на факт,
поражающий факт, доказывающий его невиновность, закрывают
глаза. Этот факт тут же рядом, а именно: вот эта
самая озабоченность Мироновича получить долг с
Порховникова. Разве она была возможна и мыслима, если бы
Миронович убил перед тем ночью Сарру Беккер? Разве
он мог бы серьезно интересоваться этим долгом? Да ведь
еще как настойчиво — поехал в один дом на
Преображенскую улицу (следовательно, минуя роковую кассу),
а потом вернулся на Пушкинскую улицу (тоже мимо
кассы) — точно ничего злополучного и не было.
Ведь если бы он убил, он знал бы, что касса была
всю ночь отпертой, что она и теперь открыта, что, может
быть, из нее уже все растаскано и он теперь нищий, что
там следы его ужасного дела. Его должно было мучить:
знают ли уже? Пришел ли кто-нибудь? Его бы против
воли туда потянуло. Где же тут до Порховникова?
Откуда бы взялась прежняя энергия преследовать
должников? Не ясно ли, что этот человек продолжает свою
нормальную жизнь, что ему в эти минуты никакая беда
еще не снилась... А разгадчики дела на все это даже не
обращают внимания! Я утверждаю, что вы нигде не
найдете убийцу, который бы так неподражаемо разыграл
402
невиновность в это утро, именно этими поисками Пор-
ховникова, как разыграл ее Миронович, а не найдете
потому, что так именно мог поступить только
действительно невиновный. ч
Сообразите, наконец, что Миронович от начала до
конца ни от одного сбоего слова не отступился, ни разу
не солгал и не впал в противоречие; а для виновного срок
был слишком велик, чтобы не соблазниться и не
солгать; вспомните только, как другие в этом деле зарапор-
товывались и меняли показания! Сопоставьте его
поведение накануне убийства и на другой день; вспомните, что ни
одной царапины ни на лице, ни на руках у него не было;
обратите внимание на то, что у него был сделан
полицейский обыск — и весь гардероб его оказался налицо;
ни малейшего скандального пятнышка на белье (а будь
здесь неодолимая страсть — пятна секретного
происхождения непременно бы нашлись), ни одной скрытой,
окровавленной или замытой одежды. Вспомните, наконец,
что Сарра Беккер невинна. Не ясно ли, что все, чем
стараются опутать Мироновича, спадает с него как шелуха;
что в этом обвинении нет ни одной живой, осмысленной,
проникающей в нашу совесть улики; что все они, эти
улики, не что иное, как собрание восковых фигур. Нет
никакой внутренней силы, нет истины в этом обвинении!
Но самые важные доказательства невиновности
Мироновича еще впереди.
Нам осталась еще одна громадная улика, занявшая
четыре дня судебного следствия. Она состоит в том,
что в этом процессе есть весьма подозрительная
Семенова, которая, однако, по мнению прокурорского надзора,
едва ли убила Сарру Беккер. Странная улика. Если
в Семеновой и не распознали убийцу, то чем тут
виноват Миронович?
Попробуем, однако, задаться вопросом: кто убил?
Мы уже знаем, что цель убийства была искажена
следствием с самого начала благодаря признаку
изнасилования. Мы видели, что изнасилования не было, но все
это можно было видеть и раньше. Не говоря уже о
положении тела поперек кресла, о половой
неприкосновенности Сарры, сам костюм ее показывал, что она погибла,
как сторож кассы, неосторожно впустивший вора. Она
найдена в том наряде, в каком вошла с улицы, с ключом
от своего жилища в кармане. Она, очевидно, имела дело
с кем-то, кто не мог располагаться в кассе как дома,
кто должен был с минуты на минуту уйти. Это был
посторонний.
403
Затем: украдены вещи. Кто говорит вам, что здесь
был грабеж поддельный, тот забывает, что поддельный
грабеж всегда старается бить в глаза и что только после
настоящего вора можно найти такую обстановку, когда
не знаешь, был он тут или нет. Потому что поддельный
грабеж не может рисковать сомнением, а настоящее
преступление только сомнения и добивается. Ведь
Миронович, будто бы подделавший грабеж, вначале ничем не
мог его доказать! Еще если бы он вынул из кассы
заложенные вещи, то продажу их можно было бы доказать
книгами. Но украдены вещи из витрины, которым
инвентаря не было, и Беккер даже отказывался признавать
пропажу большинства вещей; не всплыви они
впоследствии чудом, никто бы не поверил, что они
были, да сплыли. Так никто грабежа не подделывает. И
это не могло не внушить мысли, что грабеж был
настоящий.
Поэтому после первых ложных шагов против
Мироновича следствие должно было кинуться в сторону —
искать неизвестного. Кто был этот неизвестный? Задача
найти его в нашей обширной столице, конечно, была
трудная. Он мог и не найтись. Могло статься, что
убийство на Невском не было бы раскрыто. Как это
ни неловко, это лучше привлечения невиновного.
Были ли указания на неизвестного? Да, были.
Азбучное следственное правило состоит в том, чтобы
искать последнего, кто видел убитого и говорил с ним.
Этот последний, кто видел Сарру Беккер, был намечен
сразу — то была какая-то женщина, но она сразу же
пропала. С самого начала на этом важнейшем пункте
перед следователем зияла непроницаемая тайна.
Обстоятельство это тем более должно подмывать
любопытство, что жизнь, характер, вкусы, все знакомства
покойной были выяснены. Это была девочка, усердная к долгу
сторожа и кассира, осторожная, недоверчивая; близких
у нее не было, знакомых мы можем перечесть. И вот мы
узнаем, что перед самой смертью Сарра Беккер
разговаривала на лестнице перед кассой с какой-то женщиной,
и притом настолько долго и охотно, что когда Ипатов
хотел их разогнать, то девочка возразила: «А вам что за
дело? Разве я обязана вам давать отчет?» Женщина эта
была, по описанию Ипатова, моложавая — не то
женщина, не то девочка. Но тогда же выяснилось, что это
не была Чеснова, единственная знакомая Сарры, рослая,
нисколько не похожая на девочку. Кто же, спрашивается,
была эта женщина?
404
Вопрос этот, конечно, не мы первые поднимаем.
Он всем приходил в голову, и я здесь говорю не о казенном
приеме, который выражается словами: за всеми
принятыми мерами женщина, разговаривавшая с Саррой
Беккер, осталась неразысканной. Нам, впрочем, говорили,
что ее и не искали. Но я спрашиваю, как с этим
громадным пробелом возможно было ни разу не
разочароваться в походе против Мироновича, ни разу не сказать
себе: да ведь пока я этой женщины не найду, все, что
я делаю, может оказаться чепухой!
Удивительное ослепление перед непогрешимостью
первой догадки, пришедшей в голову, без всякой
внутренней тревоги перед проблемами первостепенной
важности! Ну, представьте, что мы бы с вами, проследя
шаг за шагом последний день убитой, вдруг бы
натолкнулись на эту женщину, от которой Ипатов просто не
мог отцепить покойную! Неужели бы нас не тревожили
вопросы: чем, с какой целью расположила она к себе
этого недоверчивого ребенка в такие поздние часы на
пороге кассы, которую девочка так боязливо оберегала?
Почему все другие знакомые объявились и найдены,
а этой нет? Ведь шум об убийстве был так велик, что
почти каждый человек в столице о нем знал, а через
неделю знала вся Россия; особенно знали те, которые
зачем-нибудь бывали в кассе и должны были в нее
возвращаться. Зачем же эта женщина, если она невиновна,
не пришла за^ своим закладом, не пришла
засвидетельствовать о последних минутах бедной девочки? Вот уже
несколько дней проходит, а женщина эта как в воду
канула! Было бы это возможно, если бы она была
чиста?.. Да, по нашему мнению, мысль эта не должна
была давать следователю покоя: разумом и совестью
должен он был почуять, что неспроста исчезла эта
загадочная фигура, сидящая перед ним у самого входа
в преступление! И всякая энергия против Мироновича
должна была ослабнуть, и следователь должен был
тревожиться неминуемым, темным вопросом о женщине.
И кто об этом не тревожился, тот не может не выслушать
громкого упрека в односторонности!
Но были и другие поводы считать все дело сплошным
хаосом тайны до открытия этой женщины. Дворник
Прохоров видел в тот же самый вечер перед
убийством, что Сарра Беккер, отправляясь ужинать, была
остановлена на Невском какой-то молодой, прилично
одетой женщиной, с зонтиком и саквояжем.
Поманив Сарру рукой, она поговорила с ней не более
405
двух минут и уехала. Опять тайна. Таких знакомых и
приятельниц, как описанная Прохоровым женщина,
Сарра Беккергне имела. Кто же это был? Почему эти
две загадочные женщины мелькают перед самым
убийством? Одна, по словам Прохорова, в шляпке, другая,
по описанию Ипатова, в платке (а может быть, Ипатову
накинутая вуаль показалась платком). Уж не одна ли
и та" же эта женщина? Но как их связать между собой?
Почему первая вскоре ушла, а вторая так упорно сидела
на лестнице перед кассой, точно провожая Сарру на
смерть? Потемки, полные потемки! И опять невольная
потребность получить разъяснение тайны не от кого
другого, как от женщины.
Ровно через месяц и один день после убийства
следователь получает известие, что в полицию явилась
какая-то молодая, прилично одетая женщина (как это
напоминает описание Ипатова и Прохорова) и
созналась в убийстве Сарры Беккер. Что бы сказал себе,
получив это известие, знаменитый следователь Порфи-
рий — идеальный следователь Достоевского? Он сказал
бы: «Наконец-то! Я знал, что отсюда получится свет...
Я был уверен, что это дело может разъяснить только
какая-то женщина, исчезнувшая из-под глаз полиции.
Она будет долго кружить вокруг да около и
прятаться, но ее будет тянуть к нам — и она придет. Она
пришла. Так и быть должно. Теперь мы все непонятное
постигнем...» Вот что бы он сказал.
А что сказали об этом известии в нашем деле?
Читайте сами в обвинительном акте: «Таковы были
обстоятельства настоящего дела, раскрытые
предварительным следствием, которое предположено уже было
закончить (быстрота-то какая эффектная — в один месяц
уже было ясно), .как вдруг неожиданно явилась
женщина» и т. д. Понимаете ли вы теперь, господа
присяжные заседатели, всю непростительность этого
«неожиданно»?! Именно — непростительность, потому
что как возможно было не ожидать того, без чего все
было во мраке, без чего нельзя было двигаться вперед?
Это выражение «неожиданно» характеризует и прием,
на который могло рассчитывать это самое драгоценное
для раскрытия истины лицо, всплывшее наконец в деле.
Прием был такой, какой уготован всякому неожиданному
гостю. Все готово, улики связаны. Миронович в тюрьме,
и вдруг такая новость! Сразу отнеслись к Семеновой
недоверчиво, а когда взглянули на нее — моложавую,
прилично одетую, в шведских лайковых перчатках, то
406
невольно улыбнулись иронически. Недоверие это
вызывалось, очевидно, тем удивительным соображением, что
убийца может быть только сильный, с узловатыми
руками, растрепанными волосами и вообще скорее
мужчина, чем эта наивная на вид и моложавая
женщина (не то женщина, не то девочка, по выражению
Ипатова). Посмотрели и решили, что не она убийца,
и стали записывать ее показания, как бред взбалмошной
барышни. Я еще раз с глубоким убеждением должен
отметить эту черту наших представителей полицейской
и следственной власти — их наклонность с
необыкновенной легкостью полагаться на свою психологию,
физиономистику и на внешние впечатления. Я уверен, что так
же, как один вид раздвинутых ног Сарры Беккер решил
вопрос об изнасиловании, так одна внешность Семеновой
разубедила власти в ее виновности. Я отмечаю эту
черту потому, что она поистине пагубная. Казалось бы,
сама жизнь дала достаточно уроков. Вспомните
дворянских детей Эдельбера и Полозова, из которых один имел
прелестное лицо девушки и которые судились за
убийство ямщика; вспомните великолепного Юханцева,
оказавшегося вором; даму большого света Гулак-Арте-
мовскую, обвиненную в мошенничествах и подлогах;
гвардейца Ландсберга, сосланного за убийство с целью
грабежа; наконец, девицу Островлеву, обвинявшуюся
в ограблении извозчика. Да мало ли примеров! Пора бы,
кажется, держаться несколько пессимистического, но
мудрого правила: все в наше время возможно!
Я сказал, что Семенову слушали нехотя. Но когда
из ее уст полились разительные разоблачения (чего,
впрочем, и следовало ожидать), когда она своим
рассказом осветила, как молнией, все, что было в
потемках, когда в ее речи забилась искренняя нота исповеди,
когда, наконец, она выдала вещи, добытые
преступлением,— тогда делать было нечего. Даже такое точное
предубеждение, как предубеждение против Мироновича,
было сломано. Он был выпущен. Но ненадолго... И вот
этого второго возврата к Мироновичу я уже никак не
могу понять. Я не могу объяснить себе, как это
случилось, чтобы после такого сознания, как сознание
Семеновой, из этого дела сумели еще сделать загадку.
Прокурорский ли надзор не сумел отрешиться от
первоначальной близорукой идеи своей о виновности
Мироновича, или следователь поддался давлению, или
Миронович, освещенный бенгальским огнем во всех своих
вольных и невольных прегрешениях, оказался фигурой,
407
которая могла раздражать общественные страсти и
сбивать с толку самого благонамеренного судью, или
экспертиза в прошлое заседание, пустившись
фантазировать, поддержала заблуждение, или прения виноваты,—
я не знаю. Но я вижу за сознанием Семеновой еще
целые тома следственных упражнений; я вижу, как его
портили три четверти года, от сентября до июня, как
портили его в предыдущее заседание, и, однако же,
несмотря на все это, я до сих пор, если хочу что-нибудь
понять в деле, обращаюсь именно к этому сознанию
и только в нем одном нахожу ответы на все недоумения.
Да, Семенова рассказывает, что она одна убила
Сарру Беккер. Безак в это время лежал на диване
в Финляндской гостинице, поджидая ее с добычей.
Семенова кормила его кражами, но обещала сделать и нечто
побольше. На этот раз ола сдержала слово. Она вбежала
к нему вся в следах убийства и бросила ему- деньги
и вещи. Он выругался, что мало досталось, но
испугался преследования, и они пустились бежать к Кейзеру.
После бессонной ночи они оба рано утром скрылись
в разные концы из Петербурга.
Такова простая развязка мудреного дела. Она
останется навеки единой возможной — единой потому, что
двух истин не бывает.
И действительно, кто же такая эта Семенова? Это
женщина с преступным прошлым, совершившая пять
краж и два мошенничества, женщина безжалостная
в отношении всех, кроме своего Миши, для которого она
даже обкрадывала своих добрых знакомых, и притом,
что важнее всего, она та самая женщина, которая
в последний час перед убийством сновала возле кассы
и сперва подзывала к себе Сарру на извозчике, а потом,
в последний час перед ее смертью, сидела с ней перед
дверью кассы, и, наконец, та самая, которая тотчас
после убийства убежала от теплого трупа со всеми
вещами, добытыми преступлением! Ведь все это факты
бесспорные, признаваемые прокурором. Какие тут еще
вопросы, какое лукавое мудрствование допустимо
здесь?! К подобному лицу ведь невозможно было
относиться иначе как к убийце! Такому лицу говорят
прямо: «Вы виновны; если можете, оправдывайтесь»,
а уж никак не поступают с ним наоборот, т. е. после
сознания стараются его выгородить, боятся убедиться
в его правдивости. А эта боязнь сквозит во всей
проверке сознания Семеновой. В самом деле, говорят: да,
действительно, и гирю пробовала на скамейке Тавриче-
408
ского сада, и время совпадает, и раны знает, и палец
укушен, и все вещи взяла, и мылась два раза в ночь,
и скрылась тотчас... Кажется, ну чего бы еще?.. И
начинаются возражения.
Я думаю, что если бы вообще сознающиеся убийцы
подвергались такому невероятному экзамену, какому
подвергалась Семенова под руководством прокурора
судебной палаты Муравьева, то виновных никогда бы не
оказывалось. Ведь убийца бывает в помещении своей
жертвы мимоходом, действует впопыхах, и вы найдете
во множестве старых дел, по которым виновные уже
сосланы, что убийцы зачастую многого не помнили — ни
количества ударов, ни даже многих своих действий
вообще. А здесь малейшее запамятование зачисляют
в противоречие. Но это было бы еще ничего. В системе
проверки параллельно действует двоякий прием:
Семенова чего-нибудь не помнит — делают вывод, что она не
знает, она невиновна; Семенова что-нибудь разительно
ясно передает — говорят: она заучила! Так ведь никогда
не переспоришь, потому что против нас играют без
проигрыша. И главное, многих проверок боятся, положительно
боятся, чтобы не встретить подтверждения. Так,
например, было прежде всего со ссадинами Сарры Беккер:
ссадины эти признаны окончательной экспертизой
ничтожными и ни в каком отношении не интересными.
Семенова забыла о них упомянуть. И вот за все
предварительное следствие, когда она так охотно вызывалась
все разъяснить, ни разу не спросили ее об этих ссадинах,
а прямо в обвинительный акт внесли, что ее сознание
опровергается умолчанием о ссадинах! Далее, говорят:
вот Семенова пишет, что она главные повреждения
нанесла в передней, затем тащила Сарру, а ни там, ни по
дороге крови нет. Насколько хорошо осматривали
полы в кассе первый раз, видно из того, что
следственная власть сама себе не верила и тщательно
осмотрела полы во второй раз (в первом протоколе,
составленном за месяц пред тем, вовсе не значится, чтобы полы
осматривались). Сакс, уверяющий, что он смотрел,
далеко не равен доказательному судебному акту,
особенно в этом деле! Но полы кассы в передней и кухне
невероятно грязны, как признает второй осмотр.
Входивших в кассу при обнаружении убийства просто и не
перечислить. Следы в виде кровяных брызг, если только
они не исчезли целиком на одежде убийцы, могли быть,
при отсутствии рассеченных ран, самые ничтожные,
могли растереться на торной дороге, у входа, где каж-
409
дый пролагал ступню. Во всяком случае,
первоначального акта осмотра полов у нас нет. И таким образом,
следственная власть в собственной небрежности черпает
доказательства против Семеновой! Но главная
разительная черта правды в показании Семеновой как раз в том
и состоит, что Семеновой нет никакого дела до того, где,
по мнению следователя, должна быть кровь. Если бы
ее подучили, то суфлер мог бы опустить другие
подробности, но уж насчет главного — насчет самого
места драмы — наставил бы ее в совершенстве. Но
Семенова не актриса, а настоящая убийца, и она не
заглядывает в тетрадку следователя, чтобы сообразоваться
с тем, что ему нужно, а сама открывает ему, как
происходило преступление в действительности. Оттого она
и указывает совершенно новый пункт драмы. И
следовательно, мы можем только сказать: поучайтесь и
убедитесь еще в тысячный раз, что не всегда находится
кровь там, где нанесен первый удар; на будущее время
будьте осторожнее с этим вопросом; не следуйте рутине
да тщательнее производите осмотры. Далее, возражают
против гири. Говорят: гири не было — это выдумка,
была газовая труба. И здесь опять Семенова
самостоятельна, как лицо, разоблачающее тайну
действительности. Она опять знать не хочет вещественных
доказательств следователя — и представьте: наука за нее!
Эксперт профессор Монастырский, вызванный в это
заседание впервые самим обвинением, профессор
хирургии, вторит Семеновой: орудие было шарообразное —
от длинного орудия получились бы совершенно иные
расколы черепа. Но этого мало. У Семеновой, несмотря
на всякое поощрение ко лжи, есть известный стыд: она
считает для себя невозможным отрицать то, что, по ее
мнению, доказано помимо ее. Она не может себе
представить, чтобы не поверили, например, пробам гири на
скамейке Таврического сада, чтобы и эти виденные нами
знаки считались за подделку. Какая, подумаешь,
роскошь — подделка. И она не может отвязаться от гири.
В самом последнем своем показании, в том, где уже, по
стопам Безака, она валит на Мироновича, и там она
говорит: «Гиря у меня действительно была, мне ее
подарил Безак, я ее забыла где-то в меблированных
комнатах, где я проживала». И представьте, на этом стоит
точка. Следователь даже не расспрашивает: «В каких
именно комнатах она проживала?» Он ей так легко
позволяет отделаться от орудия убийства. Так же легко
дали исчезнуть гире и в тот период, когда Семеновой
410
еще верили, когда она в первом искреннем показании
созналась, что бросила ее в Неву у Тучкова моста.
Здесь мы только теперь узнали, что гири тогда совсем
не искали, а в обвинительном акте написано, что ее
не нашли. А будь надобность найти гирю во вред
Мироновичу, к изобличению его, такой ли бы розыск мы
видели! Но я, впрочем, думаю, что если бы тогда же нашли
гирю, то стали бы говорить: она подброшена, потому
что за месяц она должна была бы уйти в почву дна.
Нет гири — Семенова говорит неправду, есть гиря —
опять нецравда и подделка. Нет выхода, нет в этом деле
оправдания Мироновичу!
Одним из самых замечательных приемов проверки
слов Семеновой был прием проверки ее показания
о витрине. Вначале, как известно, было между прочим
чрезвычайно трудно понять, каким образом похищены
вещи из витрины: все в ней казалось в порядке, замок
был не поврежден, маленький ключик висел на особом
гвоздике, на своем месте. Вы помните, как по этому
поводу острили полицейские над Мироновичем: какой,
подумаешь, аккуратный вор! Как он о хозяине заботится,
даже ключик на свое место повесил. Ирония эта, кстати
сказать, была достаточно бессмысленна, потому что
если представить себе, что так устроил сам Миронович,
то это было бы с его стороны ни с чем не сообразно:
запирать маленьким ключиком ящик витрины, когда
большой вход во всю кассу оставляется на всю ночь
отпертым. Но как бы там ни было, способ похищения
из витрины оставался загадкой. И вдруг Семенова всем
этим господам открывает глаза: я сбоку просунула руку
под крышку запертой витрины, она ведь отгибается...
В голову никому это не приходило! Ни Мироновичу, ни
полиции, ни следователю, который даже не приобщал
витрины к вещественным доказательствам. Понятно,
после такого неожиданного указания следователь
потребовал витрину. Сделали опыт: действительно рука
Семеновой свободно проходит под запертую крышку и
описывает под витриной дугу в4 'Д вершка. Кажется, что
оставалось после этого, как не ударить себя по голове и
сказать: да, вот она, настоящая хозяйка дела! Но нет!
По непостижимому противодействию, даже таким
доказательствам не верят, даже и это открытие встречается
недружелюбно. Я говорю — недружелюбно, потому что
была предпринята проверка настолько несостоятельная,
что от нее заранее нельзя было ожидать разъяснения,
а можно было только рассчитывать на путаницу.
Поди
судите сами: Семенова говорит: «Я брала ближайшие
вещи к краю; в другое отделение, хотя там и нет
перегородки, моя рука не достигала». Тогда следователь
призывает Мироновича и Беккера и спрашивает их, где
лежали похищенные вещи. Конечно, каждый из них
отвечает различно. И совершенно натурально, потому что
каждый видел их в разном положении. Ведь эти вещи
передвигались, они не лежали в гнездах, не были
прибиты к своим местам, их продавали, замещали новыми...
Ну что это за проверка? И как странно было
спрашивать Беккера о том, где лежал, например,
украденный медальон, когда он вначале говорил, что никакого
медальона из витрины не украдено. А тут вдруг показал,
что во втором отделении, подальше от Семеновой. И
Миронович тоже прекрасен в этом эпизоде: чем ему
рисовать местонахождение вещей поближе к руке
Семеновой (раз уже говорят, что они между собой спелись),
он, по совести, рисует, как помогает ему память, и
в одном, и в другом отделении. Но мог ли он через
полтора месяца поручиться, что вспоминает верно,
что без него или Беккер, или его дочь не переложили
вещи на вершок дальше в ту или в другую сторону или
из одного отделения в другое. Такова была эта
знаменательная проверка показания Семеновой о витрине.
Я думаю, когда следователь предъявил Семеновой эти
результаты своей работы и спросил ее: «Ну, что вы на
это скажете?» — ей оставалось только руками развести:
«Я своей рукой брала вещи, а они меня хотят в этом
разубедить!» И она действительно в этом роде ответила;
она написала:«Я не знаю, что это все значит, но я
доставала вещи тем именно способом, как я показывала
раньше». Что же еще возражают против сознания
Семеновой с фактической стороны? Говорят: она неверно
показывает о бумагах Грязнова. Об этих бумагах она
сказала: я их бросила тут же в кассе или коридоре.
Сама она говорит, что не помнит. Чего же хочет он нее
следователь? И в обыденной жизни, когда собираешься
в дорогу, не всегда вспомнишь, куда что отбросишь,
а здесь ведь побег с места убийства! И нужно говорить,
что Семенова почти верно вспомнила: бумаги найдены
на диване, в комнатке, имеющей открытую дверь в тот
же коридор, о котором говорит Семенова. Она могла,
уходя, автоматически присесть на этот диван и потом
совсем забыть, что она садилась. Могли эти бумаги
валяться между дверью и диваном, могли быть
приподняты и для порядка выброшены на диван кем-нибудь
412
из всякого люда, нахлынувшего в кассу после
преступления. Еще возражают: в помоях Финляндской
гостиницы прислуга, допрошенная через месяц, не
припоминает крови; татарин, купивший пальто Семеновой, не
помнит крови. Это все доказательства невиновности!..
Мироновича, например, до истечения суток всего
осматривали; нигде крови не нашли и говорят: он
виновен. У Семеновой через месяц не могут восстановить
кровь через свидетелей, которым в голову не
приходило думать о крови, и говорят: она невиновна. Вот уж,
можно сказать, истинное беспристрастие.
Мы видели, что все эти возражения не подрывают
сознания Семеновой ни на йоту, а многие закрепляют его.
Но какие зато есть в этом сознании подробности, прямо
обличающие виновность! Возьмите такую мелочь:
Семенова говорит, что перед убийством она дала Сарре Бек-
кер рецепт от насморка, который девочка и спрятала
в свое портмоне. После убийства, когда Семенова
вынимала ключи из платья покойной, выпало это портмоне.
Семенова вспомнила, что там ее рецепт, и захватила
портмоне с собой, а потом бросила его в Неву. И
действительно, мы узнали, что у Сарры Беккер было
портмоне, которое после убийства исчезло. Никто не
спохватился, что у маленького финансиста был свой
маленький портфель. И никто не смог бы объяснить, зачем эта
безделица понадобилась убийце. А между тем убийца
ее взял. Только Семенова дает объяснение, почему взяла.
Не видно ли поэтому, что она была в самых глубоких
тайниках этого дела? Далее, вы помните подробный
протокол осмотра кухни. Мы слышали это мелочное
описание, там на полке значились: и щепотка соли, и банка,
и крошки хлеба, и подстаканник, и какая-то повесть —
вещи пестрые, которые никак не удержишь в памяти и
не сольешь в полную картину. Но там есть мелочь, на
которую я нарочно не обращал вашего внимания, хотя
она есть, и это подтвердит господин председатель. И вот
вы, судьи, ваша роль, конечно, ответственнее, чем роль
наемницы, которая должна разучить дело для принятия
на себя убийства, помните ли вы, например, этот осмотр
кухни настолько, чтобы ответить на вопрос: чем пахло
в кухне? Конечно, нет. А Семенова сразу ответила:
луком и рыбой. И там, в том осмотре, о котором я
говорю, вперемешку с другими вещами и далеко не рядом
названы головки чесноку и остатки рыбы. Скажут: она
просто ответила так, потому что речь шла об еврейской
кухне. Но тот, кого ловят на лжи, всегда труслив. Семе-
413
нова могла опасаться, что там был пролит керосин или
существовал какой-нибудь запах, могла запнуться. И
если она так уверенно ответила, то это лишь потому,
что она нюхала тот воздух, где было убийство. Нет!
Чем более изучаешь сознание Семеновой, тем более
дивишься тому, какие сокровища в нем рассыпаны для
верного восстановления происшествия. Даже кажущиеся
противоречия в нем примиряются удивительно самим
ходом рассказа. Так, всегда указывали ту странность,
что, по словам Семеновой, Сарра, введя ее ' в кассу,
заперла дверь на крюк и ключ оставила изнутри в замке.
Семенова на этом настаивала. Между тем ключ
-найден в кармане, покойницы. Как же это вышло? Но
послушайте рассказ Семеновой, и вы поймете. Семенова
говорит, что кто-то постучал в дверь, Сарра нагнулась
и посмотрела в скважину замка (значит, само собой,
вынув ключ), затем, когда обернулась к Семеновой, то
сейчас же последовал первый смертоносный удар.
Понятно, что, взволнованная до последнего напряжения
сил, Семенова помнит, что Сарра смотрела в скважину
(потому что в эту минуту она и надумала решиться на
убийство), но уж, конечно, за тем, что делала Сарра
с ключом и куда его опустила, Семеновой некогда было
следить. А между тем само заглядывание в скважину
замка объясняет нам, что при этом именно Сарра
и положила ключ в карман. Так вот какое это показание
Семеновой!
И это еще все только мелочи! Но что все это в
сравнении с главным, чего требует совесть судьи, в сравнении
с общим впечатлением от рассказа Семеновой. Мы
понимаем, что вам, не имеющим права судить Семенову,
тяжело было ее слушать. Ужасом правды веет от этого
показания! Подставной убийца, который бы за деньги
согласился наклеветать на себя, никогда ничего
подобного вам не расскажет. Притом сам обвинитель
утверждает, что Семеновой ничего не платили. Она, видите
ли, с голоду делает эти разительные откровения...
Подставной убийца может заучить подробности, но в них
никогда не вдохнет жизни, не сумеет связать части
в целое, в особенности в такой мозаике подробностей,
какими обставлена смерть Сарры Беккер. Но только
настоящий убийца скажет вам, например, что он после
преступления шарил в темных комнатах, пользуясь
светом из соседних квартир; для того, который выдумал
свое сознание, не страшно было бы и со свечкой
прохаживаться... Только действительный виновник передаст
414
вам предварительные тревоги исследования, для
наемника этот процесс незнаком, и он его или сократит, или
вовсе опустит; только настоящий виновник опишет
правдиво беззаботное состояние своей жертвы, вспомнит
разговор с ней и такой эпизод, как практический совет
девочки отделаться от извозчика через проходной двор;
фальшивому убийце эти мелочи не нужны, да и
воображения у него не хватит. Только виновный найдет эти
слова для передачи слышанных звуков, как выражение
Семеновой «она закричала каким-то болтающимся
языком» — выражение, признанное профессором
Монастырским передающим в точности последствия
сотрясения мозга. Но в сознании Семеновой есть
психологические факты, еще более потрясающие. Она говорит:
«Когда рука Сарры оказалась на ощупь холодной, тогда
я встала. С лица у меня струился пот, так как я была
в пальто и шляпе». Вот она, неподражаемая правда! Тот,
кто описывал бы убийство с помощью воображения, тот
мог бы сказать: с меня струился холодный пот, я весь
содрогался от ужаса и т. п. Но только тот, кто проделал
всю гимнастику убийства, только тот в состоянии так
просто объяснить, как ему мешало, как его грело
теплое платье. А дальше? Когда Семенова описывает
мучения своей совести в деревне Озерах и призрак
убитой, она пишет: «Сарра меня преследовала — то
боком, то прямо смотрела на меня или стояла в своем
длинном ватерпруфе со шлейфом». Да, здесь Семенова
просто дает вам руками осязать видение своего мозга!
Известно, что Сарра Беккер найдена убитой в чужом,
не по росту длинном ватерпруфе. Кто видел ее
мельком, на плохо освещенной лестнице, или кто
видел ее мертвой на кресле, где ватерпруф под нею
сбился,— тому не пришло бы и в голову обратить на это
внимание, представить себе движущуюся фигуру
покойной в этом наряде. Но тот, кто с ужасной мыслью
в душе, жадными глазами, за спиной девочки следил за
ней, когда она беззаботно двигалась в этом наряде по
кассе,— тот, конечно, до последнего своего дня не
забудет шлейфа Сарры Беккер! Но довольно...
Вспоминая после всего этого непринятие сознания
Семеновой и усилия к его разрушению, я уверен, что
эти следственные приемы попадут, непременно попадут
в историю. Бывали случаи ошибок — бывало, что
невинного притягивали, а виновного не могли найти. Но такого
случая, чтобы виновный брал штурмом следственную
власть, как неприступную цитадель, осыпая ее градом
415
неотразимых доказательств против себя, и чтобы его все-
таки отбили и победоносно прогнали на свободу,—
такого случая, я думаю, судебная летопись не знает от
своего рождения!
Общественное мнение было очень заинтересовано
вопросом: действительно ли одна Семенова могла
совершить убийство? Не помогал ли ей Безак? Сомнение это
было порождено слухом, что Семенова — тщедушная и
эксцентрическая барышня, которая наговаривает на себя
из романической мести к Безаку или даже за деньги.
Но и это сомнение вполне устраняется все тем же
сознанием Семеновой, в котором развитие ее преступления
излагается очень просто. Она действительно убила одна.
Она ведь и прежде всегда выходила одна на добычу для
своего любовника. Ее привязывала к нему сильная
физическая страсть, горестная, как запой. По словам
Семеновой, Безак делался все требовательнее. Она
чувствовала, что он ускользает и что его нужно насытить
деньгами. Красть по мелочам выходило и мало, и
беспокойно. Невольно напрашивалась мысль дать ему надолго
и побольше. Но как это сделать? Обокрасть ночью
магазин? Но Семенова чувствовала себя совершенно
неспособной делать взломы, уничтожать тяжкие запоры.
А так, без взломов, грабить вволю ведь можно только
тогда, когда устранишь хозяина — убьешь... Убийство?
Конечно, нужно именно это преступление. Такое глубокое
падение для своего любовника имеет свою порочную
сладость: какой я делаюсь для него скверной! Чего
я только не в состоянии для него сделать! Такая
женщина, как Семенова, страстная до болезни, всегда видит
подвиг в своей жертве для любовника, как бы ни была
гнусна эта жертва. Она заботится только об одном:
доказать свою ничем не истребимую привязанность. Притом
убийство закрепит связь еще другими, очень глубокими
узами — тайной преступления, и на этой привязи можно
будет держать Безака всю жизнь. Еще раньше Семенова
как-то намекнула Безаку, что она начинает для него
позорить себя между своими знакомыми — их
обкрадывает. Она дала почувствовать свои жертвы. Он ее
утешил, сказав, что это пустяки. Теперь она похвасталась,
что она так или иначе обогатит его и даже пойдет на
убийство. И стоило Безаку недоверчиво улыбнуться,
процедить сквозь зубы: «Куда тебе!» (что он и сделал,
по ее словам) — как Семенова должна была возгореться
неизлечимой решимостью. И вот она храбрится не на
шутку:«Дай мне только орудие... купим болт». Поку-
416
пают болт. Семенова говорит, что она затем делала
попытки убить нескольких богачей. Действительно
подтвердилось, что она к ним заходила при довольно
странных условиях. Вы слышали случай с Брауэром, помните
Яхонтова — капиталиста с драгоценными перстнями на
руке. Он показал, что Семенова приходила к нему, будто
за пособием, держала себя странно, вошла
взволнованная, под вуалью. Но, конечно, никто мыслей Семеновой
тогда не читал. Это были ее репетиции — репетиции
входить к людям с ужасным замыслом. Идея крепла, а
неудачи раздражали и роняли ее перед Безаком (да, перед
Безаком это постыдно!). А между тем необходимость
в деньгах уже назрела до крайности. Безаку не с чем
было ехать на другой день к жене. А она все еще трусит,
все еще ничего не заработала. В крайний срок, 27
августа, она рыскает по Петербургу, толкается из одной
кассы в другую — ибо ростовщики были всегда
возлюбленными жертвами таких героев — и вдруг видит, что
в кассе Мироновича хозяйничает одна девочка. Какой
соблазн! Она подлещивается к ней, успевает ее очаровать
и проникает с ней в кассу. Здесь она убеждается, что
никого больше нет. И страшно... и жаль девочку... но
как подмывает... другого случая такого не будет... Теперь
или никогда... Остальное известно: она убила. Следует
ей отдать справедливость, что в описании убийства она
нисколько себя не прикрашивает и не
сентиментальничает. Она передает только тот естественный ужас, который
врожден у каждого к этому нечеловеческому действию.
Когда все кончилось, она поняла, как это почти всегда
бывает и чего никогда не предвидит ни один убийца,—
что нечто самое чрезвычайное, самое важное уже
случилось, что ею уже израсходовано такое возбуждение,
после которого только бы скорее бежать, и цель, для
которой все было сделано, будто бледнеет. Она сознает,
что подвиг уже исполнен. После убийства она идет
к кассе; денег мало; на деньги всего более и
рассчитывала, а их всего 50 рублей. Но и это теперь не кажется
важным. Кругом стоят тяжелые запертые шкапы, в них
ценные вещи,— где уж все это брать! Вот разве взять из
витрины несколько ценных вещей, собственно, чтобы
доказать Мише. Много-то и брать нельзя: у Семеновой
только сумка через плечо. Но только сделать это надо
потише, без всякого шума... А там скорее вон отсюда...
И она выбежала из кассы с легким багажом, но
ценностью все-таки около 400 рублей.
14 Заказ 571
417
И как красноречиво свидетельствует вся обстановка
кассы, что здесь была и распоряжалась женщина, и
притом женщина порывистая, непоследовательная. Женщина
видна и в этом обилии ударов по черепу 13-летней
девочки, и в робости при похищении, и в избежании
взломов, и в этом расслабленном равнодушии к
барышу от преступления. Есть рассказ: «Двойное
убийство в улице Мондие»— загадочное убийство, которого
никто не мог понять. Впоследствии открылось, что его
совершила обезьяна. Я не делаю сближений,
оскорбительных для Семеновой. Но я думаю, что загадочности
этого дела, непонятности его для властей много
содействовала самая личность убийцы, т. е. Семеновой, этой
темной и странной женщины.
Безак в исполнении убийства не участвовал. Это
удостоверено прислугой Финляндской гостиницы. Очевидно,
если бы он был на месте преступления, он бы скорее
прикончил Сарру и уж, конечно, больше бы украл.
После преступления любовники свиделись, и Безак
все узнал; он знал и ранее, что Семенова гуляет в
городе. Наступившая ночь не дала счастия. Чем бы
утешиться и отдохнуть — только и в голове, что бежать.
Даже поесть хорошо нельзя. Вы помните со слов
свидетеля Альквиста, швейцара гостиницы Кейзера, как в ночь
преступления металась и не находила покоя эта чета —
Семенова и Безак. Швейцар уснуть не мог — так они
были ему подозрительны. Он чувствовал: «преступники»!
Мы чувствуем из его показания: «преступники»! Наутро
виновные скрылись из Петербурга в разные концы.
Когда же затем Семенова убедилась, что не только
ее права на Мишу преступлением не упрочены, но что
он совсем от нее прячется, тогда она не выдержала: она
пришла с повинной.
Безак, захваченный врасплох, во всем подтверждал
показание Семеновой; он только зашивал белыми
нитками свое знание об убийстве.
Мне остается рассмотреть, почему Семенова взяла
назад то признание свое, которого держалась, без
малейших отступлений, целых четыре месяца. Причина
этого поворота видна в деле ясно, как на ладони.
Есть доказательства, что Семенова никогда бы этого
не сделала. Виной всему Безак, и вот как это вышло.
Когда Семенову отправили в больницу
душевнобольных, а Безаку дали свободно читать все
следственное производство, то он увидел из этого производства,
что дело принимает весьма недурной оборот; что
418
Семеновой, вопреки его ожиданиям, будто не верят;
что в каждом слове ее сомневаются; что из такого
обстоятельства, как то, что одна или две гири были
куплены у Сан-Галли, делают целое событие,— и он
понял, что его отступление назад не только не повредит
ему, но будет приветствовано. Тогда, начитавшись дела
и надумавшись, Безак дает следователю новое показание,
в котором так и пишет: «Теперь, насколько я знаком
с делом, я описываю мое предположение, как могло
быть совершено убийство». И здесь впервые является
фабула о том, что Семенова могла натолкнуться на
постороннего убийцу, который ей вынес вещи за то,
чтобы она молчала, и, кроме того, дал ей дальнейшее
обещание обеспечения, если ей удастся роль убийцы.
Все это доподлинно имеется в показании Безака от 4
января 1884 года. Эта небылица, придуманная Безаком,
имела успех необычайный. Очень скоро, 17 января,
Безак был выпущен из тюрьмы. У него и ранее были
сношения с Семеновой, а на свободе сношения эти
были еще легче. К Семеновой в больницу ходили ее мать
и сестры. Только путем влияния Безака и можно
объяснить себе тот факт, что через неделю после его
освобождения, 25 января, Семенова прислала следователю
свой первый отказ от сознания. Очевидно, все инструкции
Безака были соблюдены ею в точности: убийцу, на
которого она будто бы натолкнулась в кассе, она называет еще
«неизвестным». Вероятно, ей улыбнулась мысль, что
таким рбразом никто не пострадает. Но Безак
предвидел, что этот «неизвестный» будет сигналом
возвращения к Мироновичу. Он и тут не ошибся: Мироновича
опять взяли в тюрьму. Когда Семенова об этом узнала,
она сделалась сосредоточенной и задумчивой; она
увидела, что дело не остается в тумане, как она
предполагала, а вновь падает всей тяжестью на невиновного.
Тогда 15 февраля она вновь заявила следователю,
что она поддерживает свое первоначальное сознание.
К маю, однако, ее прыть остыла — и как было не остыть
при таком противодействии! — и она уже в разных
редакциях проводит все ту же безаковскую версию... В моем
экземпляре обвинительного акта, против того места,
где излагаются эти перипетии дела о сознании и
несознании Семеновой, рукой Мироновича сделано
восклицание, вырвавшееся из глубины души: «Вот как она их
мечет». Действительно, ужасно положение человека,
участью которого играла эта женщина, как монетой:
орел — свобода, решка — тюрьма!..
419
Дальнейших показаний Семеновой я не стану
разбирать серьезно. Право, мне было бы неловко, если бы
такой автор, как Безак, мог подумать, что он хотя на
минуту покорил меня своим вымыслом. Против этой
басни возражают и жизнь, и здравый рассудок, и
практика прежних преступлений. Мы знаем, что, когда
убийцу застигает случайный свидетель, убийца рефлективно,
не 'размышляя, убивает и этого свидетеля: так поступил
Данилов с Поповым, так поступил Ландсберг с
Власовой, так все должны поступать, если не хотят
сознаваться, потому что убийца, который еще дорожит
свободой, не может выпустить гулять по свету живую
улику против себя — тогда его вся последующая жизнь
будет вечным мучением. Но чтобы убийца мог любезно
поднести случайной свидетельнице сверток с золотыми
вещицами и, не справившись, кто она такая, проводил
бы ее до ворот, нет, это только Безак может так
придумывать! Наконец, вспомните, что, по арифметическому
вычислению, Семенова пробыла в кассе час с лишком —
для одного получения подарка этого чересчур много.
Я сказал, что сам не буду подробно возражать на
вариации Семеновой. Но ей всегда бы мог возразить
сам Миронович, если бы она их держалась. Он мог бы
сказать ей:
«Вы доводите себя только до порога кассы, но
никак не хотите войти в нее для убийства? Но почему
вы были там, а меня никто не видел? Почему я на
следующее утро спокойно дома пил чай, а вы метались всю
ночь по городу и вам кусок в горло не лез? Почему
я вышел из дома на обычную работу и думал о моих
должниках, а вы чуть не на рассвете бежали из
Петербурга? Почему то, зачем будто я пришел в кассу, осталось
неприкосновенным, а то, к чему вы добирались, у вас в
руках, все до единого плоды преступления? Что вы там
делали целый час? Скажите, что это за чудеса и при чем тут
я? Уж не выходит ли, что я собственно для вас и убивал?
Нет, уж не стесняйтесь — войдите туда, войдите, г-жа
Семенова, и станьте на это проклятое место, где вы
сделали самое ужасное, самое горькое дело вашей
жизни!»
Так мы объясняем себе убийство Сарры Беккер.
Заканчивая защиту,— что бы нас ни ожидало,— мы
должны заявить горячую благодарность тем ученым,
литераторам и представителям высшего суда, которые
содействовали разъяснению истины в этом процессе.
О личности Мироновича по-прежнему молчу. Но если
420
бы он и был грешен, возможно ли поэтому
рассчитываться с ним за деяния другого? И где же? В суде,
от которого и падший поучается справедливости,
потому что здесь он должен услышать высокие слова:
«Получи и ты, грешный, свою долю правды, потому что
здесь она царствует и мы говорим ее именем». Всякое
раздражение против Мироновича должно смолкнуть,
если только вспомнить, что он вынес. Его страданий я не
берусь описывать. Он часто сам не находил слов и только
судорожно сжимал кулак. Против, кого? Роптать
бесполезно: чиновники — люди, они могут ошибиться... Если
бы в первый раз Миронович был оправдан, а Семенова
обвинена, то ему оставалось бы только
удовольствоваться тем, что гроза миновала. Но теперь, когда все
разбежались и одному Мироновичу подброшено
мертвое тело несчастной девочки, присяжные, оправдывая
Мироновича, рискуют объявить, что виновных никого нет.
Если они не смутятся этим риском, тогда Миронович
будет хотя отчасти отмщен. Приговором этим присяжные
скажут тому, кто создавал это дело, кто руководил им,
они скажут этому руководителю, и это его, конечно,
огорчит: вы, не кто иной, как вы, выпустили настоящих
виновных! И верьте, господа, что даже те, в ком есть
остаток предубеждения против Мироновича, и те
встретят оправдание его с хорошим чувством. Все забудется
в сознании свободы, в радостном сознании, что русский
суд отворачивается от пристрастия, что русский суд не
казнит без доказательств!
Речь присяжного поверенного
Н. П. Карабчевского
в защиту Мироновича
Господа присяжные заседатели!
Страшная и многоголовая гидра — предубеждение,
и с нею-то прежде всего приходится столкнуться в этом
деле. Злополучном с первого судебного шага,
злополучном на всем дальнейшем протяжении процесса.
Преступление, зверское, кровавое, совершенное почти
над ребенком, в центре столицы, на фешенебельном
Невском, всех, разумеется, потрясло, всех взволновало.
Этого было уже достаточно, чтобы заставить немного
потерять голову даже тех, кому в подобных случаях
именно следовало бы призвать все свое хладнокровие.
Ухватились за первую пришедшую в голову мысль, на
421
слово поверили проницательности первого полицейского
чина, проникшего в помещение гласной кассы ссуд и
увидевшего жертву, лежаТдую на кресле с раздвинутыми
ногами и задравшейся юбкой. В одной этой позе
усмотрели разгадку таинственного преступления.
Достаточно было затем констатировать, что
хозяином ссудной кассы был не кто иной, как Миронович,
прошлое которого будто бы не противоречило
возможности совершения гнусного преступления — насилия,
соединенного с убийством, и обвинительная формула была тут
же слажена, точно сбита накрепко на наковальне. Не
желали идти по пути дальнейшего расследования!
Первую мысль об «изнасиловании» покойной Сарры
подал околоточный надзиратель Черняк. Кроме
«раздвинутых» ног и «приподнятой юбки»,-в наличности еще
ничего не было. Но всякая мысль об убийстве с целью
грабежа тотчас же была бесповоротно оставлена. Когда
вслед за Черняком в квартиру проник помощник
пристава Сакс (бывший судебный следователь), дело было
уже бесповоротно решено. Проницательность «бывшего»
судебного следователя была признана непререкаемой.
Она-то с бессознательным упорством стихийной силы и
направила следствие на ложный путь. К часу дня 28
августа (т. е. дня обнаружения убийства), когда налицо
были все представители (вплоть до самых высших)
следственной и прокурорской власти столицы, слово
«изнасилование» уже, как ходячая монета, было всеобщим
достоянием.
Тут же-после весьма «оригинального» судебно-след-
ственного эксперимента, о котором речь ниже,
Миронович был арестован и отправлен в дом предварительного
заключения. На следующий день, 29 августа, весь
Петербург знал не только о страшном убийстве, но и о
«несомненном» виновнике его — Мироновиче. Против «злодея»
недаром едва ли не на самом месте совершения
преступления была принята высшая мера предосторожности —
безусловное содержание под стражей. С этого момента
«убийство Сарры Беккер» отождествилось с именем
Мироновича в том смысле, что «убийца» и «Миронович»
стали синонимами. От этого первого (всегда самого
сильного) впечатления не могли отрешиться в течение всего
производства дела, оно до конца сделало ужасное дело.
Мироновича предали суду.
А между тем даже и тогда, на первых порах, в деле
не имелось абсолютно никаких данных, которые давали
бы право успокоиться на подобном «впечатлении».
422
Н. П. Карабчевский.
Характерно отметить, насколько пестовали и лелеяли
это «первое впечатление», насколько прививали его к
сознанию общества на протяжении всего
предварительного «негласного» следствия. Пока речь шла о
виновности именно Мироновича, в газетах невозбранно
печатались всякого рода сообщения. Зарудный, например,
на все лады жевал и пережевывал данные, «уличающие
Мироновича», и прокурорский надзор молчал, как бы
поощряя усердие добровольцев печати в их лекоковском
рвении. Но как только появилась на сцену Семенова и
одна из газет вздумала поместить об этом краткую
заметку, прокурорский надзор тотчас же остановил
дальнейшее «публичное оглашение данных следствия».
Гласность именно в эту минуту оказалась почему-то
губительной. Так и не удалось сорвать покров таинственности с
«первого впечатления», которое до конца осталось
достоянием правосудия.
Что же было в распоряжении властей, когда
Миронович был публично объявлен убийцей и ввержен в
темницу?
Прошлое Мироновича воспроизводится в
обвинительном акте не только с большой подробностью, оно им, так
423
сказать, смакуется в деталях и подробностях. В этом
прошлом обвинительная власть ищет прежде всего опоры
для оправдания своего предположения о виновности
Мироновича. Но она, по-видимому, забывает, что, как бы
ни была мрачна характеристика личности
заподозренного, все же успокоиться на «предположении» о виновности
нельзя. Ссылка на прошлое Мироновича нисколько не
может облегчить задачи обвинителям. Им все же
останется доказать виновность Мироновича. Этого требуют
элементарные запросы правосудия.
Раз «прошлое» Мироновича и «характеристика его
личности» заняли так много места в обвинительном акте
и еще больше на суде — нам, естественно, придется
говорить и об этом. Но как от этого далеко еще до его
виновности, будь он трижды так черен, каким его рисуют!
Да позволено мне будет, однако, ранее посильной
реабилитации личности подсудимого отделаться от
впечатлений, которые навеяны совершенно особыми
приемами собирания улик по настоящему делу. Они слишком
тяготят меня. Не идут у меня из головы два момента
следствия: одно — из области приобщения улики,
другое — из области утраты таковой. Я хотел бы сказать
теперь же об этом несколько слов и не возвращаться к
этому более.
Утрачено нечто реальное, осязаемое. Вы знаете, что в
первый же день следствия пропали волосы, бывшие в
руках убитой девочки. Если бы они были налицо, мы бы
сравнили их с волосами Семеновой. Если бы это
«вещественное доказательство» лежало здесь, быть может, даже
вопроса о виновности Мироновича больше не было.
Волосы эти не были седые, стриженые, какие носит
Миронович. Волосы эти были женские, черного цвета. Они
были зажаты в руках убитой. Это была, очевидно,
последняя попытка сопротивления несчастной. Эти волосы
могли принадлежать убийце. Но их нет! Они утрачены.
Каждый судебный деятель, понимающий значение
подобного «вещественного доказательства», легко поймет, что
могло быть вырвано из рук защиты подобной утратой.
По рассказам лиц, отчасти же и виновных в их
утрате, нас приглашают успокоиться на мысли, что это
были волосы самой потерпевшей. В минуту отчаяния она
вырвала их из своей собственной головы. Но не
забывайте, что это только посильное «предположение» лиц,
желающих во что бы то ни стало умалить значение
самой утраты. Устраненный от производства
дальнейшего следствия Ахматов этого предположения удостоверить
424
на суде не мог. Положенный на бумагу единственный
волос, снятый с покойной, «по-видимому», оказался
схожим с волосами потерпевшей, но не забывайте при этом
что волосы покойной Сарры и Семеновой почти (или
«по-видимому» — как хотите) одного цвета. При таком
условии защита вправе печалиться об утрате волос, тем
более что единственно уцелевший волос мог
действительно выпасть из головы самой потерпевшей. Но такого же
ли происхождения была та горсть черных волос,
зажатых в руке убитой, об утрате которых повествует нам
обвинительный акт,— останется навсегда вопросом. Мы
знаем только, что эти волосы были «черные»... Но ведь и
у Семеновой волосы несомненно черные.
Как бы в компенсацию этой несомненной
«вещественной» утраты предварительным следствием
приобщено нечто невещественное. Я затрудняюсь назвать и
характеризовать эту своеобразную «улику», отмеченную на
страницах обвинительного акта.
Очень подчеркивалось, подчеркивается и теперь, что
Миронович не пожелал видеть убитой Сарры, что он
уклонялся входить в комнату, где находился ее труп,
несмотря на неоднократные «приглашения». Ссылался он
при этом на свою нервность и «боязнь мертвецов»
вообще.
Казалось бы, на этом и можно было поставить
точку, делая затем из факта выводы, какие кому
заблагорассудится. Дальше идти не представлялось никакой
возможности уже в силу категорического содержания
ст. 405 уст. угол, суд., воспрещающей следователю
прибегать к каким бы то ни было инквизиционным
экспериментам над обвиняемым, некогда широко
практиковавшимся при старом судопроизводстве. Следователь на
это и не пошел. Но в обвинительном акте на белом
черным значится так: « ... но в комнату, где лежал труп, он
(Миронович), несмотря на многократные приглашения,
не пожелал войти, отказываясь нервностью, и вошел
туда только один раз, и то вследствие категорического
предложения прокурора С.-Петербургской судебной
палаты Муравьева».
Как же отнестись к этому процессуальному
моменту? Заняться ли подробным анализом его? Лицо,
произведшее над обвиняемым этот психологический опыт,
не вызвано даже в качестве свидетеля. Мы бессильны
узнать детали. Нам известно только, что Миронович в
конце концов все-таки вошел в комнату, где лежал труп
Сарры. В обморок он при этом не упал... Не хлынула,
425
по-видимому, также кровь из раны жертвы... Думаю, что
обвинительный акт, при своей детальности, не умолчал
бы об этих знаменательных явлениях, если бы «явления»
действительно имели место.
Итак, никакой, собственно, «психологии» в качестве
улики этот процессуальный прием не делал. Да и
психология-то, правду сказать, предвкушалась какая-то
странная. Бесчеловечно заставлять глядеть человека на
мертвеца, когда этот человек заявляет, что он
мертвецов боится. При всей своей очевидной незаконности
эксперимент к тому же оказался и безрезультатным.
Приобретение не стоит, таким образом, утраты, хотя
в одинаковой мере приходится поставить крест и на том
и на другом «доказательстве».
Возвратимся к более реальным данным следствия.
Особенно охотно и тщательно собиралось все, что
могло неблагоприятно характеризовать личность
Мироновича. Но и сугубая чернота Мироновича все же не даст
нам фигуры убийцы Сарры Беккер. Недостаточно быть
«бывшим полицейским» и «взяточником» и даже
«вымогателем», чтобы совершить изнасилование, осложненное
смертоубийством. С такими признаками на свободе
гуляет много народа. Стало быть, придется серьезно
считаться лишь с той стороной нравственных наклонностей
Мироновича, которые могут иметь хотя бы
какое-нибудь отношение к предмету занимающего нас злодеяния.
Что же приводится в подтверждение предполагаемой
половой распущенности Мироновича, распущенности,
доходящей до эксцессов, распущенности, способной
довести его до преступного насилия? Констатируется, что,
имея жену, он жил ранее с Филипповой, от которой имел
детей, а лет семь назад сошелся с Федоровой, с которой
также прижил детей.
Ну, от этого до половых «эксцессов», во всяком
случае, еще очень далеко! Притом же жена Мироновича,
почтенная, преклонных уже лет женщина, нам и
пояснила, как завязались эти связи. Вследствие женской
болезни она давно не принадлежит плотски мужу. Он
человек здоровый, сильный, с ее же ведома жил сперва
с Филипповой, потом с Федоровой, и связь эта
закреплена временем. Детей, рожденных от этих связей, он
признает своими. Где же тут признаки патологического
разврата или смакования половых тонкостей? Здоровый,
единственно возможный в положении Мироновича, для
здорового человека осложненный притом самой
мещанской обыденностью, выход. Нет, было бы воистину лице-
426
мерием связи Мироновича с Филипповой и Федоровой,
матерями его детей, трактовать в виде улик его ничем
не насытимой плотской похоти!
Надо поискать что-нибудь другое. Когда очень
тщательно ищут, всегда находят. А здесь наперебой все
искали, очень хотели уличить «злодея».
Прежде других нашел Сакс («бывший следователь»).
Он сослался на свидетельницу Чеснову, будто бы та
заявила ему что-то о «нескромных приставаниях»
Мироновича к покойной Сарре. Это Сакс заявил следователю,
подтверждал и здесь на суде. Но Чеснова как у
следователя, так равно и здесь отвергла эту ссылку. Она
допускает, что «кто-нибудь» другой, может быть, и
говорил об этом Саксу, но только не она, так как
«подобного» она не знает и свидетельницей тому не
была. Ссылка Сакса оказалась, во всяком случае...
неточной. Правосудие нуждается в точности.
К области столь же «неточных» сведений следует
отнести и довольно характерное показание
добровольца-свидетеля Висковатова. Он сам, никем не вызванный,
явился к следователю и пожелал свидетельствовать
«вообще о личности Мироновича». Показание это имеет
все признаки сведения.каких-то личных счетов, на чем
и настаивает Миронович.
Но возьмем его как вполне искреннее. Насколько
оно объективно, достоверно?
Висковатов утверждает, что лет десять тому назад
Миронович совершил покушение на изнасилование (над
кем? где?). Об этом как-то «в разговоре» тогда же
передавал ему, ныне уже умерший, присяжный поверенный
Ахочинский. Затем еще Висковатов «слышал», что
Миронович «отравил какую-то старуху и воспользовался ее
состоянием». Здесь не имеется даже ссылки на
умершего. Висковатов слышал... от кого — не помнит. Но ведь
сплетни — не характеристика. Передавать слух,
неизвестно от кого исходящий, значит передавать сплетню.
Правосудие вовсе не нуждается в подобных услугах. Сам
закон его ограждает от них. Свидетелям прямо
возбраняется приносить на суд «слухи, неизвестно откуда
исходящие».
Это самое характерное в деле свидетельское
показание, имеющее в виду обрисовку личности Мироновича.
Все другие «уличающие» Мироновича показания,
которым я мог бы противопоставить показания некоторых
свидетелей защиты, дают нам едва ли пригодный для
настоящего дела материал. Скуп или щедр Миронович,
427
мягок или суров, ласков или требователен — все это черты
побочные, не говорящие ни за, ни против такого
подозрения, которое на него возводится.
Тот факт, что он опозорил свои седины
ростовщичеством, стал на старости лет содержателем гласной кассы,
равным образом нисколько не поможет нам
разобраться в интересующем нас вопросе. В видах смягчения над
ним по этому пункту обвинения следует лишь заметить,
что это ремесло не знаменует ничуть какого-то либо
рокового падения личности в лице Мироновича. Такое
знамение возможно было бы усмотреть лишь для личности
с высоким нравственным уровнем в прошлом, но
Миронович и в прошлом и в настоящем — человек
заурядный, человек толпы. Он смотрит на дело просто, без
затей: все, что не возбранено законом, дозволено.
Ростовщичество у нас пока не карается — он им и наживает
.«честно» копейку. Торговый оборот, как и всякий другой!
Объявите сегодня эту «коммерцию» преступной, он
совершит Простую замену и отойдет в сторону, поищет
чего-нибудь другого. Чувство законности ему присуще, но
не требуйте от него большего в доказательство того, что
он не тяжкий уголовный преступник!
Гораздо более существенное в деле значение имеет
все то, что так или иначе характеризует нам отношения
покойной Сарры к Мироновичу. Обвинительная власть,
по данным предварительного следствия, пыталась
сгустить краски для обрисовки этих отношений в нечто
специфически многообещающее. Миронович, дескать, давно
уже наметил несчастную девочку, как волк намечает
ягненка.
Процессуальное преимущество следствия судебного
перед предварительным в данном случае оказало
услугу правосудию. Ничего преступно неизбежного,
фатально предопределенного в отношениях Мироновича к
Сарре обвинительной власти на суде констатировать не
удалось. Значительно поблекли и потускнели выводы и
соображения, занесенные по тому же предмету в
обвинительный акт. Удивляться этому нечего, так как лишь при
перекрестном допросе свидетелям удалось высказаться
вполне и начистоту, без недомолвок и без того
субъективного оттенения иных мест их показания, без которого
не обходится редакция ни одного следственного
протокола.
На поверку вышло, что свидетели не так много знают
компрометирующего Мироновича в его отношениях к
покойной Сарре, как это выходило сначала.
428
Точно отметим, что именно удостоверили свидетели.
Бочкова и Михайлова, простые женщины, жившие в
том же доме и водившие с покойной знакомство,
утверждают только, что девочка «не любила» Мироновича. Что
она жаловалась на скуку и на то, что работа тяжела, а
хозяин требователен: рано приезжает в кассу и за всем
сам следит. Когда отец уезжает в Сестрорецк, ей
особенно трудно, так как сменить ее уже некому. Нельзя
выбежать даже на площадку лестницы.
Согласитесь, что от этих вполне естественных жалоб
живой и умной девочки, бессменно прикованной к
ростовщической конторке, до каких-либо специфических
намеков и жалоб на «приставания» и «шалости»
Мироновича совсем далеко.
Свидетельницы на неоднократные вопросы
удостоверили, что «это» им совершенно неизвестно и что жалобы
Сарры они не понимали столь односторонне. Наконец,
допустим даже некоторые намеки со стороны Сарры и в
таком направлении. Девочка живая, кокетливая,
сознавшая уже свое деловое достоинство. Каждое
неудовольствие, любое замечание Мироновича она могла
пытаться объяснить и себе и другим не столько своим
промахом, действительной какой-нибудь ошибкой, сколько
раздражительностью «старика» за то, что она не обращает
на него «никакого внимания», за то, что он даже ей
«противен».
Покойная Сарра по своему развитию начинала уже
вступать в тот период, когда девочка становится
женщиной, ей было уже присуще женское кокетство. Во
всяком случае, «серьезно» она ни единому человеку на
«приставания» Мироновича не жаловалась и никаких
опасений не высказывала.
В этом отношении особенно важное значение имеют
для нас показания свидетельницы Чесновой и родного
брата покойной Моисея Беккера. С первой она виделась
ежедневно: выбирала первую свободную минуту для
дружеской болтовни и никогда не жаловалась на
«приставания» Мироновича или на что-либо подобное. С братом
она виделась периодически, но была с ним дружна и
откровенна. Никаких, даже отдаленных, намеков на
«ухаживание» или на «приставание» Мироновича он от
сестры никогда не слыхал. Равным образом и отец убитой,
старик Беккер, «по совести» ничего не мог дать
изобличающего по интересующему нас вопросу.
Остается показание скорняка Лихачева. Свидетель
этот удостоверил, что однажды в его присутствии Ми-
429
ронович за что-то гладил Сарру по голове и ласково
потрепал ее по щеке. Раз это делалось открыто, при
постороннем, с оттенком простой ласки по адресу старшего к
младшему (Миронович Сарре в отцы годится), я не вижу
тут ровно ничего подозрительного. Во всем можно хотеть
видеть именно то, что желаешь, но это еще не значит —
видеть. Из показаний Лихачева следует заключить лишь
о том, что и Миронович не всегда глядит исподлобья,
что он не всегда только бранил Сарру, а иногда бывал
ею доволен и ценил ее труд и как умел поощрял ее.
Во всяком случае, вывода о том, что Миронович
вечно возбуждался видом подростка Сарры и только ждал
момента, как бы в качестве насильника на нее
наброситься, из показаний этих свидетелей делать нельзя. Других
свидетелей по этому вопросу не имеется. Успокоиться
же на априорном наличии непременно насильника, когда
нет к тому же самого насилия, значит строить
гипотезу, могущую свидетельствовать лишь о беспредельной
силе воображения, не желающего вовсе считаться с
фактами.
Именно такую «блестящую» гипотезу дал нам эксперт
по судебной медицине профессор Сорокин.
На этой экспертизе нам придется остановиться со
вниманием. С ней приходится считаться не потому, чтобы
ее выводы сами по себе представлялись ценными, так
как она не покоится на бесспорных фактических данных,
но она имела здесь такой большой успех, произвела
такое огромное впечатление, после которого естественно
подсказывалась развязка пьесы. Кто сомневался ранее в
виновности Мироновича, после «блестящей» экспертизы
профессора судебной медицины Сорокина откладывал
сомнения в сторону, переносил колебание своей совести
на ответственность все разъяснившей ему экспертизы
и рад был успокоиться на выводе: «Да, Миронович
виновен, это нам ясно сказал профессор Сорокин»...
Но сказал ли нам это почтенный профессор? Мог ли
он нам это сказать?
Два слова сперва, собственно, о роли той
экспертизы, которую мы, истомленные сомнениями и трудностями
дела, с такой жадностью выслушали вечером на пятый
день процесса, когда наши нервы и наш мозг казались
уже бессильными продолжать дальше работу.
Экспертиза призывается обыкновенно ради
исследования какого-либо частного предмета, касающегося
специальной области знания. Такова была, например,
экспертиза Балинского и Чечота. Им уе был задан су-
430
дейский вопрос: «Виновна ли Семенова?»— они
ограничились представлением нам заключения
относительно состояния умственной и духовной сферы
подсудимой.
В своем действительно блестящем и вместе строго
научном заключении профессор Балинский, как дважды
два четыре, доказал н*ам, что Семенова психопатка и
что этот анормальный душевный склад подсудимой
нисколько не исключает (если, наоборот, не
способствует) возможности совершения самого тяжкого
преступления, особливо если подобной натурой руководит
другая, более сильная воля. Но Балинский, как ученый и
специалист, не пошел и не мог пойти далее. Он не
сказал нам, что Семенова, руководимая более сильной
волей (Безака), совершила это злодеяние — убила Сарру
Беккер. Если бы Балинский понимал столь же
неправильно задачу судебной экспертизы, как понял ее Сорокин,
он бы, вероятно, это высказал. Но тогда он не был бы
тем серьезным, всеми чтимым ученым, ученым от головы
до пят, каким он нам здесь представился. Он явился бы
разгадывателем шарады, а не экспертом.
К мнению профессора Балинского безусловно
присоединился другой эксперт, психиатр-практик Чечот,
остановившись на конечном строго научном выводе:
«Душевное состояние психопатизма не исключает для
лица, одержимого таким состоянием, возможности
совершения самого тяжкого преступления. Такой человек
при известных условиях способен совершить всякое
преступление без малейшего угрызения совести. Ради
удачи того, что создала его болезненная фантазия, он
готов спокойно идти на погибель».
Таким психопатическим субъектом
эксперты-психиатры считают Семенову. Психопат— тип, лишь недавно
установленный в медицинской науке. Это субъект
безусловно ненормальный и притом, как доказано,
неизлечимый. Такие душевнобольные безусловно опасны
и вредны и в обществе терпимы быть не могут.
Наказывать их, как больных, нельзя, но и терпеть в своей
среде также невозможно.
Вот выводы экспертов-психиатров относительно
Семеновой. Для всех очевидно, на чем эти выводы
основаны — на точных и доказанных положениях
медицинской науки.
С этим считаться должно, ибо это не «гипотеза»,
не «взгляд в нечто» человека, обладающего лишь
воображением, это научная экспертиза людей строгой
431
науки, перед доказательной аргументацией которых
всякий профан обязан преклониться.
Обратимся к экспертизе Сорокина. Сорокин также
профессор, стало быть, также ученый человек. Но в чем
его наука? Он занимает кафедру судебной медицины;
читает ее в медицинской академии для врачей, в
университете — для юристов. Я сам немного юрист, и все мы,
юристы, прослушали в свое время этот «курс судебной
медицины». Мы знаем', что это за наука. Собственно
говоря, такой науки нет в смысле накопления
самостоятельных научных формул, данных и положений, это
лишь прикладная отрасль обширной медицинской науки
со всеми ее специальными извилинами и деталями.
И психиатрия также входит в ее область. Однако же мы
позвали специалистов-психиатров Балинского и Чечота,
не довольствуясь Сорокиным и Горским. Отсюда уже
ясно, что значит быть специалистом по «судебной
медицине» и что представляет собой сама наука «судебная
медицина». Всего понемножку из области медицины для
применения в гомеопатических дозах в крайних
обстоятельствах юристом. Это — наука для врачей и юристов.
Этим, я думаю, уже все сказано. Юристы
воздерживаются считать себя в ее области специалистами и по
большей части в университете не посещают даже вовсе
лекций по судебной медицине. Врачи-специалисты от нее
сторонятся основательно, считая ее
малообоснованной, энциклопедией для юристов, а вовсе не медицинской
наукой. Остается она, таким образом, достоянием
господ уездных врачей, которые, как известно,
специальностей не признают и по служебным обязанностям
признавать не могут, не признают также и немногих
профессоров, преподающих эту науку «врачам и
юристам».
Предварительные эти справки были совершенно
необходимы для того, чтобы с должной осторожностью
ориентироваться в значении той судебно-медицинскбй
экспертизы, которую вы здесь выслушали. Она не ценна
ни внешней, ни внутренней своей авторитетностью. Раз
мы призываем разрешить наши недоумения науку, она
должна быть наукой. Всякий суррогат ее не только
бесполезен, но и вреден.
В начале своего страстного, чтобы не сказать
запальчивого, заключения сам эксперт Сорокин счел
нужным оговориться. Его экспертиза — только гипотеза,
он не выдает ее за безусловную истину. К тому же
главнейшие свои доводы он основывает на данных ос-
432
мотра трупа по следственному протоколу, причем
высказывает сожаление, что исследование трупа произведено
слишком поверхностно. Эксперт к тому же чистосердечно
заявляет, что эти дефекты предварительного следствия
лишают его экспертизу возможнсгсти с полной
достоверностью констатировать весь акт преступления.
Но если так, то не было бы ли логичнее, осторожнее
и целесообразнее и не идти далее такого вступления?
Ужели задача экспертизы на суде — строить гипотезы,
основанные на данных, «не могущих быть с полной
достоверностью констатированными»? Нельзя же
забывать, что здесь разрешается не теоретический вопрос,
подлежащий еще научной критике, доступный всяческим
поправкам, а разрешается вопрос жизненный,
практический, не допускающий ни последующих поправок, ни
отсрочки для своего разрешения. Речь идет об участи
человека!
Эксперт, открыв в начале своего заключения
предохранительный клапан заявлением о том, что он строит
лишь гипотезу, понесся затем уже на всех парах, пока
не донесся наконец до категорического вывода, что
Миронович и насилователь, и убийца.
Демонстрации почтенного профессора над
знаменитым креслом, в котором найдена была покойная Сарра,
выдвинутым на середину судебной залы при вечернем
освещении, очень напоминали собой приемы гипнотизма
и, кажется, вполне достигли своей цели. После
царившего дотоле смятения духа все замерли в ожидании
зловещей разгадки, и разгадка самоуверенно была дана
почтенным профессором. Всеми было забыто, что, по
словам того же профессора, он дает лишь гипотезу;
оговорку приписывали лишь его скромности и поняли,
что он дает саму истину.
Во всю мою судебную практику мне не случалось
встречаться с более самоуверенной, более категорической
и вместе с тем менее доказательной экспертизой!
В самом деле, отбросим на минуту вывод и
остановимся на посылках блестящей экспертизы профессора
Сорокина.
Первое, основное положение экспертизы Сорокина —
кресло. Нападение было сделано в кресле, на котором
Сарра Беккер и окончила свою жизнь. Ударам по голове
предшествовала как бы попытка удушить платком,
найденным во рту жертвы. Таким способом, по мнению
эксперта, грабитель никогда не нападает. Грабитель
прямо стал бы наносить удары. Поэтому эксперт выска-
433
зывает уверенность, что в данном случае существовала
попытка к изнасилованию. Вы видите, как ничтожна
посылка и какой огромный вывод!
Но какая наука подсказала эксперту, что грабитель
никогда так не нападает? Я думаю, что грабитель нападает
так, как по данным обстоятельствам ему это наиболее
удобно. Если таким грабителем была Семенова,
втершаяся первоначально в доверие девочки (вспомните,
что в тот именно вечер Сарра с какой-то неизвестной
свидетелям женщиной сидела на ступеньках лестницы
перед квартирой), проникшая в квартиру с ведома и
согласия самой Сарры, то и нападение и само убийство
должно было и могло случиться именно тогда, когда
девочка беззаботно сидела в кресле и менее всего
ожидала нападения. Имея в виду, что Семенова имела лишь
некоторое преимущество в силе над своей жертвой,
станет понятной та довольно продолжительная борьба,
которая велась именно в кресле. Значительно более
сильный субъект сразу бы покончил со своей жертвой.
Навалившись всем туловищем на опрокинутую и потому
значительно обессиленную Сарру, Семенова должна
была проделать именно все то, что относил эксперт на
счет насилователя — Мироновича.
На предварительном следствии Семенова (не будучи
знакома с протоколами предварительного следствия)
так приблизительно и рисовала картину убийства. Она
совершила его на том самом кресле, которое
демонстрировал эксперт.
Спрашивается, в чем же неверность или
невероятность подобного объяснения Семеновой, фотографически
отвечающего обстановке всего преступления? Зачем
понадобился мнимый насилователь, когда имеется
налицо реальная убийца?
Но кресло и попытка к задушению достаточны для
эксперта, чтобы отвергнуть мысль о нападении грабителя
и доказывать виновность Мироновича.
Семенову, непрофессиональную грабительницу,
которая могла пустить в ход и непрофессиональный
способ нападения, опровергнув тем все глубокомысленное
соображение эксперта, профессор Сорокин просто-
напросто отрицает. Он не верит ее рассказу, не верит,
чтобы она могла совершить это убийство, чтобы у нее
могло хватить на это даже физической силы. Это
последнее соображение эксперта лишено уже всякого
доказательного значения, так как он даже не исследовал
Семеновой. Эксперты-психиатры, хорошо ознакомленные
434
с физической и психической природой Семеновой,
наоборот, подобную возможность вполне допускают.
Итак, мы видим, что заключение профессора
Сорокина — действительно гипотеза. Гипотеза, как более
или менее счастливая догадка или предположение,
ранее чем превратиться в истину, нуждается в проверке
и подтверждении. Такой проверки и такого
подтверждения нам не дано. Наоборот, я нахожу, что даже судебно-
медицинская экспертиза предварительного следствия
в достаточной мере ее опровергает. Три судебных врача,
видевших сам труп на знаменитом отныне кресле,
производивших затем и вскрытие трупа, высказались за то,
что смерть Сарры последовала от удара в голову и была
лишь ускорена удушением. При этом они положительно
констатировали, что никаких следов покушения на
изнасилование не обнаружено.
Настаивая на «попытке к изнасилованию», эксперт
Сорокин упускает совершенно из виду все естественные
проявления сладострастия и полового возбуждения. Уж
если допускать, что Миронович проник ночью в кассу
под предлогом сторожить ее и Сарра его добровольно
впустила, то не стал бы он сразу набрасываться на
девочку, одетую поверх платья в ватерпруф, валить ее на
неудобное кресло и затем, не сделав даже попытки
удовлетворить свою похоть,— душить. Раз проникнув
в помещение кассы, чтобы провести в ней ночь, он был
хозяином положения. Он мог дождаться, пока Сарра
разденется, чтобы лечь спать, мог выбрать любую
минуту, любое положение. В комнате кроме кресла был
диван, но для изнасилования избирается именно
неудобное кресло. В качестве сластолюбца, забравшегося
на ночлег вблизи своей жертвы, Миронович, конечно,
обставил бы свою попытку и большим удобством и
комфортом.
Ключ от входной двери найден в кармане ватерпруфа
Сарры. Насилование и убийство производится, таким
образом, при открытых дверях. Это могло случиться при
случайном нападении, но не при обдуманной попытке
к сложному акту изнасилования.
Мало того, если бы Миронович был виновником
убийства, он, конечно, сумел бы придать обстановке
кассы внешние черты разграбления. Он разбил бы
стекла в витринах, раскидал бы вещи. Но истинный
грабитель берет лишь самое ценное, по возможности
не делая лишнего беспорядка, не оставляя никаких
следов грабежа.
435
Ключ от двери в кармане убитой Сарры, надетый
на ней ватерпруф и недоеденное яблоко в кармане того
же ватерпруфа дают мне основание считать, что на нее
напали тотчас же, как она вошла в квартиру, впустив
за собой с доверием своего убийцу. Если та женщина,
которая сидела на лестнице с Саррой, была Семенова,
если, доверяясь ей как женщине, ее впустила за собой
Сарра, то ясно, кто и убийца.
Итак, с экспертизой Сорокина можно покончить.
Она не отвечает ни строгим требованиям науки, ни
фактам, ни еще более строгим требованиям судейской
совести. Ваш приговор не может покоиться на гипотезе,
в нем должна заключаться сама истина.
Но где же и как ее еще искать? Пока все поиски
в смысле установления виновности Мироновича,
согласитесь, были бесплодны.
Отметьте это в вашей памяти, так как теперь нам
предстоит перейти в последнюю область улик, которыми
пытаются еще закрепить виновность Мироновича.
На предварительном следствии спешили выяснить,
где находился Миронович в ночь совершения убийства.
Оказалось (на первых порах — как значится в
обвинительном акте), что Миронович, вернувшись домой в
обычное время, провел всю ночь в своей квартире,
никуда не отлучаясь. Дворник Кириллов и все домашние
Мироновича, спрошенные врасплох на другой же день,
единогласно заявили, что хозяин провел ночь, как и
всегда, дома, рано лёг спать и до утра решительно никуда
не отлучался.
Но вот неожиданно появляется свидетельница
Егорова, проживающая в доме, где совершилось убийство,
со странным, чтобы не сказать зловещим, показанием.
Ей неведомо с чего «припомнилось» вдруг, что в самую
ночь убийства она видела шарабан Мироновича,
запряженный в одну лошадь, стоящим, как и всегда, у
ледника дома, внутри двора. Обыкновенно Миронович здесь
ставил лошадь, когда приезжал без кучера, и затем
отправлялся в кассу ссуд.
Показание представлялось тем более сенсационным,
что решительно никто в доме, кроме Егоровой, шарабана
ни в ту ночь, ни ранее не видал. Для того чтобы въехать
во двор, пришлось бы будить дворника, отворять ворота.
Наконец, было бы истинным безумием въезжать ночью
в экипаже в населенный двор для смелой любовной
эскапады.
436
К показанию своему Егорова, по счастью, добавила,
что в ту ночь она «очень мучилась зубами», всю ночь
напролет не спала, но положительно «припоминает»,
что это было именно в самую ночь убийства. Ранее
она неоднократно видела шарабан Мироновича на том
же самом месте, но бывало это всегда днем; раз только
случилось видеть ночью.
Показание это само по себе столь неправдоподобно,
что обвинению, казалось бы, следовало от него разом
отступиться. Мало ли что может привидеться дряхлой
старухе, измученной зубной болью и бессонницей, в
глухую, темную ночь. Лошадь и шарабан Мироновича
ежедневно стояли перед ее окнами на одном и том же
месте и, по простому навыку зрения, могли ей
померещиться в бессонную ночь. Во всяком случае,
полагаться на подобное удостоверение представлялось бы более
чем рискованным.
Но обвинение пытается его укрепить. Оно ссылается
на заявление плотника Константинова, ночевавшего в
дворницкой дома Мироновича, который удостоверяет,
что на звонок входил (в котором часу, он не помнит)
дворник Кириллов, который потом говорил, что
распрягал хозяйскую лошадь. Но ведь вся сила этого
показания сводится лишь к тому, в котором это было часу.
Если это имело место около девяти часов вечера, то
показание Константинова ни в чем не расходится ни
с действительностью, ни с показаниями других
свидетелей. Из его показания выходит только, что он уже
спал, когда раздался звонок. По показанию его же семьи
и дворника Кириллова, Константинов, будучи немного
выпивши в этот день, залег спать ранее восьми часов.
Миронович вышел из кассы в половине девятого,
к девяти он и должен был вернуться домой. Его
энергичный хозяйский звонок, очевидно, и разбудил
Константинова. Затем, по указанию дворника Кириллова,
Миронович уже никоим образом без его ведома не мог бы
вновь запрячь лошадь и выехать со двора, потому что
ключи от конюшни, сарая и от ворот хранились у него
в дворницкой под его тюфяком.
Судебно-медицинское вскрытие трупа покойной
Сарры свидетельствует нам, что убийство было
совершено над ней не ранее двух часов после принятия ею
пищи. В девять часов была закрыта касса. Свидетели
видели, как девочка после того ходила за провизией
в мелочную лавку. Ее видели и позднее, около десяти
часов вечера, сидевшую на лестнице с какой-то неиз-
437
вестной женщиной. Убийство, стало быть, несомненно,
было совершено не ранее одиннадцати часов ночи. В это
время Миронович, вне всяких сомнений, был уже дома
и спал мирным сном.
Если отбросить нелепое, ни с чем решительно не
сообразное показание свидетельницы Егоровой, само
алиби Мироновича представится, несомненно,
установленным.
Нам известно, что вещи, похищенные из кассы, в
двенадцать часов ночи были уже в Финляндской гостинице.
Мы знаем, что в эту же ночь началось «бегство»
Семеновой и Безака, по Петербургу. Если утвердиться на-
мысли, что Семенова совершила убийство около
одиннадцати часов ночи, то все станет понятно и объяснимо.
После столь тяжкого преступления естественно убегать,
унося с собой возможно дальше добычу. Но естественно
ли, мыслимо ли допустить, что Миронович,
совершив непреднамеренное убийство, в один час нашел
себе доброхотных укрывателей в лице Семеновой и Бе-
зака, и притом укрывателей ненужных, опасных даже
как свидетелей, могущих всегда его изобличить. Это
такая басня, что только диву даешься, как в сфере
судейского метода «обнаружения истины» мало ресурсов
и средств обороняться от подобных басен. Словно сама
атмосфера судебной залы горячит и воспламеняет наше
воображение до экстаза. Я едва не сказал — до
умоисступления.
Я убежден, что пройдет несколько лет и
перечитывающие процесс скажут: «Да о чем они спорили, разве
с самого начала не было ясно, кто убийца, разве она
сама не сказала этого?» Она действительно это сказала.
Но все упорно не верили, и ей дали все способы взять
свое сознание назад, отречься от своего собственного
признания. Теперь и Семенова, и Безак фигурируют
в качестве каких-то исключительных, экстравагантных
соучастников или укрывателей несуществующего
преступника. Но их истинная роль, роль настоящих
преступников самим актом предания суду нивелирована и
затушевана. Положение их стало выгодным, и они всячески
эксплуатируют его, рассчитывая на судейское ослепление,
предвкушаемое ими и в вашем приговоре.
Но неужели это ослепление так неизбежно и истина
так фатально от нас сокрыта?
Не думаю. Преступление просто и ясно, и оно в
двух словах: Семенова — убийца, Безак — ее
руководитель.
438
В этой простой схеме и вылилось первое сознание
Семеновой, полное жизненной правды, полное таких
психологических черточек и подробностей, которых не
выдумать самому Достоевскому. Остановимся на явке
с повинной Семеновой. В ней разгадка дела, в ней сама
истина. Никакая ложь, нагроможденная ею впоследствии
с целью выбраться из уличающего ее положения, не
в состоянии ни сгладить, ни затуманить истины.
Прежде всего должно заметить, что эта «явка с
повинной», другими словами, обнаружение истинного
преступника взамен торопливо намеченного следствием
мнимого виновника, не могла и не должна была быть
ни для кого неожиданностью. Достаточно вспомнить
показание жильца того дома, где произошло убийство,
Ипатова, данное им при первоначальном же дознании,
чтобы изумиться поспешности, с которой это показание
было забыто и устранено. Ипатов, живущий по той же
лестнице, на которую выходят двери ссудной кассы, но
лишь в верхнем этаже, удостоверил, что около десяти
часов вечера он. видел покойную Сарру на лестнице,
сидевшую близ входа в кассу и беседовавшую с какой-то
неизвестной женщиной «еврейского типа». Достаточно
взглянуть на Семенову, с ее большими черными глазами,
ее удлиненным овалом лица и совершенно черными
волосами, чтобы признать, что весь ее облик ничуть не
противоречит мимолетному впечатлению свидетеля
Ипатова. Семенова по облику — гречанка, армянка,
еврейка — все, что хотите, только не русская.
Все знакомые Сарры, жившие в том доме, были
опрошены; никто из знакомых ей женщин не признал
себя в женщине, беседовавшей с Саррой за полчаса до
ее убийства. Да и по отзыву Ипатова это была
«неизвестная» ему женщина, а не одна из живущих в том же дворе,
которых он мог встречать и ранее.
Для каждого следователя такое ценное указание, как
то, которое заключалось в показании свидетеля Ипатова,
должно было стать предметом самого настойчивого
исследования. Последний, кто был с Саррой перед
убийством,— «неизвестная» женщина; отсюда невольно
должно было родиться подозрение: чужда ли эта
неизвестная самому убийству? Ведь расстояние всего в не^
сколько десятков минут. Стоило перевернуть все вверх
дном, чтобы разыскать «неизвестную» женщину. Ведь
кичится же столичная полиция своим «сыскным
отделением». Или эта задача была бы ей не под силу? Но
и в таком случае следователь обязан был сделать хоть
439
Н. П. Карабчевский (слева) со своими помощниками. 1913 г.
попытку к розыску. Это доказывало бы, по крайней мере,
его стремление всесторонне обследовать дело.
Когда лозунг обвинения: «Миронович и никто
другой» — получил свое авторитетное одобрение, показание
Ипатова охотно было забыто. Оно оказывалось
лишним, ненужным. Миронович был налицо и содержался в
доме предварительного заключения. Этого было
довольно!
Но вот появилась неизвестная дотоле Семенова со
своей «повинной» к приставу Иордану. Следствие, вместо
того чтобы, хотя с запоздалой тревогой, вспомнить об
ипатовской женщине «еврейского типа» и поискать ее
в чертах Семеновой, боясь раскаяться в своей
собственной преступной поспешности, стало упорствовать в своих
первоначальных заблуждениях. До известной степени
это понятно и психологически объяснимо. Но вместе
с тем как это грустно. Семенова принимается так, как
будто наносит вражеский удар предварительному
следствию. Не мудрено. Все было налажено, все было готово,
и вдруг... Семенова. Если она, то где же орлиная
прозорливость окинувшего оком место преступления и разом
угадавшего преступника? Если она, то получается лишь
нечто оплошное, близорукое и уж, во всяком случае,
не орлиное. Очень трудно оторваться от «нас
возвышающего обмана». На Семенову стали смотреть как на
лицо, «явившееся тормозить правосудие».
440
Освоившись с такой точкой зрения, сама Семенова
и в особенности оговоренный ею Безак очень скоро
поняли всю выгодность подобного положения. Лишь на
первых порах Семенова была правдива и искренна
настолько, насколько натура, характеризованная
экспертами в качестве психопатической, может быть искренней.
Она была искренна и в силу ненависти своей к Безаку,
и в силу безысходности своего душевного состояния,
в котором, ей казалось, терять больше нечего.
Семенова, в сущности, существо больное и жалкое.
Не сведи ее любовная связь с Безаком, человеком
жестоким, решительным и энергичным, она, вероятно,
довольствовалась бы мелкими кражами, которые ей
довольно счастливо сходили с рук, и никогда не
сделалась бы убийцей. Но «более сильная воля», говоря
словами экспертов, легко поработила ее безразличную
к вопросам нравственности, «психопатическую» натуру,
и она почти «с легким сердцем» стала убийцей.
Когда я перечитывал первое показание Семеновой,
записанное ею собственноручно в несколько приемов,
я был потрясен всей правдой кровавого события. Так
пишут только пережившие событие или гениальные
художники. Семенова далеко не художница; когда она что-
либо измышляет, измышления не блещут ни
оригинальностью, ни интересом. Зато, когда с беззастенчивостью
психопатки, которой ничего «не стыдно и никого не
жаль», она рассказывает о себе всю правду, ее можно
заслушаться.
Правдиво и было ее первое показание, где она
с мельчайшими подробностями рассказала, как вкралась
в доверие Сарры, как уговорила ее пустить за собой
в квартиру, как ударила ее по голове, как душила
платком, как после осторожно выкрадывала вещи из
витрины, как повезла их в Финляндскую гостиницу к Безаку.
Женщина, которую видел свидетель Ипатов на лестнице,
и была она. Своим вкрадчивым, мелодичным голосом она
усыпила подозрительность умной девочки, она
разжалобила ее рассказами о своей нужде, и та сдалась на
просьбу, соглашаясь принять от нее заклад, хотя касса
была уже закрыта для публики. Только женщина,
которой Сарре не приходило в голову опасаться, могла
добиться, чтобы та ее добровольно впустила в квартиру.
Все подробности, всю обстановку помещения
Семенова воспроизводит в своем первом показании с
поразительной ясностью. Ведь не читала же она копий-
предварительного следствия!.. Миронович сидел в то время
441
в тюрьме и не имел их также на руках. А потом сами
подробности убийства! Тут каждое слово —
художественный перл. И эта буркотня в животе у девочки, когда
Семенова навалилась на нее всем телом после
нанесенного удара, и попытка несчастной укусить ее за палец,
когда она совала ей платок в рот. Всего этого не
сочинить, не выдумать!
Нам говорят: хорошо, пусть, рыская по Петербургу
по приказу Безака — «достать денег» и без них к нему
не возвращаться, Семенова натолкнулась на
легковерную Сарру и в качестве самой подходящей
закладчицы покончила с ней в целях грабежа, но где же
результаты этого грабежа? Взято из витрины (и еще с
какими предосторожностями!) лишь несколько ценных
вещей, тогда как в помещении кассы было так много
всякого добра!
На это возразить нетрудно. Семенова брала лишь
наиболее ценные и наименее громоздкие вещи,
естественно соображаясь с вместимостью своего саквояжа.
Наполнив его, она поневоле должна была остановиться.
Не вязать же ей было узлы или паковать тюки! В таком
виде ее бы задержал у запертых ворот дежурный
дворник, и тогда все бы пропало. На' это у нее соображения
хватило. Не разбивала она витрины, боясь наделать
шума и тем привлечь внимьание. Вообще, благодаря
особенностям своей психопатической (не знающей ни
раскаяния, ни сожаления) натуры, она сохранила и в этот
момент столько присутствия духа, что можно только
дивиться «лунатической» чистоте и аккуратности ее
«работы». Простой профессиональный грабитель,
основательно исключаемый профессором Сорокиным как
возможный виновник данного случая, быть может,
разбил бы витрину, разворотил бы все замки, навязал
бы горы узлов... и тут же попался. Но Семенова —
грабитель иного свойства, хотя и не менее опасный. Она
змеей вползла в квартиру, в которой задушила девочку,
змеей же, незаметно, из нее выползла.
Теперь два слова о совершенно объективных данных,
подтверждающих первоначальное сознание Семеновой
и оговор ею Безака как подстрекателя. В сущности, все,
на что она указывала, подтвердилось: и покупка ею гири
в магазине Сан-Галли, и путешествие их в Таврический
сад, и бедственное, безвыходно бедственное
материальное положение.
Но что всего вернее — это никем не отрицаемые об-
стоятельста, имевшие место тотчас вслед за убийством.
442
Мы знаем, что около двенадцати часов ночи (в ночь
убийства) Семенова поспешно возвращается к Безаку,
в Финляндскую гостиницу, где тот ждет ее. Она с
саквояжем, наполненным ценными вещами. Теперь Семенова
хочет уверить нас, что эти вещи ей дал кто-то,
выбежавший из дверей кассы (разумей — Миронович,
истинный убийца), и сказал ей, чтобы она их взяла себе.
Жалкая басня — образец «выдумки» Семеновой, когда
она выдумывает... Но раньше, по ее рассказу, выходило
вполне правдиво. В последние дни они с Безаком «как
волки рыскали по Петербургу», ища добычи. Наконец
добыча попалась. Она тотчас же поспешила с ней в
логово всесильного своего самца, не мешкая ни минуты.
У нее после убийства только и было времени доехать на
извозчике от Невского до Финляндского вокзала.
Что же происходит дальше в гостинице, когда Безак
узнает о том, как и где добыты вещи?
Представим себе на секунду, что Семенова получила
эти вещи не преступным путем, а ей действительно их
сунули, насильно навязали. Всего проще было пойти
и объявить о том полиции или хоть дождаться до утра,
чтобы разузнать, в чем дело, сообразить, как с ними
быть дальше.
Но нет! Тотчас же возникает и с лихорадочной
поспешностью осуществляется естественное лишь в самых
крайних, безотлагательных случаях опасности,
назревающее средство — бегство. Безак поспешно
расплачивается в гостинице, Семенова приводит свой туалет
в порядок, очень тщательно моет руки, и они
отъезжают от гостиницы на извозчике.
Куда? Всю ночь они ищут приюта — то в ресторане,
то в номере гостиницы для случайных встреч. На другой
день эти очевидные сообщники тяжкого преступления
разбегаются в разные стороны, как всегда делают
сообщники, чтобы замести за собой первый след. Семенова
переселяется в Озерки, Безак — без всякой видимой
надобности едет в Гельсингфорс.
Ужели такое поведение Безака и Семеновой, их
стремительное бегство в самую ночь убийства не говорит
вам ясно: «Убийцы они!» Неужели вы не понимаете, что
их гнало? Не совесть — нет, но шкурный инстинкт —
спасайся! Убитая к ним, именно к ним, протягивала свои
бескровные ручонки, в их сторону поворачивала свою
зияющую на голове рану... Разжалобить их она, конечно,
не могла, но зато она мстила. Она пугала их, и они
бежали.
443
Вспомните, наконец, содержание переписки
Семеновой и Безака за это время, и вы ужаснетесь
невосприимчивости человеческой природы к правде, когда
правда ясна и очевидна. Нам всем бы хотелось, чтобы
ларчик похитрее открывался. А он открывается просто:
Миронович не виновен.
Начните с этого и кончите этим: оправдайте его!
Вы не удалитесь от истины.
Речь присяжного поверенного А. И. Урусова
в качестве представителя
гражданского истца
Господа судьи, господа присяжные заседатели! После
той, в высшей степени содержательной речи, которую
вы только что выслушали от представителя
обвинительной власти, вы, конечно, не можете ожидать от меня,
представителя гражданского истца, такой же полноты
и повторения тех же доводов и данных. Между тем, по
закону, программа прокурора и гражданского истца, в
сущности, одна и та же; разница только в том, что
представитель государственного обвинения предъявляет
требование о наказании, а гражданский истец — об
убытках. Деятельность же на суде у того и другого идет в
одном и том же направлении, как вы могли убедиться
по ходу судебного следствия. Работа наша заключается
в том, чтобы сначала добывать факты, а потом
предлагать их вашему суждению, но не в сыром виде, а
подвергнув их предварительному анализу. Мне приходится идти
вслед за обвинением, на ходу, так сказать, подбирать
оброненные им или оставленные без внимания факты.
Но обвинительная речь исчерпала фактический
материал, и потому мне остается только представить вам его
в другой группировке и в возможно сжатом виде. Я
должен оговориться. Я делаю это вовсе не из боязни
утомить ваше внимание, напряженное десятидневным
трудом. Я уверен, что в деле, представляющем такой
громадный общественный интерес, как дело Мироновича,
вы отнесетесь внимательно и даже с сочувствием к
каждой попытке честно разобраться в громадной массе
фактов. Прокурор начал с разбора экспертизы. Я хотел бы
передать вам ход моих мыслей по делу в
хронологическом порядке событий. В последовательности фактов
кроется их логическая связь. Начну с установления мотива
преступления, совершенного Мироновичем. Почему, ради
444
чего он убил Сарру Беккер? Он убил ее не с обдуманным
заранее намерением, а в запальчивости и раздражении,
вследствие неудавшейся попытки воспользоваться
невинностью, попытки, оставленной вследствие ее
сопротивления, но не сопровождавшейся, по-видимому, никакими
реальными последствиями и в которой он на суде не
обвиняется. Если бы он не убил ее, он обвинялся бы в
покушении на изнасилование, соединенное с растлением,
и она бы против него свидетельствовала на суде, и он
был бы осужден. Чтобы этого не было, он ее убил. Он
убил ее в порыве бешенства и страха, боясь быть
застигнутым на месте преступления. Итак, хотя и
изнасилования нет, хотя в судебно-медицинском смысле покушение
на растление не может быть ничем доказано, но тем не
менее обстоятельства дела приводят к непоколебимому
заключению, что в основе дела лежит чувственность
Мироновича, а не какой-нибудь другой мотив к убийству
Сарры Беккер. Такой мотив не может прежде всего не
445
возбудить недоумения: возможно ли, чтобы Миронович,
которому за 50 лет, настолько прельстился 13-летней
девочкой? Врожденный нам оптимизм отвечает: нет,
такое преступление немыслимо. Оно противно
человеческой природе! Посмотрим, так ли это? Конечно, если нет
мотива, так о чем же и говорить; но полагаться на
судебно-медицинскую экспертизу, что она раскроет мотивы,
кажется мне совершенно неосновательным; исследование
мотива преступления лежит в области явлений более
сложных, чем те,- которыми занимается медицина. Итак,
установим сначала с совершенной ясностью,
документально, доказано ли по делу, что МирЬнович стремился к
обладанию Саррой? Я докажу вам, что он стремился
к этой цели путем систематического развращения
ребенка. BcnoMHHfe сначала показание Чесновой,
свидетельницы, к которой защита относится с особым
доверием. Сарра, по ее словам, девбчка умная и скромная,
говорит ей: «Хозяин все рассказывает о своих
любовницах, он с нового года хочет отпустить отца, а меня
оставить, но я тысячи рублей не возьму. Лучше мне видеть
малхомовеса (дьявола), чем его, разбойника». Странно,
не правда ли, откуда такая ненависть? Ведь Миронович
платит ей жалованье, хвалит, угощает, дарит — казалось
бы, нежная детская душа,, отзывчивая к ласке, должна
бы страшно привязаться? Поищем причину ненависти.
Вот скорняк Лихачев, человек простой. Он передает
следующее, (я прочту по моим заметкам): однажды, когда
Ильи Беккера не было дома, Миронович нежно гладил
Сарру по голове. Лихачев спросил: господин
Миронович, к чему это вы малолетнюю девочку так ласкаете?
Может быть, она пригодится, отвечал Миронович. Это
были его подлинные слова. Мне это показалось
странным, прибавляет Лихачев, и я сказал Беккеру, что
Миронович ласкается к его дочери. Заметьте, господа
присяжные заседатели, что Лихачева, вовсе не привыкшего
задаваться утонченным анализом, удивляет обращение
Мироновича с ребенком. Значит, в этом обращении
сказывается нечто действительно нехорошее. Но вот
является поразительное показание Натальи Бочковой,
прочитанное здесь на суде: «За неделю до убийства Сарра
была у нее, жаловалась: хозяин ей проходу не дает,
пристает с худыми словами, не дает причесаться, одеться:
сейчас подойдет, отнимает волосы, говоря: „Хочу
баловаться"». Миронович помадится перед зеркалом, шутит:
хочу понравиться хозяину. Вы сами здесь хозяин,
отвечает Сарра, вы можете понравиться одному только шуту,
446
а не мне. Отвечала она дерзко, потому, что была сердита
на него за худые слова. Но, скупой для других,
Миронович делал ей подарки: золотые серьги дал, обещал
за что-то браслет. Если бы можно было одну минуту
сомневаться в этом показании, вы бы нашли ему полное
подтверждение в показании на суде под присягой
свидетельницы Михайловой. Вы помните эту бесхитростную
женщину, кухарку Бочковой. В платочке, подперев щеку
рукой, она простодушно подтвердила эти нечистые
подробности; я дорожу текстуальностью этого показания,
вот как оно у меня записано: «Соня обижалась на
хозяина: не дает одеться, причесаться, за косу хватает,
и, рассказывая это, Соня плакала». «Пустые» слова —
по варианту предварительного следствия «похабные»—
говорил, а она ему: зачем вы говорите их мне? Вам есть
кому их говорить. Говорите тем, кто ходит по панелям.
Ревновал же ее к мужчинам; раз она попросила
папироску для Лихачева: «Верно ты пощупать ему дала, а
теперь за него просишь». Бедная девочка, передавая эти
цинические подробности, горько плакала. Ослабить эти
показания защита думает ответом Чесновой, что ей
Сарра Беккер таких вещей не говорила, так как Сарра была
девочка стыдливая и скромная. Из этого еще не следует,
чтобы Сарра не говорила другим о тайных причинах
своей ненависти к Мироновичу. Хранить в душе тайну,
никому не поведать ее вовсе не в детском характере. А
может быть, Чеснова сдержаннее других потому, что
Миронович на предварительном следствии возбудил
против нее подозрение в убийстве Сарры и доказывал, что
она — та самая женщина в платке, которую Ипатов
видел сидящую на лестнице с Саррой вечером 27 августа
в десятом часу; последнее, впрочем, весьма вероятно.
Но идем далее. Вы слышали здесь показание
свидетельницы Соболевой. И на предварительном, и на судебном
следствиях Соболева показывала об отношениях
Мироновича к Сарре. Следователю она говорила, что Сарра
жаловалась ей, будто хозяин «хочет сделать из нее свою
любовницу», и что она отвечала: «Хозяин шутит. Ты
девочка хорошенькая, ребенок ты и слов таких говорить
не должна». Здесь, на суде, Соболева показала
больше: о поездке будто бы на горы на масленице, о том, как
в трактире (не в трактире ли Срамотко?) Миронович
после угощения Сарры стаканом чая с ромом приступил
к таким ласкам, подробности которых свидетельница
отказалась передать: «Не кричи, дурочка, я пошутил...»
Конечно, Мироновичу против этой свидетельницы ничего
447
не оставалось, как обвинить ее в шантаже. Это сказать
легко, но только я не понимаю, что же это такое за
шантаж: Соболева дала показание следователю, прежде чем
ходила просить жену Мироновича, чтобы ее не
вызывали в суд, а после известной сцены, когда на нее
бросились Срамотко и компания с криками: «В участок ее,
протокол!»—она на суд, в прошлое заседание, не
явилась. В чем же могло заключаться предполагаемое
соглашение с женой Мироновича? В неявке на суд — это
самое большее. Нельзя же предполагать, чтобы
Соболева заявила о ложности своего показания
следователю. Но не явись она на суд, ее показание было бы
прочитано, а если бы нельзя было его прочесть, то заседание
могло быть из-за неявки отложено, но дело-то в том, что
никто и не говорит, чтобы Соболева просила у Мироновича
денег. Какой разговор у нее был с глазу на глаз с
женой Мироновича — неизвестно. Но, допуская даже
худшее, что свидетельница явилась с известной целью,
разве из этого следует, что показание ее неверно?
Нимало. Оно утверждается свидетелями Бочковой,
Михайловой и другими. Возьмите теперь нового свидетеля
Араратова; восточный акцент свидетеля мог возбудить
неуместную на суде веселость, но показание его
доказывает, что он, как честный человек, по
собственному почину вызвался показать на суде все, что ему
известно. Он весьма живо передал нам, как
Срамотко рассказывал в трактире, что Миронович не убить
хотел Сарру, а обладать ею. Выразил он это грубым,
простолюдным выражением, зато совершенно ясно.
Срамотко, конечно, отрицает это показание, но он и сам
проговорился. На предварительном следствии у него
сорвалось, что «Сарра была легкого поведения»; здесь он
добавил: «Глупенькая, не строгая». Но все прочие
свидетели сказали нам: она была не по летам умна,
скромная, хорошая девочка. Так не Срамотко же нам верить!
Но он друг Мироновича, ежедневный посетитель кассы
во время освобождения его; и мы видим, что этот
лживый отзыв его о Сарре подсказан ему самим
Мироновичем. Здесь приведу вам факт, с первого взгляда
некрупный, но очень серьезного значения: одна из любовниц
Мироновича, Мария Филиппова, показала на суде, что
говорили ей о Сарре: девочка неравнодушна к
мужчинам, а по другому варианту — «падка до мужчин». Вы
помните, что по показаниям дворников дома № 57,
дворников Мироновича, Чесновой, Анастасии Федоровой,
Громцева, Круглова и вообще всех Сарра была совер-
448
шенный ребенок, никогда не разговаривала с
взрослыми мужчинами на дворе, играла только с маленькими
детьми. Если же Миронович считал возможным говорить
своим близким, что она неравнодушна к мужчинам, то
отсюда нужно заключить, что он у^пел ее развратить
настолько, что она терпела его ласки. Отец ее, Беккер,
действительно однажды увидел, как незадолго до 27
августа Миронович, лежа на трех стульях (мягкой
мебели еще не было) в кладовой, целовал Сарру в лицо. Бек-
керу и в голову не могло прийти, чтобы за этими
ласками скрывался другой умысел. Он побранил Сарру, но
только после ее смерти вспомнил о них и о словах
Мироновича. Наконец, брату своему, которому Миронович
запрещал ходить ночевать в. кассу, Сарра жаловалась,
что «хозяин балуется», и не называла его иначе как
«дьявол». Но тогда никто не обращал на это внимания.
Если теперь представляется вполне доказанным, что
отношения Мироновича к Сарре проникнуты были
грубо чувственным характером, то рядом с этим не следует
терять из виду и черты, метко подчеркнутые
прокурором: мало того, Сарра постоянным своим присутствием
раздражала старческую похотливость Мироновича, она и
в другом отношении была для него выгодным
приобретением; соединяя приятное с полезным, Миронович
своих любовниц заставлял на себя работать: Федорова
шила, Филиппова стирала белье. Сарре предназначалась
роль приказчицы. А между тем приближался срок
возвращения Беккера из Сестрорецка, и Сарра собиралась
уехать туда навсегда. Терять времени было нечего. 26
августа, в пятницу, была доставлена в кассу мягкая
мебель. Сначала, как показывает дворник Кириллов,
мебель расставлена была по всем комнатам кассы, потом,
по приказанию Мироновича, вся снесена в маленькую
полутемную комнату, где через два дня найдена была
убитая Сарра. Там — заметьте это обстоятельство —
Кириллов поставил три мягких стула на диван, как ставят
мебель в складе. Беккера не было дома, он 26 августа
уехал; между тем 28-го оказалось, что мягкие стулья
были сняты с сиденья дивана и поставлены так, что
образовывали вместе с диваном одно широкое ложе. Вы
видели это на рисунке. Кресла же поставлены были так,
что преграждали выход в дверь, ведущую к
ватерклозету. Таким образом, устроена была какая-то западня.
Никто из дворников так мебели не расставлял. Сделать
это мог только тот, кому это нужно было. Два дня, во
время которых Беккер был в Сестрорецке, представля-
15. Заказ №571
449
лись удобными для того, что было задумано, и в эти два
дня, 26 и 27-го, на ночь дворник ночевать не приходил,
и девочка оставалась одна с имуществом на сумму до
30 тысяч рублей. Установив существовавшие мотивы
чувственного влечения" к Сарре и приготовления к тому,
чтобы овладеть ею, я могу, не останавливаясь далее на
особенностях темперамента Мироновича, ответить на фразу
о невероятности его чувственных побуждений. Укажем
•на факты. Они говорят так громко, что не заглушить их
никакой экспертизе. Но, собственно говоря, в этом факте
влечения к субъектам очень молодым, незрелым
сказывается не особенность одного только Мироновича и в
ней нет невероятного. Не забывайте, что Сарра Беккер
была подросток, в ней, как вы видели из акта вскрытия,
уже складывалась девушка. Вот почему я полагаю, что
в настоящем деле, не исходя от обобщений, а путем
фактов, бесспорно установлено, что Миронович имел
известные виды на Сарру.
Перехожу к событию преступления и к алиби
Мироновича. Все, кто видел Сарру в этот вечер, замечают ее
задумчивость, ее грустное настроение. «Ах, Лизанька,—
говорит она Чесновой,— хотя я играю, но мне
скучно». Тринадцатилетний мальчик Громцев, тот самый,
который показал, что Сарра была девочка хорошая, умная,
добрая, с детьми играла хорошо и никого из них не
обижала, сказал нам, что часов в семь вечера, когда дети
играли на дворе, она сидела на лестнице задумавшись.
Другой мальчик, Круглое, видел ее до девяти часов
вечера. Она молча постояла, слушая его разговор с Бранд-
том, «она скучная была», и в девять часов ушла в кассу.
Наконец, Анастасия Федорова с чуткостью наблюдения,
которую вы, конечно, оценили, заметила, что в этот вечер
в начале девятого часа Сарра, всегда веселая и живая,
была «очень скучна» и, видимо, старалась не смотреть
на Мироновича. Что же значила эта грусть — не
предчувствие ли близкой мученической кончины? Не думайте,
господа присяжные заседатели, что я хочу играть на
ваших нервах, нет, мне нужно только спокойное рассужг
дение. Если Сарра была необычайно грустна, задумчива
в вечер 27 августа, если взгляд ее стыдливо избегал
останавливаться на Мироновиче, то весьма вероятно, что
он, окончив все нужные приготовления, не считал
нужным особенно стесняться и что беззащитная девочка уже
подверглась нечистым ласкам, которыми он исподволь
развратил ее. Но мы уже подошли к моменту
преступления, которое, несомненно, совершено между десятым
450
и одиннадцатым часом. Последний, кто видел Сарру в
живых, был Ипатов. Из бани он пришел домой «в конце
девятого или начале десятого — примерно», в исходе
десятого видел Сарру сидящею с женщиной в
шерстяном платке на голове — не в шляпке, заметьте это; они
сидели как хорошие знакомые, и ясно, что в это время,
в исходе десятого, касса еще не была заперта и в ней
сидел Миронович, во-первых, потому, что по субботам
касса запиралась вообще поздно, и, во-вторых, потому,
что раз касса запиралась, Сарра из нее не выходила и в
кассу никого не впускала. Эта черта осторожности, воспи-
' тайная не только на врожденных инстинктах, но и на
приобретенных навыках, подтверждается решительно всеми
свидетелями и даже Мироновичем; как же мог бы он
иначе доверить такое значительное имущество ребенку!
Да стоит вспомнить опять свидетельницу А. Федорову:
ее, зетакомую Сарры, после одиннадцати часов Сарра не
впустила в кассу, несмотря на все ее просьбы. Касса
заперта, сказала она через запертую дверь, приходите
завтра. Несколько минут после Ипатова прошли Алелеков
и Повозков, но уже никого на лестнице не^ видели, а в
начале одиннадцатого вернулся Севастьянов, и все было
тихо, как в могиле. Дело было сделано, окончено.
Где же, спрашивается, был в это время, от начала
десятого до начала одиннадцатого часа, Миронович?
«Я вышел из кассы ровно в девять часов и более в нее
не возвращался» — вот что твердил подсудимый, вот
основания его алиби. Мейкулло видел его выходящим на
Невский в девятом часу. Портной Гершович, приятель
его Короткое, артельщик Тарасов видели его после
девяти часов, когда заперт был магазин Дателя.
Миронович прошел дома два-три по Невскому, но тотчас же
вернулся и, поговорив с Гершовичем о пиджаке —
подробность чрезвычайно важная, исключающая всякую
возможность ошибки,— вошел во двор, а когда опять
ушел — никто не видел. Показания этих свидетелей
имеют в деле решающее значение. Они уничтожают
окончательно алиби Мироновича, опровергают его
объяснение, что он не возвращался в кассу, опровергают и
показание Марии Федоровой, которую никто не видел
ни в доме Мироновича, ни в доме № 57, ни в конке, ни
в булочной. Домой к себе подсудимый вернулся в
половине одиннадцатого, по показанию свидетельницы
Натальи Ивановой; одиннадцатый час выходит и по
показаниям Васильева и Кириллова; последний только что
подал самовар барину и вышел за ворота, как уже за-
451
метил запирающиеся трактиры, что бывает после, но
никогда не прежде одиннадцати часов. Итак, где же был
Миронович между началом десятого часа и концом
одиннадцатого? Если он вышел ровно в девять из дома № 57,
как мог он употребить более полутора часов времени
на пространство, которое по специальной экспертизе и по
всем данным, установленным на суде, требует не более
двадцати пяти минут maximum? Почему он так боится
этого времени — этих полутора часов, почему скрывает,
что вошел в кассу, почему упорно отрицает показание
Гершовича, Короткова и Тарасова? Почему? А потому,
что они знали, что именно в это время он совершил
убийство, знали, что в начале одиннадцатого часа
звонила в кассу Семенова, знали, что он отдал ей вещи —
купил ее молчание и сбыл ей поличное. А мы знаем
наверное, что в половине двенадцатого Семенова уже была в
Финляндской гостинице, откуда бежала, потому что
вещи, которые она передала Безаку, были добыты ценой
преступления. Миронович, господа присяжные,
прослужил недаром в полиции с 1859 до 1872 года,
следовательно, лет семь до введения судебной реформы, в эпоху
господства формальных доказательств. Какие же лучшие
классические доказательства? Алиби, поличное,
собственное сознание. И вот Миронович устраивает себе
алиби: сбывает поличное, создает сознание Семеновой. И
действует он, как старый опытный сыщик, частью по
соображению, частью по инстинкту. Конечно, он делает
при этом и промахи, ну да с кем же этого не
случается. Но для старого формального суда защита его
во всех отношениях подстроена превосходно. Его
система, несмотря на некоторые мелкие недостатки, и на
новом суде является в высшей степени замечательной.
Здесь, господа присяжные, я должен сделать
небольшое отступление. Дело Мироновича совпало с усилием
нападок на новый суд. Оно взволновало общество, оно
вызвало неимоверную массу толков. Кто только не
издевался над судебным следователем за утрату волос,
значение которых для дела ничем не установлено.
Оказалось, что, кроме следователей, все превосходно знают,
как нужно было произвести следствие и как раскрыть
истину. Люди, имеющие самое смутное представление
о сложности следственного производства, сыпали
упреками, наставлениями, указаниями. Конечно, во всем этом
есть хорошие стороны: отчего не дать волю критике,
отчего не признать, что следствие, вверенное сначала
малоопытному молодому человеку, сделало немало прома-
452
хов, которые потом было трудно исправить. Но ведь
справедливая, толковая критика должна же отметить и
положительную сторону проведенного следствия, а не
обрушиваться только на одни недостатки. Посмотрите,
какой громадный труд представляют собой эти шесть
томов производства. Сколько работы, честной,
трудной работы, господа, потрачено судом, присяжными
заседателями, сторонами на это дело. Не забывайте,
что материальные средства, которыми располагает
следственная власть, крайне ограничены. Не забывайте,
что в этом ужасном и редком деле следственной
власти пришлось бороться с таким противником, как
Миронович, на стороне которого была, во-первых,
профессиональная многолетняя опытность и свободные
деньги. Первое дало ему возможность построить искусную
систему защиты, второе — заручиться друзьями среди
тех же агентов сыскного отделения, которым поручено
было дознание по его делу. Всякий, кто хотя
немного знаком с уголовным судопроизводством, знает, что
судебный следователь не имеет физической
возможности проследить лично все следственные действия.
Собирание сведений, данных, деталей дела повсюду, во
всем мире, поручается полиции, тайным ее агентам.
Прошу вас, господа присяжные, не видеть в моих словах
никакого публицистического задора. Я знаю, что
житейская необходимость заставляет прибегать к услугам
сыщиков, но я знаю также, что люди эти, вращаясь
постоянно между преступниками, часто подвергаются
уголовному контагию*, к которому некоторые из них, может
быть, и предрасположены. Есть, конечно, хорошие
сыщики, есть и дурные — последние представляют очень
большую опасность для общества. В других странах на
предварительное следствие тратятся массы денег, у нас же,
если требуется, например, фотография, то следователь
стесняется производить расходы, как бы еще не
пришлось из своих приплатить. Там существует
специальная судебная полиция, там судебный сыщик сложен в
особый тип, нередко вызывающий сочувствие.
Действуя исключительно под контролем судебной власти,
тайный агент является могущественным средством борьбы с
преступной силой. У нас же судебный следователь и
прокуратура хотя и пользуются по необходимости услугами
сыскного отделения, но это другое ведомство и там свои
порядки, свое начальство. Представьте же себе, что Ми-
*Контагие — общение, воздействие, дурное влияние.
453
ронович, сам бывший сыщик и весьма крупный деятель по
этой части, Миронович, человек с капиталом, тотчас же
сходится на дружеской ноге с агентом Боневичем. Вы
видели здесь этого свидетеля и, конечно, помните его
характеристическое показание. С 1878 года он знаком с
Мироновичем, значит, старые знакомые. 4 сентября он отвозил
Мироновича в тюрьму, и дорогой, как показал Боневич
на суде, у них завязывается разговор: Боневич поверяет
Мироновичу свое предположение о женщине. Я же
думаю, что это предположение, скорее, идет от
Мироновича, который знает, что отдал свои вещи женщине, но не
знает, кто она. Разговор идет самый интимный настолько,
что, по словам Боневича, подсудимый на увещание его
сознаться обругал агента самым нецензурным словом.
Но это нисколько не нарушило их добрых отношений.
Они расстались все-таки по-дружески, и Миронович
сказал: «Ищите, я награжу вас по-царски». И что же? 6
сентября, два дня спустя, Миронович заявляет подозрение
на женщину, указывает даже на Чеснову. Поиски
Семеновой, сожительницы полицейского офицера,
попавшейся в четырех кражах, по которым розыски чинили
четыре агента, не могли представлятъ особенных трудностей.
Как и кем была разыскана Семенова — осталось тайной,
но что именно Боневич, а не кто другой ездил за ее
вещами в Озеры и делал там обыск, что четыре
неизвестных в сопровождении жандарма ходили из дома в дом
в селении Озеры, что Боневич ночи дежурил в сыскном
отделении при Семеновой — это факты,
положительные и никем не оспоренные. Также несомненно, что
Боневич часто посещал Мироновича во время его
освобождения, сиживал у него, по показанию Дмитриева,
подолгу и, по собственному показанию, купил у него пальто,
платье и шубку — все это факты, не нуждающиеся в
комментариях, но это скандальные факты. Вот почему
представляется в высшей степени вероятным, что связь
Семеновой с делом, редакция ее роли, подготовка и
репетиция мнимого сознания совершались при деятельном
участии тайных сил, под руководством самого
Мироновича. Вот о чем забыли порицатели следственной власти.
На первых же порах пришлось ей столкнуться с.необычай-
ными затруднениями: кроме опытности, ума и денег,
которыми располагал Миронович, следователь
натолкнулся еще на тайное противодействие там, где он всего
менее мог ожидать его,— в среде низших агентов,
производивших дознание. Спрашивается, если исчезает ве-
454
щественное доказательство перед глазами следователя,
если тайны следствия разглашаются, разве можно винить
здесь одного следователя? Конечно, защищать следствие
не мое дело, но я нахожу, что оно и не нуждается в
защите: результаты налицо. Несмотря на все трудностях
следствие после громадных усилий и многих ошибок
обнаружило виновного и разоблачило мнимое признание
Семеновой как мистификацию. Указав вам, господа
присяжные, на специальные трудности следствия, я прошу
вас вспомнить о трех обстоятельствах: об алиби
Мироновича, о ложном следе, который он пытается создать
расписками Грязнова, и мимоходом о поведении
Мироновича утром 28 августа: он и в это утро не принимал
дворника в кассу, он мечется и, не посмотрев на труп,
утверждает: «Здесь нет изнасилования; ее можно было
купить за 6 рублей». А когда тело маленькой мученицы
уносят в анатомический театр, у него вырывается
восклицание «стерва». Однако в ряду сильнейших улик
против него, по мнению многих юристов, являются расписки
и векселя Грязнова. Достать десять квитанций из
стола и разложить их на виду на диване, унести или
истребить остальные, один вексель положить, другой унести,
и притом где положить — в комнате, куда нет хода из
кассы,— это, конечно, не могло прийти в голову ни
Семеновой, ни вообще кому бы то ни было, кроме
Мироновича. Он знал, что Грязнов — темная личность,
судившаяся впоследствии по делу так называемой «черной
банды», он знал, что Грязнов скрылся, что его ищут, что
он обвиняется в грабеже. После убийства Сарры,
задумав маскировать дело картиной грабежа, Миронович,
естественно, хватается за мысль — направить подозрения
на Грязнова. И заметьте, что, если бы Грязнов не был
в то время под замком, он мог бы иметь пренеприятные
разговоры с судебным следователем. Конечно, хитрость
была бы обнаружена, и Грязнов оправдался бы, но его
дурная репутация, его вещи, заложенные в кассе,
забытые бумаги — все это создало бы ему немалые
затруднения. Вот почему Миронович и восклицает: «Теперь
ясно, что убил Грязнов»— и вызывается разыскать его.
Но первая хитрость не удается. Проходит месяц. В
кандидаты на убийцу намечен Аладинский — за 5 тысяч
(заметьте, ту же цифру мы найдем и у Семеновой, и на
векселе Янцыса). Но и с Аладинским неудача. Наконец,
отыскивается Семенова — и успех превышает всякие
ожидания. Больная, увлекающаяся до безумия натура,
455
даровитая и очень несчастная, Семенова была создана
нарочно для той роли, на которую ее готовили. Заметьте
одну черту, указанную наблюдавшим ее психиатром,
доктором Дмитриевым: у нее хорошая память. Вам читались
ее показания, письма, стихи — везде преобладает память и
фантазия. Заметьте другую черту: свидетели, знавшие
ее давно, говорят об ее необыкновенной лживости. Она
лгала - постоянно, это было ее творчество. В
действительности ей было есть нечего, а, по ее рассказам,
ее отцом был индийский царь. Может быть, она и
сама тому верила. Я прошу вас только сравнить
мнимое сознание Семеновой со всем, что вы слышали и
видели на суде, и вы, конечно, согласитесь со мной,
что судебный следователь вправе был отнестись
недоверчиво к ее рассказу. Да, ее учили хорошо, со
времени возвращения в Петербург до сознания, с 9 до
28 сентября. Ее водили в кассу — это установлено
бесспорно. В газетах она могла прочесть мельчайшие
подробности, а все-таки там, где ей приходится угадывать
истину, она провирается, и как только сочиняет —
выходит вздор. Накануне сознания она разыгрывала у
Немирова сцены: «Хочу быть актрисой», она и теперь
продолжает играть ту же роль. С какого конца ни
возьмешь, несообразности и противоречия так и
бросаются в глаза. По ее рассказу, Сарра бежит за ней на
улицу, зовет ее: «Приходите на другой день в 12 часов»,
а мы знаем, что Сарра никогда не выходила из кассы,
когда была одна, никогда не бегала за незнакомыми.
Или же: Сарра смотрит в скважину двери... Куда же
она смотрит, когда на лестнице темно? «Я хорошо
помню, что ключ она вложила в замок». Неправда, ключ у
Сарры оказался в кармане. Оставив лампу в кухне,
Семенова будто бы идет впотьмах в кассу и там вынимает
из витрины вещи. Но эти вещи лежат так далеко, что
достать их невозможно. При этом у нее два пальца
укушены, а -в витрине крови нет. Достает она вещи ложкой,
но вещи оказываются все в порядке; выходит какая-то
игра в бирюльки. Лампу она будто бы не гасит — между
тем лампа оказалась погашенной и наполовину полной
керосином. Но это все мелочи в сравнении с другими
несообразностями. Что вы скажете об убийце, слабой
женщине, которая бог знает зачем несет на руках свою
жертву через кухню в последнюю комнату и там кладет ее
не на пол, а на кресло? А кровавые подробности? По
словам Семеновой, кровь была и в коридоре, и на
полотенце, которым она вытерла руки, и гирю (зачем?) она кла-
456
дет после убийства в маленький саквояж, и на пальто,
которое она продала Минкину, была кровь, и в
умывальниках в гостиницах Финляндской и Кейзера. И что же?
Нигде, нигде решительно ни малейшего следа этой крови
не оказывается. Маляг этого, свидетельницы Силли и
Лундберг дали нам ценные указания: в обеих
гостиницах помой оставлены были в лоханке и в ночной вазе.
Разве это мыслимо? Разве так поступают убийцы?
Возьмите, наконец, мелкие подробности, с которыми она
описывает убийство; здесь она в своей сфере: воображение
работает, проверка трудна. Такая изумительная
детальность может быть, или память на действительные факты,
или же память на заученные факты. Убийца, здоровый
или больной, находится всегда в состоянии крайнего
возбуждений. Он случайно запомнит ненужную
подробность, но всего запомнить он не в состоянии. По словам
же Семеновой, она растерялась так, что не
воспользовалась следами преступления, и что же мы видим? Она не
только перечисляет до малейших деталей все
похищенные предметы, точно по описи, она все комнаты
описывает, она чертит план, причем — курьезная
подробность — заносит на него даже комнату около кассы, в
которую не заходила, но «по соображению». Она рисует,
наконец, позу убитой в кресле! И этому верят! И
следователь виноват, что он не поверил. Помилосердствуйте
во имя здравого смысла! Ведь это уже слишком,
господа присяжные заседатели! Такие грубые мистификации
могут увлекать толпу, должны увлекать ее, привыкшую
верить всему чудесному, необычайному, но как же они
могут действовать на людей, «прилагающих всю силу
своего разумения» к распознанию истины на суде! И
представьте же себе, господа присяжные заседатели, в
каком бы положении очутились те, которые поверили бы
на слово сегодняшнему роману сумасшедшей женщины?
1 октября она говорит: «Я убила, Миронович не
виноват», 25 января: «Я не убила, Миронович
виноват», 15 февраля: «Я подтверждаю свое первое
показание», 18 апреля, прочитав все дело и проникшись его
ужасом, она опять пишет: «Нет, я не убила, убил
Миронович». 11 мая, 23 мая она повторяет свое отречение.
Повторяет его и на первом суде. После всего этого она
является перед вами и снова принимает на себя вину.
Я понимаю чувство, которое должна возбуждать эта
ужасная комедия: сегодня Семенова говорит одно, но что
скажет она завтра? Нет, господа присяжные, легенда
о Семеновой, будто бы совершившей убийство, продер-
457
жится недолго. Теперь, господа присяжные, я прошу вас
сравнить сознание Семеновой с ее отречением, с
рассказом о том, как она явилась в кассу 27 августа вечером,
как слышала голоса, как вышел человек, давал ей
вещи и прочее. Рассказ этот совпадает со всеми данными,
доказанными на суде. Он похож на кусок разбитого
камня,- который приходится в пустое место. Попробуйте
вложить в обстоятельство дела ее сознание — кусок
слишком велик, он не входит, он не может войти! Но, как бы
то ни было, Семенова является новой, сильнейшей
уликой против Мироновича. Прокурор очень верно заметид,
что он молчит о ней, не смеет говорить, но, подобно его
алиби, векселям Грязнова, витрине, неприсылке
дворников и отношениям к Сарре, ложное сознание Семеновой
уличает подсудимого.
Остается мне сказать несколько слов об экспертах.
Вы знаете, что экспертиза профессора Сорокина на
предыдущем разборе дела возбудила ожесточенную
полемику. Я должен сказать, что для обвинения Мироновича
я не считал и не считаю необходимым следовать за всеми
гипотезами профессора Сорокина. Картина, подробности
убийства останутся тайной, но факт убийства,
сопровождавшие его обстоятельства и улики против
Мироновича — налицо. Вы выслушали здесь целые лекции по
вопросам о направлении трещин, о сотрясении мозга, об
изнасиловании, о параллелограмме сил. Спрашивается:
имеются ли в деле судебно-медицинские данные,
доказывающие, что такое-то повреждение мог произвести
только Миронович, а такое-то Семенова? Конечно нет. Мы
движемся ощупью в области догадок и гипотез.
Следовательно, вопрос о виновности лежит вне области
судебно-медицинской компетенции. В прошлое заседание,
говорят, увлекся профессор Сорокин, а теперь, мне
кажется, увлекаются в противоположном направлении. Как
происходила борьба Мироновича с Саррой, мы не знаем.
Как, в каком положении он нанес ей удар по голове, мы
не знаем этих подробностей, убийство не может быть
рбнаружено рядом других доказательств. Я с почтением
отношусь к ученому авторитету профессора Эргардта;
я могу только сожалеть, что на вопрос: что означают
эти многочисленные ссадины на левой стороне тела,
какое значение имеют эти сине-багровые, надорванные уши,
эти посиневшие от сжатия сильной рукой пальцы —
профессор Эргардт отвечает, что все это мелочи и значения
не имеют! Как не имеют значения? Для судьи, для
юриста эти мелочи могут служить указанием на следы силь-
458
ной мужской руки... А доктор Штольц? Он очень
подробно и с большой эрудицией описал нам, как действует тот,
кто, по его выражению, «берется насиловать», и доказал,
что на кресле это будто бы невозможно; но, не вступая
с ученым экспертом в споры и признавая свою
некомпетентность, как же не заметить, что для уличения
Мироновича есть в деле совершенно иные данные? Мы,
юристы, должны с почтением выслушивать экспертов-медиков,
но если они незаметно для себя берутся за разрешение
вопроса о виновности, то нам приходится.остановиться
и сказать им: извините, господа, мы дальше идти за вами
не можем. Если бы эксперты пришли к заключению, что
Семенова могла убить Сарру, то возможности вообще
мы оспаривать не беремся. Но мы говорим:
обстоятельства дела, безусловно, доказывают противное, а если бы
признание Семеновой было бы невозможным, то
Миронович, конечно, и не пользовался.бы им для своей защиты.
Оканчивая свои объяснения, которые мне придется
возобновить для возражения защите, я прошу вас,
господа присяжные, не приписывать некоторое внешнее
оживление моей речи чувству раздражения против
подсудимого. Его личность, его прошлое для меня имеют
значение лишь настолько, насколько они прямо
относятся к делу. Я старался избегать всяких нападок на его
профессию, бывшую и настоящую, вообще старался
отбросить в сторону всякую публицистику и
тенденциозность. Скажу более: я убедился, что, вопреки общему
правилу, дурная репутация Мироновича сослужила ему
отличную службу — у очень многих честных людей
явилась мысль, что осудили его будто бы за то, что он
взяточник и ростовщик, а не за то, что он совершил. Такое
предположение, конечно, оскорбляет чувство
справедливости, а потому, чем темнее явилась бы личность
Мироновича, тем выгоднее это было бы для него как
подсудимого. Но темные краски и облик злодея вовсе не
нужны для его осуждения. Конечно, он никогда и не
подумал бы совершать убийство, а неожиданное стечение
обстоятельств привело его к этому преступлению. Но раз
случилось несчастье, что же ему оставалось делать? Не
пропадать же даром. Он и стал защищаться, и
защищается, и надеется, что в навеянном полумраке сомнения
ему удастся отделаться, уйти. Игра у него сильная,
козырей много — он может и выиграть. Но, с другой
стороны, общество чувствует всю опасность
безнаказанного преступления. Наше дело представить вам добытые
выводы, а вы рассудите.
459
Суд поставил присяжным только один вопрос:
«Виновен ли Миронович в том, что вследствие внезапно
охватившего его порыва гнева и страсти он нанес С. Бек-
кер удары по голове каким-то орудием, душил ее,
засунув в рот платок, отчего и последовала ее смерть?»
Присяжные заседатели ушли на совещание в 2 часа ночи.
В 3 часа 45 минут они вынесли вердикт: «Да, виновен,
но без преднамерения и заслуживает снисхождения».
Председатель суда попросил уточнить вердикт, так как
он счел его противоречивым. Присяжные вновь
удалились на несколько минут и на этот раз вышли с
оправдательным вердиктом. Приговором суда Миронович
был оправдан. Протест прокурора был оставлен
Сенатом без удовлетворения.
ДЕЛО
САВИЦКОГО
И ГАЛКИНА
23 октября 1896 года Московский окружной суд с
участием присяжных заседателей на выездной сессии в
г. Дмитрове рассмотрел дело об умышленном убийстве
Натальи Ивановны Савицкой. Суду были преданы муж
убитой — мещанин Николай Иванович Савицкий и
крестьянин Петр Васильевич Галкин. Председательствовал П. С.
Кларк, обвинял товарищ прокурора С. А. Червинский,
защищали подсудимых А. И. Урусов и Н. П. Шубинский.
Н. И. Савицкая была убита 23 марта 1889 года. Труп
был обнаружен в тот же день Соловейчиком, соседом
Савицких, который через забор залез во двор их дома,
чтобы помочь Савицкому открыть калитку, запертую на
замок. По словам Савицкого, сказанным Соловейчику,
этот замок он до того ни разу у себя не видел и,
естественно, ключа от него не имел. По всей видимости, Н. И.
Савицкая была убита в доме топором. Топор Савицких
был найден во дворе, однако следов крови на нем не
обнаружено. Преступник перерыл комод и сундук, но
деньги, хранившиеся в ягдташе (охотничьей сумке), не
нашел. Савицкий высказал предположение, что убийцей
мог быть Петр Галкин, который в то время нуждался в
деньгах. Но единственной, слабой уликой против него
было показание лесничего, к которому Галкин пришел
около 10 часов утра в день убийства в состоянии
сильного душевного волнения.
Подозревался и сам Савицкий. В конце
шестидесятых годов он приехал в Дмитровский уезд и поселился в
доме своего сослуживца Александрова. В 1872 году тот
умер от отравления рыбой. Вскоре после его смерти
20-летний Савицкий женился на вдове Александрова
Наталье Ивановне, которая по возрасту годилась ему в ма-
461
тери. Этот брак вызвал недоумение соседей, решивших,
что Савицкий соблазнился имуществом вдовы. Однако
16 лет они прожили, по-видимому, душа в душу, но
последние годы, как показывали некоторые свидетели,
отношения в семье ухудшились.
Доказательства, собранные следствием, были явно
недостаточны для предания кого-либо из
подозреваемых суду, и в ноябре того же 1889 года дело было
приостановлено. После убийства Натальи Ивановны
Савицкий женился второй раз.
Прошло шесть лет. И вдруг в мае 1895 года к
товарищу прокурора явился некий И. И. Овчинников и рассказал
следующее. 23 марта 1889 года, около восьми часов
утра, он шел к фельдшеру и, приближаясь к дому
Савицких, услышал звуки ударов и женские крики. Когда он
подошел ближе к дому, из него вышел Савицкий и
запер калитку висячим замком. Овчинников спросил
Савицкого, не собирается ли он уезжать, тот ответил, что
запирает дом, чтобы никто не мешал его жене стирать.
Возвращаясь от фельдшера, Овчинников увидел, что по
огороду — позади двора Савицких — по цельному снегу
бежит Петр Галкин. На вопрос, почему Овчинников в
течение шести лет не сообщал об этом, он ответил, что
решил рассказать все только после целого ряда
несчастий, выпавших на его долю в последнее время.
В этих несчастьях он увидел наказание Божье за
сокрытие ему известных фактов. Савицкий и Галкин на
основании показаний Овчинникова были привлечены к
уголовной ответственности, но виновными себя не признавали.
Речь присяжного поверенного А. И. Урусова
в защиту Савицкого
Господа судьи, господа присяжные заседатели!
Заканчивая свою речь, почтенный представитель
обвинительной власти относительно мотива убийства выразился
так: «Это чисто мое предположение, а как вы к нему
отнесетесь, дело вашей совести». Вся речь заключала в
себе несколько предположений: может быть, Савицкий
успел утром 23 марта зайти домой, но заходил ли —
неизвестно; может быть, супруги жили вместе нехорошо, хотя
свидетели утверждают противное; может быть,
Александров умер не своей смертью; не странен ли разговор
Савицкого с Галкиным в канцелярии лесничего и т. д. Но,
господа, сущность обвинительного процесса заключается
462
в том, что обвинитель требует положительно,
доказывает свое требование, как истец доказывает свой иск. Ведь
обвинение предъявляет к вам, к обществу своего рода
иск. Оно требует у вас Савицкого. Где же доказательства
этого иска? Предположения — не доказательства.
Отдавая полную справедливость беспристрастию обвинителя,
я все-таки нахожу, что обвинение не доказало даже
своей уверенности в том, что Савицкий совершил
убийство. Обвинение и не пыталось разъяснить непримиримое
противоречие, лежащее в основе предположения, будто
Савицкий и Галкин действовали по предварительному
согласию, когда Савицкий все время обвиняет и обвинял
одного Галкина. Какое же это соглашение? Такое
противоречие молчанием обойти невозможно. А так как
невозможно себе представить, чтобы Савицкий мог уличать
Галкина, этот мог бы в течение шести лет молчать об
участии Савицкого в преступлении, то представляется
наиболее вероятным предположение, что соглашения между
ними не было и что преступление совершено не ими. Это
предположение — простое и логическое — обвинение
даже не пыталось опровергнуть. Что же представило
обвинение в качестве доказательств? Какие оно выдвинуло
улики?
Потребовалось сначала установить время убийства
Савицкой. «23 марта 1889 года,— говорит обвинитель,—
Савицкий ушел из дома в восемь часов утра, а в девять
калитка уже была заперта висячим замком, значит,
убийство совершено между восьмью и девятью». Но Савицкий
мог уйти и раньше восьми часов. Когда калитка была
заперта, ничем не установлено. Не показанием ли
мальчика Седова, но где же он? Мы его не видели и не
слышали. Его не вызывало обвинение. Свидетельница
Варвара Порошина показала сегодня на суде, что «с точностью
не могу установить время возвращения мальчика:
вернулся ли мальчик в десятом или одиннадцатом». По
показанию Горячева, пришедшего к Савицкой в восемь или
девять утра, Галкин уже был там в это время. Через
полчаса, говорит Горячев, Галкин пришел в трактир, а в
десятом часу неизвестный убийца запер калитку на замок
и скрылся. Для свершения преступления достаточно было
нескольких минут, поспешность убийцы доказана тем, что
он перерыл впопыхах сундук и комод; бежал, не успев
ничего похитить, а деньги между тем лежали в ягдташе
на стене. Время смерти Савицкой можно было бы
установить медицинским осмотром содержимого кишечника, но
этого сделано не было. Вообще, точное установление вре-
463
мени события представляет большие трудности в
особенности в такой среде, где не употребляют карманных
часов и вообще мало обращают внимания на время. Здесь
же вопрос в нескольких минутах, а свидетели даже часы
определяют только приблизительно: не то восьмой час, не
то девятый, а может, и десятый...
Итак, время события не установлено, а пока не
установлено это первое, главное обстоятельство, не
установлено ничего. Еще темнее цель преступления. Обвинитель
говорит: «Цель, очевидно, не ограбление, потому что
ничего не похищено,— это сказал сам Савицкий». Но если
бы Савицкий был убийцей, то он, конечно, сказал бы, что
деньги похищены, и показать противное было бы
невозможно. Ограбление не удалось. Убийца не нашел денег.
Что ж из того? Разве неудача изменяет характер
преступления? Но цель ограбления доказана: во-первых,
тем, что, как значится в обвинительном акте, Савицкая
слыла зажиточной женщиной; во-вторых, тем, что у
Савицкого действительно оказалось на 500 рублей серий в
этом ягдташе; в-третьих, тем, что жалованье лесовщикам
одно время выдавал Савицкий,— значит, все знали, что
деньги в этом доме водятся. Наконец, все обвинение
Галкина зиждется на предположении, что он нуждался в
деньгах для постройки своего дома.
Итак, цель ограбления, подтверждаемая перерытым
сундуком и комодом, ясно доказана, а другую цель —
желание отделаться от жены — сам обвинитель считает
только своим предположением.
Далее, господин товарищ прокурора утверждает, что
убийство не могло быть совершено посторонним, так как
убийца знал и обстановку, и то, что есть топор. Но и это
неверно. Первоначально и Савицкий, и следователь
приняли топор за орудие преступления, даже кровяные
следы на нем видели, но впоследствии, как вы слышали,
самое тщательное научное исследование не обнаружило
на топоре следов крови. Следовательно, остается
совершенно неизвестным, этим ли именно топором совершено
убийство, а потому падает и предположение, будто
убийца — непременно знакомый с домом человек. Орудия
убийства налицо нет.
Итак, главное, что необходимо для обвинения,—
время, цель и способ совершения преступления не установ--
лены. Какая же возможность обвинять в таком
преступлении Савицкого и Галкина — по предварительному
соглашению? Это, очевидно, невозможно. Не подумайте,
что говорит вам это защитник, у которого взгляд на вещи
464
может быть односторонним. Нет. К такому же выводу
пришла и сама обвинительная власть. Следствие в
1889 году было приостановлено: виновный не был
обнаружен, Галкин_ был освобожден. Таким образом, ясно,
что до доноса Овчинникова улик против Галкина и
Савицкого не было.
6 мая 1895 года, приблизительно ко времени
истечения погасительной давности (сокращенной
Всемилостивейшим Манифестом), является Овчинников и дает у
судебного следователя свое показание. Это краеугольный
камень обвинения. Посмотрим, что это за камень.
По словам Овчинникова (23 марта 1889 года, в день
убийства, утром, в восемь часов), он нес фельдшеру
Рисковскому почтовую книгу для расписки в получении
лошади для командировки по распоряжению земской
управы. Книга эта была вам предъявлена. Оказалось, что
расписка фельдшера в ней есть, но что помечена она не
23-м, а 22 марта, а 23-го никакой записи нет.
Эта книга, господа, есть документ, а все рассказы
Овчинникова о возможности ошибки в числе остаются
рассказами, которые нужно принимать на веру. Но можно
ли вообще верить Овчинникову?
Он рассказывает, что, приближаясь к дому
Савицкого, не доходя саженей 50 или 60, т. е. 150 или 180 шагов,
он услышал три глухих удара, «как в худой черепок»,
женский крик и слова: «Плут, мошенник, убил, скажу,
скажу!» Слова эти доносились будто из печной трубы.
Кажется, трудно представить себе более слепую
несообразность: три глухих удара расслышать за 180 шагов
в зимнее время, когда окна и двери заперты, расслышать
слова сквозь трубу, удары по черепу называть ударами
в худой черепок... Все это такие несообразности, что и
обвинитель им, по-видимому, теперь плохо верит,
предоставляя вам самим разобраться в показании
Овчинникова.
Мальчик, по сло&ам Овчинникова, стучал рукой в
окно. Свидетели Соловейчик и Шумилов удостоверили здесь,
что окно дома Савицкого не только одиннадцатилетний
мальчик, но и взрослый рукой достать не может. К тому
же перед домом запертый палисадник. Наконец, мальчик
Седов, допрошенный два раза, положительно заявил, что
никто к нему в тот день не подходил и ни с кем он не
говорил, никого он не видел.
Ложь Овчинникова обнаружилась во всей своей
красе. Прокурор говорит, что у Овчинникова нет никаких
причин лгать: у него не было вражды с обвиняемым. Но
465
люди лгут вовсе не потому, что имеют к тому
какую-нибудь особенную причину. Ложь сама в себе заключает
известную привлекательность. Во-первых, это род
творчества, где действует вдохновение. Потом, это удовольствие
для самолюбия; господство над тем, кто верит. Ложь
дает временное значение, блеск, чуть не власть лжецу. Что
такое был Овчинников? Кто знал Овчинникова? А теперь
Овчинников прославился. Я готов был бы допустить
самое выгодное для него предположение, что лгал
добросовестно, смешал, как безграмотный, 22 марта с 23-м и
стал жертвой самообмана, но должен сказать, что все его
выдумки о мальчике, о разбитом черепке и прочем носят
на себе характер крайне бездарной, аляповатой, но и
злостной лжи.
И вот из-за этого изумительного вздора двое людей
полтора года томятся в остроге, угнетены ужасающим
обвинением, основанным на предположениях!
Что же еще, кроме бредней Овчинникова, представило
нам обвинение против Савицкого? Оно вызвало
свидетелей, имевших с ним личные ссоры,— и свидетели
говорили нам о его дурном, по их мнению, характере. Целый
ряд других свидетелей, напротив, показали, что Савицкий
был очень добрый муж и отлично жил с женой.
Обвинитель находит странным разговор Савицкого с
Галкиным. Зачем ему было спрашивать, «что делает жена»?
Такой вопрос приличен был бы, по мнению обвинителя,
только новобрачному. По-моему, ни в разговоре, ни в
вопросе ничего нет странного. Самый обыкновенный
разговор. Далее, обвинитель говорит: «Савицкий был слишком
спокоен... бросился к лошади». Но свидетель Соловейчик
показал, что Савицкий плакал, всплеснул руками...
Каким же способом должен был он выражать отчаяние?
А что он пошел смотреть, не уведена ли лошадь,
опять-таки вполне естественно. Ведь лошадь — это,
господа, капитал для бедного человека... Савицкая, по
словам Смирнова, будто бы жаловалась ему, мяснику,
что муж ее, дня за два до происшествия, чуть не убил
утюгом. Рассказ этот опровергался целой массой
свидетельских показаний. Смирнов здесь, под присягой, ничего
не показал и только с величайшими усилиями сказал, что
подтверждает свое показание, данное на
предварительном следствии. Я этому рассказу не придак* никакой
веры. Когда случается происшествие, о котором все
говорят, всегда находятся люди, желающие отличиться
какой-нибудь новостью, хотя бы и в ущерб истине.
Обвинитель даже в смерти Александрова, первого мужа На-
466
тальи Ивановны, желает видеть что-то странное, а
тот объелся сырой рыбой и умер. Самая прозаическая
смерть, без романтических прикрас. «20-летний
Савицкий,— говорится в обвинительном акте,— женился на
60-летней Наталье Ивановне». Но ему, как мы видели,
было 23 года, а ей 43. Наконец, обвинение все время
старалось подчеркнуть, что Савицкий скоро после смерти
своей жены женился на другой. Но и это обстоятельство
оказалось лишенным всякого романтизма: женился
Савицкий на вдове потому, что нужна в доме хозяйка.
Никакого знакомства до того с вдовой не имел, никто об
этом и намека не высказал. Теперь у него двое маленьких
детей — младшему восьмой год,— и живется им без отца
очень плохо. Горемычная семья ждет не дождется вашего
приговора. Неужели слезы и молитвы их могут быть
напрасны? Нет, господа присяжные заседатели! Не защита, а
ваш собственный разум и сердце давно разъяснили это
дело. Савицкого нельзя обвинить, и я уже слышу ваш
приговор: «Нет, не виновен!»
Речь присяжного поверенного
Н. П. Шубинского в защиту Галкина
В этом деле есть одна сторона, прежде других
объединяющая всех участвующих в рассмотрении этого
дела,— это тайна, лежащая на нем. Мысль с неудержимым
любопытством стремится разгадать роковое событие
прошлого. Кто же совершитель убийства? Чьей рукой
пролита кровь? Кто должен ответствовать за отнятую
человеческую жизнь? Но каких усилий ни стоило нам
нынешнее заседание, оно не поднимает завесы над
прошедшим, и мрак, покрывающий его, лишь сгущается
сомнениями настоящего. А между тем лихорадочное желание
рвется к разгадке, и не оно ли настраивает воображение
главного свидетеля по делу Овчинникова? Не результат
ли этого неудержимого стремления узнать сущность дела
смелость его показания? Во всех нас неясность и
сомнения вызывают отступление перед каким-либо
решительным выводом. Он же, наоборот, как бы под давлением
сомнений чувствует в себе решимость для утверждения
более чем призрачных фактов. Но о его показании
подробная речь впереди.
Представлю пока краткий ответ на доводы
обвинителя. Он поставил перед собой существеннейший по
делу вопрос: какая цель была у преступника? И, однако
467
же, не представил даже и попытки разрешить его.. Ибо
указания на факты, сделанные им, стоят без прямого
вывода с этим вопросом. Он исходит из положения, что на
топоре кровь была замыта, называя топор мертвым
неподкупным свидетелем. Пусть он таков. Но тогда не
будем извлекать из него более того, что он дает.
Химическая, микроскопическая и спектральная экспертиза
врачебного управления прямо заключила, что топор
никаких следов крови не имел. А уже на факте
принадлежности этого топора дому Савицких построен вывод, что
преступником был человек, знавший близко обстановку
того дома. Вот какие проблематичные последствия может
рождать один ошибочно признаваемый в процессе факт.
Перечислять детально все представляемые против
Галкина улики, я думаю, вполне излишне. Оценка их уже
сделана в первый период возбуждения этого дела. Еще в
1889 году все данные, кроме показания Овчинникова,
подверглись оценке со стороны обвинительной власти и
суда и были найдены недостаточными 'даже для предания
Галкина суду. Значит, центр нынешнего процесса, его
окончательное определение зависит от значения, какое
может быть придано показанию Овчинникова. Что это
такое? Исповедь души, безмолвствовавшей в течение
шести лет, во имя чего-то неведомого обрекшей себя к
безмолвию перед правосудием и обществом,
стремившимся узнать правду? Или это бред, сон, дошедший до веры
в них, как в событие действительной жизни? Я думаю,
последнее вернее всего. Трудно решить настоящий
источник такого состояния в человеке. Несчастиями ли
жизни, физическими ли недугами, нервным
расстройством или мистическим напряжением — не берусь
решить — пробужден этот рассказ свидетеля, не только не
оправдываемый, но поражаемый в каждой своей
подробности показаниями остальных свидетелей. В анализе его
я не буду повторяться касательно подробностей,
разобранных моим сотоварищем по защите. Это показание
слишком богатая, можно сказать, неисчерпаемая тема
для целого ряда оценок, каким может быть
подвергнуто оно. К подробности, всем бьющей в глаза, что зимой
на расстоянии 180 шагов невозможно слышать криков,
исходящих из глубины дома, присоедините соображение,
что печка, которую считают проводником звука, в то
время была наполнена дровами, которые должны были
препятствовать прохождению звука. Но лучше всего чисто
логическая оценка бьет разумность показания этого
свидетеля. Овчинников изображает такую картину: он слы-
468
Н. П. Шубинский.
шит крики, глухие удары, слова «убийца» из дома
Савицкого. Подходит к нему и видит выходящим из калитки
двора самого Савицкого и запирающим на замок
калитку. А 20 минут спустя он наблюдает бегущим по целику
огородов — сначала дома Савицкого, потом Батыхова —
обвиняемого Галкина. Что это за картина? Какой из нее
вывод? Только один, что преступление сделано двумя —
Галкиным и Савицким вместе. Тогда какой разум в
действии Савицкого, запирающего на ключ Галкина вместе с
жертвой их преступления? Зачем Галкин остается эти
20 минут там, где только что пролита им кровь? Ему надо
бежать, в этом его спасение. Ведь нельзя же трактовать
событие так: для Савицкого нужна смерть жены, и он
уходит после убийства; для Галкина — грабеж, и он
остается. Да ведь это грабеж самого Савицкого. Вот
логический вывод из показаний Овчинникова. В нем даже и
на следствии, желавшем такого свидетеля, однако же,
усомнились и попросили Овчинникова чем-либо
подтвердить свой рассказ. Он представил книжку содержимой им
земской почтовой станции, сказав: я шел с этой книжкой
мимо дома Савицкого, чтобы дать фельдшеру расписать-
469
ся в получении лошади для проезда, и он расписался.
Читаем книжку, и в ней расписка фельдшера не 23 марта —
день убийства, а 22-го, в 10 часов утра. Говорят, это
ршибка. Но это должно быть доказано. И доказательство
во власти утверждающих. Почему не позвать
фельдшера? Он дал бы окончательный перевес тому или другому
мнению. Недостатки же следствия не должны быть
поставлены на счет обвиняемого. В отношении Галкина
Овчинников показал, что, возвращаясь от фельдшера, видел
его шедшим целиком сначала по огороду Савицкого, а
потом Батыхова, и когда Галкин вышел на дорогу,
то они встретились. Здесь, на суде, Овчинников
добавил против следствия, что он спросил Галкина:
«Откуда ты?»— а тот ответил: «От Савицкого, да заперто».
Галкин, по словам Овчинникова, был мокрый, т. е.
покрыт потом. Припомните теперь показание понятого
Шумилова, который в день убийства осматривал следы в
доме Савицкого и нашел лишь один след к забору,
отделяющему огород, но огород осматривать не стал, ибо след
этот там же на дворе повернул обратно к дому. А
свидетельница Соловейчик прямо удостоверила, что для того,
чтобы попасть на огород Батыхова из дома Савицкого, не
было никакой надобности лезть через огород Савицкого,
а можно было пройти через изгородь, прямо отделяющую
двор Савицкого от огорода Батыхова. Значит, здесь дело
какой-то иллюзии, какого-то непостижимого обмана
зрения. Добавьте сюда же, что Галкин весь день и все
утро был в огороде и на глазах целого ряда лиц, которые
прямо удостоверяют, что никакой перемены ни в лице, ни
в голосе, ни в одежде никто из них не заметил. А это
изумительно. Он шел по целику снега, если верить
Овчинникову, имел истомленный вид. Я полагаю, всех этих
данных вполне достаточно для определенной оценки
показаний Овчинникова. Тут какой-то оптический обман, менее,
конечно, страшный того, в который может впасть
правосудие, доверившись ему.
Я бы мог еще назвать ряд оправдательных данных
для Галкина, но думаю, что они без напоминания
достаточно памятны вам. Позвольте мне перейти к
заключительной мысли моих объяснений. Быть может, вы
остановитесь перед вопросами: а все же преступление есть,
кровь пролита, жизнь человеческая погублена? Но
помните, вы караете преступника, а не преступление,
которое составляет роковой, непоправимый факт жизни. В
судебной истории загадочные процессы не редкость. Как же
относиться к ним? По поводу них я назову вам призыв
470
одного знаменитого французского адвоката. Он говорил:
«Если все напряжение воли, все усилия человеческого
ума, опыта, знания остаются напрасными в раскрытии
преступления, правосудию остается безмолвствовать
перед таким положением вещей. Оно должно отпускать
людей освобожденными, так рассуждая: «Значит, сам
Бог решил изъять это дело от земного правосудия и
оставить до Своего суда решающее слово над ним». Я думаю,
это именно такой процесс. И только такое отношение к
нему с вашей стороны будет наиболее справедливым и
разумным.
Присяжным заседателям было предложено только
два вопроса о виновности подсудимых. Вердиктом
присяжных они были признаны невиновными.
ДЕЛО
Н ОТО ВИЧ А
Это дело по формальным признакам не должно
бы войти в настоящее издание, поскольку присяжные не
принимали участия в его рассмотрении. Но мы решили
его включить, поскольку, во-первых, дела о
диффамации и оскорблении в печати после принятия нового
Закона о печати и введения суда присяжных могут и даже
должны оказаться в его подсудности (а речь П. А.
Александрова по праву считается одной из лучших, если не
самой лучшей, в защиту свободы печати) и, таким
образом, эта речь может быть столь же полезной сегодня,
как и другие речи сборника, а во-вторых, у читателя
будет возможность сравнить и оценить речи русских
юристов, произнесенные в суде с присяжными
заседателями и обращенные только к коронному суду.
В 1888 году в газете «Новости» была напечатана
статья «О чем говорить». Вслед за ней появилась еще
серия статей, в которых вскрывались злоупотребления в
деятельности Петербургско-Тульского банка. В этих
статьях деятельность банка сравнивалась с
деятельностью Саратовско-Симбирского банка, дело о котором в
свое время рассматривалось в уголовном порядке и
главные «деятели» которого оказались на скамье
подсудимых. Членами правления Петербургско-Тульского
банка была подана жалоба прокурору Петербургской
судебной палаты, в которой к редактору газеты «Новости»
Нотовичу предъявлялись обвинения в публичном
оскорблении и клевете. Окружной суд признал Нотовича
виновным в инкриминируемых ему преступлениях.
Приговор был обжалован защитой. С.-Петербургская палата
оправдала Нотовича. Ее приговор был обжалован в Се-
472
нат, который отменил приговор судебной палаты и
направил дело на новое рассмотрение.
Вторично дело слушалось 10 февраля 1893 года.
Защищал Нотовича П. А. Александров. Это была его
последняя судебная речь —«лебединая песня».
Речь присяжного поверенного
П. А. Александрова в защиту Нотовича
Господа судьи! На страницах уложения о наказаниях
мирно покоится статья закона, редко тревожимая, редко
вспоминаемая, ждущая того желанного луча рассвета,
когда наступит и для нее естественный час бесшумного
погребения. А казалось при ее рождении, еще не
особенно отдаленном, что ей предназначена деятельная
будущность. Вооруженная мечом довольно-таки солидного
вида, в форме пятисотрублевого штрафа и
шестнадцатимесячного тюремного заключения, она призвана была
стать на страже между порывами к обличению
существующего зла и оскорбляемостью поносителей всякой чести,
умиротворять и уравновешивать эти два враждующие по
своей природе элемента. Я разумею закон о диффамации.
Он прост и ясен, тверд и решителен!
Не оглашай в печати, заповедует он, ни о частном,
ни о должностном лице, ни об обществе, ни об
установлении никакого такого обстоятельства, которое могло бы
повредить их чести, достоинству или доброму имени.
Не все отнималось у печатного станка в его погоне за
текущими явлениями современной жизни. Прежде всего
и сам закон допускал исключение. Наказание
устраняется, если подсудимый посредством письменных
доказательств докажет справедливость позорящего
обстоятельства, касающегося судебной или общественной
деятельности лица, занимающего должность по определению от
правительства или по выборам. Правда, конечно, и то,
что лица, занимающие должности по определению
правительства или по выборам, если совершают деяния, не
соответствующие чести и достоинству, то, в большинстве
случаев, не чувствуют склонности вверять следы этих
деяний письменам, а тем более выпускать такие письмена в
свободное обращение.
Остается затем розовая область отрадных явлений.
Оглашение таких явлений не возбранено; в этой области
печать свободна. Хвали — что можно, одобряй — где
нужно, славословь — где выгодно, ликуй — когда это
предоставлено.
473
Никто не оспаривал обязательной силы закона о
диффамации, никто не дерзнул возбуждать к нему
неуважение, и тем не менее случилось так, что жизнь пошла
помимо закона. Справедливые общественные требования
и необходимость заставили смягчить его безусловные
требования, и в этом уклонении жизни от закона
оказываются виновными не одни только обывательское
самовольство и писательская продерзость; к уклонному
направлению приобщили себя и властная рука
администратора, и подзаконный взгляд судьи. Справедливые,
честные, благонамеренные обличения звучащего зла
более и более становились полезными и необходимыми
для общественной дезинфекции. Правительству не раз
пришлось с выгодой воспользоваться в общественных
интересах разоблачениями в печати. Суд силой вещей и
требованиями времени побужден был входить в оценку цели
обличения, цели, которая, по буквальному смыслу
закона, не должна была бы иметь значения для кары.
И в конце концов закон о диффамации, в его
практическом приложении, остался вполне целесообразным
лишь в сфере обличения частной жизни, не имеющей
общественного интереса. Общественные и
правительственные установления, должностные лица сами увидели,
что закон этот недостаточен для реабилитации их
оскорбленной чести, остающейся под сомнением и после обви-.
нительного приговора над диффаматорами. Процессы о
диффамации стали редки, бесцветны и маловнушительны.
Праздную скамью обвиняемых в диффамации заняли
обвиняемые в клевете. Картина выиграла в своей
грандиозности и, скажу, в симпатичности. Обвинитель являлся
уже не с намордником, готовый набросить его на уста
обвиняемого, как только они раскрывались для
доказательства справедливости напечатанного. Рыцарски честное
преследовалось в этой борьбе равным оружием и с
уравновешенными условиями. Оскорбленный отдает себя
публичному изобличению, он требует доказательств,
оставляя за собой право опровергать их. Но вид иногда
прекрасен только сверху. Уравновешенность условий
борьбы в процессах о клевете нелегко достижима.
Обвинители не расположены делиться теми сведениями,
которые находятся в их распоряжении и в их архивах. Так
было и по настоящему делу. Наглядным доказательством
разверстки акций между подставными акционерами
могла бы послужить квитанция банка, по которой
заложенные там акции Масловского препровождены
временно для общего собрания в правление Тульского банка.
474
Обвиняемый просил об истребовании такой квитанции,
относящейся к общему собранию 1881 года; ему в этом
было отказано. Нотович просил об истребовании от
правления банка производств по содержанию, ремонту и
продаже указанных им домов, оставшихся за банком, в
подтверждение неправильностей отчетов. Масловский
оспаривал право Нотовича на подобное ходатайство, и в
ходатайстве было отказано. В своем возражении
Масловский заявляет:
«В качестве частного обвинителя я оставляю за собой
право представлять только те доказательства и
письменные документы, которые я лично признаю необходимыми
в интересах разъяснения настоящего дела» (заявление
Масловского судебному следователю).
Вот вам и равенство борьбы, и уравновешенность
условий. Не мудрено, что при таком равенстве у
обвиняемого если не совершенно отнимается язык, как в процессе о
диффамации, то связывается настолько, что о равенстве
оружия не может быть и речи. А казалось бы, чего же
правителю Тульского банка уклоняться от возможно
широкого расследования дела и, следовательно, возможно
убедительнейшего восстановления их оскорбленной
чести?
Но недостаточно одного процессуального
уравновешивания сил и средств борющихся на суде сторон.
Требование этого разъяснения, требование справедливого
взвешивания и определения условий и взаимных отношений
автора произведения, считающего себя оскорбленным,
идет дальше, идет до самого объема законного понятия о
клевете. Оскорбленный оглашением в печати позорящего
его деяния, конечно, всегда и безусловно вправе
требовать от оскорбителя истинности и доказанности
напечатанного, но мера этих требований не может не подлежать
известным смягчениям и ограничениям, й не только в
видах точнейшего определения степени и меры виновности,
но и для разрешения вопроса — существует ли
действительно виновность, удовлетворяет ли вина понятию о
клевете.
В делах о преступлениях в печати, не в пример делам
о других общих преступлениях, судья не может
замыкаться исключительно в сферу уголовного кодекса; он, в
силу необходимости и высшей справедливости, должен
быть политиком, как орган общественный, отправляющий
свои функции в соображении условий и потребностей
общественной жизни. Не нужно долго жить, чтобы видеть,
как в непродолжительные периоды изменяются взгляды
475
самой администрации на дозволенное и недозволенное в
печати, как изменяются в этом отношении воззрения
общества, как видоизменяется применение закона, хотя он
сам и остается тем же, не имея возможности поспевать
за всеми этими изменениями.
В делах о клевете выступают, в виде сторон, два
интереса, оба требующие своего охранения: интерес
общественный — обличения существующего зла, оглашения
затаившихся отрицательных явлений жизни, их
обнаружения и интерес личной оскорбительности — ограждения
и восстановления чести, если только это не есть интерес
ограждения от беспокойства и препятствования нашему
праву, любящему простор и неприкосновенность.
Характер и сила этих интересов в каждом случае требуют
особого взвешивания и не подчиняются одной
предустановленной ^ерке.
Если обличение зла, обнаружение явлений
противозаконных или просто вредных для общественности имеет
право [быть отражено] в печати, если оно является^од-
ним из необходимейших и наиболее сильно действующих
средств общественной дезинфекции, то ему должен быть
дан соответственный простор, должны быть приняты в
расчет и неизбежность ошибок, и некоторая неполнота
доказательства истинности напечатанного оглашения.
Так и понимает это наша, еще молодая в делах печати,
судебная практика. Перед вами приговор высшего суда
по делу о Куликове.
Куликов судился по ст. 1039 уложения, но содержание
приговора может одинаково относиться и к делам о
клевете. В этом приговоре мы видим, что Куликов судился
за то, что относительно управы, где он, кстати сказать, и
служил, он напечатал заявление, в котором, между
прочим, называл служебные действия членов управы
относительно хранения и распоряжения деньгами
систематическим хищением земских денег, т. е. прямо обвинял их в
уголовном преступлении тяжкого свойства. Сенат нашел
выражение неуместным, но указал, что «оно еще не
служит для применения к Куликову ст. 1039 уложения, так
как такая характеристика не содержит в себе прямого
указания на совершение членами управы каких-либо
преступных действий, а может быть относимо к
беспорядочному и невыгодному для земства ведению земских дел».
Такой взгляд и прием совершенно противоположны тому,
каким пользуются обвинители по настоящему делу. Сенат
продолжает: «...документальные данные в пользу
Куликова, содержащиеся в подробном его показании при
476
предварительном следствии, а равно приложенные к делу
выдержки из журналов земских собраний и
удостоверения старшин содержат в себе некоторое подтверждение
указаний обвиняемого на непроизводительность трат
земских денег и на известные неправильности в их
расходовании». На этом основании Сенат оправдал Куликова.
Следовательно, оказалось достаточным не всецелое, не
полное, а лишь некоторое подтверждение данных из всего
обличения, напечатанного Куликовым, чтобы признать
действия его не подлежащими наказанию.
Вот тот прием, который может и должен быть по всей
справедливости применяем вообще к делам о печати,
когда дело идет об обнаружении и обличении
существующего общественного зла. Мера требований по отношению к
истинности и доказанности напечатанного в
обличительной статье по справедливости должна степениться в
приложении к отдельным случаям. Наиболее строгими
должны быть такие требования, когда дело идет об
оглашении какого-либо действия из домашней жизни частного
лица. Частная жизнь по большей части не имеет
никакого общественного интереса; оглашение ее может служить
только удовлетворением праздного любопытства. Строгие
требования справедливо прилагать, когда дело идет о
лице должностном, общественном деятеле, деятельность
которого не публична, который не может охранять свою
честь и достоинство гласностью своих действий и
которому может быть нанесен несправедливым оглашением
личный непоправимый вред прежде, чем он будет в
состоянии оправдаться посредством процесса о клевете против
своего неосторожного или злонамеренного обличителя.
Строже можно относиться, когда дело идет об оглашении
какого-нибудь отдельного, несложного действия,
обстоятельства, эпизодического явления, которое удобно может
быть проверено и исследовано средствами самого
обличителя, неосторожность и легкомыслие которого в таком
случае неизвинительны.
Совсем не то, когда дело идет об оглашении
ненормальных и неправильных, сомнительных и
подозрительных действий целого сложного установления, каким
является крупное акционерное предприятие. Здесь —
и значительность общественного интереса, и трудность
исследования и разведывания злоупотребления. Для
постороннего лица, публициста, здесь малодоступная
область. Требовать безусловной справедливости и полной
доказанности всего того, что в виде слухов, случайных
сведений доходит до периодического издания через его
477
сотрудников, корреспондентов, репортеров и случайных
добровольцев, значит оставить публицистическому
обличению невозможные условия. А между тем акционерные
предприятия имеют огромную важность в нашей
экономической, промышленной жизни. Общество
заинтересовано в том, чтобы операции этих капиталистических,
промышленных предприятий совершались правильно,
хозяйственно и законно, чтобы злоупотребления, которые туда
вкрадываются, открывались и обличались своевременно,
потому что от этих злоупотреблений страдают не только
хозяева предприятий, каковы акционеры, но и другие
лица, вступающие в отношения с компанией, например
облигационеры в ипотечном учреждении, вкладчики и т. п.
Опыт нескольких лет показал уже, что в большей
части акционерных предприятий — вопреки мысли и
намерению закона, рассчитывающего на ассоциацию
мелких капиталистов в акционерных предприятиях, с
определенным ограниченным числом голосов,— являются
заправилами один-два крупных капиталиста, около которых
составляется компактная партия, или же подобранная, с
собственными излюбленными, им преданными комитетами
и агентами. Одни из мелких акционеров прилипают
инертно к этой компактной массе; другие, разрозненные, не
имеющие средств сплотиться, чтобы высказаться и
сговориться, а то и просто по лени и добродушному доверию,
мало посещающие общие собрания, а если и
посещающие, то мало в них понимающие, остаются без всякого
руководительства, без указания, без средств
самостоятельно следить за действиями компанейского
учреждения, судить и проверять правильность операции.
Миллионы народных сбережений, вложенных в предприятие или
связанных с ним, сбережений небогатого люда, остаются
на воле и в распоряжении заправил, иногда
недобросовестных, иногда склонных к риску и азарту. Должна ли
печать, следящая за текущими явлениями современной
жизни, остаться безмолвной ввиду подозреваемой
опасности, предусматриваемых нежелательных последствий?
А как вовремя предусмотреть и предупредить о таких
последствиях? Какие к этому законные и широкие пути?
Акционерные предприятия обязаны к известной степени
гласности через издание отчетов, балансов, ответов на
запросы акционеров; но в балансах и отчетах и
специалисты по бухгалтерии не всегда в состоянии различить
ловко замаскированную истину; запросы и возражения
акционеров заглушаются партией господствующего в
предприятии лица. Цифры балансов, верные арифметиче-
478
ски и скрывающие весьма неверные приемы и действия
правителей предприятия, остаются языком непонятным
и недоступным для непосвященных. Потребуйте теперь от
публициста, который задался полезной мыслью —
раскрыть перед публикой некрасивые действия такого
учреждения, который по дошедшим до него слухам, по
некоторым неясностям в отчетах и балансах заподозрил
опасные злоупотребления, рискованные операции,—
попробуйте потребовать от него точной доказанности и
свободных от всякой ошибки его писаний и оглашений! Он
должен отказаться от своего намерения, от выполнения
своих полезных и честных побуждений. Обширны ли его
средства знать истину? Внутренних распорядков ему не
покажут, объяснений ему не дадут, дел перед ним не
откроют. Не открыли их перед Нотовичем и тогда, когда он,
привлеченный уже по обвинению в клевете, просил, в
видах разъяснения истины, открыть ему некоторых из них,
прямо указанные им и свидетелями дела. И после этого
хотят требовать безошибочности к строгой доказанности
малейших подробностей оглашения, его строгого
соответствия с действительностью!..
На вашей памяти, господа, и нередко при вашем
участии прошла масса банковских процессов. Вы знаете,
как они долго продолжались, какого напряжения сил они
требовали, и если после продолжительного, тщательного
и основательного следствия, на основании данных,
проверенных официальным путем и, по-видимому,
несомненных, составлялись по таким делам обвинительные акты, то
и в этих актах не раз обнаруживались и неточности, и
недоказанности, и ошибочности, и неверное освещение
фактов. И не будь на обвинительном акте казенного клейма,
марки должностного, официального характера, то, само
собой разумеется, такой обвинительный акт, появившись
в печати в виде частной статьи, дал бы удобный
материал для обвинения в клевете, потому что, помимо
фактов истинных и доказанных, в нем нашлись бы и факты
ложные, недоказанные, излишества и преувеличения.
Поэтому, повторяю, для определения наличности клеветы
необходимо сообразовать требования общественных
интересов и необходимость обличения существующего зла,
отрицательных явлений текущей жизни, с той степенью
доказанности и безошибочности сообщений, какой может
удовлетворить партикулярный автор статьи
периодического издания. Нельзя оставлять без внимания и то, от
кого исходят статьи. Ведь если бы ту статью, которую
теперь вменяют нам в вину, писал член правления, ревизи-
479
онной или оценочной комиссии С.-Петербургско-Туль-
ского банка, имевший возможность изучить и знать по
своим условиям положение дел банка, тогда справедливо
было бы требовать со всей строгостью той достоверности
и доказанности, которая недостижима по тому же
предмету для частного, постороннего лица. Но ведь Градов-
ский или Нотович были не свои люди в С.-Петер0ург-
ско-Тульском банке; они могли получать только
отрывочные сведения, проверять их только в меру своих
небольших средств разъяснениями и расследованиями, и если
они тем не менее значительную часть сообщенных ими
сведений доказали, то едва ли возможно обвинение в
клевете.
Но не на этих только соображениях утверждаем мы
якорь нашей защиты и оправдания. Мы имеем
достаточный запас доказательств истинности тех оглашений,
которые содержатся в инкриминируемых статьях. Сами
обвинители признали факты, которые относятся к проти-
воуставности и к нарушениям порядка. То же самое
признает и приговор окружного суда. Что же остается?
Остается сравнение С.-Петербургско-Тульского банка
с Саратовским, чем мы будто бы оклеветали правителей
Тульского банка.
Позвольте сказать несколько предварительных слов
относительно этого сравнения. Каким образом разбирают
и обсуждают его? Его вырывают из статьи и толкуют без
всякого соотношения к содержанию целой статьи. Прием
в корне неправильный. Из костюма вырывают клок, клок
этот рассматривают через микроскоп, увеличивающий во
много раз, отыскивают подозрительное пятно и
заключают. Нет! Судите нас по всему костюму, а не по тому
лоскуту, который вырвали наши обвинители.
Господа судьи, я не имею претензии открыть в
настоящем деле какую-нибудь новую Америку; я не задаюсь
мыслью предложить вашему вниманию какой-нибудь новый
ключ для разрешения этого дела; но по отношению к делу,
мной защищаемому, я нахожусь в некотором особенном,
скажу даже, счастливом положении. Я в нем — человек
новый. Я вхожу в него тогда, когда уже борьба давно
длится, когда она утомила и внимание, и силы
борющихся сторон, когда уже не раз склонялась в бою то их, то
наша сторона. Прежде в качестве постороннего зрителя я
поверхностно следил за борьбой, не имея причины
углубляться в ее подробности. Когда я вошел в дело в
качестве представителя одной из сторон и занялся его
изучением, я не мог не заметить, что борьба давно покинула ту
480
почву, на которой только она и должна бы вестись и на
которой только она и может быть правильно окончена.
Спор давно уже идет не о целых инкриминируемых
статьях, а об отдельных выражениях, выхваченных из целого,
оставленного вне внимания содержания статей. Весь спор
сосредоточился на том, были ли в С.-Петербургско-Туль-
ском банке такие фальшивые отчеты, дутые цифры,
выдача небывалых дивидендов, подставные акционеры, как то
было в Саратовско-Симбирском банке *, по словам
обвинительного акта. Какое место в инкриминируемых
статьях занимает сравнение одного банка с другим, до какой
степени простирается это сравнение, какое отношение оно
имеет к главной мысли, предмету и изложению целых
статей — эти вопросы остались забытыми в жару борьбы
сторон, удалившихся с истинного места боя. Поэтому,
несмотря на то что инкриминируемые статьи нам известны,
позвольте мне, хотя в возможно кратком очерке,
проштудировать содержание этих статей для того, чтобы
выяснить, что сравнение, которое служит против нас
основанием к обвинению в клевете, не составляет ни главного
предмета, ни сущности самих статей; что те выражения,
которые принимаются за клеветнические, служат лишь
пояснением главного содержания статей и тех фактов,
которые указываются не в сравнениях, а в самих статьях,
что эти сравнения' составляют только дополнительную
часть главного содержания, что если исключить эти
дополнения из статей, то статьи ни в содержании, ни в
характере ничего не потеряют, что от чтения статей
остается лишь впечатление общего их содержания, а
сравнение теряется из виду и забывается.
Первая инкриминируемая статья «Новостей» имеет
своим содержанием суждение по поводу метаморфозы,
происшедшей в балансах 1888 года, с рубрикой
«Расходы, подлежащие возврату». Это составило и содержание
статьи, и ее исходную точку.
«В прежние времена, и даже 1 января 1888 года,—
говорит газета,— в отчетах и балансах банка неизменно
красовалась статья под заглавием «Расходы,
подлежащие возврату». Подобное заглавие было весьма
заманчиво. В caMoiy деле, если за всеми действительными
расходами получаются значительные прибыли, да еще имеется
* Дело о злоупотреблениях в Саратовско-Симбирском земельном
банке рассматривалось в Тамбовском окружном суде в июне — июле
1887 года.
16. Заказ № 571
481
в перспективе возврат каких-то временно издержанных
сумм, то чего же и желать лучшего.
В балансе на 1 декабря, однако, эта успокоительная
рубрика совершенно исчезла. Взамен ее появляется
новая: «Расходы по имуществам, состоящим за банком»—
на сумму 914 339 рублей 55 копеек. Расходы,
«подлежащие возврату», каким-то чудом исчезли и выставили
вместо себя горько-кислую цифру расходов, попадающих
в бездонную бочку «имуществ, состоящих за банком».
«Но что это, собственно, за имущества, состоящие за
банком?»— спросят читатели.
Вопрос вполне уместный.
Это та же история, что получилась с обществами
городского взаимного кредита или с пресловутым
Саратовским банком. Ссуды выдавались широко. Если
злоупотребление и спекуляция вкрались в деятельность
кредитного учреждения, построенного на начале взаимности, то
в акционерном банке они почти неизбежны; это
соответствует самой их природе».
Затем непосредственно следуют строки, в которых
хотят видеть клевету. Это — сравнение с Саратовским
банком.
Прежде всего эти строки сравнения обоих банков
относятся исключительно к обвинению в широкой выдаче
ссуд, как несомненно явствует из предшествующего
текста. Кроме как об обширной выдаче ссуд, ни о чем
другом до этого сравнения не говорится. Во-вторых,
сравнение относится к С.-Петербургско-Тульскому банку и его
операциям, без указания на отдельные периоды
существования банка и его правлений; поэтому если наличный
состав правления, действующий с 1882 года, не считает
себя виновным в широкой выдаче ссуд, то он и не имеет
никакого повода принимать объяснения в этом
отношении на свой счет. Все, что может принять на себя из
статьи наличный состав правления С.-Петербургско-
Тульского банка, это ту часть сравнения, в которой
говорится как о последствиях широкой выдачи ссуд —
прикрытия неизбежных прорех — мнимых прибылей и недочетов
первых годов существования банка. На свой счет могут
отнести представители наличного состава правления
и отчисление, при помощи отчетов, более или менее
кругленьких прибылей. Таким образом, весь пассив, который
могут поставить на наш счет наши противники по первой
инкриминируемой статье,— это обвинение их в сокрытии
убытков, недочетов и отчислений ими в свою пользу
лишних прибылей.
482
Но прежде чем я буду балансировать этот пассив,—
буду я его балансировать тогда, когда извлеку
истинную сущность всех инкриминируемых статей,— я
предложу краткое изложение теперь разбираемой мной
статьи.
Вы припомните, что выше в статье было сделано
сравнение С.-Петербургско-Тульского банка не только
с Саратовским, но и с обществом взаимного
поземельного кредита. Сделано было еще более сильное обобщение.
Сказано было, что злоупотребления и спекуляции почти
неизбежны в акционерном банке.
Продолжая в том же смысле, статья говорит:
«Искусственные отчеты и мнимые прибыли
необходимы каждому акционерному банку на первых порах его
деятельности. Без этого он не добудет ни закладчиков, ни
охотников покупать закладные листы. «Надо поддержать
курс акций» — это вам скажет всякий акционер. Но
курсовая цена акций определяется их дивидендом. Для
выдачи дивиденда необходима прибыль, которую
приходится на первых порах сочинять, пока операция не
расширится. В свою очередь развитие операций в акционерном
банке зависит от широты кредита, которая привлекает
заемщика, а широкие условия кредита влекут ошибочные
выдачи, несостоятельность отдельных заемщиков и
потери.
Таковы рамки и условия деятельности акционерных
банков. Весь вопрос в том, чтобы вовремя остановиться,
вовремя прекратить первоначальное спекулятивное
направление деятельности, разделаться с рискованными
выдачами и ликвидировать старые потери».
И после такой защитительной тирады, находящейся в
той же статье, где сделано сравнение С.-Петербургско-
Тульского банка с Саратовским по поводу широких ссуд
и мнимых прибылей, позволительно ли заключать, что
статья имеет целью оклеветание банка? Нет, это не
клевета, это — аналогия банковских спекуляций и противо-
законностей, где берут под защиту все банки, не
исключая, конечно, и С.-Петербургско-Тульского.
Разделяя, далее, акционеров на действительных
и спекулянтов, газета говорит:
«Главная задача последних заключается в возможно
более продолжительном и хотя бы искусственном
возвышении прибыли даже в ущерб всему предприятию».
И тотчас продолжает:
«Мы не решаемся, конечно, утверждать, что такое
именно положение С.-Петербургско-Тульского банка».
483
Более умеренной и спокойной, более сдержанной
критики положения и операций банка трудно и требовать.
Не чем иным, как желанием сделать спокойным и
правдивым сообщение о положении дел банка, объясняются и
следующие строки статьи:
«Несомненно, что во-владении банка очутилось много
имуществ, владельцы которых оказались
несостоятельными по той простой причине, что полученные ими ссуды
невозможно было оплачивать доходами из заложенного
имущества. Имеются, говорят, и такие имущества, ссуда
по которым превышает их стоимость. Несомненно,
наконец, что благоразумная часть действительных акционеров
ежегодно из сил выбивается, чтобы взглянуть в лицо
истине, какова бы она ни была. Правленская же партия,
наоборот, замедляет ликвидацию прежних рискованных
и неудачных операций, так как прямой интерес ее —
возвышать дивиденды на акцию. Чем больше выведенная по
отчетам прибыль, тем крупнее и те добавочные
отчисления, которые выпадают на долю правления».
Затем статья приводит сведения об убытках банка от
продажи оставшихся за ним домов, переходит к
указаниям на неправильные операции и оценку принадлежащих
банку процентных бумаг, насколько это известно из
отчетов банка, к указаниям на то, в чем сами обвинители
не усматривают клеветы, и оканчивается следующими
словами:
«Желательно,— пишут нам,— чтобы в общее
собрание явилось возможно большее число действительных
акционеров, чтоб не дать одному крупному акционеру, хотя
бы и заложенных акций, добиться отчисления высокого
дивиденда в личных его видах».
Вот истинная цель и существенный вывод всей статьи.
Ни в каких уголовных злонамеренностях статья не
обвиняет С.-Петербургско-Тульский банк; сравнение его с
Саратовским не простирается на все те преступления,
которые указывались в обвинительном акте Саратовского
банка. Напротив, даже возвышенные ссуды и отчисление
преувеличенных прибылей на первое время, в чем,
собственно, и заключалось сравнение, оправдываются
необходимостью под условием остановки вовремя. Статья
имеет целью обратить внимание разрозненных
акционеров на предстоящее определение дивиденда и
воспрепятствовать неосторожному исчислению прибылей. Характер
статьи спокойный и сдержанный, и она не представляет и
намека на какую-либо клевету, так как огорчающее
наших обвинителей сравнение с Саратовским банком забы-
484
вается и теряется при чтении всей статьи, возбуждающей
и обсуждающей вопросы, имеющие лишь частичное
отношение к одной, и отнюдь не главной, доле деятельности
Саратовского банка. Но ни о какой Ново-Никольской
даче, так много фигурировавшей в Саратовском банке, ни о
каком позаимствовании на личные нужды из запасного и
основного капиталов, ни об употреблении
представителями банка ценностей банка на их личную биржевую
игру — ничего в этой статье не говорится. Поэтому и
сравнение не может простираться на все те злоупотребления,
которые существовали в Саратовском банке и на которые
не указывалось относительно С.-Петербургско-Тульского
банка.
Последняя инкриминируемая статья «Новостей» есть,
собственно, полемическая статья против газеты «Новое
время».
«По некоторым случайным обстоятельствам,—
говорится в статье,— мы уже пятый день остаемся в долгу
перед «Новым временем». Дело идет о любовном
вмешательстве этой газеты в наши разговоры с правлением
С.-Петербургско-Тульского банка».
Я прошу обратить внимание, что статья эта
напечатана 13 января, следовательно, до возбуждения дела о
клевете, когда Нотовичу или автору статьи не было
надобности оправдываться в том обвинении, которое было
предъявлено позже.
Объясняя, какую услугу оказывает правлению
С.-Петербургско-Тульского банка нововременская заметка,
газета обращается к статье, напечатанной в № 354, и
выражается таким образом:
«Характеризуя общие условия действий земельных
банков, построенных на акционерном начале, мы
сказали: С.-Петербургско-Тульский банк и его операции то же
самое, что Саратовский банк и его операции».
Итак, вот как сама газета определяет смысл своего
сравнения, употребленного в статье № 354.
«Характеризуя общие условия действий земельных акционерных
банков», газета сделала сравнение двух банков, а не с целью
приписать Петербургскому банку те же и такой же
важности преступления, какие возводились на Саратовский
банк. Так оно и было, как вы видели, при разборе всего
содержания статьи № 354.
Продолжая полемику дальше, газета ставит вопрос:
«Правы мы были или нет, сравнивая С.-Петербургско-
Тульский банк с Саратовским? На этот вопрос вполне
категорический ответ дает само опровержение правления
485
С.-Петербургско-Тульского банка (напечатанное в
предыдущем номере газеты, из которого тут же приводится
выдержка). Само правление признает,— продолжает
статья,— что, несмотря на отчеты и балансы,
свидетельствовавшие о полном благополучии и процветании банка,
невзирая на ежегодные выдачи дивиденда,
действительное положение банка в 1882 году было очень близко к
«ликвидации» и «к сопряженному с нею полнейшему
разорению акционеров». Точно так же, сознается
правление, что убытки, понесенные банком от
раздачи мнимых дивидендов, до сих пор еще не покрыты
вполне».
Прошу обратить внимание на то, что цитированные
сейчас строки имеют в виду С.-Петербургско-Тульский
банк как за время до 1882 года, так и после этого года
и что к наличному составу правления, вступившему
в 1882 году, положение банка, доведенного до близости к
ликвидации, и относимо быть не может, а могут принять
на себя обвинители лишь ту часть заметки, где говорится
о непокрытии убытков вполне! Следовательно, только
упрек в этом непокрытии могут принять на себя наличные
члены и председатель правления. Вот по поводу этого-то
непокрытия убытков, происшедших от прежде выданных
чрезмерных ссуд, и говорит непосредственно то место
статьи, которое принимается за клевету со стороны Ното-
вича.
«Ясно, следовательно, что мы были правы, говоря, что
Саратовский банк судился за неудачу, за крах, за то, что
он не успел развить свои операции и при помощи их
покрыть прошлые грехи и уголовные материалы».
Теперь я прошу вас воздать честь газете, дать
прочитанному и инкриминируемому месту статьи ее
истинный смысл и только этим истинным, входившим в
намерение автора и правильно им выраженным смыслом
ограничить обязанность его ответа за напечатанные
слова. Дело идет, очевидно, не о всей полноте преступлений
и злонамеренностей, приписываемых Саратовскому
банку, а единственно лишь о непокрытии убытков от
чрезмерных ссуд. Только в объеме этого нарушения устава
и для его осуществления употребляются те средства,
которые перечисляются затем: фальшивые отчеты, дутые
цифры, выдачи небывалых дивидендов и искусственно
составленные общие собрания. В этом объеме и в этом
строго вытекающем из содержания статьи смысле мы и
принимаем ответ за приведенное место статьи и приведем
наши доказательства истинности напечатанного.
486
Сама статья, продолжаясь, выясняет личный взгляд
автора на то, что против банковских злоупотреблений
употребление карательных средств не представляется
спасительным средством. Таким средством может быть
только более внимательный надзор за действиями
правлений, тщательное посещение общих собраний, ревизия и
гласность дела акционерных предприятий.
В этой части статьи находится одно место, которое
оказалось возможным выкроить так, что из него фраза
вышла, как фраза клеветнического содержания, и в
таком виде вошла в частную жалобу и в приговор суда.
Вот это место в его полноте.
«Когда уголовные громы разразились над головами
людей, виновных в том самом, что творится в С.-Петер-
бургско-Тульском банке и в большинстве других
акционерных компаний, мы стали на сторону присяжных (как
известно, оправдавших обвиняемых по Саратовскому
банку)».
Всякий беспристрастный и не лишенный здравого
смысла читатель поймет в этой фразе стремление
оправдать деятелей Саратовского банка. Наши обвинители
сделали из фразы сокращение, отбросив в начале слово
«когда», и в конце, начиная со слов «и в большинстве».
Фраза оказалась сразу обидной для С.-Петербургского
банка. Мы отстраняем от себя эту выкройку из слов
статьи: мы хотим, отвечать только за истинное
содержание и смысл статьи.
Статья 13-го номера оканчивалась словами:
«К оценке деятельности С.-Петербургско-Тульского
банка по существу мы возвратимся в следующих
номерах».
Это было напечатано 13 января 1889 года; 14 января
появилась первая статья, относящаяся к такой оценке, а
18-го была уже принесена жалоба на Нотовича.
Теперь, когда периодическая печать усилилась в числе
своих органов, когда она, следуя требованиям времени, с
лихорадочной поспешностью должна отвечать на запросы
дня и отмечать современные явления, читатели привыкли
относиться к напечатанному не с рабским доверием, а с
критикой. Все понимают, что в спешной, ежедневной
публицистической работе неизбежны промахи и ошибки и в
фактах, и в мнениях, и в суждениях. Теперь, чтобы
оклеветать сравнением, надо иметь малограмотных читателей,
а такие статей о банках не читают.
Теперь я приступаю к разбору тех фактов, которые
приведены в инкриминируемых статьях.
487
Я прежде всего обращусь к выдаче ссуд, явно не
соответствовавших стоимости заложенных имуществ.
«Выдача таких ссуд сама по себе,— говорит
Масловский в объяснении на апелляционную жалобу,— без
корыстных целей, без подлогов и обманов, без стачек с
залогодателями и прочее, составляет не уголовное
преступление, а просто действие неосторожное, неблагоразумное»
(заметьте — эта неосторожность и неблагоразумие
касаются не своего, а чужого, управляемого имущества).
«Преувеличенные оценки и ссуды, доставлявшие
банку громадные убытки, имели место только до 1882
года, при прежнем составе правления банка».
«В деле не оказывается никаких доказательств того,
чтобы и выдача этих преувеличенных ссуд при прежнем
правлении сопровождалась какими-либо
обстоятельствами уголовного характера, указанными в обвинительном
акте^ по саратовско-симбирскому делу».
Вместе с тем в опровержении на статью газеты
«Новости» настоящее правление банка сочло долгом заявить,
что дело Тульского банка стояло в 1882 году накануне
«ликвидации и сопряженного с нею полнейшего
разорения акционеров». Достаточно сильно сказано!
Что же по поводу выдачи ссуд сказано в статьях
«Новостей»?
«Ссуды выдавались щироко, как выдавались они в
обществе городского взаимного кредита и в Саратовском
банке». Сравнение, таким образом, делается не с одим
Саратовским банком. Выдача преувеличенных ссуд
относится не к наличному составу правления, а к банку
вообще.
Мало этого. Широкая выдача ссуд, по крайней мере
на первое время, даже оправдывается.
«Развитие операции в акционерном банке зависит
от широты кредита, которая привлекает заемщиков, а
широкие условия кредита влекут ошибочные выдачи,
несостоятельность отдельных заемщиков и потери».
«Несомненно, что во владении банка очутилось много
имуществ, владельцы которых оказались
несостоятельными по той простой причине, что полученные ими ссуды
невозможно оплачивать доходами из заложенного
имущества. Имеются, говорят, и такие имущества, ссуда по
которым превышает их стоимость».
Где же здесь прямое приписывание наличному
составу правления С.-Петербургско-Тульского банка
злоупотреблений и уголовных преступлений? Но что сходство с
Саратовским банком есть — это несомненно.
488
На странице седьмой обвинительного акта по делу
Саратовского банка мы видим, что расстройство дел
этого банка должно быть приписано, между прочим,
«выдаче ссуд, явно не соответствовавших стоимости
заложенных имуществ».
Между тем в некоторых преувеличенных ссудах
Тульского банка позволительно предполагать и нечто
большее, чем неблагоразумие, неосторожность и ошибку. Так,
о подобных ссудах имеются сведения по лонаы
Киселева, Хомяковых, Корвин-Круковского, Рогова,
товарищества Петровских линий в Москве и других.
Именно по этим-то домам Нотович и желал иметь
дело производства правления, но Масловский отказался
их представить.
Затем позвольте привести показание Адамовича о
некоторых выдачах. Под дом Киселева в ссуду выдано
130 тысяч рублей, а продан он за 15 тысяч рублей.
Тут уже широта выдачи ссуды представляет нечто
колоссальное! Вы помните, что против оценки выдается в ссуду
60 процентов. Если затем не только не выручаются эти
60 процентов, но из 130 тысяч рублей выручается только
15 тысяч рублей, помимо затраченного громадного
капитала на ремонт, и, кроме того, одна часть этого строения,
по требованию градоначальника, была снесена как не
удовлетворяющая условиям в техническом отношении
и грозившая опасностью для жизни проживающих в нем
лиц; если обнаруживаются такие обстоятельства и
ошибки, то тут уже недостаточно говорить об одной
неосторожности, но тут позволительно предполагать уголовный
материал, который, может быть, при известных условиях
мог привести и на скамью подсудимых. Под дом
Хомяковых в Москве ссуды выдано 700 тысяч рублей, а продан
он Гартман за 525 тысяч рублей. Затем под дом Корвин-
Круковского с банями ссуды выдано 300 тысяч рублей, а
на ремонт истрачено около 80 тысяч рублей и списано
процентов и других расходов до 70 тысяч рублей; продан
дом Котомину за 325 тысяч рублей. Опять убытки
громадные, которые едва ли могли быть объяснены просто
ошибочной выдачей ссуды. По дому Рогова числилось
капитального долга на 1 января 1889 года 330 тысяч рублей,
продан он за 290 тысяч рублей. Из этой суммы следует
вычесть 10 тысяч рублей уплаченного гонорара за
продажу дома. Стоимость ремонта этого дома около 60 тысяч
рублей.
Позвольте затем процитировать показание Безродного.
Вот что говорит свидетель Безродный о широкой выдаче
489
ссуд. Безродный был избран членом ревизионной
комиссии. Еще до начала деятельности этой комиссии до
свидетеля стали доходить слухи о рискованных действиях
правления, преувеличенных и неправильных ссудах.
Свидетель взял на выдержку несколько дел о ссудах, из
которых усмотрел, что оценка имущества производится,
вопреки уставу, не всеми членами оценочной комиссии
коллективно, так как на протоколах оценок имелись
подписи лишь одного-двух членов-оценщиков, а также что
объявление банка подписано не тремя членами банка,
как бы надлежало, а иногда только одним. Свидетель
настаивал, чтобы его особое мнение было напечатано, чего
председатель Борисов не исполнил. Вслед за тем
Безродный не был выбран в члены ревизионной комиссии.
Итак, вот свидетель, который дает понятие, что в
широкой выдаче ссуд следует усматривать нечто большее,
чем неблагоразумие; что это были нарушения таких
правил устава, при которых сами выдачи могут быть
недействительными, при которых нельзя было решить,
действительно ли эти ссуды выданы по решению правления в
полном составе, т. е., по крайней мере, в составе трех
членов. Безродный не ограничивается этим; он прямо
указывает те дома, по которым он замечал подобные
нарушения. «Вообще,— говорит Безродный,— о правильности
производимых оценок точного заключения вывести
нельзя, нет копий контрактов, условий и других документов
о доходности. При рассмотрении многих дел оказалось,
что протоколы подписывались лишь двумя членами, а
журналы о выдаче ссуд — двумя лицами правления.
Точное соблюдение устава желательно в видах большой
обеспеченности и правильности производства и выдачи ссуд.
Обращаясь к некоторым более значительным по своим
размерам ссудам, могу сказать, что подобные
несоблюдения устава банка были допущены при ссудах; по дому
Хомяковых ссуды 700 тысяч рублей, по дому Рогова —
330 тысяч рублей. Протоколы оценочной комиссии и
журналы правления о выдаче этих ссуд подписаны только
двумя лицами. По дому общества аптекарского
товарищества ссуды 552 тысячи рублей, а протокол оценочной
комиссии — только за двумя подписями».
Вы видите, что и тут повторяются имена некоторых
домов, на которые было указано Адамовичем и
делопроизводства о которых тщетно просил Нотович. Итак,
вот основание к тому, чтобы заподозрить, что в такой
широкой выдаче ссуд был некоторый уголовный
материал, который, может быть, и не довел бы до скамьи подсу-
490
димых, но который мог бы правление познакомить с
камерой судебного следователя в том случае, если бы банк не
вышел благополучно из затруднения, если бы банк в
силу причин, хотя бы и не зависящих от правителей банка,
потерпел крушение. При таких условиях действительно
можно смело говорить об уголовном материале, положим,
если не по ст. 1154, то по ст. 1155, которые
предусматривают неправильные действия в производстве ссуд с
ущербом для банковых установлений. Следовательно,
недостает только ущерба, который легко мог случиться, как мы
дальше будем иметь возможность доказать.
Настоящий наличный состав правления банка
совершенно открещивается от своих предшественников,
бывших до 1882 года. Однако оказывается, что связь между
наличным составом правления, оценочной комиссии и
ревизионной комиссии, который существовал в 1880, 1881
и 1882 годах до правления в настоящем составе
и этим последним, чтд эта связь, по крайней мере,
в отношении нескольких лиц осталась и что, таким
образом, традиции, которые существовали в банке
до 1882 года, могли переходить и к преемникам,
действовавшим после 1882 года. Так, мы можем
упомянуть о самом Масловском, который был до
1882 года хотя частным, но влиятельным акционером.
В правлении банка в 1880 и 1881 годах участвовал,
например, Г. Ф. Черкасов, член настоящего правления
банка, а в оценочной комиссии за те же годы участвовал
А. Н. Костомаров (который теперь состоит членом
правления банка), как это видно из подписей на отчетах за
эти три года правления и оценочной комиссии. Затем в
оценочной комиссии в 1888 году мы встречаем двух лиц,
бывших в оценочной комиссии 1880 года (М. Ф.
Масловский и А. Ф. Тиздель), и четырех лиц оценочной
комиссии 1881 года (А. Ф. Тиздель, М. Ф. Масловский,
О. С. Бок и Г. С. Бок). Что удивительного, что дух
банка до 1882 года мог не исчезнуть и в более позднее
время?
Приведем показание свидетеля Михельсона,
относящееся к тому же предмету. Михельсон, между прочим,
говорит: «По моему мнению, с оставлением в 1881 году
председательства в правлении банка Борисовым никакой,
в сущности, перемены в правлении не произошло, так
как в то время Масловский имел решающее
значение в делах банка и все, совершавшееся в банке при
Борисове, делалось и совершалось с ведома и согласия
Масловского, а в личном составе правления со вступ-
491
лением Масловского в председательство не
произошло почти никаких перемен».
Таким образом, оказывается несправедливым
отвергать всецело связь настоящего состава правления с тем
составом, который был до 1882 года.
Перехожу к другому пункту — относительно выдачи
акционерам преувеличенных дивидендов.
Относительно выдачи преувеличенных дивидендов
читаем в инкриминируемых статьях: «Мнимые прибыли
необходимы каждому акционерному банку на первых
порах его деятельности. Надо поддержать курс акций. Но
курсовая цена акций определяется их дивидендом. Для
выдачи дивиденда необходима прибыль, которую
приходится на первых порах сочинять».
Выдача небывалого дивиденда указывается в третьей
статье как одна из черт сходства Тульского банка с
Саратовским.
В обвинительном акте по Саратовскому банку в числе
причин расстройства дел этого банка действительно
указывается: «Выдача акционерам дивиденда в размерах,
превышающих действительно полученные банком
прибыли».
«Но в Саратовском банке,— говорит Масловский,—
дивиденд выдавался из запасного и складочного
капитала, так что указанное капиталы совсем исчезли; в
Тульском же банке, напротив, эти капиталы увеличились».
Однако и суд в своем приговоре допускает право
рассуждать, вследствие раскрытых обстоятельств, о том, что
правление банка вело дела нерасчетливо, так как
основывалось при выдаче дивиденда на таких надеждах,
которые могли оправдаться в будущем. Тем не менее, говорят
и суд, и обвинители, в этом не было тех преступлений,
которые выведены обвинительным актом относительно
Саратовского банка. О преступлениях не говорилось в
статьях, а уголовный материал такие отчисления
дивидендов действительно могли представить, если бы
правителям Тульского банка не удалось избежать
расстройства дела, благодаря, положим, не только их умению, но
и счастью, которого не оказалось в Саратовском банке.
С выдачей небывалых дивидендов легко ознакомиться
по тем сведениям, которые имеются в деле.
Правители Тульского банка в настоящем личном
составе жаловались на то, что они приняли банк в
страшно расстроенном состоянии, что затем, год за годом,
в продолжение нескольких лет, затруднения
увеличивались не только из-за прежних ошибочных действий
492
правления банка, но и из-за причин случайных, шедших
извне. Так, например, приходилось переживать домовой
кризис и всякие другие торговые затруднения и кризисы:
возникли дворянский и крестьянский банки, которые
отвлекали много выгодных операций от Тульского банка.
Тем не менее мы видим, что начиная с 1883 года
выдается дивиденд в высоком размере, доходящий до 24
рублей на акцию, следовательно, 12 процентов. И так шло
почти из года в год, за исключением одного года, когда
было выдано меньше 24 рублей, но был год, когда было
выдано 25 рублей 88 копеек. Каким образом достигалось
это? Банк переживал трудные времена. У банка
накопились непроданные заложенные имущества, требовавшие
расходов, они продавались с убытками, а тем не менее
правление имело возможность отчислить большие
дивиденды.
Покрытие убытков прибылями отдалилось на будущее
время. Убытки по оставшимся домам, несомненно,
существуют: это видит правление, но дома еще не проданы, и
сумма убытка в ее определенной цифре не может быть
высчитана. Тогда делят прибыли, как будто бы убытка
нет. Прибыли теперь, а убытки — после, когда их
сосчитаем. Казалось бы, правильнее — по нашей
обывательской арифметике — дождаться определения убытков, а
потом и высчитать гфибыли. Но по бухгалтерии выходит
будто бы иначе. Убытки отодвигались, однако, не только
потому, что они иногда не были высчитаны, что они только
предполагались, но они отодвигались и тогда, когда
были уже точно определены. Пример этому — отчет 1887
года. В нем было высчитано 290 тысяч рублей убытков, и
тем не менее этот убыток перенесен был на следующий
год, в отчете за 1888 год было прямо сказано, что 290
тысяч рублей составляли убыток, окончательно
выяснившийся к 1 января 1888 года. При таких порядках как же не
говорить о преувеличенных прибылях? Я знаю, что
прибыль, которую я высчитываю, есть только прибыль
валовая, что она не может считаться чистой прибылью,
потому что против нее существуют еще убытки, но только не
определенные в цифре. Благодаря этому передвижению
убытков и тому, что операции банка развивались и шли,
может быть, очень хорошо,— мы охотно признаем это —
благодаря умелости, энергии правителей банка могли
быть выдаваемы большие дивиденды. Но что было бы,
если бы наступили затруднения?
Это была выдача, позволю сказать, лживого
дивиденда, потому что такого дивиденда не могло быть. Ведь прав-
493
ление знало, что сумма прибыли увеличена на сумму
непокрытых, хотя и вполне выяснившихся, убытков! Я
ликвидировал свой год и в своем бюджете, положим, имею
1000 рублей, и у меня есть при этом остаток в 200
рублей. Я знаю, что у меня есть неоплаченный долг, который я
не уплачиваю потому, что он еще не определился в точности.
Разве я могу эти 200 рублей обратить в свою прибыль?
В отчете за 1885 год высказывались надежды и
утешения, что поступление, плохих домов в распоряжение
банка должно уменьшиться, а вместе с тем уменьшится и
убыток банка, и что источник затруднений, являющийся
последствием широких выдач ссуд, начинает иссякать.
Надежды эти не оправдались потому, что в 1886, 1887 и
1888 годах дома продолжали оставаться за банком и,
следовательно, затруднения банка все более и более
увеличивались. Беда могла случиться и заключаться в том, что
такое поступление домов превзошло бы запасный и
основные капиталы банка и к этому присоединились бы
затруднения, зависящие от промышленного кризиса. С чем
бы встретило эти затруднения правление Тульского
банка? Ведь те прибыли, которые они широко отсчитали,
ушли, а убытки остались, и, таким образом, крушение банка
было неизбежно. А если бы последовало такое
крушение банка, то применение ст. 1155 было бы, конечно,
вполне соответственно; а следовательно, уголовный
материал в деятельности банка безусловно был бы.
Затем говорят: мы не трогали ни основного, ни
запасного капитала, но тот и другой капитал возрос. Возрос
основной капитал сам по себе, пртому что последовал
новый выпуск акций. Это еще, собственно говоря, к чести
банка относиться не может. Запасный капитал
действительно возрос, но оказывается, что из этого запасного
капитала в 1888 году пришлось взять более трех четвертей
накопления за пять-шесть лет, и эти деньги пошли на
уплату убытков. Что же такое, говорят, что убытки
заплачены из того запаса, который мы накопили!
Позвольте приступить к этому предмету не с
бухгалтерской точки зрения, а просто с арифметической.
Прибыли исчислялись в увеличенном размере, затем из
прибылей 10 процентов шло в запасный капитал, а 90
процентов расходовались по рукам: на увеличение
дивиденда, на разные тантьемы* и разные платежи в пользу
* Тантьема — вознаграждение, выплачиваемое в виде
процентов от прибыли директорам и высшим служащим акционерных
обществ, банков и страховых компаний.
494
оценщиков, ревизионной комиссии и прочее. Таким
образом, банк из каждого рубля терял 90 копеек и
откладывал лишь 10 копеек в запасный капитал. Когда
пришлось платить убытки, которые могли быть
уплачены из прибылей прежних шести лет, тогда
пришлось терять те 10 копеек из рубля, которые
были сбережены, а остальные 90 копеек,
конечно, возвратиться не могли. Таким образом,
запасный капитал весь был составлен из тех гривенников,
которые оставались из рубля, когда 90 копеек уходили, и
этот запас, который был сделан в течение шести лет,
весь ушел на покрытие убытков. Очевидно, что
зачисление в запасный капитал — была временная передача
денег в кассу банка, из которой они должны улетучиться,
как только нужно станет платить эти убытки.
Что сама выдача дивиденда была преувеличена, это
доказывается распоряжением министра финансов о
приостановлении выдачи дивиденда за 1888 год. Министром
финансов было отвергнуто предложение правления
банка о том, чтобы убытки были разложены на
несколько лет; министр финансов признал это действие
неправильным, и совершенно справедливо,— убытки были
уплачены из прибылей года и из запасного капитала.
Нормальный ход вещей был восстановлен.
Следовательно, предшествующий прием счета дивиденда был
признан неправильным, что и требовалось доказать, на что
и обращалось внимание в статье «Новостей», что
действительно существовало и среди злоупотреблений
Саратовского банка.
Но, говорят наши обвинители, мы, выдавая
преувеличенный дивиденд, может быть, в данном случае
действовали нерасчетливо, но у нас не было корыстных
побуждений, не было того, что обнаружилось в
деятельности Саратовского банка. Как сказать о корыстных
целях? Тут бескорыстие от корысти отличить нельзя.
Бывало так: когда гора не шла к Магомету — Магомет шел к
горе. Когда правители какого-либо банка действуют в
пользу акционеров, то выгоды и барыши идут и в пользу
правителей. Действительно, стоит набавить дивиденд,
как увеличивается и собственный дивиденд правителей,
и биржевая цена акций. Все это само собой, без
особенных усилий, идет на пользу правителей банка. В этом
случае можно применить перефразировку правила
евангельской морали: «Ищите прежде выгоды
акционеров, и она вся приложится вам». Позаботьтесь
только выдавать побольше дивиденда, и всякие благо-
495
получия, все выгоды сольются к вам — в карманы
правителей.
Ввиду всего этого, господа судьи, как не
согрешишь — не скажешь, что тут что-то неладно, что, во
всяком случае, как правители банка ни заботились о выгодах
акционеров, но судьба заботилась и о них самих и об
их выгодах.
Не следует забывать также, что за акционерами стоя-
и облигационеры, о которых следовало бы
позаботиться еще прежде, чем об акционерах, потому что они были
кредиторами предприятия; они внесли в него свои
сбережения, отдавали ему в ссуду свои деньги и не искали
барышей в банке, а только хотели получить законный
процент на капитал. Таким образом, и тут оказывается, что
уголовный материал существовал; он не признан был к
действию только потому, что краха банка не последовало,
но последуй крах банка — и здесь была бы уместна
ст. 1155, как карающая за неправильные выдачи в ущерб
банка. А что такой ущерб мог быть, я уже об этом
говорил. Ведь и деятели Саратовско-Симбирского банка не по
прямой же линии шли к скамье подсудимых? Ведь они,
конечно, надеялись на известные обороты, на улучшение
дел банка, на благоприятные обстоятельства, которые
дадут им возможность извернуться, залатать те прорехи,
которые оказались в счетах банка. Не вывезло счастье,
оказалось невозможным стянуть концы с концами, и
они сели на скамью подсудимых.
Следует рассмотреть допущение подлогов в отчетах,
балансах и т. п.
По этому предмету обвинители считают клеветой то
место из статьи «Новостей», где говорится: «Фальшивые
отчеты, дутые цифры» — и ничего более.
В действительности эти слова относимы были Но-
товичем и не могут быть относимы ни к чему другому,
как к графе баланса по счету возвратных расходов.
Первая инкриминируемая статья исходной своей точкой
ставит суждение о расходах, подлежащих возврату,
говорит о том, как такая графа в балансе способна скрывать
истину и как она преобразилась в графу расходов по
имуществам, оставшимся за банком. Фальшивые отчеты,
дутые цифры только и могут относиться к возвратным
расходам, так как ни о каких других подлогах в статье
нет речи.
Что статья «возвратные расходы» в отчетах и
балансах составляла крупную бухгалтерскую неясность,
способную вводить в заблуждения, об этом едва ли можно
496
спорить. Под этим успокоительным заглавием
скрывались в значительной доле несомненные убытки или
имеющие определиться в будущем. А такие убытки не могли
считаться возвратными расходами или с ними
складываться. Возвратные расходы росли, убытки
предполагаемые увеличивались и, однако, ускользали от внимания
благодаря смешению их с действительно возвратными
расходами. Правление само отказалось от этой графы в
своих балансах, изменив ее на более точную.
Само собой разумеется, что после того как
аукционная продажа домов или имений не состоялась, когда
цена, равняющаяся сумме долга и сумме недоимок, не была
никем предложена, весьма естественно было
предположить, что за эти дома и имения не может быть
выручена та сумма, за которую они были заложены. Тогда
естественно было предполагать, что по этому долгу были
убытки, как в большинстве случаев и было. К этому
присоединялись еще известные расходы: на ремонт,
уплату недоимок, повинности и прочее. Таким образом,
стоимость этих домов для банка росла, а возможность
выручить достаточную сумму, соответственную залоговой
сумме, улетучивалась все более и более. Эта статья
баланса дожна была бы быт$> разделена на две или,
скорее всего, должна была быть в статье об убытках,
которые если затем и возвращались, то могли бы быть
отнесены к прибылям. Таким образом, оказывается, что эти
суммы возвратных расходов действительно вводили в за-
блужение, так как обыкновенно мы склонны думать, что
под возвратными расходами разумеются такие расходы,
которые сделаны, но которые, по всей вероятности,
должны возвратиться. Здесь же оказывается, что в статье
возвратных расходов были такие расходы, которые должны
были определиться как убытки в будущем.
Я опять ссылаюсь на отчет 1888 года, где видно, что
в статью возвратных расходов вошли 290 тысяч рублей
уже определенных убытков. Таким образом, эта статья,
вводящая неясность и заблуждение, могла быть названа
дутой цифрой, фальшивым отчетом, в смысле ли того
подлога, который преследуется по ст. 362 уложения, или
в другом.
Но ведь статья, которая инкриминируется, не есть
статья чисто юридическая, автор ее не обязан
выражаться точным юридическим языком. Неверные цифры,
сомнительные цифры у нас очень часто на общепринятом
языке называются дутыми цифрами. Только в этом смысле
и может быть понимаемо указание на фальшивые от-
497
четы, дутые цифры, о которых говорится в
инкриминируемой статье.
Но всего лучше, насколько вводились в заблуждение
этой статьей возвратных расходов, видно из того, что,
несмотря на то что эти отчеты представлялись в
министерство финансов, — и, конечно, представлялись
туда не для того, чтобы быть оставленными без
рассмотрения, — неправильность этой цифры не была замечена
министерством финансов, иначе еще раньше последовало
бы распоряжение о покрытии убытков, в этой статье
числившихся.
Если бы Нотович, говорит Масловский в своем
объяснении на апелляционную жалобу, упрекал правление в
недостаточной ясности статьи «возвратных расходов», то
не было бы и речи о клевете, но подсудимый доказывает,
что это подлог, что в этой статье отчета и баланса
скрывались злоупотребления банка, — в чем и заключается
клевета. Да, скрывались злоупотребления банка, именно
те, которые указывались в статье, т. е. скрывались
убытки и обеспечивалась, благодаря этому сокрытию, выдача
дивиденда. В этом отношении действительно, как
указывается в статье газеты «Новости», статья возвратных
расходов представляла не подлог — этого не было
сказано в статье, — то, что в общежитии называется
фальшивыми, дутыми цифрами.
По делу о продаже дома Котомина мы имеем журнал
правления, который, несомненно, подходит под ст. 362
уложения. Дом продан по долгосрочной ссуде на 18 лет,
а переведен без согласия владельца его на
краткосрочную ссуду на 3 года с обязательством ее возобновления
после каждых 3 лет (первая неверность); в случае
требования нотариусами сведений правление постановляет
сообщать им, что ссуда выдана из 15 серий на срок 26 лет
(вторая неверность или, вернее сказать, ложь),
поручить бухгалтерии банка провести эту операцию по
книгам, согласно журналу (прямое поручение совершить
подлог). Что бы ни говорили правители Тульского банка
о невинности этой операции, журнал представляет
несомненно уголовный материал для ст. 362 уложения.
Мне остается теперь приступить к представлению
объяснений о составлении общих собраний из подставных
акционеров.
Вопрос о подставных акционерах вызывает
разногласия. Я должен сказать, что в предыдущих заседаниях в
этом отношении была размолвка не только между Ното-
вичем и представителями обвинения, но даже между Но-
498
Заседание Московского окружного суда по делу о злоупотреблениях
в Московском коммерческом банке (дело Струсберга).
товичем и его защитником. Я, в свою очередь, вступаю
в этом отношении в разногласие с предшествовавшим
защитником и становлюсь на сторону Нотовича.
Я думаю, что всякое собрание, составленное из
подставных акционеров, есть незаконное собрание, и если
собрание из подставных акционеров не наказуется
уложением, то только потому, что деяние это было
просмотрено в законе, в проекте же нового уложения оно
уже указано. Действительно, по мысли, которая
положена в нашем законе об устройстве акционерных
предприятий, — можно спорить против справедливости самой
мысли и целесообразности ее в экономическом
отношении, — закон об акционерных предприятиях не имеет в
виду крупных капиталистов; он основан на
демократизации капитала. Вследствие этого, как бы ни было
значительно число акций, владельцы этих акций не могут
иметь более пяти голосов каждый. Говорят, что таким
образом хотят убить крупного капиталиста, что нельзя его
подчинять воле мелких капиталистов, что, во всяком
случае, если он большим количеством акций
заинтересован в предприятии, то ему, как большому кораблю,
принадлежит и большое плавание. Ему нужно дать большее
участие в деле; отсюда и следует, что если он свои акции
499
разделяет между другими акционерами, то он только
осуществляет свое право, основанное на справедливости,
хотя бы и несогласное ни с буквой, ни с мыслью
закона. С буквой закона оно не согласно, и мысли закона
оно, по-моему, вполне противоречит: закон не имел в
виду привлекать крупных капиталистов в акционерные
предприятия. Для крупных капиталистов существуют
другие предприятия: товарищества на паях и другие
тому подобные. В предприятиях, основанных на
акционерных началах, крупный капиталист не должен иметь
преимущественного значения перед другими капиталистами.
Его опасно впускать в дело, ему опасно давать все то
количество голосов, которое может соответствовать всему
количеству его акций. Если такой капиталист связывает
свои интересы с интересами предприятия, тогда он
действительно может быть полезен; вкладывая свой
более или менее значительный капитал, он и заботится
об этом капитале; а так как этот капитал на
продолжительное время связан с предприятием, то и он
заинтересован в предприятии. Но дело в том, что и такой
добросовестный крупный акционер может быть также опасен
своим усиленным влиянием, потому что он может
оказаться акционером сангвинического темперамента,
рискующим; он один может погубить целое предприятие. И
может он это сделать благодаря тому, что около такого
акционера обыкновенно собирается большая компактная
партия, которая всегда одерживает верх над
разрозненными акционерами, редко посещающими собрания,
притом в таком разрозненном виде, что не могут капиталисту
составить оппозиции. Но если этот капиталист, как это
нередко бывает, биржевой игрок или спекулянт, если он
заботится только о более скором получении гешефта, то
он в высшей степени опасен и вреден. Благодаря тому,
что около него создается партия, посредством которой
он распоряжается составом ревизионной комиссии и
всяких других комиссий, он становится неограниченным
хозяином в предприятии. Он искусственным увеличением
дивиденда может поднять цену акций до такой степени,
по которой он считает выгодным эти акции, по их
увеличенной цене сбывать на бирже; затем он уходит из дела,
оставляя его в руках других акционеров в виде
чрезвычайно невзрачном, с истощенными средствами и
прочее. Затем, выждав понижения акций, может быть, даже
искусственно подготовив это понижение, он может
скупать их, опять проделывать новую процедуру
повышения этих акций и посредством биржевой игры и ажиота-
500
жа обогащаться. Такой крупный акционер,
появляющийся в среде мелких акционеров, действительно опасен.
А если бы закон предоставил ему право иметь больше
пяти голосов, то такой акционер чувствовал бы себя
совершенно свободным в этой сфере и мог бы уже законно,
по своему усмотрению, так или иначе шатать
предприятие, с которым его имущественный интерес связан лишь
временно биржевой игрой и ажиотажем. Вот почему
подобный акционер является злом, злом особенно сильным,
когда этот акционер — биржевой игрок, и опасным даже
тогда, когда такой акционер добросовестен и деятелен.
Поэтому нельзя считать непротйвозаконным, хотя и
ненаказуемым, состав общих собраний из подставных
акционеров. Мы видели примеры, представляемые
железнодорожными акционерными компаниями. Там является
сперва концессионер, который благодаря своей ловкости
выхлопотывает для себя концессию, передает ее
крупному капиталисту, который, заполучив акции в свои руки,
составляет около себя из акционеров партию;
расточительным образом строится дорога, эксплуатируется
хищническим образом и затем сдается правительству с
миллионными долгами и с содержанием в убыток, а крупный
акционер-строитель давно уже ушел благополучно из
дела. Ему нет дела ни до дороги, ни до акций, ни до
акционеров, он получил свое с предприятия. Появление таких
акционеров нежелательно. Я далек, конечно, от мысли,
чтобы А. Ф. Масловский был именно таким
акционером. Но что его влияние в Тульском банке было сильно
и что около него была партия, которая составляла его
силу и оказывала влияние на решения общих собраний,
это мне представляется несомненным. Масловский
удивляется, говорит: «Меньшинства не было. Что же это за
меньшинство, Михельсон и генерал Глуховской?» Да, не
было меньшинства, но надо было создать это
меньшинство, потому что ни одно правительство не может
правильно управлять, не имея оппозиции. Нужно было дать
все средства, чтоб образовалось меньшинство. Только
тогда можно со спокойной совестью делать то или другое
дело, когда выслушиваешь оппозицию. Но оппозиция
выслушиваема не была; меньшинство из одного из двух
акционеров тщетно добивалось, например, сокращения
выдачи дивидендов; их не слушали. Протесты этого одного
или двух акционеров оставались без последствий и не
представлялись в министерство. Если им удалось подать
какую-нибудь записку в общее собрание, то она
устранялась по той, например, причине, что подана была до сро-
501
ка, что несогласна с уставом. А вот если дома
удерживались за банком более шести месяцев — это, говорят, хотя и
противно уставу, но для пользы банка практиковалось!
Были ли подставные акционеры в С.-Петербургско-
Тульском банке? Михельсон и Глуховской говорят: да,
были, это всему миру известно. Но что же это, говорят,
за доказательство? Вы сами видели, как распределялись
акции? — спрашивали свидетелей. Возликовали сущие
во гробах дьяки и подьячие старинных прусских
приказов — не пропал, дескать, наш дух в земле русской,
несмотря на все судебные реформы! Можно же было
предложить такой вопрос! Видели, как передавались
акции? — Нет; но кто же это будет делать явно; этого,
конечно, никто не делает. Если мы будем требовать таких
доказательств, то останемся без доказательств и
остановимся на том уровне правосудия, который существовал
в старинных русских приказах. Но мы не без
доказательств. Сошлемся на показания Борисова. Борисов не
наивный ребенок, а человек бывалый. Спросите ребенка,
совершенно искреннего, наивного, и он в искренности
своей не лучше расскажет правду, чем делает это
Борисов. Борисов, конечно, не может считаться таким
ребенком, но он так освоился с системой подставных
акционеров, что рассказывает об этом как о чем-то обычном,
относительно чего не может быть ни сомнения, ни
недоразумения, ни тайны, ни смущения.
Извольте выслушать это место из показаний
Борисова. Он говорит: «Что касается отношений моих к
Масловскому, то он оказал мне поддержку при избрании
рекомендованных мной членов правления. Относительно
же роли его в С.-Петербургско-Тульском банке во время
моего управления, то я должен сказать, что через меня
он во всей подробности знал положение дел банка,
что также может быть доказано письмами его ко мне,
относящимися к концу 1881 года». «Что же касается
участия Масловского в забаллотировании в 1881 году
Безродного (припомните, господа судьи, это тот
Безродный, который указал на неправильность выдачи ссуд
и на неправильность их разрешения с формальной
стороны; после этого заявления Безродный был
забаллотирован), то, насколько я могу припомнить, на общем
собрании этого года Масловского не было, он находился
тогда (как подтвердил сам Масловский) на ревизии в
Уфимской губернии (дух его оставался в Петербурге),
а находившиеся в его распоряжении акции были
представлены к общему собранию, что доказывается избра-
502
нием для проверки списка акционеров его родственника
Кувшинникова, а также и избранием в члены оценочной
комиссии брата его М. Ф. Масловского и в кандидаты к
ним вышеупомянутого Кувшинникова и затем знакомых
Масловского К. И. Масленикова и П. П. Кудрявцева, а в
депутаты для присутствования при тираже — его же
знакомого Гончаревского. Все это видно из протокола
общего собрания 26 февраля 1881 года. Но Масловский
знал от меня раньше о предстоящем забаллотировании
Безродного, а именно в 1880 году я находил нужным
изменить состав ревизионной комиссии: до 1881 года она
выбиралась обыкновенно из акционеров, знакомых
правлению». Вы видите, Борисов находил нужным изменить
состав ревизионной комиссии, т. е. тех лиц, которые
должны были ревизовать его самого. Новыми членами
были выбраны Иващенко, Костылев, Малышев, Шершев-
ский, Фишер и Чаманский...
Таким образом, дело делалось совершенно фамильно.
Крупный акционер желал, чтобы такие-то лица попали
в правление, и они попадали, они раньше намечались,
а об общем собрании никто не заботился, потому что
голос общего собрания был голосом крупного акционера.
И «милостивые государи», приказчиками которых
являлись члены правления, были такими хозяевами, которые
делали то, что приказывали их приказчики!.. Ну, как же
можно после этого не говорить о подставных, подборных
акционерах? Вот что говорит свидетель Михельсон: «В
С.-Петербургско-Тульском банке перед общим собранием
происходила фиктивная раздача акций. На общих
собраниях родственники Масловского и служащие в банке
имели на руках именно столько акций, на сколько
уменьшено число акций самого Масловского».
К делу представлен список, относящийся к. общему
собранию 1888 года. Выборка из этого списка была
напечатана в № 37 газеты «Новости» за 1889 год. Номер
этот представлен к делу самими обвинителями. Из этого
списка выводится такое заключение. В указанный
список были внесены 98 акционеров, владевших 6503
акциями и располагавших 264 голосами. Извлекаем из этого
числа имена лиц, наиболее близко стоящих к банку.
Здесь члены правления, ревизионной и оценочной
комиссий и их ближайшие родственники. Степени родства
указываются в этом списке. Из приведенного списка
видно, что 2613 акций и 102 голоса принадлежали
правлению, комиссиям, родственникам главных деятелей и
зависящим от них лицам. 102 голоса при 2613 акциях имеет
503
правленческая партия, группирующаяся около главного,
крупного акционера. Затем были четыре человека с
320 акциями, принадлежащими другому учреждению, в
котором Масловский являлся председателем. Затем еще
указываются некоторые фигуранты, но мы не можем этого
подтвердить. Но вот вам несомненная партия в 102
голоса, которая состоит из деятелей банка и их родственников.
Масловский говорит: кем составлен этот список и чем
он доказывается? Положим, перед судом все должно
быть доказано, но я вправе и себя, и обвинителей
считать за людей честных и порядочных, которые не стайут
спорить о том, о чем спорить нельзя. Если нам
обвинители скажут, что родства не существует между этими
лицами, то я устраняю список, не стану доказывать, чта
такой-то в известной степени родства с таким-то, что
такая-то состоит дочерью, падчерицей, женой, сестрой.
Если не отвергать родства, то и мы говорим, чтр 102
голоса составлялись из деятелей банка и их
родственников. Родственникам, говорят, нельзя запретить иметь
акции и являться на общие собрания. Пусть так! Но для
дела чрезвычайно важен этот родственный элемент. Так,
например, фамилия Масловских является в четырех
лицах, Кувшинниковых — в трех, Тизделя — в четырех,
Бока — в четырех, Масленникова — в двух, Черкасова —
в двух, Вайнберга — в двух. Остальные акционеры мало
появлялись на общих собраниях, а тут целыми
родственными группами идут. Говорят: мы им не раздавали
акций, но эта партия, группирующаяся около вас, есть
партия оценщиков, ревизоров, которых вы же сами
выбирали. Наконец, эта группа ваших родственников,
которые не пойдут против вас.
Ах! Господа судьи, как бы мы хорошо себя
чувствовали, если бы за вашим столом сидели теперь наши
родственники, хотя бы и уе нашего подбора. Как не
порадеть родному человеку! Составляется такая группа.
Что же могут поделать тут Михельсон и Глуховской,
которые идут против такой непреодолимой крепости и
заявляют свой протест!
Таким образом, нам представляется доказанным, что
общие собрания были из подставных акционеров. Не
было меньшинства, потому что меньшинству тут нечего
было делать; могли быть только единоличные протесты,
которые ни к чему привести не могли.
Остается еще одно: отвлечение капиталов банка на
биржевые спекуляции.
Масловский говорит, что в обвинительном акте Сара-
504
товского банка речь идет об отвлечении капиталов на
собственные биржевые операции Борисова, а в Тульском
банке этого не было. Но Нотович не утверждал, что
биржевые операции совершались на пользу и выгоду
членов правления; он просто говорил, что капиталы
отвлекались на биржевые операции. Это же нам говорят
свидетели: Михельсон, Костылев и Шершевский. Вот что
они говорят. Михельсон говорит: «Банк вопреки уставу
покупал не гарантированные правительством процентные
бумаги, причем если^банк на этих бумагах терпел убытки,
то стоимость процентной бумаги в счетах обозначалась
по покупной цене, а не по той, по которой они были
в действительности проданы». То же показывает
Костылев. Шершевский говорит: на покупку спекулятивных
бумаг затрачивалось около 8 миллионов, а года два
тому назад на бумагах этих была потеря около 90 тысяч
рублей, что подтверждается и отчетами. Вследствие
таких нарушений Шершевский вышел из ревизионной
комиссии, в которой был с 1881 по 1886 год.
Таким образом, отвлечения капиталов на биржевые
спекуляции были. Положим, они производились не к
выгоде кого-нибудь из членов правления, но тем не менее
на биржевые спекуляции обращался такой капитал,
который должен был служить обеспечением для
облигационеров, которых по капиталам было в десять раз
больше, чем акционеров. Это действие незаконное, и
разразись крах, случись с банком крушение, само собой
разумеется, что подобные операции с бумагами составили бы
уголовный материал для применения ст. 1155 уложения.
Таким образом, разобраны те факты, на которые
указывалось в статьях «Новостей». Факты эти, как вы
видите, подкрепляются свидетельскими показаниями,
справками с отчетами и балансами; но оглашение этих
фактов не вменяется нам в вину, а вменяется нам в вину то,
что эти факты мы сравнили с деяниями по Саратовско-
Симбирскому банку. Дело идет, значит, о сравнении. Нам
говорят: мы хотя все это и совершили, но злостного
намерения не имели, материала уголовного не
представляли. Относительно уголовного материала мы ужо
сказали, что каждое из этих нарушений могло быть
уголовным материалом при несчастном обороте. Что же
касается корыстных и других побуждений, -то это для
противозаконности не всегда требуется.
Нам вменяется в вину сравнение с Саратовско-Сим-
бирским банком. Неизвестно, к каким фактам относится
это сравнение. Сравнение может быть неточное, преуве-
505
личенное, неудачное, пожалуй, даже сравнение может
быть и оскорбительное, но как сравнение можно сделать
предметом клеветы, когда указывается, в каком
отношении предметы сравниваются? Если так оценивать
сравнения, то обвинений в клевете не оберешься.
Поймали на взломе амбара человека с топором и ножом.
Говорят, разбойник. Нет, говорит он, извините, я только
вооруженный вор. Два казначея взяли из ящика по пачке
денег и пошли играть в карты. Один выиграл и внес
взятую сумму в казну, а сумму выигрыша положил в карман.
Другой проиграл — его обвиняют в растрате. Говорят: оба
казначея одного поля ягоды. Не клевещите, говорит
казначей счастливый, я не казнокрад, я ничего не растратил, я
только нарушил правила о хранении вверенных мне денег.
При такой строгости каждое сравнение можно будет
более или менее обратить в клевету. Ведь сравнивают
предметы не тождественные между собой, а только
похожие в том или в другом отношении, указывая на один или
несколько признаковГсходства. Ну кто бы стал требовать,
чтобы человеческая шея, которую сравнивали с шеей
лебединой, была покрыта лебяжьим пухом? Влюбленную
девицу сравнивают с луной... Сравнение есть мнение,
вывод, его можно проверить, раз указано, к чему оно
относится. Но, говорят, сравнением с Саратовским банком мы
напомнили о скамье подсудимых; мы говорили, что вот
те попали на скамью подсудимых благодаря тому, что
запутались, а вы, перескакивая трещины и заделывая
прорехи, только благодаря этому не попали туда же... Но
разве скамья подсудимых была так далека от С.-Петер-
бургско-Тульского банка, что о ней можно говорить с
пренебрежением ?
Теми тенденциями, которыми руководились деятели
Саратовско-Симбирского банка, правители С.-Петербург-
ско-Тульского банка не задавались; тем не менее они
совершали такие рискованные и неправильные действия,
которые при несчастном обороте могли привести банк к
крушению, а крушение это могло окончиться и скамьей
подсудимых. Слава богу, она ушла и, по всей
вероятности, никогда не будет грозить почтенным деятелям
Тульского банка, с чем их и поздравляю.
Но ведь сидящие на скамье подсудимых не всегда
бывают грешнее тех, которые ходят на свободе.
Покончив с разбором тех фактов, которых касалось
дело, предстоит ответить на очень немногие вопросы,
которые возбуждаются, между прочим, жалобой
обвинителей, а отчасти возбуждаются и нашей жалобой.
506
Первое — увеличение наказания. Я, по крайней мере,
троих из господ обвинителей знаю как людей вполне
добродушных и не верю, чтобы они желали увеличения
наказания. Я думал это и раньше; это подтвердил
сегодня и представитель обвинения А. В. Михайлов,
сказавший, что, прося об увеличении наказания, они хлопочут
только о восстановлении симметрии между мотивами
суда и резолютивной частью приговора. Следовательно,
дело идет об апелляционном параде. Для симметрии
просят накинуть четыре месяца тюрьмы. Вот что значит
художественный вкус и любовь к красоте линий! Так это
крепость, воздвигнутая против нас, на которую бы мы
полезли и которую старались бы разрушить! Пусть она
так и останется как памятник парада.
Но следует сказать о мотивах, которые будто бы
вызвали напечатание статей.
Господа судьи! С большим волнением я хочу сказать,
что я не в силах бороться на почве этих обвинений,
выставленных против Нотовича. Я человек старого времени,
я принадлежу началом моей деятельности к первым
годам судебной реформы. Я проникнут традициями того
времени, а в то время всякая непорядочность в прениях
удалялась и чистоплотность и порядочность прений
считались одним из лучших украшений суда. Мне не по
сердцу, не по вкусу, не по характеру и не по силам
принимать борьбу на этой почве — исследовать мотивы,
которыми руководствовался писатель, излагая ту или
другую статью. Да разве преступления печати
представляют такие крупные преступления, по которым нужно
еще рыться в душе писателя и искать, почему он написал
ту или другую статью?
Говорят нам: вы напечатали ваши статьи против нас,
потому что мы перестали печатать объявления в вашей
газете, не выдали вам дополнительной ссуды.
Мы не будем искать таких мотивов печатного
произведения. Для чего на этих розысканиях
останавливаться, отчего не поискать других причин? Ну, жены
поссорились, дети передрались, кухарки пересплетничались,
соседи перебранились — тогда придется выставлять на
вид и тянуть всякую грязь.
Разве мотив статьи может иметь влияние на состав
преступления? Разве он может иметь влияние на
определение наказания? Умысел — да, это необходимый
элемент клеветы, но мотив не имеет значения.
Потом, какие особенно блестящие результаты
доставило это разыскание мотивов? Дальше подозрений не по-
507
шло дело. Если бы мы стали руководствоваться такими
подозрениями, то тоже бы указали, что до 14 января
обвинители не жаловались. Первая статья, которая была
напечатана, не возбудила их гнева и обвинения в
клевете. А когда 13 января было напечатано, что вслед за
этим пойдет ряд статей, в которых надеются
разоблачать неправильные действия Тульского банка, тогда,
после появления этой статьи, приносится жалоба. Тогда и
мы у вас стали бы искать мотивов, и так же
произвольно, как вы ищете мотивов у нас. Свидетели
подозреваются. Кто же эти свидетели? Один из свидетелей сам ушел
из правления, другого удалили. Все это ваши враги.
Само собой, в числе друзей и мы можем найти
свидетелей, которые подтвердили бы обстоятельства, нами
приводимые. Но ведь эти свидетели, которые попали, а
может быть, и не попали в число врагов ваших,
свидетельствовали и поддерживали свои свидетельства
документами. Мы хотели идти дальше в пределах этих
свидетельств — мы просили о доставлении делопроизводств,
но вы сами не нашли возможным дать нам в руки эти
доказательства.
Затем, если Нотович писал против банка
оскорбительные статьи, потому что вы перестали печатать
объявления в его газете, то что же сказать о тех газетах, в
которых печатались ваши объявления? Значит, они
руководствовались исключительно этим печатанием, чтобы
восхвалять вас? Я думаю, что, когда появляется статья,
нужно судить по ее содержанию. Публика привыкла
судить писателя по его тенденции, по его образу мыслей
и судить об известном факте по содержанию статьи, по
ее основательности, не отыскивая мотивов, в
расследовании которых можно запутаться, как в лабиринте. И в
конце концов, я думаю, пусть уж лучше наши
публицисты будут недовольны непомещением объявлений и
пишут правду, чем будут получать в виде ли объявлений,
в виде ли чего другого то вознаграждение, которое в виде
платы за публикацию обнаружилось в последнее время
в дружественной нам державе в таком ярком виде.
В деле есть еще один эпизод, который в
апелляционной жалобе указан и который был упомянут сегодня в док^
ладе палаты. Это филологическое разыскание об имени Но-
товича. Нам не выпала та честь, которая выпала на долю
имени Фонвизина, — о том справлялись во втором
отделении Академии наук. Имя Нотовича не представляет такой
знаменитости, и о нем послали справляться в участок, хотя
для правосудия это разыскание было совершенно излишне.
508
Перехожу теперь к требованию печатания приговора
в двадцати газета*. На чем основывается это
требование? Пример небывалый в летописях судебной практики.
Требование это блещет изобретательностью, но отнюдь не
основательностью. Статья 1536 говорит, что судебные
приговоры об изобличенных в клевете могут, по желанию
подвергнувшегося ей, быть опубликованы в столичных и
местных губернских ведомостях на счет виновного. О
столичных говорить нечего. Но какие могут быть местные?
Может ли их быть множество? Нет, местные губернские
ведомости можно отнести к трем группам: местные — по
месту жительства изобличенного в клевете, или местные —
по месту жительства подвергнувшегося оскорблению, или
местные — по месту суда. Значит, только в одной из этих
трех местных газет могут быть публикуемы приговоры об
обвиненных в клевете, ни о каких других местных или
частных газетах не говорится в статье закона, и основания к
тому, чтобы приговор печатался во всех двадцати газетах, не
представляется. Этот закон относится к 1845 году.
Закон о клевете в печати появился впервые в уложении о
наказаниях и был законом, который предусматривал
будущее, так как в 1845 году никакой клеветы в печати
и быть не могло, потому что вся печать была
подцензурная. Статья эта заимствована из европейских кодексов,
где она имела применение; у нас она предназначалась
иметь применение только в отдаленном будущем. Когда
это отдаленное будущее сделалось настоящим, тогда
появился дополнительный закон. И вот что, между прочим,
говорит ст. 1047 уложения, вышедшая в 1865 году вместе
с новым законом о печати. «Постановляя приговор в
отношении к повременному изданию, суд может определить,
чтобы в следующем номере сего издания, если оно не
прекращено, помещен был и означенный приговор», т. е.
именно в том издании, в котором была напечатана
статья, признанная клеветнической.
Вот то начало, которое провозгласил новый закон о
печати. Это начало относится к опозорению, к
диффамации, к брани. Оно относится и к другим преступлениям.
Если в группе новых законов о печати не имеется особого
закона о клевете, то только потому, что этот закон
существовал раньше и помещен в другой части уложения.
Таким образом, это новое начало относительно
печатания обвинительных приговоров должно заменить
прежнее, вытекающее из ст. 1536. Говорят, наши операции
совершаются в нескольких губерниях; поэтому мы
требуем, чтобы, помимо других газет, приговор был напе-
509
чатан и в губернских ведомостях тех губерний, на
которые операции банка простираются. Но ведь банк правит
делами из Петербурга, следовательно, только в
Петербурге и уместно печатание.
Во-первых, если держаться такого начала печатания
обвинительных приговоров по пространству деятельности
оскорбленного, то ведь не предохранишь себя от
неудержимого потока требований. Представим себе, что
кто-нибудь написал клеветническую статью о мануфактуре
Саввы Морозова или о виноторговле братьев Елисеевых.
Произведения этих фирм расходятся по всей России —
от хладных финских скал до пламенной Колхиды,
прошу вас сосчитать, во скольких газетах нужно было бы
напечатать обвинительный приговор, потому что во всех
местностях России эти два, с одной стороны
мануфактурный деятель, а с другой — виноторговец, совершают
свои операции. Ведь надо было бы удовлетворить их
требования. Да зачем? Ведь сегодня сами представители
обвинения говорят, что губернских ведомостей никто не
читает, ну а если их никто не читает, то к чему же
печатать там обвинительный приговор? Да зачем я буду
навязывать читателям газет, в которых сама статья не
помещена, зачем буду навязывать чтение печатного
приговора о такой статье, которая им не известна?
Я понимаю, читатели «Новостей» видели статью, они
могут быть заинтересованы прочесть на нее
опровержение, обвинительный приговор. Но какое дело читателям
«Тульских губернских ведомостей» прочитать
обвинительный приговор о Нотовиче, осужденном за
клеветническую статью, которой они никогда не читали? Это
требование всецело неосновательно, и я не сомневаюсь в
том, что оно будет отвергнуто.
Я заканчиваю.
Позвольте мне, господа судьи, обратиться к вам с
вопросом: помните ли вы хотя один такой случай, когда
вследствие статьи, ошибочной или клеветнической,
потерпел бы крушение какой-либо банк? Вы не помните
такого случая, потому что его не было. Но что банки
рушились, что погибали состояния не только людей
богатых, но и бедных благодаря тому, что печать не смела
или не хотела обратить внимание на злоупотребления,
делавшиеся в них, — такие случаи можно считать
десятками. С 1875 года, со времени легкой руки Московского
ссудного банка*, мы видели десятки банков, потерпевших
* Дело о Московском ссудном банке рассматривалось в Московской
судебной палате в октябре 1876 года.
510
крушение, но об этих банках было полное молчание в
печати, и благодаря этому молчанию погибали и
состояния, и сбережения бедного люда.
Необходимо взвесить общественные интересы,
необходимо обратить внимание, что банки, акционерные
предприятия не находятся в положении безответном и
беззащитном. Ведь они в своих руках имеют такие средства,
как публичность собрания и отчетности, которые всегда
могут изобличить всякую несправедливую о них статью.
Им стоит только собрать общее собрание для того, чтобы
дать отчет в своих действиях. Этот отчет всегда может
быть напечатан, может быть напечатано опровержение.
Ничто не обязывает акционерные банки и вообще
акционерные правления раскрывать двери общих собраний для
публики, но никто и не воспрещает. Во всяком случае,
если желательно восстановить честь, то восстановить
честь можно собственной отчетностью, давая ее
публично перед оппозицией, которую нужно создать, а не
угнетать своей правленческой партией. Это такое средство,
которым не может обладать самая сильная газета в мире.
Отчего же не прибегнуть к этому средству? Отчего не
искать удовлетворения здесь? Ведь огорчение,
причиняемое неправдой известному учреждению, не так
досадно, как оскорбление, причиняемое частному лицу. Я
полагаю, частному лицу, которое не может прибегнуть ни к
какому публичному оправданию в своих действиях,
остается единственное убежище — суд. Я понимаю
прибегающего к суду чиновника, который не имеет возможности
отдавать публично отчет в своей деятельности, потому
что она совершается в стенах канцелярии, но для
огромного акционерного предприятия представляется более
средств к оправданию и к очищению, чем процесс о
клевете. Но когда вы, господа, прибегаете к суду, просите
обвинения в клевете, то нельзя возлагать на обвиняемого
таких требований, чтобы он доказал с полной точностью
все то, что в его статьях содержится о многосторонней
и достаточно сокровенной деятельности. Требовать
этого — значит закрывать уста печати. Уважая такие не-
удобоисполняемые требования, суд, может быть, закроет
тому или другому недобросовестному писателю рот, но с
этим вместе наложит молчание на всю печать.
Господа судьи! Не защита Нотовича ждет вашего
приговора — его ждут от вас интересы общества и
печати.
Суд вынес оправдательный приговор по делу.
СОДЕРЖАНИЕ
«Судебная республика» царской России. С. М. Казанцев .... 3
Краткий биографический словарь 20
А. Ф. Кони. Присяжные заседатели 28
Дело о бывшем студенте Данилове 92
Речь обвинителя товарища прокурора М. Ф. Громницкого 93
Речь присяжного поверенного М. И. Доброхотова в защиту
Данилова 103
Резюме председателя Е. Е. Люминарского 112
Заключение обер-прокурора М. Е. Ковалевского 117
Речь А. В. Лохвицкого в защиту Данилова 126
Дело игуменьи Митрофании 147
Речь поверенного гражданского истца присяжного поверенного
Ф. Н. Плевако 149
Речь присяжного поверенного В. М. Пржевальского в защиту
Махалина 174
Дело Кронеберга 187
Речь присяжного поверенного В. Д. Спасовича в защиту
Кронеберга 188
Дело о «Клубе червонных валетов» 209
Речь обвинителя товарища прокурора Н. В. Муравьева 210
Речь присяжного поверенного Ф. Н. Плевако в защиту Мазурина . . 258
Речь присяжного поверенного В. М. Пржевальского в защиту
Либермана 261
Дело Веры Засулич 281
Речь присяжного поверенного П. А. Александрова в защиту
Засулич 282
Резюме председателя А. Ф. Кони . 306
Дело Качки , .... 317
Речь обвинителя прокурора окружного суда П. Н. Обнинского . . 317
Речь присяжного поверенного Ф. Н. Плевако в защиту Качки . . 332
Дело Мельницких 339
Речь присяжного поверенного В. Д. Спасовича 340
Дело Мироновича 361
Речь обвинителя товарища прокурора А. М. Бобрищева-Пушкина . . 363
Речь присяжного поверенного С. А. Андреевского в защиту
Мироновича 385
Речь присяжного поверенного Н. П. Карабчевского в защиту
Мироновича 421
Речь присяжного поверенного А. И. Урусова в качестве
представителя гражданского истца 444
Дело Савицкого и Галкина 461
Речь присяжного поверенного А. И. Урусова в защиту
Савицкого 462
Речь присяжного поверенного Н. П. Шубинского в защиту
Галкина 467
Дело Нотовича 472
Речь присяжного поверенного П. А. Александрова в защиту
Нотовича 473