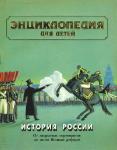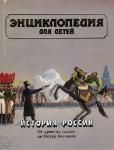/
Author: Исмаилова С.Т.
Tags: издания для определенного назначения география биографии история история российского государства история россии детская энциклопедия
ISBN: 5-900032-03-5
Year: 1995
Text
эн
иклопесшя
am летен
XX ВЕК
I
2
£>
о
к
ш
<
ш
и
о
и
X
S
В
S
<
Щ
х
Главный редактор
Светлана Исмаилова
Ответственный
редактор тома
Александр Майсурян
Художественный
редактор
Елена Дукельская
Рецензент
Генрих Иоффе
Совет директоров
Мария Аксёнова
Георгий Храмов
LQ
ЭНЦИКЛОПЕОИЯ
аля оетби
тош
Часть
третья
УДК 087.5:[947+957](031)
ББК 63.3(2)я2
Эб8
Все вышедшие тома «Энциклопедии для детей»
рекомендованы Управлением развития общего среднего
образования Министерства образования Российской Федерации
как дополнительное пособие для учащихся.
Энциклопедия для детей. Т. 5. История России и её
Эб8 ближайших соседей. Ч. 3. XX век/ Гл. ред. С. Т. Исмаило-
ва. - М.: Аванта+, 1995. - 672 е.: ил.
ISBN 5-900032-03-5 (т 5, ч 3)
ISBN 5-900032-01-9
Третья книга тома «История России и её ближайших соседей»
рассказывает об отечественной истории XX в. до начала 90-х гг.
включительно. В книге представлены темы, которые ранее недостаточно
широко освещались в исторической литературе для детей: история Церкви
в годы Советской власти, история политических партий в России,
история инакомыслия в СССР. Здесь по-новому освещены традиционные
вопросы советской исторической литературы, например «внутренняя»
история партии большевиков, политика военного коммунизма и др.
Персональные статьи тома посвящены биографиям известных
исторических деятелей, вождям белых армий и революционерам, руководителям
Советского государства, известным чекистам и деятелям
диссидентского движения.
Книга рассчитана на детей среднего и старшего школьного
возраста, их преподавателей и родителей, а также всех, кто интересуется
историей России.
УДК 087.5:[947+957](031)
ББК 63.3(2)я2
ISBN 5-900032-03-5 (т. 5, ч. 3)
ISBN 5-900032-01-9
© «Аванта-ь>, 1995
З^ь
II
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
1900-1917
4
> -
^*
г«дЦ** puirtir. ДЫ
отт. дейехмлг ишчтм
гм, Пршюма Ло»6*|ц\
Еуповаиъ ywuaeu (tyljn
\
ш
ЗХсаЬ
ГУ«т*Щд
ж?*Нт*
4
Vi
^'
11
"^"ZZ*"*
«*°6^ „го*0***
eo^N
-О"00*10
1ЛО
oi«*b
,tfv*
t*vtf°
»о*
mMO*"**"" ^nN^*
iWCH
N06C
«ДЙ
VffOfb»
НИКОЛАЙ II
(1868—1918)
НАСЛЕДНИК ПРЕСТОЛА
Николай Александрович Романов, старший сын императора
Александра III, родился 6 мая 1868 г. в Санкт-Петербурге. Рос
он довольно подвижным, даже озорным мальчиком. Однажды во
время официальной церемонии он так проказничал и бегал в
присутствии государя, что один из великих князей при всех
схватил Николая и стал его драть за уши, повторяя: «Я тебе говорю —
перестань шалить!».
Образование наследник получил домашнее: ему прочли
лекции по курсу гимназии, а затем юридического факультета и
Академии Генштаба. Николай свободно владел тремя языками:
английским, немецким и французским. Что касается
политических взглядов цесаревича, то они во многом формировались под
влиянием обер-прокурора Синода Константина
Победоносцева. Он читал лекции молодому наследнику. Убеждённый
сторонник самодержавия, К. Победоносцев говорил, что западная
демократия — это «величайшая ложь нашего времени».
С 13 лет Николай стал вести дневник и делал это очень
аккуратно вплоть до последних дней своей жизни. За 36 лет он не
пропустил в записях почти ни одного дня...
Более года (с перерывами) цесаревич провёл в войсках.
Позднее он дослужился до чина полковника. В этом воинском
звании Николай и остался до конца жизни — после смерти отца
уже никто не мог присвоить ему генеральский чин. В
завершение образования отец отправил наследника в путешествие за
границу, в восточные страны. Николай побывал в Греции, Египте,
Индии, Китае и Японии, пережил во время поездки немало
ярких, новых впечатлений.
Правда, пребывание в Японии едва не закончилось
трагически. 29 апреля 1891 г. возле города Киото на русского
наследника совершил покушение японец Сандзо Цуда, вооружённый
шашкой. Сам Николай так описывал это событие: «Выехали в
джен-рикшах и повернули в узкую улицу с толпами по обеим
сторонам. В это время я получил сильный удар по правой стороне
головы, над ухом. Повернулся и увидел мерзкую рожу
полицейского, который второй раз на меня замахнулся саблей в обеих
руках. Я только крикнул: „Что, что тебе?..". И выпрыгнул через
7
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
Семья императора Александра III
(пятый слева в третьем ряду — наследник
цесаревич и великий князь Николай
Александрович).
джен-рикшу на мостовую. Увидев, что урод направляется ко мне
и что никто не останавливает его, я бросился бежать по улице,
придерживая рукой кровь, брызнувшую из раны. Я хотел
скрыться в толпе, но не мог, потому что японцы, сами перепуганные,
разбежались во все стороны...». В этот момент спутники Николая
зарубили террориста саблями.
Через день наследник записал в дневнике: «Я нисколько не
сержусь на добрых японцев за отвратительный поступок одного
фанатика». Однако многие приближённые Николая твёрдо
считали, что покушение, совершённое на государя в Японии,
позднее повлияло на его политику. Говорили, что именно оно
психологически подтолкнуло русского императора к войне с этой
страной спустя десятилетие.
В 1892 г. Александр III обсуждал со своим министром
Сергеем Витте вопрос о строительстве Великого Сибирского пути.
Министр предложил поставить во главе строительства железной
дороги молодого наследника.
«Да ведь он совсем мальчик, — крайне изумился
император, — у него совсем детские суждения: как же он может быть
председателем комитета?».
8
«Для наследника цесаревича, — отвечал министр, — это
будет первая начальная школа для ведения государственных дел».
«Наследник цесаревич очень увлёкся этим назначением, —
писал позднее С. Витте, — принял его близко к сердцу... Уже
через несколько заседаний он овладел положением председателя,
что, впрочем, нисколько не удивительно, так как император
Николай II — человек, несомненно, очень быстрого ума и быстрых
способностей; он вообще всё быстро схватывает и всё быстро
понимает».
НАЧАЛО ПРАВЛЕНИЯ НИКОЛАЯ
20 октября 1894 г. скончался от тяжёлой болезни император
Александр III. На престол вступил 26-летний Николай, которого
отец ещё недавно называл «совсем мальчиком». Наследник,
однако, не стремился занять престол, скорее не хотел этого. В
декабре он записал в своём дневнике: «Для меня худшее случилось,
именно то, что я так боялся всю жизнь...». Не прошло и месяца
после кончины отца и начала царствования, как состоялась
свадьба молодого государя и принцессы Алисы (Александры
Фёдоровны). «Вместе с непоправимым горем, — писал Николай, —
Господь наградил меня также и счастьем, о каком я не мог даже
мечтать, дав мне Алике».
В своей деятельности Николай П всегда стремился в полной
мере отвечать тому облику русского самодержца, который он
считал идеальным. «Когда император Николай II вступил на
престол, — писал С. Витте, — то от него светлыми лучами исходил,
если можно так выразиться, дух благожелательности; он
сердечно и искренне желал России в её целом — всем национальностям,
составляющим Россию, всем её подданным — счастия и
мирного жития, ибо у императора, несомненно, сердце весьма
хорошее, доброе...
Император Николай II обладает особым даром очарования.
Я не знаю таких людей, которые, будучи первый раз
представлены государю, не были бы им очарованы; он очаровывает как
своею сердечною манерою, обхождением, так и в особенности и
своей удивительной воспитанностью, ибо мне в жизни не
приходилось встречать по манере человека более воспитанного,
нежели наш император».
Обаяние Николая II во многом заключалось в том, что к
каждому собеседнику он старался найти особый подход, учитывая
его сословие, профессию, личные качества и т. п. Про Николая
говорили, что «с семёновцем он будет разговаривать иначе, чем
с преображенцем». В противоположность своему отцу он почти
ни к кому, кроме своих близких, не обращался на «ты». При
любых обстоятельствах, даже самых грозных, он, как правило,
сохранял неизменную выдержку и внешнее спокойствие. Недруги
Николая часто объясняли это «равнодушием и тупостью»...
Среди либеральной общественности смена государей, как
часто бывало, породила надежды на расширение гражданских и
9
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
АЛЕКСАНДРА ФЁДОРОВНА
Императрица Александра Фёдоровна,
до бракосочетания принцесса Гессен-
Дармштадтская
Алиса-Виктория-Елена-Луиза-Беатриса, родилась 25 мая
1872 г.
В возрасте 12 лет она впервые побывала
в России на свадьбе сестры. Здесь
принцесса Алиса познакомилась с 16-летним
русским цесаревичем Николаем. Через
два года она приехала вновь — уже как
бы на смотрины... Государь Александр III
возражал против брака своего сына с
немецкой принцессой. Однако Николай
решительно заявил, что ни на ком
другом жениться не желает.
Ешё одно препятствие к браку
заключалось в иной вере принцессы. С детства
религия играла огромную роль в её
жизни. Поэтому перейти из протестантской
веры в православие, чтобы вступить в
брак с русским наследником, было для
принцессы Алисы очень тяжело.
Уже на смертном одре Александр III
благословил брак Николая и Алисы.
Принцесса приняла трудное для неё решение
перейти в православие. Сразу после
смерти своего отца Николай записал в
дневнике: «Где устроить мою свадьбу...
Мама, некоторые другие и я находим,
что всего лучше сделать её здесь,
спокойно, пока ешё дорогой папа под
крышей дома». Свадьба состоялась месяц
спустя, 14 ноября 1894 г. По случаю
траура она происходила без торжеств.
Принцесса Алиса после крешения в
православие получила имя Александра
Фёдоровна. Всей душой она
восприняла не только новую для неё русскую
веру, но и идею самодержавия. Этот
принцип стал для неё священным. Граф
В. Коковцов замечал: «Она верила в то,
что самодержавие несокрушимо,
потому что оно вошло в плоть и кровь
народного сознания и неотделимо от
самого существования России».
Известно её письмо Николаю в декабре
1916 г., где она призывала его: «Будь
Петром Великим, Иваном Грозным,
императором Павлом, сокруши их всех...».
(Речь шла о противниках Николая II в
Государственной думе.)
После начала Первой мировой войны
Александра Фёдоровна прошла
обучение на медсестру, чтобы помогать
раненым в госпиталях. Её подруга
фрейлина Анна Вырубова рассказывала:
политических свобод. В адрес царя поступали многочисленные
обращения от земских собраний с пожеланиями реформ.
17 января 1895 г. Николай II выступил с одной из первых
политических речей. Интерес к этому событию был огромным:
что скажет общественности молодой государь? В Аничковом
дворце он принял депутацию дворянства, деятелей земств и
городов. К каждому жесту нового царя присматривались с
напряжённым интересом. Текст своей речи он положил в барашковую
шапку, которую держал на коленях. Позднее ехидно
рассказывали, что время от времени он опускал к ней глаза, «как ученик,
плохо выучивший урок».
Государь действительно боялся сбиться и волновался, хотя
внешне старался этого не показать. Он произнёс знаменитые
слова: «Мне известно, что в последнее время слышались в
некоторых земских собраниях голоса людей, увлёкшихся
бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в
делах внутреннего управления. Пусть же все знают, что я, посвящая
все силы благу народному, буду охранять начало самодержавия
так же твёрдо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный
покойный родитель». Преодолевая стеснение, Николай произнёс
последнюю фразу очень громко, почти выкрикнул.
Один из пожилых членов дворянской депутации от
неожиданности выронил из рук большое золотое блюдо с хлебом-солью,
которое с грохотом упало на пол. Царь попытался поднять блюдо,
чем только усилил общее замешательство. Государыня, ещё плохо
знавшая русский язык, встревожилась и по-французски спросила
у фрейлины: «Что случилось? Почему он кричит?». Та тоже по-
французски отвечала: «Он объясняет им, что они идиоты...». Вся эта
сцена надолго оказалась в центре внимания общественности,
постепенно обрастая различными живописными подробностями.
Слова императора о
«бессмысленных мечтаниях»
произвели громадное
впечатление.
В результате эта фраза
едва ли не навсегда
определила отношение к нему
интеллигенции. Впрочем,
Николай И вполне отвечал
ей «взаимностью». Он
считал, что самодержец
должен служить всему
обществу, а не «идти на поводу
у интеллигенции». С.
Витте вспоминал, что ему не
раз приходилось говорить
в докладах по разным по-
М. Рунлилыюв. «Портрет
императрицы Александры
Фёдоровны».
ю
НИКОЛАИ II
П. Пясеикий. «Панорама Москвы в дни коронации императора Николая II».
водам: «Таково общественное мнение». На это Николай II иногда в
сердцах отвечал: «А мне какое дело до общественного мнения».
«Государь совершенно справедливо считал, — разъяснял С.
Витте, — что общественное мнение — это есть мнение
„интеллигентов", а что касается его мнения об интеллигентах, то раз за
столом кто-то произнёс слово „интеллигент", на что государь
заметил: „Как мне противно это слово", — добавив, вероятно
саркастически, что следует приказать Академии наук вычеркнуть это слово
из русского словаря».
14 мая 1896 г. в Москве в Успенском соборе состоялась
торжественная церемония коронации Николая. А спустя четыре дня,
во время народных гуляний, произошла знаменитая катастрофа
на подмосковном Ходынском поле, известная в истории под
названием «Ходынка». Там должны были раздавать народу царские
подарки — эмалированные кружки с изображением двуглавого
орла, а также пряники и другие угощения... На рассвете
500-тысячная толпа двинулась за дарами. При этом в невероятной
давке сотни людей падали в рвы, вырытые в поле. Упавших
невольно затаптывала людская масса, в результате погибло 1389
человек. Примерно столько же людей получили тяжёлые увечья.
Естественно, возникал вопрос — можно ли после подобной
катастрофы продолжать коронационные торжества? Но ведь их
отмена бросила бы ещё одну тень на всё предстоящее
царствование Николая II... Это соображение победило, и поэтому
решили — продолжать. Вечером того же дня молодой государь
танцевал на праздничном балу. В последующие дни он посещал
раненых, но впечатление о нём как о человеке бессердечном и
чёрством уже стало прочным. Позднее революционеры окрестили
императора Николаем Кровавым — не только за расстрел 9
января 1905 г., но и за «Ходынку».
РОЖДЕНИЕ НАСЛЕДНИКА
Царская семья с нетерпением ожидала рождения прямого
наследника престола. Но вместо долгожданного сына Александра
Фёдоровна родила одну за другой четырёх дочерей: в 1895 г. —
«Стоя за хирургом, Государыня, как
каждая операционная сестра, подавала
стерилизованные инструменты, вату и
бинты, уносила ампутированные ноги и
руки, перевязывала гангренозные раны,
не гнушаясь ничем и стойко вынося
запахи и ужасные картины военного
госпиталя во время войны... Она была
врождённой сестрой милосердия».
Однако в войсках, да и по всей стране
росла враждебность к Александре
Фёдоровне. Её ненавидели прежде всего
как «немку». Рассказывали, что она
подслушивает на балконе все заседания
Совета Министров и тотчас сообщает
о них в Германию. В декабре 1916 г.
черносотенец Владимир Пуришкевич
сделал характерную запись в своём
дневнике: «Неужели государь не в силах
заточить в монастырь женшину, которая
губит его и Россию, являясь злым
гением русского народа и династии
Романовых?». Как вспоминал Фёдор
Шаляпин, «самые нелепые рассказы
находили веру. Говорили, например, что она
сносится с Вильгельмом „по прямому
проводу" и выдаёт ему государственные
тайны. Солдаты на фронте считали
дурной приметой получать из рук царицы
георгиевский крестик — убьёт
немецкая пуля...».
Генерал Антон Деникин позднее писал:
«Наиболее потрясаюшее впечатление
произвело роковое слово „измена". Оно
относилось к императрице. В армии
громко, не стесняясь ни местом, ни
временем, шли разговоры о настойчивом
требовании императрицей сепаратного
мира... Что касается вопроса об
„измене", то этот злосчастный слух не был
подтверждён ни одним фактом и
впоследствии был опровергнут
расследованием специально назначенной
Временным правительством комиссии».
11
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
Ml ШШЩЩШ ЩШВШШ^ У
НИКОЛАЙ II
Спальня императора Николая II.
Зимний лвореи.
Библиотека императора Николая II.
Зимний лвореи.
Костюмы придворного маскарала.
Зимний лвореи. 1903 г.
Наследник цесаревич и великий князь
Алексей Николаевич.
Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария
и Анастасия.
ш!\!> ft flint*:.
Ольгу, в 1897 — Татьяну, в 1899 — Марию, в 1901 — Анастасию.
И лишь 30 июля 1904 г. у царицы родился сын Алексей.
Вскоре, однако, выяснилось, что он смертельно болен. Через
прабабушку, английскую королеву Викторию, цесаревичу передалась
наследственная болезнь гемофилия — несвёртываемость крови.
Даже при незначительных ушибах у мальчика начиналось
внутреннее кровотечение, угрожавшее жизни. Поэтому Алексею не
разрешали бегать, играть в подвижные игры, как другим детям, —
для него это было слишком опасно. К тому же он оказался
последним ребёнком царской четы... Болезнь единственного
наследника его родители воспринимали как ещё одно мрачное
предзнаменование в одном ряду с «Ходынкой».
В ГОДЫ ПЕРВОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Проигранная русско-японская война 1904—1905 гг. стала
причиной серьёзного общественного напряжения в России. В
воскресенье 9 января 1905 г. колонны рабочих во главе со священником
Георгием Гапоном направились к Зимнему дворцу, чтобы вручить
царю свою петицию (см. ст. «Революция 1905—1907 годов»). Этот
день считается днём начала первой русской революции.
Николай II тогда уже не жил в Зимнем дворце, он переехал в
Царское Село. Однако император, конечно, знал о готовящемся
шествии и хотел выйти к рабочим, чтобы принять у них
обращение. Но родственники царя воспротивились этому, называя
такой шаг безумием. Они убеждали его, что в толпе может
оказаться террорист, который застрелит его, когда он выйдет к
рабочим. В конце концов царь согласился с ними и в день
демонстрации остался в Царском Селе.
Рабочее шествие было расстреляно войсками... Николай
записал в дневнике: «Тяжёлый день! В Петербурге серьёзные
беспорядки... Войска должны были
стрелять, в разных местах
города много убитых, раненых.
Господи, как больно и тяжело!».
К октябрю волнения
разгорелись по всей стране, и стало
ясно, что необходимо
предпринять крайние меры. Сергей
Витте тогда обрисовал царю две
возможности: или ввести
диктатуру одного лица и беспощадно
подавить недовольство, или
решиться на уступки
«общественному мнению» и пойти по пути
свобод и конституции.
Николай И был
решительным противником конституции;
не далее как в декабре 1904 г. он
твёрдо заявлял: «Я никогда, ни в
14
НИКОЛАИ II
каком случае не соглашусь на представительный образ правления,
ибо я его считаю вредным для вверенного мне Богом народа...».
«Самодержавную власть, завещанную мне предками, — говорил он, —
я должен передать в сохранности моему сыну». В этом он видел
одну из главных обязанностей русского монарха.
Однако теперь стало ясно, что путь военной диктатуры уже
вряд ли возможен. Сами представители военной силы не верили
в надёжность войск Они убеждали царя даровать в манифесте
свободы, обещать созыв Государственной думы.
17 октября к государю явился глава столичного военного
округа великий князь Николай Николаевич. Министр двора
барон Владимир Фредерике рассказывал об этом визите:
«Приезжает великий князь. Я говорю ему: „Следует установить
диктатуру, и ты должен взять на себя диктаторство". Тогда великий князь
вынимает из кармана револьвер и говорит: „Ты видишь этот
револьвер? Вот я сейчас пойду к государю и буду умолять его
подписать манифест... Или он подпишет, или я у него же пущу себе
пулю в лоб из этого револьвера"». Выйдя от Николая II после этой
беседы, великий князь Николай Николаевич с торжеством
объявил, что государь окончательно решился даровать свободы.
Спустя несколько часов царь, осенив себя крестным знамением,
поставил подпись на манифесте.
ПАРЬ И ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
Во время первой всероссийской
переписи населения (28 января 1897 г.)
Николаю II, как и всем другим жителям
России, пришлось заполнить анкетный
лист. На вопрос о звании он ответил:
«Первый дворянин». На вопрос о роде
занятий написал: «Хозяин земли
русской». Позднее эти ответы, ставшие
широко известными, служили многим
журналистам материалом для
язвительных насмешек. Советский журналист
Михаил Кольцов, например,
иронизировал по поводу второго ответа:
«Профессия редкая, но небезвыгодная».
Уже после отречения от престола
Николаю II вновь пришлось заполнить
сходный документ — анкету для
получения хлебных карточек. В графе «род
занятий» он на этот раз написал:
«Бывший император».
Царская семья. Слева направо:
Николай II, Алексей, Ольга, Мария,
Татьяна, Александра Фёдоровна,
Анастасия. 1915 г.
15
Царская чета и наследник Алексей. С. Витте ПОЗДНее ПИСаЛ: «В Течение всех ОКТЯбрьСКИХ дней
1908 г. государь казался совершенно спокойным. Я не думаю, чтобы он
боялся, но он был совсем растерян, иначе при его политических
вкусах, конечно, он не пошёл бы на конституцию. Мне думается,
что государь в те дни искал опоры в силе, но не нашёл никого из
числа поклонников силы — все струсили...».
Тем не менее столь неприятное Николаю слово
«конституция» произнесено не было, и он сохранил титул «самодержца».
Не оставил Николай и мысль найти опору для самодержавия в
народе — но, конечно, не среди интеллигенции. При выборах в
I Государственную думу государь попытался опереться на
поддержку крестьянства, что отразилось в избирательном законе. В
крестьянстве он видел историческую основу самодержавия.
Однако эти надежды не оправдались. Крестьяне, требовавшие
передачи им помещичьих земель, послали в Государственную думу
отнюдь не монархических депутатов...
В III Думе властям пришлось отказаться от
«ставки на крестьянство». И всё-таки Николай
сохранял глубокую веру в то, что самодержавие
наиболее близко душе русского народа. Он
считал, что революция вызвана внешними,
поверхностными причинами: призывами
интеллигенции, влиянием национальных меньшинств.
Русский народ, по мнению государя, по-прежнему
сохранял верность царскому престолу.
Очень характерный диалог произошёл в
1909 г. между Николаем II и
премьер-министром Петром Столыпиным. В годы революции
царь находился почти под арестом в одном из
своих дворцов, не мог никуда ездить, опасаясь
покушений.
И вот глава правительства торжественно
сказал ему: «Ваше Величество, революция
вообще подавлена, и Вы можете теперь свободно
ездить куда хотите». П. Столыпин ожидал слов
благодарности, удовлетворения. Вместо этого он с
удивлением услышал ответ государя: «Я не
понимаю, о какой революции Вы говорите. У нас,
правда, были беспорядки, но это не революция...
Да и беспорядки, я думаю, были бы
невозможны, если бы у власти стояли люди более
энергичные и смелые...».
ПОСЛЕ НАЧАЛА ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Летом 1914 г. в Европе чувствовалось
приближение большой войны. Фрейлина и близкая
подруга императрицы Анна Вырубова вспоминала, что
в эти дни она часто «заставала государя бледно-
16
го и расстроенного». «Из разговора с ним, —
писала А. Вырубова, — я видела, что и он считает
войну неизбежной, но он утешал себя тем, что
война укрепляет национальные и монархические
чувства, что Россия после войны станет ещё
более могучей, что это не первая война...». Когда же
война стала свершившимся фактом, настроение
Николая И резко изменилось в лучшую сторону.
Он испытывал бодрость и воодушевление и
говорил: «Пока этот вопрос висел в воздухе, было
хуже!».
20 июля, в день объявления Россией войны,
государь вместе с супругой побывал в
Петербурге. Здесь он оказался главным участником
волнующих сцен национального подъёма. На улицах
Николая И встречали необъятные толпы народа
под трёхцветными знамёнами, с его портретами
в руках. В зале Зимнего дворца государя
окружила восторженная толпа депутатов. Один из них,
монархист Василий Шульгин, описывал этот
момент: «Стеснённый так, что он мог бы протянуть
руку до передних рядов, стоял государь. Это был
единственный раз, когда я видел волнение на
просветлевшем лице его. И можно ли было не
волноваться? Что кричала эта толпа, не юношей, а
пожилых людей? Они кричали: „Веди нас, государь!".
Это было, быть может, самое значительное, что я
видел в своей жизни».
Николай II произнёс речь, которую
закончил торжественным обещанием, что не
заключит мир до тех пор, пока не изгонит последнего врага с русской
земли. Ответом ему было мощное «ура!». Он вышел на балкон,
чтобы приветствовать народную демонстрацию. А. Вырубова
писала: «Всё море народа на Дворцовой площади, увидев его, как
один человек опустилось перед ним на колени. Склонились
тысячи знамён, пели гимн, молитвы... все плакали... Среди чувства
безграничной любви и преданности Престолу началась война».
В первый год войны русская армия потерпела ряд тяжёлых
поражений. При известии о падении Варшавы Николая
покинула его обычная невозмутимость, и он горячо воскликнул: «Так не
может продолжаться, я не могу всё сидеть здесь и наблюдать за
тем, как разгромляют армию; я вижу ошибки — и должен
молчать!». Обострилось и положение внутри страны. Под влиянием
поражений на фронте Дума начала борьбу за ответственное
перед ней правительство. В придворных кругах и Ставке зрели
какие-то замыслы против императрицы Александры Фёдоровны.
Она вызывала всеобщую враждебность как «немка», шли толки о
том, чтобы заставить царя отправить её в монастырь.
Всё это побудило Николая II встать во главе армии, сменив
великого князя Николая Николаевича. Он объяснил своё реше-
Царская чета в костюмах царя
Алексея Михайловича и его супруги.
1913 г.
17
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
МАНИФЕСТ ОБ ОТРЕЧЕНИИ
Отправляясь в Псков на встречу с
государем, А. Гучков и В. Шульгин везли
с собой проект манифеста об
отречении. В нём, в частности, говорилось:
«В тяжёлую годину ниспосланных
тяжких испытаний для России Мы, не имея
сил вывести Империю из тяжкой
смуты, за благо сочли, идя навстречу
желаниям всего русского народа, сложить
бремя вручённой Нам от Бога власти».
Манифест, который подписал
император Николай II, звучал совсем
по-другому. Французский посол М. Палеолог
называл тон манифеста «царственно
величественным». В. Шульгин
вспоминал своё впечатление от этого
документа: «Я стал пробегать его глазами,
и волнение, и боль, и ешё что-то сжало
сердце... Текст был написан теми
удивительными словами, которые теперь
все знают. Каким жалким показался
мне набросок, который мы привезли.
Я вдруг почувствовал, что с этой
минуты жизнь государя в безопасности...
Половина шипов, вонзившихся в
сердце его подданных, вырывалась этим
лоскутком бумаги. Так благородны
были эти прошальные слова. И так
почувствовалось, что он так же, как и мы,
а может быть, гораздо больше, любит
Россию...».
Вот текст манифеста с небольшими
сокращениями:
«В дни великой борьбы с внешним
врагом, стремящимся почти три года
поработить нашу родину, Господу Богу
угодно было ниспослать России новое
тяжкое испытание. Начавшиеся
внутренние народные волнения грозят
бедственно отразиться на дальнейшем
ведении упорной войны. Судьба России,
честь геройской нашей армии, благо
народа, всё будущее дорогого нашего
Отечества требуют доведения войны
во что бы то ни стало до победного
конца. Жестокий враг напрягает
последние силы, и уже близок час, когда
доблестная армия наша совместно со
славными нашими союзниками сможет
окончательно сломить врага.
В эти решительные дни в жизни
России почли Мы долгом совести
облегчить народу Нашему тесное единение
и сплочение всех сил народных для
скорейшего достижения победы, и в согла-
ние тем, что в трудный момент возглавлять войска должен
верховный вождь нации. 23 августа 1915 г. Николай прибыл в
Ставку в Могилёве и принял на себя верховное главнокомандование.
Между тем напряжение в обществе нарастало. Председатель
Думы Михаил Родзянко при каждой встрече с царём уговаривал
его пойти на уступки Думе. Во время одной из их бесед уже в
январе 1917 г. Николай II сжал голову обеими руками и с горечью
воскликнул: «Неужели я двадцать два года старался, чтобы всё
было лучше, и двадцать два года ошибался!?». Во время другой
встречи государь неожиданно заговорил о своих переживаниях:
«Был я в лесу сегодня... ходил на глухарей. Тихо там, и всё
забываешь, все эти дрязги, суету людскую... Так хорошо было на душе.
Там ближе к природе, ближе к Богу...».
ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ПРЕСТОЛА
27 февраля 1917 г. Николай II записал в дневнике: «В Петрограде
начались беспорядки несколько дней тому назад; к прискорбию,
в них стали принимать участие и войска. Отвратительное
чувство быть так далеко и получать отрывочные нехорошие известия!».
Государь послал в мятежную столицу генерала Николая
Иванова, приказав ему «с войсками водворить порядок». Но из этой
попытки в конечном итоге ничего не вышло.
В последний день февраля государь отбыл из Могилёва в
Царское Село. Однако по дороге поступили сведения, что путь
занят восставшими. Тогда царский поезд повернул в Псков, где
находился штаб Северного фронта. Сюда Николай II прибыл
вечером 1 марта.
Здесь государь узнал о том, что попытка Н. Иванова
«подавить бунт» в столице закончилась неудачей. Стало ясно, что
успокоить Петроград силой не удастся. В ночь на 2 марта
Николай II вызвал главнокомандующего фронтом генерала Николая
Рузского и сообщил ему: «Я решил пойти на уступки и дать им
ответственное министерство». «Я берёг не самодержавную власть,
а Россию, — говорил государь. — Я не убеждён, что перемена
формы правления даст спокойствие и счастье народу...»
Николай Рузский немедленно сообщил о решении царя по
прямому проводу Михаилу Родзянко. Тот отвечал: «Очевидно, что
Его Величество и Вы не отдаёте себе отчёта в том, что здесь
происходит; настала одна из страшнейших революций, побороть
которую будет не так легко... Время упущено и возврата нет». М.
Родзянко сказал, что теперь необходимо уже отречение Николая в
пользу наследника.
Узнав о таком ответе М. Родзянко, Н. Рузский через Ставку
запросил мнение всех главнокомандующих фронтами. Утром в
Псков стали приходить их ответы. Все они умоляли государя для
спасения России и успешного продолжения войны подписать
отречение. Вероятно, самое красноречивое послание пришло от
генерала Владимира Сахарова с Румынского фронта.
Предложение об отречении генерал назвал «гнусным». Он выражал него-
18
НИКОЛАЙ II
дование по адресу Думы: «Я уверен, что не русский народ,
никогда не касавшийся царя своего, а разбойная кучка людей,
именуемая Государственной думой, предательски воспользовалась
удобной минутой для своих преступных целей...». А закончил
неожиданно: «Переходя к логике разума и учтя создавшуюся
безвыходность положения, я, непоколебимо верный подданный Его
Величества, рыдая, вынужден сказать, что, пожалуй, наиболее
безболезненным выходом для страны и для сохранения
возможности биться с внешним врагом является решение пойти
навстречу уже высказанным условиям».
Около 14 часов 30 минут 2 марта об этих телеграммах было
доложено государю. Николай Рузский также высказался за
отречение. «Теперь придётся сдаться на милость победителя» — так он
выразил своё мнение приближённым царя. Подобное единодушие
вождей армии и Думы произвело на императора Николая II
сильное впечатление. Особенно его поразила телеграмма, присланная
великим князем Николаем Николаевичем...
«Если я помеха счастью России, — сказал
государь, по воспоминаниям генерала Д. Дубен-
ского, — и меня все стоящие ныне во главе её
общественных сил просят оставить трон, то я
готов это сделать, готов даже не только царство, но
и жизнь отдать за родину... Но я не знаю, хочет
ли этого вся Россия». Участник этой сцены
генерал С. Саввич рассказывал: «Наступило общее
молчание, длившееся, как мне показалось, около
двух минут. Государь сидел в раздумье, опустив
голову. Затем он встал и сказал: «Я решился. Я
отказываюсь от престола». При этом Государь
перекрестился. Перекрестились и все мы».
Уже решив отречься, Николай И продолжал
колебаться, кому передать престол: сыну или
брату? Он посоветовался со своим
лейб-хирургом профессором Сергеем Фёдоровым. «Я
приказываю Вам, — сказал царь, — отвечать мне
откровенно. Допускаете ли Вы, что Алексей может
вылечиться?» «Нет, Ваше Величество, — отвечал
врач, — его болезнь неизлечима».
«Императрица давно так думает; я ещё сомневался... Уже если
Бог так решил, я не расстанусь со своим бедным
ребёнком».
Вечером того же дня в Псков прибыли
депутаты Думы А Гучков и В. Шульгин. Государь
принял их в своём вагоне. В книге «Дни» В.
Шульгин так передавал слова Николая II: «Голос его
звучал спокойно, просто и точно.
— Я принял решение отречься от
престола... До трёх часов сегодняшнего дня я думал, что
могу отречься в пользу сына Алексея... Но к
этому времени я переменил решение в пользу бра-
сии с Государственною Думою
признали Мы за благо отречься от Престола
Государства Российского и сложить с
Себя Верховную власть. Не желая
расставаться с любимым Сыном Нашим,
Мы передаём наследие Наше Брату
Нашему Великому Князю Михаилу
Александровичу и благословляем Его
на вступление на Престол
Государства Российского...
Во имя горячо любимой родины
призываем всех верных сынов Отечества к
исполнению своего святого долга перед
Ним повиновением (Ларю в тяжёлую
минуту всенародных испытаний и
помочь Ему вместе с представителями
народа вывести Государство Российское
на путь победы, благоденствия и славы.
Да поможет Господь Бог России».
Л. Бернштам. Бюст императора Николая II.
19
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
НИКОЛАЙ II И КЕРЕНСКИЙ
После Февральской революции
Александр Керенский категорически
высказался против возможности суда над
Николаем Романовым и его казни.
7 марта он выступал в Московском
совете. Многие депутаты кричали ему с
мест: «Смерть царю, казнить царя!». В
ответ А. Керенский заявил: «Этого
никогда не будет, пока мы у власти. Ао
сих пор русская революция протекала
бескровно, и я не позволю омрачать
её. Маратом русской революции я
никогда не буду... Уарь с семьёй будет
отправлен за границу, в Англию. Я сам
довезу его до Мурманска». Несколько
месяцев спустя зять А. Керенского
полковник Барановский случайно стал
свидетелем любопытной сиены. Александр
Фёдорович напряжённо мерил шагами
пустой коридор в поезде и тревожно
повторял: «Нет... их убьют... их убьют...
их надо спасти, спасти во что бы то ни
стало».
21 марта новый министр юстиции
встретился в Царском Селе с
арестованным Николаем Александровичем.
Позднее А. Керенский заметил о
своём собеседнике: «Обезоруживающе
обаятельный человек!». Французский
посол М. Палеолог писал об этой
встрече: «Керенский был очарован
приветливостью, естественно
излучающейся Николаем II, и несколько раз
спохватывался, что называл его:
„Государь..."». После свидания с бывшим
царём А. Керенский признался: «А ведь
Николай II далеко не глуп вопреки
тому, что мы о нём думали». Под
словом «мы» Александр Фёдорович,
очевидно, подразумевал революционеров,
которые уже создали для себя
определённый «портрет» государя.
Александр Керенский также произвёл
на бывшего царя неплохое
впечатление. В июле Николай записал в своём
дневнике: «Этот человек
положительно на своём месте в нынешнюю
минуту. Чем больше у него будет власти, тем
будет лучше».
та Михаила... Надеюсь, вы поймёте чувства отца...
Последнюю фразу он сказал тише...».
Николай передал депутатам манифест об отречении,
отпечатанный на пишущей машинке. На документе стояла дата и
время: «2 марта, 15 часов 5 минут».
В своём дневнике в этот день Николай II записал: «По его
(Родзянко) словам, положение в Петрограде таково, что теперь
министерство из Думы будет бессильно что-либо сделать, так как
с ним борется социал-демократическая партия в лице рабочего
комитета. Нужно моё отречение. Рузский передал этот разговор
в Ставку, а Алексеев всем главнокомандующим... Пришли ответы
от всех. Суть та, что во имя спасения России и удержания армии
на фронте в спокойствии нужно решиться на этот шаг. Я
согласился. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с
которыми я переговорил и передал им подписанный манифест. В
час ночи уехал из Пскова с тяжёлым чувством пережитого.
Кругом измена, и трусость, и обман!».
Последняя фраза звучала совершенно необычно в очень
сдержанном и скупом на эмоции дневнике Николая II...
ПОСЛЕ ОТРЕЧЕНИЯ
Николай II подписал отречение от престола и направился в
Могилёв, в Ставку. 8 марта он отдал здесь прощальный приказ по
армиям. Он начинался словами: «В последний раз обращаюсь к
вам, горячо любимые мною войска...». Бывший император писал:
«Эта небывалая война должна быть доведена до полной победы.
Кто думает теперь о мире, кто желает его — тот изменник
отечества, его предатель. Знаю, что каждый честный воин так мыслит.
Исполняйте же ваш долг, защищайте доблестно нашу великую
Родину, повинуйтесь Временному правительству». Армии это
прощальное обращение не объявили.
В тот же день Николай Александрович простился с высшими
чинами Ставки. Генерал В. Воейков вспоминал: «Это был
единственный случай, когда он после отречения находился в среде своих
бывших верноподданных. Картина, по словам очевидцев, была
потрясающая. Слышались рыдания. Несколько офицеров упали в
обморок.. Государь не мог договорить своей речи из-за поднявшихся
истерик., было раздирающее душу проявление преданности царю
со стороны присутствовавших солдат». Генерал Н. Тихменев писал:
«Судорожные всхлипывания и вскрики не прекращались.
Офицеры Георгиевского батальона, люди по большей части несколько раз
раненые, не выдержали: двое из них упали в обморок На другом
конце залы рухнул кто-то из солдат-конвойцев. Государь, всё
время озираясь на обе стороны, со слезами в глазах, не выдержал и
быстро направился к выходу». В своём дневнике Николай
Александрович записал: «Прощался с офицерами и казаками конвоя и
Сводного полка — сердце у меня чуть не разорвалось!».
Верховный главнокомандующий генерал Михаил Алексеев
объявил Николаю Александровичу о решении Временного пра-
20
вительства: «Ваше Величество
должны себя считать как бы
арестованным». Генерал
Дмитрий Дубенский рассказывал:
«Государь ничего не ответил,
побледнел и отвернулся...
Государь был очень далёк от мысли,
что он, согласившийся
добровольно оставить престол,
может быть арестован».
При отъезде из Могилёва
бывшему государю открылось
поразительное зрелище. На
всём протяжении его пути до
вокзала молчаливые толпы
народа стояли на коленях перед
своим бывшим императором.
Его глубоко взволновала и
растрогала эта сцена. Он
по-прежнему не сомневался, что
основная масса русского народа — за
государя. «Семя зла в самом
Петрограде, а не во всей России», —
писал он позднее. Революция,
по его мнению, произошла помимо воли подавляющего
большинства русского народа. «Народ сознавал своё бессилие», —
заметил Николай Романов чуть позже о февральских днях.
Бывший государь вернулся в Царское Село уже под
охраной и здесь окончательно оказался под домашним арестом.
Прибыв туда, он впервые после всех бурных событий встретился с
супругой и детьми. «В эту первую минуту радостного свидания, —
писала Анна Вырубова, — казалось, было позабыто всё
пережитое и неизвестное будущее. Но потом, как я впоследствии
узнала, когда Их Величества остались одни, Государь, всеми
оставленный и со всех сторон окружённый .изменой, не мог не дать
воли своему горю и своему волнению и, как ребёнок, рыдал
перед своей женой».
Когда в тот же день Николай Александрович захотел выйти
в сад прогуляться, шесть солдат-охранников преградили ему
путь. Они, по словам А. Вырубовой, даже подталкивали его
прикладами: «Господин полковник, вернитесь назад! Туда нельзя
ходить!». Спокойно взглянув на них, бывший государь вернулся
обратно во дворец.
Если бы не лишение свободы, он, пожалуй, был бы даже
доволен тем, что наконец освободился от бремени власти. «Уход в
частную жизнь, — писал А Керенский, — не принёс ему ничего, кроме
облегчения. Старая госпожа Нарышкина передала мне его слова:
„Как хорошо, что не нужно больше присутствовать на этих
утомительных приёмах и подписывать эти бесконечные документы. Я
буду читать, гулять и проводить время с детьми". — „И это,— доба-
Поа домашним арестом. Царская семья и
придворные вскапывают грядки.
Март 1917 г.
21
Николай II. Около 1910 г.
вила она,— была отнюдь не
поза"». Но бывший государь не
хотел отправляться за границу,
в изгнание. «Дайте мне здесь
жить с моей семьёй самым
простым крестьянином,
зарабатывающим свой хлеб, — сказал
он фрейлине А. Вырубовой, —
пошлите нас в самый укромный
уголок нашей родины, но
оставьте нас в России».
Николай Александрович
внимательно следил за
политическими событиями, особенно
за ходом войны. После начала
июньского наступления он
записал в дневнике: «Совсем
иначе себя чувствуешь после этой
радостной вести».
Бывший государь
оставался вежливым и даже
доброжелательным по отношению ко
всем окружающим, в том
числе и к своим охранникам. В
пасхальную ночь для царской
семьи в дворцовой часовне
состоялось богослужение. После
заутрени Николай
Александрович, согласно православному
обычаю, трижды расцеловался
со всеми присутствующими,
похристосовался он и с
собственной стражей — солдатами и
дежурным офицером.
ТОБОЛЬСКАЯ ССЫЛКА
А. Керенский вспоминал:
«Вопреки всем сплетням и
инсинуациям Временное
правительство решило ещё в самом
начале марта отправить
царскую семью за границу.
Однако уже летом мы получили
категорическое официальное
заявление о том, что до
окончания войны въезд бывшего
монарха и его семьи в пределы
Британской империи
невозможен». После этого отказа цар-
22
НИКОЛАЙ II
скую семью решили отправить, по словам А. Керенского, «в
самое тогда в России безопасное место — Тобольск». Князь Г. Львов
замечал: «Сибирь тогда была покойна, удалена от борьбы
политических страстей, и условия жизни в Тобольске были хорошие».
Это решение носило и символический оттенок, призванный
успокоить яростных врагов свергнутой династии. До сих пор цари
ссылали в Сибирь революционеров. А теперь революционеры
ссылают в Сибирь царя!
В Тобольск царскую семью отправили 31 июля 1917 г. По
прибытии на место их разместили в бывшем губернаторском
доме — каменном двухэтажном здании, в котором было 18
комнат. Охрану царской семьи возглавлял комиссар Временного
правительства Василий Панкратов, народоволец, отсидевший
14 лет в Шлиссельбургской крепости. Это также во многом было
символично: старый революционер держит под стражей
коронованных особ... Он так описывал их быт: «Обыкновенно в
ясные дни вся семья, чаще после обеда, выходила на балкон...
Проходящие по улице вначале с большим любопытством
засматривались на семью Николая Александровича. Александра
Фёдоровна чаще всего выходила на балкон с вязаньем или шитьём. Реже
всех появлялся на балконе Николай Александрович. С того дня,
Е. Самокиш-Судковская.
«Их Императорские Величества
Император Николай Александрович и
Государыня Императрица
Александра Феодоровна»
(журнал «Нива», 1913 г.).
23
Николай II в парадном мунлире.
как только были привезены кругляки и дана поперечная пила, он
большую часть дня проводил за распилкой кругляков на дрова.
Это было одно из любимых его времяпрепровождений.
Приходилось поражаться его выносливости и даже силе».
Николай Александрович с детства любил физическую
работу на свежем воздухе. В Тобольске, работая с ним на пару, долго
не выдерживали даже крепкие солдаты-охранники.
Узнав об Октябрьском перевороте, бывший государь записал
в своём дневнике: «Тошно читать описание в газетах того, что
произошло в Петрограде и Москве! Гораздо хуже и позорнее
событий Смутного времени!». В.
Панкратов вспоминал:
«Октябрьский переворот произвёл
гнетущее впечатление не только на
бывшего царя, но и на свитских.
Николай И долго молча
переживал и никогда со мной не
разговаривал об этом. Но вот когда
получились газетные
сообщения о разграблении винных
подвалов в Зимнем дворце, он
нервно спросил меня: „Неужели
Керенский не может
приостановить такое своеволие?". —
„По-видимому, не может...
Толпа везде и всегда остаётся
толпой". — „Как же так? Александр
Фёдорович поставлен народом...
народ должен подчиниться... не
своевольничать... Керенский —
любимец солдат... Почему не
остановить толпу?.. Зачем
допускать грабежи и уничтожение
богатств?..". Последние слова
произнёс бывший царь с
дрожью в голосе. Лицо его
побледнело, в глазах сверкнул огонёк
негодования».
В ИПАТЬЕВСКОМ ДОМЕ
В апреле 1918 г. царскую
семью взяли под охрану уже
советские комиссары. Они
перевезли Романовых в «столицу
красного Урала» —
Екатеринбург. Здесь царскую семью
разместили в особняке инженера
Николая Ипатьева, выселив
хозяина. С семьёй оставалось
24
НИКОЛАИ II
пять человек прислуги. В июле охрану возглавил старый
большевик Яков Юровский.
11 июля 1918 г. Николай записал в дневнике: «Утром к
открытому окну подошли трое рабочих, подняли тяжёлую
решётку и прикрепили её снаружи рамы без предупреждения со
стороны Ю(ровского). Этот тип нам нравится всё менее... Начал
читать восьмой том Салтыкова». А вот следующая запись от 13 июля,
последняя, за которой — чистые страницы: «Алексей принял
первую ванну после Тобольска. Колено его поправляется, но
совершенно разогнуть его он не может. Погода тёплая и приятная.
Вестей извне никаких не имеем».
Царская семья почти не получала известий о политических
событиях, а между тем в стране разгоралась гражданская война.
На Екатеринбург двигались восставшие против большевиков
Чехословацкий корпус и казаки. Со дня на день большевики
ожидали падения города.
КАЗНЬ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ
В ночь на 17 июля семью Романовых и их прислугу разбудили.
«В городе неспокойно, — сказали им, — поэтому в целях
безопасности необходимо спуститься из верхнего этажа в нижний».
Арестованным заявили, что вскоре все они будут отправлены в
другое место... Около получаса ушло на одевание. Затем, ничего
не подозревая, вниз спустились 11 человек: царская семья и
четыре человека прислуги. Больного Алексея отец нёс на руках, а
внизу усадил его на венский стул. Великая княжна Анастасия
держала на руках маленькую собачку.
Затем в помещение вошли 11 чекистов. Один из них,
Михаил Медведев, рассказывал: «Стремительно входит Юровский и
становится рядом со мной. Царь вопросительно смотрит на
него... Юровский на полшага выходит вперёд и обращается к
царю...». Последующую фразу Я. Юровского все участники казни
передают по-разному. По одной версии, он произнёс: «Николай
Александрович, Ваши родственники старались Вас спасти, но
этого им не пришлось, и мы принуждены Вас сами расстрелять».
По другой — он сказал ещё проще: «Ваши друзья наступают на
Екатеринбург, и поэтому Вы приговорены к смерти».
Царица и великая княжна Ольга перекрестились. Доктор
Евгений Боткин спросил: «Так нас никуда не повезут?». Николай
Александрович воскликнул только: «Что!? Что!?». Вслед за этим
прогремели выстрелы. Стрельба длилась довольно долго.
«Удивительно было то, — вспоминал Я. Юровский, — что пули от
наганов отскакивали от чего-то рикошетом и, как град, прыгали по
комнате». Позднее выяснилось, что великие княжны носили
нечто вроде корсетов, в которых было зашито несколько
килограммов бриллиантов. От них и отскакивали пули. Комнату сплошь
затянуло пороховым дымом, в котором ничего не было видно.
Наконец стрельба прекратилась. М. Медведев вспоминал:
«Вдруг из правого угла комнаты, где зашевелилась подушка, —
А. Васютинский. Памятная медаль,
посвященная бракосочетанию Николая II
с принцессой Алисой Гессен-
Аармшталтской. 1894 г.
ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ КАЗНИ
НИКОЛАЯ РОМАНОВА
После казни семьи Романовых
официально объявили только о расстреле
бывшего царя. «Семья эвакуирована в
надёжное место», — говорилось в
сообщении. Решение о казни
Николая II вполне отвечало общественным
настроениям того времени, и многие
восприняли это с одобрением. Граф
В. Коковиов вспоминал: «В день напе-
чатания известия я был два раза на
улице, ездил в трамвае и нигде не видел
ни малейшего проблеска жалости или
сострадания. Известие читалось
громко, с усмешками и самыми
безжалостными комментариями... Самые
отвратительные выражения: „Давно бы так!",
„Ну-ка — поцарствуй ещё!", „Крышка
25
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
Николашке!", „Эх, брат Романов,
доплясался!" — слышались кругом...».
Конечно, люди из круга самого В.
Коковцова были ошеломлены. По его
словам, «одни не поверили, другие молча
плакали, большинство просто тупо
молчало». Очень немногие решились
открыто осудить казнь бывшего
государя. В частности, патриарх Тихон заявил
в своей проповеди в Казанском
соборе: «Он ничего не предпринял для
улучшения своего положения, безропотно
покорился судьбе... И вдруг он
приговаривается к расстрелу где-то в
глубине России небольшой кучкой людей не
за какую-либо вину, а за то только, что
его будто бы кто-то хотел похитить.
Наша совесть примириться с этим не
может, и мы должны во всеуслышание
заявить об этом как христиане, как
сыны иеркви».
Лев Троцкий рассказывал, как ему
стало известно о судьбе бывшего царя. Он
приехал в Москву с фронта, уже зная
о падении Екатеринбурга. «В
разговоре со Свердловым, — писал он, — я
спросил мимоходом:
— Да, а где царь?
— Кончено, — ответил он, —
расстрелян.
— А семья где?
— И семья с ним.
— Все? — спросил я, по-видимому, с
оттенком удивления.
— Все! — ответил Свердлов. — А что?
Он ждал моей реакции. Я ничего не
ответил.
— А кто решал? — спросил я.
— Мы здесь решали. Ильич считал, что
нельзя оставлять нам им живого
знамени, особенно в нынешних трудных
условиях.
Больше я никаких вопросов не задавал,
поставив на деле крест. По существу
решение было не только
целесообразно, но и необходимо. Казнь царской
семьи нужна была не просто для того,
чтобы запугать, ужаснуть, лишить
надежды врага, но и для того, чтобы
встряхнуть собственные ряды,
показать, что отступления нет, что
впереди полная победа или полная гибель».
женский радостный крик: „Слава Богу! Меня Бог спас!". Шатаясь,
подымается уцелевшая горничная...». Кроме того, ещё оставались
живы Алексей, три великие княжны и доктор Боткин. Выстрелив
в них ещё несколько раз, дело довершили штыками. В Алексея
чекистам пришлось выпустить более десятка пуль, прежде чем он
скончался... Кроме Романовых погибли доктор Е. Боткин, лакей
А Трупп, горничная А. Демидова, повар И. Харитонов. Из всей
прислуги пощадили только поварёнка Л. Седнёва, которого ещё
утром отправили из Ипатьевского дома.
Каждый из чекистов добивался «чести собственноручно
расстрелять бывшего царя». (Судя по всему, Николай погиб от пули
М. Медведева.) Расстрел детей и прислуги участники казни
воспринимали скорее как тягостную необходимость. Два чекиста-
латыша даже отказались стрелять в великих княжон. «Когда я
распределял роли, — вспоминал Я. Юровский, — латыши сказали,
чтобы я избавил их от обязанности стрелять в девиц, так как они
этого сделать не смогут. Тогда я решил за лучшее окончательно
освободить этих товарищей от участия в расстреле как людей,
не способных выполнить революционный долг в самый
решительный момент...».
Спустя несколько дней после казни Романовых, 25 июля
1918 г., Екатеринбург, как и ожидалось, пал. В город вошли
Чехословацкий корпус и войска Сибирского правительства.
Е. Самокиш-Судковская. «Его Императорское Высочество
Наследник Цесаревич и Великий Князь Алексей Николаевич»
(фрагмент обложки журнала «Нива», 1913 г.).
26
НИКОЛАЙ II
МИХАИЛ РОМАНОВ
Отрекаясь от престола, государь
Николай II передал его своему младшему
брату, великому князю Михаилу
Александровичу. До этого отношения
между двумя братьями складывались
довольно сложно.
Титул наследника цесаревича Михаил
утратил в 1904 г., когда родился
Алексей. Он признался одному из своих
друзей: «Ах, если бы Вы знали, как я
рад, что больше не наследник. Я этого
никогда не любил и никогда не желал».
В 1912 г. великий князь впал в
немилость: вопреки воле брата женился на
дважды разведённой Наталии Вуль-
ферт. Их венчание состоялось тайно,
за границей. Они обвенчались в
сербской православной церкви в Вене.
После этого возмущённый Николай
издал указ, запретивший молодожёнам
возврашаться в Россию. Однако с
началом Первой мировой войны государь
смягчил свой гнев и разрешил брату с
женой вернуться на родину. Великий
князь стал командовать Кавказской
Туземной (Дикой) дивизией. За
проявленное мужество был награждён
Георгиевским крестом.
Утром 3 марта 1917 г. Николай
направил брату телеграмму: «Петроград. Его
императорскому величеству Михаилу
Второму. События последних дней
вынудили меня решиться бесповоротно
на этот крайний шаг. Прости меня, если
огорчил тебя и что не успел
предупредить. Остаюсь навсегда верным и
преданным братом... Горячо молю Бога
помочь тебе и твоей родине. Ники».
Эту телеграмму, однако, Михаил
вовремя не получил.
В дни Февральской революции великий
князь приехал в Петроград, где
остановился на квартире у своего
знакомого, князя Путятина, на улице
Миллионной. Утром 3 марта в эту
квартиру пришли руководители Думы и
Временного правительства. Двое из них
(П. Милюков и А. Гучков) уговаривали
великого князя принять престол, все
остальные убеждали его отречься.
Великий князь колебался. Он спросил
председателя Думы М. Родзянко, есть
ли в городе надёжные воинские части.
Тот отвечал, что частей нет и, если
Михаил не отречётся, последует резня
офицеров и всех членов дома
Романовых. После некоторых раздумий
великий князь объявил своё решение. Как
писал кадет В. Набоков, Михаил
Александрович «заявил, что далеко не
уверен в том, что принятие им престола
будет на благо родине, что оно может
послужить не к объединению, а к
разъединению, что он не хочет быть
невольной причиной возможного
кровопролития...». Поэтому Михаил
Александрович передал окончательное решение
вопроса Учредительному собранию.
После этого великий князь подписал
отречение. На прошание А. Керенский
крепко пожал ему руку: «Вы
благородный человек!». Узнав об отречении,
даже ссыльный большевик Лев
Каменев из Туруханского края прислал
великому князю поздравительную
телеграмму. В ней он благодарил его «за
великодушие и гражданственность».
(Правда, сам Каменев позднее говорил,
что не подписывал этого послания.)
Отказавшись от престола, Михаил
Александрович жил в Гатчине. После
Октября ему предложили уехать за
границу. «Я не хочу бежать из своей
страны», — отвечал он. В ноябре Михаил
Александрович пришёл в Смольный с
просьбой «легализовать своё
положение в Советской республике, чтобы
заранее исключить возможные
недоразумения». Он просил дать ему
возможность жить в России как
обычному гражданину. Великому князю
выдали мандат на «свободное проживание»
в РСФСР. Однако 9 марта 1918 г. по
решению Совнаркома его выслали в
Пермь вместе с секретарём,
англичанином Брайаном Джонсоном.
Здесь Михаила Александровича
поселили в гостинице «Королёвские
номера», причём он сохранил
относительную свободу. Но в ночь на 26 июня в
гостиницу явилась группа рабочих во
главе с известным большевиком
Гавриилом Мясниковым. Они объявили
великому князю и его секретарю об
аресте в связи с наступлением «белых». В
действительности Г. Мясников и его
товарищи решили казнить арестованных.
Они считали, что с такими «опасными
контрреволюционерами» следует
расправляться, совершая самосуд.
Михаил Александрович безуспешно
требовал позвать руководителя
местной ЧК, надеясь на его зашиту. Когда
рабочие пригрозили применить силу,
великому князю пришлось
подчиниться. В лесу за городом Михаила
Александровича и Брайана Джонсона
расстреляли. Раненный первой пулей,
великий князь побежал к своему
секретарю, прося разрешить им
попрощаться. Однако тот был уже убит... Вторым
выстрелом сразили и Михаила. По
слухам, их тела бросили в плавильную печь
завода в Мотовилихе, чтобы скрыть
следы казни.
После этого распространились слухи о
побеге великого князя из Перми. Ешё
около года в народе ходили толки о
том, что благополучно спасшийся
Михаил Александрович ведёт белые армии
на Москву.
Великий князь Михаил Александрович.
27
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
А. Кардовский. «Бал в Петербургском
Дворянском собрании
23 февраля 1913 года». 1915 г.
Плакат, посвященный 300-летию династии Романовых
НИКОЛАЙ II
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
ГРИГОРИИ РАСПУТИН
РАСПУТИН И НАСЛЕДНИК
Цесаревич Алексей, единственный сын
Николая II, страдал опасной и
неизлечимой болезнью — гемофилией
(несвёртываемостью крови). Любое
возникшее кровотечение ставило под
угрозу жизнь наследника. Так, в 1915 г.
у Алексея неожиданно пошла кровь
носом. Врачи не могли остановить
кровотечение, и наследник истекал
кровью. Анна Вырубова вспоминала: «Я
видела его, когда он лежал в детской:
маленькое, восковое лицо, в ноздрях
окровавленная вата». Родители
срочно вызвали Григория Распутина. Он
подошёл к кровати, осенил мальчика
крестным знамением, погладил по
голове. После этого Григорий Ефимович
сказал, что ничего серьёзного нет и
беспокоиться нечего, повернулся и
ушёл. «Кровотечение прекратилось, —
писала Вырубова. — Доктора
говорили, что они совершенно не понимают,
как это произошло».
Сохранилось много свидетельств того,
что такие случаи повторялись
довольно часто. Например, однажды
Распутину позвонили и сказали, что
наследник не спит — болит ухо. Тот позвал
мальчика к телефону: «Ты что,
Алёшенька, полуночничаешь? Болит?
Ничего не болит. Иди сейчас ложись.
Ушко не болит. Не болит, говорю тебе.
Слышишь? Спи!». Через четверть часа
ребёнок уже спокойно спал. «Теперь и
лечат меня, и молятся, а пользы нет, —
говорил Алексей после смерти
Распутина. — А он, бывало, принесёт мне
яблоко, погладит меня по больному
месту, и мне сразу становится легче».
Распутин рассказывал детям Николая II
русские народные сказки, играл,
молился вместе с ними. «С детьми я часто
Против этого человека объединилось всё образованное
общество России. Пожалуй, он оказался единственным, кто навлёк на
себя такую всеобщую ненависть. Только крестьяне относились к
нему иначе, часто говорили о нём с сочувствием и даже
любовью. Он ведь и сам был одним из них...
Григорий Ефимович Распутин родился в крестьянской
семье в селе Покровском Тобольской губернии. Точное время его
рождения неизвестно, историки называют разные годы — от
1863 до 1872.
Григорий рос задумчивым, наблюдательным ребёнком.
Всматривался в жизнь природы, зверей и птиц. Любил
присутствовать при работе сельских лекарей — внимательно смотрел, ни
о чём не спрашивая.
Мальчик подолгу сидел неподвижно, о чём-то
сосредоточенно размышляя. Позже он вспоминал: «В 15 лет в моём селе в
летнюю пору, когда солнышко грело, а птицы пели райские песни,
я мечтал о Боге. Душа моя рвалась вдаль. Не раз, мечтая, я плакал
и сам не знал, откуда слёзы и зачем они. Так прошла моя юность.
В каком-то созерцании, в каком-то сне».
Повзрослев, он прожил несколько лет в городе, женился; у
супругов родилось трое детей. Но что-то подтолкнуло
Распутина резко изменить образ жизни. Его знакомые говорили, что он
вдруг «стал новым человеком». Начал часто и горячо молиться,
бросил пить и курить. Перестал есть мясную и молочную пищу
(и соблюдал этот пост до конца жизни).
Распутин отправился в странствия. На жизнь себе
зарабатывал любой подвернувшейся работой. Побывал в десятках
монастырей. Посетил православную обитель на священной греческой
горе Афон, дважды дошёл до самого Иерусалима.
«Он был мечтатель, беззаботный странник, прошедший
вдоль и поперёк всю Россию, — писал знакомый Григория
Распутина Арон Симанович. — Во время этих странствований он
встречался с людьми из всех классов и вёл с ними долгие
разговоры. При его огромной памяти он из этих разговоров мог
многому научиться. Таким образом во время его долгих
паломничеств созрел его особенный философский характер».
В те годы сложились и политические взгляды Г. Распутина.
Он мечтал о царстве вольных крестьян, без вечного
дворянского засилья, где мужики имели бы достаточно земли.
30
ГРИГОРИЙ
РАСПУТИН
В скитаниях Распутин познакомился со многими
премудростями — от врачебного ремесла до тибетского буддизма. Правда,
грамоте он почему-то так и не выучился до конца. Писал всегда
подчёркнуто по-мужицки, с грубыми ошибками почти в каждом
слове.
Не раз он помогал больным, даже считавшимся
неизлечимыми. Однажды в уральском монастыре исцелил «бесноватую» —
женщину, страдавшую тяжёлыми припадками.
В начале XX столетия Распутина уже почтительно
именовали «старцем». Так называли его не за возраст, а за опыт и веру. В
это время он и приехал в Петербург.
К сибирскому страннику потянулись люди, не находившие
полного утешения в государственной церкви. Они посещали
Григория Ефимовича, слушали его рассказы, наставления. Вот что
много лет спустя рассказывала писателю Эдварду Радзинскому одна
известная актриса. Г. Распутин «стал говорить. Всё было — о
кротости, о душе. Я пыталась запомнить и потом, придя домой, даже
записала, но это было уже не то. А тогда у всех зажглись глаза... это
был неизъяснимый поток любви... Я опьянела». Особое
впечатление производили глаза странника, «необыкновенно
проницательные», заглядывающие будто в самую душу собеседника.
Г. Распутиным заинтересовался епископ Феофан. Его
поразил особый религиозный экстаз, в который впадал иногда
Распутин. Такое глубокое молитвенное настроение, говорил
епископ, он встречал только в редких случаях
среди наиболее выдающихся представителей
русского монашества.
В 1908 г. благодаря епископу Распутин
встретился с самой императрицей Александрой
Фёдоровной. Граф Владимир Коковцов так
передавал содержание этой беседы: «Распутин стал
говорить, что ей и государю особенно трудно
жить, потому что им нельзя никогда узнать
правду, так как кругом них всё больше льстецы да
себялюбцы, которые не могут сказать, что
нужно для того, чтобы народу было легче.
Царю и ей нужно быть ближе к народу,
чаще видеть его и больше верить ему, потому
что он не обманет того, кого почитает почти
равным самому Богу, и всегда скажет свою
настоящую правду, не то что министры и
чиновники, которым нет никакого дела до народных
слёз и до его нужды. Эти мысли глубоко запали
в душу императрицы».
Постепенно Григория Распутина стали
звать «другом» царской четы. Он лечил их детей,
особенно больного наследника Алексея. Держал
он себя с царём и царицей удивительно
свободно и естественно. Называл их попросту «Мама»
шучу, — говорил он сам. — Было раз
так: все девочки сели ко мне на спину
верхом, Алексей забрался на шею мне,
а я начал возить их по детской комнате.
Долго возил, а они смеялись. Потом
слезли, а наследник и говорит: „Ты
прости нас, Григорий, мы знаем, что ты —
священный и так на тебе ездить нельзя,
но это мы пошутили"».
Однажды в 1907 г. царь спросил свою
сестру Ольгу, не хочет ли она
познакомиться с крестьянином. В детской
Ольга увидела Распутина, игравшего с
царскими детьми. «Кажется, он нравился
детям, они чувствовали себя с ним
непринуждённо», — вспоминала великая
княжна. Уже наступил вечер, и детям
пора было ложиться спать. «В спальне
Алексея слабый свет исходил только от
лампадки перед чудной иконой. Ребёнок
очень спокойно стоял рядом с гигантом,
кивавшим головой. Я поняла, что он
молится... Я поняла также, что мой
маленький племянник молится вместе с
ним. Я не могу описать это—но я была
тогда совершенно уверена в
искренности этого человека».
и «Папа», а они его — Григорий.
Е. Клокачёва. «Портрет Г. Распутина». 1914 г.
31
«Он им рассказывал про
Сибирь и нужды крестьян, о
своих странствованиях, —
писала фрейлина Анна
Вырубова. — Когда после часовой
беседы он уходил, он всегда
оставлял их величества весёлыми,
с радостными упованиями и
надеждой в душе».
Убеждал их Распутин всё
больше притчами и
иносказаниями. Епископ Феофан
вспоминал: «Сидели и беседовали
о политическом положении
в России. Старец Григорий
вдруг как вскочит из-за стола,
как стукнет кулаком по столу. И
смотрит прямо на царя.
Государь вздрогнул, я испугался,
наследник заплакал, а старец и
г. Распутин и его духовно-религиозный спрашивает государя: „Ну что? Где ёкнуло, здеся али туго?". При
кружок, эхом он сначала указал пальцем себе на лоб, а потом на сердце.
Государь ответил, указывая на сердце: „Здесь сердце забилось!".
„То-то же, — продолжал старец, — коли что будешь делать для
России, спрашивай не ума, а сердца. Сердце-то вернее ума!"»,
Николай порой стал советоваться с Распутиным о
назначении тех или иных важных сановников. Многие видные
чиновники, искавшие продвижения по службе, стремились теперь
понравиться Распутину, заискивали перед ним. В квартиру
сибирского мужика наряду с нищими просителями зачастили
миллионеры, министры и аристократы.
В светском обществе стали распространяться слухи о
разгульном поведении Г. Распутина, его общении с разным
сбродом. Действительно, двери его квартиры были открыты для
любой публики. Свою распущенность Распутин вовсе не считал
противоречащей традициям русского «святого юродства». Ведь
он не был ни священником, ни монахом. Если вся грязь и порок
в человеке впитаются в его телесную оболочку, утверждал он,
душа его, омытая от этих грехов, сможет остаться чистой.
«Каким представляли себе Распутина современники? —
замечал А. Симанович. — Как пьяного, грязного мужика, который
проник в царскую семью, назначал и увольнял министров,
епископов и генералов. К тому ещё дикие оргии, похотливые танцы
среди пьяных цыган, а одновременно непонятная власть над
царём и его семьёй, гипнотическая сила и вера в своё особое
назначение. Это было всё! Но за грубой маской мужика скрывался
сильный дух, напряжённо задумывающийся над
государственными проблемами».
«Царской семье, — продолжал А. Симанович, — он расска-
г. Распутин. Начало хх в. зывал о русском народе и его страданиях, подробно описывал
32
ГРИГОРИЙ
РАСПУТИН
крестьянскую жизнь, причём царская семья его внимательно
слушала. Царь узнал от него многое, что осталось бы без Распутина
для него скрытым. Распутин горячо отстаивал необходимость
широкой аграрной реформы. „Освобождение крестьян
проведено неправильно, — говорил он часто. — Крестьяне
освобождены, но они не имеют достаточно земли". Распутин мечтал о
крестьянской монархии, в которой дворянские привилегии не
имели бы места». Государыня со слов Распутина записала такое его
поучение: «Родина — широка, надо дать ей простор работы, но
не левым и не правым, левые — глупы, а правые — дураки.
Почему? Да потому что палкой научить хотят».
Но если царь советовался с Распутиным о назначении
чиновников, то к его политическим советам он прислушивался
гораздо реже. Например, Распутин несколько раз без успеха
убеждал царя уравнять евреев в правах с остальным населением.
В 1915—1916 гг. Государственная дума добивалась права
назначать министров. Распутин уговаривал царя склониться
перед требованием времени. Царь согласился, но так и не сделал
этого.
Враждебность к Григорию Распутину испытывали все
образованные слои общества. Монархисты-дворяне и
интеллигенция, как революционная, так и либеральная, сходились в этом
вопросе. «Дворянство против меня, — говорил в 1916 г. сам
Распутин. — Дворянство не имеет русской крови. Кровь дворянства
смешанная. Дворянство хочет меня убить, потому что ему не
нравится, что около русского трона стоит русский мужик».
Жандармский генерал А. Герасимов вспоминал о созвучных настроениях
среди простонародья: «Мне приходилось слышать солдатские
разговоры о том, что царь теперь разуверился в дворянах и
чиновниках и решил приблизить к себе „нашего брата, простого
мужика" и что это только начало, что скоро вообще всех
„дворян и чиновников" царь прогонит прочь от себя и наступит
„мужицкое царство"».
19 ноября 1916 г. депутат-черносотенец Владимир Пуриш-
кевич произнёс в Государственной думе страстную речь против
Распутина. Он горячо воскликнул: «Не должен тёмный мужик
дольше править Россией!». «В этот день, — писал В. Пуришке-
вич, — все депутаты Думы были мои единомышленники...»
В тот же день и родился замысел убить Распутина.
Выслушав обличительную речь Пуришкевича, с этим предложением к
нему подошёл князь Феликс Юсупов. Потом к заговору
присоединились ещё несколько человек, в том числе великий князь
Дмитрий Павлович.
Исполнение задуманного назначили на 16 декабря 1916 г.
Ф. Юсупов пригласил Распутина в свой особняк При встрече они
по русскому обычаю расцеловались. Распутин неожиданно
насмешливо воскликнул: «Надеюсь, это не иудино лобзанье!».
Распутина собирались отравить цианистым калием.
Заговорщики не знали, что вместо яда им дали безвредный аспири-
новый порошок Они насыпали его в пирожные и рюмки. Юсу-
ПОКУШЕНИЕ НА РАСПУТИНА
2 июля 1914 г. на Распутина у него
дома, в селе Покровском, совершили
покушение. Убийцу подослал монах
Илиодор, написавший о Распутине
воспоминания, озаглавленные «Святой
чёрт». Крестьянка Феония Гусева
попросила у Распутина милостыню.
Когда он полез в кошелёк за монетой, она
ударила его ножом в живот.
Придерживая рукой вспоротые кишки,
Распутин поленом выбил нож из рук
Гусевой. Он даже защитил её от самосуда
(потом эту женшину отправили в дом
для умалишённых).
Рана считалась смертельной. Распутин
вылечился только с помощью каких-то
особых трав, известных ему.
В дни, когда он лежал раненый, в
Европе вспыхнула Первая мировая
война. Незадолго до её начала Распутин
отправил парю телеграмму, в которой
умолял «не затевать войну»: «С войной
будет коней России и вам самим. Всё
положите до последнего человека».
«Государя телеграмма раздражила, —
вспоминала А. Вырубова. — Государь
тогда разорвал телеграмму и с
началом войны относился холоднее к
Григорию Ефимовичу».
Потом Г. Распутин с сожалением
повторял, что, «если бы не его болезнь,
войны бы не было». «Он всегда стоял
за немедленное заключение мира, —
замечал А. Симанович, —даже при
самых плохих условиях. По его мнению,
любой мир для России был лучше, чем
война. Когда Россия опять окрепнет,
тогда и можно будет вновь
пересмотреть мирные условия».
33
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
ГРИГОРИЙ
РАСПУТИН
пов угощал Распутина в столовой, уверяя, что остальные гости
сейчас спустятся со второго этажа. На самом деле там сидели
заговорщики — В. Пуришкевич и великий князь.
Распутин съел несколько пирожных с «ядом» — без всяких
последствий. Как вспоминал В. Пуришкевич, «расстроенный и
бледный» Юсупов поднялся наверх: «Представьте себе, он выпил
две рюмки с ядом, съел несколько пирожных и ничего;
решительно ничего, а прошло уже минут пятнадцать... Гад уже
подозрительно относится ко мне».
Посоветовавшись, Распутина решили застрелить. После
выстрела заговорщики сбежали вниз и, по описанию Пуришкеви-
ча, увидели такую картину: «Перед диваном, на шкуре белого
медведя лежал умирающий Григорий Распутин, а над ним, держа
револьвер в правой руке, стоял Юсупов, с чувством непередаваемой
гадливости вглядываясь в лицо им убитого „старца"».
Они вышли из комнаты, оставив Ф. Юсупова наедине с его
жертвой. Тот на всякий случай прощупал пульс — и не нашёл его,
послушал сердце — и не услышал ударов. «Но вдруг, —
рассказывал он, — можете себе представить мой ужас, Распутин медленно
открывает во всю ширь один свой сатанинский глаз, вслед за ним
другой, впивается в меня взглядом непередаваемого напряжения
и ненависти и со словами „Феликс! Феликс! Феликс!" вскакивает
сразу, с целью меня схватить. Я отскочил с поспешностью, с
какой только мог».
Пуришкевич услышал «дикий, нечеловеческий крик»
Юсупова: «Пуришкевич, стреляйте, стреляйте! Он жив! Он убегает!».
«То, что я увидел внизу, — вспоминал Пуришкевич, — могло бы
показаться сном, если бы не было ужасною для нас
действительностью. Григорий Распутин, которого я полчаса тому назад
созерцал при последнем издыхании, быстро бежал по рыхлому
снегу».
«Феликс, Феликс, всё скажу царице!» — кричал он.
«Я бросился за ним вдогонку, — продолжал Пуришкевич, —
и выстрелил. Промах. Распутин поддал ходу; я выстрелил
вторично на бегу — и... опять промахнулся. Мгновения шли... Распутин
подбегал уже к воротам, тогда я остановился, изо всех сил
укусил себя за кисть левой руки, чтобы заставить себя
сосредоточиться, и выстрелом попал ему в спину. Он остановился, тогда я,
уже тщательно прицелившись, дал четвёртый выстрел, попавший
ему, как кажется, в голову, ибо он снопом упал ничком в снег и
задёргал головой. Я подбежал к нему и изо всей силы ударил его
ногою в висок».
Убийцы опустили связанное тело Распутина в прорубь на
льду Малой Невки у Крестовского острова. Под лёд его бросили
ещё живым. Когда тело нашли, обнаружили, что лёгкие были
полны воды: Распутин пытался дышать и захлебнулся. Правую руку
он высвободил из верёвок, пальцы на ней были сложены для
крестного знамения.
Г. Распутин и царская чета у постели больного наследника Алексея.
4 Современный рисунок.
«ЗАВЕЩАНИЕ» РАСПУТИНА
Незадолго до смерти Григорий
Распутин написал своё «завещание» —
письмо Николаю II. (По другим данным,
впрочем, это письмо сочинили друзья
Г. Распутина уже после его смерти). В
нём говорилось: «Я предчувствую, что
ешё до первого января я уйду из
жизни. Если меня убьют нанятые убийцы,
русские крестьяне, мои братья, то тебе,
русский царь, некого опасаться.
Оставайся на своём троне и царствуй. Не
беспокойся о своих детях. Они ешё
сотни лет будут править Россией. Если
меня убьют бояре и дворяне... братья
восстанут против братьев и будут
убивать друг друга, и в течение 25 лет не
будет в стране дворянства.
Русской земли царь, когда ты
услышишь звон колоколов, сообшаюший
тебе о смерти Григория, то знай: если
убийство совершили твои
родственники, то ни один из твоей семьи, то есть
детей и родных, не проживёт дольше
двух лет. Их убьёт русский народ».
Завершалось послание так: «Молись,
молись. Будь сильным. Заботься о
твоём избранном роде».
Рассказывали, что на Николая это
предсказание произвело сильное
впечатление, и определило многие его
дальнейшие поступки. Он повторял после
смерти Г. Распутина: «Мне стыдно
перед Россией, что руки моих
родственников обагрены кровью мужика». Уже
после революции из тобольской
ссылки царица писала А. Вырубовой, что за
убийство Г. Распутина, как и за другие
грехи, «страдает Россия, все должны
страдать за то, что сделали, но никто
не понимает».
35
«По заслугам и честь (Г. Распутин, парь и
царица)» (журнал «Заноза», 1917 г.).
Имена убийц немедленно стали известны полиции. Но
отделались они очень легко: Юсупова отправили в собственное
имение, великого князя — на фронт, а Пуришкевича вообще не
тронули.
Григория Распутина скромно похоронили в Царском Селе.
Однако покоился он там недолго: после Февральской революции
его тело выкопали и сожгли на костре.
Столичные жители, узнав об убийстве Распутина,
поздравляли друг друга, радостно восклицая: «Зверь раздавлен!».
Французский посол Морис Палеолог описывал поведение горожан:
«Народ, узнав о смерти Распутина, торжествовал. Люди
обнимались на улицах, шли ставить свечи в Казанский собор.
Рассказывают, что Распутин был брошен в Неву живым, и одобряют это
пословицей „Собаке собачья смерть"».
Но совсем по-иному восприняли убийство Распутина
крестьяне. Они горевали и оплакивали своего «заступника и
мученика». «Для мужиков Распутин стал мучеником, — замечал
Палеолог. — Он был из народа; он доводил до царя голос народа; он
защищал народ против придворных; и вот придворные его
убили. Вот что повторяется во всех избах».
По словам Павла Милюкова, крестьяне говорили так: «Вот, в
кои-то веки добрался мужик до царских хором — говорить
царям правду, и дворяне его уничтожили».
РУССКО-ЯПОНСКАЯ
ВОИНА 1904—1905 ГОДОВ
Крейсер «Варяг» идёт в бой у Чемульпо.
27 января 1904 г.
Сейчас немногое может напомнить о той далёкой войне.
Несколько строчек из песни о гордом «Варяге», вальс «На сопках
Маньчжурии», отдельные эпизоды исторических романов — вот,
пожалуй, и всё. Между тем русско-японская война 1904—1905 гг.
серьёзно повлияла на весь дальнейший ход российской истории
и надолго определила отношения России со Страной
восходящего солнца.
НАЧАЛО ВОЙНЫ
Военные действия начались в конце января 1904 г., когда японцы
напали на русскую эскадру у крепости Порт-Артур. Для русских это
оказалось полной неожиданностью. Корабли стояли на внешнем
36
РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОИНА
1904—1905 ГОДОВ
рейде, плохо охранялись; к тому же некоторые из них были ярко
освещены. Незадолго до нападения японцы, проживавшие в Порт-
Артуре, срочно эвакуировались, но это никого не насторожило.
При первой же атаке были выведены из строя три крупных
российских корабля. Последующие атаки захлебнулись,
встреченные огнём эскадры и береговых батарей. Не сумев сразу
уничтожить русскую эскадру, японцы решили заблокировать её в
гавани Порт-Артура, затопив на выходе из гавани брандеры
(старые суда, груженные камнями). Но все попытки японских
кораблей приблизиться к гавани были отбиты, и российские суда
могли свободно выходить в открытое море.
В день нападения японцев на Порт-Артур произошло ещё
одно событие, может быть не столь важное в истории войны, но
оставшееся в памяти народа как пример мужества и верности
долгу. В то время как основные силы японцев под
командованием адмирала Хэйхатиро Того вели бой у Порт-Артура, эскадра
контр-адмирала Уриу подошла к корейскому порту Чемульпо
(ныне Инчхон), где стояли крейсер «Варяг» и канонерская лодка
«Кореец». Русским кораблям предложили сдаться. Командир
«Варяга» капитан Всеволод Руднев принял бой, пытаясь прорваться
из порта, блокированного японской эскадрой. Это ему не
удалось. После тяжёлого боя русским морякам пришлось затопить
«Варяг» и взорвать «Кореец».
В феврале 1904 г. командующим Тихоокеанской эскадрой
в Порт-Артуре был назначен вице-адмирал Степан Макаров.
Новый командующий активно взялся за дело, готовясь к
решительному сражению с японским флотом. Он несколько раз выводил
эскадру в море, обеспечил охрану гавани, организовал ряд
рейдов миноносцев на коммуникации неприятеля. Но трагическая
случайность перечеркнула все достигнутые результаты.
Флагманский броненосец Макарова «Петропавловск» подорвался на
японской мине. Погибли адмирал и почти весь экипаж судна.
После этого эскадра надолго прекратила активные боевые
действия.
Теперь японский флот мог беспрепятственно переправить
войска прямо в Маньчжурию. Одновременно 35-тысячная армия
генерала Куроки, ранее перевезённая на судах в нейтральную
Корею и частично оккупировавшая её, получила приказ двигаться
в Маньчжурию по суше. В это время у реки Ялу вдоль корейско-
маньчжурской границы стоял 15 -тысячный Восточный отряд
генерала Засулича, выславший в Корею для разведки небольшую
конную группу генерала Мищенко.
Наступающая армия Куроки легко отбросила Мищенко от
Пхеньяна к реке Ялу и атаковала отряд Засулича возле города
Тюренчена. Численность Восточного отряда была невелика, он
занимал неудачные позиции и не мог долго держать оборону.
Японцы форсировали реку и вынудили Засулича отступить на
север к основным силам Маньчжурской армии, которой
командовал генерал Алексей Куропаткин.
Победа, одержанная японцами на реке Ялу, оказала большое
Павел Сергеев, 14-летний доброволец,
ушедший на войну со 147-м пехотным
Самарским полком
(фото из журнала «Летопись войны
с Японией», 1904 г.).
37
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
Казнь японских шпионов русскими
солдатами («Le Petit Journal». 1904 г.).
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВОЙНЫ
С ЯПОНИЕЙ
Причиной русско-японской войны
было столкновение российских и
японских государственных интересов в
Корее и Маньчжурии (Северо-Восточный
Китай). В конце XIX столетия Россия
получила от китайского правительства
концессию на строительство в
Маньчжурии железных дорог и под
предлогом их охраны ввела в Маньчжурию
войска. Затем она потребовала от
Китая предоставить ей в аренду Квантун-
ский полуостров (юго-западную
оконечность Ляодунского полуострова) и
крепость Порт-Артур (ныне город
Люйшунь) с незамерзаюшей гаванью. В
1900 г. в Китае вспыхнуло
антиколониальное восстание, которое было
подавлено силами нескольких государств,
в том числе и России. После этого
Россия окончательно оккупировала
Маньчжурию, что привело к обострению
отношений с Японией и другими
странами. В 1903 г. Япония предложила
России отказаться от попыток
утвердить своё влияние в Корее. Взамен
Россия получила бы свободу действий на
Квантунском полуострове и право на
охрану железных дорог в Маньчжурии.
Российское правительство отвергло
эти предложения.
Богатая и беззащитная Корея и
ослабленный восстанием и последовавшей
военной интервенцией Китай были
сферой интересов не только России и
Японии, но и других стран, в том
числе таких могущественных, как США,
Англия, Германия. В частности,
Германия была особенно заинтересована
в разжигании войны, поскольку
желала ослабить позиции России в Европе.
®X\Z ^
-.7**^
ft ШУ t^-s ■ i, шиш
И ЖШ Ml '-У ••"'•■••'' "Я V-/\ ,. 'Ь,¥.-
да-
влияние на дальнейший ход войны. Она позволила адмиралу
Того высадить на Ляодунском полуострове армию генерала Оку,
двинувшуюся на Порт-Артур.
Армия Оку отрезала Порт-Артур от армии Куропаткина и в
середине мая 1904 г. атаковала у Кинчжоу авангард войск Кван-
тунского укреплённого района, расквартированных в
Порт-Артуре. При этом японцы понесли большие потери, но, несмотря
на это, им удалось прорвать фронт. Русские войска с боями
медленно отступали к Порт-Артуру, оставив прекрасно
оборудованный порт Дальний (ныне Далянь) и удобные для обороны
позиции на Квантунском полуострове.
БОРЬБА ЗА ПОРТ-АРТУР
Осада Порт-Артура была поручена генералу Ноги, а армия Оку,
развернувшись, двинулась на север против Куропаткина. Начальник
Квантунского укреплённого района генерал Анатолий Стессель мог
бы воспользоваться благоприятной ситуацией и до подхода основ-
38
РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА
1904—1905 ГОДОВ
ных сил японцев попытаться разбить более слабую армию Ноги.
Однако он предпочёл пассивно отсиживаться в крепости, ожидая
помощи от Куропаткина. Куропаткин же считал свою армию
недостаточно сильной, чтобы попытаться снять блокаду
Порт-Артура, и тоже ожидал подкрепления. Но вскоре он получил приказ
главнокомандующего Евгения Алексеева послать на помощь
Порт-Артуру корпус генерала Штакельберга. Прекрасно понимая, что
предстоящая операция — это откровенная авантюра, Куропаткин и Шта-
кельберг тем не менее не смогли от неё отказаться. Встретившись
с армией Оку у Вафангоу, Штакельберг завязал сражение. Сначала
ему сопутствовал успех, но, когда японцы попробовали обойти
плохо оборудованные позиции русских, генерал поспешил отступить,
и только некоторые тактические ошибки японского командования
спасли корпус от катастрофы.
К этому времени был закончен ремонт кораблей в гавани
Порт-Артура, что позволило начать военные действия на море.
Командующий Тихоокеанской эскадрой контр-адмирал
Вильгельм Витгефт вывел суда, чтобы сразиться с японским флотом
и в случае победы помочь гарнизону снять осаду крепости с суши.
При достижении частичного успеха ему предписывалось
соединиться с Владивостокским крейсерским отрядом и двигаться к
Владивостоку. Выполняя приказ, Витгефт вышел в море и дал бой
эскадре адмирала Того.
Японский флот, серьёзно пострадавший в этом сражении,
уже готовился отступать, когда во флагманский корабль Витгеф-
та попал крупнокалиберный снаряд. При взрыве погибли сам
адмирал и многие офицеры его штаба. После этого часть
кораблей эскадры вернулась в Порт-Артур, часть же ушла в
нейтральные порты, где боевые единицы российского флота были
разоружены. Лишь один крейсер «Новик» попытался достичь
Владивостока, но в бою с японским крейсером получил повреждения
и был затоплен своим экипажем.
Успешно действовал Владивостокский отряд крейсеров. За
полгода он совершил несколько рейдов к берегам Кореи и
Японии, потопил и захватил немало вражеских судов. Затем
крейсерскому отряду было приказано идти в Корейский пролив для
встречи с эскадрой Витгефта. Но вместо русских кораблей
владивостокские крейсеры встретили там превосходящую их по
силам эскадру адмирала Камимуры.
Отряд потерпел поражение и отступил к Владивостоку. В
бою был потоплен крейсер «Рюрик». Когда японцы попытались
захватить его, командовавший крейсером лейтенант Иванов
приказал открыть кингстоны (люки) и затопить судно. Сам
лейтенант героически погиб вместе с кораблём.
БИТВА ПРИ ЛЯОЯНЕ
К концу июля 1904 г. армия генерала Ноги начала осаду Порт-
Артура, а в Маньчжурии три японские армии генералов Куроки,
Оку и Нодзу, продолжая наступление, соединились у Ляояна.
Неразрешённые противоречия
накапливались, никто не желал уступать. И
накануне войны Россия оказалась в
политической изоляции. Положение
осложнялось внутренними
проблемами страны, прежде всего ростом
революционного движения, подавить
которое, по мнению некоторых
политиков того времени, помогла бы
победоносная война. Одним из
наиболее горячих сторонников такой
«маленькой победоносной войны»
являлся министр внутренних дел Вячеслав
Плеве.
Многие высшие государственные
деятели Российской империи,
занимавшиеся проблемами Дальнего Востока,
довольно пренебрежительно
относились к Японии как военному
противнику. Более того, они были уверены в
том, что Япония не только не выиграет
войну, но даже не решится начать её.
Эти настроения позднее получили
название «шапкозакидательских». Такая
позиция была отчасти обоснованной,
поскольку российская армия
значительно превосходила японскую по
численности. Однако при этом упускалось
из виду, что ядро боевых сил
Российской империи располагалось далеко от
будущего театра военных действий.
Подвозить войска и военную технику
можно было только по Транссибирской
магистрали, пропускная способность
которой была очень низкой. И в
наибольшей степени на исход войны
повлияло то, что среди высшего
командного состава российской армии было
мало людей решительных,
инициативных, пользующихся авторитетом в
войсках. Большинство российских
генералов имели слабую тактическую
подготовку, не следили за развитием
военного дела, полагались в основном на
силу холодного оружия и
недооценивали роль военной техники.
Образование и военная подготовка среднего и
младшего офицерства не
соответствовали требованиям современной войны.
Плохо были обучены и солдаты; кроме
того, они не понимали целей войны, что
сказывалось на моральном состоянии
армии. Против войны решительно
выступали социалисты и некоторые
либеральные деятели.
Таково было положение в стране и
армии накануне войны.
39
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
|ИМ«В'0Иг
идссс/
мьнап
ска шшод-
ptnoc-
лога,
»1СГАВИ"
ЖОЦВД
Наши
.ВЫИАШ
Циндао, и открыли mum»'
т его «рйменш гёмЬиго т
ним
«Наши войска произвели высадку
у Циндао...» Открытка 1904 г.
Русская полевая артиллерия на позиции.
Здесь произошло сражение, от результатов которого
зависело многое. Хотя армия генерала Куропаткина превосходила
японскую по численности и была лучше оснащена, ей с большим
трудом удавалось сдерживать натиск противника. Плохо были
организованы связь между отдельными частями армии и общее
управление ими, не хватало карт местности, данных разведки.
Но и в этих условиях все атаки японцев были отбиты.
Командующий объединённой японской армией маршал Ивао Ояма,
видя утомление и упадок духа своих войск, приказал отступать,
но Куропаткин опередил его, начав отход на два часа раньше.
ПАДЕНИЕ ПОРТ-АРТУРА
В конце декабря 1904 г. русское общество было потрясено
вестью о падении Порт-Артура. Его героическая оборона
приковала к себе внимание всего мира. Защитники крепости
мужественно отражали все атаки. Только с августа по ноябрь они
отбили четыре общих штурма; при этом японцы понесли большие
потери. Душой обороны крепости был талантливый
военачальник генерал Роман Кондратенко. Он понимал, что, пока
держится Порт-Артур и сохранён флот, Россия может рассчитывать на
победу в войне, поэтому делал всё возможное, чтобы отстоять
крепость. 2 декабря Кондратенко погиб. Вскоре после этого
начальник Квантунского укреплённого района Стессель и генерал
Александр Фок, невзирая на протесты многих офицеров и
недовольство солдат, подписали акт о капитуляции, хотя
возможности обороны не были исчерпаны.
157 дней держалась крепость. Она связала огромные силы
противника, не давая ему возможности продолжить наступление
в Маньчжурии. В боях за Порт-Артур погибли многие
представители старинных самурайских фамилий и один из японских
принцев. Немалые потери понёс при осаде и неприятельский
флот. Падение Порт-Артура вызвало взрыв негодования в России,
приблизив начало первой русской революции.
МУКДЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ
Чтобы успокоить общественное мнение,
правительство требовало от военного командования
предпринять наступление. Куропаткин
разработал план наступления под Сандепу, но в бою
потерпел поражение. Причиной его было
неумелое руководство войсками, отсталые взгляды на
тактику ведения боя, пресечение любой
инициативы. Например, генерал Штакельберг,
осуществивший удачное наступление без санкции
главнокомандующего, был снят с должности.
Постоянные поражения, большие жертвы,
бессмысленное сидение в окопах, гибель
раненых от холода и отсутствия медицинской
помощи — всё это оказывало деморализующее влия-
40
РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА
1904—1905 ГОДОВ
«Крушение броненосца „Петропавловск" у Порт-Артура. 13 апреля 1904 г.» («Le Petit Parisien». 1904 г.).
Русский военный лагерь в Маньчжурии. ние На ЯрМИЮ. ВНОВЬ прибывавшие ИЗ РОССИИ СОЛДаТЫ И офице-
1904 г. рЫ ПрИНосили известия о начавшейся революции. В таких
условиях шла подготовка армии к Мукденскому сражению,
невиданному для того времени и сравнимому только с великими
сражениями будущих мировых войн.
В битве под Мукденом (февраль — март 1905 г.)
участвовало более 550 тыс. человек; фронт протянулся не менее чем на
100 км. По плану Куропаткина российские войска должны были
прикрыть Мукден с севера и запада, затем подтянуть резервы и
перейти в наступление. Но осуществить этот план не удалось.
Командование упустило возможность нанести удар по армии Ноги,
переброшенной в Маньчжурию после падения Порт-Артура, и
позволило ей соединиться с основными силами японцев.
Совершив сложный манёвр, японские войска обошли Мукден с
севера, затем прорвали фронт и вышли к железной дороге. Куропат-
кин отдал приказ об отступлении. Русские части отходили вдоль
железной дороги по узкому коридору, образовавшемуся между
двумя японскими армиями. Потери были огромны, боевой дух
РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОИНА
1904—1905 ГОДОВ
армии полностью сломлен. Японцы почти не преследовали
отступавших, т. к. сами были в тяжёлом положении.
ЦУСИМСКАЯ КАТАСТРОФА И КОНЕЦ ВОЙНЫ
Последним аккордом войны стало Цусимское морское сражение.
Ещё в июле 1904 г. в Кронштадте стали снаряжать эскадру под
командованием вице-адмирала Зиновия Рожественского, которую
отправили затем на Дальний Восток вокруг Африки. Рожествен-
ский должен был соединиться с Тихоокеанской эскадрой и
совместными усилиями разгромить японский флот. Однако на
полпути, когда балтийская эскадра была ещё у Мадагаскара,
Порт-Артур пал, а почти весь Тихоокеанский флот России погиб. Хотя
эскадре Рожественского не под силу было в одиночку справиться с
флотом Того, ей было приказано двигаться дальше. В качестве
подкрепления с Балтики был послан отряд кораблей контр-адмирала
Небогатова. Соединившись у берегов Вьетнама с этим отрядом и
будучи после этого всё же слабее Того, Рожественский в середине
мая 1905 г. подошёл к островам Цусима в Корейском проливе, где
сразился со всем японским флотом.
Балтийская эскадра была наголову разбита. Такого не
случалось за всю предшествующую двухсотлетнюю историю
российского флота. Большинство боевых единиц эскадры было потоплено,
43
«Пункт медицинской помоши»
(из журнала «Летопись войны
с Японией», 1904 г.).
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
■^&&ж**р%Щ$1
'iimsm^l ~
«Потопление грузового военного сулна „Киншиу-Мару"»
(«Le Petit Parisien». 1904 г.).
Раненые русские солдаты, взятые в плен, сопровождаются в лагерь японскими
военнослужащими. 1905 г.
некоторые ушли в нейтральные
порты. Три корабля прорвались
во Владивосток; четыре
броненосца, на одном из которых
находился контр-адмирал
Небогатое, сдались в плен. Сдался
врагу и раненый Рожествен-
ский, спасшийся с гибнувшего
флагманского корабля на
миноносце.
В Маньчжурии после Мук-
денской битвы активные
боевые действия прекратились, т. к
японская армия Оямы
окончательно выдохлась и уже не
имела сил наступать. Сменивший
Куропаткина генерал Линевич
готовился к наступлению, но
медлил, ожидая исхода
начавшихся в американском городе
Портсмуте мирных
переговоров. Японцы, пользуясь тем, что
на российском Дальнем
Востоке почти не было войск, в июле
1905 г. оккупировали Сахалин и
совершили несколько
нападений на Приморье и Камчатку.
К этому времени, несмотря
на полный внешний успех, в
Японии сложилась критическая
ситуация. В стране почти
полностью истощились основные
военные и финансовые
ресурсы, ослабленная экономика
находилась на пределе. Азартно
стартовав и вложив все силы в
первый удар, Япония выдохлась
на финише. В России сложилась
противоположная ситуация. Не
готовая к войне на Дальнем
Востоке, Россия вначале была
слаба, долго воевала не в
полную силу и лишь теперь,
успешно преодолев ряд трудностей в
переброске и снабжении войск,
стала наконец приводить в
действие громадные военные и
материальные ресурсы.
В войне наступал
переломный этап, и японцы, чувст-
44
РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА
1904—1905 ГОДОВ
вуя это, торопились заключить мир. Япония постепенно
отступилась от целого ряда оскорбительных для России требований.
Готовы были японцы отказаться и от Сахалина, и от денежного
вознаграждения, но российское правительство, торопясь
расправиться с революцией, пошло на уступки. 23 августа (5 сентября)
1905 г. представитель России Сергей Витте подписал в
американском городе Портсмуте мирный договор с Японией. Он был
заключён при посредничестве США. Согласно условиям этого
договора, Россия уступила Японии южную часть Сахалина,
разрешила ей бесконтрольный рыболовный промысел в российских
дальневосточных водах, заплатила за содержание русских
пленных, отдала японцам Порт-Артур и Дальний и признала Корею
и Южную Маньчжурию сферой влияния Японии.
Матросы на японском военном корабле.
Репродукция с картины «Эпизод
Цусимского боя — миноносец „Буйный"
и броненосец „Бородино"». 1905 г.
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
РЕВОЛЮЦИЯ
1905—1907 ГОДОВ
МАКСИМ ГОРЬКИЙ
О СОБЫТИЯХ 9 ЯНВАРЯ
Писатель Максим Горький в очерке
«9-е января» писал о настроениях
толпы в тот день:
«Высокий человек встал на тумбу и
начал говорить громко, торжественно, с
огнём в глазах и дрожью в голосе.
Говорил о „нём", о иаре. Толпа слушала
внимательно — человек отражал её
желание, она это чувствовала. И хотя
сказочное представление силы явно не
сливалось с „его" образом, но все
знали, что такая сила есть, должна быть.
Оратор воплотил её в существо, всем
известное по картинкам календарей,
связал с образом, который знали по
сказкам, — а в сказках этот образ был
человечен. Слова оратора рисовали
существо властное, доброе,
справедливое, отечески внимательное к нужде
народа.
Когда толпа вылилась на берег реки и
увидела перед собою длинную ломаную
БАНКЕТНАЯ КАМПАНИЯ
Неудачный ход русско-японской войны 1904—1905 гг. вызвал в
России массовое недовольство. Различные слои и сословия
общества стали предъявлять свои требования властям. Одной из
первых выступила интеллигенция, добивавшаяся расширения
гражданских свобод.
В октябре 1904 г. либеральный «Союз освобождения» (см.
ст. «Кадеты») выдвинул идею провести банкетную кампанию, т. е.
серию ресторанных банкетов. Её начало приурочили к 40-летию
судебной реформы. Такая необычная форма протеста
объяснялась тем, что политические собрания тогда не разрешались
властями. Но если можно запретить демонстрацию или митинг, то
как запретить ресторанные банкеты? В ноябре и декабре в 34
городах России прошло свыше 120 банкетов, в которых
участвовали десятки тысяч человек
Банкетной кампанией руководил «кулинарный комитет»,
занимавшийся, разумеется, далеко не только кулинарией. В
застольных речах ораторы высказывались за гражданские
свободы, ограничение самодержавия, требовали ввести народное
представительство. Они принимали обращения с подобными
пожеланиями в адрес властей. В результате в январе 1905 г. банкеты
всё-таки запретили...
Одновременно с проведением банкетной кампании стали
создаваться союзы, объединявшие людей интеллигентных
профессий. Возникли союзы адвокатов, профессоров, инженеров,
писателей, врачей, учителей. Все эти союзы выражали
политические чаяния образованных слоев общества. Появился даже
союз чиновников...
Полгода спустя, 8 мая 1905 г., на съезде в Москве 14 союзов
образовали объединённый Союз союзов. Председателем съезда
избрали Павла Милюкова, будущего вождя кадетской партии. В
тот момент Союз союзов возглавил всё либеральное движение
интеллигенции.
«КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
Однако брожение только среди интеллигенции, конечно, не
могло стать причиной революции в стране. Поэтому началом пер-
46
РЕВОЛЮиИЯ
1905—1907 ГОДОВ
вой русской революции считается январь 1905 г., когда в
политическую борьбу вступили рабочие.
За несколько месяцев до этого священник Георгий Гапон
при содействии полиции и городских властей создал в столице
рабочую организацию — «Собрание русских
фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга» (см. ст. «Георгий Гапон»).
Интеллигенты в её состав не допускались, что власти считали
гарантией против крамолы. Но недовольство, уже охватившее самих
рабочих, вскоре завершилось мощной вспышкой, совершенно
неожиданной для правительства.
Поводом послужил самый заурядный случай. В декабре
1904 г. один из мастеров Путиловского завода по фамилии Те-
тявкин уволил четверых рабочих. Все они входили в состав
«Собрания», которое немедленно выразило свой протест. 30
декабря директор завода принял делегацию рабочих и пообещал им,
что уволят только одного из четверых. Но рабочие не
согласились с таким решением, считая это «предательством товарища».
2 января они решили «поддержать товарищей», прекратив
работу. На следующий день Путиловский завод, самый крупный
в столице, остановился. Бастующие предъявили уже возросшие
требования: повысить жалованье, установить 8-часовой рабочий
день. Вначале власти отнеслись к стачке довольно спокойно, не
ожидая никакой угрозы со стороны отца Георгия и его
подопечных. Однако с каждым днём забастовка разрасталась, и скоро
замер почти весь Петербург: бастовало до 150 тыс. рабочих. В
домах отключили воду, газ, электричество; громадный город
погрузился в темноту.
Г. Гапон с утра до вечера выступал на массовых собраниях,
повторяя, что рабочие могут надеяться на одного лишь царя.
Только государь император — человек, стоящий над классами и
сословиями, — может заступиться за рабочих. Г. Гапон призывал
мирным шествием идти к царю и просить его о помощи. Он
составил для рабочих петицию, в которой говорилось: «Государь!
Мы, рабочие и жители города С.-Петербурга, наши жёны, дети и
беспомощные старцы-родители, пришли к Тебе, Государь, искать
правды и защиты.
Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным
трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам
относятся как к рабам. Мы и терпели, но нас толкают всё дальше в
омут нищеты, бесправия и невежества; нас душат деспотизм и
произвол, мы задыхаемся. Нет больше сил, Государь. Настал
предел терпению. Для нас пришёл тот страшный момент, когда
лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук.. Взгляни без
гнева, внимательно на наши просьбы, они направлены не ко злу, а к
добру, как для нас, так и для Тебя, Государь!».
Вслед за этим в петиции перечислялись просьбы рабочих:
освободить политзаключённых, объявить гражданские свободы,
созвать Учредительное собрание и т. д. Они производили
впечатление целой революционной программы, включившей основные
требования интеллигенции.
линию солдат, преграждавшую ей путь
на мост, — людей не остановила эта
тонкая серая изгородь.
— Назад! —донёсся крик офицера. —
Я прикажу стрелять.
Когда голос офицера долетел до толпы,
она ответила гулким эхом удивления.
— Какая там стрельба? К чему? —
солидно говорил пожилой человек с
проседью в бороде. — Просто они не
пускают на мост, дескать — идите прямо
по льду...
И вдруг в воздухе что-то неровно
просыпалось, дрогнуло, ударило в толпу
десятками невидимых бичей. На
секунду все голоса как бы замёрзли. Масса
продолжала тихо подвигаться вперёд.
— Холостыми... — не то сказал, не то
спросил бесцветный голос.
Но тут и там раздавались стоны, у ног
толпы легло несколько тел. И снова
треск ружейного залпа. Люди падали
по двое, по трое, приседали на землю,
хватаясь за животы, ползли по снегу, и
всюду на снегу обильно вспыхнули
яркие красные пятна.
...Казалось, что больше всего в груди
людей влилось холодного,
мертвящего душу изумления. Ведь за
несколько ничтожных минут перед этим они
шли, ясно видя перед собою цель пути,
пред ними величаво стоял сказочный
образ, они любовались, влюблялись в
него и питали души свои великими
надеждами. Два залпа, кровь, трупы,
стоны и — все встали перед серой
пустотой, бессильные, с разорванными
сердцами)).
47
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
«Всюду свобода...»
(К аресту М. Горького в январе 1905 г.
Журнал «Вампир». 1906 г.)
В. Маковский. «9 января 1905 года».
«У нас только два пути, — говорилось в заключение, — или
к свободе и счастью, или в могилу! Укажи, Государь, любой из
них — мы пойдём по нему беспрекословно, хотя бы это был и
путь смерти! Пусть наша жизнь будет жертвой для
исстрадавшейся России! Нам не жалко этой жертвы, мы охотно приносим её».
На 9 января рабочие назначили мирное шествие к Зимнему
дворцу, чтобы вручить петицию царю. За день до этого Г. Гапон
направил письмо министру внутренних дел. «Царю нечего
бояться, — писал священник — Пусть Он выйдет как истинный Царь с
мужественным сердцем к своему народу и примет из рук в руки
нашу петицию. Иначе может произойти конец той нравственной
связи, которая до сих пор существует между русским Царём и
русским народом».
Группа литераторов (М. Горький, А. Пешехонов и др.) также
попыталась убедить власти не применять силу. Вечером 8
января они отправились в Министерство внутренних дел. Однако
министр их не принял; его товарищ (заместитель) сказал, что
уговаривать надо не правительство, а рабочих. Правительство
только выполняет свои обязанности. В ночь на 11 января почти всю
бывшую депутацию заключили в Петропавловскую крепость...
Власти решили, что её участники хотели образовать Временное
правительство России.
И вот наступило воскресенье 9 января. На улицы вышло
около 140 тыс. человек. Рабочие
шли с жёнами и детьми,
празднично одетые. Люди несли
иконы, хоругви, кресты, царские
портреты, бело-сине-красные
национальные флаги. У костров
грелись вооружённые солдаты.
Но никто не хотел верить, что в
рабочих будут стрелять. «Утро
было сухое, морозное, —
вспоминал Гапон. — Я предупреждал
людей, что те, которые понесут
хоругви, могут пасть первыми,
когда начнут стрелять, но в
ответ на это толпа людей
бросилась вперёд, оспаривая опасную
позицию. Несмотря на сильный
холод, все шли без шапок,
исполненные искреннего желания
видеть царя, чтобы, по словам
одного из рабочих, „подобно
детям", выплакать своё горе на
груди царя-батюшки». Царя в тот
день в городе не было, но они
надеялись, что государь
приедет, чтобы лично принять
петицию из их рук.
48
Люди в процессиях пели молитвы,
впереди двигались конные и пешие полицейские,
расчищая идущим дорогу. Шествие напоминало
крестный ход.
Вот одна из колонн натолкнулась на
цепочку солдат, преграждавших ей путь к Зимнему
дворцу. Все услышали пение рожка горниста, а
вслед за этим раздались выстрелы. Упали на
землю раненые и убитые... Один из полицейских
офицеров, сопровождавших шествие,
воскликнул: «Что вы делаете? Почему вы стреляете в
религиозную процессию? Как вы смеете стрелять
в портрет государя!?». Грянул новый залп, и на
землю упал и этот офицер... Под выстрелами
гордо стояли только люди, державшие образа и
портреты. Г. Гапон рассказывал: «Старик
Лаврентьев, нёсший царский портрет, был убит, а
другой, взяв выпавший из его рук портрет,
также был убит следующим залпом».
Такие сцены разыгрывались во многих
местах города. Некоторые рабочие всё же
проникли сквозь заслоны к Зимнему дворцу. Если в
других районах города солдаты просто молча
выполняли команды, то у Зимнего толпе удалось
вступить с ними в споры. Однако скоро
выстрелы прогремели и здесь. Так закончился день,
который назвали «кровавым (или «красным»)
воскресеньем».
По официальным данным, погибли 130
человек и около 300 получили ранения. По другим
сведениям, число погибших достигало 200,
раненых — 800 человек «Полиция отдала
распоряжение не отдавать трупы родственникам, —
писал жандармский генерал А. Герасимов. —
Публичные похороны не были разрешены. В
полной тайне, ночью, убитые были преданы
погребению».
Расстрел произвёл сильное впечатление на
всю Россию. Участник гапоновского «Собрания»
А. Карелин вспоминал о чувствах самих
участников демонстрации: «В отделах люди, не
только молодые, но и верующие прежде старики,
топтали портреты царя и иконы. И особенно топтали и плевали
те, кто прежде в отделах заботился о том, чтобы перед иконами
постоянно лампадки горели, масла в них подливали». Г. Гапон с
отчаянием воскликнул сразу после расстрела: «Нет больше Бога,
нету больше царя!».
Спустя несколько часов священник составил новое
обращение к народу. Николая II он называл теперь «зверем-царём».
«Братья товарищи-рабочие, — писал Г. Гапон. — Невинная кровь всё-
Е. Лансере. «Тризна» (газета «Адская почта», 1906 г.).
ф^Щт ШтЩт
Открытка, высмеивающая приказ А. Трепова «Патронов i
жалеть!» (вверху — разгон демонстрации,
внизу — эпизод русско-японской войны).
49
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
УКАЗ ОБ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ
АВТОНОМИИ
Летом 1905 г. в правительстве
родилась идея сделать шаг навстречу
требованиям интеллигенции — ввести в
вузах автономию. Тем самым власти
рассчитывали успокоить студентов и
профессуру и отвлечь их от
революции. 27 августа появился указ,
предоставивший университетам широкую
автономию. Профессора отныне могли
выбирать ректора,
студенты—свободно собираться. Но результат оказался
противоположным ожиданиям властей.
Студенты в тот момент уже несколько
месяцев бастовали, не посещали
занятия. Теперь на сходках они решили
прервать забастовку и превратить
университеты в «революционные трибуны».
«Тут началась совершенно невероятная
кутерьма, — вспоминал жандармский
генерал А. Герасимов. — Мои агенты
докладывали мне, что в университете,
в Технологическом, Лесном и прочих
институтах беспрерывно следуют
митинг за митингом. Все аудитории, все
залы переполнены народом,
слушающим революционных ораторов. В
отдельных аудиториях происходили
собрания по профессиям. Отведены
отдельные аудитории для чиновников,
солдат, офицеров, полиции... И
повсюду плакаты: „Здесь собрание кухарок",
„Здесь собрание сапожников", „Здесь
собрание портных" и прочие, и прочие.
С полудня до поздней ночи не
прекращалось митингованье. Одна толпа
сменяла другую... У аудитории,
отведённой под собрание городовых, висел
плакат: „Товарищи городовые,
собирайтесь поговорить о своих нуждах".
И мои агенты видели, как некоторые
городовые в форме шли в эту
аудиторию...».
Митинги проходили под громкие
крики: «Долой самодержавие!», «Лолой
царя!». Некоторые ораторы открыто
призывали к вооружённому восстанию.
Таким образом все вузы превратились
в настоящие очаги революции. Граф
С. Витте замечал: «Указ об автономии
университетов был первой брешью,
через которую революция,
созревавшая в подполье, выступила наружу».
таки пролилась... Пули царских солдат... прострелили царский
портрет и убили нашу веру в царя. Так отомстим же, братья,
проклятому народом царю и всему его змеиному отродью,
министрам, всем грабителям несчастной русской земли. Смерть им
всем!» 9 января 1905 г. считается днём рождения первой русской
революции.
«БУЛЫГИНСКАЯ» ДУМА
18 февраля 1905 г. в Царском Селе в присутствии императора
собралось заседание министров и высших сановников. Они
говорили о тяжёлом положении в стране и росте всеобщего
недовольства. Министры убеждали царя, что единственный способ
успокоить Россию — согласиться на создание выборного
органа, хотя и совещательного. Выслушав их, Николай II воскликнул:
«Вы говорите так, как будто боитесь революции!». «Государь, —
ответил министр внутренних дел Александр Булыгин, —
революция уже началась».
Министр зачитал проект высочайшего рескрипта. Документ
обещал привлечь к обсуждению законов «достойнейших,
доверием народа облечённых, избранных от населения людей». Все
министры в один голос заявили, что полностью согласны с
проектом. Удивлённый таким неожиданным единодушием, Николай
согласился и сразу же подписал рескрипт. Князь М. Хилков, один
из присутствовавших, даже расплакался от умиления... Вечером
того же дня Николай записал в дневнике: «Дай Бог, чтобы эта
важная мера принесла России пользу и преуспеяние».
6 августа появился указ, разъяснивший, как будет
избираться совещательная Государственная дума (её прозвали «булыгин-
ской»). Крестьяне получили 42% голосов, помещики — 31%,
имущие горожане — 27%. Рабочие оставались без права голоса.
«Это была жалкая полумера, — считал писатель Владимир
Короленко. — Представители могли советовать, царь и
министры могли не слушать советов. Все слои русского общества
отнеслись совершенно отрицательно к этому манифесту, и движение
продолжало расти». В результате «булыгинская» дума так и
осталась на бумаге. Выборы в неё никогда не состоялись.
КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОЛНЕНИЯ
Крестьяне внимательно наблюдали за ходом политических
событий в стране. Правда, они рассматривали их сквозь призму
одного, главного для них вопроса — земельного. Больше всего
крестьян волновало, дадут ли им помещичью землю.
После «кровавого воскресенья» количество крестьянских
выступлений в стране стало постепенно расти. В январе 1905 г.
их было только 17, в феврале — около 100, в мае — 300, а в
июне — почти 500. Крестьяне хотели обратить внимание властей
на свою нужду. Они рубили помещичьи леса, захватывали
пашни, поджигали дворянские усадьбы, разбирали имущество поме-
50
РЕВОЛЮиИЯ
1905—1907 ГОДОВ
щиков. Там, где владельцы имений сопротивлялись, дело
доходило до кровопролития.
В. Короленко вспоминал: «Отлично помню, как каждый
вечер с горки, на которой стоит моя дачка, кругом по всему
горизонту виднелись огненные столбы... Одни ближе и ярче, другие
дальше и чуть заметные — столбы эти вспыхивали, поднимались
к ночному небу, стояли некоторое время на горизонте, потом
начинали таять, тихо угасали... Одни разгорались быстрее и
быстрее угасали. Это значило, что горят скирды или стога... Другие
вспыхивали не сразу и держались дольше. Это, значит, загорались
строения...».
С беспорядками власти боролись, рассылая по стране
военные карательные экспедиции. Крестьяне, встречая прибывающие
войска и начальство, нередко выражали своё послушание.
Например, часто, признавая свою вину, всем сельским сходом
становились на колени. После этого представители властей
приказывали выйти из коленопреклонённой толпы наиболее
провинившимся. Если имена «главных смутьянов» не были известны,
произвольно выбирали нескольких крестьян. Их здесь же клали на
землю и пороли нагайками. Порке подвергались и женщины, и
богатые крестьяне («кулаки»)... Вслед за массовыми порками
часто производились и аресты. Зимой толпу иногда заставляли
часами стоять на коленях на снегу.
Все эти меры ожесточали крестьян. В некоторых местах
появились символические «виселицы для начальства». Однако
благодаря суровым мерам властей в деревнях постепенно
восстанавливался порядок В 1905 г. по всей России было 3228
крестьянских выступлений, в 1906 — 2600, в 1907 — 1337. В
последующие годы эти волнения почти стихли (см. ст. «Столыпинская
земельная реформа»).
Карательные экспедиции, массовые порки и т. п. заставляли
крестьян сделать выводы на будущее. Чиновник А. Комаров так
описал состоявшийся в 1910 г. типичный для того времени
разговор со знакомым крестьянином: «Это был солидный мужик с
бородой-лопатой и лысиной в полголовы. Разговорились, и я
коснулся 1905 года. Нужно сказать, что наш уезд был из числа тех,
которые в эту эпоху особенно озарились багровым заревом
помещичьих усадеб...
— Чёрт вас знает, что вы тут наделали в 1905 году!
— Это ты правильно... Не так бы нам нужно.
— Ну вот то-то и есть, — успокоительно сказал я, радуясь,
что мы поняли друг друга.
— Верно, верно... Здорового маху дали... Никого бы нам
выпускать не следовало...
— То есть как?
— Да так, чтобы, стало быть, начистоту... Всех под одно...
И при этом ласковое, улыбающееся лицо и симпатичные
морщинки-лапки около светлых, добродушных, детски-наивных
улыбающихся глаз...».
ВОССТАНИЕ НА БРОНЕНОСЦЕ
«ПОТЁМКИН»
Одним из самых ярких эпизодов
первой русской революции стало
восстание на броненосце Черноморского
флота «Князь Потёмкин
Таврический». Это вооружённое выступление
в июне 1905 г. произвело сильное
впечатление на всю Россию. Матросский
бунт на военном корабле
воспринимался в то время как событие почти
невероятное. Граф С. Витте замечал,
что эта история «баснословна».
Император Николай II записал в
дневнике: «Просто не верится!».
Восстание началось стихийно, а
поводом послужил чисто бытовой случай.
13 июня мичман А. Макаров из
экономии закупил для команды плохое,
испорченное мясо. На следующий
день из него сварили борш. Всем
морякам стало известно, что борш будет
из тухлого мяса. Матрос И. Лычёв
вспоминал: «Когда наступило время
обеда, ни один матрос не
прикоснулся к боршу, все ели чёрный хлеб,
запивая чаем».
Однако дежурный офицер заметил
такое поведение команды и
встревожился, увидев в нём опаснейший «тихий
бунт». Старший офицер И.
Гиляровский грозно спросил: «Почему не
берёте борш?». Матросы ответили: «На
этом мясе черви ползают!.. Есть борш
из червивого мяса не будем...». Тогда
командир броненосца Евгений
Голиков приказал всей команде
выстроиться на палубе. Он хотел подавить
возможный бунт в зародыше. Командир
предложил судовому врачу оценить
вкус борша. Тот попробовал и
произнёс: «Чудесный борш, никаких червей
в нём нет».
«Вы недовольны боршом?—обратился
командир к морякам броненосца. —
Вы кричите, что плохое мясо, хотя
доктор признал его годным?.. Я не раз
говорил вам, что делают с вашим
братом за неповиновение. Матросов,
забывших дисциплину, вешают на ноках!
Кто хочет повиноваться и будет есть
борш— шаг из строя».
Неохотно моряки начали выходить из
строя. Вышли и несколько бывших на
51
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
судне матросов-соииалистов: они
считали момент для восстания неудачным.
Но примерно 30 из 800 человек
команды не сдвинулись с места. Их фамилии
стали записывать. Кто-то из матросов
резко крикнул: «Кто переписывает, тот
будет висеть на рее вместе с
Голиковым'». Стало ясно, что команда
выходит из повиновения. И. Гиляровский
скомандовал: «Принести брезент!».
Брезент расстилали под ногами в
случае расстрела, чтобы кровь казнённых
не пролилась на палубу. Зловешее
молчание прервали выкрики из группы
«приговорённых»:
«ВашеВысокоблагородие! Не стреляйте, мы не
бунтовщики». Матрос-анархист Афанасий Ма-
тюшенко отчаянно закричал: «Братцы,
что они делают с нашими товарищами?!
Забирай винтовки и патроны! Бей их,
хамов!».
После этого призыва матросы
бросились на офицеров и стали выхватывать
у них оружие. Ошеломлённый,
Гиляровский воскликнул, обращаясь к
командиру: «Что же это делается,
Евгений Николаевич?!». Некоторые
офицеры сопротивлялись. Кто-то из них
застрелил матроса-большевика Григория
Вакуленчука, одного из вожаков
восставших. Но уже спустя несколько
минут мятежные моряки полностью
захватили корабль. При этом убили семь
офицеров, в том числе командира
Е. Голикова и старшего офицера И.
Гиляровского. У судового врача
спросили: «Мясо хорошее?» — «Нет». — «Что
же ты сказал, что хорошее?!» — с
гневом воскликнули матросы. Офицер
подавленно молчал. Его подняли на
штыки и сбросили в море.
Остальных офицеров, матросы
арестовали, но оставили в живых. Пощадили
и мичмана Макарова, купившего
пресловутое мясо. Захватив в свои руки
броненосец, восставшая команда
подняла над кораблём красный флаг.
Матросы «Потёмкина» обратились с
воззванием к жителям Одессы. В нём
говорилось: «Просим армию положить
оружие и соединиться всем под одну
крышу на борьбу и свободу. Пришёл
последний час нашего страдания.
Долой самодержавие! У нас уже
свобода, мы действуем самостоятельно, без
начальства. Начальство истреблено...
ЗАБАСТОВКИ РАБОЧИХ
С января 1905 г. рабочие стачки в стране приобрели широкий
размах. В некоторых городах они выливались в уличные
шествия и столкновения с полицией.
В январе бастовали 440 тыс. человек Затем число стачек
несколько сократилось. Но в октябре началось новое обострение
борьбы. Вспыхнувшая в Москве стачка железнодорожников
переросла во всероссийскую политическую забастовку. Её
участники требовали гражданских свобод, созыва Учредительного
собрания, 8-часового рабочего дня.
Бастовало полмиллиона рабочих по всей стране, а также
студенты, артисты, врачи, лавочники, гимназисты... Прекратили
ходить поезда по железным дорогам, замерла работа почты и
«Арест главы забастовочного движения в Петербурге» («Le Petit Journal». 1905 г.).
52
РЕВОЛЮЦИЯ
1905—1907 ГОДОВ
телеграфа. В столице, отрезанной от остальной страны, вновь
отключили электричество и газ, замолчали телефоны. Закрылись
магазины, забастовали банковские и даже правительственные
чиновники. В одном петербургском полицейском участке не
вышли на работу городовые и надзиратели...
В разгар стачки, 14 октября, появился знаменитый приказ
столичного генерал-губернатора Дмитрия Трепова. Он требовал
разгонять все демонстрации, а если их участники отказываются
разойтись — применять оружие. «Холостых залпов не давать, —
приказывал генерал, — и патронов не жалеть!»
В крупных городах стачечники избрали Советы рабочих
депутатов. Они не только руководили забастовкой, но
постепенно брали власть в свои руки. Самый первый Совет образовался
ещё в мае в городе Иваново-Вознесенске (ныне Иваново) во
время стачки местных ткачей. Всего же по стране возникло 55
Советов.
Наибольшее значение имел Петербургский совет, который
возглавил 27-летний Георгий Хрусталёв-Носарь, беспартийный
социалист. Постепенно столичный Совет превратился едва ли не
во второе правительство.
Наконец после долгих колебаний власти решились
перейти к жёстким мерам. 26 ноября арестовали и заключили в
Петропавловскую крепость председателя Совета. А 3 декабря в
помещение Вольного экономического общества, где заседал Совет,
явился полицейский отряд. Он арестовал более 260 участников
собрания во главе с новым главой Совета Львом Троцким.
Достигнув в октябре высшей точки, забастовочное
движение пошло на убыль. Если в 1905 г. бастовали 2 млн 863 тыс.
рабочих, то в 1906 — только 1 млн 108 тыс. В последующие годы
число бастующих продолжало резко снижаться.
МАНИФЕСТ 17 ОКТЯБРЯ
Во время всеобщей октябрьской забастовки правительство и
Николай II оказались перед необходимостью выбора: «железной
рукой» наводить порядок или пойти на уступки. Граф Сергей
Витте, вскоре назначенный главой правительства, решительно
отстаивал вторую возможность. В начале октября он подал царю
«всеподданнейший доклад». В нём С. Витте доказывал, что
причина волнений заключается не в действиях «крайних партий». Всё
«русское мыслящее общество», по его мнению, «стремится к
строю правовому на основе гражданской свободы». «Общий
лозунг, — писал он позднее, — заключался в крике души: „Так
дальше жить нельзя", другими словами, с существующим режимом
нужно покончить».
Идти «против течения», по мнению С. Витте, было
невозможно. «Прежде всего, — говорил он царю, — постарайтесь
водворить в лагере противника смуту. Бросьте кость, которая все
пасти, на Вас устремлённые, направит на себя. Тогда обнаружится
течение, которое сможет вынести Вас на твёрдый берег».
Если будет сопротивление против нас,
просим мирных жителей выбраться из
города. По сопротивлении город будет
разрушен».
Ходили слухи, что одесский гарнизон
готов присоединиться к восстанию; для
этого надо только уничтожить
городское начальство. 16 июня орудия
«Потёмкина» обстреляли Одессу, причём
мишенями служили дома
командующего и градоначальника. Обстрел
оказался безуспешным: снаряды упали
далеко от цели.
17 июня на усмирение
взбунтовавшегося броненосца вышла военная
эскадра. Однако команды некоторых её
кораблей сами были готовы поднять
восстание. Броненосец «Георгий
Победоносец» перешёл на сторону
«Потёмкина». Но уже на следующий день
команда этого корабля изменила своё
решение и прекратила борьбу.
Такой поворот событий нанёс сильный
удар по моральному духу восставших.
Команда «Потёмкина» приняла
решение идти в Румынию. Правда, после
первого плавания в порт Констанца
броненосец вернулся к российским
берегам, зашёл в Феодосию. Но затем
вновь направился в Констанцу — уже
окончательно, чтобы сдаться
румынским властям. 25 июня моряки сошли
на берег в качестве политэмигрантов.
12 дней развевалось над броненосцем
красное знамя. При подходе к берегам
чужой страны восставшие
торжественно предали его волнам. «В море, —
вспоминал руководитель восстания
А. Матюшенко,—похоронили мы свой
и всего русского народа боевой
красный флаг — флаг свободы, равенства
и братства, чтобы он не достался в
чужие руки. Чёрное море было
свидетелем наших слёз и горя, когда бросили
его за борт».
185 моряков с «Георгия Победоносца»
и «Потёмкина» позднее предстали в
России перед судом. Семерых из них
казнили, большинство остальных
отправили на каторгу. Среди казнённых
оказался и возглавлявший восстание
Афанасий Матюшенко, тайно
вернувшийся на родину. Его повесили 20
октября 1907 г.
53
Тем не менее вплоть до 17 октября Николай продолжал
выбирать между военной диктатурой и уступками обществу.
Однако сами представители военной силы — те, кого прочили в
диктаторы, — уже не верили в надёжность войск Генерал Д. Трепов
уговаривал царя даровать свободы. Утром 17 октября великий
князь Николай Николаевич, разговаривая с царём, держал в
руках заряженный револьвер. Он обещал государю застрелиться,
если тот не уступит.
В этот же день Николай II принял решение подписать
манифест о свободах. Он начинался так: «Смуты и волнения в
столицах и во многих местностях Империи Нашей великою и
тяжкою скорбью преисполняют сердце Наше. Благо Российского
Государя неразрывно с благом народным, и печаль народная —
Его печаль...». Затем излагались принятые государем решения:
«На обязанность правительства возлагаем Мы выполнение
непреклонной Нашей воли:
1. Даровать населению незыблемые основы гражданской
свободы на началах действительной неприкосновенности
личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.
2. Не останавливая предназначенных выборов в
Государственную Думу, привлечь теперь же к участию в Думе в мере
возможности те классы населения, которые ныне совсем лишены
избирательных прав...
3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой
закон не мог восприять силу без одобрения Государственной
Думы...».
На манифест рассчитывали как на меру умиротворения, но
вначале эффект получился обратный: он только подлил масла в
огонь. Борьба вспыхнула с новой силой. 18 октября во многих
городах революционная толпа демонстративно уничтожала
царские портреты и символы государственной власти. В
Севастополе и Кронштадте в конце октября и ноябре даже вспыхнули
матросские восстания, вскоре подавленные властями. Однако
манифест разбудил и противоположные силы в обществе.
Черносотенцы ответили на революционные демонстрации погромами
интеллигенции и евреев (см. ст. «Черносотенцы»).
От революции теперь отходили целые общественные
группы и сословия. Видный промышленник Павел Рябушинский
замечал: «До 17 октября буржуазия в громадном большинстве была
настроена оппозиционно. После 17 октября, считая, что цель
достигнута, буржуазия перешла на сторону правительства».
Твёрдо встали на сторону властей также дворянство и небольшая
часть интеллигенции. Манифест 17 октября означал конец
неограниченной монархии в России. Это признавал и сам
император Николай II.
Памятник одному из вожаков восстания
на броненосце «Потёмкин» матросу
Г. Вакуленчуку.
54
РЕВОЛЮЦИЯ
1905—1907 ГОДОВ
S ,х?
«В народе читают и обсуждают манифест 17 октября» («Le Petit Parisien». 1905 г.).
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ
ВОССТАНИЕ
В октябре 1905 г. Севастополь, как и
вся страна, был охвачен
революционным брожением. 18 октября, после
известия о царском манифесте, в городе
состоялся митинг около местной
тюрьмы. Его участники требовали
освободить политзаключённых. Среди
выступавших на митинге выделялся своим
красноречием 38-летний лейтенант-
Пётр Шмидт. Войска разогнали толпу
выстрелами, при этом восемь человек
погибло.
На их похоронах П. Шмидт выступил с
яркой речью. «В минуты обшего
великого ликования, — сказал он, — люди
спешили передать заключённым весть
радости, просили выпустить их и за это
были убиты. Страшное, невиданное
преступление. Великое, непоправимое
горе». «Клянёмся им в том, —
продолжал Шмидт, подняв руку в жесте
клятвы, — что мы никогда не уступим
никому ни одной пяди завоёванных нами
человеческих прав... Клянёмся им в
том, что доведём их дело до конца и
добьёмся всеобщего избирательного,
равного для всех права». Вслед за
оратором 40-тысячная толпа, подняв руки,
торжественно повторила: «Клянёмся!».
После этих событий П. Шмидта
арестовали, но вскоре освободили. 11
ноября он был уволен в запас. По взглядам
лейтенант называл себя «социалистом
вне партий». «Тот, кому дана
способность страдать за других и логически
мыслить, — писал он, — тот —
убеждённый социалист».
Между тем напряжённость в городе
нарастала, проходили солдатские и
матросские митинги. Слышались
требования не предавать суду
арестованных матросов «Потёмкина».
Участником одного из первых эпизодов
восстания стал матрос Константин Петров.
Бывший рулевой прославленного
«Варяга», он после гибели корабля
получил Георгиевский крест. Владимир
Ленин (выступая в данном случае в
качестве историка) позднее так писал о
событии, которое произошло 11 ноября:
«Было решено запретить митинги
вообще. Утром... у ворот флотских
казарм была выставлена боевая рота в
МОСКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ
После манифеста 17 октября революционные партии
выдвинули лозунг «Добить правительство!». При этом они имели в виду
свержение всего самодержавного строя. В свою очередь власти
увидели, что пути к отступлению дальше нет, и стали
решительно бороться с революцией.
3 декабря был арестован Петербургский совет рабочих
депутатов. За десять дней до этого такой же Совет впервые
собрался в Москве. На арест товарищей его депутаты решили ответить
всеобщей забастовкой. Сразу стало ясно, что на этот раз в
рамках мирной борьбы стачка не удержится. 6 декабря Московский
совет единогласно постановил начать всеобщую политическую
забастовку, «всемерно стараясь перевести её в вооружённое
восстание».
Стачка началась на следующий день в 12 часов. Замерло
около 400 московских предприятий, остановился городской
транспорт, отключили электричество. Прекратились занятия
школьников. Однако действительно общероссийской забастовки не
получилось.
Забастовка сразу же вылилась в восстание против полиции
и властей. После 6 декабря с московских улиц постепенно
исчезла полиция. Городовых прогоняли с их постов, отбирали у них
оружие. Большевик Мартын Лядов вспоминал день объявления
стачки: «Городовые стоят как-то пугливо, озабоченно. Кое-где уже
с утра начали снимать городовых с постов и обезоруживать их.
Один подросток обезоружил шесть городовых. Он сделал себе
из мыла нечто похожее на браунинг, вычернил его и с этим
„оружием" подходил к постовому, кричал ему: „Руки вверх!" и
вытягивал из кобуры настоящее оружие. Было несколько случаев
убийства городовых, не желавших отдать оружие».
Борьба с полицией продолжалась и позднее, приняв более
жёсткие формы. Штаб дружинников Пресни приговорил к
смерти и расстрелял начальника сыскного отделения Войлошникова
и помощника полицейского пристава Сахарова.
8 и 9 декабря произошли первые стычки бастующих с
полицией и драгунами, которые пытались их разогнать.
Революционно настроенная толпа в ночь на 10 декабря стихийно начала
строить баррикады. На следующий день ими оказались
перегорожены все главные улицы города.
Простейшее заграждение представляло собой обычную
проволоку, натянутую поперёк улицы. Для постройки баррикад
валили телеграфные столбы, вынимали булыжники из мостовой;
использовались деревья, дрова, кули с углем, телеги, трамвайные
вагоны, перевёрнутые пролётки извозчиков. Самая крепкая
баррикада, которую войскам так и не удалось разобрать до конца
боёв, была построена из бочек, облитых водой и смёрзшихся в
ледяную гору. На баррикадах развевались красные знамёна. Одну
из них украшали чучела, изображавшие Дмитрия Трепова и
московского генерал-губернатора Фёдора Дубасова.
56
РЕВОЛЮиИЯ
1905—1907 ГОДОВ
«4
«Бои в Москве. Повстанцы отстреливаются из развалин зла ни я, разрушенного
пушечным залпом» («Le Petit Journal». 1909 г.).
Днём 10 декабря войска начали обстреливать баррикады из
орудий. М. Лядов вспоминал: «Громадная толпа любопытных
стояла тут же; она не верила, что стреляют всерьёз, думала, что
это только „пужают". Что стреляют серьёзно, поверили лишь
тогда, когда несколько человек было убито... Паники, страха нет ни
у кого». В газете «Известия Московского Совета» от 12 декабря о
повстанцах сообщалось: «Настроение у всех радостное,
праздничное, бодрое — совсем не похоже на то, что идёт
братоубийственная война; слышатся повсюду шутки и смех; ни раны, ни
стоны, ни кровь как-то никого не пугают, как будто всё это в
порядке вещей». Вооружены восставшие были довольно плохо.
Большевик Зиновий Литвин-Седой писал: «Каждый рабочий
стремился приобрести револьвер или кинжал. На фабриках
готовили пики, кистени, кинжалы... Оружия разного рода было у
повстанцев не более 250 единиц». Недостаток вооружения
обусловил своеобразную тактику борьбы. Восставшие не
защищали баррикады, но использовали их в качестве препятствия: как
только солдаты захватывали одну баррикаду и разрушали её, за
их спинами вырастало несколько новых.
9 декабря один православный священник попытался предот-
полном боевом снаряжении.
Контрадмирал Писаревский отдал во
всеуслышание приказ: „Не выпускать
никого из казарм! В случае неподчинения
стрелять!".
Из роты, которой был отдан этот при-
каз, вышел матрос Петров, зарядил на
глазах у всех свою винтовку, одним
выстрелом убил штабс-капитана
Штейна, а вторым выстрелом ранил
контрадмирала Писаревского. Раздалась
команда офицера: „Арестуйте его!".
Никто не двинулся с места. Петров
бросил своё ружьё на землю.
— Чего стоите? Берите меня!
Он был арестован. Стекавшиеся со
всех сторон матросы бурно требовали
его освобождения, заявляя, что они за
него ручаются. Возбуждение достигло
апогея.
57
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
— Петров, не правда ли, выстрел
произошёл случайно? — спросил офицер,
чтобы найти выход из создавшегося
положения.
— С какой стати случайно! Я вышел
вперёд, зарядил и прицелился, разве
это случайно?
— Они требуют твоего
освобождения...
И Петров был освобождён. Но
матросы этим не удовлетворились, все
дежурные офицеры были арестованы,
обезоружены и отведены в
канцелярию. Делегаты матросов совещались
всю ночь. Решили офицеров
освободить, но больше их в казармы не
впускать...».
Восстание охватило команды двух
крейсеров— «Очакова» и бывшего
«Потёмкина», который теперь назывался
«Святой Пантелеймон». Красный флаг
подняли десять военных кораблей. Всего
взбунтовалось около 4 тыс. солдат и
моряков. Однако оружия у них было
очень немного.
Восставшие моряки пригласили
Петра Шмидта встать во главе их
движения. Хотя шансы на успех были
невелики, лейтенант решился возглавить
мятежный флот. 14 ноября он прибыл
на крейсер «Очаков». Здесь Шмидт
заявил команде: «Товарищи! Мы
восстали против несправедливости,
против рабства. Мы не смогли больше
терпеть нашего невыносимого мучения,
смерти крестьян от голода,
безжалостной расправы с рабочими по всей
России. И вот теперь мы стоим перед всей
несправедливостью и объявляем ей
войну».
На следующее утро с корабля был подан
сигнал: «Командую флотом. Шмидт».
Императору Николаю II «красный
адмирал» составил такое послание:
«Славный Черноморский флот, свято
храня верность своему народу,
требует от Вас, Государь, немедленного
созыва Учредительного собрания и
прекращает повиноваться Вашим
министрам. Командующий флотом гражданин
Шмидт».
В речи перед арестованными
офицерами П. Шмидт поделился своими
планами: «Я отрежу Крым, пошлю своих
:
«Восставшие расстреливают начальника тайной полиции. Москва. Декабрь 1905 г.»
(«Le Petit Parisien». 1906 г.).
вратить кровопролитие и обратился к войскам: «Какое же вы
христолюбивое воинство, когда собираетесь стрелять в своих же
братьев-рабочих! Если вы хотите вторично расстрелять крест,
если вы хотите моей пастырской крови — то стреляйте в меня!».
Солдаты приготовились к стрельбе, не обращая на него
внимания. Как вспоминал участник восстания И. Петухов, из-за
баррикады священнику крикнули, что в случае стрельбы его тоже
угостят огнём... Ошеломлённый, он отошёл в сторону.
Однако в войсках гарнизона начались заметные колебания,
в любой момент они могли перейти на сторону восставших.
Ф. Дубасов каждый день звонил в Петербург и требовал прислать
для усмирения первопрестольной «совершенно надёжные
войска». Без этого он не мог поручиться за исход борьбы... И вот
15 декабря в Москву из столицы прибыли 2 тыс. солдат
Семёновского лейб-гвардейского полка. Перебросить полк оказалось
возможным благодаря тому, что железная дорога между Петербур-
58
РЕВОЛЮиИЯ
1905—1907 ГОДОВ
гом и Москвой продолжала работать (единственная во время
забастовки). Прибытие семёновцев оказало решающее влияние на
развитие событий: власти получили полный перевес в силах.
В незнакомом городе, под выстрелами из окон и с чердаков
семёновцы чувствовали себя как во вражеском стане. Командир
полка Георгий Мин в первый момент даже заколебался и
попросил прислать подкрепление. Министр внутренних дел Пётр
Дурново дал ему по телефону такие инструкции: «Никаких
подкреплений Вам не нужно. Нужна только решительность. Не
допускайте, чтобы на улице собирались группы даже в 3—5 человек Если
отказываются разойтись — немедленно стреляйте.
Артиллерийским огнём уничтожайте баррикады, дома, фабрики, занятые
революционерами...».
После этого Г. Мин стал действовать по-настоящему
решительно и сурово, как того требовала обстановка. Он отдал семё-
новцам приказ: «Арестованных не иметь». Столь же беспощадно
действовал другой семёновец, полковник Николай Риман.
Например, 1б декабря он нашёл револьвер при обыске одной
квартиры. «Чей револьвер?» — спросил полковник Хозяин квартиры
Иван Оводов ответил: «Мой». Мать И. Оводова попыталась
защитить своего сына, но полковник отстранил её рукой, крикнув:
«Посторонись, старуха!». После этого он выхватил свой
револьвер и убил её сына наповал.
Дольше всего держались дружинники рабочей Пресни. В
одном из приказов штаба пресненских боевых дружин
говорилось: «Пресня окопалась... Вся она покрыта баррикадами и
минирована фугасами. Это единственный уголок на всём земном
шаре, где царствует рабочий класс, где свободно и звонко
рождаются под красным знаменем песни труда и свободы».
Огонь артиллерии сносил целые здания, причём погибали
сотни случайных прохожих. Улицы горели, небо закрывали тучи
дыма, и весь город освещался заревом пылающей Пресни. 16
декабря штаб пресненских дружинников решил прекратить
борьбу В последнем приказе штаба говорилось: «Мы начали. Мы
кончаем... Кровь, насилие и смерть будут следовать по пятам нашим.
Но это — ничего. Будущее за рабочим классом. Поколение за
поколением во всех странах на опыте Пресни будут учиться
упорству... Да здравствует борьба и победа рабочих!».
19 декабря город целиком оказался во власти
правительства. Большевик В. Таратута вспоминал: «Показавшихся полиции
почему-либо подозрительными и всех, у кого находили какое-
либо оружие, тут же по приказу околоточного или офицера
отводили на Москву-реку и расстреливали». Несколько тысяч
человек арестовали.
Восстания, подобные московскому, происходили в конце
1905 г. и в других городах, в том числе в Новороссийске, Чите,
Красноярске. Все они были подавлены посланными
правительством войсками.
Революционеры отомстили тем, кто одержал победу над
московскими повстанцами. Командира семёновцев Г. Мина, произве-
сапёров построить батареи на
Перекопском перешейке и отсюда,
опираясь на Россию, которая поддержит
меня всеобщей забастовкой, буду
требовать — просить я устал —
выполнения моих требований от Царя».
15 ноября произошло морское
сражение между мятежными судами и
верной правительству эскадрой.
Преимущество на стороне эскадры было
полное. Кроме того, видя безнадёжность
положения, восставшие почти не
сопротивлялись. С «Очакова» произвели
около шести выстрелов, ни один из
которых не поразил цели.
В «Очаков» во время боя попало 53
снаряда. Очевидец событий писатель
Александр Куприн вспоминал:
«Посреди бухты огромный костёр, от
которого слепнут глаза и вода кажется
чёрной, как чернила. Три четверти
гигантского крейсера — сплошное пламя.
Когда пламя пожара вспыхивает ярче,
мы видим, как на бронированной
башне крейсера вдруг выделяются
маленькие чёрные человеческие фигуры. До
них полторы версты, но глаз видит их
ясно... Оттуда среди мрака и тишины
ночи несётся протяжный высокий крик:
— Бра-а-тиы!..
П. Шмидт
(рисунок из журнала «Зарницы», 1906 г.).
59
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
Никогда, вероятно до самой смерти, не
забуду я этой чёрной воды и этого
громадного пылающего здания, этого
последнего слова техники, осуждённого
вместе с сотнями человеческих жизней
на смерть... Крейсер беззвучно горел,
бросая кровавые пятна на чёрную
воду».
Во время сражения погибло более ста
очаковиев. Остальные покинули
горящий корабль и были арестованы. Под
арестом оказался и «красный адмирал»
П. Шмидт. В тюрьме на свидании с
родными он говорил: «А всё-таки удалось
нам поднять красный флаг на десяти
судах Черноморского флота! Скоро,
скоро молодая, сильная, счастливая
Россия вздохнёт свободно и не
забудет нас, отдавших ей свои жизни».
6 марта 1906 г. по приговору суда Пётр
Шмидт и трое его товаришей-матросов
были расстреляны на острове Бере-
зань. Свыше трёхсот участников
восстания осудили на каторжные работы.
Солдаты конвоируют лейтенанта
П. Шмидта в здание суда.
'^^^^^<1^^;^^^^^;^^::::у^.г-
денного в генералы, 13 августа 1906 г. убила эсерка Зинаида Коно-
плянникова. Террористку за это убийство повесили по приговору
суда. Полковника Н. Римана арестовали уже после Февраля 1917 г.,
когда он пытался покинуть Россию, и вскоре расстреляли.
I ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
27 апреля 1906 г. в столице торжественно открылась I
Государственная дума. Император Николай II вместе с царицей и
наследником приветствовал депутатов в Георгиевском зале Зимнего
дворца. Сенатор С. Крыжановский вспоминал, что эта
церемония была «обставлена всею пышностью придворного этикета и
сильно резала непривычный к этому русский глаз». Царская
семья появилась перед депутатами в старинных русских костюмах,
сверкающих драгоценностями. Семью сопровождала большая
свита. Эта пышность, по замечанию Крыжановского, ещё
больше бросалась в глаза на фоне обыденной «толпы депутатов в
пиджаках и косоворотках, в поддёвках, нестриженых...».
Выборы в I Думу происходили на основе довольно
широкого избирательного права. Однако права голоса не получили
женщины, солдаты и матросы, а также деревенские батраки.
Кроме того, выборы были сословными, неравными. Голос одного
помещика весил столько же, сколько голоса трёх имущих горожан,
15 крестьян и 45 рабочих.
Права Думы оказались довольно ограничены, что вызвало
недовольство среди депутатов. Все принятые Думой законы
могла отвергнуть верхняя палата — Государственный совет.
Половину его членов, а также председателя назначал сам император.
Более того, у царя было право издавать указы в обход Думы во
время перерыва её заседаний.
Победу на выборах в I Думу одержала партия кадетов. Она
получила 38% мест. На скамьях справа разместилась небольшая
группа октябристов (см. ст. «Октябристы»). Крестьянские
депутаты с подозрением смотрели на любых «господ» и образовали
особую Крестьянскую трудовую группу (около 20% депутатов). Её
участники (трудовики) отстаивали лозунг «Земля — без выкупа
крестьянам!». В итоге сторонников правительства в Думе почти
не оказалось. Оно не могло найти здесь никакой опоры.
Председателем I Думы стал кадет Сергей Муромцев.
Депутат князь Владимир Оболенский вспоминал: «Как только
красивая, властная фигура Муромцева появилась на думской
трибуне, беспорядочная толпа депутатов, точно каким-то
волшебством, сразу превратилась в „высокое собрание" законодателей,
которое должно было импонировать правительству. Никто, кроме
Муромцева, не сумел бы поднять престиж Государственной думы
на надлежащую высоту».
Депутаты рассчитывали, что правительство поставит перед
ними важнейшие вопросы государственной жизни. Но вышло
совсем иначе. «Единственный законопроект, который
правительство внесло в Думу, — писал В. Оболенский, — касался... переуст-
60
РЕВОЛЮиИЯ
1905—1907 ГОДОВ
ройства прачечных Юрьевского университета. Помню, как
председатель Думы Муромцев спокойным, ровным голосом довёл об
этом до сведения „высокого собрания". Наступила пауза.
Депутаты переглядывались, как бы спрашивая друг друга, верно ли они
поняли сообщение председателя, — настолько оно казалось
чудовищно нелепым. Вдруг кто-то громко рассмеялся, и
безудержный хохот овладел Думой. Смеялись все депутаты, от левых
скамей до правых, даже на строгом лице Муромцева дрожала с
трудом сдерживаемая улыбка. Серьёзность сохраняли только
министры, но имели несколько сконфуженный вид».
Напряжённость между Думой и правительством
постепенно нарастала. 4 мая Дума обратилась к царю с адресом, призывая
освободить всех политзаключённых и провести земельную
реформу. Правительство отвергло все требования Думы. После
этого возмущённые депутаты почти единогласно потребовали
отставки правительства. Выступления министров теперь
прерывались негодующими возгласами «В отставку!».
Но особенно остро в I Думе стоял земельный вопрос.
Крестьяне с надеждой смотрели на депутатов, ожидая от них
помещичьей земли. В апреле, до созыва Думы, в стране произошло
лишь 47 крестьянских выступлений, а в июне — уже 739 (см. ст.
«Столыпинская земельная реформа»).
Вновь правительство оказалось перед выбором: или идти на
уступки, или распускать Думу. Казалось, что немедленно после
роспуска Думы вспыхнут новые забастовки, восстания —
вернётся революция. В июне дворцовый комендант Д Трепов и министр
внутренних дел П. Столыпин даже вели переговоры о
возможном назначении кадетского правительства. Однако, в конце
концов, эти переговоры закончились ничем: соглашения достичь не
удалось.
В конце июня отношения между Думой и правительством
обострились до предела. Желая умерить крестьянские волнения,
20 июня правительство заявило, что никакого нарушения прав
землевладельцев не потерпит. В ответ на это 6 июля Дума
«разъяснила» населению, что обязательно добьётся передачи части
земель крестьянам. Однако по закону Дума не имела права
непосредственно обращаться к народу.
После этого события власти решили распустить Думу.
9 июля в печати появился высочайший указ о роспуске I Думы. В
нём говорилось: «Выборные от населения вместо работы
строительства законодательного уклонились в не принадлежащую им
область...». Так закончилась деятельность I Государственной
думы. Её заседания продлились всего 72 дня.
ВЫБОРГСКОЕ ВОЗЗВАНИЕ
Конечно, депутаты не могли безропотно подчиниться указу о
роспуске I Думы. Они сочли, что царский указ противоречит
«Основным законам» империи, поскольку в нём не назначался
срок новых выборов.
КАК РАСПУСКАЛИ I ДУМУ
Вскоре после роспуска I Думы
появилась легенда, что этим событием
страна обязана... лени тогдашнего главы
правительства Ивана Горемыкина.
Характерной чертой этого почтенного
пожилого сановника считалось
«стремление к покою и отдохновению». По
общему мнению, он действовал под
девизом «И без нас всё образуется». Сам
Иван Логгинович шутливо говорил: «Я
напоминаю старую енотовую шубу,
давно уложенную в сундук и
засыпанную нафталином. Впрочем, эту шубу
так же неожиданно уложат в сундук,
как вынули из него». (Ему довелось
дважды возглавлять правительство.)
Рассказывали, что в ночь на 9 июля
И. Горемыкин отдал все распоряжения
о роспуске Думы и спокойно лёг спать,
причём приказал не будить себя до утра,
что бы ни случилось. Между тем
Николай II вечером якобы передумал и
решил не распускать Думу. Но царский
посланец так и не смог добиться, чтобы
кто-либо нарушил ночной покой главы
правительства...
В действительности всё происходило
иначе. И. Горемыкин в ту ночь не спал,
а с П. Столыпиным и другими
министрами напряжённо дожидался, когда
прибудет царский манифест. Редакции
газет уже получили сообщение, что
Дума распушена; Таврический дворец
заняли войска. Наступила полночь, а
текста манифеста всё не было.
Беспокойство нарастало. И. Горемыкин
позвонил в императорский дворец,
чтобы спросить, не выехал ли фельдъегерь
с документом. Ему ответили, что никто
не выезжал. Встревоженные министры
стали обсуждать, как отменить
принятые меры. Вывести войска из
Таврического дворца ешё было возможно. Но
как заставить промолчать прессу? Всех
охватило похоронное настроение,
между тем уже занимался рассвет... И вот
наконец прибыл посланец с пакетом от
императора. И. Горемыкин поспешно
распечатал пакет и радостно
воскликнул: «Слава Богу!». Там лежали два
указа: о роспуске Думы и назначении
нового главы правительства — П.
Столыпина. Иван Логгинович с
облегчением вздохнул и сказал своему
преемнику, передавая ему бумагу:
«Поздравляю! Теперь Ваше дело».
61
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
ВОЕННЫЕ СУДЫ
Вскоре после начала своих заседаний,
16 мая 1906 г., I Государственная
дума единогласно утвердила
законопроект об отмене смертной казни.
Однако это постановление так никогда и не
превратилось в закон. Наоборот,
события стали развиваться в
противоположном направлении.
12 августа на Аптекарском острове, на
даче главы правительства Петра
Столыпина, прогремел мошный взрыв (см.
ст. «Пётр Столыпин»). Его устроили
эсеры-максималисты. При этом
погибло более 20 человек, пострадали дети
П. Столыпина. Это событие,
безусловно, подтолкнуло принятие указа о
военно-полевых судах. Такая «военная
мера» борьбы с революцией была
одобрена спустя неделю после взрыва —
19 августа. Её утвердили в обход Думы,
в чрезвычайном порядке.
С этого момента массовые казни
революционеров стали обычным
явлением. Арестованных судили не военные
юристы, а обычные строевые
офицеры. Судопроизводство совершалось за
48 часов, а приговор исполнялся в
течение суток. «На войне, как на
войне», —говорили сторонники этих мер.
Всего за восемь месяцев таким
образом казнили 1102 осуждённых. Для
России это было необычайно большое
число казней, если учесть, что за
предыдущие 30 лет в стране казнили
менее 500 человек.
Массовые казни вызвали сильное
возмущение в среде интеллигенции. Лев
Толстой опубликовал в связи с ними
негодующую статью «Не могу
молчать». Правительство даже не стало
Около 200 депутатов отправились в финский город Выборг
(в Финляндии в то время собрания могли происходить более
свободно). Здесь 10 июля 1906 г. они приняли Выборгское
воззвание «Народу от народных представителей». Кадеты не считали
возможным призывать к всеобщей политической забастовке.
Поэтому они избрали форму протеста, принятую в Западной
Европе, — пассивное сопротивление. «Теперь, когда
правительство распустило Государственную думу, — говорилось в их
воззвании, — вы вправе не давать ему ни солдат, ни денег... Будьте
тверды в своём отказе, стойте за своё право, как один человек».
Этот протест — «ни копейки в казну, ни единого
новобранца в армию» — имел лишь символическое значение. Ведь
рекрутский набор намечался только через четыре месяца, а прямые
налоги не играли в бюджете большой роли. В. Оболенский
вспоминал: «Я с тяжёлым чувством возвращался из Выборга. Нас
приветствовали как героев, а я видел всю бутафорию своего
„геройства". Издевались над воззванием, называя его „выборгским
кренделем"».
Николай II смеялся над Выборгским воззванием: «Это
активное или пассивное воздействие, какая чепуха! Откровенно
говоря, я от них ждал больше ума». П. Столыпина оно также
развеселило, и он восклицал: «Детская игра!», повторяя шутку о том,
что депутаты отправились в Выборг, чтобы крендели печь.
Выборгскому воззванию не удалось привести общество в
движение. «Народ не шелохнулся», — замечал В. Короленко. Небольшие
демонстрации в столице власти разогнали, как говорил
жандармский генерал Павел Курлов, «без пролития единой капли крови».
169 депутатов, подписавших воззвание, в 1907 г. были
осуждены за призывы к неповиновению законам. Их приговорили
к трём месяцам тюремного заключения и лишили права вновь
избираться в Думу. Таким образом, кадетская партия во II Думе
оказалась в значительной степени «обезглавлена».
Косвенным откликом на роспуск I Думы стали восстания в
армии и на флоте. 17 июля стихийно взбунтовались моряки
крепости Свеаборг (Финляндия). Спустя два дня восстал Кронштадт,
и над крепостью было поднято красное знамя со словами
«Земля и Воля».
Вообще восстания в армии и на флоте в 1905—1906 гг.
власти считали для себя самым опасным, самым грозным
явлением. Но эти последние восстания революции подавить оказалось
достаточно легко. Они закончились разгромом восставших в
один день — 20 июля.
В Свеаборге казнили семерых руководителей бунта, в
Кронштадте — Зб человек. Кроме того, около полутора тысяч
матросов и солдат приговорили к тюремному заключению.
II ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
Выборы во II Думу происходили по тому же избирательному
закону, что и в первую. Возможно, власти рассчитывали, что с угаса-
62
РЕВОЛЮиИЯ
1905—1907 ГОДОВ
нием революции более умеренным станет и состав Думы. Эти
надежды, однако, не оправдались. II Дума оказалась гораздо
более революционной, чем первая. Правда, в неё впервые прошли
и крайне правые.
Но в то же время более 40% голосов получили социалисты —
трудовики, эсеры и социал-демократы. За это II Думу прозвали
«красной думой» или «думой народного гнева». В противовес
этому определению правый депутат граф В. Бобринский окрестил
её «думой народного невежества».
Собралась II Дума 20 февраля 1907 г. Было зачитано
приветствие государя, после чего, как вспоминал депутат В. Шульгин,
«произошло нечто неожиданное для всех, кроме ста человек,
участвовавших в заговоре». Один из правых депутатов, поднявшись
с места, громко и торжественно выкрикнул: «Да здравствует
государь император! Ура!».
«Встало примерно сто человек, — писал В. Шульгин, — то
есть правые, умеренные националисты и октябристы. Остальные
депутаты, примерно четыреста человек, остались сидеть, желая
этим выразить неуважение к короне. Но из этих четырёхсот
вскочил один. Он был высокий, рыжий, ещё не старый, но согбенный,
с большой бородой. Он встал, но на него зашикали соседи:
„Садитесь, садитесь!". Рыжий человек сел, но вскочил опять,
очевидно возмутившись. Это был профессор Пётр Бернгардович
Струве...». Кадетский депутат, в прошлом социал-демократ, считал, что
Дума должна выразить уважение к главе государства. Однако его
соратники по партии продолжали сидеть. За это происшествие
левая печать окрестила П. Струве Ванькой-встанькой.
Во II Думе кадеты выдвинули лозунг: «Берегите Думу!». Они
решили не делать рискованных шагов, чтобы не дать
правительству повода для роспуска Думы. Но депутаты вновь оказались
перед острым и трудноразрешимым вопросом о земле.
Правительство в это время уже начало проводить столыпинскую земельную
реформу. Дума выглядела серьёзнейшей помехой для
исполнения этих планов. Глядя с надеждой на «красную думу», крестьяне
сопротивлялись реформе.
Однако распустить Думу было уже недостаточно — ведь
состав следующей Думы остался бы прежним. Требовалось также
изменить избирательный закон. Эти меры властям удалось
провести в начале июня 1907 г.
ТРЕТЬЕИЮНЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ
В конце апреля 1907 г. группа солдат и матросов столичного
гарнизона решила направить в Думу делегацию. Солдатские
представители собирались передать думским
социал-демократам свой наказ. Полиции немедленно стало известно об этих
планах. П. Столыпин решил воспользоваться тайным визитом
солдат аДуму, чтобы добиться её роспуска.
«Для самой социал-демократической фракции, — писал
генерал А. Герасимов, — появление этой делегации оказалось пол-
вносить указ о военно-полевых судах
на утверждение II Думы, не
рассчитывая на его одобрение. 20 апреля 1907 г.
он автоматически потерял силу.
Однако теперь власти, вновь в обход Думы,
внесли изменения в военное
законодательство.
На смену военно-полевым судам
пришли военно-окружные. В них
подсудимые могли пользоваться услугами
адвоката и имели иные юридические
права, которых были лишены в
военно-полевых судах. Однако приговоры, как и
прежде, выносились суровые. Лишь по
мере спада революционного движения
политических казней становилось всё
меньше. По данным социолога Пити-
рима Сорокина, в 1907 г. их было 1139,
в 1908 — 1340. В последующие годы
это число сокращалось: 771,129, 73...
В целом военные суды сыграли очень
важную роль в подавлении революции
1905—1907 гг.
Мелкие торговцы читают газеты около
своих лотков в дни революционных
событий. Москва. 1905 г.
63
ной неожиданностью... Большинство депутатов было очень
недовольно появлением переодетых солдат, а потому, приняв от
них наказ, депутаты поспешно выпроводили их из помещения
через чёрный ход». Но вслед за этим участников делегации
схватила полиция, а в помещении фракции произвели обыск
Сразу после этих событий, 1 июня, П. Столыпин
потребовал предоставить ему слово в Думе для чрезвычайного
заявления. Председатель Думы кадет Фёдор Головин вспоминал: «На
трибуне появилась высокая и мрачная фигура Столыпина с
бледным лицом, тёмною бородою и кроваво-красными губами...».
Голос главы правительства с металлическими нотками громко
разносился по замершему, ошеломлённому залу. Сообщив, что
55 думских социал-демократов вели подрывную работу в армии,
П. Столыпин потребовал немедленно снять неприкосновенность
с «заговорщиков». Пётр Аркадьевич подчеркнул, что выше
депутатской неприкосновенности он ставит охрану государства.
Заседание III Государственной лумы. 1915 г.
«Наша конституция — просят не дуть».
Карикатура на манифест 17 октября
(журнал «Зритель», 1905 г.).
64
РЕВОЛЮиИЯ
1905—1907 ГОДОВ
Черносотенец Владимир Пуришкевич потребовал не
только арестовать, но и отправить на виселицу преступных
депутатов... Но Дума, конечно, не могла сразу же выдать депутатов для
суда и решила сначала разобрать дело. Именно на этом и
строился расчёт властей.
3 июня появился высочайший манифест о роспуске II Думы.
В нём говорилось, что Дума «не оправдала надежд», а в её
собственную среду «внесён был дух вражды». Утром в этот день во двор
Таврического дворца ввели роту солдат. Все входы во дворец
закрыли... Таким образом, век у II Думы оказался немногим
дольше, чем у первой, — 103 дня. В тот же день всех думских социал-
демократов, не успевших скрыться, арестовали. Большинство из
них осудили на каторжные работы.
Одновременно с царским манифестом о роспуске Думы
появился новый избирательный закон. Он давал большие
преимущества обеспеченным сословиям. «Недостаточно
граждански развитые» слои населения (т. е. малоимущие) теряли свои
голоса. Ещё до 3 июня в этом направлении были подготовлены
три проекта избирательного закона. Один из них сановники в
шутку прозвали «бесстыжим», т. к. он больше всего урезал право
голоса малоимущих. Когда П. Столыпин изложил эти проекты
Николаю II, тот весело воскликнул: «Я тоже за бесстыжий!».
Именно этот проект избирательного закона и был
утверждён. Помещики получили теперь около 50% голосов (вместо
31%), крестьяне — 22% (вместо 42%), имущие горожане
сохранили 27% голосов. Рабочие почти лишились
представительства. По этому закону и была позднее избрана III Дума,
прозванная «столыпинской». В ней большинство завоевали
октябристы и националисты, которые поддержали политику
правительства.
Поскольку закон о выборах имела право изменять только
Государственная дума, события 3 июня расценили как
государственный переворот. В последующие месяцы в стране
окончательно «установился порядок»,
революционное движение
оказалось полностью подавлено.
«Помнится, — писал
жандармский генерал А. Герасимов, — в
течение всей зимы 1908—
1909 гг. в Петербурге не
существовало ни одной тайной
типографии, не выходило ни одной
нелегальной газеты, не
работала ни одна революционная
организация. Также обстояло
дело почти повсюду в России.
Наступило успокоение...».
Третьеиюньский
переворот считается окончанием
первой русской революции.
М. Евреинов. Карикатура
«Древо российской свободы.
— Изрядно ли растенье прозябает?
— Изрядно, говорит, прозябло уж
совсем».
(Козьма Прутков»)
(Журнал «Леший». 1906 г.)
Карикатура «Осуществление свободы
печати с полицейской точки зрения»
(журнал «Анчар», 1906 г.).
65
ЛЕНСКИЕ СОБЫТИЯ
. Животовский. Революционная
открытка. Около 1906 г.
Весной 1912г. внимание всей России привлекли события на
Ленских золотых приисках в Сибири. Эти рудники находились на
притоках реки Лены, в безлюдной тайге, более чем за 2 тыс. км
от железной дороги. Рудники были одними из богатейших в
стране — здесь добывалось до трети всего золота в России.
Принадлежали Ленские прииски акционерному обществу «Ленское
золотопромышленное товарищество». Его основными
владельцами были англичане, но в число пайщиков входили и бывшие
русские министры, и даже члены царской семьи.
Рабочие приисков считали, что их труд оплачивается
непомерно низко, а бытовые условия крайне тяжелы. Это вызывало у
них глухое недовольство. Но последним толчком к волнениям
послужил незначительный, почти анекдотичный случай,
который произошёл в конце февраля.
28 февраля 1912 г. рабочие Андреевского прииска
спокойно обедали. Но вот кто-то из них обратил внимание на то, что
повара из экономии использовали мясо, которое обычно шло в
отбросы. К тому же выяснилось, что рабочих кормили кониной.
Горняки пришли в ярость, восприняв случившееся как
оскорбление со стороны администрации. Один из инженеров, Теппан,
чтобы успокоить разгоревшиеся страсти, сказал рабочим: «Куда
же нам девать плохое мясо? Съешьте плохое, а потом получите
получше...». Разумеется, подобные уговоры начальства только
подливали масла в огонь.
Горняки единодушно
решили предъявить своим
хозяевам определённые
требования, а до их выполнения — не
выходить на работу. Требования
забастовщиков выглядели
довольно скромными. Например,
они хотели, чтобы повара
выбрасывали негодное мясо, а не
готовили из него пищу; чтобы
начальство обращалось к
горнякам вежливо, на «Вы»; чтобы
заболевшему рабочему
немедленно оказывалась медицинская
помощь. Самым
«революционным» в списке было требование
8-часового рабочего дня.
66
ЛЕНСКИЕ
СОБЫТИЯ
На следующий день на работу не вышли 400 горняков
Андреевского прииска. Стачка начала разрастаться и вскоре
охватила 48 приисков: 15 марта бастовали уже 6 тыс. рабочих. Между
тем правление акционерного общества «Лензолото» обратилось
к властям с просьбой прислать войска для «восстановления
порядка». Владельцы рудников утверждали, что рабочие,
взбунтовавшись под влиянием трёх ссыльных революционеров,
предъявили политические требования.
В ответ на эту просьбу из Иркутска были отправлены
войска, которыми командовал жандармский ротмистр Николай Тре-
щенков. Он участвовал в расстреле «бунтовщиков» на Дворцовой
площади в Петербурге 9 января 1905 г. и часто вспоминал об
этом. «Теперь я приехал или забастовку усмирить, или кости свои
сложить», — решительно заявил ротмистр.
Прибыв на место, он прежде всего в ночь на 4 апреля
арестовал стачечный комитет. Конечно, арест товарищей вызвал
возмущение горняков. Они решили, что необходимо как-то
защитить арестованных, но хотели сделать это в рамках закона. По
этому поводу они обратились к товарищу (заместителю)
окружного прокурора. Тот заявил, что любых выборных делегатов
считает подстрекателями. Всем вместе, сообща, протестовать и
подавать прошения нельзя. «Пусть каждый рабочий, — сказал он, —
если он чем-либо недоволен, пишет заявление о своих нуждах».
Это предложение подтолкнуло рабочих к мысли, которая
показалась очень остроумной: каждому из горняков подать от
своего имени жалобу местному прокурору. Тогда он окажется
завален целой горой из нескольких тысяч жалоб! «Разве это не
докажет яснее ясного, что дело не в „подстрекателях"?!» — так
рассуждали рабочие. Священник Благовещенской приисковой
церкви Николай Винокуров рассказывал: «Это решение привело всю
толпу в самое благодушное настроение. Раздались шутки,
прибаутки. Сочинялись сценки, как схватится за голову товарищ
прокурора, вынужденный принять в отдельности три с половиной
тысячи прошений».
И вот 4 апреля горняки толпой отправились к окружному
прокурору, чтобы подать свои прошения. «Пошли, как в церковь, —
говорили они позднее, — открытые сердца были у всех». Жена
одного из рабочих рассказывала о своём муже: «Все пошли
подавать прошение, и он пошёл. Собрался он уходить, я говорю: „Вася,
а что если стрелять будут?". — „Нет, за что же, мы не
безобразничаем"». Многие рабочие шли с жёнами и детьми. Когда колонна
рабочих двинулась к прокуратуре, об этом доложили ротмистру
Н. Трещенкову. Он совершенно спокойно ответил: «Пусть идут».
Однако путь им преградили войска. Рожок горниста пропел
команду «Слушайте все!». Трещенков взмахнул рукой, подавая
сигнал к стрельбе... «За мостиком, впереди нас, — вспоминал
рабочий М. Лебедев, — как будто бы кто разорвал большую
холстину — это раздался первый залп». На землю упали убитые и
раненые. «Раздался залп, — рассказывал другой участник событий,
Ф. Ланшин, — после которого все рабочие легли на снег и по-
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОЧЕВИДЦА
ЛЕНСКИХ СОБЫТИЙ
Священник Благовещенской
приисковой церкви Николай Винокуров
вспоминал, что происходило 4 апреля в
больнице на Ленских приисках, кула
доставили раненых: «Войдя в первую
палату, я увидел поразительную
картину: кругом на полу и на кроватях
лежат в беспорядочном виде груды
раненых рабочих, пол покрыт кровью...
Вся палата была оглушена стонами
умирающих: „За что, за что?". Я
сначала счёл необходимым отысповедо-
вать всех, а потом уж приобщать
святым таинствам, так как при мне тут же
умирали. Ползая на коленях по лужам
крови, с усилием успевая кончить
одного, как тянули за облачение к
другому умирающему. Все до одного
заявили, что шли только с одной целью —
подать прошения товарищу прокурора,
и недоумевали, за что в них стреляли.
Это говорили и заверяли клятвой...
которые... тут же при мне умирали.
Умирающие не врут».
67
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
«ТАК БЫЛО — ТАК И БУДЕТ»
Сразу после Ленских событий
депутаты Государственной думы сделали
запрос правительству по поводу
происшедшего. 11 апреля на этот запрос с
думской трибуны ответил министр
внутренних дел Александр Макаров.
Он заявил, что, поданным полиции,
рабочие намеревались захватить склад
взрывчатки и бросали в солдат камни.
На это войска и ответили огнём.
«Когда потерявшая рассудок под влиянием
злостных агитаторов толпа
набрасывается на войско,—сказал министр, —
тогда войску ничего другого не
остаётся делать, как стрелять. Так было и
так будет впредь (Выкрики слева:
«Пока вы у власти!», «Кровопийиы!».
Рукоплескания справа.)».
Глава правительства Владимир
Коковцов рассказывал: «Свою речь Макаров
закончил полным одобрением действий
местной администрации и воинской
команды и произнёс в заключение
известные слова: „Так было — так и
будет", — желая сказать этим, что
всякие попытки к бунту будут
подавляться всеми доступными средствами. Эти
слова произвели на Думу и печать
ошеломляющее впечатление. Забыли
Распутина, забыли текущую работу...
Дума стала напоминать дни первой и
второй Думы, и всё свелось к „Ленскому
побоищу"».
Позднее А. Макарову пришлось
сурово расплатиться за сказанные им
слова. Проведя около двух лет в
заключении, в 1919 г. бывший министр был
расстрелян большевиками. Иначе
сложилась судьба жандармского
ротмистра Н. Трешенкова. Полицейское
начальство одобрило его действия
против забастовщиков и выдало
ротмистру 2400 рублей. В 1915 г., сражаясь
на фронте, Н. Трешенков погиб от
неприятельской пули... «Как жаль, —
замечал позже по этому поводу
советский журналист М. Кольцов. —Ешё три
года, и ленские рабочие могли бы
„спокойненько" потолковать со своим
палачом. Ну ничего. За ротмистра
ответил весь его класс».
ползли спасаться за штабеля дров; никто не бросился вперёд. Уже
по ползущим рабочим дали второй и третий залпы». Всего
погибло 270 человек, ранения получило около 250 горняков.
После расстрела местные власти долго старались
уничтожить его внешние следы — замёрзшую на снегу кровь. Сначала
её забросали слоем опилок, но через день она проступила сквозь
него. Тогда сверху насыпали ещё золы, но и это не помогло. В
конце концов был отдан приказ глубоко выдалбливать лёд в тех
местах, где заметны следы расстрела...
Известие о Ленских событиях в течение суток облетело всю
страну и вызвало большое волнение в обществе. Происшедшее
расследовали две комиссии, присланные из Петербурга, —
правительственная и думская. (Одним из руководителей последней
был, между прочим, депутат А. Керенский.) В результате их
работы условия труда и жизни горняков немного улучшились.
События на Ленских рудниках вызвали резкий подъём
стачечного движения в стране. Многим они напомнили события
«кровавого воскресенья» 9 января 1905 г. Ещё сильнее
подогрели возмущение слова министра внутренних дел А. Макарова «Так
было и так будет впредь», сказанные в Думе по поводу
происшедшего. Эту фразу с негодованием повторяли рабочие; её часто
приводили в революционной печати.
В 19Ю г. бастовало менее 50 тыс. рабочих. А после Ленских
событий только за два месяца число бастующих достигло
внушительной цифры в 500 тыс. человек Во многих городах
прошли массовые уличные демонстрации. Всего же в 1912 г.
бастовал 1 млн рабочих, в1913г. — 1 млн 272 тыс. человек... Эти
забастовки носили, как правило, экономический характер, но они
влияли и на политическую жизнь.
Депутат-монархист Ф. Тимошкин, выступая сразу после
Ленских событий в Государственной думе, заметил: «Я должен
сказать, что Ленская забастовка есть первая ласточка; дальше идёт
большой ворон...». И. Сталин писал в большевистской газете
«Звезда» 19 апреля 1912 г.: «Всё имеет конец — настал конец и
терпению страны. Ленские выстрелы разбили лёд молчания, и —
тронулась река народного движения. Тронулась!.. Всё, что было
злого и пагубного в современном режиме, всё, чем болела
многострадальная Россия, — всё это собралось в одном факте, в
событиях на Лене».
Только начавшаяся Первая мировая война и связанный с ней
патриотический подъём населения несколько ослабили вновь
разгоравшееся в стране революционное движение.
ЭСЕРЫ
ЭСЕРЫ
(СОиИАЛИСТЫ-
РЕВОЛЮиИОНЕРЫ)
ЗАРОЖДЕНИЕ ПАРТИИ ЭСЕРОВ
На рубеже XIX—XX столетий в российском революционном
движении преобладали марксисты, социал-демократы. Идеи
народников, «Народной воли» представлялись уже далёким прошлым,
«вчерашним днём». Однако далеко не все революционные
группы в России и эмиграции увлекались марксизмом.
К 1900 г. на общей волне подъёма революционного
движения в России и русской эмиграции возникло несколько новых
народнических групп. Немалую роль в их создании сыграла
старая народница Екатерина Брешко-Брешковская, или, как её
уважительно называли товарищи, Бабушка.
Виктор Чернов писал о ней: «Только в 1896 г. попадает она,
окончив все сроки каторги и ссылки, в Россию. Там всё новое.
Молодёжь почти сплошь говорит на новом языке — на языке
поспешно и не очень ладно переведённого на русский
немецкого марксизма. Бабушка среди них — как выходец из другого,
потонувшего мира. Она спешит наверстать годы
подневольного бездействия». «Шесть лет вагоны были мне квартирой, —
расскажет она потом. — Я собирала людей всюду, где могла: в
крестьянских избах, в мансардах студенток, в гостиницах...»
Революционерка Серафима Клитчоглу назвала её «святым
духом революции», витающим по всей России. Бабушка
воодушевляла и вовлекала в движение не только молодёжь, но и своих
старых товарищей. «Стыдись, старик, — говорила она одному из
отошедших от дела соратников, — ведь эдак ты умрёшь со
срамом — не как борец, а на мягкой постели подохнешь, как
изнеженный трус, подлой собачьей смертью».
Ещё более важную роль в возрождении народнического
движения сыграл 30-летний учёный-фармацевт Григорий Гершуни.
Любопытным образом состоялось его знакомство с Е. Бреш-
ковской. В компании молодёжи, собравшейся на квартире Г.
Гершуни, разгорелся спор: может ли в России возобновиться
индивидуальный террор? Кто-то категорически заявил, что это
абсолютно исключено: настали другие времена. Даже старые
революционеры с трепетом отшатнутся, если их спросить: «Не пойти ли
опять, по примеру Желябовых, с револьвером или бомбой убивать
ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ СОЗДАНИЯ
ПАРТИИ ЭСЕРОВ
Образование Партии
социалистов-революционеров поразило своей
неожиданностью даже старых народников.
Эсер Андрей Аргунов вспоминал, как
он сидел в это время в московской
Таганской тюрьме:
«Кругом не было слышно наших
голосов, они терялись в шумном хоре
противников. В тюрьме кругом были
социал-демократы, смотревшие на нас
со снисходительной улыбкой». Для
марксистов
революционеры-народники выглядели тогда чем-то вроде
живой древности, ископаемой диковины.
«Но вот, — писал А. Аргунов, — (я
хорошо помню тот день) меня кто-то
громко вызвал стуком по трубе. То был
сосед, только что прибывший с воли, и
труба его рукою передала
ошеломившую меня новость: что все социально-
революционные организации в России
и за границей соединились в единую
партию.
У меня дыхание, как говорится,
сперло от таких новостей, скрежешушие
звуки трубы показались дивной
музыкой... А там и единомышленники стали
всё чаше занимать по соседству
камеры, повалили и студенты, и крестьяне,
и даже, к удивлению
социал-демократов, появились рабочие-эсеры. Словом,
по остроумному выражению одного
крестьянина, „эсерь пошла"».
69
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
Е. Брешко-Брешковская.
и умирать?». Чтобы разрешить спор, обратились к Бабушке,
которая бывала в этом доме. В. Чернов так излагал её слова: «Бабушка
не уклонилась от ответа. Печальным, но ровным и твёрдым
голосом отвечала:
— И мы в своё время мучились тем же вопросом и говорили
евангельскими словами: ,Да минует нас чаша сия...". Вот и ныне
придётся выстрадать ответ. Опять идём мы к срыву в бездну, опять
мы вглядываемся в неё, и бездна вглядывается в нас. Это значит,
что опять террор становится неизбежным...».
Увлечённый революционно-народническими идеями, Г. Гер-
шуни стал вслед за Е. Брешковской ездить по стране. Но роли их
несколько отличались. Под влиянием Бабушки молодёжь
объединялась в союзы, как они себя называли,
социалистов-революционеров. Г. Гершуни связывал эти группы между собой и
постепенно сколачивал из них единую партию
социалистов-революционеров. Побывав за границей, он соединил их и с близкой по
духу эмиграцией.
К началу 1902 г. этот процесс в основном завершился. В
России возникла новая подпольная партия —
социалистов-революционеров, или сокращённо — эсеров. В ней состояло несколько
сотен человек.
КАЗНЬ СТЕПАНА БАЛМАШЕВА
Террориста Степана Балмашева,
арестованного за убийство министра
внутренних дел А. Сипягина, судили и
приговорили к повешению. Он отказался
от помилования. Своим родителям
С. Балмашев писал, будучи под
арестом: «Неумолимо беспошадные
условия русской жизни довели меня до
такого поступка, заставили пролить
человеческую кровь. Я, разумеется,
нисколько не раскаиваюсь в том, что
сделал...». 3 мая Степана Балмашева
казнили в Шлиссельбургской крепости.
После его казни Г. Гершуни отпечатал
листовку, в которой было такое
стихотворение:
Ночью товарищ погиб, —
Жить ему стало невмочь.
Труп его свежий зарыт
В ту же зловещую ночь.
Слругом налёжным сойаись,
Острый клинок отточи,
Нужно не плакать, а мстить, —
Мстить за погибших в ночи...
ПЕРВЫЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ПОКУШЕНИЯ
14 февраля 1901 г. бывший студент Пётр Карпович выстрелом
смертельно ранил министра народного просвещения Николая
Боголепова. Министр прославился своими правилами 1899 г., по
которым свыше двухсот мятежно настроенных студентов
отдали в солдаты.
П. Карповича приговорили к каторге. Позднее, в 1907 г., он
бежал с поселения и вскоре вступил в Партию
социалистов-революционеров. Выстрел Карповича произвёл большое
впечатление и на Россию, и на эмиграцию. «Ну, кажется, террор
начался!» — с удовлетворением воскликнул будущий глава Боевой
организации (БО) эсеров Евгений Азеф.
2 апреля 1902 г. состоялось первое собственно эсеровское
покушение — на министра внутренних дел Дмитрия Сипягина.
Покушением впервые заявила о себе Боевая организация эсеров
во главе с Г. Гершуни. Добровольцем-исполнителем стал
20-летний бывший студент Степан Балмашев. Переодетый в
офицерскую форму, он явился в приёмную министра и представился
посланцем великого князя Сергея. Вручив министру пакет с
приговором Боевой организации, террорист дважды выстрелил в
Д. Сипягина, смертельно ранив его.
Сразу после этого Григорий Гершуни, по свидетельству
товарища, «весь дышал успехом» и бодро восклицал: «Гордиев узел
разрублен. Террор доказан. Он начат. Все споры излишни».
Убийство Д. Сипягина означало, что Боевая организация эсеров как
бы подняла оружие, выпавшее из рук Исполнительного
комитета «Народной воли».
70
ЭСЕРЫ
УБИЙСТВО ВЯЧЕСЛАВА ПЛЕВЕ
В 1903 г. полиция арестовала главу Боевой организации эсеров
Григория Гершуни. Вскоре после этого руководителем Боевой
организации стал его ближайший соратник Е. Азеф (см. ст.
«Евгений Азеф»), Как потом выяснилось, Е. Азеф тайно сотрудничал
с полицией. Однако это не помешало ему организовать два
самых знаменитых покушения Боевой организации.
Первым из них стало покушение на министра внутренних
дел Вячеслава Плеве. Мало кто навлёк на себя такую всеобщую
ненависть интеллигенции, как В. Плеве. Его считали главным
организатором кишинёвского еврейского погрома в 1903 г. (см.
ст. «Черносотенцы»). В 1904 г. были совершены пять попыток
покушения на министра. Сам он мрачно говорил: «Я знаю день, в
который меня убьют. Это будет в один из четвергов. В четверг я
выезжаю для доклада».
Переодевшись извозчиками и лоточниками, эсеры-боевики
организовали тщательное наблюдение за министром. 15 июля
1904 г., когда В. Плеве ехал на доклад к царю, в его карету была
брошена бомба. Сквозь стекло министр успел заметить
подбегавшего террориста. Б. Савинков так описывал взрыв: «От земли
узкой воронкой взвился столб серо-жёлтого, почти чёрного по
краям дыма. Столб этот, всё расширяясь, затопил на высоте
пятого этажа всю улицу. Мне показалось, что я видел в дыму какие-
то чёрные обломки». От взрыва погибли В. Плеве и его кучер, семь
прохожих получили ранения.
Пожалуй, убийство Плеве оказалось самым успешным из
всех террористических актов эсеров. Оно вызвало огромную
волну сочувствия к ним во многих слоях русского общества. Эсер
С. Слётов вспоминал, как на заграничном эсеровском совещании
узнали о смерти В. Плеве: «На несколько минут воцарился какой-
то бедлам. Большинство обнималось. Кричали здравицы. Как
сейчас вижу Н.: стоит в стороне, бьёт о пол стакан и со скрежетом
зубов кричит: „Вот тебе за Кишинёв!"».
4 февраля 1905 г. Боевая организация эсеров совершила ещё
одно покушение, привлёкшее всеобщее внимание. В Москве
взрывом бомбы, брошенной Иваном Каляевым, был убит
генерал-губернатор «первопрестольной» великий князь Сергей
Александрович. Журналист Александр Шенский рассказывал о
впечатлении москвичей от этого покушения: «Убийство Сергея было
своего рода народным праздником... На улицах поздравляли друг
друга. Чувствовался необычайный подъём» (см. ст. «Иван Каляев»).
ПЕРВЫЙ СЪЕЗД ЭСЕРОВ
После начала первой русской революции численность партии
эсеров резко возросла: от 1,5 тыс. до 65 тыс. человек 29 декабря
1905 г. в Финляндии на острове Иматра открылся первый съезд
партии эсеров. Он продолжался до 4 января. Делегаты приняли
программу партии, которая открывалась партийным лозунгом
АРЕСТ
ГРИГОРИЯ ГЕРШУНИ
В мае 1903 г. полиция случайно вышла
на след главы Боевой организации
Григория Гершуни. 13 мая его арестовали
на небольшой железнодорожной
станции под Киевом. Историк Борис
Николаевский так описывал этот арест:
«Гершуни вышел на улицу и
приостановился, якобы оправляя шнурки на
ботинках, а на самом деле осматриваясь
по сторонам: нет ли подозрительных
симптомов. Их было — увы — больше
чем достаточно: весь район был полон
филёров. Заметив слежку, Гершуни
подошёл к ларьку с фруктовыми водами
и выпил стакан лимонаду. Филёры
заметили, что он волновался, рука
дрожала и едва держала стакан: Гершуни
чувствовал, что на его шее
затягивается петля. Через несколько минут он
был арестован...». Когда на Григория
Андреевича надевали железные
кандалы, он поднёс их к губам и пылко
поцеловал. Этот его жест произвёл
сильное впечатление на
свидетелей-полицейских...
Суд приговорил руководителя
эсеровских террористов к смертной казни.
Несколько недель Г. Гершуни провёл в
камере смертников. Но вот в его
камеру неожиданно явился председатель
суда: «Господин Гершуни, я привёз Вам
высочайшую милость. Вам дарована
жизнь». «Я об этом не просил, Вы это
знаете», — сдержанно сказал Г.
Гершуни. «Да, я знаю...» — отвечал тот.
Казнь заменили заключением в
крепость, а затем пожизненной каторгой
на Акатуе. Оттуда Г. Гершуни удалось
бежать в ноябре 1906 г., спрятавшись
в бочке с квашеной капустой. В честь
этого события он даже взял партийную
кличку — Капустин.
Однако террористу, уже ставшему для
своих товаришей живой легендой, не
пришлось вновь возглавить эсеровский
террор. Тигр Русской Революции, как
прозвали его товариши, скончался от
тяжёлой болезни в возрасте 37 лет
16 марта 1908 г.
71
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
ЕГОР САЗОНОВ
Бомбу в министра внутренних дел
В. Плеве бросил бывший студент,
25-летний Егор Сазонов. (Известно и
другое написание — Созонов. Такую
фамилию носят ныне живущие
потомки террориста.) Его товариш Борис
Савинков рассказывал о нём:
«Революционер старого, народовольческого,
крепкого закала, он не имел ни
сомнений, ни колебаний. Смерть Плеве была
необходима для России, для
революции, для торжества социализма. Перед
этой необходимостью бледнели все
моральные вопросы на тему о „не убий"».
Как-то раз Б. Савинков спросил его:
«Как Вы думаете, что будем мы
чувствовать после... после убийства?». Е.
Сазонов, не задумываясь, отвечал:
«Гордость и радость». — «Только?» —
«Конечно, только». «Сазонов был молод,
здоров и силён, — писал Савинков. —
От его искряшихся глаз и румяных шёк
веяло силой молодой жизни.
Вспыльчивый и сердечный, с кротким,
любящим сердцем...»
Во время покушения Е. Сазонов
бросил бомбу, находясь почти вплотную к
карете министра. Взрывом террориста
тяжело, почти смертельно ранило в
правый бок. На суде его защитник
Н. Карабчевский говорил о нём и его
товарищах: «Бомба их была начинена
не динамитом, а горем и слезами
народными... Бросая бомбы в правителей,
они хотели уничтожить кошмар,
который давил народную грудь». Суд
приговорил Е. Сазонова к вечной каторге.
Находясь в тюрьме, он писал
родителям: «Я совершил величайший грех,
возможный для человека, — два
убийства, запятнал себя кровью. После
страшной борьбы и мучений только под
гнётом печальной необходимости мы
брались за меч, который не мы первые
поднимали... Не мог я отказаться от
своего креста».
На каторге в Горном Зерентуе жизнь
Е. Сазонова оборвалась: 27 ноября
1910 г. он покончил с собой, приняв
яд. Он пошёл на такой шаг в знак
протеста против применения розог к
политическим заключённым.
«В борьбе обретёшь ты право своё!». Её стержнем стало
отношение к крестьянству, земельный вопрос.
Марксисты в то время считали, что крестьянство в России
идёт к своему концу, уничтожению. Земля достанется крупным
собственникам, а миллионы мелких крестьян разорятся и
превратятся в безземельных батраков. Это облегчит победу
социализма в деревне.
Эсеры, как и другие народники, не соглашались с таким
предсказанием. Они считали, что необходимо не разрушать, а
защищать крестьянскую общину, весь уклад сельской жизни.
Более того, надо пойти навстречу вековым представлениям и
желаниям крестьян. Ведь крестьяне издавна верили в то, что земля
ничья, «вольная», или, как они говорили, Божья. А собирать её
плоды может только тот, кто трудится на ней. В программе
эсеров говорилось: «Партия Социалистов-Революционеров
стремится опереться на общинные и трудовые воззрения, традиции
и формы жизни русского крестьянства, в особенности на
распространённое среди них убеждение, что земля ничья и что право
на пользование ею даёт лишь труд».
Чаяния крестьян эсеры постарались выразить в своей идее
«социализации земли». Эта идея стала их своеобразным
открытием. Они предлагали сделать землю в полном смысле слова
«ничьей», как воздух или воду. «При освобождении крестьян, —
говорили эсеры, — люди перестали быть предметом торговли.
Теперь настало время освободить от купли-продажи землю...»
Земля, считали эсеры, должна перейти не в руки единого
собственника — государства, а в руки тысяч крестьянских общин
по всей стране. В народе социализацию земли воспринимали как
главный лозунг эсеров, их символ. Так же считали и они сами.
Кроме одобрения программы на I съезде произошли и
другие важные события. От эсеров откололись два течения:
умеренное и крайне левое. Умеренное крыло, выступавшее за легальную
деятельность, позже образовало Партию народных социалистов,
а крайне левое течение создало Союз эсеров-максималистов.
Они, в частности, выступали за аграрный террор — «широкую
партизанскую войну в деревне» против местных властей и
помещиков. Эсеры такую тактику отвергали.
В 1905-1916 ГОДАХ
16—17 марта 1905 г. правительство подвергло разгрому Боевую
организацию эсеров. Полиция выследила и арестовала в Москве
и Петербурге 17 эсеровских боевиков. На свободе остались
только Е. Азеф, Б. Савинков и ещё три-четыре человека.
Консервативная газета «Московские ведомости» назвала эти аресты
«Мукденом русской революции». Правда, через полгода, после
октябрьского манифеста и провозглашения свобод, арестованных
боевиков освободили. Но в самые горячие месяцы революции
эсеровский террор оказался сведённым на нет.
После манифеста 17 октября ЦК партии эсеров постановил
72
ЭСЕРЫ
прекратить террор. Сторонники этого решения говорили, что
историческое призвание партии — решить земельный вопрос.
Теперь, когда гражданские свободы завоёваны, все силы надо
переключить на это. Но уже через несколько месяцев стало ясно,
что власти взяли курс на беспощадную борьбу с революцией.
Вопрос о терроре возник вновь...
Партия эсеров бойкотировала выборы в I Государственную
думу. Во II Думе эсеры решили участвовать и провели 37
депутатов. Здесь они добились крупного успеха: собрали 105 подписей
под своим земельным законопроектом. Этот успех эсеров стал
одной из причин роспуска II Думы, после чего обстановка в
стране для революционных партий резко ухудшилась. Им пришлось
почти полностью уйти в подполье. В III и IV Думах эсеровских
групп уже не было.
Вообще десятилетие «между двумя революциями» оказалось
для эсеров, как и всех революционных партий, весьма тяжёлым.
Неудачи преследовали их и в терроре. В. Чернов вспоминал:
«Тягостный опыт непрерывного фиаско ряда боевых предприятий
подготовил такую атмосферу безнадёжности и растущего
разочарования в терроре, что Азеф пошёл на решительный шаг». В
1906 г. вместе с Б. Савинковым Е. Азеф заявил, что старые
способы террора (наблюдение под видом извозчиков, торговцев)
полиции уже хорошо известны. Нужно искать новые технические
средства террора. А до тех пор Боевую организацию придётся
распустить. Для руководства эсеров это сообщение прозвучало
ошеломляюще. Прекратить террор, когда революция по всей
стране беспощадно подавляется? После ожесточённых споров
Боевую организацию всё-таки распустили, но вместо неё
создали три небольших боевых отряда.
Этим отрядам удалось совершить ряд успешных покушений
на некоторых видных сановников, в том числе на столичного
градоначальника Владимира фон-дер-Лауница, а также
главного военного прокурора Владимира Павлова. Однако в апреле
1907 г. власти арестовали 28 человек, в том числе почти весь
Боевой отряд эсеров. В феврале 1908 г. разгромили вторую группу
боевиков — Северный летучий боевой отряд. Руководителя
отряда Альберта Трауберга арестовали ещё раньше.
Жандармский генерал А. Герасимов передавал впечатление
прокурора, который присутствовал на казни семи эсеров из
отряда А. Трауберга: «Как эти люди умирали... Ни вздоха, ни
сожаления, никаких просьб, никаких признаков слабости... С улыбкой
на устах они шли на казнь. Это были настоящие герои». «Они в
этом отношении не были исключением, — добавлял генерал А
Герасимов, — все террористы умирали с большим мужеством и
достоинством. Особенно женщины. Героизм этой молодёжи,
надо признать, привлекал к ней симпатии в обществе».
После этих арестов и казней вплоть до 1917 г. эсеровский
террор почти затих. Партия переживала трудные времена. Её
численность, достигавшая в 1905 г. 65 тыс. человек, резко
сократилась. Особенно большим и тяжёлым ударом для эсеров стало
ТЕРАКТЫ ЭСЕРОВ
В ДЕКАБРЕ 1906 ГОДА
21 декабря 1906 г. эсер Евгений
Кудрявцев застрелил столичного
градоначальника Владимира фон-дер-Лаунииа.
Перед этим они спокойно стояли
рядом в церкви, на освяшение которой
прибыл В. Лаунии. «В чёрном фраке, в
безукоризненной перчатке на левой
руке, стоял рядом с Лауниием молодой
белокурый денди, спокойный,
светский, богомольный», — писала Мария
Спиридонова. Террорист не стал
стрелять в церкви, подождал, пока
закончится богослужение, и на плошадке у
выхода трижды выстрелил в
градоначальника. Увидев это, полицейский
офицер ударил Е. Кудрявцева шашкой
по голове, но тот уже сам выстрелил
себе в висок... Одна из главных
причин покушения заключалась в том, что
фон-дер-Лауниц, бывший тамбовский
губернатор, в 1905 г. сурово подавил
крестьянские восстания.
26 декабря 1906 г. эсеры убили
главного военного прокурора Владимира
Павлова, отправившего на эшафот
немало революционеров. В июне он
выступал в Государственной думе в
защиту смертной казни, и левые депутаты
провожали его громкими возгласами
«Убийца!». В результате своей твёрдой
и беспощадной позиции В. Павлов
фактически обрёк себя на жизнь
заключённого. Он никуда не мог выходить из
здания Главного военного суда, где
размешалась его квартира. Гулял
только в саду во дворе того же здания за
высоким забором. Ворота охранял
вооружённый караул. Но и здесь
генерала настигла пуля террориста... Даже
среди чиновников-писарей Главного
военного суда нашлись сочувствующие
революции. Они помогли эсеру Н.
Егорову пробраться в сад и застрелить
генерала во время его прогулки.
73
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРРОРА
Началом эсеровского
индивидуального террора считается выстрел Степана
Балмашева в апреле 1902 г. На
протяжении последующих десяти лет эсеры
совершили, по неполным данным, 263
покушения. Их жертвами стали не
менее 107 человек. Среди них 2
министра, 33 губернатора и
вице-губернатора, 7 генералов и адмиралов, 15
полковников, 16 градоначальников,
полицмейстеров и прокуроров, 26 тайных
сотрудников полиции. За эти
покушения 71 эсер получил смертный
приговор, причём казнили 57 человек.
Наивысшего подъёма индивидуальный
террор достиг в 1906 г. — 74
покушения. В 1907 г. покушений было не
менее 57. В последующие годы, после
массовых арестов и казней, эсеровский
террор почти прекратился. В 1908 г.
состоялось всего два успешных
покушения, столько же в 1909 г. Ешё два
теракта имели место в 1911 г.
Последним от пули эсеров погиб начальник
Зерентуйской каторги Высоцкий. Его
убили за применение телесных
наказаний к политзаключённым. После
этого индивидуальный террор эсеры
возобновили лишь в 1918 г.
Плакат партии эсеров, посвященный
выборам в Учредительное собрание.
1917 г.
разоблачение в декабре 1908 г. Е. Азефа как тайного сотрудника
полиции. В полицейском отчёте за 1916 г. говорилось: «Что
касается партии социалистов-революционеров, то, по сведениям
департамента полиции, таковой в России не существует...».
ОТ ФЕВРАЛЯ ДО ОКТЯБРЯ
Сразу после Февральской революции 1917 г. партия эсеров
начала бурно расти. Вернулись с каторги и из ссылок старые эсеры, а
затем хлынул огромный поток «новообращённых». Эсеры стали
самой многочисленной партией в России. Летом их число
составляло примерно 700 тыс. человек (они не вели точного подсчёта).
«Ни одна партия не росла так неудержимо стремительно, —
замечал В. Чернов. — Старый, испытанный состав партии был
буквально размыт бурным притоком новых пришельцев».
Эсеры вошли в коалиционное Временное правительство,
причём В. Чернов стал министром земледелия, а другой эсер
А. Керенский вскоре возглавил правительство (см. ст.
«Политическая борьба в 1917 году»).
25 мая в Москве после десятилетнего перерыва собрался
очередной III съезд партии эсеров. Съезд заявил о своей
поддержке коалиционного правительства. Делегаты высказались также по
самым жгучим вопросам революции — о мире и земле. Съезд
выступил за продолжение войны и «категорически отверг
сепаратный мир и сепаратное перемирие». По вопросу о земле
эсеры, конечно, повторили свои старые требования.
Но теперь вопрос стоял уже иначе: как проводить земельную
реформу? Снизу, с помощью крестьянского движения, или сверху,
по воле правительства? Съезд высказался против стихийного
движения, «отверг все частные захваты земель». Эсеры считали, что
реформу надо проводить планомерно, решением правительства.
Однако в правительстве долгожданная реформа встречала
всё новые и новые препятствия. Недовольство крестьян росло. В
августе министр земледелия В. Чернов, потеряв надежду
провести желательные меры, подал в отставку.
Владимир Ленин писал за несколько дней до Октября:
«Прошло семь месяцев революции. Народ бесчисленное количество
раз выражал своё доверие эсерам, давал им большинство на
выборах, говорил партии эсеров: „Веди нас, мы вручаем тебе
руководство!". В Советах партия эсеров, с марта 1917 г. действующая
в блоке с меньшевиками, имела большинство в течение месяцев
и месяцев! Семь месяцев господства эсеров и меньшевиков в
Советах привели... к восстанию крестьян Тамбовской и других
губерний».
В то же время среди социалистов-революционеров
постепенно сложилось левое крыло во главе с Марией Спиридоновой,
Борисом Камковым и старым народником Марком Натансоном.
Левые эсеры выступали в поддержку стихийного крестьянского
движения. До ноября 1917 г. они оставались частью единой
Партии социалистов-революционеров.
74
ЭСЕРЫ
ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ
Октябрьский переворот 1917 г. привёл к расколу среди эсеров.
Большинство руководителей партии решительно выступили
против Октября. В то же время левое крыло эсеров поддержало
Советскую власть. Причины этой поддержки были достаточно ясны:
ведь «Декрет о земле» наконец осуществил эсеровскую
земельную программу. М. Спиридонова говорила о большевиках в
ноябре 1917 г.: «Как нам ни чужды их грубые шаги, но мы с ними в
тесном контакте, потому что за ними идёт масса, выведенная из
состояния застоя...». Кроме того, левые эсеры поддерживали сам
принцип Советской власти, считая её более близкой народу и
крепко связанной с ним.
26 ноября открылся последний IV съезд партии эсеров.
Делегаты определённо высказались за борьбу с большевиками под
лозунгом «Вся власть Учредительному собранию!».
А 19 ноября начал работу первый съезд новой партии —
левых эсеров. Три недели спустя левые эсеры согласились войти в
Советское правительство и получили в нём почти половину
портфелей (в том числе такие важные, как наркоматы земледелия,
юстиции). Два этих съезда окончательно оформили
состоявшийся в партии раскол.
И вот в разгар всех этих тяжёлых для эсеров событий они
неожиданно узнали о своей... победе. Их лозунги, в том числе
главный — о земельном переделе, принесли им успех на
выборах в Учредительное собрание 12 ноября (см. ст.
«Учредительное собрание»). Но эта победа, за которую 1б лет боролась
партия, имела теперь какой-то иллюзорный, символический
характер. Ведь победила старая, ещё единая партия, в списках которой
товарищами оставались А. Керенский и М. Спиридонова... Мало
кого из эсеров эта победа по-настоящему обнадёжила.
«МЯТЕЖ ЛЕВЫХ ЭСЕРОВ»
В марте 1918 г. левые эсеры разошлись с большевиками по
вопросу о подписании Брестского мира. Левые эсеры (как,
впрочем, и многие большевики во главе с Н. Бухариным) выступили
за «революционную войну» с Германией. Когда Брестский мир
всё-таки одобрили, левые эсеры вышли из правительства.
Вскоре стало ясно, что Брестский мир больше всего ударил
по крестьянам. Лишившись хлебной Украины, власти
применили самые суровые меры, чтобы получить зерно у российских
крестьян. В деревне началась «война за хлеб» (см. ст. «„Военный
коммунизм" и нэп»). Власть в сёлах передали комитетам деревенской
бедноты — комбедам. Участники комбедов помогали изымать
зерно у своих более зажиточных односельчан.
Всё это вызвало горячий протест левых эсеров, тесно
связанных с крестьянством. Особенно их возмущало то, что от
«законных сельских Советов» власть передаётся каким-то
«самозваным комитетам». Левый эсер Борис Камков с негодованием
назвал комбеды «комитетами деревенских лодырей».
ЛЕВЫЕ ЭСЕРЫ
И СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ
Левые эсеры, в отличие от «правых»,
являлись сторонниками власти
Советов. Уже в ноябре 1918 г., находясь
под арестом, Мария Спиридонова
повторяла: «Власть Советов — это при
всей своей хаотичности большая и
лучшая выборность, чем вся
учредилка, думы и земства». Депутатов
городских дум или Учредительного
собрания избирали только однажды, на весь
срок. А в Советах, замечала М.
Спиридонова, каждого делегата можно
переизбрать в любое время. Кроме того,
по её мнению, через Советы «каждая
фабрика, каждый завод и село имели
право влиять на работу
государственного аппарата».
В. Лебедев. Плакат 1920 г.
<:шми:и
КАМЖА
ЭС-ЕВД
ЕГО ВОД?
Ю'ЕСТЬЯНЛЩ
АШЖТМШЕКОМУ?
- АНГЛ ИЧ А КАП
75
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
ПАРТИЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО
КОММУНИЗМА
В сентябре 1918 г. в Москве состоялся
первый съезд новой партии — Партии
революционного коммунизма (ПРК). Её
возглавил 67-летний Марк Натансон,
участник народнического движения с
1869 г. Фактически ПРК руководил
Алексей Устинов, племянник П.
Столыпина, позднее ставший известным
советским дипломатом. В партию
вошли главным образом бывшие левые
эсеры. Они отмежевались от
июльского выступления своей бывшей партии,
известного как «мятеж левых эсеров»,
и высказались за сохранение союза с
большевиками. ПРК считала себя
частью народнического движения.
BUMK постановил в феврале 1919 г.,
что ПРК — «советская партия и по
отношению к ней репрессий быть не
должно». В то же время большевики
относились к революционным
коммунистам довольно настороженно. Их
официальное отношение выражалось
словами: «Привлекать к работе, но
следить».
Что касается крестьян, то они часто
искали зашиты от продотрядов,
изымавших у них хлеб, именно в ПРК. 80%
участников новой партии составляли
крестьяне. На этой почве между
большевиками и революционными
коммунистами, особенно в тех местах, где
последние были сильны, часто
возникали острые противоречия. Как
говорили большевики, к ПРК
«примазывалось кулачество».
Многие революционные коммунисты
переходили в РКП(б), другие, наоборот,
начинали борьбу с большевиками.
Лидер партии Марк Натансон скончался
29 июля 1919 г., находясь на лечении
в Швейцарии. В сентябре 1920 г.
последний, VI съезд ПРК принял решение
о её роспуске и слиянии с РКП(б).
Левые эсеры рассчитывали дать бой по вопросу о комбедах
и Брестском мире на V съезде Советов, который открывался
4 июля. Но вскоре стало ясно, что левые эсеры останутся на нём
в меньшинстве. Хотя они и получили очень много мест (353),
большевикам досталось ещё больше (773), а другим партиям —
всего 28 мест. На выборах голос рабочего «весил» в пять раз
больше голоса крестьянина, а поддерживали левых эсеров в основном
крестьяне.
24 июня ЦК партии левых эсеров принял тайное решение
сорвать Брестский мир с помощью покушений на «виднейших
представителей германского империализма». 6 июля, в разгар
работы съезда Советов, левый эсер Яков Блюмкин исполнил
решение своего ЦК: застрелил германского посла графа
Вильгельма Мирбаха. После такого шага возобновление войны
казалось неизбежным. В сообщении властей в тот же день
говорилось: «Россия теперь по вине негодяев левоэсерства на волосок
от войны...».
Из посольства Яков Блюмкин направился в военный отряд
чекистов, который возглавлял левый эсер Д. Попов. Здесь, в
штабе отряда в Трёхсвятительском переулке, собрались члены ЦК
левых эсеров. Через несколько часов сюда же прибыл
председатель ВЧК Феликс Дзержинский. Он потребовал немедленно
выдать ему убийцу германского посла. Конечно, левые эсеры не
могли выдать товарища. Они предпочли обезоружить и
арестовать самого Ф. Дзержинского... Так началось событие, известное
как восстание, или мятеж, левых эсеров.
Узнав об аресте Ф. Дзержинского, власти взяли под стражу
всю левоэсеровскую фракцию съезда Советов — около 350
человек! Их арестовали прямо в зале заседания, в Большом театре.
Среди арестованных, ошеломлённых случившимся, царило
мрачное настроение. Известная террористка Анастасия Биценко,
чтобы подбодрить товарищей, запела революционную песню. Но все
остальные продолжали подавленно молчать.
Когда Д. Попов узнал, что левоэсеровские делегаты во главе
с Марией Спиридоновой арестованы, он решил действовать. «За
Марию, — воскликнул он, — снесу пол-Кремля, пол-Лубянки,
полтеатра!» Его отряд открыл беспорядочный артиллерийский огонь
по Кремлю. Однако немногие снаряды, упавшие на территорию
крепости, особого вреда ей не причинили.
Небольшой отряд во главе с левым эсером Василием Лихо-
бадиным захватил здание Главного телеграфа. Оттуда В. Лихоба-
дин разослал по стране несколько телеграмм. В одной из них он
предложил «задерживать всякие депеши за подписью Ленина,
Троцкого и Свердлова, признавая их вредными для Советской
власти вообще и правящей в настоящее время партии левых
эсеров в частности».
Большевики бросили против левых эсеров красных
латышских стрелков. Утром 7 июля латыши заняли телеграф. Из пушек
они обстреляли здание штаба Д. Попова в Трёхсвятительском
переулке. 17 выпущенных по зданию артиллерийских выстрелов
76
ЭСЕРЫ
решили исход борьбы: левые эсеры покинули свой штаб. К
полудню всё было кончено, «мятежники» разоружены. Вечером того
же дня в Трёхсвятительский переулок приехал В. Ленин с Н.
Крупской. Они осмотрели здание штаба левых эсеров, разбитое
пушечным огнём...
Через два дня по решению ВЧК 13 чекистов из отряда Д.
Попова расстреляли как «изменников». Почти всех остальных
арестованных в тот же день выпустили, а М. Спиридонову
освободили спустя пять месяцев. Я. Блюмкина заочно осудили на три года
заключения.
Сами левые эсеры позднее утверждали, что никакого
восстания с их стороны не было, а только самозащита, к которой их
вынудили обстоятельства. Так или иначе, июльские события
почти уничтожили их партию как значительную политическую силу.
Левые эсеры уже никогда не смогли восстановить своё былое
влияние.
ЭСЕРЫ ПРИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
После Октября 1917 г. эсеры (их теперь называли правыми
эсерами) ещё занимались легальной деятельностью, издавали
газеты и журналы. Так продолжалось примерно до середины 1918 г.
Затем обстановка в стране обострилась, стала разгораться
гражданская война.
Руководство эсеров так и не приняло решения о начале
индивидуального террора против новых властей. Правда, этот
вопрос неоднократно обсуждался руководством партии. Однако
несколько рядовых эсеров совершили покушения на видных
большевиков. В июне 1918 г. эсеры убили М. Володарского, в
августе — М. Урицкого и тяжело ранили В. Ленина (см. ст.
«Карательные органы Советской власти»).
После этих покушений власти объявили «красный террор».
Среди эсеров прошли массовые аресты. В «Кратком курсе
истории ВКП(б)» позднее так рассказывалось об этом: «Эсеры,
убившие тт. Урицкого и Володарского и произведшие злодейское
покушение на жизнь Ленина, за белый террор против
большевиков были подвергнуты красному террору и разгромлены
во всех сколько-нибудь значительных пунктах центральной
России».
Летом 1918 г. члены ЦК партии эсеров перебрались в
Самару, а затем в Уфу. Здесь они возглавили вооружённую борьбу с
большевиками. Эсеры выступали под лозунгами демократии и
защиты Учредительного собрания. Как писал В. Чернов, они
боролись с попытками «против красной диктатуры воздвигнуть
белую диктатуру».
Однако в этой борьбе эсеры потерпели поражение. Под их
знамёна скоро собралось офицерство, одинаково враждебно
настроенное к любым социалистам. В ноябре 1918 г. в «сибирской
столице» Омске произошёл переворот, и к власти пришёл
адмирал А. Колчак Учредительное собрание, которое пытались вос-
УБИЙСТВО ФЕЛЬДМАРШАЛА
ЭЙХГОРНА
Левые эсеры не ограничили свою
борьбу против Германии только убийством
графа Вильгельма Мирбаха. На
оккупированной немцами Украине в 1918 г.
действовала Боевая организация левых
эсеров. Её самым известным
террористическим актом стало убийство
германского генерал-фельдмаршала
Германа фон Эйхгорна, командующего
оккупационными войсками на
Украине. Руководила подготовкой
покушения террористка Ирина Каховская.
Убийство совершил 30 июля 1918 г.
левый эсер Борис Донской, бывший
кронштадтский матрос, которому было
24 года. В левоэсеровском журнале
«Знамя» в 1919 г. рассказывалось о
нём: «Борис Донской пять раз выходил
на Эйхгорна. В третий раз он уже
замахнулся, чтобы бросить бомбу, но в
этот момент слетела крышка со
снаряда и упала чуть ли не к самым ногам
Эйхгорна. Борис Донской не
растерялся: нагнулся, поднял крышку, положил
снаряд в карман и ушёл на глазах
стражи. В головах немцев не зародилось ни
малейшего подозрения...».
Б. Донской отказался бежать с места
покушения, сославшись на
евангельскую притчу о зерне, которое даст
урожай, только если само погибнет. «Я
хотел, чтобы меня поймали, —
признавался он, — и узнали, по какой
причине я убил Эйхгорна». В прощальном
письме матери он писал: «Благослови
меня и не жалей, мне хорошо, будто в
синее небо смотрю». Бориса Донского
приговорили к смертной казни и
публично повесили 10 августа 1918 г.
77
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
«СЪЕЗД БЫВШИХ ЭСЕРОВ»
18 марта 1923 г. в Москве собрался
«Всероссийский съезд рядовых членов
партии эсеров». (Заметим, что в
эсеровской эмиграции его оценили как
инсценировку советских властей.) На
съезд, который продолжался три дня,
съехались примерно 50 бывших эсеров.
Они заявили, что партия распалась и
разложилась, поэтому заграничный UK
не может выступать от её имени.
Кроме того, участники съезда
отмежевались от эсеровского руководства,
осуждённого в августе 1922 г. на
«процессе эсеров». В заключение бывшие
эсеры попросили принять их в РКП(б).
Журналист Михаил Кольцов писал об
этом событии: «В маленьком зале на
задворках Москвы собрался и прошёл
съезд бывших эсеров. Не левых
эсеров, а самых настоящих, подлинных
обломков эсеровской партии,
представлявших несколько сотен своих
единомышленников, рассеянных по всей
Советской России. Проделан трудный,
мучительный, но такой необходимый
акт — акт санитарии. Зарыты в землю
последние разложившиеся останки
мёртвой партии. Эсеровский
генералитет, пышную верхушку партии,
похоронили по первому разряду на красном
помосте Дома Союзов, при публике,
электрических люстрах, при
поминальном отпевании прокурора республики.
А рядовые эсеры покончили со своим
прошлым тихо и серо, без публики и
судебных дам. Кучка измученных
людей стирает с лица земли самоё
название партии, проклиная своих вождей,
осуждённых за убийства и измены,
стремится войти в РКП».
создать эсеры, подверглось «второму разгону». Многих
депутатов арестовали, а нескольких человек офицеры даже
расстреляли на берегу Иртыша: как они говорили, «отправили в
республику Иртыш».
После этих событий эсеры попытались вести борьбу «на два
фронта» под лозунгом «Ни Ленин, ни Колчак» (за что их
иронически прозвали «нинистами»). Такую позицию, в частности,
занимали В. Чернов, А. Аргунов, А. Керенский.
Другие под давлением обстоятельств склонялись к союзу с
большевиками против А. Колчака. Большевики также как будто
проявили готовность пойти навстречу эсерам. 27 февраля 1919 г.
ВЦИК постановил «предоставить правым
социалистам-революционерам право участия в советской работе». Это означало, что
партия может вести легальную деятельность.
В Москве вновь начала выходить эсеровская газета «Дело
народа». В. Чернов вспоминал: «„Весна" была недолгой: наша
газета выходила всего десять дней. Она имела блестящий успех, а
на наши митинги стекались толпы народа. На тех заводах, где
выступали наши ораторы, большевикам больше нельзя было
показываться: их встречали бурей негодования, свистом,
шиканьем, их гнали с трибуны. Нашим же товарищам приходилось
уговаривать рабочих „выслушать и противную сторону"». После двух
недель «весны» среди эсеров, вышедших из подполья,
прокатилась волна арестов...
Однако не все эсеровские группы на советской территории
попали под запрет. Например, продолжали действовать эсеры-
максималисты, украинские эсеры-борьбисты. Левые эсеры до
1922 г. выпускали в Москве журнал «Знамя»,
эсеры-максималисты — журнал «Максималист».
В Кронштадте весной 1921 г. идеи немногочисленной
советской оппозиции неожиданно нашли мощную вооружённую
поддержку. Стало ясно, что даже небольшие оппозиционные
группы и партии далеко не безопасны для властей. Поэтому
политика по отношению к ним стала гораздо более суровой. После
подавления Кронштадтского восстания В. Ленин призвал
отправлять эсеров за границу или «бережливо держать их в тюрьме». В
мае 1921 г. эсеры ещё могли выступать на Всероссийском съезде
профсоюзов. Но под влиянием арестов деятельность
сохранившихся эсеровских групп постепенно затухала.
Летом 1922 г. в Москве в Доме союзов состоялся
знаменитый «процесс эсеров» (см. ст. «Карательные органы Советской
власти»). В числе подсудимых находились видные эсеровские
вожди — Абрам Гоц, Евгений Тимофеев и др. Суд вынес им
смертные приговоры, два года спустя смягчённые до тюремного
заключения и ссылки.
После процесса 1922 г. деятельность эсеров в Советской
стране окончательно перешла в подполье, где существовали только их
небольшие разрозненные группы. (Единственный оставшийся
легальный народнический клуб — «Объединение левого
народничества» — был запрещён в 1925 г.) Всё же до начала 30-х гг. время от
78
ИВАН
КАЛЯЕВ
времени появлялись эсеровские листовки, например среди
студентов Москвы и Ленинграда.
В эмиграции в 20—30-е гг. действовала Заграничная
делегация социалистов-революционеров. Эсеры-эмигранты
выпускали газеты и журналы в Праге, Париже и Берлине. (Последняя
эсеровская группа — в Нью-Йорке — действовала до начала 60-х гг.)
Продолжали борьбу и арестованные эсеры в тюрьмах,
лагерях и местах ссылки. С помощью голодовок протеста, иногда
даже самоубийств, они отстаивали права и вольности
политзаключённых. Эта борьба не прекращалась до конца 30-х гг. (см.
ст. «Советские лагеря и тюрьмы»).
В 1936—1937 гг. прошли массовые аресты среди
остававшихся на свободе бывших эсеров и левых эсеров. Арестовывали
их и в местах ссылки. К началу 40-х гг. погибли почти все
бывшие вожди этих партий. Например, А. Гоц скончался в лагере под
Красноярском в августе 1940 г., М. Спиридонову расстреляли в
сентябре 1941 г.
Эсеры, оставшиеся в живых после десятилетий ссылок и
лагерей, вышли на свободу во время политической амнистии
1956 г. Их не реабилитировали, как осуждённых в 30-е гг.
большевиков, а только освободили из заключения. Конечно, никто из
них уже не вернулся к политической деятельности. Однако
многие эсеры до конца жизни сохраняли свои убеждения и интерес
к общественным вопросам.
А. Гоц.
ИВАН КАЛЯЕВ
(1877—1905)
Будущий легендарный террорист Иван Платонович Каляев
родился 24 июня 1877 г. в семье полицейского. Детство его прошло
в Варшаве. Семья Каляевых жила довольно бедно. Однако Ивану,
как он сам замечал, посчастливилось поступить в Петербургский
университет. «Я восторженно стремился к высшему
образованию», — признавался он позднее.
Вскоре за участие в студенческом движении Ивана
арестовали, и он провёл три месяца в тюрьме. Затем его исключили из
университета и отправили в ссылку на два года. «Это было
тяжёлым ударом для меня, навсегда определившим мою судьбу, —
писал он. — На все прошения принять меня в университет я
получил холодный отказ... С тех пор я стал убеждённым
революционером».
24-летний Иван Каляев примкнул к социал-демократам.
«Сначала я был всецело захвачен пропагандой среди рабочих, —
говорил он, — сам сгорал от огня, которым хотел зажечь других».
ГРУППА «НАРОД»
В 1919 г. в эсеровской партии
сложилась группа «Народ» во главе с
Владимиром Вольским и Николаем Святиц-
ким. Они призывали отказаться от
борьбы «на два фронта» и вместе с
большевиками бороться против А.
Колчака. Любопытное психологическое
объяснение этой смены курса давал
В. Чернов. «Лично Вольский, — писал
он, — был яростнейшим из
ненавистников большевизма в рядах партии. Но
бессилие перед лицом колчаковского
переворота озлобило его до последней
степени. Порывистый характер
толкнул его на противоположную
крайность...»
Группа «Народ» в Советской России
действовала легально. Она стала
называться «Меньшинство партии
социалистов-революционеров (МПСР)». До
1922 г. эта группа выпускала свой
журнал «Народ». Но в последние годы он
всё с большим трудом проходил
цензуру, отпечатанный тираж часто
изымался. В конце концов группа В.
Вольского — Н. Святицкого заявила о
своём роспуске.
79
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
И. Каляев и великий князь Сергей
Александрович. 17 февраля 1905 г.
Современный рисунок.
ТОВАРИЩИ ОБ ИВАНЕ КАЛЯЕВЕ
Эсер Виктор Чернов вспоминал об
Иване Каляеве: «То была
восторженная и непосредственная натура,
натура энтузиаста вдумчивого, с большим
сердцем. Печать чего-то не от мира
сего была на всех его словах и жестах.
В своих глубочайших переживаниях он
давно обрёк себя на жертвенную
гибель и больше думал о том, как он
умрёт, чем о том, как он убьёт».
«Прирождённый поэт, он любил
искусство, — писал другой товарищ
Каляева Борис Савинков. — Подолгу и с
увлечением говорил о литературе.
Имена Брюсова, Бальмонта, Блока, чуждые
тогда революционерам, были для него
родными. Он не мог понять ни
равнодушия к их литературным исканиям, ни
тем менее отрицательного к ним
отношения: для него они были
революционерами в искусстве. Его любовь к
искусству и революции освещалась
одним и тем же огнём — несознательным,
робким, но глубоким и сильным
религиозным чувством. К террору он
пришёл своим, особенным, оригинальным
путём и видел в нём не только
наилучшую форму политической борьбы, но
и моральную, быть может,
религиозную жертву». Егор Сазонов вспоминал
конспиративное свидание с И.
Каляевым в церкви: «В толпе молящихся
нахожу его... Поют херувимскую. Поэт
лежит ничком на земле и молится
жарче, чем его соседка-старушка».
Но впоследствии, по его словам, «пропаганда перестала
удовлетворять: требовалось дело, а не слово».
В 1903 г. за границей И. Каляев встретился с Евгением Азефом
и попросил принять его в Боевую организацию эсеров. Каляев
горячо объяснял, что его не может удовлетворить мирная
революционная работа. Он говорил, что хочет бороться с
самодержавием самыми решительными средствами. Е. Азеф не очень доверял
страстным романтикам и потому, выслушав Каляева, равнодушно
сказал: «Нам не нужны сейчас люди. Может быть, потом...».
Однако через некоторое время Ивана Каляева всё же
приняли в Боевую организацию эсеров. Товарищи дали ему
подпольную кличку Поэт. Такое прозвище вполне отвечало свойствам его
личности, к тому же он действительно сочинял стихи. «Почему
мы называемся революционерами? — спрашивал Каляев. —
Неужели только потому, что боремся с самодержавием? Нет!
Прежде всего мы — рыцари духа...»
80
«Убийство великого князя Сергея Александровича социалистом-революционером
И. Каляевым 17 февраля 1905 г.» («Le Petit Journal». 1905 г.).
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
ЕЛИЗАВЕТА ФЁДОРОВНА
Елизавета Фёдоровна, принцесса Гес-
сен-Дармштадтская, приходилась
родной сестрой императрице Александре
Фёдоровне. В 1884 г. 20-летняя
принцесса стала супругой великого князя
Сергея Александровича. Она была
женщиной искренне и глубоко
верующей, много сил отдавала
благотворительности. Во время войны с Японией
великая княгиня ежедневно посещала
раненых в госпиталях. Кроме того, она
на свои деньги отправила на фронт
несколько санитарных поездов.
В 1905 г. взрыв бомбы, брошенной
Иваном Каляевым, унёс жизнь её мужа.
Террористу был вынесен смертный
приговор, и Елизавета Фёдоровна
обратилась к царю с просьбой о его по-
Великая княгиня Елизавета Фёдоровна.
Террор он считал делом не одной своей партии, а всей
русской революции. Он глубоко верил в индивидуальный террор.
«Разве эсер может работать мирно? — убеждённо говорил Каляев. —
Ведь эсер без бомбы уже не эсер...» Когда Центральный комитет
партии напечатал заявление, осуждающее террор «в свободных
странах», Каляева возмутила эта позиция: «Я не знаю, что бы я
делал, если бы родился французом, англичанином, немцем.
Вероятно, не делал бы бомб, вероятно, я бы вообще не занимался
политикой... Но почему именно мы должны бросить камнем в итальянских
и французских террористов? Я верю в террор больше, чем во все
парламенты в мире».
В числе «метальщиков» Каляев участвовал в убийстве В.
Плеве, хотя ему и не пришлось бросать свою бомбу. Во время
подготовки покушения он предлагал себя для самых отчаянных
проектов. Например, готов был кинуться с бомбой под ноги
лошадям — на верное самоубийство.
После убийства В. Плеве Боевая организация приступила к
подготовке нового покушения. Речь шла о московском генерал-
губернаторе великом князе Сергее Александровиче. Великий
князь Сергей имел репутацию врага каких бы то ни было
перемен и покровителя черносотенцев. Считалось,
что в этом духе он даёт советы своему
племяннику царю Николаю П.
Покушение назначили на 2 февраля 1905 г.,
когда великий князь должен был выехать в
Большой театр. Главным исполнителем
избрали Ивана Каляева. Однако события приняли
совершенно неожиданный оборот. Увидев карету
великого князя, Каляев бросился к ней и поднял
для броска бомбу, но вдруг заметил, что князь
не один... С ним ехали двое детей его брата —
мальчик и девочка, а также его супруга великая
княгиня Елизавета Фёдоровна. Каляев не стал
бросать снаряд и подошёл к товарищам. «Я
думаю, что поступил правильно, — с глубоким
волнением сказал он, — разве можно убить
детей?» Несмотря на то что отсрочка подвергала
террористов новому риску, они одобрили
поступок Каляева.
Два дня спустя, 4 февраля, у Никольских
ворот покушение состоялось. Бомбу в карету
бросил Иван Каляев. Карету и самого князя
разорвало на части. Кучер Андрей Рудинкин получил
тяжёлые ранения, от которых через три дня
скончался. Неприязнь к генерал-губернатору среди
населения была настолько сильна, что никто из
i Ш сбежавшихся людей даже не снял шапку.
Согласно донесению сотрудника полиции, кто-то
заметил: «Молодцы ребята, никого стороннего
даже и не оцарапали, чего зря людей губить». К
\
82
ИВАН
КАЛЯЕВ
месту покушения выбежала жена Сергея Александровича,
великая княгиня Елизавета Фёдоровна. Она кричала равнодушной
толпе: «Как вам не стыдно, что вы здесь смотрите, уходите
отсюда!». Но толпа не двигалась с места, и никто голову так и не
обнажил.
Сам И. Каляев вспоминал о покушении: «Я бросал на
расстоянии четырёх шагов, не более, с разбега, в упор, я был захвачен
вихрем взрыва, видел, как разрывалась карета. Помню, в меня
пахнуло дымом и щепками прямо в лицо, сорвало шапку. Потом
увидел шагах в пяти от себя, ближе к воротам, комья
великокняжеской одежды и обнажённое тело... Я огляделся. С лица
обильно лилась кровь, и я понял, что мне не уйти, хотя было
несколько долгих мгновений, когда никого не было вокруг». Под крики
«Держи!» полицейские схватили И. Каляева и отправили в участок.
«Я был дерзок, издевался над ними, — рассказывал он. — Меня
перевезли в арестный дом. Я заснул крепким сном...»
Иван Каляев не сомневался в своей дальнейшей судьбе: суд,
приговор, казнь. Но до этого ему пришлось пережить ещё одно
неожиданное событие. 7 февраля к нему пришла вдова убитого
им великого князя — Елизавета Фёдоровна. Глубоко верующая
христианка, она решила побудить И. Каляева к раскаянию,
чтобы спасти, как она считала, не только его жизнь, но и душу. И вот
состоялась эта удивительная встреча...
И. Каляева никто не предупредил о предстоящем свидании,
поэтому он с недоумением смотрел, как в его камеру вошла
заплаканная женщина в трауре. «Когда она вошла ко мне, —
вспоминал он, — вся в чёрном, медленной походкой разбитого
горем человека, со слезами на глазах, я не узнал её. „Жена я его", —
прошептала великая княгиня, приблизившись ко мне. Она
беспомощно опустилась на соседний стул и продолжала плакать,
опустив голову на мои руки». Чуть позже И. Каляев написал об
этой встрече стихотворение, в котором были такие строки:
Вдруг женщина в чёрном,
как призрак, вошла.
«Жена я его», — мне сказала.
И за руку крепко, присевши, взяла
И, глядя в лицо мне, рыдала.
И вспомнил я слёзы и эту печаль,
Я мать свою вспомнил родную,
Когда уходил я в безвестную даль,
Склонившись к её поцелую.
После продолжительного молчания И. Каляев сказал:
«Княгиня, не плачьте. Это должно было случиться...».
«Вы, должно быть, много страдали, что решились», —
произнесла Елизавета Фёдоровна. «Что из того, страдал ли я или
нет, — отвечал арестованный. — Да, я страдал, но мои страдания я
слил со страданиями миллионов людей. Слишком много вокруг нас
льётся крови, и у нас нет другого средства протестовать против жес-
токостей правительства...»
миловании. После смерти великого
князя она продала все свои
драгоценности и коллекцию произведений
искусства и израсходовала своё
состояние на создание православной Мар-
фо-Мариинской обители и больницы
на 22 койки. Больница эта вскоре
получила репутацию образцовой. Сама
Елизавета Фёдоровна брала на себя
самые тяжёлые обязанности —
ухаживала за умирающими, помогала во
время операций.
В апреле 1918 г. Елизавета Фёдоровна
в письме подруге так передала свои
чувства от происходящего в стране: «Я
испытывала такую глубокую жалость к
России и к её детям, которые в
настоящее время не знают, что творят. Разве
это не больной ребёнок, которого мы
любим во сто раз больше во время его
болезни, чем когда он весел и здоров?
Хотелось бы понести его страдания,
научить его терпению, помочь ему. Вот
что я чувствую каждый день».
Через несколько дней великую
княгиню арестовали, как и других
Романовых. В ночь на 18 июля 1918 г. вместе
с пятью Романовыми её подвергли
казни в городе Алапаевске под
Екатеринбургом. При этом только одного из
восьмерых казнённых, великого князя
Сергея Михайловича, застрелили за
попытку сопротивления. Остальных
живыми сбросили в старую шахту. Перед
казнью Елизавета Фёдоровна
молилась, повторяя: «Господи, прости им,
ибо не ведают, что творят».
Елизавета Фёдоровна упала на
глубину 10—15 м и после падения осталась
жива. Рядом с ней оказался князь Иван
Константинович. Хотя великая
княгиня и получила многочисленные
переломы и сильные ушибы головы, она
оказала ему посильную помощь —
перевязала рану. Рассказывали, что
местные крестьяне ешё двое-трое суток
слышали раздающиеся из-под земли
молитвы и стоны...
Тела казнённых обнаружили
пришедшие в город белогвардейцы, которые
и похоронили их. Могила великой
княгини Елизаветы Фёдоровны
находится в Иерусалиме в православной
церкви Марии Магдалины.
83
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
ИВАН
КАЛЯЕВ
«Но почему со мной
разговаривают только после того,
как я совершил убийство, —
внезапно с болью в голосе
воскликнул Иван Каляев. —
Знаете, великая княгиня, когда-то
ещё мальчиком я часто думал о
том, что так много слёз на
свете, что столько неправды
творится вокруг, и мне иногда
казалось, что вот стоит пойти
выплакать свои слёзы за всех,
и зло будет уничтожено... Ведь
если бы я пришёл к великому
князю и указал ему на все его
действия, вредные народу, ведь
меня посадили бы в
сумасшедший дом или в тюрьму...
Почему народу не дают говорить?»
«Да, очень жалко, что Вы к
нам не пришли и что мы не
знали Вас раньше», — с
искренним сожалением сказала
Елизавета Фёдоровна.
«Но ведь Вы знаете, что
сделали с рабочими 9 января,
когда они шли к царю?..»
«Разве Вы думаете, что и
мы не страдаем? Разве Вы
думаете, что и мы не желаем
добра народу?»
«Да, — жёстко произнёс
Иван Каляев, — теперь Вы
страдаете...»
Наступило молчание. «Мы смотрели друг на друга, —
вспоминал Каляев, — не скрою, с некоторым мистическим чувством,
как двое смертных, которые остались в живых.
«Моя совесть чиста, — повторил я, — мне очень больно, что
я причинил Вам горе, но я действовал сознательно, и, если бы у
меня была тысяча жизней, я отдал бы всю тысячу, не только
одну». Великая княгиня протянула ему небольшую икону:
«Прошу Вас, возьмите от меня на память иконку. Я буду молиться за
Вас». И Каляев взял иконку... Он добавил, что тоже молился за неё,
за то, чтобы она осталась в живых при покушении.
«Прощайте, — сказал он. — Повторяю, мне очень больно, что
я причинил Вам горе, но я исполнил свой долг, и я его исполню
до конца и вынесу всё, что мне предстоит. Прощайте...» Вскоре
после этого разговора в печати появился ряд статей, согласно
которым И. Каляев называл себя верующим и выражал раскаяние
4 И. Каляев и великая княгиня Елизавета Фёлоровна. Современный рисунок.
И. Каляев перед казнью отказывается целовать крест. Современный рисунок.
ИВАН КАЛЯЕВ НА СУДЕ
На суде 5 апреля 1905 г. И. Каляев
говорил: «Я не подсудимый перед вами, я —
ваш пленник. Мы — две воююшие
стороны. Нас разделяют горы трупов и
целое море крови и слёз, разлившейся по
всей стране... Вы готовы признать, что
существуют две нравственности. Одна
для обыкновенных смертных, которая
гласит: „Не убий", а другая
нравственность для правителей, которая им всё
разрешает... И вот боевая организация
партии социалистов-революционеров
должна была безответственного перед
законом великого князя сделать
ответственным перед народом». Суд вынес
И. Каляеву смертный приговор. После
этого он сказал судьям: «Я счастлив
вашим приговором...».
85
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
АЛЕКСАНДР ФИЛИПЬЕВ
Исполнителем приговоров как Ивану
Каляеву, так и многим другим
осуждённым стал Александр Филипьев.
Судьба этого человека довольно необычна.
Он сам был приговорён к смертной
казни за убийство нескольких человек
(по рассказам, семерых).
Однако власти предложили даровать
ему помилование при условии, что он
возьмёт на себя обязанности палача.
А. Филипьев согласился... Так в
Российской империи появился
«заключённый-палач». Под конвоем его
перевозили из тюрьмы в тюрьму, и он казнил
осуждённых в разных уголках России.
А. Филипьев в тюрьме пользовался
довольно необычной привилегией — ему
разрешали пить водку, что, видимо,
должно было придавать твёрдость
перед исполнением приговоров.
Свидетель казни И. Каляева, подписавшийся
псевдонимом NN, в журнале «Былое»
так описывал А. Филипьева: «Это был
рослый детина, брюнет, с грубыми,
крупными чертами лица, казак по
происхождению».
Во время казней он надевал особую
«форму», подобающую его должности:
ярко-красную кумачёвую рубаху,
такого же цвета шаровары и алый колпак
на голову; подпоясывался верёвкой,
заткнув за неё нагайку.
А. Филипьеву довелось повесить
немало политических и уголовных
осуждённых. В частности, весной 1902 г. он
повесил эсера-террориста Степана Бал-
машева. За каждую казнь А.
Филипьеву выдавали денежную премию и,
главное, — сокращали срок каторги. В
августе 1905 г. он вышел на свободу и
продолжил свою прежнюю службу уже
«вольным».
в своём поступке. Вероятно, так Елизавета Фёдоровна поняла его
жест, когда он взял икону и сказал: «Прощайте».
Для самого Каляева это было тяжёлым ударом, потому что
подобное «раскаяние» выставляло его предателем и малодушным
человеком в глазах товарищей. Больше всего он боялся, что теперь
его помилуют. 24 марта он написал резкое письмо великой
княгине: «Вы пришли ко мне со своим горем и слезами, и я не оттолкнул
Вас от себя, непрошеную гостью из вражьего стана. Всё то, что
произошло между нами обоими, не подлежало опубликованию, как
нам одним принадлежащее... Я вполне сознаю свою ошибку: мне
следовало отнестись к Вам безучастно и не вступать в разговор. Но
я поступил с Вами мягче, на время свидания затаив ту ненависть, с
какой, естественно, я отношусь к Вам...». Правда, чуть позже
возмущение И. Каляева утихло, и он уже сожалел о своей резкости.
5 апреля суд приговорил И. Каляева к смертной казни через
повешение. Своим товарищам он писал уже после вынесения
приговора: «Помилование я считал бы позором... Я считаю свою
смерть последним протестом против мира крови и слёз...».
В ночь на 10 (23) мая 1905 г. во дворе Шлиссельбургской
крепости состоялась казнь. За несколько часов до этого в камеру И.
Каляева заходил священник Осуждённый заявил, что верует в Бога,
но обрядов не признаёт. Однако он расцеловал священника,
сказав, что чувствует в нём «доброго человека». Уже у виселицы
священник снова подошёл к осужденному. Каляев отказался целовать
крест... Спустя несколько минут приговор привели в исполнение.
Здесь же, в Шлиссельбурге, казнённого предали земле.
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ
ЗАРОЖДЕНИЕ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ
В России в 90-е гг. XIX в. среди интеллигенции быстро стали
распространяться идеи марксизма. Былая народническая вера в
крестьянство, в сельскую общину оказалась почти забыта. Теперь
революционеры с надеждой смотрели на рабочих,
«пролетариев», которых называли «самым передовым классом общества».
Именно среди рабочих они прежде всего искали поддержки. Во
многих городах возникли кружки и группы марксистской
интеллигенции. Очевидно, следующим шагом должно было стать их
объединение.
1 марта 1898 г. в Минске на квартире одного
рабочего-железнодорожника тайно собрался съезд социал-демократов. В
этом небольшом провинциальном городе революционеры
надеялись избежать слишком пристальной полицейской слежки. В
86
СОиИАЛ-
ДЕМОКРАТЫ
съезде, который продлился три дня, участвовали девять
представителей марксистских кружков и групп из разных частей России.
Его участники назвали основанную ими организацию
Российской социал-демократической рабочей партией (РСДРП). Они
избрали Центральный Комитет (ЦК) партии из трёх человек и
утвердили манифест РСДРП, написанный Петром Струве. В то
время этот будущий видный либеральный деятель
придерживался марксистских взглядов...
Однако полиция вскоре свела на нет почти все результаты
съезда, арестовав большинство его участников и «обезглавив» тем
самым новорождённую партию.
Следующий шаг к объединению русских марксистов был
сделан в 1900 г. 11 декабря в Лейпциге вышел первый номер
социал-демократической газеты «Искра». Эпиграфом газеты стала
знаменитая строка из стихотворного ответа декабристов А.
Пушкину: «Из искры возгорится пламя!». Редакция «Искры»
объединила два поколения русских социал-демократов: «старых
марксистов» (Георгий Плеханов, Павел Аксельрод, Вера Засулич) и
молодое поколение (Владимир Ленин, Юлий Мартов, Александр
Потресов). Печатали газету за границей, а в Россию её тайно
перевозили специальные курьеры. Здесь «Искру» распространяли
подпольно. Редакция газеты надеялась, что на этой основе в
России возникнет сеть нелегальных партийных комитетов.
Среди социал-демократов шли жаркие споры о том, на
какие общественные силы должна опираться их партия. Конечно,
марксисты хотели, чтобы их поддерживали рабочие. Но слово
«рабочая» в названии партии вызвало немалые споры ещё на
I съезде: ведь входила в партию пока почти исключительно
интеллигенция. В. Засулич позднее назвала РСДРП «организацией
интеллигентов для пропаганды среди рабочих».
В марте 1902 г. В. Ленин в брошюре «Что делать?» выдвинул
новую, непривычную по тем временам идею. Он доказывал, что
костяк партии должны составить «профессиональные
революционеры». Взяв на себя роль своеобразных «доверенных лиц»
рабочего класса, они смогли бы привести его к победе. «Дайте нам
организацию революционеров — и мы перевернём Россию!» —
восклицал В. Ленин. «Надо подготовлять людей, — писал он, —
посвящающих революции не одни только свободные вечера, а
всю жизнь... Перед нами стоит во всей своей силе
неприятельская крепость, из которой осыпают нас тучи ядер и пуль,
уносящие лучших борцов. Мы должны взять эту крепость, и мы
возьмём её, если все силы пробуждающегося пролетариата соединим
со всеми силами русских революционеров в одну партию, к
которой потянется всё, что есть в России живого и честного».
II СЪЕЗД РСДРП
17 июля 1903 г. открылся II съезд РСДРП, на котором произошло
«второе рождение» партии. Свои заседания 57 делегатов начали
в Брюсселе, а закончили в Лондоне 10 августа. Они утвердили
РОМАН МАЛИНОВСКИЙ
Самым знаменитым из сотрудников
полиции в рядах большевиков (таких
полицейских агентов революционеры
называли не иначе как провокаторами),
безусловно, являлся Роман Ваилавович
Малиновский. Рабочий-металлист по
профессии, социал-демократ по
убеждениям, он славился незаурядным
красноречием и производил впечатление
человека, который «не подведёт». Эти
качества помогли ему в 1907 г.
выдвинуться в ряды рабочих вожаков.
В мае 1910 г. Р. Малиновский был
арестован полицией за революционную
деятельность. На допросе он выразил
желание «переговорить откровенно» с
высшими жандармскими чинами.
После этих бесед его зачислили в штат
Московского охранного отделения
секретным сотрудником полиции. Через
десять дней после ареста Р.
Малиновского освободили. В
последующие три года он направил своему
полицейскому руководству около 90
подробных докладов. По его сообщениям
арестовали десятки
социал-демократов, в том числе Иосифа Сталина,
сестру В. Ленина Марию Ульянову.
Жалованье Малиновского постепенно
достигло губернаторского (500 рублей
в месяц), а затем дошло до 700 рублей.
В это время, по словам Р.
Малиновского, «после самых серьёзных
размышлений и наблюдений» он перешёл с
позиций меньшевика-«легалиста» на
позиции крайнего большевика, близко
познакомился с В. Лениным. В январе
1912 г., когда Роман Ваилавович
прибыл на Пражскую конференцию
большевиков, Владимир Ильич радостно
воскликнул: «Вот это то, чего нам
недостаёт на конференции!». Тогда же Р.
Малиновского избрали членом UK и
наметили кандидатом в депутаты IV Думы.
Однако на выборах возникли
неожиданные препятствия. Мастер завода,
где трудился Р. Малиновский, Моисей
Кривое решил уволить его с работы
(перед этим они поссорились). Это
обстоятельство лишило бы кандидата
права избираться от рабочей курии.
Полиции, помогавшей Малиновскому
добиться избрания, пришлось пойти на
крайние меры. На время выборов
М. Кривое был... арестован.
87
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
Другим препятствием оказались
факты из биографии самого кандидата.
Выяснилось, что в молодости его
трижды судили за кражи, причём последний
раз за кражу со взломом. Подобная
судимость лишала Р. Малиновского
законного права избираться. Дело
стало известно самому директору
Департамента полиции Степану Белецкому.
Он наложил резолюцию на рапорте
своих подчинённых: «Доложено
министру внутренних дел... Предоставить
дело избрания его естественному
ходу». Рабочие на выборах
проголосовали за кандидата-большевика. Так Р.
Малиновский стал членом
законодательной палаты.
Здесь он неоднократно выступал с
крайне революционными речами.
Многие из них редактировались дважды:
сначала В. Лениным, затем — вице-
директором Департамента полиции
С. Виссарионовым. Депутатская
неприкосновенность Р. Малиновского очень
помогала полиции проводить аресты
среди его окружения: никто не
удивлялся, почему самого Романа Ваилаво-
вича власти не трогают. Он поставлял
в полицию немало ценнейшей
информации. С. Белецкий позднее замечал о
социал-демократах этих лет: «Я знал,
чем они дышат...».
Полицейская служба Р. Малиновского
завершилась совершенно неожиданно.
Товарищем (заместителем) министра
внутренних дел был назначен Владимир
Джунковский. Он был известен тем, что
в октябре 1905 г. вместе с
революционерами под красным флагом ходил от
тюрьмы к тюрьме и освобождал
политзаключённых (выполняя, разумеется,
решение властей). Знакомясь со
списком секретных сотрудников, В.
Джунковский был потрясён тем, что один из
них заседает в Государственной думе.
Он счёл, что это оскорбляет
законодательное учреждение. В апреле 1914 г.
В. Джунковский позвонил
председателю Думы Михаилу Родзянко и сообшил
ему эту необычную новость.
Р. Малиновского сразу же отчислили с
полицейской службы. Одновременно
его вызвал председатель Думы и
предложил немедленно подать в отставку...
Роману Ваилавовичу пришлось
сложить с себя депутатские полномочия.
программу РСДРП, которую вплоть до 1917 г. признавали все
основные течения русских социал-демократов. Партия называлась
в ней «отрядом всемирной армии пролетариата». Программа
включала общие революционные требования: свержение
самодержавия, провозглашение демократической республики и т. д.
Важное место в ней отводилось улучшению положения рабочих.
Этим социал-демократы рассчитывали завоевать их сочувствие
и поддержку. Своими долговременными задачами
социал-демократы считали социальную революцию и диктатуру
пролетариата (власть рабочего класса). Во время обсуждения программы
возникали разногласия по вопросу о том, как соотносятся
между собой демократия и диктатура пролетариата.
«Успех революции — высший закон, — заметал Георгий
Плеханов. — И если бы ради успеха революции потребовалось
временно ограничить действие того или иного демократического
принципа, то перед таким ограничением преступно было бы
остановиться. Если бы в порыве революционного энтузиазма народ
выбрал очень хороший парламент... то нам следовало бы сделать
его долгим парламентом. А если бы выборы оказались
неудачными, то нам нужно было бы стараться разогнать его не через
два года, а если можно, то через две недели». Слова Г. Плеханова
вызвали бурную реакцию в зале; часть делегатов аплодировала,
другие, напротив, возмущённо шикали, а один встал и сказал: «Раз
такие речи вызывают рукоплескания, то я обязан шикать!».
Но настоящий раскол произошёл не по вопросу о
программе, а при обсуждении устава партии. Ю. Мартов предложил
вариант, по которому в партии мог состоять любой человек,
оказывающий ей «регулярное личное содействие». В. Ленин считал,
что этого недостаточно. Необходимо не только содействие, но
и «личное участие в одной из партийных организаций».
Таким образом, решался коренной вопрос — о социальной
опоре партии. Будет ли она включать широкий круг
сочувствующей интеллигенции или ограничится небольшим слоем
избранных — в основном профессиональных революционеров? В
конце концов победила точка зрения Ю. Мартова. За его
формулировку было подано 28 голосов, против — 22, при одном
воздержавшемся.
При разногласиях по этому вопросу и выявились два
основных течения в партии. Первое, во главе с Г. Плехановым и В.
Лениным, получило при выборах на съезде большинство в ЦК и
редакции «Искры». Поэтому его последователей стали называть
«большевиками». Позднее В. Ленин писал: «Большевизм
существует, как течение политической мысли и как политическая
партия, с 1903 года». Сторонников Ю. Мартова соответственно
окрестили «меньшевиками». Название «меньшевики» выглядело
несколько унизительным для его носителей, хотя потом они с ним
и свыклись. А в народе значение слов «большевики» и
«меньшевики» толковали по-своему. Как вспоминала старая
большевичка Е. Драбкина, уже в 1903 г. она слышала от простых людей
такое объяснение: «Большевики — это те, кто хочет для народа
88
СОЦИАЛ-
ДЕМОКРАТЫ
больше. А меньшевикам так много не нужно, с них хватит и
поменьше».
Дискуссии на съезде проходили очень напряжённо и
остро. В. Ленин вспоминал, что один из делегатов пожаловался ему:
«Какая тяжёлая атмосфера царит у нас на съезде! Эта
ожесточённая борьба, эта резкая полемика, это нетоварищеское
отношение!..». «Какая прекрасная вещь — наш съезд! — возразил
Владимир Ильич. — Открытая, свободная борьба. Мнения высказаны.
Оттенки обрисовались. Группы наметились. Руки подняты.
Решение принято. Этап пройден. Вперёд! — вот это я понимаю. Это —
жизнь!»
Большевики недолго оставались в большинстве после
И съезда партии. Уже в конце 1903 г. Георгий Плеханов начал
постепенно склоняться на сторону меньшевиков. Они взяли в свои
руки редакцию «Искры», а затем и Центральный Комитет. Ю.
Мартов назвал это «восстанием против ленинизма».
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ ДО 19 И ГОДА
Социал-демократы, конечно, оказались в рядах наиболее
деятельных участников революции 1905—1907 гг. В частности, и
большевики, и меньшевики участвовали в Московском восстании в
декабре 1905 г. (см. ст. «Революция 1905—1907 годов»). Однако
позднее они несколько разошлись в оценках, данных ими
восстанию.
«Декабрьское восстание было только продуктом
отчаяния», — говорил Г. Плеханов. Он так разъяснял свою позицию:
«Несвоевременно начатая политическая забастовка привела к
вооружённому восстанию... Наш пролетариат показал себя
сильным, смелым и самоотверженным. И всё-таки его сила оказалась
недостаточной для победы. Это обстоятельство нетрудно было
предвидеть. А потому не нужно было и браться за оружие». На эти
слова Г. Плеханова резко возражал В. Ленин: «Напротив, нужно
было более решительно, энергично и наступательно браться за
оружие, нужно было разъяснить массам невозможность одной
только мирной стачки и необходимость бесстрашной и
беспощадной вооружённой борьбы».
За годы революции состоялись три съезда
социал-демократической партии: в 1905 г. — в Лондоне, год спустя — в
Стокгольме и в 1907 г. — вновь в Лондоне. На последнем из них делегаты
представляли 150 тыс. членов партии. В последующие годы,
после окончательного поражения революции, численность партии
стала резко сокращаться. Не созывались больше и партийные
съезды — вплоть до Февральской революции 1917 г.
В выборах в I Государственную думу члены
социал-демократической партии почти не участвовали. Только грузинские
социал-демократы провели в Думу около 20 депутатов. За места во
II Думе, напротив, сражались и все российские
социал-демократы. Они получили 55 мест и создали фракцию во главе с
меньшевиком Ираклием Церетели. Правда, вскоре Дума была
Он сразу же уехал за границу, к В.
Ленину, чтобы объяснить ему причину
своей вынужденной отставки. При
этом он ссылался на упадок душевных
сил и нервное истощение. У
руководителей большевиков эти объяснения
вызвали полное доверие и сочувствие.
Однако меньшевики Ф. Дан и Ю.
Мартов обвинили Р. Малиновского в
тайной работе на полицию. UK
большевиков счёл их обвинения недоказанными.
В июне того же 1914 г. В. Ленин
говорил: «Наш UK заявил, что он ручается
за Малиновского, расследовал слухи и
ручается за бесчестное клеветничест-
во Лана и Мартова». В зашиту
Малиновского выступил и известный
«охотник за провокаторами» историк
Владимир Бурцев. «Зная лично
Малиновского, — писал он, — не могу
допустить даже возможности, чтобы
такие обвинения Малиновского имели
какие-либо основания». Позднее в
своих воспоминаниях В. Бурцев обошёл
этот эпизод молчанием.
Вскоре после начала Первой мировой
войны Р. Малиновский, находившийся
в то время на фронте, попал в
немецкий плен. Он продолжал
переписываться с Лениным, вёл среди русских
пленных большевистскую агитацию. Его
слушатели присылали В. Ленину
восторженные отзывы о Романе Ваилавовиче.
Однако после Февральской революции
работа Р. Малиновского на полицию
стала окончательно доказанным
фактом. В. Ленин так оценил его
деятельность: «Одной рукой отправляя на
каторгу и на смерть десятки и десятки
лучших деятелей большевизма,
Малиновский должен был другой рукой
помогать воспитанию десятков и
десятков тысяч новых большевиков через
легальную прессу».
Могло показаться, что дальнейшая
судьба Р. Малиновского окажется
столь же скромной и малозаметной,
как, например, судьба Е. Азефа в
последние годы жизни. Но вышло иначе.
Он добился освобождения из
германского плена и вернулся на родину. В
ноябре 1918 г., в разгар
«красноготеррора», Верховный трибунал судил
бывших тайных сотрудников полиции.
Совершенно неожиданно в зал суда во-
89
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
шёл Р. Малиновский и спокойно сел на
скамью подсудимых.
Г. Зиновьев замечал по поводу этого
поступка Р. Малиновского: «В чём
угодно можно обвинить Малиновского, но
дураком он не был. Он не мог не
понимать, что Советская власть его
расстреляет. Спрятаться в Германии или ешё
где-либо ему ничего не стоило...».
18 ноября Р. Малиновского судил
Верховный трибунал. Обвинитель Николай
Крыленко заявил в своей речи:
«Гвоздем процесса является только один
вопрос: зачем, зная свои преступления,
зная оценку их — ту единственно
возможную оценку, которую он встретит
в революционной России,
переживающей весь ужас гражданской войны, —
зачем, в силу каких психологических
оснований, на что рассчитывая,
добровольно явился сюда и сам отдался в
руки революционных властей
провокатор Роман Малиновский?». Н.
Крыленко объяснил его действия «самым
бесшабашным и самым беспринципным
авантюризмом». Р. Малиновский был
приговорён трибуналом к расстрелу. В
течение 24 часов приговор привели в
исполнение...
Ю. Виноградов. «II съезд РСДРП».
распущена, многих членов социал-демократической фракции
арестовали, осудили и отправили в тюрьмы и на каторгу. Их
обвиняли в работе по разложению армии и в подготовке военного
заговора. Среди осуждённых на пять лет каторги и вечную
ссылку был и И. Церетели.
По новому избирательному закону в III Думу смогли попасть
лишь 14 социал-демократов. В IV Думе единая прежде фракция
разделилась на две — большевиков (6 человек) и меньшевиков
(7 человек). Вообще работа социал-демократов в те годы
удивительным образом сочетала совершенно открытую и подпольную
деятельность. Партия в целом оказалась загнана в подполье,
многие её члены находились в тюрьмах и ссылках. Но при этом
легально действовала думская партийная фракция. Выходили
социал-демократические издания. Большевики, например, с 22
апреля 1912 г. выпускали ежедневную газету «Правда», а также
журналы «Работница» и «Вопросы страхования».
Среди меньшевиков после роспуска II Думы возникло
течение «легалистов» (Павел Аксельрод, Фёдор Дан, Юлий Мартов и
др.). Они стремились всемерно расширить легальную
деятельность партии, «вывести её из подполья». Легалисты считали, что
в подполье сейчас делать нечего, а вне его — масса полезной
работы. Оппоненты прозвали их «ликвидаторами» за намерение
«ликвидировать подполье». В то же время в рядах большевиков
появилось противоположное течение «отзовистов» во главе с
Александром Богдановым. Они считали невозможным
присутствие революционеров в «столыпинской» Думе и требовали
отозвать депутатов-большевиков. В. Ленин и его сторонники вели
-*.
т
л
•
Ф-.
ч
•
•>
.
л!
I НИ'
щщ
Л-
ц
т&
Ф
с
i
Ч^У?ЕЯ
пи
£
*
Yj?
11Ч1УВ1
Ы> ^ л
4 М»Г
№ Щ^
~..
90
СОЦИАЛ-
ДЕМОКРАТЫ
борьбу «на два фронта»: одновременно против отзовистов и
ликвидаторов.
Некоторые социал-демократы в те же годы неожиданно
увлеклись весьма необычными в революционной среде идеями
«богостроительства» и «богоискательства». Так, Анатолий
Луначарский стал рассматривать социализм как своеобразную форму
религии, искал формы нового религиозного культа. Г. Плеханов
за это с издёвкой называл его Блаженным Анатолием.
В целом после окончания первой русской революции и
победы правительства над революционным движением для
социал-демократов наступили очень трудные времена. Они
переживали острые внутренние разногласия; в партии происходило
брожение. Директор Департамента полиции С. Белецкий
позднее признавался: «Вся задача моего руководства заключалась в
том, чтобы не дать возможности партии соединиться».
В январе 1912 г. большевики попытались найти
собственный выход из тяжёлого положения. В Праге они провели
партийную конференцию, на которой избрали новый, чисто
большевистский ЦК (прежний уже два года не собирался). Из России
в Прагу прибыло 13 делегатов. Конференция также объявила, что
ликвидаторы «стоят вне партии», т. е. исключаются из неё.
Позднее Пражская конференция получила очень высокую оценку в
официальной советской исторической литературе. В учебнике
«История КПСС», изданном в 70-е гг., о ней говорилось:
«Подобно могучему дубу, который становится крепче, когда вовремя
срезают его засохшие ветви, партия рабочего класса стала
крепче и сильнее в результате исключения меньшевиков».
ОБОРОНЦЫ И ПОРАЖЕНЦЫ
Начавшаяся Первая мировая война немедленно разделила всех
социалистов на два течения — «оборонцев» (сторонников
войны) и «интернационалистов» (противников войны). Последних
часто называли также «пораженцами».
Среди русских социал-демократов позицию «обороны
отечества» сразу же занял Г. Плеханов. Он заявил, что, когда речь
заходит о защите страны от внешнего нападения, борьба классов
сменяется их сотрудничеством. В 1916 г. Георгий Плеханов,
Александр Потресов и другие меньшевики-оборонцы подготовили и
выпустили сборник «Самозащита», где отстаивали эти идеи.
На противоположном — крайне пораженческом — фланге
оказались большевики. Правда, и среди них нашлись отдельные
оборонцы. Но они не составили какого-то особого течения и
вскоре покинули ряды большевиков.
Большевики выдвинули лозунг: «Мир хижинам, война
дворцам!». Они считали, что путь к миру пролегает через гражданскую
войну против угнетателей, развязавших всемирное
кровопролитие. «Больше, чем когда бы то ни было, — говорилось в
заявлениях большевиков в феврале 1915 г., — верны теперь слова
„Коммунистического Манифеста", что „рабочие не имеют отечества".
Ю. Мартов.
ПОСТУПЛЕНИЯ
В ПАРТИЙНУЮ КАССУ
Социал-демократы часто пополняли
свою кассу довольно необычными
способами. Как и эсеры, они порой
проводили экспроприации, т. е.
ограбления с революционной целью. (Их
участниками и организаторами были, как
правило, большевики.) Правда, IV и
V съезды партии в своих резолюциях
запретили устраивать такие
«партизанские выступления».
Поэтому порой боевикам
социал-демократической партии приходилось идти
на всевозможные хитрости. Например,
выходить на время экспроприации из
партии, а затем снова вступать в неё.
Или получать от своих товарищей
символический выговор за удачно
проведённое дело.
В июне 1907 г. состоялась самая
крупная экспроприация, проведённая
большевиками, — ограбление Тифлисского
банка. В этой впечатляющей
экспроприации участвовала группа боевиков
во главе с Камо (Симоном
Тер-Петросяном). 26 июня они устроили налёт на
два экипажа с деньгами на Эриванской
плошади в Тифлисе. За считанные ми-
91
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
нуты революционерам удалось
захватить более 300 тыс. рублей, несколько
охранников были убиты в столкновении.
Ешё одним довольно необычным
источником поступлений в
социал-демократическую кассу были пожертвования...
русских миллионеров. Наиболее
известен среди них «текстильный король»
Савва Морозов. Через писателя
Максима Горького он передавал
большевикам крупные денежные суммы.
Что заставляло С. Морозова и других
крупных промышленников помогать
революционерам? По своим
убеждениям С. Морозов был не социалистом, а
скорее либералом. Его действия часто
объясняли желанием «застраховать»
себя и своё имущество на случай
различных неожиданных переворотов и
революций. Возможно, Савва Морозов
рассчитывал, что революционеры
проявят мягкость к людям, так долго им
помогавшим. «Я достаточно богат, —
говорил он сам, — чтобы разрешить
себе роскошь финансовой поддержки
своих врагов».
13 мая 1905 г. С. Морозов покончил
жизнь самоубийством — застрелился
в номере «Ройяль-отеля» в Каннах. По
его завещанию немалая сумма денег—
около 100 тыс. рублей — перешла к
большевикам. Часть наследства они
получили, выиграв судебное дело...
Любопытно отметить, что условия
труда на предприятиях С. Морозова в те
годы были нисколько не легче, чем на
других подобных фабриках. Нередко
рабочие Морозова трудились по 12
часов в день. Маршал Г. Жуков
вспоминал разговор, услышанный им в
поезде: «Когда проезжали мимо станции
Наро-Фоминск, какой-то человек
сказал своему соседу: „До пятого года я
здесь часто бывал... Вот видишь
красные кирпичные корпуса? Это и есть
фабрика Саввы Морозова". „ Говорят,
он демократ", — сказал второй.
„Буржуазный демократ, но, говорят,
неплохо относится к рабочим. Зато его
администрация — псы лютые". „Одна
шайка-лейка!" — зло сказал сосед».
После Октябрьского переворота
большевики конфисковали имущество всех
крупных капиталистов, в том числе и
наследников С. Морозова. А некоторые
из них оказались в тюрьмах...
И. Серебряный. «На V (Лондонском) съезде РСДРП в 1907 году». 1947 г.
Превращение современной империалистической войны в
гражданскую есть единственно правильный пролетарский лозунг...
Поражение правительственной армии ослабляет данное
правительство и облегчает гражданскую войну против правящих
классов. В применении к России это положение особенно верно. В
силу этого поражение России при всех условиях представляется
наименьшим злом».
В июле 19Нг. власти закрыли газету «Правда», а затем и все
другие большевистские издания. 6 ноября были арестованы пять
думских депутатов-большевиков. Спустя несколько месяцев их
судили за пораженчество и приговорили к вечной ссылке в
Сибирь. Подсудимых защищал с немалым красноречием адвокат
Александр Керенский, но добиться оправдательного приговора
ему не удалось.
Меньшевики в это время размежевались на несколько
течений — от крайних оборонцев (Г. Плеханов) до непримиримых к
войне пораженцев (Ю. Мартов). (Впрочем, Ю. Мартов в отличие
от большевиков выступал также и против гражданской войны.)
Некоторым из меньшевиков за пораженчество также пришлось
пройти через аресты и ссылки (например, руководителю думской
92
СОиИАЛ-
ДЕМОКРАТЫ
фракции меньшевиков Ф. Дану). Однако меньшевики всё же
сохранили легальную фракцию в Думе, которую возглавил
Николай Чхеидзе.
В сентябре 1915 г. в швейцарской деревне Циммервальд
социалисты из 11 стран подписали манифест, призывавший к
прекращению войны. Лозунга превратить мировую войну в
гражданскую в нём не было. От социал-демократов России подписи
под ним поставили меньшевик П. Аксельрод и большевик В.
Ленин. Заканчивался манифест словами: «К вам, рабочие и
работницы, к вам, матери и отцы, вдовы и сироты, к вам, раненые и
искалеченные, к вам всем, жертвам войны, взываем мы:
протяните друг другу руки через все пограничные линии, через поля
сражений, через руины городов и сёл. Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!».
ПОСЛЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
В первые недели после Февральской революции 1917 г. могло
показаться, что между большевиками и меньшевиками возникло
неожиданное единство. И те и другие «условно поддерживали»
Временное правительство, считали, что солдатам на фронте нельзя
бросать оружие. Но так продолжалось недолго. Возвращение В.
Ленина в Россию и его Апрельские тезисы положили конец этому
недолгому единогласию. Н. Чхеидзе заметил тогда: «Вне
революции останется один Ленин, мы же пойдём своим путём».
С этого момента большевики окончательно превратились
в особую, отдельную от меньшевиков партию (см. ст. «Партия
большевиков в 1917—1921 годах»). Что касается остальных
социал-демократов, то среди них по-прежнему существовало
несколько течений. Крайне правый фланг заняли Г. Плеханов и его
группа «Единство». В ночь на 1 апреля Георгий Валентинович
вернулся на родину после 37-летней эмиграции. В 1917 г. в
одном из выступлений Г. Плеханов категорично заявил: «Русская
история ещё не смолола той муки, из которой будет со
временем испечён пшеничный пирог социализма». Поэтому он
считал, что необходимо полностью поддержать «буржуазное
Временное правительство».
Эту точку зрения, хотя и со многими оговорками,
разделяли почти все вожди меньшевиков. Ираклий Церетели говорил о
Временном правительстве в конце апреля: «Мы говорим народу:
вот буржуи... Но мы добавляем: это представители той буржуазии,
которые условились отстаивать русскую свободу». В начале мая,
чтобы укрепить шаткую власть Временного правительства,
меньшевики согласились войти в него. И. Церетели получил портфель
министра почт и телеграфов, а другого меньшевика — Матвея
Скобелева — назначили министром труда. Потом в
правительство вошли и другие социал-демократы. Меньшевик Михаил Либер
так объяснял мотивы этого решения: «Наша совесть и
ответственность перед страной не позволили нам взять власть. Мы
никогда не были демагогами, мы знали, что всякое обещание долж-
ВОКРУГ АРЕСТА ЛЕНИНА
После Февральской революции 1917 г.
разногласия среди российских социал-
демократов резко обострились. Дело
даже доходило до того, что порой одни
социал-демократы требовали ареста
других.
Георгий Плеханов, например, говорил:
«Арестовать Ленина после июльских
дней, конечно, было необходимо.
Ленин, вместо того чтобы добиваться
своих, на мой взгляд, бредовых идей
только словом, хотел их проводить,
опираясь на вооружённые банды. Очень
жалею, что наше мягкотелое
правительство не сумело арестовать Ленина.
Савинков мне сказал, что ловить Ленина
не его дело, но если бы он этим
занялся, то уж на третий день Ленин был бы
уже отыскан и арестован».
Однако в июле многие видные
меньшевики отнеслись к приказу об аресте
В. Ленина с тревогой и сомнениями.
Николай Чхеидзе признался: «Я
отношусь так: если сегодня арестовали
Ленина, то завтра будут арестовывать
меня». «История будет считать нас
преступниками!»—воскликнул по
этому поводу другой руководитель
меньшевиков Михаил Либер. Ираклий Lie-
ретели называл обвинение в
шпионаже «грязной клеветой на Ленина» и
добавлял, что этому, «конечно, никто не
может поверить».
19 октября появился ешё один приказ
об аресте В. Ленина, подписанный
министром юстиции меньшевиком
Павлом Малянтовичем. Однако и этот
приказ исполнить не удалось...
После Октябрьского переворота 1917 г.
роли поменялись: теперь аресты
среди своих бывших товаришей — социал-
демократов — проводили уже
большевики. Эти аресты, так же как и
расстрелы, не прекращались всю гражданскую
войну. Происходили они и позднее, в
мирные годы. Так, в 1937 г. был
арестован П. Малянтович (казнён в январе
1940 г.). Тогда же, в 1937 г.,
арестовали и расстреляли М. Либера.
93
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
но быть исполнено. И когда мы убедились, что в буржуазной
стране нельзя создать социалистической власти, мы решили дать
народу хоть немного того, к чему он стремился».
Против вхождения в правительство резко выступил Ю.
Мартов, который считал этот шаг «непоправимой глупостью».
Вместе с Рафаилом Абрамовичем он возглавлял левое течение в
партии — меньшевиков-интернационалистов. «Примирение с
буржуазией возможно только в одном виде, — говорил в августе
Р. Абрамович, — мы подчиняемся ей, если считаем, что у неё
ключи к спасению. Я допускаю такую точку зрения, но не
представляю себе пролетариата, который пойдёт за ней».
Между тем в первые месяцы после революции численность
меньшевиков стремительно росла. Она увеличилась примерно в
10—15 раз и к осени достигла 200 тыс. человек. Николай
Чхеидзе возглавлял самый важный в стране столичный Совет. На I
съезде рабочих и солдатских Советов в июне меньшевики получили
248 мест из 1090 (большевики — только 105 мест). Вместе с
эсерами на этом съезде они голосовали за «коалицию с
буржуазией». Фёдор Дан возглавил Центральный исполнительный
комитет (ЦИК) Советов... Можно сказать, что в эти месяцы партия
меньшевиков переживала расцвет своей деятельности.
Правда, он оказался очень недолгим. Уже к осени приток в
партию новых членов замедлился. Внутри неё росли
противоречия. Г. Плеханов и его группа уже не относили себя к
меньшевикам. В августе состоялся съезд меньшевиков, которые
образовали Российскую социал-демократическую рабочую партию
(объединённую) — сокращённо РСДРП(о). Сторонники Ю. Мартова
составили около трети участников этого съезда. Один из них,
Александр Мартынов, слегка перефразируя пушкинские строки,
горячо воскликнул, обращаясь к «правым»: «Лёд и пламень, вода
и камень не могут быть так различны, как мы с вами!».
Популярность меньшевиков среди населения стремительно
падала. Ярким тбму свидетельством стали выборы в Учредитель-
ГЕОРГИЙ ПЛЕХАНОВ В 1917 ГОДУ
Поздно вечером 31 марта 1917 г. на
Финляндский вокзал в Петрограде
прибыл Георгий Плеханов. «Патриарх
русской социал-демократии»
вернулся на родину после 37-летней
эмиграции. Здесь он оказался в лагере
крайних «оборонцев», сторонников
«войны до победного конца». Позиция
Георгия Валентиновича в этом вопросе
была слишком правой даже для
большинства меньшевиков.
Большевик Мартын Лацис вспоминал,
в каком одиночестве оказался Г.
Плеханов во время массовой
манифестации 18 июня. «Оборонцы» составили
на ней лишь небольшую группу, а
основная масса демонстрантов шла под
антивоенными лозунгами. «Что
думает он, — писал М. Лацис, — в эту
минуту, когда бесконечной вереницей
мимо него тянутся большевистские
отряды. Время оставило его позади...»
Вскоре Г. Плеханова стали посещать
довольно неожиданные визитёры из
числа людей правых убеждений. Зашёл
в гости, например, председатель
Государственной думы М. Родзянко. «Я
пришёл с Вами познакомиться, —
сказал он, — так как мне говорили, что
Вы очень умный человек». Навестил
Г. Плеханова командующий
Черноморским флотом адмирал А. Колчак.
Адмирал со слезами на глазах
рассказывал о быстро идущем разложении
флота. Он сделал Плеханову
неуклюжий комплимент: «Если надо, я буду
служить вам,
социалистам-революционерам, лишь бы спасти Россию.
Сознаюсь, социал-демократов я не
люблю». Г. Плеханов заметил, что он как
раз и является социал-демократом. «Я
ничего в этом не понимаю, —
смущённо признался адмирал, — я знаю одно:
надо спасти родину. Аля этого я готов
стать на сторону революционеров,
задающихся этой целью». Плеханову
нанёс визит даже... черносотенец
Владимир Пуришкевич. «Вы мой
политический враг, — заявил он, — но я знаю,
что Вы любите родину. И это сознание
внушает мне глубокое доверие к Вам».
Октябрьский переворот Г. Плеханов не
принял. В своей газете «Единство»
28 октября он опубликовал «Открытое
письмо к петроградским рабочим».
Георгий Валентинович признавался,
Г. Плеханов. И. Церетели.
94
СОиИАЛ-
АЕМОКРАТЫ
ное собрание, прошедшие в ноябре. Меньшевики потерпели на
этих выборах катастрофическое поражение, не набрав и 3%
голосов. Большинство поданных за них голосов (около 1,3 млн)
было собрано в Грузии...
МЕНЬШЕВИКИ ПРИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Все (или почти все) меньшевики отрицательно восприняли
Октябрьский переворот. Ю. Мартов писал в частном письме 30
декабря 1917 г.: «Дело не только в глубокой уверенности, что
пытаться насаждать социализм в экономически и культурно
отсталой стране — бессмысленная утопия, но и в органической
неспособности моей помириться с аракчеевским пониманием
социализма и пугачёвским пониманием классовой борьбы...». Он
считал, что это «порождается самим тем фактом, что
европейский идеал пытаются насадить на азиатской почве. Получается
такой букет, что трудно вынести».
Председателю ЦИК Ф. Дану пришлось открывать II съезд
Советов 25 октября, в самый острый момент Октябрьского
переворота. Пушки Петропавловской крепости начали обстрел
Зимнего дворца. Всё это привело делегатов съезда во
взбудораженное состояние.
Тем не менее Ю. Мартов попытался найти мирный выход
из положения. Американский журналист Джон Рид рассказывал:
«Послышался новый шум — глухой гром пушек Все нервно
повернулись к тёмным окнам, и по собранию пронеслась какая-то
дрожь. Мартов попросил слова и прохрипел: „Гражданская
война началась, товарищи! Первым нашим вопросом должно быть
мирное разрешение кризиса. Там на улице стреляют в наших
братьев!"». Он предложил создать правительство из всех
социалистических партий: от большевиков до народных социалистов.
А. Луначарский заявил от имени большевиков, что его
фракция ничего не имеет против этого предложения. Под бурные
аплодисменты оно было единогласно утверждено съездом.
Немедленно на трибуну поднялся меньшевик Лев Хинчук, очень
взволнованный. От имени своей фракции он потребовал, чтобы съезд
начал переговоры с Временным правительством. На это
большевики пойти, конечно, не могли. «В течение нескольких минут
страшный шум не давал ему говорить, — писал Д. Рид. —
Возвысив голос до крика, он огласил декларацию меньшевиков:
„Поскольку большевики организовали военный заговор, мы не
считаем возможным оставаться на съезде и поэтому покидаем его"».
Под негодующие крики «Дезертиры!», «Враги народа!»
меньшевики, а за ними и эсеры покинули Смольный. В зале ещё
оставались меньшевики-интернационалисты. Однако общее
настроение переменилось, и теперь съезд отверг идею объединённого
социалистического правительства.
Ю. Мартов крикнул: «Тогда мы уходим!». Один из депутатов-
большевиков с горечью и упрёком сказал ему: «А мы думали, что
Мартов останется с нами!». Мартов отвечал: «Когда-нибудь вы
что его не радуют октябрьские
события в Петрограде. «Скажу вам
прямо, — писал он, — меня эти события
огорчают. Не потому огорчают, чтобы
я не хотел торжества рабочего класса,
а, наоборот, потому, что призываю его
всеми силами своей души... Нет, наш
рабочий класс ешё далеко не может с
пользой для себя и для страны взять в
свои руки всю полноту политической
власти. Навязать ему такую власть,
значит, толкать его на путь
величайшего исторического несчастья. В
населении нашего государства пролетариат
составляет не большинство, а
меньшинство. А между тем он мог бы с успехом
практиковать диктатуру только в том
случае, если бы составлял
большинство. Несвоевременно захватив
политическую власть, русский пролетариат...
только вызовет гражданскую войну,
которая в конце концов заставит его
отступить далеко назад от позиций,
завоёванных в феврале...»
В те же дни, во время «похода
Керенского на Петроград», Борис Савинков
предложил Г. Плеханову возглавить
Временное правительство. Но Георгий
Валентинович отказался: «Я сорок лет
своей жизни отдал пролетариату, и не
я буду его расстреливать даже тогда,
когда он идёт по ложному пути».
Когда войска А. Керенского
потерпели поражение, революционные
матросы произвели обыск на квартире
Г. Плеханова в Царском Селе. Они
искали оружие, но ничего не нашли.
Журналист Джон Рид так рассказывал об
этом событии, которое стало широко
известным:
«Плеханов жил в Царском Селе и
лежал в постели больной.
Красногвардейцы вошли в его дом, сделали обыск и
допросили старика. „К какому классу
общества Вы принадлежите?" —
спросили они его. „Я революционер и ешё
сорок лет тому назад посвятил всю
свою жизнь борьбе за свободу", —
отвечал Плеханов. „Всё равно, — заявил
рабочий, — теперь Вы продались
буржуазии". Рабочие уже не знали
пионера российской социал-демократии
Плеханова!».
Спустя семь месяцев после этих
событий, 30 мая 1918 г., Георгий Плеханов
скончался.
95
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
«Сообразительный меньшевик.
— Буржуазия меня упрекает за то, что я
пользуюсь красным флагом. А я ведь
употребляю его на то, чтобы
останавливать локомотив истории»
(«Крокодил». 1925 г.).
поймёте, в каком преступлении сегодня вы участвовали!». Вместе
с Р. Абрамовичем и другими
меньшевиками-интернационалистами он также покинул съезд.
30 ноября 1917 г. открылся ещё один партийный съезд
меньшевиков. Ф. Дан и Ю. Мартов говорили о возможном союзе с
большевиками, для заключения которого тех следовало бы
«причесать». Более правый А. Потресов возразил: «Вздор, что можно
„причесать большевизм". Большевизм тем характерен, что он
никогда не позволял себя причёсывать, он непоколебим. Его
можно сломать, но нельзя согнуть. А когда о „причёсывании"
говорят меньшевики, — это смешно. И Ленин, читая речь Дана,
наверное, будет весело смеяться».
— А чем свергнуть? — спросили из зала.
— Чем угодно, — отвечал А. Потресов...
В течение 1918 г. меньшевики в основном совершили свой
выбор. Часть из них старалась играть роль «легальной оппозиции»
внутри Советской республики. Другие выбрали противоположный
лагерь и поддержали вооружённую борьбу с большевиками.
Впрочем, белогвардейцы не жаловали меньшевиков, как и
вообще социалистов. Они часто закрывали их газеты,
производили среди них аресты. Так, по распоряжению военных властей
на юге России были закрыты два меньшевистских издания —
«Мысль» (Харьков) и «Прибой» (Севастополь). Прокурор В.
Краснов вспоминал такой анекдотичный, но вполне
характерный случай. Генерал-губернатор
Ставрополья Уваров в 1918 г. отдавал ему различные
распоряжения.
«Тут издаётся газета, — заявил среди
прочего генерал, — содержание которой мне
безразлично, но мне не нравится её подзаголовок:
„Пролетарии всех стран, соединяйтесь!". Пусть
печатают девиз: „В борьбе обретёшь ты право
своё!". Это мне больше нравится, а то пахнет
каким-то интернационалом...»
Прокурор отвечал, что едва ли
меньшевики возьмут эсеровский девиз. Тогда генерал
радостно воскликнул: «Я придумал! Пусть пишут:
„Пролетарии всея Руси, соединяйтесь!"».
С весны 1918 г. газеты меньшевиков стали
закрывать и в Советской республике. К
середине лета продолжало выходить только
несколько провинциальных меньшевистских изданий.
Тем не менее на весенних выборах в Советы в
ряде мест меньшевики провели немалое
количество своих депутатов, а в Костроме — даже
получили большинство.
Ю. Ганф. «Госпола положения. Меньшевик (рабочим):
— Не волнуйтесь, пожалуйста. Капитализм в наших руках!
Мы лелаем с ним, что хотим» («Кроколил». 1929 г.).
96
СОиИАЛ-
ДЕМОКРАТЫ
14 июня ВЦИК принял решение исключить меньшевиков (и
эсеров) из своего состава как «явно стремящихся низвергнуть
власть Советов». Как рассказывал о происшедшей в тот день
сцене Р. Абрамович, больной туберкулёзом Мартов «хрипел что-то
не совсем внятное, обращался к Ленину. А Ленин смотрел в
сторону, чтобы не встретиться глазами со своим бывшим самым
близким другом... Контраст между физическим бессилием вождя
антибольшевистских социалистов и зрелищем железной
когорты большевиков, которые сидели или стояли на трибуне, как
рыцари, закованные в „кожаные латы", должен был
символизировать бессилие и беспомощность побеждённой оппозиции и всю
мощь победившего большевизма».
До 1920 г., несмотря на частые аресты и закрытия их
печатных изданий, меньшевики считались в Советской республике
«легальной оппозицией». Однако деятельность их становилась
всё более затруднённой.
В сентябре 1920 г. Ю. Мартову и Р. Абрамовичу выдали
паспорта для выезда за границу. Решение об этом принял ЦК
большевиков, причём говорили, что первым его предложил В. Ленин.
«В сущности большинство ЦК было против выдачи паспортов, —
замечал Абрамович. — Но позиция Ленина была истолкована так,
что, жалея своего старого друга Мартова, которого он не
переставал любить, он хочет дать ему возможность уйти от
неизбежной тюрьмы и ссылки». В октябре 1920 г. Мартов и Абрамович
покинули Советскую Россию.
Спустя несколько месяцев арестовали Ф. Дана,
обвинённого в подготовке Кронштадтского мятежа. Год он провёл в
заключении в московской Бутырской тюрьме. Вместе с ним сидели
многие его товарищи-меньшевики. В начале 1922 г. они
провели коллективную голодовку протеста. В результате нескольким
из них (в том числе и Дану) неожиданно разрешили выехать за
границу, остальных перевели из тюрьмы в ссылку.
В апреле 1923 г. скончался Юлий Мартов. В эмиграции он
успел возглавить борьбу против московского «процесса эсеров»
(см. ст. «Карательные органы Советской власти»), создал
печатный орган меньшевиков — «Социалистический вестник». Этот
журнал выходил за границей до 1965 г.
Всё это время в эмиграции продолжалась деятельность
меньшевиков. Советские сатирические издания в 20-е гг.
иногда изображали на карикатурах два судна: мощный ледокол —
РКП (б) — и утлую лодочку с двумя-тремя пассажирами (Ю.
Мартовым и др.), готовую в любой момент затонуть, — РСДРП(о).
В 1941 г. среди меньшевиков-эмигрантов неожиданно вновь
произошёл раскол на... оборонцев и пораженцев. Большая часть
меньшевиков выступила за военное поражение «сталинской
диктатуры». Ф. Дан не согласился с этой позицией и вышел из
редакции «Социалистического вестника»...
Б. Ефимов. «Осенённые обшей благодатью». Рисунок, посвященный процессу нал
бывшими меньшевиками («Союзным бюро меньшевиков») в Москве. 1931 г.
ЮЛИЙ МАРТОВ ПРОТИВ
СМЕРТНЫХ КАЗНЕЙ
После Октября 1917 г. меньшевик
Юлий Мартов неоднократно
выступал против всех случаев применения
смертной казни. Когда в июне 1918 г.
командующий морскими силами
Балтийского флота А. Шастный был
приговорён к расстрелу, Ю. Мартов
выступил со страстно написанным
обращением «Долой смертную казнь!». Он
утверждал, что «партия смертных
казней — такой же враг рабочего класса,
как и партия погромов».
«Многострадальная история русского народа, —
замечал он, — освятила виселицу и
эшафот, окружила их ореолом
мученичества. Лучшие люди России прошли по
ступенькам эшафота, стояли под
дулами ружей карательного отряда».
«Нельзя молчать!—с негодованием
восклицал Мартов. — Во имя чести
рабочего класса, во имя чести социализма
и революции, во имя долга перед
родной страной, во имя долга перед
Рабочим Интернационалом, во имя заветов
человечности, во имя ненависти к
виселицам самодержавия, во имя любви
к теням замученных борцов за
свободу — пусть по всей России прокатится
могучий клич рабочего класса: „Долой
смертную казнь! На суд народа
палачей-людоедов!".»
В начале 1919 г. Юлий Мартов столь
же резко осудил в печати казнь семьи
Романовых.
97
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
В Советском Союзе между тем сотни и тысячи
меньшевиков находились в местах заключения и ссылки. Массовые аресты
1937—1938 гг. не миновали многих бывших меньшевиков, ещё
остававшихся на свободе. Мало кто из них уцелел в
последующие годы в лагерях и тюрьмах. Тех, кто остался в живых,
выпустили на свободу по амнистии 1956 г. Так вышел из заключения
Борис Богданов, с 1912 г. член Оргкомитета меньшевиков, —
один из немногих уцелевших руководителей партии. В отличие
от «старых большевиков», освобождённых тогда же,
меньшевиков при амнистии не реабилитировали.
А. Моор. «Тов. Сталин: — Никаких
меньшевиков!» (На конверте с налписью
«В ЦК меньшевиков» ставит резолюцию
«Вернуть за ненахожлением адресата».)
1922 г.
А. Любимов. «„Народная свобода"
в затруднении»
(журнал «Леший», 1906 г.).
КАДЕТЫ
(КОНСТИТУиИОННЫЕ
ДЕМОКРАТЫ)
«СОЮЗ ОСВОБОЖДЕНИЯ»
К 1902 г. в России уже существовали две крупные партии —
эсеры и социал-демократы. Но за ними шла только меньшая часть
интеллигенции. Основная масса интеллигенции выступала за
гражданские свободы, но не сочувствовала социализму. В 1902 г.
начало оформляться соответствующее политическое течение —
либеральное. С 1 июня стал выходить журнал этого
направления — «Освобождение». Он
печатался за границей и
распространялся в России.
Год спустя два десятка
близких к журналу интеллигентов и
земских деятелей отправились
в Швейцарию. Они ехали туда
в качестве туристов, но
привлекали их не живописные
альпийские пейзажи. В июле
1903 г. в окрестностях
Констанца и Боденского озера они
основали нелегальную
политическую организацию — «Союз
освобождения». Вначале рамки
«Союза» оставались довольно
размытыми, в нём состояли не
только либералы, но и
некоторые социалисты.
98
КАДЕТЫ
Движение быстро разрасталось. В январе 1904 г. в
Петербурге состоялся учредительный съезд «Союза освобождения». На
него прибыли делегаты из 22 городов. Они одобрили
программу, в которой, по словам Павла Милюкова, одного из
основателей «Союза», постарались выполнить два условия. Во-первых,
выразить чаяния «всей русской интеллигенции»; во-вторых,
приблизить программу к реальной жизни, сделать её «исполнимой»,
чтобы она не осталась несбыточной мечтой.
Стержнем программы стало требование гражданских
свобод, а также конституции и всеобщего избирательного права.
Правда, к последнему пункту относились довольно
настороженно. П. Милюков говорил в 1904 г.: «Боюсь, как бы мужики не
затопили в русском парламенте цвет интеллигенции своими
выборными — земскими начальниками да попами...».
ПЕРВЫЙ СЪЕЗД КАДЕТОВ
12 октября 1905 г. открылся учредительный съезд
Конституционно-демократической партии. Несколько позже кадеты
приняли второе название — Партия Народной свободы.
Почти все видные руководители кадетов вышли из «Союза
освобождения». В их числе были учёные, юристы, публицисты,
земские деятели. Социалисты позднее называли кадетов
«партией буржуазии». П. Милюков считал такое определение неверным.
Он писал: «Что представляла из себя наша партия? В неё вошли,
несомненно, наиболее сознательные политические элементы
русской интеллигенции. Недаром её называли иногда
„профессорской партией"...». Выступая на съезде, он подчеркнул, что
принятая программа выражает «интеллигентские идеалы».
Постепенно определялось политическое лицо новой
партии. Как вспоминал П. Милюков, важно было чётко очертить её
границы. Поскольку она выступала за гражданские свободы и
конституцию, «идеалисты самодержавия» попасть в неё уже не
могли. Труднее было также чётко отграничиться от социалистов.
Важную роль в этом сыграл принятый в январе 1906 г. пункт
программы: «Россия должна быть конституционной и
парламентарной монархией». Социалисты, боровшиеся за «демократическую
республику», конечно, не могли принять это положение.
Наконец партия обрела своё лицо. «Мы стали той группой, —
с удовлетворением писал П. Милюков, — за которой
установилась характерная кличка „кадетов": нас стали узнавать по
нашему собственному паспорту».
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
На выборах в I Думу кадеты получили наибольшее количество
депутатских мест — около 38%. Они настойчиво требовали
создания ответственного перед Думой правительства. «Власть
исполнительная да подчинится власти законодательной!» — восклицал
с думской трибуны кадет Владимир Набоков.
КАДЕТЫ
И ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
Перед началом Первой мировой
войны многие кадеты предупреждали о ней
как об опаснейшей катастрофе, грозя-
шей стране. Это привело даже к тому,
что в день объявления войны на
короткий срок была закрыта кадетская
газета «Речь». Но когда война началась,
кадеты столь же решительно поддержали
оборону государства. 26 июля 1914 г.
П. Милюков зачитал в Думе заявление
своей партии: «Мы боремся за
освобождение Родины от иноземного
нашествия, за освобождение Европы и
славянства от германской гегемонии...
В этой борьбе мы едины; мы не ставим
условий, мы ничего не требуем».
Однако вскоре борьба между
правительством и оппозицией
возобновилась. Кадеты считали, что
правительство бездарно и неспособно выиграть
войну; это и подталкивало главную
оппозиционную партию к борьбе с ним.
Думское большинство образовало
Прогрессивный блок, куда вошли кадеты,
октябристы и даже часть
националистов. Блок добивался создания
правительства, ответственного перед Думой.
Осенью 1915 г. кадет Василий
Маклаков опубликовал статью «Трагическое
положение», ставшую широко
известной. Он писал о «безумном шофёре»,
который «не может править». Это был
явный намёк на правительство и
Николая II. «Что вы будете
делать,—спрашивал автор, — если шофёр, ведущий
машину к неизбежной гибели, цепко
ухватился за руль и никого к нему не
подпускает?» И давал такой ответ: «Вы
отложите счёты с шофёром до того
вожделенного времени, когда минует
опасность».
Позднее, уже после Февральской
революции, В. Маклаков так разъяснял
свою позицию: «Нас, Государственную
думу, не раз упрекали с левых скамей
за то, что мы не хотим революции. Да,
это была правда. Мы не хотели
революции во время войны. Но, господа,
наступил момент, когда для всех стало
ясно, что победить при старом строе
невозможно...».
99
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
КАДЕТЫ И СМЕРТНАЯ КАЗНЬ
В 1917 г., когда кадеты отстаивали
идею «сильной власти», им часто
приходилось идти «против самих себя».
Например, в их программе
говорилось: «Смертная казнь отменяется
безусловно и навсегда». А теперь они
были вынуждены, наоборот,
доказывать необходимость смертной казни,
чтобы удержать армию в повиновении.
Когда с речью в защиту смертной
казни выступил Владимир Набоков, его
единомышленница Ариадна Тыркова
заметила: «Из всех его речей это была
самая мужественная. Как гуманист, он
был убеждённый противник смертной
казни. Но в эти решающие для России
месяцы он понял, что вести дальше
войну до победного конца можно только
при суровой дисциплине. И имел
смелость сказать это во всеуслышание».
В какой-то момент власти даже пошли на переговоры о
возможности назначения кадетского правительства. Но эти
переговоры не дали результатов. В конце концов министр внутренних
дел Пётр Столыпин заявил Николаю II: «Я охотнее буду подметать
снег на крыльце Вашего дворца, чем продолжать эти переговоры!».
I Дума была распущена (см. ст. «Революция 1905—1907 годов»).
Во II Думе кадеты получили немного меньше мест — около
24%. Здесь они проводили политику «бережения Думы», не желая
давать повод к её роспуску. В I Думе кадеты никак не боролись
против социалистов. Часто они голосовали вместе, причём
кадеты не раз подчёркивали, что у них «нет врагов слева».
Тогдашние отношения между кадетами и социалистами высмеивала
известная карикатура 1905 г. На ней изображён почтительный
либерал, который говорит царю: «Ваше Величество! Дайте
конституцию, а то эсеры стрелять будут».
Во II Думе между кадетами и социалистами впервые
началось разъединение. Кадетские депутаты стремились подчеркнуть,
что они учитывают интересы государства: например, голосуя за
бюджет, одобряли и расходы на тюрьмы. У социалистов это
вызывало негодование.
В III и IV Государственных думах вес кадетов в связи с
новым избирательным законом снова уменьшился. Они получили
около 12—14% депутатских мест. Тем не менее кадеты оставались
главной партией думской оппозиции.
В. Маклаков.
ОТ ФЕВРАЛЯ ДО ОКТЯБРЯ
Первые недели после Февральской революции оказались
своеобразным «звёздным часом» кадетов. Их деятельность кипела как
никогда. Численность партии выросла до 70 тыс. человек
Временное правительство, образованное 2 марта, вполне можно
было назвать «кадетским».
Отношение народных масс к кадетам в это время оставалось
достаточно благожелательным. Монархист В. Шульгин
вспоминал свою поездку в Думу вместе с кадетом Андреем Шингарёвым
в один из дней Февраля. На подножку их машины вскочил
студент, кричавший революционной толпе: «Товарищи —
пропустить! Едет товарищ Шингарёв!». Люди расступались, и вслед
часто гремело: «Ура товарищу Шингарёву!».
В то же время сразу после Февральской революции кадеты
оказались в довольно необычном для себя положении. Ещё
месяц назад они были «самой левой» легальной партией — и вот
неожиданно оказались «самой правой». Как отмечал народный
социалист А Петрищев: «Теперь кадеты стоят на самом крайнем
правом фланге. Правее их не видно ни одной организации — все
сразу чудесным образом исчезли».
То, чего кадеты столько лет упорно добивались, — полная
свобода слова, печати, собраний и т. д. — стало фактом.
Конституционным демократам приходилось теперь «догонять»
требования жизни, которые уходили всё дальше и дальше. В конце
100
КАДЕТЫ
марта они обновили свою программу. Вместо пункта о
монархии появилось положение: «Россия должна быть
демократической парламентарной республикой».
С конца апреля сочувствие кадетам у значительной части
населения стало сменяться враждебностью. Прежде всего
недовольство вспыхнуло среди солдат. Ведь кадеты твёрдо
выступали за «войну до победного конца», считая, что любая иная
развязка противоречит интересам России. Кадет В. Набоков
вспоминал о своём соратнике П. Милюкове: «Он не понимал, не
хотел понимать и не мирился с тем, что трёхлетняя война осталась
чуждой русскому народу, что он ведёт её нехотя, из-под палки,
не понимая ни значения её, ни целей, — что он ею утомлён и что
в том восторженном сочувствии, с которым была встречена
революция, сказалась надежда, что она приведёт к скорому
окончанию войны».
Крестьяне тоже начинали враждебно смотреть на кадетов,
считая их защитниками интересов помещиков. Кадеты
доказывали, что помещики должны получить выкуп за свои земли.
Крестьяне, конечно, категорически возражали против этого. Теперь
кадетов поддерживали в основном офицеры, студенты, большая часть
интеллигенции. Имущие классы — помещики, промышленники —
также видели в лице кадетов своих последних защитников.
Постепенно росло и разочарование самих кадетов в
народных массах. Эти настроения ярко выразил В. Маклаков, выступая
в начале мая перед депутатами Думы: «Каким бы языком мы ни
говорили, под этими словами скрывается одна главная мысль:
Россия оказалась недостойной той свободы, которую она
завоевала (Голоса: «Правильно!»?). Россия получила в день революции
больше свободы, чем она могла вместить, и революция погубила
Россию».
Среди кадетов естественным образом родилась идея
«сильной власти», которая «установила бы твёрдый порядок» и довела
войну до конца. Человека, который мог бы создать такую власть,
кадеты увидели в лице генерала Л. Корнилова (см. ст. «Лавр
Корнилов»). Несколько позже генерал М. Алексеев отметил, что дело
Корнилова «опиралось на сочувствие широких кругов нашей
интеллигенции». По замечанию А. Деникина, эта позиция точнее
выражалась словами: «сочувствие, но не поддержка».
Член кадетской партии князь Павел Долгоруков говорил в
июне 1917 г.: «Единственной властью, которая поможет спасти
Россию, является диктатура... Кто бы ни являлся диктатором, но
раз он может одолеть разбушевавшуюся стихию, он приемлем и
желателен». К середине августа такие настроения среди кадетов
стали преобладающими. Кадет Дмитрий Протопопов замечал:
«Конечно, диктатора всегда тянет к короне. Но что же делать? Не
сомневаюсь — нам нужно идти ва-банк». Тогда же А. Шингарёв
сказал на заседании ЦК партии: «Дело идёт к расстрелу, так как
слова бессильны».
После неудачи корниловского выступления среди части
населения вспыхнуло неподдельное негодование против кадетов.
В УЧРЕДИТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
После Февральской революции
кадеты старались по возможности
отсрочить выборы в Учредительное
собрание, а ешё лучше — отложить их до
конца войны. Вновь сказались их
старые опасения по поводу всеобщего
избирательного права. В. Маклаков
замечал, что Учредительное собрание
«неизбежно утопит небольшое
русское культурное меньшинство в
массе тёмных людей». Он писал: «Аля
народа, большинство которого не умеет
ни читать, ни писать, Учредительное
собрание явится фарсом».
Выборы в Учредительное собрание
проходили уже после Октябрьского
переворота. Кадеты полагали, что
большевики станут чинить помехи их
предвыборной кампании. Но те предпочли
просто не обращать на кадетов
внимания. В. Набоков вспоминал о кадетском
митинге в столице 5 ноября: «Мы
ожидали большевистских демонстраций,
обструкции... Ничего этого не
произошло. Митинг привлёк
исключительно кадетскую публику и прошёл с
большим подъёмом. После того была целая
серия митингов. Настроение публики
в обшем было тревожное и угрюмое...».
На выборах в Петрограде
конституционные демократы оказались второй по
значению партией. Они получили 26%
голосов (большевики — 45%). Однако
в целом по стране кадетская партия
потерпела сокрушительное поражение,
набрав менее 5% голосов.
101
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
Ф. Кокошкин.
ЗАПРЕЩЕНИЕ ПАРТИИ КАДЕТОВ
Вечером 28 ноября 1917 г. Совнарком
принял декрет «Об аресте вождей
гражданской войны против революции». Он
был направлен против кадетской
партии. В нём говорилось: «Члены
руководящих учреждений партии кадетов, как
партии врагов народа, подлежат аресту
и преданию суду революционных
трибуналов. На местные Советы
возлагается обязательство особого надзора за
партией кадетов ввиду её связи с кор-
ниловско-калединской гражданской
войной против революции».
В тот же день власти арестовали
нескольких членов UK кадетской партии.
Вскоре они предстали перед петроград-
ским Революционным трибуналом.
Всеобщее внимание привлёк процесс
над графиней Софьей Паниной. Она
была известна своей
благотворительной деятельностью. Уарская полиция
называла её «красной графиней».
С. Панину обвиняли в том, что она не
отдала Совнаркому находившуюся у
неё кассу Министерства просвещения.
Писатель Марк Алданов рассказывал:
«К графине Паниной трибунал
относился с уважением. Обвинитель
Наумов несколько раз назвал её
благороднейшей личностью. В приговоре она
была „предана обшественномупорица-
нию" — однако с оставлением^тюрь-
ме до возвращения 93 тысяч». '
Несмотря на грозный декрет от 28
ноября, в Советской республике ешё
несколько месяцев продолжали выходить
некоторые кадетские газеты
(например, «Речь» под различными
названиями выпускалась до августа 1918 г.). По
мере того как разгоралась гражданская
война, их издание прекратилось.
Для многих солдат и крестьян
слово «кадет» превратилось в
бранное; их называли не иначе
как «врагами народа».
Уже после Октябрьского
переворота и кровопролитных
боёв в Москве кадет Владимир
Вернадский с горечью отметил
в своём дневнике: «В Москве
студент — опять „враг народа"».
И привёл слова одного из
своих друзей: «Старая рознь
между интеллигенцией и народом,
очевидно, большая реальность,
чем я думал».
КАДЕТЫ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Кадеты приняли самое деятельное участие в гражданской войне
на стороне белого движения. Характерно, что первое время
белогвардейцев в народе называли именно «кадетами».
В мае 1918 г. конференция кадетов в Москве решила
«сохранить верность союзникам» и опираться на помощь их армий. Но
П. Милюков тогда же занял иную позицию. Он считал, что
союзники далеко и помочь не смогут, поэтому надо попросить
помощи у недавнего противника — Германии. Милюков убеждал
немецкое командование выбить большевиков из Москвы и
Петрограда и установить там «всероссийскую национальную власть»
(см. ст. «Павел Милюков»).
Однако у большинства кадетов позиция П. Милюкова
вызвала возмущение. Ему пришлось сложить свои полномочия
председателя ЦК партии. Несколько месяцев спустя, после поражения
Германии, эти противоречия внутри кадетской партии
сгладились. В дальнейшем в течение всей гражданской войны кадеты
единодушно искали военной помощи у стран-победительниц.
В развернувшейся борьбе кадеты поддерживали
правительства генерала А. Деникина и адмирала А. Колчака. На
подчинённых им территориях проходили кадетские партийные
конференции. Однако определяющую роль в этих правительствах
играли не кадеты или иные гражданские политики, а армейское
командование. Военную диктатуру в тот момент кадеты считали
единственным средством одержать победу над большевиками. У
многих из них с этого времени возникло разочарование в идеях
демократии вообще. Например, А. Тыркова, работая в армии
А, Деникина, замечала, что приходится «отодвинуть на второй
план демократическую программу». «Универсальность идеи
западной демократии, — продолжала она, — обман. Мы должны
иметь смелость взглянуть прямо в глаза дикому зверю, который
называется народ...»
102
КАДЕТЫ
Вели кадеты и подпольную борьбу на территории Советской
республики. Для подготовки восстаний они создавали тайные
организации — Национальный центр, Тактический центр и др.
Летом 1919 г. ЧК произвела многочисленные аресты,
уничтожившие кадетское подполье в Москве. Многих его участников
расстреляли.
В сентябре 1919 г. В. Ленин писал по поводу арестов среди
интеллигенции: «Нельзя не арестовывать для предупреждения
заговоров всей кадетской и околокадетской публики.
Преступно не арестовывать её. Лучше, чтобы десятки и сотни
интеллигентов посидели деньки и недельки, чем чтобы 10 000 было
перебито. Ей-ей, лучше».
ПОСЛЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
В 20-е гг. деятельность кадетов продолжалась в эмиграции. В
1921 г. в Партии Народной свободы возникла Демократическая
группа во главе с П. Милюковым. Её участники считали, что
кадеты должны признать происшедшие после Октября
необратимые перемены. Например, они предлагали отказаться от идеи
«единой и неделимой России» и согласиться с существованием
федерации, признать уже совершившуюся передачу земли
крестьянам. П. Милюков и его сторонники надеялись на
постепенное изменение Советской власти «изнутри».
Тогда же, в 1921 г., в Праге вышел знаменитый сборник
«Смена вех». «Сменовеховцы» (в основном кадеты) пошли ещё
дальше: они считали, что надо помочь внутреннему перерождению
УБИЙСТВО ШИНГАРЁВА
И КОКОШКИНА
28 ноября 1917 г. в числе других
руководителей кадетов арестовали Андрея
Шингарёва и Фёдора Кокошкина.
М. Алданов замечал:.«К несчастью,
Кокошкина и Шингарёва обвиняли
только в том, что они „враги народа".
По такому преступлению мудрено
было составить обвинительный
протокол. Вероятно, именно по этой
причине они в трибунал не вызывались, и их
пребывание в Петропавловской
крепости могло затянуться на
неопределённое время». Охранники относились к
кадетским вождям весьма враждебно
и говорили между собой, что лучше бы
их «бросить в Неву».
Наконец, 6 января 1918 г. положение
арестованных, казалось, улучшилось:
по их просьбе они были переведены в
Мариинскую больницу. Но в ту же
ночь в палату ворвалась группа
матросов и красногвардейцев, решивших
разделаться с ненавистными «врагами
народа». Здесь же они и расстреляли
арестованных. Поэтесса Зинаида
Гиппиус записала в дневнике: «Шингарёв
был убит не наповал, два часа ешё
мучился... Обоих застигли сидяшими в
постелях».
Большевистская печать отозвалась об
этом самосуде отрицательно.
Согласно некоторым данным, участников
расстрела даже наказали в мае 1918 г. по
решению советского суда.
А. Шингарёв.
«Красная графиня» С. Панина.
юз
Советской власти. До 1926 г. они имели возможность легально
действовать и в России.
Деятельность самой кадетской партии в Советской стране,
естественно, находилась под запретом. Однако в
интеллигентской, профессорской среде сохранялось довольно сильное
кадетское влияние. После Октября Российская Академия наук
осудила происшедший переворот. В руководстве Академии
оставалось немало кадетов. Несмотря на это, новая власть предпочла
не распускать Академию, а постепенно найти с ней общий язык
Нарком просвещения Анатолий Луначарский называл
академика Сергея Ольденбурга (кадета и бывшего министра
Временного правительства) «одним из самых крепких и нужных звеньев
между Советской властью и интеллигенцией».
В 20-е гг. некоторые видные кадеты возвратились из
эмиграции на родину. Князь П. Долгоруков в 1926 г. нелегально
пересёк советскую границу. Его арестовали и год спустя расстреляли.
Многие бывшие кадеты, оставшиеся в России, погибли в ходе
массовых арестов конца 30-х гг.
Более счастливой оказалась судьба академика В.
Вернадского, одного из основателей кадетской партии и члена её ЦК до
1918 г. Покинув родину в начале 20-х гг., он вернулся в
Советский Союз в 1926 г. До последних лет жизни Вернадский
сохранял независимую и критическую позицию по отношению к
государственной власти. «Переживаем вторую мировую бойню, —
писал он в своём дневнике в 1941 г. — Из первой мировой
бойни создалось полицейское, как и прежнее, государство... — без
свободы личности, без свободы мысли. Демократия — свобода
мысли и свобода веры». Скончался Владимир Вернадский в
1945 г. Тогда же, в годы войны, окончательно угасла и
деятельность кадетов за границей.
Б. Ефимов. Карикатура на противников Советской власти. Второй слева — лилер
кадетов П. Милюков. Около 1930 г.
ОКТЯБРИСТЫ
(СОЮЗ 17 ОКТЯБРЯ)
ПОСЛЕ МАНИФЕСТА 17 ОКТЯБРЯ
Царский манифест 17 октября 1905 г., даровавший свободы,
вызвал очень различные отклики в стране. Часть общественных
сил — от социалистов до кадетов — единодушно ответила на него
примерно таю «Ничего не изменилось, война продолжается».
Революция действительно продолжалась...
Но были и иные, совершенно противоположные оценки.
18 октября в здании Московской биржи состоялся
торжественный молебен по случаю выхода манифеста. По окончании
богослужения известный промышленник Сергей Четвериков
(будущий октябрист) вскочил на лавку и выкрикнул: «Слава царю,
который благо народа поставил выше охранения прерогатив
своей власти! Слава русскому народу, который пожелал любить
своего царя не за страх, а за совесть!». В ответ грянуло дружное «ура!».
Оратора подхватили на руки и начали качать...
Можно сказать, что именно из таких настроений и родился
Союз 17 октября, или просто партия «октябристов». Уже через
несколько недель в продаже появилась тоненькая брошюра без
обложки, озаглавленная «Воззвание от Союза 17 октября».
«Манифест 17 октября, — говорилось в ней, — знаменует собой
величайший переворот в судьбах нашего отечества: отныне народ
наш становится народом политически свободным, наше
государство — правовым государством...» Монархия же, по мнению
авторов брошюры, постепенно превращалась в конституционную.
Они призывали «дружно сплотиться вокруг этих начал». Как и
другие либералы, октябристы выступали за гражданские права и
свободы.
В то же время они опирались и на ещё одно, столь же
мощное общественное настроение. Это было стремление прекратить
революционную смуту, установить «твёрдый порядок». «Пока
свободу смешивают с революцией, ничего путного не выйдет», —
говорил один из вождей октябристов граф Пётр Гейден.
Революцию он называл «акулой». В одной из листовок октябристов
отмечалось: «Союз ненавидит революцию как величайшее зло и
величайшую помеху в установлении в России порядка».
Однако каких только непредсказуемых поворотов и
ситуаций не возникало в эти месяцы 1905 года! На одном из
заседаний Вольного экономического общества председательствовал
105
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
АЛЕКСАНДР ГУЧКОВ
Когда Александр Гучков в октябре
1906 г. возглавил UK октябристов, он
уже имел репутацию яркого и
своеобразного общественного деятеля. Его
политический противник граф Сергей
Витте замечал: «Гучков — любитель
сильных ошушений и человек
храбрый». Впервые Александр Иванович
удивил своих друзей и знакомых,
когда отправился добровольцем в
Южную Африку на англо-бурскую войну.
Зашишая независимость буров, он
получил ранение в ногу и попал в
английский плен.
Его второй не менее рискованный
поступок привлёк уже всеобщее
внимание. Заканчивалась русско-японская
война... Будучи уполномоченным
Красного Креста, Гучков добровольно
остался в Мукдене с русскими
ранеными, когда в город вступили японские
войска. Московская городская дума
выразила ему благодарность за этот
«самоотверженный подвиг». На
японцев поступок А. Гучкова также
произвёл сильное впечатление, и после
месячного плена его отпустили на
родину. Любопытно, что позднее, прочтя
книгу Бориса Савинкова
«Воспоминания террориста», А. Гучков с
сожалением заметил: «Зависть берёт! Каким
первоклассным человеческим
материалом располагала революция...». И
выразил сожаление, что
противоположной стороне часто не хватало
«идейного горения и жертвенной
готовности, которыми были так богаты те».
Впрочем, Александр Иванович и в
политическую борьбу своей партии
старался внести эти черты. За любое
невежливое слово он вызывал своих
оппонентов на поединок и заработал
репутацию отчаянного дуэлянта. Он
дрался на дуэли с графом А. Уваровым,
с жандармским полковником С. Мясо-
едовым (которого позднее повесили
как германского шпиона), вызвал на
поединок П. Милюкова (но потом
противники помирились). С. Мясоедов,
обвинённый А. Гучковым в различных
тёмных делах, ранил своего
противника в руку. Когда Александр Иванович
с рукой на перевязи явился в Думу,
депутаты встретили его восторженной
овацией.
граф Пётр Гейден. Зал был заполнен молодёжью, причём
довольно революционно настроенной. И вот в президиум
передали чей-то котелок, в который собирали пожертвования. На
лежавшем в нём листке бумаги было написано: «На вооружённое
восстание». Пётр Александрович с невозмутимым видом передал
шляпу дальше...
В БОРЬБЕ С РЕВОЛЮЦИЕЙ
Важнейшим пунктом своей программы октябристы считали
положение о «единой и нераздельной Руси». Этот вопрос, по их
собственному признанию, служил для определения политических
друзей и врагов партии. Причём «лакмусовой бумажкой» для
октябристов являлся вопрос: «Можно ли предоставить Польше
автономию?». «Ни в коем случае», — категорически отвечали они.
Кадеты на этот счёт имели противоположное мнение.
Вскоре наметились и другие линии расхождения двух
либеральных партий. В декабре в Москве вспыхнуло вооружённое
восстание. Кадеты осуждали неоправданно суровые, по их
мнению, меры властей. Октябристы, напротив, однозначно
поддержали государственную власть, резко осудив революционеров. «На
улицах Москвы льётся кровь исполнителей служебного долга», —
говорилось в их заявлении. Один из вождей октябристов
Александр Гучков демонстративно внёс крупное денежное
пожертвование в пользу солдат, пострадавших при подавлении восстания
в Севастополе.
Итоги выборов в I Думу оказались для октябристов не
слишком ободряющими. Они сумели провести в неё всего лишь 13
депутатов во главе с графом Гейденом, и те разместились на
крайне правом фланге. Им приходилось вести ожесточённую борьбу
с думским большинством — кадетами и социалистами. Когда
I Думу распустили, граф Гейден с остальными депутатами
отправился в Выборг, но воззвание с протестом не подписал. «Я такие
нелепости подписывать не буду», — сказал он.
Во II Думу прошли уже 43 октябриста. Всего же численность
партии к этому времени достигала примерно 75 тыс. человек. В
основном это были люди состоятельные и образованные:
дворяне, предприниматели, отставные чиновники и офицеры. «Мы —
господская партия», — с сожалением признавали сами
октябристы. Возглавил ЦК октябристов в октябре 1906 г. Александр
Гучков, директор страхового общества «Россия».
А. Гучков решительно поддерживал курс правительства на
подавление революции. Когда в августе 1906 г. П. Столыпин ввёл
знаменитые военно-полевые суды, Александр Иванович одобрил
этот шаг. Он назвал его «решительной мерой в борьбе с
революцией». Такая оценка А. Гучкова вызвала раскол среди октябристов.
От них ушли многие создатели партии: граф П. Гейден, ряд
промышленников, например П. Рябушинский, С. Четвериков.
Министр В. Коковцов в частной беседе говорил о такой позиции
части купечества: «Подмигивают всё и кокетничают с революци-
106
ОКТЯБРИСТЫ
ей? Московских купцов мало жгли в 1905 году, что они ещё не
образумились. Вот дворяне — другое дело. Им въехали
порядочно, а потому они протрезвились».
Л. Мельников. Плакат, посвященный
сбору средств в помощь инвалидам
войны. Подобная кампания проводилась
при поддержке октябристов.
ТОРГОВЦЫ
В СОЮЗЕ СО СТОЛЫПИНЫМ
Октябристы поддержали роспуск II Думы 3 июня 1907 г.,
известный как «третьеиюньский государственный переворот». А.
Гучков замечал: «Акт 3 июня был спасением, благом для России, так
как открывал путь реформам, проводимым Столыпиным».
На выборах в III Думу, которые проходили по новому
закону, октябристы одержали победу, получив 133 места. На этот раз
в Думу прошёл и сам вождь партии А Гучков. Эту «октябристскую»
Думу часто называли «столыпинской». Октябристы считали
благодетельной для России земельную реформу П. Столыпина
(см. ст. «Столыпинская земельная реформа») и горячо её
поддерживали. Между прочим, в партии состоял брат главы
правительства журналист Александр Столыпин.
Однако этот союз октябристов с П. Столыпиным был
довольно шатким, неустойчивым. По ироническому замечанию
Павла Милюкова, он «напоминал крыловскую басню о лебеде,
раке и щуке». Под раком Милюков
подразумевал придворные круги, которые очень косо
смотрели на либералов-октябристов. П.
Милюков говорил: «Рак оказался самым сильным
партнёром, а роль щуки, потопившей себя,
пришлось сыграть самому Столыпину».
Что же произошло? Пытаясь ослабить
влияние придворных кругов, А. Гучков объявил им
настоящую словесную войну. В ноябре 1908 г. он
впервые публично выступил против
вмешательства великих князей в политику. П. Столыпин, до
того пытавшийся примирить двор с
октябристами, был неприятно поражён и с досадой
воскликнул: «Что Вы наделали!?».
В своих последующих речах А. Гучков
беспощадно бичевал «камарилью и тёмные силы»,
окружавшие, по его мнению, трон. В результате
он получил репутацию личного «врага номер
один» царя и царицы. Когда позднее он
проиграл на выборах в IV Думу, государь искренне
обрадовался, несмотря на то что победили
Гучкова кадеты.
После того как вспыхнула борьба между
двором и октябристами, П. Столыпину
пришлось искать иную опору в Думе. Он нашёл её в
лице более правой партии националистов.
Влияние на государственную политику
постепенно ускользало из рук октябристов.
Одновременно партия теряла поддержку
МОСКВЫ
b
Москвичи!
^СЕНТЯБРЯ
всь ТОРГОВЦЫ
города МОСКВЫ
ОТЧИСЛЯЮТ*
5ЯСЪ ПРОДАЖИ
ДНЯНАДОМЪ
ИНВАЛИДООЪ
покулдйптАиштдт
высвдшы эти шшы.
КомитыюшшшЦн
пзмпШтМццсюш*
ид Дот Кишим»
107
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
ССОРА МИХАИЛА РОЛЗЯНКО
И АЛЕКСАНДРА ПРОТОПОПОВА
В январе 1917 г. враждебность между
правительством и Думой вылилась в
личное столкновение их
руководителей. 1 января в Зимнем дворце
государь устроил приём по случаю
Нового года. К Михаилу Родзянко подошёл
поздороваться министр внутренних
дел Александр Протопопов. Бывший
октябрист, он ешё год назад был
товарищем (заместителем)
председателя Думы. А. Протопопов с
приветливым возгласом протянул руку для
пожатия, но М. Родзянко резко отрубил:
«Нигде и никогда». Смутившись,
министр дружески взял председателя
Думы под локоть и произнёс: «Родной
мой, ведь мы можем столковаться».
«Оставьте меня, Вы мне гадки», —
отвечал М. Родзянко, отдёргивая руку.
В газетах оживлённо обсуждался этот
случай, получивший широкую огласку.
Шли толки о том, что А. Протопопов
намерен вызвать М. Родзянко на
дуэль. Но вызов так и не был послан.
Позднее на приёме у царя М.
Родзянко ехидно обыграл это. Сам он так
излагал происшедший разговор:
«Я заметил, что Протопопов,
вероятно, не очень оскорбился, так как не
прислал вызова.
— Как, он не прислал вызова? —
удивился царь.
— Нет, Ваше Величество... Так как
Протопопов не умеет зашишать своей
чести, то в следующий раз я его побью
палкой.
Государь засмеялся».
снизу, со стороны торгово-промышленного сословия. Многие
считали, что октябристы «всё отдали П. Столыпину», а взамен не
получили ничего: ни влияния на правительство, ни гражданских
свобод. Союз 17 октября шутливо прозвали «партией
потерянной грамоты».
Видный октябристский публицист Громобой писал в
ноябре 1909 г.: «Неопределённость, томящая всю Россию, нависшая
каким-то кошмаром... А что, если завтра всё правительство будет
сменено другим и мы окажемся под сапогом доктора
Дубровина? В какую сторону мы плывём? Каждый день мы можем
проснуться... по ту сторону 17 октября».
22 февраля 1910 г. А. Гучков выступил в Думе с важной
речью. Он откровенно признался, что октябристы «чувствуют
себя несколько изолированными в стране». Оратор сказал, что,
поскольку революция подавлена, «прискорбная необходимость»
ограничивать гражданские свободы миновала. Закончил Гучков
свою речь знаменитой нетерпеливой фразой, обращенной к
властям: «Мы, господа, ждём».
В марте 1911 г. А. Гучков пошёл ещё дальше в своём
протесте. Он покинул пост председателя III Государственной думы, на
который его избрали годом ранее. «Столыпин очень удивился
моей отставке», — вспоминал Александр Иванович. Во главе Думы
встал его соратник по партии крупный помещик Михаил
Родзянко. И всё-таки октябристы продолжали бороться не против
Столыпина, а за влияние на него. Они считали, что глава
правительства изменяет сам себе, уступая «камарилье и тёмным силам».
Громобой с разочарованием писал после отставки А. Гучкова:
«П. А Столыпину уже служить нельзя — можно только
прислуживаться». А. Гучков позднее замечал: «В сущности Столыпин умер
политически задолго до своей физической смерти».
ПОСЛЕ УБИЙСТВА СТОЛЫПИНА
Выстрел террориста, прозвучавший в сентябре 1911 г., не
только оборвал жизнь П. Столыпина, но и нанёс тяжелейший удар по
октябристам. Они переживали настоящий шок А. Гучков в день
похорон Столыпина с горечью заявил: «Россия попала в болото...».
Вскоре на заседании ЦК октябристов он произнёс речь о
величии погибшего.
Больше всего октябристов удручало очевидное поражение
столыпинской земельной реформы. В ноябре 1913 г. на
партийной конференции А. Гучков развивал свои безрадостные
предчувствия: «Иссякло государственное творчество. Глубокий
паралич сковал правительственную власть: ни государственных
целей, ни широко задуманного плана, ни общей воли.
Государственный корабль потерял всякий курс, зря болтаясь по волнам».
Октябристы в 1912 г. потерпели крупное поражение на
выборах в IV Государственную думу, потеряв свыше 30 мест. В
Москве избиратели забаллотировали А. Гучкова. Вскоре думская
фракция октябристов к тому же раскололась на две группы. На
108
ОКТЯБРИСТЫ
местах жизнь партии постепенно замирала. В 1915 г. даже
Департамент полиции не обнаружил по губерниям её действующих
отделов. В июле 1915 г. перестала выходить главная
октябристская газета — «Голос Москвы».
В ПРОГРЕССИВНОМ БЛОКЕ
Начавшаяся в 1914 г. Первая мировая война вызвала в России
патриотический подъём. Как с воодушевлением писали
журналисты ещё выходившего тогда «Голоса Москвы», «все партийные
разногласия, все „классовые противоречия" должны отойти на
второй план. В настоящую минуту в России может быть только
одна партия — русская». Впрочем, многие октябристы, в том
числе А. Гучков, не строили себе никаких иллюзий на этот счёт. Он
мрачно замечал в частном письме: «Начинается расплата...».
В 1915 г. Александр Иванович возглавил движение военно-
промышленных комитетов (ВПК), созданных
предпринимателями. После тяжёлых поражений на фронте, вызванных
недостатком снарядов, ВПК взялись помогать властям снабжать армию.
Поражения резко усилили недовольство правительством,
которое стали обвинять в бездарности и даже измене. В 1915 г.
образовался Прогрессивный блок, требовавший создания
правительства, ответственного перед Думой. В блок вступило
большинство депутатов — октябристы, кадеты и часть националистов.
А. Гучков с сожалением заявлял в августе 1915 г.: «У нас идут по
пути спасения с постоянным опозданием». Он привёл слова
одного «умного октябриста» о том, что Гучкова дадут только тогда,
«когда потребуется Милюков, а Милюкова — когда придётся
призвать Керенского».
Своим главным противником октябристы по-прежнему
считали «тёмные силы» вокруг престола. Огонь их критики был
направлен на Григория Распутина, придворные круги,
императрицу Александру Фёдоровну. Вплоть до Февральской революции
1917 г. председатель Думы октябрист М. Родзянко убеждал
Николая II пойти на уступки. В январе 1917 г. он говорил царю: «В
стране растёт негодование на императрицу и ненависть к ней...
Её считают сторонницей Германии. Для спасения Вашей семьи
Вам надо, Ваше Величество, найти способ отстранить
императрицу от влияния на политические дела».
10 февраля Михаил Владимирович вновь уговаривал
Николая II: «Ещё есть время и возможность всё повернуть и дать
ответственное перед палатами правительство. Но этого,
по-видимому, не будет. Результатом этого, по-моему, будет революция и
такая анархия, которую никто не удержит...». «Государь ничего не
ответил, — вспоминал М. Родзянко, — и очень сухо простился».
ПОСЛЕ ФЕВРАЛЯ
После Февральской революции партия октябристов формально
прекратила существование. Её программа уже не могла догнать
ЗАМЫСЕЛ ДВОРЦОВОГО
ПЕРЕВОРОТА
Группа октябристов во главе с
Александром Гучковым в борьбе с
правительством пошла ешё дальше
Прогрессивного блока. Они считали, что
власть ведёт страну к поражению в
войне и внутренней революции.
Единственный способ предотвратить это —
низложить Николая II.
«Мне стало ясно, — вспоминал А.
Гучков, — что государь должен покинуть
престол». В коние 1916 г. многие
видные октябристы вместе с некоторыми
кадетами стали готовить дворцовый
переворот. А. Гучков писал, что по
замыслу «государь был бы вынужден
подписать отречение с передачей
престола законному наследнику». Октябрист
Сергей Шидловский на одной из встреч
заговоршиков свозмушением
воскликнул о царе: «Шалить и жалеть его
нечего, когда он губит Россию!».
Заговор опирался на поддержку
некоторых высших чинов армии. Генерал
Александр Крымов говорил его
участникам: «Настроение в армии такое, что
все с радостью будут приветствовать
известие о перевороте. Переворот
неизбежен. Если вы решитесь на эту
крайнюю меру, то мы вас поддержим».
Заговорщикам передали сочувственную
фразу генерала Алексея Брусилова:
«Если придётся выбирать между царём
и Россией, я пойду за Россией».
Но все эти обсуждения, по словам
А. Гучкова, «настолько затянулись, что
не привели ни к каким реальным
результатам».
109
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
В АНИ ФЕВРАЛЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
Вожди октябристов всегда оставались
убеждёнными противниками любой
революции. Однако волей событий им
пришлось вместе с другими
политическими силами встать во главе
Февральской революции. Михаил Родзянко по
телеграфу первый посоветовал
Николаю II отречься от престола. А 2 марта
в Пскове А. Гучков принимал это уже
подписанное отречение... Дума
направила его к государю вместе с В.
Шульгиным, хотя А. Гучков даже не был
депутатом. Для него это событие стало
как бы маленьким реваншем в той
борьбе, которую он столько лет вёл
лично с Николаем...
Между тем М. Родзянко в эти дни
многократно выступал перед
подходившими к Думе войсками, убеждая их
сохранять порядок и дисциплину.
Военные части являлись со знамёнами, под
торжественную музыку.
«Православные воины! — говорил солдатам
Родзянко. — Послушайте моего совета. Я
старый человек и обманывать вас не
стану. Слушайте офицеров, они вас
дурному не научат...» Своим зычным,
раскатистым басом председатель Думы
выкрикивал: «За нашу святую
матушку-Русь!». Войска отвечали дружными
возгласами «ура!». «Будь другом
народа, Родзянко!» — благожелательно
кричали ему собравшиеся.
Впрочем, иногда в толпе пробуждалась
и давняя неприязнь к октябристам. Так,
П. Милюкову, когда он представлял
народу новых министров, пришлось
сказать: «Теперь я назову вам имя,
которое, я знаю, возбудит здесь
возражения. А. Гучков был моим
политическим врагом {Крики: «Аругом!».) в
течение всей жизни Государственной
думы. Но, господа, мы теперь
политические друзья, да и к врагу надо быть
справедливым...». А. Гучков стал
военным и морским министром
Временного правительства.
Были и другие случаи, когда на
необычное «единство октябристов и
простонародья» набегали тучи. Михаил
Родзянко рассказывал Василию Шульгину
об одном своём выступлении 1 марта:
«Встретили меня как нельзя лучше... Я
быстро развивающиеся события. Но бывшие вожди октябристов
не сошли с политической сцены.
В марте и апреле А. Гучков оставался на посту военного и
морского министра Временного правительства. Однако армия
всё больше выходила из подчинения. Кадет Владимир Набоков
вспоминал одно из выступлений Александра Гучкова перед
министрами: «Речь, вся построенная на тему „не до жиру, быть бы
живу", дышала такой безнадёжностью...».
«Революция — тяжёлое бедствие для государства, — говорил
А. Гучков. — Она срывает жизнь с её привычных рельсов, массы
выходят на улицу. Теперь мы должны снова загнать толпу на
место, но это нелёгкая задача». К концу апреля Александр Иванович
окончательно пришёл к выводу, что его работа в правительстве
«безнадёжна и бесполезна». 29 апреля он написал заявление об
отставке.
В течение бурного 1917 года А. Гучков, М. Родзянко и
другие бывшие октябристы убеждённо поддерживали идею
«сильной власти». В августе сторонники этой идеи (в основном
кадеты и бывшие октябристы) провели в Москве Совещание
общественных деятелей. Александр Керенский назвал его «новым
Прогрессивным блоком против Временного правительства».
Участники совещания заявили, что «правительство вело
страну по ложному пути, который должен быть немедленно
покинут». Избранный председателем М. Родзянко направил
генералу Лавру Корнилову довольно красноречивую телеграмму:
«Совещание общественных деятелей приветствует Вас, Верховного
вождя Русской армии. В грозный час тяжёлого испытания вся
мыслящая Россия смотрит на Вас с надеждой и верой. Да
поможет Вам Бог в Вашем великом подвиге на... спасение России».
Бывшие октябристы полностью разделяли идеи «корниловского
мятежа»: необходимость крепкой власти, дисциплины в армии...
Когда корниловцы потерпели поражение, А, Гучкова арестовали, но
уже через день освободили.
За десять дней до Октябрьского переворота в Москве
прошло второе Совещание общественных деятелей. Его участники
во главе с М. Родзянко вновь потребовали ввести «твёрдую
единую власть» и прекратить «буйства черни».
После установления Советской власти бывшие октябристы
приняли деятельное участие в развернувшейся борьбе на
стороне «белых». А. Гучков стал одним из первых промышленников,
оказавших денежную помощь белогвардейской
Добровольческой армии. Он горячо призывал вступать в её ряды. С
приходом Советской власти ему пришлось вновь пережить ряд
опасных приключений. Он скрывался в подполье, однажды даже
перешёл фронт в одеянии протестантского пастора.
М. Родзянко же отправился вместе с Добровольческой
армией в её первый Ледяной поход. Бывший председатель
Государственной думы не участвовал в боях, но разделял с
добровольцами трудности их перехода. Некоторые офицеры
неодобрительно смотрели на него как на... революционера. Чувствуя такие
ПО
ЧЕРНОСОТЕНиЫ
настроения, Михаил Владимирович даже зашёл как-то к
генералу Антону Деникину и сказал; «Мне очень тяжело об этом
говорить, но всё же решил с Вами посоветоваться. До меня дошло, что
офицеры считают меня главным виновником революции и всех
последующих бед. Возмущаются и моим присутствием при
армии. Скажите, Антон Иванович, откровенно, если я в тягость, то
останусь в станице, а там уж что Бог даст». «Остаться в станице»
означало почти верный арест, а затем и расстрел большевиками.
«Я успокоил старика, — вспоминал А. Деникин. — Не стоит
обращать внимания на праздные речи».
Когда белогвардейцы начали одерживать победы и занимать
города, М. Родзянко выдвинул идею созвать совещание
депутатов всех четырёх дум — нечто вроде парламента. Однако эта идея
мало кого вдохновила и не получила достаточной поддержки.
После гражданской войны бывшие вожди октябристов
оказались в эмиграции, где и окончили свои дни. Михаил Родзянко
скончался в 1924 г., Александр Гучков — в 1936 г. На похороны
бывшего вождя октябристов в Париже в феврале 1936 г.
собрался весь цвет русской эмиграции, от А Керенского до А
Деникина. Это событие подвело окончательную черту под историей
партии октябристов.
ЧЕРНОСОТЕНиЫ
сказал им патриотическую речь — как-
то я стал вдруг в ударе... Кричат „ура".
Вижу — настроение самое лучшее. Но
только я кончил, кто-то из них
начинает... из этих... собачьих депутатов... От
Исполкома, что ли, — ну, словом, от
этих мерзавцев...
— Вот председатель Государственной
думы всё требует от вас, чтобы вы,
товарищи, русскую землю спасали... Так
ведь, товарищи, это понятно... У
господина Родзянко есть что спасать... не
малый кусочек у него этой самой
русской земли в Екатеринославской
губернии, да какой земли! Так вот, Род-
зянкам и другим помещикам
Государственной думы есть что спасать... Эти
свои владения, княжеские, графские и
баронские, они и называют русской
землёй... Её и предлагают вам спасать,
товарищи...».
«Мерзавцы! — гневно воскликнул
Родзянко. — Мы жизнь сыновей отдаём
своих, а это хамьё думает, что земли
пожалеем. Да будет она проклята, эта
земля, на что она мне, если России не
будет?»
Первоначально слова «чёрная сотня», «черносотенцы» звучали
почти как оскорбительные прозвища. Так в начале XX в.
окрестили людей консервативных, крайне правых взглядов. Но потом
сами черносотенцы переосмыслили эти слова. Они стали
напоминать всем, что в XVI—XVII вв. чёрной сотней называли
городское простонародье.
«Да, мы черносотенцы! Чёрная сотня Кузьмы Минина
спасла Россию!» — говорили они теперь с гордостью. Для
интеллигенции, разумеется, слово «черносотенец» по-прежнему звучало
как оскорбление.
ЗАРОЖДЕНИЕ ЧЕРНОСОТЕНСТВА
Первая черносотенная организация — Русское Собрание —
возникла в январе 1901 г. Это был немногочисленный
литературно-аристократический кружок во главе с князем Дмитрием
Голицыным. Кружок ставил перед собой в основном культурные
задачи: изучение русской народной жизни, сохранение чистоты
русской речи и т. п.
Сначала власти даже собирались запретить эту
организацию, подозревая крамолу, но потом изменили своё отношение к
111
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
КИШИНЁВСКИЙ ПОГРОМ
В России первый из еврейских
погромов XX в. вспыхнул в Кишинёве 6—
7 апреля 1903 г. Министр внутренних
лел Вячеслав Плеве так объяснял
причины беспорядков: «Какая-то женши-
на-христианка с ребёнком на руках
села в повозку карусели. Недовольный
этим хозяин карусели, еврей, столкнул
женшину и ударил так, что она упала и
выронила ребёнка». После этого, по
словам В. Плеве, возмушённая толпа
начала громить евреев. Однако в
действительности все карусели на
плошали принадлежали христианам, а
упомянутого случая, по данным местной
полиции, не было.
Главным виновником погрома самые
различные круги—от революционных
до умеренно-правых — сочли самого
В. Плеве. 25 марта он писал
бессарабскому губернатору: «До сведения
моего дошло, что во вверенной Вам
губернии готовятся обширные беспорядки
против евреев». Министр внутренних
дел приказал прекращать беспорядки
только «при помощи увещеваний,
отнюдь не прибегая к помощи оружия».
В. Плеве хотел перевести в иное русло
революционное движение масс,
направить их враждебность на евреев и
инородцев. Граф Сергей Витте замечал,
что Плеве «в еврейских погромах
искал психологического перелома в
революционном настроении масс».
Очевидец погрома граф
Мусин-Пушкин, по словам С. Витте, «описывая все
ужасы, которые творили с
беззащитными евреями, удостоверял, что всё
произошло оттого, что войска
совершенно бездействовали». Другой свидетель
погрома прокурор Поллан также
выражал удивление, что погром
происходил на глазах безучастных войск и
полиции. Он отмечал: «У всех убитых
размозжены кости черепов».
Во время погрома погибло 45 человек
и свыше 400 было ранено. Писатель
Лев Толстой в письме протеста
выразил «ужас перед этим зверством
русских людей и безмерное негодование
против попустителей этого ужасного
дела». Кишинёвский погром стал одной
из главных причин убийства В. Плеве
эсерами в 1904 г.
ней. Министр внутренних дел Вячеслав Плеве стал покровителем
и почётным членом общества.
Наиболее здоровым черносотенцы считали общество
допетровской Руси. Они видели в нём своеобразный идеал единения
и гармонии всех сословий. Что же нарушило эту социальную
гармонию? Привнесение чужого, иноземного влияния начиная с
Петра I. Роковую роль сыграло знаменитое «окно, прорубленное
в Европу». Один из вождей черносотенства журналист Владимир
Грингмут замечал, что Пётр приказал России «забыть
самобытные русские предания, броситься в погоню за европейскими
обычаями и учреждениями безо всякого разбора, не отличая в
них драгоценного золотого от обманчивой мишуры».
В результате между царём и народом выросло
«средостение» — чиновничество со своими интересами, чуждыми народу.
В программе возникшей позднее самой известной
черносотенной организации — «Союза русского народа» (СРН) —
говорилось: «„Союз русского народа" признаёт, что современный
чиновничий строй, осуществляемый в громаднейшем большинстве
случаев безбожными, нечестивыми недоучками и переучками,
заслонил светлый образ Царя от народа».
Против чиновничества боролась и интеллигенция. Но
черносотенцы считали, что интеллигенты сами хотят встать «между
государем и народом», подменить народные интересы своими.
Одна из прокламаций столичного СРН в 1905 г. призывала:
«Крестьяне, мещане и люди рабочие! Послушайте, что умышляет гос-
подчина. В городских думах и земствах сидят господа, а в
больших городах адвокаты, профессора, студенты, учителя,
погорелые помещики, одворянившиеся купцы и прочие господа,
называющие себя интеллигенцией... Не признавайте её властью и
правительством, разнесите в клочья, помните, что в государстве вы
сила, вас сто миллионов, а интеллигенции и пяти не будет.
Довольно терпеть эту интеллигентную шваль...».
Столь же критически черносотенцы относились и к
буржуазии. В 1907 г. в газете черносотенцев «Русское знамя» отмечалось:
«Наша доморощенная буржуазия не национальна, и родилась-то
она у нас с испорченной сердцевиною. Русская буржуазия, не
имея свежести самобытной, заразилась гнилью Запада... Наша
буржуазия всегда останется такою же чуждою народу, какою
является она в настоящее время».
Выход для общества черносотенцы видели в возвращении к
«исконным началам: Самодержавию, Православию, Народности».
Власть государя должна выражать интересы не отдельных
сословий, считали они, а всей нации в целом. Для этого она должна быть
свободна от всевозможных «конституций и парламентов».
Что же касается православия, то главное несчастье церкви
черносотенцы видели в её подчинении государству. Духовенство
слилось с чиновничеством, церковь превратилась в придаток
государства. Корень этого зла тоже уходит в Петровские реформы,
считали они. Многие черносотенцы выступали за восстановление
на Руси патриаршества, как это было в допетровскую эпоху.
112
ЧЕРНОСОТЕНиЫ
Наконец, своей важнейшей задачей черносотенцы считали
ограждение русского народа от всевозможных «инородных
влияний». Они выдвигали лозунг «Россия — для русских!». Самым
опасным из «инородных влияний» черносотенцы считали
еврейское. Они выступали в конечном итоге за поголовное выселение
евреев из России в «собственное государство».
ПОСЛЕ МАНИФЕСТА 17 ОКТЯБРЯ
Первые черносотенные организации оставались небольшими
салонными кружками. Перелом в развитии движения произошёл
в 1905 г.
После царского манифеста от 17 октября 1905 г.,
даровавшего свободы, по всей стране прокатилась волна демонстраций.
Революционеры праздновали свою первую победу и призывали
добиваться большего. Это сопровождалось символическим
уничтожением атрибутов монархии. Демонстранты жгли портреты
Николая II, разбивали его бюсты, собирали деньги на
«похороны царя».
Конечно, всё это глубоко задело монархические чувства
части населения. Особенно враждебные толки вызывало
присутствие среди революционеров евреев и других «инородцев».
Например, в Киеве после появления царского манифеста
революционная толпа захватила здание городской думы, разорвала
в зале заседаний портреты Николая II и его предков. Какой-то
студент вышел на думский балкон с портретом царя. Он сделал в
полотне отверстие, просунул туда голову и кричал толпе: «Теперь я —
государь!». С балкона думы выступали революционные ораторы.
Журналист Василий Шульгин вспоминал: «Случилось это
случайно или нарочно — никто
никогда не узнал... Но во время
разгара речей о „свержении"
царская корона, укреплённая на
думском балконе, вдруг
сорвалась или была сорвана и на
глазах у десятитысячной толпы
грохнулась о грязную мостовую.
Металл жалобно зазвенел о
камни... И толпа ахнула. По ней
зловещим шёпотом пробежали
слова: „Жиды сбросили царскую
корону..."».
В тот же день сразу у
многих людей появилась идея
ответить на революционные
выступления стихийными
«патриотическими
демонстрациями». Как вспоминал В. Шульгин,
в редакцию газеты
«Киевлянин» 18 октября 1905 г. при-
PYKOBOACTBO
«СОЮЗА РУССКОГО НАРОДА»
Председателем главного совета СРН
избрали врача Александра Дубровина.
Его товарищем (заместителем) стал
Владимир Пуришкевич, историк и
филолог по образованию. Пуришкевич
был талантливым оратором и, между
прочим, сочинял стихи. Вот одно из
написанных им стихотворений (его
часто цитировали позднее противники
В. Пуришкевича как образец
антисемитской поэзии):
Гей, нарол, мололиы из торговых
рялов,
Православные русские люли!
Вон их! к чёрту! носителей
смутных голов,
Что слушили славянские грули!
Пусть исчезнут, каклым, как неголный
туман,
Сотни лет проживали мы лружно,
А сейчас погибаем от скорби и ран.
Пусть и белен нарол, пусть нарол наш
и пьян,
А жиловской Руси нам не нужно.
Погибший во время еврейского погрома.
Начало XX в.
из
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
Е. Лансере. «Радость на земле основных
законов рали». Карикатура на
демонстрацию черносотенцев
(газета «Адская почта», 1906 г.).
ДЕЛО БЕЙЛИСА
20 марта 1911 г. в одной из пешер под
Киевом обнаружили тело убитого
12-летнего Андрея Юшинского. Перед
этим Андрея последний раз видели
12 марта. Преступник (или
преступники) действовал с крайней жестокостью.
На голове и груди убитого насчитали
около 45 колотых ран, нанесённых
ножом и чем-то тонким вроде гвоздя или
шила. Руки погибшего были связаны.
«Когда об этом стало известно в
Киеве, —вспоминал В. Шульгин,—то вдруг
воскресла, впрочем не умиравшая,
легенда о том, что евреи совершают
ритуальные убийства с истечением крови.
Кровь эта будто бы им нужна для
освящения так называемой „мацы",
являющейся у евреев священным хлебом».
На похоронах А. Юшинского один
бывший член «Союза русского народа»
раздавал листовки такого содержания:
«Православные христиане! Жидами
замучен мальчик Андрей Юшинский.
шли четверо читателей: рабочий, ремесленник, торговец,
чиновник Он так передавал разговор в редакции:
«— Какое они имеют право! — вдруг страшно рассердился
лавочник — Ты красной тряпке поклоняешься — ну и чёрт с
тобой! А я трёхцветной поклоняюсь. И отцы и деды поклонялись.
Какое ты имеешь право мне запрещать?
— Господин редактор, мы хотим тоже, как они,
демонстрацию, манифестацию... Только они с красными, а мы с
трёхцветными...
— Возьмём портрет государя императора и пойдём по
всему городу... Вот что мы хотим... Отслужим молебен и крестным
ходом пойдём...
— Они с красными флагами, а мы с хоругвями...
— Они портреты царские рвут, а мы их, так сказать,
всенародно восстановим...».
На «патриотические шествия» повсюду решено было
собираться у стен храмов. Начинались они церковными службами. На
такие демонстрации по всей стране вышли сотни тысяч людей.
Они несли российские флаги, иконы, портреты царя.
Праздновали отчасти манифест 17 октября, отчасти годовщину
вступления на престол Николая И (21 октября). Кое-кто выкрикивал, что
надо бить смутьянов — студентов и евреев.
Начавшись с простого шествия, события развивались по
нарастающей. Некоторые участники демонстрации останавливали
прохожих и требовали от них снимать шапки перед портретом
государя. С тех, кто не хотел обнажить голову, шапки сбивали.
Конечно, это вызывало ответное возмущение, и в демонстрантов
часто летели камни. В Иваново-Вознесенске большевик В. Морозов
в ответ на требование снять шапку обозвал Николая И сволочью,
выстрелил в портрет и застрелил двух демонстрантов. Самого его
за это сильно избили, арестовали и приговорили к каторге.
Стреляли в черносотенцев и в других городах; например, в
Одессе в демонстрантов бросали бомбы, причём подорвался и
погиб один из бросавших, анархист Яков Брейтман. Порой
вспыхивали уличные схватки между революционерами и
черносотенцами. Такие происшествия почти везде перерастали в погромы,
направленные против «интеллигентов и инородцев», главным
образом евреев.
Кое-где демонстранты просто разбивали камнями витрины
магазинов и окна домов, принадлежащих евреям. Но чаще всего
это сопровождалось и грабежом: толпа врывалась в дома,
выбрасывала на улицу имущество. Любая попытка самозащиты
вызывала возмущение толпы и влекла за собой многочисленные жертвы.
Говорили, что покарать «крамольников» разрешил сам царь.
В Томске имел место следующий характерный случай. Шествие
приблизилось к магазину, и один из демонстрантов громко
спросил у царского портрета: «Разрешаете громить, Ваше
Величество?». «Разрешаю», — отвечал человек, нёсший портрет...
В. Шульгин так описывал картину погрома:
«Это была улица, по которой прошёлся „погром".
114
ЧЕРНОСОТЕНиЫ
— Что это? Почему она белая?..
— Пух... Пух из перин.
Страшная улица... Обезображенные жалкие еврейские
халупы... Все окна выбиты... Местами выбиты и рамы... Точно
ослепшие все эти лачуги. Между ними, безглазыми, в пуху и в грязи —
вся жалкая рухлядь этих домов, перекалеченная, переломанная...
Стулья, диваны, матрацы, кровати, занавески, тряпьё...
полувдавленные в грязь, разбитые тарелки... — всё, что было в этих
хибарках, искромсанное, затоптанное ногами...».
В течение двух недель после манифеста уличные беспорядки
произошли более чем в ста городах По данным историка С.
Степанова, погибло 1622, ранено было 3544 человека. В число жертв
попали как евреи, так и русские «смутьяны» — студенты,
интеллигенты. Из тех погибших и раненых, чья национальность известна,
евреи составляли 50%, русские и другие славяне — около 44%.
«СОЮЗ РУССКОГО НАРОДА»
В октябре 1905 г. черносотенное движение впервые переросло в
массовое и распространилось по всей стране. В ноябре
возникла самая крупная и известная черносотенная организация —
«Союз русского народа» (СРН). Вышел первый номер её газеты
«Русское знамя».
Вскоре отделения СРН образовались по всей стране. Кое-где
крестьяне вступали в союз целыми деревнями. Руководители
союза утверждали, что он резко отличается от любой политической
партии. Если партия защищает сословные, классовые интересы,
то СРН выражает интересы всех сословий и классов русского
общества.
Через некоторое время, однако, в черносотенном движении
сложились два различных направления. Одно направление в
первую очередь защищало привилегии дворянства, землевладельцев.
Это направление возглавляли Владимир Пуришкевич и Николай
Марков. Последний как-то раз удачно сравнил весь класс
помещиков с вымирающими зубрами. В защите этих «зубров» от
вымирания он видел свою основную задачу.
Другое направление во главе с Александром Дубровиным
было ближе к низам общества, охватывало часть крестьянства. В
его лозунгах часто своеобразно отражались крестьянские
требования. Например, А Дубровин резко выступил против
уничтожения общины в ходе столыпинской реформы.
Характерным выразителем этого течения черносотенства
являлся проповедник из Царицына иеромонах Илиодор (в
миру — Сергей Труфанов). Илиодор входил в «Союз русского
народа». В страстных и зажигательных проповедях он призывал
бороться с богачами, чиновниками и интеллигентами.
«Проповеди монаха привлекали толпы жителей заводских
посёлков под Царицыном, — замечал историк С. Степанов. — Он
говорил с ними на понятном им языке и о понятных им вещах.
Вообще события в Царицыне чем-то напоминали народные дви-
Жиды ежегодно, перед своей Пасхой,
замучивают несколько десятков
христианских мальчиков, чтобы их кровь
лить в мацу. Русские люди, если вам
дороги ваши дети, бейте жидов, бейте
до тех пор, пока хотя один жид будет
в России. Пожалейте ваших детей!
Отомстите за невинных страдальцев!
Пора! Пора!».
29 апреля в Государственной думе 39
черносотенных депутатов обратились
к министрам с запросом: «Известно ли
вам, что в России существует
преступная секта иудеев, употребляющая для
некоторых религиозных обрядов
своих христианскую кровь, членами
каковой секты замучен в марте 1911 г. в
Киеве мальчик Юшинский?».
Вокруг запроса разгорелись жаркие
дебаты. «Наша детвора, — горячо
восклицал Н. Марков, — гуляюшая на
солнце, веселящаяся, радующаяся в
садиках, каждую минуту может
попасть в беду, к ней может подкрасться
с длинным кривым ножом жидовский
резник и, похитив резвящегося на
солнышке ребёнка, утащить его к себе в
жидовский подвал и там выпустить из
него кровь. Надо преследовать всю
зловредную иудейскую секту, которая
собирает в чашки детскую кровь,
истекающую из зарезанных детей, и
рассылает эту кровь по иудеям —
лакомиться пасхальным агнцем,
лакомиться пасхой, изготовленной на крови
христианских младенцев!»
Кадет Л. Нисселович в ответ
цитировал буллу Папы римского Григория,
изданную в 1235 г. В ней говорилось, что
евреи невиновны в употреблении
крови христиан. Те же, кто обвиняет их в
этом, «злоупотребляют христианством,
стараясь прикрыть им свою алчность к
еврейским деньгам». В конце концов
депутаты отклонили запрос
большинством в 140 голосов против 60.
Но дело продолжало развиваться. Вся
черносотенная печать обвиняла в
смерти мальчика иудеев. 22 июля по
подозрению в убийстве А. Юшинско-
го арестовали 42-летнего еврея
Менделя Бейлиса, приказчика
кирпичного завода.
Одна свидетельница говорила, что
будто бы Бейлис схватил Юшинского
прямо на глазах у других детей. При
115
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
этом убийцу сопровождали два еврея
в необычных одеждах. Но эти
показания, очень противоречивые,
вызывали большие сомнения. К тому же
свидетельница сама находилась под
подозрением.
25 сентября 1913 г. в Киеве над М. Бей-
лисом начался судебный процесс,
который привлёк внимание всей страны.
П. Милюков считал, что в этом
судебном деле «воплотилась вся неправда
режима, всё его насилие над
личностью». Революционные партии
грозили всеобщей забастовкой в случае
осуждения Бейлиса. Совершенно
неожиданно из-за дела об убийстве
общество оказалось чуть ли не на грани
революции.
Весьма необычным для крупного
города, каким был Киев, оказался подбор
присяжных заседателей. В их число не
попал ни один интеллигент, а
некоторые были малограмотными. Писатель
Владимир Короленко, бывший на суде,
описывал их так: «Пять деревенских
кафтанов, несколько шевелюр,
подстриженных на лбу, на одно лицо,
точно писец с картины Репина
„Запорожцы". Несколько сюртуков, порой
довольно мешковатых. Лица то серьёзные
и внимательные, то равнодушные, двое
нередко „отсутствуют". Семь крестьян,
три мешанина, два мелких чиновника».
Черносотенцы надеялись, что такой
состав присяжных признает М.
Бейлиса виновным. 30 октября заседатели
удалились на совещание. Всеобщее
напряжение дошло до высшей отметки.
В случае осуждения в Киеве ожидали
погрома и вообше непредсказуемых
беспорядков по всей стране. В этой
предгрозовой атмосфере вердикт
присяжных произвёл впечатление удара
молнии: «Невиновен!».
В. Короленко вспоминал: «Около
шести часов разносится молнией известие,
что Бейлис оправдан. Виднеются
многочисленные кучки народа,
поздравляющие друг друга. Русские и евреи
сливаются в обшей радости. Кошмары
тускнеют. Исключительность состава
присяжных ешё подчёркивает значение
оправдания».
Сам Мендель Бейлис позднее
эмигрировал в Америку, где и скончался в
1934 г.
жения XVII—XVIII вв. Среди народа распространялись слухи, что
Илиодор — побочный брат Николая II. Около храма было
водружено огромное чучело дракона с надписью: „Гидра революции".
По окончании проповеди Илиодор отсекал голову гидре».
ВО II ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
На выборах в I Государственную думу черносотенцы не
получили ни одного мандата. Сами они объясняли это тем, что почти
не участвовали в предвыборной борьбе. А. Дубровин так говорил
о Думе: «Как верный монархист, я не имею права своим
участием санкционировать существование этого сборища,
посягающего на неограниченные права монарха».
Во II Государственной думе было около 1б крайне правых
депутатов. Самым заметным и ярким из них считался В. Пуриш-
кевич. Советский историк Семён Любош так описывал его:
«Совершенно голый череп, рыжая бородка и необыкновенная
вертлявость. При этом крикливый голос и вызывающая манера
говорить. У Пуришкевича именно тон делал всю музыку. Самые
обыкновенные фразы часто приобретали в его устах необыкновенно
оскорбительный характер. Так как совершенное бессилие Думы
выяснилось очень скоро, то перманентные выходки
Пуришкевича в глазах большой публики оживляли парламентскую
безнадёжность». В Таврический дворец специально приходили
«полюбоваться на Пуришкевича».
Осуждая «крамольную» Думу, В. Пуришкевич тем не менее
ценил свой депутатский мандат. Когда прошёл слух, что его
собираются сделать губернатором, Пуришкевич сказал по этому
поводу: «Из попов в дьяконы не идут. Дурак я был бы променять
положение депутата Госдумы и товарища председателя СРН на
положение казённого чиновника».
Все черносотенцы горячо выступали за роспуск II
Государственной думы, в которой преобладали левые. Иеромонах
Илиодор даже говорил, что в левую часть Государственной думы надо
бы бросить бомбу.
Николай II не раз принимал А Дубровина и высоко ценил
его выступления против Государственной думы. 3 июня 1907 г.
она, наконец, была распущена царским указом. На следующий
день Николай совершил поразивший всех шаг: он направил А
Дубровину телеграмму, в которой говорилось: «Да будет же мне
„Союз русского народа" надёжной опорой, служа для всех и во
всём примером законности и порядка».
В III И IV ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДУМАХ
В III Государственной думе крайне правые получили около 45
мест. Ряды депутатов-черносотенцев пополнились ещё одним
ярким лидером — членом курского СРН Николаем Марковым. По
внешнему облику он очень напоминал Петра I, и его быстро
окрестили Медным всадником. Руководитель кадетов Павел Ми-
116
ЧЕРНОСОТЕНЦЫ
люков называл Маркова «стоеросовым помещиком-дворянином».
Состав III Государственной думы был гораздо более правым,
чем во II Думе. Большие преимущества на выборах получили
помещики. Это в конечном итоге привело к расколу среди
черносотенцев. До сих пор они могли единым фронтом выступать
против «революционной» Думы. Теперь их взгляды на Думу резко
разошлись.
«Дубровинское» направление категорически отрицало
необходимость такого учреждения. Народу не нужен парламент, в
котором заседают помещики и «денежные мешки», считал А.
Дубровин. Это новая перегородка, отделяющая государя от народа.
Такая позиция во многом отражала точку зрения простонародья.
Вожди «дворянского» направления черносотенства думали
иначе. Их отношение ясно выразил в 1910 г. Н. Марков: «Можно
быть недовольным третьей, четвёртой Думой, двадцатой,
разгоните их, выберите настоящую, русскую, но как учреждение
Государственная дума необходима: без этого России не существовать».
В 1908 г. «Союз русского народа» раскололся. В. Пуришке-
вич создал новую черносотенную организацию — «Союз
Михаила Архангела». В его программе подчёркивалось, что
единственное отличие нового союза от СРН — признание необходимости
законодательной Думы.
В Думе черносотенцы играли роль «пробивной силы» при
обсуждении правых законопроектов. В частности, они
выступали за ограничение прав инородцев в России. Н. Марков
восклицал с думской трибуны в 1910 г.: «Россия, тебе грозят азиаты,
грозят подвластные тебе инородцы. Опомнись, Россия, наша ино-
родчина вконец обнаглела. Говорим вам: „Прочь, мелкота, — Русь
идёт!"».
Вместе с другими правыми черносотенцы голосовали за
ограничение автономии Финляндии. «Пора это зазнавшееся
Великое княжество Финляндское, — говорил В. Пуришкевич, —
сделать таким же украшением русской короны, как Царство
Казанское, Царство Астраханское, Царство Польское и Новгородская
Пятина, и мне кажется, что дело до этого и дойдёт»
(Рукоплескания справа?).
ВIV Думе черносотенцы увеличили своё представительство
до 140 депутатов, превратившись в самую крупную фракцию.
СУД НАД ПУРИШКЕВИЧЕМ
Сразу после Февральской революции 1917 г. «Союз русского
народа» и другие черносотенные организации были запрещены. Их
деятельность прекратилась. 5 марта исполком Петросовета
закрыл газету «Русское знамя».
Одним из немногих черносотенцев, продолжавших борьбу,
оказался В. Пуришкевич. Он горячо восклицал в июле 1917 г.:
«Спасите Россию! Если бы было покончено с тысячью, двумя, пусть
пятью тысячами негодяев на фронте и несколькими десятками в
тылу, то мы не страдали бы от такого беспрецедентного позора».
ТЕРРОРИСТЫ-ЧЕРНОСОТЕНЦЫ
Революционный террор народовольцев
и эсеров в России начала XX в. не
вызывал ни у кого удивления. Но
совершенно новым и неожиданным
явлением 1906—1907 гг. оказался
«черносотенный индивидуальный террор».
Первым и самым известным
покушением черносотенцев стало покушение
на видного кадета Михаила Герцен-
штейна. Он был убит в июле 1906 г.
(см. ст. «Столыпинская земельная
реформа»). Решение об этом убийстве
приняло руководство «Союза
русского народа» (СРН) во главе с А.
Дубровиным.
Следующее покушение А. Дубровин
решил организовать на бывшего
премьер-министра Сергея Витте. 29
января 1907 г. его истопник обнаружил в
печи яшик, подвешенный на
спускающейся из печной трубы длинной
верёвке. В ящике оказалась «адская
машина» с часовым механизмом. Такое же
устройство нашли и в соседней трубе.
Начальник столичной охранки А.
Герасимов тотчас прибыл на место
происшествия. Он вспоминал: «Механизм
часов был испорчен, почему взрыв и
вообще не мог произойти. Для меня
достаточно было беглого взгляда на эту
„адскую машину", чтобы понять, что
это не дело рук революционеров. Так
грубо и неумело повести дело могли
только дружинники СРН». Однако ни
арестов, ни судов по этому делу так и
не было. Впрочем, С. Витте
постарался отплатить А. Дубровину в своих
воспоминаниях. В них он не раз называл
лидера СРН «мазуриком»,
«каторжником», «лейб-кабатчиком» и т. п.
Организатором покушения на С.
Витте выступил черносотенец и тайный
сотрудник полиции А. Казанцев. В
качестве исполнителей он выбрал двух
революционно настроенных, но весьма
простодушных рабочих — В.
Фёдорова и А. Степанова. Им он назвал себя
членом партии эсеров-максималистов.
После неудачи в деле Витте
террористы отправились в Москву, где
Казанцев заявил, что необходимо казнить
«изменника», укравшего партийные
117
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
деньги. 14 марта В. Фёдоров
застрелил этого человека — редактора
«Русских ведомостей» кадета Григория
Иоллоса. После этого убийства
рабочие, несмотря на свою наивность,
заподозрили неладное. Они
допытывались, почему А. Казаниев не умеет
говорить, как революционные агитаторы.
«Тут я немного понял, — рассказывал
В. Фёдоров, — что, видится, вместо
максималистов попал к чёрной сотне».
Наконец рабочие обнаружили у своего
руководителя списки членов «Союза
русского народа».
В мае террористы отправились в лес на
окраине Петербурга, чтобы зарядить
динамитные бомбы. Когда А. Казаниев
занялся начинкой бомб, В. Фёдоров
подошёл к нему сзади и кинжалом убил
его. Вскоре после этого Фёдоров
уехал за границу и опубликовал
подробный рассказ о деле.
Карикатура на черносотенцев.
Открытка 1907 г.
В октябре он создал подпольную монархическую
организацию из офицеров и членов бывшего «Союза Михаила
Архангела». Заговорщики достали пулемёт, другое оружие. Уже после
Октябрьского переворота В. Пуришкевич писал донскому
казачьему атаману А. Каледину: «Организация, в коей я состою, работает
не покладая рук над спайкой офицеров и над их вооружением.
Властвуют преступники и чернь, с которой теперь нужно будет
расправиться только публичными расстрелами и виселицами.
Мы ждём Вас сюда, генерал, и к моменту Вашего прихода
выступим всеми наличными силами».
Однако новые власти быстро раскрыли неопытных
подпольщиков. 18 ноября В. Пуришкевича (жившего под фамилией
Евреинов) и его единомышленников арестовали.
28 декабря 14 подсудимых предстали перед Петроградским
революционным трибуналом. Это был первый крупный
политический суд в стране Советов. 3 января Пуришкевича
приговорили к одному году тюремного заключения. Сходные приговоры
вынесли и его соратникам.
Отбывая наказание в Петропавловской крепости, В.
Пуришкевич написал цикл стихов под названием «Песни
непокорённого духа». Но уже 17 апреля по решению ЧК его выпустили из
тюрьмы, а 1 мая окончательно амнистировали. Освободили и его
«сообщников».
Выйдя из тюрьмы, В. Пуришкевич опубликовал в газете
«Новая жизнь» краткое письмо, где подчёркивал неизменность своих
убеждений. «Я остался тем же, кем был, само собой разумеется, не
изменившись ни на йоту», — писал он. Вскоре Пуришкевич уехал
на юг, где примкнул к Добровольческой армии А.Деникина.
Издавал в Ростове-на-Дону
черносотенный журнал «Благовест». В
феврале 1920 г. скончался в
Новороссийске от сыпного тифа.
Судьбы других
черносотенцев после Октября 1917 г.
сложились весьма
разнообразно. Н. Марков оказался одним из
видных деятелей эмиграции.
А. Дубровина расстреляла ЧК
осенью 1918 г. во время
«красного террора». Бывший монах
Илиодор (в 1912 г. утративший
сан) приветствовал
Октябрьский переворот. Он создал в
Царицыне «мистическую
коммуну» и провозгласил себя
«русским Папой». В 1922 г. его вы-
. слали за границу.
ЕВГЕНИЙ
АЗЕФ
полиция
И РЕВОЛЮЦИОННОЕ
ДВИЖЕНИЕ
История политической полиции и история революционного
движения в России начала XX в. тесно соприкасаются друг с
другом. Порой они даже переплетаются между собой, образуя
единое целое. Между полицией и революционерами не только
кипела ожесточённая борьба: нередко случалось, что
представители одного лагеря переходили в другой.
Более того, о некоторых политических фигурах до сих пор
идут горячие споры среди историков. Обсуждается вопрос, кем
они были: то ли видными революционерами, то ли столь же
видными полицейскими деятелями?
История взаимоотношений полиции и революционного
движения ярко отразилась в биографиях трёх непохожих друг на друга
людей: Евгения Азефа, Георгия Гапона и Сергея Зубатова.
ЕВГЕНИИ АЗЕФ
(1869—1918)
Имя этого человека революционеры ставили наравне с
именами вождей «Народной воли». Он сумел добиться не только
непререкаемого авторитета, абсолютного доверия, но и настоящей
любви своих товарищей.
Евгений Филиппович (Евно Фишелевич) Азеф родился в
1869 г. в местечке Лысково под Гродно в семье еврея-портного.
Детство его прошло в крайней бедности. Чтобы «выйти в люди»,
помогать своим родным, требовалось прежде всего хорошее
образование. 2 2-летний Евгений отправился в Германию, в
Карлсруэ, учиться на инженера. Во время учёбы он испытывал
отчаянную нужду, как вспоминали его друзья, «терпел голод и холод».
Тогда же Евгений Азеф начал участвовать в революционных
кружках русского студенчества. Товарищи запомнили его как
искреннего идеалиста, страдающего за народ. Они называли его
«светлой личностью». С деспотической властью, считал Азеф,
ТОВАРИЩИ О ЕВГЕНИИ АЗЕФЕ
По словам эсера Виктора Чернова,
товарищи Евгения Азефа считали, что
«натура у него скрытная, сдержанная,
но по существу отзывчивая и нежная».
Как-то раз, когда один бежавший с
каторги эсер рассказывал, как его
пороли розгами, Азеф расплакался. «Он
делил с революционерами их жизнь,
полную тревог, опасностей и глубоких,
трагических переживаний, — замечал
Чернов. — Он принимал последнее
„прости" людей, идуших на смерть. В
революции он завоевал себе
положение, напоминавшее положение
Желябова...»
«Все работавшие с ним в терроре
товарищи, — вспоминал боевик
Владимир Зензинов, — не только безмерно
уважали, но и горячо его любили».
Азеф прекрасно разбирался в людях.
Один из его полицейских начальников,
Александр Герасимов, писал, что в
Азефе его «каждый раз поражало умение
понимать мотивы поведения самых
разнокалиберных людей». При Азефе
в Боевую организацию не смог
проникнуть ни один сотрудник полиции
(конечно, кроме него самого).
119
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
АРЕСТ АЗЕФА
Единственный арест за всё время
деятельности Е. Азефа в Боевой
организации произошёл так. В апреле 1906 г.
полиция выследила группу из трёх
человек, готовивших покушение на
министра внутренних дел Петра
Дурново. Четвёртый человек (это был Азеф)
встречался со всеми тремя и явно
руководил ими. Начальнику
Петербургского охранного отделения А.
Герасимову бросилось в глаза, что филёр
Е. Медников в докладах называет
этого четвёртого «нашим Филипповским».
А. Герасимов вспоминал: «ЭтотФилип-
повский, по словам Медникова, один
из самых важных и ценных секретных
сотрудников. Поразительное известие!
Мне не приходилось никогда слышать
об агенте с таким именем. И я решил
взять быка за рога... Примерно 15
апреля мои филёры подстерегли Филип-
повского на одной из безлюдных улиц,
схватили его под руки и честью
попросили следовать за ними.
В Охранном отделении разыгралась
короткая, но оживлённая сцена.
Арестованный предъявил паспорт и
документы. „Я — инженер Черкас. Меня
знают в Петербургском обществе. За
что я арестован?" Он кричал, грозил
прессой, ссылался на именитых друзей.
Я дал ему выговориться, а затем
коротко сказал: „Всё это пустяки. Я знаю, вы
раньше работали в качестве нашего
секретного сотрудника. Не хотите ли
поговорить откровенно?".
„Филипповский-Черкас" был
чрезвычайно поражён. „О чём вы говорите?
Как это пришло вам в голову?" — „Это
безразлично, — ответил я. — Скажите:
„да" или „нет"?" Он сказал: „нет", но это
„нет" звучало весьма неуверенно».
Герасимов предложил Азефу
«подумать» и велел посадить его в
одиночку. Через два дня Азеф попросил о
встрече и сказал: «Я сдаюсь. Да, я был
агентом полиции и всё готов
рассказать откровенно. Но хочу, чтобы при
этом разговоре присутствовал мой
прежний начальник, Пётр Иванович
банковский». Герасимов позвонил Рач-
ковскому и пригласил его. Он
вспоминал об этой встрече: «С обычной сво-
можно бороться только террором. «Главное — террор!» —
восклицал он не раз.
В 1899 г., получив диплом инженера, Е. Азеф приехал в
Россию. Здесь он вместе с Г. Гершуни стал создателем новой
партии — социалистов-революционеров (эсеров). Основным
методом борьбы эсеры признавали именно террор. Азеф выделялся
среди своих товарищей весьма редкими в этом кругу деловыми
качествами. Его часто называли «золотые руки». «За что он ни
брался, — вспоминал Виктор Чернов, — дело у него кипело.
Говорил он мало — особенно при большой публике. То немногое,
что он говорил, всегда как будто нехотя, было взвешено и
продумано до конца». Вполне понятно, почему при этих качествах в
1903 г. именно Е. Азеф возглавил Боевую организацию эсеров.
Такую биографию Е. Азефа знали тогда его товарищи.
Однако, оказывается, существовала и вторая биография, о которой
они не имели понятия. Началась она ещё в 1893 г. Пытаясь
всеми средствами выбиться из нищеты, Е. Азеф направил письмо в
русскую полицию. За небольшую плату он предложил ей свои
услуги. В течение нескольких лет он добросовестно сообщал
полиции о студенческих революционных кружках. Помог
раскрыть крупную нелегальную типографию, арестовать ряд
подпольных групп.
Возможно, переломный момент в судьбе Е. Азефа наступил
в апреле 1903 г., когда в Кишинёве произошёл еврейский погром.
Он сопровождался массовыми убийствами, в том числе женщин
и детей. Полиция никак этому не препятствовала, а главным
вдохновителем погрома считался министр внутренних дел Вячеслав
Плеве. Азефа происшедшее потрясло и возмутило. Он не
скрывал этого даже в разговоре со своим полицейским начальником
Сергеем Зубатовым. По воспоминаниям последнего, Азеф
«трясся от ярости и с ненавистью говорил о Плеве».
Под руководством Е. Азефа осенью 1903 г. Боевая
организация эсеров приступила к подготовке убийства Плеве. На этот раз
Азеф решил не выдавать властям замыслы террористов. В то же
время он заранее подготовил себе оправдание перед полицией:
туманно сообщил, что Егор Сазонов (один из его боевиков)
«затевает что-то важное».
После нескольких тяжёлых неудач и гибели одного из
членов организации боевики едва не бросили дело. Азеф удержал
их. «Плеве будет убит», — убеждённо повторял он. Как писал
Борис Савинков, «настойчивость Азефа, его спокойствие и
уверенность подняли дух организации. Азеф возродил организацию...».
На последнем свидании с боевиками перед покушением Азеф
«казался спокойным, внимательным, преувеличенно ласковым».
Как вспоминала одна из них, П. Ивановская, при расставании он
их всех расцеловал. Много лет спустя Азеф говорил: «Когда я
тогда целовал Сазонова, это не был поцелуй Иуды».
15 июля 1904 г. Е. Сазонов швырнул бомбу в карету В.
Плеве — министра убило на месте. Это произвело потрясающее
впечатление на всю Россию. Историк Ю. Николаевский писал: «Ав-
120
ЕВГЕНИЙ
АЗЕФ
торитет Азефа поднялся на небывалую высоту. Он сразу стал
настоящим „героем" партии. Е. К Брешковская — старая
революционерка, уже отбывшая две каторги в Сибири, —
приветствовала его по старорусскому обычаю: низким поклоном, до самой
земли».
Сохранилось воспоминание П. Ивановской, как Азеф в
Варшаве встретил весть об убийстве Плеве: «Азеф рванул
дрожащими руками телеграмму: „Замордовано Плевего" (убийство
Плеве), — громко читал он, и вдруг осунулся, опустив руки вдоль тела.
„У меня отнялась поясница", — объяснил он». До сих пор Е. Азеф
мог опасаться разоблачения только с одной стороны. Теперь вся
его жизнь превращалась в смертельно опасную игру на два
фронта. «Долгие годы, — писал позже В. Чернов, — с необыкновенной
выдержкой он балансировал на туго натянутом канате над
зияющей внизу пропастью».
17 февраля 1905 г. Боевая организация совершила ещё одно
громкое покушение. В Москве взрывом бомбы убило великого
князя Сергея Александровича. Разумеется, Азеф прекрасно знал
о подготовке этого акта.
Конечно, всё это время полиция не прекращала требовать
от него новых сведений. И он их давал, наводя её на своих
«соперников». Выдавал отряды боевиков, не связанные с Боевой
организацией. Выдавал своих политических противников в партии.
А участников собственной Боевой организации тщательно
оберегал от ареста.
В сентябре 1905 г. Азефу пришлось пережить неожиданное
потрясение. Важный полицейский чиновник Владимир
Меньшиков решил назвать эсерам двух сотрудников полиции в их рядах.
Одним из них был «инженер Азиев, еврей». По случайному
совпадению Азеф оказался дома у эсера Е. Ростковского, когда тому
пришло это письмо. Ростковский не знал, кто такой «Азиев», и
спросил Азефа. Тот побледнел, но хладнокровно отвечал:
«Инженер Азиев — это я. Моя фамилия Азеф».
Эсеры, конечно, не поверили обвинениям против главы их
Боевой организации. Он оставался «выше всяких подозрений».
С этого момента Азеф прервал своё сотрудничество с полицией.
У него имелось веское оправдание — по вине начальства он чуть
было не провалился.
Возможно, он хотел и окончательно порвать с полицией. В
октябре 1905 г., после провозглашения гражданских свобод, Азеф
заявил Чернову: «С террором покончено. Но одно дело, может
быть, ещё осталось сделать — единственное дело, которое
имело бы смысл. Это — взорвать всё Охранное отделение. Под
видом кареты с арестованными ввезти во внутренний двор
охранки несколько пудов динамита. Так, чтобы и следов от
деятельности всего этого мерзкого учреждения не осталось...».
Если бы охранное отделение взорвали, от полицейской
деятельности Азефа действительно «не осталось бы и следов». Тогда он
со спокойной душой мог бы полностью перейти на сторону
революции. Но среди эсеровских вождей его план поддержки не нашёл.
ей сладенькой улыбочкой Рачковский
разлетелся к „Филипповскому",
протягивая ему, как при встрече со старым
другом, обе руки. „А/ мой дорогой
Евгений Филиппович, давненько мы с
вами не видались. Как вы поживаете?"
Но „Филипповский" после двух дней
скудного арестантского питания
обнаруживал мало склонности к дружеским
излияниям. Он был чрезвычайно
озлоблен и не скрывал этого. Только в
самой смягчённой форме можно было бы
передать ту площадную ругань, с
которой он обрушился на Рачковского. В
своей жизни я редко слышал такую
отборную брань. „Вы покинули меня на
произвол судьбы, без инструкций, без
денег, не отвечали на мои письма.
Чтобы заработать деньги, я вынужден был
связаться с террористами", — кричал
на него Филипповский. Смущённый,
Рачковский чуть защищался, бросая
только слова: „Но, мой дорогой
Евгений Филиппович, не волнуйтесь так,
успокойтесь!"».
После этого бурного свидания работа
Азефа в полиции возобновилась.
«Азеф оказался моим лучшим
сотрудником в течение ряда лет, — писал
позднее А. Герасимов. — Мы в конце
концов сошлись на плане, по
которому арестов производиться не должно,
но в то же время совместными
действиями моими и Азефа все попытки
революционеров должны неизбежно
заканчиваться неудачей». Члены Боевой
организации эсеров, по словам
Герасимова, оказались у него «под
стеклянным колпаком».
121
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
Е. Азеф. Снимок сделан после 1910 г.
РАЗГОВОР БУРЦЕВА
И ЛОПУХИНА
Решающее подтверждение своих
подозрений против Е. Азефа В. Буриев
сумел получить в сентябре 1908 г.
Через Германию проезжал Алексей
Лопухин, бывший директор Департамента
полиции и начальник Азефа. Буриев
сел в тот же поезд и/ когда состав
тронулся, зашёл в его купе. Сначала
разговор шёл на обычные темы: о
литературе, политике... Затем Бурцев сказал,
что «страшные провалы, бывшие в
эсеровской партии, объясняются тем, что
во главе её Боевой организации стоит
агент-провокатор».
A. Лопухин промолчал. После этого
B. Бурцев, по его воспоминаниям,
сказал: «Позвольте мне, Алексей
Александрович, рассказать вам всё, что я знаю
об этом агенте-провокаторе. Я долго и
упорно работал над его
разоблачением. Он окончательно разоблачён
мною! Мне остаётся только сломить
упорство его товарищей, но это дело
короткого времени».
В апреле 1906 г. в судьбе Е. Азефа произошёл новый
неожиданный перелом: его арестовали. Спустя несколько дней
Азефа освободили, но работу на полицию ему пришлось
возобновить. Правда, вначале Азеф попробовал продолжать «двойную
игру» и в мае 1906 г. устроил в Москве покушение на генерал-
губернатора Фёдора Дубасова. Взрывом того выбросило из
коляски, слегка ранило, но он остался жив. После этого вновь
состоялась встреча Е. Азефа с его полицейскими начальниками —
П. Рачковским и А Герасимовым. Рачковский воскликнул,
указывая на АЗефа: «Это его дело в Москве!». Азеф спокойно отвечал:
«Если моё, то арестуйте меня!». Но на его арест начальство не
решилось.
Теперь Азефу пришлось более добросовестно трудиться на
полицию. Работа Боевой организации пошла вхолостую.
Боевики мучительно долго выслеживали намеченную жертву. Когда же
им это наконец удавалось, их «вспугивали». «Для этой цели, —
писал А. Герасимов, — у нас имелись особые специалисты,
настоящие михрютки: ходит за кем-нибудь, прямо, можно сказать,
носом в зад ему упирается. Уважающий себя филёр на такую
работу никогда не пойдёт, да и нельзя его послать: и испортится, и
себя кому не надо покажет».
Азеф выдал полиции ещё несколько боевых групп, помог
расстроить покушение на Николая И. После чего заявил
Герасимову: «Устал и хочу отдохнуть. Хочу спокойно пожить своей
частной жизнью». Тот разрешил ему отправиться «на пенсию»,
после чего Азеф увлечённо занялся подготовкой нового
покушения на царя. На этот раз он уже не собирался выдавать свои
планы полиции.
Но тут события приняли совершенно новый оборот. В
августе 1908 г. историк-эмигрант Владимир Бурцев направил
руководителям эсеров письмо, обвиняя Азефа в предательстве. В.
Бурцев ещё в 1906 г. узнал, что в руководстве эсеров действует
сотрудник полиции «Раскин». Постепенно он пришёл к выводу, что
«Раскин» — это Азеф. В сентябре 1908 г. В. Бурцев встретился с
бывшим директором Департамента полиции Алексеем
Лопухиным, который находился за границей. В. Бурцев рассказал об
успешных террористических актах, которыми руководил Е. Азеф.
Возмущённый Лопухин подтвердил, что Азеф — тайный
сотрудник полиции.
После этого разговора В. Бурцев потребовал от эсеров
назначить третейский суд над собой. В противном случае он
пригрозил опубликовать своё обвинение против Азефа. Эсеры
согласились и назначили судьями старых революционеров Германа
Лопатина, Веру Фигнер и Петра Кропоткина. Трудно было
представить более авторитетный состав суда.
Бурцев изложил судьям все свои подозрения. Затем перешёл к
свиданию с Лопухиным. Он вспоминал: «Я видел, что мои
слушатели были поражены рассказом и ждали всего чего угодно, но только
не этого. Меня не прерывали. Я чувствовал, как глубоко все
взволнованы и как все боятся своим волнением нарушить тишину».
122
ЕВГЕНИИ
АЗЕФ
Один из защитников Азефа, Б. Савинков, заявил на суде: «Я
обращаюсь к Вам, Владимир Львович, как к историку русского
освободительного движения и прошу Вас после всего, что Вам
мы рассказали здесь о деятельности Азефа, сказать нам, есть ли в
истории русского освободительного движения, где были Гершу-
ни, Желябовы, Сазоновы, более блестящее имя, чем имя Азефа?».
«Нет! — отвечал Бурцев. — Я не знаю в русском
революционном движении ни одного более блестящего имени, как Азефа.
Но только... под одним условием, если он — честный
революционер. Но я убеждён, что он — провокатор, агент полиции и
величайший негодяй!»
11 ноября 1908 г. Е. Азеф неожиданно явился на секретную
квартиру А. Герасимова в Петербурге. «Он пришёл не
предупредив, прямо с поезда, — вспоминал Герасимов. — Таким я его ещё
никогда не видел. Осунувшийся, бледный, со следами бессонных
ночей на лице, он был похож на затравленного зверя. Азеф был
совсем подавлен и разбит. Сидя в кресле, этот большой, толстый
мужчина вдруг расплакался: „Всё кончено, — всхлипывая
причитал он. — Мне уже нельзя помочь. Всю жизнь я прожил в вечной
опасности, под постоянной угрозой... И вот теперь, когда я сам
решил покончить со всей этой проклятой игрой, — теперь меня
убьют"».
Азеф сказал, что его выдаёт революционерам Лопухин.
Герасимов посоветовал ему пойти к Лопухину и уладить дело.
После встречи Азеф «пришёл бледный, в ещё большем отчаянии, чем
прежде». «Мы совершили очень серьёзный промах, я не должен
был туда идти. Лопухин несомненно находится в связи с
революционерами, и он передаст им о моём сегодняшнем
посещении. Сейчас я окончательно пропал».
Тогда Герасимов отправился к Лопухину сам. Узнав, в чём
дело, тот холодно заявил: «Ах, вы хлопочете по поводу этого
негодяя... Вся жизнь этого человека — сплошные ложь и
предательство. Революционеров Азеф предавал нам, а нас —
революционерам. Пора уже положить конец этой преступной двойной
игре». О приходе к нему Азефа Лопухин сообщил
революционерам. Это стало решающей уликой против Азефа. В декабре
Савинков с горечью заявил Бурцеву: «Вы правы во всём! Азеф —
агент полиции».
Поздно вечером 23 декабря 1908 г. к Азефу домой пришли
три товарища, в том числе В. Чернов и Б. Савинков. Они
предложили ему «откровенно рассказать о его сношениях с полицией».
Несколько минут Азеф молча ходил по комнате, выкуривая одну
папиросу за другой. Затем, взяв себя в руки, сказал: «Я никогда ни
в каких сношениях с полицией не состоял и не состою». Затем
он вдруг взглянул в глаза Чернову и взволнованно произнёс:
«Виктор, мы жили столько лет душа в душу. Как мог ты ко мне прийти
с таким... с таким гадким подозрением».
Посетители ушли, предложив Азефу «подумать» 12 часов.
После этого он тайно покинул свою квартиру и сел на венский
поезд. В прощальном письме он с возмущением писал: «Мне, од-
« Пожалуйста, Владимир Львович! —
отвечал Лопухин. — Я вас слушаю».
После этого Бурцев стал рассказывать
о деятельности Азефа. Позже он
вспоминал: «Интерес к рассказу у
Лопухина, видимо, возрастал. Я видел, что он
был совершенно потрясён
неожиданным для него рассказом об Азефе как
о главном организаторе убийства
Плеве. С крайним изумлением, как о чём-
то совершенно недопустимом, он
спросил меня: „И вы уверены, что этот агент
знал о приготовлении к убийству
Плеве?". „Не только знал, — отвечал я, —
но и был главным организатором
этого убийства"».
Лопухин был взволнован и потрясён:
ему открылось, что убийство его
начальника и личного друга В. Плеве
организовано его бывшим подчинённым.
«Затем я сообшил ему, — писал
Бурцев, — что всего лишь несколько
месяцев тому назад агент, о котором я
говорил, лично организовал покушение
на Николая II, которое если и не
удалось, то только помимо его воли...»
«Вы, будучи директором
Департамента полиции, не могли не знать этого
провокатора, — заявил Бурцев. — Он
был известен как Раскин, были у него
и другие клички...»
«Никакого Раскина я не знаю, а
инженера Евно Азефа я видел несколько
раз!» — решительно произнёс
Лопухин. Хотя В. Бурцев и ожидал
подобного признания, оно произвело на него
сильное впечатление. Важнейшее
свидетельство против Е. Азефа было
теперь в его руках.
123
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
ВСТРЕЧА АЗЕФА С БУРЦЕВЫМ
Никто из бывших товарищей после
1908 г. никогда больше не видел
Азефа. Только Бурцеву удалось узнать его
адрес и встретиться с ним 15 августа
1912 г. Два дня длились их беседы в
одном франкфуртском кафе.
Теперь Азеф не отрицал своих
сношений с полицией. Это была ошибка
молодости, утверждал он. Но потом он
даже полицию использовал в
интересах революции. Азеф говорил, что ешё
не известно, кому он принёс больше
пользы: революции или полиции. Да,
ему приходилось выдавать боевиков,
но благодаря этому удавались самые
дерзкие покушения. Разве другие
эсеры не посылали иногда боевиков на
верную смерть? С упрёком он сказал
Бурцеву: «Если бы не вы, Владимир
Львович, я убил бы царя».
«Но ведь дело не только в этом, —
заметил Бурцев. — Ведь вопрос имеет и
принципиальное значение». Азеф
взглянул на него с удивлением...
Священник Петербургской пересыльной
тюрьмы Г. Гапон.
ному из основателей партии с-р., приходят и говорят:
„Сознавайся — или мы тебя убьём". Это ваше поведение будет, конечно,
историей оценено. Мне же такое ваше поведение даёт моральную
силу предпринять самому, на свой риск все действия для
очистки своей чести. Моя работа в прошлом даёт мне силы и
подымает меня над смрадом и грязью, которой вы окружены теперь и
забросали меня».
25 декабря 1908 г. эсеры объявили Азефа провокатором.
Впечатление это произвело ошеломляющее. «Тому, кто сам не
пережил тех дней, — вспоминал В. Чернов, — трудно даже
вообразить себе овладевшую партией оторопь и ощущение
моральной катастрофы». Многие говорили: «Если Азеф — провокатор,
то кому же после этого верить? И как после этого жить?».
Между тем Азеф поселился в Берлине под именем купца
Александра Неймайера. Когда спустя несколько лет он
попытался встретиться со своей бывшей семьёй, его жена, искренняя
революционерка, чуть было не застрелила его.
В августе 1914 г. благополучная жизнь Е. Азефа внезапно
оборвалась: с началом войны он почти разорился. А спустя год, в
июне 1915 г., его арестовали германские власти как известного
русского бунтовщика и террориста.
Азеф попросил перевести его из Моабитской тюрьмы в
лагерь для гражданских лиц. «Почти по неделям ни с кем не могу
перемолвиться словом, — жаловался он. — Я болен, нервно
подавлен, не могу ни сосредоточить мыслей, ни читать, о
серьёзных занятиях уже нет речи, меня мучит бессонница, и мрачные
думы преследуют меня днём и ночью. Теперь я болен не только
телом, но и душой». Власти согласились перевести Азефа в
лагерь... под его настоящей фамилией. От этого ему пришлось
отказаться.
На свободу он вышел только в декабре 1917 г. Здоровье его
было подорвано, и 24 апреля 1918 г. Евгений Азеф скончался от
болезни почек Похоронили его на берлинском кладбище. За
фобом шёл только один человек — госпожа N., певица из
Петербурга, ставшая его спутницей жизни в последние годы. На его
могиле не поставили ни памятника, ни креста. Только дощечку без
имени, с одним номером — 466.
ГЕОРГИЙ ГАПОН
(1870—1906)
В 1905 г. вся Россия восхищалась этим человеком. Его называли
«вождём революции», «героем красного воскресенья». Почти в
каждой рабочей семье имелся портрет красивого, осанистого
священника с благородным высоким лбом.
124
Родился Георгий Аполлонович Гапон 5 (17) февраля 1870 г.
в селе Беляки близ Полтавы в крестьянской семье. Родители хотели,
чтобы сын стал православным священником, и отправили его
учиться в полтавскую семинарию. Позднее он продолжил учёбу в
духовной академии в Петербурге, которую закончил в 1903 г.
Молодой священник сочувствовал беднякам, бездомным и другом
«отверженным». Он часто заходил на заводы, в рабочие общежития,
городские ночлежки. По окончании академии занял место
священника в Петербургской пересыльной тюрьме.
Осенью 1902 г. отцом Георгием заинтересовался один из
руководителей столичной полиции Сергей Зубатов. Он
пригласил его к себе и предложил создать под опекой полиции
рабочие кружки. Конечно, такие кружки ни в коем случае не могли
заниматься политикой. Речь шла о взаимопомощи, культурном
и религиозном просвещении рабочих. Г. Гапон с радостью
взялся за дело.
Весной 1904 г. власти окончательно разрешили
деятельность общества во главе с Г. Гапоном. Оно называлось
«Собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга».
Первое время рабочие просто устраивали безобидные чаепития,
вечера с музыкой и танцами, открыли кассу взаимопомощи.
Полиция помогала обществу деньгами.
«Собрание» разрасталось: к концу 1904 г. в нём состояло уже
около 9 тыс. человек Но в декабре события внезапно приняли
неожиданный оборот. С Путиловского завода уволили четырёх
рабочих — членов общества. Их товарищи потребовали
восстановить уволенных на работе и 3 января объявили стачку.
Огромный завод остановился.
Начальник столичного охранного отделения Александр
Герасимов писал: «Это движение застало полицию врасплох.
Талона считали своим, а потому вначале не придавали забастовке
большого значения. Уже после начала забастовки с Гапоном
виделся петербургский градоначальник Фулон. Это был, говорят,
очень честный человек и хороший солдат... С Гапоном он был
давно знаком и доверял ему. То, что Гапон теперь делал, его
сильно смущало.
— Я человек военный, — заявил он Гапону, — и ничего не
понимаю в политике. Мне про Вас сказали, что Вы готовите
революцию. Вы говорите совсем иное. Кто прав, я не знаю.
Поклянитесь мне на священном Евангелии, что Вы не идёте против
Царя, — и я Вам поверю.
Гапон поклялся...».
Забастовка стала расти как снежный ком. Выдвигались всё
новые и новые требования. В городе прекратили выходить
газеты, перестал работать водопровод, отключили электричество и
газ. Столица погрузилась во тьму.
Утром в воскресенье 9 января 1905 г. многотысячные
колонны рабочих во главе с Г. Гапоном двинулись «к Царю», к Зимнему
дворцу. Рабочие шли семьями, с жёнами и детьми, несли
портреты Николая II и хоругви, пели молитвы. Одну из колонн, высоко
Г. Гапон и градоначальник И. Фулон
среди членов «Собрания русских
фабрично-заводских
рабочих Санкт-Петербурга».
125
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
ГЕОРГИЙ ГАПОН
ПЕРЕД 9 ЯНВАРЯ
Каждый лень после начала забастовки
в Санкт-Петербурге отеи Георгий
выступал со страстными речами перед
рабочими, переходя с одного митинга на
другой. Затаив дыхание, тысячи людей
ловили каждое его слово. Он обладал
необычайным даром красноречия;
простыми, понятными словами зажигал
людей и увлекал их за собой.
Позже Борис Савинков описывал одно
его гневное выступление: «Гапон
внезапно преобразился. Он как будто стал
выше ростом, глаза его загорелись. Он
с силой ударил кулаком по столу и
заговорил... Никогда и никто на моих
глазах не овладевал так слушателями, как
Гапон. У него был истинный ораторский
талант, и, слушая его исполненные
гнева слова, я понял, чем этот человек
завоевал и подчинил себе массы».
В начале января 1905 г. Георгий Гапон
составил знаменитую петицию рабочих
к иарю.
«Мы, рабочие и жители города
С.-Петербурга, — говорилось в ней, —
пришли к Тебе, Государь, искать правды и
зашиты. Не откажи в помоши Твоему
народу, выведи его из могилы
бесправия, нишеты и невежества, дай ему
возможность самому вершить свою
судьбу, сбрось с него невыносимый гнёт
чиновников. Разрушь стену между
Тобой и Твоим народом, и пусть он
правит страной вместе с Тобой».
Затем перечислялись просьбы
рабочих — ввести гражданские свободы,
созвать Учредительное собрание и
многие другие. В заключение
говорилось:
«Повели и поклянись исполнить их, и
Ты сделаешь Россию и счастливой, и
славной, а имя Твоё запечатлеешь в
сердцах наших и наших потомков на
вечные времена. А не повелишь — мы
умрём здесь, на этой площади, перед
Твоим дворцом. Нам некуда дальше
идти и незачем. У настолько два пути: или
к свободе и счастью, или в могилу».
В своих речах Г. Гапон разъяснял
рабочим: «Ну вот подам я царю петицию,
подняв перед собой крест, возглавлял священник Г. Гапон. Рядом
с ним шёл его знакомый, эсер Пётр Рутенберг.
Шествие встретили войска. Раздалось пение рожка
горниста, что означало команду «Огонь!». Большинство рабочих этого
не знали, но П. Рутенбергу смысл сигнала был хорошо известен.
При первом звуке рожка он толкнул Гапона на землю, а сам упал
возле него. Стоявшие рядом с ними люди погибли. Так Рутенберг
спас жизнь Гапону.
Лёжа на снегу под градом солдатских пуль, Рутенберг
обратился к нему: «Ты жив?». «Жив», — прошептал потрясённый
священник В перерыве между ружейными залпами друзья
вскочили и побежали прочь. Рутенберг отвёл Гапона на квартиру
писателя Максима Горького.
Немного придя в себя, Г. Гапон написал новое воззвание к
народу. «У нас нет больше царя! — восклицал он теперь. — Берите
бомбы и динамит — всё разрешаю!» За несколько дней новые
призывы Гапона прочла вся Россия. Скрываясь от ареста (и вероятной
казни), Г. Гапон вёл себя очень хладнокровно. Большевик
Владимир Бонч-Бруевич вспоминал: «Мне рассказывали очевидцы, что
он был очень спокоен, держался непринуждённо, не выказывал
никаких признаков волнения и совершенно не боялся».
Через некоторое время Г. Гапон благополучно оказался за
границей. Здесь он написал книгу «История моей жизни»,
составлял революционные воззвания. По словам А. Герасимова, в
России они «производили огромное впечатление на рабочих».
Вначале Гапон хотел примкнуть к социал-демократам,
беседовал с Владимиром Лениным и Георгием Плехановым. Потом
присоединился к эсерам. «Дольше, чем у других, — писал лидер
эсеров Виктор Чернов, — гостил он у нас, говоря, что мы не
болтуны, как разные иные прочие, а люди дела». Но и от эсеров
Гапон вскоре ушёл.
Причина заключалась в том, что интеллигенция
снисходительно смотрела на него как на какого-то «попа-выскочку»,
пробравшегося в её ряды. И уж конечно, она никак не могла признать
его одним из своих вождей.
Тогда Г. Гапон решил возвратиться в Россию. Здесь он снова
решил действовать через полицию. Однажды этот путь уже
привёл его к успеху.
Он вновь появился в Петербурге в декабре 1905 г. Составил
объяснительное письмо в Департамент полиции, где назвал
события 9 января «роковым недоразумением». Предложил
воссоздать рабочее общество под опекой властей.
Правительство согласилось и выделило Г. Гапону 30 тыс.
рублей. Однако на этот раз дело не ладилось. Казначей общества
скрылся, похитив 23 тыс. рублей.
Перед Талоном встал вопрос: где раздобыть деньги? Полиция
соглашалась заплатить ещё только в обмен на какие-нибудь ценные
сведения. Такими сведениями Г. Гапон не располагал. Тогда он решил
обратиться к своему старому другу эсеру П. Рутенбергу. Тому были
известны многие тайны Боевой организации эсеров.
126
ГЕОРГИЙ
ГАПОН
Рутенберг в то время нелегально жил в Москве. 6 февраля
1906 г. Гапон пришёл к нему. Он сказал, что хочет «повторить
девятое января, только в ещё большем размере». Для этого
нужны средства. Полиция готова их заплатить. Надо только назвать
членов Боевой организации эсеров, находящихся сейчас в
России. А чтобы этих людей не казнили, их можно вовремя
предупредить, и они скроются.
П. Рутенберг был глубоко взволнован и потрясён
услышанным. Однако он сделал вид, что готов подумать над этим
предложением, и немедленно отправился в Финляндию. Придя к
находившимся там Борису Савинкову и Евгению Азефу, Рутенберг
рассказал им о происшедшем и с горечью спросил: «Что теперь
делать?».
Возмущённый Азеф сказал, что с Гапоном «нужно покончить,
как с гадиной». Так же считали и другие видные эсеры. Было
решено убить его на встрече с Петром Рачковским — одним из
главных руководителей политической полиции.
Рутенберг отправился выполнять принятое решение. Но
устроить встречу с Рачковским ему не удалось. Тогда он решил
разоблачить Гапона при свидетелях и для этого снял около
границы с Финляндией пустующую дачу.
28 марта 1906 г. П. Рутенберг привёл туда нескольких
рабочих, бывших товарищами Гапона, и спрятал их в другой
комнате. Он предложил им быть судьями. Вскоре пришёл и сам Гапон.
Рутенберг сказал, что его мучает совесть. Он боится, что
выданных ими боевиков арестуют и казнят. Г. Гапон успокаивал его:
«Можно будет их предупредить, они скроются».
Рутенберг возразил, что все скрыться не смогут и
кого-нибудь повесят. «Ну что же! — ответил Гапон. — Жаль, но ничего не
поделаешь! Посылаешь же ты, наконец, Каляева на виселицу! Лес
рубят — щепки летят».
«Ну а если бы рабочие, — спросил Рутенберг, — хотя бы
твои, узнали про твои сношения с Рачковским?» — «Ничего они
не узнают. А если бы и узнали, я скажу, что сносился для их же
пользы».
Разговор слушали запертые в комнате рабочие. Один из них
потом рассказывал меньшевику Льву Дейчу, что «их страшно
томил этот казавшийся неимоверно долгим спор». «Не могу
передать, — сказал он, — какое отвратительное состояние ожидать с
минуты на минуту, что вот придётся убить человека».
«Я дёрнул замок, открыл дверь и позвал рабочих, —
вспоминал Рутенберг. — Они давно ждали, чтоб я их выпустил. Теперь они
не вышли, а выскочили... бросились на него со стоном: „А-а-а-а!".»
Г. Гапон восклицал: «Товарищи, всё, что вы слышали, —
неправда! Я сделал всё это ради бывшей у меня идеи...». «Молчи,
знаем твои идеи!» — с гневом оборвали его.
«Братцы! — попросил Гапон. — Простите меня — во имя
прошлого». «Ты нашу кровь продал охранке — за это нет
прощенья», — отвечали рабочие. «Нет у тебя прошлого. Ты его бросил к
ногам грязных сыщиков», — сказал ему один из них.
что я сделаю, если царь примет её?
Тогда я выну белый платок и махну им,
это значит, у нас есть царь. Что
должны сделать вы? Вы должны разойтись
по своим приходам и тут же выбрать
своих представителей в Учредительное
собрание. Ну а если царь не примет
петицию, что я тогда сделаю? Тогда я
подниму красное знамя, это значит,
что у нас нет царя, что мы сами
должны добыть свои права».
«Если же не пропустят, — продолжал
он, — то мы прорвёмся силой. Если
войска будут стрелять, мы будем
обороняться. Часть войск перейдёт на
нашу сторону, и тогда мы устроим
революцию... разгромим оружейные
магазины, разобьём тюрьму, займём
телеграф и телефон. Эсеры обешали
бомбы... и наша возьмёт».
Как вспоминал литератор В. Поссе,
он позже как-то спросил у Гапона: «На
что же вы рассчитывали, когда вели
рабочих к царю?». «На что? — отвечал
тот. — А вот на что! Если бы царь
принял делегацию, я упал бы перед ним на
колени и убедил бы его при мне же
написать указ об амнистии всех
политических. Мы бы вышли с царём на
балкон, я прочёл бы народу указ. Обшее
ликование. С этого момента я —
первый советник царя и фактический
правитель России. Начал бы строить Llap-
ство Божие на земле».
«Ну а если бы царь не согласился?» —
спрашивал Поссе. «Что же? Тогда было
бы то же, что при отказе принять
делегацию. Всеобшее восстание, и я во
главе его, — сказал Гапон и добавил с
лукавой улыбкой: — Чем династия
Романовых лучше династии Гапона? Пора в
России быть мужицкому царю, а во мне
течёт кровь чисто мужицкая, притом
хохлацкая».
127
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
ГЕОРГИЙ ГАПОН ПОСЛЕ
ДЕМОНСТРАЦИИ 9 ЯНВАРЯ
После расстрела шествия 9 января
Г. Гапон и П. Рутенберг, чудом
оставшиеся в живых, покинули место, где
войска стреляли в демонстрантов. В
одном из дворов Гапон снял свою
длинную рясу и накинул пальто,
подаренное каким-то рабочим. Чтобы изменить
внешность отца Георгия, Рутенберг
предложил тут же постричься и
вытащил заранее припасённые ножницы.
Потом Гапон изумлённо говорил:
«Какой хитрец этот Рутенберг —
ножницы захватил с собой!».
Прямо на глазах у стоявших вокруг
рабочих Рутенберг совершил
«пострижение» — обрезал священнику
бороду и укоротил волосы. «Как на великом
постриге, при великом таинстве, —
вспоминал П. Рутенберг, — стояли
окружавшие нас рабочие, пережившие
весь ужас только что происшедшего, и,
получая в протянутые ко мне руки
клочки гапоновских волос, с
обнажёнными головами/ с благоговением, как
на молитве, повторяли: „Свято"».
Волосы эти остались у рабочих как
своеобразные реликвии.
Гапона связали, накинули ему петлю на шею и повесили на
крюке вешалки. Рутенберг не смог присутствовать при казни
своего бывшего друга и вышел из комнаты. Потом он говорил Б.
Савинкову: «Я вижу его во сне. Он мне всё мерещится. Подумай, ведь
я его спас 9 января... А теперь он висит!».
Только месяц спустя тело убитого обнаружила хозяйка дачи.
3 мая «героя красного воскресенья» предали земле. В последний
путь его провожали две сотни рабочих, оставшихся до конца
верными своему наставнику. «Вы жертвою пали... — пропели они, а
потом возмущённо выкрикивали над гробом: — Месть! Месть!
Ложь! Ложь!»
На надгробном кресте сделали краткую надпись: «Герой
9 января Георгий Гапон».
С. Зубатов.
СЕРГЕИ ЗУБАТОВ
(1864—1917)
МОЛОДЫЕ ГОДЫ
Виднейший руководитель российской полиции Сергей
Васильевич Зубатов родился в Москве в 1864 г. Обучаясь в гимназии, он
увлёкся народническими идеями и вступил в кружок
революционной молодёжи. В 1882 г. Сергея исключили из гимназии, как
он тогда говорил, «за неблагонадёжность». После этого молодой
человек так и не смог продолжить своё образование.
Товарищи по кружку собирались на его квартире,
обменивались книгами, обсуждали прочитанное. Сергей пользовался
среди них немалым авторитетом. Друзья отзывались о нём как о
человеке обаятельном, умном и бескорыстном. Революционер
К Терешкович вспоминал Зубатова-гимназиста: «Впечатление он
сразу произвёл на меня очень хорошее. У него было
интеллигентное, умное и энергичное лицо с высоким лбом и гладкими,
откинутыми назад каштановыми волосами».
Однако вскоре в молодом народнике, по его собственному
признанию, созрело глубокое разочарование в революции. А
13 июня 1886 г. его вызвал к себе начальник Московского
охранного отделения подполковник Николай Бердяев. В беседе с ним
С. Зубатов неожиданно для себя узнал, что друзья тайно
использовали его квартиру для своих подпольных дел.
Теперь к идейному разочарованию присоединилось и
негодование на товарищей, «подставивших» его полиции. С.
Зубатов вспоминал: «Я дал себе клятву бороться всеми силами с этой
вредной категорией людей, отвечая на их конспирацию
контрконспирацией, зуб за зуб, вышибая клин клином». И он согласил-
128
СЕРГЕИ
ЗУБАТОВ
ся стать тайным сотрудником полиции. Благодаря сообщениям
С. Зубатова полиция арестовала нескольких его бывших
единомышленников. В 1887 г. революционерам стало ясно, что их
прежний товарищ тайно работает на полицию. После этого С. Зу-
батов продолжил свою службу уже открыто чиновником
Московского охранного отделения.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ЧИНОВНИК
Сергей Зубатов выделялся среди своих коллег хорошим
знанием революционеров и поистине выдающимися способностями.
Он невероятно быстро продвигался по службе и в 1889 г. уже стал
помощником самого Н. Бердяева. Генерал Александр Герасимов
вспоминал о С. Зубатове: «По внешности он напоминал собой
русского интеллигента, да, собственно, такой белой вороной
навсегда и остался в жандармской среде, хотя внутренне он, как
редко кто, сроднился с её деятельностью. Благодаря своим
незаурядным дарованиям и любви к делу Зубатов скоро выдвинулся
в ряд первых и наиболее влиятельных охранных деятелей».
Благодаря Сергею Зубатову политический сыск в России
стал отвечать требованиям времени. Например, он создал в
охранном отделении огромную картотеку подозреваемых. В неё
попадало имя любого, кто хоть однажды привлёк к себе даже
мимолётное внимание полиции. Историк В. Жилинский писал:
«Всякую справку на любое лицо можно было получить в
несколько минут. На карточках можно найти имена всех общественных
деятелей, высокопоставленных особ, почти всякого
интеллигентного человека, который хоть раз в жизни задумывался над
политикой». Общее число карточек достигало миллиона...
В 1896 г. С. Зубатов пересел в кресло Н. Бердяева, возглавив
Московское охранное отделение. Жандармский генерал Василий
Новицкий отмечал: «Зубатов настолько обошёл Бердяева...
сделался начальником Московского отделения с таким треском, что
убил совершенно всю службу Бердяева».
«ОТЕЦ ПОЛИЦЕЙСКОГО СОЦИАЛИЗМА»
Сергей Зубатов считал, что путём одного только подавления
справиться с революцией нельзя. Так можно заглушить
движение интеллигенции. Но иначе обстоит дело с движением
рабочих. Если пытаться подавить его запретами и арестами, это
вызовет ещё большее сопротивление и придаст революции
непреодолимую силу. Значит, надо позволить рабочим легально
защищать свои экономические права.
В апреле 1898 г. Сергей Васильевич открыто изложил эти
мысли в докладной записке московским властям. Он
подчёркивал, что «сил одной интеллигенции для борьбы с
правительством недостаточно даже в том случае, если они вооружаются
взрывчатыми веществами». Интеллигенция может стать грозной
силой, только если за ней пойдут другие сословия. «Пока рево-
ЧЕРНОВ НА ДОПРОСЕ
У ЗУБАТОВА
На допросах, вместо того чтобы грубо
«давить» на подследственных, С.
Зубатов предпочитал затрагивать
чувствительные стороны их натуры,
обращаться к их лучшим побуждениям.
Революционеру Виктору Чернову,
отказавшемуся давать показания, он, например,
говорил:
«Я Вас хорошо понимаю. Скажу
больше: я одобряю, я всецело одобряю
такой образ действий. Я сам был молод;
я сам был в Вашем положении. Вы
спросите: почему же я теперь сижу здесь,
на этом кресле? Да потому, что я кое-
что пережил... Кое-что увидел,
перечувствовал, передумал... и кое-чему
научился. Вы, революционеры,
нетерпимы, как веруюшие. Вы не можете
представить себе человека,
ходившего вашими путями, знаюшего все ваши
доводы — и избравшего новый,
совершенно противоположный прежнему
путь. Все наши лучшие историки
признают, что для своего времени
самодержавный строй был прогрессивен.
Почему же вы не хотите понять, что
можно совершенно искренне и
глубоко убеждённо считать это „своё
время" ешё не истекшим?».
С. Зубатов продолжал мягко убеждать
В. Чернова: «Проповедь террора—вот
что является худшим врагом всех
прогрессивных начинаний. Именно друзья
народа в революционной среде
должны всеми силами бороться против
террора. Революционеры, которые из-за
террористических выходок теряют все
возможности работы в массах, имеют
право противодействовать террору
всеми — понимаете ли, всеми! —
средствами...». Примерно так же Сергей
Васильевич работал и с другими
подследственными, обращаясь прежде
всего к их «высоким чувствам».
129
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
СЕРГЕЙ ЗУБАТОВ —
НАЧАЛЬНИК МОСКОВСКОГО
ОХРАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Жандармы «старой школы», чтобы
найти одного подозреваемого, часто
арестовывали десятки случайных людей.
С. Зубатов избегал таких повальных
арестов. Ведь случайный арест мог
подтолкнуть человека на путь
революционной борьбы. Сергей Васильевич
предпочитал «освещать
революционные организации изнутри» с помошью
тайных агентов, а аресты производить
на основании полученных данных —
точно и безошибочно. Поэтому он
уделял большое внимание работе с
секретными сотрудниками. «Для меня
сношения с агентурой, — писал С. Зубатов
позднее, — самое радостное и милое
воспоминание. Больное и трудное это
дело, но как же при этом оно и
нежно». Он так наставлял своих
подчинённых: «Вы, господа, должны смотреть на
сотрудника как на любимую женшину,
с которой вы находитесь в нелегальной
связи. Берегите её как зеницу ока.
Один неосторожный ваш шаг — и вы
её опозорите...».
Допросы арестованных С. Зубатов, не
в пример многим своим коллегам,
проводил очень тонко, прямо виртуозно.
Он любил подробно и доверительно
излагать подследственным свои
политические воззрения. Его собеседники
невольно втягивались в спор и
раскрывали свои взгляды, которые,
возможно, предпочли бы сохранить в тайне.
«Его допросы> — вспоминал
социал-демократ С. Мицкевич, — носили
своеобразный характер: Зубатов вёл
беседы на самые разнообразные темы в
непринуждённом тоне и увлекал
искренней беседой... Многим
арестованным казалось, что это просто
столкновение двух мировоззрений, и они,
излагая свою точку зрения, тем самым
выдавали часто всё, что касалось их
личной революционной деятельности.
Он давал арестованным читать книги,
особенно рекомендовал книги Берн-
штейна, горячим поклонником
которого являлся».
люционер проповедует чистый социализм, — отмечал Зубатов, —
с ним можно справиться одними репрессивными мерами; но
когда он начинает эксплуатировать мелкие недочёты
существующего законного порядка, одних репрессивных мер мало, а
надлежит немедля вырвать из-под его ног самую почву». А потому
надо разрешить рабочим создать свои легальные экономические
союзы. Полиция им в этом может помочь.
Московские власти одобрили проект С. Зубатова. Правда,
при обсуждении возникли сомнения, не обернётся ли вся затея
против государственного строя. Обер-полицмейстер Дмитрий
Трепов решительно воскликнул: «Ну да штыков у нас хватит!».
Получив поддержку городских властей, С. Зубатов взялся за дело.
Позднее его политику называли «охранно-полицейским
социализмом» или «зубатовщиной». Сергей Васильевич считал, что
именно неограниченная монархия даёт возможность
проведения такой политики. Только самодержец способен «протянуть
руку» рабочим через голову промышленников, интеллигенции
и т. п. Генерал А. Герасимов писал о С. Зубатове: «Его
умственному взору рисовалась перспектива „социальной монархии",
единения царя с рабочим народом».
К 1901 г. в Москве образовались первые «зубатовские»
рабочие союзы. Позднее такие союзы возникли также в
Санкт-Петербурге, Одессе, Минске и других городах. В октябре 1901 г.
С. Зубатов пошёл ещё дальше: в Москве собрался городской
«Совет рабочих механического производства». В него вошли 17
депутатов от более мелких рабочих союзов. «Обладая советом, —
отмечал Зубатов, — мы располагаем фокусом ото всей рабочей
массы и можем вертеть всею громадою».
ВО ГЛАВЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО СЫСКА
Необходимо отметить, что жандармы «старой школы» не
понимали зубатовских нововведений и мирились с ними неохотно. В душе
они оставались верны прежней линии: считали, что следует
пресекать всякое брожение в зародыше. Внедрение в революционные
организации секретных сотрудников представлялось им по
меньшей мере попустительством. Эти настроения позднее ярко
передал в своих воспоминаниях В. Новицкий. Генерал писал, что
Зубатов «был злейший противоправительственный деятель,
социал-революционер и безусловный террорист, организовывавший
политические убийства через своих агентов, состоявших на большом
жалованьи у Департамента полиции. Революционная партия
далеко не знает всей его террористической деятельности, а когда
узнает, то безусловно будет боготворить его как революционера и
активного участника политического террора».
Ещё хуже старые жандармы относились к опытам с
«полицейским социализмом». Новицкий писал, что благодаря Зубато-
ву «в России искусственно создался в самом остром, жгучем виде
рабочий вопрос, несравненно в более резкой форме, чем
создали бы его революционеры, медленным весьма путём шедшие...».
130
СЕРГЕИ
ЗУБАТОВ
Чтобы преодолеть сопротивление жандармов «старой
школы», С. Зубатов выдвинул очень смелый проект. Он предложил
создать во всех губернских городах охранные отделения по
образцу московского. Возглавить их должны молодые офицеры —
ученики Зубатова. Молодёжи следовало взять в свои руки всё дело
политического сыска. При этом старым жандармским
управлениям осталась бы чисто вспомогательная роль.
Предложения Зубатова означали настоящую революцию в
охранном деле. Все старые жандармы, верой и правдой
прослужившие десятилетия, поседевшие на службе, просто
отодвигались в сторону. Конечно, это вызвало среди них бурю
возмущения. Но у высших властей реформа получила поддержку. В 1902 г.
министр внутренних дел Вячеслав Плеве начал проводить её в
жизнь. В октябре С. Зубатов возглавил все охранные отделения
империи — стал начальником Особого отдела Департамента
полиции. Это был наивысший взлёт его карьеры. В. Плеве в то
время говорил: «Теперь полицейское спокойствие государства в
руках Зубатова, на которого можно положиться».
ОТСТАВКА И ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ
Хотя В. Плеве высоко ценил С. Зубатова, тот считал, что
министр излишне полагается на чисто полицейские меры. По
мнению Зубатова, было необходимо дать выход
накопившемуся в обществе напряжению, иначе это могло привести к
катастрофе. Поэтому он стал искать поддержку против Плеве. В июле
1903 г. С. Зубатов явился к министру финансов Сергею Витте. «Я
его принял, — вспоминал С. Витте. — Он мне начал подробно
рассказывать о состоянии России... Он докладывал, что в
сущности вся Россия бурлит, что удержать революцию
полицейскими мерами невозможно, что политика Плеве заключается в том,
чтобы вгонять болезнь внутрь, и что это ни к чему не приведёт,
кроме самого дурного исхода. Он прибавил, что Плеве убьют и
что он его уже несколько раз спасал».
Об этом разговоре вскоре стало известно самому В. Плеве.
Возможно, фразу об убийстве министр воспринял с особенной
тревогой, как намёк на возможность его физического
устранения. Это незамедлительно привело к краху полицейской
карьеры С. Зубатова. 19 августа его отстранили от должности. Затем
обвинили в «политической деятельности с использованием
аппарата полиции». За это вчерашнего всесильного
полицейского руководителя отправили в ссылку во Владимир — под
гласный надзор полиции... Вскоре, после того как в июле 1904 г.
B. Плеве действительно погиб от рук эсеров, с Зубатова сняли
обвинения. Но на службу он уже не вернулся.
Расстрел рабочей демонстрации 9 января 1905 г. привёл
C. Зубатова в отчаяние. Тот «мост», который он столько лет
старался навести между государем и рабочими, в один день
оказался разрушен почти до основания. В 1908 г. Сергей Васильевич в
письме к историку Владимиру Бурцеву так передавал свои чув-
ДЕМОНСТРА11ИЯ «ЗУБАТОВЦЕВ»
Одним из самых ярких проявлений «зу-
батовского» рабочего движения стала
демонстрация, состоявшаяся в
Москве в 1902 г. Её устроил при поддержке
властей городской «Совет рабочих
механического производства».
Демонстрацию решили провести 19 февраля, в
годовщину отмены крепостного права.
Ешё до рассвета тысячи рабочих со
всей Москвы начали стекаться к
Кремлю. К 8 часам утра вокруг памятника
Александру II собралось около 60 тыс.
человек. Началось торжественное
богослужение в память
«царя-освободителя». В воздухе плыл звон колоколов
кремлёвских церквей... Рабочие
возложили к подножию памятника два очень
пышных и дорогих венка. Деньги на их
покупку собирались в складчину по
подписке среди рабочих.
Когда начали молиться о здравии
Николая II, вся огромная толпа, сняв
шапки, встала на колени. После этого
рабочий оркестр исполнил гимн «Боже,
царя храни», и под крики «ура!» в
воздух взлетели тысячи шапок.
На демонстрации присутствовало
высшее руководство «первопрестольной».
Генерал-губернатор Москвы великий
князь Сергей Александрович тепло
поблагодарил рабочих.
По провинции между тем уже
разошлись панические слухи. В тот же
день один губернатор послал в
Петербург срочный запрос: «Правда ли, что
Кремль штурмом взят революционной
рабочей толпой?». Эта демонстрация
произвела настолько сильное
впечатление в обществе, что о ней помнили
ешё долгие годы.
131
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
ства: «Я — монархист самобытный, на свой салтык и потому
глубоко верующий. Ныне идея чистой монархии переживает
глубокий кризис. Понятно, эта драма отзывается на всём моём
существе; я переживаю её с внутренней дрожью. Я защищал
горячо эту идею на практике. Я готов иссохнуть по ней, сгнить
вместе с нею...».
Этим своим словам Сергей Зубатов последовал почти
буквально. 3 марта 1917 г., получив известие о падении монархии,
он покончил с собой, застрелившись из револьвера. Помимо
всего прочего, Февральская революция означала для него верный
арест. Самоубийство избавило его от подобной участи...
ВЗРЫВ НА АПТЕКАРСКОМ
ОСТРОВЕ
12 августа 1906 г. Пётр Столыпин,
месяц назад назначенный главой
правительства, вёл приём просителей на
своей даче, находившейся на Аптекарском
острове в Петербурге.
Из подкатившей к дому
четырёхместной кареты вышли и быстро зашагали
к подъезду три человека, двое из
которых были в форме жандармских
офицеров. Это были переодетые члены
боевой группы эсеров-максималистов,
задумавшие покушение на Столыпина.
Они хотели покарать бывшего
саратовского губернатора за жестокость,
проявленную при подавлении
крестьянского движения. В руках максималисты
бережно несли большие портфели с
вложенными в них бомбами.
Старик-швейцар заметил, что
жандармская форма посетителей,
потребовавших срочной встречи со
Столыпиным, отличается от общепринятой.
Тогда, оттолкнув его, они ворвались в
подъезд и с революционными
возгласами бросили свои портфели на пол.
Последовал сильнейший взрыв. При
этом как сами максималисты, так и
окружающие были разорваны в клочья.
Всего погибло 22 человека, ранено
30 человек (некоторые вскоре
скончались от ран). Сам Пётр Столыпин ос-
ПЁТР СТОЛЫПИН
(1862—1911)
Горячие споры об этом человеке и его политике продолжались
и 50, и 80 лет спустя после его смерти. Немногие
государственные деятели заслужили такое пристальное внимание потомков.
Как же складывалась его судьба?
Будущий глава правительства России Пётр Аркадьевич
Столыпин родился 5 апреля 1862 г. в знатной дворянской семье. В
роду Столыпиных строго хранились традиции дворянской
чести. Когда на дуэли погиб старший брат Петра, юноша стрелялся
с его убийцей и получил пулю в правую руку, которая с тех пор
была почти парализована.
В 1884 г. Пётр Столыпин закончил естественный факультет
Петербургского университета. Один из экзаменов принимал у него
сам Дмитрий Менделеев. Дочь Столыпина Мария Бок писала об
этом: «Великий учёный так увлёкся, слушая блестящие ответы
моего отца, что стал ему задавать вопросы всё дальше и дальше,
вопросы, о которых не читали в университетах, а над решением
которых работали учёные. Мой отец отвечал на всё так, что экзамен
стал переходить в нечто похожее на учёный диспут, когда
профессор вдруг остановился, схватился за голову и сказал: „Боже мой,
что же это я? Ну довольно, пять, пять, великолепно"».
В 1899 г. Столыпин был назначен губернским
предводителем дворянства в Ковно (Каунас). Тремя годами позже
39-летний Столыпин стал самым молодым губернатором в России:
сначала в Гродно, затем в Саратове.
Во время революции 1905 г. Столыпин стал известен
решительной борьбой с крестьянскими волнениями в Саратовской
губернии. Для прекращения беспорядков он не раз использовал
войска, которые применяли самые жёсткие меры: расстрелы,
132
ПЁТР
СТОЛЫПИН
массовые порки непокорных крестьян. Руководитель одной из
таких карательных экспедиций, генерал Сахаров, поселился по
прибытии в Саратов в доме Столыпина. Здесь он и был убит
революционерами. Самого Столыпина революционеры также
приговорили к смерти.
Невольный и глубокий страх внушал губернатор саратовским
крестьянам, о чём свидетельствует его дочь М. Бою «У меня
хранится любительский снимок, где видно, как папа въезжает верхом
в толпу, за минуту до этого бушевавшую, а теперь всю, до
последнего человека, стоящую на коленях. Она, эта огромная,
десятитысячная толпа, опустилась на колени при первых словах, которые
папа успел произнести». Дочь Столыпина вспоминает и такой
эпизод: однажды Пётр Аркадьевич выступал перед взволнованным
крестьянским сходом. Какой-то враждебно настроенный парень
направился прямо к нему. Губернатор небрежно и властно бросил
бунтарю свою шинель: «Подержи!». Тот, растерявшись, взял шинель
и послушно держал её всё время, пока Столыпин говорил.
26 апреля 1906 г., вызвав Столыпина в Петербург,
Николай II назначил его на пост министра внутренних дел —
самый важный в российском правительстве. Столыпин, по его
собственным словам, занял это место в «стране окровавленной,
потрясённой». Оказавшись самым молодым министром в
правительстве, он ярко выделялся на бесцветном фоне своих
коллег. Министры, привыкшие к церемонным заседаниям,
терялись среди шума и гвалта думских депутатов. Столыпин,
напротив, держал себя в Государственной думе очень уверенно и
часто там выступал, не обращая внимания на прерывавшие его
порой свист и выкрики «Долой!», «Погромщик!». Ему нельзя
было отказать в красноречии.
Признавая, что «существующие законы несовершенны»,
министр внутренних дел в то же время твёрдо заявлял, что их
следует применять, пока нет новых. Он говорил: «Нельзя сказать
часовому: „У тебя старое кремнёвое ружьё; употребляя его, ты
можешь ранить себя и посторонних; брось ружьё". На это честный
часовой ответит: „Покуда я на посту, покуда мне не дали нового
ружья, я буду стараться умело действовать старым"».
Столыпин не защищался и не оправдывался, как многие его
коллеги-министры, наоборот — он нападал. «Тут нет ни судей, ни
обвиняемых, — решительно заявлял он думской оппозиции в
марте 1907 г., — и эти скамьи — не скамьи подсудимых, это место
правительства». О выступлениях оппозиции он говорил так: «Эти
нападки рассчитаны на то, чтобы вызвать у правительства, у власти
паралич и воли, и мысли, все они сводятся к двум словам,
обращенным к власти: „Руки вверх". На эти два слова, господа,
правительство с полным спокойствием, с сознанием своей правоты
может ответить только двумя словами: „Не запугаете"».
8 июля 1906 г. Столыпин, сохранив за собой пост
министра внутренних дел, был назначен председателем Совета
Министров. Суть своей государственной деятельности в то время он
определил так: «Сначала успокоение, а потом — реформы!».
тался невредим. Однако от взрыва
пострадали его дети: у 14-летней дочери
Наташи были совершенно
раздроблены кости ног, поэтому несколько лет
она не могла ходить, а трёхлетний сын
Аркадий получил лёгкие ранения в
голову. Взрывом его с сестрой
выбросило с балкона на землю. Старшая дочь
Столыпина Мария Бок вспоминала:
«Маленький Аркадий несколько дней
совершенно не мог спать. Только
задремлет, как снова вскакивает, с
ужасом озирается и кричит: „Падаю,
падаю". Потом он спрашивал: „Что, этих
злых дядей, которые нас скинули с
балкона, поставили в угол?"».
Сразу после взрыва Пётр Аркадьевич,
бледный, но старавшийся сохранять
спокойствие, несмотря на ранения его
детей, стал распоряжаться, чтобы всем
остальным раненым была оказана
помощь.
После покушения он вместе с семьёй
по приглашению Николая II переехал с
Аптекарского острова в строго
охраняемый Зимний двореи. Столыпин
сильно изменился после взрыва 12
августа 1906 г. Когда ему говорили, что
раньше он как будто бы рассуждал
иначе, он отвечал: «Да, это было до
бомбы Аптекарского острова. А теперь я
стал другим человеком».
П. Столыпин.
133
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СУДЫ
19 августа 1906 г., спустя неделю
после взрыва на Аптекарском острове, в
чрезвычайном порядке, минуя
Государственную думу, был принят закон о
военно-полевых судах. Дела в таких
судах рассматривались в течение 48
часов, а смертные приговоры
приводились в исполнение не позднее чем
через сутки после их вынесения. Эти суды
были созданы для подавления
революционного движения.
За восемь месяцев военно-полевые
суды вынесли 1102 смертных
приговора. Писатель Владимир Короленко
отмечал, что «казни стали бытовым
явлением».
Думская оппозиция подвергала
военно-полевые суды резкой критике.
Оправдывая эту меру, Столыпин говорил
в марте 1907 г.: «Когда дом горит,
господа, вы вламываетесь в чужие
квартиры, ломаете двери, ломаете окна.
Когда человек болен, его организм
лечат, отравляя его ядом. Когда на вас
нападает убийца, вы его убиваете. Это,
господа, состояние необходимой
обороны. Оно доводило государство не
только до усиленных репрессий — оно
доводило до подчинения всех одной
воле, произволу одного человека, до
диктатуры, которая иногда выводила
государство из опасности и
приводила до спасения. Бывают, господа,
роковые моменты в жизни государства,
когда государственная необходимость
стоит выше права и надлежит выбирать
между целостью теорий и целостью
отечества».
Приговоры военно-полевых судов
утверждались командующими военными
округами. Командующий войсками
Казанского военного округа И. Карасе не
подписал ни одного смертного
приговора, не желая, как он говорил, «на
старости лет пятнать себя кровью». С
другой стороны, командующий Одесским
округом барон А. Каульбарс однажды
утвердил смертный приговор двум
молодым людям, даже не
присутствовавшим на месте события, за участие в
котором их казнили. Когда одна знатная
просительница стала выяснять этот
вопрос, он ответил ей: «Успокойтесь,
я уже нашёл действительно виновных,
и они уже расстреляны».
Карикатура на П. Столыпина
(газета «Адская почта», 1906 г.).
После государственного
переворота 3 июня 1907 г. и
роспуска II Государственной
думы желаемое успокоение
было достигнуто, революция
подавлена (см. ст. «Революция
1905 —1907 годов»). Настала
пора приступать к реформам.
«Мы призваны освободить
народ от нищенства, от
невежества, от бесправия», — говорил
Пётр Столыпин. Путь к этим
целям он видел прежде всего в
укреплении государственности.
Стержнем его политики,
делом всей его жизни стала
земельная реформа (см. ст.
«Столыпинская земельная
реформа»). Эта реформа должна была создать в России класс
мелких собственников — новую «прочную опору порядка», опору
государства. Тогда России были бы «не страшны все революции».
Свою речь о земельной реформе 10 мая 1907 г. Столыпин
завершил знаменитыми словами: «Им (противникам
государственности. — Прим. ред) нужны великие потрясения, нам нужна
Великая Россия!».
Какой общественный строй возник бы в России после этой
реформы? Сторонники Столыпина и тогда, и позже
представляли его себе по-разному. Националист Василий Шульгин,
например, считал, что он был бы близок итальянскому
фашистскому строю. Октябристы думали, что это будет скорее западное
либеральное общество. Сам Пётр Аркадьевич говорил в 1909 г. в
одном интервью: «Дайте государству 20 лет покоя внутреннего
и внешнего, и вы не узнаете нынешней России».
Внутренний покой подразумевал подавление революции,
внешний — отсутствие войн. «Пока я у власти, — говорил
Столыпин, — я сделаю всё, что в силах человеческих, чтобы не
допустить Россию до войны. Не можем мы мериться с внешним врагом,
пока не уничтожены злейшие внутренние враги величия России —
социалисты-революционеры». Столыпин предотвратил войну
после того, как в 1908 г. Австро-Венгрия захватила Боснию. Убедив
царя не проводить мобилизацию, он с удовлетворением отметил:
«Сегодня мне удалось спасти Россию от гибели».
Но Столыпину не удалось довести до конца задуманную
реформу. Черносотенцы и влиятельные придворные круги
относились к нему крайне враждебно. Они считали, что он
уничтожает традиционный жизненный уклад России. После
подавления революции Столыпин стал терять поддержку царя.
134
ПЕТР
СТОЛЫПИН
После взрыва бомбы на Аптекарском острове. 1906 г.
В это время он с горечью сказал в частной беседе: «Мой
авторитет подорван, меня поддержат, сколько будет надобно, для
того, чтобы использовать мои силы, а затем выбросят за борт».
В августе 1911 г. в Киеве начались торжества по случаю
введения земств в западных губерниях России. Открывался
памятник Александру II. В город прибыли множество важных гостей,
государь с семьёй, Столыпин и другие министры. Их охрану
обеспечивал товарищ (заместитель) министра внутренних дел
Павел Курлов, давний противник Столыпина.
Николай II всячески подчёркивал свою нерасположенность
к главе правительства. Когда Столыпин прибыл в Киев, царь не
пригласил его в автомобили своей свиты. Премьер-министру даже
не подали экипажа, и ему самому пришлось искать извозчика.
Городской голова, свидетель этого неслыханного происшествия,
предоставил ему собственный экипаж. Рассказывали, что друг
царской семьи Г. Распутин, увидев его в экипаже, вдруг закричал
так, что этот крик услышала толпа: «Смерть за ним! Смерть за
«СТОЛЫПИНСКИЕ ГАЛСТУКИ»
В ноябре 1907 г. кадет Фёдор Родичев,
говоря о военно-полевых судах, в пылу
полемики назвал верёвки для
приговорённых к повешению «столыпинскими
галстуками». Это вызвало бурное
возмущение правого большинства
депутатов III Государственной думы.
Оскорблённый П. Столыпин вышел из зала. Он
сказал, что не хочет остаться в памяти
своих детей с кличкой Вешателя и
намерен вызвать Ф. Родичева на дуэль.
Растерявшийся и смущённый Родичев
был вынужден извиниться перед
Столыпиным. Тот сказал ему: «Я Вас протаю».
Несмотря на такую развязку,
упомянутое выражение не забылось и
вскоре было подхвачено всей
революционной прессой.
135
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
ДМИТРИЙ БОГРОВ
Убийцей Петра Столыпина стал
24-летний анархист Дмитрий Богров.
Относительно личности Богрова долгие
десятилетия после его казни шли непре-
крашаюшиеся споры. С 1907 г. он
служил в Киевском охранном отделении
секретным сотрудником и выдавал
охранке своих товаришей-анархистов.
Однако, совершая покушение в
театре, на виду у множества людей,
террорист шёл на неизбежную смерть. Как
объяснить такой поступок сотрудника
охранки?
8 своих письмах, написанных
накануне покушения на Столыпина, Богров
так объяснял свои намерения: «Нет
никакого интереса к жизни. Ничего,
кроме бесконечного ряда котлет,
которые мне предстоит скушать в
жизни. Хочется выкинуть что-нибудь
экстравагантное...».
Одни историки считают, что Богров
ввёл в заблуждение сотрудников
охранного отделения, чтобы проникнуть
в театр и выстрелить в Столыпина. По
мнению других, охранка и Павел Кур-
лов, зная о желании царского
окружения избавиться от Столыпина,
использовали Богрова как пешку в своей игре.
Известны слова родственника
Столыпина А. Нейдгарда о том, что премьер-
министра убила «охранная пуля».
9 сентября Дмитрий Богров предстал
перед Киевским окружным военным
судом. Заседание проходило при
наглухо закрытых дверях. На рассвете
12 сентября Богров был повешен.
Поспешность и закрытость следствия и
суда над Богровым уже тогда не
могли не вызвать недоумения в
обществе. Советский историк Арон Аврех
замечал по этому поводу:
«Молниеносность расправы характерна, как
показывает исторический опыт, всегда в
одном и том же случае: когда нужно
скрыть какую-то правду, очень
нежелательную каким-нибудь весьма
влиятельным лицам».
ним едет! За Петром... за ним!». По городу поползли мрачные слухи.
1 сентября царь, премьер-министр и все сановные гости
слушали оперу Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» в
Киевском оперном театре. Казалось, на представление могли
попасть только проверенные люди. Более 30 входных билетов
получили сотрудники охранки.
В антракте Столыпин подошёл к барьеру, отделяющему
оркестровую яму от зрительного зала. Он облокотился на него и
беседовал с другими министрами. Мало кто заметил молодого
человека в чёрном фраке, который поднялся со своего места в 18-м ряду
и направился по центральному проходу к министрам. Карман он
прикрывал театральной программкой. Быстро подойдя к
Столыпину на расстояние двух-трёх шагов, человек во фраке выхватил
из кармана револьвер и дважды выстрелил в упор.
Одна пуля попала Столыпину в руку, прошла навылет и
ранила скрипача в оркестре, вторая раздробила Владимирский
крест на груди Петра Аркадьевича и, изменив прямое
направление в сердце, попала в живот. На белом летнем сюртуке премьер-
министра расплылось яркое пятно крови... Однако Столыпин
сохранил самообладание. С горькой улыбкой он повернулся к
царской ложе, в которую на звук выстрелов выбежал Николай,
перекрестил её и тяжело опустился в кресло.
Стрелявший был немедленно схвачен. Жандармам едва
удалось отбить его от публики, готовой растерзать убийцу. Им
оказался 24-летний Дмитрий Богров, анархист и секретный
сотрудник охранки. Входной билет ему выдало охранное отделение.
Вечером 5 сентября 1911 г. Пётр Столыпин скончался.
Императрица сказала новому главе правительства Владимиру
Коковцову, сменившему Столыпина: «Он умер, потому что
провидение судило, что в этот день его не станет. Не говорите о нём
больше никогда». Она отказалась пойти помолиться у его гроба,
и Николай И тоже не присутствовал на погребальной
церемонии. Похоронили Петра Аркадьевича в Киево-Печерской лавре.
Однако уже через год Столыпину были воздвигнуты памятники
в Киеве, Гродно и Самаре.
Незадолго до покушения Столыпин предчувствовал свою
скорую смерть и её последствия: «После моей смерти одну ногу
вытащат из болота — другая завязнет». Действительно, начатая
им земельная реформа закончилась неудачей — мощный «класс
мелких собственников» в России так и не был создан.
В оценке незаурядности этой фигуры позднее сходились
как поклонники, так и противники Столыпина. Он далеко
превосходил по масштабам своей деятельности других политиков
России той эпохи. В отличие от них Пётр Столыпин пытался по-
своему направлять развитие общества, а не шёл вслед за ним;
однако он потерпел в этом поражение.
СТОЛЫПИНСКАЯ
ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА
СТОЛЫПИНСКАЯ
ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА
В I ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
I Государственная дума собралась в апреле 1906 г., когда почти
по всей России пылали усадьбы, не утихали крестьянские
волнения. Как отмечал премьер-министр Сергей Витте, «самая
серьёзная часть русской революции 1905 г., конечно, заключалась не в
фабричных забастовках, а в крестьянском лозунге: „Дайте нам
землю, она должна быть нашей, ибо мы её работники"». В
столкновение пришли две мощные силы — землевладельцы и
землепашцы, дворянство и крестьянство. Теперь Дума должна была
попытаться разрешить земельный вопрос — самый жгучий вопрос
первой русской революции.
Если в деревнях проявлениями борьбы были поджоги
усадеб и массовые порки крестьян, то в Думе кипели словесные
сражения. Депутаты-крестьяне горячо требовали передачи земли в
руки земледельцев. Им столь же страстно возражали
представители дворянства, отстаивавшие неприкосновенность
собственности.
Депутат от кадетской партии князь Владимир Оболенский
рассказывал: «В центре внимания первой Думы стояла земельная
проблема. Среди массы скучных и однообразных крестьянских
речей была произнесена одна, произведшая на нас потрясающее
впечатление. Это была речь тамбовского крестьянина Лосева. Он
рассказал историю Самсона, ослеплённого филистимлянами и
прикованного к колонне храма. Русский народ — это слепой
Самсон. Он чувствует свою силу, но, прикованный, не может себе
помочь... И вот настал последний срок развязать руки могучему
Самсону. А то повторится библейская история, когда он сказал:
„Умри, душа моя, вместе с филистимлянами", — и потряс
колонну, к которой был прикован. И храм рухнул, погребя под своими
развалинами и филистимлян, и Самсона... Впечатление от этой
речи было так сильно и так неожиданно, что с минуту мы все
сидели как зачарованные и никто не аплодировал».
Преобладавшие в I Думе кадеты постарались найти
«средний путь», примирить враждующие стороны. Кадеты предлагали
передать часть земли крестьянам — но не бесплатно, а за выкуп.
Речь шла не только о помещичьих, но и о казённых, церковных
и иных землях. В то же время кадеты подчёркивали, что надо
сохранить «культурные помещичьи хозяйства».
УБИЙСТВО ГЕР11ЕНШТЕЙНА
Председателем земельной комиссии в
I Думе был депутат от кадетской
партии профессор Михаил Гериенштейн.
Ему приходилось выдерживать суровую
критику и справа, и слева. Например,
социалист Алексей Пешехонов с
негодованием называл Гериенштейна
«идеологом помещичьего хозяйства и
отъявленным буржуем». Справа, со
стороны дворян-монархистов, критика
звучала ещё более резко.
М. Гериенштейн своими острыми
выступлениями вызывал особенную
враждебность дворян. Однажды, выступая
в Думе, Михаил Яковлевич спросил,
обращаясь к правым депутатам:
«Неужели господам дворянам более нравится
то стихийное, что уже с такой силой
прорывается повсюду? Неужели
планомерной и необходимой
государственной реформе вы предпочитаете
„иллюминации", которые теперь вам
устраивают в виде поджогов ваших скирд и
усадеб? Не лучше ли разрешить
наконец в государственном смысле этот
больной и нескончаемый вопрос?».
Писатель Владимир Короленко
вспоминал об этом выступлении: «Да, это была
правда. Но, во-первых, она была
слишком горька, а во-вторых, это говорил
Гериенштейн, человек с типично
еврейским лицом и насмешливой манерой.
Трудно представить себе ту бурю
гнева, которая разразилась при этих
словах на правых скамьях. Слышался
буквально какой-то рёв. Над головами
поднимались сжатые кулаки,
прорывались ругательства, к оратору кидались
с угрозами, между тем как на левой
стороне ему аплодировали». Особен-
137
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
ное негодование правых вызывало
пушенное М. Гериенштейном словечко
«иллюминации».
Боевики из черносотенного «Союза
русского народа» решили убить
ненавистного «председателя от жидов», как
они прозвали Герценштейна. После
роспуска Думы М. Герцен штейн
вместе с другими депутатами находился в
Финляндии. Туда и отправились
боевики-черносотенцы. 18 июля 1906 г.,
когда Михаил Яковлевич
прогуливался вместе с семьёй, его застрелили из
засады. Одна из двух выпушенных пуль
ранила в руку его маленькую дочь.
Убийство М. Герценштейна стало
самым известным из терактов
черносотенцев.
Как вспоминал жандармский генерал
А. Герасимов, петербургский
градоначальник фон дер Лауниц знал о
готовящемся покушении и выплатил за него
боевикам две тысячи рублей. Конечно,
о привлечении Лаунииа к
ответственности не могло быть и речи. По
словам Герасимова, премьер-министр
Пётр Столыпин, узнав о происшедшем,
«брезгливо поморщился»: «Я скажу,
чтобы Лауниц бросил это дело...» (т. е.
прекратил помогать боевикам).
Спустя три года троих участников
покушения арестовали. Финский суд
приговорил их к шести годам заключения.
Однако спустя несколько месяцев
двоих осуждённых помиловал государь
Николай II.
Предложения кадетов жёстко критиковались с обеих сторон.
Правые депутаты видели в них покушение на право
собственности. Левые считали, что землю надо передать крестьянам без
выкупа — даром. Правительство также категорически отвергало
кадетский проект. К лету 1906 г. борьба достигла предельной
остроты. Власти решили подтолкнуть ситуацию к развязке. 20 июня
появилось заявление правительства о том, что никакого
нарушения прав землевладельцев оно не допустит. Это вызвало взрыв
негодования среди большинства депутатов, б июля Дума
выступила с декларацией, в которой подтверждалось намерение
передать часть помещичьих земель крестьянам. Ответом властей на
это стал роспуск Думы. Высочайший указ о роспуске последовал
три дня спустя, 9 июля 1906 г.
«ВОЙНА ЗА ЗЕМЛЮ»
До революции 1905—1907 гг. в русской деревне уживались две
различные формы владения землёй: с одной стороны, частная
собственность помещиков, с другой — общинная собственность
крестьян. При этом у дворянства и крестьян сложились два
противоположных взгляда на землю, два устойчивых мировоззрения.
Помещики считали, что земля — такая же собственность, как
и любая другая. Они не видели никакого греха в том, чтобы её
продавать и покупать. Крестьяне думали иначе. Они твёрдо
верили, что земля «ничья», Божья, а право пользоваться ею даёт
только труд. Этому вековому представлению отвечала сельская
община. Вся земля в ней делилась между семьями «по числу
едоков». Если численность семьи сокращалась, уменьшался и её
земельный надел.
До 1905 г. государство поддерживало общину. С неё было
гораздо проще взимать различные повинности, чем с
множества отдельных крестьянских хозяйств. С. Витте замечал по этому
поводу: «Легче пасти стадо, нежели каждого члена стада в
отдельности». Община считалась самой надёжной опорой
самодержавия в деревне, одним из «китов», на которых держался
государственный строй.
Но напряжение между общинной и частной собственностью
постепенно нарастало. Население увеличивалось, и участки
крестьян становились всё меньше и меньше. Этот жгучий
недостаток земли называли малоземельем. Невольно взгляды крестьян
обращались на дворянские имения, где земли было много. К тому
же эту собственность крестьяне считали изначально
несправедливой, незаконной. «Надо помещичью землю отобрать и
присоединить к общинной!» — убеждённо повторяли они.
В 1905 г. эти противоречия вылились в настоящую «войну
за землю». Крестьяне «всем миром», т. е. всей общиной, шли
громить дворянские усадьбы. Власти подавляли волнения, посылая
в места беспорядков военные экспедиции, производя массовые
порки и аресты. Из «исконного устоя самодержавия» община
неожиданно превратилась в «очаг бунта». Прежнему мирному
соседству общины и помещиков пришёл конец.
138
СТОЛЫПИНСКАЯ
ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА
ЗАМЫСЕЛ РЕФОРМЫ
В ходе крестьянских волнений 1905 г. стало ясно, что сохранять
прежнее положение в деревне невозможно. Общинная и частная
собственность на землю не могли дольше уживаться рядом.
В конце 1905 г. власти всерьёз рассматривали возможность
пойти навстречу крестьянским требованиям. Генерал Дмитрий
Трепов говорил тогда: «Я сам помещик и буду весьма рад отдать
даром половину моей земли, будучи убеждён, что только при
этом условии я сохраню за собою вторую половину». Но в
начале 1906 г. произошёл перелом в настроениях. Оправившись от
потрясения, правительство избрало противоположный путь.
Возникла идея: что, если не уступать общине, а, наоборот,
объявить ей беспощадную войну? Речь шла о том, чтобы частная
собственность перешла в решительное наступление против
общинной. Особенно быстро, за несколько месяцев, эта идея
завоевала поддержку дворянства. Многие землевладельцы, прежде
горячо поддерживавшие общину, теперь оказались её
непримиримыми противниками. «Община является зверем, и с этим зверем
надо бороться», — категорически заявлял известный дворянин-
монархист Н. Марков. Главным выразителем настроений,
направленных против общины, стал председатель Совета Министров
Пётр Столыпин. Он призывал «дать крестьянину свободу
трудиться, богатеть, избавить его от кабалы отживающего общинного
строя». В этом и заключалась главная идея земельной реформы,
которую называли столыпинской. Предполагалось, что
зажиточные крестьяне превратятся из общинников в «маленьких
помещиков». Тем самым община будет взорвана изнутри, разрушена.
Борьба между общинной и частной собственностью завершится
победой последней. В стране возникнет новый слой крепких
собственников — «прочная опора порядка».
УКАЗ 9 НОЯБРЯ И II ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
О начале земельной реформы возвестил правительственный указ
от 9 ноября 1906 г., принятый в чрезвычайном порядке, минуя
Государственную думу. Согласно этому указу, крестьяне
получали право выйти из общины со своей землёй. Они могли также
продать её. П. Столыпин считал, что эта мера в скором времени
разрушит общину. Он говорил, что указом «заложено основание
нового крестьянского строя».
В феврале 1907 г. была созвана II Государственная дума. В
ней, как и в I Думе, земельный вопрос оставался в центре
внимания. Отличие состояло в том, что теперь «дворянская сторона»
не только защищалась, но и наступала. Правый депутат князь
Д. Святополк-Мирский заметил, что дворянские хозяйства во
много раз культурнее крестьянских. «Сохраните и поддержите
частных владельцев, — призывал он. — Наша серая, тёмная
крестьянская масса без помещиков — это стадо без пастыря». На это
едко возразил крестьянин-монархист Ф. Петроченко: «Здесь кто-
то из ораторов указывал, что крестьяне наши темны и невежест-
КРЕСТЬЯНСКИЙ БАНК И
ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Противники столыпинской земельной
реформы говорили, что она
проводится по принципу: «Богатым
прибавится, у бедных отнимется». Однако по
замыслу сторонников реформы
крестьяне-собственники должны были
увеличивать свои наделы не только за счёт
сельской бедноты. В этом им помогал
Крестьянский банк, скупавший земли
у помещиков и мелкими участками
продававший их крестьянам. Многие
дворяне, обедневшие или
обеспокоенные крестьянскими беспорядками,
охотно продавали свои земли.
Вдохновитель реформы Пётр Столыпин,
чтобы подать пример, сам продал одно из
своих имений. Таким образом, банк
выступал посредником между
продавцами земли — дворянами и её
покупателями — крестьянами. Конечно,
купить землю даже через банк, с
выплатой в рассрочку, могли себе позволить
только зажиточные крестьяне.
Помимо скупки и перепродажи земли
столыпинская реформа имела другое
важное направление — массовое
переселение крестьян на восточные
окраины страны. Тем самым уменьшалась
«земельная теснота» в европейской
части России, «выпускался пар»
недовольства. За 11 лет реформы на
свободные земли Сибири и Средней Азии
переселилось свыше 3 млн человек. В
1908 г. число переселенцев было
наибольшим за все годы реформы и
составило 665 тыс. человек.
Однако затем волна переселенцев
стремительно пошла на убыль. Не всем
оказалось под силу освоение новых
земель. Назад, в Европейскую Россию,
двинулся обратный поток
переселенцев. Возвращались полностью
разорённые бедняки, не сумевшие прижиться
на новом месте. Всего таким образом
вернулось около 550 тыс. человек.
Именно в годы массовых переселений
появилось выражение «столыпинский
вагон». Их начали строить в 1908 г.
специально для переезда крестьян за
Урал. Позднее, в советское время,
вагоны такого типа использовали для
перевозки заключённых.
139
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
ПЕРЕПИСКА СТОЛЫПИНА
И ТОЛСТОГО
26 июля 1907 г. Лев Толстой направил
письмо Петру Столыпину. В нём
писатель страстно зашишал крестьянское
отношение к земле, призывал
«уничтожить вековую, древнюю
несправедливость» — земельную собственность.
Л. Толстой доказывал: «Как не может
существовать права одного человека
владеть другим (рабство), так не может
существовать права одного, какого бы
то ни было человека, богатого или
бедного, царя или крестьянина, владеть
землёю как собственностью. Земля
есть достояние всех, и все люди
имеют одинаковое право пользоваться
ею». Лев Николаевич резко
критиковал столыпинскую земельную
реформу как идущую в противоположном
направлении. «Дорога, по которой Вы, к
сожалению, идёте, — писал он, —
дорога злых дел, дурной славы и,
главное, греха».
Пётр Аркадьевич ответил на это
письмо не сразу, а только спустя полгода.
После напоминания Л. Толстого он
написал ему: «Лев Николаевич... Не
думайте, что я не обратил внимания на
Ваше первое письмо. Я не мог на него
ответить, потому что оно меня
слишком задело. Вы считаете злом то, что я
считаю для России благом. Мне
кажется, что отсутствие „собственности" на
землю у крестьян создаёт всё наше
неустройство.
Природа вложила в человека
некоторые врождённые инстинкты, как-то:
чувство голода, половое чувство и т. п,
и одно из самых сильных чувств этого
порядка — чувство собственности.
Нельзя любить чужое наравне со
своим и нельзя обхаживать, улучшать
землю, находящуюся во временном
пользовании, наравне со своею землёю.
Искусственное в этом отношении
оскопление нашего крестьянина,
уничтожение в нём врождённого чувства
собственности ведёт ко многому дурному
и, главное, к бедности. А бедность, по
мне, худшее из рабств...».
П. Столыпин подчеркнул, что не видит
смысла «сгонять с земли более
развитой элемент землевладельцев». Наобо-
венны и бесполезно им давать много земли... Что мы
невежественны, так мы ничего иного и не просим, как земли, чтобы по
своей глупости в ней же ковыряться. Дворянину и неприлично
возиться с землёй». Ф. Петроченко заключил с эпической
простотой: «Сколько прений ни ведите, другого земного шара не
создадите. Придётся, значит, эту землю нам отдавать...».
Большинство депутатов во II Думе ещё более твёрдо, чем в
I Думе, выступали за передачу крестьянам части дворянских
земель. П. Столыпин решительно отверг подобные проекты: «Не
напоминает ли это историю тришкина кафтана: обрезать полы,
чтобы сшить из них рукава?». Разумеется, II Дума не проявила
желания одобрить столыпинский указ от 9 ноября. Среди
крестьян в связи с этим ходили упорные слухи, что выходить из
общины нельзя — вышедшим не достанется помещичьей земли.
В марте 1907 г. император Николай II в письме к матери
замечал: «Всё было бы хорошо, если бы то, что творится в Думе,
оставалось в её стенах. Дело в том, что всякое слово, сказанное
там, появляется на другой день во всех газетах, которые народ с
жадностью читает. Во многих местах уже опять заговорили о
земле и ждут, что скажет Дума по этому вопросу... Нужно дать ей
договориться до глупости или до гадости и тогда — хлопнуть».
Позиция II Думы в земельном вопросе стала основной
причиной её роспуска 3 июня 1907 г.
ПОПЫТКИ РАЗРУШЕНИЯ ОБЩИНЫ
С конца 1906 г. государство начало мощное наступление на
общину. Крестьяне теперь могли выходить из неё и получать
землю в полную собственность. Им отрезали от общинной земли
участки — отруба. Богатые крестьяне на те же участки
переносили свои усадьбы — это называлось хуторами. Власти считали
хутора идеальной формой землевладения. Со стороны хуторян,
живших обособленно друг от друга, можно было не опасаться
бунтов и волнений.
После начала реформы из общины устремились многие
бедняки, которые тут же продавали свою землю и уходили в города.
Зажиточные крестьяне с выходом не спешили. Чем это
объяснялось? Прежде всего уход из общины ломал привычный уклад
жизни и всё мировоззрение крестьянина. Община защищала его
от полного разорения и многих иных превратностей судьбы.
Например, в общине крестьянин меньше зависел даже от
капризов погоды. Каждая семья имела несколько разрозненных полос
земли: одну в низине, другую на возвышенности и т. д. (такой
порядок называли чересполосицей). В засуху лучший урожай
собирали в низинах, а в дождливое лето — на возвышенностях. Тем
самым уменьшалась опасность неурожая.
После выхода крестьян на отруба или хутора прежняя
«страховка» от неурожая исчезала. Теперь всего один засушливый или
чересчур дождливый год мог принести нищету и голод. Чтобы
подобные опасения у крестьян исчезли, выходящим из общины
140
СТОЛЫПИНСКАЯ
ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА
стали нарезать лучшие земли. Естественно, это вызывало
возмущение остальных общинников. Между теми и другими быстро
нарастала враждебность. Число вышедших из общины стало
постепенно уменьшаться.
В III Думе, созванной в 1907 г. по новому избирательному
закону (ограничившему представительство малоимущих),
царили совершенно иные настроения, чем в первых двух. Эту Думу
называли «столыпинской». Она не только одобрила указ от 9
ноября, но пошла ещё дальше самого П. Столыпина. Чтобы
ускорить разрушение общины, Дума объявила распущенными все
общины, где более 24 лет не происходило земельных переделов.
Но крестьянская община оказалась гораздо сильнее и
жизнеспособнее, чем предполагало правительство. Большинство
крестьян не желало покидать её, несмотря на нажим. Там, где власти
распускали общину силой, это вызывало бунты. От рук крестьян
погибали чиновники, проводившие земельный передел. В ответ
полиция выстрелами разгоняла сельские сходы.
За 11 лет столыпинской реформы из общины вышло 26%
крестьян. 85% крестьянских земель осталось за общиной. По существу
это означало, что реформа не увенчалась успехом. Община
устояла в столкновении с частной земельной собственностью, а после
Февральской революции 1917 г. перешла в решительное
наступление. Теперь борьба за землю вновь находила выход в поджогах
усадеб и убийствах помещиков, происходивших с ещё большим
ожесточением, чем в 1905 г. «Тогда не довели дело до конца,
остановились на полдороге? — рассуждали крестьяне. — Ну уж теперь не
остановимся и истребим всех помещиков под корень».
В ходе революции и гражданской войны общинное
землевладение одержало решительную победу. Однако десятилетие
спустя, в конце 20-х гг., вновь вспыхнула острая борьба между
крестьянской общиной и государством (см. ст.
«Коллективизация»). Итогом этой борьбы стало уничтожение общины.
рот, надо крестьян превратить в
настоящих собственников.
Своё письмо Пётр Аркадьевич
заканчивал так: «Впрочем, не мне Вас
убеждать... Вы мне всегда казались великим
человеком, я про себя скромного
мнения. Меня вынесла наверх волна
событий — вероятно, на один миг! Я хочу
всё же этот миг использовать по мере
своих сил, пониманий и чувств на
благо людей и моей родины, которую
люблю, как любили её в старину. Как же я
буду делать не то, что думаю и сознаю
добром? А Вы мне пишете, что я иду
по дороге злых дел, дурной славы и,
главное, греха. Поверьте, что, ошушая
часто возможность близкой смерти,
нельзя не задумываться над этими
вопросами, и путь мой мне кажется
прямым путём. Сознаю, что всё это пишу
Вам напрасно,—это и было причиною
того, что я Вам не отвечал...
Простите. Ваш П. Столыпин».
КРЕСТЬЯНСКИЕ БУНТЫ ПРОТИВ
ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ
Напряжённость в деревне в годы
земельной реформы часто порождала
крестьянские бунты. Беспорядки
обычно происходили, когда землемеры
начинали выделять из общинных земель
участки «новых собственников».
Характерным примером таких
волнений может служить бунт, вспыхнувший
в 1910 г. в Тамбовской губернии. Вот
как описывал события тамбовский
губернатор Н. Муратов: «13 мая в селе
Болотове при производстве межевых
работ толпа баб и подростков из
семейств обшинников вилами прогнала
с поля землемера. Сегодня (15 мая)
утром исправник в Болотове произвёл
арест 13 человек, которые были
окружены стражниками. Толпа в
несколько сот человек бросилась освобождать
арестованных, кидая в стражников
камнями. По команде открыта была
стрельба. Убито четверо, ранено
девять...». 11 крестьян были осуждены на
несколько месяцев заключения.
А вот другой случай, также довольно
типичный. Под Самарой, в селе Домаш-
ки, в августе 1911 г. толпа крестьян
стала мешать землемерам —
уничтожать межевые знаки. Полиция
разогнала толпу нагайками.
Через несколько дней межевание
возобновилось. Тогда в селе ударили в
церковный колокол. Крестьянин Аукь-
ян Гончаров призывал односельчан:
«Бейтев набат, берите вилы, колья. Что
вы стоите? Идите бить стражу и
собственников!». Обшинники с вилами и
кольями двинулись на землемеров.
Прогремели первые выстрелы
полицейских. Крестьяне в ответ озлобленно
кричали: «Всех не перестреляете —
патронов не хватит!». Тогда по ним
открыли огонь на поражение — три
человека погибли, многие получили
ранения.
141
россия в первой
мировой войне
К. Коровин. Плакат времён
Первой мировой войны.
НАЧАЛО ВОЙНЫ
15 (28) июня 19Н г. в городе Сараево был убит наследник
австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд.
Сербский студент-террорист Гаврило Принцип застрелил эрцгерцога
и его жену. В ответ на это убийство Австро-Венгрия 10 (23) июля
предъявила Сербии ультиматум, содержавший ряд заведомо
неприемлемых требований. Узнав об этом ультиматуме, министр
иностранных дел России С. Сазонов воскликнул: «Это
европейская война!».
Сербское правительство постаралось дать довольно
примирительный ответ на предъявленный ультиматум. Однако оно всё
же не приняло некоторых требований, содержавшихся в нём.
После этого 15 (28) июля Австро-Венгрия объявила Сербии войну. На
следующий день Белград подвергся первой бомбардировке.
Россия считалась покровительницей и защитницей
православной славянской Сербии. Когда началась война, Николай II
отправил телеграмму германскому кайзеру Вильгельму,
союзнику Австро-Венгрии. Русский царь «во имя старой дружбы»
просил кайзера «помешать союзнику зайти слишком далеко в
неблагородной войне, объявленной слабой стране». Вильгельм
ответил, что виновники «подлого убийства» в Сараеве должны
получить заслуженное возмездие... Обмен телеграммами между
монархами не привёл ни к какому соглашению.
Обстановка накалялась с каждым днём, с каждым часом. В
ночь на 18 июля Николай II объявил всеобщую мобилизацию.
Германия немедленно потребовала отменить эту меру в течение 12
часов. Утром 19 июля (1 августа) германский посол в России граф
Ф. Пурталес явился в Министерство иностранных дел. Посол
спросил министра С. Сазонова, согласна ли Россия отказаться от
мобилизации. Министр ответил отрицательно. Взволнованный
посол вынул из кармана какую-то бумагу и ещё дважды задал этот
вопрос, с каждым разом волнуясь всё больше. «Я не могу дать Вам
иной ответ», — сказал С. Сазонов. «В таком случае, — заявил Ф.
Пурталес, задохнувшись от волнения, — я должен вручить Вам этот
документ». И передал министру ноту с объявлением войны.
142
РОССИЯ В ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ
В считанные дни после этого в войну вступили основные
европейские государства. Главными союзниками России
оказались Англия и Франция, противниками — Германия и Австро-
Венгрия. Всего в военных действиях приняли участие 38
государств мира с населением около миллиарда человек
Почти во всех странах начало «великой войны» было
встречено с воодушевлением и энтузиазмом. Не стала исключением
и Россия. Даже пацифисты — противники войны —
приветствовали её как «последнюю войну на свете», «войну против войны».
Например, пацифистское Московское общество мира
одобрило войну, назвав её «войной за мир». У авторитетного генерала
В. Драгомирова в августе 1914 г. спросили: «Как Вы думаете,
сколько времени продлится война?». «Четыре месяца», —
уверенно отвечал он.
«Ни один человек на свете, — писал кадет Владимир
Набоков, — не поверил бы, если бы ему сказали в 1914 году, что тог-
После объявления Германией войны
России. Уличная сиенка на Невском
проспекте. Санкт-Петербург.
143
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
ВОПРОС о
«РУССКОМ ИАРЬГРАДЕ»
В октябре 1914 г. военные действия
против России начала Турция. Как ни
странно, в России это событие
вызвало у многих даже некоторую радость.
Объяснялось это тем, что победа над
Турцией сделала бы достижимой
старинную русскую мечту о
«православном Царьграде». Именно Уарьградом
патриотическая (т. е. поддерживавшая
войну) печать называла
Константинополь (ныне Стамбул). В России
намерение завоевать этот город
обосновывали не только религиозными
доводами (восстановление православной
Византии), но и экономическими
соображениями.
На страницах издания «Великая
война» после начала войны с Турцией было
приведено характерное мнение
генерал-майора А. Шеманского: «Всем
понятно, что Россия не может обойтись
без выхода в море. Нападение Турции
облегчило разрешение этого вопроса.
Приобретением подобного выхода
наша родина завершает своё внешнее
развитие, не нуждаясь в дальнейших
приобретениях. Мы даже
обрадовались, что заодно разрешим и восточ-
Царь Николай II благословляет русских
солдат перед их отправкой на фронт.
1914 г.
дашние тринадцатилетние дети окажутся участниками войны,
что через четыре года она будет в полном разгаре...»
20 июля в Петербурге огромные толпы народа
приветствовали Николая И. В этот день император поклялся на Евангелии
и святой иконе, что не подпишет мира, пока хоть один враг
останется на русской земле. Принеся эту торжественную клятву,
царь появился перед народом на балконе Зимнего дворца.
Дворцовую площадь заполнили тысячи людей — представители всех
слоев общества. В едином порыве встав на колени перед
императором, они с глубоким чувством пели гимн «Боже, царя
храни». «Наверное, за все двадцать лет своего царствования, —
писал великий князь Александр Михайлович, — он не слыхал
столько искренних криков „ура", как в эти дни. Наступившее наконец
„единение Царя с народом" очень радовало его. Он говорил об
этом искренно и просто. В разговоре со мною у него вырвалось
признание, что он мог избежать войны, если бы решился
изменить Франции и Сербии, но что этого он не хотел...»
Такие же настроения царили и в Государственной думе.
Депутаты единогласно приняли решение о кредитах на военные
нужды. От голосования по этому вопросу воздержались только
социалисты.
Народные чувства в те дни приобрели явную антинемецкую
направленность. Демонстранты разгромили германское
посольство. Горели подожжённые толпой здания немецких фирм...
Живущим в России немцам с первых же дней войны пришлось
испытать немало оскорблений и иных проявлений враждебности. В
Москве толпа забросала камнями карету великой княгини Елизаветы
Фёдоровны, сестры императрицы. К царице и её сестре, бывшим
германским принцессам, относились враждебно, как к немкам.
(В 1918 г., как известно, они были казнены большевиками.)
* * ■:JZ ■
144
РОССИЯ В ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ
Отразились эти настроения и в решениях
властей. Так, 18 августа 1914 г. переименовали
столицу государства. Санкт-Петербург утратил
своё «немецкое» название и стал Петроградом.
СРАЖЕНИЯ В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ
После начала войны германские войска всей
своей мощью обрушились на французскую
армию. Правительство Франции опасалось, что её
вооружённые силы не выдержат этого напора.
5 августа 1914 г. французский посол в России
Морис Палеолог говорил Николаю II: «Я умоляю
Ваше Величество приказать Вашим войскам
немедленное наступление. Иначе французская
армия рискует быть раздавленной».
Выполняя эти просьбы, Россия поспешно бросила две
армии в наступление с целью захватить Восточную Пруссию. Ими
командовали генералы Павел Ренненкампф и Александр
Самсонов, прославившиеся на русско-японской войне.
Началось наступление успешно. 7 августа армия Реннен-
кампфа одержала блестящую победу в крупном сражении под
Гумбиненом (ныне город Гусев в Калининградской области).
Немцам не помогло их превосходство в артиллерии; они
отступили, потеряв свыше 10 тысяч человек.
В русских военных кругах говорили, что Ренненкампф
марширует прямо на Берлин и через два-три месяца войдёт в
столицу Германии. Однако победоносный марш оказался недолгим
и внезапно сменился тяжелейшими поражениями. Две русские
армии наступали в разных направлениях, и армия А. Самсонова
неожиданно попала в расставленную немцами ловушку. Немцы
нанесли по ней мощный удар, собрав почти все имевшиеся здесь
войска. Оказавшись в окружении, армия Самсонова была
разгромлена. В болотах Восточной Пруссии погибли отборные
гвардейские полки, считавшиеся лучшими частями русской
армии и надёжной опорой престола. Генерал Самсонов в самый
тяжёлый момент отправился на наиболее опасный участок
сражений. Здесь, в глухом лесу, он потерял связь с остальными
частями своей армии. Чтобы избежать плена, который генерал
считал позором, он покончил жизнь самоубийством, застрелившись
из револьвера в ночь на 17 августа.
Между тем генерал Ренненкампф получил приказ
держаться до последнего, ни в коем случае не отступать. Но в тяжёлых
боях его армия несла большие потери и в сентябре вынуждена
была всё-таки отступить под напором противника...
Таким образом, выполнить задуманное и захватить
Восточную Пруссию русским войскам не удалось. Однако своими
жертвами они помогли французской армии. В разгар сражений
Германия перебросила с запада на восток часть своих сил. Это
позволило французам сдержать натиск немцев и разгромить их в
Манифестация в лень объявления войны.
Москва. 1914 г.
ный вопрос, лишавший нас проливов,
обращения Чёрного моря в Русское
озеро, присоединения всей его южной
Ривьеры и... может быть, заведения на
месте иарьграда „Третьего Рима"».
Летом 1915 г. в газете «Биржевые
ведомости» философ Николай Бердяев
писал: «Единственным естественным
притязанием России являются
Константинополь и выход к морям через
проливы. Русский Константинополь
должен быть одним из центров
единения Востока и Запада».
Любопытно, что идею «русского
Константинополя» поддерживали и
некоторые соииалисты-оборониы.
Например, Георгий Плеханов весной 1917 г.
говорил адмиралу Александру
Колчаку: «Отказаться от Дарданелл и
Босфора — всё равно что жить с горлом,
зажатым чужими руками. Я считаю, что
без этого Россия никогда не в
состоянии будет жить так, как она хотела бы».
Одним из самых горячих поборников
этой идеи после Февральской
революции 1917 г. оказался глава кадетов
Павел Милюков. Его даже с
насмешкой прозвали Милюковым-Ларданелль-
ским...
В феврале — марте 1915 г. Англия и
Франция дали официальное согласие
на будущее присоединение
Константинополя к России. Некоторые
сторонники расширения пределов России шли
в своих мечтах и планах ешё дальше
145
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
«русского Уарьграда». «Но и этого
мало, — говорил в 1914 г. в своей
проповеди архиепископ Антоний,
известный деятель черносотенного
движения. — Невозможно могущественной
России сносить, чтобы величайшая
наша святыня — Господень Гроб, и
Голгофа, и Вифлеем оставались в руках
неверных магометан».
Впрочем, в среде солдат и
простонародья эти идеи встречали гораздо
меньше понимания и сочувствия, чем
в образованных слоях общества. Чем
дольше шла война, тем более
скептически в народе относились к идее
«русского иарьграда». Юрист С.
Завадский вспоминал о разговоре,
услышанном им после Февральской
революции: «Идёшь по Марсову полю и
слышишь, как матрос, „собрав вокруг
себя род веча", доказывает, что нам
не нужны Дарданеллы: „У нас и своей
земли довольно", а на замечание ваше,
что Дарданеллы — пролив и там
только вода, победоносно восклицает: „Ну
вот, и земли даже нет, так на кой они
нам шут дались"».
В. Лебедев. Плакат 1914 г.
%>AkUA
битве на реке Марне. Французский маршал Фердинанд Фош
позднее говорил: «Если Франция не была стёрта с лица Европы,
то этим прежде всего мы обязаны России».
Судьба генерала П. Ренненкампфа оказалась весьма
печальной. Его обвиняли в том, что он предал А. Самсонова, не придя
ему своевременно на помощь. Сам П. Ренненкампф объяснял это
тем, что приказ поступил слишком поздно. Из-за немецкой
фамилии генерала в войсках появилось стойкое убеждение, что
Ренненкампф — изменник. Уволенный в отставку, он поселился
в Петрограде. На улицах ему часто приходилось слышать
тяжкие обвинения и оскорбления в свой адрес. В 1918 г. толпа
солдат учинила самосуд над генералом...
Поражения в Восточной Пруссии несколько охладили в
России воодушевление, вызванное началом войны. Надежды на
молниеносную победу постепенно испарились. Стало ясно, что
война обещает быть долгой и нелёгкой...
ГАЛИЦИЙСКАЯ БИТВА
Ожесточённые сражения в августе 1914 г. кипели и в Галиции
(ныне часть Западной Украины и Польши) между русскими и
австро-венгерскими частями. 21 день на пространстве между
Днестром и Вислой шла грандиозная Галицийская битва. С
обеих сторон в ней участвовало более миллиона человек. Вначале
русские армии с трудом выдерживали мощный натиск
противника. Но затем в боях произошёл перелом.
Русские войска перешли в наступление, опираясь на
мощную поддержку артиллерии. Орудия стреляли так часто, что
накалялись докрасна. Если солдат ронял на орудие фуражку, она
немедленно вспыхивала, как в горящей печи. При такой
стрельбе, конечно, расходовалось очень много снарядов.
Австро-венгерская армия в беспорядке отступала, бросая
оружие, обозы и артиллерию. Тысячи австрийских солдат
сдавались в плен. 21 августа русские войска заняли оставленный
противником Львов и двинулись дальше на запад. Австрийцы
потеряли 226 тысяч человек ранеными и убитыми и около 100
тысяч пленными. Потери русских составили 230 тысяч человек
пленными, убитыми и ранеными. Русские потеряли 94 своих
орудия и захватили 400 вражеских. Таким образом, «великая
Галицийская битва», как её называли, окончилась полным
поражением австро-венгерской армии. Она лишилась более трети
своего состава и до конца войны уже не смогла оправиться от
этого удара.
Наступающие русские армии осадили крепость Перемышль
(ныне город Пшемысль в Польше), а 9 марта 1915 г. взяли её. При
этом в плен попали 9 неприятельских генералов, 2,5 тыс.
офицеров, 120 тыс. солдат; было взято 900 орудий и множество
других военных трофеев. Во время осады Перемышля, как и в Гали-
цийской битве, русские войска израсходовали громадное
количество снарядов.
146
РОССИЯ В ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ
«ВЕЛИКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»
Зимой 19Н—1915 гг. русские войска вели тяжёлые,
кровопролитные сражения в предгорьях Карпат. Несмотря на большие
потери, им удалось отбросить противника. В суровые морозы
русские армии преодолевали обледенелые горные склоны,
пробирались через сугробы. В результате им удалось овладеть
значительной частью Карпатского хребта.
Но в апреле 1915 г. на помощь австрийцам пришла
германская армия генерала Августа Макензена. К этому времени у русских
был почти исчерпан запас артиллерийских снарядов,
рассчитанный на недолгую войну. Расход снарядов в первые месяцы войны
оказался непредвиденно большим. Перед великолепно
вооружёнными солдатами Макензена русские солдаты оказались почти
безоружными. 19 апреля 1915 г. началось «великое отступление»
русских армий. Внезапно выяснилось, что им катастрофически не
Битва на Мазурском озере.
Немецкое пулемётное подразделение
вблизи Даркемена.
Восточная Пруссия. Сентябрь 1914 г.
ПОТЕРИ РУССКОЙ АРМИИ
За три с половиной года участия
России в Первой мировой войне русская
армия понесла большие потери. В боях
погибло более 1 миллиона 200 тысяч
военнослужащих. Ранеными и
больными армия потеряла 4 миллиона 270
тысяч человек, в плен попало 3
миллиона 344 тысячи солдат и офицеров.
147
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
Бои между русскими и австрийскими отрядами в Карпатах (русский лубок).
ВОЙНА С ТУРЦИЕЙ
В течение нескольких месяцев после
начала Первой мировой войны Турция
сохраняла нейтралитет. Однако 29—
30 октября 1914 г. турецкий флот в
Чёрном море обстрелял русские
порты Севастополь, Одессу,
Новороссийск... В ответ на это 2 ноября
Россия объявила Турции войну, и
открылся новый фронт — Кавказский. Зимой
турецкие войска начали здесь
наступление, но потерпели полное
поражение. Их основные силы попали в плен
или погибли, причём многие
участники наступления замёрзли во время
похода. После этих неудач началось
массовое уничтожение (геноцид) живших
в Турции армян, в которых турки
видели естественных союзников России.
Погибло около миллиона армян.
Только четверть армянского населения
сумела спастись на территории России.
хватает самого необходимого — снарядов, патронов, ружей, даже
сапог. Нередко новобранцы попадали в действующую армию без
обуви, и им приходилось сражаться босыми...
Далеко не все бойцы имели винтовки; многим приходилось
ждать гибели или ранения своих товарищей, чтобы получить их
оружие. Командование отдавало приказы «не тратить патронов
понапрасну», «забирать патроны у раненых и убитых». Как-то раз
штаб Юго-Западного фронта разослал телеграмму о создании
пехотных рот, вооружённых «алебардами» — топорами на
длинных рукоятках...
Но хуже всего был сильнейший «снарядный голод». На
ураганный огонь противника русские части могли ответить лишь
редкими одиночными выстрелами. На один выпущенный
русскими снаряд приходилось примерно 300 орудийных
выстрелов армии Макензена. Генерал Николай Иванов с горечью
написал на одной из телеграмм начальства о невозможности
прислать снаряды: «Печальное сообщение. Не было бы и нужды с
такой подготовкой втягиваться в войну».
«Весна 1915 года останется у меня навсегда в памяти, —
вспоминал генерал Антон Деникин. — Великая трагедия русской
148
РОССИЯ В ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ
армии — отступление из Галиции. Ни патронов, ни снарядов. Изо
дня в день кровавые бои, изо дня в день тяжёлые переходы,
бесконечная усталость — физическая и моральная, то робкие
надежды, то беспросветная жуть.
Сражение под Перемышлем в середине мая. Одиннадцать
дней страшного гула немецкой тяжёлой артиллерии, буквально
срывавшей целые ряды окопов вместе с защитниками их... И
молчание моих батарей... Мы не могли отвечать, нечем было. Даже
патронов на ружья было выдано самое ограниченное количество.
Полки, измотанные до последней степени, отбивали одну атаку за
другой штыками или, в крайнем случае, стрельбой в упор. Я
испытывал отчаяние и сознание нелепой беспомощности... И когда
после трёхдневного молчания нашей батареи ей подвезли 50
снарядов, об этом сообщено было по телефону всем полкам, всем
ротам, и все стрелки вздохнули с радостью и облегчением».
Оставалось только отступать, чтобы спасти армию от
полного уничтожения. Русские войска оставили Перемышль, Львов... —
почти всю Галицию. Они несли огромные потери — общее число
убитых и раненых за время «великого отступления» составило
1 миллион 410 тысяч человек В то же время отступление не было
беспорядочным, почти всегда происходило организованно. «Наш
фронт, лишённый снарядов, — замечал позднее А Деникин, —
медленно отходил шаг за шагом, не допуская окружения и пленения
корпусов и армий, как это имело место в 1941 г., в первый период
Второй мировой войны». Наступающий противник тоже терял
сотни тысяч солдат и офицеров пленными, убитыми и ранеными.
В июле перешли в наступление германские войска в Польше.
«Великое отступление» русских армий началось и на этом фрон-
*-■ - Хф
&ш ^
-*'$■:
-; :^
'Ш
%'h
С августа 1915 г. командуюшим
Кавказским фронтом стал великий князь
Николай Николаевич; бывший
Верховный главнокомандующий. 6 январе
1916 г. русские войска перешли в
успешное наступление. Армия генерала
Николая Юденича совершила
труднейший переход через занесённые снегом
высокие горы. Преодолев обледенелые
крутые горные склоны, русские войска
подошли к турецкой крепости Эрзерум
(ныне Эрзурум). Обладание ею давало
ключ к господству над всеми
восточными областями Турции.
Расположенная на высоте более 3 км, хорошо
защищенная фортами, крепость
считалась неприступной. Но после
пятидневного штурма 3 февраля Н. Юденичу
удалось взять крепость, и над Эрзеру-
мом было поднято российское знамя...
Русские войска потеряли при этом
2 тысячи 300 человек убитыми и 13
тысяч ранеными; противник — 40 тысяч
ранеными и убитыми, 13 тысяч
пленными, а также 325 орудий.
Взятие Эрзерума делало русских
хозяевами всей Турецкой Армении. Спустя
два дня после взятия Эрзерума пал
Трапезунд (ныне Трабзон), а в июле —
Эрзинджан. Русская армия глубоко
проникла на территорию Турции.
Однако Брестский мир, заключённый
в марте 1918 г., свёл на нет эти
завоевания. Более того, по мирному
договору Турция получила Каре, Ардаган и
Батум (ныне Батуми). До войны эти
города принадлежали России, и турецкие
войска в ходе сражений ни разу не
вступали в них.
Сражение в районе городов Горлице
и Тарнув (Южная Польша) между
русскими и австро-германскими
войсками 1—3 мая 1915 г. (фрагмент
картины Л. Путца, написанной в 1916 г.).
149
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
/Отъ чаадцкнхъ. мм». м>нм<
У обоихъ cynocrstoBV
П0Я»КМСк *ШуГк aji
Видно поровшей
Чтомъ. cntmxifc «къ не wtu.»<"
Citui по ниш. еипм:ъ.
С\ дамнп поо» ии UTfc их "ют*.
асе Bwnkre/ikxi сг «р»ии«»> *sf\
НА
ПОМОЩЬ
I
ВОЙНЫ
С. Виноградов. Плакат, посвященный жертвам войны. 1914 г.
В. Мазуровский. «В атаку». 1915 г.
(4 о*т«Г.IW*
Русский солдат сталкивает лбами
императоров Германии
и Австро-Венфии. Карикатура 1914 г.
РОССИЯ ВПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ
ШШРШ
«Пленение германского отряда» (издание А. Маковского «Великая война», 1915 г.).
все для победы !
писыв
**> на
ЕННЫЙ*
ИЗАЕМЬ.
И. Владимиров. Плакат, посвященный
военному займу.
Плакат неизвестного художника.
подписывайтесь на
ВОЕННЫЙ 5£%ЗАЕМЪ
чъмъ больше денегъ
тъ/пъ больше снарял^-к»
Е. Чепцов. Плакат, призывающий
подписываться на военный заём.
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
«ДЕЛО ОБ ИЗМЕНЕ»
После «великого отступления» 1915 г.
во всех слоях общества ходили
упорные и зловешие слухи о предательстве
и измене. Настойчиво искали
германских шпионов. Требовалось найти и
наказать виновников небывалой
катастрофы русских армий.
В июне 1915 г. Николай II отстранил от
должности военного министра
Владимира Сухомлинова, который занимал этот
пост с 1904 г. Его обвиняли в
неподготовленности к войне, из-за которой
возник острый недостаток снарядов и
патронов. Бывшего министра арестовали.
В конце 1916 г. подследственный В.
Сухомлинов ненадолго вышел на
свободу, затем вновь оказался в тюрьме. Суд
над ним состоялся уже после
Февральской революции, в августе 1917 г.
Обвинения подсудимого в измене и
служебных злоупотреблениях не
подтвердились. Однако за недостаточную под-
готовленность к войне бывшего
министра приговорили к бессрочной
каторге. 1 мая 1918 г. по амнистии,
объявленной советским
правительством, В. Сухомлинов как достигший
70-летнего возраста вышел на
свободу. Вскоре он покинул родину и
скончался в эмиграции в 1926 г.
Ешё до смешения В. Сухомлинова
состоялся громкий судебный процесс над
жандармским полковником Сергеем
Мясоедовым. Его считали близким
знакомым военного министра. В марте
1915 г. суд признал С. Мясоедова
виновным в шпионаже в пользу Германии
и приговорил его к смертной казни. Ао
последнего часа осуждённый
продолжал доказывать свою невиновность.
После вынесения приговора он писал
жене и дочери: «Клянусь, что
невиновен, умоляй Сухомлиновых спасти,
просите Государя Императора
помиловать». Однако 18 марта 1915 г.
приговор привели в исполнение.
те. С января 1915 г. немцы применяли здесь и химическое оружие.
Поскольку противогазов у русских солдат не было, газовые атаки
каждый раз уносили множество жизней. А. Деникин писал: «Мы
противопоставляли убийственной технике немцев мужество... и
кровь». К осени 1915 г. позади русских армий остались огромные
территории — Польша, Литва, Галиция, часть Белоруссии...
Конечно, известия о поражениях и отступлении вызывали
в России тревогу и возмущение. Произошли даже отдельные
вспышки беспорядков. 29 мая 1915 г. М. Палеолог записал: «В
течение последних нескольких дней Москва волновалась,
серьёзные беспорядки возникли вчера и продолжаются сегодня. На
знаменитой Красной площади, видевшей столько исторических
сцен, толпа бранила царских особ, требуя пострижения
императрицы в монахини, отречения императора, повешения
Распутина...» (см. ст. «Григорий Распутин»). Всюду ходили слухи об
измене, предателях и т. п. Усилилось враждебное отношение к
немцам. Между тем в списках русского генералитета значилось
около 10% лиц германского происхождения из числа обрусевших
немцев. Теперь в них, да и в любом министре и сановнике с
немецкой фамилией видели вероятного шпиона.
Только к весне 1916 г. благодаря усиленной работе
военной промышленности русским армиям удалось восполнить
недостаток патронов и снарядов.
БРУСИЛОВСКИЙ ПРОРЫВ
Через год после начала «великого отступления» былой
«снарядный голод» отошёл в прошлое. Боевое настроение на фронте,
который теперь хорошо снабжался, несколько поднялось.
Правда, на войска угнетающе подействовали долгие месяцы
неподвижного стояния на одних и тех же рубежах.
И вот 22 мая 1916 г. четыре армии Юго-Западного фронта
двинулись в наступление. На рассвете неожиданно для
противника на его позиции обрушился ураганный огонь русской
артиллерии. Теперь уже не нужно было скупиться на снаряды, и
от тысяч взрывов австро-венгерские окопы превратились в
настоящий ад. Лёгкие орудия били каждую минуту, тяжёлые — раз
в две минуты. Приходилось заботиться только о том, чтобы
орудия не перегрелись. В течение двух суток вал орудийного огня
катился по позициям противника. Он, как тогда говорили,
«начисто выбривал» поле битвы. В сражениях русские войска
применяли и химическое оружие. Теперь все солдаты и офицеры
русской армии уже имели противогазы.
Австрийцы считали свои сильно укреплённые позиции, на
которых они зимовали, совершенно неприступными. Один
офицер австро-венгерской армии, взятый в плен в начале
наступления, сказал на допросе: «Наши позиции неприступны, и прорвать
их невозможно. А если бы вам это удалось, тогда нам не
остаётся ничего другого, как соорудить грандиозных размеров
чугунную доску, водрузить её на линии наших теперешних позиций
152
и написать: „Эти позиции были взяты русскими, завещаем
всем — никогда и никому с ними не воевать"».
Командующий фронтом генерал Алексей Брусилов
предложил прорвать оборону противника не на узком участке, а на всём
протяжении фронта. Такой новый приём казался необычным и
даже дерзким. Тем не менее атака почти по всему фронту
удалась. По имени командующего наступление назвали Брусилов-
ским прорывом.
До конца июля русские войска вновь отвоевали часть
Восточной Галиции и всю Буковину (ныне Черниговская область
Украины). Они взяли в плен 8 тысяч вражеских офицеров,
370 тысяч солдат, захватили 500 орудий и огромное
количество другого вооружения. Всего же за время Брусиловского
прорыва противник потерял до 1,5 миллионов военнослужащих.
Потери русских войск были втрое меньше, из них убитыми —
62 тысячи человек.
Чтобы спасти положение, противнику пришлось срочно
перебрасывать войска из других мест. Армии Брусилова
столкнулись в боях даже с турками. Германия вынуждена была
перебросить часть сил и из-под Вердена, где шли ожесточённые
сражения с французами. Это заметно облегчило положение
союзников России.
Под влиянием побед Брусилова 14 августа 1916 г. в войну
на стороне России вступила Румыния. Однако это событие
только осложнило положение России. Австро-германские войска
быстро разгромили слабую румынскую армию и заняли
Бухарест. Русский фронт растянулся до самого Чёрного моря...
7
ВОЕННЫЙ
Э&ЗАЕМЪ
Р. Заррин. Плакат, посвященный
военному займу.
ПОСЛЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Шёл уже тридцать первый месяц мировой войны, когда в
феврале 1917 г. в России совершилась революция. К этому времени
русский фронт удерживал почти половину всех военных сил
противника. На первый взгляд положение на фронте обрело
устойчивость. Однако в армиях уже накопилось глухое
недовольство бесконечной войной, усиливалась жажда скорейшего мира.
Были и другие причины для брожения в воинской среде. Так, в
1915 г. для укрепления дисциплины в войсках было введено
наказание розгами. Эта мера наказания, как унижающая
достоинство, вызывала у солдат сильное возмущение.
Оказавшись у власти, 6 марта Временное правительство
заявило, что будет продолжать войну «до победного конца». Оно
обещало также «свято хранить» верность союзникам и всем
заключённым с ними соглашениям. 22 мая по радио командующий
германским Восточным фронтом принц Леопольд Баварский
предложил России начать мирные переговоры. Временное
правительство ответило категорическим отказом...
Между тем стихийное стремление к миру нарастало. На
фронте начались знаменитые братания с неприятельскими солдатами.
Сражающиеся друг с другом части прекращали стрельбу, выходи-
Генерал А. Брусилов.
153
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
«ПРИКАЗ НОМЕР ОДИН»
1 марта 1917 г. Петроградский совет
был пополнен солдатскими депутатами.
В тот же день Совет выпустил
знаменитый «Приказ номер один» по
столичному гарнизону.
Приказ отменял различные мелкие
ограничения для солдат вне службы:
теперь солдаты могли не вставать во
фронт перед офицерами и не отдавать
им честь. «Равным образом, —
говорилось в приказе, — отменяется
титулование офицеров: ваше
превосходительство, благородие и т. п., и
заменяется обрашением: господин генерал,
господин полковник и т. д. Грубое
обращение с солдатами всяких воинских
чинов и, в частности, обращение к ним
на „ты", воспрещается...»
Кроме того, в первом пункте приказа
было сказано: «Во всех ротах,
батальонах, полках... немедленно выбрать
комитеты из выборных представителей
от нижних чинов». Хотя формально
приказ касался только войск
столичного военного округа, вскоре его прочли
во всей армии. Всюду стали
избираться солдатские комитеты, которые
играли в воинской среде роль Советов.
Большая часть офицерства считала, что
«Приказ номер один» стал первым и
самым важным толчком к развалу
армии. Офицеры в результате приказа
потеряли какую бы то ни было власть
над солдатами. Большевики
возражали на это, что приказ особой роли не
сыграл: он лишь отразил требования
стихийного движения.
Один из авторов приказа, меньшевик
Иосиф Гольденберг, говорил в марте
1917 г.: «Приказ номер один — не
ошибка, а необходимость... В день,
когда мы „сделали революцию", мы
поняли, что если не развалить старую
армию, она раздавит революцию. Мы
должны были выбирать между армией
и революцией. Мы не колебались: мы
приняли решение в пользу последней
и употребили — я смело утверждаю
это — надлежащее средство».
Оказавшись позднее у власти,
большевики ешё более «углубили», довели до
логического конца «Приказ номер
ли из окопов. Бойцы мирно разговаривали, курили, обменивались
различными мелкими вещами. Всюду в русских воинских частях
избирались солдатские комитеты, которые часто отменяли
приказы начальства. «По всей Армии, — писал генерал Пётр Краснов, —
пехота отказывалась выполнять боевые приказы и идти на
позиции на смену другим полкам. Были случаи, когда своя пехота
запрещала своей артиллерии стрелять по окопам противника под
тем предлогом, что такая стрельба вызывает ответный огонь
неприятеля. Война замирала по всему фронту...»
Сторонники продолжения войны доказывали солдатам, что
«путь к миру лежит через окопы противника». Военный министр
Александр Керенский говорил, выступая 12 мая перед
войсками: «Вы самые свободные солдаты мира. Разве вы не должны
доказать миру, что система, на которой строится ныне армия, —
лучшая система. Разве вы не докажете другим монархам, что не
кулак, а совесть есть лучшая сила армии (Возбуждённые
возгласы: «Докажем!»?). Ваша армия при монархе совершала подвиги.
Неужели она при республике окажется стадом баранов?» (Буря
аплодисментов. Крики: «Нет, никогда!»?). Керенский неделями
объезжал войска на фронте и с пламенным красноречием
призывал бойцов к наступлению на врага. Точная дата начала
наступления держалась пока в тайне. Военный министр
подчёркивал, что от этого наступления зависит судьба революции.
ИЮНЬСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ. ПОСЛЕДНИЕ СРАЖЕНИЯ
РУССКОЙ АРМИИ
«Сегодня великое торжество революции, — говорилось в
телеграмме А. Керенского Временному правительству 18 июня
1917 г. — Русская революционная армия с огромным
воодушевлением перешла в наступление». Это сообщение вызвало взрыв
ликования в столице. Здесь прошли демонстрации под лозунгом:
«Война до победного конца!». Предполагалось, что полкам,
наиболее отличившимся в сражениях, будут торжественно вручены
красные знамёна. Но делать этого не пришлось...
В наступление 18 июня перешли армии Юго-Западного
фронта. Вначале они одержали ряд побед над противником. На
участке прорыва русские войска имели двойное превосходство
в живой силе и артиллерии. 8-я армия генерала Л. Корнилова в
конце июня взяла города Галич и Калуш. При этом было
захвачено 48 орудий, около 10 тыс. пленных.
Однако немцы перебросили к месту сражений 16 дивизий
и 6 июля атаковали. В районе города Тарнополя (ныне Терно-
поль) германские войска прорвали фронт. Русские армии
беспорядочно отступали. В телеграмме комиссаров 11-й армии
положение описывалось так «Наступательный порыв быстро
исчерпался. Некоторые части самовольно уходят с позиций, даже
не дожидаясь подхода противника. На протяжении сотни вёрст
в тыл тянутся вереницы беглецов с ружьями и без них —
здоровых, бодрых, чувствующих себя совершенно безнаказанными.
154
РОССИЯ В ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ
Иногда так отходят целые части... Сегодня главнокомандующий
с согласия комиссаров и комитетов отдал приказ о стрельбе по
бегущим».
После провала июньского наступления ещё громче стали
звучать требования немедленного мира. В одном из солдатских
писем в столичную газету говорилось: «Если не будет в скором
времени мира, какого бы то ни было, то лопнет вся ваша
свобода». Характерна выдержка из другого письма: «Если до конца
октября не будет мира, то солдаты придут в Петроград и
переколют всё Временное правительство».
Спустя полтора месяца, 20 августа, германские войска
добились нового крупного успеха на русском фронте. Они взяли
Ригу, причём защищавшие город части потеряли 25 тысяч
человек, 270 орудий и большое количество другого вооружения.
Одно из последних сражений противнику дали корабли
Балтийского флота, отстаивая Моонзундские острова у
побережья Эстонии. Самым значительным событием в ходе этого
сражения стал бой 1 октября 1917 г. Этот бой отличался крайним
ожесточением: затонули линкор «Слава» и эсминец «Гром», а
также несколько неприятельских судов. Вскоре немцы захватили
Моонзундские острова.
Вооружённые силы России постепенно теряли способность
сопротивляться врагу. На секретном совещании 20 октября
новый военный министр Александр Верховский заявил: «Дальше
мы воевать не можем. Тяга армии к миру сейчас непреодолима.
Единственное, что нам сейчас остаётся, — это заключить мир с
Германией. Это даст нам возможность спасти государство от
полной катастрофы». Но подобная точка зрения не получила
поддержки, и он подал в отставку.
один». 2 декабря они издали декрет,
вводивший в армии выборное
начальство. Большевик Константин Еремеев
писал, что этим «авторитет
офицерства был окончательно добит».
«Партийным работникам, — продолжал он, —
было ясно видно, что старая армия
умерла и воскресить её нельзя.
Мнение Владимира Ильича о старой армии
было совершенно определённое: роль
её кончена. Полки, сколоченные из
осколков старой армии, он считал
бесполезной работой. „Главное, —
говорил он, — это безболезненная
демобилизация, постепенный роспуск
старой армии до конца"».
В молодую Красную армию вошло лишь
несколько «осколков» старой русской
армии, дольше других сохранявших
дисциплину. В основном это были
латышские стрелковые части,
превратившиеся в «красных латышских
стрелков». В 1918—1919 гг. они стали
одной из самых прочных опор Советской
власти.
М. Бочкарёва (первая слева) в строю женского «батальона смерти».
Петроград. 1917 г.
Л. Пастернак. Плакат времён
Первой мировой войны.
155
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
ДЕМОНСТРАЦИЯ
УВЕЧНЫХ ВОИНОВ
16 апреля 1917 г. в Петрограде
состоялась многотысячная демонстрация
солдат — инвалидов мировой войны.
Гремел военный оркестр; демонстранты
шли под красными знамёнами и
плакатами с надписями: «Взгляните на наши
раны. Они требуют победы!», «Слава
павшим! Да не будет их гибель
напрасной!», «Пораженцы позорят Россию!»,
«Ленина и компанию — обратно в
Германию!», «Война за свободу до
последнего издыхания!». Отдельной колонной
шли ветераны сражений, потерявшие
зрение. Они несли транспарант:
«Ослепшие воины. Война до полной победы!».
Французский посол в России Морис
Палеолог, видевший эту
демонстрацию, рассказывал о ней: «Самые
здоровые раненые ташатся медленно, кое-
как размешенные шеренгами;
большинство перенесли ампутацию. Самые
слабые, обвитые перевязками, рассажены
в повозках. Эта скорбная рать как бы
олицетворяет весь ужас, все увечья и
пытки, какие может вынести
человеческая плоть. Её встречают религиозной
сосредоточенностью, перед ней
обнажаются головы, глаза наполняются
слезами; женшина в трауре, рыдая,
падает на колени».
лодпиеывлйтееь
т зленъ свободы.
шшт свобом штата
ЖШте госэдерстлъ' деньгд
для борьбы еъ втагопъ.
А. Кравченко. «Заём Свободы». Плакат.
Агитация сторонников Временного правительства за наступление на Западном фронте
перед солдатами. Район города Авинска (ныне Ааугавпилс). Июнь 1917 г.
БРЕСТСКИЙ МИР
25 октября 1917 г. власть в Петрограде перешла в руки
большевиков, которые выступали под лозунгом: «Мир без аннексий и
контрибуций!». Заключить такой мир они и предложили всем
воюющим державам в первом же декрете новой власти —
Декрете о мире. С середины ноября по предложению советского
правительства на русско-германском фронте установилось
перемирие. Официально оно было подписано 2 декабря.
Большевик Константин Еремеев писал: «Перемирие на
фронте сделало тягу солдат домой, в деревню, неудержимой.
Если уже после Февральской революции уход с фронта был
обычным явлением, то теперь 12 млн солдат, цвет крестьянства,
почувствовали себя лишними в частях армии и чрезвычайно
нужными там, дома, где „делят землю". Утечка происходила
стихийно, принимая самые разнообразные формы: многие просто
самовольно отлучались, покидая свои части, в большинстве
захватив винтовки и патроны. Не меньшее число пользовалось
всяким легальным способом — в отпуска, в самые различные
командировки... Сроки не имели значения, так как всякий понимал, что
важно только выбраться из военной неволи, а там уж вряд ли
потребуют назад». Русские окопы стремительно пустели.
На некоторых участках фронта к январю 1918 г. в окопах
не осталось ни одного солдата, только кое-где попадались
отдельные военные посты. Отправляясь домой, солдаты забирали
своё оружие, а иногда даже продавали его неприятелю.
9 декабря 1917 г. в Брест-Литовске (ныне город Брест в
Белоруссии), где размещалась ставка германского командования,
начались переговоры о мире. Советская делегация пыталась
156
РОССИЯ В ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ
отстоять идею «мира без аннексий и контрибуций». 28 января
1918 г. Германия предъявила России ультиматум. Она
потребовала подписать договор, по которому Россия теряла Польшу,
Белоруссию и часть Прибалтики — всего 150 тыс. км2.
Это поставило советскую делегацию перед суровой
необходимостью выбирать между провозглашёнными принципами
и требованиями жизни. В соответствии с принципами
следовало вести войну, а не заключать позорный мир с Германией. Но
сил на то, чтобы воевать, не было. Глава советской делегации Лев
Троцкий, как и другие большевики, мучительно пытался
разрешить это противоречие. Наконец ему показалось, что он нашёл
блестящий выход из положения. 28 января он произнёс на
переговорах свою знаменитую речь о мире. Вкратце она сводилась
к известной формуле: «Мира не подписывать, войны не вести, а
армию распустить».
Лев Троцкий заявил: «Мы выводим нашу армию и наш
народ из войны. Наш солдат-пахарь должен вернуться к своей
пашне, чтобы уже нынешней весной мирно обрабатывать землю,
которую революция из рук помещиков передала в руки
крестьянина. Мы выходим из войны. Мы отказываемся санкционировать
те условия, которые германский и австро-венгерский
империализм пишет мечом на теле живых народов. Мы не можем
поставить подписи русской революции под условиями, которые
несут с собой гнёт, горе и несчастье миллионам человеческих
существ. Правительства Германии и Австро-Венгрии хотят владеть
землями и народами по праву военного захвата. Пусть они своё
дело творят открыто. Мы не можем освящать насилия. Мы
выходим из войны, но мы вынуждены отказаться от подписания
мирного договора».
После этого он огласил официальное заявление советской
делегации: «Отказываясь от подписания аннексионистского
договора, Россия со своей стороны объявляет состояние войны
прекращённым. Российским войскам одновременно отдаётся
приказ о полной демобилизации по всему фронту».
Германские и австрийские дипломаты вначале были
действительно потрясены этим невероятным заявлением. В помещении
на несколько минут воцарилась полная тишина. Затем немецкий
генерал М. Гофман воскликнул: «Неслыханно!». Глава германской
делегации Р. Кюльман тотчас сделал вывод: «Следовательно,
состояние войны продолжается». «Пустые угрозы!» — произнёс Л.
Троцкий, покидая зал заседаний.
Однако вопреки ожиданиям советского руководства 18
февраля австро-германские войска начали наступление по всему
фронту. Им практически никто не противостоял: продвижению
армий мешали только плохие дороги. Вечером 23 февраля они
заняли Псков, 3 марта — Нарву. Этот город покинул без боя
красногвардейский отряд матроса Павла Дыбенко. Генерал Михаил
Бонч-Бруевич писал о нём: «Отряд Дыбенко не внушал мне
доверия; достаточно было глянуть на эту матросскую вольницу с
нашитыми на широченные клёши перламутровыми пуговичка-
«ЗАЁМ СВОБОДЫ»
До 1917 г. правительство России
выпускало ценные бумаги военных займов.
После Февральской революции
Временное правительство выпустило облигации
такого же займа, названного «займом
Свободы». Печать, выступавшая за
продолжение войны, горячо призывала
население покупать облигации. Военный
министр А. Керенский восклицал в
своих выступлениях: «Граждане
капиталисты! Будьте Миниными для своей
Родины! Откройте свои сокровищницы и
спешите нести свои деньги на нужды
освобождённой России». В июне пресса
сообщила, что свергнутый император
Николай II и его семья также пожелали
приобрести облигации «займа Свободы».
Поэт-большевик Демьян Бедный
обыгрывал это в насмешливых стихах,
опубликованных в газете «Правда»:
Царь с иарииею вдвоём
Полписались на заём...
Что иарю всего ценней?
Стало, знать, ему вилней,
Что отлолгой обороны
Путь нелолгий... ло короны.
Велел за царём Николаем
Ленеглавать не желаем.
Пусть вносят червонцы
Царь ла оборонцы!
ЗАШСШАУ
П. Бучкин. Плакат 1917 г.
157
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
ЖЕНСКИЕ «БАТАЛЬОНЫ СМЕРТИ»
Летом 1917 г. в русской армии
быстро слабела дисциплина и падал
боевой дух. Однако часть солдат не
утратила прежнего желания сражаться и
жертвовать жизнью. Из них стали
формироваться добровольческие
части, которые называли «ударными
батальонами», «дружинами смерти»
и т. п. Вместо кокарды на фуражках
они носили изображение черепа
(«Адамовой головы»). Тот же череп со
скрещенными костями часто
изображался и на их знамёнах. Ударные
батальоны бросали в самые тяжёлые
места сражений, возлагали на них самые
трудные обязанности.
Тогда же родилась и ешё одна новая
идея. Её выдвинула военнослужащая
Мария Бочкарёва. В 1914 г. она
добровольно пошла на фронт, четырежды
была ранена, стала полным
Георгиевским кавалером. 1 мая 1917 г.
председатель Государственной думы Михаил
Родзянко, объезжая фронт,
познакомился с необычной женшиной-добро-
вольием. «Родзянко пожелал меня
видеть лично, — вспоминала М.
Бочкарёва, — я подошла к нему, и он меня
поцеловал и приказал сшить для меня
новое обмундирование и отправить меня
в Петроград». В столице Бочкарёва
выступила перед членами Временного
правительства с идеей создать женский
добровольческий «батальон смерти».
«Мне на это сказали, что моя идея
великолепная...» — писала она.
Более осторожно отнёсся к
предложению Бочкарёвой Верховный
главнокомандующий Алексей Брусилов. Он
заметил, что такой женский батальон
будет первым в мире. «Надеетесь ли
Вы на женщин?» — спросил он.
«Ручаюсь, что мой батальон не осрамит
России», — твёрдо отвечала М.
Бочкарёва. Выступая в последующие дни
перед женщинами, она подчёркивала:
«Солдаты в эту великую войну
устали. Им нужно помочь нравственно...».
В обращении Московского женского
военного союза говорилось: «Ни один
народ в мире не доходил до такого
позора, чтобы вместо
мужчин-дезертиров шли на фронт слабые женщины...
Женская рать будет тою живою водой,
которая заставит очнуться русского
старого богатыря».
Бойцы одного из «батальонов смерти», отправляющихся на фронт. Лето 1917 г.
ми, с разухабистыми манерами, чтобы понять, что они драться
с регулярными немецкими частями не смогут. Мои опасения
оправдались...».
25 февраля Владимир Ленин с горечью писал в газете
«Правда»: «Мучительно-позорные сообщения об отказе полков
сохранять позиции, об отказе защищать даже нарвскую линию, о
неисполнении приказа уничтожать всё и вся при отступлении; не
говорим уже о бегстве, хаосе, безрукости, беспомощности,
разгильдяйстве».
19 февраля советское руководство согласилось принять
немецкие условия мира. Но теперь Германия выдвинула уже
гораздо более тяжёлые условия, потребовав впятеро большую
территорию. На этих землях проживало около 50 млн человек; здесь
добывалось свыше 70% железной руды и около 90% угля в
стране. Кроме того, Россия должна была выплатить огромную
контрибуцию.
Советская Россия была вынуждена принять и эти
тяжелейшие условия. Глава новой советской делегации Григорий
Сокольников огласил её заявление: «При создавшихся условиях
Россия не имеет возможности выбора. Фактом демобилизации
своих войск русская революция как бы передала свою судьбу в
руки германского народа. Мы ни на минуту не сомневаемся, что
это торжество империализма и милитаризма над
международной пролетарской революцией окажется лишь временным и
преходящим». После этих слов генерал Гофман воскликнул с
негодованием: «Опять те же бредни!». «Мы готовы, — заключил
158
РОССИЯ ВПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ
Г. Сокольников, — немедленно подписать мирный договор,
отказываясь от всякого его обсуждения как совершенно
бесполезного при создавшихся условиях».
3 марта Брестский мирный договор был подписан. Россия
утратила Польшу, Прибалтику, Украину, часть Белоруссии...
Кроме того, по договору Россия передавала Германии более 90 т
золота. Брестский договор действовал недолго — в ноябре, после
революции в Германии, Советская Россия аннулировала его.
Вскоре после заключения мира, 11 марта, В. Ленин написал
статью (она была опубликована позже). Эпиграфом к ней
послужили строки Н. Некрасова:
Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и могучая,
Ты и бессильная,
Матушка-Русь!
Глава Совнаркома писал: «Не надо самообманов. Надо
измерить целиком, до дна, всю ту пропасть поражения,
расчленения, порабощения, унижения, в которую нас теперь толкнули.
Чем яснее мы поймём это, тем более твёрдой, закалённой,
стальной сделается наша воля... наша непреклонная решимость
добиться во что бы то ни стало, чтобы Русь перестала быть убогой
и бессильной, чтобы она стала в полном смысле слова могучей
и обильной».
27 июня в Исаакиевском соборе
Марии Бочкарёвой было торжественно
вручено знамя её батальона. После
этого женшины-добровольиы
отправились на фронт. В холе наступления они
взяли несколько линий немецких
окопов. В какой-то момент другие части,
состоявшие из мужчин, отступили, и
женшины остались одни на поле
сражения. Они не стали отступать, но, под
ураганным огнём забыв приёмы
ведения боя, собрались вместе, став
хорошей мишенью... Женский батальон
понёс в этом сражении большие потери.
Всего же сформировали два женских
пехотных «батальона смерти» и
несколько команд. В них вошло более
3 тыс. женшин. Один из женских
батальонов оказался в числе последних
защитников Временного
правительства в дни Октябрьского переворота в
Петрограде. В январе 1918 г. женские
батальоны формально распустили, но
многие их участницы (в том числе и
М. Бочкарёва) продолжали службу в
частях белогвардейских армий.
Вручение знамени женскому батальону, уходящему на фронт. Москва. Июнь 1917 г.
Мария Бочкарёва — командир женского
«батальона смерти».
159
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
В тот же день, опасаясь, что немцы,
несмотря на заключённый мир, займут Петроград,
советское правительство переехало в Москву. Так
более чем через два столетия Москва вновь
стала столицей российского государства.
Подготовка женского «батальона смерти» к наступлению
18 июня (третья слева в первом ряду —
М. Бочкарёва). Петроград. 1917 г.
УБИЙСТВО КОМИССАРА
ЛИНДЕ
Революция принесла в армию много
новшеств. Появились, например,
комиссары. Временное правительство
назначало их на фронты, в армии и иные
крупные воинские формирования. (При
большевиках комиссаров стали
назначать в каждое, даже мелкое, воинское
подразделение.) Комиссаром
Юго-Западного фронта стал Ф. Линде. Он был
одним из тех, кто 20 апреля вывел
революционных солдат Петрограда на
демонстрацию против «ноты Милюкова»
(см. ст. «Павел Милюков»).
В августе 1917 г. Ф. Линде получил
сообщение о солдатских волнениях в
одной из частей. Пехотные полки
отказывались выполнять боевые приказы.
Линде решил немедленно прибыть на
место событий, чтобы восстановить
дисциплину. Он приехал в
расположение войск вместе с командиром
дивизии генералом В. Гиршфельдтом,
потерявшим в сражениях обе руки.
Комиссар приказал построить части,
участвовавшие в беспорядках, и заявил
им: «Когда наша Родина изнемогает в
нечеловеческих усилиях, чтобы
победить врага, вы позволили себе
лентяйничать и не исполнять справедливые
требования своих начальников. Вы не
солдаты, а сволочь, которую нужно
уничтожить. Вы зазнавшиеся хамы и
свиньи, недостойные свободы...
Требую, чтобы вы сейчас же мне выдали
тех, кто подговаривал вас не исполнять
приказ начальника. Иначе вы
ответите все. И я не пошажу вас!».
Громким, исполненным гнева фразам
комиссара вторило лесное эхо. Когда
он закончил речь, воцарилась зловешая
тишина. Очевидец происшедшего
генерал П. Краснов вспоминал: «Когда
Линде замолчал, рота стояла бледная,
солдаты тяжело дышали. Видимо, они не
того ожидали от „своего" комиссара».
Из строя вызвали «зачинщиков
волнений». «Выходившие были смертельно
бледны, — писал Краснов, — тою
зеленоватою бледностью, которая
показывает, что человек уже не в себе. Их
набралось 22 человека». В строю
послышался возмущённый ропот:
солдаты не хотели выдавать товарищей.
«Ведите этих подлецов, и при малейшей
попытке к бегству — пристрелить», —
скомандовал генерал В. Гиршфельдт
одному из офицеров. «Понимаю», —
мрачно произнёс тот и повёл
арестованных прочь. Слова Гиршфельдта
можно было понять как приказ
расстрелять «бунтовщиков» под
предлогом «попытки к бегству».
П. Краснов рассказывал: «Линде и
Гиршфельдт сияли счастьем от первой
удачи; какая-то непреодолимая судьба
несла их в самую пасть опасности».
Комиссар вновь обратился к солдатам с яркой
патриотической речью. «Это была
прекрасная речь> полная страсти и
страдания за Родину, — отмечал П.
Краснов. — Говорил он патетически,
страстно, сильно, местами красиво, образно,
но акцент портил всё. Каждый солдат
понимал, что говорит не русский, а немец».
Солдаты стали переговариваться
между собой о том, что комиссар — вовсе
не комиссар, а немецкий шпион,
выдающий себя за другого. Ф. Линде уже
собрался уезжать, когда ему сообщили, что
один из полков взбунтовался и идёт с
ним «разговаривать». Солдаты
двигались шеренгами, как в атаку на немцев,
и стреляли вверх. «Но ведь это же
настоящий бунт! — воскликнул Линде. —
Мой долг быть там».
На машине он направился к мятежным
частям. Спустя несколько минут какой-
то солдат выстрелил в комиссара и убил
его наповал. Схватили и генерала
В. Гиршфельдта; его привязали к
дереву и убили. Этот эпизод — убийство
Линде и Гиршфельдта — получил
большую известность и произвёл сильное
впечатление в обществе. Позднее
Алексей Толстой отразил его в своей
трилогии «Хождение по мукам», а
Борис Пастернак — в романе «Доктор
Живаго».
160
РОССИЯ В ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ
И. Владимиров. «Захват германских автомобилей» (картина времён Первой мировой войны).
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
КАЗНИ
СМЕРТНОЙ
Когда июньское наступление 1917 г.
закончилось провалом, военное
командование потребовало восстановить на
фронте смертную казнь. Эта мера
наказания была отменена после
Февральской революции. Особенно настаивал
на введение казни за дезертирство и
невыполнение приказов генерал Лавр
Корнилов. Он пригрозил своей
отставкой, если не будет введена смертная
казнь. Его поддержал и главковерх
Алексей Брусилов.
12 июля решением Временного
правительства смертная казнь на фронте
была восстановлена. Её должны были
применять военно-революционные
суды, образованные из солдат и
офицеров. Александр Керенский называл
эту меру «великим искушением и
великим испытанием» для властей.
Однако на практике она не
применялась. Не находилось желаюших ни
выносить смертные приговоры, ни
утверждать их. В сентябре А. Керенский
говорил, выступая на Демократическом
совещании: «Смертная казнь
восстановлена по единодушному требованию
армейских организаций {Крики:
«Позор!».). Проклинайте, когда подпишу
хоть один приказ о смертной казни...».
По требованию Л. Корнилова, уже
ставшего Верховным главнокомандующим,
началась подготовка к введению
смертной казни и в тылу. Проект закона об
этом был готов к 22 августа 1917 г. Но
спустя несколько дней начался «корни-
ловский мятеж», и смертную казнь в
тылу тогда так и не восстановили.
161
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
«ДЕЛО АДМИРАЛА ШАСТНОГО*
В июне 1918 г. внимание
общественности привлёк суд над
контр-адмиралом Балтийского флота Алексеем
Шастным. До ареста адмирал
командовал морскими силами Балтийского
флота (заметим, что прежние звания
во флоте после Октября были
упразднены, так что называли Щастного не
адмиралом, а просто капитаном). Б
начале 1918 г. возникла реальная
опасность того, что по условиям мира с
Германией весь флот окажется в
руках немцев. Командующий решил не
сдавать боевые корабли неприятелю.
По его приказу более 250 судов
совершили небывалый «Ледовый поход» из
Ревеля (ныне Таллинн) и
Гельсингфорса (ныне Хельсинки) в Кронштадт.
Таким образом флот был избавлен от
захвата немцами. (Иная судьба постигла
Черноморский флот, который в июне
был затоплен по распоряжению из
Москвы.)
ОККУПАЦИЯ УКРАИНЫ
ГЕРМАНИЕЙ
Сразу после Февральской революции,
4 марта 1917 г., в Киеве была создана
украинская Центральная Рада во
главе с профессором-историком
Михаилом Грушевским. Этот общественный
совет сформировали украинские
социалисты. Постепенно он
преобразовался в нечто вроде парламента.
8 октябре Рада осудила
«большевистский мятеж» в Петрограде, после чего
от её деятельности отошли местные
большевики. 7 ноября Рада
провозгласила создание Украинской Народной
Республики (УНР) в составе России, а
9 января 1918 г. — независимость
УНР. В конце января к власти на
Украине пришли большевики, которые
свергли Раду и с помощью войск
заставили её покинуть Киев.
Тогда руководители Рады пошли на
заключение в Брест-Литовске
сепаратного (отдельного) мира с Германией и
Австро-Венгрией. По условиям этого
мирного договора немецкие войска
оккупировали территорию Украины. Рада
вернулась в Киев благодаря «герман-
Среди офицеров и матросов
Балтийского флота весной также ходили
слухи о том, что флот собираются
затопить. За распространение этих слухов
и подготовку «антисоветского
заговора» 29 мая А. Щастного арестовали.
20—21 июня его судил Верховный
революционный трибунал. На суде
А. Шастный отрицал свою вину.
Свидетелем обвинения против адмирала
выступил Лев Троцкий.
21 июня трибунал вынес приговор, в
котором о подсудимом говорилось:
«Воспользовавшись тяжким и тревожным
состоянием флота в связи с возможной
необходимостью в интересах
революции уничтожения его и кронштадтских
крепостей, вёл контрреволюционную
агитацию в Совете комиссаров флота и
в Совете флагманов. Всей этой
деятельностью своей питал и поддерживал во
флоте тревожное состояние и
возможность противосоветских выступлений.
ским тяжёлым орудиям», как с горечью
замечал Владимир Винниченко, один из
её руководителей.
Однако власть её снова оказалась
недолгой. Скоро у Рады возник острый
конфликт с германскими военными
властями. Рада стремилась передать
помещичью землю крестьянам, а
немецкое командование защищало
интересы земельных собственников. В
конце концов 28 апреля 1918 г. немцы
просто произвели государственный
переворот.
Распущена Рада была с крайней
бесцеремонностью, оставившей сильное
впечатление. Юрист А. Гольденвейзер
так описывал этот момент: «С
лестницы донёсся шум, дверь в зал
растворилась, и на пороге появились немецкие
солдаты. Какой-то фельдфебель
подскочил к председательскому креслу и
на ломаном русском языке крикнул:
„По распоряжению германского
командования объявляю всех
присутствующих арестованными. Руки вверх!".
Солдаты взяли ружья на прицел. Все
присутствующие встали с места и
подняли руки. Грушевский, смертельно
Трибунал постановил: считая его
виновным во всём изложенном, расстрелять.
Приговор привести в исполнение в
течение 24 часов».
Приговор контр-адмиралу А. Шастно-
му стал первым судебным смертным
приговором, вынесенным в Советской
республике по политическому
обвинению. Он произвёл очень сильное
впечатление на общество, поскольку
смертную казнь формально отменил
ещё II Съезд Советов в октябре 1917 г.
Кроме того, многие считали, что
обвинения, предъявленные А. Щастному
юридически необоснованны. Левые
эсеры в знак протеста вышли из
состава Революционного трибунала.
Меньшевик Юлий Мартов написал в связи с
расстрелом Алексея Шастного
известное обращение «Лолой смертную
казнь!».
бледный, оставался сидеть на своём
председательском месте и
единственный во всей зале рук не поднял».
Некоторые присутствующие были
арестованы, но подавляющее большинство
отпустили по домам.
29 апреля «гетманом всея Украины и
войск козацких» был провозглашён
генерал Павел Скоропадский, потомок
Ивана Скоропадского — украинского
гетмана начала XVIII в. Отныне
верховная власть в Украинской державе
должна была передаваться по наследству.
Однако с ноября, когда произошла
революция в Германии, гетман уже не мог
рассчитывать на поддержку немецких
войск. Сразу выяснилось, что в
собственной стране он не имеет прочной
опоры. 14 декабря П. Скоропадский
отрёкся от власти и покинул Украину.
В Киев вернулось правительство
Украинской Народной Республики во главе
с Владимиром Винниченко и Симоном
Петлюрой. Впрочем, уже через
полтора месяца оно было изгнано из города
наступающей Красной армией...
162
РОССИЯ В ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ
Tepouckffi побвигъ ити-кап. Л.)(. Нестерова.!
Плакат времён Первой мировой войны, посвяшённый лётчику Петру Нестерову. Гетман всея Украины П. Скоропалский.
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
ГИБЕЛЬ ГЕНЕРАЛА ДУХОНИНА
Бурные события в Петрограде в
октябре 1917 г. и приход к власти
большевиков в первые дни почти не
нарушили обычную жизнь Ставки в Могилёве.
После свержения Александра
Керенского обязанности Верховного
главнокомандующего принял на себя генерал
Николай Духонин.
8 ноября 1917 г. в Ставку пришла
телеграмма от Совнаркома,
приказывающая генералу Н. Духонину вступить в
переговоры о перемирии с
неприятелем. Не получив ответа, в ночь на 9
ноября глава советского правительства
В. Ленин связался со Ставкой по
прямому проводу. Он повторил своё
требование о необходимости начать
переговоры. Генерал отказался
подчиниться, заметив, что такие
переговоры может вести только
«правительство, признанное армией и страной».
В ответ на это из столицы последовал
приказ: «Именем правительства
Российской республики мы увольняем Вас
от занимаемой Вами должности за
неповиновение предписаниям
правительства... Главнокомандующим
назначается прапорщик Крыленко». Звучал этот
приказ весьма необычно — впервые
прапорщик (младший офицерский чин)
назначался главой всей русской армии!
Впрочем, до прибытия в Ставку
Николая Крыленко генерал Духонин должен
был продолжать вести дела.
Следующие десять дней в Ставке
прошли в тревожном ожидании нового
главковерха. По распоряжению Н.
Духонина из Быховской тюрьмы
освободили арестованных ранее участников
«корниловского мятежа», в том числе
Л. Корнилова и А. Деникина (см. ст.
«Лавр Корнилов»). Могилёв
постепенно покидали воинские подразделения,
которые могли бы противостоять
отряду Н. Крыленко. Некоторые части не
хотели участвовать в гражданской
войне, другие уходили по приказу самого
Н. Духонина. «Я не хочу
братоубийственной войны», — говорил он в эти
дни. Сам Духонин также вначале
собирался уехать. Однако потом генерал
решил, что тайное бегство главы
русской армии противоречит принципам
воинской чести. «Я имел и имею
тысячи возможностей скрыться, —
признавался он. — Но я этого не сделаю. Я
знаю, что меня арестует Крыленко, а
может быть, меня даже расстреляют.
Но это смерть солдатская». В конце
концов Н. Духонин остался в
Могилёве, хотя никакой зашиты у него здесь
уже не было...
20 ноября в Ставку прибыл Н.
Крыленко со своим отрядом. Н. Духонина
арестовали и поместили в вагоне Н.
Крыленко на вокзале. Поезд окружила
толпа революционных солдат и матросов.
Они требовали выдать им Духонина
для самосуда. Кто-то возбуждённо
выкрикивал: «Корнилов сбежал,
Керенский тоже сбежал... Но этот-то не
должен уйти от нас!». Н. Крыленко
попытался успокоить собравшихся, говорил
им, что убить генерала они смогут,
только расправившись с ним самим. Но
в конце концов толпа ворвалась в
вагон, оттолкнув в сторону Крыленко. В
тот же момент Николая Духонина
застрелили, а затем его тело подняли на
штыки...
С тех пор в течение всей гражданской
войны немалой популярностью
пользовалось выражение «отправить в
ставку Духонина». Оно означало
«расстрелять».
РЕВОЛЮЦИЯ И
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
1917-1921 ГОДЫ
ттт.
ДЩРАЮТ
Ф1
*****
с*&
tf&O^
j0ua^
****
**vfc
v\^
oM^
w
w^o*
,c*v^
co^
,v\v**
**o^
,и^с
*v^
^'
tftf*»
>vc^b
&*№
ao^*
,о?°ч
ц^и
oc№'
flN
kU*c*
&o
cc^1
kVA^
no'
&W
&№
VAN
M0
*AV\V^
itf*
CVAbX^
^o*1
Y*NC
iVflN
Jt^
VLON
uN*N
?N?
,v?o^
*oN
uNVA
*OU*N
CN
&№
tffr^
Hrf***
notf*
^
?P&
>vVoWv
tf»N
uYfcN*
VCPO
^^
c*°*
*o
сеч***
ъ&$
&№
^ЭП*
ФЕВРАЛЬСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ
«ХЛЕБНЫЕ» ВОЛНЕНИЯ
В середине февраля 1917 г. в Петрограде возникли перебои с
подвозом хлеба. Возле булочных выстроились «хвосты».
Французский посол Морис Палеолог замечал в своём дневнике
21 февраля: «Сегодня утром у булочной на Литейном я был
поражён злым выражением, которое я читал на лицах всех бедных
людей, стоявших в хвосте. Из них большинство провело там всю
ночь...». Несмотря на войну, очереди оставались для
петроградцев явлением непривычным и вызывали всеобщее возмущение.
В городе вспыхнули забастовки, 18 февраля остановился Пути-
ловский завод.
23 февраля (8 марта) отмечался Международный женский
день. Тысячи работниц вышли на улицы города. Они
выкрикивали: «Хлеба!» и «Долой голод!». В этот день в стачке участвовали
около 90 тыс. рабочих, причём забастовочное движение
разрасталось подобно снежному кому. На следующий день бастовали
уже более 200 тыс. человек, а ещё через день — свыше 300 тыс.
человек (80% bcqx столичных рабочих).
На Невском проспекте и других главных улицах города
начались митинги. Их лозунги становились всё решительнее. В
толпе уже мелькали красные флаги, слышалось: «Долой войну!» и
«Долой самодержавие!». Демонстранты пели революционные
песни. Большевик А. Шляпников вспоминал о событиях 24
февраля: «Вечер этого дня я провёл на Невском. Движение трамваев,
извозчиков и автомобилей сокращалось с каждой минутой.
Улицы были полны только пешеходами, собиравшимися в кучки.
Кучки эти росли, превращались в громадные, останавливающие
всякое движение толпы. Одна такая группа, возникшая по
Невскому проспекту, быстро выросла во всю ширину улицы.
Появился над толпой агитатор. Это был первый открытый митинг
на Невском. Оратор призывал граждан к борьбе с
самодержавным правительством...».
И вот наступил один из первых поворотных моментов
событий. Станут ли войска дисциплинированно разгонять толпу и
наводить порядок? Или они сами уже втайне сочувствуют
лозунгам демонстрантов? А Шляпников описывал происшедшее так:
«Во время речи на толпу шагом двигался взвод казаков. Толпа не
дрогнула. Оратор смолк, все ждали, как поведут себя казаки. На-
167
РЕВОЛЮЦИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
«Аа здравствуют казаки!» В дни
Февральской революции в Петрограде.
Современный рисунок.
Очередь у продовольственного магазина.
Петр о фал. 1917 г.
ФЕВРАЛЬСКАЯ
РЕВОЛЮиИЯ
ступила глубокая тишина, раскалываемая звоном конских
подков. Тысячи глаз следили за каждым движением подъезжавших
казаков. Не знаю, что подействовало на казаков — но только взвод
тихим рассыпным строем, разделившись одиночно, но порядком
прошёл через толпу». Вслед за этим из толпы грянули
восторженные крики «Да здравствуют казаки!» и раздались аплодисменты.
Митинг продолжался...
Внезапное стихийное движение оказалось полной
неожиданностью для революционной интеллигенции. Никто не
подготавливал его сознательно, да для этого не было и сил. Эсер
С. Мстиславский замечал: «Кроме кружков, варившихся в
собственном соку или, ещё того хуже, в военно-патриотических
восторгах, социалистические партии тех дней не имели ничего».
СОЛДАТСКОЕ ВОССТАНИЕ
25 февраля 1917 г. Николай II из Ставки телеграфировал
командующему столичным военным округом генералу Сергею Хабало-
ву: «Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, не-
169
РЕВОЛЮЦИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
Да лдранстпует возрожденная Poccin!
(.Приюиопои II K|>l>IIO<'tn).
1УДЛ ПСРЛ'0СС1ЙСК(в,
Открытка, посвяшённая аресту министра
внутренних дел А. Протопопова. 1917 г.
Открытка, посвяшённая аресту царских
министров. 1917 г.
Мы честно прошли
Свой доблестный путч благородный.
ОЩ
Ш-ч-^Лы
'?Mti\j
П1ЧЧГЧЛШ» вкяпцмк* «nu'nr.til «ПСИНОМ ►
допустимые в тяжёлое время войны». Генерал попытался
выполнить приказание. 26 февраля арестовали около ста
«зачинщиков беспорядков». Войска и полиция начали разгонять
демонстрантов выстрелами. Всего в эти дни погибли 169 человек, около
тысячи получили ранения (позднее из числа раненых
скончалось ещё несколько десятков человек).
Однако выстрелы на улицах привели только к новому
взрыву возмущения, но уже среди самих военных. Солдаты запасных
команд Волынского, Преображенского и Литовского полков
отказались «стрелять в народ». Среди них вспыхнул бунт, и они
перешли на сторону демонстрантов.
Все эти события также носили неожиданный и стихийный
характер. «Кто вызвал солдат на улицу? — спрашивал социалист
Владимир Станкевич и давал такой ответ: — Масса двинулась
сама, повинуясь какому-то безотчётному внутреннему позыву...
Ни одна партия при всём желании присвоить себе эту честь не
могла дать на это ответа».
М. Палеолог наблюдал впечатляющую сцену: навстречу друг
другу хлынули два людских потока. С одной стороны — «серые
шинели», с другой — толпа с красными знамёнами. Могло
показаться, что сейчас произойдёт столкновение. Но вместо этого
потоки смешались и слились в один: солдаты братались с
демонстрантами. Восставшие солдаты захватили Главный арсенал
и освободили заключённых известной тюрьмы «Кресты».
Генерал С. Хабалов сообщал государю 27 февраля:
«Исполнить повеление о восстановлении порядка в столице не мог.
Большинство частей одни за другими изменяли своему долгу,
отказываясь сражаться против мятежников. Другие части
побратались с мятежниками и обратили своё оружие против верных
Его Величеству войск Оставшиеся верными долгу весь день
боролись против мятежников, понеся большие потери. К вечеру
мятежники овладели большею частью столицы...».
Наконец, 28 февраля в Петрограде сдались последние
защитники правительства во главе с генералом Хабаловым.
«Войска постепенно так и разошлись... — рассказывал генерал. —
Просто разошлись постепенно, оставив орудия». Министры
скрылись, а потом их поодиночке арестовали. Некоторые сами
явились под стражу, чтобы избежать расправы.
В дни революции бурно выплеснулось накопившееся у
населения недовольство полицией. Революционная толпа
разгромила многие полицейские участки, последовали массовые
аресты городовых. Они и сами сдавались под арест, опасаясь
самосуда. После Февраля старая полиция по всей стране
прекратила существование, а городовых на улицах сменили
милиционеры.
27 февраля восставшие разгромили и подожгли столичное
охранное отделение. При этом сгорели его архивы, навсегда
скрыв имена многих секретных сотрудников полиции. По
мнению некоторых историков, эти секретные сотрудники сами
принимали в поджоге деятельное участие.
170
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
В разгар волнений, 26 февраля, Николай II распустил
Государственную думу. Депутаты решили подчиниться указу, но не
разъезжаться из Петрограда. В те же дни появилась легенда, что Дума
будто бы отказалась расходиться. П. Милюков по этому поводу
замечал, что «Дума послушно подчинилась роспуску и была в
своём целом совершенно не способна на красивый революционный
жест». Но волей обстоятельств депутаты оказались в самом
центре бурных событий, захлестнувших столицу.
26 февраля председатель Думы Михаил Родзянко направил
государю телеграмму: «Положение серьёзное. В столице —
анархия. Правительство парализовано. Растёт общественное
недовольство. На улицах происходит беспорядочная стрельба. Части
войск стреляют друг в друга. Необходимо немедленно поручить
лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое
правительство. Медлить нельзя. Всяческое промедление смерти
подобно. Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на
венценосца». Николай II не принял этого предложения. Он считал,
что в создавшейся обстановке нельзя менять правительство, а
надо решительно подавить беспорядки. На следующий день
М. Родзянко направил новую телеграмму: «Час, решающий
судьбу Вашу и родины, настал. Завтра может быть уже поздно».
Между тем положение Думы становилось всё более
двойственным. С одной стороны, случилось то, чего Дума больше всего
опасалась, — стихийное восстание. С другой — восставшие
сохраняли к Думе полное уважение. Депутаты переживали мучительные
колебания: «Что делать? Не вмешиваться? Или встать во главе
народного движения, чтобы как-то ввести его в берега?».
Депутат-монархист Василий Шульгин вспоминал: «Родзянко
долго не решался. Он всё допытывался, что это будет — бунт или
не бунт? „Я не желаю бунтоваться. Я не бунтовщик, никакой
революции я не делал и не хочу делать. Если она сделалась, то именно
потому, что нас не слушались... Против верховной власти я не
пойду, не хочу идти. Но, с другой стороны, ведь правительства нет. Как
же быть? Отойти в сторону? Умыть руки? Оставить Россию без
правительства? Ведь это Россия же, наконец!"».
В. Шульгин на вопрос М. Родзянко: «Брать или не брать
власть?», решительно ответил: «Берите, Михаил Владимирович.
Никакого в этом нет бунта. Берите, как верноподданный... Что же
нам делать, если императорское правительство сбежало так, что
с собаками их не сыщешь!».
27 февраля депутаты образовали Временный комитет
Государственной думы, куда вошли 12 человек — от монархиста
В. Шульгина до социалиста-революционера А. Керенского. На
следующий день М. Родзянко направил ещё одну телеграмму
императору, в которой сообщал, что революция в столице в
полном разгаре, министры арестованы толпой и чернь
распоряжается положением. «Чтобы успокоить страсти, — писал он, — и
предотвратить истребление офицеров и чиновников,
Временный комитет решил принять на себя роль правительства».
Л \\
М
\
Л•
\
шт
^ОЕЭД_
Ул'-\ f
И*1ГЛтЗ^
\%Ш": "Щ^
/Я^ШгаИНк
Ш&'-ЖУ. t м
'ЗлШ^Ш'-Ъ^ К=ет
\ k шт.
HI .:
. Mr ЖЖ ,-.-■-
YSr^^/Br&ircdi i^irf-rn* £-".•?
\ Х*%& Я*^Ш^Й*' ■
\\Js8ft ЧГЖ^ ">г '" *;
^ajgHPW^' С %иуе нкз;
Открытка 1917 г.
Открытка 1917 г.
171
РЕВОЛЮЦИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
бмйпутср MSL ОРПЯ...
ОТРЕЧЕНИЕ НИКОЛАЯ II
После безуспешных попыток подавить восстание в Петрограде
государь стал склоняться к мысли об уступках. В ночь на 2 марта
он согласился на ответственное перед Думой правительство.
Однако такой уступки было уже недостаточно. Генерал М. Алексеев
из Ставки узнал мнение командующих фронтами относительно
отречения Николая II от престола. Все они высказались за
отречение, о чём было доложено государю. После этого Николай II
заявил: «Если я помеха счастью России и меня все стоящие во
главе её общественных сил просят оставить трон, то я готов это
сделать. Я готов даже не только царство, но и жизнь отдать за
родину...». К трём часам дня 2 марта он принял решение отречься
от престола.
Отречение императора Николая II. Вечером ТОГО Же ДНЯ К ГОСударЮ, находившемуся В Пскове,
Современный рисунок, прибыли два представителя Государственной думы — В. Шуль-
Карикатура на Николая II. Открытка
неизвестного художника. 1917 г.
172
ФЕВРАЛЬСКАЯ
РЕВОЛЮиИЯ
Прогулка царской
семьи пол конвоем.
Современный рисунок.
гин и А Гучков. Царь принял их в вагоне своего поезда. Он очень
спокойно выслушал Александра Гучкова, который объяснял
необходимость отречения. А. Гучков сказал, что любая воинская
часть, как только она подышит воздухом революционной
столицы, перейдёт на сторону восстания. «Поэтому, — добавил он, —
всякая борьба для Вас бесполезна».
«Когда Гучков кончил, заговорил Царь, — рассказывал
В. Шульгин. — Совершенно спокойно, как о самом
обыкновенном деле, он сказал: „Я вчера и сегодня целый день обдумывал и
принял решение отречься от престола. До 3 часов дня я готов был
пойти на отречение в пользу моего сына, но затем я понял, что
расстаться с моим сыном я не способен". Тут он сделал
короткую остановку и продолжал: „Вы это, надеюсь, поймёте. Поэтому
я решил отречься в пользу брата"» (см. ст. «Николай II»).
В полночь 2 марта 1917 г. Николай II подписал манифест
об отречении в пользу своего брата великого князя Михаила
Александровича.
ОТРЕЧЕНИЕ МИХАИЛА
Утром 3 марта Михаил Александрович, находившийся в
Петрограде, неожиданно для себя узнал о решении брата,
передавшего ему престол. В квартире князя Путятина на Миллионной
улице собрались члены Комитета Государственной думы.
«Посредине между ними, — вспоминал В. Шульгин, — в большом кресле
сидел офицер — моложавый, с длинным худым лицом... Это был
великий князь Михаил Александрович».
173
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОИНА
Нлцу м надо имаго кумира,
Наммивтви* маму ццюМ чаргошМ
Карикатура на торгово-промышленное
сословие, ставшее на сторону революции.
Открытка 1917 г.
Снятие паллятника Александру III
в Москве. 1918 г.
П. Милюков горячо убеждал великого князя принять
престол. По словам В. Шульгина, он произнёс «потрясающую речь».
«Я доказывал, — писал сам П. Милюков, — что для укрепления
нового порядка нужна сильная власть. Она может быть такой
только тогда, когда опирается на символ власти, привычный для
масс. Таким символом служит монархия. Одно Временное
правительство без опоры на этот символ окажется утлой ладьёй,
которая потонет в океане народных волнений».
М. Родзянко и А, Керенский уговаривали великого князя не
принимать престол. Керенский заявил, что не может даже
поручиться за жизнь великого князя, если тот решит стать государем.
Михаил Александрович внимательно выслушивал доводы «за» и
«против». Затем он сказал, что должен подумать и принять
решение наедине с самим собой. Он провёл в соседней комнате
около четверти часа. «Великий князь вышел, — рассказывал В.
Шульгин. — Мы поняли, что настала минута. Он сказал: „При этих
условиях я не могу принять престола, потому что...". Он не
договорил, потому что... потому что заплакал...»
После этого Михаил Александрович подписал текст
отречения, которое начиналось словами: «Тяжкое бремя возложено на
Меня волею брата Моего, передавшего Мне Императорский
Всероссийский престол в годину беспримерной войны и волнений
народных...». Великий князь соглашался «лишь в том случае
воспринять верховную власть, если такова будет воля народа»,
выраженная в Учредительном собрании.
КАК ВСТРЕТИЛИ
ФЕВРАЛЬСКУЮ
РЕВОЛЮЦИЮ
Удивительным было
спокойствие, с которым встретила
страна весть о падении вековой
монархии. Правда, внешне всё
происходило в законных
формах — два добровольных
отречения...
Наиболее сильны
монархические чувства были,
вероятно, в армии. Генерал А
Деникин вспоминал: «Войска были
ошеломлены — трудно
определить другим словом первое
впечатление, которое
произвело опубликование
манифестов. Ни радости, ни горя.
Тихое, сосредоточенное
молчание. И только местами в строю
непроизвольно колыхались
174
ФЕВРАЛЬСКАЯ
РЕВОЛЮиИЯ
ружья, взятые на караул, и по
щекам старых солдат катились
слёзы...».
Но основная масса
населения встретила весть о
падении самодержавия с радостью
и воодушевлением. По всей
стране внезапно воцарилась
атмосфера большого
народного праздника. Незнакомые
люди поздравляли друг друга,
плакали от счастья и
целовались, как на Пасху. В деревнях
устраивали праздничные
молебны, торжественно сжигали
царские портреты. В народе
твёрдо верили, что отныне
жизнь станет легче и лучше.
Все связывали с революцией
осуществление своих чаяний.
Крестьяне надеялись на
скорую передачу в их руки
помещичьей земли. Солдаты так же
твёрдо рассчитывали на
долгожданный мир. Интеллигенция
после долгих лет борьбы
наконец добилась своей главной
задачи — завоевала
широчайшие гражданские свободы. Всё
это сплачивало людей самых
различных сословий и
убеждений. Правда, уже через
несколько недель стало ясно, что
за внешним единством
кроются глубокие внутренние
противоречия. Однако память о всеобщем ликовании в первые дни
Февраля сохранялась в народе ещё долгие годы...
Подобные настроения отразились в записи князя Евгения
Трубецкого, сделанной в те дни. «Эта революция, — писал он, —
единственная в своём роде. Бывали революции буржуазные,
бывали и пролетарские, но революции национальной в таком
широком значении слова, как нынешняя русская, доселе не было
на свете. Все участвовали в этой революции, все её делали — и
пролетариат, и войска, и буржуазия, даже дворянство...»
После Февральской революции
крестьяне торжественно
сжигают портреты Николая II.
Современный рисунок.
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА
В 1917 ГОДУ
УПРАЗДНЕНИЕ ПОЛИЦИИ
В ани Февральской революции на
улицах Петрограда можно было наблюдать
необычное зрелише — группы или лаже
целые толпы городовых, которых куда-то
вели под конвоем. Кое-где городовые
сами выстраивались в очередь, чтобы
сдаться под арест и спастись от уличной
расправы.
Полицейские участки повсюду
оказались разгромлены, и полиция по сути
дела прекратила существование. По
замечанию А. Деникина, это «явилось
результатом народного гнева в
отношении исполнительных органов
старой власти». Не случайно позднее
А. Блок в своей поэме «Двенадцать»
отразил это в следующей строке: «И
больше нет городового...».
17 апреля 1917 г. Временное
правительство издало постановление,
которое окончательно упразднило
полицию. Взамен неё для охраны порядка
создавалась милиция из числа
граждан-добровольцев. Что же касается
бывших стражей порядка, то многие
из них теперь остались без работы.
Это нередко толкало их в лагерь...
крайних революционеров. «Личный
состав полиции (а также и
жандармерии), — утверждал кадет В.
Набоков, — несколько месяцев спустя
естественным образом влился в ряды
наиболее разбойных большевиков».
ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
27 февраля 1917 г., чтобы ввести в берега стихийное
революционное движение, депутаты Государственной думы образовали
Временный комитет. В него избрали десять человек — от социал-
демократа Николая Чхеидзе до националиста Василия
Шульгина. Последний иронически замечал: «Страх перед улицей загнал
в одну „коллегию" Шульгина и Чхеидзе...».
2 марта та же группа депутатов образовала уже настоящее
правительство, которое назвали Временным. В него вошли
кадеты, октябристы, беспартийные и один социалист (Александр
Керенский).
По общему согласию правительство возглавил видный
земский деятель — князь Георгий Львов, по взглядам близкий к
кадетам. Георгий Евгеньевич пользовался репутацией нравственно
безупречного человека. Кадет Владимир Набоков замечал: «Он
чужд был честолюбия и никогда не цеплялся за власть. Я думаю,
он был глубоко счастлив в тот день, когда освободился от её
бремени». В народе назначение Г. Львова между тем вызвало
некоторое недовольство. В. Шульгин так передавал речь одного
рабочего на митинге: «Вот, к примеру, они образовали
правительство... Кто же такие в этом правительстве? Вы думаете, товарищи,
что от народа кто-нибудь? Так сказать, от того народа, кто
свободу добыл? Как бы не так! Вот, читайте... князь Львов... князь... Так
вот для чего мы, товарищи, революцию делали!».
Позднее многие коллеги Г. Львова по правительству
упрекали его в излишней политической мягкости. Но его политика
точно соответствовала общему духу первых месяцев революции.
«Надо признать, что выбор князя Львова был в своё время
неизбежен», — писал Павел Милюков. Несмотря на свои весьма
умеренные взгляды, Г. Львов по-своему принял совершившуюся
революцию. «Г. Е. Львов не только не отвернулся от революции, но,
напротив, его тянуло к ней, — вспоминал эсер Виктор Чернов. —
Он понял и даже частично вобрал в себя её пафос благодаря
некоторому романтическо-славянофильскому элементу в
миросозерцании...» Князь Львов верил в народную мудрость, в «великое
сердце русского народа», как он говорил. Из этого проистекала,
по замечанию В. Набокова, его «мистическая вера, что всё
образуется как-то само собой».
176
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
БОРЬБА В 1917 ГОДУ
В своём выступлении 27 апреля Г. Львов подчеркнул, что
правительство «ищет опоры не в физической, а в моральной
силе». «Основой государственного управления, — сказал Георгий
Евгеньевич, — правительство полагает не насилие и
принуждение, а добровольное повиновение свободных граждан созданной
ими самими власти». Такая формулировка звучала совершенно
необычно, но вполне отражала настроения тех дней. «Ни одной
капли народной крови не пролито по воле правительства, —
продолжал князь, — ни для одного течения общественной мысли им
не создано насильственной преграды». Свою речь он завершил
поэтической цитатой:
Свобода, пусть отчаются другие,
Я никогда в тебе не усомнюсь!
ДВОЕВЛАСТИЕ
27 февраля одновременно с Временным комитетом Думы в
Петрограде возник Совет рабочих депутатов. Возглавил его
меньшевик Н. Чхеидзе. Совет обосновался в Таврическом дворце, где
заседала и Дума. «Звезда Совета меркла первое время в лучах
Князь Г. Львов.
Л. Генч. «Доисторическое.
— Папа, расскажи о жандармах.
— А откуда я о них знаю. Спроси дедушку».
(«Крокодил». 1936 г.)
ЗОН
Л Э 2,4* еэкепсииеа ы*
К. Елисеев. «К седьмой годовщине
Февральской революции. Детям
семилетнего возраста, никогда не
видевшим городового» (журнал
«Заноза», 1924 г.).
177
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
ПЕРВЫЕ «КРАСНЫЕ ПОХОРОНЫ»
23 марта 1917 г. на Марсовом поле в
Петрограде состоялись похороны
погибших в дни Февральской
революции. Около миллиона человек
провожали в последний путь 210 убитых.
Среди павших были не только
революционеры, но и городовые, зашишавшие
старый порядок.
Французский посол Морис Палеолог
записал в своём дневнике: «Сегодня с
утра огромные, нескончаемые шествия
с военными оркестрами во главе,
пестря чёрными знамёнами, вились по
городу... Под небом, закрытым снегом и
разрываемым порывами ветра, эти
бесчисленные толпы, которые медленно
двигаются, сопровождая красные
гробы, представляют зрелише
необыкновенно величественное. И, ешё усиливая
трагический эффект, ежеминутно в
крепости грохочет пушка». Больше
всего посла поразило то, что в
погребальной церемонии не участвовал ни один
свяшенник, не прочитали ни единой
молитвы. Звучали только «Марсельеза»
и другие революционные песни.
«Впервые великий национальный акт
совершается без участия церкви, — писал
М. Палеолог. —Я, может быть, был
свидетелем самых знаменательных фактов
современной истории. То, что
похоронили в красных гробах, это — всё
прошлое святой Руси...»
«Но на следующий день, — продолжал
он, — странное беспокойство
распространилось среди простонародья —
чувство, в котором были: осуждение,
думского комитета, — замечал юрист С. Завадский. — Не
случайно Совет поместился в Таврическом дворце, а не в другом каком-
либо здании».
Так в ходе революции возникло двоевластие — как бы
переплетение власти Временного правительства и власти Совета.
Вскоре Советы стали появляться и в других городах, а затем и в
сёлах. Ведущую роль во Временном правительстве играли
либералы, кадеты, а в Советах преобладали социалисты
(меньшевики и эсеры). По замечанию генерала А. Деникина, «обе стороны
черпали свои руководящие силы из одного источника —
немногочисленной русской интеллигенции». При этом считалось, что
Временное правительство выражает интересы буржуазии, а
Советы — интересы рабочих, солдат и крестьян (выборы в Советы
были классовыми, а не всеобщими).
Но в первые месяцы революции Советы не спешили занять
место правительства. Они предпочитали оказывать на него
давление извне. «Мы поддерживаем правительство постольку,
поскольку оно проводит желательные меры», — говорили вожди
Советов. Кроме того, чтобы следить за деятельностью
правительства уже «изнутри», в число министров вошёл единственный
социалист — А. Керенский.
ВОПРОС О ЗЕМЛЕ
Крестьяне с большим воодушевлением встретили известие о
Февральской революции. Большинство из них уже изверилось в том,
что государь когда-нибудь передаст им помещичью землю.
Теперь они ждали земли от новых людей, взявших власть в ходе
революции. Как отмечал А. Деникин, это был «главный, более
того — единственный вопрос, который глубоко волновал душу
крестьянства, — вымученный, выстраданный веками».
Однако новое правительство не спешило оправдать эти
ожидания. Поддерживавшие его либералы и большинство
социалистов договорились о том, что вопрос о земле может решить
Торжественные похороны жертв Февральской революции.
Петроград. 23 марта 1917 г.
178
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
БОРЬБА В 1917 ГОДУ
Траурное шествие в Петрограде на Марсовом Поле. 23 марта 1917 г.
только Учредительное собрание, и призывали крестьян
терпеливо его дожидаться. Вначале те ещё поддавались убеждению,
верили в скорый земельный передел. В марте по всей России было
отмечено только 17 вспышек «земельных беспорядков».
Крестьяне силой захватили две помещичьи усадьбы.
Но с апреля терпение сельских жителей начало постепенно
иссякать. «Сколько ещё терпеть? Чего дожидаться? — роптали
они. — Пока помещики снова окрепнут, что ли? Нет, надо
искоренить их сейчас, пока наша сила». В апреле произошли уже 204
вспышки беспорядков и 51 усадьба оказалась захвачена. А затем
крестьянское движение разлилось подобно половодью. В мае
таких вспышек было уже 259, в июне — 577, в июле — 1122...
Усадьбы пылали теперь уже почти по всей стране, как в
1905 г. При этом крестьяне воевали не с отдельными
землевладельцами, а со всем ненавистным им помещичьим сословием.
Среди них созрела твёрдая решимость истребить всё это
сословие целиком, раз и навсегда. Писатель Владимир Короленко
рассказывал: «Оставаться в деревне стало опасно не только
помещикам, вызвавшим в прежнее время недовольство населения, но и
людям, известным своей давней работой на пользу того же насе-
угрызение совести, смутная тревога,
суеверные предчувствия. Теперь
сомнений не было: эти похороны без
икон и попов были святотатством.
Дьявольским измышлением выкрасить
гробы в красный цвет осквернили
покойников...»
Другой очевидец событий юрист С.
Завадский приводил мнение знакомой
ему служанки по имени Наташа,
«молодой девушки, грамотной и
считавшей себя социалисткою». Она
сказала с волнением: «Пусть все эти
городовые, которые стреляли в народ,
очень виноваты; но ведь они за то и
убиты; а зачем же такое над их прат
хом надругательство? Ведь их
зарывают без отпевания в неосвящённую
землю». Под влиянием этих
настроений позднее Временное
правительство пригласило священников. В конце
концов на братской могиле
«мучеников свободы» были прочитаны
заупокойные молитвы...
179
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
V—/^
Траурная процессия в Петрограде в лень
похорон жертв Февральской революции.
23 марта 1917 г.
ления... Порой там, где у близких и соседей не поднималась
рука, — приходили другие, менее близкие, и — кровавое дело
свершалось. Так была убита в своей скромной усадьбе целая
семья Остроградских, мать и две дочери, много лет и учившие, и
лечившие своих соседей. Когда помещичьи усадьбы кругом
пустели, они оставались, надеясь на то, что их защитит давняя
работа и дружеские отношения к местному населению... Но и они
погибли...».
В апреле правительство создало по всей стране выборные
земельные комитеты. Они должны были гасить беспорядки,
примирять враждующие стороны. Но напор бушующего
крестьянского движения был слишком силён, чтобы ему противостоять.
Нередко местные комитеты сами выполняли требования
крестьян, брали помещичью землю и имения в свои руки. После этого
власти часто арестовывали уже членов этих комитетов... «Народ
наш в общем всё-таки не разбойник и не грабитель, — замечал
В. Короленко. — Я знаю людей, работавших в сельских
земельных комитетах, и знаю, что это часто были люди хорошие и
разумные. Во многих местах имущества не расхищались, а только
180
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
БОРЬБА В 1917 ГОЛУ
реквизировались и охранялись
от расхищения, хотя делалось
это людьми малосведущими и
тёмными».
Надежды крестьян
получить землю от Временного
правительства постепенно
угасали. Это явилось одной из
главных причин успеха
Октябрьского переворота.
Николай Бухарин писал в 1925 г. о
том, как эсеры «на все лады
твердили, что нельзя забирать
землю „до Учредительного
собрания", что нельзя выкуривать
помещика без особого закона
из его помещичьих имений;
пугали ужасной резнёй и
ужасным земельным хаосом,
который должен возникнуть, если
крестьяне „самочинно", то есть
не дожидаясь никаких
распоряжений сверху, будут
забирать эту землю. Только одна
партия, партия большевиков,
кричала крестьянам на всех
митингах и собраниях, что
крестьяне должны, ничего не
дожидаясь и никого не слушая,
сами забирать эту землю у
помещиков». Следует добавить,
что такую же позицию
занимало и левое крыло эсеров.
«Если бы Февральская
революция дала мужику землю, —
замечал позже Лев Троцкий, —
Октябрьская революция не
могла бы и совершиться».
ВОПРОС О МИРЕ
Крестьян больше всего
волновал вопрос о земле, а для
солдат столь же насущным
являлся вопрос о мире (см. ст.
«Россия в Первой мировой войне»).
Солдаты ожидали окончания
войны, надеясь, что
Февральская революция принесёт им
долгожданный мир. Работник
Б. Кустодиев. Плакат, посвященный «Займу свободы», выпушенному Временным
правительством на военные нужды.
181
РЕВОЛЮЦИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
«КРОНШТАДТСКАЯ РЕСПУБЛИКА»
В дни Февральской революции в
Петрограде обычным явлением стали
самосуды над полицейскими и
офицерами, которых считали «врагами
революции». Солдаты требовали, чтобы
офицеры разоружались, а если те
отказывались, их избивали и отбирали оружие
силой. Сопротивляющихся порой
убивали. Многие офицеры покинули свои
подразделения, опасаясь расправы.
Множество случаев самосуда над
офицерами было отмечено также на
Балтийском флоте. Чаше всего матросы
бросали их за борт и топили в море.
3—4 марта 1917 г. на всём Балтийском
флоте так погибло около двухсот
человек; в их числе оказался и
командующий флотом адмирал А. Непенин. В
Кронштадте среди других флотских
офицеров погиб командующий военно-
морской базой адмирал Р. Вирен.
Моряки арестовали примерно двести
офицеров. В мае Кронштадтский совет
заявлял по этому поводу: «Мы против
самосуда... Но мы за честный,
свободный, беспристрастно организованный
суд революции над преступными
врагами народа. Арестованные нами в дни
революции офицеры, жандармы и
полицейские сами заявили
представителям правительства, что они ни в чём
не могут пожаловаться на обращение
с ними тюремного надзора. Правда,
тюремные здания Кронштадта ужасны.
Но это те самые тюрьмы, которые были
построены царизмом для нас. Других
у нас нет...».
16 мая Кронштадтский совет взял всю
власть в городе в свои руки и объявил,
что не подчиняется Временному
правительству. Это событие произвело
большое впечатление на всю Россию.
Его восприняли как образование
«Кронштадтской республики», начало
распада страны. Совет отвечал на это так:
«Имя Кронштадта, занесённое на
славные страницы русской революции,
сейчас поносится и шельмуется на
страницах всех буржуазных газет. Злобные
перья контрреволюционных
клеветников пишут, будто мы зовём народ к
самосуду и анархии, будто мы
отложились от России и образовали
самостоятельную Кронштадтскую республику.
военного министерства Ф. Степун отмечал, что в первые дни
после Февраля «в солдатских душах с неудержимою силою
вспыхнула жажда замирения». Однако, по его мнению, «народное
понимание революции как миротворческой силы,
долженствующей положить конец безумию и греху войны, не разделялось ни
одним из политических лагерей, кроме большевиков». Лозунг
«войны до победного конца» объединил после Февральской
революции либералов и значительную часть социалистов (их
называли «оборонцами»).
Характерный случай, происшедший весной 1917 г.,
вспоминал социал-демократ Александр Нагловский: «Помню
выступление Плеханова — о войне. Прекрасный оратор
западноевропейской манеры, Плеханов на этот раз говорил необычайно резко о
войне до победного конца, о германском милитаризме, о
славных союзниках, о героической Бельгии. При уважении к его
имени в зале стояла тишина. Но когда он кончил, тишина так и
осталась тишиной, не прерванная ни единым хлопком».
Боевой дух в войсках особенно упал после неудачного
летнего наступления. Настроения на фронте во многом выражало
одно из солдатских писем в «Правду»: «А не лучше ли было бы,
если бы вы сами, господа буржуи, одели солдатские шинели и
взяли бы винтовки в руки да и шли бы в наступление. И тогда бы
сказали нам, что вот, дескать, как мы воюем!». Писатель Марк Ал-
данов замечал: «В казармах речи лучших ораторов 1917 года всё
чаще разбивались о довод: „Сам в окопы ступай вшей кормить!.."».
Призывы Временного правительства воевать «до
победного конца» вызывали среди солдат растущее раздражение и
возмущение. В конечном итоге это стало одной из главных причин
падения Временного правительства.
СОЗДАНИЕ КОАЛИЦИИ
20—21 апреля, после знаменитой «ноты Милюкова» (см. ст.
«Павел Милюков»), в столице впервые после Февраля вспыхнули
антивоенные волнения. Это заставило большинство министров
сделать вывод, что правительство никогда твёрдо не встанет на ноги,
если не получит полную поддержку Советов. Так родилась идея
создать коалицию — пригласить в правительство социалистов-
оборонцев. В конце апреля князь Г. Львов обратился с таким
предложением к вредным вождям Советов — эсерам и
меньшевикам. Те сначала выразили недоумение. «Какая вам от того
польза? — говорил меньшевик Ираклий Церетели. — Ведь мы из
каждого спорного вопроса будем делать ультиматум и в случае
вашей неуступчивости вынуждены будем с шумом выйти из
министерства. Это — гораздо хуже, чем вовсе в него не входить».
Но затем они всё-таки приняли предложение. Таким
образом 5 мая образовалось первое коалиционное правительство.
Наряду с «министрами-капиталистами», как их называли, в него
вошли шесть видных социалистов: Виктор Чернов, Ираклий
Церетели и др. Среди них были три эсера, два меньшевика и один
народный социалист. Решение об этом принял столичный Совет.
182
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
БОРЬБА В 1917 ГОДУ
Уже бывший в правительстве А. Керенский получил новый и
весьма важный пост военного министра.
Сторонники коалиции считали, что она позволит сохранить
завоёванные Февралём гражданские свободы, предотвратить
«контрреволюцию» и гражданскую войну. В этом — её главная
задача. Но только это не могло успокоить ни крестьян,
требовавших земли, ни солдат, добивавшихся прекращения войны.
Одновременно офицерство, например, видя развал армии, столь же
отчаянно требовало «навести, наконец, порядок».
Поэтому сама идея коалиции постепенно теряла
сторонников как справа, так и слева. Абрам Гоц, один из вождей эсеров,
говорил тогда: «На нас идёт напор с двух сторон. Слева
большевики травят десять министров-капиталистов, требуя, чтобы мы
от них „очистились", то есть остались без союзников и скатились
им прямо в пасть. Справа — заговорщики, монархисты,
мечтающие о военном диктаторе, о генерале на белом коне...». И
заключал, что надо «не отступаться от коалиции, а обеими руками за
неё держаться».
СОВЕТЫ И КОАЛИЦИЯ
Уже в марте по всей России образовалось свыше 600 Советов, в
основном городских (рабочих и солдатских). Несколько позже
появились и крестьянские Советы. Число Советов быстро росло
и к октябрю уже достигало 1429. На фронте вместо Советов
почти в каждой части действовали солдатские комитеты.
Сторонники «сильной власти» видели в Советах главное препятствие для
«наведения порядка». Они издевательски окрестили их
«советами рачьих и собачьих депутатов».
В первые месяцы революции в Советах преобладали
меньшевики и эсеры. Эти партии получили подавляющее
большинство и на первых Всероссийских съездах Советов. В мае такой
съезд в Петрограде провели крестьянские Советы, в июне —
солдатские и рабочие Советы. Делегаты обоих съездов
проголосовали за «коалицию с буржуазией». ^
ИЮНЬСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
18 июня I Всероссийский съезд Советов рабочих
и солдатских депутатов решил провести в
Петрограде демонстрацию в поддержку Временного
правительства. Эсеры и меньшевики хотели
таким способом укрепить свою политику «союза с
буржуазией». Однако события приняли
совершенно неожиданный для них оборот.
Демонстрация, как и предполагалось,
получилась массовой. На неё вышло около
полумиллиона человек. Но лозунги оказались прямо
противоположными намеченным: «Долой
десять министров-капиталистов!», «Долой войну!»,
«Вся власть Советам!». Большевик Мартын Лацис
Какая бессмысленная ложь, какая
жалкая и постыдная клевета! У себя на
месте, в Кронштадте, мы ввели не
анархию, а честный и твёрдый
революционный порядок».
Петроградский совет потребовал от
кронштадтиев «беспрекословного
исполнения всех предписаний
Временного правительства». В Кронштадт
отправилась делегация социалистов, в том
числе И. Церетели и Н. Чхеидзе. Они
уговаривали кронштадтских моряков
признать власть правительства. В
конце мая Совет пошёл на уступки и
переговоры завершились соглашением.
Однако в течение всех последующих
месяцев революции Балтийский флот
оставался настоящим «очагом
восстания». В дни Октябрьского переворота
кронштадтские матросы стали одной из
главных сил, на которую опирались
большевики. Моряков окрестили тогда
«красой и гордостью революции».
Солдаты в окопах чинят одежду.
183
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОИНА
Демонстрация 18 июня 1917 г. Петроград.
вспоминал: «Колышется целое море красных знамён, и всё, куда
ни посмотришь, наши революционные лозунги. Меньшевики и
эсеры устроили свою манифестацию. Они идут по левой
стороне улицы рядом с нашей бесконечной колонной. Идут они
жалкой кучкой, всего человек 300. В наших рядах слышатся
возгласы: «Это двойное самоубийство. Хватило храбрости писать на
своих плакатах: „Полная поддержка Временному правительству"».
Точно так же в тот день разворачивались события в Риге,
Иваново-Вознесенске (ныне Иваново) и других городах. В.
Ленин после этого победно заключал: «Демонстрация развеяла в
несколько часов, как горстку пыли, пустые речи о большевиках-
заговорщиках...». Действительно, для многих стало очевидно, что
большевики опираются на мощное стихийное движение.
В. Шаврин. «Новый союз. Распяли и ИЮЛЬСКИЕ СОБЫТИЯ
душат». На карикатуре Россию душат g начале июля в Петрограде стало известно, что наступление на
с одной стороны немиы и турки, , г г ' _
с другой - анархисты и монархисты Фронте, на которое возлагалось столько надежд, захлебнулось,
(журнал «лукоморье», июнь 1917 г.). Кроме того, внутри правительства обострились противоречия, и
184
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
БОРЬБА В 1917 ГОДУ
2 июля министры-кадеты временно ушли в отставку. Всё это
вызвало в столице взрыв стихийного возмущения.
3 июля на улицы Петрограда вышли солдаты 1-го
пулемётного полка; к ним присоединились гренадеры — всего собралось
более 5 тыс. демонстрантов. В руках они держали плакаты:
«Долой десять министров-капиталистов!», «Вся власть Советам!»,
«Долой Временное правительство!». Демонстранты были
вооружены, и кое-где на улицах слышались выстрелы — стреляли в
основном в воздух.
На следующий день волнения приобрели грандиозный
размах. По городу прошла полумиллионная демонстраций солдат,
матросов и рабочих под теми же лозунгами. В нескольких
местах толпу обстреляли из пулемётов, установленных на крышах и
чердаках домов. По некоторым данным, в этот день погибло 56
человек. Позднее называли различное число пострадавших —
вплоть до 700 раненых и убитых. На выстрелы вооружённые
демонстранты ответили огнём. Демонстрация продолжалась...
Руководство большевиков до последнего момента
колебалось: следует ли возглавлять выступление и превращать его в
вооружённое восстание? Вначале они пытались отговорить солдат
от выступления, считая, что момент для него неблагоприятен.
Правда, некоторые большевики занимали более решительную
позицию. Один из них, Владимир Невский, вспоминал: «Теперь
уже нечего скрывать, что все ответственные руководители
военной организации, то есть главным образом Н. И. Подвойский и
пишущий эти строки... способствовали тому настроению,
которое вызвало выступление. Когда военная организация, узнав о
выступлении пулемётного полка, послала меня... уговорить
массы не выступать, я уговаривал их, но уговаривал так, что только
дурак мог бы сделать вывод из моей речи о том, что выступать
не следует».
ШШШ'^Ш ;Д -XJL.
«КОСТЛЯВАЯ РУКА ГОЛОДА»
3 августа 1917 г. открылся II
Всероссийский торгово-промышленный съезд.
С яркой речью на нём выступил
видный промышленник Павел Рябушин-
ский. Он отметил, что Россия не
готова к социализму и «буржуазный строй
ешё неизбежен». Поэтому «те липа,
которые управляют государством,
должны буржуазно мыслить и
буржуазно действовать)).
П. Рябушинский подчеркнул, что жизнь
«жестоко покарает тех, кто нарушает
экономические законы». «К
сожалению, — заявил он, — нужна костлявая
рука голода и народной нишеты,
чтобы она схватила за горло лжедрузей
народа, членов разных комитетов и
советов, чтобы они опомнились».
Эта фраза стала знаменитой.
Социалисты восприняли её как прямую угрозу.
«Мы постараемся направить костлявую
руку голода против истинных врагов
трудящегося и голодного народа», — с
возмущением писал Григорий
Зиновьев. Другой вождь большевиков —
Иосиф Сталин — откликался на слова
П. Рябушинского так: «Господа Рябу-
шинские, оказывается, не прочь
наградить Россию „голодом и нищетой" для
того, чтобы „схватить за горло
демократические Советы и комитеты". Вот
где настоящие предатели и изменники
России. Вы хотите знать, чего хотят
капиталисты? Торжества интересов
своего кошелька, хотя бы ценой гибели
России, — вот чего хотят они».
*Jftk^
Выстрелы в толпу демонстрактов на углу
Садовой улииы и Невского проспекта.
Петроград 4 июля 1917 г.
185
РЕВОЛЮЦИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
РУКОПОЖАТИЕ ЦЕРЕТЕЛИ
И БУБЛИКОВА
12 августа 1917 г. в Москве открылось
Государственное совещание,
созванное Временным правительством.
Длилось оно четыре дня, и на него
собралось около 2,5 тыс. представителей от
различных слоев и классов общества.
Большевики в совещании не
участвовали.
Одним из эффектных моментов
совещания стало символическое
рукопожатие меньшевика Ираклия Церетели и
промышленника Александра Бублико-
ва. Оно должно было олицетворять
единство рабочих и предпринимателей
во имя интересов России. Зал
приветствовал их рукопожатие громом
аплодисментов. «Классовые противники»
сердечно обняли друг друга и
расцеловались.
Большевики и близкие им социалисты,
конечно, расценили поступок И.
Церетели как символ классового
предательства. Уже в январе 1918 г., когда он
выступал в Учредительном собрании с
критикой Советского правительства, с
левых скамей ему ехидно кричали про
«поцелуи с Бубликовым».
В дни корниловского выступления.
Солдаты, перешедшие на сторону
Временного правительства.
В конце концов большевики решили присоединиться к
выступлению. Они призвали превратить его в «мирную
демонстрацию». 4 июля В. Ленин обратился к демонстрантам с балкона
бывшего особняка балерины Матильды Кшесинской, где
разместилось руководство большевиков. Его встретили бурей
восторженных аплодисментов и криками «Да здравствует товарищ
Ленин!». Всё это дало основания властям обвинить большевиков в
попытке вооружённого переворота...
«Кончилась вся эта история, — писал кадет В. Набоков, —
прибытием верных Правительству войск с фронта
(кавалерийская дивизия), изоляцией и последующим обезоружением
восставших, полной победой Правительства и временной — увы! —
ликвидацией большевизма».
Руководство большевиков обвинили также в
государственной измене и в том, что оно получало тайную помощь от
вражеской державы — Германии. 8 июля появился приказ об аресте
В. Ленина и некоторых его соратников. Ленин, как известно,
после этого ушёл в подполье, а несколько видных большевиков
оказались в тюрьме.
8 июля изменился состав Временного правительства.
Возглавил кабинет А. Керенский. Социалисты составляли теперь
большинство и среди министров. Бывший глава правительства
князь Г. Львов ушёл в отставку. Его биограф Т. Полнер
вспоминал встречу с ним в июле, вскоре после этих событий: «Я не
сразу узнал Георгия Евгеньевича. Передо мной сидел старик, с
белой как лунь головой, с медленными, редкими движениями... Не
улыбаясь, он медленно подал мне руку...». Г. Львов очень
серьёзно произнёс: «Мне ничего не оставалось делать. Для того чтобы
спасти положение, надо было бы разогнать Советы и стрелять в
народ. Я не мог этого сделать. А Керенский это может».
В эти недели сторонники
«наведения порядка»
настойчиво искали человека, который
смог бы недрогнувшей рукой
установить «сильную власть».
Назывались различные
возможные кандидаты на эту роль —
помимо А. Керенского,
например, Б. Савинков.
Американский посол в России Дэвид
Фрэнсис записал после беседы
с Савинковым в начале августа:
«Савинкова считают железным
человеком, который
безжалостно раздавит
большевистские выступления, если они
возникнут». Ещё чаще так
характеризовали нового
Верховного главнокомандующего
генерала Лавра Корнилова. Лавр
186
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
БОРЬБА В 1917 ГОДУ
Георгиевич был известен своим геройским побегом из
австрийского плена в 1916 г. В июле по его требованию на фронте
восстановили смертную казнь.
Когда 13 августа генерал Л. Корнилов прибыл в Москву на
Государственное совещание, на вокзале его торжественно
встречали сторонники. Офицеры на руках перенесли
главнокомандующего в усыпанный цветами автомобиль. Известная
миллионерша Морозова встала перед генералом на колени... Это был
настоящий триумф Лавра Корнилова.
КОРНИЛОВСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
В течение августа А. Керенский и Л. Корнилов обсуждали планы
«наведения порядка» в Петрограде. Для этого в столицу
предполагалось ввести войска с фронта. «Пора немецких ставленников и
шпионов во главе с Лениным повесить, — говорил Л. Корнилов
генералу А. Лукомскому, — а Совет рабочих и солдатских
депутатов разогнать, да разогнать так, чтобы он нигде и не собрался».
Однако 27 августа между А. Керенским и Л. Корниловым
вспыхнула борьба. Глава правительства решил, что генерал
хочет установить единоличную диктатуру, и снял его с должности
главнокомандующего. Л. Корнилов, ошеломлённый таким
неожиданным поворотом, не подчинился и двинул на столицу
войска. Это были части с наиболее крепкой дисциплиной: казаки и
знаменитая Туземная (Дикая) дивизия, составленная из горцев
Кавказа.
Однако рядовые бойцы этих частей были готовы «наводить
порядок» для А. Керенского и Л. Корнилова, но никак не для
одного из них против другого. Когда они узнали, что главковерх и
министр-председатель взаимно объявили друг друга
предателями, среди них воцарились глубокое недоумение и растерянность.
Между тем навстречу идущим на Петроград войскам уже
отправились тысячи агитаторов. По свидетельству участника корни-
ловского выступления генерала П. Краснова, они страстно
убеждали солдат:
«— Товарищи, что же вы! Керенский вас из-под офицерской
палки вывел, свободу вам дал, а вы опять захотели тянуться
перед офицером, да чтобы в зубы вам тыкали. Так, что ли?
— Товарищи! Керенский за свободу и счастие народа, а
генерал Корнилов за дисциплину и смертную казнь. Ужели вы с
Корниловым?».
«Молчали драгуны, — вспоминал генерал, — но лица их
становились всё сумрачнее и сумрачнее». Агитировали и горцев из
Дикой дивизии, плохо понимавших по-русски. К ним из
Петрограда отправилась делегация Мусульманского съезда, в том
числе внук прославленного имама Шамиля. В конце концов казаки
и драгуны начали брать под стражу собственных офицеров...
«Вопрос был решён настроением войск, — замечал П. Милюков. —
Вопрос решили не полководцы, а солдаты».
Общая обстановка неуверенности повлияла и на поведение
САМОСУДЫ НАД ОФИЦЕРАМИ
После Февральской революции 1917 г.
самосуды толпы стали характерной
чертой общественной жизни в России.
Не особенно рассчитывая на
правосудие, толпа на месте расправлялась
таким образом с пойманными на улице
ворами-карманниками.
Не менее часто происходили
политические самосуды..Их вспышки в
разных городах России сопровождали
почти каждый резкий поворот
общественной борьбы. Дни корниловского
выступления также не обошлись без
самосудов толпы над офицерами и
генералами. В частности, они произошли в
Выборге, Гельсингфорсе (ныне
Хельсинки). От офицеров обычно
требовали подписки, что они не
поддерживают Л. Корнилова и верны
правительству. Если они отказывались, их
убивали. В одном из документов ЦИК
Советов так описывались события в
Выборге: «Сначала были выташены толпой с
гауптвахты, брошены с моста и убиты
в воде три генерала и полковник.
После этого сейчас же начался самосуд в
полках. Оттуда выводили командиров
и, избив их, бросали в воду... Всего
таким образом в полках было убито
около 15 офицеров».
Подобное «народное правосудие»
оставалось популярным в течение всей
гражданской войны. «Красные»
судили так «золотопогонников» и бывших
полицейских, белогвардейцы —
чекистов и комиссаров.
187
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОИНА
«Позднее разочарование.
Керенский напуган им же вызванной
корниловщиной».
Карикатура, посвященная корниловскому
выступлению (журнал «Бич», 1917 г.).
командования. Во главе войск, идущих на Петроград, Л.
Корнилов поставил генерала А. Крымова. Керенский приказал
последнему прибыть в Зимний дворец для переговоров. «И твёрдый,
волевой человек, генерал Крымов, послушался, — писал П.
Краснов. — Он сел в автомобиль с адъютантом и помчался в
Петроград. Поехал он с грозным решением требовать от Керенского,
угрожать ему...» 31 августа в Зимнем дворце между ними
состоялся бурный разговор, причём Керенский отказался пожать
генералу руку. Спустя пару часов оскорблённый и, видимо,
растерянный Крымов покончил самоубийством — выстрелил себе в грудь...
Рассказывали, что перед смертью он с горечью произнёс: «Я
умираю потому, что слишком люблю родину». Похороны генерала
прошли без воинских почестей. Его выстрел оказался едва ли не
единственным за всё время корниловского выступления.
На следующий день сам генерал Л. Корнилов оказался под
арестом. Так, сокрушительным поражением, причём почти без
единого выстрела, закончилось начатое им выступление.
ПЕРЕД ОКТЯБРЁМ
Корниловское выступление и его подавление нанесли
сильнейший удар по коалиции социалистов и либералов. Ряды её
сторонников стремительно таяли как справа, так и слева. А два месяца
спустя у правительства не осталось почти никакой опоры в
обществе...
Это ярко проявилось во время Демократического
совещания, созванного в Петрограде в середине сентября. По замыслу
совещание должно было укрепить власть Временного
правительства. Вначале идея коалиции, хотя и с трудом, снова завоевала
поддержку. Но при последнем голосовании она неожиданно
потерпела полный провал, причём против голосовали и
большевики, и кадеты...
Ещё 1 сентября 1917 г. Россия была провозглашена
республикой. Демократическое совещание избрало Временный совет
Российской республики (Предпарламент). Это тоже было
попыткой упрочить слабеющую власть правительства. Любопытно, что
в решающий момент, когда 24 октября в Петрограде началось
восстание, Предпарламент не поддержал Временное
правительство. Позднее И. Церетели говорил об этом: «Всё, что мы тогда
делали, было тщетной попыткой остановить какими-то
ничтожными щепочками разрушительный стихийный поток».
Противостояние в обществе усиливалось, но «корниловцы»
после своего поражения в августе оставались ещё слишком
слабы. Силы большевиков, наоборот, крепли с каждым днём. В ночь
на 2 сентября они завоевали большинство в столичном Совете.
Вскоре его председателем стал Лев Троцкий.
Большевики в эти недели брали верх и во многих других
городских Советах, в том числе в Московском. Лозунг «Вся власть
Советам!» пользовался среди населения растущим сочувствием.
От Советской власти ждали решения «больных вопросов»
революции — о прекращении войны и о земле.
188
АЛЕКСАНДР
КЕРЕНСКИЙ
ДЕЯТЕЛИ ФЕВРАЛЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
АЛЕКСАНДР КЕРЕНСКИЙ
(1881—1970)
Тяжёл твой путь, — но подвиг честный
Ты смело принял,, как герой,
И на рамена ношей крестной
Подъял судьбу земли родной»
Ты жжёшь сердца глаголом вещим,
Восторгом пламенным своим,
И перед будущим зловещим
Твой гордый дух неукротим.
Так писал летом 1917 г. поэт Пётр Оленин-Волгарь в
стихотворении «Керенскому». После Февральской революции в России,
пожалуй, не было более популярного человека, чем Керенский.
«Гражданин, отменивший смертную казнь», «вождь батальонов
смерти», «герой улыбающейся революции» — так называли его
газеты.
ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
Александр Фёдорович Керенский родился 22 апреля 1881 г. в
семье директора мужской гимназии города Симбирска. Детство
Александра прошло в провинциальном городке, который
насчитывал в то время около 40 тыс. жителей.
Тяжёлая болезнь (туберкулёз бедра) заставила
шестилетнего ребёнка провести несколько месяцев в постели. В нём
развилась некоторая замкнутость, он увлёкся чтением. Отличала
Александра также повышенная впечатлительность, горячая
религиозная вера. «Религия навсегда осталась составной частью жизни», —
признавался он позже. Одно из детских воспоминаний
мальчика связано с казнью Александра Ульянова. Маленький городок,
где все друг друга знали, после известия об этой казни охватил
«тихий ужас».
В 1889 г. семья Керенских переехала в Ташкент, где
Александр и закончил гимназию. В возрасте 18 лет он стал студентом
В. Семёнова-Тян-Шанская.
«А. Керенский»
(рисунок из журнала «Лукоморье»,
1917 г.).
189
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
РЕЧИ КЕРЕНСКОГО ПЕРЕД
ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ
Последние месяцы перед Февральской
революцией Керенский произносил в
Государственной думе страстные,
зажигательные речи. Почти все они
обрывались «лишением слова», и газеты
их, конечно, напечатать не могли.
1 ноября 1916 г., например, Александр
Фёдорович восклицал: «Где они, эти
люди (указывая на места
правительства), в предательстве подозреваемые,
братоубийцы и трусы?! (Слева бурные
рукоплескания; справа голоса: «Что он
говорит?!».) Они должны уйти, они
являются предателями интересов
страны». Через три дня, 4 ноября, он
развил эту мысль: «Господа, до тех пор,
пока вы не уничтожите старый режим,
эту страшную великую язву
государства, отдельные предатели всегда будут
наслаждаться жизнью!».
15 февраля 1917 г. Керенский говорил
в Думе: «Господа, вы знаете, что я
принадлежу к партии, которая открыто
признавала необходимость тирано-
убийств... Я говорю о том, что делал в
классические времена гражданин Брут.
С нарушителями закона есть только
один путь — физического их
устранения». В этой речи, за неделю до начала
революции, он сделал ряд особенно
грозных предостережений. «Страна
уже находится в хаосе,—заявил он. —
Мы переживаем небывалую в истории
нашей страны смуту, пред которой
время 1613 года кажется детскими
сказками... Перед вами та самая картина,
которую переживала Франция во
времена Великой революции».
Большинству депутатов
Государственной думы в тот момент казалось, что
положение ешё не так серьёзно. Они
выслушивали слова своего коллеги с
недоверием и недоумением.
Петербургского университета. «Поступив в университет, —
вспоминал он, — мы, новички, впервые в жизни испытали пьянящее
чувство свободы. Жизнь швырнула нас в свой водоворот,
запретным отныне было лишь то, что мы сами считали таковым». В
1904 г. А. Керенский получил диплом юриста.
После «красного воскресенья» 9 января 1905 г. он вступил в
общественную борьбу. Вместе со своими коллегами подписал
письмо протеста против расстрела демонстрации. Как адвокат,
он ходил по домам погибших рабочих. Горячая юношеская
религиозная вера вылилась в столь же горячее стремление к
самопожертвованию. «К 1905 г. я пришёл к выводу о неизбежности
индивидуального террора, — писал Керенский позднее. — И был
абсолютно готов в случае необходимости взять на свою душу
смертный грех и пойти на убийство того, кто, узурпировав
верховную власть, вёл страну к гибели». Он выразил желание
вступить в Боевую организацию (БО) социалистов-революционеров.
Однако против выступил глава БО Евгений Азеф, который не
слишком доверял пылким романтикам.
21 декабря 1905 г. А. Керенского арестовали за
причастность к боевой деятельности эсеров. Он оказался в известной
петербургской тюрьме «Кресты». «Возвращаясь мыслями к тем
дням, — замечал А. Керенский, — я всегда с благодарностью
думаю о нелепом случае, приведшем меня в тюрьму. Четыре
месяца уединения за счёт государства расширили мой кругозор и
позволили лучше разобраться в том, что происходило в стране».
Раньше на борьбу его толкал «юношеский романтизм». Теперь
он принял уже вполне зрелое решение отдать все силы
общественной деятельности.
МЕЖДУ ДВУМЯ РЕВОЛЮЦИЯМИ
Осенью 1906 г., отбыв недолгую ссылку, А Керенский вернулся в
столицу. Он с увлечением стал работать политическим
адвокатом. Первый же его процесс — защита эстонских крестьян,
разгромивших поместье своего барона — создал имя молодому
адвокату. Для семерых подсудимых он добился оправдания, для
остальных тринадцати — небольших сроков заключения. «Мы
выиграли дело, — вспоминал он. — Когда я кончил свою
защитительную речь, наступила тишина, а затем зал взорвался бурей
аплодисментов».
А. Керенский выступал на многих громких политических
процессах тех лет. Например, в 1912 г. защищал подсудимых по
делу армянской революционной партии «Дашнакцутюн»
(«Союз»). Процесс закончился победой защиты: из 146
обвиняемых 95 оправдали и только трёх осудили на каторгу. В 1912 г.
А, Керенский изучал обстоятельства расстрела рабочих на
Ленских золотых приисках. Выпустил брошюру «Правда о Лене»,
немедленно изъятую полицией.
В 1912 г. А Керенского избралидепутатом ГУ Государствен-
ной думы. Эсеры не могли выступать на этих выборах открыто,
190
АЛЕКСАНДР
КЕРЕНСКИЙ
и А. Керенский прошёл по списку близких к ним
«трудовиков». В Думе он жэзглавил этулеболь-
шую фракдгао.
В феврале 1915 г. Александр Фёдорович
выступил адвокатом на ещё одном ярком
политическом процессе. Ему пришлось защищать
своих коллег — пятерых
депутатов-большевиков. Несмотря на умелую и талантливую
защиту, приговор оказался суровым — вечная
ссылка.
Будучи крайне левым думским депутатом,
Керенский и сам часто «ходил по острию
лезвия». Как замечал меньшевик Н. Суханов, «он
умел ставить на карту не только своё положение
адвоката и депутата, идя без колебания на такие
шаги, которые могли легко и быстро кончиться
Сибирью или Якуткой. Но этого мало:
Керенский принимал самое непосредственное
участие в эсеровских делах...».
В jcomj^l9J-6j^HLBJiepBbJ^j^ г.,
перед Февральской революцией,^В[ерекс1сий
произнёс вТосударственной думе ряд ярких
речей, резко бичующих правительство.
ФЕВРАЛЬ
27 февраля 1917 г. к Таврическому дворцу, где
заседали депутаты Думы, пришла 25-тысячная
революционная демонстрация. Среди её
участников было много вооружённых солдат. Депутаты
ожидали приближения толпы с большой тревогой — оставалось
неясным, как она отнесётся к Думе, не станут ли некоторые
громить дворец?
В момент общей растерянности один Керенский сохранил
самообладание и уверенность в себе. «Его фигура вдруг выросла в
„значительность" в эту минуту, — вспоминал В. Шульгин. — Он
говорил решительно, властно, как бы не растерявшись... Слова и
жесты были резки, отчеканены, глаза горели...» Конечно, дело было не
только в личных качествах. Александр Фёдорович оказался
«своим» сразу для двух чуждых друг другу лагерей — Думы и
революционной толпы.
Через главный вход А. Керенский выбежал навстречу
народу. Его речь была встречена громовым «ура!». Он немедленно
начал отдавать распоряжения. Приказал бывшим в толпе солдатам
установить «революционный караул» у входа во дворец. Именно
этот решительный^омент выдвинул Керенского в признанные
вождйрёволюции. Одиниз немногих депутатов, он мог
справиться срёвблюциошюй толпой, найтиПсней общий язык Он не
терялся в самые трудныеминуты.
Поэтому в новом правительстве, которое создавали депута-
А. Керенский. 1931 г.
КЕРЕНСКИЙ — ОРАТОР
Французский посол Морис Палеолог
вспоминал о «молодом трибуне
Совета»: «Простое чтение его речей не даёт
никакого представления о его
красноречии. Ничто не поражает так, как его
появление на трибуне с его бледным,
лихорадочным, измождённым лицом.
Временами таинственное вдохновение
преображает оратора и излучается из
него магнетическими токами. Трепет
пробегает тогда по аудитории».
191
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
КЕРЕНСКИЙ И ПРОТОПОПОВ
В разгар Февральской революции,
28 февраля 1917 г., в Государственную
думу добровольно явился царский
министр внутренних дел Александр
Протопопов. Он хотел слаться новым
властям. Но министра тотчас окружила
враждебная толпа, которая угрожала
ему немедленной расправой. От
самосуда Протопопова спас А. Керенский.
«Ворвался Керенский, — рассказывал
В. Шульгин. — Он был бледен, глаза
горели, рука поднята... Этой
протянутой рукой он как бы резал толпу... Все
его узнали и расступились, просто
испугавшись его вида.
«Не сметь прикасаться к этому
человеку!» Это кричал Керенский,
стремительно приближаясь... Все замерли.
Керенский пробежал мимо, а за ним
влекли тщедушную фигурку в помятом
пальто, окружённую штыками. Могли
наброситься на эту фигурку, вырвать её
у часовых, убить, растерзать —
настроение было накалено против
Протопопова до последней степени. Но
этого не случилось. Толпа раздалась перед
ними... А когда дверь павильона
захлопнулась за ними, Керенский бухнулся в
кресло и пригласил «этого человека»:
„Садитесь, Александр Дмитриевич!.."».
А. Керенский и генерал М. Алексеев.
Петроград. 1917 г.
ты, Керенскому предложили пост министра юстиции^Он
согласился... Это согласие было для него довольно смелым шагом. Ведь
исполком столичного Совета рабочих депутатов постановил в
правительство не входить. А Керенский, сам член Совета, не мог
да и не хотел идти на разрыв со своими товарищами.
В тот же день, 2 марта, А. Керенский явился в Совет рабочих
депутатов. Вскочив на стол, он обратился к ним с речью.
«Керенский начал говорить упавшим голосом, мистическим
полушёпотом, — вспоминал Н. Суханов. — Бледный... взволнованный до
полного потрясения, он вырывал из себя короткие, отрывистые
фразы». «Товарищи, доверяете ли вы мне?» — спросил он прежде
всего. В ответ раздались возгласы: «Доверяем, доверяем!».
«В настоящий момент, — продолжал оратор, —
образовалось Временное правительство, в котором я занял пост
министра юстиции (Бурные аплодисменты, возгласы: «Браво!»?).
Товарищи, я должен был дать ответ в течение пяти минут и потому не
имел возможности получить ваш мандат...» А Керенский
безошибочно угадал момент и тон для своего сообщения: отдельные
протестующие возгласы потонули в общем ликовании.
«Я не могу жить без народа, — горячо воскликнул он, — и в
тот момент, когда вы усомнитесь во мне, — убейте меня. (Новый
взрыв оваций?)». Заседание окончилось настоящим триумфом
нового министра: из зала Совета его вынесли на руках.
ПОСЛЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Свою деятельность на посту министра юстиции Александр
Фёдорович начал символическим жестом, о котором его
противники вспоминали ещё долгие годы. Писатель Аркадий
Аверченко даже посвятил этому целый фельетон. А поступок А
Керенского был очень прост: при первом
посещении министерства он поздоровался за руку со
швейцаром...
Первые шаги нового министра,
продиктованные революцией, как бы подводили черту под
целыми эпохами. В начале марта — всеобщая
амнистия политзаключённых; 12 марта — указ об
отмене смертной казни; 17 марта — отмена
розог и наложения оков на заключённых. И многое
другое. Самый молодой из новых министров, он
оказался и самым популярным. Журналист
В. Кирьяков замечал, что в марте и апреле «имя
его сделалось синонимом красоты, чистоты и
ясности нашей „улыбающейся" революции. А Ф.
Керенский стал любимцем и надеждой, красным
солнышком" русскогонарода». В мае Александр
Керенский как-то воскликнул с воодушевлением:
«Нам суждено повторить сказку Великой
Французской революции!». Даже новым гимном
России стала «Марсельеза».
192
АЛЕКСАНДР
КЕРЕНСКИЙ
Но уже в этот «медовый
месяц» революции среди
интеллигенции проявилось первое
беспокойство. Развернувшаяся
революция мало походила на
былые представления о ней. Народ
плохо воспринимал идею
самопожертвования, которую
горячо проповедовала
интеллигенция. Солдаты на фронте всё
настойчивее требовали
немедленного мира, крестьяне —
земельного передела.
29 апреля на Совещании
делегатов фронта А Керенский
произнёс свою самую
знаменитую речь «Рабы или
граждане?». Он бросал в зал
откровенные и резкие слова.
«Товарищи, — сказал он, — вы умели
столько терпеть и молчать. Вы
умели стрелять в народ, когда
старая власть этого требовала.
А что же теперь? Неужели
теперь вы терпеть не можете
больше? Неужели русское
свободное государство — это
государство взбунтовавшихся
рабов? (Сильное движение на всех
скамьях^».
«Я жалею, — продолжал
А. Керенский, обращаясь к
глубоко взволнованному залу, —
что не умер два месяца назад.
Тогда я умер бы с великой мечтой, что раз навсегда для России
загорелась новая жизнь, что мы умеем без кнута и палки
взаимно уважать друг друга и управлять своим государством не так,
как им управляли прежние деспоты». «Мы должны войти в
историю так, — закончил он, — чтобы на наших могилах написали:
„Они умерли, но никогда не были рабами"».
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
5 мая А Кер,енский_перестал,быть единственным социалистом в
правительстве. В число министров вошли его товарищи,
образовалась первая коалиция (см. ст. «Политическая борьба в 1917
году»). Сам Александр Фёдор_ович_занял пост военного и морского
министра.
В следующие двамесяца в столице он пробыл менее трёх
недель: остальное время проводил в поездках по фронтам. Внеш-
А. Керенский и швейцар Моисеев.
Март 1917 г. Современный рисунок.
ШВЕЙЦАР И МИНИСТР
При первом посещении Министерства
юстиции в марте 1917 г. А. Керенский
сделал символический жест — подал
руку швейцару Моисееву. Этот его
поступок породил много
неодобрительных комментариев. А. Аверченко,
обращаясь к Керенскому, с иронией
спрашивал: «Знаете ли Вы, с какого
момента Россия пошла к гибели? С того
самого, когда Вы приехали в министерство
и подали курьеру руку. Ах, как это
глупо было и как Вам должно быть сейчас
мучительно стыдно!.. Вы ведь не ему
одному протянули руку для пожатия, а
всей наглой, хамской части России...».
193
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
Б. Ефимов. «Наступление Керенского...
на рабочих» («Крокодил». 1922 г.).
ПОЕЗДКИ КЕРЕНСКОГО
ПО ФРОНТАМ
Во время своих поездок по фронтам
летом 1917 г. Александр Керенский
вновь и вновь призывал солдат к
терпению и самопожертвованию. 12 мая
он повторял в одной из речей: «Я
говорю: путь к свободе лежит через
страдания. Кто не имеет мужества
перенести их, тот не достоин свободы. Если
вы покинете фронт, не к земле и воле
вы пойдёте, а потеряете навеки землю
и волю. (Бурные аплодисменты,
переходящие в оваиию.) Мои товарищи
социалисты-революционеры умирали
один за другим в борьбе с
самодержавием. Если вам предстоит почётная
смерть на глазах всего мира, позовите
меня. Я пойду с ружьём в руках
впереди вас! [Гром рукоплесканий.)».
Как-то раз один солдат стал перебивать
военного министра, восклицая:
«Зачем мне земля и свобода, когда меня
убьют? Нам нужен мир, а не свобода».
После этих слов Керенский заявил:
«Командир полка, приказываю Вам
освободить этого солдата от военной
службы. Отошлите его в деревню,
опубликуйте в приказе, что
революционной армии не нужны трусы».
Воцарилась гробовая тишина.
Потрясённый, солдат побледнел и упал в
обморок. Его унесли на носилках.
не эти поездки выглядели как сплошной триумф. Толпы мирных
жителей и солдатские митинги встречали его восторженными
криками: «Вождю русской демократии ура!», «Да здравствует
герой Керенский!», «Ура народному министру!». От тысяч крепких
фронтовых рукопожатий некоторое время ему пришлось
держать правую руку на перевязи.
По мнению генерала П. Краснова, для солдат он был
«адвокатом и защитником перед офицерами и генералами, и потому
был любим не как Керенский, а как идея мира. Уже то, что он был
штатский, а не офицер, давало надежду солдатам, что он пойдёт
против войны за мир, потому что ему-то мир был нужен, а не
война». Близкую мысль выразил один солдат, выступавший на
митинге после военного министра: «Товарищи, впервые за три
года страданий мы, солдаты, услыхали здесь ласковое слово».
Но призывал военный министр, конечно, не к
немедленному миру, а, наоборот, к наступлению. В одном из первых его
приказов по армии говорилось: «Вы понесёте на концах штыков
ваших мир, право, правду и справедливость. Вперёд, к свободе,
земле и воле!».
Наконец 18 июня началось долгожданное наступление, в
которое было вложено столько сил и столько надежд. Но после
кратковременных успехов оно, как известно, закончилось рядом
тяжёлых поражений...
КОРНИЛОВСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
8^поляА Керенский, сохранив пост военного министра, стал
главой Временного правительства. Теперь ему приходилось
мучительно решать для себя вопрос: «С кем идти дальше, с
правыми или левыми?». Справа грозила дйетатур^енер^овТслева —
диктатура большевиков. И то и другое означало утрату
февральских свобод, которые так ценила интеллигенция.
12 августа, выступая на Московском государственном
совещании, министр-председатель предостерёг и правых, и левых. Он
сказал, что попытка большевиков захватить власть «будет
прекращена железом и кровью». «Пусть ещё больше остерегаются те
посягатели, — обратился Керенский к правым, — которые
думают, что настало время, опираясь на штыки, низвергнуть
народную власть».
Однако, как глава правительства, А. Керенский был обязан
«наводить порядок» и потому, хотя и неохотно, уступал
давлению генералов. 12 июля на фронте восстановили смертную
казнь. Правда, реально она не применялась. В августе Александр
Фёдорович с горечью говорил на Мсрсковском совещании: «Но
пусть будет, что будет. Пусть сердце станет каменным, пусть
замрут все струны веры в человека, пусть заглохнут все те цветы и
грёзы о человеке (Возглас: «Не нужно!»?), над которыми сегодня
с этой кафедры говорили презрительно и их топтали. Так
сам затопчу. (Возглас сверху: «Не можете Вы этого сделать —
Ваше сердце Вам этого не позволит»?) Я брошу далеко ключи от
194
АЛЕКСАНДР
КЕРЕНСКИЙ
сердца, любящего людей, я буду думать только о государстве!».
Уже по взволнованному тону оратора чувствовалось, что
беспощадное «наведение порядка» далось бы ему нелегко.
Между тем Верховный главнокомандующий генерал Л.
Корнилов требовал дальнейших мер. Прежде всего смертной казни в тылу
и очищения столицы от «мятежных элементов». Роль посредника
между Л. Корниловым и А. Керенским взял на себя кадет Владимир
Львов. Он хотел побыстрее подтолкнуть их к решительным мерам.
И вот 26 августа В. Львов привёз очередные предложения
Л. Корнилова. Тот предлагал ввести военное положение в
столице, передать ему всю полноту власти, а самого А. Керенского
приглашал в Ставку. Львов, однако, посоветовал Керенскому в Ставку
не ехать: он слышал там разговоры, что его хотят убить. Министр-
председатель, потрясённый, слушал все эти невероятные новости.
Происшедшее он воспринял как начало военного мятежа. Он и
прежде подозревал Л. Корнилова в намерении установить
генеральскую диктатуру, но теперь... «Исчезли у меня последние
сомнения! — вспоминал Керенский. — Всё, всё осветилось сразу таким
ярким светом, слилось в одну цельную картину».
В то же время он почувствовал огромное облегчение.
Тяжёлого выбора перед ним больше не стояло: жизнь всё решила
сама! Оставалось только исполнять свой долг. По словам В.
Львова, весь вечер после этого Керенский провёл в приподнятом
настроении, «распевая арии из опер». Он немедленно начал
решительную борьбу против Л. Корнилова и отправил ему
телеграмму о смещении.
Генеральш; пожелал подчиниться и вступил в открытое
столкновение с Временным правительр^ом, двинув на Петро-
град войска. В какой-то момент победа Корнилова казалась
несомненной. 29 августа Керенский провёл ночь в Зимнем дворце
почти в полном одиночестве.
«Была одна такая ночь, —
вспоминал он, — когда я почти в
единственном числе
прогуливался здесь. Создалась такая
атмосфера кругом, что полагали
более благоразумным быть
подальше от гиблых мест». Но
в конце концов выступление
Корнилова закончилось
полной неудачей (см. ст. «Лавр
Корнилов»). Его войска так и не
дошли до столицы, а самого
генерала арестовали.
А. Керенский считал, что
Л. Корнилов исходил из
благородных побуждений. «Я
уважаю моральное право на
мятеж, но в исключительных
условиях», — писал Александр
Именно в эти недели старые офицеры
наградили военного министра
ироническим прозвишем — Главноуговари-
ваюший. Но его пламенные речи не
оставляли равнодушными и офицеров.
Работник военного министерства
Фёдор Степун описывал такой эпизод:
«Как сейчас, вижу Керенского,
стоящего в своём автомобиле. Кругом плотно
сгрудившаяся солдатская толпа.
Керенский в ударе: его широко разверстые
руки то опускаются к толпе, как бы
стремясь зачерпнуть живой воды
волнующегося у его ног народного моря,
то высоко подымаются к небу. Я вижу,
как однорукий поручик, прихрамывая,
стремительно подходит к Керенскому
и, сорвав с себя Георгиевский крест,
нацепляет его на френч военного
министра. Приливная волна
жертвенного настроения вздымается всё выше,
один за другим летят в автомобиль
Георгиевские кресты, солдатские и
офицерские. Бушуют рукоплескания».
Однако часто, если не всегда,
подобные массовые жертвенные настроения
оставались мимолётными. Как
вспоминал журналист В. Варшавский,
военный министр как-то с горечью
признался ему: «Я уже перестаю верить в
восторженные крики людей, перестаю
верить в их присяги, в их клятвы...».
А. Керенский со своими адъютантами в
кабинете за работой. Петр о фал. 1917 г.
195
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
ОТЪЕЗД КЕРЕНСКОГО
ИЗ ПЕТРОГРАДА
Утром 25 октября А. Керенский решил
отправиться из Петрограда навстречу
верным правительству войскам,
вызванным с фронта. Позднее
большевики и монархисты распространили слух,
что якобы главковерх бежал из
Зимнего дворца тайно, переодетый в
женское платье. В действительности всё
происходило иначе.
«Я решил прорваться через все
большевистские заставы и лично встретить
подходившие, как мы думали, войска, —
рассказывал Керенский. — После
некоторого размышления решили идти
напролом: чтобы усыпить всякую
осторожность, будем действовать с открытым
забралом. Я приказал подать мой
превосходный открытый дорожный
автомобиль». Рядом шёл автомобиль под
американским флагом. «Нечего и говорить,
что вся улица — и прохожие, и
солдаты —сейчас же узнавала меня. Военные
вытягивались, как будто и впрямь ничего
не случилось. Я отдавал честь, как
всегда. Наверное, секунду спустя после
моего проезда ни один из них не мог себе
объяснить, как это случилось, что он не
только пропустил этого
„контрреволюционера", но и отдал ему честь». Таким
образом, приветствуя как ни в чём не
бывало встречных военных, Александр
Фёдорович покинул революционную
столицу.
А. Керенский покидает Петроград
в дни Октябрьского переворота.
Современный рисунок.
Фёдорович позднее в своих воспоминаниях. А тогда он, как
рассказывали, произнёс такую фразу: «Корнилов должен быть
казнён, но когда это случится, приду на могилу, принесу цветы и
преклоню колено перед русским патриотом».
ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ
Победив «опасность справа», А. Керенский столкнулся лицом к
лицу ^«опасностью слева». Перед ней новый Верховный
главнокомандующий оказался теперь почти безоружным.
Силы, на которые он опирался, словно растаяли.
Офицерство отшатнулось от него вместе с Л. Корниловым. Солдаты желали
не войны, а немедленного мира и шли за большевиками.
Офицеры рассказывали сплетни, что Керенский спит в постели царицы
и носит бельё государя Николая II; то же повторяли большевики.
Пожалуй, только часть интеллигенции продолжала сочувствовать
своему вождю, но на эту силу нельзя было опереться.
В середине октября стало ясно, что большевики открыто
готовят свержение Временного правительства. В эти дни кадет
Владимир Набоков спросил главу правительства, что он об этом
думает. «Я был бы готов отслужить молебен, чтобы такое
выступление произошло», — отвечал тот. «А уверены ли Вы, что
сможете с ним справиться?» — «У меня больше сил, чем нужно. Они
будут раздавлены окончательно».
Только в последний момент внезапно стало ясно, что
защищать правительство в столице почти некому. Офицеры в штабе
столичного военного округа сочувствовали Корнилову и просто
вводили своего главковерха в заблуждение. «Их стратегический
план состоял в том, — вспоминал Керенский, — чтобы сначала
не препятствовать успехам вооружённого восстания
большевиков, а затем, после падения ненавистного Временного
правительства, быстро подавить большевистский „бунт". Увы, выполнив
блестяще первую, так сказать пассивную, часть своего плана, —
„свергнув" руками большевиков Временное правительство, —
наши „патриоты" оказались совершенно неспособными
победить большевиков не только в три месяца, но и в три года».
196
АЛЕКСАНДР
КЕРЕНСКИЙ
Утром 24 октября А. Керенский отправился на заседание
Предпарламента (Совета республики). Здесь он заявил, что часть
населения столицы находится в «состоянии восстания». «В
действительности это есть попытка поднять чернь против
существующего порядка, — заявил он. — Я говорю с совершенным
сознанием „чернь"». Но даже и здесь, в Предпарламенте, А,
Керенский уже не нашёл полной поддержки и доверия. Это его
особенно возмутило и раздосадовало.
А. Керенский распорядился вызвать в Петроград войска с
фронта. Утром 25 октября он отправился им навстречу — сел в
автомобиль и покинул столицу. Однако начатый им вместе с
генералом П. Красновым военный поход на Петроград с целью
подавить восстание потерпел полное поражение.
Около двух месяцев бывший глава правительства скитался
по отдалённым деревням под Новгородом и Петроградом. В
январе 1918 г. побывал в столице и хотел выступить на заседании
Учредительного собрания. Но товарищи по эсеровской партии
отговорили его от этой рискованной затеи. Своим появлением
он подставил бы под удар и их, и себя.
В июне 19Д8 г, А. Керенский под видом сербского офицера
нелегально пересёк границу, навсегда покинув родину.
В ЭМИГРАЦИИ
Оказавшись вдали от России, А Керенский поселился сначала во
Франции, а в 1940 г., с приходом гитлеровцев, перебрался в
Соединённые Штаты Америки.
Он не оставлял общественную деятельность. Издавал
исторические труды, редактировал в Париже газету «День». В 1965 г.
вышли его воспоминания «Россия на историческом повороте».
Ему пришлось пережить многих исторических деятелей,
своих современников. «Удивительно, — замечал он как-то. — Никого
нет вокруг. Ни Краснова — его казнили в 47-м году вместе с
генералом Власовым. Ни этого Дыбенки-матросика. Ни Корнилова, ни
Черчилля, ни Ленина, ни Сталина... Я один остался на всём белом
свете». Он размышлял о своём долголетии: «Почему Христос был
взят на небо в 33 года, а мне уже почти 90 — а я всё живу, живу...
Что это — миссия? Или наказание? Наказание долголетием и
всезнанием. Я знаю то, что уже никто знать не может».
Последние годы жизни Александра Фёдоровича прошли в
бедности. Когда его средства в 1970 г. оказались на исходе, он
попросил близкого ему человека Елену Иванову-Пауэрс дать ему
яд. (Он находился в это время в нью-йоркской больнице.) «Я хочу
умереть сейчас, пока могу умереть достойно», — сказал А.
Керенский. Потом, заподозрив, что Е. Иванова не выполнит его
просьбу, он перестал принимать пищу. Таким способом он решил
покончить жизнь самоубийством...
Врачи вводили ему питательный раствор через капельницу.
Он вырывал капельницу из вены. Александра Фёдоровича
приходилось привязывать. Эта борьба не за жизнь, а за смерть про-
ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ
26 октября А. Керенский вместе с
генералом П. Красновым двинул на
Петроград казачьи войска. Несмотря на свою
малочисленность, они заняли Гатчину,
Царское Село и вплотную подошли к
столиие. Но к тому времени сомнения
казаков значительно усилились. Они
тоже не желали воевать, тем более за
Керенского, и требовали перемирия с
большевиками. 1 ноября на переговоры
с ними прибыл прославленный матрос-
большевик Павел Дыбенко.
Генерал П. Краснов так описывал его:
«Громадного роста, красавец-мужчина
с чёрными усами и юной бородкой,
сверкающий белыми зубами, с готовой
шуткой на смеюшемся рте, физически
силач, позирующий на благородство, он
очаровал в несколько минут не только
казаков, но и многих офицеров.
„Давайте нам Керенского, а мы вам
Ленина предоставим, хотите, ухо на ухо
поменяем!" — говорил он смеясь. Казаки
верили ему...». Сам генерал Краснов
сочувствовал Корнилову и тоже
принадлежал к противникам Керенского.
Днём 1 ноября между Красновым и
Керенским состоялся знаменитый
разговор. Генерал в своих показаниях
большевикам передавал его так: «Меня
потребовал Верховный
главнокомандующий. Он был взволнован и нервен.
— Генерал, — сказал он, — Вы меня
предали... Тут Ваши казаки
определённо говорят, что они меня арестуют и
выдадут матросам...
— Да, — отвечал я, — разговоры об
этом идут, и я знаю, что сочувствия к
Вам нигде нет.
— Но и офицеры говорят то же.
— Да, офицеры особенно недовольны
Вами.
— Что же мне делать? Приходится
покончить с собой.
— Если Вы честный человек, Вы
поедете сейчас в Петроград с белым
флагом и явитесь в Революционный
комитет, где переговорите как глава
правительства...».
Спустя полчаса Керенский покинул
дворец, ставший ловушкой. Переодетый в
матросскую форму, он вышел через
потайной ход, пройдя, по его словам, «под
носом у врагов и предателей».
197
НА
должалась мучительно долго — целых два с половиной месяца.
11 июня 1970 г. Александра Фёдоровича Керенского не
стало. Он похоронен в Лондоне, где жил его сын. Так, в нужде и
неизвестности, вдали от родины скончался бывший глава
правительства России...
Один из первых биографов Керенского, выпустивший
брошюру под псевдонимом Е. В-ч, замечал, что «его биография —
биография обыкновенного русского интеллигента». Но именно
Александру Керенскому довелось стать, пожалуй, одним из
наиболее ярких выразителей настроений интеллигенции в 1917 г.
Эти настроения отразились в уже упомянутом стихотворении
П. Оленина-Волгаря «Керенскому»:
Сам гражданин, ты видишь в русских
Не возмутившихся рабов,
Не себялюбцев, злых и узких,
Л стойких граждан и борцов.
Зови нас жертвовать собою, —
Но если на призыв борьбы
Мы не пойдём вперёд с тобою,
Как малодушные рабы, —
Тогда признай мечтою дикой
Свободы русской торжество,
И, сбросив с плеч свой крест великий,
Поставь над родиной его!..
ПАВЕЛ МИЛЮКОВ
(1859—1943)
МОЛОДЫЕ ГОДЫ
Будущий руководитель российских либералов Павел Николаевич
Милюков родился 15 января 1859 г. в Москве в дворянской
семье. Одним из детских впечатлений мальчика были посещения
крестьян, привозивших, как в старину, оброк его матери. Он
вспоминал: «Мы, ребята, с большим интересом ждали, когда,
поклонившись „барыне", они из цветных платков вывернут наше
законное угощение: жирные чёрные ржаные лепёшки, которые мы
ужасно любили. С этой вкусной стороны мы узнали крепостное
право, когда оно кончалось...».
Закончив гимназию, в 1877 г. Павел поступил в Московский
университет, где стал изучать историю. Одним из его учителей
был знаменитый русский историк Василий Ключевский.
В бурном 1881 году, когда народовольцы убили императора
198
ПАВЕЛ
МИЛЮКОВ
Александра II, состоялось и «гражданское крещение» П.
Милюкова. Полиция арестовала в полном составе запрещённую
студенческую сходку, в которой он участвовал. Вместе с товарищами
ему пришлось переночевать в Бутырской тюрьме. «Ночь прошла
очень весело, — вспоминал П. Милюков, — даже появился
самодельный сатирический листок». За участие в этой сходке Павла
на год исключили из университета.
ИСТОРИК И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
После 1881 г. в общественном движении надолго воцарилось
затишье. В это время П. Милюков целиком посвятил себя истории.
«Тринадцать лет я мог безмятежно заниматься наукой», —
вспоминал он позднее. В 1886 г. он стал приват-доцентом
Московского университета.
В середине 90-х гг. в обществе наметился новый
революционный подъём. Студенты приглашали Павла Николаевича на свои
собрания, где кипели жаркие политические споры. В этих
кружках преобладали социалисты. Один из них, Виктор Чернов,
замечал: «Мы резко противопоставляли себя либералам, но
Милюкова к ним отнюдь не относили. Он казался нам не чужаком, а
своим».
Правда, П. Милюков постоянно подчёркивал, что ставит на
первое место борьбу за гражданские свободы. Борьба же за
социальные перемены — дело будущего. А бороться «за землю и
волю» одновременно, говорил он, — «значит гоняться за двумя
зайцами, чтобы не поймать ни одного».
В конце 1894 г. П. Милюкова пригласили прочитать в
Нижнем Новгороде несколько лекций на тему: «Общественные
движения в России». Излагая этот весьма острый материал, Павел
Николаевич сопровождал его смелыми политическими намёками. С
напряжённым вниманием слушал его переполненный зал. Когда
закончилась последняя лекция, оратора проводили овацией. Но за
этот успех Милюкову пришлось серьёзно поплатиться. Его
выслали на два года в Рязань, а затем ещё на два года — за границу.
В 1899 г. срок его высылки закончился, и он вернулся в
Россию. «Политическая атмосфера Петербурга была тогда уже
достаточно накалённой, — замечал П. Милюков. — Наукой
заниматься не приходилось...» Вскоре за рискованное выступление на
историческую тему Павла Николаевича вновь арестовала полиция.
На этот раз он провёл в тюрьме полгода, а затем, после суда и
вынесения приговора, ещё три месяца.
СОЗДАНИЕ КАДЕТСКОЙ ПАРТИИ
Интеллигенция в России единодушно выступала за гражданские
свободы. Но далеко не все сочувствовали идеям социализма.
Подобных взглядов придерживался и Павел Милюков.
Соответствующее политическое течение — либеральное — стало
оформляться около 1902 г.
ПИСЬМО ДОСТОЕВСКОМУ
Уже в гимназии Павел Милюков живо
интересовался общественными
вопросами. В то время образованная
молодёжь считала себя заступницей
простого народа и защитницей его прав. Эти
настроения разделял и Павел.
Поэтому его, «как громовой удар», поразил
случай, когда в 1876 г. в
«первопрестольной» мясники из Охотного ряда
избили студентов. «Откуда такое
невероятное, такое бессмысленное
недоразумение? — недоумевал 17-летний
гимназист. — Кто виноват в этом
столкновении студентов с народом на улице?»
По просьбе товарищей Павел написал
письмо Фёдору Достоевскому, в
котором поставил мучивший их вопрос:
«Чем мы виноваты в случившемся?».
Через некоторое время П. Милюков
получил ответ. По мнению писателя,
ошибка молодёжи заключается в том,
что спасения она ищет в Европе, а не в
самом русском народе. «Помню
впечатление, произведённое ответом, —
писал Милюков. — Водворилось
неловкое молчание... Европы мы выдать
не могли. Напротив, от Европы ждали
поднятия народа на высший
культурный уровень...» Так, в столкновении
идей и мнений, складывались взгляды
молодого П. Милюкова.
Карикатура на П. Милюкова
(журнал «Леший», 1906 г.).
199
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
БЕСЕДА МИЛЮКОВА
И ПЛЕВЕ
Отбывая тюремный срок зимой 1902—
1903 гг., Павел Милюков пережил
весьма неожиданное приключение.
Однажды из тюрьмы «Кресты» его доставили
прямо в Министерство внутренних дел.
Здесь его повели через какие-то
бесконечные тёмные коридоры. «Я тут
даже струхнул
немного»,—признавался Павел Николаевич. Затем он
прошёл несколько дверей, возле каждой из
которых возвышались два
неподвижных великана-охранника. В кабинете,
который столь тщательно охраняли,
Милюкова ждал сам министр
внутренних дел Вячеслав Плеве. Подали чай,
после чего министр и арестант начали
мирно беседовать.
П. Милюков доказывал, что его
преследуют в сущности ни за что. Но в
какой-то момент В. Плеве внезапно
изменил ход разговора, поразив
Милюкова неожиданным вопросом: «Что Вы
сказали бы, если бы Вам предложили
пост министра народного
просвещения?». Трудно сказать, говорил ли
Вячеслав Константинович всерьёз или
только испытывал своего собеседника.
Но Павла Николаевича слишком
потряс подобный оборот беседы, чтобы
он мог уйти от откровенного ответа.
«Я не выдержал—и сорвался, —
вспоминал он. — Я ответил, что
поблагодарил бы министра за лестное для меня
предложение, но, по всей вероятности,
от него бы отказался. Плеве сделал
удивлённый вид и спросил: „Почему
же?" — „Потому что на этом месте
ничего нельзя сделать. Вот если бы Ваше
Превосходительство предложили мне
занять Ваше место, тогда я бы ешё
подумал". Плеве узнал обо мне из этого
ответа, наверное, больше, чем
ожидал».
Разговор закончился,
несостоявшегося «министра просвещения»
доставили обратно в камеру. Через неделю его
снова вызвали к В. Плеве. Но теперь
тот встретил Милюкова более чем
холодно, не подал руки и резко
произнёс: «Я сделал вывод из нашей беседы.
Вы с нами не примиритесь. По
крайней мере не вступайте с нами в
открытую борьбу. Иначе—мы Вас сметём!».
П.^илюков_стал одним из видных его руководителей. Он
^ошёл^^елегальный «Союз освобождения», а в 1905 г.
деятельно участвовал во многих либеральных съездах. В августе
участников одного из таких совещаний арестовала полиция, и Павел
Николаевич месяц провёл в тюрьме «Кресты».
В октябре состоялся первый съезд Конституционногдемо-
кратичёской (кадетской) партии, и П. Милюков сразу стал её
признанным вождём. ~
Как рассказывал Милюков, в последний день съезда в зал
вбежал запыхавшийся сотрудник дружественной газеты. Он
размахивал свежеотпечатанным текстом царского манифеста 17
октября, провозгласившего свободы. Все пришли в праздничное,
восторженное настроение. Чуть позже в тот же вечер ликующая
публика подхватила Павла Николаевича на руки, поставила на
стол и потребовала от него речи. «Я вылил на их головы ушат
холодной воды», — вспоминал он. Свою речь Милюков закончил
словами: «Ничто не изменилось; война продолжается».
ВО)ВДЬ ДУМСКОЙ ОППОЗИЦИИ
П^Милюков избирался депутатом III и IV Государственных дум и
возглавлял в них либеральную оппозицию. В своих думских
выступлениях он проявил незаурядное красноречие. Кадет
Владимир Набоков замечал: «Он хорошо владеет иронией и сарказмом.
Своими великолепными схемами, подкупающими логичностью
и ясностью, он может раздавить противника. Ораторам
враждебных партий никогда не удавалось смутить его, заставить
растеряться».
Выступая в 1909 г. в Англии, на обеде у лорд-мэра Лондона,
П. Милюков произнёс слова, ставшие впоследствии
знаменитыми: «Пока в России существует законодательная палата... русская
оппозиция останется оппозицией Его Величества, а не Его
Величеству». Социалисты позже любили припоминать П.
Милюкову эту фразу и насмешливо называли кадетов «оппозицией в
ливрее». Павел Николаевич отвечал им такими же едкими
замечаниями. «Я как-то сказал, — вспоминал он, — взяв сравнение из боя
быков, что не следует в борьбе дразнить красной тряпкой».
Получилось, что он высмеял красное знамя социализма...
Не лучше социалистов относились к кадетам и
черносотенцы. В. Пуришкевич как-то раз начал свою речь
многозначительной цитатой из И. Крылова:
Павлушка — медный лоб, приличное названье,
Имел ко лжи большое дарованье.
В 1914 г., после началаДервой.мировой_врйны,_Павел
Милюков без колебаний выступил за «войну до полной победы». На
войне погиб его младший сын, по совету отца ушедший на фронт
добровольцем.
В 1915 г. думское большинство — от кадетов до части на-
200
ПАВЕЛ
МИЛЮКОВ
ционалистов — объединилось в Прогрессивный блок
Участники блока обвиняли правительство в бездарности и неспособно-
сти вести войну. П. Милюков стал одним из лидеров этого блока.
1 ноября 1916 г. он произнес в Думе свою прогремевшую
на всю страну речь «Глупость или измена?». «Мы потеряли веру в
то, что власть может нас привести к победе, — заявил он. — Мы
имеем много, очень много отдельных причин быть
недовольными правительством. Но все частные причины сводятся к одной:
неспособности и злонамеренности данного состава
правительства». Перечисляя ошибки властей, П. Милюков каждый раз
грозно восклицал: «Что это?! Глупость или измена!?».
Речь П. Милюкова запретили публиковать в печати, но это
только усилило впечатление от неё. Распечатанная на пишущих
машинках в тысячах экземпляров, она обошла всю страну. «За
моей речью установилась репутация штурмового сигнала к
революции, — писал Милюков. — Я этого не хотел...» Хорошо
знакомый с историей, он замечал о революции: «Я знал, что там —
не моё место».
И позднее, когда в феврале 1917 г. революция всё-таки
разразилась, Павел Николаевич повторял: «Мы не хотели этой
революции, мы особенно не хотели, чтобы она пришла во время
войны, перед лицом неприятеля. Я даже не предвидел её: она
произошла без нас...».
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
Волею событий П.^Милюков оказался одним из^руководителей
Февральской революции. В дни Февраля он не раз выступал пе-
редреволюционными полками, убеждая их сохранять
дисциплину и порядок В конце концов от непрерывных речей на
митингах Павел Николаевич совершенно сорвал голос. Порой
вместо сна он все ночи напролёт проводил в жарких политических
спорах. Французский посол Морис Палеолог нашёл его после
первой недели революции «очень утомлённым и постаревшим
на десять лет».
2^марта II Милюков занял пост министра иностранных дел.
Из всех членов правительства он наиболее горячо отстаивал
идею верности союзникам и лозунг «войны до победного
конца». В. Набоков вспоминал, как его и других кадетов взволновало
известие о том, что Германия предлагает России мир. Они
увидели в этом первый проблеск надежды на прекращение войны.
Набоков далее рассказывал, что «Милюков сразу и решительно
облил нас ледяной водой». «Спокойно и даже весело» он заявил,
что единственный мыслимый ответ на германские
предложения — «это категорическое и возможно резкое их отклонение».
П. Милюков глубоко верил в то, что Россия может сражаться и
победить. Более того, он не оставлял мечты о присоединении к
России Константинополя и черноморских проливов —
Босфора и Дарданелл. «Победа — это Константинополь», — повторял
министр иностранных дел...
ВОКРУГ «МИНИСТЕРСТВА
ДОВЕРИЯ»
На выборах в I Думу партия кадетов
получила наибольшее количество мест.
Власти начали переговоры с кадетами
о приглашении их в число министров.
Такое предполагаемое правительство
назвали «министерством доверия».
Со стороны кадетов переговоры вёл
П. Милюков. В июне 1906 г. Пётр
Столыпин встретился с ним на своей
даче на Аптекарском острове. Камнем
преткновения в их беседе стал вопрос
о том, кто будет назначать министра
внутренних дел—император или Дума.
П. Столыпин настаивал, чтобы право
назначения на этот пост осталось в
руках государя. Он спрашивал с
иронией: понимает ли его собеседник, что
министр внутренних дел, например,
является шефом жандармов? Не
окажется ли такая работа «непривычной»
для интеллигентов?
Павел Николаевич, по свидетельству
самого Столыпина, решительно
отвечал, что кадетское правительство
твёрдо очертит границы свободы для
революционных партий. Оно скажет им:
«Досюда — и ни шагу дальше!». «А если
бы революционное движение
разрослось, — продолжал Милюков, — то
правительство не остановится перед
принятием самых серьёзных и
решительных мер. Если надо будет, мы
поставим гильотины на площадях и
будем беспощадно расправляться со
всеми, кто ведёт борьбу против
опирающегося на народное доверие
правительства!»
Однако в конечном итоге переговоры
о «министерстве доверия» так и не
увенчались успехом.
201
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОИНА
«В передовице „Последних новостей"
Милюков пишет:
„Большевиков терпят потому,
что не знают, кем их заменить:
не Кириллом же и лаже не Николаем
Николаевичем. Если вот эта
эмигрантская демократия громко
крикнет: „Мы здесь", то дело
освобождения России сразу
подвинется к развязке".
Милюков: — Мы здесь!
Рабочий: — Хорошо, что я лупу захватил,
а то невооружённым глазом вас и не
видно!» («Крокодил». 1922 г.)
МИЛЮКОВ В ДНИ ФЕВРАЛЯ
Днём 2 марта 1917 г. Павел Милюков
первым объявил народу список новых
министров. Он обратился к гражданам,
солдатам и матросам в
Екатерининском зале Таврического дворца. Из
толпы тотчас послышались ехидные
возгласы: «Кто вас выбрал?». «Нас
никто не выбирал, — уверенно отвечал
Милюков, — ибо если бы мы стали
дожидаться народного избрания, мы не
могли бы вырвать власти из рук
врага». И, выдержав паузу, он добавил:
«Нас выбрала русская революция!».
Эти знаменитые слова были
встречены бурей аплодисментов.
Прозвучали выкрики: «А династия?!».
Павел Николаевич произнёс: «Я знаю
наперёд, что мой ответ не всех вас
удовлетворит, но я его скажу. Старый
деспот, доведший Россию до полной
разрухи, добровольно откажется от
престола или будет низложен...
(Рукоплескания.) Власть перейдёт к
регенту, великому князю Михаилу
Александровичу...». Это заявление вызвало в
ВОКРУГ «НОТЫ МИЛЮКОВА»
20 апреля 1917 г. в газетах появилась нота,Временного
правительства В ней подчёркивались полная верность России
союзникам и «всенародное стремление довести войну до
решительной победы». Эта нота вызвала возмущение солдат столичного
гарнизона. Весь их гнев обратился против П. Милюкова/чьялвдд-
пись стояла под документом. В Петрограде начались^стихииные
солдатские демонстрации. К 16 часам у Мариинского дворца, где
размещалось правительство, собралась 15-тысячная толпа.
Демонстранты держали плакаты: «Долой Милюкова!», «Долой
войну!», «Милюков, в отставку!».
Спустя несколько часов начались шествия и под
противоположными лозунгами: «Доверие Милюкову!», «Да здравствует
Временное правительство!». В этих колоннах шло много
офицеров, студентов. С балкона Мариинского дворца к ним обратился
П. Милюков. Он с волнением сказал: «Видя плакаты с надписями:
,Долой Милюкова!", я не боюсь за Милюкова. Я боюсь за Россию».
На следующий день столица продолжала бурлить; дело
доходило до столкновений между демонстрантами.
Правительство заявило, что ноту единогласно одобрили все министры, а не
один Милюков. Но он с горечью заметил в тот же день: «Я
слишком победил...». Всем стала очевидна общая шаткость положения.
Невольно возникала мысль: быть может, если отстранить П.
Милюкова, напряжение уменьшится?
Ему предложили принять портфель министра народного
просвещения. Он категорически отказался и 2 ^аялдшел из со-
сгаваЪременного правительства. «С чистой совестью могу
сказать, — говорил он днём позже, — что не я ушёл, а меня ушли».
В БОРЬБЕ С БОЛЬШЕВИКАМИ
Ещё будучи министром, П. Милюков призывал правительство к
укреплению государственной власти. Например, в апреле он
безуспешно требовал арестовать!}. Ленина за его «пораженческие»
выступления на митингах. В мае Павел Николаевич пришёл к
выводу, что «революция сошла с рельс». Все последующие месяцы,
вплоть до октября, он продолжал призывать к «наведению
порядка», к «войне до победного конца». Свои надежды при этом он
возлагал на генерала Лавра Корнилова, которого неизменно
поддерживал в печати. 30 августа, когда Л. Корнилова уже объявили
мятежником, кадетская газета «Речь» вышла с белым пятном на
первой полосе. Отсюда в последний момент сняли передовицу П.
Милюкова, в которой он всё ещё защищал «мятежного» генерала.
Октябрьский переворот застал Павла Николаевича в
столице. Вскоре он отправился на Дон, где примкнул к
Добровольческой армии генерала Л. Корнилова. Однако «добровольцев» в то
время было ещё очень мало — лишь небольшая горстка
офицерства; их дело казалось почти безнадёжным. П. Милюков
лихорадочно искал силу, на которую можно было бы опереться в
«восстановлении российского государства».
202
ПАВЕЛ
МИЛЮКОВ
Весной 1218^судьба забросила его в оккупированный
немцами Киев. И вот неожиданно П. Милюкодувидел возможную опо
руГТгерманской армии. «Германия вышла победительницей из
мировой борьбы», — говорил он. Отчего же теперь немцам,
разрушившим российское государство, не помочь его восстановить?
«Так как мы справиться с большевиками сами не можем, то
должны обратиться за помощью к Германии, — утверждал
Милюков. — Немцам выгодно иметь в тылу восстановленную с их
помощью и, следовательно, дружественную им Россию, а не
большевиков. Немцы — люди практичные, и они поймут, что для их
же пользы надо помочь России...» Поэтому он убеждал
германские военные власти на Украине «занять Москву и Петербург, что
для них никакой трудности не представляет», и помочь
восстановлению «всероссийской власти».
Но за П. Милюковым пошло только меньшинство кадетской
партии. Кадет князь Владимир Оболенский рассказывал о своей
беседе с ним в то время.
«Неужели Вы думаете, — спросил он у Милюкова, — что
можно создать прочную русскую государственность на силе
вражеских штыков? Народ Вам этого не простит».
«Народ? — пожал плечами Павел Николаевич. — Бывают
исторические моменты, когда с народом не приходится считаться».
ОсенькП918 г. сталояснр^что Германия терпит поражение,
и П. Милюков изменил свою позицию. Он заявил: «Я рад, что
ошибался и что правы были мои противники». В дальнейшей
борьбе с большевиками П. Милюков и его единомышленники
опирались на военную помощь держав-победительниц.
В ЭМИГРАЦИИ
В кошо^21?^П^Милюков покинул родину, а с 1920 г. постоян-
но_жил_в Париже. Теперь он считал, что тех же политических
целей надо добиваться совершенно новыми методами. Белые
толпе слушателей страшный шум и
крики негодования. «Долой Романовых! —
кричали собравшиеся. — Долой
князей! Не надо нам монархов! Да
здравствует республика!»
Присутствовавший в зале репортёр замечал, что в этот
момент «что-то зловешее носилось в
воздухе». Солдаты были потрясены:
«Это что ж? Мы работали-работали, а
он опять — на шею к нам монархов?!».
И всё-таки по окончании речи
публика разразилась бурными
аплодисментами и подхватила оратора на руки.
На следующий день П. Милюков
отчаянно пытался убедить великого князя
Михаила Александровича не
отказываться от царского престола. Вначале
тот был настроен принять верховную
власть и шутливо сказал Милюкову: «А
что, хорошо ведь быть в положении
английского короля. Очень легко и
удобно!». Но, кроме П. Милюкова и
A. Гучкова, почти все члены
правительства выступили за отказ от престола.
B. Шульгин вспоминал выступление
Милюкова: «Белый, как лунь, сизый
лицом от бессонницы, совершенно
сиплый от речей в казармах и на
митингах, он не говорил, а каркал хрипло...
Эта речь его, если можно назвать
речью, была потрясающая...» (см. ст.
«Февральская революция»).
В конце концов великого князя
убедили доводы большинства. Прошаясь,
он поблагодарил П. Милюкова за
«патриотизм».
1
щ
-1 11
1 • 1 *• :|
1 > '••
шв^Ш ^К. .——Л^&УщкТш
Ъ**, ^и^^1
Ш «УРЛ^А, /*Л£БА 1
1 ШИ2^- тт
wW/:"\m
ft ™
Ж Ж
WW
К. Елисеев. «Никуда не уйдёшь...» («Крокодил». 1922 г.)
«Милюков (в Петрограде в 1917 г.): «Он же (в Париже в 1925 г.):
— Как это похоже на французскую революцию!» — Как это похоже на русскую революцию!»
203
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОИНА
МИЛЮКОВ-ДАРДАНЕЛЛЬСКИЙ
За твёрдую решимость П. Милюкова
завоевать черноморские проливы на
него резко нападали социалисты. Они
присвоили министру иностранных дел
ироническое прозвише Милюков-Дар-
данелльский. «Эпитет, которым я мог
бы по справедливости гордиться...» —
замечал он.
М. Палеолог приводил мнение, что
Милюкова как историка вдохновляла
вековая русская мечта о покорении
Царьграда (Константинополя). Сам
Павел Николаевич объяснял свои
завоевательные стремления
экономическими нуждами. Он считал, что юг
России нуждается в свободном выходе к
морю.
В апреле он настоятельно уговаривал
Верховного главнокомандующего
генерала М. Алексеева немедленно
провести операцию по захвату
Константинополя. Тот возражал, доказывая, что
дисциплина в армии ослаблена и
потому десантная операция неминуемо
сорвётся. Чтобы убедить в этом
настойчивого министра, генерал решил
преподать ему «предметный урок». Он
приказал провести небольшую
высадку — как бы репетицию — на
турецком побережье. Однако... войска
отказались участвовать в десанте.
Только этот обескураживающий результат
заставил П. Милюкова отступиться.
армии уже потерпели в России сокрушительное поражение.
Павел Николаевич выступил перед кадетами с докладом, в котором
предложил отказаться от вооружённой помощи иностранцев в
борьбе с большевиками. «Для меня выяснилось, — сказал он, —
что Россия не может быть освобождена вопреки воле народа».
Народ поддержал проведённую большевиками передачу земли
крестьянам, отверг монархический строй. Кадеты должны признать
эти перемены. Советскую власть нельзя уничтожить извне, она
может измениться только изнутри. Эту новую тактику
политической борьбы П. Милюков применил во время Кронштадтского
восстания 1921 г., когда выдвинул совсем неожиданный для
кадетов лозунг: «За Советы, но без коммунистов!».
Конечно, подобные идеи вызывали негодование у
монархически настроенной части эмиграции. В марте 1922 г.
монархисты совершили покушение на П. Милюкова, когда он выступал на
собрании русских эмигрантов в Берлине. Кадет В. Набоков,
сидевший среди публики, вскочил и бросился на его защиту. Он
погиб от предназначенной Милюкову пули...
В 1929 г. русская эмиграция в Париже с исключительным
размахом отпраздновала 70-летие П. Милюкова. Чествование
юбиляра стало крупным политическим событием. В банкете
участвовало 400 человек, в том числе послы славянских государств.
С 1921 г. Павел Николаевич редактировал крупнейшую
эмигрантскую газету «Последние новости». Газета перестала
выходить в июне 1940 г., когда в Париж вступили германские войска.
Милюков ещё в середине 20-х гг. пришёл к выводу, что во
внешней политике Советская власть часто «представляет
интересы России». Остался он и неизменным сторонником
расширения пределов государства — теперь это было уже Советское
государство. В 1941 г. он шутливо заметил о своих взглядах на
империю: «Куда до меня... самому Сталину!». После нападения
Германии на Советский Союз он внимательно следил за ходом
военных действий. Он тяжело переживал поражения Красной
армии, восторженно приветствовал её первые победы. В феврале
1943 г. с радостью узнал о победе советских войск под
Сталинградом.
После этого П. Милюков опубликовал свою знаменитую
статью «Правда о большевизме». В ней он убеждённо заявлял:
«Бывают моменты, когда выбор становится обязательным. Правда, я
знаю политиков, которые предпочитают отступать в этих
случаях на нейтральную позицию: „Мы ни за того, ни за другого". К
ним я не принадлежу». На этот раз П. Милюков в происходящей
борьбе однозначно становился на сторону Советского
правительства. «Народ в худом и хорошем связан со своим режимом, —
писал он. — Советский гражданин гордится своей
принадлежностью к режиму. Он не чувствует над собой палку другого
сословия, другой крови, хозяев по праву рождения».
Эта статья оказалась последней работой, написанной
Павлом Милюковым. 31 марта 1943 г. он скончался в возрасте 84 лет.
БОРИС
САВИНКОВ
БОРИС САВИНКОВ
(1879—1925)
Сначала его как виднейшего революционера и опасного
террориста выслеживали жандармы и полиция. Затем его уже как
«матёрого контрреволюционера» разыскивали советские чекисты.
Ему грозила казнь в царской тюрьме ещё в 1906 г. Однако погиб
этот человек в тюрьме советской — почти двадцать лет спустя...
МОЛОДЫЕ ГОДЫ
Борис Викторович Савинков родился 19 (31) января 1879 г. в
дворянской семье. Закончив гимназию, Борис поступил в
Петербургский университет. Его старший брат за революционную
деятельность был сослан в Сибирь, где покончил жизнь самоубийством.
Их отец, бывший варшавский судья, под влиянием тяжёлых
переживаний вскоре после этого скончался...
Как и брат, Борис примкнул к революционному движению.
В возрасте 19 лет стал социал-демократом. В 1902 г. за агитацию
в рабочих кружках его сослали в Вологду.
«Социал-демократическая программа меня давно уже не удовлетворяла, —
признавался позднее Б. Савинков. — В вопросе террористической
борьбы я склонялся к традициям „Народной воли"». В ссылке он
познакомился с Е. Брешко-Брешковской, прозванной Бабушкой
русской революции. В те годы она ездила по стране и
вдохновляла молодёжь зажигательными речами, проповедуя идеи
революционного народничества (см. ст. «Эсеры»). Под влиянием
встреч с ней Б. Савинков примкнул к только что созданной
тогда партии эсеров.
РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕРРОРИСТОВ
В июне 1903 г. Борис Савинков из ссылки бежал за границу. Он
решил вступить в Боевую организацию эсеров. Друг Савинкова с
детских лет Иван Каляев говорил о нём тогда: «Он хочет борьбы,
яркой и подымающей, хочет гореть и сжигать...».
В Женеве Б. Савинков встретился с руководителем Боевой
организации. Позднее Борис Викторович так вспоминал эту
встречу: «Однажды днём к нам в комнату вошёл человек лет
тридцати трёх, очень полный, с широким, равнодушным, точно
налитым камнем лицом и большими карими глазами. Это был
Евгений Филиппович Азеф». Савинков обратился к главе
эсеровских боевиков с просьбой дать ему «работу в терроре». Вступив в
Боевую организацию, Борис Викторович со временем стал
«правой рукой» Е. Азефа.
Вместе они подготовили самые значительные теракты
эсеров — убийство министра внутренних дел Вячеслава Плеве,
убийство великого князя Сергея Александровича. В эти годы в
Боевой организации постепенно сложился особый дух тесного то-
БОРИС САВИНКОВ В 1905 ГОДУ
После октябрьского манифеста 1905 г.,
провозгласившего гражданские
свободы, эсеры временно прекратили
террор и распустили Боевую
организацию. Б. Савинков категорически
возражал против этой меры, считая её
«непоправимой ошибкой». Он полагал,
что правительство надо, наоборот,
«добивать беспощадными
террористическими ударами». «В решительную
минуту, — с горечью замечал он, —
партия оказалась не террористической и
недостаточ но революиион ной ».
Эсер Виктор Чернов вспоминало Б.
Савинкове: «Весь приподнятый, он
ориентировался на самопожертвование,
гибель, красивую смерть... Основная
проблема для него была—суметь
умереть. А тут вдруг лавиной обрушилась
новая проблема — суметь жить. И весь
старый склад чувств и мыслей в нём
возмушался».
По словам Чернова, Савинков
«саркастически спрашивал»: «Что же мне
теперь остаётся делать? То, что надо
делать, мне будет запрещено. Хорошо.
Одного мне, вероятно, никто запретить
не может: подойти на улице к какому-
нибудь бравому жандарму или филёру
Тутушкину и выпустить в него
последнюю в своей жизни пулю. Это ведь не
смешает карты нашей политической
игры, пройдёт незаметно, а для "меня
по крайней мере не будет изменой
всему моему прошлому. Итак, до моего
свидания в Петербурге с
каким-нибудь... Тутушкиным».
Однако под влиянием дальнейших
событий эсеры вскоре приняли решение
возобновить террор.
205
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОИНА
Б. Савинков.
АРЕСТ И ПОБЕГ
В 1906 г. Б. Савинкову довелось
пережить одно из самых опасных
приключений за свою жизнь. Случилось это,
когда он в очередной раз нелегально
приезжал в Россию. 14 мая, когда Борис
Викторович находился в Севастополе,
местные эсеры устроили покушение на
коменданта города генерала В. Неплю-
ева. Савинков отношения к этому делу
не имел. Однако полиция выследила его
и арестовала в гостинице.
Сам Б. Савинков рассказывал об этом:
«Когда я подымался по лестнице, я
услышал позади себя крик: „Барин, Вы
задержаны!.."». В ту же минуту я
почувствовал, что кто-то сзади крепко
схватил меня за руки. Я обернулся.
Плошадка лестницы быстро
наполнялась солдатами с ружьями наперевес.
Они окружили меня и опустили штыки
так, что я был в их центре.
Полицейский офицер, очень бледный,
приставил мне к груди револьвер...».
В севастопольской крепости Борис
Викторович оказался вместе с терро-
варищества, о котором Б. Савинков вспоминал: «Было одно
братство, жившее одной и той же мыслью, одним и тем же
желанием». Товарищ Савинкова Егор Сазонов спустя годы писал ему с
каторги: «Наша Запорожская Сечь, наше рыцарство было
проникнуто таким духом, что слово „брат" ещё недостаточно ярко
выражает сущность наших отношений».
Сам Б. Савинков, как и Е. Азеф, не бросал бомбы, он только
руководил покушениями. Позднее английский писатель и
разведчик Уильям Сомерсет Моэм заметил в беседе с Савинковым, что
индивидуальный террор, видимо, требует особого мужества.
Борис Викторович покачал головой: «Это такое же дело, как всякое
другое. К нему тоже привыкаешь...».
В ЭМИГРАЦИИ
В декабре 1908 г. стало известно, что глава Боевой организации
эсеров Е. Азеф одновременно тайно работал в полиции (см. ст.
«Евгений Азеф»). Конечно, для Б. Савинкова и его товарищей эта
новость стала тяжелейшим ударом. «Я считал, — писал Борис
Викторович, — что честь террора требует возобновления его
после „дела Азефа". Возобновлённый террор смывал пятно с
Боевой организации, с живых и умерших её членов».
В августе 1909 г. Б. Савинков написал книгу «Воспоминания
террориста», которая заканчивалась бодрой фразой: «Я стал
готовиться к новой террористической кампании». Савинков создал
новую Боевую организацию из 12 человек Однако она так и не
начала террор: слишком сильна была подавленность после «дела
Азефа». Во всём теперь подозревали «руку полиции». Эсер С.
Слётов писал: «Если бы партии удалось свалить самого царя,
партийные люди прежде всего заподозрили бы тут провокацию...».
Б. Савинков переключился на литературную деятельность.
В том же 1909 г. под псевдонимом В. Ропшин он напечатал
повесть «Конь бледный». Её герои — террористы. Они
напряжённо размышляют о праве человека проливать чужую кровь.
Среди эсеров повесть вызвала бурное возмущение как «пародия на
террор». Начались разговоры о том, чтобы исключить автора из
партии.
Но за Бориса Савинкова заступился его товарищ Егор
Сазонов, отбывавший каторгу в далёкой глуши Горного Зерентуя.
Он утверждал, что в повести нет ни одного невыстраданного
слова, и требовал, чтобы его исключили вместе с автором «Коня
бледного». В конце концов Савинкова оставили в партии, хотя
его творчество продолжало вызывать негодование многих
революционеров.
После начала Первой мировой войны эсеры, как и другие
социалисты, разделились на «оборонцев» и «пораженцев». Б.
Савинков твёрдо занял позицию обороны России и вступил
добровольцем в союзническую французскую армию. Он участвовал
в сражениях и написал книгу военных очерков «Во Франции во
время войны».
206
БОРИС
САВИНКОВ
В 1917 ГОДУ
Вскоре после Февральской революции, 9 апреля 1917 г., Б.
Савинков, как и другие эмигранты, вернулся на родину. Разумеется, он
оставался непоколебимым «оборонцем», сторонником «войны до
победного конца».
Уже в мае Борис Савинков занял пост комиссара армии,
которой командовал генерал Лавр Корнилов. Так судьба свела двух
людей, сыгравших в событиях 1917 г. столь значительную роль.
Борис Викторович сразу же решил прояснить свои отношения с
Корниловым и с необычайной прямотой заявил ему:
«Возможно, что когда-нибудь наступит день, господин генерал, когда у Вас
явится желание расстрелять меня как революционера, и я не
сомневаюсь, что Вы постараетесь привести это желание в
исполнение. Но я должен Вас предупредить, что в тот же день я
пожелаю расстрелять Вас и, конечно, приложу все усилия, чтобы
исполнить это».
Генерал Корнилов отвечал: «С Романовыми у меня
соглашения быть не может. Для себя лично я ничего не хочу. К
единоличной диктатуре я не стремлюсь. Я хочу одного — чтобы
Россия была спасена, то есть чтобы армия возродилась». Позднее
Б. Савинков, приведя этот разговор, заключал: «Я поверил
генералу Корнилову и думаю до сих пор, что не ошибся».
Вскоре генерал возглавил Юго-Западный фронт, а Савинков
стал комиссаром фронта. Вместе они добивались утверждения в
армии «железной дисциплины». 10 июля они подписали
знаменитую телеграмму А. Керенскому: «Армия обезумевших тёмных
людей, не ограждавшихся властью от систематического
развращения и разложения, потерявших чувство человеческого
достоинства, бежит. Необходимо немедленное введение смертной
казни и учреждение полевых судов на театре военных действий.
Время слов, увещаний и пожеланий прошло, необходима
непоколебимая государственно-революционная власть...».
«Выбора не дано, — настаивал Б. Савинков в другой
телеграмме, — смертная казнь тем, кто отказывается рисковать
своей жизнью для Родины, за Землю и Волю».
19 июля Б. Савинкова назначили управляющим военным
министерством, а Л. Корнилов в тот же день стал Верховным
главнокомандующим русской армии. Добившись восстановления
смертной казни на фронте, они теперь настойчиво требовали её
введения в тылу. В подобных суровых мерах Корнилов и
Савинков видели единственный шанс спасти армию и государство.
Вместе с Корниловым Савинков добивался «наведения
порядка» в Петрограде, «очищения» его от большевиков. Борис
Викторович считал, что если большевиков поддержат Советы,
«придётся действовать и против них». Как говорил он
Корнилову, «действия должны быть самые решительные и беспощадные».
Генерал отвечал, что «иных действий он не понимает». А.
Керенский как будто поддерживал требуемые меры.
Однако 27 августа между Керенским и Корниловым
вспыхнула открытая борьба — начался «корниловский мятеж». Борис
ристами, покушавшимися на В. Не-
плюева. Всех их собирались сулить по
одному лелу. Смертный приговор
Савинкову был практически предрешён.
Однако эсер Лев Зильберберг
вызвался освободить арестованных. Он
приехал в Севастополь и стал готовить
побег. Вначале замысел выглядел почти
невыполнимым: крепость хорошо
охранялась и казалась неприступной. Но
один из младших чинов охранявшего
её полка Василий Сулятиикий
вызвался помочь.
Предпринимая первую попытку, он
угостил часовых конфетами с
сонными порошками. Б. Савинков слышал
разговор за дверями камеры: «Хочешь,
земляк, конфету?» — «Покорно
благодарим». Через несколько минут один
из часовых заметил: «Яка гирка
конфета!». «Та ж паны жруть», — сказал
другой. — «Тьфу!» После этого в
коридоре воцарилась тишина, но часовые
так и не уснули.
Стало ясно, что всех заключённых
освободить не удастся. Решили
попытаться спасти хотя бы одного. Товариши
единодушно пришли к выводу, что им
должен быть Савинков. Он
согласился, рассчитывая, что никто из
оставшихся не будет казнён (так и
случилось).
На рассвете 16 июля В. Сулятиикий,
бывший в этот день разводяшим
караула, вывел Б. Савинкова в умывальную
комнату, где тот сбрил усы и
переоделся в солдатскую форму. Затем на
глазах у ничего не подозревавших
часовых они спокойно прошли к выходу...
После успешного побега Б. Савинков
перебрался за границу, в Румынию.
В эмиграции его с триумфом
встретили товариши. Историк Борис
Николаевский отмечал: «Все окружали его
любовным вниманием как человека,
чудом сорвавшегося с виселицы».
Побег Савинкова из строго охраняемой
крепости выглядел похожим на
сказку... Судьба двух спасителей
Савинкова — Л. Зильберберга и В. Сулятицко-
го — оказалась менее счастливой.
Спустя год их арестовали и повесили
по приговору суда за участие в
террористических актах.
207
РЕВОЛЮЦИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
БОРИС
САВИНКОВ
Викторович считал происшедшее «недоразумением» и вначале
пытался разрешить дело мирным путём. Но события уже зашли
слишком далеко. А. Керенский приказал ему защищать
Петроград от Л. Корнилова в качестве генерал-губернатора столицы.
Конечно, Б. Савинков мог отказаться выполнять приказ, но это
означало для него самоустранение от борьбы, дезертирство. И
он согласился... «Таким образом, — писал он, — я оказался врагом
человека, к которому относился с глубоким уважением как к
человеку безупречному во всех отношениях, а прямой и
мужественный характер которого поселил во мне чувство
привязанности».
Б. Савинков, как он рассказывал, надеялся по окончании
«корниловского мятежа» принять жёсткие меры против
большевиков. Но уже 31 августа ему пришлось по настоянию
Петроградского совета уйти в отставку со всех постов. 9 октября за
содействие Корнилову эсеры исключили Савинкова из партии.
Любопытно следующее: сам он считал, что они, наконец, отплатили
ему за литературное творчество, а «корниловский мятеж» —
только предлог.
ПОСЛЕ 25 ОКТЯБРЯ
Сразу после Октябрьского переворота Б. Савинков участвовал в
«гатчинском походе» на Петроград (см. ст. «Александр
Керенский»). Генерал Пётр Краснов вспоминал первую встречу с
Савинковым в конце октября: «В цепях разговаривает с казаками
статный, красивый человек средних лет, с выправкой отличного
спортсмена, в полувоенном платье, с амуницией и биноклем. Мы
здороваемся. Савинков говорит мне, как лестно обо мне и
любовно отзывались казаки. Революционер и царский слуга! Как всё
это странно?!».
А, Керенский назначил Б. Савинкова начальником обороны
Гатчины. Борис Викторович категорически выступил против
переговоров с большевиками. П. Краснов вспоминал, что на
Военном совете Савинков «говорил с глубокой горечью, с истинным
и сильным патриотизмом». Он воскликнул: «Мы должны
бороться до конца и спасти Россию!».
Б. Савинков готов был принять самый отчаянный план,
суливший возможность успеха. Он видел, что казаки не желают
идти за А. Керенским, и поход из-за этого на грани провала.
Тогда он предложил П. Краснову арестовать министра-председателя
и самому возглавить движение на столицу. Но генерал отказался...
31 октября Б. Савинков попросил А. Керенского отправить
его за подкреплениями. В последующие дни, по его словам, он
метался по станциям железной дороги и безуспешно искал
воинские части, которые могли бы двинуться на столицу.
«Гатчинский поход» между тем окончился полным поражением.
Б. Савинков побывал в «красной» Москве. Он вспоминал,
БОРИС САВИНКОВ НА ДОНУ
Своё решение примкнуть в 1918 г. к
Лавру Корнилову и Добровольческой
армии Борис Савинков позднее
объяснил так: «Почему я тогда пошёл к
Корнилову? Что же мне было делать: один
бороться я не могу. В эсеров я не
верил, потому что видел их полную
растерянность, полное безволие,
отсутствие мужества... А кто боролся? Да один
Корнилов! И я пошёл к нему».
Как вспоминал генерал Александр Лу-
комский, Савинков «указал на то, что
возглавление борьбы с большевиками
одними генералами более чем
ошибочно». Борис Викторович доказывал, что
в этой борьбе нельзя опираться
только на офицерство. «Настоящая
Россия, — говорил он, — это в огромной
степени крестьянство. Надо бороться
с большевиками, зашишая интересы
крестьянства, для крестьянства и во
имя крестьянства, иначе борьба
должна кончиться неудачей».
Вместе с П. Милюковым и другими
общественными деятелями Б. Савинков
вошёл в Гражданский совет при
Добровольческой армии. Но генерал
Лавр Корнилов после всего
происшедшего работал с ним весьма неохотно.
Ешё хуже к Савинкову относились
многие офицеры.
Вскоре прошли слухи, что офицеры
готовят покушение на Савинкова.
Говорили, что монархисты устроили на
бывшего террориста «охоту по всем
правилам»... Однажды к нему явился
офицер, весь увешанный оружием: с
карабином, револьвером, саблей и
кинжалом.
«В чём дело?» — спросил Савинков. —
«Вас убьют». — «Это не так легко
сделать». — «Но ведь вот я, например,
могу Вас убить...» — «Попробуйте».
«Мне стало жалко его, — рассказывал
Борис Викторович, — я видел, что у
него не хватает решимости». В конце
концов посетитель повернулся и ушёл.
< Арест Б. Савинкова в Севастополе в 1906 г. Современный рисунок.
209
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОИНА
«КОНЬ ВОРОНОЙ»
В 1923 г. вышла ешё одна повесть
Б. Савинкова под псевдонимом В. Роп-
шин — «Коньвороной». В сущности это
было продолжение «Коня бледного».
Герой повести Жорж, бывший
террорист, сражается с «красными» на
гражданской войне. «Кто виноват и кто
прав? Есть ли виноватые и правые?» —
такими вопросами задаётся Жорж. Он
размышляет: «Чем я отличаюсь от
комиссара? Мы верим в разное, но по
делам нашим нас не познать. Мы
мазаны одним мирром. Мы дерёмся
между собой, а обыватель нас одинаково
проклинает, нас, белых и красных: „у
хлопаев чубы трещат"». Об этой
своей книге Савинков говорил: «Я
описывал либо то, что пережил сам, либо то,
что мне рассказывали другие. Эта
повесть не биография, но она и не
измышление».
Б. Савинков (в центре), А. Керенский
(второй справа) на одном из военных
совещаний. Петроград. 1917 г.
например, такой поразивший его случай: «При мне на Курском
вокзале, при громком смехе большевистских солдат подпоручик,
мальчик лет двадцати, был брошен под поезд за то, что не желал
снять погоны».
В декабре Борис Викторович с фальшивыми документами
прибыл в Новочеркасск, где генералы Л. Корнилов и М. Алексеев
создавали Добровольческую армию. Однако спустя месяц, в
январе 1918 г., Б. Савинков решил нелегально вернуться в Москву
и там продолжать борьбу.
В БОРЬБЕ С СОВЕТАМИ
Перед отъездом Б. Савинкова генерал М. Алексеев выдал ему
удостоверение за своей подписью. Этот мандат позволил Борису
Викторовичу объединять вокруг себя офицерство. В феврале
1918 г. он начал создавать подпольную офицерскую
организацию под названием «Союз защиты родины и свободы».
В Москве в неё вошло до 2 тыс. человек; в других городах, в
основном поволжских, — более 3 тыс. Это было необычайно
много для подпольной организации. В июне и июле 1918 г. «Союз
защиты родины и свободы» поднял офицерские восстания в
Ярославле, Муроме и Рыбинске. Все эти выступления потерпели
неудачу, хотя в Ярославле восставшие держались 17 дней...
В последующие годы Борис Викторович с неистощимой
энергией продолжал борьбу с «германо-болыиевиками», как он
говорил. Добывал за границей деньги и оружие для А. Колчака,
засылал партизанские отряды с территории Польши.
При этом Б. Савинков настойчиво старался проводить свою
политическую линию. Он призывал белогвардейцев искать
опору не только в офицерстве, но прежде всего в крестьянстве. В
сентябре 1920 г. он достаточно ярко обрисовал предлагаемую
им тактику в письме к
генералу П. Врангелю: «Ваше
Превосходительство! Мы верим,
что Вы считаетесь с ошибками
прошлого. К прошлому
возврата нет. Не надо пытаться его
вернуть. Царя восстановить
нельзя, не надо пытаться его
восстанавливать... Мы верим,
что Вы пытаетесь создать
Россию, но без царизма, без
крупных землевладельцев, без
чиновников, Россию, где каждый
крестьянин и каждый казак
будут иметь свой участок земли;
Россию, которая не будет
никого ни подавлять, ни
насиловать — ни эстонцев, ни
малороссов, ни евреев...».
210
БОРИС
САВИНКОВ
АРЕСТ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Б. Савинков признавался, что он не мог примириться с
перспективой спокойной и тихой жизни в эмиграции. «Я не могу выйти
в отставку, как поступают чиновники, кончившие свой труд, —
говорил он. — Я был всю жизнь из тех, которые сами идут
вперёд и делают то, что зовут других делать». И он решил вернуться
на родину. Летом 1924 г. к нему поступили сведения о том, что в
России действует серьёзная подпольная группа. Ей нужен
опытный руководитель. Судя по всему, эту легенду создали чекисты,
чтобы заманить Б. Савинкова в Советский Союз.
Борис Викторович нелегально перешёл советскую
границу. 16 августа 1924 г. чекисты арестовали его в Минске и под
стражей доставили в Москву. Уже 27 августа — невероятно
быстро — Б. Савинков предстал перед Военной коллегией
Верховного суда СССР. Он заявил суду: «Я — революционер. А это
значит, что я не только признаю все средства борьбы, вплоть до
террористических актов, но и борюсь до конца, до той последней
минуты, когда либо погибаю, либо совершенно убеждаюсь в
своей ошибке. Я не преступник, я — военнопленный. Я вёл войну, и
я побеждён...
К 1923 г. передо мной во весь рост встал страшный вопрос.
Вот пять лет я борюсь. Я всегда и неизменно побит. Почему?
Потому ли только, что эмиграция разлагается, эсеры
бездейственны, а генералы не научились и не могут научиться ничему?
Потому ли только, что среди нас мало убеждённых и стойких
людей, зато много болтунов, бандитов и полубандитов? Пли ещё и
прежде всего потому, что с коммунистами русские рабочие и
крестьяне, то есть русский народ? Я впервые ответил себе: ,Да, я
ошибся, коммунисты — не захватчики власти, они — власть,
признанная русским народом. Русский народ поддержал их в
гражданской войне, поддержал их в борьбе против нас. Что делать?
Надо подчиниться народу"».
Б. Савинков отметил, что у него «остались идейные
разногласия» с властью: «Интернационал или родина, диктатура
пролетариата или свобода? Но из-за разногласий не подымают меч
и не становятся врагами...». «Плох или хорош русский народ, —
повторял Борис Викторович, — заблуждается он или нет, я,
русский, подчиняюсь ему. Судите меня, как хотите».
«После тяжкой и долгой кровавой борьбы с вами, —
заключил Савинков, — борьбы, в которой я сделал, может быть,
больше, чем многие и многие другие, я вам говорю: я признаю
безоговорочно Советскую власть, и никакую другую». «Для этого, —
добавил Борис Викторович, — нужно было мне, Борису
Савинкову, пережить неизмеримо больше того, на что вы можете меня
осудить».
29 августа суд вынес свой приговор: высшая мера
наказания — расстрел с конфискацией имущества. Но одновременно
судьи во главе с председателем В. Ульрихом подали ходатайство
о смягчении приговора. И Президиум ЦИК СССР заменил
смертную казнь тюремным заключением на максимальный срок — де-
Б. Савинков. Около 1917 г.
САВИНКОВ И ЧЕРЧИЛЛЬ
В голы борьбы против большевиков
Борису Савинкову приходилось
встречаться с Уинстоном Черчиллем, в то
время английским военным
министром. Савинков вспоминал об одном
эпизоде, который произвёл на него
особенно сильное впечатление.
Однажды во время беседы Черчилль показал
на карту России, где флажки
обозначали армию А. Деникина, и сказал:
«Вот это моя армия!». «Я помню,—
говорил Савинков, — как у меня ноги
приросли к полу... Я хотел выйти, но
представил себе, что на фронте
русские добровольцы ходят разутые, и
вот, если я хлопну дверью и выйду со
скандалом из этого кабинета, они
будут ходить без сапог. Я стиснул зубы,
а унижение своё положил в карман».
У. Черчилль много лет спустя посвятил
Б. Савинкову очерк в своей книге
«Великие современники». Вот как он
описывал облик бывшего террориста:
«Невысокого роста, с серо-зелёными
глазами, выделяющимися на смертельно
бледном лице, с тихим голосом, почти
беззвучным. Лиио Савинкова изрезано
моршинами, непроницаемый взгляд
временами зажигается, но в обшем
кажется каким-то отчуждённым».
Черчилль заключал, что Савинков сочетал
в себе «мудрость государственного
деятеля, качества полководца, отвагу
героя и стойкость мученика».
211
сять лет. Интересно обоснование этого решения: «Применение
высшей меры наказания не вызывается интересами охранения
революционного правопорядка... мотивы мести не могут
руководить правосознанием пролетарских масс».
В тюрьме Б. Савинков продолжал работу публициста. В
статье «Почему я признал Советскую власть» он убеждённо
повторял мысль, высказанную на суде: «Воля народа — закон. Это
завещали Радищев и Пестель, Перовская и Егор Сазонов. Прав или
не прав мой народ, я — только покорный его слуга. Ему служу и
ему подчиняюсь. И каждый, кто любит Россию, не может иначе
рассуждать».
7 мая 1925 г. Борис Савинков, по официальной версии,
покончил жизнь самоубийством. Он выбросился из окна пятого
этажа тюрьмы на Лубянке во внутренний двор и разбился
насмерть. В предсмертном письме Савинков объяснял это тем, что
не в силах перенести долгих лет вынужденного бездействия.
По другим данным, Борис Савинкова убили, сбросив с
высоты, четыре чекиста. Об этом рассказывали в лагерях Колымы,
где спустя десять лет оказались чекисты, имевшие дело с
арестованным Б. Савинковым.
ВИКТОР ЧЕРНОВ
(1873—1952)
ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
Будущий председатель Учредительного собрания России Виктор
Михайлович Чернов родился 19 ноября 1873 г. в дворянской
семье. Детство его прошло в городке Камышин на берегу Волги. Он
вспоминал: «Я рос в значительной мере беспризорным,
предприимчивым, своевольным бродягой. Волга в моём детстве играла
огромную роль. В подрастающем поколении река зарождала по
своему образу и подобию стихию упрямой и непокорной воли.
Что вышло бы из нас без неё?».
Как-то раз буря застигла десятилетнего Виктора в лодке
посередине реки. Вместе с ним были два товарища, ещё младше
его. В. Чернов рассказывал: «Один из них, что сидел на вторых
вёслах, вдруг выпустил их из дрожащих рук, принялся
креститься и прерывистым голосом нас убеждать, что всё погибло и
осталось только стать всем троим на колени и молиться Богу; а мой
рулевой просто залился жалким детским плачем, зовя маму...
Вспомнив, что я старший и за них в ответе, я откликнулся
яростными ругательствами и какое-то время отчаянно работал один
за всех троих, пока наконец они не опомнились...». Только це-
212
ВИКТОР
ЧЕРНОВ
ной невероятных усилий юным гребцам удалось добраться до
берега.
Большое влияние на взгляды Виктора оказали стихи Н. А.
Некрасова, проповедовавшие любовь и уважение к народу. Почти
все стихи поэта он выучил наизусть. По его собственному
признанию, на него произвела большое впечатление и «легенда о
социалистах и нигилистах, ходивших бунтовать народ...
Романтический туман окутывал этих загадочных и дерзких людей. И
это действовало на молодую фантазию».
Ещё гимназистом в Саратове он стал участвовать в кружках
революционной молодёжи. Затем поступил в Московский
университет на юридический факультет, где «кружковая» жизнь
кипела гораздо сильнее. На студенческих сходках Виктор
встречался и спорил со многими будущими знаменитостями — от
либерала Павла Милюкова до марксиста Владимира Ульянова... Сам
Виктор и его друзья называли себя народовольцами, как они
говорили, «за отсутствием более подходящего названия».
В. Чернов. 1917 г.
РЕВОЛЮЦИОНЕР
Получить диплом юриста В. Чернову не пришлось: в 1894 г. его
вместе с товарищами арестовали. В камере Петропавловской
крепости молодого революционера особенно поразила
«тропинка», протоптанная заключёнными в асфальтовом полу.
«Сколько людей до меня ходили здесь из угла в угол, словно
звери в клетке!» — размышлял он. После девятимесячного
заключения в крепости его выслали на три года в Поволжье.
Едва кончился срок ссылки, 2 5-летний Виктор Чернов
отправился за границу. Он хотел познакомиться со старой русской
революционной эмиграцией, окунуться в идущие здесь идейные
споры. «Когда я выехал за границу, — вспоминал Чернов, — то
вскоре оказался в положении любимца нарождавшейся партии
социалистов-революционеров. Заграничные старые
народовольцы ласково звали меня первой ласточкой вновь повеявшей
на них из России революционной весны».
Действительно, в России начался подъём революционного
движения. Из народнических кружков и групп к началу 1902 г.
образовалась единая партия социалистов-революционеров
(эсеров). Виктор Чернов стал одним из основателей партии, а
вскоре — её ведущим теоретиком.
В 1905 г., после провозглашения свобод, Виктор
Михайлович, как и многие другие эмигранты, вернулся на родину. В
январе 1906 г. в Финляндии состоялся первый съезд партии
эсеров. Съезд принял программу, написанную Виктором Черновым.
Ключевым положением программы являлась «социализация
земли». Это означало отмену собственности на землю — частной,
государственной или любой другой. Земля должна была стать
«общенародным достоянием», как воздух или вода, и перейти в
пользование тех, кто её обрабатывает. Такая идея вполне
отвечала вековым представлениям и желаниям крестьянства.
ВИКТОР ЧЕРНОВ
ПОСЛЕ НАЧАЛА
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
После начала Первой мировой войны
В. Чернов занял место в рядах её
решительных противников. Он так
передавал свою точку зрения на войну в
1914 г.: «Эта война будет величайшей
катастрофой для социализма и
вообще для европейской цивилизации; она
не может быть нашей войной, она
нам — чужая; просто встать за тех или
других из двух воююших лагерей для
нас как социалистов было бы идейным
и моральным самоубийством; мы
должны плыть против течения и звать
охваченных массовым военным психозом
опамятоваться...».
В 1915 г. В. Чернов участвовал в
знаменитой Циммервальдской
конференции (Швейцария), на которую из
разных стран приехали социалисты —
противники войны. По его оценке, на эту
конференцию собрались «отдельные
кучки не мирящихся с кровавым
кошмаром людей, смелые отшепенцы»,
которые «поверх войны подали друг
другу братскую руку».
213
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОИНА
АРЕСТ ВИКТОРА ЧЕРНОВА
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Переворот 18 ноября 1918 г. в Омске
свергнул Директорию и поставил у
власти адмирала Александра Колчака.
Вместе с другими депутатами
Учредительного собрания В. Чернов
попытался возглавить в Екатеринбурге борьбу
против Колчака. Но уже через
несколько дней их арестовал отряд офицеров,
ворвавшийся в гостиницу, где жили
депутаты. Услышав шум в коридоре (там
застрелили одного из эсеров,
поднявшего тревогу), В. Чернов выбежал из
своей комнаты номер три.
В коридоре кто-то наставлял военных:
«Помните, номер третий — самый
главный... хорошенько там
поработайте штыками!». «Они ворвались
туда, — рассказывал Чернов, — но
опешили: никого, кроме одного старика
и двух женшин, собравшихся
перебелять наши воззвания, в моём номере
не оказалось». Когда арестованных
переписывали, какой-то офицер сказал
Чернову: «А, так вот где он, кто
погубил Россию! А мы уже думали, что он
сбежал... да, жаль, что не нашли
сразу». В конце концов после долгих и
опасных приключений председатель
Учредительного собрания всё-таки
оказался на свободе.
И. Малютин. «Чернов у гадалки.
— Как ни гадай, а всё бубновый туз
выходит!..» (Бубновый туз — знак
заключённого-каторжника.)
(«Рабочий». 1922 г.)
В 1908 г., когда революция в России была окончательно
подавлена, В. Чернов вновь выехал за границу.
«СЕЛЯНСКИЙ МИНИСТР»
После известия о Февральской революции В. Чернова, как и всех
эмигрантов, охватила настоящая лихорадка: «Скорее домой!».
8 апреля 1917 г. В. Чернов вместе с Б. Савинковым прибыл в
Петроград. Что их здесь ждёт, они не знали до последней минуты. И
вот на Финляндском вокзале им неожиданно открылось море
красных флагов, огромные толпы встречающих. На флагах
золотыми буквами был написан лозунг «Земля и Воля!».
Вчерашних изгнанников приветствовали воинские части,
торжественно выстроенные на караул, и военные оркестры, исполняющие
«Марсельезу». В. Чернов в этот день выступал несколько раз — с
трибун, грузовиков, даже с броневика.
5 мая В. Чернов вошёл в состав Временного правительства,
заняв должность министра земледелия. В крестьян это вселило
надежду на скорое исполнение их давней мечты о земле. Они
верили в своего «селянского министра». Однако В. Чернов мог
только призывать их к «терпению» и «ожиданию
Учредительного собрания». Это отражало настроения всей интеллигенции,
поддержавшей правительство, — от кадетов до социалистов.
Крестьян, конечно, нисколько не устраивали такие лозунги. По
всей стране начала расти волна крестьянских беспорядков: жгли
усадьбы, изгоняли и убивали помещиков.
В июле волнения вспыхнули и в Петрограде. Во время
июльских событий толпа кронштадтских матросов и рабочих
двинулась к Таврическому дворцу. На крыльце они встретили В.
Чернова и окружили плотным кольцом. Произошла символическая
и выразительная сценка. Какой-то рослый рабочий поднёс к
лицу «селянского министра» кулак и с негодованием крикнул
ему: «Принимай власть, сукин сын, коли дают!». В. Чернов ещё
оставался для демонстрантов «своим», но они возмущались, что
он не проводит долгожданных мер.
Чтобы передать В. Чернову и другим
социалистам захваченную власть, матросы, боясь, что
он скроется, насильно посадили его в свой
автомобиль. Освободил министра Лев Троцкий,
заметивший, что «не надо насилия над случайными
людьми». «Гражданин Чернов, Вы свободны», —
объявил он ему.
В. Чернов понимал, что положение в стране
день ото дня становится всё напряжённее.
Поэтому он предлагал сделать некоторые шаги
навстречу крестьянству, не дожидаясь Учредительного
собрания. Для этого, считал он, надо создать
правительство из одних социалистов. В августе,
окончательно убедившись в безуспешности своих
предложений, В. Чернов подал в отставку.
214
ВИКТОР
ЧЕРНОВ
Карикатуры на выступления В. Чернова.
«Из речи Чернова: — Русский народ против большевиков! Русский народ „за нами"...» («Рабочий». 1922 г.)
«По-видимому, большевистский бурун грядёт
неотвратимо, — писал он в конце сентября. — Надо было не упускать,
когда всё шло прямо к нам в руки, а „не удержался за гриву — за
хвост и подавно не удержишься"».
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Виктор Чернов, конечно, категорически не принял Октябрьский
переворот. Тем не менее уже после Октября ему довелось ещё раз
сыграть одну из первых ролей на политической сцене России.
5 января 1918 г. в Таврическом дворце открылось
Всероссийское учредительное собрание. Депутаты избрали Виктора
Чернова своим председателем. Это знаменитое заседание
продолжалось, как известно, только один день (см. ст.
«Учредительное собрание»).
После роспуска Учредительного собрания многие
депутаты покинули столицу и отправились в Самару. Здесь они
создали Комитет членов Учредительного собрания (Комуч), который
взял власть в свои руки. В. Чернов смог присоединиться к своим
товарищам только позже, осенью 1918 г. К этому времени дело
уже неминуемо шло к военному перевороту. Правое
офицерство готовилось «второй раз разогнать» Учредительное собрание.
«Мне не повезло, — вспоминал Чернов, — я смог
перебраться на освобождённую от большевиков территорию лишь к
шапочному разбору и быть свидетелем лишь заключительных
актов этой трагедии». 18 ноября 1918 г. в Омске произошёл
переворот, власть перешла к военному министру адмиралу
Александру Колчаку. «Последний принял титул Всероссийского
верховного правителя. Без пяти минут император... Худшие опасения
мои и моих единомышленников вдруг стали реальностью», —
писал Виктор Михайлович.
ПОСЛЕДНЕЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
ЧЕРНОВА НА РОЛИНЕ
В 1920 г. в Москву приехала
делегация английских рабочих. В Большом
зале консерватории проходила их
встреча с московскими
рабочими-печатниками. «Я решил явиться на это
собрание, попросить слова и публично
рассказать всю правду о
большевиках, — писал Виктор Чернов. — В
самом собрании бояться было нечего.
Настроение печатников было резко
противобольшевистским».
Поднявшись на трибуну, Чернов
произнёс речь, в которой сказал:
«Товарищи, наши гости застают Россию в
момент огромной, мировой важности.
Чтобы найти в летописях что-либо
подобное, нам пришлось бы отойти в
седую даль, к первым векам
христианства, когда оно выступало как религия
обездоленных, идущая на
мученичество... И вот перед глазами изумлённого
мира эта религия подверглась
медленному, но фатальному перерождению.
Она стала господствующей религией,
она отвердела в церковную иерархию,
поднявшуюся из подполья на самую
вершину общественной пирамиды.
Люди, ешё недавно приносившие
обеты нестяжания, нищенства и презрения
к земным благам, постепенно превра-
215
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
шались в людей, упоённых властью и
верными спутниками власти —
богатством, блеском, мишурой и
комфортом, высоко вознесясь над толпой —
по-прежнему голодающей,
холодающей и забитой. Когда-то гонимые
рыцари свободного духа превратились
потом в деспотов, искоренителей ересей,
тюремщиков души и тела. Та же
роковая судьба на наших глазах постигает
и нашу правящую партию...».
В конце речи в зале послышались
возгласы: «Имя, имя оратора!». Чернов
вспоминал: «Мне не хотелось скрывать
от этой явно сочувственной аудитории
своё имя, и я сказал: „Вы хотите знать
моё имя? Я — Чернов". Собравшиеся
сейчас же поднялись, многие
вскочили на стулья, и мне была устроена
такая овация, какой за всю мою жизнь
мне не приходилось переживать».
Англичане засыпали В. Чернова
вопросами, но их остановили словами:
«Скорее, скорее, тут вам не Англия!».
Товарищи помогли Виктору
Михайловичу благополучно скрыться.
Это был один из последних подобных
митингов в советской Москве.
Он считал, что борьбу надо продолжать на два фронта: с
большевиками, с одной стороны, и колчаковцами — с другой. Но
сил на это уже, конечно, не хватало. Зато эсеров арестовывали,
а порой и расстреливали обе стороны — и «белые», и «красные».
В марте 1919 г. В. Чернов вернулся в Советскую Россию. «С
обритой головой и без бороды, в потёртой куртке, я пробрался
в Москву по фальшивым документам», — вспоминал он.
Большевики в это время ненадолго разрешили партию эсеров.
Потом её снова запретили, а многих эсеров арестовали. В
числе арестованных оказались жена Виктора Михайловича и
даже трое его детей (в том числе 11-летняя дочка). Детей,
правда, вскоре отпустили. Как писал Чернов, ему самому
приходилось испытывать в это время поистине «кинематографические
приключения с переодеваниями, гримировкой, побегами,
сыщиками, погоней, прыганьем из окон и т. п.».
В 1920 г. В. Чернов навсегда оставил родину, перейдя
эстонскую границу по фальшивым документам...
В ЭМИГРАЦИИ
Покинув Россию, В. Чернов поселился в Праге. Здесь он
продолжил выпуск эсеровского журнала «Революционная Россия». В
январе 1921 г. участвовал в Парижском совещании депутатов
Учредительного собрания. Это был как бы последний отзвук
Учредительного собрания, где собрались все деятели эпохи Февраля —
от А. Керенского до П. Милюкова.
Однако В. Чернов не утратил надежду возвратиться на
родину. Когда в марте 1921 г. в Кронштадте вспыхнуло восстание
моряков, он отправился в Ревель (Таллинн), откуда приветствовал
восставших. В послании он предложил им свою помощь:
«Сообщите, сколько и чего нужно? Готов прибыть лично и предоставить
на службу народной революции свои силы и свой авторитет».
В годы Второй мировой войны В. Чернов жил во Франции,
где помогал движению Сопротивления. После войны поселился в
Нью-Йорке. Продолжал писать книги о своём видении
социализма, статьи, воспоминания...
Скончался Виктор Михайлович Чернов 15 апреля 1952 г. в
возрасте 78 лет.
«Вандервельде (моя Чернова): — Лаже хвост, и тот не отмывается!..»
Карикатура на защитников эсеров (в том числе Э. Ванлервельде) из числа
запалных социал-демократов во время «процесса эсеров» в Москве в
1922 г. («Рабочий». 1922 г.).
216
ВАСИЛИИ ШУЛЬГИН
(1878—1976)
Жизнь этого человека полна удивительных противоречий.
Решительный враг любой революции — и волей обстоятельств
один из видных деятелей Февраля. Убеждённый монархист — и
человек, принимавший отречение Николая П. Один из вождей
белого движения — и гость XXII съезда КПСС...
МОЛОДЫЕ ГОДЫ
Василий Витальевич Шульгин родился 1 (13) января 1878 г. в
Киеве в семье профессора истории. Его отец был создателем
известной монархической газеты «Киевлянин». Василий
закончил гимназию, затем получил диплом юриста в Киевском
университете.
Сам В. Шульгин утверждал, что окончательно его
политические убеждения сложились в один день, на последнем курсе
университета. «В этот день, — вспоминал он, — я стал „правым",
„консерватором", „националистом", ну словом, тем, что я есть
сейчас...» Что же произошло в тот день? Студенты решили
устроить забастовку протеста против разгона в столице
демонстрации молодёжи. «Я лично ничего не имел против того, —
писал В. Шульгин, — чтобы студенты, которые желающие, вместо
того, чтобы идти в аудитории, гуляли по коридорам. Но когда
„забастовщики", „протестуя против насилия", сами учинили
явное и наглое насилие, вышвырнув из аудитории профессоров и
небастующих студентов, то я возмутился... И я вступил в
яростную борьбу за правду и право, против насилия и лжи».
Василий Шульгин стал писать статьи в газету «Киевлянин»,
которую в то время редактировал его отчим Дмитрий Пихно.
Газета резко выступала против «освободительного движения»,
против революции. 18 октября 1905 г., на следующий день после
подписания царского манифеста, журналисты почувствовали
себя в редакции как в осаждённой крепости. Войска с трудом
удерживали революционную толпу от разгрома газеты.
Через день ситуация полностью изменилась. В Киеве
начались мощные монархические демонстрации и еврейские
погромы. В. Шульгин был, по его собственным словам, убеждённым
антисемитом, но одновременно — решительным противником
погромов. Как младший офицер, во главе отряда солдат он
пытался прекратить эти погромы и грабежи. Из толпы ему
кричали: «Господин офицер, зачем Вы нас гоните?! Мы ведь — за вас!».
А он обратился к участникам беспорядков с речью: «Вы хотите
царским именем прикрыться, ради царя хотите узлы чужим
добром набивать! Возьмёте портреты и пойдёте — впереди царь, а
за царём — грабители и воры. Этого хотите? Так вот заявляю вам:
видит Бог, запалю в вас, если не прекратите гадости...».
217
РЕВОЛЮЦИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОИНА
ВОКРУГ «ДЕЛА БЕЙЛИСА»
В 1913 г. началось знаменитое
судебное «дело Бейлиса». Киевский еврей
Мендель Бейлис обвинялся в убийстве
русского мальчика Андрея
Юшинекого (см. ст. «Черносотенцы»).
Фактически это было обвинение всего
еврейского народа в совершении ритуальных
убийств.
Один из немногих в правом лагере,
Василий Шульгин решительно выступил
в зашиту М. Бейлиса. Это вызвало
растерянность и недоумение
черносотенной печати. Газета «Двуглавый орёл»,
например, сообщала об этом в статье
под заголовком «Продался или сошёл
с ума?».
На третий день процесса, 27 сентября
1913 г., В. Шульгин напечатал в газете
«Киевлянин» передовую статью, в
которой обвинил прокурорскую власть в
предвзятости. Он писал: «Мы не
устанем повторять, что несправедливое
дело не даст желанных плодов. Не
устанем повторять, что суд не должен
быть орудием ни левых, ни правых, а
должен быть просто судом — тем
прибежищем, где можно найти зашиту
против несправедливостей,
продиктованных политической страстью». Тираж
газеты изъяла полиция. Более того,
В. Шульгина судили за эту статью и
приговорили к трём месяцам тюрьмы...
Позднее Шульгин красочно описывал
встречу с одним стариком-евреем,
которая состоялась в 1914 г.: «Вошёл
старик с белой бородой. Он был
необычайно красив — красотой патриарха.
— Я хочу, чтобы вы знали... Есть у нас,
евреев, такой, как у вас, митрополит.
Нет, больше! Он на целый свет. Так он
приказал... Назначил день и час... По
всему свету! И по всему свету, где
только есть евреи, что веруют в Бога,
в этот день и час они молились за
вас! — И добавил: — Такую молитву
Бог слышит!
Когда я иногда бываю очень беден, я
говорю себе: „Ты богат. За тебя
молились во всём мире...". И мне легко».
Казалось, эти слова возымели своё действие, но тут из
соседнего дома, где жили евреи, стали стрелять по толпе.
Разъярённые люди ринулись на приступ... В. Шульгин вспоминал:
«Я решился на последнее:
— По наступающей толпе... пальба... взводом!
Наступила критическая минута. Если бы они двинулись, я
бы запалил. Непонятным образом они это поняли. И
остановились». Однако толпа ждала «правосудия» — ареста тех, кто
стрелял. В. Шульгин вошёл в дом, из которого прозвучали выстрелы.
Здесь были только старики, женщины, дети... Для успокоения
толпы требовалось кого-то арестовать. «Внезапно я решился, —
писал Шульгин. — „Из этого дома стреляли. Я арестую десять
человек Выберите сами..." Раздался неожиданный ответ: „Ваше
благородие, сделайте милость — арестуйте всех...". Я понял: за
стеной ждёт толпа. Её рёв минутами переплёскивает сюда. Что
может быть страшнее толпы? Не в тысячу ли раз лучше под
защитой штыков, хотя бы и в качестве арестованных?»
К этой мысли — неприязни к толпе, будь она
черносотенная или революционная, — В. Шульгин в своих воспоминаниях
возвращался ещё не раз...
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
С 1907 г, Василий Шульгин целикол^носвятил себя политиче-
ско^деятельности. Он стал депутатом II ГосударствённШ~думы
и примкнул в ней к националистам. Новый правый депутат
сразу привлёк к себе общее внимание. Изысканно вежливый, он
говорил тихим, глуховатым голосом. Но его речи — ехидные,
едкие, ироничные — приводили в возмущение и левых депутатов,
и революционную печать. Выступал В. Шульгин, как
признавали даже его противники, с необычайной искренностью.
В. Шульгин горячо приветствовал роспуск II Думы, которую
называл «думой народного гнева и невежества» (см. ст.
«Революция 1905—1907 годов»). В Ш Думе Шульгин был твёрдым-сто-
ронником Петра Столыпина и его реформ. Позднее, вспоминая
то время, Василий Витальевич писал: «Нашёлся Столыпин —
предтеча Муссолини. Черпая силы в сознании моральной своей
правоты, Столыпин раздавил первую русскую революцию...».
С думской трибуны В. Шульгин отстаивал суровые мерьпзла-
стей по «наведению порядка». В частности, он не раз выступал в
защиту смертной казни. Когда оппозиция возмущалась, что в
военно-полевых судах у подсудимых нет защитников, он спрашивал:
«Есть ли защитники в подпольных судилищах, по приговорам
которых растерзывают бомбами министров на улицах и площадях?».
Николай II тоже обратил внимание на молодого
красноречивого депутата. В 1909 г. после горячей речи В. Шульгина
против отмены смертной казни царь на приёме сказал ему: «Мы
только что за завтраком прочли с императрицей Вашу
вчерашнюю речь в Государственной думе... Благодарю Вас. Вы
говорили так, как должен говорить человек истинно русский...».
218
ВАСИЛИЙ
ШУЛЬГИН
В ПРОГРЕССИВНОМ БЛОКЕ
Когда началась Первая мировая война, В. Шульгин отправился
добровольцем на фронт. «Самое счастливое время моей жизни
было на войне», — замечал он. В одной из атак Василий
Витальевич получил ранение. Шульгина потрясло отступление русской
армии в 1915 г., когда войскам катастрофически не хватало
снарядов. «Я приехал в Петроград, — вспоминал он. — Я чувствовал
себя представителем армии, которая умирала так безропотно,
так задаром, и в ушах у меня звучало: „Пришлите нам снарядов!"».
В Государственную думу В. Шульгин вернулся убеждённым
в полной бездарности и непригодности правительства. Он
встретился со своим давним политическим врагом, кадетом
Павлом Милюковым. Во время этой беседы бывшие противники
обсуждали радею Прогрессивного блока.
В этот блок в 1915 г. объединилось большинство депутатов
Государственной думы — от кадетов до части националистов.
Главной задачей блока являлось создание нового правительства,
ответственного перед Думой. 3 ноября 1916 г. В. Шульгин так объяснял
в своей речи, что его толкнуло на этот путь: «Мы будем бороться с
этой властью, чтобы армия могла спокойно делать своё дело на
фронте, а рабочие у станков могли спокойно подавать фронту
снаряды. Мы будем говорить, чтобы страна молчала...».
Василий Витальевич считал, что усилия блока позволили
отсрочить революцию по меньшей мере на год. «Удалось
перевести накипавшую революционную энергию в слова, в
пламенные речи, — отмечал он. — Удалось подменить „революцию", то
есть кровь и разрушение, „резолюцией", то есть словесным
выговором правительству...»
Однако так или иначе, Прогрессивный блок боролся с
властью и тем самым не только тушил, но и разжигал революцию.
В феврале 1917 г. она всё-таки разразилась. И в апреле В.
Шульгин признавал: «Даже не желая того, мы революцию творили.
Нам от этой революции не отречься, мы с ней связались и
несём за это моральную ответственность...».
В ДНИ ФЕВРАЛЯ
27 февраля 1917 г. в Таврический дворец, где заседала Дума,
хлынула революционная толпа. Для В. Шульгина это событие стало
настоящим символом Февраля.
^ Свои чувства он передал в знаменитых строках: «Солдаты,
рабочие, студенты, интеллигенты, просто люди... Живым, вязким
человеческим повидлом они залили растерянный Таврический
дворец. С первого же мгновения этого потопа отвращение
залило мою душу. Бесконечная, неисчерпаемая струя
человеческого водопровода бросала в Думу всё новые и новые лица... Но
сколько их ни было — у всех было одно лицо: гнусно-животно-
тупое или гнусно-дьявольски-злобное... Боже, как это было
гадко! Так гадко, что, стиснув зубы, я чувствовал в себе одно
тоскующее, бессильное и потому ещё более злобное бешенство... Пуле-
ШУДЬГИН И ОТРЕЧЕНИЕ
НИКОЛАЯ II И МИХАИЛА
2 марта 1917 г. вместе с А. Гучковым
В. Шульгин отправился в Псков, где
находился Николай II. Василий
Витальевич вспоминал, что перед встречей с
царём его мучила «глупая мысль»:
неловко было появляться перед государем не
во фраке, а в пиджаке и к тому же в
неотглаженном воротничке. Кроме
того, он уже четыре дня не мог
побриться и, по его собственным словам, имел
«лицо каторжника, выпушенного из
только что сожжённых тюрем». Так
В. Шульгин принял отречение Николая
(см. ст. «Февральская революция»).
Вернувшись на следуюший день в
Петроград, он первый прямо на вокзале
прочитал войскам и толпе текст
отречения. Сам В. Шульгин так описывал эту
сиену: «Стало так тихо, как, кажется,
никогда ешё... Слова падали... И сами
по себе они были — как это сказать? —
вековым волнением волнующие... А
тут... Перед строем, перед этой толпой,
испуганной, благоговейно затихшей,
они звучали неповторяемо... Я поднял
глаза от бумаги. И увидел, как
дрогнули штыки, как будто ветер дохнул по
колосьям... Прямо против меня молодой
солдат плакал. Слёзы двумя струйками
бежали по румяным щекам...».
В. Шульгин обратился к народу: «Вы
слышали слова государя? Последние
слова императора Николая Второго?
Он подал пример нам всем, как нужно
уметь забывать себя для России... Как
быть едиными? Только один путь —
всем собраться вокруг нового царя.
Государю императору Михаилу
Второму провозглашаю — „ура!"». И в ответ
над толпой раздалось горячее и
взволнованное „ура!". «И показалось мне
на одно мгновение, — добавлял
Шульгин, — что монархия спасена...»
Но в тот же день ему пришлось
присутствовать при отречении Михаила.
«Великий князь внушал мне личную
симпатию, — замечал В. Шульгин. — Он был
хрупкий, нежный, рождённый не для
таких ужасных минут, но он был
искренний и человечный. На нём совсем
не было маски. И мне думалось: „Каким
. хорошим конституционным монархом
он был бы...". Увы... В соседней
комнате писали отречение династии».
219
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОИНА
ШУЛЬГИН О «ТИХОМ ПОГРОМЕ*
В октябре 1919 г. Добровольческая
армия, незадолго до того выбитая из
Киева, во второй раз вошла в город.
После этого в Киеве вспыхнули
еврейские погромы, названные «тихими». По
словам В. Шульгина, погромшики «не
убивали, но грабили; вероятно,
издевались».
«По злой иронии судьбы, — замечал
он, — этот тихий погром был как раз
оглушительный». 8 (21) октября 1919 г.
в своей нашумевшей статье «Пытка
страхом», опубликованной в газете
«Киевлянин», В. Шульгин дал яркую
картину «тихого погрома»:
«По ночам на улицах Киева наступает
средневековая жуть. Среди мёртвой
тишины и безлюдья вдруг начинаются
душераздирающие вопли. Это кричат
„жиды". Кричат от страха. В темноте
улииы где-нибудь появится кучка
пробирающихся „людей со штыками", и,
завидев их, огромные пятиэтажные
дома начинают выть сверху донизу,
иелые улицы, охваченные
смертельным страхом, кричат нечеловеческими
голосами, дрожа за жизнь... Это
подлинный ужас, настоящая „пытка
страхом", которой подвержено всё
еврейское население».
После этого В. Шульгин излагал свой
взгляд на происходящее: «Власть,
помётов — вот чего мне хотелось. Ибо я чувствовал, что только язык
пулемётов доступен уличной толпе и что только он, свинец,
может загнать обратно в его берлогу вырвавшегося на свободу
страшного зверя... Увы — этот зверь был... его величество русский
народ».
Но и теперь требовалось что-то делать, «спасать то, что
можно спасти». «Если подавить бунт можно, то и слава Богу, —
размышлял Василий Витальевич. — Николай I повесил пять
декабристов, но если Николай И расстреляет 50 тысяч „февралистов",
то это будет задёшево купленное спасение России. Но если не
удастся?» В. Шульгин вошёл во Временный комитет Думы.
Фактически он и другие депутаты возглавили революцию,
попытавшись «ввести её в берега».
В. Шульгину пришлось даже съездить на_агшэмобиле под
красным флагом в Петропавловскую крепость. Толпа собралась
штурмовать крепость, и требовалось уладить дело миром.
Шульгину это удалось. «Это, кажется, единственное дело, которым я
могу гордиться», — замечал он. Василий Витальевич произнёс
речь перед солдатами крепостного гарнизона, и в ответ ему
раздалось: «Ура товарищу Шульгину!».
В 1917 ГОДУ
После Февраля В.Л1ульгин, по его признанию, «изо всех сил»
поддерживал Временное правительство. Он надеялся, что новая
власть сможет стать сильной, продолжит войну и сохранит
государство. Но его возмущала слабость правительства. В конце
апреля Василий Витальевич едко пошутил над положением,
когда «старая власть сидит в Петропавловской крепости, а новая —
под домашним арестом». К Временному правительству, по
словам В. Шульгина, «как бы поставлен часовой, которому сказано:
„Смотри, они буржуи, а поэтому зорко следи за ними и в случае
чего — знай службу"». Тогда же он обратился к социалистам с
призывом: «Мы предпочитаем быть нищими, но нищими в
своей стране. Если вы можете нам сохранить эту страну и спасти
её, раздевайте нас, мы об этом плакать не будем».
В августе В. Шульгин вновь повторил: «Я хочу, чтобы ваша
власть была действительно сильной, действительно
неограниченной». Но к началу сентября, после «корниловщины», стало
ясно, что этим надеждам не суждено сбыться. В октябре онлте-
реехал в Киев.
УЧАСТНИК БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ
В феврале 1918 г. в Киев вступила германская армия. В. Шульгин
после этого прекратил выпуск газеты «Киевлянин», считая
позором пользоваться защитой противника. В последнем номере
газеты он писал: «Так как мы немцев не звали, то мы не хотим
пользоваться благами некоторой политической свободы,
которые немцы нам принесли. Мы всегда были честными противни-
220
ВАСИЛИЙ
ШУЛЬГИН
ками. И своим принципам не изменим. Пришедшим в наш
город немцам мы это говорим открыто и прямо. Мы — ваши
враги. Вашими друзьями мы не будем до тех пор, пока идёт война».
С августа^918 г. В. Шульгинхтал одним из видных
идеологов белого движенияТТенералов он убеждал решительно встать
гтод^юнархйческий флаг. В то же время он сожалел, что они
«предоставили полный простор и свободу чёрной прессе
Шульгина... а левую серьёзную печать преследовали» и что они не
пошли навстречу крестьянам в земельном вопросе.
С горечью и болью В. Шульгин наблюдал постепенное
разложение белого движения. «Я помню, — писал он, — какое сильное
впечатление произвело на меня, когда я в первый раз услышал
знаменитое выражение: „От благодарного населения...". Это был
хорошенький мальчик, лет 17—18. На нём был новенький
полушубок Кто-то спросил его: „Петрик, откуда это у Вас?". Он ответил:
„От благодарного населения, конечно". И все засмеялись...»
В своих воспоминаниях В. Шульгин вынес бывшим
товарищам по оружию знаменитый приговор: «Белое дело было
начато почти что святыми, а кончили его почти что разбойники».
В ЭМИГРАЦИИ
В ходе гражданской войны В. Шульгину пришлось пережить
немало превратностей судьбы. Он попадал в руки «красных»,
чудом избегая расстрела; вёл подпольную борьбу на советской
территории. Здесь он руководил «Азбукой» — тайной
разведывательной организацией. После разгрома белых армий В.
Шульгин покинул Россию.
В эмиграции Василий Витальевич подвёл некоторые итоги
поражению «белого дела». В своей книге «1920» он сделал
неожиданно оптимистические выводы. По его мнению, если «красные»
и победили, то лишь потому, что стали отчасти... «белыми».
Прежде всего белогвардейцы заставили рос перестроить Красную армию
по образцу старой русской армии. «Какова была Красная Армия
три года тому назад? — спрашивал В. Шульгин. — Комитеты,
митинги, сознательная дисциплина — всякий вздор. А теперь, когда
мы уходили из Крыма? Это была армия, построенная так же, как
армии всего мира... как наша». В этом он видел первую победу
белого движения. Затем В. Шульгин задавался вопросом — быть
может, «красным только кажется, что они сражаются во славу
„Интернационала"? На самом же деле, хотя и бессознательно, они льют
кровь только для того, чтобы восстановить Богохранимую
Державу Российскую? Если это так, то Белая Мысль, прокравшись через
фронт, покорила их под сознанье... Мы победили».
В_192^==Л92б_тг1В. Шульгин тайно побывал в Советском
Союзе. Об этой поездке Василий Витальевич подробно расска-
зал!Гсвоей книге «Три столицы».
Находясь в эмиграции, Василий Шульгин большую часть
времени прощтлзЛОгославии, с 1937 г. отойдя от политической
деятельности.
скольку это в её силах, борется за то,
чтобы не допустить убийств и
грабежей. Русское же население,
прислушиваясь к ужасным воплям, исторгнутым
„пыткою страхом", думает о том,
научатся ли в эти страшные ночи чему-
нибудь евреи. Поймут ли они, что
значит разрушать государства, не ими
созданные? Поймут ли они, что значит
добывать равноправие какой угодно
иеной? Поймут ли они, что значит по
рецепту „великого учителя" Карла
Маркса натравливать класс на класс?».
Статья быстро стала известна едва ли
не во всём мире и вызвала широкое
возмущение. Её рассматривали и
позже часто приводили как пример
«поэзии погрома».
Впрочем, В. Шульгин и до публикации
этой статьи считал, что евреи
принимают слишком деятельное,
«несоответственное своей численности» участие
в русской революции. Он полагал, что
именно поэтому они несут за неё
особую ответственность. В то же время,
ешё выступая в IV Думе, Шульгин
заметил, что «любая революция в России
пройдёт по еврейским трупам»...
221
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
«ТРИ СТОЛИЦЫ»
В 1925—1926 гг. В. Шульгин совершил
свою знаменитую тайную поездку на
родину, которую описал в книге «Три
столицы». Перейти границу ему
помогла таинственная антисоветская
организация «Трест». Спустя год чекисты
объявили её «легендой», специально
созданной ОГПУ. Получалось, что ОГПУ
помогло В. Шульгину побывать в СССР
и благополучно вернуться за границу.
Журналист М. Кольцов писал об этом в
очерке «Дворянин на родине»: «Мы не
очень возражаем против того, что
посланец русского дворянского класса
безнаказанно для себя совершил свой
путь на родину и обратно, в изгнание.
Что он увидел? О чём рассказал? Жизнь
„чуть похуже, чем раньше". Иными
словами, весьма соблазнительная для
эмигрантов...». Действительно, Шульгин
подробно описал вполне
благополучную жизнь советского общества эпохи
нэпа. Рассказывая о «мелочах жизни»,
он повторял: «Всё, как было, только
похуже». И в его устах такая оценка
звучала почти похвалой.
Впрочем, любые приметы новой
идеологии вызывали у него непреодолимую
враждебность. Это подтверждает,
например, такой характерный отрывок: «Я взял
к Михайловскому монастырю. Вот
знакомые, старого, волнующего рисунка
ворота в Михайловское подворье. Над
воротами, где раньше была икона, в рамке
сосновых ветвей торчит богомерзкая
рожа Ленина. Тьфу! За эти штучки
заплатите вы, господа хорошие!».
«Въезжая в Россию, — писал В.
Шульгин, — я как бы входил в комнату
тяжело больной. Что? Умерла? Жива?
Потише говорите... Я думал, что еду в
умершую страну, а вижу пробуждение
мошного народа». Он побывал в
Киеве, Москве, Ленинграде. Повсюду
находил подтверждения своим выводам
о том, что «Белая Мысль победила».
Его порадовала, например, надпись на
здании: «Музей Революции», и он
размышлял: «Это хорошо. Когда
революция переходите музеи, это значит, что
на улице... контрреволюция».
Вернувшись из поездки, он подытожил свои
впечатления «в двух словах»: «Когда
я шёл туда, у меня не было родины.
Сейчас она у меня есть».
ВНОВЬ НА РОДИНЕ
В 1944 г. в Югославию, где проживал В. Шульгин, вступила
Красная армия. Советские власти арестовали Василия Витальевича и
препроводили его в Москву. Здесь за 30-летнюю (1907—1937 гг.)
«враждебную коммунизму и антисоветскую деятельность» его
приговорили к 25 годам заключения.
Свой срок В. Шульгин отбывал во Владимирской тюрьме.
Его биограф, писатель Дмитрий Жуков, замечал, что
сохранилось «более сотни тетрадей с записями снов, которые он делал
во Владимирской тюрьме. В пояснениях к снам талантливо
описаны встречи с Буниным, Северянином, Волошиным,
Шаляпиным, громадным числом политических и иных деятелей».
В 1956 г., во время общей политической амнистии,
Василий Витальевич вышел на свободу. Он с гордостью
подчёркивал, что «никто его не миловал, и он не просил о помиловании.
Помилованный и принёсший покаяние Шульгин не стоил бы и
ломаного гроша и мог бы вызывать только презрительное
сожаление».
После освобождения В. Шульгин поселился во Владимире.
В 1961 г. опубликовал «Письма к русским эмигрантам», в
которых развил мысли, впервые прозвучавшие в его прежних
произведениях. Ещё в книге «1920» он допускал, что «России
суждено возродиться через Безумие Красных». Теперь он считал, что
коммунисты окончательно превратились из разрушителей
Российского государства в его защитников... «С тем, что мы считали
злом, мы боролись. Но если зло явственно переменило своё
место? Неужели мы будем колотить по-прежнему по
пространству, которое как-никак наша Родина?» «Я не стал коммунистом, —
добавлял В. Шульгин. — Наоборот, мне приходится спорить с
коммунистами, и даже иногда ожесточённо. Я — мистик
Мистицизм плохо совместим с материализмом».
Василий Витальевич подробно описывал свою жизнь в
СССР, например посещение московского балета. И делал при
этом такое сравнение: «Девушки и молодые люди (хор) с
великим подъёмом и силой восклицали: „Россия, Россия, Россия —
родина моя!". Скажу честно, что интеллигенция моего времени,
то есть до революции, за исключением небольшой группы
людей, слушала бы это с насмешливой улыбкой. Да, тогда
восхищаться родиной было не в моде; не кто иной, как я сам, очень
скорбел об этом».
В 1965 г. В. Шульгин снялся в документальном фильме
«Перед судом истории». В нём он беседовал с советским историком,
делился пережитым. Василий Витальевич вёл свой рассказ из
Екатерининского зала Таврического дворца, где некогда
заседала Государственная дума. Как 50 лет назад, он сидел в своём
привычном кресле в правом ряду... Снимался Шульгин и в
салон-вагоне, где когда-то принимал отречение Николая II. Д. Жуков
вспоминал о том, какое впечатление производил фильм: «С
самого появления В. Шульгина на экране в зале наступила
напряжённая тишина. Зрители, казалось, боялись упустить хотя бы
222
единое слово, сказанное обманчиво тихо». Фильм недолго шёл
на экранах кинотеатров: вскоре его прекратили показывать.
В. Шульгин написал книгу воспоминаний «Годы»,
увидевшую свет спустя три года после его смерти.
15 февраля 1976 г. Василий Витальевич Шульгин
скончался в возрасте 98 лет.
октябрьский переворот
РЕШЕНИЕ О ВОССТАНИИ
10 октября 1917 г. на квартире меньшевика Н. Суханова
собралось заседание Центрального Комитета партии большевиков.
Присутствующие обсуждали вопрос о взятии власти путём
вооружённого восстания.
Горячим сторонником восстания выступил В. Ленин. Он
ещё 29 сентября в письме угрожал ЦК отставкой, если не будет
принято решение о восстании. В тот момент многие
руководители партии ещё далеко не были готовы к столь серьёзному
решению. Как вспоминал Н. Бухарин, ЦК единогласно постановил
это письмо сжечь.
Против восстания выступили Г. Зиновьев и Л. Каменев. На
следующий день в секретном письме к партии они так
объяснили свою позицию: «Шансы нашей партии на выборах в
Учредительное собрание превосходны. Мы можем получить треть, а то
и больше мест. Говорят, за нас уже большинство народа в
России и за нас большинство международного пролетариата. Увы!
Ни то ни другое не верно, и в этом всё дело. Мы не имеем права
ставить теперь на карту вооружённого восстания всё будущее».
За резолюцию В. Ленина было подано десять голосов,
против — два голоса (Зиновьева и Каменева). В ней говорилось:
«Признавая, что вооружённое восстание неизбежно и вполне
назрело, ЦК предлагает всем организациям партии
руководиться этим».
Сведения об этом решении просочились в печать. Каменев
18 октября опубликовал в газете «Новая жизнь» запутанное
опровержение. Он писал, что решения о восстании не было. «Не
только я и тов. Зиновьев, — добавлял он, — но и ряд товарищей-
практиков находят, что взять на себя инициативу
вооружённого восстания в настоящий момент было бы недопустимым,
гибельным для революции шагом». Ленин назвал эту публикацию
«изменой». Однако дальнейшее бурное развитие событий
отодвинуло эти обвинения на второй план.
Л. Каменев.
Г. Зиновьев.
223
Л. Троцкий.
Военный патруль у Гостиного лвора.
Петроград. 1917 г.
НАЧАЛО ВОССТАНИЯ
Через несколько дней после решения большевиков о восстании,
16 октября, Петросовет создал Военно-революционный
комитет, в который вошли левые эсеры и большевики. Этот комитет
стал вполне легальным штабом готовящегося восстания.
Основной силой восстания выступила Красная гвардия — тоже
вполне легальное войско Петросовета численностью около 20 тыс.
солдат.
Само восстание в Петрограде началось в ночь на 25
октября. Правительство неожиданно выяснило, что в городе совсем
нет верных ему войск. В поддержке отказали даже казаки.
Только юнкера ещё сохраняли верность правительству. Узнав о
таком положении дел, А. Керенский утром 25 октября покинул
столицу — отправился за подкреплением.
Тем временем восстание в Петрограде развивалось.
Правда, воевать не хотелось никому. Отряды Красной гвардии
постепенно мирно занимали мосты, вокзалы, другие важные точки
города. Всё это происходило почти без единого выстрела. Кое-где
юнкера возвращались и прогоняли красногвардейцев — тоже
бескровно. Однако шаг за шагом, «ползучим путём» власть в
городе менялась.
Во время переворота Петроград продолжал жить своей
обычной мирной жизнью. Шли уроки в школах, работали
фабрики, магазины и рестораны. По городу продолжали спокойно
ходить ярко освещенные трамваи. Давали представления
театры. Публика гуляла по Невскому и толпилась возле
электрических вывесок кинематографов.
Л. Троцкий писал о спокойствии, царившем в городе 25
октября: «Буржуазные классы ждали баррикад, пламени пожаров,
грабежей, потоков крови. На самом деле царила тишина, более
страшная, чем все грохоты мира. Бесшумно передвигалась
социальная почва, точно вращающаяся сцена... унося вчерашних
господ в преисподнюю».
ВЗЯТИЕ ЗИМНЕГО ДВОРЦА
В ночь на 26 октября произошло взятие Зимнего дворца, где
заседало Временное правительство. В 21 час 45 минут раздался
холостой пушечный выстрел крейсера «Аврора». Вслед за этим по
Зимнему стала стрелять артиллерия Петропавловской крепости.
Из 35 снарядов во дворец попали только два, но без особых
последствий.
Защищали Зимний несколько сот юнкеров и около 130
женщин из «батальона смерти». (Такие женские «батальоны смерти»
были созданы летом, главным образом для того, чтобы
пристыдить мужчин, не желавших воевать.)
Как и в начале восстания, никто не хотел сражаться.
Поэтому «штурм Зимнего» происходил необычно. Задние двери
дворца не охранялись, и через них свободно проходили повстанцы.
224
Остановить их пытались только швейцары и служители в
пышных ливреях, по привычке восклицавшие: «Нельзя! Нельзя!».
Повстанцы входили в здание и... сдавались юнкерам. К двум часам
ночи таких пленников было уже около 400 — почти столько же,
сколько и юнкеров. Один из них рассказывал Джону Риду: «На
верхней площадке юнкера задерживали всех и отнимали
винтовки. Но наши ребята всё подходили да подходили, пока нас
не стало больше. Тогда мы кинулись на юнкеров и отобрали
винтовки у них...».
Министр юстиции Павел Малянтович вспоминал о
последних минутах Временного правительства: «Вдруг возник шум где-
то и сразу стал расти, шириться и приближаться, и в его звуках
сразу зазвучало что-то особенное — что-то окончательное. Дверь
распахнулась... Вскочил юнкер. Вытянулся во фронт, руку под
козырёк, лицо взволнованное, но решительное:
— Как прикажете, Временное правительство? Защищаться
до последнего человека? Мы готовы, если прикажет Временное
правительство.
— Этого не надо! Это бесцельно! Это же ясно! Не надо
крови! Надо сдаваться! — закричали мы все, не сговариваясь, а
только переглядываясь и встречая друг у друга одно
и то же чувство и решение в глазах.
Вся сцена длилась, я думаю, не больше
минуты. Шум у нашей двери. Она распахнулась — и в
комнату влетел, как щепка, вброшенная к нам
волной, маленький человечек под напором толпы,
которая за ним влилась в комнату и, как вода,
разлилась сразу по всем углам и заполнила комнату.
— Временное правительство здесь, —
сказал Коновалов, продолжая сидеть. — Что вам
угодно?
— Объявляю всем вам, членам Временного
правительства, что вы арестованы. Я
представитель Военно-революционного комитета
Антонов».
Служители Зимнего лвориа пытаются
остановить красногвардейцев
(в ночь на 26 октября 1917 г.).
Крейсер «Аврора». 1917 г.
225
РЕВОЛЮЦИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОИНА
"
-ZJ
ша - %^^ ilk
Проверка мандатов при вхоле
в Смольный. Петроград. 1917 г.
А. Самохвалов. «Появление В. И. Ленина
на II Всероссийском съезде Советов». 1940 г.
;
\
V
>:- С
'<&3%<*
В 2 часа 30 минут ночи
арестованных министров
отправили в Петропавловскую
крепость. Толпа солдат была не
прочь учинить над ними
самосуд, но от расправы их защитил
Антонов-Овсеенко.
Взятие Зимнего прошло
почти бескровно. Со стороны
нападавших погибло шесть
человек Со стороны защитников —
ни одного. В штабе восстания в
Смольном радовались лёгкой и
бескровной победе. В. Ленин на
это заметил: «Не радуйтесь, будет
ещё очень много крови. У кого
нервы слабые, пусть лучше
сейчас уходит из ЦК».
II СЪЕЗД СОВЕТОВ
За несколько часов до взятия
Зимнего открылся II съезд
Советов рабочих и солдатских
депутатов. Большинство
делегатов съезда составляли
большевики (338 из 648) и
сочувствующие им.
Начало съезда проходило
под непрерывный гром пушек,
обстреливавших Зимний
дворец. Открыл съезд меньшевик
Фёдор Дан. Как вспоминал
очевидец событий Джон Рид, Дан
печально произнёс: «Власть в
наших руках...».
«Он остановился на
мгновение и тихо продолжал: „...Я
являюсь членом президиума
ЦИК, а в это время наши
партийные товарищи находятся в
Зимнем дворце под обстрелом,
самоотверженно выполняя
свой долг министров,
возложенный на них ЦИК..."».
Меньшевик Юлий Мартов
предложил создать
правительство из всех социалистических
Комната, где было арестовано
Временное правительство.
(Малая столовая. Зимний дворец.) ►
226
ОКТЯБРЬСКИЙ
ПЕРЕВОРОТ
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
to вот» • ртшйгап Кяшт iy pwmxm Ccrtrt
Рйснш i Сишгсгаъ Ддошъ.
Къ Гражданамъ PocciH.
ЮЙ
ши мип щрпш in руга оргш
сгоящаго
И глатЬПетроградеваго пристава в гаршова.
№и за которое боош паю: вднп сред-
юейе щщтш щ ratoa поиШвчье!
ийлшшвазадрМшдавдьошшд-
ин% сад! Совгош Пршгаыпи - это
ДАИДОШРШЩРШД СОЩТЬ
Листовка ВРК. 25 октября 1917 г.
Демонстрация в поддержку Советской
власти. Петроград. 17 декабря 1917 г.
партий. Это предложение было поставлено на голосование и
единогласно принято под громкие аплодисменты.
Но вслед за этим представители меньшевиков и эсеров
заявили, что протестуют против захвата власти большевиками за
спиной других социалистических партий. Из-за этого они не
могут оставаться на съезде и покидают его. Часть меньшевиков и
эсеров — около полусотни — поднялась с мест и стала выходить
из зала. В зале разыгралась настоящая буря возмущения и
протеста. «Дезертиры! Идите к Корнилову!» — раздавалось им вслед. Как
вспоминал большевик Александр Спундэ, «было внутренне
тяжело видеть, что люди, бывшие ещё недавно нашими товарищами в
борьбе с царизмом, уходят из блещущего огнями Смольного в
тёмный, скупо освещенный город». Лев Троцкий под аплодисменты
зала заявил: «Восстание народных масс не нуждается в
оправдании. Тем, кто отсюда ушёл, мы должны сказать: „Вы — жалкие
единицы, вы банкроты, ваша роль сыграна, и отправляйтесь туда,
где вам отныне надлежит быть: в сорную корзину истории!"».
В пять часов утра съезд (при двух голосах против и
двенадцати воздержавшихся) принял обращение, в котором
говорилось, что «съезд берёт власть в свои руки».
ПЕРВЫЕ ДЕКРЕТЫ
Своим первым постановлением после взятия власти Второй
съезд отменил смертную казнь на фронте. Тем самым смертная
казнь в России окончательно упразднялась (в тылу она была
отменена ещё раньше).
Вечером 26 октября съезд принял Декрет о мире. В нём всем
воюющим странам предлагалось заключить немедленное
перемирие и начать переговоры о всеобщем «справедливом мире» (см. ст.
«Россия в Первой мировой войне»). Джон Рид вспоминал об этом:
«Один из делегатов попробовал было поднять руку против, но
вокруг него разразился такой взрыв негодования, что он поспешно
опустил руку... Принято единогласно. „Конец войне! Конец
войне!" — радостно улыбаясь, говорил мой сосед, молодой рабочий».
Группа красногвардейцев. Петроград. 1917 г.
228
ОКТЯБРЬСКИЙ
ПЕРЕВОРОТ
Вслед за этим съезд (при одном голосе против и восьми
воздержавшихся) принял Декрет о земле. Ничего общего с
земельной программой большевиков декрет не имел. Зато он отражал
программу эсеров и требования самих крестьян.
В. Ленин сказал об этом: «Здесь раздаются голоса, что декрет
составлен социалистами-революционерами. Пусть так. Не всё ли
равно, кем он составлен, но, как демократическое правительство,
мы не можем обойти постановление народных низов, хотя бы мы
с ним были не согласны». Как писал Д. Рид, после принятия
декрета «крестьянские делегаты были в неистовом восторге».
СОВНАРКОМ
После Октября возник вопрос, как назвать новое
правительство: «Совет министров» или «Временное правительство»? Л.
Троцкий предложил — «Совет народных комиссаров» (Совнарком).
В. Ленин сразу подхватил: «Это пахнет революцией!».
В ночь на 27 октября съезд Советов утвердил состав
первого советского правительства. В него вошли только большевики —
15 человек во главе с Лениным.
Борьба вокруг партийного состава правительства кипела
ещё около полутора месяцев. Левые эсеры добивались создания
правительства из всех социалистов: меньшевиков, эсеров и т. д.
Их поддержал и ряд видных большевиков — Каменев, Зиновьев,
пять наркомов (Алексей Рыков, Александр Шляпников и др.).
4 ноября в знак поддержки этого требования почти все они
вышли из состава ЦК и правительства.
«Бегство кучки трусов вызвало ликование врагов» — так
позднее говорилось об этом в сталинском «Кратком курсе
истории ВКП(б)».
Только 10 декабря левые эсеры согласились войти в
Совнарком без других социалистов. Они получили семь портфелей,
в том числе наркомов земледелия и юстиции.
Теперь советское правительство стало двухпартийным.
ПЕЧАТЬ ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ
Уже на следующий день после своей победы большевики
закрыли ряд газет — от «Биржевых ведомостей» и кадетской «Речи» до
социалистического «Дня». В Декрете о печати говорилось, что
печать — не менее опасное оружие в руках врага, «чем бомбы и
пулемёты». «Как только новый порядок упрочится, — обещал
декрет, — всякие административные воздействия на печать будут
прекращены».
Против ограничений свободы печати горячо возражали
левые эсеры и часть большевиков. Левый эсер Прош Прошьян
говорил, что это «яркое выражение системы политического
террора и разжигания гражданской войны».
Почти все закрытые издания продолжали выходить, только
слегка изменив названия. «День», например, после одного запрета
превратился в «Ночь», а после другого выходил даже под названием
1
Демонстрация на Марсовом поле.
Петроград. 17 декабря 1917 г.
ОБСТРЕЛ КРЕМЛЯ
Во время боёв в Москве
красногвардейцы начали обстреливать Кремль из
орудий, чтобы отбить его у юнкеров.
Народный комиссар просвешения
Анатолий Луначарский, узнав об обстреле
Кремля, 2 ноября подал в отставку. В
заявлении для печати он писал:
«Собор Василия Блаженного, Успенский
собор разрушаются. Кремль
бомбардируется. Жертв тысячи. Борьба
ожесточается до звериной злобы. Куда идти
дальше? Вынести этого я не могу.
Остановить этот ужас я бессилен. Вот
почему я выхожу в отставку из Совета
Народных Комиссаров».
В результате обстрела были сильно
повреждены кремлёвские башни и храмы.
Писатель Герберт Уэллс, посетивший
Россию в 1920 г., замечал: «Один из
куполов нелепого собора Василия
Блаженного, что стоит у самых ворот Кремля,
разворочен снарядом и до сих пор не
восстановлен». Снаряд заставил
замолчать Кремлёвские куранты. В их
циферблате осталась большая пробоина.
В августе 1918 г. главные часы
российского государства пошли вновь. Теперь
вместо «Коль славен» они играли
«Интернационал» и «Вы жертвою пали».
Позднее, при Сталине, эта музыка
снова сменилась на патриотическую.
229
РЕВОЛЮЦИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
Восставшие в Петрограде, захватившие
броневик войск Временного
правительства. Октябрь 1917 г.
«В глухую ночь». До середины 1918 г. газеты эсеров и
меньшевиков продолжали выходить более или менее свободно.
«ТРИУМФАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ»
Общество достаточно спокойно отнеслось к Октябрю. Казалось,
всего лишь одна временная власть сменила другую. Да и само
правительство называло себя «временным» до созыва
Учредительного собрания. Кроме того, крестьяне с огромным
сочувствием отнеслись к Декрету о земле, который наконец осуществил
их вековую мечту. Солдаты,
уставшие от трёхлетней войны,
надеялись на скорый мир.
В 80 из 100 крупных
городов власть перешла к Советам
совершенно мирно. Но кое-где
возникли столкновения. В
Москве с 28 октября по 3 ноября
разыгралась настоящая война.
Против большевиков
сражались юнкера, студенты. Всего в
уличных боях погибло около
тысячи человек. 3 ноября
противники большевиков
капитулировали. Как замечал Павел
Милюков, победой
большевиков в Москве «решился вопрос
о их победе в России».
500 убитых большевиков
торжественно похоронили на
Красной площади. Развевались
красные и анархистские
чёрные флаги. Д. Рид вспоминал:
«За гробами шли женщины —
молодые, убитые горем, или
морщинистые старухи,
кричавшие нечеловеческим криком.
Многие из них бросались в
могилу вслед за своими сыновьями
и мужьями и страшно
вскрикивали, когда жалостливые руки
удерживали их. Так любят друг
друга бедняки...».
В течение октября —
декабря 1917 г. власть Советов
распространилась по всей
стране. Владимир Ленин
назвал период до весны 1918 г.
временем «триумфального
шествия Советской власти».
230
ДЕЯТЕЛИ ОКТЯБРЬСКОГО
ПЕРЕВОРОТА
ВЛАДИМИР ЛЕНИН
(1870—1924)
ДЕТСТВО
Владимир Ильич Ульянов (Ленин) родился 10 (22) апреля 1870 г.
в городе Симбирске. Он был третьим из шести детей Ульяновых.
Глава семьи Илья Николаевич работал инспектором народных
училищ. За педагогическую деятельность его наградили
несколькими орденами и званием потомственного дворянина. Илья
Николаевич был глубоко верующим человеком, и в семье
торжественно отмечались все православные праздники.
Владимир рос любознательным, подвижным мальчиком.
Кучер, который как-то раз отвозил его в имение матери, сказал
двоюродному брату Владимира: «Ну и забавник!» — «Кто?» — «Да
брательник твой. С ним не заметишь, как доедешь и на ленивых
лошадях. Уж больно занятный. Я и не видывал таких парнишек —
на всё у него загвоздка да прибаутки». В то же время в гимназии
Владимир не допускал ни малейшего нарушения весьма строгих
правил поведения. «Неужели, — спросил его однажды
двоюродный брат, — с тобой никогда не бывало, что ты урока не
приготовил?» «Никогда не бывало и не будет!» — отвечал
Владимир.
Литературу в гимназии преподавал Фёдор Керенский —
отец будущего премьер-министра. В. Ульянов всегда вспоминал
о нём с теплотой. Он привил мальчику любовь к Пушкину и
другим русским классикам.
В июне 1887 г. Владимир закончил гимназию с золотой
медалью. По всем предметам, в том числе по Закону Божьему, в его
аттестате стояла оценка «пять», только по логике «четыре».
Многое Владимиру дало и домашнее образование. В семье
Ульяновых бывали дни, когда они говорили только на одном из
иностранных языков. Позже Владимир Ульянов свободно
разговаривал по-французски, по-немецки, несколько хуже — по-
английски, понимал итальянский язык
231
РЕВОЛЮЦИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ
Александр Ильич Ульянов родился в
1866 г. Гимназию окончил с золотой
медалью, затем изучал биологию в
Петербургском университете. Здесь
20-летний Александр вошёл в
небольшой кружок революционного
студенчества. Один из друзей вспоминал о
нём: «В отношении к товарищам он
был редкий человек. Он равно уважал
и собственное достоинство, и
достоинство других. Это была натура
нравственно-деликатная. Он избегал
всяких резкостей, да был к ним и не
способен».
В 1887 г. участники кружка стали
готовить покушение на Александра III,
приурочив его к 1 марта 1887 г. —
годовщине убийства Александра II. Но
они настолько плохо соблюдали
конспирацию, что о них быстро узнала
полиция. Последовали аресты и суд. В
защитительной речи на суде Александр
Ульянов заметил: «Среди русского
народа всегда найдётся десяток людей,
которые настолько преданы своим
идеям и настолько горячо чувствуют
несчастие своей родины, что для них не
составляет жертвы умереть за своё
дело. Таких людей нельзя запугать чем-
нибудь». Приговор гласил—смертная
казнь.
Мария Александровна Ульянова на
последнем свидании с сыном
уговаривала его подать просьбу о
помиловании. Александр ответил ей так:
«Представь себе, мама: двое стоят друг
против друга на поединке. Один уже
выстрелил в своего противника, другой
ещё нет, и тот, кто уже выстрелил,
обращается к противнику с просьбой не
пользоваться оружием. Нет, я не могу
так поступить».
В ночь на 8 (20) мая 1887 г.
Александра Ульянова и четырёх его товарищей
повесили во дворе Шлиссельбургской
крепости.
ПОСЛЕ СМЕРТИ БРАТА
До 1887 г. никто не замечал у Владимира Ульянова никакого
интереса к общественным делам. Он не читал «крамольные»
книги, имевшиеся у старшего брата Александра. Но в марте 1887 г.
его брата арестовали, а затем и казнили за попытку покушения
на царя.
Это событие глубоко потрясло Владимира и коренным
образом изменило весь ход его жизни. Он попытался понять поступок
брата и внимательно прочёл его любимый революционный роман
«Что делать?». Позже он вспоминал: «После казни брата, зная, что
роман Чернышевского был одним из самых любимых его
произведений, я просидел над ним не несколько дней, а недель. Только
тогда я понял глубину. Он увлёк моего брата, он увлёк и меня. Этот
роман меня всего глубоко перепахал. Это вещь, которая даёт заряд
на всю жизнь». Владимир даже написал письмо Николаю
Чернышевскому и, по его словам, «весьма огорчился, не получив ответа».
Позднее сестра В. Ульянова Мария утверждала, что после
казни брата он произнёс свои знаменитые слова: «Нет, мы
пойдём не таким путём. Не таким путём надо идти». Так В. Ульянов
оказался в рядах революционеров, хотя прежде и не помышлял
об этом. В декабре 1887 г. его уже арестовали за участие в
студенческой сходке. Затем исключили из Казанского
университета, где он учился на юридическом факультете, и выслали в
имение матери Кокушкино.
Эта «ссылка» продолжалась до ноября следующего года. Всё
это время Владимир очень много читал. «В бывших у меня в
руках журналах, — вспоминал он, — возможно, находились статьи
и о марксизме. Не могу сейчас твёрдо сказать — читал ли я их
или нет. Одно только несомненно... они не привлекали к себе
моего внимания».
С марксизмом В. Ульянов впервые основательно
познакомился позже, в начале 1889 г., прочтя первый том «Капитала».
Идеи Карла Маркса увлекли его всерьёз — и на всю жизнь.
90-е ГОДЫ
После исключения из Казанского университета В. Ульянова не
принимали в другие учебные заведения. Ему припоминали то,
что он брат казнённого революционера и сам отчислен за
вольнодумство.
Владимиру пришлось изучать науки самостоятельно. Через
несколько лет, в 1891 г., он успешно сдал экзамены экстерном
при юридическом факультете Петербургского университета.
После этого в 1892 г. он десять раз выступал судебным
защитником в Самарском суде. Но эти дела, в основном о мелких
кражах, не принесли ему ни известности, ни особенного успеха.
В 1893 г. В. Ульянов впервые попробовал свои силы в
политической журналистике. Несмотря на первые не очень удачные
опыты, именно это занятие оказалось его истинным призванием.
В последующие годы он всегда определял свою основную профес-
232
сию как «литератор», т. е. журналист. Свои статьи он обычно
подписывал псевдонимами: В. Ильин, Н. Ленин, К Тулин... Псевдоним
Ленин позже стал для него как бы второй фамилией.
Переехав осенью 1893 г. в Петербург, Ульянов
познакомился со столичными молодыми марксистами. В 1895 г. их кружок
получил название «Союз борьбы за освобождение рабочего
класса». Вскоре он был раскрыт полицией, и 9 декабря В. Ульянова с
товарищами арестовали. В тюрьме он пробыл более 14 месяцев.
Арестованных не судили: как это часто тогда делалось, по
постановлению Николая II их отправили в ссылку.
Три года ссылки В. Ульянов отбывал в сибирском селе
Шушенское. В 1898 г. туда приехала его невеста Надежда Крупская,
с которой он познакомился в Петербурге. Она была ссыльной
по тому же делу. В июле 1898 г. их обвенчали в местной церкви.
Н. Крупская так описывала их быт: «Дешевизна в этом
Шушенском была поразительная. Владимир Ильич за 8-рублёвое
пособие имел чистую комнату, кормёжку, стирку и чинку
белья — и то считалось, что дорого платит. Правда, обед и ужин
был простоват — одну неделю для В.И. убивали барана, которым
кормили его изо дня в день, пока всего не съест; как съест —
покупали мяса на котлеты — тоже на целую неделю... В общем,
ссылка прошла неплохо».
ЭМИГРАНТ И ПОДПОЛЬЩИК
В начале 1900 г. ссылка закончилась, а в июле Владимир Ильич
выехал за границу. В декабре при его участии в Мюнхене вышел
первый номер социал-демократической газеты «Искра». Своим
эпиграфом она избрала девиз декабристов «Из искры
возгорится пламя!».
Из последующих 17 лет жизни Ленина почти 15 прошли в
эмиграции. Он привык в эти годы к неприхотливому образу
жизни. «Нужды, когда не знаешь, на что купить хлеба, мы не знали, —
вспоминала его жена. — Жили просто, это правда». Меньшевик
Александр Потресов даже замечал о Владимире Ильиче: «Из
аскетизма он откажется от лишнего стакана пива». Но, конечно,
убеждённым аскетом В. Ленин никогда не был.
Качествами своей личности В. Ленин ярко выделялся
среди революционной интеллигенции. Ему были почти чужды
обычные для интеллигентов сомнения, колебания. Он всегда
твёрдо знал, чего добивается, и уверенно вёл людей за собой.
А. Потресов рассказывал: «Никто, как он, не умел так заражать
своими планами, так импонировать своей волей, так покорять
своей личности, как этот на первый взгляд такой невзрачный и
грубоватый человек, по-видимому не имеющий никаких данных,
чтобы быть обаятельным. Ни Плеханов, ни Мартов, ни кто-либо
другой не обладал секретом излучавшегося Лениным прямо-таки
гипнотического воздействия на людей, я бы сказал, господства
над ними. Плеханова — почитали, Мартова — любили. Но
только За ЛеНИНЫМ беСПреКОСЛОВНО ШЛИ, Как За еДИНСТВеННЫМ, R. Ленин. Цюрих. 1916 г.
233
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
РАБОЧИХ и ЛЕНИНА
СОЕДИНИЛА В СВОЕМ ПОРОХОВОМ
ЛЫМУ
В. Ленин в 1905 г. Плакат.
НАГЛОВСКИЙ О ЛЕНИНЕ
Владимир Ильич никогда не жертвовал
своими убеждениями в угоду
большинству, даже если не находил
сторонников. Так было в годы первой русской
революции. В 1905 г. Ленин горячо
призывал к вооружённому восстанию
рабочих. Когда же в Москве такое
рабочее восстание потерпело
поражение, товарищи обрушились на Ленина
с упрёками. «Но Ленин в своей „линии"
был абсолютно твердокаменен, —
вспоминал бывший большевик
Александр Нагловский. — По его мнению,
восстание было нужно, и прекрасно,
что оно было. От своих положений
Ленин никогда не отступал, даже если
оставался один. И эта его сила
сламывала под коней всех в партии».
А. Нагловский приводил такие слова
Ленина, сказанные в то время: «От
моего имени так и передайте всем
товарищам: нам иллюзии не нужны, мы
трезвые реалисты, и пусть никто не
воображает, что мы должны обязательно
победить! Аля этого мы ещё слабы. Дело
вовсе не в победе, а в том, чтобы
восстанием потрясти самодержавие и
привести в движение широкие массы. Дело
в восстании как таковом! А разговоры
о том, что „мы не победим" и поэтому
не надо восстания, — это разговоры
трусов! Ну а с ними нам не по пути!».
бесспорным вождём. Ибо только Ленин представлял собою, в
особенности в России, редкостное явление человека железной
воли, неукротимой энергии, сливающего фанатичную веру в
движение, в дело с не меньшей верой в себя».
Меньшевик Павел Аксельрод позднее писал о первых
встречах с Лениным: «Я тогда почувствовал, что имею дело с
человеком, который будет вождём русской революции. Он не только
был образованным марксистом — таких было очень много, —
но он знал, что он хочет сделать и как это надо сделать. От него
пахло русской землёй».
В 1902 г. Ленин напечатал брошюру, которую озаглавил
«Что делать?». Он не случайно дал ей название любимого им
романа Н. Чернышевского. Он тоже постарался изложить в ней
своё заветное кредо, ответить на вопрос, как готовить
революцию. Для этого, считал Ленин, нужна крепкая организация
людей, «профессия которых состоит из революционной
деятельности». Не «сочувствующих», не «близких по духу», а
профессиональных революционеров. Он восклицал: «Дайте нам
организацию революционеров, и мы перевернём Россию!».
В 1903 г. произошёл раскол социал-демократов на
большевиков и меньшевиков. Ленин считал, что меньшевики хотят
размыть партию, включить в неё массу «болтающих», а не только
«работающих». Вместе с Георгием Плехановым он оказался во
главе большевиков. Старая социал-демократка Вера Засулич
говорила тогда Ленину о Плеханове: «Жорж — борзая: потреплет,
потреплет и бросит, а Вы — бульдог: у Вас мёртвая хватка».
Осенью 1905 г. Владимир Ильич вернулся в Петербург,
чтобы участвовать в бурных революционных событиях. В мае
1906 г. он впервые в своей жизни выступил с речью на митинге.
В конце 1907 г. в связи с массовыми арестами и казнями вновь
покинул родину.
В 1914 г. началась Первая мировая война. В. Ленин
оказался в рядах её решительных противников. Узнав о том, что
немецкие социал-демократы поддержали войну, он тут же
решительно заявил: «С сегодняшнего дня я перестаю быть
социал-демократом и становлюсь коммунистом». Он считал, что оружие надо
повернуть против буржуазии, развязавшей преступную бойню.
Только так, через гражданскую войну с угнетателями, можно
добиться настоящего мира.
В сентябре 1915 г. В. Ленин принял участие в знаменитой
конференции в Циммервальде (Швейцария), куда собрались
социалисты — противники войны из разных стран.
В 1917 ГОДУ
Сразу после возвращения на родину, в ночь на 4 апреля 1917 г.,
В. Ленин выступил перед большевиками со своими
Апрельскими тезисами. На следующий день он снова изложил их перед
более широкой аудиторией в Таврическом дворце.
Тезисы производили впечатление разорвавшейся бомбы.
234
Ленин требовал крутого поворота в политике большевиков.
«Никакой поддержки Временному правительству!» — провозгласил
он. Вместо этого — борьба за углубление революции, за
республику Советов.
Меньшевик Н. Суханов, слушавший Апрельские тезисы ещё
ночью, во дворце Кшесинской, писал: «Мне не забыть этой
громоподобной речи, потрясшей и изумившей не одного меня,
случайно забредшего еретика, но и всех правоверных... Казалось, из
своих логовищ поднялись все стихии, и дух всесокрушения, не
ведая ни преград, ни сомнений, ни людских трудностей, ни
людских расчётов, носится по зале над головами зачарованных
учеников. Ленин вообще хороший оратор — не оратор
законченной, круглой фразы, или яркого образа, или захватывающего
пафоса, или острого словца, — но оратор огромного напора, силы,
разлагающей тут же, на глазах слушателя, сложные системы на
простейшие, общедоступные элементы и долбящий ими,
долбящий, долбящий по головам слушателей до бесчувствия, до
приведения их к покорности, до взятия в плен».
Г. Плеханов назвал ленинские тезисы «бредом». Даже
большевики восприняли их с недоумением. Но своим натиском и
непоколебимой убеждённостью Ленин завоёвывал доверие
колеблющихся и привлекал их на свою сторону. В конце апреля
большевики уже почти единодушно поддерживали его. Правда, в
масштабах страны они оставались незначительным меньшинством.
Но Ленина это не смущало. Он не сомневался, что верно
угадал логику развития событий и теперь время на его стороне. В мае
он объяснял кадету Василию Маклакову, что «страна рабочих и
беднейших крестьян в тысячу раз левее Черновых и Церетели и
раз в сто левее большевиков». Надо просто не отставать от
требований народа. Крестьяне требуют земли, армия — мира, и без
всяких отсрочек? Значит, именно этого и следует добиваться.
Характерный случай произошёл в июне, на Первом съезде
Советов рабочих и солдатских депутатов. Меньшевик Ираклий
Церетели защищал с трибуны политику союза с буржуазией. Он
заявил, что «в настоящий момент в России нет политической
партии, которая говорила бы: дайте в наши руки власть, уйдите, мы
займём ваше место. Такой партии в России нет». Его перебил
громкий голос В. Ленина из зала: «Есть!». Потом, поднявшись на
трибуну, Ленин пояснил: «Я отвечаю: есть! Наша партия от этого
не отказывается: каждую минуту она готова взять власть целиком».
Ответом ему был общий смех всего зала, кроме горстки
большевиков. «Вы можете смеяться сколько угодно», — совершенно
спокойно заметил на это Ленин.
После июльских событий большевики оказались почти в
подполье, многих их видных вождей, например Льва Каменева,
арестовали (см. ст. «Политическая борьба в 1917 году»).
Собирались арестовать и Ленина. Его обвинили в заговоре и шпионаже
в пользу Германии. Сначала он собирался добровольно явиться
на суд и защищаться. Но появились слухи, что арестованного
могут просто застрелить «при попытке к побегу».
Н. Крупская — учительница Смоленской
вечерне-воскресной школы.
Санкт-Петербург. 90-е гг. XIX в.
В. Иванов. Плакат 1967 г.
235
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
В. Ленин. Январь 1918 г.
«ПЛОМБИРОВАННЫЙ ВАГОН»
После известия о Февральской
революции Швейцария, где находился
Владимир Ильич, показалась ему большой
тюремной камерой. Им владела
единственная мысль: скорее в Россию! По
словам его соратника Г. Зиновьева, он
«в это время напоминал льва,
запертого в клетке».
Ленин предлагал самые невероятные
способы возвращения на родину.
Например, на аэроплане. Правда, не было
аэроплана... Или такой проект:
«Необходимо во что бы то ни стало
немедленно выбраться в Россию, и
единственный план — следующий: найдите
шведа, похожего на меня. Но я не знаю
шведского языка, поэтому швед должен
быть глухонемым». «Я могу одеть па-
7 июля Владимир Ильич покинул столицу и
перешёл на нелегальное положение. Вначале
вместе с Григорием Зиновьевым он скрывался в
знаменитом шалаше на берегу озера Разлив. В
августе, загримированный под финского пастора, он
переехал в Финляндию.
8 середине сентября Ленин направил в
ЦК партии письма «Большевики должны взять
власть» и «Марксизм и восстание». В них он
страстно доказывал, что пришёл момент для
вооружённого восстания. Многие руководители
большевиков в то время совершенно не
разделяли этого мнения. В конце сентября Ленин
написал ещё одно письмо под заголовком «Кризис
назрел». В нём он угрожал выйти из ЦК, если не
будет принято решение о восстании. При этом
он оставлял за собой «свободу агитации в низах
партии и на съезде». Николай Бухарин
вспоминал: «Письмо было написано чрезвычайно
сильно и грозило нам всякими карами. Мы все
ахнули. Никто ещё так резко вопроса не ставил».
Письмо единогласно решили сжечь.
В начале октября Ленин был уже в
Петрограде. Не считаясь с риском, он вернулся в
столицу, чтобы призывать к немедленному
восстанию. Наконец 10 октября ЦК партии принял
решение о восстании. Но Ленин всё ещё
беспокоился, не будет ли упущен момент. Вечером 24 октября, когда
восстание уже началось, но он ещё об этом не знал, Ленин направил
своим соратникам последнее и, возможно, самое отчаянное
письмо. «Нельзя ждать!! Можно потерять всё!! — восклицал он и
заключал: — Промедление в выступлении смерти подобно».
В ночь на 25 октября Владимир Ильич оставил
конспиративную квартиру и отправился через весь город в штаб
восстания — Смольный институт. Чтобы не быть узнанным по дороге,
он надел парик и перевязал щёку платком, как при зубной боли.
В кадетской газете «Речь» сообщалось на следующий день: «В
институт прибыли под усиленной охраной вожди большевиков
Ленин и Зиновьев. Их не узнать. Ленин сбрил бороду и усы, а
Зиновьев, наоборот, отрастил себе усы и бороду, но зато снял
шевелюру». Днём 25 октября Ленин и Зиновьев впервые появились
на трибуне перед депутатами Петросовета. Им устроили
громовые овации, настоящий триумф.
«Когда я вошёл, — рассказывал Н. Суханов, — на трибуне
стоял и горячо говорил незнакомый лысый и бритый человек. Но
говорил он странно знакомым хрипловато-зычным голосом, с
горловым оттенком и очень характерными акцентами на концах
фраз... Ба! Это — Ленин».
Здесь, в Смольном, Ленин получал вести об успешном
развитии восстания, в следующую ночь — о взятии Зимнего дворца.
236
ВЛАДИМИР
ЛЕНИН
Как вспоминал Г. Зиновьев, утром 26 октября «у Владимира
Ильича вид был усталый. Улыбаясь, он сказал: „Слишком резкий
переход от подполья — к власти. Кружится голова..."». За одни
сутки из загримированного подпольщика он превратился в
первого человека в государстве. «История не знает ни одного примера
такого перехода от подпольного революционера к
государственному человеку», — замечал Карл Радек
ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ У ВЛАСТИ
Октябрьский переворот происходил под лозунгом
немедленного выполнения народных требований: «Земля — крестьянам!
Мир — народам!». Первые декреты новой власти отражали эти
требования. Крестьяне получили землю, армия — долгожданное
перемирие. Выступая сразу после взятия власти, Ленин
подчёркивал: «Мы должны следовать за жизнью, мы должны
предоставить полную свободу творчества народным массам».
Но теперь перед большевиками встала другая задача:
выживание нового государства, его сохранение во что бы то ни стало.
В. Ленин раньше других пришёл к выводу о необходимости
такой смены курса. Он не колебался ни минуты: выживание
Советской республики — высшая цель, и всё остальное должно быть
ей подчинено. Он любил приводить слова Чернышевского о том,
что «история — не тротуар Невского проспекта».
Самый острый момент наступил в феврале 1918 г. Жизнь
поставила вопрос ребром. Или заключить с немцами, по
определению Ленина, «невероятно тяжёлый и унизительный мир», или
пожертвовать Советской республикой. Владимир Ильич не
сомневался: надо заключать мир. Среди большевиков возникла
сильнейшая оппозиция («левые коммунисты»). Они считали, что из
идейных соображений можно принести в жертву Советское
государство, вновь уйти в подполье. В какой-то момент Ленин
оказался даже в меньшинстве.
К Радек вспоминал такой эпизод: «Я не забуду никогда моего
разговора с Ильичом перед заключением Брестского мира. Все
аргументы, которые мы выдвигали против заключения Брестского
мира, отскакивали от него, как горох от стены. Он выдвигал
простейший аргумент: войну не в состоянии вести одна партия...
войну должен вести мужик „Разве вы не видите, что мужик голосовал
против войны?" — спросил меня Ленин. „Позвольте, как это
голосовал?" — „Ногами голосовал, бежит с фронта". И этим для него дело
было решено...». В этих доводах ещё слышался отзвук старой
тактики большевиков: идти во главе народных требований.
Ленин вновь пошёл на крайнюю меру: пригрозил своей
отставкой. Он заявил: «Эти условия надо подписать. Если вы их не
подпишете, то вы подпишете смертный приговор Советской
власти... Я ставлю ультиматум не для того, чтобы его снимать». В
конце концов после отчаянной борьбы точка зрения Ленина
одержала победу.
Чтобы сохранить новую власть, В. Ленину ещё неоднократ-
рик», — добавлял Ленин. Его жена по
этому поводу шутила: «Заснёшь,
увидишь во сне меньшевиков и станешь
ругаться: „Сволочи, сволочи!". Вот и
пропадёт вся конспирация».
«Мы должны во что бы то ни стало
ехать, хотя бы через ад», —
убеждённо повторял Владимир Ильич. Наконец,
остановились на самом неожиданном
плане: проехать в Россию через
Германскую империю. Немецкие власти
согласились помочь противникам
войны вернуться в Россию.
«Решено, — рассказывал Г.
Зиновьев. — Мы едем через Германию.
Впервые высказанная мысль о поездке
через Германию встретила, как и
следовало ожидать, бурю негодования...
Однако через несколько недель к тому
же „безумному" решению вынуждены
были прийти и Мартов, и другие
меньшевики». (Именно Ю. Мартов первым
и предложил это решение.) Вагон, в
котором ехали 32 русских эмигранта,
считался особым,
«запломбированным». Это означало, что по пути через
Германию его пассажиры ни с кем не
будут встречаться.
Поздно вечером 3 апреля пассажиры
«пломбированного вагона» прибыли в
Петроград. Так, по замечанию Льва
Троцкого, в Россию был переброшен
«груз необычайной взрывчатой силы».
Подъезжая к столице, Владимир Ильич
волновался и обеспокоенно спрашивал:
«Арестуют ли нас в Петрограде?» (за
путешествие через враждебную страну).
Встретившие его по дороге Иосиф
Сталин, Лев Каменев таинственно
улыбались, но не отвечали. Лишь на
Финляндском вокзале, вспоминал Г. Зиновьев,
«мы поняли загадочные улыбки друзей.
Владимира Ильича ждёт не арест, а
триумф. На перроне длинная цепь
почётного караула всех родов оружия.
Вокзал, плошадь и прилегающие улицы
запружены десятками тысяч рабочих...».
По рассказу Н. Крупской, они с мужем
размышляли в дороге, смогут ли в столь
поздний час нанять извозчика. Они
никак не ожидали восторженной
встречи с плакатами «Да здравствует
Ленин!». Владимир Ильич поднялся на
броневик и обратился оттуда с
небольшой речью к собравшимся.
237
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
ЛЕНИН И ШАХМАТЫ
Известно, что Ленин умел играть в
шахматы и любил это занятие. Был ли
он сильным игроком, сказать трудно —
записи его партий не известны.
Вероятно, более интересен «стиль игры»
Владимира Ильича. В архиве Льва
Троцкого сохранилась такая
зарисовка Татьяны Алексинской: «Есть
хорошие шахматисты, которые настолько
любят и ценят красивый процесс игры,
что сами исправляют ошибки
противника. Ленин не из этого числа: его
интересует не столько игра, как выигрыш.
Он пользуется каждой
невнимательностью партнёра, чтобы обеспечить себе
победу. Когда он может взять у
противника фигуру, он делает это со всей
поспешностью, чтобы партнёр не
успел одуматься. В игре Ленина нет
элегантности».
но приходилось сражаться с собственной партией, точнее, с
«идеалистами» в её рядах. Вновь и вновь, при каждом крутом
повороте, в партии возникала мощная идейная оппозиция.
С весны 1918 г. выживание Советского государства
требовало всё более суровых мер в экономике и политике. Они
вызывали растущее недовольство различных слоев населения.
ПОКУШЕНИЕ
30 августа 1918 г. эсеры организовали покушение на В. Ленина
(см. ст. «Карательные органы Советской власти»). Вечером в этот
день он выступал перед рабочими завода Михельсона. Свою речь
он закончил горячим призывом: «Победа или смерть!».
Когда после этого председатель Совнаркома садился в
автомобиль, прозвучали три выстрела. Испуганная толпа
разбежалась. Глава правительства был ранен двумя пулями. Одна из них
попала в плечо, сломала кость и застряла под кожей. Эта рана не
угрожала жизни. Вторая пуля прошла через шею и левое лёгкое.
Каким-то чудом она не задела ни один из шести находящихся
рядом крупных кровеносных сосудов. Врач В. Розанов писал:
«На пороге 1923 г. Три богатыря: Ленин, Троцкий и Чичерин».
DACHbltl
nepeu
В. Цыплаков. «В. И. Ленин».
Январь 1923 г.
На пороге тысяча девятьсот двадцать третьего.
238
«Уклонись эта пуля на один миллиметр в ту или иную сторону,
Владимира Ильича, конечно, уже не было бы в живых».
Большевик В. Бонч-Бруевич вспоминал Ленина сразу после
покушения: «Он открыл глаза, скорбно посмотрел на меня и
сказал: „Больно, сердце больно... Очень сердце больно...". Худенькое
обнажённое тело Владимира Ильича, беспомощно
распластавшееся на кровати, — всё это было ужасно, безмерно больно...
Дыхание становилось тяжёлым, прерывистым. Он чуть-чуть
кашлянул, и алая кровь тихой струйкой залила ему лицо и шею».
Эта пуля оставалась в теле Ленина до 23 апреля 1922 г.
Вскоре после выздоровления он с лёгкой иронией заметил в
разговоре с Максимом Горьким, который считался «защитником
интеллигенции»: «Мне от интеллигенции попала пуля».
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
В 1918 г. Ленина возмущало, как он говорил, «киселеобразное
состояние пролетарской власти». В августе 1918 г., после утраты
Казани, он даже, по словам Л. Троцкого, «дрогнул, усомнился» —
ВЫЖИВеТ ЛИ НОВая ВЛаСТЬ? Правда, СВОеЙ ТреВОГОЙ ПОДелИЛСЯ ТОЛЬ- Кабинет В. Ленина в Кремле.
239
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
А. Моор. «Ильич выздоровел. Появление
т. Ленина на всемирной конференции.
— Ильич погиб! — они кричали.
— Погиб совет без Ильича!
На губы положив печать,
Мы чутко ждали и молчали.
И тем сильней теперь наш клич:
— Вперёл! Аа здравствует Ильич!»
(«Крокодил». 1922 г.)
А. Герасимов. «Выстрел в народ». 1931 г.
(на картине изображено покушение
на В. Ленина в 1918 г.).
ко с Троцким. Мрачно настроенный, он повторял ему: «Русский
человек добр... русский человек рохля, тютя... каша у нас, а не
диктатура». «Если повести дело круто (что абсолютно
необходимо), — добавил Ленин, — собственная партия помешает: будут
хныкать, звонить по всем телефонам, помешают».
Как вспоминал Троцкий, когда части Красной армии
одержали первую победу (заняли Казань), Ленин «с жадностью
слушал про фронт и вздыхал с удовлетворением, почти блаженно:
„Партия, игра выиграна, раз сумели навести порядок в армии,
значит, и везде наведём. А революция с порядком будет
непобедима"».
«Революции не сделаешь в белых перчатках», — любил
говорить Владимир Ильич. Писатель М. Горький вспоминал: «Мне
часто приходилось говорить с Лениным о жестокости
революционной тактики. „Чего Вы хотите? — удивлённо и гневно
спрашивал он. — Возможна ли гуманность в такой небывало
свирепой драке? На нас со всех сторон медведем лезет
контрреволюция, а мы — что же? Не должны, не вправе бороться? Какою
мерой измеряете Вы количество необходимых и лишних ударов в
драке?" — спросил он меня однажды после горячей беседы».
После Октября В. Ленин не раз цитировал Н.
Чернышевского: «Кто боится быть покрытым пылью и выпачкать сапоги, тот
не принимайся за общественную деятельность. Она — занятие
благотворное для людей, но не совсем опрятное. Впрочем,
нравственную чистоту можно понимать различно».
Ленин был глубоко убеждён в справедливости
происходящего переворота. Как считал он до конца жизни, Октябрь
принёс пользу уже одним тем, что очистил общество от
всевозможных «паразитов». Так он называл «бесполезных и вредных
людей». Ещё в декабре 1917 г. он в не опубликованной тогда
статье высказался за «очистку земли российской от всяких вредных
насекомых, от блох — жуликов, от клопов — богатых, и прочее
и прочее».
«В одном месте, — писал
тогда В. Ленин, — посадят в
тюрьму десяток богачей,
дюжину жуликов, полдюжины
рабочих, отлынивающих от
работы. В другом — поставят их
чистить сортиры. В третьем
снабдят их по отбытии
карцера жёлтыми билетами, чтобы
весь народ до их исправления
надзирал за ними, как за
вредными людьми. В четвёртом —
расстреляют на месте одного
из десяти, виновных в
тунеядстве. Чем разнообразнее, тем
лучше, тем вернее и быстрее
будет успех социализма».
240
НАЧАЛО БОЛЕЗНИ
25 мая 1922 г. у В. Ленина произошло
кровоизлияние в мозг, парализовало правую руку и ногу.
После этого он провёл несколько месяцев в
подмосковной усадьбе Горки на отдыхе и лечении.
Но политическую деятельность не прекращал,
хотя соратники временами старались
ограничить её. Например, запретили ему читать
газеты. По словам И. Сталина, Ленин иронически
говорил: «Мне нельзя читать газеты, я старательно
обхожу каждый клочок бумаги, валяющийся на
столе, боясь, как бы он не оказался газетой».
К осени состояние его здоровья
улучшилось, и в октябре В. Ленин вернулся в Москву.
13 ноября выступил на конгрессе Коминтерна с
речью на немецком языке, которая
продолжалась более часа. Казалось, глава Совнаркома
вновь здоров и полон сил. Но 23 декабря с ним
случился второй удар, и к работе в своём
кремлёвском кабинете он уже больше никогда не
вернулся...
В НАЧАЛЕ 1923 ГОДА
Между декабрём 1922 г. и мартом 1923 г. Владимир Ильич
продиктовал свои последние письма и статьи. Он был безусловным
сторонником сохранения власти в руках «старой партийной
гвардии». Теперь он с беспокойством заметил, что решающее
влияние переходит к новой силе — аппарату (см. ст. «Партия
большевиков в 20—30-е годы»). Это беспокойство сблизило его
с Троцким, которого уже начали оттеснять от руководства.
Что же делать? Главное — не допустить раскола и
ослабления «старой гвардии». Кроме того, надо поставить аппарат под
контроль. Этими мыслями пронизано большинство последних
статей Ленина. С этой целью он выдвигает самые неожиданные
предложения — например, ввести в ЦК около 50 рабочих прямо
«от станка».
Конечно, подобные идеи вызывали у большинства
руководителей только раздражение и недовольство. Они даже не
хотели публиковать некоторые из статей Ленина. Валериан
Куйбышев предложил такой выход: напечатать «Правду» со статьёй
Ленина в единственном экземпляре — для самого автора. Кроме
того, в декабре 1922 г. высшие руководители приняли решение
о «щадящем режиме» для Ленина:
«1. Владимиру Ильичу предоставляется право диктовать
ежедневно 5—10 минут, но это не должно носить характер
переписки, и на эти записки он не должен ждать ответа. Свидания
запрещаются.
2. Ни друзья, ни домашние не должны сообщать Владимиру
Ильичу ничего из политической жизни, чтобы этим не давать
материала для размышлений и волнений».
М. Божий. «В. И. Ленин». 1961 г.
241
РЕВОЛЮЦИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОИНА
МАВЗОЛЕЙ ЛЕНИНА
Сразу же после смерти В. Ленина в
высшем руководстве возникло
предложение не хоронить умершего вождя, а
забальзамировать его тело и сделать
склеп открытым для посещения.
Сначала эта идея, напоминавшая
воскрешение религиозных традиций,
вызвала настоящий шок.
Почти никто её не поддержал. Но
постепенно руководители почувствовали,
что такой шаг отвечал настроениям в
обществе и укрепил бы авторитет
нового государства. Его создатель как бы
навсегда оставался с народом, рядом
с простыми людьми. В газеты
приходило множество писем с просьбой
продлить, насколько можно, прощание с
Ильичом, не предавать тело земле.
В коние концов эта точка зрения
победила. Решено было сохранить тело
Ленина и его внешний облик с
помощью последних достижений науки.
Против этого настойчиво возражала
вдова Ленина Н. Крупская. 30 января
она писала в «Правде»: «Большая у
меня просьба... Не устраивайте ему
памятников, дворцов его имени,
пышных торжеств в его память и т. д. —
всему этому он придавал при жизни так
мало значения, так тяготился всем
этим. Помните, как много нишеты,
неустроенности в нашей стране...».
Позднее она с раздражением говорила о
том, что революционеров после
смерти превращают в «безобидную икону».
27 января на Красной площади
состоялись похороны В. Ленина. Несмотря на
жестокий мороз (26 градусов ниже
нуля), сотни тысяч людей пришли на
траурную церемонию. Большинство из
них переживали неподдельное горе,
тысячи людей плакали.
Над огромной толпой алели лозунги:
«Могила Ленина — колыбель свободы
всего человечества!». Газета «Правда»
в эти дни подчёркивала: «Могила-склеп
Ильича будет источником энергии и
мужества, источником неисчерпаемой
бодрости для трудящихся всего мира».
В 1929 г. вместо временного
деревянного склепа был сооружён постоянный
мавзолей из камня. Большевик Леонид
Стремясь отвоевать право диктовать хотя бы «дневник»,
Ленин прибегнул к ультиматуму, угрожая отказом лечиться. Всё это
показалось ему похожим на домашний арест. В январе он по
какому-то поводу сказал стенографистке: «Если бы я был на
свободе... — Тут он засмеялся, но потом повторил: — Если бы я был на
свободе, то я легко сделал бы это сам». Любопытно, что в 1926 г.
Н. Крупская говорила в частном разговоре: «Если бы Володя был
жив, он, наверное, сидел бы в тюрьме».
ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ ЖИЗНИ
10 марта 1923 г. у Ленина случился новый удар. Правую сторону
тела полностью парализовало, и он совсем лишился речи. Потом
он научился произносить несколько коротких слов, таких, как
«идите», «оля-ля» или «вот-вот». Чаще всего он повторял «вот-вот»,
разнообразно меняя интонацию и выражая этим свои чувства. Так
он прожил ещё почти год. Нередко, особенно оставшись в
одиночестве, плакал. Его лечащий врач В. Осипов писал: «Иногда на
глазах Владимира Ильича появлялись слёзы. Человеку было нелегко...».
18 октября он сел в один из автомобилей и настоял на том,
чтобы его отвезли из Горок в Москву. Последний раз побывал в
своей квартире, рабочем кабинете в Кремле, взял некоторые
книги. Он как бы прощался со всей прошлой жизнью.
19—20 января 1924 г. Н. Крупская читала ему решения XIII
партконференции, в которых резко осуждался Троцкий. Это
означало тот самый раскол, которого Ленин больше всего
опасался. «Когда Владимир Ильич стал, видимо, волноваться, —
вспоминала она, — я сказала ему, что резолюции приняты
единогласно». На самом деле их приняли большинством голосов.
На следующий день, 21 января, состояние здоровья Ленина
резко ухудшилось. В 18 часов 50 минут того же дня он скончался.
«К Ленину». Фото А. Бальтерманиа.
242
ВЛАДИМИР
ЛЕНИН
Красин писал о нём: «Это будет место,
которое по своему значению для
человечества превзойдёт Мекку и
Иерусалим». В последующие годы мавзолей
играл очень важную роль в жизни
Советского государства. Он
превратился в священное место, своеобразный
храм нового общества.
Постепенно складывались связанные с
ним ритуалы. Одним из них стала
торжественная смена караула на «посту
номер один» у входа в мавзолей. Этот
пост сохранялся до октября 1993 г.
Другим, ешё более впечатляющим
ритуалом были демонстрации и парады
на Красной плошали. 7 ноября и 1 мая
из глубины гробницы на трибуну
поднимались руководители страны. Мимо
них маршировали войска или
проходили праздничные колонны граждан.
Парады символизировали военную мошь
государства, демонстрации —
единство населения и руководства страны, их
живую связь. Эти демонстрации,
особенно в 30—50-е гг., производили
яркое и неизгладимое впечатление и на
участников, и на зрителей.
На первом деревянном склепе ешё не
было трибуны, и во время торжеств
руководители стояли на его ступенях.
Затем появилась трибуна из двух не
соединённых между собой крыльев.
Наконец, на гранитном «вечном»
мавзолее появилась сплошная широкая
трибуна.
За день тысячи людей проходили
через зал, где находился гроб с телом
Владимира Ильича Ленина. Всего за
годы Советской власти здесь
побывало более 150 млн человек.
Американский писатель Джон Стейнбек,
посетивший мавзолей, вспоминал: «Весь
день и почти ежедневно толпа людей
медленно проходит через мавзолей,
чтобы посмотреть на мёртвое лицо
Ленина через стеклянную крышку гроба;
идут тысячи людей, они проходят мимо
прозрачного гроба, мгновение смотря
на выпуклый лоб, острый нос и
бородку Ленина. Это похоже на религиозный
обряд».
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
ЛЕНИН О НЕЧАЕВЕ
Противники В. Ленина часто и с
осуждением говорили о его духовном
родстве с Сергеем Нечаевым. «В то время
слова „нечаевшина" и „нечаевцы" даже
среди эмиграции были почти
бранными», — замечал большевик Владимир
Бонч-Бруевич. В сочинениях Ленина
нет каких-либо похвал в адрес
Нечаева. Однако известно, что он высоко
ценил «организаторский талант, волю
и энтузиазм» этого революционера.
По воспоминаниям В. Бонч-Бруевича,
Ленин «часто задумывался над
листовками Нечаева». «Совершенно
забывают, — говорил Владимир Ильич,—что
Нечаев умел свои мысли облачать в
такие потрясающие формулировки,
которые оставались памятны на всю
жизнь. Достаточно вспомнить его
ответ в одной листовке на вопрос: „Кого
же надо уничтожить из царствующего
дома?". Нечаев даёт точный ответ:
„Всю большую ектению"
(богослужение, на котором упоминались все
Романовы.—Прим.рел.)... Кого же
уничтожить из них? — спросит себя самый
простой читатель. — Да весь дом
Романовых. Ведь это просто до
гениальности».
«Нечаев должен быть весь издан», —
добавлял Владимир Ильич.
В. Ленин на Красной плошали в Москве
во время демонстрации. 1 мая 1919 г.
244
ВЛАДИМИР
ЛЕНИН
А. Налбанлян. «В. И. Ленин в 1919 г. на
Красной плошали».
ЛЕВ ТРОЦКИЙ
(1 879—1940)
ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
Лев Давидович Бронштейн (Троцкий) родился 25 октября (7
ноября) 1879 г. в деревне Яновка под Херсоном, в семье
зажиточного землевладельца. «Моё детство не было детством холода и
голода, — рассказывал он. — Ко времени моего рождения
родительская семья уже знала достаток. Но это был суровый достаток
людей, поднимающихся из нужды вверх и не желающих
останавливаться на полдороге. Все мускулы были напряжены, все
помыслы направлены на труд и накопление...
Моё детство не представляется мне ни солнечной поляной,
как у маленького меньшинства, ни мрачной пещерой голода,
насилий и обид, как детство большинства. Это было сероватое
детство в мелкобуржуазной семье, в деревне, в глухом углу, где
природа широка, а нравы, взгляды и интересы скудны и узки».
Восьмилетнего мальчика отправили учиться в Одессу, в
реальное училище. Здесь он считался одним из лучших учеников.
Много и с увлечением читал, особенно
произведения русских классиков. Пробовал и сам
писать стихи.
Как и многие его сверстники, 17-летний
Лев Бронштейн заинтересовался идеями
народничества. Начал усиленно изучать «крамольную»
литературу. В первый год, как он признавался
позже, «был противником Маркса (которого не
читал)». Потом всё-таки прочёл — и на всю
жизнь стал последователем его идей.
В 1897 г. вместе с друзьями Лев Бронштейн
создал «Южнорусский рабочий союз».
Участники тайного общества печатали листовки,
раздавали их рабочим. Вскоре, в 1898 г., неопытных
подпольщиков выследила и арестовала полиция.
Около двух лет Лев провёл в тюрьмах, а затем
его отправили в ссылку под Иркутск. «Жизнь
тёмная, глухая, в далёкой дали от мира, —
вспоминал он. — Весною и осенью село утопало в
грязи. Зато природа была прекрасна. Но в те
годы я был холоден к ней... Я изучал Маркса,
сгоняя тараканов с его страниц».
В августе 1902 г. Л. Бронштейн решил
бежать из ссылки за границу. Сделать это было
несложно: следили за ссыльными не слишком
строго. Товарищи достали ему фальшивый паспорт на
имя Николая Троцкого. Так по случайному
стечению обстоятельств он стал носить фамилию, ко-
л. Троцкий. 1937 г. торая «приклеилась» к нему на всю жизнь.
246
ЛЕВ
троикий
ДО 1917 ГОДА
Осенью 1902 г. 23-летний Троцкий прибыл в Лондон. Русские
эмигранты уже знали его по ярким газетным статьям, за которые
он получил прозвище Перо. Первая эмиграция Троцкого
продлилась два с половиной года. За это время молбдой журналист
сумел заработать немалый авторитет среди социал-демократов.
После раскола в их рядах в 1903 г. он примкнул к меньшевикам.
Однако самостоятельность Троцкого и независимость его
мышления мешали иметь постоянных союзников. В последующие
14 лет он порой отходил от меньшевиков, но и в ряды
большевиков не вступал.
В феврале 1905 г. с фальшивым паспортом Троцкий
вернулся на родину. Здесь он составлял листовки и воззвания,
выступал перед рабочими, горячо призывал к забастовкам и другим
формам протеста.
В ноябре 1905 г. Троцкого избрали председателем
Петербургского совета рабочих депутатов. На этой должности он
пробыл всего несколько дней, но прославился своим решительным
поведением в острый момент.
3 декабря в зал заседания вошёл жандарм, чтобы объявить
об аресте депутатов Совета. Он начал зачитывать постановление,
но Троцкий резко оборвал его: «Если Вы хотите выступить,
назовите свою фамилию, я спрошу собрание, желают ли они Вас
слушать!». От такой неожиданной дерзости жандарм сбился и
удивлённо замолчал.
Получив согласие зала, Троцкий разрешил жандарму
говорить. Депутаты выслушали решение о своём аресте. Председатель
предложил «принять это заявление к сведению», после чего
невозмутимо потребовал от жандарма... покинуть зал. Тот,
окончательно растерявшись, подчинился. Конечно, эта пауза длилась
недолго, и через несколько минут
депутаты были арестованы
толпой жандармов. Как и
остальные, Троцкий отправился в
тюремную камеру — прямо с
председательской трибуны. Своим
самообладанием он заслужил
немалое уважение.
Спустя год суд вынес ему и
ещё тринадцати подсудимым
приговор — «вечное
поселение» в Сибири. По пути в
ссылку в феврале 1907 г. Троцкий
вновь задумал побег. Он
притворился больным, а когда ему
разрешили задержаться в
дороге, бежал за границу.
Вторая эмиграция
Троцкого продлилась более десяти
лет. Семь из них он провёл в
ЛЕВ ТРОЦКИЙ
И МАНИФЕСТ 17 ОКТЯБРЯ
18 октября 1905 г., когда в газетах был
опубликован царский манифест; Лев
Троцкий обратился к толпе с балкона
Петербургского университета.
«Граждане! — воскликнул он. — Теперь,
когда мы поставили ногу на глотку
правящей клике, она обешает нам
свободу. Не торопитесь праздновать
победу, она ешё неполная. Что изменилось
со вчерашнего дня? Наша сила в нас.
Мы должны зашишать свободу с мечом
в руках. Шарский манифест — всего
лишь клочок бумаги. Его нам сегодня
дали, а завтра порвут в клочки, как это
сделаю я сейчас!»
И под одобрительные аплодисменты
огромной толпы Троцкий разорвал
царский манифест.
Выступление Л. Троцкого на митинге
в Екатериноларе. 1920 г.
247
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОИНА
ВЗЯТИЕ КАЗАНИ И КАРТ-БЛАНШ
Один из критических моментов
гражданской войны наступил в августе
1918 г. Войска сторонников
Учредительного собрания заняли Казань.
Советская республика оказалась на
грани поражения: у неё тогда почти не
было войск, способных сражаться.
Имевшиеся части Красной армии были
деморализованы и думали только об
отступлении.
Требовалось срочно спасать
положение. В город Свияжск, расположенный
недалеко от Казани, прибыл
бронепоезд Л. Троцкого. С помощью самых
суровых мер наркомвоен постарался
восстановить в войсках необходимую
дисциплину. Один из полков бежал с поля
боя. Троцкий распорядился
приговорить к расстрелу каждого десятого из
бежавших. Среди прочих казнили
полкового комиссара и командира (оба
были коммунистами).
Не только карами, но и словом
наркомвоен старался поднять боевой дух
красноармейцев, воодушевить их. «В
течение нескольких недель, — вспоминал
он, — из зыбкой, неустойчивой,
рассыпающейся массы создалась
действительная армия». 10 сентября Красная
армия одержала одну из своих первых
крупных побед — отбила у
противника Казань.
В июле 1919 г. на заседании
Политбюро Троцкого упрекнули в том, что он
расстрелял коммунистов. Лев
Давидович резко ответил: «Если бы не мои
драконовские меры тогда под Свияжском,
мы не заседали бы здесь в
Политбюро». «Абсолютно верно!» —
воскликнул возмущённый Ленин. Он тут же
выдал Троцкому карт-бланш, т. е.
чистый лист бумаги с припиской внизу:
«Товарищи! Зная строгий характер
распоряжений тов. Троцкого, я
настолько убеждён, в абсолютной
степени убеждён в правильности,
целесообразности и необходимости для пользы
дела даваемого тов. Троцким
распоряжения, что поддерживаю это
распоряжение всецело. В. Ульянов (Ленин)».
Этот лист сохранился в архиве
Троцкого. Много лет спустя он говорил: «Я
ни разу не делал употребления из
выданного мне Лениным карт-бланша».
Вене. Затем, когда началась Первая мировая война, чтобы
избежать ареста, поспешно переехал во Францию.
В эти годы Л. Троцкий, как и Юлий Мартов, Виктор Чернов,
Владимир Ленин, оказался в рядах немногочисленных
противников войны. Он страстно агитировал против неё — устно и в
печати. В конце 1916 г. за антивоенную деятельность его
арестовали и выслали сначала из Франции, затем из Испании.
«Опасного смутьяна» вместе с семьёй испанские власти посадили на
пароход и отправили за океан — в Соединённые Штаты.
В 1917 ГОДУ
В Америке Л. Троцкого застала нежданная весть_о революции в
России. Как и другие эмигранты, он сразу же стал собиратьсяна
родину. Но первая попытка выехать в Европу оказалась
неудачной. Как противника войны и «немецкого агента», его
арестовали в канадском порту. Даже в лагере для пленных Лев Давидович
не прекращал антивоенной агитации.
Однако российское Временное правительство
потребовало освободить видного русского социалиста. После всех при-
ключений 5 мая рн, наконец, благополучно црибыл яПетроград.
Здесь на Финляндском вокзале его торжественно встретшшто-
варищи.
Тотчас по возвращении перед Троцким встал острый
вопрос: с кем идти дальше? Его политическая позиция почти
совпадала с позицией большевиков. Но в то же время единству с
ними мешали старые разногласия. «Я называться большевиком
не могу», — определённо подчеркнул он в середине мая.
После событий 3—4 июля (см. ст. «Политическая борьба в
1917 году») среди вождей большевиков были произведены
аресты. Владимир Ленин и Григорий Зиновьев ушли в подполье.
Казалось, партия почти разгромлена.
Именно в те дни Троцкий решился на вызывающий^
эффектный шаг: потребовал в печати... собственного ареста. В
открытом письме Временному правительству он замечал:
«Граждане министры! Я знаю, что вы решили арестовать товарищей
Ленина, Зиновьева и Каменева. Но ордер на арест не выдаётся
на меня. Поэтому я считаю необходимым обратить ваше
внимание на следующие факты. Я в принципе разделяю позицию
Ленина, Зиновьева и Каменева и отстаивал её во всех моих
публичных выступлениях...».
Власти не потерпели такой дерзости и вскоре арестовали
автора письма. В тюремной камере петроградских «Крестов» Лев
Троцкий провёл более 40 дней. За это время большевики не
только приняли его в сдою партию, но^аже избрали в Центральный
Комитет, К сентябрю обстановка в стране снова резко
изменилась. Теперь большевиков, наоборот, выпускали из-под стражи.
2 сентября Л. Троцкий вышел на свободу уже одним из ихпри-
знанных вождей. ^
~ А спустя неделю его новая партия завоевала большинство в
248
ЛЕВ
троикий
Петроградском совете. 9 (22) сентября 1917 г. Лев Троцкий
второй раз в жизни стал председателем столичного Совета. Вскоре
ом вшщаБил^юдготовку к O^^GpbCKOMyjiepeBopoT^H взялся за
дело с необычайной энергией.
Будущий главный противник Троцкого, Иосиф Сталин,
отмечал в «Правде» в первую годовщину Октября: «Вся работа по
практической организации восстания проходила под
непосредственным руководством т. Троцкого». Сам Лев Давидович
позднее писал в своём дневнике: «Если бы в Петербурге не было бы
ни Ленина, ни меня, не было бы и Октябрьской революции».
В октябрьские дниособенно раскрылся ораторский талант
Троцкого. «Легко загорающийся.:, полный огня... уверенный и
владеющий собой» — так описывал Троцкого на трибуне
американский писатель Джон Рид. Участник Второго съезда
Советов Павел Арсентьев вспоминал его выступление в ночь
Октябрьского переворота: «Особенно врезалась мне в память
бессмертная речь тов. Троцкого. Я слыхал его до этой речи и после неё,
но такой речи мне больше не удавалось слышать. Это был какой-
то расплавленный металл, каждое слово жгло душу, будило мысль
и рождало отвагу, а говорил он о победе пролетариата. Слушали
его с затаённым дыханием, и я видел, как у многих сжимались
кулаки, как складывалась определённая решимость пойти за ним
беспрекословно, куда бы он ни позвал».
К. Елисеев. «Обманчивая внешность.
Кто этот мирный старичок?
Это архимиллионер Джон Рокфеллер -
угроза миру.
Кто этот воинственный человек?
Это революционер Лев Троикий —
угроза войне»
(журнал «Красный перец», 1924 г.).
Обманчивая внешность.
ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ
В первом советском правительстве Троцкий получил портфель
наркома по иностранным делам. Отношения его с Лениным в это
время были очень близкими: они даже работали в одном
кабинете в Смольном.
Многие вожди большевиков первое время
после взятия власти чувствовали себя
неуверенно, искали поддержки меньшевиков и эсеров.
Почти никто не верил, что большевики в
одиночку смогут удержать власть. Только Троцкий
и Ленин не сомневались ни минуты и не шли
ни к кому «на поклон». Своей стойкой верой в
успех они вселяли твёрдость в колеблющихся.
1 ноября Ленин заметил на одном заседании:
«Троцкий давно сказал, что объединение (с
меньшевиками и эсерами. — Прим. ред.)
невозможно. Троцкий это понял, и с тех пор не было
лучшего большевика».
В_марте 1918 г. Л. Троцкий занял пост
наркома покоенным деламТнаркомвоена). Многих
удивило такое назначение: ведь Троцкий был
человеком сугубо штатским. Но он с огромным
увлечением взялся за это новое для него дело.
Чтобы создать сильную Красную армию,
требовалось перешагнуть через многие прежние
Кто этот мирный старичок?
Это архимиллионер Джон Рокфеллер,—
Угроза миру.
Кто итог воинственный человек?
Это революционер Лев Троцкий,—
Угроза войне.
249
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
БРОНЕПОЕЗД НАРКОМВОЕНА
В августе 1918 г. Лев Троцкий
впервые отправился на фронт под Свияжск
в бронированном поезде. Позже его
поездки по фронтам в этом
знаменитом поезде стали постоянными.
Бронепоезд представлял собой
настоящий передвижной штаб командования
фронтами. В нём размешались
телеграф, радио, библиотека, баня и гараж
с шестью автомобилями. В типографии
поезда печатались в виде листовок
приказы наркомвоена, а также поездная
газета «В пути».
Поезд прибывал в самые горячие точки
фронта и, как говорили командиры,
«заменял собой резервную дивизию». Он
внушал страх и уважение не только
красноармейцам. «Слух о прибытии поезда
проникал и во вражеские ряды, —
замечал Троцкий. — Там рисовали себе
таинственный поезд неизмеримо
страшнее, чем он был на деле. Поезд
разрешал на месте неотложные вопросы,
просвещал, призывал, снабжал, карал и
награждал. Моя личная жизнь в течение
самых напряжённых годов революции
была неразрывно связана с жизнью
этого поезда. Два с половиной года я
прожил в железнодорожном вагоне».
Бывая на фронтах, Троцкий часто
разделял с красноармейцами опасности
передовой. В 1918 г. под Свияжском
команде поезда, включая даже повара,
пришлось вступить в сражение с
противником.
принципы большевизма. Троцкий делал это не колеблясь — ведь
вопрос стоял о жизни и смерти Советской республики.
На каждом шагу приходилось преодолевать ожесточённое
сопротивление товарищей по партии. Ведь большевики всегда
были противниками постоянной армии, выступали за народное
ополчение! Ещё большие возражения вызвало привлечение в
Красную армию офицеров и генералов старого режима. По
словам Льва Давидовича, он часто отвечал на эти возражения так: «А
вы можете мне сегодня дать 10 начальников дивизий, 50
полковых командиров, двух командующих армиями, одного
командующего фронтом — все из коммунистов?». В ответ на это критики
обычно смущённо смеялись и умолкали.
Следующим шагом стало восстановление смертной казни на
фронте. Позже Л. Троцкий писал: «Нельзя строить армию без
репрессий. Нельзя вести массы людей на смерть, не имея в
арсенале командования смертной казни. До тех пор пока злые
бесхвостые обезьяны, именуемые людьми, будут строить армии и
воевать, командование будет ставить солдат между возможной
смертью впереди и неизбежной смертью позади». В августе 1918 г.
наркомвоен издал приказ, в котором говорилось:
«Предупреждаю: если какая-нибудь часть отступит самовольно, первым
будет расстрелян комиссар части, вторым — командир.
Мужественные, храбрые солдаты будут поставлены на командные посты.
Трусы, шкурники и предатели не уйдут от пули...».
Позднее Л. Троцкий никогда не скрывал тех жестокостей,
которые совершались в ходе всей гражданской войны. Он
откровенно замечал в 30-е гг.: «Гражданская война есть самый
жестокий из всех видов войн. Она немыслима не только без насилия
над третьими лицами, но и — при современной технике — без
убийства стариков, старух и детей». За многие беспощадные меры
времён гражданской войны Троцкий брал на себя полную
ответственность. Например, в 1919 г. появился декрет, по которому
арестовывали семьи офицеров-перебежчиков. Много лет спустя
Троцкий твёрдо заявлял: «За декрет 1919 г. я несу полностью
ответственность. Он был необходимой мерой...».
«В ОБРУЧЕ»
В первые годы после гражданской войны Троцкого продолжали
считать вторым (после Ленина) человеком в стране. Его
называли «вождём Красной армии». Но в высшем руководстве его
влияние постепенно слабело.
Остальные члены Политбюро опасались единоличной
власти Л. Троцкого. В 1923 г. они тайно условились никогда не
спорить между собой в его присутствии. Все вопросы решались
заранее, за его спиной. «Троцкий был настолько уверен в своём
положении в партии и в стране, — замечал его биограф Исаак
Дойчер, — в своём превосходстве над противником, что долго
не хотел ввязываться в открытую борьбу за преемственность».
Когда однажды на Политбюро Троцкий попытался отстоять
250
ЛЕВ
ТРОЦКИЙ
собственное мнение, Г. Зиновьев ехидно заявил ему: «Разве Вы не
видите, что Вы в обруче? Ваши фокусы не пройдут, Вы в
единственном числе». Эта издёвка привела Троцкого в ярость. После
этого на заседаниях Политбюро он демонстративно погружался
в чтение иностранных газет.
ЗАРОЖДЕНИЕ ОППОЗИЦИИ
В 1923 г. в партии проявились первые признаки беспокойства
«старых большевиков». Их встревожило то, что власть «уплывает» от них
в руки новой силы — партийных чиновников, аппарата.
Лев Троцкий естественным образом оказался главным
выразителем этих настроений. 8 октября 1923 г. он направил в ЦК
письмо, в котором выражал озабоченность сложившейся в
партии обстановкой. Он замечал, что секретарей партийных
комитетов больше не избирают, а назначают сверху. «Создаваемый
сверху вниз секретарский аппарат, всё более и более
самодовлеющий, стягивает к себе все нити», — писал он.
Через неделю появилось очень близкое по духу письмо
сорока шести «старых большевиков». В нём также осуждалась
«секретарская иерархия».
Немедленно собрался пленум ЦК, который
осудил оба письма как «грубую политическую
ошибку». Но весь этот спор оставался пока
неизвестен широкой публике. Чтобы разбить
Троцкого и его сторонников, требовалось
придать дискуссии широкое общественное
звучание. Это было сделано с помощью блестящего
политического приёма. 5 декабря Политбюро
неожиданно приняло резолюцию, в которой
поддерживались многие идеи Троцкого.
Осуждался бюрократизм, говорилось о расширении
демократии в партии.
Обрадованные и обнадёженные такой
победой, Троцкий и его сторонники горячо
поддержали резолюцию. 11 декабря Троцкий поместил
в «Правде» статью, в которой одобрял резолюцию
и расценивал её как смену курса. Статья так и
называлась — «Новый курс». Теперь, когда
оппозиция сама вышла на свет, на неё обрушился
прямо-таки ураганный огонь критики. Это
произошло уже на следующий день, 12 декабря.
В январе 1924 г. XIII партконференция
закрепила первую крупную победу над Троцким
и его сторонниками. Их позицию она назвала
«прямым отходом от большевизма».
Рисунок Л. М. «В партийной шкале.
Тов. Троцкий задумал давать „Уроки
Октября". Придётся ему сначала
получать уроки ленинизма». Карикатура
связана с выходом книги Л. Троцкого
«Уроки Октября», в которой он
критиковал позицию Л. Каменева
и Г. Зиновьева в 1917 г.
(«Крокодил». Январь 1925 г.).
ДА гркш^*^^»**
ПЕРЕЦ
«Никто не может стать Лениным.
Но каждый из вас должен стать ленинцем»
(из речи Л. Троцкого). (Журнал «Красный перец». 1924 г.)
251
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
ТРОЦКИЙ И СМЕРТЬ ЛЕНИНА
В конце января 1924 г. Л. Троцкий
выехал на Кавказ для лечения от
эпилепсии. «Весть о смерти Ленина застигла
меня в пути, в Тифлисе, — вспоминал
он. — Я сейчас же послал в Кремль по
прямому проводу шифрованную
записку: „Считаю нужным вернуться в
Москву. Когда похороны?". Ответ пришёл
через час: „Похороны состоятся в
субботу, не успеете прибыть вовремя.
Сталин"». После этого Троцкий решил не
прерывать поездку.
В действительности похороны
перенесли на воскресенье. Членам
Политбюро важно было добиться того, чтобы
на траурной церемонии не было их
главного соперника. «Факт моего
отсутствия на траурном чествовании
произвёл на многих друзей тяжёлое
впечатление», — замечал Троцкий.
Многие даже говорили, что в
конечном итоге он именно потому и
потерял власть, что не приехал на эти
похороны.
22 мая 1924 г. в Совете старейшин XIII
съезда партии впервые огласили
«завещание» Ленина — «Письмо к
съезду». Из всех перечисленных в письме
руководителей Троцкий получил самую
одобрительную оценку. Позднее он
рассказывал, что в момент оглашения
завещания Карл Радек нагнулся к нему
и сказал: «Теперь они не посмеют идти
против нас!». «Наоборот, — отвечал
Троцкий, — теперь им придётся идти
до конца, и притом как можно скорее».
РУКОВОДИТЕЛЬ ОППОЗИЦИИ
В январе 1925 г. ЦК партии снял Л. Троцкого с поста наркома по
военным делам. По этому поводу в народе шутили: «Троцкий
теперь пишется „Троий" — ЦК выпало».
Выступления оппозиции постепенно становились резче. В
них начинало звучать слово «термидор». По аналогии с
Францией 1794 г. под термидором понимались перерождение и гибель
революции. В обществе, считала оппозиция, сохранились
буржуазные слои — нэпманы, деревенские «кулаки». Если «бюрократия»
пойдёт на смычку с ними, революция погибнет. Поэтому
Троцкий и его сторонники призывали к усилению борьбы «против
нэпманов, кулаков и бюрократов». Оппозиция называла себя
«левой». С ней отчаянно воевали «правые» (Н. Бухарин, А. Рыков).
На сторону оппозиции в 1925—1926 гг. переходили всё
новые и новые сторонники из числа «старых большевиков». Эта
небольшая прослойка партии (несколько тысяч человек)
раскололась почти пополам. Но влияние оппозиции в целом
непрерывно слабело, а удары по ней становились всё сокрушительней.
В октябре 1926 г. Л. Троцкого вывели из состава Политбюро.
В войне с оппозицией бывали обострения и затишье,
временные «перемирия». Однако шаг за шагом оппозиция
оттеснялась в тупик, откуда было только два пути. Первый — признание
ошибочности своих взглядов и раскаяние. Второй —
исключение из партии, ссылка в глубь страны, затем — арест (см. ст.
«Партия большевиков в 20—30-е годы»).
Осенью 1927 г. «левая оппозиция» дала свой последний
ожесточённый бой. 23 октября на пленуме ЦК партии с большой
речью против «троцкистов» выступил И. Сталин. Он потребовал
исключить Троцкого из ЦК Завершил свою речь Сталин
эффектным приёмом. Он неожиданно процитировал посвящение одной
из ранних книг Троцкого, вышедшей в 1904 г.: «Дорогому
учителю Павлу Борисовичу Аксельроду». После этого в зале
послышались голоса: «Явный меньшевик!». «Ну что же, — воскликнул
Сталин, — скатертью дорога к „дорогому учителю Павлу
Борисовичу Аксельроду"! Скатертью дорога! Только поторопитесь,
достопочтенный Троцкий, так как „Павел Борисович", ввиду его
дряхлости, может в скором времени помереть, а Вы можете не поспеть
к „учителю"» (Продолжительные аплодисменты?). После этих
слов, как вспоминал позже Троцкий, он физически
почувствовал над головой нож гильотины.
Выступил на этом пленуме и Троцкий. Зал прерывал его речь
шиканьем и оглушительным свистом. В оратора бросили стакан
из президиума, Емельян Ярославский швырнул в него книгу. «За
спиной крайних аппаратчиков стоит оживающая внутренняя
буржуазия, — заявил Лев Давидович. — Уже раздаются голоса:
„Тысячу исключим, сотню расстреляем — и в партии станет тихо".
Это и есть голос Термидора».
Пленум постановил исключить Троцкого из состава ЦК Под
влиянием происшедшего оппозиция через две недели, в
годовщину Октября, решилась на отчаянный шаг. «Троцкисты» прове-
252
ЛЕВ
ТРОЦКИЙ
ли демонстрации в Москве и Ленинграде. Несколько сотен
демонстрантов несли портреты Троцкого, плакаты с лозунгами
«Долой кулака, нэпмана и бюрократа!». Их разгоняла и
арестовывала милиция. Сам Троцкий попытался обратиться к колонне
официальной демонстрации, шедшей на Красную площадь. В его
автомобиль полетели камни... После демонстрации 7 ноября
1927 г. «левая оппозиция» была окончательно разгромлена. 14
ноября Л. Троцкого исключили из рядов ВКП(б).
ССЫЛКА
17 января 1928 г. в квартиру Льва Троцкого пришли сотрудники
ОПТУ. Они объявили ему, что за антисоветскую деятельность он
высылается из столицы и должен немедленно следовать в Алма-
Ату. Лев Давидович забаррикадировался в комнате, отказавшись
выходить. Тогда чекисты взломали дверь и на руках перенесли
Троцкого в автомобиль.
Л. Троцкий на параде
на Красной плошали. Около 1919 г.
253
РЕВОЛЮЦИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
«ПЕРМАНЕНТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
Ешё в 1905 г. Л. Троцкий начал
разрабатывать свою знаменитую теорию
«перманентной (непрерывной)
революции». Он считал, что русская
революция не сможет остановиться в
обычных буржуазно-демократических
рамках. Она пойдёт гораздо дальше,
превратится в «пролетарскую,
социалистическую». Рано или поздно
революционная власть «придёт во враждебные
столкновения не только со всеми
группировками буржуазии, но и с
широкими массами крестьянства».
Поскольку именно крестьянство
составляет в России большинство
населения, «завершение социалистической
революции в национальных рамках
немыслимо». Чтобы выжить, она должна
будет, по мнению Троцкого, «взорвать
национально-государственные рамки»
и перерасти в мировую революцию.
В своей речи сразу после прихода
большевиков к власти, 26 октября 1917 г.,
Троцкий вновь повторил эту мысль:
«Надежду свою мы возлагаем на то,
что наша революция развяжет
европейскую революцию. Если восставшие
народы Европы не раздавят
империализм, мы будем раздавлены — это
несомненно; либо русская революция
поднимет вихрь борьбы на Западе,
либо капиталисты всех стран задушат
нашу». В 20-е гг. власти особенно
жестоко «били» Троцкого именно за
теорию «перманентной революции». Как
известно, они противопоставляли ей
«социализм в одной стране».
На вокзале его старший сын Лев Седов кричал
железнодорожникам: «Товарищи рабочие, смотрите, как несут товарища
Троцкого». Но те не стали вмешиваться, хотя у одного из них, по
словам Троцкого, было «взволнованное лицо».
В алма-атинской ссылке Л. Троцкий оказался за 250 км от
железной дороги и за 4 тыс. км от столицы. Но и здесь он не
прекращал политической деятельности, переписывался со своими
сосланными сторонниками. Л. Седов рассказывал: «За апрель —
октябрь 1928 г. нами было послано 800 политических писем,
отправлено около 550 телеграмм. Получено свыше 1000
политических писем и около 700 телеграмм...». Но затем власти
постарались, чтобы эта переписка почти прекратилась. Письмо от
заболевшей дочери из Москвы шло к Льву Давидовичу 73 дня, и
его ответ уже не застал её в живых.
В декабре 1928 г. к Троцкому явился из Москвы
представитель ОПТУ. Он потребовал от него прекратить политическую
деятельность, угрожая «переменой места жительства». Троцкий
категорически отказался, назвав это «жалкими угрозами».
В Алма-Ате произошла ещё одна любопытная встреча,
значение которой Троцкий оценил лишь позднее. Он рассказывал:
«Ко мне явился однажды какой-то советский инженер, якобы
лично мне сочувствующий. Он очень осторожно спросил: „Не
думаете ли Вы, что возможны какие-либо шаги для примирения?".
Ясно, что инженер был подослан для того, чтобы пощупать пульс.
Я ответил ему в том смысле, что о примирении сейчас не может
быть и речи: не потому, что я его не хочу, а потому, что Сталин
не может мириться, он вынужден идти до конца по тому пути, на
который его поставила бюрократия. „Чем это может
закончиться?" „Мокрым делом, — ответил я, — ничем иным Сталин кончить
не сможет".
Моего посетителя передёрнуло, он явно не ожидал такого
ответа и скоро ушёл. Я думаю, что эта беседа сыграла большую
роль в отношении решения о высылке меня за границу».
ВЫСЫЛКА ЗА ГРАЛИЦУ
20 января 1929 г. Л. Троцкому передали решение Особого
совещания ОГПУ о том, что его высылают за границу. Он обвинялся
в «контрреволюционной деятельности» и «организации
нелегальной антисоветской партии».
10 февраля особым поездом Троцкого с женой и старшим
сыном доставили в Одессу. Затем на пароходе «Ильич» их
отправили к берегам Турции. Всё путешествие длилось 22 дня. С борта
парохода Троцкий передал заявление на имя турецкого
президента Мустафы Кемаля: «Милостивый государь! У ворот
Константинополя я имею честь известить Вас, что на турецкую границу
я прибыл отнюдь не по собственному выбору и что перейти эту
границу я могу, лишь подчиняясь насилию. Соблаговолите,
господин Президент, принять соответственные мои чувства».
Вместе с собой Троцкому разрешили вывезти около 30 ящи-
254
Tnnnirafl wun un mmmn» m*n ....wl
M. Черемных. «Ленин умер, но дело его живёт! Троцкий жив, но «Вырастешь, Саша, — узнаешь... В „Правде" опубликовано
„дело" его умерло!» («Крокодил». Декабрь 1927 г.) письмо молодых партийцев тов. Троцкому и ответ тов. Троцкого.
— Лев Лавыдович, скажите, что мне сделать, чтобы стать умным?
— Ла так, знаете... Это скорее... „индивидуальная особенность"»
(журнал «Красный перец», 1923 г.).
ков его архивов. Позднее И. Сталин в частных разговорах
называл это своей крупной ошибкой, как и всю высылку в целом.
В ЭМИГРАЦИИ
Началась последняя, третья эмиграция Л. Троцкого. Все эти годы,
находясь вдали от родины, Троцкий не складывал оружия, не
прекращал политической борьбы. Он писал книги и статьи,
выпускал журнал «Бюллетень оппозиции». Существо своей позиции
он выражал так: «Ненависть ко мне бюрократии определяется
тем, что я веду борьбу против её чудовищных привилегий и
преступного произвола. В этой борьбе и состоит суть так
называемого „троцкизма"».
Отношение Троцкого к советскому режиму постепенно
менялось. В 1937 г. он замечал: «В течение 1923—1933 годов я по
отношению к советскому государству, его правящей партии и
Коминтерну стоял на точке зрения, которая лапидарно выража-
255
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
В. Лени. Карикатура на Л. Троцкого.
1930 г.
САМОУБИЙСТВО
АДОЛЬФА ИОФФЕ
Через лва дня после исключения
Льва Троцкого из партии, 16 ноября
1927 г., застрелился его давний друг и
соратник, дипломат Адольф Иоффе.
Этой крайней мерой Иоффе выразил
протест против происшедшего. Кроме
того, он был тяжело болен.
Предсмертное письмо Адольф
Абрамович адресовал Троцкому. Своё
самоубийство он просил расценивать как
«протест борца». Исключение из
партии Л. Троцкого, как писал Иоффе,
«неизбежно должно явиться началом
термидорианского периода в нашей
революции». Обращаясь к Троцкому, он
подчёркивал: «Залог победы Вашей
правоты — в максимальной
неуступчивости, в строжайшей
прямолинейности, в полном отсутствии всяких
компромиссов». Это предсмертное
письмо (с комментариями Е. Ярославского)
опубликовали и в советской печати.
Похоронили дипломата 17 ноября на
Новодевичьем кладбище в Москве. За
гробом шли «троцкисты»,
сочувствовавшая оппозиции молодёжь. Речь
перед ними произнёс Л. Троцкий, уже
«беспартийный». Это было его
последнее публичное выступление на родине.
лась словами: реформа, а не революция. Со второй половины
1933 г. я всё решительнее прихожу к тому убеждению, что для
освобождения трудящихся масс СССР от новой паразитической
касты исторически неизбежна политическая революция».
20 февраля 1932 г. Льва Троцкого и его родных, выехавших
за рубеж, лишили советского гражданства. Но на родине вовсе
не предали его имя забвению. Наоборот, с каждым годом оно
подвергалось всё более горячему осуждению.
С 1936 г. в Москве начались суды над бывшими вождями
партии большевиков. Французский журналист Борис Суварин
замечал: «В этих средневековых процессах Троцкий играет роль
дьявола». Этой роли соответствовали и выдвинутые против него
обвинения: убийство Кирова и другие покушения, связь с
гестапо и т. д.
В августе 1936 г. Троцкий, находившийся в Норвегии, узнал
об этом новом повороте событий. Он вспоминал: «Готовый ко
многому, даже ко всему, я всё же не верил глазам. „Хорошо,
терроризм — это ещё можно понять... но гестапо... — повторял я в
изумлении, — так и сказано: гестапо?"».
Л. Троцкий собирался дать в печати решительный бой
московским обвинениям. Конечно, советские власти постарались
этому помешать и пригрозили Норвегии бойкотом её торгового
флота. После этого Троцкого посетил начальник норвежской
полиции, а затем и министр юстиции. Они потребовали от него
прекратить любую политическую деятельность, в том числе — не
отвечать на обвинения из Москвы. «Я предпочитаю арест!» — с
негодованием отвечал Троцкий.
После чего он действительно провёл четыре месяца под
домашним арестом. Вместе с женой его поместили в сельском
двухэтажном домике под надзором 13 полицейских. Все письма
Троцкого изымала полиция. Он рассказывал: «Трудно передать
тягостную атмосферу в деревянном доме, где весь нижний этаж
и половина верхнего заняты были тяжеловесными и
медлительными полисменами, которые курили трубки, играли в карты, а в
полдень приносили нам газеты, исполненные клеветы».
8 конце 1936 г. мексиканский художник Диего Ривера
добился разрешения на проживание Л. Троцкого в Мексике. В то
время Ривера был истинным поклонником Троцкого. К ужасу
заказчиков, он изобразил Ленина и Троцкого в центре панно на
стенах... Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке!
9 января 1937 г. Л. Троцкий сошёл с норвежского танкера
на мексиканский берег. Его приятно удивило гостеприимство,
оказанное ему от имени президента страны. Но ещё больше его
поразило новое жильё — «Синий дом» Д. Риверы: просторный,
удобный для работы. «Я видел, как Лев Давидович щипал себя, —
говорил Ривера, — ему казалось, что он спит, что наш приём и
всё вокруг — это сон».
В Мексике Лев Троцкий продолжил страстную борьбу за
опровержение московских «большевистских процессов». По его
предложению весной 1937 г. образовалась авторитетная «комис-
256
ЛЕВ
троикий
сия расследования». Её возглавил американский философ Джон
Дьюи. Троцкий заявил: «Я отвечу на каждый вопрос. Мне нечего
скрывать. Я заявляю заранее: если комиссия признает меня
виновным — я добровольно отдамся в руки палачей ГПУ. Я даю
это обязательство перед лицом всего мира». В сентябре 1937 г.
после длительного расследования «комиссия Дьюи»
признала Л. Троцкого невиновным, а московские обвинения —
подложными.
ПОКУШЕНИЕ
В ночь на 24 мая 1940 г. отряд из 20 автоматчиков ворвался во
двор виллы Л. Троцкого. Разбуженные выстрелами, Троцкий и его
жена успели броситься на пол между стеной и кроватью.
Нападавшие дали несколько очередей по кроватям в спальнях,
забросали дом зажигательными бомбами и скрылись. Потом в стенах
спальни Троцкого нашли 73 пулевых отверстия. Но сам Лев
Давидович отделался царапиной, его жена — лёгкими ожогами.
Пуля слегка ранила 10-летнего внука Троцкого Всеволода.
На место происшествия немедленно прибыл полковник
Санчес Салазар, начальник тайной полиции Мексики. Он
спросил Троцкого: «Вы подозреваете кого-нибудь?». «Конечно! —
воскликнул Троцкий и тихо сказал полковнику на ухо: — Иосифа
Сталина». Полковника поразили самообладание и даже юмор
Троцкого, и он вначале решил, что тот сам разыграл покушение.
Потом суд установил, что главным организатором
покушения был известный художник-коммунист Давид Альфаро Сикей-
рос. Услышав по радио о том, что Троцкий остался жив, Сикей-
рос с досадой воскликнул: «Вся работа впустую!».
УБИЙСТВО
Спустя четыре дня после неудачного покушения
Троцкий познакомился с молодым испанцем,
который назвался Фрэнком Джексоном. Тот
пять или шесть раз побывал в доме Троцкого.
Как-то раз Джексон увидел, что рабочие в целях
безопасности наращивают бетонные стены
вокруг дома. Он покачал головой и заметил:
«Против ГПУ стены не помогут. В следующий раз
применят совершенно иной способ».
20 августа 1940 г. Джексон явился к
Троцкому, чтобы показать ему свою статью. На эту
встречу Джексон пришёл хорошо вооружённый: взял с
собой револьвер и спрятал в плаще кинжал и
ледоруб. Троцкий и гость прошли в кабинет. Когда
Лев Давидович склонился над статьёй, Джексон
достал ледоруб и нанёс ему сзади
сокрушительный удар по голове. В этот удар, по его словам, он
постарался вложить всю свою силу.
«ПРАВДА»
О СМЕРТИ ТРОЦКОГО
«Телеграф принёс известие о смерти
Троцкого. По сообщению
американских газет, на Троцкого,
проживавшего последние годы в Мексике, было
совершено покушение», — сообщала
газета «Правда» 24 августа 1940 г.
Редакционная статья (вероятно,
продиктованная Сталиным) под
заголовком «Смерть международного шпиона»
напоминала своеобразную пародию на
некролог: «В могилу сошёл человек, чьё
имя с презрением и проклятием
произносят трудящиеся во всём мире.
Господствующие классы
капиталистических стран потеряли верного своего
слугу. Иностранные разведки лишились
долголетнего матёрого агента,
организатора убийц».
Заканчивалась статья так: «Троикий
запутался в своих собственных сетях,
дойдя до предела человеческого
падения. Его убили его же сторонники. С
ним покончили те самые террористы,
которых он учил убийству из-за угла.
. Троцкий, организовавший злодейские
убийства Кирова, Куйбышева, М.
Горького, стал жертвой своих же
собственных интриг, предательств, измен,
злодеяний. Так бесславно кончил свою
жизнь этот презренный человек,
сойдя в могилу с печатью
международного шпиона и убийцы на челе».
Л. Бродаты. «Так на так.
— Я просила „Мою борьбу" Гитлера, а Вы мне завернули „Мою
жизнь" Троцкого!
— Это равноценные труды, мадам. И идеология в обеих книгах
абсолютно одинаковая...» («Крокодил». 1936 г.).
257
Но Троцкий неожиданно вскочил, издал, как вспоминал
убийца, «очень протяжный, прямо бесконечный» крик,
разнёсшийся по всему дому, и стал швырять в Джексона различными
предметами: чернильницей, книгами. «Он хотел меня ещё раз
(ударить), но я не позволил ему», — сказал Троцкий несколько
минут спустя.
С залитым кровью лицом Лев Давидович выбежал из своего
кабинета. Его увидела жена, Наталья Седова. «Наташа, я люблю
тебя», — произнёс Троцкий и медленно, с её помощью,
опустился на ковёр. Его попытались успокоить, говоря, что рана
неглубока. Он приложил руку к сердцу и возразил: «Нет, это конец. Я
чувствую здесь, на сей раз они одолели».
В тот же день ему сделали сложную операцию на черепе, но
мозг был слишком сильно повреждён. Вечером 21 августа 1940 г.
60-летний Лев Троцкий скончался. В течение пяти дней
прощания около 300 тыс. человек прошли мимо гроба с его телом.
Затем оно было кремировано и предано земле на его вилле в
пригороде Мехико — Койоакане.
1929 г.-х»я~ тиипи.
258
ЗАВЕЩАНИЕ
Незадолго до своей гибели Лев Троцкий сказал
жене: «Я живу на земле не в порядке правила, а в
порядке исключения». Действительно, он
оказался одним из последних обломков крушения
«старой партийной гвардии». В феврале 1940 г.
Лев Давидович написал политическое
«Завещание». В нём подводились итоги пройденного
пути: «Сорок три года своей сознательной
жизни я оставался революционером, из них сорок
два года я боролся под знаменем марксизма.
Если б мне пришлось начать сначала, я
постарался бы, разумеется, избежать тех или иных
ошибок, но общее направление моей жизни
осталось бы неизменным».
«Я вижу ярко-зелёную полосу травы под
стеной, — продолжал Троцкий, — чистое
голубое небо над стеной и солнечный свет везде.
Жизнь прекрасна. Пусть грядущие поколения
очистят её от зла, гнёта, насилия и
наслаждаются ею вполне».
К. Елисеев.
«Буржуазия и Троцкий.
1919 г. — У-у... у, Троцкий!!!
1929 г. — Хе-хе... Троцкий!..»
(«Крокодил». 1929 г.)
ЛЕВ
троикий
РАМОН МЕРКАЛЕР
27-летнего испанца, убившего
Троцкого, в действительности звали Рамоном
Меркадером. После ареста он очень
стойко держался на следствии,
полностью отрицал свои связи с Москвой,
говорил, что убил Троцкого,
разочаровавшись в нём и его идеях. Полиция даже
не смогла узнать настоящего имени
арестованного и установила его случайно
только несколько лет спустя. В то же
время Меркадер тяжело переживал свой
поступок и, вспомнив на суде, как
кричал раненый Троцкий, признался: «Этот
крик я буду слышать всю свою жизнь».
В мексиканской тюрьме «Лекумбери»,
где Меркадер отбывал наказание,
условия содержания были достаточно
мягкими. В его камере имелись
радиоприёмник и телевизор, библиотека;
дважды в неделю он встречался с
женой. Один из посетителей рассказывал:
«Его камера, просторная и солнечная,
с небольшим открытым внутренним
двориком — патио — имела
прекрасную кровать и стол, заваленный
книгами и журналами».
В мае 1960 г. Р. Меркадер вышел на
свободу. Спустя некоторое время он
появился в Москве под именем Рамо-
на Лопеса. В 1961 г. ему вручили
Золотую Звезду Героя Советского
Союза. Своего прошлого он не скрывал. В
ответ на настойчивые расспросы о
своём поступке не раз отвечал: «Ну как
же вы не поймёте, что тогда было
совершенно другое время, другая эпоха?
Все мы мыслили совсем по-другому.
Повторись всё это сейчас, я бы,
наверное, вёл себя и действовал совсем
иначе!». Известно, что Р. Меркадер
сочувствовал «Пражской весне» 1968 г.
В 70-х гг. Рамон Меркадер жил на Кубе.
Он скончался в 1978 г. в возрасте 65 лет.
Но похоронили его в Москве, на
Кунцевском кладбище. На его надгробии
высечена надпись: «Герой Советского
Союза Рамон Иванович Лопес».
А. Малеинов. «Явление седьмое:
те же и Троцкий.
— У этого бывшего льва вполне
подходящий голос... Споёмся!»
(«Крокодил». 1929 г.)
Кукрыниксы. Карикатура на Л. Троцкого.
Герой убийства и измены
Не забывает правил гигиены.
Фашистские наёмники живут
По прелписаниям науки.
Палач, окончив кажлолневный тру а,
Трусливо умывает руки.
(А. Жаров.)
(«Крокодил». 1937 г.)
259
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОИНА
Н. Бухарин.
ДРУЖБА СТАЛИНА И БУХАРИНА
До 1928 г. Николай Бухарин и Иосиф
Сталин были не только политическими
союзниками, но и довольно близкими
друзьями. Как-то Сталин сказал
Бухарину: «Мы с тобой, Николай, как
Гималаи, остальные — ничтожества».
Дочь Сталина Светлана вспоминала о
Бухарине, гостившем у них на даче:
«Он наполнял весь дом животными,
которых очень любил. Бегали ежи на
балконе, в банках сидели ужи, ручная
лиса бегала по парку, подраненный
ястреб сидел в клетке. Через много лет,
когда его не стало, по Кремлю, уже
обезлюдевшему и пустынному, долго
ешё бегала „лиса Бухарина" и
пряталась от людей в Тайницком саду».
НИКОЛАИ БУХАРИН
(1888—1938)
Этого человека подвергали аресту в Германской,
Австро-Венгерской и Российской империях, а затем в Российской республике.
Наконец его арестовали в Советском Союзе — государстве,
которое он сам создавал. Через год после ареста его расстреляли...
Родился Николай Иванович Бухарин 27 сентября (9 октября)
1888 г. в Москве в семье школьного учителя. С детства его
интересы были очень разносторонними. Например, по его
собственному признанию, он «знал наизусть страницами Гейне». Однажды,
уже в зрелом возрасте, Николай Бухарин поразил академика
Ивана Павлова, когда в течение нескольких минут перечислял
латинские названия бабочек, выученные им в детстве. Увлекался он
также живописью и оставил после себя несколько пейзажей.
В партию большевиков Николай вступил в 17-летнем
возрасте. Это определило его дальнейшую судьбу. Два ареста,
ссылка. Побег за границу в 1911 г. Здесь вновь аресты в разных
странах. Учиться на экономиста Н. Бухарин начал ещё в Московском
университете, продолжил в эмиграции. Написал несколько
трудов, в том числе «Политическую экономию рантье».
Известие о Феврале застало его в Америке. Отсюда через
Японию он поспешил на родину. По дороге продолжал
агитировать против войны, за что его даже ненадолго арестовали в
Челябинске. В Москве Н. Бухарин примкнул к «непримиримым»
большевикам во главе с В. Лениным. Лев Троцкий писал о нём:
«В характере Бухарина было нечто детское, и это делало его, по
выражению Ленина, любимцем партии. Мягкий, как воск, по
выражению того же Ленина, Бухарин был влюблён в Ленина и
привязан к нему, как ребёнок к матери. Острота полемики никогда
не нарушала их дружеских отношений». Один из самых
молодых вождей Октября (ему было всего 29 лет), Н. Бухарин
завоевал симпатии своих товарищей красноречием, простотой и
непосредственностью. Однажды на заседание Политбюро пришло
какое-то хорошее известие. Бухарин выразил свой восторг тем,
что встал на диване вверх ногами и простоял так с минуту!..
На заседании Учредительного собрания в 1918 г. Николай
Иванович выступил с яркой речью. Он сказал, что собрание
разделилось «на два непримиримых лагеря». «Этот водораздел
проходит по линии — за социализм или против социализма». Одни
говорят «о социализме, который будет лет через двести, который
будет делаться нашими внуками». «Мы говорим, — заявил
Бухарин, — о живом социализме, о котором мы хотим не только
говорить, но который хотим осуществлять» (Рукоплескания слева?).
Во время борьбы вокруг Брестского мира Н. Бухарин
оказался одним из главных противников В. Ленина. Бухарин с
воодушевлением призывал к «революционной войне», даже ценой
260
НИКОЛАИ
БУХАРИН
гибели Советской республики. «Пусть немцы нас побьют, —
восклицал он. — Сохраняя свою республику, мы проигрываем
шансы международного движения» (т. е. мировой революции). Как
позднее рассказал Н. Бухарин, левые эсеры даже предложили ему
тогда на сутки арестовать Ленина и объявить войну Германии.
Конечно, он отверг это предложение.
В 1919 г. Н. Бухарин вместе с экономистом Евгением
Преображенским выпустил книгу «Азбука коммунизма», которая вскоре
стала очень популярной. В ней в доступной форме
растолковывались основные идеи коммунизма. По «Азбуке» училась вся
партийная молодёжь. Имя Бухарина теперь хорошо знала вся страна.
В книге «Экономика переходного периода», написанной
годом позже, он горячо защищал «военный коммунизм» (см. ст.
«„Военный коммунизм" и нэп»). По отношению к крестьянству, писал
Н. Бухарин, «пролетарское принуждение во всех его формах,
начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является
методом выработки коммунистического человечества из
человеческого материала капиталистической эпохи». Тогда так думали и
остальные вожди большевиков. Но когда весной 1921 г.
произошёл поворот к нэпу, Н. Бухарин подвергся резкой критике в
печати. Его книга оказалась очень удобным «объектом для битья» и
разоблачения крайностей «военного коммунизма».
Однако взгляды Н. Бухарина в то время сильно изменились.
Постепенно он стал основным идеологом правого крыла
большевиков во главе с И. Сталиным и А. Рыковым. До 1927 г. не
утихали их ожесточённые споры и борьба с левыми во главе с
Л. Троцким, Л. Каменевым и Г. Зиновьевым.
Увлекающийся, горячий, Н. Бухарин в своих выступлениях
часто забегал немного дальше остальных. В 1925 г. он выдвинул
знаменитый лозунг «Обогащайтесь!». Он обращался не к
кулакам, как стали утверждать позднее, а ко «всему крестьянству, всем
его слоям». «Социализм бедняков — это паршивый
социализм», —говорил Бухарин. Тогда же он написал, что
крестьянство, в том числе и кулачество, «врастёт в социализм через
кооперацию». Позже эти слова назвали «бухаринской теорией
врастания кулака в социализм».
За подобные идеи Бухарина особенно резко осуждала «левая
оппозиция». Конечно, он отвечал ей тем же. В 1926 г. он заявил:
«Встаньте перед партией со склонённой головой и скажите:
„Прости нас, ибо мы погрешили против самой сути ленинизма". По-
честному скажите: „Троцкий ошибался...". Почему у вас нет
мужества выйти и сказать, что это — ошибка?». И. Сталин воскликнул
тогда: «Здорово, Бухарин, здорово! Не говорит, а режет!».
В 1928 г. между былыми союзниками наметились трещины.
Началась борьба с «группой Бухарина» (см. ст. «Партия
большевиков в 20—30-е годы»). 11 июля Николай Бухарин решился на
неожиданный шаг — пришёл домой к своему давнему
противнику Л. Каменеву. Каменев описывал его состояние так: «Он,
Бухарин, очень расстроен. Временами у него дрожат губы от
волнения. Иногда он производит впечатление человека, который
А. Моор.
«Тов. Бухарин (почётный грузин):
— Теперь меня дразнят грузином, а я
вот возьму и выучусь по-грузински.
Прилу на Тыфлыс, скажу: гэй, кацо, кто
тут националов давит? Аавай его сюда —
кынжалом рэзить буду!..»
Карикатура, посвяшённая избранию
Н. Бухарина «почётным грузином»
(«Крокодил». 1923 г.).
НИКОЛАЙ БУХАРИН
В 30-е ГОЛЫ
Хотя и лишённый былого влияния,
Николай Бухарин оставался весьма
заметным партийным деятелем. Особенно
сочувствовала Н. Бухарину творческая
интеллигенция. На I съезде писателей
в 1934 г. он выступил с ярким
докладом о поэзии, закончив его так: «Я
кончаю свой доклад лозунгом: нужно дер-
зать, товарищи!».
Н. Бухарин стал одним из главных
авторов Сталинской конституции.
Находясь в 1936 г. во Франции, он
встретился там с эмигрантами — лидерами
русских меньшевиков. Во время одной
из таких бесед Николай Иванович
вынул из кармана авторучку и сказал:
«Смотрите внимательно: этим пером
написана вся новая конституция...».
261
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОИНА
КОЛЬЦОВ О БУХАРИНЕ
Советская печать не обошла
вниманием тонкую тактику зашиты, которой
придерживался Н. Бухарин во время
процесса над «правотроикистским
центром». Известный журналист
Михаил Кольцов в дни работы суда
писал: «Другие убивали,
вредительствовали, шпионили — он, следует
понимать, по характеру натуры, по складу
ума только мыслил, теоретизировал,
„изучал" проблематику руководства.
Но к прозаическим, грязным и
кровавым делам прямого касательства не
имел. Этакий гнусненький христосик
в стане грешников. Этакая валдайская
девственница в правотроикистском
публичном доме».
Л. Генч. «После Шестнадцатого...
Бойиы вспоминают минувшие лни
И битвы, тле вместе рубились они».
Карикатура, посвященная
окончательному разгрому «правых и
левых уклонистов» на XVI съезде ВКП(б)
(«Крокодил». 1930 г.).
знает, что он обречён». Бухарин сказал: «Разногласия между нами
и Сталиным во много раз серьёзнее, чем все наши разногласия
с вами. Он перережет нам горло». Затем он назвал Сталина «Чин-
гис-ханом» и обронил многозначительную фразу: «На этот раз
его смещение будет не через ЦК». Как вспоминал швейцарский
коммунист Жюль Эмбер-Дро, примерно тогда же Бухарин
признался ему, что согласился бы даже и на убийство Сталина.
В январе 1929 г. «троцкисты», непримиримые противники
Бухарина, напечатали листовку с отчётом о его беседе с
Каменевым. В руках Сталина этот отчёт стал сильнейшим козырем.
Н. Бухарин вместе с А. Рыковым и М. Томским написал
заявление об отставке. Но одновременно они попытались и
высказать свои взгляды. Идею Сталина о том, чтобы наложить на
крестьян «нечто вроде дани», они назвали «военно-феодальной
эксплуатацией крестьянства». Вначале отставку отклонили. «Нужно
было сначала обязательно замарать, — говорил Бухарин, —
запачкать, дискредитировать, растоптать, и тогда речь пойдёт уже
не о том, чтобы удовлетворить просьбу об отставке, а о том,
чтобы „снять" за саботаж Игра здесь абсолютно ясная».
Действительно, в апреле 1929 г. Николая Бухарина и его
союзников сняли с постов, которые они занимали. Тогда же Сталин
заявил: «В старину говорили про философа Платона: Платона мы
любим, но истину — ещё больше. То же самое можно было бы
сказать о Бухарине: Бухарина мы любим, но истину, но партию, но
Коминтерн любим мы ещё больше». Спустя полгода Бухарин и его
товарищи признали свои ошибки. После этого их назначили на
менее значительные посты. Бухарин через некоторое время
стал главным редактором
газеты «Известия» (до этого он
возглавлял «Правду»).
Весной 1936 г. Николаю
Ивановичу разрешили
совершить поездку за границу,
ставшую для него последней.
Вместе с ним поехала в Париж его
молодая жена Анна,
ожидавшая ребёнка. Возможно,
Сталин не хотел, чтобы Бухарин
вернулся на родину. Его
бегство за границу, конечно,
способствовало бы арестам и
судам над «бухаринцами».
Однако в конце апреля Н. Бухарин
приехал в Москву.
А спустя четыре месяца,
во время процесса Л. Каменева
и Г. Зиновьева, против него
впервые прозвучали
обвинения в уголовных
преступлениях. Но до 27 февраля 1937 г.
262
НИКОЛАЙ
БУХАРИН
Бухарин оставался на свободе. В печати его обвиняли в
подпольной деятельности, заговорах и т. п. В знак протеста Николай
Иванович объявил голодовку. Его пригласили на пленум ЦК Сталин
резко спросил его: «Николай, кому ты выдвигаешь ультиматум,
ЦК? Проси прощения у него». Почувствовав после этих слов
слабую надежду, Бухарин согласился прекратить голодовку. А.
Микоян предложил ему покаяться. Николай Иванович ответил: «Я
вам не Зиновьев и Каменев и лгать на себя не буду». В. Молотов
воскликнул: «Не будете признаваться, этим и докажете, что вы
фашистский наймит, они же в своей прессе пишут, что наши
процессы провокационные. Арестуем — сознаетесь!». По окончании
заседания Н. Бухарина арестовали.
Через год в Москве открылся показательный процесс над
Н. Бухариным, А. Рыковым и другими «старыми большевиками»,
(см. ст. «Партия большевиков в 20—30-е годы»). Н. Бухарин на
суде проводил наиболее «тонкую линию». Он признавал себя
виновным «в целом», но отвергал обвинения в конкретных
преступлениях. Да, он хотел «убить дело Ленина», но вовсе не
покушался на самого Ленина. «Я категорически отрицаю свою
причастность к убийству Кирова, Менжинского, Куйбышева,
Горького и Максима Пешкова», — сказал Бухарин. Когда зашла речь
о его шпионских связях, он напомнил: «Я сидел в шведской
тюрьме, дважды сидел в российской тюрьме, в германской тюрьме».
Связь Н. Бухарина с австрийской полицией, по его
собственному ироническому напоминанию, «заключалась в том, что он
сидел в крепости в Австрии».
Прокурор А. Вышинский заявил: «Это лицемерная, лживая,
хитрая натура. Это благочестиво-хищный и почтенно-злой
человек... — проклятая помесь лисицы и свиньи».
Суд приговорил Николая Бухарина к смертной казни.
Через два дня, 15 марта 1938 г., он был расстрелян.
Дружеский шарж на Н. Бухарина
(журнал «Красный перец», 1923 г.).
ЗАВЕЩАНИЕ БУХАРИНА
Вдова Николая Бухарина Анна
Михайловна Ларина дожила в лагерях до
освобождения в 1956 г. После этого она
опубликовала на Западе, а в 1988 г. и
в советской печати письмо-завешание
своего мужа. По её словам, Н.
Бухарин продиктовал ей это письмо и
заставил выучить наизусть перед своим
арестом.
Бухарин обращался в своём письме к
«будущему поколению руководителей
партии». «В эти дни, — говорилось в
завещании, — газета со святым
названием „Правда" печатает гнуснейшую
ложь, что якобы я, Николай Бухарин,
хотел уничтожить завоевания
Октября, реставрировать капитализм. Это
неслыханная наглость, это — ложь,
адекватна которой по наглости, по
безответственности перед народом
была бы только такая: обнаружилось,
что Николай Романов всю свою жизнь
посвятил борьбе с капитализмом и
монархией, борьбе за осуществление
пролетарской революции».
Николай Иванович подчёркивал, что у
него «вот уже седьмой год нет и тени
разногласия с партией». «В эти, может
быть, последние дни моей жизни я
уверен, что фильтр истории рано или
поздно неизбежно смоет грязь с моей
головы. Знайте, товарищи, — заканчивал
он, — что на том знамени, которое вы
понесёте победоносным шествием к
коммунизму, есть и моя капля крови».
Н. Бухарин в группе рабочих завода
имени Фрунзе во время альпинистского
похола на Эльбрус. 1934 г.
263
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
А. Коллонтай. 1888 г.
БУДУЩЕЕ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ
КОЛЛОНТАЙ
Представления об обществе
будущего, бытовавшие в 20-е гг., довольно
ярко отразились в рассказе А.
Коллонтай «Скоро (через 48 лет)»,
написанном в 1922 г. В нём повествуется о
жизни в 1970 г.
К этому времени во всём мире, по
мысли автора, победили коммуны. Люди в
них живут «не семьями, а по
возрастам»: дети — во Дворцах Ребёнка,
старики — в Домах Отдохновения. И вот
7 января 1970 г. в одном из таких
Домов отдохновения ветераны «Великих
годов» революции решили отметить
давно забытый, «необычный и
странный» праздник времён их молодости.
Что же это за праздник? Рождество.
8 день «прежнего Рождества» старики
вспомнили давнюю традицию —
нарядили праздничную ёлку. «Настоящую
ёлку, такую, какая бывала до годов
мирового переворота», — добавляет
автор.
На ветеранскую ёлку приходит и
молодёжь. Мальчишки в разговоре
хвастаются:
«— А я знаю, что такое „барыня"!
—А я — что такое рубль и вообше
всякая деньга.
АЛЕКСАНДРА КОЛЛОНТАЙ
(1872—1952)
О ней часто говорили как о человеке исключительной,
неповторимой судьбы. Самая популярная женщина в рядах большевиков.
Первая в мире женщина в составе правительства. Первая в мире
женщина-посол. Единственная из видных деятелей оппозиции,
уцелевшая во время массовых арестов.
МОЛОДЫЕ ГОДЫ
Александра Михайловна Домонтович (Коллонтай) родилась
19 марта 1872 г. в Петербурге в дворянской семье. С детских лет
Александра оказалась в разладе с той средой, в которой росла.
«Отец мой был русский генерал, — вспоминала она. — С детства
я доставляла матери много хлопот и горя моим стремлением „не
жить, как все". Дружила с прислугой... отстаивала свою
„самостоятельность"; упивалась книгами и жила своим особым, замкнутым
от взрослых внутренним миром».
В 21 год генеральская дочь вышла замуж за офицера
Владимира Коллонтая. По её собственному признанию, она сделала это
«отчасти в виде протеста против воли родителей», которые не
желали этого брака. С мужем прожила пять лет. Но её
беспокойная натура не могла долго довольствоваться размеренной
семейной жизнью. Муж, получивший звание подполковника, мечтал о
будущем генеральском чине. Александре Михайловне такие
жизненные цели казались слишком прозаическими и
приземлёнными. «Мы разошлись не потому, что разлюбили друг друга, —
писала она, — а потому, что меня тяготила и связывала та среда, от
которой брак с Коллонтаем меня не спасал... От Коллонтая я ушла
не к другому. Меня увлекла за собой волна нараставших в
России революционных волнений и событий». Формальный развод
они оформили в 1916 г.
В ЭМИГРАЦИИ
Больше всего Александру Михайловну волновал «женский
вопрос». С конца 90-х гг. XIX в. начались её частые поездки за
границу, где она не раз выступала на съездах феминисток
«Женщины, их судьба занимали меня всю жизнь, — говорила она. — Их-
то участь и толкнула меня к социализму». А, Коллонтай вступила
в ряды социал-демократов и примкнула к меньшевикам.
В 1908 г. на известную социал-демократку А. Коллонтай
завели уголовное дело. Она ушла в подполье, а затем покинула
родину. Её эмиграция продлилась более восьми лет...
Первую мировую войну Александра Михайловна встретила
в Берлине. Она рассчитывала, что социал-демократы Германии
выступят против войны, но вместо этого с удивлением обнару-
264
АЛЕКСАНДРА
КОЛЛОНТАЙ
жила среди них восторженный подъём в связи с началом войны.
Видная германская социал-демократка Роза Люксембург тогда
назвала партию, из которой она вышла, «смердящим трупом».
Александра Михайловна вполне разделяла подобные чувства.
А. Коллонтай переехала в Швецию, где в ноябре 1914 г.
напечатала страстную антивоенную статью. В ней она призывала:
«Прекратить каннибальское массовое убийство! Долой войну! Долой
милитаристский дух! Долой тупой милитаризм!».
За эту публикацию шведские власти арестовали А.
Коллонтай. Её держали в тюрьме Стокгольма, затем в крепости города
Мальме. Наконец, шведский король Густав V подписал указ, по
которому А. Коллонтай «навечно» выслали из страны. Полиция
доставила её в Копенгаген...
В 1915 г. Александра Михайловна вступила в ряды
большевиков, позиция которых по отношению к войне оказалась ей
наиболее близка.
После известия о Февральской революции 1917 г.
Коллонтай поспешила на родину. Она рассказывала об этом
возвращении: «Было весело на саночках с бубенчиками переезжать через
пограничную речку. На душе тогда, в марте, было так же
бодряще светло и свежо, как в снежно-морозном воздухе на
пограничной речке... У заставы — солдат с ружьём. А на шинели — яркий,
яркий красный бант.
— Ваши удостоверения, гражданка. Паспорт Ваш.
— У меня нет бумаг. Я политическая эмигрантка...
— Эмигрантка? Погоди, справиться надо.
Стоят мои сани за запертой оградой. Неужели не впустят?
Но уже бежит молодой, разрумяненный от мороза офицер с
бумагой. И у него на груди огромнейший красный бант.
„Коллонтай, говорите Вы? Сейчас просмотрим список.. Так и есть.
Значитесь. Пропусти!"».
В Петроград А Коллонтай приехала 18 марта 1917 г.
В ВЫБОРГСКОЙ ТЮРЬМЕ
А. Коллонтай одной из первых, если не самой первой,
поддержала знаменитые Апрельские тезисы В. Ленина. Среди
большевиков даже ходила в те дни не очень складная частушка:
Что там Ленин ни болтай,
С ним согласна только Коллонтай.
В первых числах июля Александра Михайловна, находясь за
границей на совещании социалистов, узнала, что в Петрограде
начались аресты большевиков. Их обвиняли в попытке свергнуть
Временное правительство и в пораженческой деятельности. Тем
не менее А Коллонтай решила вернуться в Россию, где её ждал
неминуемый арест. Теперь на пограничной заставе её встречали
хмуро. Тот же краснощёкий офицер уже не поздоровался с ней...
Ей объявили: «Вы, гражданка Коллонтай, арестованы». — «По
чьему распоряжению? Или в России переворот? Опять монар-
— Мы видели деньги в музее.
Дедушка, а у тебя тоже были деньги? И ты их
носил в мешочке в кармане? И были
люди,., как их звали, воришки, что ли...
которые таскали деньги из кармана
товарища? Это правда? Вот забавно-то».
А вот другие «забытые слова» нового
общества: «богатые», «бедные»,
«война» и, как подчёркивает автор, «даже
чрезвычайка». Молодёжь просит
стариков рассказать о том, как они
«воевали с живыми людьми»:
«— И ты сама, красная бабушка,
стреляла в человека? В живого человека?»
«Глаза юнцов коммуны смотрят
удивлённо, в них искрится упрёк,
недоумение... Стрелять в живого человека?..
Ведь жизнь — святыня!
— Мы сами тоже шли на смерть! —
оправдывается „красная бабушка"».
В финале рассказа один из юношей
торжественно восклицает: «Вы
достигли, достигнем и мы. Мы покорим
природу. Жизнь — в борьбе, в
вечно-мятежном искании — не в достижении!».
А. Коллонтай. 1910 г.
265
А. Коллонтай.
А. Коллонтай и П. Дыбенко. 20-е гг.
хия?» — «Что Вы! Ваш арест по распоряжению Временного
правительства...».
В поезде хозяин вагона-ресторана отказался кормить
арестованную и с негодованием кричал ей вслед: «Вот ведут
шпионку Коллонтай. Поганая большевистская собака, кровожадная
Коллонтай! Твоё место на виселице с изменниками Родины!».
В Петрограде Александра Михайловна оказалась в женской
Выборгской тюрьме, в то время как остальные большевики
находились в «Крестах». Ей не давали газет, не сообщали никаких
новостей, на общую прогулку не выводили. Что-то узнать она
могла только из случайных обмолвок тюремщиков. Начальник
тюрьмы попался заботливый, рачительный. Любил с гордостью
говорить: «А заметили ли Вы, какая каша-то пшеничная вчера
была к обеду? Рассыпчатая, со вкусом. Окольными путями достал.
Дёшево и сердито...». «Я часто потом жалела, что Октябрь его
смёл, — неожиданно призналась Коллонтай в своих
воспоминаниях. — Он любил „свою тюрьму". Хозяйственный был мужик!»
19 августа Александру Михаил овну перевели под домашний
арест. У дверей её квартиры поставили стражу... Однако это
продолжалось недолго. Вскоре она уже оказалась в самой гуще
политической жизни. Как член ЦК партии большевиков
голосовала за вооружённое восстание.
Коллонтай часто выступала с
зажигательными речами на митингах. Уже в последние
годы жизни она записала в дневнике: «Тот
энтузиазм, каким бывает „одержим" агитатор,
борющийся за новую идею, это душевное состояние
сладко, близко к влюблённости... Я сама горела,
и моё горение передавалось слушателям. Я не
доказывала, я увлекала их. Я уходила после
митинга под гром рукоплесканий, шатаясь от
усталости. Я дала аудитории частицу себя и была
счастлива».
А весь 1917 год остался в её памяти таким:
«Головокружение, как на высокой башне без
перил. Как на пожаре, где сама поджигаешь старую
гниль... Революция, но и романтика».
НАРКОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИЗРЕНИЯ
Спустя несколько дней после прихода
большевиков к власти В. Ленин решительно сказал А.
Коллонтай, которая заглянула в его кабинет:
«Поезжайте сейчас занимать Министерство
государственного призрения. Это надо сделать теперь же».
Однако новому члену советского
правительства в тот день даже не удалось войти в
здание министерства. Её не пустил туда... старик
швейцар. «Приём просительниц закончен!» —
266
АЛЕКСАНДРА
КОЛЛОНТАЙ
отрубил он. Напрасно Александра Михайловна доказывала, что
она вовсе не просительница, а... новый глава министерства.
«Упорный старик вырастает стеной передо мною, не даёт ступить
шагу, — вспоминала она. — Так и уехала ни с чем».
Когда на следующий день нарком А. Коллонтай и её
сотрудники всё же вошли в министерство, им навстречу тотчас хлынул
поток уходящих прочь служащих. Спустя несколько минут
здание почти опустело. Уходя, чиновники, не желавшие служить
большевикам, захватили и ключи от кассы.
Положение А. Коллонтай оказалось просто отчаянным.
«Государственное призрение, — писала она, — такое учреждение, что
работу не остановишь: тут и приюты, и увечные воины, и
больницы, и дома для слепых... Огромное поле работы! А ключей нет...
Говорят: ищите сами. Пришлось кой-кого арестовать. Через два
дня ключи нашлись...» На посту наркома А. Коллонтай пробыла
четыре месяца, до 19 марта.
Весной 1918 г. Коллонтай впервые оказалась в партийной
оппозиции. В это время в партии разгорелась ожесточённая
борьба; споры шли о том, заключать ли мир с немцами или
вести революционную войну. «Левые коммунисты» считали, что
Советской республикой можно пожертвовать, чтобы зажечь пожар
революционной войны. Конечно, Александра Михайловна с её
романтизмом встала в их ряды. Она восклицала на съезде
партии в начале марта: «Если погибнет наша Советская Республика,
наше знамя поднимут другие... Да здравствует революционная
война!».
ВО ГЛАВЕ «РАБОЧЕЙ ОППОЗИЦИИ»
В начале 20-х гг. Александра Коллонтай занималась вопросами
женского движения при Коминтерне. В марте 1921 г. она
возглавила на X съезде РКП (б) «рабочую оппозицию». В этом,
очевидно, вновь сказался её идеализм. «Рабочая оппозиция» призывала
вернуться к некоторым первоначальным лозунгам большевиков
(см. ст. «Партия большевиков в 1917—1921 годах»).
Перед съездом А Коллонтай выпустила брошюру «Рабочая
оппозиция». «Наша партия не только замедляет свой
стремительный бег в будущее, — писала она, в частности, — но всё чаще
„благоразумно" оглядывается назад: а не забежали ли мы слишком
вперёд? Не пора ли приостановиться? Не разумнее ли стать
поосторожней, избегая смелых, ещё не виданных в истории опытов?»
Брошюру А. Коллонтай сурово критиковал на съезде В.
Ленин, почувствовавший в ней угрозу для Советской республики.
Он утверждал, что между лозунгами Кронштадтского восстания
и лозунгами оппозиции «есть связь». «Брошюрка „рабочей
оппозиции", — заявил он, — выпущенная к съезду тов. Коллонтай,
подтверждает это так наглядно, как больше уж нельзя».
Владимир Ильич даже не поздоровался с Коллонтай, когда она
подошла к нему на съезде. Он резко заявил: «Такой даме я рук не
подаю», — и отвернулся. Александра Михайловна тяжело пережи-
АДЕКСАНАРА КОЛАОНТАЙ
И ПАВЕЛ ДЫБЕНКО
Весной 1917 г. Александра Коллонтай
впервые встретилась с Павлом
Дыбенко. Знаменитый матрос-большевик в
1915 г. возглавлял восстание на
линкоре «Император Павел I», а в 1917 г.
стал руководителем революционной
организации моряков Балтийского
флота.
Лев Троцкий замечал: «Дыбенко, 29-
летний чернобородый матрос, весёлый
и самоуверенный гигант, сблизился с
Александрой Коллонтай, женщиной
аристократического происхождения,
владеющей полудюжиной языков и
приближающейся к 46-й годовщине».
В то время Александре Михайловне не
раз задавали вопрос: «Как Вы решились
связать свою жизнь с человеком,
который на 17 лет моложе Вас?». «Мы
молоды, пока нас любят!» — отвечала
Коллонтай.
Американский журналист Альберт
Уильяме писал: «Однажды комиссар
госпризрения неожиданно исчезла из
Петрограда вместе с неотразимым
комиссаром Дыбенко. Они устроили себе
небольшое свадебное путешествие».
Говорили, что суровый Л. Троцкий за
это «дезертирство с постов» настаивал
на расстреле обоих...
В декабре 1918 г. Павел Дыбенко и
Александра Коллонтай оформили брак.
«Мы соединили свои судьбы первым
гражданским браком в Советской
России, —вспоминала Александра
Михайловна. — Я и Павел решили так
поступить на тот случай, если революция
потерпит поражение, и вместе взойдём
на эшафот!»
Этот брак длился пять лет, затем они
разошлись. Александре Михайловне
было суждено пережить Дыбенко: в
1938 г. она узнала о том, что он
расстрелян как «враг народа». Уже в
последние годы жизни она писала
подруге: «Разбираю свой архив, сейчас
„роман" мой с Дыбенко. Любопытно,
больно порою, порою удивляюсь, что так
много было мук».
267
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОИНА
ПЕРВЫЙ ЛЕНЬ РАБОТЫ
НАРКОМА ПРИЗРЕНИЯ
Не успела А. Коллонтай обосноваться
в своём новом кабинете наркома
призрения, как к ней пришли первые и
довольно неожиданные посетители. Как
вспоминала Александра Михайловна, в
кабинет «ввалились здоровые ребята в
ободранных шинелях.
— Тут, что ли, большевики помошь
выдают? Мы — голодные. Давайте
помошь.
Пробуем выяснить:
— Кто? Откуда? Инвалиды, что ли?
— Какие там инвалиды. Просто люди
голодные. Не видите, что ли? Чего зубы
нам заговариваете? Говорите прямо:
большевики вы али нет?
Напирают ребята — здоровые детины,
решительные». А ключей от кассы у
наркома ешё не было. Помошь
пришлось выдавать из собственного тоше-
го кошелька...
А. Коллонтай вручает верительные
грамоты президенту Мексики. 1927 г.
вала свой разлад с партией. Возможно, это стало для неё
своеобразной «прививкой», и позднее она уже не участвовала в
оппозициях.
ПЕРВАЯ В МИРЕ ЖЕНЩИНА-ПОСОЛ
С 1922 г. А Коллонтай перешла на дипломатическую работу. В
ноябре она прибыла в столицу Норвегии Христианию (ныне
Осло). Здесь её тепло встретили старые друзья по эмиграции.
Много радости доставляла Александре Михайловне и сама
работа. «Я так люблю первые годы моей работы в Норвегии, —
признавалась она позднее. — Когда меня спрашивают: „Какой
период Вашей жизни Вы считаете самым счастливым?", я всегда хочу
назвать: „Первые годы дипработы в Христиании"».
В этой работе Коллонтай помогало хорошее знание четырёх
языков, умение ладить с самыми разными людьми. Много лет
спустя молодые дипломаты в её присутствии заспорили, что главное в
их профессии. Один доказывал, что важнее всего твёрдость,
умение сказать «нет». А Коллонтай возразила: «Но ведь не это главное!
Главное — умение завязывать и подцерживать отношения с
людьми». «Дипломат, не давший своей стране друзей, не может
называться дипломатом», — добавила Александра Михайловна.
В 20-е гг. Коллонтай представляла свою
страну в Норвегии, затем в Мексике. Советским
послом в Швеции она пробыла 15 лет начиная
с 1930 г. Правда, перед этим шведскому королю
пришлось отменить свой старый указ о
высылке Александры Михайловны навечно из
пределов страны. Впервые человек, высланный из
Швеции навечно, вернулся подобным
образом — как посол великой державы!
8 Стокгольме вокруг А. Коллонтай
образовался кружок интеллигенции, которая
сочувствовала СССР в его противостоянии
набиравшему силу фашизму. Он получил название «кружок
Коллонтай». Многие, возможно, никогда бы не
пошли в советское посольство, а «к Коллонтай»
приходили охотно...
Весной 1945 г., когда весь мир праздновал
окончание войны, Александра Михайловна
вернулась в Москву. Здесь она прожила последние
семь лет жизни, оставаясь советником
Министерства иностранных дел.
9 марта 1952 г. Александра Михайловна
Коллонтай скончалась у себя дома на 80-м году
жизни.
268
МАРИЯ
СПИРИДОНОВА
МАРИЯ СПИРИДОНОВА
(1884—1941)
Вначале она отбывала срок в царских тюрьмах, потом — в
советских. Из последних 36 лет своей жизни только 4 года она
провела на свободе. Дважды её приговаривали к смертной казни:
сначала через повешение, затем — через расстрел. Второй раз
приговор привели в исполнение...
Родилась Мария Александровна Спиридонова 16 (28)
октября 1884 г. в Тамбове в дворянской семье. Сначала Мария получила
домашнее образование, затем училась в Тамбовской женской
гимназии. Здесь 16-летняя девушка вступила в партию эсеров.
В 1905 г. началась первая русская революция. В губернии
разгорались крестьянские беспорядки. С ними боролись
карательные отряды, производя аресты и устраивая массовые порки
крестьян. Руководил подавлением волнений губернский
советник Г. Луженовский. Эсеры постановили убить его. Выполнить
решение вызвалась Мария Спиридонова. Позднее она говорила:
«В полном сознании своего поступка я взялась за исполнение
приговора. Когда мне пришлось встретиться с мужиками,
сошедшими с ума от истязаний, когда я увидела безумную старуху-мать,
у которой 15-летняя красавица-дочь бросилась в прорубь после
казацких ласк, то никакие силы ада не могли бы остановить
меня». 16 января 1906 г. Марии удалось выследить свою жертву.
Пятью выстрелами из спрятанного в муфте револьвера она
тяжело ранила его. 10 февраля Луженовский скончался.
Сразу после покушения террористку задержали. К тюрьме
она подготовилась заранее: даже взяла с собой порошок от
мышей. Но вряд ли она могла предполагать, какие издевательства
выпадут на её долю по дороге в тюрьму. При аресте казак
оглушил Марию ударом приклада, разбив ей лицо. В вагоне её
обыскивали и допрашивали казачий офицер Абрамов и помощник
пристава Жданов. Спиридонова вспоминала: «Раздетую,
страшно ругаясь, они били нагайками и говорили: „Ну, барышня...
скажи зажигательную речь!". Один глаз ничего не видел, и правая
часть лица была страшно разбита. Они нажимали на неё и
ехидно спрашивали: „Больно, дорогая? Ну скажи, кто твои
товарищи?"». И в конце концов они надругались над ней.
Им пришлось за это сурово расплатиться. 2 апреля эсеры
застрелили Абрамова. Жданов после этого мучился от страха, а
возможно, и от угрызений совести и даже несколько раз просил
судить его. 9 мая и он был убит.
Военный суд приговорил М. Спиридонову к смертной
казни, которую позже заменили бессрочной каторгой. Отбывать
наказание её отправили в Акатуйскую тюрьму. Здесь она
познакомилась с видными эсерами Григорием Гершуни и Егором
Сазоновым. Заключённые читали друг другу лекции, занимались
самообразованием. На каторге М. Спиридонова провела 11 лет. Как
М. Спиридонова.
ПЕРВЫЙ ПРИГОВОР
12 марта 1906 г. Мария Спиридонова
предстала перед военным судом.
Незадолго до суда она писала:
«Настроение у меня бодрое и даже весёлое.
Знайте, что пожертвовать своей
жизнью — не трудная и не ужасная вешь.
Это большое и глубокое счастье». Суд
длился три часа. Адвокатом выступал
Н. Тесленко, один из известных
руководителей кадетской партии. Он заявил
в защитительной речи: «Перед вами не
только униженная, больная
Спиридонова. Перед вами — больная и
поруганная Россия». Суд вынес приговор
террористке: смертная казнь через
повешение.
Позднее М. Спиридонова вспоминала
своё состояние в ожидании
исполнения приговора. «Состояние перед
смертной казнью полно нездешнего
обаяния», — писала она, называя это
время «самой яркой и счастливой
полосой жизни, полосой, когда времени
не было, когда испытывалось глубокое
одиночество и в то же время
небывалое, немыслимое до того любовное
единение с каждым человеком и со
всем миром вне каких-либо преград».
Спустя 16 дней Марии Спиридоновой
сообщили о замене казни бессрочной
каторгой.
269
М. Спиридонова. 1917 г.
Д. Заикина. «М. Спиридонова
в тюремной камере»
(журнал «Застрельщик», 1906 г.).
и других политзаключённых, её освободила Февральская
революция. 3 марта 1917 г. она вышла на волю.
В мае Мария участвовала в работе съезда эсеров в Москве.
Здесь её, как «живую легенду», выбрали в почётный президиум
съезда. Но как политический деятель М. Спиридонова не
пользовалась пока большим авторитетом. Однако в считанные
месяцы она сумела его завоевать. В ноябре Джон Рид уже называл её
«самой популярной и влиятельной женщиной в России».
Главное, что беспокоило Марию Спиридонову летом
1917 г., — это разрыв связи её партии с народом. Крестьяне
добивались земли — без всяких отсрочек. Разве не к этому их столько
лет призывали эсеры? И вот теперь вместо того, чтобы повести за
собой крестьянское движение, эсеры «сдерживают» крестьян.
Армия определённо требовала мира. Правительство в ответ ввело
смертную казнь на фронте. Как же могут эсеры, всегда
осуждавшие казни, поддерживать такое правительство?
Всё это вызывало у Спиридоновой тревогу и возмущение.
Она напоминала о чистоте эсеровских принципов. «На всех
скорбных путях русской и мировой жизни, — писала она в
августе, — наше место должно определяться в свете нашей Идеи, в
духе нашей программы — всегда через народ, с народом и для
народа». «И вот Партия социалистов-революционеров, — с
горечью замечала она, — под давлением обывательских
элементов отклоняется всё дальше от своего единственно верного
пути — тесной неразрывной связи и единения с народом».
Постепенно оформилось левое крыло эсеров, и Спиридонова
стала его признанным вождём. В Октябре левые эсеры оказались
на стороне большевиков. Они полностью
разделяли октябрьские лозунги — мир, земля крестьянам,
власть Советам. В конце ноября левые эсеры
провели отдельный съезд, став самостоятельной
партией. На съезде Спиридонова призвала вернуться
к истокам партии, к «чистоте и святости первых
организаций».
В декабре левые эсеры вошли в правительство.
Здесь они не раз серьёзно спорили с большевиками.
Протестовали против закрытия газет, против
восстановления весной 1918 г. смертной казни. В
марте они голосовали против принятия тяжёлых
германских условий мира. М. Спиридонова заняла в
этом вопросе другую позицию, но оказалась в
одиночестве. В апреле она говорила: «Мир был
подписан не нами и не большевиками: он был подписан
нуждой, голодом, нежеланием всего народа —
измученного, усталого — воевать. И кто из нас скажет,
что партия левых социалистов-революционеров,
представляй она одна власть, поступила бы иначе?».
После заключения мира левые эсеры в знак
протеста вышли из Совнаркома. Мария
Спиридонова резко против этого возражала. «Уходом от власти
270
МАРИЯ
СПИРИДОНОВА
левые эсеры предали крестьянство», — заявила она. Потом, после
некоторых колебаний, левые эсеры всё-таки попросили вернуть
им наркомат земледелия. Но 3 мая большевики ответили отказом.
Левые эсеры оказались в оппозиции.
По условиям мира немцы заняли хлебную Украину. Это
привело к недостатку хлеба в стране. Большевики решили изъять его
у крестьян руками сельской бедноты. 11 июня был принят Декрет
о комбедах (комитетах бедноты). Комбедам передавалась вся
власть в деревне. Левые эсеры расценили это как объявление
войны крестьянству. «Какая же это власть Советов, если Советы
подменяются комбедами?» — возмущались они. М. Спиридонова
говорила: «Мы будем резко бороться против комитетов бедноты,
этих сыскных отделений. Комбеды могут реквизировать каждый
фунт спрятанной муки. В них вошли хулиганы, отбросы деревни».
Чтобы избавить деревню от комбедов, казалось, есть только один
выход — возобновить войну с Германией. Поэтому с июня 1918 г.
и Спиридонова стала бороться против заключённого мира.
24 июня ЦК левых эсеров решил разорвать мир путём
покушений на «виднейших представителей германского
империализма». Первым из них оказался германский посол граф
Вильгельм Мирбах. 6 июля он был застрелен левым эсером Яковом
Блюмкиным. Большевики в тот же день арестовали около 350
левых эсеров — делегатов съезда Советов. Среди них была и
Спиридонова. Левые эсеры попытались сопротивляться — почти без
всякой надежды на успех. Ленин был настроен весело и
смеялся: «Надо дать Спиридоновой брому». Через день «мятеж левых
эсеров» подавили (см. ст. «Эсеры» и «Яков Блюмкин»).
На следствии в ЧК Спиридонова взяла всю ответственность
на себя, заявив: «Я организовала дело убийства Мирбаха с начала
до конца». 27 ноября ревтрибунал приговорил её к году
заключения. Но уже через несколько дней Спиридонову освободили по
амнистии. В своих речах она резко осуждала большевиков. В
январе 1919 г., выступая на заводе Гужона, она говорила:
«Большевики гтриняли (земельную. — Прим.ред) программу эсеров. Эта
программа была выношена десятками поколений, крестьяне дрались
за неё с оружием в руках. Но программа эта саботируется
большевиками. В советских имениях рабочий будет наёмником у
государства». С октября 1920 г. для Спиридоновой вновь началась
непрерывная 20-летняя череда арестов, тюрем и ссылок Говорили, что
до последних лет жизни она сохраняла стойкость. В 1937 г. после
ареста она заявила следователю: «Молокосос! Когда ты только
родился, я уже была в революции». В ссылках её сопровождали
друзья — члены ЦК левых эсеров А. Измаилович, И. Каховская, И.
Майоров. До освобождения в 1955 г. из них дожила только Ирина
Каховская, выучка казнённого декабриста.
В ссылке М. Спиридонова вышла замуж за Илью Майорова.
Их расстреляли в один день, 11 сентября 1941 г., вместе с
Александрой Измаилович и другими заключёнными Орловской
тюрьмы. Это произошло в Медведевском лесу близ Орла
незадолго до того, как в город вошли немецкие танки.
СУД НАД МАРИЕЙ
СПИРИДОНОВОЙ В 1919 ГОДУ
18 февраля 1919 г. Марию
Спиридонову снова арестовали и через
неделю судили за «клевету на Советскую
власть». Свидетелем на суде выступал
Николай Бухарин. Он сказал: «Все её
речи походили на истерические
выкрики, она топала ногой, истерически
кричала, предлагала записывать
фамилии умученных большевиками.
Атмосфера была чрезвычайно тяжёлая,
напоминающая сиены из Достоевского».
Спиридонова потом писала об этом:
«Говоря о поруганной власти Советов,
о заплёванной и запуганной личности
рабочего и крестьянина, о вспоротой
спине мужика, я действительно была
„эмоциональна", я кричала „сплошным
криком". Ведь это делается не в Крас-
новской деспотии, а в Ленинско-Буха-
ринской, что для меня до сих пор
составляет разницу, потому и „кричу". В
Красновской деспотии я бы только
действовала. Немудрено быть
„эмоциональным", говоря о тысячах
расстрелянных крестьян».
Ревтрибунал вынес приговор,
согласно которому, «не желая причинять
излишних страданий», её отправляли «в
санаторий на один год». Но вместо
этого М. Спиридонову поместили в
солдатской казарме в Кремле. Она
писала: «Я живу в узеньком закутке при
караульном помешении, где
находится 100—130 человек красноармейцев.
Грязь, шум, гам, свист, нечаянная
стрельба, стук и всё прочее,
сопутствующее день и ночь бодрствующую
караульную казарму». Через полтора
месяца левые эсеры организовали
Спиридоновой побег с помощью одного из
охранников.
271
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОИНА
УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ДЕМОНСТРАЦИЯ 5 ЯНВАРЯ
Сторонники Учредительного собрания
наметили массовую демонстрацию в
его защиту на 5 (18) января 1918 г. Ей
придавалось решающее значение.
Мирную демонстрацию хотели
подкрепить и силой оружия. Броневой
дивизион собирался выйти к Таврическому
дворцу в поддержку «Учредиловки».
«Броневики держали в руках ключ к
положению, — замечал американский
журналист Джон Рид, — за кого были
броневики, тот мог распоряжаться
всем городом». Но этот план
сорвался: власти предусмотрительно
привели броневики в негодность. «Путём
умелого „технического саботажа", —
вспоминал В. Чернов, — броневые
машины были превращены в
неподвижные, точно параличом разбитые,
груды железа».
Оставалось надеяться на мирную
демонстрацию. Толпа могла окружить
Таврический дворец «живой стеной».
Тогда разогнать Учредительное
собрание можно было бы только ценой
большого кровопролития.
Чтобы не допустить демонстрации,
большевики объявили столицу на осад-
Чёрный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер —
На всём Божьем свете!
От здания к зданию
Протянут канат.
На канате — плакат:
«Вся власть Учредительному Собранию!»
Так писал Александр Блок в своей знаменитой поэме
«Двенадцать». Действие её происходит в январе 1918 г. в Петрограде. В
один из таких морозных вечеров здесь, в Таврическом дворце,
собралось Всероссийское Учредительное собрание. Ему было
суждено оказаться «самым коротким парламентом» в истории
человечества: его заседания продлились всего около 12 часов.
Но значение Учредительного собрания в истории России
выходит далеко за рамки этого недолгого срока. Писатель
Максим Горький замечал в январе 1918 г.: «Лучшие русские люди
почти сто лет жили идеей Учредительного собрания. В борьбе
за эту идею погибли в тюрьмах, в ссылке и каторге, на
виселицах и под пулями солдат тысячи интеллигентов. На жертвенник
этой священной идеи пролиты реки крови». Меньшевик
Ираклий Церетели говорил: «Десятилетия вся передовая российская
интеллигенция стремилась к осуществлению своей идеи».
Учредительное собрание было знаменем, заветной мечтой
революционно настроенной интеллигенции.
ПОСЛЕ ФЕВРАЛЯ 1917 ГОДА
До Февральской революции народ относился к идее
Учредительного собрания достаточно равнодушно. Простые люди мечтали
о более близких, понятных вещах. Для крестьян это была земля.
Для солдат в окопах Первой мировой войны — долгожданный
мир. Однако после Февраля народ по-своему понял и перенял от
интеллигенции веру в Учредительное собрание («Учредиловку»).
Оно стало символом наступления новой, справедливой жизни.
С ним связывали всё лучшее — получение земли, конец войны,
272
УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ
да и вообще прекращение всех неоправданных человеческих
страданий. Солдаты соглашались воевать — но только «до
Учредительного собрания». Заключённых сажали в тюрьму — «до
Учредительного собрания». Люди понимали его как наступление
царства правды и справедливости, почти что царства Божьего на
земле, и необычайно сильно верили в него.
Все крупные партии летом 1917 г. выступали под лозунгом:
«Вся власть Учредительному собранию!». Но правительство
медлило с его выборами. Как ни странно, та самая революционная
интеллигенция, которая столько лет боролась за созыв
собрания, теперь откладывала его с месяца на месяц. Член
Временного правительства Владимир Набоков признавался, что если бы у
правительства была реальная сила, оно отложило бы
«Учредиловку» до конца войны. Казалось, что в мирное время собрание
гораздо легче и спокойнее разрешит все насущные вопросы.
Интеллигенция, привыкшая к жертвам во имя своих идей,
попыталась увлечь весь народ такой же жертвенностью. Но
население не могло разделить этого чувства. Солдаты не
понимали, во имя чего они продолжают умирать на позициях.
Крестьяне считали, что землю у помещиков надо отобрать как можно
быстрее. Кто знает, вдруг помещики снова окрепнут и уже не
позволят этого сделать? Возмущение в народе постепенно
нарастало. Большевики стали упрекать правительство в попытках
затянуть, а потом и вовсе сорвать созыв Учредительного
собрания. Понятно, что такое намерение выглядело в глазах
населения тяжелейшим преступлением. Скорейший созыв
«Учредиловки» стал одним из главных лозунгов Октябрьского переворота.
ВЫБОРЫ
Формально выборы в Учредительное собрание состоялись
12 ноября 1917 г. На самом деле они растянулись на несколько
недель. На Камчатке, например, избиратели голосовали ещё
29 октября, чтобы их избранник успел приехать в Петроград.
В деревнях в связи с выборами царило чрезвычайно
приподнятое настроение. В газете партии эсеров «Дело народа»
рассказывалось: «В ряде мест перед началом выборов служились
молебны. В русской деревне мужики на выборы шли в
совершенно необычном настроении, как будто для какого-то святого
таинства». В другой эсеровской газете («Воля народа») сообщалось:
«Выборы в Учредительное собрание прошли с необычайным
энтузиазмом. К урнам на руках приносили больных стариков,
старух и слепых». Крестьяне хотели, чтобы все как бы
причастились к началу новой вольной жизни.
Избиратели голосовали за списки партий — от кадетов до
большевиков. Закон о выборах отвечал последнему слову
демократии. Получили право голоса и женщины. Были отброшены
любые ограничения по образованию, национальности,
оседлости и т. п. Голосовали все граждане, достигшие 21 года, а в армии
даже с 18 лет. Это были первые всеобщие, равные, тайные и
пряном положении. 4 января «Правда»
поместила грозную резолюцию Петросо-
вета: «Это будет демонстрация врагов
народа. 5 января на улицах
Петрограда будут демонстрировать
саботажники, буржуазия, прислужники
буржуазии. Ни один честный рабочий, ни один
сознательный солдат не примет
участия в этой демонстрации врагов
народа». Газета предостерегала: «Каждая
попытка проникновения групп
контрреволюционеров в район
Таврического дворца будет энергично
остановлена военной силой».
Но все эти предупреждения не
подействовали. Утром 5 января из разных
точек города к Таврическому дворцу
двинулись колонны демонстрантов.
Всего в их рядах шло более 60 тыс.
человек. В основном это была
интеллигенция, студенты, отчасти рабочие.
Демонстранты несли красные знамёна
и большие плакаты «Вся власть
Учредительному Собранию!». Ближе к
Таврическому дворцу их останавливали
вооружённые советские патрули.
Толпа напирала на патрули и
прорывала неплотные цепочки
красногвардейцев. Эсер Борис Соколов вспоминал:
«Сильнее и громче раздавались
возгласы: „Долой большевиков!", „Долой
советское правительство!", „Да
здравствует Учредительное Собрание!". Всё
сильнее и сильнее напирают задние
ряды. Всё смущённее чувствуют себя
красные матросы, постепенно
отодвигаясь под натиском толпы...». Б.
Соколов описывал один из этих патрулей:
«Разношёрстные: солдаты, обвитые
пулемётными лентами, штатские с
красными повязками и изяшные, точно
разодетые, кронштадтские матросы. Всё
это сбилось в один клубок,
ощетинившийся, как разъярённый ёж».
Наконец прозвучали первые выстрелы.
Толпа дрогнула и отступила, оставляя
за собой тела убитых и раненых.
Очевидец событий рабочий Либерман
рассказывал о таком случае:
«Красногвардеец в серой куртке и белой шапке
вырывал знамя у старика и бил его
шашкой. Старик плакал, но знамени не
отдавал. К нему на помошь бросилась
какая-то женшина. Она стала просить
красногвардейца оставить старика. В
ответ красногвардеец ударил женши-
273
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОИНА
ну шашкой по руке. Кровь брызнула из-
под пальто. Вырвав знамя у старика,
красногвардеец сжёг его вместе с
другими отнятыми знамёнами».
8 нескольких случаях демонстранты не
сдавались после первых выстрелов.
Переждав их, люди вновь и вновь
поднимались с мостовой и пытались
пройти вперёд. Они пели «Вихри
враждебные веют над нами» и «Вы жертвою
пали в борьбе роковой». Но ни одной
колонне демонстрантов так и не
удалось прорваться сквозь патрули к
Таврическому дворцу.
Всего погибло девять человек и более
двадцати было ранено. 6 января
советские газеты сообщили о жертвах.
«Лишь самые незначительные группки
рабочих примкнули к этой
контрреволюционной демонстрации, — писала
„Правда", — и, к глубокому
сожалению, из их рядов вырвано несколько
случайных жертв».
9 января состоялись торжественные
похороны погибших демонстрантов.
Они вылились в грандиозное
многотысячное шествие, и на этот раз власти
ему никак не мешали. Погребение
происходило в тринадцатую годовшину
9 января 1905 г. Чтобы ешё больше
подчеркнуть это совпадение, погибших
похоронили рядом с жертвами
«кровавого воскресенья».
Так демонстранты, шедшие в 1918 г.
под красными знамёнами, легли в
землю рядом с демонстрантами, нёсшими
в 1905 г. царские портреты...
Демонстрация в Петрограде в поддержку
Учредительного собрания. Ноябрь 1917 г.
■ ЭДТг-.-г
мые выборы в России. В них приняли участие 44 млн 433 тыс.
человек Победу на выборах одержала партия эсеров. Русские
эсеры получили более 40% голосов, украинские и другие
близкие к ним группы — около 14%. На втором месте оказались
большевики, собравшие более 23% голосов. Для них это явилось
неожиданным и очень чувствительным поражением. Полностью
провалились на выборах кадеты, собравшие менее 5% голосов,
и меньшевики, получившие менее 3%.
СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ И «УЧРЕДИЛОВКА»
В первые дни после Октября идея Учредительного собрания не
подвергалась никакому сомнению. Выступая 26 октября,
Владимир Ленин говорил: «И если даже крестьяне пойдут и дальше за
социалистами-революционерами и если они даже этой партии
дадут на Учредительном собрании большинство, то и тут мы
скажем: „Пусть так. Мы должны следовать за жизнью, мы должны
предоставить полную свободу творчества народным массам"».
Но первый и самый тяжёлый удар по Учредительному
собранию был нанесён в тот же день — самими октябрьскими
декретами о земле и мире. Ведь от Учредительного собрания ждали, что
оно даст землю крестьянам, прекратит войну с Германией.
И вдруг выяснилось, что взять землю и установить
перемирие с немцами можно и без всякой «Учредиловки». Это сделала
Советская власть своими декретами. После этого в глазах
многих крестьян и солдат Учредительное собрание просто
потеряло изначальный смысл. Его продолжали ждать, но с каждой
неделей всё с меньшим интересом. Во время выборов большевики
рядом с предвыборными плакатами других партий
расклеивали свои декреты. Это производило впечатление. «Вы обещаете
народу землю и мир? А мы уже дали!»
При выборах в Петрограде 12 мандатов распределились так:
шесть мандатов получили большевики, четыре — кадеты и по
одному — эсеры и левые эсеры. Таким образом, сторонники
Советской власти одержали в столице победу. Американский
журналист, бравший в этот день у Ленина интервью, писал, что
тот был «окрылён крупной победой своей
партии». Победить в Петрограде, как считал Ленин,
«значит победить в России».
Но вскоре выяснилось, что это далеко не
одно и то же. Провинция голосовала за эсеров.
Стало очевидно, что столкновение между
Советской властью и Учредительным собранием
неизбежно.
ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ
Совнарком назначил открытие
Учредительного собрания на 5 (18) января 1918 г. В этот день
в Таврическом дворце собралось около 430 де-
274
УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ
Манифестация в Москве на Страстной плошали в лень выборов
в Учредительное собрание.
Заседание Учредительного собрания.
путатов — из них 259 эсеров, 136 большевиков, 40 левых
эсеров, 3 меньшевика, 3 народных социалиста. Эсерам пришлось
разместиться на крайнем правом фланге. «Никогда мне не
снилось, что я буду сидеть на одной из октябристских скамей, —
замечал Н. Святицкий. — Крайние правые места, увы, заняты
эсерами же. Впрочем, я вижу там трёх-четырёх кадетов — Винаве-
ра, Родичева... На их лицах застыла ирония».
В 16 часов заседание открылось. При этом произошла
неожиданная и удивительная сцена. Как обычно, большевики
запели «Интернационал». Но остальные депутаты-социалисты не
хотели уступать кому-то свою боевую песню! Они поднялись с
мест и присоединились к общему хору. В единодушном пении
неожиданно слились голоса непримиримых врагов: Ленина и
Чернова, Бухарина и Церетели. Большевик Фёдор Раскольников
рассказывал: «„Но если гром великий грянет над сворой псов и
палачей", — поёт Учредительное собрание. При этих словах
Виктор Чернов лукаво щурит плутоватые глазки и с вызывающей
улыбкой делает широкий, размашистый жест в нашу сторону».
На трибуну ведущего поднялся глава Советского государства
УТРО 5 ЯНВАРЯ
Эсер Николай Святицкий рассказывал,
как его товариши-депутаты утром 5
января 1918 г. шли на заседание
Учредительного собрания: «Фракция в сборе.
У всех необычные лица, такие лица я
видал у приговорённых. Глаза не
замечают ближних вешей. Руки
прикрепляют к петлицам розетки. Сдержанный,
взволнованный говор. Посмотрели на
часы: пора... Две с половиной сотни
человек шли по середине Шпалерной
улицы. Прохожие останавливались и с
удивлением смотрели на странную и
угрюмую толпу с красными бантиками в
петлицах. И всем было невдомёк, что
эта чёрная, нестройная куча людей с
бледными лицами, спешаших,
спотыкающихся, есть не что иное, как
большинство членов Всероссийского
Учредительного собрания...».
275
РЕВОЛЮЦИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОИНА
Яков Свердлов. Эсеры встретили его неистовым шумом и
выкриками: «Руки в крови! Довольно крови!». Выждав, пока шум утихнет,
Я. Свердлов хладнокровно провёл выборы председателя.
На это место предложили двух кандидатов — Виктора
Чернова и левую эсерку Марию Спиридонову. Голосование
производили чёрными и белыми шарами. Чернов получил 244 белых
шара, Спиридонова — 153. «Я. Свердлов во всё время выборов
сохранял полнейшее спокойствие, — писал Н. Святицкий. — Он
шутил и острил. С любопытством вертел в руках песочные часы,
очевидно доселе им не виданные, и, осведомившись, что это
такое, сказал: „Эк, до чего додумались. Занятная
буржуазно-парламентская штучка". Огласив результаты выборов, Свердлов
спокойно уступил председательское место Чернову».
ВОПРОС О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ
В своей большой речи В. Чернов горячо воскликнул: «Уже
фактом открытия первого заседания Учредительного собрания,
самим этим фактом провозглашается конец гражданской войне
между народами, населяющими Россию». Он настойчиво
старался подчеркнуть мысль, что роспуск собрания будет равносилен
началу гражданской войны. Чернов заметил, что ни донские
казаки, ни поборники «самостийной Украины» не пойдут против
Учредительного собрания. Но с Советской властью они не
примирятся. Тем самым Чернов добивался от большевиков ясного
ответа, хватит ли у них смелости перейти Рубикон.
Большевики приняли вызов. Очень прямой и решительный
ответ от их имени дал Николай Бухарин. В своей речи он заявил:
«Вопрос о власти окончательно будет решён той самой
гражданской войной, которой остановить нельзя вплоть до полной
победы русских рабочих, солдат и крестьян (Шум,
рукоплескания слева?). С нашими смертельными классовыми
противниками мы клянёмся с этой трибуны вести гражданскую войну, а не
примирение» (Шумные аплодисменты слева?).
276
ЛЕВЫЕ ЭСЕРЫ И «УЧРЕДИЛОВКА»
Во многом судьба Учредительного
собрания зависела от позиции левых
эсеров. Они считали Советскую власть
шагом вперёд по сравнению с
«Учредиловкой». Так же думали и многие в
народе. Эсер Борис Соколов вспоминал:
«Не раз мне приходилось слышать от
солдат, и притом наиболее
интеллигентных, возражения против
Учредительного собрания. „К чему какое-то
Учредительное собрание, когда есть
наши Советы, где заседают наши
депутаты, которые могут всё разрешить, во
всём разобраться"».
После некоторых колебаний левые
эсеры решительно встали на сторону
Советов. Лев Троцкий рассказывал:
«Выяснилось, что мы будем в меньшинстве
даже с левыми эсерами... „Надо,
конечно, разогнать Учредительное
собрание, — говорил Ленин, — но вот как
насчёт левых эсеров?" Нас, однако, очень
утешил старик Натансон. Он зашёл к
нам „посоветоваться" и с первых же
слов сказал: „А ведь придётся, пожалуй,
разогнать Учредительное собрание
силой". „Браво! — воскликнул Ленин. —
Что верно, то верно! А пойдут ли на это
ваши?" „У нас некоторые колеблются,
но я думаю, что в конце концов
согласятся", — ответил Натансон».
Н. Когоут. Карикатура на сторонников
Учредительного собрания. Слева направо
изображены: «Буржуй, Кокошкин,
Генерал, Керенский, Милюков, Чернов,
Ефремов» (журнал «Безбожник», 1924 г.).
УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ
ВОПРОС о советской власти
Можно сказать, что Учредительное собрание собралось уже
после своего поражения. Главное, ради чего оно созывалось,
сделали без него. И вот теперь у него потребовали ответа, как оно к
этому относится! «Поддерживаете ли вы власть Советов и её
декреты о мире и земле?» — настойчиво спрашивали большевики и
левые эсеры у своих противников. 5 января по этому вопросу и
разгорелась основная схватка дня.
Я. Свердлов поставил вопрос ребром. Он предложил
утвердить декларацию, в которой одобрялись декреты о мире и
земле, а вся власть передавалась Советам. «От нас требуется сказать
просто: да или нет», — вспоминал В. Чернов. Но это было далеко
не так просто! Вопрос таил опасную ловушку, и Учредительное
собрание оказалось перед трудным выбором.
Приняв декларацию, оно по существу самоупразднялось. Но
и отказ принять её был не лучше. Тогда большевики могли бы с
полным основанием воскликнуть: «Учредиловка отвергла
завоёванные народом декреты о мире и земле!». Положение
выглядело почти безвыходным. Собрание нашло единственно
возможный выход: просто отложило обсуждение декларации. Такого
хода большевики не предвидели. Они потребовали перерыва и
собрались на совещание фракции.
УХОД БОЛЬШЕВИКОВ И ЛЕВЫХ ЭСЕРОВ
Депутат-большевик М. Ветошкин рассказывал: «Создалось
неопределённое положение. Большинство депутатов
Учредительного собрания не отвечали нам ни „да", ни „нет". Некоторые из нас
склонны были принять это за растерянность. На самом деле это
была черновская хитрость: выиграть время, не создавать
преждевременного повода для войны с большевиками. Очевидно, что
при этих условиях было бы самым пагубным тянуть с эсерами
парламентскую канитель. „Пусть они наговорятся, — сказал
Ильич, — не надо им в этом мешать, а завтра мы повесим замок на
этом здании, когда они, устав от разговоров, разойдутся"».
После перерыва в зал вернулись только два
депутата-большевика. На трибуну поднялся один из них, Фёдор Раскольников. Он
зачитал очень резкую декларацию фракции большевиков.
«Прения в течение дня показали воочию, — заявил он, — что
партия правых эсеров кормит народ посулами, но на деле
решила бороться против Советов, против перехода земель без выкупа
крестьянам (Крики: «Ложь! Ложь!», рукоплескания в публике?),
против национализации банков, против аннулирования долгов»
(Крики: «Болван!», в публике аплодисменты?). «Не желая ни
минуты прикрывать преступления врагов народа, — сказал в
заключение Раскольников, — мы заявляем, что покидаем это
Учредительное собрание» (Бурные аплодисменты в публике?).
Было уже около двух часов ночи. В зале после ухода
большевиков ещё оставались левые эсеры. Среди них колебания —
уходить или не уходить? — длились несколько дольше. «Левоэсеров-
ОБСТАНОВКА В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЯ
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Всё заседание «Учредиловки»
проходило чрезвычайно бурно. В зале, где
собрались представители враждебных
лагерей, то и дело вспыхивал невероятный
шум — «кошачий концерт». Всех
ораторов постоянно перебивали выкриками
с мест и свистом. После каждой фразы
выступающих со всех концов зала
раздавались реплики —то иронические, то
одобрительные, то гневные.
Публика на хорах тоже постоянно
свистела и шумела, заглушая речи эсеров и
меньшевиков. Там было много
вооружённых людей: красногвардейцы с
винтовками, матросы, живописно
перепоясанные пулемётными лентами.
Депутаты находились в постоянном
напряжении, ожидая чего угодно, вплоть
до выстрелов. Наконец, доведённый до
отчаяния постоянными выкриками
зрителей, председатель Чернов пригрозил
«очистить хоры от публики». Эта явно
невыполнимая и даже смешная угроза
неожиданно подействовала:
ненадолго публика приутихла. Н. Святиикий
рассказывал: «Я сижу рядом со
стариком Минором и вижу, как один парень
всё время, очевидно шутя, целится в
его лысину. В таком положении мы
сидим не менее часа. В своих
дальнейших злоключениях я знавал немало
тяжёлых часов. Но мучительнее этой
ночи уже не переживалось ничто».
Ф. Раскольников.
277
РЕВОЛЮЦИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
ЛЕНИН И «УЧРЕДИЛОВКА»
Глава советского правительства
Владимир Ленин присутствовал на заседании
«Учредиловки», хотя и не выступал.
Очевидцы рассказывали о смене его
настроений в течение дня.
Сначала, придя на заседание, он был
сильно взволнован и очень бледен,
обводил зал напряжённым взглядом. Но
постепенно он расслабился и, как
писал с возмушением В. Чернов,
«разлёгся во всю длину, принимая вид
уснувшего от скуки человека». Ленин не
присел на министерские скамьи, которые
некогда занимали П. Столыпин и его
коллеги. Глава Совнаркома просто
уселся прямо на ковёр на ступеньках
возле председательской трибуны.
Время от времени он весело смеялся над
речами эсеров и меньшевиков.
В то же время В. Ленин прекрасно
понимал значение роспуска
Учредительного собрания. Он понимал, что таким
образом будет перейдён Рубикон, и
гражданская война, жестокая и
тяжёлая, с неизвестным исходом, станет
неизбежной.
Писатель Камил Икрамов передавал
такой рассказ Н. Бухарина о ночи с 5 на
6 января. «Владимир Ильич позвал
меня к себе, — вспоминал Бухарин. —
У меня в кармане была бутылка
хорошего вина, и мы долго сидели за
столом. Под утро Ильич попросил
повторить что-то из рассказанного о
разгоне Учредиловки и вдруг рассмеялся.
Смеялся он долго, повторял про себя
слова рассказчика и всё смеялся,
смеялся. Весело, заразительно, до слёз.
Хохотал. Мы не сразу поняли, что это
истерика. В ту ночь мы боялись, что мы
его потеряем».
ские мужики бунтуют, — писал
В. Чернов, — им приказано от
Учредительного собрания
получить трудовое мужицкое право
на землю. В их рядах
пререкания. Один левый эсер вдруг
выхватывает револьвер и
угрожает другому. Сотоварищи едва
успевают его обезоружить...» Но
примерно через час
большинство левых эсеров во главе с
руководством партии тоже
покинули зал.
«КАРАУЛ УСТАЛ»
Около четырёх часов утра к
В. Чернову подошёл какой-то
матрос, перепоясанный
пулемётными лентами. РЯДОМ С НИМ Матрос А. Железняков.
стояли несколько его товарищей с винтовками. Это был 2
2-летний Анатолий Железняков, анархист по убеждениям, позднее
погибший в красном партизанском отряде. Матрос тронул за руку
председателя Учредительного собрания. После этого, согласно
стенограмме, произошла такая многозначительная сцена:
«Гражданин-матрос. Я получил инструкцию, чтобы
довести до вашего сведения, чтобы все присутствующие покинули зал
заседания, потому что караул устал {Голоса: «Нам не нужно
караула!»?).
Председатель-. Какую инструкцию? От кого?
Гражданин-матрос. Я являюсь начальником охраны
Таврического дворца и имею инструкцию от комиссара Дыбенки.
Председатель: Все члены Учредительного собрания также
очень устали, но никакая усталость не может прервать
оглашения того земельного закона, которого ждёт Россия (Страшный
шум. Крики: «Довольно! Довольно!»?). Учредительное собрание
может разойтись лишь в том случае, если будет употреблена сила
(Шум. Голоса: «Долой Чернова!»?).
Гражданин-матрос. Я прошу немедленно покинуть зал
заседания».
После этого диалога депутаты поспешили поставить на
голосование подготовленные эсерами проекты законов. Они
опасались, что в зале будет погашен свет. Наконец все три закона (о
мире, земле и республике) были приняты. Заседание длилось уже
12 часов 40 минут, людей сильно измотало длительное нервное
напряжение, и они решили прервать работу. Следующее
заседание назначили на 17 часов того же дня.
«Караул устал». Современный рисунок. ►
278
УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
ЗАКОНЫ
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
На заседании «Учредиловки» эсеры
постарались обойти вопрос о декретах
Советской власти. Они как бы их не
замечали, хотя большевики постоянно
переводили на них разговор. Только один
раз В. Чернов высказался о декретах.
Когда он говорил, что земля должна
стать общенародным достоянием, его
перебили возгласы слева: «Это
сделано Советами!», «Да здравствуют
Советы, передавшие землю крестьянам!».
Отвечая на эти реплики, Чернов
заметил: «Всеобщая передвижка земельного
пользования (Голос слева: «Без пули не
обойтись вам!».) не делается одним
росчерком пера, не делается никакими
плакатами, какими бы громкими именами
эти плакаты ни назывались» (Голос
справа: «Лекреты Ленина».). И всё-таки
в результате принятия советских
декретов земля в стране поменяла
владельцев, а на фронте прекратился огонь.
Поэтому Учредительному собранию
оставалось только подтвердить эти
меры. Глубокой ночью депутаты
приняли три закона — о мире, земле и
республике. Во всех случаях им
приходилось «идти по чужим следам». Ведь
республику провозгласило ешё Временное
правительство 1 сентября. Землю
крестьянам передала Советская власть
26 октября. Наконец, перемирие на
фронте тоже установили большевики.
Vi
в
_-. .
А. Железняков.
Со смешанными чувствами депутаты выходили на свежий
утренний воздух. Н. Святицкий вспоминал, как они
возвращались к себе домой: «Брезжил рассвет. В церквах зазвучал
крещенский звон. Было как-то стыдно, неловко. Сжимались кулаки с
досады. „Ну мы ещё посмотрим. Это ещё не конец..."
Правда, потом было много событий, много борьбы.
Некоторые из нас погибли. Но крушение идеи Учредительного
собрания чувствовалось уже в то утро. И оттого такой тяжёлой
грустью ложились на душу удары церковного колокола». Н.
Святицкий заключал, что Учредительное собрание погибло не от
матросского окрика, а от «того равнодушия, с каким отнёсся народ
к нашему разгону и которое позволило Ленину махнуть на нас
рукой: „Пусть себе расходятся по домам!"».
ПОСЛЕ 5 ЯНВАРЯ
Вечером того же дня, 6 января, депутаты нашли двери
Таврического дворца запертыми на замок У входа стоял караул с пулемётами
и двумя лёгкими артиллерийскими орудиями. Охрана сказала, что
заседания не будет. На следующий день появился декрет ВЦИК о
роспуске Учредительного собрания.
Борьба за Учредительное собрание на этом не прекратилась.
Она продолжалась весь 1918 год, а отдельные её вспышки
происходили и позже. Депутаты переехали из Петрограда в Самару,
создали Народную армию Учредительного собрания. Но постепенно
их опора в обществе таяла (см. ст. «Гражданская война»).
К «Учредиловке» с одинаковой враждебностью относились и
белые офицеры, и большевики. В конце 1918 г. после переворота
адмирала А. Колчака депутатов Учредительного собрания «второй
раз разогнали». Группа офицеров даже устроила самосуд над
некоторыми из арестованных депутатов. Их расстреляли на берегу
Иртыша (как говорили, «отправили в республику Иртыш»).
Адмирал Александр Колчак после ареста в 1920 г., между
прочим, заявил на допросе: «То Учредительное собрание,
которое запело „Интернационал" под руководством Чернова, было
искусственным и партийным. Если у большевиков и мало
положительных сторон, то разгон этого Учредительного собрания
является их заслугой, это надо поставить им в плюс».
Однако основной причиной неудачи «Учредиловки» была
всё-таки не враждебность большевиков и белогвардейцев.
Гораздо большее значение имело то, что население утратило былую
горячую веру в Учредительное собрание. Сознавая это,
поэтесса Зинаида Гиппиус с горечью восклицала ещё в ноябре 1917 г.
в стихотворении «Учредительное Собрание»:
Наших дедов мечта невозможная.
Наших героев жертва острожная,
Наша молитва устами несмелыми,
Наша надежда и воздыхание —
Учредительное Собрание, —
Что мы с ним сделали?..
280
ГРАЖДАНСКАЯ ВОИНА
ПЕРВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ
В начале 1918 г. могло показаться, что Советская власть уже
одержала полную победу над всеми своими вооружёнными
противниками. Так, большевики считали гражданскую войну
законченной. В эти месяцы В. Ленин заметил, что «гражданская война
была сплошным триумфом Советской власти».
Правда, на юге страны, на Дону, против большевиков
выступила Добровольческая армия генерала Л. Корнилова (см. ст.
«Лавр Корнилов» и «Антон Деникин»). Но в масштабах страны
это была лишь горстка людей — всего около трёх-четырёх
тысяч человек Местное население смотрело на них довольно
враждебно, как на «врагов народа», разжигающих пожар никому не
нужной гражданской войны. В первое время добровольцам
порой казалось, что они противостоят целому свету. Через многие
сёла и станицы они прорывались с жестокими боями.
Даже в среде офицерства добровольцы тогда не находили
широкой поддержки. Когда Добровольческая армия отправлялась
из Ростова-на-Дону в свой первый Ледяной поход, в городе
оставалось 18 тыс. офицеров. Никто из них не пожелал примкнуть к
добровольцам. Белогвардеец А. Трушнович вспоминал, что перед
этим «была проведена попытка привлечь ростовское офицерство
в ряды армии — последняя попытка. На собрание явилось всего
лишь около 200 человек... большинство в штатском, и то одетые
явно „под пролетариев"... Сразу же у регистрационного столика
раздались возбуждённые, протестующие голоса: „Кто нас созвал?
Кто имел на это право? Это провокация!". Из потока выкриков
толпы явствовало лишь одно решение, одна резолюция: „В
поддержке Добровольческой армии отказать!"». Городское купечество
передало добровольцам пожертвования в размере... 400 рублей.
«Добровольческая Армия создавалась с величайшим трудом, —
рассказывал Б. Савинков. — Не было денег. Не было оружия, шинелей и
сапог. Каждый доброволец, для того чтобы попасть на Дон,
должен был пройти через линию большевистских войск».
Так было в феврале 1918 года... Однако постепенно в
различных слоях населения нарастало недовольство политикой
большевиков. Крестьянство весьма отрицательно отнеслось к созданию
«комбедов» и иным мероприятиям «военного коммунизма» (см. ст.
«„Военный коммунизм" и нэп»). Горожан раздражали мизерные
продовольственные пайки, ограничение гражданских свобод.
Общественная борьба в стране постепенно разгоралась.
281
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
Красноармейцы 1-й Конной армии.
1920 г.
ПЕСНИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Возможно, одна из самых удивительных
черт гражданской войны — это то, что
и «белые», и «красные» пели
фактически одни и те же военные песни. Самой
популярной в те годы была, пожалуй,
песня «Яблочко». Поэт Михаил Светлов
позднее посвятил ей такие строчки:
Мы ехали шагом,
Мы мчались в боях
И «Яблочко»-песню
Держали в зубах...
Эту песню любили во всех
сражающихся армиях. Красноармейцы пели её так:
Эх, яблочко,
Кула ты котишься,
К белому попалёшь,
Не воротишься.
Белогвардейцы соответственно пели:
К красному попалёшь,
Не воротишься...
Что же касается бойцов «Зелёной
армии» Н. Махно, то они могли сочетать
и те, и другие куплеты... Однако в
большинстве случаев враждующие армии
заимствовали друг у друга только
мелодию, слова же почти полностью
изменялись. Примером может служить
отрывок из белогвардейского «Марша
дроздовиев»:
ЧЕХОСЛОВАЦКОЕ ВОССТАНИЕ
И ПЕРЕВОРОТ КОЛЧАКА
«С какого времени начинается гражданская война? — задавался
позднее вопросом Лев Троцкий и сам отвечал на него: —
Поворотным моментом является середина 1918 года. Чехословаки
захватывают железную дорогу на Востоке...» Действительно,
началом полномасштабной гражданской войны в России можно
считать знаменитый «чехословацкий мятеж».
Ещё с 1914 г. в составе русской армии сражались
чехословацкие части, созданные в основном из военнопленных. Их
численность постепенно росла, и в 1917 г. они были переформированы
в отдельный Чехословацкий корпус, который насчитывал около
30 тыс. человек После Октябрьского переворота 1917 г. и
заключения перемирия на фронте Чехословацкий корпус был
провозглашён частью французской армии. Решено было перебросить его
через всю Сибирь во Владивосток и далее морем — во Францию.
Естественно, германский посол в Москве граф Вильгельм
Мирбах старался сделать всё, чтобы сорвать эту переброску.
Однако большевики всё же разрешили чехословакам ехать на восток
небольшими отрядами, сохраняя при себе оружие. В результате
эшелоны с тысячами вооружённых людей растянулись вдоль
железной дороги от Пензы до Владивостока на целых 7 тыс. км.
14 мая 1918 г. в Челябинске произошло столкновение между
чехословаками и пленными австрийцами, в результате которого
один австриец погиб. Этот эпизод послужил искрой, из которой
разгорелся колоссальный пожар. Германское посольство
требовало ареста и наказания виновных. Когда местные Советы
попытались разоружить чехословаков, те оказали им вооружённое
сопротивление. 25 мая нарком по военным делам Л. Троцкий отдал
приказ о разоружении чехословаков.
В приказе говорилось: «Все Советы под страхом
ответственности обязаны немедленно разоружить чехословаков. Каждый
чехословак, который будет найден вооружённым по линии
железной дороги, должен быть расстрелян на месте. Каждый
эшелон, в котором окажется хотя бы один вооружённый, должен
быть выгружен из вагонов и заключён в лагерь... С честными
чехословаками, которые сдадут оружие и подчинятся Советской
власти, поступать как с братьями и оказывать им всяческое
содействие».
Чехословаки опасались, что после разоружения они будут
арестованы и выданы австро-венгерским властям. Это означало
бы, что их почти наверняка расстреляют как «изменников
родины». Поэтому они решили: «Оружия не сдавать!».
«Чехословаки ни во что не желали вмешиваться, — писал эсер Виктор
Чернов, — и хотели лишь, чтобы их оставили в покое и выпустили
из пределов России, после Октябрьского переворота из
приёмной матери превратившейся для них в злую мачеху. Их
задержали, их силой хотели разоружить... И лишь после этого они
подняли оружие и побратались с теми, кто пришёл к ним на по-
282
ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА
мощь». Один из военных командиров корпуса, капитан Р. Гайда,
27 мая отдал приказ: «Всем эшелонам чехословаков.
Приказываю по возможности наступать на Иркутск. Советскую власть
арестовывать...».
В считанные дни чехословацкое восстание охватило
огромные пространства Сибири. Уже в мае чехословаки заняли
Пензу, Челябинск, Новониколаевск (ныне Новосибирск). В течение
лета они вступили в Омск, Самару, Симбирск, Екатеринбург и
другие города. У Советской власти в тот момент почти не было
сил, способных оказать им сопротивление.
Местное население встретило чехословацкое восстание
весьма сочувственно, поскольку политика большевиков уже начала
вызывать недовольство. Настроения самих чехословаков были
довольно революционными: они поддерживали русских
социалистов, прежде всего эсеров. Постепенно под защиту
Чехословацкого корпуса стали стекаться все противники большевиков. 8 июня
в Самаре образовался Комитет членов Учредительного собрания
(Комуч). Он состоял в основном из эсеров — депутатов
распущенного большевиками Учредительного собрания. Власть Комуча
распространялась на губернии Поволжья. На Урале, в Сибири и
Башкирии также образовались местные небольшевистские
правительства. В них входили в основном социалисты или либералы.
Положение Советской республики в этот момент
выглядело отчаянным, почти безнадёжным. Ведь всю Украину,
Белоруссию и Прибалтику занимали германские войска. «Сейчас вся
судьба революции стоит на одной карте, — замечал в августе
В. Ленин, — быстрая победа над чехословаками...» Л. Троцкий
позднее писал: «Многого ли в те дни не хватало для того, чтобы
опрокинуть революцию? Её территория сузилась до размеров
старого московского княжества. У неё почти не было армии.
Враги облегали её со всех сторон...».
7 августа противники Советской власти взяли Казань. Им
достался находившийся в городе государственный золотой
запас. Падение Казани стало тяжелейшим ударом для
большевиков. Даже Владимир Ленин в те дни в частном разговоре
выразил сомнение в том, что Советская республика уцелеет.
На фронт под Казань отправился Л.
Троцкий, который приложил огромные усилия для
того, чтобы воодушевить войска и добиться
поворота в ходе военных действий. «Сочетанием
агитации, организации, революционного
примера и репрессии, — вспоминал он, — был в
течение нескольких недель достигнут
необходимый перелом. Из зыбкой, неустойчивой,
рассыпающейся массы создалась действительная
армия». 10 сентября Красная армия одержала
первую крупную победу: её части отбили Казань.
Через два дня под натиском красноармейцев
пал Симбирск, а спустя месяц им удалось взять
Самару...
Шли лрозловиы твёрлым шагом,
Враг пол натиском бежал,
Пол трёхцветным русским флагом
Славу полк себе созлал...
В Красной армии эта песня
исполнялась так:
По лолинам и по взгорьям
Шла ливизия вперёл,
Чтобы с бою взять Приморье —
Белой армии оплот.
Ещё один яркий пример подобных
«превращений» — песня добровольцев
А. Деникина. Мелодия этой песни
больше известна с такими словами:
Мы смело в бой пойлём
За власть Советов
И как олин умрём
В борьбе за это.
Но деникиниы, конечно, пели её иначе:
Мы смело в бой пойлём
За Русь Святую
И всех жилов побьём —
Сволочь такую...
Надо сказать, что белогвардейцы
далеко не всюду буквально следовали
заявленному в этих стихах намерению
.«побить» всех евреев. Более того, их
высшее командование осуждало
еврейские погромы, которые тем не менее
происходили достаточно часто.
Существовал и другой, более безобидный
вариант песенных строк:
И как олин прольём
Кровь мололую...
Бронепоезд Красной армии на станции
Ейск на побережье Азовского моря. 1919 г.
283
РЕВОЛЮЦИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
МАКСИМ ГОРЬКИЙ
О СИБИРСКИХ ПАРТИЗАНАХ
Некоторые отряды, действовавшие в
Сибири против войск Александра
Колчака, по свидетельству Максима
Горького, переходили от большевиков к
белогвардейцам и обратно по десять и
более раз. В 1923 г. писатель вспоминал
свой разговор с командиром красных
партизан: «Сибиряк, энергичный
парень, организатор партизанского
отряда в тылу Колчака, угрюмо говорит: „Не
готов наш народ для событий.
Шатается туда и сюда, слеп разумом. Разбили
мы отряд колчаковцев, три пулемёта
отняли, пушечку, обозишко небольшой,
людей перебили с полсотни у них, сами
потеряли семьдесят одного, сидим,
отдыхаем. Вдруг ребята мои
спрашивают меня: а что, не у Колчака ли
правда-то? Не против ли себя идём? Да и
сам я иной день как баран живу —
ничего не понимаю"».
с *
м
.tfly&i
ШМ
В середине сентября противники большевиков провели
Уфимское совещание. Главными его участниками были эсеровский
Комуч и Сибирское правительство (значительно более правое по
настроениям). На совещании было избрано единое
правительство — Директория — из пяти человек. В него вошли кадеты и
эсеры. Однако и Директория выглядела слишком революционной для
офицерства, которое стекалось на «освобождённую территорию»,
чтобы собирать силы для борьбы с большевиками.
Просуществовала Директория всего несколько недель... 18 ноября в Омске, где
разместилось новое правительство, произошёл военный
переворот. Восставшие офицеры арестовали левых членов Директории,
а правые передали власть военному министру адмиралу А.
Колчаку (см. ст. «Александр Колчак»). Как политический деятель
адмирал вполне соответствовал настроениям офицерства,
боровшегося с большевиками. Его правительство могло рассчитывать на
полную поддержку в военных кругах. Александр Колчак принял титул
Верховного правителя России.
Конные части Красной армии на Невском проспекте. Петроград. 1920 г.
V
.^
Ш:й
284
ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА
Добровольцы в Петрограде вступают в ряды Красной армии. Около 1918 г.
ВОЙНА С АРМИЯМИ КОЛЧАКА
Решающим и самым тяжёлым в ходе гражданской войны в
России стал 1919 год. У Советской республики в это время не было
мирных границ, она оказалась в сплошном пылающем кольце
фронтов. Судьба Советской власти вновь держалась на волоске.
Зимой Красная армия добилась определённых побед на
востоке — заняла Уфу, Оренбург и другие города. Но 4 марта
войска адмирала А. Колчака неожиданно для противника перешли
в мощное наступление. 14 марта они взяли Уфу и двинулись к
Волге. Белогвардейцы стремительно продвигались вперёд,
занимая города и сёла.
Весьма важную, возможно определяющую, роль теперь
должны были сыграть настроения местного населения.
Поддержат ли крестьяне Колчака, обеспечат ли его армиям надёжный
тыл? Некоторые из них в ожидании белогвардейцев говорили:
«Пусть эту войну кончают Колчак с Лениным единоборством.
Наше дело сторона». Другие, недовольные политикой
«военного КОММуНИЗМа», ГЛаВНЫМ ОбраЗОМ ПрОДраЗВёрСТКОЙ, ЖДаЛИ КоЛ-
торжественное ОБЕЩАНИЕ
Плакат «Торжественное обещание
красноармейцев». Около 1920 г.
285
РЕВОЛЮЦИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
В. Аени. Плакат 1919 г.
«РАСКАЗАЧИВАНИЕ»
В 1918 г. большинство казаков
неохотно шло на фронты гражданской
войны. Сказывалась усталость от долгих
лет в окопах Первой мировой,
желание пожить спокойно и мирно. В то же
время среди них несколько раз
начиналось движение против большевиков,
вспыхивали отдельные восстания. В
январе 1919 г. части Красной армии,
одержав ряд побед, стали постепенно
занимать Донскую область.
24 января Оргбюро UK РКП(б)
приняло секретную директиву о
«расказачивании». В ней говорилось:
«Необходимо, учитывая опыт гражданской
войны с казачеством, признать
единственно правильным самую беспощадную
борьбу со всеми верхами казачества
путём поголовного их истребления.
Провести массовый террор против
богатых казаков, истребив их поголовно;
провести беспощадный массовый
террор по отношению ко всем казакам,
принимавшим прямое или косвенное
участие в борьбе с Советской властью.
Провести полное разоружение,
расстреливать каждого, у кого будет
обнаружено оружие после срока сдачи».
Следует заметить, что в Российской
империи казаки представляли собой
одну из самых надёжных опор
самодержавного строя. По приказу властей они
подавляли восстания крестьян,
разгоняли демонстрации рабочих и
студентов. Поэтому революционеры
привыкли смотреть на казаков как на
карателей, едва ли не «врагов народа», чем и
объяснялось желание уничтожить это
«вредное сословие».
В марте был подписан ешё один
суровый приказ по войскам Южного
фронта. В нём перечислялись следующие
меры: «Сожжение восставших хуторов,
беспощадные расстрелы всех без
исключения лиц, принимавших прямое
или косвенное участие в восстании.
Расстрелы через пять или десять чело-
чака с нетерпением. Это подтверждают характерные отрывки из
частных писем 1919 г., собранные советской военной цензурой:
«Все взоры обращены на восток, откуда ожидают своего
избавителя Колчака, который свергнет ненавистное всем иго
коммунизма» (Калужская губерния, июнь); «У нас всё-таки Колчака
ждут, как Бога» (Нижегородская губерния, август).
А вот строки из письма пермского крестьянина,
написанного уже после прихода белогвардейцев, в ноябре: «Мы
дожидались Колчака, как Христова дня, а дождались — как самого
хищного зверя. У нас здесь пороли всех сряду, правого и
виноватого. Если не застёгивают, то расстреливают или прикалывают
штыком. Не дай Бог этого лютого Колчака».
Земельная программа А. Колчака (он призывал крестьян
ожидать решения будущего Национального собрания), конечно,
не могла удовлетворить земледельцев. Мелким собственникам
(хуторянам и др.) землю возвращали, что также вызывало
раздражение у крестьян. Любое проявление недовольства власти
сурово подавляли. В 1919 г., давая интервью, Александр Керенский,
политический противник Колчака, рассказывал: «В Сибири
имеют место не только случаи казни и пыток, но часто всё
население деревень подвергается порке, не исключая учителей и
интеллигентов... Благодаря Колчаку создалось новое и усиленное
большевистское движение». Многие крестьяне стали уходить в
красные партизанские отряды, действовавшие в тылу
белогвардейцев. Всего в таких отрядах сражалось до 140 тыс. человек По
всей Сибири половодьем разлилось крестьянское восстание,
которое катастрофически ослабляло тыл армий А. Колчака.
Любопытно, что даже в партизанских отрядах крестьяне продолжали
колебаться — за кем идти, за «белыми» или за «красными»? И те
и другие, с точки зрения крестьян, имели недостатки, однако
«белые», видимо, вызывали большую враждебность.
28 апреля 1919 г. Красная армия перешла в наступление
286
ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА
против войск А, Колчака. В мае В. Ленин писал командованию
Восточного фронта: «Если мы до зимы не завоюем Урала, то я
считаю гибель революции неизбежной; напрягите все силы...». В
июне Красная армия вновь взяла Уфу, а в течение лета ей
удалось занять весь Урал. Основные силы белогвардейцев были
разбиты. Красноармейцы отправили Ленину ответное послание:
«Дорогой товарищ и испытанный верный наш вождь! Ты
приказал взять Урал к зиме. Мы исполнили твой боевой приказ. Урал
наш. Мы идём теперь в Сибирь». 14 ноября А, Колчак потерял свою
столицу — город Омск В начале января 1920 г. он сложил с себя
звание Верховного правителя России. Спустя две недели чехосло-
ваки, охранявшие адмирала, передали его под арест новым властям
(см. ст. «Александр Колчак»). Это во многом объяснялось тем, что
в Чехословацком корпусе уже давно смотрели неодобрительно на
суровые методы борьбы сибирских военных властей с
беспорядками. В одном из заявлений командования корпуса говорилось:
«Под защитой чехословацких штыков местные русские военные
органы позволяют себе действия, перед которыми ужаснётся весь
цивилизованный мир. Выжигание деревень, избиение мирных
русских граждан целыми сотнями... составляют обычное явление».
7 февраля Александр Колчак был расстрелян.
век взрослого мужского населения
хуторов. Массовое взятие заложников из
соседних и восставших хуторов...».
В казачьи станины вступали советские
войска, тут же на виду у всех
производили расстрелы, увозили с собой
заложников. Запрещалось даже носить
казачью форму, в том числе фуражки,
лампасы... Хутора переименовывали в
деревни, станицы — в волости.
Для казаков все эти меры оказались
полной неожиданностью, они были
ошеломлены и подавлены их
суровостью. Но вслед за этим в тылу
советских войск на Дону вспыхнуло новое,
более мошное восстание против
Советской власти. Оно началось в ночь на
12 марта 1919 г. Казаки пришли к
выводу, что речь идёт о жизни или
смерти всего казачьего сословия. Советская
власть получила в лице казачества
весьма серьёзного врага.
СТРОИТЕЛЬСТВО КРАСНОЙ АРМИИ
От прежней русской армии Советская
республика не получила почти ничего. Едва ли не
единственным «осколком старой армии» на стороне
Советов, сохранившим дисциплину и боевой дух,
были полки латышских стрелков. Они стали
важной опорой новой власти в первый год её
существования. Но в остальном Красную армию
приходилось создавать из разношёрстных
красногвардейских частей, почти незнакомых с
дисциплиной, плохо вооружённых, не говоря уже об
обмундировании. Первые красные отряды имели
весьма живописный внешний вид: нередко в
строю рядом стояли бойцы в кепках, шапках,
котелках, даже в цилиндрах...
С июня 1918 г. Красная армия перестала
быть чисто добровольной, в неё начался призыв.
С этого момента армия столкнулась с новой
серьёзной проблемой — массовым дезертирством.
Поэтесса Зинаида Гиппиус замечала в 1919 г.:
«Воевать мужик так же не хочет, как не хотел при
царе...». Однако, как писала она далее, «в деревне,
особенно зимой, и делать нечего, и хлеб на
счету; в красной же армии — обещают паёк, одёвку,
обувку. Вёснами, едва пригреет солнышко и
можно в деревню, — бегут неудержимо и без паники:
просто текут, прячась по лесам, органически пре-
Сл^и4
ТЫ С КЕМ?
нами или с ними:
287
вращаясь в „зелёных"». Вот характерный отрывок из письма
ярославского крестьянина (август 1919 г.): «Полтора месяца я был
дезертиром, но теперь иду в Красную Армию, так как сенокос
окончил и вообще убрал тяжёлую работу».
Крестьяне с готовностью защищали своё поле, деревню,
волость (так воевала, например, «Зелёная армия» Нестора Махно).
Но уходить далеко от родных мест, бросать на произвол судьбы
свою землю и дом они совершенно не хотели. В течение 1919—
1920 гг. при облавах было задержано более 800 тыс. дезертиров.
Ещё свыше 1,5 млн добровольно явились обратно на службу...
Уже вскоре после Октября стало ясно, что без опытных
«военных специалистов», т. е. офицеров и генералов старой армии,
красноармейцы успешно сражаться не способны. С весны 1918 г.
Соломин. «Первый парад» (картина «военспецов» начали ШИрОКО привлекать В Красную армию. В
посвяшена созданию Красной армии). КОНЦе КОНЦОВ ИЗ офицерСКОГО Корпуса, насчитывавшего В 1917 Г.
288
250 тыс. человек, в рядах Красной армии оказались 75 тыс. Ещё Д- моор. плакат 1920 г.
80 тыс. офицеров не участвовали в гражданской войне,
остальные сражались на стороне белогвардейцев.
Правда, большевики не слишком полагались на верность
бывших офицеров. Если «военспец» переходил на сторону
противника, его семья, согласно декрету властей, подвергалась
аресту. Кроме того, командира контролировал военный комиссар —
как правило, коммунист. За измену командира или бунт в части
комиссару полагался расстрел.
Очень важное место в армии начала XX в. занимала
кавалерия, способная к быстрым переходам, неожиданным ударам в
тыл противника. Понимая это, Л. Троцкий выдвинул лозунг:
«Пролетарий, на коня!». Звучал этот призыв довольно
непривычно — ведь до сих пор кавалерия считалась аристократическим,
«дворянским» родом войск.. Вскоре в Красной армии была
создана мощная конница. Она сыграла во многом решающую роль
в ходе гражданской войны.
Красная армия постепенно росла. В мае
1918 г. в ней состояло около 300 тыс. человек. В
феврале 1919 г. её численность превысила 1 млн,
спустя год — 3 млн человек В конце 1920 г. в
Красной армии служило уже свыше 5 млн
бойцов и командиров!
Коренного перелома в отношении
армейской дисциплины советскому руководству
удалось добиться ещё в конце 1918 г. Результаты
этого не замедлили сказаться. Барон А. Будберг,
министр в правительстве А. Колчака, писал в
дневнике в августе 1919 г.: «Смотрю на карту и
наизлющим образом злюсь... Против нас вместо
прошлогодних совдепов и винегрета из
красноармейской рвани наступает регулярная Красная
армия, не желающая — вопреки всем донесениям
нашей разведки — разваливаться; напротив того,
она гонит нас на восток, и мы потеряли
способность сопротивляться и почти без боя катимся».
ВОЙНА С АРМИЯМИ ДЕНИКИНА
Восставшее против большевиков казачество
стало важным оплотом белогвардейцев,
действовавших на юге страны. Ещё в течение 1918 г.
Добровольческая армия постепенно разрослась, став
действительно мощной силой. К ней
присоединились другие белые армии, и объединённые
войска возглавил генерал А. Деникин (см. ст. «Антон
Деникин»).
Войскам Антона Деникина приходилось
сражаться не только с красноармейцами. На
Украине против «белых» воевали и другие воору-
ЗАПИСАЛСЯ
ДОБРОВОЛЬЦЕ!!
289
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
Матросский патруль в Петрограде.
1919 г.
ПОБЕДА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
В ЗАКАВКАЗЬЕ
Весной 1920 г., после разгрома армий
генерала А. Деникина, Красная армия
вплотную подошла к границам
Закавказья. В это время в Азербайджане у
власти находилась
национально-демократическая партия «Мусават»
(«Равенство»), в Грузии правили
меньшевики, в Армении — социалистическая
партия «Дашнакцутюн» («Союз»).
Красной армии, по замыслу
руководства большевиков, предстояло
установить в этих республиках Советскую
власть. 27 апреля 1920 г. части
Красной армии перешли азербайджанскую
границу. Местные большевики
создали Революционный комитет, который
обратился к Советской России с
просьбой прислать войска. Эта просьба
должна была узаконить пребывание
советских военных сил на территории
республики. 28 апреля в Баку на
бронепоезде прибыли представители
новой власти — Серго Орджоникидзе,
Сергей Киров и Анастас Микоян.
Сходным образом развивались
события и в Армении. В ноябре 1920 г.
Революционный комитет, образованный
коммунистами, потребовал передать
ему власть. Сами члены ревкома ешё
находились за пределами Армении, но
опирались на мошную поддержку
Красной армии. В течение нескольких дней
в конце ноября советские войска
почти без единого выстрела заняли
территорию Армении.
Значительно сложнее было утвердить
Советскую власть в Грузии. В. Ленин
считал её самым серьёзным
противником в Закавказье. В мае 1920 г.
Советская Россия официально признала
независимость Грузии. На выборах здесь
победили меньшевики — они
получили 640 тыс. голосов (большевики —
24 тыс.). Правительство возглавил
меньшевик Ной Жордания. В январе
1920 г. он в нескольких словах ярко
обрисовал свой политический курс: «Наш
путь идёт к Европе, путь России — к
Азии. Я должен решительно заявить,
. !
г
ч
i^r-
PE:':fe$
1щ jji" "ere
ВЦ'
£**П?**М^щ ^ВТ Я
JP^^
жённые группировки. Прежде всего это были сторонники
Украинской Народной Республики — петлюровцы, как их называли
по имени командующего Симона Петлюры. Другой
немаловажной военной силой на Украине являлась «Зелёная армия»
анархиста Нестора Махно. Но главными противниками
белогвардейцев, конечно, оставались большевики.
Летом 1919 г., когда на востоке Красная армия побеждала
войска адмирала А. Колчака, армии А. Деникина перешли в
наступление. Они заняли Киев и Харьков, взяли Царицын (ныне
Волгоград) и двинулись в центр страны. 3 июля генерал
Деникин отдал войскам знаменитую «московскую директиву», где
говорилось о предстоящем «захвате сердца России — Москвы».
20 сентября белогвардейцы заняли Курск, 13 октября —
Орёл. Теперь их отделяло от столицы всего около 400 км. Перед
лицом этой угрозы советские войска вынуждены были даже
приостановить победоносное наступление против армий Колчака.
В июле ЦК РКП(б) выдвинул лозунг: «Все на борьбу с
Деникиным!». «Никогда ещё до тех пор, — писал позднее А. Деникин, —
советская власть не была в более тяжёлом положении и не
испытывала большей тревоги... Мы отторгали от советской власти
плодороднейшие области, лишали её хлеба, огромного
количества военных припасов и неисчерпаемых источников
пополнения армий». Всего же белогвардейцы заняли территорию 18
губерний с населением около 42 млн человек.
Вновь, как и в случае наступления А. Колчака, будущее
Советской республики оказалось под вопросом. Очевидно, что
склонить чаши весов в ту или иную сторону могло отношение
населения: с каким настроением оно встретит белогвардейцев —
с сочувствием или враждебностью?
290
ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА
Очевидец событий журналист 3. Арбатов так описывал
вступление подчинённого Деникину отряда генерала Андрея Шкуро в
Екатеринослав (ныне Днепропетровск): «Слёзы, восторженные
крики радости, дикие возгласы о мести большевикам,
прибежавшие и влившиеся в толпу пленные с баржи... Все высыпали на
улицы, создавая небывалый подъём и неповторимую радость. Лёгкой
рысью проносились по широкому проспекту сотни казаков;
добродушные улыбки кубанцев, загорелые лица офицеров и
бесконечный восторг, неимоверное счастье освобождённых людей...
Но на утро другого же дня восторженность сменилась
досадливым недоумением... Вся богатейшая торговая часть города,
все лучшие магазины были разграблены; тротуары были
засыпаны осколками стекла разбитых магазинных окон, а по улицам
конно и пеше бродили казаки, таща на плечах мешки,
наполненные всякими товарами. Грабёж шёл вовсю».
Генерал Пётр Врангель писал о наступлении Антона
Деникина: «Население, встречавшее армию при её продвижении с
искренним восторгом, исстрадавшееся от большевиков и
жаждавшее покоя, вскоре стало вновь испытывать на себе ужасы
грабежей, насилия и произвола. В итоге — развал фронта и
восстания в тылу».
Вот довольно типичные отрывки из
частных писем 1919 г., собранные советской
военной цензурой. В одном письме говорится: «У нас
в Саратове все ждут Деникина» (август). Другое
письмо: «Никогда не представляла, чтобы армия
Деникина занималась грабежами. Грабили не
только солдаты, но и офицеры. Если бы я могла
себе представить, как ведут себя белые
победители, то несомненно спрятала бы бельё и
одежду, а то ничего не осталось» (Орёл, ноябрь).
Добровольческую армию (Добрармию)
население с мрачным юмором прозвало Грабьар-
мией. Писатель Владимир Короленко позднее
сравнивал её с советскими войсками: «Мне
пришлось уже говорить, какая разница была при
занятии Полтавы Красной Армией и
добровольцами. Последние более трёх дней откровенно
грабили город с „разрешения начальства".
Красноармейцы заняли Полтаву, как
дисциплинированная армия, и грабежи, производимые разными
бандитами, тотчас же прекратились...».
Очень важное, возможно решающее,
значение имела крестьянская политика
белогвардейцев. Крестьян больше всего волновал вопрос: не
отберут ли у них землю обратно в пользу
помещиков? Постепенно их худшие опасения
начинали подтверждаться. Во многих местах помещики
возвращались в свои имения и требовали платы
за отобранную крестьянами землю. Часто их
что предпочитаю империалистов
Запада фанатикам Востока».
Однако в январе 1921 г. Политбюро
UK РКП(б) приняло решение
установить в Грузии Советскую власть.
16 февраля в селении Шулавери
образовался Революционный комитет
Грузии. Тотчас Красная армия пришла ему
на помошь. После нескольких дней
боёв 25 февраля в республике также
установилась Советская власть.
Последняя вспышка гражданской
войны в Закавказье произошла три года
спустя, в августе 1924 г. Грузинские
меньшевики организовали восстание
шахтёров, которое быстро
распространилось на всю республику. Но уже
через несколько дней восставших
полностью разгромили части Красной армии
и войска ОГПУ. При этом потери
повстанцев, по некоторым данным,
составили примерно 7 тысяч человек.
Неизвестный художник. Плакат 1920 г.
ТЕРЛТУРЖЬИЭДОГЕЛЬСКОе отд. политогаелл Wi<U>omta. ШШ
291
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
Кукрыниксы. Карикатура
на белогвардейского генерала А. Шкур о.
Плакат «Красная кавалерия — залог
победы!». Около 1920 г.
НА КОНЯ РАБОЧИЙ И СЕЛЯНИН!
КРАСНАЯ КАВАЛЕРИЯ-
ЗАЛОГ ПОБЕДЫ!
требования поддерживали войска... Кроме того, примерно треть
урожая («третий сноп») по решению властей шла на нужды
помещиков. И вновь земледельцев призывали ждать будущих
законодательных решений. Всё это, конечно, могло вызвать у крестьян
только волну раздражения и недовольства.
11 октября 1919 г. Красная армия начала наступление на
войска А. Деникина. В октябре она выбила белогвардейцев из
Орла и Воронежа, в ноябре — из Курска, в декабре — из
Харькова и Киева. Общее положение на фронтах коренным образом
изменилось в пользу Красной армии; её наступление
стремительно развивалось. В январе 1920 г. она отвоевала Царицын,
Новочеркасск и Ростов-на-Дону, в феврале заняла Одессу.
А в марте в довершение ряда тяжёлых поражений белых
армий разразилась «новороссийская катастрофа». 27 марта
войскам А Деникина пришлось в беспорядке оставлять
Новороссийск под напором наступавших советских войск. При
отступлении были брошены огромные армейские запасы, орудия,
конница. Не удалось вывезти даже всех людей, и многие
военнослужащие вынуждены были остаться в городе, хотя с приходом
большевиков их ожидали арест и, вероятнее всего, расстрел.
Некоторые части, опасаясь, что их оставят в Новороссийске,
самовольно покидали фронт и с боем (в буквальном смысле
слова) захватывали идущие на город поезда.
Генерал А. Деникин, отбывший из Новороссийска на
последнем корабле, вспоминал: «На берегу у пристаней толпится
народ. Люди сидели на своих пожитках, разбивали банки с
консервами, разогревали их, грелись сами у разведённых тут же
костров. Это бросившие оружие — те, которые не искали уже
выхода. У большинства спокойное, тупое равнодушие... Временами
слышались из толпы крики отдельных людей, просивших взять
их на борт. Кто они, как их выручить из сжимающей их толпы?..
Погрузили сколько возможно было людей и вышли из бухты. По
дороге, недалеко от берега, в открытом море покачивалась на
свежей волне огромная баржа. Сплошь, до давки, до
умопомрачения забитая людьми. Взяли её на буксир...».
После «новороссийской катастрофы» остатки разбитых
армий А Деникина отступили в Крым. Здесь в начале апреля 1920 г.
генерал Деникин сдал командование и верховную власть
генералу П. Врангелю, после чего покинул страну.
НАСТУПЛЕНИЕ ЮДЕНИЧА НА ПЕТРОГРАД
В начале 1919 г. в Прибалтике были сформированы крупные
белогвардейские силы. Их возглавил генерал Николай Юденич.
Существенную помощь этим войскам оказали союзники,
особенно англичане. Военный министр Великобритании Уинстон
Черчилль позднее говорил: «Наступит день, когда во всём
цивилизованном мире с несомненностью будет признано, что
удушение большевизма при его рождении явилось бы величайшим
благодеянием для человечества». Этим убеждением Черчилля и
292
его единомышленников в Англии во многом объяснялось их
содействие белым армиям.
В течение 1919 г. белогвардейские войска трижды
предпринимали наступление на Петроград — в мае, июле и октябре.
Третье наступление было наиболее мощным. Оно началось
28 сентября, когда на юге армия А. Деникина находилась на
вершине своих успехов. Хорошо снабжённые войска Н. Юденича в
полтора раза превосходили по численности силы Красной
армии, оборонявшие город. С огромным воодушевлением,
уверенные в успехе, части Юденича двинулись на «красный Питер». По
составу их можно было назвать отборными — большой вес в
этих войсках имела офицерская прослойка.
Армия Н. Юденича заняла Гатчину, а затем и Царское Село,
вплотную подступив к пригородам Петрограда. Казалось, что с часу
на час город окажется в руках белогвардейцев. Как и другие белые
армии, войска Юденича не отказывали себе в богатой «военной
добыче». Особенно много ценностей они вывезли из гатчинского
императорского дворца. (Позднее в эстонских газетах можно было
прочесть такие, например, объявления: «Продаётся охотничья
карета Александра П. Отделана слоновой костью».)
В ответ на наступление Н. Юденича большевики
мобилизовали все военные силы, имевшиеся в Петрограде. Город
защищали не только красноармейцы, но и наскоро вооружённые
«рабочие полки». Всё трудоспособное население мобилизовали,
чтобы рыть окопы и строить баррикады. «Да, этого ещё никогда
не было: казённые баррикады!» — едко восклицала по этому
поводу противница большевиков поэтесса Зинаида Гиппиус.
Оборону города с немалой энергией организовывал Л.
Троцкий, перебрасывая резервы и
используя любую возможность
укрепить фронт. В результате
всех этих мер защитникам
города удалось совершить,
казалось, невозможное —
остановить армию Н. Юденича и
отбросить её назад. 21 октября
части Красной армии перешли
в наступление и за две недели
нанесли белогвардейцам
сокрушительный удар. В результате
ожесточённых боёв армия
Юденича была разгромлена и
оттеснена к эстонской границе.
Её остатки отступили в
Эстонию, где были разоружены и
взяты под арест местными
властями. Ненадолго арестовали
даже самого Н. Юденича... 22
января 1920 г. он отдал приказ о
расформировании армии.
Д. Моор. Плакат 1919 г.
А. Апсит. Плакат 1919 г.
293
РЕВОЛЮЦИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОИНА
ПОТЕРИ В ГОЛЫ
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
С осени 1917 г. и до конца 1922 г.,
когда гражданская война в России
почти полностью прекратилась,
население страны уменьшилось примерно
на 13 миллионов человек (из них
около 2 миллионов эмигрировали).
Боевые потери воююших армий при
этом были относительно невелики.
Например, Красная армия в эти годы
потеряла убитыми, пленными и
умершими от болезней, по различным
оценкам, от 190 тысяч до 240 тысяч
человек. Впрочем, некоторые источники
называли более высокие цифры —
425 тысяч и даже 1 миллион человек.
Однако основная масса погибших по
любым подсчётам принадлежала к
мирному населению. Так, только в ходе
еврейских погромов погибло около
300 тысяч человек. Примерно 5
миллионов жизней унесли эпидемии тифа,
холеры и других болезней. Свыше
5 миллионов человек, по официальным
данным, умерли в 1921—1922 гг. от
голода. Обшие потери, включая
эмигрантов, приближались к 10% всей
численности населения России.
В. Блюхер — главнокомандующий
Народно-революционной армией ДВР.
БОРЬБА С БАСМАЧЕСТВОМ В СРЕДНЕЙ АЗИИ
В октябре 1917 г., через несколько дней после победы
большевиков в Петрограде, власть в Ташкенте также перешла в руки
Совета. Опирался Совет в основном на железнодорожных рабочих
и солдат, почти исключительно русских. Несколько лет спустя
коммунист Г. Сафаров отмечал: «С первых же дней революции
Советская власть утвердилась в Туркестане как власть тонкого
слоя русских рабочих по линии железной дороги. Ещё и до сих
пор здесь широко распространён тот взгляд, что единственным
носителем пролетарской диктатуры в Туркестане может быть
только русский».
Одно из первых постановлений новой власти запрещало
мусульманам занимать государственные должности. Правда,
спустя полгода это решение формально отменили, но на деле
положение осталось прежним. Советскую власть население
Туркестана (так называлась тогда большая часть Средней Азии)
рассматривало как «власть русских». Это побуждало многих местных
русских, например богатых крестьян («кулаков») и даже
священников, становиться сторонниками Советов. В 1920 г. в
Туркестане никого не удивляло такое, например, объявление на улице: «По
случаю того, что сегодня богослужение исполняется
коммунистическим батюшкой, все члены коммунистической партии
приглашаются на это богослужение».
Политическое господство русского населения вызывало
недовольство коренных жителей Туркестана. Враждебность
порождали также такие меры «военного коммунизма», как
продразвёрстка, запрет базаров и свободной хлебной торговли. Но самое
сильное возмущение вспыхнуло в связи с ограничениями и
запретами, наложенными на многие мусульманские обряды и
традиции.
Уже в 1918 г. в Ферганской долине против большевиков
сражалось около 40 повстанческих отрядов. Красноармейцы
окрестили повстанцев басмачами. Это слово, означающее
«вооружённые всадники», приобрело новое значение — бандиты.
Повстанческие отрады применяли партизанскую тактику борьбы и
оставались почти неуловимыми для Красной армии.
Тогда власти перешли к традиционным способам борьбы с
партизанским движением: брали заложников, уничтожали целые
селения. «Мы думали одно время ликвидировать басмачество
огнём и мечом, — вспоминал в 1922 г. председатель Совнаркома
Туркестана К Атабаев. — В этих целях более или менее крупные
кишлаки, „поражённые басмачеством", уничтожались
беспощадно, вследствие чего население уходило от Советской власти всё
дальше и дальше. Не помогла нам и общая оккупация всей
Ферганы. В одно время в Фергану было переброшено до 30 тысяч
войск, и все крупные кишлаки были заняты гарнизонами из
красноармейцев. Население оставалось враждебным к нам, басмачи
легко справлялись с нашими гарнизонами, и мы наконец
вынуждены были убрать войска из кишлаков».
294
ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА
Басмачи выступали под лозунгом «защиты исламской веры».
В этом они встречали полное сочувствие местного
крестьянства. «В результате всего этого, — говорил К Атабаев, — сложилось
у командования и красноармейцев мнение, что всё население
является басмачами...» В ряде случаев басмачам удалось одержать
ряд крупных побед над частями Красной армии.
Переход Советской власти к нэпу несколько смягчил
недовольство крестьян. Ещё больше ослабили басмаческое движение
определённые уступки некоторым религиозным традициям
мусульман. Тем не менее в 1921 — начале 1922 гг. в рядах басмачей ещё
насчитывалось до 50 тыс. вооружённых всадников. Но это число
быстро уменьшалось. В мае 1922 г. басмачей, по официальным
советским оценкам, было свыше 26 тыс., в октябре — лишь около
7 тыс. человек Немногочисленные вооружённые группы
продолжали бороться против Советской власти вплоть до 1933 г., когда
их сопротивление было окончательно подавлено.
Вплоть до 1920 г. наряду с Советским Туркестаном в
Средней Азии существовали независимые Хивинское ханство и
Бухарский эмират. В феврале 1920 г. части Красной армии заняли Хиву,
после чего в апреле здесь была провозглашена Хорезмская
Народная Советская Республика. В сентябре 1920 г. советские
войска вступили и на территорию Бухарского эмирата. После
свержения эмира здесь в октябре того же года образовалась
Бухарская Народная Советская Республика. Таким образом, Советская
власть победила на всей территории Средней Азии,
принадлежавшей прежде Российской империи.
ВОЙНА С ПОЛЬШЕЙ
Первые столкновения советских и польских воинских частей
произошли ещё в 1918 г. Власти Польши рассматривали
Советскую Россию как угрозу своей независимости, ив 1919 г.
польская армия повела наступление на восток.
Руководитель Польши Юзеф Пилсудский замечал по этому
поводу в начале 1919 г.: «Если события будут развиваться так, как я
предполагаю, то через 5—6 месяцев, возможно, я и смог бы дойти
до Москвы и прогнать большевиков оттуда. Но что потом?
Каждый офицер там знает стратегию Кутузова... Места у них много. А
я Москвы ни в Лондон, ни в Варшаву не переделаю. Только,
видимо, отомщу за гимназическую молодость в Вильне и прикажу
написать на стенах Кремля: „Говорить по-русски запрещается"...».
В апреле 1920 г. польские войска продолжили своё
наступление и вскоре заняли Житомир и Киев. Однако уже через
месяц Красная армия собрала крупные силы на Западном фронте
и смогла перейти в ответное наступление.
К середине июля независимая Польша оказалась на грани
катастрофы. Части Красной армии стремительным маршем
приближались уже к предместьям Варшавы. «Даёшь Варшаву! Даёшь
Берлин!» — пели в эти месяцы красноармейцы. Командовал
советскими войсками «красный командарм» М. Тухачевский (см.
Деньги Дальневосточной Республики.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РЕСПУБЛИКА
В апреле 1920 г. в Прибайкалье
образовалось необычное для той эпохи
государство—Дальневосточная
Республика (ДВР). Особенностью ДВР было
то, что в ней действовал парламент
(Учредительное собрание), куда
входили большевики, меньшевики и эсеры.
Сохранялись определённая свобода
печати, рыночная экономика. Все
ключевые посты в республике, впрочем,
находились в руках большевиков. В.
Ленин писал о строе ДВР в 1920 г.:
«Допустима демократия с маленькими
привилегиями коммунистов».
ДВР служила «буфером» между
Советской Россией и японскими войсками,
находившимися с весны 1918 г. на
Дальнем Востоке России. Республика
располагала собственной
Народно-революционной армией, которая
фактически входила в состав Красной армии.
Командовал ею прославленный
полководец гражданской войны Василий
Блюхер.
В 1920 г. войска ДВР вступили в Читу
и Забайкалье, выбив оттуда
белогвардейцев и японцев, а в октябре 1922 г.
двинулись в Приморье. К ноябрю оно
было полностью занято армией ДВР.
Белогвардейцы и японцы оставили
Дальний Восток России. Из
Владивостока в эти месяцы устремилась
последняя волна русской эмиграции
эпохи гражданской войны. Той же осенью
в ДВР прошли аресты эсеров и других
противников Советской власти. 15
ноября 1922 г. Дальневосточная
Республика прекратила существование и
стала «нераздельной составной частью»
Советской России.
295
РЕВОЛЮЦИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
В. Лени. «Врангель». Карикатура.
ПОКА НЕ VMfirai КРАСНОЕ ЗНАМЯ;
ВННГОВКАнсИОШ ВЫТЬ 6Р0ШШ НАИН.
В. Маяковский. Плакат из серии «Окна РОСТА».
ст. «Михаил Тухачевский»). Войне с Польшей в Советской
России придавали очень большое значение. «Нет никакого
сомнения в том, что если бы на Висле мы одержали победу, — замечал
позднее М. Тухачевский, — то революция охватила бы огненным
пламенем весь европейский материк» (см. ст. «Внешняя
политика после Октября»).
Однако в середине августа в военных действиях вновь
произошёл крутой перелом. Полякам удалось остановить советские
части, а затем и нанести им сокрушительное поражение. На
Западе это событие назвали «чудом на Висле». Важную роль в
таком повороте сыграло не только военное мастерство, но и
моральный дух польских войск. Один из советских военных
руководителей, Дмитрий Полуян, заметил, выступая перед
коммунистами в сентябре 1920 г.: «Те мужички, которые были в армии
Деникина, их ничто не спаивало с деникинскими офицерами. В
польской армии национальная идея спаивает и буржуа, и
крестьянина, и рабочего. И это приходилось наблюдать везде».
Развивая новое наступление, польская армия перешла
советские границы, заняла часть Белоруссии и Украины. 18 марта
1921 г. был подписан тяжёлый для Советской страны Рижский
мирный договор. Его часто называли «вторым Брестским
миром». Польше доставались Западная Украина и Западная
Белоруссия с 15-миллионным населением, а также контрибуция в
размере 30 млн золотых рублей. Поражение в
войне с «белополяками» нанесло
сокрушительный удар и по самой идее «международной
пролетарской революции».
БОРЬБА С АРМИЕЙ ВРАНГЕЛЯ
После отставки генерала А. Деникина
командование остатками его войск перешло к генералу
барону Петру Врангелю. В первый момент
могло показаться, что отброшенные в Крым
белогвардейцы окончательно разбиты и уже не
способны к сопротивлению. Однако новому
командованию удалось восстановить порядок в их
рядах. Теперь это было почти единственное
воинское формирование белогвардейцев во всей
России. Поэтому войска П. Врангеля стали
называться Русской армией.
В мае 1920 г., в разгар советско-польской
войны, П. Врангель принял решение ударить
силами своих войск по тылам Красной армии.
20 мая, перед выходом из Крыма, он приказал
широко распространить два
приказа-обращения.
Вот текст одного из них: «Слушайте,
русские люди, за что мы боремся. За поруганную
веру и оскорблённые её святыни. За освобож-
КРАСИВИ РАЗЗОЛОЧЕН
НО ТОЛЬКО-ЭХ!
ДЛЯ ЗУБ БУРЖУЯ ОЧЕНЬ
ТЯЖЕЛ ОРЕХ
296
ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА
В. Маяковский. Плакат из серии «Окна РОСТА». 1920 г.
КРЕСТЬЯНИН, ТАК ВСТРЕЧАЙ ВРАНГЕЛЯ
КРКТЬЯНИНГКЛИ ЖДЕШЬ ВРАНГЕЛЯ
4. ВОЗЬМЕТ
7. ПОПРОСИТ,
ЧТОБ ПЕСЕНКУ СПЕЛИ
J.KAK С НЕБА АНГЕЛА
5.П0СААКТ.
8J ЗЕМЛИЦЕЙ НАДЕЛИТ
*а^. ДАС;
звшннишзю
ПРО БАРСКУЮ ЛАСКУ
6.П0 ГОЛОВКЕ ПОМАДИТ
4 \
З.И ТЫ ЕГО ПОРАМИ
ПРИМИ ТАКИМ ПАРАДОМ
14)Т011А1»11ЩИ 71И1НТЕ€1» ПОПАСТЬ
К ТАКУЮ ПАСТЬ
ЧТОШ С НАИН НИКОГДА
НЕ СЛУЧИЛОСЬ ЭТО
Сплотнисл
Класть укрепим cmketoii !
г/1лкп«»лнтп1мн:|:ет м? ню.
ОКНА РОСТА. Рисунок и текст В. Маяковского
В. Маяковский. Плакат.
НА ПОЛЬСКИЙ ФРОНТ
ПОД ВИНТОВКУ! МИГОМ!
ЕСЛИ БЫТЬ НЕ ХОТИТЕ
ПОД ПАНСКИМ ИГОМ
М. Черемных. Плакат из серии «Окна РОСТА».
В. Маяковский. Плакат 1920 г.
РЕВОЛЮЦИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОИНА
Явмая пролемрнн веек стн еоедннятёь!
ВШ»/КНГШУ%Ъ Mjxwjvrr
К ОРУЖИЮ ПРОЛЕТАРИИ ГГ
Н. Кочергин. Плакат 1920 г.
Н. Кочергин. Плакат 1920 г.
ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА
дение русского народа от ига коммунистов, бродяг и
каторжников, вконец разоривших Святую Русь. За прекращение
междоусобной брани. За то, чтобы крестьянин, приобретая в
собственность обрабатываемую им землю, занялся бы мирным трудом.
За то, чтобы истинная свобода и право царили на Руси. За то,
чтобы Русский народ сам выбрал бы себе Хозяина. Помогите
мне, русские люди, спасти Родину!».
Спустя три дня, 23 мая, Русская армия вырвалась из Крыма
и с тяжёлыми боями захватила почти всю Северную Таврию
(районы Южной Украины). 21 сентября для борьбы с войсками
П. Врангеля был создан Южный фронт, который возглавил
«старый большевик» Михаил Фрунзе. 12 октября Советская Россия
подписала перемирие с Польшей, после чего на Южный фронт
перебросили новые мощные силы.
28 октября Красная армия перешла в наступление. Против
Русской армии выступила под чёрными анархистскими
знамёнами и «Зелёная армия» Нестора Махно, заключившего
временный союз с Советской властью. После нескольких дней
напряжённых боёв П. Врангелю пришлось вновь отойти в Крым.
М. Фрунзе предложил белогвардейцам сдаться, пообещав им
свободный выезд за границу. В. Ленин счёл такое предложение
слишком мягким и направил Фрунзе телеграмму: «Только что
узнал о Вашем предложении Врангелю сдаться; крайне удивлён
непомерной уступчивостью условий. По-моему, нельзя больше
повторять их и нужно расправиться беспощадно».
Войска П. Врангеля укрылись за мощными перекопскими
и чонгарскими укреплениями, которые считались
неприступными. Однако советское командование разработало план прорыва
этих укреплений. В ночь на 8 ноября красноармейцы вброд
двинулись в обход укреплений через ледяную воду залива Сиваш
(было два градуса мороза). Одновременно начался их лобовой
штурм. Советские войска несли огромные потери — некоторые
части теряли более 70% своего состава. Однако ценой этих жертв
красноармейцам удалось прорваться в Крым. 1б ноября М.
Фрунзе отправил телеграмму в Москву «Сегодня нашей конницей
взята Керчь. Южный фронт ликвидирован».
Остатки разгромленной Русской армии покинули
полуостров Крым и эвакуировались в Турцию. Свыше 120 кораблей
доставили в Стамбул (Константинополь) около 150 тыс. человек.
Многие белогвардейские офицеры не захотели покинуть
родину, рассчитывая на милость победителей. Занявшие Крым
большевики под угрозой расстрела потребовали регистрации всех
бывших офицеров врангелевской армии. Затем по составленным
спискам производились массовые расстрелы. «Каждый спешил
подойти первым к могиле», — писал очевидец событий А. Осо-
кин, вспоминая многотысячные очереди на регистрацию.
Венгерский коммунист Бела Кун, один из новых руководителей
Крыма, говорил: «Крым — это бутылка, из которой ни один
контрреволюционер не выскочит». Всего, по некоторым оценкам, в
Крыму расстреляли до 50 тысяч человек.
«Тов. Каменев, главнокомандующий
всеми вооружёнными силами СССР»
(дружеский шарж из журнала «Красный
перец»). Сергей Каменев — бывший
полковник русской армии, выпускник
Академии Генштаба. С июля 1919 г. —
главком вооружённых сил Советской
республики.
299
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
->$.
Рисунок Эсса. «Елка Врангеля».
Ты сиаишь олиноко и смотришь с тоской
На улел свой, заслуженно тяжкий...
Логорели мечты...
Нал тобой и с тобой
Только образ иаря Николашки.
Вместо въезла в Россию на белом коне
Лишь на ёлке цветные бумажки,
Аа назойливой тенью лрожит на стене
Пьяный облик иаря Николашки.
(Журнал «Красный перец». 1923 г.)
ЗАВЕРШЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Основные сражения гражданской войны отгремели ещё в 1920 г.,
а к концу 1922 г. боевые действия почти полностью
прекратились. Только на окраинах Советской страны — в Закавказье,
Средней Азии — ещё несколько лет происходили вспышки
вооружённой борьбы. Но исход её ввиду явного неравенства сил
воюющих сторон был во многом предрешён.
Большевики в ходе гражданской войны ставили задачу
«зажечь мировую революцию», создать Всемирную республику
Советов. Этот их замысел не увенчался успехом. Советский строй
не сумел победить даже на всей территории бывшей Российской
империи, в частности в Польше, Финляндии и прибалтийских
странах — Литве, Латвии и Эстонии (хотя все эти страны,
кроме Польши, в разное время с 1918 по 1919 г. прошли через
недолгий период Советской власти).
В то же время на большей части территории бывшей
Российской империи по окончании гражданской войны вновь
возникло единое государство. Его оформление закончилось в
декабре 1922 г., когда образовался Советский Союз.
#«8итде«ялгмкмс4
pi*wt»»oj#a£*k ektbfoiedb св/о«гсайнс*ншА Sees* JCTcZTopwu*,*»»;
Генерал П. Врангель. 1920 г. Неизвестный художник. Белогвардейский плакат 1919 г.
300
ЛАВР
КОРНИЛОВ
ДЕЯТЕЛИ
ГРАЖДАНСКОЙ воины
ЛАВР КОРНИЛОВ
(1870—1918)
Слово «корниловец» на рубеже 1917—1918 гг. мало кого
оставляло равнодушным. Одни произносили его с ненавистью, как
ругательство, другие — с гордостью, как почётное звание.
Видный вождь гражданской войны Лавр Георгиевич
Корнилов родился 18 августа 1870 г. в семье отставного казачьего
офицера. Место его рождения — станица Каркарлинская под
Семипалатинском. Как и отец, Лавр решил посвятить себя военному
делу. Изучал его с большой старательностью и первым (т. е.
лучшим учеником) окончил Омский кадетский корпус, а затем Ми-
хайловское артиллерийское училище.
Несколько лет Л. Корнилов прослужил в Туркестане, где не
раз участвовал в рискованных разведках и военных
экспедициях. Однажды в качестве разведчика, одевшись как местный
житель, он прошёл более 400 км по афганским дорогам. Помогало
ему в таких вылазках и знание туркменского и персидского
языков. О своих путешествиях Л. Корнилов написал несколько
статей и книгу.
28-летний Лавр Корнилов с медалью закончил Академию
Генштаба. Сражался на фронтах русско-японской войны и
получил здесь за храбрость свой первый Георгиевский крест.
Несколько лет прослужил военным атташе в Китае.
ПЛЕН И ПОБЕГ
Первую мировую войну Л. Корнилов встретил командиром
пехотной дивизии в чине генерал-майора. Солдаты привыкли
видеть своего генерала на самых опасных участках, в огне, и
уважали его за отвагу. В апреле 1915 г. в ходе Карпатского сражения
дивизия Корнилова была разбита. Сам Лавр Георгиевич, тяжело
раненный, оказался в австрийском плену.
Однако он не смирился с такой участью. Дважды пытался
бежать из плена, но оба раза неудачно. Третью попытку побега
Полковник Л. Корнилов.
ЛАВР КОРНИЛОВ И АРЕСТ
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ
8 февраля 1917 г. новому
командующему Петроградского военного
округа генералу Лавру Корнилову пришлось
взять под арест находившихся в Цар-
ском Селе императрицу и пятерых её
детей. Он сказал ей: «Ваше
Величество, на меня выпала тяжёлая
обязанность сообщить Вам об аресте...».
После ухода генерала Александра
Фёдоровна заявила: «Мы все должны
подчиниться судьбе. Генерала Корнилова я
знала раньше. Он — рыцарь, и я
спокойна теперь за детей». Она даже
высказала удовлетворение, что об аресте
ей объявил генерал Корнилов, а не кто-
либо из новых министров. Но
некоторые монархисты позднее не могли
простить Корнилову участия в этом аресте.
301
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
ЛАВР КОРНИЛОВ НА ФРОНТЕ
Командующий 8-й армией генерал
Л. Корнилов прибыл на фронт в мае
1917 г., в разгар братаний с
солдатами противника. Немцы с
любопытством рассматривали русского генерала
и... не стреляли. От чувства бессилия
на глазах Корнилова наворачивались
слёзы. В одном месте фронта его даже
приветствовал бравурным маршем
германский военный оркестр. Рядом
стояла толпа русских и немецких солдат.
«Это измена!» — с гневом воскликнул
генерал и пригрозил открыть огонь из
пушек, если братание не прекратится.
«Я принял армию в состоянии полного
разложения, — говорил Корнилов. —
В течение двух месяцев мне почти
ежедневно пришлось бывать в войсковых
частях, лично разъяснять солдатам
необходимость дисциплины, ободрять
офицеров... Тут же я убедился, что
твёрдое слово начальника и
определённые действия необходимы, чтобы
остановить развал нашей армии».
Торжественная встреча Л. Корнилова в Москве во время
Государственного совещания.
Корнилов готовил особенно тщательно и осторожно. Раздобыл
мундир австрийского солдата. Притворившись больным,
несколько дней провёл в своей комнате, чтобы охрана привыкла к
его отсутствию. Затем переоделся в австрийскую форму и бежал.
Это случилось в июле 1916 г.
После многодневных скитаний в лесах Корнилову удалось
перейти румынскую границу. Здесь, присоединившись к другим
пленным, он добрался до русских войск «Когда солдат
построили на пропылённом плацу, — писал историк Г. Иоффе, — из строя
вышел вконец исхудавший маленький человек с заросшим
щетиной монгольским лицом. Нечётким шагом подойдя к
офицеру, хриплым, срывающимся голосом крикнул: „Я —
генерал-лейтенант Корнилов!"». С этого момента имя Корнилова услышала
вся страна. Побег генерала из плена действительно был
событием удивительным, почти невероятным. Николай II лично
наградил его вторым Георгиевским крестом.
ПОСЛЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Сразу после Февраля 1917 г. новые власти вспомнили имя
генерала Корнилова. 2 марта председатель Государственной думы
Михаил Родзянко направил телеграмму главковерху генералу
Михаилу Алексееву В ней он называл Л. Корнилова «доблестным
боевым генералом» и «известным всей России
героем». Родзянко просил самого Корнилова
«во имя спасения родины» занять пост
главнокомандующего столичным военным округом.
Лавр Георгиевич согласился, М. Алексеев
утвердил это решение.
Скоро Л. Корнилов почувствовал, что
привести в повиновение Петроградский гарнизон
вряд ли удастся. Антон Деникин писал об этом:
«То обаяние, которым он пользовался в армии,
здесь, среди деморализованных войск,
поблёкло. Они митинговали, дезертировали,
торговали за прилавком и на улице, участвовали в
самочинных обысках, но не несли службы.
Подойти к их психологии боевому генералу было
трудно».
20 апреля в Петрограде начались уличные
демонстрации и столкновения. На следующий
день Л. Корнилов распорядился послать на
Дворцовую площадь пушки. Но собрание солдат и
офицеров Михайловского училища
постановило не выполнять приказ. В тот же день
городской Совет подтвердил, что без его согласия
войска двигать нельзя. Командующий был
почти лишён своих прав. 29 апреля произошёл ещё
один характерный случай. Корнилов назначил
смотр Финляндскому гвардейскому полку, уча-
302
ЛАВР
КОРНИЛОВ
ствовавшему в волнениях. Но солдаты не вышли из казарм для
встречи своего главнокомандующего. На плац явились только
новобранцы, которые подняли свист и сорвали флажок с
автомобиля генерала.
Потерпев неудачу в Петрограде, Лавр Георгиевич решил
вернуться на фронт. В первых числах мая газеты сообщили об
отставке генерала «согласно его настойчивой просьбе». Он
отправился на фронт в качестве командующего 8-й армией. Но и здесь
положение было немногим легче: дисциплина в армии крайне
ослабла... Генерал Л. Корнилов всемерно старался её укрепить.
В конце июня русские войска перешли в наступление.
Почти всюду они продвигались очень медленно, только 8-я армия
Корнилова добилась значительных успехов. В частности, она
взяла города Галич и Калуш, захватила более 10 тыс. пленных.
27 июня Корнилов получил звание генерала от инфантерии
(пехоты). (В просторечии этот чин чаще называли по-другому —
«полный генерал».) Но в конце концов общее наступление
закончилось полным провалом.
7 июля Корнилова назначили командующим Юго-Западным
фронтом. В тот же день он послал резкую телеграмму
Временному правительству, где сообщал о беспорядочном бегстве
русских войск. Первоначальный успех обратился в поражение из-
за отсутствия дисциплины, считал он. «Это бедствие, — писал
Корнилов, — или будет снято революционным правительством,
или, если оно не сумеет этого сделать, неизбежным ходом
истории будут выдвинуты другие люди». Через четыре дня Корнилов
подписал другую телеграмму Временному правительству. В ней
говорилось: «На полях, которые даже нельзя назвать полями
сражения, царит сплошной ужас, позор и срам, которых русская
армия ещё не знала с самого начала своего существования.
Необходимо немедленное введение смертной казни на театре
военных действий. Смертная казнь спасёт многие невинные жизни
ценою гибели немногих изменников, предателей и трусов». В
противном случае Корнилов пригрозил самовольной отставкой.
Несмотря на эту дерзость, уже 19 июля Корнилова
назначили Верховным главнокомандующим (главковерхом) русской
армией. Смертную казнь на фронте восстановили. Генерал Пётр
Краснов вспоминал, что после этого имя Корнилова стало очень
популярным в офицерской среде. «Офицеры ждали от него
чуда — спасения Армии, наступления, победы. Для солдат имя
Корнилова стало равнозначащим смертной казни и всяким
наказаниям. „Корнилов хочет войны, — говорили они, — а мы
желаем мира"».
Всё больше сочувствовала генералу и либеральная
интеллигенция. «Призрак „генерала на белом коне" получал всё более и
более реальные очертания, — замечал А. Деникин. — Взоры очень
многих людей всё чаще и чаще обращались к нему. И все в один
голос говорили: „Спаси!". Корнилов стал знаменем...» В конце
июля Л. Корнилов наедине заявил А Деникину: «Нужно
бороться, иначе страна погибнет. Предлагают мне войти в состав пра-
КОРНИЛОВЦЫ
Летом 1917 г., чтобы подать пример
патриотизма и дисциплины, началось
создание добровольных «ударных
батальонов». Их называли ешё
«батальонами смерти». Одним из них стал Кор-
ниловский ударный отряд (с августа —
полк). Как и у всех бойцов «батальонов
смерти», кокарда на фуражках
корниловцев заменялась изображением
черепа. Они носили чёрно-красные погоны
с буквой «К» и эмблему на левом
рукаве, которая представляла собой
голубой (или чёрный) шит, на котором
изображены белый (или жёлтый) череп со
скрещенными костями («Адамова
голова»), два скрещенных меча и красная
горящая граната. Вверху имелась
надпись: «Корниловцы». В армии
появилось шуточное двустишие:
Кто расписан как плакат?
То корниловский соллат.
Когда Л. Корнилов находился под
арестом в Могилёве, корниловцы не
побоялись выразить ему своё сочувствие:
прошли торжественным маршем мимо
тюремных окон. Правда, сам полк тогда
переименовали в Славянский ударный,
т. к. слово «корниловцы» стало звучать
слишком вызывающе. В декабре полк
восстановил прежнее название и
влился в Добровольческую армию. 600
корниловцев составили её ядро. Их форма
осталась прежней. К октябрю 1919 г.
полк вырос в Корниловскую дивизию.
Л. Корнилов.
зоз
РЕВОЛЮЦИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
БЫХОВСКАЯ ТЮРЬМА И ПОБЕГ
12 сентября арестованного Л.
Корнилова отправили из Могилёва, где
размешалась Ставка, в тюрьму соседнего
города Быхова. Здесь же оказались 23
его «сообщника», из них 9 генералов.
За их охрану отвечал Текинский
конный полк, состоящий из уроженцев
Туркестана. Текинцы и раньше охраняли
Корнилова и оставались ему верны и
преданы. Внутри тюрьмы арестованные
пользовались полной свободой. Бывший
в их числе А. Деникин вспоминал, что
«на общем собрании заключённых
поставлен был вопрос: „Продолжать или
считать дело оконченным?"». Все
единогласно признали необходимость
«продолжать». После этого они составили
«корниловскую программу». Все
острые вопросы дня (земельный вопрос,
монархия или республика и т. д.),
согласно программе, откладывались до
созыва Учредительного собрания. А до
тех пор требовалось установить
сильную правительственную власть,
навести порядок в армии и продолжать
войну. Спустя несколько месяцев эта
программа легла в основу белого движения.
25 октября 1917 г. к власти в
Петрограде пришли большевики. Генерал
Александр Лукомский рассказывал: «В
бытность у власти Керенского мы
могли, если б захотели, бежать из Быхова
совершенно свободно. Но мы этого
делать не хотели, мы хотели суда. С
появлением же у власти большевиков
оставаться в Быхове становилось просто
глупо». К 18 ноября в тюрьме
находились только пять генералов во главе с
Корниловым. Заключённые заранее
условились бежать в Новочеркасск,
под защиту донского казачества.
19 ноября тюрьма опустела. Генерал
Корнилов покинул её последним.
Поздним вечером он вышел к ожидавшему
его Текинскому полку, которому
заранее приказал приготовиться в путь. В
тот же вечер 400 текинцев во главе с
Корниловым походным порядком
отправились на Дон. Товарищи Лавра
Георгиевича по заключению,
загримированные и с фальшивыми
документами, поехали по железной дороге.
Путь оказался очень тяжёлым.
Текинцы старались двигаться быстро и за
вительства... Ну нет! Эти господа слишком связаны с Советами и
ни на что решиться не могут. Я им говорю: предоставьте мне
власть, тогда я поведу решительную борьбу. Нам нужно довести
Россию до Учредительного собрания, а там — пусть делают, что
хотят: я устранюсь и ничему препятствовать не буду».
13 августа главковерх Корнилов прибыл в Москву на
Государственное совещание. Военные и либералы устроили ему на
вокзале торжественную встречу. Кадет Ф. Родичев заявил в своей
речи: «На вере в Вас мы сходимся все, вся Москва. И верим, что
клич: ,Да здравствует генерал Корнилов!" — теперь клич
надежды — сделается возгласом всенародного торжества». «Спасите
Россию, — воскликнул он, — и благодарный народ увенчает Вас!»
Офицеры подхватили Лавра Корнилова на руки и так перенесли
в его автомобиль.
КОРНИЛОВСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
В течение августа 1917 г. Корнилов настойчиво предлагал
создать сильную власть и «навести порядок в Петрограде». На это
время он готов был взять всю власть в свои руки и предлагал это
А. Керенскому. В конце концов тот пришёл к выводу, что
главнокомандующий готовит военный мятеж
В ночь на 27 августа Керенский разослал телеграмму, в
которой объявил Корнилова мятежником и приказал ему сдать
должность главковерха. Лавр Георгиевич сначала принял эту
телеграмму за фальшивку. «Получив непонятную телеграмму
Керенского, — рассказывал он, — я потерял 24 часа. Я предполагал, или
что телеграф перепутал, или что большевики овладели
телеграфом. Я ждал или подтверждения, или опровержения. Таким
образом я пропустил день и ночь: я позволил Керенскому
опередить себя». Когда же Корнилов понял, что телеграмма подлинная,
он решил бороться.
27 августа он подписал свою знаменитую ответную
телеграмму:
«Русские люди!
Великая родина наша умирает. Близок час кончины.
Вынужденный выступить открыто, я, генерал Корнилов,
заявляю, что Временное правительство под давлением
большевистского большинства Советов действует в полном согласии с
планами германского генерального штаба... Тяжёлое сознание
неминуемой гибели страны повелевает мне в эти грозные минуты
призвать всех русских людей к спасению умирающей родины.
Все, у кого бьётся в груди русское сердце, все, кто верит в Бога, в
храмы, — молите Господа Бога о явлении величайшего чуда,
спасения родимой земли. Я, генерал Корнилов, сын
казака-крестьянина, заявляю всем и каждому, что мне ничего не надо, кроме
сохранения великой России, и клянусь довести народ — путём
победы над врагом — до Учредительного собрания, на котором
он сам решит свои судьбы».
Одновременно он приказал двинуть на Петроград Туземную
(Дикую) дивизию и другие подразделения 3-го Конного корпуса
304
ЛАВР
КОРНИЛОВ
генерала А. Крымова. Это было уже открытое выступление против
правительства. Но на действиях и Корнилова, и Крымова в это
время лежал отпечаток неуверенности. «Если бы я был тем
заговорщиком, каким рисовал меня Керенский, — говорил позднее
Корнилов, — если бы я составил заговор для низвержения
правительства... я не сомневаюсь, что вошёл бы в Петроград почти без боя. Но в
действительности я не составлял заговора и ничего не подготовил.
Я ещё мог бы начать действовать, наверстать упущенное время и
исправить сделанные ошибки. Но я был болен, у меня был сильный
приступ лихорадки и не было моей обычной энергии».
Неуверенность царила не только среди руководителей
выступления, но и среди солдат. Они не могли сочувствовать
Корнилову, который вернул в армию смертную казнь. Солдаты
откровенно говорили, что не знают, зачем их ведут на столицу. Это
в конечном итоге и решило дело. Все посланные части
остановились, отказавшись идти дальше. 31 августа генерал Крымов
отправился на встречу с Керенским. Их беседа прошла довольно
бурно, и после неё А. Крымов застрелился. Он оказался
единственным погибшим за всё время корниловского выступления.
Когда Корнилова в эти дни старались обнадёжить, он резко
обрывал: «Бросьте, не надо». И всё же он пока не желал сдаваться.
31 августа генерал написал новые требования правительству.
Лавр Георгиевич обещал быть лояльным, «если будет объявлено
России, что создаётся сильное правительство, которое поведёт
страну по пути спасения и порядка». Генерал ещё раз повторил,
«что лично для себя он ничего не искал и не ищет, а добивается
лишь установления в стране могучей власти, способной вывести
Россию и армию из того позора, в который они ввергнуты
нынешним правительством».
Генерал Михаил Алексеев, новый начальник штаба русской
армии, убеждал Лавра Корнилова подчиниться правительству во
имя блага родины. Наконец 1 сентября тот согласился
добровольно сложить полномочия и пойти под арест.
ЛЕДЯНОЙ ПОХОД
После Октябрьского переворота в Петрограде Л. Корнилов
покинул Быховскую тюрьму, где находился вместе со своими
единомышленниками с начала сентября. После долгих и опасных
приключений Лавр Георгиевич 6 декабря прибыл в Новочеркасск Здесь
вместе с генералом М. Алексеевым он руководил созданием
Добровольческой армии. Вступали в неё в основном офицеры.
25 декабря Л. Корнилова провозгласили командующим
армией. В январе 1918 г. он заявил, выступая перед офицерами: «Вы
скоро будете посланы в бой. В этих боях вам придётся быть
беспощадными. Мы не можем брать пленных, и я даю вам приказ,
очень жестокий: пленных не брать! Ответственность за этот
приказ перед Богом и русским народом я беру на себя!».
В начале февраля Корнилов пришёл к выводу, что
оставаться на Дону дольше невозможно. Донское казачество со-
неделю прошли более 400 км. Но
новые власти выследили полк и в одном
месте встретили его огнём из засады. В
другой раз, когда полк переходил
железную дорогу, на него неожиданно
обрушился пулемётный и орудийный
огонь с бронепоезда. Под Корниловым
смертельно ранило лошадь. После
этого среди текинцев начались разговоры,
что выход у них один — сдаться
большевикам. Они восклицали: «Что мы
можем делать, когда вся
Россия—большевик!». Корнилов остановил их
словами: «Если вы решите сдаваться,
расстреляйте сначала меня!». Но в тот же день
он решил расстаться с полком и
продолжать путь в одиночку. Генерал
переоделся в крестьянскую одежду —
полушубок и стоптанные валенки.
После этого продолжал путь по железной
дороге. На станциях он читал
развешанные афиши о побеге опасного
мятежника — генерала Корнилова.
Офииер-текинец, находившийся под
стражей, 3 декабря столкнулся в
толпе на станции Конотоп с каким-то
хромым стариком в заношенной одежде.
«Здорово, товарищ!» — окликнул его
тот. «Здравия... здравствуйте!» —
растерянно отвечал текинец. «Слушайте,
да ведь это генерал Корнилов!» —
воскликнул изумлённый охранник. Но
старик уже растворился в толпе...
Генерал Л. Корнилов.
305
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
СМЕРТЬ ГЕНЕРАЛА
Во время осады Екатеринодара штаб
генерала Лавра Корнилова
разместился в деревенском домике в открытом
поле. Скоро противник заметил, что
здесь расположен штаб, и начал
пристреливаться. Вокруг дома всё было
перепахано снарядами, но Лавр
Георгиевич, как обычно, не обращал на это
внимания.
Однако на четвёртый день осады
города, 31 марта (13 апреля) 1918 г.,
один из снарядов угодил прямо в дом.
Он пробил стену и разорвался в
комнате, где находился Корнилов.
Генерал был смертельно ранен и через
несколько минут, не приходя в сознание,
скончался.
Вскоре добровольцы узнали о гибели
своего вождя. «Впечатление
потрясающее, —вспоминал А. Деникин. —Люди
плакали навзрыд...» Похоронили
генерала Корнилова в степи, тайно.
Могилу сровняли с землёй...
чувствовало большевикам. 9 (22) февраля Добровольческая
армия, в которой было всего 4 тыс. бойцов, двинулась в поход.
Впереди небольшой колонны пешком шли два бывших
Верховных главнокомандующих русской армией — генералы
Корнилов и Алексеев.
Армия двигалась к Екатеринодару в надежде поднять
против большевиков кубанское казачество. Поход оказался
невероятно тяжёлым. Горстка добровольцев внезапно осталась одна
против целого света. Почти везде население встречало их
враждебно. Через многие сёла и станицы приходилось прорываться
с боями. Добровольцы несли огромные потери. Однажды под
огнём пришлось перейти вброд реку, затянутую тонким льдом.
Бойцы выходили из воды, обросшие ледяной коростой. Этот
эпизод дал основание назвать поход Ледяным.
Марина Цветаева воспела в стихотворении «Дон» (1918 г.)
Ледяной поход, в котором участвовал её муж Сергей Эфрон:
Не лебедей это в небе стая:
Белогвардейская рать святая
Белым видением тает, тает...
Старого мира — последний сон:
Молодость — Доблесть — Вандея
Дон.
Основатель Добровольческой армии
генерал М. Алексеев. 1918 г.
В Добровольческую армию вступили только семь текинцев,
но теперь именно они составили личную охрану
командующего. Л. Корнилова, окружённого всадниками-текинцами, под
трёхцветным российским флагом постоянно видели в самых
горячих местах сражений. Участник Ледяного похода Роман Гуль
приводил рассказ одного из бойцов: «Ну Корнилов! Что делает!
Кругом пули свищут тучами, а он стоит на стогу сена, отдаёт
приказания, и никаких. Его адъютант, начальник штаба просят сойти —
он и не слушает».
В разгар похода добровольцы узнали, что большевики
заняли Екатеринодар. Но отступать было уже поздно. Л. Корнилов
принял решение атаковать город. Он сказал: «Нет другого
выхода. Если не возьмём Екатеринодар, то мне останется пустить себе
пулю в лоб». Во время осады города, 31 марта (13 апреля) 1918 г.,
снаряд попал в здание штаба Корнилова, смертельно ранив
генерала. В тот же день его не стало... Похороны командующего
состоялись 2 апреля.
На следующий день Добровольческая армия отступила.
Большевикам стало известно, что перед уходом добровольцы
что-то зарывали в землю. Они решили, что это драгоценности,
сокровища. Начали копать и обнаружили тело в мундире с
погонами полного генерала. В нём узнали ненавистного генерала
Корнилова.
После этого большевики отвезли тело генерала в
Екатеринодар и на площади долго пинали ногами и били шашками,
возили по городу, чтобы показать населению. Наконец его сожгли,
обложив соломой, а прах развеяли по ветру...
306
АНТОН ДЕНИКИН
(1872—1947)
МОЛОДЫЕ ГОДЫ
Один из самых видных вождей гражданской войны Антон
Иванович Деникин родился 4 декабря 1872 г. в городе Влоцлавске
(ныне Влоцлавек) Варшавской губернии.
Детство его прошло в постоянной нужде. Семья Деникиных
жила бедно, на одну небольшую пенсию отца Антона, майора в
отставке. Уже в 13 лет мальчику пришлось подрабатывать, давая
уроки младшим школьникам. Антон решил пойти по стопам отца и
стать офицером. В 1890 г. он поступил в Киевское юнкерское
училище, а два года спустя получил первое офицерское звание.
Следующие два десятилетия жизнь его текла довольно
обычно для русского офицера, ничем особенным не выделяясь.
Впрочем, в 1899 г. он закончил Академию Генштаба, что сулило
блестящую карьеру. Однако высоких чинов после этого не
получил. 25-летний А. Деникин увлёкся литературной
деятельностью. В журналах начали появляться его расска- ^^^^
зы и очерки из военной жизни, подписанные
псевдонимом И. Ночин.
Любопытно, что в начале службы,
командуя ротой, А Деникин отличался необычайной
мягкостью, не применял дисциплинарных
взысканий. Он говорил подчинённым: «Ведь вы же
хорошие люди — докажите, что можно служить
без палки». После его перехода на другую
должность старый фельдфебель, сменивший А
Деникина, построил роту, со значением помахал в
воздухе кулаком и веско произнёс: «Теперь
вам — не капитан Деникин, поняли?!».
Дисциплина в роте, упавшая при Антоне Ивановиче,
скоро восстановилась.
Боевое крещение А. Деникин принял в
сражениях русско-японской войны; он не раз
участвовал в штыковых схватках с неприятелем. В
последующие десять лет его военная карьера
продолжала неспешно развиваться. В 37-летнем
возрасте он получил в командование полк Уже
перед самой Первой мировой войной, в июне
1914 г., ему присвоили звание генерал-майора.
А. Деникин.
Советский плакат 1919 г.
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Как только началась война, генерал А. Деникин
возглавил стрелковую бригаду (затем дивизию),
получившую почётное прозвище Железная.
Защищайте Советы! Защищайте свою волю, свою власть!
307
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
РЕЧИ ДЕНИКИНА В 1917 ГОДУ
22 мая 1917 г. А. Деникин выступил на
офицерском съезде в Могилёве и
произнёс одну из первых своих знаменитых
речей. Он заявил: «Я имею право
бросить тем господам, которые плюнули нам
в душу, которые с первых же дней
революции совершили Каиново дело над
офицерским корпусом... Я имею право
бросить им: „Вы лжёте! Русский офицер
никогда не был ни наёмником, ни
опричником!"». «Берегите офицера! —
воскликнул Деникин, обращаясь к
руководству страны. — Ибо от века и
доныне он стоит верно и бессменно на
страже русской государственности. Сменить
его может только смерть». Речь
генерала глубоко взволновала слушателей.
Несколько дней в Ставке только о ней и
говорили, называя её «единственным
просветом за последнее время».
16 июля, после провала июньского
наступления, в Ставке состоялось
совещание министров и генералов. Здесь
Деникин произнёс ешё одну очень
откровенную и смелую речь, прозвучавшую
как вызов. Он потребовал суровыми
мерами навести в армии порядок. «У нас
нет армии, — заявил он. — И
необходимо немедленно, во что бы то ни стало
создать её». Полковник Д. Тихообразов,
ведший протокол совещания, делился
впечатлением от этой речи: «От
волнения моя рука тряслась настолько, что я
ни одной буквы больше вывести не мог,
как будто электрический ток, проходя по
руке, заставлял мускулы содрогаться. У
министра М. И. Терещенко из глаз
катились слёзы. А Деникин всё громил и
громил». Свою речь генерал закончил
так: «Ведите русскую жизнь к правде
и свету под знаменем свободы! Но дайт
те и нам реальную возможность за эту
свободу вести в бой войска под
старыми ншмими боевыми знамёнами, с
которых — не бойтесь! — стёрто имя
самодержца, стёрто прочно и в сердцах
наших. Его нет больше. Но есть
Родина. Есть море пролитой крови. Есть
слава былых побед. Вы втоптали наши
знамёна в грязь. Теперь пришло время:
поднимите их и преклонитесь перед
ними, если в вас есть совесть!».
Воцарилась тишина, все сидели молча,
потрясенные. А. Керенский прервал
молчание, встал и, протянув руку
Деникину, сказал: «Благодарю Вас, генерал,
за Ваше смелое и искреннее слово».
Во время одного дерзкого манёвра части Железной бригады
так быстро прорвались в тыл противника, что заставили в панике
бежать австрийского эрцгерцога Иосифа. «Он был так уверен в
своей безопасности, — вспоминал А. Деникин, — что спешно
бежал со своим штабом только тогда, когда услышал на улицах
русские пулемёты. Заняв бывшее его помещение, мы нашли
нетронутым накрытый стол с кофейным прибором, на котором были
вензеля эрцгерцога, и выпили ещё горячий австрийский кофе...»
Во время другой неожиданной атаки в 1915 г. Железная
дивизия взяла город Луцк и захватила 10 тыс. пленных, что
равнялось её численности. За отличия на фронтах командира
Железной дивизии наградили двумя Георгиевскими крестами и
Георгиевским оружием. Кроме того, он получил весьма редкую
награду — Георгиевское оружие, украшенное бриллиантами.
ПОСЛЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Февраль 1917 г. А. Деникин встретил достаточно спокойно, хотя
и с некоторыми опасениями. «Перевернулась страница
истории, — писал он в начале марта. — Только одного нужно
бояться, чтобы под флагом освободительного движения грязная
накипь его не помешала наступающему успокоению страны.
Какое счастье было бы для России, если к новому строю страна
перешла бы без дальнейших потрясений».
Вскоре Антону Ивановичу стало ясно, что худшие его
опасения оправдываются. «Праздничные дни трогательного,
радостного единения между офицерством и солдатами быстро
отлетели, — замечал он. — Советы с первого же дня объявили
офицеров врагами революции, во многих городах их подвергли
жестоким истязаниям и смерти; при этом — безнаказанно».
Надежды навести порядок в армии связывались с именем
Верховного главнокомандующего генерала Л. Корнилова. Однако в
ночь на 27 августа А. Керенский неожиданно объявил его
мятежником и сместил с должности (см. ст. «Лавр Корнилов»). Это
сообщение, по словам генерала Деникина, его, «как громом, поразило».
Антон Иванович немедленно отправил телеграмму в столицу. «Я
солдат и не привык играть в прятки», — писал он. Смещение
Корнилова он расценил как «возвращение власти на путь
планомерного разрушения армии и, следовательно, гибели страны».
«Считаю долгом довести до сведения Временного правительства, —
заключал генерал, — что по этому пути я с ним не пойду».
29 августа А Деникина сместили с поста командующего
Западным фронтом (эту должность он занял в мае) и арестовали
по обвинению в мятеже. Почти целый месяц он провёл в
тюрьме города Бердичева. За окном камеры каждый день толпились
враждебно настроенные солдаты. Они повторяли
арестованному генералу через решётку: «Попил нашей кровушки,
покомандовал, гноил нас в тюрьме, теперь наша воля — сам посиди за
решёткой... Барствовал, раскатывал в автомобилях — теперь
попробуй и полежать на нарах...». В сентябре заключённых из Бер-
308
АНТОН
ДЕНИКИН
дичева перевели в Быховскую тюрьму, где содержались все
арестованные участники корниловского выступления. После того
как к власти пришли большевики, А. Деникин, как и другие «бы-
ховские узники», бежал из тюрьмы и отправился в Новочеркасск
ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АРМИЯ
Прибыв на Дон, Антон Иванович вошёл в состав командования
Добровольческой армии. В ночь на 10 (23) февраля 1918 г.
армия выступила в свой знаменитый Ледяной поход. «Мы
начинали поход в условиях необычайных: кучка людей, затерянных в
широкой донской степи, посреди бушующего моря,
затопившего родную землю. Уходили от тёмной ночи и духовного
рабства, в безвестные скитания... За синей птицей». В первый день
похода все командиры шли пешком. Во главе армии шагал её
командующий — генерал Корнилов. Рядом с ним в потрёпанной
штатской одежде (другой не было) шёл помощник
командующего — генерал-лейтенант Деникин...
В самый тяжёлый момент похода, когда добровольцы
безуспешно штурмовали Екатеринодар, Л. Корнилов погиб. В армии
к этому времени оставались только 1,5 тыс. бойцов. Место
командующего должен был занять А Деникин. По его словам, он
не колебался ни минуты, принимать ли должность в такую
отчаянно трудную минуту. Верховный руководитель армии,
генерал М. Алексеев, сказал ему: «Ну, Антон Иванович, принимайте
тяжёлое наследство. Помоги Вам Бог!».
Генерал Деникин сумел отвести армию от Екатеринодара.
В спокойных казачьих станицах добровольцы немного
передохнули от непрерывных боёв. Когда на Дону вспыхнуло казачье
восстание против большевиков, положение Добровольческой
армии было спасено. В конце апреля А. Деникин подписал своё
первое политическое обращение. Решение социальных
вопросов откладывалось до будущего Учредительного собрания.
«Предстоит тяжёлая борьба, — подчёркивал Деникин. — Борьба
за целость разорённой, урезанной, униженной России; борьба
за право свободно жить и дышать в стране, где народоправство
должно сменить власть черни. Борьба до смерти».
Между тем с августа 1918 г. Добровольческая армия начала
одерживать первые победы и занимать города. Её фронт
растянулся на сотни километров. Командующему уже не приходилось
шагать впереди своего войска, как прежде. 26 декабря А
Деникин принял звание главнокомандующего Вооружёнными
силами Юга России (ВСЮР).
РУКОВОДИТЕЛЬ БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ
Начавшись с небольшой горстки офицерства, за полтора года
белое движение выросло в мощную силу. «На Юге России самим
ходом событий установилась диктатура в лице
главнокомандующего», — писал А. Деникин. В декабре 1919 г. в своём приказе он
В. Аени. Карикатура на А. Деникина.
Кукрыниксы. Карикатура на
белогвардейского генерала
К. Мамонтова, одного из руководителей
конницы деникинских армий.
309
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
«Впереди летит Деникин генерал.
Позади попы в присгяжечке».
Карикатура на А. Деникина и духовенство
(журнал «Безбожник»).
АРЕСТ И ПОБЕГ ДЕНИКИНА
Когда генерал Антон Деникин
находился в тюрьме города Бердичева,
обстановка там была очень напряжённой,
ежедневно заключённым грозил
солдатский самосуд. Наконец Деникина и
его товарищей перевели в более
безопасную тюрьму города Быхова, где
находился Л. Корнилов. Но перед этим
им пришлось пережить тяжёлое
испытание. Чтобы попасть на вокзал, они
должны были пройти через весь город,
сквозь огромную враждебную толпу.
«Солдаты набирали полные горсти
грязи и ею забрасывали нас, —
вспоминал Деникин. — Лицо, глаза, уши
заволокло зловонной липкой жижицей.
Посыпались булыжники. Бедному калеке
генералу Орлову разбили сильно лицо.
По пути обменивались односложными
замечаниями. Обращаясь к Маркову:
„Что, милый профессор, коней?!" —
„По-видимому"». Но всё-таки
арестованных удалось провести сквозь это
бушующее людское море и отправить в
Быховскую тюрьму.
После Октябрьского переворота А.
Деникин, как и остальные узники, бежал
из Быховской тюрьмы. Подвидом
польского помещика он сел на поезд и
отправился на Дон. На
железнодорожных станциях он видел плакаты о
побеге из тюрьмы опасного
контрреволюционера генерала Деникина.
«Первый раз в жизни — в конспирации, —
вспоминал он, — в несвойственном
виде и с фальшивым паспортом.
Убеждаюсь, что положительно не годился
для конспиративной работы.
Самочувствие подавленное, мнительность».
Внезапно у его попутчиков-солдат
возникло неясное подозрение. «Полдня
лежит, морды не кажет, — заметил
один из них. — Может быть, сам
Керенский?» «Кто-то дёрнул меня за
рукав, я повернулся и свесил голову
вниз, — писал Деникин. —
По-видимому, сходства не было никакого.
Солдаты рассмеялись; за беспокойство
угостили меня чаем».
так обозначал принципы и задачи движения: «Единая, Великая,
Неделимая Россия. Защита веры. Установление порядка. Борьба
с большевизмом до конца. Вопрос о форме правления — дело
будущего. Противогосударственную деятельность пресекать, не
останавливаясь перед крайними мерами. Прессе
сопутствующей — помогать, несогласную — терпеть, разрушающую —
уничтожать. Никаких классовых привилегий, никакой
преимущественной поддержки...». Последним пунктом А. Деникин как бы
опровергал утверждения о том, что белогвардейцы защищают
только помещиков и капиталистов.
20 июня (3 июля) 1919 г. Деникин подписал свою
знаменитую «московскую директиву». В ней говорилось, что конечной
целью наступления будет «захват сердца России — Москвы». К
октябрю войска А. Деникина заняли огромную территорию с
населением около 42 млн человек Здесь находились такие
крупные города, как Харьков, Царицын, Киев, Орёл, Курск Казалось,
ещё одно, последнее усилие, и кольцо фронтов окончательно
сомкнётся вокруг Советской республики.
Но, как признавал и сам генерал, исход борьбы «белых» и
«красных» определялся не только талантом полководцев.
«Вопрос заключался в том, изжит ли в достаточной степени
народными массами большевизм? — отмечал он и заключал: — В силу
ряда причин... жизнь дала ответ сначала нерешительный, потом
отрицательный».
С середины 1918 г. белое движение стало терять свой
прежний идеализм. А. Деникин с горечью признавал, что
«насилия и грабежи пронеслись по всему югу, по всему российскому
театру гражданской войны». В письме жене в 1919 г. Антон
Иванович рассказывал о своих переживаниях: «Нет душевного
покоя. Каждый день — картина хищений, грабежей, насилий по
всей территории вооружённых сил. Русский народ снизу
доверху пал так низко, что не знаю, когда ему удастся подняться из
310
АНТОН
ДЕНИКИН
грязи. В бессильной злобе обещаю каторгу и повешение...».
Позднее А. Деникин замечал: «Было бы лицемерием со стороны
общества, испытавшего небывалое моральное падение, требовать
от добровольцев аскетизма и высших добродетелей. Был подвиг,
была и грязь». Так или иначе, всё это настраивало население
враждебно к добровольцам.
В октябре 1919 г. Красная армия перешла в наступление
против войск А. Деникина. В ноябре добровольцы потеряли
Курск, в декабре — Киев. Наконец, в марте 1920 г. над белыми
армиями разразилась настоящая катастрофа. Им пришлось в
панике уходить из Новороссийска. Приходилось бросать все
орудия, всех лошадей, огромные запасы на складах, и всё равно
места на кораблях не хватало. Многие были вынуждены
остаться — почти на верную гибель...
Корабль главнокомандующего, переполненный людьми,
вышел из бухты последним, когда в город уже вступила Красная
армия. «Контуры города, берега и горы обволакивались туманом,
уходя вдаль... в прошлое, — вспоминал Деникин. — Такое
тяжёлое, такое мучительное...» Вскоре А. Деникин сложил с себя
звание главнокомандующего ВСЮР и навсегда покинул Россию.
В ЭМИГРАЦИИ
Оказавшись вдали от родины, Антон Иванович почти
немедленно принялся писать свои воспоминания — «Очерки русской
смуты». Первый том вышел в свет уже в 1921 г., последний, пятый, —
в 1926 г. Позднее А Деникин замечал: «„Очерки русской смуты"
я считаю самым важным делом моего эмигрантского житья. На
работу эту я смотрел как на свой долг в отношении белого
движения и перед памятью павших в борьбе, как добросовестное
показание перед народным судом, судом истории».
Вначале А Деникин не участвовал в общественной жизни
русской эмиграции. Только в 1932 г. Антон Иванович впервые
выступил в Париже с публичным докладом. В нём он высказался в за-
Кукрыниксы. Карикатура на А. Деникина.
ОТСТАВКА И ОТЪЕЗД ДЕНИКИНА
Белогвардейцы, полгода назад
приближавшиеся к Москве, весной 1920 г.
оказались заперты на крохотном пятачке
полуострова Крым. Кто-то должен был
ответить за происшедшую катастрофу.
19 марта (1 апреля) 1920 г. А. Деникин
подписал такое заявление: «Три года
российской смуты я вёл борьбу,
отдавая ей все свои силы... Бог не
благословил успехом войск, мною предводимых.
И хотя вера в жизнеспособность Армии
и в её историческое призвание мною не
потеряна, но внутренняя связь между
вождём и Армией порвана. И я не в
силах более вести её...». Через три дня он
вновь повторил: «Разбитый
нравственно, я ни одного дня не могу оставаться
у власти ». В тот же день, 22 марта, А. Де-
никин отдал свой последний приказ.
«Всем, шедшим честно со мною в
тяжкой борьбе, — писал А. Деникин, —
низкий поклон. Господи, дай победу Армии
и спаси Россию». Новым
главнокомандующим на Военном совете в Крыму был
избран генерал Пётр Врангель.
Вечером того же дня, сдав
командование, Антон Иванович покинул
Россию навсегда. «Когда мы вышли в
море, — вспоминал А. Деникин, — была
уже ночь. Только яркие огни, усеявшие
густо тьму, обозначали ешё берег
покидаемой русской земли. Тускнеют и
гаснут. Россия, родина моя...»
Агитационный вагон командования
А Деникина. На вагоне налпись:
«Большевикам нужна великая разруха,
нам нужна великая Россия».
Новороссийск. 1920 г.
зп
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОИНА
Неизвестный художник. «Счастливый
рабочий в Совдепии» (просит подаяния,
сидя на куче обесцененных ассигнаций).
Белогвардейский плакат 1919 г.
щиту России от любого нападения другой державы. «Участие наше
на стороне захватчиков российской территории недопустимо!» —
заявил генерал.
Эту позицию А. Деникин сохранял ив 1941 г. после
нападения Германии на СССР. В это время он проживал в
оккупированной Франции. Немецкие военные власти предложили генералу
переехать в Берлин, где ему обещали «хорошие условия для
исторической работы». Согласие Деникина стало бы первым шагом к
сотрудничеству с Германией. Антон Иванович решительно
отказался. Победы под Москвой и Сталинградом вызвали у А. Деникина
искреннюю радость. Обращаясь к бывшим добровольцам, он
писал в 1944 г.: «Мы испытали боль в дни поражения армии, хотя она
зовётся „красной", а не российской, и радость — в дни её побед».
До конца жизни А. Деникин продолжал верить в армию. Надеялся,
что после победы над Германией Красная армия уничтожит
большевизм в собственной стране. Последними его предсмертными
словами были: «Вот не увижу, как Россия спасётся!».
7 августа 1947 г. 74-летний Антон Иванович Деникин
скончался в штате Мичиган (США). На похоронах
американские войска отдали последние воинские почести русскому
генералу. Могила его находится на русском кладбище Святого
Владимира в городе Джексоне.
АЛЕКСАНДР КОЛЧАК
(1874—1920)
А. Колчак.
ОФИЦЕР И ПУТЕШЕСТВЕННИК
Будущий Верховный правитель России Александр Васильевич
Колчак родился 4 ноября 1874 г. в Санкт-Петербурге. Отец его
был морским офицером, впоследствии — генерал-майором.
«Вырос я под влиянием чисто военной обстановки и в военной
среде», — вспоминал А. Колчак Ещё в детстве он решил пойти по
стопам отца.
В Морском кадетском корпусе Александр оказался одним из
первых (лучших) воспитанников, закончив его в возрасте 19 лет
с премией. Тогда и позже его товарищи часто говорили: «Колчак
всё знает, спросим у него...».
Пять лет Александр прослужил на Тихом океане. Но
спокойное течение службы не устраивало его. Он мечтал о трудностях,
покорении неизведанных пространств, полярных экспедициях и
приключениях. «У меня была мечта найти Южный полюс, но я так и не
попал в плавание на южном океане», — вспоминал он. В 1900 —
1903 гг. А. Колчак принял участие в сложной полярной экспеди-
312
АЛЕКСАНДР
КОЛЧАК
ции на судне «Заря». Прямо из Арктики А. Колчак отправился на
русско-японскую войну, в Порт-Артур. После взятия крепости
японцами он, раненый и тяжело больной, оказался в плену. На родину
вернулся спустя полгода, весной 1905 г. За оборону Порт-Артура
ему вручили золотую саблю с надписью: «За храбрость».
В Петербурге при активном участии капитана второго
ранга А. Колчака возник кружок молодых морских офицеров. Они
подготовили доклад государю Николаю II о необходимых
реформах военного флота. По их предложению, в частности, был
создан Морской генеральный штаб.
Три года Александр Васильевич прослужил в этом штабе. Не
прекращал он и географических исследований. В 1909—1910 гг.
экспедиция, в которой он командовал ледоколом, совершила
переход через четыре океана вокруг всей Евразии.
В начале Первой мировой войны А. Колчак руководил
сражениями с немецкими судами, установкой минных заграждений
в Балтийском море. В апреле 1916 г. он получил звание
адмирала. А в июне самого молодого русского адмирала назначили
командующим Черноморским флотом.
ВО ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИИ
Февраль 1917 г. и падение монархии А. Колчак встретил спокойно.
По его словам, он даже «приветствовал революцию», надеясь, что
она позволит «победоносно закончить войну, которую считал
превыше всего — и образа правления, и политических соображений».
Первое время адмиралу удавалось сохранить на флоте
порядок и нормальные отношения с матросскими комитетами. Но
потом дисциплина начала слабеть. Командующий старался
поддерживать её до последней возможности. Но в мае он признался
военному министру А. Керенскому, что не в состоянии больше
командовать флотом, где матросы не подчиняются офицерам.
Как вспоминал А. Керенский, адмирал «со слезами на глазах
воскликнул: „Для них Центральный комитет значит больше, чем я!
Я не хочу больше иметь с ними дела! Я более не люблю их!.."».
6 июня А. Колчак оставил командование флотом.
Весной 1917 г. адмирал пришёл к такому выводу: «Путь, по
которому пошла вся русская революция, ведёт нас к гибели... Нам
придётся расплачиваться территорией и природными
богатствами. Мы потеряем свою политическую самостоятельность,
потеряем свои окраины, в конце концов, обратимся в так
называемую Московию...». Эти мысли разделяло в то время большинство
российского офицерства.
В августе 1917 г. А Колчак выехал в США во главе военно-
морской миссии. Александр Васильевич говорил, покидая
родину. «Мне нет места здесь во время великой войны, и я хочу
служить своей Родине, принимая участие в войне, а не в пошлой
болтовне, которой все заняты».
За границей он узнал о том, что к власти пришли
большевики, и о перемирии с Германией. После этого он попросил при-
ЭКСПЕДИ11ИЯ НА GYAHE «ЗАРЯ»
Молодой лейтенант Александр Колчак
познакомился с известным
путешественником бароном Эдуардом Толлем.
Тот пригласил его в экспедицию на
поиски загадочной Земли Санникова в
архипелаге Новосибирских островов.
Эту легендарную землю в Северном
Ледовитом океане будто бы видел
издалека столетие назад купец Яков
Санников. Сама идея её поиска была
насквозь пронизана духом романтики,
что так отвечало натуре А. Колчака.
Летом 1900 г. экспедиция отправилась
в плавание на деревянном китобойном
судне «Заря».
Два года «Заря» с её экипажем
зимовала во льдах. Летом 1902 г. четверо
полярников во главе с Э. Толлем ушли
на собачьих упряжках к таинственной
Земле Санникова. Из этого
путешествия они не вернулись.
А. Колчак предложил смелый план —
отправиться на их поиски на шлюпке и
собачьих упряжках. «Мои спутники
говорили, что это безумие», —
рассказывал он. Но всё же он сумел найти
десяток добровольцев. В мае 1903 г.
они двинулись по следу пропавших
товарищей. Экспедиция оказалась
невероятно сложной. Полярникам
приходилось вместе с собаками впрягаться в
лямки и ташить тяжёлую шлюпку сквозь
ледяные нагромождения — торосы.
Они провели в этом опасном
путешествии 42 дня. Однажды А. Колчак
провалился в ледяную трешину и чудом не
утонул. В конце концов полярники
нашли коллекции и записку пропавших
товарищей, из которой стало ясно, что
они погибли.
После возвращения из льдов Русское
географическое общество наградило
А. Колчака большой золотой Констан-
тиновской медалью «за
необыкновенный и важный географический
подвиг». Кроме него этой высшей
награды были удостоены только семь
путешественников. Александра
Васильевича стали уважительно звать Колчак-
Полярный. Один из островов в
Карском море получил его имя...
313
РЕВОЛЮЦИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
ЗОЛОТОЕ ОРУЖИЕ КОЛЧАКА
6 июня 1917 г. собрание матросских
комитетов приняло решение отобрать
оружие у офицеров. На следующий
лень командующий Черноморским
флотом адмирал А. Колчак,
возмущённый этим, произнёс: «Раз не хотят,
чтобы у нас было оружие, так пусть идёт в
море!». Он построил команду корабля
и на глазах у матросов эффектным
жестом забросил свою золотую
Георгиевскую саблю в волны Чёрного моря.
Немедленно он спустил на корабле флаг
командующего и сложил с себя
командование флотом. Любопытна судьба
адмиральского оружия: позже его
подняли с морского дна и торжественно
вернули А. Колчаку с надписью: «Рыцарю
чести адмиралу Колчаку от Союза
офицеров армии и флота». По другим
данным, это только красивая легенда:
вручили адмиралу не его саблю, а лишь её
копию...
нять его в британскую армию «хотя бы простым солдатом». Он
желал одного: выполнить свой воинский долг, сражаться с
немцами, хотя бы и в чужой армии. Английские власти ответили
согласием, но потом предложили ему вернуться на родину, на
Дальний Восток
ВЕРХОВНЫЙ ПРАВИТЕЛЬ РОССИИ
На Дальнем Востоке А. Колчак организовывал вооружённые
отряды «для борьбы с большевиками и немцами». Эта борьба
виделась ему прямым продолжением войны с Германией. Кто, как
не Германия, прислал в Россию знаменитый «пломбированный
вагон» с В. Лениным и его товарищами? И вот теперь, захватив
власть, они заключили с врагом позорный сепаратный мир.
Ясно, что долг русского солдата и офицера — сражаться с ними
до последней капли крови. Но вскоре у А. Колчака начались
столкновения по разным поводам с японскими военными
властями. Когда он побывал во Владивостоке, его неприятно
поразило обилие на улицах иностранных военных мундиров. «Все
лучшие дома, лучшие казармы, — рассказывал адмирал, — были
заняты чехами, японцами, союзными войсками, а наше
положение было глубоко унизительно, глубоко
печально. Я чувствовал, что Владивосток не является
уже нашим русским городом». Александр
Васильевич решил отправиться на юг России, где
сражалась с большевиками Добровольческая
армия генерала А. Деникина.
4 ноября 1918 г. А Колчак оказался в
Омске. Здесь в его жизни произошёл крутой
поворот. Прославленному адмиралу предложили
пост военного министра в омском
правительстве Директории. Адмирал согласился, но занимал
этот пост, правда, недолго — две недели.
Тем временем в омском правительстве
назревал взрыв. Под знамя борьбы с
большевиками пришли тысячи офицеров, которые не
испытывали никаких симпатий к социализму
вообще. Они считали любых социалистов такими же
разрушителями Российского государства, как и
большевиков. Между тем в Директорию
входили кадеты и социалисты (эсеры).
18 ноября в Омске произошёл переворот,
офицеры арестовали левых членов Директории.
А. Колчак позднее утверждал, что не знал о
подготовке переворота и не принимал в нём участия.
Но именно ему как самому авторитетному
деятелю предложили возглавить новое правительство.
Он согласился и принял от правых членов
Директории титул Верховного правителя России.
Колчак говорил тогда: «Я не искал власти и не стре-
а. Колчак, милея к ней, но, любя родину, я не смел отказать-
314
АЛЕКСАНДР
КОЛЧАК
ся, когда интересы России потребовали, чтобы я встал во главе
правления». В своём манифесте он заявлял: «Приняв крест этой
власти в исключительно трудных условиях гражданской войны,
объявляю, что не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути
партийности...». Позднее его верховную власть формально
признали остальные вожди белогвардейского движения — А. Деникин и
Н. Юденич.
На посту Верховного правителя России А. Колчак сохранил
всю цельность и идеализм своей натуры. Один из его министров,
барон А, Будберг, писал о нём: «Личного интереса, личного
честолюбия у него нет, и в этом отношении он кристально чист. Он
бурно ненавидит всякое беззаконие и произвол, но по
несдержанности и порывистости характера сам иногда неумышленно
выходит из рамок закона при попытках поддержать этот самый
закон». Барон перечислял такие черты адмирала: «Истинный
рыцарь подвига, ничего себе не ищущий и готовый всем
пожертвовать, детски и благородно доверчивый, вечно мятущийся в
поисках лучших решений и спасительных средств; обуреваемый
жаждой личного труда, примера и самопожертвования; далёкий от
того, что вокруг него и его именем совершается...».
Адмирал стремился показать пример самоотверженности и
аскетизма. Во время поездок на фронт он бывал в самых опасных
местах. Отказывался носить тёплую шубу, «пока армия не одета», и
надевал простую шинель. Из-за этого даже тяжело заболел
воспалением лёгких, уложившим его на полтора месяца в постель в
разгар сражений... К лести А. Колчак относился отрицательно, и когда
один пожилой рабочий в восторге упал перед ним на колени,
сказал ему: «Встаньте, я такой же человек, как и Вы».
Б0/ШЕЩТС1ШЪ ШШХАРОКЪ,
|онп^
ЯДОТЕ-ЛШ. СЛАСАЛГЬ ПШ
Неизвестный художник.
Белогвардейский плакат. Около 1919 г.
ШПИК Ik \ утШ
П0ттм
ж. *> II
^ajHibj.'jjj-f^^^j шЭЁрШч!^***^ /pv >gJ I
|§Ш|ЧТО Н ЕС ЕТЪ НАРОДУ
BUM БОЛЬШЕВИЗМЪ. 1
Колчак
Юденич
В. Лени. Карикатура на адмирала
А. Колчака и генерала Н. Юденича.
Неизвестный художник. Белогвардейский плакат 1918 г.
315
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОИНА
Неизвестный художник.
«Плотным змеиным кольцом охватил
Большевизм сердце России. Казалось,
ничто не в силах вырвать жертв. Но вот в
лучах восходящего солнца показался
всадник, добровольно взявший на себя
подвиг спасения России. Мошно занесена
рука всадника, и в бессильной ярости
чувствует змий, что тверда эта рука,
верен её удар, и не избежать ему
караюшей десницы».
Белогвардейский плакат 1919 г.
за шнод mm
Александра Васильевича удручало, когда он не замечал в
окружающих следов идеализма, а только личные интересы. Однажды
он с горечью заметил: «Мы строим на недоброкачественном
материале. Всё гниёт. Я поражаюсь, как все испоганились».
В политической области верховный правитель также
непоколебимо следовал своим принципам. Он ни в коей мере не
желал «примерять их к обстоятельствам». Например, категорически
отказался от военной помощи со стороны Финляндии в обмен
на признание её независимости. Адмирал заявил, что «идеей
великой неделимой России» он не поступится «никогда и ни за
какие минутные выгоды».
Крестьян особенно волновал вопрос о земле. Однако А.
Колчак призывал ждать решений будущего «Национального собрания».
Конечно, такой лозунг не мог вдохновить крестьян, опасавшихся
возвращения помещиков. Наоборот, он вызывал у них
враждебность. Кроме того, армия отбирала у них хлеб и скот. В ответ на
это в тылу у Колчака начали вспыхивать крестьянские восстания.
Войска подавляли их с крайней суровостью, что
ещё больше ожесточало крестьян. Про
Верховного правителя сложили насмешливую песенку.
Пдогаых> зуЬмвыхъ кодъцшп. охвквдъ БОЛ ЫПЕВИЗМЪ сердце, Россш. _.
Кпзалось-нич10 нс. кь селаэл. лырв&4ъ керш.
Но вигу въ зучахь sotxniifinpn солнца показался всадвжюь.' добровоаъяо
подвить спвсев1я Pocci». •
^ занесенлфуко всадим и въ везсддьвоВ. ярветв <*умтвуеп> зяЙ, *п>
us jmpb. в/нб;юб*жш», емjjafcuoagA дссшщы- , - :.
Мундир английский,
Погон французский,
Табак японский,
Правитель Омский.
Мундир сносился,
Погон свалился,
Табак скурился,
Правитель смылся.
В марте 1919 г. войска А. Колчака начали
наступление по всему фронту. Первое время оно
развивалось успешно. Белогвардейцы вышли
почти на линию Волги. Но через месяц
наступательный порыв армии исчерпался, причём
решающую роль в этом сыграло внутреннее
недовольство режимом. В конце апреля Красная
армия стала теснить войска Колчака. 9 июня
красноармейцы заняли Уфу, к осени отбросили
противника за Урал. 14 ноября Верховный
правитель потерял свою столицу — Омск,
6 января 1920 г. А. Колчак отказался от
своего титула в пользу генерала А. Деникина.
АРЕСТ И КАЗНЬ
В середине января чехословацкий конвой
передал А. Колчака Политцентру, созданному в
Иркутске восставшими эсерами. Затем
арестованного адмирала передали иркутскому ревкому.
316
МИХАИЛ
ТУХАЧЕВСКИЙ
Большевики и эсеры провели с А. Колчаком несколько
допросов, на которых он кратко рассказал о своей жизни. 6
февраля к городу подошли остатки его войск, которые добивались
освобождения своего командующего. Тогда иркутский ревком с
согласия Москвы принял решение расстрелять адмирала и его
премьер-министра В. Пепеляева. «Лучше казнь двух
преступников, давно достойных смерти, чем сотни невинных жертв», —
говорилось в постановлении.
Приговор привели в исполнение на рассвете 7 февраля.
Один из участников казни, комендант Иркутска И. Бурсак,
вспоминал: «К четырём часам утра мы прибыли на берег реки Уша-
ковки, притока Ангары. Колчак всё время вёл себя спокойно... На
моё предложение завязать глаза Колчак отвечает отказом. Взвод
построен, винтовки наперевес. Я даю команду: „Взвод, по врагам
революции — пли!". Оба падают. Кладём трупы на
сани-розвальни, подвозим к реке и спускаем в прорубь...».
Позднее рассказывали, что находясь в заключении,
незадолго до казни, адмирал однажды запел свой любимый романс «Гори,
гори, моя звезда»:
Твоих лучей небесной силою
Вся жизнь моя озарена.
Умру ли я, ты над могилою
Гори, сияй, моя звезда!
РАЗГОВОР С КОМАНДИРОМ
ПОВСТАНЦЕВ
Находясь под арестом, А. Колчак имел
любопытную и довольно характерную
беседу с одним из командиров красных
повстанцев. Вот содержание
разговора в пересказе самого Колчака (из его
показаний):
«Красный команлир: Когда я в одну
деревню пришёл с повстанцами, я нашёл
несколько человек, у которых были
отрезаны носы и уши Вашими войсками.
Алмирал: Я наверное такого случая не
знаю, но допускаю, что такой случай
был возможен.
Красный команлир: Я на это
реагировал так, что одному из пленных я
отрубил ногу, привязал её к нему верёвкой
и пустил его к вам в виде — „око за
око, зуб за зуб".
Алмирал: Следующий раз весьма
возможно, что люди, увидав своего
человека с отрубленной ногой, сожгут и
вырежут деревню. Это обычно на
войне и в борьбе так делается».
МИХАИЛ ТУХАЧЕВСКИЙ
(1893—1937)
ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
Будущий прославленный полководец гражданской войны
Михаил Николаевич Тухачевский родился 16 февраля 1893 г. в
дворянской семье. Место его рождения — имение Александровское
под Смоленском. Отцом мальчика был небогатый помещик,
матерью — крестьянка.
Михаил с детства твёрдо решил посвятить себя военной
карьере. Но только в возрасте 18 лет он добился исполнения
своего давнего желания — поступил в Московский кадетский
корпус, сразу в последний класс. Учился он здесь превосходно.
Когда через год Тухачевский закончил корпус, его фамилию как
первого (лучшего) ученика по традиции занесли на мраморную
доску... Затем Михаил поступил в Александровское военное
училище в Москве.
Среди своих товарищей он выделялся известным
вольномыслием и независимостью суждений. Это качество было
присуще ему с детства. Его сестры Елизавета и Ольга писали: «Однаж-
М. Тухачевский.
317
РЕВОЛЮЦИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОИНА
МИХАИЛ ТУХАЧЕВСКИЙ
В ДЕТСТВЕ
Сестры Михаила Тухачевского
Елизавета и Ольга вспоминали: «Он
запомнился нам необыкновенно живым и
подвижным ребёнком, не знавшим
предела в выдумках и шалостях. Игре
Миша отдавался самозабвенно.
Охотнее и чаше всего, как и многие другие
мальчики, играл в войну». При этом
Елизавета добавляла: «Учёбой в
гимназии Миша себя особенно не
обременял».
С детства Михаил тянулся ко всему
военному. Друг семьи Тухачевских
М. Балакшин рассказывал: «Меня,
когда я приезжал к Тухачевским
офицером, он буквально обожал, сейчас же
завладевал моей шашкой, шпорами и
фуражкой. Заставлял меня
рассказывать разные героические эпизоды из
наших войн. Русскую военную историю
он знал превосходно, преклонялся пред
Петром Великим, Суворовым и
Скобелевым».
Пулемётная тачанка 1-й Конной армии.
Музей Вооружённых Сил. Москва.
ды во время прогулки няня повела нас посмотреть царя. Миша
принялся объяснять нам, что царь — такой же человек, как
всякий другой, и специально ходить смотреть на него глупо».
Знакомый Михаила Н. Кулябко замечал о нём: «Юноша серьёзный,
думающий, отнюдь не разделяющий верноподданнических
взглядов, характерных для большинства кадетов и юнкеров».
Военное училище Михаил также закончил первым. Как
отличник, он воспользовался правом самому определить себе место
службы и выбрал столичный лейб-гвардии Семёновский полк
Вообще зачисление в гвардию считалось большой привилегией.
Но мирная служба для него продолжалась недолго. Свой
офицерский чин Михаил получил всего за неделю до начала «великой»,
как её тогда называли, мировой войны. Вместе с Семёновским
полком гвардии подпоручик Тухачевский отправился на фронт.
ГВАРДЕЙСКИЙ ОФИЦЕР
В сражениях М. Тухачевский проявлял незаурядное мужество и
отвагу. Однажды, например, он повёл за собой семёновцев в
атаку через пылающий мост. Всего за полгода он получил шесть
боевых орденов: три ордена Святой Анны, два — Святого
Станислава и один — Святого Владимира! Случай крайне редкий,
почти небывалый.
19 февраля 1915 г. после гибели командира М. Тухачевский
взял на себя командование и продолжал руководить боем.
После сражения однополчане недосчитались героического
офицера. Спустя неделю они
узнали из приказа по полку, что
подпоручик Тухачевский пал в
том бою смертью храбрых...
В действительности в тот
день его захватили в плен
немецкие войска. Непокорный
подпоручик несколько раз
пытался бежать из плена, после
чего был заперт в крепости
Ингольштадт. Окружённая
широким рвом с водой, она
предназначалась для самых
«беспокойных» военнопленных.
Здесь М. Тухачевский
познакомился с французским
капитаном, тоже пленным, который
обучал его своему языку. Имя
этого офицера позднее узнал
весь мир — звали его Шарль де
Голль.
В беседах с товарищами
по плену Михаил Тухачевский
откровенно делился своими
318
МИХАИЛ
ТУХАЧЕВСКИЙ
рР ч
О *ttff (АЕШТЬ ЧТОБ ПСЕМКИИО
взглядами. Его бывший товарищ по
заключению Пьер Фервак описал их жаркие споры в
крепости.
Молодой русский офицер называл себя
футуристом. То, что он говорил, звучало весьма
смело и непривычно: «Чувство меры,
являющееся для Запада обязательным качеством, у нас в
России — крупнейший недостаток Нам нужны
отчаянная богатырская сила, восточная
хитрость и варварское дыхание Петра Великого.
Поэтому к нам больше всего подходит одеяние
диктатуры. Латинская и греческая культура —
это не для нас! Гармонию и меру — вот что
нужно уничтожить прежде всего!
России нужна твёрдая, сильная власть.
Россия ещё не знает, какую симфонию подарит миру,
поскольку не знает и самоё себя. Но увидите — в
один прекрасный день все будут поражены ею.
Задача России сейчас должна заключаться в том,
чтобы ликвидировать всё: отжившее искусство,
устаревшие идеи, всю эту старую культуру...
С красным знаменем, а не с крестом мы войдём в
Византию! Мы выметем прах европейской
цивилизации, запорошившей Россию... Мы встряхнём
её, как пыльный коврик, а потом мы встряхнём
весь мир!». Особенно удивили П. Фервака слова
М. Тухачевского о В. Ленине, тогда ещё
эмигранте. По утверждению П. Фервака, Тухачевский
сказал: «Если Ленин окажется способным избавить
Россию от хлама старых предрассудков и
поможет ей стать независимой, свободной и сильной
державой, то я пойду за ним».
Ещё в плену М. Тухачевский узнал о том, что на родине
произошла Февральская революция. Наконец, с пятой попытки, ему
удалось бежать из плена. На родину он вернулся в октябре,
когда страна переживала колоссальный социальный переворот. Он
восстановился в своём Семёновском полку, стоявшем в столице.
Однако Россия выходила из войны, и старую армию
упраздняли. В первую очередь это коснулось гвардии. Семёновский полк
распустили, и молодой подпоручик, ставший «безработным»,
отправился домой.
КРАСНЫЙ КОМАНДАРМ
После увольнения из армии М. Тухачевский не оставил
твёрдого намерения посвятить жизнь военной профессии. Большая
часть офицерства восприняла Октябрь враждебно, некоторые
отправлялись на Дон в Добровольческую армию сражаться с
большевиками.
Однако Тухачевский прослужил в гвардии весьма недолго и
не чувствовал нерушимой сословной связи со старым офицерст-
ДИ ДДПВПГОГII ГИД (ММ
i) ИИ/ЮТПП VKPEiiHTb mm
hw т
■it ив- н товарищи ыты
Лгёщившш
*> пал счдом ИШ» Ш1ГА
*) И КРЕПЧЕ BHHTOBKVAW-
mm чтов ннш1Ш ни
Щ\ШШ1> НЛ СЕСТЬ НА
роста* «А»
В. Маяковский. Плакат из серии
«Окна РОСТА». 1920 г.
319
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
«ВОЙНА КЛАССОВ»
В первой половине 1920 г. Михаил
Тухачевский опубликовал ряд статей,
которые через год составили сборник под
названием «Война классов». В этой
книге содержался горячий призыв к
военной победе над буржуазными
государствами... «Мы стоим накануне мировой
гражданской войны», — с
воодушевлением писал он. М. Тухачевский в своих
статьях выдвинул ряд довольно
необычных идей. Например, он предложил
немедленно учредить «международный
Генштаб» при Коминтерне. Основная
задача Генштаба должна была
заключаться в организации военного похода
Красной армии на Европу и весь мир.
Подобная идея казалась близкой к
осуществлению во время
победоносного наступления Красной армии на
Варшаву. «Вперёд, на Запад! На
Варшаву! На Берлин!» — призывал тогда
не только Тухачевский, но и тысячи
коммунистов разных стран.
Поражение в польской войне нанесло этой
идее сокрушительный удар.
Однако и позднее М. Тухачевский
считал, что идея военного «похода на
Европу» была в принципе правильной.
Ошиблись военные, а не политики.
«Проиграла не политика, а
стратегия, — убеждённо писал он. —
Политика поставила Красной Армии
трудную, рискованную и смелую задачу.
Но разве может это означать
неправильность?! Не было ни единого
великого дела, которое не было бы смелым
и не было решительным». «Красный
маршал» подчёркивал: «Задача была
смелая, сложная, но задачами
робкими не решаются мировые вопросы».
В. Лени. «Разгром польских панов».
Карикатура 1920 г.
вом. Поэтому он без предубеждения был готов служить молодой
Советской республике. В конце марта 1918 г. Михаил узнал о том,
что в Красную армию привлекаются бывшие офицеры. И уже 5
апреля вновь поступил на военную службу. Желая служить новому
государству не за страх, а за совесть, он стал большевиком.
В то время в Красной армии энтузиасты из офицерской
среды были такой редкостью, что «поручиком-коммунистом»
заинтересовался сам В. Ленин. Затем события стали развиваться, как
в восточной сказке. Глава советского правительства пригласил
2 5-летнего подпоручика к себе на беседу. М. Тухачевский сказал
в разговоре с В. Лениным, что надо создавать регулярную армию,
и изложил свои мысли об этом. Эти соображения пришлись
очень по душе его собеседнику. Сестры вспоминали Михаила
после этой встречи: «Радостно возбуждённый, полный надежд,
он рассказывал нам о предстоящей работе по организации
новой армии. „Откуда ей взяться, этой новой армии?" —
усомнилась мама. Но Михаил горячо доказывал, что новая армия будет
создана и он твёрдо решил связать свою судьбу с ней».
19 июня М. Тухачевский отправился на Восточный фронт —
уже командармом. А ведь прежде такие должности занимали
только генералы!
В сентябре армия Тухачевского взяла город Симбирск. Это
была одна из первых побед Красной армии. В. Ленину, который
в это время выздоравливал после ранения 30 августа,
командование направило телеграмму: «Взятие Вашего родного города —
это ответ на Вашу одну рану, а за вторую — будет Самара».
«Взятие Симбирска, моего родного города, — отвечал председатель
Совнаркома, — есть самая целебная, самая лучшая повязка на
мои раны. Поздравляю красноармейцев с победой».
В 1919 г. армия Тухачевского совершила трудный переход
через Уральский хребет. В июле после четырёхдневного боя был
взят Челябинск За это командарма наградили первым советским
орденом — орденом Красного Знамени.
Всех поражала его молодость. Пленный колчаковский
генерал Римский-Корсаков, увидев командарма, был потрясён до
глубины души. «Генерала, — рассказывал свидетель, — чуть родимчик
не хватил. Надо было слышать, с каким недоумением он выдавил
из себя: „Вы командарм? Да сколько же Вам лет? Простите, я Вас
принял за адъютанта"». «Что же делать! — рассмеялся
Тухачевский. — Почти все генералы сбежали от нас. Приходится
довольствоваться поручиками и капитанами. Я командарм...»
В декабре армия Тухачевского вступила в столицу
адмирала Александра Колчака — город Омск За это командующий
получил высшую в то время награду — почётное революционное
оружие, или «Золотое оружие». Так называли шашку со знаком
ордена Красного Знамени на вызолоченном эфесе.
Вскоре после победы над войсками Колчака, в начале 1920 г.,
молодой командарм руководил окончательным разгромом
армий генерала Деникина. Именно Тухачевский организовал
известную «новороссийскую катастрофу» белых войск
320
МИХАИЛ
ТУХАЧЕВСКИЙ
ВОЙНА С ПОЛЬШЕЙ
В годы гражданской войны М. Тухачевского сопровождала
победа, хотя порой она давалась нелегко. Но в 1920 г. ему
случилось пережить первое тяжёлое поражение. В апреле он
возглавил Западный фронт. В это время здесь разгорелась советско-
польская война.
К августу наступающая Красная армия вплотную
приблизилась к Варшаве. Создавалось впечатление, что победа уже
близка. М. Тухачевский издал свой знаменитый приказ, в котором
говорилось: «На штыках мы принесём трудящемуся человечеству
счастье и мир. Вперёд, на Запад! На Варшаву! На Берлин!».
Однако из-за стремительного наступления левый фланг
Западного фронта оказался опасно слабым. Противник мог
нанести здесь сокрушительный удар. Обнаружив эту опасность, М.
Тухачевский на несколько часов погрузился в напряжённое
раздумье. Он предложил командованию перенацелить удар
соседней 1-й Конной армии. Вместо того чтобы брать Львов, она
должна была прийти на помощь Западному фронту. Из Москвы
поступил соответствующий приказ.
Но руководившие движением Конной армии Климент
Ворошилов, Семён Будённый и Иосиф Сталин решительно
возражали, считая, что надо брать Львов. Ожесточённые споры
длились около десяти дней. Когда они в конце концов согласились
выполнить приказ, катастрофа армий Тухачевского стала уже
неизбежной.
Польские войска мощным ударом замкнули его основные
силы в «клещи». Так и не сумев взять Варшаву, советские армии,
охваченные «мёртвым кольцом», оказались в окружении.
Когда Тухачевский увидел всю картину происшедшего
разгрома, он оказался в состоянии глубокой подавленности.
27-летний командующий ушёл в свой штабной вагон, закрылся там и
оставался в одиночестве целый день. Позднее он признался, что
за этот день постарел на целый десяток лет.
Командарм Иероним Уборевич как-то упрекнул его в том, что
он остался «безучастным зрителем» катастрофы своих войск
Военный историк Г. Иссерсон писал об этом разговоре: «Уборевич
сказал, что пробивался бы к своим войскам любыми средствами —
на машине, на самолёте, наконец, на лошади — и, взяв на себя
непосредственное командование, вывел бы их из окружения.
Тухачевский ответил, что роль командующего фронтом тогда
понималась иначе, что один он этого сделать не мог, да ему бы и не
позволили... Он, однако, добавил, что сейчас, конечно, учить и
воспитывать высший командный состав на этом примере нельзя».
В МИРНЫЕ ГОДЫ
В 20—30-е гг. М. Тухачевский оставался одним из руководителей
Красной армии и занимал в ней военные посты различной
важности. Все эти внешне спокойные и мирные годы в руководстве
Красной армии не прекращались внутренние трения и острая
КРОНШТАДТ И ТАМБОВШИНА
В1921 г. гражданская война с
белогвардейцами уже осталась позади. Но
продолжались выступления крестьянства, с
которыми слилось восстание
кронштадтских матросов. В. Ленин отмечал, что
эти восстания более опасны для
Советской республики, «чем Деникин,
Юденич и Колчак, вместе взятые».
Михаил Тухачевский руководил
подавлением Кронштадтского восстания.
После полной победы над повстанцами с
ним беседовал В. Ленин. Глава
советского правительства сказал, что теперь
такой же удар необходимо нанести
«антоновским бандитам» — так
называли тамбовских повстанцев во главе
с А. Антоновым.
В мае 1921 г. Михаил Николаевич
поехал в Тамбовскую губернию. Здесь он
возглавил войска, боровшиеся с
«антоновскими бандитами». М. Тухачевский
в полной мере применил все
традиционные приёмы борьбы против партизан
(см. ст. «„Военный коммунизм" и нэп»).
Изучая обстановку, вспоминал
исторические аналогии, например Вандейское
восстание во время Французской
революции. Своим подчинённым он
советовал: «Никогда не делать невыполнимых
угроз. Раз сделанные угрозы неуклонно
до жестокости проводить в жизнь до
конца». В то же время командующий
использовал и новые военно-технические
средства. Последним словом военной
науки в то время являлось химическое
оружие. М. Тухачевский ешё в
Кронштадте приказал обстрелять два
мятежных линкора газовыми снарядами. Но
тогда этого не сделали.
В борьбе с Тамбовским восстанием
химические снаряды уже
действительно применялись. 12 июня 1921 г. М.
Тухачевский отдал приказ: «Леса, где
прячутся бандиты, очистить
ядовитыми газами. Точно рассчитывать, чтобы
облако удушливых газов
распространялось полностью по всему лесу,
уничтожая всё, что в нём пряталось». В
качестве ядовитого газа применялся, в
частности, хлор.
Как и в Кронштадте, на Тамбовшине
М. Тухачевскому удалось добиться
быстрой и полной победы над повстанцами.
321
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОИНА
«ИЗМОРЦЫ» И «СОКРУШЕНЦЫ»
Ешё в 20-е гг. М. Тухачевского стало
беспокоить, что идеи «мировой
революционной войны» звучат всё глуше.
«Война не в моде, — с горечью писал он в
1921 г. — Кончилась — и ладно.
Поскорее бы её забыть. Довольно войны, да
здравствует мирный труд. Этот дух надо
искоренить во что бы то ни стало».
В1926 г. вышла книга Александра Све-
чина «Стратегия». В ней бывший
генерал отстаивал идею, что врага надо
встречать упорной обороной
(«измором»). Конечно, это вызвало
негодование М. Тухачевского. Не обороной, а
сокрушительным нападением!
Началась ожесточённая борьба между
двумя военными школами. Их прозвали
«измориами» и «сокрушениами».
Тухачевский оказался одним из самых
неистовых «сокрушеннее». «Стратегия
измора целиком и полностью направлена
против революционных войн»,
—замечал Михаил Николаевич в 1929 г. В
начале 30-х гг. «сокрушениы» одержали
полную победу, взгляды их оппонентов
были официально осуждены. Идеи
«сокрушительного нападения»
господствовали и после расстрела маршала, вплоть
до лета 1941 г. Поэт Василий Аебедев-
Кумач тогда восклицал:
И на вражьей земле
Мы врага разобьём
Малой кровью, могучим уларом!
С. Будённый. Снимок 1912 г.
борьба. Речь шла о ключевых вопросах военного строительства.
Вспоминались и былые конфликты времён гражданской войны.
Весьма характерный случай произошёл с Тухачевским в
1930 г. Шла дискуссия о значении конницы в современной
войне. М. Тухачевский заметил, что роль конницы будет невелика.
Возмущённый С. Будённый воскликнул, что Тухачевский
«гробит всю Красную Армию». Вслед за этим выступил ещё один
оратор, который страстно защищал конницу. Он припомнил
Тухачевскому войну с Польшей, когда тот отозвал 1-ю Конную
армию от Львова. Если бы не это, по мнению оратора, война была
бы выиграна. Подняв над головой сжатые кулаки, выступающий
с негодованием бросил Тухачевскому: «Вас за 1920 год вешать
надо!». В зале воцарилось мёртвая тишина, Михаил Николаевич
побледнел, но не стал ничего отвечать. Собрание прервали.
Споры о военном строительстве отражались и в частых
перемещениях М. Тухачевского по служебной лестнице. Когда его
точка зрения побеждала, он занимал высшие армейские посты.
В 1927 г., например, возглавлял штаб Красной армии. Когда
одерживали верх его оппоненты, как, скажем, в 1928 г., он
назначался на более скромную должность, командовал военным округом.
В 1931 г. М. Тухачевский стал заместителем К Ворошилова,
наркома по военным и морским делам. Это был один из высших
постов в вооружённых силах. Когда в 1935 г. в Красной армии
ввели воинские звания, Михаил Николаевич вошёл в число
первых пяти маршалов Советского Союза. «Когда нет цели, нет
жизни, — сказал он как-то в частном разговоре. — Моя цель —
сделать нашу армию сильнейшей в мире».
Будущий маршал Георгий Жуков, некоторое время
работавший вместе с М. Тухачевским, говорил о нём: «Огромного
военного таланта человек. Широко мыслящий военачальник,
далеко смотрящий вперёд. Он ещё в тридцатых годах
предвидел, что будущее за танками и самолётами, а не за кавалерией,
как думало тогда большинство. И именно он стоял у истоков
создания нашей ракетной техники». «Умница, сильный, занимался
тяжёлой атлетикой, и очень красивый», — добавлял Жуков.
Между прочим, разница в возрасте двух маршалов составляла всего
три года.
Надо отметить, что интересы Михаила Николаевича были
весьма разносторонними. Он, например, мог увлечённо спорить
о теории относительности Эйнштейна и даже размышлять о её
связи с военным делом. Он говорил на нескольких иностранных
языках, писал картины маслом, хорошо играл на струнных
музыкальных инструментах. «Игре на скрипке он посвятил себя с
особенной страстью», — вспоминал знакомый с ним
композитор Дмитрий Шостакович. Тухачевский умел ещё и
собственноручно изготавливать скрипки и виолончели, причём делал это
весьма мастерски. «Нет ничего прекраснее музыки, — говорил
он. — Это моя вторая страсть, после военного дела».
Дмитрий Шостакович рассказывал о М. Тухачевском:
«Помимо всего прочего, удивляла его физическая сила. Он мог по-
322
МИХАИЛ
ТУХАЧЕВСКИЙ
В первом ряду (слева направо): Н. Хрущёв, А. Жданов, Л. Каганович, К, Ворошилов, И. Сталин, В. Молотов, М. Калинин
и М. Тухачевский. 1936 г.
садить человека на стул и затем поднять стул вместе с
человеком на воздух... Тухачевский был и всегда, в любой ситуации,
оставался профессиональным военным. Его мысли вертелись
исключительно вокруг военных вопросов. В такие моменты он был
мне одновременно симпатичен и несимпатичен. Я с большей
охотой слушаю специалистов, чем дилетантов. Но он был
специалистом в ужасной профессии. Его профессия заключалась в
том, чтобы шагать через трупы, и как можно успешнее. Что меня
опять-таки отталкивало».
СУД И КАЗНЬ
11 мая 1937 г. М. Тухачевского сняли с поста заместителя
военного наркома, а 27 мая его арестовали. 11 июня в Москве состоялся
закрытый суд над Тухачевским и другими известными
военачальниками (см. ст. «Карательные органы Советской власти»).
В числе судей находился и давний противник
Тухачевского маршал С. Будённый. Помимо прочего Тухачевского обвиня-
ПЕРЕЛ АРЕСТОМ ТУХАЧЕВСКОГО
Первое грозное предупреждение
Михаилу Тухачевскому прозвучало в
начале 1937 г. В это время в Москве
проходил показательный суд над Карлом
Радеком и другими бывшими видными
большевиками. К. Радек на суде
мельком заметил, что Тухачевский
передавал ему какую-то «просьбу». На
другой день об этом с тревожным
интересом говорила вся Москва. Какую же
«просьбу» мог передать
прославленный маршал «врагу народа»? Правда,
Радек на следующий день добавил, что
«Тухачевский — человек, абсолютно
преданный партии и правительству».
Но это прозвучало ничуть не менее
зловеше. Арестованный «враг народа»
хвалит маршала Тухачевского!
323
РЕВОЛЮЦИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОИНА
В эти месяцы маршал как-то обронил:
«Как я в детстве просил купить мне
скрипку! А папа из-за вечного
безденежья не смог сделать этого. Может
быть, вышел бы из меня
профессиональный скрипач...».
Несмотря на все тревожные признаки,
на первомайском параде Михаил
Николаевич как ни в чём не бывало
первым поднялся на трибуну для
военачальников. Но уже через несколько
дней, 11 мая, над его головой прозвучал
новый раскат грома. Его сняли с поста
заместителя К. Ворошилова и
назначили командовать Волжским военным
округом.
Туда он отправился в конце мая.
Услышав о первых арестах среди
военных, с болью воскликнул: «Какая-то
грандиозная провокация!». Он уже
догадывался, что его ожидает. 26 мая
М. Тухачевский прибыл к новому
месту службы в Куйбышев (ныне Самара).
В тот же день он произнёс свою
последнюю речь. Один из слушателей,
видевший маршала за два месяца до
этого, впервые заметил седину в его
волосах. На следующий день
случилось то, что исподволь готовилось
последние полгода, — Михаила
Николаевича арестовали.
Н. Махно.
ли в попытках вытеснить из Красной армии конницу и заменить
её танками. Это обвинение горячо поддерживал и Семён
Михайлович. После суда он написал записку, в которой излагал свои
впечатления о процессе. Будённый замечал: «Тухачевский с
самого начала суда, при чтении обвинительного заключения и при
показании всех других подсудимых, качал головой,
подчёркивая тем самым, что, дескать, всё это неправда, всё не
соответствует действительности».
Обращаясь к одному из обвиняемых, который рассказывал
об измене Тухачевского и других, маршал спросил с
безнадёжной иронией: «Скажите, это Вам не снилось?». По другим
свидетельствам, он произнёс: «Мне кажется, я во сне».
Суд приговорил М. Тухачевского и семерых его «сообщников»
к высшей мере наказания. 12 июня 1937 г. 44-летнего маршала
расстреляли. На следующий день о состоявшейся казни
«изменников и врагов народа» сообщили все советские газеты...
НЕСТОР МАХНО
(1888—1934)
В годы гражданской войны крестьяне неохотно оставляли
землю, чтобы взять в руки оружие. Только в рядах партизанской
«Зелёной армии» они сражались добровольно и с большой охотой.
На Украине её возглавлял знаменитый «батька Махно».
Родился Нестор Иванович Махно 27 октября 1888 г. в
большом селе Гуляй-Поле под Екатеринославом (ныне
Днепропетровск). Младший ребёнок в многодетной семье, Нестор с
детства испытал нужду и голод. Семилетним мальчиком пошёл в
подпаски, потом работал по найму.
18-летний Нестор примкнул к «хлеборобам-анархистам». В
борьбе с государством молодые анархисты не стеснялись
применять самые решительные меры. В частности, устроили
нападение на почтовую карету, чтобы изъять деньги на
революционные цели. Махно при этом застрелил пристава. В 1908 г.
участников нападения арестовала полиция, а суд приговорил к
повешению.
Махно просидел в камере смертников, ожидая казни, 52 дня.
«В силу моего несовершеннолетия, — писал он (ему ещё не
исполнился 21 год. — Прим.ред.), — я избежал казни, которую
испытали лучшие из моих друзей». Повешение заменили
бессрочной каторгой. В заключении в Бутырской каторжной тюрьме он
много читал, пополнял своё образование. Как бессрочника, его
заковали в ножные и ручные кандалы. В тюрьме он провёл
восемь лет и восемь месяцев. Его товарищ по заключению, анар-
324
НЕСТОР
МАХНО
хист П. Аршинов, вспоминал: «Упорный, не могущий
помириться с бесправием личности, он всегда спорил с начальством и
вечно сидел по холодным карцерам, нажив себе туберкулёз лёгких».
Февральская революция освободила политзаключённых.
2 марта 1917 г. из ворот Бутырской тюрьмы вышел и Нестор
Махно. Ему было 28 лет. Недолго подышав воздухом революционной
Москвы, он отправился домой, в Гуляй-Поле. Здесь его
встретили с большим почтением как заслуженного политкаторжанина
и революционера. Нестора Махно избрали главой местного
Совета крестьянских депутатов. Как противник любой власти, он
немного смущался такой должности. Даже послал, как говорил
потом, «наивную» телеграмму об этом одному видному анархисту.
Но размышлять и колебаться было некогда.
Махно, конечно, с возмущением отвергал идею «ожидания
Учредительного собрания». Не ждать, а немедленно передать
землю крестьянам! Под влиянием Махно летом и осенью 1917 г.
местные крестьяне провели «чёрный передел». Потом Махно
замечал, что Октябрь ничего не добавил к их завоеваниям — ведь
землю они взяли раньше.
До 1918 г. никто не трогал необычную крестьянскую
«вольницу». Только однажды их побеспокоила государственная власть.
В сентябре 1917 г. в Гуляй-Поле прислали комиссара
Временного правительства. Махно вежливо пригласил его к себе. Однако
комиссар, судя по всему, решил, что сейчас над ним учинят
самосуд. «Он старался объяснить цель своего приезда, —
вспоминал Махно, — но у него не выходило: губы дрожали, зубы
стучали, и сам он то краснел, то бледнел, смотря в пол. Я попросил его
в 20 минут покинуть Гуляй-Поле и в два часа — пределы его
революционной территории», что тот и поспешил исполнить.
Весной 1918 г. Украину заняли германские войска. Услышав,
что в Гуляй-Поле вошли немцы, Нестор Махно расплакался. В мае
он отправился в Москву посоветоваться, что делать дальше. Здесь
он встретился с Владимиром Лениным, идейным вождём
анархизма Петром Кропоткиным, многими видными анархистами.
Вскоре Махно решил вернуться на Украину.
Здесь он начал партизанскую борьбу. «Мы крестьяне, —
гордо обращался он к своим сторонникам, — мы человечество».
Повстанцы боролись с любой властью, вмешивавшейся в
крестьянскую жизнь: и с Симоном Петлюрой, и с Антоном
Деникиным. В декабре 1918 г. Н. Махно решился на отчаянно дерзкую
вылазку. Около трёх сотен партизан заняли Екатеринослав. Здесь
они встретили Новый, 1919 год. После этого имя Махно стало
известно всей России. Правда, партизаны удерживали город
лишь несколько дней, большинство из них погибло при
отступлении. Начав с малого, за год Н. Махно сумел создать целую
крестьянскую армию. Летом 1919 г. ему подчинялось уже около
55 тыс. человек. Партизаны сражались под чёрными знамёнами
с надписями: «Свобода или смерть!».
Против белогвардейцев партизаны выступили вместе с
Красной армией. Махно стал подписывать свои приказы необыч-
Кукрыниксы. Карикатура на Н. Махно.
НЕСТОР МАХНО
И БЫВШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Весной 1917 г. Н. Махно вышел на
свободу из Бутырской тюрьмы и
отправился на родину, в Гуляй-Поле. Здесь на
улице он столкнулся с бывшим
полицейским, при обыске ударившим по
шеке его мать. Тот встретил его
словами: «Нестор Иванович,
здравствуйте!» — и приветливо протянул руку.
Махно вспоминал: «Ужас! Я весь
задрожал и неистово закричал: „Пошёл
вон, подлец, от меня, или я сейчас же
тебе всажу пулю!"». А своим
товарищам он сказал тогда: «Важно схватить
этих негодяев всех и затем убить,
потому что такие люди вредны для
всякого человеческого общества. Они
неисправимы в самом из худших
преступлений — продаваться за деньги
самим и предавать других».
325
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
ВСТРЕЧИ МАХНО
С КРОПОТКИНЫМ И ЛЕНИНЫМ
Летом 1918 г. в Москве Нестор
Махно встретился с патриархом
анархизма Петром Кропоткиным, которого
называл «дорогим нашим стариком». Тот
ободрил и напутствовал Махно
несколькими тёплыми словами. «Надо
помнить, дорогой товарищ, — сказал
Кропоткин Нестору Ивановичу, — что
борьба не знает сентиментальностей.
Самоотверженность, твёрдость духа и
воли к намеченной цели побеждают
всё». Но вообше московские
анархисты сильно разочаровали Махно:
замкнувшись в своём кругу, они
«проспали» революцию.
Встретился Н. Махно и с Владимиром
Лениным. Глава Совнаркома принял
его «по-отцовски». «Анархисты
пропускают настоящее для отдалённого
будущего, — сказал Ленин. Но тут же
добавил: — Вас, товарищ, я считаю
человеком реальности и кипучей злобы
дня. Если бы таких
анархистов-коммунистов была хотя бы треть в России,
то мы, коммунисты, готовы были бы
идти с ними на известные условия и
совместно работать...» Эти слова очень
растрогали Н. Махно. «Я почувствовал,
что начинаю благоговеть перед
Лениным», — вспоминал он...
П. Кропоткин. «С натуры в вагоне по пути в
Петроград рисовал художник В. Шаврин»
(журнал «Лукоморье», 1917 г.).
ным титулом — «комбриг батько Махно». За взятие в марте 1919 г.
Мариуполя Махно наградили орденом Красного Знамени.
В то же время махновцы твёрдо отстаивали свою
самостоятельность, не желая растворяться в Красной армии. Повседневные
вопросы жизни в деревне-решали до весны 1919 г. съезды
крестьянских Советов, где большевики пребывали в меньшинстве. Ещё
осенью 1919 г. в Гуляй-Поле свободно печатались эсеровские,
анархистские и другие газеты. Кроме того, махновцы не допускали к
себе продотряды, изымавшие зерно. В представлениях крестьян
Гуляй-Поле становилось чем-то вроде новой Запорожской Сечи,
«вольного крестьянского царства». «Безобразиям, которые
происходят в „царстве" Махно, нужно положить конец», — писала в
апреле харьковская газета «Известия». Лев Троцкий в статье
«Махновщина» назвал происходящее «анархо-кулацким развратом». В
начале июня Махно объявили вне закона. Он заявил Троцкому о
своём желании уйти в отставку «ввиду создавшегося
невыносимо-нелепого положения». Большевики арестовали членов махновского
штаба, а 18 июня сообщили о расстреле их как изменников. В
ответ Махно нанёс свои первые удары по «красным».
Однако момент для борьбы с Махно оказался явно
неудачным. Как раз в это время белогвардейцы Деникина развернули
мощное наступление, вытеснив Красную армию с Украины.
Теперь «белым» противостояли только «зелёные» — армия Махно.
В конце 1919 г. Махно второй раз заключил союз с Красной
армией. Но продлился он недолго: в январе 1920 г. Махно
приказали выступить на войну с Польшей. Он отказался: Польша
далеко, а от Гуляй-Поля уходить опасно. Предложил повоевать где-
нибудь «поближе». В ответ его снова объявили вне закона.
Махно продолжил партизанскую борьбу — теперь против
большевиков. Свою армию он подчинил твёрдой дисциплине,
установил в ней жёсткий порядок. Журналист 3. Арбатов
описывал одну из его операций этого времени: «Узнав, что в
Павлограде находится главная полевая касса Крымской группы красных
войск, Махно всему своему отряду нацепил на папахи
коммунистические звёзды, приказал сшить красные флаги и двинулся к
Павлограду. Вплотную приблизившись к заставе, отряд дружно
запел: „Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!" — и
совершенно свободно въехал в город, распевая: „Это будет
последний и решительный бой!". Подъехали к дому, где помещалась
касса. Часовые были связаны, вся наличность кассы размещена
по карманам, и с такими же весёлыми песнями отряд вышел из
города, исчезнув в густо заросших лесах».
В октябре 1920 г. Махно заключил своё третье — и
последнее — соглашение с Красной армией. Речь шла о совместных
действиях против крымской армии Петра Врангеля. В обмен Махно
обещали обсудить «автономию вольного района» Гуляй-Поле.
Но после победы над Врангелем Крым превратился в
ловушку для махновцев. Им приказали сдать оружие, а командиров
арестовали и расстреляли. Самого Махно окружили в Гуляй-Поле, но
он сумел каким-то чудом вырваться и продолжить партизанскую
326
ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ
В 1917—1921 ГОДАХ
борьбу. Год спустя, в феврале 1921 г., Ленин замечал: «Наше
военное командование позорно провалилось, выпустив Махно
(несмотря на гигантский перевес сил и строгие приказы поймать),
и теперь ещё более позорно проваливается, не умея раздавить
горсток бандитов. И хлеб, и дрова, всё гибнет из-за банд, а мы
имеем миллионную армию». Однако отряд бойцов Махно
постепенно таял. Крестьян измучила непрерывная война против
всего света. Кроме того, крестьянская политика Советской власти к
лету 1921 г. стала смягчаться. В августе 1921 г. Махно серьёзно
ранили в голову. Всего в боях с белыми и красными он получил
12 ранений. 23 августа оставшаяся горстка повстанцев перешла
границу. Махно вспоминал: «В Киевщине я был опасно ранен и,
будучи в беспамятном от потери крови состоянии, отправлен
напуганными за мою жизнь и общее дело повстанцами в Румынию».
Здесь известного «бунтовщика», конечно, посадили в крепость.
Затем он ещё побывал в польской и немецкой тюрьмах.
«После подобных странствований, — писал Махно, — я
обретаюсь ныне в Париже, среди чужого народа и среди
политических врагов, с которыми так много ратовал... О чувствах моих:
они неизменны. Я по-прежнему люблю родной народ и жажду
работы и встречи с ним». Во Франции Нестор Иванович жил
бедно, часто болел от многочисленных ранений. Написал
воспоминания. Чтобы заработать на хлеб, сапожничал, шил тапочки. Так
странно сложилась судьба революционера...
6 июля 1934 г. Нестор Махно скончался от давней
тюремной болезни — туберкулёза. Его похоронили на кладбище Пер-
Лашез рядом с расстрелянными парижскими коммунарами.
ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ
В 1917—1921 ГОДАХ
ПОСЛЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Свержение самодержавия в России в феврале 1917 г. оказалось
для большевиков, как и для других социалистов, почти полной
неожиданностью. Ещё 9 января в одном из публичных
выступлений Владимир Ленин замечал: «Мы, старики, может быть, не
доживём до решающих битв грядущей революции...». Большевик
Анатолий Луначарский позднее признавался, что сообщение о
февральских событиях «поразило его как громом».
Партия большевиков в тот момент насчитывала менее
24 тыс. человек — ничтожную горстку в масштабах огромной
НЕСТОР МАХНО ПРОТИВ
АНТОНА ДЕНИКИНА
В сентябре 1919 г. махновиам удалось
одержать первые крупные победы над
Деникиным. С боями они заняли
Бердянск, Мариуполь и другие города.
Деникинский генерал Яков Слашёв с
уважением говорил о Махно: «Это
противник, с которым не стыдно драться.
Моя мечта — стать вторым Махно».
20 октября махновцы вошли в Екате-
ринослав. Вновь взяв город, они
совершили эффектный символический жест.
Очевидец событий 3. Арбатов писал:
«В ту же ночь махновиы открыли
ворота тюрьмы... А утром, облив
тюремные здания керосином, поднесли
горящие факелы, и весь день до поздней
ночи огненные языки тянулись к небу,
навевая жуткие сказки
средневековья». Уничтожив тюрьму, махновиы не
отменили, конечно, расстрелы своих
противников.
«Большевизм — это орех, который
не расколешь» (из речи Г. Зиновьева).
(Журнал «Красный перец», 1924 г.)
327
РЕВОЛЮЦИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
ВПЕЧАТЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ
ОТ АПРЕЛЬСКИХ ТЕЗИСОВ
В первый момент программа,
изложенная Владимиром Лениным в его
Апрельских тезисах, вызвала у многих
общественных деятелей настоящий
шок. Георгий Плеханов назвал её
«бредом». Американский посол Дэвид
Фрэнсис сообщил в Вашингтон:
«Крайний социалист или анархист по
фамилии Ленин произносит опасные речи
и тем укрепляет правительство. Ему
умышленно дают волю; своевременно
будет выслан». Министр иностранных
дел Павел Милюков с радостным
видом говорил на следующий день:
«Ленин вчера совершенно провалился в
Совете. Он защищал тезисы
пораженчества с такой резкостью, с такой
бесцеремонностью, с такой
бестактностью, что вынужден был замолчать и
уйти освистанным... Уже он теперь не
оправится».
А. Апсит. «Царь, поп
и богач на плечах у трудового народа».
Плакат 1918 г.
страны. 5 марта вновь начала выходить запрещённая в 1914 г.
большевистская газета «Правда». Её редакцию возглавили
вернувшиеся из ссылки «старые большевики» — Лев Каменев, Иосиф
Сталин... Остальные авторитетные вожди партии во главе с В.
Лениным ещё оставались в эмиграции. Находившиеся в России
руководители большевиков считали, что революция «буржуазная»,
поэтому можно и нужно поддержать Временное правительство.
«Поскольку Временное правительство закрепляет шаги
революции, — говорил И. Сталин, — постольку ему поддержка...»
14 марта в «Правде» появилась передовая статья без подписи,
в которой излагались эти взгляды. Автором её был Л. Каменев.
«Поскольку Временное правительство действительно борется с
остатками старого режима, — писал он, — постольку ему обеспечена
решительная поддержка революционного пролетариата». Он
добавлял, что при этом, конечно, надо «критиковать и разоблачать
каждую непоследовательность» правительства. На следующий день
Л. Каменев изложил в «Правде» и взгляды большевиков на войну:
«Германская армия не последовала примеру армии русской и ещё
повинуется своему императору». Поэтому следует «на пулю
отвечать пулей и на снаряд — снарядом», одним словом — продолжать
сражаться. Русское бюро ЦК большевиков 22 марта поддержало
позицию Л. Каменева... Таким образом, в первые недели
революции большевики почти ничем не выделялись в ряду других
социалистических партий. Перелом в этом отношении наступил в
апреле, с возвращением в Россию В. Ленина.
АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ
Надо сказать, что уже в марте некоторые
большевики (например, Вячеслав Молотов) довольно
резко нападали на Временное правительство.
Многие ждали, что когда приедет из эмиграции
Ленин, солидный, умудрённый опытом вождь, он
«остудит горячие головы» в рядах своей партии.
Однако вышло совсем наоборот.
3 апреля В. Ленин прибыл в Петроград. Путь
его в Россию был, как известно, весьма
необычным — в «пломбированном вагоне» через
Германскую империю... «Если бы пломбированный вагон
не проехал в марте 1917 г. через Германию, —
считал Лев Троцкий, — если бы Ленин не
прибыл в начале апреля в Петроград, то Октябрьской
революции, революции 25 октября не было бы
на свете... Руководящая группа большевиков
вместо неистово наступательной политики Ленина
навязала бы партии политику разделения труда
с Временным правительством». Сразу же по
прибытии в Петроград В. Ленин выступил со
знаменитыми Апрельскими тезисами. 4 апреля он
прочёл их перед широкой аудиторией в Таврическом
328
ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ
В 1917—1921 ГОЛАХ
дворце. Почти каждый из этих тезисов опрокидывал какое-либо
прочно устоявшееся среди социалистов мнение.
Отношение к войне? «Со стороны России и при новом
правительстве Львова и К° война безусловно остаётся
грабительской». Иначе и быть не может — ведь это буржуазное
правительство... Поэтому «недопустимы ни малейшие уступки
„революционному оборончеству". Кончить войну истинно
демократическим, не насильническим, миром нельзя без свержения
капитала». В. Ленин подчеркнул, что необходимо братание солдат
воюющих армий. Когда он произнёс слово «братание»,
поднялся какой-то солдат, выразивший своё недоумение и возмущение
потоком сочной ругани. Владимир Ильич спокойно выслушал
солдата, а потом сказал, что вполне понимает подобные чувства
и надеется его переубедить...
Отношение к правительству? Первый этап революции дал
власть буржуазии. Второй этап, как заявил оратор, должен
передать её в руки рабочего класса и беднейшего крестьянства.
«Никакой поддержки Временному правительству, — заявил В. Ленин, —
разъяснение полной лживости всех его обещаний...» Чего же
должны добиваться большевики? Их цели: «Не парламентская
республика, а республика Советов рабочих, батрацких и крестьянских
депутатов по всей стране, снизу доверху. Устранение полиции,
армии, чиновничества. Национализация всех земель в стране...».
Большевики не сразу поняли и приняли Апрельские тезисы.
Даже В. Молотов позднее признавался: «Я никогда не был против
Ленина, но ни я, никто из тех, кто был всегда с Лениным, сразу
толком его не поняли. Все большевики говорили о
демократической революции, а тут — социалистическая!». В течение апреля
В. Ленин настойчиво и упорно убеждал своих соратников
поддержать его программу. «Вы, товарищи, относитесь доверчиво к
правительству, — говорил он. — Если так, нам не по пути. Пусть лучше
останусь в меньшинстве». Окончательную победу Владимир Ленин
одержал на Всероссийской конференции партии, проходившей
24—29 апреля 1917 г. Дольше других свою позицию отстаивал
Л. Каменев. Речь на конференции он закончил словами: «Путь
пролетарской революции один. Но если мне предлагают сделать этот
путь на аэроплане, то я откажусь, потому что в таком случае я
приеду один, а я хочу прийти к ней с массами». Апрельская
конференция одобрила все основные положения Ленина. Партия к этому
моменту уже значительно выросла — до 80 тыс. человек
В ДНИ ОКТЯБРЯ
В сентябре В. Ленин выдвинул идею взять власть путём
вооружённого восстания. Как и в апреле, ему пришлось преодолевать
сопротивление почти всего руководства партии. 29 сентября он даже
поставил ультиматум. «Мне приходится подать прошение о
выходе из ЦК, — писал он, — что я и делаю, и оставить за собой
свободу агитации в низах партии и на съезде партии» (см. ст.
«Октябрьский переворот»). Но в конечном итоге на заседаниях ЦК партии
ИЮЛЬСКИЕ СОБЫТИЯ
В мае и июне 1917 г. большевики ешё
терялись в обшей массе
социалистических партий. На I съезд крестьянских
Советов в мае было избрано лишь 9
членов РСДРП(б); на I съезд рабочих и
солдатских Советов в июне — 105 (из
1090 делегатов). Однако многие уже
считали, что проявления недовольства
правительством — это «работа
большевиков». Отвечая на эти обвинения,
Григорий Зиновьев говорил: «Умри
сегодня все большевики, которые, по
вашему мнению, во всём виноваты, всё
равно волнения будут продолжаться».
3—4 июля 1917 г. в Петрограде
вспыхнули стихийные волнения солдат,
матросов и рабочих. Большевики до
последнего момента колебались,
примкнуть ли к движению или попытаться
погасить его. «Не нужно бросаться по
заводам и тушить пожар, — говорил
Михаил Томский,—так как пожар
зажжён не нами, и за всеми тушить мы не
можем». Л. Каменев считал: «Раз
масса выступила на улицу, нам остаётся
только придать этому выступлению
мирный характер». В конце концов
подобная точка зрения одержала верх:
большевики присоединились к
демонстрантам.
Подавление беспорядков привело к
временному разгрому партии. 6 июля
войска захватили бывший особняк
балерины Матильды Кшесинской, где
находился штаб большевиков.
Правительство закрыло газету «Правда» (она
продолжала выходить, несколько раз
меняя название). Среди руководства
большевиков прокатилась волна арестов. В
частности, в тюрьме оказались Лев
Каменев, Александра Коллонтай,
Анатолий Луначарский.
В. Ленина и Г. Зиновьева обвинили в
том, что они не только проехали через
Германию, но и получили от немцев
329
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
крупные суммы денег. Однако они
скрылись от ареста, ушли в подполье.
В опубликованном ими письме
говорилось: «Никаких гарантий правосудия в
России сейчас нет... Отдать себя
сейчас в руки властей — значило бы
отдать себя в руки Милюковых... в руки
разъярённых контрреволюционеров,
для которых обвинения против нас
являются простым эпизодом в
гражданской войне».
С 26 июля по 3 августа в Петрограде
прошёл VI съезд партии большевиков.
Съезд работал полулегально: хотя все
о нём знали, газеты отчётов не
печатали. За делегатами съезда числилось в
обшей сложности 245 лет тюремного
заключения, 41 год каторги, 89 лет
эмиграции... К этому моменту партия
большевиков уже почти оправилась от
июльского поражения. Её ряды менее
чем за полгода выросли до 240 тыс.
человек, т. е. в десять раз!
Неизвестный художник. Плакат 1929 г.
10 и 16 октября почти все их участники, кроме Г. Зиновьева и Л.
Каменева, выступили за вооружённое восстание.
В конце октября, когда партия оказалась у власти, её
численность достигала уже 350 тыс. человек. Взяв власть,
большевики сразу же столкнулись с множеством сложнейших проблем.
Прежде всего они были совсем чужими для власти людьми, не
имевшими опыта государственного управления. Большевик
Георгий Ломов вспоминал: «Среди нас было много преданнейших
революционеров, исколесивших Россию по всем направлениям...
Каждый из нас мог перечислить чуть ли не все тюрьмы в России
с подробным описанием режима, который в них существовал.
Мы знали, где бьют, как бьют, где и как сажают в карцер, но мы
не умели управлять государством».
Вождей большевиков не могла не тревожить и предстоящая,
очевидно, суровая борьба. Вошедший в правительство А.
Луначарский писал в конце октября: «Я пойду с товарищами по
правительству до конца. Но лучше сдача, чем террор. В
террористическом правительстве я не стану участвовать... Лучше самая
большая беда, чем малая вина». Так думал, вероятно, не он один.
Многие полагали, что не стоит пускаться в рискованное,
почти безнадёжное «одиночное плавание». Лучше взять
попутчиков в лице других социалистических партий. В. Ленин и
Л. Троцкий, напротив, считали, что правительство с
меньшевиками и эсерами просто не удержится у власти. К такой
коалиции в тот момент не стремились обе стороны. В. Ленин позже
не раз убеждённо повторял, что «в России возможны только два
правительства: царское или Советское». Никакое
«промежуточное» правительство
удержаться не сможет.
1 ноября Л. Троцкий
заявил: «Всё, что Черновы
способны вносить в нашу работу, —
это колебания. Но колебания в
борьбе с врагами убьют наш
авторитет в массах...». Позднее он
замечал: «Революции уже не раз
погибали из-за мягкотелости,
нерешительности, добродушия
трудящихся масс. Революция
может спастись, лишь
перестроив самый характер свой на
иной, более суровый лад...».
БОРЬБА ВОКРУГ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
БРЕСТСКОГО МИРА
Возможно, наиболее
серьёзное, решающее испытание
Советской власти пришлось пере-
330
ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ
В 1917—1921 ГОДАХ
жить в первые месяцы 1918 г. Жизнь поставила большевиков
перед жесточайшей необходимостью выбирать между верностью
своим идеалам и самим существованием Советской республики.
Речь шла о том, подписывать ли мир с Германией. Согласно
провозглашённым принципам, следовало сражаться за
«справедливый, демократический мир». Однако сил на то, чтобы воевать, в
данный момент не было...
Мирные переговоры проходили в городе Брест-Литовске
(ныне Брест). Вначале немцы предлагали мир на достаточно
мягких условиях. Но всё-таки это был «захватнический,
грабительский мир»: Германия получала Польшу и часть Прибалтики.
Большевики почти единодушно высказывались против
подобного мира. 8 января 1918 г. на совещании в ЦК из 63 его
участников только 15 во главе с Лениным голосовали за мир.
Противники мира в рядах большевиков получили название
«левые коммунисты». В их числе оказались Николай Бухарин,
Александра Коллонтай, Феликс Дзержинский, Карл Радек и
многие другие видные вожди партии. Их общую точку зрения ярко
выразила Варвара Яковлева: «Погибнем с честью и с высоко
поднятым знаменем! Всё, чтобы загорелась международная
революция в Европе...». «Левые коммунисты» подчёркивали, что отказ от
международной войны с угнетателями «ведёт к гибели от
внутреннего разложения, равносилен самоубийству...».
Надеясь на скорую революцию в Германии, большевики
решили затягивать мирные переговоры. Между тем немецкие
условия ужесточились, и 28 января Германия ультимативно
потребовала их принять. В ответ глава советской делегации Л.
Троцкий, выполняя партийное решение, выступил со знаменитой
формулой: «Мир не подписываем, войну не ведём, а армию
распускаем». Эта формула позволяла большевикам, не
сопротивляясь превосходящему противнику, «сохранить идейную чистоту».
Однако 18 февраля, вопреки ожиданиям советской стороны,
■Рч fc) .. »i
\Я шШ
/ VlJkI tfSi^5
Ш_2_1
К£|Ш№£№* ч
^^ГЧ-5РЧ[ fc^~^
ii'-i 7
ifa ^"т^^*^^^^/ /А
ВИг^к" VviV
F-J C^> f\^_r-S 1 ''**t£——-■■
т^ч^/аДГ \
<А
БОРЬБА ВОКРУГ СОСТАВА
СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
В первые же дни Советской власти в
руководстве большевиков разгорелась
острая борьба вокруг состава
Совнаркома. Часть большевиков соглашалась
уступить эсерам и меньшевикам,
которые требовали, чтобы в новое
правительство не входили ни Ленин, ни
Троцкий. Предполагалось, что возглавит его
руководитель эсеров Виктор Чернов.
Однако 4 ноября стало ясно, что
договориться не удастся.
В тот же день четыре наркома
(Алексей Рыков, Владимир Милютин, Виктор
Ногин, Иван Теодорович) вышли из
состава правительства. Они упрекали
свою партию в неуступчивости. В
заявлении бывших наркомов говорилось:
«Мы стоим на точке зрения
необходимости образования
социалистического правительства из всех советских
партий. Мы полагаем, что вне этого
есть только один путь: сохранение
чисто большевистского правительства
средствами политического террора. На
этот путь вступил Совнарком. Мы на
него не можем и не хотим вступать.
Нести ответственность за эту
политику мы не можем и поэтому слагаем с
себя звание народных комиссаров».
Эту позицию поддержали также Л.
Каменев и Г. Зиновьев, вышедшие из
состава UK.
В. Ленин осудил поступок ушедших, с
негодованием назвав его
«дезертирством». Руководство партии одобрило
его позицию...
А. Глаголев. «Большевики, пишущие
ответ аглиикому керзону». Стоят (слева
направо): Будённый, главком Каменев,
Лев Каменев, Раковский, Сталин,
Зиновьев; сидят: Рыков, Калинин,
Красин, Радек, Бухарин, Чичерин,
Троцкий, Литвинов, Л. Бедный
(изображён со спины).
(Журнал «Красный перец». 1923 г.)
331
РЕВОЛЮЦИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
ГАВРИИЛ МЯСНИКОВ
Среди самых ярких деятелей РКП(б)
первых лет Советской власти можно
назвать имя Гавриила Ивановича Мяс-
никова. Рабочий-слесарь по
профессии, он принадлежал к числу «старых
большевиков» — в партию вступил в
1906 г. Более семи лет находился в
заключении за «политику», при этом два
с половиной месяца проводил
голодовки протеста. В 1917 г. 28-летний
Г. Мясников возглавил рабочий Совет
города Мотовилихи. Год спустя он стал
главным организатором убийства
великого князя Михаила
Александровича (см. сюжет к ст. «Николай II»).
В мае 1921 г. Гавриил Мясников
направил в UK партии «Докладную
записку». В ней он высказывал совершенно
необычные предложения. «После того
как мы подавили сопротивление
эксплуататоров, — писал он, — мы
должны провозгласить свободу слова и
печати, которую в мире не видел ешё
никто: от монархистов до анархистов
включительно. Этой мерой мы
закрепим за нами влияние в массах города
и деревни, а равно во всемирном
масштабе. Надо сделать, чтобы весь мир
видел, что мы пропаганды и агитации
белогвардейцев всех сортов и
оттенков не боимся». Правда, свобода
печати «от монархистов до анархистов»
должна была действовать только для
рабочих и крестьян. «Никаких
рассуждений с кадетом-буржуа, адвокатом,
доктором, профессором, — замечал
Мясников, — здесь одно лекарство —
мордобитие». Кроме того, автор
записки предлагал вернуть рабочим Советам
их былое значение на предприятиях.
«Докладная записка» наделала немало
шуму в высшем руководстве партии.
Отвечал на неё сам В. Ленин.
Председатель Совнаркома писал: «Буржуазия
(во всём мире) ешё сильнее нас, и во
много раз... Она не умерла. Она жива.
Она стоит рядом и караулит». «Дать ей
такое оружие, — продолжал Владимир
Ильич, — как свобода политической
организации (= свободу печати),
значит облегчать дело врагу... Мы
самоубийством кончать не желаем и
потому этого не сделаем».
Г. Мясников с Лениным не согласился
и в открытом письме отвечал ему так:
немцы перешли в наступление по всему фронту. Вечером того же
дня после бурного заседания ЦК партии (большинством в семь
голосов против пяти при одном воздержавшемся) принял
германские условия. «Против» голосовали «левые коммунисты».
Но последующие события превзошли все самые худшие
ожидания. Германия предъявила новый тяжелейший ультиматум.
По его условиям территория, которую теряла Россия,
увеличивалась более чем в пять раз. Тем не менее В. Ленин, не колеблясь,
говорил: «Товарищи, условия, которые предложили нам
представители германского империализма, неслыханно тяжелы,
безмерно угнетательские, условия хищнические. Германские
империалисты, пользуясь слабостью России, наступают нам коленом на
грудь. И при таком положении... иного выхода, как подписать эти
условия, у нас нет...».
23 февраля состоялось решающее заседание ЦК. Всем было
ясно, что на повестке дня — вопрос о жизни и смерти Советской
республики. Но германские условия произвели ошеломляющее
впечатление, их принятие выглядело равносильным полной
капитуляции.
«Политика революционной фразы окончена!» —
категорически заявил на этом заседании В. Ленин. Он выступал пять раз,
доказывая, убеждая, наконец даже угрожая. Он пригрозил, что
оставит все свои посты, если германские условия не будут
приняты. «Некоторые упрекали меня за ультиматум, — сказал он. —
Я его ставлю в крайнем случае... Эти условия надо подписать. Если
вы их не подпишете, то вы подпишете смертный приговор
Советской власти... Я ставлю ультиматум не для того, чтобы его
снимать». «Левый коммунист» Г. Ломов тем не менее произнёс: «Если
Ленин грозит отставкой, то напрасно пугаются. Надо брать
власть без Ленина...». Однако общее настроение ультиматумом
Ленина было сломлено. Семью голосами против четырёх при
четырёх воздержавшихся ЦК принял германские условия.
Второе «сражение за мир» разыгралось в ночь на 24
февраля на заседании «советского парламента» — ВЦИК. Здесь против
мира выступали меньшевики, эсеры и левые эсеры. Решение
было утверждено: за него проголосовали 116 человек, против —
85, а 26 воздержались.
В заявлении «левых коммунистов», принятом на следующий
день, говорилось: «В интересах международной революции мы
считаем целесообразным идти на возможность утраты
Советской власти, становящейся теперь чисто формальной». Ленин
назвал эти слова «странными и чудовищными». 3 марта 1918 г.
Брест-Литовский мирный договор был подписан.
6—8 марта состоялся VII экстренный съезд РСДРП(б).
Главным вопросом на нём, конечно, также был вопрос о мире. В.
Ленин выступал на съезде 18 раз, остро дискутируя с «левыми
коммунистами». Большинством голосов делегаты съезда приняли
резолюцию: «Съезд признаёт необходимым утвердить
подписанный Советской властью тягчайший, унизительнейший мирный
договор с Германией ввиду неимения нами армии...». Кроме того,
332
ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ
В 1917—1921 ГОДАХ
съезд переименовал правящую партию в РКП(б) — Российскую
коммунистическую партию (большевиков). Таким образом,
большевики окончательно разрывали с социал-демократией.
Брестский мир стал переломным моментом в истории
партии большевиков. Она сделала выбор между идеализмом,
«чистотой принципов» и требованиями жизни. Позднее, чтобы выжить,
сохранить Советскую республику, большевикам ещё
неоднократно приходилось совершать крутые политические
повороты. Часто новый курс противоречил всем их прежним
представлениям и принципам. Теперь эти резкие повороты давались уже
легче, но почти каждый раз при этом в партии возникала
мощная идейная оппозиция. В марте 1919 г. В. Ленин замечал:
«Политическая деятельность ЦК... всецело определялась
абсолютными требованиями неотложной насущной потребности. Мы
должны были сплошь и рядом идти ощупью. Этот факт сугубо
подчеркнёт всякий историк. Этот факт более всего бросается в
глаза, когда мы пытаемся охватить одним взглядом пережитое...».
«РАБОЧАЯ ОППОЗИЦИЯ»
В марте 1921 г. в Кронштадте вспыхнуло восстание матросов и
солдат под лозунгом: «Вся власть Советам, а не партиям!» (см. ст.
«Кронштадтское восстание»). Особенно тревожным для властей
признаком было то, что к повстанцам добровольно примкнули
многие кронштадтские коммунисты. Так поступила примерно
треть местных партийцев, а 40% объявили себя «нейтральными».
В разгар этих бурных событий, 8 марта, в Петрограде
собрался X съезд РКП(б). В нём участвовало 990 делегатов от
733 тыс. членов партии. На съезде выступила «рабочая
оппозиция» во главе с Александрой Коллонтай и Александром
Шляпниковым.
Накануне съезда А. Коллонтай выпустила брошюру
«Рабочая оппозиция», в которой излагались взгляды сторонников
этого партийного течения. В ней Александра Михайловна
выражала сожаление, что партийные «верхи» оторвались от рабочих.
Причину она видела в том, что было сделано слишком много
уступок другим классам — крестьянству, «спецам», бывшей
буржуазии... «Былой тип идейного работника у нас исчез, — писала
Коллонтай, — появились управляющие и управляемые, стоящие
одни — наверху, другие — внизу». Она приводила рассуждения
рабочих: «Верхи одно, мы другое. Свои-то они свои, да только
попал в главк и ушёл от нас... По-иному живёт. Наше горе ему
что?.. Не своё горе стало!».
«В первоначальный период революции, — продолжала
А. Коллонтай, — кто стал бы говорить о „верхах" и „низах'?
Рабочие массы и партийные руководящие центры слились
воедино. Противоположения верхов и низов не было и быть не
могло. Сейчас оно есть... И никакими мерами „запугивания" не
изгонишь из сознания широких масс образования характерного
нового „социального слоя" советско-партийных верхов».
«Когда дробите скулы мировой
буржуазии, это хорошо, но вот беда: Вы
замахиваетесь на буржуа, а бьёте
рабочего... Не верите Вы в силу
рабочего класса, не верите в его классовую
политику, а верите в чиновников — это
Ваша беда... Вы разве не знаете, что за
такой разговор, какой веду я, не одна
сотня и тысяча пролетариев сидит в
тюрьме и ни одного буржуа не сидит,
который так вопроса ставить не будет?
Если я хожу на воле, то потому, что я
коммунист 15 лет, который свои
коммунистические взгляды омыл
страданиями, а если бы этого не было, а был
бы я просто слесарь-коммунист... то
где бы я был? В Чека или больше того:
меня бы „бежали", как некогда я
„бежал" Михаила Романова...».
В декабре В. Ленин уже обеспокоенно
писал членам Политбюро: «Надо
усилить внимание к агитации Мясникова
и два раза в месяц докладывать о нём
в Политбюро». 20 февраля 1922 г.
Г. Мясникова исключили из партии.
После этого он перешёл к подпольной
деятельности и создал в Петрограде
нелегальную «Рабочую группу РКП(б)».
В её манифесте правящий слой
назывался «зарвавшейся кучкой
интеллигентов». Теперь эта прослойка,
полагал Г. Мясников, «полным ходом
перерождается в монархическую касту».
Позднее власти утверждали, что к
«Рабочей группе» примкнуло до 200
человек. Среди знавших о ней был и
А. Шляпников, в прошлом
руководитель «рабочей оппозиции».
В июне 1923 г. в Москве состоялось
первое совещание «Рабочей группы».
А уже в сентябре среди её участников
прошли аресты. Арестовали свыше 20
руководителей группы. Г. Мясникова
осудили на три года заключения.
Когда он отбыл свой срок, его отправили
в ссылку в Армению. В 1928 г. он
тайно пересёк границу, переплыв через
реку Араке на иранский берег...
Находясь в эмиграции во Франции,
Гавриил Иванович, видимо, тосковал по
родине и после Второй мировой войны
вернулся в Советский Союз. Как
только самолёт приземлился в Москве,
Мясникова арестовали и отправили в
Бутырскую тюрьму. Здесь в 1946 г.
Гавриил Мясников был расстрелян.
333
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
«ВОЕННАЯ ОППОЗИЦИЯ»
Одно из важных столкновений вокруг
«чистоты принципов» в рядах
большевиков произошло по вопросу о
регулярной Красной армии. В программе
РСДРП имелся пункт: «Замена
постоянного войска всеобшим
вооружением народа». То же положение почти
дословно повторяли, между прочим, и
Апрельские тезисы В. Ленина.
Однако в ходе гражданской войны вскоре
стало очевидным, что противостоять
белогвардейцам может только
«настоящая», регулярная армия.
В марте 1919 г. собрался VIII съезд
партии большевиков. На нём заявила о
себе «военная оппозиция». Одним из
её руководителей стал Климент
Ворошилов. Сторонники «военной
оппозиции» требовали вернуться к
первоначальным установкам партии в военном
деле. Это означало: выбирать
командиров, обсуждать приказы, не
использовать «военспецов» (бывших офицеров
и генералов) старой русской армии.
Эти события происходили в один из
самых острых моментов гражданской
войны. В. Ленин, Л. Троцкий и их
сторонники считали, что партизанская,
ополченческая армия победить в такой
войне не сможет. По их мнению, на
карту вновь была поставлена судьба
Советской республики. Но идея
регулярного войска означала для
большевиков ешё одну серьёзную ломку
мировоззрения... «Исторический переход
от партизанщины к регулярной
армии, — говорил на съезде Ленин, — в
UK десятки раз обсуждался, а здесь
говорят, что нужно всё бросить и
вернуться назад. Никогда и ни в каком случае».
В конце концов силой авторитета В.
Ленину удалось привлечь на свою
сторону необходимое большинство. Принцип
регулярной Красной армии был
одобрен как временная, вынужденная мера.
Впрочем, Красная армия сохранила
многие черты революционного войска.
Так, вплоть до 30-х гг. в ней не было
воинских званий (только должности), до
40-х гг. её командиры не носили погон...
Некоторые из этих черт остались и
позднее: например, политические
комиссары при командирах, воинское
обращение «товарищ».
Неизвестный художник. Плакат 1920 г.
«Рабочая оппозиция» требовала «свободы критики, права
дискуссий» внутри партии. Её сторонники считали, что сначала
вопросы должны «обсуждаться низами, а потом уже
суммироваться верхами». Они добивались беспощадной чистки всех
нерабочих внутри партии. В хозяйственной области они также
предлагали заменить «чиновников» рабочими, т. е.
профсоюзами. «Кто призван творить новые формы хозяйства: советские
чиновники или профсоюзы? — спрашивала Коллонтай и
заключала: — Творчество коммунизма — принадлежит рабочим».
На съезде В. Ленин решительно выступил против «рабочей
оппозиции». Он увидел в ней новую угрозу для Советской
республики. «Я утверждаю, — грозно заметил он, — что между идеями и
лозунгами мелкобуржуазной, анархической контрреволюции и
лозунгами „рабочей оппозиции" есть связь... Обстановка спора
становится в величайшей степени опасной, становится прямо
угрозой диктатуре пролетариата».
Само название оппозиции невольно рождало вопрос: если
в партии «рабочая» только оппозиция, то какова же сама
партия? «Нет другого, более худшего и неприличного названия для
членов коммунистической партии, чем это», — с возмущением
произнёс Ленин под аплодисменты зала.
В. Ленина, очевидно, возмущало то, что мощная идейная
оппозиция внутри партии каждый раз возникает в тот момент,
когда Советская республика «висит на волоске». Под угрозой при этом
334
КРОНШТАДТСКОЕ
ВОССТАНИЕ
оказывается всё дальнейшее существование нового государства.
Владимир Ильич энергично и с негодованием восклицал: «Не надо
теперь оппозиции, товарищи, не то время! Либо — тут, либо — там,
с винтовками, а не с оппозицией. Это вытекает из объективного
положения, не пеняйте. И я думаю, что партийному съезду
придётся сделать тот вывод, что для оппозиции теперь конец,
крышка, теперь довольно нам оппозиций!» (Аплодисменты?). Почти все
делегаты съезда вполне разделяли эту точку зрения. Они приняли
известную резолюцию «О единстве партии». В ней говорилось:
«Съезд поручает всем организациям строжайше следить за
недопущением каких-либо фракционных выступлений. Неисполнение
этого постановления съезда должно вести за собой безусловное и
немедленное исключение из партии». К. Радек заметил с трибуны
съезда: «Голосуя за эту резолюцию, я чувствовал, что она может
обратиться и против нас, и несмотря на это, я стою за резолюцию».
Л. Каменев позднее так разъяснял эту точку зрения: «Сегодня
говорят: демократия в партии; завтра скажут: демократия в
профсоюзах. Послезавтра беспартийные рабочие могут сказать: дайте нам
такую же демократию. А разве крестьянское море не может
сказать нам: дайте демократию!?».
Принять столь строгое решение о единстве, по словам
Л. Троцкого, коммунистов заставило само Кронштадтское
восстание, «вовлёкшее в свои ряды немалое число большевиков».
КРОНШТАДТСКОЕ
ВОССТАНИЕ
В 1920 г. гражданская война фактически закончилась.
Население надеялось на облегчение своего положения. Но политика
«военного коммунизма» не смягчилась. Продотряды
по-прежнему отбирали у крестьян все «излишки» зерна (см. ст. «„Военный
коммунизм" и нэп»). Скудные пайки получали и рабочие.
Недовольство в стране нарастало, волнения вспыхивали то там, то
здесь. 24 февраля 1921 г. начались стачки рабочих Петрограда.
Бастовали под лозунгами: «Хлеба!», «Пусть работают те, у кого
комиссарские пайки!». Волнения сурово подавили, зачинщиков
арестовали.
Узнав об этом, открыто возмутились моряки Кронштадта,
которых называли «красой и гордостью» Октября. Команды
линкоров «Петропавловск» и «Севастополь» приняли резолюцию с
экономическими и политическими требованиями. 2 марта
матросы и другие жители города избрали временный ревком (ВРК)
из 15 человек. Кроме моряков в него вошли четверо рабочих,
«Всесоюзный староста» М. Калинин.
КАЛИНИН И КРОНШТААТЦЫ
В дни, когда в Кронштадте росло
политическое недовольство, туда прибыл
сам «всесоюзный староста» Михаил
Калинин. 1 марта 1921 г. он выступил
на митинге перед матросами на
Якорной плошали. Собравшиеся (15 тыс.
человек) встретили «всесоюзного
старосту» горячими аплодисментами.
Матросы надеялись, наконец, услышать о
предстоящем облегчении положения
крестьян и рабочих. Но Калинин
ничего об этом не сказал. Вместо этого он
напомнил о революционных заслугах
кронштадтиев. Тогда его перебили
возгласы из толпы: «Хватит похвал!»,
«Тебе-то тепло, Калиныч!», «Сытый
голодного не разумеет!», «Когда с
продразвёрсткой покончите?», «Когда
продотряды уберёте?». Один из матросов
поднялся на трибуну и спросил его:
«Почему вы расстреляли наших отцов
и братьев в деревне? Вам тепло, вы и
комиссары живёте во дворцах...
Товарищи, надо положить конец
расстрелам наших братьев!». Другой матрос
решительно заявил: «Хватит хвалебной
болтовни! Вот наши требования: долой
продразвёрстку, долой продотряды,
даёшь свободную торговлю, требуем
свободного переизбрания Советов!».
М. Калинин в ответ упрекнул моряков,
что они затевают опасную игру
против Советской власти. Провожали его
уже свист и возгласы: «Долой
фальшивых коммунистов!». Тем не менее
«всесоюзного старосту» совершенно
свободно выпустили из города.
335
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОИНА
КРОНШТАДТСКИЕ ЧАСТУШКИ
Газета кронштадтских повстанцев
«Известия ВРК» неоднократно
публиковала короткие куплеты, отражавшие
настроения моряков. Так, среди крон-
штадтиев была популярна песня:
Полнимайся, люл крестьянский,
Всхолит новая заря.
Сбросим Троцкого оковы,
Сбросим Ленина-паря...
В частушках отражались последние
политические новости. Например,
вскоре после приезда в Кронштадт М.
Калинина газета поместила частушку:
Приезжает сам Калинин,
Язычише мягок, ллинен,
Он малиновкою пел,
Но успеха не имел...
Балтийские матросы в Петрограде. 1919 г.
санитар и директор школы. Председателем ревкома стал матрос
Степан Петриченко.
Восставшие считали, что продолжают дело Февраля и
Октября. В Феврале сбросили царя, в Октябре — избавились от
буржуазии. «Но полная шкурников партия коммунистов захватила
власть в свои руки, устранив рабочих и крестьян, во имя
которых действовала. Пришло время свергать комиссародержавие.
Зоркий часовой социальной Революции — Кронштадт — не
проспал. Он был в первых рядах Февраля и Октября. Он первый
поднял знамя восстания за Третью Революцию трудящихся.
Настало время подлинной власти трудящихся, власти Советов» — так
писала газета восставших «Известия ВРК».
Восстание шло под лозунгом: «Вся власть Советам, а не
партиям!». Правда, большевики поняли его по-своему: «За Советы без
коммунистов!». К восставшим присоединилось и около трети
городских коммунистов. Ещё 40% называли себя
«нейтральными». Среди остальных произвели аресты, но никого из них за всё
время восстания не расстреляли.
3 марта советские газеты сообщили, что в Кронштадте
вспыхнул белогвардейский мятеж во главе с С. Петриченко и
336
КРОНШТАДТСКОЕ
ВОССТАНИЕ
генералом Козловским. Действительно, этот бывший генерал-
майор был в числе восставших кронштадтцев, но многие из них
даже не знали о его существовании. Впечатление на всю страну
это сообщение произвело потрясающее. «Восстание в
Кронштадте! — вспоминал журналист 3. Арбатов. — Самое важное
было то, что восстал именно Кронштадт, тот самый Кронштадт...
И слова „Кронштадт восстал!" как бы торжественно
переплетались с храмовыми звуками „Христос воскресе!" Самое ценное
то, что Кронштадт, а не какой-нибудь Орёл или Рыбинск!»
Восставшие надеялись на мирный исход событий и
выслали одну за другой две делегации для переговоров. Обе они были
арестованы, а позднее и расстреляны. Л. Троцкий направил
кронштадтцам требование «немедленно сложить оружие».
«Только безусловно сдавшиеся могут рассчитывать на милость
Советской Республики», — писал он. В Кронштадте появились
листовки с угрозой расстрелять мятежников, «как куропаток».
7 марта город начали обстреливать. По этому поводу
ревком заявил: «Фельдмаршал Троцкий, весь в крови рабочих,
первым открыл огонь по революционному Кронштадту...».
Восставшие с нетерпением ждали, как воспримет их
требования X съезд партии, начавшийся 8 марта. Съезд сделал первый
шаг навстречу крестьянству — отменил продразвёрстку. Это было
одним из главных требований кронштадтцев. В то же время по
отношению к самим восставшим курс остался непримиримым.
Ленин заметил, что Кронштадт (т. е. стоящая за ним крестьянская
стихия) «более опасен, чем Деникин, Юденич и Колчак, вместе
взятые». Триста делегатов съезда отправились на штурм Кронштадта.
Большевикам предстояло провести небывалую в военной
истории операцию: силами пехоты взять морскую крепость! Но
медлить не приходилось: лёд с каждым днём становился
тоньше. Ещё немного — и Кронштадт стал бы неприступным.
Первую попытку штурма, в ночь на 8 марта, повстанцы
отбили. Маршал Иван Конев, участник событий, вспоминал:
«Положение было сложное, настроение неустойчивое, некоторые
курсанты отказывались наступать, некоторые артиллеристы
отказывались стрелять». Несколько красноармейских полков
заявили, что «не желают воевать против братьев-матросов». Меры
к таким частям применялись беспощадные: их разоружали,
каждого десятого расстреливали или предлагали «смыть позор
кровью», идя на приступ в первых рядах.
8 ночь на 17 марта начался второй, решающий штурм
Кронштадта. Наступавшие продвигались тихо, одетые в белые
маскировочные халаты. До крепости по льду путь предстоял
неблизкий — около 10 км. Но кронштадтцы заметили штурмующих,
когда первые из них уже подошли к городским стенам. Тогда
крепость озарилась вспышками выстрелов: все её орудия и корабли
открыли огонь. Только после полудня нападавшим с
огромными потерями удалось прорваться в город через главные ворота.
Уличные бои шли до позднего вечера. 18 марта весь Кронштадт
оказался в руках красноармейцев.
БОЙ ЗА КРОНШТАДТ
Один из участников штурма
Кронштадта, будущий маршал И. Конев,
вспоминал: «Канонада буквально глушила
нас мошью бризантных 12-дюймовых
снарядов. Это и на берегу не слишком
приятно, когда хлопнет такая дура, в
чьей воронке и в ширину, и в глубину
можно разместить целый двухэтажный
дом, а на льду-то ещё чувствительнее...
Но самое трагичное заключалось в том,
что каждый снаряд независимо оттого,
наносил или не наносил он поражения,
падая на лёд, образовывал огромную
воронку, и её почти сейчас же так
затягивало битым мелким льдом, что она
переставала быть различимой. В
полутьме, при поспешных перебежках под
огнём, наши бойцы то и дело попадали
в эти воронки и тут же шли на дно...»
Михаил Тухачевский, руководивший
штурмом крепости, говорил: «Я был
пять лет на войне, но я не могу
вспомнить, чтобы когда-либо наблюдал
такую кровавую резню. Это не было
большим сражением. Это был ад. Матросы
бились, как дикие звери. Откуда у них
бралась сила для такой боевой
ярости, не могу сказать. Каждый дом,
который они занимали, приходилось брать
штурмом. 1Лелая рота боролась полный
час, чтобы взять один-единственный
дом, но когда его наконец брали, то
оказывалось, что в доме было всего
два-три солдата с одним пулемётом.
Они казались полумёртвыми, но,
пыхтя, вытаскивали пистолеты, начинали
отстреливаться со словами: „Мало
уложили вас, жуликов!"».
337
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
Раненые красноармейцы в палате Морского госпиталя (после
подавления Кронштадтского восстания). Кронштадт. 1921 г.
Часть восставших, около 8 тыс. человек,
вырвалась из крепости и по льду ушла в
Финляндию. Среди ушедших оказались Петриченко и
Козловский. Там они сдались финским властям.
К лету 1921 г. более 2100 кронштадтцев,
взятых в плен, расстреляли. «Миндальничать с
этими мерзавцами не приходится», — с
возмущением говорил Павел Дыбенко, сам бывший
матрос. Расстреливали их на льду перед
крепостью. В лагеря отправили свыше 6450 человек.
Через год большинство из них освободили по
амнистии.
«военный коммунизм»
и нэп
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОППОЗИЦИИ
В декабре 1920 г. представителей
меньшевиков и эсеров пригласили
выступить на VIII Всероссийском съезде
Советов. Они в последний раз свободно
выступали перед такой аудиторией.
Их предложения сводились к коренной
перемене отношений с крестьянством.
Они осудили продразвёрстку —
изъятие у крестьян всех «излишков хлеба».
Меньшевики и эсеры считали, что
крестьянин должен твёрдо знать, сколько
хлеба с него требует государство.
Остальным же он волен распоряжаться
свободно, в том числе и торговать.
Большевики тогда считали, что
позволить свободную торговлю — значит
«вернуться под власть капиталистов».
Поэтому съезд отверг предложения
оппозиции. В октябре 1920 г.
Владимир Ленин повторял: «Надо, чтобы ни
одного лишнего пуда не было ни у
одной крестьянской семьи, чтобы
излишки хлеба были полностью отданы
государству рабочих».
«ВОИНА ЗА ХЛЕБ»
Первые шаги большевиков, например Декрет о земле,
пользовались полной поддержкой крестьян. Но весной 1918 г. в городах
возникли серьёзные трудности с хлебом.
Большевики не разрешали свободную торговлю хлебом,
потому что это противоречило их коренным убеждениям. Была
и другая важная причина: в условиях разрухи город мало что мог
дать деревне в обмен на хлеб. Поэтому в деревню направили
вооружённые «продотряды». Они по низкой цене или бесплатно (в
порядке реквизиций) забирали у крестьян все «излишки зерна».
Такой порядок назывался «продразвёрсткой». Крестьяне,
конечно, сопротивлялись. Только в 1918 г. погибло около 20 тысяч
бойцов продотрядов. Иногда с ними сражались в открытом бою,
иногда убивали ночью, спящих.
Против непокорных крестьян стали применять карательные
меры, ещё не забытые со времён старого режима. Прежде всего
сельских жителей стали подвергать поркам. Крестьяне надевали
по четыре-пять рубах на тело, чтобы смягчить удары, но это им
не очень помогало. Порой всю крестьянскую толпу ставили на
колени, чтобы они «почувствовали почтение к Советской власти».
Особенную враждебность крестьян вызывало введение
совхозов (советских хозяйств). В них крестьяне превращались в
рабочих без права иметь даже огороды и домашнюю птицу.
338
«ВОЕННЫЙ
КОММУНИЗМ» и нэп
В кронштадтских частушках, сочинённых в 1921 г.,
говорилось:
Вместо воли и землицы
Чрезвычайку дали нам.
И советское хозяйство
Насадили тут и там.
Хлеб, скотину забирают.
Пухнет с голоду мужик.
У Ерёмы взяли Сивку,
У Макара и сошник..
Всё-таки ещё больше крестьяне опасались возвращения
помещиков и старого порядка. Это, особенно при приближении
«белых», заставляло их отчасти мириться с новой властью,
несмотря на её чрезвычайные меры. Они надеялись, что после
окончания гражданской войны их положение улучшится.
«ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ»
Большевики считали, что государство должно взять все товары в
свои руки и выдавать их населению по мере необходимости. Но
это намерение вступало в противоречие со стихийными
желаниями людей. Прежде всего крестьяне не хотели отдавать свой
хлеб. Силой удавалось изъять только часть урожая, причём
ценой больших людских потерь с обеих сторон.
Горожане тоже старались «обойти» государство —
отправлялись в деревню «мешочничать» (покупать продукты). Это было
вполне объяснимо: пайка на жизнь не хватало. С августа 1918 г.
власти развернули борьбу с «мешочниками». Заградительные
отряды задерживали их в поездах и отбирали продукты,
приобретённые сверх разрешённой нормы.
Позднее экономическую политику властей в 1918—1921 гг.
назвали «военным коммунизмом». Это был своеобразный «штурм
неба», попытка провести свои идеи, несмотря ни на что.
«Кто не работает, тот не ест» — гласил один из старых
социалистических принципов. Поэтому одной из первых мер
Октября стало введение «классовых пайков». Больше всех должны
были получать рабочие, затем — интеллигенция; меньше всех —
«нетрудовые элементы».
«Мы даём рабочим селёдку и оставляем буржуазии
селёдочный хвостик», — замечал Григорий Зиновьев. Для последней
категории петроградцев в 1918 г. полагалась «восьмушка» фунта
хлеба раз в два дня. «Мы сделали это для того, чтобы они не
забыли запаха хлеба», — сказал Зиновьев.
Власти провели «красногвардейскую атаку на капитал», как
её назвал Владимир Ленин. Крупные фабрики отобрали у
владельцев ещё по декрету 28 июня 1918 г. В ноябре 1920 г. к
государству перешли последние мелкие предприятия, где было по
10—15 работников.
Советский рубль во время «военного коммунизма»
стремительно обесценивался. Хождение получили купюры в миллионы
Чпйы ноль хмк НПО нмяъ од,
в си? пню сдемь, а я об лом зеки.
Нвшшы одшрмль poOow. &
А. Сапожников. Плакат 1921 г.
ЛЕВЫЕ ЭСЕРЫ ПРОТИВ КОМБЕДОВ
11 июня 1918 г. был принят декрет, по
которому всю власть в деревне
получили комитеты бедноты — комбеды. Они
искали спрятанный хлеб, сообщали
продотрядам об укрывателях. За это им
доставалась часть изъятого хлеба.
Комбеды действовали до ноября 1918 г.
Против комбедов резко выступила
партия левых
социалистов-революционеров. «Беднота — это ведь не класс, —
доказывал левый эсер Трутовский. —
Здесь и пьяница, и трудолюбивый
неудачник, и батрак, и проходимец.
Почему они становятся первыми
фигурами в деревне?» Особенно
ожесточённая схватка вокруг комбедов
разгорелась на съезде Советов в июле 1918 г.
Левый эсер Борис Камков пообещал,
что крестьяне «вышвырнут за шиворот»
комбеды и продотряды. Большевик
Г. Зиновьев возражал: «Не плакаться
надо, что в деревню наконец пришла
классовая борьба, а радоваться, что
деревня начинает наконец дышать
воздухом гражданской войны».
6—7 июля борьба между левыми
эсерами и большевиками переросла в
вооружённое столкновение. В
результате левые эсеры подверглись разгрому.
Хотя они продолжали действовать и
после этого, однако повлиять на ход
событий уже не могли.
339
РЕВОЛЮЦИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
«ЗА БОЛЬШЕВИКОВ
ИЛИ ЗА КОММУНИСТОВ?»
В классическом фильме советского
кинематографа «Чапаев»
легендарного красного командира В. Чапаева
ставил в тупик вопрос: «Ты, Василий
Иванович, за большевиков или за
коммунистов?». Он отвечал неопределённо:
«Я за Интернационал...».
Но в годы гражданской войны эта
шутка вовсе не была лишена смысла. В
марте 1918 г. правящая партия
поменяла название. Её члены из «социал-
демократов» стали «коммунистами».
Крестьяне поняли это по-своему:
пришли плохие «коммунисты» и сбросили
хороших «большевиков».
«Большевики» исполнили вековую
крестьянскую мечту о земле, а
«коммунисты» стали посылать в деревню
грабительские продотряды. Белогвардеец
Василий Шульгин приводил такой
монолог красноармейца в 1920 г.: «Мы
большевики, а не коммунисты! Мы с
коммунистами сами борьбу ведём. Вот,
к примеру сказать, господа офицеры...
разве среди вас все хорошие люди?
Есть которые хорошие, а есть... сами
знаете. Так и у нас — коммунисты...
Сволочь коммунисты!». И долгое
время крестьяне не могли поверить, что
большевики и коммунисты — это одно
и то же.
В. Чапаев.
рублей («лимоны») и миллиарды («лимонарды»). Но вскоре и они
уже ничего не стоили. Почти всю зарплату рабочие получали
«натурой» — в основном продуктами. Правда, даже в этом власти
находили положительную сторону: казалось, дело идёт к
упразднению денег. В 1920 г. вполне серьёзно обсуждался вопрос о
полной их отмене.
С 1 января 1921 г. решили сделать бесплатными все товары
и услуги для трудящихся. Казалось, до полного, пусть пока и
нищенского коммунизма оставалось всего несколько шагов.
К этому времени гражданская война закончилась
поражением белогвардейцев. Победы на фронтах вдохновляли
большевиков. Нельзя ли справиться с разрухой, как успешно справились
с Белой гвардией, создать трудовые армии, бросить их на слабые
места — и положение начнёт понемногу выправляться?
Всех рабочих перевели на казарменное положение. Тех, кто
пытался уклониться от этого или менял место работы, называли
«трудовыми дезертирами» и поступали с ними именно как с
дезертирами — отправляли в штрафные бригады, заключали в
лагерь.
Но преодолеть разруху не удавалось. В январе 1921 г. в
столицах ещё раз сократили и без того ничтожные хлебные пайки.
Это вызвало бурные протесты рабочих. Особенно их возмущало
то, что власть имущие не разделяют с ними трудностей.
Поскольку руководители не могли, как простые люди, отправляться
«мешочничать», они ввели себе особые пайки.
«Совнаркомовский» паёк к 1921 г. получали 10 тыс.
руководителей, «академический» — до 2 тыс. человек. По меркам
благополучного времени и эти пайки были далеко не богаты. В 1918 г.
нарком продовольствия Александр Цюрупа, по рассказам его
сотрудников, несколько раз в своём кабинете терял сознание от
недоедания. Однако такие пайки вполне позволяли прожить.
ГОЛОД В ПОВОЛЖЬЕ
Крестьяне многих местностей России привыкли делать запасы
на «чёрный день», на случай неурожая. Теперь такие запасы
изымались продотрядами как «излишки».
После неурожая 1920 г. крестьяне многих губерний,
особенно Поволжья и Украины, остались без хлеба. «Правильный
расчёт крестьянина этих местностей, подверженных столь ужасным
засухам, — иметь хлеб на прокорм и засев не менее как на два, а
то и на три года, — нарушен беспощадным нашим временем», —
отмечал большевик Владимир Бонч-Бруевич.
В 1921 г. в стране начался голод, охвативший примерно
пятую часть населения. Голод докатился и до Москвы. Участник
комитета помощи голодающим (Помгола) Юрий Максимов
вспоминал: «При встречах друзей, знакомых, как правило, на вопрос:
„Как ваше здоровье?" — в лучшем случае отвечали: „Ничего,
слава Богу, худею", а в худшем: „Плохо, начал пухнуть"».
Но особенно тяжело голодали в Поволжье. Другой участник
340
Помгола писатель Михаил Осоргин замечал, что людоедство
здесь стало «обыденным явлением». «Ели преимущественно
родных, в порядке умирания, кормя детей постарше, но не жалея
грудных младенцев, жизни ещё не знавших, хотя в них проку
было мало. Ели по отдельности, не за общим столом, и
разговоров об этом не было».
Группа интеллигентов отправилась в районы голода для
помощи голодающим. Здесь с ними произошёл следующий
характерный случай. Ю. Максимов писал: «Один из членов нашей
комиссии взял в дорогу небольшую чёрненькую собачку и —
весьма нетактично — вышел с ней на прогулку. Когда он опустил
её на землю, то целая толпа опухших бородатых мужчин
бросилась на неё с неожиданной для нас быстротой и тут же
разорвала её на куски, выхватывая друг у друга куски мяса,
перемешанные с шерстью и кровью. Они доедали это с такой быстротой,
что всё происшедшее показалось сном, и лишь на лицах, на
руках, на губах ещё не смытая кровь собачонки указывала на
реальность».
Всего от голода в 1921—1922 гг., по официальным данным,
погибло свыше пяти миллионов человек
ПОМГОЛ
22 июня 1921 г. ряд интеллигентов заявил о своём желании
создать комитет помощи голодающим. Их возглавляли известная
либеральная деятельница Екатерина Кускова и бывшие
министры Временного правительства Сергей Прокопович и Николай
Кишкин. По первым слогам их фамилий вся группа получила
дружески-ироническое прозвище Прокукиш.
21 июля власти разрешили создать комитет. В. Ленин писал:
«От Кусковой возьмём имя, подпись, пару вагонов от тех, кто ей
(и эдаким) сочувствует. Больше ни-че-го».
Комитет назвали «Помгол» — Общественный комитет
помощи голодающим. Состав его оказался совершенно необычным.
Наряду с большевиками сюда вошли бывшие вожди кадетов,
народовольцев, министры Керенского, бывший царский министр...
«Мы остались верными своим старым знамёнам и идеалам,
за которые мы разными методами боролись», — говорилось в
первом номере бюллетеня «Помощь». Однако участники
Помгола заявляли: «Прежде чем спорить о формах общественного и
государственного устройства России, нужно сохранить живые
силы. Мы решительно отвергаем лозунг „Чем хуже, тем лучше"».
Поэт Владислав Ходасевич вспоминал: «С готовностью, даже
с рвением шли в Комитет писатели, публицисты, врачи,
адвокаты, учителя и т. д. Одних привлекала гуманная цель. Мечты
других, может быть, простирались далее. Казалось — лиха беда
начать, а уж там, однажды вступив в контакт с „живыми силами
страны", Советская власть будет в этом направлении
эволюционировать — замёрзший мотор общественности заработает, если всю
машину немножечко потолкать плечом. В воздухе пахло „весной",
р у?
1 Jy
'WjiEE
\w$
■ffi. •'. ;~X'j/t,
Д мне какое дело ^Нл^шзШ
В. Аени. Плакат.
Д. Моор. Плакат 1921 г.
341
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
Выдача белья и тканей голодающим
Поволжья. 1921 г.
ВОЛНЕНИЯ В АСТРАХАНИ
В марте 1919 г. в Астрахани
вспыхнули волнения и забастовки рабочих,
недовольных своим тяжёлым
положением. Они требовали права свободно
ловить рыбу и закупать хлеб. Рабочим
сочувствовали некоторые армейские
части, и это было особенно опасно для
властей.
Волнения решили беспошадно
подавить. Рабочих обвинили в
«шкурничестве», т. е. в том, что «ради пайка они
забыли революционное дело».
В центре города собрался 10-тысячный
митинг. На чердаках домов вокруг
площади, где он проходил, заранее
установили пулемёты. От собравшихся
потребовали разойтись. Те отказались.
Тогда раздался винтовочный залп и
затрешали пулемёты. Говорили, что в
этот день погибло около двух тысяч
человек.
Подавлением восстания руководил
Сергей Киров. Его соратник Ю. Бутя-
гин вспоминал: «Когда отгремели
орудийные выстрелы и на улицах
Астрахани замолкла пулемётная дробь,
город услыхал железные слова Кирова:
„После решительного урока,
преподанного белым бандам, все сознательные
рабочие города Астрахани должны
властно сказать: „Прочь, наглые
шкурники, с нашей великой дороги!" Вслед за
приказом „Смерть шкурникам!"
должен раздаться другой, не менее
революционный клич: „Все к станкам! Все
за работу!". Помните, что каждая
минута безделья есть преступление перед
Советской Россией"».
Арестованных разместили по баржам
и пароходам. Около двух тысяч
человек из них расстреляли.
точь-в-точь как в 1904 году. Скептиков не слушали.
Председателем Комитета избрали Л. Каменева и заседали с упоением.
Говорили красиво, много, с многозначительными намёками. Когда за
границей узнали о возрождении общественности, а болтуны
высказались, Чека, разумеется, всех арестовала гуртом, во время
заседания...».
За неделю до этого, 20 августа, при содействии Помгола
власти заключили соглашение с АРА — Американской
администрацией помощи. Спустя год АРА уже кормила в России свыше 6 млн
человек, другие подобные организации — ещё около 1 млн
советских граждан.
27 августа участников комитета арестовали по обвинению
в попытке «использовать помощь голодающим для целей
контрреволюции». В. Ленин предлагал после этого: «На сотни ладов
высмеивать „Кукиш". Изо всех сил их высмеивать и травить не реже
одного раза в неделю в течение двух месяцев». Многих
арестованных, в том числе Е. Кускову и С. Прокоповича, в 1922 г.
выслали за границу.
Один из главных создателей комитета, писатель Максим
Горький, при встрече с Львом Каменевым со слезами заявил ему: «Вы
сделали меня провокатором. Этого со мной ещё не случалось».
ТАМБОВСКОЕ ВОССТАНИЕ
В 1920 г. в Тамбовской губернии вспыхнуло крестьянское
восстание. Крестьяне боролись прежде всего против непосильной
продразвёрстки, против продотрядов. По имени вождя
повстанцев А Антонова всё движение назвали «антоновщиной». По
общему духу и составу руководителей оно примыкало к эсерам.
342
«ВОЕННЫЙ
КОММУНИЗМ» и нэп
К весне 1921 г. восстание достигло полной силы. Антонову
подчинялись уже две армии общей численностью около 50 тыс.
человек. Участник событий, будущий маршал Георгий Жуков,
вспоминал: «Обнаглев, Антонов производил налёты на
гарнизоны частей Красной Армии. Так было в начале апреля 1921 г.,
когда отряд в пять тысяч антоновцев разгромил гарнизон,
занимавший Рассказово. При этом целый наш батальон был взят в плен».
Главная сила повстанцев заключалась в сочувствии и
поддержке населения. Чтобы разорвать эту связь, требовалось
беспощадно применять методы круговой поруки.
1 сентября 1920 г. местная ЧК отдала приказ: «Провести с
семьями восставших красный террор. Арестовать в таких
семьях всех с 18-летнего возраста, не считаясь с полом. Если
бандиты выступления будут продолжать, расстреливать их». Спустя
несколько дней тамбовские «Известия» сообщили, что в наказание
за поддержку бандитов сожжено пять деревень.
В июне 1921 г. представители Советской власти Михаил
Тухачевский и Владимир Антонов-Овсеенко объясняли в приказе,
как проводить «чистку от бандитов»: «По прибытии на место
волость оцепляется, берутся 60—100 наиболее видных лиц в
качестве заложников. Собирается полный волостной сход. Жителям
даётся два часа на выдачу бандитов и оружия, а также бандитских
семей. Если население бандитов и оружия не ^^^^^
указало, взятые заложники на глазах у населения
расстреливаются. После чего берутся новые
заложники и собравшимся на сход вторично
предлагается выдать бандитов и оружие...».
К середине 1921 г. эти меры стали
приносить успех. Ряды повстанцев начали таять. Летом
1922 г. с Антоновым оставалась лишь горстка
сторонников. 24 июня чекисты выследили его.
Они окружили и подожгли деревенский дом, в
котором он находился. А. Антонов попытался
вырваться из кольца и погиб в бою.
X СЪЕЗД ПАРТИИ
И ОТМЕНА ПРОДРАЗВЁРСТКИ
8 марта 1921 г. открылся X съезд партии
большевиков. Съезд собрался в разгар крестьянских
восстаний, прокатившихся по всей стране. В Москве
и Петрограде волновались рабочие. Всеобщее
возмущение вызывал «военный коммунизм».
Последним и самым грозным
предупреждением прозвучало Кронштадтское восстание,
вспыхнувшее за неделю до съезда (см. ст.
«Кронштадтское восстание»). В. Ленин заявил на
съезде, что создалась «опасность, во много раз
превышающая всех Деникиных, Колчаков и
Юденичей, сложенных вместе».
«До времени пусть погуляет».
Карикатура на нэпмана
(«Крокодил». 1923 г.).
И. Симаков. Плакат 1921 г.
шШ) шЩ !И$ J^ ©
343
РЕВОЛЮиИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
ОТМЕНА «СУХОГО ЗАКОНА»
19 декабря 1919 г. в России ввели
«сухой закон» — запретили производить
и продавать спиртные напитки.
Конечно, это не помешало широкому
производству самогона, но прекратило
поступление в казну «пьяных денег».
Однако осенью 1924 г. продажа
казённой водки возобновилась. По фамилии
тогдашнего председателя Совнаркома
Алексея Рыкова в народе эту водку
называли «рыковкой». Писатель Михаил
Булгаков в декабре 1924 г. записал в
дневнике: «В Москве
событие—выпустили 30-процентную водку, которую
публика с полным основанием назвала
„рыковкой". Отличается она от
„царской" водки тем, что на десять градусов
слабее, хуже на вкус и в четыре раза её
дороже».
Иосиф Сталин в 1927 г. с присушим
ему юмором так оправдывал эту меру:
«Что лучше: кабала заграничного
капитала или введение водки, — так
стоял вопрос перед нами. Ясно, что мы
остановились на водке...».
А. Ралаков.
«Усовершенствованный трамплин.
Нэп — это маленькое отступление
для большого прыжка!»
(Из речи Ленина.)
(Журнал «Красный перец», 1923 г.)
Сохранить власть большевики могли только ценой отказа
от некоторых своих первоначальных идей. И они пошли на это.
Съезд сделал первые уступки крестьянину. Главной из них стала
отмена продразвёрстки. Теперь у крестьянина уже не отбирали
все «излишки хлеба» без остатка. Вместо этого он сдавал заранее
определённую часть — продовольственный налог.
Новый продналог вовсе не был лёгким. Но теперь
крестьянин знал, сколько хлеба он должен государству, и мог свободно
распоряжаться остатком. После трёх лет восстаний и борьбы с
продотрядами крестьяне, наконец, завоевали это право.
ВВЕДЕНИЕ НЭПА
После отмены продразвёрстки немедленно возник вопрос: что
теперь крестьянину делать с излишками хлеба, если не торговать?
Большевикам пришлось снять запрет со свободы торговли. А это
означало уже коренной поворот в их прежней линии, который
получил название «нэп» — «новая экономическая политика».
«Рождество на пасху. Поклонение волхвов младенцу Наркомвнуторгу (волхвы:
Дзержинский, Сокольников, Каменев, Рыков и Красин)»
(журнал «Красный перец», 1924 г.).
344
«ВОЕННЫЙ
КОММУНИЗМ» и нэп
Писатель Виктор Розов вспоминал: «Я даже не знал, что это
называется нэп, я просто с детским восторгом наблюдал, как
преображалась наша бедная, голодная, ободранная жизнь, как всё
начинало сверкать и смеяться. Дешевизна установилась
неслыханная! Всяких товаров и продуктов — видимо-невидимо! И это
сразу же после жестокого голода. И хотя мы жили бедно, но наша
бедность нэпа по сравнению с предыдущими годами казалась
великолепным пиршеством».
Вновь разрешили создавать мелкие частные предприятия с
числом работников до 20 человек Отменили трудовую
повинность. Взамен обесцененных старых денег в 1922 г. в обращение
выпустили новый «червонец», обеспеченный золотом.
В. Ленин заявил, что нэп введён «всерьёз и надолго». В то же
время все годы нэпа не утихала борьба с нэпманами —
владельцами мелких предприятий и торговцами. Если они брали верх
над государственной торговлей, их начинали арестовывать и
судить. Осуждали обычно на полгода-год заключения или ссылку.
Например, в феврале 1924 г. более тысячи нэпманов выслали из
Москвы «за спекуляцию».
ОТМЕНА НЭПА
За годы нэпа новый государственный порядок упрочился.
Введение новой экономической политики не затронуло
политического устройства Советского государства. Промышленность
вернулась к довоенному уровню развития 1913 г., а затем этот
уровень был и превзойдён. К концу 20-х гг. в политике властей
наметился новый поворот. Никто не объявлял об отмене или
конце нэпа. Но остатки прежних имущих классов уничтожались.
Коренной «переделке» подвергалось крестьянство (см. ст.
«Коллективизация») .
С нэпманами обошлись несколько мягче, чем с
деревенскими «кулаками». Их не выселяли с семьями в необжитые края. С
1928 г. их просто облагали всё возрастающими налогами. Когда
налог становился непосильным, они отказывались платить, и
тогда их арестовывали.
И. Сталин в 1929 г., не объявляя официально о конце нэпа,
намекнул, что настало время «отбросить нэп к чёрту». При этом
он разъяснил: «Ленин говорил, что нэп введён всерьёз и надолго.
Но он никогда не говорил, что нэп введён навсегда». Фактически
к этому времени нэп уже полностью прекратил существование.
К. Елисеев. «Итоги XIII съезда. Новая
буржуазия: — Даша, да не лушите же
меня так. Вель лаже большевики
постановили, чтобы нас не душить, а
только ограничить»
(журнал «Красный перец», 1924 г.).
Публикация этой карикатуры привела
к закрытию журнала.
«Надо отличать НЭП от новой
экономической политики» (из речи
Г.Зиновьева). (Журнал «Красный перец»,
апрель 1924 г.)
345
W
t?;^
СОВЕТСКИЙ
СОЮЗ
20 - 30-е ГОДЫ
r^»ftj
g#
it**
<**▼
>&о*
ь**г
ссс*
\#сС
эс#о*
cVNb\
van*
*у*
pstt*
ci*oWV
****
N0
,v\v*v^
д**»
кис
■^о^
^^ ..^voU«*°
■О***
,*V^*°
о?о
,\#сС
*м^
fcVtf**
V,3^°
fcb#N
**^°
tv%N
itf&C1
^ovo*
v\?o
\#cC
tffl^
k?v\v^
tftf
и^
0*0**
,#*N
со*1
tf<*o
^w
cv^
*0**N
СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА
Февральская революция 1917 г. открыла эпоху постепенного
распада Российской империи. После Октября этот процесс стал
происходить гораздо быстрее. 18 декабря советское
правительство признало независимость Финляндии. Но это было только
первое отделение от России. В ходе гражданской войны на
развалинах империи возникли уже 15 новых государств... При этом
в Бухаре правил, например, эмир, в Грузии у власти стояли
меньшевики, в Дальневосточной республике — большевики и эсеры.
Казалось, уже никогда не удастся восстановить единое
государство из осколков распавшейся империи. Однако в 1919 г.
большевикам удалось добиться поворота в этом отношении. Для
этого им потребовалось коренным образом изменить свою
национальную политику. До Октября 1917 г. Владимир Ленин
называл федерацию «неприемлемым типом государственного
устройства». Теперь большевики уступили желанию многих
народов России, которые хотели создать свои автономии. Иосиф
Сталин замечал в 1925 г., что революция «пробудила к новой жизни
целый ряд новых национальностей, ранее мало известных. Кто
мог подумать, что старая царская Россия представляет не менее
50 наций и национальных групп?».
Во многом благодаря такому изменению национальной
политики в гражданской войне наметился коренной перелом.
Победоносная Красная армия утверждала Советскую власть в самых
отдалённых уголках бывшей империи. Сохраняя пока
формальную независимость, советские республики имели общую
правящую партию — РКП(б) — и единую Красную армию.
Конечно, следующим шагом должно было стать
воссоздание целостного государства. В течение 1922 г. руководство
страны обсуждало этот вопрос. Нарком по делам национальностей
И. Сталин выдвинул проект, по которому все республики
вступали в состав России (РСФСР) как автономные. 24 сентября
комиссия Политбюро одобрила этот план. Только представитель
Грузии П. Мдивани возражал и при голосовании воздержался.
Однако вскоре стало ясно, что этот проект зашёл слишком
далеко. Против него резко выступил В. Ленин. Ведь если Советская
страна — зерно будущей Мировой республики Советов, то как в
ней может господствовать Россия? «Ни к чему так не чутки
„обиженные" националы, как к чувству равенства и к нарушению это-
349
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
В 20—30-е ГОДЫ
Плакаты к 60-летию образования СССР.
1982 г.
го равенства», — замечал Ленин. Он считал, что любое
преимущество для большой нации подорвёт дело Интернационала, т. е. дело
мировой социальной революции. В. Ленин предложил свой
проект: «Мы признаём себя равноправными с Украинской ССР и др. и
вместе и наравне входим с ними в новый союз, „Союз Советских
Республик Европы и Азии"». Этот план и был утверждён.
При этом республики сохранили «право свободного
выхода» из союза. Новое государство получило название СССР —
Союз Советских Социалистических республик. Первоначально
в него вошли четыре республики — Россия, Украина,
Белоруссия и Закавказская Федерация. 27 декабря 1922 г. они
подписали Союзный договор, а 30 декабря его одобрил Первый съезд
Советов СССР.
Выступавшие на съезде подчёркивали, что СССР — зародыш
Мировой республики Советов (а не преемник Российской
империи). Та же мысль прозвучала и в декларации съезда. Образование
СССР в ней называлось «шагом по пути объединения трудящихся
всех стран в Мировую Социалистическую Советскую Республику».
К1936 г. число советских республик выросло до 11 — в
основном за счёт преобразования автономных республик в союзные. В
1940 г. их число вновь увеличилось — на этот раз благодаря
расширению границ. СССР присоединил Прибалтику и другие
территории, принадлежавшие прежде России. Попытка присоединить
Финляндию закончилась неудачей.
Расширение границ завершало воссоздание единого
государства на территории бывшей империи. К этому времени взгляд на
Советское государство значительно изменился. Исчезли и
упоминания о Мировой республике Советов.
Как вспоминал бывший советский посол в Лондоне Иван
Майский, Англия заявила протест в связи с присоединением
Прибалтики. Ответ советского посла был неожиданным. Он рассказал
притчу о тяжело больном крестьянине, которого обворовали
соседи: забрали телегу, лошадь. А тот вопреки ожиданиям
выздоровел и потребовал вернуть отнятое назад. «Кто же агрессор —
крестьянин или его соседи?» — спросил Майский. Тем самым
дипломат как бы заверял своего английского коллегу, что речь идёт не о
«мировой революции», а только о «возвращении бывшей
собственности» Российской империи. Подобное объяснение вызвало
понимание у британского дипломата.
В 1945 г., после победы над Японией и присоединения к
СССР Южного Сахалина, ту же мысль достаточно прямо
высказал И. Сталин. «Сорок лет ждали мы этого дня», — заявил он
(см. ст. «СССР во Второй мировой войне»). Этими словами он
подчеркнул преемственность между Россией и СССР. По словам
Сталина, Красная армия смыла «чёрное пятно» поражения
империи в русско-японской войне.
Действительно, после 1945 г. расширение советских границ
прекратилось. Советскому государству принадлежала теперь
почти вся территория прежней Российской империи (за
исключением Польши и Финляндии).
350
ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ
В 20—30-е ГОДЫ
ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ В НАЧАЛЕ 20-х ГОДОВ
К началу 20-х гг. руководство РКП(б) ещё оставалось в руках
«старых большевиков». Владимир Ленин писал в 1922 г., что
«политика партии определяется не её составом, а громадным,
безраздельным авторитетом того тончайшего слоя, который можно
назвать старой партийной гвардией. Достаточно небольшой
внутренней борьбы в этом слое, и авторитет его будет ослаблен
настолько, что решение будет уже зависеть не от него».
Независимо от «старой гвардии» и в её собственной среде
постепенно набирала вес другая сила — партийный аппарат. Как
замечал в 1922 г. большевик Виктор Ногин, в партии
образовалась новая прослойка — «партийная бюрократия, партийные
чиновники. Они, эти неизвестные в партии люди, фактически
руководят важнейшими делами партии, вплоть до назначения и
снятия высших кадров».
Борющиеся группировки искали поддержки аппарата, и его
слово всегда оказывалось решающим. Росло значение поста
главы аппарата — Генерального секретаря ЦК, — который вначале
казался техническим и незначительным. Им с 1922 г. был Иосиф
Сталин. Лев Троцкий позднее писал: «Ко времени смерти
Ленина бюрократия уже была в сущности всемогущей, хотя сама ещё
не успела отдать себе в этом отчёта. В качестве „генерального
секретаря" бюрократии Сталин был уже в те дни диктатором, но
сам ещё не знал этого полностью. В своём дневнике Троцкий
замечал: «Ленин создал аппарат. Аппарат создал Сталина».
«ЛЕНИНСКОЕ ЯДРО»
Уже с декабря 1921 г. Ленин из-за болезни стал постепенно
отходить от руководства партией. Второй по значению
политической фигурой в руководстве ЦК оказался Троцкий. Но все
остальные члены Политбюро боялись прихода к власти одной
«сильной личности». Когда в мае 1922 г. у Ленина случился первый
удар, все они объединились против Троцкого. Этот общий блок
сохранился до начала 1925 г.
Во главе ЦК партии встало «ленинское ядро» из трёх
человек («тройка»), куда кроме Сталина вошли Лев Каменев и
Григорий Зиновьев. Они не считали Сталина опасным соперником.
Г. Зиновьев.
351
л. Каменев. Зиновьев говорил: «Сталин — хороший исполнитель, но им
всегда нужно и можно управлять». Вместо власти одной «сильной
личности» (Троцкого) члены «тройки» предлагали «коллективное
руководство». Сталин подчёркивал в декабре 1925 г. на XIV
съезде: «Руководить партией вне коллегии нельзя. Глупо мечтать об
этом после Ильича (Аплодисменты?), глупо об этом говорить».
И. Сталин стремился создать о себе впечатление как об
умеренном, терпимом, даже излишне мягком руководителе. На XIV
съезде он говорил: «Политика отсечения чревата большими
опасностями для партии. Метод отсечения, метод пускания крови
опасен, заразителен: сегодня одного отсекли, завтра другого,
послезавтра третьего, — что же у нас останется в партии?»
(Аплодисменты?). В 1925 г. Сталин писал: «Я решительно против вы-
шибательской политики в отношении всех инакомыслящих
товарищей. Такая политика родит в партии режим запугивания,
убивающий дух инициативы. Нехорошо, если вождей партии
боятся, но не уважают».
В конце 1924 г. в правящей «тройке» наметились трещины.
Сталин решил осторожно испытать свои силы против Зиновьева
и Каменева. Речь шла об исключении Троцкого из Политбюро.
Сталин вновь занял «мягкую» позицию. В 1926 г. он вспоминал об этом:
«Я принимал все возможные меры к тому, чтобы умерить пыл
Каменева и Зиновьева, требовавших исключения Троцкого из
Политбюро». Большинство членов ЦК послушно
поддержали Сталина. Теперь он знал, что сильнее
своих союзников по «тройке». Знали это и они. С
этого эпизода, говорил Сталин, «началась наша
размолвка».
Обеспокоенные, Зиновьев и Каменев
начали борьбу за смещение Сталина и быстро
оказались в меньшинстве, в оппозиции. Вскоре эта
борьба объединила их со сторонниками
Троцкого. Так в одном лагере оказались два
наиболее неистовых борца с «троцкизмом» и сам
Троцкий. Вместе с ним они рассчитывали
быстро завоевать партийный аппарат.
«СОЦИАЛИЗМ В ОТДЕЛЬНО
ВЗЯТОЙ СТРАНЕ»
В 1926 г. Сталин как-то сказал о себе: «Никогда
Сталин не претендовал на что-либо новое в
теории». Действительно, захватывая реальную
власть, он всегда уступал роль «теоретика» кому-
то другому. Вначале это был Зиновьев, теперь
главным теоретическим союзником Сталина
стал Николай Бухарин.
В противовес идеям Троцкого о «мировой
революции» Сталин и Бухарин в декабре 1924 г.
выдвинули идею «построения социализма пер-
352
ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ
В 20—30-е ГОДЫ
воначально в одной стране» (а не во всём мире сразу). Эта идея,
обещавшая мир, вызывала сочувствие населения, уставшего от
изнурительной семилетней войны. «Мировая революция» же
сулила только новые войны. Партийному аппарату «социализм в
одном государстве» также обещал спокойную и сытую жизнь.
«Можно или нельзя построить социализм в отдельно взятой
стране — Советском Союзе?» Вокруг этого вопроса шли
основные дискуссии с оппозицией в ВКП(б) (так называлась партия
большевиков с 1925 г.). Считая себя сильнее в теории, Троцкий,
Каменев и Зиновьев старались дать бой Сталину прежде всего по
этому вопросу.
ЛИКВИДАЦИЯ ОППОЗИЦИИ В ВКП(б)
«Троцкисты» называли себя «левой оппозицией» и старались
критиковать позицию Сталина «слева» (см. ст. «Лев Троцкий»).
Они выступали за ускоренное развитие промышленности,
агитировали за возведение промышленных гигантов, подобных
Днепрострою. В апреле 1926 г. Сталин в своей речи привёл
такой аргумент против Днепростроя: «Как бы нам не попасть в
положение того мужика, который, накопив лишнюю копейку,
вместо того, чтобы починить плуг, купил граммофон и... прогорел»
(Смех?).
Оппозиция предлагала покончить с «кулачеством»
(зажиточными крестьянами) в деревне. Сталин так отвечал на это в
1927 г.: «Неправы те товарищи, которые думают, что можно и
нужно покончить с кулаком в порядке административных мер,
через ПТУ: сказал, приложил печать — и точка. Это средство
лёгкое, но далеко не действенное. Кулака надо взять мерами
экономического порядка. И на основе советской законности».
Оппозиция резко нападала на Бухарина за его призыв к
крестьянству: «Обогащайтесь!». В Бухарине «троцкисты» видели
большего врага, чем в Сталине и его аппарате. Троцкий говорил:
«Со Сталиным против Бухарина? — Да. С Бухариным против
Сталина? — Никогда».
Сталин в декабре 1925 г. защищал Бухарина: «Чем
объяснить, что всё ещё продолжается разнузданная травля тов.
Бухарина? Чего, собственно, хотят от Бухарина? Они требуют крови
тов. Бухарина. Именно этого требует тов. Зиновьев? Крови
Бухарина требуете? Не дадим вам его крови, так и знайте».
Хотя в оппозицию переходили всё новые вчерашние вожди
партии, в 1924—1927 гг. её влияние заметно снижалось. На XIV
съезде в декабре 1925 г. оппозиционной была ещё вся
ленинградская делегация во главе с Зиновьевым. Два года спустя на XV
съезде оппозицию представляли разрозненные одиночки.
Наиболее ярким моментом XIV съезда стал эпизод
выступления Каменева. 21 декабря (как раз в день рождения Сталина)
Каменев так закончил свою речь: «Я пришёл к убеждению, что
товарищ Сталин не может выполнять роли объединителя
большевистского штаба. Мы против теории единоличия, против того,
,v*:ja«-M!
И. Сталин и А. Рыков. 20-е гг.
ЛЕНИНСКИЙ ПРИЗЫВ
В борьбе партийного аппарата с
оппозицией большую роль сыграл
«ленинский призыв» в партию. Его было
решено объявить в 1924 г. по случаю
смерти Ленина.
Вовремя «ленинского призыва» в
партию в течение первых нескольких дней
вступило свыше 200 тыс. человек. Если
1 апреля 1924 г. в РКП(б) состояли
446 тыс. человек, то в ноябре 1925 г.
численность партии превысила
миллион. Прослойка «старых
большевиков» и её влияние тонули во
вступившей массе новичков.
Лев Троцкий позднее писал об этом:
«Правящая группа объявила
„ленинский набор". Ворота партии, всегда
тщательно охранявшиеся, были теперь
открыты настежь. Политический
замысел состоял в том, чтобы растворить
революционный авангард в сыром
человеческом материале, без опыта, без
самостоятельности, но зато со старой
привычкой подчиняться начальству».
«Ленинский призыв», как замечал
Троцкий, «нанёс смертельный удар»
старой партийной гвардии.
353
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
ВСТРЕЧА БУХАРИНА
С КАМЕНЕВЫМ
11 июля 1928 г., вскоре после начала
кампании по борьбе с «правым
уклоном», Николай Бухарин неожиданно
пришёл домой к своему старому
противнику — Льву Каменеву. В
откровенной беседе Бухарин так
охарактеризовал Сталина: «Сталин —
беспринципный интриган, который всё подчиняет
сохранению своей власти. Меняет
теории ради того, кого в данный момент
следует убрать. Сталина ничего не
интересует, кроме сохранения власти.
Уступив нам, он сохранил ключ к
руководству, а сохранив его, потом нас
зарежет».
Через Каменева Бухарин попытался
«навести мосты» с «левой
оппозицией». Но эта попытка была сорвана.
Каменев сделал подробную запись
состоявшегося разговора, которая попала в
руки молодых «троцкистов»,
ненавидевших Бухарина. Они напечатали
содержание разговора Каменева и
Бухарина в виде подпольной листовки.
Фактически это был печатный донос
Сталину на Бухарина. Тайная встреча с
Каменевым стала одним из самых
серьёзных обвинений против Бухарина.
чтобы создавать вождя!». После длинного доклада об идейных
разногласиях эти слова прозвучали так, будто бы он нечаянно
проговорился о своих подлинных намерениях, что вызвало
возмущение в зале. Раздались возгласы: «Вот оно в чём дело!»,
«Раскрыли карты!». Делегаты встали и устроили невероятную овацию
Сталину, выкрикивая: «Сталина!», «Да здравствует Сталин!». Это
была одна из его самых впечатляющих побед.
В декабре 1927 г. состоялся XV съезд ВКП(б), на котором в
последний раз выступали немногие оставшиеся среди делегатов
оппозиционеры. Перед съездом была проведена
«общепартийная дискуссия», в ходе которой за оппозицию решились
проголосовать лишь 4 тыс. членов партии, в то время как за политику
ЦК ВКП(б) — 724 тыс. человек.
Перед съездом отказались от борьбы Каменев и Зиновьев.
Они не были морально готовы к исключению из партии.
Каменев откровенно сказал об этом на съезде: «Наша позиция ясна:
назад в партию во что бы то ни стало». Теперь они «признали»
возможность «социализма в одной стране» и вновь боролись с
«троцкизмом». Но вернуть себе утраченное влияние им уже
никогда не удалось.
С Украины XV съезду прислали два подарка:
170-килограммовый бюст Ленина и барельеф Сталина, сделанные из сахара.
Из Сталинграда прислали стальную метлу, чтобы «выметать»
оппозицию. Метлу передали в руки Алексею Рыкову. Н. Хрущёв
вспоминал: «Рыков взял эту метлу и (он заикался) сказал: „Я эту
метлу передаю товарищу Сталину, пусть он выметает ею наших
Демонстрация «троцкистов» в Москве. 7 ноября 1927 г. Современный рисунок.
атЯГ
»яй№48
гт ^
ваш
[Xj:
Я
; \ h
$ш
354
ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ
В 20—30-е ГОДЫ
А. Рыков передаёт Сталину стальную
метлу. 1927 г. Современный рисунок.
врагов!". Это было тогда воспринято дружными
аплодисментами, смехом».
Выступая на этом съезде, Сталин откровенно рассказал
делегатам о своей тактике партийной борьбы: «Если посмотреть
историю нашей партии, то станет ясным, что всегда, при
известных серьёзных поворотах нашей партии, известная часть старых
лидеров выпадала из тележки большевистской партии, очищая
место для новых людей. Поворот — это серьёзное дело,
товарищи. При повороте не всякий может удержать равновесие.
Повернул тележку, глядь — и кое-кто выпал из неё (Аплодисменты).
Возьмём 1903 год... Во главе партии стояла тогда «шестёрка»:
Плеханов, Засулич, Мартов, Ленин, Аксельрод, Потресов. Поворот
оказался роковым для пяти членов этой шестёрки. Они выпали
ДЕМОНСТРАЦИЯ
«ТРОЦКИСТОВ»
В ДЕСЯТИЛЕТИЕ ОКТЯБРЯ
Лидеры оппозиции, понимая, что в
аппаратной борьбе их ждёт неминуемое
поражение, попытались обратиться к
рядовым членам партии и ко всему
обществу. 7 ноября 1927 г., в десятую
годовщину Октября, «троцкисты»
провели демонстрации в Москве и
Ленинграде.
Сталинский «Краткий курс истории
ВКП(б)» рассказывал об этом так:
«Троцкисты и зиновьевцы
вознамерились устроить параллельную
демонстрацию. Как и следовало ожидать,
сторонникам блока удалось вывести на
улицу лишь жалкую кучку своих
немногочисленных подпевал.
Подпевалы и их атаманы были смяты и
выброшены вон всенародной
демонстрацией». На самом деле разгоняли,
жестоко избивали и арестовывали
оппозиционеров милиция и переодетые в
штатское чекисты. Однако основная
масса населения действительно
осталась равнодушной к призывам
оппозиции.
Оппозиционеры несли портреты
Троцкого и Зиновьева и плакаты:
«Выполним завешание Ленина!», «Долой
кулака, нэпмана и бюрократа!»,
«Хранить большевистское единство!»,
«Долой оппортунизм!».
Демонстрация послужила поводом для
полного разгрома оппозиции. Через
неделю, 14 ноября, Зиновьев и
Троцкий были исключены из партии.
355
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
МАРТЕМЬЯН РЮТИН
И ЕГО ПОДПОЛЬНАЯ ГРУППА
В ВКП(б)
В 30-е гг. в ВКП(б) действовал ряд
подпольных оппозиционных групп, причём
не «троцкистского», а бухари некого
направления. Самой серьёзной из них
была группа Мартемьяна Рютина, или
«Союз марксистов-ленинцев».
Мартемьян Рютин родился в 1890 г. в
деревне под Иркутском. Большевиком
стал в 1914 г. Работал учителем, в
войну надел солдатскую шинель, при
Колчаке командовал отрядом красных
партизан. Участвовал в штурме
Кронштадта. С 1925 г. был секретарём
Краснопресненского райкома партии в
Москве. Троцкий писал о нём: «Никто не мог
похвалиться такими успехами в
насаждении сталинского режима, как
Угланов и Рютин. Они руководили в
столице борьбой против левой оппозиции,
очишая все углы и закоулки от
„троцкизма"».
Когда Троцкий в 1927 г. в последний
раз публично выступал в Москве на
похоронах дипломата Иоффе (см. ст.
«Лев Троцкий»), с блестящей речью
против него выступил Рютин, не
уступив Троцкому в красноречии. Он же
командовал «углановскими
хулиганами», которые разгоняли
демонстрацию «троцкистов» 7 ноября 1927 г. На
XV съезде Рютин заявил: «Партия
перешагнёт через голову оппозиции, и
оппозиция будет отброшена в
мусорную яму истории».
Но в октябре 1928 г. Рютин был
обвинён в «примиренчестве к правому
уклону» и лишён своего поста. В ноябре
1930 г. его даже арестовали за
«контрреволюционную агитацию» (критику
Сталина), но вскоре освободили.
В марте 1932 г. Рютин написал
антисталинскую статью «Сталин и кризис
пролетарской диктатуры». В ней он
резко критиковал политику Сталина, в
том числе коллективизацию.
21 августа Рютин и 15 его
единомышленников создали подпольный «Союз
марксистов-ленинцев». В его
руководство вошли шесть человек.
Документом «Союза» стало обращение «Ко
А. Рыков.
М. Томский.
из тележки. Ленин остался в единственном числе
(Аплодисменты^). Ну что же, если кое-кто из старых лидеров,
превращающихся в хламьё, намерены выпасть из тележки, — туда им и дорога!».
БОРЬБА С «ПРАВЫМ УКЛОНОМ»
После ликвидации «троцкистской» оппозиции начался
очередной поворот «партийной тележки». Новый курс партии был во
многом заимствован у разгромленной «левой оппозиции». Был
принят «троцкистский» лозунг ускоренного развития
промышленности (индустриализации). Резко усилена борьба с «кулаком»
(см. ст. «Коллективизация»).
Встревоженный этим поворотом событий заместитель
наркома финансов Моисей Фрумкин 15 июня 1928 г. направил в
Политбюро письмо. Он писал, что «объявление кулака вне
закона привело к беззакониям по отношению ко всему
крестьянству», говорил о «беспросветности» нового курса для середняка,
призывал не бороться с кулаком путём раскулачивания,
вернуться к прежней политике.
Письмо Фрумкина стало для Сталина удачным поводом для
начала борьбы со своими вчерашними союзниками — группой
Бухарина (куда входили также Алексей Рыков и Михаил
Томский). 20 июня Сталин разослал членам Политбюро свой ответ
Фрумкину, в котором резко критиковал его за «правый уклон».
Сам Фрумкин не только пока сохранял свой пост, но и
продолжал защищаться.
Чуть позже, в октябре, Сталин призвал развернуть борьбу с
«правым уклоном», называя Фрумкина его главным идеологом.
Одновременно он сказал: «Есть ли в Политбюро какие-либо ук-
356
ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ
В 20—30-е ГОДЫ
лоны? В Политбюро нет у нас ни правых, ни „левых", ни
примиренцев с ними. Это надо сказать со всей категоричностью». В
ноябре Сталин «защищал» Бухарина от Фрумкина: «Вполне
возможно, что Фрумкин постарается схватить за фалды Бухарина,
чтобы доказать, что Бухарин говорит „то же самое". Но Бухарин
говорит далеко не „то же самое"».
В печати в это время началась критика «правого уклона» с
многозначительными намёками на группу Бухарина. Затем от
Бухарина, Рыкова и Томского потребовали «отмежеваться» от
«правых типа Фрумкина». Эти требования начали звучать всё громче
и постепенно переросли в обвинения в примиренчестве,
колебаниях, паникёрстве и т. п.
Томский позже говорил: «Нас постепенно перекрашивали
путём особой системы, каждый день по маленькому мазку —
сегодня мазок, завтра мазок Ага, сидят, терпят, давайте ещё мазнём.
И в результате нас превратили в „правых"». Бухарин называл
Сталина «гениальным дозировщиком, умеющим постепенно
вовлекать аппарат и общественное мнение страны в иные
предприятия, которые, будучи представлены сразу в полном объёме,
вызвали бы испуг, негодование и даже отпор».
всем членам ВКП(б)». В обращении
особенно резко осуждалась
«авантюристическая коллективизация с
помощью невероятных насилий, террора и
раскулачивания», которая ведёт к
«чудовищному обнищанию масс и голоду
как в деревнях, так и в городах».
В обращении была обрисована
обстановка в партии: «Партийный аппарат
в ходе развития внутрипартийной
борьбы и отсечения одной руководя-
шей группы за другой вырос в
самодовлеющую силу, стоящую над
партией и господствующую над ней. На
партийную работу вместо наиболее
убеждённых, наиболее честных,
принципиальных, готовых твёрдо отстаивать
перед кем угодно свою точку зрения
членов партии чаше всего
выдвигаются люди бесчестные, хитрые, готовые
по приказу начальства десятки раз
А. Топиков. «„ Добросовестный" толкователь. Оппортунист:
— Вы в зеркало-то посмотрите: ведь товарищ Ленин совсем
в другую сторону указывает» («Крокодил». 1930 г.).
Л. Генч. «Крепкий зарок (на шаткой платформе). Оппортунист:
— Уверяю, что больше у меня никаких колебаний не будет»
(«Крокодил». 1930 г.).
357
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
менять свои убеждения, карьеристы,
льстецы и холуи».
«Сталин и его клика не уходят и не
могут добровольно уйти со своих мест,
поэтому они должны быть устранены
силой», — говорилось в заключение.
С этим документом ознакомились
несколько десятков человек, среди
которых были такие видные члены партии,
как Г. Зиновьев, Л. Каменев, Н.
Угланов и др. Зиновьев и Каменев даже
предложили внести в документ
несколько поправок.
В сентябре «группа Рютина» была
раскрыта властями, её члены арестованы.
В связи с «делом Рютина» был созван
специальный пленум UK партии.
Сталин написал резолюцию пленума, в
которой «Союз марксистов-ленинцев»
назывался «белогвардейской
контрреволюционной группой». Резолюция
требовала исключить из партии «всех
знавших и не сообщивших» о «Союзе».
Причастные к «Союзу» коммунисты (24
человека) были исключены из ВКП(б).
Каменев и Зиновьев жестоко
поплатились за знакомство с обращением
Рютина. Они были также исключены из
партии и сосланы. Причём Сталин со
своеобразным юмором сослал
Каменева в Туруханский край — туда, где
перед Февральской революцией они
отбывали ссылку вместе.
На Политбюро Сталин потребовал
приговорить Рютина к смертной казни. Он
доказывал, что для борьбы с
террористическими настроениями «надо
ударить по самой головке», а не карать
только исполнителей. Но члены
Политбюро не решились проголосовать за
казнь «старого большевика». В этот раз
перешагнуть «принцип
неприкосновенности старых большевиков» Сталину
всё же не удалось. Рютин получил
десять лет тюрьмы.
За две недели следствия Рютин
поседел. Под пытками он подписал все
признания и покаялся. Он сказал на
свидании с женой: «Вас не тронут. Я
подписал всё, что он требовал». Рютин был
отправлен в Уральский, а затем
Суздальский политизолятор. По
убеждениям он оставался непримиримым
большевиком: однажды даже отказался вы-
Не выдержав такой планомерной осады, Бухарин, Рыков и
Томский в январе 1929 г. подали заявления об отставке с
занимаемых постов и постарались письменно «объясниться»,
изложить свои взгляды (см. ст. «Николай Бухарин»). Выступая на
Политбюро, Сталин наконец-то мог объявить: «Как это ни печально,
приходится констатировать факт образования в нашей партии
особой группы Бухарина в составе Бухарина, Томского, Рыкова».
Теперь от «лидеров правого уклона» требовали уже
признания своих ошибок, полного отречения от собственных взглядов
и покаяния. В ноябре 1929 г. Бухарин, Рыков и Томский
написали в ЦК «В этом споре оказались правы партия и её ЦК Наши
взгляды оказались ошибочными».
На XVI съезде в июне 1930 г. не было уже ни одного
оппозиционного делегата, но делегаты продолжали требовать новых
покаяний от бывшей «правой оппозиции». Томский восклицал
на съезде: «Трудновато быть в роли непрерывно кающегося
человека. У некоторых товарищей есть такие настроения: кайся,
кайся без конца и только кайся... Дайте же немного поработать».
Позднее критика бывших «правых» постепенно улеглась, и
они продолжали занимать ответственные посты. Но их былое
влияние в партии было почти сведено на нет.
«СЪЕЗД ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
В январе 1934 г. открылся XVII съезд партии. «XVII съезд вошёл в
историю как „съезд победителей"», — говорилось в «Кратком
курсе истории ВКП(б)».
Его можно назвать и последним съездом «старых
большевиков». Выступая на съезде, Сталин пообещал им, что эпоха
«борьбы с оппозициями» миновала: «Если на XV съезде
приходилось ещё вести борьбу с известными антиленинскими
группировками, а на XVI съезде — добивать последних приверженцев
этих группировок, то на этом съезде — и доказывать нечего, да
пожалуй, и бить некого». Делегаты встретили эти слова
аплодисментами.
На съезде было позволено выступить бывшим лидерам
«троцкистов» и бухаринцев. Зиновьев (возвращённый из ссылки
и вторично восстановленный в партии) говорил о «триумфе»
Сталина и называл его речь «шедевром». Вернувшийся из ссылки
вместе с ним Каменев заявил: «Та эпоха, в которую мы живём,
войдёт в историю — это несомненно — как эпоха Сталина. На
каждом из нас лежит обязанность всеми мерами, всеми силами, всей
энергией противодействовать малейшему колебанию этого
авторитета».
Весь съезд прошёл в обстановке полного единодушия и
восхваления Сталина. Но в конце съезда случилось совершенно
неожиданное. При тайных выборах Центрального Комитета
около четверти голосовавших делегатов — 292 из 1225, — не
сговариваясь, подали голоса против Сталина.
Результаты голосования решили не оглашать. Официально
358
ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ
В 20—30-е ГОДЫ
объявили, что И. Сталин получил шесть голосов «против»,
столько же, сколько и С. Киров.
XVII съезд показал, что в рядах партии сохраняется
противостояние двух сил. С одной стороны, «идейная» прослойка
партии, в основном «старая партийная гвардия». С другой —
«партийные чиновники», вступившие в партию уже после
гражданской войны, просто с целью обеспечить себе благополучную и
обеспеченную жизнь.
Новая оппозиция была тем более опасна, что была тайной
и внешне ничем не обозначала себя. Сталин назвал таких
скрытых оппозиционеров «двурушниками». Под подозрением
оказалась практически вся «идейная» часть партии, в том числе и
сторонники режима по убеждению (а не по должности). Чтобы
обеспечить устойчивость режима, требовалось устранить почти
целиком всю «идейную» часть партии, в первую очередь — «старых
большевиков». В одной из прочитанных книг Сталин
подчеркнул слова Чингис-хана: «Смерть побеждённых нужна для
спокойствия победителей».
Осуществить этот замысел удалось в 1936—1938 гг. Аресты
и расстрелы коснулись, конечно, и делегатов «съезда
победителей». Из 1966 делегатов 1108 были арестованы. Из 139 членов
избранного на съезде ЦК погибли 110 человек
ходить на совместную прогулку с
заключёнными-меньшевиками. В 1936 г.
ему в камере-одиночке был предъявлен
новый «ордер на арест». На этот раз
Рютин отказался каяться и
подписывать самооговоры. Военная коллегия
Верховного суда приговорила его к
смерти. В тот же день — 10 января
1937 г. — он был казнён.
Б. Ефимов. Рисунок 1933 г.
359
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
С. Киров на трибуне.
ЛЕОНИД НИКОЛАЕВ
Убийца Кирова Леонид Николаев до
апреля 1934 г. был рядовым советским
служащим. В апреле он потерял
работу и долго ходил жаловаться во
всевозможные учреждения. Дважды пытался
обратиться лично к Кирову, поджидая
его у дверей Смольного.
Осенью его задержали возле
Смольного уже с заряженным револьвером, но
отпустили по указанию
заместителя начальника ленинградского НКВД
И. Запорожца. Самого Николаева это
чрезвычайно поразило. Имея
партбилет, 1 декабря он свободно прошёл на
третий этаж Смольного, где
располагались горком и обком партии.
Застрелив Кирова, он попытался совершить
самоубийство, но неудачно.
Сталин, приехавший в Ленинград на
следующий день после убийства,
встретился с арестованным Николаевым.
Бывший генерал НКВД Александр
Орлов рассказывал об этой встрече:
«Сталин задал вопрос: „Зачем Вы убили
такого хорошего человека?". „Я стрелял
не в него, я стрелял в
партию!"—упрямо отвечал Николаев. „А где Вы взяли
револьвер?" — продолжал Сталин.
„Почему Вы спрашиваете у меня?
Спросите у Запорожца", — последовал
дерзкий ответ». После этих слов Сталин
приказал увести арестованного.
29 декабря 1934 г. газеты сообщили,
что Николаев и 13 его «сообщников»
осуждены закрытым судом и
расстреляны. В марте 1935 г. была
расстреляна жена Николаева, не подозревавшая
о намерениях мужа.
Позднее, как известно, главным
вдохновителем убийства был объявлен
Троцкий. Любопытно, что он сам
писал о Николаеве: «Убитый Киров,
грубый сатрап, не вызывает никакого
сочувствия. Если б стало известно, что
Николаев выступил сознательным
мстителем за попираемые Кировым
права рабочих, наши симпатии были
бы целиком на стороне убийцы».
ж^йШШтФ*
Чтобы начать репрессии против «старых большевиков»,
требовался новый предлог, подобный «делу Рютина» (см. сюжет
«Мартемьян Рютин и его подпольная группа в ВКП(б)»), но ещё
более серьёзный. Таким предлогом стало убийство
руководителя ленинградских коммунистов Сергея Кирова.
УБИЙСТВО КИРОВА
1 декабря 1934 г. в Ленинграде, в Смольном, 30-летний партиец
Леонид Николаев выстрелом из револьвера убил Сергея Кирова,
члена Политбюро ЦК
Михаил Росляков, один из ленинградских руководителей
того времени, вспоминал: «Вдруг в пятом часу мы слышим
выстрелы — один, другой... Сидевший у входных дверей А.
Иванченко первым выскочил в коридор, но моментально вернулся.
Выскочив следом за Иванченко, я увидел трагическую картину:
налево от дверей приёмной в коридоре ничком лежал Киров.
Голова его повёрнута вправо, фуражка, упёршаяся козырьком в пол,
чуть приподнята. Киров недвижим... Направо от этой же двери
лежит какой-то человек на спине, ногами вперёд, руки
раскинуты, а в правой — револьвер.
Л. Николаев и С Киров. Смольный. 1 декабря 1934 г. Современный рисунок. ►
360
ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ
В 20—30-е ГОДЫ
::^:L
шм
Л
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
С. Киров и И. Сталин. Ленин фал.
Апрель 1926 г.
ЗАКОН ОТ 1 ДЕКАБРЯ
5 декабря 1934 г. в газетах появился
знаменитый закон от 1 декабря. Он
предусматривал следующий порядок в
отношении дел о терроре:
«1. Следствие по этим делам
заканчивать в срок не более десяти дней.
2. Обвинительное заключение вручать
обвиняемым за одни сутки до
рассмотрения дела.
3. Дела слушать без участия сторон.
4. Кассационного обжалования
приговоров, как и подачи ходатайств о
помиловании, не допускать.
5. Приговор к высшей мере наказания
приводить в исполнение по вынесении
приговора».
«С применением закона от 1 декабря» в
1936—1938 гг. «за террор» судили
«старых коммунистов», в том числе на
показательных процессах в Москве. Его
мрачная дата как бы заранее предвещала их
судьбу. Этот закон действовал до 19
апреля 1956 г. Одним из последних
казнённых по нему стал Лаврентий Берия — в
1953 г., уже после смерти Сталина.
Подбегаю к Кирову, беру его за голову, шепчу: „Киров, Миро-
ныч...". Ни звука, никакой реакции. Подскакиваю к лежащему
преступнику, свободно беру из его руки револьвер. Ощупываю
карманы убийцы, достаю записную книжку, партийный билет... Угаров
через моё плечо читает: „Николаев Леонид...". Кто-то из
подбежавших хочет ударить его ногой, но мы не дали этого сделать...
Кто-то сообщает в НКВД. Вбегает Медведь (глава
ленинградского НКВД. — Прим. ред.) в расстёгнутом зимнем пальто, без
шапки. У него на лице и во всей фигуре полная растерянность».
Позднее историки выяснили, что возможность покушения
на Сергея Мироновича Кирова создал заместитель Ф. Медведя
И. Запорожец, незадолго до того присланный в Ленинград
Сталиным. По личному распоряжению Запорожца Николаев, ранее
задержанный с револьвером возле Смольного, был отпущен на
свободу. Кроме того, перед убийством Киров остался один — его
покинул чекист-охранник. Этот охранник был арестован и на
следующий день погиб «в автомобильной аварии».
Убийство Кирова произвело очень сильное впечатление на
общество. Писатель Константин Симонов вспоминал: «Тому, в чьей
памяти не остался декабрь 34-го года, наверное, даже трудно
представить себе, какой страшной силы и неожиданности ударом было
убийство Кирова. Я не представлял себе тогда его реального места
А. Самохвалов. «С М. Киров принимает парал физкультурников». 1935 г.
- ■■»;:•• ^wtiwm&i^b щ?>^;0фщ
362
ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ
В 20—30-е ГОДЫ
Рисунки из книги «Летские рисунки памяти С. Кирова». 1935 г.
в партии, знал, что он член Политбюро, и только. Он не стоял для
меня в ряду таких имён, как имена Калинина, Ворошилова или Мо-
лотова. Но когда его убили, это имя — Киров — вдруг стало для
меня, как и для других, какой-то чертой, до которой было одно, а
после стало другое». Правда, всё значение происшедшего
понимали в то время немногие. Например, бывший «троцкист» Николай
Муралов, узнав об убийстве Кирова, воскликнул: «Это его рук дело,
это сигнал к тому, чтобы начать Варфоломеевскую ночь!».
Похороны убитого Сергея Мироновича Кирова проходили с
максимальной торжественностью. В печати рассказывалось о
тесной дружбе Сталина и Кирова. Ещё в 1924 г., например, Сталин
подарил Кирову свою книгу с надписью: «Другу моему и брату
любимому от автора».
Когда тело Кирова лежало в гробу, Сталин подошёл к нему,
обнял его и поцеловал в лоб. «И вместе со Сталиным, — писала
«Правда» 6 декабря, — великая и грозная советская страна
запечатлела свой поцелуй на его холодном лбу».
ОСУЖДЕНИЕ КАМЕНЕВА И ЗИНОВЬЕВА
Через две недели после гибели Кирова было объявлено, что это
убийство — дело рук сторонников бывшего ленинградского
руководителя Зиновьева.
Зиновьев в это время написал некролог Кирову и пытался
«СКОЛЬКО
ВЕСИТ ГОСУДАРСТВО?»
Бывший генерал НКВД Александр
Орлов рассказал о таком эпизоде в деле
Каменева и Зиновьева. Оказавшись
летом 1936 г. под очередным следствием,
они вначале не соглашались
подписывать новые тяжелейшие «признания».
Когда следователь Миронов доложил об
этом Сталину, тот поинтересовался: «Вы
знаете, сколько весит наше
государство со всеми его заводами, машинами,
армией, со всем вооружением и
флотом?». Удивлённый Миронов
неуверенно отвечал: «Никто не может этого
знать, Иосиф Виссарионович. Это из
области астрономических величин».
«А может один человек противостоять
давлению такого астрономического
веса?» — спросил Сталин.
«Не может», — ответил Миронов.
«Ну так и не говорите мне больше, —
заключил Сталин, — что Каменев или
кто-то другой из арестованных
способен выдержать это давление».
363
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
К. Ротов. «Обшая платформа».
Карикатура на Троцкого, Зиновьева и
Каменева (фрагмент).
(«Крокодил». 1936 г.)
его напечатать. Теперь он был арестован вместе со своим старым
соратником Каменевым. Через месяц состоялся суд. На нём они
согласились признать, что бывшая оппозиция «в самом общем
плане несёт моральную и политическую ответственность» за
происшедшее.
Зиновьева приговорили к десяти годам лишения свободы,
Каменева — к пяти. Но это был только первый шаг к их полному
уничтожению. Весной 1936 г. началась подготовка первого
показательного процесса над видными большевиками. В обмен на
обещание Сталина сохранить им жизнь Каменев и Зиновьев
согласились «признаться» на открытом суде в самых тяжких
преступлениях — организации террора, тайной связи с Троцким и
Гитлером и т. п.
Процесс состоялся в августе 1936 г. и продолжался пять
дней. Вместе с Каменевым и Зиновьевым на скамье подсудимых
сидели ещё 14 их «сообщников». Все они каялись и признавали
свою вину. Каменев и Зиновьев дали показания против ещё
остававшихся на свободе Бухарина, Рыкова, Томского, Радека.
(Узнав об этих показаниях, Томский 22 августа застрелился.)
Зиновьев в последнем слове заявил, что «троцкизм — это
разновидность фашизма, а зиновьевизм — разновидность троцкизма».
Каменев сказал в последнем слове: «В третий раз я предстал
перед пролетарским судом. Дважды мне сохранили жизнь. Но
есть предел великодушию пролетариата, и мы дошли до этого
предела».
Генеральный прокурор Андрей Вышинский закончил свою
обвинительную речь требованием, чтобы «эти бешеные псы были
Л. Бродаты. «Утраченный рекорл. Тень провокатора Азефа:
— Ну и отличились троцкисты и Зиновьевны!
Даже мой пожизненный рекорл низости и тот побили!»
(«Крокодил». 1936 г.)
«Недоразумение в гестапо.
— Опять вы фотографии троцкистов в одно место с
марксистами сунули!.. Надо же, голубчик, отличать свою
агентуру от врагов...» («Крокодил». 1936 г.)
364
ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ
В 20—30-е ГОЛЫ
КРОКОДИЛ
Кукрыниксы. «Своя ноша не тянет». Карикатура на Ралека,
Пятакова, Троцкого и других «троцкистов».
Ю. Ганф. Карикатура. На левой чаше весов изображены Радек,
Пятаков и другие «троцкисты» под портретом Троцкого. На
правой — Врангель, Деникин, Азеф, Махно, Гапон и др.
расстреляны — все до одного!». Через несколько часов после
вынесения приговора Каменев и Зиновьев были казнены. На их
просьбы о помиловании Сталин не ответил.
Наблюдавший за судом член английского парламента
Деннис Притт заявил: «Я считаю весь процесс и способ обращения с
подсудимыми образцом для всего мира».
Николай Бухарин написал 1 сентября 1936 г. письмо
Клименту Ворошилову, где называл «циника-убийцу» Каменева
«омерзительнейшим из людей, падалью человеческой». «Что
расстреляли собак, — писал Бухарин, — страшно рад».
ПРОЦЕСС ПЯТАКОВА И РАДЕКА
23—30 января 1937 г. состоялся второй показательный процесс
над бывшими видными большевиками. На скамье подсудимых
оказалось 17 человек во главе с Карлом Радеком и Георгием
Пятаковым.
Прокурор Вышинский с ехидством напомнил Радеку и
Пятакову об их статьях, написанных во время суда над Каменевым
и Зиновьевым. Радек называл их «бандой кровавых убийц», Пя-
КАК ПЯТАКОВ «ЛЕТАЛ
В ОСЛО»
Во время суда Георгий Пятаков
«признался», что 12 декабря 1935 г.,
будучи в Берлине, он совершил секретный
полёт в Осло для встречи с Троцким.
Но здесь организаторов процесса
ожидал скандальный провал.
Газеты Норвегии немедленно
напечатали справку, что за всю зиму 1935—
1936 гг. на указанном аэродроме не
приземлялись иностранные самолёты,
а только один норвежский. Троцкий
потребовал подробно допросить
Пятакова по поводу «тайного полёта». Но
сделано этого не было. Устроители суда
так и не смогли никак опровергнуть
норвежские разоблачения.
365
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
;;~Л'Г~- ■'. га;
Валериан Куйбышев,
олин из руководителей ВКП(б), умерший
в январе 1935 г. Позднее, в 1938 г.,
его смерть была объявлена лелом рук
«троикистско-бухаринских террористов».
К. Ротов. «Пол свежим ветром
самокритики... шишки падают».
Карикатура, посвяшённая массовым
арестам среди руководства.
Пак oil
ГЛЛI Ninuy
таков требовал «уничтожать их, как падаль». Теперь «падалью»
оказались они сами.
Наиболее красочные и убедительные «признания» на
процессе делал Радек Он сумел даже тонко пошутить во время суда:
«Здесь поднимался вопрос, не мучили ли нас в ходе следствия. Я
должен сказать, что со мной дело обстояло как раз наоборот: это
я мучил следователя, а не он меня!». В последнем слове он
напомнил, что все доказательства «покоятся на наших показаниях». И
спросил: «Если вы имеете дело с чистыми уголовниками,
шпионами, то на чём можете вы базировать вашу уверенность, что то,
что мы сказали, есть правда, незыблемая правда?».
Пятаков своё последнее слово закончил так- «Через
несколько часов вы вынесете ваш приговор. И вот я стою перед вами в
грязи, раздавленный своими собственными преступлениями,
потерявший свою партию, потерявший семью, потерявший
самого себя».
Все подсудимые, кроме четырёх, были приговорены к
смертной казни. Из главных обвиняемых только Радек получил десять
лет заключения. Выслушав приговор, он виновато улыбнулся
остальным осуждённым и слегка пожал плечами. Но и он погиб в
заключении (не позже 1939 г.).
ПРОЦЕСС БУХАРИНА И РЫКОВА
2 марта 1938 г. открылся третий показательный
«большевистский» процесс. Из двадцати одного обвиняемого наиболее
крупными фигурами были Бухарин и Рыков.
Процесс начался с неожиданного срыва. Впервые один из
подсудимых, бывший член Политбюро Николай Крестинский,
заявил: «Я не признаю себя виновным. Я не троцкист». И
добавил, что «не совершил ни одного преступления». Это был
единственный такой случай на всех показательных процессах. Но уже
на следующий день Крестинского заставили «раскаяться», и он
сказал: «Вчера, под влиянием минутного острого чувства
ложного стыда, вызванного обстановкой скамьи подсудимых, я не в
состоянии был сказать правду. И вместо того чтобы сказать — да, я
виновен, я почти машинально ответил — нет, не виновен. Я
целиком и полностью признаю себя виновным по всем тягчайшим
обвинениям, предъявленным лично мне».
Среди подсудимых оказался и бывший глава НКВД Генрих
Ягода. Он «признался», что содействовал убийству Кирова, но
сопроводил это многозначительными намёками.
«Вышинский: Вы лично приняли какие-нибудь меры, чтобы
убийство Сергея Мироновича Кирова осуществилось?
Ягода: Я дал распоряжение...
Вышинский: Кому?
Ягода: В Ленинграде Запорожцу. Это было немного не так...
Вышинский: А вы дали потом указания не чинить
препятствий к тому, чтобы С. М. Киров был убит?
Ягода: Да, дал... Не так.
366
ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ
В 20—30-е ГОДЫ
Вышинский: В несколько иной редакции?
Ягода-. Это было не так, но это неважно».
Подсудимых обвиняли во множестве преступлений — от
подбрасывания гвоздей и стекла в масло для рабочих и до убийства
В. Куйбышева, В. Менжинского, М. Горького, его сына Максима. Хотя
ранее утверждалось, что все они умерли естественной смертью.
Среди обвиняемых оказались три беспартийных врача:
доктора Л. Левин, Д. Плетнёв и И. Казаков, которые будто бы и
совершили эти убийства. Прокурор Вышинский заметил по этому
поводу: «История и хроника уголовных убийств нам говорит, что
за последние десятилетия отравления при помощи
профессиональных убийц почти сошли со сцены. Место этих отравителей
заняли врачи». Большинство подсудимых признавали свою вину
частично, отвергая наиболее тяжкие обвинения. Наиболее
тонко эту линию проводил Бухарин (см. ст. «Николай Бухарин»). В
последнем слове он как бы мимоходом поставил под сомнение
весь процесс, сказав: «Признание обвиняемых есть
средневековый юридический принцип». Лицо генерального прокурора
Вышинского при этих словах покраснело.
Во время процесса по всей стране проходили митинги,
единогласно требовавшие смертной казни подсудимых. Ещё до
вынесения приговора «Правда» напечатала стихи народного акына
Казахстана Джамбула Джабаева под заголовком «Уничтожить!»:
Фашистских ублюдков, убийц и бандитов —
Скорей эту чёрную сволочь казнить
И чумные трупы, как падаль, зарыть!
В обвинительной речи прокурор Вышинский назвал
подсудимых «зловонной кучей человеческих отбросов» и заявил: «Вся
наша страна, от малого до старого, ждёт и требует одного:
изменников и шпионов, продававших врагу нашу родину, расстрелять,
как поганых псов! Требует наш народ одного: раздавите
проклятую гадину!». Приговор был вынесен на рассвете 13 марта:
расстрел всем подсудимым, кроме троих. Из вредных деятелей
партии, представших перед судом, 20 лет заключения получил
только бывший глава правительства Украины Христиан Раковский.
До 1934 г. он был одним из лидеров «троцкистской» оппозиции.
Его казнили в сентябре 1941 г.
УНИЧТОЖЕНИЕ «СТАРЫХ БОЛЬШЕВИКОВ»
Показательные процессы в Москве были лишь «надводной частью
айсберга» развернувшихся по всей стране арестов и
расстрелов членов партии. В первую очередь уничтожались все члены
партии, когда-либо связанные с той или иной оппозицией. Из
бывших оппозиционеров уцелели лишь считанные единицы —
например, Александра Коллонтай и вдова Ленина Надежда Крупская.
Почти полностью была уничтожена и прослойка «старых
большевиков». Предвидя это, Сталин ещё в 1935 г. закрыл
Общество старых большевиков и Общество бывших политкаторжан
В. Антонов-Овсеенко.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО
Расстрел в 1936 г. Г. Зиновьева и Л.
Каменева оказался первой казнью в
среде «старых большевиков».
Представители «старой партийной гвардии»
чувствовали, что этот процесс оставил на
них несмываемое пятно.
В их рядах оказались два «предателя»!
И изобличили их не они сами, а
какие-то чужие, посторонние люди —
например, бывший меньшевик А.
Вышинский... Понимая, что происходит
нечто непоправимое, «старые
большевики» отчаянно пытались спасти
положение. Может быть, если они
своими руками покарают этих людей,
позор удастся смыть? Тогда борьба со
старой гвардией превратится в её
«самоочищение».
Один из руководителей Октябрьского
переворота Владимир
Антонов-Овсеенко направил Лазарю Кагановичу
письмо, в котором заявил, что в
отношении Зиновьева и Каменева
«выполнил бы любое поручение партии». Тем
самым он вызывался привести
приговор в исполнение. (Тогда же он
рассказал об этом в газете «Известия».)
Конечно, В. Антонову-Овсеенко
отказали в его просьбе. Вскоре был
расстрелян и он. Это случилось 10
февраля 1938 г.
367
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
В 20—30-е ГОДЫ
ДМИТРИЙ ПДЕТНЁВ
Английский историк Р. Конквест назвал
профессора Д. Плетнёва «самой
трагической фигурой всех трёх процессов».
Медик с 40-летним стажем, Д. Плетнёв
считался одним из лучших врачей
России, гордостью её медицины. До 1917 г.
он состоял в кадетской партии, но
потом отошёл от политической
деятельности. К внутрипартийной борьбе в ВКП(б)
Плетнёв не имел никакого отношения.
Несколько лет он был лечашим врачом
Горького. Во время встречи Горького с
Роменом Ролланом Плетнёв попытался
наедине рассказать французскому
писателю о тёмных сторонах советской
жизни. Тот встретил это неодобрительным
молчанием.
8 июня 1937 г. «Правда» поместила
большую статью без подписи, озаглавленную
«Профессор — насильник, садист». В
ней говорилось, что три года назад
профессор Д. Плетнёв якобы укусил одну
из своих пациенток, после чего она
«лишилась трудоспособности, стала
инвалидом в результате раны и тяжкого
душевного потрясения».
«Правда» цитировала письмо
«поруганной женшины». «Будьте прокляты,
подлый преступник, наградивший меня
неизлечимой болезнью, обезобразившей
моё тело! Пусть позор и унижения
падут на Вас, пусть ужас и скорбь, плач и
стенания станут вашим уделом, как они
стали моим. Я проклинаю Вас», —
писала гражданка Б. Газета называла это
письмо «потрясающим человеческим
документом» и призывала советских
врачей вынести «свой суровый
приговор преступнику».
Сразу после появления статьи по всей
стране от Киева до Магадана в
больницах и институтах стали проходить
собрания медицинских работников, клей-
мяшие позором профессора Плетнёва.
Письма с осуждением Плетнёва
подписали его коллеги М. Вовси, Б. Коган —в
1953 г. сами объявленные «убийцами в
белых халатах» (см. ст. «Оттепель»).
Писательница Евгения Гинзбург в своих
воспоминаниях приводит такой случай:
«В 37-м вольные врачи Магадана были
призваны выразить на собрании своё
гневное возмушение аморальными
поступками профессора Плетнёва. И
тогда доктор Уманский, приехавший на
Колыму с целью скопить приданое дочкам,
и ссыльнопоселенцев. В конце 30-х гг. в ВКП(б) откровенно
говорили, что старым партийцам, вплоть до участников
гражданской войны, «больше нет доверия». «В посадке рядовых членов
партии, видимо, был секретный, нигде прямо не названный
мотив: преимущественно арестовывать членов партии со стажем до
1924 года», — замечал писатель А. Солженицын.
Официальная история партии сделалась почти
«безлюдной». «Краткий курс истории ВКП(б)» на страницах,
посвященных советскому периоду, поимённо называл 96 большевиков, из
которых ко времени выхода книги 80 уже умерли, причём из них
57 погибли как «враги народа». Конечно, у многих «идейных»
партийцев происходящее вызывало сомнения. Например, старая
коммунистка О. Никитина, работница Трёхгорной
мануфактуры, недоуменно спросила на собрании в июне 1937 г.:
«Говорите, все предатели. Что же, Ленин-то совсем без глаз был, не
видел людей, которые вокруг него жили?». (За это она получила
десять лет заключения.)
Б. Карпов и В. Викторов. Плакат 1949 г.
368
ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ
В 20—30-е ГОДЫ
Но большинство старых партийцев перед собственной
гибелью сами требовали в выступлениях или печати «сурово покарать»
других «врагов народа». Узнав об аресте видного большевика
Станислава Косиора, незадолго до того проклинавшего в газетах
других «врагов», поэт Осип Мандельштам заметил: «Сталину не
нужно рубить головы, они слетают сами, как одуванчики».
Лев Троцкий написал своеобразную эпитафию поколению
«старых большевиков»: «В жизни этого поколения был свой
героический период: подпольные типографии, аресты, ссылки. К
октябрьскому перевороту эти люди, уже потрёпанные жизнью и
уставшие, примкнули в большинстве своём со сжатым сердцем.
После военной победы над врагами им казалось, что впереди
предстоит мирное и беспечальное житие. Но главные
трудности оказались впереди. Чтобы обеспечить миллионам больших
и малых чиновников бифштекс, бутылку вина и другие блага
жизни, понадобился тоталитарный режим...».
Массовые репрессии 1937—1938 гг. завершили процесс
преобразования партии большевиков, начавшийся после её
прихода к власти. Идеология перестала играть определяющую роль
в её политике. Теперь политику диктовали только реальные
интересы аппарата. Идеология заняла подчинённое, чисто
служебное положение. Партия уже не напоминала «союз
единомышленников», оставшись только частью государственного аппарата.
Возникновение идейной оппозиции (подобной оппозиции
Троцкого или Рютина) в такой партии стало совершенно невозможным.
Все эти черты партия сохранила и позднее, в эпоху Хрущёва, а
позже — Брежнева.
поднялся и сказал: „Я работал в его
клинике и могу заверить вас, что все
россказни о том, что он якобы пытался
изнасиловать пациентку, — абсолютная
несусветная чушь. И это скажет вам
всякий, кто хоть немного знает
профессора Плетнёва. И лично я голосовать за
такие вздорные обвинения не могу"».
Арестованный на следующий день
Я. Уманский получил десять лет лагерей.
На суде в июле 1937 г. Плетнёв был
приговорён к незначительному
наказанию — двум годам заключения
условно. Однако сразу же открылось новое
следствие против профессора. Теперь
он обвинялся в убийстве Горького и
Куйбышева в результате
«вредительского лечения».
Уже сидя в тюрьме, А. Плетнёв
продолжал работать, написал научный труд
объёмом около 250 страниц. В марте 1938 г.
66-летний профессор вновь предстал
перед судом по делу Рыкова и
Бухарина. Ученик Плетнёва В. Виноградов (тоже
будущий «убийца в белом халате»)
вместе с другими врачами-экспертами
подтвердил, что лечение Горького и
Куйбышева было «вредительским».
По одним данным, Дмитрий Плетнёв
был приговорён к 25 годам заключения
и расстрелян 11 сентября 1941 г., по
другим — работал лагерным врачом и
дожил до лета 1953 г.
Ю. Ганф. «Увертюра для гадов. „А ларчик
просто открывался../'». Карикатура
на Л. Троцкого и «троцкистов»
(«Крокодил». 1936 г.).
369
ИОСИФ СТАЛИН
(1879—1953)
И. Джугашвили. 1900 г.
ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
Будущий руководитель Советского государства, Иосиф
Виссарионович Джугашвили, родился в грузинском городе Гори. Днём
своего рождения он называл 9 (21) декабря 1879 г.; по другим
данным, это было 6 (18) декабря 1878 г. Отец его был
сапожником, мать подрабатывала стиркой и шитьём.
«Сталин родился в крошечном одноэтажном домике, с
двумя комнатами и верандой по всему фасаду, — рассказывал
американский писатель Джон Стейнбек, посетивший музей в Гори. —
И всё же семья Сталина была так бедна, что все теснились в
половине дома, в одной комнате. В этой комнате семья жила,
готовила пишу и спала».
У Иосифа было несколько старших братьев, но все они
умерли, не прожив и года. Пятилетний мальчик тоже едва остался жив,
переболев чёрной оспой, которая навсегда оставила свои
отметины на его лице.
В семье ему часто приходилось терпеть грубость и побои.
Возможно, из-за бедности и недоедания в детстве он остался
человеком невысокого роста — около 163 см.
Мать Иосифа была глубоко верующей женщиной и
мечтала, чтобы её сын стал священником. Когда ему исполнилось
восемь лет, она отдала его в духовное училище. Обучаясь там, как-
то раз он убеждённо сказал одному из своих друзей: «Знаешь, нас
обманывают. Бога не существует».
С сентября 1894 г. он продолжил учёбу в православной
семинарии в Тифлисе. Режим её был очень строгим и напоминал
монастырский. Позднее Сталин так вспоминал атмосферу
«слежки, шпионажа, залезания в душу, издевательства», царившую в
семинарии: «В 9 часов звонок к чаю, уходим в столовую, а когда
возвращаемся к себе в комнаты, оказывается, что уже за это время
обыскали и перепотрошили все наши вещевые ящики».
«Из протеста против издевательского режима и иезуитских
методов, которые имелись в семинарии, — говорил он, — я готов был
стать и действительно стал революционером». В революционных
кружках в семинарии Иосиф, по его словам, стал участвовать с 15 лет.
29 мая 1899 г. 19-летний Иосиф Джугашвили был исключён
из семинарии. Это окончательно определило его дальнейшую
судьбу: он стал революционером, а не священником. Но духов-
370
ИОСИФ
СТАЛИН
ное образование оставило в нём след на всю жизнь. В своих
выступлениях он любил делать риторические повторы, что
присуще церковной речи. А в тяжёлый момент войны, 3 июля 1941 г.,
неожиданно обратился к народу со словами: «Братья и сестры!».
Много лет спустя он как-то раз спросил маршала
Василевского, тоже бывшего семинариста: «Вам что-нибудь дало
духовное образование? Не думали никогда над этим?». И сам же
ответил на вопрос: «Главное, чему попы научить могут, — это
понимать людей».
БОЛЬШЕВИК-ПОДПОЛЬЩИК
После исключения из семинарии Иосиф некоторое время жил
на случайные заработки, а потом втянулся в подпольную
социал-демократическую работу. На 18 лет она стала его основной
деятельностью, прерываясь лишь арестами и ссылками.
Товарищи знали его под разными именами и партийными кличками:
Сталин, Коба, Давид, Нижарадзе, Чижиков, Меликянц и др.
После раскола партии на меньшевиков и большевиков
Джугашвили примкнул к большевикам. Но их ожесточённую борьбу
он ещё в 1911 г. в одном письме называл «бурей в стакане» и
сочувственно повторял слова рабочих: «Кому дороги интересы
движения, тот работай, остальное же приложится».
5 апреля 1902 г. Иосифа Джугашвили впервые арестовали за
участие в демонстрации батумских рабочих. Всего он пережил
семь арестов, шесть ссылок Пять раз бежал из ссылки.
В 1907 г. Сталин принял участие в экспроприации (т. е.
ограблении с революционной целью) Тифлисского банка.
Налётчики напали на конвой казаков, охранявший экипаж с деньгами,
и изъяли около 340 тыс. рублей. Это была самая крупная
экспроприация большевиков. Сам Сталин не отрицал позднее
(например, в беседе с немецким писателем Эмилем Людвигом), что в его
жизни «имелись моменты „разбойных" выступлений». Но в его
официальной биографии этот эпизод не упоминался.
Всего в ссылках и под арестом Сталин провёл более девяти
лет. Видимо, многие впечатления из жизни ссыльного наложили
отпечаток на его личность. В 1935 г. в одной из своих речей он
вспоминал такой случай. «Дело было весной, во время
половодья, — рассказывал Сталин. — Человек тридцать ушло на реку
ловить лес, унесённый разбушевавшейся громадной рекой. К
вечеру вернулись они в деревню, но без одного товарища. На
вопрос о том, где же тридцатый, они равнодушно ответили, что
тридцатый „остался там". На мой вопрос: „Как же так, остался?" —
они с тем же равнодушием ответили: „Чего ж там ещё
спрашивать, утонул, стало быть". И тут же один из них стал торопиться
куда-то, заявив, что „надо бы пойти кобылу напоить". На мой
упрёк, что они скотину жалеют больше, чем людей, один из них
ответил при общем одобрении остальных: „Что ж нам жалеть их,
людей-то? Людей мы завсегда сделать можем. А вот кобылу...
попробуй-ка сделать кобылу"». Видимо, этот пример отношения к
П. Васильев. «Первомайская
демонстрация на Солдатском базаре
в Тифлисе. 22 апреля 1901 г.»
СТИХИ СТАЛИНА
Во время учёбы в семинарии, в
возрасте 16—17 лет, Иосиф Джугашвили
увлёкся сочинением романтических
стихов. Некоторые из них он напечатал в
тифлисских газетах. Вот отрывок из
одного стихотворения в переводе с
грузинского языка:
Он бролил от лома к лому,
Словно лемон отрешённый,
И в залумчивом напеве
Правлу вешую берёг.
Многим разум осенила
Эта песня золотая,
И оттаивали люли,
Благоларствуя певца.
Но очнулись, пошатнулись,
Переполнились испугом,
Чашу, ялом налитую,
Приполняли нал землёй.
И сказали: — Пей, проклятый,
Неразбавленную участь,
Не хотим небесной правлы,
Легче нам земная ложь.
Одно из стихотворений Сталина даже
вошло тогда в букварь для грузинских
детей.
371
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
В 20—30-е ГОДЫ
П. Жуков. «И. В. Сталин читает в ссылке
письмо В. И. Ленина. 1903 г.»
людям произвёл на Сталина сильное впечатление и потому
запомнился надолго.
Последняя ссылка Сталина — в Туруханский край —
началась летом 1913 г. Более двух лет из неё он провёл за Полярным
кругом, в посёлке Курейка.
За годы этой ссылки он не напечатал ни одной статьи.
Свободное время проводил на охоте, ставя капканы на зверей, и
рыбной ловле. Живший со Сталиным в одной комнате Яков
Свердлов в письме замечал о нём: «Парень хороший, но слишком
большой индивидуалист в обыденной жизни».
В декабре 1916 г. Сталина призвали в армию. Однако
призывная комиссия признала будущего маршала негодным к
военной службе из-за высохшей левой руки.
Февральская революция 1917 г. освободила Сталина из ту-
руханской ссылки. Вместе с другими бывшими ссыльными 8
марта он выехал в Петроград.
В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ
Вернувшись в столицу, Сталин
вместе со своим товарищем по
ссылке Львом Каменевым стал
одним из руководителей
газеты «Правда». До приезда в Пет-
Ленина они
умеренную
позицию,
призывали к «условной поддержке»
Временного правительства.
Затем Сталин, как он сам
говорил, после «мимолётных
колебаний» поддержал
непримиримый курс Ленина.
Хотя в то время Иосиф
Сталин не входил в число
признанных вождей партии,
именно ему поручили делать
отчётный доклад на полулегальном
VI съезде большевиков в
августе 1917 г.
Об участии Сталина в
Октябрьском перевороте не
сохранилось почти никаких
свидетельств. В первом советском
правительстве он занял пост
наркома по делам
национальностей.
В годы гражданской
войны Сталин, как и другие
видные большевики, ездил по
372
ИОСИФ
СТАЛИН
фронтам и руководил защитой Советской
республики. Наиболее известно его участие в
1918 г. в обороне Царицына (с 1925 г. —
Сталинград). «Железная воля и гениальная
прозорливость Сталина отстояли Царицын, не дали
белым прорваться на Москву», — говорилось
позднее в его официальной биографии. Надо
заметить, что город спустя некоторое время всё же
попал в руки белогвардейцев.
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВА
3 апреля 1922 г. Иосиф Сталин был избран
Генеральным секретарём ЦК партии. В то время
этот пост вовсе не считался ключевым в партии.
Наоборот, он был чисто техническим,
второстепенным.
Но в руки генсека сходились все нити
управления партийным аппаратом. Троцкому,
Зиновьеву, Каменеву и другим видным вождям
партии скромный и неприметный Сталин
казался самым подходящим человеком на этот
пост. Троцкий позднее называл его «самой
выдающейся посредственностью нашей партии».
Такой человек, казалось, никак не мог угрожать
их влиянию.
Между тем аппарат и его руководитель
непрерывно укрепляли свою власть (см. ст.
«Партия большевиков в 20—30-е годы»). Это происходило шаг за
шагом, путём мелких, почти незаметных ходов. «Поскольку власть
в моих руках, — говорил Сталин в частном разговоре, — я
постепеновец».
Большевик Фёдор Раскольников писал о нём: «Основное
психологическое свойство Сталина, которое дало ему
решительный перевес, как сила делает льва царём пустыни, — это
необычайная, сверхчеловеческая сила воли. Он всегда знает, чего
хочет, и с неуклонной, неумолимой методичностью постепенно
добивается своей цели».
Исключительную волю Сталина признавали не только
большевики. Уинстон Черчилль вспоминал о нём: «Сталин произвёл
на нас величайшее впечатление. Его влияние на людей
неотразимо. Когда он входил в зал на Ялтинской конференции, все,
словно по команде, вставали и — странное дело — держали
почему-то руки по швам». Как-то раз Черчилль заранее решил не
вставать при появлении советского руководителя. Но Сталин
вошёл — и помимо собственной воли английский премьер
поднялся с места.
Сталин вовсе не производил на тех, с кем он беседовал,
впечатление злодея (как стали рассказывать позднее). Напротив, о
нём обычно вспоминали как об очень обаятельном человеке.
И. Сталин на Южном фронте. 1919 г.
МАТЬ СТАЛИНА
Екатерина Джугашвили, мать Иосифа
Сталина, с начала 20-х гг. жила в
Тифлисе. Сохранилось 18 писем сына к
матери, обычно довольно коротких. Вот,
например, одно из них в переводе с
грузинского: «Мама моя! Здравствуй!
Живи десять тысяч лет. Целую. Твой
Coco».
Скончалась Екатерина Джугашвили
4 июня 1937 г. в возрасте 77 лет.
Сталин на её похороны не приехал.
Последний раз в гостях у матери он
побывал в октябре 1935 г. Между ними
состоялся такой разговор: «Мама,
помнишь Николая? Ну вот, можно сказать,
что я теперь царь». Екатерина
Георгиевна подумала и сказала: «Лучше бы
ты стал священником!».
373
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
ЕКАТЕРИНА СВАНИДЗЕ
Первой женой Иосифа Сталина в 1903 г.
стала Екатерина Сванидзе. Три гола
спустя они обвенчались в церкви. Екатерина
была глубоко веруюшей женшиной.
Воспитание обязывало её беспрекословно
слушаться мужа. Их брак оказался
счастливым, но недолгим: в ноябре 1907 г.
молодая жен шина скончалась от
болезни лёгких. Сталина глубоко потрясла её
смерть. Она оставила мужу сына Якова.
В ходе арестов и расстрелов 30—40-х гг.
семья первой жены Сталина была
уничтожена почти полностью. Расстреляли её
сестру Марию, брата Александра с женой.
Уцелел только сын Александра Джонни
(Иван). Но и он провёл пять лет в ссылке.
Писатель Герберт Уэллс утверждал: «Я никогда не встречал более
чистосердечного, справедливого и честного человека. И своим
потрясающим, неоспоримым восхождением он обязан именно
этим качествам, а не чему-то тёмному и зловещему». Сын
Лаврентия Берии Серго писал: «Сталин действительно был человеком,
способным очаровать и умудрённого житейским опытом
старика, и мальчишку». Конечно, умение производить на собеседника
хорошее впечатление только помогало Сталину укреплять ту
огромную власть, которую он держал в своих руках.
Во время партийных дискуссий Сталин выступал спокойно,
говорил веско, негромким глуховатым голосом. Это было резкой
противоположностью горячности его оппонентов. Его
сторонники видели в нём умеренного, рассудительного руководителя,
противника всяких крайностей.
Не выделяясь
красноречием, Сталин иногда умел
находить сильные ораторские
приёмы. 26 января 1924 г.,
произнося речь, посвященную
кончине Ленина, Сталин нашёл
самую впечатляющую форму
выступления — форму клятвы
умершему учителю.
Перечисляя «заповеди Ленина», он
после каждой из них восклицал:
«Клянёмся тебе, товарищ
Ленин, что мы с честью
выполним эту твою заповедь!».
Лев Троцкий приводил
такой любопытный штрих
к портрету И. Сталина начала
20-х гг. Летним вечером 1923 г.
Сталин отдыхал вместе с
Феликсом Дзержинским и Львом
Каменевым на балконе своей
дачи под Москвой. «За
стаканом чаю или вина, — писал
Троцкий, — они беседовали на
сентиментально-философские
темы, вообще говоря, мало
обычные у большевиков». Речь
зашла о том, что является для
человека самым сильным
наслаждением. «Сталин
признался своим тогдашним
союзникам, что высшее наслаждение в
жизни — это зорко наметить
И. Сталин — Генеральный секретарь
UK РКП(6). Апрель 1922 г.
374
ИОСИФ
СТАЛИН
В. Ленин и И. Сталин в Горках. 1922 г.
врага, тщательно всё подготовить, беспощадно отомстить, а
затем пойти спать».
Начиная с середины 30-х гг. в числе действительных или
возможных врагов режима оказалась вся «идейная» часть партии,
почти все «старые большевики» (см. ст. «Партия большевиков в
20—30-е годы»). Чтобы обеспечить устойчивость
государственного порядка, Сталин считал необходимым тысячами
арестовывать и расстреливать своих вчерашних товарищей и союзников.
Как он сам воспринимал и оправдывал для себя настолько
крутой поворот? Вот достаточно характерный эпизод. Один из
«старых большевиков» Михаил Томский незадолго до своей гибели
стал при личной встрече жаловаться Сталину на
необоснованные преследования. Тот ответил ему притчей о лягушке, которая
помогла скорпиону перебраться через реку. Но во время
переправы тот не выдержал*и смертельно ужалил её. «Ты что же, хочешь,
чтобы я поступил, как эта глупая лягушка?» — спросил Сталин.
Конечно, массовые аресты и расстрелы партийцев не
могли не оказать влияния на личность Сталина. Уже в 1951 г. в
присутствии Хрущёва и Микояна у него как-то вырвалось:
«Пропащий я человек Я никому не верю, я сам себе не верю».
Сокрушительные поражения в начале войны стали,
возможно, самым большим потрясением в жизни Сталина. В конце июня
ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА
В декабре 1922 — январе 1923 гг.
Ленин написал «Письмо съезду»,
известное также как «Завещание». В нём он
критически оценивал всех видных
членов UK партии, а Сталина предлагал
сместить с поста генсека: «Сталин
слишком груб, и этот недостаток,
вполне терпимый между нами,
коммунистами, становится нетерпимым в
должности генсека. Поэтому я предлагаю
товарищам... назначить на это место
другого человека».
Узнав о «Завещании» сразу после того,
как Ленин его написал, Сталин с
возмущением воскликнул: «Не мог
умереть как честный вождь!». Каменев,
Зиновьев и другие члены Политбюро
стали обдумывать, как помешать
исполнению «Завещания». Все они были
убеждены, что любой другой на месте
Сталина будет «хуже».
В мае 1924 г. собрался XIII съезд
партии. Письмо было решено зачитать не
на самом съезде, а на секретных
собраниях отдельных делегаций. После
чтения текста Каменев и Зиновьев
замечали, что сейчас опасность для
партии представляют не недостатки
Сталина, а поведение Троцкого, и
предлагали оставить Сталина на его посту.
Подавая в отставку, Сталин говорил:
«Что ж, я действительно груб... Ильич
предлагает вам найти другого, который
отличался бы от меня только большей
вежливостью. Что ж, попробуйте
найти». (Всего Сталин в 20-е гг. подавал в
отставку по разным поводам не менее
пяти раз.) Все делегации
проголосовали против отставки Сталина.
23 октября 1927 г. Сталин ешё раз
вернулся к вопросу о «Завещании» и
подвёл под ним окончательную черту: «Да,
я груб, товарищи, в отношении тех,
которые грубо и вероломно
разрушают и раскалывают партию». Он
напомнил, что Троцкий, Зиновьев, Каменев
и все делегации единогласно обязали
его остаться на своём посту. «Что же
я мог сделать? Сбежать с поста? Это
не в моём характере, ибо это было бы
дезертирством».
375
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
Ф. Решетников. «Генералиссимус
Советского Союза И. Сталин».
И. Сталин. 21 декабря 1929 г.
ИОСИФ
СТАЛИН
И. Сталин салится
в автомобиль возле
Большого театра. 1930 г.
Ф. Решетников. «Великая
клятва». 1949 г.
(Речь И. Сталина
на II Всесоюзном съезде
Советов после смерти
Ленина.
26 января 1924 г.)
В. Говорков. Плакат 1940 г.
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
НАДЕЖДА АЛЛИЛУЕВА
Второй женой Иосифа Сталина в
1919 г. стала Надежда Аллилуева. Она
была моложе его на 23 года.
Их дочь Светлана вспоминала о своей
матери: «Она принадлежала к
молодому поколению революции — тем
энтузиастам-труженикам первых
пятилеток, которые были убеждёнными
строителями новой жизни, сами были
новыми людьми и свято верили в свои
новые идеалы человека,
освобождённого революцией от мещанства и от всех
прежних пороков. Мама верила во всё
это со всей силой революционного
идеализма, и вокруг неё было тогда
очень много людей, подтверждавших
своим поведением её веру. И среди
всех самым высоким идеалом нового
человека показался ей некогда отец.
Таким он был в глазах юной
гимназистки, только что вернувшийся из
Сибири „несгибаемый революционер",
друг её родителей. Таким он был для
неё долго, но не всегда... И я думаю,
что именно потому, что она была
женщиной умной и внутренне бесконечно
правдивой, она своим сердцем поняла
в конце концов, что отец не тот новый
человек, каким он ей казался в
юности, и её постигло здесь страшное,
опустошающее разочарование».
В ночь на 9 ноября 1932 г. 30-летняя
Надежда Аллилуева застрелилась. О
мотивах её самоубийства существует
много легенд, но точная причина не:
ясна. Вячеслав Молотов вспоминал её
похороны: «Я никогда не видел
Сталина плачущим. А тут, у гроба
Аллилуевой, вижу, как у него слёзы
покатились». Сталин писал своей матери в
марте 1934 г.: «После кончины Нади,
конечно, тяжела моя личная жизнь. Но
ничего, мужественный человек должен
остаться всегда мужественным».
Расстрелы и аресты не обошли и семью
второй жены Сталина. В 1948 г. была
арестована её сестра Анна (провела в
заключении шесть лет). Мужа Анны
расстреляли в 1941 г.
К. Елисеев. «Т. Сталин, личный секретарь товарища Эркапе». Дружеский шарж. 1925 г.
В. Лени. «Трубка Сталина». 1930 г.
378
ИОСИФ
СТАЛИН
1941 г., узнав о том, что Красная армия сдаёт города и отступает,
он оказался в глубоком шоке и подавленности. «Ленин нам
оставил пролетарское Советское государство, а мы его просрали», —
в сердцах сказал он своим соратникам в конце июня.
Потрясённый, Сталин на несколько дней уехал на дачу,
бросил всё и перестал интересоваться делами. А. Микоян вспоминал:
«Решили поехать к нему. Приехали на дачу к Сталину. Застали его
в малой столовой сидящим в кресле. Он вопросительно смотрит
на нас и спрашивает: „Зачем пришли?". Вид у него был какой-то
странный, не менее странным был и заданный им вопрос. Ведь
по сути дела он сам должен был нас созвать».
Вероятно, Сталин решил, что соратники хотят его
арестовать и возложить на него вину за военные неудачи. В. Молотов
стал убеждать Сталина, что страна большая и есть ещё
возможность собраться с силами и дать отпор врагу. «Молотов от имени
нас сказал, — вспоминал Микоян, — что нужно
сконцентрировать власть, чтобы быстро всё решалось, чтобы страну поставить
на ноги. Во главе такого органа должен быть Сталин. Сталин
посмотрел удивлённо, никаких возражений не высказал.
„Хорошо", — говорит».
30 июня Сталин стал председателем Государственного
комитета обороны, в руки которого была передана «вся полнота
власти в государстве». После этого к началу июля Сталин
постепенно вышел из состояния подавленности и 3 июля обратился с
первой после начала войны речью к народу.
После победы, 24 мая 1945 г., Сталин вспомнил это время в
своём известном тосте «За здоровье русского народа!»: «У
нашего Правительства было немало ошибок, были у нас моменты
отчаянного положения в 1941 — 1942 гг. Иной народ мог бы ска-
На Красной плошали. Слева направо: Л. Берия, Л. Каганович, Г. Маленков, В. Молотов,
И. Сталин. Фото А. Бальтерлланиа.
Я. Джугашвили в немецком плену.
Июль 1941 г.
ЯКОВ ДЖУГАШВИЛИ
Лев Троцкий так описывал Якова,
старшего сына Сталина: «Яша — мальчик
12 лет, с нежным смуглым личиком, на
котором привлекают внимание чёрные
глаза с золотистым поблёскиванием.
Тоненький, скорее миниатюрный. В
манерах, обращении очень мягок». Отец
пытался наказаниями отучить Якова от
курения. «Но нет, побоями он меня от
табаку не отучит», — говорил Яков
своим школьным друзьям.
Сын Лаврентия Берии Серго
вспоминал о Якове: «Он имел свою точку
зрения на всё окружающее. Он считал все
политические репрессии
несправедливыми, неправильными, а
режим—главным виновником происходящего. От
Сталина Яков унаследовал твёрдость
характера и волю».
В первые же дни войны Яков ушёл на
фронт командиром артиллерийской
батареи. С отцом он последний раз
разговаривал 22, июня, и тот сказал ему:
379
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
«Иди и воюй!». Но уже меньше чем
через месяц часть Якова попала в
окружение и была разбита. 16 июля
старший лейтенант Джугашвили,
оглушённый взрывом, оказался в плену у
немцев. «Я бы застрелился, если бы
смог», — говорил он позднее.
Когда Сталину предложили обменять
Якова на пленённого под Сталинградом
фельдмаршала Паулюса, Сталин
ответил: «Солдата на маршала не меняют».
В плену Яков вёл себя мужественно,
решительно отказывался от любого
сотрудничества с противником. «Мне
стыдно перед отцом, что я остался
жив», — сказал он немцам. 14 апреля
1943 г. Яков погиб в концлагере Зак-
сенхаузен. Он бросился на колючую
проволоку ограждения и был
застрелен часовым.
Как и тысячи семей других
военнопленных командиров, семья Якова была
выслана, его жена — арестована. Её
освободили только весной 1943 г.
зать Правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите
прочь, мы поставим другое Правительство, которое заключит
мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не
пошёл на это, ибо он верил в правильность политики своего
Правительства и пошёл на жертвы, чтобы обеспечить разгром
Германии». Поэтому Сталин произнёс тост за «ясный ум, стойкий
характер и терпение» русского народа.
Месяц спустя он произнёс другой знаменитый тост за
«простых, обычных, скромных советских людей», которые являются
«винтиками великого государственного механизма». В его устах
такая оценка была высшей похвалой человеку.
6 марта 1943 г., после первых крупных побед в ходе войны,
Сталин получил воинское звание маршала. После победы,
26 июня 1945 г., специально для него было введено, а на
следующий день присвоено звание Генералиссимуса Советского
Союза.
В послевоенные годы Сталина занимали как
международные, так и внутренние дела. В мире разгоралась «холодная
война» между Востоком и Западом. Внутри страны Сталин, видимо,
готовил новые изменения государственной идеологии и новые
«чистки» и аресты, в том числе и своих соратников. Уже
несколько лет шла кампания против «безродных космополитов» (в
основном евреев), началось знаменитое «дело врачей» (см. ст.
«Оттепель»).
Я. Джугашвили.
*
V
ВАСИЛИЙ СТАЛИН
Младший сын Сталина Василий
родился в 1921 г. Его отеи в 1938 г. писал
одному из учителей своего сына:
«Василий —избалованный юноша средних
способностей, дикарёнок (тип скифа!),
не всегда правдив, любит
шантажировать слабеньких „руководителей",
нередко нахал, со слабой, или —
вернее — неорганизованной волей. Его
избаловали всякие „кумы" и „кумушки",
то и дело подчёркивающие, что он „сын
Сталина"».
Василий стал военным лётчиком.
Воевал, совершил 27 боевых вылетов и
сбил два немецких самолёта. Но и
здесь его характер остался прежним.
В одной из его характеристик
говорилось: «По характеру горяч и
вспыльчив, допускает невыдержанность:
имели место случаи рукоприкладства к
подчинённым». В 20 лет Василий —
полковник авиации, в 24 — уже
генерал-майор. Однако порой И. Сталину
приходилось диктовать и такие
приказы: «Полку и полковнику Сталину
объявить, что полковник Сталин
снимается с должности командира полка за
пьянство и разгул и за то, что он
портит и развращает полк». Правда,
вскоре после таких отставок Василия
назначали на другие не менее важные
должности. В конце 40-х гг. он занял
пост командующего авиацией
Московского военного округа.
Смерть отца в 1953 г. он воспринял
очень тяжело и неоднократно
повторял: «Его убили». Возможно, поэтому
уже 28 апреля 1953 г.
генерал-лейтенант В. Сталин был арестован. Через
два года за «антисоветскую агитацию»
и злоупотребление служебным
положением он был приговорён к восьми
годам заключения.
Окончательно освободился из тюрьмы
В. Сталин в апреле 1961 г., после чего
был сослан в Казань. Здесь он и
скончался менее чем через год— 19 марта
1962 г.
380
ИОСИФ
СТАЛИН
Он не успел довести эти планы до конца. Вечером 1 марта
1953 г., когда Сталин находился на даче в Кунцеве, с ним
случился удар.
До этого он почти не жаловался на здоровье. За год до
смерти бросил курить и очень гордился этим. Незадолго до
удара его лечащие врачи были арестованы по «делу врачей».
Заметив, что Сталин лежит без сознания, обеспокоенная
охрана вызвала на дачу членов Президиума ЦК Но те сказали, что
«товарищ Сталин просто крепко спит», и не захотели вызывать
врачей. Более 13 часов Сталин оставался без медицинской
помощи.
Больше Сталин не приходил в себя и 5 марта в 21 час 50
минут скончался.
Его дочь Светлана вспоминала о том, что было после
смерти отца: «Пришли проститься прислуга, охрана. Вот где было
истинное чувство, искренняя печаль. Утирали слёзы, как дети,
руками, рукавами, платками. Многие плакали навзрыд. Пришла
проститься Валечка — экономка, работавшая у отца на этой даче лет
восемнадцать. Она грохнулась на колени возле дивана, упала
головой на грудь покойнику и заплакала в голос, как в деревне. И
как вся прислуга, до последних дней своих, она будет убеждена,
что не было на свете человека лучше, чем мой отец».
Портрет генералиссимуса И. Сталина.
Художник Томский.
СВЕТЛАНА АЛЛИЛУЕВА
Дочь Сталина Светлана родилась в
1926 г. Отеи относился к дочери,
когда она была ребёнком, очень нежно.
Отдыхая на юге, он писал ей письма.
Вот одно из них: «Сетанке-хозяйке. Ты,
наверное, забыла папку. Потому-то и
не пишешь ему. Как твоё здоровье? Не
хвораешь ли? Как проводишь время?
Куклы живы? Я думал, что скоро
пришлёшь приказ, а приказа нет как нет.
Нехорошо. Ты обижаешь папку. Ну
целую. Жду твоего письма. Папка».
А вот один из шуточных «приказов»
Светланы отцу: «21 октября 1934 г.
Тов. И. В. Сталину, секретарю № 1.
Приказ № 4. Приказываю тебе взять
меня с собой. Сетанка-хозяйка». —
«Покоряюсь. И. Сталин». (Речь шла,
вероятно, о походе в театр.) Вот ешё
примеры «приказов» Светланы:
«Приказываю тебе позволить мне
пойти в кино, а ты закажи фильм
«Чапаев» и какую-нибудь американскую
комедию» (октябрь 1934 г.). «Ввиду того,
что сейчас уже мороз, приказываю
носить шубу» (декабрь 1938 г.).
Позже Светлана вспоминала: «Отец
подписывался во всех письмах ко мне
одинаково: «Секретаришка Сетанки-
хозяйки бедняк И. Сталин».
И. Хрушёв рассказывал: «Когда
маленькая Светланка сердилась, то она
повторяла слова матери: „Ты невозможный
человек, — и добавляла: — Я на тебя
жаловаться буду". — „Кому же ты
жаловаться будешь?" — „Повару"».
Отношения Светланы с отцом
испортились, когда ей было 17 лет и она
увлеклась киносценаристом Алексеем
Каплером, который был старше её на
22 года. Сталин сказал дочери: «Мне
всё известно. Твой Каплер —
английский шпион». «А я люблю его!» —
отвечала Светлана. Отец дал ей пошёчи-
ну — первый раз в жизни.
«Подумайте, няня, до чего она дошла! — не
сдержавшись, воскликнул он. — Идёт
такая война, а она занята...» — и
выругался.
В 1967 г. Светлана не вернулась из
поездки в Индию. За границей она
напечатала свою знаменитую книгу «20
писем к другу», где рассказывала об отце
и о себе.
В ноябре 1984 г. Светлана Аллилуева
получила разрешение и вернулась в
СССР. В советской печати она
заявила: «На Западе я попала в руки
политических дельцов, которые
превратили имя моего отца и мою жизнь в
сенсационный товар». Через два года,
однако, она снова покинула родину.
381
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
В 20—30-е ГОДЫ
Похороны И. Сталина на Красной плошали. Современный рисунок.
ПОСЛЕ СМЕРТИ СТАЛИНА
Во время болезни И. Сталина и после
его смерти тысячи людей по всей
стране переживали подлинное горе. В
последние дни его жизни в церквах
подавалось огромное число записок «во
здравие раба Божьего Иосифа».
На траурных митингах можно было
видеть множество плачущих людей.
Огромные людские массы хлынули в
Москву, к Колонному залу, где
находился гроб с телом Сталина. По
улицам столицы текли необъятные толпы.
Владимир Буковский (позднее один из
деятелей диссидентского движения),
наблюдавший с крыш за этим потоком,
вспоминал: «Я увидел море голов.
Словно волны ходили по этому морю,
раскачивалась толпа, напирала,
отступала, и вдруг в одном из боковых
проулков под натиском её качнулся и упал
автобус, точно слон, улёгшийся на бок.
Несколько дней продолжалось это
шествие, и тысячи людей погибли в
давке. Долго потом по улице Горького
валялись пуговицы, сумочки, галоши,
бумажки».
Рабочие завода «Динамо» слушают по
радио извещение о смерти И. Сталина.
6 марта 1953 г. 6 часов утра.
Фото Д. Бальтерманиа.
382
ВЯЧЕСЛАВ МОЛОТОВ
(1890—1986)
Будущий глава Советского правительства Вячеслав Михайлович
Скрябин (Молотов) родился 25 февраля 1890 г. в семье
приказчика из Вятской губернии.
12-летний мальчик поступил в Казанское реальное
училище. В годы первой русской революции он разделял общее
увлечение молодёжи революционными идеями. По его словам,
первым шагом к этому стала для него художественная литература.
«Я всё читал, — рассказывал он, — Чехова — от начала до конца,
Григоровича... Я ещё учился в такое время, когда мне, мальчишке,
не давали читать Майн Рида, Купера — запрещалось такое
увлечение. Школа запрещала. Таскал тайком Купера и прочих...»
Вместе с друзьями Вячеслав ходил на собрания нелегальных
кружков, а в 16 лет примкнул к большевикам. Первое время,
видимо, это оставалось просто юношеским увлечением. Но
внезапно всё изменилось. Он вспоминал: «В седьмом классе, перед
выпускными экзаменами — а я шёл на золотую медаль, — меня аре- п Васильев.
СТОВалИ. Отправили В ВОЛОГОДСКУЮ ССЫЛКу на Два ГОДа». АреСТ СТал «В. Ленин, И. Сталин и В. Молотов в
для Вячеслава переломным моментом в жизни. После этого для редакции „Правды" в 1917 г.»
него началась жизнь
большевика-подпольщика. Аресты,
ссылки, побег из ссылки... Он
побывал, по его словам, «во
всех основных» тюрьмах
Российской империи.
Противники называли
большевиков
«твердокаменными», и те с гордостью носили
это прозвище. Появились
близкие по смыслу
псевдонимы: Каменев, Сталин, Ломов...
Вячеслав в 1915 г. выбрал себе
псевдоним в таком же духе:
Молотов.
Ещё с 1912 г. он начал
сотрудничать в газете
большевиков «Правда», а после Февраля
1917 г. продолжил эту работу.
В первые недели Февральской
революции В. Молотов сыграл
383
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
В. Молотов. 1935 г.
«КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА»
В первые месяцы после нападения
Германии на Советский Союз у
красноармейцев ешё не было противотанковых
гранат. Пехотиниы оказались
практически беззащитными против
германских танков. Пришлось изобретать
подручные средства: брали стеклянные
бутылки, наливали в них бензин, а
горлышко затыкали паклей. Затем
зажигали паклю и бросали бутылку в танк.
В сражении под Минском так подожгли
около сотни танков противника.
Немцы окрестили эти бутылки с их
содержимым «коктейлем Молотова». В
Красной армии это название не
употреблялось.
Позднее оно разошлось по всему миру.
В сообщениях о волнениях где-нибудь
в далёком Сантьяго или Сеуле часто
говорилось, что демонстранты бросали в
полицию «коктейль Молотова».
весьма видную роль в своей партии. Ещё до возвращения в
Петроград В. Ленина он возглавил среди большевиков
«непримиримое» крыло, резко осуждавшее Временное правительство.
После того как в столицу вернулись признанные старые
вожди партии, В. Молотов отошёл на второй план. В первые годы
Советской власти он также занимал не слишком заметные посты.
Вячеслав Михайлович не только не блистал красноречием
на митингах, но говорил слегка заикаясь. Зато умел очень много
и старательно работать, отличался при этом усердием и
добросовестностью. Б. Бажанов, секретарь И. Сталина, вспоминал о нём:
«Он очень спокоен, выдержан. Ко мне он был всегда крайне
благожелателен и любезен и в личных отношениях очень мил. Да и
со всеми, кто к нему приближается, он корректен, человек
вполне приемлемый, никакой грубости, никакой заносчивости,
никакой кровожадности, никакого стремления кого-либо унизить
или раздавить».
В 1921 г. В. Молотова назначили ответственным секретарём
ЦК партии. По своим качествам он прекрасно подходил для
подобной («бумажной») технической работы. На этом посту он
оставался около года. Потом должность получила новое
название («Генеральный секретарь»), и её занял И. Сталин. Таким
образом, В. Молотова можно даже считать «предшественником»
И. Сталина...
Между ними ещё со времён подпольной работы сложились
тёплые приятельские отношения, они обращались друг к другу
на «ты». Как замечал Н. Хрущёв, Молотов никогда не заискивал
перед Сталиным, всегда держал себя с достоинством. Такой тон
отношений сохранялся до самой смерти Сталина. Н. Хрущёв
вспоминал о 40-х годах: «Молотов на меня производил в те
времена впечатление человека независимого, самостоятельно
рассуждающего. Он имел свои суждения по тому или другому
вопросу, высказывался и высказывал Сталину, что он думает. Было
видно, что Сталину это не нравится, а Молотов всё-таки настаивал.
Это, я бы сказал, было исключением». Больше почти никто не
решался спорить со Сталиным.
В. Молотов расходился со Сталиным и по некоторым
принципиальным вопросам. Например, он оставался сторонником
«мировой революции». Сталин даже сказал ему в 1926 г.: «Что же,
ты хочешь между нами и Троцким занять место? Серединку?». «Он
понял очень правильно, — вспоминал Молотов. — Моя точка
зрения несколько отличалась от сталинской...»
Одновременно в 20-е гг. Вячеслав Михайлович был одним
из самых деятельных борцов с оппозицией, как левой, так и
правой. За это оппозиционеры неодобрительно называли его
«сталинская дубинка» и «Вячек — бараний лоб». После смещения в
1930 г. «правого уклониста» Алексея Рыкова Молотов сменил его
на посту главы советского правительства, где он оставался до мая
1941 г.
Однако в 1936 г. между Сталиным и Молотовым едва не
произошёл полный разрыв. В это время наметился крутой поворот
384
к уничтожению «старых большевиков».
Руководители государства шли на беспощадный разрыв с
этой прослойкой, из которой они сами выросли.
Многим, в том числе и В. Молотову, этот разрыв
давался трудно. Вячеслав Михайлович возражал
против казни Г. Зиновьева и Л. Каменева, которые всё
ещё оставались для него как бы «своими»,
«старыми большевиками».
Сталин рассматривал такие возражения как
самый опасный переход «на другую сторону
баррикады». Но он дал Молотову возможность пересмотреть
свои взгляды. Для него прозвучало несколько
грозных сигналов. Читая газетные отчёты о процессе,
советские граждане с удивлением узнали, что
заговорщики собирались убить Сталина, Ворошилова
и т. д. — всех видных вождей государства... кроме
Молотова. Для главы Совнаркома «террористы»
почему-то решили сделать исключение. Почему?
Напрашивались самые зловещие объяснения.
«Вскоре МОЛОТОВ ОТПраВИЛСЯ на ЮГ ОТДЫХаТЬ, — ВСПОМИНаЛ А* Яр-Кравченко. «А- м- Горький чип
~ „ к ^ т, ~ ** 11 октября 1931 года И. В. Сталину,
6ЫВШИИ ЧекИСТ А Орлов. - ЕГО неожиданный ОТЬеЗД был ВОСПри- в м Mo\OTOBy и ^ Е. Ворошилову
НЯТ верхушКОЙ НКВД Как ПОСЛеДНИЙ акт разворачивающейся Дра- сказку „Девушка и смерть"».
мы. Руководство НКВД со дня на день ожидало распоряжения об
аресте Молотова. Сталин держал Молотова между жизнью и
смертью шесть недель и лишь после этого решил „простить" его...» В эти
недели, ожидая со дня на день ареста, Вячеслав Михайлович,
видимо, немало передумал. Во всяком случае, он пришёл к выводу, что в
интересах государства нужно беспощадно бороться с
возможными «двурушниками». Больше он уже не колебался.
Сталин ещё не раз устраивал ему проверки. Например, в
июне 1937 г. в Политбюро поступили показания против
«старого большевика» Георгия Ломова. На этих показаниях Сталин
намеренно не поставил своего решения, а только вопрос: «Как
быть?» и передал их Молотову. Вячеслав Михайлович без
колебаний написал: «За немедленный арест этой сволочи Ломова».
«1937 год был необходим, — говорил В. Молотов уже в 70-е гг. —
Остатки врагов разных направлений существовали... Я
оправдываю репрессии, хоть там и были крупные ошибки».
В мае 1939 г. В. Молотов кроме поста главы правительства
занял должность наркома иностранных дел. В августе был
заключён знаменитый Договор о ненападении с Германией. Этот
договор на Западе потом окрестили «пактом Молотова —
Риббентропа».
Уинстон Черчилль, много общавшийся с Молотовым во
время войны, писал о нём: «Его подобная пушечному ядру голова,
чёрные усы и проницательные глаза, его каменное лицо,
ловкость речи и невозмутимость хорошо отражали его
достоинство и искусство. Его улыбка сибирской зимы, его тщательно
взвешенные и часто мудрые слова, его приветливая манера себя
держать делали его совершенным орудием советской политики в
385
дышащем смертью мире. Дожив до старости, я радуюсь тому, что
мне не пришлось пережить того напряжения, какому он
подвергался, — я предпочёл бы вовсе не родиться».
Только один раз Черчилль заметил «щёлку» во всегдашней
невозмутимости дипломата. В 1942 г. Молотову после
переговоров в Лондоне предстояло опасное возвращение домой. «У
садовой калитки на Даунинг-стрит я крепко взял его за руку, —
вспоминал Черчилль, — и мы посмотрели друг другу в глаза.
Внезапно он показался мне глубоко взволнованным. За маской стал
виден человек. Он ответил мне таким же крепким рукопожатием...»
Несмотря на обычную любезность, В. Молотов умел при
случае уколоть собеседника метким словом. В ноябре 1940 г. он
встречался в Берлине с немецким руководством. Внезапно
раздался сигнал воздушной тревоги, и собеседникам пришлось
спуститься в бомбоубежище. Иоахим Риббентроп говорил о том, что
Британская империя практически разгромлена. Молотов в ответ
ехидно заметил: «Если Англия разбита, то почему мы сидим в
этом убежище? И чьи это бомбы падают так близко, что разрывы
их слышны даже здесь?».
После окончания войны Вячеслав Михайлович вновь
оказался в опале. Недоверие коснулось всех оставшихся в высшем
руководстве «старых большевиков»: В. Молотова, К. Ворошилова,
А. Микояна. Они старались защищать друг друга, но это не
всегда удавалось. Н. Хрущёв вспоминал такой случай: «Сталин,
отдыхая в Сухуми, вдруг поднял вопрос о том, что Молотов является
американским агентом, что он сотрудничает с Америкой. „А вот
помните, Молотов был на какой-то ассамблее Объединённых
Наций и он сообщал, что он ехал из Нью-Йорка в Вашингтон. Раз
он ехал, значит, у него там есть собственный вагон. А как он мог
его заиметь? Значит, он американский агент", — сказал Сталин.
Молотов сейчас же начал апеллировать к другим, там был
Микоян при этом, и все сказали, что это невероятно».
В 1949 г. арестовали жену В. Молотова, «старую
большевичку» Полину Жемчужину. Она входила в руководство Еврейского
антифашистского комитета. Теперь её, как и весь комитет,
обвинили в связях с западными еврейскими кругами. Молотов так и
не согласился с представленными доказательствами. При
голосовании на Политбюро по вопросу об аресте его жены он
воздержался. Ещё ранее он пошёл из-за неё на неслыханное
нарушение традиций. «Когда на Пленуме стоял вопрос о её выводе из
состава ЦК, то все проголосовали „за", а Молотов воздержался, —
вспоминал Хрущёв. — Происшествие на Пленуме наложило свой
отпечаток на отношение Сталина к Молотову». После ареста
Полина Жемчужина провела четыре года в казахстанской ссылке.
Вячеслав Михайлович даже ничего не знал о её судьбе, только
Л. Берия однажды шепнул ему на ухо: «Полина жива...».
В марте 1953 г. И. Сталин скончался. Выступавшие на его
похоронах Г. Маленков и Л. Берия говорили довольно сухо. Один
Молотов произнёс прочувствованную речь. Голос его дрогнул,
когда он говорил: «В эти дни мы все переживаем тяжёлое горе...
386
ВЯЧЕСЛАВ
МОЛОТОВ
утрату близкого, родного, бесконечно дорогого человека. И мы,
его старые и близкие друзья... прощаемся сегодня с товарищем
Сталиным, которого мы все так любили».
Историк Рой Медведев писал: «День похорон Сталина 9
марта совпал с днём рождения Молотова. Спускаясь с трибуны
Мавзолея, Хрущёв и Маленков всё же поздравили Молотова с днём
рождения и спросили, что бы он хотел получить в подарок?
„Верните Полину", — сухо сказал Молотов и прошёл мимо». На
следующий день он встретился с женой прямо в кабинете Берии...
Любопытно, что и после всех перенесённых невзгод П.
Жемчужина сохранила своё прежнее отношение к Сталину. Когда
один из её гостей начал осуждать Сталина, она ответила ему:
«Молодой человек, Вы ничего не понимаете ни в Сталине, ни в его
времени. Если бы Вы знали, как ему было трудно сидеть в его
кресле!».
В июне 1957 г. В. Молотов оказался в числе противников
Н. Хрущёва, попытавшихся его сместить (см. ст. «Оттепель»). Эта
попытка закончилась их полным поражением. Г. Маленков, Л.
Каганович, К Ворошилов и другие признали свои «ошибки» и
осудили самих себя как «антипартийную группу». Один В. Молотов до
конца сохранил твёрдость. Он так и не «раскаялся», а на пленуме
ЦК (снова единственный) воздержался при голосовании.
После этого его отправили в «почётную ссылку» —
назначили послом в Монголию. Имя Молотова исчезло с карты
страны, из названий улиц и заводов (например, город Молотов вновь
стал называться Пермью).
Но даже и после этих событий В. Молотов не отказался от
выражения своих взглядов. «Каждый год я посылал в ЦК одно-
два письма с критикой их политики», — говорил он. В 1961 г.
Вячеслав Михайлович направил в ЦК ещё одно письмо с резкой
критикой проекта новой программы партии.
Примечательно, что В. Молотов, по многим свидетельствам,
до конца жизни сохранил не только глубокое уважение, но и
любовь к И. Сталину. «Сталин был честный человек», — убеждённо
говорил Вячеслав Михайлович. Писатель Юлиан Семёнов
вспоминал о встрече с Молотовым-пенсионером: «Меня потрясла та
нескрываемая нежность, с которой он произносил имя Сталина;
нежность была какой-то юношеской, восторженной...».
Вообще, как ни странно, сквозь все жизненные потрясения и
повороты В. Молотов пронёс твёрдую идейную убеждённость
«старого большевика». Он замечал писателю Феликсу Чуеву: «Я смеюсь:
получаю к Новому году приветствия: >гЖелаю Вам спокойной
жизни и прочее". Я против спокойной жизни! Если я захочу
спокойной жизни, значит, я омещанился! Вот Сталин всё-таки, я считаю,
допустил величайшую ошибку — самоуспокоение».
8 ноября 1986 г. Вячеслав Молотов скончался. Ему было
96 лет. Советские газеты поместили краткое сообщение о его
смерти, в котором Совет Министров выражал своё «прискорбие»
по этому поводу. Похоронили В. Молотова на Новодевичьем
кладбище.
ВЯЧЕСЛАВ МОЛОТОВ
НА ПЕНСИИ
В 1962 г. В. Молотова исключили из
партии и отправили на пенсию.
Пожилого человека в пенсне часто видели
на прогулках в подмосковном посёлке
Жуковка, где находилась его дача. Он
бывал в московских театрах,
прогуливался по улииам.
В последние годы жизни его ожидал
ешё один внезапный «политический»
поворот. В 1984 г., когда у власти
находился Константин Черненко,
неожиданно было принято решение
восстановить его в партии. Этого Вячеслав
Михайлович безуспешно добивался
уже 22 года.
7 июня 1984 г. бывшего главу
правительства привезли в Кремль, где его
принял сам глава государства К.
Черненко. Вячеслав Михайлович заметил
что-то о своём партийном стаже. Стаж
у него действительно получался
невероятный — почти 80 лет! На какой-то
момент он оказался старейшим членом
партии. Но Константин Устинович не
понял замечания В. Молотова и
только произнёс что-то вроде: «Какой там
стаж...».
Весной 1986 г., в начале
«перестройки», Вячеслав Михайлович дал
небольшое интервью газете «Московские
новости». Рассказал о своём дневном
распорядке: подъём в 6.30 утра,
зарядка, часовая прогулка, шесть часов
чтения и работы за письменным столом...
«У меня счастливая старость, —
сказал он. — Хочу дожить до ста лет».
Домработница В. Молотова Татьяна
Тарасова рассказывала: «До
последнего дня он старался всё делать сам.
Очень волевой человек. Уже почти не
мог ходить, а на прогулке стремился
дойти до шестого столба. Бывало,
скажешь: „Давайте до четвёртого,
Вячеслав Михайлович!". — „Нет, до
шестого!''».
387
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
В 20—30-е ГОДЫ
КАРАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
ФАННИ КАПЛАН
30 августа 1918 г. Владимир Ленин
встречался с рабочими московского
завода Михельсона. После
выступления он уже садился в свой автомобиль,
когда прозвучали три выстрела.
Раненный двумя пулями, Ленин упал на
землю. Его шофёр успел заметить
«женскую руку с браунингом». Но лииа
стрелявшей не рассмотрел никто.
Как рассказывал очевидец
происшедшего Стефан Батурин, после
выстрелов он закричал: «Держи, лови!». В этот
момент он увидел женшину, «которая
вела себя странно». «На мой вопрос,
кто она, она ответила: „Это сделала не
я". Когда я её задержал и когда из
окружающей толпы стали раздаваться
крики, что стреляла эта женшина, я
спросил ешё раз, она ли стреляла в
Ленина. Последняя ответила, что она».
Задержанной оказалась 28-летняя
Фанни Каплан. За покушение на чинов-
СОЗДАНИЕ ЧК
Придя к власти, большевики вначале не собирались проводить
широких карательных мер. Первым их решением стала отмена
смертной казни. Владимир Ленин, выступая 17 ноября 1917 г.,
говорил: «Террор, какой применяли французские революционеры,
которые гильотинировали безоружных людей, мы не
применяем и, надеюсь, не будем применять».
В тюрьмах находились арестованные после Февраля
сановники старого режима. Большевики сначала даже освободили их.
Бывший глава столичной охранки Александр Герасимов
вспоминал: «Недели через две после болыиевицкого переворота к нам в
тюрьму явился комиссар-большевик Комиссар начал
опрашивать, кто за что сидит. Когда очередь дошла до нас, начальник
тюрьмы сказал: „А это политические". Комиссар удивился: „Какие
теперь у нас политические?". Начальник разъяснил, что это
деятели старого режима. Комиссар заявил, что он считает наше
содержание под стражей неправильным и несправедливым: „Они
по-своему служили своему правительству и выполняли его
приказания. За что же их держать?"».
7 (20) декабря 1917 г. была создана Всероссийская
чрезвычайная комиссия (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и
саботажем. Её председателем стал Феликс Дзержинский.
ВЧК создавалась как следственный орган, без права судить и
выносить приговоры. Но уже через два месяца она стала
применять и расстрелы (формально это право она получила 17
сентября 1918 г.). Пока это были в основном не политические казни.
«КРАСНЫЙ ТЕРРОР»
После роспуска Учредительного собрания по всей стране
начала разгораться борьба против большевиков. Стало ясно, что
удержать власть можно только самыми жёсткими мерами.
20 июня 1918 г. в Петрограде был застрелен видный
большевик Моисей Володарский. Как утверждали позднее, это сделал
рабочий Сергеев, член партии эсеров. Ему удалось скрыться.
Вскоре после этого В. Ленин писал в Петроград: «Тов. Зиновьев!
Мы услыхали, что в Питере рабочие хотели ответить на
убийство Володарского массовым террором и что вы удержали. Про-
388
КАРАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
тестую решительно! Мы компрометируем себя: грозим массовым
террором, а когда до дела, тормозим революционную
инициативу масс, вполне правильную. Это не-воз-мож-но! Террористы
будут считать нас тряпками. Время архивоенное...».
30 августа произошли два новых покушения. Утром в
Петрограде застрелили председателя городской Чрезвычайной комиссии
Моисея Урицкого. Вечером в Москве стреляли в самого Ленина, он
был серьёзно ранен. Оба этих покушения совершили эсеры.
Вскоре после этого, 5 сентября, Совнарком объявил о
начале «красного террора». «Все лица, прикосновенные к
белогвардейским организациям», подлежали расстрелу.
В тот же день нарком внутренних дел отдал «Приказ о
заложниках». «Расхлябанности и миндальничанью должен быть
немедленно положен конец, — говорилось в нём. — Все
известные местным советам правые эсеры должны быть немедленно
арестованы. Из буржуазии и офицерства должны быть взяты
значительные количества заложников. При малейшем движении в
белогвардейской среде должен применяться безоговорочно
массовый расстрел».
Волна расстрелов «за кровь Ленина и Урицкого»
прокатилась по всей стране. В Петрограде, по официальным данным,
было расстреляно 500 заложников, в Москве — более 100 человек
Среди казнённых в Москве были и бывшие царские
министры: А. Протопопов, И. Щегловитов и др. Английский консул
Р. Локкарт из тюремного окна 5 сентября увидел нескольких
стариков-министров, которых куда-то повели.
«Куда они идут?» — спросил он.
«На тот свет», — отвечал ему чекист Яков Петере.
До конца 1918 г. в печати появились сообщения о казни
более 50 тысяч человек И позднее массовые расстрелы
сопровождали всю гражданскую войну.
Видный чекист М. Лацис писал 1 ноября 1918 г. в журнале
«Красный террор»: «Мы не ведём войны против отдельных лиц.
Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии
доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом
против Советской власти. Первый вопрос, который вы должны
ему предложить, — какого он происхождения, воспитания,
образования или профессии. Эти вопросы и должны определить
судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность красного террора».
Писатель-большевик Владимир Зазубрин так описывал
работу чекистов во время массовых казней: «Больно стукнуло в уши.
Чекисты с дымящимися револьверами отбежали назад и сейчас же
щёлкнули курками. Нужно было убить наповал... И если недобитый
визжал, харкал, плевался кровью, то становилось душно в подвале,
хотелось уйти и напиться до потери сознания. Раздевшиеся живые
сменяли раздетых мёртвых... Пятёрка за пятёркой. В подвал вели и
вели живых, от страха потеющих, от страха плачущих».
Участие в терроре формировало и определённый облик
самих чекистов. Ф. Дзержинский замечал, что чекистами могут
работать «святые или негодяи».
ника в 1907 г. она была отправлена на
вечную каторгу, где провела более
десяти лет. «В тюрьме мои взгляды
оформились, —говорила Каплан, — я
сделалась социалисткой-революционеркой ».
На допросе в ВЧК Каплан повторила:
«Я сегодня стреляла в Ленина. Я
стреляла по собственному убеждению.
Стреляла в Ленина я потому, что
считала его предателем революции и
дальнейшее его существование подрывало
веру в социализм».
Состояние Каплан в тюрьме описывал
английский консул Р. Локкарт: «Её
спокойствие было неестественным. Она
подошла к окну и, склонив подбородок
на руку, смотрела сквозь окно на
рассвет. Так она оставалась неподвижной,
безмолвной, покорившейся,
по-видимому, своей судьбе до тех пор, пока
не вошли часовые и не увели её прочь».
4 сентября газеты сообщили о казни
Каплан. Несмотря на это, ешё долгие
десятилетия жила легенда, что Каплан
помиловал сам Ленин. Он будто бы
сказал при этом, что защищает только
революцию, а за себя лично мстить не
желает.
Расстрел происходил в Кремле.
Комендант крепости Павел Мальков
вспоминал: «„К машине!" — подал я
отрывистую команду, указав на стоящий в
тупике автомобиль.
Судорожно передёрнув плечами,
Фанни Каплан сделала один шаг, другой...
Я поднял пистолет...
Было 4 часа дня 3 сентября 1918 г.
Приговор был исполнен. Исполнил его
я, Павел Дмитриевич Мальков, —
собственноручно. И если бы история
повторилась, если бы вновь перед дулом
моего пистолета оказалась тварь,
поднявшая руку на Ильича, моя рука не
дрогнула бы, спуская крючок, как не
дрогнула она тогда...».
Свидетелем казни оказался поэт
Демьян Бедный. После расстрела он вместе
с Мальковым оттащил тело казнённой
в Александровский сад. Здесь они
облили его бензином и сожгли в
железной бочке.
389
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
В 20—30-е ГОДЫ
ЛЕОНИД КАННЕГИССЕР
В вестибюле Министерства
иностранных дел 30 августа 1918 г. был
застрелен председатель Петроградской ЧК
Моисей Уриикий. Убийца выбежал на
улицу и через несколько минут был
схвачен. Им оказался 20-летний эсер
Леонид Каннегиссер. Как и другие
эсеры, он считал чекиста Урицкого
ответственным за уже начавшиеся аресты и
расстрелы оппозиции. Но этот
террористический акт Каннегиссер
выполнил совершенно самостоятельно,
никого не посвяшая в свои планы.
Поэт-эмигрант Георгий Иванов в
очерке о Каннегиссере писал: «Мало кто
знает, что убийца Урицкого был
поэтом. „Настоящим поэтом"? Да,
настоящим. Он погиб слишком рано, чтобы
дописаться до „своего". Оставшееся от
него — только опыты, пробы пера,
предчувствия. Но то, что это
„настоящее", видно по каждой строке».
Марина Цветаева, тоже знакомая с Канне-
гиссером, в стихах так передавала своё
впечатление о нём: «Хрупок, нежен
цветок».
Из Кронштадтской тюрьмы
арестованного Каннегиссера возили на допрос по
морю в катере. Однажды на полпути
началась буря, и катер стало
захлёстывать водой. Каннегиссер сказал
матросам: «Если мы потонем, я один буду
смеяться».
Рассказывали, что Каннегиссер
вызывал большую симпатию матросов
своей убеждённостью и стойкостью, и
чекисты ускорили расстрел из опасения,
как бы те не помогли ему бежать. Один
из чекистов сказал отцу Каннегиссера:
«Ваш сын умер, как герой».
Леонид Каннегиссер в стихотворении
«Смотр» в июле 1917 г. писал:
И если, шатаясь от боли,
К тебе припалу я, о мать,
И булу в покинутом поле
С простреленной грулью лежать,
Тогла у блаженного вхола,
В прелсмертном и ралостном сне,
Я вспомню — Россия, Свобола,
Керенский на белом коне...
~ л *+- t -
Демонстрация 20 июня 1922 г. во время «процесса эсеров» у Дома Союзов.
Рисунок Аксельрола. («Рабочий». 1922 г.)
Николай Бухарин в 1926 г. говорил: «Не забудем, сколько
безымянных героев нашей Чека погибло в боях с врагом. Не
забудем, сколько из тех, кто остался в живых, представляют собой
развалину с расстроенными нервами, а иногда и совсем больных.
Ибо работа была настолько мучительна, она требовала такого
гигантского напряжения, она была такой адской работой, что
требовала поистине железного характера».
ОБРАЗОВАНИЕ ГПУ
Слишком большая власть ЧК вызывала в партии некоторое
недовольство. «Правда» писала в 1919 г., что лозунг «Вся власть
Советам!» подменяется лозунгом «Вся власть чрезвычайкам!».
Поэтому после окончания гражданской войны права
чекистов решено было ограничить. 6 февраля 1922 г. Совнарком
объявил об упразднении ВЧК
Вместо ЧК создавалось Главное политическое управление
(ГПУ). Чекисты теряли право судить и расстреливать (правда, уже в
октябре это право им вернули). Теперь все дела рассматривал суд.
Советский журналист Михаил Кольцов замечал: «Чека
перестроилась в ГПУ. В прежние годы рабочий, председатель
провинциальной Чеки, писал карандашом на обрывке постановления:
„Расстрелять Мильниченко как гада мировой буржуазии, а также
семерых с ним в камере". Теперь ГПУ работает под надзором
прокуратуры, совместно с судом...».
390
КАРАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
«Буквы „ГПУ" не менее страшны для наших врагов, чем
буквы „ВЧК", — говорил Григорий Зиновьев. — Это самые
популярные буквы в международном масштабе».
Название ведомства чекистов менялось ещё много раз. Так,
в 1923 г. оно превратилось в ОГПУ (Объединённое
государственное политическое управление).
«ПРОЦЕСС ЭСЕРОВ»
8 июня 1922 г. в Москве, в Колонном зале Дома Союзов (бывшем
Дворянском собрании), открылся знаменитый «процесс эсеров».
На скамье подсудимых оказались 22 эсера, в том числе 12
членов ЦК во главе с Абрамом Гоцем и Евгением Тимофеевым.
Большинство из них находились в тюрьме ещё с 1919 г. Эти
подсудимые держали себя стойко и вызывающе.
Некоторые из них, отвечая на вопрос о виновности,
признали себя виновными только в том, что недостаточно боролись с
властью большевиков. Кроме них на скамье подсудимых
оказались ещё 12 «раскаявшихся» эсеров. Теперь они признавали свою
вину и давали показания против своих бывших товарищей. Их
защиту вёл сам Николай Бухарин.
Почти одновременно с началом процесса объявили о
тяжёлой болезни Ленина. Сообщалось, что она вызвана раной,
полученной в 1918 г. во время покушения эсерки Ф. Каплан. Это
усилило враждебное отношение к подсудимым. Пункты обвинения
на суде гласили: «Попытка
покушения на тов. Ленина»,
«Покушение на Зиновьева и
убийство Урицкого», «Убийство тов.
Володарского», «Покушение на
тов. Троцкого»...
20 июня 1922 г.
исполнялось четыре года со дня
убийства Володарского. На Красной
площади в этот день состоялся
300-тысячный митинг с
требованием казни подсудимых.
Затем митингующие
направились к зданию суда.
Здесь произошла
следующая сцена. Подсудимых
подвели к распахнутым окнам. Они
оказались лицом к лицу с
бушующей толпой, которая
требовала их смерти. А.
Солженицын писал: «Они стояли под
градом оскорблений и
издевательств, в Гоца угодила доска
„Смерть
социалистам-революционерам"». Последнее слово подсудимого Лихача на
«ЛУБЯНКА»
В Москве ЧК заняла одно из зданий на
Лубянской площади. До 1917 г. в этом
доме помешалось страховое общество
«Россия».
От ЧК это здание по наследству
доставалось ГПУ, НКВД, КГБ, ФСБ
(Федеральной службе безопасности). К тому
же ведомству перешли и несколько
соседних зданий. Плошадь получила
имя Ф. Дзержинского (с 1991 г.
—снова Лубянская).
В 20-е и 30-е гг. москвичи
рассказывали такой анекдот: «После долгого
перерыва в Москву приехал житель
провинции. Указывая на „Лубянку", он
спрашивает:
— Теперь здесь, наверное, Госстрах?
— Нет, — отвечают ему, — Госужас».
«процессе эсеров».
391
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
В 20—30-е ГОДЫ
«ДЕЛО ТАГАНЦЕВА»
Одним из множества 1дел
Чрезвычайной комиссии стало дело
«Петроградской боевой организации» (1921 г.). Но
оно приобрело особенную
известность, т. к. по нему был расстрелян
поэт Николай Гумилёв.
Чрезвычайная комиссия назвала
«главой заговора» 30-летнего профессора-
географа Владимира Таганиева.
Арестованный, он полтора месяца молчал
на допросах. Но затем согласился
заключить со следователем Яковом
Аграновым «договор». Чекист обешал
передать дело в открытый суд и не
применять к арестованным смертной
казни. В обмен Таганиев обязался дать
«откровенные показания». Конечно,
чекист не мог считать себя связанным
«соглашением» с арестованным.
Таганиев этого, видимо, не понимал.
1 сентября «Петроградская правда»
сообщила о том, что по решению ЧК
расстрелян 61 «участник заговора».
Среди них были 16 женшин в возрасте от
20 до 60 лет.
Список казнённых открывал
профессор В. Таганиев. Под номером 13
значился Н. Гумилёв. По словам поэта, он
согласился принять участие в
Кронштадтском восстании, если оно
перекинется в Петроград. «Причём
указал, — писал Н. Гумилёв, — что мне,
по всей вероятности, удастся собрать
и повести за собой кучку прохожих,
пользуясь обшим оппозиционным
настроением. Я выразил также согласие
на попытку написания
контрреволюционных стихов».
Расстрел состоялся в ночь на 25
августа. Ешё более ста человек
приговорили к тюремному заключению.
Затем демонстранты вошли в зал и до поздней ночи
обвиняли и требовали казни. На следующий день в знак протеста
советские адвокаты подсудимых — Николай Муравьёв, Александр Тагер
и другие — отказались участвовать в суде. За этот отказ их
арестовали на несколько месяцев, а потом выслали.
7 августа председатель суда Георгий Пятаков объявил
решение суда: 12 подсудимых приговорили к расстрелу.
Но с исполнением приговора медлили. ВЦИК решил
«приостановить» его. От партии эсеров потребовали прекратить
борьбу. «Тем самым, — говорилось в декрете, — она освободит от
высшей меры наказания своих руководящих членов». В январе 1923 г.
Е. Тимофеев даже объявил голодовку, требуя исполнить
приговор или освободить его.
8 1924 г. приговор смягчили, и осуждённых эсеров
отправили в ссылку.
«ШАХТИНСКИЙ ПРОЦЕСС»
18 мая 1928 г. в том же Колонном зале начался «шахтинский
процесс». Этот показательный суд имел огромное значение для всей
страны. Начиналась борьба с «вредителями», «врагами с
логарифмической линейкой», как их называла печать.
На этот раз на скамье подсудимых было необычайно
многолюдно — 53 человека. Позднее на открытых судах уже не было
такого количества обвиняемых. Судили старых специалистов по
добыче угля — инженеров и техников. До ареста они работали в
Шахтинском и других районах Донбасса.
Подсудимые во время слушания
«шахтинекого дела».
392
КАРАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Председатель Верховного суда А. Вышинский оглашает приговор по
«ш ахти некому делу».
Подсудимые вели себя по-разному. Шестнадцать из них
целиком и полностью подтверждали свою вину. Они признавались,
что сознательно срывали добычу угля, устраивали завалы на
шахтах, в результате которых гибли шахтёры.
Но около половины обвиняемых отказались от своих
признаний, сделанных на следствии. Некоторые во время суда
признавались, через день брали признание назад, потом снова каялись.
5 июля председатель суда Андрей Вышинский объявил
приговор. Четверых подсудимых, в том числе двух немецких
граждан, оправдали. К расстрелу приговорили 11 человек (шестерых
из них позднее помиловали).
«Вредителей» после «шахтинского процесса» стали
обнаруживать и судить повсюду. Говорили, что они создавали
недостаток товаров в магазинах, без пользы расходовали казённые
деньги. Из-за них отключался иногда свет в домах, не было топлива,
опаздывали поезда. В ходе борьбы с «вредительством»
техническая интеллигенция прошла такую же коренную «переделку», как
и крестьянство во время раскулачивания.
После «шахтинского процесса» И. Сталин сказал: «„Шахтин-
цы" сидят теперь во всех отраслях промышленности. Многие из
них выловлены, но далеко ещё не все». В 1931 г. он говорил: «Года
два назад наиболее квалифицированная часть старой
технической интеллигенции была заражена болезнью вредительства.
Более того, вредительство составляло тогда своего рода моду».
Одновременно И. Сталин как бы подвёл черту под
кампанией, заметив: «Было бы глупо и неразумно рассматривать теперь
чуть ли не каждого специалиста и инженера старой школы как
непойманного преступника и вредителя».
СКОЛЬКО СОТРУДНИКОВ У ГПУ?
На Западе нередко обсуждался вопрос:
сколько человек тайно работает на
ГПУ? Известный советский журналист
Михаил Кольцов в 1927 г. по-своему
отвечал на этот вопрос. Он предлагал
представить, что ожидает
белогвардейца, проникшего в Советский Союз.
М. Кольцов ярко рисовал царящую в
стране обстановку бдительности: «Если
белый гость покажется
подозрительным, им тревожно заинтересуется
фракция жилтоваришества. На него
обратит внимание
комсомолец-слесарь, починяющий водопровод.
Прислуга начнёт пристальнее
всматриваться в показавшегося ей странным
жильца. Наконец, дочка соседа, пионерка,
услышав случайный разговор в
коридоре, вечером долго будет не спать,
что-то, лёжа в кровати, взволнованно
соображать. И все они сами пойдут в
ГПУ и сами расскажут о том, что
видели и слышали.
Не сорок, не шестьдесят, не сто тысяч
человек работают для ГПУ. Какие
пустяки! Миллион двести тысяч членов
партии, два миллиона комсомольцев,
десять миллионов членов профсоюза,
итого — свыше 13 миллионов по
самой меньшей мере. Если взяться этот
актив уточнить, несомненно, цифра
вырастет вдвое».
Б. Ефимов. «Раздавить гадину!»
393
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
К. Ротов. «Пол тёплым крылышком. Вредители: — Хорошая
птица — красный петух! Другие горят, а мы греемся». 1930 г.
Ю. Ганф. «„Партшляпа" : — Ло чего же люли близоруки:
в своём учреждении вредителей не разглядели. А ведь стоило
только вокруг себя посмотреть!» («Крокодил». 1930 г.)
Б. Ефимов. «Научная работа». 1930 г.
ДЕЛО «ПРОМПАРТИИ»
25 ноября 1930 г. в Москве в Колонном зале Дома Союзов
открылся ещё один показательный процесс над «вредителями».
На этот раз судили «Промышленную партию». Как
говорилось на суде, в ней состояло около 2 тыс. человек На скамье
подсудимых были только восемь из них. Зато в отличие от «шахтин-
ского процесса» все они полностью признавались. «Сознание
подсудимых является всё же лучшей уликой», — подчеркнул
обвинитель Николай Крыленко.
Кроме вредительства теперь звучали и более тяжкие
обвинения. «Промпартия» не только хотела захватить власть. Она ещё
и помогала французскому генштабу готовить иностранное
вторжение в Советский Союз.
Главный обвиняемый, профессор Леонид Рамзин,
признался также в связях с известными русскими капиталистами —
Рябушинским и Вышнеградским. Позднее, правда, выяснилось,
что они задолго до того умерли.
7 декабря судья А. Вышинский огласил приговор. Пятерых
394
КАРАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
подсудимых приговорили к смерти. Но ни один из них не был
казнён: расстрел заменили десятью годами заключения.
Суд произвёл сильное впечатление в обществе. Писатель
Максим Горький признавался в частной переписке: «Отчёты о
процессе подлецов читаю и задыхаюсь от бешенства». Инженер
К Ситнин, сын одного из подсудимых, в печати даже
потребовал смертной казни для своего отца.
Партийный журналист Карл Радек писал: «Попробуйте
изолировать ребят от таких событий, как процесс вредителей.
Среди детей, которых я знаю, помилование вредителей вызывало
целую бурю негодования. Как же это: предали страну, хотели
обречь на голод рабочих и крестьян — и не были расстреляны?».
«ПРОЦЕСС МЕНЬШЕВИКОВ»
1 марта 1931 г. перед Верховным судом СССР предстал ряд
бывших меньшевиков. Почти все они уже давно заявили о своём
разрыве с меньшевиками и работали в советских учреждениях.
Однако их обвиняли в продолжении подпольной деятельности.
Среди 14 подсудимых оказались видный экономист В. Громан,
историк Н. Суханов. (В октябре 1917 г. на его квартире
большевики решили вопрос о вооружённом восстании.)
На суде все обвиняемые признали свою
вину. 9 марта был объявлен приговор —
некоторые подсудимые получили по десять лет
заключения (остальные — меньшие сроки).
Почти все они погибли позднее в лагерях или были
расстреляны. Один из них, Михаил Якубович,
уцелел в заключении и дожил до 70-х гг. Он
рассказывал А. Солженицыну о своей беседе с
обвинителем — Н. Крыленко. «Михаил Петрович,
скажу Вам прямо: я считаю Вас коммунистом, —
заявил Крыленко. — Я не сомневаюсь в Вашей
невинности. Но наш с Вами партийный долг —
провести этот процесс. Прошу Вас всячески
помогать, идти навстречу следствию. А на суде в
случае непредвиденного затруднения, в самую
сложную минуту я попрошу председателя дать Вам
слово». После этого М. Якубович согласился
выступать на суде.
Другой подсудимый потом спросил
Якубовича, как он мог дать против него показания. «Весь
народ страдает — и мы, интеллигенты, должны
страдать», — отвечал Якубович.
В. Лени. «Революционная молния».
Плакат 1930 г.
Сверкает хишный глаз.
Оскалены клыки.
Послелний, острый взмах
Врелительской руки.
И — нет врелителя!
Его настигла кара.
Его пронзила и сожгла
Неотразимая стрела
Молниеносного улара!
Знай, враг, шагающий
к врелительской меже:
Наш часовой — настороже!
(Лемьян Белный.)
«ЕЖОВЩИНА»
На 1937—1938 гг. пришлись массовые аресты
среди образованных слоев общества. Начало
новой волны арестов совпало с назначением
РЕВОЛЮЦИОННАЯ МОЛНИЯ.
25е#*~»,
Сверкает хищный глаз. Оскалены клыки.
Последний, острый взмах вредительской руки
И-не*т вредителя! Его настигла кара.
Знай, враг, шагающий к вредительсиой неже:
НАШ ЧАСОВОЙ НАСТОРОЖЕ!
Его пронзила и сожгла
Неотразимая стрела
Молниеносного удара!
395
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
МАКСИМ ГОРЬКИЙ
И «ПРОЦЕСС ЭСЕРОВ»
Суд над эсерами вызвал резкий протест
у писателя Максима Горького. Он
направил письмо Алексею Рыкову,
который руководил тогда Совнаркомом.
Горький писал: «Если процесс
социалистов-революционеров будет
закончен убийством — это будет убийство с
заранее обдуманным намерением,
гнусное убийство. За время революции
я тысячекратно указывал Советской
власти на бессмыслие и преступность
истребления интеллигенции в нашей
безграмотной и некультурной стране.
Ныне я убеждён, что если эсеры будут
убиты, — это преступление вызовет со
стороны социалистической Европы
моральную блокаду России».
Кроме того, Горький попросил
французского писателя Анатоля Франса,
известного своими симпатиями к
Советской России, тоже выступить против
казни эсеров. Франс ответил
Горькому: «От всего сердца присоединяюсь,
дорогой Горький, к призыву Вашему по
адресу Советского правительства».
С письмом Горького ознакомился и
больной В. Аенин. 7 сентября 1922 г.
он писал Н. Бухарину: «Я читал
поганое письмо Горького. Думал было
обругать его в печати, но решил, что,
пожалуй, это чересчур».
Николая Ежова на пост главы НКВД. Поэтому аресты окрестили
«ежовщиной».
По подсчётам английского историка Роберта Конквеста, был
арестован примерно каждый двадцатый человек. Некоторые
группы населения уничтожались почти полностью — например,
«старые большевики». В Москве прошли три показательных суда
над бывшими руководителями партии (см. ст. «Партия
большевиков в 20—30-е годы»).
Но от ареста не был застрахован никто. Как вспоминала
Надежда Мандельштам, «не было дома в стране, где бы люди не
дрожали, прислушиваясь к шелесту проходящих машин и к гулу
поднимающегося лифта». По ночам люди с тревогой ждали появления
фургона для перевозки заключённых и стука чекистов в дверь.
Фургон называли «чёрным вороном» или «чёрной марусей».
Число смертных приговоров, по данным историка Роя
Медведева, выросло более чем в 300 раз: с 1116 в 1936 г. до 353 680 — в
1937 г. Родственникам о расстреле сообщали в зашифрованной
форме: «Десять лет отдалённых лагерей без права переписки».
После трёхсот лет забвения получила новую жизнь поговорка «Москва
слезам не верит». Действительно, никакие просьбы родственников
заключённых не могли изменить их судьбу
Писатель Лев Разгон рассказывал: «Осенью и зимой
тридцать седьмого года в Москве открылось множество странных
магазинов. Странных потому, что даже вывески на них —
„Распродажа случайных вещей" — были написаны на полотне, наспех.
Они были заполнены старой мебелью, потёртыми коврами,
подержанной или даже новой одеждой, разрозненными сервизами,
предметами антиквариата, картинами». Сюда поступало
имущество арестованных.
«Остерегись, Максим! Гляди, как бы и
тебя не пришлось зачеркнуть!»
Карикатура на М. Горького после его
выступления в защиту эсеров
(«Рабочий». 1922 г.).
В разгар арестов
торжественно отпраздновали 20-летие
создания ЧК Выступая на
юбилейном собрании в Большом
театре, А. Микоян воскликнул:
«Славно поработал НКВД за это
время!». Газета «Известия»
писала о его речи: «Товарищ
Микоян приводит замечательный
факт того, как в самых
различных уголках Советского Союза
рабочие, колхозники,
инженеры, взрослые и пионеры
помогают НКВД распознавать врагов
народа — подлых троцкистско-
бухаринских фашистских
шпионов. У нас каждый
трудящийся — наркомвнуделец». Андрей
Жданов замечал: «1937 год
войдёт в историю как год разгрома
врагов народа».
396
КАРАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Большинство арестованных не понимали смысла
происходящего. Писательница Евгения Гинзбург вспоминала: «У многих
были ещё иллюзии. Всё происходившее было слишком нелепо,
чтобы длиться долго, думали многие».
«ДЕЛО ТУХАЧЕВСКОГО»
Лето 1937 г. началось на тревожной для Красной армии ноте.
1 июня печать сообщила о самоубийстве главы Политуправления
РККА Яна Гамарника. Газеты писали, что он «запутался в своих
связях с антисоветскими элементами». Климент Ворошилов
назвал его в приказе «предателем и трусом».
11 июня последовало ещё более поразительное сообщение.
Несколько высших командиров Красной армии во главе с
маршалом Михаилом Тухачевским оказались замешаны в «заговоре
и измене». Уже около двух недель они были под арестом.
В тот же день состоялся закрытый суд. Неожиданное
стечение обстоятельств соединило в зале суда 16 человек,
считавшихся «цветом и гордостью Красной армии». Но половина из них
сидела за судейским столом, половина — на скамье подсудимых.
Судили маршала Михаила Тухачевского, командармов Иону
Ю. Узбяков.
«Язык мой — враг мой.
— Что, Иван Петрович, зубы?
— Хуже: душа болит. Завтра наш завол
принимает секретный заказ — боюсь,
как бы об этом не проболтаться».
Рисунок, посвященный «борьбе
за бдительность». («Крокодил». 1953 г.)
«ПРОЦЕСС ЭСЕРОВ»
И СОЦИАЛИСТЫ
О предстоящем суде над эсерами
советские газеты объявили заранее,
28 февраля 1922 г.
Вскоре после этого, в апреле, в
Берлине открылось совещание трёх
Интернационалов. Европейские социалисты
горячо протестовали против процесса
над эсерами. Под их давлением
представители Коминтерна — Н. Бухарин
и К. Радек — дали письменное
заверение, что к подсудимым не применят
смертную казнь.
В. Ленин осудил это обещание в статье
под заголовком «Мы заплатили
слишком дорого». Формально
обязательство не разорвали. Но суд позднее
заявил, что он им нисколько не связан.
Представители социалистов прибыли
на процесс, чтобы выступить
адвокатами обвиняемых. В их числе были
Эмиль Вандервельде и Теодор Либ-
кнехт (брат погибшего Карла Либкнех-.
та). На вокзале в Москве их встретила
свистящая толпа с плакатами:
«Адвокатам контрреволюции. Господин
министр Вандервельде, когда Вы будете на
скамье подсудимых Революционного
Трибунала? Теодору Либкнехту—Каин,
Каин! Гдебраттвой Карл?! Смерть
убийцам и предателям!».
Демонстранты распевали:
Елет, елет Ванлервельле,
Елет к нам всемирный хам.
Конечно, ралы мы гостям.
Олнако жаль, что нам, лрузья,
Его повесить злесь нельзя!
Вскоре гости пришли к выводу, что
их присутствие бесполезно и только
создаёт видимость законного суда.
19 июня они покинули Москву.
397
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
ЛЕОНИД РАМЗИН
Главным обвиняемым на процессе
«Промпартии» стал 43-летний
профессор Леонид Рамзин. В 1922 г.
В. Ленин писал о нём: «Рамзин —
лучший топливник в России. В лице Рам-
зина мы имеем человека, безусловно
добросовестно работающего для
Советской власти».
Арест Л. Рамзина как «вредителя» в
1930 г., очевидно, стал для него
немалым потрясением и неожиданностью.
Однако он согласился на следствии
признать себя руководителем
«Промпартии».
О подготовке суда вспоминал
академик Михаил Кирпичёв: «Я просил и
требовал устроить мне очную ставку
с Рамзиным. Очная ставка была
разрешена. Перед встречей я много
думал над вопросами, какие я должен
задать Рамзину, чтобы доказать мою
невиновность и неучастие в
„Промпартии". Сильно волнуясь, я сразу задал
несколько вопросов: „Встречались ли
мы наедине? Бывали ли мы дома друг
у друга?..".
Встал Рамзин, опрятно одетый, в
белой рубашке, с красивым галстуком,
спокойно сказал следующее: „Я
подтверждаю, что мы не встречались
наедине, я у Вас на квартире никогда не
был, и Вы не были у меня... Да, я был
главным в „Промпартии" и был
активным руководителем её деятельности.
Вы являетесь членом этой партии. Вы
принимали активное участие в
работе по моему заданию. В этой работе
нам лично встречаться не нужно, так
как из-за условий конспирации
работа в нашей партии была организована
по группам — тройки, пятёрки и
семёрки. Вы состоите в одной из
пятёрок... Наша партия разоблачена
органами ОГПУ, и Вы должны признаться
в содеянном, это поможет смягчить
нашу участь в приговоре суда"».
«От этой наглой лжи, — рассказывал
М. Кирпичёв, — мне стало плохо, я не
смог даже выругаться. Я оказался
„вредителем" и получил шесть лет
заключения».
На суде Леонида Рамзина
приговорили к смертной казни, но затем
помиловали. Не казнили и никого из его
«соратников».
Б. Ефимов. «Немного просчитались!
Министерство проф. Рамзина». 1930 г.
Б. Ефимов. «Тройка удалая.
Громан, Кондратьев, Рамзин». 1931 г.
Якира, Августа Корка и Иеронима Уборевича, комкора Витовта
Путну и др.
В число судей вошли маршалы Василий Блюхер, Семён
Будённый, командармы Павел Дыбенко, Борис Шапошников и др.
Писатель Илья Эренбург вспоминал взволнованный рассказ
одного из судей на процессе, командарма Ивана Белова. «Они вот
так сидели, напротив нас, — сказал Белов. — Уборевич смотрел
мне в глаза. А завтра меня посадят на их место». (Ивана Белова
действительно расстреляли в июле 1938 г.)
Продолжался суд около трёх часов. Подсудимые говорили
о своей преданности родине, верности Советской власти и
И. Сталину. Однако всех их приговорили к смертной казни.
Приговор привели в исполнение в тот же день.
Как всегда, по всей стране прошли собрания, участники
которых голосовали за смертную казнь всех арестованных. В
одной из воинских частей младший командир Демидов
воздержался при голосовании. Он сказал, что нельзя до суда требовать
смертной казни. В тот же день его арестовали.
Поэт Александр Безыменский писал:
Беспутных Пути фашистская орда,
Гнусь Тухачевских, Корков и Якиров
В огромный зал советского суда
Приведены без масок и мундиров.
И видит мир, что это подлецы,
Стариннейшие «ваши благородья»,
Дворянчики, убийцы и лжецы,
Буржуйских свор отвратное отродье.
398
КАРАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
СОВЕТСКОЙ власти
АРЕСТЫ В КРАСНОЙ АРМИИ
После суда над Тухачевским в Красной армии прошла волна
массовых арестов. Они продолжались до 1939 г.
Из пяти человек, получивших в 1935 г. звание маршала,
уцелели двое — К Ворошилов и С. Будённый. Погибли маршалы
М. Тухачевский, А Егоров и В. Блюхер. По этому поводу тогда
распространилась невесёлая шутка: «„Носит ли каждый советский
солдат маршальский жезл в своём ранце?" — Ответ: „Чтобы
бесславно погибнуть в мирное время?"».
Маршал Василий Блюхер умер во время следствия 9 ноября
1938 г. Перед этим его видели очень сильно избитым, один глаз
был выбит. Александра Егорова расстреляли 23 февраля 1939 г.,
в праздник Красной армии.
В феврале 1936 г. Л. Рамзина уже
полностью амнистировали. Он продолжал
свою научную работу и стал
изобретателем промышленного прямоточного
котла («котла Рамзина»). В1943 г. за это
он получил орден Ленина и Сталинскую
премию первой степени.
Но на тайных выборах в состав
Академии наук Л. Рамзина ожидало
поражение. Члены Академии не пожелали
видеть его в своей среде: из 25
академиков только один проголосовал за него.
Скончался Леонид Рамзин в 1948 г.
Из 15 человек,
получивших в 1935 г. звания
командармов, расстреляли 13.
Более 40 тыс. командиров
армии и флота арестовали с
лета 1937 по осень 1938 г.
Потери составляли примерно
половину всего командного
состава.
Последние казни
советских военачальников
происходили уже в 1941 г., в первые
месяцы войны. 28 октября в
Куйбышеве (ныне Самара)
расстреляли генералов Григория
Штерна, Якова Смушкевича,
Александра Локтионова и др.
В мае 1941 г. немецкий
генерал Франц Гальдер писал в
своём дневнике: «Русский
офицерский корпус производит
жалкое впечатление. России
потребуется 20 лет, чтобы он
достиг прежнего уровня».
ПОСЛЕ СНЯТИЯ ЕЖОВА
К концу 1938 г. массовые
аресты и расстрелы, видимо,
достигли своих целей.
Определённые группы населения были
почти уничтожены, другие
прошли серьёзную «чистку».
8 декабря 1938 г. со своего
поста был смещён нарком
внутренних дел Николай Ежов. Эту
должность занял Лаврентий
Берия.
К. Ротов. «Враг принимает окраску
той среды, в которой он находится» («Крокодил». 1937 г.).
399
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
ГЕНРИХ ЯГОДА
После смерти в 1926 г. Феликса
Дзержинского во главе ОГПУ встал
Вячеслав Менжинский. Как и его
предшественник, по рождению он был
польским дворянином. К тому времени он
уже тяжело болел. «На официальных
заседаниях Менжинский обычно
полулежал с перекошенным лицом», —
вспоминал Лев Троцкий.
Действительное руководство перешло
в руки 35-летнего Генриха Ягоды.
Наркомом НКВД он стал в 1934 г.
Будущий глава чекистов родился в
Нижнем Новгороде в семье
ремесленника. В 1907 г. стал большевиком. Два
года провёл в ссылках.
До революции Ягода, по его словам,
работал аптекарем. Любовь к этой
профессии сохранилась у него и позднее.
Говорили, что в НКВД он создал целую
лабораторию по изучению различных
ядов. В 1938 г., когда он оказался на
скамье подсудимых вместе с Н.
Бухариным, ему тоже припомнили это
увлечение. Теперь его обвинили в том,
что он будто бы покушался на Н.
Ежова, приказав опрыскать ядом стены его
кабинета.
Сместили и арестовали Генриха Ягоду
в 1936 г. Во время следствия в камере
его несколько раз навешал начальник
советской разведки Слуцкий. Бывшие
коллеги по-дружески беседовали.
Чекист-перебежчик А. Орлов
рассказывал:
«Во время одного из этих свиданий
Ягода сказал ему: „Наверное, Бог всё-
таки существует!".
— Что такое? — удивлённо
переспросил тот.
— Очень просто, — ответил Ягода то
ли серьёзно, то ли в шутку. — От
Сталина я не заслужил ничего, кроме
благодарности за верную службу; от Бога
я должен был заслужить самое
суровое наказание за то, что тысячу раз
нарушал его заповеди. Теперь
погляди, где я нахожусь, и суди сам: есть
Бог или нет...».
В марте 1938 г. Генрих Ягода был
приговорён к расстрелу и казнён.
Как троцкнстско-зиновьевские бандиты
либерала...
выгладят сквозь розовые очки благодушной
Ю. Ганф. «Далеко ведущая оптическая иллюзия» («Кроколил». 1936 г.).
В. Менжинский.
400
Г. Ягода,
КАРАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Число арестов после этого резко сократилось. В сторону
отложили тысячи доносов и начатых новых дел. Писатель
Константин Симонов замечал: «Начало деятельности Берии в Москве было
связано с многочисленными реабилитациями, прекращением дел
и возвращением из лагерей десятков, если не сотен, тысяч людей».
По другим оценкам, на свободу отпустили около 3 тыс. человек
Среди них были будущие маршалы К Рокоссовский, К Мерецков,
генерал армии А. Горбатов, поэтесса О. Берггольц, физик Л. Ландау.
Но аресты и расстрелы не прекратились и в новую эпоху. В
частности, в 1940 г. казнили писателя И. Бабеля, журналиста М.
Кольцова, режиссёра В. Мейерхольда. Погиб в заключении академик
Н. Вавилов. Вскоре после отставки Ежова было почти поголовно
уничтожено всё поколение «ежовских чекистов».
Массовые аресты и расстрелы 1937—1938 гг. многие теперь
связывали с именем бывшего наркома. Как вспоминал
конструктор А. Яковлев, в начале войны И. Сталин сказал ему: «Ежов —
мерзавец. Многих невинных погубил. Мы его за это расстреляли».
«БЕЗРОДНЫЕ КОСМОПОЛИТЫ»
В предвоенные годы и во время войны произошли серьёзные
изменения государственной идеологии. Усилился вес
патриотических и национальных идей (см. ст. «Жизнь советского общества»).
В 1948 г. началась кампания борьбы с «низкопоклонством
перед Западом». Печать осуждала людей, слишком увлечённых
западным искусством. Проявления «низкопоклонства» находили
во многих бытовых мелочах. Например, «французскую булку»
переименовали в «городскую». Ещё в 1947 г. советским гражданам
запретили браки с иностранцами.
Поэт Сергей Михалков писал:
Мы знаем, есть егцё семейки,
Где нагие хают и бранят,
Где с умилением глядят
На иностранные наклейки,
А сало — русское едят!
Подчёркивалось, что именно в России изобрели паровоз и
теплоход, телефон, радио и самолёты. Почти у каждого
изобретения или открытия — от пенициллина до электрической
лампочки — находился русский первооткрыватель. «Россия —
родина слонов», — шутили в народе над этой кампанией.
В январе 1949 г. «Правда» резко осудила
«антипатриотическую группу театральных критиков». «Эти критики, — писала
газета, — являются носителями глубоко отвратительного для
советского человека, враждебного ему безродного
космополитизма! Им чуждо чувство национальной советской гордости».
Почти все названные критики были евреями. Вскоре выяснилось,
что «безродными космополитами», «людьми без роду, без
племени», как правило, оказываются евреи. От писателей-евреев
требовали не скрывать свою национальность под русскими
псевдонимами. Из Большого зала консерватории даже убрали портрет
«ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРАСНЫЙ
КРЕСТ»
В 20-е и 30-е гг. в СССР открыто
действовала правозащитная организация —
«Политический Красный Крест».
Писатель Лев Разгон замечал, что это
учреждение было «чужеродно нашей
системе до такой степени», что после
войны чекисты отказывались в него
верить.
В Москве его возглавляла первая
жена Максима Горького Екатерина
Пешкова (1888—1965). В приёмной
«Красного Креста» всегда толпились
родственники политзаключённых.
Здесь очень быстро узнавали, в какую
тюрьму попал арестованный, как
принести ему передачу или получить
свидание. Сообщали о вынесенном
приговоре. Нуждающиеся могли бесплатно
взять одежду и продукты для посылки
в лагерь (эту помощь присылали
благотворители из-за граниты).
Постоянным помощником Е. Пешковой
был М. Винавер. Надежда
Мандельштам называла его «одним из
последних людей, не утративших в нашей
сумятице правового мышления и упорно
боровшихся с насилием».
Н. Мандельштам вспоминала: «Жёны
арестованных проторили дорогу в
„Политический Красный Крест" к
Пешковой. Туда ходили в сущности
просто отвести душу. Влияния „Красный
Крест" не имел никакого. В 1937 г. эту
странную организацию ликвидировали.
Ведь самая идея помощи
политзаключённым находится в явном
противоречии со всем нашим укладом».
После закрытия «Политического
Красного Креста» всех его сотрудников
арестовали. На свободе осталась одна
Е. Пешкова.
401
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
Н. Ватлина и Н. Денисов. Плакат 1941 г.
МЕТОЛ «ФИЗИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ»
Главным методом допросов в ГПУ и
НКВД с 20-х гг. всегда был
«следственный конвейер». Сменяя друг друга,
следователи вели допрос круглые сутки.
Заключённый лишался сна. Большая
часть подследственных выдерживала
только двое суток «конвейера».
Но в 1937 г. число арестованных
резко увеличилось. На «конвейер» теперь
тратилось слишком много времени.
Поэтому был разрешён более простой
метод «физического воздействия».
«Физическое воздействие» стало
особенно широко применяться летом
1937 г. Писательница Евгения Гинзбург
вспоминала свою первую ночь в
Бутырской тюрьме в июле этого года:
«Началось всё сразу, без всякой подготовки,
без какой-либо постепенности. Не один,
а множество криков и стонов
истязаемых людей ворвались сразу в открытые
окна камеры. Над волной воплей
пытаемых плыла волна криков и ругательств,
изрыгаемых пытающими». Чтобы
заснуть и не слышать криков, остальные
заключённые залепляли уши хлебом.
Вскоре после смешения Н. Ежова
аресты пошли на убыль, официально
осуждались «перегибы». Многие
следователи сомневались, можно ли теперь
применять «физическое воздействие».
Поэтому 20 января 1939 г. на места
была разослана телеграмма:
«UK ВКП(б) разъясняет, что
применение физического воздействия в
практике НКВД было допущено с 1937 г. с
разрешения UK ВКП(б). Известно, что
все буржуазные разведки применяют
физическое воздействие в отношении
представителей социалистического
пролетариата, и притом применяют его
в самых безобразных формах.
Спрашивается, почему социалистическая раз-
БУДЬ НА ЧЕКУ.
В ТАКИЕ ДНИ
ПОДСЛУШИВАЮТ СТЕНЫ.
НЕДАЛЕКО ОТ БОЛТОВНИ
И СПЛЕТНИ
ДО ИЗМЕНЫ.
композитора Ф. Мендельсона. В своё время, в 1931 г., И. Сталин
заявлял: «Антисемитизм как крайняя форма расового
шовинизма является наиболее опасным пережитком каннибализма.
Активные антисемиты караются по законам СССР смертной казнью».
Теперь появилась ироническая поговорка: «Чтоб не прослыть
антисемитом, зови жида космополитом».
Ранним утром 13 января 1948 г. один минский рабочий, идя
на завод, обнаружил на улице тело убитого человека. Рядом с ним
402
КАРАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
лежала сломанная трость. На виске были заметны след от удара
и кровоподтёк Это было тело артиста Соломона Михоэлса,
руководителя Еврейского театра в Москве и Еврейского
антифашистского комитета. Дочь Сталина Светлана вспоминала, как
случайно услышала в этот день телефонный разговор отца. Он
долго слушал, а потом утвердительно сказал: «Ну... автомобильная
катастрофа». Потом обернулся к ней и сообщил о гибели
Михоэлса. «Автомобильная катастрофа, — считала Светлана, — была
официальной версией, предложенной моим отцом, когда ему
доложили об исполнении...»
21 ноября 1948 г. Еврейский антифашистский комитет
закрыли, а через год всех его членов арестовали. 8 мая 1952 г. над ними
начался закрытый суд. Главным обвинением послужил их проект
создания в Крыму еврейской автономии. 18 июля объявили
приговор: расстрел для 13 подсудимых. Казнь состоялась 12 августа.
Среди расстрелянных были известный поэт Перец Маркиш, актёр
Зускин, который после смерти Михоэлса руководил Еврейским
театром. Театр закрыли ещё раньше «за нерентабельностью».
13 января 1953 г., в годовщину гибели С. Михоэлса, его имя
вновь попало на страницы газет. Теперь о нём писали как о
вдохновителе «убийц в белых халатах», «известном еврейском
националисте». Ходили слухи о готовящейся высылке всех евреев в
ведка должна быть более гуманна в
отношении заядлых агентов
буржуазии, заклятых врагов рабочего класса
и колхозников?
UK ВКП(б) считает, что метод
физического воздействия должен
обязательно применяться и впредь в виде
исключения в отношении явных и
неразоружившихся врагов народа, как
совершенно правильный и
целесообразный метод».
Основным способом «физического
воздействия)) осталась порка резиной.
В январе 1940 г., незадолго до
расстрела, режиссёр Всеволод
Мейерхольд так описывал этот способ в
письме Вячеславу Молотову:
«Меня здесь били — больного
66-летнего старика, клали на пол лицом вниз,
резиновым жгутом били по пяткам и
по спине; когда сидел на стуле, той же
резиной били по ногам (сверху, с
большой силой) и по местам от колен до
верхних частей ног. И в следующие
дни, когда эти места ног были залиты
обильным внутренним
кровоизлиянием, то по этим красно-сине-жёлтым
кровоподтёкам снова били этим
жгутом, и боль была такая, что казалось,
что на больные чувствительные места
ног лили крутой кипяток (я кричал и
плакал от боли)».
Л. Генч. «Точность клеветника.
— В Вашем заявлении не оказалось
ни слова правды.
— А фамилии, имена?!»
(«Крокодил». 1953 г.)
403
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
В 20—30-е ГОДЫ
ПОДПИСЬ ПАСТЕРНАКА
Во время показательных процессов
30-х гг. в газетах публиковались
коллективные письма рабочих,
колхозников и интеллигенции с требованиями
уничтожить подсудимых «как бешеных
псов».
Поэт Борис Пастернак говорил, что
подпись под этими опубликованными
письмами считалась знаком
официального доверия и милости. Подпись
Пастернака тоже появлялась несколько раз
под подобными письмами.
Но однажды он открыто отказался
подписать «расстрельное» письмо. Сам
Борис Леонидович позднее
вспоминал: «В 1937 г., когда был процесс по
делу Якира, Тухачевского и других,
среди писателей собирали подписи
под письмом, одобряющим смертный
приговор. Пришли и ко мне. Я
отказался подписать. Это вызвало страшный
переполох». Отказываясь, Пастернак
сказал: «Как я могу желать их смерти?
Я им жизнь не давал, я им не судья.
Пусть мне грозит та же участь, я готов
погибнуть в обшей массе. Это, в конце
концов, не контрамарки в театр
подписывать».
Кроме того, Пастернак отправил
письмо Сталину. «Я писал, что вырос в
семье, где очень сильны были
толстовские убеждения, всосал их с молоком
матери, что он (Сталин) может
располагать моей жизнью, но себя я считаю
не вправе быть судьёй в жизни и
смерти других людей».
«В ту ночь мы ожидали ареста, —
рассказывал Пастернак. — Но,
представьте, я лёг спать и сразу заснул
блаженным сном. Давно я не спал так крепко
и безмятежно».
Однако на следующий день его
ожидало более тяжёлое потрясение: 15 июня
1937 г. «Литературная газета»
напечатала письмо писателей под заголовком
«Не дадим житья врагам Советского
Союза». И хотя список подписей
заканчивался словами «и др.», там была и
подпись Пастернака! Прочитав газету,
он расплакался от чувства
собственного бессилия. «Они меня убили», —
сказал он. В Союзе писателей ему
объяснили, что якобы произошла «ошибка».
Но исправить её, конечно, было
невозможно.
Л. Генч. «— Это Вы нашли в мусоре секретный документ, который я потерял?
— Я.
— Объявляю Вам благодарность за бдительность!»
Рисунок, посвященный «борьбе за бдительность». («Крокодил». 1953 г.)
Сибирь. Но после смерти Сталина эта кампания неожиданно
оборвалась (см. ст. «Оттепель»).
«ЛЕНИНГРАДСКОЕ ДЕЛО»
Во время войны аресты и расстрелы среди высших руководителей
страны прекратились. Но «гарантию неприкосновенности» они так
и не получили, и это подтвердило «ленинградское дело». Оно
началось весной 1949 г. На выборах партийного руководства в
Ленинграде несколько голосов было подано «против». Но эти
результаты скрыли и объявили о единогласном избрании. Такое
«нарушение партийной демократии» стало толчком к началу дела.
Затем руководителей города обвинили в намерении перенести
столицу России в Ленинград. (Подобная идея действительно
существовала, при этом столица Союза осталась бы в Москве.)
Обвинения росли, как снежный ком. Арестовали
ленинградцев — члена Политбюро Н. Вознесенского, секретаря ЦК А
Кузнецова, руководителя городских коммунистов П. Попкова и др.
1 октября 1950 г. состоялся закрытый суд, который
приговорил их и ещё троих подсудимых к смертной казни. Всего же
по делу арестовали около 2 тыс. ленинградских партийных
работников.
ВО ВРЕМЯ «ОТТЕПЕЛИ»
После смерти Иосифа Сталина в 1953 г. все члены Президиума
ЦК желали покончить с «чистками» и арестами в своей среде.
Всех объединяла надежда на то, что наступит спокойная и
безопасная жизнь.
404
КАРАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Понимая это, возглавивший МВД Л. Берия предлагал в этом
направлении далеко идущие перемены. Но остальные
руководители сохраняли к его ведомству глубокое недоверие и страх.
Поэтому в июне 1953 г. Лаврентий Берия был арестован и вскоре
расстрелян (см. ст. «Оттепель»).
Арестовали и расстреляли ещё ряд видных чекистов. Так, в
декабре 1954 г. казнили бывшего министра госбезопасности
Виктора Абакумова. В 1955 г. расстреляли главу
азербайджанской компартии чекиста Джафара Багирова.
Влияние МВД на высшее руководство этими «чистками»
было почти уничтожено. Госбезопасность оказалась «под
контролем партии» и на время утратила значение самостоятельной
политической силы.
В 1966 г. после 20-летнего перерыва вновь прошёл
открытый политический процесс. Судили писателей Ю. Даниэля и
А. Синявского. Впервые после «процесса эсеров» в 1922 г.
подсудимые решительно отрицали свою вину. Кроме того, впервые
возникли широкие общественные протесты.
Б. Пастернак.
СТОВКА ИНТЕРВЕНТОВ БИТА!
В. Аени. Плакат, посвяшённый «лелу Промпартии». 1931 г.
СЛАВА РУССКОМУ
НАРОДУ-БОГАТЫРЮ, НАРОДУ-СОЗИДАТЕЛЮ!
В. Иванов. Плакат, посвяшённый борьбе с «безродным
космополитизмом». 1947 г.
405
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
Суд над Даниэлем и Синявским обозначил начало новой
эпохи развития общества. Изменились и задачи чекистов. Их
организация получила новое название — Комитет государственной
безопасности (КГБ). Теперь чекисты преследовали в основном
открытых противников государственного порядка (см. ст.
«Диссидентское движение»).
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ
В СТРАНЕ СОВЕТОВ
Как известно, в день своего прихода к
власти большевики полностью
отменили смертную казнь. Первые «сто дней»
Советской власти казней
действительно не было.
24 февраля 1918 г. ЧК впервые
произвела расстрел без суда — по
уголовному делу.
Первая «судебная» казнь состоялась
21 июня по приговору Верховного
ревтрибунала. За «контрреволюцию»
расстреляли адмирала Алексея Шастного,
командующего Балтийским флотом.
Против этого резко возражали левые
эсеры, напоминая об отмене казни. В
знак протеста они вышли из состава
трибуналов. «Мы не заметили, —
писал потом бывший нарком юстиции
левый эсер Штейнберг, — что этими
вначале узкими воротами к нам
вернулся со своими чувствами и
орудиями тот же самый старый мир».
Знаменитый матрос-большевик Павел
Дыбенко писал 30 июля в газете
«Анархия»: «Мы не повинны в этом
позорном акте восстановления смертной
казни и в знак протеста выходим из
рядов правительственных партий.
Пусть правительственные коммунисты
после нашего заявления-протеста
ведут нас, тех, кто боролся и борется
против смертной казни, на эшафот,
пусть будут и нашими гильотиншика-
ми и палачами».
В феврале 1920 г. казнь отменили во
второй раз. Правда, только в тылу —
не на фронте. В. Аенин говорил об
этом: «Как только мы одержали реши-
В. Васильев.
Но пригвожлённым к лелу взглядом,
Не озираяся кругом,
Недосмотреть легко, что рялом
Ползёт смертельным полный ялом
Злой гад, полосланный врагом...
(Демьян Бедный.)
(«Крокодил». 1953 г.)
406
КАРАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Д. Генч. «В порядке перестраховки.
— Почему Вы не прогоните этого клеветника?
— Боюсь, как бы он и меня не оклеветал» («Кроколил». 1953 г.).
тельную победу, ешё до окончания
войны, мы отказались от применения
смертной казни и этим показали, что к
своей собственной программе мы
относимся так, как обешали». Но уже
24 мая, после начала войны с Польшей,
казнь официально восстановили.
По утверждению Н. Хрущёва, с 1921
по 1954 г. только за
«контрреволюционные преступления» казнили не
менее 642 тысяч человек.
С апреля 1943 г. появился новый вид
смертной казни — повешение. Так
казнили военных преступников.
25 мая 1947 г. казнь отменили — уже
в третий раз. Взамен ввели 25-летний
срок заключения. Эта отмена
продержалась дольше всего — почти три года.
Но 12 января 1950 г. «по просьбам
трудящихся» смертную казнь ввели
снова — для «изменников родины,
шпионов и подрывников-диверсантов».
В последующие годы применение
казни постепенно расширялось. В1961 г.,
например, её ввели за «хищения в
особо крупных размерах» и «валютные
операции». Известность получило дело
Рокотова и Файбишенко. За торговлю
драгоценностями и валютой их
приговорили к 15 годам заключения ешё до
выхода нового указа. Однако они не
скрывали, что продавали
драгоценности родственникам высшего
руководства. После указа их судили второй
раз — и приговорили к смерти.
К концу 80-х гг. в СССР совершалось
около трети от обшего числа смертных
казней во всём мире. В 1962—1990 гг.
в стране расстреляли свыше 22 тысяч
человек.
Ю. Ганф. «Ротозейская идиллия, или Волк
в овечьей шкуре» («Кроколил». 1953 г.).
407
к СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
| В 20—30-е ГОДЫ
Н. Лисогорский.
«Иван Петрович тщательно запер сейф.
Не забыл запереть дверь кабинета.
И только рот забыл закрыть».
Рисунок, посвященный «борьбе
за бдительность». («Крокодил». 1953 г.)
«ТРОЙКИ» И ОСОБОЕ
СОВЕЩАНИЕ
После создания ГПУ в 1922 г. чекисты
временно лишились права выносить
приговоры. Но это продлилось
недолго. Вскоре в Москве создали
знаменитую «тройку» ГПУ.
В отличие от обычных судов она
заседала заочно, за закрытыми
дверями. Приговорённым давали прочесть
выписку из её решения, отпечатанную
на машинке.
Сначала «тройка» могла лишь
приговаривать к заключению на три года, а
расстреливать—только «вооружённых
бандитов». Но права её постепенно
расширялись. По официальным
данным, в 1924 г. «тройка» ОГПУ
приговорила к расстрелу 650 человек — на
35 человек больше, чем все суды
Советской России.
10 июля 1934 г. столичная «тройка»
получила название Особого совещания
НКВА (ОСО). Вначале оно тоже
только заключало в лагерь на пять лет, но
вскоре получило право и
расстреливать. Судило ОСО не по статьям
уголовного кодекса, а по особым,
«литерным» статьям. Вот самые
распространённые из них:
СВЭ—социально вредный элемент
(самая лёгкая статья — уголовник,
«бытовик»);
СОЭ — социально опасный элемент
(самая лёгкая «политическая» статья);
АСА — антисоветская агитация;
ПШ — подозрение в шпионаже;
КРА — контрреволюционная
деятельность.
Иногда последняя статья превращалась
в «КРТА» — «контрреволюционная
троцкистская деятельность». Жизнь
таких заключённых в лагерях
становилась особенно тяжёлой.
Кроме того, в приговорах ОСО часто
встречалась статья «ЧСИР» — «член
семьи изменника родины».
На ОСО выносились дела, по которым
не хватало доказательств. Среди
заключённых бытовала пословица «На
нет и суда нет, но есть Особое
совещание».
В 1937 г., в разгар массовых арестов,
суды не справлялись с резко
возросшим объёмом работы. Поэтому в
августе того же года в помошь им в
каждой области создали «разгрузочную
тройку». В «тройку» входили первый
секретарь обкома, начальник HKJ3A и
областной прокурор.
Эти «тройки» получили право заочно
выносить любой приговор. Они
помогли «разгрузить» суды от переизбытка
работы в самое «горячее» время. В
конце 1938 г., как только волна
массовых арестов миновала, эти «тройки»
распустили.
В 1953 г., после расстрела Л. Берии,
права чекистов резко ограничили.
Отныне они могли только вести следствие,
но не судить и выносить приговоры. В
сентябре 1953 г. Особое совещание
упразднили. Теперь все дела должны
были проходить через суды.
ЧЕКИСТЫ
ФЕЛИКС ДЗЕРЖИНСКИЙ
(1877—1926)
ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
Будущий создатель грозной Чрезвычайной комиссии Феликс
Эдмундович Дзержинский родился 30 августа 1877 г. в
дворянской семье. Место его рождения — имение Дзержиново под
Вильно (ныне Вильнюс). Кроме Феликса в семье было шестеро детей.
Рано потеряв отца, Дзержинские жили довольно бедно.
Феликс рос глубоко верующим католиком. «До 16 лет я был
фанатически религиозен», — признавался он позднее. С
помощью веры мальчик мечтал спасти и очистить весь мир от зла и
несправедливости. Однажды брат спросил его, как он
представляет себе Бога. «Бог — в сердце! — горячо воскликнул Феликс. —
А если я когда-нибудь пришёл бы к выводу, что Бога нет, то
пустил бы себе пулю в лоб! Без Бога я жить не могу...»
11-летний Феликс твёрдо решил стать священником.
Однако дядю мальчика, который сам был ксендзом, смущала слишком
страстная, по его мнению, вера Феликса. Она скорее
приличествовала проповеднику первых веков христианства и мало
соответствовала привычному облику священника конца XIX
столетия... Дядя постарался отговорить племянника от принятия
духовного сана, ссылаясь на чересчур пылкую и горячую натуру
Феликса. Тот неожиданно уступил... Но мальчик не мог верить во
что-то наполовину, не отдавая вере всего себя.
В 1894 г. в мировоззрении Феликса произошёл перелом.
Юноша совершенно разочаровался в религии. Обучаясь в Ви-
ленской гимназии, он вошёл в кружок социал-демократической
молодёжи. Польский руководитель Юзеф Пилсудский,
окончивший ту же гимназию, так вспоминал о Феликсе Дзержинском:
«Среди учеников он выделялся деликатностью и скромностью.
Достаточно высокого роста, щуплый, оставлял впечатление
аскета. Лицо, как с иконы...».
В 1895 г. Феликс стал социал-демократом. Год спустя он по
собственному желанию оставил гимназию. «Из гимназии
выхожу сам, — писал он в автобиографии, — добровольно, считая, что
409
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
ФЕЛИКС ДЗЕРЖИНСКИЙ
В ЗАКЛЮЧЕНИИ
Первую мировую войну Феликс Эдмун-
лович встретил в тюремной камере. С
началом военных действий в 1914 г.
заключённых отправили из Варшавы в
глубь России, в город Орёл. По дороге
в поезде они начали петь
революционные песни. Из арестантского вагона
гремело:
Вихри враждебные веют нал нами,
Тёмные силы нас злобно гнетут.
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас ешё сульбы безвестные жлут.
Но мы полнимем горло и смело
Знамя борьбы за рабочеелело...
Начальник конвоя потребовал
прекратить пение. Заключённые не
подчинились. «Не кормить, пока не перестанут
петь! — приказал он.—Они у меня ешё
запоют по-другому!» Заключённых
действительно перестали кормить. Но они
не сдавались: пение возобновлялось на
каждой следующей остановке. Прошли
сутки, вторые... Среди арестованных
начались голодные обмороки. Ф.
Дзержинский потребовал вызвать
начальника конвоя. Тот вначале отказался
явиться. Феликс Эдмундович пригрозил
выбить окно и рассказать прохожим о том,
как с ними обращаются. После этого
офицер неохотно явился.
—Мы требуем выдачи положенной нам
пиши!
— Нет, вам никаких поблажек не
будет!
— Мы будем протестовать!
— Попробуйте только, прикажу
стрелять!
Побледневший Дзержинский резким
движением разорвал на себе ворот
рубахи:
— Можете стрелять! Не боимся ваших
угроз! Стреляйте, если хотите быть
палачами, мы от своих требований не
откажемся!
Воцарилась тишина. Офицер и
Дзержинский молча смотрели друг другу в
глаза. Через минуту начальник конвоя
не выдержал — повернулся и вышел.
Часом позже заключённым прислали
положенные хлеб, селёдку, махорку...
Подобные случаи происходили и в
Орловской тюрьме. Однажды в камеру,
где сидел Ф. Дзержинский, должен был
зайти начальник тюрьмы. Отзаключён-
за верой должны следовать дела...» Феликс стал распространять
социал-демократические идеи среди рабочих. Он вёл агитацию
не только в кружках, но и на вечеринках, в кабаках — всюду, где
собирались рабочие, готовые его слушать. В 1897 г. 20-летнего
социал-демократа впервые арестовала полиция.
РЕВОЛЮЦИОНЕР-ПОДПОЛЬЩИК
За этим арестом последовали ссылка, побег, а затем аресты и
приговоры пошли чередой. Всего до 1917 г. Ф. Дзержинский
пережил шесть арестов, три раза бежал из ссылки. В заключении он
провёл 11 лет жизни...
После первого ареста он писал из тюрьмы сестре: «Ты
называешь меня „беднягой" — крепко ошибаешься. Правда, я не
могу сказать про себя, что доволен и счастлив, но это ничуть не
потому, что я сижу в тюрьме. Я гораздо счастливее тех, кто „на
воле" ведёт бессмысленную жизнь. И если бы мне пришлось
выбирать: тюрьма или жизнь на свободе без смысла, я избрал бы
первое, иначе и существовать не стоило бы... Тюрьма страшна
лишь для тех, кто слаб духом». В другом письме, уже из ссылки,
он добавлял: «Жизнь может меня лишь уничтожить, подобно тому
как буря валит столетние дубы, но никогда не изменит меня. Я
не могу ни изменить себя, ни измениться. Мне уже невозможно
вернуться назад...».
Два десятилетия продолжалась для Феликса Эдмундовича
жизнь революционера-подпольщика. В промежутках между
арестами он работал в своей партии — Социал-демократии Королевства
Польского и Литвы. Как представитель этой партии в 1906 г.
участвовал в Объединительном съезде РСДРП в Стокгольме.
В 1908 г. Феликс Эдмундович — уже не в первый раз —
оказался в одиночной камере Варшавской цитадели. Он писал об
этом в своём «Тюремном дневнике»: «Я поднимаюсь,
прислушиваюсь и чем больше вслушиваюсь, тем отчётливее слышу, как
тайком, с соблюдением строжайшей осторожности пилят,
обтёсывают доски. „Это готовят виселицу", — мелькает в голове, и уже
нет сомнений в этом. Я ложусь, натягиваю одеяло на голову... Это
уже не помогает. Я всё больше и больше укрепляюсь в
убеждении, что сегодня кто-нибудь будет повешен...». Он читал на
стенах надписи приговорённых к смерти. Живо представлял, как
где-то рядом, за стеной, жандармы связывают смертника,
затыкают рот, чтобы не кричал. Слышал, как хлопает дверь, когда его
выводят из камеры. «Неужели те жандармы, — размышлял он, —
которые стерегут нас, неужели тот вахмистр, всегда любезный,
неужели тот предупредительный начальник, который, входя ко
мне, снимает фуражку, — неужели они, те люди, которых я вижу,
могут принимать в этом участие... Привыкли».
Отбывая срок своего последнего заключения, Ф.
Дзержинский, будучи каторжником, несколько лет провёл закованным в
кандалы. В результате на правой ноге под железным кольцом
образовалась незаживающая рана.
410
ФЕЛИКС
ДЗЕРЖИНСКИЙ
В конце 1916 г. Феликс Эдмундович предчувствовал скорые
перемены. Однажды он произнёс: «Я убеждён, что не позднее чем
через год революция победит». «Не может быть!» — возразил ему
один из сокамерников, тоже «политический». «Ну давай пари», —
предложил Дзержинский. И поставил весь свой годовой
заработок на то, что до конца 1917 г. в стране произойдёт революция.
Он выиграл это пари... В 1917 г. вместе с другими
политзаключёнными Ф. Дзержинского освободила Февральская революция.
1 марта он вышел из ворот московской Бутырской тюрьмы, уже
без кандалов, но ещё в арестантской одежде. Тотчас его
подхватила на руки восторженная толпа. Грузовик доставил его на Ско-
белевскую (ныне Тверская) площадь, где он обратился к народу
с небольшой речью...
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЧК
Выйдя на свободу, Ф. Дзержинский сразу же примкнул к
большевикам. В августе на съезде партии его избрали в Центральный
Комитет. На заседании ЦК партии большевиков 10 октября
Феликс Эдмундович голосовал за вооружённое восстание. Как член
Военно-революционного комитета он и сам руководил
восстанием в Петрограде, точнее — захватом здания Главного
телеграфа.
7 (20) декабря 1917 г. Совнарком принял решение о
создании ВЧК — Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе
с контрреволюцией и саботажем. Правда, пока полномочия ВЧК
в применении карательных мер ограничивались правом
публиковать списки «врагов народа», лишать граждан хлебных
карточек и т. п. Когда решение о создании Чрезвычайной комиссии
было принято, Владимир Ленин сказал: «Теперь остаётся
назначить председателя ВЧК Надо найти на этот пост хорошего
пролетарского якобинца!» — и взглянул на Ф. Дзержинского. Тотчас
Феликса Эдмундовича утвердили на этом посту.
Начинать чекистам приходилось почти с нуля. Ведь нельзя
было набирать кадры из числа «опытных специалистов» —
бывших служащих царской полиции. А революционеры шли
работать в ЧК не слишком охотно. Известный чекист Яков Петере
вспоминал: «Подбирать сотрудников было чрезвычайно тяжело...
Неприятно было идти на обыски и аресты, видеть слёзы на
допросах, особенно тем товарищам, которые сами ещё недавно
были на допросах у жандармов и полиции... Не все усвоили, что
пусть мы и победили, но, чтобы удержаться у власти, должны
беспощадно бороться, не поддаваясь никакой
сентиментальности, иначе нас разобьют, подавят, и мы снова станем рабами. И
порой Дзержинскому приходилось уговаривать товарищей идти
на работу в ВЧК».
Сам Феликс Эдмундович с негодованием рассказывал Якову
Свердлову: «Предлагаю товарищу работать в ЧК Старый
революционер, вместе в тюрьме сидели. И вдруг он мне заявляет: „Вы
знаете, я готов умереть за революцию, но вынюхивать, выслежи-
ных потребовали дружно и бодро
поздороваться с офицером: «Здравия
желаем, Ваше благородие!». Но они не
подчинились и ответили на его
приветствие полным молчанием.
Тогда арестованных лишили прогулок,
отобрали у них матрасы. В ответ по
предложению Ф. Дзержинского вся
камера объявила голодовку. Феликса Эд-
мундовича перевели в одиночку. После
этого к голодовке присоединилась уже
вся тюрьма. Четверо заключённых,
видимо сильно ослабленных, умерли.
Власти пошли на уступки, и голодовка
прекратилась. Феликс Эдмундович
вернулся в свою камеру...
Ф. Дзержинский. 1905 г.
411
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
Ф. Дзержинский. Краков. 1912 г.
АРЕСТ 6 ИЮЛЯ 1918 ГОДА
Весной 1918 г. разгорелась
ожесточённая борьба вокруг заключения мира с
Германией. Ф. Дзержинский являлся
сторонником «революционной войны».
Когда В. Ленин пригрозил уйти в
отставку, Феликс Эдмундович в своей
речи выразил сожаление, что партия
«недостаточно сильна, чтобы вынести
отставку Ленина».
В июле раскол по вопросу о мире
произошёл и в рядах чекистов. Дело в том,
что в ВЧК продолжали работать не
только большевики, но и левые эсеры,
самые горячие противники мира. И 6
июля в Москве между левыми эсерами и
большевиками произошло открытое
столкновение по вопросу о мире.
Сотрудник ЧК левый эсер Яков Блюмкин
вать — извините, я на это не способен!". Я способен, рабочие-под-
полыцики способны, а этот интеллигент, видите ли, „не
способен"! И не он один так заявляет». Конечно, можно назвать и
противоположные примеры, прежде всего самого Дзержинского, его
ближайших помощников М. Лациса и Я. Петерса. Летом 1918 г.
произошёл такой случай. На заседании Московского совета
меньшевики прервали выступление Я. Петерса выкриками:
«Охранник!». Он с гордостью ответил: «Я горжусь быть охранником
власти трудящихся...».
21 февраля 1918 г. Совнарком принял декрет
«Социалистическое отечество в опасности!». Он предоставлял чекистам
право расстреливать «на месте преступления неприятельских
агентов, громил, хулиганов, контрреволюционных агитаторов» и т. п.
По этому поводу Ф. Дзержинский собрал руководство ВЧК и
сказал: «Товарищи! Речь вдет о коренном изменении прав и
обязанностей ВЧК. До сих пор на нас возлагался только розыск и
дознание. Вопрос о наказании преступников решался в народных
судах и революционных трибуналах. Теперь ВЧК наделяется
карательными функциями... Беспощадно уничтожать врагов
революции. Это должны делать мы...». Несколько дней спустя
состоялась и первая казнь по приговору ВЧК. В Петрограде
арестовали князя Эболи, обвинявшегося в том, что с целью грабежа он
выдавал себя за чекиста. Ф. Дзержинский первым поставил свою
подпись под приговором. Он сказал: «Помните, товарищи, как
мы мечтали о том, что пролетарская революция сможет
обойтись без смертной казни! А теперь сама жизнь сказала: нет, не
может! Мы будем применять смертную казнь во имя счастья
миллионов рабочих и крестьян!».
Ф. Дзержинский представлял себе ЧК как некий орден,
объединённый высокими целями. Известны его изречения:
«Чекистом может быть лишь человек с чистыми руками, холодной
головой и горячим сердцем»; «Чекист — это три слова,
начинающиеся на букву „ч", — честность, чуткость, чистоплотность.
Душевная, конечно...». «Тот, кто стал чёрствым, — не годится больше для
работы в ЧК», — не раз категорично заявлял Феликс
Эдмундович. Но речь при этом шла, разумеется, не о мягкотелости в
отношении к врагам. Его соратник Вячеслав Менжинский так
разъяснял смысл этих слов: «Чёрствый чекист был в его глазах
негодным не из-за жестокости, а как своего рода заржавленный
инструмент, как человек, ставший неспособным к психологической
работе... Дзержинский действовал не только репрессиями, но и
глубоким пониманием всех зигзагов человеческой души».
«Дзержинский не был никогда расслабленно-человечен», — добавлял
В. Менжинский.
Вот ещё одна любопытная зарисовка Менжинского:
«Наказание как таковое он отметал принципиально, как буржуазный
подход. На меры репрессии он смотрел только как на средство
борьбы, причём всё определялось данной политической
обстановкой... Одно и то же контрреволюционное деяние при одном
положении СССР требовало, по его мнению, расстрела, а не-
412
ФЕЛИКС
ДЗЕРЖИНСКИЙ
сколько месяцев спустя арестовывать за подобное дело он
считал бы ошибкой...».
Феликс Эдмундович старался подавать своим соратникам
пример личного бескорыстия в служении революции. «Я
никогда не щадил себя», — говорил он позднее. Работал Дзержинский
почти круглые сутки и спал здесь же, в своём кабинете, где за
ширмой стояла его кровать. За эти качества товарищи
окрестили его «рыцарем революции».
Летом 1918 г. Феликс Эдмундович решительно заявил в
интервью: «ЧК не суд, ЧК — защита революции. ЧК должна
защищать революцию и побеждать врага, даже если меч её при этом
попадает случайно на головы невинных». В мае того же года он
писал своей сестре: «Я нахожусь в самом огне борьбы. Жизнь
солдата, у которого нет отдыха, ибо нужно спасать наш дом. Некогда
думать о своих и о себе. Работа и борьба адская. Но сердце моё в
этой борьбе осталось живым, тем же самым, каким было и
раньше... Мысль моя заставляет меня быть беспощадным, и во мне
твёрдая воля идти за мыслью до конца...».
После 6 июля 1918 г. и бурных событий, связанных с
восстанием левых эсеров, председателю Чрезвычайной комиссии
Ф. Дзержинскому пришлось ненадолго уйти в отставку. 22
августа 1918 г. он вновь возглавил ВЧК Не успел Феликс Эдмундович
вернуться к своим обязанностям, как на него обрушились новые
тяжелейшие удары. 30 августа он получил телеграмму,
сообщавшую об убийстве руководителя Петроградской ЧК Моисея
Урицкого. По совету В. Ленина Дзержинский немедленно выехал в
Петроград для расследования покушения на месте.
Здесь ему передали ещё одну телеграмму. В Москве тяжело
ранен двумя пулями В. Ленин. Жизнь его в опасности... Феликс
Эдмундович долго перечитывал это сообщение, не в силах
поверить своим глазам. Затем, потрясённый, пошёл обратно на
вокзал. Не стал дожидаться особого вагона и сел в первый же поезд
вместе со всеми пассажирами. Для тех, кто не знал его, он ничем
не выделялся из толпы — шинель, сапоги, солдатская котомка за
спиной...
В последующие недели Ф. Дзержинский стал одним из
главных руководителей «красного террора». Так назвали
массовые аресты и расстрелы, происходившие осенью 1918 г. (см. ст.
«Карательные органы Советской власти»). Конечно, эти меры
широко применялись чекистами и позднее, на протяжении всех лет
гражданской войны.
25 сентября 1919 г. анархисты устроили взрыв на собрании
большевиков в ЛеонтьевскоМ переулке. При этом погибли
несколько видных советских деятелей. Как рассказывал чекист
Захаров, «прямо с места взрыва приехал в Московскую ЧК бледный
как полотно и взволнованный Дзержинский и отдал приказ:
расстреливать по спискам всех кадетов, жандармов, представителей
старого режима и разных там князей и графов, находящихся во
всех тюрьмах и лагерях...».
По свидетельству близких и друзей Феликса Эдмундовича,
убил германского посла графа Мирба-
ха (см. ст. «Эсеры» и «Яков Блюмкин»).
После этого он и его напарник Н.
Андреев укрылись в чекистском отряде
А. Попова, также левого эсера.
Феликса Дзержинского происшедшее
привело в крайнее негодование.
Особенно уязвляло председателя ВЧК то,
что против решений Советской власти
пошли его подчинённые—Я. Блюмкин,
Д. Попов... Он немедленно явился в
отряд Попова и потребовал выдать ему
убийц Мирбаха.
Левые эсеры отказались это сделать и
велели Дзержинскому сдать оружие.
Он обратился к бойцам отряда и с
горечью воскликнул: «Неужели вы
позволите, чтобы какой-то господин
разоружил меня, председателя ЧК, в отряде
которой вы состоите!?». В это время
левые эсеры схватили Феликса
Эдмундовича за руки и обезоружили. Он
пришёл в ярость и обратился к Д. Попову:
— Отдайте мне Ваш револьвер!
— Зачем? — опешил тот.
— Я Вас расстреляю как изменника!
Потом к Дзержинскому вернулось
хладнокровие и он с насмешкой
советовал своим тюремшикам: «Разве так
делают восстания? На вашем месте я
расстрелял бы себя немедленно. Чего
же вы медлите?».
На следующий день большевики
обстреляли здание штаба Д. Попова из
артиллерийских орудий, и левые эсеры
стали уходить оттуда. Ф. Дзержинский
кричал им вслед: «Подлые трусы и
изменники убегают!».
Вскоре после своего освобождения он
признался Я. Свердлову: «Никогда,
Яков, мне не было так тяжело, как
сейчас. Так опростоволосился! Почему они
меня не расстреляли? Жалко, что не
расстреляли, это было бы полезно для
революции...».
Собрав руководителей ВЧК, Феликс
Эдмундович объявил им: «Товарищи, я
подал в отставку...». Несмотря на их
уговоры, он не изменил своего
решения. На время следствия по делу о
восстании левых эсеров обязанности
председателя Чрезвычайной комиссии взял
на себя Я. Петере.
413
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
ж '- '1':"-^ '^-: "н "'■> :'■;,
■9' у У. У'^:/-/^''^/^3^'^1' '■■"'
'■ '-iJ.'^У'-'V'' J". ;\.'; г'й -У
вся эта ожесточённая борьба, в центре которой он оказался,
почти не изменила его личность. Он сохранил глубокую веру в
своё дело, идеализм, личную скромность. Любопытную
характеристику председателю ВЧК дал Фёдор Шаляпин, также
побывавший у него на допросе: «Дзержинский произвёл на меня
впечатление человека сановитого, солидного, серьёзного и
убеждённого. Говорил с мягким польским акцентом. Когда я
пригляделся к нему, я подумал, что это революционер настоящий —
фанатик революции. Но в то же время у меня не получилось от него
впечатления простой жестокости. Дзержинский держался
поразительно тонко...».
Секретарь Иосифа Сталина Борис Бажанов описывал
Феликса Дзержинского в 20-е гг.: «У него была наружность Дон
Кихота, манера говорить человека
убеждённого и идейного.
Поразила меня его старая
гимнастёрка с заплатанными
локтями. Было совершенно ясно,
что этот человек не
пользуется своим положением, чтобы
искать каких-либо житейских
благ для себя лично». Феликс
Эдмундович сердился, когда в
голодные годы ему вместо
конины подавали на обед что-то
более вкусное, и вообще
возражал против того, чтобы ему
приносили еду в кабинет... «Я
не барин, успею сходить
пообедать», — говорил он.
О политических
вопросах, даже самых будничных,
Феликс Эдмундович
высказывался с необычайной
горячностью, принимая любое дело
близко к сердцу. Как замечал
Лев Троцкий, «по каждому
вопросу, даже второстепенному,
он загорался, тонкие ноздри
дрожали, глаза искрились,
голос напрягался, нередко
доходя до срыва. Ленин сравнивал
его с горячим конём...».
С 1924 г., оставаясь
председателем ОГПУ, Ф.
Дзержинский возглавил также руковод-
Совешание руководителей большевиков
в Смольном (иллюстрация из книги
4 «Ф. Э. Дзержинский», 1951 г.).
Ф. Дзержинский. 20-е гг.
415
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
лев шроцкми Целике ^е^шмстПГ
Б. Ефимов.
«Проект стенной росписи в кабинетах
наших хозяйственников».
Дружеский шарж на
Ф. Дзержинского и Л. Троцкого.
1926 г.
ство экономикой страны — Высший совет народного
хозяйства (ВСНХ). В эти годы он оказался в числе самых решительных
и убеждённых противников «левой оппозиции». Однажды Лев
Каменев упрекнул его в том, что он уже готов арестовывать
оппозицию и ставить её к стенке. Дзержинский с обычной для него
горячностью воскликнул, что если оппозиция пойдёт против
партии, её будут и арестовывать, и расстреливать.
20 июля 1926 г. Ф. Дзержинский выступил со страстной
речью против оппозиции на пленуме ЦК ВКП(б). «Моя сила
заключается в чём? — спросил он. — Я не щажу себя никогда. И
поэтому вы здесь все меня любите, потому что вы мне верите.
Я никогда не кривлю своей душой; если я вижу, что у нас
непорядки, я со всей силой обрушиваюсь на них». Уже во время
выступления Феликс Эдмундович почувствовал себя плохо, у него
заболело сердце. Но он, хотя и с трудом, завершил свой доклад.
Вернувшись домой, Дзержинский потерял сознание и вскоре, не
приходя в себя, скончался. Ему было 48 лет...
В обращении Центрального Комитета партии ко всем
трудящимся говорилось: «Сегодня партию постиг тяжёлый удар.
Скоропостижно скончался от разрыва сердца товарищ
Дзержинский... Товарищ Дзержинский умер внезапно, придя домой
после своей речи — как всегда страстной — на пленуме ЦК Его
больное, вконец перетруженное сердце отказалось работать, и
смерть сразила его мгновенно...».
Похоронили Феликса Дзержинского в Москве, на Красной
площади.
БЛЮМКИН В 1918 ГОЛУ
Якова Блюмкина часто видели в
обществе поэтов и писателей. Поэт
Владислав Ходасевич рассказывал об одной
писательской вечеринке в Москве
весной 1918 г.: «Собралось человек сорок,
если не больше. Пришёл и Есенин.
Привёл бородатого брюнета в кожаной
куртке. Брюнет прислушивался к
беседам. Порою вставлял словио—и не
глупое. Это был Блюмкин...».
В то время деятельность ЧК ешё
далеко не достигла своего полного
размаха. Например, казнили тогда в
основном уголовных преступников, а не
«контрреволюционеров». Но для
18-летнего чекиста, видимо, был
поразительным уже сам факт, что в его руках
внезапно оказалась власть над
человеческими жизнями. Это производило
впечатление и на его друзей-литераторов.
Например, С. Есенин предлагал
знакомой поэтессе: «Хотите поглядеть, как
расстреливают? Я это Вам через
Блюмкина в одну минуту устрою».
ЯКОВ БЛЮМКИН
(1900—1929)
Недолгая жизнь этого человека вместила множество самых
невероятных событий и приключений. Ещё больше о нём сложено
разнообразных легенд...
МОЛОДОЙ ЧЕКИСТ
Будущий чекист и террорист Яков Григорьевич Блюмкин
родился в марте 1900 г. в Одессе. «Вскоре после моего рождения, в
1906 г., — писал он, — отец мой умер и большая семья из шести
человек впала в нищету. Я рос, предоставленный своей
собственной судьбе». Подростком Яков увлёкся литературой, пробовал
писать стихи, публиковался в детских журналах в Одессе.
В 13 лет Яков закончил еврейское духовное училище.
После этого он поступил в обучение к электротехнику. «Подлинно
каторжные, горькие условия жизни ремесленного ученика обще-
416
ЯКОВ
БЛЮМКИН
известны...» — замечал он позднее. У Якова появилось желание
изменить существующие в обществе порядки. В 1914 г. он стал
участвовать в кружках эсеровской молодёжи. Именно с этого
времени Яков отсчитывал свой стаж в партии эсеров. По своим
взглядам он принадлежал к её левому крылу и в 1917 г., после раскола
в партии, примкнул к левым эсерам.
Как известно, в декабре 1917 г. левые эсеры вошли в
советское правительство. Я. Блюмкин в это время вступил
добровольцем в Красную армию, и вскоре бойцы избрали его командиром
отряда. С весны 1918 г. Блюмкин стал работать в недавно
созданной ВЧК Ему поручили отдел «борьбы с международным
шпионажем».
УБИЙСТВО ГЕРМАНСКОГО ПОСЛА МИРБАХА
4 июля 1918 г. Я. Блюмкина вызвали в ЦК партии левых эсеров.
Здесь ему сообщили, что решено устроить покушение на
германского посла графа Вильгельма Мирбаха. Таким образом левые
эсеры хотели возобновить войну между Россией и Германией
(см. ст. «Эсеры»). Яков Блюмкин с готовностью вызвался быть
исполнителем этого решения. Как чекисту (т. е. лицу
официальному) ему было легче проникнуть в германское посольство. Он
попросил своего товарища по партии Вячеслава Александровича
выдать ему фальшивый мандат для встречи с Мирбахом. В.
Александрович, который в то время был заместителем председателя
ВЧК, согласился. На документе оттиснули печать и подделали
подпись Ф. Дзержинского. Этим рискованным делом
заговорщики занимались в кабинете... самого Дзержинского. Более того, в
какой-то момент они с ужасом обнаружили, что за ширмой на
койке лежит сам хозяин кабинета. Однако председатель ВЧК
крепко спал и ничего не слышал.
6 июля 1918 г. около 14 часов два чекиста — Яков Блюмкин
и его товарищ Николай Андреев — на автомобиле подъехали к
германскому посольству. Здесь они предъявили свой мандат,
ч1юбы «войти в переговоры» с графом Мирбахом. Через
несколько минут посол Германской империи спустился к ним в
приёмную. Началась беседа. В какой-то момент Н. Андреев сказал
условную фразу: «По-видимому, господину послу угодно будет
знать меры, которые могут быть приняты по этому делу».
Я. Блюмкин воскликнул: «Это я Вам сейчас покажу!» — выхватил
из портфеля револьвер и выстрелил в посла, но промахнулся.
В. Мирбах вскочил и побежал в другую комнату. Ещё два
немецких дипломата, потрясённые неожиданным поворотом «беседы»,
остались сидеть в креслах. Н. Андреев бросил вслед Мирбаху
бомбу. Бомба не взорвалась. Тогда Я. Блюмкин схватил её и вновь
швырнул об пол... Раздался оглушительный взрыв, из окон
посольства вылетели стёкла. Мирбаха взрывом смертельно
ранило в голову. После этого Н. Андреев выпрыгнул в разбитое окно
и полез через железную ограду — к машине. Я. Блюмкин
вспоминал: «Я увидел, что Андреев бросился в окно. Механически и
ПРОЩАЛЬНОЕ
ПИСЬМО БЛЮМКИНА
В ночь на 6 июля Яков Блюмкин
написал предсмертное письмо. Имя
адресата точно не установлено, но,
по-видимому, им являлся, как это ни
странно, горячий противник Советской
власти — Борис Савинков.
Я. Блюмкин писал: «Вы, конечно,
удивитесь, что я пишу это письмо Вам, а
не кому-нибудь иному. Вы ушли из
партии, в которой я остался. Но,
несмотря на это, в некоторых вопросах
Вы мне ближе, чем многие из моих
товарищей по партии. Я, как и Вы, —
противник сепаратного мира с
Германией и думаю, что мы обязаны сорвать
этот постыдный для России мир каким
бы то ни было способом, вплоть до
единоличного акта, на который я
решился...».
Затем Я. Блюмкин приводил ешё одну
неожиданную причину, побуждавшую
его к действию: «Я — еврей, и не
только не отрекаюсь от принадлежности к
еврейскому народу, но горжусь этим,
хотя одновременно горжусь и
принадлежностью к российскому народу. Чер-
носотениы-антисемиты с начала
войны обвиняли евреев в
германофильстве и сейчас возлагают на евреев
ответственность за большевистскую
политику и за сепаратный мир с немцами.
Поэтому протест еврея против
предательства России и союзников
большевиками представляет особенное значение».
417
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
В 20—30-е ГОДЫ
БЛЮМКИН И ГУМИЛЕВ
Характерно, что и в 20-е гг. Яков
Блюмкин сохранял интерес к
литературе. Владимир Маяковский, даря ему
свои книги, дружески подписывал их:
«Дорогому Блюмочке...». Поэтесса
Ирина Одоевиева как-то раз
встретила Блюмкина с поэтом Николаем
Гумилёвым (позже расстрелянным).
Высокорослый мужчина «в коричневой
кожаной куртке, с наганом в кобуре»
читал по памяти гумилёвские стихи.
И. Одоевиева так описывала эту
сиену: «Гумилёв останавливается и
холодно и надменно спрашивает:
— Что Вам от меня надо?
— Я Ваш поклонник. Я все Ваши стихи
знаю наизусть. Я хотел пожать Вам руку
и поблагодарить Вас за стихи, — и
прибавляет растерянно: — Я Блюмкин.
Гумилёв вдруг сразу весь меняется. От
надменности и холода не осталось и
следа. «Блюмкин? Тот самый? Убийца
Мирбаха? В таком случае — с большим
удовольствием, — и он, улыбаясь,
пожимает руку Блюмкина. — Очень,
очень рад...».
Н. Гумилёв упомянул эту встречу в
стихотворении «Мои читатели» (1921 г.):
Человек, срели толпы нарола
Застреливший императорского посла,
Полошёл пожать мне руку,
Поблаголарить за мои стихи.
инстинктивно подчиняясь ему, его действию, я бросился за ним».
В этот момент в террористов начала стрелять охрана, и
Блюмкина ранило в ногу. Всё-таки кое-как он дополз до автомобиля...
Левый эсер Владимир Карелин на улице случайно встретил
этот автомобиль. Сидевшие в нём Блюмкин и Андреев что-то
восторженно кричали ему и приветственно махали руками. Но
когда возбуждение улеглось, террористами овладела некоторая
растерянность. «Я не знал, куда мы едем. У нас не было
заготовленной квартиры, мы были уверены, что умрём, — писал Блюмкин. —
Нашим маршрутом руководил шофёр... У меня мелькнула усталая
мысль: надо в комиссию, „заявить"».
В ПОДПОЛЬЕ
Шофёр доставил террористов в штаб чекистского отряда в Трёх-
святительском переулке, где он служил. Во главе отряда стояли
левые эсеры. Раненого Блюмкина они тотчас переправили в
ближайшую больницу. А спустя три часа в отряд явился Ф.
Дзержинский, который потребовал немедленно выдать ему Я. Блюмкина
и Н. Андреева (в посольстве остался их мандат, и председатель
ВЧК уже знал фамилии террористов). Сам Блюмкин
безуспешно требовал собственной выдачи, но левые эсеры сочли
невозможным выдать товарища. Чтобы не допустить ареста
Блюмкина, им пришлось арестовать самого Дзержинского. Так началось
восстание левых эсеров (см. ст. «Эсеры»). Все последующие
бурные события вытекали из первого — отказа левых эсеров выдать
властям Я. Блюмкина.
Партия левых эсеров в результате этих событий оказалась
почти разгромленной. Блюмкин избежал ареста и осенью 1918 г.
отправился на оккупированную немцами Украину. В Москве
между тем суд заочно приговорил его к трём годам заключения.
На Украине Я. Блюмкин вошёл в подпольную боевую
организацию своей партии. Он устраивал побеги из тюрем
арестованным революционерам, готовил покушение на гетмана
Украины Павла Скоропадского. Самым известным из левоэсеровских
терактов на Украине стало убийство немецкого
генерал-фельдмаршала Германа фон Эйхгорна. В марте 1919 г. Яков
Григорьевич оказался в плену у петлюровцев. По его словам, ему
пришлось вынести «жесточайшие пытки». Он вспоминал: «У меня
вырвали все передние зубы, полузадушили и выбросили, как
мёртвого, голым на полотно железной дороги».
ДОБРОВОЛЬНАЯ ЯВКА В ЧК
В апреле 1919 г. в Киев вошла Красная армия. Сразу после этого,
14 апреля, Я. Блюмкин решил добровольно явиться в киевскую
губчека. По его признанию, он хотел «рассеять предубеждение,
что убийство Мирбаха было началом выступления левых эсеров
против Советской власти».
В своих объяснениях в ЧК Яков Григорьевич писал: «В Трёх-
418
ЯКОВ
БЛЮМКИН
святительском переулке, по-моему, осуществлялась только
самооборона революционеров. Восстания не было». Он вновь
выражал сожаление, что его сразу же не передали в руки ЧК, и
заключал: «Я по-прежнему остаюсь членом партии левых эсеров, по-
прежнему расхожусь во многом в политике с Советской властью,
и именно это побуждает меня вполне честно рассеять всё то
запутанное, трагическое положение, которое создалось благодаря
отказу ЦК выдать меня в результате убийства Мирбаха».
Видимо, Москву устроили такие объяснения. 16 мая ВЦИК
постановил амнистировать Я. Блюмкина «ввиду добровольной
явки и данного им подробного объяснения обстоятельств
убийства германского посла графа Мирбаха». Левые эсеры, ещё
остававшиеся в подполье, узнали о посещении Я. Блюмкиным ЧК и
его амнистии. Они решили, что Блюмкин выдаёт их чекистам, и
постановили казнить его как предателя.
В один из летних дней 1919 г. Блюмкина выследили в
Киеве, на Крещатике. Яков Григорьевич сидел за столиком кафе под
зонтом, когда к нему подошли два левоэсеровских боевика и
несколько раз выстрелили в упор. Громко играла музыка, и никто
не услышал звука выстрелов. Террористы скрылись, а
потерявшего сознание Блюмкина свидетели покушения отправили в
больницу. Во время лечения на него совершили ещё одно
покушение: в окно палаты, где он лежал, бросили фанату. Я. Блюмкин
успел схватить её и за несколько секунд до взрыва выбросить
обратно.
Вернувшись после этих событий в Москву, Яков Блюмкин
вступил сначала в легальный Союз максималистов, а затем
вместе с другими его участниками — в ряды РКП (б).
В 20-е ГОДЫ
Вступив в партию большевиков, Я. Блюмкин несколько лет
работал в военном секретариате Льва Троцкого и близко
познакомился с «вождём Красной армии». Затем вернулся на чекистскую
работу и выполнял различные тайные поручения ГПУ в разных
странах, от Тибета до Ближнего Востока.
Среди знакомых Блюмкина в эти годы были многие
известные писатели, поэты: Маяковский, Есенин, Гумилёв... В
литературных кругах многие смотрели на него как на легендарную
личность. Характерно, что молодые партийные работники
относились к Я. Блюмкину иначе. Для них он был музейным
экспонатом, «человеком из прошлого», над которым они часто
посмеивались. Секретарь И. Сталина Борис Бажанов вспоминал такой
эпизод: «Блюмкин был убеждён, что он — исторический
персонаж Мы потешались над его чванством: „Яков Григорьевич, мы
были в музее истории революции: там Вам и убийству Мирбаха
посвящена целая стена". — „А, очень приятно. И что на стене?" —
,Да всякие газетные вырезки, фотографии, документы; а вверху
через всю стену цитата из Ленина: „Нам нужны не истерические
выходки мелкобуржуазных дегенератов, а мощная поступь желез-
ТОВАРИШЕСКИЙ СУД
Вернувшись в 1919 г. в Москву, Яков
Блюмкин попросил принять его в
состав легального Союза максималистов.
Те предложили ему сначала
опровергнуть подозрения в предательстве на
товарищеском суде.
В состав межпартийного
товарищеского суда вошли трое судей:
председатель — анархист Аполлон Карелин,
член партии украинских левых эсеров
профессор Дмитрий Магеровский и
революционный коммунист Георгий
Максимов. Последний вспоминал:
«Косвенные улики — частые
посещения им ВЧК, которых не отрицал и
Блюмкин, — не давали нам права
обвинить его в предательстве». Суд
вынес неопределённое решение: «Не
установлено, что Блюмкин не предатель».
Хотя такое решение и не снимало с
Я. Блюмкина подозрений,
максималисты согласились принять его в свой
Союз. Спустя несколько месяцев они
влились в РКП(б), и Блюмкин также
стал коммунистом.
419
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
САВИНКОВ И БЛЮМКИН
Даже несколько лет спустя после
убийства графа Мирбаха Я. Блюмкина не
переставала мучить мысль о его
повелении в этот день. Ведь он не
собирался бежать с места покушения, а хотел
слаться властям. Он писал: «Я знал, что
наше деяние может встретить
порицание и враждебность правительства, и
считал необходимым и важным отдать
себя, чтобы иеною своей жизни
доказать нашу полную искренность,
честность и жертвенную преданность
интересам Революции... Кроме того, наше
понимание того, что называется этикой
индивидуального террора, не
позволяло нам думать о побеге. Если мы ушли
из посольства, то в этом виноват
непредвиденный, иронический случай».
Как вспоминал писатель Илья Эренбург,
в начале 20-х гг. он собирался в Париж
и перед отъездом встретил в ресторане
Я. Блюмкина. Тот попросил писателя
спросить в Париже у Бориса
Савинкова: «Должен ли террорист после
покушения оставаться на месте или может
бежать?». Видимо, Б. Савинков, как и
прежде, оставался для Я. Блюмкина
высшим авторитетом в вопросах
«этики индивидуального террора».
Блюмкину ешё пришлось при
неожиданных обстоятельствах встретиться с
Савинковым, когда тот находился в
Бутырской тюрьме. Яков Блюмкин часто
посешал его в камере, вёл с ним
продолжительные беседы. Вероятно, под
впечатлением этих встреч Б.
Савинков писал, что встретил на Лубянке «не
палачей и уголовных преступников»,
как он ожидал, а «убеждённых и
честных революционеров, тех, к которым
привык с юных лет». «Они
напоминают мне мою молодость, — замечал
Савинков, — такого типа были мои
товарищи по Боевой организации».
В мае 1925 г. Б. Савинков погиб — по
некоторым данным, его убили чекисты.
Бывший меньшевик М. Якубович
сообщил об этом интересную подробность.
В разговоре с ним Яков Блюмкин
признался, что именно ему поручили
написать «предсмертное письмо» Б.
Савинкова, и он это выполнил. Правда,
Блюмкин ничего не говорил
относительно того, своей ли смертью погиб
Б. Савинков. Возможно, ему также
сообщили лишь версию о самоубийстве.
ных батальонов пролетариата". Конечно, мы это выдумали;
Блюмкин был очень огорчён...».
В 20-е гг. во время бурных дискуссий с «левой оппозицией»
симпатии Я. Блюмкина оказались на стороне Л. Троцкого. Он не
скрывал этого от руководства ОГПУ. Но в то время как других
оппозиционеров ссылали, Яков Григорьевич оставался на своей
работе. «Объясняется это характером его работы, — замечал Лев
Троцкий, — она имела совершенно индивидуальный характер;
Блюмкину не приходилось иметь дело с партийными ячейками...»
Троцкий добавлял, что руководители ОГПУ «считали Блюмкина
незаменимым, и это не было ошибкой. Они оставили его на
работе, которую он выполнял, до конца». Яков Григорьевич
признавался: «Откровенно говоря, для меня самого была весьма
неожиданной такая терпимость».
Я. Блюмкина смущало создавшееся необычное положение.
Может ли он служить государству, которое преследует его
единомышленников? Особенно тяжело он воспринял высылку в
Турцию Льва Троцкого. «Высылка Троцкого меня потрясла, —
писал он. — В продолжение двух дней я находился прямо в
болезненном состоянии».
В апреле 1929 г. Я. Блюмкин возвращался в Советский Союз
из Германии, где выполнял задание ОГПУ. Находясь в Турции,
он решил встретиться с высланным сюда Л. Троцким и
поделиться с ним своими сомнениями. Конечно, это было чрезвычайно
рискованно для работника ОГПУ.
И вот 16 апреля эта встреча состоялась. «Блюмкин явился
ко мне в Константинополе, — вспоминал Лев Троцкий, — чтоб
узнать, как я оцениваю обстановку, и проверить, правильно ли
он поступает, оставаясь на службе правительства, которое
высылает, ссылает и заключает в тюрьмы его ближайших
единомышленников. Я ответил, что он поступает совершенно правильно,
выполняя свой революционный долг, — не по отношению к
сталинскому правительству, а по отношению к Октябрьской
революции».
В августе того же года Я. Блюмкин вновь проезжал через
Константинополь, на этот раз возвращаясь из Индии. Лев
Троцкий передал через него в Москву два письма к своим
сторонникам. Он призывал их продолжать борьбу за свои взгляды и не
сдаваться. Советским властям стало известно о встрече
Троцкого и Блюмкина.
После приезда в Москву, в октябре 1929 г., Я. Блюмкина
арестовали. Коллегия ОГПУ, слушавшая его дело, постановила: «За
повторную измену Пролетарской революции и за измену
революционной чекистской армии Блюмкина Якова
Григорьевича — расстрелять».
3 ноября 1929 г. приговор привели в исполнение. Это была
первая казнь в среде большевиков-оппозиционеров.
Рассказывали, что перед расстрелом Яков Блюмкин крикнул: «Да
здравствует Троцкий!».
420
НИКОЛАЙ ЕЖОВ
(1895 — 1940)
Знаменитый «железный нарком» Николай Иванович Ежов
родился в 1895 г. в Петербурге, в семье рабочего. С 14 лет Николай
начал работать на заводе. После Февральской революции вступил
в партию большевиков. В годы «гражданки» — военный
комиссар, затем партработник Скромный, внимательный, аккуратный,
невысокого роста, он обычно производил на людей хорошее
впечатление. Знавший его писатель Лев Разгон вспоминал: «Он
был маленьким, худеньким человеком, всегда одетым в мятый
дешёвый костюм и синюю сатиновую косоворотку. Сидел за
столом тихий, немногословный, слегка застенчивый, мало пил, не
влезал в разговор, а только вслушивался, слегка наклонив
голову». Один партийный руководитель говорил Л. Разгону: «Я не знаю
более идеального работника, чем Ежов. Вернее, не работника, а
исполнителя. Поручив ему что-нибудь, можно не проверять и
быть уверенным — он всё сделает. У Ежова есть только один
недостаток он не умеет останавливаться. И иногда приходится
следить за ним, чтобы вовремя остановить».
С 1927 г. Н. Ежов работал в Москве, в ЦК партии. 1 октября
1936 г. он был назначен наркомом внутренних дел. К этому
времени относится следующий характерный случай. Ежов передал
И. Сталину список людей, которые «проверяются для ареста».
Сталин написал на нём: «Не „проверять", а арестовывать нужно».
Исполнительному работнику достаточно было немногих таких
ясных указаний. Волна арестов стала стремительно расти. Выступая
на собрании избирателей, Ежов подчеркнул: «Я по мере своих сил
и способностей пытаюсь
честно выполнять те задачи,
которые на меня возложила партия
и наше Советское
правительство. Выполнять эти задачи для
большевика легко, почётно и
приятно» (Бурные
аплодисменты?). В январе 1937 г. Ежов
получил высокое звание
Генерального комиссара
госбезопасности. В разгар массовых арестов
и расстрелов, 18 июля, ему
досталось ещё одно поощрение —
орден Ленина.
В декабре в газете
«Правда» была напечатана поэма о
«батыре» (богатыре) Ежове. Её
сочинил народный поэт
Казахстана 92-летний Джамбул
Джабаев. Он писал:
К. Ворошилов, В. Молотов, И. Сталин
и Н. Ежов на канале Москва — Волга.
Май 1937 г.
421
Б. Ефимов. Дружеский шарж.
«Стальные ежовы рукавицы».
Декабрь 1937 г.
В сверкании молний ты стал нам знаком,
Ежов — зоркоглазый и умный нарком.
...Прислушайся: ночью злодеи ползут.
Ползут по оврагам, несут, изуверы,
Наганы и бомбы, бациллы холеры...
Враги нашей жизни, враги миллионов, —
Ползли к нам троцкистские банды шпионов.
Бухаринцы — хитрые змеи болот,
Националистов озлобленный сброд.
Они ликовали, неся нам оковы,
Но звери попались в капканы Ежова.
Великого Сталина преданный друг,
Ежов разорвал их предательский круг.
Разгромлена вся скорпионья порода
Руками Ежова — руками народа.
И Ленина орден, горящий огнём,
Был дан тебе, сталинский верный нарком.
В 1938 г. Сталин начал готовить смещение Ежова. Оно
произошло как бы в два этапа. Сначала Ежов получил дополнительную
должность наркома водного транспорта. Никаких подозрений
это не вызвало. Тем неожиданнее было сообщение в газетных
разделах «Хроника» 8 декабря 1938 г. Оно гласило, что Н. Ежов
освобождён от должности наркома внутренних дел «согласно
его просьбе». Маленькая заметка предвещала серьёзные
перемены в жизни страны. Была предрешена и судьба самого Ежова.
21 января 1939 г. газета «Правда» в последний раз поместила его
фотографию. Он сидел вместе со Сталиным в президиуме
траурного заседания по случаю годовщины смерти Ленина.
Николай Ежов знал, что его
ждёт арест. Как-то в это время
он заметил своему преемнику
Лаврентию Берии: «Что же, я всё
понимаю. Моя очередь
пришла». Вскоре Ежов был
арестован и спустя год казнён по
обвинению в шпионаже и
терроре. Расстреляли его, по
некоторым данным, 4 февраля 1940 г.
В момент расстрела он крикнул:
«Да здравствует Сталин!».
В печати об этом ничего
не сообщалось: прославленный
нарком просто бесследно исчез.
Только город Ежово-Черкесск
переименовали в Черкесск На
вопросы о Ежове партийные
работники отвечали, что он
спился, лишился рассудка и живёт в
психиатрической больнице.
Это служило и косвенным
объяснением «перегибов» в арестах
1937-1938 гг.
422
РЕЛИГИЯ И ЦЕРКОВЬ
В ГОДЫ СОВЕТСКОЙ власти
ПОМЕСТНЫЙ СОБОР 1917 ГОДА
Февраль 1917 г. поставил Русскую Православную церковь в
совершенно новое и необычное для неё положение. Впервые со
времён Петра I церковь освобождалась от подчинения
государству.
Руководство православной церкви признало Февральскую
революцию. 9 марта 1917 г. Святейший синод призвал
верующих «довериться Временному правительству, чтобы трудами и
подвигами, молитвою и повиновением облегчить ему великое
дело водворения новых начал государственной жизни».
Самой церкви теперь коренным образом предстояло
изменить свою жизнь. Эти перемены начались немедленно. С весны
1917 г. православные епископы впервые за сотни лет стали
избираться самими верующими на епархиальных съездах.
Идеи созыва соборов и восстановления патриаршества
высказывались в среде духовенства и общественности ещё в XIX в.
В 1905 г. члены Святейшего синода даже предложили царю
созвать собор и избрать патриарха. Николай II отвечал, что столь
великие дела не должны совершаться в такое тревожное время.
По иронии судьбы время, в которое их пришлось осуществлять,
оказалось ещё более тревожным.
15 августа 1917 г. в Успенском соборе Московского Кремля
открылся Поместный собор Русской Православной церкви. На
открытии собора присутствовал глава Временного
правительства Александр Керенский. Московский митрополит Тихон
говорил, что собор «воплотил мечты и чаяния лучших сынов
Русской Церкви, которые жили мыслью о возобновлении соборной
жизни Церкви, но не дожили до этого счастливого дня».
Через три дня после Октябрьского переворота, 28 октября,
собор принял решение о восстановлении в Русской
Православной церкви патриаршества, упразднённого в 1703 г.
5 ноября на патриарший престол был избран митрополит
Тихон (см. ст. «Патриарх Тихон»).
Работа Поместного собора продолжалась более года. Он
закончил её 1 сентября 1918 г., став свидетелем величайших
потрясений и перемен в жизни страны.
423
к СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
| В 20—30-е ГОДЫ
ДЕКРЕТ О СВОБОДЕ СОВЕСТИ
20 января 1918 г. Совнарком принял Декрет о свободе совести,
который «отделял церковь от государства». Каждый человек
получал право «исповедовать любую религию или не исповедовать
никакой». Запрещалось любое ущемление прав по признаку веры.
Декрет также «отделял школу от церкви». В школах
запрещалось преподавание Закона Божьего. (Заметим, что позднее в
вузах стали преподавать научный атеизм.)
Кроме того, декрет лишал церковь и различные
религиозные общества права иметь собственность. Всё их имущество
должно было перейти в распоряжение государства. Декрет,
особенно последнюю его часть, духовенство восприняло как
гонение на церковь. Поместный собор Русской Православной
церкви заметил об этом: «Доселе Русь была святой, а теперь хотят
сделать её поганой».
В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
После Октября патриарх Тихон сначала выступал с резкими
обличениями Советской власти, но в 1919 г. занял более
сдержанную позицию, призвав духовенство не участвовать в
политической борьбе.
Тем не менее около 10 тысяч представителей
православного духовенства оказались в числе жертв гражданской войны.
Большевики расстреливали священников, служивших
благодарственные молебны после падения местной Советской
власти. В городе Петропавловске местного епископа и
священников казнили за то, что они «встречали колокольным звоном
вошедших в город белогвардейцев». На самом деле взятие города
просто совпало с началом вечерней службы.
В 1918 г. без суда был расстрелян митрополит Киевский
Владимир, вручивший Тихону при избрании патриарший посох.
Антирелигиозная карикатура. «Железной метлой выметем В. Люшин. Антирелигиозная карикатура.
кулацкую и поповскую нечисть из колхоза!» Кулак и его подголоски, призывающие к «крайностям»: закрыть
(Журнал «Безбожник».) или открыть все церкви (журнал «Безбожник», 1930 г.).
424
ВСКРЫТИЕ СВЯТЫХ МОШЕЙ
В феврале 1919 г. советские власти
начали организованную кампанию
вскрытия гробниц с мошами
православных святых. За полтора гола
состоялось 63 вскрытия, после которых
моши передавались в местные музеи.
При этом власти стремились показать,
что моши вовсе не «нетленны», как
утверждала церковь. Верующими такие
действия, конечно, воспринимались
как надругательство и святотатство.
Были сняты и вышли на экраны
«разоблачительные» фильмы о вскрытии мо-
шей, например «Вскрытие мошей
Сергия Радонежского». В. Ленин
посмотрел один из таких фильмов, после чего
сказал, что надо «показать то, чем были
набиты эти чучела, какие именно
„святости" покоились там, к чему так
много веков с благоговением относился
народ и как умело стригли шерсть с
простолюдина служители алтаря. Этого
одного достаточно, чтобы оттолкнуть
от религии сотни тысяч людей».
РЕЛИГИЯ В ГОДЫ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
За попытку помочь арестованной царской семье
красноармейцы утопили в реке Туре епископа Тобольского Гермогена. Его
живым привязали к пароходному колесу.
Власти поддерживали антицерковные настроения в
обществе. В дни православных праздников устраивались карнавалы
безбожников, высмеивающие Бога, святых и церковные обряды. В
Тамбове в насмешку над верующими был даже установлен
памятник Иуде Искариоту, предавшему, согласно Евангелию, Христа.
В 1919—1920 гг. власти провели кампанию «вскрытия
мощей святых угодников», которая вызывала возмущение у
верующих и духовенства. Были вскрыты мощи Александра Невского,
Тихона Задонского, Сергия Радонежского, десятков других
православных святых. В некоторых местах протесты верующих
пришлось усмирять даже с помощью войск
ИЗЪЯТИЕ ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В 1921 г. Поволжье охватил очень сильный голод (см. ст.
«Военный коммунизм и нэп»). Патриарх Тихон призвал оказать
голодающим международную помощь и создал Всероссийский
церковный комитет помощи голодающим. Он выразил готовность
пожертвовать голодающим часть храмовых ценностей. Однако
государство отказалось принять помощь церковников.
Созданный церковный комитет был запрещён.
19 февраля 1922 г.
патриарх Тихон разрешил
жертвовать в пользу голодающих
церковные ценности, «не имеющие
богослужебного употребления».
Но уже 23 февраля власти
(ВЦИК) приняли решение
изъять из храмов все ценности на
нужды голодающих. Изъятия
церковных ценностей
начались по всей стране.
Надежда Мандельштам так
описывала сцену одного из
подобных изъятий: «Священник,
пожилой, встрёпанный, весь
дрожал, и по лицу у него
катились крупные слёзы, когда
сдирали ризы и грохали иконы
прямо на пол. Проводившие
изъятие вели шумную
антирелигиозную пропаганду под плач
старух и улюлюканье толпы,
развлекающейся невиданным
зрелищем».
Патриарх Тихон в посла-
Митрополит Петроградский Вениамин. НИИ 28 февраля реЗКО ОСУДИЛ
МИТРОПОЛИТ ВЕНИАМИН
Василий Казанский, будущий
митрополит Вениамин, родился в 1874 г. в
семье священника. Епископом он стал в
1910 г.
После Февральской революции 1917 г.
верующие Петрограда на епархиальном
съезде избрали его митрополитом
Петроградским (хотя высшее духовенство
поддерживало другого кандидата).
«Почему это произошло? — вспоминал
позднее Вениамин. — Только потому,
что меня хорошо знал простой
петроградский народ, так как я в течение
23 лет перед этим учил и проповедовал
в церквах на окраинах Петрограда».
В 1922 г. митрополит Вениамин
предлагал, чтобы церковь добровольно
помогла голодающим. В то же время он
протестовал против изъятия церковных
ценностей силой. 29 мая 1922 г. он был
арестован. Защитник митрополита
Я. Гурович говорил на суде: «Стоило ему
чуть-чуть поддаться соблазну, признать
хоть немного из того, что так жаждало
установить обвинение, и митрополит
был бы спасён. Он не пошёл на это.
Спокойно, без вызова, без рисовки он
отказался от такого спасения».
В последнем слове на суде митрополит
Вениамин сказал: «Я, конечно, отвергаю
все предъявленные ко мне обвинения,
ешё раз торжественно заявляю (ведь,
быть может, я говорю последний раз в
своей жизни), что политика была мне
совершенно чужда, я старался по мере сил
быть только пастырем душ
человеческих. И теперь, стоя перед судом, я
спокойно дожидаюсь его приговора, каков
бы он ни был, хорошо помня слова
апостола: „Берегитесь, чтобы вам не
пострадать, как злодеям, а если кто из вас
пострадает, как христианин, то
благодарите за это Бога"».
Трибунал приговорил митрополита к
смертной казни. Незадолго до смерти
Вениамин писал: «В детстве и
отрочестве я зачитывался Житиями Святых и
восхищался их героизмом, их святым
воодушевлением, жалел всей душой, что
времена не те и не придётся
переживать, что они переживали. Времена
переменились, и открывается
возможность терпеть ради Христа...».
В ночь на 13 августа 1922 г.
митрополит Вениамин был расстрелян вместе с
тремя другими осуждёнными.
425
Во время петроградского «церковного
процесса» в зале суда.
Во время московского «церковного
процесса».
изъятия церковных ценностей
и назвал их святотатством.
В ряде мест вспыхнули
протесты верующих против
изъятий. 15 марта такие
волнения произошли в Шуе. На
городской Соборной площади
собралась толпа верующих, с
колокольни стали бить в набат.
По официальному сообщению,
толпа встретила подъехавшую
конную милицию угрозами и
кидала в неё поленья. Прибыли
два автомобиля с пулемётами и
армейские части, которые
выстрелами разогнали толпу.
Газеты сообщили о четырёх убитых
и тринадцати раненых В тот же
день начались аресты горожан,
замеченных на площади.
Вскоре после событий в
Шуе, 19 марта, В. Ленин
направил членам Политбюро
секретное письмо, в котором писал:
«Именно теперь и только
теперь, когда в голодных
местностях едят людей и на дорогах
валяются сотни, если не тысячи
трупов, мы можем (и потому
должны) провести изъятие
церковных ценностей с самой
бешеной и беспощадной
энергией и не останавливаясь перед
подавлением какого угодно
сопротивления. Именно теперь и
только теперь большинство
крестьянской массы будет либо
за нас, либо не в состоянии
поддержать горстку
черносотенного духовенства».
И подводил итог: «Чем
большее число
представителей реакционного духовенства
удастся по этому поводу
расстрелять, тем лучше. Надо
Субботник по разборке
Симонова монастыря. 1925 г.
Современный рисунок. ►
426
религия в голы
советской власти
^г СОВЕТСКИЙ союз
^Д^. | В 20—30-е ГОДЫ
именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько
десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать».
По всей стране в 1922—1923 гг. прокатилась волна арестов
и судов над духовенством и верующими. Арестовывали за
утаивание ценностей или за протесты против изъятий.
26 апреля 1922 г. в Москве открылся «процесс 54-х»
священников и мирян, обвиняемых в сопротивлении изъятию ценностей.
В качестве главного свидетеля суд несколько раз вызывал
патриарха Тихона. 8 мая революционный трибунал вынес 12 смертных
приговоров подсудимым (расстреляли пять человек).
На следующий день, 9 мая, был взят под домашний арест и
сам патриарх Тихон.
9 июня начался суд над священниками и верующими в
Петрограде (всего судили 86 человек). 5 июля десять обвиняемых, в
том числе митрополит Петроградский Вениамин, были
приговорены к расстрелу (шестеро позднее помилованы).
Почти каждый день газеты сообщали о новых арестах
священников и судах над ними. Показательные процессы шли
более чем в 20 городах. Аресты и расстрелы коснулись не только
православного духовенства. Так, в марте 1923 г. приговорили к
расстрелу главу католической церкви в России кардинала Яна
Цепляка (позднее он был помилован и выслан за границу).
«ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ» (ОБНОВЛЕНЦЫ)
Весной 1922 г. в православной церкви стали возникать группы,
получившие общее название «обновленцы» (их также называли
«живая церковь»). Всех их роднило то, что они выступали за
тесное сотрудничество с Советским государством.
В остальном их программы были очень различны. Самые
крайние обновленцы (например, «Свободная трудовая церковь»)
призывали к слиянию всех религий. А умеренный «Союз
церковного возрождения» во главе с архиепископом Антонином
(Грановским) требовал только небольшого изменения обрядов
(проведения богослужения на русском языке и т. п.).
Все обновленцы боролись против патриарха Тихона и его
сторонников и потому пользовались широкой поддержкой
властей. Философ Николай Бердяев, вызванный в 1922 г. на
Лубянку, вспоминал, как «был поражён, что коридор и приёмная ГПУ
428
Антирелигиозная карикатура
«Святой капитал, святая Русь»
(журнал «Безбожник», 1923 г.).
СУДЬБА «СОРОКА СОРОКОВ»
Про московские церкви издавна
говорили, что их «сорок сороков».
Выражение это было скорее образным: на
самом деле в 1917 г. в Москве
действовало 845 храмов различных
вероисповеданий.
В годы советской власти почти все они
были закрыты. В самое трудное для
церкви время, в 1941 г., в столице
оставалось не более 15 открытых
православных церквей.
В1988 г. в Москве действовало только
67 храмов: 54 православных, семь
старообрядческих, один костёл, одна
армянская церковь, одна мечеть, две
синагоги, один молитвенный дом
баптистов и адвентистов.
С 1922 г. московские храмы начали
сносить. С особенным размахом это
делалось в конце 20-х и 30-е гг.
Руководитель столичной парторганизации
Никита Хрушёв говорил в 1937 г.:
«Перестраивая Москву, мы не должны
бояться снести дерево, церквушку или
какой-нибудь храм».
Всего за годы Советской власти было
снесено около половины московских
храмов.
РЕЛИГИЯ В ГОДЫ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
были полны духовенством. Это всё были
живоцерковники. На меня всё это произвело тяжёлое
впечатление. К „живой церкви" я относился
отрицательно, так как представители её начали
своё дело с доносов на Патриарха и патриар-
шью церковь. Так не делается реформация...».
Одно из течений обновленцев — группу
«Живая церковь» — возглавлял петроградский
священник Владимир Красницкий. До
революции он был убеждённым монархистом и
черносотенцем. Теперь же его вместе с группой
соратников принимал сам «всесоюзный староста»
Михаил Калинин.
В 1922 г. «протопресвитер» В. Красницкий
был назначен настоятелем храма Христа
Спасителя. Прихожане-«тихоновцы» встречали его
возле храма гнилыми яблоками и горшками с
помоями, так что милиции приходилось брать
его под охрану.
Другую обновленческую группу — «Союз
общин древлеапостольской церкви» —
возглавлял один из наиболее ярких лидеров
обновленческого движения протоиерей Александр
Введенский. Обладатель шести дипломов о высшем
образовании, он ещё после Февраля вошёл в
группу духовенства, стоявшую на позициях
христианского социализма. Писатель Варлам Шала-
мов так описывал эту «красочную фигуру 20-х годов»: «Высокий,
черноволосый, коротко подстриженный, с чёрной маленькой
бородкой и огромным носом, резким профилем, в чёрной рясе с
золотым крестом, Введенский производил сильное впечатление.
Шрам на голове дополнял картину. Какая-то старуха при выходе
Введенского из храма Христа Спасителя ударила его камнем, и
Введенский несколько месяцев лежал в больнице. На память
Введенский цитировал на разных языках целые страницы».
Публичный диспут с наркомом Анатолием Луначарским о
существовании Бога Введенский закончил таю «Анатолий
Васильевич считает, что человек произошёл от обезьяны. Я думаю
иначе. Ну что ж — каждому его родственники лучше известны».
Шутка вызвала в зале бурю аплодисментов. Диспуты о религии
были в то время очень популярны, поскольку политические
дискуссии уже стали запретными. Позднее, в конце 20-х гг.,
диспуты были прекращены.
После ареста патриарха Тихона обновленцам при
поддержке властей в течение года удалось подчинить себе большую часть
приходов страны. Правда, обновленческие храмы пока
пустовали: большинство верующих не желали в них идти.
29 апреля 1923 г. обновленцы открыли в Москве «Второй
Поместный собор Русской Православной церкви». Они лишили
И. Малютин. Карикатура на «красную
церковь». «Среди некоторых церковных
служителей возникла мысль об
организации „красной церкви".
„Если есть краскупы (красные купцы), —
рассуждают они, — то почему же не
могут существовать краспопы?"».
Много нынче развелось у нас иерквей:
Есть «живая», есть *живой» ешё живей!
Есть живейшая, и есть совсем *антик» —
иеркви новые пекутся кажлый миг.
Церковь красную вылумывает поп,
иеркви новые заткнуть за пояс чтоб!
Рядом с Марксом — лик ^божественный»
Христа,
На иконе — серп и молот... Кра-со-та!
Тихона сана патриарха и упразднили патриаршество как «мо- («крокодил». 1923 г.)
429
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
•Светильник веры".
Антирелигиозная карикатура. «Свет веры, например
Волоколамского монастыря, распространился весьма далеко —
ему принадлежали 11 сёл и 24 деревни, а всего монастыри
владели около 1 /3 всех русских земель. Довольно,
„светильнички", на мужицкой спине кататься. Пора задуть!»
(Журнал «Безбожник». 1924 г.)
И. Малютин. Карикатура на «Живую церковь». «Уголок мод.
Костюм № 1 — „Живая церковь". Костюм выходной: брюки по
последнему берлинскому фасону (можно перешить из синей
шёлковой рясы), пижама с широкими рукавами и с вышивками,
воротник из малинового крепдешина с бейками. Шляпа —
цилиндр. Костюм № 2 — „красная церковь". Костюм
служебный: юбочка из парчи, манто с кокеткой, отороченное
крестовидным шитьём, на ногах высокие дамские ботинки.
Шляпа комбинированная» («Крокодил». 1923 г.).
А. Моор. Карикатура на «Живую
церковь». «Перерегистрация святых».
«Живая церковь: — Позвольте,
гражданин угодник. Всем известно, что
Вы дворянского происхождения. Мы
исключаем Вас из месяцеслова за
шкурничество и оторванность от
небесных масс» («Крокодил». 1922 г.).
430
РЕЛИГИЯ В ГОДЫ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Взрыв храма Христа Спасителя.
Современный рисунок.
нархический и контрреволюционный способ руководства
Церковью».
Собор обновленцев разрешил епископам вступать в брак,
а овдовевшим священникам — жениться вторично.
Священники-обновленцы коротко стриглись, часто надевали
гражданскую одежду.
В июне 1923 г. патриарх Тихон принял решение
«раскаяться в своих проступках против государственного строя» и был
выпущен на свободу. Это нанесло сокрушительный удар по
обновленческой церкви.
Десятки и сотни священников, перешедших к обновленцам,
приносили теперь покаяние Тихону. Ряды приверженцев «живой
церкви» таяли на глазах.
В 1925 г. на своём соборе обновленцы отказались от всех
нововведений: женатого епископата, второбрачия священников
и т. п. Это означало по существу конец обновленчества, хотя
ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
В честь победы в Отечественной
войне 1812 г. Александр I подписал указ о
строительстве храма Христа
Спасителя. Собор строился 46 лет, с 1837 по
1883 г. Строительство велось на
добровольно собранные народные
пожертвования.
Это был самый грандиозный памятник
за всю российскую историю: его
высота достигала 103 м. К открытию храма
Пётр Чайковский написал увертюру
«1812 год» и сам дирижировал
оркестром при освяшении собора.
В 1931 г. на месте храма решено было
построить гигантский Дворец
Советов. Его актовый зал должен был
вмешать 21 тыс. человек. Колоссальное
сооружение имело бы в высоту 415 м,
включая 75-метровую стальную
статую Ленина. Предполагалось, что
здание советского парламента будет
служить как бы пьедесталом для
огромной статуи.
Начался снос собора. Под решением
об этом подписались Сталин, Молотов
и другие члены Политбюро.
431
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
В 20—30-е ГОДЫ
Очевидец сноса кинооператор
Владислав Микоша вспоминал: «Через
широкие распахнутые двери
выволакивали с петлями на шее чудесные
мраморные творения. Отлетали руки, головы,
крылья ангелов, раскалывались
мраморные горельефы, порфирные
колонны дробились отбойными
молотками. Стаскивались кресты с малых
куполов. Шло время, оголились от
золота купола, потеряли живописную
роспись стены.
Рабочие батальоны в будёновках
начали вгрызаться в стены, но стены
оказали упорное сопротивление. Ломались
отбойные молотки. Ни ломы, ни
тяжёлые кувалды, ни огромные стальные
зубила не могли преодолеть
сопротивление камня. Храм был сложен из
огромных плит песчаника, которые при
кладке заливались вместо цемента
расплавленным свинцом. Военные
батальоны ничего не могли сделать со
стенами. Тогда пришёл приказ. Мне сказал
под большим секретом симпатичный
инженер: „Сталин был возмущён нашим
бессилием и приказал взорвать собор".
Только сила огромного взрыва
окончательно уничтожила храм Христа
Спасителя, превратив его в огромную
груду развалин».
Взрыв этот раздался 5 декабря 1931 г.
Но великолепный Дворец Советов так
и остался на бумаге и никогда не был
построен. Позднее на месте собора
разместился плавательный бассейн
«Москва».
Храм Христа Спасителя.
Фотография начала XX в.
432
религия в годы
советской власти
формально «Обновленческая церковь» во главе с А. Введенским
существовала вплоть до послевоенных лет.
ДЕКЛАРАЦИЯ СЕРГИЯ 1927 ГОДА
После смерти патриарха Тихона в 1925 г. власти не позволили
провести собор для избрания нового патриарха. Во главе
церкви встал патриарший местоблюститель митрополит Пётр
(Полянский). Но через семь месяцев он был арестован и, так
никогда и не выйдя на свободу, погиб в 1936 г.
В управление церковью вступил его заместитель
митрополит Сергий (Иван Страгородский). Видный церковный деятель,
епископ с 1901 г., Сергий ещё от царского правительства
получил орден Святого Александра Невского.
В декабре 1926 г. власти арестовали и Сергия. Однако через
несколько месяцев он был освобождён.
29 июля 1927 г. он подписал «Декларацию митрополита
Сергия». В ней говорилось: «Мы хотим быть православными и в то
же время сознавать Советский Союз нашей гражданской
родиной, радости и успехи которой — наши радости и успехи, а
неудачи — наши неудачи. Оставаясь православными, мы помним
свой долг быть гражданами Союза „не только из страха, но и по
совести", как учил нас апостол».
Арестовывать духовенство и закрывать храмы продолжали
и после публикации «Декларации». Достаточно сказать, что из
семи архиереев, подписавших «Декларацию» вместе с Сергием,
трое были арестованы и погибли в 1937—1938 гг.
А. Топиков. «В Москве взорваны
строения бывшего Симонова монастыря,
на месте которых будет возведён Дворец
культуры.
— Батюшки! Никак коней света!
— Нет, бабушка! Коней тьмы!»
(«Крокодил». 1930 г.)
Митрополит Крутиакий Пётр (Полянский). Митрополит Сергий (Страгородский).
ХРАМЫ И МОНАСТЫРИ
ПРИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
В 1917 г. на территории Российской
империи действовало почти 80 тыс.
православных храмов, 25 тыс. мечетей,
6 тыс. синагог, 4400 костёлов, 2 тыс.
грузинских и армянских церквей.
В конце 20-х гг. в стране началась
массовая кампания по закрытию и сносу
храмов. Кирпич разрушенных церквей
шёл на строительство домов и фабрик.
В народе это окрестили
«производством кирпича по рецепту Ильича».
В результате к 1940 г. в стране
осталось не более 2 тыс. открытых храмов,
в том числе 400 православных, менее
тысячи мечетей. В Ленинграде
действовало 5 церквей, в некоторых
городах (таких, как Омск, Красноярск) не
было ни одной церкви.
С 1943 г., после знаменитой встречи
Сталина с духовенством, храмы
начали вновь открывать. В 1945 г.
действовало уже около 22 тыс. православных
церквей.
433
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
В годы «оттепели» более 13 тыс.
православных церквей были закрыты,
возобновились массовые сносы храмов.
Всего за голы Советской власти более
чем из 100 тыс. храмовых зданий
сохранилось только 30 тыс.
К началу «перестройки» действовало
около 10 тыс. храмов, в том числе
7 тыс. православных церквей и 400
мечетей.
Такой же была и судьба монастырей.
Например, в 1917 г. в России
действовало около 1500 монастырей, в том
числе 1257 православных, 166
буддийских. Уже к 1930 г. все они были
закрыты, и до 1940 г. в стране не было
ни одного монастыря.
8 1945 г. число монастырей возросло
до 103 (из них 80 были на
присоединённых западных землях). За годы
«оттепели» это количество уменьшилось
втрое (до 32 в 1964 г.).
К 1988 г. в стране действовало 19
православных и 2 буддийских монастыря,
9 монастырей армянской и грузинской
церквей.
К. Елисеев. Рисунок, посвященный
закрытию монастырей. «В Оптиной
Пустыни открыт дом отдыха для
сотрудников Наркомпроса.
— Вот, наконец-то в нашей пустыни
поселились настоящие подвижники и
великомученики»
(«Крокодил». 1925 г.).
В то же время иногда в обмен на новые уступки власти шли
на некоторые послабления в отношении церкви. В феврале
1930 г. советские газеты напечатали выступление митрополита
Сергия, в котором он говорил: «Гонения на религию в СССР
никогда не было и нет. Исповедание любой веры в СССР свободно
и никакими государственными организациями не
преследуется. Действительно, некоторые церкви закрываются, но
происходит это не по инициативе власти, а по желанию населения, а в
иных случаях даже по постановлению самих верующих». После
этого выступления Сергию было разрешено издавать «Журнал
Московской патриархии», который выходил до 1935 г.
В 1942 г. Сергий в книге «Правда о религии в России»
привёл слова патриарха Филарета (XVII в.): «Церковь молится за
государственную власть не в надежде на выгоду, а во исполнение
своего долга, указанного волею Божией». «Такова и есть
позиция нашей патриаршей Русской Церкви в отличие от всяких
отщепенцев за границей и дома», — добавил Сергий.
РУССКАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ЦЕРКОВЬ
В ходе гражданской войны (1918—1921 гг.) около 25
митрополитов и епископов Русской Православной церкви оказались за
границей, в эмиграции. Большинство из них были резко настроены
против власти большевиков.
Декларация митрополита Сергия 1927 г. окончательно
разорвала отношения между этой частью духовенства и Московской
патриархией. Сергий потребовал от заграничного духовенства
«полной лояльности к Советскому правительству».
434
РЕЛИГИЯ В ГОДЫ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
В сентябре 1927 г., вскоре после публикации декларации
Сергия, в сербском городе Сремски Карловцы состоялся собор
заграничного духовенства из десяти архиереев во главе с
митрополитом Антонием (Алексеем Храповицким). Позднее это событие
стали называть «карловацким расколом».
Собор заявил, что «послание митрополита Сергия
составлено не свободно, а под сильным давлением гонителей нашей
Святой Церкви — большевиков». Ввиду этого собор постановил, что
отныне «заграничная часть Церкви должна управляться сама».
Русская Зарубежная церковь стояла на позиции решительной
борьбы с Советской властью. В послании её главы митрополита
Антония в 1930 г., например, говорилось: «Православные христиане!
Встаньте все против красного Антихриста! Властью, данной мне
от Бога, благословляю всякое оружие, против красной сатанинской
власти поднимаемое, и отпускаю грехи всем, кто в рядах
повстанческих дружин или одиноким народным мстителем сложит
голову за русское и Христово дело».
После декларации Сергия прекратили отношения с Москвой
также приходы Северной Америки, создавшие Американскую
Православную церковь. Московская патриархия признала их
автокефалию (самоуправление) только в 1970 г.
Отделились от Москвы и западноевропейские приходы,
перейдя в подчинение патриарха Константинопольского.
М. Черемных.
Антирелигиозная карикатура
«Промысел божий»
(«Крокодил». 1929 г.).
ИСТИННО ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
В Советском Союзе значительная часть
духовенства во главе с митрополитом Ленинградским
Иосифом (Петровых) не поддержала
декларацию митрополита Сергия 1927 г.
Несогласные с декларацией священники и
верующие образовали несколько групп под
общим названием «катакомбная», или «Истинно
Православная церковь». Называли их также «не-
поминающими» за отказ поминать в молитвах
Сергия и государственные власти. Истинно
православные христиане считали себя
последователями патриарха Тихона, хранителями
чистоты православия. Советскую власть они
называли «властью Антихриста», а Русскую
Православную церковь — «служанкой Антихриста».
Истинно православные христиане
отказывались от участия в любых советских
мероприятиях — выборах, даже переписях населения, а
также от службы в армии. Свои богослужения
они проводили подпольно, в тайных домашних
церквах. Вскоре почти все истинно
православные христиане оказались в лагерях и ссылках.
Отказ ставить подписи в любых официальных
бумагах и здесь сильно затруднял их жизнь.
435
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
А. Мельников. «Действительно
универсальный магазин. В магазинах
МПО продаются иконы, лампалы наряду
с портретами вождей революции»
(«Крокодил». 1923 г.).
ЗАПРЕТ НА КОЛОКОЛЬНЫЙ
ЗВОН
В начале 1930 г. московским церквам
было запрещено звонить в колокола,
лаже на Пасху и Рождество.
Колокольный звон можно было услышать только
за пределами города. Запрет был
отменён в 1943 г. в связи с улучшением в
отношениях церкви и государства.
В 1961 г., в разгар новой
антирелигиозной кампании, запрет
возобновился и оставался в силе до начала
«перестройки».
Аресты истинно православных христиан за «антисоветскую
деятельность» не прекращались вплоть до 70-х и начала 80-х гг.
АРЕСТЫ ДУХОВЕНСТВА И ВЕРУЮЩИХ
Во второй половине 30-х гг., во время массовых арестов «врагов
народа», широкий размах приобрели и аресты духовенства.
Церковный писатель Анатолий Краснов-Левитин позднее
вспоминал, что если в 1935 г. в Ленинградской области было
около 1,5 тыс. священников и дьяконов, то в 1937 г. — лишь
32 человека.
К 1939 г. на свободе оставалось всего около 400
священников и 5 епископов и митрополитов (в 1917 г. в Российской
империи было более 50 тыс. священников и 163 епископа).
Аресты священников проходили «по плану», а рядовых
верующих арестовывали при любом проявлении религиозной
активности. Бывшая заключённая Е. Соколова-Бартеньева так
описывала группу верующих, сидевших с ней в 1937 г. в одной
камере: «Старухи 60—70 лет, только одна молоденькая,
восемнадцати лет. Все они уже получили сроки, главным образом десять
лет. Удивительно то, что они совершенно не унывали, ведь они
„страдали за бога".
В смежной с нами камере находилась 90-летняя старуха.
Ей дали десять лет, и она волновалась, что не сможет
просидеть все десять лет, до 95 лет она ещё доживёт, но до ста не
выдержит, а значит, наказание, данное ей Богом, не выполнит. И
это она старалась доказать человеку, читавшему ей приговор!
Она рассказала: „В нашем селе церковь была занята под склад,
и общество просило освободить её под храм Божий. Выбрали
ходоков в область, и меня тоже, как самую старшую и
уважаемую. Там выслушали нас и... направили в НКВД. Ну а оттуда уже
отвезли в тюрьму"».
Писатель Варлам Шаламов, много лет проведший в
заключении на Колыме, так характеризовал поведение арестованных
«за веру» в лагерях: «За 20 лет, что я провёл в лагерях и около
них, я пришёл к твёрдому выводу — сумме многолетних,
многочисленных наблюдений, — что если в лагере и были люди,
которые, несмотря на все ужасы, голод, побои и холод,
непосильную работу сохраняли и сохранили неизменно человеческие
черты, — это сектанты и вообще религиозники, включая и
православных попов. Конечно, были отдельные хорошие люди и из
других групп населения, но это были только одиночки, да и,
пожалуй, до случая, пока не было слишком тяжело. Сектанты же
всегда оставались людьми».
Во время Кенгирского лагерного восстания 1954 г. (см. ст.
«Советские лагеря и тюрьмы») среди бастующих заключённых
оказался священник Ему было сшито церковное облачение, и в
течение 40 дней восстания он выполнял свои обязанности:
отпел умершего от болезни старика, обвенчал
новобрачных-заключённых.
436
РЕЛИГИЯ В ГОДЫ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
ЦЕРКОВЬ В ГОДЫ ВОЙНЫ
В первый же день Великой Отечественной войны митрополит
Сергий обратился к верующим с посланием, призывая их встать
на борьбу с врагом. В нём он чётко перечислял задачи, которые
готова взять на себя церковь: «Нам, пастырям Церкви, в такое
время, когда Отечество призывает всех на подвиг, недостойно
будет лишь молчаливо посматривать на то, что кругом делается,
малодушного не ободрить, огорчённого не утешить,
колеблющемуся не напомнить о долге и о воле Божией». «Господь нам
дарует победу», — заключал он своё послание.
Позднее, в ноябре 1941 г., Сергий писал: «Прогрессивное
человечество объявило Гитлеру священную войну за
христианскую цивилизацию, за свободу совести и веры».
Уже с начала войны наметился некоторый перелом в
отношениях церкви и государства. Осенью 1941 г. прекратили
выходить все антирелигиозные издания. Перестал подавать
признаки жизни «Союз воинствующих безбожников» с его тремя
миллионами активистов.
30 декабря 1942 г. митрополит Сергий призвал верующих к
сбору средств на танковую колонну имени Дмитрия Донского.
Через несколько дней И. Сталин впервые направил Сергию
телеграмму, где поблагодарил «православное русское духовенство и
верующих за заботу о бронетанковых силах Красной Армии».
Всего в годы войны
церковь собрала на военные
нужды свыше 300 млн рублей.
Колонна имени Дмитрия
Донского из 40 танков «Т-34» была
передана Красной армии 7
марта 1944 г.
На собранные Русской
Православной церковью
средства была также построена
эскадрилья боевых самолётов
имени Александра Невского.
Немцы на
оккупированных территориях не
возражали против открытия храмов, и
церкви вновь стали
открываться сотнями. Группа
православного духовенства во главе с
митрополитом Литовским
Сергием (Воскресенским)
приветствовала освобождение от
Советской власти. (Позднее Сергий
был убит немцами.)
Московского Сергия они называли
заложником Кремля, а его
деятельность объясняли нажимом
властей.
А. Моор.
Антирелигиозная карикатура.
«Ворона сельскому священнику:
— Хоть ты и живой, хоть ты и пашешь,
а не проведёшь!»
«Пол развесистой клюквой».
Рисунок высмеивает популярные на
Запале слухи о преследовании
духовенства в СССР: большевики на
рисунке жарят священников на костре,
сажают их на кол, обливают на морозе
ледяной водой (журнал «Безбожник»,
1930 г.).
ф**ЛЛ
437
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
СВЯЩЕННИК ДМИТРИЙ АУЛКО
В декабре 1973 г. московский
священник Дмитрий Дудко начал
еженедельно выступать в своём храме с
необычно яркими и живыми проповедями на
волнуюшие общество темы: против
пьянства и роскоши, за укрепление
семьи.
Проповеди имели огромный успех.
Всего он прочитал десять таких
проповедей, причём церковь каждый раз
до отказа была заполнена
слушателями. После этого Д. Дудко был
переведён в другой храм. Здесь он стал
выпускать церковную газету «В свете
преображения», где несколько раз
высказывался в защиту прав человека,
осуждал расстрел царской семьи в 1918 г.
15 января 1980 г. Д. Дудко был
арестован по обвинению в клевете на
советский строй. После ареста он
согласился выступить по телевидению с
осуждением своей прежней
деятельности. 21 июня 1980 г. в газете
«Известия» было опубликовано его
заявление, в котором он писал: «В Евангелии
сказано: „Всякая власть от Бога,
противящийся власти — противится
Божьему установлению". Вот оно и
преступление налицо, как бы на него ни
смотреть, с религиозной или
государственной точки зрения. Найдена была
основная мысль — и вот я уже сам себя
уличил в преступлении».
7 октября 1941 г. власти предписали митрополиту Сергию
покинуть Москву и отправиться в эвакуацию. В одном вагоне в
глубь России отправились митрополит Сергий, глава
старообрядческой церкви архиепископ Иринарх, глава обновленцев А.
Введенский и другие религиозные деятели.
Митрополит Сергий и его патриархия оставались в
эвакуации в Ульяновске до осени 1943 г.
Десятки священников во время войны были расстреляны
немцами за помощь партизанам. Несколько киевских
священников были казнены за чтение в храмах патриотических воззваний
митрополита Сергия.
Многие священники воевали в партизанских отрядах и
армии, были награждены боевыми орденами. В течение
длительной блокады Ленинграда в городе не переставали действовать
восемь православных храмов.
ВСТРЕЧА СТАЛИНА С ДУХОВЕНСТВОМ
В начале сентября 1943 г. митрополит Сергий вернулся в
Москву. 4 сентября у него дома неожиданно раздался телефонный
звонок- Сергия пригласили на встречу в Кремль.
8 ночь на 5 сентября за пышно накрытым столом
встретились И. Сталин, В. Молотов, митрополиты Сергий, Алексий (Си-
манский) и Николай (Ярушевич).
Митрополит Сергий пожаловался, что церкви не хватает
священников. «А почему у вас нет кадров? Куда они делись?» —
спросил Сталин. «Кадров у нас нет по разным причинам, —
дипломатично ответил Сергий. — Например, мы готовим
священника, а он становится Маршалом Советского Союза». Сталин
усмехнулся. «Вам нужно готовить новые кадры», — сказал он.
Митрополиты попросили разрешения открыть курсы для
подготовки священников. «Какие там курсы! — воскликнул И. Сталин. —
Академии духовные вам необходимы, семинарии нужны. К
этому делу надо приучать с малолетства».
Митрополиты заметили, что было бы неплохо выпускать
церковный календарь с богослужебными текстами. В ответ
Сталин предложил большее — возобновить выпуск «Журнала
Московской патриархии».
Сергий высказал пожелание созвать церковный собор и
избрать нового патриарха. Не будет ли правительство против? «Это
ваше внутрицерковное дело», — ответил Иосиф Виссарионович.
Сталин также сообщил митрополитам, что при
Совнаркоме создаётся Совет по делам Русской Православной церкви во
главе с Георгием Карповым. Полковник НКВД Г. Карпов долгое
время руководил массовыми арестами и расстрелами
духовенства. Митрополит Сергий решился произнести: «Богопоставлен-
ный вождь, но ведь он из гонителей наших». «Правильно, —
сказал Сталин, — партия приказывала товарищу Карпову быть
гонителем, он исполнял волю партии. А теперь мы ему поручим
стать вашим охранителем. Я знаю товарища Карпова, он ис-
438
РЕЛИГИЯ В ГОДЫ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
полнительный товарищ». А. Краснов-Левитин писал: «В конце
беседы митрополит был страшно утомлён. Сталин, взяв
митрополита под руку, осторожно, как настоящий иподьякон, свёл его
по лестнице вниз и сказал ему на прощание следующую фразу:
„Владыко! Это всё, что я могу в настоящее время для Вас сделать"».
5 сентября «Правда» и другие газеты на первой полосе
сообщили о состоявшейся в Кремле беседе. В столицу на самолётах были
доставлены из ссылок и лагерей православные архиереи (всего их
собралось 18 человек). Уже 8 сентября открылся Собор епископов. В
тот же день малиновый звон колоколов разнёс по Москве весть об
избрании нового патриарха. Двенадцатым патриархом Московским
и всея Руси стал митрополит Сергий.
Вновь стал выходить ежемесячный «Журнал Московской
патриархии», закрытый в 1935 г. К 1945 г. в стране действовали
уже восемь духовных семинарий (правда, в 1917 г. их было 57) и
две духовные академии — Ленинградская и Московская (в
Загорске, ныне Сергиев Посад).
Открывались сотни закрытых прежде храмов. В целом в
политике государства по отношению к церкви произошёл
коренной поворот.
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ПОСЛЕ СЕРГИЯ
15 мая 1944 г. скончался патриарх Сергий, возглавлявший
церковь в самые трудные годы. Поместный Собор в феврале 1945 г.
избрал новым патриархом единственного кандидата —
митрополита Ленинградского Алексия (Сергея Симанского), который
возглавлял церковь до своей смерти в 1970 г.
Алексий и его преемник Пимен (Сергей Извеков, 1971 —
1990 гг.) продолжали политику Сергия, стараясь избегать любых
разногласий с властью.
В 1948 г. в Москве собралось Международное совещание
православных церквей. В принятом обращении осуждались
«благословения, исходящие из крепости католицизма — Ватикана и
гнезда протестантизма — Америки, новой войне и хвалебные
гимны атомным бомбам, предназначенным для уничтожения
жизни на Земле». Решения совещания как бы придавали
противостоянию Востока и Запада религиозную окраску.
Позднее, однако, эта идея дальнейшего развития не
получила. С 1961 г. Русская Православная церковь стала участвовать
во Всемирном Совете церквей, который ранее резко осуждала. В
него входили в основном протестантские церкви.
ВО ВРЕМЯ «ОТТЕПЕЛИ»
После смерти И. Сталина политика властей по отношению к
церкви вновь ужесточилась. Летом 1954 г. появилось решение ЦК
партии об усилении антирелигиозной пропаганды. С резкой
речью против религии и церкви тогда же выступил Никита Хрущёв.
Возобновились массовое закрытие и сносы храмов всех
вероисповеданий. Ежегодно (вплоть до 1964 г.) сносилось более
«СЕКТАНТЫ»
С кониа 50-х гг. большинство арестов
духовенства и верующих приходилось
на «сектантов». Так называли
малочисленные религиозные группы —
баптистов, пятидесятников, греко-католи-
ков, адвентистов и др.
Среди баптистов в 1960 г. началась
борьба между церковным
руководством, тесно сотрудничающим с
властями, и неофициальной частью
церкви. Власти поддержали церковное
руководство и в 1961—1963 гг.
арестовали и осудили свыше 200 его
противников. До 1981 г. были осуждены ещё
более 700 баптистов.
В 1971 г. баптистам удалось создать
подпольное издательство
«Христианин», которое за десять лет выпустило
около 500 тыс. экземпляров различных
религиозных книг и брошюр.
Своё подпольное издательство
«Верный свидетель» в 70-х гг. создали и
адвентисты. В 1978—1981 гг. в связи с
работой издательства было
арестовано около 90 адвентистов. В 1979 г. на
пять лет лагерей был осуждён
84-летний духовный лидер советских
адвентистов Владимир Шелков. Вскоре он
скончался в заключении.
439
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
йатриарх Алексий I во время поезлки
в Болгарию.
■•- ь ci
Д
L Яг'ш^Ш
Z4L.
К£-—
1 ъ^Ч щ
\141м ' А
ffi^s^^B
• j
тысячи храмов, примерно столько же закрывалось. В частности,
в 1961 г. вновь закрыли Киево-Печерскую лавру (ранее она была
закрыта с 1926 по 1942 г.).
Летом 1964 г. был взорван храм Преображения —
кафедральный собор митрополита Московского. Верующие отказались
в назначенный день покинуть собор и продолжали
богослужение. Их выдворяли с помощью милиции. В 1961 г. был вновь
запрещён колокольный звон в Москве и многих других местах.
В I960 г. власти потребовали проведения
церковноприходской реформы. Во главе прихода теперь оказывался не
священник, а совет из двадцати прихожан («двадцатка»), подобранных
властями. В их распоряжение переходило всё церковное
имущество и пожертвования. Своим решением они могли уволить
священника или закрыть храм.
В период подготовки реформы восемь епископов
публично протестовали против неё. Однако через год патриарх
Алексий, а затем и собор епископов согласились с её проведением.
В 1965 г. против реформы снова протестовали восемь
архиереев во главе с архиепископом Калужским Гермогеном и
священники Николай Эшлиман и Глеб Якунин. За эти выступления
священники были лишены приходов, а Гермоген — удалён в
монастырь.
ВО ВРЕМЯ «ПЕРЕСТРОЙКИ»
В годы «перестройки» (с марта 1985 г.) в политике государства
по отношению к церкви вновь произошёл поворот. Стали
открываться новые храмы всех вероисповеданий. Православной
церкви были возвращены Киево-Печерская лавра, Оптина Пустынь
и другие монастыри. В 1988 г. православная церковь
торжественно отпраздновала тысячелетие Крещения Руси.
Роль церкви в государственной жизни стала возрастать. В
марте 1989 г. впервые в советской истории церковные деятели
стали депутатами СССР. Среди них были патриарх Пимен и его
будущий преемник митрополит Алексий (Ридигер).
3 мая 1990 г. 80-летний патриарх Пимен скончался. Русскую
Православную церковь возглавил патриарх Алексий И. Ему
предстояло руководить церковью в новую эпоху её деятельности.
Патриарх Алексий II
в Свято-Аан иловом монастыре.
ПАТРИАРХ ТИХОН
(1865—1925)
Василий Иванович Белавин — будущий патриарх Тихон —
родился 19 (31) января 1865 г. в селе Клин близ города Торопца
Псковской губернии.
Василий с детских лет готовился стать священником, как и
его отец. Закончил духовную семинарию в Пскове, затем
духовную академию в Петербурге. В 26 лет стал монахом, избрав себе
церковное имя Тихон — в честь Святого Тихона Задонского.
Выбор оказался символичным — ведь Тихону Задонскому
пришлось испытать немало гонений от властей.
Уже в 33 года Тихон был возведён в сан епископа. Около
десяти лет он руководил Православной церковью в Америке.
Возглавлял епархии в Ярославле и Литве.
Февраль 1917 г. привёл к переменам и в церковной жизни.
С весны в России стали проходить выборы епископов.
Приходские собрания тайным голосованием избирали делегатов на
епархиальные съезды. Именно такой съезд большинством
голосов избрал Тихона митрополитом Московским и Коломенским.
Но ему недолго пришлось оставаться на этом посту.
В августе 1917 г. в Москве собрался Поместный собор
Русской Православной церкви. После более чем двухсотлетнего
перерыва собор должен был восстановить на Руси патриаршество
и назвать имя нового патриарха.
В результате долгих обсуждений собор отобрал трёх
кандидатов на патриарший престол. Окончательный выбор должен
был совершиться «по указанию Божию».
5 ноября 1917 г. храм Христа Спасителя в Москве,
рассчитанный на 12 тыс. человек, был переполнен народом.
Старец-затворник Зосимовой Пустыни Алексий, трижды перекрестившись,
не глядя достал из ковчежца записку с именем избранника.
Одиннадцатым патриархом Московским и всея Руси стал митрополит
Тихон. В тот же день новоизбранный патриарх произнёс речь
перед собором: «Ваша весть об избрании меня в Патриархи
является для меня тем свитком, на котором было написано: „Плач,
и стон, и горе", и каковой свиток должен был съесть пророк Ие-
зекииль. Сколько и мне придётся глотать слёз и испускать
стонов в предстоящем мне патриаршем служении, и особенно в
настоящую тяжёлую годину!».
После Октября Русская Православная церковь оказалась в
стремительном водовороте ошеломляющих перемен. В марте
441
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
В 20—30-е ГОДЫ
Патриарх Тихон
и митрополит Крутицкий Пётр.
1918 г. Тихон говорил в проповеди: «Это тяжёлое время нависло
над нами так быстро, так неожиданно, что мы совершенно к нему
не подготовились. Можно ли было полтора года тому назад
подумать, что скоро начнётся открытое гонение на Церковь нашу,
и от тех, в виде на жительство которых ещё не вычеркнуты слова
„вероисповедания православного"...».
В проповедях и посланиях 1918 г. патриарх резко и
откровенно выражал своё мнение по всем важнейшим политическим
вопросам. Он осудил, например, расстрел Николая II,
Брестский мир, казни заложников.
В послании от 19 января 1918 г. Тихон предал анафеме всех
тех православных или «по рождению своему принадлежащих к
церкви лиц», кто принимает участие в гонении на церковь. Он
призвал верующих «не вступать с извергами рода человеческого
в какое-либо общение».
Постепенно, однако, стало ясно, что открытая политическая
позиция церкви служит поводом для арестов и расстрелов
духовенства по всей стране. В сентябре 1919 г. патриарх выступил
с посланием «О прекращении духовенством борьбы с
большевиками». Тихон говорил в нём: «Установление той или иной
формы правления — не дело Церкви, а самого народа. Церковь не
связывает себя ни с каким определённым образом правления,
ибо таковое имеет лишь относительное историческое значение».
Следующее наступление властей на церковь началось во
время голода в Поволжье. В одном из своих посланий Тихон так
описывал отчаянное положение голодающих: «Падаль для
голодного населения стала лакомством, но этого лакомства нельзя уже
более достать. По дорогам и оврагам, в снегу находят десятки
умерших голодных. Матери бросают своих детей на мороз.
Доходит до людоедства. Убыль населения от 12 до 25%».
В августе 1921 г. патриарх Тихон объявил о создании
Всероссийского церковного комитета помощи голодающим и
обратился с воззванием «к народам мира и православному
человеку». «Помогите! Помогите стране, помогавшей всегда другим!
Помогите стране, кормившей многих и ныне умирающей от
голода. На помощь немедля! На широкую, щедрую, нераздельную
помощь!» — призывал Тихон.
Однако вскоре церковный комитет был запрещён властями.
С Тихоном начались переговоры о пожертвовании на нужды
голодающих церковных ценностей. Позднее, выступая свидетелем
на суде, патриарх рассказывал: «Я представил проект своего
воззвания о том, что можно жертвовать. Потом, когда воззвание было
напечатано — дней через пять, — вышел декрет о том, чтобы
отбирать всё. Это показалось нам странным: с одной стороны,
ведётся соглашение с нами, с другой — за спиной выпускают декрет
о том, чтобы всё отбирать, и уже ни о каких соглашениях нет речи».
Началось массовое изъятие из церквей всех ценностей (см. ст.
«Религия и церковь в годы Советской власти»). На суде патриарх
привёл пример, когда священные для верующих оклады, снятые с
икон, топтали ногами, чтобы они поместились в ящик.
442
ПАТРИАРХ
ТИХОН
28 февраля 1922 г. патриарх выпустил воззвание с резким
осуждением изъятия ценностей, где говорилось: «Мы не можем
одобрить изъятия из храмов, хотя бы и через добровольное
пожертвование, священных предметов, употребление коих не для
богослужебных целей воспрещается канонами Вселенской
Церкви и карается Ею как святотатство: миряне — отлучением
от Неё, священнослужители — извержением из сана».
Во многих местах вспыхнули волнения, протесты верующих
против изъятия ценностей. 28 марта газета «Известия»
опубликовала «список врагов народа», где на первом месте значился
патриарх Тихон «со всем своим церковным собором». В. Ленин в
секретном письме Политбюро 19 марта писал о необходимости
судов и расстрелов «реакционного духовенства», но тем не менее
замечал: «Самого патриарха Тихона, я думаю, целесообразно нам
не трогать, хотя он, несомненно, стоит во главе всего этого
мятежа рабовладельцев».
9 мая патриарх был взят под домашний арест и заключён в
Донской монастырь в Москве. Чекистка Мария Вешнева,
охранявшая Тихона, вспоминала о жизни патриарха в то время:
«Патриарх живёт в тереме на стене. Снизу терем кажется маленьким, а
внутри поместительный. В нём четыре комнаты. Три смежные,
их занимает патриарх, а четвёртая, изолированная с дверью на
лестницу, наша.
У него очень строгий режим. Просыпается в шесть.
Выходит на площадку и, обнажённый по пояс, делает гимнастику.
Долго молится. Всегда по утрам пишет. За час до обеда, тепло
одетый, выходит на стену. Прогуливается до башни и обратно. К
этому времени двор заполняется народом. Это верующие ожидают
его благословения. Патриарх время от времени подходит к краю
стены и молча благословляет крестным знамением. Многие
опускаются на колени. Матери поднимают детей. Всё молча,
разговаривать не положено».
М. Вешнева даёт такой портрет Тихона: «Вид у него
представительный. О таких говорят — дородный. Лицо некрасивое,
простоватое — мужицкое. Очень интересные глаза. Глубоко
посаженные, умные, серые — говорящие. Я никак не могу увидеть в
патриархе классового врага. Умом я понимаю, что он враг, и,
очевидно, очень опасный. А общаясь с ним, ничего вражеского не
чувствую. Всегда внимателен, ласков, ровен. Я не видела его
раздражённым или капризным».
В апреле 1923 г. печать сообщила о предстоящем суде над
Тихоном. Началась особенно сильная газетная кампания против
него. Фельетонист «Правды» шутил: «Молитвы патриарха
Тихона не дошли до бога. Они были перехвачены ГПУ».
В обвинительном заключении против Тихона говорилось:
«Везде, куда ни попадало воззвание Тихона, наблюдались смуты,
волнения, кровавые беспорядки, превращавшие гуманнейший
акт Советской власти — использование бесполезного
украшения храмов на спасение гибнущего от голода поволжского
крестьянства — в страдание и гибель невинных людей».
ПОСЛАНИЕ ТИХОНА
СОВНАРКОМУ
В первую годовшину Октября Тихон
направил послание Совнаркому. В нём
патриарх напоминал большевикам их
обещания: «Захватывая власть и
призывая народ довериться вам, какие
обещания давали вы ему и как
исполнили эти обещания? Поистине, вы дали
ему „камень вместо хлеба и змею
вместо рыбы". Народу, изнурённому
кровопролитной войною, вы обещали дать
мир „без аннексий и контрибуций".
От каких завоеваний могли
отказаться вы, приведшие Россию к позорному
миру, унизительные условия которого
даже вы сами не решились
опубликовать полностью? Вместо аннексий и
контрибуций великая наша Родина
завоёвана, умалена, расчленена, и в
уплату наложенной на неё дани вы тайно
вывозите в Германию не вами
накопленное золото.
Вы обешали свободу... Это ли свобода,
когда никто не может высказать
открыто своё мнение, без опасения попасть
под обвинение в контрреволюции? Уже
заплатили своею кровью
мученичества многие смелые церковные
проповедники; голос общественного и
государственного осуждения и обличения
заглушён; печать, кроме узко
большевистской, задушена совершенно.
Мы переживаем ужасное время
вашего владычества, и долго оно не
изгладится из души народной, омрачив в ней
образ Божий и запечатлев в ней образ
зверя».
Тихон призывал к освобождению
заключённых, прекращению гражданской
войны и заканчивал послание так: «А
иначе „взыщется от вас всякая кровь
праведная, вами проливаемая", и „от
меча погибнете сами, взявшие меч"».
443
Одновременно достигло наивысшего подъёма
поддерживаемое властями «обновленческое движение» в церкви. 3 мая
«обновленческий собор» постановил лишить Тихона сана патриарха.
Тихон этого решения не признал. Но он видел, что суд над ним
приведёт к полной победе «обновленчества» и разгрому
традиционной церкви.
23 мая 1923 г. Тихона перевели в тюрьму ГПУ на Лубянку.
Тем самым было окончательно показано, что патриарх —
государственный преступник
16 июня 1923 г. патриарх подписал заявление: «Раскаиваюсь
в проступках против государственного строя. Я заявляю
Верховному суду, что я отныне Советской власти не враг. Я
окончательно и решительно отмежёвываюсь как от зарубежной, так и
внутренней монархическо-белогвардейской контрреволюции».
Газеты напечатали обращения Тихона, в которых говорилось, что он
«сознаёт свою вину перед народом и Советской властью». «Не
погрешая против веры и Церкви, — писал он, — не допуская
никаких компромиссов и уступок в области веры, в гражданском
отношении мы должны быть искренними по отношению к
Советской власти и работать на общее благо».
27 июня 1923 г. патриарх Тихон был выпущен с Лубянки.
Позднее он говорил: «Пусть погибнет моё имя в истории, только
бы Церкви была польза».
Освобождение Тихона привело к упадку и полному распаду
«обновленческого движения». Сотни священников и епископов,
перешедших к «обновленцам», приносили теперь патриарху
всенародное покаяние. Был среди них и будущий патриарх Сергий.
Историк М. Вострышев так описывал его покаяние: «Лишённый
моментом покаяния и архиерейской мантии, и клобука, и
панагии, и креста, стоит на амвоне митрополит Владимирский и
Шуйский Сергий. Низко кланяется Святейшему Тихону, в сознании
своего уничижения и признанной вины приносит дрожащим от
волнения голосом покаяние. Снова земной поклон. Постепенно
ему вручаются из рук Святейшего панагия с крестом, белый
клобук, мантия и посох. Патриарх приветствует своего собрата во
Христе взаимным лобызанием, и, прерванное чином покаяния,
чтение часов возобновляется».
Выйдя на свободу, Тихон вернулся в келью в Донском
монастыре, где и жил до самой смерти.
9 декабря 1924 г. здесь на него было совершено покушение.
Двое неизвестных убили в комнатах патриарха его келейника
Якова Полозова. «Моя мать услышала что-то вроде щелчков
наверху, — вспоминал сын Полозова. — Она побежала наверх,
дорогу ей преградил Патриарх и сказал: „Наташа, твоего мужа
убили". Мать увидела отца, который хрипел. В него было пущено пять
пуль. Убийцы убежали».
Здоровье патриарха сильно ослабло: он стал страдать
частыми обмороками, грудной жабой.
7 апреля 1925 г. патриарх Тихон скончался, находясь в
больнице. Он был похоронен в московском Донском монастыре. Око-
444
ло ста тысяч верующих провожали его в последний путь.
Похороны происходили в Вербное воскресенье, и в гроб с телом
патриарха по традиции положили веточку вербы.
В октябре 1989 г. собор Русской Православной церкви
причислил патриарха Тихона к лику святых.
АРХИЕПИСКОП ЛУКА
(1877—1961)
Валентин Войно-Ясенецкий, будущий профессор-хирург и
архиепископ, родился 27 апреля 1877 г. в Керчи. В 1904 г. закончил
медицинский факультет Киевского университета. Позже он
говорил: «Я изучал медицину с исключительной целью быть всю
жизнь деревенским, мужицким врачом, помогать бедным людям».
«Как врач, — писал о нём академик Иосиф Кассирский, —
он столкнулся с беспросветной нищетой, постоянным голодом
народа, с ужасающей детской смертностью. Борьба с
эпидемиями тифа, малярии, холеры, чумы, оспы, косившими целые
губернии, была его постоянной работой».
В 1916 г. Войно-Ясенецкий стал работать главным врачом
Ташкентской городской больницы. В 1919 г. после подавления
восстания Туркестанского полка его арестовали и чуть не
расстреляли. Спасло Войно-Ясенецкого только случайное
заступничество видного большевика. Он вспоминал об этом аресте:
«Огромное помещение было полно солдатами восставшего полка.
Их по очереди вызывали в отдельную комнату и там почти всем
в списке имён ставили крест... Нам крестов не поставили и
быстро отпустили. Позже мы узнали, что в тот же день вечером была
произведена ужасная человеческая бойня над солдатами и
многими гражданами».
В. Войно-Ясенецкий всегда был глубоко верующим
человеком, посещал церковь, но в 1921 г. он сделал неожиданный шаг:
стал священником. Сам он так объяснял этот поступок: «При виде
карнавалов, издевающихся над Господом нашим Иисусом
Христом, моё сердце громко кричало: „Не могу молчать!". Я
чувствовал, что мой долг — защитить проповедью оскорблённого
Спасителя нашего».
Летом 1921 г. в Ташкенте был устроен суд над несколькими
врачами, обвинёнными во вредительстве. Войно-Ясенецкий
выступил на суде в защиту своих коллег. Обвинял подсудимых Яков
Петере, ближайший помощник самого Феликса Дзержинского.
Чекист грубо спросил хирурга: «Скажите, как это Вы ночью
молитесь, а днём людей режете?». (Он имел в виду, что христианст-
445
Архиепископ Крымский Лука.
во запрещает проливать кровь.) «Я режу людей ради их
спасения, — отвечал Войно-Ясенецкий, — а ради чего режете людей
Вы, гражданин обвинитель?» Умелая защита В. Войно-Ясенец-
кого спасла арестованных от расстрела, а вскоре они были
освобождены.
Наступили самые трудные для православной церкви дни: её
глава патриарх Тихон находился в тюрьме на Лубянке, шли
массовые аресты священников. Именно в это время, 31 мая 1923 г.,
отец Валентин принял сан епископа и церковное имя Лука.
Через десять дней епископ Лука был арестован.
В последующие 20 лет его арестовывали и ссылали ещё
дважды — в 1930 и 1937 гг.; 12 лет провёл епископ Лука в ссылках и
тюрьмах. Окончательно освободился он лишь осенью 1943 г.
После ареста в 1937 г. два года он пробыл в следственной
тюрьме. Однажды чекисты допрашивали 60-летнего учёного-
епископа «конвейером», не давая спать 13 суток подряд. Но
«признания» в шпионаже они от него так и не добились.
Куда бы ни забрасывала судьба Войно-Ясенецкого — в Ту-
руханск или в глухие селения за Полярным кругом, — он
продолжал бесплатно принимать больных, выполнял сложные
операции. После начала войны его пригласили работать в
красноярские госпитали, где он оперировал раненых. В 1946 г. за книгу
«Очерки гнойной хирургии» В. Войно-Ясенецкому была
присуждена Сталинская премия первой степени.
В 1943 г. Лука стал епископом Красноярским, с 1946 г. —
архиепископом Крымским. Уже оставив из-за плохого зрения
хирургию, даже совсем ослепнув в 1955 г., он до самой смерти
продолжал архиерейскую службу. Кроме медицинских трудов его
перу принадлежат 12 томов проповедей, а также богословский
труд «О духе, душе и теле».
Во многом согласный с официальной идеологией, он не
переставал порой совершать неожиданные и опасные для себя
поступки. Его биограф Марк Поповский писал: «В 1951 г. Лука
произносит проповедь „Несть ни эллина, ни иудея".
Размышления апостола Павла о том, что перед истиной веры все люди, и
эллины, и иудеи в том числе, равны, звучит прямым
политическим намёком. Ведь всех эллинов (греков), тысячу лет живших
на крымских берегах, Сталин выселил за пределы родины, а
иудеев ждала ещё более жестокая расправа».
Скончался Валентин Войно-Ясенецкий в возрасте 84 лет
11 июня 1961 г. Тысячи верующих со всего Крыма провожали в
последний путь своего архиепископа.
КОЛЛЕКТИВИЗАиИЯ
КОЛЛЕКТИВИЗА1_1ИЯ
ДЕРЕВНЯ В 20-е ГОДЫ
После окончания гражданской войны сбылась, казалось, вековая
мечта крестьянина о земле. Почти вся пахотная земля оказалась
в пользовании общины («земельного общества») и была
разделена между семьями по числу едоков.
Тем не менее различия в достатке между крестьянами
сохранялись. Власти считали своей надёжной опорой в деревне
только бедняков, а зажиточных крестьян («кулаков») — «враждебным
элементом». Власти настраивали деревенскую бедноту против
«кулаков». Многие крестьяне среднего достатка уже опасались
построить себе новую избу или купить вторую лошадь, чтобы не
попасть в число «кулаков».
Некоторые крестьяне считали, что никаких «кулаков»
вообще нет. Сводки ОГПУ в 1929 г. приводят такие высказывания
крестьян: «Никаких ни бедняков, ни кулаков у нас нет: все в
обществе ОДИНакОВЫ. ЕСТЬ ТОЛЬКО труженики да ЛОДЫри, КОТОрЫХ Совет- м ушак0в-Поскочин. Плакат 1925 г.
екая власть считает бедняками».
Тверской крестьянин Севрюгин в 1928 г. писал в
радиогазету: «Какие могут быть в деревне на одиннадцатом году
революции кулаки, тогда как земля разделена вся по едокам. По мнению
многих крестьян, кулак в деревне изжит уже давно, а под
кулаком надо понимать крестьянина труженика-хлебороба».
Понятие «кулак» в течение 20-х гг. постепенно расширялось.
Вначале «кулаками» считались только те, кто нанимал себе
работников-батраков, т. е. использовал наёмный труд. Позднее так
стали называть вообще всех зажиточных крестьян.
Во второй половине 20-х гг. зажиточных крестьян
стали облагать всё более тяжёлыми налогами. Один из «кулаков» —
героев поэмы Александра Твардовского «Страна Муравия»
(1935 г.) — перечислял, за что ему приходилось платить налог:
За каждый стог,
Что в поле метал,
За каждый рог.
Что в хлеву держал,
За каждый воз,
Что с поля привёз,
За кошачий хвост,
За собачий хвост,
За тень от избы,
447
Ж
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
В 20—30-е ГОДЫ
Л. Генч. «От финагента.
— Как тебе удалось в середняки-то
пролезть?
— Э, милый! Были бы деньги, —
а с деньгами и бедняком можно быть!»
(«Крокодил». 1929 г.)
За дым от трубы,
За свет и за мрак,
И за просто, и за так...
Тем не менее большинство из них ещё надеялись, что, если
они кое-как, недоедая, выплатят непосильные налоги,
государство их не тронет.
«ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ»
В 1928 г. политика по отношению к крестьянству стала более
жёсткой. От «экономических мер» — непомерных налогов —
власти стали переходить к изъятиям хлеба у крестьян, обыскам. Эти
меры были опробованы при хлебозаготовках в Сибири и на Урале.
В оправдание подобных мер И. Сталин в апреле 1929 г.
приводил такой случай: «Наш агитатор два часа убеждал держателей
хлеба сдать хлеб для снабжения страны, а кулак выступил с
трубкой во рту и ответил ему: „А ты попляши, парень, тогда я тебе дам
пуда два хлеба" {Голоса. «Сволочи!»^). Убедите-ка таких людей».
Однако раскулачивания — массовых арестов и высылок
«кулаков» — пока ещё не происходило. И. Сталин замечал в газете
«Правда» летом 1928 г.: «Бывают случаи, когда борьбу с
кулачеством пытаются превратить в раскулачивание, забывая, что
раскулачивание при наших условиях есть глупость».
В 1928—1929 гг. в деревнях была начата
«сплошная коллективизация». Общинное
пользование землёй упразднялось. Вместо общины
создавался колхоз (коллективное хозяйство),
где пахотная земля, скот и т. д. были «общими».
Весь или почти весь урожай забирало
государство. Колхознику оставляли небольшой участок
под сад и огород, с которого он кормился, а
также корову, птицу, мелкий скот.
В деревни для создания колхозов были
посланы около 35 тыс. городских активистов.
Сначала в колхоз записывали местную бедноту.
Затем требовали, чтобы в него вступили и
остальные крестьяне. Активисты повторяли: «Кто не
идёт в колхоз, тот враг Советской власти».
«Загоняют в колхоз», — с горечью жаловались друг
другу крестьяне.
В сводках ОПТУ в 1929 г. приводились ти-"
пичные высказывания крестьян: «Колхозами нас
погонят опять в барщину и будут над нами ходить
с кнутом, а мы работай, спину гни». «Дайте нам
жить свободно, коллектив — это есть старая ека-
териновщина. В коллективе человек
превращается в скот». «Крестьяне неохотно идут к
коллективизации. Они помнят рабство 1861 г. и боятся, как
бы теперь не попасть в такое же иго. Своё
хозяйство, хотя и плохонькое, — человек свободен».
448
КОЛЛЕКТИБИЗАУИЯ
Ю. Ганф. «По специальности. Кулак:
— Пустили бы, братцы, в колхоз...
Я пригожусь: стрелковым кружком
руководить могу!-.» («Крокодил». 1930 г.)
В 1929 г. начали широко проводить раскулачивание. Того,
кто не вступал в колхоз, грозили объявить «кулаком». В течение
1929 г. подобный нажим заставил большинство крестьян
вступить в колхозы.
И. Сталин назвал 1929 год «годом великого перелома».
РАСКУЛАЧИВАНИЕ
Одновременно с созданием колхозов в деревнях проводилось
раскулачивание. У крестьян, объявленных «кулаками» и
«подкулачниками», отбирали всё имущество; их вместе с семьями
высылали на Север России. Делалось это всегда по решению
сельсовета, без суда.
«Подкулачниками» называли бедняков, если они упорно
сопротивлялись созданию колхоза. Хотя раскулачивать полагалось
5% крестьян, в некоторых местах раскулачивали и 15—20%.
Часть имущества раскулаченных делили между бедняками,
остальное забирал колхоз. М. Шолохов в 1929 г. в письме
Сталину рассказывал, как отобранные у «кулаков» хлеб и скот пропали
на колхозных базах: «Кобылы жеребились, и жеребят пожирали
свиньи, и всё на глазах у тех, кто ночи недосыпал, ходил и глядел
за кобылицами».
Принимать «кулаков» в колхоз запрещалось. По этому
поводу крестьяне недоумевали: «Если кулак всё сам отдаёт в колхоз,
почему его не принять?».
В декабре 1929 г. И. Сталин официально провозгласил
новую политику — «ликвидации кулачества как класса».
Одновременно он ответил на два «смешных вопроса»: можно ли теперь
«БАБЬИ БУНТЫ»
В 1929—1930 гг. во многих местах
стали вспыхивать «бабьи бунты».
Выступали женщины, поскольку мужчинам
любой протест против колхоза грозил
немедленным арестом.
Писатель Михаил Пришвин
рассказывал: «Бабы по вечерам бегали друг к
дружке, сговаривались в случае беды
мужиков услать куда-нибудь в лес, а на
сходку выходить одним бабам, потому
что мужиков со сходки берут, а если
бабу взять, то и детей надо. И
обещались бабы стоять до последнего и в
коллектив нипочём не соглашаться. Так
и ожидали этой сходки, как смерти:
помрём вместе с ребятишками,
подохнем с голоду, а в коллектив не пойдём.
Слышал, что в Рязанской губернии во
время мужицкого бунта бабы с детьми
встали впереди мужиков, и солдатики
не стали стрелять».
«Бабьи бунты» происходили и в 1932 г.,
когда у крестьян пытались отобрать
последних коров. Вот отрывок из
письма Михаила Шолохова Сталину: «По
хуторам происходила форменная
война — сельисполнителей, приходивших
за коровами, били чем попало, били
преимущественно бабы и детишки
(подростки), сами колхозники ввязывались
редко, а где ввязывались, там дело
кончалось убийством». М. Шолохов
описал один из таких «бабьих бунтов» в
романе «Поднятая целина».
449
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
В 20—30-е ГОДЫ
шшшшшшвшшшшш
К0ЛЛЕКШ1
Плакат неизвестного автора. 1930 г.
Крестьяне села Чегоршки полают
заявления о вступлении в колхоз. 1930 г.
КОЛЛЕКТИВИЗА1-1ИЯ
Создание колхоза в украинском селе.
1929 г.
Крестьяне, подавшие заявления о
вступлении в колхоз. Подольск. 1931 г.
М. X. «Средство от головокружения,
Освежаюший компресс на горячую
голову» («Крокодил». 1930 г.).
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
В. Коэлинский.
«Первые шаги. Кулак:
— Теперь, дочки, первым делом
надо пойти в газету.
— Зачем, папаша? Жаловаться?
— Нет! Что уж тут жаловаться!
Объявление надо подать, что вы от
кулацкого классу отошли и от меня
категорически отмежёвываетесь.
А там уж я вас как-нибудь устрою»
(«Крокодил». 1930 г.).
раскулачивать? Не только можно, но и необходимо. «Снявши
голову, по волосам не плачут», — заметил он. «Не менее
смешным, — продолжал Сталин, — кажется другой вопрос: можно ли
пустить кулака в колхоз. Конечно нельзя, так как он является
заклятым врагом колхозного движения».
О судьбе «кулаков», высланных в Архангельск, вспоминал
писатель Олег Волков: «То были толпы не только грязных,
завшивевших и изнурённых, но и голодных, люто голодных
людей. И тем не менее они не громили комендатуру, не топили в
Двине глумливых сытых писарей и счётчиков, не буйствовали и
не грабили. Понуро сидели на брёвнах и камнях, усеявших
берег, не шевелясь часами, уставившись куда-то в землю, не
способные сопротивляться, противопоставить злой судьбе что-
либо, кроме покорного своего долготерпения... За ночь не
всегда успевают убрать трупы, и поутру, в ранний час, натыкаешься
у тротуаров или на трамвайных рельсах на распростёртых
мёртвых мужиков».
Всего в 1929—1933 гг. на Север России было выслано около
9 млн «кулаков» и членов их семей. Многие из них (а по
некоторым данным, большинство) погибли.
М. Черемных. «Правозаступник. Оппортунист: — Мать
пресвятая двоеручина! Куда — на живого человека?!
Неужели нельзя правей взять?!» («Крокодил». 1930 г.)
ВЕНА 15 КО*. :Г ^У^ «здмкльспю.пРлвдл-
■ Шъ
девятый год
НОМЕР J
ЯНВАРЬ 1*30
МОСКВА
4w<Ij
452
КОЛЛЕКТИВИЗАиИЯ
Близкую к этому цифру называл и сам Сталин. Как
вспоминал Уинстон Черчилль, на встрече, происходившей в 1942 г.,
Сталин сразу же оживился, когда разговор зашёл о коллективизации.
«Политика коллективизации была страшной борьбой», — сказал
он. «Я так и думал, — заметил Черчилль, — ведь вы имели дело с
миллионами маленьких людей». «С десятью миллионами, —
ответил Сталин, подняв руки. — Это было что-то страшное, это
длилось четыре года. Всё это было очень скверно и трудно, но
необходимо. Некоторым из них дали землю на Севере, но основная
их часть была уничтожена своими батраками».
КРЕСТЬЯНЕ РЕЖУТ СКОТ
С лета 1929 г., после того как крестьянам стало ясно, что
вступать в колхоз неизбежно придётся, в деревнях начался
массовый забой скота. О. Волков писал: «По деревням мужики, таясь
друг от друга, торопливо и бестолково резали свой скот. Без
нужды и расчёта, а так — всё равно, мол, отберут или взыщут за него.
Ели мясо до отвала, как ещё никогда в крестьянском обиходе не
доводилось. Впрок не солили, не надеясь жить дальше. Были как
в угаре или ожидании Страшного суда». «Пусть в колхоз, но с
пустыми руками», — повторяли крестьяне.
Поголовье коров с 1928 по 1934 г. уменьшилось с 29 млн
до 19 млн. Свиней и лошадей стало вдвое меньше, коз и овец —
втрое. Позднее даже Великая Отечественная война нанесла
меньший ущерб поголовью скота.
Нарком земледелия Михаил Чернов в 1930 г. заметил по
поводу того, что в деревнях повсеместно резали скот: «Впервые за
всю свою тяжкую историю
русский крестьянин по крайней
мере поел мяса досыта».
«ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ
ОТ УСПЕХОВ»
К весне 1930 г. сопротивление
коллективизации в основном
было сломлено и в колхозах
оказалось 60% крестьян. После
этого в политике произошёл
новый поворот.
2 марта 1930 г. «Правда»
напечатала знаменитую статью
И. Сталина «Головокружение от
успехов». Автор назвал
принудительное насаждение
колхозов «политикой унтера Приши-
беева». «Нельзя насаждать
колхозы силой. Это было бы глупо
и реакционно, — писал он. —
НАСТУПЛЕНИЕМ
1МЕОДОЛЕЕМ
1РОТИМЕНЯЕ
НОВОГО ВМП,
трудности
ГШ* умножим
Jf ДОСТИЖЕНИЯ
V
№
Плакат неизвестного автора. 1930 г.
Взвешивание тёлки, передаваемой в
колхоз. 30-е гг.
453
Кому нужны эти искривления, это чиновничье декретирование
колхозного движения, эти недостойные угрозы по отношению к
крестьянам? Никому, кроме наших врагов!» Все «перегибы» Сталин
объяснял так «У некоторых наших товарищей закружилась
голова от успехов».
Немедленно после появления статьи повсюду начался
массовый выход из колхозов. Через полгода в колхозах оставался
лишь 21% крестьянства. М. Пришвин заметил в своём дневнике:
«Статья „Головокружение" в деревне теперь как эра, так и
говорят всюду, начиная рассказ: „Было это, друг мой, до газеты...". Или
скажут: „Было это после газеты"». Но немного позднее Пришвин
записал в своём дневнике: «Оказался прав тот мужик, который,
прочитав манифест, сказал, что хотят взять мужика в обход.
Обозначился обход: опубликованы льготы колхозникам и
подчёркнуто, что крестьяне вне колхозов этих льгот иметь не будут».
Единоличнику приходилось платить в несколько, а иногда
и в десятки раз больший налог, чем колхознику. При таких
условиях через два-три года единоличников, за редкими
исключениями, почти не осталось. Все крестьяне были вынуждены вступить
в колхозы.
Л. Генч. «Волшебная перемена»
1. Кулак просится в колхоз.
2. Кулак в колхозе.
(«Крокодил». 1930 г.)
ГОЛОД
Осенью 1932 г. по стране был принят явно завышенный план
хлебозаготовок Во многих районах требовалось сдать
государству больше хлеба, чем его собрали. Почти повсюду план не
выполнялся.
На места были направлены чрезвычайные комиссии с
заданием: любой ценой выполнить план. Одну из таких комиссий
возглавлял секретарь ЦК партии Павел Постышев. Он говорил:
«Кулаки хотят задушить Советское правительство костлявой
рукой голода. Мы перебросим костлявую руку голода на горло
кулаку».
Колхозные амбары стали вычищать «под метёлку». Районы,
не выполнившие план, заносились на «чёрную доску». Здесь у
крестьян отбирали картофель, птицу, всё съестное.
Писатель Лев Копелев, принимавший участие в подобных
изъятиях на Украине, вспоминал, как вели себя крестьяне в
таких случаях. Женщины и дети плакали, а от мужчин порой
приходилось слышать: «Берите. Забирайте. Всё берите. Вот ещё в
печи горшок борща. Хоть пустой, без мяса. А всё ж таки: бураки,
картопля, капуста. И посоленный! Забирайте,
товарищи-граждане! Я разуюсь... Чоботы, хоть латаные-перелатаные, а ещё
сгодятся для пролетариата, для дорогой Советской власти...».
Предстоящему голоду крестьяне нередко предпочитали
самоубийство и иногда целыми семьями отравлялись угарным
газом. Тех, кто пытался спастись в городах, задерживали
заградительные отряды.
С осени 1932 г. начался голод, особенно тяжёлый на
Украине, Кубани, в Поволжье. С сельских улиц исчезли собаки, пере-
454
КОЛЛЕКТИВИЗА1_1ИЯ
стали залетать птицы. Люди ели древесную кору, кожаные
ремни, обувь...
Власти отметили более двух тысяч случаев людоедства. С
пойманными людоедами часто жестоко расправлялись, учиняя над
ними самосуд. Нередко матери убивали и ели своих детей.
Бывший заключённый Вацлав Дворжецкий вспоминал одну из таких
женщин, попавшую за подобное убийство в лагерь. Она говорила
ему: «Всех унёс голод! Всех... Если бы это... то и я... А так, может быть,
будет у меня ещё ребёночек, может, будут ещё детки...».
В некоторых районах погибло от четверти до половины
населения. Всего же в 1932—1933 гг. от голода умерло около
7 миллионов человек.
И в то же время изъятое у крестьян зерно часто из-за
плохого хранения гнило и портилось, порой сваливалось в кучи
прямо под открытым небом. Не прекращали работать все
водочные заводы страны, где зерно перегоняли в спирт.
Правительство продолжало продавать хлеб за рубеж. По
официальным данным, в 1932 г. в Западную Европу было
вывезено около 1,8 млн т зерна, в 1933 г. — 1 млн т.
Советские газеты опровергали все сообщения о голоде. На
Украину было разрешено совершить поездки нескольким
видным иностранцам. Премьер-министр Франции Эдуард Эррио в
1933 г. посетил Киев и другие украинские города и сёла. Его
встречали пышно накрытыми столами. После поездки он
сказал, что все утверждения о голоде — это большая ложь,
придуманная нацистами.
Английский писатель Бернард Шоу, побывавший в СССР,
также опроверг слухи о голоде: «Нигде я так хорошо не обедал,
как в Советском Союзе».
«ЗАКОН О ТРЁХ КОЛОСКАХ»
Чтобы добыть себе хлеб, многие крестьяне собирали на
колхозных полях оставшиеся после уборки колоски или шли в поле
ночью и стригли колоски ножницами. Газеты прозвали их
«стригунами» и «парикмахерами колхозного хлеба».
7 августа 1932 г. был принят закон «Об охране и
укреплении общественной собственности». В нём государственную и
колхозную собственность назвали «священной и
неприкосновенной». Любая её кража каралась смертной казнью. Только при
смягчающих обстоятельствах казнь заменялась заключением не
менее чем на десять лет. Амнистия таких осуждённых заранее
запрещалась.
Закон не делал различий между мелким и крупным
воровством. За кочан капусты или горсть зерна следовал один и тот
же обычный приговор — десять лет заключения. Поэтому в
народе этот закон прозвали «законом о трёх колосках». Судили и
крестьянских подростков, собиравших на полях опавшие зёрна.
За пять месяцев после принятия закона были осуждены 55 тысяч
человек, более 2 тысяч — расстреляны.
И. Рабинович. «Павлик Морозов». 1947 г.
Пионер Павлик Морозов в 1930 г.
выступил на суде свидетелем против
своего отиа, который за взятки помогал
сосланным «кулакам». За это в 1932 г.
Павлик был убит своими родственниками.
В Москве П. Морозову был установлен
этот памятник.
455
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
И. Каликин. «Не успел раскачаться.
— Как же это мы так оплошали,
товарищи? Везде в ошибках признаются,
а я только ешё начинаю чувствовать
головокружение» («Крокодил». 1930 г.).
К. Елисеев. «Головотяп:
— Кур обобществил; а как быть
с воронами — ума не приложу»
(«Крокодил». 1930 г.).
«РАБОТА ЗА ПАЛОЧКИ»
Кавдый отработанный в колхозе трудодень отмечался
крестьянину единичкой («палочкой») в особой книге. По числу
трудодней каждому выдавалась его доля урожая. В лучшем случае
семья получала четыре-пять мешков зерна за годовую работу.
Часто весь колхозный урожай забирало государство и колхозникам
не оставалось ничего. Поэтому они окрестили этот порядок
«работой за палочки».
Но зато работа в колхозе давала право на небольшой, в
полгектара, приусадебный участок Вечером, после рабочего дня в
колхозе, крестьянин шёл поливать и полоть свой огород.
«Колхозник не только лишался всего, что производилось его
трудом в колхозе, но и приусадебное хозяйство, кормившее
семью, было жестоко обложено, — рассказывал о жизни крестьян
экономист Лев Тимофеев. — Каждый крестьянский двор сдавал
обязательные поставки молока, мяса, яиц, шерсти, кож Да ещё и
денежный налог — кто сто рублей, а кто и больше. Но где же взять
деньги, если колхоз ничего не платит? А всё там же искать их, в
приусадебном хозяйстве. Проплывали мимо голодных детских
глаз и молоко, и мясо, и яйца». Налог на фруктовые деревья
часто был настолько непосильным, что крестьяне предпочитали
вырубать свои сады. А если корова не давала молока ц куры не
несли яиц, колхозникам приходилось покупать и то и другое у
государства и сдавать ему обратно!
В колхозе обязаны были трудиться не только мужчины, но
и женщины, подростки. Если колхозник не вырабатывал за год
положенного числа трудодней, он исключался из колхоза и
терял право на приусадебный участок Позднее наказание
усилилось: до ссылки на пять лет с семьёй в «отдалённые места
Советского Союза».
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В ГОРОДА
С конца 20-х гг. началось массовое переселение сельских
жителей в города. Жизнь там казалась несколько легче. За время
коллективизации в города перебралось около 8 млн человек.
Чтобы остановить переселение, в конце 1932 г. в СССР были
введены паспорта. Их получала лишь треть населения — в
основном горожане. Колхозникам, лишённым паспортов, теперь раз-
Арест крестьянина-«стригуна». 30-е гг.
Современный рисунок. ►
456
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ
. .
W
_
'.
.
. '■.. .
1
,
•
—' ~5В
""
'
Лг^.,
%
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
решалось жить только в своей деревне. Даже гостить у своих
городских родственников они могли «не более пяти суток».
Нарушителей ожидали огромный штраф и высылка.
Тем не менее отток жителей из деревни продолжался.
Молодые крестьяне пользовались правом пойти на завод или
завербоваться на стройку. Таким путём деревню покинуло более
50 млн человек
Отток людей из деревни ещё более усилился, когда в 1970 г.
колхозникам разрешили «в виде исключения» получать
паспорта. Наконец в 1974 г. правительство решило выдать паспорта всем
гражданам страны старше 16 лет.
Выдача паспортов закончилась 31 декабря 1982 г. Она
подвела итог грандиозному переселению из сёл в города. В 1932 г.
крестьянство составляло две трети населения страны. Через
50 лет — менее четверти (в сельской местности было выдано
лишь 50 млн паспортов).
К. Елисеев. «Тонкая провокация.
Кулак (головотяпу): — Я бы с твоим
умом, Гаврила Семёнович, прямо уж
коммуну у нас построил, а не колхоз.
Кстати бы и середняка, сукина сына,
рассерелнячил. Это нам бы очень на
пользу было»
(«Крокодил». 1930 г.).
Новая техника в колхозе. 1929 г.
К. Ротов. «В два счёта.
— Объедем-ка это село сторонкой. Я тут
на днях мимоездом колхоз в полчаса
организовал» («Крокодил». 1930 г.).
458
КОАЛЕКТИВИЗАиИЯ
К Р о к о д ил
манц и дальше таким иаобр«жя*т. Сму
К. Ротов. «Кулак: — Пусть он меня и дальше таким изображает.
Ему невдомёк, что я гораздо тоньше...»
(«Крокодил». 1933 г.).
^^ттш^шщ
М. Черемных. « — Говорят, что я головотяп... Ну что ж!
Зато — на все сто процентов» («Крокодил». 1930 г.).
МАКСИМ ГОРЬКИЙ
И «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ»
Своё отношение к крестьянству
писатель Максим Горький выразил в статье
«О русском крестьянстве», написанной
в 1922 г. в эмиграции. В ней он
говорил о темноте, дикости, жестокости
крестьянства.
Писатель замечал: «Жестокость форм
революции я объясняю
исключительной жестокостью русского народа.
Когда в „зверстве" обвиняют вождей
революции — группу наиболее
активной интеллигенции, — я рассматриваю
эти обвинения как ложь и клевету или
как добросовестное заблуждение».
«Как евреи, выведенные Моисеем из
рабства египетского, вымрут
полудикие, глупые, тяжёлые люди русских сёл
и деревень — почти страшные люди, и
место их займёт новое племя —
грамотных, разумных, бодрых людей», —
заключал Горький.
8 января 1930 г. Горький писал
Сталину о коллективизации: «Это переворот
почти геологический, и это больше,
неизмеримо больше и глубже всего, что
было сделано партией. Уничтожается
строй жизни, существовавший
тысячелетия, строй, который создал
человека крайне уродливо-своеобразного и
способного ужаснуть своим животным
консерватизмом, своим инстинктом
собственника».
15 ноября того же года «Правда»
напечатала ставшую знаменитой статью
Горького «Если враг не сдаётся — его
уничтожают». В ней он развил свои
старые мысли о крестьянстве.
Горький писал: «Внутри страны против
нас хитрейшие враги организуют
пищевой голод, кулаки терроризируют
крестьян-коллективистов убийствами,
поджогами, различными подлостями.
Против нас всё, что отжило свои
сроки, отведённые ему историей, и это
даёт нам право считать себя всё ешё в
состоянии гражданской войны.
Отсюда естественный вывод: если враг не
сдаётся — его истребляют».
Слова «если враг не сдаётся — его
уничтожают» в советской литературе
стали крылатыми.
459
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
СОВЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ
И ТЮРЬМЫ
СОЛОВЕЦКИЙ ЖУРНАЛ
На Соловках издавался журнал «Слон»
(позже переименованный в
«Соловецкие острова»). Он распространялся по
подписке по всей стране. Журнал этот
был единственным в своём роде. «Все,
кто делает журнал, работает и
сотрудничает в нём, всё это — заключённые
Соловеиких лагерей», — говорилось в
январском номере за 1926 г. Журнал
печатал рассказы, стихи, повести
заключённых, хронику и особенно
много исследований природы и истории
Соловецких островов.
Среди стихов порой попадались
весьма острые эпиграммы на «стукачей»
(секретных сотрудников
администрации) и даже видных чекистов. В одном
номере за 1930 г. ставился
иронический вопрос: «Кто что из поэтов
написал бы по прибытии в Соловки?».
Далее следовали пародии на «лагерное
творчество» известных поэтов —
Сергея Есенина, Владимира Маяковского...
Например, Александр Пушкин, по
мнению пародиста Ю. К., на Соловках
написал бы такое стихотворение (в
стиле «Евгения Онегина»):
Мой ляля самых честных правил,
Когла внезапно «занемог»,
Москву он тотчас же оставил,
Чтоб в Соловках отбыть свой срок.
Он был помешик. Правил глалко,
Любил беспечное житьё.
Читатель рифмы жлёт: лесятка —
Так вот она — возьми её.
В бушлат иБЮЫ'овский олет,
Мой лялюшка не взвилел свет.
Печатались в «Соловецких островах»
и лирические стихи заключённых. Вот
ПОСЛЕ ФЕВРАЛЯ И ОКТЯБРЯ
К 1917 г. политическим заключённым удалось добиться
значительного смягчения режима тюрем и каторги. Борьба за это шла
в течение нескольких десятилетий. Неоднократно (например, для
отмены телесных наказаний) политзаключённым приходилось
прибегать к таким формам протеста, как голодовки и даже
коллективные самоубийства.
Февральская революция формально подтвердила
достигнутые вольности для заключённых. На деле в тюремном режиме
воцарился полный беспорядок Например, арестованные в
августе 1917 г. «мятежные генералы» Лавр Корнилов, Антон Деникин
и другие содержались в Быховской тюрьме в очень мягких
условиях. Что касается условий заключения деятелей прежнего
режима в столичной Петропавловской крепости, то они были весьма
тяжёлыми. Фрейлина Анна Вырубова весной 1917 г. после
продолжительного допроса даже стала благодарить следователя.
«Отчего Вы благодарите меня?» — с удивлением спросил тот.
«Поймите, какое счастье четыре часа сидеть в комнате и через окно
видеть зелень!» — ответила арестованная...
После Октябрьского переворота новые власти также
подтвердили, что для заключённых устанавливается весьма мягкий
режим. В исправительно-трудовом кодексе 1924 г. говорилось:
«Режим должен быть лишён признаков мучительства, отнюдь не
допуская наручников, карцера, строго одиночного заключения,
лишения пищи».
Многие тюрьмы превратили в историко-революционные
музеи. Таким музеем стала, например, известная Лефортовская
тюрьма в Москве. Пройдя по её коридорам, посетители музея
могли видеть в камерах восковые фигуры бывших знаменитых
узников тюрьмы. В 30-е гг. музей закрыли, а в камерах
разместили уже живых узников (часто не менее знаменитых).
Начиная с 1918 г. многим из бывших политзаключённых-
социалистов пришлось вернуться под уже знакомые им
тюремные своды. Писатель Александр Солженицын замечал: «Все
они вернулись туда с сознанием своих арестантских прав и с
давней проверенной традицией — как их отстаивать. Как законное
принимали они специальный политпаёк (включая и полпачки
папирос в день); покупки с рынка (творог, молоко); свободные
460
СОВЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ
И ТЮРЬМЫ
прогулки по много часов в день; обращение надзора к ним на
„Вы" (а сами они перед тюремной администрацией не
поднимались); объединение мужа и жены в одной камере; газеты,
журналы, книги, письменные принадлежности — в камере; раз в месяц
свидание; уж конечно, ничем не загороженные окна; хождение
из камеры в камеру беспрепятственное; прогулочные дворики с
зеленью и сиренью...».
Летом 1918 г. возникли и первые лагеря для заключённых.
Их тогда называли концентрационными лагерями
(концлагерями). Людей туда заключали на различные сроки — иногда на
две недели, иногда — «до победы мировой революции». Это,
впрочем, тоже тогда казалось не слишком большим сроком.
Режимы концлагерей могли быть и мягкими, но чаще оказывались
суровыми: в каждом городе это зависело от местного
начальства. Заключённые лагерей обязательно должны были трудиться. В
адресной книге «Вся Россия», вышедшей в 1923 г., имелся список
65 концлагерей.
СОЛОВКИ
Весной 1923 г. на Соловецких островах, в строениях
знаменитого монастыря, основали Соловецкие лагеря особого назначения
(СЛОН). За первые семь лет существования Соловецких лагерей
число заключённых в них выросло с 3 тыс. до 60 тыс. Соловки
стали первыми по-настоящему крупными (и очень известными)
советскими лагерями для заключённых.
Их часто называли своеобразным «государством в
государстве». Новоприбывших заключённых чекисты
приветствовали фразой: «Имейте в виду, здесь нет Советской власти». И после
многозначительной паузы добавляли: «Здесь власть —
соловецкая». Соловки имели собственную печать (журнал «Слон», позже
переименованный в «Соловецкие острова»; газету «Новые
Соловки»), свой официальный символ — изображение белого слона на
красном фоне. Были и соловецкие деньги — тоже с
изображением этого слона.
отрывок из стихотворения А. Пешков-
ского(1929г.):
Пусть Соловецкие леса
Напоминают нам о сроках —
Твои весёлые глаза
С такой печальной поволокой...
Мой кажлый шаг — шаг испытанья.
Нам знать лруглруга не лано...
Мы пьём пол северным сияньем
Неволи терпкое вино.
Я в лесять горестных глотков
Спокойно пью тяжёлый кубок.
Коснутся ль ласковые губы
Моих селеюших висков?..
А вот отрывок из стихотворения,
написанного Борисом Аейтиным в 1929 г.:
Не штука — с улыбкой счастливой
Полхлёстывать жизни коней
И весной пол белеюшей сливой
Бренчать на гитаре «о ней».
Ты попробуй — пол каменным тралом
Несчастий шеи не гнуть,
Ты попробуй песенным лалом
Прославить и крестный путь.
Свисти, соловецкая вьюга,
И белилами мажь купола!
Твой саван, затянутый туго,
Звезлы проколола игла.
К. Елисеев. «Сила привычки.
— Извозчик, в казино!»
Карикатура на «буржуя», отправленного
отбывать наказание на север и
сохранившего прежние привычки.
461
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
Денежная квитанция Соловецких лагерей.
ГИМН соловков
У Соловецких лагерей, как у
настоящего «государства в государстве»,
имелся и собственный неофициальный
гимн, сочинённый заключёнными.
Автором слов стал заключённый Борис
Глубоковский. Гимн сочинялся как
своеобразная ироническая ода
Соловкам. Вот отрывок из него:
Море Белое, волная ширь.
Соловецкий былой монастырь.
И со всех концов русской земли
Нас с любовью сюла привезли.
Хороши по весне комары,
Чулен вил от Секирной горы,
И от всяких уларных работ
Злоровеет весёлый нарол.
Каждый куплет сопровождался
многозначительным припевом:
Всех, кто награлил нас Соловками,
Просим: приезжайте сюла сами.
Поживите злесь голочков три аль пять—
Булете с восторгом вспоминать.
Имелась и собственная система наказаний, часто весьма
суровых и необычных. Например, длинную и крутую лестницу в
365 ступеней, ведущую на Секирную гору, сделали орудием
казни. Провинившегося заключённого привязывали к бревну и
сбрасывали с лестницы. Подножия её он достигал уже мёртвым. Был
и другой необычный способ наказания или казни.
Заключённого выставляли «на комаров», т. е. раздевали и привязывали к
дереву, а бесчисленные укусы насекомых довершали дело.
Иногда, как вспоминал соловецкий заключённый Борис
Ширяев, новоприбывших заключённых проводили перед дулом
карабина. При этом одного-двух из них неожиданно
расстреливали на глазах у остальных «при попытке к бегству». Так
заключённым внушалась необходимость соблюдать «законы
Соловков». Наряду с этим в 20-е гг. Соловки ещё сохраняли многие
черты мягкости тюремного режима. Часть заключённых занималась
научной работой. Политзаключённые-социалисты отстаивали
свои вольности.
Осенью 1929 г. в Соловках произвели «чистку» и в ночь на
15 октября расстреляли около 300 заключённых. Их обвинили
в «заговоре». После этого режим стал более жёстким. Средняя
продолжительность жизни соловецкого заключённого в начале
30-х гг. не превышала четырёх лет.
В 1936 г. Соловки получили выразительное название СТОН
(Соловецкая тюрьма особого назначения). В 1939 г. упразднили
и тюрьму. При этом здоровых заключённых отправили в
сибирские лагеря, а больных и пожилых погрузили на баржу «Клара»,
которая ушла куда-то в Белое море. Судьба её «пассажиров»
неизвестна.
РАССТРЕЛ В САВВАТЬЕВЕ
10 февраля 1924 г. в газете «Известия» появилось необычное
сообщение, озаглавленное: «По поводу событий на Соловках». В нём
говорилось: «19 декабря 1923 г. в 18 часов во дворе Савватьев-
ского скита Соловецкого лагеря имел место печальный
инцидент, выразившийся в столкновении заключённых с отрядом
красноармейцев, карауливших названный скит». В результате, как
сообщала газета, погибло шесть человек За этим кратким
сообщением стояла долгая история борьбы политзаключённых за
сохранение своих вольностей. Борьба эта шла не только на
Соловках и продолжалась более 20 лет после Октября 1917 г. Но лишь
немногие её эпизоды становились известны.
В Савватьевском скиту находились
политзаключённые-социалисты. Скит представлял собой дом на берегу озера с
небольшим участком земли, обнесённым колючей проволокой. В доме,
предназначенном для 70 человек, проживало около 2 тыс.
эсеров, меньшевиков и анархистов. В пределах ограды они
пользовались относительной свободой. Социалисты находились и в
другом лагере на Соловках — Муксольмском скиту. А в
Соловецком кремле содержали уголовников и «белогвардейцев» (так
называли не только бывших белых офицеров, но и гражданских
462
людей либеральных или правых взглядов). Статуса
политзаключённых добились только социалисты. Они не работали,
выходили на прогулку в любое время дня и вообще сохраняли
большинство тюремных «свобод», завоёванных ещё до революции.
Однако власти постоянно пытались урезать эти вольности. Шаг за
шагом это им удавалось, поэтому политзаключённые опасались
делать любую уступку. В конце 1923 г. социалистам объявили, что
отныне они должны выходить на утреннюю и вечернюю
поверки, а прогулки утром и вечером запрещаются. Заключённые
решили не подчиняться и, как всегда, выйти вечером на прогулку
во двор.
В Муксольмском лагере обычная прогулка прошла
спокойно. В Савватьевском события развивались иначе. Раздался
строгий окрик конвоя: «Политзаключённые! Предлагаю немедленно
прекратить прогулку и вернуться в помещение». После трёх
предупреждений прозвучали выстрелы. Нескольких человек убили,
многих ранили. После этого расстрела политзаключённые
объявили голодовку. В Муксольмском лагере член Союза
социалистической молодёжи Юзик Сандомир в знак протеста совершил
самоубийство, вскрыв себе вены. И на этот раз властям пришлось
отступить: после недельной голодовки они приняли требования
заключённых. Лагерь вернулся к старому распорядку, а в
«Известиях» появилось приведённое выше сообщение.
Более того, в Савватьевском лагере расстрелянным
заключённым... установили памятник Событие совершенно небывалое!
Сделали это сами заключённые: на могиле своих товарищей они
поставили большой гранитный валун. На камне высекли
фамилии, среди которых были инженер Кочаровский, доктор Попов,
врач Котова...
$?ШШШ
об утере растфгм* гапш8 S
to вяйигое че* пртювпипя - )
.ПЬДДЕЛЮ ЛРВДЕЛЩС? У
^
Денежная квитанция Соловецких лагерей.
БЕЛОМОРСКО-БАЛТИЙСКИЙ КАНАЛ
Одним из самых ярких событий в истории советских лагерей
стало строительство Беломорско-Балтийского канала имени
Сталина. Канал протяжённостью 227 км соединил
Белое море с Онежским озером. Строительство
широко освещала советская печать. Газеты
писали, что на канале происходит «перековка»
людей: преступники и бандиты становятся
честными людьми. Строителей даже называли с
оттенком уважения заключёнными каналоармейцами.
Это «почётное имя» в виде сокращения «з/к»
(зэка) позднее стали применять в документах к
любым заключённым.
Стройка началась в сентябре 1931 г.
Заключённых в новый лагерь перебросили в
основном с Соловков. Решено было закончить работу
в рекордные сроки — за 20 месяцев!
Основным средством воздействия на
заключённых стала так называемая «котловка» —
«Раздача премиальных пирожков»
(из книги «Канал имени Сталина»).
463
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
В 20—30-е ГОДЫ
«Начальник работ Н. А. Френкель»
(из книги «Канал имени Сталина»).
НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ
БЕЛОМОРСТРОЯ
Во время строительства
Беломорканала широко использовались плакаты в
качестве наглядной агитации для
заключённых. Лаже в лесу на деревьях
они могли увидеть плакат с
изображением сладко спяшего зэка и такой
подписью: «Спит спокойно во время
развода. Проснись!».
В лагерной газете «Перековка»
печатались карикатуры на нерадивых
заключённых. Одна из них, например,
изображала «десятника-туфтача» в виде
птицы, прикрывшей своими крыльями
целый выводок птенцов — «лодырей,
филонов и труддезертиров». А вот
лозунги и плакаты Беломорстроя:
«Потопим своё прошлое на дне
канала!»;
«Каналоармееи! Ты сам — кузнец
своего счастья!»;
«Тот, кто отступает на фронте
Беломорстроя, — тот предатель!»;
«Отказчик, филон и туфтач — враги
нашего строительства!»;
«Ударник! Если ты заметил
очковтирательство — иди и сейчас же доложи
воспитателю!»;
«Слава и свобода ожидают честнейших
бойцов Беломорстроя!».
неравное питание. Применили простой приём: чем меньше
заключённый работал, тем меньше он получал пищи. Выполнить
норму было весьма тяжело: даже здоровый человек с трудом
справлялся с ней. Те, кто не выполнял норм, получали
«штрафной паёк», который приводил к быстрому истощению и смерти.
Но и паёк для «ударников», перевыполнявших норму, не
покрывал физических затрат.
На канале постоянно работали 100 тыс. заключённых.
Порой смертность достигала 700 человек в день. Однако общее
число заключённых не убывало: на стройку постоянно привозили
пополнение.
На стройке применялась самая простая ручная техника —
тачки, примитивные «журавли» для подъёма камней. В книге
«Канал имени Сталина» приводится характерная зарисовка: «Одна
из женщин, проходя мимо тачки, плюёт на неё с таким
страшным выражением злобы и ненависти, что поражённый
конвойный неофициально говорит: „Ну, тётка... Ну, тётка...". И больше
ничего прибавить не может».
Канал сдали в срок, к 1 мая 1933 г. В конце июня по нему
торжественно прошло первое судно — пароход «Чекист». После
успешного завершения стройки чекистов наградили орденами,
а каждому шестому заключённому объявили амнистию.
Остальных перебросили на сооружение канала «Москва — Волга».
Однако из-за спешки в строительстве Беломорканал оказался
мельче, чем предполагалось, — всего пять метров в глубину. Поэтому
для судоходства он почти не применялся.
В августе 1933 г. по Беломорканалу совершили прогулку на
пароходе 120 советских писателей во главе с Максимом Горьким.
1 У;
«Аля того чтобы так пошли тачки, нужно было сделать тачку, вылить колесо
и правильно положить руки» (из книги «Канал имени Сталина»).
464
СОВЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ
И ТЮРЬМЫ
Они беседовали с заключёнными, с чекистами. Между прочим,
всей огромной массой заключённых управляла горстка
чекистов — всего 37 человек Они встречали писателей в высшей
степени радушно и гостеприимно.
Писатель Александр Авдеенко вспоминал один из обедов во
время поездки. Его тогда потрясло необычное для тех времён и
голодного года изобилие яств: «Я пристроился в конце стола.
Ошалел от невиданного изобилия. Будто ожили картины,
виденные в Эрмитаже. На огромных блюдах, с петрушкой в зубах, под
прозрачной толщей заливного, растянулись осетровые рыбины
и поросята. На узких и длинных тарелках розовеют ломтики
истекающей жиром теши, сёмги, балыка. Бессчётное количество
тарелок завалено пластинками колбасы, ветчины, сыра. Плавают в
янтарном масле шпроты. Пламенеет свежая редиска. В
серебряных ведёрках, обложенные льдом и накрытые салфетками,
охлаждаются водка, вино, шампанское, нарзан, боржом».
После поездки 36 писателей выпустили знаменитую книгу
«Канал имени Сталина». В ней они высоко оценили работу
чекистов по «перековке» заключённых.
КОЛЫМА
К середине 20-х гг. лагеря для заключённых раскинулись по всей
стране, в особенности в её северных и необжитых районах. В
1930 г. в связи с этим учредили Главное управление лагерей
(ГУЛаг). Но символом самых суровых лагерей к тому времени
стала Колыма.
В 1928 г. здесь нашли богатейшие месторождения золота.
Три года спустя приняли решение осваивать их силами
заключённых. Во главе предприятия «Дальстрой» поставили видного
чекиста Э. Берзиня. Первую группу заключённых (более 200
человек) направили на Колыму осенью 1931 г. До места добрались
только около 50 человек — остальные погибли в тяжёлом пути.
4 февраля 1932 г. в бухту Нагаево приехал сам Э. Берзинь.
На берегу в это время стояло только 17 строений... Однако
вскоре работа закипела. На Колыму прибывали новые, уже
многотысячные, партии заключённых. Через некоторое время на берегах
бухты выросла столица Колымы — Нагаево (Магадан).
Общее число колымских заключённых достигло 500 тыс.
человек. На наружные работы их выводили даже при морозах до
50 градусов ниже нуля. Среди заключённых была популярна
песенка, в которой были такие слова:
Колыма, Колыма, чудная планета,
Двенадцать месяцев зима, остальное — лето.
В 1937 г. режим колымских лагерей сделался более жёстким.
Проводником новой политики стал знаменитый полковник
Гаранин, сменивший арестованного Берзиня. Рабочий день
заключённых зимой увеличился с шести до десяти часов. В 1938 г. им
Плакат на лереве в Беломорском лагере
(из книги «Канал имени Сталина»).
МАКСИМ ГОРЬКИЙ
И «ПЕРЕКОВКА»
Одним из главных достижений Бело-
морстроя Максим Горький считал
«перековку» строителей-заключённых. В
ходе этой «перековки» у них, по
мнению писателя, отмирал крестьянский
инстинкт частного собственника.
М. Горький так писал о беломорских
заключённых: «Там было порядочное
количество деревенских кулаков. Это
были наиболее „трудновоспитуемые"
люди. В сопротивлении законным
требованиям государства они доходили до
мрачной жестокости. Один из них,
спрятав 450 пудов зерна, допустил
умереть от голода двух детей своих и жену
и сам отощал до полусмерти. Но и в
этих полулюдях, идолопоклонниках
частной собственности, правда
коллективного труда пошатнула
зоологическое индивидуальное».
В книге «Канал имени Сталина»
рассказано о слёте строителей канала —
чекистов и заключённых — в августе
1933 г. Там выступал и М. Горький. Он
с волнением сказал: «Я счастлив,
потрясён. Я с 1928 года присматриваюсь
к тому, как ОГПУ перевоспитывает
людей. Великое дело сделано вами,
огромнейшее дело!». Писатель считал,
что даже чекисты, руководящие этой
великой «перековкой», не вполне
понимают всю глубину и значение
происходящего переворота. Вот отрывок
из книги: «Занавес задёрнулся.
„Черти драповые, вы сами не знаете, что
сделали", — сказал Горький, войдя за
кулисы. Чекисты улыбнулись...».
465
запретили носить меховую одежду; разрешены были только
ватники. Обувью заключённым часто служили лапти или даже
куски автопокрышек, привязанные проволокой к ногам. Эту
своеобразную обувь прозвали «четезе» (от сокращённого названия
Челябинского тракторного завода — ЧТЗ).
Как и прежде, заключённых побуждали работать с помощью
«пониженных норм питания». Штрафной хлебный паёк (при
выработке менее половины нормы) составлял 300—400 г в день.
Заключённые-новички обычно изо всех сил старались
вырабатывать норму, чтобы получать лучшее питание, и быстро теряли
силы, истощались. Бывший колымский заключённый писатель
Варлам Шаламов замечал: «Надо очень немного, всего три
недели, чтобы вполне здоровый, физически сильный человек
превратился в инвалида, в „фитиля"».
В лагерях даже бытовала такая поговорка: «Убивает не
маленький паёк, а большой». «Работаешь ты в забое, — писал В.
Шаламов, — получаешь килограмм хлеба, лучшее питание, ларёк и
т. д. И умираешь. Работаешь дневальным, сапожником и
получаешь 500 граммов, и живёшь 20 лет, не хуже Веры Фигнер и
Николая Морозова держишься».
На общих работах — в золотом забое или на лесоповале —
в 1937—1938 гг. мало кто мог выдержать дольше нескольких
месяцев. Выживали те немногие заключённые, кому удавалось
избежать общих работ: устроиться в медчасть, контору, обслугу. «В
забойной бригаде золотого сезона 1938 г., — вспоминал В.
Шаламов, — к концу сезона, к осени, оставались только бригадир и
дневальный, а все остальные за это время ушли или „под сопку",
или в больницу. А в бригаду приходили новички, чтобы в свою
очередь умереть или заболеть».
Ежегодная смертность в советских лагерях в 1937—1941 гг.
составляла в среднем около 30%. Всего за это время через лагеря
Колымы прошло более миллиона заключённых.
«ГАРАНИНСКИЕ РАССТРЕЛЫ»
Несмотря на суровость лагерного режима, власти, очевидно,
опасались, что в заключении случайно могут выжить «троцкисты» и
другие опасные элементы. Поэтому в 1938 г. по лагерям
прокатилась волна массовых расстрелов за «саботаж и попытку восстания».
В. Шаламов вспоминал: «Много месяцев день и ночь на
утренних и вечерних поверках читались бесчисленные расстрель-
ные приказы. В 50-градусный мороз музыканты из бытовиков
играли туш перед чтением и после чтения каждого приказа.
Дымные бензиновые факелы разрывали тьму... Папиросная бумага
приказа покрывалась инеем, и какой-нибудь начальник,
читающий приказ, стряхивал снежинки с листа рукавицей, чтобы
разобрать и выкрикнуть очередную фамилию расстрелянного».
Каждый список завершала подпись начальника колымских
лагерей полковника Гаранина. Поэтому расстрелы прозвали «гара-
нинскими».
466
СОВЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ
И ТЮРЬМЫ
к
В первую очередь уничтожались
«троцкисты», участники прежних оппозиций в ВКП(б).
Всего так на Колыме расстреляли около 30 тысяч
человек Казни совершались в особом лагере
возле шахты Серпантинка. Немецкая коммунистка
Труде Рихтер вспоминала, как производились «га- 3L I
ранинские расстрелы»: «В палатке надевают
наручники и в рот суют кляп, чтобы человек не мог
кричать, зачитывают приговор — решение
Колымской тройки НКВД — и ведут в „кабинет
начальника", специально приспособленный для ис- ^fpSsP* "чг ~
полнения приговора. Человек только переступа- ^ -: ■ L %^
ет порог двери, тут же слышен глухой выстрел». ...>^.2i±'h-'£&xaugEa№&s^mbdjmk&$^
В ТО время Как на Колыме ШЛИ «ГаранинСКИе «Прогулка без удовольствия» (из книги «Канал имени Сталина).
расстрелы», в лагерях Республики Коми
происходили «кашкетинские расстрелы». Так их назвали по фамилии пред- ИЗМЕНЕНИЯ ТЮРЕМНОГО
седателя особой комиссии НКВД Кашкетина. Здесь тоже казнили РЕЖИМА
бывших оппозиционеров-«троцкистов». Хорошо сплочённые, они в конце за.х гг. режим в тюрьмах по-
с помощью голодовок защищали свои вольности и порой даже до- всеместно ужесточился. Например,
бивались победы. окна в камерах повсюду закрыли же-
В апреле 1938 г. около 2 тыс. заключённых-«троцкистов» пе- лезными ставнями. Заключённые
проревели на лагерный пункт «Старый кирпичный завод» под Вор- звали их «намоРДниками». Теперь они
^ ^ ~ г- / г- г г могли видеть из окна только узкую по-
кутои. Здесь их некоторое время держали в палатках, затем объ- Лоску неба Власти справилисьУс по_
явили им о переводе в другое место. По дороге колонну заклю- следними попытками политзаключён-
чённых расстреляли из пулемётов. ных отстоять свои вольности. В1937 г.
В 1939 г. и Кашкетина, и Гаранина также арестовали и приго- в тюрьмах и лагерях кое-где ешё вспы-
ворили к смертной казни. В лагерях после этого появилась леген- хивали голодовки заключённых эсеров,
е* __ меньшевиков и «троцкистов». Они тре-
да,чтоэтихчекистовпо1тугакмест^ бовали соблюден^я прежнего стат£а
ные шпионы-двойники. Таким образом, массовые казни — наме- «политических»: права не выходить на
ренное вредительство, дело рук вражеских шпионов. Подобная ле- работу, свободно обшаться между со-
генда хорошо объясняла внезапные и массовые расстрелы. бой, читать книги и газеты, вести
записи и т. д.
В 40-е ГОДЫ Одна из таких голодовок социалистов
произошла в Ярославском изоляторе в
В июне 1941 г., в первые дни после нападения Германии на начале 1937 г. «Они ешё требовали все-
СССР, лагерные власти приняли «меры повышенной бдительно- г°/ как прежде, — рассказывал А. Сол-
сти». Заключённым запретили переписку и получение посылок, женииын. — Пятнадцатидневным голо-
г А тт данием они как будто отстояли какие-
выключили даже лагерные радиоточки. Отменили дни отдыха. И, то части своего режима. часовую про_
как замечал писатель Лев Разгон, бывший заключённый, «конеч- тулку, областную газету, тетради для за-
но, немедленно навели жесточайшую экономию в питании зэка». писи. Это они отстояли, но тут же отби-
Вскоре после этого оказалось, что лагерь, в котором он находил- ради у них собственные веши...» Им
ся, по его словам, буквально «набит живыми скелетами. Равнодуш- пришлось надеть обшую арестантскую
- v/ форму. «И немного прошло ешё,—про-
ные, утратившие волю и желание жить, эти обтянутые сухой се- ТУ* г^^^.^ лтпаи' пЛА„а
,J ^ ' ] J должал Солженицын,—отрезали полча-
рой кожей скелеты сидели на нарах и спокойно ждали смерти. К са пр0гулки. А потом отрезали ешё пят-
весне сорок второго года лагерь перестал работать». надиать минут». Примерно с середины
Между тем лагеря давали стране высокоценную продукцию: 1937 г. с тюремных властей сняли от-
главным образом лес и золото. Поэтому скоро власти изменили ветственностьза гибель заключённых от
свою позицию в отношении заключённых. Режим смягчился. ™°а°вки- Таким образом, голодовка
_ ^ уже не могла быть, как прежде, деист-
Трудоспособным заключенным начали давать достаточное пи- венным средством борьбы,
тание. По замечанию Л. Разгона, в годы войны они «стали един-
467
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
«Изменяя природу, человек изменяет
самого себя» (К. Маркс).
(Из книги «Канал имени Сталина».)
ственными людьми в стране, которым разрешалось получать
продуктовые посылки».
Послевоенные годы, голодные для всей страны, для
заключённых оказались особенно тяжёлыми. Лишь к началу 50-х гг.
смертность среди них вновь несколько снизилась.
«ВОРОШИЛОВСКАЯ» АМНИСТИЯ
Заключённые, как политические, так и уголовные, с большими
надеждами встретили известие о смерти Иосифа Сталина. Они
помнили старую российскую традицию — при восшествии на
престол нового правителя объявлять амнистию.
Действительно, советские власти также решили последовать
традиции. 27 марта 1953 г., спустя три недели после смерти
И. Сталина, вышел указ об амнистии. (Любопытно, что этой
традиции придерживались и позднее: после смерти Л. Брежнева в
1982 г. провели амнистию «по случаю 60-летия СССР».) Указ
27 марта подписал новый глава Советского государства Климент
Ворошилов. Поэтому амнистию окрестили «ворошиловской».
Однако под амнистию почти не попали политзаключённые.
Зато освободили большое количество уголовников. На свободу
вышли сотни тысяч людей. Эта амнистия вызвала неодобрение
у значительной части населения, поскольку после неё в стране
резко возросла преступность. Массовое освобождение
политзаключённых произошло только тремя годами позднее, в 1956 г.
(см. ст. «Оттепель»).
САМОЕ ВЫСОКОЕ ЗДАНИЕ
Труд заключённых использовался во
всех уголках Советского Союза — от
самых отдалённых до столицы
государства. В Москве заключённые, в
частности, построили в 1949—1953 гг.
главный корпус Московского
государственного университета (МГУ). Это 32-
этажное сооружение, увенчанное
шпилем, в высоту достигает 240 м и
является самым высоким зданием в России.
Главному корпусу МГУ, видимо,
принадлежит ешё один рекорд: это самое
высокое сооружение в мире,
построенное заключёнными. Высота
знаменитой египетской пирамиды Хеопса,
также возведённой невольниками, —
146 м.
В ГОДЫ «ОТТЕПЕЛИ»
В период «оттепели» 1953—1964 гг. и после неё в лагерях и
тюрьмах произошли определённые перемены. В частности,
коренным образом изменились отношения между политическими
и уголовными заключёнными.
В 30-е гг. среди политзаключённых значительную часть
составляли бывшие государственные чиновники, в том числе и
работники карательных органов. Уголовники видели в них своих
врагов. Они убеждённо называли их «фашистами» и
соответственно к ним относились. Ограбление или убийство
политзаключённого не считалось среди них преступлением. Власти
широко использовали это противоречие и всюду старались
опираться на уголовных заключённых против политических.
Уголовники назначались бригадирами, лагерной обслугой и т. п.
В 60—70-е гг. положение резко изменилось. Бывший
политзаключённый Владимир Буковский писал тогда об уголовниках:
«Рассказывают, что ещё лет двадцать назад называли они
нашего брата не иначе как фашистами, грабили на этапе и по
пересылкам, угнетали в лагерях и так далее. Теперь же вот эти самые
уголовники добровольно помогали таскать на этапах мои
мешки с книгами, делились куревом и едой. Просили рассказать, за
что мы сидим, чего добиваемся, с любопытством читали мой
468
СОВЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ
И ТЮРЬМЫ
приговор и только одному не могли поверить — что всё это мы
бесплатно делаем, не за деньги. Очень их поражало, что вот так
запросто, сознательно и бескорыстно люди идут в тюрьму. Мы
были высшими судьями во всех их спорах, помогали им писать
жалобы, разъясняли законы, и уж, разумеется, бесконечно
расспрашивали они нас о политике».
Основным методом воздействия на заключённых по-
прежнему оставалось «пониженное питание». Массовой гибели
от истощения в лагерях уже обычно не наблюдалось, но
недоедание, конечно, оставалось общим правилом.
Политзаключённый Анатолий Марченко вспоминал о своём пребывании в
тюрьме в начале 60-х гг.: «Ложишься спать и думаешь: скорей бы ночь
прошла да хлеб дали. Встал, дождался хлеба, баланды, ещё пьёшь
её, а уже думаешь: скорей бы обед; торопишь вечер: скорей бы
ужин. Вытирая корочкой со дна миски следы картофельного
пюре, мечтаешь: скорей бы отбой, а за ним утро, свою пайку
получишь... Свой счёт времени, свой календарь у зэка в тюрьме:
хлеб — завтрак — обед — ужин... День за днём, месяц за месяцем,
год за годом».
В 1955—1956 гг. произошло некоторое смягчение тюрем-
но-лагерного режима. Это выразилось во множестве мелких
изменений. С одежды заключённых исчезли бирки с номерами, с
окон бараков — решётки. Однако в среде работников МВД
подобные послабления вызывали растущее неодобрение. В 1961 г.,
как отмечал историк Рой Медведев, «недовольство оказалось
столь значительным, что на одной из сессий Верховного Совета
прозвучала столь редкая на таких заседаниях критика в адрес
правительства за установление „курортных условий в
исправительных лагерях". Эти слова были встречены общими
аплодисментами депутатов. Н. С. Хрущёв дал директиву о решительном
ужесточении режима...».
5 мая 1961 г. в уголовный кодекс внесли новую статью,
каравшую «бесчинства заключённых, терроризирующих тех, кто встал
на путь исправления, или
дезорганизующих деятельность
администрации». Статья допускала
очень широкое толкование и
предусматривала высшую меру
наказания — расстрел.
И в последующем не раз
происходили изменения
тюремного и лагерного режимов в
ту или другую сторону. Одно из
последних смягчений
наметилось в конце 80-х гг., в период
«перестройки». В 1988 г., в
частности, официально отменили
для заключённых, сидевших в
карцере, «пониженную норму
питания».
Лагери Особого Назначения ОТ ВУ
Член Коллегии'■'':, V/}'* •,. J- Цв>ЩАьник 4
ОГПУ СССРФА**&*Ъу ФинотЪели ОГПУ j
Денежные квитанции Соловецких лагерей.
Женщины-заключённые, перевозящие на
тачках обломки скал (из книги «Канал
имени Сталина»).
469
к советский союз
| В 20—30-е ГОДЫ
КЕНГИРСКОЕ ВОССТАНИЕ
В1953—1954 гг. в ряде лагерей
вспыхнули волнения и забастовки
заключённых. В 1953 г. отказались выхолить на
работу шахтёры на двух воркутинских
шахтах. Вскоре восстание
заключённых произошло на шахте
«Капитальная» в Норильске. Все эти волнения
сурово подавили, причём сотни
заключённых погибли.
Но самое крупное и известное
восстание заключённых вспыхнуло в Кенги-
ре (ныне город Джезказган). Оно
продолжалось невероятно долго — 40
дней. Это отчасти объяснялось обшей
неуверенностью лагерного начальства
после расстрела главы МВД Лаврентия
Берии.
В Кенгирском лагере находилось
около 8 тыс. заключённых, в основном
«политических». Незадолго до событий
сюда перебросили этап из 650 человек,
в котором преобладали уголовники,
или, как их называли в лагере,
«блатные». Одним из их предводителей был
30-летний «вор в законе» Виктор
Рябов. По приговорам обший срок его
тюремного заключения превышал
60 лет... Он предложил своим
товарищам при случае «навестить» женскую
половину лагеря.
Вечером 16 мая 1954 г. заключённым
показывали под открытым небом
фильм о композиторе Николае Рим-
ском-Корсакове. В это время
«блатные» стали перепрыгивать через стену
в женскую часть лагеря. Охрана на
вышках открыла по ним огонь; при
этом, по официальным данным,
погибло 18 заключённых.
Этот расстрел вызвал в лагере бурное
возмущение. В ту же ночь уголовники
и «политические» заключили между
собой союз, обязавшись «не обижать
женщин». Затем заключённые
перебили лампочки на внутренних стенах и
ворвались в женскую половину лагеря.
«Женщины, поначалу перепугавшиеся,
отвечают на приветствия, ищут
земляков, а знакомые находят друг
друга», — вспоминал участник восстания
Юрий Грунин.
На следующий день заключённые не
вышли на работу. Они потребовали
прекратить избиения заключённых,
разрешить в лагере обшение между
мужчинами и женщинами. Начальство
согласилось выполнить эти условия.
Казалось, восстание пришло к
неожиданно мирной развязке. 18 мая
заключённые вышли на работу...
Но вечером в тот же день им
объявили, что обшение мужской и женской
частей лагеря запрещается, а по
нарушителям охрана будет вести огонь.
Конечно, это вызвало новую волну
негодования заключённых. Как писал
Ю. Грунин, они «задержали офицера
охраны, привязали его к доскам от
разломанной крышки стола и,
прикрываясь этим распятием от обстрела с
вышек, пошли на таран лагерных стен...».
Внутренние заграждения в лагере
вновь оказались сломанными.
Восставшие также сбили замок с внутрилагер-
ной «тюрьмы» и выпустили
арестованных. Один из них, 40-летний
полковник Капитон Кузнецов, встал во главе
восстания. К. Кузнецов предложил
считать происходящее не мятежом или
бунтом, а организованной
забастовкой. Заключённые избрали комитет
самоуправления, состав которого
оказался весьма необычным: бывшие
офицеры, бывшие учителя и... «вор в
законе» В. Рябов.
Итак, лагерь оказался во власти
заключённых. Растерянное начальство через
репродукторы призвало
законопослушных заключённых оставить мятежный
лагерь. Но через проломы в стенах
ушли только около 15 человек.
И вот началась удивительная «вольная»
жизнь внутри ограждения из колючей
проволоки... Восставшие
поддерживали в своих рядах строгий порядок: за
40 дней восстания здесь не было ни
одного случая убийства, воровства или
даже драки. Все требования
заключённых сводились к смягчению
лагерного режима и пересмотру их
судебных дел. Начальство вело с ними
переговоры, но особых результатов они не
давали.
Заключённые старались, как могли,
привлечь к своему протесту внимание
внешнего мира. Ю. Грунин
рассказывал: «На складе, который возвышался
над оградой и был виден издали, мы
написали аршинными буквами: „Требуем
правительственную комиссию!". В
небо были запушены бумажные змеи с
листовками, а потом у нас появился и
свой радиоузел, который вёл
передачи. Из кальки склеили
четырёхметровый аэростат. Соорудили гондолу,
сделав приспособление, в котором горел
огонь: аэростат, наполнившись тёплым
воздухом, взлетел, и ветер понёс его в
сторону города. Мы уже ликовали,
когда высоко в небе вспыхнуло пламя —
баллон наш загорелся. Правда, перед
этим сработало специальное
приспособление, которое разбросало
листовки; собирать их отправили взвод
солдат, опасаясь, что жители Кенгира,
будущего города Джезказгана, смогут
ознакомиться с их содержанием...».
25 июня власти перешли к
решительным мерам против восставших.
Бывший охранник Дмитрий Яковенко
вспоминал: «Штурм начался внезапно для
заключённых, на рассвете,
продолжался около четырёх часов. Против по
существу безоружных людей бросили
около дивизии личного состава с
четырьмя боевыми танками. Танки вели
огонь по траншеям, баррикадам,
утюжили бараки, давили гусеницами
сопротивляющихся. Один танк при
штурме снёс здание общественного
туалета, провалился в выгребную яму и там
застрял. С восходом солнца всё было
закончено. Лагерь был разгромлен.
Догорали бараки...».
Погибли и получили ранения, по
данным А. Солженицына, более 700
заключённых. Что же касается
наступавших, то они не понесли потерь ни
ранеными, ни убитыми.
470
ЖИЗНЬ СОВЕТСКОГО
ОБЩЕСТВА
к
ЖИЗНЬ СОВЕТСКОГО
ОБЩЕСТВА
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ
Перемены после Октября коснулись всех областей повседневной
жизни. Например, уже в декабре 1917 г. произвели реформу
правописания. Из употребления исчезли «ять» и «твёрдый знак» (в
конце слов). Теперь их шутливо называли
«контрреволюционными буквами».
Менялись обычаи, нормы поведения, одежда. Например,
такой головной убор, как цилиндр, стал своеобразной этикеткой
«буржуя». Писатель Варлам Шаламов вспоминал: «В журнале была
напечатана фотография „Красин в Париже". Красин был тогда
послом. Он выходил из какого-то дворца с колоннами. На
голове его был цилиндр, в руках — белые перчатки. Мы были
потрясены, едва успокоились».
В декабре 1917 г. приняли новые законы о семье и браке.
Развод сделался свободным и осуществлялся по желанию
одного из супругов. В. Ленин замечал: «Мы не оставили в подлинном
Плакат, изображающий пионеров — членов детской коллллунисгической организации. 1934 г.
СДМРАН ЛЕНИНЦДСЕНЕ
ЩШЕВШПШМ!
«ДЕКРЕТ О СОЦИАЛИЗАЦИИ
ЖЕНЩИН»
В начале марта 1918 г. население
Саратова было неприятно удивлено
появившимся в городе «декретом об
отмене частного владения женщинами».
Декрет гласил, что в результате
общественного неравенства буржуазия
присвоила «все лучшие экземпляры
прекрасного пола», что нарушило
«правильное продолжение человеческого
рода». Чтобы исправить положение, с
1 мая все женшины от 17 до 32 лет
объявлялись «достоянием народа».
Распределение «экземпляров народного
достояния» брали на себя местные
анархисты, которые будто бы и
выпустили декрет.
В тот же день возмущённая толпа, в
основном женская, взломала дверь и
разгромила саратовский клуб
анархистов. Те едва успели спастись. Вскоре
выяснилось, что настоящим автором
декрета был член «Союза русского
народа» Михаил Уваров. Эта «шутка»
для него закончилась плохо. Уваров
был убит, и анархисты объявили, что
это «акт мести» за погром их клуба.
«Декрет» же начал жить своей
самостоятельной жизнью. Стали
рождаться его новые варианты. Многие
искренне верили, что «красные» вводят
«свободную любовь» и «общность жён».
Широко распространяли «декрет»
белогвардейцы. Когда в 1920 г.
арестовали адмирала Александра Колчака,
при нём нашли текст «декрета». В
1919 г. «декрет» вполне серьёзно
обсуждали в сенате США.
471
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
РЕФОРМЫ КАЛЕНДАРЯ
До Октября 1917 г. Россия жила по
юлианскому календарю, который в
XX в. отставал от действующего в
Европе фигорианского на 13 суток.
Придя к власти, большевики решили
исправить это «отставание».
Поэтому 1 февраля 1918 г. они
декретом объявили 14-м. Но на этом
нововведения в календаре не закончились.
В 30-е гг., например, пробовали
отменить семидневную неделю и ввести
«пятидневку», потом «шестидневку».
Привычные понедельник, вторник и
т. д. исчезали. Вместо них появлялись
«первый день пятидневки», «второй
день пятидневки»...
В 1939 г. Союз воинствующих
безбожников предложил переименовать и
месяцы года. Предлагались такие
названия: месяц Ленина, Маркса,
революции, Свердлова, месяц май,
Советской конституции, жатвы, мира,
Коминтерна, Энгельса, великой революции,
Сталина.
Но эту реформу уже не приняли, и с
1940 г. новшества с календарём
прекратились.
В салоне московского троллейбуса. 30-е гг.
смысле слова камня на камне из всех подлых законов о
неравноправии женщины, о стеснениях развода, о гнусных
формальностях, его обставляющих, о непризнании внебрачных детей, о
розыске их отцов». Обучение мальчиков и девочек в школах
стало совместным.
Вообще «бытовые свободы» в первые годы после Октября
определённо расширились. В рабочих клубах спорили о «новом
быте» советского человека, о «свободной любви». На место
прежних религиозных обрядов приходили новые обычаи. Например,
вместо крестин появились «октябрины».
Многие родители дали волю своей фантазии в выборе имён
для детей. К концу 20-х гг. около трети новорождённых
получали необычные «революционные» имена: Бунтарь, Декабрист,
Коммуна, Пятилетка, Свобода, Стяг, Тракторина. Появились и
сложные составные имена: Догнат-Перегнат («догнать и
перегнать»), Рина (революция, интернационал), Роблен («рождён
быть ленинцем»).
Настоящая революция происходила и в искусстве. Многие
считали, что новой эпохе должно отвечать совершенно новое
искусство. В порыве воодушевления пролетарский поэт
Владимир Кириллов призывал:
Во имя нашего завтра —
Сожжём Рафаэля,
Разрушим музеи,
Растопчем искусства цветы!
В журнале «Леф» («Левый фронт искусств») летом 1923 г.
рассказывалось: «Маяковский производит чистку поэтов. Под
оглушительный рокот одобрения летят насмарку бальмонты, брю-
совы, ахматовы — весь заплесневевший российский Парнас. И
под тот же гул восторга поверяют и зачисляют в поэты истинно
революционных мастеров слова — Асеева, Кручёных и других. И
лишь жалобными голосками попискивают случайно забредшие
сюда литературные белогвардейцы, которые всё ещё пыжатся
отстоять свой старый литературный строй во главе с абсолютным
монархом А. С. Пушкиным».
ЖИЗНЬ ВЫСШИХ СЛОЕВ ОБЩЕСТВА
Уже в годы гражданской войны советские руководители
позволяли себе некоторые послабления, недоступные большинству
населения.
Лев Троцкий вспоминал: «Неправда, будто в те годы в
Кремле утопали в роскоши, как утверждала белая печать. Жили на
самом деле очень скромно. Однако привилегии уже отлагались и
автоматически накоплялись». Он описывал такой характерный
случай: «В 1919 году я случайно узнал, что в кооперативе
Совнаркома имеется кавказское вино, и предложил изъять его, так как
торговля спиртными напитками была в то время запрещена. ,До-
472
ЖИЗНЬ СОВЕТСКОГО
ОБЩЕСТВА
/
Страничка для детей
юного, зрелого и пожилого врзроста, обоего пола»
РУКОВОДСТВО: <*>иггрпш N4 1 «ыр*аы»««тся я
Рисунок из журнала «Красный перец».
1923 г.
ОБЪЯСНЕНИЕ ПЛАТЬИЦ. J* 1. Эта.фигурка изображает & Ответственного Работника без платья. Л 2. Платьице для игры в я
етво (« данное время несколько вышло из моды, но может еще понадобигься). М 3 и За. Платьице для игры в «покровительство наукам".
Я 4. Платьице для игры в .шефство над (фаской Армией'. » 5. Платьице для игры в „близость ж рабочих массам*. Лба, 66; 6в. Эти пред.
меты, приложены х нужным местам фигурки » 1, служат для игры в .покровительство отечественным искусствам*. Л 7 и 7а. Платьице для
игры в .международные конференции". (Подробность № 7а не рекомендуется соединять сЛ 5-м). № 8 и №. Платьице для игры в „ааседания.
совещания, комиссии и комитеты*. Одно ив самых нужных. .V 9. Эти предметы, соединенные с любым из остальных платьиц, придают каждой
игре государственное значение-
ползёт слух до фронта, что в Кремле пируют, — говорил я
Ленину, — опасаюсь дурных последствий".
Третьим при беседе был Сталин. „Как же мы, кавказцы, —
сказал он с раздражением, — можем без вина?"
„Вот видите, — подхватил шутливо Ленин, — грузинам без
вина никак нельзя!" Я капитулировал без боя».
Для местных руководителей льготы часто становились
вопросом жизни и смерти. Они стеснялись пойти на «чёрный
рынок», как это делали беспартийные, а на один паёк прожить было
невозможно.
Дмитрий Фурманов отмечал в своём дневнике осенью
1918 г.: «Питаться совершенно нечем. Может быть, нас переведут
ОБЩЕСТВО «ДОЛОЙ СТЫЛ!»
Ярким проявлением духа
послереволюционных лет стало известное
общество «Долой стыд!». В октябре 1924 г.
писатель Михаил Булгаков записал в
своём дневнике: «Новость: на днях в
Москве появились совершенно голые
люди (мужчины и женшины) с
повязками через плечо „Долой стыд!".
Влезали в трамвай. Трамвай останавливали,
публика возмущалась».
«Члены этого общества, — вспоминал
В. Шаламов, — гуляли по Москве
нагишом. Мальчишки, зеваки шли
толпами за адептами этого голого ордена.
Потом московская милиция получила
указания — и нагие фигуры женшин и
мужчин исчезли с московских улиц».
12 сентября 1924 г. сам нарком
здравоохранения Николай Семашко
разъяснил в газете «Известия» отношение
властей к обществу «Долой стыд»:
«Подобное поведение необходимо самым
категорическим образом осудить со
всех точек зрения. Во-первых,
жестоко ошибаются, когда думают, что если
ходить голыми, отрастить волосы и
ногти, то это будет самая настоящая
„революционность". Во-вторых,
путешествие по Москве в голом виде
совершенно недопустимо с
гигиенической точки зрения. Нельзя подставлять
своё тело под пыль, дождь и грязь.
Улицы Москвы — не берег Чёрного моря.
В-третьих, очень спорно, содействует
ли это дивное новшество
нравственности. Поэтому я считаю абсолютно
необходимым немедленно прекратить это
безобразие, если нужно, то
репрессивными мерами».
473
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В 1935 г. всю страну облетело
сообщение: «В ночь на 31 августа забой-
шик шахты „Центральная — Ирмино"
(Донбасс) Алексей Стаханов установил
выдающийся рекорд: добыл за смену
102 тонны угля при норме 7 тонн».
Конечно, превышение нормы почти в
15 раз вызывало недоуменные вопросы:
«Как ему это удалось?». Для того чтобы
пресечь разные толки, партком шахты
уже в 6 часов утра 31 августа вынес
грозное решение: «Пленум шахтпартко-
ма считает необходимым заранее
указать и предупредить всех тех, кто
попытается клеветать на товарища
Стаханова и его рекорд, как случайность,
выдумку и т. п., что партийным комитетом они
будут расценены как самые злейшие
враги, выступающие против нужд
людей шахты, нашей страны, отдающих всё
для выполнения указаний нашей партии
о полном использовании техники».
Установить свой рекорд Стаханов смог
благодаря двум помощникам,
выполнявшим подсобные операции. Но это
тогда держалось в строгом секрете.
Имя А. Стаханова в один день стало
знаменитым. Писатель Александр Ав-
деенко вспоминал о своём посещении
героя через год после рекорда.
«Входим в дом, забитый до предела
вещами. Новенькое всё, ещё до конца не
распакованное. Пианино, диван,
полированный стол. Навалом — стульев.
Два патефона. Радиоприёмник, гора
пластинок на полу. Кровати. Посуда в
соломе. Колбасы и пластины сала на
столе. Бублики. Батоны. Окорока.
Ящики с пивом, водкой. „Видали?! —
смеётся Стаханов. — Добро юбилейное.
Со всех концов Донбасса подарки
шлют. Как отказать людям?"».
Один из коллег шахтёра рассказывал
писателю о нём: «Пока что куражится.
От семьи отбился. Любовь закрутил с
девчон кой-десятиклассниней. Волосы
зачем-то перекрасил. Был чёрный, стал
серо-буро-малиновый. До Кремля, до
товарища Сталина дошли слухи о
загулах Стаханова. И знаете, что товарищ
Сталин велел передать от его имени
Алексею Григорьевичу? „Скажите
этому доброму молодцу, что ему
придётся, если не прекратит загулов, поме-
на паёк Красной Армии... Сердце страшно болит: как же мы
будем получать, когда все рабочие не получают ничего? Жизнь
загоняет в тупик Чистая теория меркнет, поддаётся перед
натиском жгуче ощутимой нужды».
Чуть позже он записал: «Губком санкционирует
предложение „О снабжении ответственных работников твёрдым пайком".
И я молчу. Я присоединяюсь. Что буду говорить рабочим? А ведь
они спросят. Я вне очереди достаю две сажени дров, когда
другим не дают. И много-много этих мелочей опутало меня и
отняло прежнюю абсолютную чистоту. Видно, время пришло,
дальше нет никакой мочи терпеть».
Однако на партийцев накладывались и определённые
ограничения, в том числе «партийный максимум» зарплаты. Она не
могла быть выше зарплаты хорошо оплачиваемых рабочих. Все
деньги, заработанные сверх этой суммы, сдавались в партийную
кассу. Как замечал писатель Олег Волков, в 20-е гг. «даже жёны
наркомов не рисковали щеголять драгоценностями и туалетами».
Конечно, принадлежность к высшим слоям общества
давала возможность сытой и обеспеченной жизни. В то же время
людей раздражала необходимость тщательно скрывать свой
достаток К началу 30-х гг. это положение начало меняться. В 1932 г.
наконец отменили «партмаксимум».
А в 1935 г. И. Сталин в одной из своих речей произнёс
знаменитые слова: «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало
веселее». Они подвели окончательную черту под эпохой
революционного аскетизма.
П. Кончаловский. «А. Н. Толстой в гостях у художника». 1940—1941 гг.
474
ЖИЗНЬ СОВЕТСКОГО
ОБЩЕСТВА
«После того, — писал О. Волков, — как было предложено
придерживаться стиля „жить стало лучше, жить стало веселее"...
лимузины, фешенебельные дачи, царские охоты, заграничные
поездки и курорты, больницы-хоромы, дворцовые штаты
прислуги и, разумеется, магазины, ломящиеся от заморских товаров
и изысканных яств, — всё это сделалось узаконенной
принадлежностью быта ответработников. Разумеется, в строгом
соответствии с важностью занимаемой должности».
Одним из символов быта новой эпохи стала «Книга о
вкусной и здоровой пище», вышедшая в 1939 г. Каждый раздел
предваряли эпиграфы, где И. Сталин или А. Микоян размышлял о
производстве сосисок, мороженого и т. п.
Вот один из таких «занимательных рассказов» Анастаса
Микояна к разделу «Рыба»: «Я хочу обратить ваше внимание на
торговлю живой рыбой в Москве, Ленинграде и других крупных
городах. Раньше эта торговля у нас вовсе отсутствовала, но в 1933 г.
однажды товарищ Сталин задал мне вопрос: „А продают ли у нас
где-нибудь живую рыбу?". „Не знаю, — говорю, — наверное, не
продают". Товарищ Сталин продолжает допытываться: „А
почему не продают? Раньше бывало". После этого мы на это дело
нажали и теперь имеем прекрасные магазины, главным образом в
Москве и Ленинграде, где продают до 19 сортов живой рыбы, в
том числе и такие, как стерлядь, форель; продают в лучших
магазинах и живых раков, и устриц. Живая рыба в магазине! Это
хорошо, ибо есть любители, которые требуют, чтобы рыба была не
только свежей, но чтобы она и на сковороде вертелась живой.
Что ж, и для их вкуса у нас найдётся ассортимент рыбы».
СМЕНОВЕХОВСТВО
С 1922 г. власти разрешили выпускать журнал под необычным
для новой эпохи названием «Россия». Издавала журнал группа
беспартийных интеллигентов. В одном из его номеров появилась
статья профессора Николая Устрялова «Обмирщение».
В осторожных и взвешенных выражениях автор сравнивал
историю большевизма и христианства. «Первоначальная
чистота христианского идеала, — замечал он, — постепенно
перерождалась под влиянием конкретных и неистребимых требований
земной действительности». Также и в Советской России «после
бешеного наступления отвлечённой идеи, пытавшейся
подчинить себе чуждую ей жизнь, — жизнь вступает в свои права. Дух
жизни рвётся из всех щелей, преображая идею, покоряя её себе.
Так после кризиса, после „перелома болезни" выдержавший её
организм начинает стихийно наливаться здоровьем». Чтобы
убедиться в этом, «достаточно прочесть месячный комплект любой
из больших московских газет».
Ещё ранее, в июле 1921 г., в Праге вышел близкий по духу
сборник «Смена вех». Его авторы пришли к выводу, что
интересы новой власти и российского государства теперь совпадают.
Ю. Потехин, например, отмечал: «Проходит пора, когда Россия
нять знаменитую фамилию на более
скромную"».
По всей стране, во всех отраслях
промышленности стали появляться
«стахановцы». Газеты прославляли, например,
имя маленькой узбечки Мамлакат На-
ханговой. Хлопок всегда собирали
одной рукой, в другой держа корзину. А
Мамлакат придумала новый способ —
повесить корзину на шею и собирать
сразу двумя руками. Тем самым она
удвоила сбор хлопка.
Благодаря развитию стахановского
движения стало возможным
постоянное повышение норм в
промышленности. И. Сталин сказал на совешании
«стахановцев», что новые нормы надо
устанавливать «где-нибудь посредине»
между старыми и стахановскими.
И. Сталин и школьница-пионерка
Мамлакат Нахангова,
известная участница стахановского
движения. Декабрь 1935 г.
475
к советский союз
| В 20—30-е ГОДЫ
Рабочая семья в своей новой квартире, служила целям III Интернационала. III Интернационал начина-
зо-е гг. ет 5ыть сильным орудием в достижении национальных целей
России...».
Н. Устрялов свою статью в сборнике заканчивал таю «Над
Зимним дворцом дерзко развевается красное знамя, а над
Спасскими воротами древние куранты играют „Интернационал".
Пусть это странно и больно для глаза, для уха, пусть это
коробит, но в конце концов в глубине души невольно рождается
вопрос:
— Красное ли знамя безобразит собою Зимний дворец, или,
напротив, Зимний дворец красит собою красное знамя?
„Интернационал" ли нечестивыми звуками оскверняет Спасские ворота, или
Спасские ворота влагают новый смысл в „Интернационал"?».
Многие из авторов сборника прежде являлись резкими
противниками Советской власти. Например, Юрий Ключников, как и
Николай Устрялов, входил в правительство Александра Колчака.
По названию сборника всё политическое течение стали
именовать сменовеховством. Сменовеховцы надеялись, что пе-
476
ЖИЗНЬ СОВЕТСКОГО
ОБЩЕСТВА
ремены в советском обществе дадут больше свобод
интеллигенции. Но в этом их ожидания не оправдались. В 1926 г. власти
запретили их легальную деятельность в России.
В конце 30-х гг. большинство сменовеховцев были
осуждены как «белогвардейцы» и позднее погибли в лагерях. Одним из
немногих, кто был близок к сменовеховству и уцелел, оказался
известный писатель граф Алексей Толстой.
ПЕРЕМЕНЫ В КРАСНОЙ АРМИИ
Октябрь 1917 г. упразднил в армии ордена, погоны и воинские
чины. Хотя вскоре и появились «красные ордена», но чины и
погоны, казалось, исчезли навсегда.
Поэтому 22 сентября 1935 г. советские граждане с немалым
изумлением услышали, что воинские звания восстанавливаются.
Только слово «генерал», вызывавшее привычную враждебность,
пока не воскресло.
Ещё более неожиданным шагом стало восстановление
казачьих войск С 1919 г. казакам вообще запрещалось служить в
Красной армии. И вот теперь, в конце 1935 г., они неожиданно
возродились. Чекист А. Орлов вспоминал: «На праздновании
годовщины ОГПУ, которое состоялось в декабре 1935 г. в Большом
театре, всех приглашённых поразило присутствие неподалёку от
Сталина, в третьей от него ложе, группы казачьих старшин в
вызывающей форме царского образца, с золотыми и серебряными
аксельбантами. Бывший начальник ОГПУ, отбывавший когда-то
каторгу, прошептал, обращаясь к сидевшим рядом коллегам:
„Когда я на них смотрю, во мне вся кровь закипает! Ведь это их
работа!" — и наклонил голову, чтобы те могли видеть шрам,
оставшийся от удара казацкой шашкой».
Советский журналист Михаил Кольцов написал как-то, что
И. Сталина невозможно вообразить во фраке или мундире с
генеральскими погонами. Но в июне 1940 г. в Красной армии
ввели звания генералов и адмиралов, и Сталин тогда же облачился в
генеральский мундир — пока, правда, без погон.
Погоны восстановили в январе 1943 г. У офицеров и
генералов они отливали золотом. А ведь в годы «гражданки» и после
неё золотопогонниками называли врагов. Другое воскресшее
слово — «офицер» — имело то же значение. Одновременно
восстановили лампасы, да и вообще почти полностью старую
царскую форму. Советский генерал, один из участников встречи на
Эльбе в 1945 г., замечал: «Советские солдаты удивлены тем, что у
американцев трудно отличить генерала от рядового. У всех
одинаковая форма. То ли дело у нас: генерал виден издалека».
Многих военных поразили эти нововведения. Жители
советских сёл и городов с удивлением смотрели на освободившую
их армию — уж очень она не походила на Красную... Впрочем, в
августе 1946 г. она перестала ею быть и по названию.
Рабоче-крестьянская Красная армия прекратила существование,
превратившись в Советскую армию.
С НОВЫМ ГОДОМ!
А. Кокорекин. Плакат 1938 г.
П. Соколов-Скаля. Плакат 1939 г.
ПОЕЗД ИДЕТ
ОТ с? СОЦИАЛИЗМ
ДО и КОММУНИЗМ
Г. НАЗНАЧЕНИЯ ]
К0ММ9НИ31!
действующий
ГРАФИК
ГРАФИК
исполненного ДВИЖЕНИЯ
большевистского поезда
Ш1. СТАНЦИЙ
СОЦИАЛИЗМ!
ОКТЯБРЬ ни!
ПРАВДА Bttj
ДЕНАБРЬЧ
ИСКРА иоо
GT. 0ТПРАШ1ВНИЯ ,
СОЦИАЛИЗМ]
ИСПЫТАННЫЙ
МАШИНИСТ
1 ЛОКОМОТИВА
РЕВОЛЮЦИИ
тСТАЛИН
477
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
Б. Ефимов. «Эмигрант:
— Ну о нас эта Конституция ничего
не упоминает?
— Упоминает! И лаже в новой редакции.
Прежде мы были классовыми врагами,
теперь — враги народа»
(«Крокодил». 1936 г.).
БОРЬБА С «ФОРМАЛИЗМОМ»
К середине 30-х гг. «революционное искусство» уже не
вписывалось в новое состояние общества. Как ни странно, верх начало
одерживать традиционное искусство, которое столько лет
называли «белогвардейским».
В январе 1936 г. И. Сталин отметил опасность «чуждого
народу формализма в искусстве». 28 января «Правда» напечатала статью
«Сумбур вместо музыки», направленную против произведений
Дмитрия Шостаковича. Как говорилось в статье, его музыка
«крякает, ухает, пыхтит, задыхается», «отрывки мелодии исчезают в
грохоте, скрежете, визге». Газета осудила «левацкое искусство» за
вычурность, непонятность для народа. В течение следующего месяца
появились статьи «Балетная фальшь», «Какофония в архитектуре»,
«О художниках-пачкунах». Вся печать подхватила эту критику.
17 декабря 1937 г. «Правда» напечатала статью «Чужой
театр», резко критиковавшую творчество Всеволода Мейерхольда.
Знаменитый режиссёр оказался теперь «отцом формализма в
советском театре». Кроме того, убийственным доводом против
Мейерхольда звучало напоминание о том, что ещё в 1923 г. он
посвятил один свой спектакль... Троцкому. Тем самым он «курил
фимиам будущему подлейшему агенту фашизма». «Разве нужен
такой театр советским зрителям?» — этими словами
заканчивалась статья. В следующем месяце театр Мейерхольда закрыли.
Это символически совпало с триумфальным празднованием
75-летия его давнего художественного противника —
реалиста Константина Станиславского. И вот старый режиссёр
решился на удивительный шаг. Он предложил опальному
Мейерхольду работать режиссёром в своём оперном театре. Однако
через несколько месяцев К Станиславский скончался.
14 июня 1939 г. В. Мейерхольд выступал на Всесоюзном
съезде режиссёров. Его встретили необычно горячими
аплодисментами. Как утверждал участник съезда Ю. Елагин, Мейерхольд
сначала признал свои ошибки, а затем сказал следующее:
«Пойдите по театрам Москвы, посмотрите на эти серые скучные
спектакли, похожие один на другой и один хуже другого. Там, где ещё
недавно творческая мысль била ключом, где люди искусства в
поисках, ошибках, часто оступаясь и сворачивая в сторону,
действительно творили и создавали — иногда плохое, а иногда и
великолепное, — там, где были лучшие театры мира, там царит
унылое и добропорядочное среднеарифметическое,
потрясающее и убивающее своей бездарностью. К этому ли вы стремились?
Если да — о, тогда вы сделали страшное дело. Желая выплеснуть
грязную воду, вы выплеснули с ней и ребёнка. Охотясь за
формализмом, вы уничтожили искусство!». По другим данным, эта
последняя речь режиссёра носила гораздо более покаянный
характер. Однако само возникновение такой легенды характерно.
Через несколько дней, 20 июня 1939 г., В. Мейерхольда
арестовали. Спустя месяц неизвестные убили дома его жену,
актрису Зинаиду Райх. Ей нанесли восемь ножевых ран, и вскоре она
скончалась. 2 февраля 1940 г. расстреляли и Мейерхольда.
478
ЖИЗНЬ СОВЕТСКОГО
ОБЩЕСТВА
Борьба с «формализмом», то затихая, то разгораясь,
продолжалась несколько десятилетий. Например, в 1948 г. один из её
идеологов, Андрей Жданов, замечал: «Надо сказать прямо, что
целый ряд произведений современных композиторов
настолько перенасыщен натуралистическими звуками, что напоминает,
простите за неизящное выражение, не то бормашину, не то
музыкальную душегубку». 21 февраля 1939 г. в Большом театре
впервые при Советской власти состоялась постановка «парадной»
оперы старого режима «Жизнь за царя». Опера получила новое
название — «Иван Сусанин». На премьере были И. Сталин и его
соратники. Вместо «Славься, славься, русский царь!» хор пел:
«Славься, славься, русский народ...».
СТАЛИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ
В январе 1935 г. съезд Советов постановил пересмотреть советскую
конституцию. Из неё выбрасывали уже устаревшие «преимущества
для пролетариев», оставшиеся с первых революционных лет.
С 1918 г. голос городского рабочего на выборах весил
впятеро больше, чем голос крестьянина. «Непролетарские» слои
населения (священников, бывших кулаков и т. п.) часто лишали
избирательных прав. В 20-е гг. число таких «лишенцев» достигало 5—9%
населения. На выборах голосовали открыто, поднятием рук, и мало
кто решался голосовать «против». Теперь всё это отменили и ввели
«равные и прямые выборы при тайном голосовании».
Перед принятием конституции в 1936 г. состоялось её
«всенародное обсуждение». Иногда на таких собраниях люди
высказывали свои наболевшие нужды. Колхозники просили ввести им
зарплату. В Воронежской области одна крестьянка предложила
добавить к записанным в конституции словам «Кто не работает —
тот не ест» такую фразу: «А кто работает, тот должен есть».
Конституция вызвала большие надежды интеллигенции. В ней
впервые признавались неприкосновенность личности, жилища и
тайна переписки. Ходили слухи о создании легальной
интеллигентской оппозиции во главе с М. Горьким и академиком И. Павловым.
5 декабря 1936 г. Сталинскую конституцию утвердили.
Первые всеобщие выборы состоялись 12 декабря 1937 г. На каждое
место выдвигался один кандидат «блока коммунистов и
беспартийных». По официальным данным, против них по всей стране
проголосовали 632 тыс. человек (из 94 млн избирателей).
До 1988 г. Верховный Совет и другие советы все свои
решения одобряли единогласно, хотя председатель каждый раз и
спрашивал для соблюдения формы: «Кто против? Кто воздержался?».
ИЗМЕНЕНИЯ В БЫТУ
В 30-е гг. былая революционная идейность в советском
обществе постепенно угасала. Исчезали и связанные с ней «вольности»
в советском быту. Одной из первых мер такого рода стало
введение паспортов. Большевики отменили их сразу после окончания
НОВЫЙ СОВЕТСКИЙ гимн
После Февраля российским гимном
стала «Марсельеза», а после
Октября — «Интернационал». Но
постепенно он всё менее отвечал эпохе.
Писатель Сергей Михалков вспоминал:
«Однажды летом 1943 г. совершенно
случайно узнаю, что правительство
приняло решение создать новый Гимн
СССР. В тот же день я рассказал об
этом Эль-Регистану. На следующее
утро ко мне является мой друг и
говорит: „Я видел сон о том, что мы с
тобой авторы текста Гимна, я даже
записал какие-то слова". И показывает
гостиничный счёт, на котором что-то
записано. Так началось и моё участие в
создании Гимна».
К 1 января 1944 г. гимн был готов и в
новогоднюю ночь впервые прозвучал
по Всесоюзному радио. Он начинался
так:
Союз нерушимый республик своболных
Сплотила навеки Великая Русь.
Аа злравствуетсозланный волей наролов
Елиный, могучий Советский Союз!
Любопытно, что после распада
Советского Союза в 1991 г. С. Михалков
предложил свой текст гимна России.
479
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
Л. Генч. «Первый ряд партера
(диаграмма в лицах)»
(«Кроколил». 1937 г.).
ОЦЕНКА ЭПОХИ ИВАНА
ГРОЗНОГО
В соответствии с духом новой эпохи в
конце 30-х гг. изменилась
официальная оценка личности царя Ивана IV,
прозванного Грозным. В1929 г. Малая
Советская Энциклопедия писала о нём
так: «Как личность, Иван IV очень
сложен: крайняя неуравновешенность,
развратность, жестокость, доходившая
до садизма, и припадки религиозного
мистицизма сочетались с большим
политическим умом и публицистическим
талантом».
Теперь личность царя и его эпоху
стали оценивать только положительно. В
этом духе была выдержана первая
серия фильма «Иван Грозный» Сергея
Эйзенштейна, заслужившая похвалы и
награды. Но вторая серия уже
вызвала недовольство властей и на экраны
не вышла.
4 сентября 1946 г. UK принял
постановление, в котором говорилось:
«Режиссёр С. Эйзенштейн обнаружил
невежество в изображении исторических
фактов, представив прогрессивное
войско опричников Ивана Грозного в
виде шайки дегенератов, наподобие
американского Ку-Клукс-Клана, а
Ивана Грозного, человека с сильной волей
и характером, —слабохарактерным и
безвольным, чем-то вроде Гамлета».
Как вспоминал писатель Всеволод
Вишневский, сам И. Сталин говорил
тогда же, что режиссёр «отвлёкся от
истории, изобразил каких-то
дегенератов-опричников, не понял, что
опричники были прогрессивными
элементами, не понял значения репрессий.
Россия была раздробленной, хотела
объединиться, создавалось
централизованное государство. Иначе Россия
попала бы под новое иго. Россия вправе
была карать врагов внутри и извне.
Возьмём Ивана Грозного. Мы знаем,
что это был человек с волей и
характером. А нам дан не то Гамлет,, не то
какой-то убийца».
LJii5|lp
гЖ'1/ж\ -
Ш 1*^№&?*$Ё&Щ
ШжшР!
шшжш
^&ii ф&Щ^гФ*|
1913 г
1917 г.
1 . - ■ ,j--;--j,-.■"•■■•■•■,--ч-^ag
'&*$& £•-' ^•'•^SftWLsfc
Л11;4гз^''чК2&«1
Ш т'#*£''ъФШ&*ШМ*ШФ
к-с^Ф' ■■ifS..33ir^' .'.•/; ^НННт . t
0^"*^.? {шшк t.'v^t. ,-• дрикяьJ
НЦ&'ДЯ JK/JKi^^OtSjLu
га^Й®1^2^**р--1 Jr
^■ш№ч$гШ' 'Щ&Ц
шШШл!^ *л&^* ■' "-2з5^-%
>Ц ■•^^&'jg£&JHg,: " X. ^м
\v ""« ^пй^ш^л ' - *УЬЖ
Ьг-у^ш^Т ЩФ?гшР
[";v^V'-.'--,i^|f"-' «
^Щя^ОиИ ^ВИИ
Р;з^в^Ш
щ ■^^^ёи ^s^ssl
ЙУмР1'-!^!^'1''-
rSr*w
■•^^Л^^.--':^1Ш
bJjgffl'*S&t£- ?':'3^1
1Щр% ''■~- ^^ч^З^кГ 1
Л^ 1& ^.Ы* л^^^'-Н
If ?$1нЭ
""^ • 1
иу /^^йёЙ^ЙШ
\¥(^^^^^Ш^
Гй1Р^^-Яч
1 IP' ■ /<i
j|£ •'-■';•'•'" '■■■- ''J
iff Jr^v ^Шщ
^^&^щ
i^pjig^^^
^ЦШяжЭД
<*^--ШЙ&*А
1919 г.
Наши дни.
гражданской войны и очень гордились этой мерой. Ещё в 1931 г.
в Малой Советской Энциклопедии говорилось: «Паспортная
система была важнейшим орудием в так называемом полицейском
государстве. Советское право не знает паспортной системы».
Действительно, в 20-е гг. удостоверением личности мог служить
любой документ — например, пропуск, профсоюзный билет.
Однако уже в 1932 г. в стране ввели паспорта и прописку. Крестьяне
теперь вообще не могли сменить место жительства. Горожанам
при переезде полагалось немедленно прописаться.
Дольше всего свои «вольности» сохраняли рабочие, которых
называли «правящим классом советского общества».
Восьмичасовой рабочий день так и не отменили. Но обещанные после
Октября 1917 г. месячные отпуска сократились до 12 дней. Вычеркнули
из календаря некоторые революционные праздники — День
Парижской Коммуны, годовщины Февральской революции,
«кровавого воскресенья»... В 1940 г. приняли новые законы против «наруше-
480
ЖИЗНЬ СОВЕТСКОГО
ОБЩЕСТВА
ний дисциплины». Прогул наказывался двухлетним заключением.
При этом опоздание более чем на 20 минут тоже считалось
прогулом. Запретили свободный переход с одной работы на другую.
Нарушители получали до четырёх лет заключения.
Заметной переменой в советском быту стало
восстановление празднования Нового года в середине 30-х гг. Возродились
и праздничные ёлки, ранее осуждавшиеся как «религиозный
предрассудок». Только рождественские ёлки теперь стали
называться новогодними. Изменилось и отношение к семье.
Государство начало «укреплять семью». После указа 1944 г. процедура
развода стала очень затруднительной. Тот же указ восстановил
разделение на законных и внебрачных детей; возникло
неодобрительное название «мать-одиночка». С 1 сентября 1943 г.
мальчиков и девочек вновь начали обучать в школах отдельно.
В 1943 г. школьницы, как при старом порядке, облачились в
форму — коричневые платьица (форму для мальчиков ввели
позднее). Тогда же, в 1943 г., мундиры надели железнодорожники,
судьи и дипломаты. Новая форма милиции была такой же, как форма
дореволюционного жандармского корпуса.
Слово «родина» стали писать с заглавной буквы. То, что
начавшаяся в 1941 г. война была провозглашена Великой
Отечественной, резко ускорило отмирание революционной идеологии.
В умах людей её остатки часто совмещались с
патриотическими и государственными идеями. Своеобразным гимном конца
30-х гг. стала «Песня о Родине» Василия Лебедева-Кумача:
Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек!
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.
От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей
Человек проходит, как хозяин
Необъятной Родины своей.
Наши нивы глазом не обшаришь,
Не упомнишь наших городов,
Наше слово гордое «товарищу
Нам дороже всех красивых слов.
Над страной весенний ветер веет.
С каждым днём всё радостнее жить.
И никто на свете не умеет
Лучше нас смеяться и любить...
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВОЙНЫ
После войны уровень жизни городского населения стал
постепенно повышаться. С 1947 г. в течение семи лет проводились
массовые снижения цен. Каждый год люди привычно ждали
нового снижения. Конечно, горожане поддерживали такую
политику. Что же касается сельских жителей, то в 1947—1949 гг. в
сёлах не раз вспыхивал настоящий голод.
1 W
щш
Jtt
w£* /Ж
Л. Генч. «Размножители антисоветской
клеветы. Зарубежный (фашистская
пресса). Внутренний (сплетня и анекдот)»
(«Кроколил». 1937 г.).
АНЕКДОТЫ
И в 30-е гг. советские граждане не
прекращали шутить на острые темы, хотя
часто эти шутки становились причиной
ареста. Не случайно осуждённых за
«антисоветскую агитацию» в лагерях
тогда звали «анекдотчиками».
Политические анекдоты
рассказывали даже в разгар массовых арестов
1937—1938 гг. В 1937 г. отмечалось
столетие со дня смерти А. С. Пушкина.
По этому поводу появился анекдот:
«Что такое „Да здравствует Сталин! Да
здравствует Сталин! Да здравствует
Сталин!"? — Вечер, посвященный
памяти... Пушкина». Умудрялись шутить
и над самими арестами: «Солнышко
село... — Что?! Ну это уже слишком!».
«Анекдоты начались с первых дней и
не иссякали ни на миг», — замечала
Надежда Мандельштам. Писатель
Андрей Синявский считал: «Анекдоты в
течение 30-летней ночи сияют, как
звёзды в ночной черноте».
481
советский союз
В 20—30-е ГОДЫ
«СТИЛЯГИ»
В конце 40-х гг. перемены в советском
быту начались уже «снизу», при
неодобрении властей. Это ярко
проявилось в движении «стиляг». Так
называли молодёжь, увлекавшуюся джазовой
музыкой, в том числе скандально
известным танцем «буги-вуги».
Советская печать осуждала этот танец за
«улюлюкающие звуки и непристойные
телодвижения». Стиляги носили узкие
брюки, набриолиненные причёски и
одежду ярких, бьюших в глаза цветов.
В поведении стиляг не было особой
«идейной» подоплёки. «Обычные
ребята, — замечал писатель Виктор Слав-
кин, — простые парни, большинство из
них не обладали высоким интеллектом,
мало кто мог бы сформулировать свои
общественные позиции и политические
взгляды. Казалось, какая от них исходит
опасность? Этого не понимали ни они
сами, ни интеллектуалы. Власть же
сразу и безошибочно уловила угрозу. И
увидела её в том, что новизна, которую
предлагали стиляги, была не на уровне
идей, а на уровне быта». Стиляг
осуждали на комсомольских собраниях,
исключали из комсомола, институтов.
Дружинники ловили их на улицах и
разрезали вдоль их узкие брюки. Точно так
же когда-то стригли бороды боярам...
В марте 1949 г. журнал «Крокодил»
поместил фельетон Д. Беляева «Стиляга».
Герой его в нём описывался так: «В
дверях зала показался юноша. Он имел
изумительно нелепый вид: спина куртки
ярко-оранжевая, а рукава и полы
зелёные; таких широченных штанов канаре-
ечно-горохового цвета я не видел даже
в годы знаменитого клёша; ботинки на
нём представляли собой хитроумную
комбинацию из чёрного лака и красной
замши. Юноша опёрся о косяк двери и
каким-то на редкость развязным
движением закинул правую ногу на левую,
после чего обнаружились носки, которые
слепили глаза, до того они были ярки...
„Теперь вы знаете, что такое
стиляга? — спросил сосед-студент. — Тип
довольно редкостный. Однако
находятся такие девушки и парни, которые
завидуют стилягам". „Завидовать? Этой
мерзости?—воскликнула с
негодованием одна из девушек. — Мне лично
плюнуть хочется"».
С 1956 г. началось массовое строительство городского жилья:
за 7 лет построили больше жилья, чем за предыдущие 40 лет. По
поводу этих не слишком благоустроенных «пятиэтажек» шутили:
«Есть ли в Советском Союзе трущобы? Нет! Только — хрущобы». В
то же время миллионы семей переселились в них из бараков и
коммунальных квартир. Определённый итог этому улучшению
уровня жизни подвела Конституция 1977 г. («брежневская»). В ней
появились такие новые права, как «право на охрану здоровья»,
«право на жилище». Одновременно в послевоенные годы расширялись
и бытовые свободы. После окончания войны отменили суровый
закон об опозданиях на работу, а в 50-е гг. разрешили и свободно
менять место работы. В 1953 г. смягчилось наказание (до года
заключения) за проживание без прописки. Саму же прописку не
отменили и после распада СССР в 1991 г.
Дружинники проводят «воспитательную работу» со стилягами. Современный рисунок.
482
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ
«ОТМЕНА ТАЙНОЙ ДИПЛОМАТИИ»
Советское правительство, оказавшись у власти, объявило о
решительном разрыве с прежними дипломатическими
традициями. Большевики утверждали, что раньше дипломаты
сговаривались между собой тайно, за спиной своих народов; а Советской
власти скрывать от народа нечего. В первом же её
постановлении — Декрете о мире — говорилось: «Тайную дипломатию
правительство отменяет, выражая твёрдое намерение вести все
переговоры совершенно открыто перед всем народом».
Газеты немедленно начали публиковать тайные договоры
прежней власти, хранившиеся ранее в строжайшем секрете.
Благодаря этому открылись многие неизвестные цели воюющих
держав, что произвело сильное впечатление во всём мире.
«Народ видит, из-за чего его гнали на бойню, — замечал по этому
поводу В. Ленин. — Советское правительство... показало, что
правители всех стран — разбойники».
Не слишком уважительно большевики относились и к
дипломатической неприкосновенности. Обыски в посольствах,
изъятие у послов автомобилей, а подчас и аресты дипломатов
стали обычным явлением. Большевики не видели особого
смысла в «церемониях с классовыми противниками», даже
зарубежными, — ведь с ними уже начата во всём мире беспощадная
война. Конечно, в такой обстановке иностранные державы
отказывались признать Советскую республику. Лев Троцкий, в то
время нарком иностранных дел, замечал вскоре после Октября:
«Дело моё маленькое: опубликовать тайные договоры и закрыть
лавочку».
СОЗДАНИЕ КОМИНТЕРНА И МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Вначале победа Октября в России представлялась большевикам
лишь первым шагом к мировой революции. В 1919 г. решено
было образовать штаб этой будущей революции —
Коммунистический Интернационал (Коминтерн). Правда, создавать его в тот
момент было ещё почти не из кого.
Тем не менее 2—6 марта в Московском Кремле прошёл
учредительный конгресс Коминтерна. Своего делегата — Гуго
483
Открытка 1918—1919 гг. Эберлейна — прислали германские коммунисты. Остальные
основатели Коминтерна состояли в РКП (б) и проживали в
Советской России, а иностранцами считались лишь по
национальности. Официально сообщалось, что на конгрессе
присутствовал 51 делегат из 30 стран.
Выступая в день закрытия конгресса, В. Ленин убеждённо
заявил: «Товарищи, присутствующие в этом зале... увидят все, как
будет основана Всемирная Федеративная Республика Советов
(Аплодисменты?)». Привычной концовкой большинства речей
служил лозунг «Да здравствует мировая революция!». Руководство
Коминтерна мыслилось как зародыш всемирного
правительства, причём РКП(б) формально подчинялась Коминтерну.
Белогвардейцы по этому поводу с негодованием говорили, что
Россия при большевиках прекратила существование, а в Москве
правит Интернационал...
Второй конгресс Коминтерна собрался в июле 1920 г. Это
были дни успешного наступления Красной армии на Варшаву
Конный корпус Г. Гая прорвался даже в Германию. Нарком по
военным делам Л. Троцкий выдвинул тогда лозунг «Тыл Красной
армии впереди!». Казалось, европейская, а затем и всемирная
революция — действительно дело ближайших месяцев или даже
недель.
В Большом театре, где проходил конгресс, на сцене была
установлена огромная электрифицированная карта. Глядя на
неё, делегаты каждое утро с волнением отмечали продвижение
Красной армии на Варшаву. А дальше светящиеся стрелки уже
указывали пути наступления на Берлин, Вену, Рим... Взрыв
восторженных аплодисментов вызвали слова Г. Зиновьева о том, что
следующий конгресс «будем проводить в Берлине, а затем в
Париже, Лондоне».
«Никогда не забуду накала чувств и мыслей, какой у нас был
тогда. Вот-вот будет прорван последний кордон, отделяющий
российский очаг революции от
Запада, — вспоминал военный
журналист М. Гус — Советская
Польша, а там и Германия. С
часу на час мы ждали великой
вести о падении Варшавы. На
щите особенно большого
размера мы написали: „Ура!
Варшава наша!"».
В эти дни делегаты
приняли знаменитый Манифест
Коминтерна.
«Коммунистический
Интернационал, — говорилось в
нём, — есть партия
революционного восстания
международного пролетариата...
Советская Германия, объединённая с
484
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ
Советской Россией, оказалась бы сразу сильнее всех
капиталистических государств, вместе взятых. Дело Советской России
Коминтерн объявил своим делом. Международный
пролетариат не вложит меча в ножны до тех пор, пока Советская Россия
не включится звеном в федерацию Советских республик всего
Мира».
«Германский молот и русский серп победят весь мир!» —
гласил в то время официальный лозунг. Однако в августе польские
войска разгромили части Красной армии под Варшавой. Это
поражение нанесло сокрушительный удар и по самой идее мировой
революции, которая теперь по меньшей мере «откладывалась» на
несколько лет. Но до середины 20-х гг. мировая революция ещё
представлялась большевикам «задачей номер один».
Журналист Михаил Кольцов писал в 1924 г.: «Торопитесь!
Ещё несколько лет — и Коминтерн уйдёт от нас. Его столицей
станет Берлин или Париж. Вы тогда будете жадно смотреть
рисунки журналов, расспрашивать знакомых, приехавших оттуда,
и по-провинциальному вспоминать о том, как Коминтерн был
„совсем тут, близко, в Москве, на Моховой"».
«ПОЛОСА ПРИЗНАНИЙ»
С середины 20-х гг. былая горячая вера большевиков в грядущую
мировую революцию стала постепенно угасать. О ней думали и
говорили всё меньше. Провозгласив «строительство
социализма в одной стране», Иосиф Сталин и его сторонники
окончательно отодвинули мировую революцию на задний план.
Защищавшие эту идею Л. Троцкий и его сторонники терпели поражение
за поражением.
Одновременно менялось и отношение к Советской стране за
рубежом. Её всё чаще рассматривали как обычное национальное
государство, Россию, а не как зачаток «всемирной Советской
республики».
Постепенно Советское правительство вернулось и к старым
дипломатическим традициям. К тайной дипломатии оно сочло
необходимым прибегнуть уже в 1918 г., на мирных переговорах с
Германией. Теперь Советы вполне уважали и неприкосновенность
дипломатов. В общем Запад склонялся к тому, чтобы вновь
принять Россию в «семью цивилизованных народов».
Со своей стороны Москва также стремилась прорвать
«санитарный кордон» вокруг Советского государства. В 1921 —
1922 гг. Советской России удалось получить признание
Германии и некоторых восточных стран. Но решающий прорыв
«санитарного кордона» произошёл в 1924 г.
2 февраля Великобритания заявила об официальном
признании СССР, оговорив, что видит в нём преемника бывшей
Российской империи. Спустя пять дней о признании заявила и
фашистская Италия. В течение следующего месяца СССР признали
Норвегия, Австрия, Греция, Швеция... Вскоре их примеру
последовали и другие страны.
ПРОЦЕСС КОНРААИ
8 начале 20-х гг. отношение к
советским дипломатам за границей
оставалось весьма враждебным. На них
часто смотрели не как на обычных послов,
а как на посланцев мировой
революции, своеобразных «международных
разбойников».
Это отношение ярко проявилось во
время известного процесса Конради.
9 мая 1923 г. в Лозанне (Швейцария)
белогвардеец-монархист Морис
Конради застрелил полномочного
представителя СССР в Италии Вацлава
Воровского. Террорист объяснил свой
поступок желанием «отомстить за зверства
ВЧК». Суд над Морисом Конради и его
сообщником Аркадием Полуниным
состоялся в ноябре 1923 г. В зашиту
подсудимых горячо выступили многие
видные русские эмигранты: не только
монархисты, но и либералы, и даже
некоторые социалисты, в частности бывший
народный социалист историк С. Мель-
гунов. Он писал: «Кто дал нам право
отнимать у Конради стимул того...
героизма, который влечёт русского
гражданина и патриота на отмшение? Кто
дал право отнимать у Конради чувство
любви к поруганной родине, во имя
которой он совершал, по его словам,
своё преступление?».
На суде подробно освещались
деятельность чекистов во время гражданской
войны, различные эпизоды «красного
террора». После 12-дневного
процесса швейцарские присяжные признали
террористов невиновными и
освободили их из-под стражи.
485
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
В 20—30-е ГОДЫ
К. Елисеев.
«К признанию СССР Францией.
Пионер (Чичерину):
— Скажи-ка, ляля, вель не ларом?
Чичерин:
— Прелставь себе, ларом!».
Рисунок, посвяшённый
дипломатическому признанию СССР
западными странами.
(Журнал «Красный перец». 1924 г.)
ВОЕННЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
В 20—30-е гг. Советский Союз стремился сохранить и укрепить
своё влияние на Дальнем Востоке. Союзниками СССР здесь
являлись лишь два государства — Монголия и Тува (позднее
присоединённая к СССР). На их территории располагались части
Красной армии.
Советско-китайские отношения в 20-е гг. были довольно
сложными, а в 1929 г. даже произошёл вооружённый конфликт
между двумя странами. Предметом спора стала КВЖД —
Китайско-Восточная железная дорога. Формально она принадлежала
обеим странам, но советские власти постепенно оттеснили
китайцев от управления ею. 10 июля 1929 г. китайские войска
силой взяли КВЖД под свой контроль. Тогда Москва привела в
действие Особую Дальневосточную армию, которую возглавлял
известный полководец гражданской войны Василий Блюхер. В
октябре — ноябре китайские войска были разгромлены, причём
понесли немалые потери: более тысячи убитых, не менее десяти
тысяч пленных. Советские войска потеряли погибшими 143
человека. Конечно, эти военные столкновения надолго бросили
тень на советско-китайские отношения. Однако уже с 1931 г. они
стали постепенно улучшаться. Объяснялся такой поворот
политики довольно просто: у обеих стран появился общий
противник — Япония. В 1931 г. японские войска начали военное
вторжение в Китай, причём Квантунская армия захватила всю
Маньчжурию и вышла к советской границе.
В 1937 г. война в Китае разгорелась с новой силой —
японские войска развернули мощное наступление. В течение
следующих двух лет они заняли основные провинции страны. СССР в
эти годы оказывал Китаю значительную военную помощь. На
вооружение китайской армии поступили 985 советских
самолётов, 82 танка, более 1300 орудий... В Китай отправились тысячи
советских военных советников, лётчиков, других специалистов.
Из них 195 человек погибли в ходе сражений.
Между тем напряжённость между СССР и Японией быстро
росла. Уже в июне 1937 г. произошло первое советско-японское
вооружённое столкновение. Японцы заняли остров Большой на
реке Амур. Видимо, командование в Токио хотело произвести
«разведку боем» — проверить Красную армию на прочность. В
СССР в это время шли массовые аресты среди военных, что,
естественно, порождало сомнения в боеспособности Красной
армии. Советский Союз выразил протест по поводу захвата
острова, но больше ничего не предпринял. Все военные действия
ограничились перестрелкой. Конечно, это могло только
подтвердить предположения японцев о слабости Красной армии.
В июле 1938 г. японцы вновь попытались «прощупать
противника боем». Возле озера Хасан части Квантунской армии
перешли советскую границу и захватили сопки Безымянную и
Заозёрную. Первая попьшса выбить оттуда японцев закончилась для
советских войск неудачей. Военные действия вела Особая
Дальневосточная армия во главе с маршалом В. Блюхером. В этой ар-
486
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ
Добро пожаловать.
мии уже арестовали около 40% командиров и
более 70% высшего командного состава.
Несмотря на это, 6 августа красноармейцы
развернули наступление и после трёхдневных боёв
разбили японские войска. 11 августа сражения
прекратились. Квантунская армия потеряла
погибшими около 500 человек, советские
войска — 792 человека.
А через неделю, 18 августа, В. Блюхера
вызвали в Москву. Здесь ему объявили об отставке.
Спустя два месяца прославленный маршал был
арестован. От него требовали признания в
длительном, с начала 20-х гг., шпионаже в пользу
Японии и намерении бежать туда на самолёте.
В. Блюхер отрицал свою вину и вскоре
скончался от приёмов «физического воздействия»...
В мае 1939 г. начались самые крупные до
Второй мировой войны столкновения советских
и японских войск На этот раз сражения
вспыхнули на территории Монголии, возле реки Хал-
хин-Гол. В начале июля части Квантунской армии
перешли эту пограничную реку и попытались
закрепиться на монгольском берегу. Однако
Красная армия отбросила японские войска обратно за
реку, нанеся им серьёзные потери. Командовал
советскими и монгольскими войсками комкор
Г. Жуков (см. ст. «Георгий Жуков»).
20 августа Красная армия развернула мощное наступление
на противника. К исходу месяца японская группировка оказалась
окружена и разгромлена. 15 сентября стороны заключили
перемирие. Японцы потеряли убитыми около 25 тысяч человек,
советские войска — 7974 человека.
СОВЕТСКО-ФИНСКАЯ ВОЙНА
В 1939—1940 гг. Советский Союз шаг за шагом «возвращал» себе
территории, прежде принадлежавшие Российской империи:
страны Прибалтики, Западную Украину... (см. ст. «СССР во
Второй мировой войне»). Одним из таких «осколков» империи,
очевидно, являлось бывшее Великое княжество Финляндское. По
советско-германскому договору о ненападении 1939 г. Финляндия
была отнесена к «сфере интересов» Советского Союза.
В октябре 1939 г. Советское правительство предложило
Финляндии произвести обмен территорий. СССР получил бы
около 2700 км2 вблизи Ленинграда, а Финляндия — вдвое
большую, но малоосвоенную территорию в Карелии. Однако такой
обмен делал столицу Финляндии Хельсинки очень уязвимой для
нападения, приближая к ней границу. Поэтому финское
правительство отклонило советские предложения. Закончились
переговоры на явно угрожающей ноте. Нарком иностранных дел
Ю'Кон. «Нарком иностранных дел
Г. Чичерин в образе Петра: „Все флаги i
гости будут к нам!"». Рисунок,
посвященный дипломатическому
признанию СССР западными странами.
(Журнал «Красный перец». 1923 г.)
487
К. Ротов. «Кровавые псы мирового
фашизма». Рисунок, посвященный войне
в Испании. («Крокодил». 1937 г.)
СССР В. Молотов сказал: «Мы, гражданские люди, не достигли
никакого прогресса. Теперь слово осталось за военными».
26 ноября советские власти заявили, что финская сторона
обстреляла территорию СССР, в результате чего погибли
четыре красноармейца и девять получили ранения. Финские власти
утверждали, что у них в этом районе нет даже дальнобойных
орудий, необходимых для такого обстрела. Но, несмотря на это,
Красная армия начала боевые действия против Финляндии.
Утром 30 ноября на Хельсинки упали первые бомбы.
На следующий день в занятом советскими войсками
пограничном городке Териоки (ныне Зеленогорск) образовалось
правительство «Финляндской Демократической Республики» (ФДР).
Его возглавил коммунист Отто Куусинен. Кроме Советского
Союза ФДР официально признали Монголия и Тува. 2 декабря в
Московском Кремле был подписан договор о дружбе и
взаимопомощи между СССР и ФДР.
Был создан и 1-й стрелковый корпус Финской народной
армии. Первоначально его хотели составить из карелов и
живших в СССР финнов. Но поскольку военнослужащих этих
национальностей не хватало, в начале января 1940 г. часть
командиров, согласно особому приказу, получила финские имена и
фамилии. Например, комиссар корпуса Терёшкин стал Тервоне-
ном... После нескольких дней военных действий стало ясно,
нельзя рассчитывать на быструю победу над «белофиннами», как
их тогда называли. Уже 2 декабря нарком обороны маршал
Климент Ворошилов отдал приказ, в котором звучала некоторая
растерянность: «Мы не можем долго болтаться в Финляндии,
двигаясь по 4—5 км в сутки. Нужно поскорее кончать
дело решительным наступлением наших войск».
Однако советская военная машина надолго
забуксовала в мощных укреплениях знаменитой
линии Маннергейма, названной так по имени
главнокомандующего финской армией маршала
Карла Маннергейма. В эту оборонительную
линию шириной около 100 км среди прочего
входили 606 пулемётных гнёзд, 440 км окопов,
331 км заграждений из колючей проволоки.
Советский Союз имел двойное
превосходство в живой силе, тройное — в артиллерии,
многократное — в танках и самолётах. Но
финская армия оказалась более подготовлена к
войне в зимних условиях. Зима 1939—1940 гг.
выдалась необычайно суровая, морозы достигали
40—45 градусов. Красноармейцы мёрзли в
недостаточно тёплой форме. Командир взвода
Николай Митрофанов рассказывал о первых
днях войны: «Рассвет застал нас танцующими
„дикий танец" на одном месте. Мороз не ниже
минус пятидесяти градусов нещадно жёг ноги,
руки, хватал за нос. Обледенелые подшлемни-
488
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ
Е
ки мало согревали». Советские войска несли огромные потери
не только ранеными и убитыми: тысячи обмороженных бойцов
выходили из строя. Пехота увязала в двухметровых снежных
сугробах.
В этих условиях иногда одному батальону финских
лыжников удавалось остановить целую советскую дивизию, а то и
нанести ей поражение. Красноармейцы с уважением отзывались о
финском оружии, рассказывали о нём разные необычные истории.
Например, повторяли легенду о бункерах из резины, которые
отбрасывают попавший в них снаряд обратно в место выстрела.
В конце декабря участник боёв полковник Н. Раевский
писал маршалу К. Ворошилову: «Я переживаю позор, когда узнаю,
что нашу доблестную Красную Армию белофинские бандиты
окружали и пытаются ещё окружить. Подумать только, что
горсточка, козявка белофинских банд окружает войска Красной
Армии...». В феврале 1940 г. И. Сталин отстранил Ворошилова от
руководства боевыми действиями и передал командование
маршалу С. Тимошенко.
11 февраля Красная армия начала генеральное наступление
по всему фронту. Перед этим был создан мощный ударный
«кулак». На некоторых участках советские войска имели
25-кратное превосходство в живой силе. После многодневных
ожесточённых боёв Красной армии удалось прорвать линию Маннер-
гейма. Это означало решающий перелом в военных действиях.
Вскоре после этого Финляндия согласилась на мирные
переговоры с Советским Союзом. 12 марта в Москве был подписан
мирный договор, который подвёл черту под 105-дневной войной.
Советская граница отодвинулась от Ленинграда на северо-запад,
СССР получил город Выборг и Карельский перешеек
Советский Союз одержал победу, однако Финляндии
удалось отстоять свою независимость. Москва восстановила
отношения с правительством в Хельсинки. Для «оставшегося без
работы» правительства О. Куусинена была создана новая советская
республика — Карело-Финская ССР. В мае прекратила
существование Финская народная армия. Что касается Карело-Финской
ССР, то её формально упразднили только в 1956 г.
Характерно, что многие русские эмигранты
рассматривали поход на Финляндию именно как «возвращение
собственности» Российской империи. Например, Павел Милюков во время
войны писал одному из своих друзей: «Мне жаль финнов, но мне
нужна Выборгская область».
В ходе военных действий финны потеряли убитыми 48 243
человека. Советские войска понесли значительно большие
потери, в том числе погибшими — 126 875 человек.
РОСПУСК КОМИНТЕРНА
Волна массовых арестов в 1937—1938 гг. не обошла и
иностранных коммунистов, проживавших в Советском Союзе. Как
правило, они искали здесь политического убежища и спасались от пре-
ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ
ИСПАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В июле 1936 г. в Испании началась
гражданская война. Военный мятеж
против республики поднял генерал
Франсиско Франко, пользовавшийся
сочувствием правительств Италии и
Германии. Советский Союз
поддерживал республиканское правительство, в
которое входили социалисты и
коммунисты.
В октябре СССР открыто заявил, что
будет оказывать военную помощь
Испанской республике. В течение двух лет
он передалей, по официальным данным,
648 самолётов, 347 танков, 1186 орудий,
20 тыс. пулемётов и почти 500 тыс.
винтовок. На стороне республиканских
войск сражалось около трёх тысяч
советских военнослужащих: танкисты,
лётчики, военные советники. Из них в боях
погибло 158 человек. Советский Союз
старался влиять на внутреннюю
политику испанского руководства, побуждая
его к беспощадной борьбе с
«троцкистами)) и анархистами.
Советская помощь испанским
республиканцам вызвала волну
революционно-романтических настроений в СССР,
особенно среди молодёжи. Сводки с
фронтов гражданской войны в
Испании читались с захватывающим
интересом. Многие студенты и школьники
мечтали отправиться туда и сражаться
с «фашистами», как в СССР называли
франкистов, на стороне Испанской
республики.
489
следований у себя на родине. Многие из них работали в
Коминтерне. В феврале 1937 г. И. Сталин сказал главе Коминтерна
болгарину Георгию Димитрову грозную фразу: «Все вы там, в
Коминтерне, работаете на руку противнику».
Среди других арестовали и расстреляли Бела Куна,
бывшего вождя Венгерской Советской Республики 1919 г. Были
арестованы почти все члены польской компартии, работавшие в
СССР, включая её руководство. Вскоре, в 1938 г., Коминтерн
объявил о роспуске этой партии как поражённой «троцкизмом и
двурушничеством». Арестовали почти всех руководителей
компартии Югославии, работавших в Коминтерне. Одним из
немногих уцелевших оказался Иосип Броз Тито, будущий президент
страны. «Я был один», — замечал он по этому поводу.
Одновременно с арестами продолжалось постепенное
затухание деятельности Коммунистического Интернационала.
Идея мировой революции, ради которой он создавался, была уже
давно подвергнута уничтожающей критике вместе с
«троцкизмом» и почти позабыта. Вышедший в 1938 г. «Краткий курс
истории ВКП(б)» ни единым словом не упоминал о ней.
Коминтерн в этой обстановке выглядел случайно сохранившимся
осколком прежней эпохи. Вполне логично, что следующим шагом
должен был стать его роспуск Решение об этом было принято в
Москве весной 1943 г.; официально о нём объявили 22 мая. Для
многих руководителей Коминтерна это известие оказалось
неожиданностью...
С роспуском Коминтерна лозунг мировой революции
почти бесследно исчез из идеологии Советского государства. О нём
могло напомнить теперь очень немногое: например,
традиционный девиз «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» в
заголовках всех советских газет или изображение земного шара,
включённое в герб Советского Союза.
ВОЕННЫЕ
ГОДЫ
939-1945
t>pi
о»<*°
***** ^«^
0N
aNNO
«to
.уо*^
vo^ moft'*1**1
^^ '^^^
^Ш^Ш^**"*
«Л*»**06
1^
a**
fl
o^N
с**°*
Ф
ссср во второй
мировой воине
ДОГОВОР О НЕНАПАДЕНИИ
В августе 1939 г. нацистская Германия завершала подготовку к
войне в Европе. Не желая воевать на два фронта, Гитлер
предложил подписать советско-германский договор о ненападении.
Договор обещал Советскому Союзу не только мир, но и
расширение западных границ.
До этого Советский Союз вёл переговоры с Англией и
Францией о создании «антигитлеровской коалиции». Внезапно эти
переговоры были прерваны, а 23 августа в Москву прибыл
министр иностранных дел Герма
нии Иоахим фон Риббентроп.
До тех пор, в течение
30-х гг., антифашизм был
официальной советской
политикой. Против фашизма и
нацизма выступали коммунисты во
всём мире. Поворот был
настолько неожиданным и
невероятным, что в Москве даже не
нашлось немецкого флага со
свастикой для встречи
высокого гостя. Флаг был взят из
съёмочного реквизита
антифашистских фильмов.
23 августа Иоахим
Риббентроп и Вячеслав Молотов
подписали Договор о
ненападении. В строго секретном
дополнительном протоколе к
нему говорилось о
разграничении «сфер интересов» в Вос-
Б. Ефимов. Карикатура на советско-
германский пакт. 1989 г.
493
ВОЕННЫЕ
ГОДЫ
«ЗА ЗДОРОВЬЕ ФЮРЕРА!»
23 августа 1939 г. во время встречи с
И. Риббентропом в Кремле Сталин
произнёс тост: «Я знаю, как немецкий
народ любит своего фюрера. Я хотел
бы поэтому выпить за его здоровье».
Второй тост Сталин произнёс за
Гиммлера, «человека, который
обеспечивает безопасность германского
государства». Представляя гостю
Л. Берию, Сталин шутливо сказал:
«Это наш Гиммлер».
Риббентроп немного позднее делился
впечатлениями со своим итальянским
коллегой: «Я чувствовал себя в
Кремле, как среди старых партийных
товарищей».
точной Европе. В советскую «сферу интересов» отходили
Эстония, Латвия, Правобережная Польша и Молдавия (позднее к
этому списку добавилась и Литва).
Сразу же, после того как договор был подписан,
прекратилась антифашистская кампания в советской печати. Зато Англию
и Францию теперь называли «поджигателями войны».
Председатель Совнаркома В. Молотов, выступая 31 октября
1939 г. перед Верховным Советом СССР, заявил: «Идеологию
гитлеризма, как и всякую другую идеологическую систему, можно
признавать или отрицать, это — дело политических взглядов. Но
любой человек поймёт, что идеологию нельзя уничтожить
силой, нельзя покончить с нею войной. Поэтому не только
бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война за
„уничтожение гитлеризма", прикрываемая фальшивым флагом
борьбы за демократию"».
«За здоровье фюрера!» Слева направо:
И. Риббентроп, В. Молотов, И. Сталин.
Современный рисунок.
494
СССР ВО ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ
ЛИКВИДАЦИЯ ПОЛЬШИ
1 сентября 1939 г., спустя
неделю после подписания
советско-германского договора,
Германия напала на Польшу.
Началась Вторая мировая
война.
8 сентября Вячеслав
Молотов поздравил Гитлера с
«успехами» в Польше. 17
октября в 5 часов утра Красная
армия перешла границу и
заняла Правобережную Польшу.
На следующий день «Правда»
напечатала
советско-германское заявление о том, что
войска двух стран
«восстанавливают в Польше порядок и
спокойствие, нарушенные
распадом польского государства».
Советский поэт Василий
Лебедев-Кумач сочинил об
этом такую частушку:
Совместный советско-германский военный парад в Бресте. 1939 г.
Панской Польши нету больше.
Хитрой ведьмы нет в живых,
Не захватит в лапы Польша
Наших братьев трудовых!
Вячеслав Молотов так
говорил об этом событии 31
октября: «Оказалось достаточно
короткого удара по Польше со
стороны сперва германской
армии, а затем — Красной
армии, чтобы ничего не осталось
от этого уродливого детища
Версальского договора...».
22 сентября 1939 г. в
Бресте состоялся совместный
советско-германский военный
парад. Вновь рядом были
подняты государственные
флаги — советский с серпом и
молотом и немецкий со
свастикой. Парад принимали
комбриг С. Кривошеий и
генерал X. Гудериан.
Германские солдаты угощают красноармейцев сигаретами во время
встречи на линии раздела Польши. 20 сентября 1939 г.
495
ВОЕННЫЕ
ГОДЫ
Генерал X. Гулериан и комбриг
С. Кривошеий во время советско-
германского парада. Брест. 1939 г.
РАССТРЕЛ В КАТЫНИ
Польские войска почти не сражались
против Красной армии. Тем не менее в
советском плену оказались около
130 тыс. польских солдат и офицеров.
Часть из них отпустили домой,
часть — передали Германии.
Остальных, в основном офицеров,
разместили в лагерях НКВД для
военнопленных. Офицеры требовали
освобождения, ссылаясь на то, что.
Советский Союз Польше войну не объявлял.
Не скрывали они и своей
враждебности к Германии. Весной 1940 г., чтобы
«закрыть вопрос», решено было
ликвидировать большинство пленных
польских офицеров.
В апреле — мае 1940 г. они были
расстреляны, причём значительная
часть — в Катынском лесу под Смолен-
ПРИСОВДИНЕНИЕ ПРИБАЛТИКИ
К концу 30-х гг. из стран Прибалтики (Литвы, Латвии и Эстонии)
лишь в Эстонии сохранялась относительно свободная
политическая система. Государственный строй Латвии, например, один из
её министров в январе 1940 г. обрисовал так: «Нашей судьбой
руководит Президент Карлис Ульманис, Вождь нашего народа...
Никогда не вопрошайте: „Почему и отчего?". Преданный человек
ответит без промедления, как воин: „Слушаюсь, я исполню"».
Впрочем, даже единоличное правление Ульманиса не было
слишком жёстким: ему ставили в заслугу, что он не казнил ни одного
человека.
Советско-германский договор отдал Литву, Латвию и
Эстонию в «сферу интересов» СССР. В сентябре — октябре по
требованию Советского Союза эти страны заключили с ним «договоры о
взаимопомощи». В Прибалтику вошли части Красной армии.
Министр иностранных дел Литвы Юозас Урбшис вспоминал-.
«Тысячи литовцев проснулись однажды утром от нарастающего
рокота моторов. Но никакого кровопролития не было. Советских
воинов встречали с цветами, хлебом-солью. Советские солдаты
удалились в места расквартирования и просто не напоминали о себе.
Конечно, было бы смешно утверждать, что все литовцы с
восторгом отнеслись к происшедшему. Но всё же тогда, в 1939 году, была
атмосфера дружелюбия».
На советских солдат
большое впечатление произвели
заполненные товарами прилавки
магазинов. Они говорили, что,
вероятно, «народ здесь живёт
бедно, раз не может скупить
все товары, которые есть в
магазинах».
Спокойствие сохранялось
до лета 1940 г. Из
воспоминаний Ю. Урбшиса: «Где-то в
конце мая 1940 г. ко мне в
министерство заходит советский
генерал, рассказывает, что
несколько советских
военнослужащих были завлечены в
какой-то подвал, где их
некоторое время продержали. МВД
республики провело
расследование и... пришло к выводу, что
происшедшее — утка».
Основываясь на
нескольких подобных обвинениях,
советское правительство
предъявило ультиматумы — Литве
(14 июня), Латвии (15 июня) и
496
СССР ВО ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ
\
1%
Прелвыборная лемонстраиия сторонников компартии Латвии. Рига. 15 июля 1940 г.
Фото «Улыитайн».
Эстонии (16 июня). Требования всюду были одни и те же:
отставка правительства и дополнительный ввод советских войск
Прибалтийские страны приняли все условия ультиматумов. Для того
чтобы утвердить состав новых правительств, из Москвы в
Эстонию был послан Андрей Жданов, в Латвию — Андрей Вышинский,
в Литву — Владимир Деканозов.
Примерно через месяц в трёх странах состоялись выборы в
парламенты. Голосовать на выборах можно было за
единственный официальный список «трудового народа» — с одинаковыми
программами во всех трёх республиках.
«Голосовать приходилось,
так как каждому избирателю в
паспорт ставился штамп.
Отсутствие штампа удостоверяло,
что владелец паспорта — это
враг народа, уклонившийся от
выборов и тем самым
обнаруживший свою вражескую
сущность», — писал о выборах
1940 г. в Прибалтике очевидец
событий лауреат Нобелевской
премии по литературе Чеслав
Милош.
В Риге 8 июля было
расклеено «Обращение
демократических латышей». Оно почти
не отличалось от программы
официального «Блока
трудового народа». Но 9 июля оно
было отовсюду сорвано, а его
составители — арестованы. В
Эстонии один кандидат
оппозиции каким-то чудом попал в
списки, но сразу после
выборов его арестовали за
«уголовное преступление» и
отправили в лагерь на 15 лет.
ИтаШмЛшзэд.'
ском. Всего были казнены 21 857
офицеров.
Семьи всех расстрелянных (почти
60 тыс. человек) тогда же сослали в
Сибирь и Казахстан. О судьбе своих
мужей и отцов они пока ничего не
знали. Лишь в 1943 г., когда немцы
обнаружили их могилы в Катынском лесу,
слухи об этом стали доходить до
родных. Вплоть до 1989 г. Советское
правительство утверждало, что в
расстреле поляков виновны германские
власти. Затем оно признало, что расстрел
произвели сотрудники НКВД по
приказу высшего руководства.
Офицер 3. Пешковский, бывший в
советском плену и уцелевший, написал о
Катынском расстреле стихотворение
«Молитва»:
Матерь Божья,
сгражлушая и побежлаюшая,
Ты, что стояла
на Голгофе у креста Иисусова,
Я знаю,Ты побывала
и в лесу Катынском...
Ты вплела, как рял за рялом
палали они в землю,
Словно зёрна пшенииы,
Из которых взойлут
хлеба силы наролной,
Ты баюкала их тишиною леса,
Что и поныне стоит онемелый.
А ловелось ли Тебе
увилеть и тех, кто стрелял,
Кто выполнял
нечеловеческий этот приказ?
Ты их хорошо разглялела?
И простила их всех?
Аа, поступить иначе Ты не могла.
Ты помнила слова,
сказанные Сыном Твоим:
«Прости им, Отеи,
ибо не велают, что творят».
Так помоги же
и нам их простить.
Аминь.
(Перевол С. Ларина.)
Литовские войска вступают в город
Вильно (Вильнюс), переданный Литве
по советско-литовскому договору.
10 октября 1939 г.
497
ВОЕННЫЕ
ГОДЫ
П@Д ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
-ВПЕРЕД К ПОБЕДЕ!
Плакат 1941 г.
МАССОВЫЕ ВЫСЫЛКИ
Аресты и высылки начались в
Прибалтике ешё до проведения выборов под
советским контролем. Но особенно
широкий размах массовые депортации
приобрели в июне 1941 г., перед
самым началом войны.
Высылали в первую очередь
чиновников, офицеров, священников,
учителей. 14 июня 1941 г. из Латвии,
Эстонии и Литвы были депортированы
десятки тысяч людей. Высылали семьями,
при этом главы семей отправлялись в
лагеря, а семьи — в ссылку. Лишь на
вокзале они узнавали о предстоящем
расставании.
Кое-где высылки привели к
вооружённому сопротивлению местных жите-
До окончания выборов ни в программах, ни устно ни слова
не говорилось о возможном присоединении к Советскому
Союзу. Некоторых коммунистов, которые по наивности намекали на
это, строго одёргивали. Кое-где прямо объясняли, что лозунг
присоединения к СССР может привести к организованному
бойкоту и срыву выборов.
Но как только выборы состоялись, присоединение Литвы,
Латвии и Эстонии к СССР оказалось вдруг единственно
допустимым и не подлежащим обсуждению.
Залы заседаний новоизбранных «парламентов» уже были с
особой торжественностью украшены портретами И. Сталина и
В. Ленина, советскими гербами. На первом же заседании эти
парламенты единогласно приняли решение войти в состав
Советского Союза.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВОЙНЫ
В июне 1941 г. многое указывало на то, что Германия
развернула подготовку к войне против Советского Союза. К границе
подтягивались немецкие дивизии. О подготовке войны стало
известно из донесений разведки. В частности, советский разведчик
Рихард Зорге сообщил даже точный день вторжения и количество
дивизий противника, которые будут заняты в операции.
В этих тяжёлых условиях советское руководство
стремилось не дать ни малейшего повода для начала войны. Оно даже
разрешило «археологам» из Германии разыскивать «могилы
солдат, погибших в годы Первой мировой войны». Под этим
предлогом немецкие офицеры
открыто изучали местность, намечали
пути будущего вторжения.
13 июня 1941 г. было
опубликовано знаменитое
официальное заявление ТАСС.
В нём опровергались «слухи о
близости войны между СССР и
Германией». Такие слухи
распространяют «поджигатели
войны», которые хотят
поссорить две страны, говорилось в
заявлении. На самом деле
Германия «также неукоснительно,
как и Советский Союз,
соблюдает пакт о ненападении».
Немецкая печать обошла
это заявление полным
молчанием. Министр пропаганды
Германии Йозеф Геббельс
записал в своём дневнике:
«Сообщение ТАСС — проявление страха.
Сталина охватывает дрожь
перед грядущими событиями».
БЕСТШЩАДН
РАЗГРОМИМ
УНИЧТОЖИМ
Кукрыниксы. Плакат, посвященный
нападению Германии на СССР.
24 июня 1941 г.
498
СССР ВО ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ
Й^л#*
Шт
«к
vjH&*?
Германские танки перехолят границу СССР.
22 июня 1941 г.
22 ИЮНЯ 1941 ГОДА
На рассвете 22 июня, в один из самых длинных дней в году,
Германия начала войну против Советского Союза. В 3 часа 30 минут
части Красной армии были атакованы немецкими войсками на
всём протяжении границы.
Спустя час после начала вторжения посол Германии в
Советском Союзе граф фон Шуленбург вручил В. Молотову
меморандум. В нём говорилось, что советское правительство хотело
«нанести удар в спину Германии», и потому «фюрер отдал вермахту
приказ воспрепятствовать этой угрозе всеми силами и
средствами». «Это что, объявление войны?» — спросил Молотов.
Шуленбург развёл руками. «Чем мы это заслужили?!» — горько
воскликнул Молотов.
Утром 22 июня московское радио передавало обычные
воскресные передачи и мирную музыку. О начале войны советские
граждане узнали лишь в полдень, когда по радио выступил
Вячеслав Молотов. Он сообщил: «Сегодня, в 4 часа утра, без
предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления
войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали
лей. Историк Георгий Фёдоров,
тогда красноармеец и очевидец событий,
вспоминал: «Стерпеть репрессии
верующая, католическая, не потерявшая
человеческого достоинства, главным
образом крестьянская, Литва не могла и
не хотела. Народ восстал, прежде всего
крестьянство, а оно составляло около
80% населения Литвы. Всё чаше, не
успевали энкавэдэшники ворваться в дом
ксендза или окружить хутор, как
начинали греметь выстрелы, из леса
появлялись защитники в деревянных башма-
ках-клумпасах и соломенных шляпах,
украшенных вечнозелёным цветком —
рутой, которая стала их символом, и тут
происходило нечто вроде шахматной
рокировки: энкавэдэшники отступали, а
мы выдвигались вперёд и завязывали
бой с партизанами».
499
ВОЕННЫЕ
ГОДЫ
НАПОЛЕОН ПОТЕРПЕЛ ПОРАЖЕНИЕ.
™ БУДЕТ И С ЗАЗНАВШИМСЯ
Плакат, иллюстрирующий речь
В. Молотова, произнесённую
22 июня 1941 г.
наши границы во многих местах и подвергли бомбёжке со своих
самолётов наши города».
«Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с
нападающим зазнавшимся врагом, — продолжал Молотов. — В своё
время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил
Отечественной войной, и Наполеон потерпел поражение, пришёл к
своему краху. То же будет и с зазнавшимся Гитлером...» Молотов
призвал к «отечественной войне за Родину, за честь, за свободу». Свою
речь он завершил знаменитыми словами: «Наше дело правое.
Враг будет разбит. Победа будет за нами».
Война против Германии получила в Советском Союзе
название Великой Отечественной войны. Войну против СССР вели
также союзники Германии — Румыния, Венгрия, Финляндия.
ПРАВДА
Все наши силы—на поддержку нашей
кроической Красной Армии, нашею славною
Красною Флота!
Вес силы народа-на рамром враш!
Вперед, за нашу победу!
Выступление по радио
Председателя Государственного Комитета Обороны
И. В. СТА Л И Н А.
ЗАЩИТИМ
Полоса газеты «Правда» с выступлением
И. Сталина от 3 июля 1941 г.
Б. Мухин. Плакат 1941 г.
500
СССР ВО БЮРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ
Б. Ефимов, Н. Долгоруков.
Плакат, иллюстрирующий слова
И. Сталина, сказанные 6 ноября 1941 г.
ПЕРВЫЕ НЕДЕЛИ ВОЙНЫ
22 июня немецкий генерал-полковник Ф. Гальдер записал в
служебном дневнике: «Наступление наших войск явилось для про^
тивника полной неожиданностью. Части были захвачены
врасплох в казарменном расположении, самолёты стояли на
аэродромах, покрытые брезентом, а передовые части, внезапно
атакованные нашими войсками, запрашивали командование о том, что им
делать».
Уже 22 июня немцы уничтожили более 1200 советских
самолётов, большую часть — на земле. Тем самым они обеспечили
себе полное господство в воздухе. Всего за первые сто дней
войны Красная армия потеряла 96% имевшейся авиации — более
8 тыс. самолётов.
В проекте советского Полевого устава 1939 г. говорилось:
«Если враг навяжет нам войну, Красная Армия будет самой
нападающей из всех когда-либо нападавших армий. Войну мы будем
вести наступательно, перенеся её на территорию противника». «И
на вражьей земле мы врага разобьём, малой кровью, могучим
ударом!» — вторил в стихах В. Лебедев-Кумач.
В первые дни войны советское руководство попыталось
следовать этим установкам. Вечером 22 июня в войска была
разослана директива начать «контрнаступление с выходом на
территорию противника». «К исходу 24 июня» требовалось «овладеть
районом Люблин».
Попытки выполнить этот приказ только ухудшали
положение. «Невообразимый хаос охватил русские армии», — сообщали
сводки вермахта 2 июля.
ГЕРОИ ПЕРВЫХ ДНЕЙ ВОЙНЫ
В начале войны, когда большая часть
советских войск в беспорядке
отступала, уже имелись отдельные случаи
упорного сопротивления. Самый
известный из них — оборона Брестской
крепости. Маленький гарнизон
крепости во главе с майором П. Гаврило-
вым был осаждён врагом. Бойцам не
хватало пиши, воды, боеприпасов. Но,
несмотря на это, долгие недели, до
середины июля, они продолжали
защищаться. «Я умираю, но не сдаюсь», —
написал кровью на камне один из
защитников крепости.
Всей стране стал известен подвиг
капитана Н. Гастелло. На пятый день
войны во время боёв под Минском он
направил свой подбитый и
загоревшийся самолёт на колонну немецких
танков. Гастелло погиб, как и члены
его экипажа.
501
ВОЕННЫЕ
ГОДЫ
П. Кривоногое.
«Защитники Брестской крепости».
БАБИЙ ЯР
Через несколько дней после
оккупации Киева по всему городу на стенах
домов немецкие военные власти
расклеили объявления без подписи: «Все
жиды города Киева и его окрестностей
должны явиться в понедельник 29
сентября 1941 года к 8 часам утра на угол
Мельниковской и Дохтуровской (возле
кладбиш) с документами, деньгами,
ценными вешами, тёплой одеждой,
бельём и прочим. Кто из жидов не
выполнит этого распоряжения и будет
найден в другом месте, будет
расстрелян. Кто из граждан проникнет в
оставленные жидами квартиры и
присвоит их веши, будет расстрелян».
Писатель Виктор Некрасов
вспоминал, что у его матери «было много
друзей-евреев. Мама их провожала. Где-
то у еврейского кладбища маму и
других провожающих, а их было много,
Немцы брали в «клещи» (окружали) и уничтожали целые
советские армии. Две армии оказались окружены под Белостоком
и Минском. В плен попали более 320 тыс. человек 28 июня
немцы взяли Минск.
Страх окружения, как вспоминал маршал К Рокоссовский,
«был настоящим бичом». Стоило раздаться крикам «Обходят!»
или «Окружили!», как начиналось беспорядочное бегство войск
3 июля генерал Ф. Гальдер заметил в своём дневнике: «Не
будет преувеличением сказать, что кампания против России
выиграна в течение 14 дней».
В этот день в первый раз после начала войны к советским
гражданам обратился И. Сталин. Своё выступление по радио он
начал совершенно непривычным обращением: «Товарищи!
Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам
обращаюсь я, друзья мои!».
502
После успокаивающих газетных сводок о ходе военных
действий впервые люди осознали размеры опасности. Сталин
сообщил, что противник захватил обширные территории — Литву,
часть Украины и Белоруссии.
«Враг жесток и неумолим, — сказал Сталин. — Он ставит
своей целью захват наших земель, политых нашим потом, захват
нашего хлеба и нашей нефти, добытых нашим трудом. Он ставит
своей целью разрушение национальной культуры и
национальной государственности свободных народов Советского Союза,
их онемечение, их превращение в рабов немецких князей и
баронов. Дело идёт, таким образом, о жизни и смерти народов СССР,
о том — быть народам Советского Союза свободными или впасть
в порабощение».
Сталин призвал к «всенародной Отечественной войне
против фашистских угнетателей».
503
ВОЕННЫЕ
ГОДЫ
Сбитый германский самолёт на главной
плошали города Юхнова. Калужская
область. 1941 г.
ОБОРОНА
ОДЕССЫ И СЕВАСТОПОЛЯ
В ходе наступления немецким войскам
удалось полностью отрезать Одессу и
Севастополь от остальной советской
территории. Но осаждённые города не
сдавались врагу.
Оборона Одессы продолжалась 73
дня. Только 16 сентября, получив
приказ, защитники погрузились на
корабли и оставили город.
ОТСТУПЛЕНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ
15 июля 1941 г. немцы ворвались в Смоленск, который
называли «воротами Москвы». Но здесь немецкая военная машина
впервые затормозила, встретив серьёзное сопротивление.
Только после двух недель боёв немцам удалось взять город.
Сражение под Смоленском продолжалось до 10 сентября.
Впервые советские войска нанесли немцам небольшое
поражение — отбили у них Ельню. Маленькая победа имела
огромное психологическое значение.
Четыре дивизии за эту первую победу были награждены
почётным званием гвардейских. Так 18 сентября 1941 г.
родилась Советская гвардия. «Всему начальствующему составу
дивизий с сентября установить полуторный, а бойцам двойной
504
Наступление германских войск.
Бои в одном из небольших населённых
пунктов на советско-германском фронте.
Осень 1941 г.
оклад содержания», — говорилось в приказе наркома обороны.
Немецкие войска стали замыкать в «клещи» Киев. Город,
расположенный на западном берегу Днепра, оборонять было
очень трудно. Однако И. Сталин приказал не отдавать его
врагу и защищать до последней возможности.
15 сентября смертельная петля вокруг Киева затянулась. В
«мешке» оказались четыре советские армии. Это была, пожалуй,
самая крупная победа германских войск в ходе войны. По
немецким данным, было взято в плен около 600 тыс. человек.
Погиб командующий фронтом генерал-полковник Михаил Кир-
понос. Немцы взяли Полтаву, Харьков, другие города и
продвинулись до самого Ростова-на-Дону.
Иначе сложилась ешё более упорная
оборона Севастополя. Осада длилась
целых 250 дней, до июля 1942 г.
Севастополь защищали все его жители,
которым в отличие от одесситов
организованно покинуть город не удалось.
Большая часть его защитников, до
конца продолжавших безнадёжный
бой, погибла. Остальные оказались в
плену.
За стойкую оборону Одесса и
Севастополь ешё во время войны получили
звание городов-героев.
505
ВОЕННЫЕ
ГОДЫ
Германские войска на Украине. 1941 г.
«Уличный бой». Фото Л. Бальтерманиа.
Уличные бои в Житомире. Подбитый
советский танк и германские
солдаты. 1941 г.
Т ->
t «*•'-
•
к>?ЛтА.-'
Бои под Киевом. Германские солдаты
и убитые красноармейцы на окраине
деревни. Сентябрь 1941 г.
В Красную армию вступают
женшины-доброволыхы.
1941 г.
ЗАПАДНЫЕ СОЮЗНИКИ
«Ближний бой». Фото А. Бальтерманиа.
Уже вечером 22 июня 1941 г.
английский
премьер-министр Уинстон Черчилль
выступил по радио с речью. Он
сказал: «За последние 25 лет
никто не был более
последовательным противником
коммунизма, чем я. Я не возьму
обратно ни одного слова,
которое я сказал о нём. Но всё
это бледнеет перед
развёртывающимся сейчас зрелищем.
Я вижу русских солдат,
стоящих на пороге своей родной
земли, охраняющих поля,
которые их отцы обрабатывали
с незапамятных времён. Я
вижу их охраняющими свои
дома, где их матери и жёны
молятся о возвращении
своего кормильца, своего
защитника и опоры. Я вижу десятки
тысяч русских деревень, где
средства к существованию с
таким трудом вырываются у
земли, но где существуют
исконные человеческие
радости, где смеются девушки и
играют дети...».
Нарисовав эту картину,
Черчилль заявил: «Мы окажем
всю возможную помощь
России и русскому народу».
И. Сталин, как бы отвечая
ему, в своей речи 3 июля
заметил: «В этой освободительной
войне мы не будем
одинокими. Наша борьба за свободу
нашего Отечества сольётся с
борьбой народов Европы и
Америки за их
независимость, за демократические
свободы. Это будет единый
фронт народов...».
Уже 12 июля Англия и
Советский Союз подписали
первое военное соглашение.
В СССР стала выходить еже-
508
ссср во второй
мировой войне
месячная английская газета на русском языке «Британский
союзник». Иногда в ней попадались и антисталинские
материалы.
К концу 1941 г. оформилась «тройка» главных союзников
в войне против Германии: Советский Союз, Англия и США.
В. Иванов. Плакат
«Возвращайтесь скорее на родину!».
ПЛЕН
Только в 1941 г., по немецким данным, в плен попали около
3 млн 800 тыс. советских военнослужащих. Их положение
оказалось самым тяжёлым. Писатель Лев Разгон замечал: «Все
невероятные муки, испытанные ими, были вызваны тем, что
наше правительство официально отказалось признавать
красноармейцев, попавших в плен, военнопленными, отказалось
вносить за них деньги в Международный Красный Крест.
Этим самым наши пленные были поставлены вне закона, вне
Женевской конвенции. Немцы могли с ними делать что
угодно. Они это и делали».
Германский офицер В. Штрикфельдт вспоминал лагеря
советских пленных: «Как привидения, бродили умиравшие с
голоду, полуголые существа, часто днями не видевшие иной
пищи, кроме трупов животных и древесной коры».
Из 5,7 миллионов советских пленных в немецких
концлагерях погибло более 3,5 миллионов. Некоторые (около
миллиона человек), чтобы спастись, согласились служить в
германской армии или армии Власова (см. ст. «Андрей Власов»).
И. Сталин как-то заметил: «У нас нет пленных, а есть
изменники Родины». В приказе № 270, подписанном И.
Сталиным 16 августа 1941 г., говорилось: «Командиров и
политработников, во время боя
сдающихся в плен врагу, считать
злостными дезертирами,
семьи которых подлежат аресту
как семьи нарушивших
присягу и предавших свою
Родину». Приказ требовал
уничтожать пленных «всеми
средствами, как наземными, так и
воздушными, а семьи
сдавшихся в плен
красноармейцев лишать государственного
пособия и помощи».
После войны оставшиеся
в живых пленные оказались в
советских проверочных
лагерях. После того как в 1948 г.
они закрылись, около 15%
бывших пленных попали в
обычные лагеря в качестве
заключённых.
ОСВОБОЖДЕННЫЕ СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ!
ВЫ ИЗБАВЛЕНЫ ОТ ГНЁТА ФАШИСТСКОЙ НЕВОЛИ-
АЙТЕСЬ СКОРЕЕ НА РОДИНУ
509
ВОЕННЫЕ
ГОДЫ
Жители Украины
встречают германских солдат.
1941 г.
Советские военнопленные. Лето 1942 г.
ОККУПАЦИЯ
А. Шмаринов. Плакат.
В ходе войны Германия
захватила огромные советские
территории, где жила почти
половина всего населения
страны — 80 млн. человек.
Немецкий офицер В. Штрик-
фельдт вспоминал о самых
первых месяцах оккупации:
«Бесконечные леса и ширь
просторов тогда ещё не таили
опасности. Везде в городах и
сёлах люди нас дружески при-
ветствовали и принимали.
Гитлер объявил, что немцы
идут как освободители. В
городах висели на стенах и
заборах портреты Гитлера (по
десятку и более наклеенных
подряд) с надписью: „Гитлер —
освободитель!"».
Но при этом официально
русский и другие славянские
народы продолжали считаться
«недочеловеками», и
отношение к ним было гораздо хуже,
чем к жителям
оккупированных стран Западной Европы.
Часть трудоспособного
населения вывозили для
принудительных работ в Германию.
Всего вывезли почти 5 млн
человек Они находились там на
положении «гражданских
пленных», и около половины
из них погибло.
Крестьянское население
больше всего волновал
вопрос, распустят ли немцы
колхозы. Но немцы не собирались
этого делать, быстро оценив,
насколько колхозы удобны
для изъятия у крестьян
продовольствия. Роспуск колхозов
был запрещён, труд в них
остался строго обязательным. За
невыработку трудодней
провинившихся отправляли в
концлагерь.
511
ВОЕННЫЕ
ГОДЫ
шИ.ВОЯ
ПОД ОТНОС!
5&>
А.;С£5
t*F У
*♦
н.
из
m
l*^
s-y
/ \ *
j£^
Г } Jk
V- *■■■*
1ЧЛ*Г •
Денисовский.
Плакат
серии «Окна ТАСС».
В. Аверин. Плакат 1941 г.
БЕспощадно уничтожать!
убийц наших детей!
Щ\1 [l'lj.!
ОККУПАНТАМ!
В. Пинжук. Плакат 1942 г.
СССР ВОВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ
А. Шмаринов. Плакат 1942 г.
ит mm б головой
Кукрыниксы. Плакат
«Долг платежом красен».
РОДИ НА-МАТЬ
И. Тоилзе. Плакат «Ролина-мать зовёт!».
ВОЕННЫЕ
ГОДЫ
ky "-■
i ■
1 i& S
\ "'^-^i
^H^^U
Твой труд в Германии
4 приближает
конец войны!
(^ ' ^ Betchreibtmgunueitig
Германский плакат, предназначенный для
оккупированных территорий.
С весны 1942 г. в немецком тылу стали стихийно возникать
партизанские отряды. Роли неожиданно поменялись: колхозное
начальство работало на немцев, а партизаны уговаривали
крестьян разваливать «фашистские колхозы» и всеми средствами
вредить им. Это обнадёживало крестьян. «После войны колхозов
не будет!» — откровенно говорили они между собой. Уверенно
повторяли это и солдаты на фронте.
Немцы, не ожидавшие такого развития событий, пытались
покончить с партизанами жестокими карательными мерами.
Например, в белорусской деревне Хатынь 22 марта 1943 г.
немецкие каратели сожгли заживо и расстреляли 149 человек, в
том числе 75 детей. В деревне Борки под Брестом в сентябре
1942 г. они расстреляли 705 человек
Но всё это только ещё более усиливало ожесточение
против оккупантов. Партизанская война разгоралась. В течение
войны всего в партизанах побывали до 900 тыс. человек
Высаживая в тылу у немцев десантные группы, советские власти
постепенно полностью подчинили себе партизанское движение.
На оборонном заводе в Ленинграде.
Рабочие собирают пулемёты. 1943 г.
БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА
В августе германские войска
начали мощное наступление
на Ленинград. 30 августа
1941 г. город оказался в
«клещах» окружения. Немцы
перерезали железную дорогу
Москва — Ленинград, а 8 сентября
взяли Шлиссельбург и
окончательно окружили город с суши.
Кровопролитные бои
шли уже на южных окраинах
Ленинграда, на Пулковских
высотах. После нескольких
неудачных попыток наступления
Гитлер предпочёл сменить
тактику. Он сказал: «Этот город
надо уморить голодом.
Перерезать все пути подвоза, чтобы
туда мышь не могла
проскочить. Нещадно бомбить с
воздуха, и тогда город рухнет, как
переспелый плод».
Начались постоянные
бомбёжки города. За время
514
блокады немцы обрушили на
Ленинград 100 тыс. бомб и
150 тыс. снарядов. Во всём
городе, вероятно, не осталось ни
одного целого стекла.
К началу осады из
Ленинграда вывезли только очень
небольшую часть жителей
(менее 500 тыс.). Около 2,8 млн
человек не успели уехать. В
осаждённом городе осталось более
400 тыс. детей.
Самой тяжёлой оказалась
первая блокадная зима. Не
было электричества, и почти
весь город погрузился во тьму.
Дома не отапливались. В
январе перестал работать
водопровод, и воду приходилось брать
из прорубей.
Осаждённый Ленинград
оказался почти без запасов
продовольствия. Хлеб
доставляли теперь только по воздуху
и по ледовой дороге через
Ладожское озеро. Грузовики шли
по льду под постоянными
бомбёжками, поэтому этот путь
прозвали «Дорогой смерти»
(позднее появилось другое
название — «Дорога жизни»).
Жительница города Елена
Кочина записала в своём
дневнике 15 ноября: «Надвигается
голод! Развилась своеобразная
ленинградская кулинария: мы
научились делать пышки из
горчицы, суп из дрожжей,
котлеты из хрена, кисель из
столярного клея».
С 20 ноября ежедневная
норма хлеба для рабочих
составляла всего 250 г, для
служащих, иждивенцев и детей —
вдвое меньше. «Это совсем
маленький кусочек: тяжёлый,
липкий, сырой, — замечала Е.
Кочина. — Хлеб содержит всякую
дрянь и лишь немного муки».
10 декабря она сделала такую
Блокадный Ленинград. Жители города
собирают урожай капусты с огородов
у стен Исаакиевского собора.
fesx^
515
ВОЕННЫЕ
ГОДЫ
Блокадный Ленин фал. Войны санитарной
дружины подбирают раненого на одной
из городских улии. 1941 г.
пнииАа
%^
Ленинград после окончательного
освобождения Красной армией.
27 января 1944 г.
Ленинградский фронт.
Красноармеец на боевой позиции
устанавливает орудие. 1942 г.
J5*-лЗ
СССР ВО ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ
В. Кореикий. Плакат, посвященный
записи в народное ополчение. 1941 г.
Разрушенные здания на Суворовском
проспекте после бомбардировки gg
Ленинграда. 1943 г.
ВОЕННЫЕ
ГОДЫ
UJU.1
ЧЦимг^ь~й*11н
**ffj
'.. .....]
Невский проспект
в лни блокады
Ленинграда. 1942 г.
А. Пахомов.
«На Неву за волой».
запись: «Почти все
ленинградцы стали дистрофиками.
Одни распухли и блестят, как
будто покрыты лаком, — 1-я
степень дистрофии, другие
высохли — 2-я степень».
В конце декабря хлебная
пайка стала почти вдвое
тяжелее — к этому времени
значительная часть населения
погибла. Многие от слабости
падали и умирали прямо на
улицах. Весной 1942 г. при таянии
снега на улицах и площадях
нашли около 13 тысяч трупов
(«подснежников», как их тогда
называли). Власти
зарегистрировали более 250 случаев
людоедства, а на рынках
стали торговать сомнительным
студнем.
Педагог Л. Раскин,
выступая перед коллегами в 1946 г.,
вспоминал о положении детей,
оставшихся без родителей:
«Дети лежали в постелях
истощённые с широко открытыми
глазами. Едва передвигались.
Ужас от перенесённого застыл
в глазах. Кожа лица, рук и тела
была непроницаема от грязи.
Вши ползали по исхудавшим
тельцам. Многие дети не
видели по 15—20 дней горячей
пищи, даже кипятка».
В то же время
руководители города, все приписанные к
столовой Смольного, а также
сотрудники НКВД получали
нормальное питание. На
самолётах в осаждённый город
доставлялись колбаса, сгущённое
молоко, даже
консервированные фрукты.
Во время блокады
продолжала работать особая
пекарня, где выпекались сдобные
булки, пирожные, белый хлеб.
В неофициальных беседах
ответственные работники объяс-
518
СССР ВО ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ
W
I
»л
в
I :£Ур£
I ЁГ<*
а*Ш&Ий
Разрушенный трамвай
на плошали Нахимова
после бомбардировки
Ленинграда.
^ВСЕ СИЛЫ НА ЗАЩИТУ
\ Л ГОРОДА
*■*■ t
m
If
ftfi
^^J ■ В ii 4^4
i ::'PM
А. Шмаринов. Плакат.
Один из залов Эрмитажа после
орудийного обстрела города.
Ленинград. 1942 г.
Пискарёвское мемориальное клалбише.
Памятник ленинградцам, погибшим во время блокалы.
Г^МКЕС-ТЧМгЖ+е-м-
"~|А МЛРОД БЛАГфЛЛРНЫ
ГЕРОЙ \Г-.КИНГР>
Шве**Ь*й&*«».1
няли ее существование тем,
что «пекари даже в условиях
блокады не должны терять
своего мастерства».
От голода во время
блокады погибло, по
официальным советским данным, около
642 тысяч человек По другим
оценкам — до 850 тысяч.
27 января 1944 г. блокада
города была окончательно
прорвана. В городе к этому
времени оставалось 560 тысяч
жителей — в пять раз меньше,
чем в начале блокады. Блокада
Ленинграда длилась 880 дней
и стала самой
кровопролитной осадой в истории
человечества.
ОБОРОНА МОСКВЫ
30 сентября 1941 г. началось
очередное наступление
германской армии. Немцы
применяли ту же тактику: замыкали
советские армии в танковые
«клещи».
Красная армия потерпела
новые сокрушительные
поражения. Две армии попали в
«мешок» окружения под Брянском
и четыре — под Вязьмой. В
плену оказались около 660 тыс.
человек
После этой катастрофы в
некоторых местах между
Москвой и наступающим
противником почти не осталось войск В
других — они были слабы и
малочисленны.
Дорога на Москву для
немцев была почти
свободна — столица неожиданно
оказалась без защиты. Наступили
самые грозные и тяжёлые дни
войны.
Но за две недели, пока
немцы уничтожали
окружённых, советский фронт был
построен заново. Сюда были бро-
520
'
шены последние сипы, в том числе созданные из добровольцев
части народного ополчения. Ополченцами становились мирные
люди — рабочие, служащие, интеллигенты. Необученные и
плохо вооружённые, почти все они погибли в первых же боях.
13 октября начались ожесточённые бои под Москвой. В
городе в это время разошлись слухи, что его готовятся сдать.
Началась настоящая паника: желающие уехать брали штурмом
уходящие на восток поезда. Часть населения пешком, на телегах или
машинах двинулась из города. Прекратил работать городской
транспорт, закрылись почти все магазины, в некоторых
оставшиеся продукты раздавали бесплатно.
15 октября в Куйбышев (ныне Самара) переехали большая
часть правительства и иностранные посольства. И. Сталин решил
пока остаться в Москве.
20 октября в столице было введено осадное положение.
Москва приобрела облик военного города: улицы пересекли
ряды «ежей» и других противотанковых заграждений.
В Начале НОЯбря В бОЯХ наступила небольшая переДЫШКа, к. Юон. «парад Красной Армии
и у И. Сталина появилась неожиданная мысль — провести тра- 7 ноября 1941 года».
521
ВОЕННЫЕ
ГОДЫ
Военный парад в Москве на Красной
плошали. 7 ноября 1941 г.
Фото А. Бальтерманиа.
ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ
В декабре 1941 г. в селе Петришево
пол Москвой немцы казнили за поджог
молодую партизанку, назвавшуюся
Таней. На самом деле её звали Зоей
Космодемьянской. Позднее из сообщений
прессы это имя узнала вся страна.
Зоя была дочерью «врага народа»,
поэтому её довольно долго не брали
на фронт, куда она добровольно
стремилась попасть. Наконец, в ноябре
1941 г. ей удалось добиться своего.
Незадолго до того, 17 ноября 1941 г.,
И. Сталин подписал приказ
«разрушать и сжигать дотла все населённые
пункты в тылу немецких войск» на
глубину до 40—60 км. Сёла жгли не
только зажигательными бомбами с
самолётов, но и орудийным огнём. Кроме
того, партизанские отряды поджигали
их бутылками с зажигательной смесью.
В один из таких отрядов и была
принята Зоя.
В первых числах декабря 3.
Космодемьянская пробралась в село
Петришево и подожгла три крестьянских
дома. В этих домах (как и во всём селе)
остановились немцы. При пожаре один
немей погиб. Через два дня Зоя
вернулась в село и попыталась поджечь ешё
один дом. Её схватили.
диционный военный парад. Как вспоминал маршал Г. Жуков,
1 ноября Сталин вызвал его и спросил: «Мы хотим провести в
Москве кроме торжественного заседания по случаю
годовщины Октября и парад войск. Как Вы думаете, обстановка на
фронте позволит нам провести эти торжества?». Жуков
отвечал: «В ближайшие дни враг не начнёт большого
наступления...».
Заседание по случаю годовщины Октября состоялось
6 ноября в необычном месте — в подземном зале станции
метро «Маяковская», одной из самых глубоких станций. На нём
выступил И. Сталин. В своей речи он высмеивал нацистов: «И
эти люди, лишённые совести и чести, люди с моралью
животных, имеют наглость призывать к уничтожению великой
русской нации, нации Плеханова и Ленина, Белинского и Черны-
В. Аени. Плакат.
mJt^/PXOXt
522
СССР ВО ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ
шевского, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского,
Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова,
Суворова и Кутузова!».
7 ноября на запорошённой первым снегом Красной
площади состоялся военный парад. Немцы, в том числе и сам Гитлер,
были неприятно поражены, услышав по радио, что на Красной
площади проходит парад. Германское командование срочно
отдало приказ своей авиации бомбить Красную площадь, но
немецкие самолёты не сумели прорваться к Москве.
Парад произвёл огромное впечатление и на советских
граждан. То, что И. Сталин присутствовал на параде в Москве и
приветствовал красноармейцев с трибуны мавзолея, вселяло в них
уверенность и бодрость. С Красной площади они шли прямо на
фронт. Вся страна по радио слушала речь Сталина на параде. В
ней он также обращался прежде всего не к коммунистическим, а
к патриотическим идеям.
«Война, которую вы ведёте, — сказал он красноармейцам, —
есть война освободительная, война справедливая. Пусть
вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих
предков — Александра Невского, Димитрия Донского,
Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова,
Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого
Ленина!»
Отстоять столицу было бы невозможно, если бы на
помощь не пришли свежие военные силы. В октябре под Москву
были переброшены части из глубины страны, в том числе с
Дальнего Востока.
Там они оставались на случай нападения Японии. Но
советский разведчик Рихард Зорге сообщил, что пока
«японское правительство решило
не выступать против СССР».
Это дало возможность
перевести под Москву новые
подкрепления, которые
защитили столицу.
Особенно прославилась в
боях прибывшая с востока
дивизия генерал-майора Ивана
Панфилова. 16 ноября у
разъезда Дубосеково на
Волоколамском шоссе горстка
бойцов-панфиловцев ценой своей
жизни четыре часа отбивала
танковые атаки. Немцы так и
не смогли пройти и потеряли
18 танков. Возглавлявший эту
группу политрук Василий
Клочков сказал слова, которые
стали впоследствии
своеобразным девизом всей обороны
Зоя призналась в том, что совершила
поджог, но на другие вопросы отвечать
отказалась. Она получила 200 ударов
ремнём, немцы заставляли её
несколько часов ходить по снегу босиком и
полураздетую, в одном белье. Но она
молчала.
На издевательский вопрос немца: «Где
Сталин?» — она ответила: «Сталин на
посту». Хозяйке дома, в котором её
допрашивали, она сказала: «Мне было
задание сжечь деревню».
Перед казнью немцы повесили ей на
шею табличку с надписью:
«Поджигатель домов». У виселицы собралась
большая толпа крестьян и немцев. Зоя
сказала: «Граждане! Вы не стойте, не
смотрите. Надо помогать воевать
Красной Армии. Эта моя смерть — это
моё достижение». Когда ей уже
надели на шею петлю, она крикнула:
«Сколько нас ни вешайте, но всех не
перевешаете! Нас 170 миллионов. За
меня вам наши товарищи отомстят!».
Из-под её ног выбили яшик. Она
провисела на виду у всей деревни
полтора месяца и была похоронена лишь при
отступлении немцев.
Наблюдательницы московских ВВС
на крыше здания.
523
Германское наступление на Москву.
столицы: «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва».
Газеты писали о подвиге, который совершили 28
героев-панфиловцев.
16 ноября немцы продолжили успешное наступление.
Германские генералы рассматривали Москву в бинокли.
Основной удар по Москве приходился с севера. Отряд немецких
мотоциклистов прорвался в Химки — на северную окраину
столицы — и там был уничтожен. Но это были первые и
последние солдаты противника, дошедшие до Москвы.
Тактика борьбы была направлена на изматывание
германских войск. Позади Москвы стояли три вновь
сформированные советские армии. Их готовились бросить в бой в
последний момент, когда противник будет более всего изнурён.
524
И вот в ночь с 5 на 6 декабря части Красной армии начали
мощное контрнаступление по всему фронту. Это было полной
неожиданностью для германского командования. Москва,
которую оно считало почти побеждённой, внезапно оказалась
недоступной. В ходе советского наступления к началу января
германские войска были отброшены на 100—250 км от столицы.
В течение декабря они потеряли убитыми свыше 120 тысяч
солдат и офицеров. Красная армия освободила от врага
Калугу и Калинин (Тверь).
12 декабря советские граждане услышали по московскому
радио первую победную сводку. Впервые они увидели, что
«непобедимая германская армия» терпит крупные поражения.
Увидел это теперь и весь мир.
525
ОТСТУПЛЕНИЕ КРАСНОЙ
АРМИИ В 1942 ГОДУ
После победы под Москвой
советское руководство решило,
что настало время решающего
удара. Казалось, германская
армия может повторить судьбу
«Великой армии» Наполеона,
разгромленной за одну зиму.
В январе 1942 г. сразу
девять советских фронтов
начали наступление на полосе
протяжённостью 2 тыс. км. Однако
почти повсюду оно обернулось
тяжёлыми поражениями.
Противник окружал и
громил наступавшие советские
армии. Так, под Ленинградом в
«мешке» оказалась 2-я ударная
армия генерала А Власова.
Полным провалом
закончилось апрельское
наступление в Крыму. Вместо того
чтобы освободить весь Крым,
советские войска отступили с
большими потерями (около
200 тысяч человек). 4 июля
пал осаждённый Севастополь,
стойко державшийся с самого
начала войны.
Одно из крупнейших
поражений советские войска
потерпели под Харьковом.
12 мая Красная армия
двинулась на город. Вначале
казалось, что наступление идёт
успешно. На самом деле
противник заманивал советские
войска в ловушку. Три армии
оказались в немецких «клещах».
Около 240 тыс. человек попали
в плен.
В Москве считали, что
главный удар противника
летом 1942 г. будет вновь нанесён
по столице. На самом деле
Гитлер решил наступать в этот раз
на южном направлении.
Лишить Советский Союз бакин-
СССР ВО ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ
ской нефти и кубанского хлеба, выйти к Волге — таковы были его
планы.
28 июня началось движение германской армии на восток
Перейдя Дон, немцы заняли Ростов и вышли к Кавказу. Здесь они
дошли до перевалов Главного Кавказского хребта. В августе
немецкие альпинисты даже поднялись на Эльбрус, самую высокую
вершину Кавказа, и установили там флаг со свастикой.
Эти новые поражения произвели очень тяжёлое
впечатление на советских граждан. Ещё никогда за сотни лет враг не
проникал так далеко в глубь страны.
ПРИКАЗ «НИ ШАГУ НАЗАД!»
28 июля 1942 г. И. Сталин подписал знаменитый приказ № 227
наркома обороны, известный под названием «Ни шагу назад!». В
нём говорилось: «Мы потеряли более 70 миллионов населения,
более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов
тонн металла в год. У нас нет уже теперь преобладания над
немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать даль-
Германские войска во время летнего наступления 1942 г.
Украина. Немецкие танки на марше.
\
Ш
Германский плакат
для оккупированных территорий.
ВОЕННЫЕ
ГОДЫ
Юный разведчик в окрестностях
Новгорода. Фото М. Трахманна. 1943 г.
ше — значит загубить себя и
загубить вместе с тем нашу Родину...
Поэтому надо в корне пресекать
разговоры о том, что мы имеем
возможность без конца
отступать, что у нас много
территории, страна наша велика и богата,
населения много, хлеба всегда
будет в избытке».
Приказ зачитывался во всех
воинских частях, и особенно
сильное впечатление на
фронтовиков производили слова:
«Население нашей страны, с любовью
и уважением относящееся к
Красной Армии, начинает
разочаровываться в ней, а многие
проклинают Красную Армию за
то, что она отдаёт наш народ под
ярмо немецких угнетателей, а
сама утекает на восток».
«Ни шагу назад! —
говорилось в приказе. — Таким теперь
должен быть наш главный
призыв. Надо упорно, до последней
капли крови защищать каждый
клочок советской земли и
отстаивать его до последней
возможности».
Затем приказ перечислял
беспощадные меры, которые
должны были остановить
отступление. Командиров,
отступивших без приказа, отдавали
под трибунал. Создавались
также штрафные роты и
батальоны. Их бросали на самые
тяжёлые и опасные участки, «чтобы
дать им возможность искупить
кровью свои преступления
перед Родиной».
В тылу «неустойчивых
дивизий» создавались
заградительные отряды, которые были
обязаны «в случае паники и
беспорядочного отхода частей
дивизии расстреливать на месте
паникёров и трусов». Эти заградот-
ряды действовали почти до
конца войны — до ноября 1944 г.
528
СССР ВО ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ
СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА
Свой следующий удар немцы
собирались нанести по
Сталинграду (бывшему Царицыну) и
выйти к Волге. А Гитлер говорил
в августе 1942 г.: «Судьбе было
угодно, чтобы я одержал
решающую победу в городе, носящем
имя самого Сталина».
17 июля 1942 г. началось
Сталинградское сражение —
самое крупное сражение
Второй мировой войны. С обеих
сторон в нём предстояло
погибнуть более чем двум
миллионам человек
За месяц тяжёлых боёв
противник продвинулся на
70—80 км. 23 августа
германские танки ворвались в
Сталинград. В тот же день началась
бомбёжка города с самолётов.
Она длилась без перерыва
несколько дней.
Город напоминал
настоящий ад. Генерал Александр
Родимцев так описывал
осаждённый Сталинград: «Пламя
пожаров поднималось на
несколько сот метров.
Фашистские самолёты пролетали над
головой. Не только земля, но и
небо дрожало от разрывов.
Тучи дыма и пыли резали глаза.
Здания рушились, падали
стены, коробилось железо».
Вывозили мирных
жителей перед началом сражения
очень медленно, и они
оставались в городе до последнего
момента. Теперь им
приходилось с трудом выбираться из
океана пламени, в которое
превратился город. Многие из них
погибли.
Город решено было
удержать любой ценой. Приказ
И. Сталина от 5 октября гласил:
«Сталинград не должен быть
сдан противнику». Газеты, как
Красноармейцы во время передышки
между боями. Слева направо: армянин,
азербайджанец, украинец и русский.
Апрель 1942 г.
Вид на развалины Сталин фала.
Октябрь 1942 г.
529
ВОЕННЫЕ
ГОДЫ
:ШШ&'
Под Сталинградом.
Фото А. Бальтерманиа.
лозунг, повторяли слова снайпера Василия Зайцева: «За Волгой
для нас земли нет!».
Бои в самом городе продолжались более двух месяцев. В
военной истории почти неизвестны столь упорные городские
сражения. Каждый дом превращался в крепость, и бой шёл за каждый
этаж или подвал, за каждую стену.
Это была битва на истощение, причём боевой дух немецких
солдат и офицеров в ходе её заметно слабел. Противник трижды
шёл в наступление на город — в сентябре, октябре и ноябре.
Каждый раз немцам удавалось прорваться к Волге в новой точке.
Казалось, ещё одно небольшое усилие — и Сталинград будет взят.
Однако окончательная победа ускользала из их рук
К ноябрю немцы захватили почти весь город, обращенный в
Кукрыниксы. Плакат, посвященный
победе пол Сталинградом.
«А. Гитлер: „Потеряла я колечко..."». Разрушения в Сталинграде. Октябрь 1942 г.
530
СССР ВО ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ
для немцев
мешки"-
кмщн
сплошные развалины. От реки
их отделяла только узкая,
местами прерывающаяся полоска
земли. Ширина этой «ниточки»
измерялась сотнями метров.
Именно в это время
тяжёлого отступления и обороны у
советского руководства
появился неожиданный замысел. Он
состоял в том, чтобы ударить с
флангов по немецкому «клину»,
наступающему на Сталинград.
Там находились войска
германских союзников — итальянцев,
румын, венгров. Они были
слабее вооружены, их моральный
дух был не столь высок, как у
немцев.
В течение двух месяцев
под Сталинград в глубочайшей
тайне перебрасывались огромные массы советских войск и
техники. «Будет и на нашей улице праздник!» — пообещал Сталин в
приказе от 7 ноября.
19 ноября Красная армия начала наступление. Войска
союзников Германии были опрокинуты. 23 ноября советские
«клещи» замкнулись. Сержант М. Абдулин вспоминал об этом
соединении: «Сгоряча, не разобравшись, что фашистов между нами
уже нет, потрепали огоньком... друг друга. Потом мне, как и
многим, казалось, что я сразу заметил неладное: мины летели к нам
без воя, взрывы были бездымные... Кто-то всё же разглядел, что
контратакующая нас масса живой силы — свои! Реакция была
молниеносной, хотя запоздалой. Все прекратили огонь. Бежим
навстречу друг другу — и только скрип снега под ногами, такая
тишина!
„Братцы! Родные!" — „Как же это, а?!" Обнимались и плакали,
потому что и убитые были, и раненые».
В «мешке» оказалась вся сталинградская группировка
немцев: около 300 тыс. солдат и офицеров.
Немцы отчаянно пытались разбить кольцо советского
окружения, но так и не сумели это сделать. Гитлер присвоил
командующему окружённой группировкой Фридриху фон Паулюсу звание
генерал-фельдмаршала. Это был намёк на то, чтобы не сдаваться в
плен живым: до сих пор ещё ни один немецкий фельдмаршал не
попадал в плен.
В январе 1943 г. окружённые немецкие войска были
разгромлены. 31 января сдался в плен фельдмаршал Паулюс со своим
штабом. 2 февраля сопротивление немцев прекратилось. Всего в плен
попала 91 тыс. человек, в том числе 24 генерала.
В Германии по поводу поражения под Сталинградом был
объявлен трёхдневный траур. Германская армия ещё не знала
таких катастроф.
В. Аени.
Плакат, посвященный окружению
и разгрому германских войск.
МАМАЕВ КУРГАН
В Сталинградском сражении особенно
кровопролитные бои шли за Мамаев
курган — господствующую над
городом высоту. Много раз курган
переходил из рук в руки. В конце сражения он
был весь усеян осколками и залит
кровью.
В 1967 г. на Мамаевом кургане
установлена самая высокая статуя в
мире — «Родина-мать» (создатель —
скульптор Евгений Вучетич). Её
высота — 82 метра.
531
ВОЕННЫЕ
ГОДЫ
г: 1'#жГ
Разрушения в Сталинграде
Разрушенный вхол на территорию завода «Красный Октябрь».
Сталин фал. 1943 г.
Немецкие солдаты на разрушенном Сталинградском тракторном заводе.
СССР ВО ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ
Немецкие солдаты на отдыхе.
ШС'ГЩ'.
•К:'Ж
Немецкие солдаты на развалинах
Сталинградского тракторного завода.
ВОЕННЫЕ
ГОДЫ
>г
h
Sffilik/'
ПЕРВЫЙ САЛЮТ
5 августа 1943 г. Красная армия вошла в
города Орёл и Белгород. В честь
одержанной победы в Москве в тот же день был
произведён первый торжественный
артиллерийский салют.
Это было возобновление ешё одной
дореволюционной традиции (наряду с
введением погон, генеральских званий и т. п.).
Орудийные салюты давались по случаю
взятия городов, побед в сражениях.
Сначала победные салюты звучали в среднем раз
в месяц, потом—примерно каждую
неделю. В конце войны они бывали порой и
несколько раз в день, вплоть до Салюта
Победы.
Советские граждане ежедневно с
нетерпением ожидали, когда звучный голос
знаменитого диктора Юрия Левитана прочтёт
очередные победные сводки, вслед за
которыми последует орудийный салют.
«Улары балтийских лётчиков по кораблям врага». Плакат 1944 г.
СРАЖЕНИЕ НА КУРСКОЙ ДУГЕ
Линия фронта шла неровно, и возле Курска, где советские войска
дальше продвинулись на запад, возник образованный ими
большой выступ — Курская дуга.
Сюда летом 1943 г. нацелили удар немцы. Они решили
применить здесь свою излюбленную тактику военных действий.
Мощными танковыми клиньями они хотели отсечь этот выступ
и взять его в окружение.
Разведка донесла Москве об этих планах. Советское
командование беспокоил вопрос: «Устоит ли Красная армия перед
немецким танковым ударом?». Решено было создать на Курской дуге
необычайно крепкую оборону. На десятки километров
протянулись минные поля, окопы и траншеи.
Кроме того, в тылу воюющих армий была создана небывало
мощная группировка — Степной фронт, готовый вмешаться в тот
момент, когда немецкое наступление выдохнется.
534
СССР ВО ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОИНЕ
Рано утром 5 июля 1943 г. немецкие войска двинулись в
атаку. На Красную армию обрушился самый мощный танковый удар
за всю войну. Сила его была такова, что, казалось, советская
оборона вот-вот будет прорвана. Противник продвинулся в
некоторых местах на 10 км, в других — на 35.
Но в этот момент немцам нанесли удар свежие силы
Степного фронта.
12 июля возле небольшой деревни Прохоровка лоб в лоб
схлестнулись 1200 бронированных машин. Началось самое
крупное танковое сражение в истории. Оно длилось весь день. Ревели
моторы, грохотали выстрелы, взрывались танки.
От облаков пыли, копоти и дыма горящих машин день
превратился в ночь. К вечеру всё кругом было покрыто сгоревшими
и изуродованными остатками танков.
Эта битва истощила силы немцев, и они откатились на
прежние позиции. Теперь в наступление перешла Красная армия.
5 августа она окончательно освободила от врага Орёл и
Белгород, 23 августа — Харьков. Так закончилась Курская битва.
НАСТУПЛЕНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ
Теперь Красная армия только наступала — то на одном, то на
другом участке фронта.
В конце сентября 1943 г. советские войска вышли к Днепру.
Им было приказано не задерживаясь переправиться через бур-
Н. Жуков.
«Подвиг Александра Матросова».
Рядовой штрафного батальона
А. Матросов погиб, бросившись
на немецкую амбразуру
и закрыв её своим телом.
Имя А. Матросова было упомянуто
в приказе И. Сталина
и стало широко известно.
Такой же подвиг до Матросова
и после него совершили десятки и сотни
красноармейцев.
Кукрыниксы.
«Бегство фашистов из Новгорода».
535
ВОЕННЫЕ
ГОДЫ
.п -
25Е
ную реку. Её приходилось преодолевать на рыбачьих лодках,
наскоро сколоченных плотах, досках, пустых бочках. Противник
вёл огонь с западного, крутого берега. Немногим довелось
добраться до него. Но здесь советские части цеплялись за каждый
клочок земли и всё-таки сумели закрепиться.
Благодаря этой победе открылся путь на Киев. 6 ноября, к
Октябрьской годовщине, он был освобождён от врага. 26 марта
1944 г. на Украине советские войска вышли к первой точке
довоенной границы СССР. Это событие стало большим праздником,
который отмечали по всей стране.
23 июня 1944 г. началось наступление в Белоруссии. 3 июля
Красная армия вошла в Минск. От города остались сплошные
развалины. В тот же день под Минском в советских «клещах»
оказались 100 тыс. немцев.
После того как в Белоруссии было взято большое
количество пленных, в Москве решили провести необычный «парад». В
столицу доставили 57 тыс. пленных немецких солдат и офицеров.
Среди них были 12 генералов. 17 июля в сопровождении
конвоиров они прошли по московским улицам, по Садовому кольцу. Это
было впечатляющее зрелище, за которым наблюдала молчаливая
толпа жителей столицы.
Весной и летом 1944 г. Красная армия отвоевала почти всю
захваченную советскую территорию. 13 октября немцы оставили
Ригу — один из последних крупных городов.
Предвоенная советская граница была восстановлена почти
на всём своём протяжении. Бои теперь шли на земле других стран
Европы.
На четырёх снимках изображена колонна
пленных немцев, проходящих пол
конвоем по улицам Москвы.
17 июля 1944 г.
536
СССР ВО ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ
Пленные немецкие солдаты
в Сталинфале. 1943 г.
После битвы под Курском. Жители
города Амитровска-Орловского
встречают красноармейцев,
освободивших город- 1943 г.
ВОЕННЫЕ
ГОДЫ
Л. Налбандян.
«На Крымской конференции».
Уинстон Черчилль, Франклин Делано Рузвельт и Иосиф Сталин в дни работы Крымской конференции. Ялта. 1945 г.
СССР ВО ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ
ВСТРЕЧИ «БОЛЬШОЙ ТРОЙКИ»
За годы войны прошли три встречи высших руководителей
СССР, Англии и США. Довольно сложно было договориться о
месте их проведения. Сталин не хотел покидать территорию,
занятую Красной армией. Поэтому первая встреча «большой
тройки» состоялась в Тегеране, где тогда стояли советские
войска. Встреча началась 28 ноября 1943 г. и продлилась
четыре дня.
В Тегеран прибыли Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль и
президент США Франклин Делано Рузвельт. Главным вопросом
встречи было открытие так называемого «второго фронта»,
т. е. высадка союзников во Франции. В какой-то момент
Черчилль дал понять, что она может сорваться. Тогда Сталин
резко поднялся, оттолкнул кресло и сказал Молотову: «Идёмте,
нам здесь делать нечего. У нас много дел на фронте».
Положение спас Рузвельт, который предложил сделать
перерыв на обед. На следующий день он обещал Сталину, что
второй фронт откроется в мае 1944 г. (на самом деле это
произошло 6 июня 1944 г.).
Как вспоминал маршал Г. Жуков, Сталин сказал ему,
вернувшись из Тегерана: «Рузвельт дал твёрдое слово открыть
широкие действия во Франции в 1944 г. Думаю, что он своё
слово сдержит. Ну а если не сдержит, у нас хватит и своих сил
добить гитлеровскую Германию».
Второй раз «большая тройка» собралась в Крыму, в
курортном городе Ялте. Встреча началась 4 февраля 1945 г. и
длилась восемь дней. Речь шла о судьбе Германии после войны.
Кроме того, были перекроены границы и заново «нарисована»
вся политическая карта Восточной Европы. Союзники признали
^йМ^ !§&£
ШяЫш^Макз
Здание в Потсдаме, в котором проходила
Берлинская конференция.
ЛЕНА-ЛИЗ
Ленл-лизом называлась американская
военная помощь союзникам.. США
передавали взаймы и в аренду
вооружение, боеприпасы, продовольствие.
Советский Союз за годы войны
получил 400 тыс. грузовиков для Красной
армии, 18 700 самолётов, 10 800
танков. Это составляло примерно 10—
12% всех советских самолётов и
танков в годы войны.
539
Участники Берлинской конференции за
столом переговоров. Потсдам. 1945 г.
ВОЕННЫЕ
ГОДЫ
Во время Берлинской конференции: У. Черчилль, Г. Трумэн и И. Сталин. Потсдам. 1945 г.
в то же время за народами
право «создать демократические
учреждения по их
собственному выбору».
Третья и последняя
конференция «большой тройки»
проходила в Потсдаме, возле
побеждённого Берлина. Эта
встреча была самой
длительной — началась 17 июля 1945 г.
и продолжалась 17 дней.
Состав «большой тройки»
изменился — вместо умершего
12 апреля Рузвельта Америку
представлял Гарри Трумэн. В
разгар встречи Черчилля
сменил лидер лейбористов
Клемент Эттли — в Англии его
партия победила на выборах.
Берлинская встреча уточнила
границы в Европе и будущее
Германии.
На этой встрече
произошло ещё одно примечательное
событие. 24 июля Трумэн
получил известие об успешном
испытании американской
ядерной бомбы. После
заседания он отвёл Сталина в
сторону и сказал, что у США теперь
есть новое оружие,
превосходящее любое другое. Сталин
выслушал это сообщение
совершенно спокойно, ничего
не спросил и только поздравил
президента.
Через две недели
американская атомная бомба была
взорвана над японским
городом Хиросимой.
Во время Берлинской конференции: К. Эттли, Г. Трумэн и И. Сталин. Потсдам. 1945 г.
540
СССР ВО ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ
ВАРШАВСКОЕ ВОССТАНИЕ
Режим немецкой оккупации в Польше был очень суровым: за
время войны из 35 миллионов жителей погибло б миллионов человек
Тем не менее с начала войны здесь действовало движение
Сопротивления, получившее название «Армия Крайова»
(«Отечественная армия»). Оно поддерживало польское правительство в
изгнании.
20 июля 1944 г. на территорию Польши вступили советские
войска. Немедленно было создано временное правительство
страны, руководимое коммунистами, — Комитет национального
освобождения. Ему подчинялась Армия Людова («Народная армия»).
Вместе с советскими войсками и частями Армии Людовой
Комитет двигался к Варшаве.
Армия Крайова решительно выступала против прихода к
власти этого комитета. Поэтому она попыталась освободить Варшаву
от немцев собственными силами. 1 августа в городе вспыхнуло
восстание, в котором участвовала большая часть жителей
польской столицы.
Советское руководство отнеслось к восстанию резко
отрицательно. И. Сталин писал У. Черчиллю 1б августа: «Варшавская акция
представляет безрассудную ужасную авантюру, стоящую
населению больших жертв. При создавшемся положении советское
командование пришло к выводу, что оно должно отмежеваться от
варшавской авантюры, так как оно не может нести ни прямой, ни
косвенной ответственности за варшавскую акцию».
22 августа Сталин писал ещё резче: «Рано или поздно, но
правда о кучке преступников, затеявших ради захвата власти
варшавскую авантюру, станет всем известна». Не поддержав повстанцев,
советское руководство отказалось сбрасывать им оружие и
продовольствие с самолётов.
13 сентября советские войска вышли к Варшаве и
остановились на другом берегу Вислы. Отсюда они могли наблюдать, как
немцы беспощадно расправляются с восставшими. Теперь им
начали оказывать помощь, сбрасывая с советских самолётов всё
необходимое. Но восстание уже угасало. Во время его подавления
было убито около 18 тысяч повстанцев и 200 тысяч мирных
варшавян.
2 октября руководители Варшавского восстания приняли
решение о капитуляции. В качестве наказания немцы почти
полностью уничтожили Варшаву. Жилые дома были сожжены или
взорваны. Уцелевшие жители покинули город.
17 января советские войска вошли в польскую столицу. Город,
превращенный в руины, выглядел совершенно мёртвым.
Советское командование предложило устроить переговоры
с подпольным руководством Армии Крайовой. Однако на первой
же встрече её глава генерал Л. Окулицкий был арестован. В июне
1945 г. в Москве прошёл открытый суд над руководителями
Армии Крайовой. Как и на прежних открытых процессах в Москве,
подсудимые признавали свою вину и раскаивались в
«антисоветской деятельности». 12 из них осудили к лишению свободы.
ВОЙНА С БОЛГАРИЕЙ
В течение всей войны Болгария была
союзником Германии и воевала
против Англии и США. Однако
Советскому Союзу она войну не объявляла.
Среди болгар были слишком сильны
симпатии к России.
5 сентября 1944 г. советское
правительство объявило войну Болгарии.
Маршал Георгий Жуков вспоминал:
«Утром 8 сентября всё было готово,
чтобы открыть огонь, но мы не
видели целей, по которым надо было
вести этот огонь. Мы наблюдали на
болгарской территории обычную мирную
жизнь: в населённых пунктах из труб
вился дымок, а люди занимались
житейскими делами. Присутствия
воинских частей обнаружено не было».
Советские войска двинулись вперёд.
«Не прошло и получаса, —
рассказывал Жуков, — как командующий 57-й
армией доложил, что одна из
пехотных дивизий болгарской армии,
построившись у дороги, встретила наши
части с развёрнутыми красными
знамёнами и торжественной музыкой.
Через некоторое время такие же
события произошли и на других
направлениях. Командармы доложили, что
идёт стихийное братание советских
воинов с болгарским народом».
В ночь на 9 сентября в Болгарии
произошёл бескровный переворот. К
власти в Софии пришло новое
правительство, находившееся под сильным влия-
нием коммунистов. Оно объявило
войну Германии.
Георгий Жуков писал: «9 сентября мы
закончили движение войск. Было
радостно сознавать, что в этой „войне"
не было жертв ни с той, ни с Другой
стороны».
541
Советские солдаты в Болгарии
перед демобилизацией. 1945 г.
СОЮЗНИКИ ГЕРМАНИИ
В 1944 г. союзникам Германии в Восточной Европе стало ясно,
что приближается её полное военное поражение. Они старались
спастись, вовремя выйдя из войны.
Летом 1944 г. широкий заговор — от коммунистов до
монархистов — возник с этой целью в Румынии. В это время
Красная армия уже вела бои на румынской территории. 23 августа в
Бухаресте произошёл дворцовый переворот. На следующий день
новое правительство объявило войну Германии.
31 августа советские войска вступили в Бухарест. Румынские
армии влились в состав советских фронтов. Король Михай
позднее даже получил от Москвы орден «Победа» (хотя до того его
армия и воевала против СССР).
Тогда же на достаточно почётных условиях сумела выйти из
войны Финляндия, подписавшая перемирие 19 сентября 1944 г.
К октябрю 1944 г. у Германии оставался единственный
союзник в Европе — Венгрия. 15 октября верховный правитель
страны Миклош Хорти тоже попытался вывести её из войны, но
безуспешно. Он был арестован немцами. После этого Венгрии
пришлось воевать до конца. Упорные бои шли за Будапешт.
Советские войска сумели взять его лишь с третьей попытки 13
февраля 1945 г. А последние сражения в Венгрии закончились
только в апреле.
ВОЙНА В ЕВРОПЕ
Советским войскам пришлось сражаться на территории многих
стран Европы, захваченных немцами, — от Норвегии до Австрии.
Больше всего (600 тысяч) советских солдат и офицеров
погибло и похоронено на территории современной Польши, более
140 тысяч — в Чехии и
Словакии, 26 тысяч — в Австрии.
Из всех этих стран только
в Югославии советские войска
получили мощную поддержку
от партизанской армии Иоси-
па Броз Тито. Совместно с
партизанами 20 октября 1944 г.
Красная армия освободила от
врага Белград.
Против немцев
попыталась выступить армия
Словакии. 29 августа 1944 г.
вспыхнуло Словацкое восстание.
Восставшие освободили две
трети территории страны. Но
Красная армия не успела
прорваться к ним на помощь через
542
ссср во второй
мировой войне
Карпаты. Немцы жестоко
расправились с повстанцами.
Во главе восстания стояли
как коммунисты, так и
сторонники эмигрантского
правительства. Однако после войны
это восстание в Чехословакии
стали называть
«националистическим». Его руководители
были арестованы и осуждены
(в том числе и будущий
президент страны Густав Гусак).
28 апреля 1945 г. Сталин
спросил по телефону у
маршала И. Конева: «Как Вы думаете,
кто будет брать Прагу?». Ближе
всего к городу находились
американские войска. Чья
армия первой войдёт в Прагу,
имело большое значение. Это
во многом определяло, чье
влияние — советское или
западное — будет преобладать в
Чехословакии.
5 мая в Праге началось
восстание против немцев.
Восставшие, среди которых было
немало коммунистов, сразу
запросили советские войска о
помощи. На сторону
повстанцев перешла дивизия власов-
ской армии (РОА). Эсэсовские
части, пытавшиеся подавить
восстание, были ошеломлены,
когда увидели, что против них
сражаются люди тоже в форме
СС (см. ст. «Андрей Власов»).
В отличие от
Варшавского восстания здесь советские
войска немедленно
поспешили на помощь. 9 мая 1945 г.
советские танки вошли в Прагу и
были восторженно встречены
населением.
В. Иванов. Плакат 1944 г.
543
ВОЕННЫЕ
ГОДЫ
Красноармейцы во время уличного боя.
Германия. Январь 1945 г.
КАПИТУЛЯЦИЯ ГЕРМАНИИ
В ночь с 8 на 9 мая 1945 г. Германия
безоговорочно капитулировала. В
Европе наступил долгожданный мир.
Корреспонденты «Правды» 9 мая так
рассказывали о церемонии
капитуляции: «В зал входят немецкие генералы.
Впереди идёт генерал-фельдмаршал
Кейтель. Он идёт, стараясь сохранить
достоинство и даже гордость.
Поднимает перед собой свой
фельдмаршальский жезл и тут же опускает его. Здесь,
в Берлине, сегодня его последний
„плац-парад". Маршал Жуков и
главный маршал авиации Теддер обьявля-
БИТВА ЗА БЕРЛИН
В 1945 г. сражения шли уже на территории Германии. В
начале февраля советские войска перешли реку Одер. Их внезапное
появление в каких-нибудь 70 км от Берлина было для немцев
полной и потрясающей неожиданностью.
9 апреля после четырёхдневного штурма Красная армия
взяла крепость Кенигсберг, считавшуюся неприступной. Перед
штурмом на город обрушилось огромное количество
снарядов — настоящий ураган огня, превративший его в развалины.
С согласия союзников Кенигсберг (с 1946 г. — Калининград)
стал советским городом, хотя никогда раньше не принадлежал
России.
16 апреля 1945 г. началось сражение за Берлин. С обеих
сторон в нём участвовали 3,5 млн человек Советское
наступление тщательно готовилось. В полной тайне сюда
подтягивалось огромное количество военной техники и боеприпасов.
544
ссср во второй
мировой войне
Маршал Г. Жуков вспоминал: «Готовя операцию, все мы
думали над тем, что ещё предпринять, чтобы больше ошеломить и
подавить противника. Так родилась идея ночной атаки с
применением прожекторов. Решено было обрушить наш удар за два
часа до рассвета».
Саму атаку он описывал так: «В воздух взвились тысячи
разноцветных ракет. По этому сигналу вспыхнули 140 прожекторов,
расположенные через каждые 200 метров. Более 100 миллиардов
свечей освещали поле боя, ослепляя противника и выхватывая из
темноты объекты атаки для наших танков и пехоты. Это была
картина огромной впечатляющей силы, и, пожалуй, за всю свою
жизнь я не помню подобного ощущения...».
На голову противника сразу было обрушено невероятное
количество снарядов: по словам Жукова, «почти 98 тысяч тонн
металла».
С 21 апреля сражение развернулось уже на окраинах
германской столицы. 25 апреля город был полностью окружён, и
начался завершающий штурм.
В этот день советские войска встретились на реке Эльбе с
американской армией. Советские и американские офицеры и
солдаты обменивались дружескими рукопожатиями. Встреча
союзников произошла в самом сердце Германии. Название
небольшого города Торгау, где случилось это событие, мгновенно
облетело весь мир.
Берлин был окутан дымбм и пламенем, бои шли день и ночь.
Как вспоминал маршал И. Конев, первое время в неразберихе
уличных боёв самолёты часто били по своим. Защитники
города проявляли большую стойкость и сражались до конца. Конев
писал о войсках противника: «Кого только не было там,
особенно в батальонах фолькештурма, состоявших из стариков и
подростков, которые плакали, но дрались и поджигали своими
фаустпатронами наши танки. Солдаты по-прежнему сдавались в
плен только тогда, когда у них не было иного выхода».
29 апреля начался штурм рейхстага. 30 апреля 1945 г. над
ещё не побеждённым рейхстагом было поднято красное Знамя
Победы. Столицу Германии торопились взять к празднику 1 Мая.
Конечно, это требовало немалых жертв, как и другие победы к
«красным датам».
Генерал армии Александр Горбатов говорил о взятии
Берлина: «С военной точки зрения Берлин не надо было штурмовать.
Конечно, были и политические соображения, соперничество с
союзниками, да и торопились салютовать. Но город достаточно
было взять в кольцо, и он сам сдался бы через неделю-другую.
Германия капитулировала бы неизбежно. А на штурме, в самый
канун победы, в уличных боях мы положили не меньше ста
тысяч солдат. А ведь они уже радовались, что вот-вот домой. И
какие люди были — золотые, столько всего прошли, и уж каждый
думал: „Завтра жену, детей увижу..."».
2 мая в городе, наконец, наступила тишина. Берлинский
гарнизон сложил оружие.
В ночь на 9 мая был подписан акт о безоговорочной
капитуляции Германии. Война в Европе завершилась.
ют: „Сейчас предстоит подписание
акта о безоговорочной капитуляции".
Немцам переводят эти слова. Кейтель
кивает головой: „Да, да, капитуляция".
„Я предлагаю представителям
главного немецкого командования, —
медленно произносит маршал Жуков, —
подойти к столу и здесь подписать
акт". Он показывает рукой, куда надо
подойти фельдмаршалу.
Кейтель встаёт и идёт к столу. На его
лице багровые пятна. Он садится за
стол и подписывает все экземпляры
акта. Это длится несколько минут. Все
молчат, только трешат киноаппараты.
Фельдмаршал Кейтель подписал
капитуляцию. Он встаёт, обводит взглядом
зал. Ему нечего сказать, он ничего и не
ждёт. Он вдруг улыбается жалким
подобием улыбки, вынимает монокль и
возврашается к своему месту за
столом немецкой делегации.
...Война окончена. Маршал Жуков
жмёт руку маршалу английской
авиации Теддеру и другим генералам.
Победа! Сегодня человечество может
свободно вздохнуть. Сегодня пушки не
стреляют».
Кукрыниксы. Плакат
со стихами С. Маршака.
1ЯЧИЛИ НЙР0ДЫ - БРИТЬЯ
* ВРЯЖЬИМ ГОРОДОМ СВИДПКИЕ .
КАЖДОМ ИХ РУКОПОЖПТЬИ
|ЩЙГ&ЙШИСШШЯ ГЕРМАНИЯ ]
545
ВОЕННЫЕ
ГОДЫ
«Победа!» Красноармейцы празднуют
капитуляцию Германии.
Берлин. Май 1945 г.
Сдающиеся в плен немецкие солдаты.
1945 г.
СССР ВО ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ
Берлин. У побеждённого рейхстага.
Немецкий лётчик, взятый в плен
в последние дни войны. Берлин.
Апрель 1945 г.
Генерал-фельдмаршал В. Кейтель подписывает акт о безоговорочной капитуляции.
Карлсхорст. 8 мая 1945 г.
Красноармейцы водружают советский флаг над зданием рейхстага.
Фото Е. Халдея. 30 апреля 1945 г.
ВОЕННЫЕ
ГОДЫ
Советская военная
регулировщица в побеждённом
Берлине. Май 1945 г.
АРТИЛЛЕРИСТЫ
и минометчики Красной Армии Т й£Г££—оро"
СССР ВО ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ
А. Мизин. «Празднование
Победы на Красной плошали
в 1945 году».
Красноармейцы в
побеждённом Берлине.
Май 1945 г.
ВОЕННЫЕ
ГОДЫ
а и f
vtA
ПОТЕРИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Красная армия во время войны с
Германией и Японией потеряла 8
миллионов 668 тысяч человек, включая
погибших на фронте и в плену.
Всего же в ходе Второй мировой
войны погибло около 27 миллионов
советских граждан, в основном — мирных
жителей, умерших от голода и
болезней. А во всём мире во время Второй
мировой войны погибло более 55
миллионов человек (в том числе около
14 миллионов немцев).
Берлин. Красноармейцы расписываются
на стенах рейхстага.
550
СССР ВО ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ
j
KbHwuttoi ft"?
■Ф
ВОЙНА С ЯПОНИЕЙ
В Ялте И. Сталин обещал союзникам начать войну с Японией. Он
обязался сделать это через три месяца после победы в Европе.
8 августа 1945 г. советское правительство объявило Японии
войну. К этому времени оно перебросило из Европы на Дальний
Восток четыре армии. Мощный советский «кулак» здесь
насчитывал 1,5 млн человек.
9 августа советские войска начали наступление в
Маньчжурии. Им противостояла миллионная японская Квантунская
армия. 14 августа император Японии Хирохито принял решение
сложить оружие. Но Квантунская армия продолжала сражаться до
19 августа. За десять дней боёв она была рассечена на части и
разгромлена. Японцы понесли большие потери: 84 тысячи человек
погибли, а 594 тысячи попали в советский плен.
С согласия союзников СССР получал южную часть Сахалина
и Курильские острова. Более 40 лет они принадлежали Японии
после её победы в русско-японской войне (1904—1905 гг.).
2 сентября в выступлении по радио об этом напомнил
И. Сталин. Он сказал: «Поражение русских войск в 1904 году в
период русско-японской войны оставило в сознании народа
тяжёлые воспоминания. Оно легло на нашу страну чёрным пятном.
Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет
разбита и пятно будет ликвидировано».
«Сорок лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня, —
торжественно заключил он. — И вот этот день наступил. Сегодня
Япония признала себя побеждённой».
2 сентября 1945 г. был подписан акт о безоговорочной
капитуляции Японии. Вторая мировая война закончилась. Она
продолжалась ровно шесть лет.
Советские войска вступили
в горол Харбин (Маньчжурия).
Сентябрь 1945 г.
551
ГЕОРГИЙ ЖУКОВ
(1896—1974)
ДЕТСТВО И юность
Будущий прославленный маршал Георгий Константинович
Жуков родился 19 ноября (1 декабря) 1896 г. в деревне Стрелковке
Калужской губернии. Отец его был деревенским сапожником.
Жила семья Жуковых очень бедно. «Какая бывала радость, —
вспоминал позднее Г. Жуков, — когда из Малоярославца
привозили нам по баранке или прянику! Если же удавалось скопить
немного денег к Рождеству или Пасхе на пироги с начинкой,
тогда нашим восторгам не было границ».
С крестьянским трудом Георгий познакомился в семь лет,
начав работать вместе со взрослыми на сенокосе. Образование
в селе он получил скромное: три класса церковноприходской
школы. Жуков закончил её с похвальным листом.
Как-то раз девятилетний мальчик, чтобы испытать свою
волю, поспорил с друзьями, что всю ночь проспит на кладбище.
И действительно, завернулся в овчину и спокойно проспал до
рассвета.
В возрасте 11 лет Георгия отдали «в люди» —обучаться у
скорняка в Москве. Большой город поразил сельского
паренька. «Я был как-то подавлен. Я никогда не видел домов выше двух
этажей, мощёных улиц, извозчиков, или, как их звали, „лихачей",
мчавшихся с большой скоростью на красавцах — орловских
рысаках. Всё это поражало воображение», — писал он позднее.
Нрав у хозяина мастерской был крутой, и он часто
поколачивал своих учеников. «Он мог и без всякого повода отлупить так,
что целый день в ушах звенело», — вспоминал Жуков. Как
младшему ученику, ему больше всех доставалось хозяйских побоев.
И в городе Георгий не терял интереса к изучению наук и
сумел закончить вечернее общеобразовательное училище.
Только после четырёх лет ученичества его на десять дней
отпустили домой, в деревню. Как раз в это время в соседнем селе
случился сильный пожар. 14-летний Георгий услышал крики,
доносившиеся из горящей избы: «Спасите, горим!». Он вошёл туда и
вытащил из огня двух перепуганных детей и больную женщину.
552
В 1911 г. закончилось ученичество
Жукова. Теперь он стал самостоятельным
человеком — подмастерьем.
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
7 августа 1915 г. Георгий Жуков был призван на
фронт кавалеристом в драгунский полк.
Обучение военному делу было нелёгким. Одного из
унтер-офицеров солдаты особенно
невзлюбили за побои и муштру. Они решили наказать его,
рискуя угодить под военно-полевой суд.
«Сговорившись, — рассказывал Жуков, — мы как-то
подкараулили его в тёмном углу и, накинув ему
на голову плащ-палатку, избили до потери
сознания».
Ещё до фронта Г. Жуков прошёл обучение на
унтер-офицера. Позднее он признавался: «Когда
на войне очутился, поначалу была какая-то
неуверенность под артобстрелом, но она быстро
прошла. Под пулями никогда не кланялся. Трусов
терпеть не могу».
В 1916 г. в бою он был тяжело контужен:
взрывом мины его выбросило из седла. В
сознание он пришёл только спустя сутки. За свою
боевую Службу Георгий ЖуКОВ ПОЛуЧИЛ два Георгиев- П. Котов. Портрет Г. Жукова.
ских креста, один из них — за захваченного в плен германского
офицера.
Жуков пользовался уважением своих товарищей. После
Февральской революции его единогласно выбрали главой
эскадронного солдатского комитета. К осени 1917 г. армия стала
постепенно растекаться по домам. Солдатский комитет решил своей
волей отпустить всех домой.
В ноябре 1917 г. вернулся в Москву и Георгий Жуков.
ВО ВРЕМЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Мирная передышка в 1917—1918 гг. была недолгой. Началась
гражданская война. В августе 1918 г. Жуков пошёл добровольцем в
кавалерию Красной армии. Сражался против Колчака,
Деникина, Врангеля. 1 марта 1919 г. вступил в партию большевиков.
Во время сражений за Царицын в 1919 г. Жуков получил
ранение в рукопашном бою. Осколки ручной гранаты глубоко
ранили его в ногу и левый бок. После лечения ему дали отпуск, и
он уехал в родную деревню. Затем Жукова отправили на курсы
красных командиров.
Теперь он стал командовать эскадроном. В 1920—1921 гг.
Жуков участвовал в подавлении «кулацкого» (как тогда
говорили) Тамбовского восстания. Здесь он познакомился с Михаилом
Тухачевским, который руководил этой военной операцией.
1945 г.
Юбилейная монета с изображением
Г. Жукова.
553
ВОЕННЫЕ
ГОДЫ
Маршал Г. Жуков.
Во время рукопашного боя весной 1921 г. выстрелом под
Жуковым убило коня. При падении конь придавил седока, но
помощь подоспела вовремя. В тот же день под Жуковым второй
раз убило коня. Повстанцы хотели взять его в плен, и он в
одиночку от них отбивался. И снова в последнюю минуту пришли
на выручку красноармейцы.
За участие в подавлении Тамбовского восстания Г. Жуков
получил свой первый орден Красного Знамени — очень
почётную и редкую тогда награду.
В МИРНЫЕ ГОДЫ
В 20—30-е гг. Жуков продолжал свою службу в кавалерии. С
апреля 1923 г. он уже командовал полком.
26-летний командир видел недостаток своего военного
образования. И тогда, и в последующие годы он занимался
самообразованием, усиленно изучал книги по военному искусству,
истории войн прошлого, закончил Высшую кавалерийскую школу
в Ленинграде.
Конечно, Жуков изучал и произведения Владимира Ленина
и Карла Маркса. По его собственному признанию, эти книги
«давались ему нелегко, особенно „Капитал" К Маркса».
В Зб лет Г. Жуков командовал уже дивизией, в 40 лет —
конным корпусом. В 1931 г. продолжилось его знакомство с М.
Тухачевским, который произвёл на него сильное впечатление. «В
нём чувствовался гигант военной мысли, звезда первой
величины в плеяде военных нашей Родины, — писал Жуков. — Мы
слушали его как зачарованные».
НАГРАДЫ ЖУКОВА
Только за военные заслуги Г. Жуков
был трижды удостоен звания Героя
Советского Союза. Четвёртая звезда
Героя была вручена ему в 1956 г.
Жуков получил два высших военных
ордена «Победа», один из которых —
под номером 1 (у Сталина был этот
орден только под номером 3).
Всего же он был награждён
шестьюдесятью семью советскими и
иностранными орденами и медалями.
ХАЛХИН-ГОЛ
2 июня 1939 г. Жукова вызвал нарком обороны Климент
Ворошилов. Он сообщил ему: «Японские войска внезапно вторглись в
пределы дружественной нам Монголии. Можете ли Вы вылететь туда
немедленно и, если потребуется, принять на себя командование
войсками?». «Готов вылететь сию же минуту», — отвечал Жуков.
5 июня Жуков прибыл на место и возглавил здесь советский
военный корпус. Его сразу же возмутило, что штаб корпуса
располагался за 120 км от поля боя. Он потребовал перенести штаб
в район событий.
В ночь на 3 июля японские войска перешли реку Халхин-
Гол и заняли гору Баин-Цаган. Они имели десятикратное
превосходство в живой силе и трёхкратное — в орудиях.
Зато у советских войск имелось до 150 танков и столько же
бронемашин. Жуков решил немедленно бросить их против
японцев. Бой шёл весь день 4 июля и всю следующую ночь. К утру
5 июля противник стал отступать назад к реке, но переправа
была уже взорвана. Жуков вспоминал: «Японские офицеры
бросались в полном снаряжении прямо в воду и тут же тонули, бук-
554
вально на глазах у наших танкистов. Тысячи трупов, масса
убитых лошадей устилали гору Баин-Цаган».
После этой победы он начал готовить новый внезапный
удар по японским войскам. Чтобы обмануть их, в окрестностях
поставили специальные звуковые установки. Две недели они
изображали по ночам то здесь, то там шум танковых колонн,
самолётов и т. д. Когда японцы перестали обращать на это внимание,
к месту событий начали стягиваться войска.
20 августа неожиданно для японцев на них обрушился удар
самолётов и орудий. Удар был таким мощным, что первые
полтора часа они даже не могли открыть в ответ орудийный огонь.
Затем советско-монгольские войска пошли в атаку.
К вечеру 26 августа японская армия была окружена.
Началось её уничтожение. За победу на Халхин-Голе Г. Жуков
получил свою первую звезду Героя Советского Союза.
В мае 1940 г. он прибыл в Москву. Впервые его принял сам
И. Сталин, расспрашивал о боях с японцами. «Теперь у Вас есть
боевой опыт, — сказал Сталин. — Принимайте Киевский округ...»
ПЕРЕД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНОЙ
Так Жуков, получивший звание генерала армии, возглавил самый
большой военный округ. Но этот пост он занимал недолго.
В декабре 1940 г. начались большие военные игры. «Синие»
в игре изображали нападающего противника, «красные» —
Красную армию. Г. ЖуКОВ ИГраЛ За «СИНЮЮ» СТОрОНу И Одержал Победу. П. Корин. Портрет Г. Жукова.
Сталин, по его словам, был «раздосадован
неудачей „красных"». Сразу после окончания игры в
январе 1941 г. он вызвал Жукова и назначил его
начальником Генштаба Красной армии. В это
время Германия готовилась к началу войны с
Советским Союзом. Сигналы о грядущей войне
поступали со всех сторон. Об этом сообщали
разведка, советские посольства, перебежчики из
германских войск
Но советское руководство до последнего
момента верило, что войны не будет. Проводил
эту линию и Жуков. Позднее он так объяснял
свои действия: «Кто захочет класть свою
голову? Вот, допустим, я, Жуков, чувствуя нависшую
над страной опасность, отдаю приказание
„развернуть". Сталину докладывают. На каком
основании? На основании опасности. Ну-ка, Берия,
возьмите его к себе в подвал...».
Наконец в ночь на 22 июня Георгий Жуков
и нарком обороны Семён Тимошенко
приказали привести войска приграничных округов в
полную боевую готовность. Разослана эта
директива была за три часа до начала войны.
Времени на её выполнение уже не оставалось.
555
ВОЕННЫЕ
ГОДЫ
СТИЛЬ РУКОВОДСТВА ЖУКОВА
Подчинённые часто упрекали Георгия
Жукова в слишком жёстком стиле
руководства. Например,
генерал-полковник Александр Покровский
рассказывал: «Стиль разговоров с
командармами в штабе фронта в период
командования Жукова установился грубый. В
случае неудачи или неполного успеха
по телефонам шла грубая ругань, и
иногда можно было услышать больше
разговоров о том, что снимут голову,
чем разговоров о том, как поправить
дело».
Сам Георгий Жуков писал:
«Оглядываясь назад, думаю, что иногда я
действительно был излишне требователен и
не всегда сдержан и терпим к
проступкам своих подчинённых».
Как и другие советские
военачальники, Георгий Жуков считал самым
важным достижение поставленной пели во
что бы то ни стало, часто — очень
дорогой иеной. Как-то раз он описал
Дуайту Эйзенхауэру тактический приём
быстрого преодоления минных полей.
Для этого достаточно просто двигать
на них пехоту.
Эйзенхауэр заметил: «Я живо
вообразил себе, что случилось бы, если бы
какой-нибудь американский или
британский командир придерживался
подобной тактики, и даже ешё более живо я
представил себе, что сказали бы люди
в любой из наших дивизий, если бы мы
попытались сделать подобную
практику частью своей военной доктрины».
По этому поводу Д. Эйзенхауэр
заключал: «Американцы измеряют иену
войны в человеческих жизнях, русские —
во всеобшем очишении нации».
В НАЧАЛЕ ВОЙНЫ
В первый же день войны по приказу Сталина Жуков вылетел на
Юго-Западный фронт. Здесь он попытался организовать
наступление на Люблин. Оно шло под лозунгом «Бить врага под корень!»
(имелось в виду ведение наступательного боя на вражеской
территории). Конечно, никакого успеха это наступление не имело и
только усилило неразбериху в войсках.
Но уже через несколько недель Жуков стал гораздо
реальнее оценивать положение. 29 июля он попросил Сталина принять
его для срочного доклада и сказал ему, что армии надо целиком
отвести за Днепр и обороняться за этой мощной преградой.
«А как же Киев?» — спросил Сталин.
«Киев придётся оставить», — отвечал Жуков.
Одновременно Жуков предложил организовать контрудар
и отбить у немцев Ельню. Оттуда им открывался удобный путь
на Москву.
«Какие там ещё контрудары, что за чепуха?! — возмутился
Сталин. — Опыт показал, что наши войска не могут наступать. И
как Вы могли додуматься сдать врагу Киев?!»
Жуков тоже вспылил и резко заявил: «Если Вы считаете, что
начальник Генштаба способен только чепуху молоть, тогда ему
здесь делать нечего. Я прошу освободить меня от обязанностей
начальника Генштаба и послать на фронт. Там я, видимо,
принесу больше пользы Родине».
«Вы не горячитесь! — сказал Сталин. — Мы без Ленина
обошлись, а без Вас тем более обойдёмся. Идите, работайте, мы тут
посоветуемся и тогда позовём Вас».
«Я вышел из кабинета с тяжёлым чувством», — вспоминал
Жуков. Через 40 минут Сталин сухо сообщил ему, что он
освобождается от поста начальника Генштаба.
«Куда прикажете мне отправиться?» — спросил Жуков.
«А куда бы Вы хотели?»
«Могу выполнять любую работу. Командовать дивизией,
корпусом, армией, фронтом».
«Не горячитесь, не горячитесь! Вы вот говорили об
организации контрудара под Ельней. Ну и возьмитесь за это дело...»
Под конец, чтобы смягчить напряжение, Сталин с улыбкой
предложил Жукову выпить с ним чаю. Но разговор за столом не
клеился. В тот же день Жуков отправился на фронт под Ельню.
НАСТУПЛЕНИЕ ПОД ЕЛЬНЕЙ
Под Ельней образовался выступ вражеских войск. Идея Г.
Жукова состояла в том, чтобы неожиданным ударом взять этот выступ
в клещи. Около трёх недель он стягивал сюда силы для
нанесения такого удара. В конце августа Красная армия перешла здесь
в наступление. «Горловина ельнинского выступа постепенно
сжималась железными клещами наших войск и становилась всё
уже и уже», — писал Жуков.
556
Выступ превращался в «мешок». Чтобы спастись от
окружения, немцы в последний момент быстро отступили. 6 сентября
советские войска освободили от врага Ельню (см. ст. «СССР во
Второй мировой войне»). Под Ельней Красная армия впервые
показала, что может побеждать германскую. Через два дня
после этой победы Жукова снова принимал Сталин.
«А неплохо у Вас получилось с ельнинским выступом, —
сказал он и добавил: — Вы были тогда правы. Я не совсем правильно
Вас понял». Эти необычные для Сталина слова выглядели почти как
извинение.
В ЛЕНИНГРАДЕ
Во время того же разговора
И. Сталин сказал Г. Жукову:
«Очень тяжёлое положение
сложилось сейчас под
Ленинградом. Я бы даже сказал,
положение катастрофическое. Я бы
даже сказал, положение
безнадёжное. С потерей Ленинграда
окажется под угрозой удара с
севера Москва».
Жуков ответил ему: «Ну
если там так сложно, я готов
поехать командующим
Ленинградским фронтом».
«А если это безнадёжное
дело?» — повторил Сталин.
«Разберусь на месте, —
сказал Жуков. — Посмотрю, может
быть, оно ещё окажется и не
таким безнадёжным».
Сталин так напутствовал
Жукова: «Либо отстоите город,
либо погибнете там вместе с
армией. Третьего пути у Вас нет».
9 сентября Г. Жуков
вылетел в Ленинград. Здесь он
явился в Смольный. В кабинете
Ворошилова обсуждался вопрос, о
том как взорвать 140
объектов — предприятия города и
мосты — и затопить военные
корабли, чтобы они не
достались врагу. Жуков уселся на стул
и некоторое время молча
слушал. Вспоминая об этом
позднее, он говорил: «Как вообще
можно минировать корабли?
Г. Жуков. Фото А. Бальтерманиа.
557
ВОЕННЫЕ
ГОДЫ
ЖУКОВ И ПОПЫТКА
НАСТУПЛЕНИЯ В 1942 ГОДУ
После победы под Москвой, 5 января
1942 г., в Ставке Верховного
Главнокомандования было созвано
совещание. Как вспоминал Г. Жуков, И.
Сталин на нём заявил: «Немцы в
растерянности от поражения под Москвой, они
плохо подготовились к зиме. Сейчас
самый подходящий момент для перехода
в общее наступление».
Ему возразил Жуков. Он сказал, что
наступать можно только на западном
направлении, а для наступления всех
фронтов сил ешё нет. «Наши войска не
смогут прорвать оборону, сами
измотаются и понесут большие, ничем не
оправданные потери», — заметил он. Но
Сталин остался при своём мнении:
«Надо быстрее перемалывать немцев,
чтобы они не смогли наступать весной».
Жуков возражал против общего
наступления и на другом совещании, уже
в марте. Тем не менее оно было
начато и привело к самым серьёзным
поражениям (см. ст. «СССР во Второй
мировой войне»).
Да, возможно, они погибнут. Но если так, они должны погибнуть
в бою, стреляя. И когда потом немцы пошли в наступление на
приморском участке фронта, моряки так дали по ним со своих
кораблей, что они просто-напросто бежали. Ещё бы!
Шестнадцатидюймовые орудия! Представляете себе, какая это силища?!».
Выслушав обсуждение, Жуков сообщил, что он назначен
командующим фронтом. Он отменил все меры,
предпринимавшиеся на случай сдачи города, и заявил: «Будем защищать Ленинград
до последнего человека».
Положение действительно было отчаянным. Жуков
распорядился: за отступление без его письменного приказа «все
командиры, политработники и бойцы подлежат немедленному
расстрелу». Более того, он потребовал бросить последние силы
в непрерывные контратаки. Сам Жуков работал не покладая рук
у него не было времени даже спускаться в убежище во время
бомбёжек, и он оставался наверху.
Упорство защитников города и тем более неожиданные
контратаки убедили немцев изменить тактику. Ленинград
решили взять не штурмом, а планомерной осадой. Немедленный
захват городу уже не угрожал.
БИТВА ПОД МОСКВОЙ
5 октября с Жуковым в Ленинграде по прямому проводу
связался Сталин. Он сказал: «У меня к Вам только один вопрос: не
можете ли сесть в самолёт и прилететь в Москву?».
7 октября Г. Жуков прибыл в столицу. Положение на фронте
под Москвой сложилось почти безнадёжное. Правда, ожидалось
прибытие новых сил с востока, но до тех пор ещё надо было
продержаться. Войск для защиты города явно не хватало. Всё, что ещё
оставалось, перешло в распоряжение Жукова. Он решил рискнуть
и бросить все силы на защиту только основных дорог, ведущих к
Москве. Жуков был уверен, что немецкие танки пойдут по шоссе.
Конечно, немцы могли понять эту хитрость и двинуться там, где
никакой обороны вообще не было. Поэтому риск был огромным.
8 середине октября Сталин позвонил Жукову и спросил: «Вы
уверены, что мы удержим Москву? Я спрашиваю у Вас это с
болью в душе. Говорите честно, как коммунист». Жуков ответил:
«Москву, безусловно, удержим. Но нужно ещё не менее двух
армий и хотя бы двести танков». «Это неплохо, что у Вас такая
уверенность», — заметил Сталин.
«На последнем этапе оборонительного сражения я не спал
одиннадцать суток, будучи в чрезвычайном нервном
напряжении, — рассказывал Г. Жуков. — Чтобы поддержать
физические силы и работоспособность, приходилось прибегать к
коротким, но частым физическим упражнениям на морозе и
крепкому кофе, а иногда к двадцатиминутному бегу на лыжах. Но
зато, когда наши богатыри погнали врага от Москвы, я свалился
и проспал более двух суток подряд, просыпаясь только для того,
чтобы узнать, как развивается контрнаступление. Мне тогда два
558
ГЕОРГИЙ
ЖУКОВ
раза звонил товарищ Сталин. Ему отвечали: „Жуков спит, и мы
не можем его добудиться". Верховный сказал: „Не будите, пока
сам не проснётся". За время этого крепкого сна Западный фронт
наших войск переместился не меньше как на 10—15
километров. Пробуждение было приятным...»
Во время боёв под Москвой немцы сожгли родную
деревню Жукова Стрелковку. Однако он успел вывезти оттуда свою
мать и других близких. Позднее Георгий Константинович писал:
«Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из
минувшей войны, я всегда отвечаю: „Битва за Москву"».
Г. Жуков подписывает акт
о безоговорочной капитуляции Германии.
Карлсхорст. 8 мая 1945 г.
СТАЛИНГРАД
27 августа 1942 г. Сталин вызвал Жукова и предложил ему
отправиться в Сталинград. Дела там складывались очень плохо.
«Может случиться, что немцы возьмут Сталинград», — с горечью
сказал Сталин.
Через день Г. Жуков
вылетел в город на Волге. 3
сентября И. Сталин направил ему
телеграмму: «Положение
ухудшилось. Противник находится
в трёх верстах от Сталинграда.
Сталинград могут взять
сегодня или завтра».
5 сентября по
предложению Г. Жукова Красная армия
провела ответное наступление.
Но особого успеха оно не
принесло.
Через неделю Георгий
Жуков и начальник Генштаба
Александр Василевский
докладывали Сталину о причине
неудачи. Верховный
Главнокомандующий склонился над
картой. Два генерала отошли в
сторону и очень тихо
беседовали о том, что, вероятно,
нужно искать какое-то иное
решение. Вдруг Сталин поднял
голову и спросил: «А какое „иное"
решение?». Оказывается, он, не
подавая виду, прислушивался к
их разговору. Позднее Жуков
писал: «Я никогда не думал, что
у И. В. Сталина такой острый
слух».
И. Сталин предложил им
поработать и через день явить-
559
ВОЕННЫЕ
ГОДЫ
С. Присекин. «Маршалы Советского
Союза Г. К. Жуков и 1С К. Рокоссовский
на Красной плошали 24 июня 1945 гола».
ся с новым планом действий. Так родился неожиданный и
знаменитый замысел наступления под Сталинградом (см. ст.
«СССР во Второй мировой войне»).
Ещё два месяца в полном секрете длилась его подготовка.
Затем возникший, как показалось немцам, ниоткуда советский
«кулак» внезапно сжал в «клещи» целую германскую армию.
За победу под Сталинградом Жуков получил орден
Суворова 1-й степени под номером 1. Но этой победе
предшествовали долгие месяцы подготовки.
За это время Жукову пришлось ещё не раз летать в столицу —
при любой погоде. Один раз самолёт садился в густом тумане.
Вдруг в 10—15 м от его крыла из тумана вынырнула горловина
фабричной трубы. Жуков шутливо заметил: «Кажется, счастливо
вышли из той ситуации, про которую говорят: „ Дело — труба"!».
В 1943-1945 ГОДАХ
Георгий Жуков и Александр Василевский стали авторами плана
сражения на Курской дуге. Они предлагали встретить удар вра-
ЙИГ-
1
л Sg \
WFWFm
■£-'-■:
560
ГЕОРГИЙ
ЖУКОВ
га крепкой обороной и только потом перейти в наступление.
Такой замысел выглядел непривычно, и его пришлось долго
отстаивать. Именно он принёс победу под Курском.
Г. Жуков был одним из руководителей наступления в
Белоруссии, когда десятки тысяч немцев угодили в советские «котлы».
Он наблюдал, как уничтожали окружённого противника. Сотни
самолётов бомбили его с воздуха. «Горели многие десятки машин,
танков... Всё поле боя было озарено зловещим огнём. Немецкие
солдаты, как обезумевшие, бросались во все стороны, и те, кто не
желал сдаться в плен, тут же гибли», — рассказывал он.
Наконец, маршал Жуков руководил штурмом немецкой
столицы — Берлина — и от имени Красной армии принял
безоговорочную капитуляцию Германии (см. ст. «СССР во Второй
мировой войне»).
После взятия Берлина он, как и сотни других советских
военных, поставил свою подпись на стене рейхстага. По этой
подписи солдаты тотчас узнали его, окружили плотной толпой и
засыпали вопросами. «Пришлось задержаться на часок и
поговорить по душам», — вспоминал маршал.
ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Георгий Жуков оставался в Германии до апреля 1946 г., чтобы
руководить оккупационными войсками и советской
администрацией. Затем он стал заместителем министра обороны СССР.
Но в том же году началась его первая опала. Один
арестованный военачальник дал показания, что Жуков как-то заявил о
Сталине: «Как был, так и остался штафиркой» (так презрительно
называли штатских). Вопрос о Жукове обсуждало особое заседание
Министерства обороны. Ряд военных выступил в защиту Жукова.
Особенно резко высказался Павел Рыбалко, который призвал не
верить «показаниям, вытянутым насилием в тюрьмах».
В конце этого заседания Сталин сказал Жукову: «Вам надо
временно уехать из Москвы». Маршал был снят со всех постов и
отправлен в «ссылку» — командовать вначале Одесским военным
округом, а потом — Уральским.
Позднее он говорил: «В сорок седьмом ждал каждый день
ареста. Подготовил чемоданчик с бельём. Посадили всех моих
близких сотрудников».
Со смертью И. Сталина в марте 1953 г. первая опала
маршала кончилась. Ему довелось арестовывать Л. Берию (см. ст.
«Оттепель»). Он снова стал заместителем министра обороны, а с
1955 г. — министром. В 1956 г. в Будапеште он руководил
подавлением Венгерского восстания.
В июне 1957 г. большинство членов Президиума ЦК
попытались сместить Н. Хрущёва. Жуков бросил им свою знаменитую
фразу: «Армия против этого решения, и ни один танк не сдвинется
с места без моего приказа». Поддержка Жукова, конечно, очень
помогла Хрущёву.
Но одновременно Никита Хрущёв стал опасаться чрезмер-
ПАРАА ПОБЕДЫ
В июне 1945 г. в Москве на Красной
плошади было решено провести
торжественный Парад Победы. Как
вспоминал Жуков, за неделю до парада
И. Сталин вызвал его к себе и шутливо
спросил, не разучился ли тот ездить на
коне. «Нет, не разучился», — отвечал
маршал. «Вам придётся принимать
Парад Победы». Жуков ответил на это:
«Спасибо за такую честь, но не лучше
ли парад принимать Вам? Вы
Верховный Главнокомандующий, по праву и
обязанности следует Вам принимать
парад». «Я уже стар принимать
парады, — возразил Сталин. —'
Принимайте Вы, Вы помоложе».
Парад Победы состоялся 24 июня.
Каждый фронт на нём представлял сводный
полк из лучших солдат и офицеров.
«Правда» сообщала о параде: «В 10
часов из Спасских ворот выезжает на
белом коне Маршал Советского Союза
трижды Герой Советского Союза тов.
Жуков. Ему рапортует маршал
Рокоссовский, командующий парадом.
Останавливаясь перед полками, маршал Жуков
здоровается с бойцами и офицерами. В
ответ раздаётся: „Здравия желаю,
товарищ Жуков!". Тов. Жуков поздравляет
войска с победой над Германией.
Могучее русское „ура" покрывает его
приветственные слова». Военный оркестр из
1400 человек исполнил «Славься»
Глинки. Маршал Жуков произнёс перед
войсками десятиминутную речь.
Кульминацию парада «Правда»
описывала так: «Внезапно смолкает оркестр.
Раздаётся резкая дробь барабанов.
Взору представляется незабываемая,
глубоко символичная картина. К
трибуне подходит колонна бойцов. У
каждого в руках — немецкое знамя. 200
пленённых вражеских знамён несёт
колонна. Сейчас они — единственное,
что напоминает о былых полках и
дивизиях Гитлера. Поравнявшись с
трибуной, бойцы делают поворот
направо и презрительным жестом, с силой
бросают вражеские знамёна на
мостовую, к подножию мавзолея».
Только дождливая погода в этот день
не соответствовала обшей атмосфере
праздника, и из-за дождя даже
пришлось отменить намеченную после
парада демонстрацию.
561
ВОЕННЫЕ
ГОДЫ
ОБЫСК У МАРШАЛА
В разгар первой опалы Георгия
Жукова обвинили, помимо прочего, в
«распущенности» и незаконном
присвоении трофеев. Действительно, маршал
не считал грехом жить «на широкую
ногу».
В ночь на 9 января 1948 г. на его
подмосковной даче произвели обыск.
Изъяли почти всё находившееся там
имущество, в том числе 4 тыс. м
различных тканей, 44 ковра и гобелена, 323
меховые шкуры.
В записке чекистов Сталину
говорилось: «Дошло до того, что в спальне
Жукова над кроватью висит огромная
картина с изображением двух
обнажённых женшин». Эта деталь, видимо,
должна была показать окончательное
«моральное разложение маршала».
ного усиления влияния армии. Сам Жуков говорил про него, что
«был момент, когда он зашатался, а я обеспечил ему поддержку
армии. Он тогда меня искренне благодарил, но выводы сделал: а
вдруг я пожелаю сесть на его место? Тогда Эйзенхауэр был уже
президентом США; думал, наверное, что и я мечтаю стать главой
государства. Напрасно! Я никогда не хотел государственной
власти — я военный, и армия — моё прямое дело».
Последующее стало полной неожиданностью для маршала. В
октябре 1957 г. он выехал с визитом в Югославию. Во время его
отсутствия и было решено уволить его в отставку. 26 октября 1957 г.
он был смещён со всех постов и отправлен на пенсию.
Официально в печати осуждался его «бонапартизм». Жукова обвиняли в том,
что он хотел «вывести вооружённые силы из-под контроля
партии» и «установить в них культ собственной личности». Началась
вторая опала маршала, которая отчасти прекратилась только в
конце 60-х гг. Признаком её окончания стала вышедшая в 1969 г. книга
Г. Жукова «Воспоминания и размышления».
Редактор книги Анна Минкина рассказывала: «Был
мартовский солнечный день, когда на конвейере показались первые
красные „кирпичи". Такая нарядная, в пурпурном целлофановом супере
была она, эта царь-книга! Георгий Константинович взял в руки
книгу, поставил её на стол, долго смотрел молча...».
Она же вспоминала о необычайном успехе книги: «На
Калининском проспекте к Дому книги стояла колоссальная очередь,
почти до конца проспекта, а на улице Кирова в здании магазина
„Книжный мир" люди разбили витрины и пошли насквозь — пришлось
вызывать конную милицию».
В 1973 г. Жукова впервые снова пригласили на официальное
мероприятие. Это было празднование Дня Победы в Кремлёвском
Дворце съездов. Тысячи собравшихся ветеранов войны поднялись
с мест и под крики «Слава Жукову!» устроили ему овацию.
18 июня 1974 г. Георгий Жуков скончался. Поэт Иосиф
Бродский писал тогда:
Вижу колонны замёрзших внуков,
гроб на лафете, лошади круп.
Ветер сюда не доносит мне звуков
русских военных плачущих труб.
Вижу в регалии убранный труп:
в смерть уезжает пламенный Жуков.
Воин, пред коим многие пали
стены, хоть меч был вражьих тупей,
блеском манёвра о Ганнибале
напоминавший средь волжских степей.
Кончивший дни свои глухо, в опале,
как Велизарий или Помпеи.
АНДРЕЙ
ВЛАСОВ
и
АНДРЕИ ВЛАСОВ
(1900—1946)
В годы Великой Отечественной войны слово «власовец»
стало синонимом слова «предатель». Кем же был сам Власов, чьё
имя стало нарицательным, и как сложилась судьба этого
человека?
Андрей Андреевич Власов родился в 1900 г. Он был
тринадцатым ребёнком в семье нижегородского крестьянина-бедняка.
Готовился стать священником — учился в духовной семинарии.
Однако после Октября 1917 г. отправился добровольцем
сражаться за «землю и волю» в рядах Красной армии. Командовал
ротой, потом полком. В партию вступил в 1930 г. В 1938—1939 гг.
служил в Китае военным советником у Чан Кайши, который
пожаловал ему орден. Награждали его и советскими орденами —
Ленина, Красного Знамени. В учениях 1940 г. дивизия генерал-
Советские военнопленные
в Таллинне (Эстония).
1941 г.
майора Власова была признана лучшей в Красной армии. «Меня
ничем не обидела Советская власть», — подчёркивал позднее
А. Власов.
После начала войны он защищал Киев, затем Москву. Здесь
он особенно отличился, его армия взяла Волоколамск и другие
города. Трижды А. Власова принимал сам И. Сталин.
Летом 1942 г. 2-я ударная армия, которой командовал
генерал-лейтенант А Власов, попала в окружение под Ленинградом. Он
отказался покинуть на самолёте свою гибнущую армию.
Несколько недель после её разгрома Власов бродил по заболоченным
лесам и в конце концов остался почти один.
12 июля 1942 г. ему пришлось заночевать в каком-то
деревенском сарае. Здесь он был обнаружен и взят в плен немцами.
Полгода Власов пробыл в лагере военнопленных, став
свидетелем их невыносимого положения. В январе 1943 г. Власов
начал сотрудничать с немцами в «борьбе против сталинского
режима». Позднее он признался, что к этому решению его
подтолкнуло желание помочь советским пленным.
В марте 1943 г. Власов опубликовал письмо под заголовком
«Почему я стал на путь борьбы с большевизмом». «В борьбе за
наше будущее, — писал он, — я открыто и честно становлюсь на
путь союза с Германией».
«Ни Сталин, ни большевики не борются за Россию. Только в
рядах антибольшевистского движения создаётся действительно
наша Родина. Дело русских, их долг — борьба против Сталина,
за мир, за Новую Россию. Россия — наша! Прошлое Русского
народа — наше! Будущее Русского народа — наше!» — восклицал в
своём письме Власов.
Вскоре он был объявлен
главой «Русской
освободительной армии» (РОА). Весной
1943 г. ему разрешили
несколько поездок по
оккупированным советским территориям. В
своих речах перед населением
Власов неоднократно
осторожно задевал немцев. В
Смоленске он сказал: «Я не
марионетка Гитлера». В Луге спросил
собравшихся: «Хотите вы стать
рабами немцев?». «Нет!» —
отвечала толпа. «Я тоже так
думаю. Но пока германский
народ поможет нам, как русский
народ помог ему в борьбе с
Наполеоном».
В апреле 1943 г. генерал-
фельдмаршал Вильгельм Кей-
тель подписал приказ: «Ввиду
неправомочных, наглых выска-
564
зываний военнопленного
русского генерала Власова...
Фюрер не желает слышать имени
Власова ни при каких
обстоятельствах, разве что в связи с
операциями чисто
пропагандного характера, при
проведении которых может
потребоваться имя Власова, но не его
личность. В случае нового
личного появления Власова
предпринять шаги к передаче его
гестапо».
Вместе с Власовым в РОА
согласились вступить ещё
несколько советских генералов и
старших офицеров. Однако
пока «Русская освободительная
армия» только из них и
состояла. Вся её деятельность
сводилась к изданию двух газет на
русском языке: «Заря» и
«Доброволец».
Между тем в 1943 г. в
германских вооружённых силах
служило не менее 427 тыс.
русских и украинцев. (Именно их в
основном и называли позднее
«власовцами», хотя к самому
Власову они отношения не
имели.) По приблизительным
оценкам, всего в германских войсках
служило около 800 тыс. бывших
советских граждан.
Но немцы не хотели
передавать русские формирования
под команду Власова. РОА оста-
валась несуществующей до
самого конца 1944 г. Наконец
16 сентября 1944 г., когда
положение на фронтах для
Германии стало отчаянным, Генрих
Гиммлер при личной встрече с
Власовым разрешил ему создать
собственную армию.
Своим символом
«власовцы» избрали андреевский флаг:
все русские, воевавшие против
Красной армии, носили значок
с его изображением. К декабрю
В. Мель. Германский плакат
для оккупированных территорий.
ВОЕННЫЕ
ГОДЫ
Советские войска, взятые в плен пол
Минском и Смоленском. 1941 г.
1944 г. более миллиона человек выразили желание вступить в
РОА. Сформировать успели только две собственно власовские
дивизии. В конце апреля 1945 г. одна из них начала бои на
Восточном фронте.
Почти немедленно она перешла на сторону западных
союзников и по просьбе чешских антифашистов первая освободила
от немцев Прагу. «Власовцы» надеялись, что теперь западные
союзники не будут насильно выдавать их Советам. Но они
ошиблись: всех их американцы передали в руки Красной армии.
В мае 1945 г. американцы выдали советским властям всех
руководителей РОА, оказавшихся в их руках. А самого генерала Вла-
566
Генерал А. Власов беседует с жителями оккупированных территорий.
ВОЕННЫЕ
ГОДЫ
«ПРАЖСКИЙ МАНИФЕСТ»
Осенью 1944 г. немецкие власти
разрешили генералу А. Власову и его
единомышленникам обнародовать свою
политическую программу.
14 ноября в Праге был напечатан
«Манифест Комитета освобождения
народов России». Председателем
Комитета стал генерал Власов.
Комитет выступал за «почётный мир с
Германией». Относительно
сотрудничества с ней говорилось, что Комитет
«приветствует помошь Германии на
условиях, не затрагивающих чести и
независимости нашей родины. Эта
помошь является сейчас единственной
реальной возможностью организовать
вооружённую борьбу против
сталинской клики».
Манифест обешал ликвидацию
колхозов, гражданские свободы,
самоопределение всех народов России. Следов
антисемитизма в манифесте не было.
После опубликования манифеста
поток заявлений во власовскую армию
увеличился, и к декабрю их число
достигло миллиона.
сова взяли в плен части Красной армии. И после ареста он
продолжал считать своим главным достижением спасение тысяч
военнопленных от голодной смерти в концлагерях. Правда,
бывшие военнопленные теперь находились уже в других лагерях...
2 августа 1946 г. советские газеты сообщили о суде над
Андреем Власовым и одиннадцатью его единомышленниками
(бывшими генералами В. Малышкиным, Г. Жиленковым, Ф. Трухиным,
И. Благовещенским и др.). Всех их за измену Родине
приговорили к смертной казни через повешение. Приговор был приведён
в исполнение 1 августа 1946 г.
Командующий РОА А. Власов.
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
НАРОДОВ»
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ»
В 1937 и 1941 — 1944 гг. в Советском Союзе по решению властей
было проведено «переселение народов». В ссылку отправили
свыше 2,5 млн человек десяти национальностей.
Впервые переселения были опробованы в 1937 г. на
корейцах Приморского края. Более 100 тыс. корейцев переселили в
необжитые районы Средней Азии. Многие из них, особенно
старики и дети, вскоре погибли от необычного для них климата и
тяжёлых условий жизни. Следующим переселённым народом
стали советские немцы.
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НЕМЦЕВ
Во времена Петра I и Екатерины II в России поселились сотни
тысяч выходцев из Германии. К середине 20-х гг. XX в. в
Советском Союзе проживало около 1,2 млн их потомков. В 1924 г.
была создана автономная республика немцев Поволжья со
столицей в городе Энгельсе.
Через два месяца после начала Великой Отечественной
войны, 28 августа 1941 г., глава Советского государства Михаил
Калинин подписал указ об упразднении республики немцев
Поволжья. Всех советских немцев предписывалось выслать в Сибирь
и Среднюю Азию.
В указе говорилось: «По достоверным данным, полученным
военными властями, среди немецкого населения,
проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч
диверсантов и шпионов, которые по сигналу, полученному из
Германии, должны произвести взрывы в районах, населённых
немцами Поволжья. О наличии такого большого количества
диверсантов и шпионов среди немцев советским властям никто не
сообщал, следовательно, немецкое население районов Поволжья
скрывает в своей среде врагов советского народа и Советской
власти».
Писатель Илья Эренбург позднее отмечал в «Правде», что,
поселив на лучших землях России немцев, русский народ
пустил за пазуху и согрел змею.
3 сентября 1941 г. началось переселение немцев. Везли их
в товарных поездах, набитых так плотно, что спать приходилось
по очереди. Кормили один раз в день: выдавали миску супа и
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Возвращение переселённых народов
далеко не везде проходило гладко.
Иногда, вернувшись на родину, люди
находили свои дома по-прежнему
пустыми. Так было в горных селениях, где
могли уцелеть лишь те, кто обживался
здесь веками.
Однако чаше дома высланных были
уже заняты приезжими. Порой новые
жильцы отказывались продавать дома
прежним хозяевам.
В Ингушетии из-за этого возникла
враждебность между ингушами и
русскими переселенцами. В августе
1958 г. здесь вспыхнули волнения
русского населения. Поводом послужила
драка, в которой ингуш убил русского.
Похоронная процессия превратилась в
10-тысячную демонстрацию.
Разбрасывались листовки, которые требовали
нового выселения чеченцев и ингушей
и установления «власти русских».
Демонстранты захватили обком партии,
но были разогнаны войсками.
569
ВОЕННЫЕ
ГОДЫ
ДВИЖЕНИЕ МЕСХЕТИНЦЕВ
В 1956 г. туркам-месхетиниам
разрешили селиться всюду, кроме их
родины — Грузии. В1968 г. вышел указ,
объяснивший это тем, что месхетиниы
«укоренились» в местах ссылки.
С 1961 г. движение месхетиниев
возглавил Временный оргкомитет
возвращения народа на родину. Хотя
комитет неоднократно подчёркивал своё
полное уважение к законам и
советской власти, в 1971 г. трое его
лидеров были осуждены на несколько лет
заключения.
В 1968 г. месхетиниы устроили
7-тысячную демонстрацию в Тбилиси,
требуя права на возвращение в Грузию.
Глава грузинской компартии В.
Мжаванадзе пообещал им принимать в
Грузию по сто месхетинских семей в год.
Но обещание это не было выполнено.
После начала «перестройки»
положение месхетиниев ешё ухудшилось. В
июне 1989 г. в Узбекистане вспыхнули
месхетинские погромы, и турки-месхе-
тиниы стали беженцами.
Одновременно и в Грузии прошли
массовые митинги под лозунгом: «Ни
одного турка в Грузии!». После этих
событий надежды на возвращение в
родные края у месхетиниев почти не
осталось.
небольшой кусок хлеба. Многие переселенцы умерли ещё в пути.
В октябре 1946 г. в ссылке находилось более 895 тыс. немцев.
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ КАЛМЫКОВ
В декабре 1943 г. судьбу советских немцев разделили калмыки.
Как и в случае с переселением немцев, принятые меры
обосновывались утверждениями о массовой измене среди калмыков.
Калмыцкий поэт Давид Кугультинов рассказывал: «В
обвинение поставили, будто бы 110-я Калмыцкая кавалерийская
дивизия сдалась в плен. Всю эту кавалерийскую дивизию бросили
на танки немецкие. И пошла легенда, будто бы Калмыцкая
дивизия вся сдалась, разбежалась». На самом деле кавалерия, не
способная противостоять танкам, была просто уничтожена ими.
Всего выселили 93 тыс. калмыков. К концу 1946 г.
оставались в живых лишь 82 тыс. ссыльных, хотя к ним добавились ещё
и вернувшиеся с фронтов солдаты.
ПОРЯДОК ВЫСЕЛЕНИЯ
Выселение всех народов проводилось по общему плану. Вначале
происходила подготовка — прибывали войска. Если выселять
предстояло из глухих мест, для этого даже специально прокладывали
новые дороги. По свидетельству Д. Кугультинова, события
развивались так: «Сначала ставили во всех населённых пунктах
воинские подразделения, говорили, что, мол, на отдых. А люди-то
понимали: происходит что-то страшное. Солдаты стали им
украдкой шептать: сошлют вас, готовьтесь. Люди и верили, и не
верили. Моя тётка после рассказывала: рано утром им приказали
собраться в дорогу. С собой разрешили взять ценные вещи, узелки
до 10 килограммов».
Выселение проводилось молниеносно: на сборы иногда
давали всего 20 минут. Большая часть имущества, скот и птица —
всё оставалось брошенным вместе с домом. Выселяли в
основном женщин, детей и стариков, т. к, взрослые мужчины были на
фронте. Если в выселяемой семье жена была другой
национальности, она могла отказаться от мужа и остаться дома. Но все дети
со «смешанной кровью» подлежали ссылке.
Уже по пути в ссылку погибали наиболее слабые — старики
и дети. Часто в поездах происходили вспышки эпидемий, но
врачебная помощь больным не оказывалась. Тела умерших в пути
не хоронили. Солдаты конвоя просто бросали их под откос.
Только если умирало очень много людей, разрешали похороны.
Не предать тело близкого человека земле, по обычаям
большинства высылаемых народов, считалось самым тяжким грехом.
Часто высылаемые до последней возможности старались
прятать тело умершего в пути от охраны.
В спешке выселения родственники иногда оказывались в
разных поездах, которые развозили их далеко друг от друга.
Иногда несколько лет они не могли воссоединиться.
570
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
НАРОДОВ»
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ КРЫМА
18 мая 1944 г. началось выселение из Крыма 183 тыс. крымских
татар. Они так же, как немцы и калмыки, обвинялись в
сотрудничестве с оккупантами, в массовом дезертирстве.
В то же время известно, что 50 тысяч крымских татар в годы
войны получили боевые награды, 57 тысяч — погибли на
фронтах. Немцы сожгли 105 крымско-татарских деревень за связь их
жителей с партизанами.
Крым «очистили» не только от татар, но и от других
«нежелательных» национальностей. Одновременно сослали 15 тыс.
черноморских греков, 12 тыс. болгар, 10 тыс. армян.
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ КАВКАЗСКИХ НАРОДОВ
В 1943—1944 гг. развернулось выселение ряда народов с
Кавказа и из Закавказья. Выселение почему-то обычно начиналось
перед официальными праздниками.
6 ноября 1943 г. (в годовщину Октября) выселили 69 тыс.
карачаевцев.
23 февраля 1944 г. (в день Красной армии) — 460 тыс.
чеченцев и ингушей.
8 марта 1944 г. (в праздник 8 Марта) — 33 тыс. балкарцев.
Наконец последними в ноябре 1944 г. разделили судьбу
высланных народов 110 тыс. турок-месхетинцев.
ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Война закончилась. Вернувшись в родные места, солдаты
находили пустые дома и заброшенные селения. Они отправлялись на
поиски своих близких и находили их в ссылке. Здесь у фронтовиков
отбирали все полученные на войне награды и записывали их в
число ссыльных — «спецпереселенцев». Все спецпереселенцы
обязаны были каждый месяц отмечаться в комендатуре. Неявка
наказывалась заключением на полгода. Закончив школу, дети
переселенцев не могли продолжать образование в других городах.
Первое время высланные надеялись, что после окончания
войны власти «разберутся» и разрешат им вернуться на родину.
Но 26 ноября 1948 г. вышел указ, который гласил, что все
переселённые народы высланы навечно, а самовольная отлучка из
мест поселения карается двадцатью годами каторжных работ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ СОСЛАННЫХ НАРОДОВ
В 1955—1956 гг. власти сняли ограничения с большинства
высланных народов: им разрешили покидать места ссылки.
Но возвращаться на родину позволили не всем. С немцев
обвинение в предательстве сняли только в августе 1964 г.
Селиться же в Поволжье им не разрешали до 1972 г. Среди них в эти
годы возникло весьма широкое национальное движение. Одна-
АВИЖЕНИЕ КРЫМСКИХ ТАТАР
С 1956 г. крымские татары начали
подавать коллективные письма властям с
просьбой разрешить вернуться на
родину. В группы по составлению этих
писем вошло около 5 тыс. человек. В
1966 г. под одним из таких обращений
подписались 130 тыс. человек —
почти весь народ. Но никакого ответа на
все эти письма так и не последовало.
С середины 60-х гг. движение
крымских татар сблизилось с
правозащитным движением. Генерал Пётр Григо-
ренко (см. ст. «Пётр Григоренко»),
выступая в 1968 г. перед крымскими
татарами на встрече в одном московском
ресторане, сказал: «Перестаньте
просить! Верните то, что принадлежит вам
по праву!». Эта встреча закончилась
пением «Интернационала», причём
пели и случайные посетители
ресторана, и его работники.
В 1966—1968 гг. движение крымских
татар стало выливаться в новую
форму — массовых митингов и
демонстраций. Их разгоняла милиция, было
осуждено более двухсот активистов
движения. Но эти протесты заставили власти
принять указ 1967 г., который наконец
снял с крымских татар обвинение в
«измене родине». Правозашитнииа
Людмила Алексеева писала: «То, чего не
удалось добиться за восемь лет смиренных
просьб, было вырвано за три года
энергичных всенародных протестов».
Однако в том же указе подчёркивалось, что
крымские татары «укоренились на
новых местах», и им не разрешалось
возвращение на родину. После указа
движение крымских татар сделало ешё
один шаг в своём развитии: тысячи
людей стали возвращаться на родину,
не дожидаясь разрешений.
С 1967 г. крымские татары начали
ставить на пустырях в Крыму палаточные
городки и селиться в них. Власти
постоянно сносили их бульдозерами.
Случалось, разрушали и купленные
татарами дома. В 1978 г. после одного
такого выселения крымский татарин
Муса Мамут в знак протеста покончил
с собой, совершив самосожжение. Эта
«бульдозерная война» продолжалась
вплоть до 1990 г.
571
ко его участники, как правило, требовали не возвращения в
Поволжье, а выезда в Западную Германию.
Двум народам — крымским татарам и туркам-месхетин-
цам — было вообще отказано в праве вернуться в места
исконного проживания. В течение 60—80-х гг. продолжалась борьба
этих народов за возвращение на родину.
СОВЕТСКИЙ
СОЮЗ
1946-1991
tf'
0&*
%%
O^
tf\CC
oc^
*Y*Vfc
*1C"^N
M*
9#0
tf№
tff&
*0
$&^
*****
O^
*^c**
rtj&s*
Art9»c*c*0*
d*N°
<s.««
л**1*
V\N
•m"-"""^-*-
p^
cto*
?N
C^
cc<*
«ОТТЕПЕЛЬ»
«ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
13 января 1953 г. газета «Правда» поместила передовую статью
под сенсационным заголовком «Подлые шпионы и убийцы под
маской профессоров-врачей».
В статье сообщалось, что арестованы девять
«врачей-вредителей» (профессора Вовси, Виноградов, Фельдман, Этингер,
Гринштейн и др.). «Правда» писала: «Участники
террористической группы, используя своё положение врачей и злоупотребляя
доверием больных, злодейски подрывали здоровье последних...
Жертвами этой банды человекообразных зверей пали товарищи
Жданов и Щербаков. Преступники признались, что они,
воспользовавшись болезнью товарища Жданова, умышленно скрыли
имевшийся у него инфаркт миокарда, назначили
противопоказанный этому тяжёлому заболеванию режим и тем самым
умертвили товарища Жданова».
«Презренных наймитов, продавшихся за доллары и
стерлинги, советский народ раздавит, как омерзительную гадину», —
говорилось в заключение.
Об атмосфере следствия по «делу врачей» писал позднее
один из арестованных Яков Рапопорт: «М. С. Вовси и В. Н.
Виноградов говорили мне, что они признали все свои вымышленные
преступления. М. С. Вовси даже рассказал мне, как от него
потребовали признания в том, что он был ещё и немецким шпионом
и что он при этом расплакался, сказав: „Чего же вы ещё от меня
хотите, ведь я же признался, что был американским и английским
шпионом, неужели этого мало? Немцы расстреляли в Двинске
всю мою семью...". В ответ он получил матерную ругань и
требование: „Профессор, нечего запираться, признавайся, что был и
немецким шпионом!". И М. С. Вовси подписал, что был и
немецким шпионом тоже». Сам Я. Рапопорт «признаваться» отказался,
как и некоторые другие арестованные.
На общество «дело врачей» произвело сильное впечатление,
особенно тот факт, что большинство из них носили еврейские
фамилии. Люди отказывались лечиться у врачей-евреев.
Пустовали поликлиники и аптеки. Хирург Борис Петровский
рассказывал о своём рабочем дне 13 января: «В большой 12-местной
палате меня встретил гул голосов спорящих, возбуждённых
больных. Когда я вошёл, все смолкли, выжидательно и настороженно
уставились на меня. Я по возможности спокойно сказал, что по-
575
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
В 1946—1991 ГОДАХ
ЛИДИЯ ТИМАШУК
В августе 1948 г. у члена Политбюро
Андрея Жданова ухудшилось состояние
здоровья из-за сердечного
заболевания. Одна из его врачей, Лидия
Тимашук, считала, что у пациента инфаркт.
Но остальные врачи поставили другой
диагноа Вскоре Жданов скончался.
Лидия Тимашук написала в охрану
Сталина, что Жданова лечили
неправильно, вредительски. Тогда это письмо
осталось без ответа. Но в 1952 г. Сталин
вспомнил о нём и распорядился начать
«дело врачей».
Спустя неделю после сообшения об
аресте «врачей-вредителей» был
принят указ о награждении Л. Тимашук
орденом Ленина «за помощь, оказанную
Правительству в деле разоблачения
врачей-убийц». Из разных уголков
страны ей стали приходить письма, люди
восхищались её поступком, и в печати
появлялись подборки «Почта Лидии
Тимашук». Воображение поражал тот
факт, что простой незаметный врач,
рядовой советский человек повлиял на
судьбу огромной страны.
Когда «дело врачей» было
прекращено, «Правда» сообщила, что указ о
награждении Л. Тимашук отменён «как
неправильный в связи с
выявившимися в настоящее время
действительными обстоятельствами». Орден Ленина
был у неё отобран. Впрочем, через год
за свою работу она получила другой
орден—Трудового Красного Знамени.
На пенсию Лидия Тимашук вышла в
1964 г., а скончалась в 19^3 г. в
возрасте 85 лет.
еле публикации в сегодняшних газетах мы вполне понимаем их
волнение, но у нас в коллективе вредителей нет. Тем не менее,
учитывая происходящее, хотим отменить операции. Каково же
было моё облегчение, когда больные твёрдо, почти хором
закричали: „Мы вам верим! Не надо отменять операции!". Но в
некоторых клиниках всё же произошли неприятные эксцессы:
нескольких врачей избили».
Дочь Якова Рапопорта Наталия, бывшая в то время
школьницей, вспоминала: «Широко обсуждался вопрос, как будут
казнить преступников. Информированные круги в моём классе
утверждали, что их повесят на Красной площади. Волновались:
будет туда открытый доступ или только по пропускам. Сходились
на том, что по пропускам: иначе любопытствующие подавят друг
друга и могут снести Мавзолей. Кто-то утешал: ничего,
наверняка будут снимать кино. А я видела во сне повешенного Вовси и
просыпалась с криком...».
Ходили слухи, что во время публичной казни разгневанная
толпа вырвет осуждённых из рук палача и сама расправится с
ними. После этого повсюду пройдут еврейские погромы, и всех
евреев, «спасая их от народного гнева», вывезут в Сибирь.
«Правда» уже будто бы заготовила статью об этих событиях под
заголовком «Русский народ спасает еврейский народ».
Но развязка оказалась совершенно неожиданной. 5 марта
1953 г. скончался Иосиф Сталин. Его соратники с самого
начала были настроены против «дела врачей». Они хорошо
помнили, что на процессе Бухарина в 1938 г. тоже судили «убийц в
белых халатах». Теперь они опасались, что «вдохновителями
врачей-вредителей» окажутся они сами. Поэтому сразу после
смерти Сталина решено было дело прекратить.
4 апреля 1953 г. было опубликовано «Сообщение МВД СССР»
о том, что, как выяснилось, 15 врачей, привлечённых по этому
делу, «были арестованы бывшим МГБ неправильно, без каких-
либо законных оснований». «Показания арестованных, якобы
подтверждающие выдвинутые против них обвинения, получены
путём применения недопустимых и строжайше запрещённых
советскими законами приёмов следствия». Все арестованные в тот
же день были освобождены.
Писатель Илья Эренбург упомянул освобождение врачей в
своей известной повести «Оттепель» (1954 г.). Конец «дела
врачей» стал первым признаком общего смягчения режима в
стране — «оттепели».
ПЕРВЫЕ ШАГИ «ОТТЕПЕЛИ»
До смерти Сталина никто в высших слоях общества не
чувствовал себя защищенным. Никто не был застрахован от ареста и
гибели. Поэтому теперь они хотели прежде всего добиться для себя
личной неприкосновенности.
Первым шагом к этому стало прекращение «дела врачей».
Кроме того, началось освобождение политзаключённых — род-
576
«ОТТЕПЕЛЬ»
ственников высших
руководителей страны.
В Москве освободили
жену Молотова Полину
Жемчужину. Ещё в начале марта
её допрашивали и пытали на
следствии. Историк Рой
Медведев писал: «9 или 10 марта её
вызвали в кабинет к Берии.
Она не знала о смерти
Сталина и готовилась к худшему. Но
Берия неожиданно вышел из-
за стола, обнял свою гостью и
воскликнул: „Полина! Ты
честная коммунистка!". Жемчужина
упала на пол, потеряв
сознание. Но её быстро привели в
чувство...».
В марте вернулся домой
Алексей Каплер — бывший
жених дочери Сталина. По
просьбе маршала Георгия Жукова
отпустили ряд арестованных
генералов и адмиралов. Их тоже
освобождал лично Лаврентий
Берия, ставший министром
внутренних дел.
Л. Берия стремился пойти
впереди «оттепели». Он
выдвигал поэтому самые
решительные предложения во всех
областях. Например, после
Берлинского восстания вместе с
Георгием Маленковым он предложил не строить в ГДР
социализм. 27 мая Берия заявил: «Нам нужна мирная Германия, а будет
ли там социализм или не будет, нам всё равно».
Но в Берии руководители страны продолжали видеть
прежде всего чекиста. Госбезопасность внушала им страх. Ведь
именно её руками проводились все аресты и расстрелы руководства.
Чтобы освободиться от этого страха, они желали покончить с её
влиянием.
РАССТРЕЛ ЛАВРЕНТИЯ БЕРИИ
10 июля 1953 г. советские граждане неожиданно узнали из газет,
что Лаврентий Берия исключён из партии как «враг
Коммунистической партии и советского народа». В сообщении
говорилось, что «в интересах иностранного капитала» он пытался
«поставить МВД над Правительством и партией».
Этому предшествовали следующие события. К лету 1953 г.
«„Следы преступлений". Органами
Государственной безопасности
раскрыта террористическая группа
врачей-вредителей, наёмных агентов
иностранных разведок»
(«Крокодил». Январь 1953 г.).
577
JZiSk
\щ$2Щ
чй^
советский союз
В 1946—1991 ГОДАХ
Г. Маленков. 1940 г.
А. Налбандян. «Аля счастья народа.
Заседание Политбюро UK ВКП(б)».
1949 г.
все члены Президиума ЦК договорились о совместных
действиях против Берии. «Пока эта сволочь сидит, никто из нас не
может чувствовать себя спокойно», — говорил Никита Хрущёв,
отражая общее мнение.
Решено было арестовать Берию на заседании Президиума
ЦК партии 26 июня. Конечно, арест нельзя было поручать
чекистам, его подчинённым. Поэтому в Кремль вызвали нескольких
проверенных военных. Среди них были маршал Георгий Жуков,
генералы Кирилл Москаленко и Павел Батицкий.
Бывший работник ЦК Фёдор Бурлацкий так передавал
устный рассказ Хрущёва об этом заседании: «Сели все, а Берии нет.
Ну, думаю, дознался. Ведь не сносить нам тогда головы. Но тут он
пришёл, и портфель у него в руках. Сел и спрашивает: „Ну, какой
вопрос сегодня на повестке дня? Почему собрались так
неожиданно?". А я толкаю Маленкова ногой и шепчу: „Открывай
заседание, давай мне слово". Тот побелел, смотрю, рта раскрыть не
может. Тут я вскочил сам и говорю: „На повестке дня один вопрос.
Об антипартийной, раскольнической деятельности агента
империализма Берии. Есть предложение вывести его из состава
Президиума, из состава ЦК, исключить из партии и предать
военному суду"».
В своих воспоминаниях Хрущёв писал: «Маленков всё ещё
пребывал в растерянности и даже не поставил моё предложение
на голосование, а нажал сразу секретную кнопку и вызвал таким
способом военных». Из соседней комнаты вышли ожидавшие там
военные. В руках они держали револьверы. Большинство
сидевших за столом замерли от
неожиданности. Георгий Жуков
скомандовал Берии: «Встать!
Вы арестованы. Руки вверх!».
Перед Л. Берией на столе
лежал листок бумаги.
Потрясённый, он во время заседания
крупно выводил на нём одно и
то же слово: «Тревога». Он
написал его 19 раз.
Берия потянулся за своим
портфелем, который оставил на
подоконнике. Нервное
напряжение Хрущёва разрядилось в
том, что он выбил портфель из
рук Берии, решив, что внутри
спрятано оружие. На самом деле
портфель был пустым.
После ареста Лаврентия
Берию под конвоем доставили
в здание штаба Московского
военного округа. Там же ему
выдали простую солдатскую
форму, отобрали пенсне.
578
Как писал историк Антон Антонов-Овсеенко, из-под ареста
Берия посылал отчаянные записки Маленкову: «Егор, разве ты не
знаешь, меня забрали какие-то случайные люди, хочу лично
доложить обстоятельства. Когда вызовешь?»; «Егор, почему ты
молчишь?».
18 декабря начался закрытый суд, который проходил в том
же здании. Председателем на нём был маршал Иван Конев,
обвинителем — новый генеральный прокурор СССР Роман Ру-
денко.
Приговор гласил, что Берия более 30 лет состоял на службе
иностранных разведок Он обвинялся также в попытке
«поставить МВД над партией».
Вместе с ним судили ещё шесть человек Это были видные
чекисты (В. Деканозов, В. Меркулов и др.). Всех подсудимых
приговорили к смертной казни.
Как сообщили советские газеты, приговор привели в
исполнение 23 декабря. Согласно акту о расстреле, Лаврентия Берию
казнили отдельно, на полтора часа раньше остальных осуждённых.
А Антонов-Овсеенко так описывал его казнь: «Казнили
приговорённого в том же бункере штаба МВО. С него сняли
гимнастёрку, оставив белую нательную рубаху, скрутили верёвкой
сзади руки и привязали к крюку, вбитому в деревянный щит. Этот
ЩИТ предохранял присутствующих ОТ рикошета Пули. Прокурор Арест Д. Берии на заседании Президиума
РуденКО Зачитал приГОВОр. ЦК КПСС. Современный рисунок.
579
Берия. Разрешите мне сказать...
Руденко: Ты уже всё сказал. (Военным?) Заткните ему рот
полотенцем. Прошу привести приговор в исполнение.
Батицкий нажал на курок, пуля угодила в середину лба. Тело
повисло на верёвках».
Под арестом оказались жена Берии и его сын. Они провели
в заключении около полутора лет.
Влияние госбезопасности в руководстве страны после
ареста Берии было почти сведено на нет. Расстрелы отдельных
видных чекистов продолжались до 1955 г.
В народе в это время появилась частушка:
Лаврентий Палыч Берия
Не оправдал доверия.
Осталися от Берии
Лишь только пух да перия.
РЕАБИЛИТАЦИЯ
И после расстрела Берии реабилитация (освобождение и
оправдание) заключённых продолжалась. В течение 1953 г. отпустили
около тысячи человек; до 1956 г. — около 10 тыс.
Освобождали прежде всего родных и близких тех, кто
теперь стоял у власти. За каждого реабилитированного должны
были поручиться два знавших его партработника.
Но дело двигалось слишком медленно. В заключении
оставались десятки тысяч бывших руководителей. Это беспокоило и
новое руководство.
Чтобы ускорить процесс, в 1956 г. создали около сотни
особых комиссий. Прямо в лагерях они изучали дела, беседовали с
заключёнными и быстро их освобождали.
К осени 1956 г. на свободу вышли почти все
политзаключённые — сотни тысяч человек Среди них были не только
коммунисты, но и уцелевшие эсеры, меньшевики и т. п. В заключении
остались только те, кто воевал против Советской власти в 40-е гг.
Это были «власовцы», а также партизаны Прибалтики и
Украины — «лесные братья» и «бандеровцы».
Вину сняли примерно с 1,5 млн человек, арестованных в
30-е гг. и позднее. Большую часть из них реабилитировали
посмертно.
Реабилитация не коснулась «раскулаченных», осуждённых
по «шахтинскому делу» и т. п. Не сняли вину с Григория
Зиновьева, Льва Каменева, Николая Бухарина и др. (см. ст. «Партия
большевиков в 20—30-е годы»). ^
Историк Рой Медведев писал: «Жена Н. Крестинского в
течение семи лет после XX съезда добивалась реабилитации
своего мужа, проходившего по процессу вместе с Бухариным. Когда
ей наконец сообщили, что её муж реабилитирован и
восстановлен в партии, она умерла от инфаркта, упав на пол рядом с
телефонным аппаратом».
580
«ОТТЕПЕЛЬ»
XX СЪЕЗД ПАРТИИ
Чтобы исключить в будущем массовые «чистки», недостаточно
было просто освободить тех, кто был прежде арестован.
Требовалось и политически осудить подобные меры.
Такое осуждение готовилось постепенно. В печати
появилось выражение «культ личности». Газеты писали, как Ленин и
Сталин всегда выступали против «культа личности». Имя
Сталина в печати встречалось всё реже.
14 февраля 1956 г. открылся XX съезд КПСС, первый после
смерти Сталина. Было ясно, что это наиболее удобный момент
для его прямого осуждения.
Высшие руководители понимали, что это неизбежно бросит
тень на них самих. Одним из главных доводов за осуждение
Сталина, по словам Н. Хрущёва, стал такой: «Если ошибки и
недостатки, которые имели место в период культа личности Сталина,
не вскрыть и не осудить, то значит одобрить, узаконить их на
будущее».
Кроме того, бывшие соратники Сталина опасались, как
выразился Анастас Микоян, «раскачивания стихии». Если
осуждение прежних «чисток» пойдёт без их участия, оно обратится
против них. Позднее Н. Хрущёв писал: «Если бы мы не разоблачили
Сталина, то у нас, возможно, были бы более острые события, чем
в Чехословакии» (в 1968 г.).
В речи на съезде А, Микоян заявил: «В течение примерно
двадцати лет у нас фактически не было коллективного
руководства, процветал культ личности».
Утреннее заседание 25 февраля, в последний день съезда,
было закрытым. На нём отсутствовали журналисты и гости. С
большим докладом «О культе личности и его последствиях»
Зал заседаний XX съезда КПСС.
Н. Хрушёв беседует с Г. Жуковым в перерывах между заседаниями XX съезда КПСС
Фото Д. Бальтерманиа.
Выступление Н. Хрущёва
на XX съезде КПСС.
581
ф
советский союз
В 1946—1991 ГОДАХ
«ДЕЛО ПАСТЕРНАКА»
В ноябре 1957 г. в Италии был
напечатан новый роман Бориса Пастернака
«Доктор Живаго». Писатель надеялся,
что одновременно роман напечатают и
в Советском Союзе. Но здесь его выход
задержался по цензурным причинам.
23 октября 1958 г. было объявлено о
присуждении Б. Пастернаку
Нобелевской премии по литературе. Он тут же
послал в Стокгольм телеграмму:
«Бесконечно благодарен, тронут, горд,
удивлён, смушён». Но на родине
присуждение Нобелевской премии
Пастернаку вызвало совсем иной отклик.
Уже на следующий день редакция
«Нового мира» во главе с А. Твардовским
подписала письмо, где выражала
писателю «презрение» за его
«постыдную, антипатриотическую» книгу.
«Литературная газета» писала 25
октября: «Пастернак получил „тридцать
сребреников", для чего использована
Нобелевская премия. Он награждён за то, что
согласился исполнить роль наживки на
ржавом крючке антисоветской
пропаганды. Наживку заменят новой, как
только она протухнет. Бесславный
конец ждёт и воскресшего Иуду, доктора
Живаго, и его автора, уделом которого
будет народное презрение». 27
октября состоялось обсуждение «дела
Пастернака» в Союзе писателей. На это
собрание он не пошёл, а только направил
туда письмо: «Я не ожидаю от вас
справедливости. Я вас заранее прошаю. Но
не торопитесь. Это не прибавит вам ни
счастья, ни славы». Ни один из
писателей не выступил в его зашиту. Он был
исключён из Союза писателей. О
Пастернаке и его романе с осуждением
писала вся советская печать. В ней
появились стихи М. Балыкина и А. Семёнова:
Как больно нам, как стыано, что меж нас
Ешё живут и холят пастернаки
И выжилают свой пролажный час.
Восхищены тобою нелрузья,
А жёлтые пролажные писаки...
Нельзя простить и оставлять нельзя
В литературе нашей Пастернакипь!
29 октября глава комсомола Владимир
Семичастный заявил в своей речи:
«Иногда мы, кстати совершенно
незаслуженно, говорим о свинье, что она
такая, сякая и прочее. Я должен вам
сказать, что это наветы на свинью. Сви-
выступил Первый секретарь ЦК партии Н. Хрущёв.
«Съезд выслушал мой доклад молча, — вспоминал он. — Как
говорится, слышно было, как муха пролетит. Всё это прозвучало
совершенно неожиданно для делегатов».
Доклад произвёл очень сильное впечатление. В нём были не
только общие рассуждения, но и рассказ о судьбе нескольких
арестованных. Это были члены ЦК и Политбюро: П. Постышев,
Н. Вознесенский, А. Кузнецов и др. Хрущёв рассказывал о
пытках, которые к ним применялись, об их письмах перед казнью.
Участники съезда были глубоко потрясены. Несколько
человек во время доклада упали в обморок, и их унесли.
Тем не менее делегаты единогласно утвердили
постановление по докладу. В нём они поручали ЦК «полное преодоление
культа личности, ликвидацию его последствий».
ПОСЛЕ XX СЪЕЗДА
Доклад Н. Хрущёва на закрытом заседании XX съезда первое
время считался секретным. Но слухи о нём, конечно,
немедленно разошлись по стране.
Особенное волнение это вызвало на родине И. Сталина, в
Грузии. Молодёжь была возмущена тем, что соратники Сталина,
при жизни превозносившие его, теперь оскорбляют его память.
5 марта 1956 г. исполнялось три года со дня смерти
Сталина. В этот день у его памятника в Тбилиси собрались тысячи
людей. В основном это были студенты и старшеклассники. Они
потребовали «восстановить доброе имя И. В. Сталина». «Долой
Хрущёва! Молотова — во главе правительства!» — восклицали
демонстранты. В. Молотов всегда считался «правой рукой» и
преемником Сталина.
Демонстранты пытались пробиться в здание Центрального
телеграфа в Тбилиси, чтобы отправить в Москву свои
обращения. Они окружили здание ЦК компартии Грузии. Митинги
начались и в других городах Грузии.
9 марта в Тбилиси вошли войска. Выстрелами и танками
они разогнали толпу. При подавлении волнений погибли и были
ранены сотни людей.
Между тем в середине марта доклад Н. Хрущёва решено было
довести до сведения советских граждан. По всей стране стали
проходить тысячи открытых партсобраний, на которых
зачитывали доклад. Правда, текст его оставался как бы секретным —
делать записи на этих собраниях запрещалось. Многие, особенно
убеждённые члены партии, были потрясены услышанным.
В июне полный текст доклада впервые напечатали за
границей, в США. В Советском Союзе его опубликовали только в
1989 г.
2 июля «Правда» поместила большое постановление ЦК
партии «О преодолении культа личности и его последствий».
Документ выглядел мягче, чем доклад. «Партия сказала всю правду, как
бы она ни была горька, — говорилось в нём. — Тем самым созда-
582
«ОТТЕПЕЛЬ»
ются прочные гарантии того, чтобы в нашей стране никогда
впредь не могли возникнуть явления, подобные культу личности».
«АНТИПАРТИЙНАЯ ГРУППА»
5 марта 1953 г., за два часа до смерти И. Сталина, его соратники
провели заседание. На нём они разделили должности в новом
руководстве. Газеты сообщили об этом 7 марта. Самый
влиятельный пост — главы правительства — занял Георгий Маленков.
Арест и казнь Берии нарушили политическое равновесие.
Госбезопасность как политическая сила была сломлена.
Возросло значение партаппарата, который возглавлял Н. Хрущёв.
Н. Хрущёв в то время гораздо лучше Г. Маленкова и других
членов руководства чувствовал общие настроения среди
ответственных работников. Ф. Бурлацкий приводил такой
характерный случай.
В ноябре 1953 г. в ЦК проходило совещание. Г. Маленков
выступил с длинной речью, где резко осуждал взяточничество и
морально-бытовое разложение среди работников аппарата.
После этого выступления в зале воцарилась «гробовая тишина», где
«недоумение было перемешано с растерянностью, растерянность
со страхом, страх с возмущением». Тягостное молчание нарушил
бодрый голос Хрущёва: «Всё это, конечно, верно, Георгий
Максимилианович. Но аппарат — это наша опора». Зал ответил ему
бурными восторженными аплодисментами.
Такое «перетягивание каната» между Маленковым и
Хрущёвым давало явное преимущество последнему. Шаг за шагом он
продвигался к победе над соперником. В феврале 1955 г. он,
наконец, добился полного поражения Г. Маленкова. Тот потерял
свой пост и остался всего лишь министром электростанций.
Первым человеком в стране оказался теперь Н. Хрущёв.
Однако среди его ближайших соратников недовольство
действиями нового руководства нарастало. Они считали, что Хрущёв
часто принимает своевольные и неправильные решения.
Особенное возмущение вызвал его лозунг: «За три-четыре
года догнать США по производству мяса, молока и масла на душу
населения!». Он выдвинул его без обсуждения в Президиуме ЦК
Постепенно здесь родилась идея сместить Хрущёва.
18 июня 1957 г. её попытались привести в исполнение.
Неожиданно для Н. Хрущёва против него выступили почти все
старейшие члены руководства: Вячеслав Молотов, Климент
Ворошилов, Лазарь Каганович, Георгий Маленков. В. Молотов
вспоминал: «У нас программы никакой не было, единственное —
снять Хрущёва, назначить его министром сельского хозяйства».
Большинством в семь голосов против трёх Президиум ЦК
проголосовал за снятие Хрущёва. Казалось, его противники
одержали победу.
На стороне Хрущёва решительно выступил министр
обороны Г. Жуков. Его голос имел немалый вес.
Сторонникам Хрущёва удалось созвать пленум ЦК, который
нья — все люди, которые имеют дело с
этим животным, знают особенности
свиньи, — она никогда не гадит там, где
кушает, никогда не гадит там, где спит.
Поэтому, если сравнить Пастернака со
свиньёй, то свинья не сделает того, что
он сделал (Лплолисменты.). Он нагадил
там, где ел, нагадил тем, чьими трудами
он живёт и дышит» (Лплолисменты.). «А
почему бы этому внутреннему
эмигранту, —продолжал Семичастный,—не
изведать воздуха капиталистического, по
которому он так соскучился. Я уверен,
что и общественность, и правительство
никаких препятствий ему бы не чинили,
а, наоборот, считали бы, что его уход из
нашей среды освежил бы воздух»
{Лплолисменты.). После этой речи
несколько десятков студентов Литературного
института провели митинг с
требованием высылки Пастернака за границу.
«Иуда — вон из СССР!» — гласил один
из лозунгов. На плакате был изображён
Пастернак, протянувший руку со
скрюченными пальцами к мешку долларов.
29 октября Борис Пастернак направил
в Стокгольм вторую телеграмму: «В
силу того значения, которое получила
присуждённая мне награда в
обществе, к которому я принадлежу, я должен
от неё отказаться. Не примите за
оскорбление мой добровольный отказ».
31 октября он писал Н. Хрущёву: «Я
связан с Россией рождением, жизнью,
работой. Я не мыслю своей судьбы
отдельно и вне её. Я поставил в
известность Шведскую академию о своём
добровольном отказе от Нобелевской
премии. Выезд за пределы моей
Родины для меня равносилен смерти».
В феврале 1959 г. в западной печати
появилось новое стихотворение
Пастернака «Нобелевская премия»:
Я пропал, как зверь в загоне.
Гле-то люли, воля, свет,
Л за мною шум погони,
Мне наружу холу нет.
Тёмный лес и берег прула.
Ели сваленной бревно.
Путь отрезан отовсюлу.
Буль что булет, всё равно.
Что же слелал я за пакость,
Я убийца и злолей?
Я весь мир заставил плакать
Нал красой земли моей.
Умер Борис Пастернак 30 мая 1960 г.
583
4%&к
^©s
^др
советский союз
В 1946—1991 ГОДАХ
СОБЫТИЯ В НОВОЧЕРКАССКЕ
1 июня 1962 г. было объявлено о
повышении примерно на 25—30%
государственных иен на мясо, молоко и
яйиа. На крупном заводе электровозов
в Новочеркасске (НЭВЗ) это
повышение особенно больно ударило по
рабочим, т. к. только что на треть были
понижены расценки на их работу.
Взволнованные рабочие окружили
директора завода и спрашивали его, как
же им теперь свести концы с концами.
Директор Б. Курочкин грубовато
отвечал: «Если не хватает зарплаты на мясо
и колбасу, кушайте ливерные
пирожки». Эти слова, быстро разошедшиеся
по цехам, вызвали всеобщее
возмущение. Рабочие восклицали: «Да они ешё
издеваются над нами, сволочи!».
Раздался заводской гудок. На
плошали у заводоуправления начался
стихийный митинг. Первый секретарь
Ростовского обкома попытался успокоить
митингующих, рассказывал о своём
беспризорном детстве. Его не
слушали, и ему пришлось уйти. Решено было
на следующий день идти к горкому
партии, чтобы высказать свои требования.
На другие предприятия Новочеркасска
и Ростова послали делегатов за
поддержкой.
Вечером на заводской плошади
запылал костёр из собранных со всего
завода портретов Н. Хрущёва.
На следующий день многотысячная
колонна рабочих с красными флагами
и портретами Ленина под пение
«Интернационала» направилась к горкому.
Несли лозунги: «Дайте мясо, масло!»,
«Нам нужны квартиры!», «Хрущёва на
мясо!». К этому времени в город уже
вошли войска, а многие активные
участники вчерашнего митинга были
арестованы. В Новочеркасск негласно
прибыли члены Президиума UK
Анастас Микоян и Фрол Козлов, чтобы
руководить подавлением волнений.
продлился восемь дней. На пленуме В. Молотов раскритиковал
Н. Хрущёва, но не получил никакой поддержки. Вероятно,
впервые в истории партии Центральный Комитет выступил против
Президиума.
Н. Хрущёв, безусловно, был ближе новому поколению
руководства, чем Г. Маленков или «старые большевики» В. Молотов и
К Ворошилов. Хрущёв позже назвал своих противников
«погасшими звёздами». Участники пленума опасались излишней
«идейности» противников Хрущёва. Это обвинение прозвучало и в
постановлении пленума. «Они являются сектантами и
догматиками, — говорилось в нём, — проявляют начётнический,
безжизненный подход к марксизму-ленинизму».
Противники Хрущёва признали своё поражение и сдались.
Пленум принял постановление «Об антипартийной группе
Маленкова, Кагановича, Молотова». Все участники «антипартийной
группы» выводились из ЦК Как сообщили газеты, решение было
принято единогласно «при одном воздержавшемся — в лице
т. Молотова».
Остальные раскаявшиеся противники Хрущёва пока
остались на своих постах.
Членов «антипартийной группы» выслали из Москвы:
Маленкова в Усть-Каменогорск, Кагановича — в Асбест, а Молотова
направили послом в Монголию. Позднее их исключили из партии.
Хрущёв любил вспоминать свой телефонный разговор с
Кагановичем вскоре после этих событий. Тот позвонил ему и
спросил:
«Никита, что с нами будет?».
«А что бы вы сделали, если бы ваша взяла? — ехидно
спросил Хрущёв. — Сгноили бы меня в тюрьме, расстреляли?»
В заключение Хрущёв пообещал, что членов
«антипартийной группы» не тронут, они смогут спокойно жить и работать.
Под эпохой арестов и расстрелов руководства действительно
была подведена черта.
Борьба с «антипартийной группой» имела ещё одно
неожиданное последствие. Хрущёв одержал победу во многом
благодаря поддержке маршала Жукова. Теперь его беспокоило
усилившееся влияние армии.
В октябре того же 1957 г., когда Г. Жуков находился за
границей, вышел приказ о снятии его с поста министра
обороны. 29 октября собрался пленум ЦК, посвященный вопросу о
Жукове. Его обвинили в намерении «вывести вооружённые силы из-
под контроля партии». 60-летнего маршала уволили в отставку и
отправили на пенсию.
Площадь Ленина у горкома
заполнилась людьми, начался митинг. Дети
сидели на крышах и деревьях, чтобы
наблюдать за событиями. Толпа заняла
здание горкома партии. С его балкона
стали выступать ораторы. Все высту-
XXII СЪЕЗД ПАРТИИ
17 октября 1961 г. в Москве открылся XXII съезд партии. Съезд
стал своеобразной «присягой» новому политическому курсу. Тон
задал сам Хрущёв, сказавший, что Сталин и члены
«антипартийной группы» отвечают за массовые репрессии. После этого поч-
584
«ОТТЕПЕЛЬ»
ти все выступавшие развивали эту тему. Историк Юрий Аксютин
вспоминал: «Такого интересного политического чтения, как речи
на том съезде, мы потом не знали целую четверть века!».
Возвращение членов «антипартийной группы» в
политическую жизнь теперь стало почти невозможным. Их исключили из
партии.
На XXII съезде было принято решение вынести тело
Сталина из мавзолея и похоронить его у Кремлёвской стены. Это
произошло в ночь на 31 октября, накануне закрытия съезда.
Его имя вычеркнули из названий городов, сёл и улиц.
Только в некоторых грузинских городах сохранились «улицы
Джугашвили».
По всей стране были уничтожены тысячи памятников
Сталину. Сносили их ночью, тайно, часто под оцеплением КГБ,
чтобы исключить всякое брожение в народе.
Самый большой памятник Сталину стоял возле Волгограда
(Сталинграда), на Волго-Донском канале. Его возвели в 1952 г.
24-метровая бронзовая фигура возвышалась на 20-метровом
постаменте из гранита. Одни только пальцы на гигантских руках
памятника в длину превышали метр. Ночью 20 ноября он тоже
был сброшен на землю и отправлен на переплавку.
ЛИТЕРАТУРНАЯ «ОТТЕПЕЛЬ»
В 60-е гг. в печать попали некоторые запрещённые ранее
литературные произведения. Появились и новые остро критические вещи.
В ноябре 1962 г. журнал «Новый мир» поместил повесть
Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича».
Чтобы её напечатать, потребовалось специальное решение
Президиума ЦК Повесть рассказывала о жизни заключённых.
Критик Владимир Лакшин вспоминал: «Через два-три дня
о повести неизвестного автора говорил весь город, через
неделю — страна, через две недели — весь мир. Повесть заслонила
собой многие политические и житейские новости: о ней
толковали дома, в метро и на улицах. В библиотеках 11-й номер „Нового
мира" рвали из рук В читальных залах нашлись энтузиасты,
сидевшие до закрытия и переписывавшие повесть от руки».
После этого десятки бывших заключённых тоже стали
писать воспоминания о пережитом в лагерях. Правда, в печать из
них попали очень немногие. Например, «Новый мир» напечатал
лагерные воспоминания генерала Александра Горбатова.
Не разрешённые цензурой рукописи начали передавать из
рук в руки. Их перепечатывали на машинке. Это иронически
окрестили «самиздатом». В «самиздат» попадало всё больше
запрещённых книг.
В легальной печати постепенно сложились два течения.
Одно возглавлял журнал «Октябрь» Всеволода Кочетова,
другое — «Новый мир» Александра Твардовского. Одно
подчёркивало обязанности личности перед государством. Другое
отстаивало большие творческие свободы для интеллигенции.
павшие призывали не выхолить на
работу, пока не восстановят прежние
расценки на заволе и не снизят иены
на мясо и молоко. Митингующие
требовали освободить арестованных,
пригласить в город членов Президиума UK.
Тем временем к плошади подъехали
танки. Раздалась стрельба из
автоматов. Первые очереди солдаты дали над
головами толпы, и они пришлись по
деревьям, с которых стали падать убитые
и раненые подростки.
Очевидец событий А. Симонов
вспоминал: «Солдаты открыли огонь из
автоматов. Началась паника. Люди
постарше, видимо фронтовики, падали и
ползли по плошади по-пластунски. Что
было дальше, помню плохо. Долго
пытались смыть кровь с плошади.
Сначала пожарной машиной, потом ешё
какой-то со шётками и, наконец,
пригнали каток — заасфальтировали всё
толстым слоем». Всего было убито 24
человека и около 30 ранено. Погибших
тайно похоронили.
В Новочеркасске воцарилось
«спокойствие». В газетах о происшедшем не
было сказано ни слова. А в городских
магазинах наступило неожиданное
«изобилие»: прилавки заполнились
продуктами.
В августе над «зачинщиками
беспорядков» (в основном уличными
ораторами) состоялась серия судов. Аля
«главного» из этих процессов в
Новочеркасск специально прибыла коллегия
Верховного суда России. Из 14
подсудимых 7 были приговорены к смертной
казни и расстреляны. Всего же
осудили около 105 человек.
За участие в волнениях шесть лет
находился в заключении новочеркасский
рабочий Пётр Сиуда. Позднее он
занимался расследованием обстоятельств
новочеркасской трагедии. Он был убит
при невыясненных обстоятельствах
5 мая 1990 г.
События в Новочеркасске не были
единственными. Волнения в связи с
повышением цен, хотя и меньшего
размаха, происходили более чем в десяти
городах страны (в Донецке, Кемерове,
Иванове и др.).
585
т
СОВЕТСКИЙ союз
В 1946—1991 ГОДАХ
СУД НАЛ
ИОСИФОМ БРОДСКИМ
4 мая 1961 г. в России был принят указ
о борьбе с тунеядцами. В их число
попадали все взрослые граждане,
«уклоняющиеся от общественно полезного
труда».
29 ноября 1963 г. газета «Вечерний
Ленинград» напечатала фельетон
«Окололитературный трутень». В нём
высмеивался и разоблачался как
тунеядец поэт Иосиф Бродский. «Этот
пигмей, самоуверенно карабкающийся на
Парнас, не так уж безобиден, —
замечала газета. — Надо перестать
нянчиться с окололитературным
тунеядцем. Такому, как Бродский, не место в
Ленинграде».
И. Бродский был арестован. В
феврале — марте 1964 г. над ним состоялся
суд. Между судьёй и подсудимым
несколько раз повторялся один и тот же
диалог:
«Сулья: Объясните суду, почему Вы не
трудились.
Бролский: Я работал. Я писал стихи.
Сулья: Но это не мешало Вам
трудиться.
Бролский: Я трудился. Я писал стихи».
Раздражённая, судья
поинтересовалась:
«А кто это признал, что Вы поэт? Кто
причислил Вас к поэтам?»
«Никто, — отвечал удивлённо
Бродский. — А кто причислил меня к роду
человеческому?»
«А Вы учились этому? — спросила
судья. — Не пытались кончить вуз?»
«Я не думал, что это даётся
образованием, — сказал Бродский и с лёгкой
растерянностью добавил: — Я думаю,
это... от Бога».
В последнем слове он под смех судьи
и заседателей заявил: «Я не только не
тунеядец, а поэт, который прославит
свою Родину». Пять лет ссылки —
гласил приговор.
Дело Бродского стало определённой
исторической вехой... Пастернака не
решился защитить никто. А в защиту
Сторонники обоих направлений ссылались на идеи
Ленина, но по-разному относились к эпохе Сталина. «Октябрь»
выделял её положительные стороны, «Новый мир» — отрицательные.
Острая полемика двух журналов не прекращалась в 60-е гг.
Вокруг неё шли горячие споры интеллигенции.
ДЕРЕВНЯ ВО ВРЕМЯ «ОТТЕПЕЛИ»
Положение советской деревни к 1953 г. оставалось очень
тяжёлым. За работу в колхозе крестьяне не получали почти ничего.
Кормились они только с небольших клочков земли —
приусадебных участков. Но и эти участки облагались огромным налогом
(см. ст. «Коллективизация»).
В то же время крестьянство ещё оставалось достаточно
крепким. В нём не исчезала мечта военных лет о роспуске
колхозов (см. ст. «СССР во Второй мировой войне»). В деревне всё
ещё жила большая часть населения страны.
«Оттепель» вызвала вначале смягчение крестьянской
политики. 5 августа 1953 г. с докладом об этом выступил перед
Верховным Советом глава правительства Г. Маленков.
Приусадебные участки теперь разрешалось увеличить в пять
раз. Налог на них уменьшался вдвое, а все старые долги
колхозников списывались.
Это выступление произвело сильнейшее впечатление на
крестьян. Имя Маленкова стало среди них очень популярным.
Рассказывали, что он — «племянник Ленина». «Пришёл
Маленков — поели блинков», — говорили колхозники.
Полтора года спустя эту знаменитую речь поставили Г.
Маленкову в упрёк. Н. Хрущёв заметил в январе 1955 г., что она
Б. Успенский. Плакат 1957 г.
586
«ОТТЕПЕЛЬ»
«напоминала парламентскую декларацию, рассчитанную на
снискание дешёвой популярности».
Тем не менее до 1958 г. крестьянская политика оставалась
прежней. За эти пять лет село стало давать в полтора раза
больше продуктов.
Ободрённый этими успехами, в 1957 г. Никита Хрущёв
выдвинул смелый лозунг. Он призвал за «три-четыре года догнать
США по производству мяса, молока и масла на душу населения».
«Если мы догоним США, — говорил Хрущёв, — то мы выпустим
сильнейшую торпеду под капиталистические устои».
Требовалось преодолеть немалый разрыв. Например, мяса в 1956 г. на
одного американца приходилось 102 кг, а на жителя СССР —
только 32 кг.
В 1959 г. под давлением властей сдача мяса возросла на
треть. Писатель Анатолий Стреляный вспоминал: «Хватали и
гнали на бойни всё, что могло передвигаться на четырёх ногах:
стельных коров и супоросных свиней, телят и поросят, которым
бы ещё расти и расти. У колхозников скупалось на столь
памятных народу добровольно-принудительных началах всё, что
имело кости, независимо от того, что на костях».
Чтобы повысить производство молока, тоже избрали самый
простой способ: скупить у населения молочный скот. Писатель
Евгений Носов замечал: «Упрямо изыскивая способы
посрамления Америки, Никита Хрущёв распорядился скупить у
колхозников без всяких уклонений всю их рогатую живность. Но с
наступлением холодов выяснилось, что колхозы и совхозы не готовы к
размещению и содержанию скупленных коров, и их пришлось
частично забить. С той поры в деревне не стало ни коров, ни
телят, а упрямые старушки, как их теперь ни уговаривают, не
желают больше возиться с рогатиной. Так что испить на селе кружку
молока стало проблемой».
К началу 60-х гг. производство мяса в стране начало падать.
В магазинах за ним выстраивались очереди. Вслед за этим стали
исчезать и молочные продукты. В деревнях, как писал А
Стреляный, «народ возмущался и плакал, что коров забрали, а молока,
хоть и обещали, не дают, всё вывозят в план».
С 1959 г. возобновилась борьба против приусадебных
участков. «Чтобы крестьяне лучше трудились в колхозе», участки
стали уменьшать или даже вовсе отбирать. Снова непомерно
возросли налоги.
Все эти меры привели к тому, что потоки сельских жителей
вновь хлынули в города. Закончился недолгий перерыв после
1953 г., когда они надеялись на улучшение жизни в деревне. В
первую очередь, обходя запреты, уезжала молодёжь. В
результате во многих деревнях остались одни только пожилые люди.
Осенью 1963 г. с прилавков магазинов внезапно исчезли
хлеб и мука. По всей стране в булочные выстроились
многотысячные очереди. В них люди, не стесняясь, ругали руководство
страны. «Белый хлеб выдавали по заверенным печатью справкам
только некоторым больным и дошкольникам, — писал Е. Но-
Бродского выступили уже более сотни
людей, в том числе около 20
писателей: Корней Чуковский, Анна
Ахматова, Самуил Маршак и др. В «деле
Даниэля и Синявского» два года спустя
число протестующих дошло до
нескольких сотен человек (см. ст.
«Диссидентское движение»).
Надежда Мандельштам замечала по
этому поводу: «Сейчас репрессии
против одного интеллигента порождают
десятки новых. Мы это наблюдали во
время дела Бродского».
«Бродского зашишают прошелыги,
тунеядцы, мокрицы и жучки!» — с
возмущением восклицал на суде
общественный обвинитель.
Под влиянием протестов срок ссылки
Иосифа Бродского сократили до 1 года
5 месяцев. В 1972 г. он покинул
Советский Союз. В 1987 г. И. Бродскому
была присуждена Нобелевская премия
по литературе.
А. Лавров. Плакат 1960 г.
587
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
В 1946—1991 ГОДАХ
НА НОВЫЕ ЗЕМЛИ
ЕНЕМТЕ С НАМ И!
В. Селезнёв. Плакат 1954 г.
НОВАЯ ПРОГРАММА КПСС
XXII съезд КПСС принял новую
Программу партии. В ней говорилось, что
к 1980 г. в Советском Союзе будет в
основном построен коммунизм,
обеспечено «изобилие материальных и
культурных благ для всего населения».
В 1971 г. Советский Союз должен был
обогнать «самую богатую страну
капитализма» — США — по производству
продукции на душу населения и по
производительности труда.
Вся программа содержала много
различных обещаний такого рода: к
1980 г. «исчезнет тяжёлый физический
труд», «рабочий день станет самым
коротким в мире», «реальные
доходы на душу населения увеличатся в
3,5 раза», «каждая семья будет иметь
благоустроенную квартиру»,
«бесплатным станет пользование жильём, об-
сов. — В хлебных магазинах и столовых появились обращения,
предлагающие ещё раз подумать, сколько вам нужно хлеба. Над
страной нависла угроза карточной системы».
Пришлось срочно в обмен на золото закупать пшеницу за
рубежом. Всего купили около 12 млн т в Канаде и Австралии.
Впервые в своей истории СССР покупал хлеб за границей.
«Хрущёв посеял на целине, а собрал в Канаде», — шутили в народе.
После отставки Хрущёва в 1964 г. политика в отношении
деревни вновь смягчилась. Крестьяне получили обратно свои
приусадебные участки. Хотя площадь их была невелика — менее
3% всех посевов, — значение они имели огромное. Например, в
конце 70-х гг. здесь производилась треть всей
сельскохозяйственной продукции.
Перемены в сельской жизни стали необратимы. Деревню
покинула большая часть её жителей. Жизнь колхозников
несколько облегчилась: им начали платить зарплату, а с 1 июля 1964 г.
установили небольшие пенсии. Те, кто остался в деревне,
постепенно свыклись со своим новым положением, а былая мечта о
роспуске колхозов угасла.
ЦЕЛИНА
К 1953 г. земледелие в стране было в глубоком упадке, зерна
производилось мало. Многие деревни после войны обезлюдели.
Крестьянам часто приходилось пахать на коровах.
В советском руководстве возникла дискуссия: куда вложить
средства? То ли помочь старой деревне, то ли распахать
совершенно новые, целинные земли? Речь шла о степных просторах
Казахстана и Сибири. В феврале 1954 г. было решено бросить
все силы и средства на освоение целины.
Сюда отправились около 300 тыс. молодых добровольцев.
«Едем мы, друзья, в дальние края, станем новосёлами и ты, и я», —
пели они. Молодёжь привлекала на целину не только романтика
освоения необжитых земель, но и надежда на будущий достаток
и благополучие. Журналист М. Петров замечал: «В 1954 году
целина казалась многим чуть ли не вновь открытой планетой.
Поездам на восток семафоры давали „зелёный", потому что везли
они пассажиров к мечте о всеобщем благоденствии, земном
изобилии и хлебном рае».
За два года посевная площадь в Казахстане почти утроилась.
Правда, в 1955 г. засуха погубила почти все посевы. Только в
1956 г. целина дала великолепный урожай. Производство зерна
увеличилось примерно в полтора раза. Чтобы всё население
почувствовало эту победу, хлеб во всех общественных столовых
стали подавать бесплатно.
Но успех 1956 г. больше никогда не повторился. Уже к
концу 50-х гг. целинные земли истощились. Над распаханной
степью закрутились пыльные бури. Они уносили верхний
плодородный слой земли. Тучи пыли закрывали солнце. Целина так и не
дала больше богатых урожаев.
588
«ОТТЕПЕЛЬ
ОКТЯБРЬСКИЙ ПЛЕНУМ ЦК
В 60-е гг. многие меры Н. Хрущёва стали вызывать недовольство
высших слоев общества. В частности, он ограничил право
ответственных работников на автомобили и дачи. Из армии с I960 г.
он уволил тысячи офицеров, а пенсии им уменьшил. Такие меры
резко снизили его популярность в партийном аппарате и среди
военных. Высших руководителей раздражала непредсказуемость
решений Хрущёва по разным вопросам. При этом он не
учитывал их мнения.
В начале 1964 г. среди группы более молодых членов ЦК
возникла мысль о смещении Хрущёва. Их возглавил секретарь ЦК
Александр Шелепин, которого называли среди партработников
«железным Шуриком». Один за другим к заговору примкнули
почти все члены Президиума ЦК Важной была поддержка
министра обороны маршала Родиона Малиновского.
13 октября заговорщики решили исполнить свой план. Днём
на даче отдыхавшего в Пицунде Н. Хрущёва раздался телефонный
звонок. Михаил Суслов сказал ему, что члены ЦК хотят срочно
шественным транспортом, отпуск
медикаментов» и т. д.
Заканчивалась новая программа
следующими словами: «Партия
торжественно обещает: нынешнее поколение
советских людей будет жить при
коммунизме!».
Позднее, когда стало известно, что в
1980 г. в Москве состоятся
Олимпийские игры, распространилась шутка,
что коммунизм «по просьбе
трудящихся» заменили Олимпиадой.
В. Кореикий, К. Иванов, О. Савостюк,
Б. Успенский. Плакат 1954 г.
589
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
В 1946—1991 ГОЛАХ
В. Ливанова и Т. Ливанова.
Плакат 1962 г.
«РЯЗАНСКИЙ ПОЧИН»
В 1959 г. руководство Рязанской
области обязалось за один год увеличить
производство мяса в три раза. Все
газеты горячо поддержали «рязанский
почин» и приводили его как пример
для подражания. Высоко оценил его и
Н. Хрущёв.
Чтобы выполнить обещание, под нож
отправили почти всех молочных коров
и вообще большую часть скота. В
соседних областях тайно скупали и
вывозили мясо. Обязательства были
выполнены. В печати рассказывалось о
«подвиге рязанских животноводов».
В результате уже в 1960 г. области не
удалось выполнить даже план по сдаче
мяса. Узнав об этом, первый секретарь
обкома партии Ларионов застрелился.
провести пленум по сельскому хозяйству. Поэтому он просит
Хрущёва вернуться в Москву. Хрущёв возмутился: «Я же отдыхаю!
Вернусь, тогда и обсудим». Тогда Суслов предупредил, что люди
собрались и пленум проведут и в отсутствие Хрущёва. «Хорошо, если это
так срочно, завтра я прилечу», — ответил тот. Он уже догадывался,
что речь пойдёт не о сельском хозяйстве.
В Москве от него потребовали подать в отставку. Хрущёва,
видимо, особенно поразило то, что на этот раз он остался один,
без сторонников. В его защиту выступил только А. Микоян,
прилетевший с ним из Пицунды. Сын Хрущёва Сергей вспоминал:
«Отец принял решение подать без борьбы в отставку. Поздно
вечером он позвонил Микояну: „Я уже стар и устал. Пусть теперь
справляются сами. Главное я сделал. Отношения между нами,
стиль руководства поменялись в корне. Разве кому-нибудь могло
пригрезиться, что мы можем сказать Сталину, что он нас не
устраивает, и предложить ему уйти в отставку? От нас бы мокрого
места не осталось. Теперь всё иначе. Исчез страх, и разговор идёт
на равных. В этом моя заслуга"».
14 октября Хрущёв сказал на заседании Президиума ЦК: «У
нас с вами одна политическая и идеологическая основа, и
против вас я бороться не могу. Я уйду и драться не буду». В тот же
день в Кремле открылся пленум Центрального Комитета. С
часовым докладом об ошибках Хрущёва на нём выступил Михаил
Суслов. Он сказал, что Хрущёв стал всё решать единолично,
пренебрегал мнением членов Президиума ЦК; перечислил его
неоправданные решения в сельском хозяйстве, во внешней
политике. «Хрущёв возомнил себя специалистом во всех областях: в
сельском хозяйстве, дипломатии, науке, искусстве — и всех поучал», —
заметил Суслов. Участники пленума вкладывали своё
раздражение в едкие реплики с места: «Что хотел, то и делал!», «Шах
иранский!», «Этому кукурузнику всё нипочём!», «Он давно уже культ!».
Отставку Хрущёва приняли единогласно. Раздавались даже
возгласы: «Исключить из партии!», «Под суд отдать!».
Избранный новым Первым секретарём ЦК партии Леонид
Брежнев выступил с короткой речью. Он заметил, что если
Хрущёв развенчал культ Сталина после его смерти, то теперь культ
Хрущёва развенчали при его жизни.
Утром 16 октября советские граждане с удивлением узнали
из газет о смещении Н. Хрущёва. В официальном сообщении
говорилось, что это сделано по его просьбе «в связи с преклонным
возрастом и ухудшением состояния здоровья».
ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ 1964 ГОДА
Смена руководства воспринималась в обществе спокойно, а
многими — с одобрением. По всей стране не было ни одного
открытого выступления в защиту Хрущёва.
Перемены после пленума затронули разные сферы жизни.
Например, закончилась карьера «мичуринского биолога»
Трофима Лысенко. Генетика перестала считаться «буржуазной
лженаукой» и могла развиваться свободно.
590
ЮТТЕПЕЛЬ»
«Аргумент Никиты Сергеевича». Фото Л. Бальтерманца.
«Даже с высоты птичьего полёта видна ювелирная работа целинных кукурузоводов,
трудно найти изъян в чётком ритме квадратов полей». Автор В. Давыдов.
«КОРОЛЕВА ПОЛЕЙ»
В июне 1954 г. на Пленуме UK
партии Н. Хрущёв предложил увеличить
посевы кукурузы по всей стране. Он
сказал, что этот злак надо внедрять,
не стесняясь принуждения, как
когда-то внедряли картофель.
В печати кукурузу стали называть
«королевой полей». Её поля начали
быстро расширяться. В холодном климате,
где она не давала зерна, кукурузу
выращивали на зелёный корм скоту. В
январе 1956 г. Хрущёв замечал: «В этом
году мы обязательно вырастим
кукурузу в Якутии, а может быть, и на
Чукотке. Картофель там растёт? Растёт.
Думается, что и кукуруза будет расти».
В 1959 г. во время поездки в США
Никита Хрущёв посетил ферму Рокуэла
Гарста из штата Айова. Засеянные
пышной кукурузой поля и откормленные
бычки произвели на Хрущёва огромное
впечатление. Между ним и фермером
завязалась неожиданная дружба.
Желание Хрущёва перенять американский
опыт усилилось.
Но советское сельское хозяйство
технически не шло ни в какое сравнение
с американским. Кукурузу
необходимо постоянно пропалывать от
сорняков — иначе урожая не будет. В СССР
машин для этого не было. Не хватало и
удобрений. Писатель Анатолий
Стреляный рассказывал: «Когда Гарсту
говорили, что Хрущёв собирается
внедрять кукурузу без удобрений, он
наотрез отказывался верить. Даже когда
своими глазами увидел на Кубани, как
сеют кукурузу без удобрений, не
поверил, что это с ведома Хрущёва. „Что
вы делаете? — кричал он на всё поле,
пытаясь остановить сеялки. — Я буду
жаловаться Хрущёву! Кукурузу нельзя
сеять без удобрений"».
Вскоре после отставки Хрущёва
посевы кукурузы в стране уменьшились в
несколько раз. Ешё долго против неё
сохранялось стойкое предубеждение.
591
Ф. Бурлацкий вспоминал: «После пленума Андропов —
руководитель отдела, в котором я работал, — выступал перед
сотрудниками и рассказывал подробности. Помню отчётливо
главную его мысль: „Теперь мы пойдём более последовательно и
твёрдо по пути XX съезда"».
После XX съезда ответственные работники получили
гарантию от арестов и расстрелов, но не от публичных поношений,
высылки в провинцию, исключения из партии. Именно так
поступили с участниками «антипартийной группы» 1957 г. Теперь
эта защищённость ещё более возросла.
Л. Брежнев в своей речи на пленуме сразу заметил, что
незачем выливать на самих себя грязь. И не надо развёртывать в
партии обсуждения ошибок Хрущёва.
Главным лозунгом октябрьского пленума стала
«стабильность», т. е. уверенность в завтрашнем дне. Самое большее, что
теперь грозило бывшим руководителям, — почётное увольнение
на персональную пенсию. Поэт Борис Слуцкий писал об этом:
Теперь не каторга и ссылка,
Куда раз в год одна посылка,
А сохраняемая дача,
В энциклопедии — столбцы,
И можно, о судьбе судача,
Выращивать хоть огурцы.
НИКИТА ХРУЩЁВ
(1894—1971)
Будущий советский руководитель Никита Сергеевич Хрущёв
родился 5 (17) апреля 1894 г. в курской деревне Калиновке, в
крестьянской семье.
«Я стал трудиться, как только начал ходить, — говорил он
позднее. — До 15 лет я пас телят, потом пас коров у помещиков».
16-летний Никита стал работать слесарем на шахте в Донбассе.
Вскоре он уже хорошо освоил секреты слесарного ремесла. Как
он любил с гордостью вспоминать, в те годы ему платили 30
рублей золотом. Для слесаря это была немалая сумма.
На фронты мировой войны горняков не призывали. Но
после Октября 1917 г. в стране началась другая, гражданская война.
В 1918 г. молодой шахтёр вступил в отряд Красной гвардии и
партию большевиков. Храбро сражался с «белыми» и через год
стал комиссаром.
Н. Хрушёв среди индийских крестьян
во время визита в Индию. 1960 г.
592
Вернувшись домой, он сначала работал в руководстве
рудника, потом перешёл на партийную работу. Но до 1935 г., по его
словам, всё ещё «возил и хранил свой личный инструмент. Как у
всякого слесаря, были там кронциркуль, литрометр, метр, керн,
чертилка, угольнички разные. Я тогда не порывал ещё мысленно
связи со своей профессией».
Октябрь полностью изменил судьбу молодого рабочего.
Один из комиссаров «гражданки», Н. Хрущёв принадлежал к
поколению убеждённых, «идейных» большевиков. В 1923 г. он даже
ненадолго увлёкся «троцкистскими» идеями, чем чуть не
испортил всю свою карьеру. Это поколение почти полностью погибло
в конце 30-х гг. Однако Н. Хрущёва выделяло среди них
удивительное умение чувствовать дух времени. Он не только следовал
требованиям эпохи, но часто шёл впереди. В 30-е гг. это порой
становилось вопросом жизни и смерти. При этом Н. Хрущёв
умел быть не холодным исполнителем, а вкладывал в дело весь
свой пыл и чувство. Эта сторона его личности ярко проявилась,
в частности, в 1929—1930 гг. В это время он учился в
Московской промышленной академии.
Здесь он и совершил резкий «скачок вверх» в своей карьере.
Именно в это время в партии началась борьба с «правым
уклоном». Заподозренным в уклоне выносили взыскания, исключали
их из Промакадемии, из партии. Хрущёв с увлечением возглавил
эту борьбу. Этим он обратил на себя внимание главы столичных
коммунистов Лазаря Кагановича, который знал его и раньше.
«Все считали, что я очень близок Кагановичу. Так оно и было», —
писал Хрущёв позднее. Начался быстрый, прямо-таки
головокружительный взлёт Н. Хрущёва. В 1931 г. он возглавляет райкомы
в Москве. А через год уже становится вторым секретарём
столичного обкома, «правой рукой» самого Л. Кагановича!
Партиец Александр
Соловьёв записал в своём
дневнике в январе 1931 г.: «Меня и
некоторых других удивляет
быстрый скачок Хрущёва. Очень
плохо учился в Промакадемии.
Теперь второй секретарь,
вместе с Кагановичем. Но
удивительно недалёкий и большой
подхалим». Славословие в
адрес руководства в то время ещё
только становилось правилом.
Хрущёв тонко это
почувствовал. Что же касается
«недалёкости», то, как замечал зять
Никиты Хрущёва Алексей Аджубей,
«он только казался
простоватым человеком и даже хотел
выглядеть таким».
В марте 1935 г. Н.Хрущёв
Н. Хрущёв произносит тост. 60-е гг.
593
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
В 1946—1991 ГОДАХ
Весела Н. Хрущёва, А. Микояна и
президента Югославии И. Тито на палубе
теплохода. Фото А. Бальтерманиа.
ПОСЕЩЕНИЕ МАНЕЖА
1 декабря 1962 г. Никита Хрущёв,
министр культуры Екатерина Фуриева и
другие руководители посетили
художественную выставку в Манеже.
Вначале они спокойно осмотрели
картины официальных художников. Затем
перешли к произведениям
художников-модернистов. На следующий день
«Правда» писала об этом:
«Руководители партии и правительства
осмотрели работы так называемых
абстракционистов. Нельзя без чувства
недоумения и возмущения смотреть
мазню на холстах, лишённую смысла, со-
продолжил свой стремительный подъём вверх, возглавив
Московскую партийную организацию.
Будучи руководителем города, Н. Хрущёв решительно
освобождал его от «рухляди минувших веков», как тогда говорили.
Исчезали многие старинные постройки — например, Сухарева
башня, Красные ворота и т. п. Столица приобретала
совершенно новый облик Это полностью отвечало общему духу
времени: на месте «Москвы златоглавой» создать город социализма.
«Как-то Хрущёв доложил Сталину о протестах по поводу сноса
старинных зданий, — рассказывал А. Аджубей. — Сталин
задумался, а потом ответил: „А вы взрывайте ночью"».
В 1936—1937 гг. по всей стране развернулась «борьба с
врагами народа», последовали массовые аресты «идейных»
большевиков. Н. Хрущёв одним из первых почувствовал, как
развиваются события. Уже в январе 1936 г. он заявил в одной своей речи:
«Арестовано только 308 человек; для нашей Московской
организации — это мало». В другом выступлении он рисовал такую
картину: «Сидит иногда человек, копошатся вокруг него враги,
чуть ли не на ноги лезут, а он не замечает и пыжится, у меня, мол,
в аппарате чужаков нет. Это от глухоты, слепоты политической,
от идиотской болезни — беспечности».
594
НИКИТА
ХРУЩЁВ
В январе 1938 г. Н. Хрущёва послали на Украину руководить
компартией республики. «Борьба с врагами народа» в стране ещё
не утихла. В июне А. Щербаков, один из ораторов на съезде
компартии Украины, замечал: «Настоящий беспощадный разгром
врагов народа на Украине начался после того, как ЦК прислал
руководить большевиками Украины товарища Хрущёва. Теперь
трудящиеся Украины могут быть уверены, что разгром
агентуры польских панов, немецких баронов будет доведён до конца».
Выступая на этом съезде, Никита Сергеевич напомнил
слова Тараса Бульбы о сыне-изменнике: «Я тебя породил, я тебя и
убью!». Он добавил: «И сейчас мы не дадим дышать всяким анд-
реям-изменникам. Они будут уничтожены, все до одного»
(Аплодисменты.). В 1939 г. борьба с «врагами народа» в стране в
основном завершилась. В феврале 1940 г. Никита Сергеевич
подводил ей итог: «Враги у нас ещё не передохли и не передохнут,
пока существует капиталистическое окружение. Это надо
помнить. Мы на Украине здорово почистили врагов. Но некоторые
ещё остались. Они чувствуют себя одиноко, боятся голову
поднять, но они есть. Поэтому смотреть надо в оба».
В Киеве в 1941 г. Н. Хрущёв узнал о начале войны с
Германией. Спустя несколько месяцев германские войска заняли город. Как
и в «гражданку», Н. Хрущёв воевал «комиссаром» — только уже не
батальона, а целых фронтов. С Красной армией он прошёл до
Сталинграда, а потом обратно до Киева (см. ст. «СССР во Второй
мировой войне»). Здесь и оставался до декабря 1949 г. Затем
вернулся в Москву руководить столичной парторганизацией.
В марте 1953 г. скончался Иосиф Сталин. В день его
смерти Н. Хрущёв расплакался. Он вспоминал: «Я очень
разволновался и заплакал. Я не мог сдержаться. Искренне мне было жалко
Сталина, искренне я оплакивал его смерть».
Н. Хрущёва в то время считали слишком «простоватым и
наивным», чтобы опасаться его влияния. Вероятно, поэтому его и
поставили во главе партийного аппарата. Теперь он был
третьим человеком в руководстве после Георгия Маленкова и
Лаврентия Берии.
Большинство руководителей враждебно относились к
чекисту Л. Берии и боялись его. Как и прежде, Н. Хрущёв одним из
первых осознал это общее чувство и решил возглавить заговор
против Берии. В июне Л. Берию сместили со всех постов и
арестовали (см. ст. «Оттепель»). Спустя несколько дней Н. Хрущёв
рассказывал о происшедшем на пленуме ЦК Один из
участников пленума, писатель Константин Симонов, вспоминал: «Слово
„поймали" наиболее точно соответствует характеру рассказа
Хрущёва, его темпераменту и тому страстному удовольствию, с
которым он рассказал обо всём этом. Хрущёв в своей речи не без
торжества говорил о том, за какого дурачка считал его Берия».
«Одержав верх над Берия, — замечал Алексей Аджубей, —
Хрущёв сразу вырывался вперёд, обеспечивал себе
приоритетное положение. После расстрела Берия Хрущёв даже внешне
очень изменился».
держания и формы. Эти
патологические выверты представляют собою
жалкое подражание растленному
формалистическому искусству
буржуазного Запада... „Такое „творчество"
чуждо нашему народу, он отвергает
его, — говорит Н. С. Хрущёв. — Вот
над этим и должны задуматься люди,
которые именуют себя художниками,
а сами создают такие „картины", что
не поймёшь — нарисованы они рукой
человека или намалёваны хвостом
осла. Им надо понять свои
заблуждения и работать для народа"».
В действительности события
развивались более бурно. Художник Элий Бе-
лютин вспоминал: «Хрущёв в
окружении плотной толпы бросился в обход
вдоль стен. Раз за разом раздавались
его выкрики: „Дерьмо!", „Мазня!".
Хрушёв распалялся: „Кто им разрешил
так писать?!", „Всех на лесоповал!.
Пусть отработают деньги, которые на
них затратило государство!",
„Безобразие! Что это — осёл хвостом
писал, или что?"».
Другой участник выставки, Борис Жу-
товский, рассказывал: «Когда Хрушёв
подошёл к моей последней работе, к
автопортрету, он уже куражился:
„Посмотри лучше, какой автопортрет
Лактионов нарисовал. Если взять картон,
вырезать в нём дырку и приложить к
портрету Лактионова, что видно?
Видать лицо. А эту же дырку приложить к
твоему портрету, что будет? Женщины
должны меня простить — жопа". И вся
его свита мило заулыбалась».
После посещения Манежа Н. Хрушёв
провёл две встречи с деятелями
литературы и искусства. Их называли
«историческими встречами с
интеллигенцией». На второй из них, 8 марта
1963 г., он описал свои впечатления от
прогулки в зимнем лесу: «Только
посмотрите на эти ели, на снежинки,
блестящие в лучах солнца! Как прекрасно
всё это!». После чего возмущённо
добавил: «И теперь модернисты,
абстракционисты хотят нарисовать эти ели
вверх ногами!».
Примерно тогда стала популярна
шутка: «Идёт по улице
художник-абстракционист. А за ним два реалиста... в
штатском».
595
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
В 1946—1991 ГОДАХ
НИКИТА ХРУЩЕВ
И ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ
Во время посещения Манежа Н. Хрущев
обратился к модернистам: «Кто здесь
главный?». «Главным» оказался
скульптор Эрнст Неизвестный.
Художник Борис Жутовский вспоминал:
«Эрнст Неизвестный встал перед
Хрущёвым и говорит: „Никита Сергеевич, Вы
глава государства, и я хочу, чтобы Вы
посмотрели мою работу". Хрущёв от такой
формы обращения оторопел и
недоуменно пошёл за ним. Как только Хрущёв
увидел работы Эрнста, он сорвался и начал
повторять свою идею о том, что ему
бронзы на ракеты не хватает. И тогда на
Эрнста с криком выскочил А. Шелепин: „Ты
где бронзу взял? Ты у меня отсюда
никуда не уедешь!". На что Эрнст, человек
неуправляемый, вытарашил чёрные глаза и,
в упор глядя на Шелепина, сказал ему:
„ А ты на меня не ори! Это дело моей
жизни. Давай пистолет, я сейчас здесь, на
твоих глазах, застрелюсь"».
Между скульптором и главой
правительства разгорелся оживлённый спор.
Э. Неизвестный рассказывал: «Хрущёв
заявил, что я проедаю народные
деньги, а произвожу дерьмо! Я же
утверждал, что он ничего не понимает в
искусстве».
На это Хрущёв возражал: «Был я
шахтёром — не понимал, был я
политработником — не понимал. Ну вот
сейчас я глава партии и премьер и всё не
понимаю! Для кого же Вы работаете?».
«Интереснее всего то, — писал
Неизвестный, — что, когда я говорил
честно, прямо, открыто и то, что я думаю, —
я его загонял в тупик. Но стоило мне
начать чуть-чуть лицемерить, он это
тотчас чувствовал и брал верх.
Вот только один пример. Я сказал:
„Никита Сергеевич, Вы меня ругаете как
коммунист, вместе с тем есть коммунисты,
которые поддерживают моё творчество,
например Пикассо, Ренато Гуттузо". Он
хитро прищурился и сказал: „ А Вас
лично волнует, что они коммунисты?". И я
соврал: „Да!". Если бы я был честным, я
должен был бы сказать: „Мне плевать,
мне важно, что они большие
художники!". Словно почувствовав это, он
продолжал: „Ах, это Вас волнует! Тогда пусть
это Вас не волнует, мне Ваши работы не
нравятся, а я в мире коммунист номер
один".
Кончилась наша беседа с Хрущёвым
следующим образом. Он сказал: „Вы
интересный человек, такие люди мне
нравятся, но в Вас сидят одновременно ангел и
Начало слабеть и влияние Г. Маленкова. Хрущёв гораздо
тоньше чувствовал в то время все настроения в руководящей
среде. Постепенно он занял положение первого человека в
государстве. 13 сентября его титул «секретаря ЦК» сменился на
«Первого секретаря ЦК».
Следующими мерами Никиты Сергеевича стали
освобождение политзаключённых и политическое осуждение массовых
арестов 30-х гг. (см. ст. «Оттепель»). «Эти вопросы созрели, и их
нужно было поднять», — писал Н. Хрущёв. Как и прежде, он
решил пойти впереди событий. На XX съезде в 1956 г. Никита
Хрущёв выступил со своим знаменитым докладом, осуждавшим
«культ личности Сталина».
Доклад на XX съезде оказался, пожалуй, самым крупным
политическим успехом Н. Хрущёва. Он получил поддержку не
только ответственных работников, давно мечтавших о спокойной
жизни без страха ареста. Никиту Сергеевича поддержала
значительная часть общества, в особенности интеллигенция. Она
считала, что самая большая заслуга Хрущёва, главное в его
деятельности — массовое освобождение из лагерей.
Но именно теперь, после этого успеха, в Н. Хрущёве
проявилась и другая сторона его личности: он до сих пор
сохранил в себе многие черты «идейного большевика». Прежде
всего он глубоко верил в неограниченные возможности
советского строя, социализма. Этот строй, считал Н. Хрущёв, может
показать всему миру настоящие чудеса во всех областях жизни.
«Мы вас закопаем», — убеждённо воскликнул он однажды,
обращаясь к Западу. В 1957 г. он призвал за три-четыре года
догнать США по производству мяса, молока и масла на душу
населения.
Этот лозунг послужил поводом к расколу среди его
соратников. В июне 1957 г. часть из них (В. Молотов, Л. Каганович,
Г. Маленков и др.) потребовала его отставки (см. ст.
«Оттепель»). Но эта попытка закончилась их полным поражением.
За предыдущие годы Хрущёв завоевал огромную популярность
среди партийных руководителей. Кроме того, он связал своё
имя с решениями XX съезда. Многие опасались их
пересмотра в случае его отставки.
После поражения противников Никиты Хрущёва его
власть ещё больше расширилась. С 1958 г. он возглавил
также и Совет Министров. Теперь «идейные» черты его личности
могли проявиться в полной мере. Он почти перестал
прислушиваться к настроениям в руководящем слое общества и
учитывать их.
В чём-то жизнь подтверждала убеждённость Н. Хрущёва
в «преимуществах социализма». Именно в те годы (1957 г.)
Советский Союз запустил первый в истории космический
спутник, В апреле 1961 г. советский человек — Юрий Гагарин —
первым побывал в космосе.
В других областях, например в сельском хозяйстве, столь
ярких достижений пока не было. Но и здесь Н. Хрущёв верил
596
НИКИТА
ХРУШЁВ
Н. Хрущёв беседует с Э. Неизвестным
во время выставки в Манеже.
Современный рисунок.
в конечный успех СССР. В 1961 г. на XXII съезде партии он
грубовато заявил, обращаясь к западным политикам: «Обождите,
мы вам ещё покажем кузькину мать и в производстве
сельскохозяйственной продукции» (Бурные, продолжительные
аплодисменты?).
Чтобы достичь успеха, Никита Сергеевич часто проводил
перестановки, перестройки в аппарате управления. Его дочь Рада
как-то сказала: «Надо отца сдерживать. Ему же всё время нужно
что-нибудь перестраивать. Он даже на даче каждое воскресенье
стол письменный ставит на новое место». Такие бесконечные
изменения вызывали против него растущее раздражение в
руководящих кругах.
дьявол. Если победит дьявол — мы Вас
уничтожим. Если победит ангел — мы
Вам поможем". И он подал мне руку».
Через две недели, 17 декабря, состоялась
первая встреча Н. Хрущёва с
творческой интеллигенцией. Режиссёр Михаил
Ромм вспоминал: «Хрущёв постепенно
как-то взвинчивался, взвинчивался и
обрушился раньше всего на Эрнста
Неизвестного. Долго он искал, как бы это
пообиднее, пояснее объяснить, что такое
Эрнст Неизвестный. И наконец нашёл,
нашёл и очень обрадовался этому,
говорит:
„Ваше искусство похоже вот на что: вот
если бы человек забрался в уборную,
залез бы внутрь стульчака и оттуда, из
стульчака, взирал бы на то, что над ним,
ежели на стульчак кто-то сядет. На эту
часть тела смотрит изнутри, из
стульчака. Вот что такое ваше искусство. И вот
Ваша позиция, товарищ Неизвестный, Вы
в стульчаке сидите". Говорил он это под
хохот и одобрение интеллигенции
творческой, постарше которая, —
художников, скульпторов да писателей
некоторых».
Вскоре после этих событий Эрнст
Неизвестный вынужден был написать
Хрущёву письмо: «Я боюсь показаться
нескромным, но я преклоняюсь перед Вашей
человечностью, и мне много хочется писать
Вам самых нежных и тёплых слов.
Никита Сергеевич, клянусь Вам и в Вашем лице
партии, что буду трудиться не покладая
рук, чтобы внести свой посильный вклад
в обшее дело на благо народа».
После этого письма в очередном
выступлении Хрущёв уже примирительно
говорил о Неизвестном: «Мне хочется верить,
что человек он честный и способный.
Давайте посмотрим, как он выполнит своё
обещание, покажет своим творчеством,
как служит народу».
Но развязка у этой истории оказалась
неожиданной. После смерти Н. Хрущёва
его родные обратились к Э.
Неизвестному с просьбой стать автором памятника
на его могиле. Скульптор согласился.
Историк Г. Фёдоров вспоминал: «Эрнст
Неизвестный говорил мне в пору
работы над памятником: „ Покойный при
жизни испортил мне несколько лет, теперь
сделает это и после смерти, но заказ я
выполню, я сам этого хочу. Он стоит
того"».
Памятник представляет собой
бронзовую голову Н. Хрущёва на фоне
сложного переплетения чёрного и белого
мрамора. Контраст этих цветов
показывает противоречивость личности
Н. Хрущёва.
597
советский союз
В 1946—1991 ГОДАХ
Н. Хрущёв на трибуне. 1964 г.
Н. Хрущёв целится из ружья. 60-е гг.
Алексей Аджубей
описывал такой случай во время
одной из поездок Хрущёва по
стране. «Мы стояли у окон,
разглядывая чуть припорошённые
снегом дали, и кто-то обратил
внимание на странные волны,
чередовавшиеся по земле в
строгой последовательности.
Корреспондент „Правды"
пояснил, в чём дело. Не успели
убрать кукурузу и, зная, что здесь
проедет Хрущёв, вывели в поле
тракторы, стальными
рельсами, как волоком, примяли
стебли к земле, чтобы
„замаскировать" неубранный урожай. Мы
не знали, нужно ли говорить об
этом Никите Сергеевичу.
Решили сказать».
Хрущёв повторил эту
историю на большом совещании
по сельскому хозяйЛъу. «Я
просто хочу напомнить, — с
горечью произнёс он, — что
некогда здесь секретарём обкома
был товарищ Варейкис...»
Иосиф Варейкис принадлежал к
поколению большевиков,
расстрелянных в конце 30-х гг.
Действительно, в те времена
подобное происшествие было
невозможно, «старые
коммунисты» никогда не стали бы так
«обманывать партию». Хрущёва
слушали в настороженном
молчании. Его упрёки выглядели
как упрёки человека из другой
эпохи.
В 1964 г. в высшем
руководстве стал складываться
новый заговор против Хрущёва
(см. ст. «Оттепель»). В разгар его
подготовки, 17 апреля,
торжественно отпраздновали
70-летие Н. Хрущёва. На экраны
вышел фильм «Наш Никита
Сергеевич».
В день юбилея Леонид
Брежнев от имени всех сорат-
598
НИКИТА
ХРУЩЁВ
ников Н. Хрущёва поздравил
его и сказал: «Мы считаем, наш
дорогой друг, что Вами
прожита только половина жизни.
Желаем Вам жить ещё по меньшей
мере столько же и столь же
блистательно и плодотворно».
Он вручил Н. Хрущёву
четвёртую Золотую Звезду Героя и
сердечно его расцеловал.
14 октября того же года
пленум Центрального
Комитета сместил Н. Хрущёва со всех
его постов и отправил на
пенсию (см. ст. «Оттепель»).
Хрущёв на пленуме сидел в
президиуме, но не сказал ни слова.
Молча слушал суровую
критику в свой адрес.
Потом, по словам его сына
Сергея, он не раз повторял: «То,
что мои товарищи, правы они
или нет, смогли потребовать
моей отставки — отставки
Первого секретаря ЦК и
председателя Совмина, — главное
достижение всей моей
деятельности. Разве могли мы себе
представить что-либо подобное во
времена Сталина? Да от нас бы
и мокрого места не осталось. И
если бы я ничего больше не
сделал, то ради одного этого
стоило жить».
Уйдя в отставку, Н. Хрущёв
поселился на даче, занимался огородом, фотографировал
природу. Продиктовал и напечатал за границей свои воспоминания.
Когда в 1968 г. члены Политбюро вызвали его и потребовали
сдать текст этих воспоминаний, он ответил им: «Вы можете
силой отобрать эти материалы, но я категорически протестую. Вы
можете у меня отобрать всё: пенсию, дачу, квартиру. Ничего, я
себе пропитание найду. Пойду слесарить, я ещё помню, как это
делается. А нет, так с котомкой пойду по людям. Мне люди
подадут. А вам никто и крошки не даст. С голоду подохнете».
11 сентября 1971 г. Никита Сергеевич Хрущёв скончался в
возрасте 77 лет. Газеты очень кратко сообщили о его смерти в
самый день похорон. Его могила находится в Москве на
Новодевичьем кладбище.
Л. Брежнев награждает Н. Хрущёва в день
его 70-летия.
Ао отставки Никиты Сергеевича остаются
считанные месяцы...
Современный рисунок.
599
ш
советский союз
В 1946—1991 ГОДАХ
«БОТИНОЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ»
1 мая 1960 г. над Свердловском (ныне
Екатеринбург) сбили американский
разведывательный самолёт.
Отношения между Востоком и Западом после
этого серьёзно испортились.
Тем не менее 19 сентября Никита
Хрущёв прибыл в Нью-Йорк на сессию
ООН, где решил «дать бой
империалистам». Там он пробыл целых 25 дней.
В один из этих дней Н. Хрушёву
особенно не понравилось выступление
какого-то западного делегата.
Переводчик Виктор Суходрев вспоминал: «В
знак несогласия с очередным
выступающим он принялся колотить по
столу кулаком. У него была одна
привычка — в минуты особого волнения он
снимал с запястья часы и сжимал их в
кулаке. Так что по столу в ООН
Хрущёв колотил своими часами.
И вдруг в зале, как пишут в газетах,
началось бурное оживление — кто-то
смеялся, кто-то кричал. В обшем шум
стоял невообразимый. Только
вечером, когда телевидение через
каждые полчаса передавало повтор этого
эпизода, я увидел вблизи всё, что
произошло. Сам Хрущёв об этом
случае нам рассказал в тот вечер так:
„Вдруг вижу — часы остановились, и
решил, чем ждать, пока ешё
что-нибудь сломаю, лучше сниму ботинок и
ботинком"».
Выступая на XXII съезде партии,
Алексей Аджубей упомянул случай с
ботинком. Он восхищённо воскликнул, что
это было «просто здорово».
«Немало было случаев, — писал он
позднее, — когда Никита Сергеевич
эпатировал общественное мнение, но
люди, видевшие его в таких
обстоятельствах, замечали, что за
кажущейся несдержанностью проглядывал
тонкий, а иногда и лукавый расчёт».
Действительно, как ни странно,
американцев даже тронули «человеческая
простота и душевность» поведения
Никиты Хрущёва.
Н. Хрушёв в центре Москвы. 60-е гг.
ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ
(1906—1982)
Леонид Ильич Брежнев родился 19 декабря 1906 г. в Каменском
(с 1936 г. — город Днепродзержинск). Его отец был рабочим-
вальцовщиком на металлургическом заводе.
Судьба молодого Брежнева складывалась довольно
обыкновенно. Закончил гимназию (после Октября 1917 г.
преобразованную в трудовую школу), техникум, металлургический институт.
Отслужил политруком в танковой роте. В партию вступил
относительно поздно — в 25 лет.
Возможно, Брежнев так никогда и не стал бы
«ответственным работником», если бы в результате массовых арестов 1937 г.
не освободились многие важные должности. На них
продвигались молодые партийцы. Одним из них оказался Леонид
Брежнев. Именно тогда, в 1937 г., он занял свой первый
«ответственный пост» в горсовете Днепродзержинска.
С 14 июля 1941 г. и до конца войны
Брежнев — политработник в действующей армии.
Войну он закончил в звании генерал-майора.
Хотя Брежнев и не получил заметных отличий
в сражениях, известен случай, когда он едва
уцелел. Во время боёв возле Геленджика катер, на
котором находился полковник Брежнев,
подорвался на мине, и взрывной волной его
выбросило за борт. Генерал-майор Брежнев принял
участие в Параде Победы на Красной площади в
Москве 24 июня 1945 г.
После войны Леонида Брежнева взял под
своё покровительство Никита Хрущёв. В 1947 г.
Брежнева назначили секретарём обкома партии
в Днепропетровске, через три года он возглавил
компартию Молдавии. Предшественник
Брежнева на этом посту был снят за срыв в течение трёх
лет плана хлебозаготовок в республике. Заняв
должность, Леонид Ильич оказался перед
трудноразрешимой задачей: необходимо было
выполнить явно завышенный план. Но как? Изъять у
крестьян весь хлеб «под метёлку»? Брежнев решил
поступить иначе. Едва оказавшись в Молдавии, он
ДОЛОЖИЛ Сталину О перевыполнении плана. Пере- д. Брежнев во время службы в танковых частях Красной армии
ВЫПОЛНение было, разумеется, «бумажным». Так в Забайкалье. 1936 г.
601
советский союз
В 1946—1991 ГОДАХ
-**.- t *** > , - .v - ,
Л. Брежнев с товарищами по общественной работе в Каменском
металлургическом институте.
Полковник Л. Брежнев на Малой земле. 1943 г.
«ВО ВСЕ МЫ ТОГДА ВЕРИЛИ»
В молодости идейная убеждённость
всё-таки и фала заметную роль в
жизни Леонида Брежнева. Она помогала
ему выполнять наиболее суровые
распоряжения сверху. И много лет спустя
он не переставал размышлять о её
значении — положительном или
отрицательном.
В 1981 г. он как-то сказал своему
сотруднику Вадиму Печеневу: «Во всё мы
тогда верили. И как было без веры...
Придёшь в крестьянский дом излишки
хлеба забирать, а сам видишь, у детей
глаза от буряка слезятся, больше ведь
есть нечего. И всё же отбирали, что
найдём из продовольствия. Да, во всё
мы очень крепко верили, без этого
жить и работать было нельзя».
Речь шла о годах коллективизации,
когда Брежнев работал землемером в
сельской местности.
Брежнев стал одним из создателей метода приписок, против
которого велась постоянная борьба в печати в 70-е гг.
В 1952 г. Сталин, готовивший, судя по всему, «чистку» своих
старых соратников, решил пополнить руководство ЦК
«молодёжью». Среди «молодых» выдвиженцев был и Брежнев. Он занял
одновременно два высоких поста — кандидата в члены
Президиума (Политбюро) и секретаря ЦК Однако после смерти
Сталина (1953 г.) новички немедленно были «сброшены с
партийного Олимпа». Леонид Ильич занял скромный пост начальника
политуправления военно-морского флота. Это стало для
Брежнева сильнейшим ударом. Прозябание на этой должности
длилось недолго. В начале 1954 г. Л. Брежнева направили поднимать
целину на руководящую должность в ЦК компартии Казахстана.
Но и здесь его вначале преследовали неудачи: в 1955 г. почти все
посевы погибли. В своих воспоминаниях («Целина») Брежнев
приводит такой эпизод: «Когда на одном из совещаний в
присутствии Н. С. Хрущёва я заявил, что целина ещё себя покажет, он
довольно круто оборвал: „Из Ваших обещаний пирогов не
напечёшь!"». Лишь в 1956 г. на целинных землях был собран богатый
урожай, но к этому времени Брежнев уже вернулся в Москву и
занял те же посты, с которых был снят в 1953 г.
Следующий шаг к возвышению Брежнева связан с
разгоревшейся в июне 1957 г. борьбой между Президиумом ЦК и
Хрущёвым. Большинство членов Президиума (В. Молотов, Л. Каганович,
Г. Маленков, К Ворошилов и др.) выступили за снятие Хрущёва.
Брежнев твёрдо стоял на стороне Хрущёва. Однако он
чувствовал себя неуверенно — ему были непривычны подобные
жёсткие политические баталии. Когда на пленуме ЦК партии он
начал выступать в защиту Н. Хрущёва, Л. Каганович резко прервал
его: «Что, мало во флоте сидел? Смотри, обратно загоним — не
выберешься». Это произвело такое сильное впечатление на
Леонида Брежнева, что он упал в обморок.
Одержав победу, Хрущёв «вознаградил» Брежнева, переведя
его из кандидатов в полноправные члены Президиума ЦК. В мае
I960 г. с поста председателя Президиума Верховного Совета был
602
ЛЕОНИД
БРЕЖНЕВ
смещён последний участник бывшей антихрущёвской
оппозиции — Климент Ворошилов. Его место занял 53-летний Леонид
Брежнев. Этот пост — главы Советского государства —
никогда не был влиятельным, но всегда — весьма почётным.
Хрущёв не видел в Брежневе возможного соперника. Ведь
ещё в Днепропетровске Леонида Ильича за стиль работы
прозвали Балериной. Его коллеги имели в виду, что им «может
крутить любой, кто хочет». Леонид Брежнев стремился утвердить
свою репутацию мягкого, уважительного руководителя.
Каждый день он, например, около двух часов посвящал внешне
бесполезному занятию — обзванивал своих младших коллег,
секретарей обкомов, советовался с ними по различным
вопросам, внимательно выслушивая их мнение. Авторитет
спокойного и деликатного Брежнева в аппарате ЦК постепенно рос.
Брежнев нашёл и другой путь повышения своей
популярности. Он любил лично сообщать людям о присуждённых им
наградах, премиях, званиях. Сотрудник Брежнева Фёдор Бурлац-
лУЁ
А. Налбандян.
«Малая земля. Новороссийск».
Л. Брежнев. 1964 г.
шш
кий вспоминал: «Он не пенился позвонить человеку, которого
награждали орденом, а тем более званием Героя
Социалистического Труда, поздравить, показав тем самым, что решение
исходило лично от него». Сын Н. Хрущёва Сергей писал о Брежневе:
«На лице его всегда играла благожелательная улыбка. На языке —
всегда занятная история. Всегда готов выслушать и помочь».
В 1964 г. в Президиуме ЦК созрел новый заговор против
Хрущёва. Брежнев примкнул к нему, убедившись в силе
заговорщиков. В октябре 1964 г. Хрущёв был смещён, и именно мягкий
и скромный Брежнев устроил всех как новый Первый секретарь
ЦК (от поста главы государства он был к тому времени
освобождён). Ходили слухи о том, что Леонид Брежнев — «временная
фигура» и впоследствии его «заменит более сильная личность».
Однако постепенно из руководства были выведены как раз те, кого
называли сильными личностями, в том числе непосредственные
организаторы «переворота»
1964 г. — Владимир Семичаст-
ный, Александр Шелепин и др.
Брежнев никогда не был
убеждённым догматиком,
подгоняющим жизнь к
идеологическим схемам (в чём,
например, упрекали Н. Хрущёва в
последние годы его правления).
Характерен такой эпизод. Уже
в последние годы жизни
Леонида Брежнева один из его
сотрудников заговорил о
трудностях низкооплачиваемых
работников. Тогда Леонид Ильич
вспомнил свои студенческие
годы: «Вы не знаете жизни.
Никто не живёт на зарплату.
Помню, в молодости, в период
учёбы в техникуме, мы
подрабатывали разгрузкой вагонов. И
как делали? А три ящика или
мешка туда — один себе. Так
все и живут в стране». Брежнев
понимал, что реальная жизнь
плохо согласуется с
отвлечённой идеологией. Не покушаясь
на идеологию, он всегда, когда
это было возможно, уступал
требованиям жизни. В
результате к концу эпохи Брежнева
идеология почти утратила своё
влияние в обществе, оставаясь
лишь внешней декорацией.
В отличие от Хрущёва
604
ЛЕОНИД
БРЕЖНЕВ
Брежнев был не столько политиком, сколько «партийным
чиновником». Огромное значение для него, как и для всякого
чиновника, имело постепенное продвижение вверх по служебной
лестнице, а понижение в должности воспринималось как личный
провал. Выступая, Брежнев всегда читал написанный текст,
довольно сухой, без живых импровизаций, подобных
импровизациям Хрущёва. По словам академика Г. Арбатова, Леонид Ильич
порой говорил своим помощникам: «Пишите проще, не делайте
из меня теоретика, ведь всё равно никто не поверит, что это моё,
будут смеяться». Даже просил вычёркивать цитаты из классиков
марксизма: «Ну кто поверит, что Брежнев читал Маркса?».
Сам Леонид Ильич понимал, что выглядит довольно
бледно на месте, которое до него занимали такие лидеры, как
Сталин и Хрущёв. Поэтому особо важное значение для него
приобрели внешние атрибуты, символы его авторитета. С 1966 г. он
сменил свой титул на Генерального секретаря ЦК — так до него
именовался Сталин. Долгое время Брежнева уязвляло то, что
формально он не возглавляет ни государство, ни
правительство, а только партию. Однажды на заседании Варшавского
Договора один из участников предложил подписать документ главам
государств. Леонид Ильич возмущённо воскликнул: «Как же
можно? Документ должен подписывать первый человек в стране. А
первый человек — это руководитель партии». В 1977 г. он,
наконец, занял и пост главы государства, сместив Н. Подгорного.
В мае 1976 г. Брежневу было присвоено звание Маршала
Советского Союза, вручена «Маршальская Звезда». На встречу с
однополчанами Леонид Ильич пришёл в новом маршальском
мундире. С нескрываемой гордостью он сказал: «Вот...
дослужился». Другим внешним проявлением авторитета Брежнева
стали присуждённые ему многочисленные награды. Леонид Ильич
был четырежды Героем Советского Союза и Героем
Социалистического Труда. Его наградили Международной Ленинской
премией, Ленинской премией по литературе. Он стал обладателем
16 советских орденов и 42 иностранных, а также множества
медалей. Высший военный орден «Победа» был присуждён
Генеральному секретарю ЦК КПСС с нарушением статута ордена, что
вызвало возмущение среди бывших фронтовиков. На родине
Брежневу был установлен памятник — бронзовый бюст.
В личной жизни, по свидетельству его сотрудника
Александра Бовина, «Брежнев был в общем-то неплохим человеком,
общительным, устойчивым в своих привязанностях, радушным,
хлебосольным хозяином. Любил охоту... Радовался доступным
ему радостям жизни». Во время застолий иногда читал по
памяти стихи Сергея Есенина, помнил наизусть большую поэму
Дмитрия Мережковского «Сакья-Муни».
Одним из главных увлечений Брежнева была быстрая
автомобильная езда. Пока ему позволяло здоровье, он сам водил
автомобиль по специальной правительственной трассе под
Москвой, проходившей по Рублёвскому шоссе. Леонид Ильич ввёл в
обыкновение скоростную — около 130 км/ч — езду своего кор-
МЫ ХОТИМ МИРА, ПРОЧНОГО МИРА.
ЭТО-ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА
НАШЕЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ, мбренш
mm
О. Масляков. Плакат 1982 г.
Л. Брежнев во время одного из
международных визитов.
■-■/if
605
тежа по освобождённым от других машин московским
проспектам и улицам. Во время международных встреч Брежневу часто
дарили автомобили, так что к концу жизни в его гараже их
накопилось около четырёх десятков.
В последние годы жизни Леонид Ильич страдал многими
тяжёлыми заболеваниями. Один из недугов — нарушение
дикции — служил поводом для насмешек и бесчисленных
анекдотов. В 1979 г. Брежнев сказал президенту Франции Валери
Жискар д'Эстену: «Должен признаться Вам, что я очень серьёзно
болен. Меня облучают. Вы понимаете, что я хочу сказать. Врачи
рассчитывают меня вылечить или по крайней мере
стабилизировать болезнь. Впрочем, в моём возрасте и то и другое хорошо!».
Жискар д'Эстен вспоминал: «Он смеётся, сощурив глаза под
густыми бровями. Он кладёт свою руку на моё колено — широкая
рука с толстыми пальцами, изрезанными морщинами,
сформированная целыми поколениями русских крестьян. „Но я
непременно поправлюсь. Я крепкий малый!"».
10 ноября 1982 г. Леонид Ильич Брежнев скончался и был
торжественно похоронен в Москве на Красной площади у
Кремлёвской стены.
ДИССИДЕНТСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ
ПОДПОЛЬНЫЕ ГРУППЫ
Диссидентское движение (слово «диссидент» можно перевести
как «несогласный», «инакомыслящий») в Советском Союзе
начиналось с немногочисленных подпольных кружков, обычно
молодёжных. Они стали зарождаться сразу после Великой
Отечественной войны, в 40-е гг. Новый толчок движению придали
XX съезд КПСС и осуждение на нём «культа личности Сталина».
По форме, а часто и по основным идеям, подпольные
кружки обычно подражали партии большевиков. «Все 50-е и 60-е
годы, — писал диссидент Владимир Буковский, — словно грибы,
вырастали организации, союзы, группы и даже партии самых
различных оттенков. Встречал я партии из двух человек, из пяти, из
двенадцати. Самая маленькая партия, которую я встречал,
состояла из одного человека по фамилии Фёдоров и называлась ПВН,
что значит Прямая Власть Народа».
Диссидент Григорий Померанц вспоминал: «В 1949 г. на
Малой Лубянке я сидел в одной камере с повторниками, бывшими
606
революционерами: они выжили в лагерях и вернулись к своим
семьям. Моими соседями стали эсеры, три анархиста, один
дашнак и один сионист. Прошлое революции смыкалось с её
настоящим. Рядом с живыми эсерами сидел Володя Гершуни, внучатый
племянник Григория Гершуни, создававшего эсеровскую партию.
Будущий диссидент начал с тайной организации молодёжи.
Ребята сочинили листовку, из которой Володя сообщил мне одну
фразу: „Советское правительство скомпрометировало себя в
глазах всех простых людей"».
С подполья начинали многие диссиденты — например,
генерал Пётр Григоренко. Тогда казалось, что в Советском Союзе
возможности действовать открыто просто нет. Однако с середины
60-х гг. диссидентское движение «вышло на свет», стало
открытым, гласным. После этого у многих диссидентов возникло
стойкое предубеждение к подполью. Его выразил П. Григоренко в
названии своей книги: «В подполье можно встретить только крыс».
Однако «подпольные» диссиденты не исчезали до самой
«перестройки». В 1981 г. в Москве, например, состоялся суд над
членами нелегального кружка еврокоммунистов, выпускавших
журнал «Варианты» (в этот кружок входили Андрей Шилков, Михаил
Ривкин и др.).
ЧТЕНИЯ У ПАМЯТНИКА МАЯКОВСКОМУ
29 июня 1958 г. в Москве, на церемонии открытия памятника
поэту Владимиру Маяковскому, читали свои стихи официальные
поэты. Потом стали выходить желающие из публики и тоже
читать стихи. Такой стихийный вечер поэзии многим понравился,
и участники условились продолжать эти встречи.
С тех пор почти каждый вечер на площади Маяковского
превращался в вечер поэзии. Собирались студенты, свободно
спорили о литературе и искусстве. Читали стихи неофициальных
поэтов, в том числе Осипа Мандельштама и Марины Цветаевой.
Вначале советская печать об этом отозвалась одобрительно.
Однако вскоре слишком вольный и раскованный характер встреч
стал беспокоить власти. На некоторое время им удалось
прекратить чтения. С сентября I960 г. чтения возобновились и стали
проходить по выходным дням. На них собирались сотни людей.
Постоянный участник чтений поэт Юрий Галансков часто читал
свой «Человеческий манифест»:
Это — я,
Призывающий к правде и бунту,
Не желающий больше служить.
Рву ваши чёрные путы,
Сотканные из лжи.
О небо! Не знаю, что делаю...
Мне бы карающий нож!
Видишь, как кто-то на белое
Выплеснул чёрную ложь!
Ю. Галансков.
Портрс
--
.••* •
2т, сделанный
*ъшк
/' Ш
V
\\
^dii
'.* ■'•
1
i
в лагере.
Ь^^-.Т*4 1
SS^^ftfc
£ лйД-
FbgJnj fff
Br\ 'V
WW
/У . 1
607
£*S.
ш
СОВЕТСКИЙ союз
В 1946—1991 ГОДАХ
ОТКАЗНИКИ
Примерно с середины 60-х гг. началось
движение еврейских отказников. Так
называли людей, которым по тем или
иным причинам отказывали в
разрешении на выезд в Израиль. Известен
случай, когда отказнику пришлось
ожидать визы целых 20 лет — с 1966 по
1986 г.
Чтобы ускорить выезд, отказники
начинали рассылать письма протеста и
поневоле включались в общественную
борьбу. Несколько первых лет
отказники, как замечала правозашитнииа
Людмила Алексеева, «отгораживались
глухой стеной от правозащитников».
«В 1969 г., — писала она, — Юлиус Те-
лесин первым из активных
правозащитников подал заявление на выезд в
Израиль. К нему тотчас явилась группа
молодых отказников, которые
пригрозили избиением, если он и после
подачи заявления будет продолжать
правозащитную деятельность. Они боялись,
что это скомпрометирует еврейское
движение в глазах властей и навлечёт
на него их гнев. Каково же было
потрясение в отказнической среде, когда
именно Телесин очень быстро получил
разрешение на выезд». После этого
случая движения отказников и
правозащитников начали сближаться.
Важным событием для еврейского
движения стал «большой самолётный
процесс». В 1970 г. власти арестовали
группу из 12 отказников,
собиравшихся угнать самолёт за границу. Двоих из
них приговорили к расстрелу.
Избежать казни им помог случай. Как раз в
это время в Испании приговорили к
смерти нескольких баскских
террористов. Группа советских граждан
обратилась к Л. Брежневу и
генералиссимусу Франко с просьбой не казнить
приговорённых. Франко в ответ на эту
просьбу помиловал осуждённых.
Советские власти оказались в неудобном
положении. Они срочно созвали
президиум Верховного Совета и смягчили
приговор...
После «большого самолётного
процесса» среди отказников прокатилась
волна арестов. Как ни странно, всё это
помогло еврейскому движению
окрепнуть и усилиться. Начали выходить ев-
Видишь, как вечера тьма
Жуёт окровавленный стяг.
И жизнь страшна, как тюрьма,
Построенная на костях.
Не нужно мне вашего хлеба,
Замешанного на слезах.
И падаю, и взлетаю
В полубреду, в полусне.
И чувствую, как расцветает
Человеческое во мне!
«И вообразите себе, — вспоминал В. Буковский, — что всё это
произносится в центре Москвы, под открытым небом, в той самой
Москве, где ещё семь-восемь лет назад за такие слова, сказанные
шёпотом, влепили бы десять лет без всяких разговоров».
Участников чтений начали задерживать, студентов — исключать из
институтов. Потом стали разгонять толпу снегоочистительными
машинами. Наконец троих постоянных участников чтений арестовали
по обвинению в антисоветской агитации. Уже после этого
состоялись ещё одни чтения. Они происходили 9 октября 1961 г., в день
открытия XXII съезда партии. Читали стихи не только на обычном
месте, но и у памятника Пушкину, у Библиотеки имени Ленина —
специально для проходивших мимо делегатов съезда. .
Эти чтения стали последними. Трое арестованных (В.
Осипов, Э. Кузнецов и И. Бакштейн) получили от пяти до семи лет
заключения. В целом встречи «на Маяке», как их называли,
помогли диссидентам выйти «на свет», к открытой гласной
деятельности. Следующим, уже окончательным шагом в этом
направлении оказался суд над писателями Ю. Даниэлем и А, Синявским.
СУД НАД ДАНИЭЛЕМ И СИНЯВСКИМ
В Москве 10 февраля 1966 г. перед Верховным судом России
предстали писатели Юлий Даниэль и Андрей Синявский. В
течение десяти лет они под псевдонимами тайно печатали свои
повести и рассказы на Западе. Когда это раскрылось, их обвинили
в антисоветской агитации. В газете «Известия» в январе 1966 г.
была опубликована статья «Перевертыши», в которой сообщалось
обо всём этом.
В зал суда допускали только по особым билетам, хотя
процесс считался открытым. Из-за этого друзья обвиняемых не
могли попасть в зал. Это был первый публичный политический
процесс за последние 20 лет. Но ещё больше поражало другое.
Впервые после «процесса эсеров» в 1922 г. обвиняемые на
показательном суде отказались каяться и признавать свою вину.
Особое негодование вызвала повесть Ю. Даниэля
«Говорит Москва», в которой он писал о том, что власти объявили
«День открытых убийств». По этому поводу на суде писатель
говорил: «Мне говорят: мы оклеветали страну, народ,
правительство своей чудовищной выдумкой о Дне открытых убийств. Я от-
608
ДИССИДЕНТСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ
вечаю: так могло быть, если вспомнить преступления во время
культа личности, они гораздо страшнее».
А Синявский вспоминал: «Наше „непризнание" сыграло
определённую роль в развитии диссидентского движения, хотя мы
прямо с этим движением никак не были связаны, а действовали
в одиночку. Мы были изолированы и не могли думать, что это
вызовет какие-то „протесты" в стране и за рубежом и поведёт к
какой-то цепной реакции. Мы просто были писателями и
стояли на своём».
«Цепная реакция» действительно была ошеломляющей. В
1958 г. никто в стране не выступил в защиту Бориса Пастернака,
которому было предъявлено аналогичное обвинение. На этот раз
62 писателя обратились с просьбой разрешить им взять
арестованных коллег на поруки. К этому моменту их уже осудили:
Синявский получил семь лет лагерей, Даниэль — пять.
На XXIII съезде партии с речью против Даниэля и
Синявского выступил писатель Михаил Шолохов. Он совсем недавно, в
1965 г., получил Нобелевскую премию по литературе. На съезде
Шолохов сказал: «Мне стыдно не за тех, кто оболгал Родину и
облил грязью всё самое светлое для нас. Они аморальны. Мне
стыдно за тех, кто пытался и пытается брать их под защиту.
Вдвойне стыдно за тех, кто предлагает свои услуги и обращается
с просьбой отдать им на поруки осуждённых отщепенцев»
(Бурные аплодисменты?). Писатель обратился к делегатам съезда от
Советской армии с вопросом: «Как бы вы поступили, если бы в
каком-нибудь подразделении появились предатели?».
«И ещё я думаю об одном, — продолжал М. Шолохов. —
Попадись мне эти молодчики с чёрной совестью в памятные 20-е
годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи
Уголовного кодекса, а „руководствуясь революционным
правосознанием" (Аплодисменты), ох, не ту меру получили бы эти
оборотни! (Аплодисменты?) А тут, видите ли, ещё рассуждают о
„суровости приговора"».
ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ПУШКИНСКОЙ ПЛОЩАДИ
Вскоре после ареста Ю. Даниэля и А. Синявского возникла идея
провести демонстрацию протеста. Это предложение выглядело
очень необычно. Более 35 лет в Москве не проводилось
независимых политических демонстраций. Последней была
демонстрация троцкистов в 1927 г.
Автором идеи стал математик и поэт Александр Есенин-
Вольпин. Он считал, что надо обратиться к властям с
требованием: «Соблюдайте собственные законы!». «Алик был первым
человеком в нашей жизни, — рассказывал Владимир Буковский, —
всерьёз говорившим о советских законах. Но мы все посмеивались
над ним. Знали бы мы тогда, что таким вот нелепым образом, со
смешного Алика Вольпина с кодексом в руках, начинается наше
гражданско-правовое движение — движение за права человека в
Советском Союзе».
рейские самиздатские журналы
«Исход», «Евреи в СССР» и др.
Ежегодно стали проводиться
демонстрации и голодовки отказников. Их
устраивали в годовщину «самолётного
процесса», в годовщину расстрела
евреев в киевском Бабьем Яре в 1941 г.
(см. ст. «СССР во Второй мировой
войне»). В них участвовали десятки,
сотни, а порой и тысячи человек. Многие
отказники за свою деятельность были
осуждены и провели долгие годы в
лагерях и ссылках.
Ю. Орлов.
609
советский союз
В 1946—1991 ГОДАХ
Писатель Ю. Даниэль после освобождения из лагеря
ВЫСЫЛКА СОЛЖЕНИЦЫНА
Важной вехой в развитии
диссидентского движения оказалось появление
книги Александра Солженицына
«Архипелаг ГУЛаг». Книга рассказывала о
советских лагерях и тюрьмах, о
политических судах начиная с 1917 г.
Напечатанная в 1973 г. за границей, она
немедленно стала распространяться
самиздатом внутри страны (лишь летом
1989 г. главы из книги поместил
журнал «Новый мир»).
«Думаю, мало кто встанет из-за стола,
прочитав эту книгу, таким же, каким
он раскрыл её первую страницу, —
замечал историк Рой Медведев.—В этом
отношении мне просто не с чем
сравнить книгу Солженицына ни в русской,
ни в мировой литературе». Именно
такое потрясаюшее впечатление
производила эта книга на своих читателей в
70—80-е гг.
12 февраля 1974 г. А. Солженицына
арестовали у него на квартире.
Писателя доставили в Лефортовскую
тюрьму. Власти не могли, конечно,
отправить в лагерь лауреата Нобелевской
Вольпин написал «Гражданское обращение».
Вместе с несколькими друзьями он отпечатал его
на машинке и распространил. В нём он прежде
всего призвал потребовать от властей «строгого
соблюдения законности». «Невероятно, чтобы
творчество писателей могло составить
государственное преступление», — говорилось в
обращении. Завершалось оно таю «Ты приглашаешься на
„митинг гласности" 5 декабря сего года в шесть
часов вечера в сквере на площади Пушкина у
памятника поэту. Пригласи ещё двух граждан
посредством текста этого обращения».
Наступило 5 декабря — день Сталинской
конституции. В назначенное время на
Пушкинской площади собралось около двухсот человек
«Многие пришли на площадь потому, что не
могли не прийти. Кое-кто — просто поглазеть, из
любопытства», — вспоминал А. Вольпин. Были,
конечно, и чекисты, пришедшие по долгу службы.
Сначала толпа стояла в отдалении, потом,
набравшись смелости, стянулась к памятнику.
Над ней поднялись плакаты: «Уважайте
Советскую конституцию!», «Требуем гласности суда
над Синявским и Даниэлем!». В ту же минуту
чекисты выхватили эти лозунги из рук
демонстрантов и задержали примерно 20 человек. «Тут, в наступившем
замешательстве, — писал В. Буковский, — на подножие
памятника взобрался Юрий Галансков и крикнул: „Граждане свободной
России, подойдите ко мне...". Граждане свободной России в
штатском тотчас же бросились к нему, сбили с ног и уволокли в
машину». Однако на этот раз с задержанными обошлись весьма
мягко: всех отпустили через два часа. Правда, участвовавших в
демонстрации студентов позднее исключили из вузов. В
сентябре 1966 г. появился ещё один, более серьёзный ответ властей на
декабрьскую демонстрацию. В уголовный кодекс внесли новую
статью (190-3). Слова «демонстрация» в ней не было, речь шла о
«групповых действиях, грубо нарушающих общественный
порядок». Но применяли её именно к демонстрантам.
Демонстрация протеста 5 декабря 1965 г. произвела
сильное впечатление на людей как в Советском Союзе, так и во всём
мире. С этого дня она стала традиционной. Каждый год 5
декабря (а потом 10 декабря, в День прав человека) на
Пушкинской площади собирались диссиденты, снимали шапки и так
молча стояли несколько минут. Порой их собиралось
несколько десятков, порой — более сотни человек Приходили сюда и
чекисты, и милиция. Иногда они разгоняли толпу, иногда —
только наблюдали, не вмешиваясь. Эта традиция не
прерывается уже около 30 лет. 5 декабря 1965 г. считается днём
рождения правозащитного движения.
610
ДИССИДЕНТСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ
«ПРОЦЕСС ЧЕТЫРЁХ»
После суда над Ю. Даниэлем и А. Синявским двое диссидентов —
Александр Гинзбург и Юрий Галансков — составили и
распространили «Белую книгу» об этом процессе. В неё вошли
советские и зарубежные газетные статьи о суде, письма протеста,
последнее слово подсудимых и многие другие материалы.
В 1967 г. составителей книги и двух их «сообщников» (Веру
Дашкову и Алексея Добровольского) арестовали. В январе 1968 г.
состоялся суд — «процесс четырёх», как его тогда окрестили.
Гинзбург получил пять лет заключения, а Галансков — семь лет.
Ему так и не довелось выйти на свободу: 2 ноября 1972 г. он
скончался в лагере от язвы желудка.
Именно этот второй публичный политический процесс
вызвал самые широкие общественные протесты. Письма протеста
подписали около тысячи человек — совершенно небывалое
прежде количество. Многие ещё не вполне понимали, чем это им
грозило. Теперь их увольняли с работы, тем самым полностью
выталкивали из привычной жизни.
Последствия этого были двоякими. С одной стороны, столь
массовые протесты больше не повторялись. С другой — сотни
людей окончательно примкнули к диссидентам. В результате
движение твёрдо встало на ноги.
«ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ»
Вскоре после «процесса четырёх» произошло ещё одно событие,
очень важное для диссидентского движения в СССР. 30 апреля
1968 г. вышел в свет первый выпуск бюллетеня «Хроника
текущих событий».
А, Сахаров назвал «Хронику» «самым большим
достижением» диссидентов. Это была своеобразная летопись общественной
жизни страны. Тираж каждого её номера составлял всего три
десятка машинописных копий. Но, конечно, он ещё многократно
увеличивался за счёт огромного количества перепечаток
«Хронику» читали во всём Советском Союзе. Если в первом номере
сообщалось только о событиях в Москве и Ленинграде, то через
год в выпуск пришли вести уже из 34 городов (позднее их число
возросло до 140).
Адреса и имена редакторов в «Хронике» не указывались, хотя
власти нередко их знали. Сообщения стекались в издание
совершенно необычным путём. В пятом выпуске описывалось, как это
происходило: «Каждый легко может передать известную ему
информацию в распоряжение „Хроники". Расскажите её тому, у кого
Вы взяли „Хронику", а он расскажет её тому, у кого он взял...
Только не пытайтесь единолично пройти всю цепочку, чтобы Вас не
приняли за стукача».
Обычно «Хроника» лишь беспристрастно сообщала о
событиях, не давая никаких оценок от себя. Но в нескольких
принципиальных случаях она сочла необходимым нарушить своё
обычное правило. Однажды это произошло в связи с «делом Фе-
премии по литературе (1970 г.). 13
февраля Солженицыну объявили о
лишении его советского гражданства и
выдворении из СССР. Затем под
конвоем писателя посадили в самолёт.
Только после приземления, прочитав
надпись в аэропорту: «Франкфурт-на-
Майне», он узнал, в какой стране
находится...
Советские газеты сообщили: «Указом
Президиума Верховного Совета СССР
за систематическое совершение
действий, не совместимых с
принадлежностью к гражданству СССР и наносящих
ущерб СССР, лишён гражданства и
13 февраля 1974 г. выдворен за
пределы Советского Союза
Солженицын А. И. Семья Солженицына сможет
выехать к нему, как только сочтёт
необходимым».
Газетная кампания против
Солженицына велась ешё с конца 60-х гг.
После появления «Архипелага» она стала
особенно резкой. Многие газеты
пестрели заголовками: «Как А.
Солженицын воспел предательство власовцев»,
«Докатился до края», «Отпор
литературному власовцу», «Без царя в
голове» и т. п.
Спустя неделю после высылки
писателя «Литературная газета»
опубликовала подборку «Конец литературного
власовца». Писатель Михаил
Алексеев в ней подчёркивал: «Надо полагать,
Иуда Искариотский повернулся в
гробу от дикой зависти: ведь он явно
продешевил, продав Иисуса всего лишь за
30 сребреников. Александр Исаевич
так дёшево не продаёт, да и продаёт
он не какого-то там библейского
Христа, а вполне реальное Отечество».
«Нет нужды защищать русский народ
от человека, душа которого полна
патологической злобы в отношении
всего этого народа,—восклицал писатель
Пётр Проскурин. — Сколько их было,
духовных карликов, прошелестевших у
подножия этой твердыни и
исчезнувших бесследно!»
«Если отдельный гражданин
настойчиво противопоставляет себя обществу,
в котором он живёт, — замечал
писатель В. Бээкман, — то общество,
исчерпав меры воздействия, вправе
отвергнуть его».
611
тисова». В 1956 г. А. Фетисов вышел из партии в знак протеста
против осуждения «культа личности». Он высоко оценивал
деятельность И. Сталина и А. Гитлера. Весной 1968 г. А. Фетисова и
трёх его последователей арестовали и поместили в
психиатрические больницы. Кто-то из диссидентов написал в связи с этим
статью «Своя своих не познаша», где иронизировал над
Фетисовым и одобрял его арест.
«Хроника» так ответила на эту статью: «Этот документ
дважды порочен. Во-первых, вместо серьёзной критики автор
ограничивается насмешками над „очевидной глупостью фетисовских
идей". „Хроника" считает, что столь радикальная
антидемократическая программа заслуживает столь же радикальной, но
абсолютно серьёзной научной критики. Во-вторых, выражать
удовлетворение по поводу того, что власти отправили твоего
идейного противника в „жёлтый дом", — безнравственно. Это значит
уподобиться тому же Фетисову, который считал, что Синявского
и Даниэля следовало бы расстрелять...».
Благодаря «Хронике» страна и мир узнавали о положении в
советских лагерях, тюрьмах, психиатрических больницах, сотнях
Возле плаката, посвяшённого высылке
А. Солженицына. Москва. 1974 г.
«БУЛЬДОЗЕРНАЯ ВЫСТАВКА»
15 сентября 1974 г. несколько
неофициальных советских художников
(Александр Глезер, Лидия Мастеркова,
Виталий Комар и др.) решили устроить
выставку своих картин под открытым
небом. Им уже долгое время не
давали разрешения на выставки в
помещениях.
С холстами и треножниками в чехлах
художники отправились на пустырь
возле станции метро «Беляево» в
Москве. Здесь они расположили свои
работы. Художникам немедленно
объявили, что выставка запрещена,
потому что на пустыре проводится
«коммунистический субботник». К пустырю,
612
ДИССИДЕНТСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ
арестов, судов, приговоров по политическим обвинениям, о
национальных и религиозных движениях.
Мало кому из редакторов «Хроники» удавалось долго
оставаться на свободе. Первого редактора, Наталью Горбаневскую,
арестовали через год, в 1969 г. Несмотря на аресты, «Хроника»
выходила целых 15 лет.
Все эти годы продолжались аресты редакторов: в 1979 г.
арестовали Татьяну Великанову, в 1980 г. — Александра Лавута, в
1983 г. — Юрия Шихановича. Издание «Хроники» прекратилось
в 1983 г. Всего за полтора десятка лет вышли 64 выпуска.
САМИЗДАТ
Очень важной частью диссидентского движения стала
самодельно размноженная литература — «самиздат». Это название
полушутливо расшифровывали так «Сам пишу, сам издаю, сам
распространяю, сам и отсиживаю за это».
Литературный самиздат появился ещё в конце 50-х гг.
Прежде всего это были стихи неофициальных поэтов — М. Цветаевой,
О. Мандельштама и др. Затем последовали переводы, рассказы,
лагерные воспоминания. В 1958 г. в самиздат попал роман
Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Таким образом
распространялись произведения более трёхсот авторов.
В конце 60-х гг. наряду с литературным возник новый,
политический самиздат. Это были бюллетень «Хроника текущих
событий», правозащитные сборники, позднее журналы «Вече»,
«Поиски», «Варианты», «Поединок» и др.
Перепечатывали самиздатовские произведения чаще всего
на пишущих машинках. Передавали из рук в руки друзьям и
знакомым. Правозащитница Людмила Алексеева вспоминала: «Все
знали, что надо при этом быть осторожными, но редко кто
действительно был осторожен. Обычно люди сами смеялись над
своими конспиративными потугами. Ходил тогда в Москве
анекдот о телефонном разговоре приятелей, обменивающихся
самиздатом: „Ты уже съел пирог, который тебе вчера дала моя
жена?"— „Съел". — „И жена твоя съела?" — „Да". — „Ну тогда
передай его Мише — он тоже хочет его попробовать"».
ОТКРЫТЫЕ ДИССИДЕНТСКИЕ ГРУППЫ
Во время «процесса четырёх» число писем в защиту подсудимых
невероятно возросло. Количество подписей достигло тысячи. Это
вызвало немалое беспокойство властей. К «подписантам», как их
называли, стали применять жёсткие меры — увольняли с
работы, исключали из партии.
После этого количество писем протеста заметно
уменьшилось. Диссиденты раздумывали, как придать таким письмам
больший вес. Прежде всего они решили изменить их адресатов.
Письма стали направлять не властям, а международной
общественности, что вначале выглядело дерзко и непривычно. Затем роди-
где проходила выставка, подъехали три
специально присланных бульдозера и
стали давить картины гусеницами.
Один из бульдозеров так быстро
надвинулся на людей, что художнику
Оскару Рабину пришлось повиснуть на
верхнем ноже бульдозера, подогнув
ноги, чтобы их не поранило. Здесь же
на костре «победители» сожгли
«взятые с боем» картины. Четверых
художников задержала милиция.
«Бульдозерная выставка» долго
оставалась в кругах интеллигенции
символом отрицательного отношения
властей к неофициальному искусству.
А. Солженицын (после высылки из СССР)
и немецкий писатель Г. Бёлль.
Февраль 1974 г.
613
©
советский союз
В 1946—1991 ГОДАХ
ДЕМОНСТРАЦИЯ НА КРАСНОЙ
ПЛОШАЛИ
25 августа 1968 г. в Москве семь
советских граждан вышли на
демонстрацию против ввода войск в
Чехословакию. (Войска СССР и четырёх
других стран Варшавского Договора
вступили в Чехословакию, чтобы
прекратить происходивший там процесс
реформ — «Пражскую весну»). Придя на
Красную плошадь, ровно в 12 часов дня
участники протеста сели на тротуар у
Лобного места и развернули плакаты
с надписями: «За вашу и нашу
свободу!», «Руки прочь от ЧССР!», «Долой
оккупантов!», «Свободу Дубчеку!» —
и один на чешском языке: «Да
здравствует свободная и независимая
Чехословакия!».
К демонстрантам немедленно
подбежали переодетые чекисты и стали их
избивать. Прохожие с недоумением
смотрели на происходяшее. Затем
демонстрантов арестовали. 9 октября
1968 г. пятеро из них предстали перед
судом. Владимир Дремлюга получил
три года заключения, Вадим Делоне —
два с половиной года; остальных
(Ларису Богораз, Павла Литвинова,
Константина Бабицкого) суд приговорил к
различным срокам ссылки — от трёх
до пяти лет.
Поэт В. Делоне на суде сказал: «Я
понимал, что за пять минут свободы на
Красной плошади я могу расплатиться
годами лишения свободы».
Л. Богораз в последнем слове так
объяснила свой поступок: «Чтобы
решиться на демонстрацию, мне пришлось
преодолеть свою инертность, свою
неприязнь к публичности. Именно митинги,
сообшения в прессе о всеобщей
поддержке побудили меня сказать: я
против, я не согласна. Если бы я этого не
сделала, я считала бы себя
ответственной за эти действия правительства».
У Виктора Файнберга во время
избиения на Красной плошади выбили
ударом ноги четыре передних зуба, и
власти сочли неудобным выводить его на
открытый суд. Вместе с Натальей Гор-
баневской он был приговорён к
заключению в спецпсихбольницу.
лась мысль об организациях — не подпольных, как прежде, а
открытых, гласных.
Такие открытые диссидентские группы стали совершенно
новым явлением 70-х гг. Первая из них, под названием
«Инициативная группа защиты прав человека в СССР», возникла 28 мая
1969 г. В неё вошли 15 человек (Т. Великанова, Н. Горбаневская,
А. Лавут и др.). Первый опыт имел очень большое значение. Как
ответят власти? Может быть, немедленно арестуют всю группу
целиком? Вскоре стало ясно, что власти предпочитают
выборочные, постепенные аресты. К 1972 г. из пятнадцати человек были
арестованы восемь.
Конечно, и после этого «успешного опыта» в каких-либо
группах состояло лишь меньшинство диссидентов. Но зато количество
групп стало расти. В ноябре 1970 г. появился Комитет прав
человека, в который входили академик А Сахаров, В. Чалидзе и др.
В 1975 г. в Хельсинки был принят Заключительный акт
совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Западные
страны признали раздел Германии и послевоенные границы в Европе.
В обмен Советский Союз обязался соблюдать права человека.
Многие диссиденты отнеслись к этому событию
неодобрительно, как к новой победе советских властей. «Но вдруг среди
нас, — вспоминал П. Григоренко, — нашёлся человек,
взглянувший на Заключительный акт иначе, чем смотрели все мы». Это
был профессор-физик Юрий Орлов.
Он предложил создать Московскую Хельсинкскую группу и
следить за тем, как СССР выполняет свои обязательства по
правам человека. 12 мая 1976 г. была создана группа в составе 11
человек В течение года возникли Украинская, Литовская,
Грузинская и Армянская Хельсинкские группы.
Аресты их участников начались в феврале 1977 г. В
частности, Ю. Орлова приговорили к семи годам заключения. К 1982 г.
в заключении оказались 47 участников Хельсинкских групп.
Несмотря на аресты и суды, деятельность Московской
Хельсинкской группы продолжалась до осени 1982 г. (и возобновилась
в 1989 г.).
Перечисленные группы были далеко не единственными.
Например, в 1979 г. возникла группа «Выборы-79»,
попытавшаяся выдвинуть кандидатами на выборах А, Сахарова, Р. Медведева
и других диссидентов. В июне 1982 г. возникла пацифистская
группа «Доверие», действовавшая до 1989 г.
ПОЛИТЗАКЛЮЧЁННЫЕ
До середины 60-х гг. интеллигенция даже не подозревала о том,
что в стране имеется большое количество политзаключённых.
Впервые об этом стало известно в 1967 г. из книги рабочего
Анатолия Марченко «Мои показания». Он попал в политический
лагерь после неудавшейся попытки побега за границу.
В своей книге Марченко приводил такой характерный
случай. Писатель Юлий Даниэль, с которым он оказался в одном
614
ДИССИДЕНТСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ
лагере, вспоминал свои размышления по дороге туда: «Куда же,
думаю, меня повезут? Как в песне поётся: „Куда, куда меня
пошлют?". С кем сидеть придётся? Политических-то всех десять лет
назад выпустили. Слышал я, правда, что одного киевского еврея
посадили то ли за связь с Израилем, то ли ещё за что-то в этом
роде. Он да мы с Андрюшкой Синявским — трое; ну, может, ещё
десяток-другой наберётся вроде этого еврея. А в Рузаевке-то,
говорят, тысячи политических. Здорово нас оболванивают,
ничего не скажешь». А Марченко впервые рассказал о лагерях эпохи
«оттепели», об условиях жизни политзаключённых. Его книга
стала настоящим открытием для интеллигенции, да и для всего мира.
После выхода в свет этой книги диссиденты начали собирать
деньги на помощь политзаключённым и их семьям. В лагеря
стали посылать продукты, книги, тёплую одежду и т. п. Сотни
людей, оказывающие эту помощь, простую и не грозящую арестом,
вовлекались в диссидентское движение.
Конечно, власти не могли терпеть такого положения и в
1970 г. резко ограничили посылки в лагеря. Теперь можно было
посылать только одну продуктовую посылку в год, да и то лишь
заключённым, отбывшим половину срока. Посылать книги
запретили. Тем не менее деятельность фондов помощи
политзаключённым продолжалась в течение 70-х гг. Всерьёз
преследовать эти фонды начали лишь в начале 80-х гг. Тогда же в
Уголовный кодекс ввели новую статью. За «нарушение режима» в
лагере (например, за голодовку) теперь могли добавлять новые
сроки заключения.
30 октября 1974 г. диссиденты впервые отметили День
советского политзаключённого. В последующие годы это стало
традицией. В политических лагерях родилась ещё одна традиция:
ежегодно 10 декабря, в День прав человека, проводить
однодневную голодовку.
О размахе диссидентского движения можно судить по
следующим данным. Председатель КГБ В. Крючков заявил в 1990 г.,
что всего за «клевету на общественный строй» и «антисоветскую
агитацию» осудили 7250 человек При этом речь шла только о
России, только о 60—70-х гг. и только о двух статьях уголовного
кодекса. Общее количество осуждённых диссидентов, конечно,
значительно превышало названное.
ДИССИДЕНТЫ НА УКРАИНЕ
На Украине удивительным образом повторилась история
диссидентского движения в целом. Отличием была, пожалуй, только
чёткая национальная окраска движения.
Зарождалось оно, как и везде в СССР, в подполье. Всего в
60-е гг. на Украине власти раскрыли более 15 подпольных
диссидентских групп. Некоторые из них признавали и вооружённую
борьбу за независимость Украины. Это было отзвуком
партизанской борьбы «бандеровцев», украинских националистов,
продолжавшейся до начала 50-х гг.
БУНТ НА «СТОРОЖЕВОМ*
8 ноября 1975 г. на большом
противолодочном корабле «Сторожевой»,
находившемся в Риге, вспыхнуло
восстание. Его руководителем стал замполит
корабля капитан третьего ранга
Валерий Саблин. В этот день В. Саблин
выступил перед командой,
насчитывавшей 200 человек. Он сказал, что власть
погрязла в моральном разложении и
взятках, преследует инакомыслящих.
Капитан предложил очистить
государственный аппарат от взяточников и
карьеристов и провести настоящие
выборы.
Валерию Саблину удалось быстро
привлечь на свою сторону матросов и
старшин корабля. Офицеры и
мичманы его не поддержали и были
арестованы восставшими. Саблин направил
правительству телеграмму с
требованием дать ему возможность выступить
по радио и телевидению. Ночью
корабль вышел в море и направился к
Ленинграду.
За «Сторожевым» послали в погоню
боевые корабли и самолёты.
Главнокомандующий Л. Брежнев разрешил в
случае необходимости даже потопить
мятежный корабль. Однако обошлось
без этого. Корабль подвергли
обстрелу, а затем захватили. Саблин при этом
был ранен выстрелом из пистолета.
Вместе с матросом Александром
Шейным его предали суду. Как
изменника Родины, Саблина приговорили к
смертной казни, А. Шеина — к
восьми годам заключения. Перед казнью
В. Саблин писал в прощальном письме
жене: «Что меня толкнуло на это?
Любовь к жизни... Причём я имею в виду
не жизнь сытого мешанина, а жизнь
светлую, честную... Я убеждён, что в
нашем народе, как и 58 лет назад,
вспыхнет революционное сознание, и
он добьётся коммунистических
отношений в стране...». В прощальном
письме сыну он писал: «Дорогой сынок! Я
временно расстаюсь с вами, чтобы
свой долг перед Родиной выполнить. В
чём мой долг перед Родиной? Я боюсь,
что сейчас ты не поймёшь глубоко, но
подрастёшь, и всё станет ясно. А
сейчас я тебе советую прочитать рассказ
Горького о Данко. Вот и я так решил
„рвануть на себе грудь и достать
сердце..."». 3 августа 1976 г. 37-летний
Валерий Саблин был расстрелян.
615
№
СОВЕТСКИЙ союз
В 1946—1991 ГОДАХ
МАССОВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ДВИЖЕНИЯ
Собственно диссидентское движение,
как правило, ограничивалось рамками
интеллигенции. Национальные
движения часто бывали значительно шире.
Одним из ярких примеров может
служить движение крымских татар за
возвращение на родину. В нём
участвовала большая часть этого народа (см. ст.
«Переселение народов»).
Достаточно массовым было и
национальное движение в Прибалтике —
особенно в Литве. Только в 1956 г.
советским властям удалось уничтожить
последние отряды партизан — «лесных
братьев», сражавшихся за
независимость страны. Память об эпохе
вооружённой борьбы была ешё жива, когда
в начале 70-х гг. в Литве поднялась
новая волна национального движения.
В мае 1972 г. в городском сквере
Каунаса совершил самосожжение
18-летний юноша Ромас Каланта. Он сделал
это «в знак протеста против оккупации
Литвы советскими войсками». Его
похороны 18 мая переросли в
многотысячную демонстрацию молодёжи. С
пением народных литовских песен люди
направились к месту самосожжения.
Они скандировали: «Литва!»,
«Свобода!». Милиция попыталась разогнать
толпу, при этом один милиционер был
ранен камнем. На следующий день
демонстрация продолжилась, и власти
арестовали около четырёхсот человек.
Восьмерых из них приговорили к
тюремному заключению. После этих
событий родилась традиция — каждый
год в мае на место гибели Р. Каланты
возлагать цветы.
Массовые демонстрации в Вильнюсе
проходили также в 1975 и 1977 гг.
после футбольных матчей. 7 октября
1977 г., в день принятия
«брежневской» конституции, около тысячи
человек прошли по улицам города,
выкрикивая: «Долой конституцию
оккупантов!», «Свободу Литве!», «Русские,
убирайтесь вон!». Через три дня
демонстрация повторилась. В ответ на
выкрики против русских кто-то из
толпы крикнул: «Здесь с вами и русские!».
«Выход диссидентов из подполья» начался в 1965 г. Этому
предшествовал украинский вариант «дела Даниэля и
Синявского». В 1965 г. на Украине арестовали и осудили около 20
деятелей литературы и искусства. Все они очень умеренно выступали
в защиту украинской культуры. Во время судов над ними
диссидентское движение на Украине усилилось и окрепло. Один из
арестованных, Михайло Осадчий, вспоминал, как проходил суд
над ним: «„Слава!.. Слава!.. Слава!.." — кричала толпа, запрудившая
всю Пекарскую (такое было все пять дней). Нам бросали цветы,
они падали на металлическую крышу машины, сквозь щели в
дверях, к нам. Когда мы шли в помещение суда, то шли по ковру из
живых весенних цветов, нам жаль было их топтать...».
Появилась и украинская «демонстрация на Пушкинской
площади». Ею стало ежегодное возложение цветов к памятнику Тарасу
Шевченко. В 1967 г. милиция арестовала несколько участников
мероприятия. Тогда остальные 300 человек провели демонстрацию в
центре Киева и добились освобождения задержанных.
С 1970 г. начал выходить «Украинский вестник», подобный
московской «Хронике текущих событий». До 1975 г. вышло
девять выпусков. Возникли и открытые диссидентские группы, в
том числе в 1976 г. — Украинская Хельсинкская группа.
Последнего её участника власти арестовали в 1981 г.
РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Русское национальное движение, как и украинское, так и не
вылилось в массовое, оставшись только составной частью
движения диссидентов.
Как и диссидентское движение в целом, оно тоже
начиналось с подполья. Его участникам в начале 60-х гг. удалось создать
в Ленинграде самую крупную подпольную организацию в
России — Всероссийский Социал-Христианский Союз
освобождения народа (ВСХСОН). Незадолго до арестов в 1961 г. она
насчитывала 28 членов и 30 кандидатов, опиралась в основном на
идеи Николая Бердяева и Фёдора Достоевского.
В программе организации говорилось о преобразовании
СССР в православное русское государство. Так, высшей властью
должен был стать Верховный собор, состоящий из церковной
иерархии и пожизненно избранных «выдающихся представителей
нации». Советская печать о ВСХСОНе ничего не сообщала,
только в 1976 г. в газете «Неделя» промелькнула информация о
«несуществующей организации ВСХСОН».
После ареста в лагерях и тюрьмах участники ВСХСОНа
встретились с украинскими и прибалтийскими националистами.
В спорах с ними они по-новому осмыслили свои идеи
национального и православного государства. Выйдя на свободу в
1974 г., один из членов этой организации, писатель Леонид
Бородин, заявил, что сейчас уже ни один из членов союза не
принимает полностью его первоначальную программу.
Символом нового этапа в развитии русского национально-
616
ДИССИДЕНТСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ
го движения стал самиздатовский журнал «Вече». Этот объёмный
машинописный журнал открыто выходил в течение почти
четырёх лет, с января 1971 г. (увидели свет десять номеров). Его
главным редактором стал историк Владимир Осипов, в своё время
осуждённый за чтения у памятника Маяковскому.
Основной задачей журнала он считал «продолжение
путеводной линии славянофилов и Достоевского». «Лично я не
принадлежу к „демократам", — признавался он, — но отношусь с
большим уважением к лучшим, искреннейшим из них». Не
отвергая защиты прав человека, он подчёркивал, что «проблема
гражданских прав в СССР менее важна, чем проблема умирающей
русской нации». «Вече», а позднее журнал «Земля» стали трибуной
для различных направлений русского национального движения.
Издание этих журналов прекратилось, когда в декабре 1974 г.
Владимира Осипова арестовали, а затем осудили на восемь лет
заключения.
ПОМИЛОВАНИЕ 1987 ГОДА
В феврале 1986 г. Михаил Горбачёв заявил: «Насчёт
политзаключённых. У нас их нет. За убеждения у нас не судят. Но всякое
государство должно защищать себя от тех, кто покушается на него,
призывает к его подрыву или уничтожению, кто, наконец,
шпионит в пользу иностранных разведок. В СССР за все виды такого
рода преступлений отбывают наказание немногим более
двухсот человек». Как и другие советские лидеры, Горбачёв отрицал
наличие политзаключённых. Но приведение каких-то цифр,
разговор на эту тему были уже сдвигом с прежней позиции.
4 августа 1986 г. находившийся в Чистопольской тюрьме
диссидент Анатолий Марченко объявил голодовку. Он
потребовал освобождения всех политзаключённых. Ю. Орлов замечал о
поступке Марченко: «Его могла остановить только амнистия или
смерть, мы знали это. Этот человек, если сказал — сделает,
сколько бы власти ни повторяли: „Умирай! В СССР нет политических
заключённых!"».
9 декабря 48-летний Анатолий Марченко скончался. На
вопрос его жены Ларисы Богораз, голодал ли он до конца,
тюремное начальство туманно ответило: «То голодал, то нет». Видимо,
смерть Марченко ускорила дальнейшие события. Спустя неделю
из ссылки разрешили возвратиться академику А Сахарову (см. ст.
«Андрей Сахаров»).
После этого началось постепенное освобождение
политзаключённых. Их освобождали не по амнистии, а каждого
отдельно, требуя прошения о помиловании. Не все соглашались его
написать, понимая это как признание вины.
Политическая ссыльная Татьяна Великанова вспоминала: «В
январе — феврале 87-го года меня дважды вызывал областной
прокурор. Хотел, чтобы я написала просьбу об освобождении.
«Пишите, — говорит, — что убеждений своих не изменили,
советских законов не нарушали и впредь не намерены». Огорчила
Очень широким в Литве было
католическое движение. В 1979 г. верующие
направили Л. Брежневу письмо с
требованием открыть собор в Клайпеде.
Под этим письмом подписались более
148 тыс. человек — совершенно
небывалая иифра для подобных протестов
в России.
В Эстонии первые демонстрации, в
которых принимали участие 1—5 тыс.
человек, начались в конце 70-х гг.
Именно здесь произошёл один из
немногих случаев, когда диссиденты
взяли в руки оружие. В 1979 г. небольшая
вооружённая группа во главе с Имре
Аракасом совершила покушение на
главу эстонской компартии К. Вайно.
Покушение не удалось, а террористов
приговорили к лагерному заключению.
Вспышки массового движения
происходили и в Армении. 24 апреля 1965 г.
в Ереване состоялась 100-тысячная
траурная демонстрация. Её участники
отмечали 50-летие гибели 1,5
миллионов армян на территории Турции.
Власти разогнали шествие, окатывая
людей водой из шлангов.
В Грузии национальное движение
приобрело особенно широкий размах в
1978 г. Тогда власти попытались
внести в конституцию республики пункт,
по которому государственным языком
объявлялся русский (а не грузинский,
как прежде). 14 апреля более 10 тыс.
человек провели демонстрацию у Дома
правительства в Тбилиси. Все они
требовали оставить государственным
языком грузинский. В разгар
демонстрации Верховный Совет уступил этим
требованиям. Сами депутаты
приветствовали это решение восторженной
15-минутной овацией. Демонстранты
также встретили его всеобщим
ликованием, после чего мирно разошлись.
В 80-е гг., после начала «перестройки»
массовые национальные движения
возникли прежде всего там, где они уже
вспыхивали в 70-е гг. В первую очередь
это были Прибалтика и Закавказье.
617
\®
советский союз
В 1946—1991 ГОДАХ
Старший лейтенант В. Орехов. 70-е гг.
его: „Знаете, мне что-то ничего писать не хочется". Расстались. И
я продолжала отбывать ссылку. Точно так же поступила и Елена
Санникова, и некоторые другие».
Политзаключённый Алексей Смирнов рассказывал о своих
мучительных колебаниях: «Я ходил по камере и взвешивал,
взвешивал. Считаю, что та цена, которую заплатила бы моя семья,
если бы я ничего не написал и поехал бы назад в зону, была
чрезмерной. Некоторые не написали ничего и отправились в лагерь.
Они были за нас огорчены. А я поступил, как многие.
Коллективный разум пришёл к этому».
13 февраля 1987 г. в газете «Известия» появилась
информация о том, что к властям обратились с просьбой об
освобождении «около 140 человек», осуждённых за государственные
преступления. По их заявлениям принимались решения об
освобождении. «Этот гуманный акт находится в полном соответствии с
процессом демократизации и отвечает духу перестройки» — так
заканчивалась статья.
С декабря 1987 г. вплоть до 1991 г. небольшими группами
освобождали и отказавшихся просить помилования. После
августовских событий 1991 г. выпустили на свободу ещё несколько
десятков человек Это было последнее освобождение
политзаключённых в Советском Союзе.
ЛЕЛО ВИКТОРА ОРЕХОВА
Одним из самых необычных
участников диссидентского движения
оказался капитан КГБ Виктор Орехов.
Работая с диссидентами, он, по его
собственным словам, увидел, «что
большинство диссидентов делают свою работу
бескорыстно, желая просто
восстановить правду». «Тогда, — говорил он, —
я пришёл к выводу, что если уж
невозможно ничего изменить, то нужно хотя
бы помогать чем-то таким людям».
Официальным «подопечным» В.
Орехова был диссидент Марк Морозов. С
декабря 1976 г. Орехов начал через
него предупреждать о намеченных
обысках, сообщал имена секретных
агентов. Он предупреждал также о
готовящихся арестах, например сообщил
о готовящемся аресте Юрия Орлова в
1977 г.
После этого произошла история, очень
характерная для диссидентского
движения 70-х гг. Ю. Орлов скрылся от
властей и получил несколько важных
для него дней свободы. Вообще он
считал глупым «самоарестовываться»
и сказал, что готов перейти в
подполье. Но его товарищи решительно
этому воспротивились. Им, вспоминал
Ю. Орлов, «была отвратительна идея
подполья».
Позднее он писал: «Орехов не
понимал, насколько разительно отличались
идеи сопротивления его и диссидентов.
Для него подпольные методы были не
только единственно возможны, но и
наиболее естественны. Диссиденты не
просто не верили Орехову, они
отвергали в принципе идею неоткрытой,
секретной деятельности, особенно —
совместно с кем бы то ни было из КГБ.
Трагичным был также факт, что
некоторые диссиденты, ни разу не
усомнившись, что Орехов — провокатор,
довольно открыто обсуждали
мистического капитана КГБ прямо у
подслушивающих микрофонов, установленных в
каждой диссидентской квартире».
В своих беседах они окрестили
Орехова Клеточниковым, по имени
известного народовольца в рядах полиции.
Вскоре по неосторожным
разговорам диссидентов чекисты «вычислили»
В. Орехова. 25 августа 1978 г. его
арестовали. Арестовали и М. Морозова,
который подтвердил свою связь с
капитаном КГБ (в 1986 г. М. Морозов
погиб в Чистопольской тюрьме).
Орехова судил закрытый военный
трибунал, который приговорил его к
восьми годам заключения. Все эти восемь
лет он отбыл «от звонка до звонка».
Только после его освобождения
диссиденты узнали, кто же скрывался под
именем таинственного Клеточникова.
618
АНДРЕИ
САХАРОВ
ДЕЯТЕЛИ
ДИССИДЕНТСКОГО
ДВИЖЕНИЯ
АНДРЕЙ САХАРОВ
(1921—1989)
В судьбе этого человека было много неожиданных поворотов.
Он был награждён Сталинской премией за создание водородной
бомбы, а 20 лет спустя — Нобелевской премией мира.
«Человеконенавистник», «потерявший честь и совесть», «величайший
гуманист», «честь и совесть нашей эпохи» — так называли его
порой одни и те же люди (с разницей всего в десять лет).
Родился Андрей Дмитриевич Сахаров в Москве 21 мая
1921 г. в семье учёного-физика. Позднее он тепло вспоминал о
своей «интеллигентной и дружной семье». «С детства я жил в
атмосфере порядочности, взаимопомощи и такта», —
рассказывал А. Сахаров.
Андрей с отличием закончил школу. Решил стать физиком,
как и отец. Московский университет ему выпало закончить в
разгар войны, в 1942 г. Несколько лет Сахаров проработал
инженером на военном заводе, а в 1945 г. стал аспирантом Физического
института имени П. Н. Лебедева АН СССР.
Всю свою юность он оставался «вне политики» — не был ни
пионером, ни комсомольцем. В 1948 г. ему предложили вступить
в партию. Предложение исходило от генерала госбезопасности
Малышева, «опекавшего» институт.
«Я сказал, — писал Сахаров, — что я не могу вступить в
партию, так как мне кажутся неправильными некоторые её действия
в прошлом, и я не знаю, не возникнут ли у меня новые сомнения
в будущем. Малышев спросил, что мне кажется неправильным. Я
ответил:„Аресты невиновных, раскулачивание". Малышев сказал:
„Партия сурово осудила ежовщину, все ошибки исправлены. Что
касается кулаков, то что мы могли делать, когда они сами пошли
на нас с обрезом"». Сахаров тем не менее отказался.
В 1948 г. А Сахарова включили в состав группы по созданию
термоядерного оружия. 12 августа 1953 г. советская водородная
бомба прошла первое испытание. После успешного взрыва на
полигон позвонил глава правительства Георгий Маленков. Он
САХАРОВ И ДОГОВОР 1963 ГОДА
В 1961 г. после двухлетнего перерыва
СССР решил возобновить ядерные
испытания. 10 июля на встрече Никиты
Хрущёва с учёными А. Сахаров
передал ему записку с возражениями. «Не
считаете ли Вы, — писал он, — что
возобновление испытаний нанесёт
трудно исправимый ушерб всему делу
разоружения и обеспечения мира во всём
мире?» В ответ на это Н. Хрущёв
произнёс целую получасовую речь.
«Хрущёв взял в руки бокал с вином, как бы
собираясь произнести
тост,—вспоминал Сахаров. — Но он тут же поставил
бокал и стал говорить о моей
записке — сначала спокойно, но потом всё
более и более возбуждаясь; лиио его
покраснело. „Сахаров от техники
переходит к политике. Тут он лезет не в
своё дело. Сахаров, не пытайтесь
диктовать нам, политикам, что нам делать.
Я был бы последний слюнтяй, а не
председатель Совета Министров, если бы
слушался таких, как Сахаров!"»
Летом 1962 г. Сахаров выдвинул
другую идею, имевшую больший успех.
Первым в Советском Союзе он
предложил запретить ядерные испытания —
но не всюду, а только в атмосфере,
воде и космосе (под землёй взрывы
могли продолжаться). Уже через год
такой договор между правительствами
был заключён (правда, его не
подписали Франция и Китай).
619
советский союз
В 1946—1991 ГОДАХ
ГОРЬКОВСКАЯ ССЫЛКА
АКАДЕМИКА САХАРОВА
В течение всей горьковской ссылки у
дверей квартиры Сахарова находился
постоянный милицейский пост. Вся
почта академика проверялась.
Однажды чекисты своеобразно «пошутили»:
из присланного Сахарову письма на
стол высыпались 15 живых тараканов...
И в ссылке А. Сахаров продолжал
выступать в зашиту политзаключённых.
Летом 1980 г. он направил письмо
Л. Брежневу об Афганской войне.
«Погибли и искалечены тысячи советских
людей и десятки тысяч афганцев.
Более миллиона афганцев стали
беженцами. Особенно зловеши сообшения о
бомбёжках деревень, оказывающих
помощь партизанам», — писал академик.
В июле 1983 г. к Сахарову домой
неожиданно пришёл Николай Яковлев,
автор книги «иРУ против СССР». В
этой книге среди прочего говорилось:
«Боннэр в качестве методы убеждения
супруга взяла в обычай бить его чем
попало». Н. Яковлев сказал, что хочет
взять у академика интервью,
предложил надписать свои книги. Сахаров
ответил ему: «Не надо, не те у нас
взаимоотношения. В XIX веке я должен бы
был вызвать Вас на дуэль. Почему Вы
пишете, что моя жена меня избивает и
учит сквернословию? Вы что, видели на
мне следы побоев или слышите от меня
ругательства? Правда, в отношении Вас
мне очень хочется изменить своим
правилам». Яковлев отвечал: «Вы можете
подать на меня в суд. Суд
разберётся». — «Я не верю в объективность суда
в этом деле, я просто дам Вам
пощёчину». Сахаров вспоминал: «Он вскочил
и успел пригнуться, закрыв щёку, но я
всё же вторым ударом левой руки
достал пальцами до его пухлой щеки».
В ссылке Сахаров трижды объявлял
голодовки в зашиту своих близких. В
частности, он добивался поездки
своей жены за границу для лечения (в
августе 1984 г. её присудили к пяти
годам ссылки). Всего он голодал 201 день.
Каждый раз после объявления
голодовки Сахарова силой забирали в
больницу и принудительно кормили. Так, в
полной изоляции, он провёл 294 дня
своей ссылки.
поздравил всех, а Сахарова, «который особенно отличился»,
попросил от его имени обнять и поцеловать.
Много позже коллега спросил А. Сахарова, не страдает ли
он «комплексом Изерли». (Американский полковник Клод Изер-
ли, сбросивший бомбу на Хиросиму, лишился рассудка от
раскаяния.) «Конечно нет», — спокойно ответил Сахаров. Незадолго
до смерти он повторял: «Наша работа была исторически
оправдана, несмотря на то что мы давали оружие в руки Сталину —
Берия». Он считал, что «равновесие страха» помогло спасти мир от
новой мировой войны.
После успешного испытания на А. Сахарова обрушился
настоящий водопад наград. Уже в октябре его единогласно (редкий
случай!) избрали академиком. 32-летний «отец водородной
бомбы», как его называли, был моложе всех своих коллег. В
новогоднюю ночь по советскому радио передавали частушку физика
М. Левина:
Кто-то там с большим стараньем
Каблуками стук да стук?
Это молодой избранник
Академии наук.
К этому времени Сахарова уже наградили Сталинской
премией (неслыханной ранее суммой — 500 тыс. рублей) и
присвоили звание Героя Социалистического Труда. В 1956 и 1962 гг. он
вновь был удостоен этого звания и стал трижды Героем.
Весной 1968 г. Сахаров написал статью «Размышления о
прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной
свободе». Она стала «решающим шагом» для Сахарова, изменившим
всю его жизнь. В «Размышлениях» он отразил многие общие
взгляды советской интеллигенции того времени. Прежде всего
он отстаивал идею интеллектуальной свободы, «свободы
непредвзятого и бесстрашного обсуждения, свободы от давления
авторитета и предрассудков». Он призывал «довести до конца
разоблачение» И. Сталина, высоко оценивал В. Ленина, отмечал
«нравственное преимущество» восточного строя (социализма)
перед западным (капитализмом). «Только социализм поднял
значение труда до вершин нравственного подвига», — писал Андрей
Дмитриевич.
В то же время Сахаров защищал идеи, которые
воспринимались как совершенно новые, «сахаровские». Главной из них
была идея «постепенного сближения (конвергенции)
капитализма и социализма», которые будут «черпать друг у друга
положительные черты».
А. Сахаров выдвинул и ещё одну новую идею. К 2000 г.,
считал он, это сближение может привести к «созданию мирового
правительства», которое, по его мнению, должно быть «в
широком смысле очень „интеллигентным"».
«Размышления» имели во всём мире невиданный успех. В
западных странах эта статья была опубликована общим тиражом
18 млн экземпляров. Как писал сам Сахаров, по тиражу он опе-
620
АНДРЕЙ
САХАРОВ
редил Жоржа Сименона и Агату Кристи, уступив первенство
только двум авторам — В. Ленину и Мао Цзэдуну.
Советская печать стала спорить с «Размышлениями» с
большим запозданием — с 1973 г. Она расценила их как
своеобразный «манифест» технической интеллигенции, «технократии». В
1980 г. «Комсомольская правда» писала в статье «Цезарь не
состоялся»: «Далеко не скромным предприятием была эта
брошюра. Это была заявка на лидерство, манифест воинствующей
„технократии". Ей Сахаров предлагал вручить всю власть над
человечеством, обещая к 2000 году создать „мировое правительство".
За собой автор резервировал надлежащее место, быть может,
даже вселенского Цезаря». «Сахаров метил в Цезари, а встал на
преступный путь», — говорилось в заключение в газетной статье.
1968 год стал переломным в жизни А. Сахарова. Его
отстранили от секретных работ. Вступив в конфликт с государством,
он решил отказаться от денег, полученных от него. Все свои
сбережения — 139 тыс. рублей — он пожертвовал на нужды
медицины.
«С 1970 года, — вспоминал позднее А. Сахаров, — защита
прав человека выходит для меня на первый план». Академик
выступал в защиту политзаключённых, против смертной казни.
«Отмена смертной казни особенно необходима нашей стране,
отравленной духом жестокости и безразличия к человеческим
страданиям», — отмечал он. В 1970 г. Сахаров стал одним из
основателей Комитета прав человека, который действовал до 1974 г.
9 октября 1975 г. Сахаров узнал о том, что ему присуждена
Нобелевская премия мира. Эта награда вызвала широкое
осуждение в советской печати. «Недоумение и возмущение»
выразили 72 академика. В газете «Труд» писали: «Подачку провели по
графе Нобелевской премии мира. Сахарову обещано более ста
тысяч долларов. Трудно сказать, в какой мере это соответствует по
курсу 30 сребреникам древней Иудеи...».
Сахарову не разрешили поездку за премией как «лицу,
обладающему знанием государственных тайн». Вместо него 10
декабря премию получила его жена Елена Боннэр.
«Я прошу считать, — говорилось в нобелевском докладе
Сахарова, — что все узники совести, все политзаключённые моей
страны разделяют со мной честь Нобелевской премии мира».
Лауреат перечислил поимённо свыше 120 человек
В том же 1975 г. Сахаров написал книгу «О стране и мире».
Взгляды его прошли определённое развитие. «Я эволюционист,
реформист», — особо подчеркнул он теперь. Андрей
Дмитриевич высказал мнение, что насильственные перемены ведут к
«массовым страданиям, беззакониям и ужасам». Прежде А Сахаров
считал более прогрессивным революционный путь.
В декабре 1979 г. советские войска вошли в Афганистан, и
Сахаров сразу заявил иностранным журналистам о своём
протесте. Это, видимо, переполнило «чашу терпения» властей.
22 января 1980 г. его задержали на улице в Москве и
доставили в прокуратуру. Взволнованный прокурор объявил академику
Самой тяжёлой оказалась вторая
голодовка в 1984 г. В письме президенту
Академии наук Александрову Сахаров
рассказывал: «Меня валили на спину
на кровать, привязывали руки и ноги.
На нос надевали тугой зажим, так что
дышать я мог только через рот.
Иногда рот открывался принудительно —
рычагом, вставленным между дёснами.
Чтобы я не мог выплюнуть
питательную смесь, рот мне зажимали, пока я
её не проглочу. Всё же мне часто
удавалось выплюнуть смесь, но это
только затягивало пытку. Я всё время
находился в состоянии удушья». Не
выдержав мучений, Сахаров прекратил
тогда голодовку. (В третьей голодовке,
через год, он добился успеха: его жене
Е. Боннэр позволили выехать на Запад
для лечения.) 15 октября 1984 г. он
писал академику Александрову: «Я
предполагаю прекратить свои
общественные выступления, сосредоточившись
на науке и семейной жизни».
А. Ваганов. Плакат 1990 г.
621
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
В 1946—1991 ГОДАХ
А. Сахаров.
ПОЛЕМИКА САХАРОВА
И СОЛЖЕНИЦЫНА
Знаменитая работа Сахарова
«Размышления о прогрессе, мирном
сосуществовании и интеллектуальной
свободе» (1968 г.) вызвала множество
откликов во всём мире. Обсуждалась она
и в советском самиздате.
Писатель Александр Солженицын
также откликнулся на статью. Вначале он
только передал свой ответ автору, но
в 1974 г. напечатал его в сборнике
«Из-под глыб». Назвав сахаровскую
статью «благородной» и «бесстрашным
выступлением», писатель в то же
время подверг её подробной критике.
Прежде всего он разобрал
отразившиеся в ней обшие взгляды советской
интеллигенции того времени. По поводу
её приверженности социализму
Солженицын заметил: «Он (социализм) — в
природе-то есть ли?». Не согласился
писатель и с высокой оценкой
«ленинизма» в противовес «сталинизму».
А. Солженицын критически оценил
«общество будущего» во главе с
интеллигенцией. Сахаров писал, что в нём
окажется возможным «контролировать
и направлять все жизненные процессы
до психических процессов и
наследственности включительно». «Такие пер-
о лишении его всех наград и званий. Кроме того, Сахаров без
суда, в административном порядке, был отправлен в ссыпку в
город Горький (ныне Нижний Новгород). В июне газета «Известия»
поместила статью, в которой говорилось: «Такой исход является
логическим завершением долгой, неприглядной и грязной
истории падения человека, отрёкшегося от своего народа,
поставившего себя на службу иностранным хозяевам».
На президиуме Академии наук поставили вопрос о выводе
Сахарова из числа академиков. Говорили, что при обсуждении
академик Пётр Капица заметил: «Подобный прецедент уже имел
место. Из рядов Германской академии изгнали Альберта
Эйнштейна. Только стоит ли повторять этот прецедент?». После
этого Сахарова оставили в числе академиков. (П. Капица ещё
дважды заступался за Сахарова.)
В Горьком Сахарова поселили в районе Щербинки. На это
он намекал в написанном в ссылке четверостишии:
На лике каменном державы,
Вперёд идущей без заминки
Крутой дорогой гордой славы,
Есть незаметные щербинки.
8 течение всего времени горьковской ссылки А Сахарова во
многих странах шла кампания в его защиту. Например, площадь,
где находится советское посольство в Вашингтоне,
переименовали в площадь Сахарова. Конечно, это было неприятно для
советских дипломатов.
9 декабря 1986 г. А Сахаров узнал о том, что в тюрьме
скончался его друг правозащитник Анатолий Марченко.
Спустя несколько дней, 15 декабря, в квартире академика
Сахарова неожиданно установили телефон. (Во время всей
ссылки телефона у него не было.) Перед уходом чекист сказал:
«Завтра Вам позвонят».
На следующий день действительно раздался звонок:
— Здравствуйте, это говорит Горбачёв. Вы получите
возможность вернуться в Москву. Возвращайтесь к патриотическим
делам!
— Я благодарен Вам! Но несколько дней назад в тюрьме убит
мой друг Марченко. Он был первым в списке в письме, которое я
Вам послал. Это было письмо с просьбой об освобождении
узников совести.
— Да, я получил Ваше письмо. Многих мы освободили. Но
там очень разные люди.
Сахаров возразил, что все эти люди осуждены за свои
убеждения, и ещё раз повторил просьбу освободить их.
23 декабря 1986 г. А. Сахаров прибыл в Москву на
Ярославский вокзал. Здесь его встречала огромная толпа зарубежных
журналистов. Возвращение Сахарова из ссылки ярко
обозначило начало целой эпохи — новой политической «оттепели».
Вернувшись в столицу, Сахаров сразу включился в общест-
622
АНДРЕИ
САХАРОВ
венную деятельность. Следующие три года его жизни богато
заполнены событиями. Впервые он побывал за границей — в США,
Франции, Италии, Канаде. Он стал одним из создателей
правозащитной организации «Мемориал».
В начале 1989 г. по всей стране проходили выборы
народных депутатов СССР. Их избирали не только граждане, но и
«общественные организации» — в том числе Академия наук А.
Сахаров решил избираться только от академии. Его поддержали
коллективы почти 60 научных институтов. Но руководство академии
не внесло его в список кандидатов.
2 февраля около 3 тыс. научных работников собрались на
необычный митинг протеста. Среди лозунгов были такие:
«Сахаров — да!», «Кто, если не Сахаров?». Благодаря таким протестам
академия в конце концов всё-таки избрала Сахарова народным
депутатом.
Своими выступлениями на I Съезде народных депутатов
Сахаров как политический деятель стал известен всей стране. Он
говорил позднее: «Я почувствовал, что Горбачёв в какой-то мере
меня выпускает. Он ведь выпустил меня на трибуну, кажется,
первым, как бы „ковёрным", выражаясь на языке цирковой жизни. И
сразу возникла конфронтация с залом».
Первым с осуждением академика выступил депутат С. Черво-
нопиский, лишившийся на войне в Афганистане обеих ног.
Сахаров незадолго до съезда говорил: «Были сообщения, что наши
вертолёты расстреливали окружённых советских солдат, чтобы
избежать их попадания в плен».
Червонопиский зачитал письмо десантников: «Мы до
глубины души возмущены этой провокационной выходкой
известного учёного». Своё выступление он торжественно закончил
словами: «Держава. Родина. Коммунизм». Это вызвало настоящую
бурю аплодисментов, почти весь зал поднялся с мест.
Ещё пять человек, в том числе маршал С. Ахромеев,
выступили с гневными обличениями Сахарова. Учительница Т.
Казакова сказала: «Товарищ академик! Вы своим одним поступком
перечеркнули всю свою деятельность. Вы нанесли оскорбление
всей армии, всему народу, всем нашим павшим, которые отдали
свою жизнь. И я приношу всеобщее презрение Вам. Стыдно
должно быть!» (Аплодисменты?).
Эта впечатляющая сцена, которую наблюдала по
телевидению вся страна, резко повысила авторитет Сахарова. «В один час
я приобрёл огромную поддержку миллионов людей, такую
популярность, которой я никогда не имел в нашей стране», —
писал он. Сахаров стал одним из лидеров «межрегиональной
группы» депутатов, выступавшей в поддержку «перестройки». На
массовых митингах в Лужниках сотни тысяч людей скандировали:
«Сахаров! Ельцин!».
В разгар этой политической борьбы, 14 декабря 1989 г.,
академик Андрей Сахаров неожиданно скончался. Сотни тысяч
граждан провожали его в последний путь. На похоронах кто-то
держал такой плакат: «Простите нас, Андрей Дмитриевич...».
спективы по нашему понятию близки к
концентрированному земному аду», —
с иронией замечал писатель.
Любопытно, что позднее сходную критику,
только значительно более грубую,
повторила и советская печать. «От идеи
попахивало авторитаризмом и
фашизмом: мрачный мир людей-роботов с
Сахаровыми во главе», — писала в
1980 г. «Комсомольская правда».
Затем Солженицын коснулся мнения
интеллигенции, настолько
единодушного, что возражать ему «даже выглядит
неприлично». Это представление о том,
что советскому обществу нужны
свобода и демократия. «Заметим, что в
долгой человеческой истории было не
так много демократических республик,
а люди веками жили и не всегда хуже.
И сохраняли нравственное здоровье,
запёчатлённое хотя бы в народных
фольклорах, в пословицах. И Россия
тоже много веков сохраняла себя и
своё здоровье, и миллионы наших
крестьянских предков за десять веков,
умирая, не считали, что прожили
слишком невыносимую жизнь». Советская
власть, по мнению Солженицына, ешё
«не тем страшна, что недемократична».
Главный её порок — идеология,
которую она навязывает человеку,
вмешиваясь в его духовную жизнь.
В 1974 г. А. Сахаров ответил на эти
мысли А. Солженицына. Учёный
заметил, что современное советское
общество достаточно безразлично к
идеологии. Поэтому не следует искать в ней
источник всех бед.
«Солженицын пишет, что
авторитарный строй в условиях законности и
православия был не так уж плох. Эти
высказывания Солженицына чужды
мне. Существующий в России веками
рабский, холопский дух я считаю
величайшей бедой, а не национальным
здоровьем», — писал Сахаров. Он
считал, что Солженицын излишне
увлекается проблемами нации в целом,
забывая конкретных людей: «Зашита
конкретных людей — это то, в пользе чего
я не сомневаюсь! Солженицын не
отрицает, конечно, значения зашиты
прав человека, но фактически,
по-видимому, считает её относительно
второстепенным делом, иногда даже
отвлекающим от более важного».
623
ПЕТР ГРИГОРЕНКО
(1907—1987)
П. Григоренко в форме генерал-майора.
П. Григоренко, 3. Григоренко и
Н. Буковская.
Ему было уже за пятьдесят, когда он круто изменил всю свою
жизнь. Боевой генерал, он вдруг начал печатать подпольные
листовки, за что был арестован и разжалован в солдаты. Спустя
полтора десятка лет — лишён гражданства. Указ об этом подписал
его бывший фронтовой товарищ Леонид Брежнев...
Пётр Григорьевич Григоренко родился 16 октября 1907 г. в
селе Борисовка под Запорожьем. Сын колхозного активиста,
Пётр рос убеждённым в правоте Советской власти. В своём селе
был первым комсомольцем. Трудиться начал рано — с 15 лет уже
работал слесарем. В 1931 г. стал учиться на красного командира.
Закончил Военно-инженерную академию, Академию Генштаба.
Как он вспоминал, однажды в годы службы выполнил
необычный приказ: заминировал и взорвал три церкви в Белоруссии...
П. Григоренко сражался под Халхин-Голом, затем — на
фронтах Отечественной войны. Не раз был ранен, получил пять
орденов и шесть медалей. Однажды в годы войны с ним
произошёл случай, запавший ему в память. Обычно он никогда не
просыпался ночью. И вдруг внезапно проснулся на рассвете, вышел
во двор. В этот момент раздался грохот: снаряд противника
пробил стену дома и взорвался. Кровать, на которой он спал,
разлетелась на куски. «Это Бог Вас спас!» — заметил его товарищ. «И я
тоже поверил в руку Провидения», — писал Григоренко.
Войну он закончил в звании полковника. Следующие 17 лет
прослужил в Академии имени Фрунзе в Москве. В разгар борьбы
с «буржуазной кибернетикой» занимался военным
применением этой науки. Позже маршал Родион Малиновский назвал это
«научным подвигом». В 1959 г. П. Григоренко получил звание
генерал-майора. Казалось,
впереди его ждала только
интересная работа, затем — почётный
отдых. Но внезапно он
совершил поступок, изменивший
всю его судьбу.
Произошло это так В
сентябре 1961 г. П. Григоренко
избрали на партийную
конференцию Ленинского района
Москвы. Он поднялся на
трибуну и... неожиданно для всех
произнёс яркую критическую
речь. Сказал, в частности, что
не видит гарантий против
нового культа личности. Он
вспоминал: «Я поднялся и пошёл. Я
себя не чувствовал. Такое,
вероятно, происходит с идущим
624
ПЕТР
ГРИГОРЕНКО
на казнь. Во всяком случае, это было страшно. Но это был и мой
звёздный час. До самой трибуны дошёл я сосредоточенный лишь
на том, чтобы дойти. Заговорил, никого и ничего не видя. Весь
зал затих. В шоковом состоянии был и президиум. Я увидел, как
секретарь ЦК Пономарёв наклонился к Гришанову и что-то
зашептал. Тот подобострастно закивал и бегом помчался к
трибуне». Делегатам предложили «осудить» выступление генерала и
лишить его мандата, что и было сделано. За свой поступок П. Гри-
горенко получил строгий партийный выговор. Его уволили из
Академии и послали служить на Дальний Восток
Но для генерала это стало только началом борьбы. В 1963 г.
в Москве и других городах появились листовки. Они
рассказывали, в частности, о расстрелах в Новочеркасске и Тбилиси.
Подписал их «Союз борьбы за возрождение ленинизма». Это
подпольное общество создал П. Григоренко со своими сыновьями.
Правда, для подпольщика он вёл себя необычно дерзко. Раздавал
свои листовки на Павелецком вокзале в Москве. Стоял в полной
генеральской форме у проходной московского завода «Серп и
молот» и вручал листовки рабочим.
Всё это неминуемо вело к аресту, который и произошёл в
феврале 1964 г. Первым на Лубянке с ним беседовал сам
председатель КГБ Владимир Семичастный. Он обещал генералу
освободить его в обмен на покаяние. П. Григоренко отказался.
Советских руководителей немало поразили странные
поступки генерала. М. Суслов воскликнул: «Да он же сумасшедший!».
Судить боевого генерала, конечно, не стали. Психиатры во
главе с Андреем Снежневским признали его душевнобольным и
отправили в психиатрическую больницу.
Диссидент Юрий Гримм вспоминал, как П. Григоренко
принесли передачу в огромной коробке. «Зовёт всех нас. Глянули,
ахнули: в коробке — икра чёрная и красная, балык, колбаса
разная, масло, конфеты дорогие, фрукты. Он говорит: „Ешьте". Все
стоят, растерялись, из 17 человек только я один — москвич,
остальные с периферии, у них в ту пору и хлеба-то белого в
магазинах не было. И он повторяет: „Ешьте. Я — генерал, мне
положено"». Волей обстоятельств генеральские привилегии
некоторое время сохранялись и в неволе... Но так продолжалось
недолго.
Вначале «сумасшедшего генерала» собирались просто уволить
в запас. Постановление принесли Н. Хрущёву. Очевидец этой
сцены рассказывал Григоренко: «Хрущёв долго сидел, молча глядя в
проект. Потом сказал: „Что же это получается? Он нас всячески
поносил, а отделался лёгким испугом. Пригоятовьте постановление
на разжалование"». В сентябре 1964 г. П. Григоренко разжаловали
в рядовые «как дискредитировавшего себя и недостойного в
связи с этим звания генерала». Отныне «рядовой Григоренко» должен
был получать солдатскую пенсию 22 рубля.
В октябре место Н. Хрущёва занял Л. Брежнев. Он был
сослуживцем Григоренко, они часто встречались на фронте.
Возможно, это знакомство стало одной из причин того, что в апреле
ДИССИДЕНТЫ И ПСИХИАТРИЯ
Более тяжёлым, чем заключение в
тюрьме и лагере, диссиденты всегда
считали помещение в специальные
психиатрические больницы (СПБ). П.
Григоренко, дважды побывавший в таких
спецпсихбольницах, замечал: «У
больного СПБ нет даже тех мизерных прав,
которые имеются у заключённых. У
него вообше нет никаких прав. Врачи
могут делать с ним всё что угодно».
В. Буковский описывал, какими
методами в психбольницах проводится
лечение пациентов: «В качестве „лечения
возбудившихся", а точнее сказать —
наказания, применялись главным
образом три средства. Первое—аминазин.
От него обычно человек впадал в
спячку, какое-то отупение и переставал
соображать, что с ним происходит.
Второе — сульфазин, или сера. Это
средство вызывало сильнейшую боль и
лихорадку, температура поднималась
до 40—41 градуса Уельсия и
продолжалась два-три дня. Третье — у крутка.
Это считалось самым тяжёлым. За
какую-нибудь провинность
заключённого туго заматывали с ног до подмышек
мокрой, скрученной жгутом простынёй
или парусиновыми полосами. Высыхая,
материя сжималась и вызывала
страшную боль, жжение во всём теле.
Обычно от этого скоро теряли сознание, и
на обязанности медсестёр было
следить за этим. Потерявшему сознание
чуть-чуть ослабляли укрутку, давали
вздохнуть и прийти в себя, а затем
опять закручивали. Так могло
повторяться несколько раз».
Считается, что поворот к применению
психиатрии против диссидентов
произошёл в начале 60-х гг. Н. Хрущёв
официально заявил тогда, что в
Советском Союзе не осталось ни
политзаключённых, ни противников
общественного строя. Выступать против
советского строя могут только
сумасшедшие, психически больные люди.
Главными специалистами по
«политической психиатрии» стали психиатры
Георгий Морозов, Даниил Лунц и
Андрей Снежневский. Профессор А. Снеж-
невский разработал теорию
«вялотекущей шизофрении». «Согласно
теории, — писал Владимир Буковский, —
625
SSb.
w
советский союз
В 1946—1991 ГОДАХ
это общественно опасное заболевание
могло развиваться чрезвычайно
медленно, никак не проявляясь и не
ослабляя интеллекта больного, и определить
его могли только сам Снежневский или
его ученики. Естественно, КГБ
старался, чтобы ученики Снежневского чаше
попадали в число экспертов по
политическим делам...»
Сотни, если не тысячи диссидентов,
оказались заключёнными СПБ и
обычных психбольниц. Судили в таких
случаях заочно, и суд всегда был
закрытым. Заключение в СПБ могло
продолжаться как угодно долго, а врачебная
комиссия из года в год задавала два
обычных вопроса. Первый:
«Изменились ли Ваши убеждения?». Если
пациент отвечал «да», его спрашивали:
«Произошло ли это само по себе или в
результате лечения?». Если он
подтверждал, что это произошло
благодаря лечению, то мог надеяться на
скорое освобождение.
Власти не скрывали, что против
диссидентов широко применяется
психиатрия. В феврале 1976 г., например, в
«Литературной газете»
рассказывалось о «деле Леонида Плюша».
Советские врачи признали его
невменяемым, а западные — психически
здоровым. «Руководствуясь чисто
гуманными соображениями, — отмечалось
по этому поводу в газете, — хотим
верить, что курс лечения в советской
психиатрической больнице
способствовал его выздоровлению и рецидива
не будет. Известно, однако, что
психические заболевания коварны, и
невозможно дать стопроцентной
гарантии, что человек, однажды
вообразивший себя пророком, спустя какое-то
время не объявит себя Юлием
Цезарем, которого преследует Брут в
форме капитана КГБ».
1965 г. Григоренко решили отпустить домой. Выйдя на свободу,
он написал письмо министру обороны маршалу Р.
Малиновскому. «По слухам, я разжалован в рядовые. Прошу восстановить мои
законные права. А если вопреки закону я разжалован, то имейте
хотя бы мужество сказать мне это в глаза. Я за свою службу даже
ефрейтора не разжаловал заочно». После этого обращения ему
несколько повысили пенсию.
58-летний генерал стал подрабатывать слесарем,
плотником, штукатуром, сторожем, грузчиком.
В тюрьме он пришёл к такому выводу: «Уходить в подполье —
непростительная ошибка. Идти в подполье — это давать
возможность властям изображать тебя уголовником, чуть ли не бандитом
и душить втайне от народа. Я буду выступать против нарушений
законов только гласно и возможно громче. Тот, кто сейчас хочет
бороться с произволом, должен уничтожить в себе страх к
произволу. Должен взять свой крест и идти на Голгофу. Пусть люди
видят, и тогда в них проснётся желание принять участие в этом
шествии». П. Григоренко стал помогать движению крымских татар,
выселенных со своей родины (см. ст. «Переселение народов»). Он
познакомил их с другими московскими правозащитниками.
Впервые о борьбе этого народа услышали на Западе.
За Петром Григоренко теперь постоянно следили. Как-то он
подсчитал, сколько филёров по очереди в течение суток следят
за его квартирой. Вышло — не менее 23 человек! И каждый
получал зарплату...
В мае 1969 г. в Ташкенте намечался суд над десятком
активистов движения крымских татар. Они попросили Григоренко
быть на суде их общественным защитником. Он согласился. Но
7 мая, как только Пётр Григорьевич приехал в Ташкент, его
арестовали.
Вновь генерал предстал перед врачами. Однако вопреки
ожиданиям ташкентские психиатры признали пациента...
здоровым. Правда, этим дело не кончилось. Григоренко отправили в
Москву, в Институт имени Сербского на повторную экспертизу.
Здесь психиатры Даниил Лунц и Георгий Морозов нашли у него
паранойю «с наличием идей реформаторства».
В 1971 г. генерал оказался перед очередной «врачебной
комиссией». «Изменились ли ваши убеждения?» — задали ему
обычный вопрос. «Убеждения не перчатки, — отвечал Григоренко, —
их легко не меняют». Только в июне 1974 г. он вернулся домой.
Всего в спецпсихбольницах он провёл более шести лет.
5 декабря 1976 г. на Пушкинской площади в Москве
проходила традиционная демонстрация диссидентов. На неё
собралось довольно много народа — около ста человек. Как всегда,
люди постояли несколько минут в молчании, сняв головные уборы.
Правозащитница Людмила Алексеева вспоминала об этом
событии: «Впервые за все годы демонстрация не прошла
молчаливо. П. Григоренко произнёс короткую речь, несколько фраз.
Он закончил: „Спасибо всем, кто пришёл сюда почтить память
миллионов загубленных людей! Спасибо за сочувствие узникам
626
«ПЕРЕСТРОЙКА»
совести!". В ответ из толпы раздались возгласы: „Вам спасибо!"».
В 1977 г. Петру Григоренко потребовалось сделать сложную
операцию. Генерал попросил выпустить его для этого в США, где
проживал его сын. Он не доверял советским врачам, дважды
признавшим его «невменяемым». Неожиданно поездку разрешили.
Он спрашивал у генерала КГБ: «Но вы меня обратно
пустите?». «Пустим, — отвечал тот, — говорю Вам как генерал
генералу». В ноябре П. Григоренко с женой Зинаидой уехал в Америку.
А 13 февраля 1978 г. его лишили советского гражданства «за
действия, порочащие звание гражданина СССР». Указ об этом
подписал Л. Брежнев.
Генерал Пётр Григоренко остался жить в США. Здесь он
выпустил книгу воспоминаний под названием «В подполье можно
встретить только крыс». Он говорил: «Я часто задумываюсь,
почему мне так тяжело в эмиграции. Я уехал бы на Родину, даже
если бы знал, что еду прямо в психиатричку».
21 февраля 1987 г. Пётр Григоренко скончался в
Нью-Йорке в возрасте 79 лет.
П. Григоренко.
Ю. Андропов. Июнь 1983 г.
«
ПЕРЕСТРОЙКА»
ЗАВЕРШЕНИЕ ЭПОХИ БРЕЖНЕВА
Главный (хотя и не вполне официальный) лозунг эпохи
Леонида Брежнева, начавшейся в 19б4 г., — «стабильность», отсутствие
резких перемен. «Советские люди с уверенностью смотрят в
завтрашний день», — неоднократно повторял Леонид Ильич. В то
же время именно в эпоху Брежнева в обществе назревали
будущие перемены.
Государственная идеология в 60—70-е гг. почти утратила
своё былое значение, оставшись чем-то вроде внешнего фасада.
Как ни странно, это положение почти никого не устраивало.
Высшие слои общества раздражала необходимость как-то скрывать
свой достаток, который противоречил официальным идеям
равенства. Большая часть населения, наоборот, возмущалась
неравенством и привилегиями. Часто они расценивались как
«воровство», «взяточничество» и т. п.
В ноябре 1982 г. Л. Брежнев скончался. К власти пришло
новое руководство во главе с 67 -летним Юрием Андроповым.
Впервые в советской истории бывший чекист возглавил партию. Он
опирался прежде всего на КГБ, которым руководил более 15 лет.
Ю. Андропов, как и многие работники КГБ, считал, что
необходимо некоторое обновление официальной идеологии. Первые пере-
627
советский союз
В 1946—1991 ГОДАХ
НАРОДНЫЕ ФРОНТЫ
ПРИБАЛТИКИ
С весны 1988 г. среди интеллигенции
большим успехом пользовалась идея
«народных фронтов». Речь шла о
массовых движениях сторонников
«перестройки».
Правда, в России народные фронты так
и остались до 1990 г. маленькими
группами «неформалов». Иначе
развивались события в Прибалтике. Здесь
народные фронты быстро переросли в
массовые движения, включившие
сотни тысяч людей. Например, в Литве в
октябре 1988 г. сразу после создания
«Движения перестройки» (Саюдиса)
состоялась впечатляющая
демонстрация. Около 200 тыс. человек прошли с
факелами по улицам Вильнюса.
Вначале мало кто рассматривал
«народные фронты в поддержку
перестройки» как чисто национальные
движения. Но в 1989 г. произошла
быстрая смена лозунгов. Слова о
«поддержке перестройки» исчезли из их
названий. К концу года они уже призывали
к национальной независимости и
отделению от Союза.
Одновременно у народных фронтов
I появились и противники. Против
независимости выступало большинство
русскоязычного населения. Возникли
движения «Единство»,
«Интернациональный фронт» и др. Они боролись за
сохранение Советского Союза.
В конце 1989 г. и начале 1990 г. в
странах Прибалтики прошли выборы в
Верховные Советы. Победа на них всюду
досталась народным фронтам.
На следующий шаг первым решился
Верховный Совет Литвы. Здесь было
меньше всего русскоязычного населе-
|ния. 11 марта 1990 г. Верховный
Совет провозгласил независимость
республики. Советский Союз этого
решения, конечно, не признал.
В январе 1991 г. борьба между
сторонниками и противниками
независимости Литвы резко обострилась. 11
января противники независимости
заявили, что создаётся «Комитет
национального спасения», который «берёт
мены в этой области произошли немедленно. Прежде во всех
официальных речах ораторы перечисляли достоинства Генерального
секретаря, что играло роль своеобразной «присяги». Теперь
подобные похвалы почти мгновенно исчезли из выступлений.
Обновить идеологию в целом, отбросить её «устаревшие»
части было далеко не так просто. Требовалось расшатать
сложившееся в обществе равновесие, начать какое-то движение.
Средством к этому стала «борьба со взяточничеством». По всей
стране начались многочисленные аресты «взяточников и воров».
Ещё в начале 1982 г. КГБ арестовал нескольких друзей дочери
Брежнева Галины. Арестовали, а потом расстреляли Юрия
Соколова, директора Елисеевского гастронома в Москве. На суде
он сказал, что из него сделали «козла отпущения». В ходе чисток
сменилось около трети секретарей обкомов партии.
Все эти меры вызвали растущее сочувствие большинства
населения и сильную тревогу высших слоев общества. Некоторые
говорили — одни с одобрением, другие со страхом, — что
наступает новый 1937 год. Только теперь арестовывают не
«врагов народа», а «взяточников».
Одновременно началась кампания «укрепления
дисциплины». Проводились массовые проверки документов у людей,
находящихся в кинотеатрах, парикмахерских, магазинах в дневное
время. Каждый задержанный должен был объяснить, почему он
не на работе. Все эти меры связывали с именем Андропова.
Но осенью 1983 г. Юрий Владимирович перестал
появляться на людях. 9 февраля 1984 г. он скончался, как сообщили
газеты, от многолетней тяжёлой болезни почек.
В первую годовщину его смерти советские телезрители
узнали, что бывший Генеральный секретарь, как когда-то И. Сталин,
был поэтом. По телевидению прозвучали стихи Ю. Андропова:
Да, все мы смертны, хоть не по нутру
Мне эта истина, страшней которой нету,
Но в час положенный и я, как все, умру,
И память обо мне сотрёт седая Лета.
Мы бренны в этом мире «под луной»:
Жизнь — только миг, небытие — навеки,
Кружится во Вселенной шар земной,
Живут и умирают человеки.
Но сущее, рождённое во мгле,
Неистребимо на путях к рассвету,
Иные поколенья на Земле
Несут всё дальше жизни эстафету.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ «ПЕРЕСТРОЙКИ»
После смерти Ю. Андропова его место занял 73-летний
Константин Черненко, также смертельно больной. Очевидно, он именно в
силу своей болезни оказался компромиссной, временной фигурой.
Константин Устинович сделал отчаянную попытку остановить
перемены и вернуть эпоху «уверенности в завтрашнем дне».
628
Он прекратил следствие против ряда высокопоставленных
«взяточников», в том числе бывшего министра внутренних дел
Николая Щёлокова. На праздничном приёме в Кремле появилась
Галина Брежнева. В официальных речах возобновились
обязательные похвалы в адрес генсека.
Однако здоровье К. Черненко с каждым месяцем слабело,
как и его власть. Вскоре следствие против Щёлокова
возобновилось. «Когда бывший министр узнал, — рассказывал историк
Рой Медведев, — что против него возбуждено уголовное дело и
он лишён специальным указом всех наград, кроме фронтовых,
он надел на себя парадную форму генерала армии со всеми
орденами, зарядил своё лучшее ружьё и выстрелил себе в рот».
10 марта 1985 г. К Черненко, страдавший эмфиземой
лёгких, скончался. Почти до последнего дня он не сдавался,
продолжал бороться за жизнь. Его помощник Вадим Печенев
вспоминал: «Он уже нетвёрдо стоял на ногах, дышал тяжело, с
хрипами, кашлял. Но это всё более и более его ожесточало. Иногда даже
создавалось впечатление, что генсек всё-таки выкарабкается...».
5 марта уже умирающий Константин Устинович в последний раз
появился перед телекамерами, чтобы проголосовать на выборах
в Верховный Совет.
ПЕРВЫЕ ШАГИ МИХАИЛА ГОРБАЧЁВА
Выборы нового генсека на место К Черненко произошли с
ошеломляющей быстротой. Сообщения о смерти Черненко и
избрании нового генсека разделяло всего 4 часа.
Борьба шла между сторонниками и противниками линии
Андропова. Своим кандидатом «андроповцы» выдвинули самого
молодого члена Политбюро 54-летнего Михаила Горбачёва.
Противники «андроповского курса» не решились выдвинуть своего
кандидата. На пленуме ЦК 11 марта М. Горбачёва горячо
поддержал ветеран руководства Андрей Громыко. «У него приятная
улыбка, — заявил Громыко, — но железные зубы».
Первые шаги Горбачёва после избрания в основном
повторяли меры Андропова. Прежде всего он отменил «культ» своей
должности. На глазах у телезрителей в 1986 г. даже грубовато оборвал
одного оратора: «Поменьше склоняйте Михаила Сергеевича!».
В печати и по телевидению вновь заговорили о «наведении
порядка и дисциплины». В мае 1985 г. вышел известный указ о
борьбе с пьянством. Вдвое сократили продажу водки, а в Крыму
и Закавказье вырубили тысячи гектаров виноградников. В итоге
у винных магазинов выросли громадные очереди и резко
увеличилось потребление самогона (более чем в пять раз).
Возобновились и массовые аресты «взяточников»,
особенно в Узбекистане. В 1986 г. арестовали, а позднее осудили на
12 лет заключения зятя Леонида Брежнева Юрия Чурбанова.
В апреле 1985 г. М. Горбачёв впервые ввёл в оборот слово
«перестройка», которое сначала понималось довольно узко —
как перестройка экономики. В области творческих или граждан-
на себя всю ответственность за
судьбу республики». Комитет потребовал
отставки Верховного Совета Литвы и
обратился за помощью к советским
десантникам. Как говорилось в
заявлении комитета, «такая помошь была
оказана».
В ночь на 13 января советские
десантные войска штурмом захватили здание
Литовского радио и телевидения и
телебашню в Вильнюсе. Эти здания
старались защитить тысячи
невооружённых граждан. Во время штурма
погибли 13 человек, в том числе 24-летняя
Лорета Аснавичюте, оказавшаяся под
гусеницами танка.
Хотя президент М. Горбачёв в своих
выступлениях поддержал действия
войск, они так и не заняли здание
Верховного Совета, а власть «Комитета
национального спасения» не была
утверждена. События не получили
дальнейшего развития.
Национальное движение не только не
ослабло, но и многократно повысило
свой авторитет. И наоборот,
противники независимости после
происшедших событий оказались на грани
полного краха.
Ю. Андропов.
629
советский союз
В 1946—1991 ГОДАХ
М. Горбачёв — Генеральный секретарь
UK КПСС.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И АРМЕНИИ
В феврале 1988 г. в Карабахе начались
массовые демонстрации армянского
населения. Они проходили под
лозунгом: «Ленин! Партия! Горбачёв!».
Демонстранты требовали присоединить
Нагорно-Карабахскую автономную
область к Армении. 20 февраля их
требование поддержал и областной совет.
Под влиянием этих событий 28
февраля в азербайджанском городе
Сумгаите вспыхнули армянские погромы,
которые продолжались двое суток,
причём, по официальным данным,
погибли 32 человека.
С этого в 1988 г. начались
национальные движения в Армении и
Азербайджане. Их возглавили группы
интеллигенции, выступавшие в поддержку
«перестройки». Разумеется, и те и другие
осуждали погромы и насилие. Но
главные лозунги движений — о судьбе
Карабаха — конечно, были
противоположными. Враждебность между двумя
республиками нарастала. Опасаясь за
свою судьбу, армяне покидали
Азербайджан, азербайджанцы —Армению.
Тысячи людей становились беженцами.
Советское руководство принимало
меры против обоих движений. В
декабре 1988 г. всех членов армянского
комитета «Карабах» арестовали и
поместили в Бутырскую тюрьму в Москве.
Здесь они пробыли полгода.
Ешё более суровые меры приняли
против Народного фронта* Азербайджана.
ских свобод до 1987 г. почти ничего не менялось. Но позднее
значение слова «перестройка» расширилось и стало обозначать
всю эпоху перемен.
«ГЛАСНОСТЬ»
К началу 1987 г. перед новым руководством стояла всё та же
задача — обновление идеологии. Самым спорным
идеологическим вопросом давно уже была оценка Сталина. Теперь этот
«кирпичик» оказался первым, который легче всего было
расшатать в незыблемой идеологической стене.
Вокруг имени Сталина уже 30 лет шли горячие споры
интеллигенции, переходившие и в печать. «Сталин был плох», —
большинство интеллигентов сходились на этом простом
положении, оно служило им своеобразным паролем.
В январе 1987 г. произошёл поворот к политике
«гласности». В «перестройку» вовлекалась интеллигенция. После этого
вопрос о Сталине внезапно сделался в печати самым насущным,
острым и злободневным. На киноэкраны вышел фильм Тенгиза
Абуладзе «Покаяние», резко осуждавший «культ личности».
М. Горбачёв в нескольких осторожных фразах одобрил эту
кампанию. Дело постепенно двигалось дальше. Журнал «Огонёк»
разоблачал уже не только И. Сталина, но и его соратников В. Мо-
лотова и А Жданова, и наоборот, защищал деятелей «ленинской
гвардии», особенно Н. Бухарина. Всё это вызывало в обществе
огромный интерес. К 1989 г. подписка на журнал «Огонёк»
увеличилась в десять раз и достигла 2,8 млн экземпляров.
ПИСЬМО НИНЫ АНДРЕЕВОЙ
Дальнейшей «перестройке» очень мешало то, что у неё не
оказалось «противников». Открыто никто не выступал против новой
политики, хотя понимали её по-разному. «Всё общество у нас по
одну сторону баррикад», — не раз заявлял в 1987 г. М. Горбачёв.
Рубежом в этом отношении стало 13 марта 1988 г. В этот
день в газете «Советская Россия» напечатали большое письмо
Нины Андреевой, преподавателя химии из Ленинграда. Н.
Андреева одобряла «перестройку» вообще, но считала чрезмерным
осуждение Сталина и его эпохи, «связанной с беспримерным
подвигом советских людей». «Дело дошло до того, — замечала
она, — что от «сталинистов» (а в их число можно при желании
зачислить кого угодно) стали настойчиво требовать „покаяния"».
Н. Андреева цитировала М. Горбачёва: «Принципами,
товарищи, мы не должны поступаться ни под какими предлогами».
«На этом стоим и будем стоять, — заключала она. — Принципы
не подарены нам, а выстраданы нами на крутых поворотах
истории Отечества». Письмо так и было озаглавлено: «Не могу
поступаться принципами».
Публикация в «Советской России» вызвала подавленное
молчание в печати; только газета «Московские новости» решилась на
630
«ПЕРЕСТРОЙКА»
возражения. Казалось, эпоха перемен закончилась. Многие
партийные работники, вплоть до членов Политбюро, публично
одобряли письмо. Позднее это внезапно наступившее затишье
окрестили «тремя неделями застоя».
Но развязка оказалась совершенно неожиданной. 5 апреля
«Правда» в передовой статье резко высказалась о письме Нины
Андреевой. Газета осудила критиков «перестройки», которые
пугают: «Не раскачивайте лодку! Опрокинете, разрушите
социализм». «Есть и такие, — говорилось в „Правде", — кто прямо
предлагает остановиться, а то и вовсе вернуться назад». Статью
Андреевой газета назвала «отзвуком этих настроений».
Теперь письмо Н. Андреевой называли не иначе как
«манифестом антиперестроечных сил». Весь этот внезапный поворот
произвёл сильнейшее впечатление в обществе.
Он означал огромный шаг вперёд в обновлении идеологии.
Целый пласт идейных принципов, которые защищала Андреева,
теперь сбрасывался за борт. Партийные работники,
неосторожно похвалившие её выступление, оказывались под ударом:
читатели сообщали в газеты их имена. «Советская Россия»
напечатала что-то вроде «покаяния».
Публицист Юрий Карякин спрашивал в журнале «Огонёк»:
«Сколько местных газет перепечатали манифест? Сколько было
размножено с него ксероксов? Сколько организовано
обсуждений-одобрений? По чьему распоряжению? Как пробуждалась
местная инициатива? Кем?».
Сама Нина Андреева год спустя утверждала: «Горбачёв читал
статью ещё до публикации. И не возражал». Главный редактор
«Огонька» Виталий Коротич позднее так объяснял тактику
Горбачёва: «Я никогда не принимал и не принимаю поступки этого
человека прямолинейно, постоянно удивляясь точности
разыгрываемых им комбинаций, просчитанных, как правило, по-
гроссмейстерски на многие ходы вперёд и совершающихся на
грани возможного».
«НЕФОРМАЛЫ»
Первые общественные группы эпохи «перестройки» выглядели
как развитие диссидентского движения. Они были так же
малочисленны и возникали в основном в среде интеллигенции. Их
называли «неформальными объединениями», а участников этих
групп — «неформалами».
Первоначально все неформалы выступали в поддержку
«перестройки». Например, движение «Память», возникшее одним из
первых, б мая 1987 г. провело митинг на Манежной площади под
лозунгом: «Долой саботажников перестройки!». Однако письмо
Нины Андреевой и его осуждение заставили неформалов
разделиться на сторонников и противников «перестройки».
Летом 1988 г. на территории Советского Союза начали
возникать «народные фронты в поддержку перестройки». В России они
так и остались немногочисленными, но в Прибалтике и Закавказье
быстро переросли в массовые национальные движения.
Поводом к этому послужили армянские
погромы, начавшиеся 13 января 1990 г.
в Баку. Как и в Сумгаите, внутренние
войска и милиция им не мешали.
Правление Народного фронта заявило, что
«гневно осуждает акты насилия по
отношению к армянскому населению».
17 января погромы прекратились,
унеся, по официальным сообщениям,
жизни 56 человек.
В ночь на 20 января указом М.
Горбачёва в Баку было введено военное
положение. В город вошли части
Советской армии и танки. Сторонники
Народного фронта попытались
остановить их завалами и баррикадами. Во
время ночного штурма города
погибло около 140 бакинаев.
Все эти меры привели к усилению
авторитета как армянского, так и
азербайджанского национальных
движений. В Армении вышедшие из тюрьмы
члены комитета «Карабах» встали во
главе массового «Армянского
общенационального движения» (АОА). Уже
в 1990 г. оно победило на выборах
в Верховный Совет республики. В
1992 г. пришёл к власти и Народный
фронт Азербайджана.
Б. Ельцин — первый секретарь
Свердловского обкома КПСС. 70-е гг.
!
' ■■■•: :;•
л
631
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
В 1946—1991 ГОДАХ
В мае 1988 г. группа сторонников «перестройки» объявила
о создании открыто действующей партии под названием
«Демократический союз». В неё вошло около тысячи человек. Они
выдвигали крайне радикальные лозунги — многопартийность,
осуждение «культа Ленина» и т. п.
Хотя все неформалы были чрезвычайно малочисленны, в
советской печати постоянно обсуждались их идеи и призывы.
Особое внимание уделялось «противникам перестройки» (в это
число теперь входили «сталинисты», Н. Андреева, «Память» и др.).
Они служили очень удобной «мишенью» для критики
положений официальной идеологии. Что касается «сторонников
перестройки», то они помогали вводить в оборот новые
непривычные идеи. Сначала печать резко осуждала эти идеи, а затем
начинала их повторять.
Первые карикатуры на В. Ленина в
советской открытой печати
(самизлатский журнал «Демократическая
оппозиция», ноябрь — декабрь 1988 г.).
БОРЬБА ПРОТИВ ПРИВИЛЕГИЙ
Самым, пожалуй, наболевшим вопросом для населения
оставался вопрос привилегий. Они волновали людей гораздо больше,
чем, например, политические свободы.
Именно этот вопрос стал главным средством вовлечения
населения в «перестройку». Одним из первых его затронул новый
глава московских коммунистов Борис Ельцин. В феврале 1986 г. на
XXVII съезде партии он сказал: «Становится больно, когда говорят
об особых благах для руководителей. Поэтому моё мнение — там,
где блага руководителей не оправданы, их надо отменить».
Вообще Б. Ельцин в 1985—1987 гг. вызывал растущее
сочувствие в народе своими необычными поступками. Нарушая традиции,
кандидат в члены Политбюро неожиданно появлялся в магазинах,
на улицах, сурово отчитывал нерадивых работников.
21 октября 1987 г. Борис
Николаевич выступил на
пленуме ЦК с критической речью.
В то время это выходило за
рамки разрешённого. Михаил
Горбачёв обвинил его в
«псевдореволюционной фразе», после
чего Бориса Ельцина сняли со
всех постов.
Но затем произошло нечто
совершенно необычное. По
Москве начали расходиться
перепечатки «речи Ельцина». Они
имели мало общего с текстом
его настоящего выступления. В
них резко обличались
привилегии партаппарата (о чём
Ельцин на этот раз не говорил),
осуждалась бюрократия. Но это
не были фальшивки в обычном
632
«ПЕРЕСТРОЙКА»
смысле слова. Народ вкладывал в них свои жалобы, надежды,
требования. В общественном сознании складывалось представление
о Ельцине — бесстрашном народном заступнике.
Позднее многие из этих требований перешли в настоящие
речи Б. Ельцина. В июне 1988 г. на XIX партконференции он
говорил: «Должно быть так: если чего-то не хватает у нас, в
социалистическом обществе, то нехватку должен ощущать в равной
степени каждый без исключения (Аплодисменты?). Надо,
наконец, ликвидировать продовольственные „пайки" для, так сказать,
голодающей „номенклатуры", исключить элитарность в
обществе, исключить и по существу, и по форме слово „спец" из
нашего лексикона, так как у нас нет спецкоммунистов».
Особенно людям нравилось то, что Б. Ельцин не только на
словах, но и в жизни следовал этим принципам. В 1989 г. он писал
в книге «Исповедь на заданную тему»: «Пока мы живём так бедно и
убого, я не могу есть осетрину и заедать её чёрной икрой, не могу
мчать на машине, минуя светофоры и шарахающиеся
автомобили, не могу глотать импортные суперлекарства, зная, что у
соседки нет аспирина для ребёнка. Потому что стыдно». Именно таким
многим людям хотелось видеть своего руководителя.
Другими героями борьбы с привилегиями оказались
следователи Тельман Гдлян и Николай Иванов. В первые годы
«перестройки» они проводили массовые аресты «взяточников и
воров» в Узбекистане. Позднее их отстранили от дел, и
повторилась «история Ельцина».
Опальные следователи начали дерзко намекать на
взяточничество членов Политбюро, а затем и самого Горбачёва. Всё это
создало им огромную популярность. Уже в 1990 г. на массовом
митинге сторонников «перестройки» в Москве несли большой
транспарант: «Перестройку, начатую Андроповым, продолжают
Гдлян и Иванов».
Во многом благодаря лозунгу борьбы с привилегиями
неформальное движение в России стало перерастать в массовое.
Весной 1989 г. состоялись первые 100-тысячные митинги,
проходившие в Москве в Лужниках. На них выступали Б. Ельцин,
Т. Гдлян, А. Сахаров и др.
26 марта 1989 г. состоялись выборы народных депутатов
СССР. Впервые избиратели смогли выбирать между
несколькими кандидатами. Борис Ельцин победил в Москве с огромным
перевесом, собрав свыше 89% голосов. Это стало главным
событием выборов.
Правда, на выборах сторонники «перестройки» получили не
более трети мест. Но это не имело особого значения.
«Перестройка» развивалась «через головы» съезда народных
депутатов и Верховного Совета, помимо их воли.
МАССОВОЕ ДВИЖЕНИЕ
Весной 1989 г. неформальное движение сторонников
«перестройки» постепенно стало превращаться в массовое. В апре-
Аемонстраиия сторонников перестройки
на Пушкинской плошали в Москве. 1990 г.
Фото К. Завражина.
Массовая демонстрация сторонников
перестройки в Москве. 1990 г.
Фото К. Завражина.
633
советский союз
В 1946—1991 ГОДАХ
Ю. Леонов. «Президент Союза
Советских Социалистических республик».
Плакат 1990 г.
НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ
В ГРУЗИИ
В течение 1988—1989 гг. народные
фронты возникли во многих советских
республиках. Очень сходным образом
сменялись их лозунги (от
«перестройки» к независимости). Но в
Белоруссии, на Украине они так и не смогли
опереться на массовое национальное
движение и остались в роли оппозиции.
В Грузии Народный фронт тоже не
нашёл широкой поддержки, но по другой
причине. Здесь национальное
движение сразу пошло под лозунгами
независимости, а не «перестройки».
Одновременно в марте 1989 г.
началось массовое национальное движение
ле участник пленума ЦК Валентин Месяц с негодованием назвал
его «накипью, выползшей на улицы».
Беспокойство это было вполне оправданным: разрушение
прежней идеологии многократно ускорилось. Раньше новые
идеи выдвигал М. Горбачёв, а печать их только подхватывала и
развивала. Теперь новые лозунги рождались «на улицах».
Требования массовых митингов постепенно менялись.
Весной 1989 г. речь шла только об осуждении Сталина, отмене
привилегий, чистке «бюрократов». С сочувствием повторялась
шутка: «Народу двух партий не прокормить!».
Осенью главным стало требование ввести
многопартийную систему. За какой-нибудь год массовое движение
окончательно расшатало основы прежней идеологии, с которых само
начинало. Оказались отброшенными Ленин, Октябрь,
социализм и т. п.
Изменилось и отношение к Горбачёву. После начала
массового движения он неожиданно выступил в качестве
«защитника идеологии». Это вызвало непонимание интеллигенции. Ещё
весной 1989 г. на митингах можно было увидеть плакаты с
лозунгом: «Горбачёв, держись!», который к осени сменился
недоуменным: «С кем Вы, Михаил Сергеевич?». Заговорили о его
«колебаниях и нерешительности».
Противники перемен тоже упрекали Горбачёва за
«нерешительность». Так или иначе, они вынуждены были следовать за
ним и шли от поражения к поражению. При этом им
приходилось даже укреплять его власть. 14 марта 1990 г. депутаты
избрали М. Горбачёва первым президентом СССР. Главой Верховного
Совета СССР после этого стал старый друг Горбачёва со времён
студенчества Анатолий Лукьянов.
1 мая 1990 г. многотысячная демонстрация сторонников
«перестройки» прошла по Красной площади. На трибуне
мавзолея стояли члены Политбюро во главе с М. Горбачёвым.
Демонстранты несли лозунги: «Политбюро в отставку!», «Долой КПСС!»,
«73 года по пути в никуда», «Президенту — другая столица!»,
«Долой кремлёвских Чаушеску!», «Горбачевизм не пройдёт!», «КПСС
капут!», «Меняю засушенного вождя (Ленина) на одноразовые
шприцы!». Толпа выкрикивала: «Долой!». В первые минуты
Горбачёв улыбался и приветственно махал рукой. Затем он
нахмурился и вместе со всеми членами Политбюро покинул трибуну.
Их провожали крики: «Позор!».
На волне наивысшего подъёма массового движения 4
марта 1990 г. прошли выборы в Верховный Совет России. Впервые
сторонникам «перестройки» (в основном движению
«Демократическая Россия») удалось завоевать большинство мест.
Своим председателем Верховный Совет в мае 1990 г. избрал
Бориса Ельцина. В тот же день в Москве прошла небольшая
восторженная демонстрация под лозунгами: «Демократия
победила!» и «Ликуй, Россия, Ельцин у руля!».
Действительно, одержанная тогда победа сторонников
«перестройки» оказалась решающей.
634
«ПЕРЕСТРОЙКА»
ПЕРЕД АВГУСТОВСКИМИ СОБЫТИЯМИ
К лету 1991 г. М. Горбачёв удалил из своего окружения
руководителей, считавшихся «сторонниками перестройки». Например,
ушёл с поста министра иностранных дел Эдуард Шеварднадзе,
предупредив в неясных выражениях о «грядущей диктатуре».
Все вновь назначенные деятели имели репутацию
послушных, старательных исполнителей. Позднее Ю. Карякин
возмущённо спрашивал Горбачёва, почему он собрал вокруг себя
людей, «по одному облику которых видно, что они мерзавцы». На
пост вице-президента Михаил Сергеевич в декабре 1990 г.
неожиданно для всех предложил малоизвестного Геннадия Янаева. Сам
Янаев, по его словам, узнал об этом за два часа до голосования.
Г. Янаев произвёл плохое впечатление и на съезд народных
депутатов. Его сочли слишком бесцветным и нерешительным для
второй должности в государстве. Съезд внезапно «взбунтовался»
и проголосовал против. Тогда Горбачёв потребовал голосовать
второй раз. Один из депутатов, поэт Давид Кугультинов,
поддерживал его таю «Как мы терзаем нашего президента... Ведь он
хочет иметь вице-президентом определённого человека. Это, к
примеру, всё равно, что вот я захотел жениться на красивой
девушке, а мои родители говорят: „Нет, не позволяем". Сегодня
говорят — Янаева не избрали. Ведь он же человек! Представьте себя
на его месте: его не избрали, с ним может что-то случиться, хоть
он и говорил, что есть у него здоровье. Он человек.. А мы тут с
удовольствием аплодируем, хихикаем, торжествуем». При втором
голосовании 27 декабря съезд всё-таки утвердил Геннадия
Янаева вице-президентом.
В радах «сторонников перестройки» имя М. Горбачёва в тот
момент вызывало только враждебность. 28 марта 1991 г. в
Москве состоялась многотысячная демонстрация движения
«Демократическая Россия». В столицу вошли войска, и демонстрация
проходила на фоне автоматчиков в касках и бронежилетах. Это была
первая неразрешённая демонстрация «ДемРоссии». Она стала
своеобразной репетицией последующих событий.
Демонстранты несли лозунги: «Требуем привлечения к
уголовной ответственности Горбачёва!», «Борис Николаевич! Так
держать, ни шагу назад!», «Требуем отставки кровавого
диктатора!», «Михаил Кровавый, мы тебя презираем! Стреляй!».
(Кровавым М. Горбачёва демонстранты прозвали, очевидно, за события
в Литве и Азербайджане в 1990—1991 гг.)
12 июня в России состоялись президентские выборы.
Победу на них одержал Борис Ельцин, собрав 57% голосов. Для него
это была уже третья победа на выборах. Теперь он стал первым
всенародно избранным президентом России.
в Абхазии. Более 30 тыс. человек
подписали прошение о выходе Абхазии из
состава Грузии. Конечно, такие
требования вызвали возмущение в Грузии и
усилили грузинское национальное
движение.
8 апреля 1989 г. на плошади перед
Домом правительства в Тбилиси
состоялся 10-тысячный митинг. Его участники
скандировали: «Аа здравствует
независимая Грузия!». Митингующие
собирались вечером разойтись, но по
площади «в целях устрашения» прошла
колонна бронетехники. Это побудило
многих остаться здесь на ночь.
На рассвете, в четыре часа утра,
начали разгонять митинг. К этому времени
у Дома правительства находилось
около 8 тыс. человек. Глава компартии
Грузии Ажумбер Патиашвили позднее
рассказывал: «Вместо рассеивания
митинга демонстранты были взяты в
кольцо и жестоко избивались. Войска, к
сожалению, гонялись за людьми по
всему проспекту Руставели». Участник
митинга журналист Юрий Рост
вспоминал: «Словно по команде, взметнулись
дубинки. У кого не было дубинок, тот
пользовался сапёрными лопатками.
Солдаты стали теснить демонстрантов,
которые активно сопротивлялись. В ход
пошли камни, палки, выломанные тут
же из ограждения, дубинки,
отобранные у солдат». Во время разгона
митинга погибло 20 человек, из них 16
женщин (причём младшей из погибших
было 16 лет, старшей — 70).
Как и другие подобные меры, события
9 апреля привели к усилению
национального движения в Грузии. Они
ускорили и развитие «перестройки» в
целом по стране.
В 1990 г. на выборах в Верховный
Совет Грузии победу одержал блок
партий «Круглый стол — Свободная
Грузия». Он выступал за независимость
республики.
АВГУСТ 1991 ГОДА
К лету 1991 г. «перестройка» подошла к решающему рубежу. Стало
возможным окончательно отбросить остатки прежней
государственной идеологии. Конечно, новое высшее руководство было
635
советский союз
В 1946—1991 ГОДАХ
Танки на улицах Москвы. Август 1991 г. крайне далеко ОТ ПОДОбнОГО Намерения. Наоборот, ОНО ПОСТО-
Фото к. Завражина. янно обсуждало планы, как, наконец, «навести в стране порядок».
Казалось, М. Горбачёв тоже всецело одобрял эти планы.
Накануне 20 августа обстановка особенно обострилась. В
этот день М. Горбачёв и представители девяти советских
республик должны были подписать новый Союзный договор. Это
означало коренное преобразование государства. Становилось ясно,
что «навести порядок» можно сейчас или никогда.
М. Горбачёв в это время отдыхал в Крыму на своей даче в
Форосе. Обеспокоенные, остальные высшие руководители
направили к нему делегацию. Среди прилетевших в Крым 18
августа были генерал Валентин Варенников, секретарь ЦК Олег Ше-
нин и др. Их разговор с Горбачёвым длился около получаса.
Приехавшие заявили, что надо срочно «наводить порядок»,
это не терпит больше отлагательств. Издать указ о чрезвычайном
положении президент отказался. Тогда его спросили, что же он
предлагает. Как позднее вспоминал сам Михаил Сергеевич, он
отвечал: «Я готов пойти на созыв Верховного Совета. Давайте
собираться, давайте обсуждать. Давайте принимать чрезвычайное
решение, другие меры...».
ш
636
(ПЕРЕСТРОЙКА»
«Ну вы должны сами решать, что вы делаете», —
многозначительно добавил он. На следующий день Г. Янаев сказал, что он
понял слова президента так: «У меня есть заместитель Янаев, пусть
он и наводит порядок».
Разговор протекал очень бурно. По словам участников
беседы, президент произвёл на них впечатление не вполне
вменяемого человека. В. Варенников позднее вспоминал: «Горбачёв
разговаривал с нами, широко пользуясь непарламентскими выражениями».
Но на прощание он пожал всем своим собеседникам руки.
Вернувшись в Москву, участники встречи доложили о
своём разговоре. Премьер-министр Валентин Павлов вспоминал: «Из
доклада приехавших товарищей однозначно следовало, что
Горбачёв выбрал свой обычный метод поведения — вы делайте, а я
подожду в сторонке». После этого высшие руководители страны
решили действовать. Они образовали Государственный комитет
по чрезвычайному положению (ГКЧП) во главе с Г. Янаевым.
В течение следующих трёх суток телефонная связь с М.
Горбачёвым была отключена. Внешне он продолжал обычный отдых
купался в море, прогуливался с родными. В его подчинении
оставалась охрана из 32 человек.
Члены ГКЧП рассчитывали немедленно созвать Верховный
Совет СССР, который, конечно, одобрил бы их меры. При этом
они выполнили бы требование Горбачёва. Но А. Лукьянов
внезапно согласился созвать Верховный Совет не раньше 26
августа. После такого поворота событий участники ГКЧП
неожиданно для себя оказались в странном и даже опасном положении
«заговорщиков и мятежников». Тем не менее отступать, конечно,
было уже поздно.
Утром 19 августа телевидение сообщило о создании ГКЧП.
По всем каналам вместо обычных программ показывали балет
«Лебединое озеро», который стал своеобразным символом
«переворота».
В тот же день состоялась пресс-конференция членов ГКЧП.
Относительно М. Горбачёва Г. Янаев заявил, что президент
«сделал неизмеримо много для того, чтобы в стране начались
демократические процессы. Это человек, который заслуживает
всяческого уважения... Единственное — надо определённое время для
того, чтобы он просто восстановил свои силы. Я надеюсь, что мой
друг Президент Горбачёв будет в строю и мы будем ещё вместе
работать».
Некоторые журналисты задавали членам ГКЧП откровенно
издевательские вопросы, а те терпеливо на них отвечали. Как ни
странно, всё это показали телезрителям. Не скрыло телевидение
и дрожь в руках у сильно взволнованного Геннадия Янаева.
Всё это вызвало прилив уверенности у противников ГКЧП.
Поражало и многое другое. В Москве не отключили телефоны,
международную связь. Никого не арестовали, даже Б. Ельцина и
его соратников, немедленно начавших борьбу с ГКЧП. Утром в
столицу вошли танки и войска, но они почти не были
вооружены. Даже у офицеров отобрали патроны к личному оружию. Вла-
ПОГИБШИЕ ЗАЩИТНИКИ
«БЕЛОГО ЛОМА»
Всю ночь на 21 августа 1991 г.
бронетехника перемешалась по Москве.
Около полуночи шесть бронемашин
вошли в туннель, ведущий к
Смоленской плошали. Миновав поворот к
«Белому дому», они начали удаляться от
него, однако в туннеле натолкнулись на
баррикаду из троллейбусов. Водители
бронемашин попытались протаранить
баррикаду, но безуспешно.
В это время путь назад им отрезали
поливальными машинами. На смотровые
шели бронемашин стали набрасывать
тряпки, чтобы «ослепить» их. Одного
из вскочивших на броню убило
неожиданным ударом крышки люка. К
машине бросился его товарищ, чтобы снять
с брони тело погибшего. В этот момент
машина внезапно дала задний ход, и он
оказался под гусеницами. «Запертые»
в туннеле бронемашины беспорядочно
метались между заграждениями. Погиб
ешё один защитник баррикад.
После этого возмущённые люди
начали поджигать бронемашины
бутылками с зажигательной смесью. Вначале в
толпе слышались негодующие выкрики,
что с убийцами следует покончить
немедленно. Но нового кровопролития
всё-таки удалось избежать. Полковник,
бывший с солдатами, привязал к палке
белый носовой платок и вывел их из
толпы.
Позднее выяснились имена погибших.
Ими оказались 23-летний Дмитрий Ко-
марь, 27-летний Илья Кричевский и 37-
летний Владимир Усов. Указом
Михаила Горбачёва им были посмертно
присвоены звания Героев Советского
Союза. Они оказались последними,
получившими это звание...
24 августа состоялись торжественные
похороны. В траурной церемонии
участвовали Б. Ельцин, М. Горбачёв и
другие высшие руководители. Ельцин
воскликнул, обращаясь к родителям
погибших: «Простите меня, что не смог
защитить, уберечь ваших сыновей!».
637
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
В 1946—1991 ГОДАХ
Августовские события в Москве.
Фото К. Завражина.
сти «временно» закрыли большинство газет, но те продолжали
выходить, правда в виде листовок
В 12 часов дня 19 августа Борис Ельцин поднялся на один
из танков вошедшей в Москву Таманской дивизии. Стоя на
броне, он зачитал обращение руководства России. «Мы имеем дело
с правым, реакционным, антиконституционным переворотом, —
говорилось в нём. — Мы абсолютно уверены, что наши
соотечественники не дадут утвердиться произволу и беззаконию
потерявших всякий стыд и совесть путчистов. Призываем к
всеобщей бессрочной забастовке».
Призыв к забастовке успеха не имел: практически все
предприятия страны продолжали работать. Но тысячи москвичей
начали стекаться к зданию Верховного Совета России — «Белому
дому». Всего здесь собралось свыше 160 тыс. человек Они
построили вокруг здания кольцо баррикад и оставались на
площади более двух суток
Вечером Б. Ельцин подписал ещё более суровый указ, в
котором о членах ГКЧП говорилось: «Изменив народу, Отчизне и
Конституции, они поставили себя вне закона». Объявление вне
Mm
Ш&-;
Ъмштшш1*
Г Л^шЗШ!^
mm
-нЖ СЩ*
йГ1
Щ$
шш
638
закона означало немедленный расстрел после установления
личности. Один из руководителей защиты «Белого дома», генерал
Константин Кобец, вызвался «лично командовать караулом,
расстреливающим эту сволочь».
Отношение к Михаилу Горбачёву резко изменилось.
Журналист Владимир Молчанов, выступая по радио «Белого дома»,
попросил у него прощения. Вдова Андрея Сахарова Елена Бон-
нэр заявила в своём выступлении: «Горбачёв — наш президент!».
Обстановка в рядах защитников «Белого дома» всё время
была достаточно напряжённой. Постоянно появлялись
сообщения о том, что вот-вот начнётся штурм здания. В ночь на 21
августа в столкновении с бронетехникой погибли три человека —
Дмитрий Комарь, Илья Кричевский, Владимир Усов.
Ранним утром 21 августа министр обороны Дмитрий Язов
неожиданно отдал приказ вывести войска из города. Под свист
и аплодисменты москвичей военная техника покинула столицу.
Днём стало известно, что четыре члена ГКЧП отправились в
Крым на встречу с Горбачёвым. Видимо, они всё-таки надеялись митинг противников гкчп у «Белого
ВЫЯСНИТЬ ВОЗНИКШее «Недоразумение» И KaK-ТО разрешить СИТуа- дома» в Москве. Фото К. Завражина.
639
советский союз
В 1946—1991 ГОДАХ
Танки у «Белого дома». Фото К. Завражина.
цию. Но Михаил Сергеевич
отказался разговаривать со
своими бывшими
соратниками. «Заговорщиков я не
принимал... и не видел их, и
не хочу их видеть», — сказал
он на следующий день.
Одновременно в Крым
вылетел самолёт с
представителями руководства России. С
ними Горбачёв встретился и
согласился вернуться в
Москву. В ночь на 22 августа он
вылетел в столицу. «Летим в
новую эпоху», — бодро
заметил Михаил Сергеевич. По
дороге он поднял тост за
здоровье Бориса Ельцина. В
столице президента радостно
встретили журналисты.
Тем же самолётом, всё
ещё надеясь на разговор с
президентом, возвращался в
Москву глава КГБ Владимир
Крючков. Через
иллюминатор он видел, как
триумфально встречают
Горбачёва. Сопровождавший его
генерал КГБ Александр
Стерлигов вспоминал: «Когда
Крючков попытался вместе
со всеми выйти из самолёта,
я сказал: „Посидите ещё,
надо подождать". Когда он
попытался встать второй
раз, я повторил свою
просьбу. Он сказал: „Я всё понял".
Я ответил: „Вы поняли
правильно"». Так Крючков
оказался под арестом.
В ночь на 23 августа по
Москве прошла волна
арестов остальных
«заговорщиков». Когда обсуждался
вопрос об аресте Г. Янаева,
Горбачёв заметил, что здесь
сложностей не возникнет: «Я
ему скажу, и всё».
22 августа у «Белого
дома» состоялся многоты-
640
сячный «митинг победителей». Со здания сняли красный флаг и
торжественно водрузили трёхцветный флаг России.
В тот же день состоялась пресс-конференция Михаила
Горбачёва, на которой он рассказал о происшедшем. Затем,
обращаясь к журналистам, произнёс загадочные слова: «Я вам всё равно
не сказал всего. И никогда не скажу всего...».
РОСПУСК КОМПАРТИИ
Августовские события 1991 г. означали по существу логическое
завершение «перестройки». Вместе с ГКЧП оказалось сброшено
за борт почти всё, что оставалось от прежней государственной
идеологии.
Естественно, должна была прекратить существование и
охранявшая идеологию структура государства — компартия. В
течение 1990—1991 гг. именно на ней сосредоточился основной
огонь критики. Происходил массовый выход из партии. В числе
вышедших оказались Борис Ельцин, Александр Руцкой и другие
руководители России.
Во время «переворота» руководство партии никак не
поддержало ГКЧП, хотя и не осудило его. В документах ГКЧП также не
было слов «социализм» или
«коммунизм». Казалось, такая
осторожная позиция могла бы
вывести партию из-под удара. Но
этого, конечно, не произошло.
23 августа Б. Ельцин
подписал указ о «приостановлении
деятельности компартии» на
территории России. По всей
стране закрывали и
опечатывали все здания обкомов и
райкомов. Закрыли также газету
«Правда» и ещё пять партийных
газет. Уже на следующий день
М. Горбачёв сложил с себя
обязанности генсека и призвал ЦК
к самороспуску. Этим он по
существу поддержал указ Бориса
Ельцина.
Всего за год до этого
численность КПСС достигла
наивысшей отметки — превысила
19 млн человек Это более чем в
80 раз превышало количество
большевиков, пришедших к
власти в 1917 г. И тем не менее её
роспуск не вызвал не только
никаких беспорядков в стране, но
и ни единой акции протеста.
Торжественные похороны
погибших защитников
«Белого лома». Фото К. Завражина.
641
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
В 1946—1991 ГОДАХ
Митинг противников ГКЧП возле
«Белого лома». Фото К. Завражина.
ПОГИБШИЕ «ЗАГОВОРЩИКИ»
Жертвами августовских событий
оказались трое из близких к ГКЧП людей.
Первым 23 августа погиб один из
членов ГКЧП министр внутренних дел
Борис Пуго.
Среди тех, кто пришёл арестовывать
его, был экономист Григорий
Явлинский. Он рассказывал, что, войдя в
квартиру Б. Пуго, они нашли тело
министра с простреленной головой.
Пистолет был кем-то аккуратно положен
на тумбочку. Рядом на полу сидела
жена министра, лицо её было в крови.
Она что-то бессвязно бормотала.
Вскоре скончалась и она.
24 августа в своём кабинете в Кремле
нашли повешенным личного
советника Горбачёва 68-летнего маршала
Сергея Ахромеева. Официально причиной
смерти назвали самоубийство. Но
многих удивило, что маршал избрал такой
не военный способ, чтобы свести
счёты с жизнью. Однако даже после
смерти С. Ахромеев не нашёл покоя: через
неделю его могила была ограблена,
маршальский мундир похишен.
Последней жертвой августа 1991 г.
оказался управляюший делами
UK КПСС Николай Кручина. Ранним
утром 26 августа при невыясненных
обстоятельствах он погиб, упав с
балкона своей квартиры на пятом этаже.
642
«ПЕРЕСТРОЙКА»
На месте гибели защитников «Белого лома». Август 1991 г. «Митинг победителей» у «Белого лома». 22 августа 1991 г.
Во время похорон погибших защитников «Белого лома».
Баррикады вокруг «Белого дома».
Сброшенный памятник Ф. Дзержинскому.
Москва. Сентябрь 1991 г.
Фото И. Зарубина.
РОСПУСК СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Первоначально августовские события создавали впечатление не
только завершающей победы «перестройки», но и личной
победы Михаила Горбачёва. Резко повысился его авторитет среди
интеллигенции. М. Горбачёв выглядел единственным реальным
кандидатом на пост президента СССР на новых
выборах. Борис Ельцин ещё в июле заявил, что
поддержит его на таких выборах. Сместить
Горбачёва было возможно, только упразднив само
государство, которое он возглавлял, —
Советский Союз.
Некоторые республики после августа 1991 г.
вышли из состава Союза. Так, б сентября
президент Горбачёв признал независимость Литвы,
Латвии и Эстонии. Но девять республик,
казалось, не собирались покидать Союз. Не далее как
в марте на референдуме три четверти их
населения проголосовали за сохранение Союза.
Однако в декабре в развитии событий
произошёл неожиданный поворот. 1 декабря
большинство населения Украины проголосовало за
независимость страны.
8 декабря в Беловежской Пуще встретились
руководители России, Украины и Белоруссии —
Борис Ельцин, Леонид Кравчуки Станислав Шуш-
кевич. Они подписали заявление, в котором
говорилось, что республики бывшего Советского
Союза становятся независимыми. Вместо СССР они
создали Союз Независимых государств (СНГ).
25 декабря президент СССР Михаил
Горбачёв в последний раз выступил по телевидению
с обращением к народу. Он заявил о своём
уходе с этого поста.
Вечером того же дня произошла
торжественная смена флагов над Кремлём. Впервые с
1918 г. над крепостью опустился красный
советский флаг и вместо него поднялся бело-сине-
красный флаг России. Эта символическая
церемония означала, что Советский Союз прекратил
своё существование.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
СССР ПОСЛЕ ВОИНЫ
«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»
После окончания Второй мировой войны отношения между
СССР и западными союзниками стали быстро ухудшаться.
Советский Союз твёрдо решил закрепить своё влияние в тех
европейских странах, куда вступила Красная армия. Постепенно в этих
государствах (кроме Австрии и Норвегии) к власти пришли
коммунисты. США, Великобритания и другие западные страны,
конечно, не могли с этим примириться.
5 марта 1946 г. бывший английский премьер-министр Уин-
стон Черчилль выступил с речью в американском городе Фулто-
не. Он обращался к студенческой аудитории, причём среди
слушателей находился президент США Гарри Трумэн. «От
Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике, — произнёс Черчилль
свои знаменитые слова, — опустился над Европейским
континентом железный занавес». Страны Восточной Европы лишены права
«свободно выбирать своё будущее». «Это не та Европа, ради
создания которой мы боролись», — сделал вывод оратор.
«Вдали от русских границ, — продолжал он, — пятая
колонна коммунистов ведёт свою работу. Она представляет собой
нарастающую угрозу для христианской цивилизации». Уинстон
Черчилль призвал «мир, говорящий по-английски», сплотиться
для защиты «великих принципов свободы и прав человека».
Фултонская речь Черчилля считается поворотом к началу
«холодной войны» между Востоком и Западом. И. Сталин вскоре
ответил на неё в не менее жёстком тоне. Он заявил: «Нации
проливали кровь в течение пяти лет жестокой войны не для того,
чтобы заменить господство гитлеров господством Черчиллей».
Советский Союз в своей послевоенной политике поставил
две основные задачи. В Европе на протяжении сорока лет СССР
стремился поддерживать завоёванное им влияние. Любая
попытка нарушить сложившееся положение сурово пресекалась
военной силой. Например, так было подавлено восстание в Венгрии
в 1956 г., а также процесс реформ в Чехословакии в 1968 г. —
«Пражская весна». Кроме того, Советский Союз стремился
усилить своё влияние в слаборазвитых странах Азии, Африки и
Латинской Америки.
645
советский союз
В 1946—1991 ГОДАХ
Б. Ефимов. «Жалоба поджигателей:
— Увы, господа, ни их прошлое, ни их
настоящее не внушают надежд на наше
будущее...» («Крокодил». 1953 г.)
Вокруг этих двух главных направлений советской внешней
политики и кипела «холодная война». Причём в то время как в
Европе на протяжении четырёх десятилетий в основном царил
мир, в иных частях света «холодная война» часто оборачивалась
вспышками войны «горячей».
КОРЕЙСКАЯ ВОЙНА
Одним из первых военных столкновений между Востоком и
Западом стала война в Корее. В 1945 г. советские и американские
войска освободили эту страну от японской армии. К югу от 38-й
параллели расположились войска США, к северу — Красная
армия. Таким образом, Корейский полуостров оказался
разделённым на две части.
На Севере к власти пришли коммунисты, на Юге —
военные, опиравшиеся на помощь США. На полуострове
образовались два государства — северная Корейская
Народно-Демократическая Республика (КНДР) и южная Республика Корея.
Руководство Северной Кореи мечтало объединить страну, хотя
бы и силой оружия.
В 1950 г. северокорейский
руководитель Ким Ир Сен
побывал в Москве и изложил
здесь свои намерения. Н.
Хрущёв позднее вспоминал: «Он
вёл беседу со Сталиным и
поставил вопрос, что они хотели
бы прощупать штыком Южную
Корею. Он говорил, что при
первом толчке из Северной
Кореи там восстановится
народная власть, то есть такая же
власть, какая была в Северной
Корее. Я помню, Сталин тогда
выражал сомнения: его
беспокоило, ввяжется ли Америка,
или она пропустит это мимо
ушей». Сошлись на том, что
при молниеносной победе
Америка не успеет вмешаться.
Китайский руководитель Мао
Цзэдун также одобрил планы
«военного освобождения»
Южной Кореи.
На рассвете 25 июня
1950 г. северокорейская армия
двинулась на юг страны.
Официально утверждалось, что
первыми, в час ночи, открыли
огонь южане, а северная армия
646
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
СССР ПОСЛЕ ВОЙНЫ
ПОЛЕМИКА В «ПРАВДЕ»
С АНГЛИЙСКИМ МИНИСТРОМ
Советские газеты изредка
предоставляли слово противникам
Советского Союза в «холодной войне». Так,
1 августа 1951 г. на страницах газеты
«Правда» была опубликована статья
заместителя лейбористского премьер-
министра Великобритании Герберта
Моррисона. В ней он протестовал
против того, что по решению советского
правительства заглушаются
радиопередачи Би-би-си на русском языке. Мор-
рисон также предлагал сделать
свободными поездки советских людей за
рубеж, распространять в России
британские газеты.
Г. Моррисон писал: «В Британии мы
глубоко ценим проявления личной
свободы. Сюда же относится свобода от
произвольного ареста. Граждан
Британии не забирают в их жилишах, их не
ссылают, их не заключают в трудовые
лагеря. Стука в дверь рано поутру не
приходится бояться. Это не полиция.
По всей вероятности, это стук или
молочника, или почтальона. Хотелось бы
мне знать, может ли каждый из вас
открыто сказать, что он испытывает
такое же чувство личной безопасности,
какое испытывает любой британский
гражданин».
Касаясь международных вопросов,
Моррисон отмечал, что западные
державы стремятся к миру, но
«насильственное установление
коммунистического строя в Восточной Европе» и
другие подобные шаги советского
правительства вынуждают их укреплять свою
оборону.
В том же номере газеты был
опубликован «Ответ „Правды" г-ну Моррисо-
ну». В нём, в частности, говорилось: «В
СССР не существует свободы слова для
врагов народа, для тех преступников,
которые стреляли в Ленина, убили
Кирова, отравили Максима Горького,
Куйбышева. Тюрьмы и трудовые
лагеря существуют только для этих господ.
Что касается английских радиопередач
на Советский Союз (Би-би-си), они, как
известно, в большинстве случаев
направлены на то, чтобы поощрять
врагов советского народа... Понятно, что
Советы не могут поддержать подобную
антинародную пропаганду».
«Как известно, коммунисты пришли к
власти в народно-демократических
странах путём всеобщих выборов.
Конечно, народы этих стран выбросили
вон эксплуататоров и всякого рода
агентов иностранной разведки. Но это
уж воля народа. Глас народа — глас
божий... Пусть укажет г-н Моррисон
хотя бы одного советского солдата,
который разрядил бы своё оружие
против какого-либо мирного народа. Нет
такого солдата! А вот пусть г-н
Моррисон объяснит толком, зачем
английские солдаты убивают в Корее мирных
жителей?»
«Вот почему, — говорилось в
заключение, — советские люди считают
современных англо-американских
политиков поджигателями новой мировой
войны».
просто немедленно отбила их удар и спустя ещё час развернула
мощное наступление. Бывший член северного правительства Кан
Сан Хо рассказывал: «28 июня я приехал в приграничный уезд
Хвачен. Честно говоря, я был немало озадачен полным
отсутствием следов военных действий... На нашей стороне не было ни
разрушений, ни воронок от разрывов снарядов и мин, ни
одного убитого или раненого. По мере продвижения на юг мне всё
чаще стали попадаться разгромленные военные объекты южан,
судя по всему застигнутых врасплох, — тут и там стояли пушки с
полным боекомплектом, лежали десятки неубранных трупов
солдат южнокорейской армии».
Наступление северокорейской армии было столь мощным,
что уже три дня спустя она заняла столицу Юга — Сеул. Затем
продвижение северян замедлилось, но к середине сентября
почти весь полуостров оказался в их руках. Сильно потрёпанные
части южан удерживали только небольшой приморский пятачок
возле города Пусан. Казалось, от окончательной победы Север
отделяет только последнее, решающее усилие. Ещё несколько
дней или недель — и противник будет сброшен в море. <<Пусан
надо было взять, и война бы кончилась», — замечал Н. Хрущёв.
Между тем ещё 7 июля Совет Безопасности ООН
проголосовал за то, чтобы направить международные войска на помощь
Южной Корее. Советский представитель в то время
бойкотировал заседания, благодаря чему было принято это решение.
647
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
В 1946—1991 ГОДАХ
После бомбардировки Пхеньяна.
«БОРЬБА ЗА МИР»
С кониа 40-х гг. среди западной
интеллигенции большую популярность
приобрела идея «борьбы за мир».
Сторонники мира резко осуждали внешнюю
политику стран Запада. На этой
основе движение объединило
интеллигенцию противостоящих лагерей.
Ведущую роль в нём играли авторитетные
учёные, писатели, деятели культуры.
В апреле 1949 г. в Париже состоялся
Всемирный конгресс сторонников
мира. Год спустя началась одна из
самых знаменитых акций движения —
сбор подписей под Стокгольмским
воззванием. В нём говорилось: «Мы
требуем безусловного запрещения
атомного оружия... Мы считаем, что
правительство, которое первым применит
атомное оружие, должно
рассматриваться как военный преступник».
За год во всём мире воззвание
подписали более 500 млн человек. В
Советском Союзе подписи собирались при
содействии государства. Подписалось
115 млн советских граждан — всё
взрослое население страны.
Сама идея «борьбы за мир» вызывала
сочувствие у советских людей,
переживших войну. Часто можно было
слышать с убеждением повторяемые
слова: «Всё что угодно, главное — чтобы
не было войны!». Впрочем, уже в
начале 50-х гг. появилась и такая
ироническая оценка официальной «борьбы
за мир»: «Мы развернём такую борьбу
за мир, что камня на камне не
останется!».
После бомбардировки Сеула. 1950 г.
И вот в сентябре войска ООН (в основном американские)
пришли на помощь южанам. Они развернули мощное
наступление на север с пятачка, который ещё удерживала южнокорейская
армия. Одновременно была произведена высадка войск на
западное побережье. Этим неожиданным ударом войска ООН
«рассекали пополам» полуостров, запирая на юге огромную
группировку северян.
Теперь грозные события стали с той же быстротой
разворачиваться «в обратную сторону». Часть северян обратилась в
беспорядочное бегство, остальные попали в окружение и были
разгромлены. Американцы заняли Сеул, перешли 38-ю параллель
и продолжили наступление на
КНДР.
Северная Корея оказалась
на грани полной катастрофы.
Войску северян почти не
оставалось. Даже И. Сталин
примирился с неизбежностью их
поражения. «Ну что же? — сказал
Иосиф Виссарионович. —
Пусть теперь будут нашими
соседями на Дальнем Востоке
Соединённые Штаты Америки.
Они туда придут, но мы воевать
сейчас с ними не будем. Мы
воевать не готовы».
Американцы
стремительно приближались к границам
Китая. Наступил момент, когда
Иосиф Сталин заметил: «Если
не прийти к корейским
товарищам на помощь, они смогут
продержаться неделю...». Одна-
Коракашев. Плакат 1965 г. КО В ЭТО время События приНЯ-
648
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
СССР ПОСЛЕ ВОЙНЫ
ли новый оборот. Китайское руководство предложило, не
объявляя США войну, послать на помощь Северной Корее войска. В
Китае их официально называли «народными добровольцами».
В октябре около миллиона китайских солдат перешли
пограничную реку Ялуцзян и вступили в сражения с американцами.
Китайские войска возглавлял знаменитый военачальник Пэн Дэхуай.
В первый месяц они отбросили американцев далеко на юг. Но
затем фронт выровнялся вдоль 38-й параллели.
Война продолжалась ещё три года. Американцы существенно
превосходили китайцев в технике. «Китай нёс очень большие
потери, — отмечал Н. Хрущёв. — Тактика была построена главным
образом на использовании живой силы — и оборона, и наступление».
Всего в сражениях погибло около 54 тысяч американских военных и
свыше миллиона китайцев. Жертвами войны стали 9 миллионов 200
тысяч корейцев; из них почти 8 миллионов составляли мирные жители.
Во время американского наступления 1950 г. Советский Союз
перебросил на помощь Северной Корее несколько авиационных
дивизий. Советские лётчики сбили более 1300 американских
самолётов, потеряв 335 своих машин. За три года войны в Корее
погибло около 300 советских военнослужащих.
27 июля 1953 г. война закончилась перемирием. В Северной
Корее осталось у власти дружественное СССР и Китаю
правительство Ким Ир Сена. Основой жизни северокорейского общества
стали беспрекословное подчинение всех граждан государству, а
также уважение и любовь к Ким Ир Сену. Он принял почётное зва-
Полбитый американский самолёт. 1951 г.
Китайские военнопленные. 1950 г.
Юный беженец в подаренной одежде. 1951 г.
649
советский союз
В 1946—1991 ГОДАХ
Беженцы проходят санитарную обработку. 1952 г.
Китайские военнопленные просят сохранить им жизнь. 1951 г.
ние «великого вождя». В 1994 г.
Ким Ир Сен скончался и власть
перешла к его сыну,
«уважаемому руководителю» Ким Чен Иру.
ВОЗВЕДЕНИЕ
БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ
В 1955 г. окончательно
оформился раздел Европы между
Востоком и Западом. 14 мая
1955 г. в противовес западному
блоку НАТО возник восточный
военный блок — Варшавский
Договор (Организация
Варшавского Договора). В него
вошли СССР и семь стран
Восточной Европы.
Однако чёткая граница
противостояния разделила
Европу ещё не до конца. В ней
оставалось незакрытое «окно» —
Берлин. Город оказался
разделённым пополам, причём
Восточный Берлин являлся
столицей ГДР, а Западный Берлин
считала своей частью ФРГ.
Два противоположных
общественных строя уживались в
пределах одного города. При
этом каждый берлинец мог
беспрепятственно попасть «из
социализма в капитализм» и
обратно, перейдя с одной улицы
на другую. Ежедневно эту
невидимую границу в обе стороны
пересекали до 500 тыс. человек
Они могли сделать это каким
угодно способом — на метро,
автомобиле, пешком, и с любой
целью — чтобы зайти в магазин,
посетить театр или навестить
знакомых.
Писатель Илья Эренбург
рассказывал о жизни
разделённого города в те годы: «Границу
всё время переходили люди —
шли на работу, повидать
родственников, купить что-либо.
Курс в то время был фантасти-
650
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
СССР ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Жители лома, оказавшегося
вмурованным в Берлинскую стену,
совершают побег на Запад,
Сентябрь 1961 г.
ческим — за одну „западную марку" требовали семь „восточных".
Побриться стоило одну марку в обеих частях города. Экономные
бюргеры западных секторов брились в восточных — у них
оставалось после этого шесть марок. В Западном Берлине
безработным давали пособие — 100 марок в месяц, и безработные
говорили своим родственникам или друзьям, проживавшим в
Восточном Берлине: „Мы ничего не делаем и получаем 700 ваших
марок". Громкоговорители двух Берлинов с утра до ночи обличали
друг друга. Это, как и многое другое, напоминало фронт».
Многие восточные немцы, пользуясь открытой границей,
навсегда уезжали на Запад. Ежегодно так переселялись тысячи
людей, что весьма беспокоило восточногерманские власти. Да и
ПЕРЕБЕЖЧИКИ
ЧЕРЕЗ БЕРЛИНСКУЮ СТЕНУ
Как выглядела Берлинская стена?
Писатель Виктор Некрасов в 1978 г. так
описывал её: «Невысокая, метра два-
три, на ней колючка, за ней в четыре
ряда „ежи". Потом опять Стена,
колючка. И на всём 65-километровом
протяжении этого сооружения — кресты,
кресты, кресты... Под ними те, кого
настигла пуля восточного
пограничника или автоматической самострельной
установки».
Вдоль стены располагалось более
двухсот вышек для стрельбы по
нарушителям границы. Тем не менее попытки
пересечь её в западном направлении
не прекрашались всё время, пока
существовала стена. Чаше всего люди
просто перелезали через стену,
надеясь на удачу. Из этих перебежчиков
погибло около двухсот человек.
Но нередко побеги совершали «с
фантазией». Стену перелетали на
планёрах, под неё рыли подкопы. Известен
случай, когда перебежчики
переоделись в советские военные мундиры
(причём один из них—в генеральский),
после чего они спокойно проехали
через контрольно-пропускной пункт на
автомашине. В. Некрасов приводил
такой случай: «Тридцать шесть ребят,
в основном студенты, и одна девушка
в течение шести месяцев рыли туннель.
И прорыли 145 метров на глубине
12 метров. 3 октября 1964 года
двадцать восемь человек спаслись по
этому туннелю, включая старика
сердечника, вылезшего из-под земли с
синими губами, и пятилетнего пацана,
которого удивило только то, что в
туннеле не оказалось никаких чудовиш».
651
советский союз
В 1946—1991 ГОДАХ
Ю. Ганф. «Американская посылка...
с двойным дном». Карикатура,
осуждающая продовольственную помощь
США Восточной Германии
(«Крокодил». 1953 г.).
в целом открытое настежь окно в «железном занавесе»
совершенно не отвечало общему духу эпохи.
В августе 1961 г. советские и восточногерманские власти
приняли решение закрыть границу между двумя частями Берлина.
Проснувшись утром 13 августа, берлинцы неожиданно
обнаружили, что привычная дорога в другую часть города
перекрыта. Её перегородила колючая проволока и взяли под охрану
вооружённые пограничники. Кроме того, за одну ночь на всём
протяжении городской границы выросла знаменитая Берлинская
стена. Её соорудили из бетонных плит.
Писатель Виктор Некрасов описывал фотографии в
западноберлинском музее Стены: «Сняты не только факты, мгновения:
люди кидаются из окон, выбрасывают детей (внизу, правда,
пожарники), спускают вниз каких-то старух — нет, удалось схватить
самое важное — психологию этих событий, лица... Особенно
ГДРовских пограничников. Вот один, совсем молоденький,
пожалел малыша, которого разлучили с родителями, и растянул
колючую проволоку, чтобы тот мог проскочить. Но застукало
начальство, и... Вот этот момент и заснят. Другой парень.
Постарше. Пытался перебраться через Стену. Подстрелили. Целый час
пролежал, обливаясь кровью,
пока его вытащили уже
мёртвым. А в окнах люди, смотрят,
молчат, боятся. Скоро эти окна
замуруют».
Напряжение в городе
росло. Если с восточной стороны
стену охраняли, то с
западной — её несколько раз
пытались разрушить.
Пограничники тут же тщательно
восстанавливали стену. Западные страны
выразили протест по поводу
разделения города.
Наконец в октябре
противостояние достигло высшей
точки. У Бранденбургских ворот
и на Фридрихштрассе, возле
главных пропускных пунктов,
выстроились американские
танки. Им навстречу вышли
советские боевые машины. Более
суток танки СССР и США
простояли с нацеленными друг на
друга орудиями. Периодически
танкисты включали моторы, как
будто готовясь к атаке.
Как вспоминал журналист
Алексей Аджубей, 20 или
21 октября маршал Иван Конев
попросил срочной встречи с
С ДОЙНЫМ ДИОМ.
652
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
СССР ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Никитой Хрущёвым. «Иван
Степанович доложил, — писал
А. Аджубей, — что моторы
американских танков вот уже
полчаса работают на повышенных
оборотах. Маршал Конев,
человек, знающий, что такое война,
нервничал. Хрущёв задумался».
Затем он решительно сказал:
«Отведите наши танки на
соседнюю улицу, но пусть там их
моторы работают на таких же
повышенных оборотах.
Прибавьте шуму и грохоту от
танков через радиоусилители».
«Никита Сергеевич, они
могут рвануться вперёд!» — не
выдержал маршал.
«Не думаю», — отвечал ему
Хрущёв.
Советские танки отошли
на другую улицу, а вслед за
ними ушли и американские.
Напряжение несколько
разрядилось... Однако окончательно
западные страны признали раздел
города лишь десять лет спустя.
Его оформило соглашение
четырёх держав (СССР, США, Ан-
г
Родственники, разделённые пограничной проволокой. 13 августа 1961 г.
Пограничное оцепление у Бранленбургских ворот. 13 августа 1961 г.
? -ч
Шх
—**w>pwtmem—Ш1... И
*
А
ACHTUNG!
Sie veriossen jetzt
WEST-BERLIN
I
653
советский союз
В 1946—1991 ГОДАХ
Пограничники охраняют восточногерманскую границу в Берлине. 13 августа 1961 г.
После того как стена из-за многочисленных повреждений автомобилями частично
разрушилась, была сооружена новая — из бетона. Фото 1963 г.
глии и Франции), подписанное
в 1971 г.
Во всём мире возведение
Берлинской стены восприняли
как символическое завершение
послевоенного раздела Европы.
КУБИНСКИЙ РАКЕТНЫЙ
КРИЗИС
1 января 1959 г. на Кубе
победила революция, во главе
которой стоял 32-летний
партизанский вождь Фидель Кастро.
Новое правительство начало
решительную борьбу с
американским влиянием на острове. За
этот вызов Вашингтону Кубу
окрестили тогда островом
Свободы. Советский Союз
полностью поддержал Кубинскую
революцию. Однако власти
Гаваны серьёзно опасались
военного вторжения США.
В мае 1962 г. Никита
Хрущёв выдвинул неожиданную
идею — разместить на острове
советские ядерные ракеты.
Посол СССР на Кубе Александр
Алексеев так передавал его
аргументы: «Надо дать понять,
что, напав на Кубу,
американцы будут иметь дело не только
с одной непокорной страной,
но и с ядерной мощью
Советского Союза». Никита
Сергеевич шутливо добавлял, что
империалистам «надо запустить
ежа в штаны».
После некоторых
размышлений Куба ответила
согласием на советское
предложение. Летом 1962 г. на остров
было отправлено грозное
оружие — 42 ракеты с ядерными
боеголовками и
бомбардировщики, способные нести
атомные бомбы. «Всё завертелось, —
писал позднее Хрущёв. — Мы
поставили ракеты. Этой силы
было достаточно, чтобы разру-
654
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
СССР ПОСЛЕ ВОЙНЫ
шить Нью-Йорк, Чикаго и другие промышленные города, а о
Вашингтоне и говорить нечего. Маленькая деревня».
Переброска ракет проводилась в строжайшей тайне. Но уже
в сентябре руководство США заподозрило неладное. 4 сентября
президент Джон Кеннеди заявил, что США ни в коем случае не
потерпят советских ракет в 150 км от своего берега. В ответ
Хрущёв заверил Кеннеди, что никаких советских ракет или ядерных
зарядов на Кубе нет и не будет. Видимо, он рассчитывал пока
сохранить размещение ракет в тайне.
Однако 14 октября американский самолёт-разведчик
сфотографировал с воздуха стартовые площадки для ракет. Стало
ясно, что по меньшей мере одна ракета уже установлена. В
обстановке строгой секретности руководство США начало
обсуждать ответные меры.
Генералы предлагали немедленно разбомбить советские
ракеты с воздуха и начать вторжение на остров силами морской
пехоты. Но это привело бы к войне с Советским Союзом.
Поэтому Джон Кеннеди решил начать с более мягких средств.
22 октября президент обратился по радио и телевидению к
американскому народу. Он сообщил, что на Кубе обнаружены
советские ракеты, и потребовал от СССР немедленно удалить их.
Джон Кеннеди объявил, что США начинают военно-морскую
блокаду Кубы (он назвал её «карантином»). «Это лишь первый шаг», —
угрожающе добавил президент.
24 октября по просьбе СССР срочно собрался Совет
Безопасности ООН. Советский Союз продолжал упорно отрицать
наличие на Кубе ядерных ракет. Московские газеты так излагали
речь советского представителя в ООН: «В. А. Зорин разоблачил
извлечённые из кучи всякого хлама сотрудниками
государственного департамента США утверждения о так называемом
„установлении советских ракетных баз" на Кубе».
Н. Хрущёв и А. Кеннеди. Вена. 1961 г.
ПОЛЕТ ПАУЭРСА
Журналист Алексей Аджубей
вспоминал: «1 мая 1960 г. во время парада
Хрушёв нервничал. То и дело к нему
на трибуне Мавзолея подходил
военный, отзывал в сторону. После
очередного доклада Хрушёв сдёрнул с головы
шляпу и, широко улыбаясь, взмахнул
ею над головой. Настроение у него
исправилось».
Что же произошло? Советскому
руководителю сообщили, что возле
Свердловска (ныне Екатеринбург) сбит
американский самолёт-разведчик.
Самолёт летел на предельной высоте —
около 20 км — и фотографировал
секретные военные объекты. Он должен был
пересечь всю страну с юга на север по
линии Урала. Такие полёты
довершались и раньше, но высота в 20 км
оставалась недостижимой для советских
зенитных ракет. Чтобы не обнаруживать
свою слабость, советские власти
ничего не сообщали о подобных
нарушениях границы.
И вот наконец у Советского Союза
появились новые высотные зенитные
ракеты. Утром 1 мая
самолёт-нарушитель удалось сбить. Пилот Фрэнсис
Гарри Пауэре успел выпрыгнуть с
парашютом. Его арестовали на месте
приземления.
Полёт Пауэрса стал причиной
очередного обострения «холодной войны». В
середине мая в Париже намечалась
встреча глав четырёх держав: СССР,
США, Англии и Франции. Никита
Хрушёв прибыл на встречу и немедленно
потребовал от американского
президента Дуайта Эйзенхауэра извинений
за полёт Пауэрса. Тот отказался
извиняться, и встреча сорвалась... В
отношениях между Востоком и Западом на
несколько лет наступили «заморозки».
Что же касается самого Пауэрса, то
советский суд приговорил его к
тюремному заключению. Однако уже в
феврале 1962 г. американского лётчика
обменяли на советского разведчика
Рудольфа Абеля.
655
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
В 1946—1991 ГОДАХ
ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ
В послевоенные десятилетия между
Востоком и Западом продолжалось
военное соревнование, которое
окрестили «гонкой вооружений».
Первый и, возможно, наиболее
драматический её эпизод был связан с
атомным оружием. Как известно, в 1945 г.
США оказались единственной ядерной
державой в мире. В ходе войны с
Японией они взорвали атомные бомбы над
японскими городами Хиросимой и
Нагасаки.
Но американская монополия на
ядерное оружие сохранялась только
четыре года. В 1949 г. СССР провёл
испытание своей первой атомной бомбы.
Это событие стало настоящим
потрясением для западного мира и
важной вехой «холодной войны». Однако
в 50-е и 60-е гг. СССР ешё
значительно отставал от США в области
вооружений.
Примерного военного паритета
(равенства) между Востоком и Западом
удалось добиться в середине 70-х гг.
Советский министр иностранных дел
Андрей Громыко заявил об этом в
1978 г., выступая перед Генеральной
Ассамблеей ООН: «К настоящему
времени — и деятели Запада признают
это — сложилось примерное
равенство, паритет в вооружениях. Советский
Союз не собирается менять в свою
пользу это соотношение...». В то же
время СССР поставил задачу не
позволить Западу вновь вырваться вперёд.
Обстановка в Карибском море всё более накалялась. К Кубе
двигались два десятка советских кораблей. Американские
военные суда получили приказ остановить их, если потребуется —
огнём. Правда, до морских сражений дело не дошло. Н. Хрущёв
приказал нескольким советским кораблям остановиться на
линии блокады. Американцы задержали и проверили только одно
советское судно, перевозившее мирный груз.
С 23 октября между Москвой и Вашингтоном начался
ежедневный обмен официальными письмами. В первых посланиях
Н. Хрущёв с негодованием называл действия США «чистейшим
бандитизмом» и «безумием выродившегося империализма».
Через несколько дней стало ясно, что США полны
решимости любой ценой убрать ракеты. 26 октября Хрущёв направил
Кеннеди более примирительное послание. Он признавал, что на
Кубе имеется мощное советское оружие. В то же время Никита
Сергеевич убеждал президента, что СССР не собирается нападать
на Америку. «Мы находимся в здравом уме и прекрасно
понимаем, что если мы нападём на вас, то вы ответите нам тем же, —
писал он. — Но тогда это обернётся и против нас... Как же мы
можем допустить, чтобы произошли те несуразные действия,
которые вы нам приписываете? Только сумасшедшие могут так
поступать или самоубийцы, желающие и сами погибнуть, и весь мир
перед тем уничтожить». Никита Хрущёв предлагал Джону
Кеннеди дать обязательство не нападать на Кубу. Тогда Советский
Союз сможет вывести с острова своё оружие.
Джон Кеннеди ответил, что США готовы принять на себя
джентльменское обязательство не вторгаться на Кубу, если СССР
заберёт своё наступательное оружие. Таким образом, первые
шаги к миру были сделаны.
Но 27 октября наступила «чёрная суббота» Кубинского
кризиса, когда, как считается, лишь чудом не вспыхнула новая
мировая война. В те дни над Кубой с целью устрашения дважды в
сутки проносились эскадрильи американских самолётов. И вот
27 октября советские войска на Кубе сбили зенитной ракетой
один из самолётов-разведчиков США. Его пилот Андерсон погиб.
Ситуация накалилась до предела. Президент принял
решение через двое суток начать бомбардировку советских ракетных
баз и военную атаку на остров. Многие американцы покидали
крупные города, опасаясь скорого советского ядерного удара.
Однако в воскресенье, 28 октября, советское руководство
решило принять американские условия. Московское радио открытым
текстом передало послание Н. Хрущёва президенту США В Кремле
уже знали о намеченной бомбардировке Кубы. Поэтому послание
составлялось в такой спешке, что последние абзацы ещё не успели
отредактировать, а текст уже начали зачитывать в эфир.
В послании Н. Хрущёв заявлял: «Я отношусь с пониманием к
Вашей тревоге и тревоге народов США в связи с тем, что оружие,
которое Вы называете наступательным, действительно является
грозным оружием. И Вы, и мы понимаем, что это за оружие». Раз
президент США принял обязательство не нападать на Кубу, нет
656
необходимости оставлять там это оружие.
«Чтобы успокоить народ Америки, — говорилось в
послании, — Советское правительство отдало
распоряжение о демонтаже вооружения,
которое Вы называете наступательным, упаковке его
и возвращении в Советский Союз».
Решение убрать с Кубы ракеты было
принято без согласования с кубинским
руководством. Возможно, так поступили намеренно,
поскольку Фидель Кастро категорически
возражал против удаления ракет.
Советский посол на Кубе А. Алексеев
вспоминал: «И вот в воскресенье 28 октября, около
7 часов утра, мне в посольство позвонил
президент республики Освальдо Дортикос и сказал,
что радио сообщает о принятом в СССР
решении вывести ракеты с Кубы. Помню, я ответил
ему, что американское радио способно
запустить любую „утку" и что из Москвы у меня нет
никаких сведений на этот счёт. Но когда
Дортикос сказал, что речь идёт о передаче
Московского радио, я почувствовал себя самым
несчастным человеком на земле, представив к тому же
и реакцию Фиделя. Да, Дортикос подтвердил,
что Фидель был страшно разгневан этим
сообщением и уехал совещаться с кубинскими
военными начальниками...».
Чтобы успокоить негодовавшего
кубинского руководителя, 2 ноября в Гавану прибыл
представитель советского руководства Анастас
Микоян, известный своим дипломатическим искусством. Его
поездке придавалось очень большое значение. А Микоян не смог
прервать визит даже ради похорон своей жены, скончавшейся в
эти дни в Москве.
Международная напряжённость после 28 октября начала
быстро спадать. Советский Союз вывез с Кубы свои ракеты и
бомбардировщики. 20 ноября США сняли морскую блокаду
острова. Кубинский кризис (его называли также Карибским)
мирно завершился.
АФГАНСКАЯ ВОЙНА
8 апреле 1978 г. в Афганистане произошёл переворот, позднее
названный Апрельской революцией. К власти пришли афганские
коммунисты — Народно-демократическая партия Афганистана
(НДПА). События развивались стихийно. Толчком к волнениям
послужило убийство 17 апреля видного деятеля НДПА Мир Ак-
бара Хайбара. На улицы вышли тысячи людей, требуя наказания
убийц и отставки правительства. Чтобы пресечь беспорядки,
президент Мухаммед ДауД раСПОряДИЛСЯ арестовать ВСеХ ВОЖДеЙ Н. Терешенко. Плакат 1955 г.
657
советский союз
В 1946—1991 ГОДАХ
Бойцы отряда самообороны (сторонники
правительства) на удинах Кабула. 1980 г.
Дети ллолжахелов учатся обращаться
с автоматом. Селение в 20 км от Кабула.
1987 г.
НДПА Ответом на это стал военный переворот 27 апреля, в ходе
которого М. Дауд был убит. Свергнувшие его офицеры
освободили из заключения руководителей НДПА и передали им власть.
Один из вождей партии, Хафизулла Амин, выступая с брони
танка сразу после переворота, впечатляющим жестом показал
толпе свои ещё не снятые наручники...
Так, неожиданно не только для Советского Союза, но
отчасти и для самой себя, Народно-демократическая партия оказалась
у власти. Правительство возглавил писатель Hyp Мухаммед Тара-
ки. Однако уже через несколько месяцев внутри правящей
партии разгорелась острая борьба.
В августе 1979 г. вспыхнуло противоборство между двумя
вождями партии — Тараки и Амином. До этого Тараки полностью
доверял Амину и однажды публично заявил: «Есть два ученика:
простой и отличник. Амин — мой отличник». 16 сентября
Тараки сместили с его поста, исключили из партии и взяли под
стражу. Его обвинили в попытке покушения на Амина (такая
попытка, когда погиб адъютант Амина, действительно была). Вскоре
бывший премьер-министр скончался — по официальному
сообщению, «от треволнений». По другим свидетельствам, его убили,
задушив подушками. Все эти события, особенно смерть Тараки,
вызвали недовольство в Москве. Тем не менее внешне всё
оставалось по-прежнему: Л. Брежнев поздравил «товарища Хафизул-
лу Амина» с избранием на руководящие посты. Амин как-то раз
заметил на встрече с советской делегацией: «Я более советский,
чем вы!». Между тем беспокойство в Кремле росло.
Осуждение вызвали
начавшиеся в Афганистане
массовые «чистки» и расстрелы в
партийной среде. И так как они
напомнили советским
руководителям китайскую
«культурную революцию», возникали
опасения, что Амин может
порвать с СССР и сблизиться с
Китаем.
Амин неоднократно
просил о вводе в Афганистан
советских войск для укрепления
революционной власти.
Наконец, 12 декабря 1979 г.
советское руководство решило
исполнить его просьбу, но при
этом... убрать самого Амина.
Л. Брежнев позднее признал,
отвечая на вопросы газеты
«Правда»: «Для нас было не
простым решением направить в
Афганистан советские
воинские контингенты». Подразу-
658
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
СССР ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Руководитель республики Н. М. Тараки на военном параде.
Октябрь 1978 г.
Войны отряда самообороны (сторонники правительства).
Кабул. 1980 г.
мевалось, что дело ограничится кратковременной военной
операцией и через пару месяцев войска вернутся на родину.
27 декабря Хафизулла Амин давал обед в президентском
дворце. После еды гости внезапно почувствовали
непреодолимую сонливость и быстро заснули. Амин с трудом проснулся
лишь к вечеру от грохота выстрелов и взрывов. Президентский
дворец штурмовали советские войска. Желая умереть с оружием
в руках, X. Амин попросил дать ему автомат... Вскоре он был убит
взрывом гранаты. Так закончилось его стодневное правление.
Кроме президентского дворца советские бойцы встретили
сопротивление в здании МВД и нескольких других важных
точках Кабула. Взяли они также тюрьму Пули-Чархи, из которой
освободили ожидавших скорой казни противников Амина. Среди
них была и вдова Тараки.
В 19 часов из Душанбе на частотах Кабульского радио
прозвучало обращение Бабрака Кармаля, известного противника
Амина внутри партии. До этого Кармаль нашёл убежище
сначала в Чехословакии, потом в СССР, избежав таким образом ареста
и казни на родине. Кармаль объявил, что Амин свергнут, и
провозгласил себя Генеральным секретарём партии. Он сообщил, что
в Афганистан приглашены советские войска.
Ночью Кабульское радио передало: «Революционный суд
приговорил предателя Хафизуллу Амина к смертной казни.
Приговор приведён в исполнение». Бои в городе, начавшиеся около
18 часов, к утру 28 декабря затихли. Казалось, военная операция
благополучно завершена.
Советские газеты теперь называли Хафизуллу Амина
«агентом ЦРУ», писали о «кровавой клике Амина и его приспешников».
Сатирические издания изображали американского «дядюшку
Сэма», горестно восклицающего: «Амин!».
На Западе ввод советских войск в Афганистан вызвал
бурные протесты. С новой силой вспыхнула «холодная война». 14 ян-
Н. М. Тараки во время военного парада.
Октябрь 1978 г.
659
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
В 1946—1991 ГОДАХ
Моджахеды и беженцы из Афганистана
под Пешаваром (Пакистан). 1982 г.
варя 1980 г. Генеральная Ассамблея ООН потребовала вывода
«иностранных войск» из Афганистана. За это решение
голосовали 104 государства. Это был довольно редкий случай, поскольку
в 70-е гг. большинство в ООН обычно голосовало вместе с
Советским Союзом.
Между тем в самом Афганистане стало усиливаться
вооружённое сопротивление советским войскам. Против них
сражались уже, конечно, не сторонники Амина, а противники
революционной власти вообще.
Первые вспышки вооружённого протеста произошли ещё в
эпоху правления Тараки и Амина. Многих возмущали
неожиданные аресты самых разных людей — от мулл до торговцев. Но ещё
сильнее авторитет новой власти подорвала земельная реформа.
Правительство попыталось отобрать землю у племенных вождей.
Сельские жители с оружием в руках стали на защиту
привычного им уклада жизни.
После того как в Афганистан вошли иностранные войска,
сопротивление разгорелось с новой силой. Советская печать первое
время утверждала, что никаких боёв в Афганистане нет и там
царят мир и спокойствие. Однако война не утихала, и когда это ста-
■■■.'.
уЩ:'-
ш^
ТТ
щ
Я^жш1
660
Между тем борьба разворачивалась по всем правилам
партизанской войны. Чтобы уничтожить повстанцев, советские
войска стали наносить удары по сёлам, служившим им опорой.
«Война кишлаков» привела к огромному потоку беженцев из
Афганистана. В результате в Иран и Пакистан переселилось свыше 5 млн
афганцев — около трети населения страны.
Повстанцы контролировали значительную часть
территории Афганистана. Всех их объединял лозунг джихада —
священной исламской войны. Они называли себя «моджахедами» —
борцами за веру. В остальном программы повстанческих групп
сильно разнились. Одни повстанцы выступали под лозунгами
революционного ислама, другие поддерживали свергнутого в 1973 г.
короля Захир Шаха. Пестрота повстанческих групп отражала
также многообразие народностей и племён Афганистана.
Помимо 100-тысячного советского контингента борьбу с
повстанцами вела армия правительства Бабрака Кармаля. Афганская
война не прекращалась более девяти лет... В ходе военных
действий погибло более миллиона афганцев. Советские войска, по
официальным данным, ПОТеряЛИ убиТЫМИ 14 453 Человека. Собрание моджахедов в 20 км от Кабула.
В июне 1987 г. были сделаны первые, пока символические, 1987 г.
661
4*ь
СОВЕТСКИЙ союз
В 1946—1991 ГОДАХ
СОВЕТСКО-КИТАЙСКИЕ
СТОЛКНОВЕНИЯ
Отношения между Советским Союзом
и Китаем начали ухудшаться после XX
съезда КПСС, на котором был осуждён
«культ личности Сталина». Китайское
руководство во главе с Мао Шэдуном
не приняло эту новую политику, хотя
внешне с ней и согласилось.
Постепенно трешины в советско-китайских
отношениях углублялись. На XXII съезде
КПСС прозвучала ешё более резкая
критика И. Сталина. Это привело к
полному разрыву дружбы между двумя
государствами. Враждебность быстро
нарастала и в 1969 г. вылилась в
вооружённые стычки на границе.
Самым крупным и известным
пограничным столкновением стала борьба за
остров Даманский на реке Уссури. На
этом небольшом клочке земли,
вплотную прилегавшем к китайскому
берегу, местные крестьяне привыкли
заготавливать сено. Однако советские
власти поставили здесь пограничную
заставу и перестали пускать китайцев на
Даманский косить траву. Это
послужило искрой, из которой разгорелась
настоящая маленькая война. Китайские
военные попытались «отбить»
остров — вначале без применения
оружия, в кулачном бою. Одна из первых
схваток на Даманском вспыхнула в
конце января 1969 г.
Подполковник Михаил Колешня
вспоминал: «Рукопашный бой на
уссурийском льду был жестоким. В ход с
китайской стороны пошли лопаты, железные
прутья, палки. Пограничники
защищались от ударов прикладами автоматов.
Чудом обошлось без жертв. Китайцы,
бежавшие с острова на свой берег, всю
ночь в мегафон выкрикивали угрозы,
обешая скорую месть. С этого дня
жизнь на нашей погранзаставе круто
изменилась. Чуть ли не ежедневно
китайцы выходили на лёд, нарушая
границу. Вновь и вновь закипали драки,
которые неизменно заканчивались
бегством китайцев. К середине февраля
почти всех китайских бойцов и офицеров
мы знали уже в лицо. Они нас тоже... В
конце концов мы на заставе даже
привыкли к такой жизни. Все ходили в
синяках, носы разбитые, но друг перед
другом чувствовали себя героями. Сол-
Л. Брежнев и президент США Р. Никсон после подписания договора ОСВ-1.
Москва. Май 1972 г.
шаги к установлению мира. Новое кабульское правительство во
главе со сменившим Б. Кармаля Наджибуллой предложило
повстанцам «национальное примирение».
В апреле 1988 г. Советский Союз подписал в Женеве
соглашение о выводе войск из Афганистана. 15 мая войска начали уходить.
Спустя девять месяцев, 15 февраля 1989 г., Афганистан
покинул последний советский солдат. Эту церемонию провели как
торжественный парад, с участием репортёров и телевидения.
Последним на советский берег Амударьи в Термезе ступил
командующий войсками генерал-лейтенант Борис Громов. Для
Советского Союза в этот день афганская война закончилась...
РАЗРЯДКА
Вспышки «холодной войны» между Востоком и Западом
чередовались с периодами разрядки, потепления. Самая длительная
эпоха разрядки наступила в 70-е гг.
В эти годы СССР и США заключили ряд важных договоров
об ограничении вооружений. Венцом разрядки стало Совещание
по безопасности и сотрудничеству в Европе. В течение двух лет
совещались представители США, Канады и всех европейских
государств, кроме Албании.
1 августа 1975 г. в столице Финляндии Хельсинки эти стра-
662
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
СССР ПОСЛЕ ВОЙНЫ
ны подписали Заключительный акт совещания. От Советского
Союза его скрепил подписью Леонид Брежнев. Этот документ
окончательно узаконил послевоенный раздел Европы. Советская
внешняя политика достигла цели, к которой стремилась целых
30 лет. В обмен на эту уступку Запада СССР обязался уважать
права человека.
Незадолго до этого, в июле 1975 г., состоялся знаменитый
советско-американский совместный полёт на космических кораблях
«Союз» и «Аполлон». В СССР прекратили глушить западные
радиопередачи. Казалось, эпоха «холодной войны» навсегда отошла
в прошлое. Однако в декабре 1979 г. советские войска вступили
в Афганистан, и начался ещё один, последний период «холодной
войны». Как и прежде, «холодная война» велась не только в
политике, но и в области культуры, спорта... США и многие другие
страны Запада бойкотировали Олимпийские игры 1980 г. в Москве. В
ответ спортсмены стран Восточной Европы бойкотировали
следующую Олимпиаду в Лос-Анджелесе в 1984 г.
Отношения между Западом и Востоком достигли точки
замерзания, когда по решению советского руководства был сбит
южнокорейский самолёт с мирными пассажирами на борту,
оказавшийся в воздушном пространстве СССР. Это произошло в
ночь на 1 сентября 1983 г. После этого события президент США
Рональд Рейган с негодованием назвал Советский Союз
«империей зла и центром зла».
Только к 1987 г. отношения между Западом и Востоком
вновь начали постепенно улучшаться.
В ани паления Берлинской стены. Зрители перел
стеной у Бранленбургских ворот. 10 ноября 1989 г. Фото Ф. Пауля.
латам что — многим даже нравилось:
жизнь на заставе скучная, а тут такое
развлечение — каждый день
мордобой». Такие рукопашные схватки
продолжались около полутора месяцев. А
в ночь на 2 марта прогремели первые
выстрелы. Получив приказ открыть
огонь, китайцы уничтожили в бою 31
советского пограничника. После этого
в сражение вступили армейские части,
с советской стороны — штурмовая
авиация, артиллерия, пехота.
Бои за Даманский шли ешё около двух
месяцев. Капитан Пётр Власенко так
описывал один из боёв в середине
марта: «Я прибыл на наблюдательный
пункт нашего дивизиона. „Товарищ
командир!" — Передо мной
округлившиеся от ужаса глаза дежурного
солдата. Бросаюсь к приборам... О!
Такого ешё не было! Насколько хватает
взгляда, по горизонту с китайского
берега движется человеческая масса.
Полоса шириной километра в два.
Первая волна надвигалась, поливая наш
берег автоматными очередями. Метров
через триста за ней двигается вторая,
дальше — третья. Катят орудия,
разворачивают, готовят к стрельбе...
И начался бой. Первый залп — океан
заградительного огня. До Даманского
считанные метры — огонь
передвигаем на китайский берег. Это было как в
крематории. В пламени взрывов наших
реактивных снарядов погибло
несколько сот китайских солдат. На смену
первой захлебнувшейся атаке пришла
вторая, третья...».
В Китае прошли массовые
демонстрации протеста против «советской
агрессии». Одна из них, состоявшаяся в
Шанхае 3—4 апреля, оказалась самой
многолюдной за всю историю
человечества. На улицы вышли 2,7 млн человек.
В конце концов советское руководство
решило уступить Китаю спорный клочок
земли. К началу мая советские войска
ушли с Даманского, а спустя полгода
остров передали под контроль Китая.
Чтобы пресечь все будущие споры,
новые хозяева Даманского засыпали
протоку, отделявшую его от китайского
берега. Знаменитый остров, обильно
политый кровью, окончательно
превратился в часть китайской земли...
663
В ГОДЫ «ПЕРЕСТРОЙКИ»
В 1988—1989 гг. в советской политике произошли коренные
перемены. Внутри страны власти постепенно отказывались от
прежней советской идеологии. В результате исчезало
традиционное обоснование раздела Европы и противостояния с Западом.
Также последовательно Советский Союз отказался от всех
прежних «китов» своей внешней политики.
Первым из таких «китов» была неизменность положения в
Восточной Европе. Теперь здесь начались бурные перемены. В
1989 г. по восточноевропейским странам прокатилась волна
революций, отстранивших от власти коммунистические партии.
Советский Союз не только не препятствовал этим переменам, но
и оказывал им поддержку. В ноябре 1989 г. прекратила
существование Берлинская стена — символ раздела Европы.
Впечатляющим завершением этого процесса стал роспуск Варшавского
Договора, который произошёл 1 июля 1991 г. К тому времени
советские войска уже покинули Венгрию и Чехословакию, а
Восточная Германия, объединившись с ФРГ, влилась в НАТО.
Отказался Советский Союз и от расширения своего влияния
в развивающихся странах. Например, правительство Кубы
почти утратило поддержку со стороны СССР. Ушли советские
войска из Афганистана.
Постепенно отпала идея военного противостояния с
Западом, а следовательно, и идея «равенства в вооружениях». В
результате в 1987 г. впервые в истории страны Востока и Запада
начали сокращение вооружений. При этом СССР проявлял готовность
идти на уступки.
На Западе подобный резкий поворот в советской внешней
политике связывали с именем президента СССР Михаила
Горбачёва. Благодаря своей деятельности он приобрёл огромную
популярность в странах Запада. 15 ноября 1990 г. М. Горбачёв был
награждён Нобелевской премией мира.
персональный указатель
Жирным шрифтом обозначены
страницы со статьями или сюжетами,
посвященными историческому деятелю.
Светлым шрифтом — краткие упоминания.
Азеф Евгений Филиппович,
руководитель Боевой организации партии
эсеров, тайный сотрудник полиции 70—
74,80,119-124,127,190, 205, 206, 364
Александра Фёдоровна
(Романова), императрица, супруга последнего
русского царя Николая II 10—11, 15,
23, 301
Андропов Юрий Владимирович,
советский политический деятель,
Генеральный секретарь ЦК КПСС
(1982-1984 гг.) 592,627,628,629,633
Берия Лаврентий Павлович,
советский политический деятель, на
протяжении ряда лет — руководитель
чекистов 362, 386, 399,401,405,494, 577-
580, 595
Блюмкин Яков Григорьевич, левый
эсер, террорист, сотрудник ВЧК 76,77,
412,413,416-420
Брежнев Леонид Ильич, советский
политический деятель, Генеральный
секретарь ЦК КПСС (1964-1982 гг.)
590, 592, 598, 599, 601-606,627, 659
Брусилов Алексей Алексеевич,
генерал русской армии, полководец
Первой мировой войны 109,153,158,161
Бухарин Николай Иванович,
советский политический деятель, лидер
«правого уклона» в ВКП(б) 236, 260—
263, 271, 276, 278, 352-354, 357, 358,
364-367,390,391,580
Вениамин (Василий Казанский),
митрополит Петроградский; казнён в
1922 г. 425,428
Власов Андрей Андреевич,
советский генерал, затем командующий
«Русской освободительной армией»;
казнён в 1946 г. 526,543, 563-568
Ворошилов Климент Ефремович,
советский политический деятель,
нарком по военным делам 321—324, 334,
386, 387, 397, 399, 421, 468, 488, 489,
583, 584, 603
Врангель Пётр Николаевич, барон,
генерал, командующий Русской
армией в Крыму в годы гражданской войны
291, 297-300
Вышинский Андрей Януарьевич,
советский политический деятель,
прокурор на показательных процессах
30-х гг., позднее дипломат 263, 364—
368, 393, 394,497
Г Гапон Георгий Аполлонович,
священник, организатор демонстрации
9 января 1905 г. 47—49, 124-128
Горбачёв Михаил Сергеевич,
советский политический деятель,
Генеральный секретарь ЦК КПСС (1985 —
1991 гг.), президент СССР 629—637,
639—642,644,664
Горький Максим (Алексей
Максимович Пешков), писатель,
общественный деятель 46, 48, 239, 284, 342,
385,395,396,459,465,479
Григоренко Пётр Григорьевич,
советский генерал, деятель
диссидентского движения 571, 607, 624—627
Гучков Александр Иванович, лидер
партии октябристов 27,105—111,173
Д Деникин Антон Иванович, генерал
русской армии, командующий
Вооружёнными силами Юга России в годы
гражданской войны 111, 148, 149,
289-293, 307-312
Дзержинский Феликс Эдмундович,
революционер, первый председатель
ВЧК 76,388,389,409-416,417,418
С Ежов Николай Иванович, советский
политический деятель, нарком
внутренних дел СССР (1936—1938 гг.) 396,
399,401,402,421-422
Ельцин Борис Николаевич, первый
президент России 631—635, 637, 638,
640,641,644
\|/ Жуков Георгий Константинович,
советский маршал, полководец Второй
мировой войны 322,343,522, 541, 545,
552-562, 578, 583, 584
О Зиновьев (Радомысльский)
Григорий Евсеевич, советский политиче-
665
ский деятель, один из вождей
оппозиции в ВКП(б) 223, 229, 236, 237, 248,
251, 329-331, 339,351-355, 358,363-
365,368,375,391,484,580
Зубатов Сергей Васильевич, видный
руководитель политической полиции
России 125, 128-132
Калинин Михаил Иванович,
политический деятель СССР, глава
Советского государства (1919—1946 гг.) 323,
331,335,336,569
Каляев Иван Платонович, эсер,
террорист 79-86, 205
Каменев (Розенфельд) Лев
Борисович, советский политический деятель,
один из вождей оппозиции в ВКП(б)
27, 223, 229, 235, 328-331, 335, 342,
351-354, 358, 363-365, 368, 375, 580
Каплан Фанни Ефимовна, эсерка,
террористка, казнена за покушение на
В. Ленина в 1918 г. 388-389, 391
Керенский Александр Фёдорович,
эсер, глава Временного правительства
России 20—24, 27, 68, 78, 92, 154, 157,
161, 174, 186-188, 189-198, 207, 209,
286, 304, 305, 309
Киров (Костриков) Сергей
Миронович, советский политический
деятель, руководитель ленинградских
коммунистов 290, 342, 359—363, 366
Коллонтай (Домонтович)
Александра Михайловна, советский
политический деятель, лидер «рабочей
оппозиции» в РКП (б), позднее — дипломат
264-268, 333, 334
Колчак Александр Васильевич,
адмирал, в годы гражданской войны —
Верховный правитель России 94, 280,
285-287, 289, 290, 312-317
Корнилов Лавр Георгиевич, генерал
русской армии, в 1918 г. —
командующий Добровольческой армией 110,
161,186-188,194-197, 207, 281,301-
306, 309
Космодемьянская Зоя
Анатольевна, советская партизанка, казнена
немецкими оккупантами в 1941 г. 522—
523
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич,
лидер партии большевиков, глава
советского правительства (1917 —
1924 гг.) 87-90, 93, 97, 159, 186, 223,
226, 229, 230, 231-245, 248, 256, 260,
261, 263, 267, 271, 274-278, 287, 320,
326-339,349, 351,375,388, 389,396,
424, 426,443,473,483, 484,632
Лука (Валентин Войно-Ясенец-
кий), архиепископ, деятель Русской
Православной церкви 445—446
Львов Георгий Евгеньевич, князь,
первый глава Временного
правительства России 176, 177, 182, 186
Малиновский Роман Вацлаво-
вич, один из руководителей партии
большевиков, тайный сотрудник
полиции 87—90
Мартов (Цедербаум) Юлий
Осипович, один из руководителей
меньшевиков 87—92, 94—97, 226,
237
Марченко Анатолий Тихонович,
рабочий, деятель диссидентского
движения 469,614,615,617,622
Махно Нестор Иванович,
анархист, в годы гражданской войны —
вождь «Зелёной армии» 299, 324—
327, 365
Милюков Павел Николаевич,
лидер партии кадетов 27, 46, 99,
101-103, 104, 106, 107, ПО, 174,
198-204,219,328,489
Михаил Александрович
(Романов), великий князь, отрёкся от
престола в дни Февральской
революции 27,173-174,219
Молотов (Скрябин) Вячеслав
Михайлович, политический
деятель СССР, глава советского
правительства (1930—1941 гг.) 263, 328,
329, 379, 383-387, 438, 488, 493-
495,499, 500, 577, 580, 583, 584
Мясников Гавриил Иванович,
коммунист, организатор расстрела
великого князя Михаила, создатель
оппозиционной «Рабочей группы
РКП(б)» 27, 332-333
Николаев Леонид Васильевич,
террорист, член ВКП(б), убивший
С Кирова в 1934 г. 360-362
Николай II (Николай
Александрович Романов), последний
император России (1894—1917 гг.) 7—
27, 50, 51, 54, 60-62, 116, 135, 136,
140, 142, 144, 157, 169, 171-173,
218—220,423
666
Пастернак Борис Леонидович,
писатель, лауреат Нобелевской премии по
литературе 404, 405, 582—583, 613
Плеханов Георгий Валентинович,
один из лидеров российских социал-
демократов 87—89, 91—95, 145, 182,
233-235, 328
Пуришкевич Владимир Митрофа-
нович, один из руководителей
черносотенцев 11, 33, 35, 36, 65, 94, 113,
115—118,200
Рамзин Леонид Константинович,
инженер, главный обвиняемый по делу
«Промпартии» в 1930 г. 394, 398-399
Распутин Григорий Ефимович,
крестьянин, духовный наставник и
друг семьи Николая И 30—36, 136
Родзянко Михаил Владимирович,
октябрист, председатель III и IV
Государственной думы 18, 27,94, 108—111,
158,171,174,302
Рыков Алексей Иванович,
политический деятель СССР, глава советского
правительства (1924—1930 гг.) 229,
261-263, 331, 353-358, 364, 366, 367
Рютин Мартемьян Никитич,
коммунист, лидер подпольной группы «Союз
марксистов-ленинцев» в ВКП(б) 356—
359, 360
Савинков Борис Викторович, эсер,
террорист, участник гражданской
войны на стороне белогвардейцев 71 —
73, 123, 186, 205-212, 214, 420
Сахаров Андрей Дмитриевич,
академик, деятель диссидентского
движения 614, 619-623
Сергий (Иван Страгородский),
патриарх Московский и всея Руси (1943—
1944 гг.) 433-435,437-439,444
Спиридонова Мария
Александровна, руководитель партии левых эсеров,
террористка 73—77,79,269-271, 276
Сталин (Джугашвили) Иосиф
Виссарионович, Генеральный секретарь
ЦК партии большевиков (1922 —
1934 гг.), глава советского
правительства (1941 — 1953 гг.) 185, 249, 252,
254, 255, 260-263, 321, 328, 331, 345,
349, 350, 351-360, 362, 365, 368, 369,
370-382, 383-387, 393, 401- 404,
421, 422, 437-439, 448, 449, 452-454,
473-475, 478, 480, 489, 494, 502, 503,
521, 522-523, 527, 538-541, 551,
554-559, 561, 576, 645, 646, 648
Столыпин Пётр Аркадьевич,
председатель Совета Министров России
(1906—1911 гг.) 16, 61-65, 100, 107,
108,132-136, 138-141, 201, 218
Т Тихон (Василий Белавин),
патриарх Московский и всея Руси (1917—
1925 гг.) 26, 423-425, 428, 429, 431,
433, 441-445, 446
Тухачевский Михаил Николаевич,
полководец Красной армии в годы
гражданской войны, позднее —
маршал 295, 297, 317-324, 337, 343, 397,
398
Троцкий (Бронштейн) Лев
Давидович, советский политический деятель,
лидер оппозиции в ВКП(б) 26, 53,157,
188, 224, 228, 237—242, 246-258, 259,
282, 283, 289, 293, 331, 337, 351-353,
355, 356, 369, 373,416,420, 483, 484
V Хрущёв Никита Сергеевич,
советский политический деятель, Первый
секретарь ЦК КПСС (1953—1964 гг.) и
глава правительства (1958—1964 гг.)
428, 439, 469, 561, 578, 581-584, 596,
591, 592-599, 600, 601-604, 619, 625,
653-657
LJ Чернов Виктор Михайлович, лидер
партии эсеров, председатель
Учредительного собрания России 74,77—80,
123, 129, 212-216, 275-278, 280
JJ Шмидт Пётр Петрович, лейтенант,
руководитель Севастопольского
восстания в 1905 г. 56, 58—60
Шульгин Василий Витальевич,
один из лидеров партии
националистов, деятель белогвардейского
движения 17—20,63,114,115,134,171-174,
176, 217-223
С] Ягода Генрих Григорьевич,
советский политический деятель, нарком
внутренних дел СССР (1934—1936 гг.)
366, 367,400
СОДЕРЖАНИЕ
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
1900—1917
(Александр Майсурян)
Николай II 7
Григорий Распутин 30
Русско-японская война 1904—1905 годов (ВладимирМезенцев) Зб
Революция 1905—1907 годов 4б
Ленские события 66
Эсеры (социалисты-революционеры) 69
Иван Каляев 79
Социал-демократы 86
Кадеты (конституционные демократы) 98
Октябристы (Союз 17 октября) 105
Черносотенцы 111
ПОЛИЦИЯ И РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ
Евгений Азеф 119
Георгий Гапон 124
Сергей Зубатов 128
Пётр Столыпин 132
Столыпинская земельная реформа 137
Россия в Первой мировой войне 142
РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
1917—1921
(Александр Майсурян)
Февральская революция 167
Политическая борьба в 1917 году 176
ДЕЯТЕЛИ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
\ Александр Керенский 189
668
\J Павел Милюков 198
Борис Савинков 205
Виктор Чернов 212
\ /Василий Шульгин 217
Октябрьский переворот 223
ДЕЯТЕЛИ ОКТЯБРЬСКОГО ПЕРЕВОРОТА
Владимир Ленин 231
/ Лев Троцкий 246
Николай Бухарин 260
Александра Коллонтай 264
v Мария Спиридонова 269
Учредительное собрание 272
Гражданская война 281
ДЕЯТЕЛИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Лавр Корнилов 301
Антон Деникин 307
Александр Колчак 312
Михаил Тухачевский 317
Нестор Махно 324
Партия большевиков в 1917—1921 годах 327
Кронштадтское восстание 335
«Военный коммунизм» и нэп 338
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
20—30-е ГОДЫ
(Александр Майсурян)
Создание Советского Союза , 349
Партия большевиков в 20—30-е годы 351
Иосиф Сталин 370
Вячеслав Молотов 383
Карательные органы Советской власти 388
ЧЕКИСТЫ
Феликс Дзержинский 409
ЯковБлюмкин 416
669
Николай Ежов 421
Религия и церковь в годы Советской власти 423
Патриарх Тихон 441
Архиепископ Лука 445
Коллективизация 447
Советские лагеря и тюрьмы 4б0
Жизнь советского общества 471
Внешняя политика после Октября 483
ВОЕННЫЕ ГОДЫ
1939—1945
(Александр Майсурян)
СССР во Второй мировой войне 493
Георгий Жуков 552
Андрей Власов 563
«Переселение народов» 569
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
1946—1991
(Александр Майсурян)
«Оттепель» 575
Никита Хрущёв 592
Леонид Брежнев 601
Диссидентское движение 606
ДЕЯТЕЛИ ДИССИДЕНТСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Андрей Сахаров 619
Пётр Григоренко 624
«Перестройка» 627
Внешняя политика СССР после войны 645
Персональный указатель 665
670
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Т. 5. ИСТОРИЯ РОССИИ И ЕЁ БЛИЖАЙШИХ СОСЕДЕЙ
Ч. 3. XX ВЕК
Совет директоров
Мария Аксёнова
Георгий Храмов
Главный редактор
С. Исмаилова
Ответственный редактор тома
A. Майсурян
Рецензент
Г. Иоффе
Художественный редактор
Е. Дукельская
Заместитель главного редактора
О. Таранова
Старшие редакторы
Ю. Евдокимова
B. Радакова
Редакторы
C. Арутинов
М. Абросимова
И. Антонова-Овсеенко
Д. Володихин
М. Кривенко
М. Кудрявцева
Е. Шурхно
Корректор
Н. Мистрюкова
Изготовление оригинал-макета
К. Васильев
К Иванов
Компьютерный набор
Т. Поповская
Директор по производству
И. Кошелев
Техническая группа
Л. Клименко
Т. Любцова
Т. Телевная
В. Телевный
Шмуцтитулы
Е. Дукельская
Художники
М. Горелик
Д. Жаров
С. Иванов
И. Карамян
И. Коваленко
В. Короленко
Н. Новичихина
И. Савченков
А Черных
И. Шиляев
Фотографы
Ю. Любцов
И. Пискарёв
В. Теребенин
Л. Хейфец
Фотоматериалы предоставлены
Архивом искусства и истории. Берлин
(Archiv fur Kunst und Geschichte. Berlin);
«Улыитайн Бильдердинст». Берлин
(Ullstein Bilderdienst. Berlin);
«Дойче прессе-агентур GmbH».
Франкфурт-на-Майне
(Deutsche Presse-Agentur GmbH.
Frankfurt am Main);
«Юргенс-фото». Берлин
(Jurgens Photo. Berlin);
Красногорским Центральным
государственным архивом
кинофотодокументов.
Подбор иллюстраций
М. Боярский
И. Вачаева
А. Майсурян
«Авантан-» благодарит организацию
«Мемориал», редакцию
журнала «Крокодил», Б. Ефимова
за предоставленные иллюстрации,
а также Т. Бальтерманц и С. Лисевицкого
за материалы из личных архивов.
Особую благодарность за
предоставленные фотоматериалы
выражаем издательству
Alinea (Мюнхен) и лично
господину Дитеру Клее
и госпоже Мартине Цириакс.
I
1
«
I
»' м
inniifi
ЛЕ
i
&
J^*" Яв«