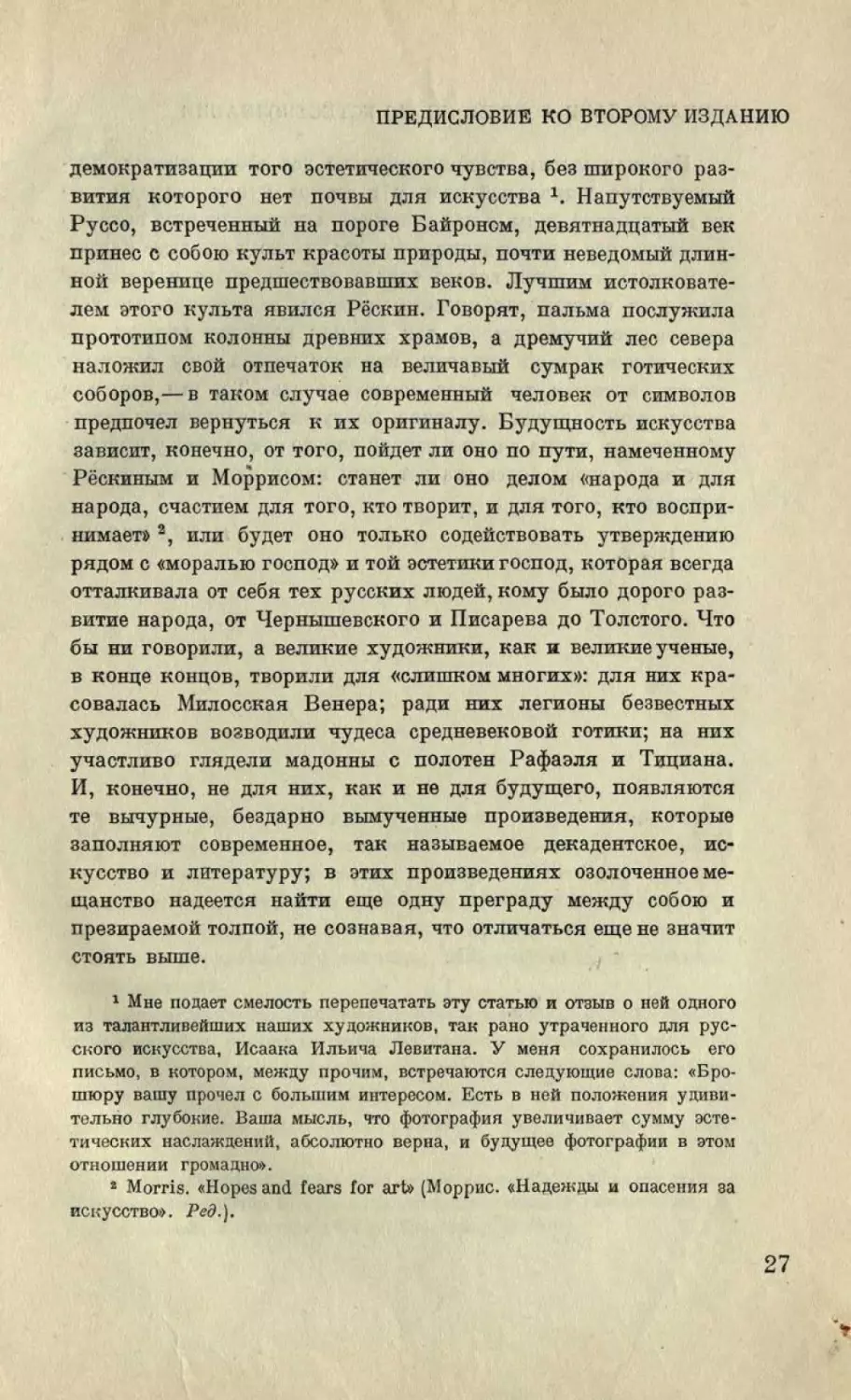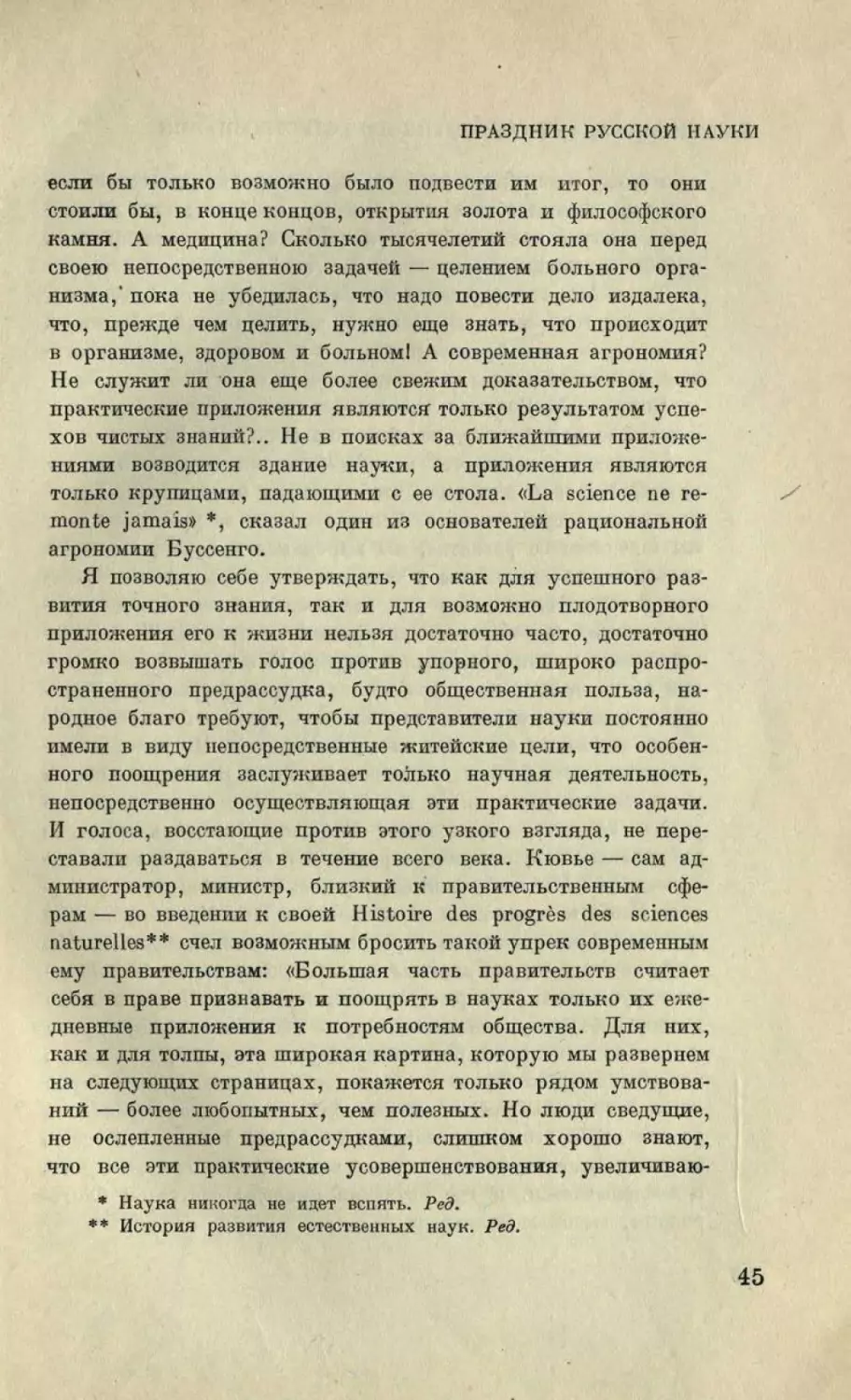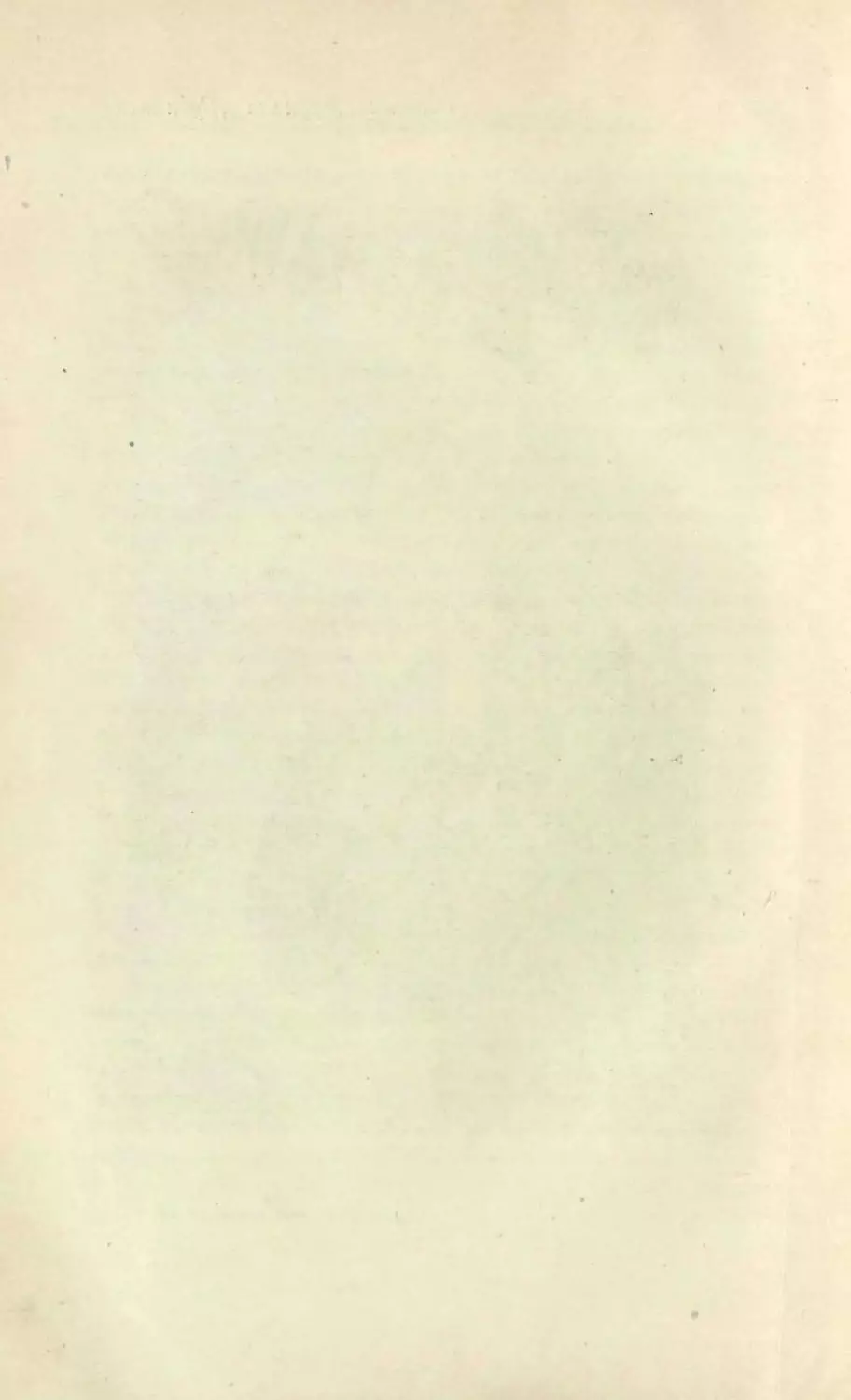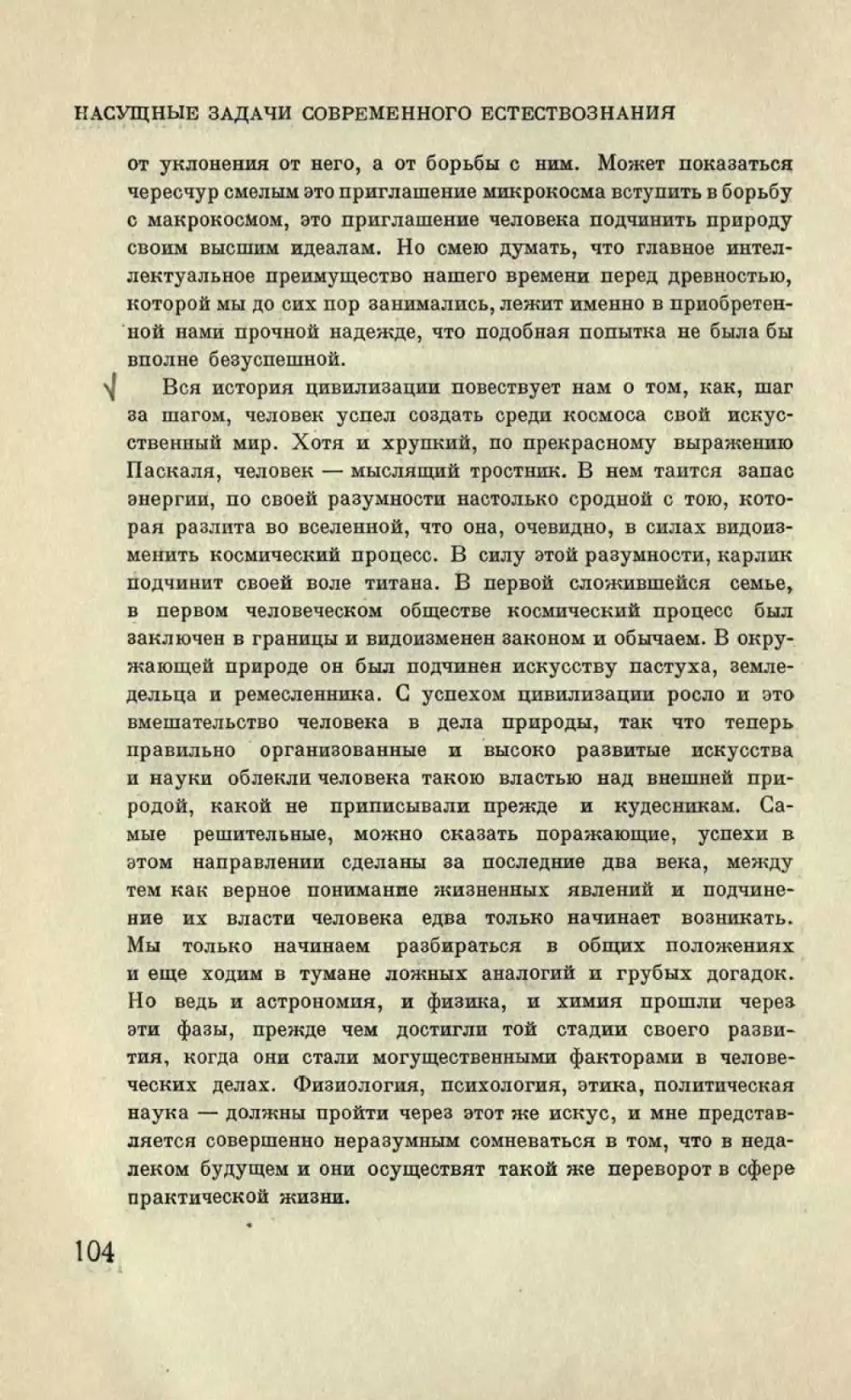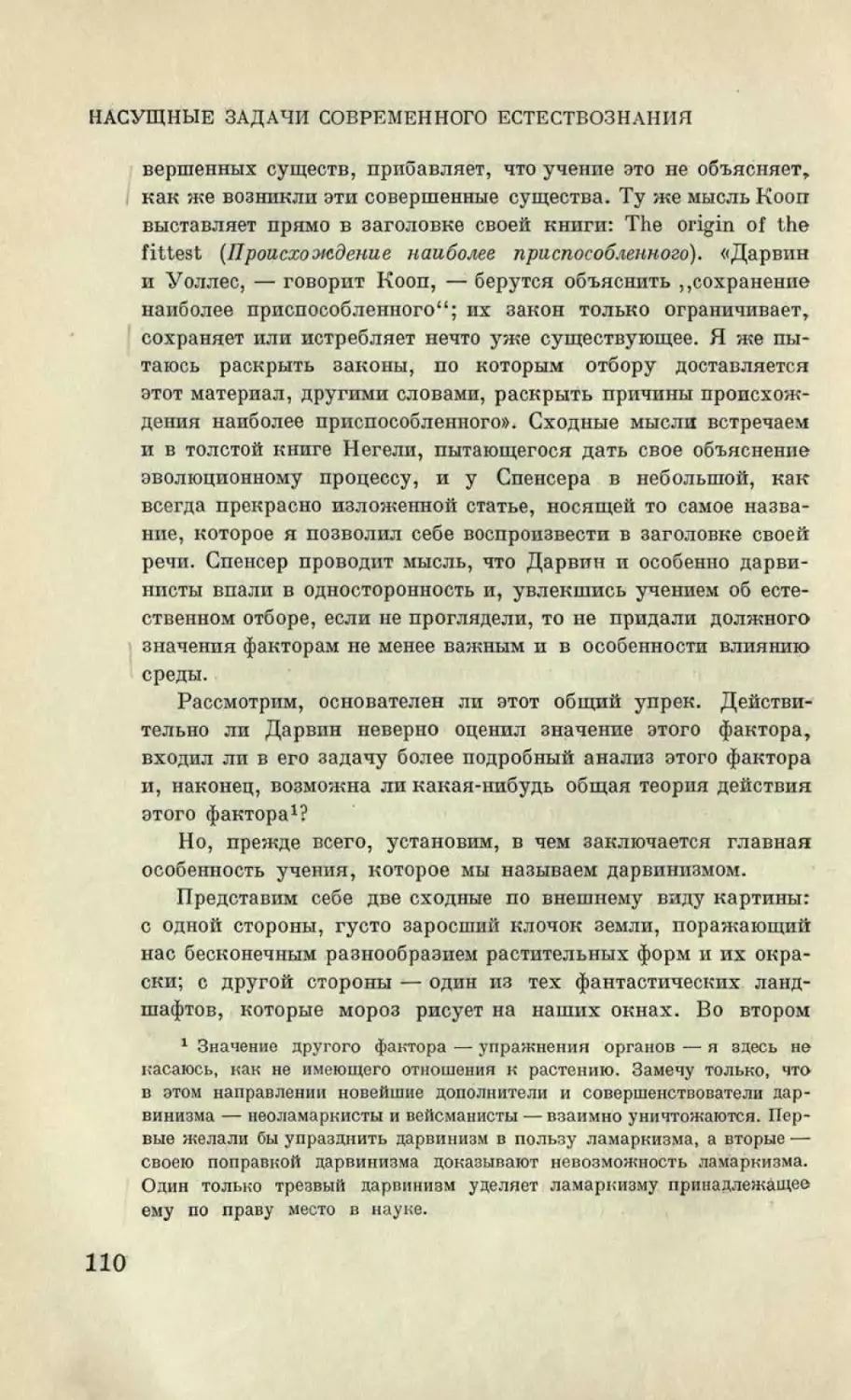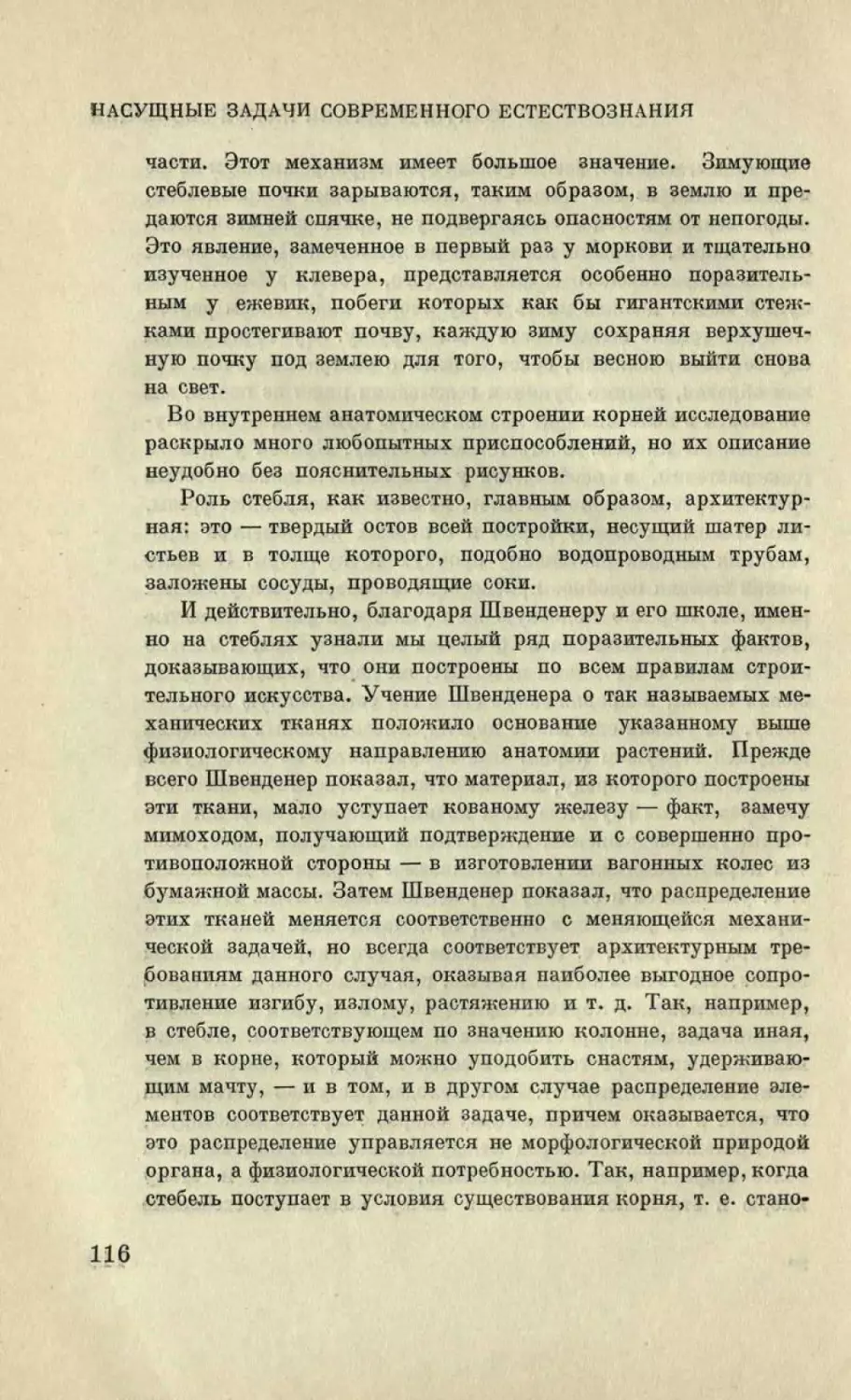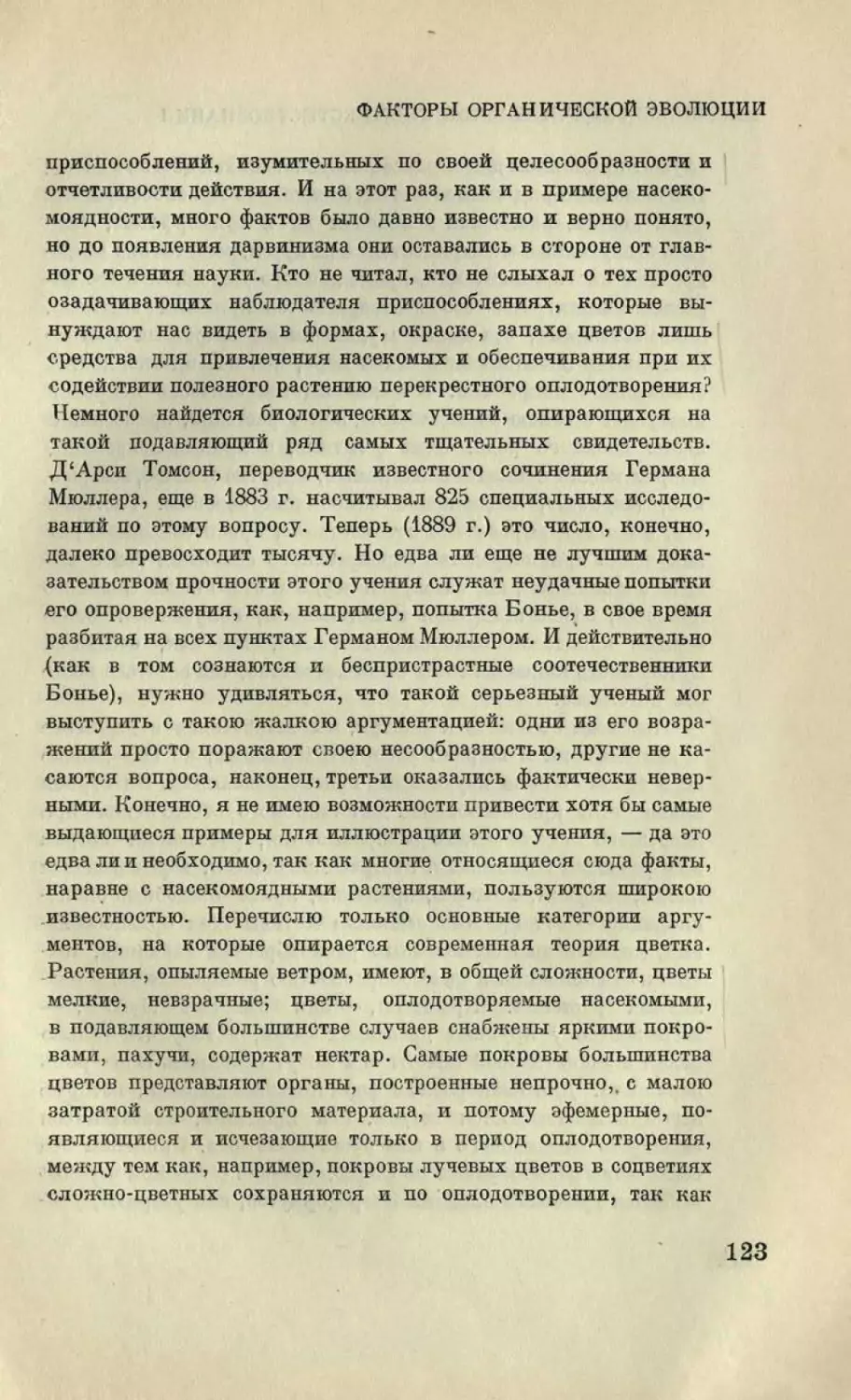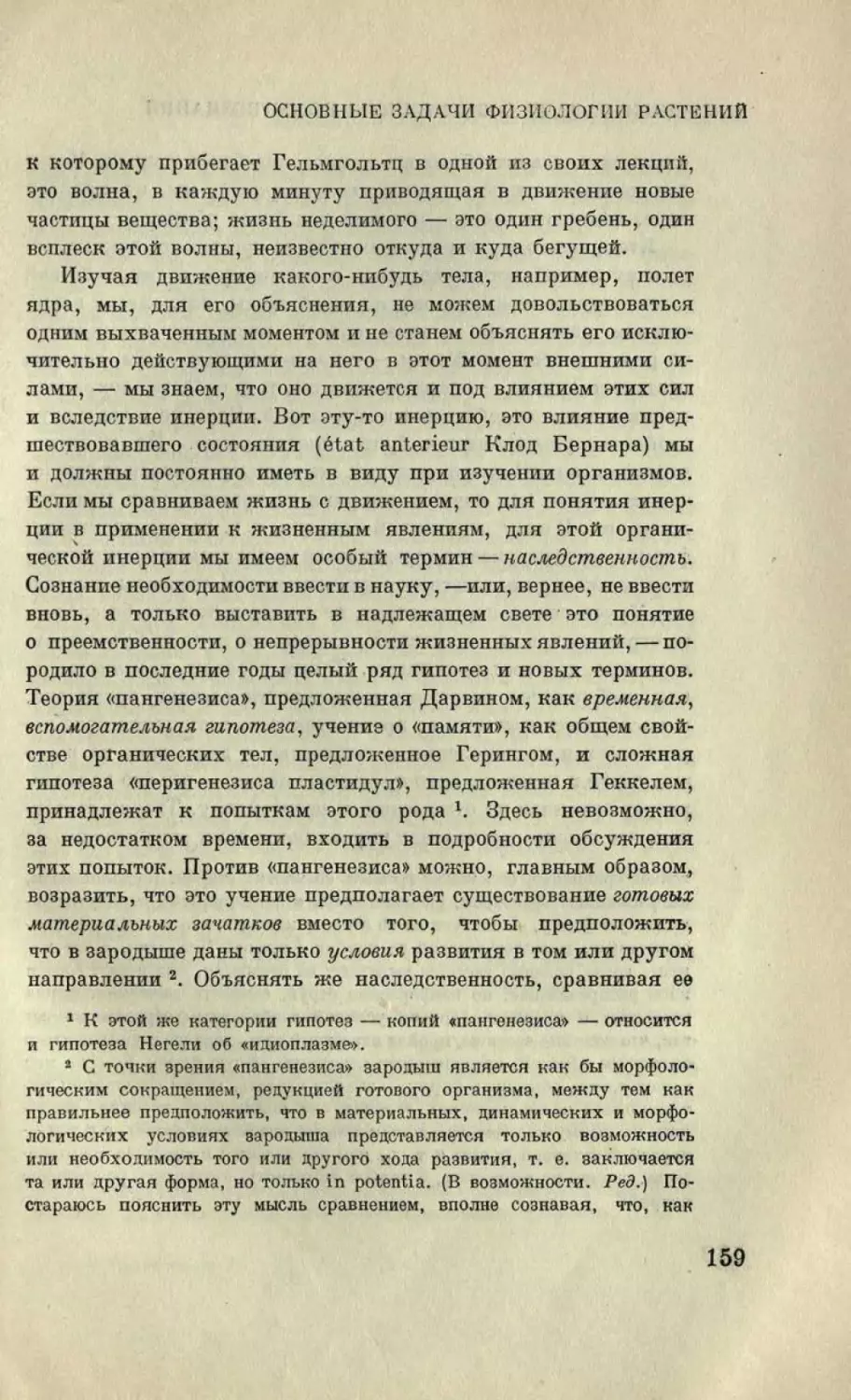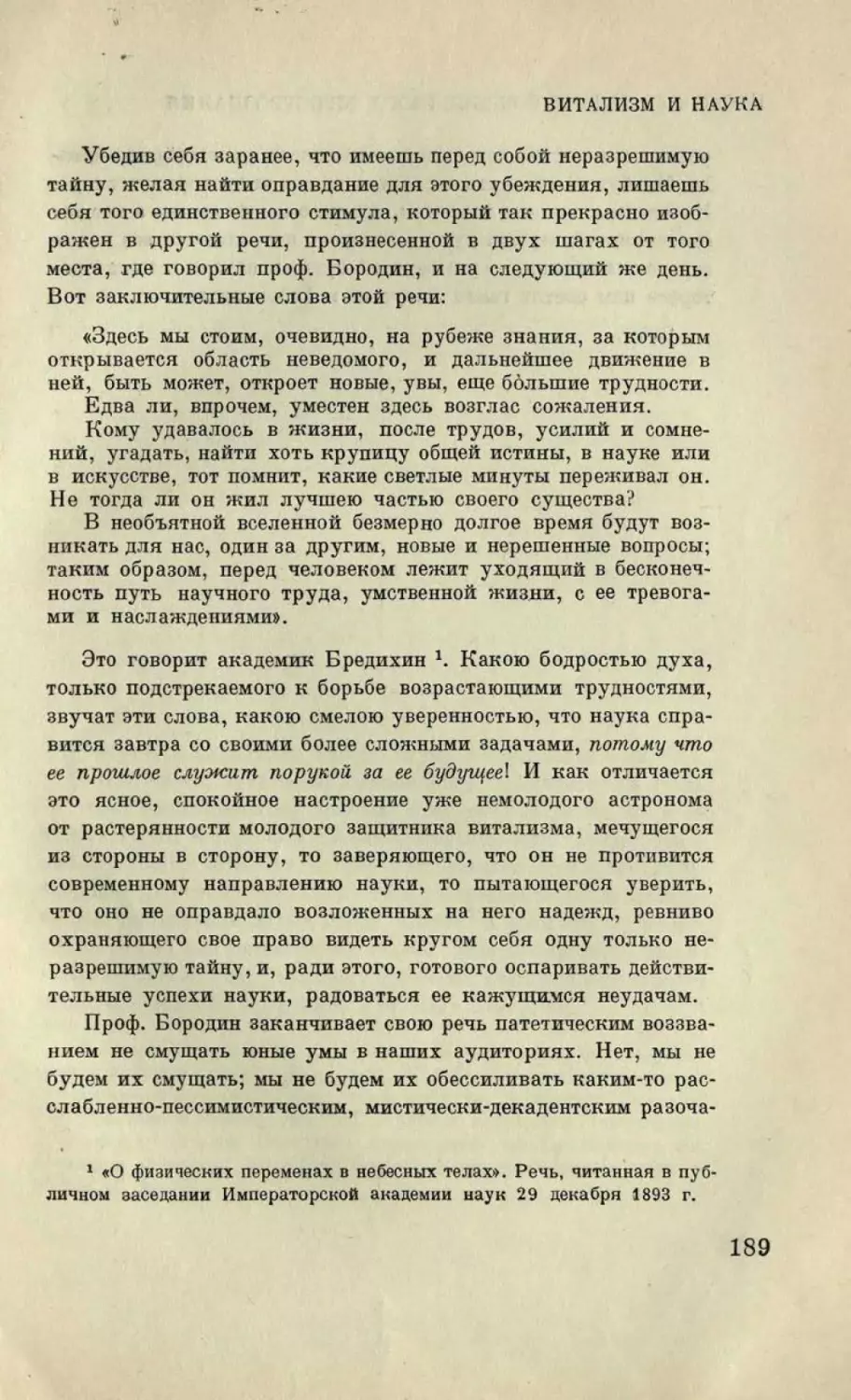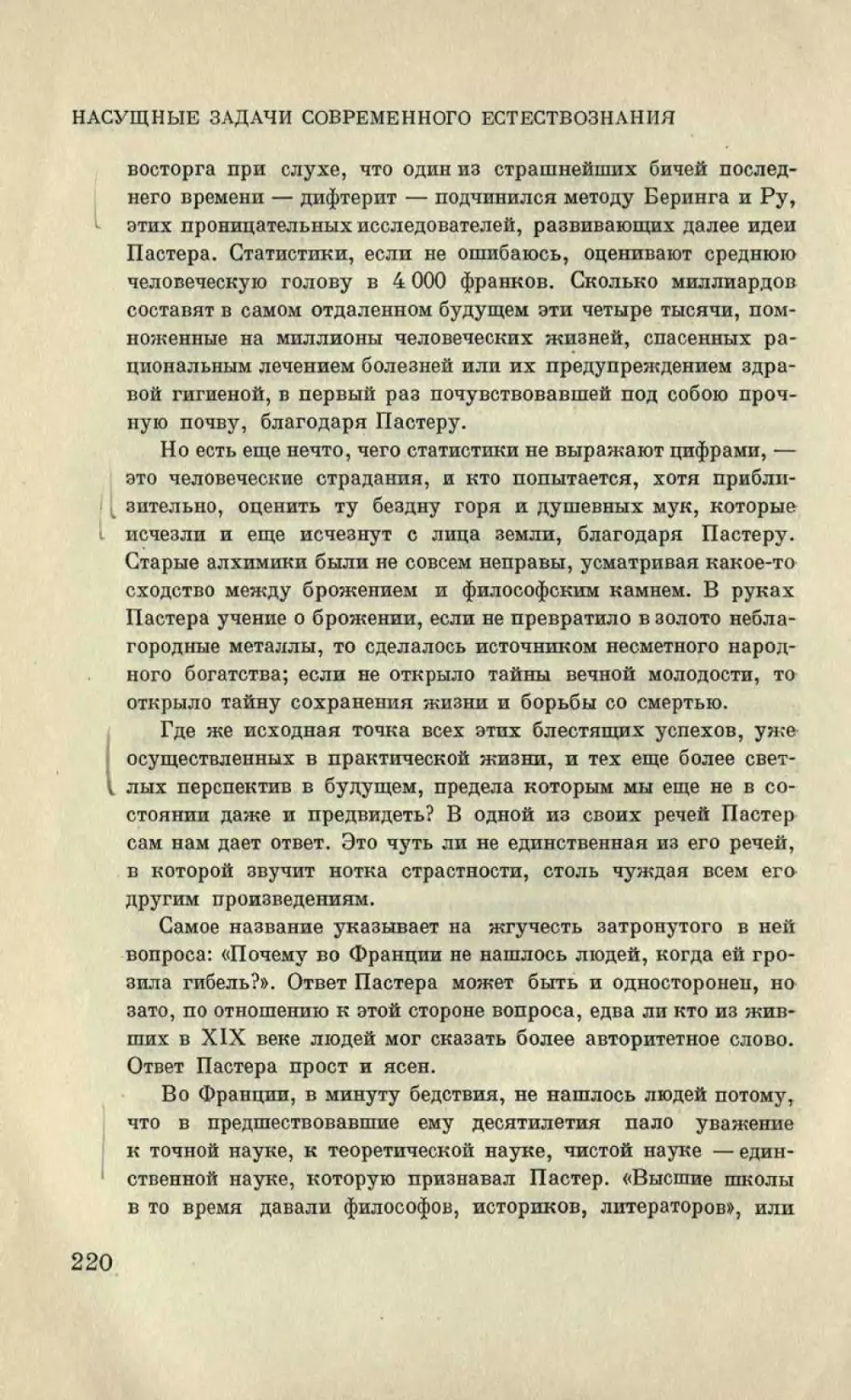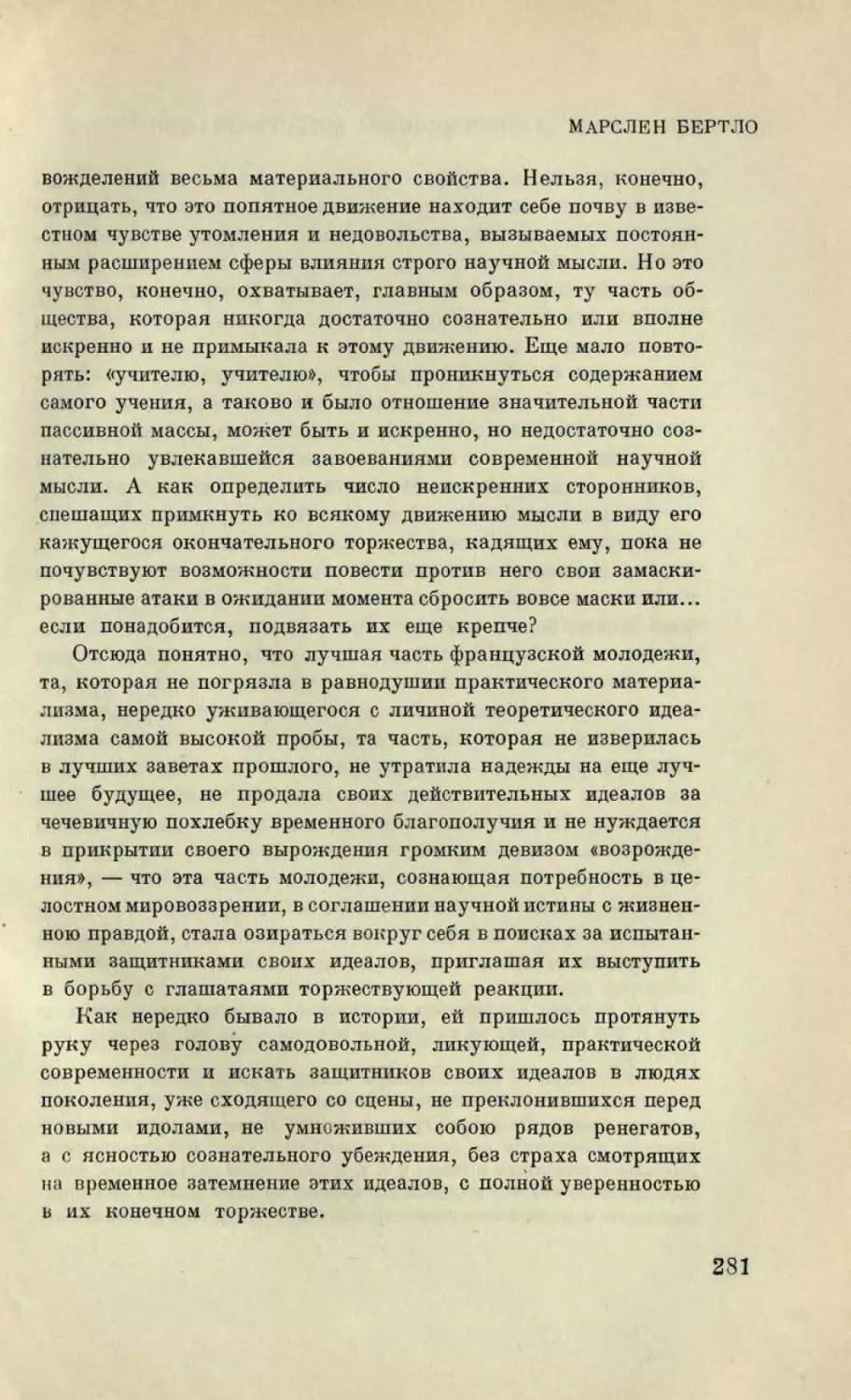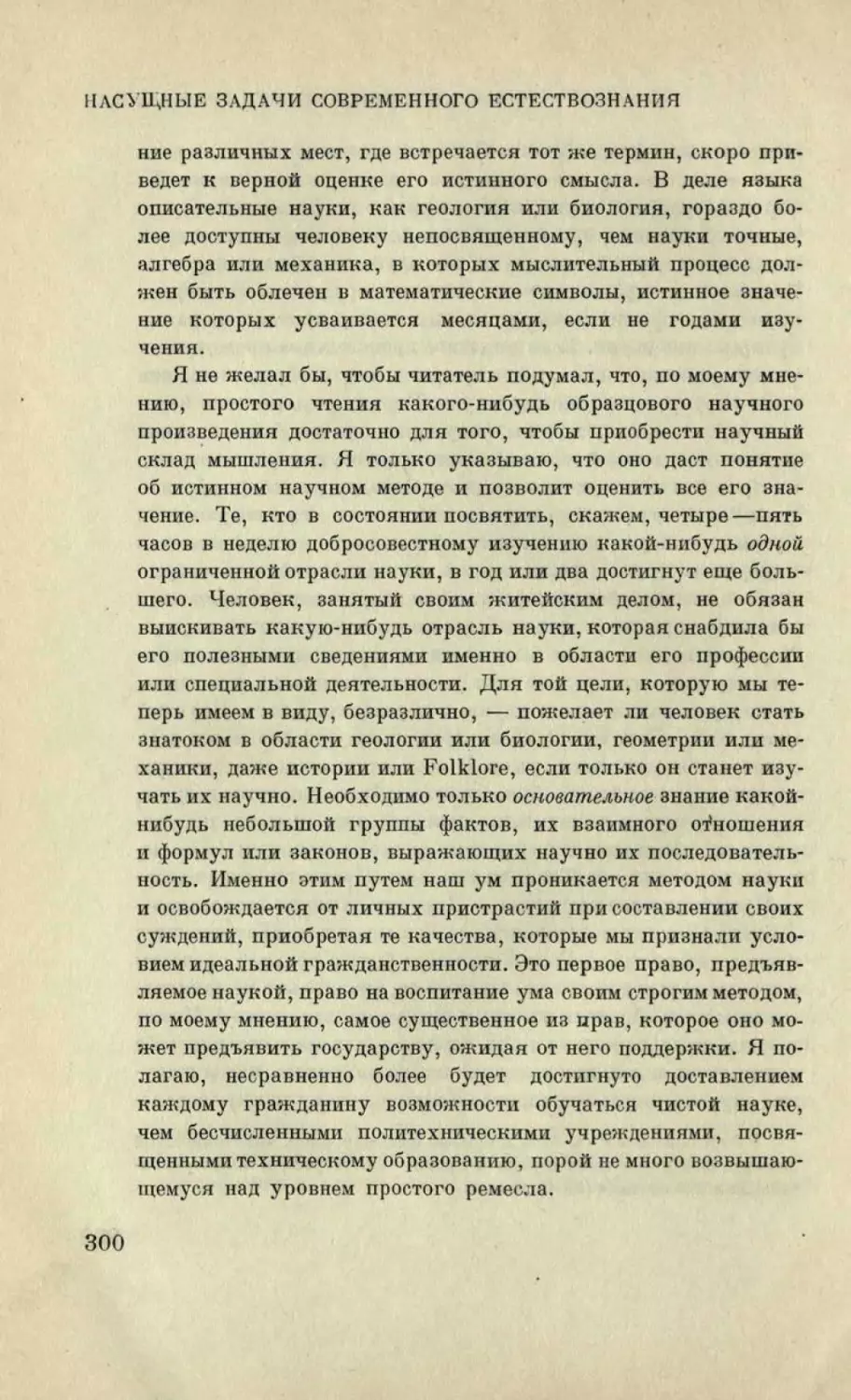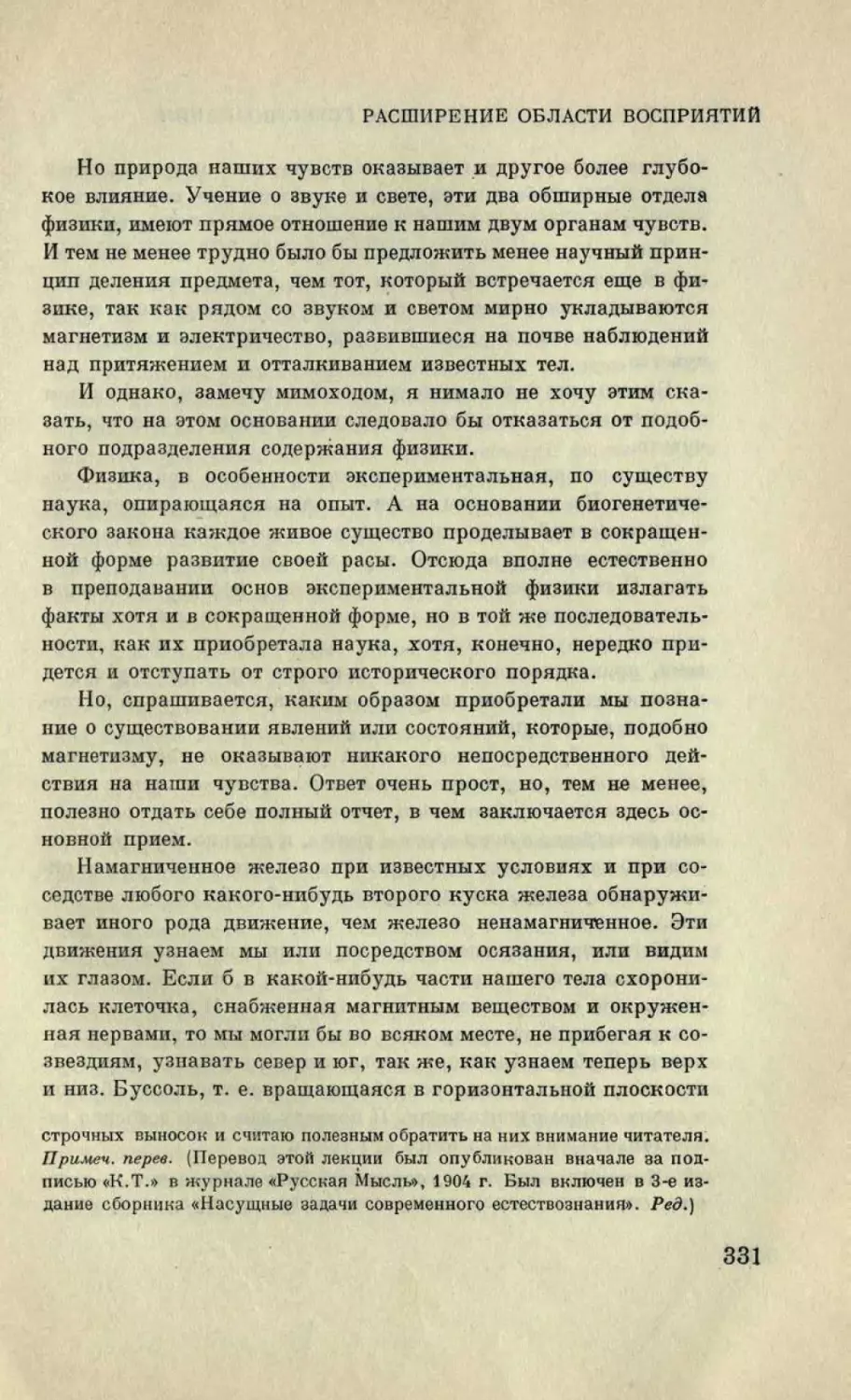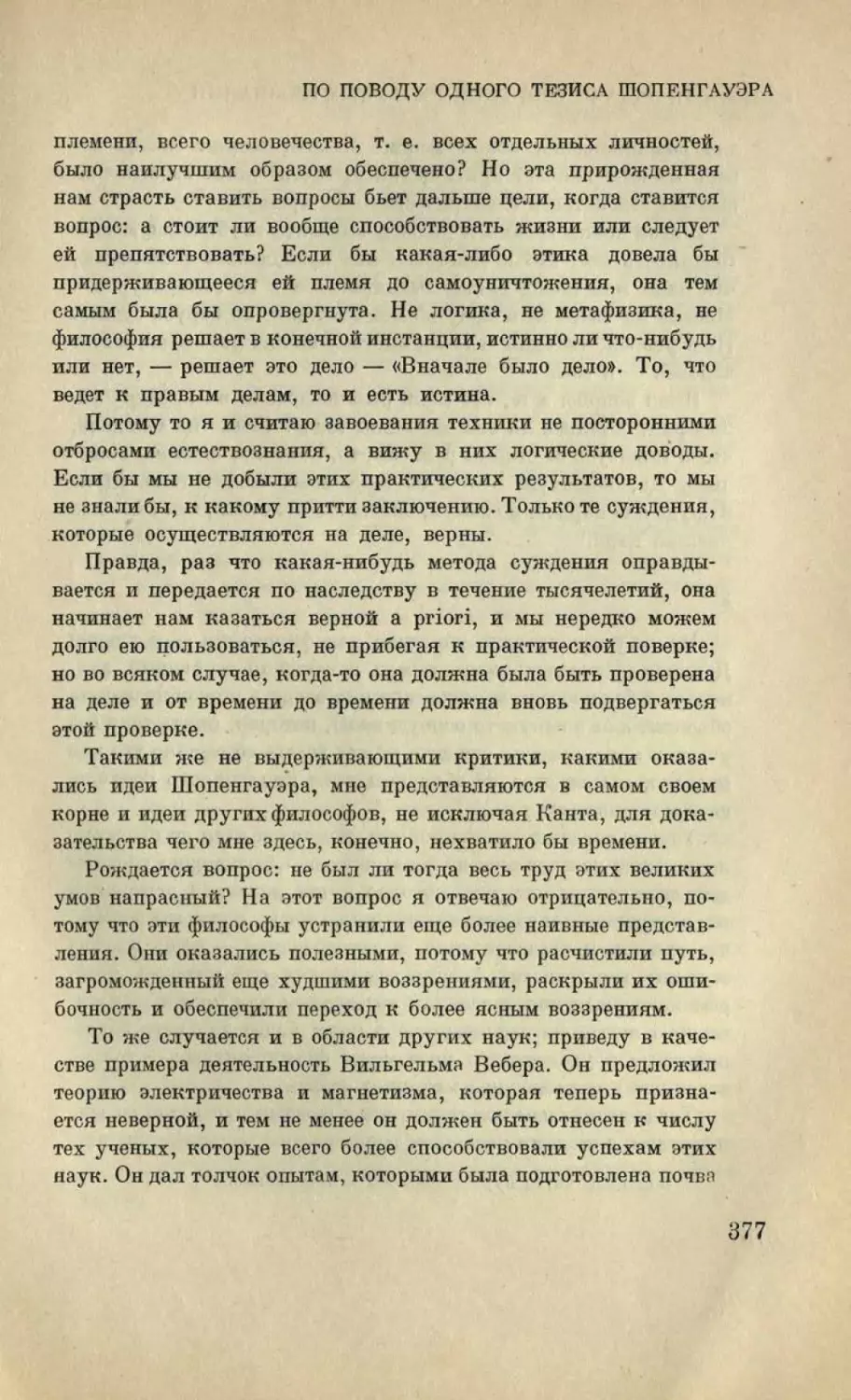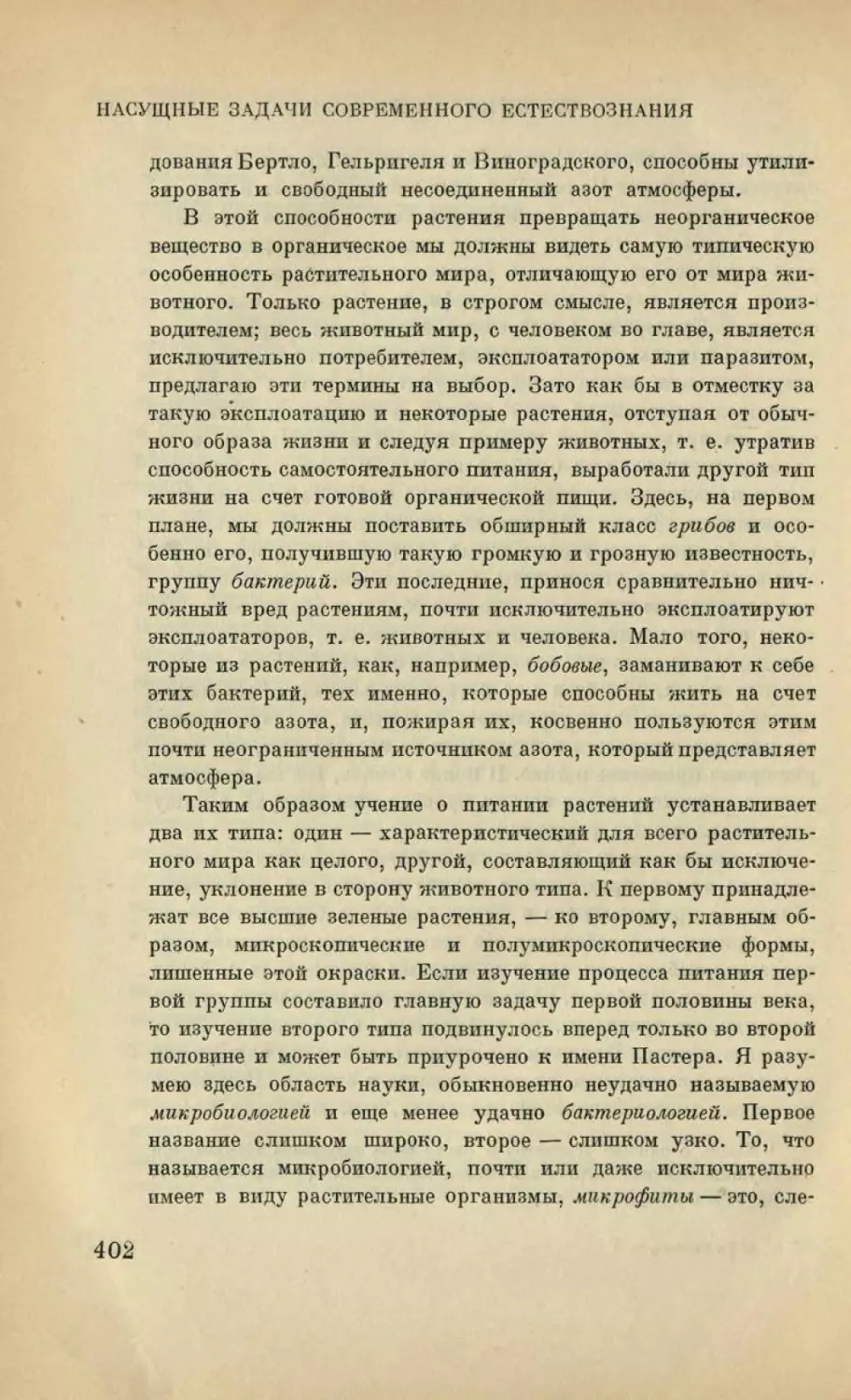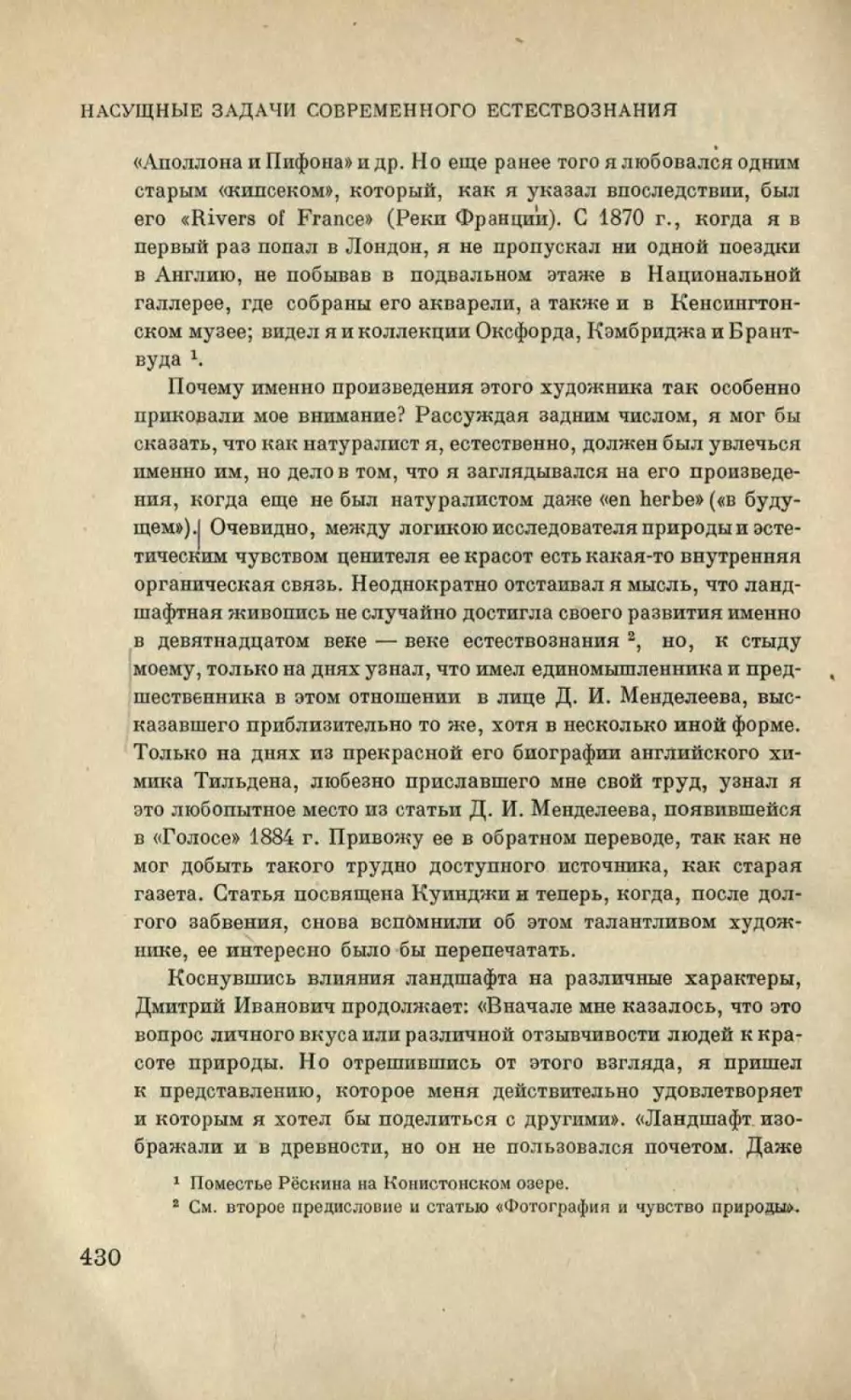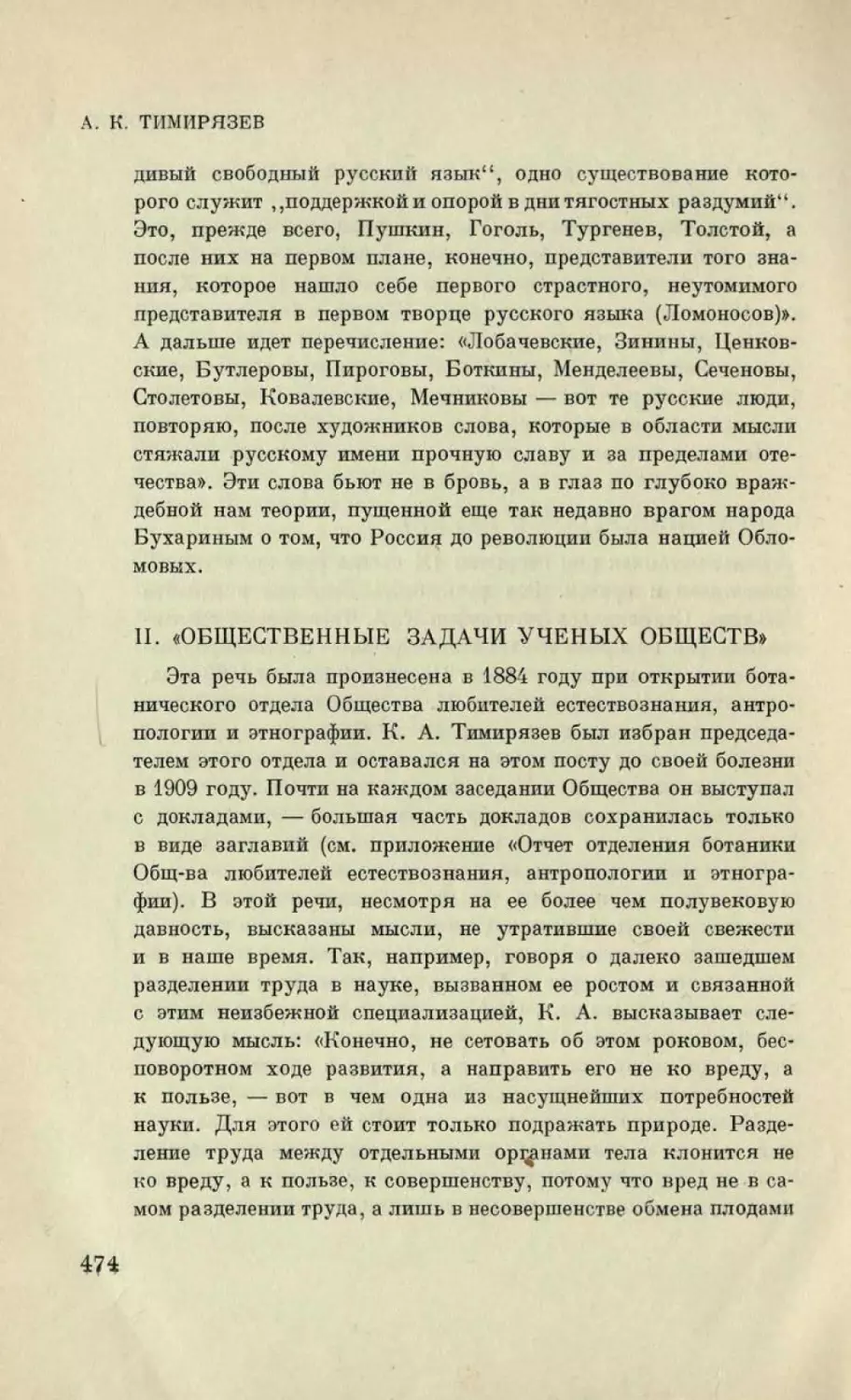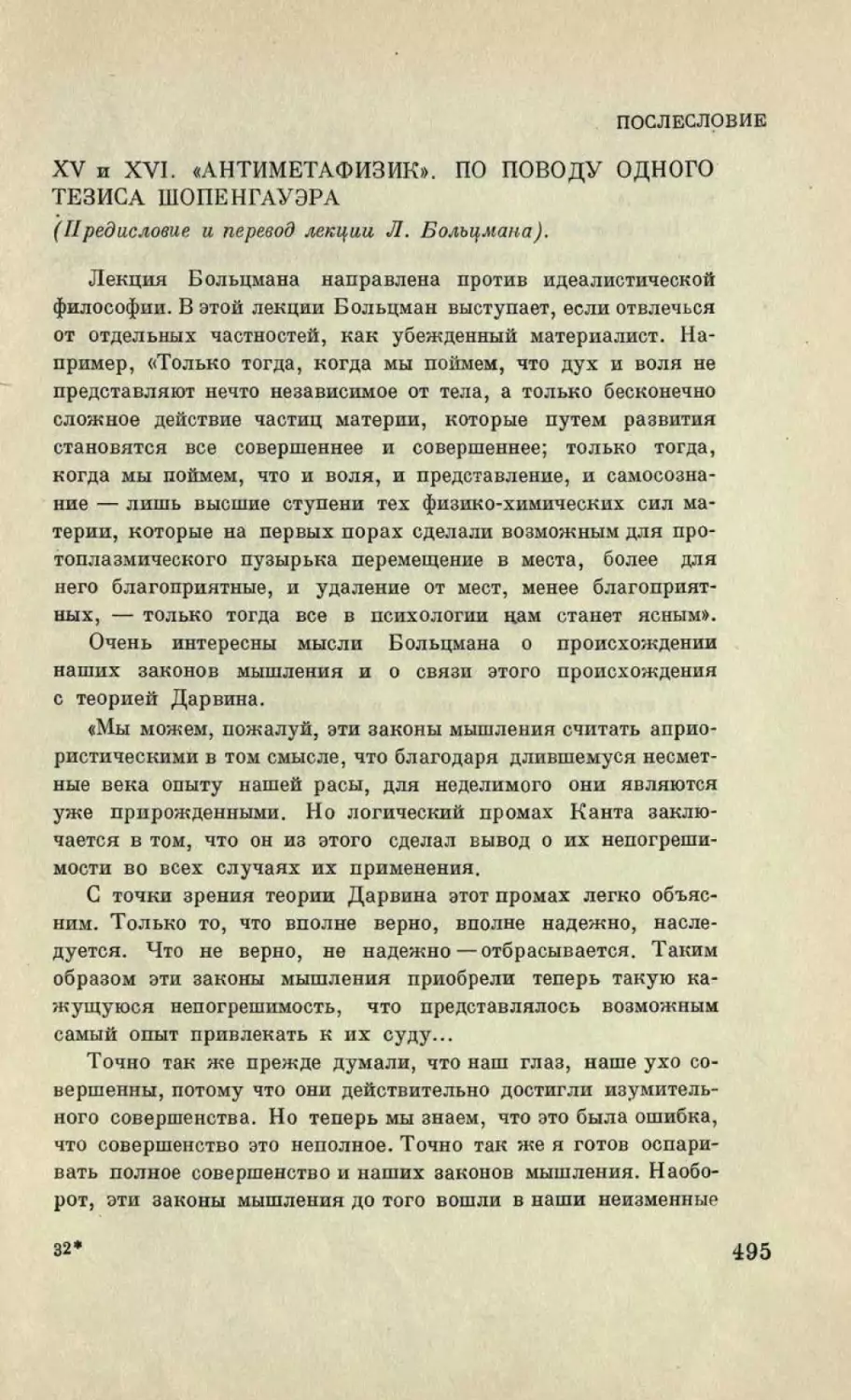Text
•f
•V
ПЕЧАТАЕТСЯ
ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ
СОВЕТА
Н А Р О Д Н Ы Х КОМИССАРОВ
СОЮЗА С С Р
о т 23 октября
Н>35
/Л
^ А
КЛИМЕНТ АРКАДЬЕВИЧ
СОЧИНЕНИЯ
/
О Г ИЗ
•
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е
КОЛХОЗНОЙ
С
Е
А
Ь
Х
И
О
ИЗДАТЕЛЬСТВО
СОВХОЗНОЙ
З
Г
И
З
\
Л И Т Е Р А Т У Р Ы
.
1
9
3
8
2011096177
Ответственный редактор
АКАДЕМИК
В. Л. КОМАРОВ
Заместитель ответственного
ПРОФЕССОР
А. К. ТИМИРЯЗЕВ
Редактор пятого тома
ПРОФЕССОР
А. К, ТИМИРЯЗЕВ
редактора
К. А. Тимирязев за работой
І Ь
К.А.ТИМИРЯЗЕВ
НАСУЩНЫЕ ЗАДАЧИ
СОВРЕМЕННОГО
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
том пятый
ПУБЛИЧНЫЕ
РЕЧИ
СЕЛЬХОЗГИЗ
1938
ПАМЯТИ
БРАТА
И ПЕРВОГО СВОЕГО УЧИТЕЛЯ
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ,
Д. А . ТИМИРЯЗЕВА,
посвящает этот томик
автор
ПРЕДИСЛОВИЕ
К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ
отя статьи этого сборника обнимают период более
чем тридцати лет, перечитывая их для этого третьего
издания, я убеждаюсь, что затронутые в них вопросы 1 вполне современны.
Что я разумею под насущными задачами современного
естествознания, достаточно подробно мною развито в предисловии ко второму изданию.
Я остановлюсь только на той связи между наукой и жизнью,
которой я только коснулся в этом предисловии. Я признаю
лозунгом современности — наука и демократия, и этой связи
между наукой и жизнью, наукой и нравственностью, между
научной истиной и этической правдой (II) я никогда не упускал
из виду с первых шагов своей педагогической и литературной
1 До восьмичасового рабочего дня и рабочих университетов включительно.
деятельности. Включенная в состав этого издания, переведенная мною, превосходная статья Пирсона ( X I V *) ясно доказывает одну из сторон этой связи.
С демократизацией общества, с увеличением области прав
отдельного гражданина, растет и нравственная ответственность
каждого за свою долю участия в общественных делах. Первый
долг, который налагает эта ответственность, заключается в развитии в себе способности к логическому мышлению. А это
развитие достигается всего вернее изучением положительной науки в школе или, еще лучше, в течение всей жизни путем
самообразования.
Что учение науки не может находиться в противоречии
с нравственностью, нагляднее всего доказывается несостоятельностью нападок с этической точки зрения на то учение,
которое является главным приобретением новейшей науки
(дарвинизм). Отражать эти нападки я не переставал, в течение
тридцати лет доказывая, что учение, ставящее исходной точкой
всякой нравственности социальное чувство, не может в конечном
итоге оказаться антисоциальным (III, V I I I , X V I I , X I X ) Ч
* Нумерация статей в настоящем издании частично изменена в связи
с переносом некоторых статей сборника в другие тома собрания сочинений. Обоснование необходимости этого переноса см. в послесловии
к этому тому. Глава X I V — см. главу X I I настоящего тома. Ред.
1 Мне ставили в упрек, что, отражая нападки справа, я непосредственно не возражал нападавшим слева. Что я не возражал Михайловскому на его неостроумные выпады против Дарвина (вроде сопоставления
его с Оффенбахом), я полагаю, само собою понятно. Возражать же печатно
Чернышевскому я считал неприличным в виду цензурных условий того
времени, лишавших его едва ли не главного его довода — возможности
подписать статью своим именем. Тем не менее в тесном кружке ученых
и писателей я возражал тогда же, и часть моего возражения вошла в состав моей статьи «Значение переворота и пр.», приложенной к первому
тому сочинений Дарвина. Любопытное совпадение — те же слова Гёте,
которыми я заканчивал свой ответ Чернышевскому (и статью), несколько
лет спустя можно было прочесть на лентах венка, возложенного на памятник Гёте германской социал-демократической партией. Народные
издания Дарвина и Геккеля, распространяемые немецкой демократической прессой, я полагаю, убедительно доказывают, кто из нас был
прав, — я или Чернышевский, в нашей оценке социального значения
дарвинизма. (Главы III и V I I I — « Ч а р л з Дарвин, как тип ученого» и
«Дарвинизм перед судом философии и нравственности» — см. в томе VII
ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ
Сопоставление между наукой и демократией более глу- :
боко, чем может показаться на первый взгляд 1 . Как в науке
человечество нашло третью и верную форму искания истины,
изверившись в первых двух, так и в демократии оно видит третью
форму осуществления правды в жизни, изверившись в первых
двух. Как, на основании закона, по которому борьба бывает
наиболее обостренной между формами наиболее близкими,
науке приходится выдерживать натиск ближайшей своей
предшественницы метафизики (XVIII) *, так и демократии
приходится выдерживать натиск со стороны вырождающейся
буржуазии. Как метафизика, желая удержать развитие человеческого разума рамками своей схоластической диалектики,
невольно вынуждена бросать приветливые взгляды своему
исконному врагу — клерикализму, так и та часть буржуазии,
которая не желает подчиниться закону развития, вынуждена
вступать в союз с теми силами, победительницею которых еще
недавно себя считала. Наконец, и вздыхающая по прошлом
метафизика, и пятящаяся назад буржуазия не прочь протянуть
друг другу руку помощи.
В мировой борьбе, завязывающейся между той частью
человечества, которая смотрит вперед, и той, которая, роковым образом, вынуждена обращать свои взоры назад, на знамени первой будут начертаны эти слова — наука и демократия. — In hoc signo viaces! * *
К.
1908
ТИМИРЯЗЕВ.
г.
настоящего издания. Там же см. статью «Значение переворота, произведенного в современном естествознании Дарвином». Нумерация глав
XVII и X I X соответственно изменена на X I V и X V I . Ред.).
1 Что оно не было, во всяком случае, простой данью времени, показывает хронология — эти строки были написаны в самом начале 1904 г.,
когда так называемое освободительное движение (sensu stricto) (в строгом
смысле слова) еще не начиналось и реакция была в апогее.
* См. главу XV. Ред.
* * Сим победишь. Ред.
I I
ПРЕДИСЛОВИЕ
КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
L A M E T A F I S I C A D E L L A G E O M E T R I A STAN E G L I ASSIOMI Е NE P O S T U L A T I Е QÜELLA
DELLA FISICHE NELLE OSSERVATIONI Е
NELLE SPERIENZE.«
ГАЛИЛЕЙ,
XVII
век.
*
L'EXPÉRIENCE EST LA SOURCE
UNIQUE
D E L A V É R I T É : E L L E S E U L E P E U T NOUS
A P P R E N D R E Q U E L Q U E C H O S E D E NOUVEAU; E L L E S E U L E P E U T NOUS DONNER
L A C E R T I T U D E . VOILA D E U X P O I N T S Q U E
NUL NE PEUT CONTESTER.««
ПУАНКАРЕ,
*
XX век.
. . . П О Ч Е М У В Б Л И Ж А Й Ш И Е К НАМ Д Е СЯТИЛЕТИЯ ОБЩЕ-ЕВРОПЕЙСКОЙ РЕАКЦИИ Р У С С К А Я И Н Т Е Л Л И Г Е Н Ц И Я О Б Н А Р У ЖИЛА Б О Л Е З Н Е Н Н Ы Е Я В Л Е Н И Я СКЛОННОСТИ К М Е Т А Ф И З И К Е , К МИСТИЦИЗМУ
И ФОРМЫ ДЕКАДЕНТСТВА СОВЕРШЕННО
О Д Н О Р О Д Н Ы Е С Т Е М , Ч Т О М Ы ВИДИМ НА
З А П А Д Е , С Т А Н О В Я С Ь В ТО Ж Е
ВРЕМЯ
В Р А З Р Е З СО С В О Е Й Н Е Д А В Н Е Й Т Р А Д И ЦИЕЙ, ПОВИДИМОМУ, В П О Л Н Е
ЗДОРОВОЙ?
П. Л. ЛАВРОВ.
истории.
Задачи
понимания
Н
асущные задачи современного естествознания — какое
притязательное название! Кто в состоянии их исчерпать
или хоть только наметить? Кто сможет просто охватить
мыслью весь их необъятный простор? Очевидно, приходится
объясниться.
Flo точно ли необходимо совместить все фактическое содержание естествознания для того, чтобы подметить известные
знамения времени, для того, чтобы уловить, в чем заключаются
* Метафизика геометрии состоит в аксиомах и постулатах, метафизика же физики состоит в, наблюдениях и опытах. Ред.
* * Опыт есть единственный источник истины: он один может нас
научить чему-нибудь новому; он один дает нам достоверность. Вот два
пункта, которых никто не может оспорить. Ред.
в данный момент самые общие течения, самые настоятельные
задачи? Очевидно, нет; именно, их общность указывает на то,
что их отголосок должен быть слышен повсюду, во всех ее
областях, хотя в некоторых может раздаваться громче, чем
в других. В одном из очерков, вошедших в состав этого сборника ( X I I I , М. Бертло)*, я останавливаюсь на том, что одною
из наиболее выдающихся особенностей переживаемого момента
являются течения мысли с явно выраженным реакционным
направлением. Борьба со всеми проявлениями этой реакции — вот самая общая, самая насущная задача естествознания — отзвук о ней слышен почти на каждой странице
этой книги.
Реакция эта обнаруживается, особенно в последние годы,
прежде всего в форме какого-то, будто бы, общего недовольства
направлением современной науки, в заявлении, что научная
мысль зашла, будто бы, в тупик, что ей, будто бы, некуда далее
итти в этом направлении, что она должна искать какого-то
обновления, возрождения под руководством пробудившейся,
будто бы, философской мысли. Что это движение реакционное,
ясно уже из того факта, что вслед за этим заявлением неизменно
следует призыв вернуться к... (имя рек), и чем далее — тем
лучше, к Канту — так к Канту, а еще лучше к Фоме Аквинскому. Какого еще нужно более наглядного testimonium
paupertatis * * , более очевидного доказательства полного
бесплодия этого прославляемого возрождения философской
мысли, не предлагающей ничего своего, нового, а только с
вожделением обращающей свои взоры назад.
/1,
Наука должна громко заявить, что она\не пойдет в КаноссуЛі
Она не признает над собою главенства какой-то сверх-научной,
вне-научной,а попросту ненаучной философии. Она не превра- Ал
тится в служанку этой философии, как та когда-то мирилась
с прозвищем ancilla theologiae * * * . Наука не знает реставрации;
она знает только инставрацию — Instauratio m a g n a * * * * , отправляясь откуда, победоносно идет вперед вот уже четвертый век.
*
**
***
****
2
См. главу X I . Ред.
Свидетельство о бедности. Ред.
Служанка богословия. Ред.
Великое установление. Ред.
К. А. Тимирязев, т. 7
17
Наука сама себе философия, та философия, которую в Англии
семнадцатого века называли просто «новой», возводя ее начало
к Галилею и Бэкону, которую великий французский мыслитель
девятнадцатого назвал «положительной». Только те области
знания, которые постепенно проникались складом мышления,
присущим философии науки, и получали право считать себя
наукой, — только эти приобретения человеческой мысли оказывались прочными и охватывали все более и более широкие
горизонты. В первый раз за все свое существование человеческая мысль вступила на верный путь, и, переходя от простейших задач к более и более сложным, человек мог сказать своему
разуму: верный слѵга.лмалом бьіл тчл мне верен, — над многим
тебя поставлю !
Когда громко заявляют, что рядом с этим испытанным
путем раскрытия истины, доставившим, особенно за последний век, такие победы человеческой мысли и человеческой
мощи, с которыми не может сравниться все, сделанное за
длинный ряд предшествовавших веков, что рядом с этим единственным верным путем раскрытия истины и даже над ним
должны быть поставлены «метафизические потребности» и
«чутье сокровенных тайн»
— тогда люди науки могут просто
отвечать, что все это «ist schon da gewesen» 2 , что все это испытано и успело доказать свою несостоятельность.
/ Верный путь к истине! Но скажут: а что есть истина? На
этот вопрос наука отвечает простой перестановкой слов:
истина — это то, что есть. Это истина-действительность. Но
может ли она удовлетворить нас в жизни! Можем ли мы примириться с мыслью, что все существующее разумно, можем ли
признать эту истину-действительность sa истину-правду?
Конечно нет. Метафизики говорят нам, что они знают эту
истину-правду, что это то, что должно быть. Но люди науки
более скромны: они не берутся вещать о том, что должно быть.
Для них истина-правда это то, чтобудет. И никогда у человека
не было другого представления о правде на земле. В будущем
1 Слова проф. Новгородцева
в «Вехах». (Примечание добавлено
JK 4-му изданию. Ред.).
2 Слова («уже было». Ред.)
Бен-Акибы в «Уриѳль Акоста» (Примечание добавлено к 4-му изданию. Ред.).
чает пришествия правды человек верующий, в будущем ждет
осуществления своего идеала «наибольшего блага наибольшего числа» и свободный от априорных посылок утилитарист.
Истинашравда — это неуловимый, вечно изменяющийся, вечно
манящий вперед идеал будущего. Потому-то стремление к
добру почти равнозначаще с недовольством настоящим.
Но как же узнаём мы то, что будет? Для этого существует
тот же единственный путь изучения действительности, сравнения того, что есть, с тем, что было, путь изучения эволюции
правды, изучения того, что человечество в своем поступательном
движении считало постепенным осуществлением правды на
земле. Понятно, что всякое, даже научное, пророчество, всякое экстраполирование, пока оно не подтверждено опытом, не
может иметь той обязательной логической силы, как наблюденная действительность, и потому естественно встретить людей,
готовых, в своей близорукости, признавать за правду то, что
есть, даже возврат к тому, что было.
Чему же учит эволюция человечества в его ближайшем
прошлом, в каком направлении движется оно, какие силы
выдвигает вперед, как главнейшие факторы будущего? Науку
и демократию. Сильная наукой демократия, наука, опирающаяся на демократию, и как символ этого союза — явление
почти неизвестное прошлым векам — демократизация науки:
вот неспмнеттцт,тй прцщоз_будущего. Отсюда понятно, что люди
' настоящего, торжествующее мещанство, ставят на пьедестал
философа, обнимающего в своей ненависти и демократию,
и науку. Не знаю, по какому недоразумению принято считать
Ницше бичом буржуазии, когда его учение осуществляет самые
сокровенные ее вожделения. Не обладающим унаследованной
арисіократией прошлого он предлагает соблазнительную
перспективу благоприобретенной аристократии будущего, к
тому же очень просто достигаемой свободным проявлением
всех пороков старой. Подхватив мельком брошенную Дарвином
мысль о будущем развитии умственного и нравственного типа
человека 1 , Ницше лишает эту мысль ее прогрессивного содержания и создает свой регрессивный тип с его «моралью господ»,
1 Вследствие чего некоторые комментаторы Ницше делают Дарвина
ответственным sa реакционные идеалы Ницше.
2*
19
весь сотканный из воспоминаний темного прошлого и его
пережитков в самых неприглядных сторонах современной
ему германской жизни. Говорят, это — страстная защита прав
личности; может быть и так; но почему же у английского мыслителя средины века (Д. С. Милля) эта защита вылилась в
слова «On liberty» * , а у немецкого философа бисмарковской
эпохи — в слова «Der Wille zur Macht»?** Что бы ни говорили, а,
несмотря на свою кажущуюся оригинальность, Ницше не
ушел от рокового влияния своей среды и времени и, когда читаешь его изображения сильного волей человека, представляется, что напрасно в поисках за ним восходить к Борджиа или
хоть к Наполеону: он мог его гораздо ближе найти в молодом
юнкере Бисмарке, разбивающем пивную кружку на голове
ненавистного ему демократа Ч Каково бы ни было временное
торжество этого типа, можно с уверенностью сказать, что не
ему принадлежит будущее: вся предшествующая эволюция человечества служит тому порукой 2 .
1
Говоря о демократизации науки, я оговариваюсь, что никаким образом не разумею под этим производства науки скопищем и сбором, толпой посредственностей и бездарностей.
, Двигать вперед науку всегда былой будет делом природных
аристократов мысли. Только величайшие из них всегда стремились быть не господами, а слугами всех, к тому же и
выходят они все более и более не из рядов аристократии
предрассудка или золота, а из рядов народа.
Плебей
Фарадэ наложил печать своей аристократической мысли
на вековой ход развития физики.
Реакция против успехов научной мысли, захватывающей
все более широкие области знания, все более широкие круги
1 Совершенно сходный с моим взгляд на философию Ницше высказал позднее (1905) Менгер; он называет Ницше философом победоносного
прусского юнкерства.
2 Какою представляется эволюция этики, исходя из научного начала, что человек существо социальное, а не с точки зрения произвольного деления человечества на «господ» и «рабов», удачно выражено, например, в книге у Sutherland: The origin and growth of the moral instinct
(Происхождение и рост нравственного инстинкта. Ред.).
* О свободе. Ред.
* * Воля к власти. Ред.
последователей, — эта реакция сказывается, конечно, и у нас,
но мне представляется утешительною мысль, что русский ум
мало склонен к деятельности в тех сферах, куда его желала
бы направить эта реакция. Я высказал свое глубокое убеждение, что русская творческая мысль движется свободнее, что
ее результаты плодотворнее, когда она осуществляет «в искусстве жизненную правду и реальную истину в науке», когда
она движется по пути, указанному «Невтоном», а не по стопам
«Платона». Эта мысль была мне вменена в осуждение, но я
остаюсь при ней, пока не будет опровергнуто высказываемое
мною положение, что русский ум не дал миру ни одного философа, которого можно было бы, с Тщпои стороны^" поставить
рядом с философами Запада, а с другой — с великими русскими
художниками слова и с представителями положительного
знания, занявшими почетные места в ряду европейских ученых. I
Один из противников этого воззрения привел в качестве
возражения одно имя — Лобачевского, но, во-первых, это
имя я упоминаю, и, конечно, Лобачевский сам считал себя
представителем положительной науки, а не метафизической
схоластики. В последнее время выдвигают вперед еще другое
имя — Соловьева. Но и перед этим именем я не имею основания
слагать оружие: напротив, я могу извлечь из деятельности
Владимира Сергеевича Соловьева еще новый аргумент в свою
защиту. В с я эта деятельность представляет три полосы: начальную, мистико-метафизическую, вторую, к сожалению, слишком
кратковременную — критико-публицистическую и третью —
снова метафизическую с еще большим оттенком мистицизма.
Эта вторая полоса, отличавшаяся простым здравым реализмом мысли, была в то же время отмечена самым несомненным
талантом; о ней не существует двух мнений. Даже его сторонники с метафизической правой, когда желают вызвать в своих
слушателях или читателях безраздельное сочувствие, охотно
останавливаются именно на ней Ч Но миновала
эта
1 Не без некоторой гордости могу добавить, что этою полосою деятельности Соловьева русские читатели обязаны в известном смысле мне.
Когда завязалась моя полемика с Данилевским и Страховым, Владимир
Сергеевич особенно сблизился со мною; —- знакомы мы были и прежде.
Как сейчас слышу заразительный, детски добродушный смех, с которым
полоса, мистический туман снова стал заволакивать эту
светлую голову, — мы услышали побасенки про антихриста,
и, наконец, искренний христианин, истинно гуманный
человек, еще недавно так красноречиво изобразивший антитезу между Христом и Ксерксом, договорился до тождества
креста и меча. Бедный Владимир Сергеевич, он только еще раз
доказал, что русский человек не может безнаказанно задерживаться в туманных дебрях метафизики и мистики, что эти
увлечения всегда характеризуют нездоровую, ненормальную
полосу в жизни отдельных ли даровитых личностей или всего
русского общества. Только выпутавшись из сетей гегелианства',
Белинский стал Белинским; только погрузившись в волны
іргстицизма, Гоголь перестал быть Гоголем. В школе естествознания воспиталась мысль Герцена, точно так же, как и
в ту единственную эпоху, когда все (или с виду все) русское общество рванулось вперед к разумной и плодотворной цели, оно находилось под господствующим влиянием
не метафизической схоластики, а реально-научного склада
jage ли.
Борьба с этим, так называемым, философским возрождением,
а в действительности с схоластической реакцией против положительной науки, — вот, повторяю, самая общая и основная
задача естествознания, как на западе, так и у нас. Обличать
реакционный характер этой попытки, громко провозглашать,
что положительная наука не вернется в школу метафизической
философии, что, наоборот, всякая новая отрасль человеческого
знания должна пойти в испытанную школу положительной
науки, доказавшей свою исключительную способность искать
и находить истину; разъяснять не только самодовлеющую, но
и первенствующую роль этого положительного знания — вот
насущная задача для всех его отраслей, для всех его предстаон появлялся, повторяя какую-нибудь понравившуюся ему фразу из моей
последней статьи. В одно из этих посещений я познакомил его с пресловутой «Россией и Европой» Данилевского и указал, какую благодарную
задачу и заслугу перед русским обществом представил бы критический
ее разбор. Сначала он убеждал меня взяться за это дело, но когда я решительно отказался, взялся за него сам. Это и послужило толчком к ряду
блестящих его этюдов о наших националистах.
вителей. Нужно ли еще добавлять очевидную истину, что эта,
оправдавшая себя на деле, школа логики должна лечь в основу
всякой разумной системы воспитания.
Если эти попытки реакции против научного духа, конечно,
только отдаленные отголоски, новые вспышки борьбы, никогда
не прерывавшейся и столь же продолжительной, как продолжительны успехи положительного знания, то центр, против
которого направлена атака, значительно переместился. Если
три века тому н а з щ натиск реакции приходилось выдерживать
йстроному, то теперь он направлен главным образом на биолога. Если астроном, физик, химик идут своим путем, почти уже
не встречая препятствия, то тем выше нагромождаются они на
пути "науки (Гжизнй. И прежде всего на пути того эволюционного учения, которое, составляя несомненно важнейшее завоевание научной философии за истекший век, отразилось на
всем складе мышления современного человека. Делаются безуспешные, но тем более рекламируемые, попытки заслонить
луч света, проникший в самые отдаленные одна от другой
области знания — от ботаники до психологии и этики; стараются вновь уверить, что к исследованию жизни не приложим
научный метод раскрытия причин, а только доказавший на
деле свою бесплодность прием угадывания целей, т. е. телеологии ( I I I , IV, V, V I I I , XIV) * .
Второю мишенью для реакции в области биологии явилось второе выдающееся приобретение века—физиология,
по точности методов, по прочности добытых результатов все
более догоняющая физику и химию, на результатах которых
она выводит свое надежное здание. Ей удалось подчинить научному детерминизму не только процессы, совершающиеся в готовом организме, но уже в значительной степени (по крайней
мере по отношению к растению) и образование формы: ей удается
лепить органические формы (V)**. Эту-то, с каждым днем
завоевывающую новые области, физиологию полагают свернуть с ее надежного пути попытками воскресить витализм—
* См. главы III, IV, X I I настоящего тома и статьи «Чарлз Дарвин,
как тип ученого» и «Дарвинизм перед судом философии и нравственності-ю
в томе V I I . Ред.
*
* * См. главу IV. Ред.
*
этот пережиток самой жалкой, самой постыдной эпохи в истории этой науки (VI, V I I , X I X ) 1 .
Рядом с этим старанием возродить бесповоротно обреченные на забвение телеологию и витализм, сводящиеся на отрицание возможности применения научного образа мышления
к задачам изучения жизни, выступает еще третья попытка—
извратить логический ход мышления, присущий не только
науке, но и обычному человеческому рассуждению. Предлагается извратить самое понятие о логическом объяснении, как
о процессе восхождения от менее понятного к более понятному, разложения сложного на простое. Я имею в виду недавние попытки искать опоры для физиологии в психологии.
Я утверждаю, что это направление представляет прямое извращение коренного и единственно верного приема мышления,
общего для науки и для жизни. И действительно, даже такие
первобытные приемы интуитивного раскрытия истины, как
притча или басня, руководятся тем же логическим приемом
• заключения от простого к сложному. Крылов басней «Котел
и горшок» желает выяснить результаты психологических
столкновений; едва ли кто-нибудь для пояснения механического результата ударов горшка о котел стал бы прибегать
к психологическим аналогиям. Правда, первобытный человек
широко пользовался этим приемом извращенной логики—
в мифологии. Раздутые щеки Эола знаменовали ему силу ветра,
пролитая кровь — окраску цветов, но ведь объяснение явлений
природы от этого ничего не выиграло. Этот-то мифологический
способ мышления желали бы ввести в положительную науку
те, кто предлагают психологические объяснения для физиологических явлений. Не психология призвана объяснять физиологию, а, конечно, наоборот 2 : утверждать обратное значит
1 Уже при чтении корректуры этого предисловия я узнал из газет
факт, показывающий, как верно схвачено у меня настроение минуты.
Летом текущего года в Женеве собирается философский конгресс; из четырех вопросов, на нем обсуждаемых, один посвящен успехам телеологии и витализма в современной биологии (реферат Рейнке). То, что составляет позор науки, современная философия спешит записать себе на
приход (см. главы V, VI, X V I . Ред.).
2 Этим логическим путем развивалась научная психология у
,
нас.
Любопытно, что защитник психологического метода à rebours (наоборот)
Адрес, преподнесенный
К. А. Тимирязеву
студентамимедиками Московского
университета
в день
30-летнего
юбилея научной и педагогической
деятельности
(рисунок
Поленова ).
üifJoloy
ішсаемФси
Чнили н : іѵь сМ^Шбл-іимг
miuèc'H'miscMuéuÂu
IЩтук^ІмюипЛсНа.,
Лмоъ
Сдгли
Зашью
уссіои
лсооіоё-
о у у ж ^
riaxyß
ъьауёіиьйсшше
исіолыЖсшь
х^огАтаь,
ъипугшша,
уос/опиитл;
(Зььітмь
M-u j-HcuAi*
аукршяѵь
êwnio)
(кг
шл.хіс
XCHU'UM.* ММ
mxiUii
ъса-гихучллом*
ЫШ
tictbJM'uyêvbdjbw-,
ПЖСЪ
?л »
in
псг^и^ѣ^Льсо
à&iuâ~огу/'б-
U К* ЬІС ê'to ~Oc)'t-lO'lb WlQXbllO
Socc(/cl -мл ы іг^ілЫііУіС^Н- ііЛ
Тимирязев, т. V.
н&
S a v b j u c d ö
и уёоииссимх,.
уи/ьихм
yotct
гѵолАъ
ѵѣгьмгъ.
жѵылы
пун-
'флш
^
U£т&мп^
ЗО^иЩслго
иа
!
o&
гЩе
da
ÀuAa-Hj.
с << іще ил
1и tu.,о
,иа?осл
и•ci
снулл^-ір.,
L. L л / J , q i i ui ^typa,
іььісотм:.
н с г с ^
Li Un tu
i>< • Зи.і
ppjc jbyr.
ко,
^
J
(о
у м с І ^ с ^ е к г с Л и ж б
уалиуип,
и *!а
: im
У
У
ш4тт>
:t
ЫСФШ0
n u
4и
шугиси>пѵф
. i-'hcé-ijjsb
te. (Q^tu
лшфмиф
СІіА
"".
лалі-шаг,
ôcyoorc
6'
ouiyôëru
tyj
—- > " У < ' W ^ W t
-и ь п и т А а / ш
<иС(
ûJU.OHca^ryL
сиу:
V w
Уіишуьо
'и, ju-i-/огс
Уу
êju/шлс
>omo
сЛёоиУЫУі^АгГ"4
i
uu/ùuuu
r
ого
I
сму^ам/и.
u
и
.-J'hUyOlA-U
ß
o
umrir.
і
у
о
.
о
і
!
nmyîçdià
oetçfv
•мм/НуОЪШш..
C tLVf
j
1
ихш^хі
MhO
euer
'
ід-е
ЛЩуиншгулушуІъс
исауріАіМьигш^муі^
suriAiuAAi,
j
'ЛЫ
сс /ёг г Ш и ^
rnuukcSuAue
ъс&умАц^ьс.
I
cmyhynnAcß'uу
m r
Iиш.
'
ІЧТІССГ
?
4TL0OUУ
au
ryrio-cuuimu
ûOjwtjyp
'wyyora-uy
ru хмурое
U
с у шЛилийя
У/рсл/ш<у.
tu і-пуо
uptjcc^o
шt%wuc,
(и (fcciuM
игсл-іилу
УЯосилг
^ ^
j
./vvoikxu..
а ч р о & и * ^
ел,
,
і ipOU
го,
- д а ж н а ^
ШгхЪ
fUV С "$ОІОЪ На i'rè
/
юуь
i a І ь i/ч сыа
ГUи>
Шаиаии
'
извращать логическое содержание понятия объяснение ( X I X ) *.
Совершенно верно сказано, что «истинное мнение века
то, которое сложилось в головах его великих людей». Пусть
же защитники указанных трех реакционных течений, отметивших конец века, укажут на тех великих людей, которые
оказали им поддержку.
Перечисленные три реакционные попытки имеют между
собою то общее, что желали бы извратить естественное течение
научной мысли, желали бы сообщить ему попятное движение,
но рядом с ними является еще одно направление, которое желало бы только сузить это течение, желало бы ограничить
задачи, затемнить философское значение научного движения,
свести на нет его идейное содержание, обратив его исключительно на преследование узко-материальных, служебных целей. Разъяснять истинное взаимное отношение чистой науки
к прикладному знанию нельзя достаточно часто и по двум причинам. Большинство желающих, чтобы наука приняла преимущественно прикладное направление, конечно, руководится
опять чисто реакционным стремлением направить положительную науку исключительно в это узко-утилитарное ложе для
того, чтобы разрешение более широких запросов мысли сделать
монополией представителей совершенно иного склада мышления. Они согласны, чтобы наука была слугою брюха, не жеакадемик Фаминцын укоряет русских ученых 60-х годов за их равнодушие
к психологии. И это говорится и печатается в том самом городе, где в первый
раз раздавалась красноречивая речь автора «Рефлексов головного мозга»
и «Психологических этюдов». Между тем один ученый далекого Запада,
касаясь этого вопроса, приходит к заключению, что путь, намеченный
И. М. Сеченовым, единственный, который не окажется «пустой потерей
времени», и заключает словами: «Ainsi parlait le venerable physiologiste
de Moscou. Depuis lors les idées de Setchenoff ont fait du chemin» («Так
говорил уважаемый московский физиолог. С тех пор идеи Сеченова получили распространение». Ред.). Наоборот, фито-психология Фаминцына
именно и оказалась такой «пустой потерей времени»; по крайней мере
до сих пор ни он сам, ни его сторонники не предъявили ни одного примера
плодотворного применения этого учения (1904). Заметка моя, повидимому,
не осталась без последствий; академия вспомнила о существовании
И. М. Сеченова и чуть не накануне смерти избрала его почетным членом
(1908).
* См. главу XVI. Ред.
лали бы только, чтобы она была руководительницей мысли. Но
рядом с этим большинством, вследствие прискорбного недоразумения, являются немногие, видящие в прикладном направлении науки как бы ее высшее оправдание. Они выступают, во
имя социальной правды, защитниками тех масс, которые, еще
не приобщившись к умственному движению человечества,
в праве прежде требовать удовлетворения своих насущных
материальных нужд. Этим искренним борцам против кажущейся
отрешенности современной науки от запросов жизни нельзя
достаточно часто повторять, что наука для науки и есть наука
для жизни.
Рядом с этюдами о трех выдающихся деятелях современной
науки на Западе (Дарвине, Бертло, Пастере), я поместил
и свои воспоминания о двух самых светлых типах русского
ученого, с которыми меня свела судьба. Мне казалось, что их
жизни служат подтверждением ранее развитой мысли: если
путь тех, кто насаждал у нас истинную науку, не всегда был
усыпан розами, если, несмотря на противодействие науки официальной, мундирной, они все же успевали много сделать, то
не значит ли это, что и в самих деятелях и в той среде, на которую они воздействовали, существует что-то, по своей природе
к тому особенно пригодное.
Есть, наконец, в этом сборнике еще две небольшие статьи
(«Фотография и чувство природы», «Естествознание и ландшафт»), содержание которых стоит как бы совершенно в стороне
от его общей темы *. Затронутый в них вопрос имеет, однако,
хотя и отдаленные, но несомненные точки соприкосновения
с тем, что высказывается в остальных. Изображение природы—
ландшафт, это по преимуществу создание искусства X I X века,
«века естествознания»,—невольно наводит на мысль о сходстве объектов науки и естественного, здорового искусства.
И не развилось ли особенно привольно русское искусство
именно в этой области. Мало того, дар науки — фотография,
это еще недавно презираемое ремесло, с бою занявшее свое
место в ряду художеств—не является ли оно могучим орудием
* См. главу V I I I , а также статью «Естествознание и ландшафт»
(глава X V I I ) , добавленную К. А. к подготовленному им 4-му изданию
сборника, изданному уже после его смерти, в 1923 г. Ред.
демократизации того эстетического чувства, без широкого развития которого нет почвы для искусства Ч Напутствуемый
Руссо, встреченный на пороге Байроном, девятнадцатый век
принес с собою культ красоты природы, почти неведомый длинной веренице предшествовавших веков. Лучшим истолкователем этого культа явился Рёскин. Говорят, пальма послужила
прототипом колонны древних храмов, а дремучий лес севера
наложил свой отпечаток на величавый сумрак готических
соборов,— в таком случае современный человек от символов
предпочел вернуться к их оригиналу. Будущность искусства
зависит, конечно, от того, пойдет ли оно по пути, намеченному
Рёскиным и Моррисом: станет ли оно делом «народа и для
народа, счастием для того, кто творит, и для того, кто воспринимает» 2 , или будет оно только содействовать утверждению
рядом с «моралью господ» и той эстетики господ, которая всегда
отталкивала от себя тех русских людей, кому было дорого развитие народа, от Чернышевского и Писарева до Толстого. Что
бы ни говорили, а великие художники, как и великие ученые,
в конце концов, творили для «слишком многих»: для них красовалась Милосская Венера; ради них легионы безвестных
художников возводили чудеса средневековой готики; на них
участливо глядели мадонны с полотен Рафаэля и Тициана.
И, конечно, не для них, как и не для будущего, появляются
те вычурные, бездарно вымученные произведения, которые
заполняют современное, так называемое декадентское, искусство и литературу; в этих произведениях озолоченное мещанство надеется найти еще одну преграду между собою и
презираемой толпой, не сознавая, что отличаться еще не значит
стоять выше.
1 Мне подает смелость перепечатать эту статью и отзыв о ней одного
из талантливейших наших художников, так рано утраченного для русского искусства, Исаака Ильича Левитана. У меня сохранилось его
письмо, в котором, между прочим, встречаются следующие слова: «Брошюру вашу прочел с большим интересом. Есть в ней положения удивительно глубокие. Ваша мысль, что фотография увеличивает сумму эстетических наслаждений, абсолютно верна, и будущее фотографии в этом
отношении громадно».
2 Morris. «Hopes and fears for art» (Моррис. «Надежды и опасения за
искусство». Ред.).
Научная мысль, проникающая во все сферы знания, осуществление социальной правды в жизни, культ природы уже
не как грозной силы, а как действительного источника высшего
эстетического наслаждения,-—не те ли это реальные
формы,
в которые выльется вечная триада истины, добра и красоты?
Для всех одинаковая красота природы, ее всестороннее воспроизведение искусством, так же как изучение равных для
всех законов этой природы, положат предел тому разброду
мысли, которым тяготится современность. То, что служило
источником разлада для отцов, послужит к сближению детей.
Искусство и наука лягут в основу нового союза между людьми,
как это прозрел более ста лет тому назад художник-естествоиспытатель — Гёте.
1904
г.
К.
ТИМИРЯЗЕВ.
III
ПРЕДИСЛОВИЕ
К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ
В
состав этого небольшого сборника вошел ряд речей,
произнесенных в различное время, по различным поводам,
в течение целой четверти столетия Ч В них затронут ряд
коренных вопросов, занимавших и продолжающих занимать
не только биолога и натуралиста вообще, но, я полагаю,
и всякого образованного человека, интересующегося успехами
естествознания.
Прежде всего (I) я останавливаюсь на недостаточно выдвигаемом вперед, но тем не менее несомненном факте, что постоянно разрастающееся движение русского естествознания свидетельствует о том, что здравый реализм в науке — такая же
очевидная черта, присущая русскому уму, как и трезвый
1 Речь «Основные задачи физиологии растений» составляет только
более тщательную обработку моей первой вступительной лекции в Петровской академии, в сентябре 1870 г. (См. главу V. Ред.)
натурализм в искусстве, и что напрасны попытки привить
русской мысли совершенно чуждый ей метафизический
склад.
В другом месте (II) я останавливаюсь на сознаваемой не
только у нас, но и на Западе, задаче — бороться со злом
слишком узкой специализации положительных знаний, злом,
роковым образом вытекающим из их беспримерного в истории
роста, дающего девятнадцатому веку право называться «веком
естествознания» Ч Указав на средства этой борьбы, я естественно перехожу к обсуждению средств борьбы против еще более
несправедливого раздела благ, завоеванных цивилизацией,
между представителями труда умственного и механического
и указываю на долг представителей науки, с своей стороны,
способствовать выполнению пропасти, все более и более разделяющей человечество на два, если не всегда враждебные, то
почти перестающие понимать друг друга лагеря, — содействовать по мере сил искуплению породившей это разделение
исторической неправды. Значительно позднее явившееся у нас
движение в пользу подражания английскому University extension * , несомненное стремление создать, наконец, научную литературу для народа — не доказывает ли, что здесь затронут
один из живых вопросов о нравственных обязанностях ученого, в пределах избранной области, но уже не как специалиста, а как члена того общества, которому он призван
служить.
Сознательно, а порою и бессознательно, выдвигаемое против
одного из плодотворнейших учений современного естествознания
обвинение в его противоречии, будто бы, с требованиями этиче1 В
доказательство тому, что в этом определении выражается не
узкий взгляд специалиста, приведу следующий факт. Когда я высказал
эту мысль в приветственной речи на столетнем юбилее Шевреля, вслед
за мною взошел на кафедру Гобле, в то время министр просвещения,
и подкрепил ее следующими красноречивыми словами: «Только что было
сказано, что век, в котором вы жили, принадлежит естествознанию. Каково бы ни было то место, которое займут в истории пережитые им значительные события, его настоящий характер придает ему тот совершенно
новый полет мысли, который сообщило ему научное изучение природы,
широко раздвинувшее пределы деятельности и могущества человека».
* Расширение университета.
Ред.
ской правды заставляет меня в речи (III)*, посвященной краткой оценке этого учения, вооружиться против несправедливости
этих нападок. Избрав, как самого опасного противника этих
воззрений, героя Анны Карениной х, я как бы предчувствовал
ту роль, которую предстояло вскоре играть ее автору в качестве уже не художника только, но моралиста, властителя над
умами и еще более над сердцами значительной доли молодого
поколения. При всем глубоком уважении к «великому писателю земли Русской», я и теперь остаюсь при убеждении, что
несогласие, существующее, будто бы, между выводами современной науки и требованиями этики, основано на недоразумении. Как и тогда, я продолжаю думать, что несчастное выражение «борьба за существование» 2 не имеет ничего общего
с учением о нравственности, так как человеческая нравственность создана не биологическим, а социальным строем, создана
«обществом и для общества». В подтверждение этого взгляда,
который я высказывал каждый раз, когда касался этого
жгучего вопроса, я позволил себе привести перевод появившейся поздней речи Т. Гёкслея (IV) * * , в блестящей форме
проводящего то же воззрение на отношение между эволюцией
и этикой.
В другой речи, касающейся того же учения (V) * * * , я останавливаюсь главным образом на недоразумениях, вызванных
односторонностью некоторых слишком горячих поклонников
учения о естественном отборе, полагающих, что в нем заклюЭтот, в то время кавалось, странный выбор мне даже ставился
в укор.
2 Я называю выражение «борьба за существование»
несчастным,
так как убежден, что полемика против дарвинизма, как учения противного будто бы этике, главным образом не идет далее слова, не касаясь
содержания. Как мало необходимо это выражение, доказательством тому
может служить тот факт, что мне удалось прочитать целый курс дарвинизма (печатающийся в «Русской Мысли» под заголовком «Исторический
метод в биологии»), не обмолвившись ни разу этим словом — борьба.
(См. том VI настоящего издания. Ред.)
* «Чарлз Дарвин, как тип ученого», произнесена в Московском
университете 2 апреля 1878 г. См. том VII настоящего издания. Ред.
* * См. главу I I I . Ред.
* * * См. главу IV. Ред.
1
чается окончательное объяснение биологических явлений.
Я указываю, с одной стороны, в противность некоторым врагам
этого учения, желающим видеть в нем одну беспочвенную теорию, ее практическую плодотворность в качестве рабочей
гипотезы, побуждающей искать и помогающей находить везде
в органической природе приспособления. А с другой стороны,
я указываю на то, что за этой общей биологической задачей
выступает физиологическая, или, скорее, бесконечный ряд
физиологических задач, раскрывающих causae eficientes *
тех морфологических изменений, от которых учение о естественном отборе отправляется, как от готовых данных. Я указываю
на новую зарождающуюся область «экспериментальной морфологии». И действительно, с тех пор наука быстрыми шагами
идет в этом направлении, появляется периодическое издание,
исключительно посвященное этим вопросам; проектируются
специальные опытные станции для исследования вопросов
«экспериментальной эволюции»; в научных ежегодниках открывается особый библиографический отдел все разрастающейся
литературы этого предмета. Там же я повторяю уже и ранее
высказанное мною осуждение тому ненаучному направлению,
которое приняли, по моему мнению, так называемые попытки
объяснения явлений наследственности, начиная с гипотезы Дарвина и кончая пресловутым вейсманизмом. Что и на этот
раз я не ошибся, доказывает то критическое отношение к
этому направлению, которое, наконец, проявилось и в Германии
В речи «Основные задачи физиологии растений» (VI) * *
я главным образом стараюсь разъяснить взаимные отношения,
в которых должны находиться два основные метода исследования живых существ: метод экспериментально-физиологический и историко-биологический. Непониманием взаимного
отношения этих двух путей исследования, служащих опорой
1 В 1891 г. я высказывался по поводу пангенезиса, что эта гипотеза
«не научна в основе, бесплодна в последствиях», — почти в тех же выражениях формулирует свое суждение о вейсманизме в своей последней
книге Гертвиг.
* Действующие причины. Ред.
* * См. главу V. Ред.
и продолжением один другому, грешат еще многие современные
натуралисты как у нас, так и на Западе. Между биологами
можно еще часто встретить таких, которые думают, что раз
произнесено слово борьба за существование, то этим все объяснено, и готовы с негодованием или глумлением, только обнаруживающими их незнание, отнестись ко всякому применению к живым существам физических методов исследования 1 .
Точно так же между физиологами можно встретить таких,
которые полагают, что раскрытие приспособлений
живого
организма выходит из пределов строго научного исследования.
С самых первых шагов своей научной деятельности я пытался
доказывать односторонность этих точек зрения, взятых в отдельности, и плодотворность их гармонического слияния в одно
стройное целое. Где кончается задача непосредственного физиологического опыта, перед физиологией открывается обширная
область историко-биологического исследования, и, наоборот,
всякое историко-биологическое исследование, в качестве необходимых начальных своих посылок, должно основываться на
фактах, добытых всегда более точным, экспериментальнофизиологическим путем.
Как бы ни были односторонни оба указанные направления,
каждое из них само в себе научно и раскрывает новые пути
для плодотворного исследования; того же, конечно, нельзя
сказать о направлении, отрицательно относящемся и к тому,
и к другому.
Конец «века естествознания» в числе других диковинок
не обошелся без попытки попятного движения и в области науки:
столь же крикливого, как и бездоказательного отрицания
прав естествознания на признательность человечества не
только в узко-утилитарном отношении, но и в смысле расширения идейных горизонтов. На Западе, под влиянием католической реакции, возвышаются голоса, провозглашающие «банкротство» науки 2 . Не обошлось и у нас, даже между предста1 Я здесь имел в виду академика Коржинского, позднее из слепых
сторонников борьбы за существование внезапно превратившегося в такого же ослепленного противника.
2 Я разумею здесь наделавшую столько шума статью Брюнетьера,
вызвавшую, между прочим, прекрасный ответ Бертло.
3
К. Л. Тимирязев, т. V
33
вителями науки, без попыток, если не полной, то частной реставрации противо-научных идей, казалось, уже давно отживших свой век. Ответ на одну подобную попытку проф. Бородина
доказать «осечку» современной науки составляет содержание
заключительной речи этого сборника 1 .
К.
12 мая 1895 г.
1
VII. Витализм и наука. (См. главу VI.
Ред.)
ТИМИРЯЗЕВ.
П У Б Л И Ч Н Ы Е РЕЧИ
ПРАЗДНИК РУССКОЙ НАУКИ 1
изико-математическому факультету и совету Московского университета угодно было предоставить мне
высокую честь приветствовать естествоиспытателей
и врачей, собравшихся к нам на этот праздник русской науки. Я говорю: «праздник русской науки» и думаю,
что в этих словах лучше всего выражаются главный смысл
и значение таких собраний.
Да, это, прежде всего, праздник науки потому, что для
истинного ученого праздником является не тот день, который
он может проводить в праздности, не те часы, которые он проводит за более или менее роскошною трапезой, а те дни и часы,
к сожалению, очень немногочисленные, когда, вполне отре1 Речь, читанная при открытии I X съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве. (Произнесена К. А. 3 января 1894 г., как приветственная речь председателя съезда. Ред.)
шившись от будничных забот, от житейских дрязг, он может
всецело уйти в ясную, безмятежную область чистого знания.
Может быть скажут: это всего успешнее достигается в уеди-"
нении лаборатории или за письменным столом в ночной тишине кабинета. Конечно; но если, вот уже несколько веков,
ученые ощущают недостаточность подобной изолированной
деятельности, то в наши дни, при беспримерном в истории
развитии нашей науки, все громче и громче высказывается
потребность возможно часто освежать, проверять свои мысли
столкновением с чужими мыслями. Если современная медицина все более и более убеждается в грозном, роковом значении
contagium vivum *, то, в переносном смысле, в области мысли,
ничто, конечно, не сравнится с благотворным действием этой
живой заразы, живого слова, живой талантливой личности.
Каждый из нас, кому когда-нибудь выпало счастье приходить
в непосредственное общение с великими деятелями науки,
знает, как заразительно, как глубоко и неизгладимо воздействие этого благотворного фермента. Разносить эту благотворную заразу, прививать горячее влечение к науке тем, кого
оно еще не коснулось, раздувать его в тех, в ком оно еще тлеет,
но готово погаснуть, — вот главное значение таких собраний.
Прибавим к этому, что у нас, при разбросанности, при сравнительной скудости умственных центров, еще живее ощущается
потребность от времени до времени подогревать в себе сознание
участия в общем деле, —• наглядно убеждаться, что «не один
в поле воин».
Вот этому-то отрадному, бодрящему чувству и доставляют,
прежде всего, пищу собрания, подобные нашему. Кто из вас,
окинув взглядом эту залу, не ощущает этого чувства, не готов
с вполне законною, вполне безобидною, никому не угрожающею гордостью воскликнуть словами поэта: «Иль мало нас?»
А далеко ли то время, когда первый русский ученый пришел с своего далекого севера в эту самую Москву и, недовольный тем, что она могла ему предложить, потянулся далее
на юг, в Киев, но и там, выражаясь его словами, вместо математики и физики, встретил «Аристотелеву схоластику». Только
* Живая зараза. Ред.
обратив свои взоры на Запад, в юном полуиноземном Петербурге и, наконец, за рубежом, в маленьком Марбурге нашел
он то, чего искал его пытливый ум и чего не могла ему доставить уже могущественная и славная родина. С этой поры не
прошло и полутора века, и вот самые обширные помещения
этой же Москвы не вмещают представителей тех наук, для которых тогда не нашлось бы даже имени. Ноне будем забираться
в даль истории, — ближайшее прошлое может нас снабдить
данными не менее красноречивыми. Наши съезды существуют
всего четверть века, настоящий — I X — имеет право считать
себя юбилейным, как первый, собирающийся после исполнившихся 25 лет. Последний съезд, собиравшийся в Москве
в 1869 г., насчитывал едва треть того числа участников, которые собрались сегодня. Если первые съезды считали своих
участников сотнями, то последние насчитывают их уже тысячи.
Этот факт, прежде всего, останавливает на себе наше внимание, — все частные недочеты, все теневые стороны нашей
будничной научной жизни на время заслоняются отрадным
общим впечатлением, заставляющим безраздельно любоваться
этою наглядною картиной могучего и все ускоряющегося
роста всем нам дорогого дела. Вот это-то общее настроение
я не умею лучше характеризовать, как назвав его радостным,
праздничным.
Но я назвал наше собрание не только праздником науки,
но и праздником русской науки и уверен, что эта оговорка
нуждается в разъяснении. Я убежден, что многие готовы мне
возразить: мы не знаем такой особой русской науки, — наука
едина, недробима, она не знает узких национальных рамок,
она составляет нераздельное достояние всего человечества,
вне всяких ограничений пространства или времени. Но найдутся, вероятно, и одобрительные голоса; скажут: нет, это
совершенно верно, — наука должна отражать настроение данного общества в данный момент его самосознания, а в эпохи
более исключительного подъема национального чувства должна
замыкаться в более узкий круг деятельности, пожалуй, даже
потворствовать, льстить этому настроению минуты, забывая
свои более широкие и общие по существу космополитические
задачи. Спешу оговориться, что смысл, который я желал бы
придать этому выражению, не заслуживает ни этих порицаний,
ни этих одобрений.
В настоящее время очень часто, чуть не на каждом шагу,
можно встретить рассуждения на тему о народном духе, о народной самобытности, о народных идеалах и их грядущем
осуществлении, причем говорящие нередко отождествляют
с этими понятиями свои личные воззрения, порою просто
свои вожделения. Но мы, натуралисты, не привыкли гадать
о будущем, не беремся также читать, что сокрыто в тайниках
народной души. Мы привыкли только наблюдать настоящее,
делать выводы из прошлого, мы привыкли руководиться правилом: познается древо по плодам его. Какие же несомненные,
очевидные плоды принесло древо русской мысли? Мне кажется,
что личность первого русского ученого, Ломоносова, с его
двоякою плодотворною деятельностью была как бы пророческой. Его деятельность как бы наметила те два пути, по которым преимущественно суждено было развиваться русской
мысли и ранее всего принести зрелые плоды. Кто были те русские люди, которые заставили уважать русское имя в области
мысли и творчества? Конечно, прежде всего, художники слова,
те, кто создали этот «могучий, правдивый и свободный русский
язык», одно существование которого служит «поддержкой
и опорой в дни сомнений и тягостных раздумий». Это, прежде
всего, Пушкин, Гоголь, Тургенев, Толстѳй, а после них на
первом плане, конечно, представители того точного знания,
которое нашло себе первого страстного, неутомимого представителя в первом творце русского языка. Но если личность
Ломоносова была в этом смысле пророческой, то сам он едва ли
был пророком. После двухвекового опыта, едва ли можно
сомневаться в том, что его пророчество: «и может собственных
Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская земля
рождать» — начинает исполняться, конечно, mutatis mutandis * , только во второй своей половине. Едва ли можно сомневаться в том, что русская научная мысль движется наиболее
естественно и успешно не в направлении метафизического
умозрения, а в направлении, указанном Ньютоном, в направ* Изменив то, что следует изменить.
Ред.
лении точного знания и его приложения к жизни. Лобачевские, Зинины, Ценковские, Бутлеровы, Пироговы, Боткины,
Менделеевы, Сеченовы, Столетовы, Ковалевские, Мечниковы —
вот те русские люди, повторяю, после художников слова,
которые в области мысли стяжали русскому имени прочную
славу и за пределами отечества.
Это движение русской научной мысли было не равномерное, а ускорительное; ближайший к нам период, начиная
с шестидесятых годов, этой нашей русской эпохи Возрождения, отмечен небывалым, внезапным дружным подъемом русской мысли в области точного знания. Загляните в оглавления
иностранных ученых изданий за сороковые и начало пятидесятых годов, — русских в то время, можно сказать, не существовало, —• и вы не встретите почти ни одного имени русского
ученого; возьмите теперь любую книгу иностранного научного
журнала, и вы почти наверное встретите русское имя, а просмотрите библиографические издания, ежегодники — и вы
их встретите десятки. Но важно, конечно, не это возрастание
числа представителей науки, только легче подмечаемое, потому что бросается в глаза, оно могло бы и не свидетельствовать о зрелости русской мысли в этом направлении, — это
могли бы быть только имена преуспевающих учеников европейских учителей, — важно то, что существуют целые отрасли
точного знания: укажу на математику, химию и историю развития организмов, в которых русские имена не могли бы быть
вычеркнуты, не оставив за собой ощутительных пробелов.
Значит, в этих областях русские ученые не только догоняют,
но уже поровнялись, а порой ведут за собой своих европейских собратий, гораздо раньше их вышедших на работу. Значит, в этих областях, в математике и в естествознании, русский ум доказал свою равноправность, свою полную зрелость/
Этот знаменательный факт стоит того, чтобы на нем останавливались долее, чтобы к нему возвращались чаще, чем
это вообще случается. В каких областях знания дал русский
ум, за эти два века, самые очевидные доказательства своей
зрелости, самостоятельности и плодотворного творчества? Не
в тех, в которых, казалось бы, самыми естественными условиями он был огражден от конкуренции старших западных
собратий; не в тех сферах науки, в которых незнакомство
с языком устраняло эту конкуренцию иностранцев; даже в области естествознания не в тех отраслях его, которые по близости изучаемого предмета ставили его в условия более благоприятные, в сравнении с его западными конкурентами. Нет,
и это факт, кажется, всеми признаваемый: если в чем мы наиболее отстали от Запада, то именно в ближайшем знакомстве
с своею страной и ее произведениями. Не в накоплении бесчисленных цифр метеорологических дневников, а в раскрытии
основных законов математического мышления, не в изучении
местных фаун и флор, а в раскрытии основных законов истории развития организмов, не в описании ископаемых богатств
своей страны, а в раскрытии основных законов химических
явлений, — вот в чем, главным образом, русская наука заявила
свою равноправность, а порою и превосходство. Следовательно,
русская научная мысль наиболее успела не в том вообще направлении, в котором была ограждена от конкуренции на
несколько веков опередившей ее европейской науки. Нет,
она завоевала себе именно те почетные места, которые приходилось брать грудыо, с бою у своих конкурентов.
Эти успехи, эти победы, которые невозможно объяснить
лишь благоприятными условиями и еще менее счастливою
случайностью, не доказывают ли они, что причина их лежит
глубже, в самом естественном складе, в прирожденных наклонностях русского ума? И эти наклонности... не проявил ли их
русский человек гораздо ранее, чем успел их доказать на деле,
не проявил ли он их уже в свои ученические годы, когда собственно не было русской науки, когда наука была только
пересаженным на нашу почву чужеземным деревом? Этот
период длился долго, более века; эта чужеземная наука была
суровою мачехой, на попечение которой была сдана молодая
русская наука. Но ребенок, юноша, видит в мачехе только
ее суровость, человек возмужалый, в котором голос разума
заглушает голос чувства, готов порою простить ей свое тяжелое
детство, если только своим словом, своим примером она воспитала в нем высокое чувство долга и уважения к истине.
Возмужалая русская наука, я полагаю, давно простила своей
иноземной мачехе тяжелые ученические годы и только с бла-
годарностыо помнит высокие примеры, преподанные ей Эйлером и Палласом, Вольфом и Гедвигом, Пандером и Бэром,
Струве и Ленцом. Я не без умысла привожу этот длинный ряд
славных деятелей, которых западная наука ревниво оспаривает у приютившей их России; не доказывает ли он, что уже
в выборе своих учителей русский человек обнаружил наклонности, которые теперь с таким блеском проявил в своей самостоятельной творческой деятельности? Почему искусственно
насажденная у нас наука не дала такого же ряда блестящих
имен в других областях знания, какой дала в области математики и естествознания? И далее, почему позднее, в первой половине века, волна метафизического умозрения, чуть не затопившая немецкую науку, едва докатилась до наших пределов,
не оставив и следа на судьбах нашей науки? Будем ли мы и это
объяснять случаем или не допустим ли скорее, что и в этом
выборе своих учителей русский человек обнаружил только
свои прирожденные влечения?
Я полагаю, что все это не было делом случая, что, как
в выборе своих учителей, так и в блестящих, заявленных
перед всем миром, результатах своей собственной деятельности, русский человек проявил свою природную наклонность
\ нтти охотнее, а главное — успешнее, по следам Ньютона, чем
по пути Платона.
Радоваться этому или печалиться, или, быть-может, сле\ дуя завету великого Спинозы, не радоваться и не печалиться,
а понимать? Я полагаю, прежде всего, понимать, а затем и
радоваться/Понимать, потому что, какова бы ни была наша
личная точка зрения, это факт, с которым приходится считаться, — факт, которого не уничтожишь, закрывая перед
, ним глаза. А затем и радоваться, — радоваться потому, что
природные наклонности нашей расы отвечают требованиям переживаемого мыслящим человечеством исторического момента.
*
Научные сообщения на последнем, восьмом, съезде случайно привелось заключить мне словами: если восемнадцатый
век сохранил за собой гордое прозвище века разума, то де-
вятнадцатый назовут веком естествознания — позвольте мне
вернуться к этим словам и в самом начале настоящего, I X съезда.
С этим положением, конечно, охотно согласятся сторонники, а может быть даже и противники естествознания. Эти
последние, допуская, что девятнадцатый век — век естествознания, поспешат добавить: да, век железа, век пара, век
небывалого развития техники, век исключительной погони
за всяким материальным улучшением, и вслед затем разразятся филиппикой, громя упадок умственного охвата, опла/
кивая суживание идейных горизонтов. Но мы, натуралисты,
конечно, ни в каком случае не можемитти на такую уступку,—
ничто не может быть менее справедливо, никакое из ходячих
предубеждений против естествознания не должно вызывать
более горячего отпора со стороны представителей науки. Рассуждающие так принимают внешний признак за самое содержание того научного движения, которое навсегда отметит
фазу умственного развития, переживаемого человечеством
в X I X столетии.
Мне кажется, что с гораздо большим правом можно утверждать прямо обратное, что наука девятнадцатого века
привела к тем небывалым результатам, в материальном, утилитарном смысле, именно благодаря тому, что приняла и
принимает все более и более отвлеченный, идеальный характер. Здесь, как и в области этической, оправдалось правило:
ищите истины, «а сия вся приложатся». Ослепляющие нас
приложения посыпались как из рога изобилия с той именно
поры, когда они перестали служить ближайшею целью науки.
Только с той поры, когда наука стала сама себе целью — удовлетворением высших стремлений человеческого духа, явились
как бы сами собой и наиболее поразительные приложения
ее к жизни: это —• самый общий, самый широкий вывод из истории естествознания. Вспомните историю химии: она ли не стремилась вначале к непосредственно утилитарным целям? Служила она и искателям золота и философского камня; была
она и на послугах металлургии и на послугах медицины; была
она и алхимией и айтрохимией, пока не стала просто химией,
т. е. самодовлеющею чистою наукой, и с той минуты посыпались щедрою рукой ее бесчисленные применения, и, конечно,
если бы только возможно было подвести им итог, то они
стоили бы, в конце концов, открытия золота и философского
камня. А медицина? Сколько тысячелетий стояла она перед
своею непосредственною задачей — целением больного организма,' пока не убедилась, что надо повести дело издалека,
что, прежде чем целить, нужно еще знать, что происходит
в организме, здоровом и больном! А современная агрономия?
Не служит ли она еще более свежим доказательством, что
практические приложения являются только результатом успехов чистых знаний?.. Не в поисках за ближайшими приложениями возводится здание науки, а приложения являются
только крупицами, падающими с ее стола. «La science ne remonte jamais» *, сказал один из основателей рациональной
агрономии Буссенго.
Я позволяю себе утверждать, что как для успешного развития точного знания, так и для возможно плодотворного
приложения его к жизни нельзя достаточно часто, достаточно
громко возвышать голос против упорного, широко распространенного предрассудка, будто общественная польза, народное благо требуют, чтобы представители науки постоянно
имели в виду непосредственные житейские цели, что особенного поощрения заслуживает только научная деятельность,
непосредственно осуществляющая эти практические задачи.
И голоса, восстающие против этого узкого взгляда, не переставали раздаваться в течение всего века. Кювье — сам администратор, министр, близкий к правительственным сферам — во введении к своей Histoire des progrès des sciences
naturelles** счел возможным бросить такой упрек современным
ему правительствам: «Большая часть правительств считает
себя в праве признавать и поощрять в науках только их ежедневные приложения к потребностям общества. Для них,
как и для толпы, эта широкая картина, которую мы развернем
на следующих страницах, покажется только рядом умствований — более любопытных, чем полезных. Но люди сведущие,
не ослепленные предрассудками, слишком хорошо знают,
что все эти практические усовершенствования, увеличиваю* Наука никогда не идет вспять. Ред.
* * История развития естественных наук.
Ред.
щие сумму жизненных удобств, только крайне простые и легкие приложения общих теорий, и что, наоборот, едва ли найдется в науке какое-либо открытие, которое не заключало бы
в себе зародыша тысяч полезных изобретений».
Таков был голос ученого в первой четверти этого столетия,
а вот что говорил, чуть не вчера, другой ученый, обращаясь
на этот раз не к правительствам, а к обществу самой цветущей из современных демократий.
Вот слова Роланда, известного американского физика,
сказанные в собрании, подобном нашему: «На каждом шагу
мне задают вопрос: что важнее — чистая или прикладная
наука? Но ведь для того, чтоб явились приложения, наука
уже должна существовать. Если, в пбгоне за приложениями,
мы задержим ее развитие, мы выродимся в народ, подобный
китайцам, не сделавшим в течение поколений никаких успехов потому только, что они довольствовались одними приложениями, не заботясь о раскрытии их причин. Только исследование причин составляет науку. Китайцы знали в течение веков применение пороха; исследование причин его действия, должным образом направленное, привело бы к созданию
химии и физики со всеми их применениями. Но китайцы довольствовались фактом, что порох взрывает, и отстали в общем
человеческом развитии, и вот мы их теперь величаем варварами». «А мы, — продолжает Роланд, обращаясь к своей
американской аудитории, — разве мы сами не в таком же
положении? Мы поступили еще лучше: мы взяли науку у Старого Света и применили ее к своим целям. Мы получили ее
как дождь небесный, не спрашивая, откуда он берется. Мы
даже не сознаем, что должны быть благодарны тем бескорыстным труженикам, которые дали нам эту науку. И вот, подобно
дождю небесному, эта чистая наука ниспала на нашу страну
и сделала ее великой, богатой и могущественной. Для всякого
цивилизованного народа в настоящее время приложения науки
являются необходимостью; но если наша страна успевала
до сих пор в этом направлении, то потому только, что где-то
на свете существуют страны, где чистая наука возделывалась
и возделывается, и где изучение природы считается благородным, высоким занятием».
Таким образом, с начала века и до его конца, на различных
точках земного шара, при самых несходных обстановках,
мы слышим красноречивые голоса, горячо убеждающие и правительства, и общества не придавать несоответственного значения техническим приложениям в сравнении с породившими
их научными учениями, не смешивать внешнего признака
с внутренним содержанием науки.
Да, все эти блестящие материальные приложения только
внешний, — я готов почти сказать: случайный, — признак
того глубокого идейного движения, которое отметило X I X век.
Не в бесчисленных единичных изобретениях и приспособлениях, как это желали бы видеть наши противники, а в широком
философском синтезе выразился этот могучий охват научной
мысли, все более и более оправдывающий убеждение во внутренней связи, в единстве всего естествознания. Если мы остановимся сначала на обширном цикле наук, имеющем своею
задачей объяснение явлений природы, и начнем с самой молодой науки — с физиологии, то, не смущаясь одинокими,
сиротливо раздающимися
голосами,
встретим
всеобщее
признание, что свои объяснения она должна
строить
только на точных данных физики и химии; переходя к этой
последней, видим, что она все более и более стремится
к слиянию с физикой, а физика, еще в начале века представлявшая аггломерат почти независимых дисциплин, объединенная гением Гельмгольтца и Максуэлля. в свою очередь,
все более и более поглощается механикой. Переходя к циклу
наук описательных, встречаемся с тою же картиной. Все
его отрасли, существовавшие ранее или только возникшие
в течение века, классификация, сравнительная анатомия,
морфология, эмбриология, история земли и географическое
распределение организмов, — сливаются в одно стройное,
величественное целое в могучем синтезе эволюционного учения. «Если меня спросят, — говорит в своей блестящей ака• демической речи известный физик Больцман, — если меня
спросят, как я назову девятнадцатый век, — веком железа,
пара или электричества, — я, не задумываясь, отвечу: нет,
я назову его веком механического объяснения природы и веком Дарвина».
,
Восставая против отождествления внешних успехов техники с более глубоко-скрытою внутреннею работой творческой
научной мысли, мы, конечно, не станем отрицать, что эти
применения являются самым наглядным знамением могущества
науки. Scientia est potentia *, провозгласил, если не законодатель, то герольд, глашатый новой научной эры — Бэкон,
и его соотечественники ранее всех прониклись этой идеей
и передали ее на родном языке словами: Knowledge is power*,
а другой, не менее глубокий мыслитель прибавил позже: Savoir
c'est prévoir**. Мочь и предвидеть — дар чудодействия и дар
пророчества, вот о чем с самой своей колыбели мечтало человечество, наделяя ими своих мифических и сказочных героев.
Эти два дара принесла ему наука, и только ежедневная привычка к ее чудесам мешает нам ясно сознавать. Младенец
Геркулес задушил руками змея, а в другом месте, в другой
век, ребенок одним пальцем вырвал подводные скалы со дна
моря и разметал их в воздухе. Соловей-разбойник оглушал
прохожих своим свистом, а в другом месте, в другой век, человек говорит, не возвышая голоса, и его речь разносится
на сотни верст. Что здесь миф, что сказка, — что действительность? Оракулы древности, говорят, порою прорицали и впопад, но их прорицания бледнеют в сравнении с пророчеством
науки наших дней. Леверье и Адаме предсказывают, что в темной бездне мировых пространств должна быть видима никому
неведомая планета, и, послушная их слову, она является в указанное время, на указанном ей месте. Димитрий Иванович
Менделеев объявляет ученому миру, что где-то во вселенной,
может быть на нашей планете, а может быть и в иных звездных
мирах, должен найтись элемент, которого не видел еще человеческий глаз; и этот элемент находится, и тот, кто его находит при помощи своих чувств, видит его на первый раз хуже,
чем видел своим умственным взором Менделеев, — это ли
не пророчество?
Остановимся ли мы на идейном содержании естествознания
или на блестящих его приложениях к запросам жизни, мы не
можем не признать, что небывалый его рост — самая выдаю* Наука — могущество. Ред.
* * Знать, значит предвидеть.
Ред.
щаяся черта в истории мысли X I X века, быть-может, в истории мысли вообще, так как никогда, конечно, не проявлялись
в такой мере победа человека над природой, торжество идеи
над материей.
Но если все сказанное верно, если, по удачному выражению одного германского ученого, человечество находится
теперь в «созвездии естествознания», то не имел ли я права
сказать, что есть полный повод радоваться тому, что русский
ум заявил о своей природной наклонности, о своей творческой
способности в том именно направлении, которое составляет
задачу века? Проявляется ли в этом провиденциальная роль
русского народа, о которой так часто говорят, или это только
счастливая случайность, — во всяком случае, нельзя не радоваться счастливому совпадению, нельзя не радоваться тому,
что русская мысль после долгих веков молчания выступает
на общечеловеческую сцену в тот именно момент, когда является
запрос на умственные качества, наиболее присущие ее природному стремлению.
Здесь снова само собою напрашивается сравнение между
нашею наукой и изящною литературой. Почему, когда в Европе
был спрос на застывшие условно-классические формы, мы имели
только Тредьяковских, Херасковых и Княжниных, а когда
потянула свежая струя, явились Пушкин, Гоголь, Тургенев
и Толстой? Почему, пока в науке царила схоластика или сменивший ее исключительный культ древних, почему пока Германия увлекалась философскими системами, так вредно отразившимися на естествознании в форме натурфилософии, мы
не ссудили Европе почти ни одного имени, а когда возник все
возрастающий запрос на точное изучение природы, явились
русские ученые, смело ставшие в ряды нас опередивших европейских братьев?
Случалось ли вам, следя за музыкальным исполнением,
рассеянно остановить свой взгляд на артисте где-нибудь в дальнем углу оркестра? Вам кажется, что он относится совсем
безучастно к тому, что совершается вокруг, он будто дремлет,—
уж не заснул ли он совсем?.. Но не спешите: пройдет минута,
и он очнулся, оживился, берет свой инструмент — и полилися
звуки; они растут, растут, сливаясь в общую гармонию с осталь^
К . А. Тимирязев,
т.
Г
49
ными. Не так ли было с русским человеком? Дремал он долгие
века, пока в общечеловеческой симфонии не прозвучали звуки,
на которые нашелся отклик и в его груди. Эти звуки: в искусстве — жизненная правда и реальная истина — в науке.
Я начал с впечатления, производимого этою залой, а кончил историческим «созвездием», в котором находится современное мыслящее человечество. Пора вернуться в эту залу.
Позвольте же мне, идя обратным ходом, подвести итоги. Если
меня спросят: какая область знания наложила неизгладимую
печать на весь умственный облик X I X века? — я отвечу смело:
естествознание. Если спросят далее: каких научных знаний
искал, прежде всего, русский человек, очнувшись от векового
сна, в лице своих славнейших представителей, самых русских
из русских людей — Великого Петра и Ломоносова? — ответ, конечно, будет тот же: естествознания. В чем дала лучший
плод перенесенная на нашу почву европейская наука? — в естествознании. В какой научной области всего яснее заявила
о себе русская мысль и получила свой аттестат зрелости из рук
наших старших европейских братьев? — несомненно, в естествознании. Наконец, какая отрасль наук собирала у нас
до сих пор такие многочисленные и блестящие собрания? —
я полагаю, что не ошибусь, ответив еще раз: естествознание.
Итак, если тот век, в котором мы живем, принадлежит
естествознанию, то этот день принадлежит русскому естествознанию, — той у нас отрасли науки, в которой русская мысль
всего очевиднее заявила свою зрелость и творческую силу.
Вот тот строй мыслей, который возникает в моем представлении, когда я повторяю вновь: именем Московского
университета приветствую вас на этом празднике русской
науки.
II
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ
УЧЕНЫХ ОБЩЕСТВ 1
П
ервый шаг, начало всякого замышляемого дела, представляется всегда удобным моментом для того, чтобы
на время отрешиться от ежедневных, ближайших, специальных задач и попытаться окинуть взглядом более широкий
горизонт, посмотреть, какую связь эти частные задачи, разрешимые единоличными усилиями в избранной сфере деятельности, имеют с целым, к которому относятся, как отдельные
звенья. Какую роль призваны играть ученые общества в ряду
других факторов, служащих развитию знаний, какую особую
пользу могут они приносить, против какого зла бороться, —
вот вопросы, на которые я желал бы дать посильные ответы,
сначала специально в применении к ботаническому отделу,
а затем и по отношению ко всему обществу, которого мы составляем только часть.
. 1 Речь, читанная в императорском обществе любителей естествознания по случаю открытия ботанического отдела (в 1884 г. Ред.),
4*
51
Различные отрасли нашей науки — ботаники — стоят на
весьма различных степенях развития, находятся в совершенно различных условиях: одни имеют более местный, другие общий, так сказать, космополитический характер, отсюда
л потребности их, их недостатки, злоба дня у них иногда совершенно иные.
Изучение ботаники, очевидно, должно начаться со знакомства с возможно большим числом представителей растительного мира: это — область систематики растений. Только
на этой почве, на этом фактическом фундаменте является возможность обобщения, — будет ли это обобщение иметь в виду
растение как форму и называться морфологией, или рассматривать растение как явление и называться физиологией. Между
тем как задачи морфологии и физиологии, по самой своей
общности, делаются совершенно независимыми от всяких местных условий, задачи систематики остаются местными и
общими. Изучение всего растительного мира, очевидно, должно
начинаться со знакомства с теми его представителями, которые нас окружают. Эта, самая начальная, стадия ботанического знания везде, и в Западной Европе, и в Америке,
опередившая все остальные его отрасли, наоборот, у нас
представляет едва ли не самое слабое, больное место. Ограничусь одним фактом, коротко знакомым каждому преподавателю. Ваш ученик, уезжая на лето домой, обращается к вам с естественным вопросом: «какое мне взять с собою сочинение для
определения растений», — и если только он отъезжает от Москвы на несколько сот верст, ваш неизбежный, лаконический
ответ будет: «никакого», потому что его действительно не существует Ч А между тем едва ли найдется такой уголок Германии, где бы любой школьник не мог разобраться в окружающем его растительном мире при помощи превосходных определителей, приспособленных к общей германской или специальной местной флоре. Кроме «Московской флоры» покойного проф. Кауфмана, на которой вот уже четверть века воспитываются русские ботаники, кроме этого превосходного
сочинения, конечно, более всякой другой русской книги спо1 Сказанное относится к 1884 г. С тех пор появившееся сочинение
г. Шмальгаузена восполняет этот недостаток для юго-заладной России.
собствовавшего распространению основательных ботанических
сведений, не существует ни одной вполне пригодной книги,
которую можно было бы дать на руки желающему ознакомиться с окружающей его флорой. Почему же не существует?
Потому, что местные флоры так еще неудовлетворительно
обработаны, что подобные сочинения невозможны за недостатком материала. Почему же не обработаны? Потому, что
усилия отдельных ученых недостаточны для осуществления
подобной задачи; необходимо, чтобы само общество, все интересующиеся этими знаниями пришли им на помощь. Но,
быть может, ни в одной отрасли знаний наше общество не
отстало так от западного, как именно в знакомстве с окружающей природой. Тогда как, например, в Англии люди, занятые самыми разнообразными отраслями практической деятельности, в досужее время находят разумное развлечение
в изучении природы, образуя разные field Clubs *, предпринимая общественные экскурсии, устраивая состязания, в которых нашедший и точнее определивший наибольшее число
растений получает приз, организуя специальные выставки,
как, например, выставка грибов и т. д., — у нас эти знания,
за крайне редкими исключениями, являются почти исключительно уделом лиц, получающих высшее специальное образование. Чем объяснить это? Очевидно, мы, прежде всего, вертимся в каком-то ложном кругу: е одной стороны, знания эти
не будут широко распространены, пока не станут более доступными, а с другой стороны, как мы видели, самые существенные пособия не могут быть выработаны единичными
усилиями ученых. Выйти из этого круга, очевидно, возможно
только одновременными дружными усилиями.
Но, мне кажется, причина этого неудовлетворительного
знакомства с блгокайшими произведениями природы, характеризующего наше общество, а отчасти и науку, лежит глубже,
в какой-то национальной или только временной особенности
нашего умственного склада, не ускользнувшей от такого зоркого наблюдателя, как Пирогов. Мы мало ценим простое
обладание фактом. А, между тем, существуют области знаний,
* Полевые клубы.
Ред.
•
п
53
в которых все именно сводится на обладание обширным запасом фактов, интерес которых растет вместе с их числом, —
такова именно систематика. Это малое расположение к чисто
фактическим знаниям — не выражается ли оно и в том замечательном явлении, что, несмотря на кажущееся расположение нашего общества к естествознанию, ни один естественноисторический журнал не мог выдержать борьбы с его действительным равнодушием. На страницах наших толстых журналов естествознанию также не отводится того места, какое оно
занимает в журналах Запада; если оно и проникает на эти
страницы, то чаще всего в качестве полемического оружия,
как ancilla * философии, социологии, чего угодно, но не как
предмет самостоятельного изучения. Не обнаруживается ли
в этом только одно из проявлений сравнительно молодой культуры! Мы все боимся от кого-то отстать, куда-то опоздать,
боимся задержаться на мелочах и требуем поскорее самого
главного, самого общего, последнего вывода. Только в странах с более старой культурой, которые никуда не торопятся,
никого не догоняют, встречаемся мы с такими явлениями:
член парламента, сегодня говоривший на митинге речь в пользу
реформы, завтра будет сообщать в ученом обществе о нравах
пчел и муравьев или издаст сочинение о строении цветка,
или, наоборот, специалист зоолог, вчера разделявший славу
Дарвина, сегодня пишет трактат о национализации земли.
В такой среде всякое знание находит себе цену, а вместе с тем
являются и досуг, и желание его приобретать.
Итак, мне кажется, нам, прежде всего, приходится в значительной степени освободиться от этого коренного, подмеченного Пироговым, недостатка, а затем при дружных усилиях
и ученых и общества дело изучения ближайшей, окружающей
нас природы должно пойти вперед. Что общество не совсем
безучастно относится к этому вопросу, доказывает довольно
значительное число лиц, откликнувшихся на призыв проф.
Цингера, обширным познаниям в области отечественной флоры
и неутомимой энергии которого мы обязаны, что дело изучения среднерусской флоры сделало в последнее время успехи
? Служанка.
Ред.
и обещает еще большие в недалеком будущем 1 . Но на какой
же почве всего лучше может достигаться эта цель, как не на
почве ученых обществ, где и специалист ученый, и начинающий
любитель могут оказать взаимную услугу? В привлечении
к этому делу всех способных сил, в облегчении сношений,
в развитии вообще охоты к изучению ближайшей, окружающей
нас природы, — словом, в увеличении всеми средствами недостаточного фактического материала должна заключаться
одна из первых задач нашего общества.
Если от этих, чисто местных, своих задач мы перейдем
к другим областям ботанического знания, с их общими, так
сказать, космополитическими задачами, картина в значительной степени изменяется. Конечно, и здесь главную роль играет
привлечение новых сил, увеличение фактического материала,
но рядом с этой основной задачей является и другая, с каждым
годом все более и более выясняющаяся забота — забота, как
справиться с двумя угрожающими вредными последствиями
быстрого роста науки, с колоссальным накоплением фактического материала и постоянно возрастающей специализацией
научного труда. С одной стороны, научная литература достигает таких размеров, что отдельному лицу становится уже
не по силам совладать со всем ее объемом по сколько-нибудь
обширному отделу; с другой стороны, каждый ученый уходит
все глубже и глубже в свою специальную область, невольно
отрешаясь от того, что творится кругом, — вот два обстоятельства, над которыми, я полагаю, не раз задумывался современный ученый. Рассмотрим их последовательно.
Беспримерный количественный рост современной научной
литературы носит очевидные следы качественного упадка.
В былое время, научная мысль зрела в тиши кабинета годами,
десятками лет, за то и выступала она на свет во всеоружии,
поражая своей силой, целостностью и законченностью. Что
этот процветавший в доброе старое время способ обработки
мысли мог бы найти применение и в настоящее время, доказывает пример Дарвина, двадцать лет обдумывавшего основ1 Ожидания эти уже осуществились. Замечательный труд В . Я. Цингера «Сборник сведений о флоре средней России» отметит эпоху в изучении русской флоры.
ную мысль своего учения. Теперь же нередко, наоборот, едва
схваченная, недозревшая мысль спешно набрасывается на бумагу, незасохший листок летит в типографию, не успели еще
его оттиснуть, как вслед летит добавление — какой-нибудь
Nachtrag или Berichtigung *. Журнал убил книгу, газета убивает журнал; каждая лаборатория, каждый институт стремятся создать свой орган, который необходимо чем-нибудь
наполнить. Еще один шаг, и мы дойдем до ежедневных бюллетеней о том, что такой-то ученый сделал сегодня, что он
предполагает сделать завтра, и, быть может, эти бюллетени
будут извещать о деятельности не тех именно ученых, которыми наиболее интересуется наука. Можно подумать, что
эта лихорадочная поспешность объясняется естественным желанием обеспечить за собой право на открытие, на новую мысль;
но и в этом отношении средство убивает цель. Мысли затериваются, вновь открываются, нередко через десятки лет приобретают всю прелесть новизны. Невозможность разобраться
в вопросах так называемого приоритета доводит людей миролюбивых до того, что они прямо вперед отрекаются от прав
на свои мысли; так поступает, например, Де-Бари, иронически заявляющий в предисловии к своей книге, что он, во избежание всяких пререканий, вперед соглашается, что каждая, высказанная им на ее страницах, мысль имела уже своего
автора, издателя и типографщика.
Спешность работы влечет за собой неизбежное последствие — многоречивость. Я полагаю, каждому ученому нередко приходилось прочитывать десятки, иной раз и сотни
страниц для того, чтобы вынести утешительное убеждение,
что их можно было вовсе не читать.
Но если от этого зла «многоглаголания» легко было бы
освободиться, лишь бы явилось убеждение, что не в нем спасение, то другое зло — зло крайней специализации — является почти неизбежным; с ним во всяком случае приходится
считаться, более того, с ним нужно примириться; едва ли его
даже можно назвать злом, потому что если в нем заключается
слабость, то в нем же и сила современной науки. В настоящий
* Послесловие или исправление.
Ред.
Обложка журнала
,, Будильник"
период ее развития, каждый ученый, — гениальные исключения, конечно, не идут в счет, — желающий двигать, обогащать науку, неизбежно вынужден сосредоточиться на специальности, пожалуй, даже на узкой специальности; он должен
чувствовать себя хозяином в избранной области, иначе его
труд не будет плодотворен, его слово не будет авторитетно.
Интенсивность современного научного труда исключает его
экстенсивность.
Но как же согласить это с требованием единства науки?
Как бороться против этого неизбежного хода ее развития,,
порою вызывающего в воображении тревожный призрак какого-то вавилонского смешения языков, когда один ученый
перестанет понимать другого, или, по меньшей мере, перестанет интересоваться его деятельностью? Конечно, не сетовать
об этом роковом, бесповоротном ходе развития, а направить
его не ко вреду, а к пользе, — вот в чем одна из насущных
потребностей науки. Для этого ей стоит только подражать
природе. Разделение труда между отдельными органами тела
клонится не ко вреду, а к пользе, к совершенству, потому что
вред не в самом разделении труда, а лишь в несовершенстве
обмена плодами этого разделенного труда. Обеспечьте в таком же совершенстве, как это делает природа, обмен, и это
начало разделения труда и в человеческих делах явится таким же плодотворным, как и в произведениях природы.
Следовательно, не отказаться от специализации научноготруда, что невозможно, а сделать безвредными ее последствия,
обеспечив возможно совершенный обмен продуктами этого
разделенного труда, —вот в чем задача. И здесь на первый
план, мне кажется, выступает деятельность ученых обществ.
Но позвольте, быть может, возразят: а литература — для
чего же она служит, как не для обмена знаний? И, наконец,
что же тут нового, — конечно, люди собираются в ученые
общества для обмена знаний? Разберем оба эти возражения.
Я только-что старался показать, быть может, в преувеличенно
мрачной, но, конечно, все же в недалекой от действительности
картине состояние научной литературы; она-то и представляет
ту крепость, которую приходится штурмовать общими силами,
разделившись, для более удобного действия, на отряды. Справ-
ляться с литературным материалом удается специалисту только
в своей области, — за ее пределами перед ним нередко мелькают только ряды имен, фактов, цифр, нередко противоречащих и согласить которые он сам не в силах. Различные
Jahres-Bericht'bi * облегчают только механическую сторону
дела, дают возможность узнать, что было и что не было предметом исследования, по необходимости ограничиваясь только
более или менее полным перечнем содержания.
Что же касается возражения, что ученые общества и теперь
служат для обмена знаний, то мне кажется, что и обычная их
практика, да и самые воззрения на их задачу, должны бы
существенно измениться, чтоб они могли успешнее служить
указанной выше цели. Главную цену, гордость ученых обществ, принято видеть в оригинальных сообщениях о вновь
добытых референтом фактах, обыкновенно крайне специальных, — не каждый же день делаются крупные открытия, —
нередко случайных, в том смысле, что они лишь временно,
лишь мимоходом обратили на себя его внимание. Специальный
и чисто-фактический характер таких сообщений, по большей
части, делает возможным единственное к ним отношение:
только, выражаясь официальным слогом, принятие их к сведению. Потому-то заседания обыкновенно превращаются в ряд
монологов, почти не вызывая деятельного участия остальных
присутствующих. Разумеется, я нимало не возражаю против
значения и таких сообщений, но мне кажется, что не в них
именно, как принято считать, заключается или должна заключаться характеристическая особенность общественной деятельности, как коллективной, как чего-то отличного от индивидуальных усилий отдельного лица. Подобные специальные
исследования появляются потом в печати; они обыкновенно
и читаются в собрании с этой целью и могут быть с большим
удобством изучены при чтении; общество своим присутствием
ничего не привносит от себя, ничего не прибавляет к их цене.
Повторяю, я возражаю не против подобных сообщений, а против очень распространенного и, как мне кажется, неверного
мнения, что в них именно и заключается вся сила общества
* Ежегодники.
Ред.
и что, обратно, рефераты о чужих исследованиях только свидетельствуют о бедности его наличных сил. Едва ли где, кроме
самых крупных центров научной деятельности, найдется общество, которое в каждом заседании могло бы предъявлять
выдающиеся исследования, а сообщение частных, мелких,
случайных фактов, только потому, что они новы, необходимо
будет оставлять общество безучастным. Мне представляется,
что если бы вместо этих сообщений или рядом с ними, в заседаниях обществ, съездов, конгрессов предлагались критические своды, обзоры, обнимающие более или менее широкую
область фактов, взвешивающие, оценивающие относительную
убедительность противоположных свидетельств, соглашая их
или подводя им итог, — то такие доклады, уже по тому одному, что они захватывали бы более широкую область интересов, не оставляли бы слушателей безучастными, вызывали бы
всесторонние обсуждения и в результате освещали бы целые
области науки, остающиеся в тени или представляющие хаотический сбор материалов. Подобные критические обзоры, всесторонне обсуждаемые, представляли бы драгоценное приобретение; их почти полное отсутствие представляет характеристическую особенность современного состояния ботанической литературы, один из коренных ее недостатков. Как будто
установилось такое представление, что писать можно только
по поводу каких-нибудь манипуляций. Эмпирическому факту
придается несоразмерная цена, критической же мысли отводится все более и более скромное место. Я не сумел бы указать
за последние годы ни одной выдающейся критической статьи,
если не называть критикой чисто-личную полемику. В учебниках нередко самые противоречащие факты мирно укладываются на соответствующих страницах книги, если только
составитель не прибегает к новому приему, провозглашенному
недавно Саксом. Глава современной физиологической школы,
в предисловии к своему недавно появившемуся курсу физиологии, высказывает такое общее положение: «Слушатели
(а следовательно и читатели его книги) желают и должны
знать, как складывается наука в уме их профессора; для них
совсем не существенно знать — так или иначе думают другие».
Понятно, что перед таким героическим приемом сглаживаются
все противоречия; но насколько выигрывает истина и во что
превратится наука, если этот прием сделается всеобщим, —
вот в чем вопрос. Этому-то существенному упадку научной
критики должны оказать отпор возбуждение более общих
вопросов и их всестороннее обсуждение в ученых обществах,
на съездах и конгрессах; в этом и будет выражаться преимущество коллективной мысли перед одинокими усилиями или
произволом отдельного лица
Высказывалась иногда мысль, что коллективная деятельность могла бы с пользою быть распространена и на область
научного исследования. На последнем съезде естествоиспытателей в Петербурге, проф. Вагнер развивал именно эту мысль
о необходимости, в виду крайней специализации, организовать самый научный труд, подчинить деятельность отдельных
исследователей общему плану, под руководством научной
иерархии. Эта мысль была встречена, повидимому, сочувственно, — не столько, впрочем, в среде ученых, сколько
за ее пределами. Помнится мне даже, в одном журнале она
была провозглашена единственной живой мыслью, высказанной в течение всего съезда, и потому, будто бы, отвергнутой
учеными-бюрократами. Но едва ли можно согласиться, чтобы
подобная организация научного исследования, если б она
и оказалась возможной, была желательна. Никакая подобная
искусственная организация, именно напоминающая бюрократический прием «получения сведений», не подвинет науки.
Артельное, даже подчиненное строго-иерархическому контролю
производство науки представляется мне таким же невозможным, как и подобное производство поэзии. В компании пишутся водевили, оперетты, смехотворные стихотворения, но
едва ли какое литературное товарищество подарит миру
«Фауста» или «Гамлета». Гассказывают анекдот, будто ГейЛюсак однажды приглашал Тенара предпринять общую работу. «Хорошо, — согласился Тенар, — но как же мы разделимся?» — «Очень просто: toi — tu travailleras et moi—je1 Эта мысль, высказанная мною почти четверть века тому назад,
начинает осуществляться на съездах английских и немецких натуралистов.
blaguerai *,—ответил'Рей^Люсак. В этой шутке, очевидно,
проглядывает основная <мЫрль, что во всякой подобной ассоциации идея будет на оцной стороне, а на другой лишь только
исполнение. То об4е^$ияющее влияние, о котором заботится
проф. Вагнер, — влияние, которое дает в известный момент
направление научным исследованиям, — дело гения; только
гений в науке дает право на руководство, только он и внушает
подчинение. Является Лавуазье, является Дарвин — и все,
волей-неволей, охотно или упираясь, протестуя или соглашаясь, идут по указанному пути. Лотому-то едва ли можно
согласиться с другим ученым, с Полем Бером, который в неостывшей еще злобе к тому «homme providentiel» * * , который
чуть не погубил Францию, высказывает мысль, что их пора,
быть может, миновала и в науке, что современная наука может с успехом двигаться усилиями толпы скромных тружеников. Он не сказал бы этого, конечно, если бы занимался не
физиологией животных, а физиологией растений. Он увидал бы,
как различны результаты научной школы, во главе которой
стояли гениальные умы, от той, во главе которой стоят лишь
заурядные ученые. Сравнение двух немецких школ, физиологии животных и физиологии растений, крайне поучительно,
как доказательство, с одной стороны, «провиденциального»
значения гениев в науке, отрицаемого Бером, и с другой,
бесплодности искусственной организации, желаемой Вагнером, если она не основана на естественном преобладании таланта. Между тем как современная физиология животных обязана своим началом светлому, всестороннему уму Иоганеса
Мюллера и целому ряду научных светил — его учеников:
Гельмгольтцу, Дюбуа Реймону, Брнжке, Людвигу — физиология растений ставит во главе имя Юлиуса Сакса и в списке
его учеников — Крауза, Пфеффера, Де-Фриза, Детмера и др.
Я полагаю, нужно дойти до значительной степени ослепления,
чтобы не сознаться, что в сравнении с первыми эти последние — только dii minorum gentium***. Этому различию соответствует и различие в успехах обеих наук. А, между тем,
* Ты будешь работать, а я буду болтать. Ред.
* * Человек, посланный провидением. Ред.
* * * Боги более мелких народов. Ред.
нельзя сказать, чтобы этой школе Сакса недоставало организации, подчинения общей деятельности руководящей воле
одного. Организация есть, самая строгая, подчинение самое
безусловное. Едва ли, в темные века схоластики, слово Аристотеля имело более обязательную силу, чем слово Сакса для
его последователей; мы это видели в его афоризме, что ученик
хочет и должен знать только мысли своего учителя. Организация есть и самая деспотическая; нет только того, что одно
может вдохнуть живую душу в этот организм — гения Лавуазье или Мюллера, а потому-то она приносит не пользу,
а несомненный вред. Если бесплодны споры о том, французская ли наука химия, немецкая ли наука физиология, если
в тех слоях научной атмосферы, в которых вращаются Лавуазье, Гельмгольтцы, Дарвины, уже слабо ощущается влияние почвы, то не подлежит сомнению, что на уровнях менее
высоких национальные особенности, а, следовательно, и недостатки — влияют очень заметно. Эти-то национальные особенности выразились в физиологии растений, с одной стороны,
в метафизической трансцендентальности, в оторванности от фактической почвы, которыми страдает большинство ее теорий,
и, с другой стороны, в том недостатке, навеки заклейменном
величайшим представителем германского гения в его мефистофелевском сарказме:
wo Begriffe fehlen
Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein.
Mit Worten lässt sich trefflich streiten,
Mit Worten ein System bereiten,
An Worte lässt sich trefflich glauben
Von einem Wort lässt sich kein Jota rauben * .
Этот культ слова, переживающего мысль, — слова, скрывающего ее отсутствие, — одна из особенностей современных
немецких физиологических учений. Нельзя без улыбки читать
* Где отсутствуют понятия,
Там вставляется в надлежащее время слово.
Словами диспуты ведутся,
Из слов системы создаются,
Словами можно убеждать,
Но только в них нельзя ни йоты изменять.
выражения беспомощности, вырвавшиеся недавно у одного
английского ботаника (Мастерза) по поводу града терминов
новейшего производства, сыплющихся на ботаника-систематика, который попытался бы из своей специальной области
перешагнуть в смежную область анатомии и физиологии.
И действительно, для одной протоплазмы мы уже имеем чуть ли
не десять терминов, худо определенных, покрывающихся
то вполне, то лишь отчасти, так что порой действительно представляется мысль о необходимости, в недалеком будущем,
составить для терминологии такие же словари синонимов,
какие в систематике существуют для номенклатуры.
Эти два недостатка приносят особый вред, вследствие заметного отсутствия в ботаниках-физиологах того именно знания, которое составляло силу школы Иоганеса Мюллера,
славу его учеников, — знания физики. Неудовлетворительность этих знаний нередко доходит до глухой враждебности,
прорывающейся наружу в форме заявлений, что у физиологии
есть свои законы, свои методы исследования, кратчайшие
пути; но чаще всего она ограничивается только внешним,
поверхностным увлечением завоеваниями физики и неумелыми
попытками им подражать. В результате этих трех недостатков
является порою полное затемнение самого понятия о научном
объяснении. Ослепленные блестящими завоеваниями науки
в невидимом мире атомов и их движений, ботаники-физиологи
нередко полагают, что достаточно повторять в различных сочетаниях эти магические слова: атом, полярность, молекулярное
движение, — забывая, что когда химик говорит о частицах
и физик о движениях, то они их измеряют или точно, или
хотя приблизительно. Но что, кроме слов, дает нам, например, теория брожения Негели, завоевавшая себе многих поклонников и поясняющая, что брожение есть своеобразное и многообразное движение молекул протоплазмы? Движение конечно, — всякое явление есть движение, — но какое? Что, кроме
туманных слов, дает Сакс в своей теории свойств стебля и корня, — теории, допускающей, что в этих органах известные
химику вещества: белки, крахмал, клетчатка — одарены неуловимыми для химического анализа противоположными свойствами, заставляющими их стремиться то к небу, то к земле?
А его последователь, Детмер, глубокомысленно добавляющий,
что для полноты теории стоит только допустить, что те же вещества в стебле и в корне одарены различной полярностью,
заставляющей их различно ориентироваться по отношению
к той же внешней силе, — что он дает, кроме слов? Порою,
когда встречаешься с подобными теориями, в памяти невольно
воскресает воспоминание о Мольеровском докторе, который
на вопрос, почему опиум усыпляет, самодовольно отвечает:
Quia est in ео
Virtus dormitiva
Cujus est natura
Sensus assupire *.
И подобные-то теории распространяются учебниками в сопровождении обычных в таких случаях эпитетов bahnbrechend,
epochenmachend * * .
Рядом с этой оторванностью теории от фактической почвы
является и другая крайность — какое-то преклонение перед
эмпирическим фактом. Теория, строго научная, опирающаяся
на множество фактов, дающая удовлетворительное простое
их объяснение, — без сожаления отбрасывается при первой
встрече с противоречащим фактом; не делается даже попытки
примирения, не делается даже усилия критически отнестись
к факту, нередко проглядывает даже невольно сквозящая радость, что вот ведь физическое объяснение оказалось бессильным.
Но, я полагаю, это рассмотрение больных мест нашей науки
будет более уместным в специальных заседаниях нашего отдела. Я хотел только сказать, что, кроме открытия новых
и по необходимости чаще мелких, чем крупных фактов, для
научной деятельности в настоящее время представляется и
другое, не менее полезное поприще, — в широком применении
научной критики, отсутствием которой, за недосугом, в погоне
за приобретением эмпирических фактов, так страдает наша
наука. Этой-то стороне дела и должен быть, по моему мнению,
открыт наибольший простор в деятельности ученых обществ.
* Так как в нем есть усыпляющая способность, природа которой состоит в усыплении чувств. Ред.
* * Прокладывающее путь, делающее эпоху. Ред.
Если б она более процветала до сих пор, то мы не встречались бы, например, с фактом господства в течение десятков
лет учения, логическая и физическая несостоятельность которого была уже давно очевидна, как это случилось с потерпевшей недавно такое полное крушение теорией Негели о
росте, — теорией, которую еще не так давно Сакс, в своей
истории ботаники, провозглашал одним из важнейших научных приобретений нашего века, ставя ее наряду с теорией
Дарвина.
Возвращаясь к вопросу о пределах применения начала
ассоциации в сфере научной деятельности, попытаюсь резюмировать свою мысль сравнением. Мне кажется, что в области
науки возможны не производительные, а только лишь потребительные ассоциации; не накоплять сообща новые факты,
а лишь разбираться общими усилиями в обильном существующем и постоянно нарастающем материале, способствовать
наиболее совершенному обмену и усвоению знаний, — вот,
мне кажется, все, что можно сделать в науке путем общественной деятельности.
Но могут еще возразить: к этой критической деятельности,
очевидно, будут способны только специалисты, каждый в своей
соответствующей области; они явятся докладчиками, остальные же останутся попрежнему безучастными слушателями.
Мне кажется, это неверно; безучастность исчезнет, как только
предмет доклада утратит свое случайное узко-фактическое
содержание. Наконец, кто не испытал, как метко, как удачно
бывает иногда замечание именно свежего человека, — человека, знакомого с предметом вообще, но не утратившего свободы суждения вследствие долгой привычки итти по однажды
наторенной колее, смотреть под одним и тем же углом зрения.
Это невольно наводит мысль на еще одну существенно полезную сторону деятельности ученых обществ. Только на их почве
ученый имеет случай встречаться с представителями практического, прикладного знания, ботаник, например, с сельским
хозяином и садоводом. Излишне, кажется, говорить, что эта
встреча полезна для обеих сторон; ученые уже давно отвыкли
от прежнего надменного отношения к тем запасам знания,
которые приобретает практик путем своих долголетних наблю5
К. А. Тимирязев,
т. V
65
дений. Примера Дарвина достаточно для убеждения тех, кто
и теперь продолжал бы с высокомерием относиться к этому
источнику знания. Если бы потребовалось еще новое доказательство, его доставляет нам скромный, всеми забытый садовод прошлого столетия — Дюшен, в сочинении которого «О разведении земляники» Альфонс Де-Кандоль нашел зачатки учения
о превращении видов, основанное на прочных фактических
наблюдениях и дающее ему несомненное право называться
одним из предвозвестников Дарвина. Наконец, стоит напомнить и тот общеизвестный случай, что практики, всего далее
стоящие от области науки, простые земледельцы, в том числе
и наши московские крестьяне, как свидетельствуют судебные
хроники, в одном сложном вопросе опередили науку. Непосредственным наблюдением они самостоятельно и задолго
до науки открыли факт перехода ржавчины с барбариса на
злаки, — факт вместе с другими, подобными ему, полошивший
основание учению о полиморфизме микроскопических грибов,
которым так справедливо гордилась наука пятидесятых и
шестидесятых годов.
Если к указанным задачам присоединить еще демонстрацию
новых приборов и приемов исследования, микроскопических
препаратов, новых или интересных растений, — одним словом, таких предметов, описание которых не может заменить
непосредственного с ними знакомства, если организовать
что-нибудь вроде тех выставок, которыми сопровождаются
так называемые conversazione * или рауты английских ученых
обществ, или вроде тех ретроспективных выставок изобретений за истекший год, какие устраивает парижское физическое общество на своих годичных заседаниях, то этим,
я полагаю, исчерпывались бы самые существенные услуги,
которые ученое общество, как общество, может оказать
науке.
Итак, оборонительный союз в борьбе против двух неизбежных зол: крайней специализации знаний и разрастающейся
до угрожающих размеров периодической литературы и общего
их результата — упадка критической мысли, — вот, на мой
* Собеседования.
Ред.
О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е ЗАДАЧИ У Ч Е Н Ы Х ОБЩЕСТВ
взгляд, едва ли не главная задача общества, подобного нашему, насколько она касается деятельности нашего будущего
отдела.
2
Но общество наше не ограничивается одними только чистонаучными целями. Как на то указывает самое название, оно
старается итти навстречу потребностям не только специалиста
ученого, но и всякого образованного, или только стремящегося к образованию, человека, и в этом лишь отражается одна
из особенностей современной науки — науки X I X века.
Если в X V I I I веке наука завоевала уже салон, проникла,
пожалуй, и в будуар; если за веселым ужином между философскою тирадой и куплетом можно было блеснуть рассказом
об открытии Франклина или опыте Лавуазье; если между
пудрой и румянами на столике иной маркизы можно было
наткнуться на ботанические письма Руссо, то в настоящем
только веке наука стала достоянием всех и каждого, заговорила вполне доступным языком, а вместе с тем утратила последние следы той чопорности, той исключительности, в которой
прежде замыкалась, ревниво охраняя себя от прикосновения
толпы. Многие и теперь еще не могут примириться с этим
фактом, видя в нем какое-то падение, какое-то унижение науки.
Достойно, впрочем, замечания, что подобные сетования несутся не с той именно стороны, которой наука обязана своим
наибольшим успехом. Славнейшие двигатели науки X I X века—
Гельмгольтцы, Майеры, Клод Бернары, Дарвины, Максуэлли —
являются в той или иной форме и ее проводниками в общество.
Если это — только временное увлечение, то оно во всяком
случае всеобщее.
Но едва ли можно защищать мысль, что это только модное
увлечение; мне кажется, не трудно убедиться, что это стремление к широкому разливу знаний является делом необходимости и даже требованием справедливости.
Если в пределах отдельных областей знания, отдельных
наук, развитая до крайности специализация требует мер про5*
67
тиводействия, то в общей сфере умственного развития, в жизни,
вред специализации знаний и занятий едва ли не еще более
ощутителен.
Homo sum, humani nihil me alienum puto *, — учит школа.
А жизнь говорит совсем иное: не homo ты, а ботаник, и не
ботаник, а ботаник-физиолог; пожалуй, даже и не ботаникфизиолог, а специалист по какой-нибудь одной главе физиологии. И ты должен им быть и оставаться, иначе в
общей скачке останешься за флагом. Как согласить эти противоположные и, однако, одинаково настоятельные требования? Мне кажется, что и здесь сама жизнь нашла исход:
если специализация научного труда может быть сделана
безвредною путем его ассоциации, то против еще более широкого разделения труда, вызываемого требованиями жизни,
приходится бороться путем популяризации знаний.
Как только произносится это слово, уже слышится старый аргумент о вреде полузнания; но ведь и ответ на это
возражение также стар: полузнание вредно, когда оно является уделом лишь немногих, но не тогда, когда оно является достоянием всех; тогда оно только поднимет общий
уровень развития. Конечно, популяризация может быть различная и популяризатору нельзя довольно часто повторять
слова Поля Вера: «vulgarisez la science sans la vulgairiser»**.
Зато, при соблюдении этого условия, едва ли можно сомневаться,
что только путем разумной популяризации знаний, понимаемой
в самом широком смысле, возможно сохранение общего среднего
уровня развития, что только при ее содействии возможно установить обмен между представителями науки и других отраслей
труда. Но какой же из общих факторов, способствующих успехам знания, может удобнее всего содействовать этой цели, поддерживать возможно высокий уровень общего развития? Проф.
Вагнер в статье, встретившей, повидимому, общее сочувствие,
высказывает мысль, что эта роль в значительной степени должна
выпадать на долю университетов, по крайней мере, в первые
годы университетского преподавания. Мне кажется, однако,
* Я человек и ничто человеческое не считаю себе чуждым.
* * Распространяйте науку, не вульгаризируя ее. Ред.
Ред.
что едва ли можно согласиться и с этим положением уважаемого
ученого. Значение университетов ясно: их задача, прежде
всего, двигать науку и подготовлять новых двигателей науки,
а то и другое достижимо только под условием интенсивного
труда и привычки к интенсивному труду, прямо исключающих
его экстенсивность. И, наконец, много ли достигается тем,
что в течение каких-нибудь двух лет ум будет витать в самых
разнообразных сферах для того, чтобы потом, в жизни, итти
своей обычной колеей? Не важнее ли в течение целой жизни
оградить себя от неизбежного суживания своего умственного
-кругозора, и в этом отношении, мне кажется, единственным
пособием является популярная литература и соответственная
деятельность ученых обществ. Примером и едва досягаемым
образцом такой деятельности может служить известный «Royal
Institution»*. По разнообразию предметов своих чтений, обнимающих все отрасли науки, литературы и искусства, по ро.скоши экспериментальной обстановки, а главное — по блеску
тех имен, которые ему удается привлекать в свои аудитории,
-это учреждение служит предметом удивления даже в Германии.
Превосходно выработавшийся общий уровень изложения,
вполне научный и в то же время доступный, равно далекий
от сухости научной монографии и от безответственной развязности газетных фельетонов и «разных известий», — делает
возможным для каждого образованного человека, посещая
эти курсы, поддерживать и расширять круг своих сведений
в тех областях знания, которые выходят из пределов его обычной деятельности.
Но дело популяризации науки, должным образом понимаемое и руководимое людьми науки, представляет значение
не только как средство для развития личности, — оно имеет
и другое общественное значение, одинаково важное,для дальнейших успехов как науки, так и самого обществам/Привлекая
все общество к живому участию в успехах знания, прививая
ему эти умственные аппетиты, от которых, раз их усвоил,
так же трудно отвыкнуть, как и от аппетитов материальных,
делая все общество участником своих интересов, призывая
* Королевский институт.
Ред.
НАСУЩНЫЕ ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
его делить с нею радости и горе, — наука приобретает в нем
союзника, надежную опору дальнейшего развития. Недавно
в этой зале мы слышали красноречивое описание тех роскошных зданий, тех богатых средств, которые в Германии щедрою
рукой рассыпаются на пользу науки. Эти явления вдвойне
утешительны, вдвойне завидны, потому что они обязаны происхождением не случайной какой-нибудь, преходящей прихоти. Эти здания стоят на прочной почве — на почве всеобщего сознательного сочувствия; эти средства текут из верного
источника — из всеобщего разумного понимания, что в. них
залог величия, гордость целой нации. Безнадежно состояние
науки, когда она находится в положении искусственно насажденного оазиса среди безграничной пустыни всеобщего
равнодушия. Безнадежно положение ученого, сознающего,
что окружающая среда его терпит и только. Отрадно, напротив, положение такого научного деятеля, как Пастер, общественные заслуги которого свидетельствуются всею нацией, —
вдвойне отрадно, потому что те практические результаты его
открытий, которым не видно еще и конца, не были с его стороны предметом погони; они явились сами собой лишь результатом самых отдаленных от практической жизни вопросов.
Вот еще сторона дела, на которой нельзя достаточно часто
останавливаться при разумной популяризации науки. Нельзя
достаточно отстаивать во всех слоях нашего общества прав
чистого знания, нельзя достаточно бороться против того узкоматериального прикладного направления, в котором, с самых
противоположных точек зрения желали бы сузить свободное
течение научной мысли. В одной из блестящих своих речей
Дюбуа-Реймон указывает на это направление, как на одно
из существенных зол; он видит в нем даже зародыш гибели
всей современной цивилизации и называет его американизмом.
И действительно, едва ли кто отзывается о нем с такой накипевшею горечью, как сами американцы. Прочтите речь проф.
Роланда на последнем съезде американской научной ассоциации 1 и вы увидите, в каких мрачных красках описывает он
1 Она приведена в речи «Праздник русской науки», см. стр. 46
наст,
тома (Примечание добавлено к 4-му изданию. Ред.).
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ У Ч Е Н Ы Х ОБЩЕСТВ
положение науки и ученых среди общества, которое, несмотря
на свое высокое развитие в других отношениях, несмотря
на громадное благосостояние, умеет ценить только одно
прикладное знание, только жизненные удобства, доставляемые
этим знанием, — общества, которое в погоне за интересами
минуты не имело досуга додуматься до первого источника
этих прикладных знаний. «На каждом шагу мне задают вопрос,—
говорит бальтиморский профессор, — что важнее: чистая или
прикладная наука? Но ведь для того, чтоб явились приложения, наука уже должна существовать. Если в погоне за
приложениями мы задержим ее развитие, мы выродимся
в народ, подобный китайцам, не сделавшим в течение поколений
никаких успехов потому только, что они довольствовались
одними приложениями, не заботясь о раскрытии их причин.
Только исследование причин составляет науку. Китайцы
знали в течение веков применение пороха, исследование причин
его действия, должным образом направленное, привело бы
к созданию химии и физики со всеми их применениями. Но
китайцы довольствовались фактом, что порох взрывает — и
отстали в общем человеческом развитии, и вот мы их теперь
величаем варварами. А мы, — продолжает Роланд, — разве
мы сами не в таком же находимся положении? Мы поступили
еще лучше. Мы взяли науку у Старого Света и применили
ее к своим целям. Мы получили ее как дождь небесный, не
спрашивая, откуда он берется. Мы даже не сознаем, что должны
быть благодарны тем бескорыстным труженикам, которые нам
дали эту науку. И вот, подобно дождю небесному, эта чистая
наука ниспала на нашу страну и сделала ее великой и богатой
и могущественной. Для всякого цивилизованного народа,
в настоящее время приложения науки являются необходимостью, но если наша страна успевала до сих пор в этом направлении, то потому только, что где-то на свете существуют другие
страны, где чистая наука возделывалась и возделывается, и где
изучение природы считается благородным, высоким занятием».
После этих горячих, беспристрастных слов становится понятен
страх, испытываемый Дюбуа-Реймоном по поводу судьбы,
которая постигнет всю нашу цивилизацию, если и в тех странах,
на которые возлагает надежды американский профессор,
иссякнет источник чистого знания, если они заразятся американизмом. Но если в Америке, несмотря на ее широко распространенное элементарное и среднее образование, ученый теряет
надежду объяснить обществу необходимость чистой науки,
если в Германии, этом оплоте чистого знания, западает страх
за его далекую будущность, то тем более у нас. Не слышны
ли у нас голоса, поощрительно относящиеся к прикладному
знанию и совсем в ином тоне относящиеся к чистой науке?
Не говорят ли науке: подавайте нам листеровские повязки;
это очень полезно — тем более полезно, что все количество
жизни, которое будет спасено открытием Листера, быть может,
потребуется для нового изобретения Круппа; подавайте нам
зеленый горошек среди зимы, — это очень приятно, — но
оставьте только в покое эти никому не нужные, бестактные
вопросы о происхождении и начале жизни, т. е. именно те
вопросы, ради которых поколения ученых только и посвящали
свой труд и время и талант исследованиям, в конце которых
явилась и листеровская повязка в наших госпиталях и консервы
горошка на наших столах. Но кто же будет разъяснять это значение и права чистой науки, кто будет упорно изо дня в день
повторять эту мысль на все лады, пока она не сделается ходячею монетой, если сами ученые от этого устранятся, и где
удобнее можно этого достигнуть, как не на почве ученых обществ, как не путем популяризации науки.
Но, может быть, я заслужил укор, что в гостеприимных
стенах этого здания 1 , посвященного прикладным знаниям,
как будто враждебно отношусь к ним, не сказав ни слова
о громадном их значении. Мне кажется, едва ли это когда-нибудь
бывает нужно. В руках прикладного знания такие чудеса,
которые способны убедить любого скептика; в его распоряжении
такие осязательные аргументы, которые доступны всякому
пониманию. Ему стоит притти, чтобы победить. Опасность,
которою он грозит, заключается именно в его могуществе.
Подвожу итог: популяризация науки, как средство более
широкого развития личности; популяризация, как средство
привлечь на сторону науки сочувствие и сознательную под1
Ред.)
Политехнического музея. (Примечание добавлено к 4-му изданию.
держку общества; популяризация, наконец, как орудие борьбы
против узко-материального направления части этого общества,
в погоне за приложениями науки забывающей о первом их
источнике, — одним словом, ученое общество, как посредник
между ученым и обществом, — вот вторая из самых существенных наших задач.
3
1
Сделаем еще шаг и мы очутимся пред самой широкой, пред
самой современною задачей популяризации науки. Наука,
проникающая до самых низших ступеней общественной лестницы, научные истины, ставшие доступными пониманию простого рабочего, —это уже исключительное явление новейшего
времени, и, быть может, одно из могущественных орудий борьбы
против тех вредных последствий крайнего разделения труда,
того одичания среди цветущей цивилизации, призраком которого не напрасно пугают нас экономисты. И в этой борьбе,
очевидно, только стоит подражать природе. Вред не в начале
разделения, а в несовершенном пользовании плодами разделенного труда. Если бы часть плодов этого разделенного труда —
в форме досуга — трудящийся мог употребить на свое развитие, то и на сфере человеческой деятельности это начало, конечно, являлось бы таким же началом развития и совершенства,
каким оно является в произведениях природы. Английский
рабочий, отвоевавший себе час или два досуга и проводящий
его на лекции Гёксли или Тиндаля, которые его знакомят
с трудами целых поколений тружеников мысли, — не один
ли это из первых шагов в борьбе с этим грозящим злом?
Не лежит ли у нас на обязанности всякого образованного
человека, а тем более представителей науки, оказать свою долю
содействия осуществлению этой задачи, или мы только будем
с завистью следить за успехами этого дела у других? Не говорю
уже об исключительной, лихорадочной, вызванной народным
бедствием деятельности в этом направлении, которую теперь
проявляет Франция. Есть и другие страны, в которых это дело
распространения знания в массах организовано давно; оста-
НАСУЩНЫЕ ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
новлюсь на одном старом, к тому же, кажется, у нас мало
известном примере, на голландском обществе «Tot Nut van't
Algemeen» *. Возникшее под влиянием просветительных идей
конца X V I I I века, оно уже давно целою сетью покрыло всю
Голландию. В 1876 г. оно имело 336 отделений в провинциях,
содержало 235 народных читален, в 75 городах и местечках
организовало лекции для народа, — и все это, не забудем, на
пространстве, едва превышающем одну Московскую губернию Ч
Зато и каждый голландец знает свой Nut и гордится им. «Где
двое или трое образованных людей, — говорил мне в 1877 г.
почтенный секретарь этого общества, — там и мы».
Но не этой ли именно цели широкого распространения знаний в среде народа служит самый существенный предмет забот
нашего общества, самое наглядное выражение его деятельности — этот музей? Не знаю, многим ли из вас, м. г., случалось бывать в этой зале в воскресенье утром, но я позволяю
себе утверждать, что ни в лондонском Кенсингтоне, ни в парижском Conservatoire'e не встречал я картины более утешительной.
Вы встретите здесь толпу, самую пеструю, какую, по старой
привычке, могли бы себе представить где угодно, но уже никак
не в аудитории. А между тем, это — факт; эта толпа в аудитории, она составляет аудиторию, внимательно, жадно ловящую
слова не сказки, не потешного рассказа, а ставшего доступным
ее пониманию научного вопроса. И факт этот невольно озадачивает вас при каждом столкновении, — до того мало возможен он казался еще двадцать, еще десять лет тому назад.
Быть может, я увлекаюсь, преувеличиваю значение этого явления, но при каждой новой встрече с ним мне представляется, что здесь, в зачаточной форме, в микроскопических
размерах, но все же проявляется начало осуществления колоссальной задачи будущих веков, что это только начало расплаты
Не касаюсь здесь народных школ, учрежденных и содержимых
этим обществом, так как это выходит из пределов моей темы. С шестидесятых годов оно сосредоточило свое внимание на вопросах экономических, устройстве народных банков и пр. и, кажется, достигло еще более блестящих результатов.
* Общество общественной пользы (голландский кооперативный
союз). Ред.
1
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ У Ч Е Н Ы Х ОБЩЕСТВ
того веками накопившегося долга, который наука, цивилизация, рано или поздно, должны же вернуть тем темным
массам, на плечах которых они совершали и совершают свое/
торжественное шествие. Что бы ни говорили, а в основе тех
страстных обвинений, которыми Руссо осыпал цивилизацию,
лежит гнетущая, неотразимая мысль, от которой не отмахнешься
одним словом, — парадокс. Та мысль, что вся цивилизация
возникла на почве неравенства, что в своем течении она еще
закрепляла это неравенство, увеличивая пропасть между двумя
половинами человечества, между представителями умственного
и физического труда. Конечно, если так было, то, видно, не
могло быть иначе; это факт исторический, естественно-исторический, один из актов мировой драмы, название которой
«борьба за существование». Но не был ли то ее последний акт?
Не чудится ли порою, что человечество стоит где-то на перевале между двух течений? Если уходящая во мрак прошлого
история повествует о своей задаче — о создании цивилизации
ценой неравенства, то не дает ли угадывать уходящее в туманную даль будущее свою задачу — восстановление равенства
усилиями цивилизации? Конечно, не на почве общего невежества совершится это примирение, а путем справедливого
раздела плодов этой цивилизации, добытых общими усилиями.
Не пятясь назад, не научившись ползать на четвереньках, как
острил Вольтер, разрешит цивилизованный человек эту задачу,
но и не продолжая безмятежно свой путь вперед, гордо подняв
голову, в сиянии электрического света, между тем как где-то
далеко позади миллионы плетутся, спотыкаясь, в непроглядном мраке.-"
Я уже слышу насмешливо-скептические возражения: народ просит хлеба, а вы предлагаете ему лекцию и книгу, тоесть камень. Но у всякого своя задача, своя сфера деятельности. Сфера ученого общества — лекция и книга. Скажут также,
не слишком ли несообразен, не слишком ли комичен этот
скачок от более чем скромной деятельности ученого общества к задачам будущего, к искуплению исторической неправды. Вместо защиты прибегну к сравнению. Толстой, в своих «Казаках», описывает впечатления человека, завидевшего на дальнем горизонте первые очертания снеговых вершин.
Сначала это впечатление всецело овладевает им, вытесняя все остальные, но мало-по-малу мысли принимают свое
обычное течение и лишь от времени до времени их нить
прерывается восклицанием: а горы? — и взор невольно обращается туда, в ту сторону, где показались эти неуловимые то
светлые, то грозные очертания, пытаясь уловить, растут ли
они, выдвигаются ли навстречу или убегают в даль. Не то ли
испытывает и современный человек, пред умственными взорами
которого хоть раз мелькнули то светлые, то грозные образы
будущего, — а перед кем они не мелькали? Ежедневная жизнь,
привычная деятельность текут своим обычным чередом, и лишь
от времени до времени, непроизвольно, сам собой всплывает
этот вопрос: а горы? — а эти отдаленные идеалы будущего?
Имеет ли эта ежедневная, всепоглощающая действительность
какое-нибудь отношение к ним? Приближаемся ли мы хоть
сколько-нибудь или только удаляемся от них? Растут ли,
надвигаются ли они или безнадежно уплывают в даль?
С первых же слов я сделал оговорку, что намерен воспользоваться обыкновением, допускающим в начале всякого дела
некоторое отступление от обычной деловой программы. Через
несколько минут наша деловая, научная жизнь вступит в свои
законные права, ее специальные задачи всецело овладеют
вашим вниманием; я позволил себе воспользоваться им на
несколько минут для того, чтобы выяснить, в каком свете представляются мне самые общие, самые широкие, а следовательно
и самые отдаленные цели общества, поставившего себе задачей
не только способствовать накоплению, но и содействовать возможно широкому распространению научных знаний. Как ни
различны, с первого взгляда, три сферы нашей деятельности:
заседания отделов, публичные заседания, народные беседы,
определяющие наши отношения к науке, к обществу, к народу,
мне кажется, что они весьма близки по их внутреннему, более
глубокому, содержанию. Во всех проявляется одна, по преимуществу,
общественная
мысль — мысль о противодействии
общими силами вредным последствиям крайнего разделения
труда, ощущаемым как в науке, так и в жизни. Если в стремлении к установлению деятельного обмена между представителями одной области, между представителями различных
областей знания, нами руководят внушения взаимной пользы,
то при распространении знаний далеко за пределы научных
сфер, в установлении общения между представителями умственного труда и труда физического, нами должны руководить
требования справедливости, а в целом вся деятельность общества должна выражаться в стремлении к гармоническому слиянию задач науки и жизни, в служении научной истине и этической правде.
1884 г.
III
ЭВОЛЮЦИЯ И ЭТИКА
(РЕЧЬ ТОМАСА ГЁКСЛИ)
1
SOLEO ENIM E T IN A L I E N A CASTRA T R A N S I R E ,
NON TANQUAM TRANSFUGA, SED TANQÜAM B X P L O RATOR.
(L. ANNAEI
SENECAE
EPIST.
II,
4)*
М
ои современники, конечно, помнят прелестную детскую
сказку «Про Джака и бобовый стебель». Но более серьезные и почтенные наши молодые товарищи, воспитанные
на строгой умственной диете, вероятно, знакомы со сказочным
миром только из учебников сравнительного языковедения;
им, пожалуй, не мешает рассказать содержание сказки. В ней
говорится про бобовый стебель, который растет, растет,
пока не упирается в небо и там раскидывается роскошным
лиственным шатром. Герой рассказа карабкается вверх по
Произнесена 18 мая 1893 г. Речь сопровождается длинными примечаниями. Мы не сочли нужным их перевести, ограничившись подстрочными выносками лишь в тех местах, где это было необходимо для пояснения мысли автора.
* Ибо я имею обыкновение переходить в чужой лагерь не в качестве
перебежчика, а в качестве разведчика (Л. Энея Сенека, письмо II, 4).
Ред.
1
Томас
1825
Гёксли
—1895
стеблю и убеждается, что листва разросшегося боба несет на
себе целый мир, слагающийся из тех же основных начал, как
и наш, но, в то же время, совершенно от него отличный. Эти
приключения, о которых я не стану далее распространяться,
должны бы, в конце концов, совершенно изменить мировоззрения героя нашей сказки. Но так как сказки пишутся не
для философов и не философами, то о мировоззрениях в них
ничего не говорится.
То, что я намерен предпринять, в известной степени напоминает приключения этого сказочного героя. Я приглашаю вас
последовать за мной и проникнуть в мир, который многим
покажется чудным и необычным, при помощи боба. Нехитрая
и будто совсем косная вещь — этот боб. Но если посадить его,
соблюдая некоторые предосторожности, — к числу которых,
прежде всего, нужно отнести известное количество тепла, —
он обнаруживает деятельность по-истине изумительную. Выглядывает зеленый росток; он пробивает себе путь из почвы
к свету и быстро растет, пробегая при этом целый ряд превращений, которые не поражают нас, как сказочный рассказ,
лишь потому, что совершаются на наших глазах, каждый день
и с утра до вечера.
Незаметно для глаза, выводит растение большое и сложное
здание из корней, стеблей, листьев, цветов и плодов, выделанных и снаружи, и совнутри по крайне сложному и, в то же
время, до мелочей заранее определенному шаблону. Каждой
из этих частей, каждой подробности ее строения присуща известная деятельность, находящаяся в гармонии с такою же деятельностью других частей; все они содействуют сохранению
целого и успешному исполнению той роли, которую оно играет
в общей экономии природы. Но как только это здание, выведенное с такою точностью и совершенством, достигает полноты
развития, оно начинает рушиться. Мало-по-малу растение
завядает и исчезает, оставляя по себе много или мало таких же
нехитрых и, повидимому, косных тел, как тот боб, 'от которого
оно берет начало, и, подобно ему, обладающих потенциальною
силой, способною воспроизвести такой же новый цикл явлений.
Ни поэтическая, ни научная фантазия не затруднилась бы
подыскать аналогии для этого процесса поступательного дви-
жѳния с последующим возвратом к исходной точке. Его можно
сравнить с восходящим и нисходящим движением брошенного
камня или с траэкторией пущенной стрелы. Или мы скажем,
что жизненная энергия идет сначала в гору и потом под гору.
Или уподобим это распускание ростка в целое взрослое растение — развертыванию опахала или широкому разливу, при
своем начале, узкого потока. Так или иначе, мы приходим
к представлению о «развитии» или «эволюции». Здесь, как и везде,
слово — «лишь дым иль звук пустой». Важно только иметь
ясное представление о факте, обозначенном этим словом.
А, в настоящем случае, факт заключается в сизифовой работе,
благодаря которой живое развивающееся растение переходит
от относительной простоты и скрытой потенциальности семени
к полному расцвету высоко дифференцированного типа, затем
лишь, чтобы вернуться к прежней потенциальности и простоте.
Ясное представление о природе этого процесса приобретает собою цену, когда мы убеждаемся, что верное в применении
к бобу оказывается верным в применении ко всему живому.
Начиная с простейших форм и кончая сложнейшими, в животном царстве, как и в растительном, жизненный процесс представляет нам тот же внешний образ циклической эволюции.
Более того, стоит окинуть взором остальной мир, и эта круговая
смена явлений невольно бросится в глаза. Мы видим ее в воде,
сбегающей в океан для того, чтобы вернуться к своему истоку,—
в небесных телах, совершающих замкнутые пути, возвращаясь к месту своего отправления, — в роковой смене возрастов человека,— в последовательном росте, расцвете и падении династий и государств, этой выдающейся черте гражданской истории.
Как человек, переходящий вброд быстрый поток, не ступает двух раз в ту же воду, так никто не может сказать о чем
бы то ни было, относящемся к миру чувственных восприятий:
оно существует. В то мгновение, когда он произносит это слово,
когда в нем еще только зарождается эта мысль, заявление уже
перестает быть верным; настоящее уже стало прошлым и «существовало» должно стать на место «существует». И чем более
вникаем мы в природу вещей, тем очевиднее становится, что то,
что мы зовем покоем — только скрытое движение, и кажущийся
мир — только немая, но напряженная борьба. Везде, в каждый-/ |
момент, космос представляет равновесие борющихся сил, картину битвы, в которой все сражающиеся падают в свой черед.
Что верно о части, верно о целом. Изучение природы все более
и более приводит к заключению, что «весь небесный хор светил и вся краса земли» — только переходные формы, осколки
мировой субстанции, несущейся по эволюционному пути от
потенциальной туманности чрез бесконечные миры, чрез
солнца, планеты и их спутников, чрез неисчислимые превращения вещества, чрез несметные воплощения жизни и мысли,
быть может чрез формы бытия, о которых мы не в состоянии
составить себе даже представления, — обратно к тому неопределенному состоянию скрытой потенциальности, из которой
они произошли вначале. Таким образом, главным атрибутом
космоса является его непостоянство, неустойчивость. Он
принимает для нас образ не сущности, пребывающей всегда
постоянной, а вечно меняющего свой вид процесса, в котором
ничто не сохраняется, кроме потока энергии и все проникающего разумного порядка.
Мы вскарабкались на самый верх нашего бобового ствола
и достигли сказочной страны, где обычное и простое становится
диковинным и новым. В исследовании космического процесса,
таким образом понимаемого, высшие умственные способности
человека находят для себя применение: гиганты подчиняются
его воле, а идеальные стремления философа находят себе
удовлетворение в созерцании вечной красоты.
Но существует и другая сторона этого космического процесса, столь совершенного, как механизм, столь прекрасного,
как произведение искусства. Там, где космическая энергия
проявляется в сознательных существах, наряду с ее другими
проявлениями, выступает и то, которое мы называем болью
и страданием. Этот печальный продукт эволюции растет и ка- ѵ
чественно и количественно, по мере развития животной организации, достигая высшего своего напряжения в человеке.
Мало того, высший предел страдания достигается не в человекеживотном, не в человеке-дикаре, а именно в человеке, как органе развитой гражданственности. И это является необходимым
последствием его стремления жить этой высшей жизнью, при
6
К. А. Тимирязев,
т. V
81
которой только и достигают полного своего развития самые
благородные задатки.
Человек, как животное, достиг своего главенства над миром
сознательных существ, превратился в то гордое, прекрасное
животное, каким мы его теперь застаем, конечно, только благодаря успеху в борьбе за существование. При данных условиях,
организация человека приспособилась лучше, чем всякая другая, чтобы выйти победительницею из космической борьбы.
В развитии человечества беззастенчивое заявление своего «я»,
бессовестное наложение руки на все, на что ее можно наложить, упорное сохранение за собою всего, что только можно
сохранить, составляющие сущность борьбы за существование,
Ф конечно, сослужили свою службу. Своим успехом, в диком
состоянии, человек, конечно, широко обязан тем качествам,
которые он разделяет с обезьяной и тигром, — своей исключительной физической организации, своему лукавству, чувству общности, любопытству и страсти к подражанию, своему
инстинкту истребления, проявляющемуся как только какоелибо сопротивление пробуждает его гнев.
Но по мере того, как анархия сменялась социальной организацией, по мере того, как цивилизация стала приобретать
цену в его глазах, эти глубоко вкоренившиеся и сослужившие
ему службу качества превратились в недостатки. Подобно
многим выскочкам, человек охотно оттолкнул бы лестницу, по
которой выбрался в люди. Он охотно убил бы в себе тигра
и обезьяну. Но они отказываются ему повиноваться, и это-то
незванное вторжение веселых товарищей его буйной юности
в правильную жизнь, налагаемую на него гражданственностью,
присоединяет новые бесчисленные и громадные страдания
к тем, которые космический процесс налагал на него ранее,
как на простое животное. И цивилизованный человек клеймит
все эти побуждения тигра и обезьяны, называя их грехом,
и, в крайнем случае, веревкой или топором препятствует «переживанию» этих «наиболее приспособленных» к условиям давно
минувших дней.
Я сказал, что цивилизованный человек достиг такой степени
развития; пожалуй, я сказал лишнее. Вернее было сказать:
этически развитой человек достиг до этого сознания. Этика
пытается снабдить нас разумными правилами жизни; она объясняет нам, какие поступки нравственны и почему. Какие бы
разногласия ни существовали между экспертами по этой части,
можно считать общепризнанным, что способы ведения борьбы
за существование, практикуемые тигром и обезьяной, несовместимы с началами разумной этики.
Герой нашей сказки слез с бобового ствола и вернулся в наш
обычный мир, где работа и харчи добываются с одинаковым
трудом, где некрасивые конкуренты встречаются гораздо чаще,
чем прелестные принцессы, где борьба с самим собой далеко
не так успешно венчается победой, как стычка с каким-нибудь
злодеем великаном. То же самое приключилось и с нами. Тысячи лет до нас, тысячи и тысячи нам подобных, как и мы,
очутились лицом к лицу перед грозною загадкой о происхождении зла. И они видели, что космический процесс — процесс
эволюционный, и они сознавали, что он полон чудес, полон
красоты и, в то же время, полон страдания, и они пытались
разъяснить, какое отношение эти факты имеют к этике, •— найти, существует ли какая-нибудь санкция для нравственности
в основных путях космического процесса.
Теории вселенной, в которых эволюция играла выдающуюся
роль, существовали, по крайней мере, за шесть веков до нашей
эры. До нас дошли известия о том из стран, отстоящих так далеко
одна от другой, как долина Ганга и малоазийское прибрежье
Эгейского моря. Для первых индустанских, как и для ионийских мудрецов самою выдающейся чертой мира явлений была
его изменчивость, непрерывное течение, начинающееся рождением, проходящее чрез видимое бытие и приводящее обратно
к небытию, — течение, которому не видать начала, не усматривается также и конца. Этим предвозвестникам современной
философии было так же ясно, как и нашим философам, что все
чувствующее обречено на страдание, что это не случайно сопровождающее обстоятельство, а неизбежная составная часть космического процесса. Энергический грек мог находить жестокое удовольствие в мире, в котором «борьба всему отец и царь», но древний ариец, в лице индусского мудреца, стал жертвой квиетизма;
страдание человечества туманом заволакивало его взоры; для
него жизнь и страдание, страдание и жизнь были одно и то же.
6*
83
В Индустане, как в Ионии, период сравнительно высокой
и устойчивой цивилизации последовал за веками полуварварского состояния и борьбы. Достаток и обеспеченность породили досуг и утонченность вкусов, а по их пятам явилась
и болезнь мысли. Вслед за борьбой за простое существование,
никогда не прерывающейся, хотя, быть может, смягченной,
замаскированной благополучием небольшого меньшинства, явилась новая борьба, — борьба с потребностью раскрыть смысл
этого существования, — потребностью привести видимый порядок вещей в согласие с нравственным чувством человека.
А этому чувству также нет предела, так как для немногих мыслящих оно только обостряется с каждым успехом знания, с каждым новым приближением к достойному идеалу
жизни.
Две тысячи пятьсот лет тому назад понимали цену цивилизации почти так же, как и теперь; тогда, как и теперь, было
понятно, что только в вертограде правильной гражданственности могут произрастать лучшие плоды, которые способно
дать человечество. Но также стало очевидно, что благословения
культуры несут с собою подмесь зла и страдания. Сад превращается в жаркую теплицу. Изощренная чувственность, возвышенная впечатлительность безгранично увеличивали источ\ ники наслаждения. Непрерывное расширение поля умственных
восприятий безгранично увеличивало простор для применения
по преимуществу человеческой способности оглядываться назад
и смотреть вперед, — способности, прибавляющей к летучему
мгновению настоящего те старые и новые миры прошедшего
и будущего, куда уносится ум людей тем охотнее, чем выше их
культура. Но именно это изощрение чувств и утонченность
ощущений, приносившие с собой такое богатство наслаждений,
роковым образом сопровождались и соответственным увеличеѵ/ нием способности страдать. Божественный дар воображения,
созидавший новые небеса и землю, приносил с собой и ад тщетных сожалений о прошлом и болезненного страха за будущее.
И, наконец, неизбежная расплата за перевозбуждение, истощение, открыла врата цивилизации злейшему ее врагу — скуке,
ennui, этому состоянию черствого, тупого утомления, когда
ничто уже не веселит, когда все представляется тщетой и до-
саждением, и кажется, не стоило бы жить, если бы не затем
только, чтобы избежать еще худшей скуки — умирать.
Даже чисто-умственный прогресс влечет за собой отместку.
Вопросы, сплеча и наскоро разрешаемые грубыми умами,
поглощенными деятельной жизнью, снова и снова останавливают на себе внимание и оказываются неразрешенными загадками, как только у людей находится досуг для размышления.
Благодетельный бес сомнения, имя которому Легион н который
обитает между могилами старых верований, вселяется в человечество и уже навсегда отказывается быть изгнанным из
него.
Священные обычаи, почтенные заветы мудрости предков,
освященные преданием и казавшиеся пригодными для всех
времен, вдруг подвергаются допросу. Взрощенный культурой,
разум требует от них предъявления верительных грамот,
судит их на свой образец и, наконец, собирает те из них, которые
одобрил, в этические системы, в которых рассуждение является по большей части только приличным прикрытием для
допущения заранее принятых заключений.
Одним из самых древних и существенных элементов таких
систем является представление о справедливости. Никакое
общество немыслимо без того, чтоб участвующие в нем обязались исполнять известные правила во взаимном обращении;
его устойчивость зависит от того, в какой степени исполняется
это обязательство; и как только начинают уклоняться от него,
потрясается или вовсе разрушается то взаимное доверие, на
котором зиждется всякое общество. Волки не могли бы охотиться стаями, если бы не существовало немого, но, тем не
менее, действительного соглашения между ними — не нападать
во время охоты друг на друга. Простейшая зачаточная форма
гражданственности представляет стаю людей, руководящихся
таким молчаливым или выраженным договором, но большой
успех, в сравнении с обществом волков, состоит в соглашении
направлять силы всего общества против тех, кто нарушает,
и в защиту тех, кто соблюдает этот договор. Соблюдение обоюдного договора, с вытекающим из него распределением наград
и наказаний, соответственно принятым правилам, получило
название справедливости, а обратное ему получило название
несправедливости. Первобытная этика мало заботилась о душевном складе нарушителя установленных правил. Но цивилизация не далеко подвинулась бы без установления коренного различия между вольным и невольным злодеянием, между
вредным действием и преступлением. С возрастанием утонченности нравственной оценки, вопрос о воздаянии по заслугам,
вытекающий из этого различия, стал получать все более и более
важное теоретическое и практическое значение. Если за жизнь
должно отвечать жизнью, то в то же время было признано, что
непреднамеренный убийца может быть и не наказуем смертью;
и, в виде компромисса, общественным и частным понятием о
справедливости было придумано священное убежище, в котором убийца мог искать спасения от преследований мстителя
за пролитую кровь.
Идея справедливости, таким образом, постепенно совершенствовалась, превращалась из наказания и награды соответственно поступкам в наказание и награду сообразно заслугам, или,
выражаясь другими словами, сообразно побуждениям. Правота,
т. е. образ действия, согласный с правым побуждением, стала
синонимом справедливости, положительным признаком невинности, самой сущностью праведности.
Когда древний мудрец, все равно грек или индус, достигнув такого представления о праведности, встал лицом к лицу
с миром и в особенности с человеческой жизнью, он ощутил то
же затруднение, которое ощущаем и мы, когда желаем привести
эволюционный процесс в согласие с самыми элементарными
этическими идеалами правды и добра.
Если существует что-либо очевидное, то это — убеждение
в том, что наслаждения и страдания в чисто-животной сфере
не распределяются по заслугам, потому что просто немыслимо,
чтобы низшие существа заслуживали то или другое. Если существует какое-либо обобщение, вытекающее из фактов человеческой жизни, относительно которого согласны мыслители
всех стран и веков, то это общий вывод, что нарушители этических правил постоянно избегают заслуженной кары, что злой
человек процветает, а праведный с трудом снискивает себе пропитание, что грехи отцов взыскиваются с детей, что в природе
неведение наказуется так же строго, как сознательное злодея-
ние, что тысячи и тысячи невинных существ страдают за преступления или бессознательные прегрешения одного.
Грек, индус и семит в этом согласны. Книга Иова, «Труды
и дни» и буддистская сутра, псалмопевец и учитель израильский и трагические поэты Греции — все сходятся в этом убеждении. Какой общий мотив встречается в античной трагедии
чаще этой мысли о глубокой несправедливости природы вещей?
Что производит более глубокое впечатление жизненной правды,
как не это изображение гибели праведного от своей руки или от
рокового последствия чужих грехов? Эдип ли не был чист сердцем, и только естественное течение событий — космический
процесс — вынудили его, в невинности души, убить отца
и сделаться мужем своей матери, к отчаянию своего народа
и своей собственной гибели. Или, перешагнув на минуту за хронологические пределы, которые я только что себе наметил,
что составляет вечную, неиссякаемую чарующую прелесть
Гамлета, как не эти глубокие страдания чистого сердцем мечтателя, вопреки его воле, загнанного судьбой в нравственно
«свихнувшуюся» среду 1 и запутавшегося в преступлениях
и страданиях, вызванных одним из тех могучих двигателей,
которым космический процесс оказывает воздействие на человека и чрез его посредство.
Таким образом, перед судом этики космос не может быть не\
осужден. Совесть человека была возмущена нравственным индифферентизмом природы, и жалкий микрокосм изрек осуждение над беспредельным макрокосмом. Но только немногие,
пожалуй, даже никто не посмел занести в протокол этот приговор.
На этом судбище семит, в лице Иова, искал убежища
в молчании и покорности; менее благоразумные индус и грек
пытались примирить непримиримое и взяли на себя защиту
подсудимого. С этой целью греки изобрели теодицею, а индусы
додумались до системы, которую в ее конечной форме, пожалуй,
уместнее назвать космодицеей. Потому что хотя и у буддиста
«суть бози мнози и господие мнози», но все они только продукты
космического процесса, переходные, хотя и долговременные,
1
«The time is out of joint».
воплощения его вечной деятельности. В учении о переселении
душ, каково бы ни было его происхождение, браминское или
буддистское, умозрение нашло готовый материал для приличного оправдания отношений космоса к человеку. Если этот
мир полон скорби и страданий, если горе и злоключения как
дождь падают равно на голову и правого и неправого, то это
потому, что, подобно дождю, они только звенья бесконечной
цепи естественной причинности, связующей прошлое, настоящее
и будущее в одно неразрывное целое, и так же мало поводов
видеть несправедливость в одном случае, как и в другом. Всякое одаренное чувством существо пожинает то, что посеяло,
если не в этой жизни, то в том или другом из бесчисленных
существований, предшествовавших его появлению в этой
позднейшей форме. Распределение добра и зла в настоящем —
только алгебраическая сумма накопившихся положительных
и отрицательных воздаяний: оно определяется постоянно меняющимся балансом этого сложного счетоводства, потому что
полагалось излишним когда-либо свести счеты окончательно.
Застарелые долги всегда могли оставаться за плечами; период
небесного блаженства, только-что заслуженный, мог сменяться веком страданий в ужасной преисподней, в расплату
за неочищенный еще долг какого-нибудь седого предка.
Выигрывает ли что-нибудь нравственность космического
процесса, благодаря такой защите, еще подлежит вопросу. Во
всяком случае эта защита не менее удачна, чем многие другие,
и только очень поспешные мыслители могут презрительно оттолкнуть ее, как очевидную нелепость. Подобно учению об эволюции, и учение о переселении душ пускает корни в мир реальный и может, пожалуй, привести себе в защиту великий аргумент аналогии.
Ежедневный опыт знакомит нас с фактами, которые группируются под общим именем явлений наследственности.
Каждый из нас несет на себе печать своих родителей или,
пожалуй, еще более отдаленных предков. В особенности же та
совокупность побуждений действовать в известном направлении, которую мы обозначаем словом «характер», нередко дозволяет проследить себя чрез длинные ряды предков по прямой
и боковым линиям. Таким образом, мы в праве говорить,
что «характер» — эта интеллектуальная и моральная сущность
человека — перешел от такого-то к такому-то плотскому
существу и в сущности переселяется из поколения в поколение.
В новорожденном младенце покоится характер племени
в скрытом-состоянии и новое я находится в состоянии потенциальности. Но уже очень рано эти скрытые потенциальности
становятся актуальными; с детства и до преклонного возраста
они проявляются в тупости или бойкости, слабости или силе,
порочности или правдивости. И с этими чертами, измененными
слиянием с другим характером, если не чем иным, характер
этот воплощается в дальнейших существах.
Характер, определяемый так, как мы только-что его
определяли, индусские философы называли «карма». Эта-то
карма и переходила из одной жизни в другую, свивая их одною
цепью переселений. Они учили также, что она изменяется
в течение каждой жизни не в силу только слияния наследственных черт, но и в силу своих собственных деяний. В сущности
они были решительными сторонниками так жарко оспариваемого теперь начала наследственности приобретенных признаков. Что проявление скрытых стремлений известного характера
может быть облегчено или задержано условиями, в числе которых самообуздание, или его отсутствие, играет важнейшую
роль, — не подлежит сомнению. Но чтобы самый характер мог
этим путем измениться, нельзя считать доказанным. Нельзя
признать за достоверное, что характер, переданный своему
потомству желчным человеком или праведником, будет, соответственно, хуже или лучше унаследованного им самим. Но философия индусов не допускала никакого сомнения по этому
поводу; вера в воздействие на «карму» условий существования
и, прежде всего, самообуздания являлись не только основною
посылкой для теории возмездия, но и единственным средством
избавиться от бесконечного круга переселений.
Первобытные формы философии индусов сходились с современными нам в допущении существования неизменно пребывающей реальности или «субстанции», скрывающейся под вечноменяющимися феноменами материи или духа. Субстанция
космоса был «Брама», субстанция индивидуального человека —
«Атман», и последний был разграничен от первого только своею,
так сказать, феноменальной оболочкой ощущений, мыслей,
желаний, удовольствий и страданий, из которых слагается
обманчивая фантасмагория жизнп. Она-то непросветленными принимается за действительную реальность, и потому
их «Атман» томится в темнице заблуждения, связанный оковами
желания, истерзанный бичом страдания. Но человек, достигший просветления, постигает, что кажущаяся реальность только
заблуждение или, как было высказано тысячи две лет спустя,
добро и зло не существуют сами по себе, а только в наших
мыслях. Если космос справедлив и из «любезных нам пороков
творит орудия наказания»,-то, очевидно, единственным средством избавиться от унаследованного нами зла—заставить иссякнуть самый источник желаний, откуда берут начало все пороки,
отказаться быть орудиями эволюционного процесса и совсем
устраниться от борьбы за существование. Если «карма» может
быть исправлена, изменена самообузданием, если ее грубые вожделения, одно за другим, могут быть заглушены, то, в конце концов, может быть уничтожено и самое стремление к бытию. Тогда
лопнет мыльный пузырь самообольщения, и освобожденный из
своей темницы «Атман» сольется со всеобъемлющим «Брамой».
Таково было, повидимому, представление пребуддистов
о спасении и о путях его достижения. Никогда не существовало
более полной попытки умерщвления плоти, как та, которую
осуществляли индусские анахореты и аскеты. Никакие монашеские обеты не успевали в такой степени доводить человеческий разум до состояния безучастного quasi-сомнамбулизма,
которое, не будь оно признано за проявление святости, легко
могло бы быть сочтено за идиотизм.
И не следует упускать из вида, что это спасение достигалось
путем знания и поступков, вытекающих из этого знания, —
точно так же, как современный экспериментатор, желающий
вызвать известное физическое или химическое явление, должен
обладать знанием соответственных естественных законов и дисциплинированной волей, для того, чтобы воспроизвесть все необходимые для того операции. Сверхъестественное, в нашем смысле
слова, было совершенно устранено. Не существовало никакой
внешней силы, которая могла бы вызвать появление кармы, и
только воля самого субъекта кармы могла положить ей предел.
Из той замечательной теории, очерк которой я попытался
изложить, могло вытекать только одно правило для поведения.
Было бы безумием стремиться жить, когда избыток страдания
над наслаждением был так очевиден, когда при продлении
существования все шансы были на стороне дальнейшего мучения. Убить тело нисколько не помогало, даже ухудшало дело;
нужно было убить душу, умышленно задушив в зачатке всякую деятельность. Собственность, социальные узы, семейные
привязанности, дружба — должны быть забыты; самые естественные потребности, даже потребность в пище, должны
быть угнетены или доведены до самого малого
размера. Человек превращался в
безучастного,
изможденного, нищенствующего монаха, самогипнозированием доводившего себя до припадков падучей болезни, в которых заблуждающийся мистик полагал находить предвкушение конечного
слияния с «Брамой».
Основатель буддизма принял все основные положения своих
предшественников. Но он остался недоволен практическим
уничтожением, вытекающим из поглощения личного бытия
безусловным, Атмана — Брамой. Казалось, будто для него
допущение субстанции, — даже такой, которая не обладала
ни какими бы то ни было положительными свойствами, ни
энергией, — представлялось опасностью и соблазном. Хотя
и доведенный до воплощенного отрицания, Брама все же внушал
ему недоверие. Пока тут был хоть образ существа, оно могло
в свою очередь быть вовлечено в утомительный круговорот
эволюции с его спутниками, несметными страданиями. Готама
отделался от этой тени постоянного существования посредством
метафизического фокуса, весьма поучительного для изучающих философию, так как он дополняет недостающую половину
известной идеалистической аргументации Берклея.
Допустив посылки, я не знаю, как можно уклониться от
заключения Берклея, что «субстанция» материи является
метафизической неизвестной, для существования которой
нельзя предъявить доказательств * . Но Берклей, повидимому,
* Здесь проявляется шатание из области стихийного материализма
Гёксли как естествоиспытателя в область идеалистической философии—
шатание характерное для «агностика». Ред.
не так ясно представлял себе, что и существование субстанции
духа также требует доказательства и что результатом беспристрастного приложения его аргументации является сведение
всего к сосуществованию и последовательности феноменов, за
пределами чего не существует ничего доступного познанию.
Замечательным указанием на утонченность умозрений индусской философии служит тот факт, что Готама вникнул в дело
глубже, чем величайший из новейших идеалистов; хотя должно
сознаться, что если попытаться некоторые из рассуждений
Берклея о природе духа обратить вспять, то они приведут почти
к таким же заключениям.
Допуская ходячее представление браманистического учения о том, что весь космос — небесный, земной и преисподний, со всем его населением богов и других небожителей,
со всеми животными, одаренными чувствами, с Марой и его
дьяволами — постоянно превращается, пробегая вечно те же
циклы созидания и разрушения, в которых каждое человеческое существо имеет своего переселившегося представителя,
Готама задумал уничтожить вовсе субстанцию. Он превратил
космос в простой поток ощущений, чувств, желаний, мыслей,
лишенных всякого субстрата. Как на поверхности потока мы
видим рябь и водовороты, появляющиеся и исчезающие с вызвавшей их причиной, так и отдельные существования только
временные ассоциации феноменов, вращающихся вокруг центра,
«как пес привязанный к шесту». Во всей вселенной нет ничего
непреходящего; не существует субстанции ни духа, ни материи.
Личность — только создание метафизической фантазии, и,
в сущности, не только мы сами, но и все в бесконечных мирах
космической фантасмагории соткано из снов.
Во что же превращалась у него карма? Она осталась неприкосновенною. Как та особенная форма энергии, которую мы
называем магнетизмом, может сообщиться от магнита стали,
от стали никкелю, как в каждом из этих состояний она может
усиливаться и ослабевать, соответственно окружающим условиям, так, повидимому, в его представлении и карма могла
передаваться от одной феноменальной ассоциации другой, при
помощи своего рода индукции. Как бы то ни было, но Готама
лучше оградил себя от необходимости вечных перевоплощений,
устранив всякую субстанцию, — все равно «Атмана» или «Брамы». Стоило человеку вызвать в себе сновидение, что он не хочет
более видеть снов, чтобы навеки этим снам положен был
конец.
Этим концом жизненного сна была ннрвана. Что такое,
в сущности, нирвана, об этом ученые продолжают толковать
различно. Но так как лучшие авторитеты, из первых рук,
учат, что для мудреца, достигшего нирваны, нет более ни
желаний, ни деятельности, ни возможности феноменального
возобновления, то об этом кульминационном выводе буддизма
уместнее всего сказать словами Гамлета: «the rest silence» *.
Таким образом, между Готамой и его предшественниками
практическое различие не велико, пока дело касается упразднения всякого деятельного существования, — различие только
в средствах, которыми оно достигается. С глубоким пониманием
человеческой природы Готама объявил, что крайний аскетизм
бесполезен, даже вреден. Страсти и вожделения не уничтожаются одним только умерщвлением плоти; против них нужно
вести атаку на их собственной почве — развитием умственных
навыков, им противоположных. Для этого необходимо: питать
благоволение ко всей твари, платить добром за зло, смиряться
духом, воздерживаться от злых помышлений, — словом, отречься вполне от тех требований, предъявляемых нашим я,
в которых заключается вся сущность космического процесса.
Без сомнения, этим этическим качествам буддизм обязан
своим изумительным успехом. Система, не знающая бога
в нашем западном смысле, отрицающая душу, считающая веру
в бессмертие ошибкой, а надежду на него грехом, отрицающая
действительность молитвы и жертвоприношения, но поучающая человека искать спасение в собственных усилиях, система,
в своей первоначальной чистоте не допускавшая никаких
обетов, питающая отвращение ко всякой нетерпимости и никогда
не искавшая поддержки в светской власти, — эта система охватила с поразительной быстротой половину Старого Света
и до сих пор, хотя и с подмесью чуждых ей предрассудков,
служит религией значительной части человечества.
* Остальное — молчание.
Ред.
Обратим теперь лицо к прибрежью Малой Азии, к Греции
и Риму; будем свидетелями возникновения и развития другой
философии, повидимому, совершенно чуждой первой, но,
как и та, проникнутой идеей эволюции.
Милетские мудрецы были решительными эволюционистами.
Как бы темны ни были иные изречения Гераклита Ефесского,
по всей вероятности, современника Готамы, трудно найти
лучшее выражение сущности современных эволюционных доктрин, чем то, которое встречается в его остроумных афоризмах и смелых метафорах. Я полагаю, многие из моих слушателей подметили, что я уже делал у него заимствования в том
кратком очерке теории эволюции, с которого начал свою речь.
Но когда фокус умственной жизни греков переместился
в Афины, передовые умы сосредоточили свое внимание на вопросах этических. Забыв изучение макрокосма, для того, чтобы
предаться изучению микрокосма, они утратили ключ к пониманию великого ефесского мудреца, мысли которого более
доступны нашему пониманию, чем они были доступны пониманию Сократа и Платона. В особенности Сократ пустил
в обращение своего рода агностицизм навыворот, утверждая,
что физические вопросы недоступны человеческому пониманию,
что все попытки их разрешения тщетны, что нашего исследования достоин только один вопрос о жизни, согласной с этическими законами. Его примеру последовали циники и позднейшие стоики. Даже ясные познания и проницательный ум
Аристотеля не подсказали ему, что, ограничивая вечность
вселенной ее современным проявлением, он только делал шаг
назад. Научное наследие Гераклита досталось не Платону
и не Аристотелю, а перешло в руки Демокрита. Но мир еще не
был подготовлен к принятию великих идей абдерского философа. Задача эта была предоставлена стоикам; они пошли
по следам древнейших философов и, считая себя учениками
Гераклита, систематически проводили идею эволюции. Газвиваясь в этом направлении, они высказывали не только характеристические идеи своего учителя, но внесли и многое ему
совершенно чуждое. Одно из наиболее существенных нововведений заключалось в доктрине трансцендентального теизма.
Не знающая покоя огненная энергия, действующая согласно
закону, из которой все истекает и в которую все возвращается,
в бесконечных повторяющихся циклах «великого года», энергия, созидающая и уничтожающая миры, как дети возводят
и разрушают постройки из песка на берегу морском, — эта
энергия была превращена в материальную душу мира и снабжена всеми атрибутами идеального божества, обладающего
не только безграничной властью и бесконечным разумом, но
и абсолютной благостью.
Последствия этого шага не замедлили
обнаружиться.
Если космос является результатом деятельности имманентной,
всесильной и бесконечно благой причины, то существование
очевидного зла, а тем более зла необходимого, присущего,
просто недопустимо. И, однако, опыт всего человечества тогда,
как и теперь, свидетельствовал, что будем ли мы озираться
кругом, или заглянем в себя, зло со всех сторон бросается нам
в глаза, что если что-нибудь имеет реальное бытие, то это
именно страдание, горе и всякая неправда.
Конечно, было бы делом совсем необычным в истории философов a priori, еслиб они когда-нибудь остановились перед,
противоречащим их теориям, свидетельством опыта; и стоики
были не такие люди, чтобы признать себя побитыми какими-то
фактами. Недаром Хризипп говорил: «дайте мне доктрину,—
я уже подъищу для нее доказательства». И вот они усовершенствовали, или даже создали очень искусную и вероподобную
аргументацию — теодицею. Во-первых, они доказывали, что
зла, в сущности, не существует; во-вторых, что если оно и существует, то является только необходимой обратной стороной
добра, и что, сверх того, оно является или результатом наших
собственных ошибок, или, наконец, посылается нам ради нашей
пользы. Теодицеи в свое время имели большой успех, и я
полагаю, что многочисленные, несколько выродившиеся и
измельчавшие их порождения существуют и до сих пор. Насколько я знаю, все они только варианты на тему, развитую
в тех знаменитых шести строках Essai on Man * Попа, в которых он подводил итог болингбруковским отголоскам стоических и им подобных умозрений.
* Рассуждение о человеке.
Ред.
All nature is but art, unknown to thee;
All chance, direction which thou canst not see;
All discord, harmony not understood;
All partial evil, universal good;
And spite of pride, in erring reason's spite
One thruth is clear: whatever is is right 1 .
Однако, если мало найдется истин более важных, чем те,
которые заключены в первых трех строках, последние три вызывают очень существенные возражения. Что есть «душа добра
и в злых вещах», не подлежит вопросу; также едва ли какой
разумный человек станет отрицать дисциплинирующее влияние
страдания и горя. Но эти соображения не помогают нам понимать, почему такое несметное множество чувствующих, но невменяемых существ страдает, не вынося никакой пользы из
этой дисциплины. Еще менее понятно, почему из всего числа
возможных комбинаций,
доступных
всемогуществу, — не
исключая и возможности безгрешного, блаженного существования, — оказалась избранной современная действительность,
полная греха и страдания. Конечно, называть эти вопросы,
на которые самые скромные из оптимистов никогда не пытались
отвечать, называть их внушениями человеческой гордыни —
только дешевый риторический прием. Что же касается до
заключительного афоризма, то его всего уместнее было начертать грязью на портале какого-нибудь «Эпикуровского хлева» 2 ,
1 Опасаясь не передать лаконической силы подлинника, предпочитаем привести подстрочный перевод:
Природа — только неведомое тебе искусство;
Случай, предначертание, которого ты не можешь усмотреть;
Раздор — тобой не понятая гармония;
Все частное зло — лишь всеобщее благо.
И вопреки заблуждающемуся уму, вопреки его гордыне,
Одна лишь истина ясна: что существует, то разумно.
Примеч. перев.
2 Привожу общеизвестное выражение, не принимая на себя ответственности за этот пасквиль на Эпикура, учение которого имело гораздо
менее отношения к хлеву, чем учение циников. Если бы люди не забывали,
что представление о «плоти», как источнике зла, и великое изречение:
«Initium est salutis notitia peccati» (Начало спасения в познании греха.
Ред.) составляют литературную собственность Эпикура, то число превратных суждений о сущности Эпикурова учения значительно посократилось бы. Примеч.
автора.
потому что таково было бы логическое последствие его применения к практической жизни, в которой оно убило бы всякие
стремления, парализовало бы всякие усилия. Зачем заботиться
об исправлении того, что и без нас исправлено? Зачем стремиться
к улучшению лучшего из миров? Будем же есть и пить, потому
что как все хорошо сегодня, так будет хорошо и завтра.
Но попытка стоиков закрыть глаза перед реальностью зла,
как необходимого спутника космического процесса, оказалась
не столь успешной, как подобная попытка индусских мудрецов
закрывать глаза перед реальностью добра. По несчастью, гораздо легче не видеть добра, чем зла. Страдание и горе стучатся
в нашу дверь гораздо громче, чем наслаждение и счастье,
и отпечатки их тяжелых следов изглаживаются гораздо труднее. Перед суровою действительностью практической жизни
стушевываются приятные фикции оптимизма. Если б этот мир
и оказался лучшим из миров, то, во всяком случае, он представляет неудобства для философа-идеалиста.
Общий итог нравственных обязанностей человека, который
стоики выражали изречением «живи согласно природе»,—мог
навести на мысль, что космический процесс должен служить
человеку примером для подражания. Этика таким образом
превратилась бы в прикладную естественную историю. И действительно, такое буквальное толкование этого правила причинило в последнее время громадное зло. Оно послужило исходной аксиомой для философских лжемудрствований и морали
сантименталистов. Но стоики, в конце концов, были не только
благородные, но и здравомыслящие люди. Если мы присмотримся ближе к смыслу, который они придавали этой превратно
истолкованной фразе, то убедимся, что они нисколько не оправдывали тех зловредных заключений, которые были из нее
выведены.
На языке стоиков слово «природа» имело несколько различных смыслов. Была «природа» космоса и «природа» человека.
В последнем животная «природа», которую он разделяет с
целой половиной живого космоса, отличалась от другой более
возвышенной природы. Но и в этой возвышенной природе
были свои чины и разряды. Логическая, рассуждающая способность могла быть обращена на какую угодно потребу. Чув7
К. А. Тимирязев,
т. 7
97
ства и страсти так тесно связаны с низшей природой, что их
правильнее рассматривать как патологические, чем нормальные
явления. Одна над всеми главенствующая, гегемоническая,
способность, составляющая существенную «природу» человека,
скорее всего соответствовала тому, что на языке позднейшей
философии получило наименование чистого разума. Только
эта «природа» является носительницей идеалов высшего блага
и требует, безусловно, подчинения человеческой воли ее велениям. Только она повелевает людям любить друг друга, платить добром за зло, видеть друг в друге сограждан великого
града. И видя, что всякий шаг по пути к более цивилизованному состоянию, всякий успех гражданственности зависит от
• подчинения людей этим предписаниям, стоики нередко называли чистый разум природой «политической». К сожалению, смысл этого прилагательного до того извратился, что
его применение к требованию самопожертвования ради общего блага для современного уха звучало бы несколько комично.
Но какую же роль играет теория эволюции в этом этическом
учении? Насколько я могу усмотреть, этическая система стоиков, по существу интуитивная и преклоняющаяся перед категорическим императивом не менее любой системы позднейших
моралистов, могла бы оставаться тем, чем была и при всякой
другой теории — прямого ли вмешательства творческой силы,
или вечного неизменного бытия существующего мирового порядка. По воззрениям стоиков, космос не имел существенного отношения к совести, но они не прочь были бы видеть в нем педагога добродетели. Упорный оптимизм этих философов скрывал от них действительное положение дела. Он помешал им
видеть, что космическая природа — плохая школа нравственности, что она скорее твердыня самого опасного врага природы
этической. Логика фактов должна была бы убедить их, что космос делает свое дело — чрез посредство низменной природы
человека — не ради торжества правды, а наперекор ей. И она,
наконец, довела их до признания, что идеал их «мудреца» был
несовместим с природой вещей, что даже отдаленное приближение к нему достижимо только путем отречения, не только от
мира и плоти, но и от всяких человеческих привязанностей.
Состоянием совершенства была та «апатия», в которой желание,
хотя и ощущаемое, бессильно подвинуть волю, низведенную
до роли послушной исполнительницы велений чистого разума.
Даже этот остаток деятельности рассматривался как временная
ссуда, как истечение божественного духа, проникающего
весь мир, рвущегося из своей плотской темницы до той поры,
пока смерть не освободит его и не даст ему слиться со всеобъемлющим Логосом.
Я нахожу, что трудно усмотреть какую-нибудь существенную разницу между «апатией» и «нирваной», кроме разве того,
что стоическое представление более согласно с пребуддистскою
философией, чем с философией Готамы — в том, что оно допускает вечно пребывающую субстанцию, соответствующую «Атману» и «Браме», и в том еще, что в практике стоиков образ
жизни нищенствующего циника предлагался только как совет
для ищущих совершенства, но не как неизбежное условие для
достижения высшей жизни.
Таким образом крайности сходятся. Индусская и греческая
мысль отправляются со сходной общей почвы, широко расходятся, развиваются при совершенно несходных физических
и нравственных условиях и, в конце концов, приходят к тому жепрактическому результату.
Веды и Гомеровский эпос развертывают перед нами кар-,
тины жизни могучей и цветущей, полной жизнерадостных
воителей, «с равным весельем встречающих и гром небесный,
и луч солнца», а когда вскипает кровь, готовых, пожалуй,
бросить вызов и самим богам. Проходит несколько веков и под
влиянием цивилизации на потомков этих людей «бледная
мысль наложила свою печать»; они становятся пессимистами
или только прикидываются оптимистами. Храбрость воинственной расы подвергается, быть может, еще худшему испытанию:
враг на этот раз не внешний; он воплотился в собственном сознании. Герой теперь стал монахом. Человек дела превратился
в квиетиста, стремящегося стать только пассивным орудием
божественного разума. На берегах Тибра, как и на берегах
Ганга, этический человек сознает, что космос ему не под силу,
и, порывая всякую с ним связь, путем аскетической дисциплины,
ищет спасения в полнейшем самоотречении.
7*
99
Современная нам мысль снова пускается в путь с той же
точки отправления, с которой двинулась вперед философия
индусов и греков. И так как ум человеческий немногим отличается от того, чем он был за двадцать шесть веков, то нет поводов удивляться тому, что он обнаруживает стремление итти
тем же путем, к тем же конечным результатам.
Мы слишком хорошо знакомы с современным пессимизмом,
по крайней мере — в его спекулятивной форме, так как я что-то
не припомню, чтобы хоть один из его современных служителей
подтвердил искренность своей веры, облекшись в рубшце нищенствующего бикку или странствующего циника. Возможно
и то, что, мало склонная к философствованию и не поощряющая
бродяжничества, полиция являлась препятствием, непосильным
для их философской последовательности. Знаем мы также и современный спекулятивный оптимизм, с его усовершенствованием вида, с вечным царством мира, сопровождаемым маскарадной сценой между львом и ягненком; но и о нем приходится
слышать как будто менее, чем сорок лет тому назад, и мне
сдается, что продолжают вспоминать о нем более за трапезой
«сытых и здоровых», чем на советах «мудрых». Я подозреваю,
что большинство из нас не пессимисты и не оптимисты. Мы
придерживаемся того мнения, что мир не так хорош и не так
дурен, как он легко мог бы быть и как порой бывает, в чем многие
из нас имели случай убеждаться. Те, кто не видал в жизни радостей, из-за которых стоило бы жить, конечно, составляют такое
же ничтожное меньшинство, как и те, кто никогда не испытал
горя, отнимающего всякое желание жить и превращающего
роскошнейшие плоды жизни в золу и прах.
Далее я, вероятно, также не ошибусь, допустив, что, как
бы ни были различны философские и религиозные воззрения,
большинство людей согласно в том, что отношение между добром и злом в нашей жизни может быть в значительной степени
изменено воздействием человека. Мне не приходилось, по крайней мере, слышать, чтобы кто-нибудь сомневался в том, что
этим путем может быть увеличено или ограничено зло, а отсюда,
кажется, само собою вытекает, что и добро подчиняется сложению и вычитанию. Наконец, насколько мне известно, никто
не высказывал сомнений в том, что, обладая этой властью уве-
личивать количество добра, мы обязаны и пользоваться ею,
упражняя свой разум и свою энергию в этом высшем служении
своему роду.
Отсюда понятен живой интерес, присущий вопросу: в какой
же мере современные успехи естествознания, и в особенности
общие итоги этих успехов по отношению к учению об эволюции, могут помочь нам в великом деле оказания помощи друг
ДРУГУПроповедники того, что обыкновенно называют «этикой
эволюции», а правильнее было бы называть «эволюцией этики»,
приводят более или менее значительное число любопытных фактов и более или менее веских рассуждений в защиту происхождения нравственного чувства тем же путем, каким возникли и
другие естественные явления, — путем эволюции. Что касается
до меня, то я ни мало не сомневаюсь, что они напали на верный след. Но так как и безнравственные чувства развились
тем же путем, то и для них нашлась бы та же естественная
санкция. Вор и убийца следуют природе так же, как и филантроп. Космическая эволюция может объяснить нам, как возникло добро и зло в стремлениях человека, но она не подвинет
нас ни на шаг в понимании, почему то, что мы зовем добром,
заслуживает предпочтения перед тем, что мы называем злом.
Когда-нибудь, — я в том уверен, — мы поймем эволюцию
эстетического чувства, но все это понимание ни мало не увеличит и не уменьшит в нас интуитивного чувства, что вот это —
прекрасно, а вон то — безобразно.
Есть другое заблуждение, присущее, как мне кажется,
этой «этике эволюции». Оно заключается в убеждении, что
если, в целом, растения и животные усовершенствовали свою
организацию путем борьбы за существование и «survival of the
fittest» 1 , то, следовательно, и человек, живущий в обществе, — человек, как существо этическое, — должен прибегать к тому же средству для достижения совершенства. Я
подозреваю, что это заблуждение возникло из двусмыслицы,
К сожалению, нам не известно слово, которое передавало бы точный смысл английского fittest. Перевести же его, как обыкновенно делается, выражением «наиболее приспособленный» — значило бы предвосхитить всю последующую аргументацию автора. Примеч. перев.
1
которая скрывается в этих словах «survival of the fittest». «Fittest» звучит как будто «лучший», а со словом «лучший» связано
какое-то моральное представление. Но в космосе то, что мы
назовем «fittest», зависит от условий. Уже давно я высказывал
мысль, что если бы на нашем полушарии снова понизилась температура, то переживание наиболее приспособленного вызвало бы в растительном мире процветание все более и более
жалких форм, так что, в конце концов, одержали бы верх
какие-нибудь лишайники, диатомовые и те водоросли, которые
сообщают красный цвет снегу; а если бы, наоборот, климат
стал жарче, то долины Темзы и Айзиса стали бы уделом существ,
обитающих теперь в джунглях. Как наиболее соответствующие изменившимся условиям, они пережили бы остальных.
Люди, живущие в обществах, конечно, также подвержены
этому космическому процессу. Так же как и у других животных, размножение человека совершается безостановочно и влечет за собой жестокое состязание за средства к существованию.
Борьба за существование стирает тех, кто менее способен приспособляться к условиям их жизни. Сильнейшие, наиболее
самонадеянные, стремятся к тому, чтобы попирать слабых.
Но влияние этого космического процесса на эволюцию обществ
тем сильнее, чем грубее форма их цивилизации. Социальный
прогресс является средством, ограничивающим на каждом
шагу могущество процесса космического, и выдвигает на смену
ему другой процесс, который мы можем назвать этическим.
Результатом этого процесса может оказаться переживание —
не тех, кто наиболее приспособлен к общим условиям существования, а тех, кто приспособлен к условиям существования наилучшего, в смысле этическом.
Как я уже указывал выше, применение в жизни правил*
представляющихся высшими с этической точки зрения, —
правил, которые мы связываем с представлением о праведности
или добродетели, — влечет за собою образ действия во всех
отношениях противный тому, который обусловливает успех
в космической борьбе за существование. Вместо безжалостного
предъявления требований своей личности, эти правила налагают обязанность самообуздания; вместо того, чтобы сметать
перед собой или попирать под ногами всякого соперника, они
требуют не только уважать своего ближнего, но и помогать
ему; они способствуют не переживанию наиболее приспособленного, но приспособлению наибольшего числа к переживанию.
Они с негодованием осуждают гладиаторское воззрение на
жизнь. Они требуют, чтобы всякий, пользующийся выгодами
и наслаждениями жизни в обществе, никогда не упускал из
вида своего долга по отношению к тем, кто своими трудами
создал это общество, и налагают на каждого члена этого общества обязанность ни одним своим действием не ослаблять связи
того целого, в котором ему дозволено жить. Законы и нравственные правила направлены к тому, чтобы побороть этот космический процесс и постоянно напоминать отдельному человеку об его обязанностях по отношению к обществу, которое
своей защитой и благотворным влиянием если не прямо дарует
ему жизнь, то, во всяком случае, делает ее чем-то более ценным,
чем полуживотное существование дикаря.
Только вследствие невнимания к этим простейшим соображениям, некоторые фанатики индивидуализма пытаются в наше
время, по аналогии, распространять этот космический процесс
и на общество. Еще раз мы присутствуем при попытке ложного
применения завета стоиков — «следуй природе». Забываются
обязанности личности по отношению к обществу, а предъявляемые ею эгоистические требования величаются именем прав.
Серьезно обсуждается вопрос: имеют ли право все члены общества, своими соединенными силами, принуждать личность
исполнять свою долю участия в поддержании этого общества;
высказываются даже сомнения, может ли общество помешать
своему члену напрягать свои силы к уничтожению этого общества. Полагают, что борьба за существование, давшая такие
поразительные результаты в процессе космическом, может оказаться одинаково благотворной и в сфере этической. Но если
то, на чем я настаиваю, верно, если космический процесс не
имеет никакого отношения к нравственным принципам, если,
подражая этому процессу, человек приходит только в разлад
с основными требованиями этики, — то спросят, что же станется с этой теорией?
Поймем раз навсегда, что этический прогресс общества
зависит не от подражания космическому процессу, еще менее
от уклонения от него, а от борьбы с ним. Может показаться
чересчур смелым это приглашение микрокосма вступить в борьбу
с макрокосмом, это приглашение человека подчинить природу
своим высшим идеалам. Но смею думать, что главное интеллектуальное преимущество нашего времени перед древностью,
которой мы до сих пор занимались, лежит именно в приобретенной нами прочной надежде, что подобная попытка не была бы
вполне безуспешной.
Вся история цивилизации повествует нам о том, как, шаг
за шагом, человек успел создать среди космоса свой искусственный мир. Хотя и хрупкий, по прекрасному выражению
Паскаля, человек — мыслящий тростник. В нем таится запас
энергии, по своей разумности настолько сродной с тою, которая разлита во вселенной, что она, очевидно, в силах видоизменить космический процесс. В силу этой разумности, карлик
подчинит своей воле титана. В первой сложившейся семье,
в первом человеческом обществе космический процесс был
заключен в границы и видоизменен законом и обычаем. В окружающей природе он был подчинен искусству пастуха, земледельца и ремесленника. С успехом цивилизации росло и это
вмешательство человека в дела природы, так что теперь
правильно организованные и высоко развитые искусства
и науки облекли человека такою властью над внешней природой, какой не приписывали прежде и кудесникам. Самые решительные, можно сказать поражающие, успехи в
этом направлении сделаны за последние два века, между
тем как верное понимание жизненных явлений и подчинение их власти человека едва только начинает возникать.
Мы только начинаем разбираться в общих положениях
и еще ходим в тумане ложных аналогий и грубых догадок.
Но ведь и астрономия, и физика, и химия прошли через
эти фазы, прежде чем достигли той стадии своего развития, когда они стали могущественными факторами в человеческих делах. Физиология, психология, этика, политическая
наука — должны пройти через этот же искус, и мне представляется совершенно неразумным сомневаться в том, что в недалеком будущем и они осуществят такой же переворот в сфере
практической жизни.
Теория эволюции не поощряет надежды на окончательное
наступление какого-нибудь millenium'a. Если, в течение миллионов лет, на нашем земном шаре совершался восходящий
путь, то когда-нибудь его вершина будет достигнута и наступит
нисходящее движение. Самое смелое воображение едва ли осмелится предположить, что человек своей властью, своим разумом
остановит течение «великого года».
Сверх того, прирожденная нам космическая природа, в
значительной мере еще необходимая для поддержания нашего
существования, является результатом миллионов лет строгой
дрессировки, и было бы безумием предполагать, что нескольких
веков будет достаточно для подчинения ее искусной деятельности чисто-этическим целям. Наша этическая природа должна
будет считаться с могучим и упорным противником до тех пор,
пока свет будет стоять. С другой стороны, я не вижу предела
для того воздействия, которое разум и воля, соединенными
усилиями и под руководством знания, могут оказать на изменение внешних условий существования, в течение периодов
несравненно более длинных, чем те, которые покрываются нашей историей. А сколько еще может быть сделано для изменения
самой природы человека! Разум, превративший собрата волка
в верного защитника овцы, успеет же, наконец, побороть в
цивилизованном человеке инстинкты дикаря.
Но если мы в праве возлагать надежды на умаление зла
в этом мире — более прочные, чем те, которые могли питать,
во времена младенчества точного знания, люди, еще за два
десятка веков до нас задумывавшиеся над этой проблемой жизни, то под одним только условием, под условием — отказаться
от того воззрения, что вся задача жизни сводится на ограждение
себя от горя и страдания.
Уже далеко за нами осталось героическое младенчество \/
нашей расы, когда добро и зло встречались безразличным
«веселым приветом». Попытка спастись от зла — все равно
индусская или греческая — окончилась только бегством
с поля битвы. Нам предстоит отбросить в сторону и младенческую самонадеянность, и недоверие к своим силам, свойственное несовершеннолетию. Мы уже возмужали и должны показать
себя людьми. —
Strong in will.
То strive, to seek, to find and not to yield
l
.
Мы должны лелеять то добро, которое выпадает нам на долю,
и мужественно сносить зло, в себе и вокруг нас, с твердым
намерением положить ему предел. И в этом общем стремлении
мы можем руководиться общей верой, общей надеждой.
It may be that the gulfs will wash us down,
It may be we shall touch the Happy Isles
.... but something ere the end,
Some work of noble note may yet be done 31 С могучею волей бороться, искать и не поступаться тем, что раз
нашли.
2 Быть может пучина нас поглотит, а может быть волна нас вынесет
к счастливым берегам... но пока не настал конец, не ушло время для
•благородного, высокого труда.
ФАКТОРЫ
ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ1
ноября 1859 г. лондонский издатель Муррей выпустил в свет небольшой зеленый томик, посвященный
специальному, естественно-историческому вопросу. Издание разошлось в тот же день — пример, кажется, небывалый в
летописях науки, так что 1 января 1860 г. потребовалось новое
издание книги. С небольшим через год, уже в этих стенах 2 ,
в 11-й аудитории, покойный Степан Семенович Куторга на одной
из первых лекций нам, первокурсникам, с отличавшею его
обстоятельностью, изобразил на черной доске длинное и несколько неуклюжее название этой книги: The origin of species
1 Речь, произнесенная в третьем общем собрании V I I I съезда русских естествоиспытателей и врачей (прочтена в январе 1890 г. Ред.).
По недостатку времени на общих собраниях, речь была произнесена
в сокращенном виде; здесь она печатается в первоначальной форме.
2 Т. е. в Петербургском университете, где первоначально назначено
было заседание съезда.
Ъу means of natural selection or the preservation of favoured
races in the struggle for life — by Charles Darwin*. «Книга новая, но
хорошая», помнится, прибавил Степан Семенович и вслед затем, со свойственным ему мастерством, в ясных, сжатых чертах
изложил содержание этой удивительной книги, показавшей
нам органический мир в совершенно новом свете. Пользуюсь
случаем, чтобы в этих же стенах принести запоздалое покаяние перед тенью талантливого учителя, так как едва ли какое
из многочисленных поколений его учеников принесло ему
столько огорчений, как именно наше. Мы, помнится, вполне
искренно считали его отсталым — и от этого-то отсталого старика услышали мы, почти вслед за ее появлением, первую трезвую, объективную оценку теории, своим новаторством приводившей в негодование людей, которых мы ему ставили в пример.
Я сказал: на этой памятной лекции перед нами развернулось совершенно новое мировоззрение, — но это выражение
нуждается в оговорке. Дарвинизм, как и все в науке, не был,
конечно, внезапным откровением, не вышел как Минерва
из чела Юпитера, — он был только гениальным, двадцать лет
продуманным ответом на запросы науки, на стремления, глухо
таившиеся и бродившие в умах передовых представителей естествознания. По крайней мере, один из здесь присутствующих,
наш уважаемый председатель, Андрей Николаевич Бекетов,
мог бы смело предъявить одно свое литературное произведение,
совпавшее с появлением книги Дарвина и доказывающее,
на какую подготовленную почву упало у нас это учение» х .
Тридцать лет прошло со дня появления книги Дарвина.
Казалось бы, все, что можно было сказать о ней и ее авторе,
уже сказано. Оказывается, что нет, — оказывается, что это
имя не сходит с уст мыслящих людей. Посмотрите председательские речи и целый ряд специальных сообщений на последнем съезде британской ассоциации; прочтите президентскую
речь на международном в этом году съезде французской ассоциации, — везде вы встретитесь с этим именем. Появившаяся
в настоящем году блестящая и талантливая книга Уоллеса
Гармония в природе. «Русск. Вестник». 1860 г.
* «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благоприятствуемых рас в борьбе за существование». Ред.
1
Darwinism представляет сжатый очерк теории во всеоружии
вновь приобретенных фактов, а вышедшие в прошлом году
«автобиография и переписка» возбуждают новый интерес к
лицу. Особенно любопытно, что едва ли не наибольшее сочувствие пробуждается именно в той стране, которая почти враждебно отнеслась к учению при его первом появлении. Париж
учреждает кафедру трансформизма Ч Французские ученые,
как бы желая загладить холодность приема, оказанного идеям
отца, делают горячий, задушевный прием его сыну. Французская академия — не наук, а словесности — устами Ренана
и Тэна приветствует и награждает премией перевод «автобиографии и писем». И действительно, со страниц этой книги
на нас смотрит, как живая, эта светлая личность, которую
в нравственном отношении Гёксли не задумался сравнить
с Сократом. Как бы в подтверждение этого сравнения, нашелся
и Аристофан, с театральных подмостков бросивший в него
обвинение, — старое, как свет, но неизменно действующее на толпу, — обвинение в повреждении нравов Ч
Рядом с постоянно возрастающим успехом учения, слышатся, конечно, и возражения, делаются попытки выставить
на вид его недостатки, указать на его неполноту. В настоящем
случае я бы желал остановиться на одном общем возражении,
разбор которого мне представляется особенно уместным, так
как он даст нам повод к беглому обзору некоторых из самых
характеристических направлений нашей науки; а именно в
таких ретроспективных обзорах, по примеру западных образцов, и должны, мне кажется, состоять наши речи на этих заседаниях.
Общее возражение против дарвинизма, которое я имею
в виду, высказывается и философами, каковы Гартман и Спенсер, и натуралистами, каковы Негели, Кооп (Соре), Жиар;
останавливаюсь на этих выдающихся именах, к которым я мог
бы присоединить много других. Это обвинение сводится к
упреку, что дарвинизм не дал нам, будто бы, того, что обещал.
Гартман, соглашаясь, что дарвинизм дает нам механическое, т. е. причинное, объяснение сохранения наиболее со1
2
Называет даже именем Дарвина новую улицу.
Альфонс Доде. (Примечание добавлено к 4-му изданию.
Ред.)
вершенных существ, прибавляет, что учение это не объясняет,
как же возникли эти совершенные существа. Ту же мысль Кооп
выставляет прямо в заголовке своей книги: The origin of the
fittest (Происхождение наиболее приспособленного).
«Дарвин
и Уоллес, — говорит Кооп, — берутся объяснить „сохранение
наиболее приспособленного"; их закон только ограничивает,
сохраняет или истребляет нечто уже существующее. Я же пытаюсь раскрыть законы, по которым отбору доставляется
этот материал, другими словами, раскрыть причины происхождения наиболее приспособленного». Сходные мысли встречаем
и в толстой книге Негели, пытающегося дать свое объяснение
эволюционному процессу, и у Спенсера в небольшой, как
всегда прекрасно изложенной статье, носящей то самое название, которое я позволил себе воспроизвести в заголовке своей
речи. Спенсер проводит мысль, что Дарвин и особенно дарвинисты впали в односторонность и, увлекшись учением об естественном отборе, если не проглядели, то не придали должного
значения факторам не менее важным и в особенности влиянию
среды.
Рассмотрим, основателен ли этот общий упрек. Действительно ли Дарвин неверно оценил значение этого фактора,
входил ли в его задачу более подробный анализ этого фактора
и, наконец, возможна ли какая-нибудь общая теория действия
этого фактора1?
Но, прежде всего, установим, в чем заключается главная
особенность учения, которое мы называем дарвинизмом.
Представим себе две сходные по внешнему виду картины:
с одной стороны, густо заросший клочок земли, поражающий
нас бесконечным разнообразием растительных форм и их окраски; с другой стороны — один из тех фантастических ландшафтов, которые мороз рисует на наших окнах. Во втором
1 Значение другого фактора — упражнения
органов — я здесь нѳ
касаюсь, как не имеющего отношения к растению. Замечу только, что
в этом направлении новейшие дополнители и совершенствователи дарвинизма — неоламаркисты и вейсманисты •— взаимно уничтожаются. Первые желали бы упразднить дарвинизм в пользу ламаркизма, а вторые —
своею поправкой дарвинизма доказывают невозможность ламаркизма.
Один только трезвый дарвинизм уделяет ламаркизму принадлежащее
ему по праву место в науке.
случае мы увидим те же травчатые узоры, напоминающие листья
папоротника или пальмы, то же бесконечное сплетение самых
причудливых форм, а станем их рассматривать в лучах поляризованного света, — и они вспыхнут такими цветами, с которыми,
конечно, не сравнится игра всех красок растительного мира.
Картины сходные, но как различен строй мыслей, вызываемых
той и другой. Если бы, во втором случае, исследователь, исходя
из основной формы кристалла льда, мог объяснить все разнообразные сочетания сложных,
переплетающихся
узоров,
если б, исходя из законов интерференции света, он мог объяснить все разнообразие цветов в любой точке этого пестрого
ковра, он мог бы считать свою задачу разрешенной, — он
обладал бы объяснением этих форм и их окраски. Но представим себе, что и ботаник мог бы в такой же мере проследить
механизм образования форм, химический процесс образования
составляющих их веществ, — почел ли бы он свою задачу разрешенной? Конечно, нет.
Перед ним оставалась бы еще другая задача, которой минералогия не знает. Кристалл представляет части, самое слово
организм указывает, что его части — органы, т. е. орудия.
Организмы суть тела орудийные, как выражались в старину.
Но если слово организм включает понятие об орудии, то понятие об орудии предполагает понятие об употреблении, об отправлении, о служебном значении, или, как говорилось также
в старину, о цели. Никому, конечно, не приходило в голову
задаваться вопросом, для чего служат кристаллу его части,
какое отправление исполняют те или другие комбинации
кристаллических форм. Наоборот, ботаники все более и более
убеждаются в бесплодности говорить о формах и частях растения, не имея в виду их ближайшего отправления. Еще недавно
пытались смотреть на растение с двоякой точки зрения: с морфологической — как на форму, имеющую члены или части,
и с физиологической — как на организмы, имеющие органы.
Напомню, как сравнительно недавно и каким коренным образом изменились в этом направлении воззрения, например,
Сакса.
Следовательно, деятельность ботаника, задающегося вопросом о происхождении растений, представляется по существу
.
двоякой. Он должен объяснить, как, почему сложились эти
формы и их части, и в этом его задача, пожалуй, сходна с задачей минералога; но вслед затем он должен объяснить, почему
эти части — не просто части, а орудия, а их обладатели — не
просто формы, а организмы.
Между тем как по отношению к кристаллу исследователю
никогда не приходила на ум мысль о приспособлении частей
или целого к условиям существования, эта мысль о приспособлении преследует биолога или, выражаясь точнее, руководит
им решительно на каждом шагу. Если бы кто-нибудь задал
себе труд статистически проверить, какое слово всего чаще за
последнюю четверть века встречалось в устах биологов, то,
я не сомневаюсь, оказалось бы, что это слово — приспособление, adaptation, Anpassung. В этом, несомненно, выражается
влияние дарвинизма. Из двух задач, представляющихся биологу, т. е. объяснения возникновения форм и объяснения их
приспособления, дарвинизм сосредоточился, главным образом,
на труднейшей и, казалось, не разрешимой — на второй. Это
ему даже ставится в укор. Роменз, например, выражается так:
дарвинизм объяснил не происхождение видов, а приспособлений. На это ему возражали, что еще не доказано, чтобы все
видовые признаки не были адаптивными или не находились
в связи с таковыми. Но если бы дарвинизм объяснял только
одни приспособления, то и тогда он оставался бы теорией происхождения организмов, т. е. всего того, что делает живые
формы телами, исполняющими в целом и частностях известные
отправления.
Итак, дарвинизм, прежде всего и главным образом, стремится объяснить ту именно черту, которая отличает живые
формы от неживых, ту черту, которая заставляет называть их
организмами. Спрашивается: четверть века исследований,
произведенных в этом направлении, послужили ли подтверждением или опровержением этого стремления? Оправдала ли природа исходную точку дарвинизма или нет? Мне кажется, ответ
может быть один. Те, кто лет 20—30 не заглядывали на страницы ботанических сочинений, были бы поражены, как изменилась вся физиономия науки, до чего возросло число новых
приспособлений, открытых и ежедневно открываемых, начиная
с внешних форм и кончая микроскопическими подробностями
строения.
Одни из них, совершенно новые, явились результатом поисков, другие — и это факт еще более знаменательный — были
известны давно, но затирались, замалчивались вследствие того,
хорошо известного всякому, знакомому с историей биологии,
отвращения, которое испытывали самые серьезные натуралисты при малейшем намеке на целесообразность в природе.
Только дарвинизм, освободивший умы от этого отвращения ко
всему, отзывавшемуся телеологией, спас от забвения целые
категории фактов, прежде упоминавшихся разве как примеры
заблуждения умов, погрязших в телеологии. Только создав
новую, рациональную телеологию, дарвинизм мог победить этот
научный предрассудок.
Попытаюсь представить краткий, беглый очерк успехов
ботаники на этом пути раскрытия новых приспособлений,
новых органов, новых функций. Вперед прошу снисхождения
ботаников, так как им придется выслушать перечень давно
знакомых фактов, но, как я сказал уже ранее, мне кажется,
что на этих общих собраниях мы должны иметь в виду не специалистов, а тех, кто желал бы узнать, что творилось в последние годы за пределами избранной специальности.
Прежде всего, констатируем общий факт, что целая
отрасль нашей науки коренным образом изменила свой характер. Я разумею анатомию или гистологию растений.
Еще недавно она руководилась исключительно морфологическими принципами, видела в элементарных органах только
формы. В настоящее время она видит в них не одни только
формы, не геометрические факты, а прежде всего физиологические орудия. Переворот этот совершился в краткий,
менее чем десятилетний промежуток, отделяющий появление «Физиологической анатомии растений» Габерланда от
выхода в свет «Анатомии растений» Де-Бари. Как всякое
рововведение, этот переворот во взглядах был встречен недоверчиво, почти враждебно, но победа осталась, несомненно,
на стороне нового направления. Теперь гистолог не довольствуется одним наблюдением того или другого строения
у различных существ (путь сравнительно-анатомический)
S
К. А
Тимирязев,
т. V
113
или на различных стадиях развития того же существа (путь эмбриологический), он доискивается его смысла, его физиологического значения и, где может, дополняет свои наблюдения опытом. Приведу один пример, укажу на фак!г недавнего раскрытия
физиологической функции микроскопического органа, более чем
два века известного ботаникам. Я разумею так называемые
окаймленные поры, особенно характеристично выраженные в
древесине наших хвойных. Кто их не видал? Их можно узнать
уже на рисунках Мальпигн. На них показывали свое искусство
все корифеи анатомии в настоящем столетии — Моль, Шлейден, Шахт, Санио, Страсбургер и др.; с них же начинает
свои упражнения каждый учащийся. Я примерно высчитал,
что за двадцать лет своей педагогической практики видел этот
объект, по крайней мере, на 10 ООО препаратов. Сколько же
миллионов раз проходил он перед глазами ботаников, учащих
и учащихся всех времен и народов? И, однако, только в 1884 г.
профессор Руссов объяснил физиологическое значение этого
органа и только в прошлом году Папенгейм доказал на опыте
верность этого объяснения. Оказалось, что эти окаймленные
поры можно уподобить фильтрам химиков, но гораздо более
совершенным, так как они действуют в обе стороны и, притом,
пока давление слабо — как простые фильтры, а когда давление
в клетках возрастает — автоматически превращаются в подобия фильтров с платиновыми конусами, которые химики употребляют при фильтрации под значительным давлением. Спрашивается, почему ранее не явилось попытки, повидимому, не обнаруживалось даже потребности, объяснить себе значение так
широко распространенного образования? Не благодаря ли
исключительно морфологическому складу мышления гистологов? Увидеть, сравнить, проследить развитие, описать, срисовать — не исчерпывалась ли этим в былое время его задача?
Мысль же о том, что в малейшей черте строения мы в праве
видеть не замысловатую только фигуру, а орудие, служащее
известным отправлениям, — эта мысль, очевидно, новейшего
происхождения, и внушена она дарвинизмом.
Наш беглый обзор открытых наукой новых приспособлений
растения мы начнем, как делают систематики, с корня и окончим семенем.
В корне, конечно, всегда видели орган прикрепления к почве
и извлечения из нее пищи, но сколько новых подробностей,
направленных к более совершенному отправлению этой двоякой функции, открыли последние десятилетия! Прежде всего,
корень прорастающего семени для того, чтобы пробивать себе
путь в почве, должен иметь точку опоры, иначе своим ростом
он будет только выталкивать семя наружу. Эту точку опоры
ему сообщают волоски, срастающиеся с частицами почвы. Таким образом, помимо функции всасывания пищи из почвы, мы
открываем в волосках еще механическую функцию, — они служат как бы якорем. Соответственно этому, Бриози у целого
ряда растений, в особенности у евкалиптов, нашел особый
орган — густое кольцо волосков, на подобие старинной фрезы,
обхватывающих шейку корня и с первых же моментов прорастания дающих растеньицу прочную точку опоры. В менее
резкой степени подобное приспособление встречается у многих
растений. Нередко подобную же функцию играют слизистые
волоски, развивающиеся из оболочек самых семянок и плотно
слипающиеся с частицами почвы. Кроме дцрно известного движения корня, направляющего его в его естественную среду —
почву, мы узнали еще много других целесообразных движений
растущей верхушки корня. Она направляется из более сухой
в более влажную среду, из более теплых поверхностных в более прохладные глубокие слои почвы; наконец, встречая какое-нибудь раздражение, механическое или химическое, кончик корня представляет так называемое Дарвиново движение,
т. е. уклоняется в сторону от раздражающего тела. Не менее
поразительны движения корня, представляющие явление как
бы обратное росту, т. е. зависящие от его укорачивания. Мы
видели, что точкой опоры в почве, как бы якорем, на котором
держится молодой корень, служит пояс, покрытый волосками,
прилипающими, прирастающими к частицам почвы. Но этот
пояс волосков с ростом подвигается вперед; на более старых
частях волоски отмирают. Если молодая растущая часть корня
получает в поясе волосков точку опоры, опираясь на которую,
она проталкивается вперед между частицами почвы, то части
более старые, нередко сокращаясь, притягиваются к этому
якорю и втягивают за собой в почву надземные стеблевые
8*
115
части. Этот механизм имеет большое значение. Зимующие
стеблевые почки зарываются, таким образом, в землю и предаются зимней спячке, не подвергаясь опасностям от непогоды.
Это явление, замеченное в первый раз у моркови и тщательно
изученное у клевера, представляется особенно поразительным у ежевик, побеги которых как бы гигантскими стежками простегивают почву, каждую зиму сохраняя верхушечную почку под землею для того, чтобы весною выйти снова
на свет.
Во внутреннем анатомическом строении корней исследование
раскрыло много любопытных приспособлений, но их описание
неудобно без пояснительных рисунков.
Роль стебля, как известно, главным образом, архитектурная: это — твердый остов всей постройки, несущий шатер листьев и в толще которого, подобно водопроводным трубам,
заложены сосуды, проводящие соки.
И действительно, благодаря Швенденеру и его школе, именно на стеблях узнали мы целый ряд поразительных фактов,
доказывающих, что они построены по всем правилам строительного искусства. Учение Швенденера о так называемых механических тканях положило основание указанному выше
физиологическому направлению анатомии растений. Прежде
всего Швенденер показал, что материал, из которого построены
эти ткани, мало уступает кованому железу — факт, замечу
мимоходом, получающий подтверждение и с совершенно противоположной стороны — в изготовлении вагонных колес из
бумажной массы. Затем Швенденер показал, что распределение
этих тканей меняется соответственно с меняющейся механической задачей, но всегда соответствует архитектурным требованиям данного случая, оказывая наиболее выгодное сопротивление изгибу, излому, растяжению и т. д. Так, например,
в стебле, соответствующем по значению колонне, задача иная,
чем в корне, который можно уподобить снастям, удерживающим мачту, — и в том, и в другом случае распределение элементов соответствует данной задаче, причем оказывается, что
это распределение управляется не морфологической природой
органа, а физиологической потребностью. Так, например, когда
стебель поступает в условия существования корня, т. е. стано-
вится подземным корневищем, соответственно изменяется и распределение тканей.
Не менее обогатились мы сведениями относительно другой
функции стебля — проведения соков. Вопреки странной мысли
Сакса, отрицавшего и продолжающего отрицать в сосудах то,
чем они должны с первого взгляда представляться всякому
непредубежденному уму, т. е. водопроводные трубки, за ними,
несомненно, признана эта роль. Их действие в значительной
степени уподобляется действию обыкновенных насосов, так
как заключенный в них воздух периодически разрежается.
Не в одной только области внутреннего строения стеблей
раскрыла наука новые приспособления. Внешние формы вьющихся и лазающих растений, опять с легкой руки Дарвина,
стали предметом многочисленных исследований, раскрывших
много любопытных частностей, основная же польза этой формы
стеблей для их обладателей очевидна: благодаря ей, растение
при незначительной трате строительного материала в состоянии
поддержать и вынести на светзначительнуюповерхность листьев.
Переходим к этим самым типическим органам растения, —
органам, в которых выражается основной характер растительной жизни — способность жить на счет атмосферной углекислоты и солнечной энергии.
Несомненно, к числу наиболее широко распространенных
особенностей растений должно отнести их зеленый цвет. Уоллес,
в своей недавно появившейся книге, категорически высказывает мысль, что в этом цвете мы не можем видеть физиологического приспособления, как мы видим, например, в окраске
цветов и плодов. Зеленый цвет растений, по мнению Уоллеса,
такой же простой физический факт, как и цвет, например, драгоценных камней. Но мы знаем, что это неверно, мы знаем,
что в зеленом цвете должно видеть едва ли не одно из самых
поразительных приспособлений растения. Характеристический
цвет листьев, т. е. хлорофилла, зависит от поглощения известных лучей света, — тех лучей, которые, оказывается, обладают\.
наибольшею энергией Ч Из бесчисленных световых волн, про1 Факт этот был подвергнут сомнению Энгельманом, но эти сомнения основываются только на недостаточном знакомстве Энгельмана с физическою литературой.
никающих на дно нашей атмосферы, растение поглощает именно
те, которые по своей энергии особенно способны вызывать
разложение углекислоты, составляющее функцию хлорофилла.
Еще десять лет тому назад, на последнем съезде в Петербурге *,
я высказывал эту мысль, как вероятное предположение. С тех
пор, благодаря физическим исследованиям Ланглея и Абнея,
предположение это стало несомненным фактом.
В листе мы встречаемся с двумя функциями: с процессом
одновременного усвоения углерода и солнечной энергии и с
процессом испарения воды. Эти две функции полезны в весьма
различной степени, находятся в различных отношениях к внешним деятелям, откуда становится понятным, как сложно могут
переплетаться между собою приспособления в этих двух, можно
думать, порою антагонистических направлениях/Для растения
выгодно возможно полно утилизировать падающий на него свет,
но, в то же время, ему выгодно, по возможности, оградить себя
от излишнего, убыточного для него, порою прямо грозящего
его жизни, испарения.
На первом плане, конечно, стоит функция улавливания солнечных лучей для утилизации их в процессе разложения углекислоты; отсюда — целый ряд приспособлений, направленных
к тому, чтобы зеленая поверхность эксплоатировала солнечный
свет самым выгодным образом. Здесь, прежде всего, обращают
на себя внимание крайне простые, но в высшей степени любопытные факты, удачно сопоставленные в последнее время Луббоком и Кернером, касательно положения, форм и размеров
листьев — того, что Кернер называет «листовою мозаикой».
Оказывается, как это, впрочем, высказывали и ранее (между
прочим, А. Н. Бекетов), что листовые поверхности в горизонтальной проекции плотно примыкают одна к другой, не оставляя
просветов, но и не затеняя друг друга.
Рядом с этими очевидными приспособлениями для возможнополного использования света мы встречаем и другие, направленные, можно думать, к совершенно обратной цели — к уклонению от интенсивной инсоляции. И это станет нам понятно,
* Ср. речь К. А. на VI съезде русских естествоиспытателей и врачей
«О физиологическом значении хлорофилла» в томе I настоящего издания,
стр. 343. Ред.
когда мы вспомним о другом отправлении листа,, об испарении
воды.
Какую роль играет процесс испарения в экономии растения?
Является ли он безусловно-необходимым процессом, или только
неизбежным злом, результатом условий существования? На
эти вопросы едва ли можно дать вполне удовлетворительный
ответ. Во всяком случае, в тех размерах, в каких оно часто
проявляется, испарение приносит несомненный вред, определяя самую возможность или невозможность растительной жизни
при данных климатических и почвенных условиях. Отсюда
понятно, что большая часть приспособлений в этом направлении
имеет характер оборонительный, характер скорее защиты от
возможного вреда, чем обеспечивания возможной пользы. Эти
меры защиты от убыточного испарения выражаются, как
мы давно знаем, с одной стороны, в уменьшении испаряющей
поверхности листьев, порою до ее полного уничтожения, как
в кактусах и молочаях, и еще более, как мы также давно знаем,
в химическом превращении вещества стенки у клеточек кожицы и пробки. Благодаря последнему приспособлению, эти ткани,
подобно нашей клеенке или каучуковой одежде, облекают растение покровом, почти непроницаемым для воды и водяного
пара и, следовательно, сдерживающим испарение. Но здесь,
очевидно, сталкиваются два противоположных интереса растения: если поверхность листьев будет непроницаема для воды
и газов, то будет понижена способность получать необходимую
углекислоту из атмосферы; если же эта поверхность будет
проницаема, то растение погибнет от испарения, как погибают
вынутые из воды водяные растения, почти лишенные этого
приспособления. Компромисс между этими двумя противоположными потребностями растения достигается, как известно,
присутствием, среди малопроницаемой кожицы, отверстий,
известных еще первым анатомам устьиц. В строении, распределении и механизме этих давно известных микроскопических
органов последнее десятилетие (опять благодаря почину основателя физиологической анатомии — Швенденера) открыло целый ряд поразительных приспособлений. Привожу для примера одно из самых совершенных. Растению, конечно, всего
опаснее испарять воду, когда ему уже грозит недостаток в ней
и, наоборот, безразлично тратить ее, когда она находится в
избытке, — и вот Швенденер обнаруживает нам в устьицах
крайне простой и остроумный автоматический клапан, раскрывающийся, когда растение переполнено водой, и закрывающийся, когда оно начинает страдать от ее недостатка, т. е. начинает
завядать. Интенсивность испарения зависит от целого ряда|
внешних факторов, и для противодействия почти каждому из \
них растение выработало специальные приспособления. Сухость
воздуха, ускоряющая испарение, вызывает у многих растений
свертывание листовой пластины в трубку, устьицами внутрь,
и тем уменьшает поверхность испарения. Ветер, по наблюдению
Визнера, значительно ускоряет испарение; для противодействия этому устьица оказываются погруженными в углубления, защищаемые волосками, задерживающими движение воздуха по поверхности листа. Наконец, одним из важнейших
факторов является солнечный свет, поглощаемый зелеными
поверхностями листьев и вызывающий их нагревание. Французские ботаники предложили для этого процесса специальный
термин — хлоровапоризации. В борьбе с этим фактором лист,
очевидно, должен избегать сильного освещения, и здесьто мог бы всего резче обнаруживаться антагонизм между
двумя его функциями — разложением углекислоты и испа-ф
J
рением.
Для ослабления влияния инсоляции на испарение, растение обнаруживает два рода приспособлений, выражающихся
в изменении темного зеленого цвета поверхностей и изменении
положения листовой пластины. Первого рода приспособление
достигается белым восковым налетом, опушением или, наконец,
целым войлоком волосков, благодаря чему зеленый цвет приближается к белому, т. е. значительная часть лучей отражается, —
словом, достигается тот же результат, который мы имеем в виду,
предпочитая летом светлые цвета в своей одежде. Второе приспособление осуществляется двояко: или постоянным положением листа, обращенного не плоскостью, а ребром к зениту, как, например, у австралийских акаций и у еще более
поразительного
растения-компаса,
располагающего
свои
листья вертикально по меридиану, или периодическими
движениями листочков некоторых сложных листьев, прини-
мающих это вертикальное положение только в полуденные
часы.
Приспособления эти, особенно изменяющие цвет листа,
очевидно, очень занимали Дарвина в последние годы его жизни.
Я хорошо помню, что, показывая мне свою тепличку, он не раз
задавал мне вопрос: «Ну, что вы, ботаники, думаете об этом
приспособлении, для чего оно служит?» Конечно, я мог ответить только то, что ответил бы любой ботаник, что это —
приспособление для ослабления испарения. Но неудовлетворительная неполнота ответа уже и тогда бросалась в глаза. Если
при помощи этих приспособлений, ослабляя проникающий
в него свет, растение ослабляет испарение листа, то можно
подумать, что оно в такой же мере будет ослаблять и зависящее
от света разложение углекислоты, и тогда в итоге едва ли может
оказаться большая польза. Что бы сказали мы, например,
о человеке, который обеспечил бы себя обильным питьем в ущерб
пище? Но оказывается, что такого антагонизма между двумя
функциями листа — испарением и питанием — на деле не существует. Оказывается, что растение для максимального разложения углекислоты не нуждается в таком количестве света,
которое соответствует непосредственной инсоляции в летние
полуденные часы, даже в наших широтах. От половины до трети
этого количества почти достаточно для получения максимального
химического действия; значит, весь избыток, бесполезный
в смысле питания, по отношению к испарению прямо вреден.
Только исходя из этого закона, мы можем вполне понять зна^ чение вертикального положения листьев. Воспользовавшись
актинометрическими наблюдениями Крова, которые я сам имел
случай повторять, я сделал примерные вычисления и получил
любопытный результат, что обращенные ребром к зениту листья,
спасаясь от палящих полуденных лучей, в дневном итоге ничего не теряют от этого положения в смысле разложения углекислоты, а все выигрывают в смысле понижения испарения.
Вероятно, в этом лежит польза вертикального положения многих листьев и объясняется разгадка этих, лишенных тени,
австралийских лесов, о которых так часто у г шинают путешественники. Таким образом, исчисленными приспособлениями
самым поразительным способом примиряются, с первого взгля-
да, казалось бы, непримиримые, антагонистические потребности
растения 1 .
Рядом с понятием о нормальном питании зеленых листьев,
возникло — уже исключительно под влиянием Дарвина —
новое представление о так называемых насекомоядных растениях. Не стану распространяться о них, — кто о них не слыхал,
до кого не доходили эти поразительные факты? Замечу только,
что пример насекомоядных растений нагляднее всего показывает, как радикально, благодаря Дарвину, изменилось воззрение на это явление, упоминая о котором, в течение целого века
только скептически пожимали плечами. Еще в исходе 60-х годов
Дюшартр мог высказывать такое мнение: «Эллис и Куртис не
боялись утверждать, что схваченное мухоловкой насекомое
служит ей пищей, а последний ученый даже утверждал, что
пойманное насекомое обволакивается какою-то слизью, способствующей растворению и всасыванию этой пищи. Но эта
мысль до того противоречит всему, что мы знаем о функции
листа и питании растения, что даже не заслуживает
серьезного
обсуждения».
Через сто лет после открытия Эллиса считали
неуместным даже входить в обсуждение так тщательно и верно
изученного им факта, а теперь, через десять лет после исследования Дарвина, мы насчитываем уже до 30 насекомоядных pac-J
тений. Не обнаруживается ли в этом коренное, вызванное дарвинизмом, изменение в самом складе умов? То, от чего систематически отворачивались, как от непонятного, чудесного,
теперь так же систематически разыскивают, и поиски неизменно
венчаются успехом.
От листьев переходим к цветам. В этой области, за последнюю четверть века, благодаря Дарвину, картина еще более
изменилась; здесь мы встречаем стройную совокупность фактов, по справедливости называемую физиологическою теорией
цветка. Во всех частях цветка, еще так недавно слывших несущественными, простыми украшениями, мы теперь видим ряд
1 Изложенное здесь основывается на моих исследованиях,
доклад
о которых был представлен на секции ботаники. (Краткое содержание
этого доклада «О зависимости усвоения света растениями от его напряжения» см. в X томе; ср. также Крунианскую лекцию К. А., т. I, стр. 440.
Ред.)
приспособлений, изумительных по своей целесообразности и
отчетливости действия. И на этот раз, как и в примере насекомоядности, много фактов было давно известно и верно понято,
но до появления дарвинизма они оставались в стороне от главного течения науки. Кто не читал, кто не слыхал о тех просто
озадачивающих наблюдателя приспособлениях, которые вынуждают нас видеть в формах, окраске, запахе цветов лишь
средства для привлечения насекомых и обеспечивания при их
содействии полезного растению перекрестного оплодотворения?
Немного найдется биологических учений, опирающихся на
такой подавляющий ряд самых тщательных свидетельств.
Д'Арси Томсон, переводчик известного сочинения Германа
Мюллера, еще в 1883 г. насчитывал 825 специальных исследований по этому вопросу. Теперь (1889 г.) это число, конечно,
далеко превосходит тысячу. Но едва ли еще не лучшим доказательством прочности этого учения служат неудачные попытки
его опровержения, как, например, попытка Бонье, в свое время
разбитая на всех пунктах Германом Мюллером. И действительно
(как в том сознаются и беспристрастные соотечественники
Бонье), нужно удивляться, что такой серьезный ученый мог
выступить с такою жалкою аргументацией: одни из его возражений просто поражают своею несообразностью, другие не касаются вопроса, наконец, третьи оказались фактически неверными. Конечно, я не имею возможности привести хотя бы самые
выдающиеся примеры для иллюстрации этого учения, — да это
едва ли и необходимо, так как многие относящиеся сюда факты,
наравне с насекомоядными растениями, пользуются широкою
известностью. Перечислю только основные категории аргументов, на которые опирается современная теория цветка.
.Растения, опыляемые ветром, имеют, в общей сложности, цветы
мелкие, невзрачные; цветы, оплодотворяемые насекомыми,
в подавляющем большинстве случаев снабжены яркими покровами, пахучи, содержат нектар. Самые покровы большинства
цветов представляют органы, построенные непрочно, с малою
затратой строительного материала, и потому эфемерные, появляющиеся и исчезающие только в период оплодотворения,
между тем как, например, покровы лучевых цветов в соцветиях
сложно-цветных сохраняются и по оплодотворении, так как
служат приманкой для позднее распускающихся цветов в диске.
Бесчисленный ряд замысловатых, специально приспособленных
форм цветка, равно как и явления ди- и триморфизма, тщательно изученные экспериментальным путем, решительно не допускают иного толкования, кроме данного Дарвином и его последователями. Все это подтверждается прямыми опытами,
показывающими, что цветы с удаленными покровами уже не
посещаются насекомыми в такой мере, как посещаются цветы,
снабженные покровами. Но едва ли где значение покровов
выступает с такою очевидностью, как у растений, приносящих
цветы двоякого рода: одни — летние, с яркими покровами,
открытые для посещения насекомых, и другие осенние, невзрачные, закрытые, подлежащие самооплодотворению. Растения
эти, очевидно, выработали летние цветы, приспособленные для
получения при посредстве перекрестного опыления более могучего поколения, но, на случай неудачи этого более сложного
процесса, обеспечили себя и потомством, полученным более
верным процессом самооплодотворения, так как, очевидно,
лучше иметь какое бы то ни было потомство, чем остаться вовсе
без потомства.
Переходя от цветов к плодам, мы встречаемся с не менее
изумительными и широко распространенными, но еще далеко
не в такой степени изученными приспособлениями. На первом
плане стоят приспособления для широкого обсеменения при
посредстве механического разбрасывания, рассевания ветром
или разноски животными. Растрескивающиеся, взрывающиеся
плоды, летучки, хохолки, прицепки, яркие съедобные околоплодники — вот простые основные мотивы этих приспособлений, поражающие бесконечным разнообразием вариаций, точностью выполнения и целесообразностью распределения у различных растений. Крылатки, — как замечает Луббок, —
встречаются у крупных древесных форм, потому что только
падая с значительной высоты они могут исполнять свою роль
парашюта. Для низкорослых форм полезнее хохолки, которые
легко подхватываются ветром, или прицепки, хватающиеся
за шерсть одинакового с ним роста животных. Прицепки эти
бесконечно разнообразны по форме, начиная с «цепкой череды»
и кончая грозными плодами Harpagophyton, как уверяют, уби-
вающими льва. Плоды мясистые, пожираемые животными,
представляют не менее удивительные подробности: они обыкновенно становятся привлекательными только в зрелом состоянии,
когда развившиеся твердые семенные оболочки или внутренние части плода делают безопасным прохождение семени чрез
пищеприемный канал животного. Выброшенные с извержением
животных семена, прорастая, находят вокруг себя богато удобренную почву. Таким образом, природа предвосхитила мысль
тех агрономов, которые предлагали вносить в почву удобрения,
обволакивая ими семена, так как этим достигалось бы самое
экономное и рациональное их распределение.
Но недостаточно только разбросать семена, их нужно еще
заделать в землю, и вот, соответственно новой задаче, является
новый ряд, решительно озадачивающих своей простотой и точностью исполнения, механизмов для самозарывания. Едва ли не
во главе их стоит изумительный, так тщательно изученный
Франсисом Дарвином, механизм самозарывания снабженных
длинным пером зерновок нашего степного ковыля.
Пожалуй, еще замысловатее те удивительные приспособления, которые обеспечивают участь паразитных растений, например, у омелы и родственных ей растений. У самой омелы,
как известно, семена, разбрасываемые с испражнением птиц,
прилипают к стволам и ветвям благодаря присутствию особого
клейкого вещества — висцина. У соседнего ей рода — семена
разносятся не птицами, а выстреливаются на расстояние нескольких футов, прилипая к предмету, о который ударяются.
У другого — плоды снабжены тремя длинными придатками,
которыми, как руками, охватывают ветвь своей жертвы. Наконец, у третьего рода прильнувшее семя пускает корешок, который, если не найдет удобной почвы, упирается дугой и,
выпрямляясь, отрывает липкое семя и перебрасывает его на
новое место, шагая, таким образом, несколько раз, пока не
найдет удобного места для прорастания; так иногда семя сползает с листьев на ветви, где и присасывается.
Как по отношению к оплодотворению мы видели запасливость растения, выраженную в двоякого рода цветах, приспособленных к более полезному, перекрестному и более обеспеченному самооплодотворению, так и по отношению к обсе-
менению рядом со стремлением к завоеванию возможно широкой площади мы встречаем приспособления для более верного
сохранения за потомством уже завоеванного клочка земли.
Отсюда целый ряд плодов, которые, не теряя связи с материнским растением, тут же у ног его зарываются в землю. Таков
тщательно исследованный Дарвином механизм одного клевера
(Trifolium subterraneum), в своих движениях, можно сказать,
подражающий кроту. Примеры таких плодов известны уже
в нескольких, притом далеко отстоящих в систематическом
отношении семействах. В большей части случаев подобные
растения приносят оба рода плодов — воздушные и зарывающиеся в землю, — причем в плодах воздушных семена многочисленны и мелки, а в подземных их мало, чаще одно, крупное.
Значение этого факта понятно: скученные в одной точке под
землей растения только напрасно гибли бы, и вот мы видим,
что растение завещает завоеванный клочок наиболее упитанному, выхоленному детищу, а других пускает искать счастья
на все четыре стороны. Боюсь, как бы практические struggleforlifer'u 1 не вывели из этих фактов, что дарвинизм санкционирует учреждение майората!
Наконец, в организации самого семени, в особенности его
оболочек, можно найти целый ряд целесообразных строений,
какова, например, наличность в очень многих семенах особой
разбухающей ткани, превращающейся в слизь, которая обеспечивает на первых порах росток необходимою для него влагой
и т. д., но сюда относящиеся факты также не поддаются краткому
описанию без необходимых пояснительных рисунков.
Мы завершили обычный цикл растительной жизни, но этим
далеко не исчерпывается число самых замечательных приспособлений, открытых за последние годы в растительном мире.
Стоит произнести слово симбиоз — слово такого еще недавнего
происхождения, — чтобы перед нами развернулась картина еще
более удивительных явлений союза или ассоциации живых
существ, принадлежащих к различным царствам природы,
и основанного на взаимности интересов, на обоюдной пользе
1 Безграмотное
английское слово, состряпанное Альфонсом Доде
для вящего уязвления дарвинизма. (Примечание добавлено к 4-му изданию. Ред.)
этого сожития. Упомянем только о первом, ошеломившем ботаников, открытии Швенденераи Де-Бари, что целый обширный
класс лишайников вычеркивается из списков, как не представляющий самостоятельных организмов, а лишь союз гриба
с водорослью, и об одном из новейших открытий в этой области,
о блестящем исследовании Гельригеля, касающемся симбиоза
между мотыльковыми растениями и бактериями, — симбиоза,
обеспечивающего мотыльковые растения недоступным, повидимому, для других растений источником азота.
Приведенный краткий перечень, который ботаники, без
сомнения, пополнили бы почти бесчисленными, не менее красноречивыми фактами, я надеюсь, покажет неботаникам, как расширился за последнюю четверть века круг приспособлений,
открытых в растении, начиная с внешних форм и окраски и кончая микроскопическим строением клеточной стенки. Обращу
внимание только на два обстоятельства. В этом беглом очерке
мы заглянули почти во все уголки растительной жизни н останавливались не на единичных случаях, а лишь на целых группах однородных фактов, на целых новых направлениях научного исследования, плодотворно обработанных и ожидающих
еще многого от будущей обработки. Я полагаю также, едва ли
можно сомневаться, что в этих успехах науки, во всех этих новых направлениях научного исследования прямо или косвенно
отразилось влияние дарвинизма. Как будто стоило только
Дарвину высказать мысль, что понятно в природе только полезное, и эти полезные приспособления десятками и сотнями
стали всплывать перед изумленным наблюдателем 1 .
1 Многим до сих пор
непонятна строгая логическая связь между
теорией Дарвина и всею его последующею научною деятельностью, представлявшей только приложение его теории к практике, т. е. к исследованию природы. Эти специальные работы, в свою очередь, послужили
примером для почти бесчисленных исследований. Дарвин сам неоднократно и вполне определенно высказывал эту мысль. Так, предлагая
Муррею свою монографию об орхидеях, он, между прочим, писал: «Она,
быть может, послужит иллюстрацией, как следует работать в естественной теории с точки зрения учения о превращении видов». Его сын Франсис
совершенно верно замечает по этому поводу: «Одна из главных заслуг,
оказанных естествознанию моим отцом, заключается в пробуждении
к новой жизни телеологии». «Эволюционист изучает значение и смысл
Итак, едва ли можно сомневаться, что развитие науки за
четверть века блистательно подтвердило верность точки отправления дарвинизма. Но теперь ему предъявляют новое требование: это учение, говорят, объясняет нам сохранение полезных форм, а мы желаем знать их происхождение; дайте нам
объяснение, настоящее, физическое объяснение, первоначального возникновения этих форм. Дарвинизм не дает этого объяснения. Но, мне кажется, он и не может и не должен давать его.
^ Оно лежит за пределами его задачи.
Дарвинизм задается одною общею для всех организмов
задачей — раскрыть такой исторический процесс их образования, который прежде всего объяснял бы нам их коренную,
основную черту — их целесообразность, и для этой общей
задачи дает общее разрешение — естественный отбор. Первою
посылкой, на которую опирается это разрешение, является
факт изменчивости существ; он принимается этою теорией
за данный. Но теперь предъявляют требование глубже анализировать этот исходный фактор. Требование законное, но предъявляемое не по надлежащему адресу. От всякой теории должно
требовать только того, что она дает. Дарвинизм не может отвечать на то, как и почему изменялись органические существа,
потому что такой общей задачи, такого общего ответа нет
и быть не может. Таких задач несметное число и отвечать на
них призван не дарвинизм, учение общебиологическое, а экспериментальная физиология. Дарвинизм не может ответить на
все эти частные вопросы, но в свою очередь и все частные исследования, допустив даже, что при их помощи удалось бы современен вполне выяснить физический процесс образования форм,
не дадут ответа на тот общий вопрос, на который отвечает дарвинизм. В этом смешении двух задач и двух различных методов
органов с увлечением старинной телеологии, но задача его представляется
более широкой и связной. Им руководит бодрящее убеждение, что он
приобретает не отрывочные факты, касающиеся лишь экономии природы
в настоящем, а связное представление об ее настоящем и ее прошлом».
В одном из своих последних писем к Дайеру сам Дарвин выражается
еще определеннее: «Многие немцы презрительно относятся к попыткам
раскрывать значение органов; но они могут потешаться сколько им угодно, — я останусь при своем убеждении, что это самая интересная часть
естественной истории».
и кроется недоразумение, побуждающее новых критиков делать
Дарвину незаслуженный упрек, что он недостаточно оценил
действие фактора изменчивости.
Упрек этот вдвойне неверен. Во-первых, ни один натуралист
до него не собрал такого свода фактов, касающихся изменчивости организмов, как это сделал Дарвин в своем сочинении
«Прирученные животные и культурные растения», а во-вторых, — неверно, что он не отводил этому фактору должного
места. Он только не придавал ему того значения, которое так
безуспешно желают придать ему Негели и другие неудачные
критики дарвинизма. Мысль эта ясно и определенно выражена
у него уже на второй странице введения его знаменитой книги.
Он говорит: не трудно притти к заключению, что органические
существа произошли одни от других, но этого далеко не достаточно. «Всякое подобное заключение, даже если б оно было
прочно обставлено, было бы неудовлетворительно, пока не было
бы доказано, что бесчисленные виды, обитающие нашу землю,
изменялись именно таким образом, что приобретали то совершенство строения и взаимного приспособления,
которое
справедливо приводит нас в восхищение. Натуралисты постоянно ссылаются на внешние условия, каковы климат, пища и пр.,
как на единственную возможную причину изменчивости. В известном ограниченном смысле это, может быть, и верно, как мы
увидим далее, но было бы нелепо (preposterous) приписывать
действию одних внешних условий такие строения», как вся
организация дятла или омелы.
Следовательно, с первых же строк своей книги Дарвин
принимает в разумном смысле влияние среды, не задумывается
он только называть «нелепыми» попытки при помощи одного
этого фактора объяснять целесообразное строение организмов.
А именно попыткам этого рода предаются вновь Негели и некоторые другие критики дарвинизма, — попыткам упразднить
или свести на minimum значение естественного отбора и объяснить совершенство организмов непосредственным целесообразным воздействием одних внешних и еще более темных внутренних факторов Ч Прочтите третью главу пресловутой книги
Любопытно, что у Негели в качестве внутреннего фактора фигурирует пища.
1
9
К. А. Тямиуяаеі,
m. V
Негели, прочтите появившийся в прошлом году целый томик
Геисло «О происхождении цветка»—и на вас пахнет чем-то
затхлым, каким-то давно исчезнувшим из обихода науки праздным выдумыванием невозможных объяснений. Обратите, например, внимание у Негели на неведомые притяжения и отталкивания половых элементов, заставляющие их располагаться
то в два яруса у диморфных, то в три яруса у триморфных цветов, или у Генсло на эти голословные притекания пластических соков к нижней губе венчика, под влиянием топчащихся
на ней, и к верхней губе, под влиянием долбящих в нее лбом
насекомых, и вам невольно захочется повторить с Дарвином:
preposterous!
Но, отрицая целесообразность
воздействия среды, Дарвгн
никогда не умалял ее действительного физического действия,
и это всего лучше видно из его писем, относящихся к последним
годам его жизни. Так в письме к химику Гильберту он просит
совета, как организовать культуры с искусственными средами,
полагая этим влиять на изменение растительных форм; Гукеру
сообщает он о своих опытах над образованием чернильных
орешков без участия насекомых, а под влиянием непосредственного впрыскивания различных веществ; наконец, в одном из
своих последних писем он пишет Семперу: «Я все же (т. е. вопреки опытам Гофмана) убежден, что измененные условия дают
толчок изменчивости...», и далее: «хотел бы я быть помоложе
^ да посильнее, — теперь передо мной уже выясняются новые
пути исследования». Эти пути, очевидно, заключались в экспериментальном изучении явлений изменчивости Ч Из всего этого,
я полагаю, мы в праве сделать один только вывод, что проживи
этот человек два века, он и второй сумел бы наполнить такою же
полезною для науки деятельностью, какою наполнил и первый.
Но из этого ни мало не следует, что и без мелькавшей перед
его взором новой деятельности задача его жизни, его теория
не представляет полного ответа на поставленный вопрос. Итак,
повторяю, значение изменчивости Дарвин всегда признавал,
не признавал он только за ним того целесообразного действия,
1 Сверх того, Дарвин был вполне прав,
постоянно напоминая, что
в значительном числе случаев действие может оказаться только посредственным, трудно уловимым.
которое совершенно безуспешно пытаются приписать этому
фактору новейшие неудачные критики дарвинизма.
Таким образом, задача ботаника, стремящегося объяснить
себе происхождение растительных форм, распад летен на две,
отличные и по содержанию и по методу исследования. Встречаясь с какою-нибудь сложною формой, он, прежде всего, пытается объяснить себе ее значение, ее пользу. Раскрыв эту пользу, он разыскивает, какими промежуточными степенями прошла
эта форма до ее полной выработки. Если это ему удалось, он
может считать задачу выполненною с общей биологической
точки зрения. Если же он хочет пойти далее, получить физическое объяснение самого процесса изменения, он, очевидно,
должен передать задачу в руки физиолога-экспериментатора.
*
Но может ли и физиология дать желаемый ответ? Жизнь
организма слагается из трех явлений: превращения вещества,
энергии, формы. До недавнего времени экспериментальная
наука ограничивалась почти исключительно химизмом и динамизмом живых тел. Третий процесс — формообразования или
«морфоза» — продолжал оставаться предметом только наблюдения, а не опыта. Но физиолог начинает уже проникать в эту,
казалось, запретную для него область.
Можем ли мы дать объяснение той или другой форме? Можем
ли надеяться овладеть формообразовательным процессом, как
овладели, например, питанием? Можем ли по произволу не
только уменьшать или увеличивать растительную массу, но
и сообщать ей ту или другую форму? В известной мере — да.
То, что сделано в этом направлении, конечно, первые робкие
шаги, но, несомненно, на верном пути.
Остановим наше внимание сразу на одном из наиболее сложных случаев. Мы убедились, благодаря Дарвину, что в цветочных покровах обнаруживается очевидное приспособление к перекрестному оплодотворению при посредстве насекомых. Весьма распространенное приспособление, как известно, заключается в симметрической форме венчика: лепестки, вместо того,
чтобы располагаться лучисто, распределяются в две группы,
9*
131
в самом совершенном случае образуя ДЕѲ губы: нижнюю, служащую балкончиком, на который садится насекомое, и верхнюю,
служащую колпачком для защиты тычинок и рыльца. Все это,
очевидно, обеспечивает полезное для растения перекрестное
оплодотворение и могло сохраниться и усовершенствоваться
путем отбора. Сохраниться и усовершенствоваться, — но еще
ранее того все это должно было возникнуть. Какой из физических деятелей, нам известных, мог превратить первоначально
правильный цветок в симметрический и, наконец, двугубый?
Давно были замечены случаи, что цветки, сидящие на вертикальных цветоножках, бывают правильные, а цветки того же вида
на поникших цветоножках обнаруживают стремление к симметрии, а также, что боковые цветы в кисти симметричны,
а верхушечный — лучистый, правильный. Очевидно, форма
цветка зависит от его положения по отношению к горизонту,
откуда деятелем, вызывающим это изменение, должна быть
сила тяжести. Это давно высказанное Спенсером предположение недавно получило блестящее экспериментальное подтверждение. Базельский профессор Фехтинг показал, что в нашей
власти изменять форму симметрических цветов, — стоит только
устранить их от действия силы тяжести. Этого, как известно,
достигают, помещая растение в прибор, который приводит его
в медленное вращательное движение вокруг горизонтальной
оси. Прием этот давно применялся с другими целями; Фехтинг
первый применил его к исследованию форм цветка. Ему удалось целый ряд цветов, в том числе и цветы нашего копорского
чая, превратить из симметрических в лучистые, т. е. доказать,
что своею обычною формой они обязаны действию силы тяжести.
Разве это не смелый шаг по пути к тому, чтобы лепить органические формы, или, во всяком случае, по пути к объяснению,
как лепит их природа? 1 .
1 Мне, быть может, возразят, что Фехтингу удалось далеко не
все
с імметрические формы превратить в правильные. Но дело в том, что
большую часть опытов он начинал очень поздно, за несколько дней до распускания цветов, а позднейшие исследования Шумана показывают, что
первая наклонность к симметрии обнаруживается уже очень рано косвенным усечением первого бугорка, из которого развивается цветок. Очевидно, можно ожидать и не таких результатов, если выращивать растение на вращающемся аппарате с молодого возраста. С другой стороны,
Тот же внешний фактор — земное притяжение — в значительной мере объясняет нам происхождение другой в высшей
степени целесообразной формы — тех вьющихся стеблей, которые также обратили на себя внимание Дарвина. Польза
их очевидна. Так как эта форма стеблей очень распространена
в растительном царстве, то это побудило Дарвина искать причину этого кругового движения их вершин в каком-нибудь
также широко распространенном явлении растительной жизни,
и ему удалось показать, что стеблевая верхушка почти любого
растения при внимательном наблюдении обнаруживает такие же
движения, только в малом масштабе. Следовательно, движения
и происходящие от того формы вьющихся стеблей представляют
только выраженное в резкой степени явление, присущее почти
всем растениям; а так как эта форма полезна, то она и выработалась при помощи отбора. С дарвинистической точки зрения
опять задача здесь, можно сказать, кончается, но задача физиолога только начинается. Это явление — все равно в его специальной резкой или менее заметной общей форме — от какого внешнего фактора оно зависит?
Конечно, здесь не место входить в подробный анализ сложного явления, довольно сказать, что Визнер, с одной стороны,
Швенденер и проф. Баранецкий — с другой, на опыте доказали,
что главнейшим фактором и здесь является сила, тяжести.
А если так, то, значит, стоит устранить действие этой силы —
и мы превратим вьющийся стебель в прямой, заставим его развернуться? Это и удалось почти в одно время Швенденеру и
проф. Баранецкому. Поместив растение на вращающийся прибор, они заставили его расти прямо и даже развернуть последние образовавшиеся обороты. Разве это не насильственное фор- '
мование организмов, разоблачающее, какая сила формует их
в природе?
Не менее поразительный ряд превращений осуществил
совсем недавно Визнер еще более простым средством. Только
регулируя испарение листьев, сводя его на minimum, он мог
повлиять на характер разветвления, ход развития или замирапонятно, что более глубокие изменения формы должны были являться
результатом влияний, накопившихся в длинном ряде поколений, а потому
они не так-то легко поддаются обратному превращению.
шш почек, размеры стеблевых колен и связанное с ними распределение листьев, — словом, мог изменять весь внешний облик
взятых для опыта растений. С особенным ударением указывает Визнер на то, что все эти признаки всегда считались прирожденными, закрепленными наследственностью, и, тем не
менее, удалось показать, что они зависят от такого простого
фактора, как испарение.
Этих примеров достаточно, чтобы показать, как может влиять
физиолог на внешние формы растений. Но может быть его
власть этим и ограничивается, не распространяясь, на их внутреннее строение? Посмотрим, что дает опыт и в этом направлении.
Самую определенную физиологическую функцию представляют ткани, так называемые, покровные, служащие защитой, одеждой растения, и ткань механическая, служащая
ему твердым остовом или опорой. В области анатомии это наиболее ясно выраженные полезные приспособления.
Остановимся на приспособлениях для защиты от вредного
для растения излишнего испарения. Растение борется с этим
вредом, облекая листья кожицей с утолщенными стенками
клеточек, состоящими, притом, из вещества, непроницаемого
для воды. Средством, умеряющим действие света и ветра,
является орѵшение поверхностей, доходящее иногда до образования как бы белого войлока. Знаем ли мы, какие физические
факторы вызвали первоначальное образование этих полезных
приспособлений, затем уже, конечно, закрепленных отбором?
В этом направлении наши сведения более полны, чем в каком
ином. В особенности недавние, крайне любопытные, опыты
Коля показывают, что все эти приспособления в значительной
мере вызываются самым актом испарения. Изменяя условия
влажности почвы и атмосферы, Коль достиг глубокого изменения в тканях испытуемых растений. В сухой атмосфере, при
недостатке воды в почве, растение сильно утолщает стенки клеток своей кожицы и лежащих под нею тканей, а также обнаруживает стремление к образованию волосков, — словом, вырабатывается тип растения, приспособленного к борьбе с сухим
климатом. Наоборот, воспитывая растение в атмосфере, насыщенной парами, получаем совершенно обратный тип. Вовмож-
ность превращения гладких листьев в волосистые под влиянием
сухости воздуха подтверждается еще целым рядом наблюдений.
На смену кожице, покрывающей молодые стебли, появляется,
как известно, пробка. О ней мы давно знаем, что ее образование
можно вызывать по произволу на пораненных местах, но только
недавние обстоятельные исследования Кни показали несомненно,
что фактором, вызывающим образование пробки, должно считать кислород. Эти два приспособления, кожица и пробка,
выработанные организмом для противодействия испарению,
особенно любопытны в том отношении, что представляются,
так сказать, автоматическими. Сухость атмосферы и кислород
воздуха сами создают растению оружие для борьбы с наносимым
ему вредом. Очевидно, что в связи с этим основным химическим
свойством растительной клетки находится самая возможность
наземной растительности. Без этого простого свойства растение
никогда не выбралось бы на сушу.
Покровные ткани занимают поверхность органов, — отсюда можно подумать, что на них легко влияют внешние деятели; но можем ли мы по желанию действовать на ткани, заложенные в глубине организма? Такова ткань механическая.
Мы встречаем ее там именно, где в ней представляется надобность, как, например, в стеблях; наоборот, она очень слабо
представлена в подземных и подводных частях, где в ней не
представляется такой надобности. Возьмем для сравнения
воздушный стебель и корневище, т. е. подземный стебель: как
могло случиться, что стебель обладает одним строением, а корневище другим и, притом, оба соответственно своему отправлению? В прекрасном исследовании Костантен показывает, что
действующею причиной и здесь являются внешние условия
и прежде всего, вероятно, свет. Исследования Раувенгофа,
проф. Баталина, Коха и др. ставят вне сомнения, что свет способствует утолщению клеточных стенок и, таким образом,
определяет выработку толстостенных прочных элементов механической ткани. Как бы то ни было, но, при культивировании
воздушных стеблей под землей, Костантену удалось вызвать
в них гистологические изменения, характеризующие корневища.
Подобно Визнеру, и он с особенным ударением указывает на
значение этого факта. Казалось бы, что способность произво-
дить корневища, подземные стебли с запасами питательных
веществ, должно отнести к явлениям прирожденным, исключительно управляемым наследственностью, и, однако, мы видим,
что это приспособление может быть вызвано непосредственным
воздействием среды. Ту же молодую клетку, заложенную в глубине ткани, мы по желанию можем превратить в толстостенный
механический элемент стебля или в клетку корневища с ее тонкою стенкой и обильным запасом питательных веществ.
За клеточкой остается только протоплазма, это начало
всякой жизни. Давно ли мы считали ее неприкосновенной,
боялись дотронуться до нее иглой, — а теперь мы насильственно заставляем отставать от стенки и производить новую оболочку,
фактически подражая процессу обновления; мало того, мы ее
выпускаем из клетки, заставляем разбиваться на комки, которые облекаются оболочкой, т. е. фактически размножаем
клетки. Порою кажется, что физиологу, в этом направлении,
недоставало только смелости и что впредь ему только остается
принять за правило знаменитое изречение Дантона: «de l'audace,
encore de l'audace, toujours de l'audace» * .
Ограничусь этими примерами, — ботаники, конечно, припомнят десятки не менее убедительных. Я полагаю, сказанного
уже достаточно, чтобы оправдать положение, что физиология
уже начинает разоблачать тайну образования растительных
форм, что она понемногу научается сама руководить образованием этих форм.
В самом деле, представим себе, что нам было бы дано растение с вьющимся стеблем, гладкими рассеянными листьями
и симметрическими цветами, а мы, при помощи одних физических сил, превратили его в растение с корневищем и прямостоячим стеблем, скученными волосистыми листьями и правильными цветками. Это, конечно, было бы сочтено за чудо.
Сделать это чудо мы пока еще не в состоянии, но все элементы
этого чуда уже в нашей власти, и этого, конечно, вполне достаточно для того, чтобы мы могли понимать, как это чудо совершалось в природе. Если, едва взявшись за дело, в краткий
промежуток жизни индивидуального растения мы вызываем
* Смелость, еще раз смелость, всегда смелость.
Ред.
такие глубокие изменения в его строении, то чего не могли
вызвать те же физические факторы на просторе несметных веков, которые насчитывает растительный мир?
Меня может быть упрекнут в том, что между тем как мои
предшественники на этой кафедре выступили перед этим блестящим собранием с результатами уже совершенных наукою завоеваний, я позволил себе остановить ваше внимание на первых,
робких шагах в совершенно новой области. Но мне кажется,
что в этом я остался верен духу нашей науки. Мы, биологи,
питаем особенно нежные чувства ко всему молодому, зарождающемуся, только вступающему в жизнь. Для нас особенно ценны
начальные стадии развития. Мирбелевское «voir venir» давно
стало нашим лозунгом. А в настоящем случае мы, действительно, присутствуем при зарождении новой отрасли науки.
Четверть века назад наш глубоко уважаемый председатель,
Андрей Николаевич Бекетов, учил нас, что задача морфологии—
«исследовать законы и причины форм», но еще десять лет
тому назад возможность исследовать причинность органических
форм отрицалась даже такими учеными, как Клод Бернар.
«Физиолог, — писал Клод Бернар, — констатирует морфологические законы, но не изучает их. Эти законы зависят от причин, которые лежат вне его власти». И далее: «Мы должны провести абсолютную границу между феноменологией живых существ, составляющей предмет физиологии, и морфологией
организмов, законы которой изучают ботаники и зоологи, но
которая вне нашей власти и ускользает от экспериментального
изучения». Абсолютная граница, о которой так недавно говорил
Клод Бернар, для ботаников, по крайней мере, очевидно
исчезает 1 . Форма несомненно начинает признавать над собою
нашу власть и подчиняться нашим экспериментальным методам.
Рядом с физиологией процессов уже зачинается физиология
форм, рядом с экспериментальной феноменологией возникает
экспериментальная морфология. Если мы уже научились при
помощи земного притяжения, влаги и света свертывать и развертывать стеблевую спираль, скучивать или рассыпать по
1 В
этом отношении также обнаружилась проницательность Дарвина; он ясно сознавал, что ботаника в этом отношении должна опередить зоологию.
стеблю листья, снабжать растения необходимыми покровами,
изменять внешнюю форму цветка и внутреннее строение скрытой
в глубине тканей клетки, — не очевидное ли это доказательство, что новая отрасль ботаники выдерживает ту пробу экспериментальной науки, которую тот же Клод Бернар, а еще ранее
его Огюст Конт так красноречиво выражали двумя словами —
agir et prévoir*.
Но допустим, что нам удалось достигнуть на этом пути самых неожиданных результатов, овладеть вполне физическими
условиями этого формообразовательного процесса, подчинить
себе эту, так сказать, кристаллизацию органических существ,—
получим ли мы право вместе с Вагнером сказать о природе:
...«was sie sonst organisiren liess
Das lassen wir kristallisiren»**.
Конечно, нет. Конечно, мы не в праве заключить, что организмы образовались исключительно под влиянием этих физических деятелей, без участия других факторов, и это нас окончательно возвращает к нашему основному вопросу — к оценке
роли различных факторов эволюции и их отношения к фактору,
выдвинутому вперед дарвинизмом, т. е. к отбору.
Несомненно, что среда изменяет организмы. Также несомненно, что наследственность накопляет эти изменения, —
усложняет организмы 1 . Но напрасно пытались бы мы в этих
* Действовать и предвидеть. Ред.
* * То, чему она (природа) раньше предоставляла организоваться,
то мы кристаллизуем.
1 Не
останавливаясь на рассмотрении этого второго фактора —
наследственности, так как для этого потребовалось бы несоответственно
длинное отступление от основной темы, замечу только, что господствующее стремление немецких ученых создать общую теорию наследственности
едва ли удачно и едва ли даже соответствует действительной потребности
науки. Общая теория наследственности представляется мне столь же мало
возможной, столь же мало нужной, как общая теория изменчивости.
Факт наследственности, смотря по тому, как на него взглянуть, или очень
прост, или крайне сложен. Крайне прост — как общее представление,
крайне сложен — при детальном применении к любому частному случаю. Здесь исследователю пришлось бы проследить шаг за шагом непрерывную механическую связь между наблюдаемым явлением и его отдаленною причиной, выполнить длинный промежуток, чтобы не иметь пе-
двух факторах, взятых порознь или вместе, искать разгадки
основного свойства организмов,—их целесообразных приспособлений. Все попытки в этом направлении, старые и самые
новейшие, неизменно терпят крушение.
Среда изменяет, но изменять не значит совершенствогать.
Наследственность усложняет, но усложнение — еще не усовершенствование. Из всех нам известных естественных факторед собой непонятного действия на расстоянии, раскрыть все крючечки
и петельки, связывающие исчезнувшую причину с продолжающимся
действием. А для этого нужно начать с изучения явлений, где эта передаточная цепь не так длинна, как в сложных явлениях наследственности.
В ботанике уже имеются некоторые приближения к разрешению подобных задач. Надеюсь в другой раз вернуться к этому любопытному вопросу,
а пока, повторяю, нам нужны не общие схемы действия наследственности, а строго экспериментальные исследования над непосредственною
связью между жизненными явлениями и вызвавшими их, но уже отсутствующими причинами, — исследования, конечно, более удачные по замыслу, чем обрубание сотен крысиных хвостов. Потому-то мне кажется,
что многочисленные современные немецкие теории в этом направлении
совершенно противны духу положительной науки, и, к сожалению,
должно сознаться, что толчок этому движению сообщил также Дарвин.
Таково уже значение гения: даже ошибки его оставляют за собой широкий след. Едва ли кто позволил себе так резко осуждать «пангенезис»
Дарвина, как это сделал я, почти вслед за появлением этого учения,
и потому с особенным удовольствием узнал я из «писем» Дарвина, как
встретили его «временную гипотезу» Гёксли, Гукер, Аза Грей и др. и как
колебался сам Дарвин. (Ср. примечание К. А. на стр. 32 настоящего тома
и его речь «Основные задачи физиологии растений», глава V, стр. 143
наст. тома. Ред.) Назидательно читать, каким шутливо заискивающим тоном вымаливает он сочувствие своих друзей к этому единственному
порождению своей фантазии и вслед за тем сам переходит в скептический
тон — спрашивает, не «смешно» ли оно, и порой доходит до категорического отрицания смысла подобных спекулятивных построений (It is all
rubbisch to speculate as I have done) (Дрянное дело пускаться в спекуляцию, как я это сделал. Ред.]. Здравый английский ум оказался непреклонным, зато эти измышления раздули искру, глухо тлевшую в умах немецких натуралистов, и в этом, конечно, обнаружился любопытный пример
атавизма в умственной сфере. Дети и внуки людей, воспитанных на Шеллингах и Окенах, почуяли что-то родственное в этих беспочвенных умозрениях, и вот как из решега посыпались различные «пластидули» (Геккель),
«идиоплазмы» (Негели), «зародышевые плазмы» (Вейсман) и пр. и пр.,
для того, чтобы через двадцать лет вернуться к «зачаткам» Дарвина, но
под более щекочущим слух названием «панген» (Де-Фризе, 1889 г.).
ров совершенствует только то критическое начало, которое
из этого измененного и усложненного материала сохраняет
полезное, устраняет вредное. Совершенствует организмы то
сочетание безграничной производительности и неумолимой
критики, которое мы иносказательно называем естественным
отбором.
Отсюда понятна неосновательность упрека, делаемого Дарвину, зачем он не сосредоточил своего внимания на явлениях
изменчивости. У него на первом плане стояло объяснение того
именно, что отличает организмы от неорганизмов — их целесообразности, условия же изменения органических форм в основе, как мы видим, вероятно, подчиняются общим для всех
тел физическим законам 1 . Одним словом, Дарвин мог заниматься явлениями изменчивости, но изучение этих явлений не
составляет необходимой части дарвинизма.
Позвольте пояснить эту мысль сравнением. Положим,
что я, ничего не понимая в житейских делах, очутился вдруг
сначала в театре и вслед затем в убогом балагане. В первом я
увидел бы изящный зал, позолоту, бархат, потоки электрического света и, в этой рамке, безукоризненно одетых людей —
фраки, кружева, бриллианты, — словом, блестящую публику
в ее блестящей обстановке. Перейдя в балаган, я нашел бы
досчатые стены, висящие лохмотьями обои, едва мигающие
керосиновые лампы, а на скамьях — зрителей в чуйках и платочках, а в воздухе запах смазного сапога и полушубка, —словом, серый люд в его обычной серой обстановке. Положим, мне
В пределы настоящей задачи, понятно, не входит выяснение значения другой стороны дарвинизма, составляющей, после объяснения
целесообразности органического мира, следующую по значению заслугу
Дарвина и громадное превосходство его учения перед теориями Ламарка
и других его предшественников. Я разумею начало расхождения
признаков (divergence of character), объясняющее другие две главные особенности современного строя органического мира: его разнообразие и почти
полное отсутствие живых переходных форм — этот камень преткновения всех прежних теорий. Мне всегда казалось, что даже сами дарвинисты недостаточно ценят эту сторону его учения (см. мой очерк «Ч. Дарвин и его учение», стр. 144). (См. VII том настоящего издания. Ред.\ Как
смотрел на нее Дарвин, мы опять узнаем из его «автобиографии и писем».
Он с радостью припоминает даже то место, где, по дороге в Даун, в карете, ему пришла эта гениальная мысль.
1
задали бы вопрос— объяснить этот 'основной факт гармонии
этих двух категорий существ с их окружающей обстановкой.
Я бы, конечно, постоял у входа, походил по коридорам и,
наконец, наткнулся бы на окно, а в нем увидел бы кассира,
отбирающего у приходящих в театр рубли, а от приходящих
в балаган копейки. Указав на этот процесс отборки, я бы
счел задачу разрешенной. И, спрашивается, был ли бы прав
тот, кто стал бы мне возражать, что это не ответ, что я должен
еще объяснить, почему у этого человека в пальто рубли, а у
другого в полушубке копейки? Я бы ответил, что это выходит за
пределы моей задачи: мне задан общий вопрос, и я дал общий
ответ, для разрешения же частных вопросов необходимо
изучить биографию и родословную каждого отдельного зрителя.
Так поступил и Дарвин: он нашел в природе неумолимого
кассира — отбор и предоставил науке будущего изучить биогра-,
фию и родословную отдельных организмов.
Значит, дарвинизм, имеющий в виду одну общую биологическую задачу, и экспериментальная морфология, преследующая свои несметные частные задачи, вот два равноправных,
взаимно дополняющих направления науки, от которых мы
должны ждать полного ответа на наш вопрос об относительной
роли факторов органической эволюции. А этих факторов
мы пока знаем только три: среду — изменяющую, нас-^р
ледственность — накопляющую эти изменения и отбор — /і
приспособляющий, организующий, налагающий на живые
формы ту печать совершенства, которая представлялась назойливой загадкой с той минуты, как человек только начал
мыслить.
В этом, боюсь, затянувшемся и бледном очерке я пытался
характеризовать два течения нашей науки: одно — могучим
разливом св зим отметило вторую половину девятнадцатого
столетия, другое — едва пробивается одинокими струйками
и сольется в широкий поток уже, вероятно, за порогом двадцатого.
Двадцатое столетие! Только десять лет отделяют нас от
него. Через десять лет наш кичливый девятнадцатый век смиренно предстанет перед судом истории. Я полагаю, в этот день,
рядом с покаянием во многих тяжких своих прегрешениях,
он приведет себе в защиту и то, что много и честно потрудился
в области науки и, прежде всего, в области изучения природы.
И когда старшие братья, химики и физики, предъявят свои
блестящие завоевания: свои периодические законы элементов,
учения о сохранении энергии и тождестве физических сил,
и биологи выступят не с пустыми руками; они предъявят не
менее блестящее, широко захватывающее эволюционное учение, в первый раз почувствовавшее под собой твердое основание
на почве дарвинизма. Если восемнадцатый век сохранил за
собой гордое прозвище века разума, то девятнадцатому, конечно, не откажут в более скромном прозвище — века науки,
века
естествознания.
1890 г.
Y
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ 1
Мм.
гг.
Ц
ель стремлений физиологии растений заключается в
том, чтобы изучить и объяснить жизненные явления растительного организма и не только изучить и объяснить
их, но путем этого изучения и объяснения вполне подчинить
их разумной воле человека, так чтобы он мог по произволу
видоизменять, прекращать или вызывать эти явления. Физиолог не может довольствоваться пассивной ролью наблюдателя; как экспериментатор, он является деятелем, управляющим природой. Но не такова ли, мм. гг., и цель стремлений, по отношению к растению, сельского хозяина и лесовода:
тот и другой стремятся подчинить растительный организм
1 Речь, читанная на акте Петровской земледельческой и лесной академии (в 1878 г. и в основе представляющая переделку вступительной
лекции в курс физиологии растений 1870- г.). [В скобках примечание
К. А., добавленное им к 4-му изданию. Ред.]
своей власти, направить его деятельность так, чтобы он давал
возможно большее количество продуктов возможно лучшего
ішчества. И те пути, которыми стремятся к выполнению своей
задачи и ученый, и практик, не существенно ли они сходны?
Знание, основанное на наблюдении и опыте, вот единственный
верный путь в том и другом случае, и если существует различие между той и другой деятельностью, то оно заключается
лишь в том, что ученый видит в знании цель своих стремлений,
практик же — только средство, ведущее его к цели — к увеличению общественного и личного благосостояния.
Этих самых общих соображений, я полагаю, достаточно
дтя того, чтобы показать, как тесно связаны между собою задачи и стремления земледелия и лесоводства, с одной стороны,
и физиологии растения — с другой, и какую роль должна
играть эта последняя наука в общем цикле знаний, которым
посвящена деятельность нашей академии.
Итак, цель физиологии — объяснить жизненные явления.
Но объяснять,— значит приводить менее известное к более
известному, сложное к простому, частное к общему. Всякое
объяснение предполагает сравнение с более простым и общим.
Но за пределами живого мы знаем только область неживого,
за пределами мира органического лежит мир неорганический,
менее сложный, менее запутанный в своих проявлениях. Мы
должны, следовательно, стремиться к тому, чтобы разложить
сложные жизненные явления на простейшие явления, свойственные миру неорганическому, мы должны сравнивать первые с последними или ни с чем их не сравнивать, т. е. отказаться
от их объяснзния. Но для этого мы должны быть убеждены
в возможности, в законности такого сравнения. Если в жизненных явлениях мы будем вынуждены признать конечные факты,
не распадающиеся на простейшие факты, не подчиняющиеся
анализу, то тогда, конечно, возможно только их описание,
а не объяснение. Постараемся же сравнить жизнь с нежизнью;
посмотрим, в чем заключается их сходство и различие. Для
этого мы не станем прибегать к определению жизни. Все бесчисленные попытки в этом направлении достаточно доказывают
их бесплодность. Мы можем перебрать бесконечный ряд таких
определений и ни одно из них не скажет нам более того, что
Андрей
Бекетов
Николаевич
1825 —1902
Из собрания
G
It. А.
Тимирязева
мы уже знаем, т. е. что жизнь есть жизнь или жизнь не есть
смерть. Уже давно пора понять, что все наши определения —
только условные определения слов, нисколько не разоблачающие скрывающихся под словами сущностей. А в смысле слова жизнь едва ли кто когда сомневался; едва ли кто
применял это слово не в надлежащем смысле. Итак, не гоняясь за невозможными определениями, постараемся вкратце
описать, охарактеризовать то, что мы называем жизненными
явлениями, в отличие от явлений безжизненной природы.
Чем отличается живое тело от неживого? Присутствием
ли особого, единичного, деятельного, руководящего начала,
действующего независимо или даже вопреки физическим законам, которые управляют неорганическим миром, начала,
не подчиняющегося даже закону причинности, лежащему
в основе всех наших представлений о естественных явлениях?
Характеризуется ли жизнь присутствием особого такого начала, которое, переменив множество названий, еще и в настоящее время порою появляется в науке под именем жизненной
силы? Еще и теперь можно найти явных или тайных, откровенных или скрытых поборников этой таинственной жизненной
силы. Об этом можно судить по тому плохо скрываемому негодованию, которым они встречают попытки объяснения физическими причинами того или другого жизненного явления,
по тому злорадству, с которым встречают неудачные попытки
этого рода. С какою-то ликующею беспомощностью разводят
они руками и повторяют на различные лады, что тут анализ
науки бессилен, что в области жизни нет места физическим
законам, что здесь есть свои законы или, вернее, их вовсе нет.
Но что же это за жизненная сила? В чем заключаются ее атрибуты, где ее сфера деятельности, могут ли ее защитники дать
нам удовлетворительный ответ? В том-то и дело, что не могут.
Ее атрибуты, ее сфера деятельности чисто отрицательного
свойства. Главный ее атрибут — не подчиняться анализу,
скрываться там, куда еще не проникло точное исследование;
ее область — все то, что еще не объяснено наукой, тот остаток,
с каждым днем уменьшающийся остаток, фактов, которые
еще ждут объяснения. Каждый раз, когда анализ науки проникает в новую, еще не завоеванную область, явление, припи20 1С. А. Тимирязев,
т. V
сывавшееся единичному жизненному началу, оказывается результатом взаимодействия организма и известных нам внешних физических условий. Можно сказать, что каждый новый
шаг, каждый успех науки урезывает от этой темной области
неизвестного, в которой царила эта жизненная сила. Мы и не
пойдем за нею в эту область неизвестного. Наука может заниматься только тем, что она знает сегодня, а не гадать о том,
что узнает завтра. Оставаясь в области известного, посмотрим,
подчиняются ли те жизненные явления, которые поддаются
изучению, подчиняются ли они основным физическим законам,
управляющим миром неорганическим, или уклоняются от них,
или даже противоречат им.
Основное свойство, характеризующее организмы, отличающее их от неорганизмов, заключается в постоянном деятельном обмене между их веществом и веществом окружающей
среды. Организм постоянно воспринимает вещество, превращает его в себе подобное (усвояет, ассимилирует), вновь изменяет и выделяет. Жизнь простейшей клеточки, комка протоплазмы, существование организма слагается из этих двух превращений: принятия и накопления — выделения и траты вещества. Напротив, существование кристалла только и мыслимо
при отсутствии каких-либо превращений, при отсутствии всякого обмена между его веществом и веществами среды. Первый
из признаков, характеризующих жизнь, т. е. принятие и накопление веществ, мы можем рассматривать с двоякой точки
зрения: с химической и механической; в первом случае мы его
называем питанием, во-втором — ростом. Питание и рост в сущности только две стороны одного и того же явления. Обыкновенно полагают, что при увеличении массы неорганических
тел не происходит ничего подобного питанию и росту тел органических. Вещество организма происходит из вещества с ним
несходного; прежде чем войти составною частью организма,
вещество это должно претерпеть превращение. Масса кристалла увеличивается чрез накопление вещества, находящегося
уже в маточном растворе. Рост кристалла происходит чрез
наслоение, наложение новых частиц, или, выражаясь технически, чрез аппозицию — кристалл растет с своей поверхности.
Рост же организмов, полагают, происходит посредством вставки
новых частиц вещества между уже существовавшими, посредством внутреннего отложения, или, употребляя освященный
обычаем термин, посредством интуссусцепции. Но и это, с первого взгляда коренное, существенное различие почти исчезает
в виду любопытных опытов с так называемыми искусственными
клеточками, открытие которых принадлежит Морицу Траубе.
Значение этого открытия и до сих пор не вполне оценено многими авторитетными ботаниками, зато оно тотчас по появлении было оценено по достоинству таким физиологом, как
Гельмгольтц. Траубе берет каплю одного вещества, приводит
его в прикосновение с раствором другого вещества, и эта капля
облекается оболочкой. Это подобие клеточки перед удивленным
глазом наблюдателя начинает расти, т. е. увеличивать свой
объем и свою массу. Это явление искусственного роста представляет нам две основные черты сходства с ростом действительным. Оно происходит только в силу взаимодействия разнородных веществ, т. е. только пока вещество клеточки в состоянии изменять вещество окружающей среды и превращать
его в себе подобное, т. е. ассимилировать его. Оно происходит
посредством вставки новых частиц вещества между частицами
уже существующего, т. е. посредством интуссусцепции. С нарушением химизма, или разрушением формы, организации
нашей клеточки, прекращается и ее характеристичная деятельность, ее рост; она, если так можно выразиться, умирает. Итак,
в процессе питания и роста едва ли возможно установить какое-нибудь коренное принципиальное различие между организмом и неорганизмом.
Но мы видим, что в организмах совершается не только
процесс созидания, т. е. питания и роста, но, рука об руку
с ним, идет процесс разрушения и выделения, выражающийся,
главным образом, в окислении вещества организма кислородом
воздуха, в процессе дыхания. Организм неассимилирующий
теряет в весе, — этим обнаруживается его разрушение; но оно
идет и одновременно с ассимиляцией, о чем мы судим по продуктам выделения. Без этого процесса разрушения невозможны
проявления жизни. Жизненная деятельность находится, разумеется, в известных пределах, в прямом отношении с этим процессом разрушения. Чем энергичнее трата, тем энергичнее
10*
147
жизненная деятельность. Понижая трату, угнетая жизненную
деятельность, приводим организм в состояние оцепенения;
таково, например, состояние некоторых теплокровных животных во время зимней спячки, покоющихся семян, засушенных
животных, оживающих при смачивании их водой. Только совокупность двух процессов, созидания и разрушения, характеризует живое тело. Организм живет только пока разрушается.
«Жизнь, — говорит Клод Бернар, — это — смерть», и в этих
словах заключается и меткая истина и тонкая ирония над
погоней за звонкими определениями.
Но, конечно, и эта связь между жизненными
явлениями
и тратой (вернее превращением) вещества не составляет особенности живых тел; мы ее встречаем и в мире неорганическом.
Живые тела всегда охотно сравнивали с механизмом; и всего
ближе сравнение с паровой машиной. Брюкке, указывая на
сходство между организмом и механизмом и желая показать
на существующее между ними различие, говорит: «организм —
это такой механизм, который сам себя строит», но в только-что
описанных искусственных клеточках мы видим именно пример
простейшего механизма, который сам себя строит.
Посмотрим же, этот двоякий, прогрессивный и регрессивный метаморфоз, характеризующий организмы, но не исключительно им присущий, подчиняется ли он общим физическим
законам — и прежде всего самым общим, лежащим в основе
всех наших представлений о природе — законам постоянства
или вечности материи и закона сохранения или вечности энергии.
Во-первых, займемся законом, относящимся до вещества.
Откуда берется вещество растения? В настоящее время ответ
на этот вопрос прост, но он предполагает в нас убеждение,
что закон Лавуазье: «в природе ничто не созидается, ничто
не исчезает» — применим и к живому телу — к растению.
Это убеждение есть результат великих открытий конца прошлого столетия, — открытий, одновременно положивших начало
и современной химии и физиологии растений. Мы знаем, что
жизненная сила не в состоянии ни создать, ни уничтожить
ни малейшей частицы вещества, из которого состоят растения.
Но если она, эта сила жизни, не способна изменить количество
вещества, то быть может она способна превращать одни элементы в другие? Мы знаем, что и этого она не может. Быть
может, наконец, только эта жизненная сила обладает тайной
группировать элементы в те сложные органические соединения,
из которых построено растение? Синтетическая химия и здесь
дает отрицательный ответ. Химикам уже удалось воспроизвести значительную часть этих тел вне организма. Могут возразить: значительную часть, но не все. На это ответим, во-первых, что между тем, что сделано, и тем, что остается сделать,
нет существенной, коренной разницы, а во-вторых, и химия
с каждым днем приобретает новые синтетические приемы.
Давно ли Бертло удалось преодолеть пресловутую инертность
азота и при содействии тихого электрического разряда присоединить азот к самым сложным органическим телам, а Грандо,
рядом остроумных опытов, произведенных прошлым и настоящим летом, удалось если еще не доказать, то сделать в высшей
степени вероятным существование таких процессов в растении
под влиянием атмосферного электричества Ч Говоря, что нет
никакого основания предполагать какое-либо различие в химических процессах, совершающихся в организме и вне его,
мы вовсе не желаем утверждать, что в клеточке явления должны
совершаться именно так, как они совершаются в стеклянном
стакане или колбе. Мы даже знаем поразительные примеры,
что вещества могут обнаруживать совершенно различные реакции, смотря по тому, будут ли они приходить в прикосновение
непосредственно или через узкие отверстия, например, чрез
поры органической перепонки. Я имею в виду поразительные,
так называемые электро-капиллярные явления 2 , которые должны иметь место в растительном организме почти на каждом
шагу, как, например, при взаимодействии щелочного сока сосудистых пучков с кислым соком окружающей паренхиматической ткани. Заметим кстати, что при подобном медленном
обмене через перепонки или в органической среде — и неорга1 Последующие опыты не подтвердили результатов Грандо, но вопрос об участии атмосферного электричества в связывании азота атмосферы еще остается открытым.
2 Изученные Эдмондом Беккерелем. (Примечание добавлено к 4-му
изданию. Ред.)
нические вещества имеют наклонность принимать формы, характеристические для организованных тел. Таковы, например,
любопытные опыты Гартинга—Фаминцына над получением углекислой извести в форме крахмальных зерен. Итак, по отношению
к превращениям веществ, то, что уже сделано наукой, служит
ручательством, что то, что остается сделать, только дело времени. Все прошлое науки служит ручательством, что метаморфоз
вещества совершается в организмах по тем же законам, как
и вне их, разумеется, при прочих равных условиях. Следовательно, первая задача физиологии заключается в том, чтобы
проследить происхождение, поступление и все превращения
вещества в растении, постоянно руководясь мыслью, что эти
явления должны подчиняться основным химическим законам.
Нигде цели стремлений физиолога и агронома не прикасаются
так близко, как именно в разрешении этой задачи. Доказательством справедливости этих слов может служить вся научная деятельность таких ученых, как, например, Буссенго,
которого наша академия избрала в настоящем году своим почетным членом: и физиолог, и химик-агроном считают его
своим — и с одинаковым правом, потому что его деятельность
относится именно к той области исследований, в которой не
знаешь, где кончается физиология растений и где начинается
агрономия *.
В параллель с законом Лавуазье о вечности материи, положившим основание всему учению о питании растений, девятнадцатый век, устами Майера и Гельмгольтца, предложил
сходный закон по отношению к силе — закон вечности или
сохранения энергии. Посмотрим, как относится он к живым
телам и преимущественно к растению. С первого взгляда деятельность организмов, повидимому, представляет исключение
из этого закона. Постоянно движущаяся протоплазма и животное, производящее механическую работу, повидимому, черпают
из себя самих, как бы созидают необходимый на то запас энергии. Но физиология животных давно убедительным образом
доказала, что этот источник энергии заключается в том запасе
работы, которую представляет химическое напряжение веще* О Буссенго см. специальную статью К. А. в томе I I I настоящего
издания. Ред.
ства, способного к окислению и действительно окисляющегося
в процессе дыхания. Без кислорода прекращается движение
протоплазмы, — задерживается прорастание, мимоза утрачивает свою раздражительность, явления роста прекращаются
или замедляются. Таким образом, на основании этого закона
выясняется связь между деятельностью организма и тратой
его вещества. Каждое явление в организме необходимо связано
с тратой части его вещества, которое, окисляясь или разлагаясь,
развивает теплоту, служащую источником механической деятельности. И эта связь управляется строго количественным законом механического эквивалента теплоты. Я сказал,
что вещество организма может служить источником энергии,
не только окисляясь, но и вообще разлагаясь, и к этому заключению действительно приводят исследования последних лет.
Очевидно, что источником энергии может быть всякая экзотермическая реакция, т. е. реакция, сопровождающаяся выделением тепла. К числу таких реакций принадлежит распадение виноградного сахара на спирт и углекислоту, сопровождающееся освобождением тепла. Эта реакция, считавшаяся
долго исключительною жизненною особенностью дрожжевого
грибка, оказывается присущею и клеточкам высших растений,
когда они лишены кислорода. В этом отношении особенно
любопытны опыты Мюнца, показавшего, что живые зеленые
растения, помещенные в атмосферу, лишенную кислорода,
начинают вырабатывать из своего сахара алкоголь. Весьма
возможно, а по отношению к дрожжевому грибку едва ли подлежит сомнению, что в этом процессе разложения сахара мы
должны видеть, если так можно выразиться, суррогат дыхания,
и в этом случае должны обобщить наши понятия и не считать
дыхание, т. е. окисление, единственным химическим источником
энергии, так как таковыми же могут служить и другие экзотермические реакции 1 . Итак, закон сохранения энергии оправдывается вообще над животным и растительным организмами,
объясняя нам связь между деятельностью организма и тратой
его вещества. Но по отношению к растению он имеет еще и
другое, более важное применение.
1 Предположение это вполне оправдалось.
H 4-му изданию. Ред.)
(Примечание добавлено
Жизнь растения характеризуется постоянным увеличением
его массы, постоянным накоплением вещества. Это органическое
вещество способно гореть, — представляет, следовательно,
запас работы (потенциальной энергии), который расходуется
при горении. Но это органическое вещество вырабатывается из
неорганического вещества окружающей среды: из углекислоты,
воды, азотной кислоты и т. п. веществ, вполне окисленных.
Питание растения
состоит, следовательно,
в постоянном
превращении вещества вполне окисленного, не представляющего запаса химической энергии, в вещество не вполне
окисленное, представляющее запас химической энергии, —•
происходит накопление энергии и превращение ее в запас
работы. И мы можем выразить этот запас в цифрах: каждый
грамм, например, хлебного зерна представляет запас работы
в 945 килограммометров; грамм капусты — 184 килограммометров. Жизнь растения, в итоге, представляет нам реакцию
эндотермическую, т. е. сопровождающуюся поглощением тепла.
Из этого можно сделать только один вывод: или жизнь растения
представляет исключение из закона сохранения энергии, или
она должна находиться в постоянной зависимости от внешнего
источника энергии. Это заключение оправдывается опытом —
жизнь растения зависит от лучистой энергии солнца. Солнце
доставляет растению энергию, необходимую для разложения
углекислоты. Мы знаем, где и как происходит этот процесс: —
он происходит в зеленых органах, под влиянием хлорофилла.
Хлорофилловое зерно и есть тот орган, та лаборатория, в которой вырабатывается органическое вещество, служащее для
потребностей всего растительного и животного мира. Солнечные
лучи, улавливаемые хлорофиллом, затрачиваются на эту работу
разложения углекислоты и образования органического вещества
и, таким образом, слагаются в запас в виде химического
напряжения, которым мы пользуемся, когда употребляем это
вещество, как пищу или топливо. Это превращение лучистой
энергии солнца в химическое напряжение должно управляться
строго количественным законом. Если один грамм хлебного
зерна выделяет при горении количество тепла, равняющееся
945 килограммометрам, то из этого мы заключаем, что для образования этого грамма зерна должно быть затрачено, по мень-
шей мере, такое же количество солнечной энергии. Как ни один
атом углерода не создан растением, а проник в него извне, так
ни одна единица тепла, выделяемого растительным веществом
при сгорании, не создана жизнью, а заимствована, в конечном
результате, у солнца. Следовательно, как по отношению к веществу мы стремимся к строго количественному учету совершающихся в растении явлений, так и по отношению к энергии мы
должны стремиться к такому же строго количественному учету
отношения между энергией, действующею на растение, и энергией, накопляющеюся в нем в виде запаса работы. И, по всей
вероятности, недалеко время, когда, благодаря, с одной стороны, актинометрическим исследованиям, составляющим в настоящее время один из предметов забот метеорологов, с другой
стороны — исследованиям физиологов над разложением углекислоты и вообще над отправлением хлорофилла в растениях,
мы будем в состоянии разрешить вопрос, касающийся не только
физиолога, но и практика, и экономиста, и вообще человека,
интересующегося судьбами человечества. Я разумею вопрос,
находящийся в связи с учением Мальтуса, — вопрос о пределе
производительности земли, о предельном количестве органического вещества, которое человек в состоянии получить с известной площади земли, при помощи растения. Нередко можно
слышать мнение, что вопрос этот не имеет даже отдаленного
значения, что к тому времени, когда население достигнет
предела, определенного производительностью земли, химия
откроет средства искусственного приготовления питательных
веществ. Подобный взгляд еще несколько месяцев тому назад
был высказан одним из наших уважаемых экономистов на страницах одного из наиболее уважаемых литературных журналов.
Но очевидно, что такой взгляд основан на совершенном незнании
физических условий задачи. Что химия современем, — конечно,
не скоро еще,—осуществит синтез и таких веществ, как крахмал,
как белковые вещества, сомневаться в этом едва ли есть какое
логическое основание. Но, для осуществления этого превращения неорганического вещества: углекислоты, воды, азотной
кислоты — в органическое вещество, химик не менее растения
будет нуждаться во внешнем источнике энергии, и этим источником останется то же солнце. Химик будущего, в своей деятель-
ности, должен будет подражать растению, может быть он превзойдет его, но все же, как и в растении, предел его деятельности будет положен количеством солнечной энергии, выпадающим на землю * . Как бы ни было, в настоящее время физический предел производительности земли определяется количеством солнечной энергии, которое затрачивается растением
на этот химический процесс: зная, сколько единиц тепла выпадает на известную площадь, зная, какая доля этого количества
поглощается зеленым органом, т. е. хлорофиллом, какая
доля утилизируется на разложение углекислоты, мы будем
в состоянии сказать, какое максимальное количество органических веществ можно ожидать с этой площади. Таким образом, вы видите, мм. гг., что этот вопрос об отношении деятельности хлорофилла к лучистой энергии солнца, — вопрос,
теперь занимающий физиологов и, повидимому, представляющий исключительно теоретический интерес, — современем может приобресть практическое экономическое значение. Еще
новое доказательство той глубокой связи, которая соединяет
деятельность физиолога с деятельностью агронома. Чисто научные, физиологические исследования прольют современем свет
на вопросы практической важности, а между тем обширные
исследования, предпринятые по одному общему плану на германских опытных станциях для определения массы органического вещества, производимого культурными растениями, —
исследования весьма простые по содержанию — обещают,
в связи с метеорологическими наблюдениями, снабдить физиолога весьма ценными данными для обсуждения этого вопроса.
Итак, по отношению к энергии, задача физиолога должна заключаться в том, чтобы достигнуть такого же строго количественного учета, как и по отношению к веществу. Мы должны
стремиться к тому, чтобы узнать, какое количество энергии
получается растением, какое слагается в запас (а для того
должно ознакомиться с самым механизмом этого процесса)
и затем какая доля этого запаса истрачивается растением на
свои собственные потребности — в процессе дыхания и дру* В настоящее время встает также вопрос об использовании
внутриатомной энергии, хотя еще этот вопрос весьма далек от практического осуществления. Ред.
гих ему аналогических. Мы уже видели, что всякому организму,
растительному и животному, свойственны оба процесса — созидание и разрушение; но общий результат, итог этих двух
процессов, в том и другом случае, весьма различен, и этот итог
лучше всего характеризует представителей того или другого
царства. Если приход превышает расход, мы имеем перед собою
растение; если он уравновешен более или менее чувствительно,
мы имеем животное. Это различие, эта особенность выражается
в самом названии растения; растение растет, пока живет, животное же скоро достигает момента, когда процессы уравновешиваются, когда почти весь избыток пищи затрачивается на
развитие энергии, на ту многообразную механическую деятельность, которую в растении мы встречаем только в зачатке.
Различие между животным и растением, следовательно, не
коренное, качественное, а только количественное, основанное
на преобладании одной из сторон деятельности, характеризующих живые тела. Некоторые ученые придают более значения
динамической стороне явления и полагают возможным формулировать различие между животным и растением следующим
образом: «Если результат всего жизненного процесса —превращение живой силы в напряжение, то мы имеем растение, если
обратно —превращение напряжения в живую силу, то мы имеем
животное». Таково, например, определение, предлагаемое Брюкке. Но это определение страдает односторонностью: оно не обнимает всех растений. Способность превращать живую силу солнечного луча в химическое напряжение, — другими словами,
способность разлагать углекислоту, — не составляет особенности, атрибута растения, как целого, а только отправление
известного органа — хлорофилльного зерна. Отождествлять
отправление растения с отправлением хлорофилла значит забывать о существовании обширного класса растительных организмов — грибов.
Но если в этом процессе превращения живой силы в напряжение мы не можем видеть признака, присущего всякому растению, то не подлежит сомнению, что в этом отправлении заключается самая выдающаяся особенность растительного мира,
взятого в целом, — она определяет космическую роль растения
как посредника между солнцем и жизнью на нашей планете.
Усвоение углерода растением или, З^потре^ляя выражение
Клод Бернара, «функция хлорофилла», самое важное, самое
характеристическое отправление растения. «Хлорофилл», —
сказал мне величайший из живущих натуралистов, Дарвин, —хлорофилл это быть может самое интересное из веществ во
всем органическом мире». Отсюда понятно, что это тело и его
отправление составляют в течение последнего десятилетия один
из главнейших предметов, привлекающих на себя внимание
ботаников-физиологов.
Итак, мы видим, что и превращение вещества, и превращение энергии совершаются в растительном организме
по тем же законам, как в неорганической природе. Это
законы строго количественные, а там, где является число
и мера—там нет места для какой-нибудь капризной жизненной силы. Растение является результатом взаимодействия
веществ и сил, которые оно встречает в окружающей среде.
Задача физиолога, в идеальной форме, сводится как бы к
разрешению уравнения, в котором, с одной стороны, стоит
растение, с другой—доступные ему вещества, действующие
на него силы.
До сих пор мы имели в виду только две категории превращений—превращение вещества и энергии, но жизнь организмов представляет нам еще третью категорию — превращение
формы, и это, быть может, самая характеристическая сторона
жизненных явлений. Жизнь представляет нам последующее чередование, смену форм: мы называем это развитием,
или эволюцией. В этом процессе развития нас поражает одна
общая, широкая черта, заключающаяся в том, что путем этого
развития слагаются формы, целые организмы, или отдельные
органы, поразительно прилаженные, приспособленные к их
среде и отправлению, представляющие то, что мы называем
гармонией, совершенством, целесообразностью. Все отдельные
химические и механические процессы как бы направлены к одной
определенной цели — к образованию целесообразной формы.
В этом-то целесообразном развитии охотно усматривают характеристическую особенность организмов, отличающую их от
неорганизмов. Это-то начало развития, присутствующее, как
полагают, в зародыше каждого организма, связующее и со-
гласующее все химические и физические процессы, в нем совершающиеся, направляя их к определенной цели, — это
уже не просто физика и химия, — говорят виталисты, — это
и есть начало жизни.
Но, ограничивая таким образом сферу действия жизненной
силы, ее защитники, как удачно выражается Клод Бернар,
«превращают витализм в чисто-метафизическое представление,
разрывают последнюю связь, которая связывает его с физическим миром, с физиологической наукой. Говоря, что жизнь
есть идея или начало, руководящее развитием существа, мы
только выражаем мысль об известном единстве тех одновременных и последовательных превращений, химических и морфологических, чрез которые проходит организм с начала и до конца
жизни. Наш ум пытается выразить это в одном общем представлении и называет его силой, но было бы ошибочно предполагать,
что эта метафизическая сила деятельна на подобие сил физических». Жизненное начало, таким образом понимаемое, по
меткому выражению того же Клода Бернара, «есть начало
законодательное, а не исполнительное». Исполнительным,
деятельным началом в живом организме остаются все те же химические и механические деятели и с ними одними физиология
может иметь дело.
Но если объяснение при помощи одной особой силы не
верно, то самый факт целесообразного развития остается фактом.
Может ли физиология пролить какой-нибудь свет и на эту темную сторону жизненных явлений, может ли она дать объяснение для этого целесообразного развития? В попытке такого
объяснения и заключается одна из характеристических сторон
современной биологии. Она не остановилась перед задачей,
которую предшествовавшие века считали неразрешимой х .
Положим, перед нами три, по виду совершенно неразличаемые, клеточки, зародышевые пузырьки трех различных
1 Это ясно выражено в физиологии Сенебье, представляющей
состояние этой науки на пороге X I X века. (См. мою брошюру «Столетние
итоги физиологии растений».) [Примечание добавлено к 4-му изданию.
Указанная брошюра изд. 1918 г. содержит две статьи: одну — с названием, совпадающим с названием всей брошюры, см. в настоящем томе,
стр. 385; другую—«Жан Сенебье, основатель физиологии растений»,
см. в томе V I I I настоящего издания. Ред.]
растений. Развиваясь, при сходных внешних условиях, они
дадут начало трем совершенно различным организмам: из
одной разовьется кускута, вся организация которой приспособлена для того, чтобы паразитировать на других растениях,
так что, если она не найдет своей жертвы, то несомненно погибнет; из другой разовьется какая-нибудь орхидея, цветы которой
так устроены, что она может оплодотворяться только при помощи насекомых; наконец, третья превратится в росянку,
весь склад которой делает ее способной улавливать и пожирать
насекомых. Спрашивается: можем ли мы надеяться когда-нибудь объяснить происхождение этих загадочных целесообразных форм одним взаимодействием веществ и сил, влияющих
на них во время их развития? Очевидно, нет. Если по отношению к метаморфозу вещества и энергии мы можем и должны
прибегать исключительно к физическим объяснениям, то по
отношению к метаморфозу формы, очевидно, эти объяснения
недостаточны. Мы должны допустить еще влияние причин исторических. Посмотрим, какой смысл придаем мы этому понятию.
Говоря о жизни, мы, обыкновенно, даже не отдавая себе в том
отчета, имеем в виду жизнь неделимых, т. е. до некоторой степени произвольно выхватываем отдельный эпизод, отдельный
момент из целого явления, начало и конец которого теряется
во мраке прошлого и будущего. Но понятно, что мы этого не
в праве делать; мы не в праве рассматривать единичный организм, как самостоятельное, замкнутое явление: это — только
звено в цепи явлений, связанное причинною связью с бесконечным рядом предшествовавших звеньев и, в свою очередь,
влияющее на последующие звенья. Для известных целей мы
можем становиться на такую искусственную точку и изучать
жизнь неделимого, как самостоятельное явление, точно так же,
как мы идем еще далее и изучаем отдельно различные процессы,
совершающиеся в организме. Но жизнь вообще мы не поймем,
не проникнувшись мыслью о преемственности, о единстве формы,
не запечатлев в себе мысль, что жизнь есть одно общее целое
явление, охватывающее весь органический мир, в пространстве и во времени. Жизнь есть непрерывное, никогда неперемежающееся явление, при начале которого нам никогда не случалось присутствовать, или, употребляя картинное сравнение,
к которому прибегает Гельмгольтц в одной из своих лекций,
это волна, в каждую минуту приводящая в движение новые
частицы вещества; жизнь неделимого — это один гребень, один
всплеск этой волны, неизвестно откуда и куда бегущей.
Изучая движение какого-нибудь тела, например, полет
ядра, мы, для его объяснения, не можем довольствоваться
одним выхваченным моментом и не станем объяснять его исключительно действующими на него в этот момент внешними силами, — мы знаем, что оно движется и под влиянием этих сил
и вследствие инерции. Вот эту-то инерцию, это влияние предшествовавшего состояния (état anterieur Клод Бернара) мы
и должны постоянно иметь в виду при изучении организмов.
Если мы сравниваем жизнь с движением, то для понятия инерции в применении к жизненным явлениям, для этой органической инерции мы имеем особый термин — наследственность.
Сознание необходимости ввести в науку, —или, вернее, не ввести
вновь, а только выставить в надлежащем свете это понятие
о преемственности, о непрерывности жизненных явлений,—породило в последние годы целый ряд гипотез и новых терминов.
Теория «пангенезиса», предложенная Дарвином, как временная,
вспомогательная гипотеза, учение о «памяти», как общем свойстве органических тел, предложенное Герингом, и сложная
гипотеза «перигенезиса пластидул», предложенная Геккелем,
принадлежат к попыткам этого рода 1 . Здесь невозможно,
за недостатком времени, входить в подробности обсуждения
этих попыток. Против «пангенезиса» можно, главным образом,
возразить, что это учение предполагает существование готовых
материальных зачатков вместо того, чтобы предположить,
что в зародыше даны только условия развития в том или другом
направлении 2 . Объяснять же наследственность, сравнивая ее
К этой же категории гипотез — копий «пангенезиса» — относится
и гипотеза Негели об «идиоплазме».
2 С точки зрения «пангенезиса» зародыш является как бы морфологическим сокращением, редукцией готового организма, между тем как
правильнее предположить, что в материальных, динамических и морфологических условиях зародыша представляется только возможность
или необходимость того или другого хода развития, т. е. заключается
та или другая форма, но только in potentia. (В возможности. Ред.) Постараюсь пояснить эту мысль сравнением, вполне сознавая, что, как
1
с памятью, значит объяснять темное еще более темным. Называя наследственность органической инерцией, мы, по крайней
мере, подводим частное понятие под более общее.
Итак, если одно из основных свойств организмов заключается в их способности находиться в постоянном взаимодействии
с веществами и силами окружающей среды, находиться в подвижном равновесии с этою средой, постоянно изменяться,
то рядом с этим свойством — с изменчивостью — мы должны
поставить другое —наследственность, т. е. свойство сохранить
влияние прежде действовавших условий. Нередко в этих двух
свойствах усматривается будто противоречие. Но понятно,
что закон наследственности так же мало противоречит закону
изменчивости, как понятие инерции не противоречит понятию
движения. В силу означенной инерции, т. е. наследственности,
форма может неизменно передаваться из поколения в поколение;
в силу той же наследственности, изменение, однажды вызванное, будет также передаваться, не может исчезнуть бесследно,
не отразившись на отдаленных поколениях, пока не будет уравновешено другими влияниями. Таким образом, изменчивость,
как необходимое следствие подвижности состава организма,
и наследственность, т. е. преемственность всех процессов, передающихся из поколения в поколение и делающих из всего
живущего и жившего одно причинное целое, —вот что характеризует организм по отношению к неорганизму. Твердо отстаивая, что жизненные явления управляются теми же физическими
всякое сравнение, оно может грешить со многих сторон. Частицы воды,
выбрасываемые фонтаном, располагаются в какую-нибудь сложную причудливую форму, — следует ли из этого заключать, что эта форма предсуществует, вылетает готовой из трубки фонтана? Напротив, в тот момент, когда водяные частицы вылетают из отверстия, они имеют совсем
иное распределение; но направление струи, скорость движения, форма
отверстия и множество других условий необходимым образом влияют
так, что водяные частицы, пройдя известный путь, должны расположиться
известным образом, воспроизвести известную общую форму. Вообще мне
кажется, что объяснить форму — значит указать, каким сочетанием материальных и динамических условий она может быть вызвана; объяснять же форму предсуществованием готовой зачаточной формы, а в той —
другой зачаточной формы и т. д., как это делается в гипотезе «пангенезиса», значит не разрешать, а только отстранять, отодвигать разрешение
вопроса.
законами, как и явления неорганические, мы ни на минуту
не должны упускать из виду и действия причин исторических,
как необходимого следствия этого единства жизни.
Но говоря, что жизненные явления кроме причин физических управляются еще причинами историческими, не вводим ли мы тем самым постороннего элемента, нового понятия, не прилагающегося к явлениям в мире неорганическом?
Ни мало. Во-первых, наши исторические причины — те же физические, но действовавшие в прошлом; если они действуют
теперь, то действовали и прежде, и, однажды отразившись на
организме, влияние их не могло исчезнуть бесследно. А затем,
разве и за пределами жизненных явлений мы можем обойтись,
не прибегая к историческим причинам? Скажут, химия и физика
не нуждаются в истории; — да, пока они имеют дело с общими
законами или со случаями, искусственно вызываемыми, но не
тогда, когда им приходится применять их к случаям, данным самой природой. Астрономия всегда служит образцом, идеалом
положительной науки, но разве она может объяснить все настоящее нашего планетного мира, не прибегая к его прошлому?
Разве гипотеза Лапласа не основывается на таких же приемах,
как те, которые употребляются в биологии? На основании различных форм, встречаемых в пространстве, заключают о той
последовательности форм, которая должна была совершиться
во времени. Разве туманные пятна, кольцо Сатурна, застывшие спутники не то же, что зачаточные, переходные, атрофированные органы, на основании которых мы пытаемся восстановить историю организмов, их прошлое, долженствующее
объяснить нам их настоящее? 1 .
Но вернемся к нашей задаче. Посмотрим, насколько эти
исторические причины могут объяснить основной факт целесообразности форм. Эту целесообразность в развитии организмов мы теперь объясняем себе, исходя из двух свойств организмов — изменчивости и наследственности — и еще третьего
их свойства, т. е. быстрой прогрессии размножения.
Это объяснение данО Дарвином и в нем заключается главное значение
1 Совершенно сходную параллель высказал позднее известный астроном Фей и еще позднее (в 1887) более определенно — Ж а н с е н .
11 К. А. Тимирязев,
т. V
161
его учения для физиологии. В самом деле, как объяснить себе
эти основные факты биологической гармонии? Одни говорили,
что органы созданы таковыми в виду потребностей, но такое
разрешение вопроса ничего не объясняло. Другие пытались
объяснить, но также безуспешно, что сама потребность могла
вызвать удовлетворяющее ей изменение. Только Дарвин нашел
настоящий ключ, объяснив, что изменения, как вызываемые
слепой игрой физических сил, сами по себе безразличны и могут клониться как в пользу, так и ко вреду организма, но что
вследствие исторического процесса, названного им метафорически борьбой за существование и естественным отбором, всякое
полезное уклонение, всякое усовершенствование будет сохраняться, всякое же вредное и бесполезное уклонение пресекаться, истребляться. Таким образом, не организм прилаживается
к среде, под ее непосредственным влиянием, как предполагали
некоторые из предшественников Дарвина, а в бесконечном
ряде поколений накопляется все то, что согласно, и устраняется
все то, что противоречит этой гармонии органического мира.
Следовательно, по отношению к объяснению целесообразного
развития органических форм, мы едва ли можем, едва ли должны
стремиться к полному объяснению отдельных частных случаев, — мы должны довольствоваться возможностью их общего логического объяснения. Для того, чтоб объяснить себе
происхождение самого сложного, самого совершенного органа
или приспособления, достаточно показать, что в самых простейших, элементарных формах они могли возникнуть под
влиянием физических условий 1 , затем указать, чрез какие
ступени усовершенствования они прошли, чтобы достигнуть
совершенства, и, наконец, доказать, что они полезны для организма. Раз мы докажем эти три полбжения, то станет очевидно,
1 Так,
например, Герберт Спенсер указывал, что первоначальное
превращение правильного цветка в симметрический могло совершиться
под влиянием силы тяжести. Дальнейшее же усовершенствование —
дело отбора вследствие полезности симметрической формы для перекрестного оплодотворения при помощи насекомых. Так, Дарвин высказывал
мнение, что образование вьющихся растений может быть обязано своим
происхождением довольно распространенному свойству стеблей искривляться под влиянием внешнего раздражения. Позднее он объяснял его
явлениями «круговой нутации».
что подобные формы могли и должны были сложиться с течением времени под влиянием естественного отбора.
Почти излишне напоминать, насколько учение Дарвина
обязано фактам, приобретенным практическими деятелями
на поприще садоводства и скотоводства; всем известно, что одна
из главных заслуг этого ученого заключается именно в том,
что он воспользовался этим громадным запасом фактических
знаний для построения своей теории, что самой основною
мыслью своего учения он обязан практикам. Едва ли в истории
наук можно найти более разительный пример плодотворности
взаимного влияния этих двух отраслей человеческого знания —
теоретической и практической.
Итак, изучая жизненные явления, мы постоянно должны
иметь в виду непрерывность, преемственность жизненных
явлений, мы не в праве выхватывать жизнь неделимого, рассматривать ее независимо от общей жизни органического мира.
Каждый организм слагается не только под влиянием настоящего, но и всего прошлого, вплоть до скрывающегося во мраке
времен начала жизни. Это невольно приводит нас к обсуждению
вопроса о начале жизни. Если органический мир имеет историю,
то откуда начинается она, или быть может организмы возникают
и теперь на нашей планете? Случается ли нам быть свидетелями
начала жизни, или мы только видим волну, бегущую из мрака
прошлого? Понятно, что в сравнении с этим моментом всякий
другой представляет второстепенный интерес; изучив этот момент возникновения жизни, превращения неживого в живое,
мы, конечно, лучше всего поняли бы различие между ними.
Очевидно также, что все сказанное об историческом процессе
образования организмов исключает возможность возникновения форм сколько-нибудь сложных; но вопрос является иным
по отношению к формам простейшим, стоящим на низшем пределе организации. Это вековой, спорный вопрос о самопроизвольном зарождении («Generatio spontanea», heterogenesis, abiogenesis)*. Существует ли оно? Доказано ли оно в настоящем?
Если еще не доказано, то вероятно ли в настоящем? Если не
вероятно в настоящем, то может быть необходимо допустить его
* «Самопроизвольное зарождение», зарождение из неживого.
Ред.
существование в прошлом или, наконец, быть может, логически
мыслимо вовсе обойтись без этого предположения? Вот ряд
вопросов, который представляется сам собою и невольно занимает умы современных натуралистов. Попытаемся ответить
на них и мы, и тем завершить этот беглый обзор основных задач современной физиологии.
Во-первых, следует строго различать фактическую, экспериментальную сторону вопроса от теоретической или логической. До настоящей минуты защитники самопроизвольного
зарождения не привели в подтверждение существования этого
явления ни одного экспериментального доказательства. Отступая шаг за шагом, они ограничивали сферу этого явления все
более и более простыми организмами,— теперь эта область ограничивается исключительно бактериями, но и здесь не констатировано до сих пор ни одного случая появления бактерий при
таких условиях, при которых нельзя было бы предполагать
присутствия их зародышей. Защитники самостоятельного зарождения говорят: положим, что оно еще не доказано фактически, но логически, a priori оно неизбежно, оно необходимо
для полноты нашего миросозерцания; оно связало бы органический мир.с неорганическим. Но точно ли это заключение логически обязательно для нас? Точно ли органический мир необходимо должен был возникнуть из неорганического? Доказательством тому, что и другое разрешение этого вопроса
мыслимо, служат сомнения, в последнее время высказываемые
с различных сторон такими учеными, как Прейер, Наке, Фехнер, Вильям Томсон и, наконец, Гельмгольтц. Всего подробнее
и оригинальнее развивает свой взгляд Фехнер; привожу его
не потому, чтобы разделял его, но как пример возможности
целостного миросозерцания без допущения самопроизвольного
зарождения. Фехнер прежде всего задается вопросом, в чем
заключается различие живого тела от неживого, и отвечает
на это следующим образом: «Я не могу себе представить этого
различия, — говорит он, — иначе, как приняв, что в неживом
твердом веществе частицы не изменяют того порядка, в котором
расположены, не могут меняться местами, что не мешает им
быть в постоянном колебательном движении. Состояния же
организованной материи, пока она одарена жизнью, я не могу
себе представить иначе, как допустив, что частицы ее находятся
в постоянном движении, вследствие инерции и взаимного притяжения, и при этом описывают круговые или гораздо более
сложные пути. Что подобное движение возможно, примером
служат небесные тела; различие только в масштабе». Сравнивая эти две формы движения, Фехнер называет одно космически-органическим, а другое молекулярно-органическим.
Частицу живого вещества можно уподобить солнечной системе,
с тем различием, что в ней нет одной особенно преобладающей
массы, и потому движение составляющих ее частиц бесконечно
сложнее и разнообразнее. Подобное представление об органическом веществе, в сущности, не что иное как описание комка
живой протоплазмы. Такое представление об организованном
веществе обнимает все его свойства: его произвольное движение,
обмен вещества, рост посредством интуссуецепции и находится
в связи с его полутвердым, полужидким состоянием и необходимостью присутствия воды. Удаляя воду, приводим живое
тело в состояние покоя или оцепенения (как в опыте с высушиванием некоторых животных), возвращая ее, возобновляем
движение. Точно так же при действии низкой температуры
замедляется и, наконец, прекращается это движение; с повышением температуры оно вновь возобновляется. Почему же
не предположить, говорит далее Фехнер, что первоначально
вся материя была одарена как космически-, так и молекулярноорганическим движением. Но мы знаем, что это молекулярноорганическое или жизненное движение совершается только
в известных пределах температуры. Когда космическая материя сгущаясь достигала этой температуры, она утрачивала
это движение, превращалась в неорганическую и только позднее на охладившуюся поверхность этих небесных тел, из сравнительно холодного мирового пространства, осела часть вещества, сохранившая это движение, — доказывают же В. Томсон и Гельмгольтц возможность занесения на нашу планету
зародышей организмов при помощи метеоритов. Таким образом, видя между живой и неживой материей чисто-физическое
различие, сводящееся на их молекулярную динамику, на форму
их молекулярного движения, Фехнер обращает вопрос и спрашивает, какая же форма движения древнее. Может быть жизнь
предшествовала нежизни, и тогда вопрос о generatio spontanea падает сам собою. Повторяю, я привожу эту гипотезу
Фехнера только как образец мышления логически возможный
и совершенно противоположный господствующим воззрениям,
а следовательно подрывающий логическую неизбежность заключения о необходимости самопроизвольного зарождения.
Итак, по отношению к началу жизни мы можем повторить
слова Гельмгольтца: «или жизнь когда-нибудь возникла или
она современна материи».
Но если возникновение организмов из неоживленного
вещества когда-нибудь во времени является вообще более
вероятным, то рождается еще вопрос, необходимо ли допустить,
что это явление совершается и в настоящую минуту на нашей
планете, и что мы только были несчастливы в наших экспериментальных поисках за ним. К подобному заключению уже
очевидно нас ничто не вынуждает. В чем бы ни заключалось
различие между организмом и неорганическою природой,
мы одинаково можем допустить, что условия этого перехода
могут существовать, но могут и не существовать в настоящую
минуту на нашей планете. Мне кажется, даже можно привести
доводы, делающие современное существование этого явления, на поверхности земли, мало вероятным и, следовательно,
являющиеся объяснением постоянной неудачи всех поисков
за ним. Защитники этого учения обыкновенно говорят, что
открытие произвольного зарождения венчало бы здание
теории Дарвина: эта теория объясняет нам, как одни
организмы произошли от других,—здесь мы увидели бы, как
первый организм происходит из неорганизованного вещества.
Мне кажется, наоборот, существование произвольного зарождения в настоящую геологическую эпоху, а следовательно и во все
предшествовавшие эпохи, явилось бы почти непреодолимым
препятствием для этой теории, т. е. обстоятельством, которое
весьма трудно, почти невозможно, было бы с ней согласовать.
Постараюсь быть кратким: вся теория Дарвина сводится к тому,
что все организмы, живущие и когда-либо жившие, находятся
в кровном родстве; идеал стремлений этого учения — выразить
родство всех живых существ в виде одного родословного дерева, — и должно заметить, что современная система, по край-
ней мере растительного царства, нисколько не противоречит
этой возможности: два наиболее глубоко различающиеся между
собою отдела растительного царства — растения споровые
и растения семенные — представляют такую очевидную гомологическую связь, что в настоящее время едва ли может быть
сомнение в единстве происхождения всех растительных организмов 1 . Но спрашивается: какая же кровная связь возможна
между организмами, независимо возникшими из неорганизованного вещества в какую-нибудь Силурийскую эпоху и в настоящее время. Какое единство возможно без одного общего
начала? Какое родословное дерево возможно, когда несметное
число родоначальников возникло и возникает в каждый момент
на каждой точке земного шара? Очевидно, если самопроизвольное зарождение существует и существовало, то все органические существа представили бы в совокупности не одно родословное дерево, а целый непроходимый дремучий лес с крупными старыми деревьями и мелкою порослью, и тогда никакая
естественная система организмов не была бы возможна. Допустить же, что все возникшие посредством самопроизвольного
зарождения организмы, несмотря на различие в условиях их
появления, давали начало сходным рядам форм, — значило
бы вводить новые, бездоказательные посылки, лишать теорию
Дарвина ее главного достоинства — ее строго реальной почвы.
Итак, кажется, всего вероятнее предположить, что самозарождение организмов не совершается при современных естественных условиях, что оно совершалось в отдаленном прошлом и, быть может, современем вновь осуществится при искусственных условиях в наших лабораториях. По крайней мере
только такое разрешение вопроса действительно удовлетворило
бы всем требованиям — венчало бы здание биологической
науки.
Следовательно, вопрос о первоначальном возникновении
жизни, вопрос об образовании организма из неорганизованного вещества, остается еще в области гипотез и неопределенных стремлений. Синтетической биологии пока еще не существует. А что, если ей никогда не суждено осуществиться, что
1 Все, что открыто в этом направлении за последние сорок лет, является подтверждением этого положения. (Примечание 1918 г.)
если жизнь современна материи? Что ж, и тогда направление и
методы физиологии нисколько не изменятся,— она будет видеть
в жизни, в организме, нечто заранее данное, но тем не менее
подчиняющееся определенным законам, общим для всего вещества. Она будет в таком же положении, как и астрономия,
которая, изучая законы движения планет, изучая физические
и химические явления, совершающиеся на солнце, объясняя
историческими причинами, т. е. гипотезой Канта и Лапласа,
происхождение и развитие нашей планетной системы, не заботится о том, откуда взялся первоначальный толчок, приведший ее в движение, и совершился ли он во времени Ч
Подводим краткий итог всему, до сих пор сказанному. Для
осуществления своей задачи, для объяснения явлений растительной жизни, физиология растений не нуждается ни в каких
произвольных посылках, от которых давно отказались науки,
имеющие предметом неоживленную природу. Она не нуждается,
как в былые времена, в допущении существования особой органической материи, — для нее достаточно и той, из которой
состоят неорганизованные тела, и тех общих законов, которые
управляют последними. Она не нуждается в допущении существования особой жизненной силы, неуловимой и своевольной,
ускользающей от закона причинности, не подчиняющейся
числу и мере, — для нее достаточно основных физических законов, управляющих и неорганическим миром 2 . Она не нуждается, наконец, в допущении существования неопределенного
метафизического начала целесообразного развития — этого последнего убежища виталистов, — для нее достаточно действительного, указанного Дарвином, исторического процесса развития, неизбежным, роковым образом направляющего органический мир к совершенству и гармонии. До тех пор, пока нам
не докажут противного, мы в праве видеть в растении — «механизм, сам себя обновляющий» и обладающий историей. Мы
в праве требовать от этой науки, при ее современном состоянии,
В настоящее время она подвинулась и в этом направлении; см.,
например, книгу Лоуэля — The Evolution of Worlds. (Примечание 1918 г.)
2 Только Бергсон утешал себя, что будет найден еще какой-то третий закон, не подчиняющийся числу и мере, и на этом строил надежду
на воскресение витализма. (Примечание 1918 г.)
1
чтобы при объяснении явлений жизни она прибегала только
к троякого рода причинам: химическим, физическим и историческим. Эта троякая задача вполне соответствует трем эпохам
в развитии естествознания вообще — трем эпохам, которые
характеризуются тремя общими законами, лежащими в основе
нашего миросозерцания, тремя руководящими именами. Эти
законы: закон постоянства материи, закон сохранения энергии
и закон преемственности или единства жизни. Эти руководящие имена — имена Лавуазье, Гельмгольтца и Дарвина.
Итак, мм. гг., вы видите, что, для осуществления своих
современных задач, физиология растений не нуждается в большем числе посылок, чем другие науки, получившие бесспорное
название положительных. Она требует не менее, но и не более
того, чего требует, например, астрономия для объяснения всей
совокупности подлежащих ей фактов; как та, так и другая нуждаются в причинах химических, физических и исторических.
Если же мы пока бессильны по отношению к объяснению начала жизненных явлений, то, я полагаю, и астрономия находится в таком же отношении к началу космических явлений,
к началу мирового процесса, и это ей нисколько не мешает
итти своим путем, расширять область положительного знания,
не прибегая ни к каким гипотезам, лежащим за пределами
науки.
1878 г.
r i
ВИТАЛИЗМ И Н А У К А '
Б
росая обратный взгляд на истекший год, мы не можем
не остановить внимания на двух событиях, на двух днях,
которые наше общество отметило и еще собирается отметить особыми торжественными заседаниями. Сто лет тому
назад, 8 мая, безвременно погиб Лавуазье; 8 сентября не стало
Гельмгольтца. Между этими двумя днями помещается целое
столетие, подобного которому человечество, конечно, никогда
еще не переживало. Эти два имени невольно вызывают на сравнение, — оно, впрочем, стало почти общим местом. Чем один
в X V I I I веке был для учения о веществе, тем другой был в X I X
веке для учения об энергии. Один, в конце своей насильственно прерванной жизни, с особенною любовью останавливается
на применении своих идей к разъяснению явлений жизни, —
1 Речь, читанная в годичном заседании общества любителей естествознания 15 октября 1894 г. (В большой аудитории Политехнического
музея в Москве. Ред.)
другой начал с изучения этих явлений для того, чтобы перейти
в более широкую, более удовлетворяющую его точный ум
область физики. Благодаря тому, что эти и им подобные умы
обращали внимание на явления жизни, применяли к ним методы физических наук, быть может, ни одна отрасль естествознания не сделала за этот промежуток времени таких относительно громадных успехов, как физиология. С той минуты, как дыхание, — эта, казалось, сущность жизни, —
было сведено гением Лавуазье на химико-физический процесс, витализму был нанесен роковой удар, а в 1869 г.
Гельмгольтц мог сказать, что наука о жизни в последние сорок
лет сделала более успехов, чем в предшествовавшие два тысячелетия.
Я буду иметь в виду, конечно, только известную мне область
физиологии растений. Как связная,систематическая доктрина,
физиология растений вся развилась за этот столетний период.
В 1791 г. появилась первым изданием, а в 1800 г. вторым —
первая физиология растений, принадлежавшая перу Сенебье.
Сенебье подчеркивает ту мысль, что он может подвести итоги
науке восемнадцатого века, и высказывает надежды, которые
он возлагает на девятнадцатый. Во всей этой книге чувствуется
тот подъем научного духа, который был последствием великих
открытий Лавуазье.
Оправдал ли X I X век возложенные на него физиологом
надежды? Оказалось ли плодотворным то распространение
методов физических наук на жизненные явления, от которого
так много ожидал ученый, стоявший на пороге века? До самого
недавнего времени, на этот вопрос мог быть один ответ, но за
последние годы в нашей русской научной литературе начинает
пробиваться струйка не широкая, но очень бурливая, прямо
протестующая против каких-то юношеских увлечений, проповедующая возврат к забытому витализму и пытающаяся доказать, что это, очевидно, попятное движение — «признак оздоровления и укрепления научного мышления», «здоровый протест против крайностей материализма шестидесятых годов» Ч
1
И. П. Б о р о д и н : «Протоплазма и витализм», «Мир божий», май
Ш4 г.
Почин в этом направлении принадлежит бывшему дерптскому,
теперь базельскому профессору Бунге; затем искру перекинуло
на дальний Восток, в Томск, где проф. Коржинский, в речи —
«Что такое жизнь?», выступил с теми же воззрениями в области
ботаники, и, наконец, особенно громко этот неовитализм заявил
о своем появлении в речи проф. Бородина: «Протоплазма и витализм», произнесенной на прошлогоднем 25-летнем юбилее
петербургского общества естествоиспытателей.
В этой речи, вызвавшей в присутствующих, насколько
мне приходилось слышать 1 , самые противоположные впечатления, проф. Бородин объявил, «что мы присутствуем при зрелище столь же любопытном, сколь неожиданном для многих:
витализм начинает возрождаться, хотя в иной, обновленной
форме». «Не какие-нибудь дилетанты, а серьезные ученые,
наперекор господствующему течению, заговаривают снова
о жизненной силе». «Старушка, жизненная сила, которую мы
с таким триумфом хоронили, над которой всячески глумились,
только притворилась мертвою и теперь решается предъявить
какие-то права на жизнь, собираясь воспрянуть в обновленном
виде». Этих выдержек достаточно, чтобы выяснить общее направление речи; для дальнейшей характеристики стоит прибавить, что оратор оканчивает ее радостным возгласом: «Наш же
догорающий X I X век осекся, — осекся на вопросе о происхождении жизни».
Прежде всего, рождается вопрос: чему же радоваться,
если б и действительно наука X I X века осеклась в каком-нибудь направлении? А затем является вопрос, точно ли наука
X I X века может нести ответственность зато, что наш защитник
витализма, в другом месте, на своеобразном языке своем, называет «козырем в руках виталистов»?
Спрашивается, наконец, что же такое случилось, какой
ряд новых открытий вынуждает науку отречься от ее векового
прошлого и принести покаяние? Ничего подобного, конечно,
не случияось; только три смелых человека: профессора Бунге,
1 От Д. И. Менделеева, говорившего о ней с нескрываемым негодованием. (Примечание добавлено к 4-му изданию. См. также письмо
А. О. Ковалевского Тимирязеву, помещенное в приложении к настоящему тому. Ред.)
Коржинский и Бородин — решились возвестить urbi et orbi,
что витализм воскрес.
Не буду касаться аргументов проф. Бунге, — они были
в свое время оценены компетентными судьями. Буду держаться,
как уже сказал, исключительно на известной мне почве физиологии растений. Это мне кажется и вообще более удобным,
по самому содержанию нашей науки. Здесь мы не имеем дела
с тем усложнением задачи, которое выступает чуть не на первый
план с появлением нервной системы и еще более с появлением
процессов психических. Наш защитник витализма, очевидно,
сам сознает, как невыгодно для него строго-научное обсуждение вопроса на точно ограниченной почве нашей науки, и потому
делает ничем не оправдываемые скачки в область высших психических явлений. Так, для большего убеждения своих слушателей, он два раза уверяет их, что противники витализма готовы объяснить механически даже гений Ньютона, и уже на
основании этого самовольно навязанного им легкомыслия позволяет себе даже следующее остроумие. Напоминая французское изречение «Nul n'est grand homme pour son valet
de chambre» *, он поясняет, что противники витализмю, в своем
отношении к природе, могут уподобиться этому лакею. Что ж,
любезность за любезность: если проф. Бородин заботливо предупреждает, что представителям того направления, которому
наука о жизни обязана всем своим содержанием, грозит опасность сделаться ее «лакеями», то виталистам, ничего для нее
не сделавшим, конечно, еще более грозит опасность сделаться
ее «джентльменами»... в смысле, который придавал этому слову
Франклин Ч
Итак, ограничимся при обсуждении вопроса исключительно
областью физиологии растений и не последуем за нашим защит1 Франклин, как известно, любил рассказывать следующий анекдот.
Его слуга негр несколько раз приставал к нему с вопросом: «Что такое
джентльмен?» Франклин, наконец, дал ему такое определение: «Это такое существо, которое ест, пьет, спит и ничего не делает». Через несколько
дней слуга говорит ему: «Хозяин, я знаю теперь, что такое джентльмен:
человек работает, лошадь работает, вол работает, одна свинья только
ест, пьет, спит и ничего не делает, — она, верно, и есть джентльмен».
* «Никто не бывает великим человеком для своего домашнего слуги».
Ред.
ником витализма на скользкую почву совершенно чуждых
науке соображений х .
Вопрос о витализме, на почве физиологии растений, сводится на вопрое о методе, которого должен держаться физиолог при исследовании жизненных явлений. Должен ли он видеть в растительных организмах и совершающихся в них процессах крайне сложные, в количественном смысле, комплексы,
которые ему удается тем не менее разложить на более простые
явления, известные и в сфере неживых тел? Или он должен
видеть в жизненных явлениях нечто совершенно отличное:
первичные элементарные явления, не разложимые на простейшие факторы, не подчиняющиеся законам, общим с неживою
природой? В первом случае к физиологическим явлениям остается только применить методы физических наук. Во втором
случае применять эти методы бесплодно, — это и есть основная
точка зрения всякого витализма.
Посмотрим, чем же оправдывается точка зрения ученых,
применяющих к физиологическим задачам метод физических
насук. Она верна и a priori, т. е. с общей, логической точки зрения, оправдывается и a posteriori — всею истор i r e i î j i а ук и.
Всякое объяснение основано на сравнении, и притом на сравнении более сложного с более простым. Более сложные физиологические явления мы, очевидно, можем сравнивать только
с более простыми явлениями физическими или ни с чем их не
сравнивать, оставлять без объяснения, ограничиваться их описанием, словесным их изображением, — это и предлагают одни
виталисты. Но, может быть, сравнивать можно сложное не
с простым, а с еще более сложным, например, физиологическое
явление с психическим? Этот путь также предлагается неови1 Если нельзя не пожалеть, что автор «Протоплазмы и витализма»
не предпочитает оставаться на почве физиологии и без нужды усложняет
дело скачками в область сложнейших психических явлений, то еще более можно пожалеть о том, что он заводит речь о «материализме шестидесятых годов», причем для большего вразумления поясняет: «да и не
в одной науке заметна эта перемена», и в обсуждении специально научного вопроса находит даже повод совершенно несправедливо глумиться
над «симпатиями нашего либерального лагеря». Наука никогда ничего
не выигрывала от приурочивания ее вековых задач к политическим настроениям минуты.
талистамн. Зачем будем мы искать физических объяснений для
фактов растительной жизни, — говорит С. И. Коржинский, —
когда стоит допустить, что растение — протоплазма — хочет,
помнит, — все объяснения в этом заранее даны. Неовиталисты,
кажется, серьезно думают, что выработали новую точку зрения, забывая, что уже древние олицетворяли почти любое
растение, а еще долго после того природа у метафизиков боялась пустоты. Но ни мифология, ни гилозоизм ни на шаг не
подвинули науки.
Итак, современный физиолог оправдывает применение к
жизненным явлениям методов физических прежде всего тем,
что другого пути для их объяснения не существует.
Но он далее доказывает, что физиология всею своею историей оправдала эту точку зрения. Все, что приобретено физиологией до сих пор, приобретено только благодаря приложению
к жизненным явлениям физических и химических методов исследования, благодаря распространению на них физических и химических законов. Я только что упомянул о физиологии Сенебье; она представляет нам любопытный памятник не только
того, чем была физиология сто лет тому назад, но чем она желала быть, чего она ожидала от успехов химии и физики.
Сенебье ждал всего только от физики и химии; на последней
странице своего пятитомного сочинения он говорит, что и написал-то его только для того, чтобы обратить внимание физиков
и химиков на эту новую область исследования 1 . О жизненной
силе, о витализме, не упоминает он ни одним словом 2. Здесь
кстати заметим защитнику витализма, который, в качестве
ultima ratio *, охотно бросает в глаза своим противникам упрек
в материализме, что этого Сенебье, так страстно искавшего
физического объяснения жизненных явлений, уже никак нельзя заподозреть в «материализме шестидесятых годов» или даже
1 Почти за столетие до Сенебье, Гельз дал свое исследование «О статике растений», очевидно, увлеченный примером Ньютона и Гарвея.
(Примечание добавлено к 4-му изданию. Ред.)
2 Правда, он считает невозможным объяснение происхождения растительных форм, но должно помнить, что это было за десять лет до появления «Philosophie Zoologique» Ламарка.
* Последний, решающий довод. Ред.
в материализме восемнадцатого века, продолжающем беспокоить профессора Бородина: он был скромный женевский пастор и подписывал свои произведения Jean Sénébier, ministre
du St. Evangile*. В конце своего трактата Сенебье приводит несколько desideranda, т. е. того, чего он ожидал от науки в X I X
столетии. Читая эти desideranda, можно лучше всего судить,
оправдало ли физико-химическое направление возлагаемые
на него в начале века надежды, и можно смело сказать, что не
только оправдало, но превзошло все ожидания.
Посмотрим, в чем же заключаются эти итоги века. Мы,
конечно, не можем вдаваться в частности, а рассмотрим эти результаты с точки зрения тех трех самых общих категорий,
в рамках которых всего удобнее укладывается вся совокупность
фактов растительной жизни. Все явления растительной жизни
можно рассматривать с троякой точки зрения: это или явления
превращения вещества, или явления превращения энергии,
или явления превращения, изменения формы.
По отношению к первой категории явлений, по отношению
к химизму растений, вспомним только, что еще в 1800 г. берлинская академия задавала на конкурс тему: химические элементы растения созидаются ли растением или поступают извне?—
и некто Шрадер в своем ответе доказывал, что они созидаются
жизненною силой. С той поры жизненной силе на этой почве
приходилось выносить поражение за поражением, пока не
оказалось, что вещество растения то же и его превращения
совершаются по тем же законам, как и вне организмов.
Еще новее успехи физиологии во второй области. Тем не
менее, в интересном очерке Пфеффера Studien zur Energetik
der Pflanzen * * , представляющем обзор растительной жизни
с динамической точки зрения, тщетно стали бы мы искать явлений, которые вынуждали бы допустить проявление какой-нибудь формы энергии, неведомой физикам. А между тем еще
в 1854 г. и даже позднее — в 1869 г. — Гельмгольтц, говоря
о соотношении растительного процесса с лучистою энергией
солнца, делал такую оговорку: «Во всяком случае я должен
заметить, что до настоящего времени мы не имеем опытов,
* Жан Сенебье. слуга св. Евангелия.
* * Этюды энергетики растений. Ред.
Ред.
из которых можно было бы заключить, что образующиеся при
этом химические силы соответствуют живой силе поглощенных
солнечных лучей, а пока мы не обладаем такими опытами, это
соотношение не может быть признано несомненной истиной».
Теперь мы уже обладаем такими опытами; мы знаем, где и как
происходит поглощение этой солнечной энергии; мы знаем, что
этому поглощению соответствует химическая работа; мы можем
даже приблизительно учесть этот приход и расход солнечной
энергии Ч
Впрочем, и сами виталисты, по отношению к этим двум
сторонам растительной жизни, считают, повидимому, свои
позиции окончательно потерянными, но здесь-то и обнаруживается вся несостоятельность современных виталистов в сравнении с крайностями, зато последовательными крайностями,
старых виталистов.
Старые виталисты не соглашались на дележ с химиками
и физиками, а просто изгоняли их из науки о жизни.
Проф. Бородин в одном месте своей речи категорически
заявляет: «неовитализм безусловно признает господство физики и химии в живых телах, подчинение последних силам
мертвой природы». Казалось бы, на том дело и кончается:
неовитализм отказывается быть витализмом; ведь, весь спор
в том только и заключается, что старый витализм, единственный
истинный витализм отстаивал независимость, непокорность жизненной силы и целым веком исследований доведен был до сознания бесплодности своих притязаний. Не будем, однако, торопиться и придавать значение этому, будто бы, чистосердечному
отречению неовиталистов,— это только диалектический прием,
чтоб отвлечь внимание. Перевертываем две страницы и встречаемся с заявлением диаметрально-противоположным. Обращаясь к развиваемому нами теперь аргументу, что верность
физического воззрения на жизненные явления доказывается
столетними успехами физиологии, проф. Бородин говорит:
«механики утверждали: что чем более развивалась
физиология,
1 Я имею здесь в виду свои исследования над усвоением углерода
и света растением. (Примечание добавлено к 4-му изданию. См. I и II гг.
и статью «Главнейшие успехи ботаники в начале X X столетия» в том«
VIII настоящего издания. Ред.)
22 К. А. Тимирязев, т. V
177
тем более удавалось сводить к физике и химии такие явления,
которые приписывались прежде
вмешательству
таинственной жизненной силы. Мне кажется вполне возможным, вместе
с Бунге, защищать то положение, что история учит нас прямо
противоположному».
И затем предъявляются два примера,
где будто бы физические объяснения оказались несостоятельными. Прежде чем перейти к рассмотрению этих примеров,
остановимся на этом очевидном логическом противоречии, так
как в нем особенно характеристично обнаруживается тактика
неовитализма.
Тактика эта заключается в том, чтобы спасти свое будущее отречением от всего своего прошлого. Он говорит: не станем
считать ваших прошлых побед и наших поражений; скинем
все это со счетов и начнем считаться с сегодняшнего дня;
поговорим о наших будущих победах и ваших будущих поражениях. Как же иначе объяснить себе это режущее слух противоречие: торжественно заявляется, что жизненная сила,
за эти 100 лет, отказалась от 2 / 3 той области, на которую предъявляла прежде права, и вслед затем заявляется, что история
учит обратному, учит бессилию, будто бы, физики и химии
сократить область жизненной силы? Под историей неовиталисты
разумеют, очевидно, не то, что все люди, не все прошлое науки,
а те задачи, которые стоят теперь на очереди и еще не разрешены
ею, как это и вытекает из примеров проф. Бородина. Он утверждает, что наука, будто бы, отказалась от объяснения движения
питательных веществ в растении на основании законов диффузии, и при этом ссылается на исследования над прохождением
веществ через протоплазматический слой клеточки. Но, вопервых, ни с каким прямым противоречием с законами диффузии и осмоса мы здесь не встречаемся, а только с усложнением
явления, вполне понятным при сложности условий. А главное —
пример выбран крайне неудачный. Путаница идей в этом
вопросе вызвана тем, что главный исследователь в этой области
(Пфеффер) предложил сначала ничем не доказанную теорию
полной непроницаемости плазмы, а затем, через несколько лет
показал совершенно обратное, так что в заслугах этого ученого
числятся два непримиримых открытия: доказательства проницаемости и непроницаемости протоплазмы. Другой пример
касается отсутствия удовлетворительной теории движения
воды в растении. Но проф. Бородину известно, каким продолжительным тормозом на пути здравой теории этого явления
была теория Сакса, авторитет которого он, однако, продолжает
отстаивать, — теория, представлявшая физический абсурд 1 .
Спрашивается, справедливо ли делать физическое направление
физиологии ответственным в недочетах науки, главным образом, объясняемых опрометчивым суждением одного ученого
и отсутствием знания физики у другого? Здесь уместнее было
бы вспомнить банальную, но порою очень верную, поговорку:
«законы святы, да исполнители супостаты». Законы физики
неповинны в том, что те, кто их не знает, применяют их вкривь
и вкось. Чем видеть в несовершенствах науки доказательство
несостоятельности общего ее направления, не лучше ли обратить свою критику на тех второстепенных научных деятелей,
которых мы слишком легко производим в авторитеты? Причину
отсталости некоторых сторон физиологии растений должно
искать именно здесь. Через несколько строк ниже разбираемого нами места, проф. Бородин соглашается с тем, что движение крови объясняется механически. Чем же объясним мы эту
аномалию, что для простейшего случая движения воды в растении не предложено еще вполне удовлетворительной теории?
Не лежит ли причина просто в том факте, что в физиологии
животных, от Гарвея до Людвига, этими вопросами занимался
длинный ряд гениальных, высокоталантливых и сведущих в физике людей, рядом с которыми физиология растений не могла
бы выставить равнозначущих имен а ?
1 Другим выдающимся по своим размерам трудом в этой области
является объемистое исследование Штрасбургера, писателя крайне плодовитого, но до той поры никогда не занимавшегося физиологией и едва ли
обладающего познаниями по механике и физике, необходимыми для разрешения предпринятой задачи. При всем том, я полагаю, ни один ботаник не согласится с проф. Бородиным, что мы не подвинулись в физическом объяснении многих сторон этого явления, чтобы оно представлялось теперь более загадочным, чем было когда-нибудь ранее, а в этом и
должен был заключаться его аргумент.
s На эту теневую сторону физиологии растений я уже имел случай
указывать (см. мою речь «Общественные задачи ученых обществ»). [См.
в настоящем томе стр. 51. Ред.) и с ней необходимо, прежде всего, счи-
12*
179
И, наконец, допустив, что не физиологи, а физиология
наткнулась на действительные противоречия с физическими
законами, следует ли искать объяснения этому противоречию
или ликовать по тому поводу, что физические законы оказались
неприложимыми? Два примера из той же области движения
воды в растении наглядно покажут, как осторожно следует
относиться к таким кажущимся противоречиям. Возьмем отрезок ветви живой пихты, соединим один его конец с каучукового
трубкой и будем под давлением прогонять через эту ветвь воду.
Пока давление будет слабо, истечение с другого конца ветви
будет обильно; усилим давление — истечение станет ослабевать. Скажем ли мы, что жизнь издевается над законами гидродинамики: одно и то же пористое тело легче пропускает воду
при слабом, чем при сильном давлении? Но обратимся к микроскопу, и мы узнаем, что по тем капиллярным трубкам,
по которым движется вода, местами расположены клапаны,
которые закрываются, когда давление достигает известного
предела. Другой пример. Всякий знает,что движение воздуха —
ветер — усиливает испарение воды с поверхности влажного
тела. Берем лист камнеломки; определяем, сколько он испаряет
в 5—10 минут; выставляем его на ветер, — оказывается, что
он начинает испарять слабее. Что ж, опять жизненная сила
подшутила над силами физическими? Обращаемся снова к микроскопу и узнаем, что испарение происходит через отверстия,
снабженные регуляторами, которые закрываются под влиянием
того же испарения. И здесь, и там одно физическое явление
интерферирует с другим. Вот в зтом-то бесконечно сложном
сплетении физических явлений должны мы искать причину
своих недоразумений, а не спешить приветствовать появление
на сцену какой-то неведомой жизненной силы. «Ne craignez
jamais les faits contraires, — сказал однажды на своей лекции
таться. Главную роль во всех недочетах экспериментальной физиологии
должно приписать тому факту, что за нее очень часто берутся морфологимикроскописты без всякой физиологической подготовки. Именно таким
самозванным физиологам должно приписать целый ряд обращающихся
в науке понятий, между прочим, и то объяснение физиологических явлений «свойствами протоплазмы», над которым так потешается проф. Бородин. Конечно, не физиологи-физики придумали такое объяснение,
а именно скрытые, или бессознательные, виталисты.
Клод Бернар, — car chaque fait contraire est le germe d'une
découverte» *. Явлением пертурбаций Урана астрономы воспользовались для открытия Нептуна. Виталисты не преминули
бы воспользоваться ими для того, чтоб усомниться в законах
Ньютона.
Итак, отдельными, хотя бы и более удачными, примерами
виталистам не удастся подорвать подавляющего свидетельства
истории, которое они сами подтверждают вынужденным отречением от 2 / 3 своих прежних притязаний. Неовитализм — это
только витализм, не помнящий родства; он надеется спасти
свое будущее только отречением от своего прошлого. Он надеется, что наука простит ему его постыдное прошлое, но не
скрывает при этом, что завтра же она встретит его на своей до-.
роге. Про Бурбонов, после реставрации, говорили, что «они
ничего не забыли и ничему не научились», — виталисты хотели
бы, чтоб их противники все забыли и ничему не научились из
уроков истории.
Переходим к рассмотрению третьей категории явлений растительной жизни — той, которая заключает явления изменения,
превращения формы. Растение не только воспринимает вещества и пользуется доступными ему источниками энергии, но
из этих веществ, на счет этой энергии, создает формы, способные, в свою очередь, к возможно совершенной эксплоатации
этого вещества, этой энергии. Таким образом, форма является
не только результатом, но и условием для дальнейшего осуществления тех же процессов питания и роста. Это с незапамятных времен обозначали термином целесообразности в строении
организмов.
В этом формообразовательном процессе мы можем рассмотреть отдельно его основной механизм и достигаемые им результаты. В основе формообразовательного процесса лежит, конечно,
процесс роста. Имеем ли какое-нибудь представление о механизме роста? Ни один ботаник, конечно, не станет утверждать,
что не имеем, хотя подробности этого процесса, в его усложнениях, могут представить еще много неразрешенного. Но заметим, что первая схема этого процесса дана всего 25 лет тому
* «Никогда не бойтесь противоречивых фактов, так
противоречащий факт есть зародыш открытия». Ред.
как каждый
назад в так называемых искусственных клеточках Траубе.
Я умышленно на это указываю, так как одно упоминание о них
приводит виталистов в негодование, а между тем, я могу засвидетельствовать, что таково именно было воззрение на них Гельмгольтца, отводившего им место в последних читанных им курсах
физиологии.
Еще недавно нам ничего не было известно о механической
причинности растительных форм, но вот, за последние десятилетия, неслышно, незаметно созидается совершенно новая отрасль науки: рядом с экспериментальною физиологией возникает экспериментальная морфология. Мы положительно научились непосредственно лепить растительные формы: мы можем
изменять формы стеблей, листьев, цветов; мы можем даже
изменять форму клеточек в глубине тканей, и все это при помощи простых физических деятелей — света, тепла, влажности,
земного притяжения. В некоторых случаях мы можем выяснить
себе даже ближайший механизм воздействия этих условий на
формообразовательный процесс. Этот громадный успех применения физических методов изучения, грозящий отвоевать
у жизненной силы и последнюю треть ее владений, где она,
казалось, могла долго уцелеть от натиска физики и химии, —
этот громадный шаг вперед науки о жизни наш защитник витализма обходит молчанием.
Но зато вновь, и, повидимому, с расчетом на успех, прибегает он к старому аргументу о невозможности, будто бы, дать
удовлетворительное объяснение для целесообразности получающихся форм. Он говорит, что мы должны признать в организмах существование «особого зиждительного начала, сознательно или бессознательно, но разумно пользующегося веществом и силами мертвой природы, направляя их действия к
известной цели — построению и сохранению организма». Но
ведь каждому натуралисту известно, что современная наука
устранила и этот аргумент витализма: на место неуловимого,
«сознательного или бессознательного, зиждительного начала»
она поставила вполне реальное понятие об историческом эволюционном процессе.
Знает это, конечно, и наш защитник витализма. Но что же
он делает? «Рассмотрение ответа механиков, — говорит он, —
завело бы нас слишком далеко, повлекло бы за собою критику
дарвинизма, так как именно принципы последнего выдвигаются
как нечто исключающее всякую необходимость в особом зиждительном начале в живых телах. Покинем лучше эту область»...
Таким образом, смело делается возражение, поясняется далее,
что это возражение устранено наукою, и затем мимо.
Мне кажется, одно из двух: или не предъявлять вовсе возражения, зная,что оно уже опровергнуто, или дать себе труд
опровергнуть это опровержение. А пока оно не опровергнуто,
я позволю себе его повторить лаконическими словами ученого,
которого в этих стенах мы привыкли считать авторитетом.
В своей знаменитой инспрукской речи Гельмгольтц выражается
так: «Дарвин внес в науку существенно новую творческую идею.
Он показал, что целесообразное строение организмов может
являться результатом действия естественных законов » 1 .
Очевидно, сознавая, что повторение уже устраненных возражений — плохой способ защиты витализма, его защитник
спешит покинуть эту область и перейти к своему главному
аргументу, к раскрытию того поражения науки X I X века,
которое заставляет его в конце своей речи радостно восклицать,
что она «осеклась». «Посмотрим, — говорит он, — не доставил ли самый ход естествознания в текущем столетии какоголибо оружия виталистам. Да, такое оружие, такой козырь
в руках их несомненно имеется».
1 Еще труднее понять, на какую категорию слушателей рассчитывал
проф. Бородин, произнося такую, по его мнению, ядовито неотразимую
фразу: «Кто же усомнится в том, что действительная механическая причина последовательных изменений, сопровождающих развитие цыпленка
из яйца, должна заключаться в реальном яйце, а не в мифической до-Адамовой истории курицы»? В этом усомнится всякий, кто слыхал что-либо
о неразрывной связи между филогенетическим и онтогенетическим процессом; но усомнится, конечно, и простой здравомыслящий человек,
который знает, что если свойства цыпленка зависят от свойств яйца,
то свойства яйца зависят от свойств снесшей его курицы. И тот, и другой
знают, что полное понимание истории цыпленка немыслимо без знания
истории его предков, как немыслимо полное понимание истории X I X века
без 8нания истории предшествовавших ему веков. Лаплас и Клод Бернар,
конечно, имели в виду не «мифическую историю», когда говорили об «état
antérieur», как причине современных явлений.
В чем же заключается этот «козырь»? Новейший защитник
витализма видит его в неудачных попытках открыть явление
самозарождения. В этой неудаче он видит торжество витализма
и поражение науки X I X века Г Но есть ли какой-нибудь повод
видеть в этих попытках что-либо типическое для науки X I X века, имеющее какое-нибудь отношение к тому распространению
на физиологию метода физических наук, против которого собственно и ополчается витализм?
Эта неудачная попытка и по основной идее, и по исполнению
является только отголоском седой старины. Человек, с самой
глубокой древности, трудно уже сказать, логически или наперекор логине, заключал, что на низших ступенях живых
существ «нить индукции должна порываться», что если все
высшие существа появляются от родителей, то простейшие
должны появляться самопроизвольно, — это вечный вопрос
о generatio spontanea, произвольном зарождении. С веками
менялся только масштаб простоты. Древние допускали самозарождение гадов и рыб, средние века подозревали в этом
мышей, затем подозрения переходили на мух, на инфузорий,
на дрожжи и, наконец, с семидесятых годов — только на бактерий. Но оказалось, что и эти последние происходят от предков. Спрашивается, есть ли какой-нибудь повод видеть в этой
последней неудаче поражение науки X I X века, и, прежде
всего, поражение того направления, которое к изучению жизни
приступает, вооружившись данными физических наук? Можно
ли видеть в ученых, искавших самозарождения, типических
представителей этого направления? Второстепенный зоолог
Пуше, еще менее известный Бастиан и совсем неизвестный,
только несколько месяцев заставивший о себе говорить, ВанГейзинг — вот те представители науки X I X века, которые виновны в том, что она «осеклась». Но дело не в именах, — может
1 По этому-то поводу проф. Бородин находит уместным глумиться
над «всем нашим либеральным лагерем с Писаревым во главе». По мнению проф. Бородина, либералы должны, будто бы, во что бы то ни стало,
отстаивать самозарождение, а так как в действительности эти «либералы»
не были настолько невежественными и недобросовестными, чтобы закрывать глаза перед очевидностью, то проф. Бородин срывает свой гнев на
них, восклицая: «Вот уже истинно своя своих не познаша!»
быть, идеи, которыми руководились эти искатели самозарождения, вытекали «из самого хода естествознания в текущем столетии»?
Я полагаю, очевидно, прямо противоположное. Бастиан,
получавший в X I X веке бактерий из репного настоя с гнилым
сыром, был в этом случае таким же эмпириком, как и ВанГельмонт, получавший в XVI веке мышей — из муки и грязного тряпья. По крайней мере мне неизвестны те химические
и физические законы, которые заставили бы оказать предпочтение зловонной смеси эмпирика X I X века перед неопрятною
смесью эмпирика XVI века. Поиски за произвольным зарождением в X I X веке логически ничем не отличались от тех же поисков в X V I веке: те и другие были равно далеки от основной
идеи, характеризующей науку новых времен. «Мыслить вечность» можно было так же успешно под синим небом Эллады,
как и под сереньким небом Берлина, но дать научное объяснение самому ничтожному факту можно только тогда, когда для
того приспеет время: наука — дитя времени Ч С этой идеей
не примирялись ни древность, ни средние века, смело бравшиеся
за разрешение задач, которые и теперь не под силу науке.
Одною из таких задач и был пресловутый вопрос о generatio
spontanea *. Современная наука не знает этих скачков; она
подвигается медленно и систематически. Она знает, что синтезу
должен предшествовать анализ явлений. Какой химик стал бы
теперь делать попытки синтеза белков, исходя из элементов,
когда еще не знает ближайшего состава этих белков? Задача современной физиологии исключительно аналитическая;
физиология разлагает сложные жизненные явления на их
простые начала. О синтетической биологии, о создании живых
тел, конечно, ни один серьезный физиолог и не мечтал еще.
1 Проф. Бородин, повидимому, с этим не согласен. Для уязвления
кичливой науки X I X века он объясняет в одном месте своей речи, что
современная атомическая теория —- «дар» философии древних, и по этому
поводу делает внушение современным естествоиспытателям за их будто бы
неблагодарное отношение к философии. Но кому же неизвестно, что
атомы современной химии не имеют ничего общего с атомами Лезкипа
и Демокрита? Это неоднократно.и очень обстоятельно было разъясняемо,
например, Науманом и Фехнеро,м.
* Самопроизвольное зарождение. Ред.
Итак, видеть в двух-трех смельчаках, заблудившихся среди
девятнадцатого века с идеями и приемами шестнадцатого, —
видеть в них представителей современной науки, а в их неудаче
приветствовать «осечку X I X века», едва ли справедливо.
И во всяком случае, эти неудачи не имеют ничего общего с тем
физико-химическим направлением науки, против которого восстает витализм 1 .
Очевидно, убедившись, что ему не удалось доказать так
громко возвещенного им «воскресения старушки — жизненной силы» и опровергнуть вековые успехи научного воззрения
на жизненные явления, наш защитник витализма спешит оговориться, что он «далек от мысли считать» «доказанным существование в живых телах особого жизненного начала», но желал
бы только довести сторонников физико-химического воззрения
на жизнь до сознания, что их воззрения, как и воззрения виталистов, — только догматы верования двух научных лагерей.
Признаюсь, ни в той, ни в другой точке зрения я не усматриваю
элементов веры. Защитники методов точных наук руководятся
не верою, а делают только строго-индуктивное заключение:
солнце встает каждый день, конечно, оно встанет и завтра;
этот метод оказывался успешным в течение целого века, конечно, он окажется таким же и впредь. В воззрениях виталистов,
отрекающихся от всего прошлого, я также не вижу почвы для
веры; это только смутная, злорадная надежда, — а может быть
завтра солнце и не встанет, а может быть наука, до сих пор вносившая всюду за собою свет, очутится завтра в темном тупике?
Я говорю: злорадная, потому что как иначе назвать это заключительное восклицание ученого, что наука X I X века «осеклась»?
Главная причина неустойчивости, внутреннего противоречия современного витализма заключается в его неискренности.
Как всякое учение, пережившее свой век, оно не решается высказываться до конца, предпочитая прикрываться вынужденными уступками духу времени. Вполне сознавая реакционный
1 Я
полагаю, излишне повторять, что неудачные попытки найти
самозарождение нимало не касаются современного эволюционного учения в биологии; утверждать противное — значило бы утверждать, что
историк не может изучать истории X V I I I века, пока не разрешит вопроса
о происхождении человека.
смысл своего учения, являющегося таким же тормозом науки
в будущем, каким оно было в прошлом, современные виталисты,
тем не менее, желали бы, чтоб их продолжали считать сторонниками прогресса. С этою целью наши новейшие защитники
витализма придумали даже свою теорию прогресса науки,
совершающегося, будто бы, путем периодической смены, какого-то прилива и отлива то научных, то виталистических
идей Ч Но, как известно, в результате прилива и отлива не получается поступательного движения; еще менее получается
оно в результате одного отлива. Движение же истинной науки
неизменно поступательное, а не топтание на одном месте. Наука,
конечно, встречает на своем пути трения, сопротивления со
стороны своих врагов, явных и тайных, но никогда еще истинные сторонники ее не проповедывали пользы периодически
повторяющегося попятного движения. Когда, например, гелиоцентрическое учение брало верх над учением геоцентрическим,
были, конечно, и убежденные защитники последнего, — настолько убежденные, что готовы были отправлять своих противников на костры. Но в рядах сторонников гелиоцентрического учения едва ли выступали такие
беспристрастные
ценители его, которые проповедывали бы, что для его «оздоровления», для его «исцеления от юношеских увлечений» полезно
было бы делать от времени до времени несколько шагов назад,
в сторону воззрения геоцентрического. Эту теорию прогресса,
путем периодически возвращающегося регресса, придумали
наши защитники витализма. По периодической системе, развиваемой проф. Бородиным, выходит, что возрождающийся
витализм представляет как бы возвращение к идеям натурфилософов, периоду же, заключающемуся между этими двумя
эпохами, соответствуют те именно десятилетия, о которых
Гельмгольтц, как мы видели, говорил, что в них наука о жизни
сделала более успехов, чем в предшествующие два тысячелетия.
Подведем итоги. Столетние успехи физиологии растений
превзошли самые смелые ожидания первых ее пионеров, которые, под влиянием общего воодушевления, вызванного открытиями Лавуазье, мечтали о том, какие результаты даст прило1
«Протоплазма и витализм», стр. 28, «Что такое жизнь», стр. 47-
жение этой молодой науки и физики к задачам физиологии.
Многое сделано; неизмеримо более остается сделать. Но все,
что сделано, сделано благодаря применению методов этих наук.
Каково же должно быть наше отношение к лежащей перед
нами области еще неисследованного? Скажем ли мы просто:
она нам неизвестна, но может быть исследована при помощи
тех единственных, нам известных методов, которые на вековом
опыте успели себя оправдать? Или будем мы постоянно обессиливать себя мыслью, что дошли до предела, за которым начинается таинственная область таинственной жизненной силы?
Выбор, конечно, не безразличен. От него зависит вся будущность науки. Положим, что, руководясь первым убеждением,
физиолог самоуверенно возьмется за непосильную задачу, —
какой же от этого будет вред? Наказание за излишнюю смелость
не замедлит последовать. Но его работа, хотя и отрицательная,
будет все же приобретением науки. Гипотеза же витализма никогда не была и по существу не может быть рабочею гипотезою.
Приступая к объяснению какого-либо явления, нельзя отправляться от того положения, что оно необъяснимо. Виталист,
как виталист, обречен на бесплодие. Принимаясь за работу,
он должен забыть свою доктрину. В этом чистосердечно сознался, это доказал всею своею интересною книгой первый
застрельщик нового витализма — Б у н г е . Торжество витализма заключается только в неудачах науки, торжество противоположного воззрения — в ее успехах. Приведу в подтверждение только следующее соображение. И Роберт Майер, и Гельмгольтц сообщают нам, что именно размышляя о жизненных
явлениях, как противники витализма, они пришли к своим
гениальным обобщениям. Если б они были виталистами, мир
не обладал бы законом сохранения энергии Ч Спрашивается,
могут ли люди науки относиться безучастно к вести о «воскресении» такого практически-вредного, по существу противунаучного учения?
4
1 По счастью, и не для одной только физиологии, они были самыми
убежденными, самыми горячими противниками витализма. Р. Майер
рассказывает, как в его время виталисты объясняли происхождение
животной теплоты наследственностью, той самой силой наследственности,
на которую возлагают столько надежд и современные виталисты.
J 88
Убедив себя заранее, что имеешь перед собой неразрешимую
тайну, желая найти оправдание для этого убеждения, лишаешь
себя того единственного стимула, который так прекрасно изображен в другой речи, произнесенной в двух шагах от того
места, где говорил проф. Бородин, и на следующий же день.
Вот заключительные слова этой речи:
«Здесь мы стоим, очевидно, на рубеже знания, за которым
открывается область неведомого, и дальнейшее движение в
ней, быть может, откроет новые, увы, еще большие трудности.
Едва ли, впрочем, уместен здесь возглас сожаления.
Кому удавалось в жизни, после трудов, усилий и сомнений, угадать, найти хоть крупицу общей истины, в науке или
в искусстве, тот помнит, какие светлые минуты переживал он.
Не тогда ли он жил лучшею частью своего существа?
В необъятной вселенной безмерно долгое время будут возникать для нас, один за другим, новые и нерешенные вопросы;
таким образом, перед человеком лежит уходящий в бесконечность путь научного труда, умственной жизни, с ее тревогами и наслаждениями».
Это говорит академик Бредихин 1 . Какою бодростью духа,
только подстрекаемого к борьбе возрастающими трудностями,
звучат эти слова, какою смелою уверенностью, что наука справится завтра со своими более сложными задачами, потому что
ее прошлое служит порукой за ее будущее\ И как отличается
это ясное, спокойное настроение уже немолодого астронома
от растерянности молодого защитника витализма, мечущегося
из стороны в сторону, то заверяющего, что он не противится
современному направлению науки, то пытающегося уверить,
что оно не оправдало возложенных на него надежд, ревниво
охраняющего свое право видеть кругом себя одну только неразрешимую тайну, и, ради этого, готового оспаривать действительные успехи науки, радоваться ее кажущимся неудачам.
Проф. Бородин заканчивает свою речь патетическим воззванием не смущать юные умы в наших аудиториях. Нет, мы не
будем их смущать; мы не будем их обессиливать каким-то расслабленно-пессимистическим, мистически-декадентским разоча«О физических переменах в небесных телах». Речь, читанная в публичном заседании Императорской академии наук 29 декабря 1893 г.
1
рованием в науке, для чего она не подает ни малейшего повода. Мы будем говорить им завтра то же, что говорили и вчера.
Мы скажем: вот что мы знаем, вот чего мы не знаем, а вот тот
единственный верный путь, с которого открываются все новые
горизонты знания, — это вековой путь, в начале и конце которого нам светят гении Лавуазье и Гельмгольтца.
1894 г.
YII
Л У И ПАСТЕР 1
1
Т
еория и практика, чистая наука и прикладная наука...
Как часто, чуть не на каждом шагу, приходится слышать
это сопоставление, причем, если указывающий на него
полагает, что его устами гласит житейская или государственная мудрость, то почти непременно высказывается за превосходство практического знания перед теоретическим, за преимущество прикладной науки перед чистой. А если это будет моралист, то он еще почтет своим долгом сделать внушение теоретику, эгоистически изучающему предметы, не имеющие прямого,
непосредственного отношения к общему благу.
1 Лекция, читанная К. А. в 1895 г. Первоначально была опубликована в «Новом Слове» (1895 г., № 2). В 1896 г. впервые вышла отдельной брошюрой в серии «Вопросы науки, искусства, литературы и жизни»,
изд. Гроссман и Кнебель (Москва). В 1918 г. переиздана Литературноиздательским отделом Народного комиссариата по просвещению под
названием «Значение науки (Луи Пастер)» с дополнительными примечаниями К. А. Ред.
И вот перед нами картина, до сих пор невиданная. Сходит
в могилу простой ученый, и люди — не только ему близкие,
не только земляки, но представители всех стран и народов,
всех толков, всех степеней развития, правительства и частные
лица — соперничают между собой в стремлении отдать успокоившемуся работнику последнюю почесть, выразить чувства
безграничной, неподдельной признательности. Если когданибудь слова: «благодарное человечество своему благодетелю»
не звучали риторической фразой, то, конечно, на могиле Луи
Пастера. А менаду тем, вся деятельность этого человека, словом
и делом, была одним сплошным опровержением этого ходячего
мнения о преимуществе практического знания перед теоретическим.
Уже одного этого достаточно для того, чтобы задуматься
над тем уроком, который можно извлечь из жизни этого гениального человека.
Жизнь ученого заключается в его трудах. О трудах Пастера
так часто рассказывали; в общих чертах они так доступны
всеобщему пониманию, что, я полагаю, нет образованного человека, который не имел бы о них хоть приблизительного представления, и потому я буду по возможности краток и попытаюсь, не придерживаясь строго хронологического порядка,
проследить логическую нить, проходящую через все его главные труды и сообщающую всей его деятельности совершенно
исключительную печать целостности и единства. Найдется
не много людей, к итогу деятельности которых можно было бы
так уместно применить французское выражение — l'oeuvre.
То, что потомство назовет l'oeuvre de Pasteur 1 , было, действительно, как бы одним слитным, непрерывным творческим актом,
имеющим единство и прочность монолита.
Луи Пастер, как известно, первоначально составил себе
громкую известность в научном мире, благодаря своим исследованиям в области химической кристаллографии; эти исследования открыли ему двери французской академии наук, где,
до конца своей жизни, он числился по секции минералогии,
несмотря на то, что уже почти с половины пятидесятых годов
Труд Пастера — в смысле всей совокупности его трудов. (Примечание 1918 г. Ред.)
1
Jlyu
Ласте
1822-1895
вступил в совершенно иную область — можно сказать, почти
созданной им новой науки — микробиологии. Все первоначальные его исследования группировались вокруг одной центральной идеи — зависимости между известными оптическими свойствами химических тел и их кристаллической формой. На этом
основании его считают родоначальником гораздо позднее явившегося, крайне плодотворного направления химии — так называемой стереохимии — химии в пространстве, объясняющей химические факты не одним качественным и количественным составом тел, но и группировкой их атомов в пространстве.
Эти исследования, между прочим, заставили Пастера остановить внимание на одном факте, определившем всю его последующую деятельность, сделавшую его имя достоянием уже не
одних ученых, а всего образованного и необразованного мира.
Исследуя раствор смеси двух весьма между собою сходных,
но отличающихся по своим кристаллическим формам, органических кислот, он заметил, что, разводя в этом растворе плесеневый грибок, он мог разрушить одну кислоту, сохраняя
другую. Этот факт взаимодействия между микроскопическим
организмом и средой, в которой он развивается, послужил
исходным пунктом всего стройного здания экспериментальной
микробиологии. Наблюдение это привело Пастера к изучению
явлений так называемого брожения.
Немного, может быть,
найдется в науке слов, которыми, в былое время, так злоупотребляли, как этим словом брожение; почти все, касающееся жизни
и организмов, а также всевозможные превращения веществ
приурочивались к брожениям, а вызывающие их тела назывались ферментами. Некоторым алхимикам сам философский
камень представлялся чем-то вроде фермента.
.
В исходе первой половины настоящего столетия, большинство ученых склонялось к мнению, высказанному еще в тридцатых годах Либихом, что брожения — это химические явления, вызываемые в самых разнообразных телах разлагающимися
белковыми веществами. Атомы разлагающегося белкового вещества приходят в какое-то движение; это движение сообщается
другим веществам, раскачивает, расшатывает их атомы, и вещества эти разлагаются. Это представление Либиха о каком-то
невидимом и неведомом движении, в своей простоте, должно
13 К. И. Тимирязев,
т. 7
193
быть, заключало в себе что-нибудь очень привлекательное,
так как даже много лет спустя немецкий ботаник Негели выступил с своим учением, существенно сходным с учением Либиха, и увлек многих ботаников.
Против этого-то воззрения Либиха вооружился Пастер.
Он выступил с теорией, что все процессы брожения не простые
химические явления, а результаты воздействия на бродящие
тела микроскопически малых живых существ — микроорганизмов. В целом ряде работ он провел свою мысль, применяя
ее к самым разнообразным случаям брожения — молочнокислому, маслянокислому, спиртовому, уксусному, и везде деятельным началом оказывалось живоб существо — дрожжевой грибок или бактерия. Тщетно пускал в ход Либих свое необычайное
остроумие и диалектику, Пастер теснил его по всей линии своими блестящими опытами, не допускавшими двух толкований.
Укажем, в виде примера, хотя бы на тот опыт, в котором он
доказал, что разлагающееся белковое вещество не может быть
причиной брожения, так как брожение обнаруживается и при
отсутствии всякого белкового вещества в окружающей среде, —
это его классический опыт, в котором дрожжевой грибок питался
на счет сахара, золы и аммиачной соли.
Итак, все самые разнообразные случаи брожения сводятся
к одному осязательному реальному явлению — развитию микроскопического организма. Но сами эти организмы, откуда
они берутся и действительно ли они представляют истинную
причину, а не сопутствующее явление? Проникают ли они
в бродящие вещества извне, или зарождаются в них, или из них?
Пастер сталкивается, таким образом, с вопросом, еще более
широким и темным, чем самое брожение: с вопросом о происхождении простейших микроскопических организмов. Интерес
этого вопроса как раз в это время возбуждался исследованиями
Пуше, доказывавшего существование самозарождения — generatio spontanea — различных микроскопических организмов.
Нигде, быть может, так ясно не обнаруживается характер
естествознания в половине девятнадцатого века, в сравнении
с тем, чем оно было в половине восемнадцатого, как в отношении науки к этому вековому вопросу.. Сопоставьте звучные,
округленные периоды, в которых, за сто лет, Бюффон, не стес-
няясь, размежевывал весь мир между существами самозарождающимися и рождающимися от родителей, сопоставьте эти
беспочвенные рассуждения с той строгой, исключительно экспериментальной почвой, на которую поставлен был вопрос в классическом исследовании Пастера, и вы вполне оцените, какие
громадные успехи сделал научный метод, научная логика.
В результате этого исследования, произвольное зарождение
микроорганизмов вычеркивается из числа возможных предположений. Везде, где наблюдается микроорганизм, он занесен
извне. Оказывается, что вполне во власти человека не только
вызвать, но и предотвратить любое из этих явлений брожения.
Стоит произвести посев или воспрепятствовать самосеву этих
простейших из наших культурных или сорных растений. Культурными мы можем считать те из них, которые человек, сам
того не подозревая, с незапамятных времен, разводил для того,
чтобы превращать, например, сусло в спирт, спирт в уксус;
сорными мы можем считать те из них, которые, проникая против нашей воли, изменяют течение этих процессов и дают нам
продукты не того качества, какого мы желаем. Как успешно
вести культуру этих невидимых существ, как бороться с ними,
когда они являются такими же невидимыми сорными растениями? Пастер задается этими вопросами, по отношению к производствам, в которых процесс брожения играет важную роль,
и в своих знаменитых «Etudes sur le vin» 1 и особенно «Etudes
sur la bière» 2 дает рациональную теорию этих производств
и научает, как разводить необходимые микроорганизмы, как
вести борьбу с вредными. Кто не слыхал о так называемой
«пастеризации» вин—процессе, который ограждает их от порчи, от целого ряда так называемых «болезней».
Мы произнесли слово, с которым непрерывно будет связана
вся дальнейшая деятельность Пастера. Если, известными мерами борьбы против микроорганизмов, мы можем оградить
от болезни вино, то не представляет ли это учение ключа к другой, неизмеримо более плодотворной борьбе — к борьбе с настоящими болезнями животных и человека. Если нет произволь1
2
13*
Исследования над вином. (Примечание 1918 г. Ред.)
Исследования над пивом. (Примечание 1918 г. Ред.)
195
ного зарождения, то, может быть, не существует и произвольного заражения. Эти бичи человечества, эти заразы, передающиеся от одного организма к другому, охватывающие целые
местности, разносящиеся в ширь и в даль — не будут ли это
те же невидимые существа, а результат их действия, — болезненные изменения в организмах животных и человека, —
только процессы, аналогические брожению. Этот невидимый,
но всюду проникающий заразный яд, не потому ли он страшен,
что он живой, что он растет и размножается?
Пастер останавливает свое внимание не сразу на человеке
или каком-нибудь крупном животном; он начинает с объекта,
в применении к которому строго научная постановка была гораздо легче осуществима.
Юг Франции страдал в то время от бедствия, грозившего
окончательным разорением целым местностям. Какая-то эпидемия истребляла шелковичного червя. Пастеру представлялся
случай изучить явление заразной болезни на сравнительно
простом, легко подчиняющемся строго экспериментальному
исследованию организме, к тому же находившемуся в неограниченном числе экземпляров. Тем не менее, потребовались годы
упорного труда для того, чтобы изучить болезни — их оказалось целых две — во всех их подробностях, проследить пути
заражения и наследственной передачи и найти средство, если
не прямой борьбы с эпидемией, то, по крайней мере, обеспечения промышленности здоровой греной. Болезни оказались
паразитарными, а пути заражения и передачи были путями
распространения микроорганизмов. Факт существования эпидемической болезни, вполне объясняемой присутствием микроскопического паразита и исчезающей с его удалением, был поставлен вне сомнения.
Тогда Пастер переходит уже к крупным животным и для
этого сразу избирает одну из самых страшных, почти безусловно
смертельных болезней, поражающих рогатый скот, а порой
и человека, — сибирскую язву. Выделив из крови зараженного
животного паразита, оказавшегося бациллом, он культивирует
его в других жидкостях, вне организма, вводит эти культуры
в организм здоровой коровы и вызывает ее заражение. Пастер,
таким образом, ставил вне сомнения паразитарный характер
этой заразы. Он показал далее, что этот бацилл, благодаря способности образовать особые органы размножения — споры,
упорно сопротивляется целому ряду условий, убивающих
вегетативные формы, чем ввел совершенно новый ряд соображений в учение об источниках заразности и способах обезвреживания подозрительных предметов. Он показал, как эти споры,
подобно семенам высших растений, могут сохраняться годами
в земле, где были зарыты трупы, как земляными червями они
могут выноситься на поверхность почвы, вызывая новый взрыв
эпидемии. Попутно показал он, как в опытах над сибирской
язвой можно смешать ее специфический бацилл с другими
не менее смертоносными микроорганизмами — бациллами гнилокровия. Словом, он пролил целые потоки света на вопросы
о механизме заражения, скрытом состоянии, новом возникновении и распространении такой типической и страшной заразы,
какова сибирская язва. Остановимся только на одном из опытов,
едва ли не самом поразительном из этой длинной серии. Пастер
заметил, что курам без вреда можно делать прививку этой
заразы, смертельной для более крупных животных и человека, и вскоре нашел поразительно простое объяснение этому
любопытному факту. Температура крови у птиц выше температуры животных и человека, погибающих от сибирской язвы.
Эта температура уже близка к той, при которой бацилл не может более развиваться. Представлялось вероятным, что курица
не заражается потому, что при температуре ее крови бацилл
сибирской язвы не может размножаться. Но Пастер никогда
не довольствовался вероятным объяснением: он признавал
значение только за полной несомненностью. Он взял курицу,
привил ей сибирскую язву и поставил ее ногами в холодную
воду, так что температура ее крови понизилась до 37°—38°.
На другой день она была мертва, и кровь ее переполнена бациллами. Но Пастеру и этого показалось мало; он берет другую курицу, заражает, охлаждает до тех пор, пока в ней появляются несомненные признаки заразы; тогда он ей дает отогреться, и курица остается живой и невредимой. Очевидно,
жизнь и смерть в его руках, и он распределяет их с такой уверенностью, как будто имеет дело с каким-нибудь простейшим
физическим опытом.
Но курице предстояло сыграть и не такую еще роль в деятельности этого гениального экспериментатора и в том перевороте в науке и в будущих судьбах человечества, который он
готовил в тиши своей лаборатории. Куры не заражаются сибирской язвой, но болеют другими болезнями, в том числе
одной, носящей название куриной холеры. При изучении этойто болезни Пастер встретился с фактом, который определил
все направление его дальнейшей деятельности. По остроумному
замечанию его биографа, «это была одна из тех счастливых
случайностей, на которые наталкиваются те именно ученые,
которые все делают, чтобы на них наткнуться». Микроорганизм куриной холеры можно также разводить вне организма
курицы, например, в бульоне, и ничтожной капли этого бульона достаточно, чтобы заразить и убить курицу. Каплей этого
бульона можно заразить новое количество бульона, каплей
этого бульона еще новое количество и так хоть до ста раз —
сотая культура будет так же ядовита, как первая, но под условием, чтобы между каждым последующим заражением проходило не более суток. Это — приготовление так называемого
постоянного яда, virus fixe. Но вот однажды Пастер, желая
привить курице холеру и нѳ имея под рукой свежей культуры,
взял простоявшую несколько времени в пробирке, заткнутой
ватой. Привитый яд оказался уже не смертельным; курица
поболела и выздоровела. Пастер повторял, умножал опыты,
и из них выяснилась возможность, по желанию, ослаблять
яд заразы — во всех желаемых степенях, от безусловной смертельности до безусловной безвредности. И средство, опять
крайне простое, состояло в том, что культуру в бульоне оставляли более или менее продолжительное время при доступе воздуха; чем долее она стояла, тем безвреднее становился яд.
Наоборот, если взять смертельно ядовитый бульон и сохранить
его в запаянном стеклянном сосуде, время не оказывает действия на его ядовитость. Это ослабление, притупление заразы,—
l'atténuation des virus, — конечно, величайшее из открытий
Пастера. Из него непосредственно вытекают все остальные. Пастер давно задумывался над фактом, что заразные болезни, вообще говоря, не повторяются, а также над возможностью посредством прививки оспы оградить человека от естественной оспы.
Почему бы не распространить этой прививки и на все заразные
болезни? Теперь представился первый случай проверить возможность этого обобщения. В его власти привить курам virus
atténué, вызывающий только слабое расстройство организма,
и вслед затем virus fixe — в его безусловно смертельной форме.
Опыт блистательно оправдал ожидание: куры, которым предварительно была привита зараза ослабленная, оказались затем почти нечувствительными к заразе смертельной. Прививка
оказалась приемом, распространимым на заразные болезни
вообще.
Здесь необходимо тотчас же оттенить, подчеркнуть коренное различие между открытием Дженера и открытием Пастера.
«Если Дженер открыл отдельный факт, — говорит профессор
Транше, — то Пастер открыл общий метод», — метод, применимый ко всем случаям и вполне подчинивший яд заразы власти
человека. Возьмите самый ядовитый микроорганизм известной
заразной болезни, ослабьте культурой его ядовитость до желаемой степени, привейте его животному, и вы обеспечите его
от заражения этой болезнью. В первый раз была открыта тайна
превращать, по желанию, смертельный яд в противоядие.
Пастер предложил назвать все такие прививки противоядия,
по примеру оспы, вакциной.
Вооруженный этим бесценным методом, Пастер возвращается
к сибирской язве, но на этот раз уже не затем, чтобы ее изучать,
объяснять пути ее распространения, а затем, чтобы вступить
с ней в борьбу. Но здесь, с первых же шагов, встречается непреодолимое препятствие. Прием, выработанный над заразой
куриной холеры, оказывается здесь неприменимым. Если оставить несколько дней культуру бацилла сибирской язвы, то
он образует споры, а эти споры сохраняют свою первоначальную ядовитость. Но Пастер был не из тех людей, которые останавливаются перед препятствием. Вскоре он нашел исход.
При температуре 42—43° эти бациллы уже не производят спор,
но еще размножаются, а если их заставить развиваться в той же
среде и при доступе воздуха, то заразительность их ослабевает,
притупляется. Уже на втором примере, путем многочисленных
лабораторных опытов, убедился Пастер в верности своей
теории: зараза не представляет из себя чего-то всегда себе рав-
ного; напротив, это нечто такое, ядовитость чего можно, по желанию, понижать и, прививая этот притуплённый яд, оберегать
организм от заражения его более грозной, смертельной формой.
Только теперь решился Пастер покинуть свою лабораторию,
выйти на улицу или, вернее, в поле и явить сомневающейся
толпе знаменье своей научной мощи. Это был его навеки знаменитый опыт в Пулье-ле-Фор, весной 1881 г. Получив в свое
распоряжение стадо овец в 50 штук, он сделал 25 из них несколько предварительных прививок
ослабленной заразы.
31 мая, в присутствии многочисленных и в большинстве скептически настроенных зрителей, он привил всем 50 овцам сибирскую язву в ее самой смертельной форме и пригласил всех
присутствующих вернуться через 48 часов, объявив вперед,
что 25 животных они застанут уже мертвыми, а 25 других целыми и невредимыми. Даже друзья его были испуганы его самоуверенностью. Но пророчество исполнилось буквально. Собравшимся в Пулье-ле-Фор 2 июля представилась такая картина: 22 овцы лежали мертвыми, две умерли'у них на глазах,
а третья к ночи; остальные 25 были живы и здоровы. Скептицизм врагов, опасения друзей уступили место взрыву безграничного восторга. И действительно, с тех пор, что свет стоит,
конечно, не было видано ничего подобного. Представим себе,
что когда-нибудь в темные века, предшествовавшие той заре,
которая занялась над обновленным человечеством в шестнадцатом веке, какой-нибудь человек в одежде мага или кудесника
объявил, что простым прикосновением к живому существу он
может, по желанию, или спасти его, или обречь на быструю
мучительную смерть, — а ведь на то, чтобы скрыть в рукаве
небольшой шприц, потребовалось бы немного ловкости, —•
и можно легко понять, какое впечатление произвело бы это
чудо на окружающих. Но современный адаг не прятал своего
шприца в широких складках своей одежды, и разочарованные охотники до чудесного, поговорив несколько дней об этом
действительном чуде девятнадцатого века, вернулись к своему
столоверчению, вызыванию духов и знахарству. Прививка сибирской язвы стала таким заурядным делом, что теперь, без
малого через пятнадцать лет 1 , уже никого более не удивляет.
1
Лекция читана в 1895 г. (Примечание 1918 г.
Ред.)
Пастер тем временем шел вперед по раз намеченному пути.
Уже давно желал он проверить истинность своего учения не на
червяке, курице или овце, а на самом царе природы. И для
этого он снова избрал самую ужасную, самую безнадежную
из болезней, одна мысль о которой приводит в содрогание —
бешенство. Разъяснить причину водобоязни, условия ее передачи, словом, повторить то же, что уже было сделано в других случаях, — вот с чего приходилось снова начинать.
Но с первого же шага, и в первый раз, из рук Пастера выскользнула, оборвалась та ариаднина нить, которая неизменно
вела его по лабиринту этих темных явлений. Микроба бешенства не оказалось, несмотря на все поиски; не найден он, кажется, и до сих пор. Но Пастер не останавливается перед этим
препятствием, которое в глазах всякого другого ученого могло
бы показаться непреодолимым. Путеводного нитью впредь
ему будет уже не присутствие микроба, а столько раз испытанный экспериментальный метод. Найти вместилище заразы
в организме и это нечто подвергнуть опытному исследованию,
пока не найдутся условия, при которых ослабляется его ядовитость. После долгих исследований обнаружилось, что главным вместилищем заразы должно считать нервную систему,
мозг головной и спинной и нервные стволы. Кусочек нервной
ткани, разведенный бульоном и введенный посредством шприца,
вызывает неминуемое заражение. Но как ослабить его ядовитость, пока не найдено микроба, который можно было бы культивировать? После долгих поисков Пастер находит это средство. Стоит тщательно отпрепарировать мозг зараженного
животного, подвергнуть его со всеми необходимыми предосторожностями высушиванию, и, по мере высыхания, он будет
утрачивать свои заразительные свойства, пока их вовсе не утратит. Привитый собакам, этот ослабленный яд делал их невосприимчивыми к яду сильнейшему и непосредственному укусу
бешеным животным. Как и в сибирской язве, предварительная
прививка была осуществлена. Но, прежде чем применить ее
к человеку, нужно было сделать еще один шаг, совершенно
новый и в экспериментальном и даже в логическом отношении.
До сих пор шла речь о прививках предохранительных, предупреждающих заражение и ему предшествующих. Но разве
можно было бы применить ее ко всем людям, как в оспе, и ждать
последствий. Случайность быть укушенным бешеным животным, по счастью, так мала, что едва ли можно было рассчитывать на такую смелую предусмотрительность. А привить себе
ослабленный яд бешенства и затем дать себя искусать бешеной
собаке, — у кого же достало бы на то самоотвержения. Пастер
нашел и на этот раз совершенно новый, смелый, поистине гениальный прием, — прием также предохранительной, но не
предшествующей, а последующей прививки. На возможность
такого приема наводило открытие нового свойства зараз. Переводя заразу бешенства из одного кролика в другого, Пастер
мог заметить, что скрытый инкубационный период заразы мог
более и более сокращаться; наконец, он был им сведен на семь
дней. Так как у людей скрытое состояние длится не менее месяца или шести недель, то можно было надеяться, в догонку
этому медленному, но смертельному яду послать яд ослабленный, но с более быстрым течением заражения. Он опередит
этот сильный яд и подготовит организм к его приему, сделает
этот организм неуязвимым. Проверенная на собаках, эта
гениальная мысль оказалась совершенно верной: последующие прививки оказались таким же верным средством борьбы,
как и прививки, предшествующие заражению. Открыто было
средство уже не предупреждения, не охранения, а прямого
излечения от самой страшной из зараз.
Тогда наступил самый решительный, самый торжественный
момент в жизни Пастера, — момент, когда ему пришлось доказать уверенность в своем учении, рискнув применить открытое им излечение уже на человеке. Рассказывать ли драматические подробности двух первых опытов над маленьким Мейстером и подростком Жюпилем? Они, я полагаю, еще свежи в нашей памяти. Торжество Пастера было полное. Первые пациенты,
им спасенные, были так жестоко искусаны бешеной собакой,
что, производя над ними опыт, Пастер, казалось, мог бы успокоить себя мыслью, что делает эксперимент над людьми, фактически обреченными на смерть. Но только близкие к нему люди
знали, какою ценою было куплено это торжество. Какие подъемы надежды, сменявшиеся приступами мрачного уныния,
какие томительные дни и мучительные бессонные ночи перенес
этот уже немолодой, истощенный трудами и болезнями человек, между 4 июля, когда профессор Транше, вооружившись
правацовским шприцем, в первый раз привил живому человеческому существу яд бешенства, на этот раз превращенный
в противоядие, и 26 октября, когда Пастер, выждав все сроки
возможной инкубации, в своей обычной скромной форме сообщил Академии, что излечение от бешенства уже совершив- ,
шийся факт. Всем памятен тот взрыв всеобщего восторга,
который пронесся из края в край образованного мира при слухе,
что самая страшная из болезней побеждена наукой.
Это был кульминационный пункт научной деятельности Пастера и его славы. Имя его стало достоянием всех людей, как
ценящих науку, так и равнодушных к ней. Выражением всеобщего увлечения его открытиями явилась международная
подписка на постройку достойной его лаборатории— этого
знаменитого Пастеровского института, которому суждено играть такую роль в будущих судьбах созданной Пастером новой
науки.
Нужно ли подводить итог; нужно ли указывать на строгое
логическое развитие этого стройного учения, выражающегося
четырьмя словами, которым соответствуют четыре последовательные стадии развития одной и той же мысли: брожение,
зараза, ее предупреждение и врачевание.
2
Я нарочно пытался изобразить эту удивительную деятельность в возможно сжатой, почти схематической форме, чтобы
выдвинуть вперед ее поразительное единство и естественное
развитие, но такой умышленно сжатый очерк всегда грешит
с двух сторон1. Во-первых, дело представляется как-будто
очень простым: за блеском успеха остается невидимым почти
1 Тем,
кто пожелал бы познакомиться с деятельностью Пастера
подробнее, можно рекомендовать две брошюры: Дюкло «Пастер. Брожение и самозарождение». Москва, 1897 г. Дюкло. «Пастер. Заразные
болезни и их прививка». Москва, 1898 г. Дюкло — ученик и преемник
Пастера. Перевод под моей редакцией. (Примечание 1918 г. Ред.)
1
невероятный, колоссальный труд; остается скрытым тот, на
каждом шагу проявляющийся, неистощимый запас изобретательности и находчивости, преодолевающей все препятствия
и превращающей длинную вереницу исследований в какое-то
непрерывное победоносное шествие. С другой стороны, целое
научное направление, полувековые плоды науки являются
как бы исключительным делом одного человека, деятельность
которого представляется чем-то уже сверхчеловеческим. Будь
все то, что мы перечислили, завоеванием одного человека,
зародись все эти мысли в одной голове, перед нами было бы явление, которому трудно было бы подобрать аналогию. Беспристрастный историк, — и в этом он последует прежде всего
примеру самого Пастера, с крайней добросовестностью разыскивавшего и указавшего своих предшественников, — беспристрастный историк, конечно, отметит, что учение о зависимости брожения от микроорганизмов, определенно высказанное
Каньяр-Латуром, было блистательно доказано Гельмгольтцем;
что несостоятельность предположения о самопроизвольном
зароягдении была убедительно доказана Шванном; что мысль
о связи заразных болезней с присутствием бактерий задолго
до Пастера нашла себе горячего защитника в Генле, что, наконец, Райе и Давен очень точно доказали паразитарный характер сибирской язвы. Упоминая об этих фактах, уменьшаем
ли мы хоть сколько-нибудь заслугу Пастера? — Нимало. Все
эти проблески мысли, вспыхивавшей и потухавшей, не оставляя
по себе прочного следа, только выдвигают вперед все значение
Пастера. Дарвин, в одном месте своей автобиографии, говоря
о некоторых своих открытиях, которые были потом приписаны
другим ученым, замечает: повидимому, недостаточно высказать
новую идею, нужно еще высказать ее так, чтобы она произвела
впечатление, и тому, кто этого достиг, принадлежит по праву
и главная честь. Генле был убежден в паразитарной теории зараз, но, видно, не умел доказать ее ни себе, ни другим, так как
его мысль чуть ли не двадцать лет оставалась без плода. Все,
что высказывал Пастер, вынуждало на согласие. А это происходило оттого, что он не только высказывал идеи, но и создал
новый метод и, при помощи этого метода, превращал идею в неотразимый факт.
Эту, им созданную, новую науку обыкновенно называют
бактериологией и совершенно неправильно, потому что она
обнимает круг существ, не исчерпывающихся одними бактериями. Вернее было бы ее назвать хоть микробиологией
Существование этих микроскопических растений коренным образом
отличается от существования высших организмов. При изучении высших существ, растений и животных, мы изучаем
их самих и действия на них той среды, в которой они существуют.
Их воздействие на среду сравнительно не важно. Наоборот,
в жизни этих микроорганизмов чуть не на первый план выступает именно их воздействие на обитаемую ими среду, откуда
становится понятным тот, с первого взгляда парадоксальный,
факт, что мы знали действие этих существ, когда еще не знали
их самих. Эти действия — брожения и заразные болезни. Пастер создал метод для изучения этих невидимых существ и их
воздействия на ту среду, которая им служит почвой, будет
ли то бродящая жидкость или тело человека. Он показал, что
над этими бесконечно малыми и над такими бесконечно сложными объектами, какими являются зараженные ими животные,
мы можем экспериментировать с такой же точностью и уверенностью относительно получаемых результатов, как в какомнибудь простейшем физическом или химическом опыте. Вот
в чем его главная сила. И в этом смысле, к чему бы ни привела
наука будущего, как бы ни изменились ее задачи, она будет
итти по открытому им пути.
Какому же выдающемуся качеству этого могучего ума,
какой его faculté maîtresse 2, как выразился бы Тэн, следует
приписать главную тайну его успеха? Самой • выдающейся его
особенностью была не какая-нибудь исключительная прозор1 Если гнаться за точностью, то и это название, конечно, не верно.
Попытаемся точнее определить границы деятельности Пастера. Он изучал не биологию, а скорее физиологию, микрофизиологию и притом микрофизиологию исключительно растительных организмов, следовательно,
микро-фитофизиологию. Наконец, и в этой области он ограничился исклю- ,
чительно организмами из класса грибов...Следовательно, микро-микофизиология — вот единственный термин, который точно обозначил бы область новой науки. Едва ли, впрочем, за ней когда-нибудь сохранится
такое педантическое название.
а Преобладающая способность.
(Примечание 1918 г. Ред.)
ливость, какая-нибудь творческая сила мысли, угадывающей
то, что сокрыто от других, а, без сомнения, изумительная его
способность, если позволительно так выразиться, «материализировать» свою мысль, выливать ее в осязательную форму
опыта, — опыта, из которого природа, словно стиснутая в
> Тисках, не могла ускользнуть, не выдав своей тайны.
Это был гений или само воплощение экспериментального
метода. Вся деятельность его была блестящим опровержением
тех знаменитых, так часто упоминаемых и подвергавшихся
;
многочисленным толкованиям слов Гёте:
Geheimnissvoll am lichten Tag
Lässt sich Natur des Schleiers nicht berauben,
Und was sie deinem Geist nicht offenbaren mag,
Das zwingst du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben 1 .
В этих словах выражалось целое миросозерцание, в основе
враждебное экспериментальной науке; в них высказался, как
известно, не столько Гёте Фауста, сколько Гёте Farbenlehre 2 ,
Гёте, убежденный, что своим умственным оком, обращенным
на природу, как она есть, он проник в сущность явлений света
гораздо глубже, чем Ньютон, пытавшийся вымучить у природы
ее тайну в темной комнате, при помощи какой-то призмы и узкой щели. Известно, что философ Шопенгауэр похвалялся тем,
что один из первых оценил это превосходство Гёте перед Ньютоном, а другой мыслитель, Карлайль, презрительно хохотал
при мысли, что какие-то математики могут быть судьями над
Гёте. А между тем, почти за двести лет до Гёте, был ему дан
прямой ответ, была высказана точка зрения, прямо противоположная той, которая выражена в его звучных стихах. «Occulta naturae magis se produnt per vexationes artium, quam cum
cursu sua meant», говорил еще Бэкон в Novum Organum. «Тайны
Средь бела дня полна таинственными снами
Не даст тебе природа покров с себя сорвать,
И то, что разуму сама не может передать,
Тебе не выпытать у ней ни рычагами, ни тисками.
1
(Примечание 1918 г. Ред.)
Учение о цветах. Научное сочинение Гёте, в котором он думал опровергнуть учение о цветах Ньютона. Доказано, что его собственное учение было основано на грубой ошибке поспешно сделанного опыта. (Примечание 1918 г. Ред.)
г
природы успешнее выпытываются искусством, чем при наблюдении естественного ее течения». И еще ранее во втором своем
афоризме: «Nec manus nuda пес intellectus sibi permissus multum valet; instrumentis et auxiliis res perficitur» — «Невооруженная рука и разум, себе самому предоставленный, немногого
стоят. Все достигается при помощи орудий и иных пособий» Ч
Пастер показал, чего можно достигнуть при помощи этих
ненавистных Гёте Hebeln und Schrauben 2 , и если кто желает
поучиться этому величайшему из искусств, искусству допрашивать природу и выпытывать ее тайны, над которым глумился Гёте, тот найдет в трудах Пастера редко досягаемые образцы
экспериментальной логики — этой логики в действии. А те,
кто все еще полагают, что intellectus sibi permissus 3 может
с пользой громоздить системы над системами и, в витиеватых
или неуклюжих периодах, что угодно опровергать, что угодно
доказывать, — пусть поучатся у него, что значит, на языке
точной науки, это слово доказать. Вот один из его заветов ученикам: «Не высказывайте ничего такого, чего не можете до- \
казать
перед духом критики. С
щй~и~не побуждает
к великим делам. Но без него ничто не прочно. За ним всегда
остается последнее слово. Это требование, которое я вам предъявляю, а вы предъявите своим ученикам — самое тяжкое,
какое только можно предъявить исследователю, делающему
открытия».
«Быть уверенным, что открыл важный научный факт, гореть лихорадочным желанием оповестить о том весь свет и сдерживать себя днями, неделями, порой годами; вступать в борьбу
с самим собою, напрягать все силы, чтобы самому разрушить
плоды своих трудов и не провозглашать полученного результата, пока не испробовал всех ему противоречащих гипотез —
да, это тяжелый подвиг».
«Но зато, когда после стольких усилий достигаешь полной/1
1 Бэкон разумел здесь и орудие логическое — индукцию.
Пастер
неоднократно заявлял, что в своих исследованиях он пользуется исключительно этим оружием.
2 Рычагов и тисков.
(Примечание 1918 г. Ред.)
3 Разум, себе самому предоставленный. (Примечание
1918 г. Ред.)
достоверности, испытываешь одну из высших радостей, какие
только доступны человеческой душе».
В этих словах кроется вторая тайна успеха этой, почти беспримерной по своим плодам, научной деятельности. Этот гений экспериментального метода отличался трудолюбием, упорством в труде, почти превышающим всякое вероятие. За какиминибудь несколькими строками в Comptes rendus 1 , где он возвещает о своих открытиях, скрываются сотни, порой тысячи
опытов. Вот еще один распространенный предрассудок, уничтожаемый примером этого необыкновенного человека, — предрассудок, будто талант и трудолюбие не идут рука об руку.
Ренан, в речи по случаю приема Пастера во французскую академию, превосходно освещает эту сторону научного характера
Пастера. Он начинает с той каррикатуры, в которой Жозеф
де-Местр 2 , этот фанатический, исступленный ненавистник
прогресса и науки, изображает современного ученого. «В кургузом платьишке... с томами и инструментами под мышками,
бледный от трудов и бессонных ночей, весь забрызганный чернилами, задыхаясь, плетется он по дороге к истине, уткнув
в землю свое лицо, испачканное алгебраическими знаками...»
«Как хорошо», восклицает Ренан, «что вас не остановила эта
дворянская брезгливость! Природа сама не аристократка (1а
nature est roturière); она требует, чтобы трудились; она любит
мозолистые руки и делает свои откровения только челу, изборожденному морщинами».
Один из его учеников сообщает, что Пастер в эпоху самых
плодотворных своих исследований имел обыкновение вечером,,
после своих дневных трудов, долго еще ходить взад и вперед
по коридору Ecole Normale 3 , взвешивая в уме полученные
результаты, обдумывая завтрашние опыты. В одну из таких
прогулок ученики, следившие за ним из-за угла, могли подслушать, как, внезапно остановившись и как бы не в силах
сдержать себя, он пробормотал вслух: «Que c'est beau!.. Que
1 Журнал, в котором он помещал первые известия о своих открытиях.
(Примечание 1918 г. Ред.)
2 Клерикальный писатель начала X I X
века. (Примечание 1918 г.
Ред.)
3 Высшее училище, где он работал и учил. (Примечание 1918 г. Ред.)
c'est beau!» — и через минуту: «Il faut travailler» 1 . В этих двух
фразах, почти междометиях, сказался весь Пастер. «Едва ли, —
говорит тот же ученик, — существовал когда-нибудь ум более
страстный и в то же время более терпеливый». Овладевшая им
мысль приводила его в состояние какого-то экстаза, даже по
ночам, во сне, он нередко вскрикивал, и прислушивавшиеся
могли смутно разобрать, что он бормотал какие-то научные
термины. Но чем увлекательнее казалась ему зародившаяся
идея, тем строже он к ней относился, сознавая, что недостаточно
бросить в мир счастливую мысль, — необходимо прежде еще
облечь ее в форму неопровержимого факта.
Изложение у Пастера, как письменное, так и устное, отличалось замечательной безыскусственностью и простотой — как
бы умышленной заботой об отсутствии всякого эффекта. Живо
помню, как летом 1877 г. мне привелось слышать одно из его
замечательных сообщений в Парижской академии. Это был
один из интереснейших и знаменательных моментов в его деятельности. С различных сторон, вдруг как будто по сговору,
стали всплывать возражения против верности не только его
теории, но и самых фактов, на которые она опиралась. Какой-то
туман стал заволакивать только что выяснившееся учение о паразитарном характере зараз. Серьезные фактические возражения были предъявлены против верности наблюдений Давена
над сибирской язвой, служивших точкой отправления и для
Пастера. Поль Бэр, посредством нового приема, заключавшегося в действии сгущенным кислородом, казалось, несомненно
доказал, что яд сибирской язвы не живой, не организованный;
наконец, Бастиан, в ряде любопытных опытов, через пятнадцать лет после поражения Пуше, смело вновь выступил защитником явления самозарождения. Все здание, составившее
прочную славу Пастера, казалось, шаталось в своем основании.
Пастер выступил перед академией с докладом о результатах
своих новых исследований над сибирской язвой. Он разъяснил,
что все показания, противоречащие исследованиям Давена,
происходят оттого, что явления заражения сибирской язвой
смешивают с септицемией, — гнилокровием, зависящим от
1 «Какая
прелесть..!
(Примечание 1918 г. Ред.)
14
К. Л. Тимирязев,
т. V
Какая
прелесть!..
Теперь
надо
работать!»
209
другого микроба, через несколько часов после смерти животного уже вытесняющего бацилла сибирской язвы. Он показал,
что этот бацилл образует споры, относящиеся совершенно
иначе к внешним деятелям, чем вегетативные формы, и этим
объяснил наблюдения Поля Бэра и Бастиана, и так далее,
и так далее. По мере того, как он говорил, туман, нависший над
вопросом, все более и более рассеивался, противоречивые наблюдения получали совершенно новое освещение, из возражений они превращались в факты, находившие место в его теории, в качестве разъяснений или дополнений. Когда, после
почти часовой речи, он опустился в свое кресло, для всякого
понимающего дело было ясно, что его учение было в эту минуту
более сильно, чем когда-либо. И все эти исследования, стоившие усидчивых трудов, требовавшие совершенно особенной проницательности, в деле для него тогда почти новом, были рассказаны так просто, так непритязательно, что если бы не напряженное почтительное внимание, с которым слушали его
товарищи-академики, и какой-то возбужденный трепет ожидания, пробежавший в публике при словах: «Пастер встал! Пастер
говорит!» — поверхностный наблюдатель мог бы подумать, что
это делает сообщение какой-нибудь заурядный ученый и по
вопросу, интересному разве только для одних ветеринаров.
Замечательно было также отношение Пастера к своим противникам. Близко его знавшие рассказывают о каких-то «fureurs de monsieur Pasteur» 1 — о приступах неудержимого гнева,
вызывавшихся сомнениями в верности его исследований.
Но, вероятно, он давал время улечься этим вспышкам, так как
в полемиках с такими, выходившими за пределы приличий,
возражателями, как, например, Брефельд, он воздерживался
от всяких резкостей и только презрительно давил своего соперника неотразимой убедительностью своих фактов. И нельзя
сказать, чтобы его терпение не подвергалось испытанию: ему
[, приходилось бороться, отстаивая почти каждую из своих идей.
Стоит вспомнить презрительно самонадеянные отзывы Коха
о пастеровских прививках, сводившиеся к тому, что «трудно
им поверить — слишком уже это было бы хорошо», или постояи1
«Вспышки ярости господина Пастера». (Примечание 1918 г.
Ред.)
ное враждебное отношение нескольких его коллег по медицинской академии, по словам некоторых его биографов, отозвавшееся даже на его здоровье.
Пастер, как мы сказали, не был охотником до фраз, и потому тем более необходимо остановиться на одной фразе, лежащей, если не ошибаюсь, главным образом на ответственности
его зятя-биографа, несколько раз возвращающегося к ней
в своем прекрасном рассказе; фраза эта повторялась потом
и некоторыми его поклонниками, как одно из положений научного profession de foi 1 великого ученого. А между тем, она может привести только в недоумение всякого знакомого с духом
истинной науки. Эта фраза о пользе, будто бы, в деле научных
исследований «предвзятых идей» — «des idées préconçues». Едва
ли в этом выражении мы можем видеть что-либо иное, кроме
не совсем удачной игры слов, тем более предосудительной, что
Пастер, как член Académie Française 2 , да еще занявший кресло
Литтре % должен был заботиться о чистоте и точности французского языка. Предвзятая идея, в общепринятом смысле
этого выражения,это •— не просто мысль, предшествующая,
предпосылаемая всякому опытному исследованию и без которой
оно, из систематических поисков за истиной, превратилось бы
в какое-то блуждание в темноте и наудачу. Предвзятая идея
это — мысль, не вытекающая прямо из условий изучаемого
явления, а навязываемая извне, мысль, под которую стараются
пригнуть факты. А подобная мысль в науке, конечно, может
быть только вредна. Если бы в том могло быть какое-нибудь
сомнение, то мы можем его рассеять свидетельством самого
Пастера. В своих полемиках, например, с Бертло или с Клод
Бернаром, он не упускал случая, в качестве последнего аргумента, бросить своим соперникам упрек в том, что они руководятся предвзятой идеей, между тем как он, Пастер, не покидает
почвы строгой индукции. Наконец, в своем классическом труде о
самозарождении, он обращается к Пуше со словами «Il est si гаге
de deviner juste quand on étudie la nature. E t puis est-ce que
Исповедание веры. (Примечание 1918 г. Ред.)
Академия французской словесности. (Примечание 1918 г.
Ред.)
3 Известный
составитель лучшего словаря французского языка.
(Примечание 1918 г. Ред.)
1
2
14*
211
les idées préconçues ne sont pas toujours là pour placer un bandeau sur nos yeux?» «Изучая природу, так трудно угадывать
истину! И потом, разве предвзятые идеи не всегда тут как тут,
готовые наложить повязку нам на глаза?»
Итак, если некоторые поклонники Пастера ссылаются на
какие-то темные, непонятные его выражения о пользе предвзятых идей, то мы можем им предъявить категорическое его заявление, что эти идеи могут только ослеплять ученого.
Но если б мы даже не могли указать этих слов великого ученого, то сами могли бы извлечь урок о вреде предвзятых идей,
из его собственной деятельности. Ему, при всем его научном
скептицизме, случалось высказывать предвзятые идеи, и этим
идеям не суждено было оправдаться. Одной из этих предвзятых идей было стремление отстаивать какое-то коренное различие между химией живого организма и химией лаборатории.
Он упорно отстаивал мысль, что только в организмах, или при
их содействии, образуются так называемые оптически деятельные вещества, т. е. вещества, вращающие плоскость поляризации светового луча, что химик не в состоянии их получить
своими лабораторными путями. Но органическая химия перешагнула и через эту последнюю преграду, и предвзятая идея
о существовании этой границы между органической химией
и химией организмов оказалась несостоятельной.
Сходная мысль —мысль об исключительной способности
микроорганизмов вызывать явления брожения — легла и в
основу представлений Пастера об этих процессах. Его точку
зрения на явления брожения можно назвать биологической,
иногда даже пытались называть ее виталистической. Причина
брожения — жизнь микроорганизма, найти микроорганизм,
определить условия его существования — вот задача исследователя, как определял ее Пастер. При оценке теории брожения Пастера, обыкновенно ее сопоставляют только с опровергнутой им теорией Либиха, но на первых же порах, при самом
возникновении биологической теории Пастера, против нее
выступил один ученый, указавший на то, что она представляет
разрешение вопроса только, так сказать, в первой степени приближения, что необходимо заглянуть в этот процесс глубже.
Бертло, в самом начале шестидесятых годов, прямо высказал
мысль, что такая ограниченная, биологическая точка зрения
не может, не должна удовлетворять физиолога, а тем более
химика. Причина брожения лежит в микроскопической клеточке; прекрасно, но эта клеточка не есть последняя единица,
которая должна входить в расчеты физиолога, а тем более
химика. Эта клеточка — целая лаборатория, и вступает она
в химическое взаимодействие со средой не своей совокупностью,
а через посредство входящих в ее состав веществ. Найти, выделить эти вещества, воспроизвести их действия без участия живого элемента, — вот в чем должна быть настоящая цель стремлений физиолога, а тем более химика. Это воззрение Бертло
на первых же порах подтвердил открытием растворимого фермента, выделяемого дрожжевым грибком 1 . И новейшие успехи
науки, — не оправдали ли они верность этого химического
взгляда, пытающегося заглянуть вглубь того явления, к которому биологическая теория отнеслась только с его внешней
стороны? Все эти токсины и антитоксины, эти все чаще и чаще
произносимые слова диастаз, диастатический фермент — не
доказывают лито, что, выросшее на почве учения о брожениях,
учение о заразах вступает в ту новую фазу, которую Бертло
предсказал слишком тридцать лет тому назад... 2
После прививки бешенства, конечно, ни одно открытие не
произвело такого впечатления на умы, как открытие лечения
противодифтеритной сывороткой. Микроб дифтерита не разносится с кровью по всему организму, как бацилл сибирской
язвы, — его развитие исключительно местное, и, тем не менее,
он отравляет весь больной организм. Это нечто, чем он отравляет, оказалось растворимым ядом, быстро распространяющимся
1 Через год после этой моей почти одинокой защиты Бертло появилось замечательное исследование немецкого химика Бухнера (убитого
теперь на войне), выделившего из дрожжей растворимый фермент спиртового брожения. После этого воззрение Бертло окончательно восторжествовало, хотя это не помешало его врагам (например, Дюгему) продолжать болтать о какой-то победе над ним Пастера. (Примечание 1918 г.)
2 Долгое время главным препятствием, мешавшим обобщению идей
Бертло, являлся факт невозможности воспроизвести процесс спиртового
брожения, т. е. распадения глюкозы на алкоголь и углекислоту, без участия микроорганизма. В настоящее время это явление воспроизведено
Бухнером (1897) при помощи бесформенного фермента. (Примеч. 1904 г.)
в организме. Когда ослабленные разводки дифтеритного
микроба будут привиты животному, например, лошади, она безопасно, как ив сибирской язве, выдерживает последующую прививку микроба, самого ядовитого. Что же происходит в организме этой лошади, что делает ее теперь выносливой к этому
ядовитому микробу дифтерита? В ее крови оказывается нечто —
жидкое противоядие, антитоксин, который противодействует
яду микроба — токсину. Этот токсин, этот антитоксин уже не
организмы,, а химические тела; стоит слить их вместе, и получится безвредная смесь, которую без опасности можно ввести
в организм. Этот яд, это противоядие, взаимно нейтрализующиеся в пробирке, in vitro 1 , — это уже не биологическое,
не виталистическое явление, а химический процесс.
3à этим успехом теории последовал и громадный успех практики. Послать, в обгонку ядовитому микробу болезни, культуру
того же микроба, менее ядовитого и быстрее развивающегося,
было возможно при водобоязни, с ее неделями, месяцами инкубации. Микроб дифтерита не ждет — он разит, иной раз, через
несколько часов. Но если действие прививки сводится на образование в больном организме, под ее влиянием, противоядия,
антитоксина, то возьмем этот антитоксин, заранее заготовленный в крови лошади, прямо введем его в организм больного дифтеритом, и мы будем в состоянии гораздо скорее оказать отпор
действию грозного токсина, предупредить отравление больного
организма. Вот основная мысль блестящего открытия Беринга
и Ру, вызвавшего так еще живо памятный всем взрыв всеобщего
восторга, с которым было встречено известие, что дифтерит
уже излечим 2 . Каково бы ни было ближайшее объяснение
этого воздействия антитоксина на токсин, окажется ли возможным и его включить в блестящую теорию Мечникова о фагоцитозе или он сведется к более понятной непосредственной
нейтрализации двух веществ, — одно только не подлежит сом«В стекле», т. е. в стеклянной посуде, а не в живом только телѳ.
(Примечание 1918 г. Ред.)
2 Сюда же должно отнести и новое блестящее открытие, связанное
с именем Пастеровского института. Кальмету, как известно, удалось
найти токсин и антитоксин змеиного яда, а следовательно, и средство
борьбы с этим бичом тропических стран.
1
нению, что новое учение возникло на почве уже химического,
а не биологического или виталистического представления о сущности процесса брожения и аналогических ему явлений, заразных болезней, вызываемых микробами.
Желаю ли я этим снова умалить значение Пастера? Нимало;
от меня далека эта мысль. В прошлом столетии кто-то сострил: Il у a quelqu'un qui a plus d'esprit que Voltaire — c'est
tout le monde Ч То же, с большим еще правом, можно сказать
о науке. Есть кто-то, кто выше ученых, даже гениальных, —
это сама наука, в ее поступательном, эволюционном движении. ;
Бертло, полемизируя е Паетером, указывал, что воззрение
на брожение, как на химический процесс, лежащий в основе
того физиологического явления, которое наблюдал Пастер —
что это воззрение вытекает из неизбежного исторического хода
развития всех наук и в частности физиологии, по которому сложные явления сводятся к простым и, следовательно, физиологические — к физическим и химическим. И, как мы видим,
история уже оправдывает верность этой ссылки на нее Бертло.
Быть может, как это также не раз повторялось в истории
наук, ограничив область своего исследования, не углубляясь,
как Бертло, в анализ изучаемого явления, Пастер тем успешнее
сосредоточил свои силы на том, что в тот момент было всего
важнее прочно установить — н а связи явлений с наличностью
микроба; но также не подлежит сомнению, что будущее принадлежит этому более глубокому анализу явления 2 .
Итак, во всяком случае, не в предвзятых идеях, как полагают некоторые его поклонники, и даже вообще не в абсолютной новизне идей, за исключением гениальной идеи прививок
искусственно ослабленной заразы, заключалось главное влияние этого могучего ума; оно заключалось в тайне сообщать этим
идеям неотразимую, обязательную силу, благодаря его непогрешимому экспериментальному методу. Грядущие поколения,
конечно, дополнят дело Пастера, но исправлять им сделанное
1 «Существует кто-то, кто умнее самого Вольтера, это — весь свет».
(Примечание 1918 г. Ред.)
2 В
настоящее время торжество, защищаемого мною здесь, химического взгляда Бертло над виталистическим воззрением Пастера уже
совершившийся факт (1904).
едва ли придется, и, как бы далеко они ни зашли вперед, они
будут итти по проложенному им пути, а более этого, в науке,
не может сделать даже гений.
3
1
От качеств ученого перейдем к качествам человека. Здесь,
впереди всех достоинств, выступал тот благородный энтузиазм,
то бескорыстное, самоотверженное отношение, которое превращало его научную деятельность из простого занятия в служение идее и человечеству. В его жизни были минуты, когда он
возвышался до геройства, конечно, не уступавшего геройству
солдата на поле битвы или врача среди зараженного населения.
В самый разгар одной из его работ, как всегда, поглощавшей
все его физические силы, так как усиленная умственная работа
усложнялась у него обыкновенно бессонницей, лечивший его
врач, видя, что все увещания напрасны, нашелся вынужденным пригрозить ему словами: «Вам угрожает, быть может»
смерть, а уж второй удар наверное». Пастер задумался на минуту и спокойно ответил: «Я не могу прервать своей работы.
Я уже предвижу ее конец: „Advienne que pourra, j'aurai fait
mon devoir"» 1 .
И не досадно ли после этого читать, как ставили ему в заслугу
возвращение какого-то диплома, отказ от какого-то (прусского)
ордена, — ему, хладнокровно высказавшему готовность ради
науки отказаться от жизни 2 .
Это высокое представление о служении науке Пастер сумел»
словом и примером, сообщить и ближайшим сотрудникам и ученикам, в последние годы сгруппировавшимся вокруг него,
в его институте. Приложи эти люди свои таланты к непосред«Будь, что будет, я исполню свой долг». (Примечание 1918 т. Ред.}
Французские шовинисты, еще истекшим летом, пытались воспользоваться именем Пастера для какой-то крупной демонстрации против
участия Франции в Нильских празднествах. Потребовалось формальное
запрещение старого ученого, чтобы остановить их затею. И не одни шовинисты готовы были эксплоатировать это славное имя в свою пользу.
Пастер мог бы по праву применить к себе известное изречение: «Оборони
бог от друзей, а с врагами я справлюсь сам». Такими непрошенными
1
2
ственным услугам жизни, на заводе или в медицинской практике,
и все они сделались бы богачами, а какие состояния могли
бы составиться, при каждом моментальном увлечении общества новыми завоеваниями науки, — пример тому можно было
видеть в другой стране, по случаю преждевременного провозглашения способа лечить чахотку, а между тем эти люди, говорит
автор интересной брошюры «Pasteur et les pastoriens» 1 , являют нам пример самых строгих добродетелей, обета бедности и бескорыстного служения человечеству, какие мир мог
друзьями были французские клерикалы, в эпоху его спора с Пуше. Теперь этот спор кажется отголоском седой старины, но нашему поколению
живо памятны подробности этой страстной борьбы. Для людей науки
вопрос о самозарождении был просто делом факта, результатом опытного
исследования. Но французские клерикалы поспешили сделать из него
вопрос религиозный и пробный камень религиозной благонамеренности.
Пастер был провозглашен истинным сыном церкви, а на Пуше и его сторонников посыпались обвинения в подрывании основ религии и нравственности. Но вот что странно: в средние века, века искренней, глубокой
веры, ни одна верующая душа не возмущалась общепринятым фактом,
что какие-нибудь угри или мыши зарождаются из грязи, что глисты заводятся в кишках, а не заносятся в них с пищей. Даже в восемнадцатом,
веке, люди искренно верующие были сторонниками произвольного зарождения. Только в девятнадцатом веке, увидавшем людей, для которых
их вера стала предметом газетной рекламы, — только в X I X веке, вопрос
о самозарождении стал тревожить чуткую совесть этих верующих. Французские клерикалы стали приходить в ужас при одной мысли, чтобы какая-то микроскопическая точка, в которой сами они, конечно, никогда
не признали бы живого существа, чтобы эта точка могла возникнуть без.
родителей. Для людей, хладнокровно относившихся к происходившему,
было ясно, что дело не в самом предмете спора, а в попытке клерикалов
воспользоваться им, чтоб наложить свою руку на свободу научного исследования; если астрономия и геология успели ускользнуть, то тем более
желательно было дать почувствовать эту руку биологии. И все, кому
была дорога эта свобода, это право ученого приходить в конце своего
исследования к тем выводам, которые вытекают из данных опыта, а не
к тем, которые заранее предписаны из Рима, конечно, были возмущены
преследованиями, которым подвергся Пуше со стороны клерикальной
прессы. Этим объясняется отпор, данный ей прессой либеральной, в жару
полемики не всегда, впрочем, делавшей должное различие между Пастером и его непризванными покровителями, между блистательно доказанным научным фактом и его эксплоатацией в видах преследования той же
науки.
1
Пастер и пастерияицы. (Примечание 1918 г.
Ред.)
видеть разве только в лучшие моменты существования первоначальных монашеских орденов. Этот институт, говорит наш
автор, очевидно, коротко знакомый с его жизнью и обитателями, — этот институт — монастырь будущего, посвященный
новому культу—культу науки. «Испытываешь какое-то отрадное, возвышающее душу чувство, при виде исполненной нравственного достоинства жизни этих отшельников, особенно,
когда посравнишь их жизнь с той скачкой в борьбе за существование, которую представляет жизнь наших медиков из мирских». Этот новый монашеский орден, члены которого, прежде
всего, как будто наложили на себя обет бедности, пример чего
показал Ру, отклонивший от себя и предоставивший в распоряжение института даже то небольшое увеличение содержания,
которое совет института присудил ему за его открытие, — этот
монашеский орден имеет и своих миссионеров in partibus infidelium как, например Иерзена, которого можно видеть везде,
где опасность: в Китае на чуме, на Мадагаскаре на лихорадке;
имеет он и своих мучеников, как Тюилье, погибший в Египте
на холере. Это сходство выражается и в каком-то общинном
духе, который витает над этим учреждением. Лично бескорыстные, члены института своими трудами, благодаря все возрастающему спросу на вакцины, дифтеритную сыворотку и т. д.,
приобретают для института значительные средства. «Придет
день, — говорит наш автор, — и он уже не далек, когда, при
добровольно наложенном на себя обете бедности ее членов,
сама община будет богата. В этот день она освободится от министерских субсидий и в то же время от государственной опеки.
Может быть, я ошибаюсь, — продолжает он, — но мне представляется, что институт Пастера, независимый, сильный единением своих членов, которые противоставляют свою нравственную чистоту и самоотверженность все возрастающей
алчности врачей-практиков, что этот институт сделается силой,
могучей, социальной силой, с которой придется считаться».
«И этой силой он воспользуется, в том не может быть сомнения, на благо страждущего человечества и ради торжества
истины».
«В странах неверующих»,—так называли иезуиты своих миссионеров в далеких странах. (Примечание 1918 г. Ред.).
1
В этих словах ученика и горячего поклонника слышится
отголосок самого учителя, не раз вспоминавшего, что вся его
деятельность чуть не разбилась о препятствия, выражающиеся
этими словами: «субсидия» и «опека». С горечью рассказывает
он в одной из своих речей об одном академике, который, в течение 10 лет, сам принужден был мыть свою лабораторную
посуду, потому что по «штату» ему не полагалось лабораторного служителя. В другой раз, разоблачая свое инкогнито,
Пастер рассказывает, как ему, уже в то время знаменитому
ученому, министр просвещения отказал в каких-то 1 500 франках на устройство лаборатории, на том основании, что «в бюджете министерства не имеется такой статьи». По счастью, борьба
с этими «штатами» и «статьями» не убила окончательно энергии Пастера. На скудные собственные средства он устроил
себе лабораторию, где-то на чердачке Нормальной школы, а за
отказ в каких-то жалких 1 500 франков отомстил, подарив
Франции — миллиарды. Известны остроумные слова Гёксли:
«Пастер один своими открытиями уплатил большую часть
немецкой контрибуции». И это не звонкая фраза, а простое
заявление факта. Одно шелководство давало Франции около
100 миллионов в год, но без вмешательства Пастера вся эта обширная отрасль народного труда была обречена на окончательную гибель. За двадцать слишком лет, истекших со времени
исследований Пастера, это составит уже более двух миллиардов.
Усовершенствования техники виноделия и пивоварения выражаются также почтенной цифрой. Ущерб от одной сибирской
язвы оценивался приблизительно в двадцать миллионов в год.
А сколько жизней спасло применение его учения в хирургии
и других областях медицины. Один из наших известных хирургов говорил мне, что смертность в лазаретах Севастополя и в
последнюю восточную войну представляла почти обратные
цифры: сколько умирало в Севастополе, столько выздоравливало на полях Болгарии. И все это, главным образом, благодаря Листеру
т. е. Пастеру. А давно ли весь мир дрогнул от
1 Знаменитый английский хирург, применивший в хирургии приемы
Пастера для обеззараживания ран и тем уменьшивший в огромных размерах смертность от неудачных операций. (Примечание 1918 г.
Ред.)
восторга при слухе, что один из страшнейших бичей последнего времени — дифтерит — подчинился методу Беринга и Ру,
этих проницательных исследователей, развивающих далее идеи
Пастера. Статистики, если не ошибаюсь, оценивают среднюю
человеческую голову в 4 ООО франков. Сколько миллиардов
составят в самом отдаленном будущем эти четыре тысячи, помноженные на миллионы человеческих жизней, спасенных рациональным лечением болезней или их предупреждением здравой гигиеной, в первый раз почувствовавшей под собою прочную почву, благодаря Пастеру.
Но есть еще нечто, чего статистики не выражают цифрами, —
это человеческие страдания, и кто попытается, хотя приблизительно, оценить ту бездну горя и душевных мук, которые
исчезли и еще исчезнут с лица земли, благодаря Пастеру.
Старые алхимики были не совсем неправы, усматривая какое-то
сходство между брожением и философским камнем. В руках
Пастера учение о брожении, если не превратило в золото неблагородные металлы, то сделалось источником несметного народного богатства; если не открыло тайны вечной молодости, то
открыло тайну сохранения жизни и борьбы со смертью.
Где же исходная точка всех этих блестящих успехов, уже
осуществленных в практической ЖИЗНИ, И тех еще более светі. лых перспектив в будущем, предела которым мы еще не в состоянии даже и предвидеть? В одной из своих речей Пастер
сам нам дает ответ. Это чуть ли не единственная из его речей,
в которой звучит нотка страстности, столь чуждая всем его
другим произведениям.
Самое название указывает на жгучесть затронутого в ней
вопроса: «Почему во Франции не нашлось людей, когда ей грозила гибель?». Ответ Пастера может быть и односторонен, но
зато, по отношению к этой стороне вопроса, едва ли кто из живших в X I X веке людей мог сказать более авторитетное слово.
Ответ Пастера прост и ясен.
Во Франции, в минуту бедствия, не нашлось людей потому,
что в предшествовавшие ему десятилетия пало уважение
к точной науке, к теоретической науке, ЧИСТОЙ науке — единственной науке, которую признавал Пастер. «Высшие школы
в то время давали философов, историков, литераторов», или
наоборот; «только людей, прилагавших свои труды к промышленным операциям, эксшюатации мин, постройке железных
дорог и т. д.», или, наконец, к медицине. «Но медицина», —
замечает Пастер, — «к сожалению, представляет скорее искусство, чем науку, и потому влияние ее факультетов на распространение знаний не могло быть ощутительным... А в то яш
время», — говорит Пастер, — «наш соперник, не жертвуя ничего на развитие своего земледелия и промышленности, отдавая все на нужды науки, сумел перевести большую часть своего
уважения и своих жертв на работы ума, в наиболее их возвышенной и свободной части, на прогресс наук во всем, что они
имеют бескорыстного, так что имя Германии связано, по какой-то ассоциации идей, с именем университетов... Он понял, —
этот народ, —что не существует прикладных наук, а только
применения науки... Он понял также, что первоначальное
образование может принести счастливые плоды при том лишь
условии, что оно будет вдохновляться высшим образованием».
Он понял, что «на той ступени развития, которой мы достигли
и которая обозначается именем «новейшей цивилизации», развитие наук, быть может, еще более необходимо для нравственного
благосостояния народа, чем для его материального процветания... Общественные же власти Франции, с давних пор, не
ведали этого закона соотношения между теоретической наукой
и практической жизнью».
Вспомним, что эти слова были сказаны в 1871 г., вспомним
горячую, до болезненности страстную любовь Пастера к своей
родине, и мы поймем, чего ему стоило это восхваление Германии, какой жгучею болью должна была отзываться в нем хотя
бы эта мысль, что, произнося слово «университет», невольно
хочется прибавить «немецкий»; — и мы оценим глубокую
искренность высказываемых им истин и то высокое значение,
которое они, очевидно, имели в его глазах. Но послушаем его
далее: «Мало найдется людей, понимающих истинное происхождение чудес промышленности и народных богатств. Как одно
доказательство этого, я теперь приведу все чаще и чаще употребляемое в разговоре, в официальном языке, в разного рода
статьях, совершенно неподходящее выражение — прикладные
науки. Кто-то, недавно, в присутствии одного очень талантли-
вого министра, выразил сожаление, что научные карьеры бросаются людьми, которые с успехом могли бы на них подвизаться.
Возражая на это, государственный муж старался доказать,
что этому не следовало удивляться, так как в настоящее время
значение теоретических наук уступило свое место господству
прикладных наук. Нет ничего ошибочнее этого мнения, нет
ничего — осмелюсь сказать — опаснее тех последствий, которые могут возникнуть на практике из подобных слов. Они
запечатлелись в моей памяти, как очевидное доказательство
настоятельной необходимости реформ, требуемых нашим высшим образованием. Нет, тысячу раз нет, не существует ни одной
категории наук, которой можно было бы дать название прикладных наук. Существуют науки и применения наук, связанные
между собою, как плод и породившее его дерево».
Этот человек, более чем какой другой смертный сделавший
для жизненной практики, человек, совершивший переворот
почти во всех отраслях прикладного знания — в технологии,
в земледелии, в медицине, этот человек отрицает самостоятельное значение этого знания, отказывает ему в названии науки.
Не должны ли мы видеть в этом ответ и урок житейским мудрецам и негодующим моралистам, всегда готовым превозносить
материальное и нравственное превосходство так называемого
прикладного знания пред знанием теоретическим. Неужели
и после этого яркого примера будет считаться государственной
мудростью — признание полезности практической деятельности
тех, кто, порою вкривь и вкось, будут только повторять,
применять сделанное Пастером, и бесполезности теоретической деятельности новых Пастеров, тех, кто в своих лабораториях будут продолжать
его дело? Неужели и после этого яркого примера найдутся смелые моралисты, которые будут проповедывать о праздной, эгоистической
жизни ученого, не отзывающегося на непосредственные запросы жизни.
В воображении невольно возникает такая картина. Лет
40 тому назад, на чердачок Ecole Normale проникает один из
таких негодующих моралистов и, застав там бледного человека,
окруженного бесчисленными колбочками, разражается красноречивыми обличениями.
«Стыдитесь,—говорит он ученому, — стыдитесь, кругом вас
нищета и голод, а вы возитесь с какою-то болтушкой из сахара и мела! Кругом вас люди бедствуют от ужасных жизненных условий и болезней, а вас заботит мысль, откуда взялась эта серая грязь на дне вашей колбы! Смерть рыщет
кругом вас, уносит отца, опору семьи, вырывает ребенка из
объятий матери, а вы ломаете себе голову над вопросом, живы или мертвы какие-то точки под вашим микроскопом?
Стыдитесь, разбейте скорее ваши колбы, бегите из лаборатории, разделите труд с трудящимися, окажите помощь болящему, принесите слово утешения там, где бессильно искусство
врача!».
Красивая роль, конечно, выпала бы на долю негодующего
моралиста, и ученому пришлось бы что-нибудь пробормотать
в защиту своей праздной, эгоистической забавы.
Но как изменились бы зато эти роли, если бы наши воображаемые два лица встретились снова через сорок лет. Тогда
ученый сказал бы моралисту приблизительно следующее: «Вы
были правы, я не разделял труда с трудящимися, — но вот
толпы тружеников, которым я вернул их миллионный, заработок; я не подавал помощи больным, но вот целые населения,
которых я оградил от болезней. Я не приходил со словами утешения к неутешным, но вот тысячи отцов и матерей, которым
я вернул их детей, уже обреченных на неминуемую смерть».
А в заключение ученый наш прибавил бы со снисходительной
улыбкой: «И все это было там, в той колбе с сахаром и мелом, —
в той серой грязи на дне этой колбы, в тех точках, что двигались
под микроскопом». Я полагаю, на этот раз пристыженным оказался бы благородно негодовавший, но близорукий моралист.
Да, вопрос не в том, должны ли ученые и наука служить
своему обществу и человечеству — такого вопроса и быть не
может. Вопрос в том, какой путь короче и вернее ведет к этой
цели. Итти ли ученому по указке практических житейских
мудрецов и близоруких моралистов, или итти, не возмущаясь
их указаниями и возгласами, по единственному возможному
пути, определяемому внутренней ЛОГИКОЙ фактов, управляющей
развитием науки; ходить ли упорно, но беспомощно вокруг да
около сложного, еще не поддающегося анализу науки, хотя
практически важного явления, или сосредоточить свои силы
на явлении, стоящем на очереди, хотя с виду далеком от за-
просов жизни, но с разъяснением которого получается ключ
к целым рядам практических загадок? Никто не станет спорить,
что и наука имеет свои бирюльки, свои, порою, пустые забавы,
на которых досужие люди упражняют свою виртуозность; мало
того, как всякая сила, она имеет и увивающихся вокруг нее
льстецов и присосавшихся к ней паразитов. Конечно, но
разобраться в этом не житейским мудрецам, не близоруким
моралистам, и во всяком случае критериумом истинной науки
является не та внешность узкой ближайшей пользы, которой
именно успешнее всего прикрываются адепты псевдо-науки,
без труда добивающиеся для своих пародий 1 признания их
практической важности и даже государственной полезности.
Великий ученый, смерть которого мы теперь оплакиваем,
еще при жизни своей оказал такое влияние на практические
стороны человеческой деятельности, какого, конечно, не оказывал еще ни один человек за всю историю цивилизации. В трех
•самых древних из человеческих искусств его деятельность вызвала переворот. В технологии он поставил на прочную рациональную почву все отрасли, имеющие в основе процессы брожения, и дал рациональные указания для практики шелковода. В
земледелии его идеи, благодаря тому развитию, которое они
получили в работах Шлезинга, Гельригеля и Виноградского,
бросают совершенно новый свет на самые основные приемы и задачи агронома. В медицине... но, кажется, уже достаточно было нами сказано, чтобы выяснить его значение в этой области —
один из его учеников очень остроумно замечает, что в истории
цивилизации, после того, как первобытный человек перестал бояться лесного зверя, не было более решительного шага, как тот,
который сделал Пастер, научив бороться с еще более опасными
вездесущими микробами. И этот-то, по результатам своих трудов,
казалось бы, по преимуществу практический деятель был
убежденным теоретиком, только за теоретическими знаниями
признавал выдающееся значение и право называться наукой.
Но, может быть, заметят: тем не менее, он целые годы посвя1 См. мою брошюру «Пародия науки», в которой я изобличил такую
пародию проф. А. П. Богданова, когда-то пользовавшегося большим
авторитетом — особенно у властей. (Примечание 1918 г. В настоящем
издании эта статья помещена в т. I I I , стр. 379. Ред.)
щал вопросам исключительно узко-практическим — пивоварению, болезни червей, сибирской язве. Да, но не потому, чтобы его ослепляла только практическая польза, могущая получиться в результате его работ, а потому, что именно эти вопросы, всего удобнее и как раз во-время, укладывались в рамку
его теории, представляли самую удачную конкретную форму
для ее проверки и дальнейшего развития. Почему обратил он
внимание на пивоварение, а не занялся сахароварением? Ведь
также со всех сторон раздавались сожаления, что эта отрасль
промышленности, гордость французской нации, одно из завоеваний французского гения, падает, уступая немецкой конкуренции. Почему не занялся он филоксерой, наносившей Франции еще больший ущерб, чем пебрина? А просто потому, что
эти факты не имели никакого отношения к его теории. На эти
явления она не могла пролить нового света, а Пастер, конечно,
не находил полезным блуждать во мраке, руководясь только
похвальным желанием добра, но не имея оснований ожидать
его осуществления.
Итак, что же сообщило новый толчок целым областям практической деятельности, что вызвало в особенности тот небывалый в истории человеческих знаний переворот, который дал
право одному медику сказать, что отныне история медицины
будет делиться на два периода — до и после Пастера? Что
собственно случилось? Химик остановил свое внимание на
физиологическом вопросе, представлявшем исключительно теоретический интерес, а в результате изменилась судьба самой
осязательно-практической из отраслей человеческой деятельности 1 . Практической, в высшем смысле этого слова, оказалась
не вековая практика медицины, а теория химика. Сорок лет
теории дали человечеству то, чего не могли ему дать сорок веков практики. Вот главный урок, который мы должны извлечь
из деятельности этого великого ученого.
Стоя на пороге X X века и вдумываясь в значение деятельности типического представителя этого X I X века, отметившего себя небывалым развитием науки о природе и в небыва1 При этом невольно приходит на память и другой пример: физик
Гельмгольтц совершенно изменил характер целой отрасли медицины —
офтальмологии.
•К ІС. Л- Тимирязев, т. Г
225
/
лой мере увеличившего власть человека над природой,
невольно переносишься мыслью в другую, не менее великую
эпоху, на рубеже X V I и X V I I веков, когда только возникло
то движение, результаты которого мы теперь так ясно видим.
Невольно останавливаешься на вдохновенных словах мыслителя, почти опьяненного первыми успехами точного знания,
и, на пороге X V I I века, пророчившего о том, что X I X век в
значительной мере уже успел осуществить. Пастер является
как бы живым воплощением того идеала знания, который витал
в восторженном воображении Бэкона. В третьем афоризме
своей бессмертной книги, Бэкон раз навсегда устраняет эту
ходячую антитазу между теорией и практикой — между знанием и властью человека над природою. Что в теории причина,
то средство для практики. Только знание причины явлений
дает человеку в руки и средство управлять ими. А находить
причину явлений нас учит только опыт. Но опыт может быть
двоякий: существуют experimenta fructifera * , когда человек,
в погоне за ближайшей, осязательной пользой, нередко даже
вовсе не достигает своей цели и во всяком случае осуществляет
немногое; существуют и experimenta lue if era * * , в которых,
не руководясь узкой утилитарной целью, он стремится только
к объяснению явлений, и в результате освещает целые обширные
области фактов. Луи Пастер и был этим гением экспериментального метода, обладавшим тайною этих «лучезарных опытов», которые, объясняя природу, тем самым сообщают человеку власть над нею. Он был тот человек, пришествие которого
восторженно возвещал Бэкон, —«человек, истолкователь природы и ее властелин» — Homo naturae minister et interpres» \
1 Может быть, заметят, что мой перевод не вполне соответствует
латинскому тексту Бэкона, но зато он приближается к непосредственно
предшествующим словам, т. е. к самому заглавию: Novum Organum —
de interpretatione naturae sive de regno hominis. («Новое орудие— или
об истолковании природы и о пришествии царствия человека». Через два
года (в 1920 г.) исполнится триста лет со дня появления этого великого
произведения и, если человечество успеет очнуться от охватившего его
припадка острого безумия, оно, конечно, помянет одного из величайших
своих учителей). [В скобках примечание 1918 г. Ред.J
* Опыты, приносящие плоды. Ред.
* * Опыты, озаряющие светом. Ред.
YIII
ФОТОГРАФИЯ
И ЧУВСТВО ПРИРОДЫ*
Н Е Т П Р А В Д Ы Б Е З Л Ю Б В И К ПРИРОДЕ,
ЛЮБВИ К ПРИРОДЕ Н Е Т Б Е З ЧУВСТВА
КРАСОТЫ.
Я.
ПОЛОНСКИЙ.
ARS EST HOMO ADDITUS NATURAE.
BACON
**.
Л
ёббок в своих «Красотах природы», составляющих
pendant к другому его томику «Радости жизни», подробно
анализирует различные источники наслаждения, доставляемого научно и эстетически развитому человеку изучением
или простым созерцанием природы. Но, мне кажется, талантливый натуралист упустил из виду одно из самых действительных
средств, доставляемых человеку современною наукою для увеличения эстетического наслаждения природой.
Ружье и собака — да, пожалуй, удочка — были еще недавно чуть не единственным поводом для сближения человека с природой. Им мы обязаны чудными страницами
* Опубликовано впервые в сборнике «Братская помощь пострадавшим в Турции армянам», изд. Джаншиева, М., 1897. Ред.
* * Искусство это природа плюс человек. Бэкон. Ред.
15»
227
Тургенева, Некрасова, Аксакова. С другой стороны, уже
в прошлом веке, Руссо указывал на иного рода, бескровную
охоту — с жестянкою ботаника за плечами. Он пояснял особую прелесть такой охоты. Кто не запомнит красноречивых
страниц его воспоминаний о длинных зимних вечерах, которые
он коротал в убогой комнатке, перебирая сухие растения своего
гербария, вызывая в памяти связанные с ними картины, переживая вновь и вновь чуть не единственные светлые часы своей
безотрадной жизни, проведенные в лесу, в горах, вдали от людей.
Но сухое, раздавленное между листами бумаги, выцветшее растение, конечно, очень несовершенный символ, только в творческом воображении Руссо могущий вызвать те яркие картины,
которые щедрой рукой рассеяны в его произведениях. Не лучше
ли, вместо мертвого символа, унести самую картину, вместо случайной ассоциации идей, сохранить связность и полноту непосредственного впечатления? Не всякому дано быть художником — активным, но зато число пассивных, страдательных
художников, тех, кто только чутки к красоте природы и ее
воспроизведению в искусстве, конечно, должно быть неизмеримо больше, иначе не было бы почвы для искусства. Вот этому-то значительному числу людей, любящих и природу и искусство такою несчастною любовью — любовью без взаимности,—
является на помощь фотография. Я убежден, что придет время,
когда люди будут чаще бродить по лесам и полям не с ружьем,
а с камерой фотографа за плечами, и не затем, чтобы подшибить
какую-нибудь несчастную пичужку и лишь мимоходом, урывками, полюбоваться на природу, а затем именно, чтобы любоваться природой и при случае унести с собою возможно художественное ее воспроизведение.
Каждый раз, когда в присутствии присяжного эстетика
позволишь себе неосторожное сопоставление этих слов: художество, искусство, фотография, — навлекаешь на себя громы
негодования или целый град насмешек. Фотография, возразят
вам, не искусство, это прямо-таки гибель, отрицание всякого
искусства. Не смею спорить; знаю только то, что она увеличивает сумму эстетических наслаждений красотами природы.
Отраслям искусства, подобным гравюре, фотографии и пр.,
у немцев присвоено название vervielfältigende Künste —
искусства размножающие, воспроизводящие; но разве в ином,
более широком смысле, задача всякого искусства не сводится
на то, чтобы размножать действительность, природу и прежде
всего жизнь с ее радостями и горем? Чего просит простой смертный от искусства, как не возможности в пределах одной краткой жизни переживать тысячи таких же жизней, более светлых
и более темных, прочувствовать, увидеть вновь, что уже чувствовал и видел, что могли чувствовать и видеть вокруг него
или отдаленные от него, пространством или временем, такие же
люди, как он сам? Напрасно жрецы новой красоты рвутся
из пределов действительности, пытаясь дополнить ее болезненной фантазией мистика или бредом морфиномана, — одна
действительность была и будет предметом истинного, здорового
искусства. Самый талантливый ландшафт с берегов канала
на Марсе, пожалуй, подстрекнет мою любознательность, но не
скажет ничего моему художественному чувству потому просто,
что я сам его не перечувствовал. В художнике присутствуют два
человека: тот, который чувствует красоту, и тот, который одарен
способностью ее воссоздавать, так, чтобы вызвать то же настроение в другом человеке. Н® в этом другом ведь это чувство должно
было уже ранее существовать, хотя в зачатке; он прежде должен
был испытывать перед действительностью то, что должно вызвать в нем произведение искусства. И если вы разовьете в нем
способность подмечать и схватывать этот элемент красоты в действительности, вы только изощрите в нем отзывчивость к произведениям искусства. Справедливо ли после этого утверждать,
что фотография вредит искусству? Успехам искусства способствует не только то, что увеличивает число тех, кто его создает,
но и все то, что увеличивает ряды тех, кто его воспринимает.
Тургенев, по поводу «Записок ружейного охотника», с своей
обычной простотой, учит, как нужно чувствовать природу и как
ее изображать. Во-первых... «любите природу в силу того, что
она вам сама по себе мила и дорога — и вы ее поймете». А при
описании природы: «дело в том, чтобы сказать все, что может
притти вам в голову: говорите то, что должно притти каждому
в голову — но так, чтобы ваше изображение было равносильно
тому, что вы изображаете, и не вам, не нам, слушателям, не
останется больше ничего желать» Ч Это правило, очевидно,
применимо не к одному изображению природы словом. Что
бы ни говорили эстетики, желающие всюду видеть элемент
таинственности, а в изображении природы кистью задача,
очевидно, та же, чтоб «изображение было равносильно изображаемому», т. е. истинно, — не даром же великий художник,
наиболее идеализировавший природу, Клод Лоррен, назвал
свое собрание этюдов — Liber Veritatis * . «Чтобы изображение
было равносильно изображаемому» — как это просто! Но кто
из тысячи, из миллиона обладает этим простым даром? Иное
дело, когда эту задачу берет на себя та же природа, когда человеку предъявляется только первое условие — бесхитростная к ней любовь, любующийся ею глаз.
Но в том и вопрос: действительно ли фотография передает
природу такою, как она есть, точно ли она удовлетворяет основным требованиям эстетической правды. Конечно, пока не может
быть речи о колорите 2 , а только о верной передаче света и теней,
о разрешении той задачи, которую осуществляет карандаш
1 Крайне
любопытно сравнить воззрения Тургенева на природу
и ландшафт с воззрениями одного современного эстетика, Гюйо (см. главы
его книги — Чувство природы, Пейзаж и пр.). Оба писателя как будто
сговорились пояснить свои воззрения на том же самом примере. Тургенев восстает против олицетворения природы и подкладывания ей собственных своих чувств и стремлений; как образец изображения природы
он приводит, в своем переводе, описание моря с высоты обрыва •— из
«Короля Лира». Гюйо, наоборот, считает, что природа нас настолько
именно интересует, насколько мы в нее влагаем свои чувства, и поясняет
это своим описанием также вида моря с кручи. Но у него получается
аллегория, может быть и симпатичная, но все же аллегория, к тому жѳ
довольно-таки темная. И до чего только не договаривается этот эстетик
в своем желании прикрасить природу! «Чтобы чувствовать весну (цитирую по русскому переводу), необходимо, чтобы в сердце было хоть немного
той легкости, какая есть в крыльях бабочки, тончайшую пыльцу которых,
рассеянную в весеннем воздухе, мы вдыхаем в себя». Говоря по правде,
что кроме чиханья или перхоты в горле может вызвать такое вдыхание?
2 С тех пор, когда это было сказано, фотография в красках сделала
такие успехи, что может быть и эту третью ступень живописи (рисунок,
светотень, колорит) скоро придется признать достигнутою в фотографии.
(Примечание 1918 г.)
* Книга истины. Ред.
и гравюра 1 . Это сопоставление фотографии с гравюрой так?ке
неизменно вызывает негодование знатоков и ценителей этой
области искусства. На прошлом фотографическом съезде одним
из них было категорически высказано мнение, что фотография
не может, например, дать того неотразимого впечатления солнечного света, который дают офорты Рембрандта, не говоря уже
о его картинах. Но мне кажется, было бы очень трудно доказать такое положение. Во-первых, средства и их пределы и
здесь 'и там одни и те же — это чернота угля и белизна бумаги,
и никакой художник, будь он гений, как Рембрандт, не может
от себя вложить никакого нового свойства в те материальные
средства, которыми располагает его искусство. Но еще важнее
другой вопрос: действительно ли Рембрандт передает нам свет
и тени так, как мы видим их в природе. Этот вопрос несомненно
должен быть разрешен отрицательно. Я провел не один час перед его знаменитой Ronde de nuit * (в Амстердаме), несчетное
число раз стоял в Salon carré перед его очаровательной маленькой Ménage du menuisier**, с жизнерадостным солнечным лучом,
от которого глаз не хочет оторваться, — и тем не менее при
холодном обсуждении приходится сознаться, что впечатление
солнечного света достигается в ущерб теням. По отношению
ко второй картине убедиться в этом легче, чем по отношению
к первой: там остается неизвестным, откуда и в каком количестве берется свет, которым залит первый план; — здесь
свет солнца потоками льется в настежь открытое окно, — а
в глубине комнаты, составляющей фон картины, так темно, что
не распознаешь, что там помещается. Можно подумать, что почерневшие стены убогой комнаты не отражают света, но в на1 Не касаюсь вопроса о верности перспективы в фотографии — он
имеет обширную литературу и, кажется, может считаться разрешенным
в пользу фотографии. Ниевенгловский верно замечает, что иной художник находится в положении менее благоприятном, чем фотограф, будучи
вынужден для вычерчивания своей перспективы обращаться к чисто
техническим знаниям особого специалиста. Пренебрежение к фотографии
вызывают иногда и ее малые размеры. Но разве голландцы давно не
приучили нас к ним, и кто не предпочтет вершков Месонье квадратным
саженям Пюви де Шавана?
* Ночной дозор. Ред.
* * Комната столяра. Ред.
ших физических кабинетах имеются комнаты с черными стенами
и даже потолком, и тем не менее стоит пропустить в них луч
солнца, — не в окно, а через небольшую щель,— чтоб явственно увидать все предметы. Великий чародей кисти захотел вызвать впечатление солнечного света, и вот века и поколения
проходят перед его полотнами, и каждый зритель неизменно
выносит именно то впечатление, которое пожелал вызвать
в нем художник, — но это не мешало нам, анализируя свои
впечатления, открывать, в чем заключалась его тайна 1 . То же
затруднение и теми же путями приходится преодолевать и фотографии; и она вынуждена прибегать к такому компромиссу,
к сделке между ярко залитыми солнцем поверхностями и слишком непрозрачной чернотой теней. Но существует один род
фотографий, представляющий в этом смысле даже несомненное
преимущество перед гравюрой. Гельмгольтц, в его известных
лекциях об оптических основах живописи, .указывает на тесные
пределы, в которых она может передавать колоссальные контрасты света и теней, представляемые природой, и замечает: быть
может, живопись прозрачными красками, живопись на стекле,
могла бы значительно разодвинуть эти пределы. Этого именно
и достигает фотография на стекле (диапозитивы). Не подлежит сомнению, что освещенные сзади, умело распределенными
источниками света, диапозитивы или их проложения на белом
экране дают впечатление солнечного света, с которым, конечно,
не поспорит никакой офорт 2 . Скажут: это — прием не художественный. А почему же нет? Разве и г .ивопись не ищет порою
новых и вполне сходных приемов (как, например, у Куинджи) для передачи трудно достижимых световых эффектов?
Остается другой, не менее важный вопрос: может ли фотография передавать верно в монохроме естественный колорит
1 Ученик
Рембрандта — Герард Доу—достигал наибольшего контраста в освещении, помещая фигуры в амбразуре окна; на этот раз контраст являлся вполне законным, такой фон приближается к абсолютной
черноте физиков.
° Парижский мастер Макенштейн придумал даже особого рода камеру для получения наиболее художественного впечатления при рассматривании диапозитивов. Для того чтобы убедиться в преимуществе
диапозитива перед гравюрой, стоит его посмотреть на просвет и положив
на белую бумагу.
предметов? При ее возникновении это было, конечно, ее самым
больным местом. Кто не помнит жалких ландшафтов с однообразным белым небом, без облачка, без перехода от горизонта
до зенита и с другой сплошной черной массой, на месте растительности, бесконечно разнообразной в своих оттенках и переливах света? Успехи фотографии сделали эти воспоминания
уже преданием старины. Современная фотография (изохромная) не только вполне верно для глаза передает цвета в соответствующих им черных полутонах, но, если бы потребовалось,
может это доказать строго научным способом, чего, по отношению к гравюре, конечно, невозможно сделать 1 .
Значит, фотография вполне может дать результаты, удовлетворяющие основным требованиям искусства. Может,—но дает
ли? Здесь, как и везде в искусстве, выступает вперед личный
элемент: — ars est homo additus naturae 2 . Как в картине за
художником-техником виднеется художник в тесном смысле,
художник-творец, так из-за безличной техники фотографа
должен выступать человек, — в ней должно видеть не одну
природу, но и любующегося ею человека. Фотография, освобождая его от техники, от всего того, что художнику дается
школой, годами упорного труда, не освобождает его от этого
по преимуществу человеческого элемента искусства. Конечно,
если фотограф будет щелкать направо и налево своим кодаком,
снимая походя «интересные места», то в результате получится
лишь утомительно пестрый инвентарь живых и неодушевленных предметов, годный для того, чтобы узнать, где что стоит —
здесь дачка с фронтончиком и палисадником, на горизонте
неизменная фабричная труба, а справа — влево, вереницей,
в струнку, телеграфные столбы. Так ли относится к своей за1 Чтобы доказать это, т. е. что известный фотографический прием
верно передает колорит соответствующей ему градацией черных (или
иных) полутонов, нужно доказать, что он верно передает в монохроме
световой спектр, так как, передавая верно элементарные цвета, он необходимо верно передаст и всевозможные их сочетания. Но для того нужно
еще ранее знать, на что в действительности был бы похож световой спектр,
фотометрически верно переданный в черных полутонах. Эту задачу превосходно разрешил известный английский физик-фотограф Абней.
2 Искусство — это природа плюс человек.
(Примечание добавлено
к 4-му изданию. Ред.)
даче истинный художник? Много лет назад в Ecole des beaux arts,
на выставке Диаза, представлявшей почти все произведения художника — l'oeuvre de Diaz, итоги целой жизни, я был поражен,
что в этом обширном собрании, наполнявшем несколько зал,
преобладали два мотива: один — буковый лес, в самый разгар
лета, пронизанный лучами солнца, рассыпавшимися золотыми
брызгами по его листве, скользящими по густой траве, отражающимися в зацветшей луже или лесном болотце, да кое-где
сквозящие обрывки голубого неба; и другой — однообразная
вересковая степь с убегающею вдаль тропинкой; по ней спешит
путник, очевидно торопящийся уйти от дождя, который вот-вот
посыплет из низко стелящихся туч, местами разорванных порывом ветра, свободно гуляющего над безотрадною равниною,
слабо освещенной красною полоской догорающей зари. Видно,
художник снова и снова возвращался к этим не хитрым, но
им облюбленным темам, сжился с ними, проникся ими, и свое
настроение сумел сообщить зрителю, так что теперь, спустя
много лет, эти картины стоят перед моими глазами, точно я
сам бывал в этом лесу, ходил этой тропинкой. Спрашивается,
неужели фотограф, если только он любит природу, научился
ценить ее искреннее воспроизведение в искусстве, не может
последовать примеру художника в его добросовестном изучении и подсмотреть, уловить в ней те моменты, которые приковали бы и глаз художника, и закрепить их, сохранить их для
себя, — благо техника дается ему даром, без всяких с его стороны усилий? Если бы в том могло быть сомнение, стоит ознакомиться с произведениями английских фотографов-любителей.
Англичане всегда и везде обнаруживали наибольшую чуткость ко всему, что касается естественных красот природы
и их воспроизведения. Не они ли вытеснили жесткие, ломанные, архитектурные линии итальянско-французского сада,
заменив его свободной красой ландшафтного парка? Не они
ли в былое время стянули к себе чуть не все лучшие произведения Клода Лоррена? Не они ли дали в Рёскине самого чуткого, художественного ценителя природы? Не они ли, наконец,
в произведениях Генсборо, Констабля и выше всех Тернера
положили основание современному ландшафту и создали в акварели более широко доступное средство для воспроизведения
этой природы? Естественно, что они же нам дали лучшие образцы художественной фотографии, показали, чего может достигнуть развитый вкус и любовь к своему делу 1 . В каждом ландшафте чуется человек, не только наводивший камеру и щелкавший затвором, но как истинный художник, быть может, десятки раз любовавшийся этим теплым лучом солнца, этим
всплеском волны, прежде чем успел подкараулить их и закрепить на стекле своей камеры 2 . В группах животных всегда
сквозит земляк Ландсира, знаток животной психики и какого-то особого зоологического юмора. Наконец, картинки из
детского мира никогда не оскорбят столь обычной театральной
слащавостью или бомбоньерочною пошлостью, а проникнуты
тем глубоким, искренним чувством, заставившим одного английского эстетического критика воскликнуть: «улыбка пробуждающегося ребенка стоит сотен солнечных закатов».
Тонкого знатока искусств, ценящего в каком-нибудь обломке архаической статуи или в редком листе avant la lettre *
тот их неуловимый оттенок красоты, который недоступен пониманию толпы, отталкивает в фотографии именно ее доступность — ее демократичность. Да, фотография демократизирует
искусство и прежде всего ту его область, которая по своему
существу сама демократична — красоту природы. Луббок приводит слова одной бедной женщины, которую после изнурительной болезни ее друзьям удалось отправить на берег моря.
В первый раз в жизни увидав море, она остолбенела от восторга
и, когда могла добраться до слов, то проговорила: «и знаете,
что в нем всего лучше? — я в первый раз вижу что-то такое,
чего хватит на всех». Природа и есть тот источник красоты,
которого достает на всех, из которого всякий черпает по мере
разумения. Перед картиной заката равны и Клод Лоррен,
1 Лучшие трактаты по художественной ландшафтной
фотографии,
переведенные и на другие языки, принадлежат также англичанам: Робинсону, Горслей-Гинтону и другим. Впрочем, должно к ним присоединить еще замечательно остроумную, бойко написанную книжечку Raphaels — Künstleriche Photographie.
2 Из мне известных русских фотографов-ландшафтистов выдающееся
место несомненно должно быть отведено г. Дементьеву.
* До надписи (первый оттиск гравюры, на котором нет еще надписи). Ред.
«как орел, осмеливавшийся смотреть на солнце» и сохранивший
его на своих полотнах, — и простой смертный, хотя бы то был
бедный филистер, своим невольным восклицанием нарушивший
аристократически брезгливое настроение Гейне 1 . Перед песней
жаворонка равны п его певец, замученный рефлексией, Шелли, — и любой крестьянский ребенок, разинув рот заслушавшийся его серебристой трели — только перескажет он свои
чувства 2 — mit ein bischen andern Worten * . И не только сама
природа, но и ее передача истинным художником, мне кажется,
всего яснее говорит пониманию простого человека, которого
еще не коснулось влияние искусства. На эту мысль меня невольно навело следующее наблюдение. Художественный отдел
Нижегородской выставки представлял для наблюдателя тот
несомненный интерес, что никогда еще искусство не врезалось
клином так далеко в наш темный Восток, и здесь, конечно,
попадались тысячи и тысячи людей, быть может, в первый
раз стоявших перед картиной 3. С этою мыслью я часто бродил
по ее обширным залам, прислушиваясь к говору толпы. И всего
раз я услыхал восклицание искреннего, неподдельного
восторга: «Тятенька, а тятенька, — нет, вот сюда взгляните!» —
и увидал мальчугана, тащившего за руку пожилого человека,
с виду подгородного крестьянина или мещанина. Тот подошел
к картине, постоял, помолчал и, не торопясь, степенно вынес
свой приговор: «Н-н-да, это статья иная». — Картина была лес
Гейне находился в обществе тонко образованной дамы, с которой,
За несколько минут перед тем, вел разговор о картинах Рафаэля в храме
Петра (?!). Сам Клод был, как известно, неудавшийся булочник, до конца
жизни не научившийся толком грамоте.
2 Архипов в своем «Обратном» поразительно передал впечатление
красоты раннего утра на бесхитростного крестьянского парня. (Примечание добавлено к 4-му изданию. Ред.)
' 3 Много было говорено об экстравагантности некоторых финляндских
художников на Нижегородской выставке, но не припомню, чтобы упоминалось о следующем ландшафте одного русского художника. Изображен
закат солнца и вокруг одного багрового солнца — настоящего, разместилось несколько зеленых! Это, очевидно, субъективные впечатления
ослэпленного солнцем глаза. Изобразить природу с точки зрения человека, у которого в глазах позеленело, это, кажется, последнее слово —
не знаешь только чего — реализма или идеализма, субъективизма.
* Немного в иных словах. Ред.
1
*
Шишкина. Может быть, это только случайность, но, повторяю,
других отзывов мне так и не привелось услышать за несколько
месяцев наблюдений над этой молчаливой толпой при ее, быть
может, первой встрече с искусством.
Это чувство природы, сближающее всех людей, заключает в себе что-то неразгаданное: не берется его выразить словом поэт, не в состоянии разобраться в нем ученый 1 . Какой-то
безотчетный патриотизм — не тот узкий, мрачный, который
разделяет людей, а более широкий, светлый, который соединяет любовью к общей родине, более обширной, чем та, которая
показана на картах. Какая-то смутная память об общем детстве человечества, как и воспоминание о личном детстве, с годами становящаяся только более дорогой. Среди природы находит успокоение человек, бегущий от людей, ищущий только
передышки, для того чтобы ринуться вновь в борьбу: пример—
Руссо. Среди той же природы сознает человек еще сильнее свою
близость к людям, охотнее делится их радостями: недаром
только среди ликующей весенней природы, сбросившей с себя
ледяной покров зимы, и среди вырвавшейся «из оков тяжелого труда», «из мрака душного жилища» на свет и волю, веселой, праздничной толпы — заставил Гёте Фауста, раз в жизни, ощутить — Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein 2 .
Среди природы же более чуток человек и к человеческому горю.
Кто не помнит чудной, свежей, залитой солнцем, дышащей
детской беззаботностью и отвагой картинки Волги — обрывающейся на стоне, на этом «вое» бурлака, изменившем все миросозерцание ребенка: «я стоял на берегу родной реки и в первый
раз ее назвал рекою рабства и тоски»3.
1 Вспомним Байрона — I feel what I can neer express, yet cannot
all сопсеа1(«Я чувствую, чего не смог бы передать, но и не в силах скрыть»).
[Перевод добавлен к 4-му изданию. Ред.] Однажды в Дауне, у Дарвина
и его гостей, был возбужден вопрос о происхождении этого, по преимуществу, человеческого чувства красоты, по отношению к картинам природы; проговорили целый вечер и все же не пришли ни к чему.
г Здесь чувствую себя я человеком и здесь лишь могу человеком
я быть. (Перевод добавлен к 4-му изданию. Ред.)
3 Живо припоминаю тот, едва ли не единственный
раз, когда Некрасов сам читал свою Волгу на литературном вечере в Петербургском университете. Чтение его, как известно, не отличалось какими-нибудь внеш-
А те картины, которые в эти минуты носятся в воображении, встают немой укоризной перед совестью современного человека 1 , — разве их ужас не вырастает от той обстановки,
при которой они разыгрываются? Над головой бирюзовый
свод неба; там и сям вонзаются в него стрелки темных кипарисов и белых минаретов; у ног текучая лазурь; слух ласкает ропот морской волны, набегающей на берег, а в воздухе разлит
какой-то опьяняющий аромат. Мысль убаюкивается мечтой о безмятежной жизни, среди бесконечно-щедрой и улыбающейся человеку природы и... «вдруг... страшный, какой-то жалобный,
молящий, протяжный, громкий крик и вслед за ним несколько
выстрелов — быстро промелькнуло несколько фигур, впереди
бежал кто-то спотыкаясь, обессиливая. За ним гнались человек десять; все это произошло в какое-нибудь мгновение,
и вслед затем мы увидали распростертый труп бежавшего.
Это был поденщик-армянин, работавший у пристани — смерть
захватила его за работой, он успел пробежать от преследователей каких-нибудь сто шагов». Shall he expire and
unavenged? Arise! ye Goths, and glut your ire 2 !
Да, эти стоны, эти крики безнадежной мольбы за жизнь
несомненно звучат ужаснее, когда раздаются среди мирной,
среди ликующей природы. Несомненно и то, что любовь к природе, — конечно, не кривляющаяся, жеманная, которую встречаем у современных поэтиков-пигмеев, для придания себе
росту, заверяющих, что действительность их не вмещает
и преподносящих нам себя в придачу к ней,— а простая, здоровая любовь к природе как-то всегда шла рука об руку с любовью к человеку. Примеры налицо: Тургенев, Некрасов,
Мицкевич, не говоря уже о Руссо или о том поэте, чье имя
невольно приходит в эти минуты всякому на память, —о поэте,
ними красотами, — слабый, болезненный голос не давал для того средства, но зато оно подкупало какою-то жуткой искренностью. Как сейчас
слышу щемящие душу, задыхающиеся слова, предшествующие этому
описанию Волги: — «я устал, в себя я веру потерял и только память
детских дней не тяготит души моей».
1 Статья эта помещена в «Братской помощи» — сборнике, изданном
в 1897 г. в пользу армян, пострадавших от турецких зверств.
2 Не решаюсь переводить эти строки; их сжатую, страстную энергию отказался передать даже Лермонтов.
Ф О Т О Г Р А Ф И Я И ЧУВСТВО ПРИРОДЫ
делившем свою любовь между природой и человеком, говорившем себе в оправдание: I love not man the less 1 и скрепившем
эти слова своею смертию в Миссолонги: — «Больше сия любви
никто же имать, да кто душу свою положит за други своя».
Но могут возразить: а Гёте — он ли не любил природу, и что же?
Правда, всю свою жизнь отстаивал он свои права на олимпийски-безучастное отношение к людской толпе. Правда, даже под
старость, с напускной рисовкой, уверял он, будто исход академического спора его тревожит более, чем участь целого народа. Но правда ведь и то, что уже из-за гроба он принес покаяние, склонился перед тем, что всю свою жизнь сжигал, и признал, что момент высшего нравственного удовлетворения для
человека наступает лишь тогда, когда перед ним открывается
возможность «на почве свободной, с народом свободным стоять» 2 .
18 апреля 1897 г.
1 «И это не умаляет моей любви к человеку». (Примечание добавлено
к 4-му изданию. Ред.)
2 Auf freiem Grund mit freiem Volke stehen. Известно, что Гёте держал рукопись второй части Фауста в запечатанном пакете с надписью —
издать ее только после его смерти.
IX
ПАВЕЛ АНТОНОВИЧ ИЛЬЕНКОВ
П
авел Антонович Ильенков родился в 1821 г., получил
первоначальное образование в Нижегородской гимназии
и в 1839 г. поступил в С.-Петербургский университет
на математический разряд, но чрез два года, с открытием при
математическом факультете разряда наук реальных, обратился
исключительно к изучению этих последних.
По окончании университетского курса, в 1843, кандидатом,
он был командирован, по предложению департамента мануфактур, на два года за границу, для довершения своего образования по технической химии и технологии, которые избрал
своею специальностью. Большую часть этого времени он провел в Германии, изучал физику у Дове и Магнуса, химию
у Митчерлиха и Генриха Розе, технологию у Магнуса и Густава
* Впервые статья была опубликована как некролог в журнале Русского химического общества (т. X , I отд., 12—31) в 1878 г. В подготовленное К. А. 4-е издание настоящего сборника (посмертное) не вошла. Ред.
Розе, занимался аналитической химией в лаборатории Гейнца,
а в свободное время посещал главнейшие мануфактурные центры
Германии, для ознакомления с различными производствами.
Но всего полезнее для молодого ученого было, без сомнения,
его пребывание у Либиха, в Гиссене. Известно, какое значение
имела эта Гиссенская лаборатория в истории не только химии,
но и естествознания вообще, — известно, что здесь выработался
тог тип учебной лаборатории, те приемы систематического,
экспериментального изучения предмета самими учащимися,
которые позднее распространились и на другие науки, на физику и биологию, еще долго и после того довольствовавшиеся
одним теоретическим преподаванием с кафедры. «Приняв за
образец сделанное Либихом в Гиссене, достигли того, что теперь
область химии возделывается не десятками, а тысячами деятелей. Гисеенская лаборатория была образцом для всех современных лабораторий; при Либихе она сделалась замечательной
не только как первая и наилучшая школа для изучения химии,
но вместе как школа, где молодые ученые, вместе со своим славным учителем и под его руководством, разрабатывали научные
вопросы» 1 . Не менее известно, какое могучее, увлекающее
влияние оказывала сама личность великого ученого на этих
учеников, стекавшихся к нему из отдаленных стран и потом
разнесших во все края образованного мира идеи своего учителя
и его живое, страстное отношение к науке и ее преподаванию.
Павел Антонович принадлежал к числу жарких поклонников гениального ученого и, до самой смерти последнего, сохранил к нему чувства глубокого уважения и самой теплой дружбы,
не упуская случая посетить его, во время своих заграничных
поездок, и поддерживая с ним переписку. Из сохранившихся
писем к нему Либиха видно, что это расположение было взаимно — в этих письмах Либих постоянно называет его своим
«уважаемым другом», своим «дорогим Ильенковым», расспрашивает его о ходе его работ, побуждает его продолжать их или
дать им большую гласность, сообщает ему о своих исследованиях и т. д. Влияние Либиха выразилось, между прочим, в том,
что первой заботой П. А., по возвращении в Петербург, было
1
Ильенков. «Либих и его значение для сельского хозяйства».
16 К. А. Тимирязев,
т. V
241
устройство при его кафедре лаборатории для занятия студентов.
Но прошло около пяти лет прежде, чем университет мог найти
необходимые на то, хотя и очень скудные, средства; для осуществления своей мысли П. А. уделил и из своих трудовых,
более чем скромных, средств, пожертвовав годичный оклад
жалованья. После Германии, Ильенков посетил Париж, куда
привлекало химиков громкое в то время имя Дюма и не менее
важные для технолога знаменитости: Пайен, Пелуз, Шеврель
и др. Кроме посещения лекций, П. А. усердно занимался в богатой по его специальности библиотеке «Консерватории наук
и ремесл», но, и помимо избранной науки, Париж — Париж
начала сороковых годов с его кипучей умственной и политической жизнью — не мог остаться без влияния на общее развитие молодого Ильенкова, в котором ученый никогда не заслонял
собой человека.
По возвращении в Петербург, П. А. прочел вступительную
лекцию на тему «об отношении технологии к естественным наукам» и занял кафедру технологии, сначала в качестве доцента,
а затем, с 1847 г., по защищении магистерской диссертации
«О химическом процессе образования сыров» в качестве адъюнкта и, наконец, с 1850, в качестве экстраординарного профессора. До 1850 г., кафедра технологии состояла при камеральном отделе юридического факультета (секретарем которого
П. А. состоял с 1846 по 1850 г.), что не мало вредило успехам
преподавания. Имея перед собой слушателей, нисколько не
подготовленных общим естественно-историческим образованием к усвоению предмета, представляющего только приложения этих наук, молодой доцент нашелся вынужденным читать
еще курс химии для тех студентов, которые пожелали бы с пользой слушать его курс технологии. Но с 1850 г. положение дел
изменилось к лучшему, кафедра технологии была отнесена
к восстановленному реальному отделению математического
факультета и к тому же времени подоспела, как уже сказано
выше, лаборатория для занятия студентов.
В 1851 г., плодом предшествовавшего изучения и пятилетнего преподавания явился «Курс химической технологии»,
капитальный труд, обративший на себя внимание не только
как первое по этому предмету сочинение на русском языке,
но и как произведение замечательное и по строго научному,
самостоятельно .критическому отношению к предмету и по
ясному, превосходному изложению. Сочинение это весьма
быстро разошлось и вскоре сделалось библиографической редкостью Ч Положив изданием этого курса прочное основание
изучению в России избранной им специальности, Павел Антонович старался и вообще о распространении, путем популяризации, точных естественно-исторических сведений в нашем
обществе, в то время еще очень равнодушно относившемся
к естествознанию. В «Современнике» за эти годы можно найти
его статьи, в которых с свойственной ему ясностью и доступностью изложения он знакомит публику с новейшими успехами
естественных наук.
Рядом с ученой и преподавательской деятельностью, Ильенков имел случай прилагать свои знания и на практическом
поприще. Он принимал участие в комиссиях по построению
Исакиевского собора и Публичной библиотеки, был членом
Мануфактурного Совета, а с 1851 г. членом Артиллерийского
отделения военно-учебного комитета и в этом последнем качестве сделал исследование: «Об определении уплотнения массы в пороховых зернах». В тяжелую годину Крымской кампании, когда в Артиллерийском ведомстве возникли опасения,
что, в виду постоянно возрастающей потребности в порохе,
может оказаться недостаток в селитре, Павел Антонович был
командирован, по высочайшему повелению, в Германию для
изучения пороховых заводов в Вестфалии, для рассмотрения
новоизобретенного метательного снаряда и для исследования
вновь изобретенного скорого способа добывания селитры. Уже
много лет спустя, П. А. любил вспоминать об этой командировке,
в которой, соблюдая, с одной стороны, строжайшую тайну
о цели своей поездки, он, с другой стороны, должен был пускать
в ход все свои дипломатические способности, чтобы не сделаться
жертвой эксплоататоров, желавших воспользоваться стесненным положением нашего правительства, чтобы сбыть за дорогую цену свои пресловутые секреты, не представлявшие, как
1 Через десять лет Е.
Н. Андреев предпринял второе, сообразно
сделанным за этот период времени успехам, дополненное и переработанное издание «Курса».
16*
243
он мог усматривать, ничего нового. Учебная деятельность П. А.
не ограничивалась университетом; с 1848 он был преподавателем в офицерских классах инженерного училища, но в 1850 г.
покинул эту должность, с 1850 г. он занимал должность инспектора классов в Технологическом институте, но уже в 1851 г.
покинул и эту должность.
Несмотря на расположение и уважение к себе, которое П. А.
успевал вселять во всех, с кем сводила его судьба, служебная
его деятельность не обошлась без прискорбных, тягостных для
него столкновений. Это обстоятельство вместе с материальной
необеспеченностью семьи, горячо любимой и, после смерти его
отца, оставшейся на его попечении, невольно заставило его помышлять о выборе иной деятельности. Случай к тому скоро
представился. После командировки в Киевскую губернию, для
ознакомления со степенью развития свеклосахарного производства, П. А. сблизился с известным деятелем по этой отрасли
отечественной промышленности — графом А. А. Бобринским.
Получив приглашение принять главное заведывание обширным
свеклосахарным заводом графа в с. Михайловском, Тульской
губернии, П. А. просил об увольнении его из университета
> и переселился в Михайловское. Всякий, знавший П. А., хорошо
знал, что эта перемена не была с его стороны уступкой материальному духу времени и что, променяв кафедру на завод,
он не изменял науке. Никогда не извлекал он личных выгод
из своих знаний; советы, наставления всегда были к услугам
тех, кто их искал. Идеально бескорыстный, он возмущался даже
при одной мысли закреплять за собою путем привилегий свои
технические открытия или изобретения: его знания были общественным достоянием, служение науке — общественным служением. Крайне скромный в своих вкусах и потребностях,
в материальных средствах он искал только одного — возможности обеспечить свою нравственную независимость. На заводе
он оставался таким же ученым, каким был в лаборатории:
в производстве он видел тот же опыт, только в больших размерах. Даже в позднейшие годы стоило его навести на разговор
о свеклосахарном производстве, сделавшемся его любимым,
чтобы убедиться, что мысль его постоянно возвращалась к вопросам, возбужденным долгой практикой, что ум его постоянно
работал над устранением тех препятствий, которых еще не
успела преодолеть техника. В этих вопросах, как и в вопросах
научных, он находил всю увлекательность борьбы с природой,
в которой победа всегда остается за умом и знанием. Верный
своему правилу, что «разумная деятельность, какого бы она
рода ни была, необходимо стремится так изменить отношение
между результатом и трудом, предпринимаемым для его достижения, чтобы первый постоянно возрастал, а второй уменьшался», он, конечно, безусловно отвергал все меры, клонившиеся
к увеличению дохода путем эксплоатации труда. Нужно было
видеть негодование, с которым он вспоминал, даже много лет
спустя, некоторые почти всеобщие, почти вошедшие в правило,
злоупотребления в этом направлении. Закрыв для вверенного
ему предприятия те источники барыша, которых не допускали
его нравственные правила, он тем более был вынужден для
того, чтоб выдержать конкуренцию, обращать внимание на другой их источник — на технические улучшения. По отзывам
специалистов, деятельность его на Михайловском заводе была
отмечена введением многих улучшений, впоследствии привившихся и на других заводах. О некоторых из полученных результатах он сообщал в иностранных и русских технических
изданиях. Те из знакомых, которые посещали П. А. в эти годы,
удивлялись тому жару, той энергии, которую он вносил в свою
деятельность, проводя иногда по нескольку бессонных ночей,
не выходя по суткам из завода, пока ему не удалось пустить
в ход какое-нибудь задуманное усовершенствование. В этих
трудах и постоянных заботах об улучшении положения фабричных рабочих прошло пять лет. Эта во всех отношениях плодотворная, но тем не менее однообразная, одинокая деятельность
не могла однако удовлетворить П. А., привыкшего к более
разнообразному умственному труду и деятельному обмену
мыслей в ученых и литературных кружках Петербурга. «Мое
настоящее, —писал он из Михайловского, —слишком однообразно, слишком мало интересно, даже для меня самого,
чтобы стоило вам наскучать его описанием: варить сахар, посылать в Москву и Петербург, получать барыши — вот наши
подвиги, вот славные дела. Знакомых у меня здесь нет никого;
завод, лаборатория и книги. — вот все, чем я могу занять свое
время. Я думал, что в таком уединении можно много работать,
кажется, я ошибся в этом; отсутствие общества действует в
высшей степени неблагоприятно на мой организм, всегда имевший расположение к ипохондрии. — Утешаюсь пока тем, что
контракт заключен только на 5 лет».
По истечении этих пяти лет, П. А. вновь вернулся к своей
ученой и преподавательской деятельности. В это время,
по мысли министра государственных имуществ M. Н. Муравьева, возник проект основания высшего сельскохозяйственного
образовательного учреждения — будущей Петровской Академии*. Павел Антонович посвятил все свои знания осуществлению этого благого начинания; он участвовал в комиссии, выработавшей первоначальный устав Академии, которому можно
сделать один упрек — что он опередил свое время. По мысли
основателей Академии, двери этого учреждения должны были
быть открыты для всех, кто, не взирая на возраст и первоначальное образование, сознавал необходимость основательного
научного изучения всего цикла сельскохозяйственных знаний,
или только известной их отрасли. Только что совершившаяся
крестьянская реформа, изменившая весь наш экономический
строй, заставляла предполагать, что спрос на это знание будет
громадный. «Русское землевладельческое дворянстве, — писал
Ильенкову Либих, приветствуя открытие Петровской Академии, — должно же понять, что ему необходимо запастись
сельскохозяйственными знаниями, если оно не хочет итти
навстречу верной гибели». Но предположения не оправдались;
оказалось, что спрос на такие знания в нашем обществе еще
слишком ограничен; напротив, оно с недоумением отнеслось
к учреждению, в котором не встречало обычных школьных
порядков; оно судило о значении учреждения лишь по числу
выдаваемых в год дипломов с правом на классный чин — и Академия должна была войти в обычные рамки учебного заведения.
Отклонив сделанное ему предложение принять на себя
должность директора Академии, П. А. просил о назначении его
профессором прикладной химии. Еще за три года до открытия
Академии, он поселился в Петровском-Разумовском, принимая
Ред.
* Петровская земледельческая и лесная академия учреждена в 1865 г.
сначала участие в трудах строительного комитета, а затем просил уволить его от этой должности и занялся исключительно
наблюдением за постройкой химической лаборатории, входя,
как техник и знаток строительного дела, в малейшие подробности. Эта лаборатория, выстроенная по его плану и указаниям, могла считаться, по отзывам всех посещавших ее специалистов, в своем роде образцовой. В то же время для возбуждения в обществе интереса к рациональному земледелию, он
издал заграницей перевод «Химия в приложении к земледелию»
Либиха и прочел в Петербурге, во вновь открывшемся сельскохозяйственном музее, ряд общедоступных лекций по применению химии к земледелию. Лекции посещались довольно многочисленной публикой, а книга быстро разошлась, так что потребовалось второе издание. В 1865 г. Павел Антонович представил в физико-математический факультет рассуждение под
заглавием: «Исследование о возможности употребить молочную
кислоту для извлечения углекислой извести из костяного
угля» и получил степень доктора технологии.
С открытием Академии, П. А. всецело посвятил ей свою деятельность, читая лекции по органической и агрономической
химии и руководя занятием слушателей. Почти все свое свободное время проводил он в лаборатории; в какое бы время ни
случалось в нее зайти, можно было почти всегда застать его
переходящего от одного рабочего стола к другому, расспрашивающего или объясняющего слушателям тот или другой прием
исследования. Не редко приходится слышать вопрос — почему
же эта лаборатория, которой он посвящал так много времени,
произвела так мало работ? Ответ на это заключается в воззрении П. А. на назначение его лаборатории. Человек принципов,
он и здесь не позволил себе отступать от однажды установившегося убеждения. Согласно специальному назначению Академии, он видел в своей лаборатории, прежде всего и главным
образом, учебную лабораторию. Наша обязанность, говорил
он, научить слушателей работать, снабдить их всеми необходимыми знаниями, развязать им руки, так, чтобы, когда понадобится, они сумели взяться за любое исследование; отвлекать же их прежде, чем они достигли этой степени знания,
какими-нибудь самостоятельными исследованиями, особенн"
при кратком, трехлетнем курсе Академии, значило бы вредить
общим целям академического преподавания. Он вообще не редко
высказывал мысль, что видит известную долю односторонности, или временное увлечение в направлении некоторых лабораторий, которые, обходя систематическое изучение как
теоретической, так и практической стороны науки, стараются
как можно скорее приохотить учеников к кажущимся самостоятельными исследованиям,заставляя их таким образом вращаться
в ограниченном, часто совершенно случайном круге идей и экспериментальных приемов, вместо того, чтобы посвящать школьные годы возможно широкому, разностороннему знакомству
с наукой и ее методами, без чего немыслима будущая, действительно самостоятельная деятельность. Но и при этом, преимущественно учебном направлении лаборатории, можно указать
на некоторые произведенные в ней исследования, помещавшиеся первоначально в «Русском сельском хозяйстве», на материалы по изучению чернозема, собранные в речи, произнесенной П. А. на академическом акте в 1873 г., на тот факт,
например, что наделавшие так много шуму работы Грандо были
проверены студентами Академии, под руководством Павла
Антоновича, и оценены по достоинству прежде, чем даже вопрос о них был поднят в среде петербургских ученых обществ.
Из собственных исследований Павла Антоновича за этот
период следует упомянуть «О влиянии почвенной влаги на
растительность» и о «Размельчении костей». Первое из них
было замечено немецкими учеными и послужило поводом и образцом для нескольких подобных работ, развивших и дополнивших результаты, полученные Ильенковым, вторая же, предлагающая совершенно новый, дешевый и практический способ
приготовления одного из самых важных удобрительных веществ, была оценена по достоинству и теоретиками и практиками х. «Мысль разлагать кости вместо кислоты щелочью, —
пишет по этому поводу Либих, — действительно блестящая,
и остается только изумляться, что она ранее никому не пришла
в голову, тем более, что разложение такое полное и идет так
легко. Для всех местностей, где известь и древесная зола на1 См. статьи проф. А. Энгельгардта в «Петербургских Ведомостях»,
ва 1865 год.
ходятся под руками, этот прием очевидно наилучший, и я надеюсь вскоре получить известия о действии этого удобрения,
которое в своей фосфорной кислоте, кали и аммиаке, или вообще азоте, заключает все главнейшие условия плодородия.
Я сам предприму ряд опытов с этим удобрением». В другом
месте он напоминает П. А., что пора познакомить практиков
с изобретенным им удобрением, действие которого должно
несомненно оправдаться.
Среди этой ученой и учебной деятельности протекло почти
десять лет. В 1869 г. П. А. временно исправлял должность директора — вновь ему представлялся случай занять эту должность, но, не чувствуя расположения к административной деятельности и не желая жертвовать для того наукой, он предпочел остаться профессором.
В 1875 г. вследствие столкновений с администрацией Академии он, с сожалением, покинул Петровское-Разумовское и переехал на житье в Петербург.
Здесь на первых порах его тяготило бездействие: он осматривался, приискивая себе деятельность, и между прочим задумал было литературный труд, хотя и не относившийся непосредственно к его специальности, но вполне соответствующий общему складу его умственной деятельности, всегда направленной к применению общих законов естествознания к разрешению
тех вопросов, в которых затронуто общее благосостояние. Возмущенный поверхностным, ненаучным отношением некоторых
представителей нашей науки к вопросу такой капитальной
важности, каков вопрос о климатическом значении лесов, он
задумал заняться основательным его изучением и уже успел
собрать обильный материал. Труду этому не суждено было
однако осуществиться; другие, более жгучие интересы всецело
овладели вниманием П. А. С лихорадочным вниманием следил
он за томительными фазисами нарождавшегося вновь восточного вопроса и, когда он разрешился объявлением войны, он,
несмотря на немолодые уже годы, несмотря на расстроенное
здоровье, поспешил предоставить себя в распоряжение общества Красного Креста, желая послужить своими знаниями,
своею опытностью, а если понадобится, и последним остатком
физических сил. Не думая долго, он собрался в путь, в дей-
ствующую армию; давно не видали его в таком бодром, веселом
настроении. Но жизнь готовила ему еще одну и уже последнюю
неудачу. Доехав только до Москвы, он почувствовал незначительную простуду; простуда превратилась в воспаление легких, которому покойный был подвержен, и в несколько дней
свела его в могилу. Он скончался 27 числа прошлого июня.
По странной прихоти судьбы, бездыханное тело его вернулось
в стены той Петровской Академии, которую он за два года
покинул с таким сожалением. Сопровождаемое теми из друзей
и сослуживцев, которых успела собрать внезапная весть о его
кончине, тело покойного было предано земле на сельском кладбище в с. Владыкине, ближайшем к Академии, которую он так
любил и для которой так много потрудился.
*
Такова внешняя рамка этой трудовой, честной и полезной
жизни; только те, кто знал лично покойного Павла Антоновича,
в состоянии сами дополнить эту пустую рамку дорогим живым
образом, который никогда не изгладится из их воспоминания1.
Как ученый, он никогда не был узким специалистом,
не интересующимся ничем, что лежит за пределами ограниченной, однажды себе отмежеванной области. Естествоиспытатель по призванию и в самом широком смысле слова, он видел
в естествознании не только богатые сокровища положительных
знаний, но и единственную строгую дисциплину ума. Особенно
привязанный к своей облюбленной науке — химии, он постоянно интересовался и смежными с нею науками, физикой и физиологией. Вполне сознавая могущество теории, он в то же время,
по складу своего ума, с особенным удовольствием останавливался на тех сторонах науки, которыми она приходит в прикосновение с жизнью — отсюда его постоянное, обозначившееся
еще на университетской скамье предпочтение к прикладным
знаниям, к технологии и, позднее, к агрономической химии.
И не одно только естествознание привлекало его внимание;
1 Это отчасти выполнено нашим талантливым писателем В. Г. Короленко, бывшим студентом Академии, в его, к сожалению, неоконченной повести «Прохор и студенты».
напротив, обладая общим образованием, он интересовался
и другими отраслями знания — философией и в особенности
политической экономией Ч
Как человек, он отличался замечательной отзывчивостью
ко всякому проявлению общественной жизни. Никого так не
радовали ее светлые стороны, ее действительные, непризрачные,
успехи, — никого так не печалили ее темные стороны. Каждый
прискорбный факт, хотя бы нисколько не касавшийся его лично,
глубоко расстраивал его. Люди, привыкшие находить, что все
хорошо, пока им живется хорошо, нередко укоряли его в какомто пессимизме, в какой-то хандре, но всякий, знавший его ближе, не мог не сознавать, что источник этой хандры лежал в необыкновенно развитом, до болезненности чутком, чувстве справедливости. В молодости он умел вселять к себе уважение
в тех, кто был старше его, в зрелых летах он умел привлекать
к себе симпатию тех, кто был моложе его. Всякий, кого судьба
сводила с ним, не мог не чувствовать присутствия сильного,
ясного и систематически развитого ума и железного характера,
не способного поступиться ни одной йотой своих нравственных
принципов, но только те, кто имел случай знать его ближе,
знали, сколько доброты, сколько сердечной теплоты скрывалось под этой с виду строгой, суровой оболочкой.
Чем был покойный Ильенков для Академии, что утратила
она в нем, можно усмотреть из слов одного из членов Совета,
служивших выражением мнения большинства, по поводу избрания Павла Антоновича в почетные члены Академии. «Позволю
себе вкратце указать на достоинства Павла Антоновича, заслужившие ему признательность Совета. Почти излишним считаю
упоминать о его ученых заслугах и преподавательской деятельности; они всем известны и оценены по достоинству; вещественное воспоминание о них сохранится в образцовой, устроенной им, лаборатории. Для нас важна та любовь, та преданность, с которыми он в течение десяти лет заботился обо всем,
что касалось достоинства и научного значения Академии,
в основании которой принимал деятельное участие. Среди почти
1 У него у первого видел я, тотчас по его появлении,
первый том
«Капитала» Маркса, который он тщательно изучал. (Ср. статью «Ч. ДарЕИН и К. Маркс» в т. I X настоящего издания. Ред.)
всеобщего недоброжелательства, которое встретила Академия
и в печати и в обществе, почти с самого ее начала, никогда,
ни одно слово осуждения не коснулось преподавателей и научного уровня учреждения. Этим Академия может справедливо
гордиться; это сознание одно в состоянии поддерживать и ободрять нас среди всевозможных невзгод и всеобщего несочувствия
или равнодушия. Этой единственной доброй славой, которую
она заслужила за свое десятилетнее существование. Академия,
конечно, обязана тем лицам, которые составили ее первоначальное ядро, и, я полагаю, всякий охотно согласится, что центром этого ядра был Павел Антонович».
«Нельзя не указать на другое его свойство — на его безусловное уважение к закону, выражавшееся в строгом его исполнении и столь же строгом требовании, чтобы он соблюдался
другими. Эта черта его характера не могла не иметь благотворного влияния на учащуюся молодежь. Не заискивая, не гоняясь
за ложной популярностью, он успел внушить этой молодежи
глубокое уважение, основанное на уверенности, что и с его
стороны она всегда встретит уважение к ее законным правам
и неподдельное, искреннее участие к ее нуждам, участие, выразившееся, между прочим, в учреждении, по его мысли и почину,
„Общества для пособия нуждающимся студентам"».
«Наконец, нигде его нравственная личность не выступала
в таком полном свете, как в этих стенах. Непоколебимая стойкость и строгость принципов, не допускавшая ни малейшей
сделки со своими убеждениями, соединенная с редким умом
и ясностью суждения, упрочили за ним в этом собрании известный нравственный авторитет. С этим согласится каждый из
присутствующих, вспомнив, как при возбуждении какого-нибудь вопроса все обращались в ту сторону, где сидел Павел
Антонович, желая услышать его мнение. При затруднениях,
неизбежных в каждом новом деле и еще усложняемых всеобщим
недоверием, деятельность Совета за первое десятилетие не была
ни легка, ни приятна и потому для него особенно ценно было
присутствие человека, глубоко убежденного в пользе и значении
Академии и ревниво охранявшего все, что касалось чести и
достоинства этого собрания. Такие люди особенно дороги
в молодых, возникающих учреждениях; их влияние не ограни-
чивается их присутствием, они дают тон, сообщают направление
на многие годы».
«Итак, как член Совета, я ценю в Павле Антоновиче даровитого и глубоко преданного своему делу преподавателя,
я уважаю в нем деятеля, в течение десяти лет заботившегося
о поддержании Академии на том уровне, на котором она, по
его мнению, должна была стоять, я наконец ценю и уважаю в нем
высоконравственную личность, утрата которой будет долго
ощущаться в этом собрании, а благотворное влияние сохранится еще долее».
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ СТОЛЕТОВ •
(Родился в 1839 г., умер в 1896 г . )
В
ночь с 14 на 15 мая, когда по улицам Москвы шумно расходились веселые толпы народа и один за другим потухали
огни иллюминации, в стенах университета угасала жизнь
одного из преданнейших и незаменимых его деятелей — профессора А. Г. Столетова.
Вся эта жизнь была бескорыстным служением русской
науке и университету — для того, чтобы в результате привести к ряду горьких разочарований. «В сентябре меня уже
не будет в университете», — были последние, как бы прощальные слова, которые я слышал от него за несколько дней до его
* Эта речь была подготовлена к заседанию общества любителей
естествознания 15 ноября 1896 г. Речь не была произнесена по настойчивой просьбе устроителей, опасавшихся неприятных последствий со
стороны министерства народного просвещения и полиции. Впервые опубликовано в журнале «Русская Мысль», 1896, кн. II. В 4-е издание настоящего сборника {1923 г.) автором не включена. Ред.
Александр Григорьевич Столетов
1839
-1896
неожиданной смерти, как громом поразившей не только его
друзей, но и всех, кто в состоянии был оценить значение его
университетской деятельности. Ни он, ни я не подозревали,
конечно, в эту минуту, что не через несколько месяцев, а через
несколько дней его уже не будет, не только в университете,
но и в живых — как будто ему уже не доставало сил привести
в исполнение свое намерение, как будто ему легче было расстаться с жизнью, чем с этим университетом, на который была
растрачена вся его жизненная энергия...
Александр Григорьевич Столетов родился во Владимире
(на Клязьме) в 1839 г. Происходил он от старинного новгородского купеческого рода, выселенного воВладимир после разгрома
Новгорода Грозным. Картину мирной, патриархальной жизни,
среди которой протекало его детство, он сам сохранил в детски-наивных, безыскусственных дневниках, которые вел с девятилетнего возраста. На каждой странице этих дневников проглядывает глубокая привязанность к семье, в особенности
к матери, которая, повидимому, имела главное влияние на его
воспитание, и к родному Владимиру. Эти привязанности А. Г.
сохранил на всю жизнь, до последних лет, не упуская почти
ни одних вакаций, чтобы не навестить свою престарелую мать
(скончавшуюся 82 лет в 1889 г.).
Благодаря этим дневникам, является возможность изо дня
в день, за целые годы, следить за всеми маленькими событиями
(до недоразумений с кошкой включительно) и маленькими радостями в жизни их автора — и за все это время приходится
отметить только одну маленькую ссору — со старшим братом,
но и здесь, как и во всех житейских столкновениях в зрелом
возрасте, право было на его стороне: брат хотел нарушить его
авторскую скромность и прочесть вслух тщательно скрываемые
им стихи. Один товарищ щетства А. Г. мог резюмировать свои
воспоминания о нем одной фразой: «это был очаровательный
ребенок». Из того факта, что девятилетний мальчик, для своего
личного удовольствия и скрывая от взрослых, писал стихи,
а также на основании прекрасного, безыскусственного и правильного слога дневников, видно, как рано А. Г. овладел
родной речью, о чистоте и красоте которой так заботился всю
свою жизнь, испытывая почти нервное раздражение при встрече
с небрежным к ней отношением. Читать он научился самоучкой,
когда ему еще не было пяти лет. Благодаря заботам старшего
своего брата Николая (будущего шипкинского героя Николая
Григорьевича) в раннем возрасте он уже свободно владел
и французским языком.
Но в чем же заключались первые его радости, что же привлекало внимание ребенка? С первых же страниц, они вращаются
около книг, особенно иллюстрированных. Не знаю, согласятся
ли со мной присяжные педагоги, но, наблюдая за детьми, я всегда
приходил к заключению, что отношение к картинкам едва ли
не лучшее мерило умственного развития ребенка. Присмотритесь, как он перелистывает страницы какой-нибудь старой иллюстрации, и вы получите гораздо более ясное понятие о том,
наскольковнем проснулась собственная мысль,чем выслушивая,
как он с чужого голоса отбарабанивает басни или рапортует,
оставляющий его совершенно безучастным, урок грамматики.
Томы «Musée des familles» и в особенности «Живописное Обозрение», получаемое из библиотеки одного знакомого, вот первые
радости, первые впечатления, которые ребенок заносит на страницы своего дневника. Даже в последние свои годы А. Г. говорил в шутку своим родным: «Хоть бы на Сухаревке отыскать
эти нумера «Живописного Обозрения», которые доставляли мне
такое наслаждение». Однообразное течение жизни порой нарушалось и более крупными событиями, каковы: приезд в город зверинца или прогулки «за Лыбедью»; обстоятельному описанию
того или другого посвящаются целые страницы, в которых сказывается неподдельная любовь к живой природе. Но рядом
с этими, более или менее обычными, вкусами в ребенке как будто
уже проглядывает будущий физик. «Сегодня утром забавлялся,
взвешивая у маменьки на весах разные вещи», читаем мы в одном месте дневника, а в другом упоминается, как с одним товарищем он мастерил какие-то часы из свинца. Только раз, на первых же страницах дневника, девятилетний мальчик заносит очевидно поразившее его известие из далекого мира, который, он и
не подозревал, на всю жизнь сделается его миром — из мира университетского. «Был сегодня у нас полицеймейстер,—пишет он,—
и рассказывал, что в Московском университете 50 студентов
разжаловали в солдаты»,— это был грозный сорок восьмой год.
(При той подробности, которой отличается дневник, поражает
почтн полное отсутствие первых школьных, гимназических воспоминаний; все ограничивается упоминанием об экзаменах с
неизменным припевом: «получил пять баллов». Музыкальные
успехи сестры Вареньки волновали маленького гимназиста более, чем собственные уроки. Повидимому, он сам начал учиться
музыке самоучкой и тайком, пока его не захватил врасплох
учитель сестры, похваливший его за сделанные успехи. В позднейшие годы, музыка была чуть не единственным развлечением, которое он себе позволял в качестве отдыха от усиленных
умственных занятий.
/Какое влияние оказала на него гимназия, кто были его учителя, к сожалению, мы почти не знаем. По рассказам его родственников, он уже тогда обнаружил страсть к физике, воспроизводя перед домашними, какие только мог, физические опыты,
виденные в гимназии, при помощи самодельных инструментов.
Наибольшим влиянием пользовался учитель истории и географии А. Н. Шемякин, у которого он нередко бывал, получал
от него книги и сохранил о нем самое теплое воспоминание.
Но еще более плодотворно повлиял на развитие мальчика учитель местной семинарии И. Г. Соколов, человек, повидимому,
замечательных способностей, как можно заключить на основании следующего обстоятельства. Во Владимире жил врач, который, благодаря многочисленной практике, не успевал следить
за своей наукой, и вот этот Соколов, несмотря на свое исключительно семинарское образование, взялся читать за него медицинские книги и сообщать ему новости по его специальности.
Соколов, очевидно, привил А. Г. любовь к природе; с ним он
делал экскурсии и по его указаниям, еще в гимназии, собрал
довольно большой гербарий.
Как бы то ни было, гимназический курс был окончен блистательно, с золотой медалью, но находилось время и для литературных развлечений, о чем свидетельствуют несколько
сохранившихся номеров рукописного учено-литературного
журнала, в котором А. Г. редакторствовал и помещал
свои произведения в стихах и прозе. В прозе проскальзывает скептический взгляд на медицину и медиков, сложившийся, быть может, под влиянием Соколова, а поэзия
17 К . А. Тимирязев,
т. V
257
касается, между прочим, старого, но вечно юного школьного
мотива:
Экзаменов обычный срок
Пройдет и... милосердый боже.
Опять садимся за урок
И целый год долбим все то же.
В Московский университет А. Г. поступил по примеру своего
старшего брата. О годах, проведенных в университете (с 1856
по 1860 гг.), этой самой важной эпохи в жизни, когда кристаллизуется будущий облик человека и ученого, к сожалению,
не имеется у меня никаких письменных сведений, — в результате их был кандидатский диплом и, что еще важнее, командировка в 1862 г. за границу, где А. Г. пробыл три с половиной
года.
Эти годы с их напряженной научной деятельностью, в благотворной атмосфере маленьких университетских городков,
еще не объединенной, но зато и не заразившейся повальным
милитаризмом Германии, были конечно лучшими и самыми
важными годами в его жизни. Всякий, кто испытывал на себе
влияние этой атмосферы, с ее исключительно умственными,
идейными интересами, знает, какую печать она налагает на
всю будущую деятельность ученого, надолго снабжая запасом
энергии для сопротивления окутывающей тине житейских мелочей и дрязг. О пребывании А. Г. за границей сохранились
отрывочные следы в его собственных письмах и рассказах его
гейдельбергских товарищей.
Гейдельберг того времени был Меккой, куда стремилась,
особенно после временного закрытия Петербургского университета, русская учащаяся молодежь, преимущественно натуралисты. На его Haupt-strasse тогда еще с гордостью показывали узенькое двухэтажное здание с фасадом в каких-нибудь
двадцать окон, величая его Natur palast. В то время еще далеко
' было бы до тех действительных дворцов, в которых расположилась наука нашего времени, но зато под одной крышей этого
убогого дворца помещались Кирхгоф и Гельмгольтц. Из многочисленных русских, поселившихся тогда в Гейдельберге, выделился, между прочим, кружок молодых ученых, посещавших
лекции Кирхгофа по математической физике. «Хотя болыпин-
.
ство из нас,— рассказывал мне один из участников этого кружка, В. Ф. Лугинин, — было старше Столетова и многие обладали очень основательным математическим образованием, но
с первых же разов, как мы стали собираться для составления
лекций, он резко выдвинулся вперед; то, чего мы добивались
с трудом, ему давалось шутя, и вскоре он сделался уже не
простым сотрудником, а руководителем наших занятий». Могу
с своей стороны прибавить, что когда через несколько уже лет
я, в свою очередь, провел в Гейдельберге несколько семестров,
посещая, между прочим, и практические занятия у Кирхгофа,
мне доводилось слышать еще свежее предание об одном молодом русском, с виду почти мальчике, изумлявшем всех своими
блестящими способностями. Сохранилось письмо Кирхгофа,
в котором он называет Столетова самым талантливым из своих
учеников. До какой степени был он расположен к А. Г., доказывает тот факт, что впоследствии он сообщал ему неизданные
рукописи своих курсов математической физики. Кроме Гейдельберга, А. Г. провел несколько времени в Гетингене, где
занимался у В . Вебера. Но напряженный труд и поразительные
успехи в избранной специальности не мешали ему выносить
из своего пребывания на чужбине и другие, более общие впечатления. Европа, с первых же шагов — в Берлине —приковывает его внимание широким разливом общего развития и просвещения в таких слоях народа, которые дома представляли
картину темного невежества и чуть не поголовной безграмотности. Контраст чужого ео своим, родным, поразивший впечатлительного молодого человека, заставляет его с тем большим
жаром относиться к благим вестям, доходившим с родины, как,
например, к слуху о скором введении суда присяжных. В этих
строках его письма как будто слышится отголосок гейдельбергского студента того времени, когда русская молодежь
без различия специальностей и факультетов толпилась в аудитории Миттермайера, где маститый юрист в увлекательном
изложении знакомил с историей и практикой этого института,
везде являвшегося как бы символом общественного возрождения, и приветствовал его скорое появление в молодой, многомиллионной стране. Любовь к природе, уже в родном Владимире находившая себе пищу в прогулках «за Лыбедью», нашла
17*
259
себе более обильную пищу в мягких красотах окрестностей
Гейдельберга и очаровательных картинах Женевского озера,
описаниями которых наполнены некоторые из его писем домой.
Возвратившись в Москву, А. Г. с 1866 г. приступил к преподаванию математической физики и физической географии.
В 1869 г. он защитил диссертацию — «Общая задача электростатики и ее приведение к простейшему случаю», получил степень
магистра и утвержден доцентом. Через три года, он защитил
докторскую диссертацию — «Исследование о функции намагничивания мягкого железа»; в том же году избран экстраординарным, а через год, 1873, — ординарным профессором.
Экспериментальная часть докторской диссертации была
выполнена в Гейдельберге, во время полугодичной командировки в 1871 г., — обстоятельство, доказывающее, как всесторонне обсуждена была тема и как подробно обработан план
исследования, если его возможно было осуществить в такой
краткий срок. Но эта необходимость уезжать из своего университета для того, чтобы работать, конечно, заронила мысль
создать в Москве то, за чем приходилось ездить так далеко.
Должно заметить, что если рабочие химические лаборатории,
благодаря красноречивой пропаганде Либиха, уже с сороковых
годов начали составлять необходимые условия преподавания
химии, то рабочие физические лаборатории были еще недавним
нововведением и в Германии, и во Франции. Хотя забота об
устройстве физической лаборатории не входила собственно
в круг его обязательных занятий, как преподавателя математической физики, А. Г. тем не менее со свойственной ему энергией и организаторским талантом, в жалком помещении, на
нищенские средства создает физическую лабораторию, сделавшуюся центром целой школы русских физиков, занявших
кафедры в университетах и других высших учебных заведениях.
Имена Шиллера, Соколова, Колли, Зилова, Щегляева, Гольдгаммера, Михельсона известны ученому миру, к ним можно
было бы присоединить еще не одно имя более молодых ученых,
которые не замедлят последовать по стопам своих старших товарищей. Доставив своим ученикам во время прохождения университетского курса и по окончании его все, что только можно
было доставить при скудности находившихся в его распоря-
жении средств, А. Г . , в то же время, не принадлежал к числу
тех ученых, которые, руководясь узким, по большей части ничем не оправдываемым самолюбием и ложно понимаемой национальной гордостью, считают излишним, чтобы молодые
люди после проделанной дома школы стремились для окончания
своего образования в лаборатории Запада. Напротив того, он
употреблял все старания, преодолевал нередко значительные
препятствия для того, чтобы доставить своим ученикам этот
случай воспользоваться общением с великими учеными Запада
и более или менее продолжительным пребыванием в той атмосфере уважения к науке и ее представителям, которая невольно
охватывает в западных лабораториях и аудиториях. С другой
стороны, он никогда не был сторонником того узкого взгляда,—
своего рода учения Монро: «Московский университет для своих
питомцев», — и гостеприимно открывал двери своей лаборатории тем молодым ученым, которые, проделав эту школу западных лабораторий, являлись на родину с готовыми знаниями
и желанием посвятить себя науке. Хотя ему приходилось
иногда и разочаровываться, но зато он находил и высокое нравственное удовлетворение, привлекая в Московский университет
молодые научные силы, подобные П. Н. Лебедеву. Заботам
А. Г. Московский университет обязан и тем, что мог воспользоваться глубокими знаниями В . Ф. Лугинина, переселившегося
в Москву с своей замечательной лабораторией.
Только через десять лет, т. е. с 1883 г., А. Г. переходит на
освободившуюся кафедру экспериментальной физики и получает возможность поставить уже не только лабораторные занятия, но и все преподавание физики на ту высоту, на какой
оно стоит в европейских университетах. Здесь, быть может,
еще более, чем в создании лаборатории, доказал он свою удивительную организаторскую способность, свое умение, не затрачивая сотен тысяч, а на самые скромные средства достигать замечательных результатов. Только тот, кто припомнит старую
физическую аудиторию с ее почти беспросветным мраком, вытянутую в длину, со скрипучим, уходившим в пыльную высь
помостом для слушателей, только тот, кто припомнит это помещение, пригодное для чего угодно, только не для чтения
экспериментальных курсов, может оценить вполне все достоин-
ства прекрасной, одной из лучших в Европе, физических аудиторий, которой обладает теперь Московский университет благодаря энергии и таланту А. Г. И не забудем, что это не было
новое здание, где строителю оставалось бы только справляться
с современными требованиями преподавания, — приходилось
считаться с условиями старого, неуклюжего здания, втискивая в него новую часть, удовлетворявшую совершенно новым
потребностям. Соответственно с помещением, и экспериментальная часть была сразу поставлена на высоту, не уступавшую
лучшим западным образцам. Не только учащиеся в университете, но вся образованная московская публика могла не раз
в стенах этой аудитории знакомиться с великими научными
открытиями через несколько месяцев, через несколько недель
после их появления, и в такой обстановке, какой могли бы позавидовать Берлин, Париж или Лондон. Опыты Герца и Тесла,
фонограф Эдиссона и спектры Роланда, цветная фотография
Липмана или радиография Рентгена, со всеми этими открытиями
могли своевременно ознакомиться университет и Москва, не
затрачивая на то миллионы, благодаря энергии А. Г., не
жалевшего ни времени, ни трудов, ни хлопот. Это было красноречиво засвидетельствовано во время I X съезда естествоиспытателей, когда проф. Боргман благодарил А. Г. от лица членов
съезда «за беспримерно блистательную организацию заседаний».
Но университетом не ограничивалась деятельность А. Г.
Выбранный в 1881 г. председателем отделения физических наук
Общества любителей естествознания, он с первых же своих
шагов не только вдохнул новую жизнь в это отделение, но,
можно сказать, что его появление было сигналом к оживлению
деятельности общества и в новых, до тех пор не проявлявшихся,
направлениях г . Физическое общество сделалось сборным местом для всего молодого, живого, интересующегося успехами
точного естествознания в области механики и математики,
физики и астрономии, химии и физиологии. Собирались сюда
А. Г. был некоторое время и членом Общества испытателей природы. Причины, побудившие его и нескольких других членов покинуть
общество, были мною в свое время разъяснены в статье «Вынужденное
объяснение», помещенной в «Русских Ведомостях». (См. приложение к
настоящему тому. Ред.)
1
для обмена мыслей, для сообщения о своих текущих трудах
или для доклада о новых крупных приобретениях науки;
собирались и для того, чтобы доставлять московскому обществу
возможность ознакомиться в общедоступном изложении с теми
завоеваниями человеческой мысли, которые привлекали в данный момент внимание ученых, так как и в этом отношении А. Г.
разделял с самыми выдающимися научными деятелями Запада
мнение, что наука путем серьезной популяризации должна
итти навстречу обществу, приобщая его к своим интересам, —
мнение, которое в то время далеко нельзя было считать укоренившимся, — еще очень распространено было воззрение,
что наука и ученые только выигрывали, скрываясь в глубине
своих святилищ. В течение почти десяти лет (до 1889 г.), А. Г.
оставался душой физического общества, обнаруживая во всем,
до чего касался, неутомимую деятельность, обо всем заботясь,
все налаживая, ободряя одних, понукая других, и всех заражая
своей неутомимой энергией и желанием, чтобы физическое
общество оставалось верным своей основной идее: с одной стороны, служить центром для обмена мыслей между представителями науки, а с другой стороны — источником, из которого
и все московское образованное общество могло черпать строго
научные знания в доступной ему форме.
Посвящая все свои силы научным трудам и организации
преподавания, заботясь о том, чтобы под его руководством молодые физики могли испытывать свои силы на самостоятельных
исследованиях, — за чем прежде приходилось ездить на чужбину; уделяя, наконец, остальное время более широкому распространению знаний в обществе, А. Г. искал отдыха исключительно в почти ежегодных летних поездках за границу, где
поддерживал сношения с великими учеными века и выдающимися деятелями в области физики — Кирхгофом, Гельмгольтцем, Томсоном, Максвеллем, Кундтом, Липманом, Больцманом и другими. Уважение, которым он пользовался в среде
своих западных товарищей, обнаруживалось при его появлении
на съездах и конгрессах, как, например, в избрании его вицепрезидентом международного конгресса электриков во время
всемирной выставки в Париже в 1889 г. На всех торжественных заседаниях и приеме у Карно в Фонтенбло А. Г. можно было
видеть рядом с В . Томсоном (лордом Кельвином), президентом
конгресса. Напомним, что в 1889 г. почет, 'оказываемый русскому, еще не имел под собой дипломатической почвы, а относился непосредственно к лицу, да к тому же и съезд был международный.
В 1893 г., когда в императорской академии наук открылась
вакансия по физике, А. Г. был извещен, что комиссией, которой
поручено было рассматривать права кандидатов, — он был
признан единогласно единственным кандидатом. При таких
условиях избрание его представлялось настолько очевидным,
что он получил даже приглашение осмотреть академическую
лабораторию и высказать свои соображения относительно ее
изменений и улучшений. Но через несколько месяцев кандидатура его была устранена, а избранным оказался князь Б . Голицын, магистерскую диссертацию которого, незадолго перед
тем, А. Г. признал неудовлетворительной Г Никогда не забуду
выражения лица покойного, когда он молча подал мне письмо
из Петербурга, извещавшее о таком исходе его кандидатуры,
а после того, как я ознакомился с его содержанием, только
произнес: «не правда ли, что-то сказочное, что-то фантастическое». Конечно, придет время, — ведь, на страницах «Архива»
или «Старины» история наступает очень быстро, — когда мы
узнаем подробности этого неожиданного исхода кандидатуры,
которая, отметим это, была ему предложена без всякого с его
стороны искания. Одно только очевидно и в настоящую минуту,
что причина такого неожиданного исхода лежала не в научных
достоинствах кандидата. Научные достоинства не падают и не
возвышаются с головокружительной стремительностью биржевых курсов. Незадолго перед тем в Москве разыгралась
одна из так называемых «студенческих историй» и был распущен слух, что подстрекателем в этой истории был Александр
Григорьевич Столетов *. Чудовищность этой клеветы была
очевидна всякому, кто знал Столетова и его отношения к стуЭтот отзыв, как и все обстоятельства, его сопровождавшие, изложены в «Ученых записках Московского университета» за 1893 г.
* О деле проф. А. Г. Столетова и участии в нем К. А. см. документы,
опубликованные в биографии К. А. Тимирязева, т. I, стр. 67 настоящего
издания. Ред.
1
дентам, но золотое правило житейских мудрецов: Calomniez,
calomniez, il en reste toujours * — и на этот раз увенчалось
успехом.
Во время московского съезда естествоиспытателей, в январе
1894 г., А. Г. проявил особую деятельность и показал, чего
может достигнуть даже при самых неблагоприятных условиях
талантливая, упорно преданная делу науки, деятельность
одного человека. Я упомянул выше, как отнеслись к ней члены
физической секции. Всем, конечно, памятна та овация, которая
была сделана А. Г. на последнем общем заседании съезда: громадная зала благородного собрания в течение нескольких минут
дрожала от апплодисментов двух тысяч русских ученых, руководившихся единодушным желанием выразить чувства благодарного уважения неутомимому ученому за все, что им было
сделано для русской науки, для русского просвещения. Это
была чуть ли не последняя светлая минута в его жизни. Какая-то
печать гнетущего, глубоко затаенного нравственного страдания легла на все последние годы его жизни, как будто перед
ним вечно стоял вопрос: почему же это везде, на чужбине и в
среде посторонних русских ученых, встречал он уважение
и горячее признание своих заслуг и только там, где, казалось,
имел право на признательность, там, где плоды его деятельности были у всех на виду, ему приходилось сталкиваться
с неблагодарностью, мелкими уколами самолюбию, оскорблениями. Но он еще крепился, пытаясь стать выше «позора мелочных обид», и это ему удавалось, пока не изменили физические силы, но когда, едва оправившись от тяжелой болезни
(рожистого воспаления), он снова столкнулся с теми же житейскими дрязгами, прежней выносливости уже не оказалось. «Бывали у меня неприятности и похуже, — говорил он в последние
дни окружающим, — да и силы были не те», и это сознание
выразилось в решимости подать в отставку, уйти, наконец,
из той среды, которая омрачила последние годы его жизни, —
решимости, бесповоротно высказанной при той встрече со
мной, которой суждено было оказаться последней. Но было
уже поздно, — смерть сторожила его.
* Клевещите,
нется. Ред.
клевещите,
всегда от
клеветы что-нибудь да оста-
Умер А. Г. от инфлуенцы, которой не выдержал организм,
подорванный недавней болезнью, угнетенный нравственным
страданием, истощенный непосильным утомлением от государственных экзаменов, к которым он и в последний раз в своей
жизни отнесся с обычной добросовестностью. По настоятельному требованию врачей, он собирался ехать в Крым. Укладывая уже свой чемодан, в день, назначенный для отъезда,
почувствовал он первый приступ болезни, которая развилась
с поразительной быстротой, усложнившись воспалением легких
и упадком деятельности сердца. В час пополуночи 15 мая его
не стало Ч
Отпевание тела происходило 18 мая в университетской
церкви, откуда несколько друзей и немногочисленные студенты,
которые могли собраться в это время года, проводили гроб
до станции Нижегородской железной дороги, — по желанию
родственников, тело было предано земле на родине покойного,
во Владимире. Молча проводили его на вечный покой университет и Москва; не нашлось ни одного слова признательности
или сожаления над гробом человека, потратившего на них
столько сил, столько таланта. Впрочем, нет, мне привелось
услышать несколько бесхитростных слов благодарности, стоящих длинных холодных панегириков. «Даже в гробу покойник
порадел за нас, — невольно сорвалось у одного из университетских сторожей, — не соберись мы его хоронить, сколько
из нас, может, лежало бы теперь на Ходынке». Похороны совпали с ужасной катастрофой. Не угадывал произносивший эти
слова, сколько было в них горечи; не подозревал он, как отозвались на собственной жизни Александра Григорьевича его
заботы о слабых и обездоленных...
The rest is Silence * .
Такова несложная внешняя рамка этой жизни, полной
талантливого неутомимого труда на пользу науки и просве1 Не сложись в последние годы все обстоятельства таким роковым
образом, и наука, и русское просвещение, быть может, еще надолго сохранили бы этого неоцененного деятеля, так как все его предки отличались,
, по словам его родственников, замечательною долговечностью, чем и объясняется происхождение самого прозвища — Столетовы.
* А после — молчание. Ред.
щения: жизнь ученого всегда немногосложна в своих внешних
событиях; все богатство ее содержания заключается почти
исключительно в умственной деятельности, не выходящей
за пределы кабинета, аудитории, или лаборатории. Попытаюсь
заполнить эту рамку чертами, дорогими для всякого, кто знал
и был способен оценить этого замечательного научного деятеля, этого идеально благородного человека. Люди более
компетентные выскажут о нем мнение как о специалисте,
я попытаюсь охарактеризовать его как натуралиста-мыслителя вообще и как человека, каким я его знал, в течение двадцатилетней дружбы, неизменно соединявшей нас, for better
and for worse*.
Он был физик, т. е. представитель самой совершенной области естествознания, — я готов сказать знания вообще, —
так как ни одна область человеческого знания, конечно, не
открывает такого простора для применения всех познающих
способностей человеческого ума, начиная с свободного полета
творческой фантазии, проходя через горнило опытной индукции
и завершаясь строгой дедукцией математического анализа.
Не даром же на языке соотечественников Ньютона, и по его
примеру, даже не существовало и слова физика, а только
Natural Philosophy, т. е. философия природы. И притом, как
тот гениальный ученый, величавый образ которого он не раз
с таким талантом воссоздавал, — он был физик по призванию,
по всему складу своего ума, а не в силу служебных случайностей; его не удовлетворяли одни отвлеченные области мысли,
его влекла к себе и «радовала», выражаясь словами Гельмгольтца, «только полная действительность» физики. Вынужденный в течение долгих лет сосредоточивать свою педагогическую деятельность на математической физике, он тяготился
этой односторонностью и, создав рабочую лабораторию, открывает себе и другим доступ в область той опытной науки,
которая одна может воплотить в осязательную форму гипотетические создания научной фантазии, — доставить прочные посылки или конечную санкцию дедукции математика. В первом
же из своих литературных опытов, посвященном памяти учи* Для лучшего и для худшего.
Ред,
теля (Кирхгофа), рисует нам А. Г. этот идеальный тип современного физика, равно избегающего исключительного эмпиризма
экспериментатора и оторванной от почвы опыта теории математика, но стремящегося к гармоническому слиянию этих двух
равно могучих путей исследования. Но много ли найдется
физиков, которые в действительности осуществляют этот идеал?
Одним из таких немногих, несомненно, был Столетов. Живо
помню, как, возвращаясь из этой самой залы с Ф. А. Бредихиным после одного из блестящих общих заседаний физического отделения, я восхищался изяществом экспериментальной обстановки и изложения реферата А. Г. На что Ф. А. мне
ответил: «Заметьте, что вы можете судить только о половине
его достоинств. Если бы вы могли только оценить, какой это
математик. Да, А. Г. — это гордость нашего университета».
Владея в совершенстве этим орудием исследования, он глубоко
возмущался, когда им злоупотребляли, пользуясь только для
проявления технической виртуозности.
Собственные исследования А. Г. относились к обширной
области электричества, и за целой категорией явлений сохранилось данное им название актино-электрических.
Но и в других областях он известен как автор критических трудов, а
этого рода научная деятельность при современном быстром
развитии науки и поспешности, с которой строятся иные теории, едва ли не менее существенна для успехов точного знания, едва ли менее плодотворна, чем добывание новых фактов.
Нельзя не пожалеть, что он не успел закончить задуманного
им критического этюда об энергетике Оствальда, которого
он укорял в поспешности и незрелости мысли и в отступлении
, от основной задачи физики и всего естествознания •— сведения
явлений природы к простым законам механики. Как относились к его научной деятельности на Западе, мы уже видели
из отношения к нему Кирхгофа. При открытии заседаний последнего съезда британской ассоциации Томсон (Дж. Дж.), остановившись на двух утратах, которые понесла наука в лице Грова
и Столетова, прибавил, что хотя имя последнего всем хорошо
знакомо, но все же его работы еще не оценены так, как они
того заслуживают. Но и помимо тех областей, в которых он
сам работал или выступал как опытный, проницательный кри-
тик, сколько было отделов физики, которые он изучал с особой любовью. Укажем хотя бы на учение о звуке, привлекавшее его не только как физика, но и как музыканта, и как мыслителя, своими завоеваниями в пограничной области физических явлений и чувственных восприятий. И, наконец, едва
ли была такая область физики, которой он владел бы только
в размерах, строго необходимых для университетского преподавания. Переходим к этой стороне деятельности А. Г., где
он является уже не двигателем науки, а ее насадителем в России. Здесь прежде всего выступает вперед уже отмеченный
нами неопровержимый факт, что он был центром школы и что
его ученики занимают целый ряд университетских и иных
кафедр. Он поставил сначала математическую, а затем экспериментальную физику на высоту, соответствующую их современному развитию. В последние годы он мне не раз говорил:
«А ведь пора бы, наконец, собраться написать учебник», указывая при этом, что в противность доброму старому обычаю,
когда составление учебника являлось результатом долгой
преподавательской опытности, теперь оно нередко является
делом чуть не дебютанта. Началом осуществления этой мысли
было прекрасное «Введение в акустику и оптику», появившееся в 1893 г., а в 1895 г. вторым изданием. Но и ранее А. Г.
постоянно заботился о снабжении своих слушателей пособиями
по таким отделам науки, по которым их не имелось на русском
языке; таковы снабженные его примечаниями и им редактированные «Основы учения об электричестве» Жубера, выдержавшие также два издания. Даже по отношению к такому
предмету, как физическая география, чтением которого он,
очевидно, тяготился, он озаботился посмертным изданием
«Лекций физической географии» Зворыкина. Книга эта вскоре
сделалась библиографической редкостью. Все достоинства еѳ
А. Г. бескорыстно приписывал умершему молодому автору,
а между тем, по словам слушателей того времени, оказывается,
что книга была обязана своим происхождением главным образом лекциям самого Столетова. Но нигде талант изложения не
обнаруживался в такой степени, как в его публичных лекциях
и речах, представляющих образцы блестящего, изящного изложения самых сложных, трудно доступных пониманию публики,
НАСУЩНЫЕ ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
новейших завоеваний науки, или яркие, глубоко продуманные
картины знаменательных моментов ее истории. Все, кому дорога память А. Г. и кто сохранил еще живое воспоминание о
высоком наслаждении, вынесенном из этих лекций, получат
возможность восстановить до некоторой степени в своей памяти
эти впечатления, благодаря редакции «Русской Мысли», предпринявшей издание «Сборника речей и публичных лекций»
Александра Григорьевича. Конечно, на страницах немой книги
трудно уловить то уменье заставлять говорить за себя самые
факты, то стройное слияние между словом и дополняющим
его опытом, в котором выра?калось особенно искусство лектора 1 . Но зато со страниц этой книги он выступает таким,
каков он был, ученым-мыслителем, приглашающим читателя
проникнуть с ним в глубину научной мысли, ученым-художником, развертывающим пред ним всю ее поэтическую ширь.
Найдется не много книг, которые в таком малом объеме охватывали бы такой широкий кругозор идей. Солнце и атом, осязательная материя и незримый, но еще очевиднее заявляющий о своем существовании эфир, видимая звуковая волна
и законы вызываемых ею ощущений, или таинственная всеохватывающая электрическая волна, включающая, как частный
случай, и волны света, — словом, все очередные вопросы
науки, все ее новейшие завоевания восстают перед читателем.
А чередуясь с ними, проходят художественно очерченные
образы гигантов научной мысли: вот — Леонардо-да-Винчи,
этот провидец, предвосхитивший открытия будущих веков,
ослепительный метеор, блеснувший на едва занимавшейся заре
естествознания, человек-миф, если б он не был исторической
действительностью; вот — Ньютон, вечный недосягаемый идеал, явившийся словно затем, чтобы показать людям, чего
может достигнуть человеческая мысль; вот — Кирхгоф, один
из тех могучих умов, которые создали науку девятнадцатого
века; вот, наконец, Гельмгольтц, универсальный гений, вме1 В этом отношении очень жаль, что не осталось письменных следов
самой последней его экспериментальной
публичной лекции «О цветной
фотографии», где замечательным подбором опытов он, в течение какогонибудь часа, сумел осязательным образом объяснить самым неподготовленным слушателям трудно понимаемую сущность этого явления.
стивший почти все точное знание этого века науки, обнявшей
все явления природы в могучем синтезе своего закона. Я полагаю, что не ошибусь, сказав, что найдется не много книг, из
которых образованный читатель мог бы в такой доступной,
глубоко продуманной и в то же время художественной форме
узнать, что такое наука, что такое великий ученый.
При оценке этих произведений, эпитет художественное
невольно напрашивается рядом с эпитетом глубокое, и в этом
выразилась богато одаренная природа А. Г., чуткая не только
к красотам науки, постигаемым только путем глубокого изучения, но и к непосредственно воспринимаемым эстетическим
впечатлениям, доставляются ли они красотой природы, музыкой или поэзией. Владея в совершенстве тремя европейскими
языками, коротко знакомый с их изящной литературой, он всегда имел в своем распоряжении удачный образ, удачное сравнение, особенно охотно прибегая к своим любимым поэтам, творцам «Манфреда» и «Фауста». Что же касается до отечественной
литературы, то он, очевидно, был с нею основательно знаком
с самого детства, судя по тому, как в своих школьных попытках
он свободно подыскивал вполне подходящие эпиграфы, украшавшие каждую главу его литературных произведений. Это
раннее знакомство с писателями родной земли отразилось и на
изяществе и безукоризненной чистоте его литературной речи,
полной меткими, удачными, словно выточенными определениями
или характеристиками, которые хочется заучить, — словом,
тем, что французы называют des phrases à retenir*.
Глубоко дороживший родной речью, привязанный к своей
родине — Владимиру, он был прежде всего европеец. Как Лир
был every inch a king**, так Столетов был, с головы до пяток,
европеец. Даже в его внешности, в его обращении было что-то
сдержанное, как будто напоминавшее несколько холодный тип
чопорного англичанина. Не было в нем ни следа той внешней
распущенности, в которой нередко думают видеть проявление
широкой русской натуры, души нараспашку. Его просто коробило от той напускной простоты или искусственной патриар* Фразы, которые надо запомнить. Ред.
* * В каждом вершке он был королем (все в нем говорило, что он король). Ред.
хальной фамильярности в обращении, например, с учащимися,
выражавшейся, между прочим, в пересыпании речи нелитературными словцами, примеры чего в его молодости, да п
позже, можно было еще встречать в профессорской среде.
Эта несколько сдержанная, строгая внешность была не случайной, в ней отражался нравственный склад человека.
*
С той поры, как в лице великого Бэкона озадаченное человечество увидало, по словам поэта, The wisest, greatest,
meanest of mankind
— с той поры, а, может быть, и гораздо
ранее, перед человеческой совестью не раз восставал вопрос:
неужели умственное развитие не всегда идет рука об руку
с развитием нравственным, неужели наука, знание не всегда
облагораживают человека? И, к сожалению, ответ нередко
получался отрицательный. Высокий умственный уровень нередко уживался с полной нравственной дрянностыо. Бывали
даже эпохи в истории, когда такое настроение делалось словно
повальным: вспомним начальные годы первой империи, когда,
казалось, в среде французской науки, французской литературы
предложение раболепия даже превышало спрос на него. Конечно, еще чаще умственная несостоятельность вступала
в союз с несостоятельностью нравственной. Но зато история
науки, по счастию, полна примерами обратного, когда умственное превосходство гармонически сливалось и с превосходством нравственным, и такие примеры, в малом или великом,
люди запоминают с благодарностью, потому что без них можно
было бы, наконец, усомниться в самом смысле жизни. Такой
пример, в своей скромной сфере, являл Александр Григорьевич Столетов. Мы могли бы очертить его нравственный облик
двумя словами: это был человек долга, •— или, применяя к нему
его собственные слова, которыми он очертил характер своего
любимого учителя: «сильная воля, чувство долга, высокое,
чуждое высокомерия, самолюбие», т. е. то самолюбие, которое
выражается в требовательности по отношению к своим собст1 Мудрейшего, величайшего, подлейшего из людей, — слова Иона.
венным действиям, то самолюбие, которое от самого себя требует большего, чем от других, — таков был Александр Григорьевич. Раз начертав себе нравственный идеал, он не отступал от него ни в малом, ни в большом. Никогда у него дело
не расходилось со словом и, в сфере принятых на себя обязанностей, для него не существовало мелочей. Особенно чуток
он был к своим обязанностям по отношению к слушателям,
университетским или публике: здесь уважение к науке и
к аудитории сливалось в одно общее чувство. Очень нередкое
равнодушие, выражающееся словами «сойдет и так», было для
него немыслимо. Никогда не забуду, как в этих самых стенах
он распекал меня, как школьника, за один неудавшийся в моем
сообщении опыт. Тщетно представлял я себе в оправдание,
что неудача произошла оттого, что во время перерыва заседания сдвинут был прибор, а я это заметил, когда было уже поздно. Он только строго повторял: «Перед публикой не может
быть удач или неудач. Понимаете — не может быть». И, конечно, был прав, в его словаре этих слов не существовало.
Таким же он был и в вопросах нравственных; признав чтолибо справедливым или натолкнувшись на несправедливость,
он шел напрямик для достижения первого, для устранения
второй. Не выискивая борьбы, он никогда не уклонялся от нее
ради эгоистического желания спокойствия, достижения житейских благ или сохранения так называемого «мира и согласия». Fais ce que dois, advienne que pourra * было его неизменным
правилом. В этом потомке старых новгородцев было что-то
гордое, непреклонное, — полное отсутствие той податливости,
той, так сказать, пластичности, готовой ко всему приспособляться, в которой некоторые готовы видеть национальную
черту, но которая на деле, вероятно, только тяжелый след
влияния наших учителей византийцев, наших властителей
татар. Сам непреклонный в своих нравственных принципах,
он и в других людях прежде всего, выше всего ценил нравственную устойчивость. Ни уважение к уму и заслугам, ни
годы дружбы, никакие другие соображения не могли его
вынудить отнестись уступчиво к человеку, по его мнению, укло* Делай, что надо делать, а там пусть будет, что будет. Ред.
18 к. А. Тимирязев,
т. V
273
нившемуся от требований нравственного долга. Такой человек,
такие люди для него просто переставали существовать, — хотя
бы ради этого ему приходилось оказываться изолированным,
восстановлять против себя сильное большинство. В таких случаях он мог смело применять к себе слова Виктора Гюго: «когда
я бывал с большинством, меня это радовало; когда я оставался
в меньшинстве, я этим гордился», — потому что руководился
он в своих поступках исключительно своим понятием о нравственном долге. Никто ревнивее его не отстаивал своих прав,
личных и коллегиальных. Но зато ничто не оскорбляло его так,
как смешение понятия о праве с безнаказанностью; он считал,
что право там, где правда, а возможность безнаказанно совершить поступок еще не дает права на его совершение. Во всей
своей общественной деятельности он всегда стоял за строгое
исполнение закона. Таких людей обыкновенно называют безтактными, беспокойными.
Неукоснительно-строгий по отношению к самому себе, он
не только по праву, но просто, безотчетно, был требователен
по отношению к другим, да и помимо всякой требовательности,
одного его присутствия было достаточно для того, чтобы почувствовать потребность и самому как-то подтянуться; сравнение
с ним выступало невольным укором. Здесь необходимо коснуться вопроса, каковы были его отношения к учащейся молодежи.
Пользовался ли он ее симпатиями? Ответить на этот вопрос
невозможно, не вникнув глубже в дело. Не подлежит сомнению,
что слава строгого, чуть не до жестокости строгого, экзаминатора
создалась у него в первые годы его преподавания на медицинском факультете и что причина этого явления лежит гораздо
глубже, чем обыкновенно полагают, являясь результатом того
архаического состояния, в котором находится преподавание
естествознания на медицинских факультетах. Этот пережиток
глубокой старины возбуждает и на Западе мысли о настоятельной необходимости реформы 1 . Студент-медик первых курсов
должен проглотить без малого все естествознание плюс еще
1 Так, например, Гёксли в речи на одном медицинском ко нгрессе
указывал, что полезно было бы освободить медиков от описательного
естествознания (минералогии, ботаники, зоологии) с тем, чтобы усилить
преподавание физиологии, химии и физики.
ч
известное число своих собственных, специальных предметов.
И учащие, и учащиеся давно сознавали невозможность этого
положения, и вот с давних пор устанавливается какое-то немое
соглашение, что это учение не настоящее, а так, для вида,
для формы. Очень хорошо припоминаю слова одного зоолога:
«Да я, ведь, как их экзаменую, — спросишь шпанская муха —
муха? Если скажет: да, — ну, значит, тройка, а скажет: нет, —
четверка». Сохранилось предание и о таком приеме: экзаминатор прежде всего спрашивает экзаменующегося: «с боем или
без боя?» «Без боя» — означало тройку без экзамена, а «с боем»
значило, что экзаменующийся желал подвергать себя всем случайностям экзамена. Понятно, что не только подобное, но
и сколько-нибудь несерьезное отношение к экзамену, такое
непедагогическое воздействие учащих на учащихся при первых
их шагах в университете для Александра Григорьевича было
немыслимо. Положение еще ухудшалось недостаточной подготовкой, которую давала гимназия, — на что А. Г. не упускал
случая обращать внимание. Исход был роковым образом неизбежен: студенческая голова не могла вместить всего, требуемого программами, а Александр Григорьевич не мог понизить
уровень своих требований ниже известного minimum 'а и превращать экзамен в пародию. А что этот minimum не мог быть высок, я могу судить по сравнению с экзаменами на физико-математическом факультете, где мне не раз приходилось присутствовать и где требования были, конечно, гораздо строже. Во
всяком случае в своей оценке он никогда не был неровен, не
руководился впечатлениями минуты. Как бы то ни было, он сам
тяготился своим положением и при первой явившейся возможности отстранился от этого преподавания. Иногда спрашивают,
зачем же не ушел он ранее с медицинского факультета? Признаюсь, я сам никогда не задавал ему этого вопроса, но полагаю,
что в числе возможных соображений могло быть и убеждение,
что он приносил пользу и что, наоборот, если бы он «без боя»
выпускал целые поколения медиков, без знания физики, а следовательно и без возможности знать физиологию, то едва ли бы
мог сказать о себе qu'il a mérité de la patrie Г (Он имеет заслуги
Не могу не отметить странной особенности: случалось мне бывать
на Западе и в среде учащихся, и в среде учащих, и ни разу я не слышал,
1
18*
275
перед своим отечеством. Ред.). Таким же являлся он и при оценке диссертаций: его суждения о представляемых на его рассмотрение ученых трудах не были результатом беглого поверхностного знакомства, а плодом самого добросовестного, продолжительного и серьезного изучения и строгой, но всегда
объективной, беспристрастной научной критики. И в том и в
другом случае он руководился только сознанием своего долга—
поддерживать уровень науки на должной высоте.
Но все же попытаюсь ответить на прямо поставленный вопрос: каковы были отношения к нему учащейся молодежи, —
был ли он популярен? Если называть популярностью отношение учащихся к благодушно снисходительному экзаминатору,
отношение слишком сбивающееся на куплю — продажу, где
меновым знаком являются баллы — отношение, в сущности,
основывающееся на взаимном презрении, — то о такой популярности, конечно, не могло быть и речи. Существует популярность и совсем иного рода, — популярность, неразрывно связанная с содержанием преподаваемого предмета, популярность, доставляемая возможностью откровенно, смело высказывать свои убеждения по самым животрепещущим вопросам,
касающимся общественных идеалов, их проявления в истории,
их применения к жизни, — но для такой популярности нет
ни повода, ни места в аудитории физика, а отношения А. Г.
к учащимся исключительно ограничивались его аудиторией
и лабораторией. Есть, наконец, популярность третьего рода, —
популярность чисто академического свойства, основанная
на взаимном уваоюении между учащим и учащимся. Этой популярностью А. Г. пользовался широко. Учащаяся молодежь
не могла не сознавать присутствия сильного, строгого ума,
широкой культуры и энергической воли, направляемой к тому,
чтобы ценой неустанных трудов поставить науку на возможно
высокий уровень, — а учащий всем своим, может быть, несколько сдержанным, но всегда безукоризненным отношением выражал ей не заискивающее, а действительное уважение. Это
чтобы при оценке профессора шла речь об экзаминаторе. Напротив, существуют целые школы, славящиеся строгостью своих экзаменов, —
такова, например, Ecole polytechnique, и это только составляет гордость
ее воспитанников.
уважение выражалось прежде всего в строгом до щепетильности исполнении принятых на себя по отношению к ней обязанностей, в постоянной заботе о том, чтобы доставить ей все средства для приобретения знаний; выражалось оно и в готовности
сказать в ее защиту свое веское слово в тех случаях академической жизни, когда он усматривал в том свой нравственный
долг. Этот, казалось, суровый, холодный человек, неспособный
даже стать на точку зрения увлекающейся молодежи, мог,
однако, иногда заражаться этим увлечением. Помню, как однажды, когда по поводу одного сообщения находившаяся в зале
молодежь шумно выражала свое сочувствие, он заметил мне,
улыбаясь: «А ведь будто пахнуло чем-то молодым и в то же
время очень старым, словно шестидесятыми годами».
Говорить ли о более глубоких, симпатичных душевных качествах покойного? — не в его характере было выставлять
их на показ людям, как и то добро, которое он делал, он делал
так, чтобы шуйца не ведала, что творит десная, — но я полагаю,
многие из его факультетских товарищей вспомнят одни случай,
где своими, более чем скромными, средствами он подоспел
на выручку серьезно нуждающемуся, когда этих средств недостало у более богатого, чем он, университета.
»
Жизнь прожита, и могила поставила свою точку. Но все
ли этим кончается? Точно ли могильный холмик на далеком
кладбище да несколько слов сочувствия, вскоре забытых, —
весь след, который оставляет по себе эта жизнь? Конечно, нет;
жизнь, полная мысли и труда, не может оставить по себе одну (
пустоту. L'Humanité comprend plus de morts que de vivants 1 .
Эта утешительная, гуманная мысль великого мыслителя, напоминая о преемственности умственных и нравственных благ,
составляющих общее достояние человечества, — напоминая
о том, что тот, кого уже нет, продолжает жить между нами
в своих идеях, в своих делах, своим примером, — эта мысль
относится, конечно, не только к тем великим гениям, которые
1 В состав того, что мы называем человечеством, входит более мертвых, чем живых.
озаряют путь для всего человечества, но и к более скромным
деятелям, жившим жизнью мысли, поддерживавшим нравственный идеал на более ограниченной арене действия. Как всякое
возмущение на поверхности стоячих вод вызывает хотя постепенно ослабевающие, но зато все шире и шире расходящиеся
круги, так и всякое умственное или нравственное воздействие,
утрачивая, быть может, свой личный характер, не исчезает
без следа, а только растет в ширь и в даль. «Эта жизнь идей,—
скажем мы словами, которыми покойный заключил очерк жизни
великого ученого, — эта жизнь идей учителя длится и теперь,
когда умолкло слово того, кто ратовал и хлопотал за них».
«Семя, упавшее на добрую почву, взойдет и даст плод сторицею», а память о человеке, «посеявшем доброе семя на поле
своем», не умрет...
Да, такие люди, как Александр Григорьевич Столетов,
дороги, когда своим строгим умом, своим неуклонным исполнением нравственного долга они общими усилиями способствуют поднятию умственного и нравственного уровня — в периоды прилива, — вдвойне дороги они, когда своими одинокими,
разрозненными усилиями задерживают падение этого уровня — в периоды отлива. Благо той среде, которая производит
такие сильные и строгие умы, такие стойкие и благородные
характеры, и горе той среде, где такие люди перестают встречать справедливую оценку.
XI
MAPCJIEH БЕРТЛО '
Н
астоящий век, как и его предшественник, склоняется
к закату при несомненных признаках всеобщей реакции.
Реакция в области науки — только одно из ее частных проявлений. Как всякая реакция не выступает с открытым забралом, а любит скрываться под непринадлежащей ей по праву
личиной, так и современный поход против науки, провозглашающий ее мнимое банкротство, любит величать себя «возрождением идеализма». Эта реакция совпадает с другим несомненным явлением: один за другим сходят в могилу великие
умы, сообщившие веку его умственную окраску, а им на смену
является серенькая, но тем более крикливая посредственность.
1 Предисловие к переводу книги Бертло «Наука и нравственность».
(Бертло М., Наука и нравственность. С предисловием и под ред. К. А. Тимирязева. М., 1898 г., 212 стр. О личности и работах М. Бертло более
подробно К. А. высказывается в статье «Лавуазье X I X столетия», см.
т. I X настоящего издания. Ред.)
Оно и естественно: движение вперед, созидание — дело творческих умов. Выносить же вновь на свет застаревшееся,обветшалое, сданное в архив — на это способен всякий; для этого,
по большей части, требуется не наличность, а скорее отсутствие некоторых качеств: добровольное отрешение от требований строгой логики и известного рода стыда, не допускающих
прямого отрицания очевидности. Тем, кто прямо заинтересован в этом попятном движении, оно, конечно, внушает розовые надежды; многих из тех, кому дороги давшиеся ценою
таких трудов умственные завоевания века, оно наводит на мрачные мысли; но те, кто в состоянии хладнокровно оценить значение этих приобретений, конечно, не страшатся за их участь
и видят в этой реакции обычное явление— попытку напрячь
последние силы в надежде оказать сопротивление неотразимому
историческому прогрессу мысли, — сопротивление, могущее
затормозить на время, но, конечно, не задержать ее поступательное движение.
Тем не менее эти крики о каком-то банкротстве современных идеалов, эти радостные заверения о возвращении к пережиткам темного прошлого, этот отбой, который пытаются бить
по всей линии, рассчитан на то, чтобы поселить смуту среди
преобладающей всегда массы колеблющихся умов и пополнить
ими ряды воинствующей реакции.
Всего нагляднее это движение обнаруживается во Франции.
Найдя себе всегда готовую поддержку в превосходно дисциплинированной и всегда умело скрывающей свои истинные виды
под благовидными личинами клерикальной партии, это движение превращается в какой-то крестовый поход против науки.
Главная надежда, как и всегда, возлагается на молодое поколение. Подорвать в его глазах значение науки и свободной
мысли и привести послушное стадо к стопам ватиканского пастыря 1 — вот мысль, которая сквозит во всех этих притворных разочарованиях в науке, этих радостных восклицаниях
о пробуждении какого-то нового идеализма, а на деле очень
старого мистицизма, самого верного орудия для осуществления
1 Слова эти оказались пророческими; они были написаны до паломничества Брюнетьера в Рим.
Марслеп
1s27-1007
Бгртло
.
. . .
.. .
-
-
;
;
•
•
•:,>;
вожделений весьма материального свойства. Нельзя, конечно,
отрицать, что это попятное движение находит себе почву в известном чувстве утомления и недовольства, вызываемых постоянным расширением сферы влияния строго научной мысли. Но это
чувство, конечно, охватывает, главным образом, ту часть общества, которая никогда достаточно сознательно или вполне
искренно и не примыкала к этому движению. Еще мало повторять: «учителю, учителю», чтобы проникнуться содержанием
самого учения, а таково и было отношение значительной части
пассивной массы, может быть и искренно, но недостаточно сознательно увлекавшейся завоеваниями современной научной
мысли. А как определить число неискренних сторонников,
спешащих примкнуть ко всякому движению мысли в виду его
кажущегося окончательного торжества, кадящих ему, пока не
почувствуют возможности повести против него свои замаскированные атаки в ожидании момента сбросить вовсе маски или...
если понадобится, подвязать их еще крепче?
Отсюда понятно, что лучшая часть французской молодежи,
та, которая не погрязла в равнодушии практического материализма, нередко уживающегося с личиной теоретического идеализма самой высокой пробы, та часть, которая не изверилась
в лучших заветах прошлого, не утратила надежды на еще лучшее будущее, не продала своих действительных идеалов за
чечевичную похлебку временного благополучия и не нуждается
в прикрытии своего вырождения громким девизом «возрождения», — что эта часть молодежи, сознающая потребность в целостном мировоззрении, в соглашении научной истины с жизненною правдой, стала озираться вокруг себя в поисках за испытанными защитниками своих идеалов, приглашая их выступить
в борьбу с глашатаями торжествующей реакции.
Как нередко бывало в истории, ей пришлось протянуть
руку через голову самодовольной, ликующей, практической
современности и искать защитников своих идеалов в людях
поколения, уже сходящего со сцены, не преклонившихся перед
новыми идолами, не умноживших собою рядов ренегатов,
а с ясностью сознательного убеждения, без страха смотрящих
на временное затемнение этих идеалов, с полной уверенностью
в их конечном торжестве.
В ряду этих людей французская молодежь особенно отметила великого химика Бертло, и нельзя не сознаться, что выбор ее вполне удачен. Навсегда связав свое имя с одним из величайших завоеваний века, созданием синтетической химии,
одинаково важным и по его глубокому философскому смыслу
и по его практическим приложениям, пределы которых нельзя
и предвидеть; являясь одним из инициаторов другого, быть
может, еще более глубокого научного направления — физической химии, в ее специальной области термохимии; автор
бесчисленных исследований 1 , он является могучим философски развитым умом в сфере не только точного естествознания
(физики и химии), не только естествознания в широком смысле,
но и человеческого знания вообще. Благодаря тесной дружбе,
соединявшей его с такими учеными мыслителями, как Клод
Бернар и Ренан, он постоянно обнаруживал живой интерес
к биологии, истории и археологии Двигая избранную науку,
быть может, более, чем кто из его современников, он интересовался ее темным прошлым, ее первым лепетом и, владея
в совершенстве древними языками, не отступал перед кропотливым трудом присяжного историка-филолога, разыскивая
по библиотекам Европы старинные, никому не известные
греческие рукописи, разбирая и издавая их загадочные, быть
может, ему одному понятные тексты. Ознакомившись с этим
первоначалом химических знаний, он задался далее мыслью
проследить, каким образом эти зачатки науки, в форме различных технических приемов и рецептов, прошли через долгий
мрак средневековья. Все это, конечно, доказывает не только
живой интерес к историческим исследованиям, но и уменье
разобраться в самых темных их источниках.
1 В каталоге английского королевского общества их значится до
1883 г. 640 названий; до настоящего времени число это, вероятно, возросло до 800.
2 В биологии он высказывался в пользу эволюционного учения еще
в то время, когда его коллеги, французские зоологи и ботаники, продолжали считать это учение вредной ересью. Свою способность к историческим изысканиям он доказал целым рядом книг: история алхимии,
Лавуазье и революция в химии и т. д. В археологии он, например, давно
предсказывал, что так называемому бронзовому веку должен был предшествовать медный, и новейшие открытия подтверждают его предсказания.
По убеждению и всему складу своего ума преданный чистой
науке, не упуская случая заявлять о ее законных правах и обличать ходячий предрассудок о преобладающем будто бы значении
и государственной важности прикладного знания, он, однако,
не отказывался от применения своих обширных теоретических
знаний — в вопросе ли о взрывчатых веществах или в области
агрономии.
При всем разнообразии своей полувековой научной деятельности, он не уклонялся в последние десятилетия и от участия
в политической жизни своей страны. Это ему даже ставили
в укор: ученый не должен мешаться в политику; ответ на эту
мнимую аксиому Бертло дает в своей речи при погребении Поля
Бера. Именно в бытность Бертло министром (просвещения)
можно было дивиться колоссальной способности к труду этого
удивительного человека, заметим, никогда не пользовавшегося
сильным здоровьем. Министр, он не пропускал ни одного понедельника в академии наук, обыкновенно делая оригинальные
сообщения, продолжал работать в своей убогой лабораторийке
College de France, а вечером его можно было застать за какойнибудь греческой рукописью Александрийской эпохи или,
летом, на опытной станции в Медоне, где он производил физиологические опыты, давшие толчок новому, плодотворному направлению научной агрономии.
Прибавьте к этому живое отношение к социальным вопросам,
сохранившееся с юношеского возраста, видавшего великодушное движение сороковых годов, и не перешедшее в скептическое
разочарование или сытое равнодушие, несмотря на грустный
опыт 1848 года и продолжительный кошмар империи. Отрадно
слышать этого человека, убеленного сединами, искушенного
жизненным опытом и повторяющего те же заветные формулы,
которые воодушевляли его и внушали необходимую энергию
в годы тяжелой молодости. Жгучий, болезненно чуткий патриотизм, вызванный у современных французов невзгодами родины и нашедший себе выражение в достойной изумления и недостаточно еще оцененной геройской обороне Парижа 1 , ни на
1 Сам Бертло, несмотря на свои годы и расстроенное здоровье, исполнял во время осады обязанности батарейного командира.
минуту не заслоняет в нем живущих во всяком высоко-образованном французе более возвышенных космополитических идеалов; за каждым призывом к служению родине неизменно следует
напоминание о солидарности интересов всего цивилизованного
человечества. И в довершение всего, живая отзывчивость
к тому, что носит печать красоты, в произведениях ли слова
или художества: на полках его библиотеки рядом с Лукрецием
и другими любимыми классиками можно встретить Толстого
и Достоевского, а пишущий эти строки видел, как на другой же
день после своей последней отставки он направлялся в Лувр,
чтоб успокоить измученные нервы созерцанием великих произведений искусства.
Подведите итог всем этим качествам высоко-талантливой
натуры, развитым всестороннею культурой, и вы, конечно,
согласитесь, что французская молодежь едва ли могла найти
лучшего защитника своих идеалов, научных и общественных.
Научных и общественных... их неразрывная связь звучит
на каждой странице его книги, оправдывая ее название Science et morale *. При каждом удобном случае напоминает Бертло, что служение науке — служение обществу и человечеству, что ученый не должен забывать прежде всего, что
он человек и что научная истина не может итти в разрез с жизненной правдой. Современный буржуазный строй не отказывает
науке в известной доле почета, он готов предоставить ей крупицы, падающие с роскошной трапезы капитализма, и это невольно заставляет порою задуматься о будущности этой науки:
разделяя с сегодняшними победителями их добычу, не будет
ли она когда-нибудь вместе с ними призвана к ответу? Бертло
напоминает, что прошло безвозвратно то время, когда невежество масс могло возводиться в принцип, что наука не может
оставаться монополией какой-нибудь олигархии, что трудящийся имеет право на интегральное пользование плодами своего
труда и в них найдет средство для предельного своего развития,
физического, умственного и нравственного. Он напоминает,
что наука прежде всего должна иметь в виду уравнение в пользовании созидаемыми ею жизненными благами, что она прежде
* Наука и нравственность.
Ред.
всего призвана улучшить жизнь обездоленной части человечества, и, касаясь самой злобы дня, подавшей повод заглавию
книги, доказывает, что поднявшие крик о ее мнимом банкротстве только пытаются свалить вину с больных плеч на здоровые.
Давно сказано: «вера без дел мертва», — конечно, и нравственность также. Наука в своем непрерывном поступательном движении обогащала человечество материально и нравственно,
так как, в конце концов, успех в том и другом направлении идет
рука об руку с ростом знаний, не говоря уже о том, что успех
нравственности порою находится в прямой зависимости от
успехов материальных. Увеличивая общую сумму благ, наука,
устами лучших своих представителей, громко провозглашала
право всех людей на свою долю пользования этими общими
благами. В руках египетских жрецов первая паровая машина
была только средством морочить и устрашать темные массы,
в руках людей науки она стала источником неисчислимых благ
для всего человечества 1 .
В первой статье, давшей название всему сборнику 2 , Бертло
успешно отражает атаку, поведенную клерикалами и их пособниками против современной науки. Доказав нравственное
значение успехов знания, он далее переходит к частным вопросам, касающимся значения науки для современного общества
и проведения ее в жизнь и прежде всего в школу. В этюде Наука
воспитательница он касается назревшего в умах передовых
людей всех цивилизованных стран вопроса о необходимости
коренной реформы средней школы, — вопроса, в котором его
глубокие не только научные, но и филологические знания и нескрываемые симпатии к последним сообщают его словам особый вес беспристрастия и авторитетности. Очень кстати напоминает он, что и современная гуманистическая школа должна
была пробивать себе путь в борьбе со школой схоластической,
такой же борьбе, какую, в свою очередь, теперь приходится
выдерживать школе научной. Схоластическая система, ослепленная блеском Аристотелевой логики, видя в ней всемогущее
1
Ред.)
См. этюд о Папэне. (Одна из статей, вошедших в книгу Бертло.
2 В состав сокращенного русского перевода вошли только статьи,
представляющие более общий интерес.
НАСУЩНЫЕ ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОГО
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
орудие мысли, выродилась в формальное искусство пустого словопрения 1 . Гуманистическая школа, увлеченная, словно с неба
свалившимся ей, готовым сокровищем человеческой мысли,
выродилась мало-по-малу в школу механического заучивания
литературных и, в конце-концов, грамматических форм. Невольно западает сомнение, не имела ли ее предшественница
даже некоторых преимуществ перед ней и не пора ли от исключительного культа слова вернуться к культу мысли, конечно,
в обновленной современною наукою форме.Сам испытав на своем,
изнуренном непосильными трудами, организме последствия
современных школьных порядков, с их системой бесчисленных
конкурсов и экзаменов и пренебрежением к воспитанию тела,
допуская суровое требование, чтобы школа приучала к напряженному труду и тем подготовляла к жизни, — он заступается
за право молодого организма на беспрепятственное развитие,
а равно и за права ребенка на беззаботную веселость и полную
свободу, хотя бы в часы, так скудно отмежеванные для его
игр 2 . В Роли науки в земледелии он поясняет на удачном примере значение чистой науки для практической жизни, а в Пастере с нескрываемой иронией отзывается о непонимании истинного отношения между чистым знанием и его приложениями,
еще так широко распространенным даже в так называемом
образованном обществе. Речь на могиле Поля Бера и письмо
по случаю открытия памятника Руссо дают ему случай беглыми
штрихами набросать общественные идеалы лучших людей его
поколения и высказать, какого действительного банкротства
они единственно опасаются для современной Франции. Наконец,
в Папэне и изобретении паровой машины он рисует картину
тяжелых родов этого изобретения, таким коренным образом
повлиявшего на судьбы всего человечества, и как бы для контраста, в остроумной застольной речи, в 2000 году, на основании
головокружительных успехов науки и техники, отметивших
последнее столетие, в отличие от их медленного развития
в прошлом, развертывает радужную картину их успехов
1 В X I I I вене, четырнадцати-пятнадцатилетние учащиеся в университетах должны были выдерживать диспуты ежедневно с рождества до
пасхи.
2 Физическое воспитание и но поводу школьных программ.
и связанных с ними глубоких социальных переворотов в
будущем.
Взятые в совокупности, эти беглые этюды рисуют перед нами
привлекательный тип не только великого в избранной области,
но и широко образованного и отзывчивого на вопросы жизни
современного европейского ученого и служат всесторонним
ответом тем скорбным умам, которые затеяли свой неудачный
поход против обанкротившейся будто бы науки. •
Наука не могла обанкротиться, не могла оказаться несостоятельной, потому что не принимала на себя никаких обязательств;
она ничего не обещала, — ничего, кроме истины. И, несмотря
на то или именно благодаря тому, она доставила самое могущественное орудие для осуществления в жизни нравственных
идеалов, конечно, не той пассивной,мистически созерцательной
нравственности, которая порою слишком легко мирилась
с существующим злом, когда только не оправдывала его, приглашая обездоленную часть человечества к смирению и покорности своей судьбе, а той активной нравственности, которая стремится проявить себя на деле и ставит своею задачей уменьшение неправды, зла и страдания.
И, конечно, прав Бертло, утверждая, что именно эти положительные идеалы нравственности способны пробудить здоровый энтузиазм молодого поколения и побудить его с увлечением
предаться изучению проводящей их в жизнь науки.
НАУКА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАНИНА.
К. ПИРСОН 1
§ 1. ЗАПРОСЫ СОВРЕМЕННОСТИ
З
а последние сорок лет в нашей оценке основных факторов,
касающихся развития человеческого общества, произошел
такой глубокий переворот, что является необходимым
не только заново излагать историю, но и коренным образом
изменить наши воззрения на жизнь и хотя постепенно, но тем
1 Предлагаемый в переводе отрывок составляет первую главу интересной книги «The grammar of Science» — «Грамматика науки». Автор
ее, профессор Кэмбриджского университета Пирсон, известный математик, обративший на себя внимание особенно своими трудами в области
теории вероятностей и ее приложений к задачам биологии, для обработки
которых им даже издается специальный журнал Biometrica. Ясность
и определенность мыслей, высказываемых на этих страницах, особенно
выступает при сравнении с недавно появившимися в русской печати реакционно-схоластическими, почти бредовыми словоизвержениями одного
отечественного математика, специалиста в той же области, к тому же
выдающего себя за представителя целой школы.
Я позволил себе поставить в заголовке этой статьи заглавие второго
параграфа (вместо слов «Вступительная глава»), как всего лучше выра-
не менее решительно приспособить наш образ действия, наше
поведение к указаниям этой новой теории. Тот свет, который
пролили на развитие как индивидуальной, так и социальной
жизни исследования Дарвина, подкрепляемые будящими мысль,
хотя и менее основательными произведениями Спенсера, понуждает нас перестроить наши исторические воззрения и малопо-малу расширить и упрочить основные устои нашей морали.
Эта медленность не дает, однако, нам повода падать духом,
потому что один из сильнейших факторов социальной устойчивости заключается в той косности, скажем более, в той активной
враждебности, с которой человеческое общество встречает всякую новую идею. Это горнило, в котором чистый металл отделяется от окалины, от ряда бесполезных и, пожалуй, вредных
попыток изменения. Если реформатор нередко оказывался
мучеником, это, пожалуй, еще не слишком дорогая цена для
обеспечения той осмотрительности, с которой общество, как
целое, двигается вперед; потребны только годы для того, чтобы
заместить великого вождя людей, но устойчивое и в то же время
жизнедеятельное общество может являться только результатом
длинного ряда веков развития 1 .
Если из творений Дарвина мы хотя бы косвенно убедились,
что способы производства, то или иное владение собственжающего основную мысль всего отрывка. Примеч. перев. (Отредактированный К. А. Тимирязевым перевод этой статьи был опубликован им
вначале в журнале «Русская Мысль», 1905 г.; включен в сборник «Насущные задачи современного естествознания» в издании 1908 г.; в 1919 г.
по предложению К. А. был выпущен Литературно-издательским отделом
Народного комиссариата по просвещению отдельной брошюрой.
Ред.)
1 В этих словах, конечно, сказался англичанин, для которого период реформаторов-мучеников остался далеко позади. Указывая на роковую инерцию социального, как и всякого иного организма, в силу закона наследственности, Пирсон мог бы вспомнить и другой более оптимистический «биогенетический» закон, в силу которого организмы, являющиеся позднейшими продуктами общего эволюционного процесса,
проделывают в своем индивидуальном развитии этот исторический процесс, так сказать, по сокращенной программе. Примером этого для организмов социальных служит Россия при Петре и современная Япония.
В тревожные минуты, переживаемые нашей страной, когда волей-неволей
приходится поспешно догонять своих европейских собратий, опередивших нас в своей политической жизни на целые века, это соображение
может служить ободрением и утешением. Примеч. перев.
19 К. А. Тимирязев,
т. V
289
ностью, форма брака, организация семьи и общины — самые
существенные факторы, с которыми должен ведаться историк,
желающий проследить развитие человеческого общества; если
в наших историях мы уже не обозначаем периодов именами
монархов и не отводим целых параграфов их любовницам, —
то мы все еще далеки от ясного представления о точном взаимодействии различных факторов социальной эволюции и от
понимания, почему тот или другой из них обнаруживает преобладающее влияние в ту или иную эпоху. Мы, конечно, отмечаем периоды кипучей социальной деятельности и другие, отличающиеся кажущимся покоем, но, по всей вероятности, только
незнание истинного хода социальной эволюции заставляет нас
приписывать коренные изменения в социальных учреждениях
отдельным лицам, реформациям или революциям. Правда, мы
связываем немецкую реформацию с вытеснением коллективистских принципов индивидуалистическими не только в области
религии, но и в области ремесл, искусств и политики. Точно так
же во французской революции многие видят эпоху, от которой
берет начало возрождение социальных идей, коренным образом
изменивших средневековые отношения каст и классов, почти не
затронутые реформацией шестнадцатого века. Приближаясь к
нашему времени, мы уже несколько точнее можем изложить социальное значение глубокого переворота в способе производства, появление того капиталистического строя, который так
глубоко изменил весь склад английской жизни в первой половине девятнадцатого века, а позднее распространился и на весь
цивилизованный мир. Но когда мы, наконец, достигли того времени, в котором сами живем, одной из выдающихся особенностей которого является поразительно быстрое развитие естествознания с его широким влиянием на основные мерила физического комфорта и нравственного поведения, мы убеждаемся
в невозможности втискивать характеристику его социальной
истории в рамки одной из тех голых фраз, которыми пытаемся
определить значение отдаленных от нас эпох.
Для нас, живших в последние годы девятнадцатого столетия, очень трудно верно оценить относительное значение того,
что оно осуществило в истории цивилизации. Во-первых, мы
можем отнестись к нему только с точки зрения прошлого.
Понадобилась проницательность Эразма, чтобы предсказать
реформацию на основании того, что предшествовало
сейму
в Вормсе. Или, прибегая к мета-форе, слепой человек, взбирающийся на гору, может иметь очень ясное представление о крутизне пройденного им пути и наклоне той его части, на которой
он стоит, но он не в состоянии сказать, стоит ли он у самой вершины или только при основании еще более крутого подъема.
А во-вторых, мы слишком близки к своему веку и по положению
и по своим чувствам, чтобы быть уверенными в том, что наша
оценка размеров совершающихся превращений свободна от ошибок излишнего ракурса или личного предрассудка.
Столкновения мнений почти в любой области мысли —
борьба старого и нового мерила в любой сфере деятельности,
в религии, в торговле, в социальной жизни — слишком близко
затрагивают духовные и физические потребности отдельной личности, чтобы делать ее беспристрастным судьей того века,
в котором она живет. Что каждый из нас играет свою роль в эту
эпоху быстрого социального переворота — в том едва ли может
усомниться тот, кто внимательно отнесется к глубоким контрастам, которыми полно современное общество. Это эра и резкого заявления прав своей личности и не менее определенно
выраженного крайнего альтруизма; проявление самых выдающихся умственных способностей сопровождается вспышками
самого странного суеверия; при сильном общем социалистическом течении попадается не мало замечательных проповедников
индивидуализма; крайности религиозной веры и самого несомненного свободомыслия сталкиваются в открытой борьбе.
И эти противоречивые черты встречаются не только в тесном
социальном общении — даже один и тот же индивидуальный
ум, не давая себе отчета в отсутствии логической последовательности, нередко представляет весь наш век в микрокосме.
Нет повода удивляться тому, что до сих пор мы так мало
продвинулись по пути к общепризнанной оценке вклада, внесенного нашим веком в общую сокровищницу исторического
прогресса человечества. Один человек видит в нашем веке
только проявление какого-то беспокойства, недоверия к авторитетам, сомнений в основах социальных учреждений и в давно
испытанных и признанных методах, а все это в совокупности
19*
291
для него только признак упадка социального единства, гибель
освященных временем принципов, в которых он усматривает
единственное возможное руководство для своего поведения.
Другой человек, с совершенно иным темпераментом, рисует
нам наступление золотого века в самом близком будущем, когда
новые знания распространятся в народе, когда те новые
представления о человеческих отношениях, которые, по его
мнению, уже повсюду пускают корни, придут на смену затасканным, устарелым воззрениям и обычаям.
Один учитель проповедует то, что горячо отрицает другой.
«Побольше благочестия», взывает один. «Поменьше бы его»,
отвечает другой. «Государственное вмешательство в установление рабочих часов безусловно необходимо», провозглашает
третий. «Оно уничтожит всякий личный почин и отучит людей
полагаться на собственные силы», возражает четвертый. «Спасение страны — в техническом образовании рабочих», таков клич
одной партии. «Техническое образование только фокус, при помощи которого наниматель сваливает на всю нацию заботы по
снабжению его человеческими машинами лучшего сорта»,
поспешно возражают ее противники. «Побольше частной благотворительности, вот что нам нужно», говорят одни. «Частная
благотворительность — аномалия, растрата национального достояния, превращение граждан в нищих», отвечают им другие.
«Обеспечим научное исследование необходимыми средствами —
и мы узнаем истину во всех случаях, где это только является
возможным»; но тотчас раздается противный призыв: «Обеспечивать исследователей — значит поощрять погоню за обеспечением; истинный ученый не побоится бедности, и если наука
действительно нужна обществу, она сама себя окупит». Вот
только немногочисленные образчики той борьбы противоположных мнений, которая свирепствует вокруг нас. Уколы чуткой
совести и побуждение глубоко вкоренившихся
симпатий
развили в нашем поколении изумительную тревожность
чувств, — и это в такое время, когда успехи положительного
знания подвергли сомнению многочисленные старые обычаи
и старые авторитеты. Правда, нет почти того целебного средства, которое не имело бы возможности быть в наши дни испробованным. Собираются громадные суммы денег на всякого рода
благотворительные предприятия, на народные увеселения,
на техническое обучение, даже на высшее научное образование, — словом, на религиозное, полурелигиозное и вовсе не религиозное движение всякого рода. Из этого хаоса в конце
концов должно выйти какое-нибудь добро; но как оградим мы
это добро от того зла, которое слишком часто возникает от бесцельной или даже дурно направленной растраты средств, накопленных нацией ценою тяжелого труда в прошлом или благодаря кредиту будущего.
Ответственность личности, особенно во всем, что касается
богатства, велика, так велика, что мы усматриваем возрастающее стремление государства вмешиваться в управление частной благотворительностью и регулировать высшие образовательные учреждения, обеспеченные в былое время частной или
полуобщественной благотворительностью. Но это стремление
сложить ответственность с частного лица на государство сводится только к возложению ее на социальную совесть всех
граждан как целого, на «племенную совесть», как любил выражаться Клиффорд. Широкое распространение выборного нрава
как в местном, так и в общем представительстве значительно
увеличивает ответственность каждого отдельного гражданина. Он сталкивается лицом к лицу с самыми враждебными мнениями,с самыми разнообразными партийными кличами.
Государство, в наши дни, стало самым крупным работодателем,
самым крупным расточителем благотворительности, а главное,
школьным учителем, распоряжающимся самой крупной школой во всей общине. Посредственно или непосредственно,
каждый единичный гражданин должен находить ответ на бесчисленные вопросы, социальные или воспитательные, которые возбуждает современная нам жизнь. Он нуждается в руководстве
при определении направления своей собственной деятельности
или при выборе подходящего представителя. Он чувствует,
что очутился в ужасающем лабиринте социальных и воспитательных задач, и если его племенная совесть не пустой звук, он
сознает, что эти задачи, поскольку это зависит от него, не могут
быть разрешены с его личной точки зрения, руководясь его личными прибылями или убытками. Он призывается произнести суждение независимое, если это только возмо-
жно, от его личных чувств и эмоций, суждение, вызванное тем, что ему представляется справедливым, в интересах общества, во всей его совокупности. Не легко капиталисту, пользующемуся трудом рабочего, составить себе верное
суждение о фабричном законодательстве или частному школьному учителю судить беспристрастно по вопросу о субсидированном государством воспитании. И тем не менее мы, по всей
вероятности, все готовы признать, что племенная совесть должна
во имя социального блага брать перевес над личной выгодой
и что идеальный гражданин, если бы таковой существовал,
всегда принимал бы решения, свободные от личного пристрастия.
§ 2. НАУКА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАНИНА
Но, спрашивается, это решение, столь необходимое в наш
век жарких стычек индивидуальных воззрений и постоянно
возрастающей личной ответственности каждого гражданина, —
это решение, как может оно сложиться? Прежде всего очевидно,
что оно может опираться только на отчетливое знание фактов
и оценку их последовательности и относительного их значения.
Раз эти факты правильно классифицированы и поняты, основанное на них суждение должно быть независимо от рассматривающего их индивидуального ума. Существует ли помимо этой
области идеальной гражданственности другая какая-нибудь
сфера, где бы правильно применялся этот метод классификации
фактов и вывода из них заключений? Если она существует,
то должна служить для выработки приемов мышления, устраняющих личное пристрастие; она должна стать лучшей школой
для выработки истинной гражданственности. Классификация
фактов и вывод на ее основании абсолютных суждений, т. е.
суждений независимых от идиосинкразии индивидуального
ума, — к этому сводится по существу цель и метод современной
науки. Человек науки выше всего должен ценить устранение
самого себя из своих суждений, подыскивание доводов, которые
были бы так же истинны для всякого другого, как и для его
собственного ума. Классификация фактоз, раскрытие их после-
дователъности и относительного значения — вот в чем заключается функция науки, а привычка составлять суждения на основании этих фактов независимо от личного чувства характеризует то, что может быть названо научным складом ума. Научный
прием исследования фактов не составляет исключительной особенности какого-нибудь особого отдела явлений или известного
класса умственных работников; он так же применим к социальным, как и к физическим, явлениям, и мы должны тщательно
оберегать себя от предположения, что этот научный склад ума
составляет особенность профессионального ученого.
Я глубоко убежден, что этот склад ума является существенным условием для того, чтобы сделаться хорошим гражданином, а из тех различных путей, которыми он приобретается,
редкий может сравниться с тщательным изучением какой-нибудь одной отрасли естествознания. Усвоение метода и привычек беспристрастного исследования, вытекающих из знакомства
с научной классификацией хотя бы ограниченного ряда фактов
природы, сообщает уму неоцененную способность обращаться
и с другими классами фактов, когда подвертывается случай 1 . Терпеливое и упорное изучение одной какой-нибудь
отрасли естествознания даже и в настоящее время вполне доступно очень многим. Существуют отрасли, в которых
нескольких часов занятий в неделю, серьезно выдержанных
в течение двух — трех лет, вполне достаточно не только для
полного уразумения сущности научного метода, но и для того,
чтобы изучающий выработал из себя тщательного наблюдателя,
а может быть и самостоятельного исследователя в избранной
области, что доставит ему не только новый источник наслаж1 Восставать против специализации в деле воспитания значит не
понимать основного значения воспитания. Истинная цель учителя заключается в том, чтобы сообщить понятие о методе, а не знание фактов. Это
гораздо успешнее достигается сосредоточением внимания учащегося на
ограниченном круге явлений, чем блужданием с ним, в быстром и поверхностном обзоре, по обширным областям знания. Я лично не удержал
в памяти и 90% фактов, которым обучали меня в школе, но основное понятие о методе, приобретенное мною у моего учителя греческой грамматики (содержание которой я давно забыл), и до сих пор представляется
как единственная ценная часть того учебного багажа, которым снабдила
меня школа на всю жизнь.
дения, но и пробудит новый энтузиазм к жизни. Значение
истинного понимания научного метода до того важно, что, по моему мнению, можно ожидать от каждого правительства, чтобы
оно сделало изучение чистой науки доступным каждому гражданину. И, по правде сказать, мы должны бы относиться с большим недоверием к каждой затрате общественных средств на различные политехникумы и им подобные учреждения, если ремесленное обучение, ими доставляемое, не сопровождается действительным обучением чистой науке. Научный склад мысли может быть приобретен решительно всяким, и легчайший способ
достижения этого должен быть сделан доступным для всякого.
Читатель должен внимательно отметить, что я восхваляю
только научный склад мышления и указываю на один из способов его развития. Я нимало не утверждаю, чтобы человек
науки был непременно хорошим гражданином или чтобы его
суждения в социальных или политических вопросах необходимо
обладали особенным весом. Из сказанного нимало не вытекает,
чтобы человек, составивший себе имя в естествознании, рассуждал бы всегда здраво о социализме, гом-руле или библейской
критике. Его суждения будут здравы лишь постольку,поскольку
он будет распространять научный метод и на эти области. Он
должен классифицировать и оценивать факты и только ими руководиться в своих суждениях, а не личным чувством или классовыми склонностями. Я восхваляю научный склад ума, как
необходимое качество истинного гражданина, а не ученого,
как политика.
§ 3. ПЕРВОЕ ПРАВО, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЕ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКОЙ
Я шел довольно окольным путем, чтобы добраться до своего
определения науки и научного метода. Но это имело полный
смысл, потому что в духе нашего времени,— и должно признаться, что это здоровый дух, — в духе нашего времени все подвергать вопросу, для всего требовать достаточного основания.
Единственное основание, которое может быть предъявлено в за-
щиту какого-нибудь социального учреждения, какой-нибудь
формы человеческой деятельности не в смысле разъяснения
их возникновения, — это дело истории, — а в смысле объяснения, почему мы продолжаем поддерживать их существование
и в настоящее время, заключается в следующем: своим существованием оно способствует развитию благосостояния в человеческом обществе, увеличивает сумму социального счастья и прочность социального строя. Желая оставаться верными духу своего
времени, мы должны подвергнуть вопросу и ценность науки,
должны спросить себя, в каком смысле увеличивает она счастье
человечества, в чем способствует его социальному развитию.
Мы должны оправдать современную науку или, по крайней
мере, те значительные и постоянно возрастающие запросы, которые она предъявляет народной мошне. Помимо увеличения
физического комфорта, помимо умственного наслаждения,
доставляемого современной наукой всей общине, — двух обстоятельств, громко выдвигаемых вперед, о чем я вкратце
упомяну в дальнейшем изложении, — существует еще одно
и наиболее основательное оправдание для затраты времени
и энергии на чисто научный труд. С точки зрения нравственности, т. е. связи каждого неделимого с остальными членами
той же социальной группы, мы должны оценивать всякую
человеческую деятельность по ее отношению к образу действия
людей, к их поведению. Чем же оправдывает себя наука в отношении ее влияния на поведение людей, как граждан? Я утверждаю, что поощрение научного исследования и распространение научных знаний, внедряя в широких кругах привычку
к научному складу мышления, будет способствовать развитию
истинной гражданственности, а следовательно и обеспечению
устойчивости социального строя. Умы, воспитанные на научном
методе, окажутся менее склонными повиноваться простым призывам к страстям или слепым эмоциональным побуждениям, —
одобрять действия, могущие в конце концов иметь последствиями
социальные бедствия. Самое первое место я отвожу воспитательному значению современной науки и ставлю свое положение
примерно в таких словах:
Современная наука, приучающая ум к точному и беспристрастному анализу фактов, представляет собсю систему воспи-
тания, особенно пригодную для развития здравого духа гражданственности.
Следовательно, наше первое заключение касательно значения
науки для практической жизни сводится к установлению того
воспитательного влияния, которое она оказывает своим методом. Человек, приобревший умение приводить в порядок целые ряды фактов, исследовать их сложные взаимные отношения
и предсказывать, в результате этого исследования, вытекающие из них необходимые последствия, — последствия, которые
мы обозначаем термином естественных законов, столь же обязательные для всякого нормального ума, как и для самого исследователя, — такой человек, мы смело можем надеяться, будет прилагать научный метод и в области социальных явлений.
Он едва ли будет довольствоваться одними поверхностными утверждениями, с бессодержательными обращениями к воображению, к эмоциям, к личным предрассудкам. Он будет требовать
рассуждений высокой пробы, ясного проникновения в факты
и их последствия и эти его требования не могут не оказаться
благотворными для всей общины.
§ 4. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ХОРОШЕЙ НАУКИ
Я бы желал, чтобы читатель ясно оценил мысль, что наука оправдывает свое значение своим методом, совершенно независимо от той служебной пользы, которую она приносит.
За практическими приложениями науки, представляющими
такую громадную ценность, мы слишком склонны забывать ее
чисто воспитательное значение. Мы слишком часто слышим в защиту науки, что это — полезное знание, между тем как за философией и филологией признается слабое утилитарное значение. Конечно, наука снабжает нас фактами, значение которых
очень велико для практической жизни, но дело не в этом, а в том,
что она учит нас классификациям и системам, совершенно независимым от индивидуального мыслителя, приводит нас к выводам и законам, не оставляющим простора для личной фантазии; вот почему мы должны ставить воспитательное и социальное значение научного образования выше образования филоло-
гического или философского. В этом заключается главное, если
и не единственное основание для популяризации науки. Та
форма популярной науки, которая просто рассказывает результаты исследования, только сообщает полезные сведения, с нашей
точки зрения, — плохая наука, пожалуй, даже вовсе не наука.
Позвольте мне рекомендовать читателю применять это мерило
ко всякому произведению, предъявляющему притязание на популяризацию науки. Если подобное произведение представляет
только описание, взывающее скорее к его воображению, чем
к его разуму, — это плохая наука. Первая цель истинно научного произведения, как бы популярно оно ни было, должно
заключаться в такой классификации фактов, которая неотразимо приводит читателя к логическому выводу, к закону, обращающемуся к его уму, прежде чем соблазнить его воображение.
Будем вполне уверены, что каждый раз, когда мы сталкиваемся
в научном труде с заключением, не вытекающим непосредственно из классификации фактов или откровенно признаваемым
автором за простое допущение, мы имеем дело с плохой наукой.
Хорошая наука должна быть всегда доступна логически воспитанному уму, если только этот ум может читать на том языке,
на котором изложена эта наука, и переводить с него. Научный
метод один и тот же во всех отраслях науки; это метод всех
логически вышколенных умов. В этом отношении классические
научные произведения —быть может наиболее понятные из книг,
и гораздо лучше читать эти произведения, чем их популяризации, принадлежащие людям, менее усвоившим себе истинный метод науки. Такие труды, как «Происхождение видов»
и «Происхождение человека» — Дарвина, «Основы геологии» —
Лайеля, «Звуковые ощущения» — Гельмгольтца, «Естественная
наследственность» — Гальтона, могут быть с пользой прочтены
и в значительной мере поняты людьми, специально не занимавшимися в тех областях, которым посвящены эти книги В Может
понадобиться известная доля терпения для разъяснения себе
научных терминов, для усвоения языка науки, но, как и в других случаях, когда приходится учиться новому языку, сравне1 Этот список мог бы быть пополнен еще, например, «Анатомической
диссертацией о движении сердца и крови» — В . Гарвея и «Экспериментальными исследованиями Фарадея».
ние различных мест, где встречается тот же термин, скоро приведет к верной оценке его истинного смысла. В деле языка
описательные науки, как геология или биология, гораздо более доступны человеку непосвященному, чем науки точные,
алгебра или механика, в которых мыслительный процесс должен быть облечен в математические символы, истинное значение которых усваивается месяцами, если не годами изучения.
Я не желал бы, чтобы читатель подумал, что, по моему мнению, простого чтения какого-нибудь образцового научного
произведения достаточно для того, чтобы приобрести научный
склад мышления. Я только указываю, что оно даст понятие
об истинном научном методе и позволит оценить все его значение. Те, кто в состоянии посвятить, скажем, четыре—пять
часов в неделю добросовестному изучению какой-нибудь одной
ограниченной отрасли науки, в год или два достигнут еще большего. Человек, занятый своим житейским делом, не обязан
выискивать какую-нибудь отрасль науки, которая снабдила бы
его полезными сведениями именно в области его профессии
или специальной деятельности. Для той цели, которую мы теперь имеем в виду, безразлично, — пожелает ли человек стать
знатоком в области геологии или биологии, геометрии или механики, даже истории или Folklore, если только он станет изучать их научно. Необходимо только основательное знание какойнибудь небольшой группы фактов, их взаимного отношения
и формул или законов, выражающих научно их последовательность. Именно этим путем наш ум проникается методом науки
и освобождается от личных пристрастий при составлении своих
суждений, приобретая те качества, которые мы признали условием идеальной гражданственности. Это первое право, предъявляемое наукой, право на воспитание ума своим строгим методом,
по моему мнению, самое существенное из прав, которое оно может предъявить государству, ожидая от него поддержки. Я полагаю, несравненно более будет достигнуто доставлением
каждому гражданину возможности обучаться чистой науке,
чем бесчисленными политехническими учреждениями, посвященными техническому образованию, порой не много возвышающемуся над уровнем простого ремесла.
§ 5. ШИРОКИЙ ОХВАТ НАУКИ
Читателю может показаться, что я слишком налегаю на метод в ущерб фактическому содержанию науки. Но таково уже
свойство научного метода: раз он стал привычкой для известного ума, этот ум всякий факт превращает в науку. Поприще
науки беспредельно, ее материал бесконечен, любая группа естественных явлений, любая фаза социальной жизни, любая стадия прошлого или современного развития представляет из себя
материал для науки. Единство всей науки заключается в ее
методе, а не в ее материале. Тот, кто классифицирует факты,
каковы бы они ни были, усматривает их взаимные отношения
и описывает их последовательность, применяет научный метод
и сам имеет право считаться человеком науки. Самые факты могут относиться к прошлой истории человечества, к социальной
статистике наших больших городов, к атмосфере отдаленнейших
звезд, к органам пищеварения какого-нибудь червяка или к
жизни едва видимого бацилла. Не факты сами в себе организуют
науку, а то, как относятся к ним. Материал науки охватывает
всю физическую вселенную и не только в том виде, в каком
она теперь существует, а с ее прошлой историей и со всей историей заключенной в ней жизни. Когда каждый факт, каждое
явление современной или прошлой вселенной, все касающееся
жизни, прошлой и современной, будет исследовано, классифицировано, сопоставлено с остальным, тогда назначение науки
будет исчерпано. Но, говоря это, не заявляем ли мы, что назначение науки никогда не будет выполнено, пока существует человек,
пока творится история, пока не прекратится всякое развитие?
Можно подумать, что за последние два века, особенно же
за последние пятьдесят лет, наука сделала такие успехи, что
предвидится уже день, когда труд этот будет практически закончен. В начале X I X столетия Александр Гумбольдт мог еще
охватывать своим взглядом всю область существующего знания. В настоящее время ученому, со способностями, значительно
превосходящими способности Гумбольдта, такая задача была
бы не по плечу. Едва ли в наше время даже какой-нибудь специалист в состоянии вполне овладеть всем, что сделано.в его
сравнительно небольшой области. Факты и их классификация
накопляются в такой степени, что никому уже нехватает досуга
разобраться во взаимных отношениях подчиненных групп
к целому. Порою кажется, будто единичные труженики, в Европе и Америке 1 , громоздят камни одного громадного здания
и скрепляют их цементом без всякого общего плана или связи
с трудом своих соседей; только там, где кто-нибудь поместит
большой угловой камень, он привлекает на себя внимание, и здание начинает возвышаться в этой точке быстрее, чем в остальных,
пока не достигнет такой высоты, при которой приходится воздержаться от дальнейшей стройки за недостатком боковой опоры.
И, однако, эта громадная постройка, пропорции которой превышают понимание каждого отдельного человека, обладаеткакой-то
присущей ей симметрией и единством, несмотря на случайность,
господствующую при ее возведении. Эта симметрия, это единство лежат в природе научного метода. Самая ничтожная группа
фактов, если она правильно классифицирована и логически обработана, образует камень, для которого найдется соответствующее место в громадном здании человеческих знаний, независимо
от намерений индивидуального работника, его обтесавшего.
Даже если два человека, сами того не подозревая, обтесывают
тот же камень, они только взаимно исправят к лучшему обделываемые ими углы. В присутствии этого колоссального прогресса современной науки, когда во всех цивилизованных странах люди применяют научный метод к естественным историческим и умственным фактам, мы все же должны признать,
что конечная цель, к которой направляется наука, представляется и должна представляться бесконечно отдаленной.
Потому что мы должны отметить, что каждый раз, когда
из достаточной, хотя бы и частичной классификации вытекает
простое обобщение, изображающее взаимное отношение и последовательность некоторой группы фактов, это обобщение или закон обыкновенно приводит к раскрытию еще более обширного
ряда до той поры не подмеченных явлений в той же или в соседней области исследования. 2 Всякий значительный успех науки
Японии, Индии и Австралии. Примеч. перев.
Так, например, когда в последние два десятилетия теория света
и магнетизма подвигалась вперед порывистыми скачками, мы в то же
время открывали обширные ряды новых явлений, о существовании которых даже не подозревали.
1
2
раскрывает нам глаза на группы фактов, которых мы прежде
не подмечали, и предъявляет новые требования нашей способности истолковывать явления. Это разрастание материала науки
насчет областей, в которых наши прадеды ровно ничего не видели
и которые они признали бы навеки недоступными человеческому
пониманию, представляет характеристическую черту современного прогресса науки. Там, где они только объясняли движения
планет нашей системы, мы изучаем химический состав звезд,
для них даже не существовавших, так как они не были видимы
в их телескопы. Там, где они раскрывали движение крови,
мы присутствуем при физической борьбе живых ядов в крови,
самое представление о чем для них показалось бы абсурдом.
Там, где они видели пустоту и с гордостью даже ее демонстрировали, мы усматриваем системы, обладающие колоссальными
скоростями и способные вызывать перенос энергии сквозь
кирпичные стены, подобно тому как свет проходит через стекло.
Как ни велики были успехи науки, они не превысили роста того
материала, который ей предстояло подчинить себе. Цель науки
ясна — это не более и не менее, как полное истолкование вселенной. Но это цель идеальная — она указывает направление,
в котором мы движемся и делаем усилия, но никак не предел,
которого мы когда-нибудь достигнем. Вселенная разрастается
тем более, чем лучше мы начинаем понимать обитаемый нами
уголок ее.
§ 6. НАУКА И МЕТАФИЗИКА
Я бы хотел обратить теперь внимание читателя на два положения, вытекающие из только что развитых соображений,
а именно: что материал науки равнозначащ по объему с жизнью
вселенной, физической и умственной, и затем, что пределы нашего представления о природе только кажущиеся, а не действительные. Не было бы нисколько преувеличением, если бы
мы сказали, что вселенная не была той же для наших прадедов, какой она представляется нам, и по всей вероятности для
наших правнуков она будет снова совершенно .иной. Вселенная
представляется переменной величиной, зависящей от устроения
и остроты наших органов чувств, от утонченности наших
способностей и орудий наблюдения. Нам это станет вполне
очевидным, когда мы примем во внимание, в какой мере
вселенная является построением каждого индивидуального
ума. А пока остановимся на втором соображении — на безграничности той области, которую охватывает наука. Сказать,
что существует известная область, например, метафизики,
в которую наука не имеет доступа и где ее методы не находят
применения, значит просто заявить, что правила методического
наблюдения и законы логического мышления неприменимы
к фактам этой области, если только в ней существуют какиенибудь факты. Такие области, если только они действительно
существуют, лежат за пределами того доступного пониманию
определения, которое может быть дано слову знание. Если
существуют факты и вытекающие из них следствия, мы имеем
все необходимое для научной классификации и знания. Если
не существует фактов и вытекающих из них следствий, исчезает возможность какого бы то ни было знания. Самое важное
допущение, делаемое в ежедневной жизни — заключение, которое, по мнению метафизиков, лежит вполне за пределами науки, именно, что другие существа имеют такое же сознание,
как и наше собственное — обладает такой же научной убедительностью, как и заявление, что яблоко, выращенное на земле,
будет падать, если мы его перенесем на планету какой-нибудь
другой звезды. Оба допущения лежат за пределами экспериментального доказательства, но допускать однородность свойств
мозговой «материи», при известных условиях, настолько же
научно, как и допускать однородность свойства «материи»
звездной. И то, и другое — только рабочие гипотезы, ценные
постольку, посколько они упрощают наше описание вселенной. И однако на различии между наукой и метафизикой часто
настаивают, и притом вполне неосновательно, ревностные сторонники обеих сторон. Если мы остановимся на какой-нибудь
группе физических или биологических фактов, скажем, на явлениях электричества или на развитии яйца, мы заметим, что
хотя физики и биологи и могут отличаться до известной степени
в своих измерениях или гипотезах, тем не менее в основных
принципах и раскрываемых последовательностях представители
той и другой науки практически между собой согласны. По-
добное же, хотя менее полное согласие, начинает устанавливаться и в науках умственных и социальных, где классификация
представляет гораздо более трудностей и давление личного
мнения обнаруживается еще сильнее. Но, тем не менее, наша
отчетливая классификация фактов человеческого развития,
наше более обстоятельное знание истории человеческих обществ,
первобытных обычаев, законов и религий, наше применение
начала естественного отбора к человечеству и общине, — малопо-малу превращают антропологию, Folklore, социологию
и психологию в истинные науки. Мы начинаем усматривать
несомненные последовательности в группах как умственных,
так и социальных фактов. Причины, способствующие развитию
или разрушению человеческих обществ, выступают с большей
очевидностью и становятся чаще предметом научного исследования. Таким образом оказывается, что умственные и социальные факты не лежат за пределами научной обработки, но
их классификация не так совершенна и, по вполне понятным
причинам, не так свободна от предрассудков, как классификация явлений физических и биологических.
Совершенно иначе обстоит дело с метафизикой и другими
предполагаемыми отраслями человеческого знания, предъявляющими притязание на независимость от научного контроля 1 .
Или они основаны на тщательной классификации фактов
или нет. Но если б их классификации фактов были верны, применение научного метода привело бы их сторонников к практически тождественным системам. А между тем одна из идиосинкразий метафизиков состоит именно в том, что каждый метафизик имеет свою собственную систему, исключающую систему
его предшественников и современных коллег. Отсюда мы должны заключить, что метафизика построена на воздухе или на
сыпучем песке; или у нее нет никакого фактического основа1 Довольно трудно определить, что такое метафизик. Это слово применяется здесь для обозначения известного класса писателей, примером
которых может служить Кант в его позднейшем, некритическом периоде
(когда он сделал открытие, что мир был создан для того, чтобы нашлась
сфера для применения моральной деятельности человека), пост-кантианцы (особенно Гегель и Шопенгауэр) и их многочисленные английские
ученики, «объясняющие» вселенную, не обладая даже элементарными
сведениями в области физических наук.
20
к. Д. Тимирязев,
т. V
305
ния, или зе надстройки выведены прежде, чем заложен прочный фундамент, заключающийся в основательной классификации фактов. Я особенно на этом настаиваю. Не существует
особых кратчайших путей к истине; к познанию вселенной ведет один только путь через ворота научного метода. Тяжелый
каменистый путь классификации фактов и рассуждений, на
них основанных, — единственный путь для того, чтобы удостовериться в истине. Конечной апелляционной инстанцией должен быть разум, а не воображение. Поэт может дать нам на
своем дивном языке повесть зарождения и кончины вселенной,
но в конце концов она не удовлетворит нашего эстетического
суждения, наших представлений о гармонии и красоте в той
мере, как несколько фактов, добытых в той же области человеческой наукой. Последняя будет в согласии со всей нашей опытностью, прошлой и современной, первый, рано или поздно,
наверное придет в столкновение с нашими наблюдениями,
так как им руководит догмат, там, где мы далеки от обладания
полной истиной. Наше эстетическое суждение требует полной
гармонии между представлением и представляемым, и в этомсмысле наука нередко более эстетична, чем современное искусство.
Поэт очень ценный член своей общины, потому что всякий
знает, что он поэт; и цена ему будет только возрастать, по мере
того как он будет проникаться мыслью, что современная наука
может только снабдить его более глубоким проникновением
в природу. Метафизик также поэт, порой даже великий поэт,
но, по несчастию, люди не знают, что он поэт, потому что он
пытается облечь свою поэзию в язык разума,а отсюда вытекает,
что он может сделаться очень вредным членом своей общины.
В настоящее время опасность, что метафизический догматизм
задержит развитие научного исследования, пожалуй, не очень
велика 1. Прошли те времена, когда гегельянская философия
1 Это может быть верно по отношению к тем областям человеческого
внания, которые уже выбрались на твердую почву положительной науки,
но эта опасность продолжает грозить тем отраслям, которые все еще
стоят в нерешительности, на перепутьи между положительной наукой
и идеалистической метафизикой; они теперь снова переживают тот болезненный кризис, который для истинной науки безопасно миновал. Ііримеч.
перев.
грозила задушить младенческую науку в Германии — упадок
этой философии в Оксфорде указывает, что она уже практически покончила свое существование в стране, ее породившей.
Прошло то время, когда философия или теологические догматы могли задерживать на целые поколения прогресс науки
или даже сообщать ей попятный ход. Не существует более ограничения для исследований, в какой бы то ни было области,
или запрета на обнародование истины, раз что она добыта.
Но существует еще опасность, с которой нельзя не считаться, —
опасность, грозящая распространению научных знаний в непросвещенной среде и льстящая обскурантизму, подрывая
кредит научного метода. Существует известная школа мыслителей, считающая затруднительный процесс, которым наука
достигает истины, слишком хлопотливым; их темперамент таков, что они настойчиво требуют легкого и краткого пути
к знанию там, где это знание может быть достигнуто, если оно
вообще достижимо, только продолжительным и терпеливым
трудом многочисленных групп тружеников, быть может, в течение нескольких веков. Еще много в настоящее время областей,
скрытых от человечества, и единственный честный образ действия по отношению к ним заключается в откровенном признании своего неведения. Это неведение может происходить от
отсутствия какой бы то ни было правильной классификации
этих фактов или от того, что предполагаемые факты являются
на деле только несостоятельными, нереальными произведениями
научно невышколенных умов. Но потому именно, что наука
откровенно сознается в своем неведении, делаются попытки оградить эти области исследования как такие, которых наука,
будто бы, не в состоянии с пользой обрабатывать, как такие,
куда ей навсегда должен быть запрещен доступ. Там, где наука
успевала раскрывать истину, только там, по мнению представителей указанной школы, и находятся «законные задачи для научных исследований». Там же, где она пока еще признает свое
неведение, там, хотят уверить нас, ее метод окончательно неприменим; там существуют иные отношения, чем между причиной и действием (т. е. между одинаковым последствием, неизменно повторяющимся за предшествующей ему одинаковой группировкой явлений), там управляют какие-то новые отношения,
20*
307
не поддающиеся определению. В этих областях, говорят нам,
задачи принимают философский характер и должны подвергаться обработке при помощи метода философии. Философский
метод противополагается методу научному; в этом-то и заключается опасность, о которой я упомянул выше. По нашему определению, научный метод сводится к правильной классификации фактов, сопровождаемой раскрытием их взаимных отношений и повторяющейся последовательности. Научным мы называем суждение, основывающееся на признании этих положений
и свободное от личного пристрастия. Если таков и метод философский, то для дальнейших рассуждений нет повода, но когда
нам говорят, что материал, подлежащий ведению философии, отличен от «законных задач науки», то и оба метода предполагаются не тождественными. И действительно, философский метод,
повидимому, опирается на анализ, не отправляющийся от классификации фактов, а строящий свои суждения на каком-то темном процессе внутреннего умствования. Он, следовательно,
подвергается опасности быть зависимым от личного пристрастия; в результате его являются, как нам известно из долгого
опыта, бесчисленные, борющиеся между собой, противоречивые
системы. И вот именно потому, что так называемый философский
метод не приводит,когда различные неделимые приступают к рассмотрению того же ряда фактов 1, к тому практическому согласию
в суждении, которое наблюдается при пользовании методом научным, — потому именно не философия, а наука служит лучшей школой для воспитания современного гражданина.
§ 7. Н Е В Е Д Е Н И Е НАУКИ
Не следует думать, чтобы наука когда-нибудь отрицала существование некоторых из тех задач, которые до сих пор относились к разряду философских или метафизических. Напротив,она
1 Я не хочу этим сказать, что в науке нет неясных точек, нерешенных
задач; но дело в том, что человек науки именно допускает, что они не разрешены. Как общее правило, они лежат в пограничной области между
знанием и незнанием, где пионеры науки пробиваются вперед, в незанятую еще страну, движение в которой сопряжено с большими затруднениями.
признает, что большое число и очень разнообразных физических и биологических явлений прямо приводит к этим задачам.
Но она утверждает, что методы, до сих пор к ним применявшиеся, были негодны потому, что были ненаучны. Классификации
фактов, до сих пор предложенные различными поставщиками философских систем, или безнадежно не соответствовали своей задаче или были безнадежно заражены предрассудками. До тех
пор, пока научная психология, при помощи наблюдения и опыта, не сделает громадных шагов вперед, в сравнении с ее современным состоянием, — а на это понадобится труд целых поколений, — наука будет в состоянии отвечать на значительное
большинство «метафизических» задач только лаконическим «не
знаю». И до сих пор бесплодно горячиться, выходить из терпения или утешать себя придумыванием систем. Осторожная,
трудолюбивая классификация фактов должна осуществить еще
большие успехи, прежде чем созреет время для вывода из них
заключений.
По отношению к задачам жизни и ума, наука находится теперь почти в том положении, в каком наука семнадцатого века
стояла по отношению к явлениям космическим. В то время изобретателями систем были теологи, объявлявшие, что космические
вопросы не составляют «законных задач науки». Тщетно заявлял Галилей, что классификация фактов, провозглашенная теологами, безнадежно расходится с действительностью. Собравшись в торжественную конгрегацию, они торжественно порешили:
«Учение, что земля не составляет центра вселенной и не
только неподвижна, но даже обращается каждый день, нелепо,
ложно и с философской и с теологической точки зрения и во всяком случае представляет заблуждение, противное вере» 1.
Потребовалось почти двести лет, чтобы убедить весь теологический мир, что космические вопросы составляют законные
задачи науки и только науки, так как еще в 1819 г. произведения Галилея, Коперника и Кеплера числились в индексе
1 Terram non esse centrum Mundi, nee immobilem, sed moveri motu
etiam diurno est item propositio absurda et falsa in Philosophia et Theologice considerata ad minus erronea in fide. (Конгрегация прелатов и кардиналов, июня 22, 1663).
запрещенных книг, и только в 1822 г. издан декрет, разрешавший издание и печатание в Риме книг, учащих о движении
земли вокруг солнца.
Я привел этот памятный пример нелепости, вытекающий
из попытки заключить науку в тяжелые определенные границы
мысли, потому что он, по моему мнению, очень хорошо показывает, чего можно ожидать и теперь, если возобновятся попытки,
теологические или философские, указывать, где лежит предел «законным задачам науки». Там, где человеческому уму
представляется хотя бы ничтожная возможность знать, там
находятся и законные задачи для науки. За пределами действительного знания может лежать только область воображения и самых неопределенных мнений, которую по несчастию слишком часто люди уважают более, чем область знания,
хотя этот их недостаток заметно идет на убыль.
Нам необходимо теперь подвергнуть более тщательному разбору, какой смысл придает человек науки своим словам, когда
говорит: «этого я не знаю». Прежде всего он не желает этим сказать, что метод науки здесь по необходимости неприменим и что
следовательно приходится искать какой-нибудь иной метод.
Затем, если это незнание действительно происходит от недостаточности научного метода, то мы можем быть вполне уверены, что никакой другой метод не раскроет истины. Неведение науки означает вынужденное неведение человечества. Мне
представлялось бы крайне прискорбным утверждать, что существует область умственных или физических восприятий, на которую наука даже в конце длинного ряда веков не могла бы
пролить своего света. Кто может доставить нам уверенность
в том, что области, уже завоеванные наукой, именно те единственные области, в которых знание возможно? Кто, выражаясь
словами Галилея, пожелает положить пределы человеческому
разуму? Правда, далеко не все ученые этой страны, а также и
Германии согласятся с этой точкой зрения. Для них не достаточно сказать просто «я этого не знаю»-, нет, по отношению к целому ряду фактов они еще добавляют: «и все человечество
никогда этого не узнает». Так, например, в Англии проф.
Гёксли придумал термин Агностик не столько для обозначения тех, кто не знает, сколько для обозначения желающих ог-
/
раничить возможность знания в известных областях. В Германии проф. Э. Дюбуа-Реймон поднял свой клич «Ignorabimus» («нам не узнать») и вместе с своим братом предпринял
трудную задачу — доказать, что по отношению к некоторым
вопросам человеческое знание невозможно h Мы должны, однако, отметить, что в этих случаях мы имеем дело не с ограничением научного метода, но с отрицанием возможности достигнуть знания при помощи каких бы то ни было методов.
Но я позволяю себе думать, что этот клич Ignorabimus, там
не узнать», грозит большими опасностями. Клич «мы не знаем»
— безопасный и здоровый клич. Но попытка доказать бесконечную будущность незнания представляется скромностью,
граничащей с отчаянием. Сознавая великие завоевания науки
в прошлом, ее неутомимую деятельность в настоящем, не
лучше ли принять своим лозунгом слова Галилея: «кто пожелал бы положить предел человеческому разуму?», принимая
эти слова в смысле эволюционного учения, раскрывшего нам
беспрерывный рост умственных способностей человека.
Научное неведение может проистекать, как было сказано
выше, или из недостаточной классификации фактов или из нереальности тех фактов, с которыми науке предложено обращаться. Пример — те области мысли, которые особенно выдвигались вперед в течение средних веков —алхимия, астрология,колдовство. В пятнадцатом столетии никто не сомневался в «фактах»
колдовства. Люди не знали в точности, как звезды оказывают
свое благотворное или пагубное действие на человека; не знали
они и ближайшего способа, каким колдуны делают все молоко
в целой деревне синим. Но, тем не менее, считалось несомненным фактом, что звезды влияют на человеческую жизнь, что
колдуны могут делать молоко синим. Разрешим ли мы в наши
дни задачи астрологии и колдовства.
Знаем ли мы и теперь, как звезды влияют на человеческую
жизнь, как колдуны делают молоко синим? Ни мало. Мы научились считать самые факты недействительными, мы привыкли
считать их пустыми выдумками недрессированного челове1 См. в особенности ІІаул-Дюбуа-Реймон.
«Ueber die Grenzen der
Erkenntniss in den exacten Wissenschaften». («О границах познания в
точных науках». Ред.). Тюбинген, 1890.
ческого ума; мы убедились, что они не поддавались научному
описанию потому, что заключали понятия, сами в себе противоречивые и неясные. С алхимией дело обстояло несколько
иначе. Здесь ложная классификация действительных фактов
переплеталась с несостоятельными следствиями, — следствиями, выведенными нерациональным методом. Как только наука
проникла в область алхимии с своею истинной классификацией
и методом, алхимия превратилась в химию — эту важную отрасль человеческого знания. Мне представляется, что при
внимательном разборе и те области, куда не проникла еще
наука, где ученые сознаются в своем неведении, окажутся
очень сходными с средне-вековой алхимией, астрологией и
колдовством. Или они сведутся на факты, сами в себе не реальные, понятия, сами по себе противоречащие и неясные и потому
не подчиняющиеся анализу научного или какого бы то ни
было метода — или, с другой стороны, наше неведение окажется
проистекающим из несостоятельности классификации и пренебрежения к научному методу.
Таково современное состояние тех умственных или духовных явлений, о которых некоторые утверждают, что они лежат
за пределами науки или находятся в пренебрежении у людей
науки Ч Лучшим примером этого может служить группа явлений, обозначаемая словом спиритизм. Здесь науку приглашают
анализировать ряд фактов, в значительной своей части недействительных, порожденных пустыми выдумками недисциплинированных умов или проистекающих из атавистической наклонности к суеверию. Поскольку факты носят этот характер,
они не подлежат объяснению, потому что, подобно сверхъестественной способности колдуньи, их нереальность ставит
их в противоречие с ними самими. Но к этим нереальным фактам, вероятно, примешиваются и другие, связанные с гипнотическим или подобным ему состоянием, которые хотя и реальны, но непонятны, потому что едва поддаются разумной
классификации или действительному применению научного
1 Этот последний упрек нередко делается сторонниками современного реакционного направления в биологии, укоряющими ученых, зачем
они не обращаются при объяснении физиологических явлений к психоіогии, которая сама нуждается в объяснении. Примеч. перев.
метода. Факты первой категории, подобно астрологии, никогда
не подчинятся законам, но будут когда-нибудь признаны за
нелепость; факты второй категории, подобно алхимии, малопо-малу, может быть, превратятся в очень важную отрасль
науки. И потому каждый раз, когда нас соблазняют покинуть
научный путь разыскания истины; каждый раз, что молчание
науки указывает нам на необходимость искать другого выхода,
осведомимся прежде всего, не окажутся ли составные части
предлагаемой задачи подобными тем фактам, на которых была
построена уверенность в существовании колдовства — не окажутся ли они основанными на суеверии и страдающими внутренним противоречием и непонятными потому только, что они
лишены реального существования.
Если же по внимательном рассмотрении окажется, что факты не относятся к этой категории, тогда мы должны не забывать, что, может быть, понадобятся века исследований и накопляющегося труда, прежде чем классификация фактов достигнет такой полноты, при которой наука будет в состоянии вынести определенное суждение относительно их связи с другими
явлениями. Представим себе, что Карл V сказал бы современным ему ученым: «мне нужен прием, при помощи которого я
мог бы в несколько секунд передавать приказы в тот новый
свет, до которого мои моряки добираются только через несколько недель. Столкуйтесь вы менаду собой и разрешите эту
задачу». Разве они, не долго думая, не ответили бы ему, что задача неразрешима. Самое предложение показалось бы им столь
же смешным, как и целый ряд запросов, касающихся жизни
и умственной деятельности человека, представляется современным ученым. Потребовались века, посвященные открытию и
классификации новых фактов, прежде чем атлантический кабель стал возможностью. Может быть, потребуется такой же
или более значительный период времени для разгадки тех
психологических или биологических задач, на которые я указал; но тот, кто решился бы утверждать, что они не могут быть
разрешены научным методом, по моему мнению, был бы так же
опрометчив, как и человек начала шестнадцатого века, который признал бы абсолютно невозможным разрешение задачи
о разговоре через Атлантический океан.
§ 8. ШИРОКАЯ ОБЛАСТЬ НАУКИ
Если я верно представил положение науки, читатель мог
убедиться, что современная наука далеко не довольствуется
бесспорным обладанием тем, что теологам и метафизикам угодно называть ее «законным полем» деятельности. Она заявляет,
что вся совокупность явлений, как физических, так и умственных, словом, вся вселенная — ее поле деятельности. Она утверждает, что научный метод — единственные ворота, ведущие
в царство знания. Слово наука применяется здесь не в какомнибудь узком смысле, но относится ко всякому рассуждению
о фактах, начиная с их классификации и оканчивая оценкой
их взаимной связи и последовательности. Пробным камнем для
науки служит всеобщая убедительность ее результатов для
всех нормально организованных и правильно обученных умов.
Именно потому, что блеск метафизических систем не выдерживает этой пробы и оказывается не золотом, а мишурой, вынуждены мы в своей классификации относить их к разряду любопытных произведений фантазии, а не к разряду прочных приобретений человеческого знания.
Хотя наука признает полем своего исследования вселенную,
не следует, однако, думать, что она уже достигла или когданибудь может достигнуть полного знания во всех ее областях.
Далеко от этого; она, напротив, признает, что ее неведение
более широко, чем ее знание. Именно в этом сознании своего
неведения она видит ручательство за свой будущий прогресс.
Наука не может только примириться с мыслью, что развитие
человечества может когда-нибудь снова быть задержано заставами, которыми догмат и миф постоянно пытались оцепить
ту область, куда наука еще не успела проникнуть. Она не попустит, чтобы теологи или метафизики, подобно португальцам
былых времен, завладев береговой линией нашего современного неведения, задерживали бы разведки и заселение обширных и еще неизведанных материков научной мысли. В подобных преградах, возведенных в прошлом, наука и теперь еще
встречает самые важные препятствия на пути умственного и
социального развития. Именно недостаток безличного суждения, научного метода и правильного отношения к фактам,—
недостаток, происходящий от отсутствия научного воспитания,
объясняет, почему у преобладающей массы современных граждан мы так редко встречаемся с ясным и точным мышлением
и, наоборот, на каждом шагу сталкиваемся с огульными, безответственными суждениями. И однако, благодаря росту демократии, эти граждане призваны решать вопросы, пожалуй,
более существенные, чем те, которые решали их предки во дни
революции.
§ 9. ВТОРОЕ ПРАВО, П Р Е Д Ъ Я В Л Я Е М О Е
НАУКОЙ
До сих пор единственным основанием, во имя которого
наука требует внимания к себе современного гражданина,
мы считали ее посредственное влияние на поведение граждан,
благодаря более действительному умственному воспитанию,
которое она дает. Но далее мы должны признать, что наука
порою может приводить факты, имеющие гораздо более важное
непосредственное отношение к социальным задачам, чем всевозможные теории государства, развивавшиеся фи.чософами
от Платона и до Гегеля. Я не сумел бы показать читателю возможность такой связи науки с социальными задачами лучше,
чем указав ему на выводы, вытекающие из современной теории
наследственности, развитой современным немецким биологом
Вейзманом. Теория Вейзмана лежит на границе современного
научного знания; его результаты еще подлежат обсуждению;
его выводы, вероятно, придется исправить Г Но для того,чтобы
показать, как наука может непосредственно влиять на поведение людей, допустим пока, что основные положения Вейз1 Его теория «непрерывности зародышевой плазмы» во многих отношениях сомнительна, но его выводы о ненаследовании приобретенных
признаков стоят на более твердой почве. Хорошую критику можно найти в
книге Моргана «Animal life and Intelligence», ch. Ѵ(«Жизнь животного и его
ум». Ред.), а сводку у Болла: «Наследуются ли последствия упражнения
и неупражнения?» Читатель может с пользою справиться у Геддеса и
Д. Томсона: «The Evolution of Sex» («Развитие пола». Ред.) и в обширной
полемике в «Nature» vol. XI и XII (под рубриками «Вейзман» и «Наследственность»).
мана верны. Одно из основных положений его теории — что
дети не наследуют свойств, приобретенных родителями в течение их жизни. Таким образом привычки, хорошие или дурные, приобретенные отцом или матерью в течение их жизни,
не наследуются детьми. Действие особой тренировки или воспитания родителей не оказывает прямого влияния на детей
до их рождения. Родители попросту хранители, передающие
своим детям их общее унаследованное достояние. От плохой
породы можно ожидать только плохого отпрыска и если,
благодаря воспитанию и специальной выучке, явится исключение, отличающееся от других членов семьи, его отпрыск* будет при рождении отмечен общесемейными особенностями 1 .
Если этот вывод Вейзмана верен, — а, насколько нам известно, в его защиту приведены очень веские аргументы, — то
он коренным образом влияет на наше суждение о нравственном поведении личности и об обязанностях общества и государства по отношению к его членам, обнаруживающим свое вырождение. Никакая выродившаяся и слабая порода никогда
не превратится обратно в здоровую под совместным действием
воспитания, хороших законов и благоприятных санитарных
условий. Эти средства могут сделать отдельных членов этой
породы сносными, если не сильными, членами общества, но тот
1 Классовое целение, бедность, ограничение известной
местностью,
все это способствует изоляции породы, скучиванию негодных элементов
даже при условиях современной цивилизации. Смешение дурной и хорошей породы путем их широкого расселения также нельзя рекомендовать,
потому что оно настолько же способствует вырождению хорошего, как
и совершенствованию дурного. Мы нуждаемся в ограничении плодовитости дурных пород, а это может осуществиться только при возникновении
новых социальных привычек, новых представлений о социальном и антисоциальном в поведении людей.
* Все дальнейшие рассуждения Пирсона крайне поучительны. Признав за истину ошибочную теорию Вейзмана, он скатывается к «теории»
дурных и хороших пород, от которых рукой подать до расовой «теории»
фашизма. В примечании (стр. 316)'К. А. Тимирязев дает отпор всем этим рассуждениям Пирсона. Поучительно во всем этом тот факт, что ложная
теория Вейзмана, при ее последовательном проведении приводит к диким
воззрениям современных фашистов. Напомним, что ошибки современных
генетиков, разоблаченные недавно на сессии Академии имени Ленина,
своими истоками имеют ту же теорию Вейзмана. Ред.
же процесс должен повторяться снова и снова с каждым новым
отпрыском в постоянно расходящихся кругах, если только
эта порода, благодаря условиям, в которые поставило ее общество, окажется способной к размножению. Приостановка
того процесса естественного отбора, который в более ранней
борьбе за существование уничтожал слабые и выродившиеся
породы, может превратиться в грозную опасность для общества, если общество будет возлагать надежду исключительно
на изменяющиеся условия, как на средство превращать унаследованное зло в унаследуемое добро. Если общество должно
само лепить свои будущие формы, если мы призваны заменить
безжалостный процесс естественного закона, возвысивший
нас до нашего современного состояния, более мягкими средствами устранения менее совершенного, тогда мы должны быть
крайне осторожными, чтобы, следуя нашим сильно выраженным социальным инстинктам, не ослабить в то же время общества все более и более легким размножением дурных
пород.
Если воззрения Вейзмана верны — если дурной человек,
может быть, сделается хорошим под влиянием среды и воспитания, но дурная порода никогда не может быть превращена в хорошую породу, то мы легко усматриваем, какая ответственность ложится на каждого гражданина, посредственно или непосредственно призванного разобраться в задачах, касающихся
государственной поддержки воспитания, реформы и применения закона о бедных, и прежде всего направления частной и
общественной благотворительности, ежегодно располагающей
такими громадными суммами. При решении всех подобных задач слепые социальные инстинкты и индивидуальные наклонности являются особенно могущественными факторами, руководящими нашим суждением. И однако именно эти задачи,
всего более определяющие всю будущность нашего общества,
его устойчивость и способность к дальнейшей деятельности,
требуют от нас, как добрых граждан, усилий постичь законы здорового социального развития и готовности подчиниться им.
Приведенный пример окажется не бесполезным, доставляемое им поучение не утратит своего значения, даже если воззре-
ния Вейзмана оказались бы в конце концов неверными
Очевидно, что по отношению к социальным задачам указанной категории законы наследственности, каковы бы они ни были, должны оказывать глубокое влияние на наши суждения. Отношение родителей к детям и общества к его противосоциальным
членам никогда не может быть утверждено на прочном и постоянном основании без отношения к тому, что скажет наука
о коренных вопросах наследственности. Как это ни может показаться странным, но лабораторные опыты биолога имеют
в этом отношении более веса, чем все теории государства от
Платона до Гегеля! Научная классификация фактов, биологических и исторических, наблюдение их соотношения и последовательности и вытекающее из этого абсолютное, а не личное
суждение, — вот единственные средства, при помощи которых
мы можем достигнуть истины в таких жизненных вопросах,
касающихся социального строя, каков вопрос о наследственности. Я полагаю, одних этих соображений было бы достаточно для оправдания национального обеспечения науки и
воспитания всех граждан в духе научного метода мышления.
Каждый из нас ежедневно призван давать свое суждение по
вопросам, имеющим решающее значение для нашего социального существования. Если этим суждением обеспечиваются
меры и поведение, клонящиеся к увеличению благосостояния
общества, тогда это суждение можно назвать нравственным
или, лучше, социальным суждением. Из этого вытекает, что для
того, чтобы суждение было нравственным, оно должно быть со1 Мне кажется, с одной стороны, что положение о невозможности
наследственной передачи приобретенных свойств нельзя применять
в такой абсолютной форме, как это делает Вейзман; с другой стороны,
современная биология все более и более приводит к мысли, что организм
в значительной мере таков, каким его делает непосредственно окружающая его среда. В переводе на социальный язык, человек таков, каким его
делает социальная среда и прежде всего воспитание. Именно эта точка
зрения и налагает на каждого мыслящего гражданина не только обязанность поддерживать высокий уровень этой среды, но и вступать в борьбу
со всем, что его принижает. Если бы влияние воспитания передавалось
по наследственности, то его задачи были бы уж очень просты и не требовали бы новых забот со стороны каждого нового поколения. Примеч.
перев. (Ср. комментарии к настоящему тому, стр. 491. Ред.)
ставлено при содействии строгого метода и знания. Нельзя
достаточно часто повторять, что нравственное суждение, т. е.
такое суждение, по отношению к которому отдельная личность
может быть уверена, что оно клонится к общему социальному
благу, зависит не от одной только готовности жертвовать личными выгодами или от побуждения действовать вполне бескорыстно: оно прежде всего зависит от знания и метода. Первое
требование, которое государство в праве предъявлять личности, — требование не самопожертвования, а саморазвития.
Человек, жертвующий тысячу фунтов на какой-нибудь широкий благотворительный проект, может быть, и не делает полезного, с социальной точки зрения, поступка; это самопожертвование, если бы даже его можно было так назвать, ничего не доказывает; но человек, подающий свой голос в прямом или даже
не прямом выборе представителя, после того как составил себе
определенное суждение, основанное на знании, такой человек
несомненно исполняет социальный поступок и стоит на более
высокой ступени гражданственности.
§ 10. Т Р Е Т Ь Е ПРАВО, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЕ
НАУКОЙ
До сих пор я почти исключительно рассматривал влияние
науки на обсуждение социальных вопросов. Я старался показать, что наука не только не может быть законным образом
исключена из обсуждения какой бы то ни было области исследования истины, что не только обладание ее методом необходимо для исполнения обязанностей истинного гражданина, но
что и ее результаты имеют самое тесное отношение к практическому разрешению многочисленных социальных затруднений. С этой точки зрения я пытался оправдать государственное
содействие чистой науке и ее преподаванию, помимо всяких
практических ее положений. Если в этом оправдании науки
я особенно настаивал на преимуществах научного метода, на
той школе, которую доставляет наука, обучая нас истинной
оценке доказательств, классификации фактов, устранению
личного элемента в суждениях, — словом, тому, что можно
назвать точностью ума, то мы не должны, однако, забывать,
что в конце концов и непосредственное воздействие науки на
практическую жизнь громадно. Наблюдения Ньютона над
связью между движениями падающего тела и луны, Гальвани —
над судорожными сокращениями мускулов лягушки при соприкосновении с железной и медной проволокой, Дарвина —
над приспособлениями дятла, древесной лягушки и семян в их
среде, Кирхгофа — над линиями в солнечном спектре и других наблюдателей над жизнью бактерий, — все эти и им подобные наблюдения не только произвели переворот в наших
представлениях о вселенной, но вызвали и продолжают вызывать перевороты в нашей практической жизни, в наших средствах сообщения, социальном поведении и лечении болезней.
То, что в момент открытия представляется выводом, имеющим
исключительно теоретический интерес, является исходной точкой других открытий, глубоко изменяющих основные условия
человеческой жизни. Ни об одном результате чистой науки невозможно сказать вперед, что он не сделается когда-нибудь исходной точкой широких технических применений. Лягушечья
лапка Гальвани и трансатлантический кабель кажутся довольно
далеки одна от другого, но первая была исходной точкой ряда
исследований, завершившихся последним. В новейшем исследовании Герца, показавшем, что электромагнитное действие распространяется волнами подобно свету и только подтвердивших теорию Максуэлля,что свет — частное проявление электромагнитного действия, мы, кажется, имеем результат поразительно интересный для науки, но, повидимому, не имеющий
практического применения Г Но каким опрометчивым догматиком был бы тот, кто решился бы утверждать, что открытие
Герца через поколение или два не сделает более глубокого переворота в человеческой жизни, чем лягушки Гальвани, приведшие к открытию электрического телеграфа.
1 С той поры, как были написаны эти строки, первое и непредвиденное приложение к практической жизни уже явилось в беспроволочном
телеграфе.
Напомню, что с небольшим через год после открытия Герца проф.
Столетов в своей замечательной речи определенно высказался, что для
практики это открытие означает возможность телеграфа без проволоки.
Примеч. перев.
§ И . НАУКА И ВООБРАЖЕНИЕ
Существует еще точка зрения, с которой нам необходимо
оценить чистую науку, — точка'зрения, не имеющая никакого
отношения к практической пользе, но касающаяся одной стороны человеческой природы, которой, читатель может подумать,
я совершенно пренебрег. Нам присуще еще одно начало, которое не удовлетворяется одним формальным процессом рассуждения; это воображение или эстетическое чувство, та сторона
нашего существа, к которой взывают поэты и философы,
и наука, оставаясь научной, не может обойти ее своим вниманием. Мы уже видели, что воображение не должно заменять
разума в выводе отношений и законов из классифицированных
фактов. Но, тем не менее, дисциплинированное воображение
всегда оказывалось в основе всякого великого научного открытия. Все великие ученые были в известном смысле великими
художниками 1 ; человек, не обладающий воображением, может собирать факты, но не сделает великого открытия. Если
бы от меня потребовали назвать англичан, которые в наш век
обладали самым широким воображением и применяли его с
наибольшей пользой, я думаю, я оставил бы в стороне романистов и поэтов и назвал бы Фарадэ и Дарвина. Но необходимо
дать себе точный отчет в том, какую роль играет воображение
в чистой науке. Мы всего лучше осуществим это, разобрав следующее положение. Чистая наука предъявляет еще одно право
на наше признание тем, что содействует упражнению способности воображения и доставляет удовлетворение нашему эстетическому суждению. Остановимся подробно с этой целью на каком-нибудь примере разработанной классификации научных
фактов и тщательного установления их соотношения и последовательности. В чем же будет заключаться следующая стадия
процесса научного исследования? Несомненно, в применении
1 Позволю себе напомнить, что эту мысль я подробно развивал более
чем четверть века тому назад. («Дарвин, как тип ученого», в сборнике
«Насущные задачи современного естествознания»). Москва, 1904 г. Примеч.
перев. (В настоящем издании см. статью «Дарвин, как тип ученого»,
т. VII настоящего издания. Ред.)
21 К. И. Тимирязев,
т.
7
321
воображения. Раскрытие какого-нибудь простого выражения,
какой-нибудь краткой формулы, из которой вся группа фактов вытекает как одно целое, — дело не заурядных составителей каталогов, а человека, одаренного творческим воображением. Простое выражение, краткая формула, немногочисленные слова которой заменяют в наших умах длинный ряд соотношений между единичными явлениями, — это именно то, что
мы называем законом. Такой закон, освобождая наш ум от тяжелого бремени единичных соотношений, дает нам возможность
с наименьшей умственной усталостью охватывать обширную
совокупность явлений естественных или социальных. Раскрытие законов является, следовательно, особой функцией творческого воображения. Но это воображение должно быть дисциплинировано. Оно, во-первых, должно принимать во внимание всю совокупность фактов, которые требуется свести в одно
простое выражение; а затем, когда закон добыт, нередко при
помощи того, что представляется нам вдохновенным воображением гения, тогда он должен быть подвергнут, открывшим его,
критике, проверен во всех возможных направлениях, пока не
явится уверенность, что воображение не обмануло и что закон
действительно находится в согласии со всей группой явлений,
которую он должен охватить. В этом заключается ключ к научному пользованию воображением. Сотни людей давали волю
своему воображению и полагали, что им удалось разгадать загадку вселенной; но способствовали действительному пониманию естественных явлений только те, кто безжалостно прилагали приемы научной критики к произведениям своего воображения. Эта критика и составляет сущность научного пользования воображением, она — плоть и кровь науки Ч
Такой авторитет, как Фарадэ, пишет: «Не подозревает свет,
сколько мыслей и теорий, прошедших через голову научного
исследователя, было втайне уничтожено его собственной критикой и неоправдавшей их проверкой; при самых благоприятных условиях даже десятая доля намеков, надежд, желаний
и предварительных заключений не оправдалась».
1 La critique est la vie de la science. В критике — жизнь науки, скавал Виктор Кузен.
§ 12. ОБРАЗЦЫ НАУЧНОГО МЕТОДА
Пусть не подумает читатель, что я изображаю идеальный,
чисто-теоретический метод научных открытий. Только что описанный процесс исследований он найдет изображенным самим
Дарвином в его рассказе о том, как он открыл закон естественного отбора. Он сообщает нам 1 , что по возвращении в Англию
в 1837 г. ему показалось, что:
«Собирая все факты, имеющие какое-нибудь отношение к
изменениям растений и животных, прирученных и в естественном состоянии, можно было бы пролить некоторый свет на
весь вопрос. Я начал свою первую записную книжку в июле
1837 г. В своей работе я руководился истинно бэконианскими
принципами2 и без всякой теории собрал факты оптом, преимущественно по отношению к домашним породам, пользуясь
печатными запросами, разговорами с искусными заводчиками
и садоводами и обширным чтением. Когда я просматриваю
список книг всякого рода, которые я перечел, делая из них
выписки, включая целые серии журналов и трудов, я дивлюсь
своему собственному трудолюбию. Я вскоре убедился, что отбор был главным ключом, определявшим успех человека в
производстве полезных пород животных и растений. Но каким образом отбор может быть применен к организмам, живущим в естественном состоянии, для меня долго оставалось
тайной».
1 «The life and letters of Charles Darwin, vol. 1, p. 83 («Жизнь и письма
Чарлза Дарвина». Ред.).
2 Именно у таких людей, как Лаплас и Дарвин, посвятивших свою
жизнь естествознанию, скорее, чем у людей, трудившихся в области чистых концепций, как Милль и Стэнли Джевонс, должны мы искать истинных оценок бэконовского метода. Рядом со словами Дарвина мы можем
поместить отзыв о Бэконе Лапласа.
«Он учил своими указаниями, а не примером, как следует искать
истину. Настаивая со всею силою своего ума и красноречия на необходимости отказаться от изощрений схоластики, для того, чтобы предаться
наблюдениям и опытам, и указав на истинный метод восхождения к общим
причинам, он содействовал громадным успехам, которые человеческий
разум осуществил в тот великий век, в котором завершил свое жизненное
поприще этот великий философ». («Théorie analytique des Probabilités»,
Oeuvres, t. VII, p. CLVI). Плотник, употребляющий орудие, может лучше
судить о достоинстве, чем кузнец, его ковавший. О том, как ценили Бэкона
его научные современники, смотрите в издании «Novum Organum» проф.
Фаулера.
21*
323
Здесь перед нами Дарвинова систематическая классификация фактов, то, что он сам называл своим «систематическим
исследованием». На почве этого систематического исследования являются поиски закона. Это уже дело воображения; роль
вдохновения в этом случае играло чтение «Essay on Population»* Мальтуса. Но воображение Дарвина было научное, дисциплинированное. Подобно Тюрго, он сознавал, что если первое дело выдумать систему, то второе — получить к ней отвращение. Соответственно с этим наступил период самокритики,
длившийся четыре или пять лет; но прошло ни более ни менее
как девятнадцать лет, прежде чем он поведал миру свое открытие в его окончательной форме. Говоря о своем вдохновении, что естественный отбор — ключ к тайне происхождения
видов, он говорит:
«Здесь, наконец, я имел теорию, при помощи которой мог
работать; но я был так озабочен мыслью избегнуть предубеждений, что решился на некоторое время воздержаться даже
от самого краткого наброска ее. В июле 1842 г. (т. е. ровно
через четыре года после первого вдохновения) я доставил
себе это удовольствие и набросал очень краткий очерк своей
теории карандашом на 35 страничках; в течение лета 1844 г.
он разросся до 230 страниц, которые я чистенько переписал
и храню до сих пор».
Наконец, извлечение из рукописи Дарвина было напечатано вместе с очерком Уоллеса в 1858 г., а «Происхождение видов» появилось в 1859 г.
Точно так же и воображение Ньютона только равнялось его
способности к самокритике 1 , побудившей его отложить доказательства тяготения луны почти на восемнадцать лет, пока
ему не удалось пополнить недостающее звено в его рассуждении. Но наши сведения о жизни и открытиях Ньютона слишком
Эту мысль, что гений, все равно художника или ученого, слагается
из двух факторов — воображения и критики, я подробно развил в заключительной лекции своего курса «Исторический метод в биологии»
(читанной в 1890 г.). Отрывок из нее, под заглавием «Творчество человека
и творчество природы», первоначально напечатанный в сборнике
«Братская Помощь», приведен ниже. Примеч. перев. («Исторический
метод в биологии» и указанный отрывок из него, см. в т. VI настоящего
издания. Ред.).
* Попытка изучения народонаселения. Ред.
1
недостаточны, и это не дозволяет нам ознакомиться с его методом так, как это удалось нам по отношению к Дарвину. Представленного очерка хода развития мыслей этого последнего,
полагаю, вполне достаточно для показания действительного
приложения научного метода и той роли, которую в нем играет
дисциплинированное воображение 1 .
§ 13. НАУКА И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СУЖДЕНИЕ
Я полагаю, мы имеем полное право заключить, что наука
не только не калечит воображения, но, напротив, способствует
1 Должно допустить, что при классификации фактов широко пользуются воображением, а не одним только рассуждением. В то же время
тщательная классификация, принадлежит ли она самому ученому или
предшествовавшим ему труженикам, должна существовать в его уме
прежде, чем он приступит к раскрытию закона. Читатель заметит, что
в этом я расхожусь с Стэнли Джевонсом (в его «Principles of Science»),
И я убежден, что он изменил бы свою главу X X V I , если бы знал, как
работал Дарвин. В описании метода Ньютона, приводимом Джевонсом,
по моему мнению, недостаточно подчеркивается мысль, что Ньютон обладал широкими сведениями по физике прежде, чем стал применять свое воображение или проверять свои теории опытом, т. е. вступил в стадию
самокритики. Причина, почему псевдо-ученые заваливают стол критика
своими праздными теориями, нередко обнаруживающими недюжинную
силу воображения и изобретательности, лежит не исключительно только
в недостатке самокритики. Их теории, как общее правило, таковы, что
человек науки никогда не стал бы их ни высказывать, ни критиковать.
Невозможность этих теорий очевидна, потому что их творцы никогда не
составляли сами для себя или не ознакомились из чужих рук с классификациями тех групп фактов, которые они пытаются объединить своими
теориями. Ньютон и Фарада отправлялись от полного знания классификаций физических фактов, науки их времени и продолжали далее свой
путь одновременного классифицирования и теоретизирования. Бэкон,
к которому Стэнли Джевонс относится с совершенно несправедливым
презрением, жил в такое время, когда было еще мало сделано в смысле
классификации, и не обладал научным воображением Ньютона и Фарадэ.
Отсюда бесплодность его метода в его собственных руках. Начальная
деятельность Королевского общества наглядно показывает, как необходимо стадия собирания и классифицирования фактов предшествует стадии ценных теорий.
С заключительной главой Стэнли Джевонса «О пределах научного метода» автор этих строк вполне не согласен; многие из его доводов представляются ему ненаучными, или — выражаясь точнее — противонаучными.
его упражнению и упорядочивает его отправление. Нам предстоит, тем не менее, рассмотреть еще одно соотношение между
способностью воображения и чистой наукой. Когда мы видим
какое-нибудь великое произведение творческого воображения,
поразительную картину или потрясающую драму, в чем заключается сущность их властной, чарующей силы? Почему
наше эстетическое суждение признает их за истинное произведение искусства? Не потому ли, что мы видим в них, сокращенным в сжатое выражение, в простую формулу, в несколько понятных символов, широкий охват человеческих чувств и впечатлений? Не потому ли, что поэт или художник выразил в
своих образах действительную связь между многочисленными
разнообразными впечатлениями, которые мы в течение продолжительной своей житейской опытности сознательно или
бессознательно пытались классифицировать? Не заключается
ли красота творения художника в той верности, с которой его
символы подводят итог бесчисленным фактам нашей прошлой
эмоциональной опытности? Эстетическое суждение высказывается за или против толкования, предложенного творческим
воображением, в зависимости от того, воплощает ли это воображение явления жизни, нами самими испытанные, или противоречит им Ч Оно оказывается удовлетворенным, когда формула художника не противоречит ни одному из тех эмоциональных явлений, которые оно пытается обнять. Если эта характеристика эстетического суждения соответствует истине 2 ,
читатель уже, вероятно, сам подметил его параллелизм с суждением научным. Но на деле здесь существует не простой только
параллелизм. Научные законы, как мы видели, произведения
творческого воображения. Они только умственные истолкования, — формулы, под которые мы подводим обширные ряды
явлений, результаты наблюдений наших собственных или нам
Какую важную роль играет продолжительность и разнообразие
эмоциональной опытности в определении эстетического суждения, легко
ваметить, сопоставив любимых писателей или любимые картины наших
друзей различного возраста и различных состояний.
2 На этот вопрос автора с своей стороны могу ответить полным согласием и сослаться на свои воззрения на задачи искусства, высказанные
во втором предисловии и статье «Фотография и чувство природы».
(См. стр. 227 настоящего тома. Ред-)- Примеч. перев.
1
подобных людей. Научное истолкование явлений, научное повествование о природе является единственным прочно удовлетворяющим эстетическое суждение, потому что оно не может
встретить полного противоречия в нашем наблюдении, нашем
опыте. Необходимо особенно подчеркивать эту сторону науки,
потому что нам часто говорят, что с ростом науки исчезают красота и поэзия жизни. Наука, конечно, лишает смысла многочисленные старинные толкования жизни, потому что доказывает, что они лживы, противоречат фактам, которые берутся
объяснить. Но из этого не следует, что научное и эстетическое
суждения находятся в противоречии; на деле оказывается,
что, по мере роста наших научных знаний, только изменяется
и должна изменяться основа эстетического суждения. Гораздо
более истинной красоты в том, что наука повествует нам о химии отдаленной звезды или жизненном процессе простейших
животных, чем в любой космогонии, созданной творческой фантазией до-научных веков. Говоря: «более истинной красоты»,
мы хотим сказать, что эстетическое суждение найдет более
глубокое удовлетворение, более прочное наслаждение в первых, чем в последних. Именно в этом постоянном удовлетворении эстетического суждения и заключается одно из главных наслаждений, доставляемых занятием чистой наукой.
§ 14. Ч Е Т В Е Р Т О Е ПРАВО, П Р Е Д Ъ Я В Л Я Е М О Е
НАУКОЙ
В человеческой груди гнездится ненасытное желание охватить в одной краткой формуле, в одном сжатом выражении
факты человеческого опыта. Оно побуждает дикаря «находить
причину» всех естественных явлений, обоготворяя и ветер, и
поток, и дерево. Оно подвигает цивилизованного человека воплощать свою эмоциональную опытность в произведениях искусства, а свою физическую и умственную опытность выражать
в формулах или так называемых законах науки. И произведения искусства и законы науки — продукты творческого воображения, оба доставляют удовлетворение нашему эстетическому
суждению. G первого взгляда может показаться странным,
что научные законы, таким образом, приводятся в связь ско-
рее с творческим воображением человека, чем с физическим
миром вне его. Но нетрудно убедиться, что законы науки —
продукты человеческого ума, скорее чем факторы внешнего
мира. Наука стремится представить умственную сводку вселенной, и последнее право на нашу поддержку, ею предъявляемое, основывается на ее способности удовлетворить наше
страстное желание получить краткое описание истории вселенной. Такое краткое описание, формулу, все собою обнимающую, наука еще не нашла, может быть никогда и не найдет,
но в одном только мы можем быть уверены, что ее метод искания истины единственно возможный, и что та истина, которой
она достигла, единственная форма истины, которая может доставить прочное удовлетворение нашему эстетическому суждению. А пока лучше довольствоваться частью верного объяснения, чем обманывать себя негодным целым. Первое, во всяком
случае, шаг к истине и указывает, в каком направлении должны
быть сделаны следующие шаги. Последнее не может быть в полном согласии с нашей опытностью, прошлой и будущей, и потому, в конце концов, не в состоянии удовлетворить нашего
эстетического суждения. Шаг за шагом это суждение в своем
безостановочном движении, порождаемом ростом положительного знания, отбрасывало в сторону верование за верованием,
философскую систему за философской системой. Конечно, мы
должны испытывать чувство удовлетворения, черпая со страниц истории убеждение, что только мало-по-малу, шаг за шагом,
при помощи организованного наблюдения и осторожного мышления может человек надеяться достигнуть истины, что наука
в самом широком смысле слова является единственным путем
к знанию, которое будет находиться в полной гармонии с нашей прошлой, как и с возможной будущей опытностью.
Клиффорд верно сказал: «Развитие научной мысли, не сопровождающее только обстоятельство или условие человеческого прогресса, это и есть сам человеческий прогресс».
ВЫВОД
1. Задача науки — раскрывать истину во всех возможных
областях знания. Не существует такой сферы исследования,
которая лежала бы вне законного круга деятельности науки.
Только обскурантизм может проводить границу между областью науки и философии.
2. Научный метод отличается следующими чертами: а) тщательной классификацией фактов и наблюдением их соотношений и последовательности; Ь) открытием научных законов при
помощи творческого воображения; с) самокритикой и окончательной пробой — убедительностью ее выводов для всякого
нормального ума.
3. Права науки на поддержку общества следующие: а) она
дает гражданам самое действительное умственное воспитание;
Ь) она проливает свет на некоторые из самых важных социальных вопросов; с) она постоянно увеличивает удобства практической жизни; d) она доставляет глубокое и прочное удовлетворение эстетическому суждению*.
* Здесь сказался идеализм Пирсона: если верно, что надо обладать
творческими способностями, чтобы открывать законы природы, то отсюда
вовсе не следует, что законы природы являются продуктами нашего
творчества. Ред.
РАСШИРЕНИЕ ОБЛАСТИ
НАШИХ ЧУВСТВЕННЫХ ВОСПРИЯТИЙ
1
Н
е раз уже было указано на то, что каждое физическое
наблюдение зависит от двух обстоятельств: от природы
вне нас и от нашей собственной природы, главным образом
от природы наших органов чувств. Субъективные контрасты
цветов и сливающееся изображение движущегося тела служат
наглядными тому примерами.
1 Вступительная лекция, читанная в Лейпцигском университете проф.
О. Винером. В печати лекция талантливого молодого физика появилась
с приложением в виде литературных указаний и добавлений. Эти последние едва ли менее интересны, чем самый текст, так как затрогивают многие
общие современные вопросы. Отрицаемое многими поглощение физики
механикой, односторонность учения так называемых энергетиков, схоластические мудрствования по части теории познания, смута, внесенная
в науку непониманием знаменитого Кирхгофского слова «описание», пресловутые вечные мировые вагадки Дюбуа-Реймона и т. д. вызывают меткие,
остроумные комментарии автора. К сожалению, эти добавления нельзя
было включить в речь, не нарушая ее стройного течения. Желая, тем не
менее, сохранить их близкую связь с текстом, я привел их в виде под-
Но природа наших чувств оказывает и другое более глубокое влияние. Учение о звуке и свете, эти два обширные отдела
физики, имеют прямое отношение к нашим двум органам чувств.
И тем не менее трудно было бы предложить менее научный принцип деления предмета, чем тот, который встречается еще в физике, так как рядом со звуком и светом мирно укладываются
магнетизм и электричество, развившиеся на почве наблюдений
над притяжением и отталкиванием известных тел.
И однако, замечу мимоходом, я нимало не хочу этим сказать, что на этом основании следовало бы отказаться от подобного подразделения содержания физики.
Физика, в особенности экспериментальная, по существу
наука, опирающаяся на опыт. А на основании биогенетического закона каждое живое существо проделывает в сокращенной форме развитие своей расы. Отсюда вполне естественно
в преподавании основ экспериментальной физики излагать
факты хотя и в сокращенной форме, но в той же последовательности, как их приобретала наука, хотя, конечно, нередко придется и отступать от строго исторического порядка.
Но, спрашивается, каким образом приобретали мы познание о существовании явлений или состояний, которые, подобно
магнетизму, не оказывают никакого непосредственного действия на наши чувства. Ответ очень прост, но, тем не менее,
полезно отдать себе полный отчет, в чем заключается здесь основной прием.
Намагниченное железо при известных условиях и при соседстве любого какого-нибудь второго куска железа обнаруживает иного рода движение, чем железо ненамагниченное. Эти
движения узнаем мы или посредством осязания, или видим
их глазом. Если б в какой-нибудь части нашего тела схоронилась клеточка, снабженная магнитным веществом и окруженная нервами, то мы могли бы во всяком месте, не прибегая к созвездиям, узнавать север и юг, так же, как узнаем теперь верх
и низ. Буссоль, т. е. вращающаяся в горизонтальной плоскости
строчных выносок и считаю полезным обратить на них внимание читателя.
Примеч. перев. (Перевод этой лекции был опубликован вначале за подписью «К.Т.» в журнале «Русская Мысль», 1904 г. Был включен в 3-е издание сборника «Насущные задачи современного естествознания». Ред.)
по деленому кругу магнитная игла, заменяет нам в известной
степени это особенное магнитное чувство. Она осуществляет
это при помощи движений, которые наблюдает наш глаз.
Таким образом любое явление природы, не влияющее непосредственно на наши органы чувств, может, тем не менее,
действовать посредственно, если оно будет одновременно вызывать другие явления, в свою очередь воздействующие на наши
чувства.
Буссоль мы называем искусственным пособием в сравнении
с естественными пособиями, какими являются наши органы
чувств.
Но и это различие само искусственно, т. е. придумано человеком. На деле и сам человек помещается среди природы,
и закономерный поток совершающихся вокруг него превращений проходит через него, как через всякую другую точку в природе. С точки зрения истории развития, поступки павиана,
бросающего камнем в преследующих его, и солдата, отстреливающегося пулями, собаки, настораживающей уши, и человека, прикладывающего к ним руку или слуховую трубку, —
в основе одни и те же явления; они отличаются только по степени, а не по существу.
Таким образом, каждый новый инструмент или сочетание
уже известных, служащее для новых целей, с точки зрения истории развития, представляет только естественное развитие
или расширение наших органов чувств, и должно быть рассматриваемо как прогресс в процессе нашего приспособления к окружающему миру, как преимущество в борьбе за существование.
Когда при составлении плана сегодняшнего изложения я
остановился на этой руководящей мысли, я, конечно, не воображал, что она представляет что-либо новое. И действительно,
вскоре в одной из прекрасных речей Тиндаля я нашел указание на Герберта Спенсера, развившего эту мысль сорок пяль
лет тому назад самым подробным и всесторонним образом
в своих основах психологии. Я приведу вам одно особенно замечательное место из этого его труда.
«Каждый инструмент, служащий для наблюдений, — говорит он, — вес, мера, весы, микрометр, нониус, микроскоп,
термометр и пр., представляет только искусственное расширение наших органов чувств, между тем как рычаг, винт,
молоток, клин, зубчатка, токарный станок только искусственные продолжения наших органов движения».
Хотя эта мысль давно уже высказана с полною ясностью,
хотя она сама по себе очевидна и с тех пор неоднократно и
независимо приходила в голову и высказывалась, тем не менее, я остался при намерении взять ее за исходный пункт
своего изложения. Во-первых, понятно, что Спенсер не мог
слишком вдаваться в физические подробности, а именно в этой
области встречается множество поразительных фактов, мало
известных в широких кругах и по большей части ставших известными именно в течение этих 45 лет. Сверх того, относясь
к задаче с точки зрения истории развития, мы сообщаем ей
особенно широкий охват и приобретаем превосходный общий
взгляд на положение физики, по отношению к науке и к жизни.
Отлагая этот общий обзор до конца, я остановлюсь вначале
на более подробном рассмотрении вопроса, в какой мере физика действительно расширяет наши чувства. При этом я должен оговориться, что время не дозволяет мне стремиться к особой полноте и строгой последовательности изложения.
*
Начнем с простого механического ощущения. Мы обладаем
естественной способностью в известной степени оценивать вес
предмета, лежащего на руке или какой-нибудь иной части тела.
Мы можем судить об этой способности в трех различных направлениях. Во-первых, определяя наименьший вес, который
еще вызывает в нас ощущение давления, мы называем его,
вместе с Фехнером, порогом раздражения по отношению к этому
чувству давления; далее, определяя наименьшее различие между двумя весами, которое мы можем уловить, эту величину мы
обозначаем, также по Фехнеру, термином порог сравнения
по отношению к ощущению давления, и, наконец, определяя
тот наибольший вес, о котором мы вообще можем судить, т. е.
тот вес, который мы вообще можем поднять — его мы обозначим вместе с Вундтом высшим пределом раздражения.
То, что относится к ощущениям давления, относится также
и к другим чувствам и аппаратам. Мы можем всегда говорить
о пороге раздражения, о пороге сравнения и высшем пределе
раздражения.
Что касается до высшего предела раздражения, то я должен вкратце заметить, что если он существует для отдельных
аппаратов, то того же нельзя сказать о целом их классе, еще
менее о различных классах аппаратов, служащих для той же
цели; так мы можем, хотя в некотором переносном смысле,
взвесить весь земной шар.
Что касается до порога сравнительных ощущений, то уже
Эрнест Генрих Вебер показал, что по отношению к различным
органам чувства он в известных пределах независим от величины
раздражений. Если у нас на ладони лежит 100 граммов, то мы
чувствуем облегчение груза при удалении 30 граммов; если же
первоначально лежало 1 ООО граммов, то нужно удалить 300
для того, чтобы ощутить изменение. Следовательно, каждый раз
относительное облегчение остается одно и то же. Этот факт лежит в основе так называемого основного психофизического закона Вебера-Фехнера.
То же самое оказывается применимым и к аппаратам, по
крайней мере, если мы опять-таки сравниваем не отдельные аппараты, а целые их классы. Тогда мы убеждаемся, что в известных пределах и они осуществляют ту же относительную степень чувствительности.
Перейдем теперь к числовому сравнению чувствительности наших весовых ощущений и соответствующего им инструмента — весов.
Весовая о'ценка при помощи руки не идет далее 30%. Правда,
ее можно еще изощрить, если вместо того, чтобы ограничиваться
одной оценкой ощущения давления, мы будем несколько раз
подымать и опускать определяемый груз, т. е. привлечем к этой
оценке и мускульное чувство, ощущаемое при производстве
этой работы. Погрешность падает тогда до 10%. Порог сравнения будет тогда одна десятая.
Перейдем теперь к сравнению с нашими лучшими точными
весами. Они могут, при нагрузке на 1 килограмм на каждую
чашку, показывать одну двухсотую часть миллиграмма; их по-
рог сравнения лежит, следовательно, при одной двестимиллионной\ они в двадцать миллионов раз чувствительнее к различиям в давлении, чем наше тело. Отсюда понятно значение этого
точного инструмента, по отношению к своему порогу сравнения
самого чувствительного. Его применение возвысило химию
на уровень первостепенной науки, играющей выдающуюся
роль не только в жизненной борьбе, но и в наслаждении жизнью.
Если бы мы были так же чувствительны к нагрузке, то ощущали бы различия в весе при одном подъеме руки на два сантиметра, точно так же, как эти весы, если бы их чашки были подвешены на различных высотах, отличающихся всего на два сантиметра. Шар из золота с радиусом в 35 сантиметров, зарытый
на 1 метр под-поверхностью земли, вследствие притяжения его
массы обнаружил бы свое присутствие кажущимся увеличением
нашего веса, когда мы над ним проходили бы.
Порог раздражения для ощущений давления лежит для
различных точек нашего тела между граммом и, примерно,
миллиграммом, т. е. давления ниже этого предела уже не ощущаются. С другой стороны, наши наиболее легко построенные
и абсолютно наиболее чувствительные весы отзываются на одну
десятитысячную миллиграмма; они, следовательно, в десять
тысяч раз чувствительнее самой чувствительной части нашего
тела. Они откачиваются уже тогда, когда на одну из чашек
упадет пылинка в 1 / 16 миллиметра в диаметре. Их необходимо
помещать под колоколом воздушного насоса — даже и не в таких городах, как Лейпциг.
При помощи весов такой чувствительности Варбургу и
Имори удалось доказать присутствие водяной пленки на поверхности стекла даже в умеренно влажном воздухе. Эту водяную
пленку можно было обнаружить даже тогда, когда ее толщина
не превышала пятой доли одной миллионной миллиметра.
Всестороннее равномерное давление мы не в состоянии ощущать. Всякому известно, какой громадный успех в наших знаниях относительно атмосферных явлений был отмечен открытием ртутного барометра, чем мы обязаны Торичелли.И однако
этот инструмент еще крайне груб. Фридрих Кольрауш и Август Тёплер придумали инструменты, непрерывно показывающие колебания в атмосферном давлении, которых ртутный ба-
рометр даже не ощущает. Прибор Тёплера, в котором, как в
чувствительном уровне, движется пузырек воздуха, наполнен
не ртутью, а ксилолом, удельный вес которого в 16 раз легче,
а труба барометра не вертикальна, а наклонена под небольшим
углом к горизонту х . С этим прибором могут быть обнаружены
различия давления в одну сотую долю одной миллионной атмосферы. Он обнаруживает в закрытой комнате колебания,
когда на значительном расстоянии от него открывают дверь
или когда кто-нибудь пройдет через открытую дверь. Макс
Тёплер показал, что этот инструмент показывает давление
столба газа, весящего всего одну тысячную миллиграмма.
Каких поразительных результатов могут достигать люди,
органы чувств которых вследствие ли природных задатков
или упражнения значительно превышают чувствительность
среднего человека, примером того могут служить опыты так
называемых угадывателей мыслей. Читающий мысли ощущает
малейшие колебания в давлении, малейшие непроизвольные
и бессознательные мускульные сокращения руки у человека,
мысли которого напряженно сосредоточены на каком-нибудь
слове, предмете или поступке. Но эта чувствительность лучших
угадывателей мыслей превзойдена аппаратом, построенным психиатром Робертом Зоммером в Гётингене и обнаруживающим непроизвольные движения ноги, руки, в особенности пальца. Эти
движения при помощи системы рычагов еще разлагаются на три
главные направления: с переду назад, справа налево, сверху
вниз; каждое из этих составляющих движений записывается при
помощи пера на вращающихся барабанах, так что сразу получаются три кривые. Эти кривые обнаруживают внезапные колебания, когда, например, в ряду слов произносят то, которое было
задумано лицом, над которым производится опыт, разоблачая
таким образом его мысли. Аппарат этот прежде всего служит
для тонкого различения нервных болезней. Так, кривые у алкоголика не те, что у паралитика.
Так же, как мы обнаруживаем тончайшие сотрясения человеческого тела, мы можем при помощи соответственных ин1 Еще ранее появления исследований этого ученого подобный барометр поразительной чувствительности я видел у английского физика
Гутри. Примеч. перев.
струментов обнаруживать и малейшие колебания поверхности
земли. Для этого служит, между прочим, качающийся почти
в горизонтальной плоскости маятник, так называемый горизонтальный маятник; он несет на своей оси зеркальце, которое отбрасывает изображение светящейся точки на светочувствительную бумагу, навернутую на вращающийся при помощи часового механизма барабан. Это самодействующее записывание
изменений в положении световой стрелки может быть применено к самым разнообразным инструментам, когда измеряются
незначительные изменения углов. Усовершенствованный Рёбер-Пашвицем горизонтальный маятник записывает на барабане кривые с отчасти совершенно неожиданными периодами,
разъяснение которых обещает нам раскрытие соотношений
глубочайшей важности. Прежде всего он записывает сотрясения отдаленнейших землетрясений. Так, например, даже землетрясения, случающиеся в Японии, отражаются на приборе,
установленном в Страсбурге.
Другое, более сложное проявление нашего чувства осязания заключается в пространственном различении двух раздраженных точек нашей кожи. Их чувствительность измеряется
расстоянием между двумя остриями нажимаемого циркуля,
при котором ощущение еще чувствуется раздельно. По Веберу,
наименьшее расстояние для наиболее чувствительной в этом
отношении поверхности языка равняется приблизительно 1
миллиметру.
Гораздо далее идет способность к оценке расстояний другого органа чувства, оценка на глазомер. Глаз может различать при наиболее близком расстоянии в 10 сантиметров две
черты, отстоящие одна от другой на 1 / 4 0 миллиметра.
Именно в применении к глазу всего очевиднее выступает
верность положения, что наши инструменты только естественные продолжения наших органов чувств. Чечевица — самая
существенная часть глаза, дающая изображение; если по каким-нибудь причинам ее приходится удалить, ее можно заменить помещающимся перед глазом двояковыпуклым стеклом.
По существу безразлично, если мы возьмем в придачу еще пару
линз. Этим путем мы получим один из наших важнейших инструментов — микроскоп. Лучшие микроскопы могут нам по22 к. А. Тижіряззз,
m. V
/
337
называть вполне раздельно две тонкие черты в одну седьмую
часть одной тысячной доли миллиметра. Они, следовательно,
в двести раз чувствительнее глаза.
Какое значение имеет это расширение нашего органа чувства в борьбе за существование и в приспособлении к нашей среде, ясно из того факта, что микроскоп — тот самый инструмент,
которым мы боремся с нашими злейшими врагами: бактериями
и микроскопическими грибками. Защита от самых разнообразных инфекционных болезней при помощи гигиенических мер,
особенно благодаря улучшению гигиенических условий наших
городов, обусловливает уменьшение смертности, а следовательно, и размножение человеческого рода в таких размерах,
какие прежде были совершенно неизвестны. И тем не менее
эта борьба за существование самая невинная, какую себе
можно представить. Я думаю, самые гуманнейшие люди, самые
сердобольные члены обществ покровительства животных едва ли
будут протестовать против замаривания голодом бактерий при
помощи опрятности или даже против убивания их карболкой.
Несмотря на громадные успехи современного микроскопа,
анатомия и биология мельчайших клеточек и организмов натыкается на затруднения, которые, вероятно, могли бы быть
устранены, если бы можно было применить еще более значительные увеличения. Скажут пожалуй: что же мешает нам применить более сильные линзы или большее их число? Аббе и Гельмгольтц показали, почему и когда подобные средства окажутся
более неприменимыми. Если бы я желал разъяснить это положение подробнее, это завлекло бы меня слишком далеко. Могу
только сказать, что причина лежит в самой природе света,
этого, как мы знаем, тончайшего волнообразного движения.
Длина волны, т. е. расстояние между двумя ближайшими гребнями для предельных, еще удобно видимых фиолетовых лучей в круглых цифрах 400 миллионных миллиметра. Когда
размеры исследуемых тел приближаются к этой величине, обнаружатся явления световой дисперсии и дифракции, так что
при дальнейшем уменьшении величины тел не будет уже получаться изображения.
Чапский показал, что в настоящее время единственный
исход для усовершенствования микроскопа заключался бы
в применении более коротких волн ультрафиолетовой части
спектра; правда, мы их не можем видеть, но они действуют
на фотографическую пластинку, которая представляет существенное продолжение нашего органа зрения. Шуману в Лейпциге удалось доказать существование ультрафиолетовых лучей, длина которых не превышает 100 миллионных миллиметра.
Теоретически этим дана возможность конструкции микроскопов, увеличение которых было бы в четыре раза более современных; практически на пути к осуществлению их встречается
препятствие в сильном поглощении этих лучей даже самыми
прозрачными средами; уже слой воздуха в несколько сантиметров толщиною вполне поглощает их.
Но мы можем измерять еще менее значительные расстояния,
если дело касается определения толщины плоских тел. Здесь
масштабом нам служит длина волны. Если мы положим две
стеклянные пластинки одна на другую и будем рассматривать
заключенный между ними тончайший слой воздуха при одноцветном освещении, например, при свете натриевого пламени,
то заметим чередование светлых и желтых полос, так называемых полос интерференции. Они происходят от взаимного подкрепления или взаимного уничто?кения двух волн, отраженных
от обеих поверхностей воздушного слоя. Положение полос зависит от толщины слоя воздуха; если в стекле находится ничтожное углубление, то и в расстояниях между полосами наблюдается скачок. Величина этого изменения, выраженная в
единицах расстояния двух смежных полос, дает меру для величины этого углубления, выраженную в единицах полуволны
натриевого света, т. е. в долях, круглым числом, трех десятитысячных миллиметра.
Этим путем можно было получить ответ на вопрос: как велика толщина осажденного на поверхность стекла слоя серебра,
присутствие которого можно еще заметить благодаря его более
значительной отражательной способности. Получился ответ:
примерно седьмая часть одной миллионной миллиметра.
Но и это еще не предел доступных измерению различий
в длине. Мы для того нуждаемся еще в новом дополнении нашего чувства зрения. Между тем как мы в состоянии выделять
из смеси звуков отдельные его составляющие звуки, мы не мо22*
339
жем различать в смешанном цвете его составляющие элементарные цвета. Эту задачу успешно разрешает предложенный
Кирхгофом и Еунзеном спектроскоп. В какой степени спектральный анализ расширил наш кругозор, достаточно хорошо
известно, и я могу не слишком много об этом распространяться.
Для обнаружения присутствия натрия при помощи окрашивания пламени достаточно миллионной доли миллиграмма. Этот
способ, следовательно, во много раз превышает чувствительность обыкновенных химических приемов. И однако наше обоняние, одно из наших естественных химических чувств, порою,
правда, нам изменяющее, в других случаях значительно превосходит и эту чувствительность. На основании опытов Эмиля
Фишера и Пенцольда, меркаптан может раздражить наши обонятельные нервы при количествах в 250 раз менее только что
указанного количества натрия, т. е. в количестве одной 460-й
доли одной миллионной миллиграмма. Если мы распространим
эту поразительную чувствительность на целый ряд различных
веществ, то поймем, на что способно чутье собаки. Также общеизвестно, что язык знатока вин может пристыдить все тончайшие приемы химика. Вероятно, физической химии, уже и
теперь богатой чувствительными методами исследования, суждено соперничать с самыми поразительными проявлениями
наших химических чувств.
Вернемся снова к спектральному аппарату и его чувствительности. Он может разложить белый свет на цвета, соответствующие различным длинам его волн. Занимающая нас задача, заключающаяся в измерении наименьших различий
в длине, сводится здесь на различение двух цветов, отличающихся наименьшею разностью в длине их волн. В этом отношении спектроскоп остается далеко позади другого инструмента, так называемой дифракционной решетки, применение
которой основывается на том же принципе дифракции, который
является таким препятствием при построении микроскопа.
Роланду удалось при помощи автоматически-действующей машины нарезать на зеркальной поверхности столько тончайших
линий с равными между ними промежутками, что при помощи
их можно получить спектры в 2 метра длины и поразительной
резкости. Между тем как невооруженный человеческий глаз
может различить всего каких-нибудь 500 различных цветов,
измерения в одной видимой части позволяют различать от 20 ООО
до 40 ООО. Наименьшее различие в длине световой волны при
этих наблюдениях достигает пятидесятой или сотой части
одной миллионной миллиметра.
Еще далее идет рефрактометр Майкельсона, аппарат, который позволяет изучать интерференции света при более значительной разности хода. Желтый натриевый свет, который при
помощи лучших дифракционных решеток разлагается только
на два цвета, при помощи этого аппарата разлагается на восемь различных цветов или спектральных линий. Наименьшее
различие между длинами волн равняется тысячной доле одной
миллионной миллиметра. В действительности каждая из этих
линий состоит из смеси цветов, непрерывной и колеблющейся
в узких пределах; обстоятельство это определяется громадной
и различной скоростью светящихся газовых частиц, которые,
двигаясь навстречу наблюдателю, с различной скоростью будут посылать ему, подобно звездам, на основании принципа
Доплера, волны различной длины. Но измерение и этих малых
величин не имело бы особого значения, так как и их, в свою очередь, мы могли бы представить себе еще далее подразделенными, — если бы мы уже не переступили таким образом за
пределы, которые физик на основании многочисленных соображений приблизительно принимает за размеры молекул, а именно
около десятимиллионной доли миллиметра.
Другое чувство, также опирающееся на измерение протяжения, — это чувство времени. Укажу только вкратце, что, по
Екснеру, в самом благоприятном случае мы можем оценивать
различия во времени в 1 / 5 0 0 секунды, пользуясь для этого
двумя последующими ударами электрических искр. А рядом
с этим аппарат Федерзена в Лейпциге, снабженный вращающимся зеркалом, доведен до такой чувствительности, что
может еще измерять сотую долю миллионной части секунды.
До сих пор, за исключением раздражительности по отношению к давлению, мы не рассмотрели ни одного чувства, отвечающего на различия в силе раздражения. Если мы теперь обратим внимание на чувствительность уха и глаза к силе звука
и света, то прежде всего рождается вопрос, как будем мы ее измерять. Конечно, при измерении звука или света в отдельности мы могли бы отправляться от каких угодно единиц, но тогда
пришлось бы отказаться от сравнения между собою степени
чувствительности различных чувств. Единственная величина,
которая может служить общей мерой для каких бы то ни было
физических явлений или состояний, — это энергия или работоспособность, или эта же работоспособность, отнесенная
к единице времени, так называемая мощность. Оствальд в последнее время особенно настаивал на том, что наши чувства
отвечают на различия энергии в них и в окружающей среде.
Хотя обратное и неверно, так, например, находящаяся в покое
нагруженная рука отвечает на давление как нагруженные пружинные весы, тем не менее переход из ненагруженного состояния в нагруженное связан с производством работы, так что и
здесь мы можем измерять чувствительность или порог раздражения в единицах работы.
Для этого мы нуждаемся в очень маленькой единице работы и для этого пригоден употребительный в физике эрг, т. е.
приблизительно работа, которую нужно произвести, чтобы
поднять один миллиграмм на высоту одного сантиметра. При
каждом мигании мы производим работу, приблизительно во сто
раз превосходящую эту маленькую единицу.
Теперь мы можем оценивать одинаковым образом чувствительность наших органов чувств и наших инструментов, определяя порог энергии, т. е. определяя наименьшую затрату
энергии, необходимую для перевода их из нераздраженного
состояния в состояние наименьшего замечаемого раздражения.
Порог энергии для наших ощущений давления, например,
поверхности лица, где она всего чувствительнее, может быть
примерно оценен в одну десятитысячную эрга, порог энергии
для наших самых чувствительных весов равняется одной стомиллионной эрга. Ухо, по Максу Вину, почти так же чувствительно; для звука не существует соответственного физического
прибора большей чувствительности. Порог энергии для глаза
почти так же велик, т. е. около одной стомиллионной эрга. Он,
несомненно, раз во сто чувствительнее самой чувствительной
фотографической пластинки.
И тем не менее наши инструменты, воспринимающие звук
и свет, могут во многих отношениях превосходить чувствительность невооруженного уха или глаза. Тайна действия обыкновенного телефона заключается в том, что звуковая энергия,
превращаясь в электрическую, сообщается проволокою проводника, а в телефоне, снабженном микрофоном, эта звуковая энергия способствует освобождению еще большего запаса электрической энергии, — откуда и рождается возможность перенесения звука на сотни километров.
Также и фотографическая пластинка в том отношении может превосходить глаз, что она может непрерывно принимать
световые впечатления в течение целых часов, между тем как
для глаза световые впечатления, не воспринятые в несколько
секунд, не будут восприняты и при более продолжительном
воздействии.
Из многочисленных свойств фотографической пластинки,
дополняющих наше чувство зрения, упомянем еще об одном.
Можно получить пластинки настолько прозрачные и мелкозернистые, что они будут представлять собою глаз прозрачный,
смотрящий одновременно в две противоположные стороны и
притом видящий то, что иначе навсегда было бы сокрыто от
человеческого глаза.
Только известные электрические инструменты превосходят
ухо и глаз своею абсолютною чувствительностью к восприятиям энергии. Таковы, например, зеркальные гальванометры,
при помощи которых определяют количество электричества
и электрические токи. Как известно, наше тело не ощущает
протекающего чрез него тока, если он не будет достаточно силен, хотя может еще ощущать колебания в силе тока. Но для
получения электрического раздражения на таком небольшом
расстоянии, как, например, между концамиуказательногопальца
и перста, нужно затратить энергии приблизительно в 20 эргов.
Тем драгоценнее инструмент, столь чувствительный по отношению к электрическим явлениям. Этот инструмент и другие, служащие для той же цели, заменяют нам электрический
орган чувства и при изучении электричества мы даже не замечаем отсутствия такого органа для непосредственного его восприятия.
Самый чувствительный гальванометр, до сих пор известный—
гальванометр Пашена. Его порог раздражительности лежит
немного ниже одной биллионной эрга, т. е. он приблизительно
в десять тысяч раз чувствительнее, чем ухо или глаз. Работы
мигнувшего глаза было бы достаточно для того, чтобы вызвать
сто биллионов наименьших размахов у этого инструмента.
Стоит только привести его полюсы в соприкосновение с двумя
точками нашего тела, чтобы получить значительный размах
этого инструмента. Самый добродушнейший человек оказывается
электрически заряженным. Что состояние духа человека играет здесь роль, доказывается опытами Тарханова и Штикера.
Если соединить оба полюса гальванометра надлежащим образом с ладонью и тыльного поверхностью руки, то обнаруживается ток, когда исследуемое таким образом лицо щекочут,
дают чего-нибудь понюхать или вызывают внезапное слуховое
или световое впечатление, хотя бы при этом руки не обнаруживали движений. Мало того, гальванометр обнаруживает степень участия, все равно сочувствия или отвращения, которое
испытуемое лицо питает к другому, имя которого произносят
в его присутствии.
Такие зеркальные гальванометры, благодаря их громадной
чувствительности, имеют широкое распространение в наших
физических лабораториях. Не существует почти явления, которого нельзя было бы выследить при его помощи, — стоит
только, чтобы исследуемая энергия превращалась в электрическую или освобождала ее.
Так, можно измерять силу звука чрез вызываемые им в телефоне электрические токи. Для этого нужно только несколько
изменить гальванометр.
Или мы можем измерять силу света, если будем подвергать
тончайшие проволоки нагреванию светом и вызванные в них
изменения электропроводности измерять гальванометром. Таким образом Ланглею и Пашену удалось определить необычайно
малые колебания температуры в этих проволоках, последнему
менее одной миллионной градуса Цельсия. Порог наших ощущений лежит примерно при х / 5 градуса Цельсия.
Гальванометр также заменяет нам глаза по отношению
к длинным волнам за пределами красного цвета, которые уже
пе действуют на наш глаз. Между тем как глаз ощущает цветные впечатления на протяжении того, что на языке акустики
мы называем октавой, гальванометр и фотографические пластины, благодаря стараниям в первом случае Рубенса, а
во втором — Шумана, охватывают целых девять октав и
уже только небольшой промежуток отдаляет самые длинные световые волны от других эфирных волн, электромагнитных, которые Герц получил и обнаружил электрическим
путем.
Таким образом мы снова возвращаемся к нашей точке отправления, к положению о возможности познания естественных явлений, для непосредственного восприятия которых мы
не имеем никаких соответственных органов чувств. Именно
в этой магнитной области наше искусственное чувство, намагниченное зеркальце, раскрыло самые изумительные факты.
Оно подвергается частым колебаниям, называемым магнитными бурями и находящимся в значительной связи с северными
сияниями и количеством солнечных пятен.
Но ни в какой области за недавнее время не обнаружила
физика в такой разительной мере своей способности создавать
человеку новые органы чувства, как в великом открытии
Рентгена. Рентгеновские лучи обнаруживаются нашим чувством при помощи экранов из синеродистой двойной соли бария и платины, которые превращают их энергию в световую,
или более окольным путем фотографирования. Насколько это
средство, в буквальном смысле способствующее нам проникать
взором в глубь предметов, имело значение в смысле усовершенствования нашего приспособления к окружающей среде, доказывает та польза, которую извлекла из него хирургия, о
чем, я полагаю, мне излишне распространяться.
Этот прием изучать состояние или явление, которое или недостаточно или вовсе недоступно нашим чувствам, видоизменяется в физике на тысячи ладов. Что вода не чиста, узнаем
мы, увидав остаток при ее выпаривании. Чистейшую воду,
когда-либо существовавшую на поверхности земли, получил
Фридрих Кольрауш совместно с Гейдвейлером. Что в 15 кубических сантиметрах этой воды было растворено несколько стотысячных миллиграмма твердых веществ, это Кольрауш услы-
шал в телефон благодаря электропроводности, которую они сообщили этой воде.
Этих примеров, я полагаю, достаточно.
*
Но какое значение имеет это расширение области наших
чувственных восприятий для нашего познания? Еще прежде
возникает другой вопрос: сообщают ли нам чувства сами по
себе — познание? Наш орган чувств сообщает нам только
ощущение, оно не что иное, как знак последовавшего внешнего
раздражения, о значении этого знака нам говорит умственное
восприятие; оно устанавливает связь между известным внешним и внутренним процессом.
Нечто подобное имеет место и тогда, когда мы оцениваем
знаки, подаваемые нам нашими инструментами. Новый знак
вызывает только ощущение: что-то случилось. Когда Кирхгоф, поместив между гелиостатом, отражавшим солнечный луч,
и щелью спектрального аппарата пламя, окрашенное натрием,
увидал вместо ожидаемого просветления только еще более резкое затемнение Фрауенгоферовой линии D, он вышел из комнаты со словами: «это, мне кажется, начало крупной истории».
Уже на другое утро разгадал он смысл этого знака. У него
сложилось представление, что в солнечной атмосфере находятся
пары натрия, он установил связь между ними и Фрауенгоферовой линией D.
Это было не так-то просто. Потребовалось не одно только
остроумие, но и значительный запас практической опытности
и именно той сжатой, сконцентрированной опытности, которую
мы называем теорией.
Наши физические теории, с точки зрения истории развития,
только указания для внутренних процессов приспособления
к внешним явлениям. Окружающая среда вызывает их в нас
так же, как звук запечатлевается в нашем ухе, свет в нашем
глазе. Подобным же образом падающее тело вызывает в нас какое-то внутреннее кинематографическое изображение, так что
при впечатлении сорвавшегося тела в нас безотчетно всплывает мысль о падающем, вызывая порою рефлективные движения самозащиты.
Только в физических теориях природа этого кинематографа
посложнее. Герц в своей механике очень метко говорит: «Мы
вырабатываем для себя внутренние образы или символы внешних предметов и вырабатываем их такими, чтобы мыслимонеобходимые последствия этих образов были бы также непременно образами естественно-необходимыхпоследствий от изображенных предметов». Наш кинематограф, в силу своего механизма, исходя из своего начального образа, должен давать
конечный образ, который так же точно соответствовал бы конечному состоянию внешнего явления, как и начальный образ соответствует его начальному состоянию.
Чего же можем мы ожидать от дальнейшего расширения области наших чувств и усовершенствования наших теоретических кинематографов?
Философы неоднократно высказывали мысль, что вещь сама
в себе (das Ding an sich) навсегда остается недоступной нашему
познанию. Физик может на это ответить, что предметом его исследования бывают только отношения к нему и между собой.
Вещи, которые не действуют ни на его чувства, ни на другие
вещи, непосредственно или посредственно на него воздействующие, конечно, не подлежат его познанию. Но причину этого
он видит не в недостатках его метода исследования, а в самом
определении понятия — вещь сама в себе. Предположение,
что вещь сама в себе недоступна познанию, равносильно заявлению, что безотносительная вещь не имеет отношений или что
несуществующая вещь не может быть найдена. Сожалеть об
этом, конечно, никто не станет 1 .
1 Этому воззрению на «вещь сама в себе» я научился у моего отца
Христиана Винера, который в своей книге «Основы мирового порядка»
(1869 г.) высказывается так: «Существуют ли на том же месте (например,
занятом каким-нибудь существом) еще другие вещи помимо тех причин,
которые непосредственно или посредственно через другие явления оказывают воздействия на наши чувства, нам неизвестно и никогда не будет известно, потому что мы можем получать вести о том лишь, что вызывает
какое-нибудь явление в нашем я, т. е. какое-нибудь ощущение или чувство, непосредственное или посредственное. Не можем мы составить себе
о них и представления, так как каждое представление берет начало от
воспоминания об испытанном ощущении или чувстве и, наоборот, никакое
ощущение или чувство не может быть порождено представлением. И по-
Напротив, полный смысл имеет вопрос, в состоянии ли мы
или будем ли когда-нибудь в состоянии сделать наши представления о данных внешним миром отношениях в известной степени независимыми от наших чувств. И на этот вопрос мы, конечно, не можем просто отвечать отрицательно, не подвергнув
его прежде обсуждению.
Факт существования обширной области науки, учения о
магнетизме и электричестве, доказывает возможность раскрытия соотношений без наличности особенно для того приспособленного органа чувства. Из приведенных примеров вам ясно,
что мы можем исследовать так же легко, если и не так же приятно, световые явления ухом, а звуковые — глазом.
Отсюда, в основе не представило бы большого труда фактически изобразить все содержание наших физических знаний
тому, если б они и существовали, они не имеют никакого значения ни для
нашей деятельности, так как не могут влиять в нас, ни для нашего знания,
так как мы бессильны составить себе о них представление. Если же люди
этой вещи, которая остается в остатке за вычетом всех действующих на
вас причин, присваивают название «вещи самой в себе», то они решительно
заходят слишком далеко. Потому что, во-первых, мы не знаем, останется
ли за этим вычетом что-нибудь в остатке, а во-вторых, чему-нибудь,
существование чего не только не достоверно, но даже ничем не указано,
конечно совершенно неуместно давать особое название. Правда, те, кто
пользуются этим названием, верят в существование «вещи в самой себе»,
но и только верят, так как не имеют не только доказательства ее существования, но даже указания на то, что она существует. К тому же это название «вещь сама в себе» обозначает, что она-то и является по существу все
определяющею, но эта вера лишена уже всякого основания.
Еще резче высказывается Е . Мах в своей книге «Материалы к анализу ощущений»: «Целесообразная привычка обозначать то, что в явлениях постоянно, одним названием и охватывать его в одной мысли, не
прибегая каждый раз к анализу составных его частей, — эта привычка
может порою приходить в своеобразное столкновение со стремлением
разлагать все на составные части. Неясный образ чего-то постоянного,
который не изменяется заметно, когда выпадает из него та или другая
составная часть, представляется нам чем-то самим в себе существующим.
Вследствие того, что можно удалять каждую составную часть в отдельности, не расстраивая образа целого, который все же можно узнавать,
приходят к заключению, что можно удалить и все составные части и в
остатке останется еще что-нибудь. Таким образом могла возникнуть
чудовищная мысль об отличной от ее «проявления», непознаваемой «вещи
самой в себе».
в форме самопишущих аппаратов и других автоматических приспособлений, наподобие обычных музеев автоматов. На деле
нечто подобное уже осуществлено в берлинской Урании, где
вам стоит нажать на кнопку, и перед вами сам собою разыгрывается научный опыт. Существо, обладающее совершенно иными органами чувств и достаточно обширными физическими сведениями и способностями, могло бы ознакомиться в таком музее с современным состоянием наших физических знаний. Аппарат Зоммера для анализа движений с его тремя рычагами,
чертящими три кривые, научил бы его, между прочим, что всякое движение с самого своего начала определяется тремя данными, т. е. что пространство имеет три измерения. Я
вполне разделяю точку зрения г. Гёльдера, которую он недавно так талантливо развивал с этого же места, и вместе
с ним признаю, что Кантово допущение априорности наших представлений пространства и времени совершенно излишне.
Наоборот, мы можем себе представить, что мы находимся
в лаборатории существа, одаренного совершенно иными органами чувств. Положим, что это существо нечувствительно
к световым лучам, но, наоборот, чувствительно к невидимым
ультракрасным. В окнах его лаборатории вместо наших стекол будут вставлены тонкие, для нас непрозрачные пластины
черного эбонита, из этого же материала будут сделаны и линзы
его телескопа. Раскрытие смысла его аппаратов, конечно,
предположив достаточные с нашей стороны сведения по физике,
потребовало бы с нашей стороны менее остроумия, чем разъяснение клиновидных надписей.
Мы можем, значит, уже и теперь в известной степени освободиться от специфической природы наших чувств, даже можем представить себе, каковы бы были наши впечатления, если
бы мы имели другие чувства 1 .
1 Автор мог бы еще указать на то, что наименее точны наши сведения
именно в тех областях, где мы ограничиваемся только свидетельством
наших органов чувств, как, например, в области обонятельных и вкусовых впечатлений, по отношению к которым мы не могли еще осуществить самого первого шага всякого научного исследования — классификации. Примеч. перев.
Что наши современные сведения о связи физических явлений крайне недостаточны, не нуждается в пояснении. Это несовершенство обнаруживается в двух направлениях. Во-первых, оно заключается в том, что еще до сих пор, можно сказать, чуть не каждый день раскрываются новые связи, а, вовторых, что многие знаки, которые мы получаем от наших чувств
и аппаратов, еще не превратились в умственные восприятия,
т. е. что наши теории еще неудовлетворительны и недостаточно
объединяют предмет. Давно замечено, что с возрастанием полноты наших знаний по отношению к известной группе явлений
возрастает и единство их теории.
Но этот метод расширения области наших чувственных восприятий допускает почти неограниченное применение. Любое
явление, не оказывающее непосредственного действия на наши
органы чувств или их придатки, — наши современные аппараты, — если только оно не находится вне всякой связи с нами
и, следовательно, должно быть признано для нас несуществующим, должно так или иначе быть в непосредственной связи
с другими явлениями, которые будут оказывать действия на
наши аппараты. Рано или поздно оно станет для нас заметным
и тем легче, чем более относящиеся сюда факты объединяются
нашей теорией; такая теория, как это не раз уже было, обнаруживает соотношения, которые непосредственно еще ускользают
от нашего наблюдения, но подтверждение которых так же вероятно, как и открытие Нептуна на основании вычислений
Леверье.
Какова была бы конечная цель подобного прогресса развития? Как должна быть построена теория, которая была бы по
возможности однородной, объединяющей, всеобъемлющей и
независимой от специфической природы наших чувств? В чем
заключался бы наименьший элемент для построения нашего
теоретического кинематографа?
Может быть, для этого пригодна энергия, которая к тому
же оказывает действие на все наши чувства. Но она, во-первых,
неоднородна \ мы различаем, между прочим, механическую,
1 Энергия также еще недостаточно проста, как наиболее общий элемент для построения, так как ее в отдельном случае должно обозначать
по меньшей мере двумя факторами. И, несмотря на то, это понятие недо-
тепловую, световую энергию, и даже самая постановка вопроса
о том, как объяснить себе равнозначность и способность ко
взаимному превращению различных форм энергии, признается
бесплодной именно теми учеными, которые, подобно нашему
коллеге Оствальду, составили себе из этого слова «энергия»
нечто вроде научного прозвища.
Но существует и другая форма явления, на которую также
все наши чувства отзываются. Это — движение или перемещение. Никакой орган чувства не может перейти из состояния
покоя в состояние раздражения без известного сближения между
источником чувства и источником раздражения или внешним
явлением, вызывающим раздражение. В то же время обнаружилось, как самый общий результат физических наблюдений,
что в любой какой-нибудь точке действует только состояние,
господствующее в этой самой точке, а не что-либо иное, — вывод, который для всякого беспристрастного наблюдателя представлялся бы на основании ежедневного опыта чем-то самоочестаточно для изложения простейших физических явлений, именно явлений движения в тесном смысле, так как в него не входит понятие направления. Именно это обстоятельство является преимуществом в тех случаях,
когда не приходится заботиться о подробностях явления, а только об его
общем ходе, как, например, в явлениях химических. Но если бы общее учение об энергии должно было обнимать и такие явления, как соотношение
удельной теплоты газов с их химическим составом, или такие, как связь
между упомянутым выше расширением спектральных линий с температурой и атомным весом светящихся паров, найденная Майкельсоном и
оказавшаяся согласной в первом приближении с выводами кинетической
теории газов и принципом Доплера, то и в том и в другом случае учению
об энергии пришлось бы обратить внимание на более тонкое распределение энергии. Оставаясь последовательным, пришлось бы в тех случаях,
когда имели дело со скоростями, приписывать одному и тому же телу,
при изменении направления движения, различные специфические энергии, так что направление определялось бы особым видом специфической
энергии. Конечно, возможно, что при подобном расширении его объема,
под условием соблюдения строгости в понятиях и выводах, и учение об
энергии могло бы дать такое же удовлетворительное объяснение физических явлений, как и механика или учение о движении. Но я полагаю, что
тогда, т. е. когда его объем сравнялся бы с объемом учения о движении,
оно существенно отличалось бы от этого последнего только своими обозначениями, и преимущество простоты оказалось бы на стороне учения
о движении.
видным, между тем как физики в течение долгого времени допускали совершенно обратное. И разве до сих пор мы не признаем этого очевидным по отношению к силе тяжести. Но и она,
как метко замечает Герц, внушает подозрения, так как закон
ее действия невольно наводит на мысль, что и здесь мы имеем
дело с явлением распространения.
Попытку такой теории, пытающейся все физические явления свести на движения однородного вещества, оставил нам
Герц в своей механике. На ее основании существующие движения продол?каются известным закономерным образом, так что
их энергия сохраняется. Тем самым и все формы энергии принимаются в конечном результате тожественными. Эта Герцовская механика не имеет притязания уже теперь и во всех частностях свести физические явления к движению; она стремится только доказать возможность такого сведения и отсутствия в нем внутреннего противоречия. Она таким образом
ставит одновременно и теоретической, и экспериментальной
физике широкую перспективу новых задач.
Один результат этой теории заслуживает самого широкого
внимания. Она прокладывает путь к уничтожению сил, действующих на расстоянии, пожалуй, к уничтожению самых сил
старой физики. Сила играет в ней роль математической, строгоопределенной вспомогательной величины. Что же станется
тогда с пресловутой вэчной мировой загадкой о происхождении
силы, когда самой силы, в смысле этой загадки, вовсе не существует Ч
Это серьезное предостережение всем тем, кто желает выступать с благой вестью вечных загадок. Всякая такая благовествующая деятельность не свидетельствует особенно о
скромности подвизающихся в ней. Когда мы наделяем отдаленнейшие поколения этой скромностью неведения, мы и
наше собственное неведение делаем тем более извинительным.
Одно только очевидно: стоит предъявить достаточно неясные, противоречивые или бессодержательные понятия, или
1 Первая из «семи мировых загадок» Эмиля Дюбуа-Реймона.
Его
речь, читанная 8 июля 1880 г., появилась вместе с другой: «U границах нашего познания природы».
предложить путь для разрешения задачи, совершенно для того
негодный — и вечная загадка готова и может быть пущена в
ход 1 .
К числу загадок, построенных на неясных и противоречивых понятиях, должна быть отнесена седьмая мировая загадка Дюбуа-Реймона
о свободе воли. Эта загадка исчезает сама собою, как только мы пожелаем
связывать с нашими словами ясные, не допускающие двусмысленного толкования, прочно установленные понятия, как это, на мой взгляд, доказал
Христиан Винер в своей речи «Свобода воли».
К загадкам, основывающимся на бессодержательных понятиях вместе
с только что указанной о сущности силы, относится и другая — о происхождении движения,—по счету Дюбуа-Реймона, —вторая из мировых.
Она построена им на совершенно произвольном допущении, что закон
сохранения энергии когда-то в прошлом не был применим.
По второму рецепту — применению пути исследования, в данном случае непригодному, — построена пятая из мировых загадок Дюбуа-Реймона, именно о первоначальном появлении простейшего ощущения или
возникновения сознания. Дюбуа-Реймон требует, чтобы оно было объяснено механически, т. е. посредством движения, и затем доказывает, что
эта задача неразрешима.
Это требование равносильно требованию: объяснить взаимодействие
между двумя беседующими людьми, исходя из законов акустики, или
требованию объяснять влияние телеграфной сети на культуру народов,
исходя из законов электричества. Само собою очевидно, что любое явление
можно объяснить только сравнением с одинаковым, но более простым явлением: сложное движение сравнением с простейшим движением, сложное
ощущение сравнением с простейшим ощущением. Потому что «объяснять»
значит что-либо неясное делать ясным, непрозрачное прозрачным, чтолибо запутанное, смешанное распутывать, разлагать на составные его
части. Как же можно требовать, чтобы при изучении явления, которое,
подобно сознанию, представляется нам с двух сторон, мы пытались
одну форму явления объяснять при помощи составных частей другой ее
формы. Параллелизм между телесным и духовным мы должны рассматривать как результат рассмотрения одного и того же явления с двух сторон, внешней и внутренней; воззрение это высказывали Спиноза, Фехнер,
Вундт, Marx (этот* последний, например, в словах: «Не материал, а направление исследования различны в этих двух областях»). Образцом подобной обработки может служить попытка Гельмгольтца объяснить зависимость гармонии тонов от степени простоты отношений между числами
соответствующих им колебаний. В этих исследованиях пролагаются оба
пути, физический и психологический. Сочинение Маха «Опыт анализа
чувственных восприятий» представляет целый ряд блестящих и ясных
соображений в том же направлении. Предел того, чего может достигнуть
психологическое объяснение, заключается в сведении сложных ощущений
1
23
К.А.
Тимирязев,
m. V
353
Позвольте мне в заключение бросить беглый взгляд на задачи техники и жизни с нашей сегодняшней точки зрения.
Когда физик предпринимает новое исследование, он собирает свой аппарат по большей части собственными руками и по
окончании работы разбирает его. Это само собою понятно.
на их возможно простые, подобные рефлексам, составные части, которые,
будучи мысленно изолированы, составляют уже переход к бессознательным
явлениям. Если Дюбуа-Реймон разумеет под подлежащими объяснению
простейшими ощущениями — ощущения сознательные, то это уже, конечно, не будут простейшие составные начала ощущения, потому что сознание предполагает уже существование очень сложных ощущений, и это
ощущение подлежит объяснению, т. е. разложению на простейшие составные части. Если, наоборот, иметь в виду простейшие ощущения, то они,
по самому определению, далее психологически не разложимы: условия
же их осуществления подлежат только внешнему изучению,т. е. допускают
только физико-физиологическое объяснение.
Что психологический самоанализ нам не так-то легко дается, происходит вероятно от того, как заметил уже Гельмгольтц, что эта способность имела ничтожное значение в борьбе за существование. Но не получит
ли с дальнейшим развитием эта способность бблынее значение? Пожалуй,
в пользу такого предположения о развитии этой способности в силу основного биогенетического закона говорит тот факт, что у детей она гораздо
слабее развита, чем у взрослых. Младенец не может указать на причину
какой-нибудь боли или недомогания, что взрослому вполне удается. Как
бы то ни было, но мы здесь не видим никакого оправдания для проповеди
«ignorabimus», которой легко могут злоупотреблять как чем-то вроде
гимнастической доски для прыжка в область всякой непоследовательности, произвола и мистики.
Таким же образом и в физике окажутся такие конечные составные,
части теории, которые не будут подлежать дальнейшему объяснению
в силу данного выше определения этого слова. Предположим, что явится
возможность вывести все физические явления из основного закона Герца
или какого-нибудь ему подобного, лишенного еще присущих ему несовершенств или не вполне удовлетворительных точек отправления, — спрашивается, какой смысл было бы требовать еще дальнейшего объяснения
этого самого общего закона. Потому что если б он вытекал из другого
закона, принятого за основной, то затем восставал'бы вопрос об объяснении этого последнего. Такое требование стоит в противоречии с понятием
«объяснение». Достигнув подобного предела, мы в конце концов должны
удовлетвориться тем, что можно себе сказать: все физические явления
совершаются на основании известного, определенного, самого общего и
простейшего основного эакона.
Подобного рода соображения побудили Кирхгофа заменить «объяснение» «описанием». Но таким образом он приходит в противоречие с обще-
Для того, чтобы заслужить право на более продолжительное существование, аппарат должен обладать известной законченностью и теми особенными качествами, которые может сообщить ему только техническое производство, повторяющее его
в большом числе и в одинаковой степени совершенства. Но это
не легкая работа. И потому мы должны быть особенно благодарны людям, которые не отворачиваются от такого труда на
пользу всех, снабжая их новыми органами чувств.
Совершенно необыкновенные успехи встречаем мы там, где
научная проницательность соединяется с техническим искусством. Укажу, например, на совместную работу физика Вернера Сименса с искусным механиком Иоганном Гальске в области электротехники и физика Эрнста Аббе с оптиком Карлом
Цейсом.
Не менее делают в этом направлении изощрения и расширения наших чувств наши научные институты с Шарлотенбургским физико-техническим имперским институтом (Reichsanstalt) во главе. Это учреждение возникло в значительной мере
под вдохновением и при содействии Вернера Сименса, имело
принятым употреблением этих слов; под «описанием» разумеют лишь внешнюю передачу известной группы явлений, под «объяснением» — простей"
ший ключ для ее понимания. Так, на основании обычного употребления
слов, под возможно полным и простым описанием явлений планетного
движения для известной точки земного шара подразумевалось бы охватывающее все планеты в течение возможно длинного срока времени указание их положений по отношению к этой точке земли, причем могла бы быть
соблюдена возможно простая форма таблиц или графического обозначения.
Но под этим словом никоим образом не разумелось бы указание на то,
что эти движения совершаются по законам Ньютона, к которым, от указанного действительного описания, лежит еще длинный и тяжелый путь.
И потому вместе с Гёльдером я считаю обозначение, предложенное Кирхгофом, неудачным. Результатом этого обозначения явилось то, что в последнее время нередко слово «описание», согласно его первоначальному
смыслу, прилагается к действительной простой внешней передаче какойнибудь группы явлений, а в то же время предъявляются притязания на
признание за ней такого же значения, какое придает своему «описанию»
Кирхгоф. Этим я, конечно, не желал бы уменьшить значение изречения
Кирхгофа, в смысле его содержания; оно, может быть, даже не произвело
бы такого впечатления, если б не заходило слишком далеко в своей
словесной форме.
23*
355
первым своим руководителем Гельмгольтца, а потом Фридриха
Кольрауша.
Но, сказать правду, эти институты поглощают большие
средства, эти искусственные органы чувств очень дороги и
нуждаются в особых просторных помещениях для своего целесообразного применения. И мы не можем быть достаточно благодарны нашим правителям и представителям за то, что они
с похвальной дальновидностью не жалеют средств на расширение этих помещений на пользу науки и преподавания. Говорю это и на основании личного опыта, так как обязан королевскому саксонскому правительству и нашим камерам, разрешившим наряду с другими институтами и новый физический институт, помещение которого должно удовлетворять потребностям преподавания и научного исследования.
И тем более все мы, учащие и учащиеся, должны сознавать
свой долг, чтобы из этого, потом народным созданного, капитала была выручена вся возможная польза, чтобы мы напрягли
все наши силы в общем воодушевленном труде на благо науки
и на пользу народу.
Я уже останавливался на взаимодействии между наукой
и техникой, между расширенными органами чувств и расширенными рабочими органами. Успехи в обеих областях
взаимно обусловливаются, как это показал уже Герберт
Спенсер.
Мы недавно имели случай это наблюдать в разительной
форме по поводу открытия рентгеновских лучей; мы видели благотворное действие науки на технику, которая, в
свою очередь, снабдила науку усовершенствованными аппаратами.
Затем, я полагаю, каждому приходит в голову мысль о той
головокружительной быстроте, с которой совершается это развитие. Оно невольно напоминает реакцию какого-нибудь взрывчатого вещества.
И нельзя сказать, чтобы это сравнение было только поверхностное. Всякая реакция идет тем скорее, чем значительнее
число частиц, которые вступают в соединение. Если соединением одних создаются условия, ускоряющие соединения дру-
гих, например, повышенная температура, то реакция принимает характер взрыва.
Пока число исследователей было незначительно, научные
методы естествознания мало развиты,оно подвигалось медленно. Теперь число исследователей велико, они рассеяны по всему
земному шару, и каждое открытие создает состояние, ускоряющее дальнейшее развитие. Каждое открытие создает новые точки соприкосновения, оно создает также и технические
применения, а, в свою очередь, научная техника, электротехника, оптическая техника, химия нуждается в новых научных
силах. Их завоевания делают снова возможными быстрые дальнейшие успехи науки, и таким-то образом создается то движение, которое по сравнению с длинной вереницей геологических времен производит на нас впечатление какого-то
взрыва.
К этому следует еще добавить, что быстрое расходование капитала, накоплявшегося тысячелетиями — именно
каменного угля, в значительной степени умножило наши
силы.
Куда все это приведет? Я полагаю, что, с биологической
точки зрения, обнаруживается глубокое изменение наших условий существования.
Взрывчатый характер этого процесса развития предъявляет
к человеку и необычные требования, в особенности по отношению к его нервной системе.
Не знаю, будут ли грядущие тысячелетия нам завидовать. Сдается мне, что и тем водяным животным, которые когда-то вынуждены были выбраться на сушу и начали
дышать легкими вместо жабер, жилось также не очень-то
приятно.
Вновь созданные условия определяют усиленный отбор
сильных нервами, мы сами чувствуем на себе следы этого отбора.
И потому мне хочется заключить эту лекцию обращением
к нашему университетскому юношеству; как академический
преподаватель, я имею на то право.
Берегите свои нервы, живите сообразно с природой, берегите их для плодотворного труда. Охраняйте их от вреда, при-
чиняемого чувственными наслаждениями х , никакое наслаждение не сравнится с тем, которое даст вам творческая деятельность в области вашего призвания.
К.
Т.
Эти предостережения, а равно и жалобы на упадок в учащейся молодежи общественных идеалов все чаще раздаются с немецких университетских кафедр и слышатся в литературе. Любопытен факт, указанный немецкими газетами, что в текущем году в Берлинском университете поступающим вместе с матрикулами раздавали известную брошюру на эту
тему проф. А. А. Герцена. Как это вяжется с одновременно прославляемым
пробуждением философского идеализма? Повидимому, идеализм схоластический может хорошо уживаться с практическим, житейским материализмом и, наоборот, идеализм практический, жизненный, деятельный
немыслим без широких общественных идеалов и как-то обыкновенно совпадает с более высоким уровнем общей нравственности. Сравнение нашей
учащейся молодежи с нашими ближайшими западными соседями невольно
наводит на эту утешительную параллель. Примеч. перев. 1903 г.
1
XIУ
ОТ ДЕЛА К СЛОВУ—ОТ ЗВЕРЯ К ЧЕЛОВЕКУ*
(РАЗМЫШЛЕНИЯ ДАРВИНИСТА ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
УРНОЙ)
I M ANFANG W A R DIE THAT
GOETHE.
Faust.
В
се чаще и чаще приходится встречать сопоставления
между дарвинизмом и общественной этикой, причем одни
признают благотворное, а другие, наоборот, зловредное
воздействие этого биологического учения на сферу человеческой деятельности. В большей части случаев рассуждение
вертится вокруг злосчастной «борьбы за существование» 2 ,
которую одни готовы всецело распространить на человеческую
деятельность, другие, наоборот, возмущаются при этой мысли,
Вначале было дело. Курсив мой.
Я говорю «злосчастной» потому, что неоднократно имел случай
объяснять, что для учения об естественном отборе эта метафора не нужна, а только породила бесчисленные недоразумения.
* Впервые опубликована в газете «Русские Ведомости» № 253, от
4 ноября 1907 г. Включена К. А. в 3 и 4 (посмертное) издание сборника
«Насущные задачи современного естествознания», а также в составленный им в 1919 г. сборник «Наука и демократия». Ред.
1
2
но уже совершенно несправедливо делают ответственным за
нее Дарвина 1 .
Может быть, и мне, старому дарвинисту, будет позволено
сказать несколько слов на эту тему 2 . Ошибка здесь, как и
во многих случаях, мне кажется, заключается в том, что ищущие аналогий забывают, что задача исследователя заключается
не только в том, чтобы видеть сходство, где оно есть, но и не
видеть его там, где его нет, где оно прекращается. Точно ли биологическая (или, вернее, зоологическая) борьба за существование с ее исходом, — взаимным истреблением борющихся сторон, — общий закон, обнимающий всю природу со включением
человеческих обществ, или человеку, по крайней мере на высших ступенях своего развития, удалось парализовать его роковое действие, заменив чем-то иным, идущим ему на смену.
Отстаивать первое мнение значило бы закрывать глаза перед
двумя важными факторами, положившими резкую грань между
биологической борьбой и человеческим прогрессом.
Если человек разделяет с животным его способность к прямой борьбе, то он создал два новых средства, ее ограничивающие, смягчающие и, в конце концов, призванные ее упразднить.
Как часто за последнее время приходилось слышать перебрасываемый политическими партиями то в ту, то в другую
сторону укор: вы только говорите, а мы дело делаем, — а между
тем, не боясь впасть в парадокс, можно, кажется, сказать, что
в известном смысле весь прогресс человеческого общества сводится к замене дела словом.
Когда сталкиваются две коллективные воли, борьба неизбежна. Но человек тем, главным образом, и отличается от сво1 Помнится, что даже такой осторожный мыслитель, как Спасович,
ставил современное развитие милитаризма в вину не Бисмарку, а Дарвину.
2 П. Кропоткин в своей интересной книге «Взаимная помощь, как
фактор эволюции» пишет (стр. 19), что проф. Кесслер был первый натуралист, выразивший (в 1880 г.) протест против злоупотребления термином
«борьба за существование» в применении к человеку. При всем уважении
к памяти учителя, я позволю себе заметить, что этот протест я высказал
двумя годами ранее (в 1878 г.) в лекции «Дарвин, как тип ученого»(См. т. VII настоящего издания. Ред.)
его зоологического предка, что эту, казалось, неминуемую,
клонящуюся к взаимному истреблению борьбу он научился
заменять ее подобием.
Существуют целые тома, трактующие об играх человека
и животных, как о сохранившемся подобии борьбы. Но мне
не припомнится, чтобы кто-нибудь высказал эти соображения
по поводу другого подобия борьбы, — уже не бессознательного,
бесцельного пережитка старой, а ее могучего соперника и заместителя, призванного все более и более вытеснять ее из человеческого обихода.
Когда во мраке времен вооруженный воин при разрешении
внутренних раздоров, вместо того, чтобы хвататься за меч,
додумался просто поднимать свой щит, он этой символической
заменой. столкновения сил их простым подсчетом провел пограничную черту, отделяющую человека от его предка-зверя.
С того момента борьба с ее неразлучным спутником — истреблением — перестала быть мировым законом. Насильник понял, что всегда найдется насильник еще сильнейший, но что
есть кто-то, кто сильнее всех их, и этот кто-то — все. Когда все
свободно высказывают свою волю, прямая борьба становится,
очевидно, излишней, невозможной.
Истекший век провозгласил эту истину в ее самой широкой, самой определенной форме — всеобщей подачи голосов.
Но в тот же век, в стране, ранее, успешнее других заменившей
прямую борьбу ее подобием, — в стране, откуда пришло учение об естественном происхождении человека (Дарвин), развилось и учение об естественном происхождении этики (Д. С.
Милль) с ее краткой и, что бы ни говорили моралисты-метафизики, неопровержимой формулой: «the greatest happiness of
the greatest number» 1 . Заменив прямую борьбу ее подобием —
всеобщим голосованием, условившись относительно реальной
цели общественной этики, можем ли мы далее утверждать, что
это средство само собою ведет к этой цели? Конечно, нет. Желать общего .блага еще не значит уметь его осуществить, еще
менее — уметь разобраться в выборе между большим и меньшим благом. Но едва ли обладает значительной убедительной
1
Наибольшего блага наибольшего числа.
силой и так часто раздающийся возглас житейских мудрецов:
Как? Доверить заботу о высшем благе непросвещенному большинству. Предъявляющие этот аргумент как бы умышленно
забывают, что существует нечто хуже господства непросвещенного большинства, это господство непросвещенного меньшинства. Для сравнительной оценки этих двух зол нет даже надобности перебирать историю, — личного опыта людей нашего поколения для этого достаточно. Правда, мы собственными глазами видели, как голосующее большинство своим плебисцитом
уполномочило Наполеона III довести французский народ до
Седана и до грозившей ему, казалось, окончательным разорением чудовищной контрибуции, но правда ведь и то, что управлявшее безгласным русским народом меньшинство довело его
сначала до полного разорения, а потом повело к Мукдену и
Цусиме. Этим впрочем ограничивается сходство: далее начинается различие: французский народ нашел в своих учреждениях средство быстро заживить свои раны. А русский?..
Просвещенным радетелям о благе непросвещенного большинства, боящимся встретить в нем противника своим благим
начинаниям, боящимся, что придется вступить с ним в борьбу,—
можно припомнить вторую из упомянутых мною выше и еще
более глубокую черту отличия между человеческой и зоологической борьбой. Позволю себе привести свои слова, сказанные
не ad hoc*, а уже давно и по другому поводу. «Не забудем, что
человек в сравнении с животным обладает гораздо более могучим орудием борьбы. Животное может уничтожить врага —
и только. Один человек обладает высшей силой превращать
врага в союзника. Скажут: так рассуждать может только идеолог; и в человеческих делах победа всегда на стороне грубой
силы. Едва ли это верно, и за примерами обратного ходить
недалеко. Последний год истекшего столетия отмечен двумя
годовщинами -— рождения Гутенберга и мученической смерти
Джордано Бруно. Не символично ли это совпадение? Не наводит ли оно нас на мысль о борьбе двух сил, орудиями которых
были костер и книга. Которое из них было сильнее, страшнее
и победоноснее вначале? Костер задушил голос Бруно, исторг
* К данному случаю.
Ред.
отречение Галилея, вынудил малодушие Декарта. А что он боролся против книги, не доказывает ли этого тот факт, что еще
долго после того, как палач перестал возводить на костер мыслителя, он продолжал бросать в огонь его оружие — книгу.
Но победила книга. И победила потому, что на одного врага,
которого истреблял костер, она превращала тысячи в единомышленников. Перед книгою исчезла та sancta simplicitas
которою поддерживался огонь костров. Эта борьба за освобождение мысли, закончившаяся, быть может, единственной, отмеченной историей, окончательной, бесповоротной
победой
света над тьмою, — эта борьба, тем более назидательна, что
в ней на одной стороне было дело, а на другой — только слово,
не доказывает ли она, что слово, когда оно исходит от действительно просвещенного меньшинства, обладает чудодейственной силой превращать это меньшинство в большинство.
Свободный голос каждого человека, как выражение его свободной воли, делающий излишним ее фактическое проявление,
и свободное слово, как залог того, что этот голос рано или поздно станет голосом разума 2 , — вот, что бы ни говорили,
единственное реальное средство, до которого додумалось человечество для упразднения бессмысленной, жестокой биологической борьбы, для замены ее человеческим прогрессом.
Вот почему для дарвиниста, охватывающего одним взглядом эти оба процесса, скромная избирательная урна представляется каким-то символическим межевым знаком между царством человека и царством зверя. И вот почему для него особенно ясно, что всякое дело, всякая попытка искусственно извратить это едва ли не высшее до сих пор произведение человеческого творчества в сфере общественной жизни, что все то,
что подрывает надежду на эту замену зоологической борьбы
ее человеческим подобием, толкает людей назад по пути озверения.
1 «Святая простота» — слова,
сказанные Гуссом, уже стоя на костре, когда он увидел старуху, которая, крестясь, подбросила еще вязанку
дров в его костер. (Примечание добавлено К. А. при издании статьи в сборнике «Наука и демократия», 1920 г. Ред.)
2 А чтобы это слово не оставалось «гласом вопиющего в
пустыне»,
придумано пропорциональное голосование.
Повторяя с Фаустом, «вначале было дело», мы только переносим ударение на первое слово и добавляем: на смену делу
идет слово, и слово станет делом.
П о с л е с л о в и е . * Мне приходилось слышать мнение,
будто этой статьей я хотел выразить осуждение всякой революции. Последняя выноска и самое время появления статьи
указывают, что я имел в виду только извратителей избирательной системы (Столыпиных, Саблеров и К 0 ) 1 , толкавших в революцию. Но, я полагаю, всякому понятно, что пулемета словом
не прошибешь. Можно убеждать только того, кто владеет пулеметом — солдата; в этом самая характеристическая черта
всех последних революций. А раз заговорили пулеметы, «слово»
отходит на задний план.
Также много говорилось об эволюции и революции; утверждали, что ученый, дарвинист в особенности, может говорить
только об эволюции, но вот известный математик-астроном
Джордж Дарвин, сын Чарлза, даже в области космической механики прибегает к сравнению с политическими революциями
и категорически заявляет, что видит в этом не литературную
только аналогию, а гомологию в строго научном смысле, «в двух
областях мысли — физической и политической». Выходит,
что и эволюция, и революция имеют свои определенные законы—
от механики до истории. (См. статью Кембридж и Дарвин **.)
1 Намек на куриальную систему Столыпина. (Примечание добавлено
К. А. при издании статьи в сборнике «Наука и демократия», 1920 г. Ред.)
* «Послесловие» к статье «От дела к слову — от зверя к человеку»
добавлено автором в 4-м (посмертном) издании настоящего сборника,
подготовленном в начале 1919 г., и в сборнике «Наука и демократия»
(1920 г.). Ред.
* * См. т. VII настоящего издания. Ред.
XY
АНТИМЕТАФИЗИК
ПОЧЕМУ
В БЛИЖАЙШИЕ
К НАМ Д Е СЯТИЛЕТИЯ ОБЩЕ-ЕВРОПЕЙСКОЙ Р Е А К ЦИИ РУССКАЯ И Н Т Е Л Л И Г Е Н Ц И Я О Б Н А Р У ЖИЛА Б О Л Е З Н Е Н Н Ы Е Я В Л Е Н И Я СКЛОННОСТИ К МЕТАФИЗИКЕ, К МИСТИЦИЗМУ
И ФОРМЫ Д Е К А Д Е Н Т С Т В А , СОВЕРШЕННО
ОДНОРОДНЫЕ С ТЕМ, ЧТО МЫ ВИДИМ НА
ЗАПАДЕ, СТАНОВЯСЬ В ТО ЖЕ В Р Е М Я
В Р А З Р Е З СО СВОЕЙ Н Е Д А В Н Е Й ТРАДИЦИЕЙ, ПОВИДИМОМУ, В П О Л Н Е ЗДОРОВОЙ.
П. Л.
П
ЛАВРОВ
еред внимательным наблюдателем нашей современной действительности невольно возникает картина, которую так часто случается видеть в горах при надвигающихся сумерках. Из каждой расселины ползет туман; он стелется, сливается в сплошную пелену, волнуясь и клубясь,
взбирается все выше и выше и, наконец, все собою заволакивает.
Этот растущий и мало-по-малу все застилающий, в надвинувшихся на нас сумерках, туман — туман метафизики и мистицизма. Не говоря уже об адептах спиритизма, оккультизма,
теософии, декадентства всех окрасок, до вновь модной changeante (переливающейся, меняющейся) включительно, мы сталкиваемся с ним решительно на каждом шагу.
На-днях мне привелось прочесть мнение одного выдающегося
публициста, что государство — нечто мистическое. Через день
в той же газете известный художник доказывал, что балет —
также нечто мистическое. Мало того, приходится слышать убежденные речи о пользе союза мистицизма с наукой. В довершение всего, недавно в «Вопросах философии и психологии» по-
явился ряд статей, в которых развивается мысль, что даже такая положительная наука, как современная физика, приводит
будто бы последовательно мыслящего ученого к ряду метафизических или мистических выводов. Мне не раз приходилось высказывать воззрения диаметрально-противоположные; я глубоко
убежден, что насущная задача современного естествознания заключается именно в борьбе против поползновений метафизики
найти лазейку в область положительного знания 1 . Но я полагал, что эту борьбу приходится выдерживать, главным образом, на почве более молодой науки — биологии, тогда как
необходимость и полная возможность для физика освободиться
от метафизики была красноречиво доказана Бэконом и лаконичнее выражена в словах Галилея: «la metafisica... délia fisiche sta nelle osservazione e nelle sperienze» (Метафизика физики заключается в наблюдении и опыте) и еще категоричнее
Ньютоном в его изречении: «Physics beware of metaphysics» (Физика, остерегайся метафизики).
Поэтому я считаю полезным привести мнение физика-антиметафизика, одного из самых блестящих представителей
этой науки, так преждевременно и трагически окончившего
свои дни 2 , физика-философа Больцмана. Нахожу это тем более уместным, что в этой популярной лекции идет речь не о физике, а об отношении метафизики к науке и жизни вообще.
Выступая противником метафизики, Больцман не только
видит в ней коренное зло, но и указывает на происхождение
этого зла и на средства борьбы с ним.
Конечно, могут найтись критики, особенно из числа таких,
которые чувствуют себя застрахованными от злого недуга, который, быть может, был причиной смерти Больцмана, — критики, которые в этой трагической кончине увидят простой и
удобный аргумент против его последнего произведения. Но,
полагаю, всякий беспристрастный читатель этой последней популярной лекции знаменитого ученого увидит в ней его обычную ясность мысли и блестящую, остроумную форму, не щадящую никого, начиная с самого автора.
1 «Насущные
задачи современного естествознания». 3-ѳ издание.
Предисловие ко второму изданию,Москва,1908. (См. стр.16 наст. тома. Ред.)
2 Самоубийством.
XYI
ПО ПОВОДУ ОДНОГО ТЕЗИСА
ШОПЕНГАУЭРА 1
Уважаемое
собрание!
К
акой-то писатель сказал, что в литературном произведении самое важное — удачно придуманное заглавие.
Неудачное название может подорвать успех романа или
театральной пьесы. Если то же применимо к философской лекции, то мне сегодня придется плохо.
Я хочу говорить о Шопенгауэре, и для того, чтобы придать
изложению соответственный колорит, я думал и в самом заглавии сохранить шопенгауэрский стиль. Он, как известно, отличается обилием выражений, когда-то считавшихся базарными,
а теперь их, пожалуй, можно признать «парламентскими»2.
1 Лекция проф. Л. Больцмана, читанная в Венском философском обществе 21 января 1905 г. (Перевод лекции проф. Л. Больцмана с предисловием
К. А. под общим названием «Антиметафизик» появился впервые в газете
«Русские Ведомости», № 74 от 29 марта 1908 г. Включен в 3-е издание настоящего сборника, а впоследствии перенесен автором в сборник «Наука
и демократия», 1920 г. Эпиграф к статье добавлен в издании 1920 г. Ред.).
2 Очевидно, намек на современные бурные (1905) сцены в венской
палате.
С этой целью я было избрал для своей лекции такое заглавие: «Доказательство, что Шопенгауэр — бессмысленный, невежественный, размазывающий глупости, набивающий головы
пустопорожней болтовней и тем доводящий их до полного дегенератства философастр». Слова эти я буквально заимствовал
из его «Четверного корня» и т. д. (3-е издание Фрауенштедта,
стр. 40), только там они относятся к другому философу. Шопенгауэру приводят в извинение, что он был взбешен тем, что его
обошли при назначении на какую-то вакансию. Но, спрашивается, чей гнев более праведный — его или мой?
Предложенное мною заглавие было кассировано и, пожалуй,
не без основания. Потому что, посудите сами, что мог бы я
поднести публике в моей лекции, расстреляв в заглавии весь
свой порох; здесь, пожалуй, уместнее было сказать — весь
динамит! Я , конечно, не стал ломать себе голову над придумыванием нового заглавия, и таким-то образом возникло настоящее заглавие, далеко не соответствующее содержанию.
Я хочу говорить не об одном тезисе Шопенгауэра, а обо
всей его системе. Но я также не намерен — оборони меня бог—
представить вам полную ее критику, а только выскажу отрывочные мысли, ею вызываемые.
Очень может быть, что то, что я выскажу, не ново. Если бы
я хотел в том убедиться, то пришлось бы перебрать произведения разных философов, и это меня повергает в смущение.
По правде сказать, я не знаю, что такое философия. Это случается и с другими науками,— бывает трудно дать строгое определение связанного с ними понятия, но во всяком случае можно
знать объект, с которым они имеют дело. А по отношению к философии я не знаю, отличается ли она от других систем предметом своего исследования, зиждится ли она, например, на изучении психических явлений или она отличается от остальных
наук только своим методом.
Я не буду долее останавливаться на этом вопросе. Не прибегая к определению философии, я буду просто разуметь под
именем философов тех писателей, которых обыкновенно обозначают этим названием.
В произведениях этих философов есть много меткого и
верного. Верны и метки их замечания, пока они бранят других
философов; только в том, что они добавляют от себя нового,
обыкновенно уже не встречается тех же качеств. И потому,
выступая против Шопенгауэра, я почти уверен, что многое из
того, что я скажу, уже находится у других философов. Я могу
только пожелать, чтобы и к тому, что я скажу нового, не пришлось применить моих слов о том новом, что встречается у других философов.
*
Всякий знает старый спор между идеализмом и материализмом. Идеализм предполагает только существование Я, существование различных представлений, и пытается, исходя из
них, объяснить материю. Материализм отправляется от существования материи и пытается, исходя из этого, объяснить
ощущения.
Шопенгауэр пытается обойти эти противоречия и говорит:
существование всего мира покоится на субъекте и объекте.
И субъект сам по себе ничто, так же как и объект сам по себе
ничто. Они существуют только во взаимном отношении. Объект
может существовать только по отношению к субъекту и наоборот.
Дело усложняется еще тем, что, по Шопенгауэру, субъект
может быть сам по себе объектом. Выходит опять будто бы
один субъект без объекта. Он выпутывается из этого затруднения так: познающий субъект не может быть объектом, объектом
может быть только субъект волевой, таким образом субъект
расщепляется на волю и сознание- Воля и является объектом
сознания. Всякую просьбу дальнейшего объяснения Шопенгауэр просто обрывает словами: это — мировой узел, которого не распутать.
Шопенгауэр переходит затем к рассмотрению Кантовских
форм созерцания, т. е. пространства и времени. Привожу его
собственные слова:
«Если б время было единственной формой созерцания,
то не было бы никакого сосуществования и следовательно ничего
пребывающего, ничего длящегося. Потому что время воспринимается только постольку, поскольку оно наполнено, а его
24 К. А. Тимирязев,
т. 7
369
течение — только в силу изменения этого наполняющего.
Пребывание объекта познается только чрез противополагаемое ему изменение других объектов, существующих вместе
с ним. В одном времени невозможно представление о сосуществовании.
Если бы, наоборот, пространство было бы единственной
формой созерцания, то не было бы никакой смены, так как смена—только преемственность состояний, а преемственность возможна только во времени. Таким образом, время можно определить, как возможность противоположных проявлений в той
же самой вещи. Мы таким образом видим, что обе формы
эмпирических представлений, хотя они, как известно, имеют
то общее, что бесконечно делимы и бесконечно протяженны,
представляют коренное различие, так как то, что существенно
для одной, не имеет никакого значения для другой — сосуществование не имеет значения для времени, а последовательность для пространства».
Я полагаю, всякий согласится со мной, что во всем этом
мало содержания. В итоге оказывается, что «время — время,
а пространство — пространство».
Но в этом учении о пространстве и времени мы сделали за
последнее время действительные успехи, отделяющие нас от
точки зрения Шопенгауэра. Именно, пространство удалось построить без помощи какого-либо непосредственного созерцания, опираясь лишь на понятие числа. Удалось раскрыть:
какие свойства пространства оставались неизменными и какие
изменялись, смотря по тому, сохранялась ли или опускалась
та или другая геометрическая аксиома; с каким пространственным опытом связана та или другая аксиома; и таким образом
удалось притти к выводу, что ни одна из них не очевидна
a prion.
Вообще Шопенгауэру не везло со всем тем, что он признавал априористическим. Так, он признавал априористически
очевидным, что пространство имеет три измерения. А теперь
исследователь знает, что «a priori» мыслимо пространство и более чем трех измерений и что не-эвклидовское пространство
нельзя признать немыслимым. Конечно, здесь идет речь не о
том,эвклидовское ли то пространство, о котором свидетельствует
опыт, или нет, речь идет о том, что очевидно a priori и что взято
из опыта.
Точно так же Шопенгауэр приходит к заключению, что из
начала достаточного основания a priori вытекает закон сохранения материи. И вот именно по поводу этого-то закона на-днях
Ландольт предпринял ряд опытов, сначала будто бы опровергавших этот закон. Теперь, по правде сказать, все же представляется более вероятным, что закон сохранения материи Ландольту не удалось пошатнуть. Но дело не в результате опыта,
а в том, могут ли вообще опыты опровергнуть закон или логика будет указывать стрелке ландольтовских весов, куда ей
склоняться.
Во второй раз сомнения в этом законе всплыли по поводу радия. Я убежден, что и на этот раз факты подтвердят закон.
Но это все же доказывает, что мы не имеем дела с априористическим законом. Если б он не оправдался, то мы с логической
точки зрения ничего не могли бы возразить.
Шопенгауэр основывается на том, что если бы он не оправдывался на опыте, то мы не могли бы притти к представлению
о материи. Для нас всех материя и есть то, что пребывает, и
только этим путем мы приходим к этому понятию. Но из этого
еще не вытекает, что не могло бы представиться исключения.
Если бы ландольтовский опыт удался, то мы вынуждены были
бы изменить наши понятия о материи, допустив, что вообще
она пребывает, но в некоторых случаях встречаются и исключения из этого правила.
Теперь я остановлюсь на той роли, которую играет у Шопенгауэра воля. Шопенгауэр полагает, «что когда камень падает на землю, совершается такой же акт воли, как и в том случае, когда я сам чего-нибудь хочу. И только по тому, что я сам
в себе сижу, я знаю, что это — акт моей воли. Если б я мог забраться в самую внутреннюю суть камня, я бы увидал, что и
он обладает волей». Это очень остроумное замечание, но если
только Шопенгауэр думает, что, применив к силам неорганической природы то же слово «воля», как и к психическим процессам, нами самими испытываемым, он сделал колоссальный
шаг по пути постижения природы, — то это, с его стороны,
очень наивное самообольщение. Слово «воля» мы гораздо лучше
прибережем для обозначения сознательного побуждения к действию, свойственного человеку и высшим животным, не распро24*
871
страняя его на растения и на камни. Таким образом для каждого явления мы сохраним характеристическое слово и нечего
нам опасаться, чтобы мы оказались, в этом отношении, глупее
Шопенгауэра с его смешением понятий.
Еще более диковинным образом вводится Шопенгауэром
в его систему понятие «свободы». Воля, как субъект, как вещь
в себе, необходимо, безусловно свободна, так как к вещи в себе
никакой закон причинности не приложим. При измененных условиях она свободна действовать совершенно иным образом.
Но действия воли, ее проявления или объективирования при
данных условиях, вполне определяются этими последними,
и следовательно вполне не свободны; из свободы же воли, как
вещи в себе, вытекает смутное чувство, что и наши действия свободны.
Но для этих последних остается еще одна лазейка: когда
воля стремится к собственному уничтожению, она становится
ото всего независимой, и в этот момент проявляется ее свобода.
Что соображения Шопенгауэра искусно придуманы и дают
простор для игры остроумия, но не заключают в себе прочных
истин, обнаруживается как только он начинает делать из них
применение. Он применяет их к различным искусствам. Назначение их — освобождать волю от всего объективного, очищать
ее от всего исключительного, специального. Архитектура —
это искусство в применении к твердым телам, оно работает с
помощью твердых тел; ему противопоставляется искусство устраивать фонтаны, которое работает при помощи капельножидких тел, садоводство, работающее при помощи растений, и целый ряд искусств, работающих при помощи животных и человека. Совсем забыл он только искусство, работающее при помощи газообразных тел. Это, уж не знаю, было ли бы искусство
обмахиваться веером или искусство запахов, развивающих в
художественном направлении чувство обоняния. Такого искусства, правда, не существует, но это не значит, что логически
оно не мыслимо. По своему глубокому значению ему должно бы
еще предшествовать поваренное искусство, или, выражаясь точнее, искусство художественного воздействия на чувство вкуса.
Следующие затем у Шопенгауэра искусства ясно подражают
природе. Такова пластика, ландшафтная живопись, изображе-
ние растений и nature morte. За ними следует изображение животных и человека, которое, вместе с животной пластикой,
в первый раз изображает движение хотя бы в один известный
момент. Живопись в применении к человеку — это портретная
живопись, а также изображение вымышленных психологических сцен или историческая живопись, в которой принимается
во внимание, однако, только чисто-человеческая, а не историческая сторона исполнения.
Переход к поэзии образует символическая пластика и живопись, потому что в поэзии все достигается только мысленными символами. Самая субъективная ее форма— лирика, за
ней следуют все формы поэтического рассказа в прозе или стихах и, наконец, самая объективная поэзия — драматическая,
которая снова привлекает себе на помощь живопись, музыку,
танцы и актерское исполнение, эту высшую форму пластики,
по сравнению с пластикой из камня или металла.
Мы добираемся, наконец, до музыки. В ней Шопенгауэр
усматривает непосредственное изображение необъективированной воли, между тем как другие искусства изображают ее
только посредственно и притом отдельные ее объективирования. Но так как можно познавать не самую волю, а только ее
объективирования, то мы и не можем мысленно анализировать
музыку. Я готов согласиться, что музыка представляет нечто
совершенно отличное от других искусств. Но Шопенгауэрово
учение в своих подробностях не выдерживает критики. Многое
в нем прямо-таки комично, например, его уподобление басов
минеральному царству, средних регистров — растениям и животным, а дисканта — человеку. Музыка, по Шопенгауэру, —
это зеркало мира, но не простое отражение его или скорее его
части, как в других искусствах, нет, оно противополагается
всему миру, как нечто ему равнозначущее; мир — это одно,
музыка — другое, совершенно от него независимое проявление мировой воли. Отсюда парадоксальный вывод, что музыка
могла бы существовать, даже если бы мир исчезнул. Правда,
тогда не было бы ни скрипки, ни проводящего звуки воздуха,
ни возбуждаемого им уха, ни воспринимающей ее души. Но это
все только искусственные средства, соответствующие кисти,
краскам, палитре, холсту, световому эфиру, глазу и душе,
созерцающей произведение живописи Живописец нуждается
еще сверх того в объекте, который он изображает. Музыка в
этом не нуждается; она собственными средствами создает 'образ мировой воли. Правда-, то же можно было бы сказать и о
фейерверке и об орнаменте, не срисованном с природы, и о каком-нибудь совершенно бесцельном произведении зодчества,
пожалуй даже о танцовальном искусстве.
Как в крупном, так проявляется экстравагантность Шопенгауэра и в самом мелком. Например, он питает глубочайшую
ненависть к бороде. Это нечто скверное и именно на следующих
философских основаниях. 1) Волосы напоминают зверя, и потому человек их должен удалять с нижней части своего лица.
2) Борода представляет продолжение той части лица, в которой
выражается животная природа, именно органы жевания, и потому эта часть лица должна быть по возможности сокращена.
3) В-третьих, борода представляет из себя совершенно мертвую
часть тела, лишенную нервов и мускулов, и потому только дурной вкус может примириться с тем, чтобы носить при себе такую массу мертвого вещества.
Таким образом, Шопенгауэр строго эстетически обосновывает свое отношение к бороде. Более реальным объяснением
является факт, что противник Шопенгауэра, восставший против его назначения в профессора, носил длинную бороду Из
этого видно, как легко может ошибаться философ, относящийся
к эстетике только с теоретической точки зрения. Вывод выражен обычным Шопенгауэровским языком: «Глупость, простофильство, нелепость, дурачество, идиотство, бестолковая бессмыслица, тупоумие, вопиющее к небу безумие». Я полагаю,
довольно динамита.
*
Перехожу, наконец, к тому предмету, на котором, раз
что уже в заглавии говорится об одном тезисе Шопенгауэра,
должно быть сосредоточено главное внимание, т. е. к этике.
Шопенгауэр изо всего своего учения о воле делает тот общий
вывод, что жизнь — несчастие. «Потому что существует только
воля. Но воля должна постоянно чего-нибудь желать, к чему-
нибудь стремиться. Пока она не достигла того, к чему стремится, она не удовлетворена, она несчастна. Когда стремление
осуществлено, прекращается и воля, и счастье. Или является
стремление к чему-нибудь новому, порождающее новое недовольство, или наступает самое тяжелое изо всех состояний —
скука. Из этого положения нет выхода, и потому жизнь — постоянное несчастие. Единственная истинная этика сводится
к тому, что воля сама себя отрицает, и в силу этого человек
подготовляет для себя переход в ничто. Это-то и есть счастие».
Это старое учение, заимствованное из Индии, на основании
которого делается удивительное заключение, что Сущее не может быть разбито на части. Потому что иначе одна часть была
бы чем-нибудь таким, чем не могла бы быть другая часть. Но
было бы противоречием утверждать, что Сущее может в то же
время чем-то не быть. Далее Сущее не может также изменяться.
Иначе теперь должно было бы существовать то, что ранее не
существовало, т. е. снова Сущее должно было бы не существовать. Истинно Сущее должно быть единое, вечно неделимое,
вечно неизменное.
Но далее усматривается, что Ничто обладает именно всеми
этими свойствами. Ничто — едино; Ничто не может являться
во множественном числе. Ничто также не изменяется и с течением времени. Отсюда в действительности только Ничто и есть
Сущее; а все то, что мы считаем за Сущее, вечно дробящееся,
само в себе не единое, само с собою воюющее, неуловимое в самый момент своего зарождения и снова исчезающее — поистине
и есть ничто. Только потому, что мы сами ничто, мы и не можем
приподнять покров Май и принимаем ничто за что-то, а истинно
сущее за ничто. Такова и точка зрения Шопенгауэра. Превращение в ничто он старается нам подсластить тем, что представляет нам его переходом в истинно Сущее Ближайшее понимание этого достигается более глубоким проникновением в теорию того, что такое ничто. Следует различать:
1 iNihil privativum *, которое признается за ничто только
по отношению к известным предметам. Например, я ожидаю,
что в известном ящичке находится драгоценность, и в своем
* Ничто относительное. Ред.
разочаровании говорю, что в нем нет ничего, хотя в нем находится световой эфир, атмосферный воздух, пожалуй даже вата.
2. Nihil negativum *J которое еще более ничто, чем ничто
под № 1,т. е. более ничто,чем само ничто (nichtser ist als nichts,—
поясняет Больцман). Например, я могу мыслить действительно
пустое пространство, даже свободное от эфира. Но и это —
только создание моей мысли, только относительное ничто и ему
можно противопоставить идею Nihil absolutum * * , такое ничто,
которое в самом деле—ничто — ничто Нирваны или Пратшна
Парамиты индусов. Кто так философствует, должен, конечно,
чувствовать себя польщенным, когда ему говорят, что из всего
его философствования ничего не выходит, потому что в его глазах ничто-то и есть нечто.
Но покинем эту область теоретических умозрений на тему,
не будет ли понятие ничто только относительное и т. д. и остановимся лучше на практических выводах из этого учения.
Здесь тотчас же обнаруживается, что теория, утверждающая,
будто этика учит стремлению превратиться в ничто, учит отречению от существования — очевидно несостоятельна. Если бы
мы, германцы, ей последовали, то превратились бы в индусов
и на нас накинулись бы другие народы.
Но люди были настолько догадливы, что не поверили Шопенгауэру. По мне, неудачна самая мысль, что одна из задач
этики заключается в том, чтобы на основании метафизических
аргументов решать вопрос, представляет ли жизнь в целом
счастье или несчастье. Для каждого человека это вопрос его
личного субъективного чувства, его телесного здоровья, его
внешней обстановки. Ни одному несчастному не станет от того
легче, что ему метафизически докажут, что жизнь сама в себе
несчастье. Наши же поиски за средствами для исцеления или
облегчения физических или нравственных страданий может быть
действительно приходят порой на помощь несчастному.
Поэтому этика должна ставить только вопрос: когда отдельная личность должна отстаивать свою волю, когда должна
она ее подчинять другим, так чтобы существование семьи,
* Ничто отрицательное. Ред.
* * Ничто абсолютное. Ред.
племени, всего человечества, т. е. всех отдельных личностей,
было наилучшим образом обеспечено? Но эта прирожденная
нам страсть ставить вопросы бьет дальше цели, когда ставится
вопрос: а стоит ли вообще способствовать жизни или следует
ей препятствовать? Если бы какая-либо этика довела бы
придерживающееся ей племя до самоуничтожения, она тем
самым была бы опровергнута. Не логика, не метафизика, не
философия решает в конечной инстанции, истинно ли что-нибудь
или нет, — решает это дело — «Вначале было дело». То, что
ведет к правым делам, то и есть истина.
Потому то я и считаю завоевания техники не посторонними
отбросами естествознания, а вижу в них логические доводы.
Если бы мы не добыли этих практических результатов, то мы
не знали бы, к какому притти заключению. Только те суждения,
которые осуществляются на деле, верны.
Правда, раз что какая-нибудь метода суждения оправдывается и передается по наследству в течение тысячелетий, она
начинает нам казаться верной a priori, и мы нередко можем
долго ею пользоваться, не прибегая к практической поверке;
но во всяком случае, когда-то она должна была быть проверена
на деле и от времени до времени должна вновь подвергаться
этой проверке.
Такими же не выдерживающими критики, какими оказались идеи Шопенгауэра, мне представляются в самом своем
корне и идеи других философов, не исключая Канта, для доказательства чего мне здесь, конечно, нехватило бы времени.
Рождается вопрос: не был ли тогда весь труд этих великих
умов напрасный? На этот вопрос я отвечаю отрицательно, потому что эти философы устранили еще более наивные представления. Они оказались полезными, потому что расчистили путь,
загроможденный еще худшими воззрениями, раскрыли их ошибочность и обеспечили переход к более ясным воззрениям.
То же случается и в области других наук; приведу в качестве примера деятельность Вильгельма Вебера. Он предложил
теорию электричества и магнетизма, которая теперь признается неверной, и тем не менее он должен быть отнесен к числу
тех ученых, которые всего более способствовали успехам этих
наук. Он дал толчок опытам, которыми была подготовлена почва
для возникновения новой теории. И хотя теория Вебера теперь не выдерживает критики, он остается одним из величайших исследователей электричества всех времен.
С этой точки зрения я должен выразить глубочайшую благодарность тем, кто посоветовал мне преподавать философию,
что дало мне повод ближе ознакомиться с ее литературой 1 .
Многие ли вынесли пользу из моих лекций, не берусь судить.
Но я уверен, что один человек многому из них научился, и этот
человек — я сам.
Иной вопрос: а те, кто меня рекомендовали на кафедру философии, остались ли они довольны мною? Если они ожидали,
что я покачусь по старым рельсам, то, конечно, жестоко ошиблись. Да, пожалуй, это и не было вовсе желательно. Щука
в пруде для карпов, пожалуй, оказалась полезней, чем еще один
лишний карп.
*
На мой взгляд одно спасение для философии — в учении
Дарвина. Пока сохраняется вера в какой-то особенный дух,
который без посредства механических средств может познавать
объекты, или в какую-то особую волю, которая, опять-таки без
участия механических средств, может хотеть то именно,что нам
полезно, мы никогда не объясним даже простейшего психологического явления.
Только тогда, когда мы поймем, что дух и воля не представляют нечто независимое от тела, а только бесконечно сложное
действие частиц материи, которое путем развития становится
все совершеннее и совершеннее; только тогда, когда мы поймем,
что и воля, и представление, и самосознание — лишь высшие
ступени развития тех физико-химических сил материи, которые на первых порах сделали возможным для протоплазматического пузырька перемещение в места более для него благоприятные и удаление из мест менее благоприятных — только
тогда все в психологии нам станет ясным.
Тогда станет нам понятным, что с каждым чувственным восприятием, с каждым решением воли связаны механические про1
Больцман читал курс философии естествознания.
цессы, что ощущение и воля начинают действовать совершенно
превратно и неверно, как только будут нарушены эти механические процессы, или и вовсе прекращаются при более глубоком
нарушении этих последних. Станет понятным, что когда устанавливается взаимодействие между различными представлениями, им соответствующие нейроны приходят в соприкосновение своими волокнами, что когда дитя начинает комбинировать
свои зрительные и слуховые ощущения, между мозговыми
центрами слуха и зрения, при посредстве этих волокон, устанавливаются сообщения, равно как и между этими центрами и центрами чувства осязания и двигательными нервами— когда ребенок начинает хвататься за видимые им предметы.
Тогда станет также понятным, почему в человечестве преобладающим началом является эгоизм, хотя нет недостатка
и в стремлении жертвовать собою ради других. Станет понятным, почему эгоистические стремления должны быть ограничиваемы и наказуемы законом, а развитие стремления приносить себя в жертву общему благу поощряемо похвалой и наградой. Станет понятным, что прирожденное стремление к самостоятельности вырождается в иначе нам непонятный эгоизм,
потому что те существа, в которых это чувство ослабевает, погибают в борьбе за существование.
Но как же будет обстоять дело с тем, что в логике обозначают законами мышления? С точки зрения Дарвина это будут
только закрепляемые наследственностью привычки мышления.
Мало-по-малу люди привыкли те слова, — при помощи которых
они объясняются и которые в процессе мышления молча про
себя повторяют, а также их воспроизведение памятью, — так
закреплять и связывать, чтобы в результате получалась способность оказывать необходимое воздействие в желаемом направлении на мир явлений и притом оказывать его не только
самим, но и подвигать к этому воздействию других, т. е. приходить с ними к взаимному пониманию, вступать с ними во взаимное соглашение. Этому воздействию на мир явлений значительно
способствует как сведение в строгую систему образов, удерживаемых памятью, так и дальнейшее развитие искусства речи.
И степень этого способствования является критериумом истинности.
Из этого метода сопоставления образов представления и,
вслух или молча произносимых, слов, мало-по-малу, совершенствуясь и наследуясь, и развились законы мышления. Вполне
верно, что если бы мы не приносили с собою этих законов мышления, исчезла бы и всякая возможность познания, и чувственные восприятия оставались бы без связи между собою.
А так как воля, или унаследованное стремление оказывать
воздействие на мир явлений в способствующем нам направлении, вела к постепенному совершенствованию представлений,
то в результате получается такое сочетание воли и представления, лучше которого и Шопенгауэр не мог бы себе представить.
Мы можем, пожалуй, эти законы мышления считать априористическими в том смысле, что благодаря длившемуся несметные века опыту нашей расы; для неделимого они являются уже
прирожденными. Но логический промах Канта заключается
в том, что он из этого сделал вывод о их непогрешимости во всех
случаях их применения.
С точки зрения Дарвиновой теории этот промах легко объясним. Только то, что вполне верно, вполне надежно, -— наследуется. Что не верно, не надежно, -— отбрасывается. Таким образом эти законы мышления приобрели теперь такую кажущуюся непогрешимость, что представилось возможным самый
опыт привлекать к их суду А так как их признали априористическими, то отсюда явилось и представление, что все априористическое непогрешимо, совершенно. Точно так же прежде
думали, что наш глаз, наше ухо совершенны, потому что они
действительно достигли изумительного совершенства. Но теперь мы знаем, что это была ошибка, что совершенство это не
полное.
Точно так же я готов оспаривать полное совершенство и
наших законов мышления. Наоборот, эти законы мышления
до того вошли в наши неизменные привычки, что они бьют далее цели и не выпускают нас из своей власти и тогда, когда для
их применения уже нет более места. Над ними оправдывается
то, что наблюдается со всякой унаследованной привычкой.
Так, ребенку присуще стремление сосать, без чего он не
выжил бы, и это стремление сосать настолько входит в его при-
вычки, что он продолжает сосать пустую каучуковую соску.
Так и законы мышления бьют далее цели, и философ из пустого
понятия «ничто» пытается высосать целое миросозерцание.
Точно так же, давно испытанное и, как доказывает вечный вопрос детей «почему», очевидно унаследованное стремление искать причину всего бьет далее цели, когда мы спрашиваем о
причине всеобщей приложимости закона причинности, как и
тогда, когда мы спрашиваем, зачем вообще существует мир,
зачем он таков, каков он есть, зачем мы сами существуем и
именно теперь и т. д.
Самая поразительная сторона этого явления заключается
в том, что потребность ставить вопрос и мука, проистекающая
от того, что не получается ответа, не прекращаются даже и
тогда, когда мы ясно сознаем ошибочность своей постановки.
Но именно эта сторона явления вполне объяснима с дарвинистической точки зрения. Привычка сильнее сознания, что вопрос бесплоден. Ведь и обманы чувств не исчезают, как бы мы
себе их ни объясняли, физиологически и физически. Так и в философских проблемах мы имеем дело с обманом понимания.
То же можно сказать и о стремлении во что бы то ни стало
классифицировать. Оно представляет нечто очень ценное, и,
конечно, нужно всегда стремиться к логической классификации. Но отсюда зарождается стремление все классифицировать,
все втискивать в заранее установленную схему, подобную Прокрустову ложу, и все произвольно вытягивать или обрубать,
лишь бы сохранить предвзятую идею нашей схемы.
Так же, множество понятий мы признаем вполне ясными и
данными нам a priori, но на деле это только пустые слова.
Мы воображаем, что бог знает как умны, когда, не связывая
с данным словом вполне ясного представления, пускаем в ход
вопросы: то или иное синтетично ли или аналитично, трансцендентально или эмпирично, реально, идеально или материально, количественно или качественно. На такие темы философы
готовы писать целые исследования, не задаваясь одним только
вопросом: ясна ли им вполне самая постановка вопроса?
Еще один пример: мы привыкли все оценивать соответственно приносимой пользе. Смотря по тому, улучшает ли оно или
ухудшает жизненные условия, считаем мы то или другое ценным
или лишенным всякой цены. Это до такой степени входит в
привычку, что мы считаем себя в праве ставить вопрос: представляет ли какую-нибудь цену и сама жизнь? Но такой вопрос— совершенная бессмыслица. Жизнь мы и должны принимать за то именно, что представляет ценность, а о том, представляет ли что иное ценность, мы можем судить только по сравнению, т. е. на основании того, способствует ли оно жизни
или препятствует ей. При этом, конечно, мы внушаем личности,
что для нее имеет ценность не то, что касается лично ее самой,
а то, что касается семьи, народа, всего человечества. Потомуто те, кто это исповедуют (благородные), поддерживаются и
вознаграждаются всем обществом, имеют более успеха в борьбе
за существование, а их великодушные, благородные качества
наследуются последующими поколениями, хотя, рядом с этим,
и эгоизм имеет свои, правда, совершенно иные, шансы на сохранение.
Но если мы спрашиваем, представляет ли жизнь сама по
себе ценность, то это все равно, как будто бы мы спрашивали:
«Может ли жизнь способствовать жизни?» — Вопрос, не имеющий никакого смысла. Согласно определению, мы в праве только
спрашивать: «Что может способствовать жизни?» Ценным является именно то, что способствует жизни. Вопрос о ценности
самой жизни лишен всякого смысла, а что он нам сам собою
навязывается, вполне объяснимо с точки зрения дарвинизма.
Это опять то же стремление бить дальше цели, присущее
нашей мыслительной привычке.
В переписке с проф Брентано, касавшейся сходных вопросов, я прибегнул к следующему, быть может тривиальному,
но в основе, как мне кажется, вполне подходящему сравнению.
Стремление продолжать что-то выводить, когда уже выводить
более нечего, я ранее сравнивал с бесцельным сосанием ребенка;
на этот раз я сравнивал его с приступом рвоты у человека,
страдающего мигренью, когда ощущается позыв что-то вывести из желудка, в котором уже ничего не находится. С этим
позывом можно сравнить позыв разрешать вопросы: имеет ли
жизнь цену, или почему вещи именно таковы, каковы они
суть? И т. д. и т. д. Ту же мысль прекрасно выразил Грильпарчер:
Рассудка с мельницей я делаю сравненье:
Чтобы была мука, всыпается зерно;
И нет муки, когда не всыпано оно.
О жернов жернова тогда напрасно тренье;
Лишь сор, песок и пыль дает камней движенье.
Задачей философии будущего мы представляем себе такое
формулирование основных понятий, чтобы они во всех случаях давали возможно точное указание для целесообразного
воздействия на мир явлений. Сюда прежде всего относится
требование, чтобы, идя различными путями, не приходить
к различным правилам для руководства в дальнейшем мышлении или дальнейшем образе действий, т. е. не сталкиваться
с внутренними противоречиями. Примером этого, в области
мышления, является невозможность допустить, чтобы одним
путем мы приходили к заключению, что материя не бесконечно
делима, а другим путем приходили к заключению, что обратный вывод неизбежен. Такое противоречие всегда является доказательством, что законам мышления недостает окончательной отделки, что слова нами неудачно применены. И тогда
эти законы мышления, приводящие к бессмысленным выводам,
мы обязаны изменить.
Так поступают в алгебре. Операциям над отрицательными
и дробными числами дают такое определение, чтобы, прилагая
к ним правила исчисления, применяемые к положительным
и целым числам, никогда не сталкиваться с противоречием.
Во-вторых, наши законы мышления должны приводить
нас к согласным с опытом воздействиям на мир окружающих
явлений.
В-третьих, должно оказывать отпор тому непреодолимому
стремлению применять законы мышления и тогда даже, когда
они бьют далее цели, так чтобы мало-по-малу это стремление
шло на убыль и, наконец, совершенно в нас исчезло.
Что это возможно, ручательством тому служит история.
Ведь было же время, когда верили, как в неотразимый вывод
логики, в невозможность существования антиподов. Неизменно
наблюдали, что вертикальное положение для всех людей параллельно, и что когда кто-нибудь стоит навыворот, он стоит
на голове и болтает ногами в воздухе. Путем постоянного опыта
это превратилось в привычку мышления, так что ум не мог
себе просто представить антиподов. Так же верили в невозможность вращения земли, потому что всякое другое вращение
вызывало головокружение, а это не вызывало его. Во времена
Колумба и Коперника верили, что это нам предписывалось
нашим мышлением и пытались это им: втолковать. Но теперь
эти привычки мышления исчезли, и любой образованный человек почти не в состоянии понять, как это люди могли быть
когда-то до такой степени ограннченны.
Также и предубеждение против не-эвклидовского пространства или пространства четырех измерений идет на убыль. Многие и теперь убеждены, что Эвклидова геометрия единственно
возможная, что сумма углов в треугольнике должна быть
равна 180°; но уже находятся и такие люди, которые усматривают, что это только в силу привычки укоренившиеся мысленные
представления, освободиться от которых и можно и должно 1
Законы мышления должны быть так изменены, чтобы они
всегда, и каким бы мы ни шли путем, приводили к той же цели,
чтобы онй всегда соответствовали нашему опыту и чтобы была
предотвращена возможность их выстреливанья дальше цели.
Хотя этот идеал, вероятно, никогда не будет вполне осуществлен, тем не менее мы должны стараться к нему приблизиться.
Тогда исчезнет то беспокойство, то мучительное чувство, что
все нас окружающее — загадка, что загадочно, почему мы существуем, почему существует мир и почему он именно таков,
каков он есть, и где причина тому, что всякое действие имеет
свою причину и т. д. и т. д. Тогда человечество избавится от той
умственной мигрени, имя которой — метафизика.
Перевел К.
ТИМИРЯЗЕВ.
№ впали ли здесь первоначально и математики в указанную выше
Больцманом ошибку неправильного применения слов? Если бы для нового понятия было введено сразу новое слово (как позднее многообразие
или гиперпространство), то не было бы и повода для соблазна. Примеч.
перев.
1
XYII
СТОЛЕТНИЕ ИТОГИ
ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ 1
DIE
ÄCHTE
WISSENSCHAFT
BEGNÜGT
SICH MIT P O S I T I V E R E R K E N N T N I S S UND
Ü B E R L Ä S S T E S W I L L I G DEM P O E T E N UND
NATURPHILOSOPHEN
DIE
AUFLÖSUNG
E W I G E R R Ä T H S E L MIT H Ü L F E D E R P H A N T A S I E ZU V E R S U C H E N .
1. R. MAYER:
«Die Mechanik der
Wärme». S. 242.
Д
евятнадцатый век отошел в вечность; молодой двадцатый
выступил ему на смену. Воскликнуть ли просто, как в доброе старое время во Франции: Le roi est mort. Vive le roi! 3
или остановиться в раздумьи на пороге веков; в последний раз
пристально всмотреться в черты уходящего, вникнуть глубже
1 Речь, читанная на акте Московского университета 12 января 1901 г.
(Опубликована в том же году в сборнике речей и отчетов императорского
Московского университета; в журналах «Русская Мысль», 1901, кн. И
и «Естествознание и География», 1901, кн. 3; а также отдельной брошюрой. . Включена во 2 и 3 издания «Насущных задач». В 1918 г. переиздана Литературно-издательским отделом народного комиссариата по просвещению отдельной брошюрой с приложением статьи «Жан Сенебье,
основатель физиологии растений». В этом издании 1918 г. К. А. Тимирязев добавил переводы иностранных текстов, встречающихся в статье.
2 Истинная наука довольствуется положительным познанием, охотно
предоставляя поэтам и натурфилософам разрешение вечных загадок
при помощи фантазии. Р. Майер. «Механика теплоты». Стр. 24.
3 Король умер. Да здравствует король!
25 К. А. Тимирязев,
т. V
385
в то, что он с собой принес, что по себе оставил, и отдать ему
справедливую дань уважения и благодарности. Очень часто
говорят: какой смысл отличать подобные искусственные грани
в жизни ли неделимого или всего человечества; ведь первый
день нового столетия ничем не отличается от последнего дня
истекшего? Едва ли это возражение основательно. Какие же
грани не искусственны, не созданы умом ради подчинения
себе необъятного единства всего существующего, а какое знание
было бы возможно без этих искусственных граней? С другой
стороны, успеха в жизни достигает только тот, кто, поставив
себе самые широкие задачи, умеет разбить ведущий к ним путь
на этапы, чтобы следить за тем, насколько в течение каждого
из них он успел приблизиться к намеченной далекой цели. Столетие достаточно длинный этап даже в жизни науки, в своем
поступательном движении никогда не видящей перед собою
конца.
Истекший столетний период особенно знаменателен в применении к физиологии растений, не потому только, что это
наука вообще молодая, но и потому, что с окончанпем X I X века
завершается, можно сказать, первый век ее существования
и это обстоятельство делает ее, может быть, наиболее удобным
объектом для оценки научного движения века.
На 8 году республиканского календаря, т. е. 1800 г. по нашему летоисчислению, в Женеве появился первый полный
трактат физиологии растений, принадлежавший ученому, пастору, позднее хранителю городской библиотеки — Сенебье.
Женеву справедливо считают колыбелью физиологии растений, а пять томов «Physiologie végétale» * представляют драгоценный памятник того, чем была эта новорожденная наука
при вступлении в девятнадцатый век. Сенебье сам заявляет,
что, по его мнению, излагаемая им наука находится в колыбели,
и заканчивает свою книгу перечнем desideranda * * , т. е. вопросов, разрешение которых он завещает будущему. Оправдал
ли истекший век надежды женевского физиолога? Мы можем
смело сказать, не только оправдал, но и превзошел все его
* «Физиология растений». Ред.
* * Пожелания. Ред.
ожидания и даже, как всегда бывает, разрешил ряд коренных
вопросов, которые ему представлялись неразрешимыми.
Но что же примем мы за меру успехов знания, за критериум его совершенства? Конечно, не один количественный рост,
не одно накопление фактов, хотя и этот чисто-внешний признак
его развития, как мы увидим, поразителен. Таких критериумов
успеха в нашей области мы можем выставить три.
Первая и самая общая мера, применимая ко всякой области
знания, это степень его обобщения, его объединения. По лаконическому определению Спенсера, Philosophy is unnified knowledge Ч Всякое философское знание есть знание объединенное,
и степень осуществления этого объединения лучшее мерило
совершенства. Второй, и еще более верный, критериум совершенства нашего знания применим только в опередившей другие отрасли известной его области, которую мы по праву можем
назвать точной. Это — возможность, на основании этого знания, подчинить себе действительность, давать ей желаемое
направление, когда объект доступен нашему воздействию,
или только предвидеть, предсказать течение явлений, когда
он ускользает от этого воздействия. Возможность prévoir et
agir 2 , по лаконической формуле Конта и Клода Бернара, —
вот этот второй, единственный точный и неотразимый аргумент, определяющий совершенство наших знаний с точки зрения философии науки — философии положительной. Наконец,
третьей, хотя и не наиболее глубокой, но зато наиболее наглядной и наиболее ценимой, с точки зрения практической, житейской философии, мерой совершенства наших знаний служит
степень их приложимости к удовлетворению материальных
потребностей человека. Этот критериум имеет всегда выдающееся
значение в глазах людей, для которых непонятна, породившая
эти приложения, внутренняя жизнь науки.
G этих трех точек зрения мы и рассмотрим столетние успехи
нашей науки.
Если количественный рост знаний и не служит мерой их
совершенства, зато он наглядно обнаруживает возрастающее
1
2
26*
Философия •—- объединение знания. (Примечание 1918 г
Предвидеть и действовать. (Примечание 1918 г. Ред.)
Ред.)
387
количество прилагаемого к ним труда, Вместо каких-нибудь
30 ООО отдельных растительных форм (видов), которые насчитывает Сенебье, современная наука знает их слишком 175 000,
и, тем не менее, возможность найти путь в этом колоссальном
лабиринте единичных фактов значительно увеличилась, благодаря их систематическому соподчинению, благодаря их объединению. Если в прошлом задача биологии более сводилась
к различению форм, то выдающейся чертой настоящего является
стремление к их сближению, к установлению их сходства
и взаимной связи. Я могу здесь бегло остановиться только
на нескольких примерах, указывая на те случаи, где ботаники
шли во главе движения. Самым глубоким коренным различием в пределах растительного царства, которое X I X век
унаследовал от X V I I I , представлялось предложенное еще
Линнеем деление на растения явнобрачные, т. е. представляющие
половой способ размножения, и тайнобрачные, его не представляющие. Исследованиями первой половины этого столетия
было устранено это различие, и у растений тайнобрачных был
найден этот процесс, но он был так отличен от того, что наблюдалось у явнобрачных, что служил скорее к установлению
более глубокого различия, чем к сближению этих двух полуцарств растений. Ровно полвека тому назад Гофмейстер задался колоссальным трудом; он проследил историю развития
представителей главнейших групп растительного царства и показал, каким образом кажущееся различие может быть сведено
на более глубокое сходство. Он предсказал, где, у каких растений должно найтись окончательное подтверждение его воззрения. Почти через полвека его пророчество исполнилось
вполне и — замечательная Особенность, которую едва ли ктонибудь мог предвидеть сто лет тому назад — подтверждение
пришло из далекой Японии, теперь уже принимающей заметное участие в движении научной мысли. На-днях Навашин
доставил еще новое блестящее подтверждение верности этой
теории. Таким образом, выражаясь словами самого Гофмейстера, удалось перебросить мост через самую глубокую пропасть, делившую растительное царство надвое Ч
1 Уже в X X веке (1903 г.) получено новое, еще более интересное,
доказательство в пользу теории Гофмейстера на основании изучения
Главный успех химии в исходе прошлого столетия заключался в том, что бесконечное разнообразие тел природы ей
удалось свести на ограниченное число образующих их простых тел, элементов, причем в течение всего века перед химиком
витал соблазнительный образ одного элемента, путем усложнения дающего начало всем другим. Биологам удалось найти
такой единственный элементарный орган, через бесчисленные
видоизменения и сочетания которого слагаются все части самых
сложных организмов. Здесь на первом месте мы должны поставить заслуги ботаников Шлейдена, Моля, Роберта Брауна.
Первый из них был, если не в буквальном смысле основателем,
то первым «глашатаем» учения о клеточке, а другие два открыли
ее две важнейшие составные части — протоплазму и ядро.
Исследования над клеточкой, протоплазмой и, в особенности,
начиная с 70-х годов, разр'осшиеся до колоссальных размеров
исследования над ядром установили такую глубокую аналогию
в строении представителей обоих царств природы, о которой
ранее нельзя было и помышлять. Шедшее параллельно с раскрытием внутреннего строения сложных организмов изучение
простейших микроскопических существ из обоих царств установляло такое близкое сходство между ними, что самая граница между ними мало-по-малу сглаживалась; промелькнула
даже мысль, вскоре покинутая, о выделении третьего промежуточного царства, через дихотомическое распадение которого
появились царства растений и животных.
Эти блестящие результаты широкого объединения, достигнутые при помощи характеристичного для биологии сравнительного метода, настоятельно призывали научную мысль
остановиться, наконец, на причине этого единства. Идея, высказанная в начале века Ламарком, но недостаточно обоснованная
и встреченная с недоверием, ровно через полвека торжествует
окончательно в учении Дарвина, сообщившем этому объединяющему движению биологии реальное содержание. Единство
строения явилось только результатом единства происхождения,
ископаемых растений. (Примечание 1918 г.). (К. А. подразумевает открытия известного английского фитопалеонтолога Дукинфильда Скотта.
Ср. статью «Главнейшие успехи ботаники в начале X X столетия», т. VIII •
настоящего издания. Ред.)
связывающего все существующие организмы, через посредство
существовавших, в одно неразрывное целое. Замечу мимоходом,
какие права имеет ботаник считать своими эти два громкие
имени. Автор «Philosophie Zoologique» 1 был прежде автором
«Flore française» 2 , и несомненно наиболее удачными, как мы
увидим далее, были его мысли, высказанные в применении
к растению; что же касается Дарвина, то после выхода его капитальных трудов «Origin of species» и «Descent of Man» 3 вся
деятельность его была сосредоточена на применении его теории, как рабочей гипотезы, к задачам исключительно физиологии растений.
Таковы, в самых общих, широких чертах, главнейшие завоевания наблюдательной, описательной ботаники. Что же давала
в это время другая отрасль этой науки, которая нас собственно
интересует — физиология, стремящаяся' к тому, чтобы объяснить себе совершающиеся в растении процессы, совокупность
которых мы обозначаем собирательным словом жизнь?
Здесь объединительный процесс, очевидно, должен итти
далее; он не может ограничиваться одним объединением только
собственного содержания науки, а должен стремиться к объединению этого содержания с содержанием наук более общего
порядка, т. е. физики и химии. Это, как мы увидим, понимал
и Сенебье. Физиология, очевидно, стремится не к одному только
описанию, а к объяснению жизненных явлений и путем, этого
объяснения к подчинению их власти человека. Эти столь ясные,
всякому понятные выражения: описание, объяснение, к сожалению, в самое недавнее время подали повод к весьма прискорбному смешению понятий. Знаменитый физик Кирхгоф
как-то выразился, что механика, этот идеал точной науки,
имеет своей задачей лишь описание изучаемых ею явлений.
Нашлись биологи, которые из этого сделали заключение: и нам
незачем итти далее; если уже механика наука описательная,
то ботанике и зоологии и следует оставаться описательными.
Нужно ли пояснять всю ошибочность этого умозаключения?
«Философия зоологии». (Примечание 1918 г. Ред.)
«Французская флора». (Примечание 1918 г. Ред.)
3 «Происхождение видов» и «Происхождение человека». (Примечание
1918 г. Ред.)
1
2
Всякое объяснение предполагает переход от более сложного
к более простому, от менее известного к более известному, от
менее доступного изучению к более доступному. Всякое объяснение есть сравнение с более простым. Механике, оперирующей с простейшими понятиями движения, пространства, времени, уже некуда восходить к простейшим; для нее объяснение
может совпадать с описанием, но, конечно, явления питания,
роста, воспроизведения не так просты и довольствоваться их
внешним описанием не значит давать им объяснение.
Объяснение жизненных явлений, в указанном смысле, мы,
очевидно, получаем только тогда, когда, разлагая их, сводим
их к явлениям более общего порядка, физическим и химическим,
обнимающим и живые, и неживые тела. Но возможно ли это?
С начала века, что было понятно в виду недостаточности фактических данных, и до конца его, что уже трудно себе объяснить,
раздавались голоса, упорно утверждавшие, что такое объяснение невозможно, что явления, совершающиеся в организмах,
иного порядка, что они не разложимы на простейшие, не подчиняются законам механики, физики, химии, которым подчинены явления в телах неживых. Это голоса так называемых
виталистов. Я не делаю различия между каким-то особым,
нео- и палео-витализмом, потому что его на деле не существует.
Достаточно обратиться к истории физиологии растений, например, Сакса, чтобы увидать, каким вредным тормозом это
беспочвенное воззрение было в течение почти всей первой половины века; стоит заглянуть в классические произведения одного
из великих основателей современного научного мировоззрения,
Р. Майера, чтобы понять то смешанное с презрением негодование, которое вызывало в нем это злосчастное учение. Можно
смело сказать, что вся столетняя история физиологии — только
одна повесть о победе химико-физических воззрений над воззрением виталистов, и замыкается она, как сейчас увидим,
одним из самых решительных поражений этого последнего.
1
Наш обзор успехов физиологических знаний мы можем
всего лучше сгруппировать, как это обыкновенно делается,
вокруг трех основных точек зрения, трех категорий явлений,
исчерпывающих собою всю совокупность растительной жизни.
Все эти явления, несмотря на их бесконечно» разнообразие,
сводятся к троякого рода превращениям. Это будут или превращения вещества, или превращения энергии, или превращения
формы. Конечно, всего чаще все эти три ряда превращений
будут совпадать, и мы их рассматриваем в отдельности только
ради упрощения обзора.
'
Начнем с рассмотрения того, что было известно в начале
века и что мы знаем теперь о химизме растения, т. е. составляющих его веществах и их превращениях. Химии растительного
организма как самостоятельной задачи не существовало. Сенебье пытался составить какое-нибудь о ней представление
на основании отрывочных сведений о различных технических
и сельскохозяйственных продуктах, указывая, что этим путем
мы можем приблизиться к пониманию того, что находится в растительных тканях. Даже по вопросу об элементах, входящих
в состав растительного вещества, сведения еще долго после
Сенебье были смутны и сбивчивы. Так, например, хотя Сенебье
ясно указывал на присутствие в растении азота, еще долго
после него — правда, более у химиков, чем у физиологов —
господствовало убеждение, что азот не входит в состав растения; так что в конце двадцатых годов Огюст Конт основательно
ставил вопрос — если его нет в растении, откуда же он взялся
в животном, — и еще в тридцатых годах Бунзен ссылался на
недавние исследования Буссенго, как на доказательство, что
азот действительно входит в состав растения. Мало того, в начале этого века Берлинская академия предложила на соискание тему: проникают ли химические элементы золы растений
извне или создаются самим растением, и полученный ответ разрешал вопрос во втором смысле. Несмотря на синтез мочевины,
осуществленный Вёлером еще в конце двадцатых годов, до
половины этого столетия, образование, синтез органического
вещества провозглашались тайной жизненной силы, чем-то
недосягаемым для химика. Этот догмат витализма рухнул,
можно сказать, на наших глазах с появлением знаменитой
книги Бертло «Chimie organique fondée sur la synthèse» 1 . По1
Ред.)
«Органическая химия, основанная на синтезе». (Примечание 1918 г.
нятно, что поколение, которое было свидетелем этого поражения
витализма, не убедят возгласы современных виталистов, что
то или другое явление составит навеки тайну организмов.
Из трех важнейших групп, входящих в состав организмов,
жиры и углеводы уже получены синтетически — очередь
за белками, и, конечно, ни один химик не сомневается, что их
получение только вопрос времени, задача гораздо более сложная, но не представляющая какого-нибудь коренного различия от того, что уже осуществлено наукой.
Ознакомившись с составом органического растительного
вещества, доказав, что оно может получаться in vitro 1 , без
участия какой-нибудь таинственной жизненной силы, наука,
особенно в последние годы, сделала громадный шаг по пути
к объяснению совершающихся в растении превращений этого
вещества. Остановимся и здесь на самой выдающейся черте
этих явлений. В организме давно был подмечен ряд процессов,
которым химик мог подражать в лаборатории только при действии очень энергических деятелей и при высокой температуре.
Ни того, ни другого условия в живом организме не существует, — как же совершаются там эти явления? У виталистов,
конечно, был готов ответ — это тайна жизни. Но еще в 1833 г.
Пайену удалось найти ключ к этой тайне; он выделил из солода вещество диастаз, которому суждено было сделаться типом целой группы веществ, получивших название ферментов.
Эти ферменты воспроизводят вне организмов, в колбе химика,
те явления, которые до тех пор наблюдались только в живом
организме. Значение этих тел растет с каждым днем; Клод
Бернар видел в них четвертое условие жизни. Первые три:
теплота, вода и кислород воздуха. В самом деле, что отличает
покоящееся семя, которое может, как мы знаем, оставаться
в оцепенении годы, столетия, тысячелетия — может быть,
неограниченные периоды времени, — не утрачивая своей способности, при наступлении благоприятных условий, вновь
пробудиться к жизни? Отвечаем: отсутствие фермента и условий, при которых этот фермент может действовать. Только под
1 В стекле, т. е. в стеклянной посуде химика, а не только в живом
существе. (Примечание 1918 г. Ред.)
влиянием ферментов, отложенные в семени запасные питательные вещества пускаются в оборот. То же оказывается и во
взрослом организме; чем ближе мы знакомимся с его химизмом,
тем больше места мы должны отвести этим ферментам. Главная
их особенность заключается в том, что они вызывают энергические реакции, находясь сами в ничтожных количествах,
и химики объясняют это тем, что одно и то же количество фермента, вступая в соединение с изменяемым им телом и выступая из него, может действовать на неограниченное его количество. Сходные явления представляет нам не только органическая, но и неорганическая химия. Но рядом с этими процессами, в которых удалось разоблачить тайну жизни, воспроизведя их и вне организма, наблюдался и другой ряд процессов,
в которых тайна упорно не поддавалась исследованию. В науке,
особенно благодаря авторитету Пастера, возникло убеждение,
что существует ряд процессов, объясненных действием ферментов-веществ, подобных диастазу, процессов, воспроизводимых и вне живого организма, и другой ряд процессов, вызываемых действием живых ферментов-существ, — процессов,
не воспроизводимых вне живого организма, составляющих
его неотъемлемую тайну, тайну жизни. Самым типическим
примером этих последних служило спиртовое брожение, происходящее под влиянием дрожжевого грибка. Рядом с этим
дуалистическим воззрением Пастера, Бертло с начала шестидесятых годов утверждал, что для такого дуализма нет никакого повода; с развитием науки, говорил он, нам удастся из
этих ферментов-существ выделить ферменты вещества, как
мы выделили диастаз из прорастающих семян, инвертин из тех
же дро?кжей. Но это открытие, с такой уверенностью предсказанное Бертло, замедлило почти на сорок лет,— и в течение
сорока лет виталисты ликовали. В пользу научного взгляда
говорила строго логическая аналогия; на стороне витализма
был грубый, эмпирический факт. Трудно было бы найти более
удобной почвы для разрешения спора. Еще в 1897 г. Фишерботаник в своих лекциях о бактериологии заявлял о несомненности учения Пастера \ но когда печаталась его книга, это
1 Еще увереннее выражался русский ботаник — Ивановский. (Примечание 1918 г. Ред.)
учение уже было опровергнуто. Бухнеру удалось, наконец,
извлечь этот фермент спиртового брожения — зимаз, как он его
назвал, получение которого для людей науки было только вопросом времени, а для виталистов громовым ударом. Нельзя
без смеха читать всего крючкотворства, наблюдать те усилия,
которые до сих пор делаются виталистами, чтобы подвергнуть
сомнению блестящие результаты Бухнера. И получил их Бухнер буквально при помощи тех Hebeln und Schrauben 1 , над
которыми когда-то так напрасно глумился Гёте. Именно тиски,
давление в несколько сот атмосфер, вымогли в первый раз
у дрожжевой клеточки эту тайну жизни.
Существовал и другой ряд химических превращений, и еще
более важных, который, к радости виталистов, также не мог
быть воспроизведен вне живых существ. Это процессы окисления, лежащие в основе процессов дыхания и ему подобных.
Вещества, которые легко окисляются в живом организме, в живой клеточке, не представляют того же явления вне ее. Этот
факт служил большим утешением для виталистов, в особенности
для их русского защитника, проф. Бородина. Он подавал ему
повод утверждать, что процесс дыхания так же таинствен в наше
время, как был и во времена Лавуазье. Но с ним случилось
то же, что с Фишером: когда он произносил эти слова, и даже
ранее, был открыт фермент, который вызывает реакцию окисления с выделением углекислоты вне организмов. И на этот раз
снова свет пришел из страны восходящего солнца — из Японии.
Изучая химический процесс образования их знаменитого лака,
японские ученые натолкнулись на факт, который в руках
талантливого французского химика Бертрана послужил к
открытию целой новой группы ферментов — оксидаз, вызывающих ряд окислительных процессов, аналогичных тем, которые
до той поры наблюдались только в живых организмах.
Все рассматриваемые нами до сих пор явления, вызываемые
ферментами, имеют один общий характер: все это явления деградации, распада более сложных тел на более простые. А между
тем химизм живого тела слагается из двух противоположных
явлений: из распада, анализа и из образования сложных соеди* Рычагами и тисками. (Примечание 1918 г. Ред.)
нений насчет простых, т. е. синтеза, и, конечно, это последнее
явление более существенно. И это обстоятельство виталисты
старались учесть в свою пользу, но судьба вновь над ними подшутила. Не успел почти один английский химик, Мелдола
(в речи на заседании британской ассоциации), высказать ту
мысль, что ферменты разлагают, одна жизнь созидает, как другой английский химик, Крофт Гиль, сделал открытие, громадное
значение которого, если оно оправдается и в других случаях,
трудно даже оценить 1 . Он показал, что орудием синтеза могут
являться те же ферменты, которые нам были до сих пор известны по их реакциям разложения. Все зависит от взаимного
отношения, от известных равновесий между телом, на которое
действует фермент, и продуктами распада. Давно было замечено, что накопление продуктов распадения задерживает дальнейший распад, что реакция имеет предел. Крофт Гиль объяснил
это обратной реакцией. Оказалось, что тот же диастатический
фермент, который вызывает распадение одного сложного сахаристого вещества на составляющие его простые, может эти
простые обратно превратить в сложные; все зависит от количеств взаимодействующих веществ. Тот же фермент является
разрушителем и созидателем, смотря по условиям.
Но что такое эти ферменты? По мнению химиков, их ближе
изучавших, это или белковые вещества, или ближайшие производные белковых веществ. Таким образом исследования
последних лет раскрывают перед нами соблазнительную перспективу такой цельной, объединенной картины химизма
живых тел. Где есть белки, а они образуют основу того вещества, которое мы называем протоплазмой, мы имеем не только
материал — самое сложное органическое вещество, но и орудие — фермент, обусловливающий возможность бесконечного
ряда продуктов его распадения и их обратного синтеза. В комке
белкового вещества потенциально дан весь разнообразный
химизм живого тела а .
Оно вполне оправдалось и составляет одно из важнейших приобретений науки. (Примечание 1918 г.)
2 При этом невольно возникает представление об основном дуализме
клеточки, о параллельном существовании протоплазмы и ядра. Даже
такой осторожный физиолог, как Клод Бернар, высказывал мысль, не
1
Этот первый пример не доказывает ли нам, что вся столетняя
история физиологии в этом направлении, с начала века и до
последних дней, не только одна непрерывная повесть о бесплодных стараниях витализма стать на пути положительного
знания, загородить ему дорогу, отбить энергию у исследователей, вперед запугав их бесплодностью их попыток. Победа
неизменно оставалась на стороне химиков, которым Сенебье
доверил заботы о своем детище.
*
Но откуда берется это вещество, в изучении которого мы
так успели подвинуться? Химики школы Лавуазье — а Сенебье
в последние годы принадлежал к ним — могли дать, конечно,
только один ответ — оно берется извне. Но что же побуждает
это вещество поступать в растение, скажем, в простейшем случае всасывания пшци из земли. Самое простое представление,
что растение всасывает пищу, как светильня масло. Несостоятельность такого грубого представления была доказана Соссюром, одним из величайших химиков-физиологов нашего
века, положившим в своих «Recherches chimiques sur la végétation» * прочные основы всему учению о питании растения.
Он показал, что поступление веществ в растение не объясняется
одним током воды, испаряемой листьями. Растение воспринимает их не в тех количествах и не в тех отношениях, в которых
они будут ему доставлены. Оно обладает способностью выбирать одно предпочтительно перед другим, и физического объяснения для этого факта нельзя было предложить. Налицо был
факт, обладавший двумя драгоценными для витализма чертами — явление не допускало физического объяснения и в то же
время носило видимость какого-то сознательного, инстинктивного поступка. Но наука шла своим обычным путем, и к началу
второй половины столетия для этого инстинктивного действия
играет ли ядро роль фермента. Его участие в образовании клетчатки и
другие факты только подтверждают эту мысль. С такой точки зрения протоплазма представляла бы материал, а ядро — орудие. (Ср. статью К. А.
«Главнейшие успехи ботаники в начале X X столетия», т. VIII настоящего
издания. Ред.)
* «Химические исследования над растительностью». Ред.
нашлось физическое объяснение. История этого крупного шага
в понимании и объяснении жизненных явлений крайне поучительна. Это открытие составляет гордость физиологии растений, так как совершилось в порядке, обратном обыкновенной,
научной преемственности, вопреки иерархическому подчинению наук. На этот раз не физики объяснили физиологу наблюдаемое им явление, а физиолог, в поисках за объяснением, которым не могла снабдить его физика, сам обогатил физику
новой плодотворной областью исследования. Около двадцать
шестого года Дютроше, один из самых светлых умов, которых
видало девятнадцатое столетие в области биологии, был поражен сделанным им микроскопическим наблюдением. У какого-то
микроскопического водяного растения существуют продолговатые мешочки, а в этих мешочках клеточки, так называемые
споры. На известной стадии развития организма, на глазах
у наблюдателя, мешок на вершине лопается, и споры выбрасываются наружу. Почему они выбрасываются. Физики того
времени не могли дать на это ответа. Будь Дютроше виталистом,
он просто возликовал бы, — физика бессильна объяснить
это явление, значит это тайна жизни, а будь он современным
нам фитопсихологом, он нашел бы объяснение в психологии
и стал бы убеждать, что они движутся потому, что хотят, потому что знают, что им на воле будет лучше 1 .
По счастию, Дютроше не был ни тем, ни другим и решил,
что если физика не дает готового объяснения, то нужно искать
нового, неизвестного физикам, но физического же объяснения.
Плодом этих поисков было учение об осмозе, составляющее,
как я уже сказал, гордость физиологии растений, так как оно
возникло на ботанической почве, и только значительно позднее
обработанное, сначала в форме более простых явлений диффузии жидкостей и газов, вернулось обратно в физиологию уже
в виде стройного физического учения. Дютроше вполне сознавал значение своего открытия. «La découverte de l'endosmose lie désormais la physique à la physiologie» 2 , говорит он
1 Почти буквальные выражения, в которых один современный нам
русский ботаник (Коржинский) объяснял направление роста корня в
землю и стебля в воздух.
2 «Открытие эндосмоза навсегда соединяет физику с физиологией».
в замечательном введении к собранию своих мемуаров, и далее:
«Ces premiers essais de l'application des phénomènes physiques
à l'explication des phénomènes physiologiques tendent a faire
disparaître le mysticisme que les physiologistes vitalistes ont introduit dans la physiologie» 1. Почти через полвека после открытия Дютроше, ботанические исследования Траубе, Пфеффера,
Де-Фриза снова обратили внимание физиков на эту область
и привели к теории осмотического давления Вант-Гоффа. Наконец, не далее как в прошлом году, исследование Гораса
Брауна над диффузией углекислоты в листья растений разрослось в целый физический трактат, разъясняющий один
частный случай, еще не обработанный физиками. Трудно было
бы найти более наглядный пример плодотворности объединения
задач физики и физиологии и практической зловредности виталистических стремлений. Примененное к ботанике учение об
осмозе и диффузии дало общий ключ для объяснения механизма
поступления вещества в организм и его перемещения в нем.
Так, опираясь на данные Грэема, Дегерен в шестидесятых годах
мог дать физическое объяснение и для той способности к выбору, которую, как мы видели ранее, готовы были приписать
какому-то несуществующему инстинкту.
Изучение явлений диффузии и осмоза дает нам возможность
заглянуть в самую глубь различия между растением и животным. Пища растения, газы и кристаллоиды, легко подвижна —
потому растение может быть неподвижно; его пища сама идет
к нему навстречу. Наоборот, пища животного — нерастворимое или трудно подвижное коллоидальное вещество — животное вынуждено итти ему навстречу; отсюда органы хватания,
привлечение пищи, органы движения, чувств — и, координирующая их деятельность, нервная система 2 . Мы не видим
еще конца объяснениям и обобщениям, которые принесла с
собою одна гениальная мысль Дютроше, тем более, что, как
1 «Эти первые попытки применения физических явлений для объяснения явлений физиологических изгонят из них тот мистицизм, который
пытались внести в физиологию физиологи-виталисты». (Примечание
1918 г. Ред.)
2 Это подтверждается и теми исключениями, когда растение вынуждено получать, например, свой азот в твердой форме. Тогда оно снабжено
органами хватания — насекомоядные растения.
увидим далее, осмотические процессы доставят нам главные
объяснения в области явлений роста, а также сравнительно
редких явлений движения растений.
*
Явления осмоза объяснили нам, как поступает пища в растение, но что же должны мы признать за его пищу? Быть может, ни в одной области физиологии строгий, индуктивный,
экспериментальный метод не дал таких ясных, определенных
и блестящих результатов, как в этом учении о питании. Отправляясь от той сложной и до сих пор плохо известной среды,
какой является почва, постоянно упрощая эту среду, выработав крайне простые приемы так называемых искусственных
культур, физиологи пришли к тому поразительному выводу,
что растение для своего питания нуждается только в углекислоте воздуха да в небольшой щепотке четырех-пяти солей.
В современных физиологических лабораториях мы можем любоваться совершенно нормальными растениями, никогда не
видавшими под собой другой почвы, кроме дистиллированной
воды, в которой растворена эта щепотка соли. Трудами целого
ряда исследователей, между которыми мы должны упомянуть
Соссюра, Буссенго, Кнопа и Гельригеля, выяснилось, что из
числа тех 80 элементов, которых, кажется, насчитывает современная химия, растение безусловно нуждается в каких-нибудь
десяти. Один из них, и самый важный, углерод, доставляется
углекислотой воздуха, остальные девять: водород, кислород,
азот, сера, фосфор, калий, магний, кальций, железо — водой
и почвой.
Установление факта, что углерод растение черпает из углекислоты, собственно принадлежит X V I I I веку и составляет
неотъемлемую заслугу Сенебье, несмотря на попытки немецких
ученых ее у него отнять. Доказав, что разложение углекислоты
совершается в зеленой мякоти листа и в других зеленых органах, Сенебье предсказал, что именно в этой ткани должно
искать отложения того вещества, которое представляет собой
первый продукт этого синтетического процесса; он даже высказал мысль, что это тело будет тройное соединение углерода,
водорода и кислорода. Сакс и Годлевский, опираясь на ранее
полученные данные Моля и Гри, уже в шестидесятых и семидесятых годах доказали экспериментально верность предсказания Сенебье х . Это тело, тройное соединение углерода, водорода и кислорода, оказалось углеводом-крахмалом, образующимся в зеленых зернах хлорофилла. Позднее, блестящее
открытие Бутлерова, доказавшего возможность производить
углеводы или сахаристые вещества от муравьиного альдегида,—
открытие, составившее исходный пункт всех наших современных представлений об этой группе, заставило усомниться,
точно ли крахмал будет первым продуктом, синтеза, но и до
настоящего времени он остается первым, несомненно доказанным и появляющимся через несколько минут за разложением
углекислоты. Таким образом девятнадцатый век разъяснил
в подробностях этот удивительный факт питания растения на
счет атмосферной углекислоты, и, тем не менее, мысль о питании воздухом до того противоречила обычным представлениям,
что к ней не могли привыкнуть даже ученые, продолжавшие
еще долго называть этот газовый обмен дыханием. Еще в пятидесятых годах, Шлейден мог остроумно замечать, что люди,
повторяя, в качестве неотразимого аргумента, ходячую фразу:
«не могу же я питаться воздухом», и не подозревают, что говорят прямо противное истине. В конце концов, все мы питаемся
именно воздухом, и эту задачу превращения воздуха в пищу
разрешает для нас растение.
По отношению к другому важнейшему элементу — азоту,
растение также представляет резкое отличие от животного.
Животные принимают его в форме сложного белкового вещества, причем, перерабатывая это вещество, они постоянно тратят азот, выбрасывая его в громадных количествах в своих
извержениях. Наоборот, растение распоряжается азотом крайне
экономно, не тратя его, не выбрасывая, а постепенно вновь
пуская в оборот. При этом первым источником его служат ему
простейшие соединения, азотная кислота и аммиак. Некоторые
незеленые микроскопические растения, как показали иссле1 Мысль о синтезе углеводов в листе была высказана Кекуле, что
и послужило важным толчком для исследований Сакса. (В издании 1918 г.
ото примечание опущено. Ред.)
26
К. А. Тимирязев,
т. V
401
дования Бертло, Гельрпгеля и Виноградского, способны утилизировать и свободный несоединенный азот атмосферы.
В этой способности растения превращать неорганическое
вещество в органическое мы должны видеть самую типическую
особенность растительного мира, отличающую его от мира животного. Только растение, в строгом смысле, является производителем; весь животный мир, с человеком во главе, является
исключительно потребителем, эксплоататором или паразитом,
предлагаю эти термины на выбор. Зато как бы в отместку за
такую эксплоатацию и некоторые растения, отступая от обычного образа жизни и следуя примеру животных, т. е. утратив
способность самостоятельного питания, выработали другой тип
жизни на счет готовой органической пищи. Здесь, на первом
плане, мы должны поставить обширный класс грибов и особенно его, получившую такую громкую и грозную известность,
группу бактерий. Эти последние, принося сравнительно ничтожный вред растениям, почти исключительно эксплоатируют
эксплоататоров, т. е. животных и человека. Мало того, некоторые из растений, как, например, бобовые, заманивают к себе
этих бактерий, тех именно, которые способны жить на счет
свободного азота, и, пожирая их, косвенно пользуются этим
почти неограниченным источником азота, который представляет
атмосфера.
Таким образом учение о питании растений устанавливает
два их типа: один — характеристический для всего растительного мира как целого, другой, составляющий как бы исключение, уклонение в сторону животного типа. К первому принадлежат все высшие зеленые растения, — ко второму, главным образом, микроскопические и полумикроскопические формы,
лишенные этой окраски. Если изучение процесса питания первой группы составило главную задачу первой половины века,
то изучение второго типа подвинулось вперед только во второй
половине и может быть приурочено к имени Пастера. Я разумею здесь область науки, обыкновенно неудачно называемую
микробиологией и еще менее удачно бактериологией. Первое
название слишком широко, второе — слишком узко. То, что
называется микробиологией, почти или даже исключительно
имеет в виду растительные организмы, микрофиты — это, сле-
довательно, микрофитология, а с другой стороны, эта область
далеко не ограничивается одними бактериями, можно даже
сказать, что самые выдающиеся приобретения сделаны за пределами бактериологии; стоит указать хотя бы на исследования
Роллена над питанием плесени, всегда приводимые как образец,
и на открытие зимаза у дрожжей. Не трудно убедиться, что эта
быстро разросшаяся область исследования представляет не
особую науку, как это нередко предполагают, а только главу
физиологии растений, принявшую громадные размеры, благодаря широкому ее приложению. Методы чистых культур и приемы изучения питания, хотя бы в только что указанной работе
Роллена, прямо заимствованы из культурных опытов, еще ранее применявшихся к высшим растениям; наконец такие выдающиеся деятели в этой области, как Кон и Виноградский — ботаники, да и самому Пастеру, как мы видели, можно, пожалуй,
сделать упрек, что он слишком склонялся в сторону биологии,
т. е. ботаники, и недостаточно в сторону химии. Своеобразность
явлений, которые приходится изучать микрофитологу, заключалась в том, что самые процессы изменения вещества, т. е.
явления брожения, гниения, патологического изменения тканей, были известны задолго до открытия их виновников— микроорганизмов, откуда и могло сложиться представление, что
эти процессы составляют область химии или патологии. И не
следует забывать, что в этом направлении патология растений
в руках таких исследователей, как Тюлан, Де-Бари, Воронин,
Брефельд, достигла уже высокой степени совершенства, прежде
чем вопрос о болезнях животных организмов, вызываемых бактериями, выступил на научную почву.
Таковы в самых широких чертах вековые успехи физиологии растений по вопросу о превращении вещества.
2
Восмотрим теперь, что же сделал истекший век по отношению ко второму поставленному нами коренному вопросу, —
по отношению к явлениям превращения энергии. Самая возможность такой постановки вопроса дана, конечно, только
успехами физики в конце первой половины века, но, как мы
26*
403
увидим, в смутной, неясной форме эта мысль мелькала в уме
и представителя X V I I I века — Сенебье. Кто не слыхал ставшей
заурядной параллели между наукой X V I I I и наукой X I X века.
Закон, который Лавуазье высказал по отношению к веществу,
Роберт Майер и Гельмгольтц распространили на силу. Вещество не созидается, не исчезает, а только превращается, провозгласил X V I I I , а X I X добавил: и сила, или, выражаясь
современным языком, энергия, тоже не исчезает, не созидается,
а только превращается. Отсюда каждый раз, когда мы видим
как бы проявление вновь явной, актуальной энергии, мы ищем,
из какой скрытой формы она могла преобразиться, и, наоборот,
когда мы видим, что она как бы исчезает, мы ищем ту скрытую,
потенциальную форму, которую она могла принять. Какое же
отношение имела эта плодотворнейшая из идей века в приложении к жизненным явлениям в растении? Остановимся, прежде всего, на самом широком, самом существенном не только
для растения, но и для человека, для философского понимания
всей природы, всего совершающегося на земле. Из жолудя,
упавшего на землю, вырастает могучий дуб, т. е. образуется
громадная масса органического вещества. Мы уже знаем, из
чего оно образовалось, — из углекислоты, воздуха и воды.
Если мы сожжем жолудь, мы получим немного тепла; если мы
свалим и распилим дуб, мы этими дровами долго протопим печь.
Откуда взялась эта теплота? Как всякая другая форма энергии,
она не созидается, — а ее не было ни в воде, ни в углекислоте;
ни та, ни другая не горит. Как ни один атом углерода не возник
в растении, а проник извне, так ни одна единица теплоты,
ни одна калория не создалась в растении, а в какой-нибудь
форме должна была поступить извне. Ту роль, которую весы
сыграли в X V I I I веке, калориметр сыграл в X I X . Задача физиологии объяснить, каким образом из негорючего, неорганического вещества образуется всегда горючее, органическое,
которое, превращаясь обратно в неорганическое — в воду
и углекислоту, снова освобождает находившийся в нем скрытый
запас тепла. Для того чтобы превратить негорючее вещество
в горючее, нужно произвести с ним операцию, обратную горению, — нужно «to unburn it», по удачному, к сожалению,
не поддающемуся переводу, выражению Одлинга. Нужно ра-
зорвать связь углерода и водорода с кислородом, а для этого,
как учит термохимия, нужно затратить такое же количество
тепла, какое освобождается при их соединении. Это, выражаясь языком термохимии, реакция эндотермическая, идущая
с поглощением теплоты. Откуда же заимствует растение эту
теплоту, эту необходимую энергию? Наука X I X века отвечает
просто и ясно — от солнца. Но предоставим лучше слово одному
из первых глашатаев этого учения, Роберту Майеру. «Die Natur
hat sich die Aufgabe gestellt das der Erde zuströmende Licht
im Fluge zu haschen und die beweglichste aller Kräfte in starre
Form umgewandelt aufzuspeichern. Zur Erreichung dieses Zweckes hat sie die Erdkruste mit Organismen überzogen, welche
lebend das Sonnenlicht in sich aufnehmen und unter Verwendung
dieser Kraft eine fortlaufende Summe chemischer Differenz erzeugen».
«Diese Organismen sind die Pflanzen» h А вот и дополнительная характеристика животного мира: «Die durch die Thätigkeit der Pflanzen angesammelte physische Kraft fällt einer andern Klasse von Geschöpfen anheim, die den Vorrath durch Raub
sich zueignen und ihn zu individuellen Zwecken verwenden.
Es sind dieses die Thiere2. Конечно, мысль, высказанная в этих
строках, не была абсолютно нова, но никогда еще она не была
выражена в такой ясной, категорической форме, — в форме,
прямо указывающей на количественное отношение между внешним фактором и совершающимся процессом. Справедливость
требует заметить, что Сенебье, открывший факт разложения
углекислоты, сделал из него и этот вывод; только выразил он
1 «Природа поставила себе задачей уловить налету притекающий
на землю свет, превратить эту подвижнейшую из сил природы в твердую
форму и собрать ее в запас. Для этого она покрыла земную кору организмами, которые в течение своей жизни поглощают солнечный свет и превращают потребляемую таким образом силу в непрерывно нарастающий
запас химической разности. (Майер употребляет это выражение вместо
более обычного — химическое сродство.) Эти организмы — растения».
(Примечание 1918 г. Ред.)
2 «Накопленная деятельностью растения физическая сила выпадает
на долю другого класса существ, которые путем грабежа присваивают
себе этот запас и затрачивают его на свои личные нужды. Это —- животные». (Примечание 1918 г. Ред.)
его на несовершенном языке своего времени. В эпоху своего
открытия Сенебье был сторонником учения о флогистоне.
Известно, что эта теория отошла в область истории с очень недоброй славой, и только в шестидесятых годах нашего столетия
второй творец учения о сохранении энергии, Гельмгольтц,
и английский химик Одлинг сделали попытку реабилитации
этого незаслуженно обесславленного учения. Подставим, говорили эти ученые, на место флогистона современное выражение
потенциальная энергия, и нам станут понятны и глубокая мысль
творца этого учения, и упорство его горячих сторонников.
Сенебье был действительно убежден, что солнечный луч превращается в флогистон, содержащийся в органическом веществе,
и снова вспыхивает лучом света, когда мы сжигаем это вещество. Мы теперь передали бы его мысль так: лучистая энергия
солнца переходит в химическое напряжение, освобождаясь
снова в форме живой силы, когда мы сжигаем растительное
вещество. Сделаем еще шаг назад, и мы, быть может, найдем
первый зачаток этой мысли у того мирового гения, который,
по словам поэта, явился на землю затем, чтобы показать, на
что способен ум человека. В «Оптике» Ньютона встречается
такой вопрос: «не совершается ли взаимного превращения
между грубыми телами и светом?» Что же такое это взаимное
превращение, как не переход лучистой энергии в химическое
напряжение и обратно?
Указав на сущность отношений между солнечным светом
и растением, Р. Майер, тем не менее, видел, что это положение
нуждается в прямом, экспериментальном доказательстве, и
очень ясно поставил задачу. «Мы должны доказать, что свет,
падающий на живое растение, действительно получает иное
назначение, чем тот, который падает на мертвые тела». Это доказательство, которого ожидал от физиологии Роберт Майер,
было доставлено через тридцать лет исследованиями, произведенными здесь, в Москве. Призма, спектроскоп, позволившие
анализировать луч света, посылаемый солнцем, разъяснили,
и окончательно, судьбу этого луча, падающего на зеленую поверхность листа. Луч света, превращаясь в химическую работу,
должен потухать, исчезать как свет; луч, прошедший через
лист, не поглотившись в нем, не может произвести в нем ни-
какой работы, — это прямой вывод из учения о сохранении
энергии. Но зеленое вещество растения именно и дает в спектре
резкие полосы поглощения света, представляет характеристичный абсорбционный спектр. Если мы будем рассматривать микроскопическое зеленое зерно хлорофилла в микроскопическом
же спектре, мы заметим, что прозрачное в одних частях спектра,
в других оно становится черным, как уголек. Эти-то поглощаемые лучи, очевидно, и должны превращаться в химическую
работу. Опыт подтвердил это ожидание в самой несомненной
форме. Если поместить зеленые части в спектре, то убедимся,
что именно в этих лучах будет происходить разложение углекислоты. Если отбросить спектр на лист, то он начертит в нем,
в форме крахмала, абсорбционный спектр хлорофилла. Мало
того, этот процесс удалось изучить и с количественной стороны,
учесть, какая часть энергии солнца превращается в химическую
работу, какая тратится на испарение воды, какая, наконец,
вызывает нагревание, как и в телах неживых. Современный
физиолог, в своей темной комнате, освещенной одним, сверкающим всеми цветами радуги, лучом, прошедшим через призму
Ньютона, следит шаг за шагом за тем процессом превращения
солнечного луча в «грубые тела», о котором только мог мечтать
величайший из мыслителей.
Эта связь между солнцем и зеленым листом приводит нас
к самому широкому, самому обобщающему представлению
о растении. В ней раскрывается перед нами космическая роль
растения. Зеленый лист, или, вернее, микроскопическое зеленое зерно хлорофилла является фокусом, точкой в мировом
пространстве, в которую с одного конца притекает энергия
солнца, а с другого берут начало все проявления жизни на
земле. Растение — посредник между небом и землею. Оно
истинный Прометей, похитивший огонь с неба. Похищенный
им луч солнца горит и в мерцающей лучине, и в ослепительной
искре электричества. Луч солнца приводит в движение и чудовищный маховик гигантской паровой машины, и кисть художника, и перо поэта.
Науку девятнадцатого века не раз упрекали в том, что она
убивает поэтическое представление о природе, что, благодаря
ей, наш взгляд становится все более близоруким; привыкнув
к наблюдению мелких фактов, он утрачивает впечатление целого. Рёскин где-то в своих «Modern Painters» 1 жалуется, что
мысль о листе, разлагающем углекислоту, вызывает в его уме
только представление о каком-то газовом заводе. Великий эстетик, любивший и чувствовавший природу, быть может, как
никто, конечно, не сказал бы этого, если бы знал поболее.
Мысль о связи между солнцем и растением являлась уже Данте,
но посмотрите, в какой узкой, можно сказать, буднично-тривиальной форме:
Guarda '1 calor del sol che si fa vino
Giunto al umor che dalla vite colla 2 .
Он не пошел далее поверхностного сопоставления теплоты
солнечного луча с той теплотой, которую «сок лозы» разливает
в нашем теле. Нет, ни поэт средневековья, совмещавший все
знания своего века, ни великие солнцепоклонники начала нашего, ни Байрон, вложивший свои дивные гимны солнцу в уста
халдейского жреца или умирающего Манфреда, ни Тернер,
сам умиравший, обратив к солнцу прощальный взгляд, со словами «the sun is God» 3 , ни поэт кисти, ни поэт пера не говорят
нашему воображению, не создают перед нашим умственным
взором такой величественной, безграничной, всеобъемлющей
картины солнца, как та, которую развертывает современная
наука. И уж, конечно, не жалким поэтикам fin de siècle 4 ,
не простирающим своего искусства далее подбирания диковинных эпитетов или просто щекочущего ухо сочетания звуков,
не им пристало упрекать науку в иссушении мысли. Скорее
наука могла бы укорить конец века в том, что он не дал второго
Байрона, второго Шелли, который сумел бы воплотить в поэтические образы широкий полет его научной мысли.
Но эти идеи имеют не одно только умственно-эстетическое,
философски-обобщающее значение, благодаря чему они, кажется, в первый раз проникли даже на страницы истории фило«Современные художники». (Примечание 1918 г. Ред.)
«Смотри, как солнечная теплота превращается в вино, соединяясь
с соком, текущим из лозы». (Примечание 1918 г. Ред.)
3 «Солнце — бог». (Примечание 1918 г.
Ред.)
4 Конца века. (Примечание 1918 г.
Ред.)
1
2
софии (Гефдинга). Они имеют еще глубокое практически-экономическое, я готов сказать этическое, далеко не достаточно
оцененное, значение. Количество солнечной энергии, усвояемое
нашими культурными растениями, служит лучшей, в сущности
единственной точной мерой производительности этих культур.
С другой стороны, количество солнечной энергии, заключенной
в продуктах, количество ее в пище, необходимой для производства известной работы, и т. д., все это, выраженное в калориях, может служить общей мерой ценности Ч Некоторые экономисты, как, например, Захер, пытались даже построить на
этом целые экономические системы. Производительность земледелия зависит от того, что даровой фактор, солнечный луч, оно
превращает в ценность. Растение, говорит Захер, это единственный капитал, который растет согласно законам природы; все
другие растут вопреки им. Максимальное количество продукта,
получаемого с известной площади, определяется выпадающей
на данную площадь солнечной энергией; это единственный
фактор, увеличить который не во власти человека. Мы уже
теперь в состоянии примерно вычислить, насколько мы приблизились к этому пределу, а превосходные опыты, предпринятые
недавно в Англии при помощи актинометра Календара, вероятно, скоро снабдят нас более определенными данными. Только
тогда, когда земледелие достигнет этого предела, оно исполнит
свое назначение; человек выполнит свой долг перед современниками и потомством. Нордау где-то ядовито заметил, что при
всем нашем отвращении к коммунизму мы очень охотно делимся со своим потомством — своими долгами. Мы не задумываясь обременяем их тяжестью наших займов 2 , но так ли мы
заботимся о передаче им нерастраченными тех несметных богатств, которые само небо посылает на необъятный простор
нашей родины. Луч солнца — ценность, главная, основная,
1 Понадобилась проклятая война, чтобы эти теоретические воззрения получили практическое признание. Благодаря немецкому голодному
пайку, слово «калория» стало общеизвестным. (Примечание 1918 г. Ред.)
2 Нордау забыл обратить внимание на обратную сторону его шутки.
Народы должны уплачивать завещанные им миллиарды долга, а наследники укравших у народа эти миллиарды должны их унаследовать, —
такова буржуазная этика. (Примечание 1918 г. Ред.)
быть может, единственная ценность. И каждый луч солнца,
непроизводительно отразившийся обратно в мировое пространство, это ценность, бесповоротно, окончательно потерянная.
Это часть наследия наших потомков, беспечно нами растраченная. Эти потомки нас когда-нибудь осудят, и мы не в праве
сказать, что поступаем так по неведению.
*
Таково главное применение закона сохранения энергии
к той колоссальной, эндотермической реакции, которую нам
представляет облекающий нашу планету зеленый покров растений. Но рядом с ним в растении совершаются и явления обратного порядка: оно растет, причем производит значительную
работу; оно порою движется, хотя эти явления и отступают на
второй план; оно, наконец, представляет избыток температуры
над окружающей средой, обыкновенно ничтожный, измеряемый
только при помощи термоэлектрических приборов и лишь порой заметный даже на ощупь. Откуда же берется это тепло, эта
энергия, затрачиваемая на механическую работу роста и движения. Исследования целого века показали, что, как и в животном организме, таким источником будет прежде всего экзотермический процесс дыхания. Растение постоянно дышит,
хотя не так энергично, как животное, и тратит при этом примерно 1 / 1 0 выработанного им органического вещества. С другой
стороны, было доказано, что рост и движение прекращаются
в отсутствии кислорода. Наконец калориметрические исследования Родевальда показали, что развивающегося при этом
процессе тепла было бы с избытком достаточно для производства
механической работы роста. Зависимость роста от дыхания
казалась настолько очевидной, что, когда Пастер открыл случай
роста без кислорода, он встретил презрительный отпор со стороны некоторых немецких ботаников (Сакса, Брефельда).
Пастер фактически был прав, но зато учение о химических
источниках энергии в организме пришлось значительно расширить, обобщить. Еще в 60-х годах Бертло указывал на то, что
рядом с дыханием, т. е. окислением углерода и водорода,
мы должны принимать во внимание и целый ряд иных экзотер-
мических реакций, т. е. сопровождающихся, как и окисление,
выделением тепла. Такой, очень распространенной и нередко
заменяющей дыхание, реакцией оказалось, например, спиртовое брожение. Любопытные исследования Виноградского
позволили еще более обобщить понятие о химических источниках энергии в растении. Оказалось, что, между тем как мы
дышим только на счет углерода и водорода, растение может
дышать и на счет других элементов — азота, серы, даже железа,
окисляя их некислородные соединения или переводя их из одного окисла в другой.
Химическими, экзотермическими процессами не ограничиваются однако доступные растению внутренние источники
энергии. Анри С. Клер Девиль в одном из своих последних
мемуаров (одновременно с ним Тольвер Престон) указывал,
какой могучий источник энергии заключается в явлениях диффузии газов и жидкостей, и высказывал удивление, что он,
повидимому, не нашел себе применения в природе. Но ботаники,
со времени Дютроше, а позднее еще определеннее, привлекали
эти явления (в форме осмоза) в качестве объяснения явлений
роста. Осмотическая разность между клеточным соком растущего органа и водой может вызывать в клеточках давление
в 10—20 и более атмосфер и, наоборот, окружая растущий
орган раствором с большим изотоническим эквивалентом, чем
клеточный сок, мы можем вызвать явления, обратные росту,
можем заставить растение пойти назад, сократиться, не нарушая этим его дальнейшей жизнеспособности. Таким образом
не только в химической разности (выражаясь языком Р.Майера),
но и в физической неоднородности веществ мы имеем источник
энергии, с избытком покрывающий потребности растения для
осуществления механической работы роста. В какой-нибудь
особой жизненной силе и здесь не оказалось надобности.
Другая механическая работа, находящаяся в связи с ростом,
т. е. с увеличением размеров растения, это подъем воды в растении. Высшее растение мы можем себе представить в виде
такой простой схемы. Две сильно развитые поверхности,
приспособленные для питания в двух разнородных средах —
поверхность корневая и листовая, — и соединяющий их промежуточный орган — стебель. Между этими двумя поверх-
ностями, получающими вещества, одинаково необходимые
для жизни каждого элемента, каждой клеточки, должен установиться обмен. Этому отправлению отвечает система канализации, система сосудов, по которой совершается движение
соков. Хотя вопрос о движении воды один из первых, еще
в начале восемнадцатого века, подвергся экспериментальному
исследованию, благодаря трудам Стивена Гельза, но можно
сказать, что только благодаря исследованиям ученых девятнадцатого века, особенно Дютроше и Гофмейстера, он получил
должное обобщение. С незапамятных времен было известно,
что у некоторых деревьев весной из надрезов коры вытекает
сок — это явление поэтически называли плачем растений.
Гофмейстеру удалось обобщить это явление, указав, что оно
существует у всех растений во всякое время года. Двигатель,
производящий эту работу, по Дютроше и Гофмейстеру, мы находим в осмотических свойствах тканей корня; они действуют
как нагнетательный насос, оказывающий давление в несколько
атмосфер. Но всякий знает, с другой стороны, что отрезанный
стебель, отрезанная ветвь в воде не завядают; здесь мы входим
в сферу деятельности другого двигателя —листа, который,
испаряя воду, играет роль насоса, засасывающего воду.
Таким образом два концевых двигателя — лист и корень
и соединяющий их, пассивно участвующий, стебель — вот
схема, выработанная наукой к началу второй половины века.
Но во второй половине в это ясное и простое учение внесены
были усложнения, возникли сомнения, недоразумения и, как
всегда бывало в моменты замешательства, из-за угла вновь
показался призрак витализма. Главными препятствиями в глазах немецких физиологов являлось присутствие в сосудах
пузырей воздуха. Одни, как Сакс, думали обойти это препятствие, предположив, что вода движется не в полостях каналов, а в их стенках, причем одаряли эти последние свойствами, прямо недопустимыми здравой физикой. Другие, исходя
из неумелого применения физического начала, так называемой
Жаменовой цепочки, утверждали, что стебель оказывает такое
сопротивление, которого не в силах преодолеть концевые двигатели, и призывали в качестве объяснения какое-то таинственное действие протоплазмы клеточек стебля. Большую заслугу
в смысле устранения этой смуты понятий оказал Вотчал. Применив в первый раз в ботанике приемы исследования движений
и давления жидкостей, принесшие такие блестящие плоды
в физиологии человека, он показал,что никакой Жаменовской
цепочки в растении не существует, так как и в физике она составляет только частный случай — исключение, и дал совершенно новое толкование этому чередованию воздуха и жидкостей в растительных сосудах. Благодаря именно этому сочетанию, ткани стебля уподобляются пружине, какому-то, если
можно так выразиться, буферу двойного действия, который,
принимая давление концевых двигателей, распределяет их
не только в пространстве, но и во времени. К числу крупных
приобретений в этой области движения воды должно отнести
и разъяснение, данное Швенденером механизму действия устьиц,
т. е. тех микроскопических отверстий, через которые происходит испарение. Мы можем видеть в них клапаны, раскрывающиеся, когда растение переполнено водой, и закрывающиеся,
как только оно начинает завядать, — клапаны, автоматическое
действие которых управляется самим избытком или недостатком
воды.
Что касается до скудных явлений движения в растительном
организме, играющих такую подчиненную роль в жизни растения, то и здесь удается проследить его механизм до явлений
перемещения воды и осмоза. Что же касается движения протоплазмы, которому прежде придавали какое-то особенное, таинственное, а теперь готовы отрицать за ним даже всякое жизненное значение, то и по отношению к нему ' Гофмейстеру,
и особенно Квинке, удалось применить весьма остроумные гипотезы. По мнению этого физика, мы имеем право видеть здесь
случай движения, вызываемого изменением поверхностного
натяжения жидкостей.
Таковы те общие объяснения, которые исследования века
выработали в области энергетики растений. Если, за исключением, может быть, превращения лучистой энергии солнца
в процессе разложения углекислоты (и процесса дыхания)
мы еще далеки до строго количественного учета совершающихся
превращений энергии, то мы всегда и везде можем указать
наличный ее источник, притом всегда с избытком покрывающий
потребность в нем растения. К услугам особой жизненной силы
физиологу нет более надобности прибегать.
3
Переходим к третьей категории явлений, обусловливающих
собою жизнь растения как неделимого и как вида. Все эти
процессы превращения вещества и энергии имеют своим результатом образование форм, в свою очередь прилаженных
к наилучшему использованию окружающего вещества и доступных источников энергии. Как неделимое, растение питается
для того, чтобы расти; растет для того, чтобы питаться. Как
вид оно, можно сказать, существует для того, чтобы размножаться, и размножается для того, чтобы существовать. Это круговое сплетение функции и органа, кажущейся цели и средства,
а в действительности скрытой за ними причины и следствия,
составляет сущность органической жизни, выражается самым
словом — организм. Виталисты, защитники
мистического
взгляда на задачи физиологии, всегда особенно усердно подчеркивали эту черту физиологических явлений. Допустим,
говорят они, что все жизненные процессы в основе состоят
из химических и физических явлений, но вся эта ваша химия
и физика клонится к известной цели. Не содержание процесса,
а его направление и результат, его целестремительность и целесообразность — вот где загадка. Перед этой загадкой остановился и Сенебье. Ставя вопрос, почему растительные формы,
их органы так прилажены к своему отправлению, он считает
себя вынужденным признать, что они так предначертаны,
и высказывается за модную еще тогда теорию его соотечественника Бонне, которая объясняла, или в сущности ничего не
объясняла, а обходила затруднение, предположением о какойто преформации или emboitement, т. е. предположением, что
все несметные представители каждой живой формы уже были
включены в первом зародыше, первом яйце этой формы. Сенебье пытается даже оправдываться и говорит, что не его,
везде искавшего физических причин, конечно, заподозрят
в добровольном отказе от объяснения. Эти строки наглядно
доказывают, что мы вступаем здесь в круг идей, почти всецело
присущих X I X веку. И действительно, не прошло десяти лет
со времени выхода «Физиологии растений» Сенебье, как сделана
была первая смелая попытка разрешения этой вековой загадки,
попытка, правда, мало кого убедившая, а еще через полстолетия
позже явилось и то ее разрешение, которое привлекло на свою
сторону весь ученый мир и отразилось не только на развитии
естествознания вообще, но наложило свою печать на весь умственный склад второй половины века. Я разумею здесь деятельность Ламарка и Дарвина.
Между теориями этих двух мыслителей нередко, особенно
за последние годы, полагают усматривать несогласие, даже
прямое противоречие. В этом несомненно проявляется известная доля национального антагонизма, и всякому хладнокровно
смотрящему на дело наблюдателю видно, что никакого противоречия здесь не существует и что только в гармоническом
сочетании обоих направлений заключается залог успехов
физиологии растений, как я не переставал указывать на это
в течение почти тридцати лет 1 .
Чего успела достигнуть до сих пор физиология растений
по отношению к объяснению растительных форм и процессу
их образования? Еще не так давно все касающееся формы было
изъято из области экспериментальной физиологии. Лет десять
тому назад 2 я указал на новое нарождающееся направление
и предложил дать ему название «Экспериментальной морфологии», название, отзывавшееся чем-то в роде contradictio
in adjecto 3 , так как с морфологией был неразрывно связан эпитет описательной науки. Этому выражению повезло, теперь оно
стало обиходным, и наука все более и более обогащается фактами в этом направлении 4, так что теперь я с большим еще правом могу повторить то, что говорил ранее: «Мы положительно
1 В своей речи «Основные задачи физиологии растений». (См. стр. 143
настоящего тома. Ред.)
2 В речи «Факторы органической эволюции».
(См. стр. 107 настоящего тома. Ред.).
3 Противоречие между прилагательным и существительным, к которому оно относится. (1918 г. Ред.)
4 См. речь проф. Палладина «Изменчивость растений».
Варшава,
1900 г.
научились непосредственно лепить растительные формы; мы
можем изменять формы стеблей, листьев, цветов, мы можем даже
изменять форму клеточек в глубине тканей, и все это при помощи простых физических деятелей: света, тепла, влажности,
земного притяжения. В некоторых случаях мы можем даже выяснить ближайший механизм воздействия этих условий на
формообразовательный процесс». «Я полагаю, сказанного уже
достаточно, чтобы оправдать положение, что физиология уже
начинает разоблачать тайну образования растительных форм.
В самом деле, представим себе, что нам было бы дано растение
с вьющимся стеблем, гладкими рассеянными листьями и симметрическими цветами, а мы при помощи одних физических сил
превратили бы его в растение с подземными корневищами, прямостоящими стеблями, скрученными розеткой волосистыми листьями и правильными цветами. Это, конечно, было бы сочтено
за чудо. Сделать это чудо мы еще не в состоянии, но все элементы этого чуда в нашей власти; и этого, конечно, достаточно
для того, чтобы мы могли понимать, как это чудо совершалось
в природе». Новейшими результатами в этом направлении мы
обязаны целому ряду ученых: Леваковскому, Аскенази, Визнеру, Фехтингу, Бонье, Костантену, Клебсу и др.; но основания тем методам, которые применяются в этих опытах, положены Найтом и Декандолем уже через несколько лет после
появления книги Сенебье. Первый обнаружил зависимость
явлений роста растений от земного притяжения, а второй дал
объяснение их зависимости от влияния света. Позднейшие исследования присоединили к этим двум факторам целый ряд
других. Наконец в самое последнее время учение о зависимости
форм от внешних условий получило особое значение в новой
области рациональной географии растений. Это уже не простой перечень растительных форм, распределенных по областям их распространения, а попытка вывести эти формы из условий их существования, что особенно успешно удается Вармингу.
Это-то экспериментально морфологическое направление нередко, особенно французские физиологи, приурочивают к имени
Ламарка и совсем неуместно противопоставляют учению Дарвина. Что Ламарк первый настойчиво указывал на зависимость
растительных форм от влияния среды, не подлежит сомнению.
В этом громадная его заслуга и причина, почему его учение более привилось в ботанике, чем в зоологии. Но также несомненно,
что ламаркизм не разрешает той основной задачи, которую
в первый раз разрешил Дарвин. Организм изменяется действием
среды — прекрасно, но почему получающиеся этим путем организмы будут отмечены той чертой, которая в них поражала
человека с той поры, как он стал задумываться над окружающей
природой. Почему эти формы так совершенны, так целесообразны — ведь изменения могли возникнуть и благоприятные
и неблагоприятные, а чаще всего безразличные? Все, что мы
знали до Дарвина, и особенно то, что узнали после него, однако, убеждает нас в этом поразительном совершенстве организма как стройного целого и каждой его части, как орудия для
известных отправлений. Только Дарвин объяснил естественным законом реальную причину, происхождение этого совершенства; но еще прежде он дал точное определение для этого
совершенства. Ни того, ни другого не дал Ламарк. По Дарвину
совершенство — это только наиболее полное соответствие с условиями существования — это приспособление; далее этого
органическое совершенство не идет. Но самые условия могут
представлять различные степени осложнения — отсюда и различные ступени сложности приспособления. Это слово приспособление стало после Дарвина лозунгом биологической науки Ч
Но как же объяснял Дарвин возникновение этих приспособленных организмов? — Историей. В с я его заслуга заключалась
в том, что, благодаря ему, естественная история не на словах только, а на деле стала историей. Он применил к биологии метод истории. Если мы обратимся к писателям, лучше
всего изобразившим состояние естествознания в первой половине века, к Юэлю или Конту, то увидим, что ни тот, ни
другой не усматривали возможности применения исторического метода к современной им биологии. Дарвин назвал
этот исторический процесс естественным отбором; позднее
Спенсер предложил более удачное выражение: «переживание
наиболее приспособленного», а Конт еще ранее, с предвидением
1 См. мою речь «Факторы органической эволюции». (См. настоящий
том, стр. 107. Ред.)
27
К. А. Тимирязев,
т. V
417
пророка, назвал его элиминацией всего негармонирующего с условиями существования. Известны три коренных фактора, на
которых опирается этот исторический процесс. Изменчивость,
наследственность и особенно отбор, как результат несоответствия между безграничным размножением организмов и ограниченными средствами существования. Печать совершенства,
приспособления, соответствия с условиями налагает только
третий фактор — процесс элиминации всего неприспособленного и тем самым обреченного на гибель — это и есть дарвиновский естественный отбор Ч
Очень часто высказывалась мысль и еще на-днях повторил
ее Гертвиг в своей речи Die Entwicklung der Biologie im 19
Jahrhundert 2 , что и без дарвинизма, без учения об естественном отборе, учение об эволюции организмов стояло бы не менее
прочно. Конечно, мы знали бы, что органический мир един,
что то, что мы обозначали бессодержательным словом «сродство» — простое кровное родство, но это нимало не подвинуло
бы нас в понимании основной черты, отличающей живую природу от неживой. Дарвинизм и только дарвинизм разрешил загадку, перед которой в конце X V I I I века беспомощно остановился Кант, загадку кажущейся целесообразности органического мира. Кант сам заявил, что тот, кто совершил бы этот умственный подвиг, был бы вторым Ньютоном, и справедливое
потомство, конечно, утвердит пророческий приговор предка,
свободного от зависти и мелочных страстей современников.
Вот почему ученого, совершившего этот беспримерный подвиг,
и тот век, в котором он совершился, можно противопоставлять
не тому или другому веку, а всем, предшествовавшим в этой
области, мыслителям всех веков 3.
1 Другое,
но уже второстепенное отличие ламаркистов и ультрадарвинистов заключается в их отношении к фактору наследственности.
Так как, говоря о наследственности, мне пришлось бы принять точку зрения, совершенно отличную от господствующей, особенно в зоологии,
и невольно вступить в полемику,то я отлагаю это до более удобного случая.
2 Развитие биологии в X I X столетии. (Примечание 1918 г.
Ред.)
3 Уоллес совершенно справедливо замечает, что вообще успехи естествознания в X I X столетии можно сравнивать не с каким-нибудь отдельным веком, а со всеми предшествующими веками в совокупности.
4
В предложенном очерке столетних успехов нашей науки
мы ограничили все процессы растительной жизни трояким процессом: превращения вещества, энергии и формы. Но не скрывается ли за ними еще чего-нибудь: ощущений, чувства, сознания, воли, словом, психики — души? Как это ни странно, а
конец века вновь воскресил эти вопросы, казалось, уже истощенные. При этом один из защитников этой идеи, академик
Фаминцын, взывает к молодежи, указывая ей на открывающиеся будто бы новые горизонты, и находятся люди, которые
видят в этом какое-то оздоровление науки, пробуждение в ней
духа философии. Явление любопытное и для конца века знаменательное. Лет тридцать тому назад серьезный философ —- Ланге — укорял своего легкомысленного собрата Гартмана в том,
что тот проповедует существование души растений, не справившись прежде у тех, кому это должно быть лучше известно,—•
у ботаников. А теперь ботаник, просвещая своих собратьев,
черпает поучение из еще более легковесного произведения философа сороковых годов, из пресловутой «Nanna oder die
Pflanzenseele» x . Что же случилось, явился ли какой-нибудь
новый факт для пересмотра этого, казалось, сданного в архив
процесса? Едва ли. Нас прежде всего призывают прислушаться
к заветам мудрости народов. Целые народы, индусы, например,
верят, что у растений есть душа. Но ведь наш народ тоже верит,
что у кошки не душа, а пар. Одно верование, по меньшей мере,
уравновешено другим. Но оставим в стороне это непривычное
для науки решение вопросов простым голосованием масс и посмотрим, нет ли фактов, которые вынуждали бы нас самих задуматься — не скрыт ли под объективной внешностью явлений
какой-нибудь психический субстрат. Мы встречаем в растительном мире явления движения, которыми растение отвечает на
внешние воздействия. К этим явлениям в последнее время,
с легкой руки немецких физиологов, принято применять слово,
«раздражение», одно из тех слов, так метко осмеянных Гёте
и еще ранее Мольером. Повидимому, слово вполне невинное,
1
п*
«Наина или душа растения». (Примечание 1918 г. Ред.)
419
но между тем посмотрите, к каким оно ведет последствиям.
Под явлениями раздражения мы правильно привыкли разуметь
быструю реакцию животного на внешние воздействия, благодаря присутствию в нем нервной системы, и вот один из современных ботаников 1 уже ставит вопрос: какая же у растений
система, цереброспинальная или простые ганглии? На деле мы
не имеем никакого повода для допущения чего-либо подобного.
Один из наших отечественных защитников теории раздражения
(Ротерт) при пояснении этих явлений постоянно прибегает
к сравнению с электрическим звонком, но ведь мы не говорим
«я раздражил звонок», а просто «я подавил на кнопку». Оказывается, что и это сравнение с электрическим звонком слишком
сложно. Если прибегать к сравнению со звонком, то скорее
с воздушным. В наилучше изученном случае, у всем известной
Недотроги, или Мимозы, эти «раздражения» передаются через
трубки, наполненные жидкостью, гидростатически 2 , а не психически. Принимая всякое движение за признак чувства или
воли, мы поступали бы, как котенок, бросающийся на каждый
движущийся предмет, как на мышь. Но скажут: а если эти движения носят ясный характер разумных, целесообразных?
Это заключение не менее опасно. Мы видели, какое общее разрешение загадки органической целесообразности приняло современное естествознание. Несомненным доказательством, что
внешняя целесообразность движения еще не аргумент в пользу
таящегося за ним психического акта, служит тот несомненный
факт, что мы можем привести примеры чуть не самых разумных
движений у частей растения, заведомо мертвых 3. Итак, ни движения сами по себе, ни их порою кажущаяся разумность —
не аргумент в пользу допущения души у растений. Но, говорят,
эволюционное учение, а главное наш внутренний опыт, этот
пресловутый интроспективный метод, нас к тому вынуждают.
Этот аргумент от эволюции, мне кажется, еще слабее. Говорят:
эволюционное учение доказало единство органического мира,
Vines в его обзоре столетних успехов ботаники.
Это сравнение, предложенное одним немецким ботаником, оказалось неверным. (Примечание 1918 г. Ред.)
3 См. мою «Жизнь растения» 8-е изд. — о движениях зерновок ковыля. (См. т. IV настоящего издания. Ред.)
1
2
а мой внутренний опыт свидетельствует, что я чувствую и мыслю, значит все, до крайних пределов органического мира,
так или иначе чувствует, мыслит. Точно, так ли? Эволюционное
учение считает одним из своих устоев положение, что индивидуальное развитие, онтогенезис, есть сокращенное повторение
филлогенезиса, т. е. истории существ, стоящих на различных
ступенях органической лестницы. С другой стороны, к кому
же применять этот внутренний опыт, как не к самому себе, как
не к человеку. И, однако, я никогда еще не читал автобиографии или мемуаров, где бы автор посвящал первую главу впечатлениям из периода своей эмбриональной жизни. Пресловутый
интроспективный метод, в том единственном случае, где бы он
мог пригодиться, оказывается неприменимым. Если я не могу
себе представить, что я чувствовал не только в состоянии
клетки, но даже годовалого ребенка, то как же я буду угадывать психику растения? И откуда вытекает, что эволюционное
учение, доказав единство органического мира, хоть на йоту
сблизило его полюсы? Человек остался человеком, а протоплазма — протоплазмой. И, наконец, кто же сказал, что все
проявления сложного должны встречаться и в простом? Когда
я слышу сложное музыкальное произведение, ведь я не заключаю, что каждый голос, каждый инструмент воспроизводит то
же, только не так громко? Все это понимал уже Сенебье. Он
ясно высказывал дилемму: растение чувствует, как мы, и тогда
у него должны быть сходные орудия, или оно чувствует совсем
иначе, и тогда у нас нет орудия для его понимания. Огюст
Конт ставил физиологии своего века скромную, двоякую задачу: дано отправление — найти орган; дан орган — найти
отправление. Современная фитопсихология предлагает науке
двадцатого столетия третью задачу — изучать несуществующую функцию несуществующего органа Ч
1 Уже после произнесения этой речи появились работы чешского
ученого Немца, пытающегося доказать наличность у растения органа
чувства и нервной системы. Статьи эти пришлись особенно по вкусу некоторым фельетонистам и популяризаторам, но тем, кто имеет привычку
и возможность относиться критически к тому, что читают, ясно, какое
значение имеют работы Немца. В известном смысле они, пожалуй, очень
типичны, как яркий пример того, с каким легкомыслием и отсутствием
Те, кто двигали физиологию растений в истекшем веке, хорошо понимали, что именно отсутствием нервной системы, все
регулирующей, особенно же отсутствием психики, почти еще
не подчиняющейся научному детерминизму, и определяется значение этой науки в ряду других; ее, так сказать, промежуточное положение между миром безжизненным и миром чувства
и сознания. В этой относительной простоте задачи и заключается
ее главное преимущество. И благодаря именно этой простоте,
наука эта успела в такой мере подчинить явления растительной
жизни разумной воле человека.
Но если этот новый панпсихизм, являющийся, в лучшем
случае, плохо переваренным эволюционизмом, а в худшем —
метафизическим романом, не имеет прав на будущность, то что
же сказать о витализме? После целого века поражений, еще,
можно сказать, на днях, выбитый из одной из его надежнейших
позиций, он вновь пытается поднять голову. Обычный логический прием этих провозвестников бессилия науки почти всегда
один и тот же. Смотрим мы в микроскоп, — говорят они, —смотрим и ничего не понимаем —значит наука несостоятельна,
а жизнь — тайна. Но спросим их: пытались ли вы объяснить
непонятное вам явление? А еще ранее, выработали ли вы в себе
эту способлость объяснять? Одно смотрение в микроскоп и
срисовывание того, что видишь, ее не дает. И кто вам сказал,
что для данного явления уже наступила очередь объяснения?
А если, наконец, и действительно готового объяснения не существует? Что же тогда? Бессмертный пример Дютроше нас
научил, что делать. Он также смотрел в микроскоп и не понимал, что видит — современная физика ему не давала объяснения, но он не признал явления недоступным пониманию,
а предпочел обогатить физику новой областью, которую целый
век исследований еще не исчерпал. Впрочем, при оценке деятельности этих глашатаев бессилия науки и ее банкротства,
может быть, действительно следует считаться с известным психологическим явлением. Бэн, в своей логике, справедливо замечает, что отвращение ко всему темному, необъяснимому,
здравой логики некоторые современные ученые цепляются за всякий
призрак, по их мнению, подтверждающий их предвзятые идеи.
непонятному составляет один из естественных инстинктов человека, но, повидимому, приходится допустить возможность
н патологического извращения этого инстинкта — какой-то
мистический экстаз невежества, бьющего себя в грудь, радостно причитая. Не понимаю! Не пойму! Никогда не пойму!
Не подлежит сомнению, что наука и в наступившем столетии будет итти своим путем, не обращая внимания на старческое бормотание запоздалых эпигонов витализма, как, по счастию, не обратила внимания на ребяческий лепет их родоначальников начала века, и всех этих Дришейи Риндфлейшей ожидает
судьба их предшественников, разных Кизеров и Ритов, имена
которых поглотила Лета, а хитроумные теории, от времени до
времени, историк науки извлекает из пыли архивов на забаву
своим читателям.
5
Заключая свои пять томов, Сенебье на последней странице
поясняет, что побуждало его к собиранию разбросанных, скудных сведений по науке, которая, он сам сознавал, находится
еще в колыбели. Он говорит: мною руководило желание обратить на нее внимание химиков и физиков, убедить их, что они
встретят широкое поле для своих исследований и найдут себе
награду в той пользе, которую принесут своему отечеству,
пролив новый свет на земледелие и другие полезные искусства.
Мы видели, как прав был Сенебье, доверив свое детище попечению химиков и физиков; под их надзором оно выросло и окрепло. Посмотрим теперь, насколько оправдалось его обещание нравственной награды тем ученым, которые взяли на себя
этот тяжелый труд.
Это приводит нас к рассмотрению последнего критериума
успеха наших знаний — их приложимости к запросам жизни.
Запросы жизни всегда являлись первыми стимулами, побуждавшими искать знания, и, в свою очередь, степень их удовлетворения служила самым доступным, самым наглядным знамением его успехов. Немногие в состоянии уловить философское
значение успехов естествознания, другие умышленно желают
его заслонить успехом материальным, успехом техники. Не
стану останавливаться на ложности этой точки зрения; мне не
раз приходилось доказывать мысль, что наука X I X века обязана своей силой, своим могуществом именно своему идеальному
характеру, отличающему ее от узкоутилитарных стремлений
прошлого, что именно, благодаря своему по преимуществу теоретическому характеру, она так много сделала для практики х .
Какие же практические успехи определило развитие химии
и физики в связи с физиологией растений? Оно создало Рациональное земледелие. Из эмпирического ремесла земледелие в течение века превратилось в искусство, опирающееся на точные
данные науки. Сбылось изречение Бэкона: что объяснение для
теории, то средство для практики. Научное объяснение явлений растительной жизни явилось средством подчинить себе
природу растения и вынудить его давать необходимые продукты
в большем количестве и лучшего качества. Конечно, не мнение
здесь подводить итоги вековым успехам земледелия; позволю
себе остановиться только на одной красноречивой цифре. Девятнадцатый век вступал в жизнь под впечатлением гнетущего
кошмара, только что появившегося учения Мальтуса. Известны
посылки и выводы этого учения. Население растет в геометрической прогрессии, а средства пропитания только в арифметической — вот посылки, а вывод — не все люди имеют право
на место за трапезой природы, значительная часть их обречена
на голод, страдание, с их неизменными спутниками, пороками
и преступлением. Бесплодна борьба с этим роковым законом
природы; человек перед ним бессилен. Но точно ли этот закон
так непреложен? Точно ли человек не в силах итти навстречу
своим возрастающим потребностям? Столетие достаточно большой срок для его проверки, и вот ответ, по крайней мере, по
отношению к одной стране, к Германии. Заимствую его из речи
Дельбрюка, произнесенной в присутствии германского императора по случаю уже отпразднованного, как известно, в Германии конца столетия. Население Германии возросло в три раза,
а средства пропитания увеличились в четыре. Как далеки мы от
зловещих предсказаний Мальтуса. Несомненную долю этого
1 См. мои речи «Общественные задачи ученых обществ», «Праздник
русской науки», «Пастер». (См.соотв. стр. 51,37,191 настоящего тома. Ред.)
успеха автор, у которого я заимствую эту цифру, приписывает
содействию, которое наука оказала земледелию, и на нее же
возлагает он свои надежды в будущем. А в ряду наук первое
место отводит он физиологии растений. Для других стран отношение окажется, быть может, менее благоприятным, но не
потому ли именно, что Германия ранее, глубже всех постигла
связь науки с жизнью. Общий подъем богатства в какой-нибудь
стране, конечно, ничего не говорит нам о его распределении,
но ни один Крез, если только он не будет брать пример с Вителлин, не съест более хлеба или мяса, чем любой человек, и потому нет сомнения, что, способствуя установлению более благоприятного отношения между количеством пищевых веществ и
населением (конечно, при одновременном уменьшении смертности), наука, по крайней мере на этот раз, пришла на помощь
самой обездоленной части человечества.
Имя Мальтуса невольно вызывает на новую параллель
между X V I I I и X I X веком. Первый видел в его учении грозный закон природы, второй доказал власть человека и над этим
законом. Но не он ли, не девятнадцатый ли век, в то же время
в дарвинизме возвысил этот закон на степень мирового, определившего весь ход развития органического мира? Как выбраться из этого противоречия? Я систематически обходил несчастное выражение «борьба за существование», которое враги
дарвинизма так бесцеремонно эксплоатируют, когда желают
внушить предубеждение против этого учения. Еще недавно
один русский ботаник, Коржинский, желая объяснить свое отпадение от дарвинизма, в качестве высшего аргумента приводил то соображение, что это учение, распространенное на человека, должно возмущать этическое чувство. Что слово «борьба»
не принимается Дарвином только в смысле драки, единоборства,
направленного ко взаимному уничтожению, очевидно уже из
того, что в таком смысле оно неприменимо к громадному большинству растительных организмов. Преобладание одной формы
над другой определяется лишь степенью их соответствия с условиями существования, а не активным их взаимным истреблением. Но еще важнее никогда не упускать случая повторять,
что ни Дарвин, ни один последовательный дарвинист не распространял этого учения на современного культурного человека.
Объясняя этим учением темное прошлое человека, дарвинист
никогда не предлагал его как кодекс для настоящего и еще менее для будущего. Учение о борьбе за существование останавливается на пороге культурной истории 1 . Вся разумная, культурная деятельность человека только одна борьба, — с борьбой
за существование. И можно ли привести доказательство более
убедительное, чем только что указанные цифры. Борьба за существование только результат закона Мальтуса, — результат
несоответствия между числом существ и средствами существования, а деятельность человека в сфере материальной вся именно
направлена к тому, чтобы увеличить эти средства, т. е. к ослаблению борьбы. Человек, как метко замечает Гёксли, «способствует не переживанию наиболее приспособленного, а приспособлению наибольшего числа к переживанию», и мы только что
видели — с каким успехом. А в сфере умственной не забудем,
что человек в сравнении с животным обладает гораздо более
могучим орудием борьбы. Животное может уничтожить своего
врага — и только. Один человек обладает высшей силой превращать врага в союзника. Скажут, так рассуждать может
только идеалист-мечтатель; и в человеческих делах победа всегда
на стороне грубой силы. Едва ли это верно, и за примерами обратного ходить недалеко. Последний год истекшего столетия
отмечен двоякой годовщиной: рождения Гутенберга и мученической смерти Джордано Бруно. Не символично ли это совпадение?
Не наводит ли оно на мысль о борьбе двух сил, орудиями которых были костер и — книга. Которое из них было сильнее,
страшнее и победоноснее вначале? Костер задушил голос Бруно,
исторг отречение Галилея, вынудил малодушие Декарта. А что
он боролся именно против книги, не доказывает ли этого тот
факт, что еще долго после того, как палач перестал взводить
на костер мыслителя, он продолжал бросать в огонь его орудие — книгу? Но победила книга. И победила потому, что на
одного врага, которого истреблял костер, она превращала тысячи в единомышленников. Перед книгой исчезла та «sancta
Я разумею термин культурного человека в том смысле, как его
употребляет, например, Sutherland в своей интересной книге «Origin and
growth of the moral instinct» (Сутерланд. «Происхождение и развитие
нравственного инстинкта»).
1
simplicitas» х , которою поддерживался огонь костров. Пусть
те, кто думают распространить биологический закон борьбы
на современного человека, остановятся прежде перед этой антитезой: растение приспособляется, а человек приспособляет;
животное истребляет, а человек убеждает. Нет, не дарвинизм,
не естествознание X I X века могут упрекнуть в разладе с этикой. Эту славу они охотно уступают таким его практическим
деятелям, как Бисмарк, таким философам, как несчастный
Ницше.
Сенебье был прав, обещая будущим деятелям только что
нарождавшейся науки награду в сознании той пользы, которую их труды принесут в области земледелия; не мог он только
предвидеть, что их труды окажутся не менее плодотворными
и в области другого искусства, не менее древнего, не менее важного, чем земледелие, — в области медицины. Не то, чтобы он
не придавал значения изучению микроскопических организмов,
особенно из класса грибов; напротив, он не раз возвращается
к этому вопросу, но, конечно, он не мог ожидать, чтобы несуществовавшая в то время глава физиологии разрослась до размеров современной микробиологии. Говорить ли здесь о перевороте в медицине, особенно в хирургии, происшедшем под влиянием этого учения? Позволю себе и здесь ограничиться одной
цифрой. Мне всегда приходят на память слова одного из наших
бывших уважаемых коллег по медицинскому факультету; он
говорил мне, что статистика смертности за Крымскую кампанию и за последнюю восточную войну 1877 г. дала почти дополнительные цифры; сколько выносили трупов из лазаретов Севастополя, столько выходило живых из полевых лазаретов Болгарии. И это мы должны прежде всего приписать тому, что разделяющее эти два срока двадцатилетие совпало с деятельностью
Листера и Пастера.
Познается древо по плодам его. Химия и физика, придя на
помощь физиологии растений, в течение одного века дали человеку возможность расширить справа» жизни и сократить власть
смерти — большего знамения своей полезности не может предъ1 «Святая простота».
Слова, произнесенные Гуссом, стоя на костре,
когда он увидел старуху, которая, крестясь, подбрасывала дрова в огонь.
(Примечание 1918 г. Ред.)
явить никакое знание. Такая наука может, без ложной скромности, сказать «qu'elle a mérité» не только «de la patrie», но и «de
l'humanité» 1.
Чего же можем мы ожидать от нее в будущем? Смело можно
сказать, что если бы она только продолжала итти по уже намеченным путям, ей стало бы работы на целое столетие, но кто же
осмелился бы утверждать, что человеческий ум иссяк, что новый век не даст своих Найтов и Дютроше, Соссюров и Буссенго,
Гельмгольтцев и Майеров, Пастеров и Бертло, Ламарков и Дарвинов. А с ними явятся и новые пути, новые методы исследования, новые умственные горизонты, о которых теперь бесплодно
было бы гадать.
И вот почему, среди шатания умов, отметившего конец века,
среди страстных порывов вперед и боевых кликов, призывающих назад, среди скептических попыток «переоценки всех ценностей», среди безотчетных отпадений и слишком рассчетливого
ренегатства, среди попранных идеалов и разбитых надежд, быть
может, только наука—положительная наука, объединенная положительной философией, переступает порог столетия без колебаний и сомнений, в спокойном сознании исполненного долга
и беспримерного успеха в прошлом и с бодрой уверенностью,
что ничто не в силах остановить ее победного шествия в будущем.
1 «Что она заслужила благодарность не только отечества, но и всего
человечества». (Примечание 1918 г. Ред.)
XYIIX
ЕСТЕСТВОЗНАНИИ И ЛАНДШАФТ (ТЕРНЕР) 1
И БЫТЬ МОЖЕТ ПРИДЕТ ВРЕМЯ, КОГДА НАШ
ВЕК .БУДЕТ ! СЧИТАТЬСЯ ЭПОХОЙ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ И ЛАНДШАФТА—В ЖИВОПИСИ.
Д. И.
МЕНДЕЛЕЕВ.
*
СТЕПЕНЬ НАШЕГО ВОСХИЩЕНИЯ ЖИВОПИСЬЮ
ТЕРНЕРА
СЛУЖИТ
ЛУЧШЕЙ МЕРОЙ НАШЕГО
ЗНАКОМСТВА С ПРИРОДОЙ . . . КУДА Б Ы МЫ НИ
НАПРАВЛЯЛИСЬ, ЧТО Б Ы МЫ НИ УВИДЕЛИ, МЫ
ЧУВСТВУЕМ, о н У Ж Е БЫЛ ЗДЕСЬ, о н ЭТО;ВИДЕЛ.
ОН ЭТО УЛОВИЛ ПРЕЖДЕ НАС.
РЁСКИН
p. 436.
Modern Painters,
vol 1,
П
рочтя это заглавие, читатель, конечно, с удивлением
-спросит себя: по какому праву я, ботаник, берусь за перевод, да еще с примечаниями и предисловием, книги,
посвященной живописи? Отвечаю —• по праву давности, так
как думаю, что в России едва ли найдется человек, который так
давно любовался бы Тернером, сначала по воспроизведениям,
позднее по оригиналам. С полною уверенностью могу сказать,
что этому знакомству не менее шестидесяти лет, так как
превосходно припоминаю тот № Ilustrated London News
(Иллюстрированные Лондонские известия), который был выпущен в 1851 г. по случаю смерти Тернера и заключал наиболее
известные его произведения: «Темерера», «Улисса и Полифема»,
1 Статья эта представляет мое предисловие к переводу моему книжки
Льюиса Гайнда «Тернер», входящей в состав английского издания Masterpieces in colour edited by Leman Hare, выпущенной издательством Jlenковского. Москва, 1910-
«Аполлона и Пифона» и др. Но еще ранее того я любовался одним
старым «кипсеком», который, как я указал впоследствии, был
его «Rivers of France» (Реки Франции). С 1870 г., когда я в
первый раз попал в Лондон, я не пропускал ни одной поездки
в Англию, не побывав в подвальном этаже в Национальной
галлерее, где собраны его акварели, а также и в Кенсингтонском музее; видел я и коллекции Оксфорда, Кембриджа и Брантвуда 1 .
Почему именно произведения этого художника так особенно
приковали мое внимание? Рассуждая задним числом, я мог бы
сказать, что как натуралист я, естественно, должен был увлечься
именно им, но дело в том, что я заглядывался на его произведения, когда еще не был натуралистом даже «en herbe» («в будущем»).| Очевидно, между логикою исследователя природы и эстетическим чувством ценителя ее красот есть какая-то внутренняя
органическая связь. Неоднократно отстаивал я мысль, что ландшафтная живопись не случайно достигла своего развития именно
в девятнадцатом веке — веке естествознания 2 , но, к стыду
моему, только на днях узнал, что имел единомышленника и предшественника в этом отношении в лице Д. И. Менделеева, высказавшего приблизительно то же, хотя в несколько иной форме.
Только на днях из прекрасной его биографии английского химика Тильдена, любезно приславшего мне свой труд, узнал я
это любопытное место из статьи Д. И. Менделеева, появившейся
в «Голосе» 1884 г. Привожу ее в обратном переводе, так как не
мог добыть такого трудно доступного источника, как старая
газета. Статья посвящена Куинджи и теперь, когда, после долгого забвения, снова вспомнили об этом талантливом художнике, ее интересно было бы перепечатать.
Коснувшись влияния ландшафта на различные характеры,
Дмитрий Иванович продолжает: «Вначале мне казалось, что это
вопрос личного вкуса или различной отзывчивости людей к красоте природы. Но отрешившись от этого взгляда, я пришел
к представлению, которое меня действительно удовлетворяет
и которым я хотел бы поделиться с другими». «Ландшафт изображали и в древности, но он не пользовался почетом. Даже
1
2
Поместье Рёскина на Конистонском озере.
См. второе предисловие и статью «Фотография и чувство природы».
,
великие мастера шестнадцатого века видели в нем только рамку
для своих произведений. Исключительно человеческие формы
вдохновляли художника того времени. Даже боги, даже сам
Всемогущий представлялись им в образе человека. И это потому, что они преклонялись перед человеческим разумом, перед человеческим духом. В науке это направление нашло себо
выражение в исключительном развитии математики, логики,
метафизики, политики. Но позднее люди изверились в этой абсолютной таинственной силе, присущей человеческому разуму,
и открыли, что изучение внешней природы помогает в правильной оценке даже внутренней природы самого человека. Таким
образом, природа стала предметом изучения, возникли естественные науки, неизвестные древности и даже эпохе Возрождения. Наблюдение и опыт, индуктивное рассуждение, подчинение неизбежному вскоре положило начало новому и более
производительному методу разыскания истины. Стало очевидным, что природа человека, включая и его сознание и разум,
только часть одного целого и как таковая была легче постижима
чрез изучение внешней природы, чем внутреннего человека.
Внешняя природа перестала быть только подчиненной слугой,
а ему равной, и из мертвой и бесчувственной, какой казалась
прежде, стала теперь живой. Всюду она оказалась полной движения, скрытой энергии, естественного разума, красоты и планомерности. Индуктивная, экспериментальная наука стала венцом знания, а царственная метафизика и математика должны
были ограничиться более скромным допросом природы. Одновременно с этим переворотом, а может быть и несколько ранее возникла ландшафтная живопись. И, быть может, придет /
время, когда наш век будет считаться эпохой естествознания
в философии и ландшафта — в живописи. Оба черпают свое
содержание из источников, внешних по отношению к человеку.
Вследствие этого человек не был, однако, потерян из виду, как
предмет изучения или художественного творчества, но он уже
более не выступает вперед, как владыка или как особый микрокосм, а только как составная часть бесконечно сложного целого».
1 По Розену (в его Die Natur in der Kunst.
Studien
forschers zur Geschichte der Malerei, 1903) скорее ранее.
eines Natur-
Из двух положений Д. И. Менделеева: одновременного возникновения естествознания и ландшафтной живописи и признания девятнадцатого века — веком развития естествознания и
ландшафта — я полагаю, второе более очевидно, так как даже
почти одновременное появление, в средине семнадцатого века,
таких крупных художников, как Клод Желэ, Сальватор Роза
и Якоб Рейсдаль, едва ли глубоко повлияло на общее направление искусства своего времени, развитие же ландшафта как совершенно самостоятельной отрасли живописи, несомненно,
одна из выдающихся особенностей искусства девятнадцатого
века.
Это совпадение в развитии естествознания и ландшафтной
живописи вероятно объясняется не путем какого-нибудь прямого воздействия первого на вторую
а скорее одновременным
возникновением отзывчивости к природе в двух различных направлениях. В области литературы мы знаем примеры пробуждения той или другой в одном лице. Ум Ж. Ж . Руссо был одинаково восприимчив и к непосредственному созерцанию красоты
природы (и ее воспроизведению словом), и к восприятию логи/ческой крgnoTbL—НДучных^построений естествознания, например, естественной системы Бернара Жюссье, одним из первых
красноречивых истолкователей которой он выступил в своих
«Письмах о ботанике». Эстетическое чувство пригодилось Гёте
в его учении о метаморфозе, но оно же оказало ему плохую услугу в его неудачном походе против Ньютона.
Как бы то ни было, но в этом характеристическом движении
искусства X I X века Тернеру принадлежит выдающаяся роль.
1 Совсем
другой вопрос — влияние научных знаний на технику
художника. Тернер был знаком с самыми выдающимися учеными своего
времени — с Фарадэем и Брюстѳром — и обширные сведения последнего
в области оптики даже эксплоатировал в интересах своего преподавания
в Академии. Это его знакомство с наукой своего времени пошло ему более
впрок, чем некоторым современным импрессионистам. Моклер в своей
книге восхищается их глубокими научными знаниями и приводит в пример Бенара, изобразившего на одном портрете человека с зеленым носом,
на том основании, что на него с различных сторон падает желтый и синий
свет. Но так как желтый и синий свет дают белый, то, очевидно, импрессионист такого зеленого носа в природе не мог видеть, а заключил о
возможности его существования на основании неверно понятого наблюдения, что на палитре синий и желтый цвета дают зеленый.
Найдется немного художников, в восхвалении которых сходились бы критики самых разнообразных направлений, выдвигая
мотивами своей оценки самые противоположные соображения.
Великий художник-реалист, каждая черта у которого основана на глубоком изучении, каждое произведение которого
«окно в природу», — говорит один; великий идеалист, постигавший, что искусство не подражание природе, а самодовлеющее и равноправное ей самостоятельное творчество, — говорит
другой критик. Величайший из колористов, мало-по-малу сводивший все на игру света и красок,— говорили одни; великий
рисовальщик, слава которого ничего не потеряла бы, если бы все
его картины выцвели, как это случалось с некоторыми из лучших, — утверждают другие. Предтеча современных пленеристов, всю жизнь проведший в общении с природой, — по одним; художник, обладавший совершенно исключительной, феноменальной зрительной памятью и уносивший с собою живое
впечатление виденного в свою угрюмую мастерскую, — по другим 1 . Художник, исключительно национальный, мало понятный для людей, воспитанных на преданиях континентальных
школ; по другим — великий англичанин, в течение полувека два раза оказавший влияние на французскую школу
(в первый раз через Делакруа, во второй — через Моне). Фантаст, не оставивший по себе ни школы, ни даже одиноких подражателей; родоначальник современного импрессионизма,
в лучшем смысле этого слова 2 .
1 Высказывалось мнение, что иначе даже и не мог поступать
художник, главным образом воспроизводивший мимолетные эффекты движения (моря) и освещения (солнца и озаряемых им облаков). Де-ла-Сизеран говорит, что он поступал как естествоиспытатель; он долго и внимательно изучал законы этих эффектов и затем мог вызывать их по желанию
в своей памяти.
2 О значении художника мы судим всего лучше по сравнению его
с теми, кто были до него и после него. О сравнении с самым опасным своим
предшественником и соперником Клодом Лорреном Тернер позаботился
сам, завещав поставить две свои картины рядом с двумя лучшими произведениями Клода. Рёскин своими тремя колонками (в «Modern Painters») наглядно пояснил различие chiuroscuro (светотеней.Ред.)Тернера,с одной стороны, и Рембрандта и венецианцев — с другой; он показал (как позднее
Гельмгольтц) искусственность светотени Рембрандта (см. статью Фотография и чувство природы) и естественность ее у Тернера.Мне кажется, это
28 К. А. Тимирязев,
т. V
433
Не берусь подвести итог этим противоречиям и произнести
окончательную оценку великому художнику, останавливаюсь
только на том, что к нему влечет, чем у него любуешься. Прежде
всего его универсальностью. Рёскин говорит, что великий художник не имеет права замыкаться в узкую специальность, и
Тернер, конечно, менее кого-либо грешил этим. Не найдешь художника, который охватил бы такой круг явлений природы.
Это не был только мирный, улыбающийся, будничный paysage
sincère Генсборо, Констабля и Барбизонцев, не был это и однообразно опоэтизированный молочно-мглистый пейзаж Коро.
Его предметом была решительно вся природа, во всех ее проявлениях, было ли то пасмурное зимнее утро на однообразной
равнине, или разгул стихий в Альпах, или шторм на море и,
прежде всего, солнце с ослепительной игрой света и красок
во всех их бесконечных сочетаниях.
Когда современному художнику-реалисту (Родену) пришлось создавать памятник Клоду Лоррену, он не обошелся без
изображения лучезарного Феба, Тернер сам себе его создал в
своем «Аполлоне и Пифоне», о котором один из лучших французских знатоков Тернера — ПІено 1 — говорит, что одной этой
фигуры было бы достаточно, чтобы прекратить бесконечные разговоры о его будто бы неумении рисовать фигуры. Пока он подражал старым голландцам, изображая тех «magots», которые так
возмущали Людовика X I V — они были действительно безобразны, но из этого не следует, что он не владел фигурой. Армсравнение с Рембрандтом всего лучше выступает в пользу Тернера при сравнении зго излюбленного Norham Castle с известным рембрандтовским ландшаф том в Кассельской галлерее, так как их содержание поразительно сходно. Из новейших художников всего естественнее напрашивается сравнение
с Моне, который и сам признавал влияние на него Тернера. Есть даже
один сюжет абсолютно сходный у обоих, именно западный портал Руан
ского собора. Но если Моне дает нам этюд солнечного освещения здания,
он не дает нам готики, а какую-то голую модель. У Тернера понимаешь,
почему художник, весь поглощенный природой, увлекается и этой темой—
в его изображении поражает именно то сочетание подавляющего величия
целого и бесконечного богатства деталей, котороеі |приближает создание
готического искусства к произведениям природы.
1 Я слышал от Коллингвуда (друга и биографа Рёскина), что Рёскин хотел поручить Шено составление биографии Тернера и завещал на
это значительную сумму.
стронг фронтисписом своей книги о Тернере выбрал его картину
«Адонис и Венера», которую он в других отношениях сравнивает с тициановским «Петром мучеником». Мистрис Северн х ,
показывая мне Тернеров, украшающих спальню Рёскина, указала мне на фигуры, на которые обыкновенно обращал внимание своих посетителей Рёскин, говоря, что на них надо любоваться в лупу 2 . Один немецкий художественный критик, в похвалу мифологическим фигурам Тернера, говорит, что он почти
приближается к Бёклину. Позволю себе высказать совершенно
обратное мнение. Признаюсь, я никогда не понимал смысла
псевдо-мифологических сюжетов Бёклина. Почему какая-то
современная курносая кельнерша, позволяющая себе дебош купания без костюмов с каким-то пузатым немецким пивоваром,
приближает ко мне те поэтические образы, в которые облекала
мир фантазия грека и которые мне коротко известны по целым
населениям из мрамора и бронзы, по счастью до нас дошедшим?
Почему свирепый Кентавр, полузверь, получеловек, существовавший только в фантазии поэтов, вдруг превратится для меня
в действительность, если мне его покажут в неподходящей для
него будничной обстановке хорошо оборудованной кузницы? 3
Напротив, художник стихий, Тернер принимал и мифы, как
поэтические символы стихий. Для него Феб, убивающий извивающегося кольцами Пифона — солнце, разгоняющее свопмп
лучами клубящийся туман, заволакивающий первозданную
землю. Он понимал мифы, как наш поэт:
С начала мира человек
Дремал ребяческими снами,
И сень лесов и воды рек
Он жаждал населить богами.
Теперешняя владетельница Брантвуда.
То же писал он о виньетках Тернера, иллюстрирующих поэмы
Роджерса, этих высших произведениях английского граверного искусства,
по словам одного знатока.
3 Точно так же, mutatis mutandis, какой-нибудь Уде или Беро не
приближают ко мне евангельского рассказа, изображая Христа в обществе блузников, фрачников и декольтированных кокоток, а Поленов приближает своей исторической правдой и чарующим палестинским ландшафтом.
1
2
Свой страх тревожный воплотив
В неясный образ грозной силы,
Своих же снов не пережив,
Спускался род людской в могилы.
Потому-то эти боги:
Своей прозрачностью хранимы
Над отуманенной землей,
Они плывут неуловимы
Победоносною чредой.
Именно эту «неуловимую прозрачность» созданий человеческой фантазии, а не тяжеловесную реальность, втиснутую
в рамки будничной современной действительности, хотел изобразить Тернер, когда прибегал к мифологии 1 .
Но все это, конечно, соображения второстепенные. Повторяю, Тернер был и остался великим художником потому, что
охватил, как никто ни до него ни после него, всю совокупность,
все бесконечное разнообразие форм и явлений природы — от
изящных изгибов лебединой шеи 2 , или сверкающей под водой
рыбки до причудливой листвы, и разветвления деревьев, и застывших гигантов горных кряжей, от грозных движений стихий
в альпийской буре или урагане на море до ослепительных эффектов непосредственного солнечного света или опаловых переливов занимающегося пожара догорающей вечерней зари —
словом, потому, что он был величайший изобразитель природы,
какого видел мир с той поры, как изощренный глаз человека
стал улавливать ее красоту, а его искусная рука нашла тайну
передавать другим эти впечатления 3 .
1 Как прекрасен на его картине «Улисс, издевающийся над Полифемом» этот действительно мифический, хаотический Полифем, которого
при первом взгляде не различишь от облаков, в сравнении с аккуратно
реалистично выписанным Полифемом современника Тернера — Преллера
на картине того же содержания.
2 В противоположность современным художникам,
изображающим
ее (по примеру Бёклина) в виде прямой палки.
3 «Remember, you must paint your impressions»
— был его завет молодому художнику. («Помните, вы должны изображать ваши впечатления». Год.)
ПРИЛОЖЕНИЯ
-
•
•
•
ПРЕДИСЛОВИЕ К СБОРНИКУ
«ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ И РЕЧИ»*
I HAVE LONG THOUGHT
PHYSIOLOGY
ONE OF T H E GREATEST OF SCIENCES, SUR E SOONER OR MORE P R O B A B L Y L A T E R ,
G R E A T L Y TO B E N E F I T MANKIND; B U T
JUDGING FROM A L L O T H E R SCIENCES
T H E B E N E F I T S W I L L ACCRUE ONLY INDIR E C T L Y IN T H E SEARCH FOR ABSTRACT
TRUTH.
C. DARWIN.
«Life and
letters»**.
обранные в этом томике речи и лекции были читаны
перед весьма различными аудиториями, так что и степень их доступности, понятно, весьма различна. Тем не
менее, все они изложены в форме популярной, так
как, при современной специализации научной деятельности,
ботаник, даже говоря перед конгрессом ботаников же, вынужден прибегать к этой форме.
Некоторые из помещенных здесь статей уже появились в печати, другие печатаются в первый раз (IX и X). Из напечатанных только две (I и VIII) появились на страницах «Русской
Мысли», остальные разбросаны в изданиях (отчетах съездов,
* Сборник «Из области физиологии растений — публичные лекции
и речи» вышел в 1888 г. Ср. его содержание на стр. 468 наст. тома. Ред** Я давно думал, что физиология, одна из величайших наук, наверное
скоро, или с еще большей вероятностью в более отдаленное время, величайшим образом облагодетельствует человечество; но, судя на основе
примера других наук, ее благодеяния составятся только обходным путем
именно в процессе искания абстрактной истины.
Ч. Дарвин. «Жизнеописание и письма». Ред.
актов и пр.), обыкновенно не попадающих на глаза читающей
публике; сверх того, две из них не были еще напечатаны на русском языке.
Три речи (III, IV, V), уделенные предмету моих специальных
исследований, нуждаются в особом пояснении. Хотя они совпадают по содержанию, но, я полагаю, не представляют только
повторения, так как заключают различные подробности и обнаруживают последовательное развитие вопроса. Они имеют
в виду главным образом учащихся, или лиц, не занимающихся
физиологией растений, но желающих получить основательное
понятие об этом вопросе, — большинство читателей ограничится кратким изложением результатов, в лекции X I I . К помещению этих трех речей меня побудили два обстоятельства.
Во-первых, вопрос этот очевидно начинает возбуждать интерес и не одних ботаников. На последнем съезде Британской ассоциации профессор Шунк, в председательской речи на химическом отделе, советовал химикам ознакомиться с любопытными фактами, касающимися связи между химизмом растения
и оптическими свойствами хлорофилла, причем рекомендовал
им обратиться к трудам Сакса и Прингсгейма — тех именно ученых, которые голословно отрицают существование этой связи.
Второе обстоятельство, побудившее меня собрать здесь эти
речи, заключается в том, что, в единственном русском учебнике физиологии растений проф. Фаминцына, глава эта изложена крайне неудовлетворительно 1 .
Что касается до формы и содержания остальных лекций и речей, то, при составлении их, имелись в виду не ученые или учащиеся, а только вообще образованные слушатели и, само собой
разумеется, люди, сочувственно относящиеся к изучению
природы.
Этих замечаний, в связи с перечнем содержания, я полагаю,
достаточно для того, чтобы читатель мог знать, что он встретит
на следующих страницах.
10 мая 1888 года.
Я.
ТИМИРЯЗЕВ.
Между тем как результаты моих исследований, в настоящее время,
приняты уже во всех лучших иностранных руководствах (французском,
английском, американском), даже проникли в элементарное преподавание (учебники Mangin и проф. Бородина).
1
п
ОТЧЕТ
О Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И БОТАНИЧЕСКОГО О Т Д Е Л Е Н И Я
ОБЩЕСТВА Л Ю Б И Т Е Л Е Й ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, АНТРОПОЛОГИИ
И ЭТНОГРАФИИ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМ МОСКОВСКОМ
У Н И В Е Р С И Т Е Т Е ЗА ИСТЕКШЕЕ Д Е С Я Т И Л Е Т И Е *
(1884—1894
гг).
^ ^ ообідения, сделанные в заседаниях отделения,
1884 год
К. А. Тимирязев. Общественные задачи ученых обществ.
!В. А. Тихомиров. О строении цветка у Carica Papaya.
К. А. Тимирязев. Д. Бентам (некролог).
— Современные теории геотропизма.
С. А. Данилевский. Об отсутствии круговой нутации у корня.
В. В. Сапожников. О геотропизме корня.
* Прилагаемый отчет показывает, какое деятельное участие принимал
К. А. Тимирязев в работе ботанического отделения. Многие доклады
К. А. Тимирязева из перечисленных в этом списке остались ненапечатанными. Ре д.
1885 год
В. Я. Цингер. О некоторых особенностях распределения
растений в Средней России.
В. А. Тихомиров. О спектроскопических свойствах спорыньи
(Claviceps purpurea).
К. А. Тимирязев. Какой спектр хлорофилла следует считать
за настоящий?
— О движении воды в растениях.
B. И. Беляев. Об антеридиях разноспоровых плауновых.
C. И. Ростовцев. О термотропизме корней.
К. А. Тимирязев. Физическое и физиологическое действие
света.
1886 год.
В. И. Палладии. О брожении у высших растений.
К. А. Тимирязев. О продукте восстановления хлорофилла
(протофиллине).
B. А. Тихомиров. Об устьицах внутреннего эпидермиса
коробочки мака.
C. Г. Навашин. Материалы к флоре лиственных и торфяных
мхов Московской губ.
К. А. Тимирязев. О микроспектроскопе Энгельмана.
1887 год
С. И. Ростовцев. Грибы в корнях орхидей (исследование
Варлиха).
С. Г. Навашин. О новой форме Polytrichum juniperinum,
Hedw.
И. M. Бове. К анатомии Lippia mexicana и Grindellia robusta.
В. Д. Мешаев. О причинах напряжения сочных растительных тканей.
К. А. Тимирязев. О происхождении азота растений по новейшим исследованиям.
1888 год
К. А. Тимирязев. Ж. Б. Буссенго (некролог).
С. Г. Навашин. Peziza, паразитирующая на торфяном мхе.
— Флористические заметки (о нахождении Geranium bohemicum близ Орехова-Зуева в 1886 г. О нахождении трех видов
скандинавских лиственных мхов на Урале в 1887 г.).
К. А. Тимирязев. Трансцендентальная физиология (новое
исследование Прингсгейма).
— Заметка по поводу «Учебника физиологии растений»
проф. А. С. Фаминцына.
B. В. Сапожников. Образование крахмала в листьях.
C. Г. Навашин. Ржавчина яблони и можжевельника под Москвой.
— О «ядовитой ярице», вывезенной г. Розовым из Сибири.
В. А. Тихомиров. Цветение Victoria regia в Москве (с демонстрацией).
К. 4. Тимирязев. Зависимость разложения углекислоты от
напряжения света.
1889 год
П. С. Коссович. Об усвоении азота растениями.
B. В. Сапожников. Об образовании крахмала в листьях.
К. А. Тимирязев. Протофиллин в живых растениях.
C. Г. Навашин. Слизистые грибы, собранные под Москвой
(демонстрация коллекции).
В. В. Сапожников. Образование и трата углеводов в зеленом
листе.
B. А. Тихомиров. Анатомическое строение поддельного и
химические свойства спитого чая.
C. Г. Навашин. Метод препарирования шляпных грибов
Герпеля.
К. А. Тимирязев. Поглощение света в ассимилирующих листьях.
A. И. Войтов. Эндоспорное развитие при температуре
42—43° С.
B. А. Тихомиров. Копролиты растительного происхождения в кишечном канале человека.
1890 год
С. Г. Навашин. О спорах и коробочках торфяных мхов.
В. А. Тихомиров. Цветение редкой стапелии (Stapelia bufonia, Sacquin.) в Москве.
К. А. Тимирязев. Фотографическое саморегистрирование
хлорофилловой функции на живом растении.
1892 год
К. А. Тимирязев. П. Ф. Мае'вский (некролог).
В. А. Тихомиров. Ботанические сады и агрономические станции Явы (с демонстрацией фотографий и коллекций).
Н. С. Понятский. Об изотонических эквивалентах де-Фриза
(с демонстрацией прибора).
И. А. Петровский. Применение микротома в ботанической
практике (с демонстрацией микроскопических препаратов).
Е. Ф. Вотчал. К вопросу о движении воды в растении (с демонстрацией аппаратов).
К. А. Тимирязев. Зависимость разложения углекислоты от
напряжения света (с демонстрацией прибора).
1893 год
В. И. Палладии. К вопросу о значении углеводов для дыхания растений.
К. А. Тимирязев. Газовый обмен в корневых желвачках бобовых.
В. А. Тихомиров. Torrubia (Cordyceps) Sinensis Tulasne.
1894 год
К. А. Тимирязев. Двадцатипятилетние итоги исследований
над функцией хлорофилла.
A. Н. Бекетов. Первичные приспособления организмов.
B. А. Тихомиров. Новый тип изолятерально-бифациального
листа у Eriodictyon glutinosum ВепПіащ,
II]
ВЫНУЖДЕННОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ
(ПИСЬМО К РЕДАКТОРУ)*
M
г. Говорят, — никогда не поздно исправиться; мо^ жет быть, верно и сходное положение: никогда не
поздно исправить факты. На этом основании смею
надеяться, что вы уделите, на столбцах уважаемой газеты
вашей, место для следующего объяснения:
* Опубликовано в газете «Русские Ведомости», 1887 г. № 83.
Статья «Вынужденное объяснение» вскрывает темные стороны в жизни
ученых обществ в царской России. Суть дела заключается в том, что
предложенный в члены общества проф. В. К. Церасский оказался
забаллотированным, несмотря на то, что никаких данных к тому не
было. Здесь сказалось стремление спевшейся группы рассматривать общество как свой тесный кружок, в который не желали принимать «чужаков», — причем это делалось сознательно и при этом сознательно
снижался уровень научной квалификации вновь принимаемых членов,
так как наиболее угодные большинству вовсе не принадлежали к числу
наиболее талантливых ученых. К. А. резко выступил против таких тенденций и наряду с рядом других видных ученых — проф. Столетовым
и др. —демонстративно подал заявление об уходе из Общества. Ред•
Я был убежден, что, с выходом из Общества испытателей
природы, покончил с ним все расчеты, но ошибся. Прочтя помещенное в «Русских Ведомостях» письмо проф. Столетова, я
счел нужным заглянуть в тот № «Московских Ведомостей»,
в котором напечатан протокол заседания 15 января, и убедился,
что протокол этот, читанный и утвержденный уже в моем отсутствии, представляет мое участие в делах Общества в извращенном и неприглядном свете.
В протоколе сказано, будто я предложил, «чтобы все выборы
членов происходили в одно определенное, например, декабрьское заседание». Сопоставляя это приписанное мне предложение с подробным рассуждением г. Соколова «о членах Общества,
которые, не принимая деятельного и постоянного участия в занятиях Общества, имеют интерес являться лишь в те заседания, в которых происходят баллотировки некоторых лиц», читатель может подумать, что в Обществе действительно находились члены (и к числу их, конечно, прежде всех принадлежал
я), не участвовавшие в научной его деятельности, но желавшие
выгородить себе возможность вмешиваться в его жизнь с наибольшим для себя удобством, например, раз в год. Но такого
предложения я не делал и доказательство тому налицо. Г. председатель был настолько любезен, что все мои предложения пускал на баллотировку. Приписываемое мне протоколом предложение не было баллотировано потому именно, что я его не делал 1 .
Но если протокол 15 января заключает излишнее, то в нем
не упомянуто о продолжительных и оживленных прениях, возбужденных при чтении протокола 18 декабря тем, что редакция постановления, выражавшего сожаление по поводу факта
забаллотировки, была совершенно изменена. А между тем,
только вследствие протеста лиц, после заседания вышедших из
Общества, и заявления г. председателя постановление это было
восстановлено в его настоящей форме.
1
А на деле было вот что. Когда г. секретарь возражал против моих
действительных предложений, что они обременят секретарей излишним
трудом (?), я ответил, что если уж польза общества должна сообразовываться с удобством секретарей, то видно придется сократить дни выборов;
это-то ироническое возражение превратилось в предложение,
ничем не
мотивированное, но бросающее на меня известную тень.
Указав на неточное изложение фактов в протоколе 15 января, попытаюсь в кратких словах выяснить и те обстоятельства, которые, насколько я могу судить, вынудили 9 членов после этого заседания выйти из Общества, тем более, что вследствие нашего молчания наш образ действий начинает подвергаться нареканию.
Мотив, побудивший 9 членов Общества удалиться из него,
был исключительно нравственного свойства; никакой борьбы
за обладание каким-то призрачным влиянием на дела Общества
не было и быть не могло. Вследствие протеста значительного
числа членов против факта забаллотировки, беспримерной,
беспричинной и оскорбительной для президента Общества,
предложившего этого кандидата, в заседании 18 декабря, некоторые члены Общества стали отстаивать право забаллотировывать. На это я возражал, что пределы пользования всяким
правом можно определять двояко: «мое право кончается там,
где начинается право другого», это определение нравственное—
теоретическое. «Мое право кончается только там, где начинается моя ответственность перед законом (уставом)», это определение — житейское, практическое. До ноября 1886 г. Общество
испытателей природы, как и вообще ученые общества, очевидно,
руководилось правилом теоретическим, и весь вопрос сводился
к тому, желает ли оно впредь руководиться правилом практическим. Когда подавляющим большинством (как справедливо
было замечено в вашей газете, 25 голосов против 4) факт забаллотировки был осужден, я указал, что необходимо позаботиться
о мерах, которые оградили бы от его повторения. Этого можно
было достигнуть, по моему мнению, производя выборы, так сказать, на глазах всего Общества, для чего необходимо: 1) своевременно извещать всех наличных членов о предстоящих выборах, с обозначением лиц, предложивших кандидата, и 2) разрешить лицам, почему-либо не могущим явиться в заседание,—
передавать свой шар. Только при этих двух мерах, в той или
иной форме практикуемых при всяких выборах, — результат
может являться выражением мнения Общества, а не случайного
большинства (например, зоологов, ботаников и пр., решивших
устранять из Общества представителей точных наук, как это
находил весьма естественным г. Линдеман). Предложения мои
были отвергнуты. Последующее известно. В заседании 15 января большинство оказалось на стороне представителей практического взгляда на право забаллотировки. Теоретикам оставалось одно — удалиться.
Нахожу необходимым еще объяснение по поводу приведенного выше намека г. Соколова на лиц, не участвующих в научной деятельности Общества, но желающих вмешиваться в его
внутреннюю жизнь. Насколько оно касается меня, обстоятельство это разъясняется очень просто. Я состоял членом Общества
в течение 16 лет и не посещал его только последние два года,—
именно с этого времени числится членом г. Соколов. А перестал
я бывать в заседаниях потому, что был в числе лиц, находивших несправедливым и прямо противным уставу образ действия
Общества, вследствие которого Ф. А. Бредихин не мог тогда
же занять президентского места (как в свое время было выяснено в вашей газете). Когда Ф. А. Бредихин стал президентом,
вернулись и мы. Но по какому-то странному стечению обстоятельств вышло так, что члены Общества, желавшие видеть
Ф. А. Бредихина на том месте, на которое ему давали право его
научные заслуги, и даже вследствие того временно удалившиеся
из Общества, при нем вынуждены были удалиться окончательно;
остались же в этом Обществе те, кто поспешили приветствовать
нового президента забаллотировкой предложенного им кандидата, причем, во избежание недоразумений, г. секретарь пояснил президенту-астроному, что забаллотировано было не
лицо, а представитель точной науки, т. е. астроном.
Такова бывает порой ирония судьбы.
Примите и пр.
К.
ТИМИРЯЗЕВ.
ІГ
ВИТАЛИЗМ*
В
итализм — известное направление в учении о жизненных явлениях. Первоначально вызванный неудовлетворительным состоянием физических, химических и, в
особенности, физиологических знаний, витализм, с развитием
этих наук, встречает в X I X веке отпор со стороны всех видных
представителей научной мысли и к средине века исчезает почти
бесследно, но в конце века под неуместным названием неовитализма возникает вновь как продукт общей тёолого-метафизической реакции против строго научного склада мышления —
сначала на Западе, а затем, из подражания, и у нас. Название
неовитализм не соответствует его содержанию, потому что принципиально он ничем не отличается от старого витализма, их
* Статья К. А. Тимирязева «Витализм» была напечатана в энциклопедическом словаре Граната, изд. 7, т. X , стр. 309—313, откуда редакция
и перепечатала ее текст. Эта статья 'дополняет напечатанную в этом
томе статью: «Витализм и наука». Ред.
29 К. А. Тимирязев,
т. V
449
различие сводится к мотивам, их породившим: первый был вызван отсутствием научного объяснения жизненных явлений, второй, наоборот, — желанием освободиться от полученных научных объяснений и найти почву для необъяснимого, таинственного, чудесного, на которой только п могут сохраниться шаткие
построения теолога и метафизика.
'Творцом учения о витализме, во всяком случае давшим ему
это название, считают Бартеза (род. 1734 г.), профессора медицинского факультета в Монпелье. Содержание его учения сводилось к следующему: он проводил резкую границу между явлениями в телах живых и неживых; вместо того, чтобы подчиняться действию основных сил материи, физиологические явления должны быть рассматриваемы, как непосредственные проявления особой «жизненной силы». Ближайшую природу этого
начала Бартез не определял, но видел в нем высшую силу, подчиняющую себе все низшие органические силы (движущие
и чувствующие). Профессор того же университета Борде предложил заменить выражение «жизненная сила» выражением
«Spiritus rector» — духа направляющего, объединяющего действие отдельных органов, этих по его же терминологии «animal
in animali», животных в животном. Это чисто метафизическое
представление, позднее, у Галлера и, уже в начале девятнадцатого века, у Биша превратилось в учение о «жизненных свойствах» отдельных тканей. Утратив свой метафизический характер, виталистическое учение Бипш было, тем не менее, несовместимо с духом экспериментальной науки, какою мало-по-малу
становилась физиология. Б и т а , тйк сказать, децентрализировал жизненную силу, но основная идея витализма, т. е.коренное
различие между живым и неживым, была присуща и его учению. Вот несколько из его основных положений: «Существа
бывают органические или неорганические, их свойства жизненные или нежизненные; соответственно с этим и наука бывает физиологическая или физическая». «Свойства живых тел
прямо противоположны свойствам физических». «Физико-химические свойства постоянны и неизменны, потому и законы
этих наук постоянны и неизменны, их явления можно предвидеть и учесть, а так как жизненные свойства по существу
неустойчивы, их явлений нельзя ни предвидеть, ни учесть».
«Итак, законы, управляющие теми и другими явлениями, абсолютно различны». Такова была точка зрения последнего из
виталистов. «Эти положения Биша, — говорит Клод Бернар,—
равносильны отрицанию физиологии, как науки». «Наука, достойная этого названия, существует только тогда, когда ей известны вполне определенные законы ее явлений, когда она точно
предсказывает эти явления и подчиняет их себе, если они находятся под рукою». Отсюда понятно, что витализм, в какой бы
форме он ни высказывался, встречал отпор всех строго научных
умов (Гумбольдт, Дютроше, Маженди, Шлейден, Р. Майер,
Гельмгольтц, Клод Бернар, Бертло, Людвиг, Брюкке, ДюбуаРепмон и др.). Главнейшие удары были нанесены витализму
открытием осмотических явлений, успехами синтеза в органической химии, учением о сохранении энергии в применении к организмам, открытием химических (растворимых) ферментов,
лежащих в основе действия так называемых организованных
(живых) ферментов и т. д. Вообще говоря, весь фактический
прогресс физиологии (животных и растений) был одним сплошным поражением витализма. В средине века он уже почти не
имел защитников.
В конце века стали вновь высказываться мнения, будто обычная причинная точка зрения положительной науки недостаточна
для объяснения всех вопросов, предъявленных физиологией,
что имеется еще известный остаток явлений, для объяснения которых необходимо вернуться к телеологической, финалистической точке зрения. А так как развившийся одновременно с успехами экспериментальной физиологии дарвинизм именно упразднял телеологию, заменив это метафизическое объяснение
строго научным понятием исторического процесса естественного отбора и приспособления, то неовиталисты выступили
и отрицателями дарвинизма, по большей части голословными
(Бородин, Вольф). Таким образом, неовитализм является направлением мысли исключительно отрицательным и ретроградным; по своему существу он не может служить «рабочей гипотезой», так как объявляет задачи физиологии неразрешимыми
путем научного исследования, а проповедует возврат к чисто
схоластическим приемам — к изобретению метафизических начал целесообразного действия (энтелехия Дриша, детерминанты
29*
451
Рейнке, сознательно творящая протоплазма неоламаркистов,
душа растения фито-психологов и т. д.), представляющих только
вариации на тему spiritus rector'a старых виталистов. Неовитализм не может быть рассматриваем как научное учение, противополагаемое другому научному учению — это вненаучная реакция против научного духа времени, возврат к теолого-метафизическому складу мышления. Представителями неовитализма
являются Бунге, Дриш, Рейнке, Паули, Франсе и др. на Западе, Коржинский, Бородин, Фаусек и др. у нас. Критиками
неовитализма выступили Тимирязев, Бючли, Плате, Эррера,
Глей и др. Любопытна деятельность в этом направлении брюссельского профессора Эррера, так как ему пришлось иметь дело
с непосредственными организаторами того общего похода против современной науки, одним из проявлений которого является
и неовитализм — с самими P. I. (отцами иезуитами). Глей,
профессор Collège de France, в своей недавней (1911) лекции выдвигает против неовиталистов и новейшие открытия в области
действия гормонов и в явлениях анафилаксии.
Литература: По истории витализма до половины X I X столетия—Claude Bernard «Leçons sur les phénomènes de la vie commune aux animaux et aux végétaux» (лекции о явлениях жизни
общих и животным и р'астениям).
Защитники неовитализма: Bunge, «Vitalismus und Mechanismus»; Коржинский, «Что такое жизнь»; Бородин, «Протоплазма и витализм».
Критика неовитализма: Тимирязев, «Витализм и наука»
(1894 г. в кн. «Насущные задачи естествознания», 1908 г.);
Bütschli, «Mechanismus und Vitalismus» (1901); Plate, «Selectionsprincip» (3-е изд., 1908); Errera, «Existe-t-il une force vitale?»
(Recueil d'oeuvres, 1910); Gley, «Le Néovitalisme et la physiologie générale») («Revue Scientifique», 1911, № 9).
К.
ТИМИРЯЗЕВ.
Письмо А. Ковалевского К. А. Тимирязеву
%
Л
lu,
f'u
7а
п
а і р
.
«У
*
vt
.AI."«'>
i-7
/
o-^n,
^ y v c - j , . / е . , .
0
<" A i
6
A
^
m?
ov
\
t/^ - O.^ ^
^ «
tr r
(См, на обороте)
л с + с
.луге
,
:
a
, _
,,
г/-.
уьгу/а-гсля:
^ р
«Я?*.
tâêéa
л foyer
^n-rtf^if
ч
а-
2-«.
сусг-усо-ѵс",
> Л.
^
^
arty,. ^
f-rayi
у
t~j\
.Л*.
л
лѵ.,'- 5
.
rtj
/^-г'-тГл
л,, „ .
A".--—s
Y
ПИСЬМО A. О. КОВАЛЕВСКОГО
К. А. ТИМИРЯЗЕВУ
29IXII
94.
СЛбрг.
Многоуважаемый Кламентий Аркадьевич.
П
ремного вам благодарен за вашу речь «Витализм и
наука»; не могу вам не выразить моего глубочайшего
сочувствия. Я помню, с какой печалью, даже просто стыдом я слушал в прошлом году пресловутую речь Бородина, и
помню, с каким ужасом увидел, что она встречается громом аплодисментов и даже сидевший против меня Менделеев яро хлопает. Мне показалось, что я решительно не подхожу к моим
коллегам и почти не имею права присутствовать.
Речи Московского съезда меня успокоили, есть же, думалось мне, в сердце России люди одинакового со мной мнения,
а ваша ныне напечатанная речь доказывает, что есть и блестящие защитники здравого и научного направления. Примите
еще раз мою сердечную и искреннюю благодарность и уверения
глубочайшего уважения.
А.
КОВАЛЕВСКИЙ.
VI
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ *
ОТВЕТ АКАДЕМИКУ А. С. ФАМИНЦЫНУ
В
январской книжке «Мира божьего» помещено начало, повидимому, весьма обширной статьи академика
Фаминцына «Современное естествознание и психология».
Откладывая до окончания статьи обсуждение воззрений почтенного автора, я имею, однако, полное основание желать,
чтобы в течение этого долгого промежутка времени у читателей
«Мира божьего» не оставалось впечатления о моей умственной
ограниченности, выражающейся, будто бы, в моем неумении раз* Письмо в редакцию было помещено в журнале «Мир божий», 1898 г.
№
2.
Для выяснения, в чем состояла полемика с акад. Фаминцыным, необходимо твердо уяснить себе тактику борьбы с виталистами, которую применял К. А. Тимирязев, — тактику, которая становится совершенно
понятной после внимательного прочтения его речи «Витализм и наука».
В своих выступлениях против виталистов он всегда опирался только
на прочно установленные факты, причем, ссылаясь на историю науки,
он показывал, что еще недавно о целом ряде явлений ученые ничего
не могли сказать, а виталисты радовались, заявляя, что эти явления ни-
личать, далеко одна от другой отстоящие, категории явлений,
в чем пытается убедить своих читателей А. С. Фаминцын.
Приведя длинные выписки из одной моей статьи, он продол?кает: «Приведенные цитаты относятся непосредственно, конечно, к процессам жизни растения и, следовательно, к физиологии растений, но из характера и общего хода рассуждений
видно, что автор не делает исключения и для жизненных процессов животных и, повидимому, считает приводимое им механическое воззрение приложимым и к жизни животных, со включением человекам 1.
Не касаясь вопроса, к чему понадобилась почтенному ученому такая экстраполяция моих мыслей, замечу только, что
угадывание мыслей другого человека — занятие вообще бесполезное — вдвойне бесполезно, когда этот человек уже сам
печатно высказывал эти свои мысли.
В той же книжечке, из которой он делает выписки, и в статье,
которую он должен был прочесть, так как самое ее заглавие
когда не будут объяснены. Но вот наука, идя своим твердо установленным
путем, раскрыла и эти тайны, казавшиеся непостижимыми.
После изложения длинной цепи подобных побед, одержанных наукой,
К. А. делал вывод, которым заканчивается его речь «Витализм и наука»:
«Вот, что мы знаем, вот чего мы не знаем, а вот тот единственный верный
путь, с которого открываются все новые горизонты знания, — это вековой путь, в начале и конце которого нам светят гении Лавуазье и Гельмгольтца».
Вот почему в речах и статьях, посвященных борьбе с виталистами,
К. А. избегал всего, что еще к тому времени не было доказано фактами,
что еще основывалось на гипотезах, хотя бы и весьма вероятных.
А. С. Фаминцын, чувствуя шаткость своих позиций, пытался найти
противоречия во взглядах К. А. и ссылался на те мысли его, которые
он высказывал в других статьях в качестве предположений, в качестве
указаний, куда должна направляться научная мысль.
0 том, что, по мнению К. А., вековой путь, с которого открываются все
новые горизонты знания, ведет далеко за пределы физиологии растений,
которыми он ограничил свою речь «Витализм и наука» по указанным выше
причинам, что этот путь ведет в область сложнейших явлений высшей
нервной деятельности, красноречивее всего показывает приведенное
в настоящих приложениях письмо К. А. к И. ГІ. Павлову, в котором, кроме
того, делается намек на борьбу с акад. Фаминцыным, выразившуюся в
двух письмах, приведенных в настоящем приложении. Ред.
1 Курсивы мои.
указывает, что именно она касается занимающего его вопроса,
почтенный академик должен был встретить следующие слова, совершенно упраздняющие его догадки.
«Буду держаться, как уже сказал, исключительно на известной мне почве физиологии растений. Это мне кажется и вообще более удобным, по самому содержанию нашей науки.
Здесь мы не имеем дела с тем усложнением задачи, которое
выступает чуть не на первый план с появлением нервной системы и еще более с появлением процессов психических. Наш
защитник витализма, очевидно, сам знает, как невыгодно для
него строго научное обсуждение вопроса на точно ограниченной почве нашей науки и потому делает, ничем не оправдываемые, скачки в область психических явлений. Так, для большего убеждения своих слушателей, он два раза уверяет их, что
противники витализма готовы объяснить механически даже гений Ньютона, и уже на основании этого самовольно навязанного им легкомыслия позволяет себе и т. д.»1. Таким образом я
не только никогда не смешивал березы с человеком, но даже
укорял своих противников за такие скачки и за произвольное
навязывание такого легкомыслия представителям строгой науки.
Можно ли более ясно и обстоятельно выразить мнение, прямо
противоположное тому, которое приписывает мне академик
Фаминцын?
С другой стороны, совершенно напрасно полагает уважаемый автор, что тот широкий философский взгляд на взаимное отношение материальных и психических явлений, которому
он придает такое значение, берет начало с профессора Бунге.
Вот что, между прочим, высказывал и я по этому поводу не
только до академика Фаминцына, но и задолго до профессора
Бунге: «Еще один последний вопрос: обладает ли растение сознанием? Но на этот вопрос мы ответим вопросом же: обладают
ли им все животные? Если мы не откажем в нем низшим животным, то почему же откажем в нем растению? А если мы откажем
в нем простейшему животному, то скажите, где же, на какой
ступени органической лестницы лежит этот порог сознания?
Где та грань, за которой объект становится субъектом? Как
1
«Витализм и наука».
выбраться из этой дилеммы? Не допустить ли, что сознание
разлито в природе, что оно глухо тлеет в низших существах и
только яркой искрой вспыхивает в разуме человека? Или,
лучше, не остановиться ли там, где порывается руководящая
нить положительного знания, на том рубеже, за которым расстилается вечно влекущий в свою заманчивую даль, вечно убегающий от пытливого взора беспредельный простор умозрения»?*.
Как и двадцать слишком лет тому назад, я остаюсь при убеждении, что по отношению к реальному миру человеческая мысль
представляет две области: одну, в которой она отправляется от
опыта (в широком смысле) и завершается опытной же проверкой — это область науки, и другую — где мысль зарождается
и замирает на почве умозрения — это область метафизики.
К этой последней, я полагаю, пока относятся одинаково как
рассуждение о мышлении химического вещества * * , так и рассуждения о химизме человеческой мысли.
Смешивать науку и метафизику «есть тьма охотников — я не
из их числа». И, прибавлю, до сих пор не имел повода в том раскаиваться.
Н.
ТИМИРЯЗЕВ.
* «Жизнь растения» 1878 г., стр. 217. Такова же фактически и точка
зрения Бунге. Поговорив во введении о психологическом, интроспективном методе, он, в конце концов, должен сознаться, что науке с ним пока
делать нечего, и во всей книге уже не возвращается к своим мечтаниям.
Ред.
* * Ферворн, один из новейших поборников психологического метода, основным критериумом жизни считает наличность деятельного белкового вещества. Ред.
ОТВЕТ ПРОФЕССОРА К. А. ТИМИРЯЗЕВА
НА ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО АКАДЕМИКА
А. С. ФАМИНЦЫНА*
12 января 1898 г.
Многоуважаемый
Андрей
Сергеевич.
С
пешу засвидетельствовать вам глубочайшую благодарность за выраженную вами готовность уничтожить
следы крайне для меня неприятной ошибки, вкравшейся
в вашу книгу. Считаю, однако, необходимым разъяснить, почему я придавал этому факту такое значение, так как обстоятельства дела могут быть неясны для многочисленных читателей вашего открытого письма. Вопрос не в том, как мы с вами
относимся к психике растений, а в том, что возникшей по этому
поводу между нами полемикой было затронуто мое доброе имя
как писателя.
В первой вашей статье, помещенной в январской книжке
«Мира божьего», вы приписали мне мысль, будто современная
наука может механически объяснить все жизненные явления от
* Настоящее письмо помещено в газете «Русские Ведомости», 1898 г.,
№ 247. Редч
жизни растения до жизни человека включительно. В февральской книжке того же издания я протестовал против вашего голословного заявления, утверждая, что никогда такой мысли не
высказывал. Мой протест в течение восьми месяцев оставался
без ответа, а в предисловии .к отдельному изданию ваших статей та же мысль была повторена вновь, но уже моими собственными словами.
Я всегда чтил завет Гоголя: с печатным словом должно обращаться честно. Если бы приведенные вами слова оказались
моими, я бы почел, что навсегда лишился права выступать в печати. Человек, настойчиво утверждающий, что он не высказывал известной мысли, и уличенный в противном, навсегда лишается доверия своих читателей. Вот почему мне необходимо
было возможно гласное разъяснение того, что вы так любезно
и разъяснили, т. е. факта, что вы во втором случае по ошибке
приписали мне чужие слова. Этим собственно и исчерпывается
это прискорбное обстоятельство. Прочитав первую половину вашего письма, я вздохнул свободно, сказав себе: l'incident est
clos (инцидент закончен).
Но, к сожалению, второй частью вашего письма вы испортили все впечатление первой. Вы пожелали дать мне ответ на упомянутое выше мое возражение («Мир божий», февраль 1898),
вполне притом сознавая, как это неудобно в пределах краткой
газетной заметки. Несмотря, однако, на ее краткость, вы вполне
успели достигнуть своей цели, выставив меня, в глазах многочисленных читателей, человеком, наговорившим кучу несообразностей, запутавшимся в противоречиях, и которому вы не знаете, что и отвечать. Сопоставляя это место вашего письма с его
началом, иной догадливый читатель может, пожалуй, подумать,
что, потерпев неудачу в полемике с вами, я, подобно тем вашим
недоброжелателям, о которых вы упоминаете в письме, воспользовался случаем «эксплоатировать вашу ошибку» «как благовидный с внешней стороны полемический прием». Но такое превратное обо мне мнение может сложиться у читателя только благодаря своеобразности вашего изложения. Полемизируя со мной,
вы не позаботились о том, чтобы ознакомить читателей с действительным содержанием моей заметки. Вы прямо обращаетесь
ко мне с вопросом: «какого рода поправку мне сделать в тексте
на основании вашей заметки?» Но ведь вся сущность моей заметки заключалась в указании на такую поправку; я обращал
ваше внимание на то, что в вашей январской статье вы не имели
права приписывать мне голословно мысль, которой я никогда
не высказывал
Обойдя молчанием это главное содержание
моей заметки, собственно только и вынудившее меня вступить
в эту прискорбную полемику, вы жалуетесь, что мысли мои
так сбивчивы и противоречивы, что вы затрудняетесь их себе
выяснить, и даже пытаетесь поднять меня на смех, давая понять,
будто бы я одним духом и признаю, и отвергаю психику растений. А между тем в действительности я высказываю нечто совсем иное. Я говорю, что, затронув вопрос о сознании растений
(задолго до вас и до Бунге), я тогда же отнес, как отношу и
теперь, этот вопрос к области чистого умозрения, к области
метафизической, — а метафизике нет места в положительной науке. Мысль, — я полагаю, — достаточно ясная, не заключающая противоречий и во всяком случае не смехотворная.
Мысль эта, думаю, для ваших читателей была бы не менее понятна, чем ваши бездоказательные сетования на ее непонятность.
Во всяком случае, буду надеяться, что в обещанном вами
«обстоятельном ответе» вы уже будете иметь в виду действительное содержание моей заметки, а не то каррикатурное, чисто субъективное о ней представление, которым вы поспешили поделиться с читателями вашего открытого письма.
В заключение позвольте еще раз выразить вам, многоуважаемый Андрей Сергеевич, мою глубочайшую благодарность
за то, что вы совершенно устранили из нашей полемики ошибку,
которая, я готов с вами согласиться, причинила вам, пожалуй,
более вреда, чем мне.
К.
ТИМИРЯЗЕВ.
Ту самую мысль, которую чорез несколько месяцев, уже по ошибке,
вы приписали мне текстуально.
1
ГШ
ПИСЬМО к ! А. ТИМИРЯЗЕВА И. П. ПАВЛОВУ
1 января 1910 г.
Глубокоуважаемый
Иван Петрович!
Н
е сумею передать вам, как меня обрадовало и успокоило ваше любезное письмо. Отправив телеграмму под
глубоким впечатлением вашей речи*, я только после спохватился, что могли сказать, а кому какое дело до того, что я,
ничего не смыслящий в ее предмете, о ней думаю, но потом успокоил себя тем, что восхищаться никому не запрещено. Ваше
дружеское, товарищеское отношение ко мне окончательно успокоило и обрадовало не только за себя, но и за нашу науку.
Мне приходится постоянно воевать с ботаниками старыми и молодыми, русскими и немецкими, проповедующими, что физиологи должны отказаться от «строгих правил естественно-научного мышления» * * , заменив их бреднями какой-то по счастью
* Речь «Естествознание и мозг», произнесенная 28/ХІІ
Москве на XII съезде естествоиспытателей и врачей. Ред.
* * Слова из речи И. П. Павлова. Ред.
1909 г. в
несуществующей фито-психологии.'А теперь, когда я могу указать, что такой «великий физиолог земли русской», как вы,
считаете своим призванием изгнать психологический метод из
его последнего оплота в физиологии, я почувствовал твердую
почву под ногами для оказания им дальнейшего отпора.
Ваша речь мне представляется событием в истории естествознания; я глубоко сожалею, что не был его очевидцем, и вообще возможность увидеть вас и побеседовать с вами была для
меня главной прелестью съезда. Позвольте же мне еще раз принести сердечную благодарность за ваши добрые и лестные для
меня строки.
Искренне вас уважающий и преданный
К.
ТИМИРЯЗЕВ.
Письмо
И.
Левитана
К.
А.
Х ^ / Й
таза:zs
(Cm. na odopomtj
Тимирязеву
ПИСЬМО И. ЛЕВИТАНА К. А. ТИМИРЯЗЕВУ
1 февраля 1900.
М
не очень досадно, многоуважаемый Климентий Аркадьевич, что вы не застали меня дома. Я очень мечтал
о том, чтобы показать вам мои работы.
Приношу вам также мою глубокую благодарность за брошюру вашу, которую прочел с большим интересом. Есть положения удивительно глубокие в ней. Ваша мысль, что фотография увеличивает сумму эстетических наслаждений, абсолютно
верна, и будущность фотографии в этом смысле громадна.
Еще раз благодарю вас. Пользуюсь случаем заверить вас
в моем глубочайшем уважении.
И.
ЛЕВИТАН.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
К V ТОМУ
СОБРАНИЯ
С О Ч И Н Е Н И Й
К.
А . Т И М И Р Я З Е В А
ПРОФЕССОР.
АО К» ТИМИРЯЗЕВ
30
К. 1. Тимирязев,
m F
первоначальном плане распределения материалов полного собрания сочинений К. А. Тимирязева по томам
предполагалось значительную часть содержания V тома перенести в другие тома. Это прежде всего касалось очерков биографического характера, для которых вместе
с работами по истории науки отводился VIII том. Однако желание по возможности сохранить распределение статей, намеченное самим автором, и обилие статей, предназначенных
для VIII тома, привели к тому, что сборник этот за исключением трех статей остается в том виде, в каком он был выпущен при жизни автора в 1908 году.
Настоящий V том полного собрания сочинений К. А. Тимирязева, носящий название «Насущные задачи современного
естествознания» (название это было дано самим автором
в 1904 году) имеет следующую историю. Очень малая часть
входящих в состав этого тома статей впервые вышла в виде
30*
467
сборника «Из области физиологии растений — публичные лекции и речи» и была напечатана весной 1888 года (издание типографии А. А. Карцева, Москва). В состав этого сборника
входили следующие статьи:
I. Общественные задачи ученых обществ.
II. Основные задачи физиологии растений.
III. Действие света на хлорофилловое зерно.
IV. О физиологическом значении хлорофилла.
V. Современное состояние наших сведений о функции
хлорофилла.
VI. Полвека опытных станций.
V I I . Действие электрического света на растение.
V I I I . Опровергнут ли дарвинизм.
I X . Растение— сфинкс.
X . Растение и солнечная энергия:
1) Круговорот углерода.
2) Почему и зачем растение зелено.
Большая часть этих статей была впоследствии включена
самим автором в сборник «Солнце, жизнь и хлорофилл», составляющий I и II тома настоящего полного собрания сочинений (статьи III, IV, V, I X и X приведенного выше списка).
Статьи VI и VII вошли в сборник, также составленный самим
автором — «Земледелие и физиология растений» (или III том
настоящего собрания). Наконец, статья V I I I вошла в сборник
«Чарлз Дарвин и его учение». Только статьи I и II вошли
в сборник «Насущные задачи современного естествознания».
Первое издание этого сборника — под заглавием «Некоторые
основные задачи современного естествознания» вышло в 1895 году (издание В. Н. Маракуева, Москва). В этот сборник, кроме
указанных выше двух статей, вошли: «Праздник русской
науки»; «Чарлз Дарвин как тип ученого»; «Эволюция и этика»
(перевод речи Т. Гёксли); «Факторы органической эволюции»
и «Витализм и наука». К. А. посвятил этот сборник «Брату
и первому своему учителю естествознания Д. А. Тимирязеву».
Наиболее полным является издание 1908 года (издание
В. Н. Маракуева, Москва). В него вошли еще следующие статьи:
«Дарвинизм перед судом философии и нравственности» (отрывок из статьи «Опровергнут ли дарвинизм»); «Луи Пастер»;
«Фотография и чувство природы»; «Павел Антонович Ильенков»; «Александр Григорьевич Столетов»; «М. Бертло»; «Наука
и обязанности гражданина» (перевод статьи Пирсона); «Расширение области наших чувственных восприятий» (перевод речи
О. Винера); «Творчество природы и творчество человека»
(отрывок из X лекции курса «Исторический метод в биологии»);
«От дела к слову — От зверя к человеку»; «Антиметафизик»
(перевод статьи Больцмана) и, наконец, «Столетние итоги
физиологии растений». Кроме этих трех изданий сборника,
было одно сокращенное, выпущенное издательством «Книга»
в 1923 году после смерти автора (подготовлено автором
в 1919 г.). Для издания V тома настоящего собрания сочинений К. А. Тимирязева за основу было взято наиболее полное
издание 1908 года. Однако редакция сочла целесообразным
перенести из этого сборника в остальные тома то, что фактически самим автором уже было перенесено в другие его книги
и сборники. Так, например, статья «Чарлз Дарвин как тип
ученого», помещавшаяся автором в книге «Чарлз Дарвин и его
учение», так же как и «Дарвинизм перед судом философии
и нравственности» (часть статьи «Опровергнут ли дарвинизм»)
войдут в том VII полного собрания сочинений. Наконец, «Творчество природы и творчество человека» как часть X лекции
курса «Исторический метод в биологии» войдет в VI том собрания сочинений. Таким образом, из сборника «Насущные задачи современного естествознания» перенесено в другие тома
полного собрания сочинений по указанным выше соображениям
только три статьи, причем целесообразность такого переноса
трудно оспорить.
*
Перейдем к историческим справкам, касающимся отдельных статей этого сборника.
Начнем с предисловий. Просматривая их начиная с первого, помеченного 1888 годом (напечатано в приложении к Ѵ т о му), мы видим, как с течением времени все резче и резче выступали в предисловиях общественно-политические взгляды автора
и как они развертывались и созревали. В предисловии 1888 года
упоминается только о неверных взглядах на роль хлорофилла
у Шунка, высказанных им в речи на съезде британской ассоциации, и у Сакса и Прингсгейма, к которым Шунк отсылал
желающих изучить этот вопрос, а также на неудовлетворительное изложение этого вопроса в учебнике проф. Фаминцына. В связи с этим К. А. считает необходимым выступить
перед широкими слоями людей, «сочувственно относящимися
к изучению природы».
Но уже в предисловии 1895 года мы встречаем следующие
мысли. Наряду с обсуждением коренных вопросов, «занимавших и продолжающих занимать не только биолога и натуралиста вообще, но... и всякого образованного человека, интересующегося успехами естествознания», ставится обсуждение
и «средств борьбы против несправедливого раздела благ, завоеванных цивилизацией, между представителями труда умственного и механического» и «указывается на долг представителей науки, со своей стороны, способствовать выполнению
пропасти, все более и более разделяющей человечество на два,
если не всегда враждебные, то почти перестающие понимать
друг друга лагеря».
Очень важно замечание, отражающее нападки того времени
на дарвинизм, которые впоследствии были использованы для
других целей в качестве оправдания (ссылкой якобы на Дарвина) восстановления средневековых ужасов фашизма. «Борьба
за существование, — говорится на стр. X и X I изд. 1895
и стр. X X X , X X X I изд. 1908 года (стр. 31 настоящего-издания), — не имеет ничего общего с учением о нравственности,
так как человеческая нравственность создана не биологѣческим, а социальным строем, создана ,,обществом и для общества" (подчеркнуто нами. А. Т.).
В предисловии 1904 года — с этого года сборник стал
называться «Насущные задачи современного естествознания»—
основная задача сборника определяется уже как «Борьба
со всеми проявлениями этой реакции — вот самая общая,
самая насущная задача естествознания, — отзвук о ней слышен
почти на каждой странице этой книги» (стр. X V I I изд. 1904).
В этом же предисловии начинают вскрываться и политические корни реакции в науке. «Отсюда понятно, — говорится
на стр. X X I I , изд. 1904, — что люди настоящего, торжествующее мещанство, ставят на пьедестал философа, обнимающего
в своей ненависти и демократию, и науку. Не знаю, по какому
недоразумению принято считать Ницше бичом буржуазии,
когда его учение осуществляет самые сокровенные ее вожделения».
Наконец, в предисловии 1908 года сопоставление наущи
и демократии идет еще дальше. «Как метафизика, желая удержать развитие человеческого разума рамками своей схоластической диалектики, невольно вынуждена бросать приветливые взгляды своему исконному врагу — клерикализму, так
и та часть буржуазии, которая не желает подчиниться закону
развития, вынуждена вступать в союз с теми силами, победительницею которых еще недавно себя считала. Наконец, и
вздыхающая по прошлом метафизика и тянущаяся назад буржуазия не прочь протянуть друг другу руку помощи.
В мировой борьбе, завязывающейся между той частью
человечества, которая смотрит вперед, и тою, которая роковым
образом вынуждена обращать свои взоры назад, на знамени
первой будут начертаны эти слова — наука и демократия»...
Как развивались дальше взгляды автора, приведшие его
к тому, что он без оговорок стал на сторону восставшего рабочего класса, будет видно из I X тома настоящего издания,
носящего название «Наука и демократия».
Прежде чем перейти к рассмотрению основных статей сборника и их истории, необходимо устранить еще одно недоразумение, распространившееся особенно сильно в последние
Годы. Это недоразумение связано с фразой предисловия 1904 года: «Наука сама себе философия». Из этой фразы, вырванной
из текста, теперь сплошь и рядом делают выводы, будто бы
она направлена против материалистической философии1.
Такой вывод сделал И. А. Боричевский в 1925 году на дискуссии,
посвященной книге И. И. Степанова-Скворцова «Современное естествозна'ниеи исторический материализм». См.Сборник «Механистическое естествознание и диалектический материализм», стр. 48—55. Выпад Боричевского встретил тогда единодушный отпор со стороны всех участников
упомянутой дискуссии. Тем не менее заявления, аналогичные заявлению
Боричевского, периодически повторяются.
1
Вместо каких бы то ни было объяснений и длинных исторических изысканий приведем основные мысли всего того отрывка,
в котором помещена эта фраза. После приведенных нами уже
слов о том, что самая большая, самая насущная задача естествознания — борьба со всеми проявлениями этой реакции,
идет пояснение: в чем и как эта реакция проявляется. «Реакция эта обнаруживается... в заявлении, что научная мысль
зашла, будто бы, в тупик, что ей будто бы некуда далее итти
в этом направлении, что она должна искать какого-то обновления, возрождения под руководством пробудившейся, будто бы,
философской мысли. Что это движение реакционное, ясно уже
из того факта, что вслед за этим заявлением неизменно следует
призыв вернуться к (имя рек), и чем дальше, тем лучше, к Канту, так к Канту, а еще лучше к Фоме Аквинскому. Какого еще
нужно более наглядного testimonium paupertatis (свидетельство бедности. А. Т.), более очевидного доказательства полного бесплодия этого прославляемого возрождения философской мысли, не предлагающей ничего своего, нового, а только
с вожделением обращающей свои взоры назад». Из приведенного отрывка совершенно ясно, о какой философии идет речь:
ясно, что здесь идет речь о попытке поставить на место науки
с ее стихийным материализмом реакционную идеалистическую
философию. И здесь мы видим один из первых этапов того
попятного движения,которое в наши дни проявляется в «науке»
фашистских стран.
И вот по отношению именно к этой философии сказаны
слова, напечатанные следом за приведенными строками:
«Наука должна громко заявить, что она не пойдет в Каноссу.
Она не признает над собой главенства какой-то сверхнаучной,
вненаучной, а попросту ненаучной философии», и далее: «Наука
сама себе философия, та философия, которую в Англии семнадцатого века называли просто „новой", возводя ее начало к Галилею и Бэкону...»
Все приведенные выдержки не оставляют никакого сомнения в том, что фраза «Наука сама себе философия» есть противопоставление науки идеалистической философии и в то время—
в применении к той философии, которая выдвигалась буржуазией, боявшейся материализма истинной науки, — такой
лозунг был вполне правилен и в легальной литературе того
времени был единственно возможным.
В том, что мы имеем дело именно с этим вполне заслуженным ударом, направленным в сторону идеалистической философии, мы находим подтверждение в примечании (на стр. X X I ,
изд. 1908). «Летом текущего года в Женеве собирается философский конгресс; из четырех вопросов, на нем обсуждаемых,
один посвящен успехам телеологии и витализма в современной
биологии (реферат Рейнке). То, что составляет позор науки,
современная философия спешит записать себе на приход».
Перейдем теперь к отдельным статьям сборника.
I. «ПРАЗДНИК РУССКОЙ НАУКИ»
Речь, читанная при открытии I X съезда русских естествоиспытателей и врачей. Эта речь была написана в декабре
1893 года. Сохранилась фотография К. А. Тимирязева, сделанная как раз во время писания этой речи, — она воспроизводится в начале настоящего тома. Позднее, 9 апреля 1898 года,
в день тридцатилетнего юбилея К. А. студенты-медики обратились к известному художнику В. Д. Поленову с просьбой
сделать виньетку на первый лист приветственного адреса.
Поленов, лично знавший К. А. Тимирязева, с большой охотой
согласился выполнить просьбу студентов, использовал ряд
фотографий и в том числе и упомянутый выше снимок.
В рассматриваемой здесь речи интересна мотивировка,
почему съезд является не только праздником науки, но и
праздником русской науки. Отметая все, что могло пахнуть
буржуазным национализмом, и отмежевываясь от пренебрежения к истории науки в России, под предлогом того, что
наука интернациональна, К. А. выдвигает те стороны истории
нашей художественной литературы и нашей науки, которые
составляют нашу национальную гордость в лучшем смысле
этого слова, как это понимал Ленин.
«Кто были те русские люди, которые заставили уважать
русское имя в области мысли и творчества», — спрашивает
К. А. и дает сейчас же следующий ответ: «Конечно, прежде
всего, художники слова, те, кто создали этот „могучий, прав-
дивый свободный русский язык", одно существование которого служит ,,поддержкой и опорой в дни тягостных раздумий".
Это, прежде всего, Пушкин, Гоголь, Тургенев, Толстой, а
после них на первом плане, конечно, представители того знания, которое нашло себе первого страстного, неутомимого
представителя в первом творце русского языка (Ломоносов)».
А дальше идет перечисление: «Лобачевские, Зинины, Ценковские, Бутлеровы, Пироговы, Боткины, Менделеевы, Сеченовы,
Столетовы, Ковалевские, Мечниковы — вот те русские люди,
повторяю, после художников слова, которые в области мысли
стяжали русскому имени прочную славу и за пределами отечества». Эти слова бьют не в бровь, а в глаз по глубоко враждебной нам теории, пущенной еще так недавно врагом народа
Бухариным о том, что Россия до революции была нацией Обломовых.
II. «ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ЗАДАЧИ У Ч Е Н Ы Х ОБЩЕСТВ»
Эта речь была произнесена в 1884 году при открытии ботанического отдела Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. К. А. Тимирязев был избран председателем этого отдела и оставался на этом посту до своей болезни
в 1909 году. Почти на каждом заседании Общества он выступал
с докладами, — большая часть докладов сохранилась только
в виде заглавий (см. приложение «Отчет отделения ботаники
Общ-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии). В этой речи, несмотря на ее более чем полувековую
давность, высказаны мысли, не утратившие своей свежести
и в наше время. Так, например, говоря о далеко зашедшем
разделении труда в науке, вызванном ее ростом и связанной
с этим неизбежной специализацией, К. А. высказывает следующую мысль: «Конечно, не сетовать об этом роковом, бесповоротном ходе развития, а направить его не ко вреду, а
к пользе, — вот в чем одна из насущнейших потребностей
науки. Для этого ей стоит только подражать природе. Разделение труда между отдельными орунами тела клонится не
ко вреду, а к пользе, к совершенству, потому что вред не в самом разделении труда, а лишь в несовершенстве обмена плодами
этого труда... Следовательно, не отказаться от специализации
научного труда, что невозможно, а сделать безвредными ее
последствия, обеспечив возможно совершенный обмен продуктов этого разделенного труда, — вот в чем задача. И здесь
на первый план, мне кажется, выступает деятельность ученых
обществ».
Выдвигая значение научного общества в деле критики
появляющихся исследований, К. А. отбивает ходячее возражение о том, что критиковать могут только специалисты своего
дела. «Кто не испытал, — говорит он, — как метко, как удачно
бывает иногда замечание именно свежего человека, человека,
знакомого с предметом вообще, но не утратившего свободы
суждения вследствие долгой привычки итти по однажды наторенной колее, смотреть под одним и тем же углом зрения».
Эта мысль наводит К. А. на другую,которая в наше время сохранила все свое актуальное значение. «Только на почве ученых
обществ, — говорит К. А., — ученый имеет случай встречаться
с представителями практического прикладного знания, ботаник, например, с сельским хозяином и садоводом. Излишне,
кажется, говорить, что эта встреча полезна для обеих сторон;
ученые уже давно отвыкли от прежнего надменного отношения
к тем запасам знания, которые приобретает практик путем
своих долголетних наблюдений. Примера Дарвина достаточно
для убеждения тех, кто и теперь продолжал бы с высокомерием относиться к этому источнику знания...
Наконец, стоит напомнить и тот общеизвестный случай,
что практики, всего далее стоящие от области науки, простые
земледельцы, в том числе и наши московские крестьяне, как
свидетельствуют судебные хроники, в одном сложном вопросе
опередили науку. Непосредственным наблюдением они самостоятельно и задолго до науки открыли факт перехода ржавчины с барбариса на злаки, — факт вместе с другими, подобными ему, положивший основание учению о полиморфизме
микроскопических грибов, которым так справедливо гордилась наука пятидесятых и шестидесятых годов».
Разве не приходится теперь в нашей советской практике
напоминать о подобных фактах кое-кому из оторвавшихся
от практики наших современных людей науки?
И вот, при таком внимательном отношении к тому, что
дает практика для теории, К. А. тонко подмечал то враждебное к науке отношение, которое скрывалось у сановников царской России под видом особого покровительства прикладным
знаниям: «Не говорят ли науке: подавайте нам листеровские
повязки; это очень полезно, тем более, что все количество
жизни, которое спасает открытие Листера, быть может, потребуется для нового изобретения Круппа; подавайте зеленый
горошек среди зимы, — это очень приятно, но оставьте только
в покое эти никому ненужные, бестактные вопросы о происхождении и начале жизни, т. е. именно те вопросы, ради которых
поколения ученых только и посвящали свой труд, и время,
и талант исследованиям, в конце которых явились и листеровская повязка в наших госпиталях, и консервы горошка на наших столах».
Говоря о задаче популяризации науки, К. А. в этой речи
указывает, что эта задача «только начало расплаты того веками накопившегося долга, который наука, цивилизация,
рано или поздно, должна же вернуть тем темным массам, на
плечах которых они совершили и совершают свое торжественное шествие».
I I I . «ЭВОЛЮЦИЯ И ЭТИКА»
Перевод речи Томаса Гёксли, произнесенной 18 мая
1893 года.
К. А. Тимирязев любил включать в сборники своих статей
переводы речей тех людей науки, которые высказывали мысли,
сходные с его собственными, — в этих речах иностранных ученых он как бы видел подтверждение своих взглядов и хотел
поделиться этим с читателями.Томас Гёксли был одним из ярых
защитников дарвинизма, но в области философии он занимал
колеблющуюся позицию, для которой он сам придумал новый
термин «Агностицизм». Энгельс воевал с Гёксли за его отступления от материализма и непоследовательность. Агностицизм, в лучших его проявлениях, Энгельс называл «стыдливым
материализмом». Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме» указывает, что открытый спиритуалист Джемс Уорд
ведет систематическую войну против «натурализма и агностицизма»
особенно против Т . Гёксли, не за то, что он был недостаточно определенным и решительным материалистом, в чем
упрекал его Энгельс, а за то, что под его агностицизмом скрывался в сущности материализм. Шатания в области философии
у Гёксли всего виднее из следующего отрывка, который Ленин
цитирует по книге Уорда ( Л е н и н , изд. III, т. X I I I , стр. 170).
«Само по себе не важно, будем ли мы выражать явления (феномены) материи в терминах духа, или явления духа в терминах
материи — и та, и другая формулировка в известном относительном смысле истинна». Ленин к этому добавляет в скобках («относительно устойчивые комплексы элементов», по Маху) и дальше
продолжает цитатуиз Гёксли: «но с точки зрения прогресса науки
материалистическая терминология во всех отношениях предпочтительнее. Ибо она связывает мысль с другими явлениями
мира..., тогда как обратная им спиритуалистическая терминология крайне бессодержательна (utterly barren) и не ведет
ни к чему, кроме путаницы и темноты. Едва ли может быть
сомнение в том, что чем дальше идет вперед наука, тем более
широко и тем более последовательно все явления природы
будут представляемы посредством материалистических формул
и символов» (I том Уорда «Натурализм и агностицизм», цитированной выше книги стр. 17—19).
К этой же цитате Ленин добавляет следующие исключительно ценные строки: «Так рассуждал „стыдливый материалист" Гексли, не хотевший ни в каком случае признавать материализма, как „метафизики", незаконно идущей дальше
„групп ощущений"»... «Философия Гексли—точно так же
есть смесь юмизма и берклеанства, как и философия Маха.
Но у Гексли берклеанские выпады — случайность, а агностицизм его есть фиговый листок материализма. У Маха „окраска" смеси иная, и тот же спиритуалист Уорд, ожесточенно
воюя с Гексли, ласково треплет по плечу Авенариуса и Маха»
(стр. 171, там же).
В приведенной речи Гёксли можно найти все эти черты;
и берклеанство и агностицизм выступают, например, очень
1 Так назван двухтомный «труд» Уорда. А.
Т.
ярко в следующем отрывке: «Допустив посылки, я не знаю,
как можно уклониться от заключения Берклея, что „субстанция" материи является метафизической неизвестной, для существования которой нельзя предъявить доказательств. Но
Берклей, повидимому, не так ясно представлял себе, что и
существование субстанции духа также требует доказательства,
и что результатом беспристрастного приложения его аргументации является сведение всего к существованию и последовательности феноменов, за пределами чего не существует ничего доступного познанию». Здесь мы видим, как Гёксли приходит к позиции Маха.
Но что же К. А. Тимирязев находил у Гёксли сходного
со своими взглядами? Гёксли, подобно Тимирязеву, будучи
убежденным дарвинистом, не распространял теории Дарвина
в собственном смысле этого слова на человека и в этом отношении мысли Гёксли и сейчас бьют по фашистским «теориям».
«Как я уже указывал выше, применение к жизни правил,
представляющихся высшими с этической точки зрения, — правил, которые мы связываем с представлением о праведности
и добродетели, — влечет за собой образ действия, во всех
отношениях противный тому, который обусловливает успех
в космической борьбе за существование... Эти правила... способствуют не переживанию наиболее приспособленного, но
приспособлению наибольшего числа к переживанию».
В то же время Гёксли становится на сторону тех, кто
считает, что нравственное чувство возникло «тем же путем,
каким возникли и другие естественные явления, — путем
эволюции».
Кроме того, Гёксли не раз высказывает мысли о воздействии человека на природу и в том числе на природу самого
себя, что, конечно, не могло не найти отклика у К. А. Тимирязева.
«С успехом цивилизации росло и это вмешательство человека в дела природы, — говорит Гёксли,—так что теперь
правильно организованные и высоко развитые искусства и
науки облекли человека такою властью над природой, какой
не приписывали прежде и кудесникам».
О воздействии человека на самого себя Гёксли высказывает следующую уверенность: «Разум, превративший собрата
волка в верного защитника овцы, успеет же наконец побороть
в цивилизованном человеке инстинкты дикаря».
Особенностью произведений Гёксли является
большое
остроумие, на что обращал внимание Энгельс. Так, в заключении своей статьи «Естествознание в мире духов» Энгельс
пишет: «И вот эмпиризм оказывается вынужденным противопоставить назойливости духовидцев не эмпирические эксперименты, а теоретические соображения и сказать вместе
с Гёксли: «Единственная хорошая вещь, которую, по моему
мнению, можно было бы вывести из доказательства истины
спиритизма, это — новый аргумент против самоубийства. Действительно, лучше жить и быть чистильщиком улиц, чем,
в качестве покойника, болтать чепуху устами какого-нибудь
медиума, получающего гинею за сеанс!». («Диалектика Природы», ГИЗ., 1930 г., изд. I I I , стр. 83—84.)
IV. «ФАКТОРЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ»
Речь, произнесенная на третьем общем собрании V I I I съезда
в Петербурге. Это было последнее выступление К. А. Тимирязева на русских съездах с большим обзорным научным
докладом. На следующем IX съезде в Москве, когда К. А. был
избран председателем, он выступил с приветственной речью
«Праздник русской науки», о чем мы уже упоминали. Большой
успех этих выступлений К. А. на съездах и нежелательное для
многих из руководителей тогдашнего научного мира содержание его речей привели к тому, что на следующий X съезд он
уже не получил приглашения от организаторов съезда выступить на общем собрании съезда. Десятый съезд происходил
также в Петербурге в декабре — январе 1901/02 года. По
этой причине он решил на съезд не ехать, тем более, что на
первом общем собрании съезда должен был выступить товарищ министра просвещения Лукьянов с виталистической речью.
Лукьянов действительно выступил с явно поповской проповедью о союзе науки с религией. Как потом передавали, по
окончании этой речи сидевший в президиуме проф. Шимкевич
демонстративно встал и перекрестился, сказав вслух: «Миром
господу помолимся». Об этом выступлении проф. Шимкевича,
как о противоправительственном, в то время много говорили.
Прочитав отчет о речи Лукьянова в газетах, К. А. Тимирязев
еще раз подтвердил свое решение не присутствовать на съезде.
Через день или через два в газетах был помещен отчет о речи
московского физика проф. Н. А. Умова «Физико-химическая
модель живого вещества». Речь была направлена против витализма и являлась как бы ответом на речь Лукьянова. К. А.
сразу изменил свое решение, поехал на съезд, но записался
в члены не ботанической, а физической секции.
Ныне уже покойный, проф. Е. Ф. Вотчал, ученик К. А. Тимирязева, рассказывал, что на ботанической секции перед
самым началом одного из заседаний кто-то из членов президиума, запыхавшись, вбежал в комнату и прерывающимся
от волнения голосом прокричал: «Вы знаете, Тимирязев приехал и записался на секцию физики!» Воцарилось молчание,
которое проф. Вотчал картинно сравнивал с последней немой
сценой в «Ревизоре» Гоголя. После этого, за исключением
съезда 1909 года, происходившего в Москве, К. А. Тимирязев
больше ни разу не получал приглашений выступить на съезде
естествоиспытателей.
Мы привели эти данные, чтобы показать, в какой тяжелой
атмосфере приходилось К. А. жить и работать. Речь «Факторы
органической эволюции» имела и имеет большое значение как
провозглашение нового, тогда нарождавшегося направления
«экспериментальной морфологии»; в этой речи объединены
первые разрозненные тогда еще данные этого нового течения,
и ему впервые придана систематическая форма. Говоря об
успешных опытах базельского ботаника Фехтинга, К. А.
в этой речи восклицает: «Разве это не смелый шаг по пути
к тому, чтобы лепить органические формы, или, во всяком случае, по пути к объяснению, как лепит их природа».
Вот почему высказанные почти пятьдесят лет тому назад
в этой речи мысли сохранили все значение и в наше время,
когда усилия советского земледелия направлены к тому, чтобы
изменить формы наших культурных растений в интересах
получения высоких урожаев, и когда опыты в этом направлении приняли размеры, доселе невиданные.
В этой речи рассыпаны очень глубокие указания на то,
как надо поступать, чтобы «лепить формы». Так, изменения
формы под влиянием внешних воздействий нельзя ожидать
при кратковременном действии этих внешних влияний. «Очевидно, — говорит К. А., — можно ожидать и не таких результатов, если выращивать растение на вращающемся аппарате
с молодого возраста (для изучения зависимости от силы тяжести. А. Т.). С этой стороны понятно, что более глубокие изменения формы должны были появляться результатом влияний,
накопившихся в длинном ряде поколений, а потому они не
так-то легко поддаются обратному превращению».
Кроме того, мы имеем очень вескую критику того течения
формальной,
схоластической
генетики,
которое
вполне
оформилось позднее уже на наших глазах. Вот почему
эта речь может и теперь служить прекрасным пособием
для выяснения корней той дискуссии, которая протекала
в 1936/37 году на сессиях Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. Ленина. Очень интересны приведенные в примечании указания на связь тех течений, с которыми наша советская наука сейчас борется, с ошибочной теорией Дарвина о «пангенезисе», от которой Дарвин сам впоследствии отказался. Наконец, с методологической точки зрения
очень важны замечания о том, что естественный отбор объясняет сохранение полезных форм, объяснить же их возникновение призван не дарвинизм, а экспериментальная морфология.
Потому неверны те упреки, которые ставят в вину Дарвину,
что он своей теорией не дал объяснения возникновению всех
отдельных органических форм.
Эти нападки были блестяще отражены Энгельсом: «...Дарвин отвлекается от причин, вызвавших изменения в отдельных
особях; он в первую голову исследует, как подобные индивидуальные отклонения становятся мало-по-малу признаками
расы, разновидности или вида. Дарвин прежде всего интересуется не столько этими причинами, — которые до сих пор
отчасти совсем не известны, отчасти указываются лишь в самых общих чертах, — сколько рациональной формой, в
31 К. А. Тимирязев,
т. V
481
которой закрепляются действия, приобретая длительное значение. Что Дарвин приписал при этом своему открытию излишне широкий круг действия, что он сделал из него единственный фактор изменчивости видов и пренебрег вопросом
о причинах повторных индивидуальных изменений ради вопроса о форме их распространения — это недостаток, свойственный ему, как и большинству людей, действительно двигающих науку вперед (подчеркнуто нами. А. Т.)». (Анти-Дюринг, стр. 49, Партиздат, 1936 г.).
V. «ОСНОВНЫЕ
ЗАДАЧИ ФИЗИОЛОГИИ ГАСТЕНИЙ»
Течь, читанная на акте Петровской (ныне Тимирязевской)
земледельческой и лесной академии 21 ноября 1878 года. Содержание этой речи представляет собой в значительно расширенном и дополненном виде тему вступительной лекции К. А.,
когда он впервые начал преподавать физиологию растений.
Течь представляет особенный интерес, так как в ней отражены
все те взгляды, на основе которых К. А. построил свой курс
физиологии. Начинается она со следующих слов, сохранивших
всю свежесть и в наши дни: «Цель стремлений физиологии
растений заключается в том, чтобы изучить и объяснить жизненные явления растительного организма — и не только
изучить и объяснить их, но путем изучения и объяснения
вполне подчинить их разумной воле человека так, чтобы он
мог по произволу видоизменять, превращать, или вызывать
эти явления. Физиолог не может довольствоваться пассивной
ролью наблюдателя — как экспериментатор, он является деятелем, управляющим природой. Но не такова ли, ... и цель
стремлений, по отношению к растению, сельского хозяина
и лесовода: тот и другой стремятся подчинить растительный
организм своей власти, направить его деятельность так, чтобы
он давал возможно большее количество продуктов возможно
лучшего качества».
Далее в этой речи дается отповедь виталистам и указывается, что область «жизненной силы» — это «все то, что еще
не объяснено наукой, — тот остаток, с каждым днем уменьшающийся остаток фактов, которые еще ждут объяснения».
Далее подчеркивается значение опытов с так называемыми
«искусственными клеточками» Траубе, которым придавал в то
время большое значение и К. Маркс 1 .
Высоко оценивая значение опытов Траубе, К. А. все-таки
делает оговорку: «Говоря, что нет никакого основания предполагать какие-либо различия в химических процессах, совершающихся в организме и вне его, мы вовсе не желаем
утверждать, что в клеточке явления должны совершаться именно
так, как они совершаются в стеклянном стакане или в колбе...
Заметим кстати, что при подобном медленном обмене — через
перепонки или в органической среде — и неорганические
вещества имеют наклонность принимать формы, характерные
для организованных тел. Таковы, например, любопытные
опыты Фаминцына над получением углекислой извести в форме
крахмальных зерен». Отсюда ясно, что законы физики и химии остаются в силе, но только эти законы в живом организме
проявляются в специфических условиях или, как говорит
Энгельс: «Если химии удастся изготовить белок, то химический процесс выйдет из своих собственных рамок, как мы
видели это выше, относительно механического процесса. Он
проникнет в обширную область органической жизни. Физиология есть, разумеется, физика и в особенности химия живого
тела, но вместе с тем она перестает быть специально химией:
с одной стороны, сфера ее действия здесь ограничивается, но,
с другой, она поднимается на высшую ступень». (Ф. Энгельс.
«Диалектика природы», стр. 139, «Соцэкгиз», 1931 г.). К. А.
высказывает уверенность, «что химия современем, конечно,
не скоро еще, осуществит синтез и таких веществ, как крах1 Приводим
эти высказывания из письма К. Маркса к П. Л. Лаврову (18/ѴІ—1875). «Дорогой друг! Когда я был у Вас третьего дня, я
забыл сообщить Вам важную новость, которая, быть может, Вам еще не
известна. Физиологу Траубе в Берлине удалось создать искусственные клеточки. Это, конечно, еще не натуральные клеточки: в них нет
ядра. Смешивая коллоидальные растворы, например, желатину с сернокислой медью и т . п., получают шарики, окруженные оболочкой, которые
можно заставить расти посредством всасывания. И так образование
оболочки и рост клеточек вышли уже из области гипотез! Это большой шаг вперед...,» (К. М а р к с и Ф . Э н г е л ь с . Сочинения, т. X X V I ,
(стр. 392).
31*
483
мал, как белковые вещества, сомневаться в этом едва ли есть
какое логическое основание».
Дальше он говорит, что химик будущего все-таки всегда
будет связан количеством солнечной энергии, падающей на
землю. В настоящее время мы можем к этому добавить, что
современная физика указывает еще на внутриатомную энергию, как на источник энергии для человека, хотя пока мы еще
и не имеем практического способа извлекать эту энергию из
атомных ядер.
Заслуживает внимания вполне ясная и отчетливая формулировка в этой лекции тех взглядов, которые были потом подробно развиты в «Историческом методе в биологии» *. «Но, говоря, что жизненные явления, кроме причин физических,
управляются еще причинами историческими, не вводим ли мы
тем самым посторонний элемент, новое понятие, не прилагающееся к явлениям в мире неорганическом. Нимало. Вопервых, наши исторические причины — те же физические, но
действовавшие в прошлом; если они действуют теперь, то действовали и прежде, и, однажды отразившись на организме,
влияние их не могло исчезнуть бесследно... Скажут, химия
и физика не нуждаются в истории, да, пока они имеют дело
с общими законами или со случаями, искусственно вызываемыми, но не тогда, когда приходится применять их к случаям,
данным самой природой. Астрономия всегда служит образцом,
идеалом положительной науки, но разве она может объяснить
все настоящее нашего планетного мира, не прибегая к его
прошлому. Разве гипотеза Лапласа не основывается на таких же приемах, как те, которые употребляются в биологии».
В критике теории «пангенезиса» Дарвина, от которой Дарвин, как мы уже указывали, сам потом отказался, мы находим
критику тех уродливых черт современной генетики, которые
так недавно были взяты под обстрел на сессии академии сельскохозяйственных наук им. Ленина «... против „пангенезиса"
можно главным образом возразить, что это учение предполагает существование готовых материальных зачатков, вместо
* См. т. VI настоящего издания.
Ред.
того, чтобы предположить, что в зародыше даны только условия развития в том или другом направлении... Объяснять же
форму пред существованием в ней готовой зачаточной формы,
а в той — другой зачаточной формы и т. д. ..., значит не разрешать, а только отстранять, отодвигать разрешение вопроса».
В этой же лекции указывается, какое значение для теории
имеет практика. «Почти излишне напоминать, насколько учение Дарвина обязано фактам, приобретенным практическими
деятелями на поприще садоводства и скотоводства, вам известно, что одна из главных заслуг этого ученого заключается
именно в том, что он воспользовался этим громадным запасом
фактических знаний для построения своей теории, что самой
основной мыслью своего учения он обязан практикам. Едва ли
в истории наук можно найти более разительный пример плодотворности взаимного влияния этих двух отраслей человеческого знания — теоретической и практической».
Наконец, в этой же лекции ставится вопрос о происхождении жизни на земле. «Итак, кажется всего вероятнее предположить, — говорит К. А., — что это превращение не совершается при современных естественных условиях, что оно совершалось в отдаленном прошлом и быть может современем
вновь осуществится при искусственных условиях в наших
лабораториях. По крайней мере только такое разрешение вопроса действительно удовлетворило бы требованиям, венчало бы
здание биологической науки».
Все приведенные нами глубокие мысли, не утратившие
своей свежести и сейчас, в наши дни, представятся нам в еще
более ярком свете, если мы вспомним, когда и при каких условиях они были высказаны. Это происходило в самую беспросветную эпоху царской России, на официальном акте, где директор
Академии Ф. К. Арнольд, желая показать, что Академия находится на правильном пути и удовлетворяет поставленным
перед ней задачам, сказал: «Я могу, однако же, удостоверить
уже теперь, что многие землевладельцы, например, светлейший князь Чингис-Хан, графы Уваров, Бобринский, Шувалов, г. Фундуклей и т. д. держат несколько лет в своих имениях бывших в Петровской академии лиц, и тем самым под31**
485
тверждают, что признают их пригодными. Я даже получил
выражения благодарности Академии за доставленных хороших управляющих»
Итак, Академия в тогдашней России была школой подготовки управляющих для крупных помещиков! И вот, в этой
обстановке были высказаны мысли, которые не утратили своего
значения теперь, спустя почти шестьдесят лет.
Не обошлось в упомянутой нами речи директора и без
«нравоучения» студентам — не увлекаться «несвойственными
русскому духу утопиями и несбыточными, ложно понятыми
теориями» (А. Т.) 2 .
VI. «ВИТАЛИЗМ И НАУКА»
Это одна из самых боевых речей К. А. В основном она была
направлена против речи проф. И. П. Бородина «Протоплазма
и витализм» и отчасти против проф. С. И. Коржинского (речь
«Что такое жизнь»), пользовавшихся большим покровительством министерства просвещения.
Бородин произнес свою речь 28 декабря 1893 года на юбилейном заседании Петербургского общества естествоиспытателей (посвященном 25-летию общества), т. е. примерно в то
время, когда К. А. Тимирязев готовил свою речь «Праздник
русской науки». На съезде в январе 1894 года многие из членов съезда в присутствии К. А. расхваливали речь проф. Бородина, но текста ее в то время в печатном виде еще не было.
Речь впервые появилась в одном из так называемых «толстых журналов», именно в «Мире божьем», в мае 1894 года.
Речь «Витализм и наука» была произнесена 15 октября
1894 года на годичном собрании Общества любителей естествознания в большой аудитории Политехнического музея
в Москве.
1 Годичный
акт Петровской земледельческой и лесной академии
21 ноября 1878 года. Москва, Типография M. Н. Лаврова и К°, 1878,
стр. 4 (А. Т.).
2 Там же, стр. 4 [А.
Т.).
В приложении к настоящему тому напечатано письмо одного из крупнейших русских зоологов А. О. Ковалевского,
с восхищением отзывавшегося о речи К. А. Тимирязева «Витализм и наука» и картинно изображающего то подавленное
состояние, которое в свое время вызвала у него речь Бородина и особенно дружные аплодисменты, раздававшиеся по
адресу Бородина, — «даже Менделеев аплодировал!» Со слов
отца, пишущий эти строки живо помнит, с каким восторгом
была воспринята речь «Витализм и наука» и в особенности
примечание о джентльмене в смысле, который придавал этому
слову Франклин, покойным А. Г. Столетовым.
Реакционный характер выступления Бородина виден особенно в том, что он рассматривает «возрождение» витализма
как «здоровый» противовес «материализму шестидесятых годов» и для большего вразумления добавляет «да и не в одной
науке заметна эта перемена».
Возражать проф. Бородину в легальной форме в то время
было чрезвычайно трудно.
В речи К. А. на ряде примеров наглядно показано, как
выходят из трудностей люди науки, распутывающие сложнейшие взаимоотношения физико-химических явлений в живом организме: «Вот в этом-то бесконечно сложном сцеплении
физических явлений должны мы искать причину своих недоразумений, а не спешить приветствовать появление на сцену
какой-то неведомой жизненной силы». Здесь же напоминается
мудрое изречение Клод Бернара о том, что не надо бояться
противоречивых фактов, так как каждый противоречивый
факт есть зародыш открытия.
«Явлением пертурбаций Урана астрономы воспользовались
для открытия Нептуна. Виталисты не преминули бы воспользоваться ими для того, чтобы усомниться в законах
Ньютона».
Вообще вся речь в точности подтверждает свое заглавие.
Витализм в ней ясно и бесповоротно рассматривается как
противоположность истинной науке.
«
«Торжество витализма заключается только в неудачах
науки, торжество противоположного воззрения — в еѳ успехах».
V I I . «ЛУИ ПАСТЕР»
В одной из лучших речей К. А., посвященной памяти Л. Пастера, наряду с блестящей и вместе с тем сжатой характеристикой основных трудов Пастера, высказываются мысли о
взаимоотношении теории и практики, частью в очень картинной форме — в виде двух бесед, на протяжении 40 лет происходящих между негодующим моралистом и человеком науки —
теоретиком, своими трудами впоследствии давшим неисчислимые практические результаты и спасшего жизнь целого поколения людей. Под моралистом К. А. разумеет Л. Н. Толстого
с его выпадами против современной науки, скромный человек
науки — это Пастер. Но, несмотря на исключительную оценку
всей деятельности Пастера, выражавшуюся в словах «грядущие поколения, конечно, дополнят дело Пастера, но исправлять им сделанное едва ли придется, и как бы далеко они ни
зашли вперед, они будут итти по проложенному им пути, а
более этого в науке не может сделать даже гений», К. А. указывает на преимущество взглядов Бертло перед основной
установкой Пастера. Различие этих взглядов видно из следующего: «Причина брожения — жизнь микроорганизма, найти
микроорганизм, определить условия его существования —
вот задача исследователя», так определял ее Пастер. Наоборот, Бертло в самом начале шестидесятых годов прямо высказал мысль, что такая ограниченная биологическая точка
зрения не может, не должна удовлетворять физиолога, а тем
более химика. «Причина брожения лежит в микроскопической
клеточке; прекрасно, но эта клеточка не есть последняя единица, которая должна входить в расчеты физиолога, а тем более
химика. Эта клеточка — целая лаборатория, и вступает она в химическое взаимодействие со средою не своею совокупностью,
а через посредство входящих в ее состав веществ».
Эти взгляды Бертло подтвердил открытием растворимого
фермента, выделяемого дрожжевым грибком. Спиртовое же
брожение без участия микроорганизма при помощи бесформенного фермента было осуществлено Бухнером в 1897 году.
Таким образом химические взгляды Бертло одержали блестящую победу.
Подводя итог этому спору, К. А. высказывает следующую
мысль: «Быть может, как это не раз повторялось в истории
наук, ограничив область своего исследования, не углубляясь,
как Бертло, в анализ изучаемого явления, Пастер тем успешнее сосредоточил свои силы на том, что в тот момент было
всего важнее прочно установить, — на связи явлений с наличностью микроба; но также не подлежит сомнению, что
будущее принадлежит
этому более глубокому анализу
явления».
V I I I . «ФОТОГРАФИЯ И ЧУВСТВО ПРИРОДЫ»
Эта статья, равно как и последняя статья этого тома «Естествознание и ландшафт»
вскрывает эстетические взгляды
К. А. Тимирязева: он в сильной степени увлекался живописью
и был страстным фотографом, по преимуществу интересовавшимся пейзажем. В библиотеке К. А. сохранились издания,
посвященные крупнейшим художникам пейзажистам, и особенно издания, посвященные Тернеру. Кроме того, К. А. был
лично знаком с рядом художников, из которых укажем на
И. И. Левитана, В. Д. Поленова, И. И. Шишкина, А. М. Васнецова.
В данной статье, между прочим, указывается на роль
фотографии в развитии эстетического чувства у широких
масс.
I X . «ПАВЕЛ АНТОНОВИЧ ИЛЬЕНКОВ»
В этом биографическом очерке, посвященном одному из основателей Петровской академии, упоминается, что Ильенков
был в России одним из первых читателей первого тома «Капитала» Маркса. К. А. узнал о теории Маркса впервые именно
от Ильенкова. По его же инициативе К. А. Тимирязев был
привлечен в качестве преподавателя Петровской академии.
Предисловие к переводу книги Кайнда, посвященной творчеству
Тернера,
1
X . «АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ СТОЛЕТОВ»
В этом очерке жизни и деятельности одного из крупнейших
русских ученых второй половины X I X века вскрываются мрачные картины жизни русских университетов восьмидесятых
и девяностых годов. О некоторых деталях, особенно связанных с диссертацией князя Голицына, см. С. А. Новиков
«Биография К. А. Тимирязева» (том I, стр. 67—78, настоящее
собрание сочинений).
В год смерти Столетова (1896) на съезде Британской ассоциации знаменитый физик Дж. Дж. Томсон во вступительной
части своей президентской речи отметил большую потерю,
которую понесла наука, лишившаяся в этом году А. Г. Столетова, и отметил, что ето заслуги еще не оценены должным
образом.
В работах Столетова по так называемому фотоэлектрическому эффекту, или в «Актиноэлектрических исследованиях»,
как их называл сам Столетов, разработаны современные методы изучения электропроводности газов, с помощью которых
были открыты и изучены процессы ионизации газов, а также
явления радиоактивности.
X I . «МАРСЛЕН БЕРТЛО»
Предисловие к переводу книги Бертло «Наука и нравственность». Все это предисловие проникнуто борьбой против похода на науку, против утверждений о ее мнимом «банкротстве»,
словом, против того реакционного течения, которое именует
себя «возрождением идеализма». О том, какое положение,
по мнению К. А., наука занимает в современном буржуазном обществе и как формулировал Бертло общественные
задачи человека науки, всего яснее видно из следующего
отрывка:
«Современный буржуазный строй не отказывает науке
в известной доле почета, он готов предоставить ей крупицы,
падающие с роскошной трапезы капитализма, и это невольно заставляет порою задуматься о будущности этой
науки: разделяя с сегодняшними победителями их добычу,
не будет ли она когда-нибудь вместе с ними призвана к ответу».
Бертло напоминает, «что прошло безвозвратно то время,
когда невежество масс могло возводиться в принцип, что наука
не может оставаться монополией какой-нибудь олигархии, что
трудящийся имеет право на интегральное пользование плодами своего труда, и в них он найдет средство для предельного своего развития, физического, умственного и нравственного».
X I I . «НАУКА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАНИНА»
Перевод первой главы книги Пирсона «Грамматика науки».
По поводу этой главы из книги Пирсона необходимо отметить,
что Пирсон был ярым приверженцем философии Маха, с которым сам К. А. неоднократно воевал (см., например, Предисловие к сборнику «Солнце, жизнь и хлорофилл» в настоящем
собрании, том I, а также статью «Наука» из Словаря А. и
И. Граната, том VIII настоящего собрания).
Пирсон, будучи вполне законченным махистом, проявлял,
как это очень часто бывает с буржуазными учеными, непоследовательность, и в силу этой непоследовательности высказывал иногда приемлемые для материалиста взгляды. К числу
положительных сторон деятельности Пирсона, именно в силу
его непоследовательности, относится его защита Дарвина.
Ему приходилось в ежедневной печати выступать против знаменитого физика лорда Кельвина, когда тот публично, исходя
из своих религиозных взглядов, восставал против учения
Дарвина — одно такое выступление имело место в газете
«Тайме» в 1903 году. Конечно, эта защита Дарвина не могла
не вызвать сочувствия К. А. Кроме того, выступление Пирсона, — математика по специальности, — в защиту Дарвина
на основе статистических исследований не могло не вызвать
сочувствия со стороны К. А., когда одновременно математик
той же специальности (теория вероятностей) проф. П. А. Некрасов в Москве выступал с защитой идеализма. Привлекало
К. А. у Пирсона и отстаивание широкого распространения
науки в массах: «Научный склад мысли может быть приобре-
тен решительно всяким, и легчайший способ достижения этого
должен быть сделан доступным для всякого».
Наконец, К. А. привлекало также выступление Пирсона
против лозунга Дюбуа-Реймона «Ignorabimus» («Мы не узнаем»)
и выдвижение лозунга Галилея «Кто пожелал бы положить
предел человеческому разуму».
О том, насколько ложна была философская позиция Пирсона, мы находим подробные указания у Ленина: «Отметим,
что английский махист К. Пирсон, игнорируя всяческие философские ухищрения, не признавая ни интроекции, ни координации, ни „открытия элементов мира", получает неизбежный результат махизма, лишенного подобных „прикрытий",
именно: чистый субъективный идеализм... „Чувственные восприятия" (Sense impressions) — его первое и последнее слово».
Но в то же время он не сомневается в том, что человек мыслит
при помощи мозга, т. е. переходит на единственную правильную
материалистическую позицию. Ленин отмечает эту путаницу:
«Путаница у Пирсона получилась вопиющая! Материя — не
что иное, как группы чувственных восприятий; это его посылка; это его философия. Значит, ощущение и мысль — первичное; материя — вторичное. Нет, сознания без материи не
существует и даже будто бы без нервной системы! То-есть
сознание и ощущение оказывается вторичным. Вода на земле,
земля на ките, кит на воде» ( Л е н и н . Издание III, том X I I I ,
стр. 75).
Эта же непоследовательность видна и в данной статье.
Когда Пирсон говорит: «Цель науки ясна», это не более, не
менее, как полное истолкование вселенной... «Вселенная разрастается тем более, чем лучше мы начинаем понимать обитаемый нами уголок ее», то читателю, незнакомому с его философскими взглядами, может показаться, что он понимает вселенную, как объективно существующую вне нашего сознания.
Но в то же время тот же Пирсон несколькими строками дальше
говорит: «Нетрудно убедиться, что законы науки — продукты
человеческого ума, скорее, чем факторы внешнего мира»
(?! А. Т.).
Есть еще одно место в этой главе, где Пирсон за много лет до
оформления фашистской расовой теории, правда, робко, но
все же протягивает ей руку. Он принимает почти как доказанную теорию Вейсмана и особенно его вывод, что приобретенные
признаки не наследуются. Отсюда Пирсон делает вывод: «Никакая выродившаяся и слабая порода никогда не превратится
обратно в хорошую под совместным действием воспитания,
хороших законов и благоприятных санитарных условий. Эти
средства могут сделать отдельных членов этой породы сносными, если не сильными, членами общества, но тот же процесс
должен повторяться снова и снова с каждым новым отпрыском
в постоянно расходящихся кругах, если только эта порода,
благодаря условиям, в которые поставило ее общество (это
уже намек на принудительную стерилизацию. А. Т.), окажется
способной к размножению» (!! А. Т.).
И далее «Классовое деление, бедность, ограничение известной местностью. Все это способствует изоляции породы,
скучиванию негодных элементов...»
«Смешение дурной и хорошей породы... нельзя рекомендовать» (I! А. Т.).
Словом, у Пирсона получается весь арсенал фашистской
«науки». Это тем более поучительно, что Пирсон был либералом, боролся за Дарвина и, что самое важное, в его время
фашизма еще не было. Здесь особенно поучительна вся цепь
заключений Пирсона: она начинается с того, что убежденный
дарвинист Пирсон уверовал в «истинность» ошибочной теории
Вейсмана, смыкающейся с теорией пангенезиса, выдвинутой
Дарвином (от которой сам Дарвин имел мужество отказаться)
и отсюда логически пришел к расовой «теории». Любопытно,
что и антидарвинистические взгляды Бэтсона и многих других
генетиков имеют тот же источник и, следовательно, неминуемо должны привести в ту же пропасть, куда покатился от
Вейсмана Пирсон. Вот почему над этими ошибочными взглядами Пирсона надо, особенно теперь, серьезно призадуматься
тем из биологов, которые до самого последнего дня принимали за чистую монету все, что преподносила под видом
науки формальная генетика.
К этой части статьи Пирсона К. А. делает следующее примечание: «Мне кажется, с одной стороны, что положение о невозможности наследственной передачи приобретенных свойств
32 К. А. Тимирязев,
т. V
193
нельзя применять в такой абсолютной форме, как это делает
Вейсман; с другой стороны, современная биология все более
и более приводит к мысли, что организм в значительной мере
таков, каким его делает непосредственно окружающая его
среда.
В переводе на социальный язык, человек таков, каким его
делает социальная среда и прежде всего воспитание».
Таким образом, К. А. резко отметает рассуждения об исконных хороших и дурных породах.
X I I I . «РАСШИРЕНИЕ ОБЛАСТИ НАШИХ ЧУВСТВЕННЫХ
ВОСПРИЯТИЙ»
Перевод вступительной лекции Отто Винера. В этой лекции, в очень остроумной форме, доказывается, что каждый
физический прибор расширяет область наших чувственных
восприятий и тем непрерывно углубляет наши позиания окружающей нас природы. Этим, с точки зрения физики, пресекаются всякие росказни философов идеалистов о том, что наши
органы чувств налагают жесткие границы на наше познание
природы вместо того, чтобы служить, как это и есть на самом
деле, орудиями связи человека с миром.
XIV.
«ОТ ДЕЛА К С Л О В У - О Т З В Е Р Я К ЧЕЛОВЕКУ»
(РАЗМЫШЛЕНИЯ
УРНОЙ)
ДАРВИНИСТА
ПЕРЕД
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
Здесь, как и в других статьях, посвященных дарвинизму,
отметаются попытки применить дарвинизм непосредственно
к человеку. «Ошибка здесь, как и во многих случаях, мне
кажется, заключается в том, что ищущие аналогии забывают,
что задача исследователя заключается не только в том, чтобы
видеть сходство, где оно есть, но и не видеть его там, где его
нет, где оно прекращается». Говоря о том, что голосование заменило непосредственную борьбу, К. А. в дополнении, сделанном в 1917 году, делает оговорку, что не всякая борьба разрешается голосованием и что против пулеметов голосованием
не поможешь.
XV и X V I . «АНТИМЕТАФИЗИК».
ТЕЗИСА ШОПЕНГАУЭРА
ПО ПОВОДУ ОДНОГО
(Предисловие и перевод лекции Л. Болъцмана).
Лекция Больцмана направлена против идеалистической
философии. В этой лекции Больцман выступает, если отвлечься
от отдельных частностей, как убежденный материалист. Например, «Только тогда, когда мы поймем, что дух и воля не
представляют нечто независимое от тела, а только бесконечно
сложное действие частиц материи, которые путем развития
становятся все совершеннее и совершеннее; только тогда,
когда мы поймем, что и воля, и представление, и самосознание — лишь высшие ступени тех физико-химических сил материи, которые на первых порах сделали возможным для протоплазмического пузырька перемещение в места, более для
него благоприятные, и удаление от мест, менее благоприятных, — только тогда все в психологии цам станет ясным».
Очень интересны мысли Больцмана о происхождении
наших законов мышления и о связи этого происхождения
с теорией Дарвина.
«Мы можем, пожалуй, эти законы мышления считать априористическими в том смысле, что благодаря длившемуся несметные века опыту нашей расы, для неделимого они являются
уже прирожденными. Но логический промах Канта заключается в том, что он из этого сделал вывод о их непогрешимости во всех случаях их применения.
С точки зрения теории Дарвина этот промах легко объясним. Только то, что вполне верно, вполне надежно, наследуется. Что не верно, не надежно—отбрасывается. Таким
образом эти законы мышления приобрели теперь такую кажущуюся непогрешимость, что представлялось возможным
самый опыт привлекать к их суду...
Точно так же прежде думали, что наш глаз, наше ухо совершенны, потому что они действительно достигли изумительного совершенства. Но теперь мы знаем, что это была ошибка,
что совершенство это неполное. Точно так же я готов оспаривать полное совершенство и наших законов мышления. Наоборот, эти законы мышления до того вошли в наши неизменные
32*
495
привычки, что они бьют далее цели и не выпускают нас из своей
власти...»
Вся статья Больцмана проникнута необыкновенным остроумием. Перевод приведенных на стр. 383 стихов Грильпарцера был сделан В. И. Танеевым по просьбе К. А.
Х У І І . «СТОЛЕТНИЕ ИТОГИ ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ»
Речь, читанная на акте Московского университета 12 января 1901 года. Эту речь очень интересно сопоставить с речью,
произнесенной в 1878 году «Основные задачи физиологии растений» (см. настоящий том, стр. 143), так как она представляет обзор задач физиологии растений, сделанный тем же автором через 23 года, и отражает как успехи науки за этот период,
так и развитие взглядов автора на основные задачи своей специальности.
Особенно интересна часть речи, посвященная действию
ферментов, где доказывается, что «тот же фермент является
разрушителем и созидателем, смотря по условиям».
В этой речи так же, как и в рассмотренных уже нами речах, снова подчеркивается мысль о невозможности безоговорочного распространения теории Дарвина на человеческое
общество.
АЛФАВИТНЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ
имен
К У
ТОМУ
СОБРАНИЯ
СОЧИНЕНИЙ
К.А.
ТИМИРЯЗЕВА
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Аббе, Э. — 338, 355.
Абней, В. (Abney, W.) — 118, 233.
Адаме, Дмсон (Adams, J.) — 48.
Аксаков, С. Т. — 228.
Андреев, Е. Н. — 243.
Аристотель — 62, 94.
Аристофан — 109.
Армстронг — 434.
Архипов — 236.
Аскенази, Е. (Askenasy, Е.)—416.
Байрон, Джордж
Ноелъ Гордон
(Byron, J . N. G.) — 27, 237,
408.
Баранецкий, О. В. — 133.
Вартез — 450.
Бастиан (Bastian, Henry Charlton) — 184, 185, 209, 210.
Баталии, А. Ф. — 135.
Веккерелъ, Эдмонд — 149.
Бекетов, А. Н. — 108, 118, 137,
444.
Бёклин, Арнольд (Boecklin, А.) —
435.
Белинский, В. Г. — 22.
Беляев, В. И. — 442.
Бенар, Поль Алъбер (Besnard,
Р. А.) — 432.
Бэр, Поль (Bert, Р . ) — 6 1 , 68,
209, 210, 283, 286.
Бергсон168.
Беринг, Эмиль Адольф (Behring,
Е. А.) — 212, 218.
Берклей, Джордж
(Berkeley,J.)—
91, 92.
Бернар, Клод (Bernard, Cl.)—67,
137, 138, 148, 156, 157, 159, 181,
183, 211, 282, 387, 393, 451.
Беро — 435.
Бертло, M. [Вертело,
Марселей]
(Berthelot, M.) — 17, 26, 33, 149,
211, 212,215,279, 394, 402, 410,
428, 451.
Бертран — 395.
Бисмарк, Отто — 20, 360, 427.
Биша — 450, 451.
Вобринский, А. А., граф — 244.
Боее, И. М. — 442.
Богданов — 224.
Болль, Ф. — (Boll, Р.) — 315.
Больцман,
Людвиг
(Bolzmann,
L.) — 47, 263, 366, 367, 376, 378,
384.
Бонне, Ш. [Бониэ, Ш.] (Bonnet, Ch.) — 414.
Бонъе, Гастон (Bonnier, G.) —
123, 416.
Боргман, И. И. — 262.
Борде — 450.
Бородин, И. П. — 33, 171, 172,
173, 176, 177, 178, 179, 183, 184,
185, 187, 189, 395, 451, 452.
Боткин, С. П. — 41.
Браун, Горас, Т. [Броун Г. Т.].
(Brown, H. T.) — 399.
Браун. Роберт [Броун, Р.] (Brown,
Robert) — 389.
Бредихин, Ф. А. — 189, 268, 448.
Брентано, Франц — 382.
Врефельд, О. — 210, 403, 410.
Бриози — 115.
Бруно, Джордано — 362, 426.
Брюкке — 61, 148, 155, 451.
Брюнетьер, Фердинанд — 33, 280.
Брюетер, Давид — 432.
Бунге, Г.—172, 173,178, 188, 452.
Бунзен, Р. — 340, 392.
Буссенго, Жан-Батист — 45, 150,
392, 400, 428.
Бутлеров, А. М. — 4 1 , 401.
Врснер, Эдуард — 211, 395.
Бэкон, Френсис — 20, 48, 206,
226, 227, 272, 323, 366, 424.
Бэн — 422.
Бючли — 452.
Бюффон — 194.
Вагнер, Пауль — 60, 61, 68, 138.
Ван-Гейзинг — 184.
Ван-Гельмонт — 185.
Вант-Гофф, Я. Г. — 399.
Варбург, Э. — 335.
Варминг, Евгений — 416.
Вебер, В. — 259, 377.
Вебер, Эрнест Генрих — 334, 337.
Вейсман, А. — 139.
Вёлер, Ф. — 392.
Визнер, 10. — 120, 133, 134, 135,
416.
Вин, Макс — 342.
Винер, Отто (Wiener, О.) — 330,
347.
Винер, Христиан — 353.
Виноградский, С. Н. — 224, 401,
403, 411.
Войтов, А. И. — 443.
Вольтер (Voltaire, F. M.) — 75,
215.
Вольф, Е. (Wolff, Е.) — 43, 451.
Воронин, М. С. — 403.
Вотчал, Е. Ф. — 413, 444.
Вундт, Вильгельм Макс (Wundt,
W. M.) — 333, 353.
Габерланд,
Готлиб — 113.
Галилей, Галилео — 18, 20, 309,
310, 311, 363, 366, 426.
Галлер, А. — 450.
Галъвани, Луиджи — 320.
Галъске, И. — 355.
Галътон, Френсис — 299.
Гарвей — 175, 179, 299.
Гартинг, П. — 150.
Гартман, Эдуард — 109, 419.
Гегель,
Георг,
Фридрих
Вильгельм — 305, 315, 318.
Гедеиг — 43.
Геддес — 315.
Гей-Люссак, Ж. — 60, 61.
,Гейдвейлер — 345.
Гелъмголътц, Герман — 47, 61,
62, 67, 147, 150, 164, 165, 166,
169, 170, 171, 176, 182, 183, 187,
188, 190, 204, 225, 232, 258,
263, 267, 270, 299, 338, 353,
354, 356, 404, 406, 428, 433,
451.
Гейне, Гейнрих — 236.
Гейнц — 241.
Геккелъ, Эрнст — 14, 139, 159.
Гёксли, Томас Генри — 31, 73,
109, 139, 219, 274, 310, 426.
Гелъз Стивен — 175, 412.
Гёлъдер — 349, 355.
Гельригелъ,
Герман
(Hellriegel,
H . ) — 127, 224, 400, 402.
Генле — 204.
Генсборо,
Томас (Gainsborough,
Т.) — 234, 434.
Генсло — 130.
Гераклит Ефесский — 94.
Геринг, Э. (Hering Ewald) — 159.
Гертвиг, Оскар (Hertwig, О.) —
32, 418.
Герц,
Генрих Рудольф
(Hertz,
H. R.) — 262, 320, 345, 347,
352, 354.
Герцен, А. И. — 22, 358.
,/ Гёте, Иоганн-Вольфганг
(Goethe,
I. W.) — 14, 28, 206, 207, 237,
239, 419, 432.
Гильберт, Ж. Г. (Gilbert, J . H.)—
130.
Глей — 452.
Гоголь, H. В. — 22, 40, 49.
Годлевский —-401.
Голицын,
Б. В., киязь — 264.
Гольдгаммер — 260.
Горслей-Гинтон — 235.
Гофман, Герман (Hoffmann, Hermann) — 130.
Гофмейстер,
В.
(Hofmeister,
W. F. В.) — 388, 412, 413.
Грандо, Л. (Grandeau, L.) — 149,
248.
Транше — 199, 203.
Грэй, Аза (Asa Gray) — 139.
Грэем, Т. (Грегем, Т.) (Graham,
F.) — 399.
Гри —401.
Грилъпарцер, Франц (Grillparzer,
Franz) — 382.
Гров, Д. — 268.
Гукер, Джозеф Д. (Hooker, J . D.)—
130, 139.
Гумбольдт, Александр (v. Humboldt, А.) — 300, 451.
Гусс — 363, 427.
Гутенберг,
Иоганн
(Gutenberg,
I.) — 362, 426.
Гутри — 336.
Гюго, Виктор (Hugo, V . ) — 274.
Гюйо, Ж. M. (Guyau, Jean Marie) — 230.
Давен,
К.
(Davaine, CasimirJoseph) — 204, 209.
Дайер — 128.
Данилевский — 21, 22, 441.
Данте, Алигиери
(Dante, Alighieri) — 408.
Дантон, Ж. Ж. (Danton, J . J.) —
136.
Дарвин, Джордж — 364.
Дарвин, Франсис (Darwin, F.) —
125, 127.
Дарвин, Чарлз (Darwin, Ch.) —
14, 19, 26, 32, 45, 52, 53, 59,
60, 63, 64, 65, 106, 108, 115,
119, 120, 122, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 131, 135, 137, 138,
139, 154, 157, 159, 160, 161, 164,
165, 166, 167, 181, 202, 235,
287, 297, 320, 321, 323, 324, 325,
360, 361, 378, 379, 389, 390,
415, 416, 417, 425, 428, 439.
Де-Бари, A. (de Вагу, А.) — 56,
ИЗ, 127, 403.
Дегерен, П. П. (Dechérain, Р. Р.)—
399.
Декандолъ,
Альфонс,
см. Кандолъ-де.
Декарт, Рене (Descart, R.) — 363,
426.
Делакруа, Эжен (Delacroix, Е. —
433.
Де-ла-Сизеран — 433.
Дельбрюк — 424.
Дементьев — 233.
Де-Местр,
граф, Жозеф
Мари
(Joseph de Maistre) — 208.
Демокрит — 94, 185.
Детмер, В. (Detmer, W.) — 61,
64.
Де-Фриз, Г. (de Vries, H.) — 6 1 ,
139, 399.
Джевонс Стенли (Jevons, W. S.)—
323, 325.
Дженер, Э. (Дженнер, Э.) (Jenner, Е.) — 199.
Диаз, H. (Diaz de la Репа, N.) —
234.
Дове, Генрих Вильгельм (Dove,
H. W.) — 240.
Доде, А. — 111, 126.
Доплер, X. (Doppler, Chistian) —
341, 351.
Достоевский, Ф. M. — 284.
Доу, Герард (Dov, H.) — 232.
Дриш, Г. (Driesch, Hans) — 423,
451, 452.
Дюбуа-Геймон,
Эмиль (Du Bois
Reymond, Е.) — 61, 70, 71, 313,
330, 352, 353, 354, 451.
Дюгем — 213.
Дюкло — 201.
Дюма, Ж. (Dumas, J . В. А.) —
241.
Дютроше, Г. (Dutrochet, R. J .
H.) — 398, 399, 411, 412, 422,
428, 451.
Дюіиартр — 122.
Дюшен — 66.
Екснер — 341.
Жансен, ГО. (Janssen, Jules) —
161.
Жиар, Альфред Матъе (Giard,
А. РМ.) — 109.
Жубер — 269.
Жюссъе, Бернар (Jussieu, В.) —
' 432.
Эахер — 409.
Зворыкин — 269.
Зилов — 260.
Зинин, Н. Н. — 41.
Зоммер, Г. — 336.
Ивановский, Д. И. — 394.
Иерзен — 218.
Ильенков, П. А. — 240.
Имори — 335.
Калъмет, Алъбер[Кальметт, А].—
214.
Кандолъ-де,
Альфонс (De Сапdolle, А.) — 66, 416.
Кант, И. (Kant, 1 . ) — 1 7 , 168,
305, 380, 418.
Канъяр-Латур — 204.
Карл V — 313.
Карлайлъ, Томас [Карлейлъ, Т. ]
(Carlyle, Т . ) — 206.
Карно, С. (Carnot, S.) — 263.
Кауфман, И. И. — 52.
Квинке, Георг Герман (Quinke,
G. G.) — 413.
Кекуле, Фридрих Август (Kekulé
von Stradonitz) — 401.
Кеплер, Иоганн (Kepler, I.) —
309;
Кернер, A. (Kerner, A. v. Marilaun) — 118.
Кесслер, К. Ф. — 360.
Кизер — 423.
Кирхгоф, Г. (Kirchhoff, G. К.)—
258, 259, 263, 268, 270, 320. 340,
346, 354, 355, 390.
Клебс, Георг (Klebs, G.) —416.
Клер Девиль, Анри — 411.
Клиффорд — 293, 325, 328.
Клод Лоррен (Claude Lorraine) —
230 , 234 , 235, 433, 434.
Кни — 135.
Кноп. И. (Knop, I.) — 400.
Княжнин, Я. Б. — 49.
Ковалевский, А. О. — 172, 453.
Коль,
Георг
Фридрих
(Kohl,
G. P.) — 134, 260.
Колърауш, Фридрих (Kohlrausch,
F.) — 335, 345, 356.
Кон, Ф. (Cohn, P.) — 403.
Констабль, Джон [Констэблъ, Д ]
(Constable J.) — 234, 434.
Конт, Огюст (Conte, А.) — 138,
387, 392, 417, 421.
Кооп, 9. Д. (Соре, Edward Drinker) — 109, 110.
Коперник, H. — 309.
Коржинский,
С. И. — 33, 172,
173, 175, 398, 425, 452.
Коро, Камил (Corot, С.) — 434.
Коссович, П. С. — 443.
Костантен — 135, 416.
Кох, Роберт (Koch, R.) — 135,
210.
Крауз, Грегор (Kraus, Gr.) — 61.
Кров
,121
Кропоткин, П. А. — 360.
Крофт Гиль — 396.
Крупп, A. (Crupp,. А.) — 7 2 .
Крылов, И. А. — 24.
Кузен, Виктор (Cousin, V.) —
322.
Куинджи А. И. — 232, 430.
Кундт, A. (Kundt, А.) — 263.
Куртис, В. [Кертис, В.] (Curtis,
W.) — 122.
Куторга, С. С. — 107, 108.
Кювье, Жорж (Cuvier, G. L.) —
45.
Лавров, П. Л. — 365.
Лавуазье, Антуан, Лоран (Lavoisier, A. L.) — 61, 62, 67, 148,
150, 169, 170, 171, 187, 190,
282, 395, 397, 404.
Лайелъ, Ч. (Lyell, Ch.) — 299.
Ламарк, Жан-Батист (Lamarck,
I. В.) — 141, 175, 389, 415, 416,
417, 428.
Ланге, Фридрих Альберт (Lange,
F. А.) — 419.
Ланглей, С. П. (Langley, S. P.) —
118, 344.
Ландольт, Г. (Landolt, Hans) —
371.
Ландсир. Э. Г. (Landseer, Edwin
Henry) —235.
Лаплас, Ж. Б. (Laplace, I. В.) —
161, 168, 183, 323.
Лёббок, Джон
[Луббок]
(Lub-
bock, I . ) — 118, 124, 227, 235.
Лебедев, П. П. —261.
Леваковский — 416.
Леверье, У. Ж. И. [Леверръе У.
Ж. И. ] (Le-Verrier) — 48, 350.
Левитан, И. И. — 27.
Лещ, 9. X. (Lenz, Е.) — 43.
Леонардо-да-Винчи
(Leonardo da
Vinci) — 270.
Лермонтов — 238.
Либих, Юстус (Liebig, I.) — 193,
194, 212, 241, 246, 247, 248,
260.
Линдеман — 446.
Линней, Карл
(Linné, Carl) —
388.
Липман, Габриэль [Липпманн, Г. ]
(Lippmjmn, G.) — 262, 263.
Листер, И. (Lister, Joseph) —
72, 219.
Литтре, П. (Littré, Paul Maximilien E m i l e ) — 2 1 1 .
Лобачевский, H. И. — 2 1 , 41.
Ломоносов, M. В. — 40, 50.
Лоуэль — 168.
Лугинин, В. Ф. — 259, 261.
Лукреций, Кар Тит — 284.
Людвиг, К. (Ludwig, К. — 61,
179, 451.
Магнус, Г. Г. (Magnus, G. G.) —
240.
Маженди •—• 451.
Майер,
Роберт
(Mayer, R.)—
67, 150, 188, 385, 391, 404, 405,
406, 411, 428, 451.
Майкелъсон — 351.
Макенштейн —'232.
Максвелл, Джемс Клерк (Максуэлл) (Maxwell, James—Clerk) —
47, 67, 320 .
Малъпиги, Марчелло
(Malpighi,
Marcello) — 114.
Мальтус, Томас Роберт (Malthus,
T. R.) — 153, 424, 425.
Мастерз — 63.
Мах — 348, 353.
Мелдола — 396.
Менгер, Карл (Menger, К.) — 20.
Менделеев, Дм. Ив. — 41, 48, 172,
429, 430, .432.
Месонье — 231.
Мечников, И. И. — 4 1 , 214.
Мешаев, В. Д. — 442.
Миллъ, Дж. Ст. (Mill, J. S t . ) —
20, 323, 361.
Миттермайер,
К. (Mittermaier,
К. J.) — 259.
Митчерлих, Е. (Mitscherlich,
Eihard) — 240.
Михайловский, H. К. — 14.
Михельсон, В. А. — 260.
Мицкевич, Адам — 238.
Моклер — 432.
Моль, Г. (V. Mohl, Hugo) — 114,
389, 401.
Мольер — 419.
Moue, Клод — 433, 434.
Монро (Monro) — 261.
Морган, Л. Г. (Morgan, Lewis
Henri) — 315.
Моррис, Вильям (Morris, W.)—27.
Муравьев, M. Я . , проф. — 246.
Муррей Джон — (Murray, J.) —
107, 127.
Мюллер, Герман (Müller, H.) —
123.
Мюллер, И. (Müller, Johannes) —
61, 62, 63.
Мюнц, A. (Müntz, А.) — 151.
Навашин, С. Г. — 388, 442, 443,
444.
Найт — 416, 428.
Наке, Альфред
(Naquet, А.) —
162.
Науман •— 185.
Негели, К. В. (Naegeli, К. W.) —
65, 109, 110, 129, 130, 139, 159,
194.
Некрасов, Н. А. — 228, 237, 238.
Немец, В. (Nêmec, В.) — 421.
Ниевенгловский — 231.
Ницше, Фридрих — 19, 20, 427.
Нордау — 409.
Ньютон, Псаак (Newton, 1.) —
40, 43, 173, 175, 181, 206, 267,
270, 320, 324, 325, 406, 432.
Одлинг, В. (Odling, W.) — 404,
406.
Окен, Лоренц (Oken, L.) — 139.
Оствальд,
В. (Ostwald, W.) —
268, 351.
Павлов, II. П. — 461.
Пайен, А. — 241, 393.
Палладии — 442, 444.
Паллас, Петр Симон — 43.
Папенгейм, А. (Pappenheim, А.)—
114.
Папэн — 285, 286.
Паскаль, В. (Paskai, В.) — 104.
Пастер, Луи (Pasteur, Louis) —
26, 70, 191, 286, 394, 402, 403,
410, 427, 428.
Паули — 452.
Пашен, Фридрих (Paschen, F.) —
344.
Пелуз, T. (Pelouze, ThéophileIules) — 241.
ІІенцолъд, Франц (Penzoldt, F.) —
340.
Петр I (Великий) — 50.
Петровский, И. А. — 444.
Пирогов, II. П. — 41, 53, 54.
Пирсон, Карл (Pearson, К.) —
14, 288, 289, 315.
Писарев, Д. И. — 27, 184.
Плате — 452.
Платон — 43, 94, 315, 318.
Поленов, В. Д. — 435.
Полонский, Я. П. — 227.
ТІонятский, Н. С. — 444.
Поп, Александр — (Pope, А.) —
95, 272.
Прейер, В. — (Preyer, W.) — 164.
Прингсгейм — 440.
Пуше Ф. (Pouchet, Félix-Archimède) — 184, 194, 209, 211,
217.
Пушкин, А. С. — 40, 49.
Пфеффер, В. (Pfeffer, W.) — 61,
176, 178, 399.
Пюви де-ІПаван, П. (Puvis
Chavannes, P.) — 231.
de
Райе, П. (Rayer, Pierre-François)—
204.
Раувенгоф — 135.
Рафаель,
Санцио — 27, 236.
P ёбер-Пашвиц,
E. (Ernst von
Rebeur-Paschwitz) — 337.
Рейнке, И. (Reinke, I.) — 24, 452.
Рембрандт, ван Рейн — 231, 232,
433, 434.
Ренан, Эрнест — 109, 208, 282.
Рентген, Вильгельм, Конрад (Rentgen, W. К.) — 262, 345.
Рёскин, Дж. (Ruskin, J.) — 2 7 ,
234, 408, 429, 433, 434, 435.
Риндфлейш — 423.
Рит — 423.
Робинсон — 233.
Родевалъд — 410.
Роден — 434.
Розе, Генрих (Rose, Heinrich) —
240.
Розе, Густав (Rose, G.) —241.
Роланд, Г. A. (Rowland, H. А.) —
46, 70, 71, 262, 340.
Роллен, ІО. [Ролен) (Raulin, Jules) — 403.
Роменз, Д. (Romanes, GeorgeJohn) — 112.
Ростовцев, С. И. — 442.
Ру, Пьер Эмиль (Roux, Р. Е.) —
214, 218, 220.
Рубенс, Петер Пауль (Rubens,
Р. Р.) — 345.
Руссо, Жан Жак (Rousseau, J. J.)—
27, 67, 75, 228, 286.
Руссо, T. (Rousseau, T.) — 237,
238, 432.
Руссов, Э. — 114.
Сакс, Юлиус (Sachs, J.) — 59, 61,
62, 63, 65, 111, 117, 179, 391,
401, 410, 412, 440.
Санио — 114.
Сапожников, В. В. — 441, 443.
Семпер, Карл (Semper, К.) — 130.
Сенебье, Жан (Senebier, J.) — 157,
171, 175, 176, 386, 388, 390, 392,
397, 400, 401, 404, 405, 406, 414,
415, 416, 421, 423, 427.
Сеченов, И. М. — 25, 41.
Соколов, А. П. — 260, 446, 448.
Сократ — 94, 109.
Соловьев, В. С. — 2 1 .
Соссюр, Николай Теодор (De Saussure, T h . ) — 397, 400, 428.
Спасович — 360.
Спенсер, Герберт (Spencer, H.) —
109, 110, 132, 162, 289, 330,
332, 333, 356, 387.
Спиноза, В. (Spinosa, В.) — 43,
353.
Столетов, А. Г. — 41, 254, 446.
Столетов II. Г. — 256.
Страсбургер, Э. ( S tr assburger, E. )—
114.
Страхов, H. H. — 21.
Струве, В. Я. — 43.
Сутерланд — 426.
Тарханов, И. Р. — 344.
Тенар, А. П. (Thenard, А. Р.) —
60.
Тёплер, A. (Toepler, А.) — 335,
336.
Тернер, В. (Turner, W.) — 234,
429, 432, 433, 434, 435, 436.
Тиндаль, Дж.
(Tyndall, J.) —
73, 332.
Тинделъ — 430.
Тимирязев, Д. А. — 11.
Тихомиров В. А. — 441, 442, 443,
444.
Тициан (Tiziano Vecellio) — 27.
Толстой, Л. Н. — 27, 40, 49, 75,
284.
Толъвер Престон — 411.
Томсон, Дж.
Дж.
(Thomson,
J. J.) — 268, 315.
Томсон, В., лорд Кельвин (Thomson, W. Lord Kelwin) — 164,
165, 264.
Торичелли, E. (Torricelli, E. —
335.
Траубе, M. (Traube, Moritz) —
147, 182, 399.
Тредъяковский, В. К. — 49.
Тургенев, И. С. — 40, 49, 228, 229,
230, 238.
Тэн — 109, 205.
Тюилье — 218.
Тюрго (Turgot) — 324.
Тюлан, Л. (Tulasne, Louis-René)—
403.
»
Уде — 435.
Уоллес, А. P. (Wallace, A. R.) —
108, 117, 418.
Фарадэ, M. (Faraday, M . ) — 2 0 ,
299, 321, 322, 325, 432.
Фаминцын, А. С. — 25, 150, 419,
440, 454.
Фаулер, Ральф Говард — 323.
Фаусек, В. А. — 452.
Фауст — 206, 237, 239.
Фей — 161.
Фехнер, Густав Теодор (Fechnerl—
164, 165, 166, 185, 333, 353.
Фехтинг, Герман (Vöchting, H.) —
132, 416.
Фишер, Альфред (Fischer, А.) —
394, 395.
Фишер, Эмиль (Fischer, Е.) —
340.
Фома Аквинский — 17.
Франклин, В. (Franklin, W.) —
67, 173.
Франсе — 452.
Херасков, M. М. — 49.
Хризипп — 95.
Цейс, Карл
(Zeiss, К.) — 355.
Ценковский, Л. С. — 41
Цингер, В. Я. — 54, 442.
Чернышевский,
Я.
Г. — 14,
27.
Шахт — 114.
Шванн, Т. (Schwann, Theodor) —
204.
Швенденер, С. (Schwendener, S.)—
116, 119, 120, 127, 133, 413.
Шеврелъ, M. Е. (Chevreul, M. Е . ) —
30, 241.
Шелли, П. (Schelley, Р.) — 236,
408.
Шеллинг, Фридрих Вильгельм
Иосиф — 139.
Шено — 434.
Шиллер, И. И. — 258.
Шишкин, И. И. — 237.
Шлезинг, Ж. Ж. T. (Schloesing,
J. J . T.) — 224.
Шлейден,
Матиас-Якоби — 114,
389, 401, 451.
Шмальгаузен, И. Ф. — 52.
Шопенгауэр, Артур (Schopenhau-er, А.) — 206, 305, 367.
Шрадер, И. (Schräder, J. Chr.
К.) — 176.
Штикер — 344.
Шуман — 132, 339, 345.
Шунк — 440.
Щегляев — 260.
Эдиссон, Томас Алъва —262.
Эйлер, Леонард (Euler, L.) — 4 3 .
Эллис — 122.
Энгелъгардт — 248.
Энгельман, Т. В.
(Engelmann,
T. W.) — 117.
Эпикур — 96.
Эразм — 291.
Эррер — 452.
Юэль — 417.
СОДЕРЖАНИЕ
НАСУЩНЫЕ ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОГО
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
I. Предисловие к третьему изданию
13
II. Предисловие ко второму изданию
16
I I I . Предисловие к первому изданию
29
ПУБЛИЧНЫЕ РЕЧИ
I. Праздник
русской
науки
II. Общественные задачи ученых обществ
III. Эволюция и этика
IV. Факторы органической эволюции
V. Основные задачи физиологии растений
VI. Витализм и наука
VII. Луи Пастер
V I I I . Фотография и чувство природы
I X . Павел Антонович Ильенков
37
51
78
107
143
170
191
227
240
X . Александр Григорьевич Столетов
254
X I . Марслен Бертло
279
X I I . Наука и обязанности гражданина
288
X I I I . Расширение области наших чувственных восприятий
330
XIV. От дела к слову — от зверя к человеку
359
XV. Антиметафизик
365
X V I . По поводу одного тезиса Шопенгауэра
367
X V I I . Столетние итоги физиологии растений
385
X V I I I . Естествознание и ландшафт (Тернер)
429
*
ПРИЛОЖЕНИЯ
I. Предисловие к сборнику «Публичные лекции и речи»
439
II. Отчет о деятельности ботанического отделения общества
любителей естествознания, антропологии н этнографии
при императорском московском университете за истекшее
десятилетие
441
I I I . Вынужденное объяснение
445
IV. Витализм
449
V. Письмо А. О. Ковалевского К. А. Тимирязеву
453
VI. Письмо в редакцию
454
V I I . Ответ профессора К. А. Тимирязева на открытое письмо
академика А. С. Фаминцына
458
V I I I . Письмо К. А. Тимирязева И. П. Павлову
461
I X . Письмо И. Левитана К. А. Тимирязеву
ПОСЛЕСЛОВИЕ
463
««Рь
465
*
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН К V ТОМУ
Редакторы Я .
корректор Е.
ВУЗУ ЛУКОВ
ВИТТОРФ
и й . СЕРЕЙСІСИЙ,
тезшич.
редактор
497
Я.
ФЙДЭЛЬ,
Объем издания 3 1 8 ' , п. л. 4- 13 вклеек (у. а. л. 31,49). В 1 п. л. 34000 знаков. Формат издания
7 2 x 1 1 0 / , , . Тираж 10500 экз. Сдано в производство 1/II 1938 г. Подписано к печ. 20/Ѵ 1938 г.
Ѵподноиоч. Главлита Б-42872. С Х Г И З 5968. Заказ 439. Бумага на текст Вишерокой бумажной
фабрики им. Менжинского.
1-я Образцовая типография Огиза Р С Ф С Р треста «Полиграфкнига». Москва, Валовая, 28.
Ш
6
Ш