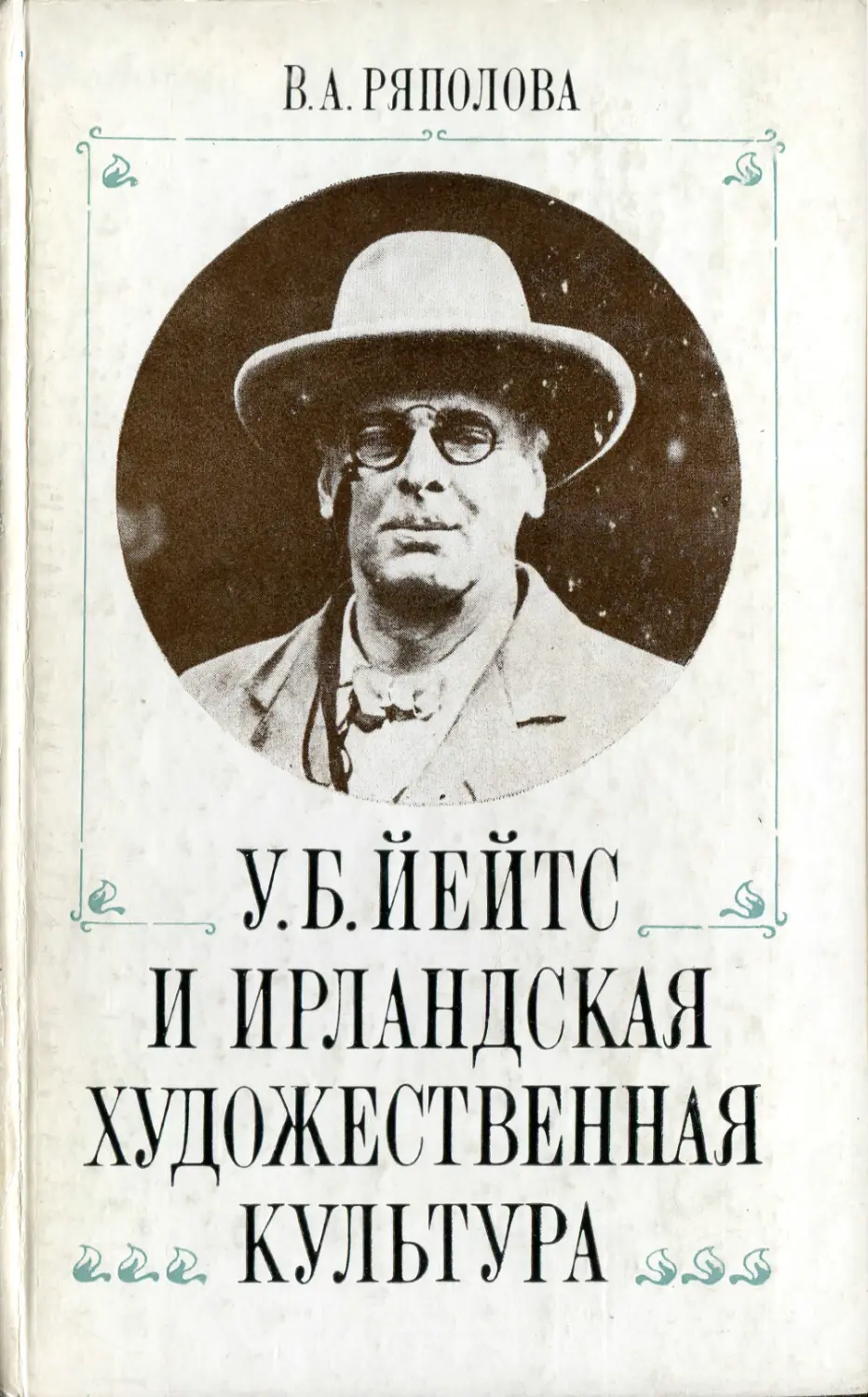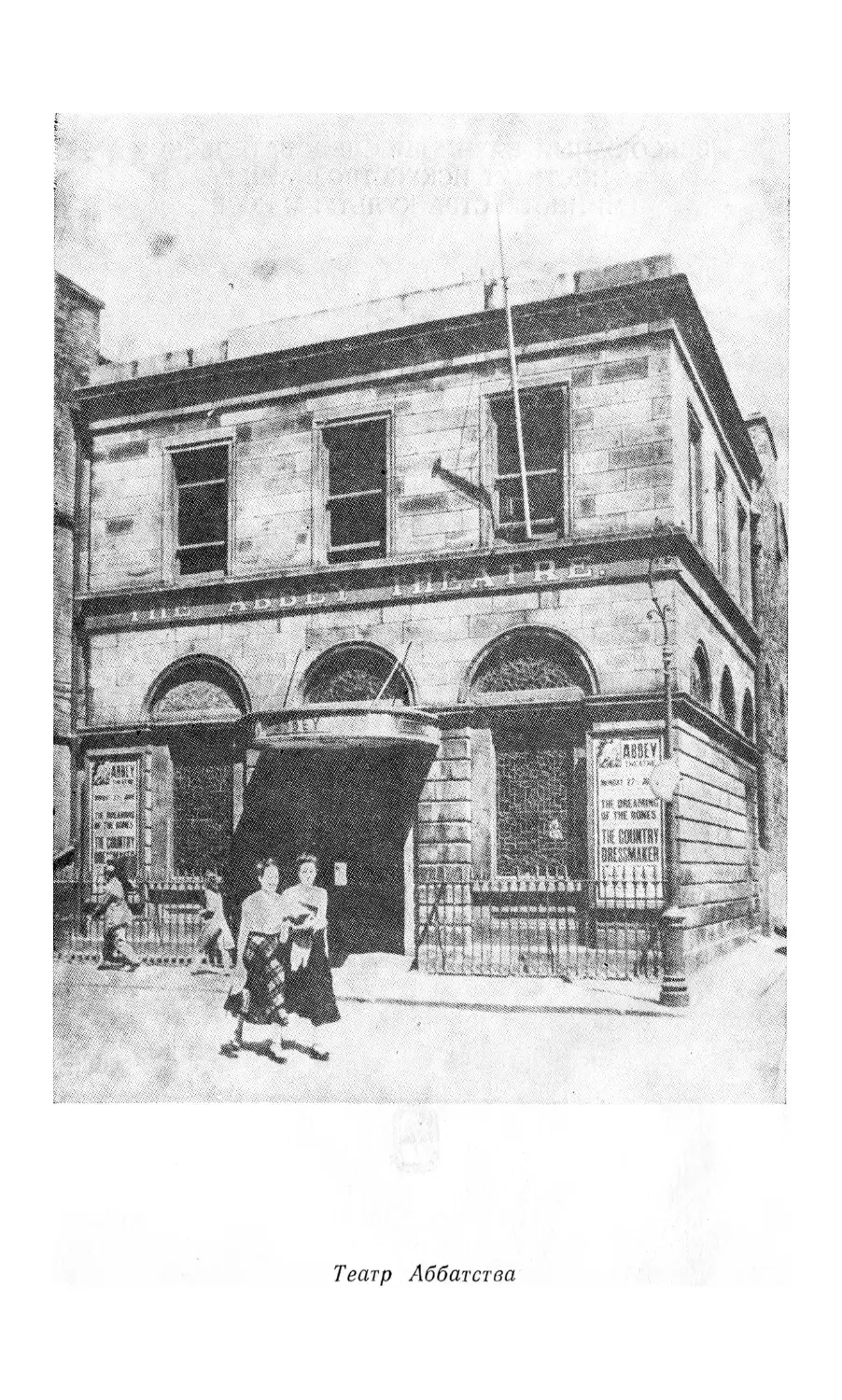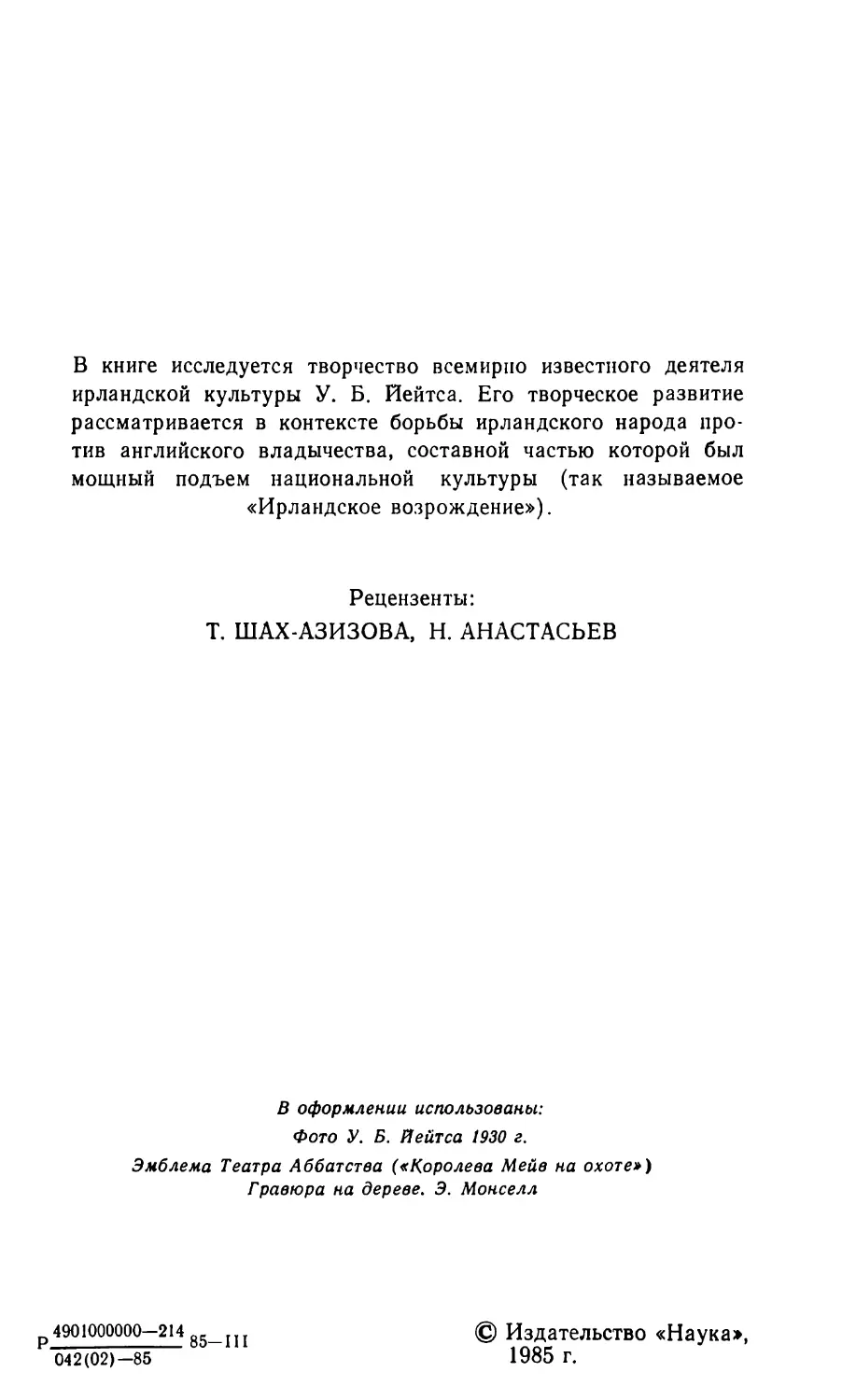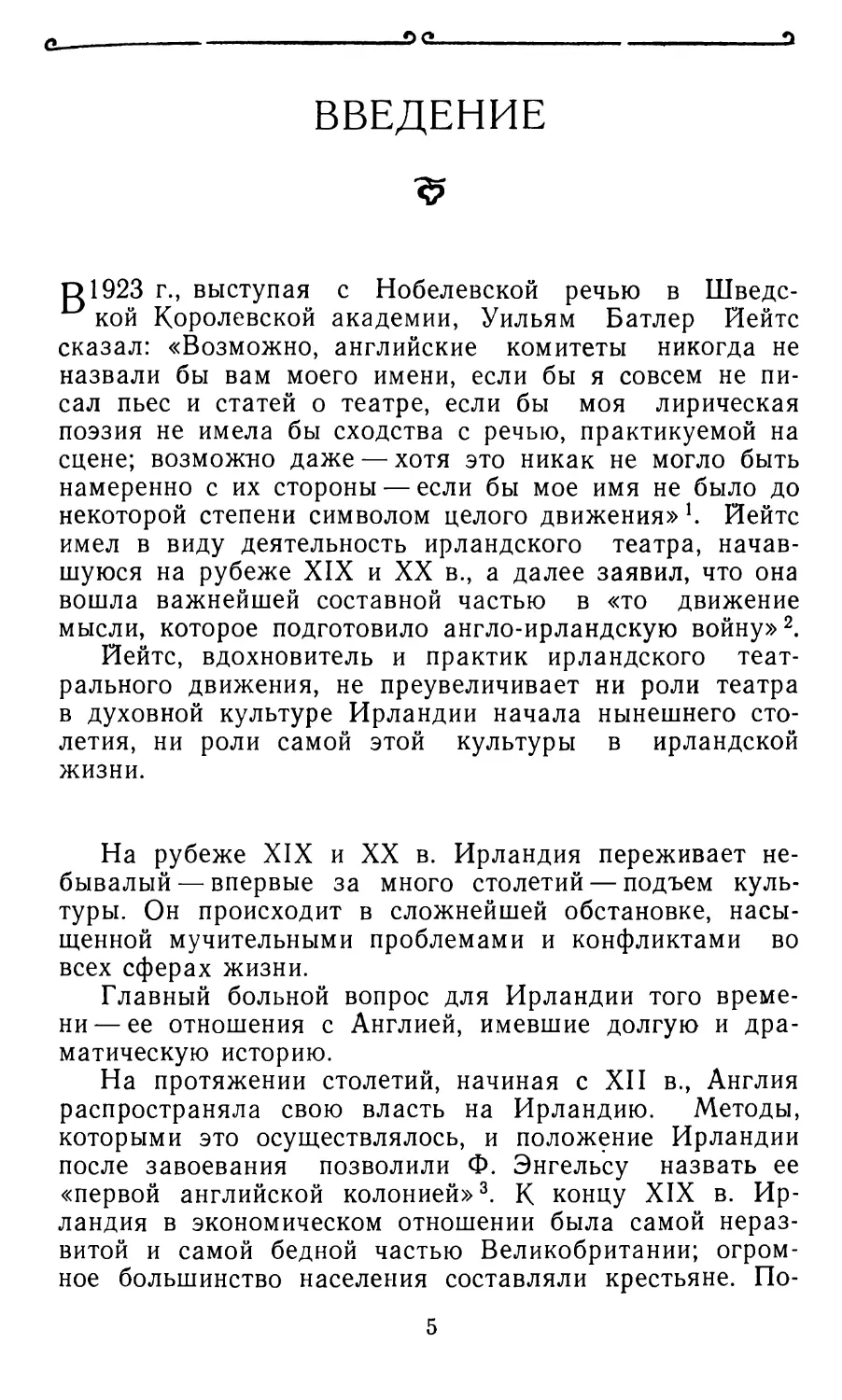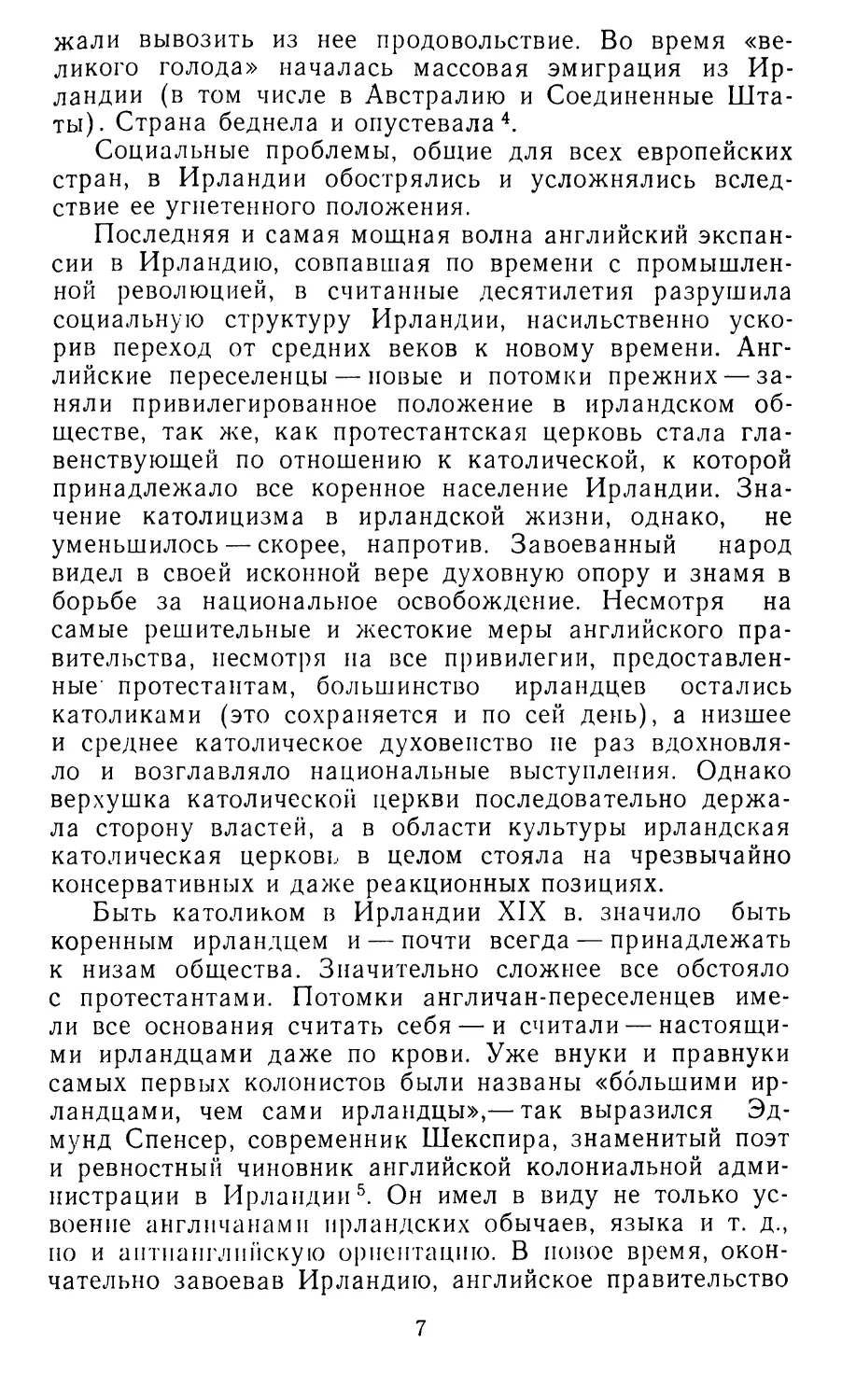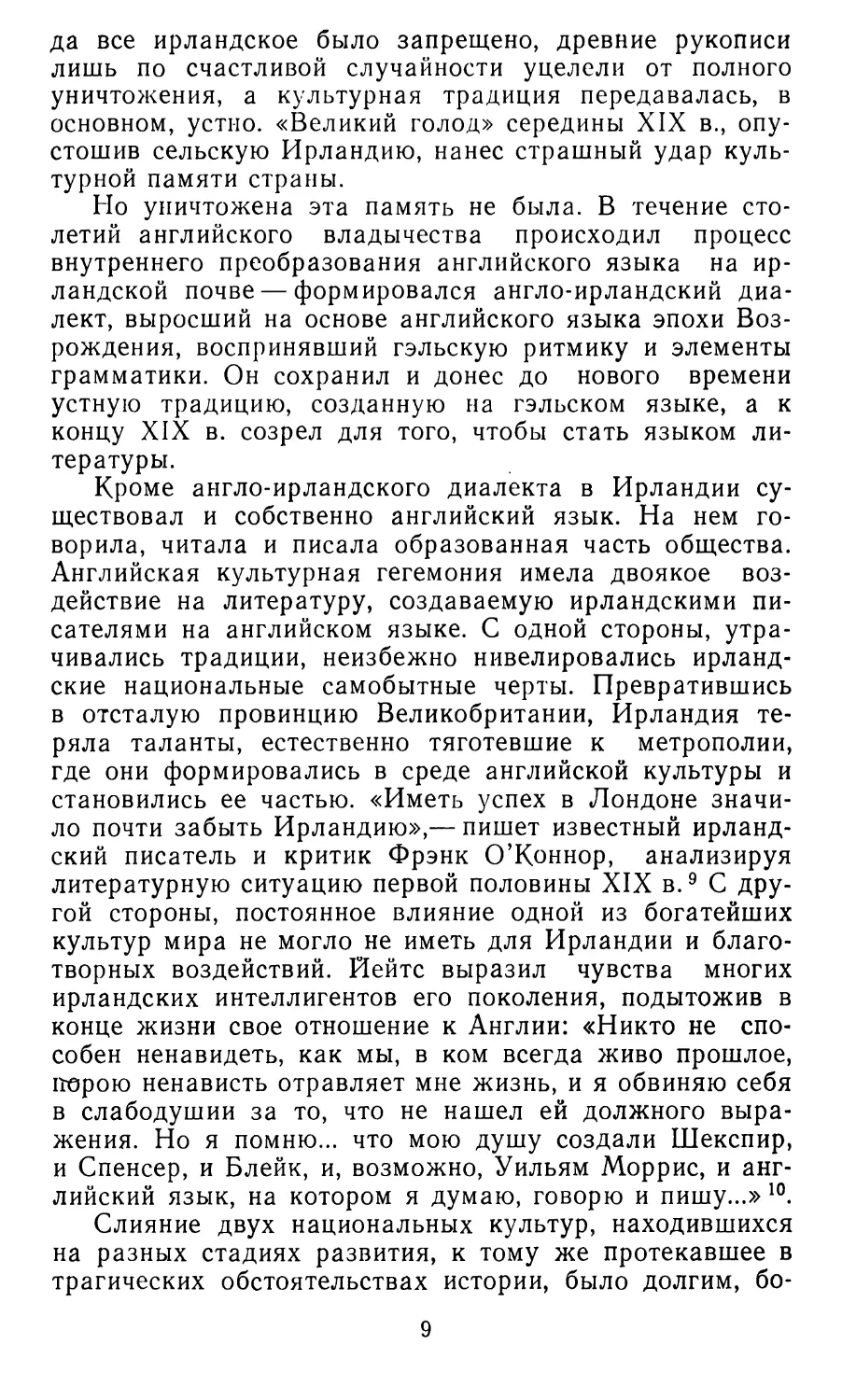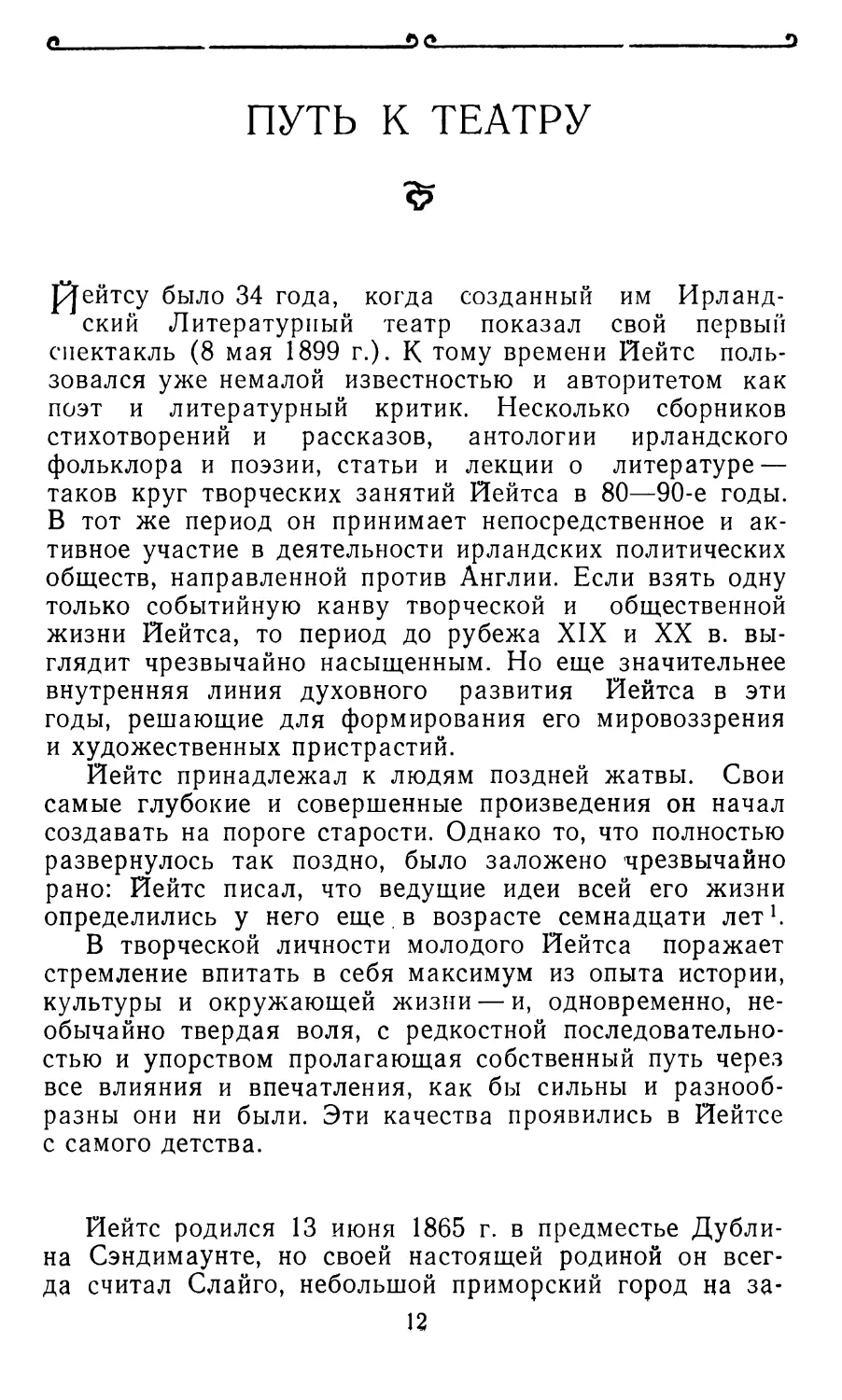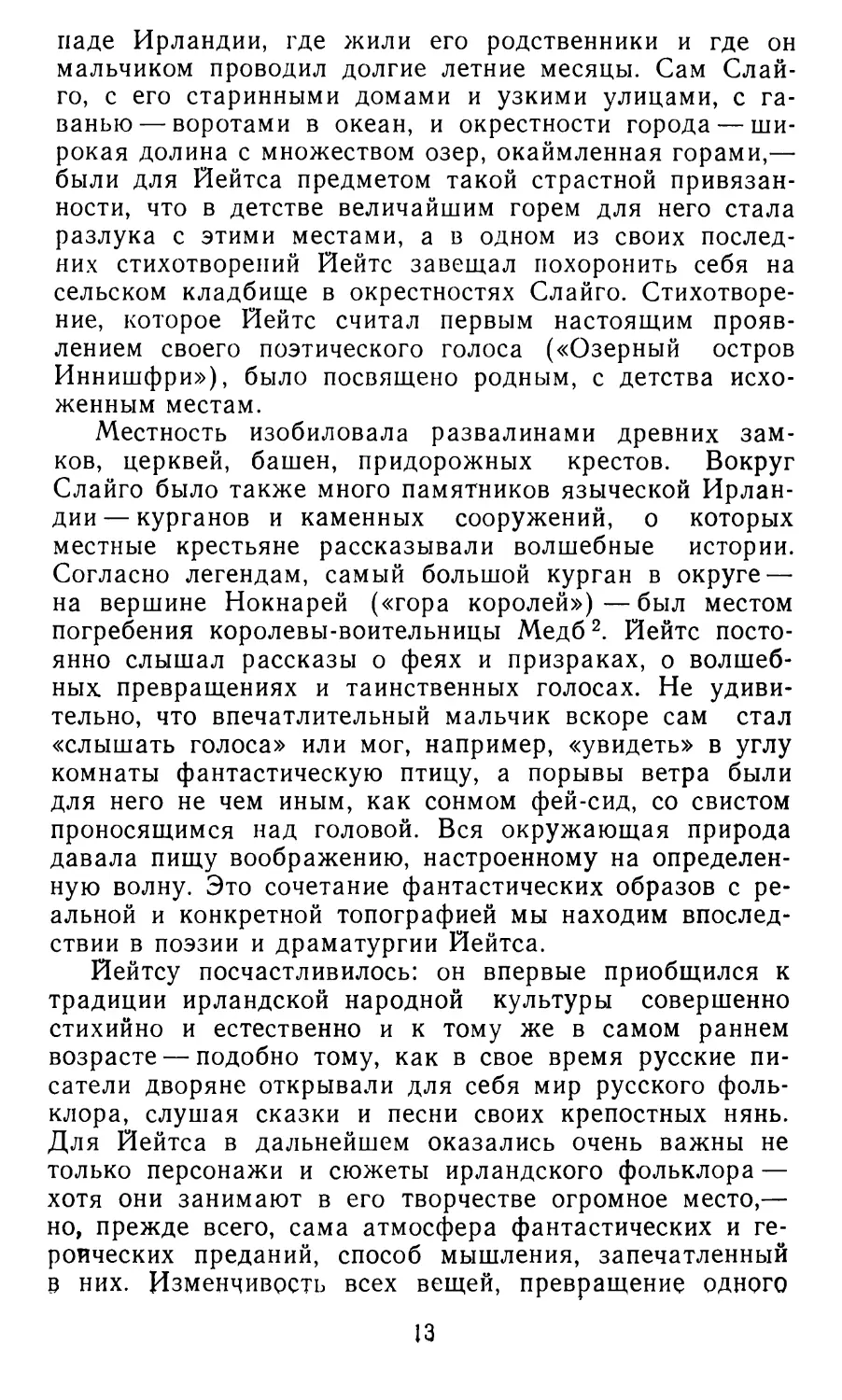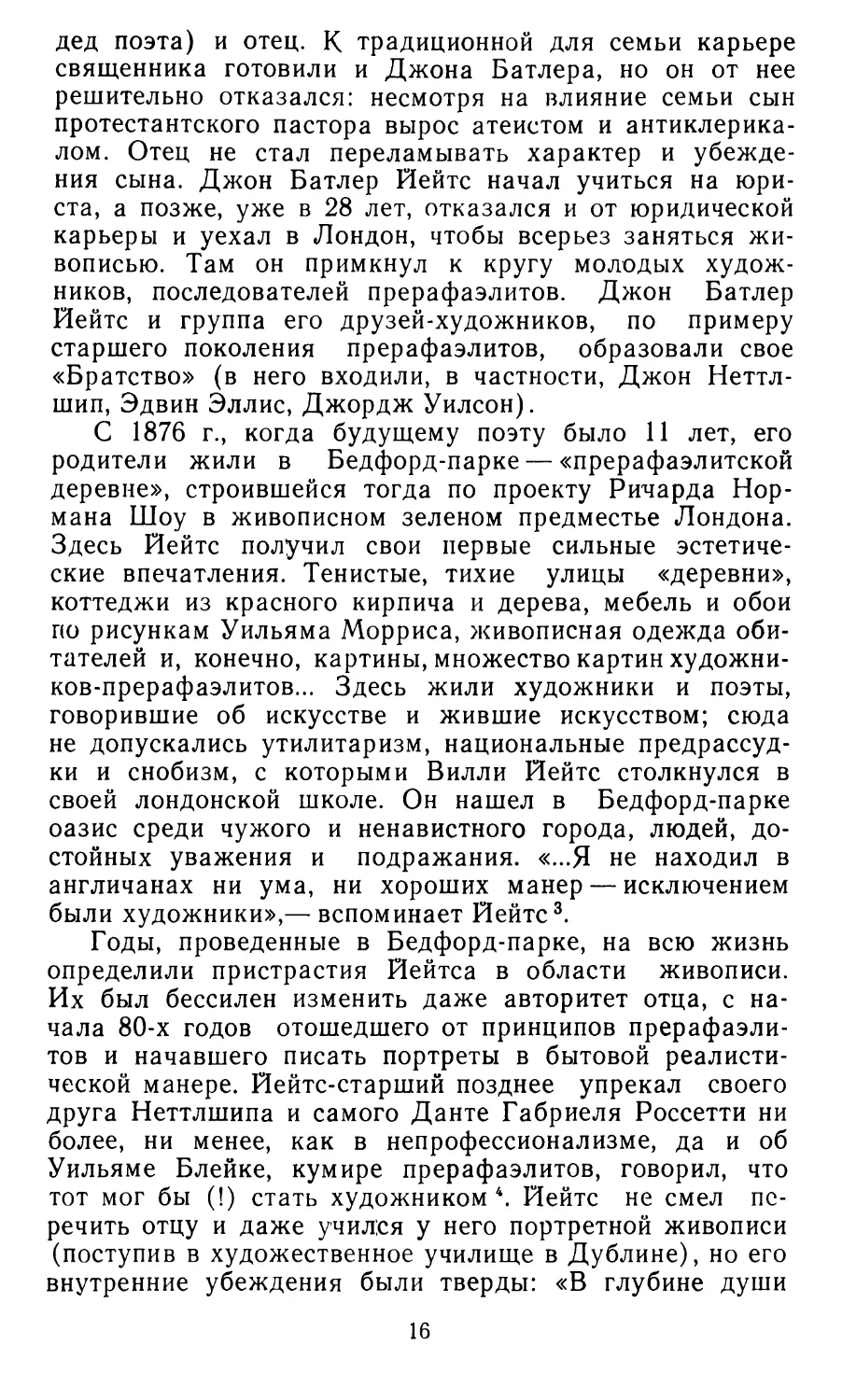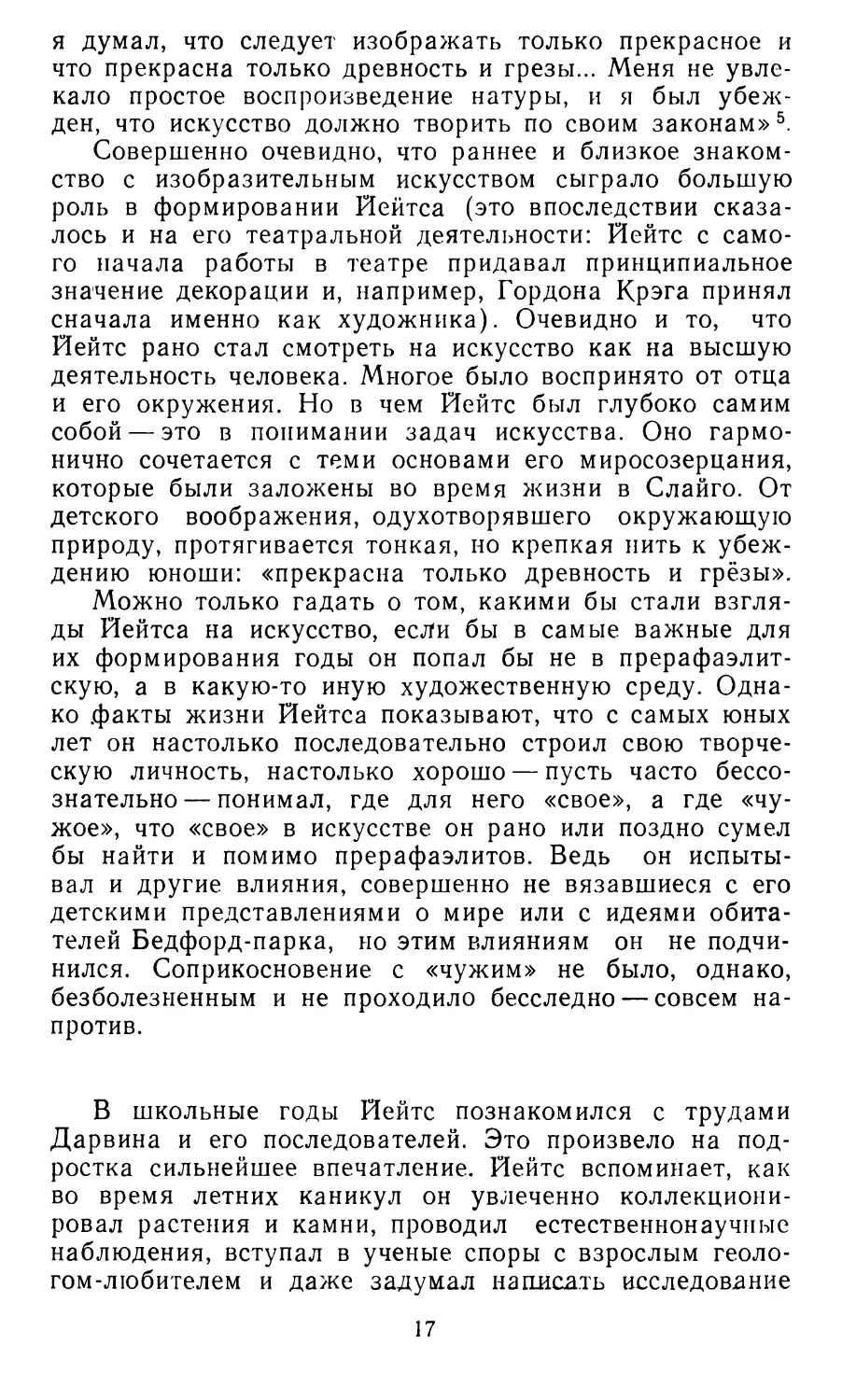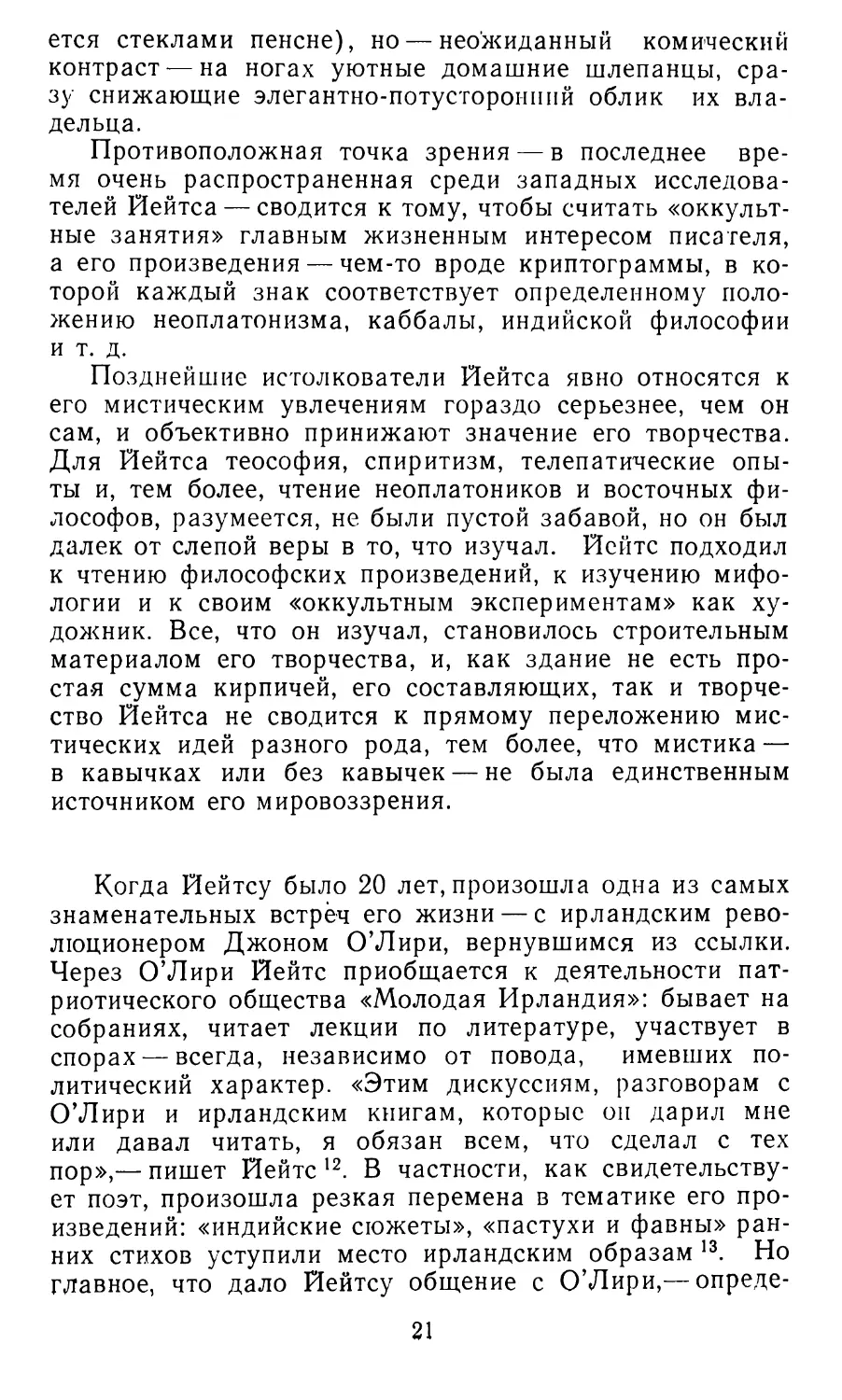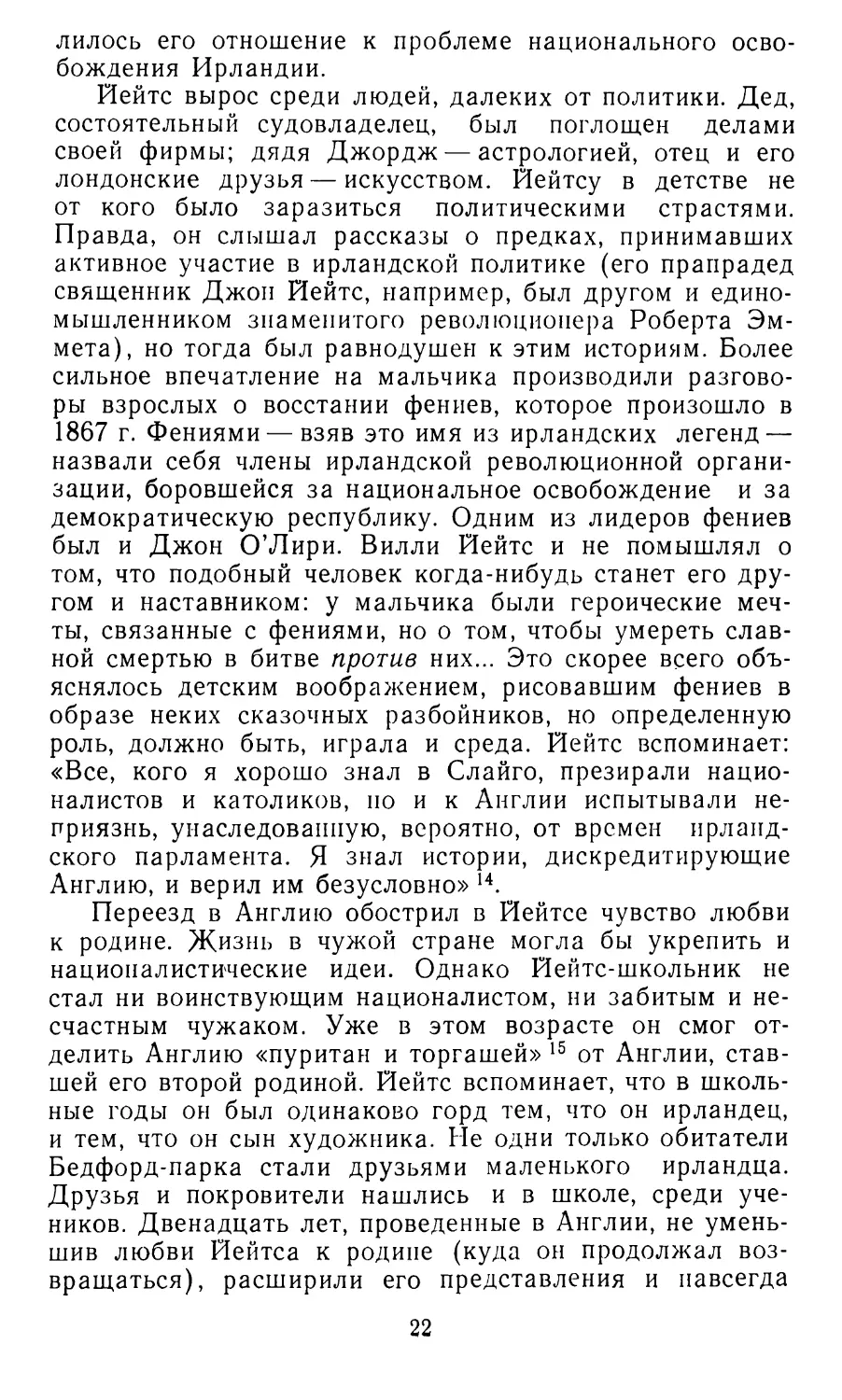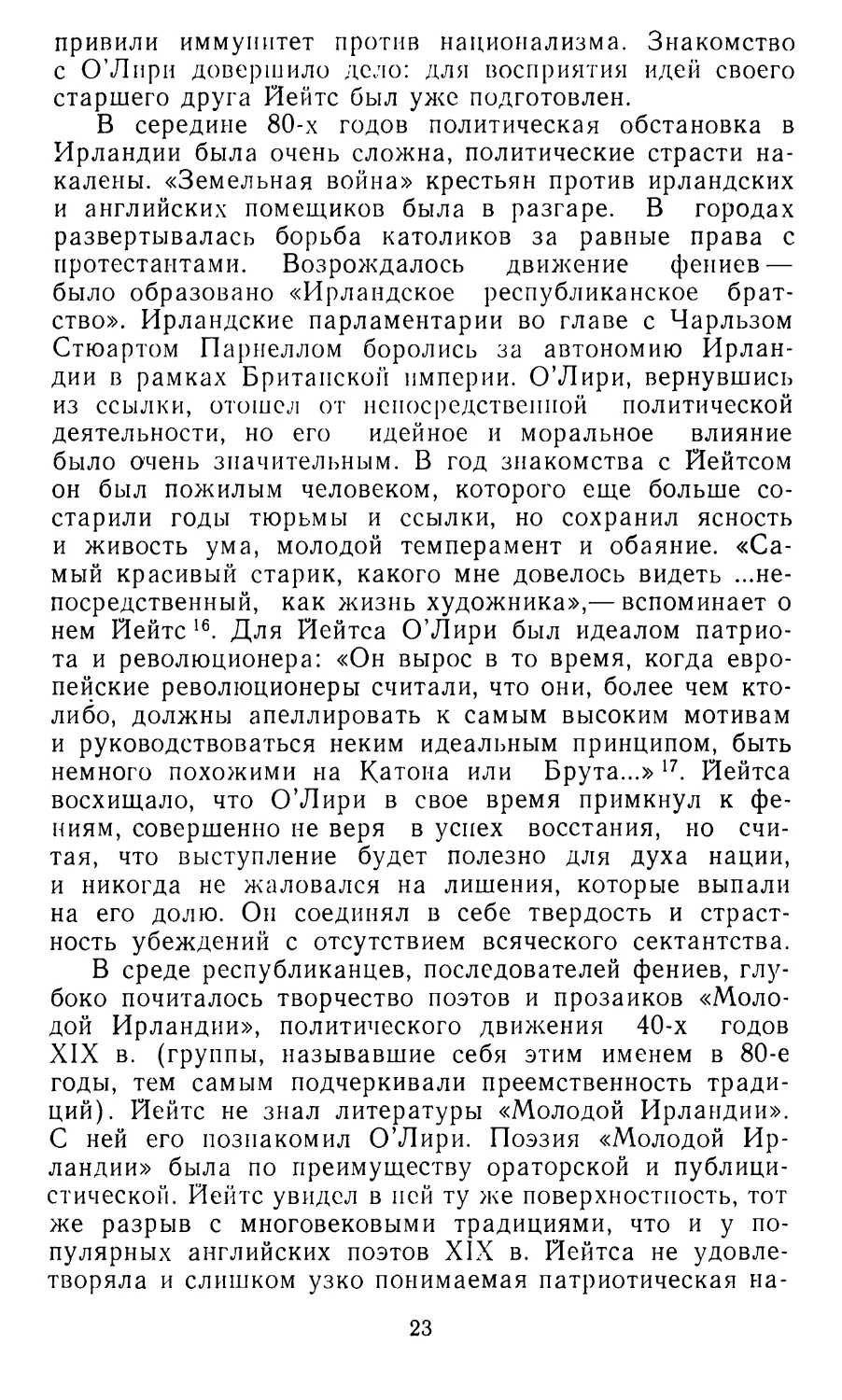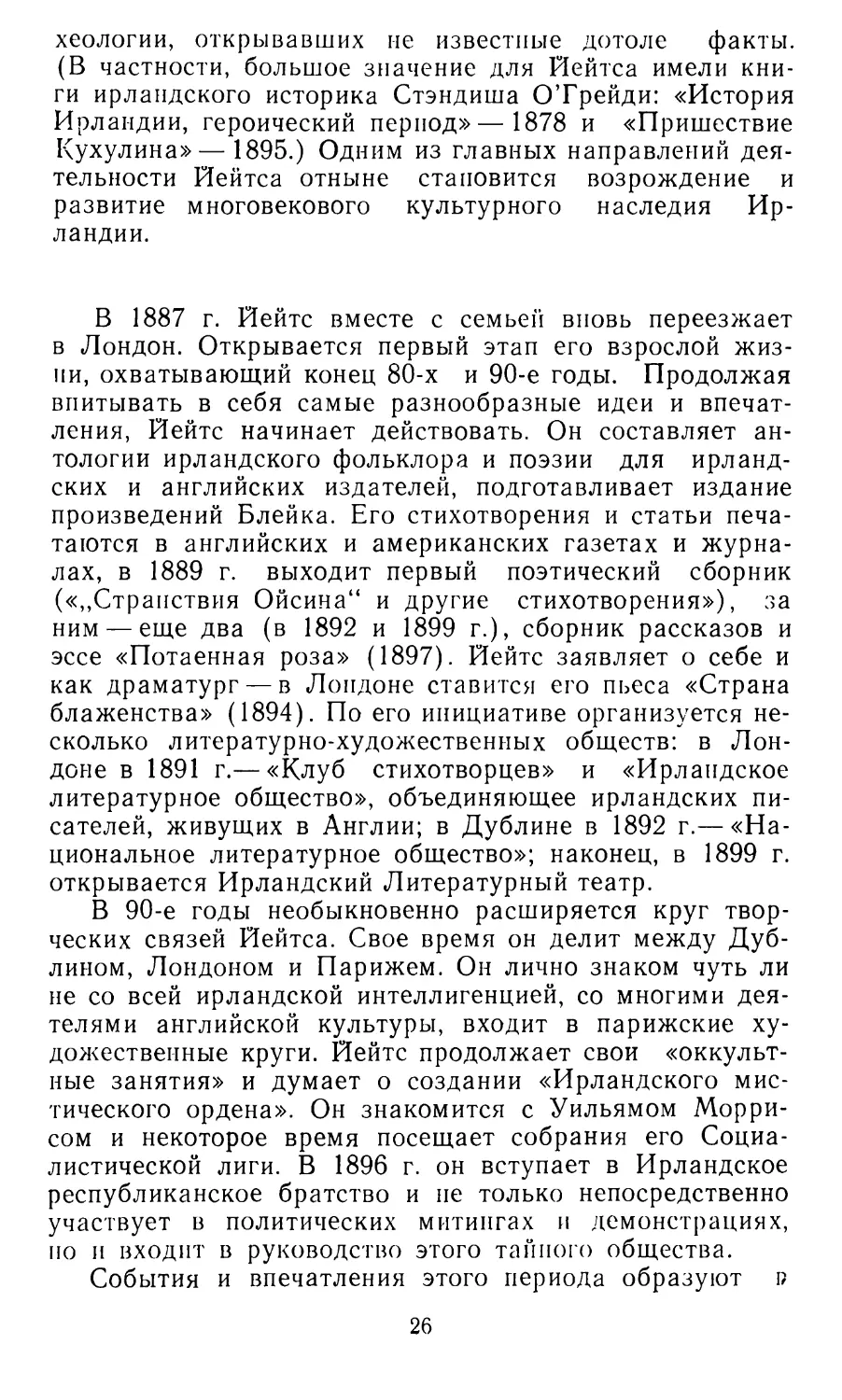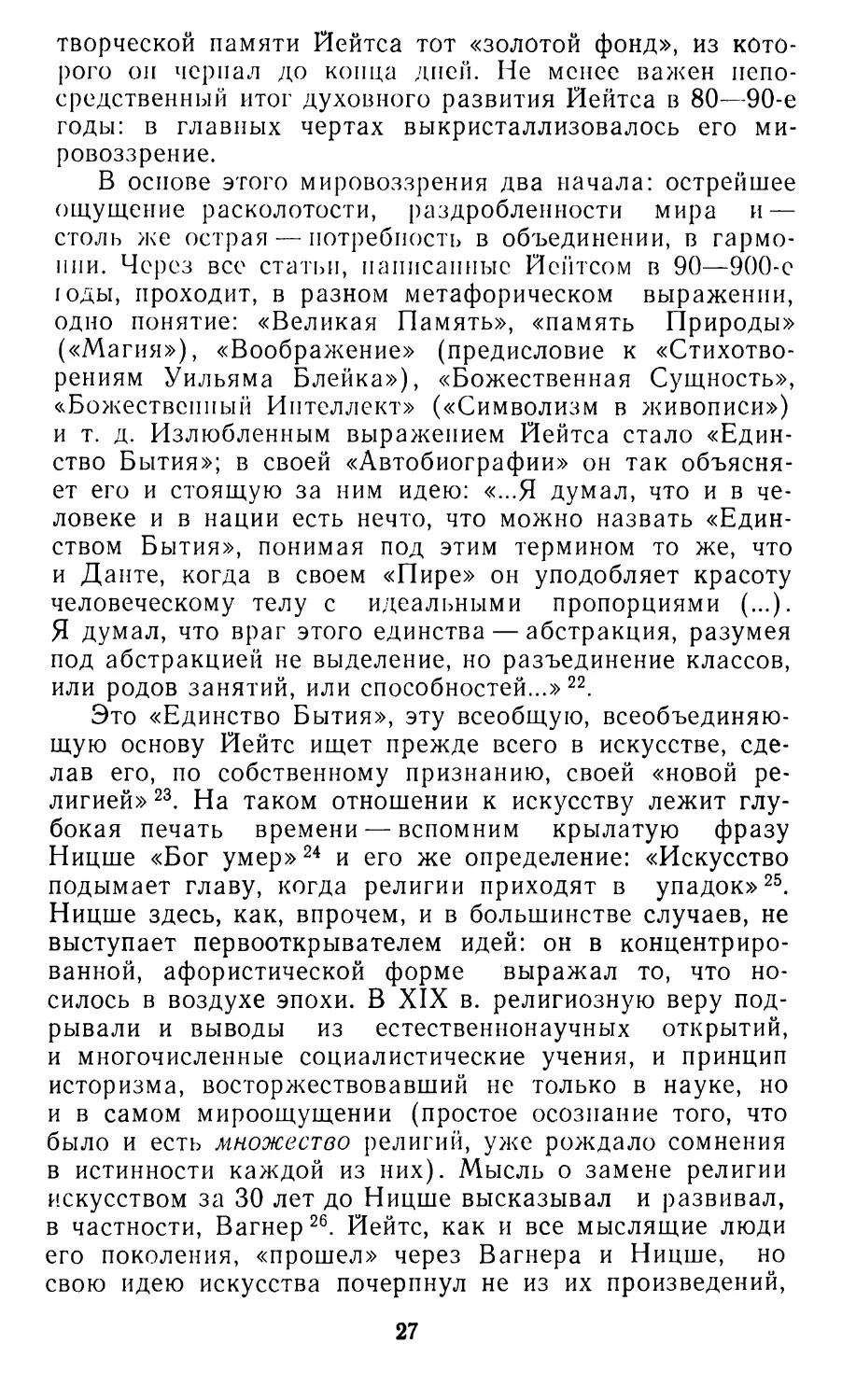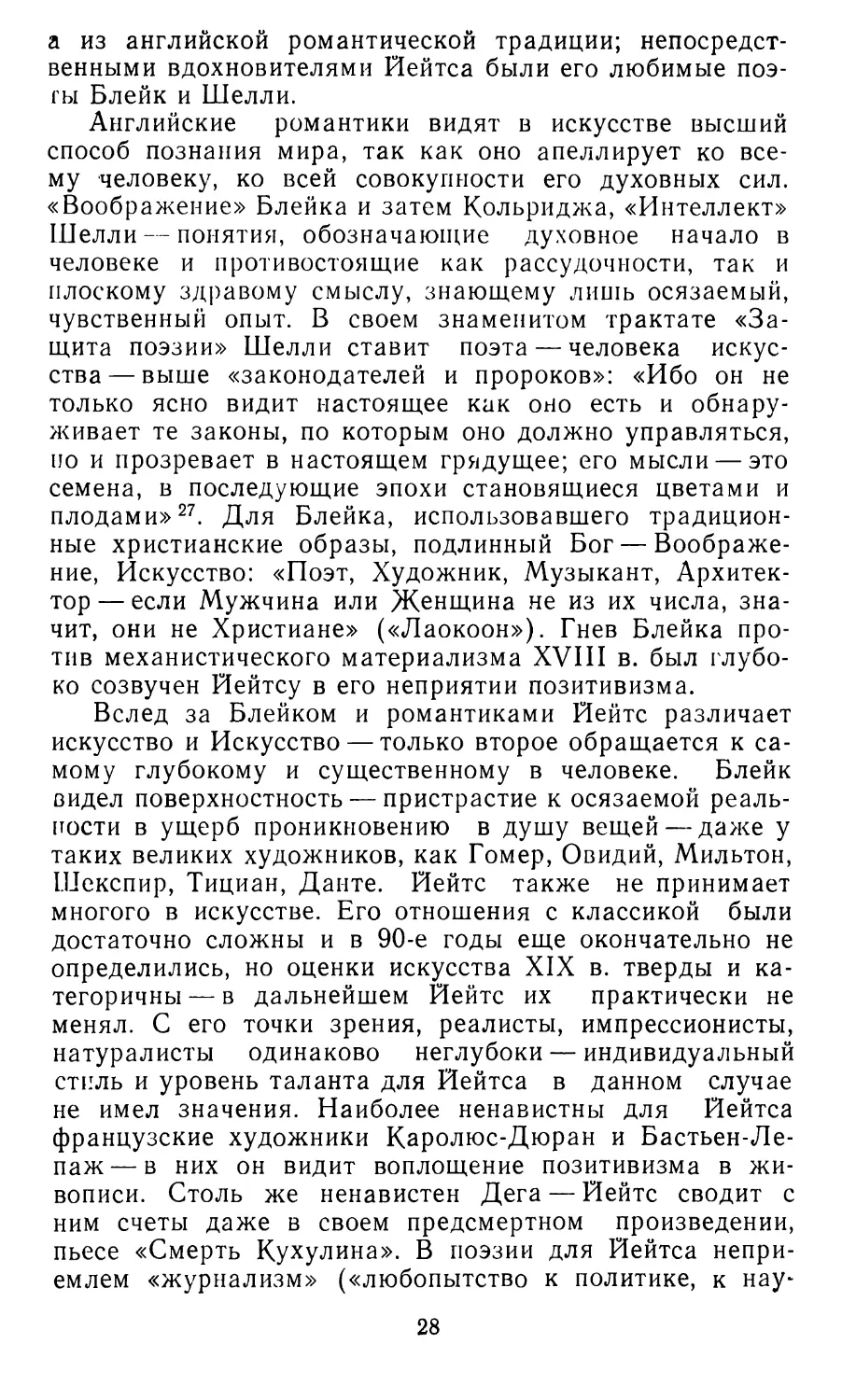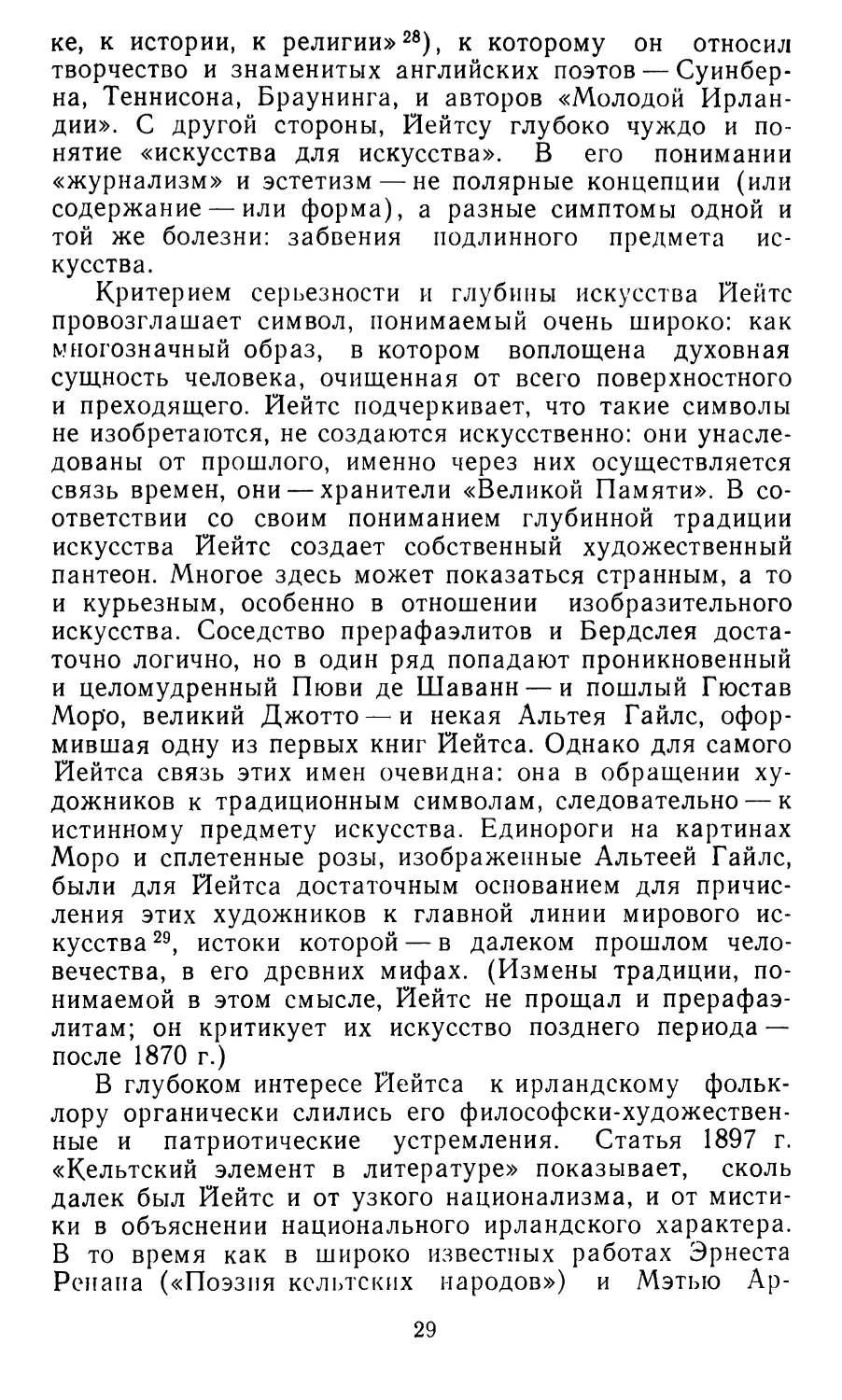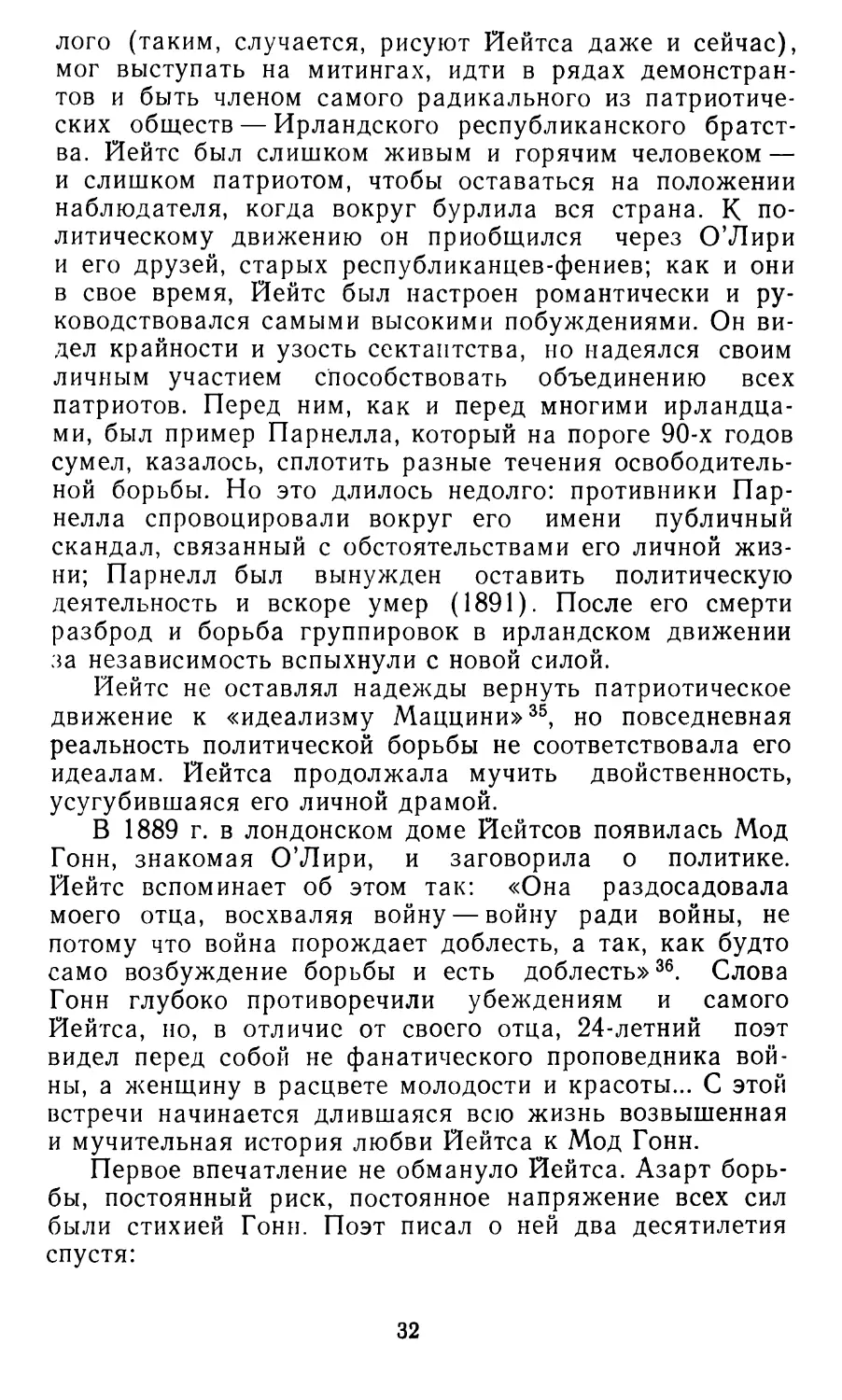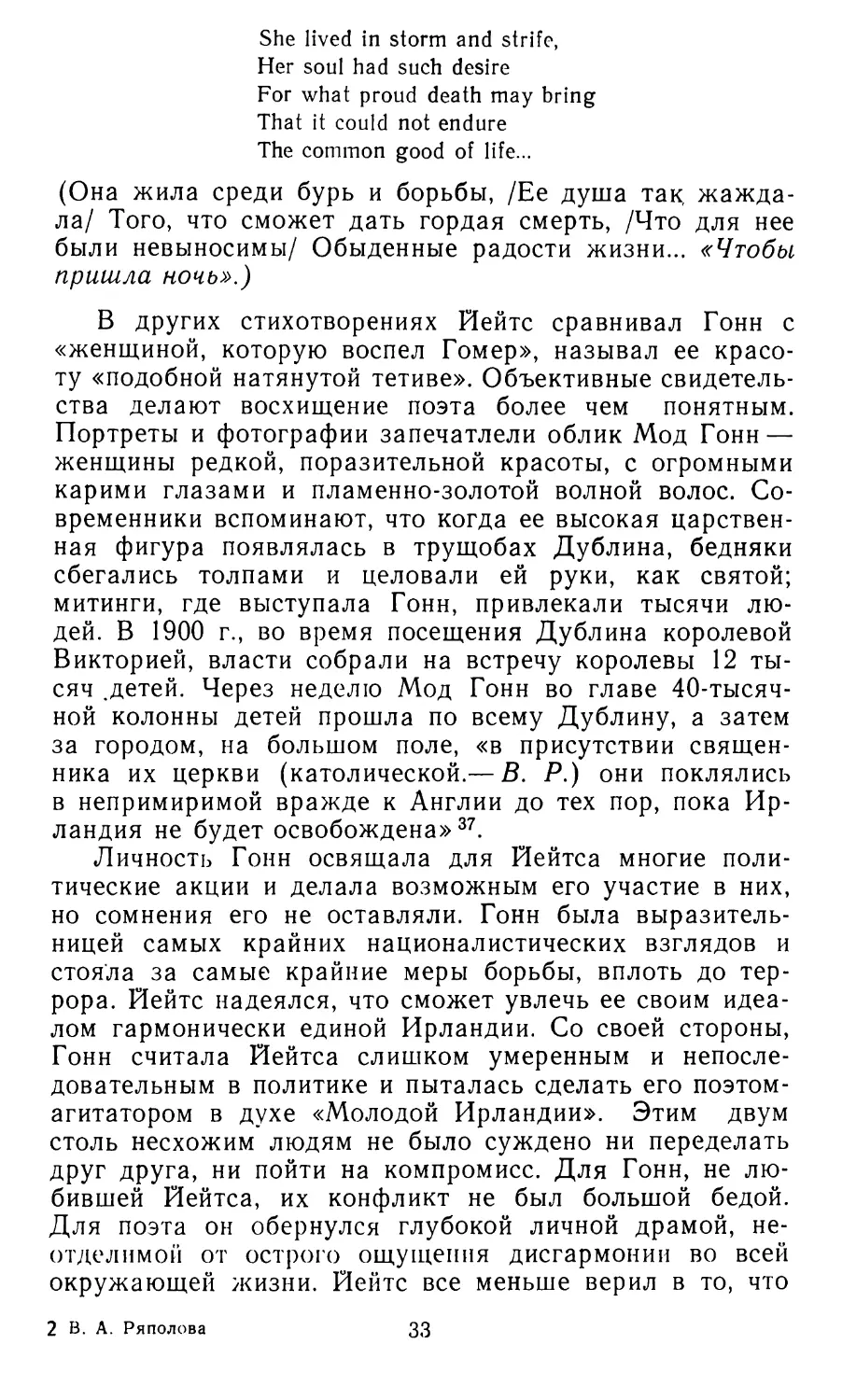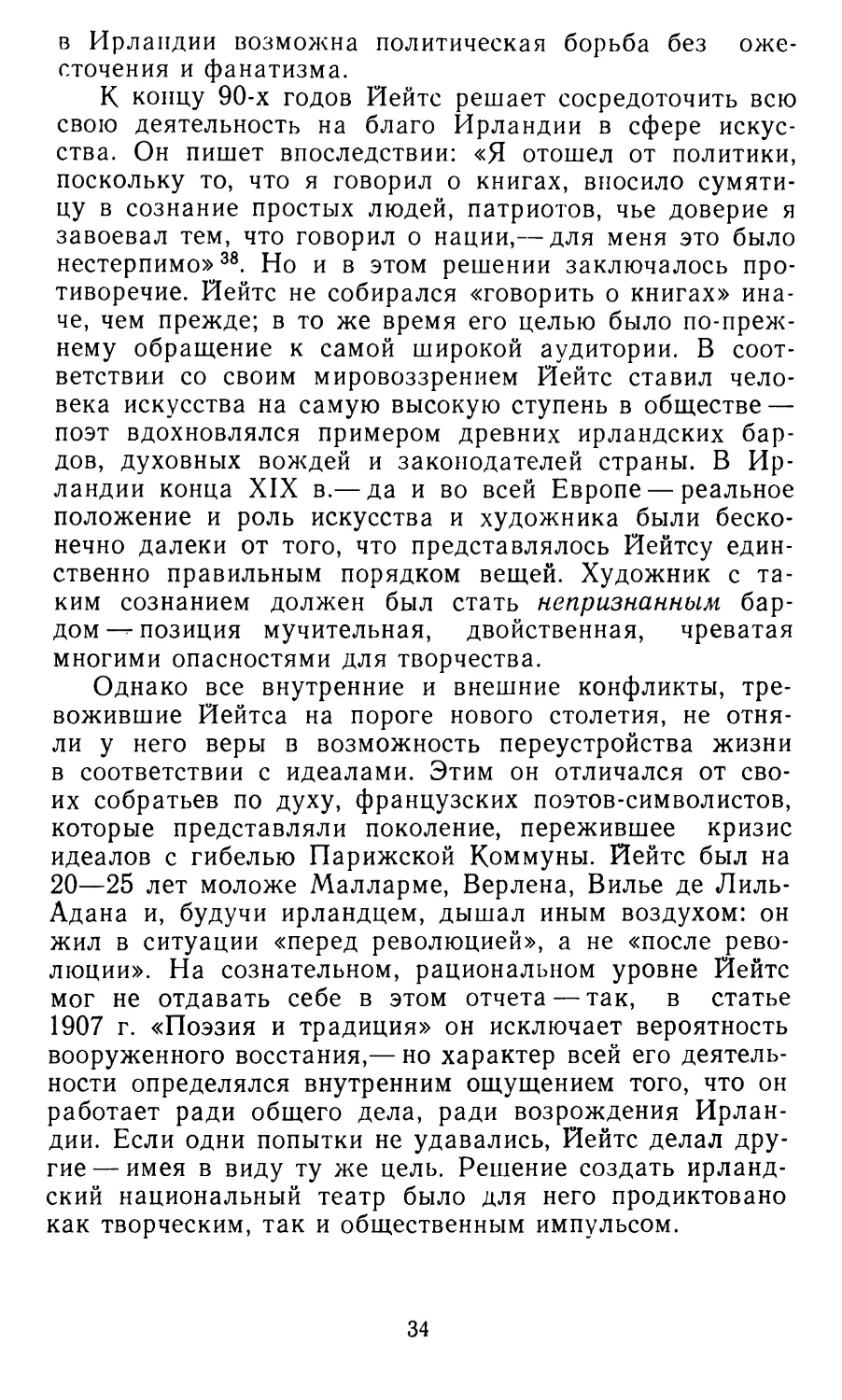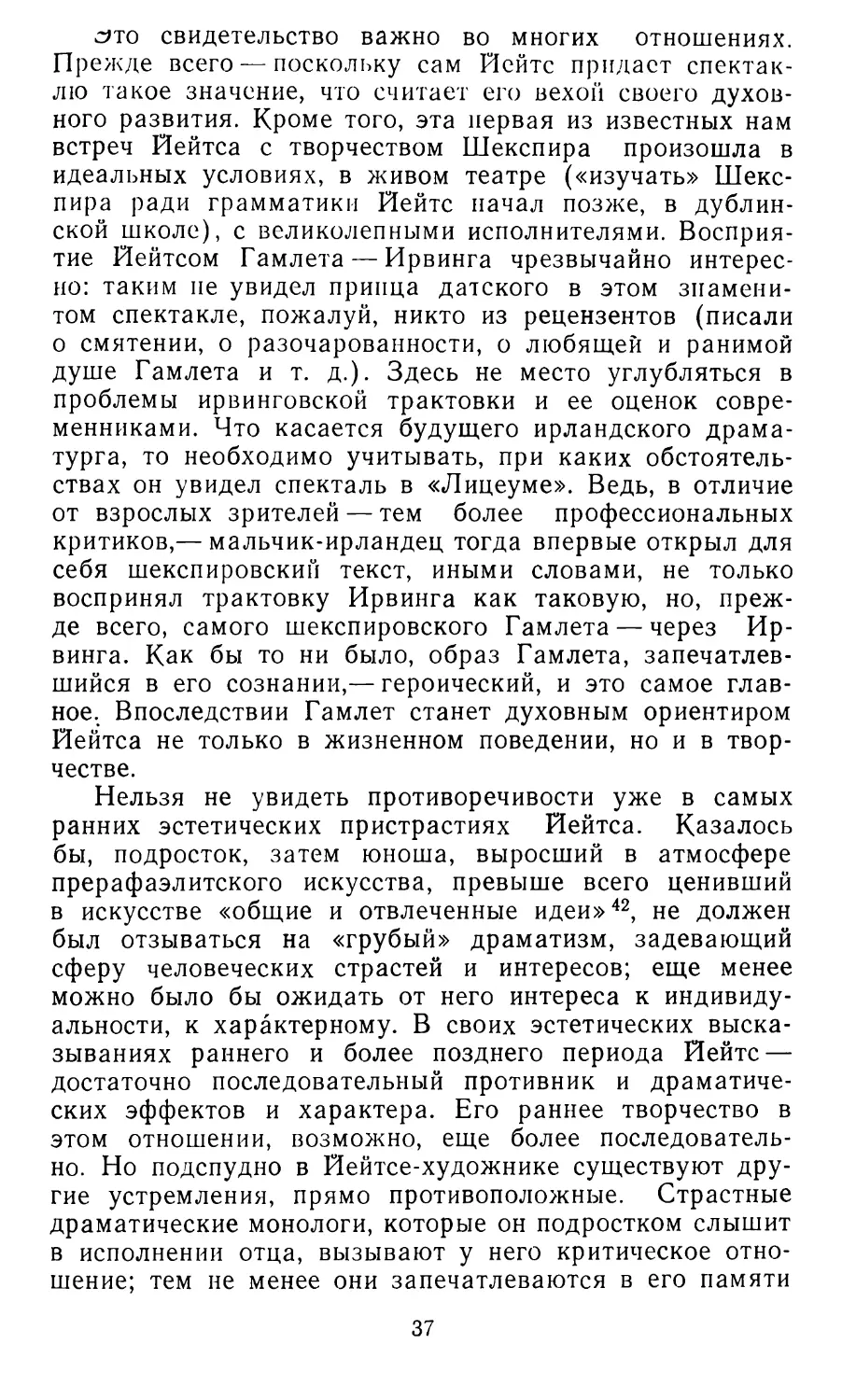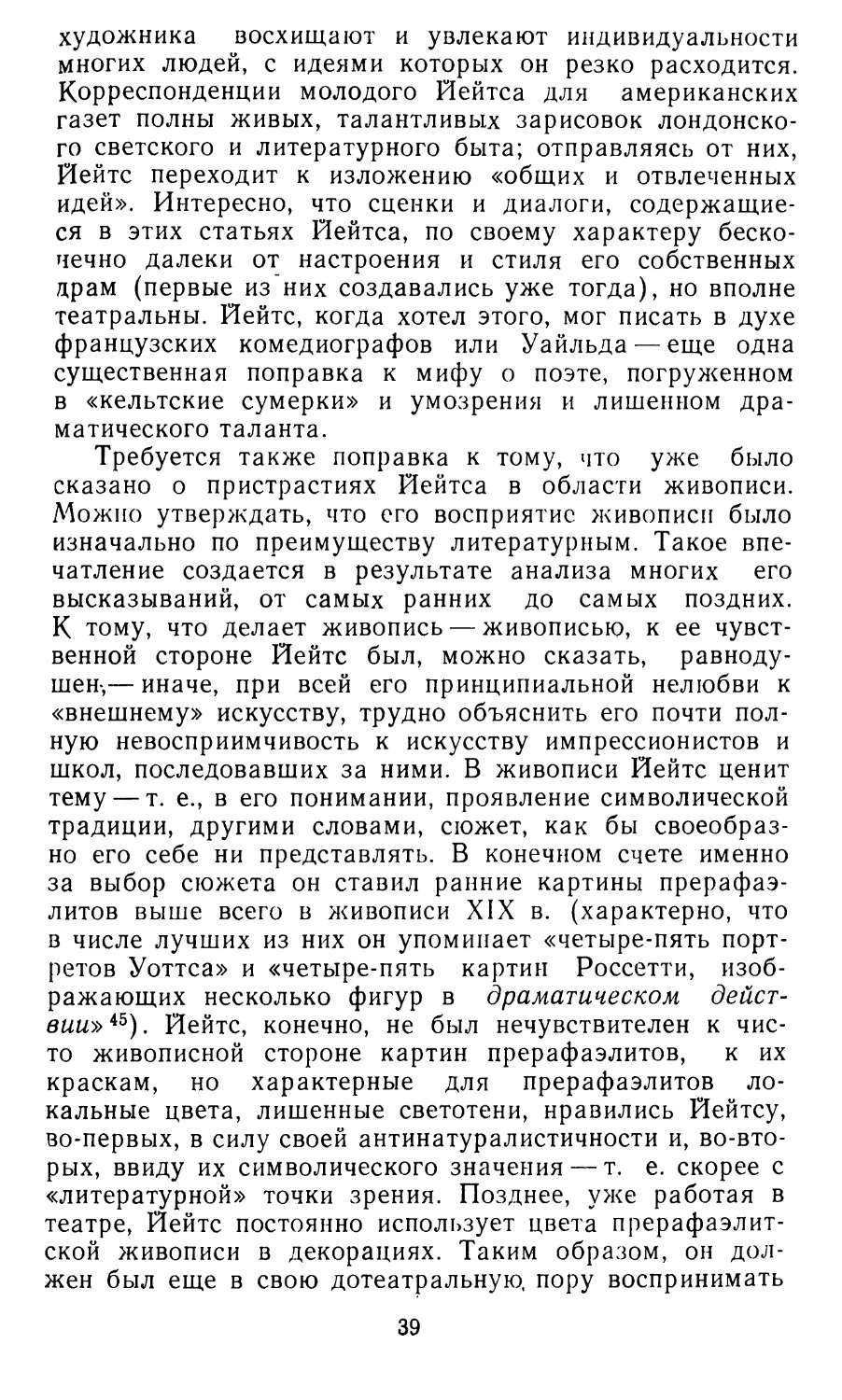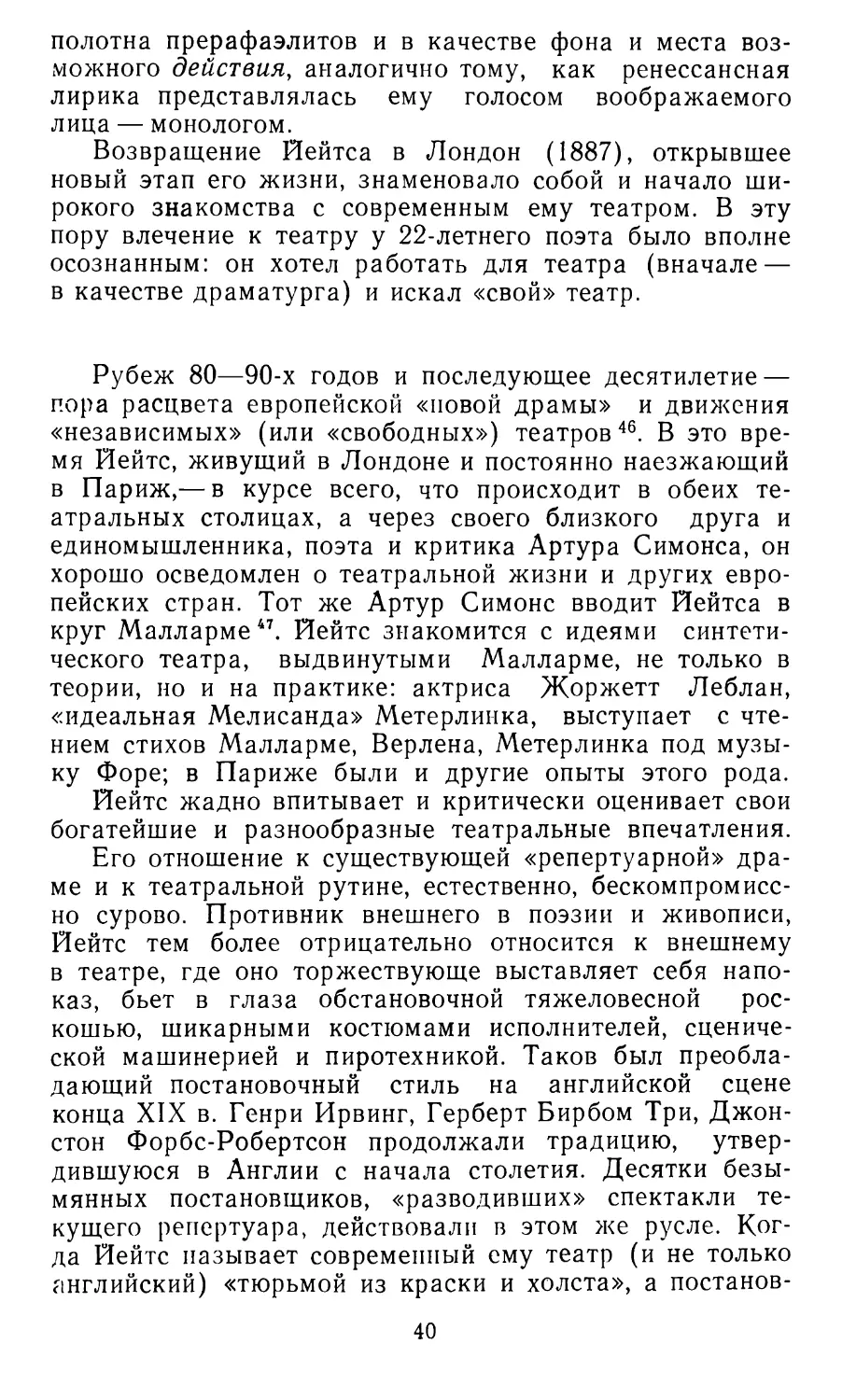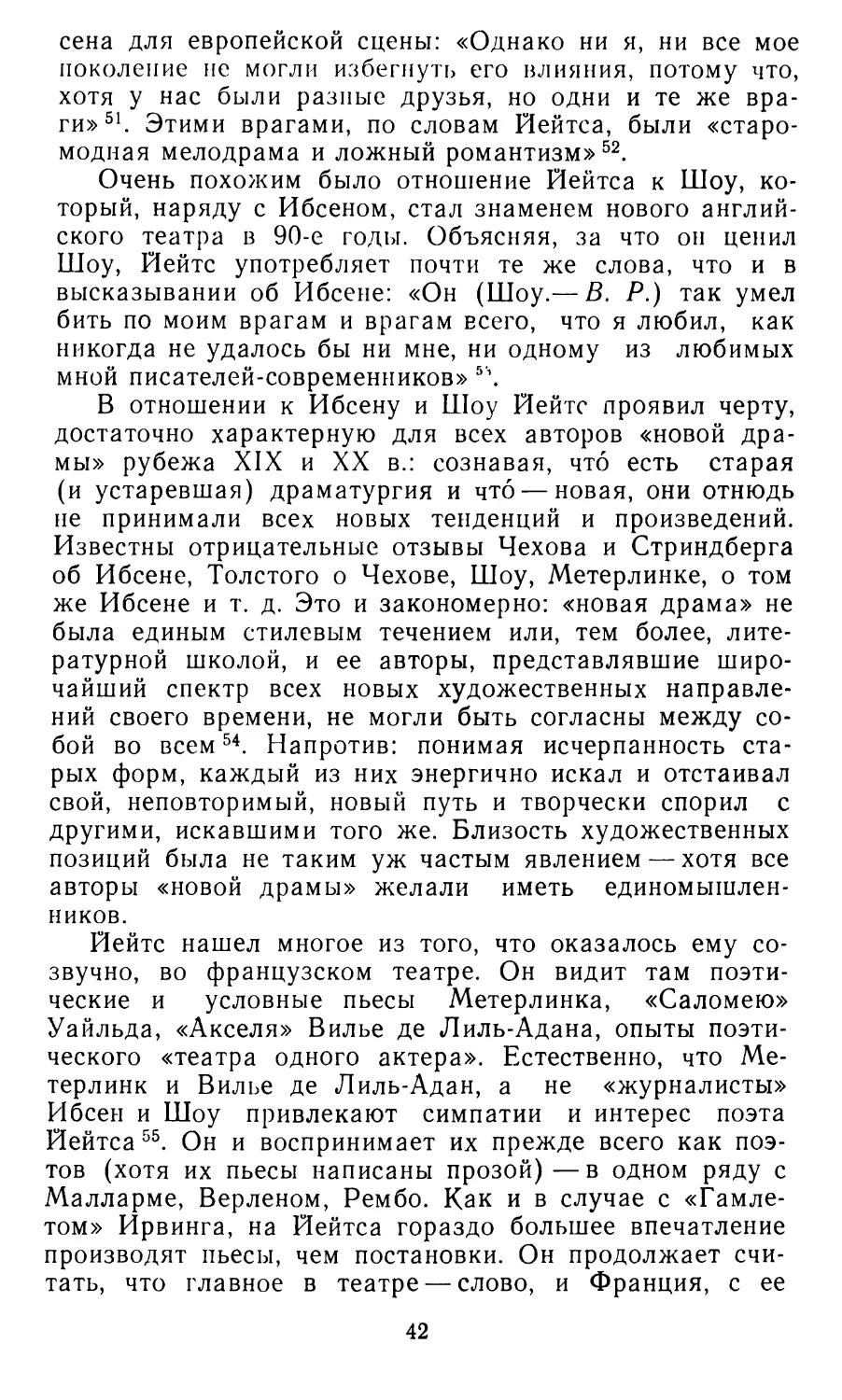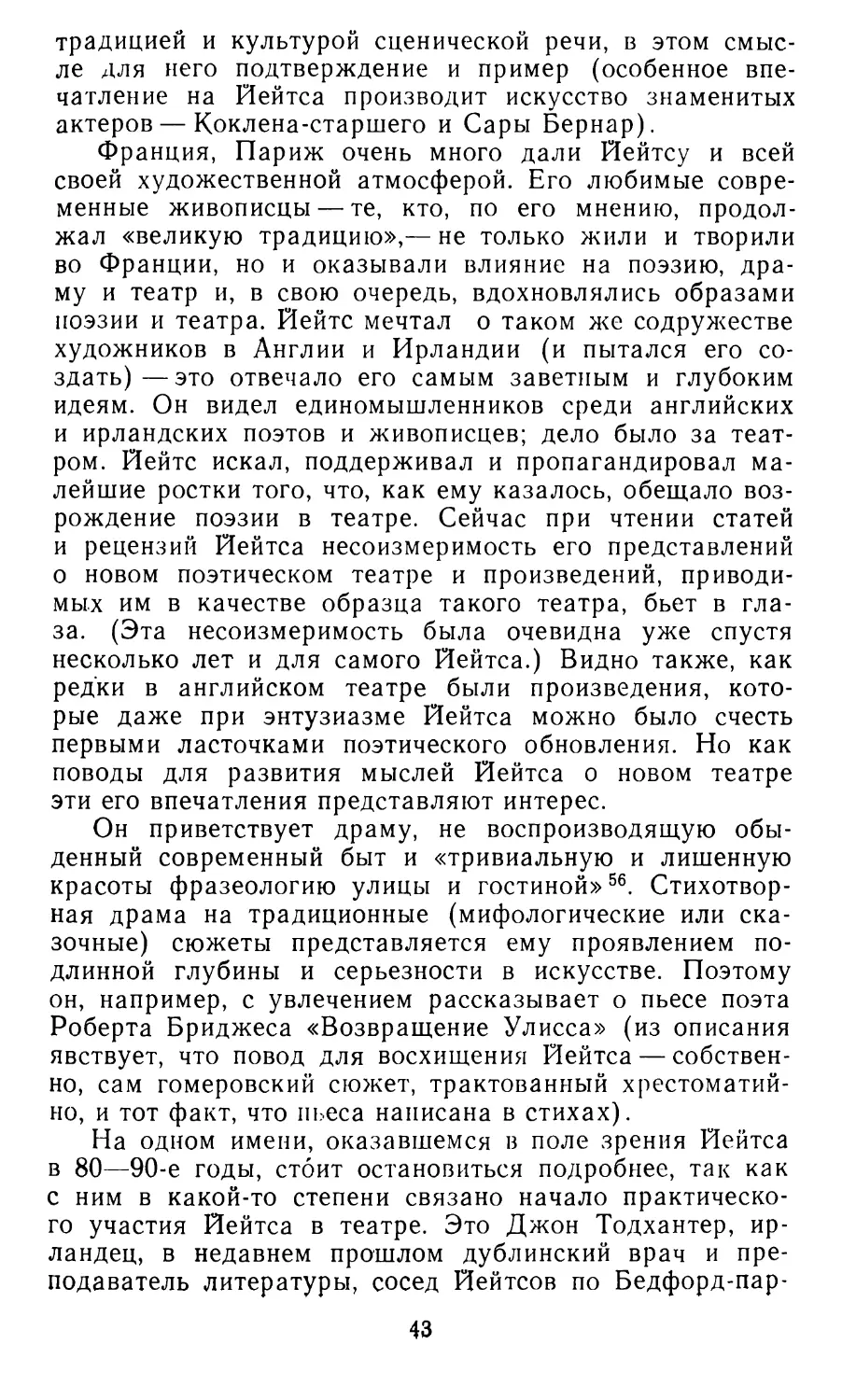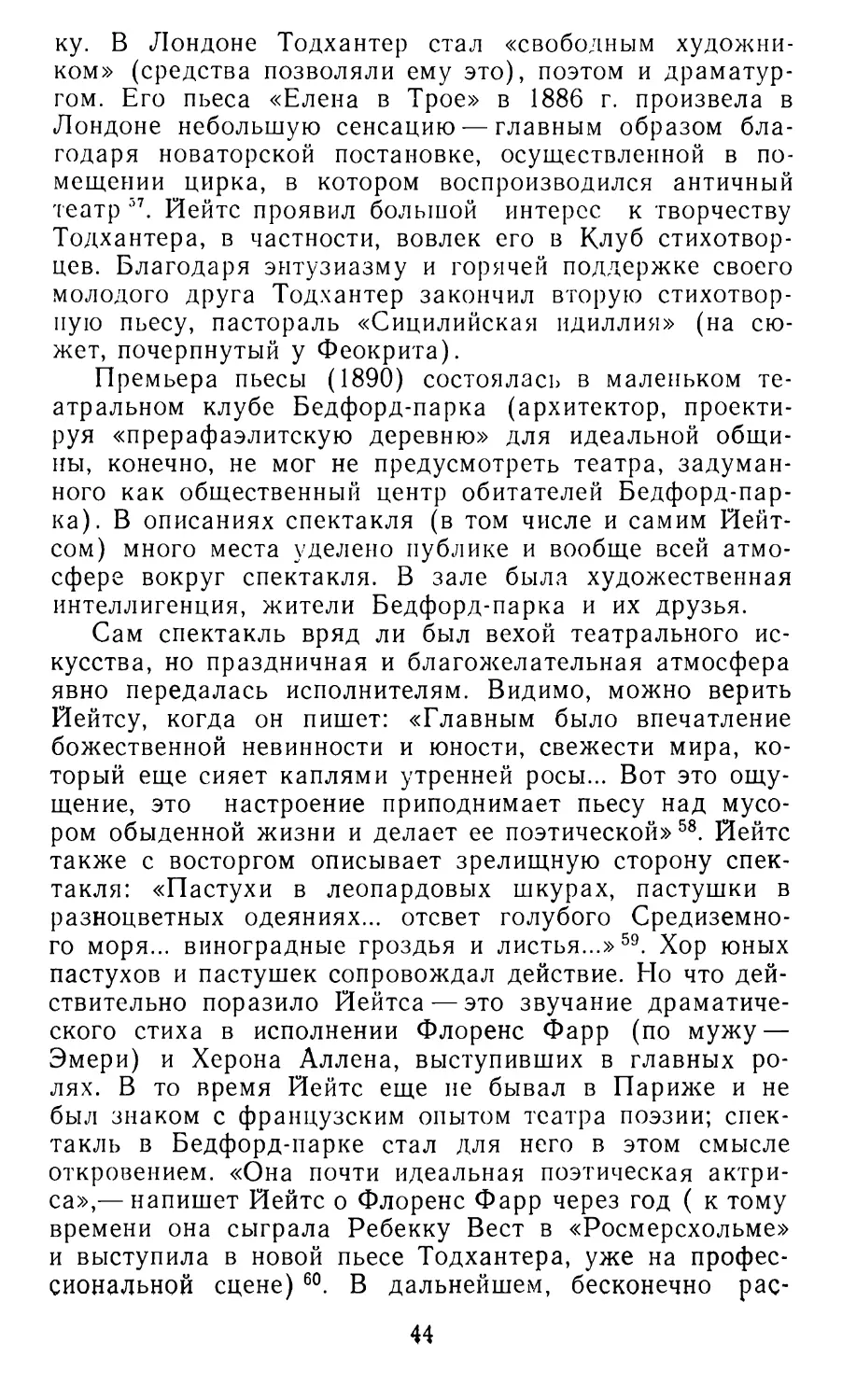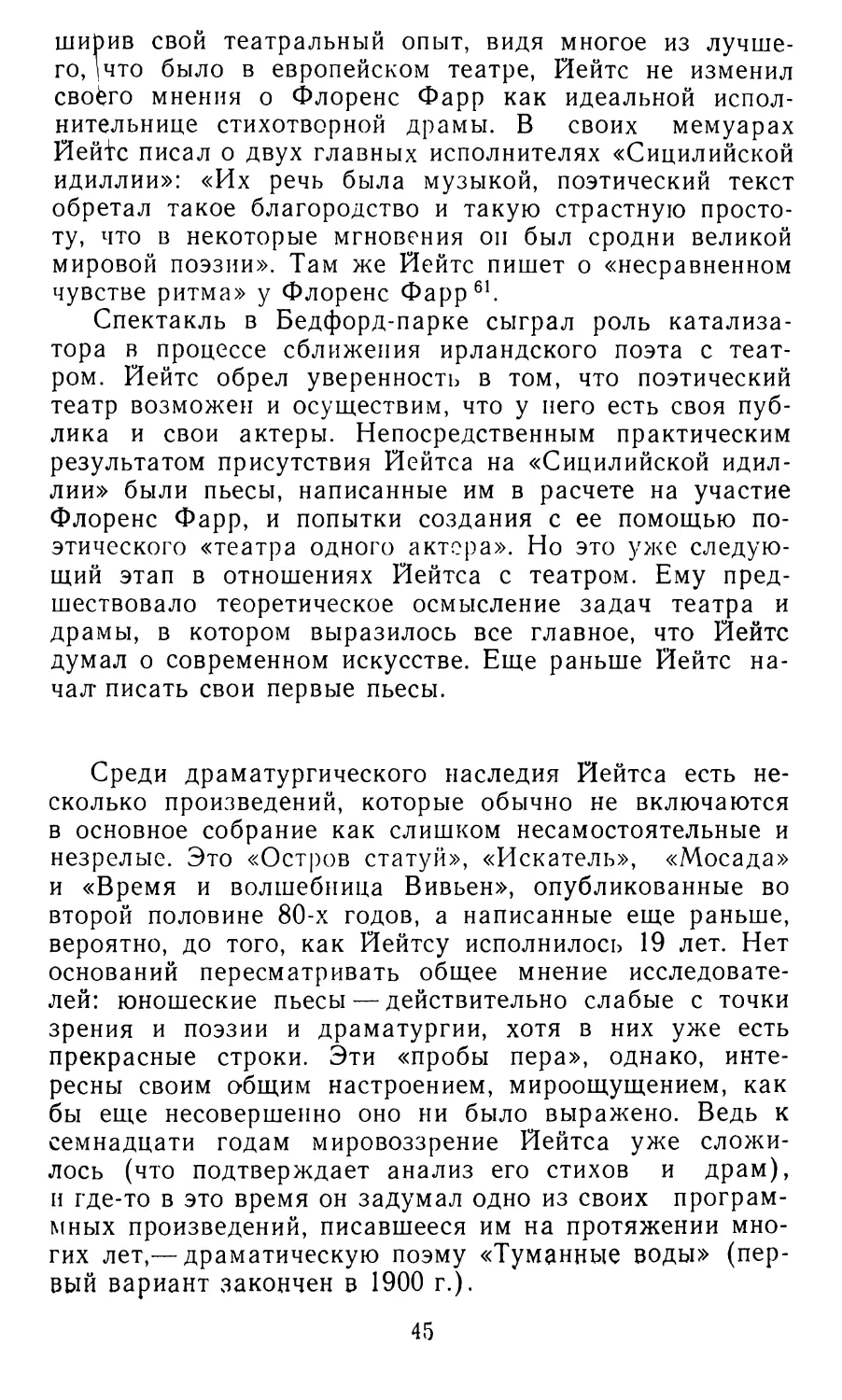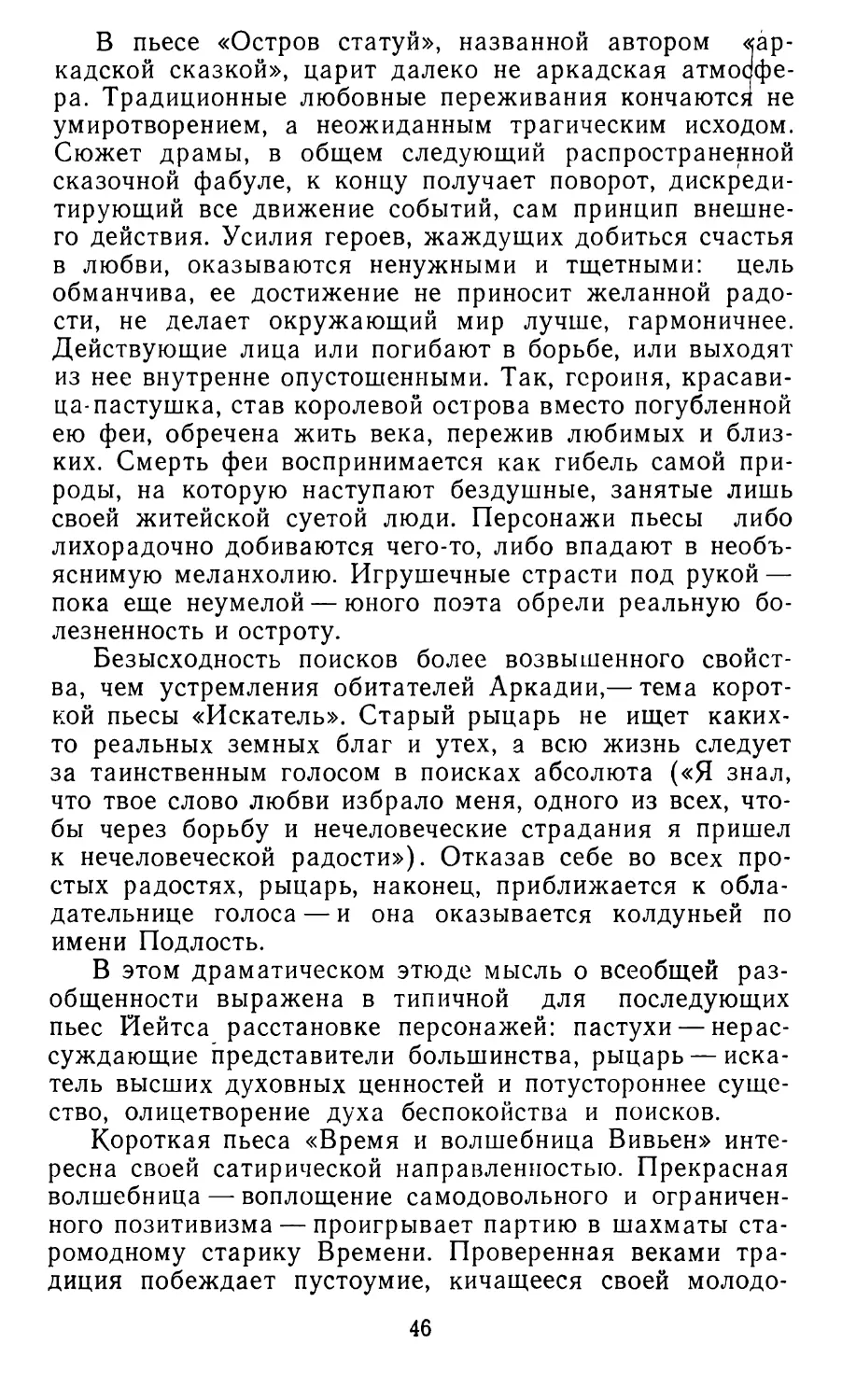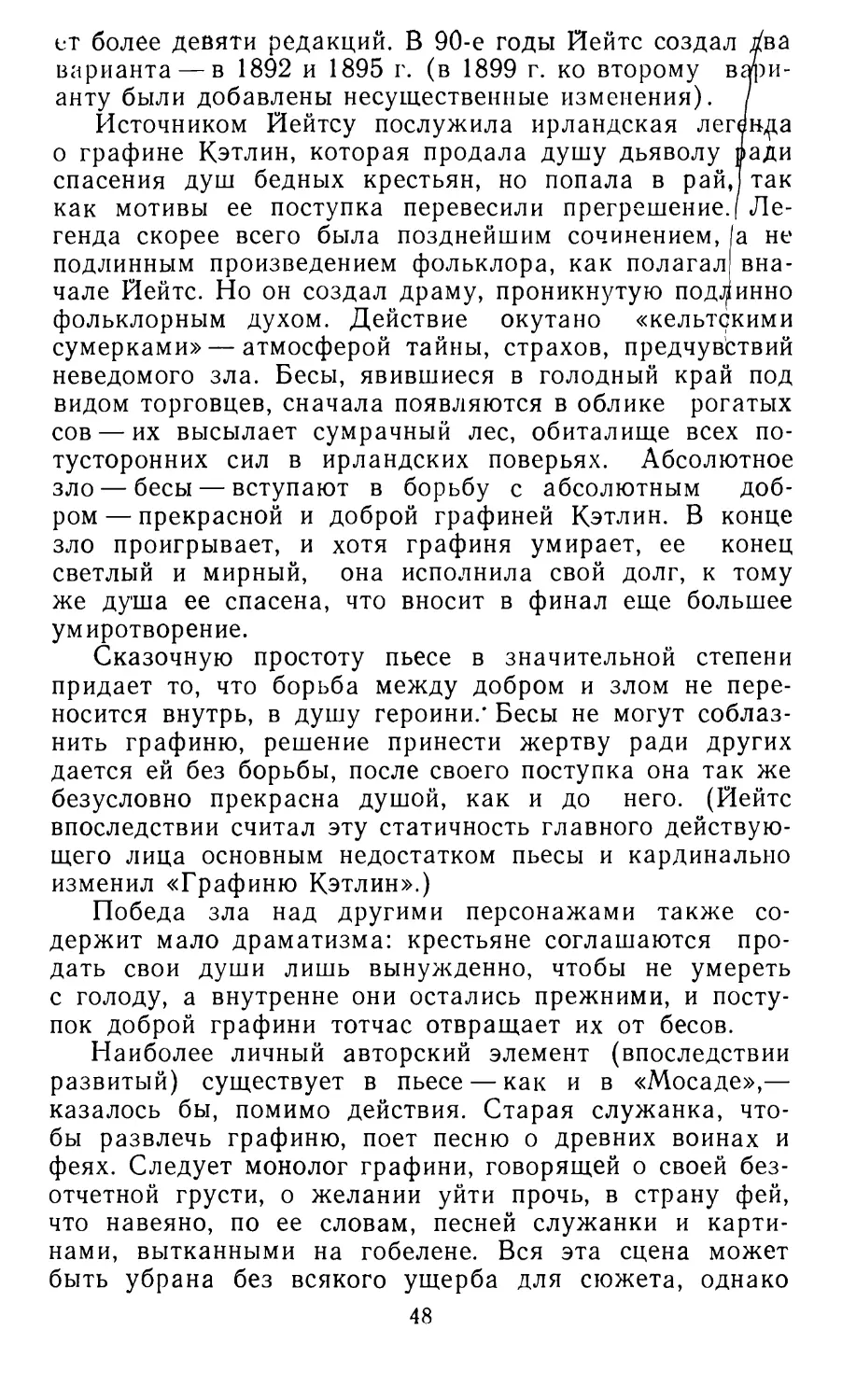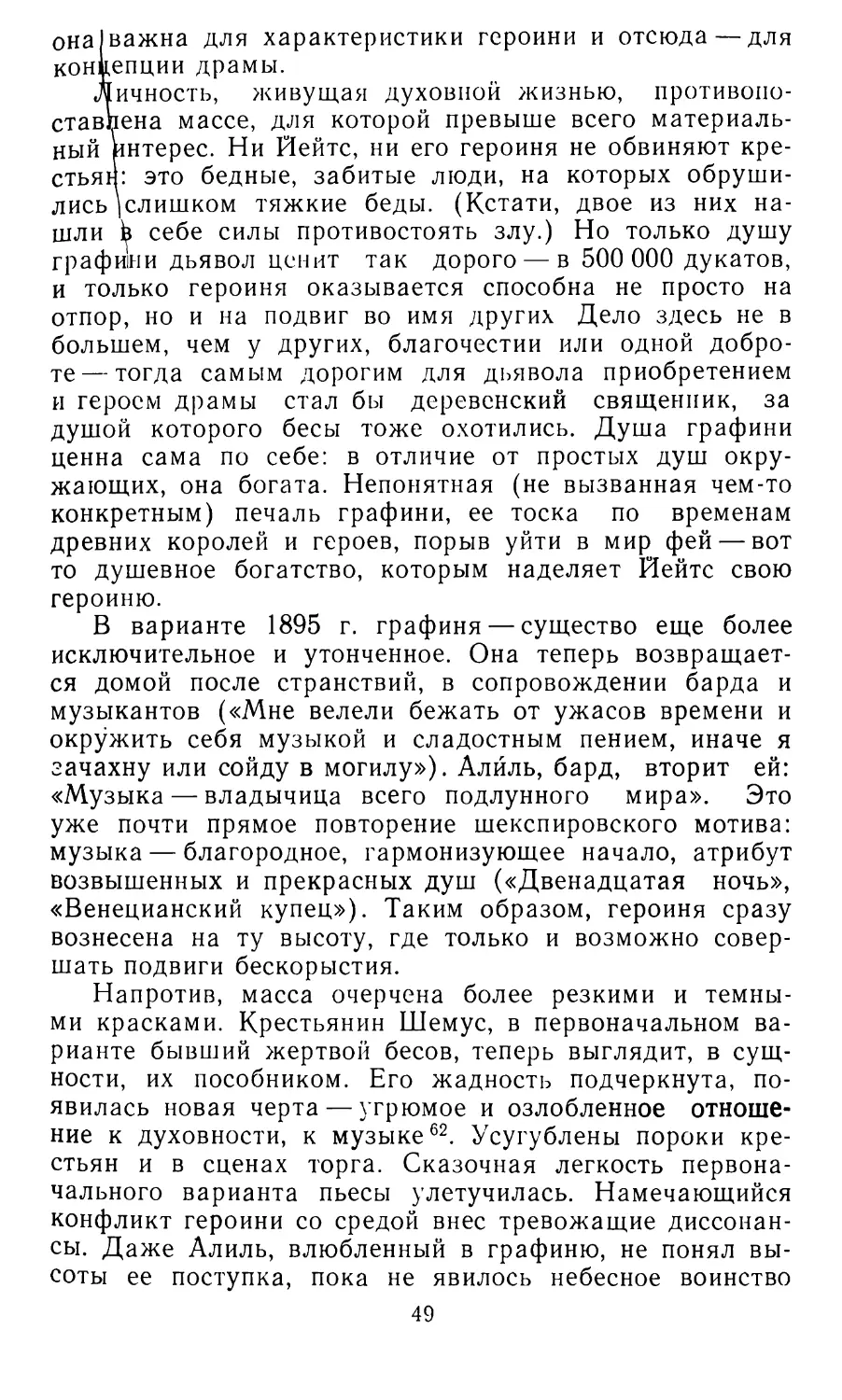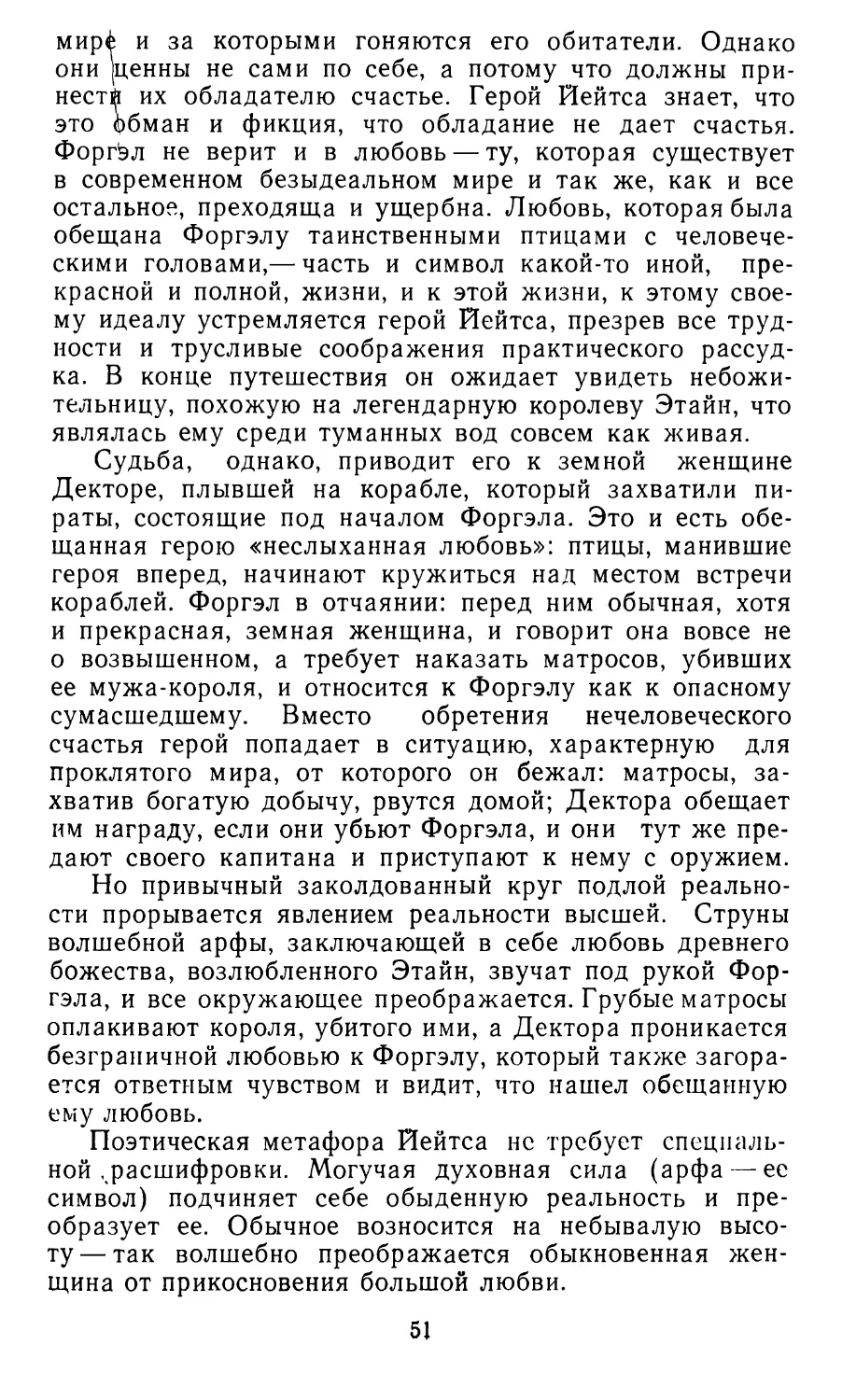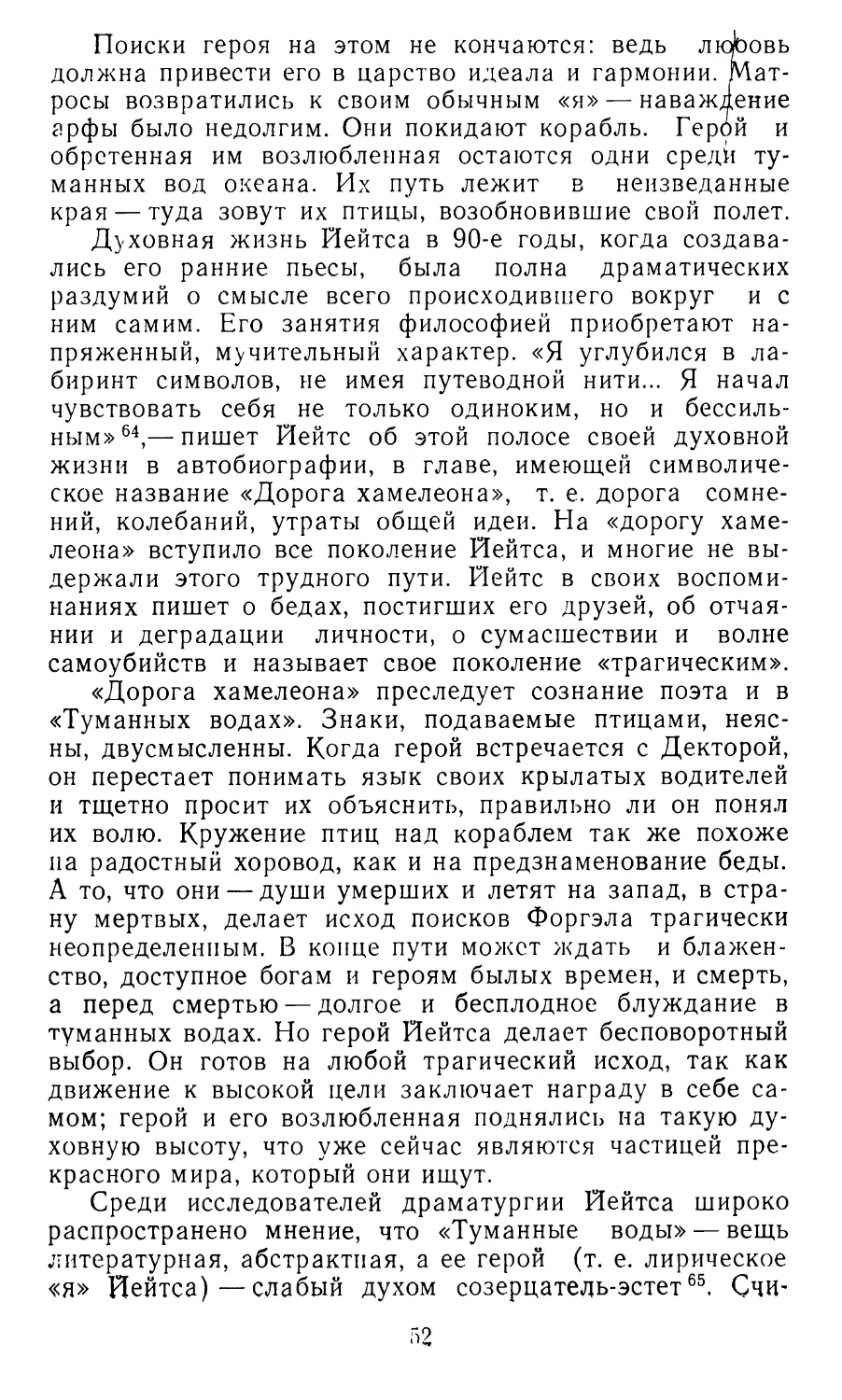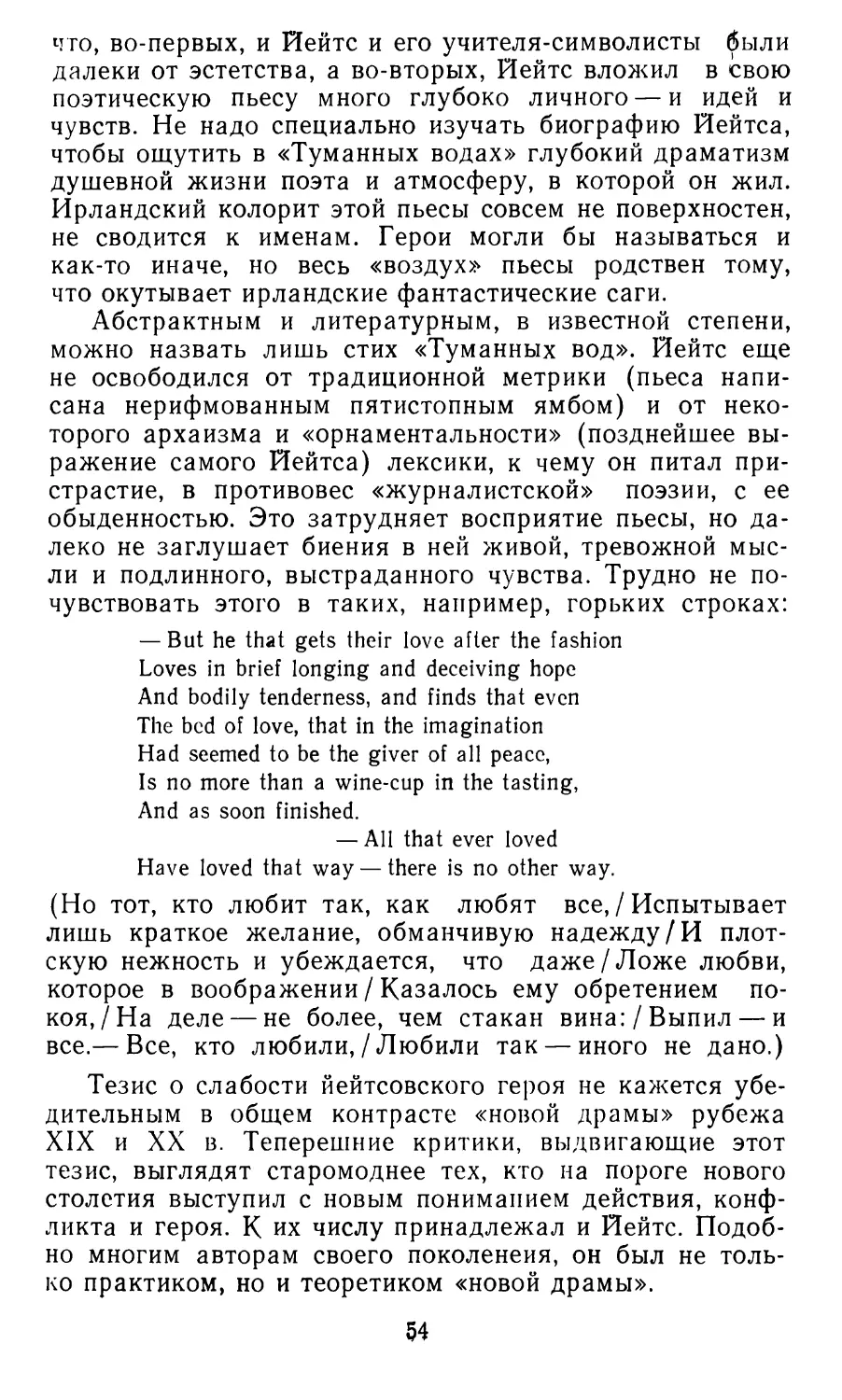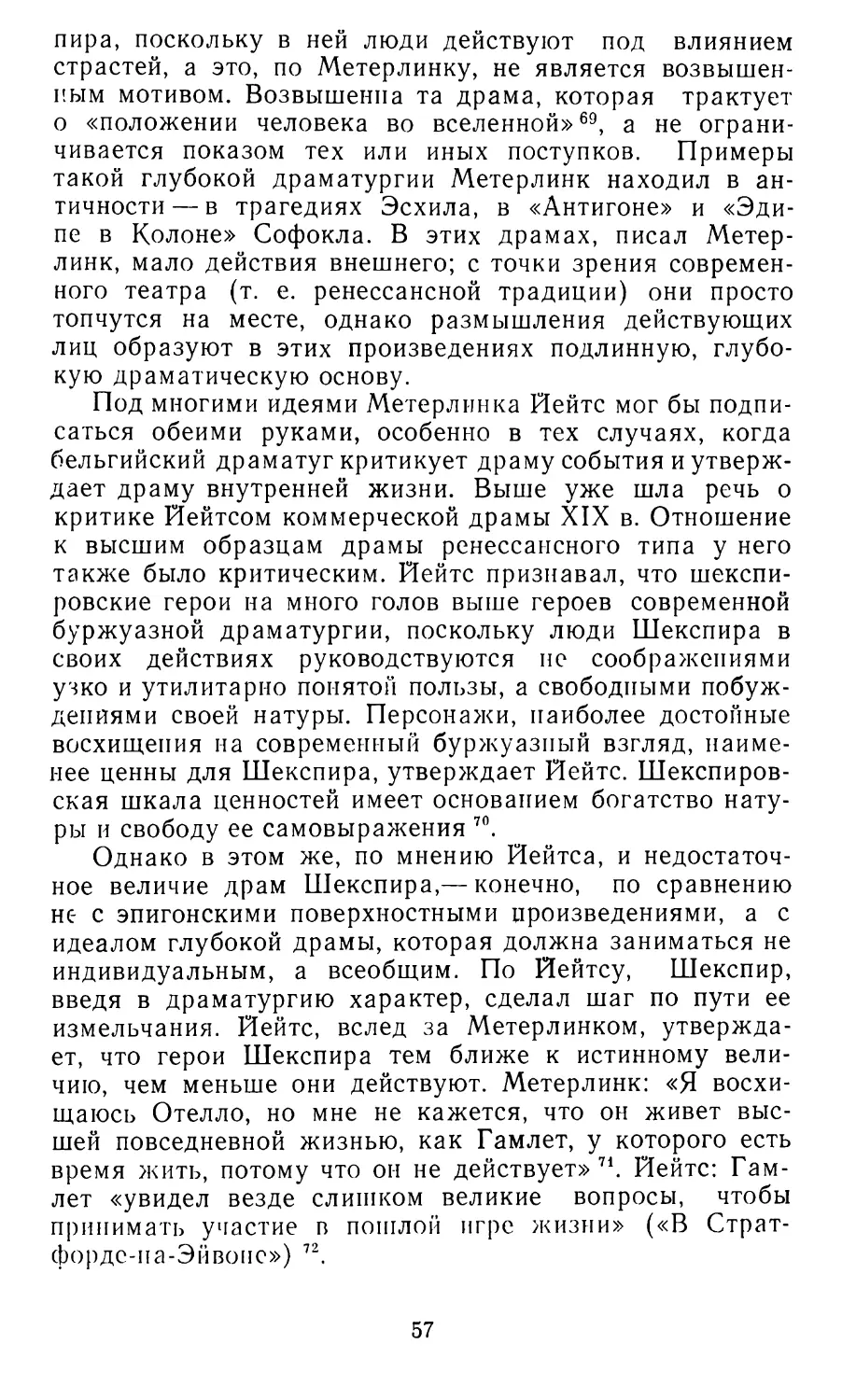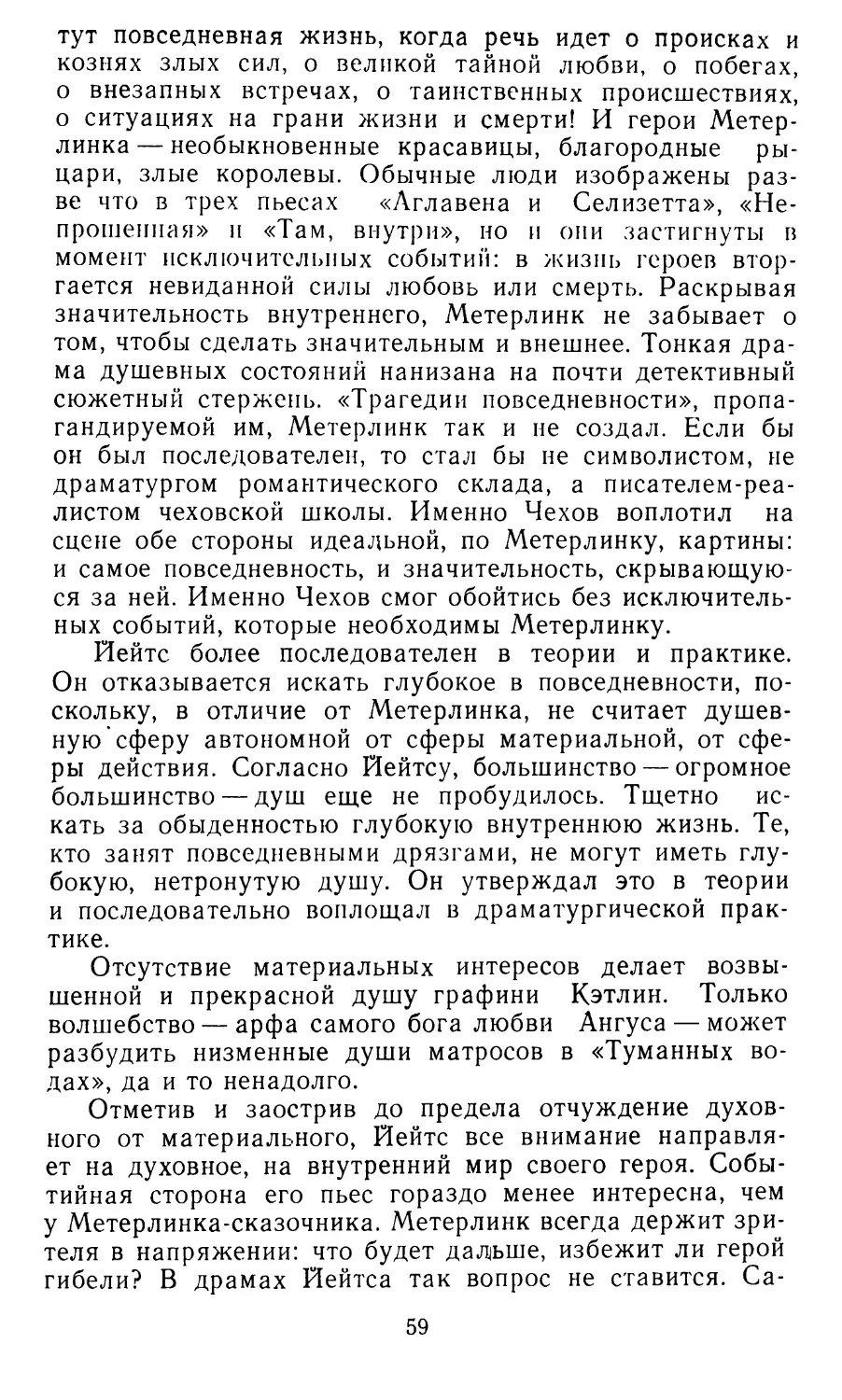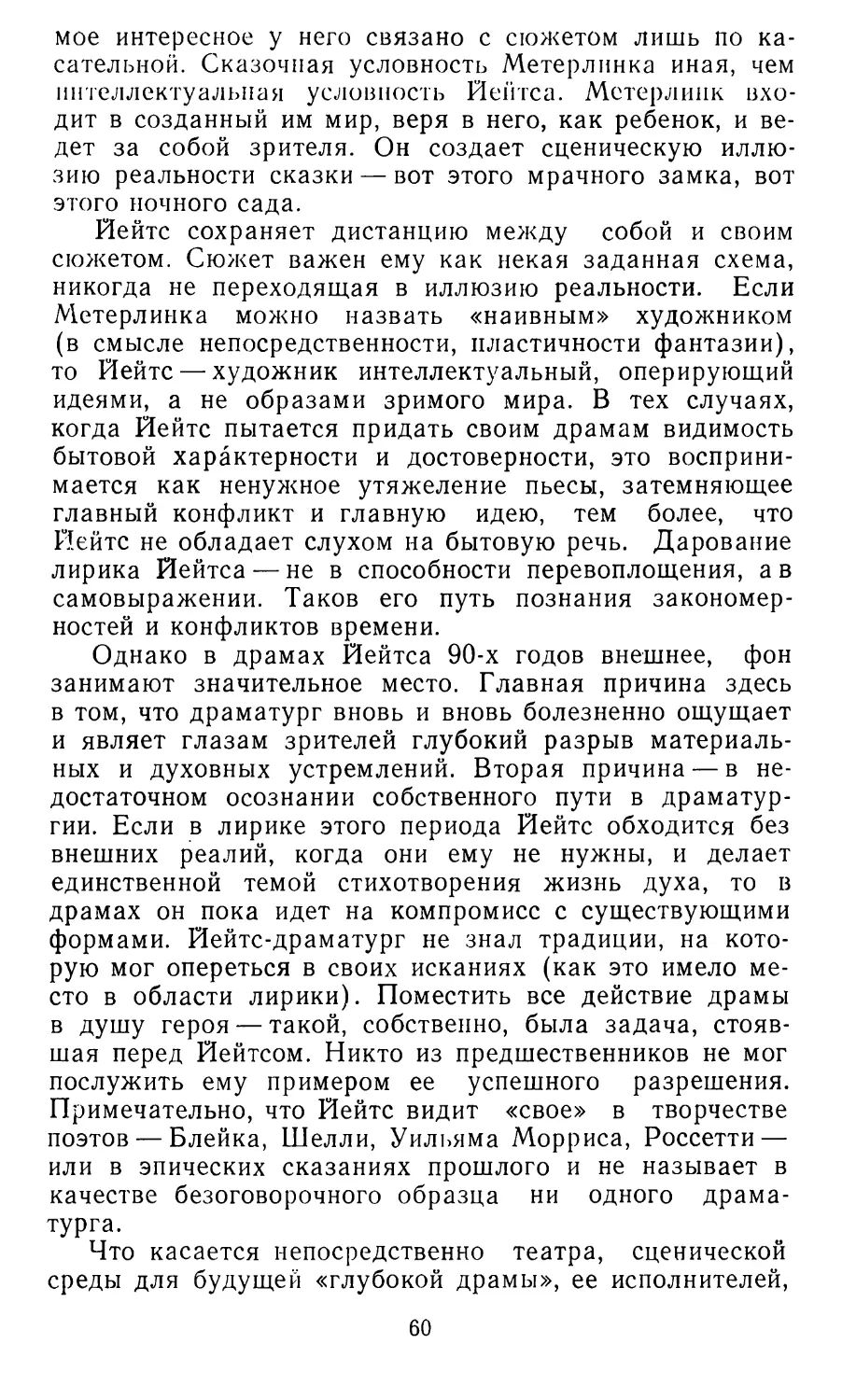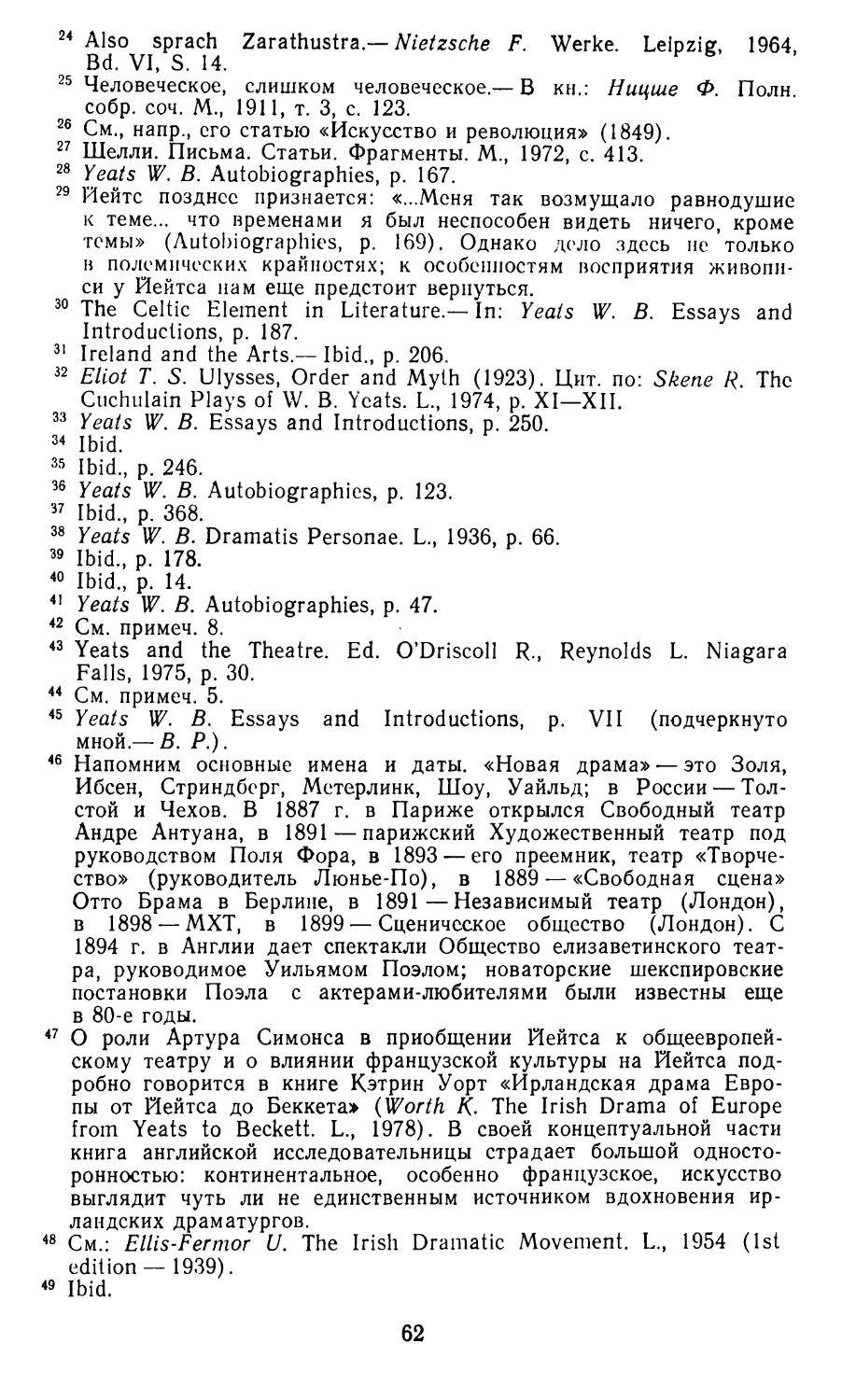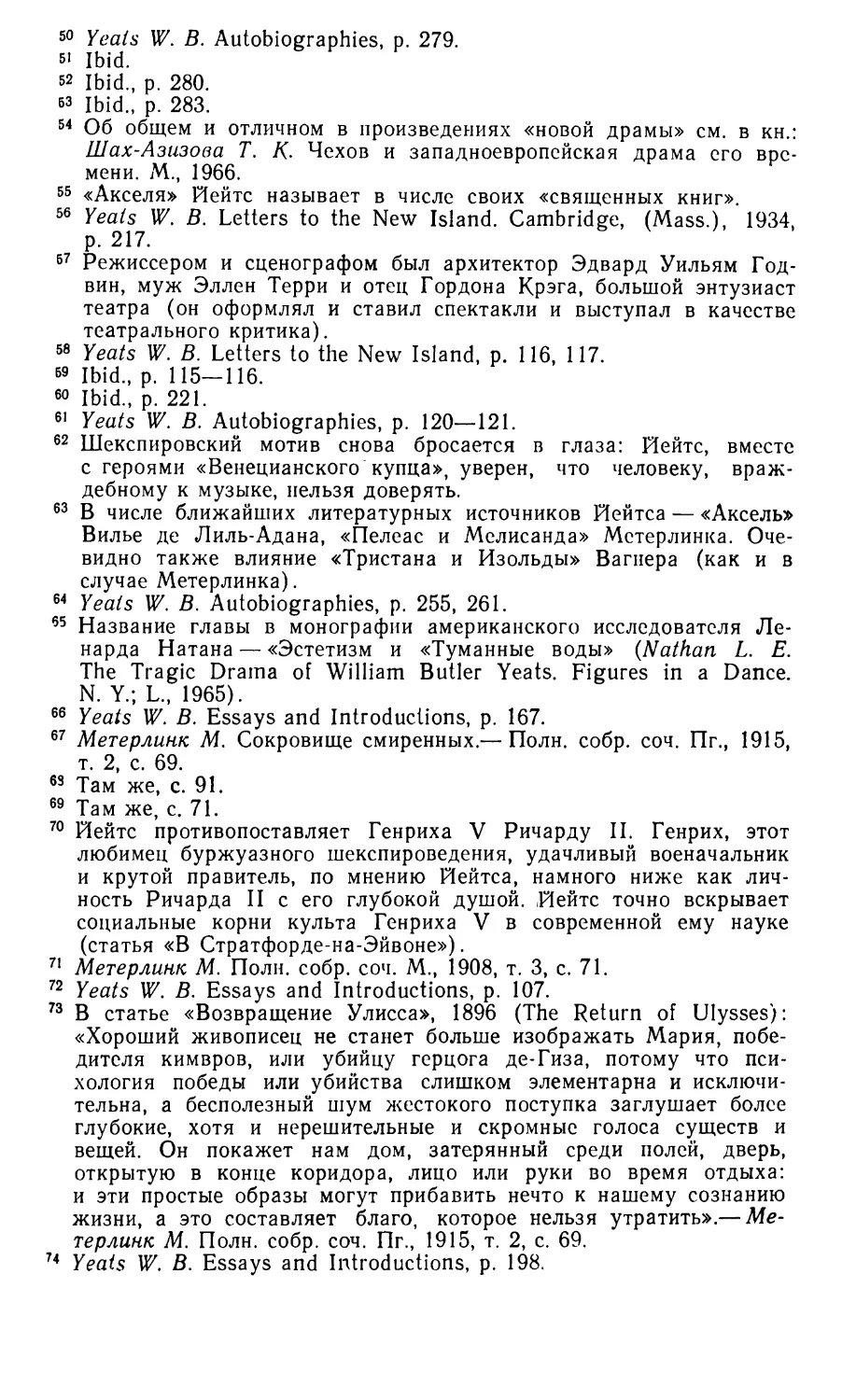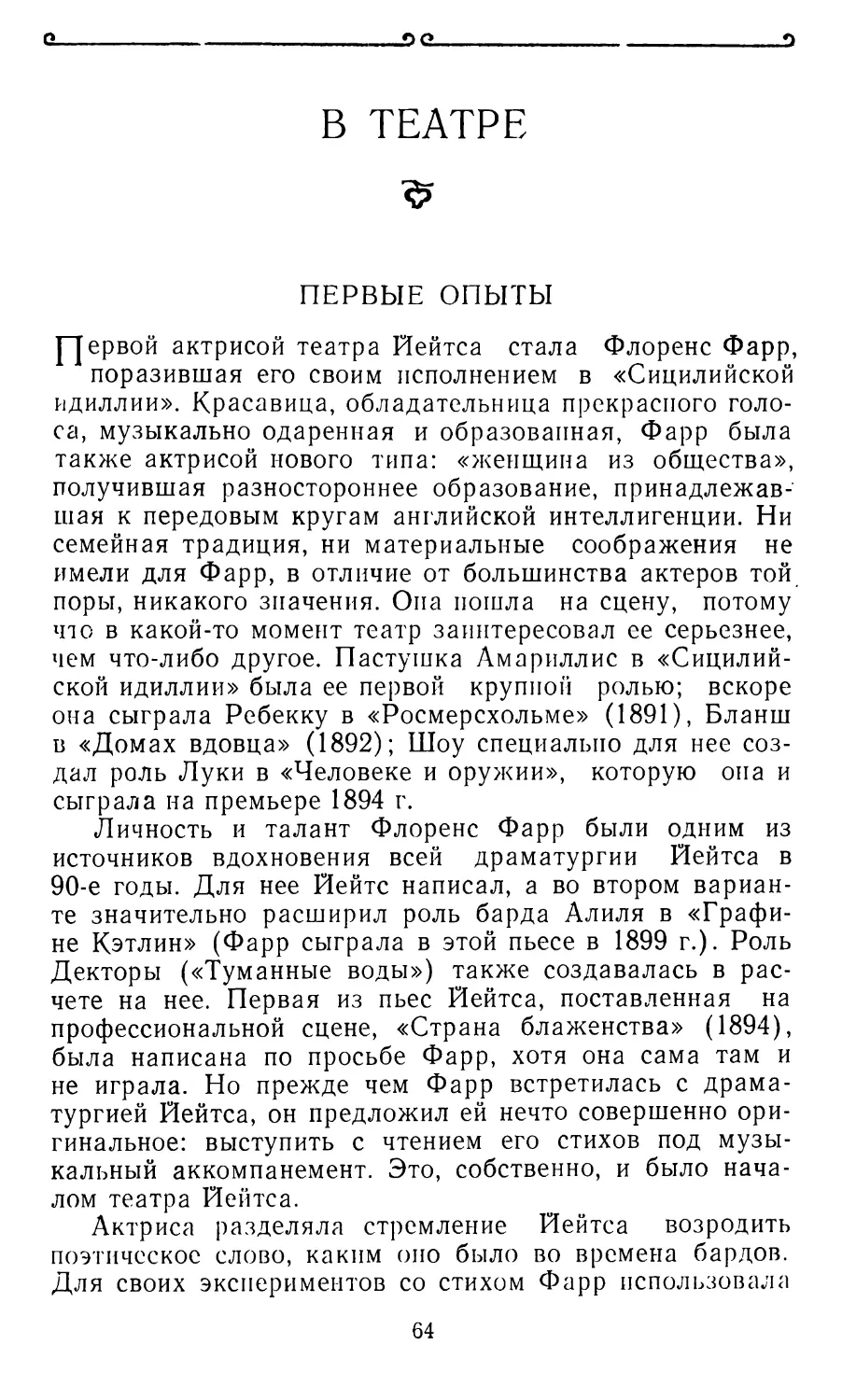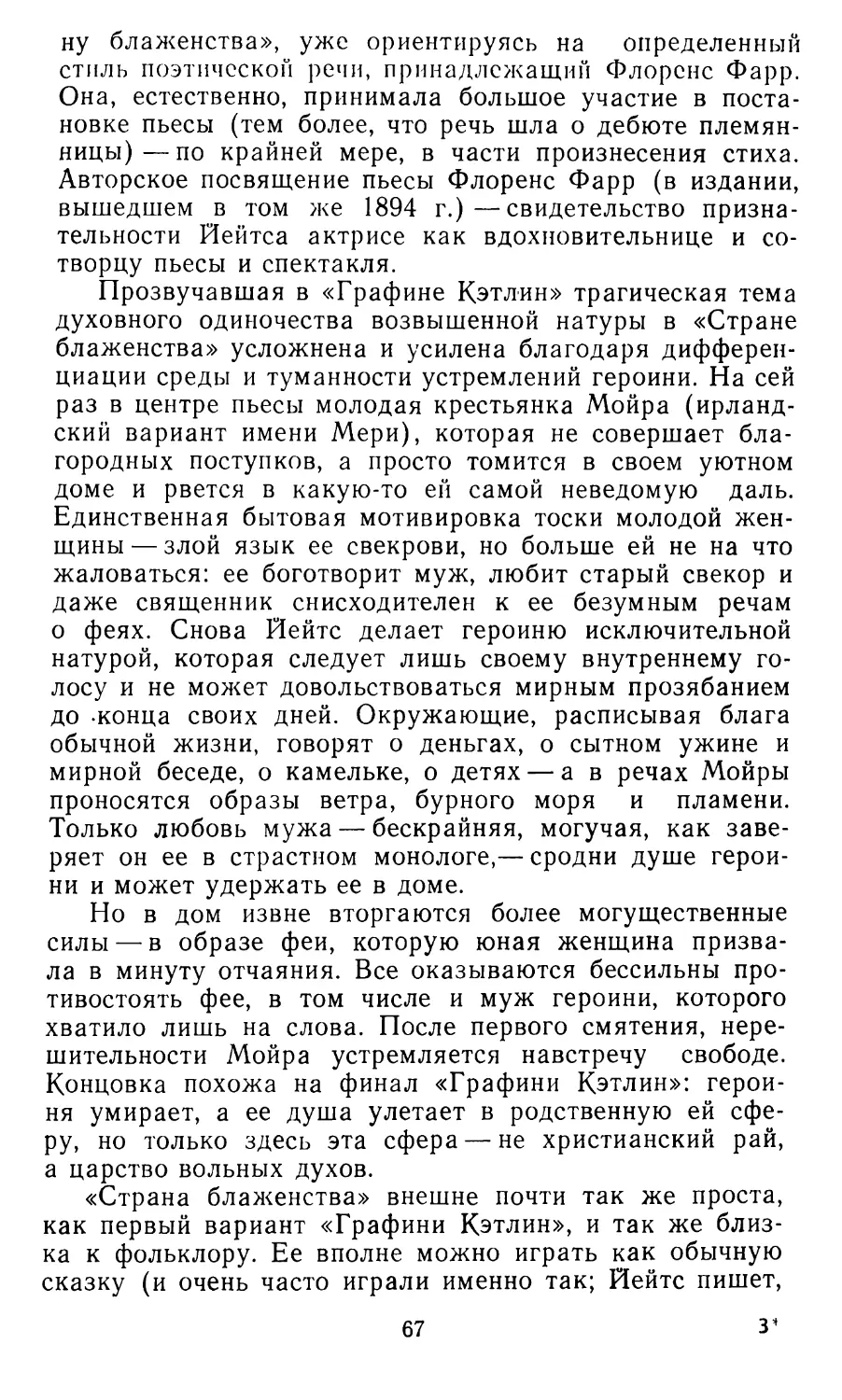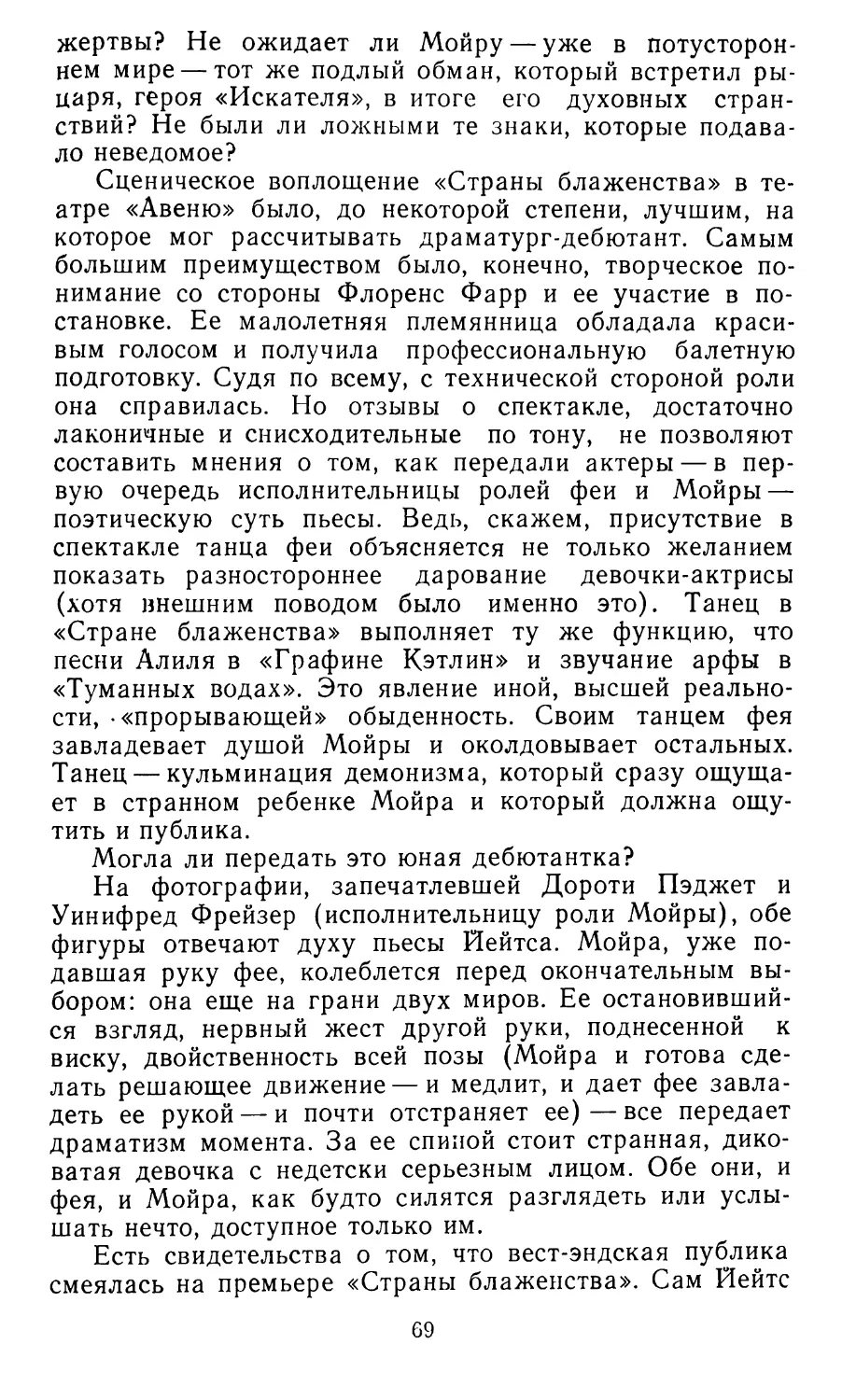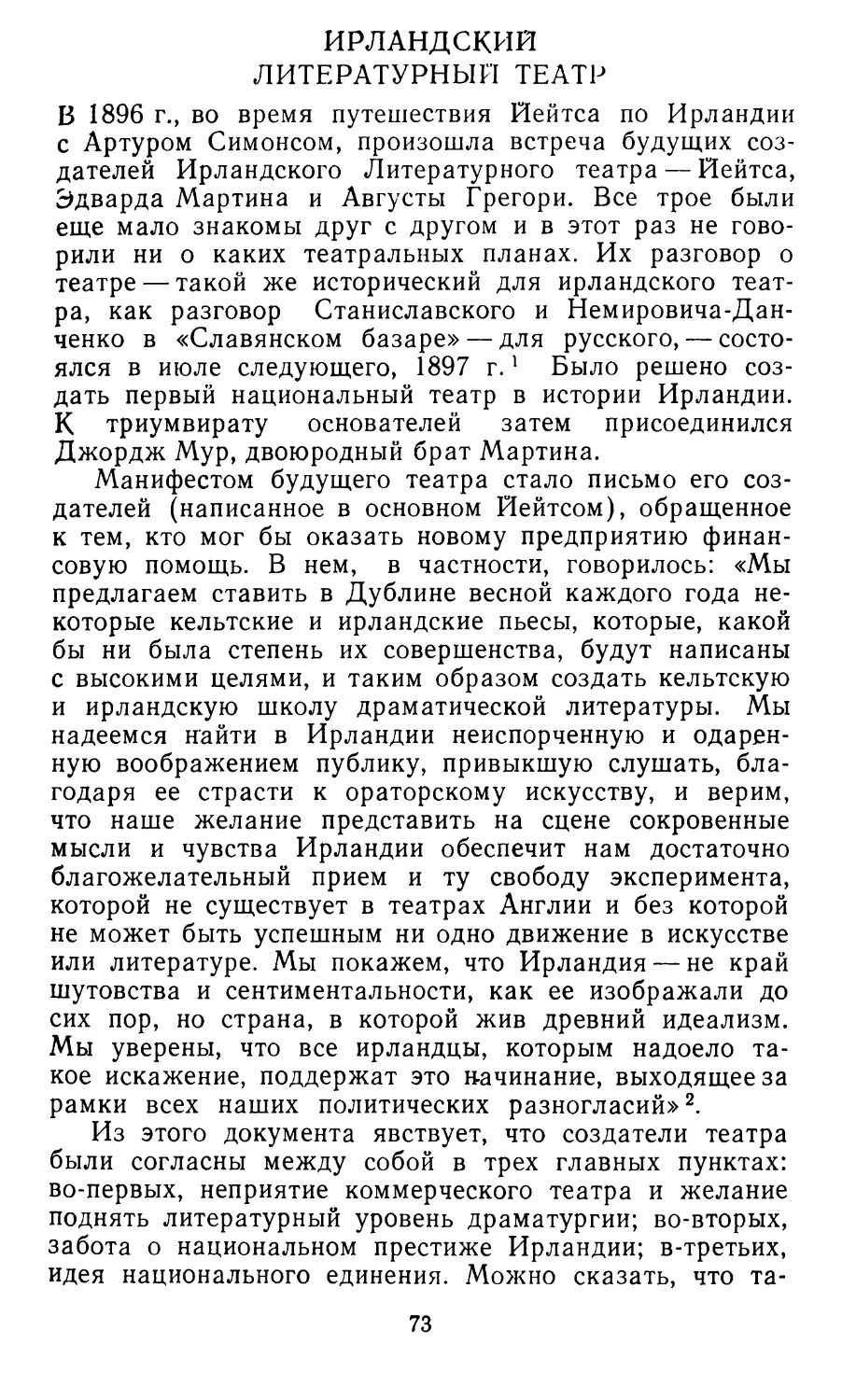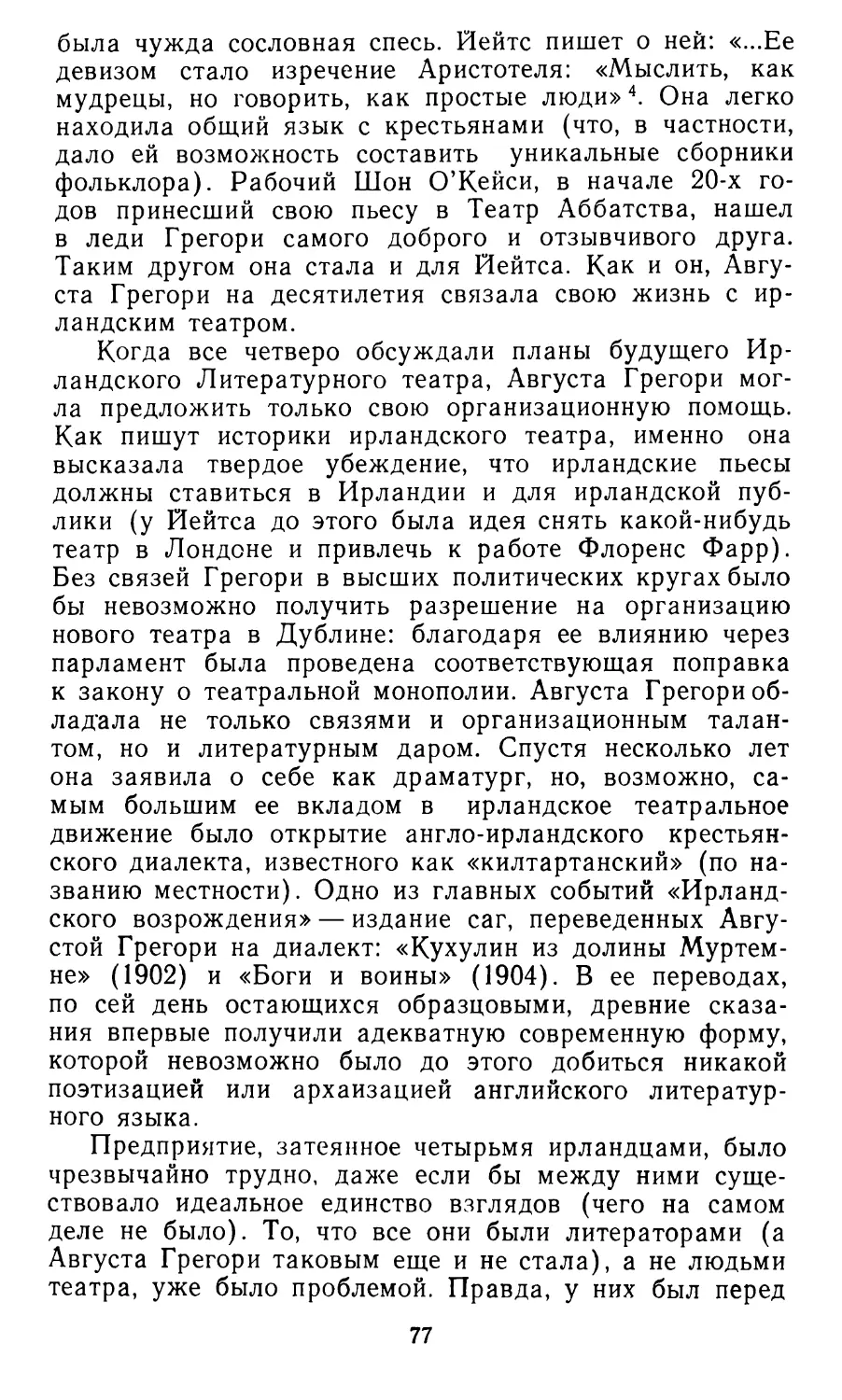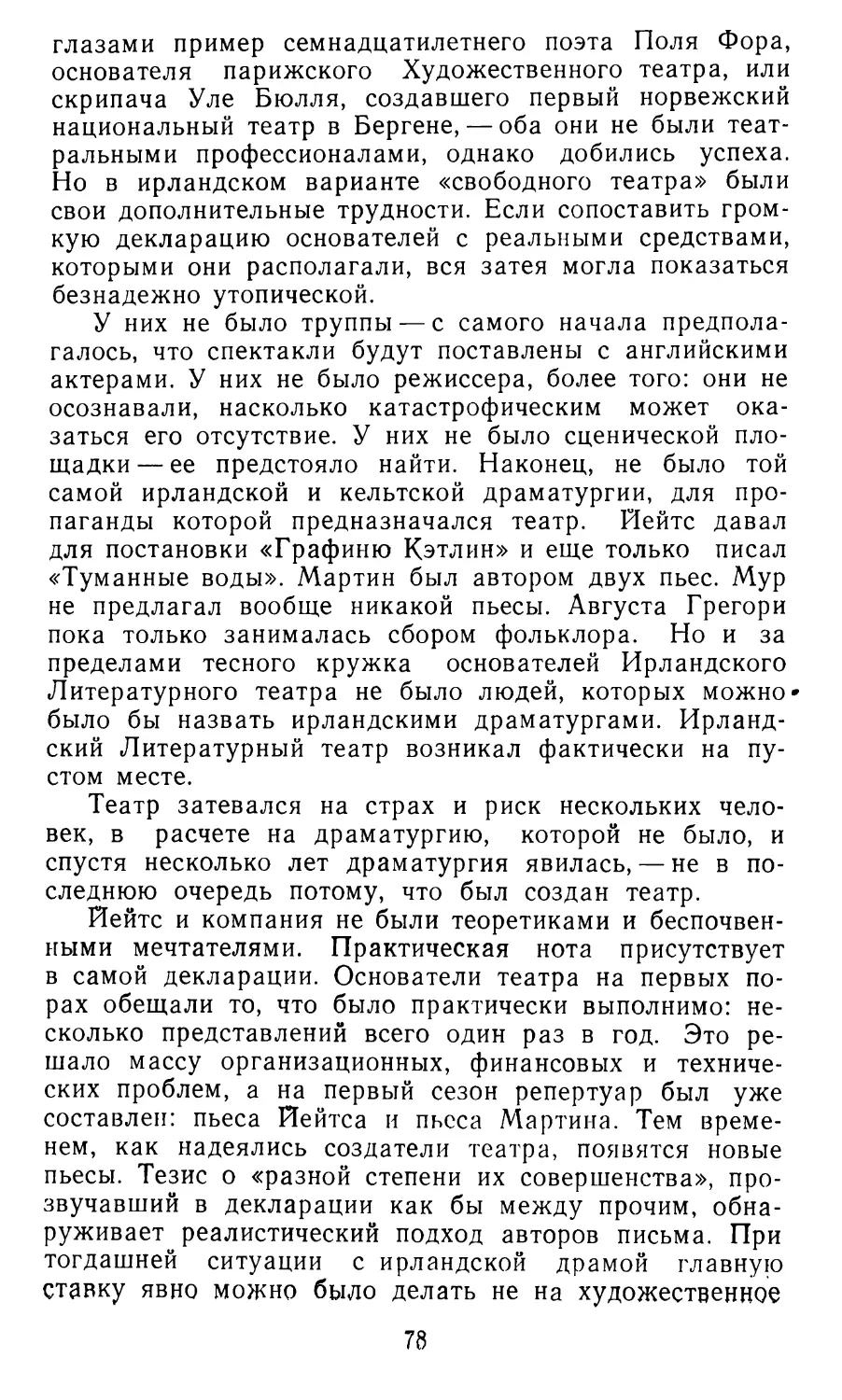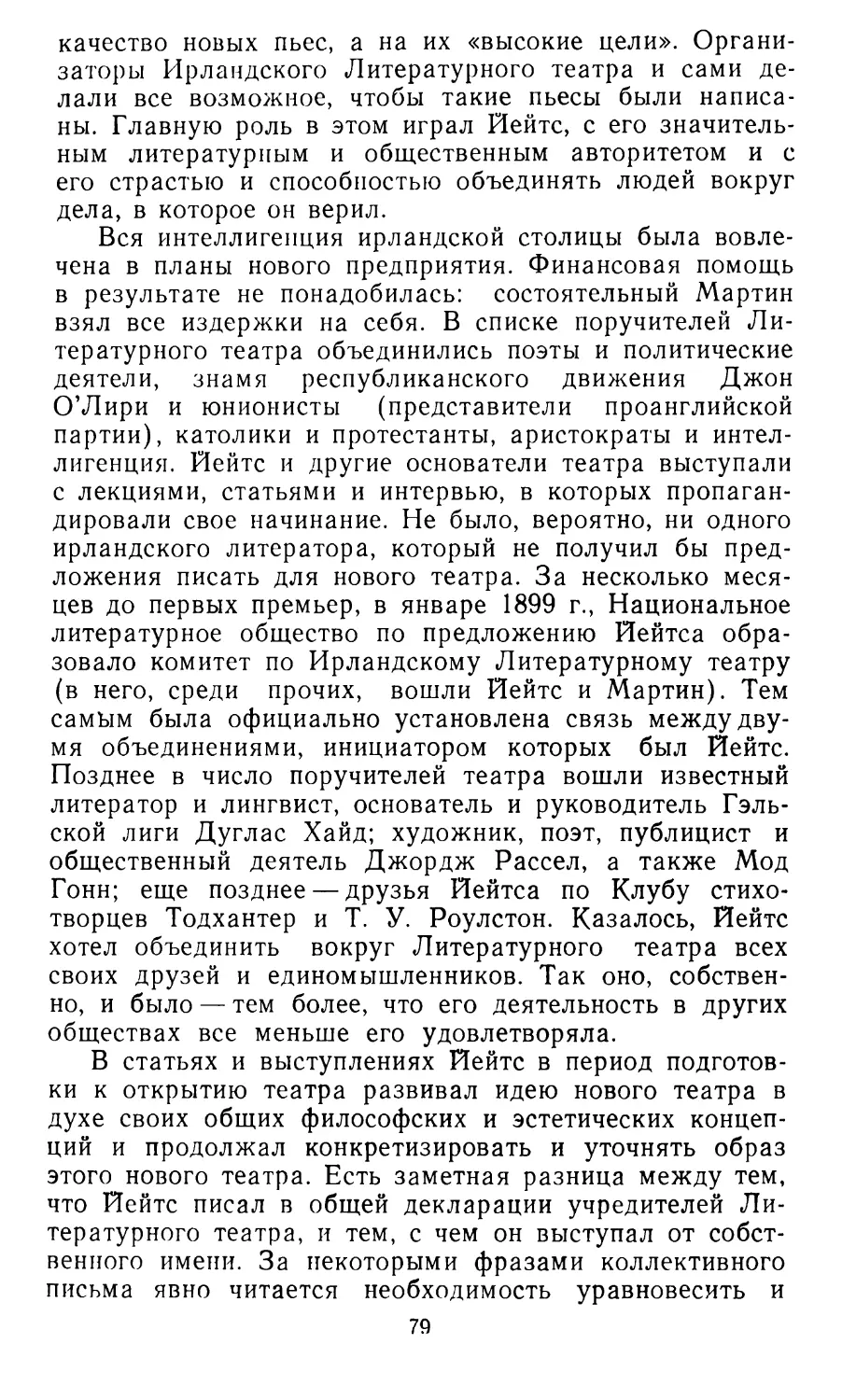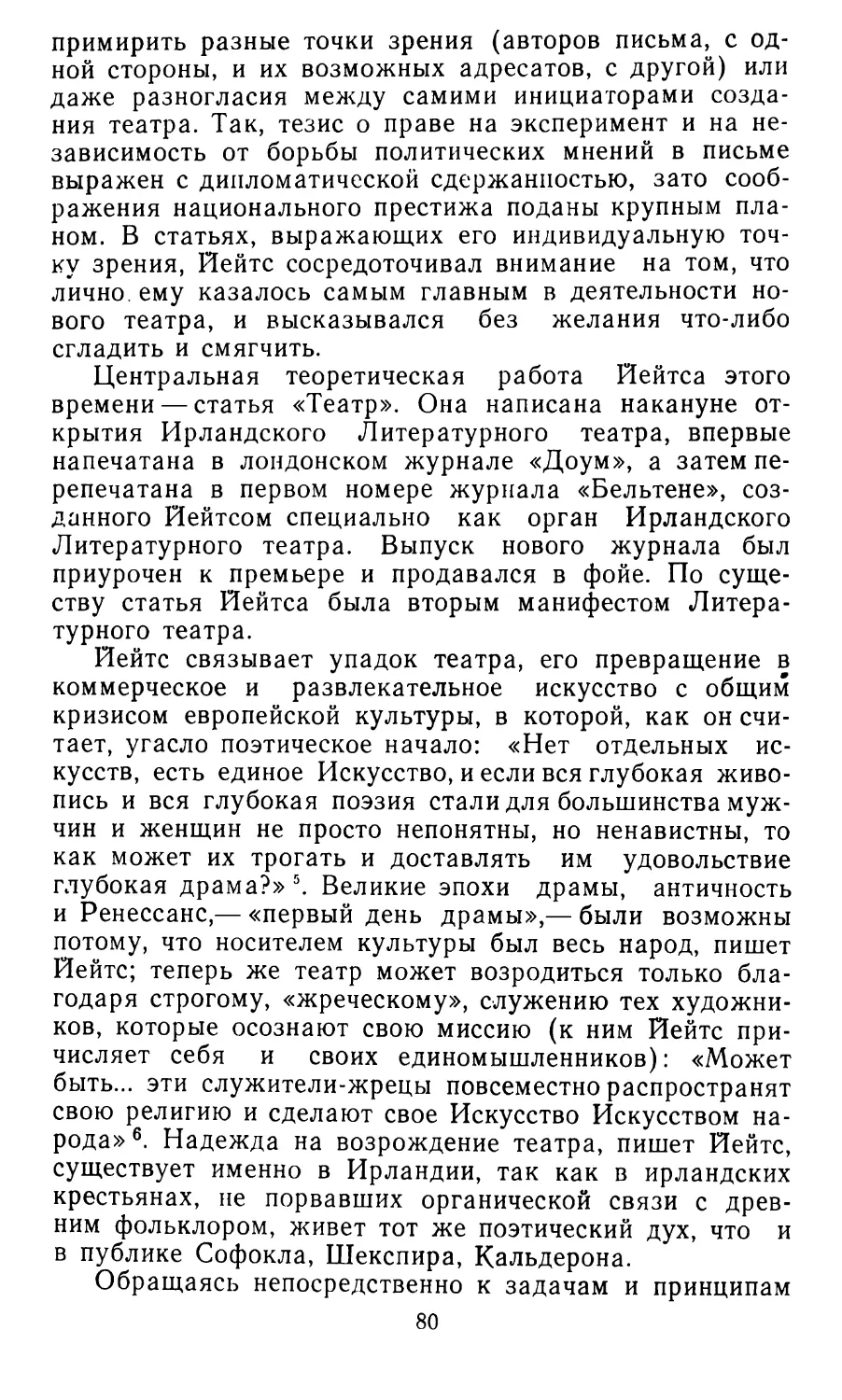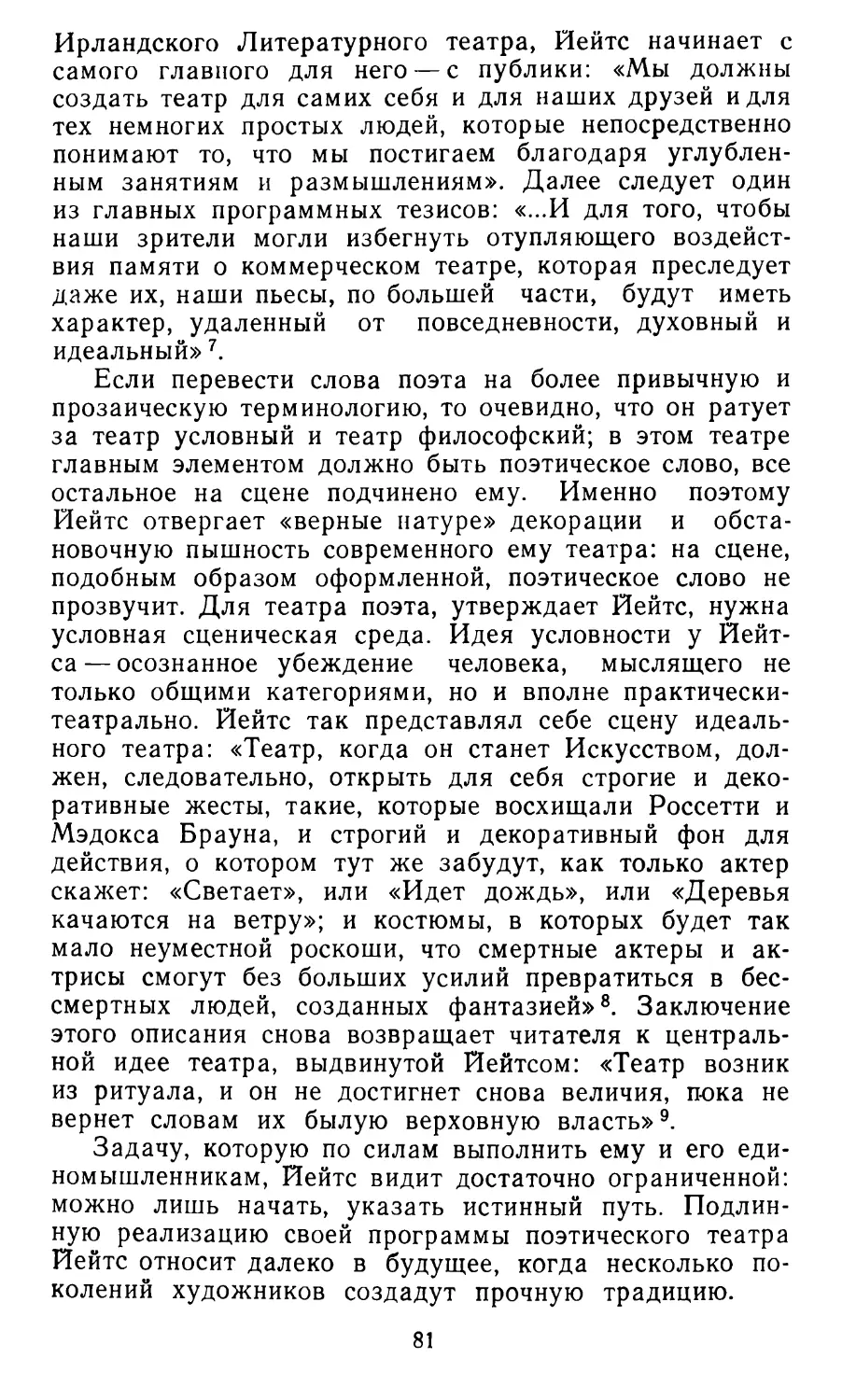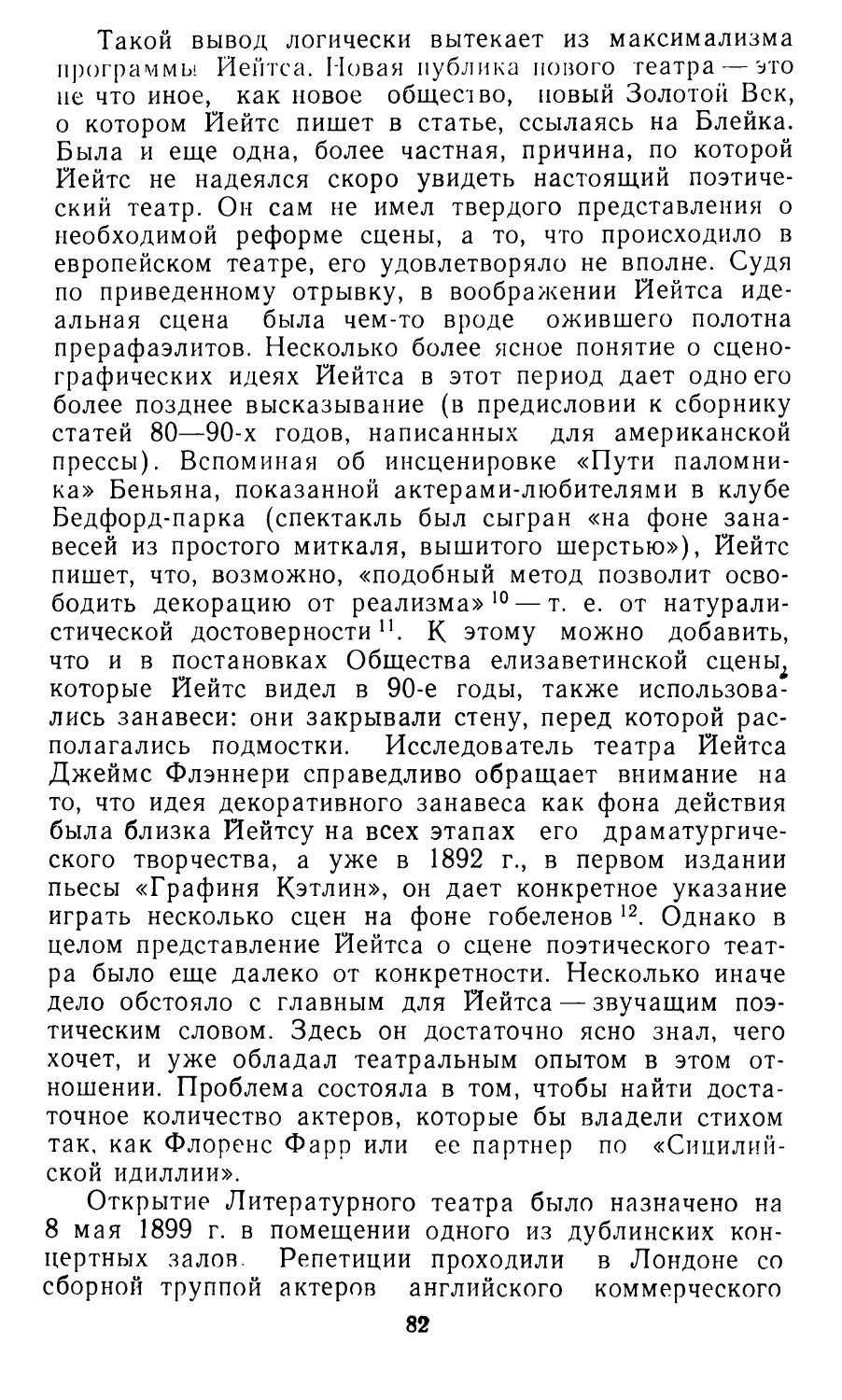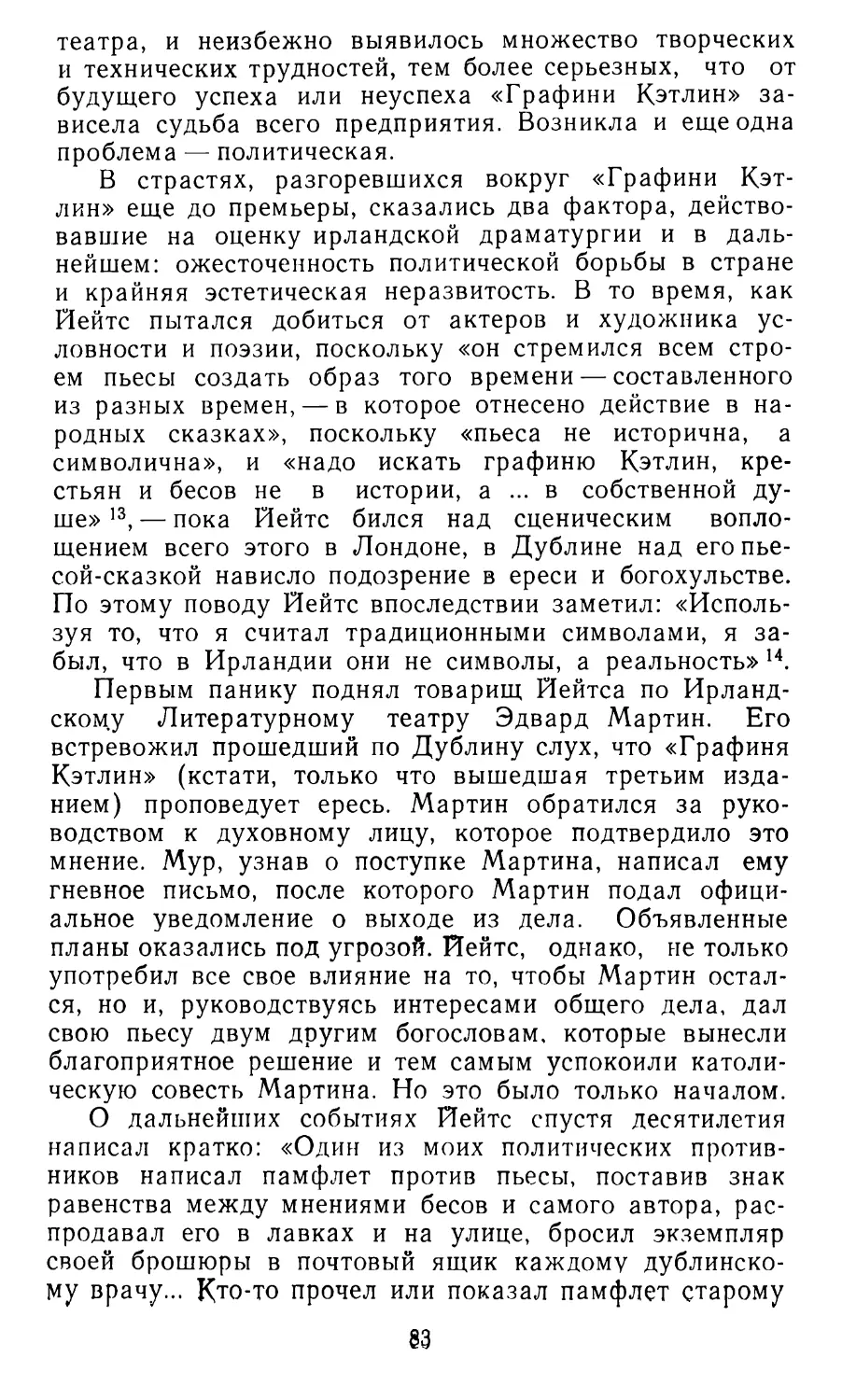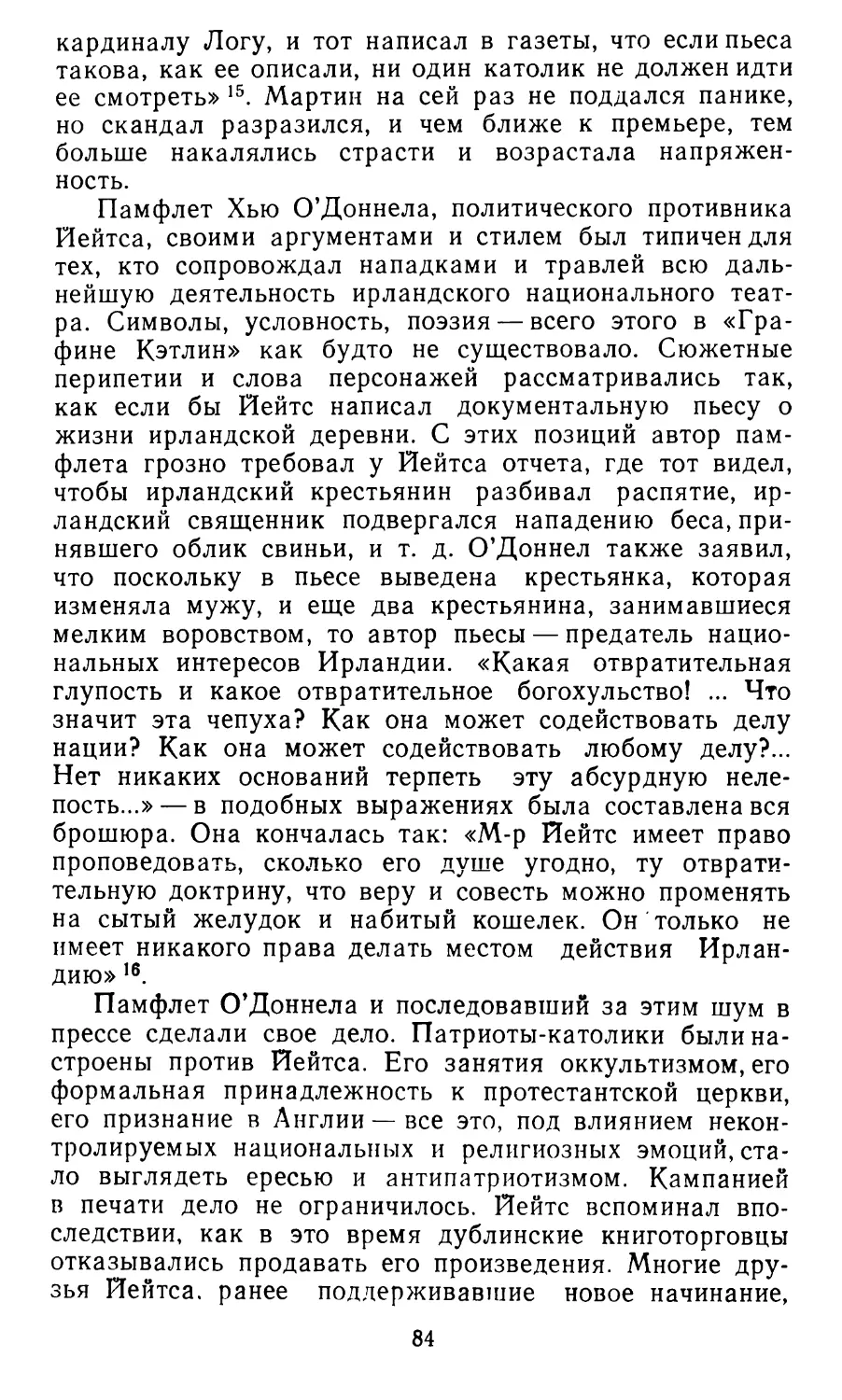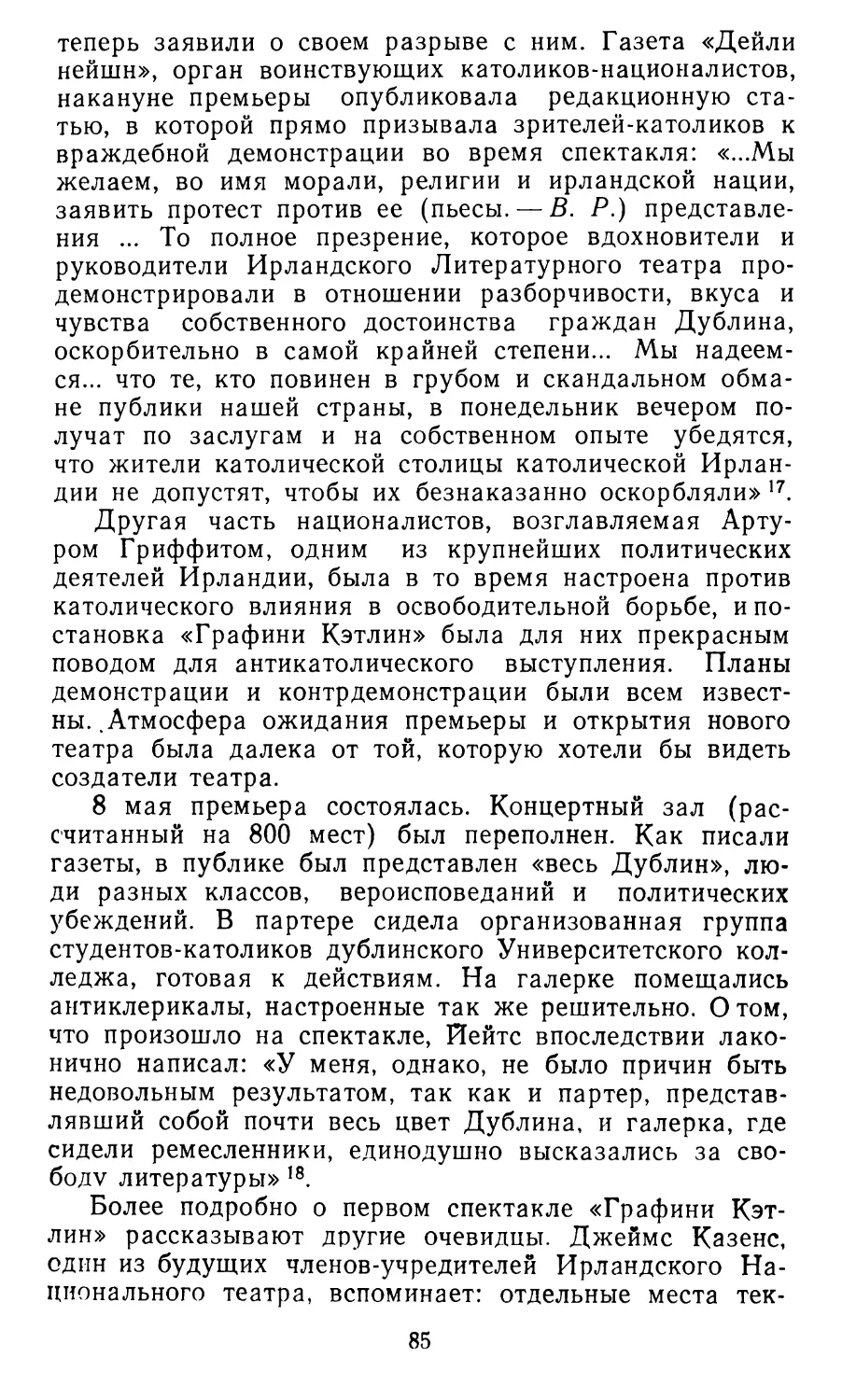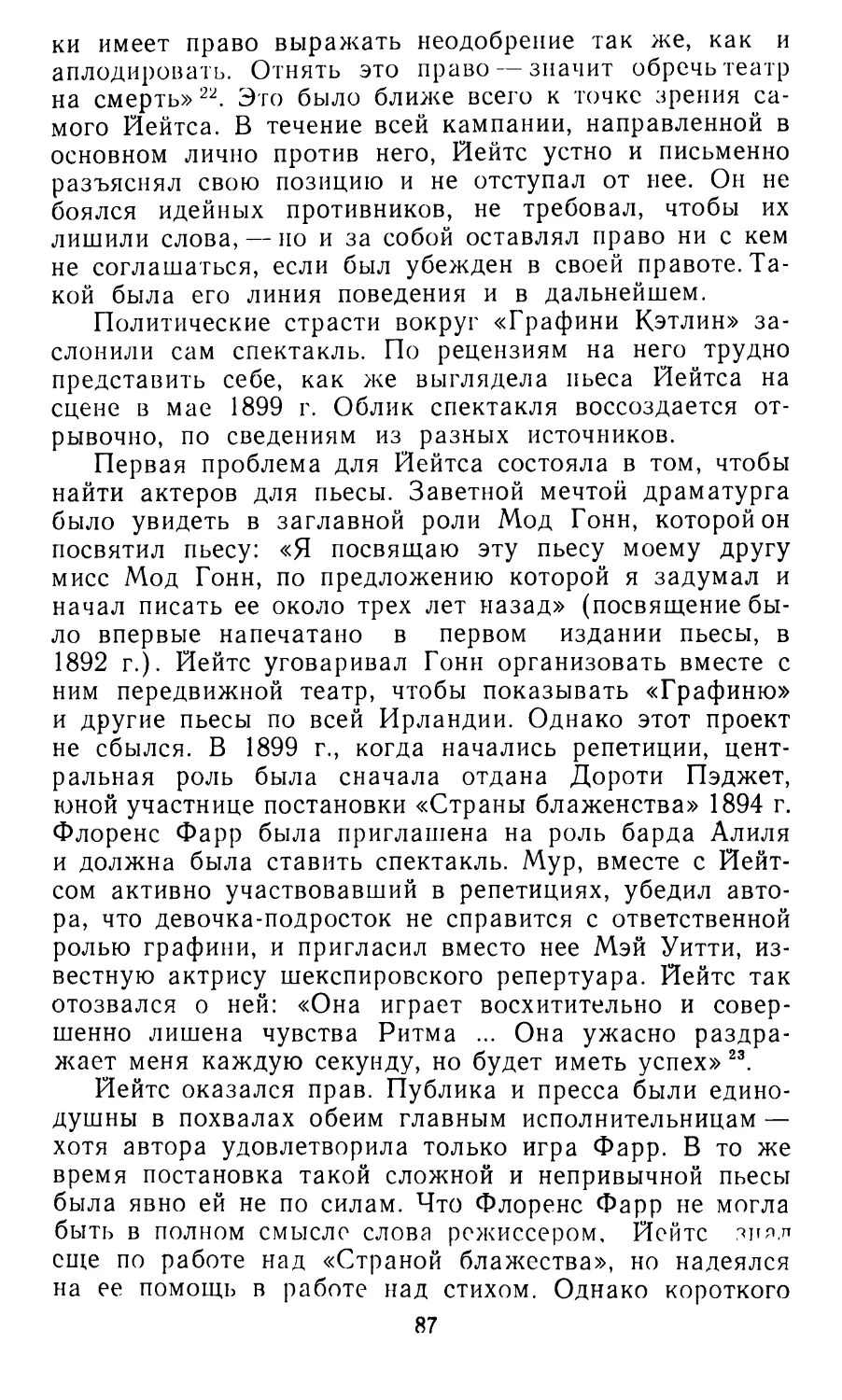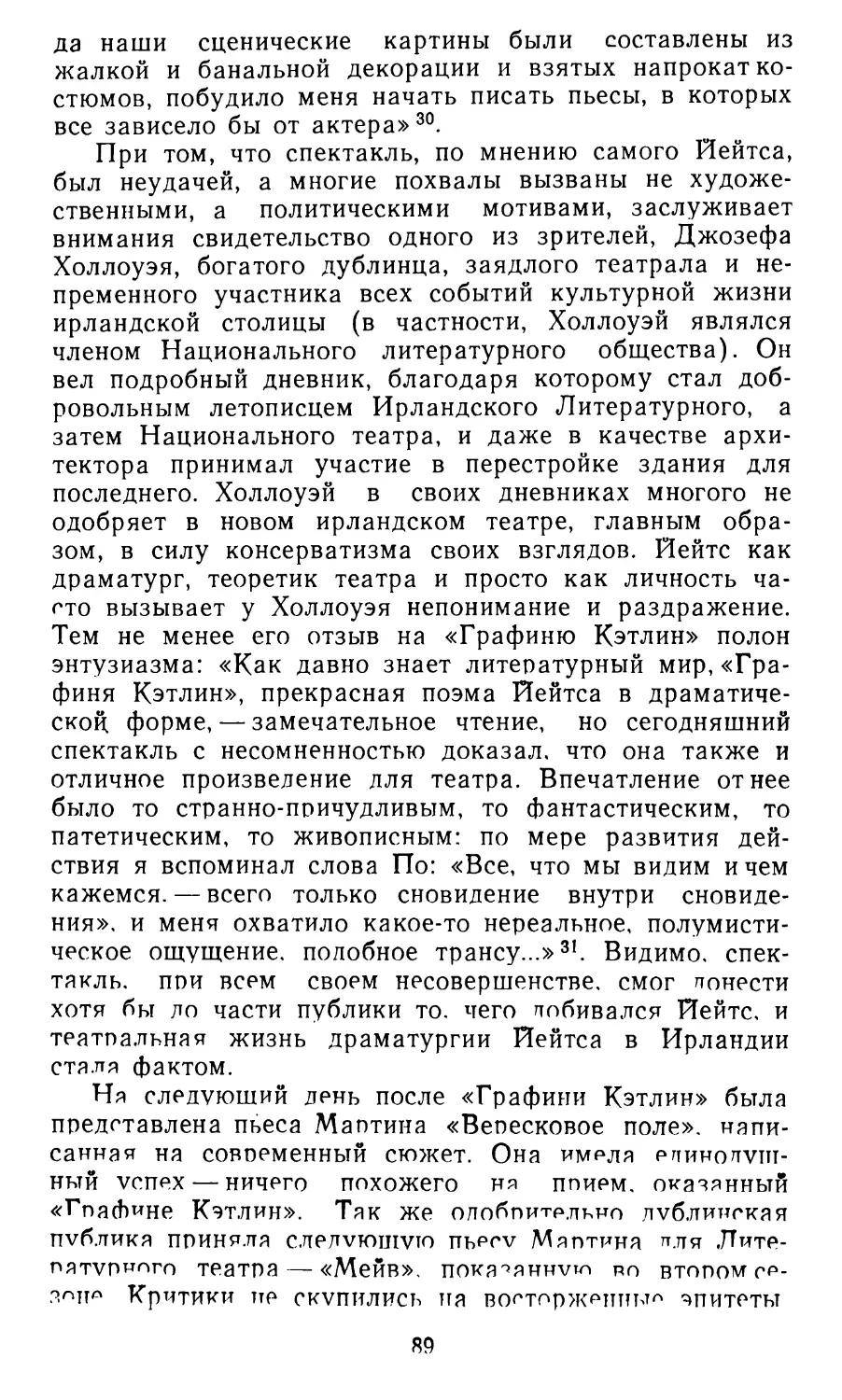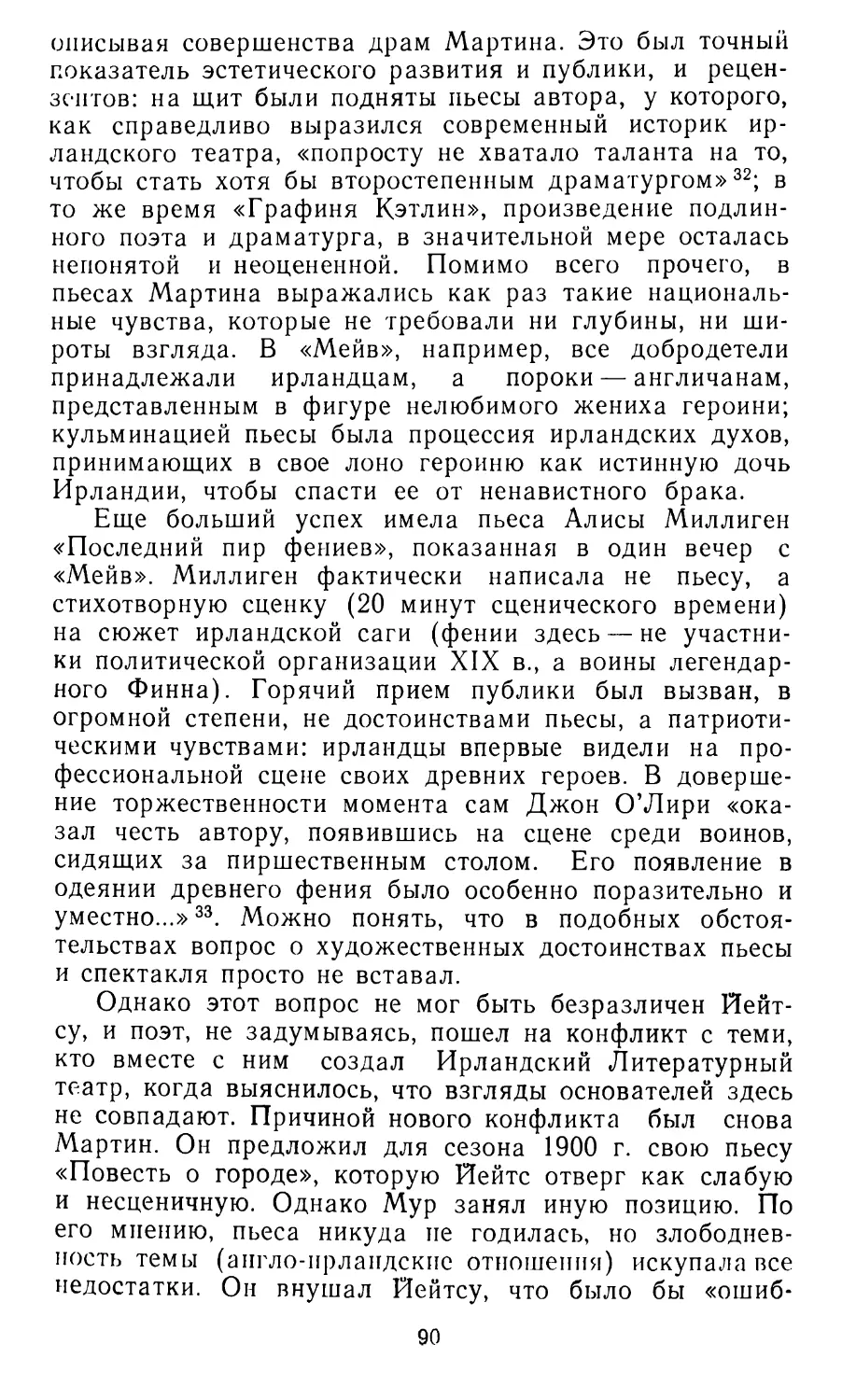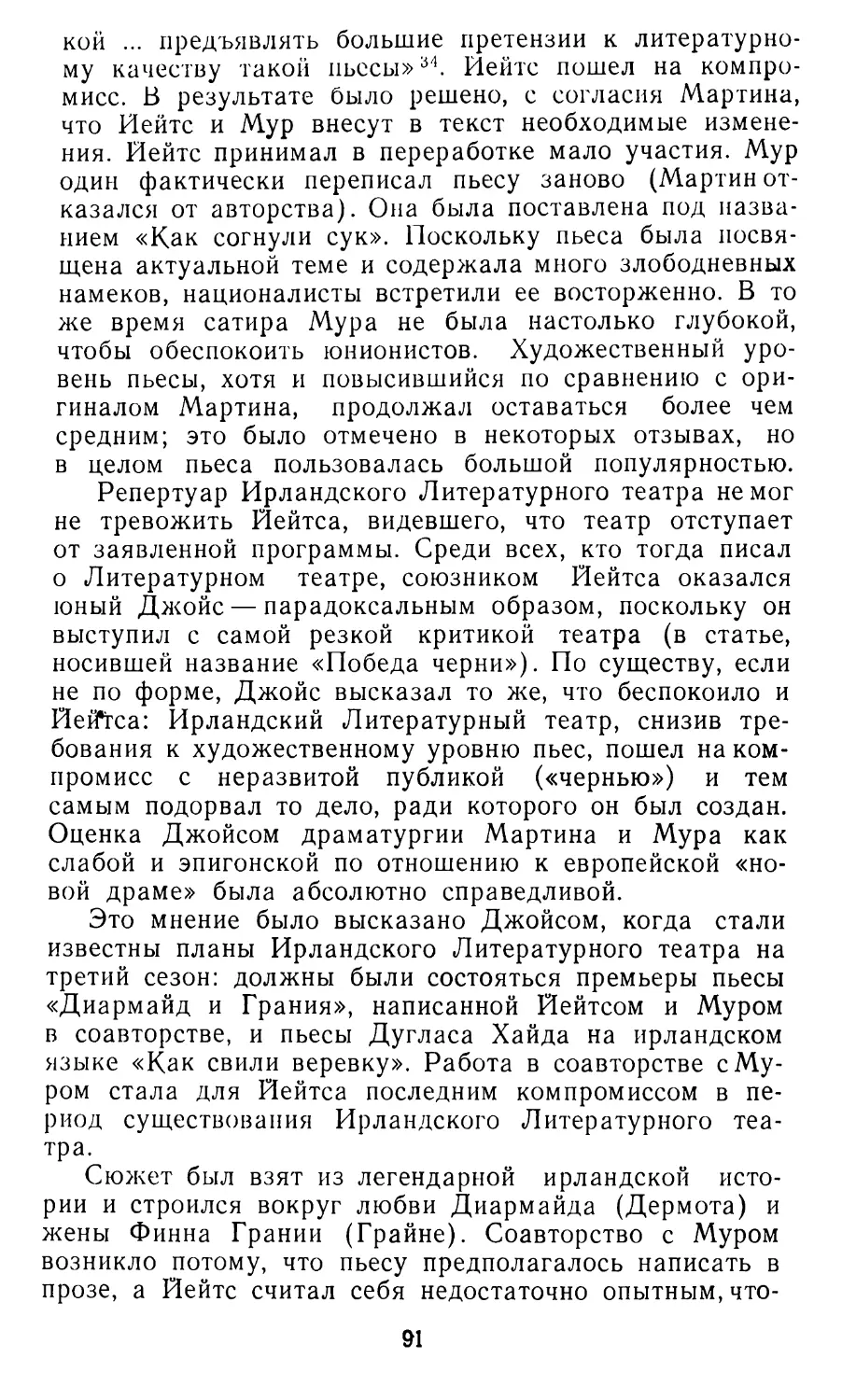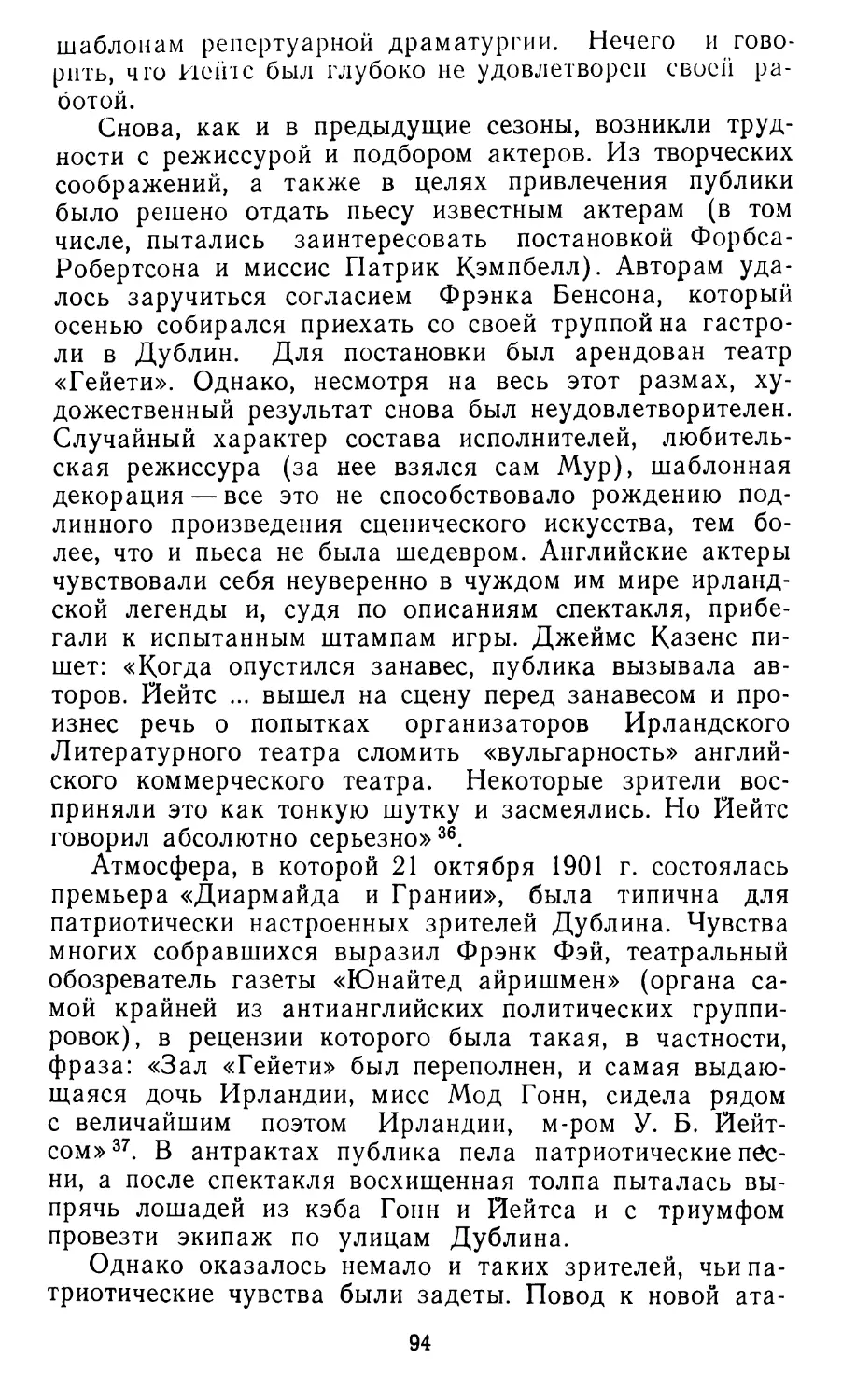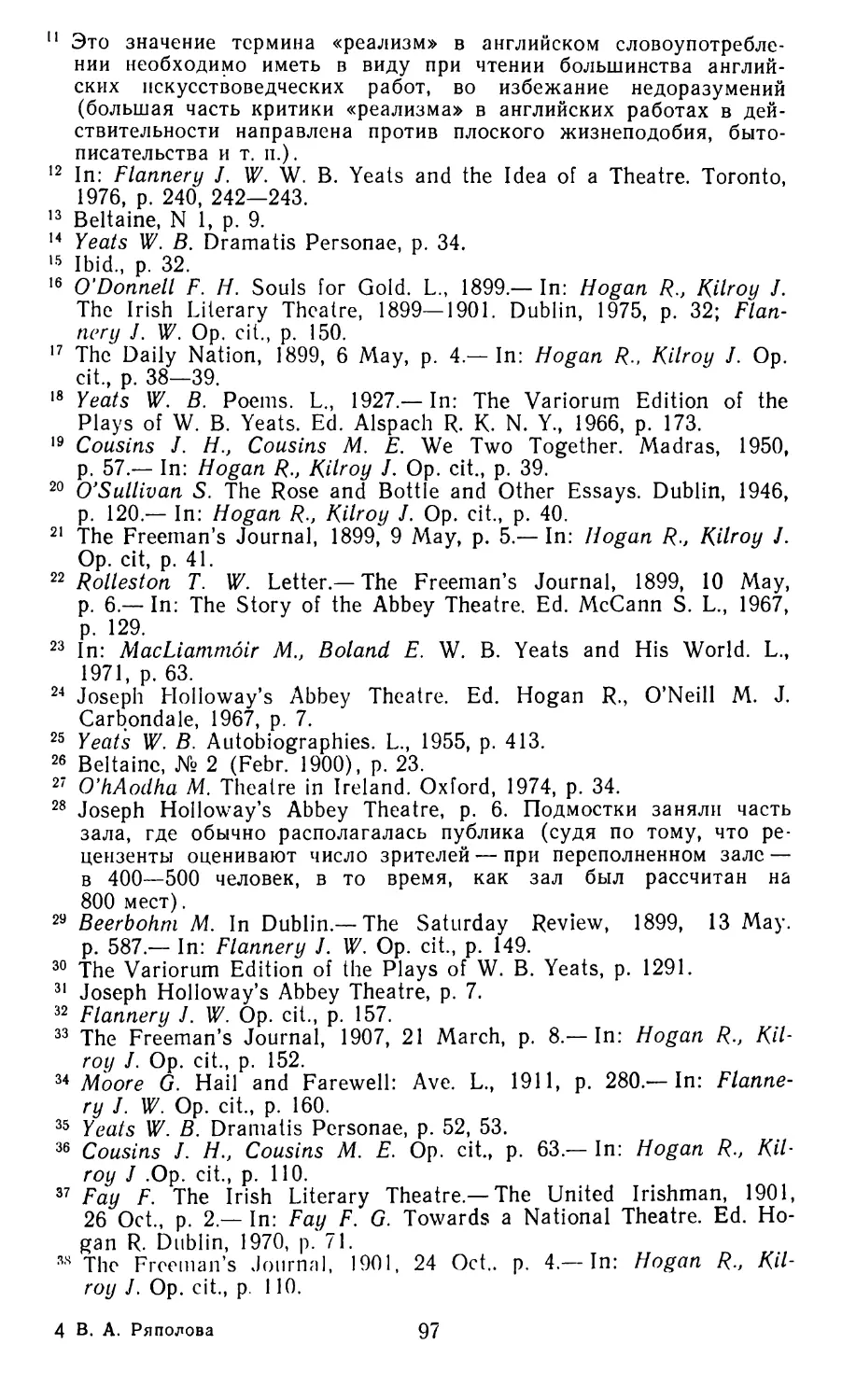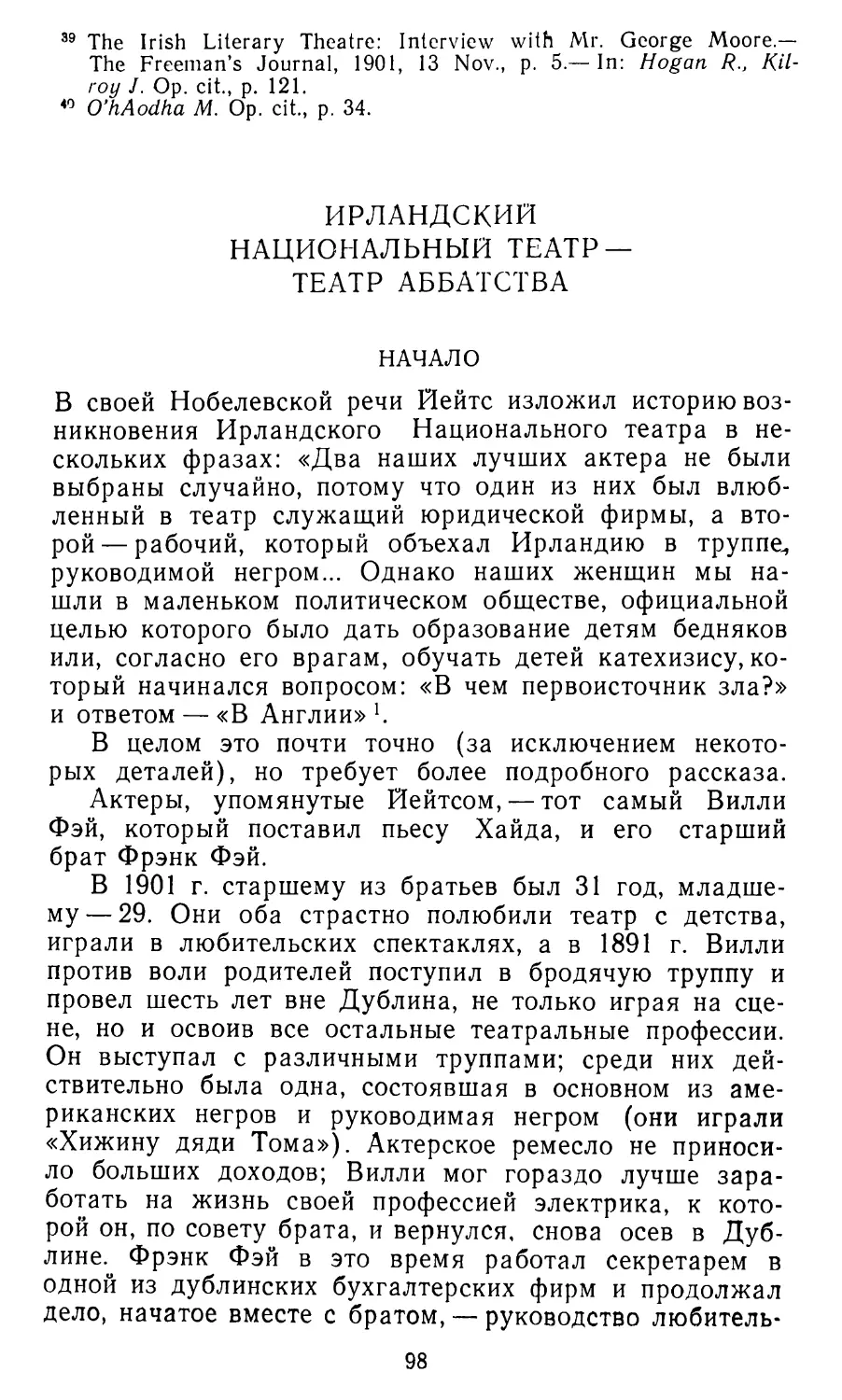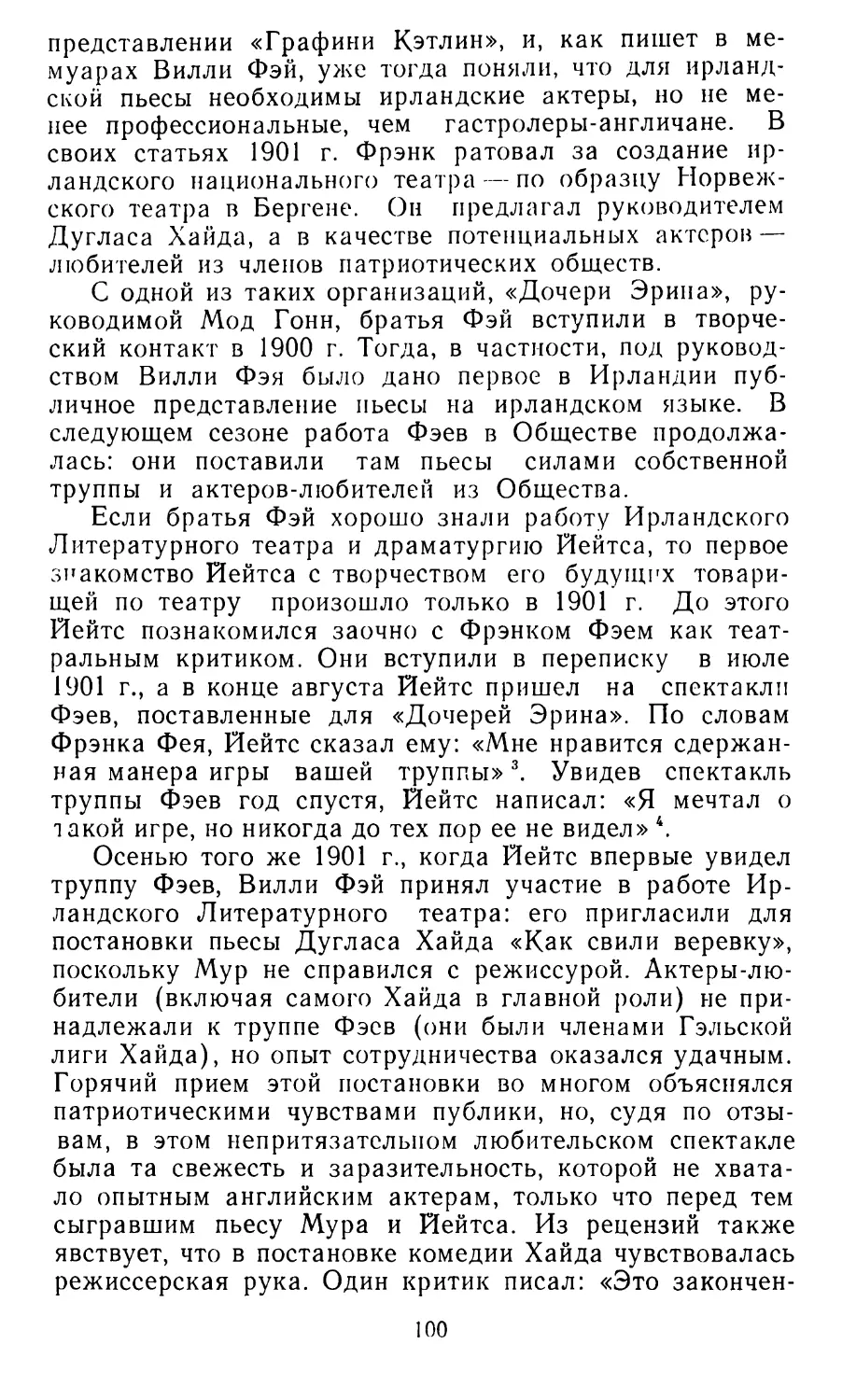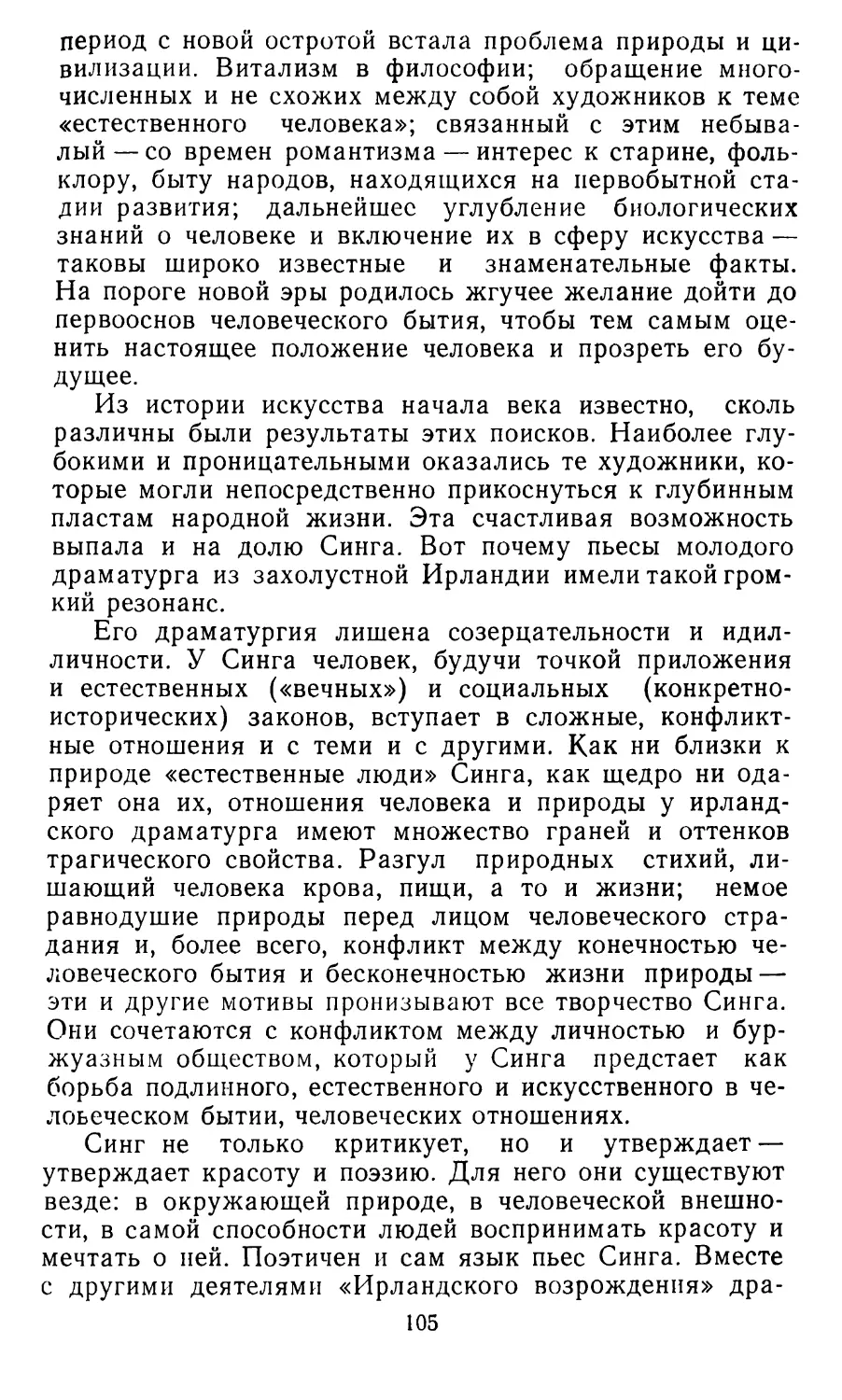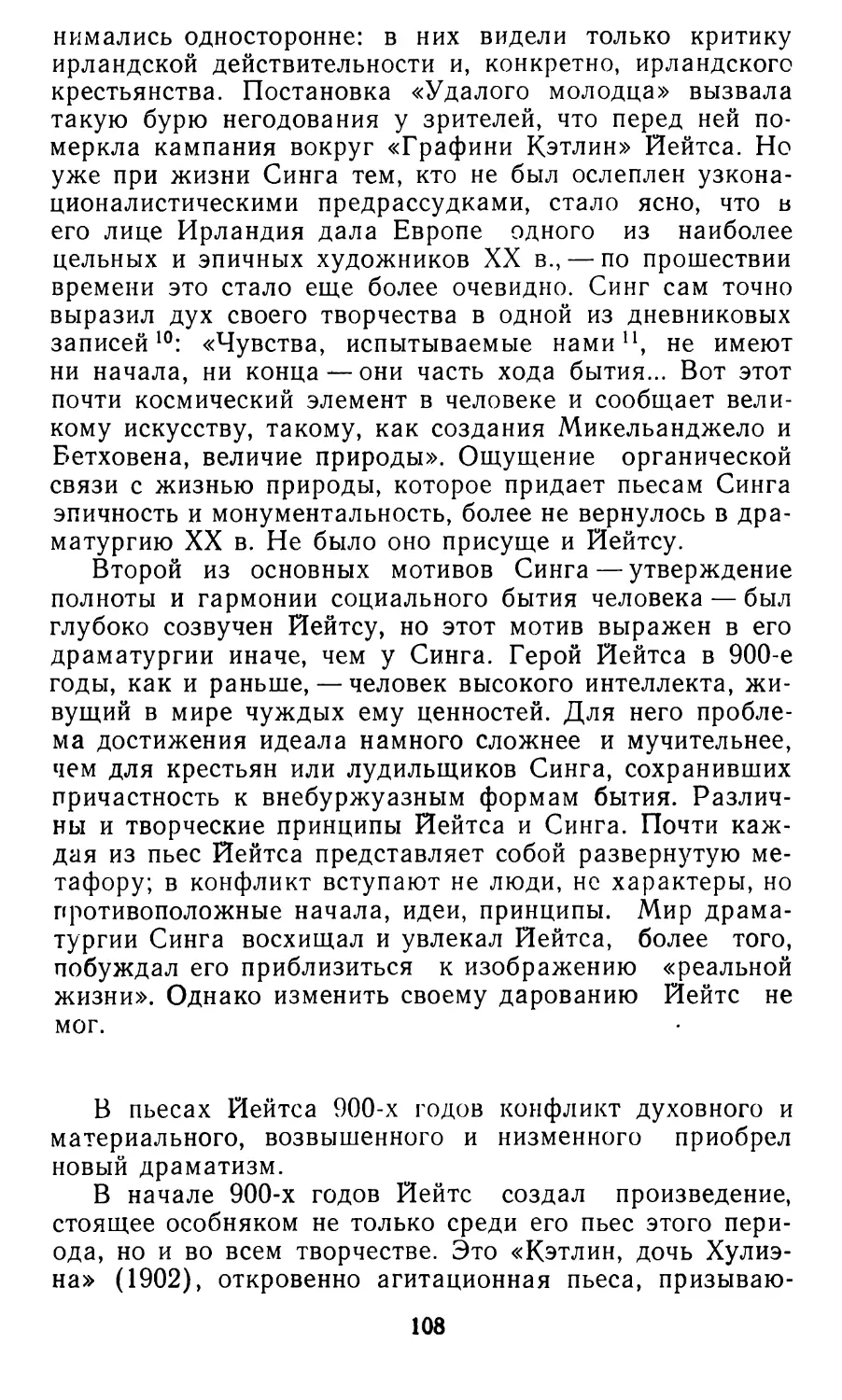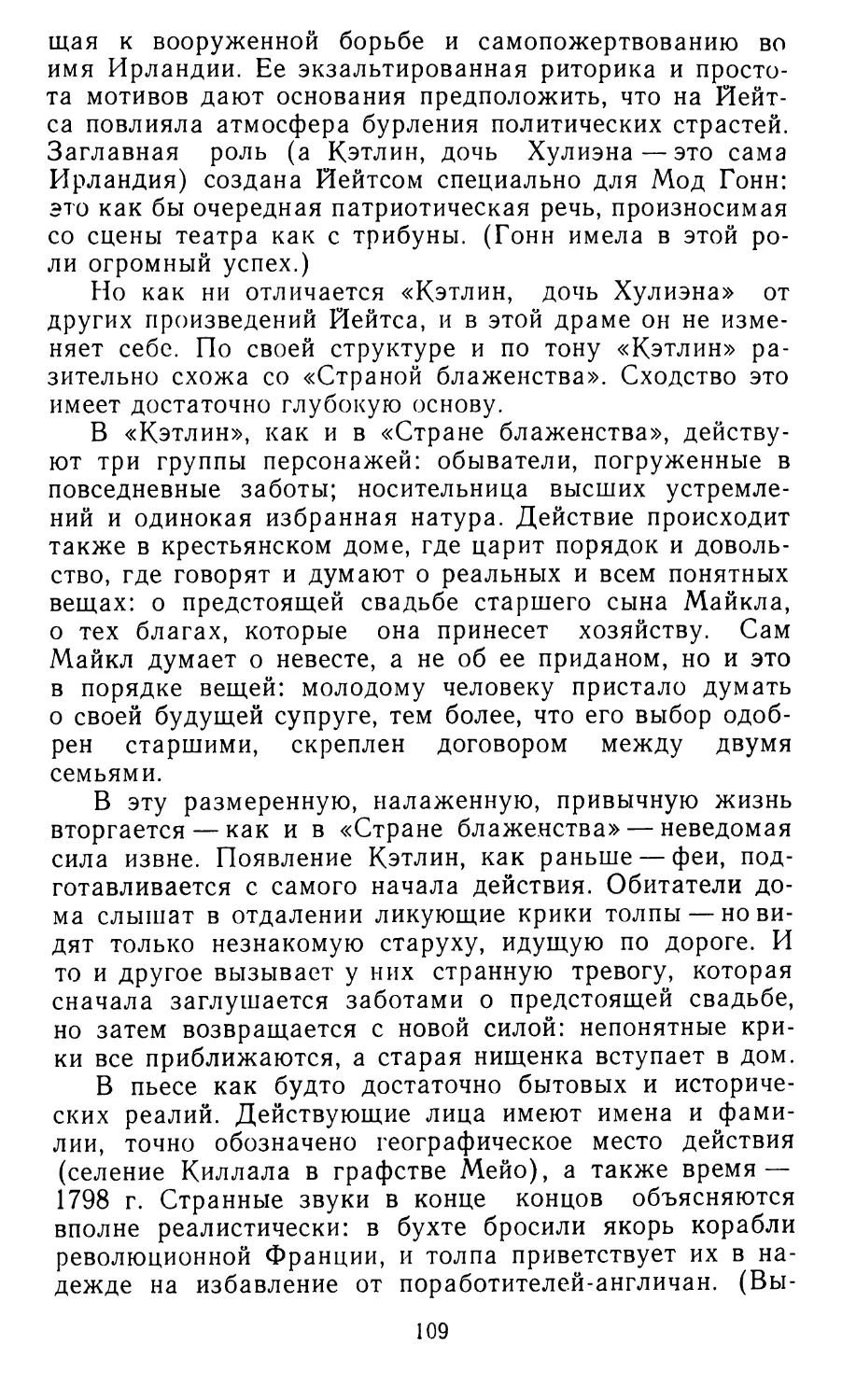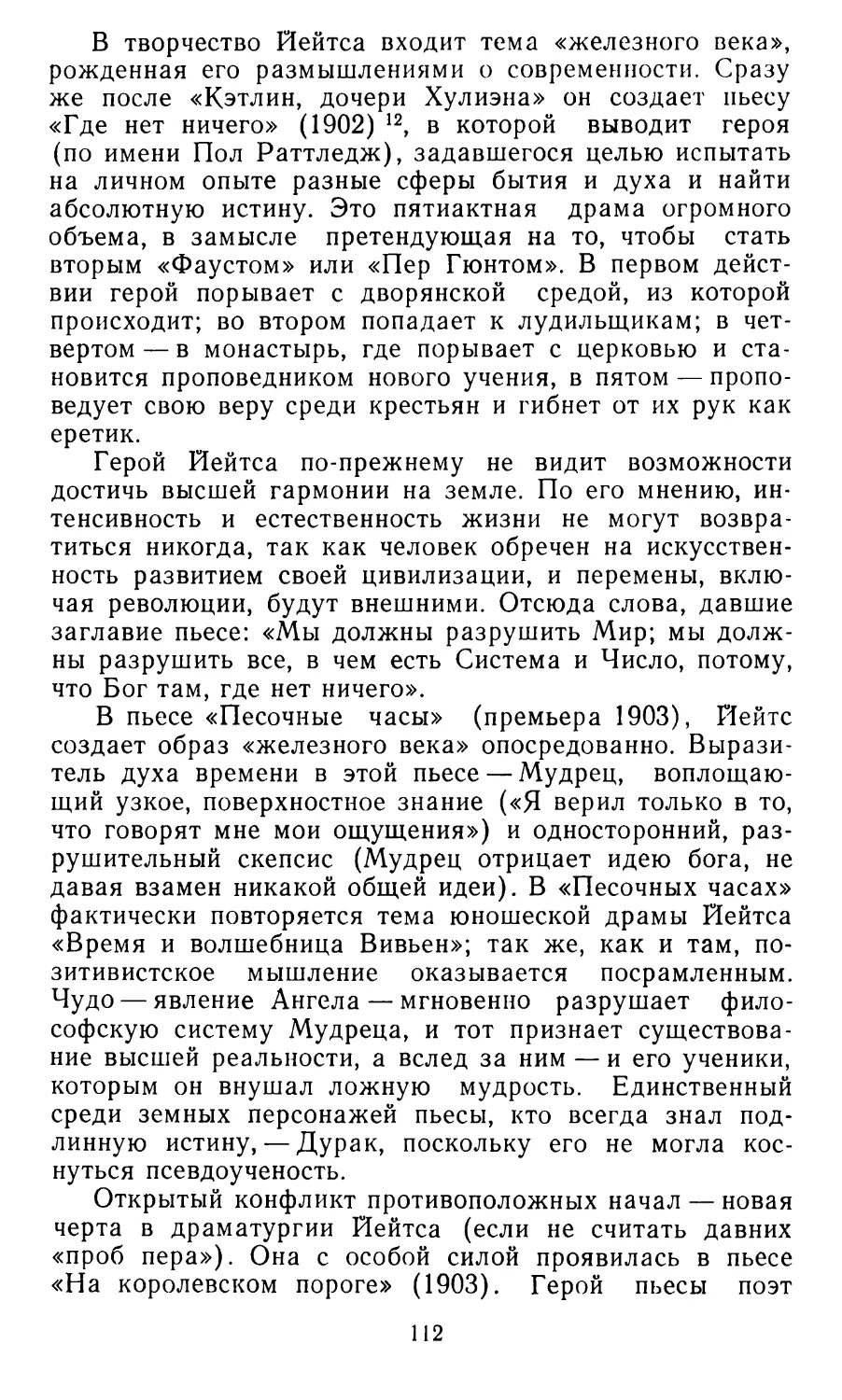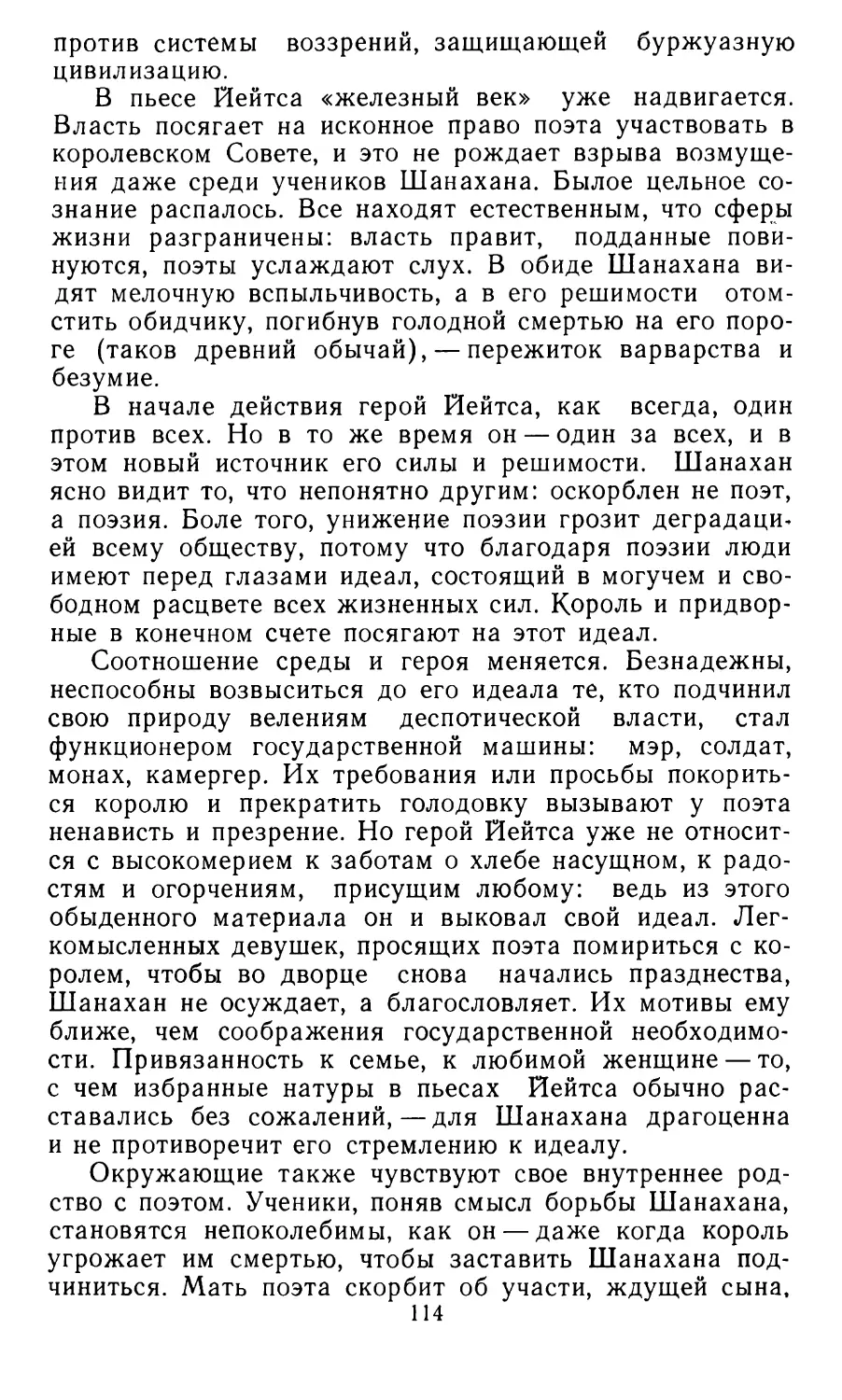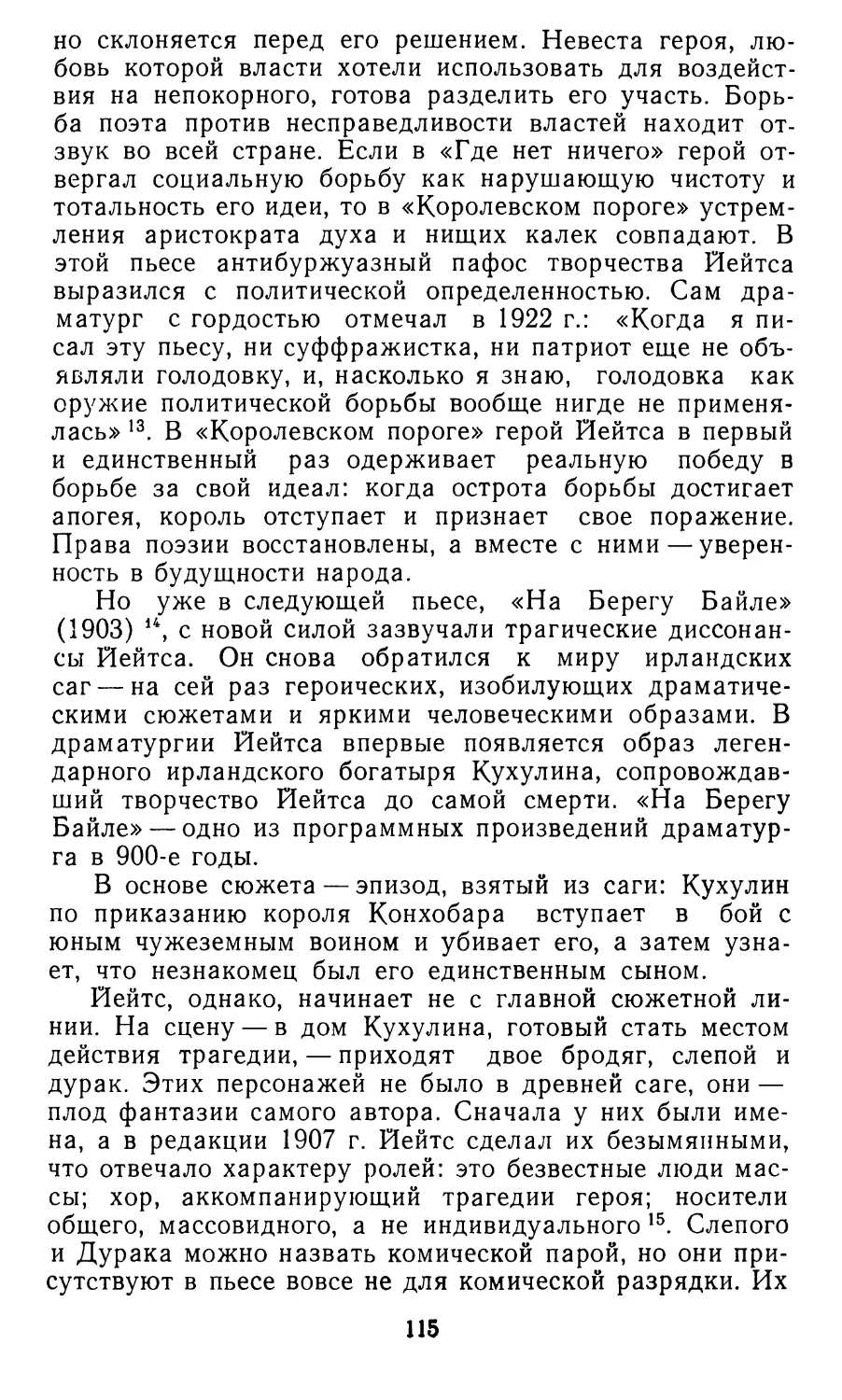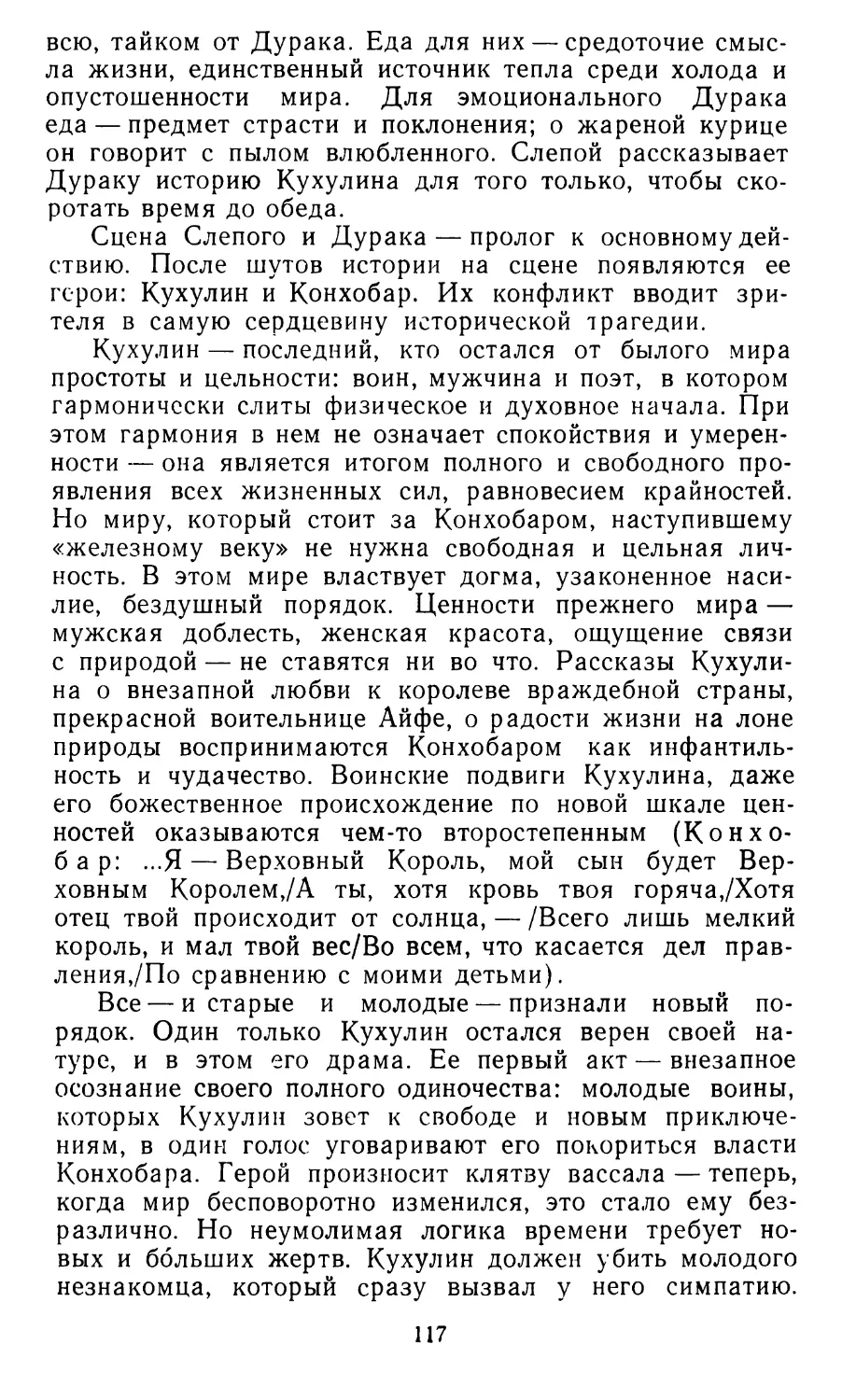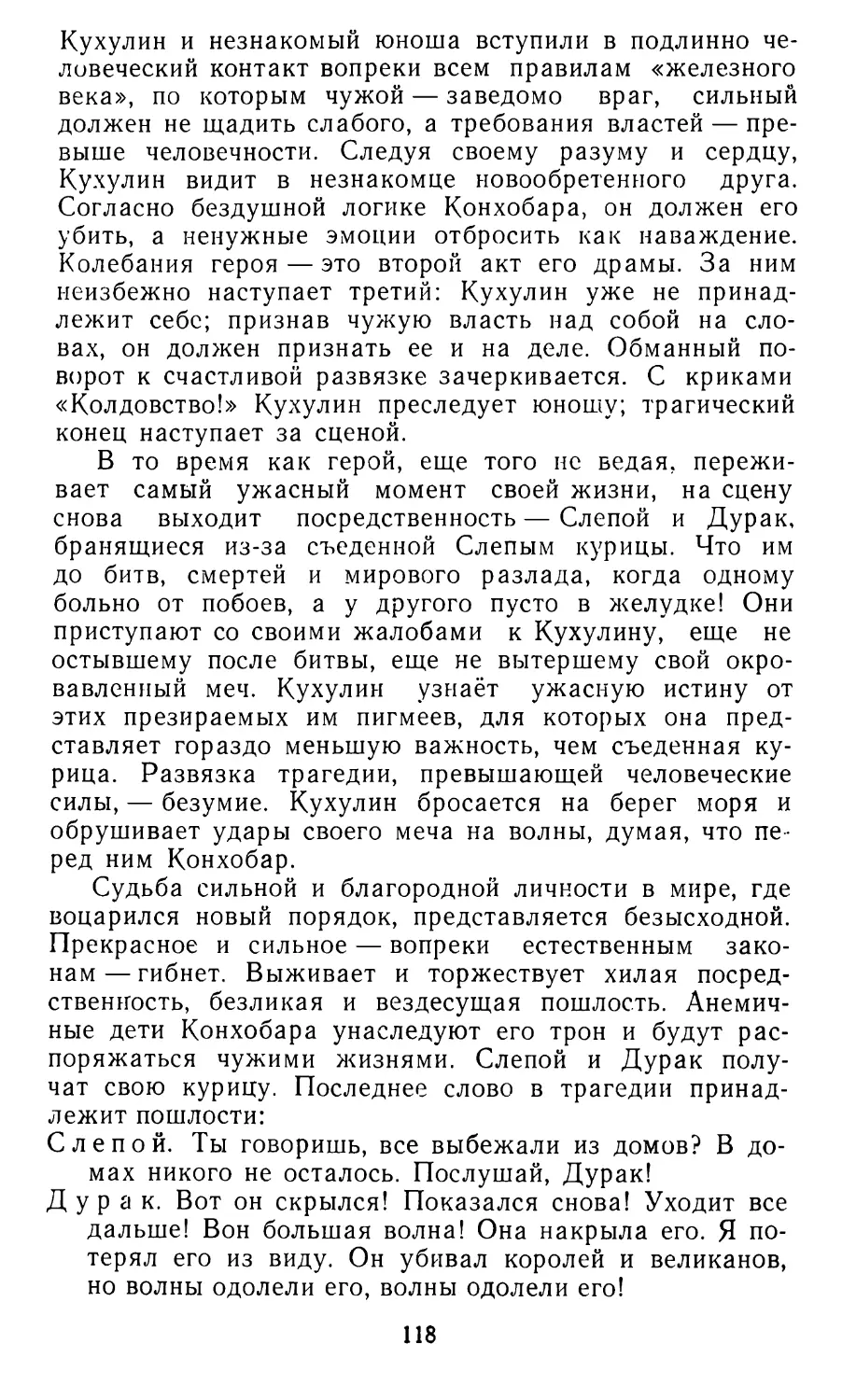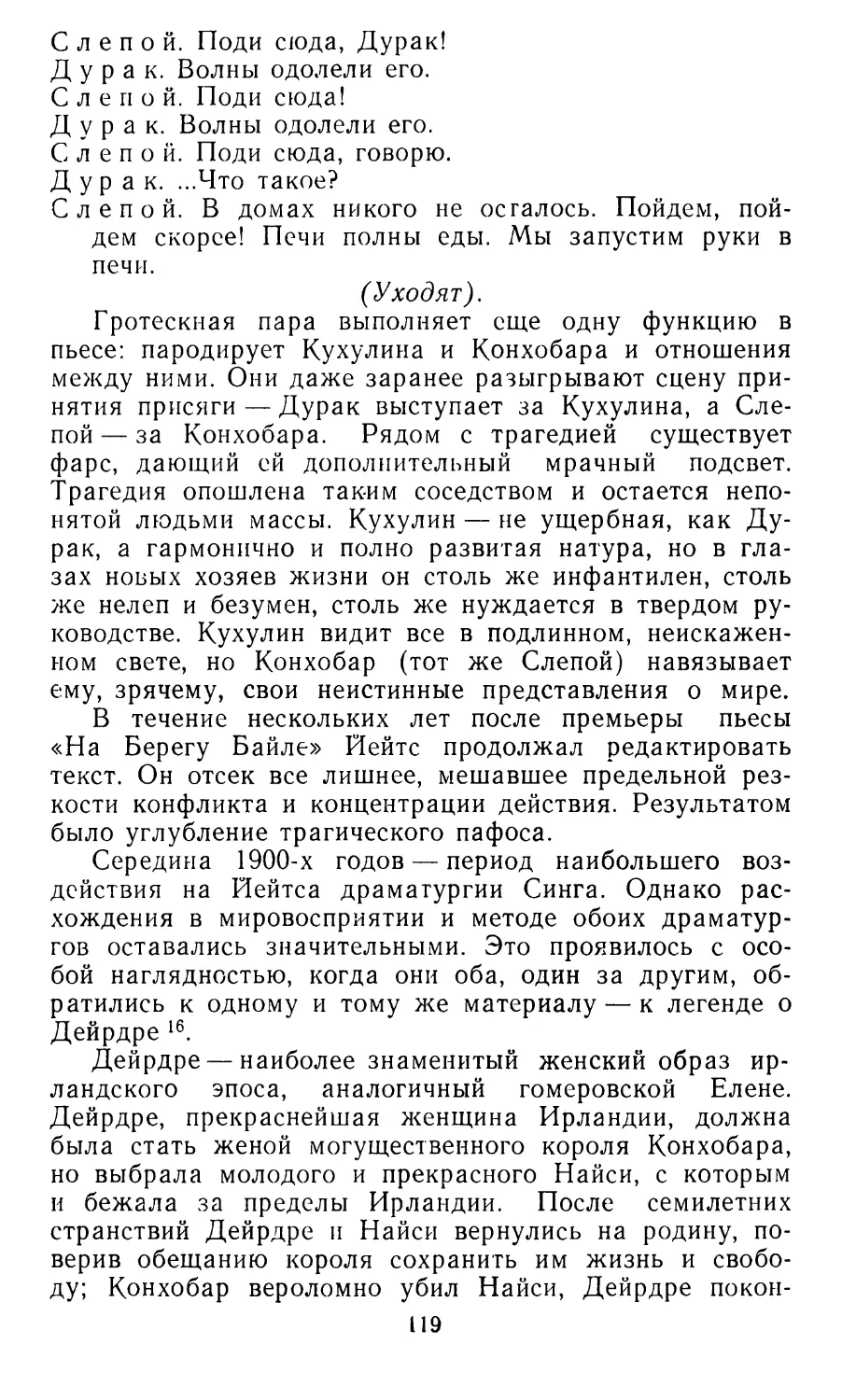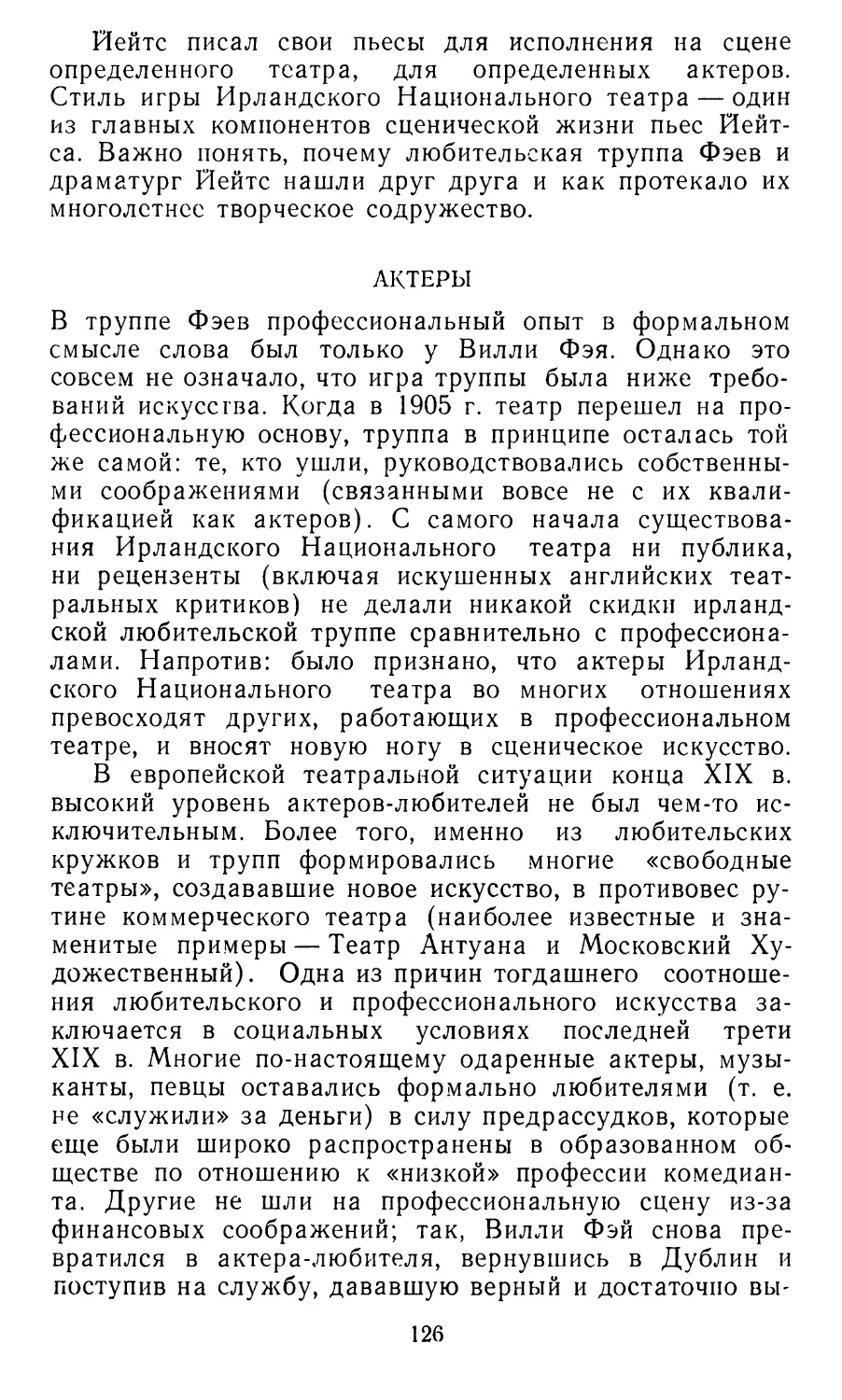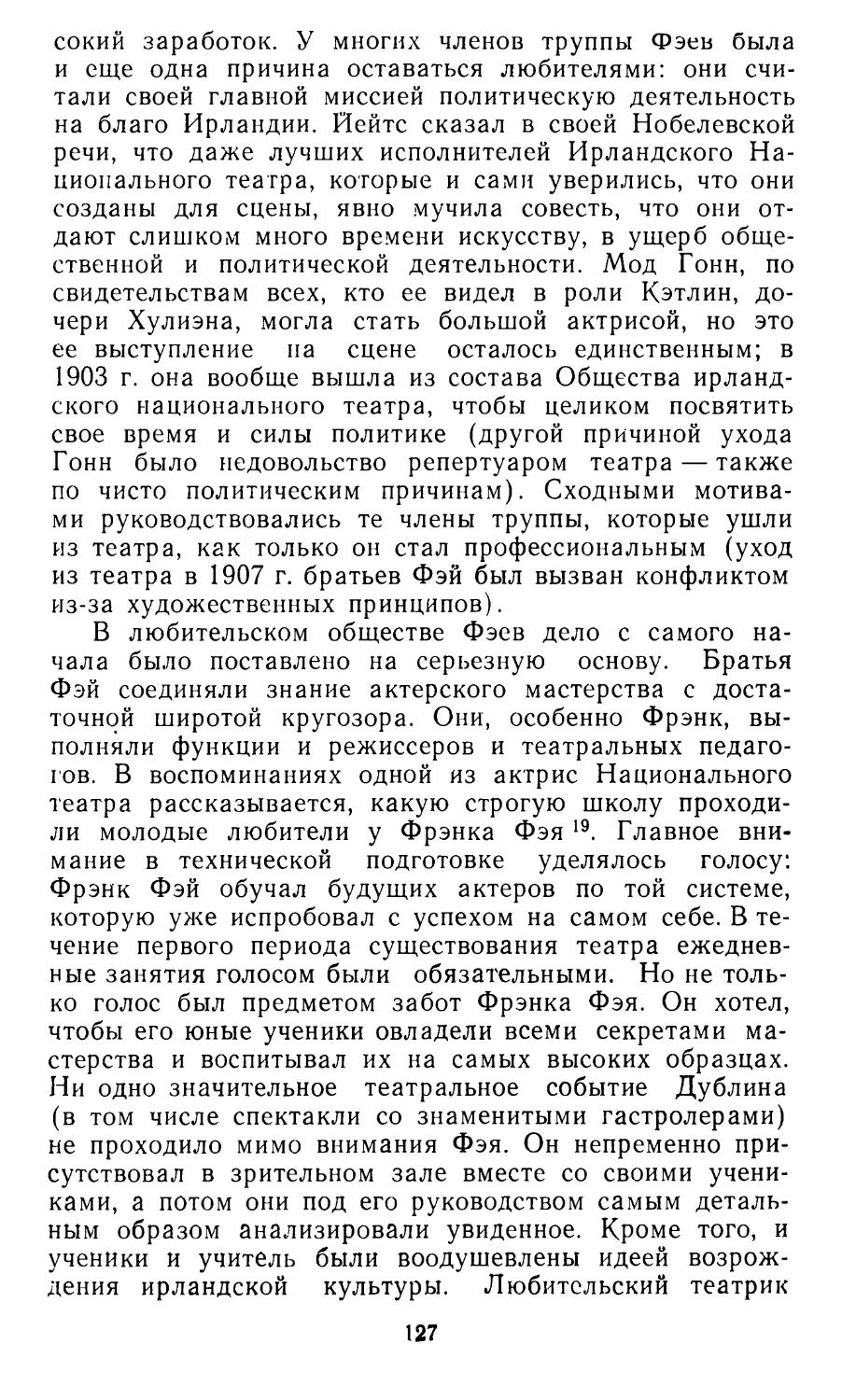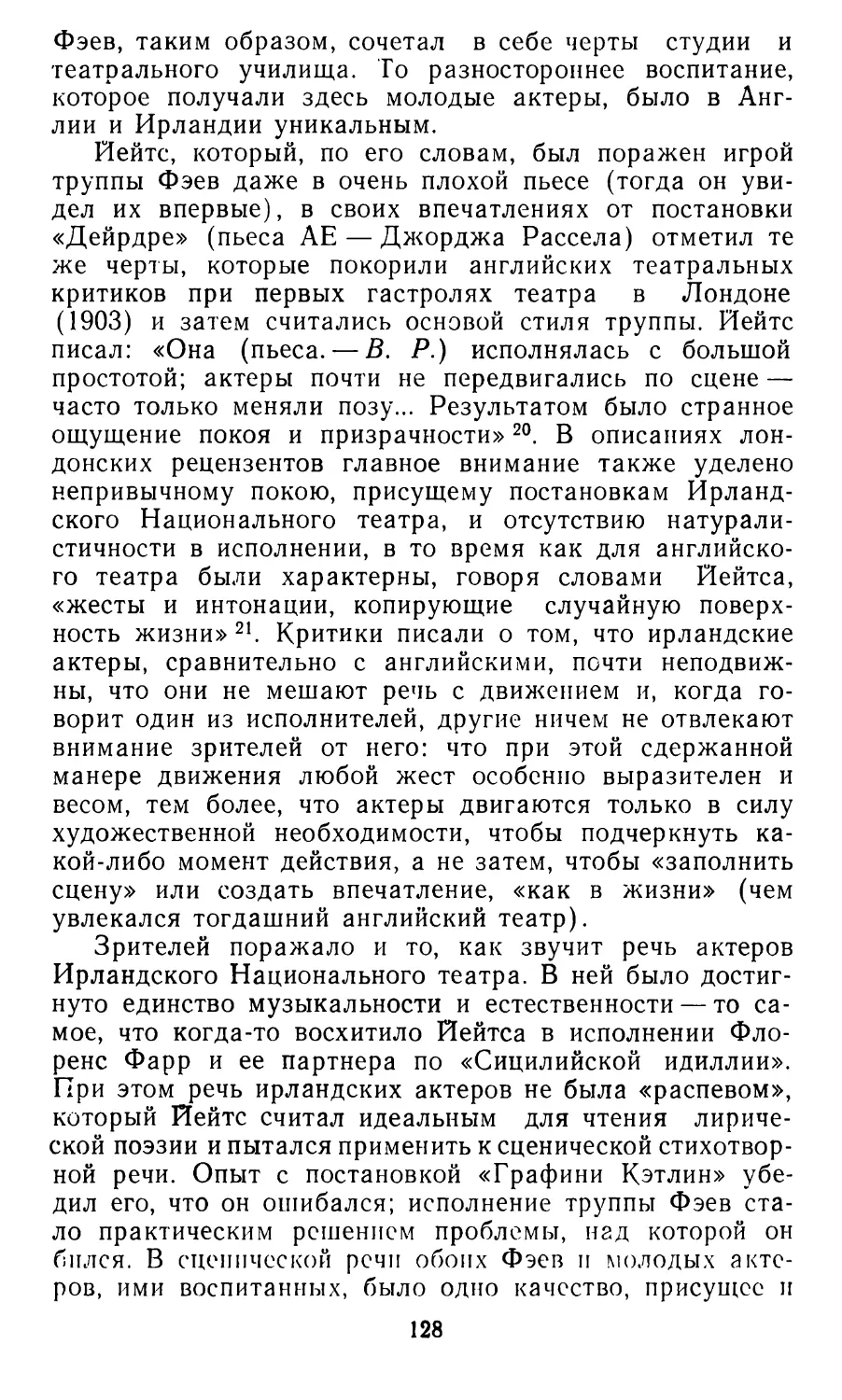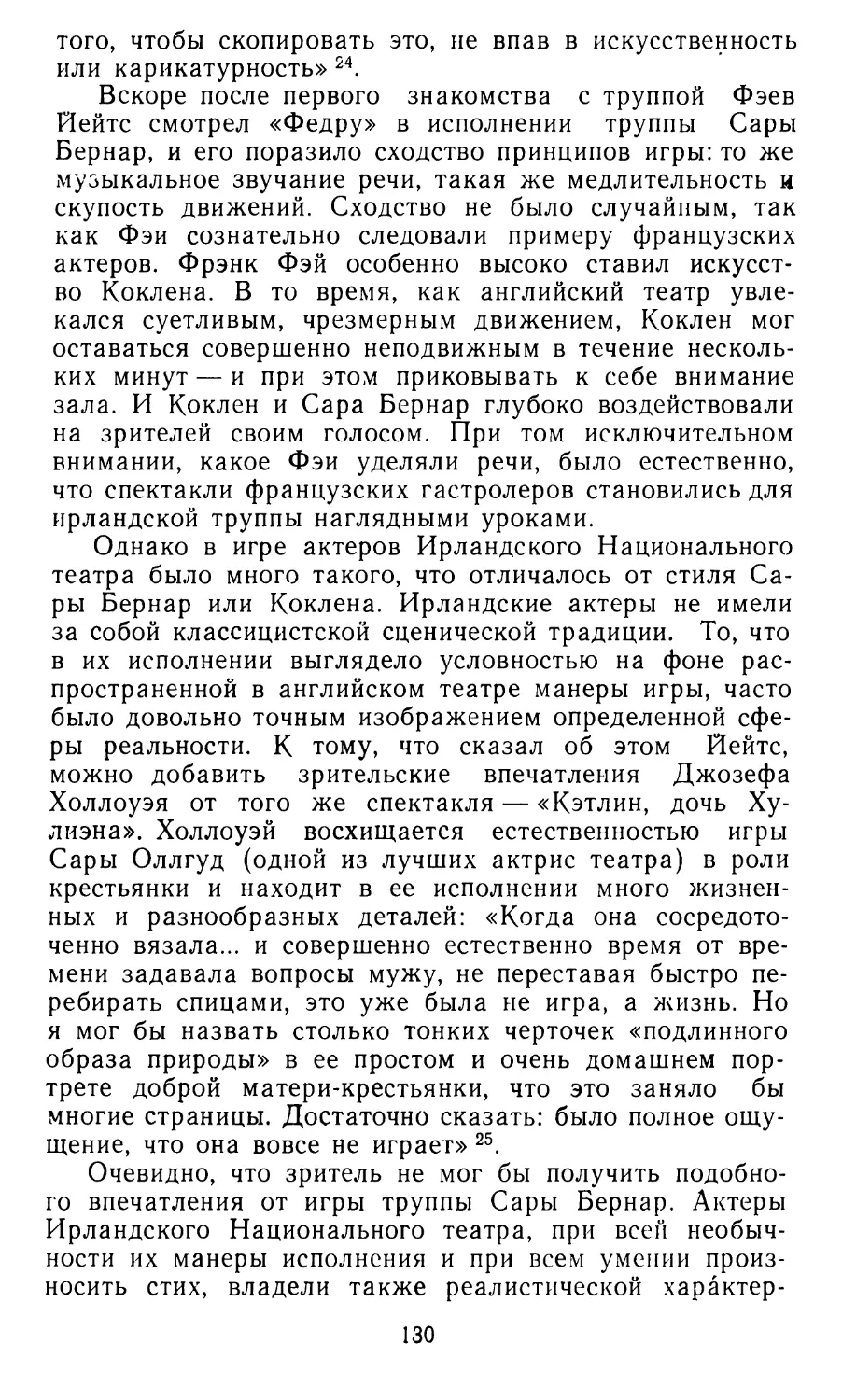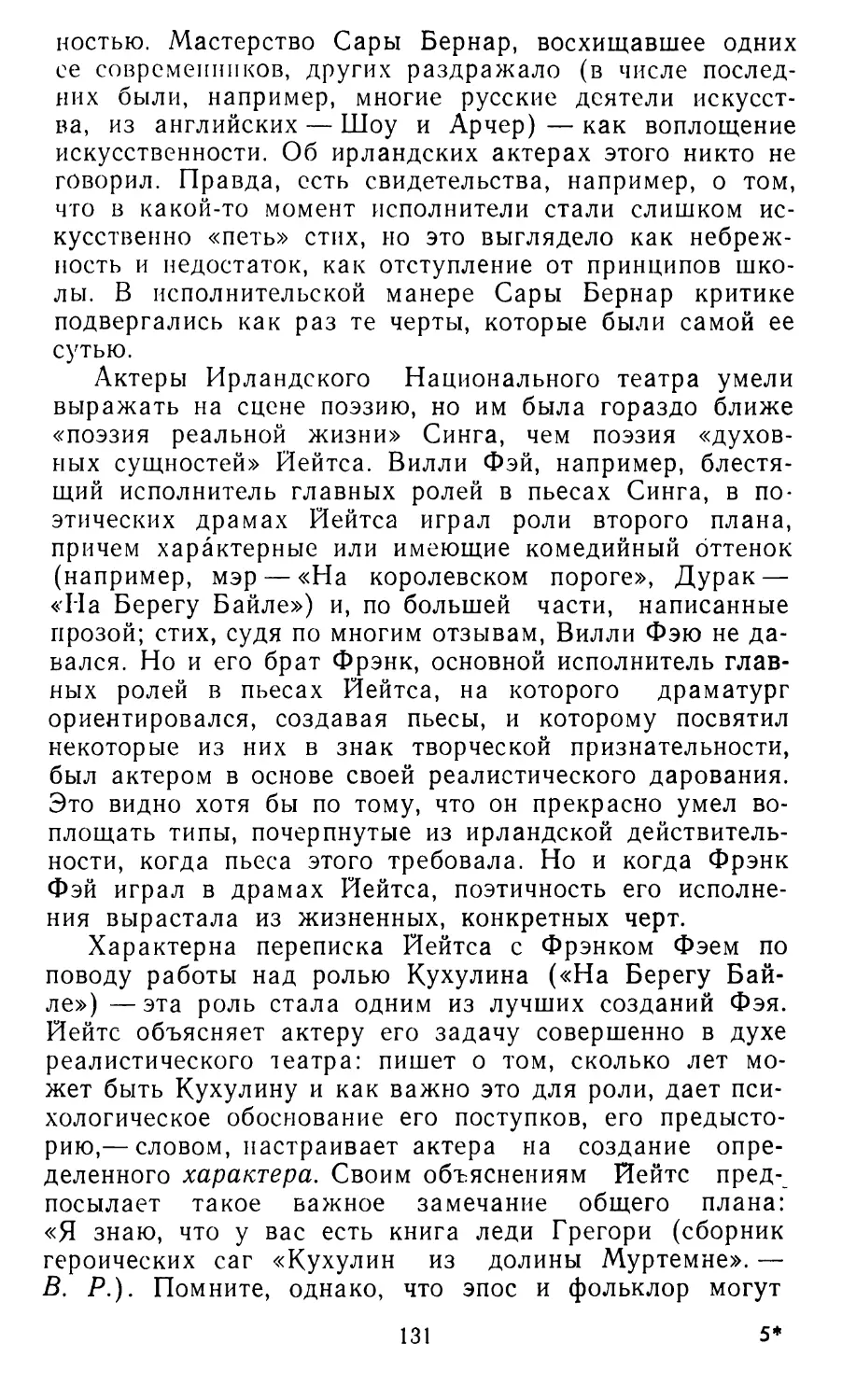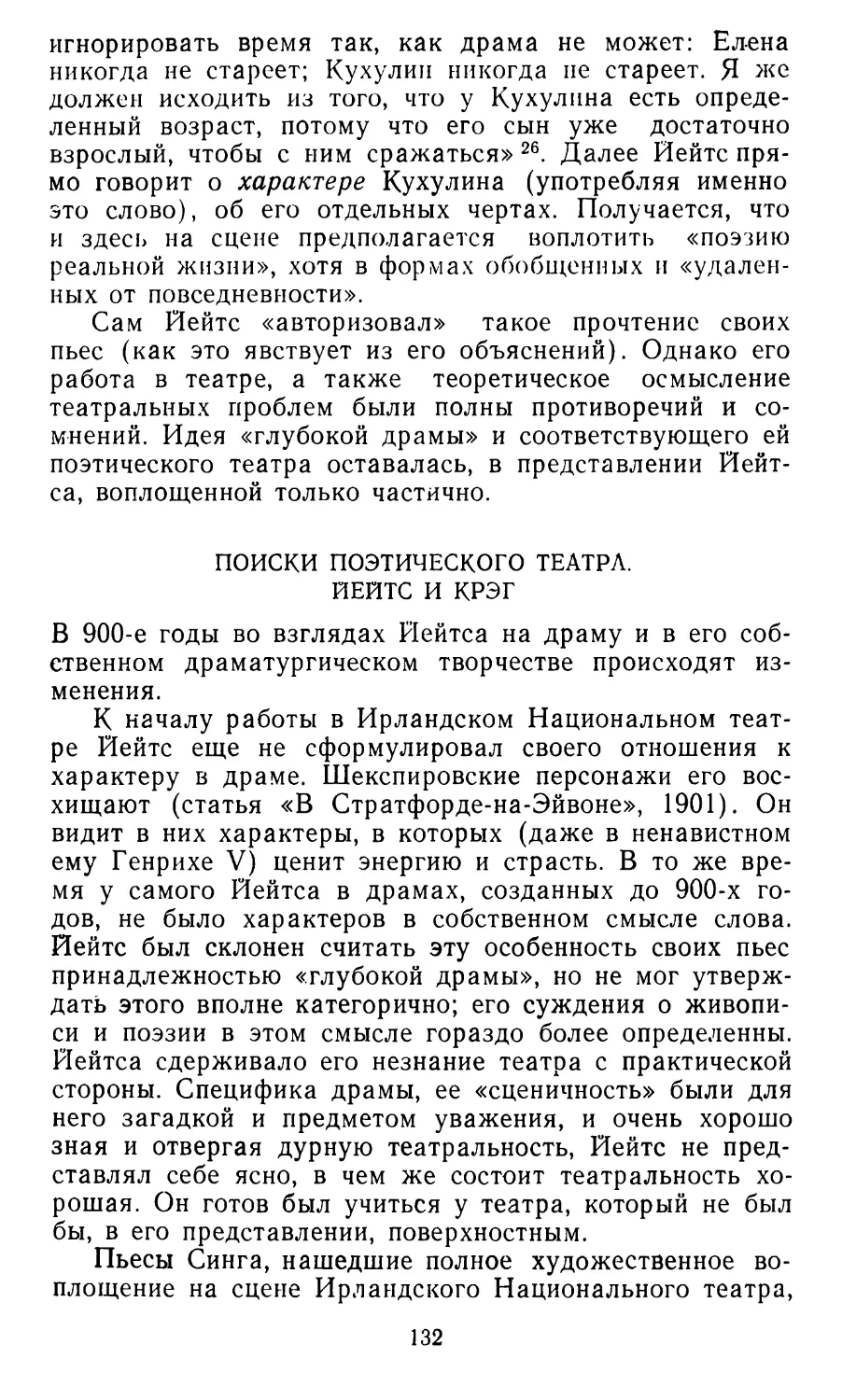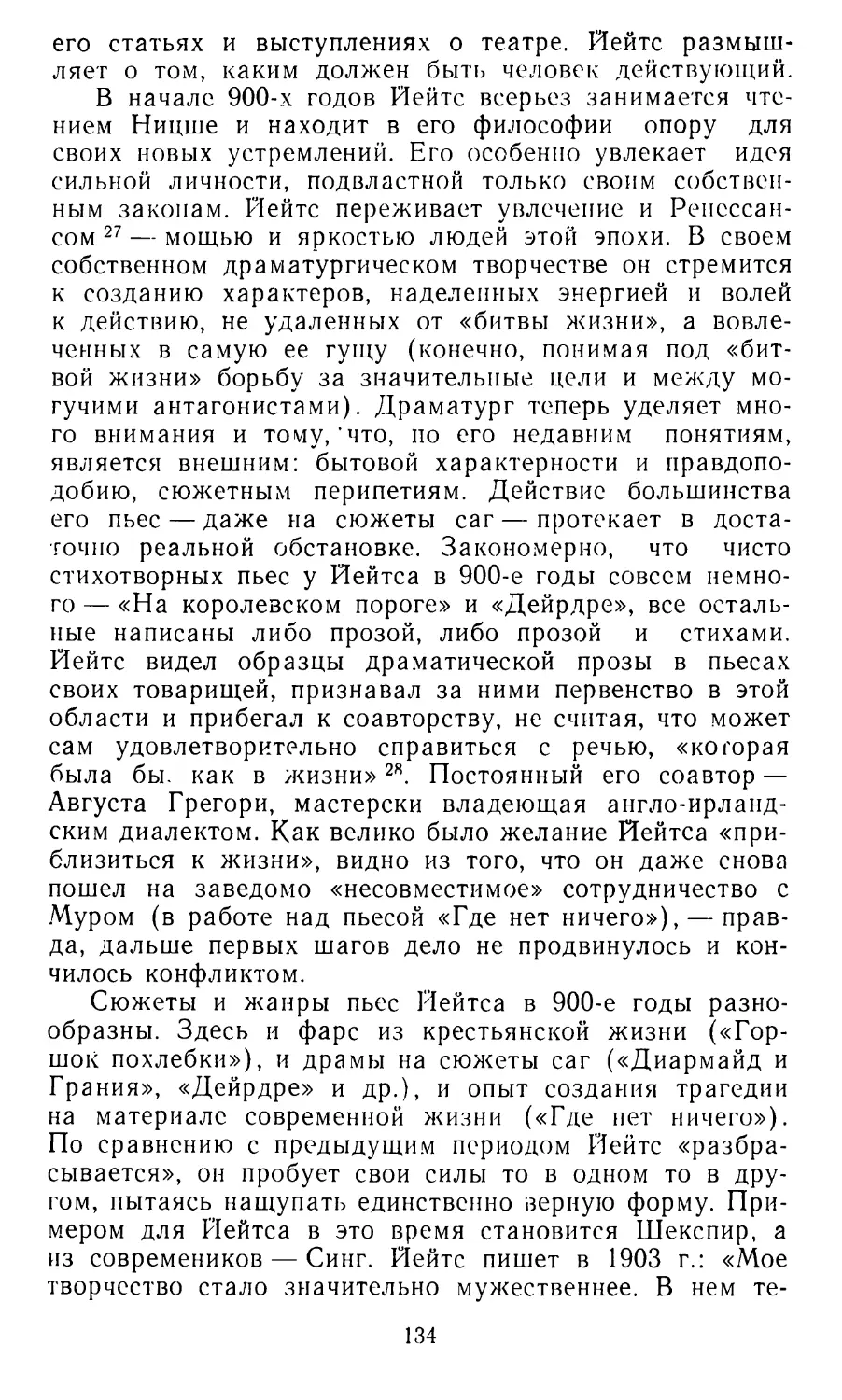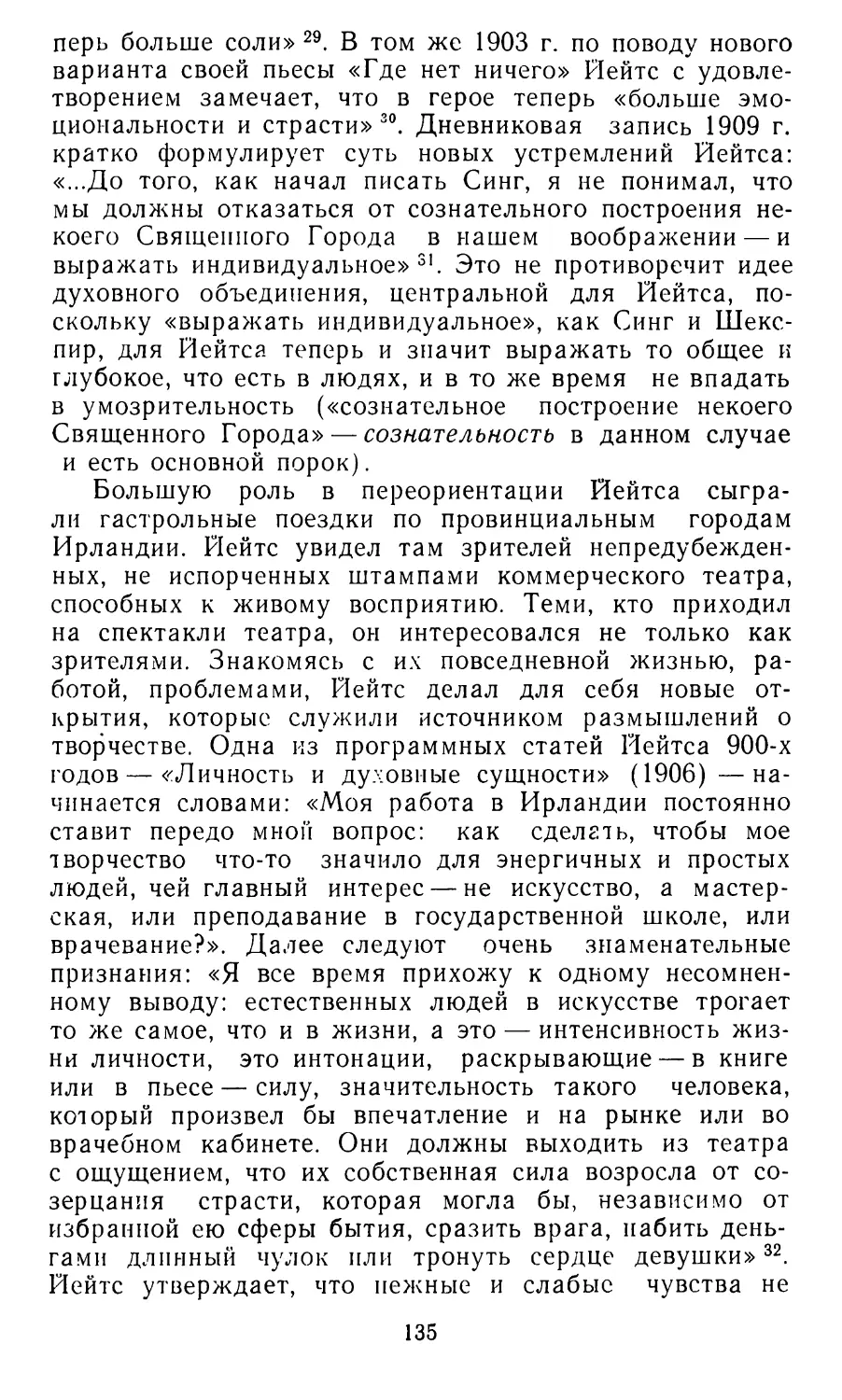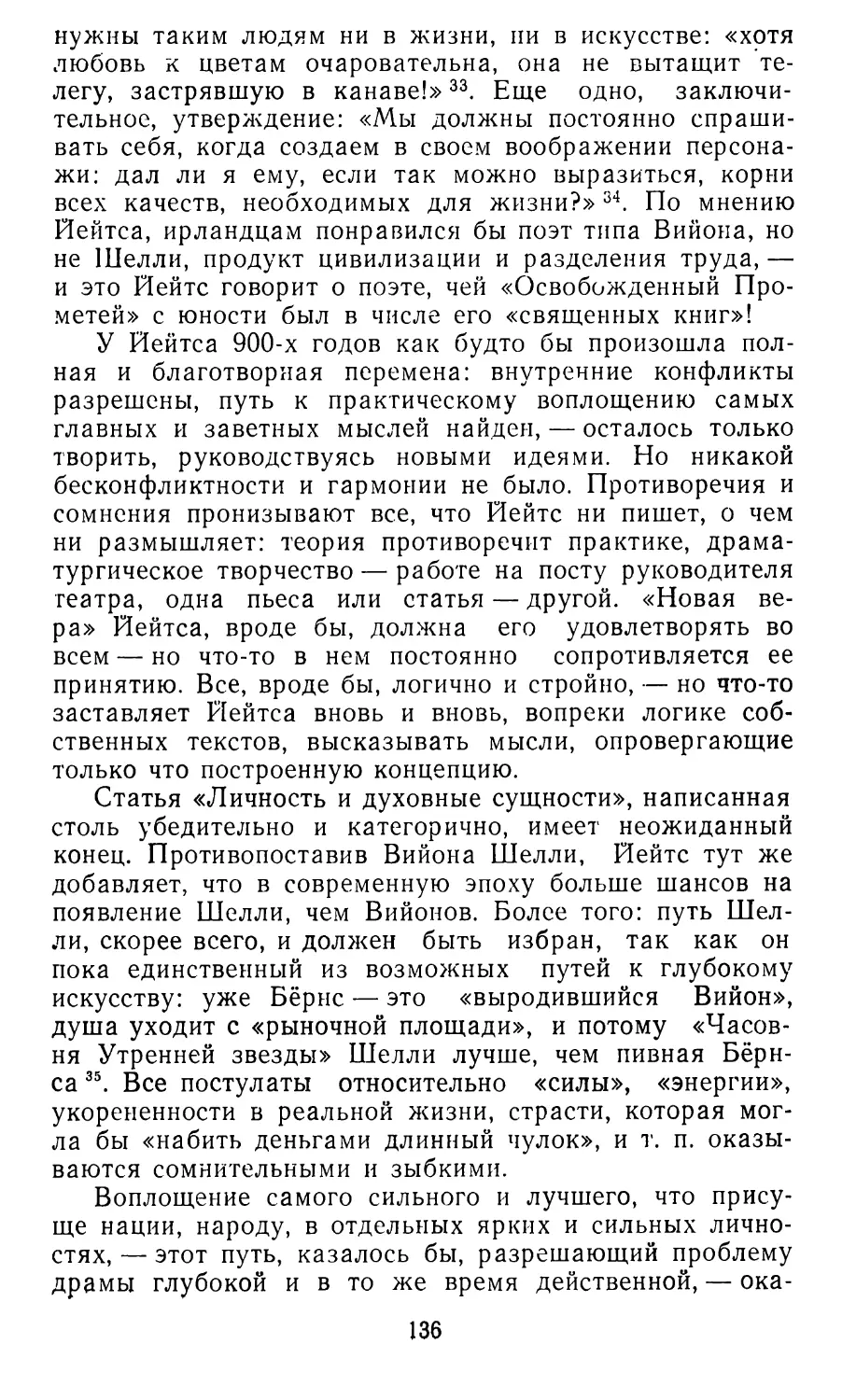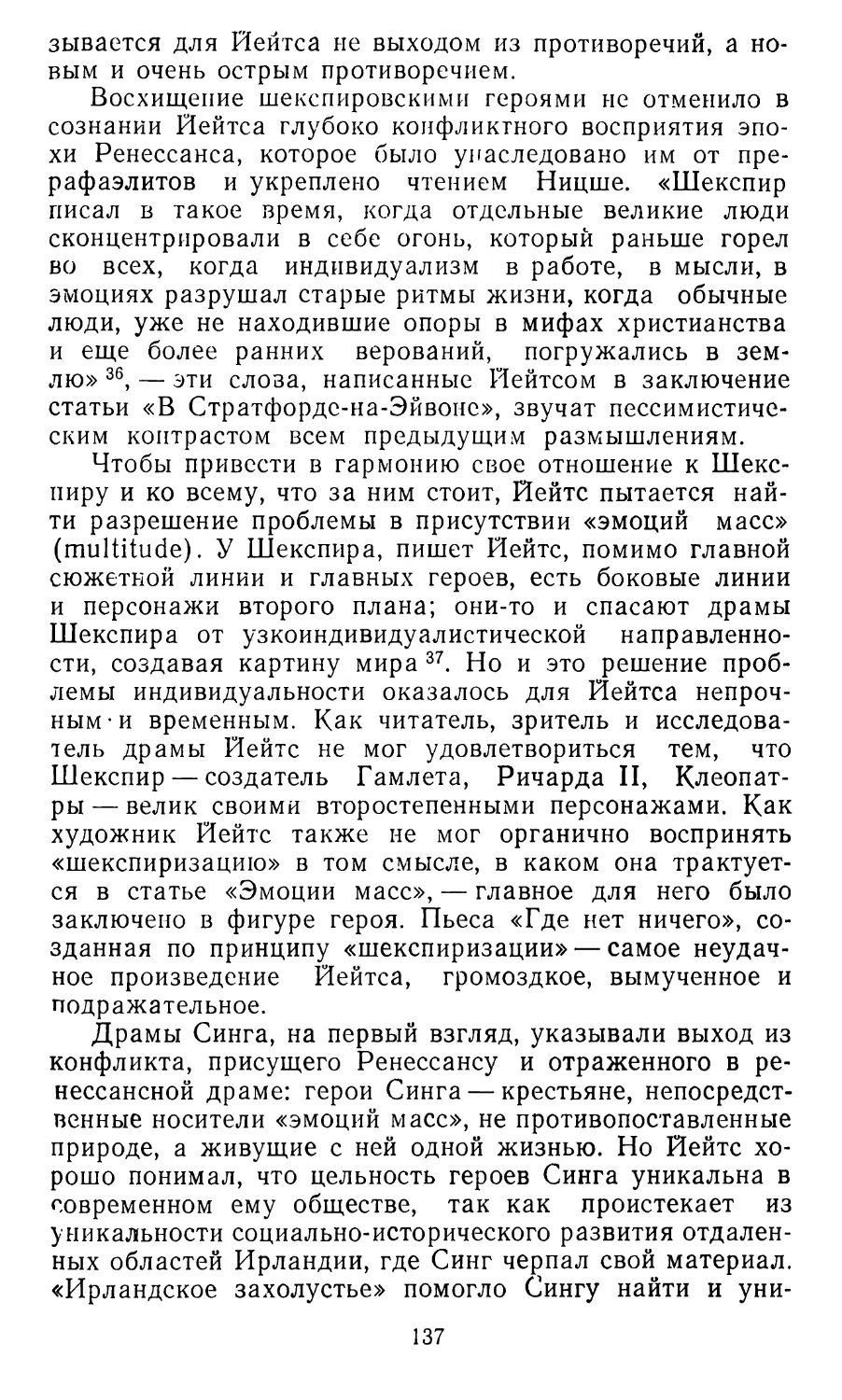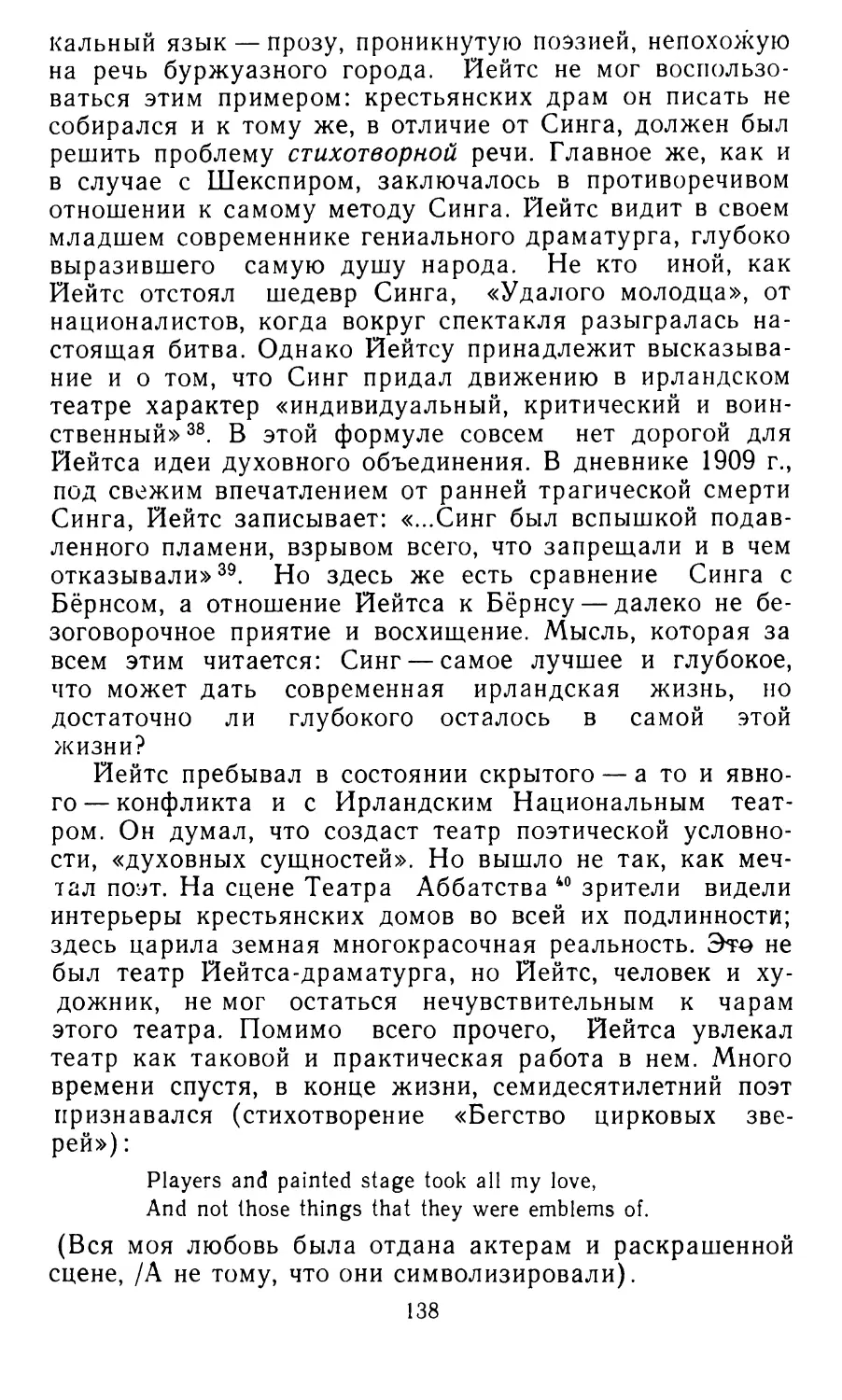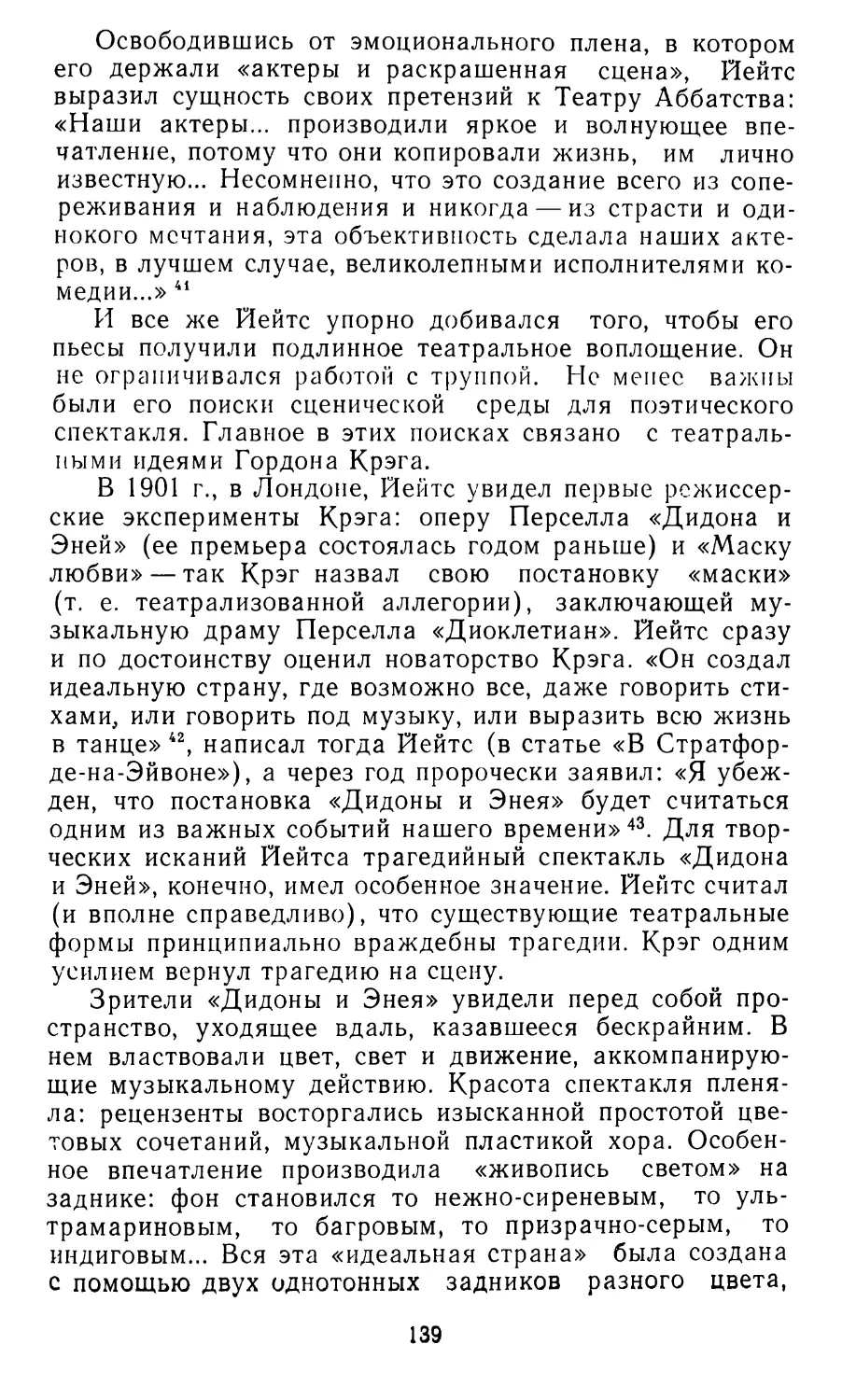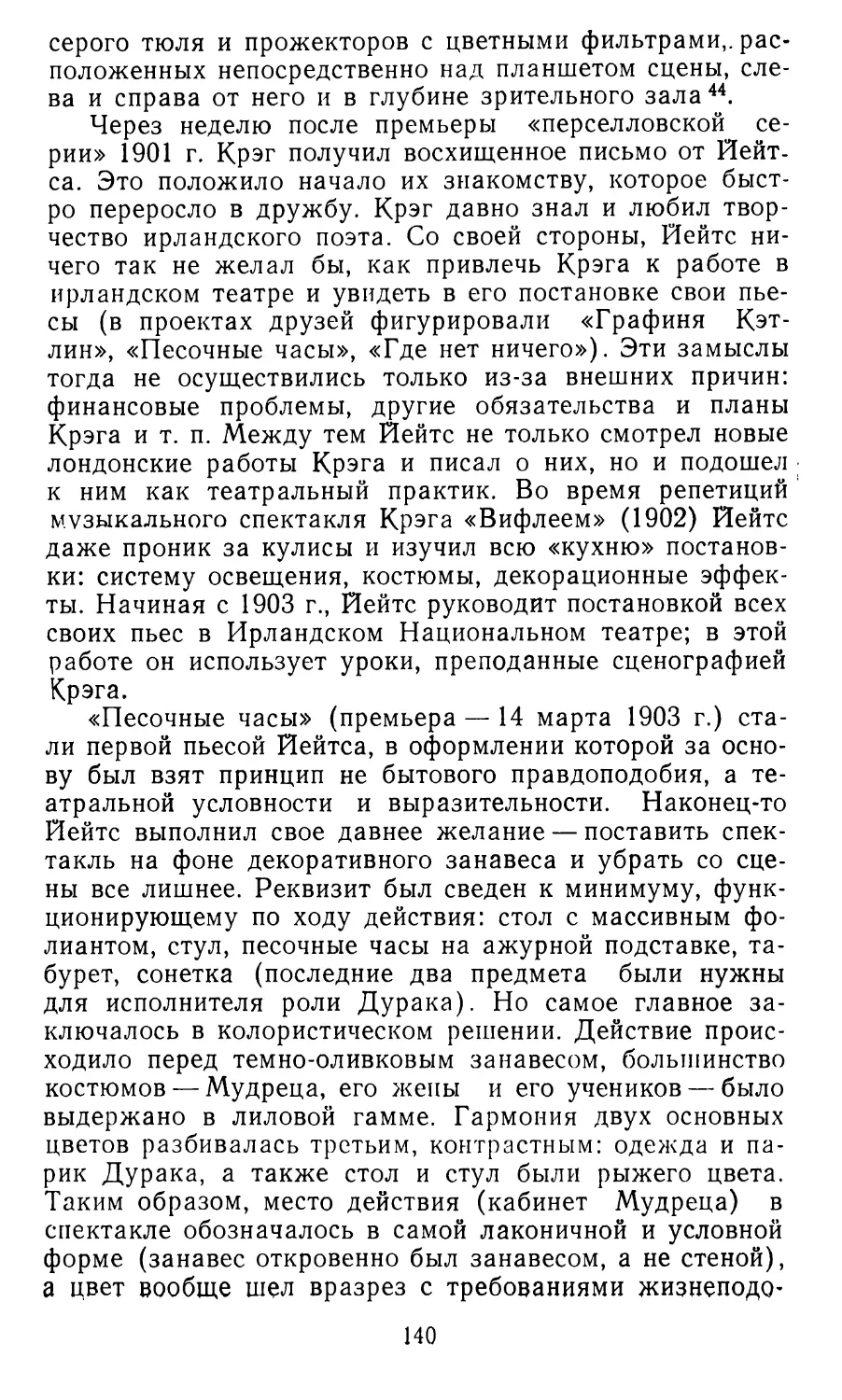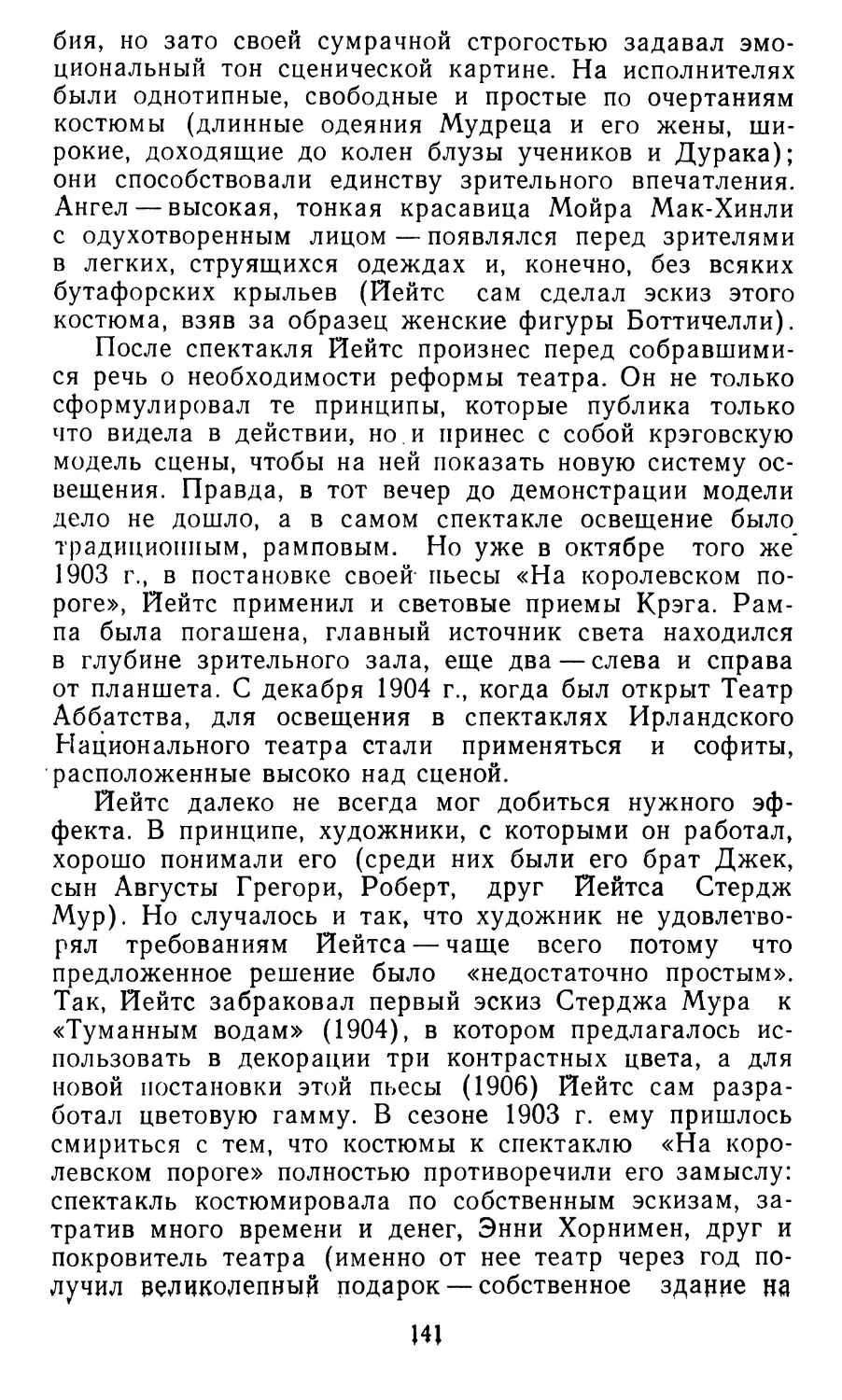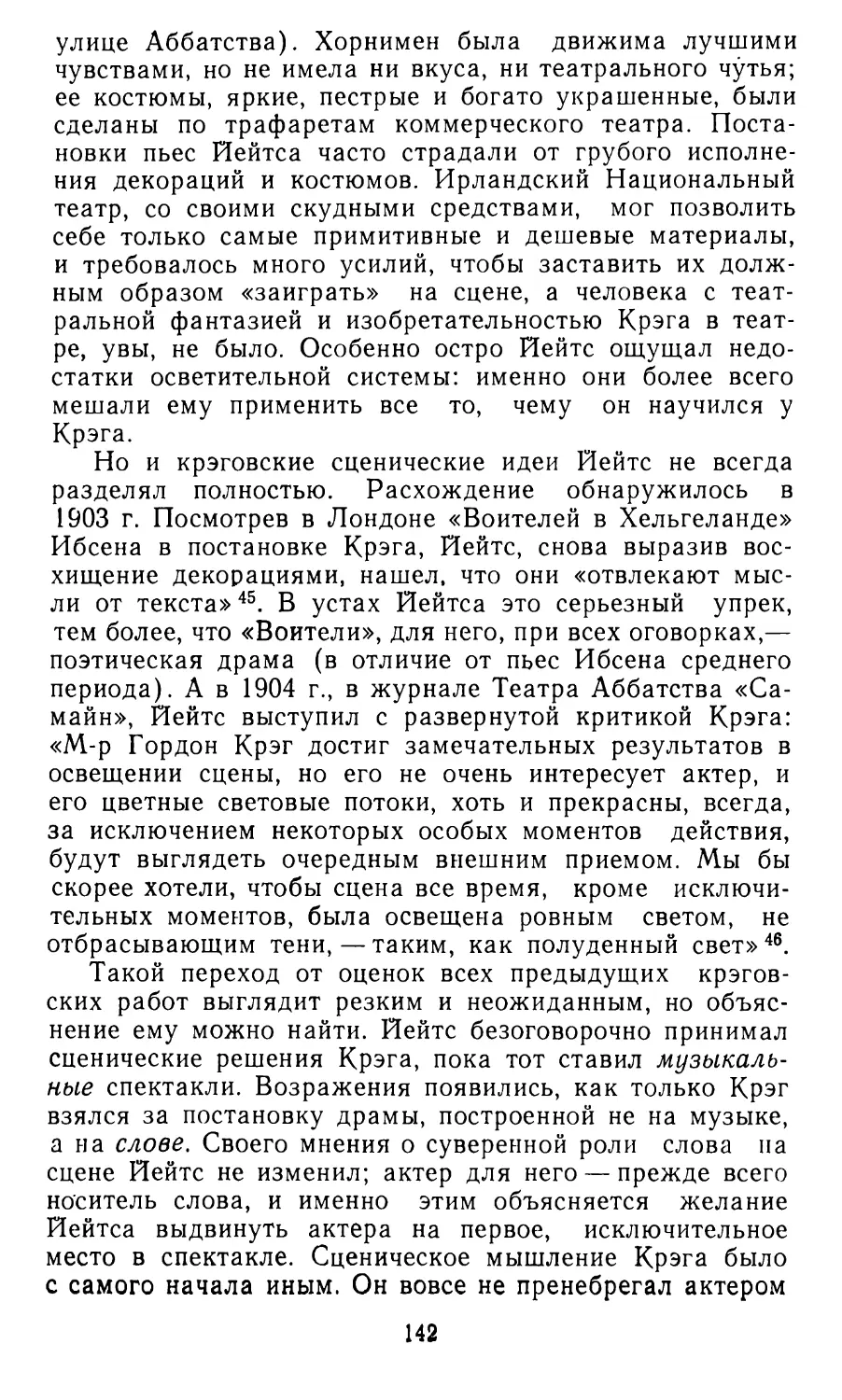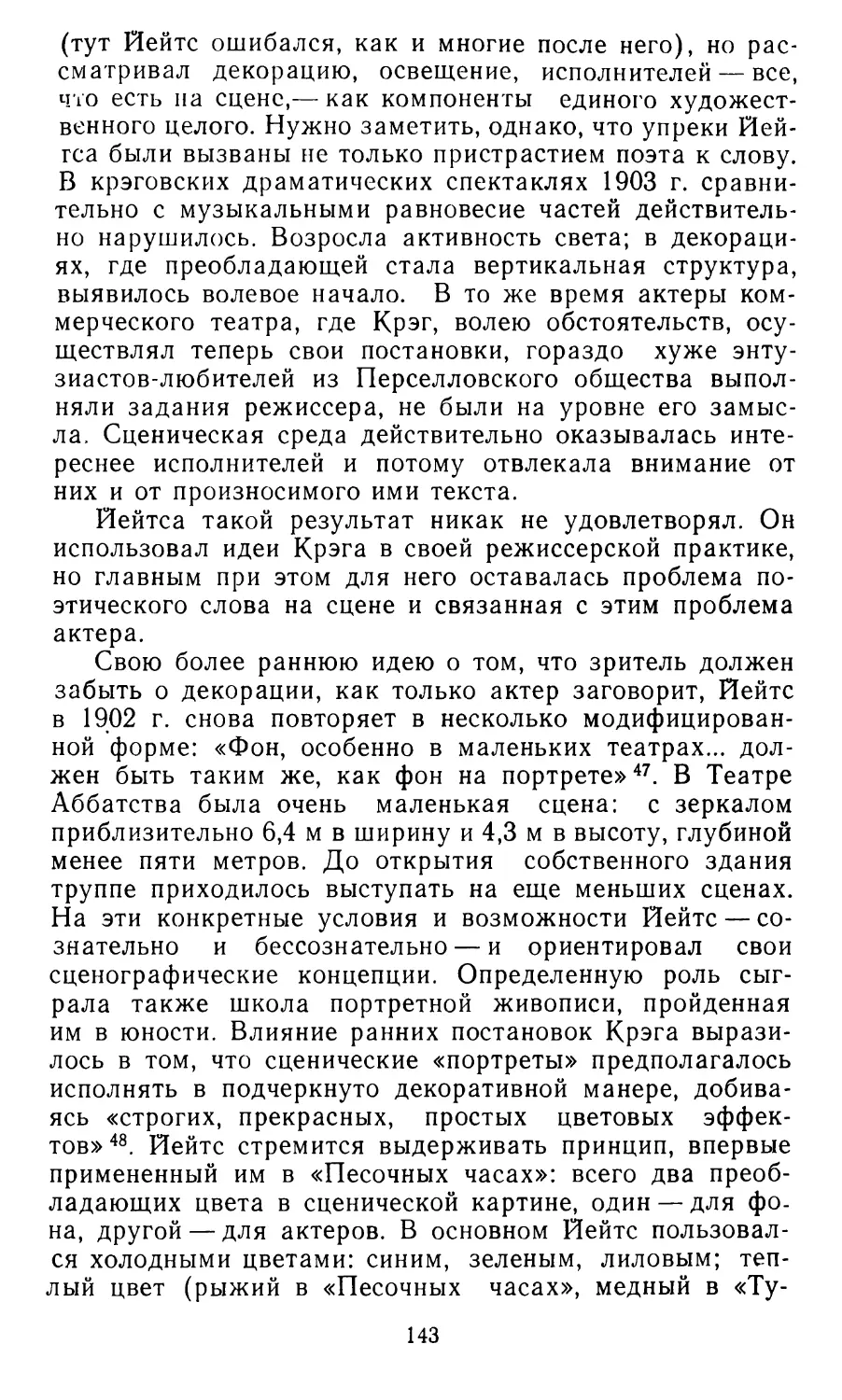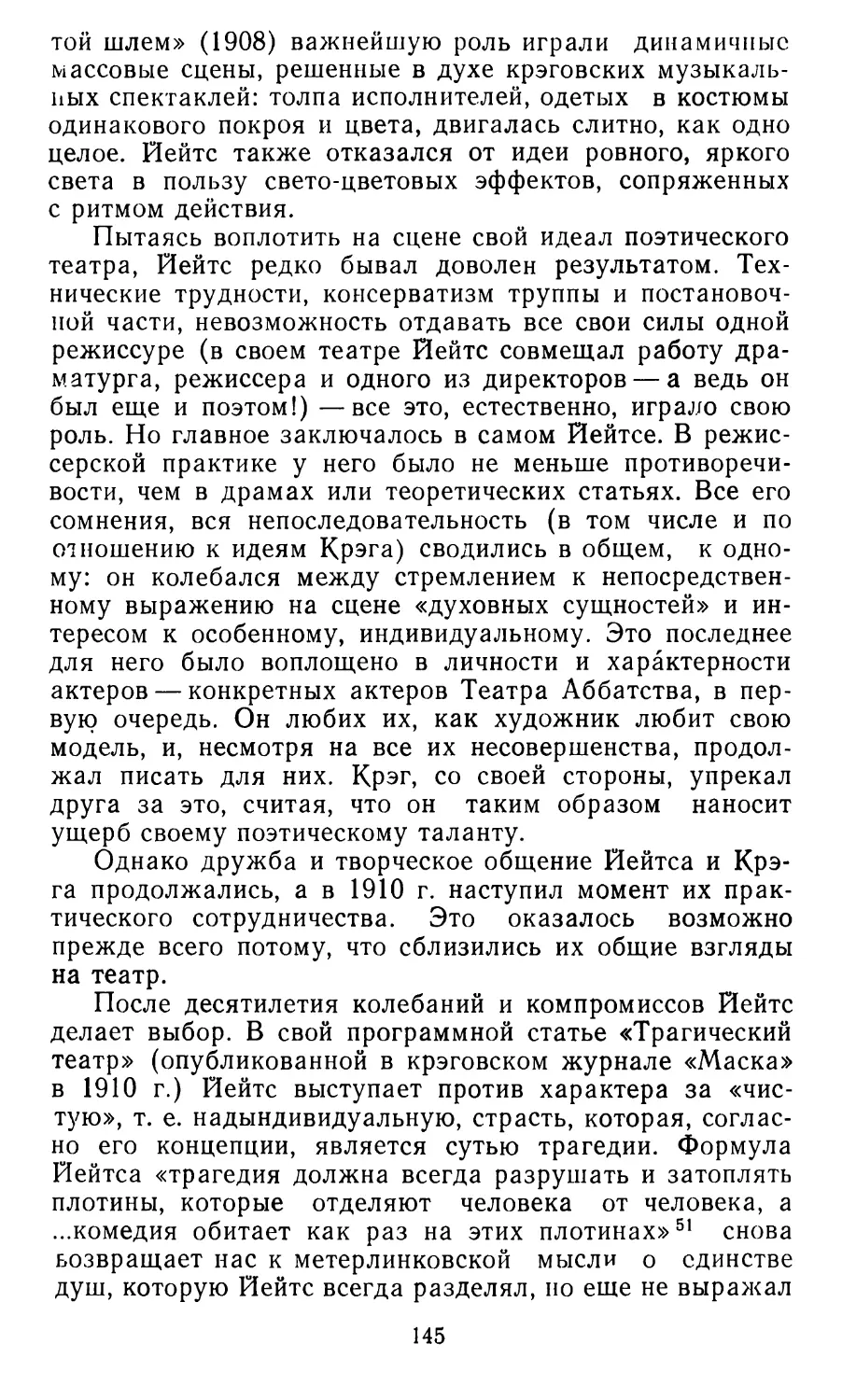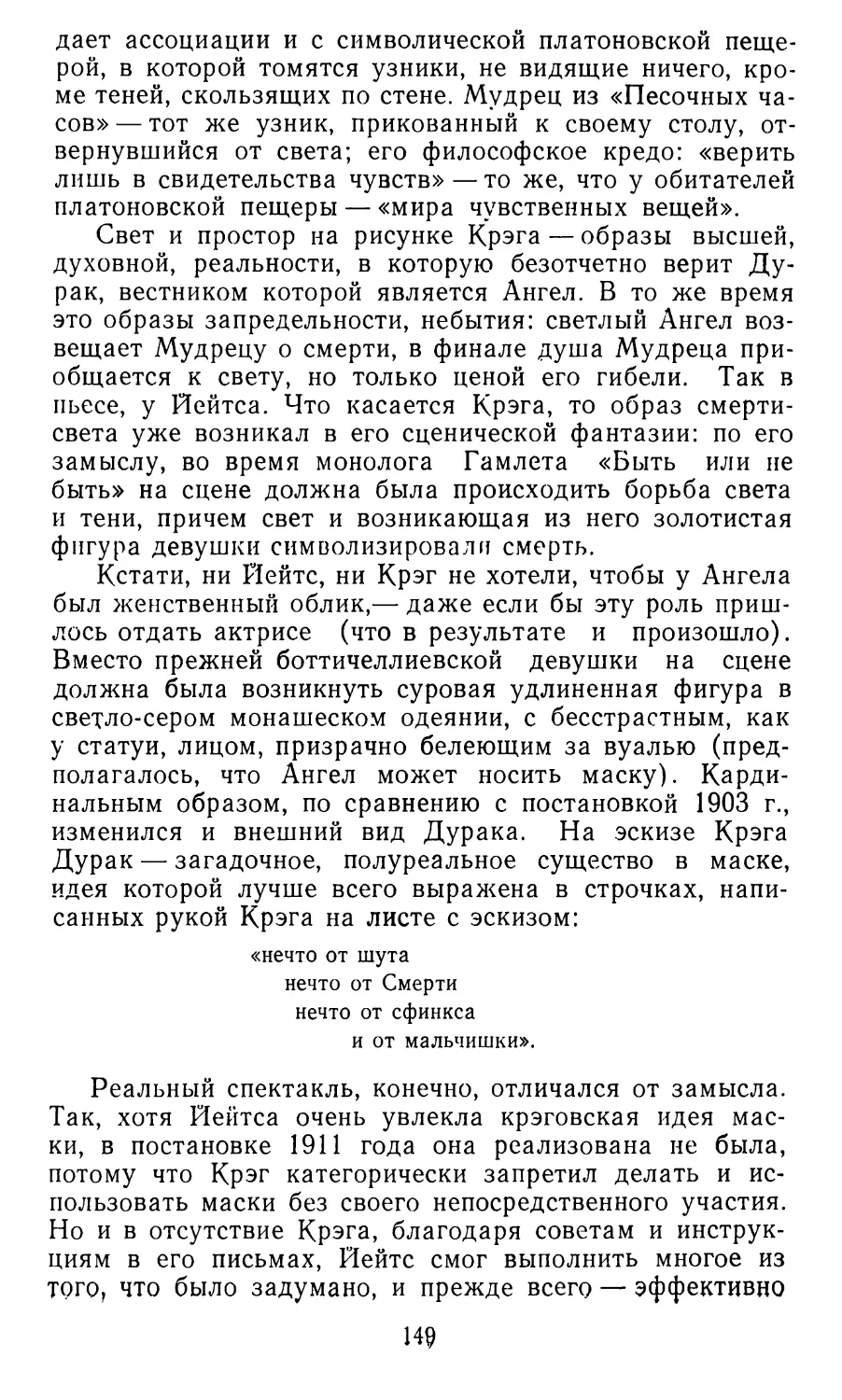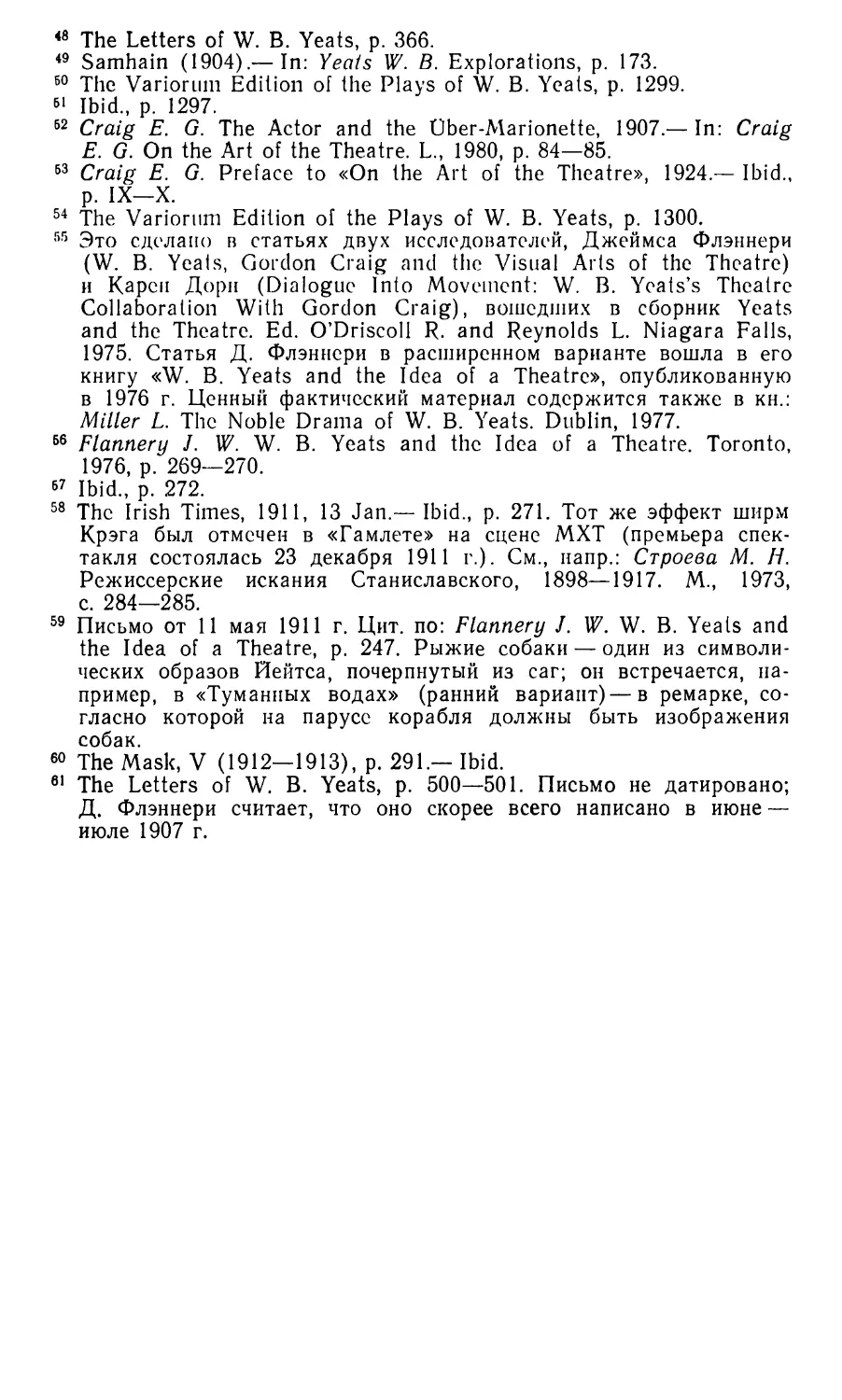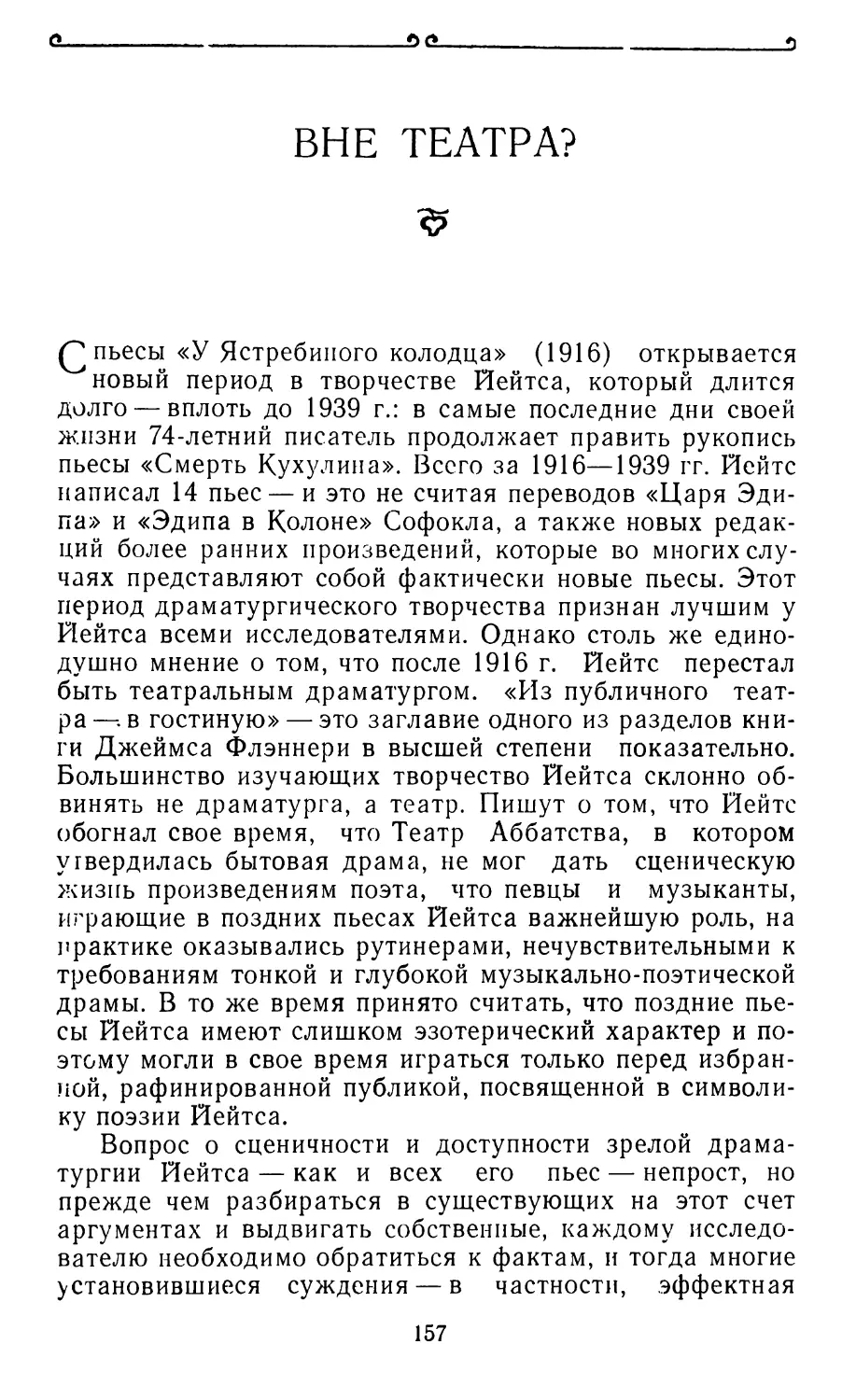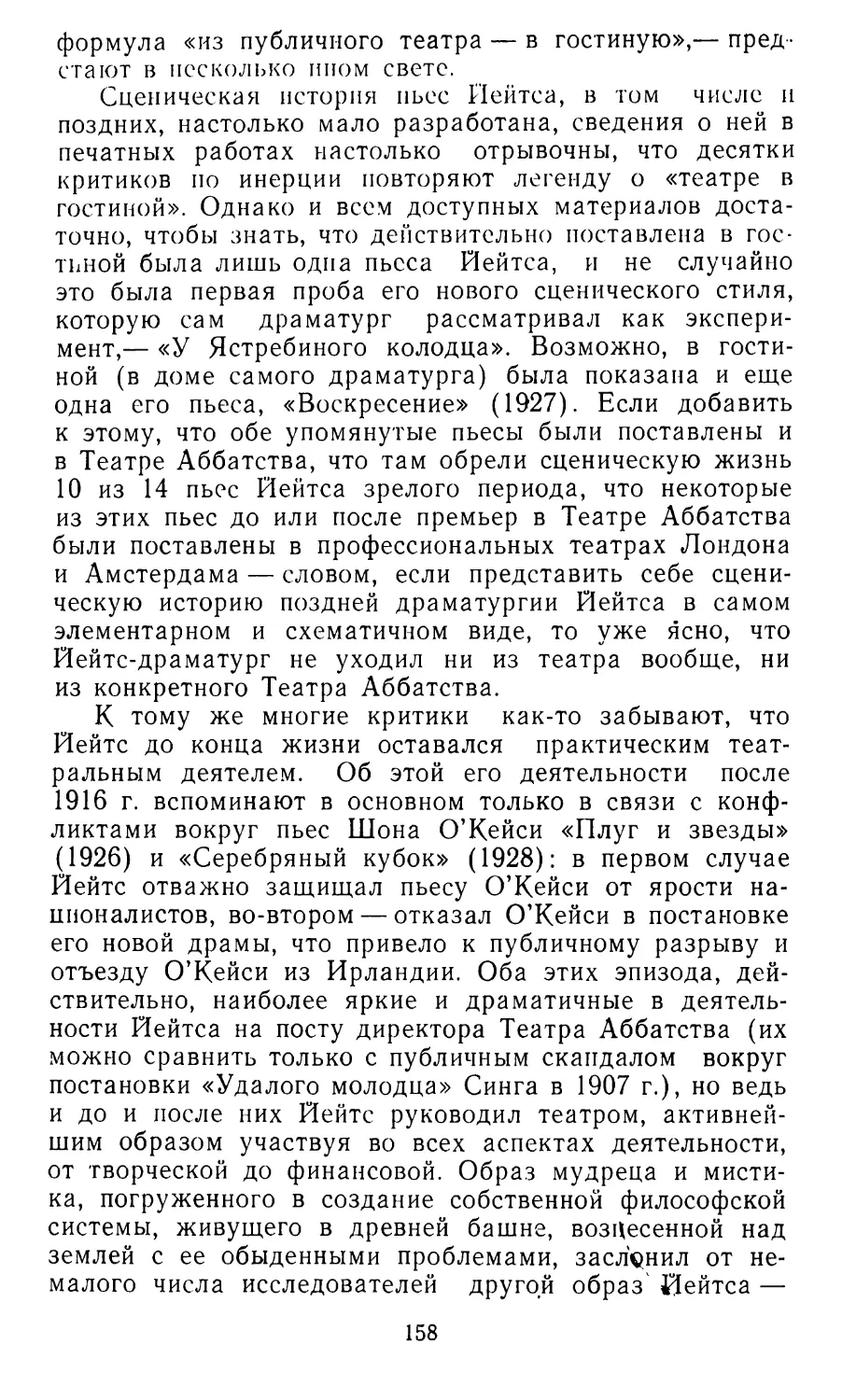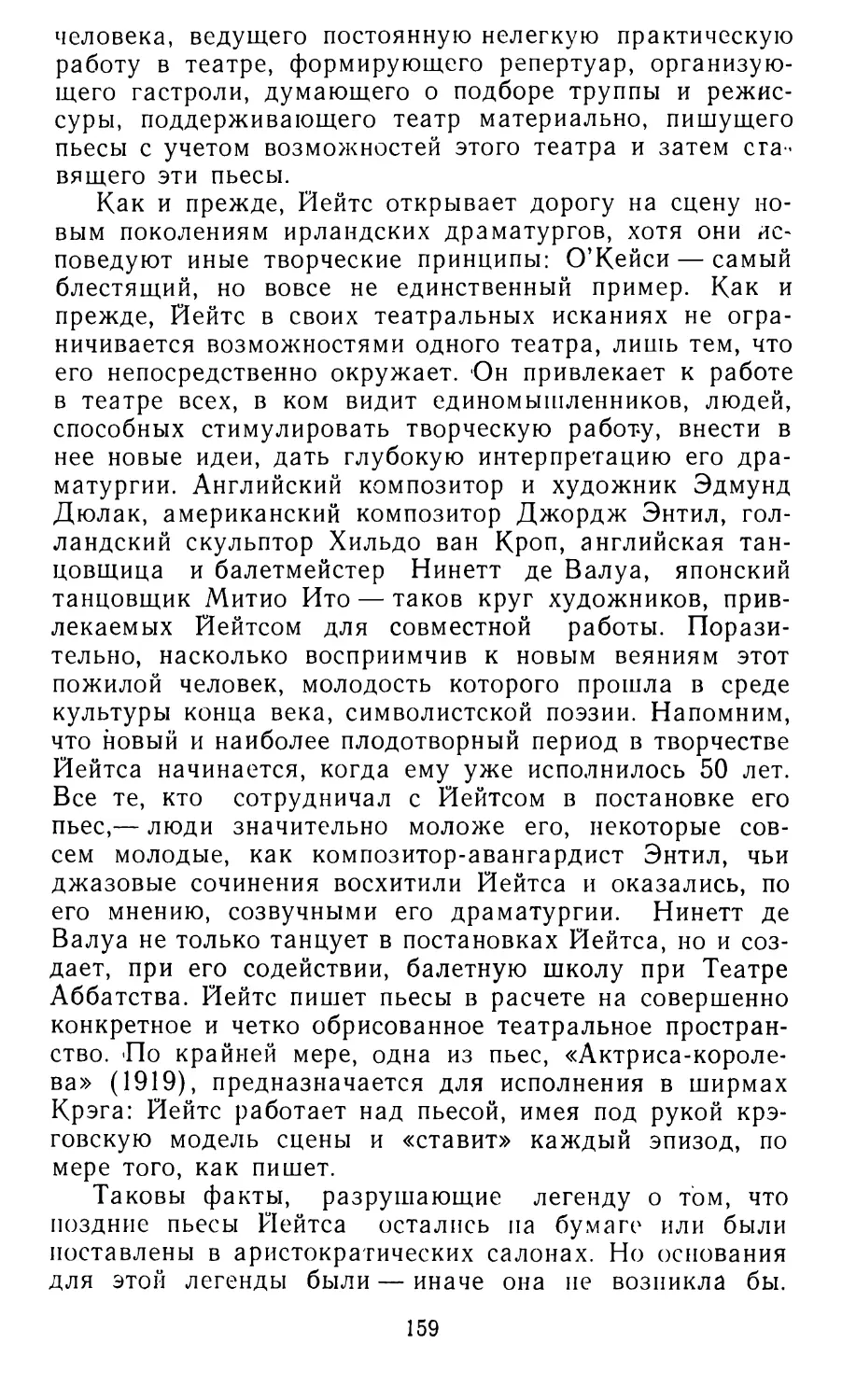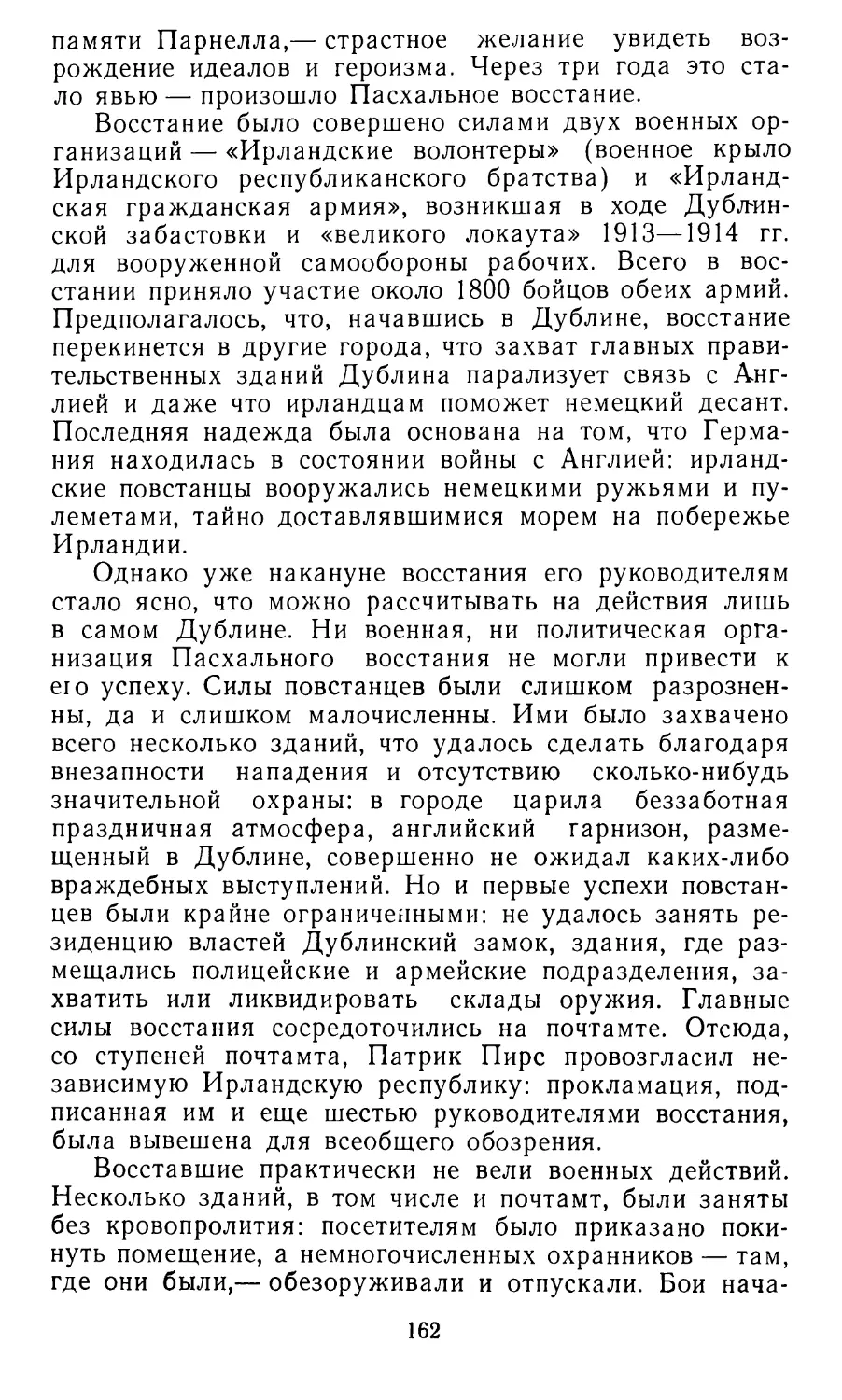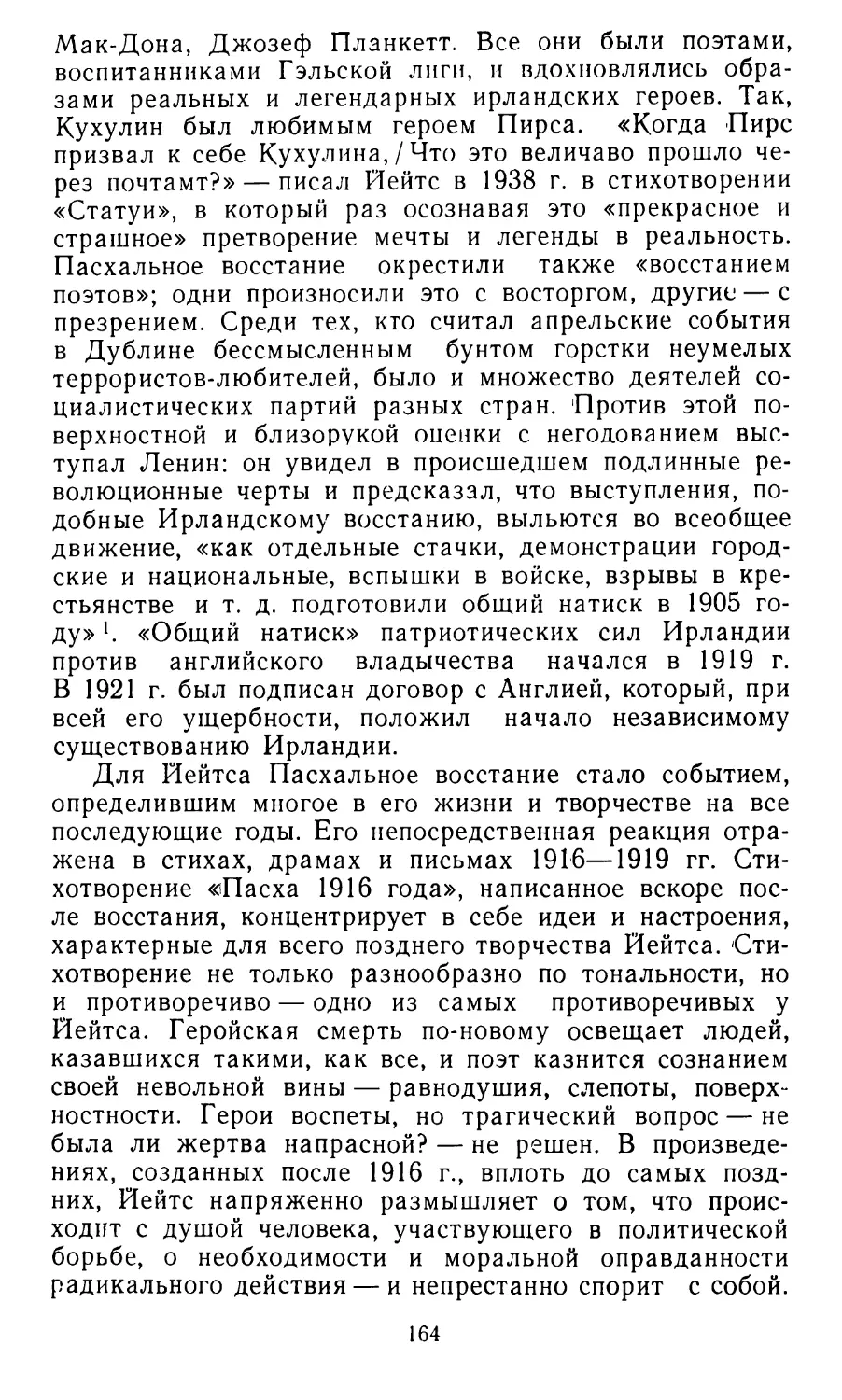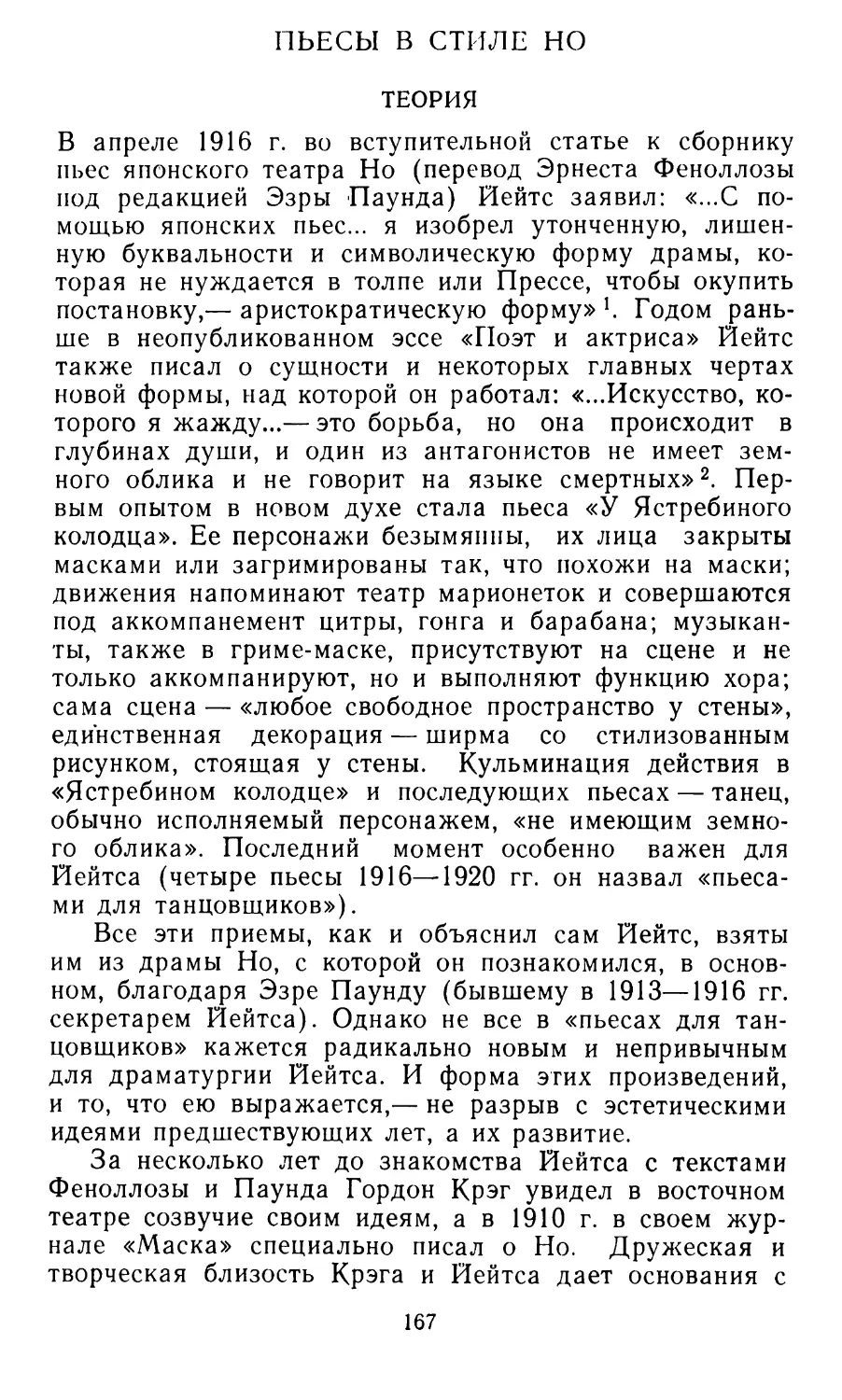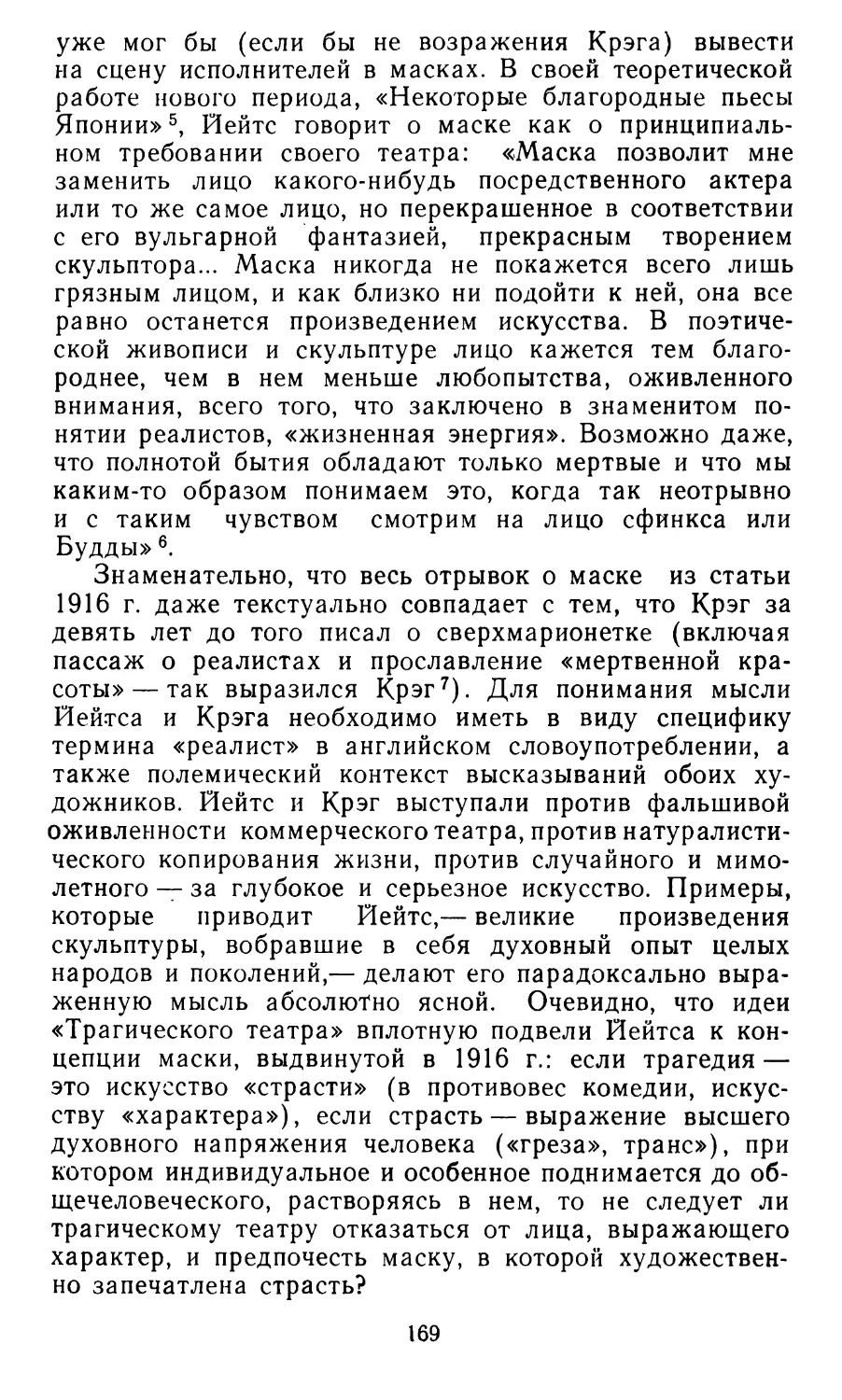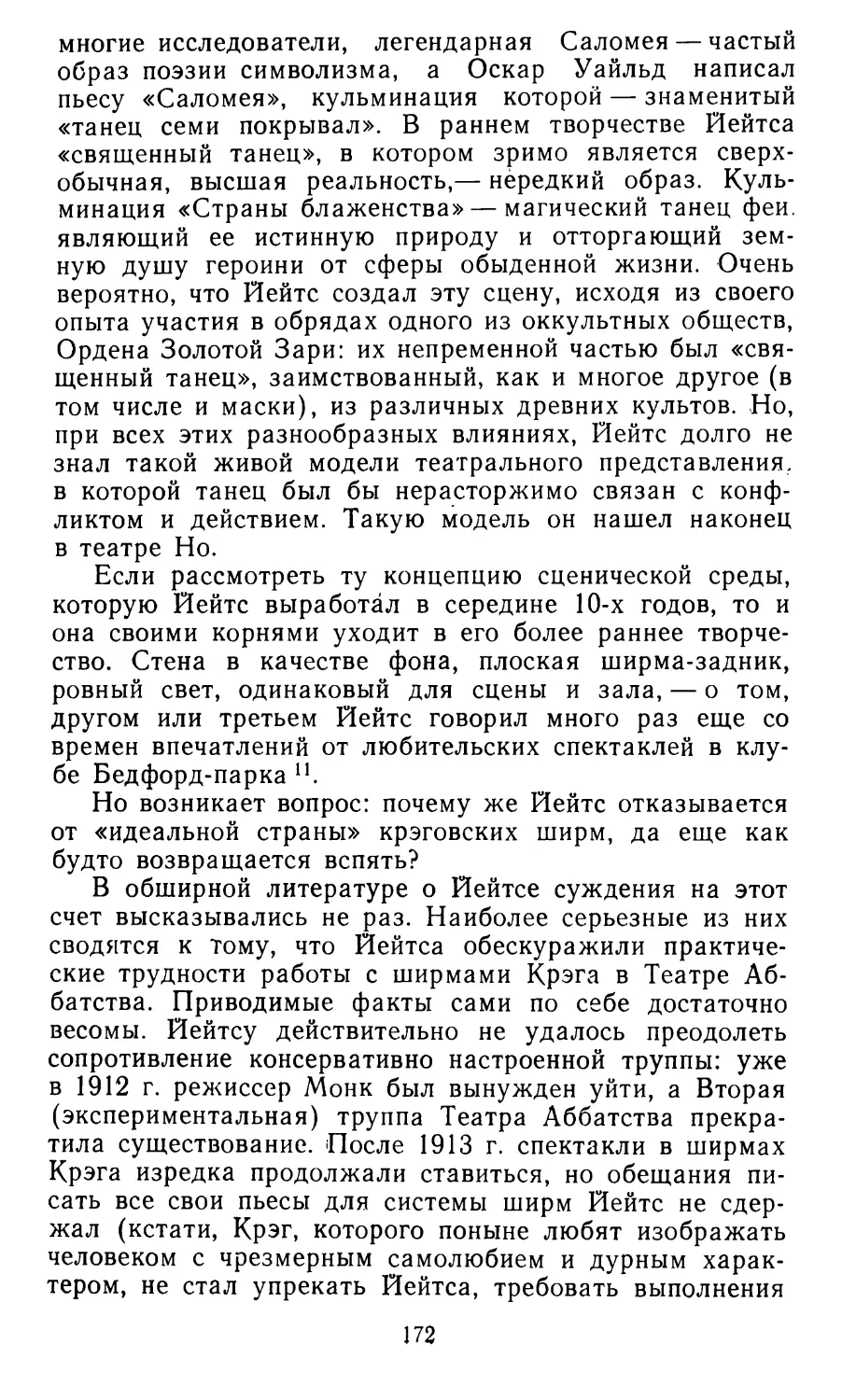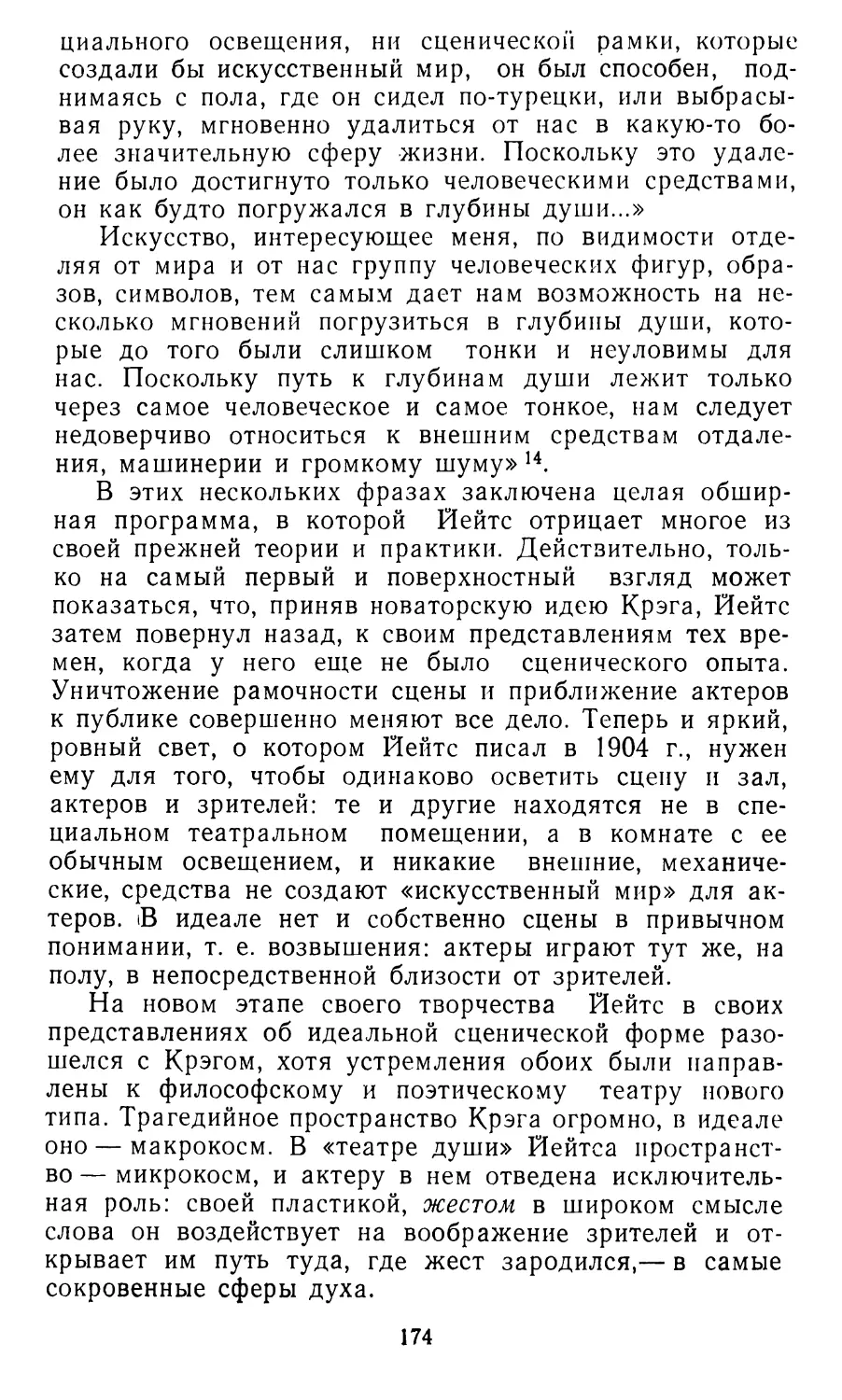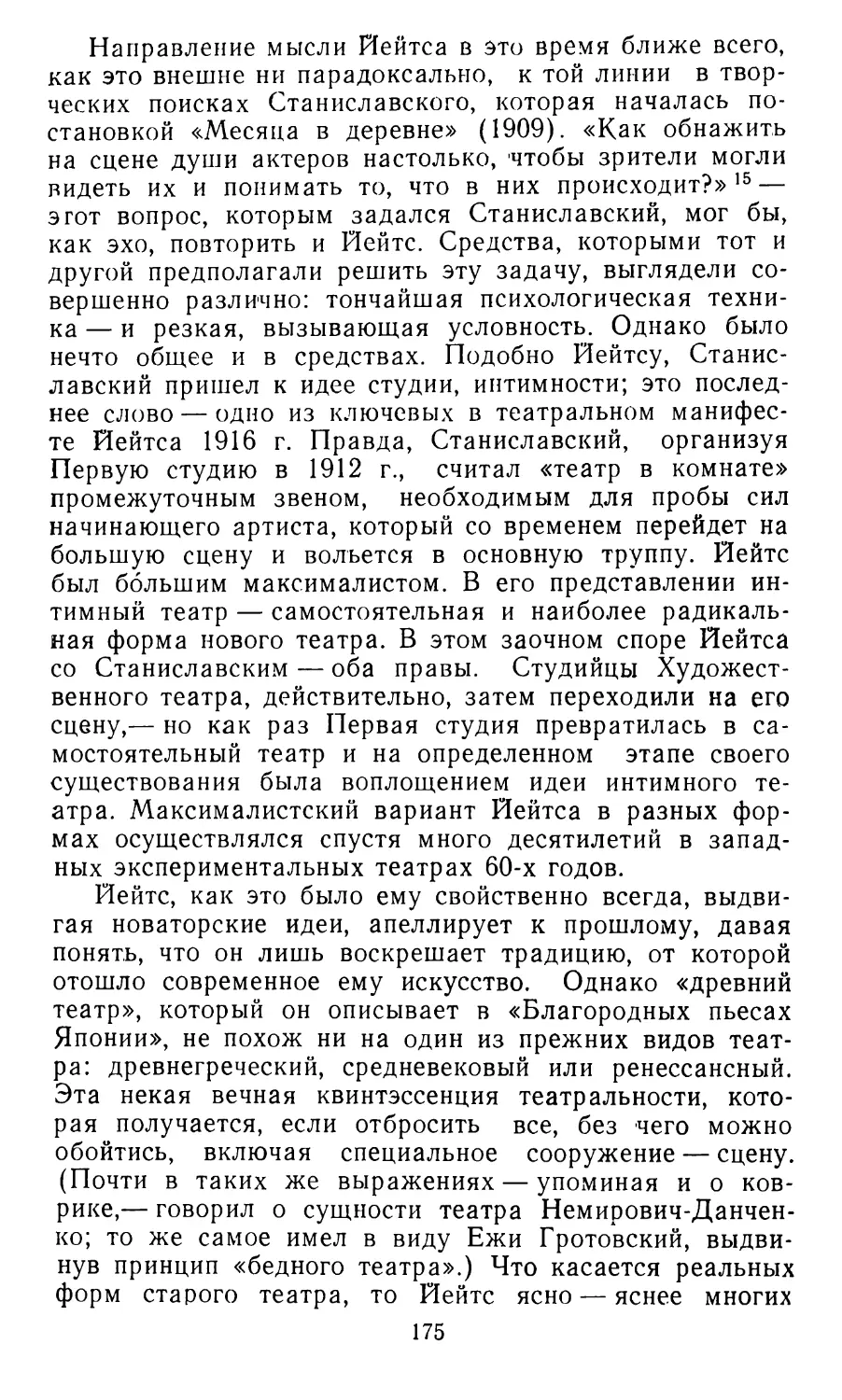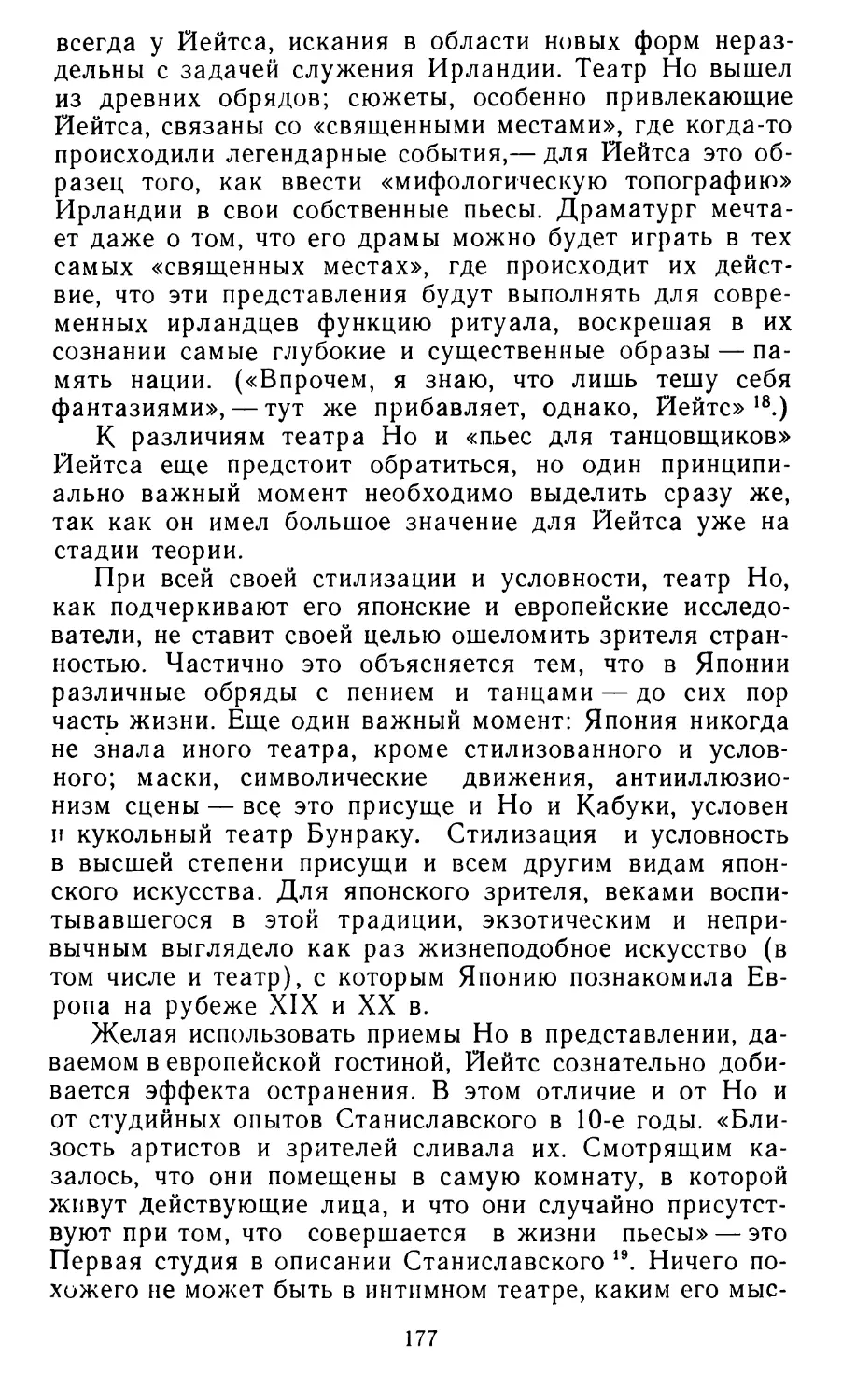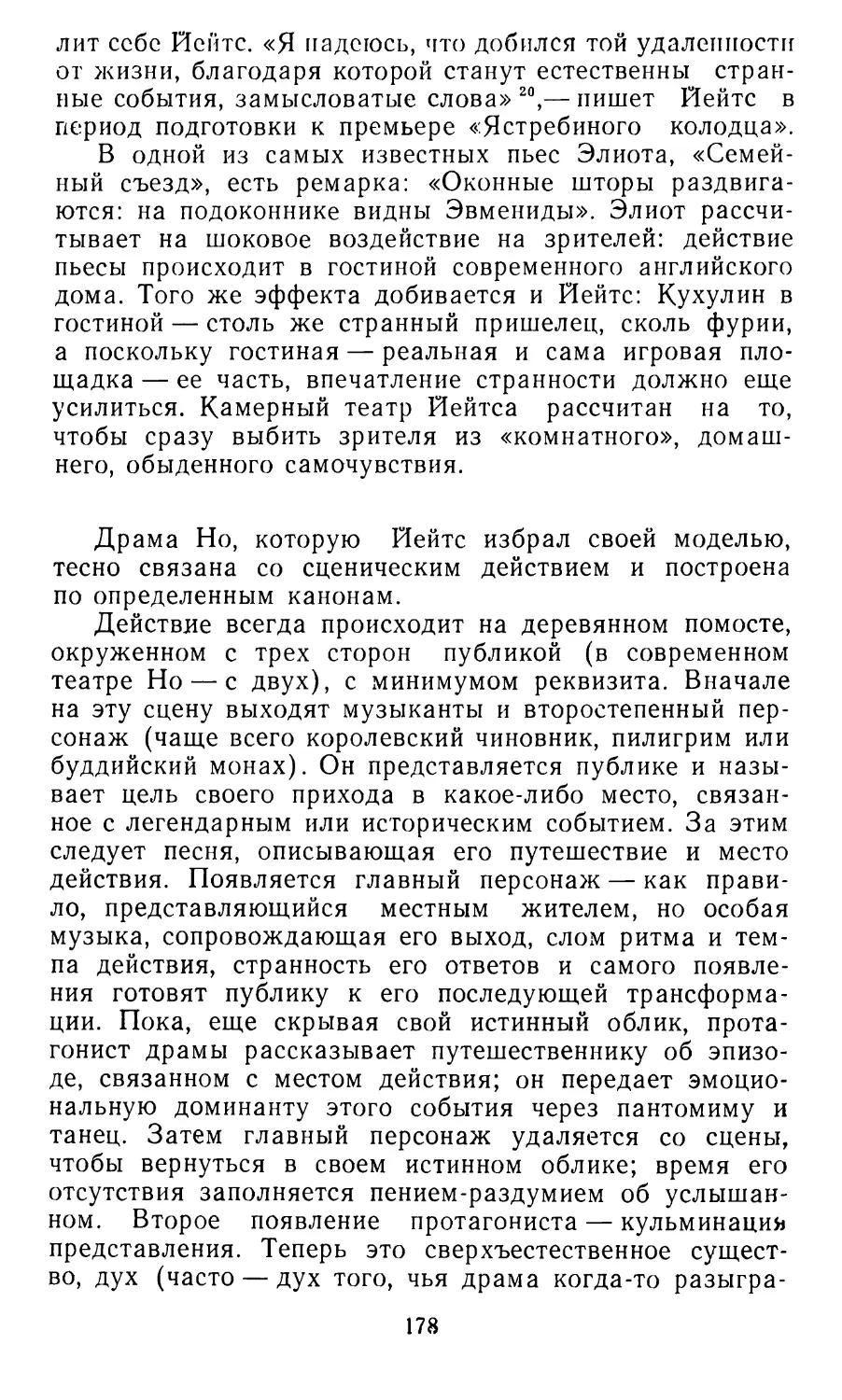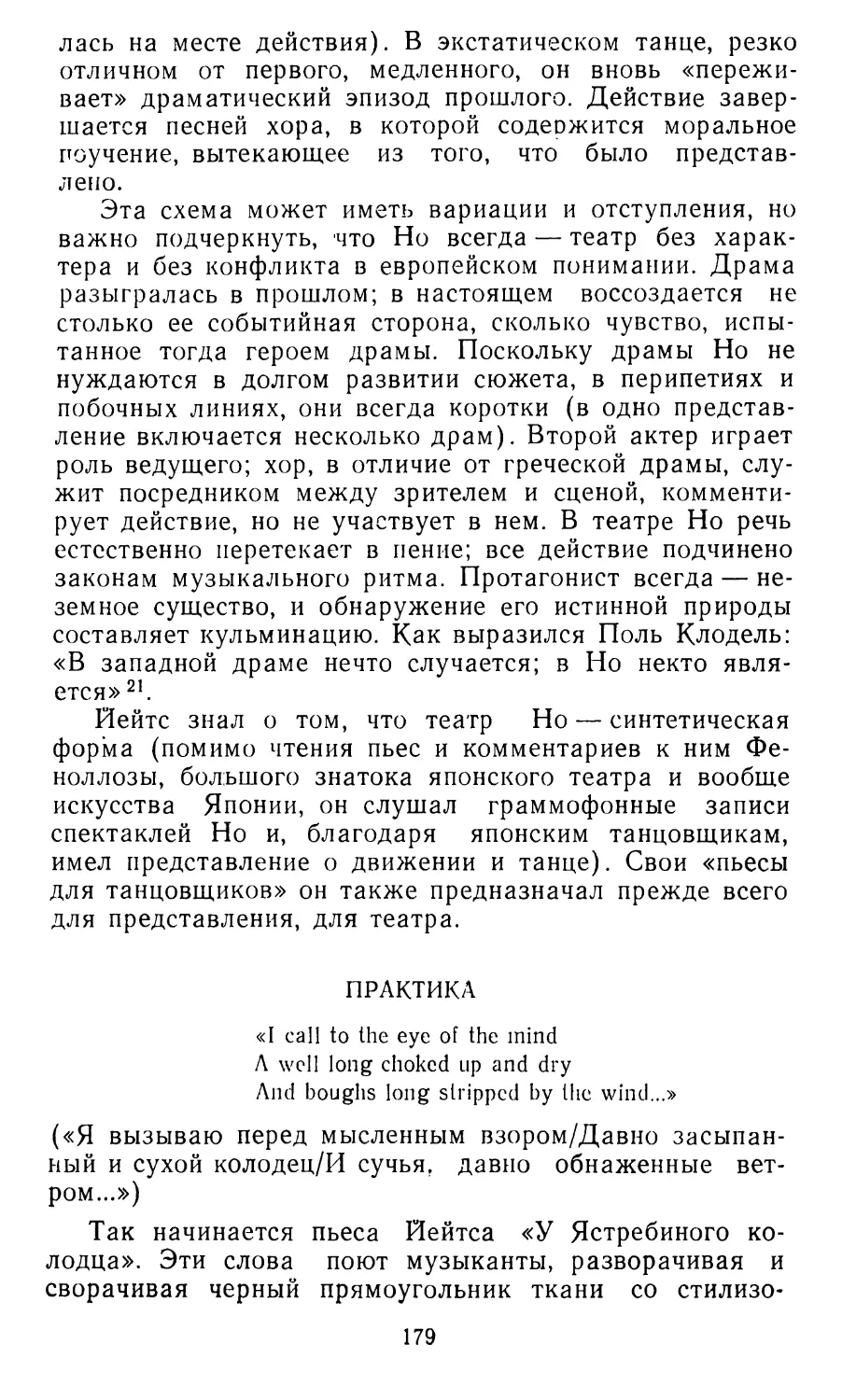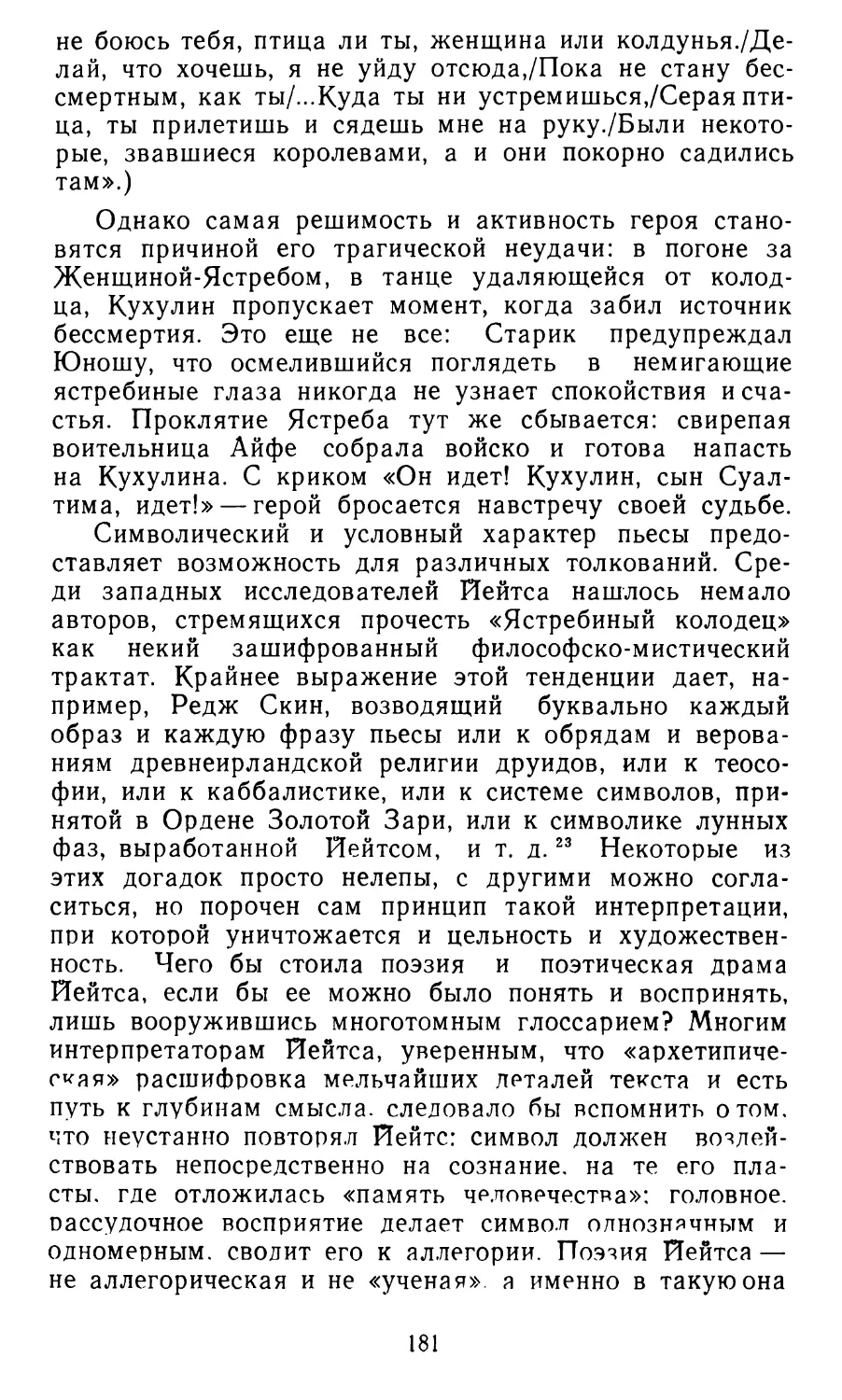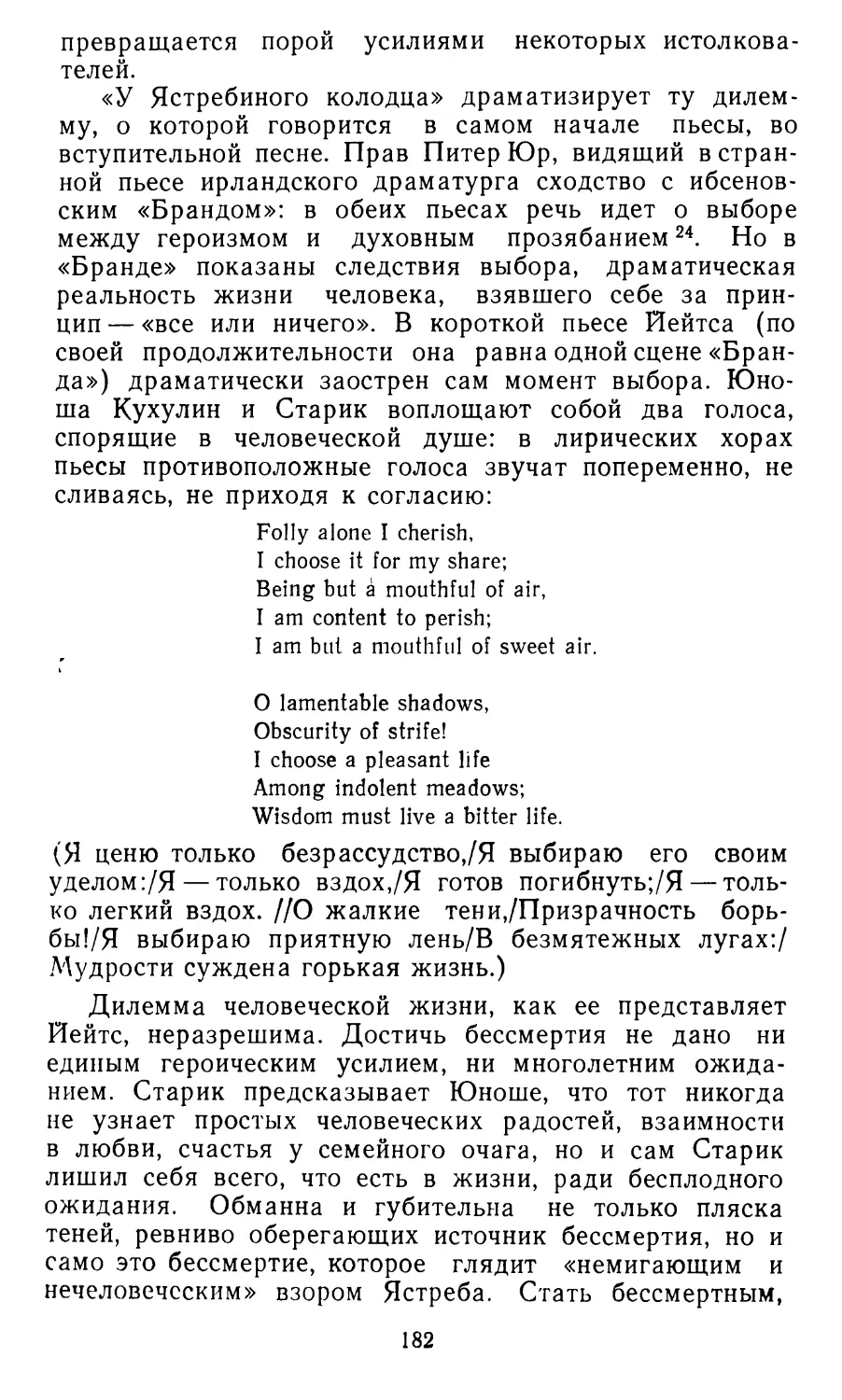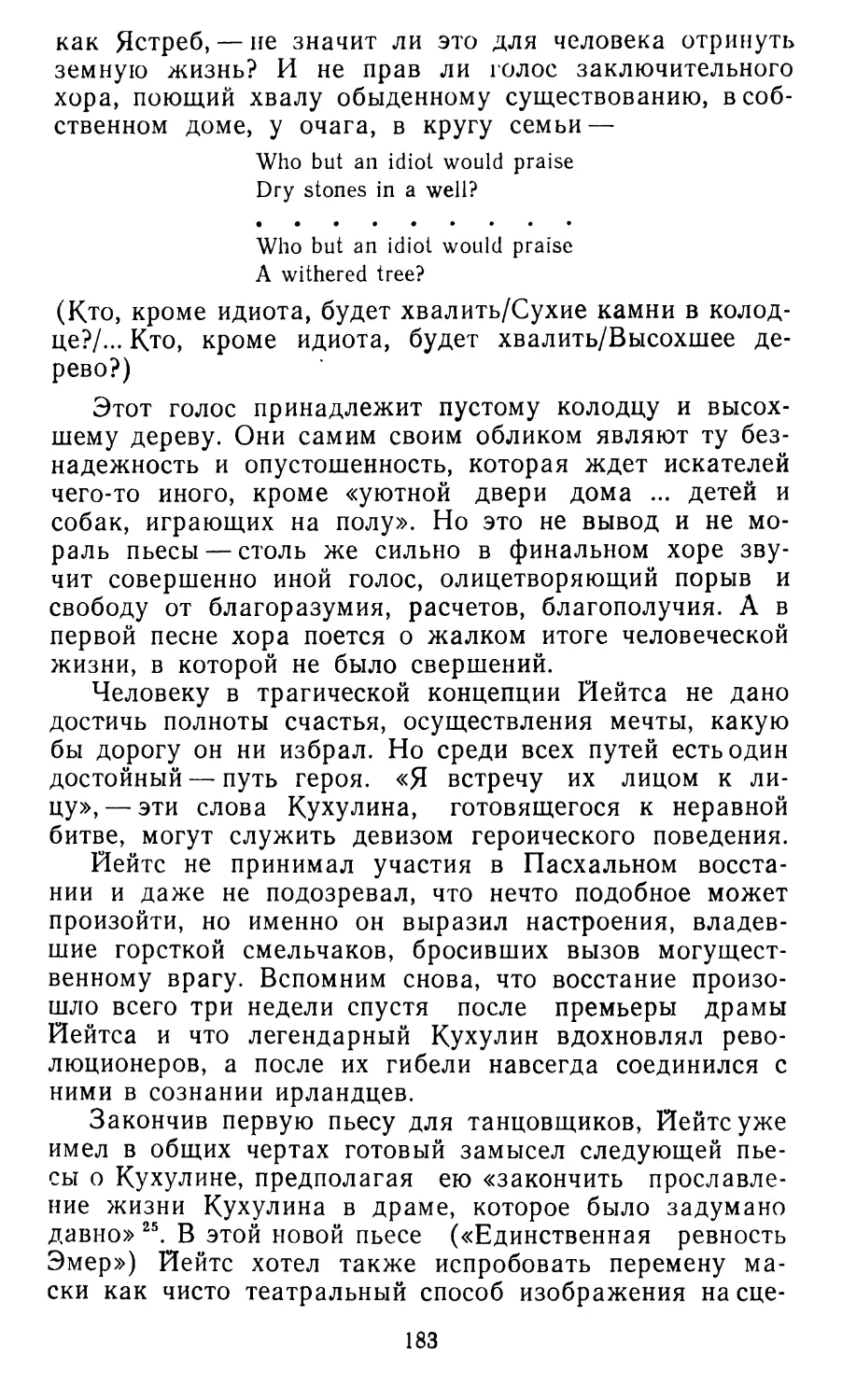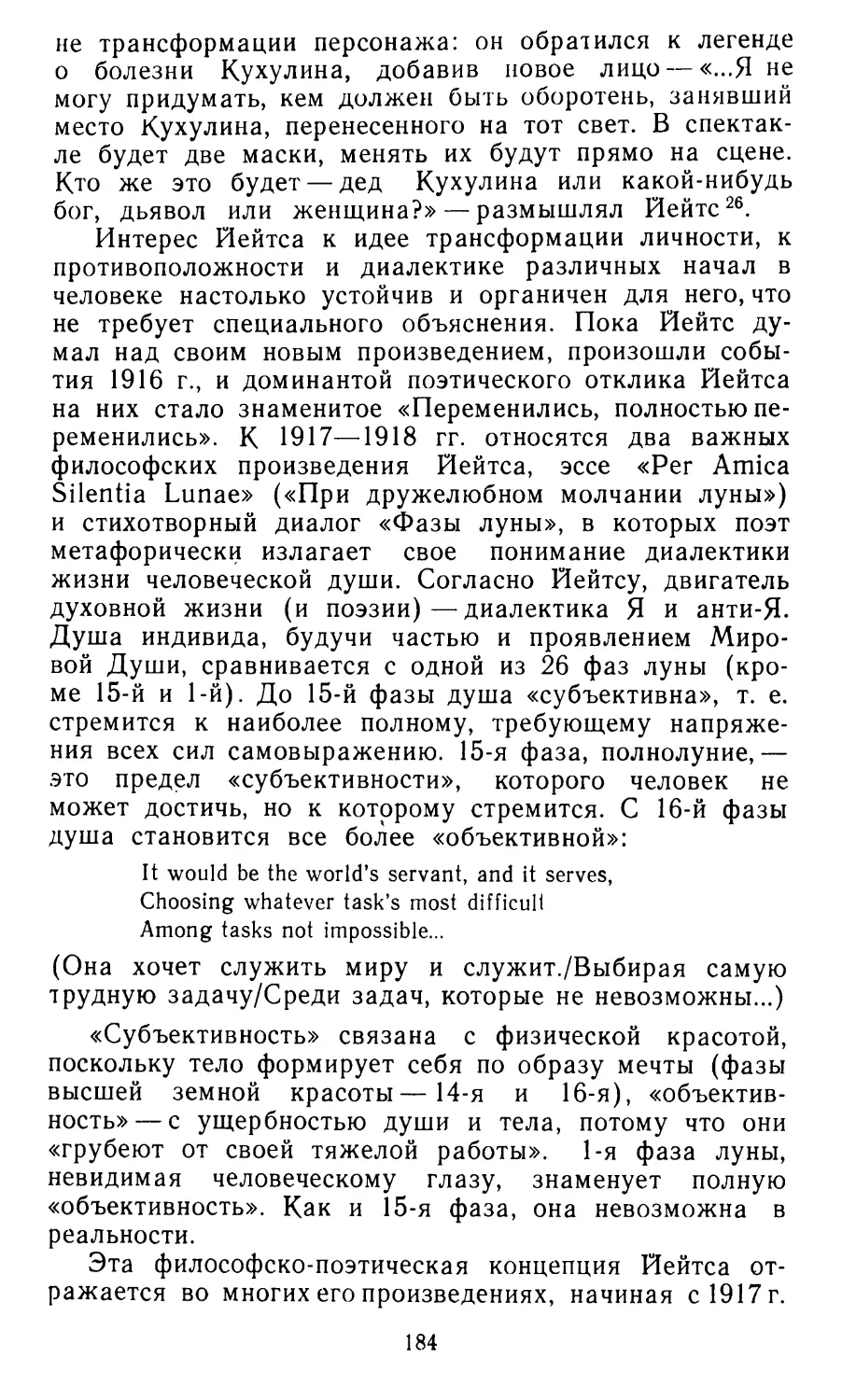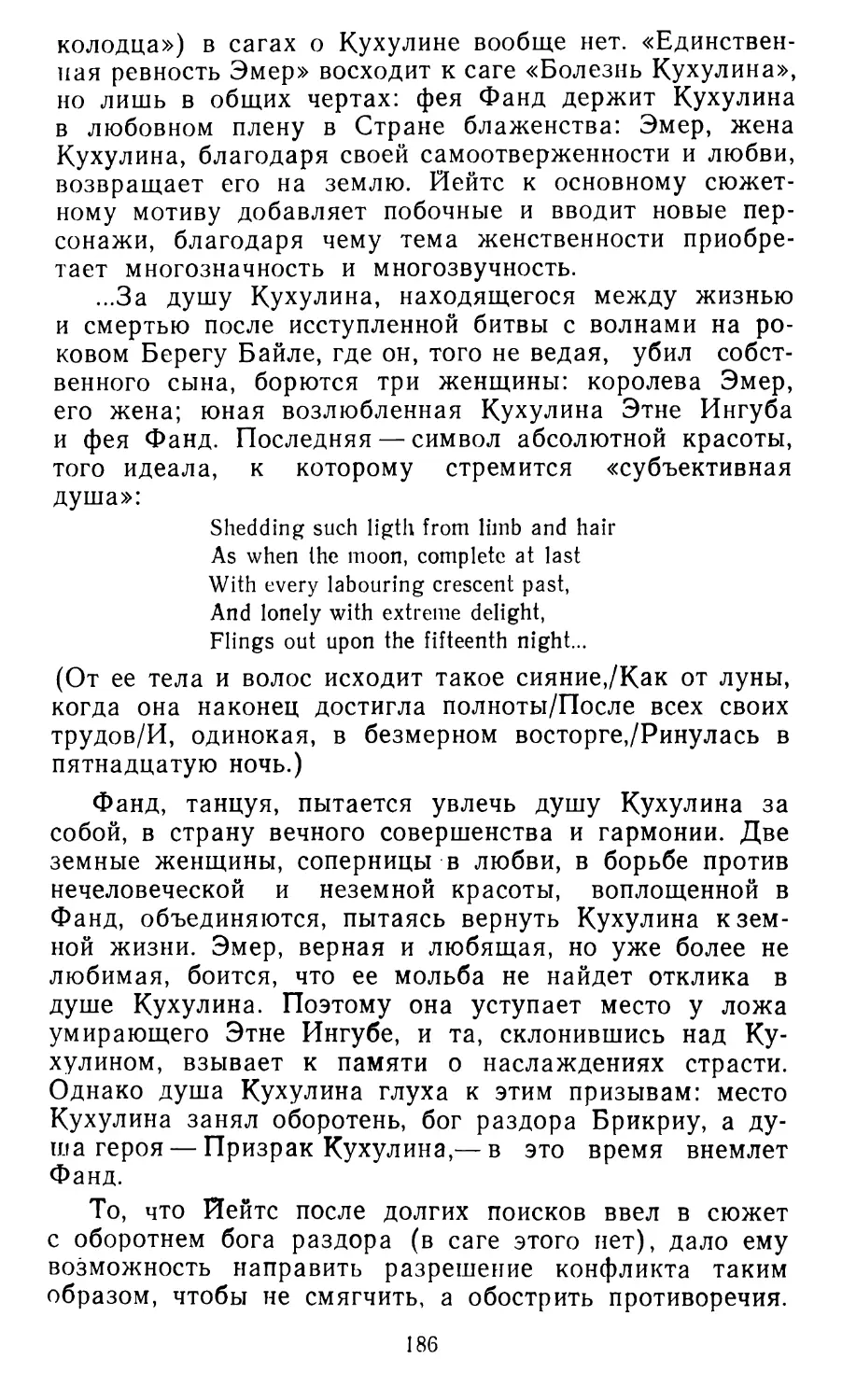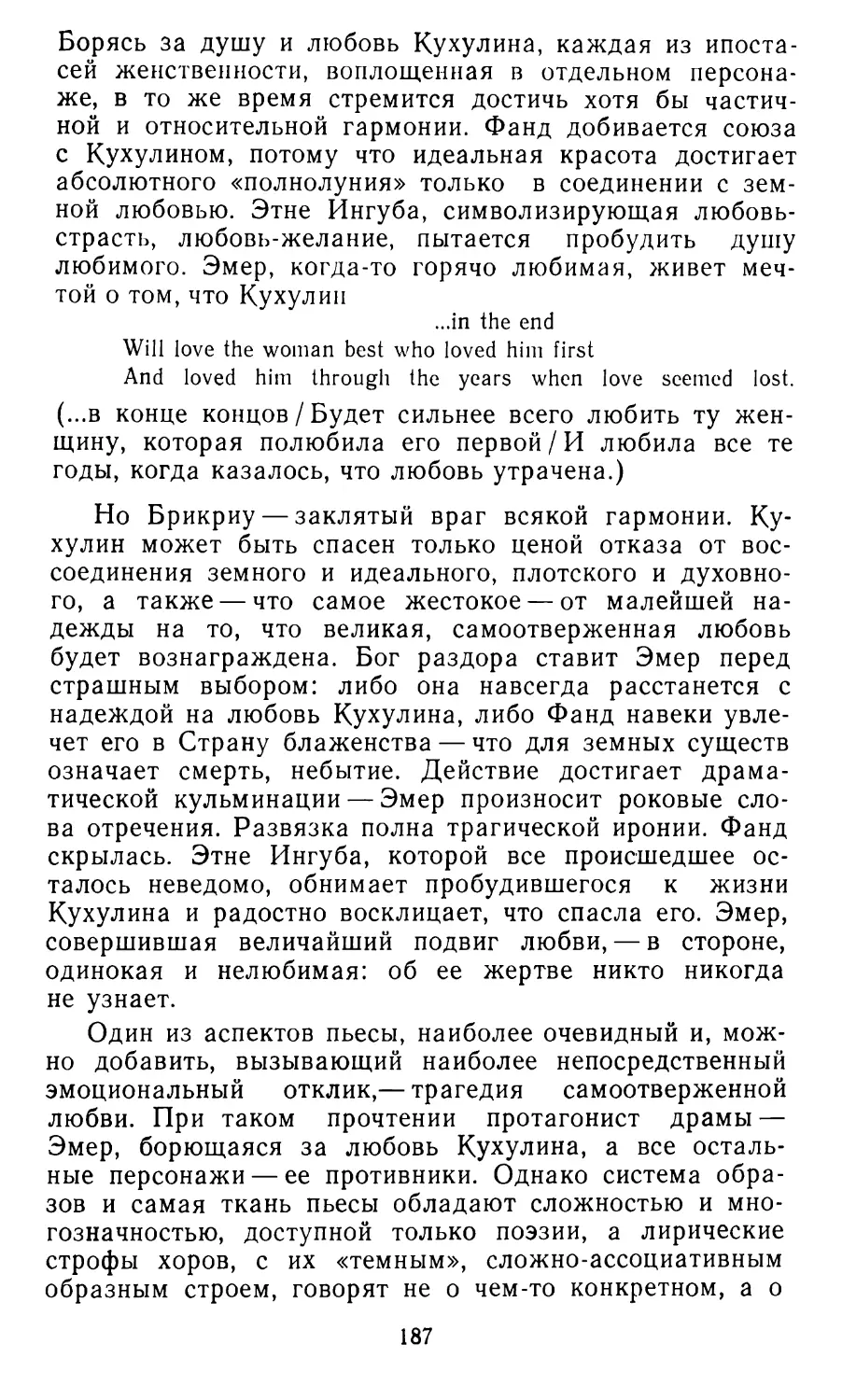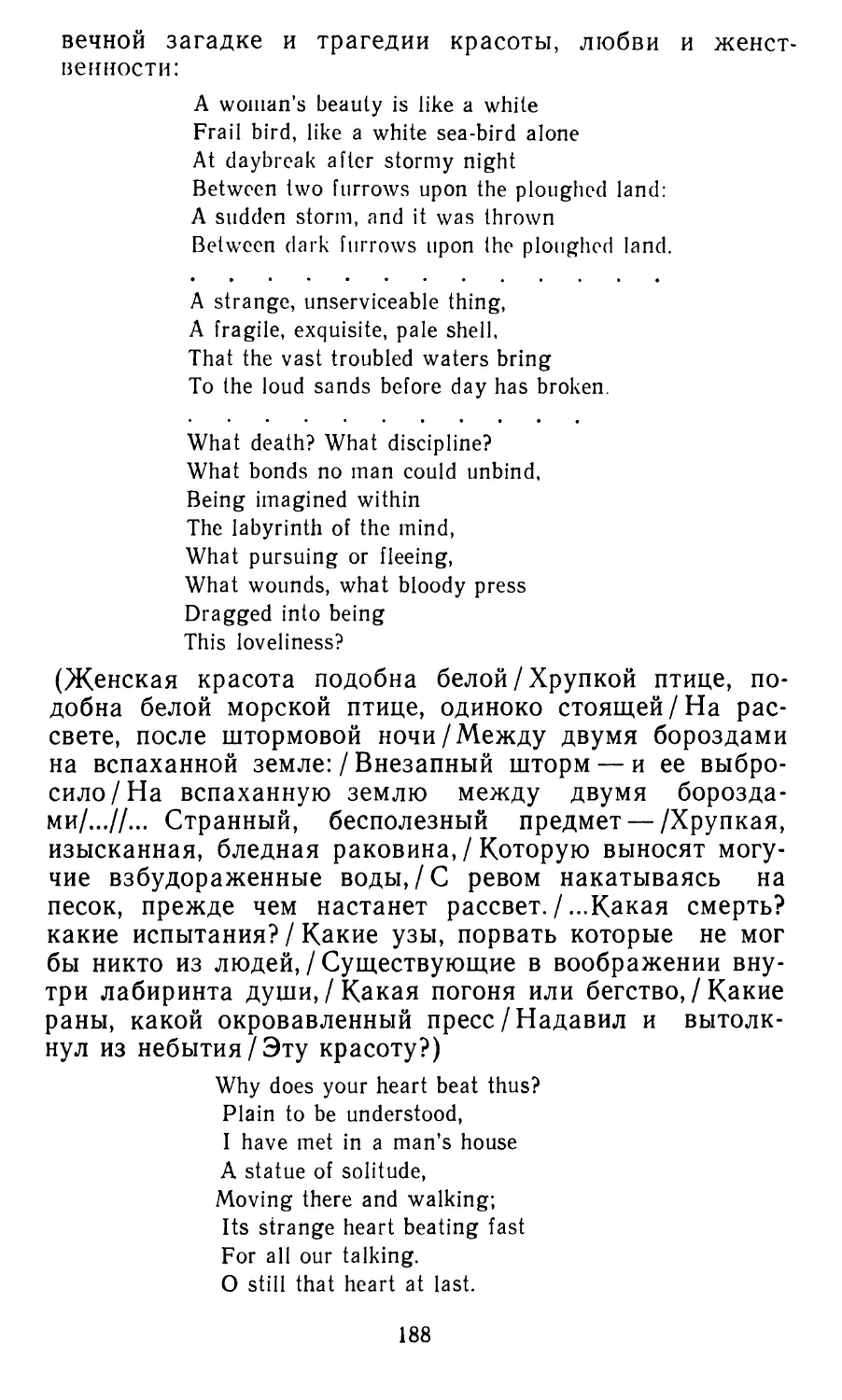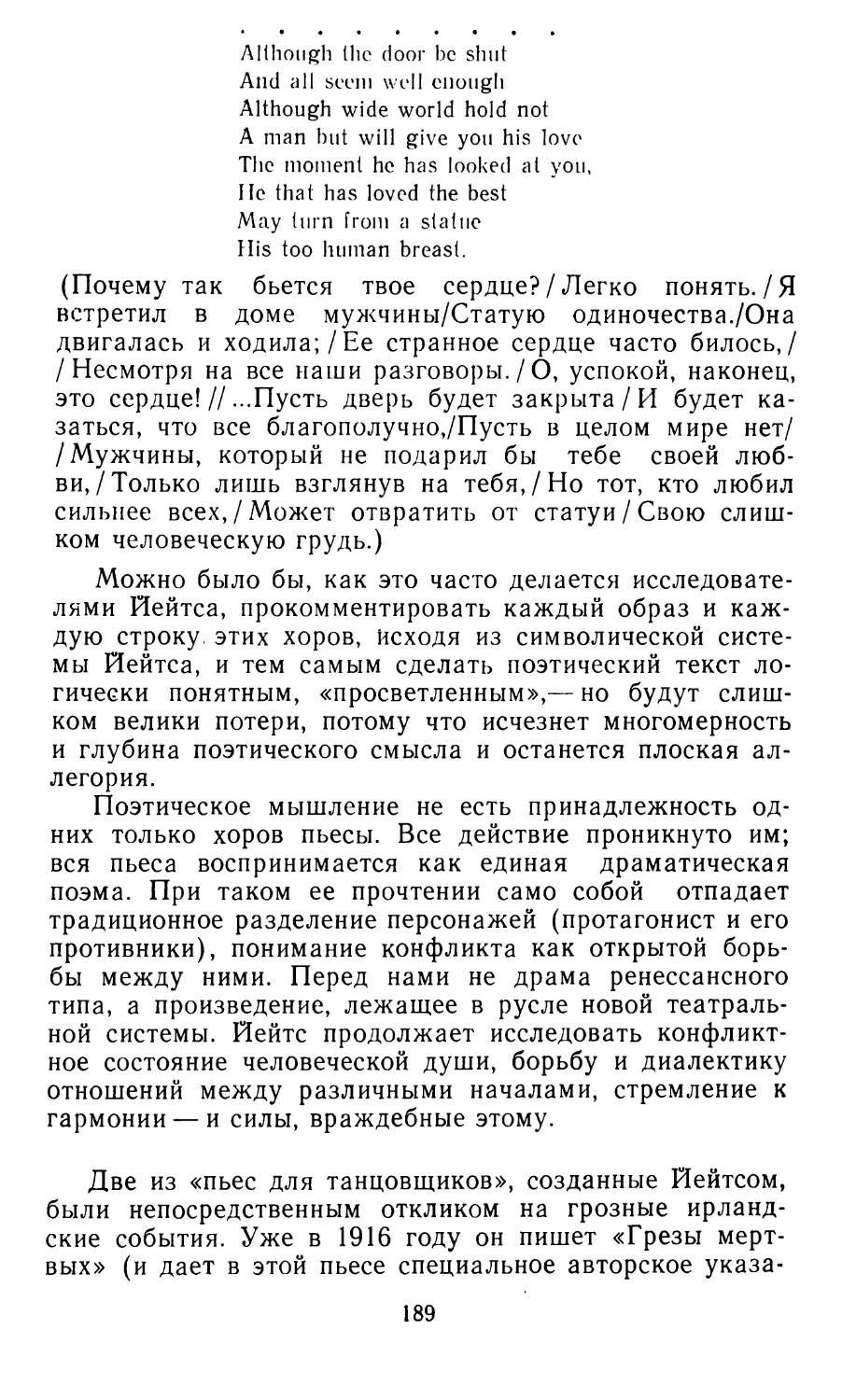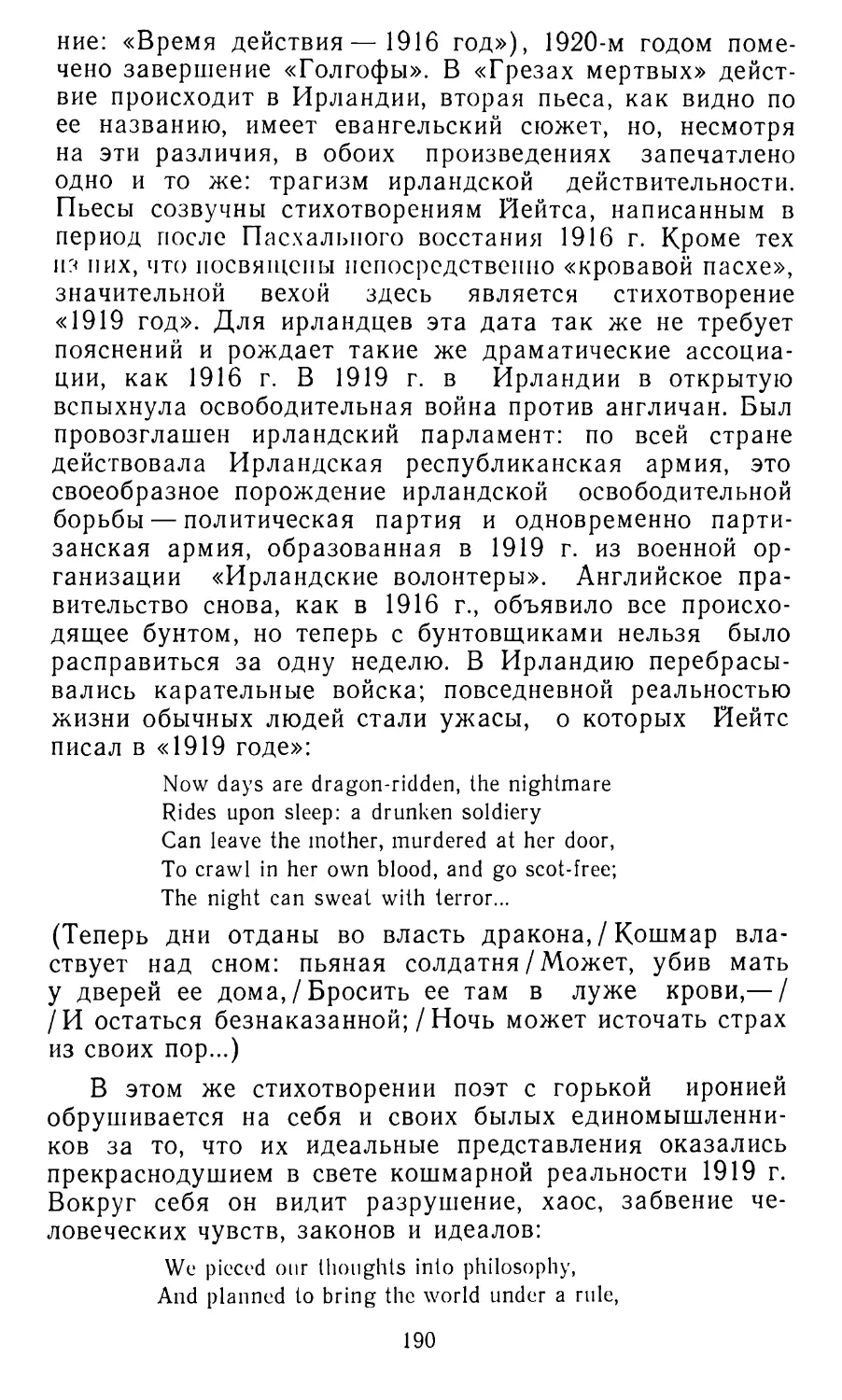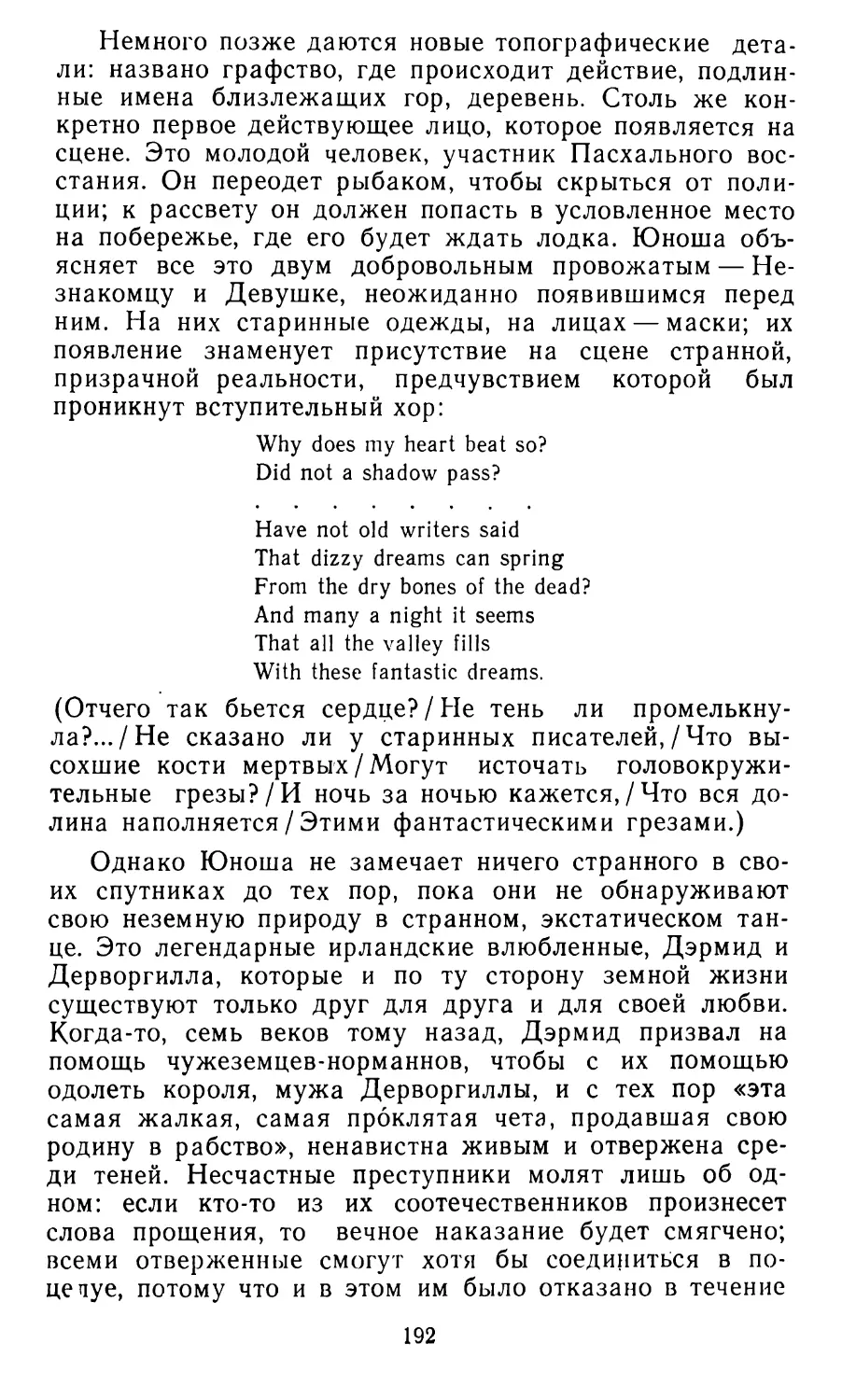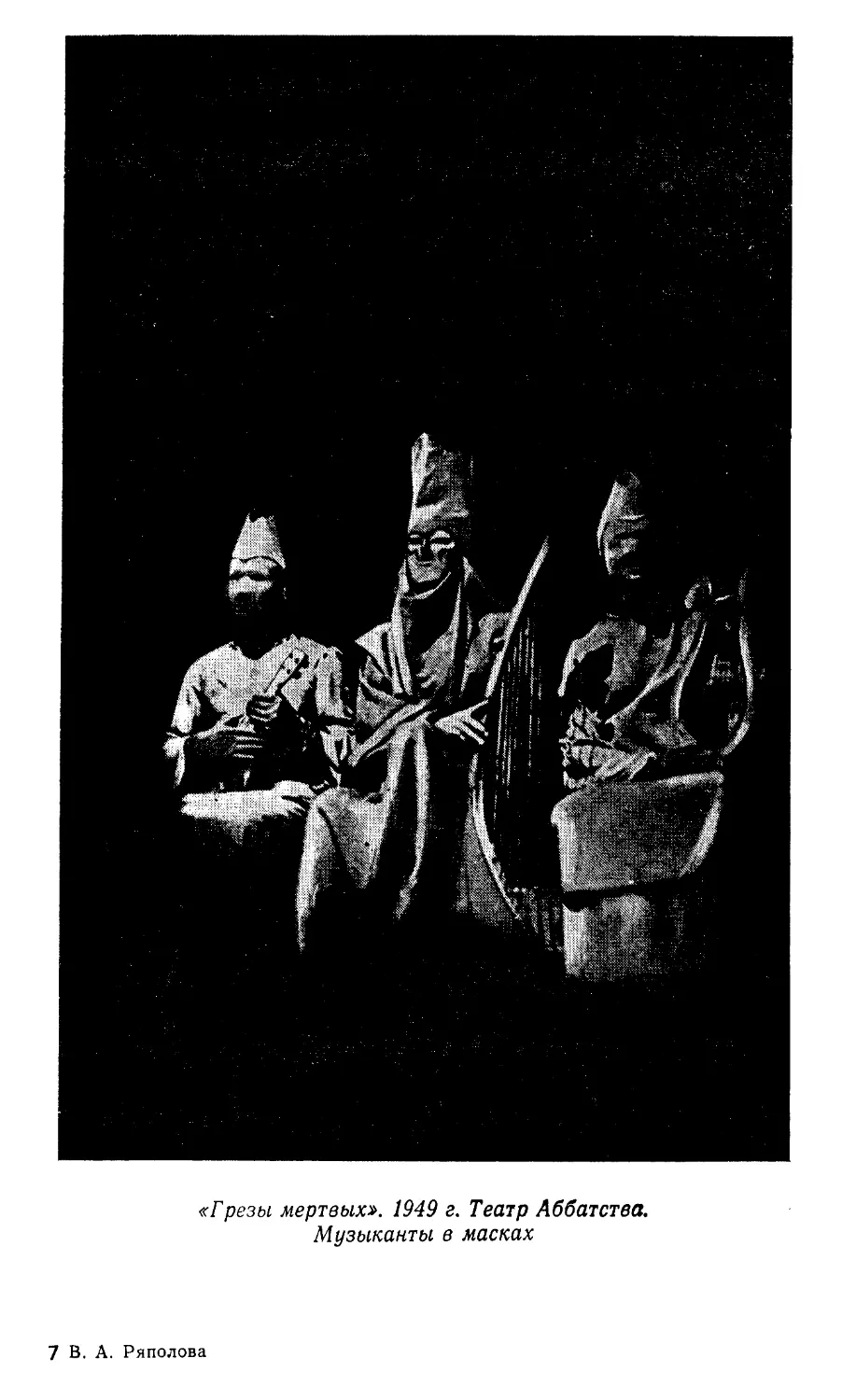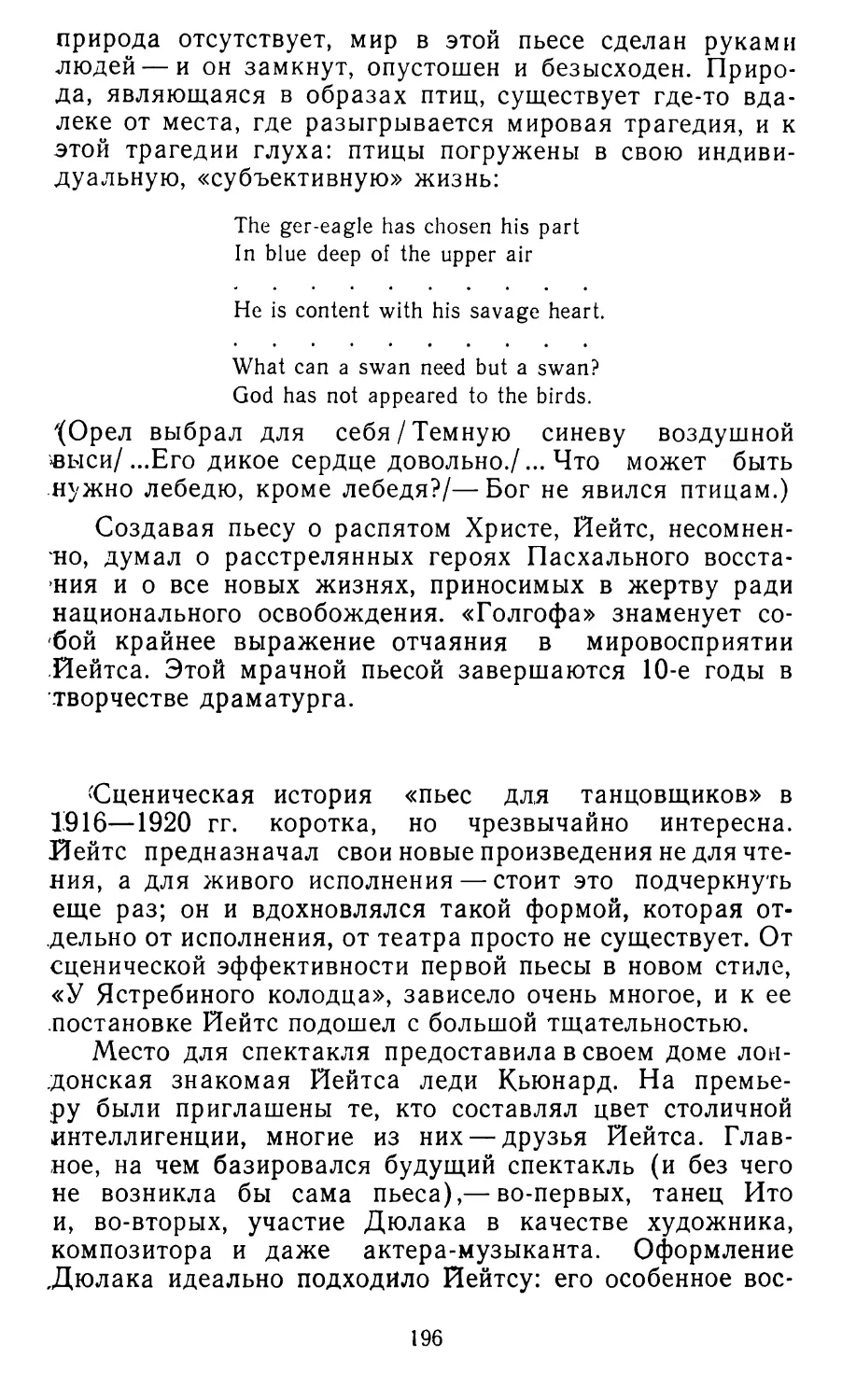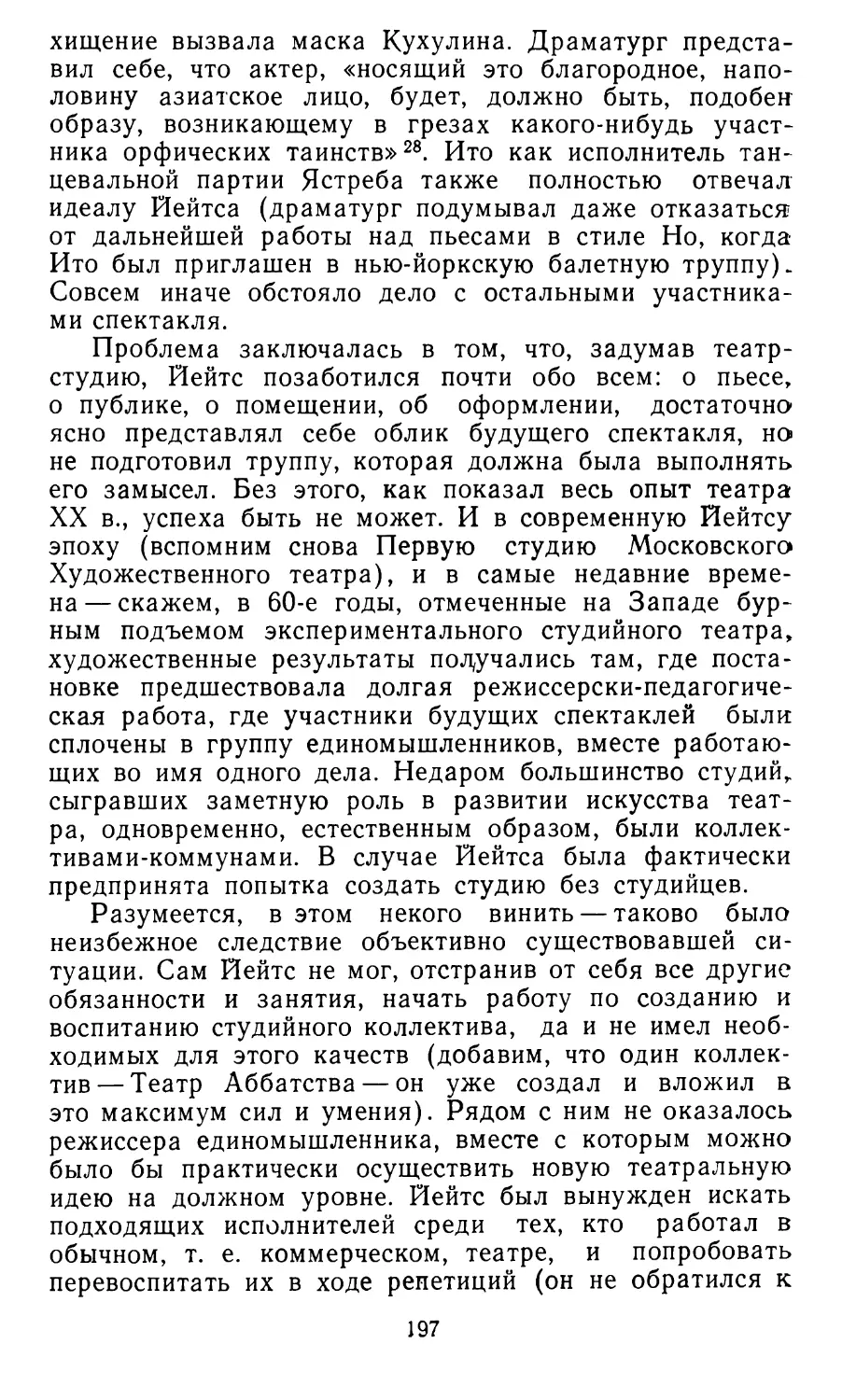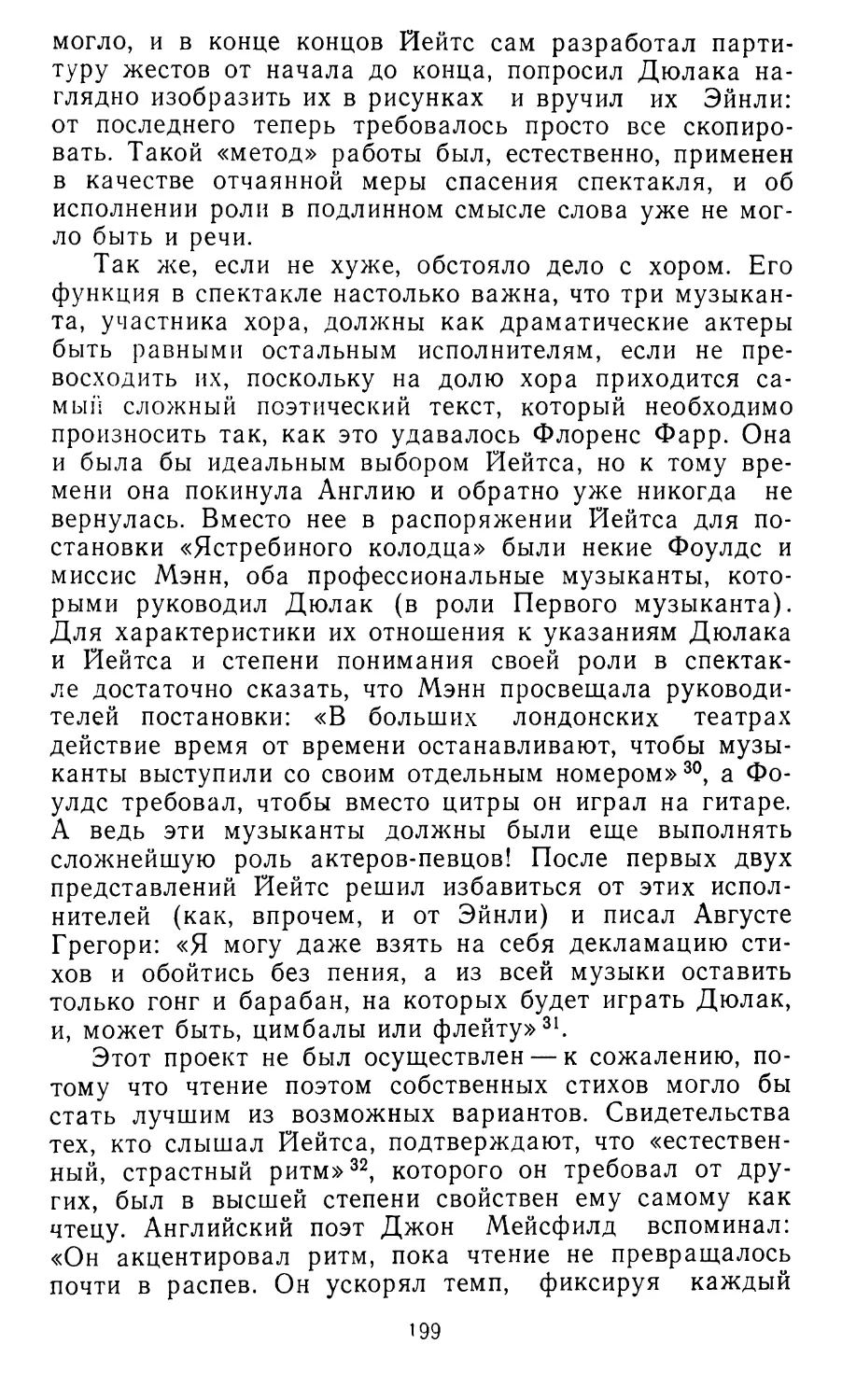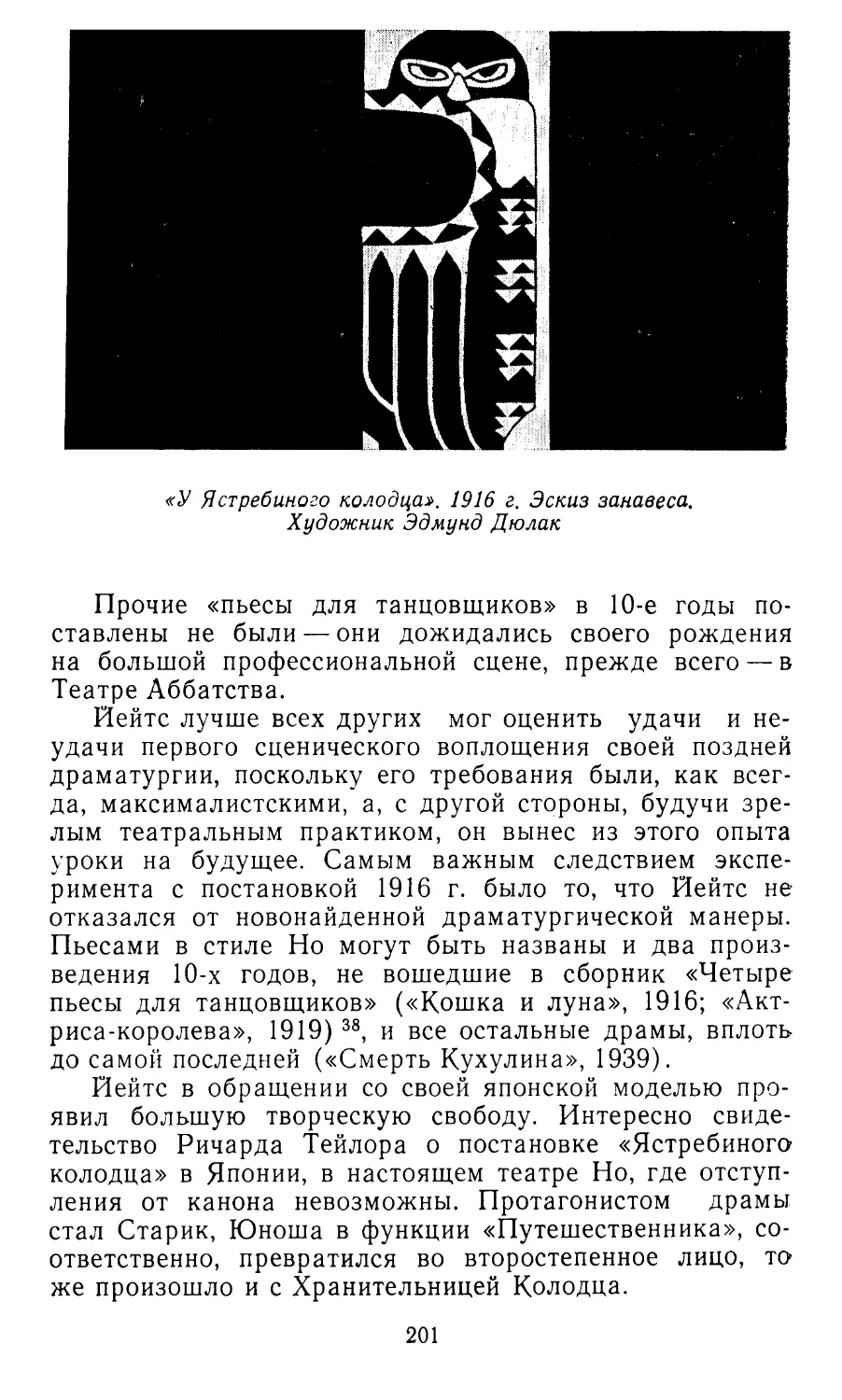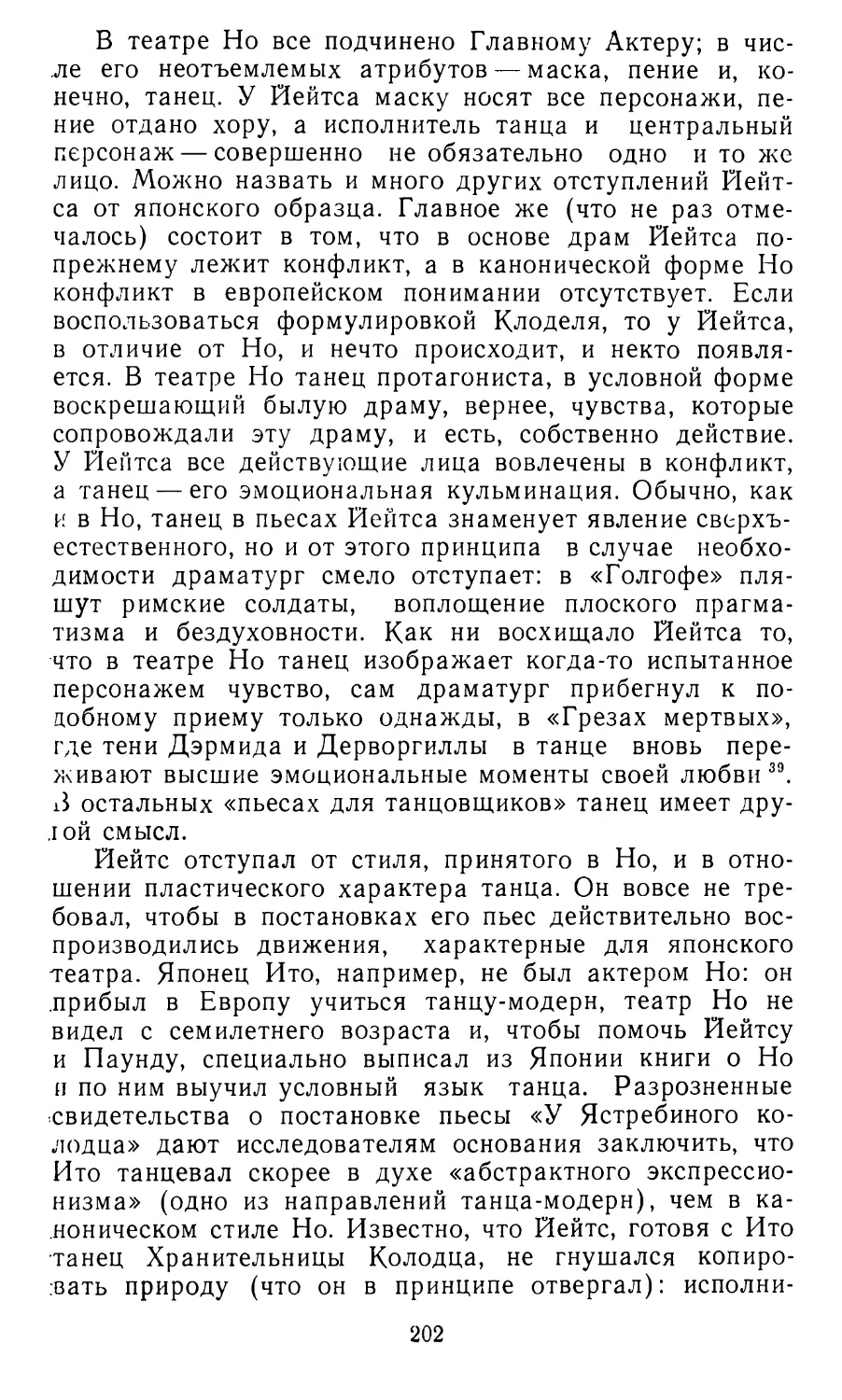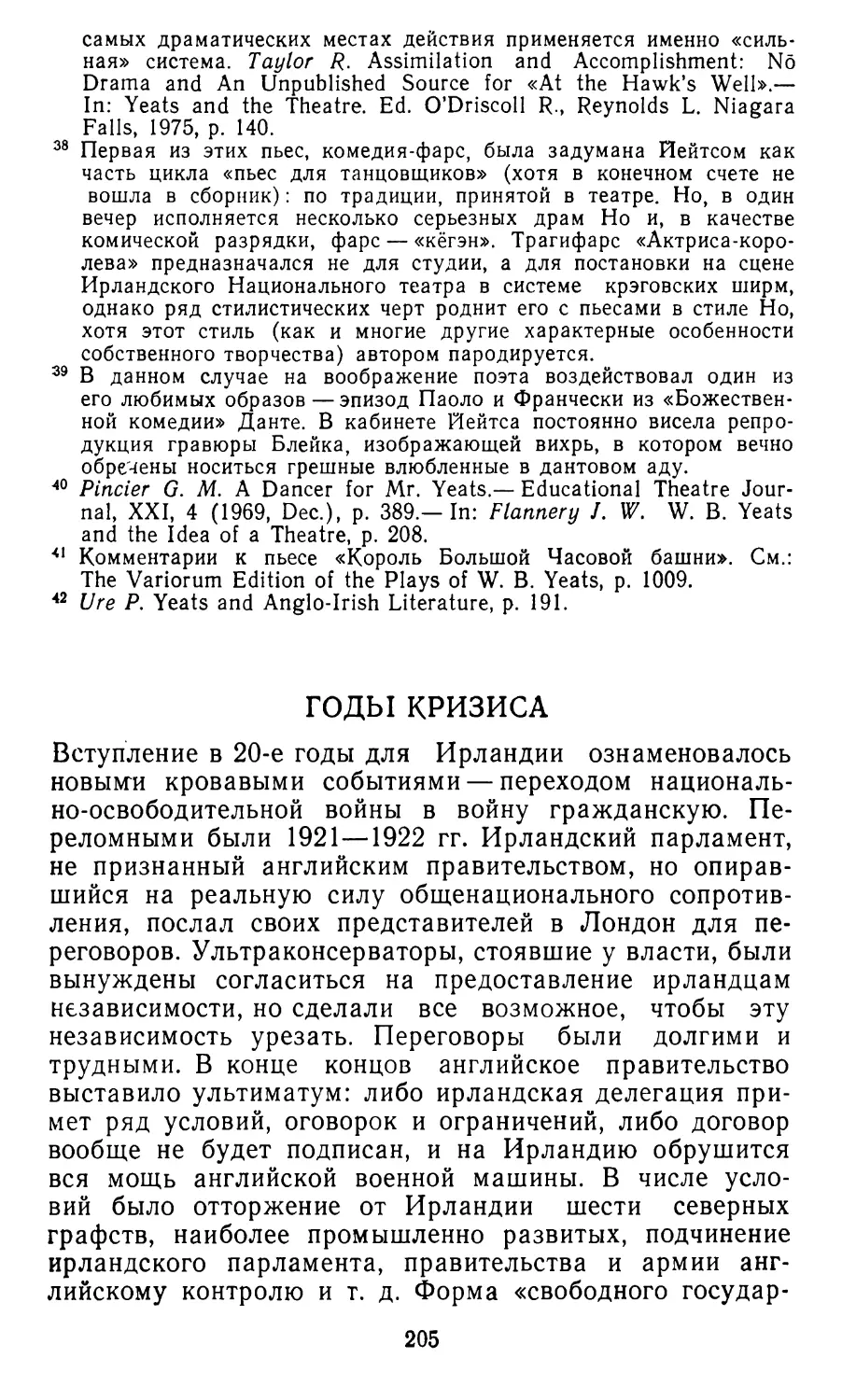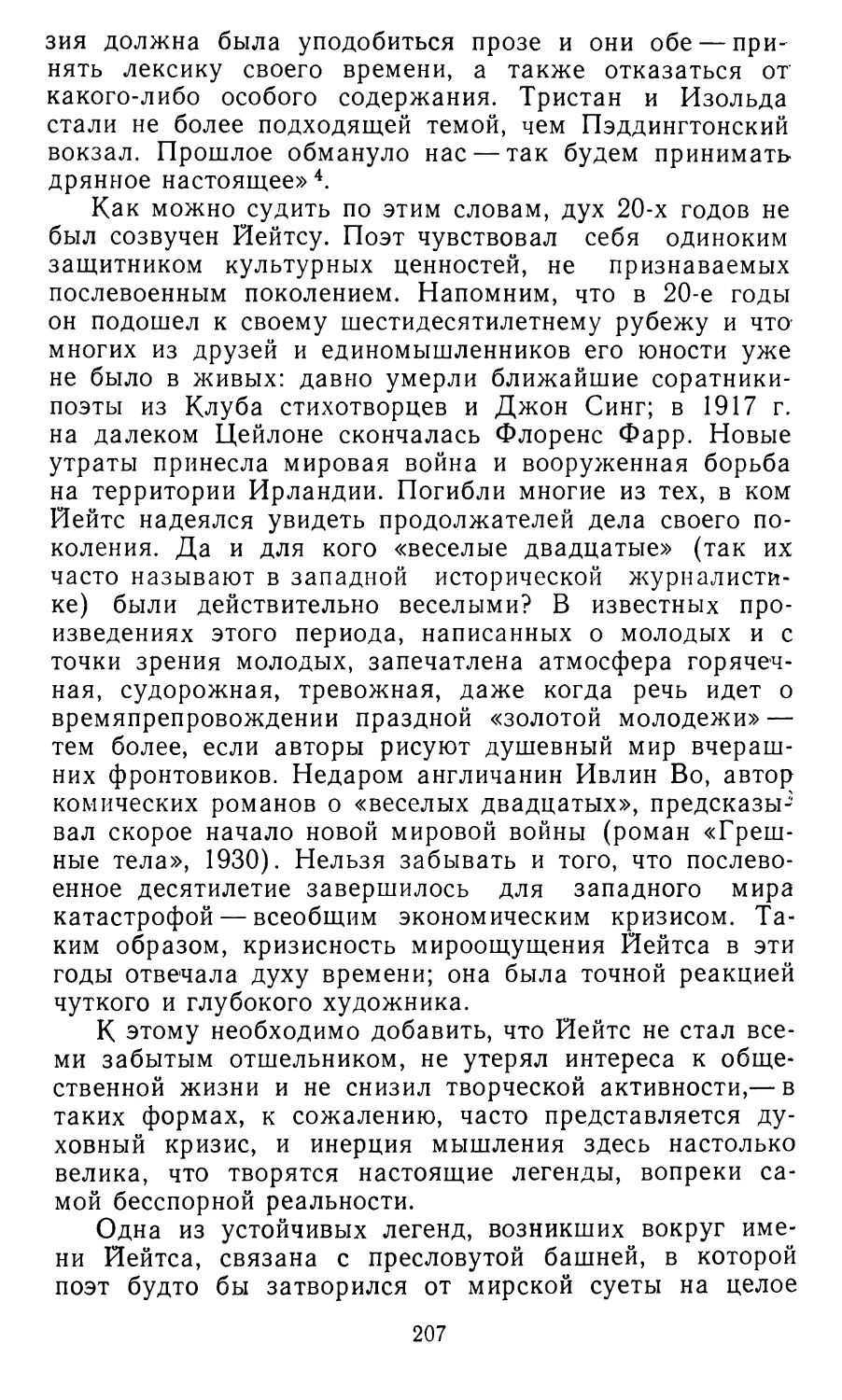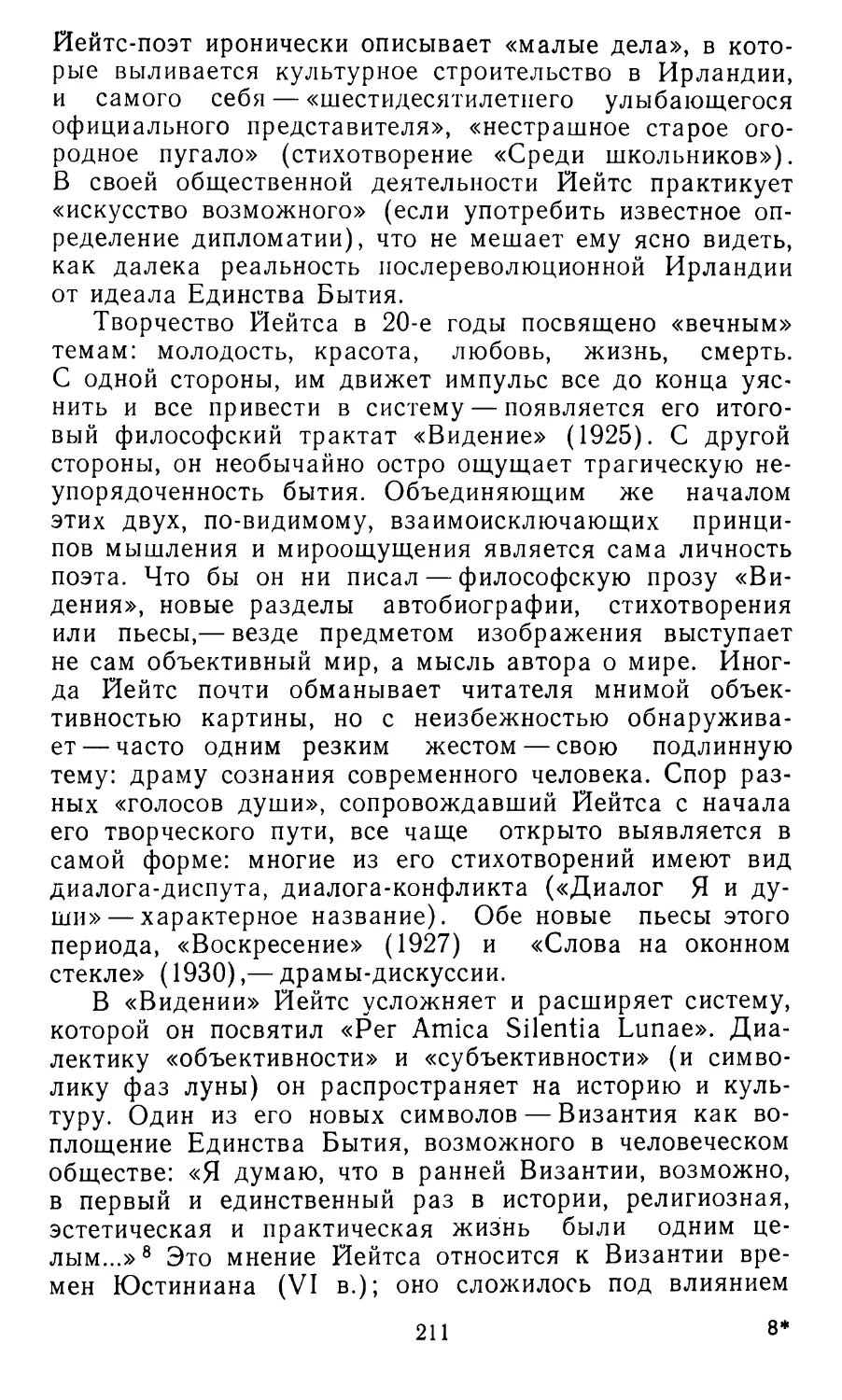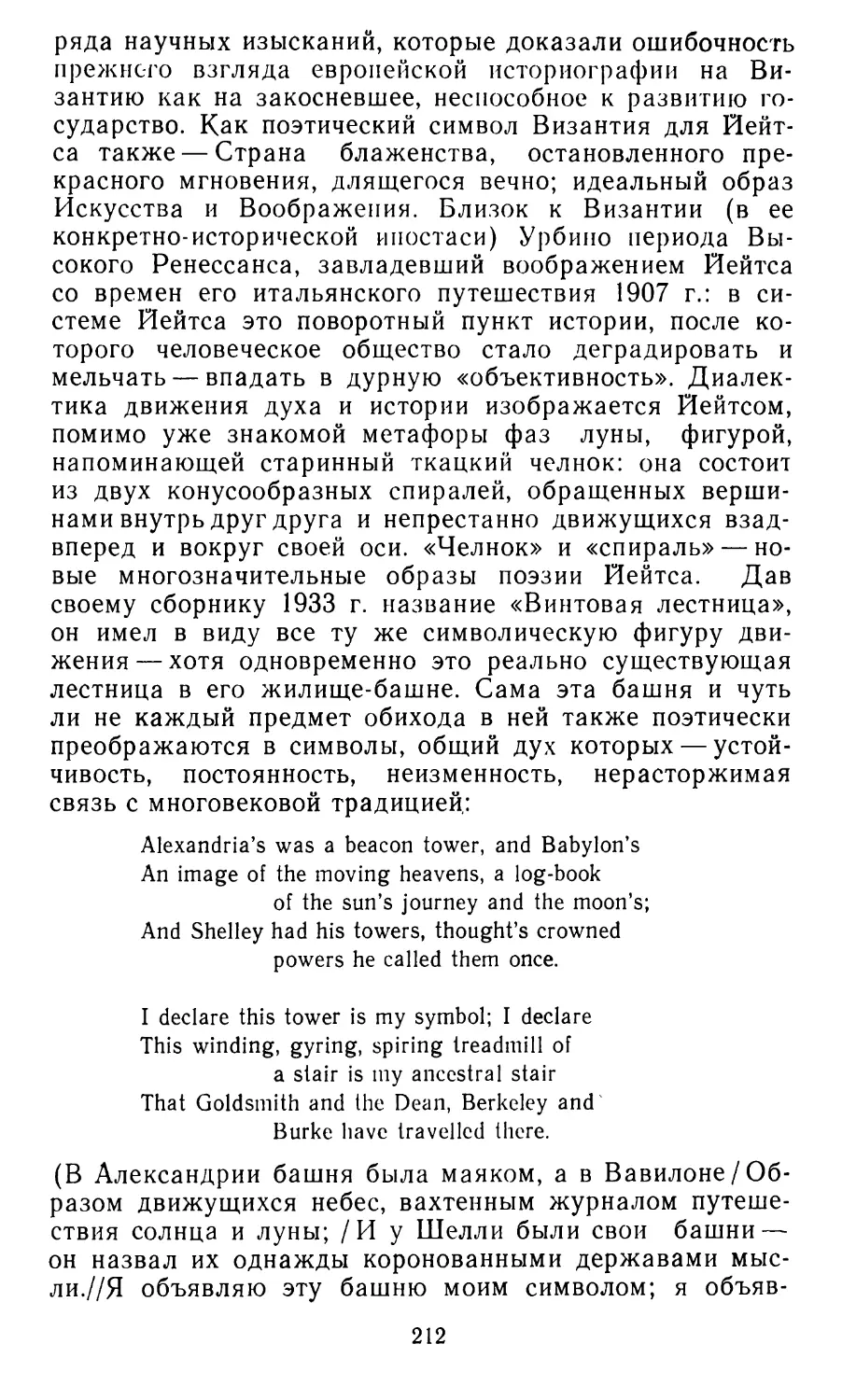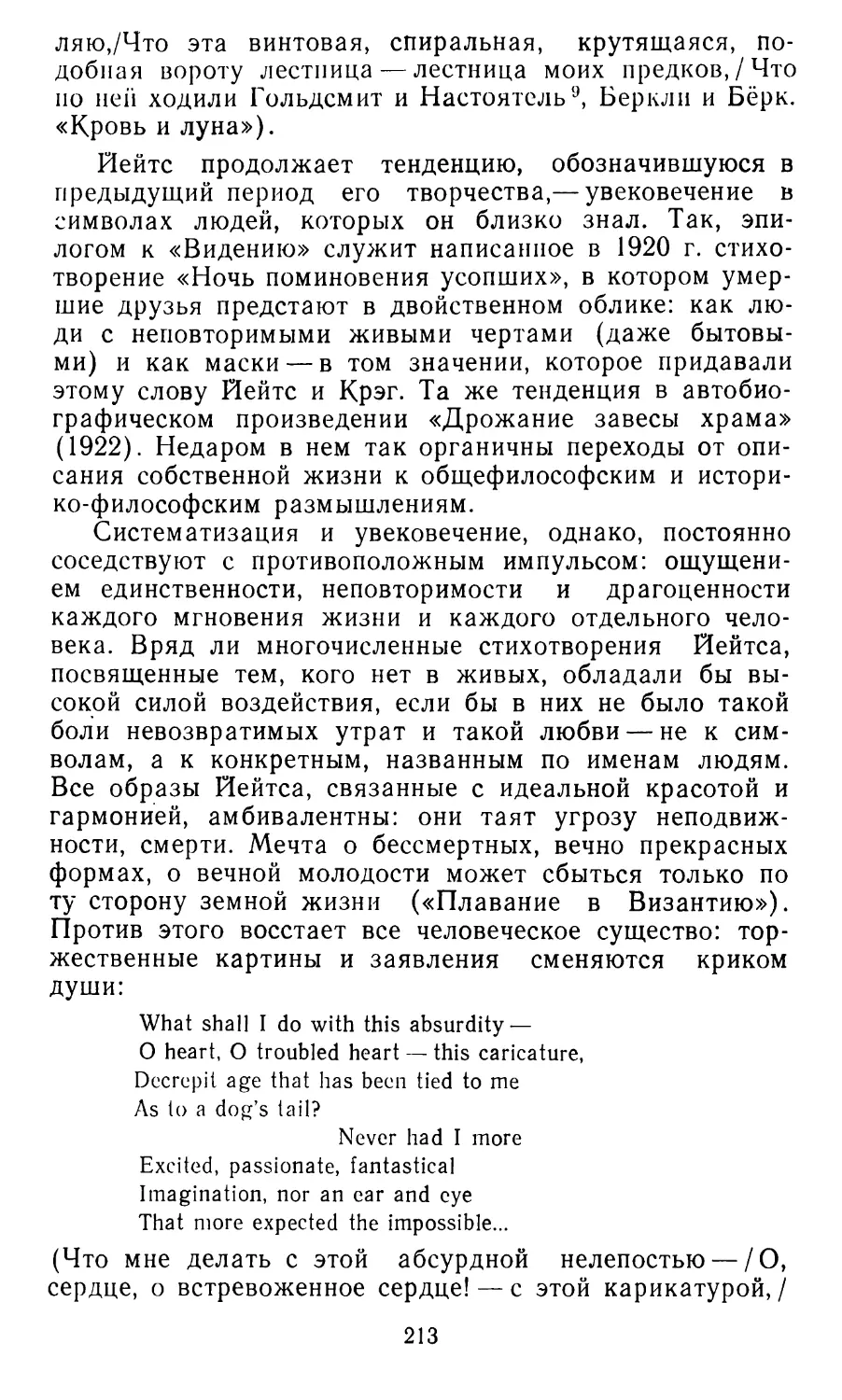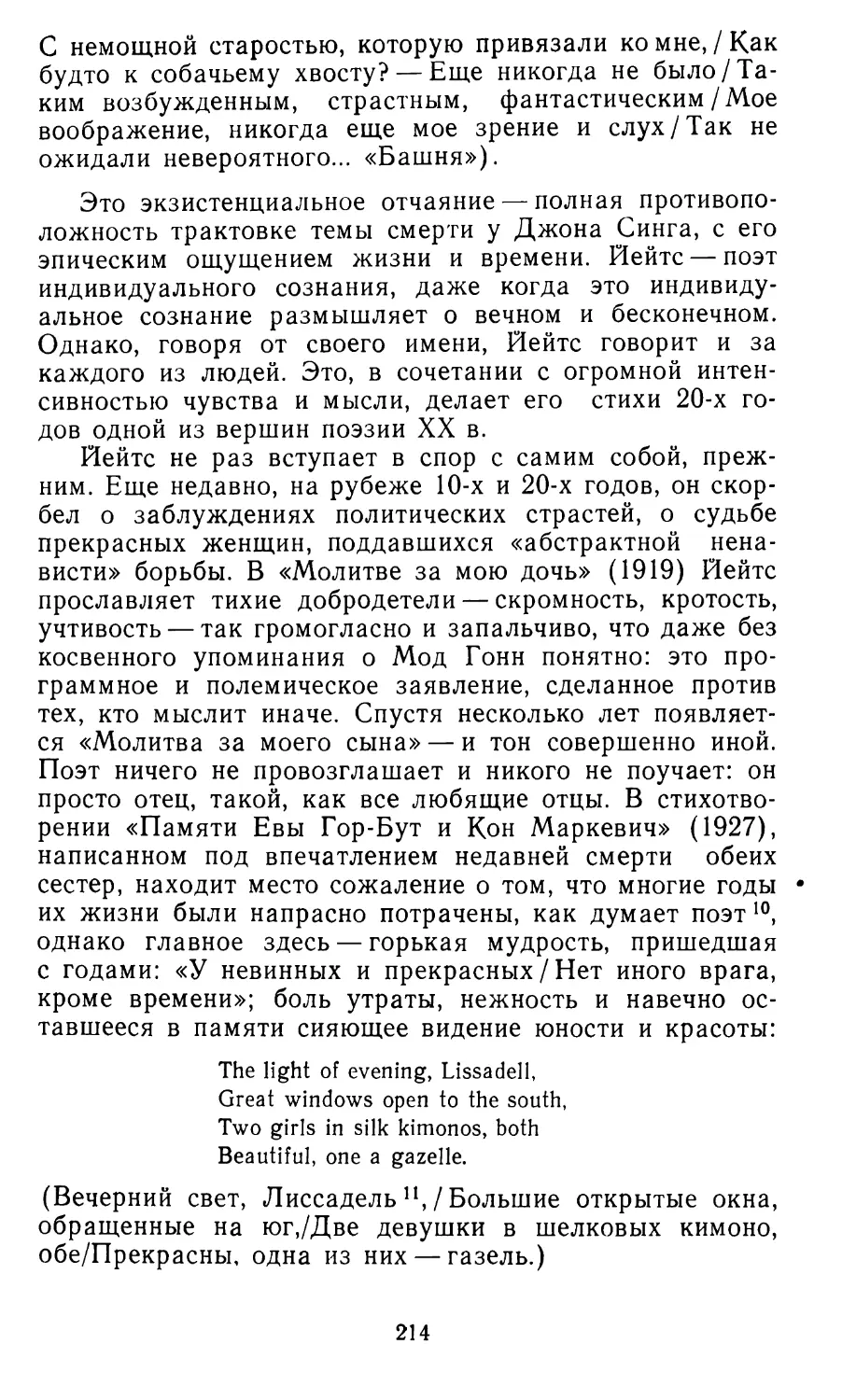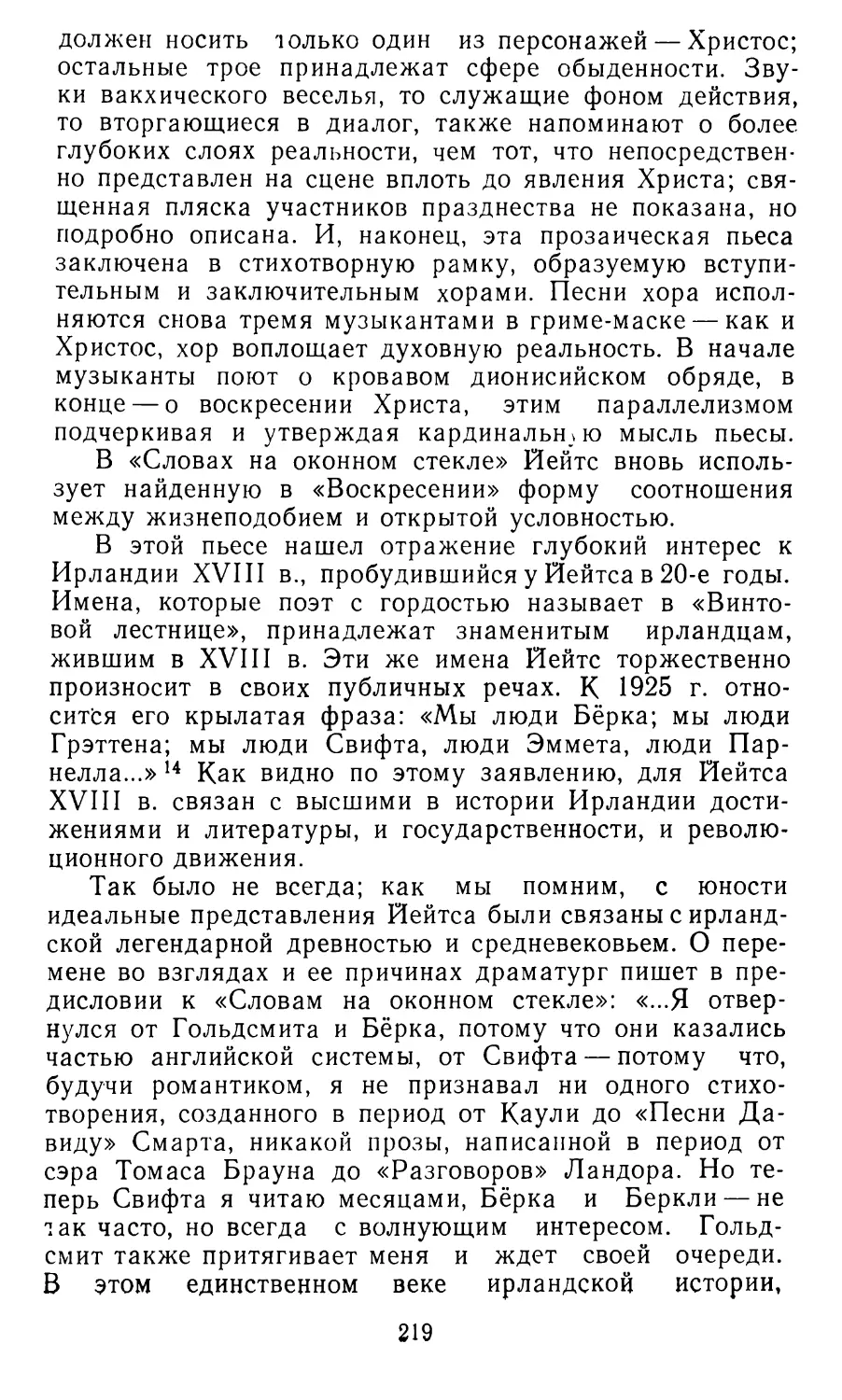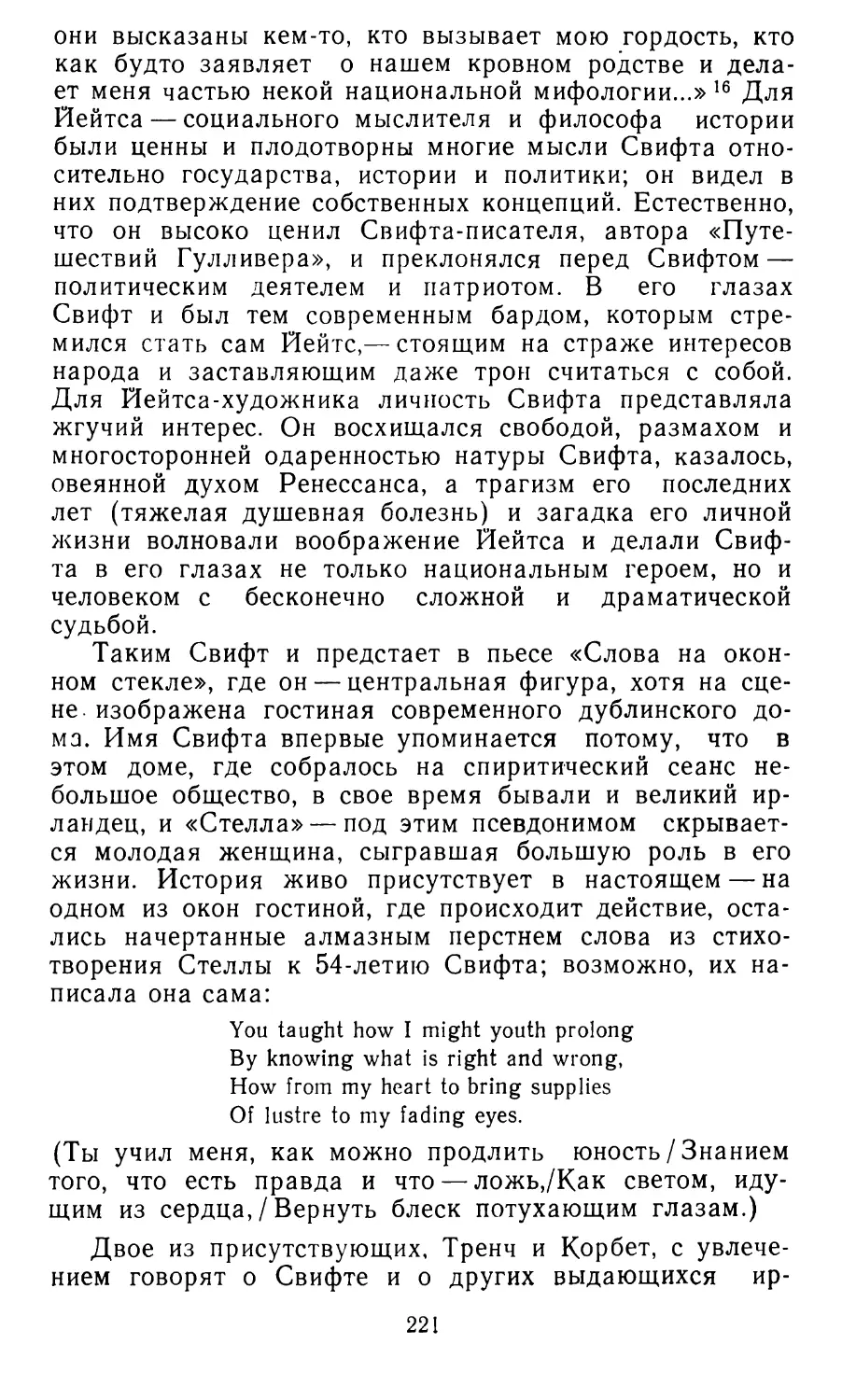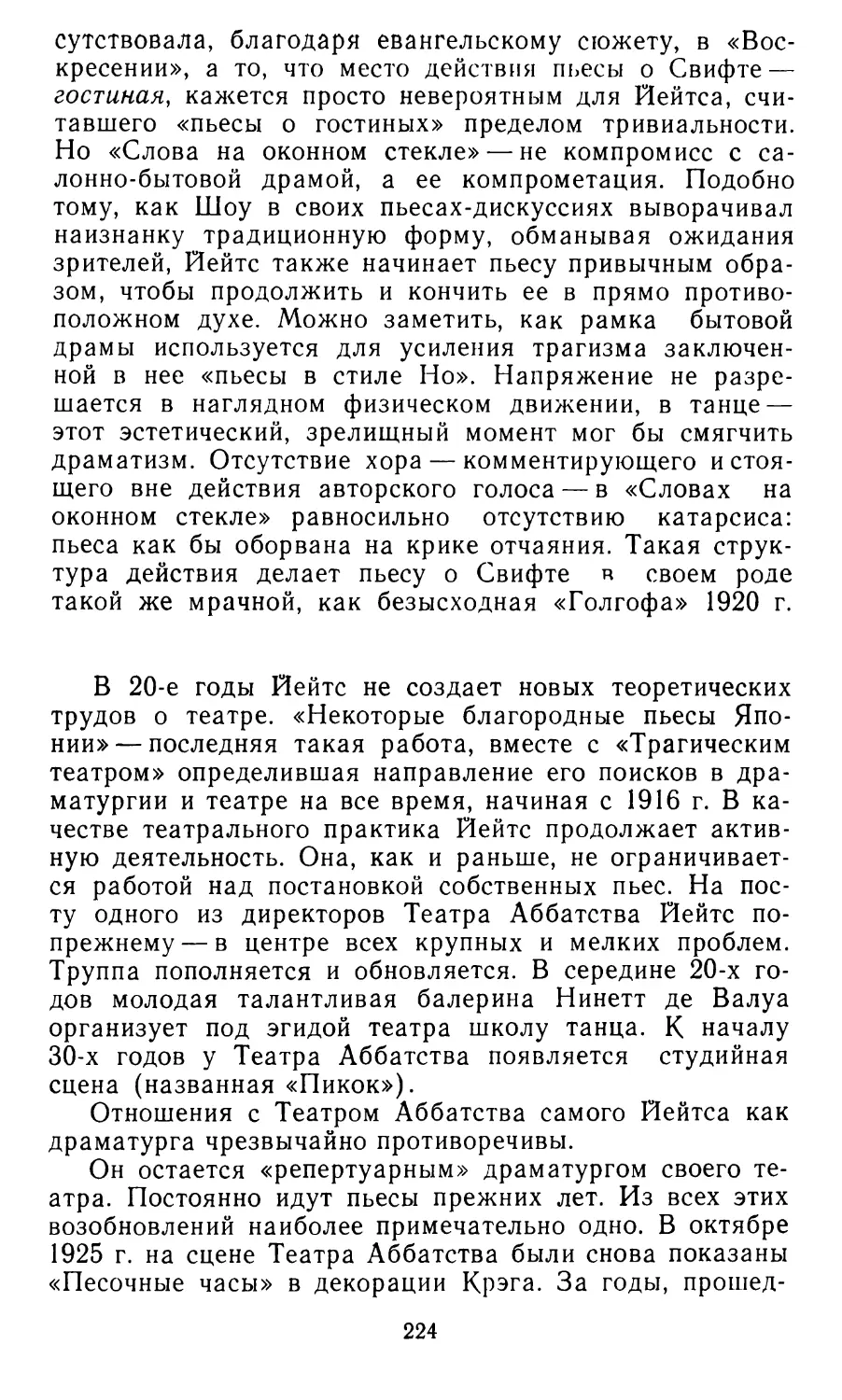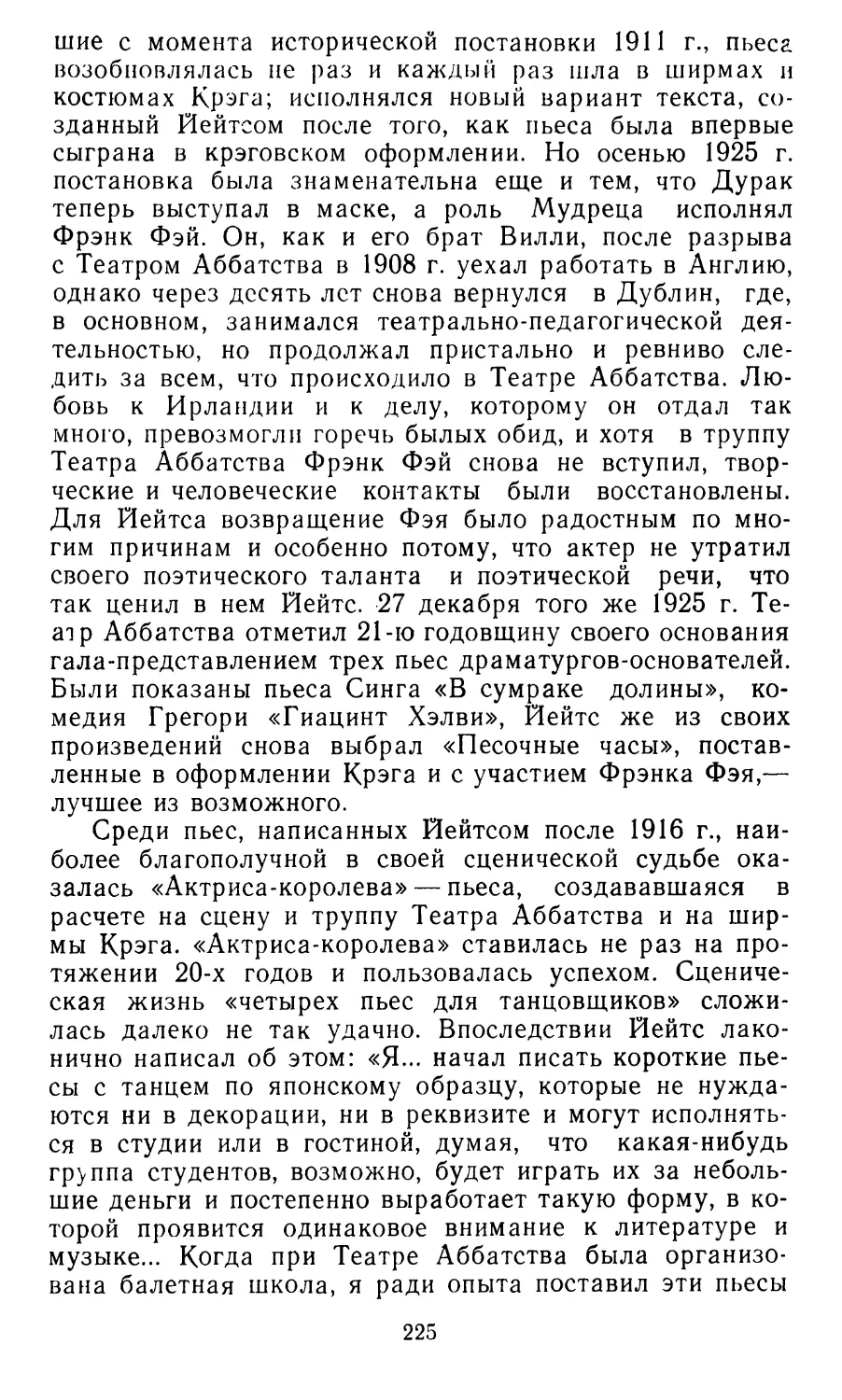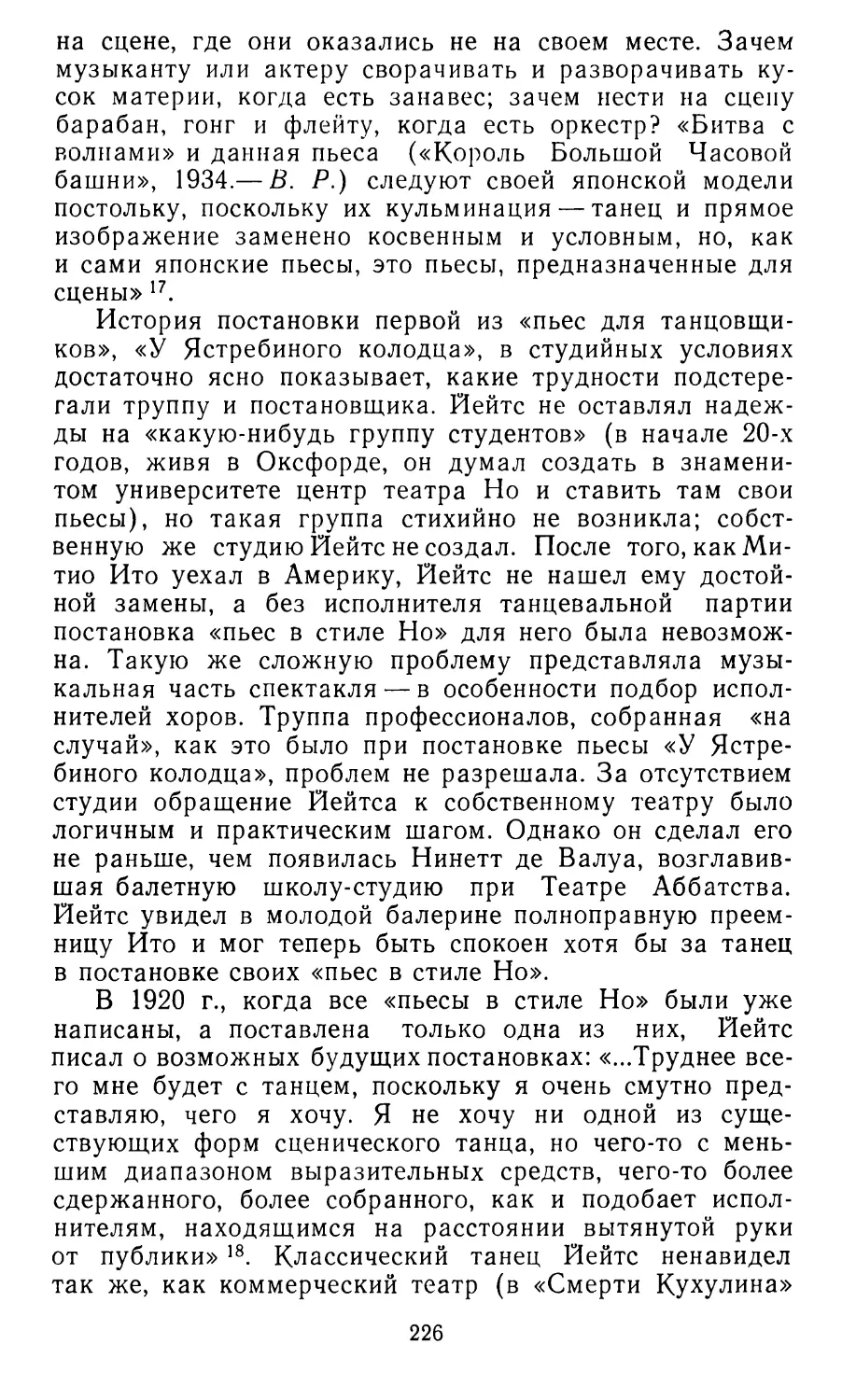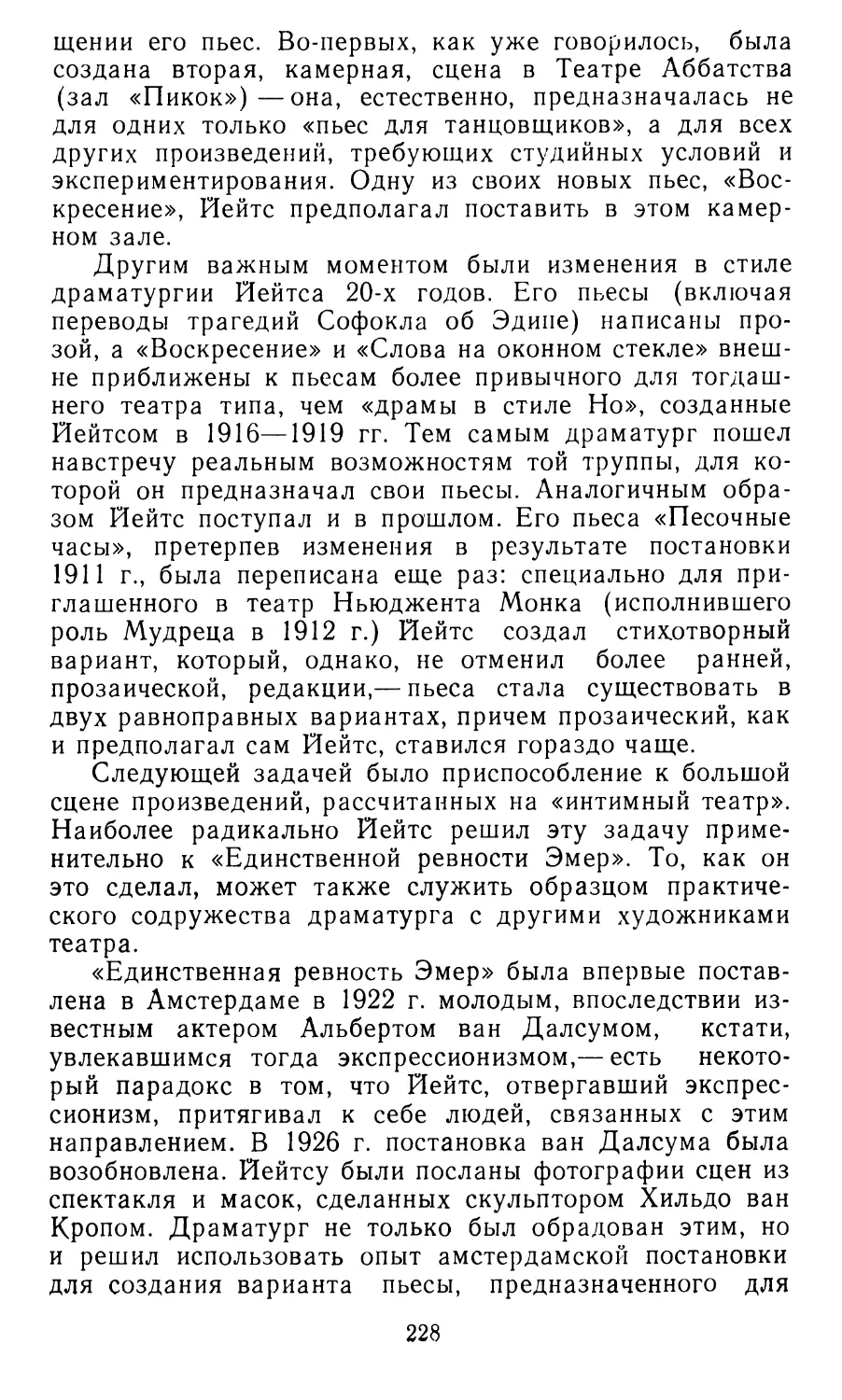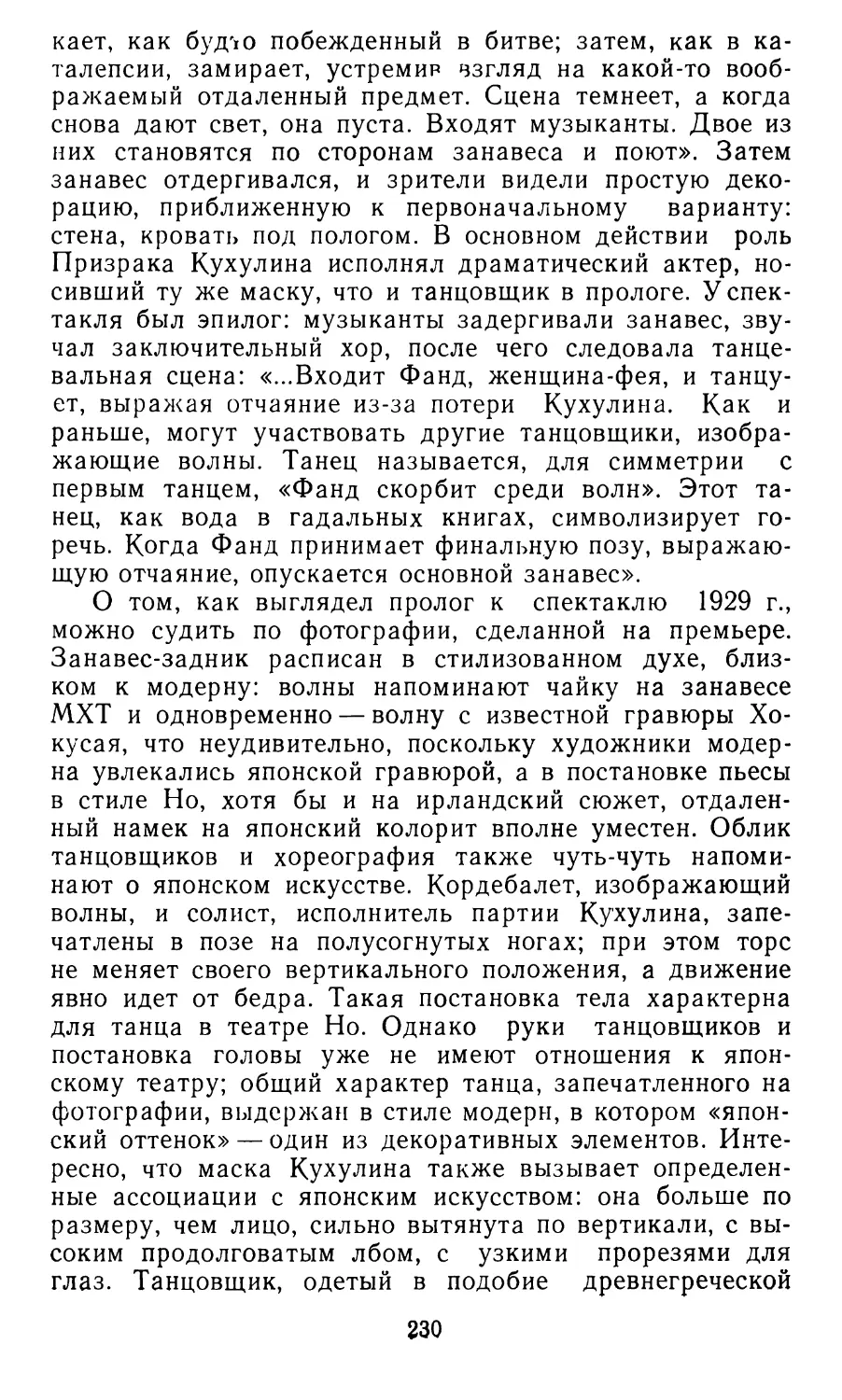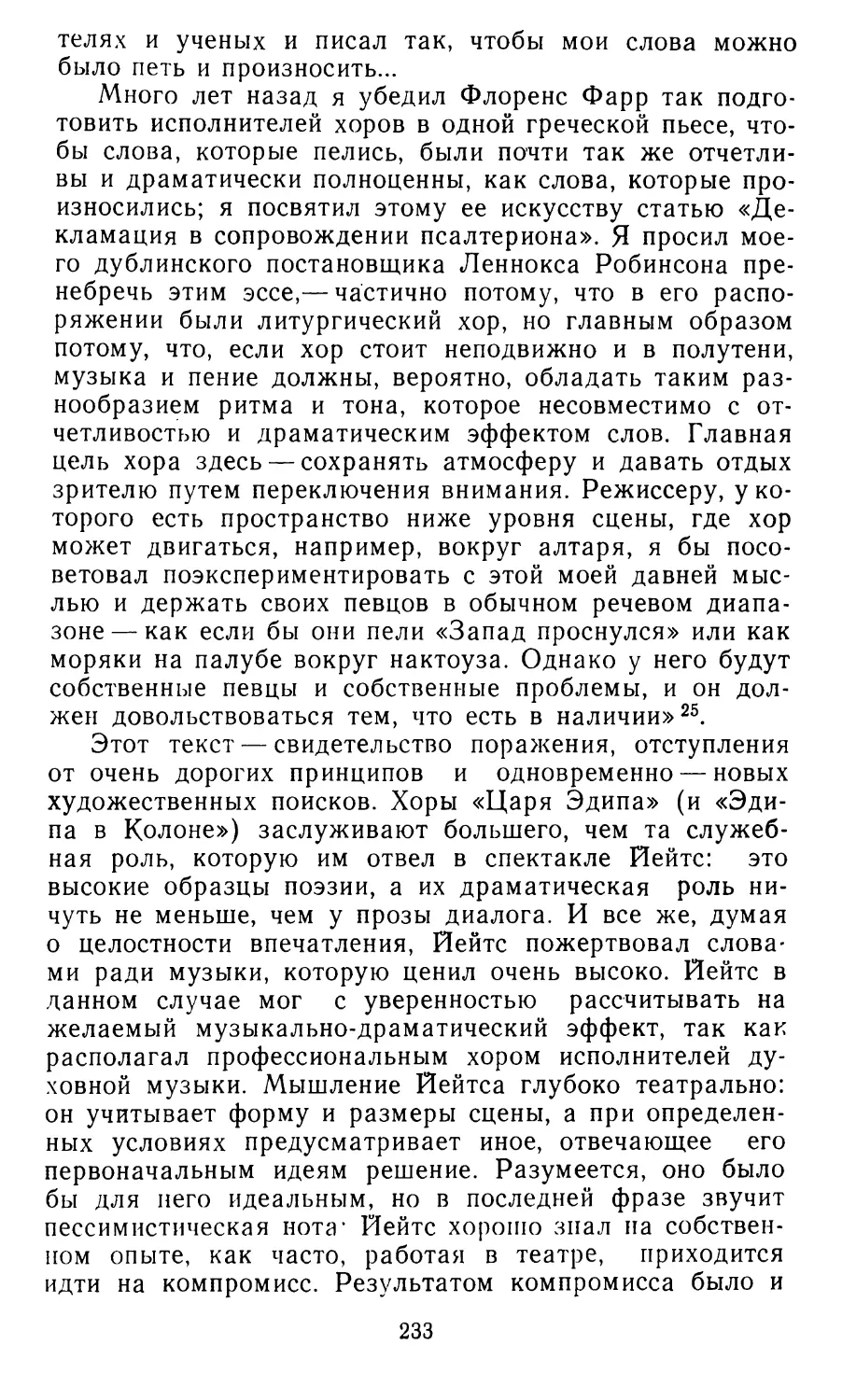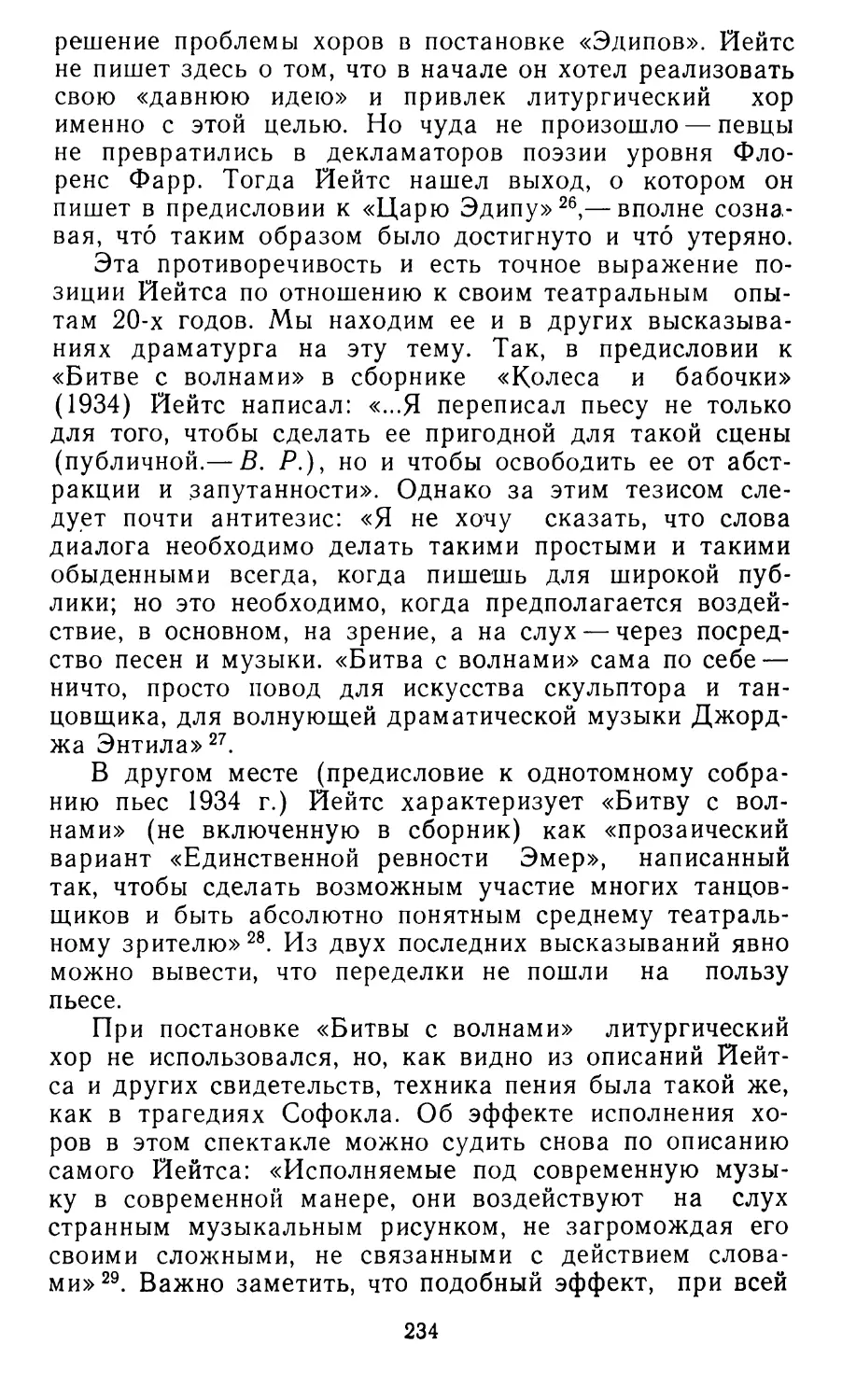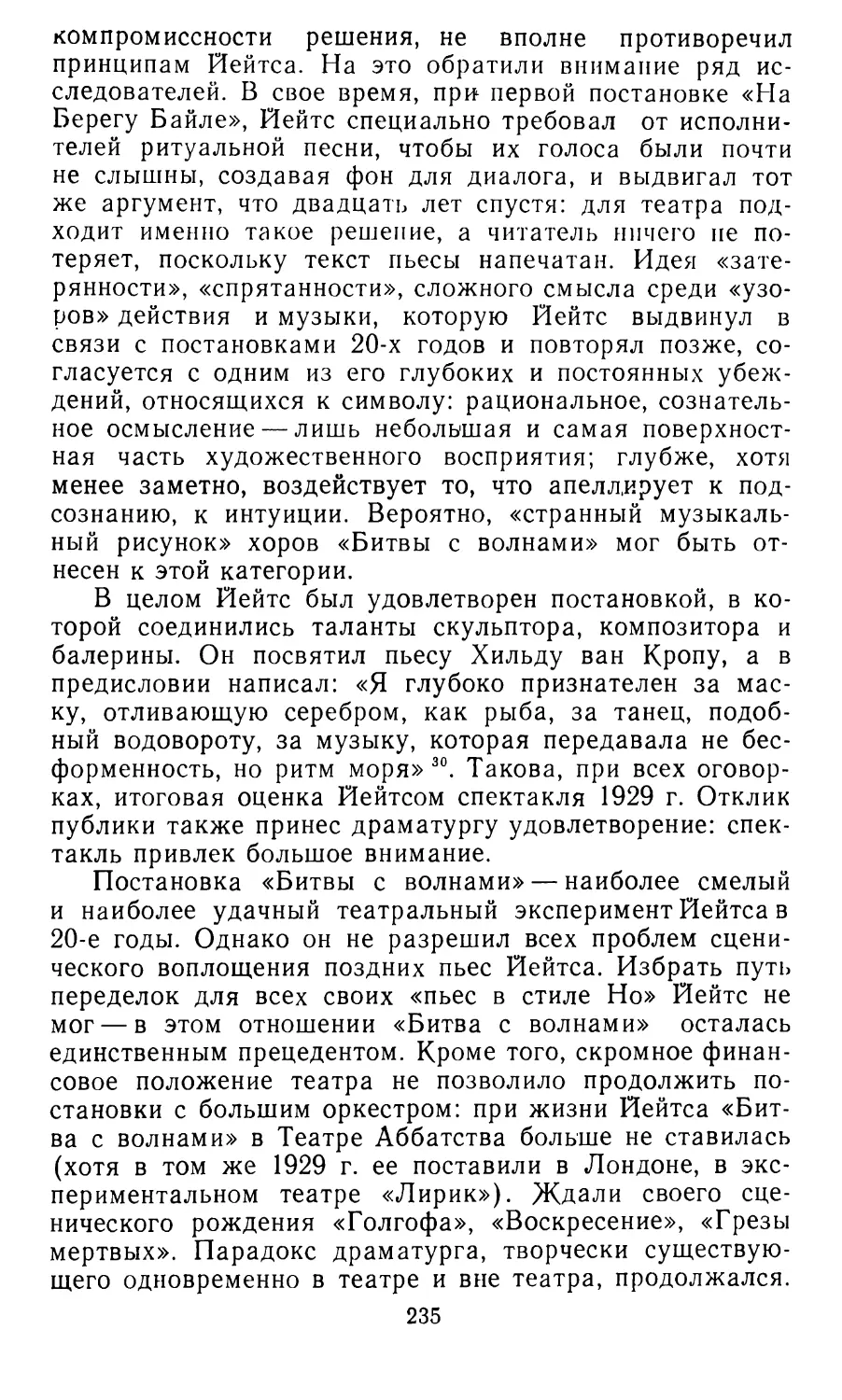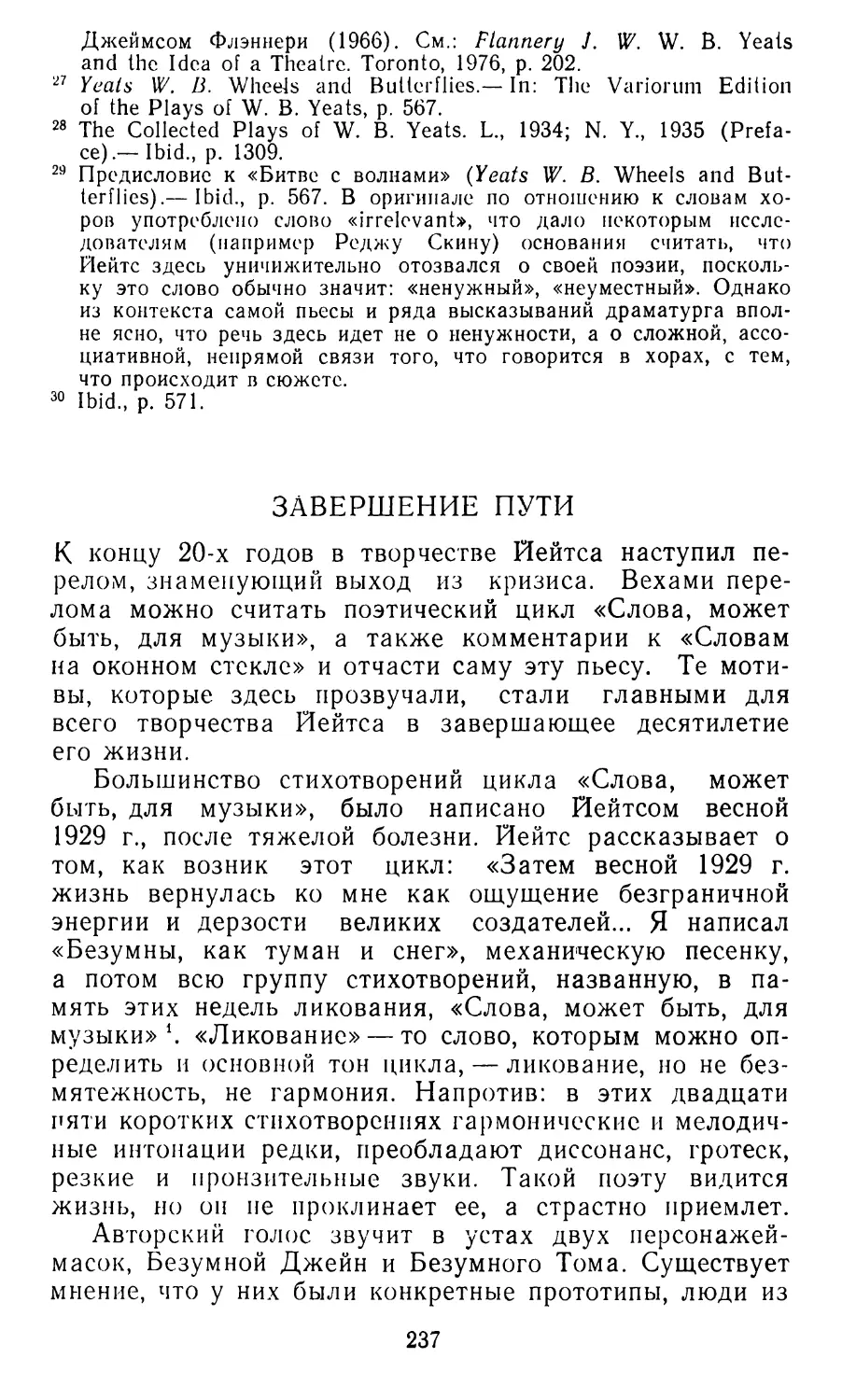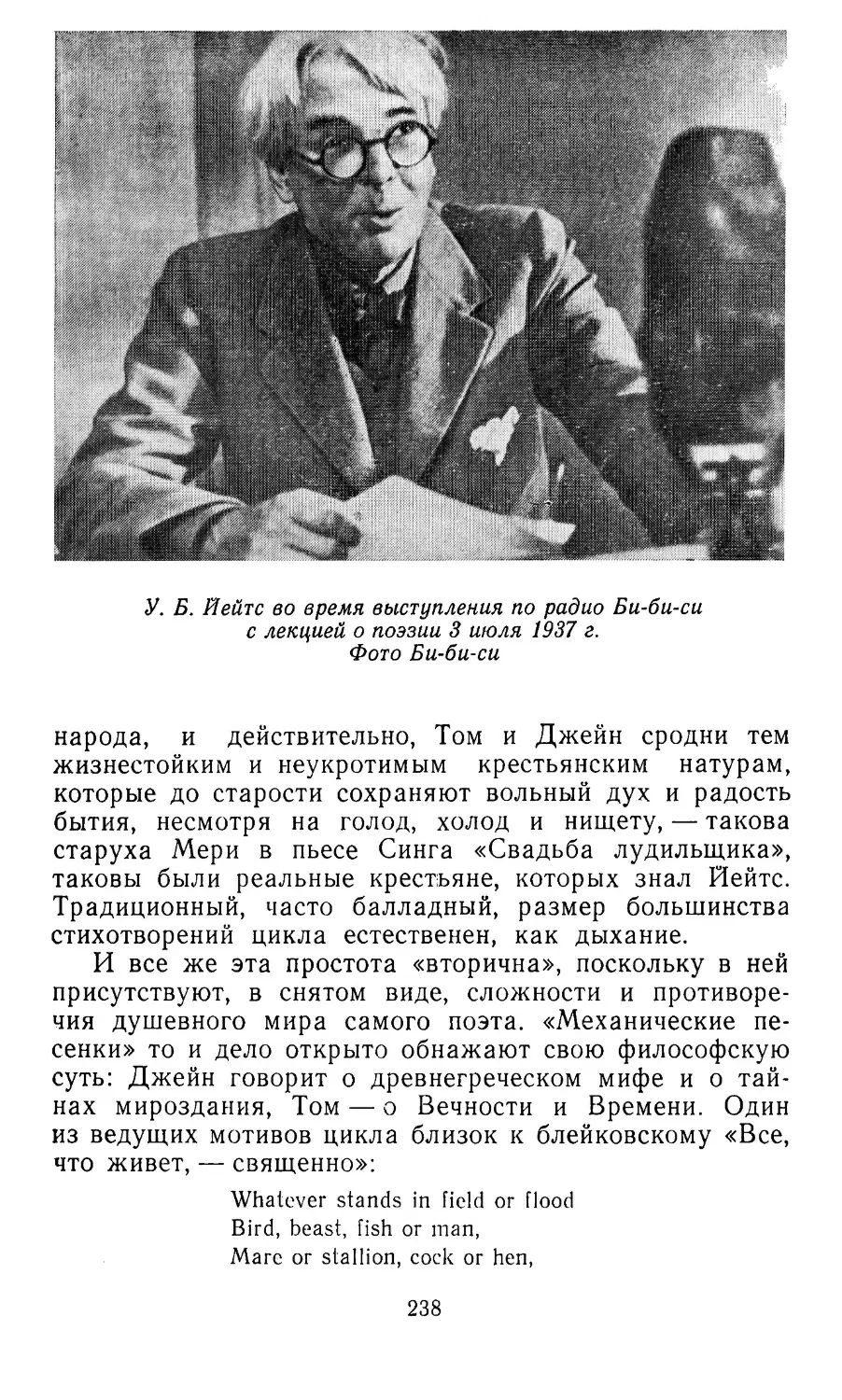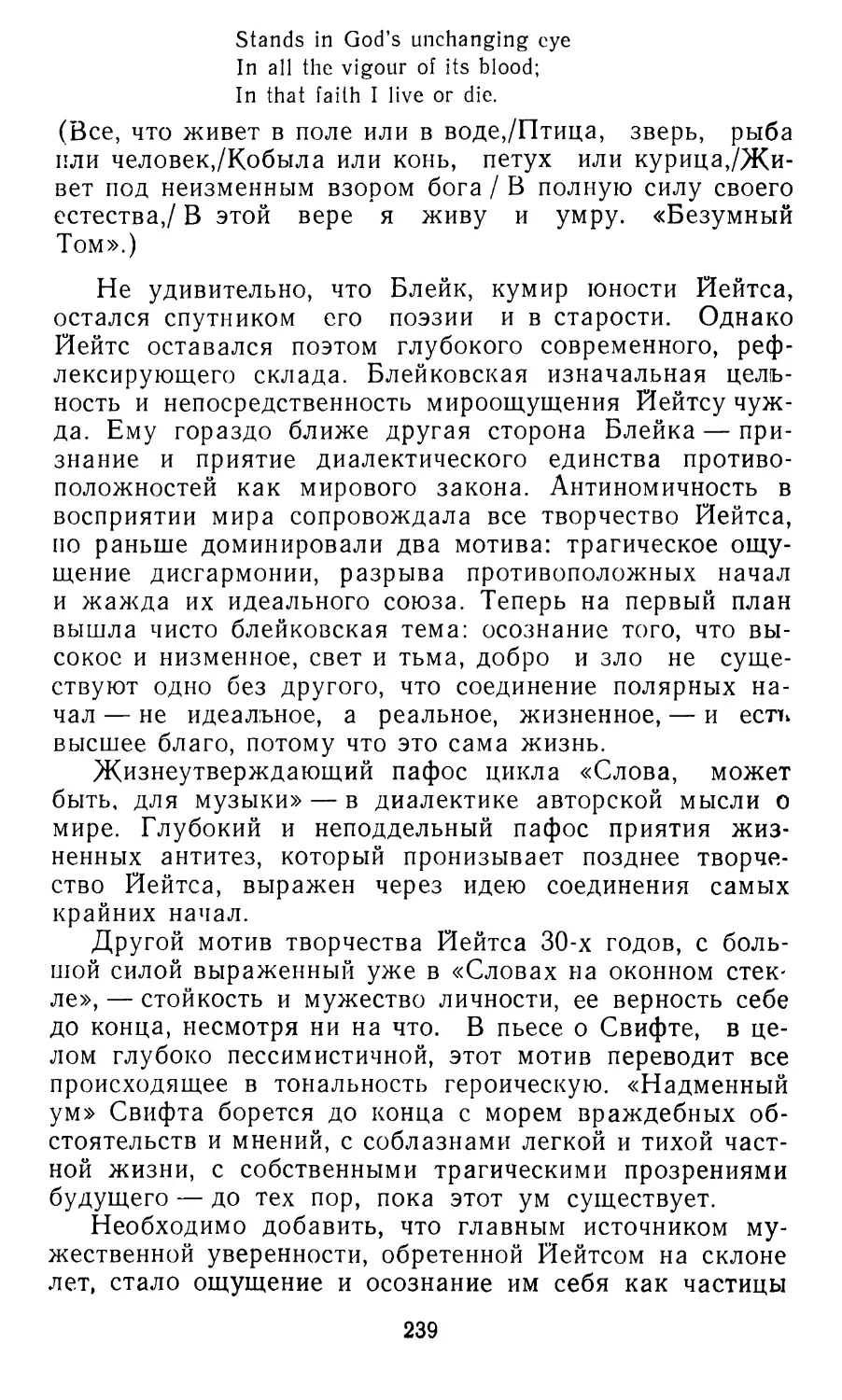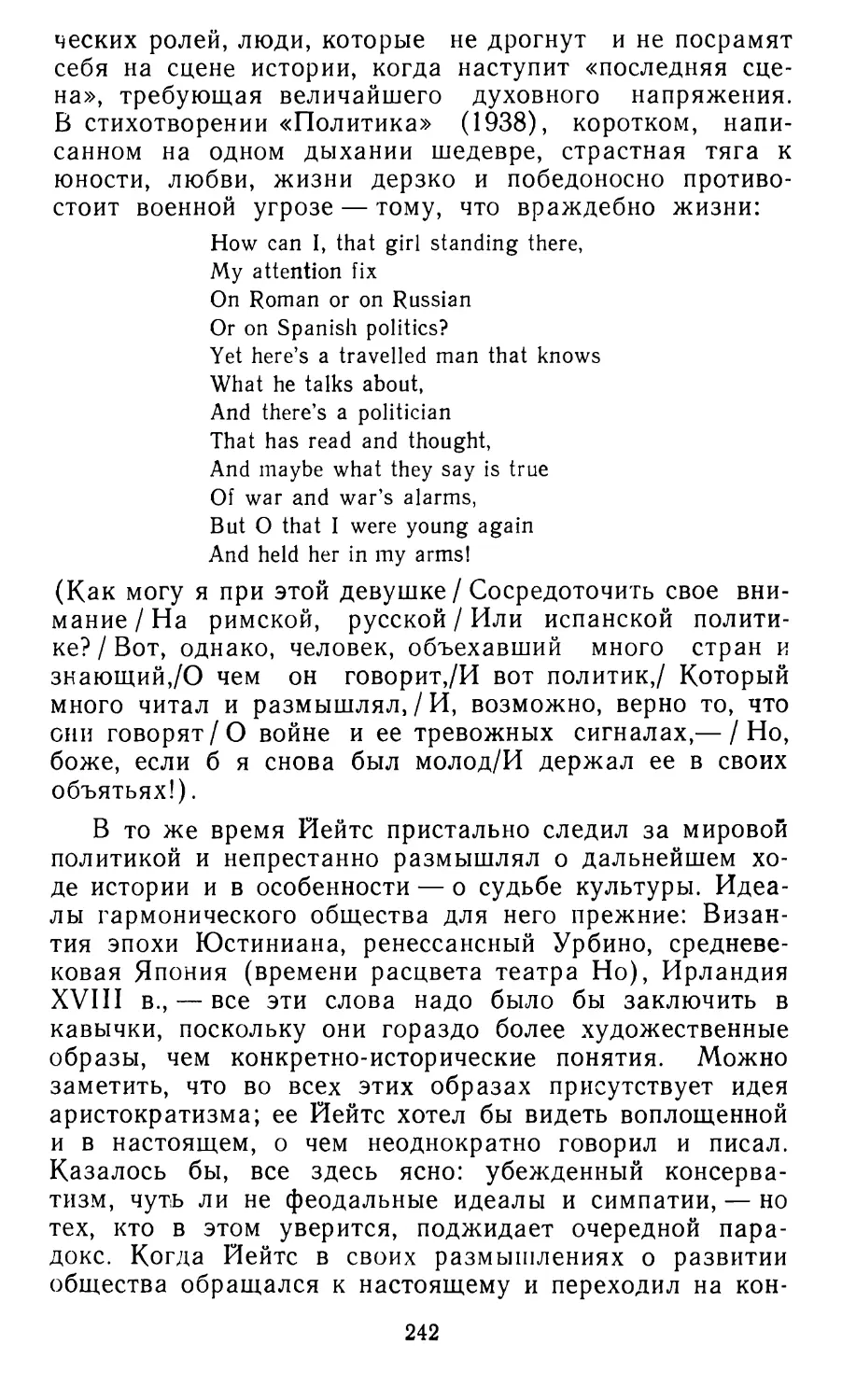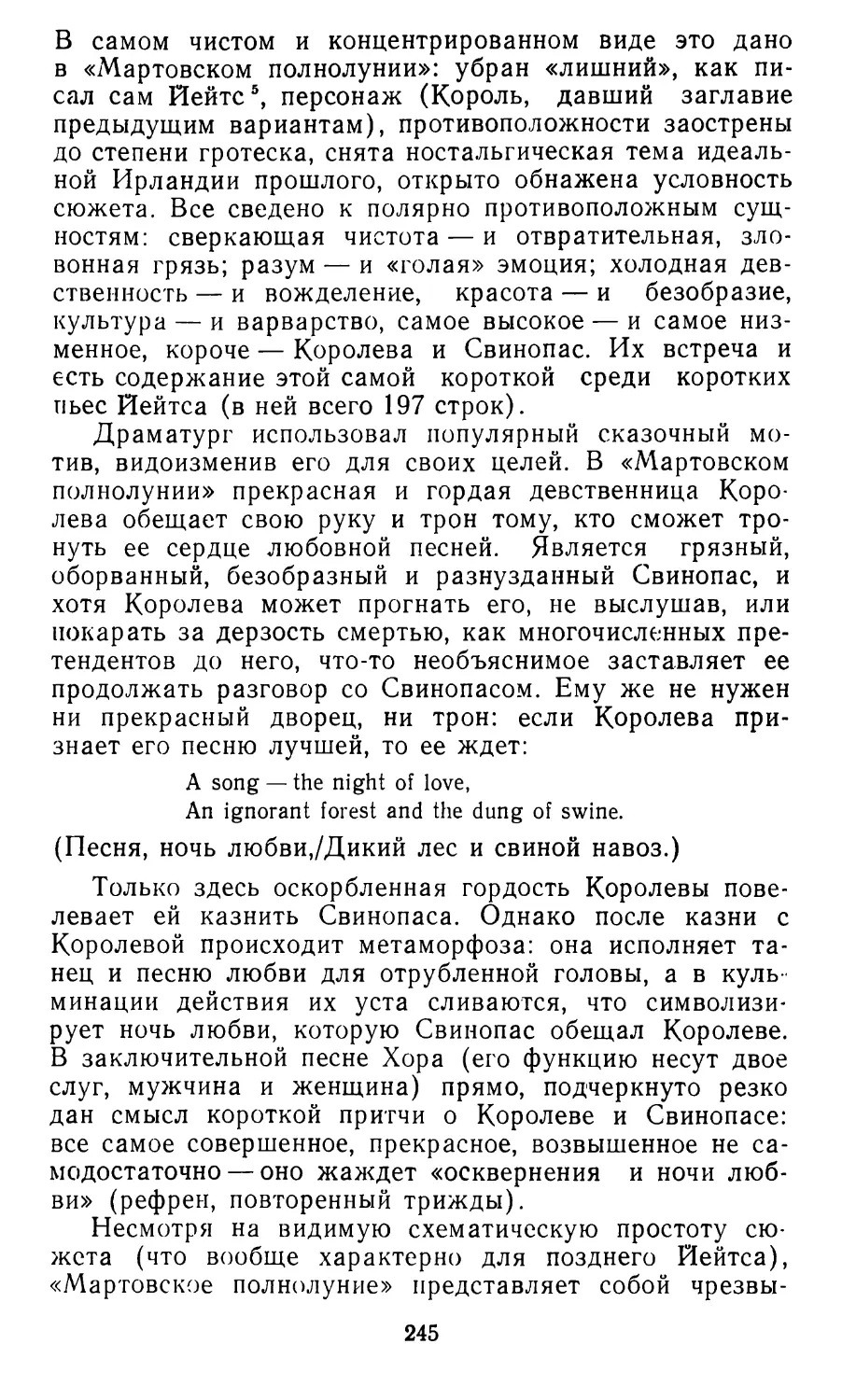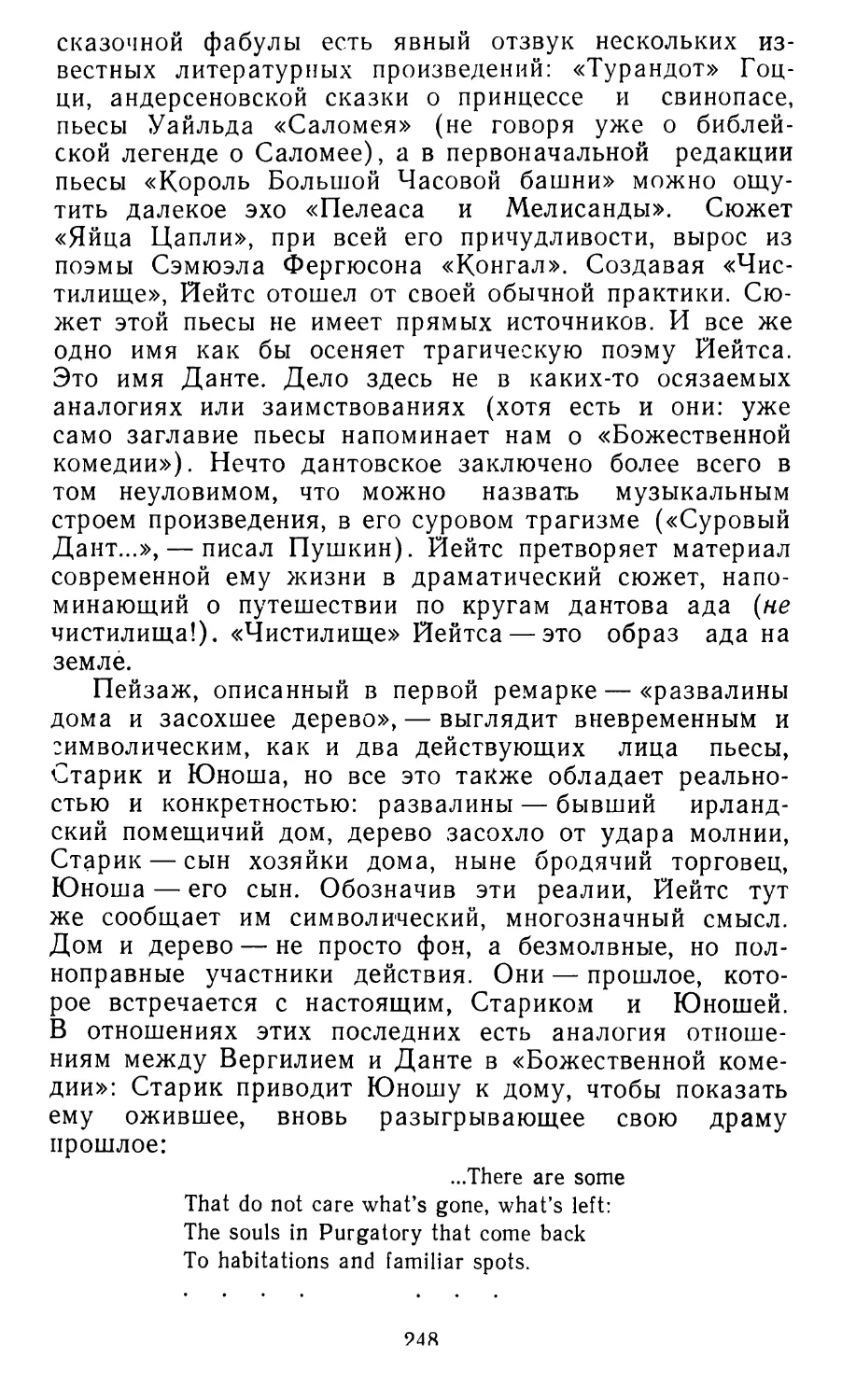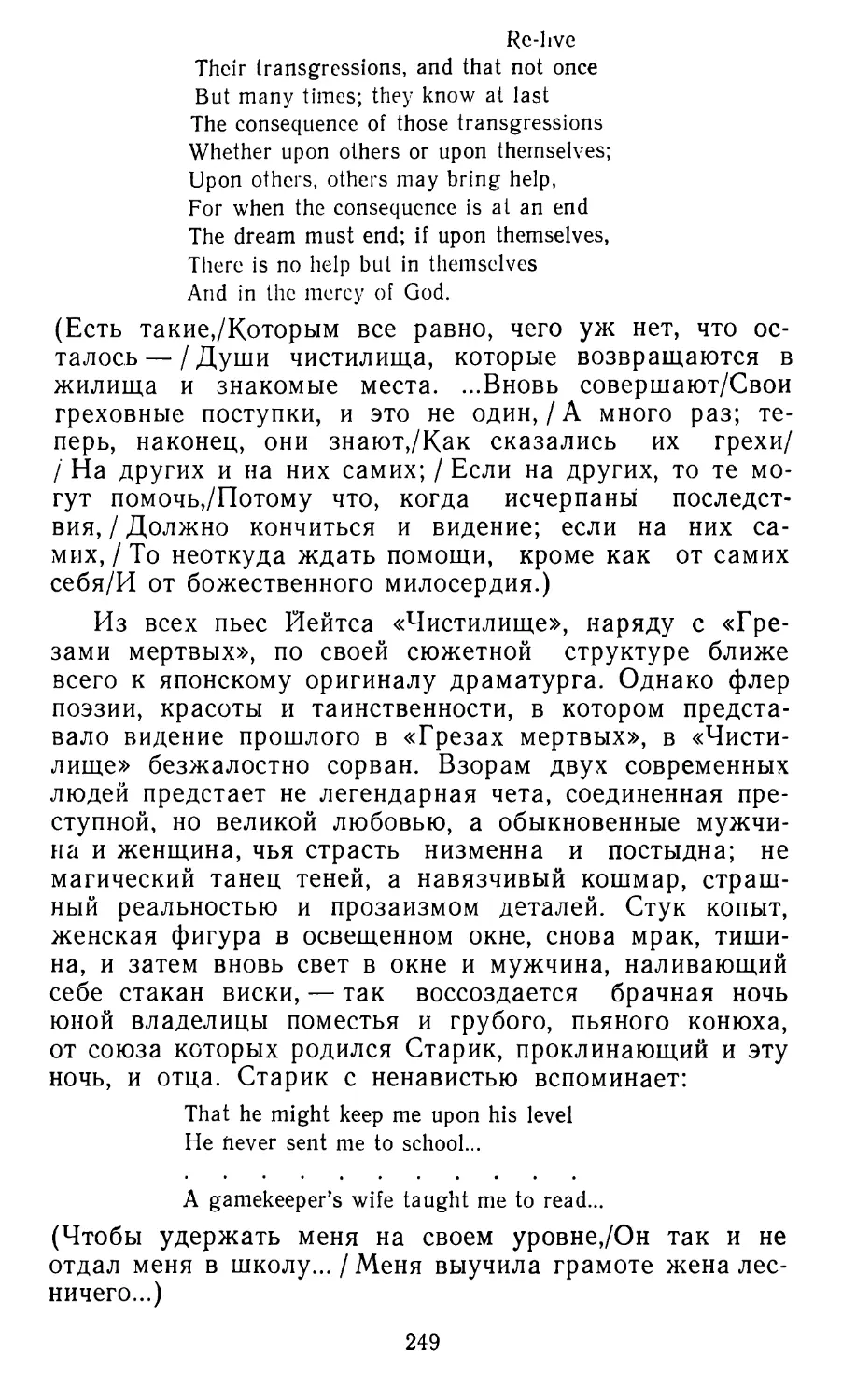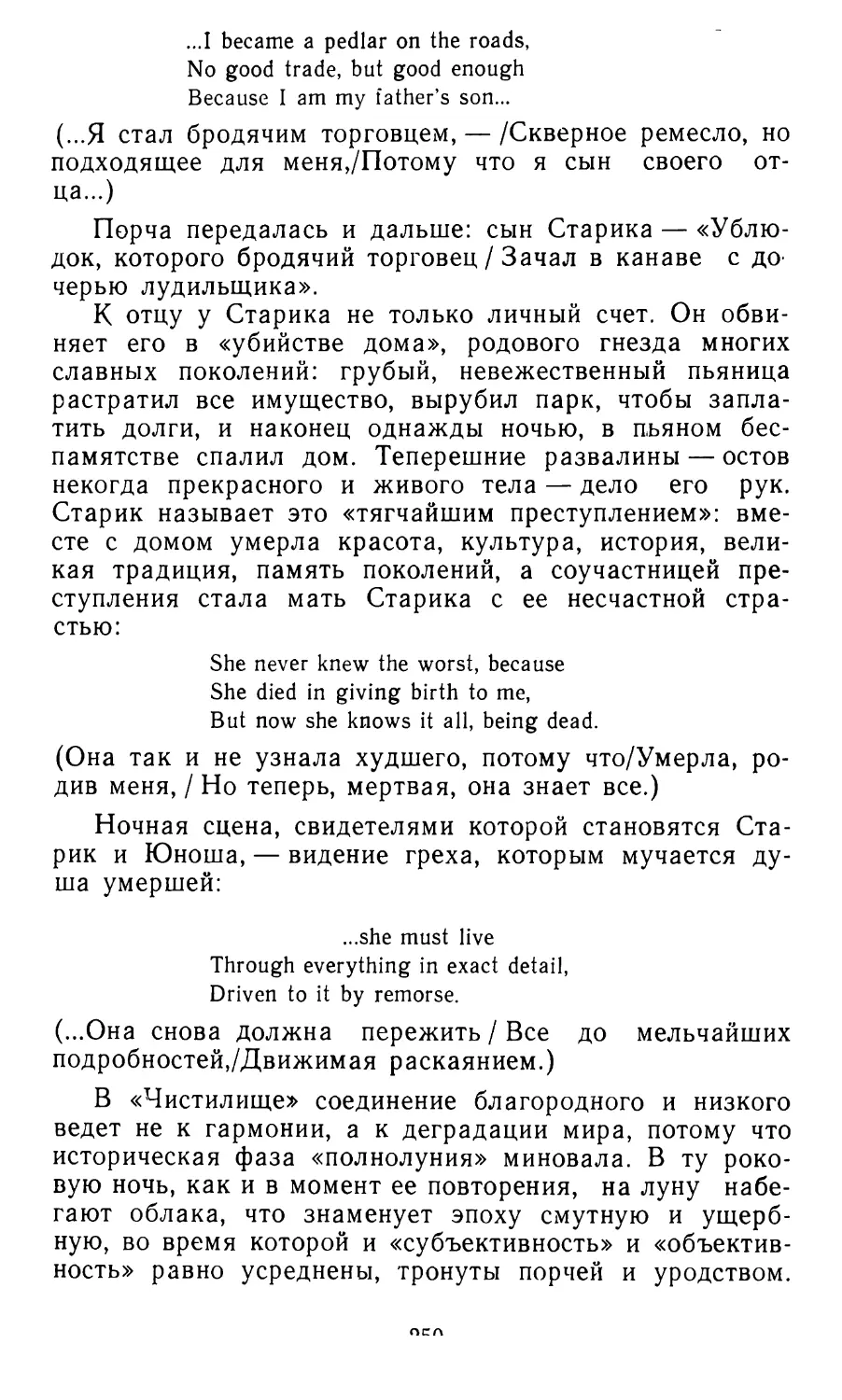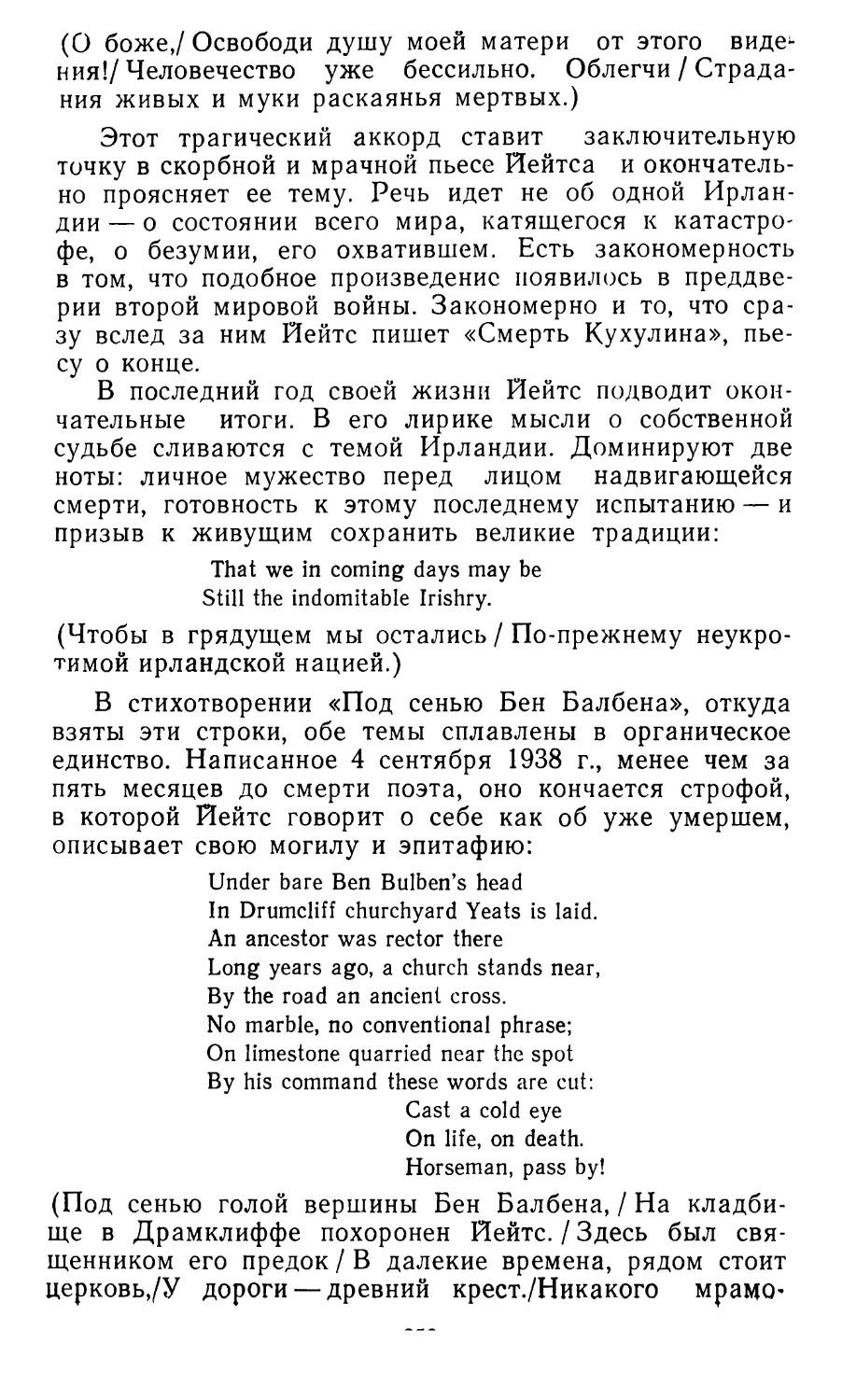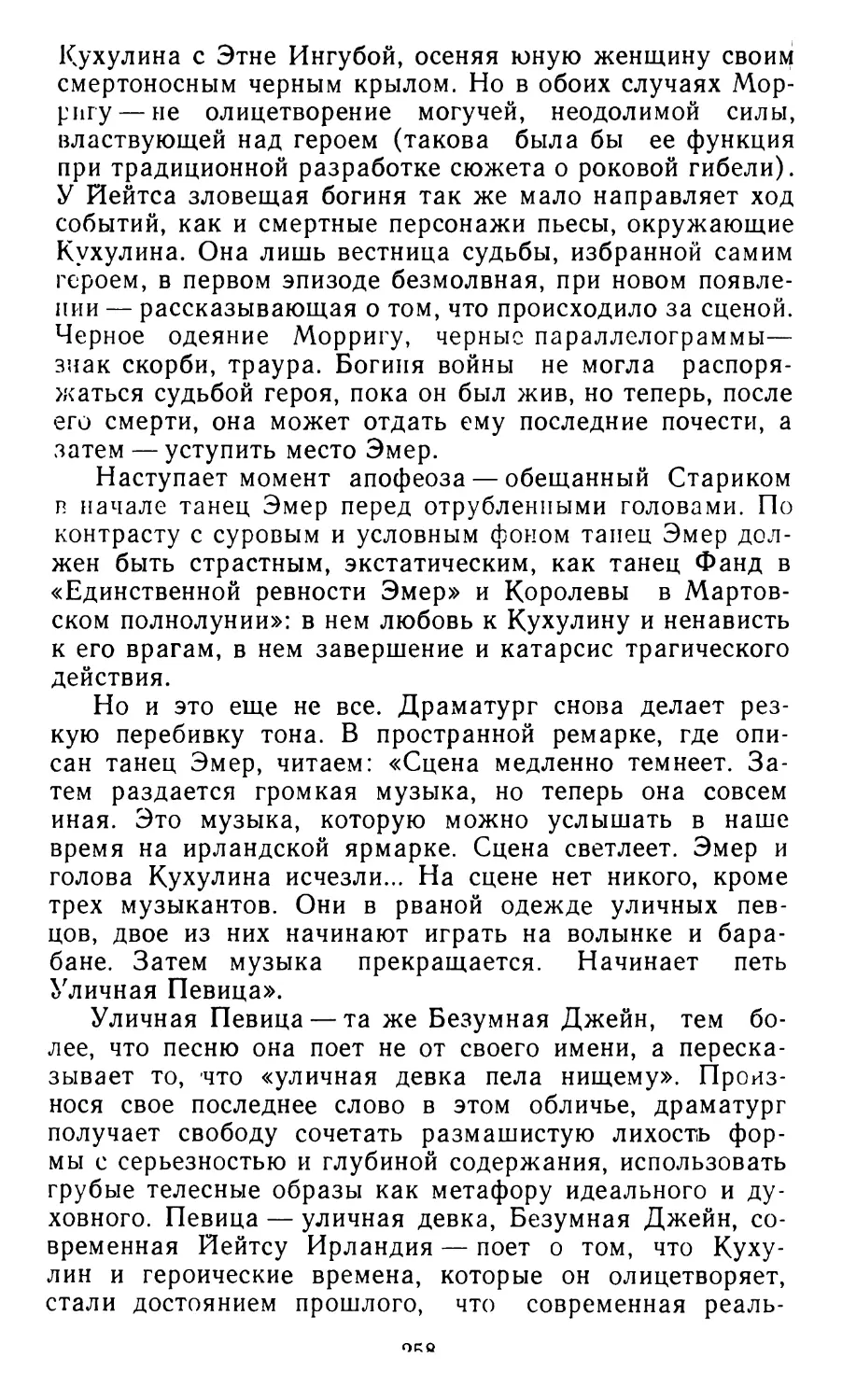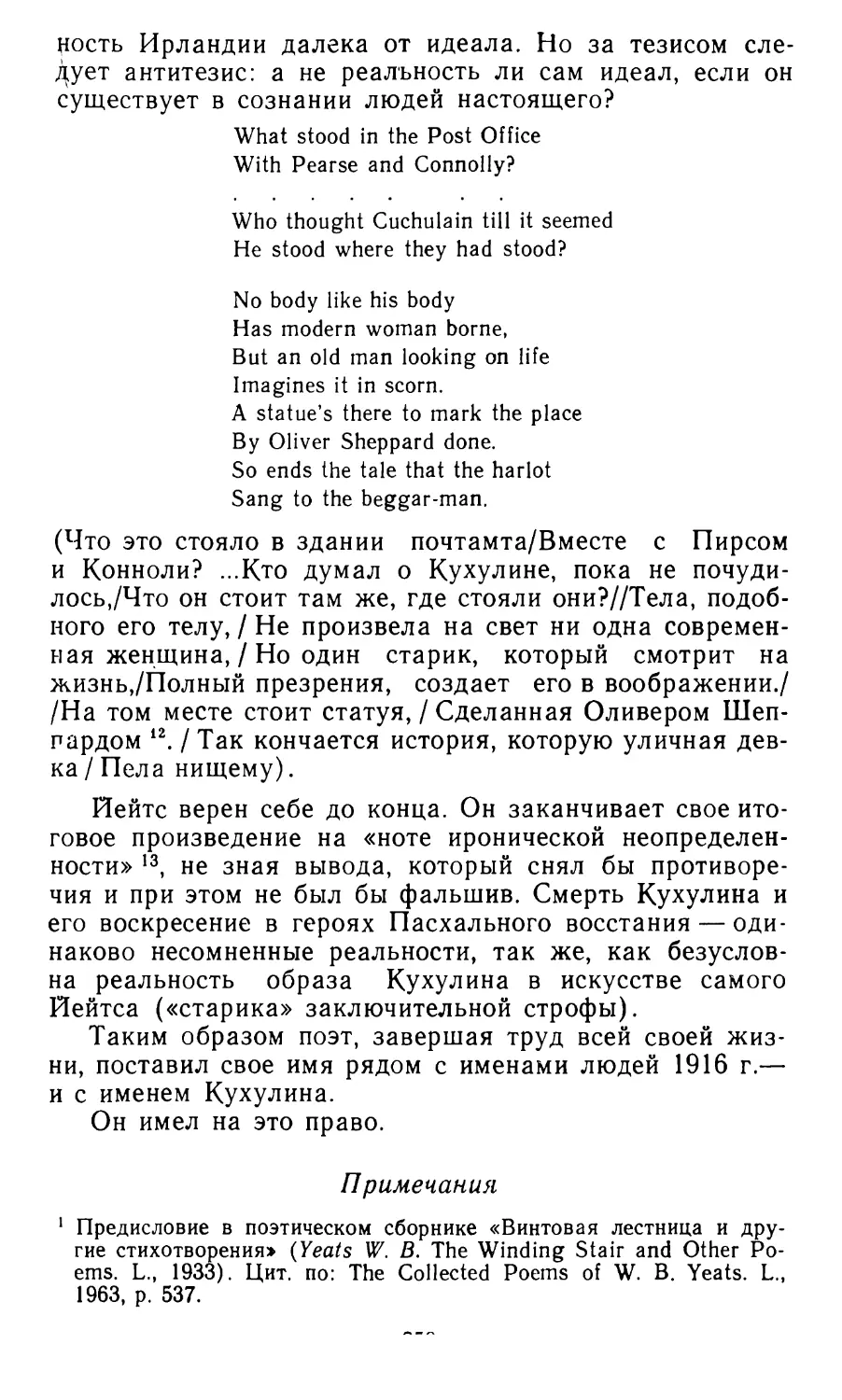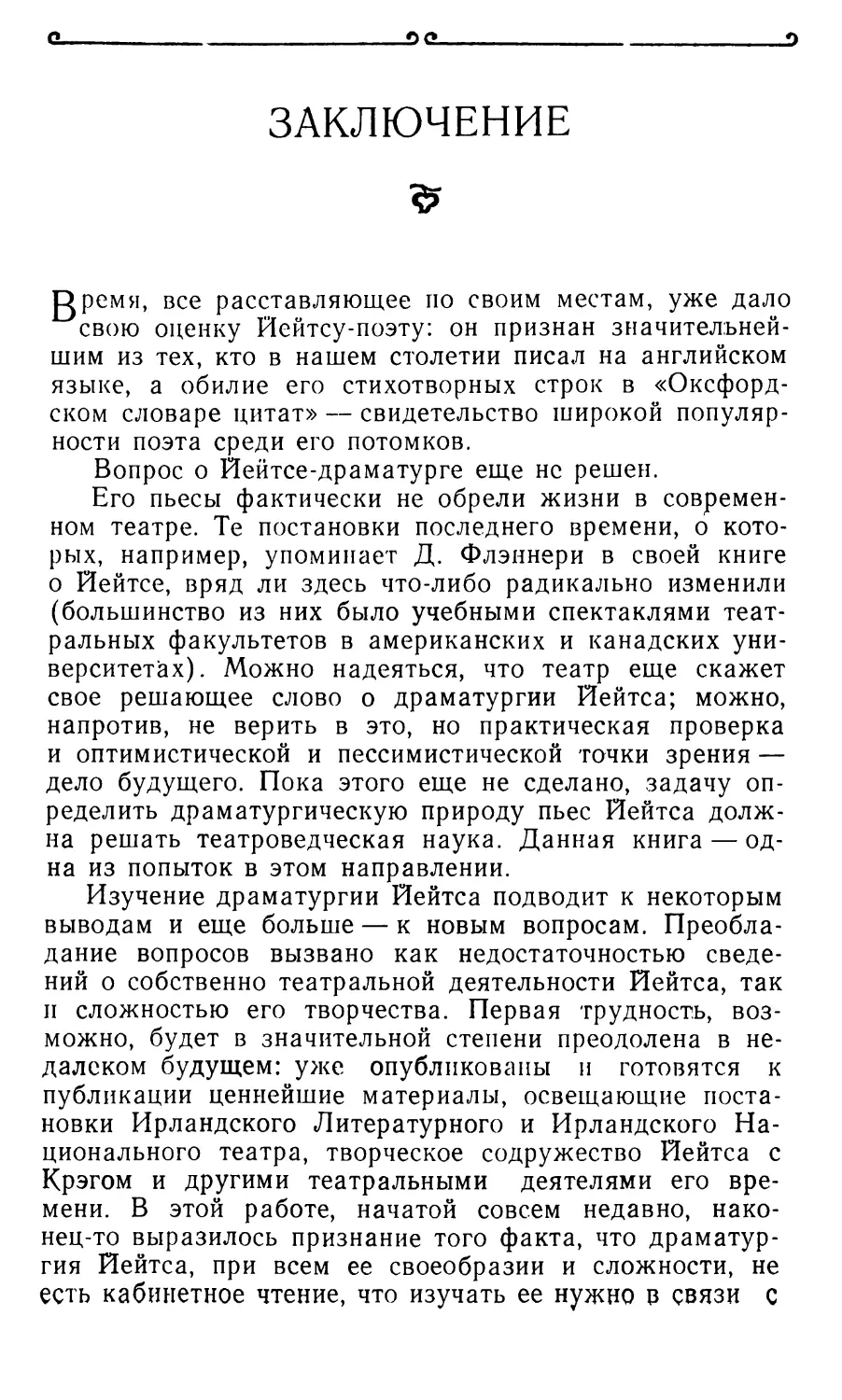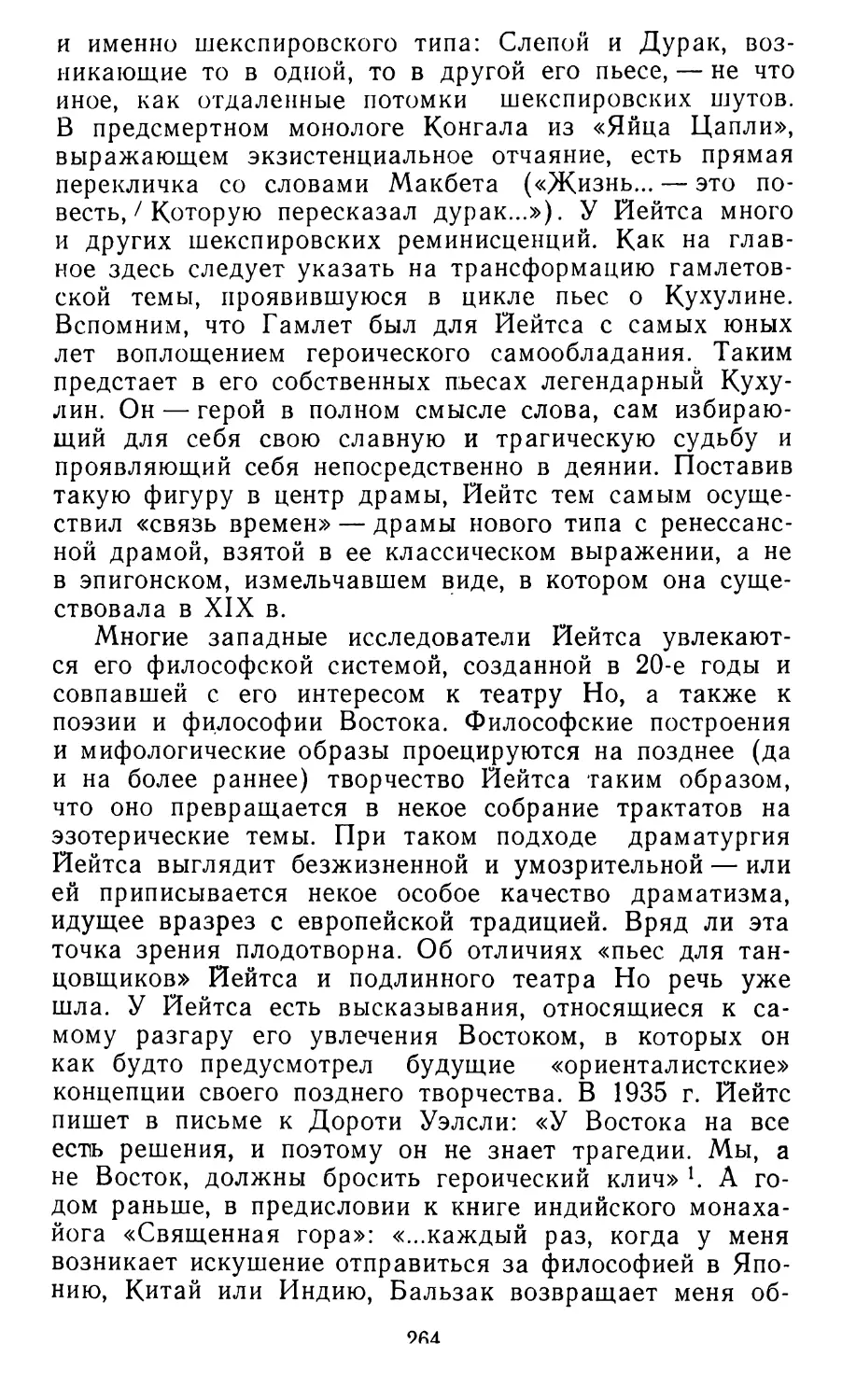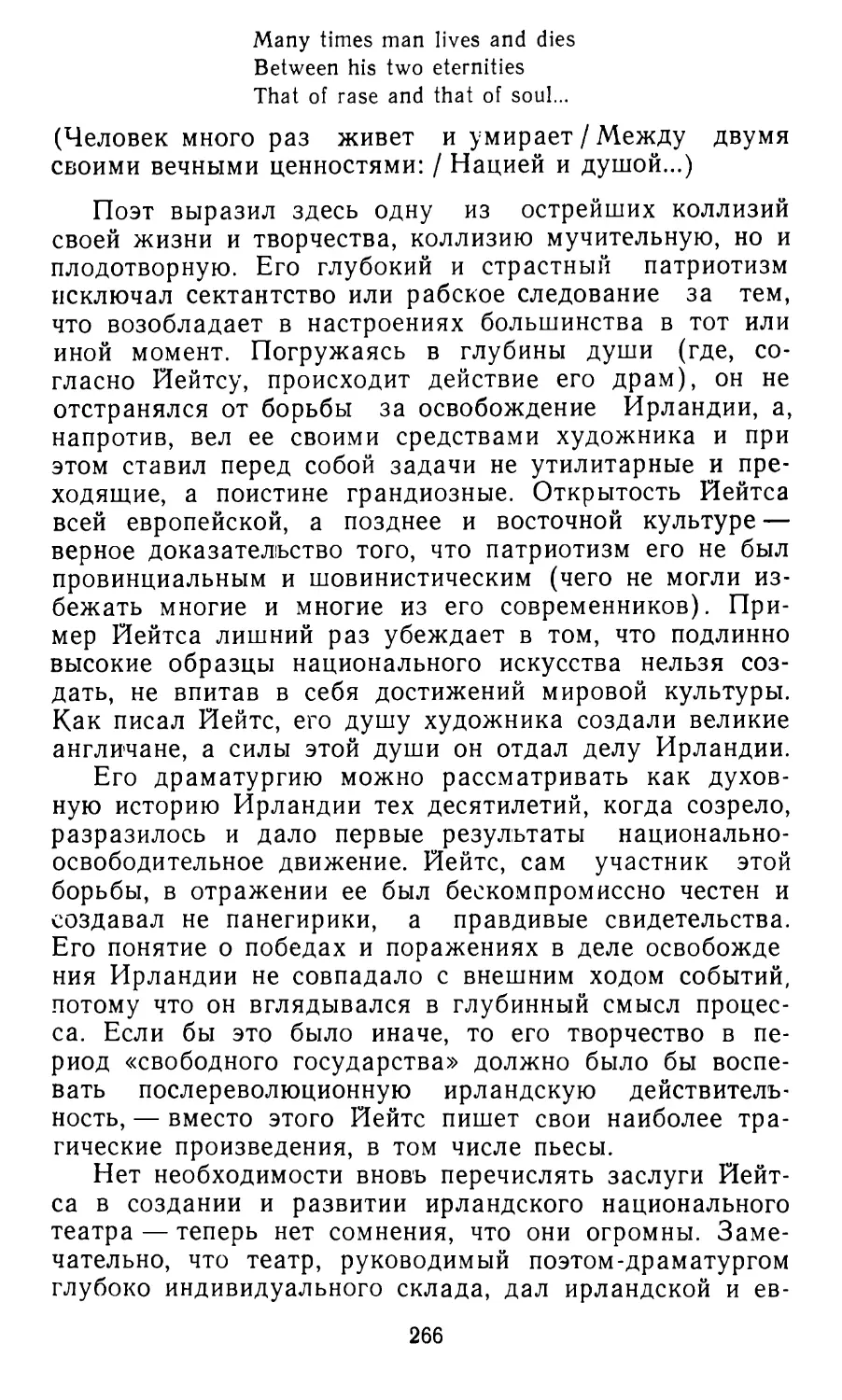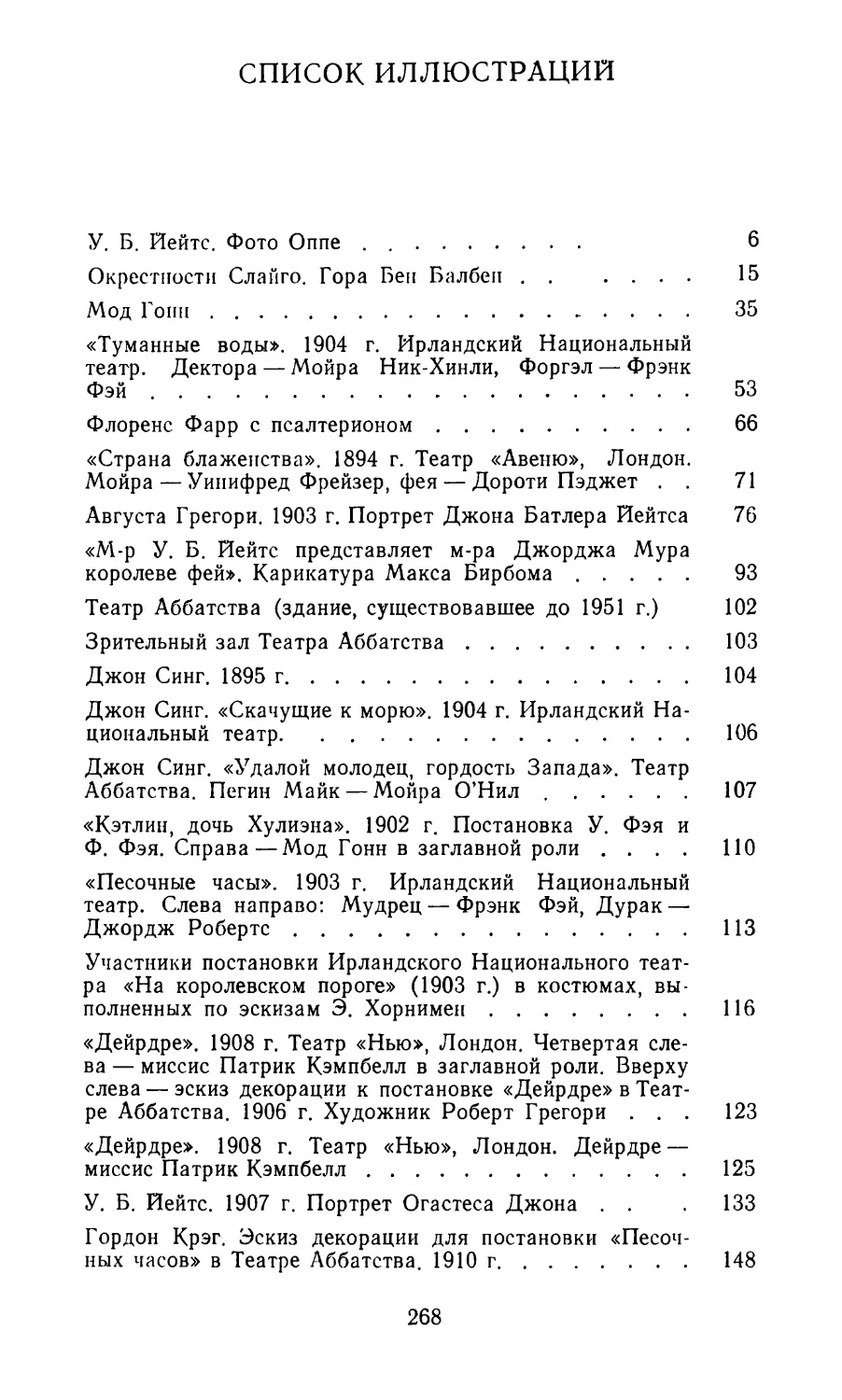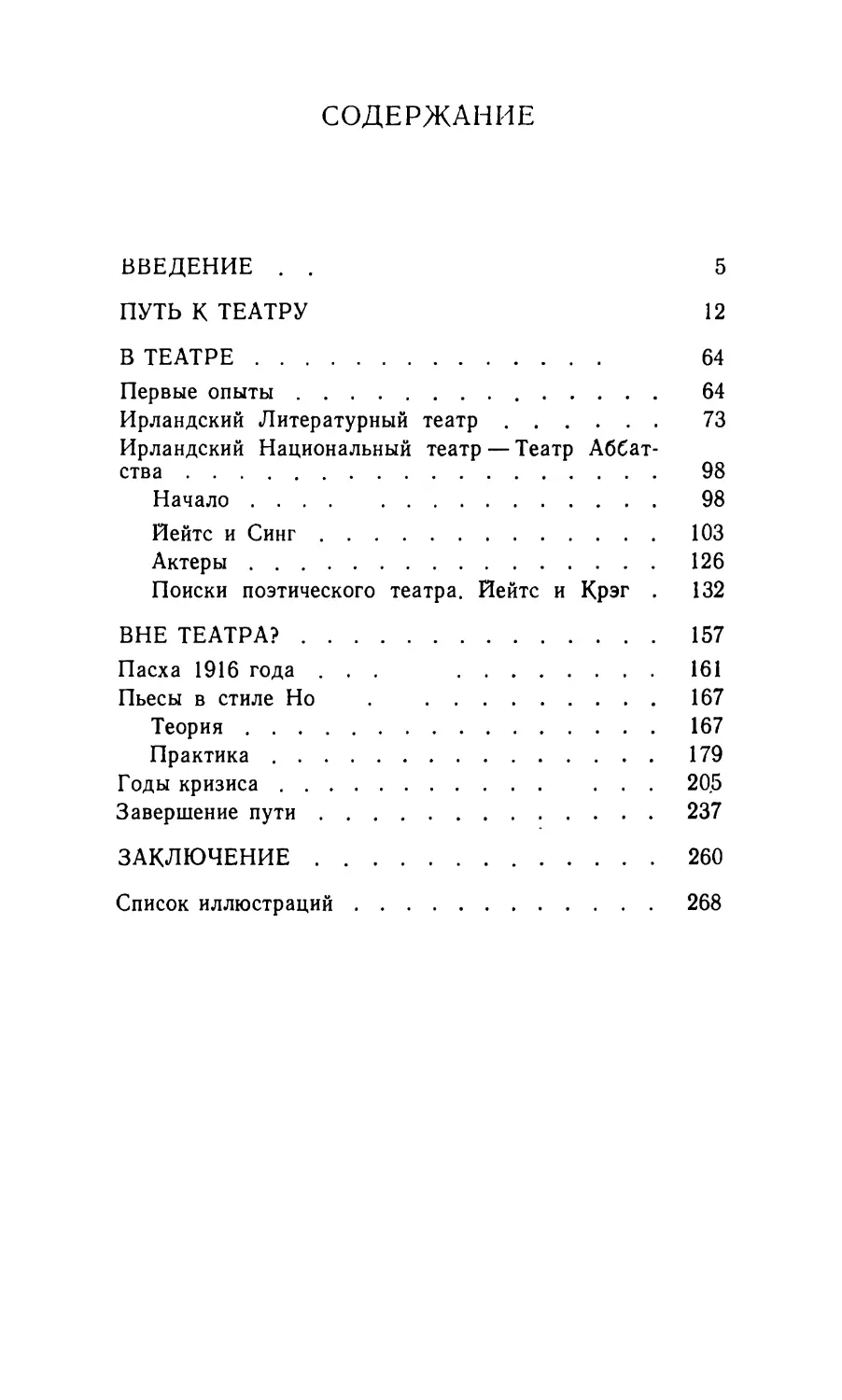Text
В.А. РЯПОЛОВА
&
У.Б.ИЕИТС
Л
И ИРЛАНДСКАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
КУЛЬТУРА
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ СССР
i
Театр Аббатства
В.А.РЯПОЛОВА
УБ.ЙЕЙТС
И ИРЛАНДСКАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
КУЛЬТУРА
1890-е— 1930-е годы
Ответственный редактор
А.А.АНИКСТ
МОСКВА
«НАУКА»
1985
В книге исследуется творчество всемирно известного деятеля
ирландской культуры У. Б. Йейтса. Его творческое развитие
рассматривается в контексте борьбы ирландского народа про-
тив английского владычества, составной частью которой был
мощный подъем национальной культуры (так называемое
«Ирландское возрождение»).
Рецензенты:
ШАХ-АЗИЗОВА, Н. АНАСТАСЬЕВ
В оформлении использованы:
Фото У. Б. Йейтса 1930 г.
Эмблема Театра Аббатства («Королева Мейв на охоте»)
Гравюра на дереве. Э. Монселл
р4901000000-214ftS_f!! © Издательство «Наука»,
042(02)-85 1985 Г.
£>CL
ВВЕДЕНИЕ
D1923 г., выступая с Нобелевской речью в Шведс-
кой Королевской академии, Уильям Батлер Иейтс
сказал: «Возможно, английские комитеты никогда не
назвали бы вам моего имени, если бы я совсем не пи-
сал пьес и статей о театре, если бы моя лирическая
поэзия не имела бы сходства с речью, практикуемой на
сцене; возможно даже — хотя это никак не могло быть
намеренно с их стороны — если бы мое имя не было до
некоторой степени символом целого движения» К Йейтс
имел в виду деятельность ирландского театра, начав-
шуюся на рубеже XIX и XX в., а далее заявил, что она
вошла важнейшей составной частью в «то движение
мысли, которое подготовило англо-ирландскую войну»2.
Иейтс, вдохновитель и практик ирландского теат-
рального движения, не преувеличивает ни роли театра
в духовной культуре Ирландии начала нынешнего сто-
летия, ни роли самой этой культуры в ирландской
жизни.
На рубеже XIX и XX в. Ирландия переживает не-
бывалый— впервые за много столетий — подъем куль-
туры. Он происходит в сложнейшей обстановке, насы-
щенной мучительными проблемами и конфликтами во
всех сферах жизни.
Главный больной вопрос для Ирландии того време-
ни— ее отношения с Англией, имевшие долгую и дра-
матическую историю.
На протяжении столетий, начиная с XII в., Англия
распространяла свою власть на Ирландию. Методы,
которыми это осуществлялось, и положение Ирландии
после завоевания позволили Ф. Энгельсу назвать ее
«первой английской колонией»3. К концу XIX в. Ир-
ландия в экономическом отношении была самой нераз-
витой и самой бедной частью Великобритании; огром-
ное большинство населения составляли крестьяне. По-
5
У. Б. Йейтс.
Фото Оппе
литическая автономия была уничтожена в 1800 г. при-
нятием закона об унии Ирландии с Великобританией
(в XVIII в. в Ирландии был свой парламент, при том
что верховная власть принадлежала английской коро-
не). В середине XIX в. (1845—1847) произошло одно
из самых трагических событий в истории Ирландии —
«великий голод», унесший около миллиона жизней. Бед-
ствие приняло такие ужасающие масштабы в резуль-
тате политики английских властей: они не только не
оказали Ирландии необходимой помощи, но и продол-
б
жали вывозить из нее продовольствие. Во время «ве-
ликого голода» началась массовая эмиграция из Ир-
ландии (в том числе в Австралию и Соединенные Шта-
ты). Страна беднела и опустевала4.
Социальные проблемы, общие для всех европейских
стран, в Ирландии обострялись и усложнялись вслед-
ствие ее угнетенного положения.
Последняя и самая мощная волна английский экспан-
сии в Ирландию, совпавшая по времени с промышлен-
ной революцией, в считанные десятилетия разрушила
социальную структуру Ирландии, насильственно уско-
рив переход от средних веков к новому времени. Анг-
лийские переселенцы — новые и потомки прежних — за-
няли привилегированное положение в ирландском об-
ществе, так же, как протестантская церковь стала гла-
венствующей по отношению к католической, к которой
принадлежало все коренное население Ирландии. Зна-
чение католицизма в ирландской жизни, однако, не
уменьшилось — скорее, напротив. Завоеванный народ
видел в своей исконной вере духовную опору и знамя в
борьбе за национальное освобождение. Несмотря на
самые решительные и жестокие меры английского пра-
вительства, несмотря на все привилегии, предоставлен-
ные протестантам, большинство ирландцев остались
католиками (это сохраняется и по сей день), а низшее
и среднее католическое духовенство не раз вдохновля-
ло и возглавляло национальные выступления. Однако
верхушка католической церкви последовательно держа-
ла сторону властей, а в области культуры ирландская
католическая церковь в целом стояла на чрезвычайно
консервативных и даже реакционных позициях.
Быть католиком в Ирландии XIX в. значило быть
коренным ирландцем и — почти всегда — принадлежать
к низам общества. Значительно сложнее все обстояло
с протестантами. Потомки англичан-переселенцев име-
ли все основания считать себя — и считали — настоящи-
ми ирландцами даже по крови. Уже внуки и правнуки
самых первых колонистов были названы «большими ир-
ландцами, чем сами ирландцы»,— так выразился Эд-
мунд Спенсер, современник Шекспира, знаменитый поэт
и ревностный чиновник английской колониальной адми-
нистрации в Ирландии5. Он имел в виду не только ус-
воение англичанами ирландских обычаев, языка и т. д.,
но и аптиапглийскую ориентацию. В повое время, окон-
чательно завоевав Ирландию, английское правительство
7
делало все, чтобы «англо-ирландцы»6 были его опорой
в покоренной стране. Но оппозиционные настроения не
прекращались, и хотя значительная часть протестантской
Ирландии поддерживала Англию, а протестантская цер-
ковь открыто служила британским интересам, многие
выдающиеся деятели ирландского освободительного дви-
жения были англо-ирландцами и протестантами. В их
числе национальный герой Ирландии Теобальд Уолф Тон,
руководитель восстания 1798 г., бывшего «ирланд-
ским ответом на первую французскую революцию»7.
Свифт, обличавший жестокость английской политики в
Ирландии, был англо-ирландцем и настоятелем проте-
стантского кафедрального собора в Дублине.
Патриотические настроения, все более распростра-
нявшиеся в верхах ирландского общества в XIX в., сбли-
жали их с основной массой населения, но это не снима-
ло классовых противоречий. Земельная лига, образо-
ванная в 1879 г., боролась за интересы крестьян и с
английскими и с ирландскими помещиками. Нарастал
антагонизм труда и капитала — позднее, в начале XX в.,
он вылился в открытые классовые бои, имевшие евро-
пейский резонанс. На исходе XIX в. национальной не-
зависимости желали многие ирландцы, но представле-
ния о независимой Ирландии были различными и даже
взаимоисключающими. В сложном переплетении нацио-
нальных, классовых, религиозных устремлений было
трудно, а подчас и невозможно ориентироваться и на-
блюдателям и самим участникам. Раскол, следствие
английского владычества, стал национальной бедой Ир-
ландии задолго до того, как появилась государственная
граница, отделившая Север от Юга.
В сфере культуры английское завоевание привело к
огромным, необратимым переменам.
Ирландский (гэльский) язык в конце XIX в. был по-
чти искоренен: его знали и на нем говорили лишь кре-
стьяне самых захолустных и отдаленных от Англии
западных областей, родным — и единственным — языком
для большинства ирландцев и в городе и в деревне был
английский8. Литература на ирландском языке пере-
стала создаваться практически уже к началу XIX в.
Богатейшее культурное наследие древней и средневе-
ковой Ирландии — саги и поэтическое творчество бар-
дов— оставалось под спудом. В течение столетий, ког-
8
да все ирландское было запрещено, древние рукописи
лишь по счастливой случайности уцелели от полного
уничтожения, а культурная традиция передавалась, в
основном, устно. «Великий голод» середины XIX в., опу-
стошив сельскую Ирландию, нанес страшный удар куль-
турной памяти страны.
Но уничтожена эта память не была. В течение сто-
летий английского владычества происходил процесс
внутреннего преобразования английского языка на ир-
ландской почве — формировался англо-ирландский диа-
лект, выросший на основе английского языка эпохи Воз-
рождения, воспринявший гэльскую ритмику и элементы
грамматики. Он сохранил и донес до нового времени
устную традицию, созданную на гэльском языке, а к
концу XIX в. созрел для того, чтобы стать языком ли-
тературы.
Кроме англо-ирландского диалекта в Ирландии су-
ществовал и собственно английский язык. На нем го-
ворила, читала и писала образованная часть общества.
Английская культурная гегемония имела двоякое воз-
действие на литературу, создаваемую ирландскими пи-
сателями на английском языке. С одной стороны, утра-
чивались традиции, неизбежно нивелировались ирланд-
ские национальные самобытные черты. Превратившись
в отсталую провинцию Великобритании, Ирландия те-
ряла таланты, естественно тяготевшие к метрополии,
где они формировались в среде английской культуры и
становились ее частью. «Иметь успех в Лондоне значи-
ло почти забыть Ирландию»,— пишет известный ирланд-
ский писатель и критик Фрэнк О'Коннор, анализируя
литературную ситуацию первой половины XIX в.9 С дру-
гой стороны, постоянное влияние одной из богатейших
культур мира не могло не иметь для Ирландии и благо-
творных воздействий. Иейтс выразил чувства многих
ирландских интеллигентов его поколения, подытожив в
конце жизни свое отношение к Англии: «Никто не спо-
собен ненавидеть, как мы, в ком всегда живо прошлое,
тзрою ненависть отравляет мне жизнь, и я обвиняю себя
в слабодушии за то, что не нашел ей должного выра-
жения. Но я помню... что мою душу создали Шекспир,
и Спенсер, и Блейк, и, возможно, Уильям Моррис, и анг-
лийский язык, на котором я думаю, говорю и пишу...» 10.
Слияние двух национальных культур, находившихся
на разных стадиях развития, к тому же протекавшее в
трагических обстоятельствах истории, было долгим, бо-
9
лезненным, сопровождалось невозвратимыми потерями.
Но оно все же произошло. Ирландская литература в
XIX в. была по большей части подражательной, но она
имела великие образцы для подражания, приобщалась
к европейскому развитию.
Наиболее сложным было положение с драмой и те-
атром.
Один из парадоксов ирландской культуры заключа-
ется в том, что в ней отсутствует театральная традиция.
До нового времени не дошло ни клочка рукописи с дра-
матическим текстом, ни единого упоминания о том, что
в Ирландии до английского завоевания были театраль-
ные представления. Все, что хоть как-то может быть
подведено под рубрику драмы,— это средневековые поэ-
мы, написанные в форме диалога (например, между
легендарным древним бардом Ойсином и святым Пат-
риком).
Существуют различные объяснения этой особенно-
сти ирландской культуры. По одной версии, рукописи
древних пьес могли быть уничтожены духовенством.
По другой — театр в Ирландии исторически не успел
сложиться, потому что, сравнительно с другими страна-
ми Европы, в ней чрезвычайно запоздал процесс обра-
зования городов. Это, конечно, относится к независи-
мым областям Ирландии. Города на захваченной тер-
ритории появились достаточно рано, но в силу специ-
фики своего возникновения и местоположения — форпос-
ты завоевателей — они не могли стать очагами органи-
ческого развития средневековой культуры.
Обе эти версии не могут служить исчерпывающим
объяснением, но, как бы то ни было, для Ирландии в
новое время собственного театрального прошлого не
существовало. Был только английский театр; многие из
самых знаменитых его актеров и драматургов происхо-
дили из Ирландии11, но их творчество развивалось в
русле английской культуры.
Тем удивительнее было рождение и стремительный
рост ирландского национального театра на рубеже
XIX и XX в.: за несколько первых лет своего существо-
вания он стал явлением мирового масштаба. Театр
был создан в период высочайшего подъема духовных
сил возрождающейся нации — ирландская культура того
времени вскоре была названа «ирландским возрожде-
нием». И возникновение театра, и его дальнейшая судь-
ба были самым тесным образом связаны с освободи-
10
тельным движением, надолго определившим развитие
современной ирландской истории. Путь молодого теат-
ра Ирландии был отмечен драматизмом, противоречия-
ми и парадоксами. Их, как в фокусе, собрала творче-
ская личность Уильяма Батлера Йейтса.
Человек, явившийся в полном смысле слова родо-
начальником ирландского театра, драматург, теоретик
драмы и театра, театральный полемист, активный и раз-
носторонний театральный практик, решил создать на-
циональный ирландский театр в тот момент, когда в его
сценическом «багаже» не было практически ничего,
кроме одной пьесы. Самое удивительное состоит в том,
что театр был действительно создан. Все это заставляет
самым внимательным образом отнестись к «дотеатраль-
ному» периоду в жизни и творчестве Йейтса.
Примечания
1 Yeats W. Я. Dramatis Personae. L., 1936, p. 177.
2 Ibid.
3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 29, с. 43.
4 Прежняя численность населения не восстановлена в Ирландии до
сих пор: в Ирландской Республике и Северной Ирландии вме-
сте взятых проживает около 4,9 млн. человек — против 8 млн.
в- 1825 г.
5 Spenser Е. A View of the State of Ireland.—В кн.: Осипова Т. С.
Ирландский город и экспансия Англии XII—XV вв. М., 1973,
с. 205.
6 Термин английской историографии, употребляемый и у нас.
7 Конноли Дою. Рабочий класс в истории Ирландии. Отвосвание
Ирландии. М., 1969, с. 202. Д. Конноли (1870—1916). — извест-
ный деятель ирландского национально-освободительного и со-
циалистического движения; за участие в Пасхальном восстании
1916 г. казнен англичанами.
8 Это положение сохраняется и до сих пор, несмотря на меры по
восстановлению гэльского языка (с 1920-х годов, после войны за
национальную независимость, он стал в Ирландии государствен-
ным языком, наравне с английским). Считается, что в настоящее
время ирландским языком владеют около 600 тыс. человек. Од-
нако население «гэльтахта» — тех районов страны, где живое раз-
витие языка не прерывалось,— составляет не более 80 тыс. чело-
век. По некоторым данным (см., например, американскую «Меж-
дународную энциклопедию»), к 60-м годам XX в. ирландским
языком в обиходе реально пользовались только 30 тыс. человек.
9 O'Connor F. A Short History of Irish Literature. A Background
Look. N. Y., 1967, p. 143.
10 A General Introduction for My Work.— In: Yeats W. B. Essays and
Introductions. L., 1961, p. 519.
11 Западные историки английской драмы подсчитали, что, начиная
с эпохи Реставрации (конец XVII в.), большинство известных
драматургов Великобритании были ирландцами,
a
*><l
ПУТЬ К ТЕАТРУ
р^ейтсу было 34 года, когда созданный им Ирланд-
ский Литературный театр показал свой первый
спектакль (8 мая 1899 г.). К тому времени Йейтс поль-
зовался уже немалой известностью и авторитетом как
поэт и литературный критик. Несколько сборников
стихотворений и рассказов, антологии ирландского
фольклора и поэзии, статьи и лекции о литературе —
таков круг творческих занятий Иейтса в 80—90-е годы.
В тот же период он принимает непосредственное и ак-
тивное участие в деятельности ирландских политических
обществ, направленной против Англии. Если взять одну
только событийную канву творческой и общественной
жизни Иейтса, то период до рубежа XIX и XX в. вы-
глядит чрезвычайно насыщенным. Но еще значительнее
внутренняя линия духовного развития Иейтса в эти
годы, решающие для формирования его мировоззрения
и художественных пристрастий.
Йейтс принадлежал к людям поздней жатвы. Свои
самые глубокие и совершенные произведения он начал
создавать на пороге старости. Однако то, что полностью
развернулось так поздно, было заложено чрезвычайно
рано: Йейтс писал, что ведущие идеи всей его жизни
определились у него еще в возрасте семнадцати лет1.
В творческой личности молодого Иейтса поражает
стремление впитать в себя максимум из опыта истории,
культуры и окружающей жизни — и, одновременно, не-
обычайно твердая воля, с редкостной последовательно-
стью и упорством пролагающая собственный путь через
все влияния и впечатления, как бы сильны и разнооб-
разны они ни были. Эти качества проявились в Йейтсе
с самого детства.
Йейтс родился 13 июня 1865 г. в предместье Дубли-
на Сэндимаунте, но своей настоящей родиной он всег-
да считал Слайго, небольшой приморский город на за-
12
паде Ирландии, где жили его родственники и где он
мальчиком проводил долгие летние месяцы. Сам Слай-
го, с его старинными домами и узкими улицами, с га-
ванью— воротами в океан, и окрестности города — ши-
рокая долина с множеством озер, окаймленная горами,—
были для Йейтса предметом такой страстной привязан-
ности, что в детстве величайшим горем для него стала
разлука с этими местами, а в одном из своих послед-
них стихотворений Йейтс завещал похоронить себя на
сельском кладбище в окрестностях Слайго. Стихотворе-
ние, которое Йейтс считал первым настоящим прояв-
лением своего поэтического голоса («Озерный остров
Иннишфри»), было посвящено родным, с детства исхо-
женным местам.
Местность изобиловала развалинами древних зам-
ков, церквей, башен, придорожных крестов. Вокруг
Слайго было также много памятников языческой Ирлан-
дии— курганов и каменных сооружений, о которых
местные крестьяне рассказывали волшебные истории.
Согласно легендам, самый большой курган в округе —
на вершине Нокнарей («гора королей»)—был местом
погребения королевы-воительницы Медб2. Йейтс посто-
янно слышал рассказы о феях и призраках, о волшеб-
ных превращениях и таинственных голосах. Не удиви-
тельно, что впечатлительный мальчик вскоре сам стал
«слышать голоса» или мог, например, «увидеть» в углу
комнаты фантастическую птицу, а порывы ветра были
для него не чем иным, как сонмом фей-сид, со свистом
проносящимся над головой. Вся окружающая природа
давала пищу воображению, настроенному на определен-
ную волну. Это сочетание фантастических образов с ре-
альной и конкретной топографией мы находим впослед-
ствии в поэзии и драматургии Йейтса.
Иейтсу посчастливилось: он впервые приобщился к
традиции ирландской народной культуры совершенно
стихийно и естественно и к тому же в самом раннем
возрасте — подобно тому, как в свое время русские пи-
сатели дворяне открывали для себя мир русского фоль-
клора, слушая сказки и песни своих крепостных нянь.
Для Йейтса в дальнейшем оказались очень важны не
только персонажи и сюжеты ирландского фольклора —
хотя они занимают в его творчестве огромное место,—
но, прежде всего, сама атмосфера фантастических и ге-
роических преданий, способ мышления, запечатленный
в них. Изменчивость всех вещей, превращение одного
13
в другое — часто прямо противоположное, несовпадение
видимости и сущности — эти идеи, поэтически выражен-
ные в слове и подкрепленные воздействием природы,
оказали на будущего поэта сильнейшее влияние и ста-
ли для него затем опорой в борьбе против узкого, по-
верхностного и прагматического взгляда на мир. Йейтс
также увидел в ирландском фольклоре источник нацио-
нальной гордости и национального самоутверждения.
В этом с ним были солидарны многие ирландские ин-
теллигенты 80—90-х годов — те, кто составили ядро
«Ирландского возрождения». Нет необходимости подроб-
но объяснять, почему интерес к национальной старине
приобретал для угнетенной нации, да еще в пору подъ-
ема освободительных настроений, такое огромное зна-
чение, что, например, результаты фольклорных изыска-
ний Королевской Ирландской академии не были опуб-
ликованы из-за боязни спровоцировать патриотические
выступления. Герои и мученики дублинского восстания
1916 г. вдохновлялись образами древних саг — недаром
памятником им стала статуя мифического воина Ку-
хулина.
Со многими образами и сюжетами ирландских саг
Йейтс познакомился значительно позже, когда он был
уже взрослым и начал литературную деятельность; тог-
да же они вошли в его творчество. Между этим перио-
дом и ранними детскими впечатлениями были годы, про-
веденные в Англии, в Лондоне, новая среда, новые ин-
тересы и влияния. Но соприкосновение с фольклорной
стихией не прошло бесследно. Йейтс возвратился к ней,
как возвращаются на родину,— как он сам, живя в Дуб-
лине, Лондоне, Париже, продолжал возвращаться в
Слайго.
Из первых пятнадцати лет своей жизни Йейтс про-
жил в Лондоне двенадцать —с 1868 по 1880 г. (летние
поездки в Слайго продолжались, но становились все
реже). Здесь решающее воздействие на его формирова-
ние оказала среда художественной интеллигенции —
круг знакомых его отца, Джона Батлера Иейтса.
Йейтс-старший был личностью во многих отношениях
замечательной. Он вырос в англо-ирландской семье,
ведущей свою родословную по отцовской линии от анг-
лийских колонистов XVII в. Среди его предков было
много духовных лиц, в том числе дед (Джон Йейтс, пра-
14
Окрестности Слайго. Гора Бен Балбен
дед поэта) и отец. К традиционной для семьи карьере
священника готовили и Джона Батлера, но он от нее
решительно отказался: несмотря на влияние семьи сын
протестантского пастора вырос атеистом и антиклерика-
лом. Отец не стал переламывать характер и убежде-
ния сына. Джон Батлер Иейтс начал учиться на юри-
ста, а позже, уже в 28 лет, отказался и от юридической
карьеры и уехал в Лондон, чтобы всерьез заняться жи-
вописью. Там он примкнул к кругу молодых худож-
ников, последователей прерафаэлитов. Джон Батлер
Йейтс и группа его друзей-художников, по примеру
старшего поколения прерафаэлитов, образовали свое
«Братство» (в него входили, в частности, Джон Неттл-
шип, Эдвин Эллис, Джордж Уилсон).
С 1876 г., когда будущему поэту было 11 лет, его
родители жили в Бедфорд-парке — «прерафаэлитской
деревне», строившейся тогда по проекту Ричарда Нор-
мана Шоу в живописном зеленом предместье Лондона.
Здесь Иейтс получил свои первые сильные эстетиче-
ские впечатления. Тенистые, тихие улицы «деревни»,
коттеджи из красного кирпича и дерева, мебель и обои
по рисункам Уильяма Морриса, живописная одежда оби-
тателей и, конечно, картины, множество картин художни-
ков-прерафаэлитов... Здесь жили художники и поэты,
говорившие об искусстве и жившие искусством; сюда
не допускались утилитаризм, национальные предрассуд-
ки и снобизм, с которыми Вилли Иейтс столкнулся в
своей лондонской школе. Он нашел в Бедфорд-парке
оазис среди чужого и ненавистного города, людей, до-
стойных уважения и подражания. «...Я не находил в
англичанах ни ума, ни хороших манер — исключением
были художники»,— вспоминает Иейтс3.
Годы, проведенные в Бедфорд-парке, на всю жизнь
определили пристрастия Иейтса в области живописи.
Их был бессилен изменить даже авторитет отца, с на-
чала 80-х годов отошедшего от принципов прерафаэли-
тов и начавшего писать портреты в бытовой реалисти-
ческой манере. Иейтс-старший позднее упрекал своего
друга Неттлшипа и самого Данте Габриеля Россетти ни
более, ни менее, как в непрофессионализме, да и об
Уильяме Блейке, кумире прерафаэлитов, говорил, что
тот мог бы (!) стать художником4. Иейтс не смел пе-
речить отцу и даже учился у него портретной живописи
(поступив в художественное училище в Дублине), но его
внутренние убеждения были тверды: «В глубине души
16
я думал, что следует изображать только прекрасное и
что прекрасна только древность и грезы... Меня не увле-
кало простое воспроизведение натуры, и я был убеж-
ден, что искусство должно творить по своим законам»5.
Совершенно очевидно, что раннее и близкое знаком-
ство с изобразительным искусством сыграло большую
роль в формировании Йейтса (это впоследствии сказа-
лось и на его театральной деятельности: Йейтс с само-
го начала работы в театре придавал принципиальное
значение декорации и, например, Гордона Крэга принял
сначала именно как художника). Очевидно и то, что
Йейтс рано стал смотреть на искусство как на высшую
деятельность человека. Многое было воспринято от отца
и его окружения. Но в чем Йейтс был глубоко самим
собой — это в понимании задач искусства. Оно гармо-
нично сочетается с теми основами его миросозерцания,
которые были заложены во время жизни в Слайго. От
детского воображения, одухотворявшего окружающую
природу, протягивается тонкая, но крепкая нить к убеж-
дению юноши: «прекрасна только древность и грёзы».
Можно только гадать о том, какими бы стали взгля-
ды Йейтса на искусство, если бы в самые важные для
их формирования годы он попал бы не в прерафаэлит-
скую, а в какую-то иную художественную среду. Одна-
ко факты жизни Йейтса показывают, что с самых юных
лет он настолько последовательно строил свою творче-
скую личность, настолько хорошо — пусть часто бессо-
знательно— понимал, где для него «свое», а где «чу-
жое», что «свое» в искусстве он рано или поздно сумел
бы найти и помимо прерафаэлитов. Ведь он испыты-
вал и другие влияния, совершенно не вязавшиеся с его
детскими представлениями о мире или с идеями обита-
телей Бедфорд-парка, но этим влияниям он не подчи-
нился. Соприкосновение с «чужим» не было, однако,
безболезненным и не проходило бесследно — совсем на-
против.
В школьные годы Йейтс познакомился с трудами
Дарвина и его последователей. Это произвело на под-
ростка сильнейшее впечатление. Йейтс вспоминает, как
во время летних каникул он увлеченно коллекциони-
ровал растения и камни, проводил естественнонаучные
наблюдения, вступал в ученые споры с взрослым геоло-
гом-любителем и даже задумал написать исследование
17
о жизни морских обитателей. Однако вскоре энтузиазм
сменился болезненной реакцией, о сущности которой
Йейтс пишет: «...Гексли и Тиндалл, которых я вознена-
видел, отняли у меня бесхитростную религию моего дет-
ства...» 6.
В столетие великих естественнонаучных открытий
подобную ломку мировоззрения переживали многие, но
далеко не для всех она оказалась такой драматической,
как для юного Йейтса. Главным объектом его ненавис-
ти были плоские, вульгарно-материалистические и по-
зитивистские выводы из открытий естественных наук,
преобладавшие в современной Йейтсу философии: отказ
видеть за фактом — сущность, сведение духовного к
производному от материального (которое, в свою оче-
редь, понималось крайне примитивно), представление о
мире как о механическом конгломерате явлений. Отверг-
нув эти идеи, широко распространенные и освященные
авторитетом науки и, не в последнюю очередь, буржу-
азного «здравого смысла», Йейтс сделал один из самых
важных шагов в своем духовном развитии. Отныне он
считал своей жизненной миссией выражать — говоря его
словами — «бунт души против интеллекта»7.
В этой борьбе нужна была духовная опора. Сам
Йейтс считал, что он может апеллировать только к
прошлому, поскольку настоящее забыло идеалы духов-
ности. Однако Йейтс оставался человеком своего вре-
мени, даже когда обращался к самой глубокой древно-
сти. Само ощущение своей эпохи как неподлинной, от-
павшей от настоящих жизненных начал и поиски опо-
ры за ее пределами, в прошлом — типичнейшие черты
сознания художника именно того исторического перио-
да; Йейтс в этом отношении — может быть, крайний, но
не исключительный пример.
Эстетические убеждения и вкусы Йейтса складыва-
лись так же, как и мировоззрение, в полемике, в от-
стаивании своего взгляда на вещи, несмотря ни на ка-
кие влияния и авторитеты. Так, он оставался верен
художественным представлениям, приобретенным в
«прерафаэлитской деревне», в то время как сами пре-
рафаэлиты от них отходили. Йейтс определил свои по-
зиции и в отношении поэзии. Отец пытался привить ему
собственный эстетический вкус — любовь к красочности
и драматизму, но сына это не увлекало. Йейтс с отчет-
ливой критической интонацией пишет об отце: «Он ни-
когда не читал мне поэтических отрывков, имеющих
18
философский интерес; более того, был совершенно рав-
нодушен к поэзии, если в ней содержались общие или
отвлеченные идеи, несмотря на страстность их выра-
жения»8. Полемизируя против взглядов Йейтса-старше-
го, будущий поэт выражал несогласие с целым направ-
лением в современной ему литературной эстетике.
До поры до времени убеждения Йейтса оставались
его внутренним делом. Вскоре он должен был заявить
о них открыто: его ученический период кончался.
В 1880 г. Йейтсы вернулись в Ирландию и посели-
лись сначала в приморском городе Хоуте, пригороде
Дублина, а затем в самой ирландской столице. Здесь
Йейтс окончил школу и поступил в художественное учи-
лище, о котором он пишет: «У нас не было ни научной
основы, ни знания истории живописи, ни твердых кри-
териев»9. Преподаватели — кроме Джона Батлера
Йейтса — учили студентов рисовать «гладко и аккурат-
но» 10, что только удручало и утомляло Йейтса. Как мы
помним, манера отца также его не удовлетворяла, но
именно отец смог оказать на него определенное влия-
ние, при том, что Йейтс не стал профессиональным ху-
дожником. Ко времени поступления в училище (1884) он
уже некоторое время постоянно писал стихи, поэзия —
в отличие от скучных занятий в училище — захватыва-
ла его все больше, а после того, как два его стихотво-
рения впервые увидели свет (в 1885 г. в журнале Дуб-
линского университета), решение созрело: через год
Йейтс оставил училище, чтобы заняться литературной
деятельностью.
Главным предметом его изучения в это время была
поэзия, а в ней — те самые «общие и отвлеченные идеи»,
которые не нравились его отцу. Кумирами Йейтса ста-
новятся Шелли и Блейк — это было началом длитель-
ного и глубокого интереса к их творчеству. Свои пер-
вые стихи Йейтс писал в подражание Спенсеру и Шел-
ли. Большая часть английской поэзии XIX в. была ему
чужда, но знал он ее хорошо и вскоре был способен
выступить с ее аргументированной критикой.
Так же серьезно Йейтс изучал труды «ненавистных»
ученых: биологов — Дарвина, Гексли, Альфреда Рассе-
ла Уоллеса, Эрнста Генриха Геккеля, физика Тиндалла,
экономиста и философа Джона Стюарта Милля. В зре-
лом возрасте Йейтс сетовал на то, что в юности не
19
занимался философией. Но многие из ученых-биологов,
в том числе Геккель и Гексли, занимались и собствен-
но философией. Можно утверждать поэтому, что Йейтс
рано и достаточно серьезно приступил к изучению фи-
лософских трудов.
Он настойчиво и страстно искал повсюду иного, чем
у позитивистов, объяснения мира. Этим его привлекала
философская поэзия Блейка и Шелли, а изучение Блей-
ка привело Йейтса к Сведенборгу и Якобу Бёме, идеи
которых повлияли на Блейка. «...Я наконец ощутил, что
нашел союзников своим сокровенным мыслям»,— пишет
Йейтс11. В 1885 г. Йейтс с несколькими друзьями объ-
единились в группу, названную ими «Дублинское обще-
ство герметиков». Каникулы в Слайго приобрели теперь
особый смысл: в легендах и сказках, которые рассказы-
вали крестьяне, Йейтс видел связь с идеями философов-
мистиков нового времени. Это давало Йейтсу дополни-
тельную опору в его отрицании позитивизма как фило-
софии неистинной, временной, не имеющей отношения к
генеральному пути духовного развития человечества.
В Слайго Йейтс нашел также единомышленника и то-
варища по философским занятиям: это был его дядя
Джордж Поллексфен, погруженный в изучение астроло-
гии и магии. Внимание Йейтса привлек и спиритизм;
он познакомился также с основами древней индийской
философии. В Лондоне Йейтс посещал дом Елены Бла-
ватской, главы теософов, и стал членом еще нескольких
обществ философско-мистического характера.
Есть разные точки зрения на «оккультные» пристра-
стия Йейтса. Согласно одной из них, это было стран-
ностью, чудачеством, забавной аномалией — если не без-
вредной формой помешательства. Так считали многие
современники Йейтса; по Дублину ходили анекдоты о
его вере в сверхъестественное — для некоторых из них
Йейтс, видимо, давал поводы. Насмешник Макс Бирбом,
известный английский литератор, театральный критик и
блестящий карикатурист, младший современник Йейтса,
сделал ирландского поэта героем многих своих карика-
тур, имевших такую популярность, что образ, созданный
Бирбомом, стал комическим двойником Йейтса. На ка-
рикатурах Бирбома Йейтс предстает существом «не от
мира сего»: длинная тонкая фигура в черном колеблет-
ся, как водоросль; руки с длинными, тонкими пальцами
застыли в торжественном жесте; глаза устремлены в
пространство или внутрь самого себя (эффект усилива-
ло
ется стеклами пенсне), но — неожиданный комический
контраст — на ногах уютные домашние шлепанцы, сра-
зу снижающие элегантно-потусторонний облик их вла-
дельца.
Противоположная точка зрения — в последнее вре-
мя очень распространенная среди западных исследова-
телей Йейтса — сводится к тому, чтобы считать «оккульт-
ные занятия» главным жизненным интересом писателя,
а его произведения — чем-то вроде криптограммы, в ко-
торой каждый знак соответствует определенному поло-
жению неоплатонизма, каббалы, индийской философии
и т. д.
Позднейшие истолкователи Йейтса явно относятся к
его мистическим увлечениям гораздо серьезнее, чем он
сам, и объективно принижают значение его творчества.
Для Йейтса теософия, спиритизм, телепатические опы-
ты и, тем более, чтение неоплатоников и восточных фи-
лософов, разумеется, не были пустой забавой, но он был
далек от слепой веры в то, что изучал. Йейтс подходил
к чтению философских произведений, к изучению мифо-
логии и к своим «оккультным экспериментам» как ху-
дожник. Все, что он изучал, становилось строительным
материалом его творчества, и, как здание не есть про-
стая сумма кирпичей, его составляющих, так и творче-
ство Йейтса не сводится к прямому переложению мис-
тических идей разного рода, тем более, что мистика —
в кавычках или без кавычек — не была единственным
источником его мировоззрения.
Когда Иейтсу было 20 лет, произошла одна из самых
знаменательных встреч его жизни — с ирландским рево-
люционером Джоном О'Лири, вернувшимся из ссылки.
Через О'Лири Йейтс приобщается к деятельности пат-
риотического общества «Молодая Ирландия»: бывает на
собраниях, читает лекции по литературе, участвует в
спорах — всегда, независимо от повода, имевших по-
литический характер. «Этим дискуссиям, разговорам с
071ири и ирландским книгам, которые он дарил мне
или давал читать, я обязан всем, что сделал с тех
пор»,— пишет Йейтс 12. В частности, как свидетельству-
ет поэт, произошла резкая перемена в тематике его про-
изведений: «индийские сюжеты», «пастухи и фавны» ран-
них стихов уступили место ирландским образам 13. Но
главное, что дало Иейтсу общение с О'Лири,— опреде-
21
лилось его отношение к проблеме национального осво-
бождения Ирландии.
Иейтс вырос среди людей, далеких от политики. Дед,
состоятельный судовладелец, был поглощен делами
своей фирмы; дядя Джордж — астрологией, отец и его
лондонские друзья — искусством. Йейтсу в детстве не
от кого было заразиться политическими страстями.
Правда, он слышал рассказы о предках, принимавших
активное участие в ирландской политике (его прапрадед
священник Джон Йейтс, например, был другом и едино-
мышленником знаменитого революционера Роберта Эм-
мета), но тогда был равнодушен к этим историям. Более
сильное впечатление на мальчика производили разгово-
ры взрослых о восстании фениев, которое произошло в
1867 г. Фениями — взяв это имя из ирландских легенд —
назвали себя члены ирландской революционной органи-
зации, боровшейся за национальное освобождение и за
демократическую республику. Одним из лидеров фениев
был и Джон О'Лири. Вилли Йейтс и не помышлял о
том, что подобный человек когда-нибудь станет его дру-
гом и наставником: у мальчика были героические меч-
ты, связанные с фениями, но о том, чтобы умереть слав-
ной смертью в битве против них... Это скорее всего объ-
яснялось детским воображением, рисовавшим фениев в
образе неких сказочных разбойников, но определенную
роль, должно быть, играла и среда. Иейтс вспоминает:
«Все, кого я хорошо знал в Слайго, презирали нацио-
налистов и католиков, но и к Англии испытывали не-
приязнь, унаследованную, вероятно, от времен ирланд-
ского парламента. Я знал истории, дискредитирующие
Англию, и верил им безусловно» и.
Переезд в Англию обострил в Йейтсе чувство любви
к родине. Жизнь в чужой стране могла бы укрепить и
националистические идеи. Однако Йейтс-школьник не
стал ни воинствующим националистом, ни забитым и не-
счастным чужаком. Уже в этом возрасте он смог от-
делить Англию «пуритан и торгашей» 15 от Англии, став-
шей его второй родиной. Йейтс вспоминает, что в школь-
ные годы он был одинаково горд тем, что он ирландец,
и тем, что он сын художника. Не одни только обитатели
Бедфорд-парка стали друзьями маленького ирландца.
Друзья и покровители нашлись и в школе, среди уче-
ников. Двенадцать лет, проведенные в Англии, не умень-
шив любви Йейтса к родине (куда он продолжал воз-
вращаться), расширили его представления и навсегда
22
привили иммунитет против национализма. Знакомство
с О'Лири довершило дело: для восприятия идей своего
старшего друга Йейтс был уже подготовлен.
В середине 80-х годов политическая обстановка в
Ирландии была очень сложна, политические страсти на-
калены. «Земельная война» крестьян против ирландских
и английских помещиков была в разгаре. В городах
развертывалась борьба католиков за равные права с
протестантами. Возрождалось движение фениев —
было образовано «Ирландское республиканское брат-
ство». Ирландские парламентарии во главе с Чарльзом
Стюартом Парнеллом боролись за автономию Ирлан-
дии в рамках Британской империи. О'Лири, вернувшись
из ссылки, отошел от непосредственной политической
деятельности, но его идейное и моральное влияние
было очень значительным. В год знакомства с Йейтсом
он был пожилым человеком, которого еще больше со-
старили годы тюрьмы и ссылки, но сохранил ясность
и живость ума, молодой темперамент и обаяние. «Са-
мый красивый старик, какого мне довелось видеть ...не-
посредственный, как жизнь художника»,— вспоминает о
нем Йейтс 16. Для Йейтса О'Лири был идеалом патрио-
та и революционера: «Он вырос в то время, когда евро-
пейские революционеры считали, что они, более чем кто-
либо, должны апеллировать к самым высоким мотивам
и руководствоваться неким идеальным принципом, быть
немного похожими на Катона или Брута...» 17. Йейтса
восхищало, что О'Лири в свое время примкнул к фе-
ниям, совершенно не веря в успех восстания, но счи-
тая, что выступление будет полезно для духа нации,
и никогда не жаловался на лишения, которые выпали
на его долю. Он соединял в себе твердость и страст-
ность убеждений с отсутствием всяческого сектантства.
В среде республиканцев, последователей фениев, глу-
боко почиталось творчество поэтов и прозаиков «Моло-
дой Ирландии», политического движения 40-х годов
XIX в. (группы, называвшие себя этим именем в 80-е
годы, тем самым подчеркивали преемственность тради-
ций). Йейтс не знал литературы «Молодой Ирландии».
С ней его познакомил О'Лири. Поэзия «Молодой Ир-
ландии» была по преимуществу ораторской и публици-
стической. Йейтс увидел в ней ту же поверхностность, тот
же разрыв с многовековыми традициями, что и у по-
пулярных английских поэтов XIX в. Йейтса не удовле-
творяла и слишком узко понимаемая патриотическая на-
23
правленность многих произведений «Молодой Ирлан-
дии»: «Если вы читали, например, любовную песню ь
народном духе, то вскоре понимали, что она написана не
влюбленным, а патриотом, желающим доказать, что
наше крестьянство, действительно, как выразился Дэ-
ниел О'Коннел, „самое лучшее в мире"»18.
Еще большую тревогу у Йейтса вызывала патриоти-
ческая концепция, выраженная в художественной про-
зе и теоретических трудах «Молодой Ирландии» и горя-
чо поддержанная последователями этого движения:
«Проза «Молодой Ирландии» была так же занята опи-
санием ирландских добродетелей, как и поэзия, и еще
больше, чем поэзия,— изображением пороков завоева-
телей, и вскоре мы потонули и погрязли в проблемах
типа: был ли Кромвель полным негодяем, а гл,авы ста-
ринных ирландских кланов — святыми, числится ли за
датчанами что-либо, кроме грабежа и поджогов церк-
вей... и были мы или не были в свое время лучшими
ораторами в мире. Все прошлое было превращено в
мелодраму, в которой Ирландия выступала в роли безу-
пречного героя и поэта; у романистов и историков был,а
лишь одна цель — ошикать злодея, и только меньшин-
ство сомневалось в том, что чем больше шикают, тем
талантливее. Эту мелодраму было тем труднее заменить
более высокой формой искусства, что злодей и жертва,
хотя и в иной форме, действительно существовали...» 19.
В ирландской литературе XIX в. была и другая тра-
диция, представленная именами Чарльза Ливера, Сэ-
мюеля Ловера, Томаса Мура, непосредственных пред-
шественников и современников поколения «Молодой
Ирландии». Творчество этих писателей не было связано
с политикой. В их произведениях Ирландия представа-
ла в благополучном «пейзанском» образе, то сентимен-
тальном, то анекдотическом. Авторы «Молодой Ирлан-
дии» с возмущением относились к этой литературе,
поскольку она унижала национальную гордость, факти-
чески изображая Ирландию такой, какой ее хотели бы
видеть завоеватели-англичане. Оценки «Молодой Ир-
ландии» и Иейтса в данном случае совпадали, хотя его
мотивы были не только гражданскими, но одновремен-
но и эстетическими: Йейтс воспринимал произведения
Ливера, Ловера и т. п. как псевдоискусство, ремеслен-
ную подделку под народность. Такую литературу Иейтс
безусловно отвергал.
Его отношение к «Молодой Ирландии» не могло быть
24
однозначным. Йейтс пишет: «Я... ненавидел эту сухую
риторику в стиле XVIII века, но они (авторы «Молодой
Ирландии».— В. Р.) обладали одним качеством, которое
меня восхищало и восхищает: это не были одиночки-
индивидуалисты; они говорили или пытались говорить
от имени народа и с народом...»20. Это признание Йейт-
са очень важно: в противоречивом отношении юного
поэта к «Молодой Ирландии» отразилась его собствен-
ная внутренняя противоречивость, сопровождавшая его
на протяжении всего творческого пути. Йейтс, особенно
на раннем этапе, хотел писать для многих — для всей
Ирландии, но при этом не следовать общепризнанным
образцам, не поступаться своими принципами. Когда
^ти устремления входили в конфликт между собой,
Йейтс ощущал болезненный внутренний разлад, но не
шел на компромисс. Единственным выходом из проти-
воречий для него всегда были поиски более глубокого,
более сложного синтеза.
Так было и в самом начале его творческого пути. Не
удовлетворенный творчеством ирландских писателей
XIX в., Йейтс в поисках подлинной традиции обратил-
ся к ирландской классике, созданной на гэльском язы-
ке. Как и большинство ирландцев, не зная языка, он
мог познакомиться со старинными текстами только в
переводе на английский. Переводы в то время были не-
многочисленны и далеки от совершенства, но и они
произвели на Йейтса сильнейшее впечатление. Он уви-
дел, что сказки и песни, слышанные им в детстве,— часть
огромного и богатого мира национальной культуры.
Йейтс все более убеждался, что ирландские сказания
восходят к дохристианской мифологической системе —
одной из древнейших в Европе. Гэльская поэзия привле-
кала Йейтса сложными и виртуозными ритмами, сме-
лыми, неожиданными образами и тем, что он позднее
назвал «страстным синтаксисом»21 — интонацией живой
взволнованной речи, не похожей на ораторский стиль
«Молодой Ирландии». Йейтс открыл для себя литера-
турную традицию, которая отвечала его собственным
представлениям о подлинном искусстве, а только такое
искусство, по его глубокому убеждению, могло действи-
тельно служить делу Ирландии. Подтверждение своему
пониманию и оценке древней ирландской культуры
Йейтс находил и в трудах современных ему ученых — в
Ирландии и за ее пределами, начавших серьезную раз-
работку проблем ирландской филологии, истории, ар-
25
хеологии, открывавших не известные дотоле факты.
(В частности, большое значение для Йейтса имели кни-
ги ирландского историка Стэндиша ОТрейди: «История
Ирландии, героический период»—1878 и «Пришествие
Кухулина» — 1895.) Одним из главных направлений дея-
тельности Йейтса отныне становится возрождение и
развитие многовекового культурного наследия Ир-
ландии.
В 1887 г. Йейтс вместе с семьей вновь переезжает
в Лондон. Открывается первый этап его взрослой жиз-
ни, охватывающий конец 80-х и 90-е годы. Продолжая
впитывать в себя самые разнообразные идеи и впечат-
ления, Йейтс начинает действовать. Он составляет ан-
тологии ирландского фольклора и поэзии для ирланд-
ских и английских издателей, подготавливает издание
произведений Блейка. Его стихотворения и статьи печа-
таются в английских и американских газетах и журна-
лах, в 1889 г. выходит первый поэтический сборник
(«„Странствия Ойсинаи и другие стихотворения»), за
ним — еще два (в 1892 и 1899 г.), сборник рассказов и
эссе «Потаенная роза» (1897). Йейтс заявляет о себе и
как драматург — в Лондоне ставится его пьеса «Страна
блаженства» (1894). По его инициативе организуется не-
сколько литературно-художественных обществ: в Лон-
доне в 1891 г.— «Клуб стихотворцев» и «Ирландское
литературное общество», объединяющее ирландских пи-
сателей, живущих в Англии; в Дублине в 1892 г.— «На-
циональное литературное общество»;, наконец, в 1899 г.
открывается Ирландский Литературный театр.
В 90-е годы необыкновенно расширяется круг твор-
ческих связей Йейтса. Свое время он делит между Дуб-
лином, Лондоном и Парижем. Он лично знаком чуть ли
не со всей ирландской интеллигенцией, со многими дея-
телями английской культуры, входит в парижские ху-
дожественные круги. Йейтс продолжает свои «оккульт-
ные занятия» и думает о создании «Ирландского мис-
тического ордена». Он знакомится с Уильямом Морри-
сом и некоторое время посещает собрания его Социа-
листической лиги. В 1896 г. он вступает в Ирландское
республиканское братство и не только непосредственно
участвует в политических митингах и демонстрациях,
но и входит в руководство этого тайного общества.
События и впечатления этого периода образуют в
26
творческой памяти Йейтса тот «золотой фонд», из кото-
рого он черпал до конца дней. Не менее важен непо-
средственный итог духовного развития Йейтса в 80—90-е
годы: в главных чертах выкристаллизовалось его ми-
ровоззрение.
В основе этого мировоззрения два начала: острейшее
ощущение расколотости, раздробленности мира и —
столь же острая — потребность в объединении, в гармо-
нии. Через все статьи, написанные Йейтсом в 90—900-е
годы, проходит, в разном метафорическом выражении,
одно понятие: «Великая Память», «память Природы»
(«Магия»), «Воображение» (предисловие к «Стихотво-
рениям Уильяма Блейка»), «Божественная Сущность»,
«Божественный Интеллект» («Символизм в живописи»)
и т. д. Излюбленным выражением Йейтса стало «Един-
ство Бытия»; в своей «Автобиографии» он так объясня-
ет его и стоящую за ним идею: «...Я думал, что и в че-
ловеке и в нации есть нечто, что можно назвать «Един-
ством Бытия», понимая под этим термином то же, что
и Данте, когда в своем «Пире» он уподобляет красоту
человеческому телу с идеальными пропорциями (...).
Я думал, что враг этого единства — абстракция, разумея
под абстракцией не выделение, но разъединение классов,
или родов занятий, или способностей...»22.
Это «Единство Бытия», эту всеобщую, всеобъединяю-
щую основу Йейтс ищет прежде всего в искусстве, сде-
лав его, по собственному признанию, своей «новой ре-
лигией»23. На таком отношении к искусству лежит глу-
бокая печать времени — вспомним крылатую фразу
Ницше «Бог умер»24 и его же определение: «Искусство
подымает главу, когда религии приходят в упадок»25.
Ницше здесь, как, впрочем, и в большинстве случаев, не
выступает первооткрывателем идей: он в концентриро-
ванной, афористической форме выражал то, что но-
силось в воздухе эпохи. В XIX в. религиозную веру под-
рывали и выводы из естественнонаучных открытий,
и многочисленные социалистические учения, и принцип
историзма, восторжествовавший не только в науке, но
и в самом мироощущении (простое осознание того, что
было и есть множество религий, уже рождало сомнения
в истинности каждой из них). Мысль о замене религии
искусством за 30 лет до Ницше высказывал и развивал,
в частности, Вагнер26. Йейтс, как и все мыслящие люди
его поколения, «прошел» через Вагнера и Ницше, но
свою идею искусства почерпнул не из их произведений,
27
а из английской романтической традиции; непосредст-
венными вдохновителями Йейтса были его любимые поэ-
ты Блейк и Шелли.
Английские романтики видят в искусстве высший
способ познания мира, так как оно апеллирует ко все-
му человеку, ко всей совокупности его духовных сил.
«Воображение» Блейка и затем Кольриджа, «Интеллект»
Шелли — понятия, обозначающие духовное начало в
человеке и противостоящие как рассудочности, так и
плоскому здравому смыслу, знающему лишь осязаемый,
чувственный опыт. В своем знаменитом трактате «За-
щита поэзии» Шелли ставит поэта — человека искус-
ства— выше «законодателей и пророков»: «Ибо он не
только ясно видит настоящее как оно есть и обнару-
живает те законы, по которым оно должно управляться,
но и прозревает в настоящем грядущее; его мысли — это
семена, в последующие эпохи становящиеся цветами и
плодами»27. Для Блейка, использовавшего традицион-
ные христианские образы, подлинный Бог — Воображе-
ние, Искусство: «Поэт, Художник, Музыкант, Архитек-
тор— если Мужчина или Женщина не из их числа, зна-
чит, они не Христиане» («Лаокоон»). Гнев Блейка про-
тив механистического материализма XVIII в. был глубо-
ко созвучен Иейтсу в его неприятии позитивизма.
Вслед за Блейком и романтиками Йейтс различает
искусство и Искусство — только второе обращается к са-
мому глубокому и существенному в человеке. Блейк
видел поверхностность — пристрастие к осязаемой реаль-
ности в ущерб проникновению в душу вещей — даже у
таких великих художников, как Гомер, Овидий, Мильтон,
Шекспир, Тициан, Данте. Йейтс также не принимает
многого в искусстве. Его отношения с классикой были
достаточно сложны и в 90-е годы еще окончательно не
определились, но оценки искусства XIX в. тверды и ка-
тегоричны— в дальнейшем Йейтс их практически не
менял. С его точки зрения, реалисты, импрессионисты,
натуралисты одинаково неглубоки — индивидуальный
стиль и уровень таланта для Йейтса в данном случае
не имел значения. Наиболее ненавистны для Йейтса
французские художники Каролюс-Дюран и Бастьен-Ле-
паж — в них он видит воплощение позитивизма в жи-
вописи. Столь же ненавистен Дега — Йейтс сводит с
ним счеты даже в своем предсмертном произведении,
пьесе «Смерть Кухулина». В поэзии для Йейтса непри-
емлем «журнализм» («любопытство к политике, к нау-
28
ке, к истории, к религии»28), к которому он относил
творчество и знаменитых английских поэтов — Суинбер-
на, Теннисона, Браунинга, и авторов «Молодой Ирлан-
дии». С другой стороны, Йейтсу глубоко чуждо и по-
нятие «искусства для искусства». В его понимании
«журнализм» и эстетизм — не полярные концепции (или
содержание — или форма), а разные симптомы одной и
той же болезни: забвения подлинного предмета ис-
кусства.
Критерием серьезности и глубины искусства Йейтс
провозглашает символ, понимаемый очень широко: как
многозначный образ, в котором воплощена духовная
сущность человека, очищенная от всего поверхностного
и преходящего. Йейтс подчеркивает, что такие символы
не изобретаются, не создаются искусственно: они унасле-
дованы от прошлого, именно через них осуществляется
связь времен, они — хранители «Великой Памяти». В со-
ответствии со своим пониманием глубинной традиции
искусства Йейтс создает собственный художественный
пантеон. Многое здесь может показаться странным, а то
и курьезным, особенно в отношении изобразительного
искусства. Соседство прерафаэлитов и Бердслея доста-
точно логично, но в один ряд попадают проникновенный
и целомудренный Пюви де Шаванн — и пошлый Гюстав
Моро, великий Джотто — и некая Альтея Гайлс, офор-
мившая одну из первых книг Иейтса. Однако для самого
Иейтса связь этих имен очевидна: она в обращении ху-
дожников к традиционным символам, следовательно — к
истинному предмету искусства. Единороги на картинах
Моро и сплетенные розы, изображенные Альтеей Гайлс,
были для Иейтса достаточным основанием для причис-
ления этих художников к главной линии мирового ис-
кусства 29, истоки которой — в далеком прошлом чело-
вечества, в его древних мифах. (Измены традиции, по-
нимаемой в этом смысле, Йейтс не прощал и прерафаэ-
литам; он критикует их искусство позднего периода —
после 1870 г.)
В глубоком интересе Иейтса к ирландскому фольк-
лору органически слились его философски-художествен-
ные и патриотические устремления. Статья 1897 г.
«Кельтский элемент в литературе» показывает, сколь
далек был Йейтс и от узкого национализма, и от мисти-
ки в объяснении национального ирландского характера.
В то время как в широко известных работах Эрнеста
Ренана («Поэзия кельтских народов») и Мэтыо Ар-
29
нольда («Об изучении кельтской литературы») проводи-
лась мысль о загадочности и обособленности кельтского
сознания, Йейтс, не соглашаясь с этим, строит свою кон-
цепцию на исторической почве и объясняет самобыт-
ность кельтской литературы продолжительным сохране-
нием в ней черт мифологического мышления, присущего
всем древним народам. Поэтому Йейтс видит в возрож-
дении и развитии ирландской традиции выполнение важ-
нейшего долга и перед Ирландией и перед всем ми-
ром: «...Каждый новый источник легенд вливает свежие
силы в воображение мира»30; «Я бы желал, чтобы Ир-
ландия воссоздала древние искусства — какими они были
в Иудее, в Индии, в Скандинавии, в Греции, в Риме,
в любой древней стране; какими они были, когда воз-
действовали на весь народ, а не на тех немногих, кото-
рые выросли среди праздного класса и сделали пони-
мание искусства своей специальностью»31.
Задача, которую ставил перед собой Йейтс, не была,
следовательно, сугубо локальной; не была она и рестав-
раторской. По точному замечанию Т. С. Элиота, Йейтс
«постоянно проводил параллель между современностью
и древностью»32.
Возрождение искусства в Ирландии воспринималось
Йейтсом как часть движения к духовности, начавше-
гося во всем мире. Характерно, что там, где множество
его современников видело упадок, декаданс (например,
в поэзии французского символизма, в рисунках Обри
Бердслея), Йейтс находил обнадеживающие признаки
поворота к истинной традиции. Его деятельность в ир-
ландских литературных обществах и в «Клубе стихо-
творцев», объединявшем лондонских поэтов независимо
от национальности, была направлена на восстановление
«связи времен», прерванной, как он считал, ложным
направлением в искусстве. Обращаясь к прошлому,
Йейтс думал о будущем. Одной из его любимейших
книг было утопическое произведение Уильяма Морриса
«Вести ниоткуда», рисующее гармонию жизни освобож-
денного человечества в отдаленном будущем,— то са-
мое «Единство Бытия», о возрождении которого мечтал
Йейтс. Он скоро ушел из Социалистической лиги Мор-
риса, так как его оттолкнула ожесточенность политиче-
ских дискуссий, но сам Уильям Моррис навсегда остал-
ся для Йейтса духовным учителем и союзником.
Поисками «Единства Бытия» были и «оккультные»
занятия Йейтса. В различных мистических учениях его
30
более всего интересовала система символов. Йейтсу было
важно установить их внутреннее родство: если оказыва-
лось, что аналогичные символы встречаются в каббале,
у неоплатоников, в ирландской мифологии и т. д., это
отвечало заветной идее поэта о всеобщей духовной
основе. Его догадки о единстве всей мировой культуры
укрепляются и чтением исследований по сравнительной
религии и мифологии — в числе настольных книг Йейтса
«Миграция символов» А.-Ж. Гобле д'Альвьелла, «Зооло-
гическая мифология» Анджело де Губернатиса.
Мировоззрение Йейтса в 90-е годы выглядит цельным
и последовательным. Однако в его жизни нет гармонии—
ни внешней, ни внутренней.
Позиция Йейтса неминуемо должна была вы-
звать нападки на него с самых разных сторон. Для «ор-
тодоксальных» мистиков Йейтс был слишком трезв и
скептичен, для всех прочих — слишком мистиком. Его
подозревали в аристократическом высокомерии и прямо
обвиняли в отсутствии патриотизма. Критика Йейтсом
поэзии «Молодой Ирландии» вызывала острейшую враж-
дебность. Йейтса не пугала борьба — ничего иного он
и не ожидал, когда совершенно сознательно пошел про-
тив течения. Но — в противоположность тому, что ут-
верждали его критики,— он не занимал позицию одино-
кого' и горделивого аристократа духа. Пафос всей его
деятельности заключался в уничтожении всяческой разъ-
единенности. Недаром на протяжении 80—90-х годов он
основывает разные общества с тем, чтобы через объеди-
нение людей искусства достигнуть объединения всего
народа. Однако его мечта не сбылась: «Эти общества
рано или поздно превращались в то, что я больше всего
презирал...»,— пишет Йейтс спустя несколько лет33. Его
положение становилось внутренне противоречивым:
«Одна половина меня превратилась в иронического и
насмешливого наблюдателя, в то время как другая по-
ловина продолжала произносить слова, которые звуча-
ли все более и более нереально...»34.
Внутренний конфликт еще более усилился с вступле-
нием Йейтса в сферу активной политической деятельно-
сти. Многие исследователи не придают большого значе-
ния этой стороне его жизни, а ведь ее одной достаточно,
чтобы разрушить тот ложный образ Йейтса, который
начал складываться еще при его жизни. Трудно предста-
вить, чтобы человек, отстранившийся от реальности и
живущий среди мистических символов и образов прош-
31
лого (таким, случается, рисуют Йейтса даже и сейчас),
мог выступать на митингах, идти в рядах демонстран-
тов и быть членом самого радикального из патриотиче-
ских обществ — Ирландского республиканского братст-
ва. Йейтс был слишком живым и горячим человеком —
и слишком патриотом, чтобы оставаться на положении
наблюдателя, когда вокруг бурлила вся страна. К по-
литическому движению он приобщился через О'Лири
и его друзей, старых республиканцев-фениев; как и они
в свое время, Йейтс был настроен романтически и ру-
ководствовался самыми высокими побуждениями. Он ви-
дел крайности и узость сектантства, но надеялся своим
личным участием способствовать объединению всех
патриотов. Перед ним, как и перед многими ирландца-
ми, был пример Парнелла, который на пороге 90-х годов
сумел, казалось, сплотить разные течения освободитель-
ной борьбы. Но это длилось недолго: противники Пар-
нелла спровоцировали вокруг его имени публичный
скандал, связанный с обстоятельствами его личной жиз-
ни; Парнелл был вынужден оставить политическую
деятельность и вскоре умер (1891). После его смерти
разброд и борьба группировок в ирландском движении
за независимость вспыхнули с новой силой.
йейтс не оставлял надежды вернуть патриотическое
движение к «идеализму Маццини»35, но повседневная
реальность политической борьбы не соответствовала его
идеалам. Йейтса продолжала мучить двойственность,
усугубившаяся его личной драмой.
В 1889 г. в лондонском доме Иейтсов появилась Мод
Гонн, знакомая О'Лири, и заговорила о политике.
Йейтс вспоминает об этом так: «Она раздосадовала
моего отца, восхваляя войну — войну ради войны, не
потому что война порождает доблесть, а так, как будто
само возбуждение борьбы и есть доблесть»36. Слова
Гонн глубоко противоречили убеждениям и самого
Йейтса, но, в отличие от своего отца, 24-летний поэт
видел перед собой не фанатического проповедника вой-
ны, а женщину в расцвете молодости и красоты... С этой
встречи начинается длившаяся всю жизнь возвышенная
и мучительная история любви Йейтса к Мод Гонн.
Первое впечатление не обмануло Йейтса. Азарт борь-
бы, постоянный риск, постоянное напряжение всех сил
были стихией Гонн. Поэт писал о ней два десятилетия
спустя:
32
She lived in storm and strife,
Her soul had such desire
For what proud death may bring
That it could not endure
The common good of life...
(Она жила среди бурь и борьбы, /Ее душа так жажда-
ла/ Того, что сможет дать гордая смерть, /Что для нее
были невыносимы/ Обыденные радости жизни... «Чтобы
пришла ночь».)
В других стихотворениях Йейтс сравнивал Гонн с
«женщиной, которую воспел Гомер», называл ее красо-
ту «подобной натянутой тетиве». Объективные свидетель-
ства делают восхищение поэта более чем понятным.
Портреты и фотографии запечатлели облик Мод Гонн —
женщины редкой, поразительной красоты, с огромными
карими глазами и пламенно-золотой волной волос. Со-
временники вспоминают, что когда ее высокая царствен-
ная фигура появлялась в трущобах Дублина, бедняки
сбегались толпами и целовали ей руки, как святой;
митинги, где выступала Гонн, привлекали тысячи лю-
дей. В 1900 г., во время посещения Дублина королевой
Викторией, власти собрали на встречу королевы 12 ты-
сяч .детей. Через неделю Мод Гонн во главе 40-тысяч-
ной колонны детей прошла по всему Дублину, а затем
за городом, на большом поле, «в присутствии священ-
ника их церкви (католической.— Б. Р.) они поклялись
в непримиримой вражде к Англии до тех пор, пока Ир-
ландия не будет освобождена»37.
Личность Гонн освящала для Йейтса многие поли-
тические акции и делала возможным его участие в них,
но сомнения его не оставляли. Гонн была выразитель-
ницей самых крайних националистических взглядов и
стояла за самые крайние меры борьбы, вплоть до тер-
рора. Йейтс надеялся, что сможет увлечь ее своим идеа-
лом гармонически единой Ирландии. Со своей стороны,
Гонн считала Йейтса слишком умеренным и непосле-
довательным в политике и пыталась сделать его поэтом-
агитатором в духе «Молодой Ирландии». Этим двум
столь несхожим людям не было суждено ни переделать
друг друга, ни пойти на компромисс. Для Гонн, не лю-
бившей Йейтса, их конфликт не был большой бедой.
Для поэта он обернулся глубокой личной драмой, не-
отделимой от острого ощущения дисгармонии во всей
окружающей жизни. Йейтс все меньше верил в то, что
2 В. А. Ряполова
33
в Ирландии возможна политическая борьба без оже-
сточения и фанатизма.
К концу 90-х годов Йейтс решает сосредоточить всю
свою деятельность на благо Ирландии в сфере искус-
ства. Он пишет впоследствии: «Я отошел от политики,
поскольку то, что я говорил о книгах, вносило сумяти-
цу в сознание простых людей, патриотов, чье доверие я
завоевал тем, что говорил о нации,— для меня это было
нестерпимо»38. Но и в этом решении заключалось про-
тиворечие. Йейтс не собирался «говорить о книгах» ина-
че, чем прежде; в то же время его целью было по-преж-
нему обращение к самой широкой аудитории. В соот-
ветствии со своим мировоззрением Йейтс ставил чело-
века искусства на самую высокую ступень в обществе —
поэт вдохновлялся примером древних ирландских бар-
дов, духовных вождей и законодателей страны. В Ир-
ландии конца XIX в.—да и во всей Европе — реальное
положение и роль искусства и художника были беско-
нечно далеки от того, что представлялось Йейтсу един-
ственно правильным порядком вещей. Художник с та-
ким сознанием должен был стать непризнанным бар-
дом—-позиция мучительная, двойственная, чреватая
многими опасностями для творчества.
Однако все внутренние и внешние конфликты, тре-
вожившие Йейтса на пороге нового столетия, не отня-
ли у него веры в возможность переустройства жизни
в соответствии с идеалами. Этим он отличался от сво-
их собратьев по духу, французских поэтов-символистов,
которые представляли поколение, пережившее кризис
идеалов с гибелью Парижской Коммуны. Йейтс был на
20—25 лет моложе Малларме, Верлена, Вилье де Лиль-
Адана и, будучи ирландцем, дышал иным воздухом: он
жил в ситуации «перед революцией», а не «после рево-
люции». На сознательном, рациональном уровне Йейтс
мог не отдавать себе в этом отчета — так, в статье
1907 г. «Поэзия и традиция» он исключает вероятность
вооруженного восстания,— но характер всей его деятель-
ности определялся внутренним ощущением того, что он
работает ради общего дела, ради возрождения Ирлан-
дии. Если одни попытки не удавались, Йейтс делал дру-
гие— имея в виду ту же цель. Решение создать ирланд-
ский национальный театр было для него продиктовано
как творческим, так и общественным импульсом.
34
Мод Тонн
«Огромное большинство нашего народа, привыкшее
к нескончаемым политическим речам, читало мало, и по-
этому мы чувствовали с самого начала, что нам нужен
свой театр»39. Такое объяснение Йейтс дал в своей Но-
белевской речи 1923 г. И в другом месте: «Если Ирлан-
дия не желала читать, то, может быть, она стала бы
слушать, поскольку политика и церковь воспитали слу-
шателей» 40.
В изложении Иейтса все это выглядит совершенно
просто, но для того, чтобы он пришел в свое время к
такому выводу, потребовалось не так уж мало. Необхо-
димо было, чтобы Йейтс был внутренне готов к пере-
ходу, достаточно сложному для любого поэта, да еще в
такой ситуации, когда театра нет — его надо создать, со-
творить собственными силами.
Огромную часть деятельности Йейтса в литературных
обществах Дублина и Лондона, основанных им, состав-
35
2*
ляли лекции, иейтс и его единомышленники ездили по
всей стране, выступая перед аудиторией, которая «не
желала читать», но жадно слушала. Впоследствии
Иейтс писал, что живое общение со слушателями было
единственным средством донести до них не только свою
поэзию, но и мысли о путях развития ирландской куль-
туры, ее достижениях и неудачах. Проблема заклю-
чалась еще и в том, что уровень ирландской художе-
ственной критики был настолько низок, что даже чи-
тающая публика не могла удовлетворить своих духов-
ных запросов, не находя в прессе обсуждения главных
и самых насущных вопросов культуры. Опыт выступ-
лений с лекциями о литературе ясно показал Йейтсу,
что в стране есть широкая аудитория, живо и глубоко
интересующаяся национальной культурой и умеющая
слушать. Йейтс обрел убежденность в том, что эта
аудитория легко превратится в театральную.
Но какие, собственно, основания были у Йейтса счи-
тать, что именно он может создать ирландский театр?
Ответ на этот вопрос не укладывается в одну-две фразы.
Он содержится во всей человеческой и духовной биогра-
фии Йейтса, предшествовавшей его приходу в театр.
В мемуарах, письмах и других документах, относя-
щихся к детству и отрочеству будущего драматурга, мы
не встречаем упоминаний об его особенном пристрастии
к театру, о любимых актерах, о собственных любитель-
ских театральных опытах — словом, обо всем том, что
было бы обычно и естественно для мальчика, растущего
в художественной среде, в таком городе, как Лондон,
тем более, имея в виду дальнейшее направление его
интересов. Кажется, что изобразительное искусство и
поэзия поглотили все внимание Йейтса. Но театр также
исподволь захватывает его, и проявляется это таким
образом, что накладывает свой отпечаток и на восприя-
тие живописи и поэзии.
К ранним годам Йейтса в Лондоне относится одно
сильное театральное впечатление, которое он выделяет
среди прочих много лет спустя. Это «Гамлет» в театре
«Лицеум» с Генри Ирвингом — Гамлетом и Эллен Терри
в роли Офелии. В своих мемуарах Иейтс пишет: «На
многие годы Гамлет стал для меня образом героическо-
го самообладания, примером для подражания в детстве
и юности, воином в моей борьбе с самим собой»41.
36
ото свидетельство важно во многих отношениях.
Прежде всего — поскольку сам Йейтс придает спектак-
лю такое значение, что считает его вехой своего духов-
ного развития. Кроме того, эта первая из известных нам
встреч Иейтса с творчеством Шекспира произошла в
идеальных условиях, в живом театре («изучать» Шекс-
пира ради грамматики Йейтс начал позже, в дублин-
ской школе), с великолепными исполнителями. Восприя-
тие Иейтсом Гамлета — Ирвинга чрезвычайно интерес-
но: таким не увидел принца датского в этом знамени-
том спектакле, пожалуй, никто из рецензентов (писали
о смятении, о разочарованности, о любящей и ранимой
душе Гамлета и т. д.). Здесь не место углубляться в
проблемы ирвинговской трактовки и ее оценок совре-
менниками. Что касается будущего ирландского драма-
турга, то необходимо учитывать, при каких обстоятель-
ствах он увидел спекталь в «Лицеуме». Ведь, в отличие
от взрослых зрителей — тем более профессиональных
критиков,— мальчик-ирландец тогда впервые открыл для
себя шекспировский текст, иными словами, не только
воспринял трактовку Ирвинга как таковую, но, преж-
де всего, самого шекспировского Гамлета — через Ир-
винга. Как бы то ни было, образ Гамлета, запечатлев-
шийся в его сознании,— героический, и это самое глав-
ное. Впоследствии Гамлет станет духовным ориентиром
Иейтса не только в жизненном поведении, но и в твор-
честве.
Нельзя не увидеть противоречивости уже в самых
ранних эстетических пристрастиях Иейтса. Казалось
бы, подросток, затем юноша, выросший в атмосфере
прерафаэлитского искусства, превыше всего ценивший
в искусстве «общие и отвлеченные идеи»42, не должен
был отзываться на «грубый» драматизм, задевающий
сферу человеческих страстей и интересов; еще менее
можно было бы ожидать от него интереса к индивиду-
альности, к характерному. В своих эстетических выска-
зываниях раннего и более позднего периода Йейтс —
достаточно последовательный противник и драматиче-
ских эффектов и характера. Его раннее творчество в
этом отношении, возможно, еще более последователь-
но. Но подспудно в Йейтсе-художнике существуют дру-
гие устремления, прямо противоположные. Страстные
драматические монологи, которые он подростком слышит
в исполнении отца, вызывают у него критическое отно-
шение; тем не менее они запечатлеваются в его памяти
37
и так же, как образ Гамлета, сопровождают его спустя
десятилетия (среди этих драматических отрывков — сно-
ва Шекспир: монолог Кориолаиа в лагере Авфидия). По
этому поводу Иейтс позднее (в публичной лекции
1910 г.) сделал неожиданное признание: «И я стал ду-
мать (и продолжал так думать в течение многих лет),
что возвышенная поэзия может быть только драматиче-
ской поэзией, потому что в ней всегда, за каждой мыс-
лью, стоит человеческая жизнь, бурная, трепещущая...
Я читал поэтов-елизаветинцев, но эти изумительные ли-
рические стихи нравились мне только тогда, когда я
представлял себе воображаемых людей, которые пели
их, и обстоятельства, в которых они возникли»43.
Совершенно очевидно, что у Йейтса в годы форми-
рования вырабатывался взгляд драматурга. Его отноше-
ние к лирике елизаветинцев высвечивает еще одну важ-
ную для Иейтса мысль: лирическое и драматическое на-
чала могут сочетаться. Сам поэт-лирик, Йейтс искал
таких путей в театр, на которых ему не пришлось бы
изменять себе. Одновременно он продолжал резко вы-
ступать против того драматизма, который преобладал в
современной ему поздневикторианской поэзии и выра-
жался в сюжетности, описательности в духе театраль-
ных ремарок и т. п. Для Йейтса носитель подлинного
драматизма — голос как выражение человеческого духа.
Его суждения о драматизме в поэзии позволяют пред-
ставить, какого рода драматургию он не принимал и
какую признал бы за истинную и глубокую.
Точно так же в отношении Иейтса к живописи, кото-
рое формировалось с отроческого возраста, просматри-
вается особый, театральный, ракурс. Рассказывая о сво-
ем пребывании в художественной школе, о нелюбви к
портретной живописи и о пристрастии к изображению
того, что было в древности или что является в грё-
зах 4\ Йейтс делает одну очень важную оговорку: сам
он мог писать только портреты и на всю жизнь приоб-
рел привычку смотреть на людей глазами портретиста.
Йейтс объясняет это влиянием отца, но это не может
быть единственной и самой важной причиной: Иейтс не
принял бы и не принимал того, что ему было внутрен-
не чуждо. Он действительно обладал глазом портрети-
ста, что ярко проявляется и в его мемуарах, на стра-
ницах которых предстают десятки великолепно очер-
ченных индивидуальностей, и в самых ранних статьях
начиная с 80-х годов. Знаменательно то, что Иейтса-
38
художника восхищают и увлекают индивидуальности
многих людей, с идеями которых он резко расходится.
Корреспонденции молодого Йейтса для американских
газет полны живых, талантливых зарисовок лондонско-
го светского и литературного быта; отправляясь от них,
Йейтс переходит к изложению «общих и отвлеченных
идей». Интересно, что сценки и диалоги, содержащие-
ся в этих статьях Йейтса, по своему характеру беско-
нечно далеки от настроения и стиля его собственных
драм (первые из них создавались уже тогда), но вполне
театральны. Йейтс, когда хотел этого, мог писать в духе
французских комедиографов или Уайльда — еще одна
существенная поправка к мифу о поэте, погруженном
в «кельтские сумерки» и умозрения и лишенном дра-
матического таланта.
Требуется также поправка к тому, что уже было
сказано о пристрастиях Йейтса в области живописи.
Можно утверждать, что его восприятие живописи было
изначально по преимуществу литературным. Такое впе-
чатление создается в результате анализа многих его
высказываний, от самых ранних до самых поздних.
К тому, что делает живопись — живописью, к ее чувст-
венной стороне Йейтс был, можно сказать, равноду-
шен-,— иначе, при всей его принципиальной нелюбви к
«внешнему» искусству, трудно объяснить его почти пол-
ную невосприимчивость к искусству импрессионистов и
школ, последовавших за ними. В живописи Йейтс ценит
тему — т. е., в его понимании, проявление символической
традиции, другими словами, сюжет, как бы своеобраз-
но его себе ни представлять. В конечном счете именно
за выбор сюжета он ставил ранние картины прерафаэ-
литов выше всего в живописи XIX в. (характерно, что
в числе лучших из них он упоминает «четыре-пять порт-
ретов Уоттса» и «четыре-пять картин Россетти, изоб-
ражающих несколько фигур в драматическом дейст-
вии»^). Йейтс, конечно, не был нечувствителен к чис-
то живописной стороне картин прерафаэлитов, к их
краскам, но характерные для прерафаэлитов ло-
кальные цвета, лишенные светотени, нравились Йейтсу,
во-первых, в силу своей антинатуралистичности и, во-вто-
рых, ввиду их символического значения — т. е. скорее с
«литературной» точки зрения. Позднее, уже работая в
театре, Йейтс постоянно использует цвета прерафаэлит-
ской живописи в декорациях. Таким образом, он дол-
жен был еще в свою дотеатральную, пору воспринимать
39
полотна прерафаэлитов и в качестве фона и места воз-
можного действия, аналогично тому, как ренессансная
лирика представлялась ему голосом воображаемого
лица — монологом.
Возвращение Иейтса в Лондон (1887), открывшее
новый этап его жизни, знаменовало собой и начало ши-
рокого знакомства с современным ему театром. В эту
пору влечение к театру у 22-летнего поэта было вполне
осознанным: он хотел работать для театра (вначале —
в качестве драматурга) и искал «свой» театр.
Рубеж 80—90-х годов и последующее десятилетие —
пора расцвета европейской «новой драмы» и движения
«независимых» (или «свободных») театров46. В это вре-
мя Иейтс, живущий в Лондоне и постоянно наезжающий
в Париж,— в курсе всего, что происходит в обеих те-
атральных столицах, а через своего близкого друга и
единомышленника, поэта и критика Артура Симонса, он
хорошо осведомлен о театральной жизни и других евро-
пейских стран. Тот же Артур Симоне вводит Иейтса в
круг Малларме47. Иейтс знакомится с идеями синтети-
ческого театра, выдвинутыми Малларме, не только в
теории, но и на практике: актриса Жоржетт Леблан,
«идеальная Мелисанда» Метерлинка, выступает с чте-
нием стихов Малларме, Верлена, Метерлинка под музы-
ку Форе; в Париже были и другие опыты этого рода.
Иейтс жадно впитывает и критически оценивает свои
богатейшие и разнообразные театральные впечатления.
Его отношение к существующей «репертуарной» дра-
ме и к театральной рутине, естественно, бескомпромисс-
но сурово. Противник внешнего в поэзии и живописи,
Иейтс тем более отрицательно относится к внешнему
в театре, где оно торжествующе выставляет себя напо-
каз, бьет в глаза обстановочной тяжеловесной рос-
кошью, шикарными костюмами исполнителей, сцениче-
ской машинерией и пиротехникой. Таков был преобла-
дающий постановочный стиль на английской сцене
конца XIX в. Генри Ирвинг, Герберт Бирбом Три, Джон-
стон Форбс-Робертсон продолжали традицию, утвер-
дившуюся в Англии с начала столетия. Десятки безы-
мянных постановщиков, «разводивших» спектакли те-
кущего репертуара, действовали в этом же русле. Ког-
да Иейтс называет современный ему театр (и не только
английский) «тюрьмой из краски и холста», а постанов-
40
тиков упрекает в любви к зрелищности в ущерб смыслу
драматических произведений, он выражает чувства,
созвучные всему поколению тех, кто пришел в конце
XIX в. в театр с намерением переделать его. Столь же
характерно его возмущение антилитературностью, хал-
турным и пошлым уровнем драмы текущего репертуа-
ра. Как и следует ожидать, в числе мишеней его кри-
тики— французские мелодрамы и фарсы и их бесчис-
ленные переделки (французская коммерческая драма
действительно заполнила в то время все европейские
сцены).
Больший интерес представляет отношение Иейтса к
новым течениям в драматургии и театре, а также к ак-
терским индивидуальностям его времени.
Среди всех авторов «новой драмы» самым влиятель-
ным для Англии конца XIX в. был Ибсен. Кульминация
ибсеновской популярности в английском театре, соглас-
но авторитетному исследованию,— конец 80-х и первая
половина 90-х годов48. Лондонский Независимый театр
открылся в 1891 г. постановкой «Привидений» Ибсена —
выбор принципиальный, сознательный вызов обществен-
ному вкусу. Английской читающей публике, благодаря
переводам Уильяма Арчера, изданным в 80-е годы, был
известен весь ибсеновский канон. Театры также ставили
большинство пьес Ибсена, от самых ранних до поздних.
Однако популярностью у публики пользовались его со-
циальные драмы среднего периода: «Столпы общества»,
«Враг народа», «Кукольный дом», «Привидения»49.
Быть «ибсенистом» в Англии значило выступать за
театр актуальной общественной проблематики, за театр,
изображающий социальную и бытовую реальность.
Нетрудно догадаться, что ибсенистом Иейтс быть не
мог. В своем отзыве на постановку «Кукольного дома»
(в лондонском театре «Ройялти», 1889) он совершен-
но недвусмысленно высказывает отношение к Ибсену
с точки зрения своих общих взглядов на искусство:
«...Пьеса вызвала у меня ненависть: что это, как не
все те же Каролюс-Дюран, Бастьен-Лепаж, Гексли и
Тиндалл? Почему я должен восхищаться диалогом, так
похожим на речь современного образованного слоя, что
это полностью исключает музыку и стиль? «Искусство
есть искусство, потому что оно не есть природа», повто-
рял я про себя...»50. Далее Иейтс называет пьесы Иб-
сена журнализмом, что в его устах — эпитет уничижи-
тельный. При этом Иейтс вполне понимал значение Иб-
41
сена для европейской сцены: «Однако ни я, ни все мое
поколение не могли избегнуть его влияния, потому что,
хотя у нас были разные друзья, но одни и те же вра-
ги»51. Этими врагами, по словам Йейтса, были «старо-
модная мелодрама и ложный романтизм»52.
Очень похожим было отношение Йейтса к Шоу, ко-
торый, наряду с Ибсеном, стал знаменем нового англий-
ского театра в 90-е годы. Объясняя, за что он ценил
Шоу, Иейтс употребляет почти те же слова, что и в
высказывании об Ибсене: «Он (Шоу.— В. Р.) так умел
бить по моим врагам и врагам Есего, что я любил, как
никогда не удалось бы ни мне, ни одному из любимых
мной писателей-современников» 5S.
В отношении к Ибсену и Шоу Йейтс проявил черту,
достаточно характерную для всех авторов «новой дра-
мы» рубежа XIX и XX в.: сознавая, что есть старая
(и устаревшая) драматургия и что — новая, они отнюдь
не принимали всех новых тенденций и произведений.
Известны отрицательные отзывы Чехова и Стриндберга
об Ибсене, Толстого о Чехове, Шоу, Метерлинке, о том
же Ибсене и т. д. Это и закономерно: «новая драма» не
была единым стилевым течением или, тем более, лите-
ратурной школой, и ее авторы, представлявшие широ-
чайший спектр всех новых художественных направле-
ний своего времени, не могли быть согласны между со-
бой во всем54. Напротив: понимая исчерпанность ста-
рых форм, каждый из них энергично искал и отстаивал
свой, неповторимый, новый путь и творчески спорил с
другими, искавшими того же. Близость художественных
позиций была не таким уж частым явлением — хотя все
авторы «новой драмы» желали иметь единомышлен-
ников.
Иейтс нашел многое из того, что оказалось ему со-
звучно, во французском театре. Он видит там поэти-
ческие и условные пьесы Метерлинка, «Саломею»
Уайльда, «Акселя» Вилье де Лиль-Адана, опыты поэти-
ческого «театра одного актера». Естественно, что Ме-
терлинк и Вилье де Лиль-Адан, а не «журналисты»
Ибсен и Шоу привлекают симпатии и интерес поэта
Йейтса55. Он и воспринимает их прежде всего как поэ-
тов (хотя их пьесы написаны прозой)—в одном ряду с
Малларме, Верленом, Рембо. Как и в случае с «Гамле-
том» Ирвинга, на Йейтса гораздо большее впечатление
производят пьесы, чем постановки. Он продолжает счи-
тать, что главное в театре — слово, и Франция, с ее
42
традицией и культурой сценической речи, в этом смыс-
ле для него подтверждение и пример (особенное впе-
чатление на Йейтса производит искусство знаменитых
актеров — Коклена-старшего и Сары Бернар).
Франция, Париж очень много дали Йейтсу и всей
своей художественной атмосферой. Его любимые совре-
менные живописцы — те, кто, по его мнению, продол-
жал «великую традицию»,— не только жили и творили
во Франции, но и оказывали влияние на поэзию, дра-
му и театр и, в свою очередь, вдохновлялись образами
поэзии и театра. Йейтс мечтал о таком же содружестве
художников в Англии и Ирландии (и пытался его со-
здать)— это отвечало его самым заветным и глубоким
идеям. Он видел единомышленников среди английских
и ирландских поэтов и живописцев; дело было за теат-
ром. Йейтс искал, поддерживал и пропагандировал ма-
лейшие ростки того, что, как ему казалось, обещало воз-
рождение поэзии в театре. Сейчас при чтении статей
и рецензий Йейтса несоизмеримость его представлений
о новом поэтическом театре и произведений, приводи-
мых им в качестве образца такого театра, бьет в гла-
за. (Эта несоизмеримость была очевидна уже спустя
несколько лет и для самого Йейтса.) Видно также, как
редки в английском театре были произведения, кото-
рые даже при энтузиазме Йейтса можно было счесть
первыми ласточками поэтического обновления. Но как
поводы для развития мыслей Йейтса о новом театре
эти его впечатления представляют интерес.
Он приветствует драму, не воспроизводящую обы-
денный современный быт и «тривиальную и лишенную
красоты фразеологию улицы и гостиной»56. Стихотвор-
ная драма на традиционные (мифологические или ска-
зочные) сюжеты представляется ему проявлением по-
длинной глубины и серьезности в искусстве. Поэтому
он, например, с увлечением рассказывает о пьесе поэта
Роберта Бриджеса «Возвращение Улисса» (из описания
явствует, что повод для восхищения Йейтса — собствен-
но, сам гомеровский сюжет, трактованный хрестоматий-
но, и тот факт, что пьеса написана в стихах).
На одном имени, оказавшемся в поле зрения Йейтса
в 80—90-е годы, стоит остановиться подробнее, так как
с ним в какой-то степени связано начало практическо-
го участия Йейтса в театре. Это Джон Тодхантер, ир-
ландец, в недавнем прошлом дублинский врач и пре-
подаватель литературы, сосед Йейтсов по Бедфорд-пар-
43
ку. В Лондоне Тодхантер стал «свободным художни-
ком» (средства позволяли ему это), поэтом и драматур-
гом. Его пьеса «Елена в Трое» в 1886 г. произвела в
Лондоне небольшую сенсацию — главным образом бла-
годаря новаторской постановке, осуществленной в по-
мещении цирка, в котором воспроизводился античный
театр 57. Йейтс проявил большой интерес к творчеству
Тодхантера, в частности, вовлек его в Клуб стихотвор-
цев. Благодаря энтузиазму и горячей поддержке своего
молодого друга Тодхантер закончил вторую стихотвор-
ную пьесу, пастораль «Сицилийская идиллия» (на сю-
жет, почерпнутый у Феокрита).
Премьера пьесы (1890) состоялась в маленьком те-
атральном клубе Бедфорд-парка (архитектор, проекти-
руя «прерафаэлитскую деревню» для идеальной общи-
ны, конечно, не мог не предусмотреть театра, задуман-
ного как общественный центр обитателей Бедфорд-пар-
ка). В описаниях спектакля (в том числе и самим Йейт-
сом) много места уделено публике и вообще всей атмо-
сфере вокруг спектакля. В зале была художественная
интеллигенция, жители Бедфорд-парка и их друзья.
Сам спектакль вряд ли был вехой театрального ис-
кусства, но праздничная и благожелательная атмосфера
явно передалась исполнителям. Видимо, можно верить
Йейтсу, когда он пишет: «Главным было впечатление
божественной невинности и юности, свежести мира, ко-
торый еще сияет каплями утренней росы... Вот это ощу-
щение, это настроение приподнимает пьесу над мусо-
ром обыденной жизни и делает ее поэтической»58. Йейтс
также с восторгом описывает зрелищную сторону спек-
такля: «Пастухи в леопардовых шкурах, пастушки в
разноцветных одеяниях... отсвет голубого Средиземно-
го моря... виноградные гроздья и листья...»59. Хор юных
пастухов и пастушек сопровождал действие. Но что дей-
ствительно поразило Иейтса — это звучание драматиче-
ского стиха в исполнении Флоренс Фарр (по мужу —
Эмери) и Херона Аллена, выступивших в главных ро-
лях. В то время Йейтс еще не бывал в Париже и не
был знаком с французским опытом театра поэзии; спек-
такль в Бедфорд-парке стал для него в этом смысле
откровением. «Она почти идеальная поэтическая актри-
са»,— напишет Йейтс о Флоренс Фарр через год ( к тому
времени она сыграла Ребекку Вест в «Росмерсхольме»
и выступила в новой пьесе Тодхантера, уже на профес-
сиональной сцене) 60. В дальнейшем, бесконечно рас-
44
ширив свой театральный опыт, видя многое из лучше-
го, |что было в европейском театре, Иейтс не изменил
своего мнения о Флоренс Фарр как идеальной испол-
нительнице стихотворной драмы. В своих мемуарах
Ией+с писал о двух главных исполнителях «Сицилийской
идиллии»: «Их речь была музыкой, поэтический текст
обретал такое благородство и такую страстную просто-
ту, что в некоторые мгновения он был сродни великой
мировой поэзии». Там же Иейтс пишет о «несравненном
чувстве ритма» у Флоренс Фарр61.
Спектакль в Бедфорд-парке сыграл роль катализа-
тора в процессе сближения ирландского поэта с теат-
ром. Иейтс обрел уверенность в том, что поэтический
театр возможен и осуществим, что у него есть своя пуб-
лика и свои актеры. Непосредственным практическим
результатом присутствия Йейтса на «Сицилийской идил-
лии» были пьесы, написанные им в расчете на участие
Флоренс Фарр, и попытки создания с ее помощью по-
этического «театра одного актора». Но это уже следую-
щий этап в отношениях Йейтса с театром. Ему пред-
шествовало теоретическое осмысление задач театра и
драмы, в котором выразилось все главное, что Иейтс
думал о современном искусстве. Еще раньше Иейтс на-
чал* писать свои первые пьесы.
Среди драматургического наследия Йейтса есть не-
сколько произведений, которые обычно не включаются
в основное собрание как слишком несамостоятельные и
незрелые. Это «Остров статуй», «Искатель», «Мосада»
и «Время и волшебница Вивьен», опубликованные во
второй половине 80-х годов, а написанные еще раньше,
вероятно, до того, как Йейтсу исполнилось 19 лет. Нет
оснований пересматривать общее мнение исследовате-
лей: юношеские пьесы — действительно слабые с точки
зрения и поэзии и драматургии, хотя в них уже есть
прекрасные строки. Эти «пробы пера», однако, инте-
ресны своим общим настроением, мироощущением, как
бы еще несовершенно оно ни было выражено. Ведь к
семнадцати годам мировоззрение Йейтса уже сложи-
лось (что подтверждает анализ его стихов и драм),
и где-то в это время он задумал одно из своих програм-
мных произведений, писавшееся им на протяжении мно-
гих лет,— драматическую поэму «Туманные воды» (пер-
вый вариант закончен в 1900 г.).
45
В пьесе «Остров статуй», названной автором «ар-
кадской сказкой», царит далеко не аркадская атмосфе-
ра. Традиционные любовные переживания кончаются не
умиротворением, а неожиданным трагическим исходом.
Сюжет драмы, в общем следующий распространенной
сказочной фабуле, к концу получает поворот, дискреди-
тирующий все движение событий, сам принцип внешне-
го действия. Усилия героев, жаждущих добиться счастья
в любви, оказываются ненужными и тщетными: цель
обманчива, ее достижение не приносит желанной радо-
сти, не делает окружающий мир лучше, гармоничнее.
Действующие лица или погибают в борьбе, или выходят
из нее внутренне опустошенными. Так, героиня, красави-
ца-пастушка, став королевой острова вместо погубленной
ею феи, обречена жить века, пережив любимых и близ-
ких. Смерть феи воспринимается как гибель самой при-
роды, на которую наступают бездушные, занятые лишь
своей житейской суетой люди. Персонажи пьесы либо
лихорадочно добиваются чего-то, либо впадают в необъ-
яснимую меланхолию. Игрушечные страсти под рукой —
пока еще неумелой — юного поэта обрели реальную бо-
лезненность и остроту.
Безысходность поисков более возвышенного свойст-
ва, чем устремления обитателей Аркадии,— тема корот-
кой пьесы «Искатель». Старый рыцарь не ищет каких-
то реальных земных благ и утех, а всю жизнь следует
за таинственным голосом в поисках абсолюта («Я знал,
что твое слово любви избрало меня, одного из всех, что-
бы через борьбу и нечеловеческие страдания я пришел
к нечеловеческой радости»). Отказав себе во всех про-
стых радостях, рыцарь, наконец, приближается к обла-
дательнице голоса — и она оказывается колдуньей по
имени Подлость.
В этом драматическом этюде мысль о всеобщей раз-
общенности выражена в типичной для последующих
пьес Иейтса расстановке персонажей: пастухи — нерас-
суждающие представители большинства, рыцарь — иска-
тель высших духовных ценностей и потустороннее суще-
ство, олицетворение духа беспокойства и поисков.
Короткая пьеса «Время и волшебница Вивьен» инте-
ресна своей сатирической направленностью. Прекрасная
волшебница — воплощение самодовольного и ограничен-
ного позитивизма — проигрывает партию в шахматы ста-
ромодному старику Времени. Проверенная веками тра-
диция побеждает пустоумие, кичащееся своей молодо-
46
ст\>ю и современностью, случай, «отмененный» позити-
визмом, оказывается сильнее надуманных «закономер-
ностей». Пьеса — почти стихотворный памфлет, направ-
ленный против тех же врагов, с которыми Иейтс сра-
жался в статьях и выступлениях.
кМосада» раскрывает одну важную черту драматур
гии'Йейтса: ее лирический характер. Эта черта высту-
пает! особенно наглядно оттого, что пьеса написана явно
в подражание Данте Габриэлю Россетти, одному из ку-
миров Йейтса, и это позволяет сравнить оригинал с ко-
пией.
Драматизм внутренне присущ поэзии Россетти. Его
наиболее знаменитые стихотворения и поэмы — по су-
ществу драматические сценки или монологи (хотя фор-
мальные признаки драматического рода в них отсутст-
вуют). Россетти привлекают сильные, яркие, определен-
но очерченные характеры и столкновения между ними,
он охотно переносит место действия в прошлое ради
экзотики и красочности. В его поэзии любимое прера-
фаэлитами средневековье выглядит отнюдь не време-
нем бесплотности и духовности, оно пышно, многоцвет-
но, эффектно, иногда слишком эффектно.
Йейтс избрал типично «россеттиевский» сюжет: сред-
невековая Испания, красавица-мавританка, ее осужде-
ние инквизицией, попытка бегства, любовь, яд, смерть...
Но результат получился совсем иным, чем можно было
ожидать от ученика Россетти. Событийная часть и пе-
реживания, связанные с нею,— самое интересное у Рос-
сетти— у Йейтса наименее интересно и даже как-то не-
брежно выполнено, как будто прилежный ученик ста-
рательно, но с полным равнодушием делал заданный
урок. Поэт просыпается в Иейтсе в самых недействен-
ных частях пьесы: когда героиня, вызывая духов, опи-
сывает их жилище или когда она опять же описывает
свои любимые уголки в лесу и в поле, прощаясь с
жизнью. Эти описания могут быть выделены из пьесы
в качестве самостоятельных лирических стихотворений
(кстати, с достаточно явственным ирландским колори-
том), не имеющих ни малейшего отношения к сюжету.
Они явно требуют другой пьесы.
Первой законченной пьесой Йейтса, обладающей са-
мостоятельным художественным значением, стала «Гра-
финя Кэтлин». Иейтс возвращался к ней много раз на
протяжении нескольких десятилетий. Редактор вари-
антного издания пьес Йейтса Рассел Элспек насчитыва-
47
ет более девяти редакций. В 90-е годы Йейтс создал ^ва
варианта — в 1892 и 1895 г. (в 1899 г. ко второму вари-
анту были добавлены несущественные изменения). /
Источником Иейтсу послужила ирландская легенда
о графине Кэтлин, которая продала душу дьяволу ради
спасения душ бедных крестьян, но попала в рай,] так
как мотивы ее поступка перевесили прегрешение.[ Ле-
генда скорее всего была позднейшим сочинением, 1а не
подлинным произведением фольклора, как полагал вна-
чале Йейтс. Но он создал драму, проникнутую подлинно
фольклорным духом. Действие окутано «кельтскими
сумерками» — атмосферой тайны, страхов, предчувствий
неведомого зла. Бесы, явившиеся в голодный край под
видом торговцев, сначала появляются в облике рогатых
сов — их высылает сумрачный лес, обиталище всех по-
тусторонних сил в ирландских поверьях. Абсолютное
зло — бесы — вступают в борьбу с абсолютным доб-
ром— прекрасной и доброй графиней Кэтлин. В конце
зло проигрывает, и хотя графиня умирает, ее конец
светлый и мирный, она исполнила свой долг, к тому
же душа ее спасена, что вносит в финал еще большее
умиротворение.
Сказочную простоту пьесе в значительной степени
придает то, что борьба между добром и злом не пере-
носится внутрь, в душу героини/ Бесы не могут соблаз-
нить графиню, решение принести жертву ради других
дается ей без борьбы, после своего поступка она так же
безусловно прекрасна душой, как и до него. (Иейтс
впоследствии считал эту статичность главного действую-
щего лица основным недостатком пьесы и кардинально
изменил «Графиню Кэтлин».)
Победа зла над другими персонажами также со-
держит мало драматизма: крестьяне соглашаются про-
дать свои души лишь вынужденно, чтобы не умереть
с голоду, а внутренне они остались прежними, и посту-
пок доброй графини тотчас отвращает их от бесов.
Наиболее личный авторский элемент (впоследствии
развитый) существует в пьесе — как и в «Мосаде»,—
казалось бы, помимо действия. Старая служанка, что-
бы развлечь графиню, поет песню о древних воинах и
феях. Следует монолог графини, говорящей о своей без-
отчетной грусти, о желании уйти прочь, в страну фей,
что навеяно, по ее словам, песней служанки и карти-
нами, вытканными на гобелене. Вся эта сцена может
быть убрана без всякого ущерба для сюжета, однако
48
она)важна для характеристики героини и отсюда — для
концепции драмы.
Личность, живущая духовной жизнью, противопо-
ставлена массе, для которой превыше всего материаль-
ный интерес. Ни Йейтс, ни его героиня не обвиняют кре-
стьян: это бедные, забитые люди, на которых обруши-
лись (слишком тяжкие беды. (Кстати, двое из них на-
шли Ь себе силы противостоять злу.) Но только душу
графини дьявол ценит так дорого — в 500 000 дукатов,
и только героиня оказывается способна не просто на
отпор, но и на подвиг во имя других Дело здесь не в
большем, чем у других, благочестии или одной добро-
те— тогда самым дорогим для дьявола приобретением
и героем драмы стал бы деревенский священник, за
душой которого бесы тоже охотились. Душа графини
ценна сама по себе: в отличие от простых душ окру-
жающих, она богата. Непонятная (не вызванная чем-то
конкретным) печаль графини, ее тоска по временам
древних королей и героев, порыв уйти в мир фей — вот
то душевное богатство, которым наделяет Йейтс свою
героиню.
В варианте 1895 г. графиня — существо еще более
исключительное и утонченное. Она теперь возвращает-
ся домой после странствий, в сопровождении барда и
музыкантов («Мне велели бежать от ужасов времени и
окружить себя музыкой и сладостным пением, иначе я
зачахну или сойду в могилу»). Алйль, бард, вторит ей:
«Музыка — владычица всего подлунного мира». Это
уже почти прямое повторение шекспировского мотива:
музыка — благородное, гармонизующее начало, атрибут
возвышенных и прекрасных душ («Двенадцатая ночь»,
«Венецианский купец»). Таким образом, героиня сразу
вознесена на ту высоту, где только и возможно совер-
шать подвиги бескорыстия.
Напротив, масса очерчена более резкими и темны-
ми красками. Крестьянин Шемус, в первоначальном ва-
рианте бывший жертвой бесов, теперь выглядит, в сущ-
ности, их пособником. Его жадность подчеркнута, по-
явилась новая черта — угрюмое и озлобленное отноше-
ние к духовности, к музыке62. Усугублены пороки кре-
стьян и в сценах торга. Сказочная легкость первона-
чального варианта пьесы улетучилась. Намечающийся
конфликт героини со средой внес тревожащие диссонан-
сы. Даже Алиль, влюбленный в графиню, не понял вы-
соты ее поступка, пока не явилось небесное воинство
49
и ангел не рассказал о том, что произошло. Одиноче-
ство высокой души — таков отныне все усиливающийся
трагический мотив Йейтса. /
Одушевленный идеей гармонии и единства, йейтс
в ранней драматургии выражает эту идею от противно-
го— через показ кричащей дисгармонии и разобщенно-
сти. Итог этого периода — драма «Туманные воды»:
Йейтс пишет, что задумал ее еще в юности (иссле-
дователи датируют начало непосредственной работы над
текстом пьесы 1885 годом). Первый вариант, закончен-
ный в 1900 г., переделывался затем драматургом в
1906 г. с учетом реальной практики его театра. Впослед-
ствии Йейтс стал называть первый вариант «Туманных
вод» драматической поэмой. Это не может, однако, ис-
ключить произведение 1900 г. из числа драм Йейтса.
«Туманные воды» с самого начала предназначались для
театра — идеального поэтического театра, который ви-
делся Иейтсу в мечтах. Кроме того, при всех последую-
щих переделках глубинная идея пьесы не изменилась.
Пьеса не является переработкой какого-то опреде-
ленного фольклорного сюжета. Она навеяна разнооб-
разными мотивами и символами, почерпнутыми из фоль-
клора и мифологии (а также из современной драмы) 63
и подчиненными выражению лирического «я» поэта.
Герой пьесы Форгэл, как и предыдущие протагони-
сты драм Йейтса,— искатель. Пустившись в плавание
по туманным водам океана, он хочет найти любовь,
«прекрасную, неслыханную, которой нет в этом мире».
В предыдущих пьесах лирический герой Йейтса был
изображен тем же планом, что и его фон. Йейтс как бы
определял его место в общей панораме — среди иных
голосов. В «Туманных водах» герой дан крупным пла-
ном, и конфликт развертывается в его собственном со-
знании. Контраст с окружением, которому недоступны
духовные искания, подчеркнут, но не занимает цент-
рального места. Для Йейтса гораздно важнее борьба
противоречий в душе героя, так как именно она может
открыть новые горизонты истины. Превосходство ду-
ховных интересов над материальными — вещь слишком
очевидная. Вопрос теперь состоит в том, какими пу-
тями достичь духовного идеала.
Мир, отвергнутый героем,— это мир вполне ощути-
мых реальностей. «Кубок вина, военная победа, жен-
ский поцелуй», «земля в наследство детям или кувшин
монет» — вот те блага, которые существуют в этом
50
мире и за которыми гоняются его обитатели. Однако
они [ценны не сами по себе, а потому что должны при-
нести их обладателю счастье. Герой Иейтса знает, что
это обман и фикция, что обладание не дает счастья.
Форг^л не верит и в любовь — ту, которая существует
в современном безыдеальном мире и так же, как и все
остальное, преходяща и ущербна. Любовь, которая была
обещана Форгэлу таинственными птицами с человече-
скими головами,— часть и символ какой-то иной, пре-
красной и полной, жизни, и к этой жизни, к этому свое-
му идеалу устремляется герой Йейтса, презрев все труд-
ности и трусливые соображения практического рассуд-
ка. В конце путешествия он ожидает увидеть небожи-
тельницу, похожую на легендарную королеву Этайн, что
являлась ему среди туманных вод совсем как живая.
Судьба, однако, приводит его к земной женщине
Декторе, плывшей на корабле, который захватили пи-
раты, состоящие под началом Форгэла. Это и есть обе-
щанная герою «неслыханная любовь»: птицы, манившие
героя вперед, начинают кружиться над местом встречи
кораблей. Форгэл в отчаянии: перед ним обычная, хотя
и прекрасная, земная женщина, и говорит она вовсе не
о возвышенном, а требует наказать матросов, убивших
ее мужа-короля, и относится к Форгэлу как к опасному
сумасшедшему. Вместо обретения нечеловеческого
счастья герой попадает в ситуацию, характерную для
проклятого мира, от которого он бежал: матросы, за-
хватив богатую добычу, рвутся домой; Дектора обещает
им награду, если они убьют Форгэла, и они тут же пре-
дают своего капитана и приступают к нему с оружием.
Но привычный заколдованный круг подлой реально-
сти прорывается явлением реальности высшей. Струны
волшебной арфы, заключающей в себе любовь древнего
божества, возлюбленного Этайн, звучат под рукой Фор-
гэла, и все окружающее преображается. Грубые матросы
оплакивают короля, убитого ими, а Дектора проникается
безграничной любовью к Форгэлу, который также загора-
ется ответным чувством и видит, что нашел обещанную
ему любовь.
Поэтическая метафора Йейтса не требует специаль-
ной ^расшифровки. Могучая духовная сила (арфа — ее
символ) подчиняет себе обыденную реальность и пре-
образует ее. Обычное возносится на небывалую высо-
ту— так волшебно преображается обыкновенная жен-
щина от прикосновения большой любви.
51
Поиски героя на этом не кончаются: ведь любовь
должна привести его в царство идеала и гармонии. Мат-
росы возвратились к своим обычным «я» — наваждение
арфы было недолгим. Они покидают корабль. Гербй и
обретенная им возлюбленная остаются одни среди ту-
манных вод океана. Их путь лежит в неизведанные
края — туда зовут их птицы, возобновившие свой полет.
Духовная жизнь йейтса в 90-е годы, когда создава-
лись его ранние пьесы, была полна драматических
раздумий о смысле всего происходившего вокруг и с
ним самим. Его занятия философией приобретают на-
пряженный, мучительный характер. «Я углубился в ла-
биринт символов, не имея путеводной нити... Я начал
чувствовать себя не только одиноким, но и бессиль-
ным»64,— пишет Иейтс об этой полосе своей духовной
жизни в автобиографии, в главе, имеющей символиче-
ское название «Дорога хамелеона», т. е. дорога сомне-
ний, колебаний, утраты общей идеи. На «дорогу хаме-
леона» вступило все поколение Йейтса, и многие не вы-
держали этого трудного пути. Иейтс в своих воспоми-
наниях пишет о бедах, постигших его друзей, об отчая-
нии и деградации личности, о сумасшествии и волне
самоубийств и называет свое поколение «трагическим».
«Дорога хамелеона» преследует сознание поэта и в
«Туманных водах». Знаки, подаваемые птицами, неяс-
ны, двусмысленны. Когда герой встречается с Декторой,
он перестает понимать язык своих крылатых водителей
и тщетно просит их объяснить, правильно ли он понял
их волю. Кружение птиц над кораблем так же похоже
па радостный хоровод, как и на предзнаменование беды.
А то, что они — души умерших и летят на запад, в стра-
ну мертвых, делает исход поисков Форгэла трагически
неопределенным. В конце пути может ждать и блажен-
ство, доступное богам и героям былых времен, и смерть,
а перед смертью — долгое и бесплодное блуждание в
туманных водах. Но герой Йейтса делает бесповоротный
выбор. Он готов на любой трагический исход, так как
движение к высокой цели заключает награду в себе са-
мом; герой и его возлюбленная поднялись на такую ду-
ховную высоту, что уже сейчас являются частицей пре-
красного мира, который они ищут.
Среди исследователей драматургии Йейтса широко
распространено мнение, что «Туманные воды» — вещь
литературная, абстрактная, а ее герой (т. е. лирическое
«я» Йейтса)—слабый духом созерцатель-эстет65. Счи-
52
«Туманные воды». 1904 г.
Ирландский Национальный театр
Лектора — Мойра Ник-Хинли, Форгэл — Фрэнк Фэй
тается также, что ирландское в этой пьесе —одни лишь
имена, а все остальное —переложение общих мотивов
французского поэтического символизма.
Давно назрело время пересмотреть это суждение.
Что Йейтс вбирал в себя европейские и, в большой сте-
пени, французские влияния, очевидно, но очевидно и то,
пз
что, во-первых, и Йейтс и его учителя-символисты были
далеки от эстетства, а во-вторых, Йейтс вложил в свою
поэтическую пьесу много глубоко личного — и идей и
чувств. Не надо специально изучать биографию Иейтса,
чтобы ощутить в «Туманных водах» глубокий драматизм
душевной жизни поэта и атмосферу, в которой он жил.
Ирландский колорит этой пьесы совсем не поверхностен,
не сводится к именам. Герои могли бы называться и
как-то иначе, но весь «воздух» пьесы родствен тому,
что окутывает ирландские фантастические саги.
Абстрактным и литературным, в известной степени,
можно назвать лишь стих «Туманных вод». Йейтс еще
не освободился от традиционной метрики (пьеса напи-
сана нерифмованным пятистопным ямбом) и от неко-
торого архаизма и «орнаментальности» (позднейшее вы-
ражение самого Иейтса) лексики, к чему он питал при-
страстие, в противовес «журналистской» поэзии, с ее
обыденностью. Это затрудняет восприятие пьесы, но да-
леко не заглушает биения в ней живой, тревожной мыс-
ли и подлинного, выстраданного чувства. Трудно не по-
чувствовать этого в таких, например, горьких строках:
— But he that gets their love after the fashion
Loves in brief longing and deceiving hope
And bodily tenderness, and finds that even
The bed of love, that in the imagination
Had seemed to be the giver of all peace,
Is no more than a wine-cup in the tasting,
And as soon finished.
— All that ever loved
Have loved that way — there is no other way.
(Но тот, кто любит так, как любят все, / Испытывает
лишь краткое желание, обманчивую надежду/И плот-
скую нежность и убеждается, что даже/Ложе любви,
которое в воображении/Казалось ему обретением по-
коя,/На деле — не более, чем стакан вина:/Выпил — и
все.— Все, кто любили,/Любили так — иного не дано.)
Тезис о слабости йейтсовского героя не кажется убе-
дительным в общем контрасте «новой драмы» рубежа
XIX и XX в. Теперешние критики, выдвигающие этот
тезис, выглядят старомоднее тех, кто на пороге нового
столетия выступил с новым пониманием действия, конф-
ликта и героя. К их числу принадлежал и Йейтс. Подоб-
но многим авторам своего поколенеия, он был не толь-
ко практиком, но и теоретиком «новой драмы».
54
Естественно, что во взглядах Йейтса на драму есть
много параллелей с идеями его современников, искав-
ших новые пути в искусстве. Но более всего Йейтс бли-
зок к Метерлинку, драматургией которого он восхищал-
ся, а трактат «Сокровище смиренных» (1894) считал од-
ной из своих «священных книг». Драма нового време-
ни видится Йейтсу как «глубокая драма» (intense) 66,
а эта последняя — как драма внутренней жизни. В этом
основном и исходном пункте он полностью солидарен с
Метерлинком. Идея Метерлинка о единстве духовной
сущности всех людей также близка Йейтсу. В то же
время у обоих драматургов есть важные пункты несогла-
сия, впоследствии сделавшие расхождения между ними
поистине кричащими.
Метерлинка, автора печальных и страшных сказок
80—90-х годов, одушевляла оптимистическая вера во
всеобщее братство и гармонию. В своем манифесте
«Сокровище смиренных» он высказывает мысль, что
душам, в силу их единого происхождения, легко понять
друг друга — стоит только не мешать им обычной мир-
ской суетой, а внимательно, в молчании, прислушаться
друг к другу. Причина того, что люди еще не достигли
счастья в единении, заключена в их робости, в боязни
высказать свое подлинное «я» в то время, как осталь-
; ы.е одеты в броню из слов. Но заразительность и сила
воздействия душевного движения так велика, что и про-
чие души сбросят свою броню — надо только кому-то
начать. Метерлинк возвещает начало нового, духовно-
го, периода в истории, веря, что «пробуждение души»
уже совершилось.
Йейтс смотрит на свою эпоху другими глазами. Его
также радует «пробуждение души» — он видит его
прежде всего в факте появления и распространения сим-
волизма. Однако он и его единомышленники представ-
ляются ему горсткой людей, разбросанной там и ся!\4
в гуще огромной толпы. Йейтс вовсе не думает, как
Метерлинк, что достаточно нескольких усилий — и ду-
ховное восторжествует. По его мнению, потребуется
очень много времени и сил, чтобы разбудить то общее
и возвышенное, что есть в душах у всех, потому что не
только жизнь внешняя, но и сами души подверглись
разлагающему влиянию буржуазного «железного века».
Можно надеяться лишь на понимание самых чутких на-
тур, а таких немного: это или люди, не затронутые бур-
жуазной заразой,— крестьяне, сохранившие патриархаль-
55
ный уклад, или люди, стоящие на высшей ступени куль-
туры, прежде всего глубокие художники и те, кто по-
нимает их искусство.
Не совпадают представления Метерлинка и Иейтса
и в отношении того, как следует изображать внутрен-
нюю жизнь и какие ее моменты должны служить пред-
метом драмы.
Метерлинк утверждает значительность повседневного,
вернее того, о чем «молчит» повседневность (его извест-
ная формула «трагизм повседневности» расшифровыва-
ется в «Сокровище смиренных» именно как «значитель-
ность повседневности»). Это положение Метерлинка
направлено против концепции драматического и героиче-
ского в драме ренессансного типа: «...Психология побе-
ды или убийства слишком элементарна и исключитель-
на»,— пишет Метерлинк67. Элементарна и исключитель-
на— т. е. такого рода события бывают в жизни слишком
редко и не они в жизни главное. Если мир души — са-
мое ценное, что есть в бытии человека, и если в этой
сфере все люди равны, то, естественно, никакой посту-
пок не может возвысить одного человека над другими,
важны мотивы поступка, его глубинные источники. Если
эти мотивы достаточно высоки в духовном смысле, бла-
городен и сам поступок, но действие может и не совер-
шиться, оно производное от души. Главное в том, что-
бы человек был потенциально способен на благородные
поступки, и этой потенцией, этим «тайным сокровищем
героизма»68 и должен, согласно Метерлинку, занимать-
ся художник. Если же он будет по-прежнему придавать
решающее значение поступкам, его философия будет
плоской, а выводы неверными, так как по видимости
величественное и благородное действие может иметь
мелкие и корыстные побудительные причины. Метер-
линк зовет художников-драматургов к изображению кор-
ней всего происходящего, т. е. душевной жизни. Отсю-
да его вывод о драме нового времени как драме по пре-
имуществу статической: в ней будет представлен не
пестрый хоровод событий, а тонкие и незаметные обыч-
ному поверхностному взгляду изменения душевного со-
стояния.
Метерлинк выступал в первую очередь против опы-
та буржуазной драмы XIX в., в которой сюжет приоб-
рел самодовлеющее значение, а характер и поступки
измельчали, опошлились. Но он считал устаревшей, не-
достаточно значительной и драматургию Расина, Шекс-
56
пира, поскольку в ней люди действуют под влиянием
страстей, а это, по Метерлинку, не является возвышен-
ным мотивом. Возвышенна та драма, которая трактует
о «положении человека во вселенной»69, а не ограни-
чивается показом тех или иных поступков. Примеры
такой глубокой драматургии Метерлинк находил в ан-
тичности— в трагедиях Эсхила, в «Антигоне» и «Эди-
пе в Колоне» Софокла. В этих драмах, писал Метер-
линк, мало действия внешнего; с точки зрения современ-
ного театра (т. е. ренессансной традиции) они просто
топчутся на месте, однако размышления действующих
лиц образуют в этих произведениях подлинную, глубо-
кую драматическую основу.
Под многими идеями Метерлинка Иейтс мог бы подпи-
саться обеими руками, особенно в тех случаях, когда
бельгийский драматуг критикует драму события и утверж-
дает драму внутренней жизни. Выше уже шла речь о
критике Иейтсом коммерческой драмы XIX в. Отношение
к высшим образцам драмы ренессансного типа у него
также было критическим. Йейтс признавал, что шекспи-
ровские герои на много голов выше героев современной
буржуазной драматургии, поскольку люди Шекспира в
своих действиях руководствуются не соображениями
узко и утилитарно понятой пользы, а свободными побуж-
дениями своей натуры. Персонажи, наиболее достойные
восхищения на современный буржуазный взгляд, наиме-
нее ценны для Шекспира, утверждает Иейтс. Шекспиров-
ская шкала ценностей имеет основанием богатство нату-
ры и свободу ее самовыражения 70.
Однако в этом же, по мнению Йейтса, и недостаточ-
ное величие драм Шекспира,— конечно, по сравнению
не с эпигонскими поверхностными произведениями, а с
идеалом глубокой драмы, которая должна заниматься не
индивидуальным, а всеобщим. По Иейтсу, Шекспир,
введя в драматургию характер, сделал шаг по пути ее
измельчания. Йейтс, вслед за Метерлинком, утвержда-
ет, что герои Шекспира тем ближе к истинному вели-
чию, чем меньше они действуют. Метерлинк: «Я восхи-
щаюсь Отелло, но мне не кажется, что он живет выс-
шей повседневной жизнью, как Гамлет, у которого есть
время жить, потому что он не действует» 71. Йейтс: Гам-
лет «увидел везде слишком великие вопросы, чтобы
принимать участие в пошлой игре жизни» («В Страт-
фордс-па-Эйвопе») 72.
57
Но Йейтс не делает из критики ренессансной драмы
вывода, который сделал Метерлинк: что нужно оставить
в стороне «элементарные» и исключительные поступки
и обратиться к повседневности, таящей за своей оболоч-
кой истинное величие. Цитируя соответствующее место
«Сокровища смиренных»73, Йейтс тут же вносит в него
характерную поправку: «Я понимаю его (Метерлинка.—
В. Р.) не в том смысле, что в наших драмах не долж-
но быть побед или убийств — потому что он приводит
нам в пример пьесы, где есть то и другое,— а только
в том смысле, что победы и убийства будут не возбуж-
дать нам нервы, а иллюстрировать те глубокие раз-
мышления, которые станут такой же неотъемлемой ча-
стью повседневной жизни мудрых, что и лицо или руки
во время отдыха»74.
Несколько запутанно выраженная мысль драматур-
га сводится к отказу от статической драмы, наполнен-
ной незначительными, повседневными событиями. Йейтс
считает принадлежностью идеальной драмы как раз со-
бытия исключительные — с тем, чтобы в итоге они при-
водили драматурга, а вместе с ним и зрителя, к глу-
боким мыслям, к размышлениям о «положении человека
во вселенной», по метерлинковской формуле. Таким об-
разом, к одной и той же цел/и Метерлинк и Йейтс пред-
полагают проложить разные пути.
Йейтс совершенно верно отметил противоречие дра-
матургической теории Метерлинка. Действительно, ни в
одной из перечисленных Метерлинком идеальных драм —
«Орестея», «Антигона», «Эдип в Колоне» и т. д.— речь
не идет о тривиальных, повседневных событиях. В них
как раз изображены события сверхъисключительные,
хотя, безусловно, в трагедиях Эсхила и Софокла нет
элементарности. Йейтс почувствовал, хотя и не развил
этого в системе аргументов, недиалектичность соотно-
шения события и размышления, внутреннего и внешне-
го в эстетическом манифесте Метерлинка. Примеры,
приводимые Метерлинком, свидетельствуют о том, что
глубокие мысли в драме рождаются в результате испы-
тания героев большими, исключительными событиями.
Теоретическая непоследовательность Метерлинка от-
разилась и в его практике: как драматург он часто
вступал в противоречие с собственным положением об
отмене исключительных событий в подлинно глубокой
драме. В пьесах Метерлинка 90-х годов постоянно про-
исходят из ряда вон выходящие события. Какая уж
58
тут повседневная жизнь, когда речь идет о происках и
кознях злых сил, о великой тайной любви, о побегах,
о внезапных встречах, о таинственных происшествиях,
о ситуациях на грани жизни и смерти! И герои Метер-
линка — необыкновенные красавицы, благородные ры-
цари, злые королевы. Обычные люди изображены раз-
ве что в трех пьесах «Аглавена и Селизетта», «Не-
прошенная» и «Там, внутри», но и они застигнуты в
момент исключительных событий: в жизнь героев втор-
гается невиданной силы любовь или смерть. Раскрывая
значительность внутреннего, Метерлинк не забывает о
том, чтобы сделать значительным и внешнее. Тонкая дра-
ма душевных состояний нанизана на почти детективный
сюжетный стержень. «Трагедии повседневности», пропа-
гандируемой им, Метерлинк так и не создал. Если бы
он был последователен, то стал бы не символистом, не
драматургом романтического склада, а писателем-реа-
листом чеховской школы. Именно Чехов воплотил на
сцене обе стороны идеальной, по Метерлинку, картины:
и самое повседневность, и значительность, скрывающую-
ся за ней. Именно Чехов смог обойтись без исключитель-
ных событий, которые необходимы Метерлинку.
Иейтс более последователен в теории и практике.
Он отказывается искать глубокое в повседневности, по-
скольку, в отличие от Метерлинка, не считает душев-
ную сферу автономной от сферы материальной, от сфе-
ры действия. Согласно Иейтсу, большинство — огромное
большинство — душ еще не пробудилось. Тщетно ис-
кать за обыденностью глубокую внутреннюю жизнь. Те,
кто занят повседневными дрязгами, не могут иметь глу-
бокую, нетронутую душу. Он утверждал это в теории
и последовательно воплощал в драматургической прак-
тике.
Отсутствие материальных интересов делает возвы-
шенной и прекрасной душу графини Кэтлин. Только
волшебство — арфа самого бога любви Ангуса — может
разбудить низменные души матросов в «Туманных во-
дах», да и то ненадолго.
Отметив и заострив до предела отчуждение духов-
ного от материального, Йейтс все внимание направля-
ет на духовное, на внутренний мир своего героя. Собы-
тийная сторона его пьес гораздо менее интересна, чем
у Метерлинка-сказочника. Метерлинк всегда держит зри-
теля в напряжении: что будет дальше, избежит ли герой
гибели? В драмах Йейтса так вопрос не ставится. Са-
59
мое интересное у него связано с сюжетом лишь по ка-
сательной. Сказочная условность Метерлинка иная, чем
интеллектуальная условность Йейтса. Метерлиик вхо-
дит в созданный им мир, веря в него, как ребенок, и ве-
дет за собой зрителя. Он создает сценическую иллю-
зию реальности сказки — вот этого мрачного замка, вот
этого ночного сада.
Йейтс сохраняет дистанцию между собой и своим
сюжетом. Сюжет важен ему как некая заданная схема,
никогда не переходящая в иллюзию реальности. Если
Метерлинка можно назвать «наивным» художником
(в смысле непосредственности, пластичности фантазии),
то Йейтс — художник интеллектуальный, оперирующий
идеями, а не образами зримого мира. В тех случаях,
когда Йейтс пытается придать своим драмам видимость
бытовой характерности и достоверности, это восприни-
мается как ненужное утяжеление пьесы, затемняющее
главный конфликт и главную идею, тем более, что
Йейтс не обладает слухом на бытовую речь. Дарование
лирика Йейтса — не в способности перевоплощения, а в
самовыражении. Таков его путь познания закономер-
ностей и конфликтов времени.
Однако в драмах Йейтса 90-х годов внешнее, фон
занимают значительное место. Главная причина здесь
в том, что драматург вновь и вновь болезненно ощущает
и являет глазам зрителей глубокий разрыв материаль-
ных и духовных устремлений. Вторая причина — в не-
достаточном осознании собственного пути в драматур-
гии. Если в лирике этого периода Йейтс обходится без
внешних реалий, когда они ему не нужны, и делает
единственной темой стихотворения жизнь духа, то в
драмах он пока идет на компромисс с существующими
формами. Иейтс-драматург не знал традиции, на кото-
рую мог опереться в своих исканиях (как это имело ме-
сто в области лирики). Поместить все действие драмы
в душу героя — такой, собственно, была задача, стояв-
шая перед Иейтсом. Никто из предшественников не мог
послужить ему примером ее успешного разрешения.
Примечательно, что Йейтс видит «свое» в творчестве
поэтов — Блейка, Шелли, Уильяма Морриса, Россетти —
или в эпических сказаниях прошлого и не называет в
качестве безоговорочного образца ни одного драма-
турга.
Что касается непосредственно театра, сценической
среды для будущей «глубокой драмы», ее исполнителей,
60
то здесь йейтс был еще дальше от каких-либо конкрет-
ных представлений. Он достаточно ясно знал, чего не
должно быть в идеальном театре: обстановочной пыш-
ности, механических трюков и эффектов, натуралисти-
ческого жизнеподобия, актерской самоподачи. Йейтс
был твердо уверен, что необходим театр поэтический и
театр условный, но в каких формах он реально возмо-
жен— этого Йейтс не мог сказать, пока он непосред-
ственно не соприкоснулся с практикой театра.
Примечания
1 См.: Yeats W. В. Autobiographies. L., 1955, р. 116.
2 Она же Мейв (Йейтс предпочитал это написание). В более позд-
нем ирландском (и затем английском) фольклоре она преврати-
лась в фею Мэб, повелительницу сновидений ^см. знаменитый мо-
нолог Меркуцио в «Ромео и Джульетте»).
3 Yeats W. В. Autobiographies, р. 33.
4 См.: Yeats J. В. Letters to His Son W. B. Yeats and Others, 1869—
1922. L., 1944 (письмо У. Б. йейтсу от 22 сентября 1904 г.).
5 Yeats W. В. Autobiographies, р. 82, 83.
6 Ibid., р. 115. Йейтс называет здесь крупных английских ученых:
естествоиспытателя-дарвиниста Т. Г. Гексли (1825—1895) и фи-
зика Джона Тиндалла (1820—1893).
7 Письмо к Джону О'Лири (июль 1892 г.). Цит. по: Nathan L. Е.
The Tragic Drama of William Butler Yeats. Figures in a Dance.
N. Y.; L., 1965, p. 22. В данном контексте слово «интеллект» (ко-
торое Йейтс употреблял в самых разных смыслах) означает ра-
циональное, рассудочное начало.
8 Yeats W. В. Autobiographies, р. 65.
9 Ibid., р. 82.
10 Ibid.
11 Ibid., p. 89.
12 Yeats W. В. Autobiographies, p. 101.
13 The Collected Poems of W. B. Yeats. L., 1950, p. 523.
14 Yeats W. B. Autobiographies, p. 33—34.
15 Edmund Spenser.—In: Yeats W. B. Essays and Introductions. L.,
1961, p. 364.
16 Yeats W. B. Autobiographies, p. 94, 95.
17 Ibid., p. 209. Говоря здесь о европейских революционерах, Йейтс
имеет в виду прежде всего борцов итальянского Рисорджимен-
то, поколение Гарибальди и Маццини.
18 Ibid., р. 204. Дэниел О'Коннел (1775—1847) — ирландский поли-
тический деятель, публицист и оратор, один из вождей нацио-
нального движения.
19 Ibid., р. 205—206. Датчане, упоминаемые здесь,—датские викин-
ги, набеги которых в Ирландию и поселения там относятся к эре
до английского завоевания — к IX—X вв. Оливер Кромвель из-
вестен как один из самых жестоких английских военачальников,
действовавших в Ирландии.
20 A General Introduction for My Work.— In: Yeats W. B. Essays
and Introductions, p. 510.
21 In: Hone J. W. B. Yeats: 1865-1939. L., 1962, p. 296.
22 Yeats W. B. Autobiographies, p. 190.
23 Ibid., p. 115.
61
24 Also sprach Zarathustra.— Nietzsche F. Werke. Leipzig, 1964,
Bd. VI, S. 14.
25 Человеческое, слишком человеческое.—В кн.: Ницше Ф. Поли
собр. соч. М., 1911, т. 3, с. 123.
26 См., напр., его статью «Искусство и революция» (1849).
27 Шелли. Письма. Статьи. Фрагменты. М., 1972, с. 413.
28 Yeats W. В. Autobiographies, р. 167.
29 Иейтс позднее признается: «...Меня так возмущало равнодушие
к теме... что временами я был неспособен видеть ничего, кроме
темы» (Autobiographies, р. 169). Однако дело здесь не только
в полемических крайностях; к особенностям восприятия живопи-
си у Иейтса нам еще предстоит вернуться.
30 The Celtic Element in Literature.— In: Yeats W. B. Essays and
Introductions, p. 187.
31 Ireland and the Arts.— Ibid., p. 206.
32 Eliot T. S. Ulysses, Order and Myth (1923). Цит. no: Skene R. The
Cuchulain Plays of W. B. Yeats. L., 1974, p. XI—XII.
33 Yeats W. B. Essays and Introductions, p. 250.
34 Ibid.
35 Ibid., p. 246.
36 Yeats W. B. Autobiographies, p. 123.
37 Ibid., p. 368.
38 Yeats W. B. Dramatis Personae. L., 1936, p. 66.
39 Ibid., p. 178.
40 Ibid., p. 14.
41 Yeats W. B. Autobiographies, p. 47.
42 См. примеч. 8.
43 Yeats and the Theatre. Ed. O'Driscoll R., Reynolds L. Niagara
Falls, 1975, p. 30.
44 См. примеч. 5.
45 Yeats W. B. Essays and Introductions, p. VII (подчеркнуто
мной.— В. P.).
46 Напомним основные имена и даты. «Новая драма» — это Золя,
Ибсен, Стриндберг, Метерлинк, Шоу, Уайльд; в России — Тол-
стой и Чехов. В 1887 г. в Париже открылся Свободный театр
Андре Антуана, в 1891 — парижский Художественный театр под
руководством Поля Фора, в 1893 — его преемник, театр «Творче-
ство» (руководитель Люнье-По), в 1889 — «Свободная сцена»
Отто Брама в Берлине, в 1891—Независимый театр (Лондон),
в 1898 — МХТ, в 1899 — Сценическое общество (Лондон). С
1894 г. в Англии дает спектакли Общество елизаветинского теат-
ра, руководимое Уильямом Поэлом; новаторские шекспировские
постановки Поэла с актерами-любителями были известны еще
в 80-е годы.
47 О роли Артура Симонса в приобщении Иейтса к общеевропей-
скому театру и о влиянии французской культуры на Иейтса под-
робно говорится в книге Кэтрин Уорт «Ирландская драма Евро-
пы от Иейтса до Беккета» (Worth К. The Irish Drama of Europe
from Yeats to Beckett. L., 1978). В своей концептуальной части
книга английской исследовательницы страдает большой односто-
ронностью: континентальное, особенно французское, искусство
выглядит чуть ли не единственным источником вдохновения ир-
ландских драматургов.
48 См.: Ellis-Fermor U. The Irish Dramatic Movement. L., 1954 (1st
edition—1939).
49 Ibid.
62
5° Yeats W. В. Autobiographies, p. 279.
5' Ibid.
52 Ibid., p. 280.
бз Ibid., p. 283.
54 Об общем и отличном в произведениях «новой драмы» см. в кн.:
Шах-Лзизова Т. К. Чехов и западноевропейская драма его вре-
мени. М., 1966.
55 «Акселя» Йейтс называет в числе своих «священных книг».
56 Yeats W. В. Letters to the New Island. Cambridge, (Mass.), 1934,
p. 217.
67 Режиссером и сценографом был архитектор Эдвард Уильям Год-
вин, муж Эллен Терри и отец Гордона Крэга, большой энтузиаст
театра (он оформлял и ставил спектакли и выступал в качестве
театрального критика).
58 Yeats W. В. Letters to the New Island, p. 116, 117.
59 Ibid., p. 115—116.
60 Ibid., p. 221.
61 Yeats W. B. Autobiographies, p. 120—121.
62 Шекспировский мотив снова бросается в глаза: Йейтс, вместе
с героями «Венецианского купца», уверен, что человеку, враж-
дебному к музыке, нельзя доверять.
63 В числе ближайших литературных источников Йейтса — «Аксель»
Вилье де Лиль-Адана, «Пелеас и Мелисанда» Мстерлинка. Оче-
видно также влияние «Тристана и Изольды» Вагнера (как и в
случае Метерлинка).
64 Yeats W. В. Autobiographies, р. 255, 261.
65 Название главы в монографии американского исследователя Ле-
нарда Натана — «Эстетизм и «Туманные воды» (Nathan L. Е.
The Tragic Drama of William Butler Yeats. Figures in a Dance.
N. Y.; L., 1965).
66 Yeats W. B. Essays and Introductions, p. 167.
67 Метерлинк M. Сокровище смиренных.— Поли. собр. соч. Пг., 1915,
т. 2, с. 69.
68 Там же, с. 91.
69 Там же, с. 71.
70 Йейтс противопоставляет Генриха V Ричарду II. Генрих, этот
любимец буржуазного шекспироведения, удачливый военачальник
и крутой правитель, по мнению йейтса, намного ниже как лич-
ность Ричарда II с его глубокой душой. Йейтс точно вскрывает
социальные корни культа Генриха V в современной ему науке
(статья «В Стратфорде-на-Эйвоне»).
71 Метерлинк М. Поли. собр. соч. М., 1908, т. 3, с. 71.
72 Yeats W. В. Essays and Introductions, p. 107.
73 В статье «Возвращение Улисса», 1896 (The Return of Ulysses):
«Хороший живописец не станет больше изображать Мария, побе-
дителя кимвров, или убийцу герцога де-Гиза, потому что пси-
хология победы или убийства слишком элементарна и исключи-
тельна, а бесполезный шум жестокого поступка заглушает более
глубокие, хотя и нерешительные и скромные голоса существ и
вещей. Он покажет нам дом, затерянный среди полей, дверь,
открытую в конце коридора, лицо или руки во время отдыха:
и эти простые образы могут прибавить нечто к нашему сознанию
жизни, а это составляет благо, которое нельзя утратить».— Ме-
терлинк М. Поли. собр. соч. Пг., 1915, т. 2, с. 69.
74 Yeats W. В. Essays and Introductions, p. 198.
GO,
о
В ТЕАТРЕ
ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ
Цервой актрисой театра Йейтса стала Флоренс Фарр,
поразившая его своим исполнением в «Сицилийской
идиллии». Красавица, обладательница прекрасного голо-
са, музыкально одаренная и образованная, Фарр была
также актрисой нового типа: «женщина из общества»,
получившая разностороннее образование, принадлежав-
шая к передовым кругам английской интеллигенции. Ни
семейная традиция, ни материальные соображения не
имели для Фарр, в отличие от большинства актеров той
поры, никакого значения. Она пошла на сцену, потому
что в какой-то момент театр заинтересовал ее серьезнее,
чем что-либо другое. Пастушка Амариллис в «Сицилий-
ской идиллии» была ее первой крупной ролью; вскоре
она сыграла Ребекку в «Росмерсхольме» (1891), Бланш
в «Домах вдовца» (1892); Шоу специально для нее соз-
дал роль Луки в «Человеке и оружии», которую она и
сыграла на премьере 1894 г.
Личность и талант Флоренс Фарр были одним из
источников вдохновения всей драматургии Йейтса в
90-е годы. Для нее Йейтс написал, а во втором вариан-
те значительно расширил роль барда Алиля в «Графи-
не Кэтлин» (Фарр сыграла в этой пьесе в 1899 г.). Роль
Декторы («Туманные воды») также создавалась в рас-
чете на нее. Первая из пьес Йейтса, поставленная на
профессиональной сцене, «Страна блаженства» (1894),
была написана по просьбе Фарр, хотя она сама там и
не играла. Но прежде чем Фарр встретилась с драма-
тургией Йейтса, он предложил ей нечто совершенно ори-
гинальное: выступить с чтением его стихов под музы-
кальный аккомпанемент. Это, собственно, и было нача-
лом театра Йейтса.
Актриса разделяла стремление Йейтса возродить
поэтическое слово, каким оно было во времена бардов.
Для своих экспериментов со стихом Фарр использовала
64
псалтерион, двенадцатиструнный инструмент, близкий к
древнегреческой лире К Цель была в том, чтобы макси-
мально приблизить музыкальное звучание к интонаци-
ям речи исполнительницы.
Чтение стихов Иейтса актрисой сам автор призна-
вал идеальным. В 1902 г., после десятилетия работы с
Флоренс Фарр, он посвятил ей восторженную статью,
в конце которой выражал уверенность, что они откры-
ли новое искусство. Бернард Шоу в письме к Фарр от-
кликнулся на это филиппикой, назвав «новое искусство»
давно известным «распевом», который «терпим лишь в
одном-единственном и несомненном случае — в крике
уличных торговцев»2. Язвительное мнение Шоу в дан-
ном случае дает понятие не столько о художественном
уровне декламации Фарр, сколько о его собственных эс-
тетических пристрастиях: в том же письме он совершен-
но уничижительно отзывается и о Саре Бернар. Сам
Шоу высоко ценил Флоренс Фарр как актрису, и не в
последнюю очередь за музыкальность. Можно с доста-
точной долей уверенности предположить, что Шоу реа-
гировал, главным образом, на неуместное, как он счи-
тает, заявление Иейтса о новом слове в искусстве. Дру-
гие отзывы об экспериментах Фарр и Иейтса с псалте-
рионом говорят о том, что восхищение Иейтса имело
больше оснований, чем скептицизм Шоу (другое дело —
что Технику Фарр трудно было сделать предметом обу-
чения, как того желал Иейтс: она была индивидуаль-
ным талантом актрисы). Главное, чего хотел Иейтс и
что удавалось Фарр — музыкальная, небытовая речь, в
то же время не переходящая в пение и обладающая
внутренним драматизмом. Нотная запись чтения Фарр
(сделанная самой актрисой по разработанной ею систе-
ме) показывает, что она не прибегала к эффектным мо-
дуляциям, не «играла голосом»: ее искусство состояло
во владении полу- и четвертьтонами и «несравненном
чувстве ритма», отмеченном Иейтсом.
Благодаря творческой помощи Фарр Иейтс постигал
для себя законы поэтической сценической речи, совер-
шенствовал свой драматический стих. Характерно, что
уже в 900-е годы, закончив очередной вариант «Туман-
ных вод» и желая продолжить работу над пьесой, он
попросил Флоренс Фарр в частном порядке поставить
этот несовершенный вариант и сыграть в нем — всего
один раз, с тем, чтобы автор увидел, что в его пьесе
надо исправить3.
3 В. А. Ряполова
65
Флоренс Фарр с псалтерионом
Дебют Йейтса в «настоящем» театре — постановка
его «Страны блаженства» в лондонском Вест-Энде4 —
может показаться лишь внешне связанным с Фарр.
В 1894 г. она держала антрепризу в театре «Авеню» и
попросила Йейтса написать одноактную пьесу, где была
бы роль для 8—9-летней девочки, для сценического де-
бюта своей племянницы Дороти Пэджет (в те времена
дети-актеры на профессиональной сцене были явлением
обычным). Таким образом, «Страна блаженства» обя-
зана своим рождением на свет достаточно случайному
и утилитарному поводу. В то же время пьеса ничуть
не хуже других произведений Йейтса 90-х годов. В ней
развиваются те же мотивы, что в предшествующей дра-
ме, «Графине Кэтлин». Кроме того, Йейтс писал «Стра-
66
ну блаженства», уже ориентируясь на определенный
стиль поэтической речи, принадлежащий Флоренс Фарр.
Она, естественно, принимала большое участие в поста-
новке пьесы (тем более, что речь шла о дебюте племян-
ницы)— по крайней мере, в части произнесения стиха.
Авторское посвящение пьесы Флоренс Фарр (в издании,
вышедшем в том же 1894 г.)—свидетельство призна-
тельности Иейтса актрисе как вдохновительнице и со-
творцу пьесы и спектакля.
Прозвучавшая в «Графине Кэтлин» трагическая тема
духовного одиночества возвышенной натуры в «Стране
блаженства» усложнена и усилена благодаря дифферен-
циации среды и туманности устремлений героини. На сей
раз в центре пьесы молодая крестьянка Мойра (ирланд-
ский вариант имени Мери), которая не совершает бла-
городных поступков, а просто томится в своем уютном
доме и рвется в какую-то ей самой неведомую даль.
Единственная бытовая мотивировка тоски молодой жен-
щины— злой язык ее свекрови, но больше ей не на что
жаловаться: ее боготворит муж, любит старый свекор и
даже священник снисходителен к ее безумным речам
о феях. Снова Йейтс делает героиню исключительной
натурой, которая следует лишь своему внутреннему го-
лосу и не может довольствоваться мирным прозябанием
до -конца своих дней. Окружающие, расписывая блага
обычной жизни, говорят о деньгах, о сытном ужине и
мирной беседе, о камельке, о детях — а в речах Мойры
проносятся образы ветра, бурного моря и пламени.
Только любовь мужа — бескрайняя, могучая, как заве-
ряет он ее в страстном монологе,— сродни душе герои-
ни и может удержать ее в доме.
Но в дом извне вторгаются более могущественные
силы — в образе феи, которую юная женщина призва-
ла в минуту отчаяния. Все оказываются бессильны про-
тивостоять фее, в том числе и муж героини, которого
хватило лишь на слова. После первого смятения, нере-
шительности Мойра устремляется навстречу свободе.
Концовка похожа на финал «Графини Кэтлин»: герои-
ня умирает, а ее душа улетает в родственную ей сфе-
ру, но только здесь эта сфера — не христианский рай,
а царство вольных духов.
«Страна блаженства» внешне почти так же проста,
как первый вариант «Графини Кэтлин», и так же близ-
ка к фольклору. Ее вполне можно играть как обычную
сказку (и очень часто играли именно так; Йейтс пишет,
67
з*
что она особенно нравится актерам-любителям). Но оче-
видно, что Йейтс избрал сказочный сюжет для того,
чтобы рассказать о духовных проблемах, волнующих
его. Героиня пьесы — выражение исканий самого авто-
ра, его лирический голос. Как и в лирике и публици-
стике Йейтса, речь здесь идет о неудовлетворенности
жизнью как она есть и о стремлении к жизни, соответ-
ствующей глубоким духовным устремлениям. В «Графи-
не Кэтлин» (особенно в раннем ее варианте) этот ос-
новной конфликт затушеван сюжетом, в котором глав-
ное— исход борьбы за души между доброй героиней и
злыми духами. Собственно говоря, смысл пьесы в пропо-
веди активного добра. «Страна блаженства» свидетель-
ствует о том, что конфликт добра и зла как моральных
категорий не является для Иейтса главным. Доброта
свекра или священника не может унять душевную тоску
Мойры, потому что косность, неподвижность, инертность
жизненного уклада остаются неизменными. Для лириче-
ского героя Иейтса жизнь имеет смысл и оправдание,
только когда она дает применение душевным силам, дает
им раскрыться во всей полноте. В этом причина бунта
против повседневности. Выход видится за пределами
обычного существования, той жизненной нормы, кото-
рой ограничивается среда.
Героиня «Страны блаженства» хочет видеть вокруг
себя совершенный мир, где все гармонично: «где даже
старые прекрасны и даже мудрые веселы». Ее уход из
мира несовершенного читается как стремление к идеа-
лу. Однако Йейтс испытывает сомнения в возможности
достижения идеала, в истинности выбора героини.
Призыв феи таит в себе опасность неизведанного.
Устремляясь вслед за ней, Мойра колеблется, ее душа
смущена и не знает, что ее ждет: обещанное блажен-
ство или гибель. Окружающие говорят о коварстве ду-
хов, об их двойственном, лукавом отношении к чело-
веку: фей можно задобрить, но горе тому, кто пересту-
пит черту и вверится им. В священнике, в старой свек-
рови говорит нерассуждающая вера в господствующие
мнения,— но истинной природы духов не знает никто,
не знает и героиня. Финал не разрешает сомнений, а на-
против, усиливает их. В Страну блаженства можно по-
пасть, только отринув все земное — самоё жизнь. Герои-
ня умирает, сомневаясь до последней минуты. Значит ли
это, что идеала невозможно достичь здесь, на земле?
И можно ли достичь его даже ценой самой большой
68
жертвы? Не ожидает ли Мойру — уже в потусторон-
нем мире — тот же подлый обман, который встретил ры-
царя, героя «Искателя», в итоге его духовных стран-
ствий? Не были ли ложными те знаки, которые подава-
ло неведомое?
Сценическое воплощение «Страны блаженства» в те-
атре «Авеню» было, до некоторой степени, лучшим, на
которое мог рассчитывать драматург-дебютант. Самым
большим преимуществом было, конечно, творческое по-
нимание со стороны Флоренс Фарр и ее участие в по-
становке. Ее малолетняя племянница обладала краси-
вым голосом и получила профессиональную балетную
подготовку. Судя по всему, с технической стороной роли
она справилась. Но отзывы о спектакле, достаточно
лаконичные и снисходительные по тону, не позволяют
составить мнения о том, как передали актеры — в пер-
вую очередь исполнительницы ролей феи и Мойры —
поэтическую суть пьесы. Ведь, скажем, присутствие в
спектакле танца феи объясняется не только желанием
показать разностороннее дарование девочки-актрисы
(хотя внешним поводом было именно это). Танец в
«Стране блаженства» выполняет ту же функцию, что
песни Алиля в «Графине Кэтлин» и звучание арфы в
«Туманных водах». Это явление иной, высшей реально-
сти, -«прорывающей» обыденность. Своим танцем фея
завладевает душой Мойры и околдовывает остальных.
Танец — кульминация демонизма, который сразу ощуща-
ет в странном ребенке Мойра и который должна ощу-
тить и публика.
Могла ли передать это юная дебютантка?
На фотографии, запечатлевшей Дороти Пэджет и
Уинифред Фрейзер (исполнительницу роли Мойры), обе
фигуры отвечают духу пьесы Йейтса. Мойра, уже по-
давшая руку фее, колеблется перед окончательным вы-
бором: она еще на грани двух миров. Ее остановивший-
ся взгляд, нервный жест другой руки, поднесенной к
виску, двойственность всей позы (Мойра и готова сде-
лать решающее движение — и медлит, и дает фее завла-
деть ее рукой — и почти отстраняет ее)—все передает
драматизм момента. За ее спиной стоит странная, дико-
ватая девочка с недетски серьезным лицом. Обе они, и
фея, и Мойра, как будто силятся разглядеть или услы-
шать нечто, доступное только им.
Есть свидетельства о том, что вест-эндская публика
смеялась на премьере «Страны блаженства». Сам Йейтс
69
пишет, что его пьеса понравилась меньшинству, но в
это меньшинство входило достаточное число зрителей,
чтобы пьесу можно было продолжать играть (она шла
более полутора месяцев). Во всяком случае, не было
провала, который постиг пьесу Тодхантера «Комедия
вздохов», данную в одни вечер со «Страной блажен-
ства»: несмотря на участие в «Комедии» самой Флоренс
Фарр, публика кричала и свистела на протяжении все-
го действия. Как отмечают позднейшие исследователи,
этот прием объяснялся не только непривычностью поэ-
тической драмы для вест-эндского зрителя, но и претен-
циозностью самой пьесы. На этом фоне дебют Йейтса-
драматурга был почти удачей. Однако подлинным теат-
ральным событием на сцене «Авеню» стала премьера
«Человека и оружия» Шоу: эта пьеса была показана
через несколько дней после премьеры «Страны блажен-
ства» и «Комедии вздохов», снова в один вечер с ко-
роткой пьесой Йейтса. Об этом вечере, вошедшем в ис-
торию мирового театра, Йейтс пишет кратко и вырази-
тельно: «И с этого момента Бернард Шоу стал самым
значительным автором в современной литературе...»5.
Постановка же пьесы Йейтса была тогда событием
только для него самого, но событием очень важным.
Йейтс писал в предисловии к изданию своих пьес
1907 г.: «Две первые пьесы в этом томе («Графиня Кэт-
лин» и «Страна блаженства».— В. Р.) были написаны
до того, как я приобрел сколько-нибудь достаточное зна-
ние сцены, но они предназначались для театра. Драма,
предназначенная только для чтения, всегда казалась мне
несовершенной формой...»6.
Это принципиальное заявление, говорящее о подлин-
но новаторских устремлениях Йейтса, о его желании
покончить с длительной традицией поэтической дра-
мы,— прежде всего в Англии, но не только в Англии.
Имеется в виду то расхождение большой литературы и
театрального репертуара, характерное для всего XIX в.,
которое выразилось, в частности, в феномене «драмы для
чтения», действительно неестественном, противоречащем
самой природе драматургии. Показательно, что англий-
ский термин для такого рода пьес — «closet drama» —
значит не просто «драма для чтения», но для уединен-
ного, кабинетного чтения. Ничто не могло быть более
чуждо представлениям Йейтса: для него слово — поэти-
ческое слово — мыслилось только как звучащее, обра-
щенное к живой аудитории. Одним из первых среди поэ-
70
«Страна блаженства». 1894 г. Театр «Авеню», Лондон.
Мойра — Уинифред Фрейзер, фея — Дороти Пэджет
тов рубежа XIX и XX в. он осознал, что не только театр
нуждается в поэзии, но и поэзия нуждается в театре.
Увидев свою пьесу на сцене, Иейтс сразу же стал вно-
сить в нее изменения — так начался органический про-
цесс взаимодействия драматурга и театра, который был
характерен и для последующей деятельности Йейтса.
Дальнейшие редакции «Страны блаженства» показыва-
71
ют, в частности, как театр помогал Йейтсу осознать
природу собственного творчества. В первом варианте
среда, в которой протекает действие,— бытовая и нату-
ральная. Характерна вступительная авторская ремарка:
«Действие происходит в графстве Слайго (округ Кил-
мокон), время действия — конец XVIII века». В даль-
нейшем это квазиисторическое указание было убрано,
а место действия стало выглядеть так, как того требо-
вал поэтически-условный характер пьесы: нет никаких
бытовых деталей, главное в декорации — открытая на-
стежь дверь, за которой — таинственный ночной лес и
луна. Из всего реквизита названы два предмета, имею-
щие символическое значение: распятие, которым свя-
щенник пытается оградить себя и других от действия
демонских чар, и букет примул, стоящий на столе,— из
этих примул фея затем очертит магический круг, в ко-
торый заключит себя и Мойру.
Приход Йейтса в театр состоялся, но не удовлетво-
рил драматурга. Он слишком хорошо видел недостатки
коммерческой сцены, чтобы в дальнейшем ориентиро-
ваться на нее: не будь просьбы и участия в постанов-
ке Флоренс Фарр, Иейтс вряд ли бы вообще отдал лю-
бую свою пьесу в театр Вест-Энда. Он мог рассчиты-
вать— и рассчитывал — на дальнейшее творческое со-
дружество с Фарр, но прекрасно сознавал, что даже при
идеальном исполнении одной роли спектакль будет да-
лек от художественного совершенства, тем более, что
Фарр играла очень неровно. Кроме того, главной мечтой
Йейтса было не просто исполнение его пьес на сцене, но
создание ирландского национального театра. Уже через
три года после премьеры «Страны блаженства» появи-
лась надежда на осуществление этой мечты.
Примечания
1 Псалтерион был специально сделан для нее известным мастером
музыкальных инструментов Арнольдом Долмечем, энтузиастом
старинной музыки.
2 Florence Fair. Bernard Shaw. W. В. Yeats. Letters. Ed. Bax С L..
1946, p. 15.
3 Флоренс Фарр исполнила просьбу Йейтса. Представление было
дано 8 июля 1905 г. в Лондоне для участников съезда теософов.
4 Т. е. в коммерческом театре (по названию лондонского района,
где сосредоточено большинство театров этого типа).
5 Yeats W. В. Autobiographies. L., 1955, р. 282.
6 Yeats W. В. Preface to «The Poetical Works of William B. Yeats».
N. Y.; L., 1907, v. II— In: The Variorum Edition of the Plays of
W. B. Yeats. Ed. Alspach R. K. N. Y., 1966, p. 1293—1294.
72
ИРЛАНДСКИЙ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕАТР
В 1896 г., во время путешествия Иейтса по Ирландии
с Артуром Симонсом, произошла встреча будущих соз-
дателей Ирландского Литературного театра — Йейтса,
Эдварда Мартина и Августы Грегори. Все трое были
еще мало знакомы друг с другом и в этот раз не гово-
рили ни о каких театральных планах. Их разговор о
театре — такой же исторический для ирландского теат-
ра, как разговор Станиславского и Немировича-Дан-
ченко в «Славянском базаре» — для русского, — состо-
ялся в июле следующего, 1897 г.1 Было решено соз-
дать первый национальный театр в истории Ирландии.
К триумвирату основателей затем присоединился
Джордж Мур, двоюродный брат Мартина.
Манифестом будущего театра стало письмо его соз-
дателей (написанное в основном Йейтсом), обращенное
к тем, кто мог бы оказать новому предприятию финан-
совую помощь. В нем, в частности, говорилось: «Мы
предлагаем ставить в Дублине весной каждого года не-
которые кельтские и ирландские пьесы, которые, какой
бы ни была степень их совершенства, будут написаны
с высокими целями, и таким образом создать кельтскую
и ирландскую школу драматической литературы. Мы
надеемся найти в Ирландии неиспорченную и одарен-
ную воображением публику, привыкшую слушать, бла-
годаря ее страсти к ораторскому искусству, и верим,
что наше желание представить на сцене сокровенные
мысли и чувства Ирландии обеспечит нам достаточно
благожелательный прием и ту свободу эксперимента,
которой не существует в театрах Англии и без которой
не может быть успешным ни одно движение в искусстве
или литературе. Мы покажем, что Ирландия — не край
шутовства и сентиментальности, как ее изображали до
сих пор, но страна, в которой жив древний идеализм.
Мы уверены, что все ирландцы, которым надоело та-
кое искажение, поддержат это начинание, выходящее за
рамки всех наших политических разногласий»2.
Из этого документа явствует, что создатели театра
были согласны между собой в трех главных пунктах:
во-первых, неприятие коммерческого театра и желание
поднять литературный уровень драматургии; во-вторых,
забота о национальном престиже Ирландии; в-третьих,
идея национального единения. Можно сказать, что та-
73
кое единомыслие четырех людей с очень различными
жизненными и творческими биографиями уже было пер-
вым успехом задуманного дела. В то же время разли-
чия между создателями Ирландского Литературного
театра были достаточно велики и характерны для об-
щественной и культурной ситуации в стране. Совер-
шенно закономерно, что различия затем перешли в про-
тиворечия, а те, в свою очередь, привели к расколу и
кризису.
Эдвард Мартин принадлежал к старинной земельной
ирландской аристократии и при этом был католиком —
редчайшее сочетание, объясняемое особыми привиле-
гиями, дарованными английской короной предкам Мар-
тина в начале XVIII в. за лояльное поведение во вре-
мя антианглийских бунтов. Мартин получил образова-
ние в колледже иезуитов, затем в Оксфорде; много
путешествовал, хорошо знал литературу и искусство
Европы, увлекался старинной музыкой (в его замке, ко-
торый в 1896 г. посетили Йейтс и Симоне, был орган, и
сам хозяин исполнял на нем музыку Палестрины и дру-
гих любимых им композиторов). К моменту знамена-
тельной встречи у Мартина был опубликован один ро-
ман и две пьесы — «Вересковое поле» и «Мейв», однако
он не имел практически никакой литературной репута-
ции. Он любил прерафаэлитов, что отразилось в ин-
терьере его замка, сохранившемся до сих пор. Он так-
же любил театр и придавал ему огромное значение в
духовной жизни Ирландии. Таким образом, у Мартина
и Йейтса были точки соприкосновения, но было много
и такого, что их разделяло. Йейтсу был глубоко чужд
ревностный, ортодоксальный католицизм Мартина, ко-
торый окрашивал и его любовь к Ирландии. Мартин
был к тому же убежденным националистом, отвергаю-
щим все английское (в его пьесе «Мейв» персонаж-ан-
гличанин отрекомендован как «бандит, подобно всем
его английским предкам»). Ирландия, по его мнению,
могла воспринимать влияния только континентальной
Европы, особенно Норвегии. Ибсен был кумиром Мар-
тина (еще один пункт расхождения с Йейтсом), что мо-
жет показаться странным для такого строгого католи-
ка: «аморальность» сюжетов Ибсена отталкивала и
менее религиозных современников. Но Мартин был по-
своему последователен: он видел в Ибсене национали-
ста, выразителя «почвы» в ситуации, близкой к ирланд-
ской, поскольку Норвегия также была нацией угнетен-
74
ной и ее культура развивалась под знаком националь-
ного освобождения. Кроме того, на Мартина прямо
влиял ибсеновский стиль, имитатором которого он стал
в собственных пьесах.
Джордж Мур был во многом прямой противополож-
ностью Мартину. Будучи также католиком, он не обна-
руживал никакой религиозности (в 1903 г. Мур принял
протестантское вероисповедание, заявив, что католи-
цизм неизбежно связан с невежеством и узостью взгля-
дов). Мур с ранней молодости жил за границей, в том
числе в Париже, и чувствовал себя «гражданином ми-
ра»; его приезд в Ирландию был вызван интересом к
новым веяниям в культуре, но время показало, что это-
го интереса хватило ненадолго. В отличие от Мартина
Мур в 90-е годы был уже известным литератором, ав-
тором ряда романов, переведенных на европейские
языки. Живя в Париже, он пережил увлечение различ-
ными школами, но по-настоящему близок ему был на-
турализм,— Мура называли «английским Золя». Истин-
ное направление в новом сценическом искусстве для
него олицетворял собой Свободный театр Антуана. Мур
был также горячим сторонником и пропагандистом иб-
сенизма (в его английском понимании). В 80-е и 90-е
годы он часто выступал в качестве театрального кри-
тика, отвергая коммерческую систему и ратуя за созда-
ние -в Англии «свободного театра» по образцу театра
Антуана. Мур участвовал в основании лондонского Не-
зависимого театра и написал для него пьесу «Стачка
в Арлингфорде» (1893). Возможно, что закрытие Не-
зависимого театра в 1898 г. было одной из причин, по-
будивших Мура на время вернуться в Ирландию.
Эстетические пристрастия Мура и Йейтса в целом
были очень далеки друг от друга. Ко всему прочему
Мур был юмористом и сатириком весьма реалистиче-
ского склада. Идея «глубокой драмы» Метерлинка и
Йейтса была ему чужда; он хотел видеть в театре кар-
тины реальной жизни, а не «духовные сущности». Впо-
следствии, снова уехав из Ирландии, Мур написал ме-
муары, в которых не пожалел красок, чтобы предста-
вить в комическом свете Йейтса как человека и теат-
рального деятеля.
Из всех, кто вместе с Йейтсом принимал участие в
создании Ирландского Литературного театра, истин-
ным его соратником стала Августа Грегори, одна из
самых замечательных личностей «Ирландского возрож-
75
Августа Грегори. 1903 г.
Портрет Джона Батлера Йейтса
дения». Августе Грегори в 1897 г. было уже 45 лет —
столько же, сколько Муру, но, в отличие и от него и
от других основателей Ирландского Литературного теа-
тра, она не имела никакого литературного или теат-
рального опыта (если не считать редактирования мему-
аров покойного мужа). Грегори происходила из англо-
ирландской знати; ее предки стали ирландскими поме-
щиками в XVII в. Сэр Уильям Грегори, ее муж, был
видным государственным деятелем своего времени (в
70-е годы, например, он был губернатором Цейлона).
Проведя юность в «странной, феодальной, почти сред-
невековой»3 обстановке, Августа Грегори оказалась в
самом центре политической, светской и культурной жиз-
ни Лондона, вместе с мужем жила на Цейлоне, много
путешествовала по Европе. Она была горячей патриот-
кой, но не националисткой; аристократкой, которой
76
была чужда сословная спесь. Иейтс пишет о ней: «...Ее
девизом стало изречение Аристотеля: «Мыслить, как
мудрецы, но говорить, как простые люди»4. Она легко
находила общий язык с крестьянами (что, в частности,
дало ей возможность составить уникальные сборники
фольклора). Рабочий Шон О'Кейси, в начале 20-х го-
дов принесший свою пьесу в Театр Аббатства, нашел
в леди Грегори самого доброго и отзывчивого друга.
Таким другом она стала и для Иейтса. Как и он, Авгу-
ста Грегори на десятилетия связала свою жизнь с ир-
ландским театром.
Когда все четверо обсуждали планы будущего Ир-
ландского Литературного театра, Августа Грегори мог-
ла предложить только свою организационную помощь.
Как пишут историки ирландского театра, именно она
высказала твердое убеждение, что ирландские пьесы
должны ставиться в Ирландии и для ирландской пуб-
лики (у Иейтса до этого была идея снять какой-нибудь
театр в Лондоне и привлечь к работе Флоренс Фарр).
Без связей Грегори в высших политических кругах было
бы невозможно получить разрешение на организацию
нового театра в Дублине: благодаря ее влиянию через
парламент была проведена соответствующая поправка
к закону о театральной монополии. Августа Грегори об-
ладала не только связями и организационным талан-
том, но и литературным даром. Спустя несколько лет
она заявила о себе как драматург, но, возможно, са-
мым большим ее вкладом в ирландское театральное
движение было открытие англо-ирландского крестьян-
ского диалекта, известного как «килтартанский» (по на-
званию местности). Одно из главных событий «Ирланд-
ского возрождения» — издание саг, переведенных Авгу-
стой Грегори на диалект: «Кухулин из долины Муртем-
не» (1902) и «Боги и воины» (1904). В ее переводах,
по сей день остающихся образцовыми, древние сказа-
ния впервые получили адекватную современную форму,
которой невозможно было до этого добиться никакой
поэтизацией или архаизацией английского литератур-
ного языка.
Предприятие, затеянное четырьмя ирландцами, было
чрезвычайно трудно, даже если бы между ними суще-
ствовало идеальное единство взглядов (чего на самом
деле не было). То, что все они были литераторами (а
Августа Грегори таковым еще и не стала), а не людьми
театра, уже было проблемой. Правда, у них был перед
77
глазами пример семнадцатилетнего поэта Поля Фора,
основателя парижского Художественного театра, или
скрипача Уле Бюлля, создавшего первый норвежский
национальный театр в Бергене, — оба они не были теат-
ральными профессионалами, однако добились успеха.
Но в ирландском варианте «свободного театра» были
свои дополнительные трудности. Если сопоставить гром-
кую декларацию основателей с реальными средствами,
которыми они располагали, вся затея могла показаться
безнадежно утопической.
У них не было труппы — с самого начала предпола-
галось, что спектакли будут поставлены с английскими
актерами. У них не было режиссера, более того: они не
осознавали, насколько катастрофическим может ока-
заться его отсутствие. У них не было сценической пло-
щадки— ее предстояло найти. Наконец, не было той
самой ирландской и кельтской драматургии, для про-
паганды которой предназначался театр. Йейтс давал
для постановки «Графиню Кэтлин» и еще только писал
«Туманные воды». Мартин был автором двух пьес. Мур
не предлагал вообще никакой пьесы. Августа Грегори
пока только занималась сбором фольклора. Но и за
пределами тесного кружка основателей Ирландского
Литературного театра не было людей, которых можно»
было бы назвать ирландскими драматургами. Ирланд-
ский Литературный театр возникал фактически на пу-
стом месте.
Театр затевался на страх и риск нескольких чело-
век, в расчете на драматургию, которой не было, и
спустя несколько лет драматургия явилась,— не в по-
следнюю очередь потому, что был создан театр.
Йейтс и компания не были теоретиками и беспочвен-
ными мечтателями. Практическая нота присутствует
в самой декларации. Основатели театра на первых по-
рах обещали то, что было практически выполнимо: не-
сколько представлений всего один раз в год. Это ре-
шало массу организационных, финансовых и техниче-
ских проблем, а на первый сезон репертуар был уже
составлен: пьеса Иейтса и пьеса Мартина. Тем време-
нем, как надеялись создатели театра, появятся новые
пьесы. Тезис о «разной степени их совершенства», про-
звучавший в декларации как бы между прочим, обна-
руживает реалистический подход авторов письма. При
тогдашней ситуации с ирландской драмой главную
ставку явно можно было делать не на художественное
78
качество новых пьес, а на их «высокие цели». Органи-
заторы Ирландского Литературного театра и сами де-
лали все возможное, чтобы такие пьесы были написа-
ны. Главную роль в этом играл Иейтс, с его значитель-
ным литературным и общественным авторитетом и с
его страстью и способностью объединять людей вокруг
дела, в которое он верил.
Вся интеллигенция ирландской столицы была вовле-
чена в планы нового предприятия. Финансовая помощь
в результате не понадобилась: состоятельный Мартин
взял все издержки на себя. В списке поручителей Ли-
тературного театра объединились поэты и политические
деятели, знамя республиканского движения Джон
О'Лири и юнионисты (представители проанглийской
партии), католики и протестанты, аристократы и интел-
лигенция. Йейтс и другие основатели театра выступали
с лекциями, статьями и интервью, в которых пропаган-
дировали свое начинание. Не было, вероятно, ни одного
ирландского литератора, который не получил бы пред-
ложения писать для нового театра. За несколько меся-
цев до первых премьер, в январе 1899 г., Национальное
литературное общество по предложению Йейтса обра-
зовало комитет по Ирландскому Литературному театру
(в него, среди прочих, вошли Иейтс и Мартин). Тем
самым была официально установлена связь между дву-
мя объединениями, инициатором которых был Иейтс.
Позднее в число поручителей театра вошли известный
литератор и лингвист, основатель и руководитель Гэль-
ской лиги Дуглас Хайд; художник, поэт, публицист и
общественный деятель Джордж Рассел, а также Мод
Тонн; еще позднее — друзья Йейтса по Клубу стихо-
творцев Тодхантер и Т. У. Роулстон. Казалось, Иейтс
хотел объединить вокруг Литературного театра всех
своих друзей и единомышленников. Так оно, собствен-
но, и было — тем более, что его деятельность в других
обществах все меньше его удовлетворяла.
В статьях и выступлениях Йейтс в период подготов-
ки к открытию театра развивал идею нового театра в
духе своих общих философских и эстетических концеп-
ций и продолжал конкретизировать и уточнять образ
этого нового театра. Есть заметная разница между тем,
что Йейтс писал в общей декларации учредителей Ли-
тературного театра, и тем, с чем он выступал от собст-
венного имени. За некоторыми фразами коллективного
письма явно читается необходимость уравновесить и
79
примирить разные точки зрения (авторов письма, с од-
ной стороны, и их возможных адресатов, с другой) или
даже разногласия между самими инициаторами созда-
ния театра. Так, тезис о праве на эксперимент и на не-
зависимость от борьбы политических мнений в письме
выражен с дипломатической сдержанностью, зато сооб-
ражения национального престижа поданы крупным пла-
ном. В статьях, выражающих его индивидуальную точ-
ку зрения, Иейтс сосредоточивал внимание на том, что
лично, ему казалось самым главным в деятельности но-
вого театра, и высказывался без желания что-либо
сгладить и смягчить.
Центральная теоретическая работа Йейтса этого
времени — статья «Театр». Она написана накануне от-
крытия Ирландского Литературного театра, впервые
напечатана в лондонском журнале «Доум», а затем пе-
репечатана в первом номере журнала «Бельтене», соз-
данного Иейтсом специально как орган Ирландского
Литературного театра. Выпуск нового журнала был
приурочен к премьере и продавался в фойе. По суще-
ству статья Иейтса была вторым манифестом Литера-
турного театра.
Иейтс связывает упадок театра, его превращение в
коммерческое и развлекательное искусство с общим
кризисом европейской культуры, в которой, как он счи-
тает, угасло поэтическое начало: «Нет отдельных ис-
кусств, есть единое Искусство, и если вся глубокая живо-
пись и вся глубокая поэзия стали для большинства муж-
чин и женщин не просто непонятны, но ненавистны, то
как может их трогать и доставлять им удовольствие
глубокая драма?»5. Великие эпохи драмы, античность
и Ренессанс,— «первый день драмы»,— были возможны
потому, что носителем культуры был весь народ, пишет
Йейтс; теперь же театр может возродиться только бла-
годаря строгому, «жреческому», служению тех художни-
ков, которые осознают свою миссию (к ним Иейтс при-
числяет себя и своих единомышленников): «Может
быть... эти служители-жрецы повсеместно распространят
свою религию и сделают свое Искусство Искусством на-
рода» 6. Надежда на возрождение театра, пишет Иейтс,
существует именно в Ирландии, так как в ирландских
крестьянах, не порвавших органической связи с древ-
ним фольклором, живет тот же поэтический дух, что и
в публике Софокла, Шекспира, Кальдерона.
Обращаясь непосредственно к задачам и принципам
80
Ирландского Литературного театра, Иейтс начинает с
самого главного для него — с публики: «Мы должны
создать театр для самих себя и для наших друзей и для
тех немногих простых людей, которые непосредственно
понимают то, что мы постигаем благодаря углублен-
ным занятиям и размышлениям». Далее следует один
из главных программных тезисов: «...И для того, чтобы
наши зрители могли избегнуть отупляющего воздейст-
вия памяти о коммерческом театре, которая преследует
даже их, наши пьесы, по большей части, будут иметь
характер, удаленный от повседневности, духовный и
идеальный»7.
Если перевести слова поэта на более привычную и
прозаическую терминологию, то очевидно, что он ратует
за театр условный и театр философский; в этом театре
главным элементом должно быть поэтическое слово, все
остальное на сцене подчинено ему. Именно поэтому
Иейтс отвергает «верные натуре» декорации и обста-
новочную пышность современного ему театра: на сцене,
подобным образом оформленной, поэтическое слово не
прозвучит. Для театра поэта, утверждает Иейтс, нужна
условная сценическая среда. Идея условности у Иейт-
са — осознанное убеждение человека, мыслящего не
только общими категориями, но и вполне практически-
театрально. Иейтс так представлял себе сцену идеаль-
ного театра: «Театр, когда он станет Искусством, дол-
жен, следовательно, открыть для себя строгие и деко-
ративные жесты, такие, которые восхищали Россетти и
Мэдокса Брауна, и строгий и декоративный фон для
действия, о котором тут же забудут, как только актер
скажет: «Светает», или «Идет дождь», или «Деревья
качаются на ветру»; и костюмы, в которых будет так
мало неуместной роскоши, что смертные актеры и ак-
трисы смогут без больших усилий превратиться в бес-
смертных людей, созданных фантазией»8. Заключение
этого описания снова возвращает читателя к централь-
ной идее театра, выдвинутой Иейтсом: «Театр возник
из ритуала, и он не достигнет снова величия, пока не
вернет словам их былую верховную власть»9.
Задачу, которую по силам выполнить ему и его еди-
номышленникам, Иейтс видит достаточно ограниченной:
можно лишь начать, указать истинный путь. Подлин-
ную реализацию своей программы поэтического театра
Иейтс относит далеко в будущее, когда несколько по-
колений художников создадут прочную традицию.
81
Такой вывод логически вытекает из максимализма
программы Йейтса. Новая публика нового театра — это
не что иное, как новое общество, новый Золотой Век,
о котором Иейтс пишет в статье, ссылаясь на Блейка.
Была и еще одна, более частная, причина, по которой
Иейтс не надеялся скоро увидеть настоящий поэтиче-
ский театр. Он сам не имел твердого представления о
необходимой реформе сцены, а то, что происходило в
европейском театре, его удовлетворяло не вполне. Судя
по приведенному отрывку, в воображении Йейтса иде-
альная сцена была чем-то вроде ожившего полотна
прерафаэлитов. Несколько более ясное понятие о сцено-
графических идеях Йейтса в этот период дает одно его
более позднее высказывание (в предисловии к сборнику
статей 80—90-х годов, написанных для американской
прессы). Вспоминая об инсценировке «Пути паломни-
ка» Беньяна, показанной актерами-любителями в клубе
Бедфорд-парка (спектакль был сыгран «на фоне зана-
весей из простого миткаля, вышитого шерстью»), Иейтс
пишет, что, возможно, «подобный метод позволит осво-
бодить декорацию от реализма»10 — т. е. от натурали-
стической достоверности11. К этому можно добавить,
что и в постановках Общества елизаветинской сцены;
которые Иейтс видел в 90-е годы, также использова-
лись занавеси: они закрывали стену, перед которой рас-
полагались подмостки. Исследователь театра Йейтса
Джеймс Флэннери справедливо обращает внимание на
то, что идея декоративного занавеса как фона действия
была близка Йейтсу на всех этапах его драматургиче-
ского творчества, а уже в 1892 г., в первом издании
пьесы «Графиня Кэтлин», он дает конкретное указание
играть несколько сцен на фоне гобеленов 12. Однако в
целом представление Йейтса о сцене поэтического теат-
ра было еще далеко от конкретности. Несколько иначе
дело обстояло с главным для Йейтса — звучащим поэ-
тическим словом. Здесь он достаточно ясно знал, чего
хочет, и уже обладал театральным опытом в этом от-
ношении. Проблема состояла в том, чтобы найти доста-
точное количество актеров, которые бы владели стихом
так, как Флоренс Фарр или ее партнер по «Сицилий-
ской идиллии».
Открытие Литературного театра было назначено на
8 мая 1899 г. в помещении одного из дублинских кон-
цертных залов. Репетиции проходили в Лондоне со
сборной труппой актеров английского коммерческого
82
театра, и неизбежно выявилось множество творческих
и технических трудностей, тем более серьезных, что от
будущего успеха или неуспеха «Графини Кэтлин» за-
висела судьба всего предприятия. Возникла и еще одна
проблема — политическая.
В страстях, разгоревшихся вокруг «Графини Кэт-
лин» еще до премьеры, сказались два фактора, действо-
вавшие на оценку ирландской драматургии и в даль-
нейшем: ожесточенность политической борьбы в стране
и крайняя эстетическая неразвитость. В то время, как
Йейтс пытался добиться от актеров и художника ус-
ловности и поэзии, поскольку «он стремился всем стро-
ем пьесы создать образ того времени — составленного
из разных времен, — в которое отнесено действие в на-
родных сказках», поскольку «пьеса не исторична, а
символична», и «надо искать графиню Кэтлин, кре-
стьян и бесов не в истории, а ... в собственной ду-
ше» 13, — пока Йейтс бился над сценическим вопло-
щением всего этого в Лондоне, в Дублине над его пье-
сой-сказкой нависло подозрение в ереси и богохульстве.
По этому поводу Йейтс впоследствии заметил: «Исполь-
зуя то, что я считал традиционными символами, я за-
был, что в Ирландии они не символы, а реальность» 14.
Первым панику поднял товарищ Иейтса по Ирланд-
скому Литературному театру Эдвард Мартин. Его
встревожил прошедший по Дублину слух, что «Графиня
Кэтлин» (кстати, только что вышедшая третьим изда-
нием) проповедует ересь. Мартин обратился за руко-
водством к духовному лицу, которое подтвердило это
мнение. Мур, узнав о поступке Мартина, написал ему
гневное письмо, после которого Мартин подал офици-
альное уведомление о выходе из дела. Объявленные
планы оказались под угрозой. Иейтс, однако, не только
употребил все свое влияние на то, чтобы Мартин остал-
ся, но и, руководствуясь интересами общего дела, дал
свою пьесу двум другим богословам, которые вынесли
благоприятное решение и тем самым успокоили католи-
ческую совесть Мартина. Но это было только началом.
О дальнейших событиях Йейтс спустя десятилетия
написал кратко: «Один из моих политических против-
ников написал памфлет против пьесы, поставив знак
равенства между мнениями бесов и самого автора, рас-
продавал его в лавках и на улице, бросил экземпляр
своей брошюры в почтовый ящик каждому дублинско-
му врачу... Кто-то прочел или показал памфлет старому
83
кардиналу Логу, и тот написал в газеты, что если пьеса
такова, как ее описали, ни один католик не должен идти
ее смотреть» 15. Мартин на сей раз не поддался панике,
но скандал разразился, и чем ближе к премьере, тем
больше накалялись страсти и возрастала напряжен-
ность.
Памфлет Хью О'Доннела, политического противника
Иейтса, своими аргументами и стилем был типичен для
тех, кто сопровождал нападками и травлей всю даль-
нейшую деятельность ирландского национального теат-
ра. Символы, условность, поэзия — всего этого в «Гра-
фине Кэтлин» как будто не существовало. Сюжетные
перипетии и слова персонажей рассматривались так,
как если бы Иейтс написал документальную пьесу о
жизни ирландской деревни. С этих позиций автор пам-
флета грозно требовал у Иейтса отчета, где тот видел,
чтобы ирландский крестьянин разбивал распятие, ир-
ландский священник подвергался нападению беса, при-
нявшего облик свиньи, и т. д. О'Доннел также заявил,
что поскольку в пьесе выведена крестьянка, которая
изменяла мужу, и еще два крестьянина, занимавшиеся
мелким воровством, то автор пьесы — предатель нацио-
нальных интересов Ирландии. «Какая отвратительная
глупость и какое отвратительное богохульство! ... Что
значит эта чепуха? Как она может содействовать делу
нации? Как она может содействовать любому делу?...
Нет никаких оснований терпеть эту абсурдную неле-
пость...»— в подобных выражениях была составлена вся
брошюра. Она кончалась так: «М-р Иейтс имеет право
проповедовать, сколько его душе угодно, ту отврати-
тельную доктрину, что веру и совесть можно променять
на сытый желудок и набитый кошелек. Он только не
имеет никакого права делать местом действия Ирлан-
дию» 1б.
Памфлет О'Доннела и последовавший за этим шум в
прессе сделали свое дело. Патриоты-католики были на-
строены против Иейтса. Его занятия оккультизмом, его
формальная принадлежность к протестантской церкви,
его признание в Англии — все это, под влиянием некон-
тролируемых национальных и религиозных эмоций, ста-
ло выглядеть ересью и антипатриотизмом. Кампанией
в печати дело не ограничилось. Иейтс вспоминал впо-
следствии, как в это время дублинские книготорговцы
отказывались продавать его произведения. Многие дру-
зья Иейтса, ранее поддерживавшие новое начинание,
84
теперь заявили о своем разрыве с ним. Газета «Дейли
нейшн», орган воинствующих католиков-националистов,
накануне премьеры опубликовала редакционную ста-
тью, в которой прямо призывала зрителей-католиков к
враждебной демонстрации во время спектакля: «...Мы
желаем, во имя морали, религии и ирландской нации,
заявить протест против ее (пьесы.—В. Р.) представле-
ния ... То полное презрение, которое вдохновители и
руководители Ирландского Литературного театра про-
демонстрировали в отношении разборчивости, вкуса и
чувства собственного достоинства граждан Дублина,
оскорбительно в самой крайней степени... Мы надеем-
ся... что те, кто повинен в грубом и скандальном обма-
не публики нашей страны, в понедельник вечером по-
лучат по заслугам и на собственном опыте убедятся,
что жители католической столицы католической Ирлан-
дии не допустят, чтобы их безнаказанно оскорбляли» 17.
Другая часть националистов, возглавляемая Арту-
ром Гриффитом, одним из крупнейших политических
деятелей Ирландии, была в то время настроена против
католического влияния в освободительной борьбе, и по-
становка «Графини Кэтлин» была для них прекрасным
поводом для антикатолического выступления. Планы
демонстрации и контрдемонстрации были всем извест-
ны. .Атмосфера ожидания премьеры и открытия нового
театра была далека от той, которую хотели бы видеть
создатели театра.
8 мая премьера состоялась. Концертный зал (рас-
считанный на 800 мест) был переполнен. Как писали
газеты, в публике был представлен «весь Дублин», лю-
ди разных классов, вероисповеданий и политических
убеждений. В партере сидела организованная группа
студентов-католиков дублинского Университетского кол-
леджа, готовая к действиям. На галерке помещались
антиклерикалы, настроенные так же решительно. О том,
что произошло на спектакле, Иейтс впоследствии лако-
нично написал: «У меня, однако, не было причин быть
недовольным результатом, так как и партер, представ-
лявший собой почти весь цвет Дублина, и галерка, где
сидели ремесленники, единодушно высказались за сво-
боду литературы» 18.
Более подробно о первом спектакле «Графини Кэт-
лин» рассказывают другие очевидцы. Джеймс Казенс,
один из будущих членов-учредителей Ирландского На-
ционального театра, вспоминает: отдельные места тек-
85
ста «сопровождались бурей шиканья со стороны груп-
пы молодых людей, которым одна утренняя газета дала
инструкцию согнать пьесу со сцены. Но на эти проте-
сты последовал ответ другой группы молодых людей,
которые, с точки зрения литературы или драмы, едва
ли заметили бы ошиканные строки, но тут вдруг увиде-
ли в них какие-то скрытые достоинства, которые вызва-
ли у них громкие аплодисменты. В дуэли шиканья и
криков «браво» кричавшие «браво» победили. Я могу
засвидетельствовать эту победу, потому что сам был в
числе победителей, а в качестве трофея унес порванную
шляпу; яростно размахивая ею в зале, я приветство-
вал вовсе не пьесу, а подъем духа Искусства в Ирлан-
дии, в противовес духу обскурантизма и бесчестной
цензуры» 19.
Другой зритель также пишет о бурной реакции сто-
ронников и противников пьесы и о своей горячей под-
держке спектакля. Он добавляет интересный штрих:
«...Рядом со мной оказался парень, в то время мне не-
знакомый, который энергично аплодировал. Это был
Джеймс Джойс»20. Джойс был в ту пору так же молод,
как оба автора приведенных выше строк: ему было
семнадцать лет. Он еще раз продемонстрировал свою
поддержку Иейтса, отказавшись подписать письмо сту-
дентов Университетского колледжа (в котором он учил-
ся), где «Графиня Кэтлин» предавалась анафеме.
Судя по отзывам и других свидетелей, силы, под-
стрекавшие публику на провокации, не достигли своей
цели. Возмутители спокойствия в зале охарактеризова-
ны в одном месте, как «кучка из менее чем десятка
буйных юнцов, которые... выставили себя на посмешище
тем, что ошикали бесов, считая, что ошикали поэта»21.
Вечер кончился моральным триумфом Иейтса и но-
вого театра — на этом сходятся все источники. В отзы-
вах прессы на премьеру достаточно громко и опреде-
ленно прозвучали голоса, поддерживающие Ирландский
Литературный театр и свободу художника. Письмо сту-
дентов-католиков, новые нападки О'Доннела, даже вы-
ступление в прессе кардинала Лога, — все это уже не
могло настроить публику на односторонне-негативный
лад. Интересно, что друг Иейтса поэт Роулстон, также
бывший в зале на премьере, высказал мнение, что вы-
ражения протеста части зрителей против пьесы, коль
скоро они не переходили границ дозволенного, были
вполне законными: «Публика или любая часть публи-
86
ки имеет право выражать неодобрение так же, как и
аплодировать. Отнять это право — значит обречь театр
на смерть»22. Это было ближе всего к точке зрения са-
мого Иейтса. В течение всей кампании, направленной в
основном лично против него, Йейтс устно и письменно
разъяснял свою позицию и не отступал от нее. Он не
боялся идейных противников, не требовал, чтобы их
лишили слова, — но и за собой оставлял право ни с кем
не соглашаться, если был убежден в своей правоте. Та-
кой была его линия поведения и в дальнейшем.
Политические страсти вокруг «Графини Кэтлин» за-
слонили сам спектакль. По рецензиям на него трудно
представить себе, как же выглядела пьеса Йейтса на
сцене в мае 1899 г. Облик спектакля воссоздается от-
рывочно, по сведениям из разных источников.
Первая проблема для Йейтса состояла в том, чтобы
найти актеров для пьесы. Заветной мечтой драматурга
было увидеть в заглавной роли Мод Гонн, которой он
посвятил пьесу: «Я посвящаю эту пьесу моему другу
мисс Мод Гонн, по предложению которой я задумал и
начал писать ее около трех лет назад» (посвящение бы-
ло впервые напечатано в первом издании пьесы, в
1892 г.). Йейтс уговаривал Гонн организовать вместе с
ним передвижной театр, чтобы показывать «Графиню»
и другие пьесы по всей Ирландии. Однако этот проект
не сбылся. В 1899 г., когда начались репетиции, цент-
ральная роль была сначала отдана Дороти Пэджет,
юной участнице постановки «Страны блаженства» 1894 г.
Флоренс Фарр была приглашена на роль барда Алиля
и должна была ставить спектакль. Мур, вместе с Йейт-
сом активно участвовавший в репетициях, убедил авто-
ра, что девочка-подросток не справится с ответственной
ролью графини, и пригласил вместо нее Мэй Уитти, из-
вестную актрису шекспировского репертуара. Йейтс так
отозвался о ней: «Она играет восхитительно и совер-
шенно лишена чувства Ритма ... Она ужасно раздра-
жает меня каждую секунду, но будет иметь успех» 23.
Йейтс оказался прав. Публика и пресса были едино-
душны в похвалах обеим главным исполнительницам —
хотя автора удовлетворила только игра Фарр. В то же
время постановка такой сложной и непривычной пьесы
была явно ей не по силам. Что Флоренс Фарр не могла
быть в полном смысле слова режиссером, Йейтс ?]\^л
еще по работе над «Страной блажества», но надеялся
на ее помощь в работе над стихом. Однако короткого
87
репетиционного периода оказалось недостаточно, чтобы
заставить актеров коммерческого театра забыть свои
обычные приемы и освоить новое искусство. Кроме того
Иейтс, как выяснилось, недостаточно хорошо представ-
лял себе возможности «распевной» манеры стихотвор-
ной речи. Зритель первого представления «Графини
Кэтлин» пишет: «Что касается интерпретации, то это
была не игра в обычном значении слова, а похвальная
попытка «прибавить к красоте стиха музыку голоса»,
произнося слова почти нараспев; добились ли актеры
полного успеха,... я, честно говоря, не могу сказать...
так как результатом их усилий была невнятность ре-
чи...»24. Иейтс сам понял, что добивался от актеров
«слишком явного и подчеркнутого» ритма в произноше-
нии стиха25; это привело к монотонности. То, что под-
ходило для чтения лирической поэзии, как оказалось,
не было идеальным стилем исполнения целой пьесы,
особенно многоактной. Во втором номере «Бельтене»
Иейтс, объявив, что закончил новую пьесу в стихах
(«Туманные воды»), прибавил: «Мне бы не хотелось
ставить очередную пьесу, пока я не получу возможно-
сти вместе с моими актерами поэкспериментировать с
произнесением стиха»26.
Отзывы на спектакль, даже самые доброжелатель-
ные, явно говорят о недостатках, связанных с отсут-
ствием режиссуры. Репетиции, начатые Фарр, были
продолжены Иейтсом; затем Мур, по его словам, от-
странил Иейтса от дальнейшей работы, поскольку тот
задавал актерам непосильные задачи (Мур считал себя
опытным театральным профессионалом по сравнению с
Мартином и Иейтсом). В результате, по выражению
современного ирландского историка театра, «режисси-
ровали все — и никто»27. В техническом отношении по-
становку было трудно назвать профессиональной. Кон-
цертный зал, снятый для премьеры, не был приспособ-
лен для театральных представлений. В одном конце за-
ла была возведена «миниатюрная сцена»28, на которой
исполнители явно чувствовали себя не очень свободно.
Макс Бирбом, бывший на премьере, назвал декорацию
«кричаще безвкусной»29; шумовые эффекты в последней
сцене, при явлении небесного сонма, были выполнены
на любительском уровне. Насколько реальность оказа-
лась далека от образа идеальной сцены Иейтса, можно
судить по его решительному высказыванию: «Не что
иное, как первое представление «Графини Кэтлин», ког-
88
да наши сценические картины были составлены из
жалкой и банальной декорации и взятых напрокат ко-
стюмов, побудило меня начать писать пьесы, в которых
все зависело бы от актера»30.
При том, что спектакль, по мнению самого Иейтса,
был неудачей, а многие похвалы вызваны не художе-
ственными, а политическими мотивами, заслуживает
внимания свидетельство одного из зрителей, Джозефа
Холлоуэя, богатого дублинца, заядлого театрала и не-
пременного участника всех событий культурной жизни
ирландской столицы (в частности, Холлоуэй являлся
членом Национального литературного общества). Он
вел подробный дневник, благодаря которому стал доб-
ровольным летописцем Ирландского Литературного, а
затем Национального театра, и даже в качестве архи-
тектора принимал участие в перестройке здания для
последнего. Холлоуэй в своих дневниках многого не
одобряет в новом ирландском театре, главным обра-
зом, в силу консерватизма своих взглядов. Йейтс как
драматург, теоретик театра и просто как личность ча-
сто вызывает у Холлоуэя непонимание и раздражение.
Тем не менее его отзыв на «Графиню Кэтлин» полон
энтузиазма: «Как давно знает литературный мир, «Гра-
финя Кэтлин», прекрасная поэма Иейтса в драматиче-
ской; форме, — замечательное чтение, но сегодняшний
спектакль с несомненностью доказал, что она также и
отличное произведение для театра. Впечатление от нее
было то странно-причудливым, то фантастическим, то
патетическим, то живописным: по мере развития дей-
ствия я вспоминал слова По: «Все, что мы видим и чем
кажемся. — всего только сновидение внутри сновиде-
ния», и меня охватило какое-то нереальное, полумисти-
ческое ощущение, подобное трансу...»31. Видимо, спек-
такль, при всем своем несовершенстве, смог понести
хотя бы ло части публики то. чего побивался Йейтс, и
театральная жизнь драматургии Иейтса в Ирландии
сталя фактом.
Ня следующий день после «Графини Кэтлин» была
представлена пьеса Мартина «Вересковое поле», напи-
санная на современный сюжет. Она им^ля единодуш-
ный vcnex — ничего похожего ня ппием, оказанный
«ГоасЬ^не Кэтлин». Тяк же одобпитрльно дублинская
публика приняля следующую nbPcv Мяртина "ля Лите-
пятур^ого театра — «Мейв», покя^яннутл рп втором ср-
.тчт*. Критики тте скупились па восторженны* эпитеты
89
описывая совершенства драм Мартина. Это был точный
показатель эстетического развития и публики, и рецен-
зентов: на щит были подняты пьесы автора, у которого,
как справедливо выразился современный историк ир-
ландского театра, «попросту не хватало таланта на то,
чтобы стать хотя бы второстепенным драматургом»32; в
то же время «Графиня Кэтлин», произведение подлин-
ного поэта и драматурга, в значительной мере осталась
непонятой и неоцененной. Помимо всего прочего, в
пьесах Мартина выражались как раз такие националь-
ные чувства, которые не требовали ни глубины, ни ши-
роты взгляда. В «Мейв», например, все добродетели
принадлежали ирландцам, а пороки — англичанам,
представленным в фигуре нелюбимого жениха героини;
кульминацией пьесы была процессия ирландских духов,
принимающих в свое лоно героиню как истинную дочь
Ирландии, чтобы спасти ее от ненавистного брака.
Еще больший успех имела пьеса Алисы Миллиген
«Последний пир фениев», показанная в один вечер с
«Мейв». Миллиген фактически написала не пьесу, а
стихотворную сценку (20 минут сценического времени)
на сюжет ирландской саги (фении здесь — не участни-
ки политической организации XIX в., а воины легендар-
ного Финна). Горячий прием публики был вызван, в
огромной степени, не достоинствами пьесы, а патриоти-
ческими чувствами: ирландцы впервые видели на про-
фессиональной сцене своих древних героев. В доверше-
ние торжественности момента сам Джон О'Лири «ока-
зал честь автору, появившись на сцене среди воинов,
сидящих за пиршественным столом. Его появление в
одеянии древнего фения было особенно поразительно и
уместно...»33. Можно понять, что в подобных обстоя-
тельствах вопрос о художественных достоинствах пьесы
и спектакля просто не вставал.
Однако этот вопрос не мог быть безразличен Йейт-
су, и поэт, не задумываясь, пошел на конфликт с теми,
кто вместе с ним создал Ирландский Литературный
театр, когда выяснилось, что взгляды основателей здесь
не совпадают. Причиной нового конфликта был снова
Мартин. Он предложил для сезона 1900 г. свою пьесу
«Повесть о городе», которую Йейтс отверг как слабую
и несценичную. Однако Мур занял иную позицию. По
его мнению, пьеса никуда не годилась, но злободнев-
ность темы (англо-ирландские отношения) искупала все
недостатки. Он внушал Йейтсу, что было бы «ошиб-
90
кой ... предъявлять большие претензии к литературно-
му качеству такой пьесы»134. Иейтс пошел на компро-
мисс. В результате было решено, с согласия Мартина,
что Иейтс и Мур внесут в текст необходимые измене-
ния. Иейтс принимал в переработке мало участия. Мур
один фактически переписал пьесу заново (Мартин от-
казался от авторства). Она была поставлена под назва-
нием «Как согнули сук». Поскольку пьеса была посвя-
щена актуальной теме и содержала много злободневных
намеков, националисты встретили ее восторженно. В то
же время сатира Мура не была настолько глубокой,
чтобы обеспокоить юнионистов. Художественный уро-
вень пьесы, хотя и повысившийся по сравнению с ори-
гиналом Мартина, продолжал оставаться более чем
средним; это было отмечено в некоторых отзывах, но
в целом пьеса пользовалась большой популярностью.
Репертуар Ирландского Литературного театра не мог
не тревожить Йейтса, видевшего, что театр отступает
от заявленной программы. Среди всех, кто тогда писал
о Литературном театре, союзником Йейтса оказался
юный Джойс — парадоксальным образом, поскольку он
выступил с самой резкой критикой театра (в статье,
носившей название «Победа черни»). По существу, если
не по форме, Джойс высказал то же, что беспокоило и
ЙейГгса: Ирландский Литературный театр, снизив тре-
бования к художественному уровню пьес, пошел на ком-
промисс с неразвитой публикой («чернью») и тем
самым подорвал то дело, ради которого он был создан.
Оценка Джойсом драматургии Мартина и Мура как
слабой и эпигонской по отношению к европейской «но-
вой драме» была абсолютно справедливой.
Это мнение было высказано Джойсом, когда стали
известны планы Ирландского Литературного театра на
третий сезон: должны были состояться премьеры пьесы
«Диармайд и Грания», написанной Йейтсом и Муром
в соавторстве, и пьесы Дугласа Хайда на ирландском
языке «Как свили веревку». Работа в соавторстве с Му-
ром стала для Йейтса последним компромиссом в пе-
риод существования Ирландского Литературного теа-
тра.
Сюжет был взят из легендарной ирландской исто-
рии и строился вокруг любви Диармайда (Дермота) и
жены Финна Гранин (Грайне). Соавторство с Муром
возникло потому, что пьесу предполагалось написать в
прозе, а Йейтс считал себя недостаточно опытным, что-
91
бы сделать это самостоятельно. Как и следовало ожи-
дать, несовпадение творческих принципов и дарований
тут же сказалось на совместной работе. Иейтс писал
об этом: «Поскольку его (Мура.— В. Р.) мышление
было логическим, абстрактным, схематическим, а мое—
конкретно-чувственным и проникнутым ощущением рит-
ма, мы спорили из-за слов... Поскольку Мур считал,
что любая драма должна изображать правдоподобных
людей в подходящей для них обстановке, поскольку он
был по преимуществу реалистом ... он требовал, чтобы
было много тупых, тусклых слов»35. Макс Бирбом за-
печатлел партнерство Йейтса и Мура в выразительной
карикатуре, подписанной: «М-р У. Б. Иейтс представ-
ляет м-ра Джорджа Мура королеве фей». На рисунке
Иейтс изображен в своем каноническом карикатурном
образе: черная, тонкая, колеблющаяся фигура, растре-
панные волосы, неизменные домашние туфри. Своими
неимоверно длинными пальцами поэт обхватил плечо
Мура, едва достигающего ему до пояса. Мур, одетый в
традиционный строгий наряд английского джентльмена,
сняв цилиндр, в недоумении смотрит перед собой — ту-
да, где в воздухе еле угадывается прозрачный абрис
крошечной феи. Писатели стоят на фоне книжной пол-
ки, явно принадлежащей Йейтсу, так как на корешках
книг — красноречивые названия: «Полчаса с символа-
ми», «Как быстро овладеть мистицизмом», «Реализм:
его происхождение и методы лечения».
На каком-то этапе работы писатели, чтобы преодо-
леть трудности соавторства, придумали совершенно
фантастический план: Мур должен был написать перво-
начальный текст по-французски, Августа Грегори — пе-
ревести его на английский, специалист по ирландскому
языку — сделать перевод с английского на гэльский, за-
тем Грегори должна была перевести текст с гэльского
обратно на английский, а Иейтс — «придать стиль»
окончательной редакции... Этот проект, естественно, не
пошел дальше самых первых шагов. В результате было
решено, что сюжет и композиция будут принадлежать
Муру, а текст — Йейтсу.
Результат совместной работы не был таким неудач-
ным, как можно было предположить. Пьеса вышла про-
фессиональной, с достаточно интересным сюжетом и
напряженным действием. Другое дело, что в ней не бы-
ло ни оригинальности (если не считать сюжета), ни
вдохновения: по существу, она была построена по
92
«М-р У. Б. Йейтс представляет м-ра Джорджа Мура королеве фей».
Карикатура Макса Бирбома
шаблонам репертуарной драматургии. Нечего и гово-
рить, что пейте был глубоко не удовлетворен своей ра-
ботой.
Снова, как и в предыдущие сезоны, возникли труд-
ности с режиссурой и подбором актеров. Из творческих
соображений, а также в целях привлечения публики
было решено отдать пьесу известным актерам (в том
числе, пытались заинтересовать постановкой Форбса-
Робертсона и миссис Патрик Кэмпбелл). Авторам уда-
лось заручиться согласием Фрэнка Бенсона, который
осенью собирался приехать со своей труппой на гастро-
ли в Дублин. Для постановки был арендован театр
«Гейети». Однако, несмотря на весь этот размах, ху-
дожественный результат снова был неудовлетворителен.
Случайный характер состава исполнителей, любитель-
ская режиссура (за нее взялся сам Мур), шаблонная
декорация — все это не способствовало рождению под-
линного произведения сценического искусства, тем бо-
лее, что и пьеса не была шедевром. Английские актеры
чувствовали себя неуверенно в чуждом им мире ирланд-
ской легенды и, судя по описаниям спектакля, прибе-
гали к испытанным штампам игры. Джеймс Казенс пи-
шет: «Когда опустился занавес, публика вызывала ав-
торов. Йейтс ... вышел на сцену перед занавесом и про-
изнес речь о попытках организаторов Ирландского
Литературного театра сломить «вульгарность» англий-
ского коммерческого театра. Некоторые зрители вос-
приняли это как тонкую шутку и засмеялись. Но Йейтс
говорил абсолютно серьезно»36.
Атмосфера, в которой 21 октября 1901 г. состоялась
премьера «Диармайда и Гранин», была типична для
патриотически настроенных зрителей Дублина. Чувства
многих собравшихся выразил Фрэнк Фэй, театральный
обозреватель газеты «Юнайтед айришмен» (органа са-
мой крайней из антианглийских политических группи-
ровок), в рецензии которого была такая, в частности,
фраза: «Зал «Гейети» был переполнен, и самая выдаю-
щаяся дочь Ирландии, мисс Мод Тонн, сидела рядом
с величайшим поэтом Ирландии, м-ром У. Б. Йейт-
сом»37. В антрактах публика пела патриотические пес-
ни, а после спектакля восхищенная толпа пыталась вы-
прячь лошадей из кэба Гонн и Йейтса и с триумфом
провезти экипаж по улицам Дублина.
Однако оказалось немало и таких зрителей, чьи па-
триотические чувства были задеты. Повод к новой ата-
94
ке подал авторитетный историк Стэндиш ОТрейди, на-
кануне премьеры выступивший в печати с утверждени-
ем, что Мур и Иейтс снизили и опошлили героическое
прошлое Ирландии. Этот тезис подхватили многие га-
зеты, даже те, что вначале положительно отнеслись к
пьесе и спектаклю. В смягченной форме повторилась
история с «Графиней Кэтлин», только на сей раз глав-
ной мишенью нападок был Мур, с его «подозритель-
ным» парижским богемным прошлым, широкими зна-
комствами в лондонских литературных и театральных
кругах и т. п. Мур также был автором книги «Парнелл
и его остров» (1887), в которой критиковал многие сто-
роны ирландской действительности; теперь ему припом-
нили и это. Даже то, что Мур привлек к работе над
спектаклем английского композитора Эдварда Эльгара,
расценивалось как антипатриотический поступок. На-
падки не имели такого ожесточенного характера, как в
случае с «Графиней Кэтлин», и в одном пункте крити-
ки были, в общем, правы, при всей нелепости их аргу-
ментации. Обвиняя авторов в аморальности сюжета,
достойного, по их словам, «парижских бульваров»38, а
не безупречной Ирландии, критики уловили вторичный
и банальный характер драматической интриги, разра-
ботанной Муром.
Невозможность дальнейшего сотрудничества с Му-
ром Стала очевидна для Йейтса — прежде всего из-за
несовместимости творческих принципов. Вскоре после
премьеры «Диармайда и Грании» произошло еще одно
событие, ускорившее разрыв: Мур неожиданно публич-
но высказался за церковную цензуру дальнейшей дея-
тельности Ирландского Литературного театра («Просве-
щенная цензура церкви избавит сцену от невежествен-
ной и необразованной цензуры публики...» 3<J.) Заявление
Мура было явно вызвано тем, что он был раздражен
нападками на него; кроме того, он хотел реабилитиро-
вать себя в глазах католической церкви как мощной
влиятельной силы в ирландском обществе. Такая изме-
на принципам, ради которых создавался Ирландский
Литературный театр, была для Йейтса достаточным
основанием публично отмежеваться от Мура. С этого
времени стало ясно, что Мур и Иейтс не смогут про-
должать совместную театральную работу, тем более,
что интерес Мура к театру и ко всему делу «Ирланд-
ского возрождения» был временным. (В 1910 г. Мур
уехал из Ирландии —и уже навсегда.)
95
Мартин также отказался от участия в дальнейшей
общей работе. История трехлетнего сотрудничества по-
казала, что слишком многое в деятельности Ирландско-
го Литературного театра его не устраивало (в том чис-
ле и постановка «Диармайда и Гранин», которую он
осудил по соображениям нравственности). В дальней-
шем он делал попытки (оказавшиеся неудачными) ор-
ганизовать театр в соответствии со своими понятиями.
Распад группы основателей означал конец предприя-
тия, но и до того, как это стало фактом, Йейтс ясно
осознал, что Ирландский Литературный театр исчерпал
себя. Еще до премьеры «Диармайда и Гранин» в жур-
нале «Самайн», новом органе Литературного театра, он
прямо заявил об этом. Отклики прессы показали, что,
несмотря на недостатки Ирландского Литературного
театра и атмосферу скандала, часто сопровождавшую
его спектакли, идея национального театра укоренилась
в сознании ирландской публики, хотя не было согласия
в том, каким образом продолжать начатое театральное
дело. Высказывались самые различные идеи. Не было
твердых планов и у самого Иейтса. Однако решение
вопроса уже было делом недалекого будущего. В один
вечер с премьерой пьесы Иейтса и Мура, на той же
сцене, была показана одноактная крестьянская комедия
Хайда «Как свили веревку» в исполнении ирландских
актеров-любителей, которыми руководил Вилли Фэй. «В
тот вечер, — пишет современный ирландский исследова-
тель, — Ирландский Литературный театр умер и одно-
временно родился заново»40.
Примечания
1 Как известно, Станиславский и Немирович-Данченко обсуждали
принципы и планы будущего Художественного театра также ле-
том 1897 г. (в июне) —на это любопытное совпадение дат обра-
тили внимание ирландские историки театра.
2 Gregory, Lady. Our Irish Theatre. N. Y.; L., 1913, p. 8—9.
3 Yeats W. B. Dramatis Personae. L., 1936, p. 13.
4 Ibid.
5 Beltaine, N 1 (May 1899). Цит. no: Yeats W. B. Essays and Intro-
ductions. L., 1961, p. 167.
6 Ibid., p. 168.
7 Ibid., p. 166.
8 Ibid., p. 170.
9 Ibid.
10 Yeats W. B. Letters to the New Island. Cambridge (Mass.), 1934,
p. IX—X.
96
11 Это значение термина «реализм» в английском словоупотребле-
нии необходимо иметь в виду при чтении большинства англий-
ских искусствоведческих работ, во избежание недоразумений
(большая часть критики «реализма» в английских работах в дей-
ствительности направлена против плоского жизнеподобия, быто-
писательства и т. п.).
12 In: Flannery J. W. W. В. Yeats and the Idea of a Theatre. Toronto,
1976, p. 240, 242—243.
13 Beltaine, N 1, p. 9.
14 Yeats W. B. Dramatis Personae, p. 34.
15 Ibid., p. 32.
16 O'Donnell F. H. Souls for Gold. L., 1899.—In: Hogan R., Kilroy J.
The Irish Literary Theatre, 1899—1901. Dublin, 1975, p. 32; Flan-
nery J. W. Op. cit., p. 150.
17 The Daily Nation, 1899, 6 May, p. 4.—In: Hogan R., Kilroy J. Op.
cit., p. 38—39.
18 Yeats W. B. Poems. L., 1927.—In: The Variorum Edition of the
Plays of W. B. Yeats. Ed. Alspach R. K. N. Y., 1966, p. 173.
19 Cousins J. //., Cousins M. E. We Two Together. Madras, 1950,
p. 57.— In: Hogan R., Kilroy J. Op. cit., p. 39.
20 O'Sullivan S. The Rose and Bottle and Other Essays. Dublin, 1946,
p. 120 — In: Hogan R.f Kilroy J. Op. cit., p. 40.
21 The Freeman's Journal, 1899, 9 May, p. 5.— In: Hogan /?., Kilroy J.
Op. cit, p. 41.
22 Rolleston T. W. Letter.—The Freeman's Journal, 1899, 10 May,
p. 6.— In: The Story of the Abbey Theatre. Ed. McCann S. L., 1967,
p. 129.
23 In: MacLiatnmdir M., Boland E. W. B. Yeats and His World. L.,
1971, p. 63.
24 Joseph Holloway's Abbey Theatre. Ed. Hogan R., O'Neill M. J.
Carbondale, 1967, p. 7.
25 Yeats W. B. Autobiographies. L., 1955, p. 413.
26 Beltaine, № 2 (Febr. 1900), p. 23.
27 O'hAodha M. Theatre in Ireland. Oxford, 1974, p. 34.
28 Joseph Holloway's Abbey Theatre, p. 6. Подмостки заняли часть
зала, где обычно располагалась публика (судя по тому, что ре-
цензенты оценивают число зрителей — при переполненном зале —
в 400—500 человек, в то время, как зал был рассчитан на
800 мест).
29 Beerbohm М. In Dublin.—The Saturday Review, 1899, 13 May.
p. 587.— In: Flannery J. W. Op. cit., p. 149.
30 The Variorum Edition of the Plays of W. B. Yeats, p. 1291.
31 Joseph Holloway's Abbey Theatre, p. 7.
32 Flannery J. W. Op. cit., p. 157.
33 The Freeman's Journal, 1907, 21 March, p. 8.—In: Hogan R., Kil-
roy J. Op. cit., p. 152.
34 Moore G. Hail and Farewell: Ave. L., 1911, p. 280.—In: Flanne-
ry J. W. Op. cit., p. 160.
35 Yeats W. B. Dramatis Personae, p. 52, 53.
36 Cousins J. H., Cousins M. E. Op. cit., p. 63 — In: Hogan R., Kil-
roy J .Op. cit., p. 110.
37 Fay F. The Irish Literary Theatre.—The United Irishman, 1901,
26 Oct., p. 2.— In: Fay F. G. Towards a National Theatre. Ed. Ho-
gan R. Dublin, 1970, p.'71.
34 The Freeman's Journal, 1901, 24 Oct.. p. 4.—In: Hogan R., Kil-
roy У. Op. cit., p. 110.
4 В. А. Ряполова
97
39 The Irish Literary Theatre: Interview with Mr. George Moore —
The Freeman's Journal, 1901, 13 Nov., p. 5.—In: Hogan R.t /07-
roy J. Op. cit., p. 121.
40 O'hAodha M. Op. cit., p. 34.
ИРЛАНДСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР —
ТЕАТР АББАТСТВА
НАЧАЛО
В своей Нобелевской речи Иейтс изложил историю воз-
никновения Ирландского Национального театра в не-
скольких фразах: «Два наших лучших актера не были
выбраны случайно, потому что один из них был влюб-
ленный в театр служащий юридической фирмы, а вто-
рой— рабочий, который объехал Ирландию в труппе,
руководимой негром... Однако наших женщин мы на-
шли в маленьком политическом обществе, официальной
целью которого было дать образование детям бедняков
или, согласно его врагам, обучать детей катехизису, ко-
торый начинался вопросом: «В чем первоисточник зла?»
и ответом — «В Англии»1.
В целом это почти точно (за исключением некото-
рых деталей), но требует более подробного рассказа.
Актеры, упомянутые Иейтсом, — тот самый Вилли
Фэй, который поставил пьесу Хайда, и его старший
брат Фрэнк Фэй.
В 1901 г. старшему из братьев был 31 год, младше-
му— 29. Они оба страстно полюбили театр с детства,
играли в любительских спектаклях, а в 1891 г. Вилли
против воли родителей поступил в бродячую труппу и
провел шесть лет вне Дублина, не только играя на сце-
не, но и освоив все остальные театральные профессии.
Он выступал с различными труппами; среди них дей-
ствительно была одна, состоявшая в основном из аме-
риканских негров и руководимая негром (они играли
«Хижину дяди Тома»). Актерское ремесло не приноси-
ло больших доходов; Вилли мог гораздо лучше зара-
ботать на жизнь своей профессией электрика, к кото-
рой он, по совету брата, и вернулся, снова осев в Дуб-
лине. Фрэнк Фэй в это время работал секретарем в
одной из дублинских бухгалтерских фирм и продолжал
дело, начатое вместе с братом, — руководство любитель-
98
ской труппой. Страстью Фрэнка была история театра,
особенно стилей актерской игры и произношения. Он
собрал огромную театральную библиотеку, состоявшую
из книг, газетных и журнальных статей (впоследствии
йейтс пользовался библиотекой Фрэнка Фэя и высоко
ценил его знание истории театра). Оба брата недолгое
время обучались сценической речи у одной профессио-
нальной актрисы. Фрэнк продолжил свое обучение са-
мостоятельно, применяя методы, которыми пользуются
итальянские мастера бель канто, и достиг поразитель-
ных успехов, развив свой от природы небольшой голос
и сделав его красивым и выразительным. Теми же ме-
тодами Фрэнк Фэй обучал актеров-любителей своей
труппы. Вилли был в ней режиссером-постановщиком;
оба брата выступали также в качестве актеров. С 1899
по 1902 г. Фрэнк также (не бросая основной работы)
вел театральный отдел газеты «Юнайтед айришмен».
Братья Фэй, не выезжавшие за пределы Ирландии,
имели возможность видеть лучших английских и фран-
цузских гастролеров, когда те приезжали в Дублин.
Среди них были Сара Бернар, Коклен, Габриэль Ре-
жан, Стелла Кэмпбелл (миссис Патрик Кэмпбелл),
Фрэнк Бенсон, Ирвинг, Эллен Терри и др. Братья Фэй
проявляли живой интерес к тому новому, что происхо-
дило в европейской драме и театре. Вилли Фэй в своих
мемуарах пишет, что особенное значение для них имели
статьи Уильяма Арчера, благодаря которым братья уз-
нали о Свободном театре Антуана, об Ибсене и о Бер-
генском театре, о новых театрах Лондона. Фэй вспо-
минает также, каким откровением для них и для всего
Дублина была первая театральная встреча с Ибсеном
(это была пьеса «Враг народа» в исполнении труппы
под руководством Бирбома Три). Как пишет Вилли
Фэй, он и Фрэнк поняли, «что этот великий театраль-
ный гений открыл новую землю и проложил путь, ко-
торым с тех пор следовали все драматурги. Мы увиде-
ли, что Ибсен открыл драматические возможности в
жизни всех классов общества. Кроме того он изобрел
новый метод композиции и уничтожил реплики в сто-
рону и монологи. Было очевидно, что такой тип пьесы
требует от актера совершенно новой техники»2.
Братья Фэй с интересом следили за деятельностью
Ирландского Литературного театра. Фрэнк в качестве
рецензента «Юнайтед айришмен» публично выступал с
отзывами о работе театра. Оба Фэя присутствовали на
99
А*
представлении «Графини Кэтлин», и, как пишет в ме-
муарах Вилли Фэй, уже тогда поняли, что для ирланд-
ской пьесы необходимы ирландские актеры, но не ме-
нее профессиональные, чем гастролеры-англичане. В
своих статьях 1901 г. Фрэнк ратовал за создание ир-
ландского национального театра — по образцу Норвеж-
ского театра в Бергене. Он предлагал руководителем
Дугласа Хайда, а в качестве потенциальных актеров —
любителей из членов патриотических обществ.
С одной из таких организаций, «Дочери Эрина», ру-
ководимой Мод Гонн, братья Фэй вступили в творче-
ский контакт в 1900 г. Тогда, в частности, под руковод-
ством Вилли Фэя было дано первое в Ирландии пуб-
личное представление пьесы на ирландском языке. В
следующем сезоне работа Фэев в Обществе продолжа-
лась: они поставили там пьесы силами собственной
труппы и актеров-любителей из Общества.
Если братья Фэй хорошо знали работу Ирландского
Литературного театра и драматургию Йейтса, то первое
знакомство Йейтса с творчеством его будущих товари-
щей по театру произошло только в 1901 г. До этого
Йейтс познакомился заочно с Фрэнком Фэем как теат-
ральным критиком. Они вступили в переписку в июле
1901 г., а в конце августа Йейтс пришел на спектакли
Фэев, поставленные для «Дочерей Эрина». По словам
Фрэнка Фея, Йейтс сказал ему: «Мне нравится сдержан-
ная манера игры вашей труппы»3. Увидев спектакль
труппы Фэев год спустя, Йейтс написал: «Я мечтал о
такой игре, но никогда до тех пор ее не видел» \
Осенью того же 1901 г., когда Йейтс впервые увидел
труппу Фэев, Вилли Фэй принял участие в работе Ир-
ландского Литературного театра: его пригласили для
постановки пьесы Дугласа Хайда «Как свили веревку»,
поскольку Мур не справился с режиссурой. Актеры-лю-
бители (включая самого Хайда в главной роли) не при-
надлежали к труппе Фэев (они были членами Гэльской
лиги Хайда), но опыт сотрудничества оказался удачным.
Горячий прием этой постановки во многом объяснялся
патриотическими чувствами публики, но, судя по отзы-
вам, в этом непритязательном любительском спектакле
была та свежесть и заразительность, которой не хвата-
ло опытным английским актерам, только что перед тем
сыгравшим пьесу Мура и Йейтса. Из рецензий также
явствует, что в постановке комедии Хайда чувствовалась
режиссерская рука. Один критик писал: «Это закончен-
100
ная жанровая картинка, которая по отработанности де-
талей и искусному и точному распределению света и те-
ни живо напоминает интерьеры мастеров голландской
школы»5.
После постановки «Диармайда и Гранин» и пьесы
Хайда Ирландский Литературный театр прекратил су-
ществование, и труппа братьев Фэй осталась в своем
прежнем статусе актеров-любителей, время от времени
играющих сценки и короткие пьески из популярного ре-
пертуара. Однако Фэй не хотели продолжать работу на
этом уровне. Им нужна была драма более высокого
литературного качества, причем драма ирландская. Та-
ким произведением оказалась пьеса Джорджа Рассела
(писавшего под псевдонимом АЕ) «Дейрдре», созданная
на сюжет из ирландских саг. Для ее постановки братья
Фэй образовали труппу из состава своего любительского
театра и членов общества «Дочери Эрина», которые
прошли обучение у Фрэнка Фея. Иейтс не только знал о
новом начинании, не только присутствовал на репети-
циях «Дейрдре», но и предложил труппе свою новую од-
ноактную пьесу «Кэтлин, дочь Хулиэна», заручившись
согласием Мод Гонн сыграть в ней главную роль.
Премьера «Дейрдре» и «Кэтлин», состоявшаяся 2 апре-
ля 1902 г. и прошедшая с огромным успехом, была фак-
тически первым представлением Ирландского Нацио-
нального театра, хотя официально он был образован
спустя несколько месяцев. Инициатива исходила от те-
атрального общества, руководимого Фэями. Новый театр
остался любительским по своему статусу: он носил на-
звание «Общество ирландского национального театра».
Президентом Общества труппа единодушно хотела ви-
деть Рассела, но тот отказался, так как театр не был
для него главным делом6, и предложил вместо себя кан-
дидатуру Иейтса. В результате Иейтс стал президентом
нового общества, а Мод Гонн, Рассел и Хайд — вице-
президентами. Вилли Фэй возглавил труппу в качестве
режиссера. Уже летом того же 1902 г. начались репети-
ции четырех новых пьес, причем две из них были напи-
саны членами труппы, а одна («Горшок похлебки») —
Иейтсом, при участии Августы Грегори, которая вскоре
также вступила в Общество. У нового театра не было
своего помещения, он начал существование на взносы
его членов и при помощи друзей, труппа имела возмож-
ность репетировать только вечерами, а то и ночами, и в
выходные дни, но это никого не смущало. Талант, вера
101
Театр Аббатства (здание, существовавшее до 1951 г.)
в свои силы и в свое дело превратили маленькое люби-
тельское общество в подлинный художественный коллек-
тив, сознававший свою высокую миссию. В уставе Об-
щества было записано, что его цель — «продолжить — ес-
ли возможно, на более постоянной основе — работу, на-
чатую Ирландским Литературным театром, создать ир-
ландский национальный театр путем постановки пьес на
английском и ирландском языках, написанных ирландс-
кими авторами или на ирландские сюжеты, или таких
драматических произведений иностранных писателей, ко-
торые бы способствовали просвещению публики и сти-
мулировали ее интерес к высоким и значительным фор-
мам драматического искусства...»7
102
Зрительный зал Театра Аббатства
Ирландский Национальный театр начал свою много-
летнюю жизнь. Она была трудной, бурной, противоречи-
вой, но при этом яркой и интересной. В первое же деся-
тилетие своего существования театр дал сценическую
жизнь пьесам двух драматургов мирового значения,
Йейтса и Синга,— одно это уже делает его выдающим-
ся явлением. В то же время два крупнейших драматур-
га, связанных с Ирландским Национальным театром,
были разительно несхожи между собой.
ЙЕЙТС И СИНГ
Джон Синг8 не был в числе организаторов Ирландского
Национального театра. Он пришел в него в качестве
автора в 1903 г. (была поставлена его пьеса «В сумраке
долины»), главным образом, благодаря инициативе
Йейтса, с которым познакомился в Париже в 1896 г. За
свою короткую творческую жизнь Синг создал произве-
дения, составившие гордость «Ирландского возрожде-
ния», ирландской драматургии: кроме уже упомянутой
«В сумраке долины» это «Скачущие к морю» (1903),
«Источник святых» (1905), «Свадьба лудильщика»
103
Джон Синг. 1895 г.
(1907), «Дейрдре — дочь печалей» (поставленная по-
смертно, в 1910 г.) и самая знаменитая пьеса — «Удалой
молодец, гордость Запада» (1907).
В творчестве Синга противоречивость ирландской
жизни начала века нашла наиболее адекватное и глубо-
кое художественное выражение. Герои драматурга — кто
в большей, кто в меньшей степени — «естественные лю-
ди». Крестьяне, рыбаки, вольные бродяги, они живут в
тесном общении с природой, сопричастны ее ритмам и
черпают в ней свои силы. В то же время Синг видит и
показывает, как буржуазная цивилизация, со своими
нравами и законами, наступает на патриархальную
сельскую Ирландию, пытаясь урезать, исказить, подчи-
нить себе нравственно здоровую, крепкую и цельную на-
туру «естественного человека».
Не удивительно, что творчество Синга органически
вошло в духовную культуру Европы начала века. В этот
104
период с новой остротой встала проблема природы и ци-
вилизации. Витализм в философии; обращение много-
численных и не схожих между собой художников к теме
«естественного человека»; связанный с этим небыва-
лый—со времен романтизма — интерес к старине, фоль-
клору, быту народов, находящихся на первобытной ста-
дии развития; дальнейшее углубление биологических
знаний о человеке и включение их в сферу искусства —
таковы широко известные и знаменательные факты.
На пороге новой эры родилось жгучее желание дойти до
первооснов человеческого бытия, чтобы тем самым оце-
нить настоящее положение человека и прозреть его бу-
дущее.
Из истории искусства начала века известно, сколь
различны были результаты этих поисков. Наиболее глу-
бокими и проницательными оказались те художники, ко-
торые могли непосредственно прикоснуться к глубинным
пластам народной жизни. Эта счастливая возможность
выпала и на долю Синга. Вот почему пьесы молодого
драматурга из захолустной Ирландии имели такой гром-
кий резонанс.
Его драматургия лишена созерцательности и идил-
личное™. У Синга человек, будучи точкой приложения
и естественных («вечных») и социальных (конкретно-
исторических) законов, вступает в сложные, конфликт-
ные отношения и с теми и с другими. Как ни близки к
природе «естественные люди» Синга, как щедро ни ода-
ряет она их, отношения человека и природы у ирланд-
ского драматурга имеют множество граней и оттенков
трагического свойства. Разгул природных стихий, ли-
шающий человека крова, пищи, а то и жизни; немое
равнодушие природы перед лицом человеческого стра-
дания и, более всего, конфликт между конечностью че-
ловеческого бытия и бесконечностью жизни природы —
эти и другие мотивы пронизывают все творчество Синга.
Они сочетаются с конфликтом между личностью и бур-
жуазным обществом, который у Синга предстает как
борьба подлинного, естественного и искусственного в че-
ловеческом бытии, человеческих отношениях.
Синг не только критикует, но и утверждает —
утверждает красоту и поэзию. Для него они существуют
везде: в окружающей природе, в человеческой внешно-
сти, в самой способности людей воспринимать красоту и
мечтать о ней. Поэтичен и сам язык пьес Синга. Вместе
с другими деятелями «Ирландского возрождения» дра-
105
Джон Синг. «Скачущие к морю». 1904 г.
Ирландский Национальный театр
матург открыл народную речь Запада страны, красоч-
ную, образную и в то же время живую, невыдуманную.
Этот языковой материал был художественно преобразо-
ван Сингом, и результатом явился единственный в своем
роде синтез натурального и условного, разговорного и
возвышенно-поэтического (язык Синга сравнивали с
библейским и шекспировским). Синг сам определил
свое художественное кредо в формуле «поэзия реальной
жизни», а в более распространенной форме высказался
так: «...Высочайшие моменты поэзии всегда достигаются
тем, что мечтатель опирается на реальность или человек
реальной жизни приподнимается над ней, и величайшие
из поэтов обладают обоими этими элементами, то есть
они в высшей степени поглощены жизнью, но необуздан-
ность фантазии все время выводит их за границы того,
что просто и очевидно»9.
В лучшей пьесе драматурга, «Удалой молодец, гор-
дость Запада», где благодаря исключительным обстоя-
тельствам происходит соединение фантазии и реально-
сти, действующие лица, обычные крестьяне, переживают
106
Джон Синг. «Удалой молодец, гордость Запада».
Театр Аббатства.
Пегин Майк — Мойра О'Нил
«высочайшие моменты поэзии», и краски здесь буйные
и радостные, как никогда раньше у Синга. В то же вре-
мя именно в этой пьесе с наибольшей полнотой и трез-
востью выразился взгляд Синга на современную ему
ирландскую действительность: могучие природные силы,
бурлящие в персонажах «Удалого молодца», не имеют
настоящего применения; праздник свободы от законов
антигуманного общества, искажающего человеческую
натуру, длится недолго.
В современной Сингу Ирландии, с ее накаленными
политическими страстями, его драмы многими воспри-
107
нимались односторонне: в них видели только критику
ирландской действительности и, конкретно, ирландского
крестьянства. Постановка «Удалого молодца» вызвала
такую бурю негодования у зрителей, что перед ней по-
меркла кампания вокруг «Графини Кэтлин» Йейтса. Но
уже при жизни Синга тем, кто не был ослеплен узкона-
ционалистическими предрассудками, стало ясно, что в
его лице Ирландия дала Европе одного из наиболее
цельных и эпичных художников XX в., — по прошествии
времени это стало еще более очевидно. Синг сам точно
выразил дух своего творчества в одной из дневниковых
записей10: «Чувства, испытываемые нами11, не имеют
ни начала, ни конца — они часть хода бытия... Вот этот
почти космический элемент в человеке и сообщает вели-
кому искусству, такому, как создания Микельанджело и
Бетховена, величие природы». Ощущение органической
связи с жизнью природы, которое придает пьесам Синга
эпичность и монументальность, более не вернулось в дра-
матургию XX в. Не было оно присуще и Йейтсу.
Второй из основных мотивов Синга — утверждение
полноты и гармонии социального бытия человека — был
глубоко созвучен Йейтсу, но этот мотив выражен в его
драматургии иначе, чем у Синга. Герой Йейтса в 900-е
годы, как и раньше, — человек высокого интеллекта, жи-
вущий в мире чуждых ему ценностей. Для него пробле-
ма достижения идеала намного сложнее и мучительнее,
чем для крестьян или лудильщиков Синга, сохранивших
причастность к внебуржуазным формам бытия. Различ-
ны и творческие принципы Йейтса и Синга. Почти каж-
дая из пьес Йейтса представляет собой развернутую ме-
тафору; в конфликт вступают не люди, не характеры, но
противоположные начала, идеи, принципы. Мир драма-
тургии Синга восхищал и увлекал Йейтса, более того,
побуждал его приблизиться к изображению «реальной
жизни». Однако изменить своему дарованию Йейтс не
мог.
В пьесах Йейтса 900-х годов конфликт духовного и
материального, возвышенного и низменного приобрел
новый драматизм.
В начале 900-х годов Йейтс создал произведение,
стоящее особняком не только среди его пьес этого пери-
ода, но и во всем творчестве. Это «Кэтлин, дочь Хулиэ-
на» (1902), откровенно агитационная пьеса, призываю-
108
щая к вооруженной борьбе и самопожертвованию во
имя Ирландии. Ее экзальтированная риторика и просто-
та мотивов дают основания предположить, что на Йейт-
са повлияла атмосфера бурления политических страстей.
Заглавная роль (а Кэтлин, дочь Хулиэна — это сама
Ирландия) создана Иейтсом специально для Мод Гонн:
это как бы очередная патриотическая речь, произносимая
со сцены театра как с трибуны. (Гонн имела в этой ро-
ли огромный успех.)
Но как ни отличается «Кэтлин, дочь Хулиэна» от
других произведений Йейтса, и в этой драме он не изме-
няет себе. По своей структуре и по тону «Кэтлин» ра-
зительно схожа со «Страной блаженства». Сходство это
имеет достаточно глубокую основу.
В «Кэтлин», как и в «Стране блаженства», действу-
ют три группы персонажей: обыватели, погруженные в
повседневные заботы; носительница высших устремле-
ний и одинокая избранная натура. Действие происходит
также в крестьянском доме, где царит порядок и доволь-
ство, где говорят и думают о реальных и всем понятных
вещах: о предстоящей свадьбе старшего сына Майкла,
о тех благах, которые она принесет хозяйству. Сам
Майкл думает о невесте, а не об ее приданом, но и это
в порядке вещей: молодому человеку пристало думать
о своей будущей супруге, тем более, что его выбор одоб-
рен старшими, скреплен договором между двумя
семьями.
В эту размеренную, налаженную, привычную жизнь
вторгается — как и в «Стране блаженства» — неведомая
сила извне. Появление Кэтлин, как раньше — феи, под-
готавливается с самого начала действия. Обитатели до-
ма слышат в отдалении ликующие крики толпы — но ви-
дят только незнакомую старуху, идущую по дороге. И
то и другое вызывает у них странную тревогу, которая
сначала заглушается заботами о предстоящей свадьбе,
но затем возвращается с новой силой: непонятные кри-
ки все приближаются, а старая нищенка вступает в дом.
В пьесе как будто достаточно бытовых и историче-
ских реалий. Действующие лица имеют имена и фами-
лии, точно обозначено географическое место действия
(селение Киллала в графстве Мейо), а также время —
1798 г. Странные звуки в конце концов объясняются
вполне реалистически: в бухте бросили якорь корабли
революционной Франции, и толпа приветствует их в на-
дежде на избавление от поработителей-англичан. (Вы-
109
«Кэтлин, дочь Хулиэна». 1902 г.
Постановка У. Фэя и Ф. Фэя.
Справа — Мод Тонн в заглавной роли
садка французского десанта близ Киллалы — историче-
ский факт, известный каждому ирландцу.) Но реальное
событие трактуется в поэтическом и фольклорном духе.
Проза «Кэтлин» так же условна, как стихотворная речь
в «Стране блаженства»; крестьянская среда также обри-
сована в самых общих чертах, и действие можно отнести
к любому веку — или, вернее, к условному и неопреде-
ленному прошлому. С появлением старухи атмосфера
сказочности усиливается. На все вопросы она отвечает
загадками или видимой бессмыслицей, а в конце уходит
так же внезапно, как появилась, и вслед за ней, как за-
чарованный, забыв обо всем, устремляется юный Майкл.
Когда родители спрашивают младшего сына, не видел
ли он старуху, тот отвечает: «Нет, но я видел юную де-
вушку, и у нее была поступь королевы».
Иейтс апеллировал к романтической традиции ир-
ландского освободительного движения, в которой реаль-
ные имена и события представали в ореоле легенд, ста-
новились такой же частью национальной мифологии,
как действительно легендарные или аллегорические фи-
110
гуры — как Кэтлин, дочь Хулиэна. В драме Йейтса исто-
рия и фольклор существуют на равных, одинаково об-
ладают той мерой условности, которая была необходима
для произведения, где и фольклор и история — средство
патриотической агитации.
«Кэтлин, дочь Хулиэна» была принята ирландской
революционной интеллигенцией с восторгом — как сим-
вол веры. Широко известны строки одного из последних
стихотворений Йейтса, «Человек и эхо», в которых поэт
спрашивает себя:
Did that play of mine send out
Certain men the English shot?
(He эта ли моя пьеса послала /Людей, которых я знал,
под пули англичан?)
Мучительный вопрос, остающийся в стихотворении
без ответа, недаром возник у Йейтса. В его знаменитой
пьесе содержится то зерно трагического, которое дало
всходы, когда пробил час национальной революции.
Шон О'Кейси, свидетель Пасхального восстания
1916 г., пишет о его жертвенном пафосе, об атмосфере
отрешенности и опьянения, в которую были погружены
восставшие — эта горстка людей, чужая среди толпы,
занятой своими обычными делами и не понимающей, что
происходит. В драме Йейтса Майкл, уходящий на под-
виг ради Ирландии, говорит и действует, как в трансе.
Между ним и средой, оставшейся нечувствительной к
призыву страдающей родины, — полный разрыв. В пес-
нях, которые поет Кэтлин,— обещание скорой смерти.
Майкл избран — но и обречен. Он устремляется за Кэт-
лин, как героиня «Страны блаженства» — за феей, — в
романтическом порыве, отрешившись от всего окружаю-
щего.
Ни одна из последующих пьес Йейтса не была так
популярна, как «Кэтлин, дочь Хулиэна». В патриотиче-
ских кругах считали, что он отошел от задач освободи-
тельной борьбы: вместо прославления Ирландии и при-
зывов к борьбе против ее угнетателей впал в пессимизм
и занялся проблемами, далекими от нужд дня. Критики
не заметили, что «Кэтлин» была воспринята ими одно-
планово, что трагический пафос, характерный для боль-
шинства драм Йейтса в 900-е годы, присущ и этой
пьесе.
ill
В творчество Йейтса входит тема «железного века»,
рожденная его размышлениями о современности. Сразу
же после «Кэтлин, дочери Хулиэна» он создает пьесу
«Где нет ничего» (1902) 12, в которой выводит героя
(по имени Пол Раттледж), задавшегося целью испытать
на личном опыте разные сферы бытия и духа и найти
абсолютную истину. Это пятиактная драма огромного
объема, в замысле претендующая на то, чтобы стать
вторым «Фаустом» или «Пер Гюнтом». В первом дейст-
вии герой порывает с дворянской средой, из которой
происходит; во втором попадает к лудильщикам; в чет-
вертом— в монастырь, где порывает с церковью и ста-
новится проповедником нового учения, в пятом — пропо-
ведует свою веру среди крестьян и гибнет от их рук как
еретик.
Герой Йейтса по-прежнему не видит возможности
достичь высшей гармонии на земле. По его мнению, ин-
тенсивность и естественность жизни не могут возвра-
титься никогда, так как человек обречен на искусствен-
ность развитием своей цивилизации, и перемены, вклю-
чая революции, будут внешними. Отсюда слова, давшие
заглавие пьесе: «Мы должны разрушить Мир; мы долж-
ны разрушить все, в чем есть Система и Число, потому,
что Бог там, где нет ничего».
В пьесе «Песочные часы» (премьера 1903), Йейтс
создает образ «железного века» опосредованно. Вырази-
тель духа времени в этой пьесе — Мудрец, воплощаю-
щий узкое, поверхностное знание («Я верил только в то,
что говорят мне мои ощущения») и односторонний, раз-
рушительный скепсис (Мудрец отрицает идею бога, не
давая взамен никакой общей идеи). В «Песочных часах»
фактически повторяется тема юношеской драмы Йейтса
«Время и волшебница Вивьен»; так же, как и там, по-
зитивистское мышление оказывается посрамленным.
Чудо — явление Ангела — мгновенно разрушает фило-
софскую систему Мудреца, и тот признает существова-
ние высшей реальности, а вслед за ним — и его ученики,
которым он внушал ложную мудрость. Единственный
среди земных персонажей пьесы, кто всегда знал под-
линную истину, — Дурак, поскольку его не могла кос-
нуться псевдоученость.
Открытый конфликт противоположных начал — новая
черта в драматургии Йейтса (если не считать давних
«проб пера»). Она с особой силой проявилась в пьесе
«На королевском пороге» (1903). Герой пьесы поэт
112
«Песочные часы». 1903 г. Ирландский Национальный театр.
Слева направо: Мудрец — Фрэнк Фэй, Дурак — Джордж Роберте
Шанахан напоминает Пола Раттледжа из «Где нет ни-
чего». Он одержим столь же высокой идеей и так же
бескомпромиссен в стремлении к ней, но идея, которую
проповедует Шанахан, теснейшим образом сопряжена с
проблемами окружающей жизни, которые Раттледжу, с
высоты его философии, казались мелкими и преходящи-
ми. Главным врагом героя Иейтса теперь становится
деспотическая власть (которую в пьесе воплощает ко-
роль Гуэр). Обычные люди, масса —не самостоятельная
сила, а поле сражения между поэтом и королем.
Поэт у Иейтса — не отдаленный от жизни мечтатель,
а лицо, облеченное доверием и уважением народа, про-
поведник и учитель жизни. Недаром действие развора-
чивается в средневековых (хотя и условных) декораци-
ях. Драматург основывается на исторически достоверном
факте: в средневековом ирландском обществе поэты
(барды) долгое время занимали высокое положение. По
представлениям Иейтса, в эту эпоху реально существо-
вал идеал целостности, утраченный в дальнейшем. Ге-
рой «Королевского порога», споря с королем, борется
113
против системы воззрений, защищающей буржуазную
цивилизацию.
В пьесе Иейтса «железный век» уже надвигается.
Власть посягает на исконное право поэта участвовать в
королевском Совете, и это не рождает взрыва возмуще-
ния даже среди учеников Шанахана. Былое цельное со-
знание распалось. Все находят естественным, что сферы
жизни разграничены: власть правит, подданные пови-
нуются, поэты услаждают слух. В обиде Шанахана ви-
дят мелочную вспыльчивость, а в его решимости отом-
стить обидчику, погибнув голодной смертью на его поро-
ге (таков древний обычай), — пережиток варварства и
безумие.
В начале действия герой Иейтса, как всегда, один
против всех. Но в то же время он — один за всех, и в
этом новый источник его силы и решимости. Шанахан
ясно видит то, что непонятно другим: оскорблен не поэт,
а поэзия. Боле того, унижение поэзии грозит деградаци-
ей всему обществу, потому что благодаря поэзии люди
имеют перед глазами идеал, состоящий в могучем и сво-
бодном расцвете всех жизненных сил. Король и придвор-
ные в конечном счете посягают на этот идеал.
Соотношение среды и героя меняется. Безнадежны,
неспособны возвыситься до его идеала те, кто подчинил
свою природу велениям деспотической власти, стал
функционером государственной машины: мэр, солдат,
монах, камергер. Их требования или просьбы покорить-
ся королю и прекратить голодовку вызывают у поэта
ненависть и презрение. Но герой Иейтса уже не относит-
ся с высокомерием к заботам о хлебе насущном, к радо-
стям и огорчениям, присущим любому: ведь из этого
обыденного материала он и выковал свой идеал. Лег-
комысленных девушек, просящих поэта помириться с ко-
ролем, чтобы во дворце снова начались празднества,
Шанахан не осуждает, а благословляет. Их мотивы ему
ближе, чем соображения государственной необходимо-
сти. Привязанность к семье, к любимой женщине — то,
с чем избранные натуры в пьесах Иейтса обычно рас-
ставались без сожалений,—для Шанахана драгоценна
и не противоречит его стремлению к идеалу.
Окружающие также чувствуют свое внутреннее род-
ство с поэтом. Ученики, поняв смысл борьбы Шанахана,
становятся непоколебимы, как он — даже когда король
угрожает им смертью, чтобы заставить Шанахана под-
чиниться. Мать поэта скорбит об участи, ждущей сына,
114
но склоняется перед его решением. Невеста героя, лю-
бовь которой власти хотели использовать для воздейст-
вия на непокорного, готова разделить его участь. Борь-
ба поэта против несправедливости властей находит от-
звук во всей стране. Если в «Где нет ничего» герой от-
вергал социальную борьбу как нарушающую чистоту и
тотальность его идеи, то в «Королевском пороге» устрем-
ления аристократа духа и нищих калек совпадают. В
этой пьесе антибуржуазный пафос творчества Йейтса
выразился с политической определенностью. Сам дра-
матург с гордостью отмечал в 1922 г.: «Когда я пи-
сал эту пьесу, ни суффражистка, ни патриот еще не объ-
являли голодовку, и, насколько я знаю, голодовка как
оружие политической борьбы вообще нигде не применя-
лась» 13. В «Королевском пороге» герой Йейтса в первый
и единственный раз одерживает реальную победу в
борьбе за свой идеал: когда острота борьбы достигает
апогея, король отступает и признает свое поражение.
Права поэзии восстановлены, а вместе с ними — уверен-
ность в будущности народа.
Но уже в следующей пьесе, «На Берегу Байле»
(1903) 14, с новой силой зазвучали трагические диссонан-
сы Йейтса. Он снова обратился к миру ирландских
саг — на сей раз героических, изобилующих драматиче-
скими сюжетами и яркими человеческими образами. В
драматургии Йейтса впервые появляется образ леген-
дарного ирландского богатыря Кухулина, сопровождав-
ший творчество Йейтса до самой смерти. «На Берегу
Байле» — одно из программных произведений драматур-
га в 900-е годы.
В основе сюжета — эпизод, взятый из саги: Кухулин
по приказанию короля Конхобара вступает в бой с
юным чужеземным воином и убивает его, а затем узна-
ет, что незнакомец был его единственным сыном.
Иейтс, однако, начинает не с главной сюжетной ли-
нии. На сцену — в дом Кухулина, готовый стать местом
действия трагедии, — приходят двое бродяг, слепой и
дурак. Этих персонажей не было в древней саге, они —
плод фантазии самого автора. Сначала у них были име-
на, а в редакции 1907 г. Йейтс сделал их безымянными,
что отвечало характеру ролей: это безвестные люди мас-
сы; хор, аккомпанирующий трагедии героя; носители
общего, массовидного, а не индивидуального 15. Слепого
и Дурака можно назвать комической парой, но они при-
сутствуют в пьесе вовсе не для комической разрядки. Их
115
Участники постановки Ирландского Национального театра
«На королевском пороге» (1903 г.)
в костюмах, выполненных по эскизам Э. Хорнимен
первый диалог сразу вводит зрителя в атмосферу тра-
гедии. Слепой и Дурак не только рассказывают о том,
что ждет Кухулина. Их собственные отношения, та
жизнь, которую они приносят с собой на сцену, несут на
себе зловещий отпечаток «железного века». Простодуш-
ный зрячий безумец и холодно-расчетливый слепец —
как бы две ущербные, уродливые половины одной чело-
веческой личности, не могущие обойтись друг без дру-
га, но пребывающие в вечном конфликте. Это символы
распада цельного мира, отдаленные предшественники
беккетовских Поццо и Лакки: хозяин и слуга, воля и
воображение (во II акте «Годо» — слепой и поводырь).
Фантазия Дурака бесплодна и безудержна: видения,
которые его посещают, сродни галлюцинациям наркома-
нов. Так же бесплоден прагматический ум Слепца, не
способный ни на что, кроме мелких корыстных расче-
тов. Слепой выбирает удобный момент, когда можно
украсть курицу,—Дурак ловит и ощипывает ее; Дурак,
весь во власти своих фантазий, бегает наперегонки с
ветром, слыша в его вое голоса колдуний, — Слепой же
тем временем жарит аппетитную курицу и съедает ее
116
всю, тайком от Дурака. Еда для них — средоточие смыс-
ла жизни, единственный источник тепла среди холода и
опустошенности мира. Для эмоционального Дурака
еда — предмет страсти и поклонения; о жареной курице
он говорит с пылом влюбленного. Слепой рассказывает
Дураку историю Кухулина для того только, чтобы ско-
ротать время до обеда.
Сцена Слепого и Дурака — пролог к основному дей-
ствию. После шутов истории на сцене появляются ее
герои: Кухулин и Конхобар. Их конфликт вводит зри-
теля в самую сердцевину исторической трагедии.
Кухулин — последний, кто остался от былого мира
простоты и цельности: воин, мужчина и поэт, в котором
гармонически слиты физическое и духовное начала. При
этом гармония в нем не означает спокойствия и умерен-
ности — она является итогом полного и свободного про-
явления всех жизненных сил, равновесием крайностей.
Но миру, который стоит за Конхобаром, наступившему
«железному веку» не нужна свободная и цельная лич-
ность. В этом мире властвует догма, узаконенное наси-
лие, бездушный порядок. Ценности прежнего мира —
мужская доблесть, женская красота, ощущение связи
с природой — не ставятся ни во что. Рассказы Кухули-
на о внезапной любви к королеве враждебной страны,
прекрасной воительнице Айфе, о радости жизни на лоне
природы воспринимаются Конхобаром как инфантиль-
ность и чудачество. Воинские подвиги Кухулина, даже
его божественное происхождение по новой шкале цен-
ностей оказываются чем-то второстепенным (Конхо-
бар: ...Я — Верховный Король, мой сын будет Вер-
ховным Королем,/А ты, хотя кровь твоя горяча,/Хотя
отец твой происходит от солнца, — /Всего лишь мелкий
король, и мал твой вес/Во всем, что касается дел прав-
ления,/По сравнению с моими детьми).
Все — и старые и молодые — признали новый по-
рядок. Один только Кухулин остался верен своей на-
туре, и в этом его драма. Ее первый акт — внезапное
осознание своего полного одиночества: молодые воины,
которых Кухулин зовет к свободе и новым приключе-
ниям, в один голос уговаривают его покориться власти
Конхобара. Герой произносит клятву вассала—теперь,
когда мир бесповоротно изменился, это стало ему без-
различно. Но неумолимая логика времени требует но-
вых и больших жертв. Кухулин должен убить молодого
незнакомца, который сразу вызвал у него симпатию.
117
Кухулин и незнакомый юноша вступили в подлинно че-
ловеческий контакт вопреки всем правилам «железного
века», по которым чужой — заведомо враг, сильный
должен не щадить слабого, а требования властей — пре-
выше человечности. Следуя своему разуму и сердцу,
Кухулин видит в незнакомце новообретенного друга.
Согласно бездушной логике Конхобара, он должен его
убить, а ненужные эмоции отбросить как наваждение.
Колебания героя — это второй акт его драмы. За ним
неизбежно наступает третий: Кухулин уже не принад-
лежит себе; признав чужую власть над собой на сло-
вах, он должен признать ее и на деле. Обманный по-
ворот к счастливой развязке зачеркивается. С криками
«Колдовство!» Кухулин преследует юношу; трагический
конец наступает за сценой.
В то время как герой, еще того не ведая, пережи-
вает самый ужасный момент своей жизни, на сцену
снова выходит посредственность — Слепой и Дурак,
бранящиеся из-за съеденной Слепым курицы. Что им
до битв, смертей и мирового разлада, когда одному
больно от побоев, а у другого пусто в желудке! Они
приступают со своими жалобами к Кухулину, еще не
остывшему после битвы, еще не вытершему свой окро-
вавленный меч. Кухулин узнаёт ужасную истину от
этих презираемых им пигмеев, для которых она пред-
ставляет гораздо меньшую важность, чем съеденная ку-
рица. Развязка трагедии, превышающей человеческие
силы, — безумие. Кухулин бросается на берег моря и
обрушивает удары своего меча на волны, думая, что пе-
ред ним Конхобар.
Судьба сильной и благородной личности в мире, где
воцарился новый порядок, представляется безысходной.
Прекрасное и сильное — вопреки естественным зако-
нам— гибнет. Выживает и торжествует хилая посред-
ственность, безликая и вездесущая пошлость. Анемич-
ные дети Конхобара унаследуют его трон и будут рас-
поряжаться чужими жизнями. Слепой и Дурак полу-
чат свою курицу. Последнее слово в трагедии принад-
лежит пошлости:
Слепой. Ты говоришь, все выбежали из домов? В до-
мах никого не осталось. Послушай, Дурак!
Дурак. Вот он скрылся! Показался снова! Уходит все
дальше! Вон большая волна! Она накрыла его. Я по-
терял его из виду. Он убивал королей и великанов,
но волны одолели его, волны одолели его!
118
Слепой. Поди сюда, Дурак!
Дурак. Волны одолели его.
Слепой. Поди сюда!
Дурак. Волны одолели его.
Слепой. Поди сюда, говорю.
Дурак. ...Что такое?
Слепой. В домах никого не осталось. Пойдем, пой-
дем скорее! Печи полны еды. Мы запустим руки в
печи.
(Уходят).
Гротескная пара выполняет еще одну функцию в
пьесе: пародирует Кухулина и Конхобара и отношения
между ними. Они даже заранее разыгрывают сцену при-
нятия присяги — Дурак выступает за Кухулина, а Сле-
пой — за Конхобара. Рядом с трагедией существует
фарс, дающий ей дополнительный мрачный подсвет.
Трагедия опошлена таким соседством и остается непо-
нятой людьми массы. Кухулин — не ущербная, как Ду-
рак, а гармонично и полно развитая натура, но в гла-
зах новых хозяев жизни он столь же инфантилен, столь
же нелеп и безумен, столь же нуждается в твердом ру-
ководстве. Кухулин видит все в подлинном, неискажен-
ном свете, но Конхобар (тот же Слепой) навязывает
ему, зрячему, свои неистинные представления о мире.
В течение нескольких лет после премьеры пьесы
«На Берегу Байле» Иейтс продолжал редактировать
текст. Он отсек все лишнее, мешавшее предельной рез-
кости конфликта и концентрации действия. Результатом
было углубление трагического пафоса.
Середина 1900-х годов — период наибольшего воз-
действия на Иейтса драматургии Синга. Однако рас-
хождения в мировосприятии и методе обоих драматур-
гов оставались значительными. Это проявилось с осо-
бой наглядностью, когда они оба, один за другим, об-
ратились к одному и тому же материалу — к легенде о
Дейрдре 16.
Дейрдре — наиболее знаменитый женский образ ир-
ландского эпоса, аналогичный гомеровской Елене.
Дейрдре, прекраснейшая женщина Ирландии, должна
была стать женой могущественного короля Конхобара,
но выбрала молодого и прекрасного Найси, с которым
и бежала за пределы Ирландии. После семилетних
странствий Дейрдре и Найси вернулись на родину, по-
верив обещанию короля сохранить им жизнь и свобо-
ду; Конхобар вероломно убил Найси, Дейрдре покон-
119
чила с собой, и в стране па долгие годы разгорелась
междоусобица. Таким образом, сбылись предсказания
и предзнаменования, сопровождавшие рождение Дейрд-
ре: ее красота принесла величайшие несчастья.
Существует множество версий этой легенды, относя-
щихся к разных эпохам и имеющих значительные отли-
чия и в сюжетных перипетиях, и в трактовке главных
действующих лиц. Оба драматурга, Иейтс и Синг, вы-
делили индивидуальную судьбу из эпического потока
и драматизировали ее. (Так, в обеих пьесах героиня
гибнет сразу же вслед за Майей; это кульминация сюже-
та. Во многих вариантах легенды, особенно в древней-
ших, кульминацией является предательское убийство
Найси, вызвавшее всеобщее возмущение и восстание про-
тив Конхобара. На фоне бедствий, обрушившихся на всю
страну, дальнейшая судьба Дейрдре уже не имеет суще-
ственного значения. Дейрдре сыграла свою роль; ее са-
моубийство, год спустя после смерти Найси,— просто эпи-
лог ее частной драмы.) Можно отметить и то, что в обеих
пьесах о Дейрдре исключен фантастический элемент,
который в саге занимает большое место, а также отсут-
ствует архаизация. На этом сходство кончается.
Подход Синга к материалу — условно говоря, исто-
рический. Он словно задается вопросом: как выглядела
бы история Дейрдре, если бы она действительно про-
изошла? Мир, сотворенный силой художественного вы-
мысла драматурга, конкретен, осязаем и живет по
своим законам; в его реальность веришь, как веришь
в реальность пушкинской Испании. Синг создает харак-
теры, возникшие и действующие в определенных обстоя-
тельствах. Независимая и сильная натура Дейрдре не-
отделима от вольной и дикой природы, среди которой
героиня живет с самого рождения. Все действующие
лица синговской пьесы «текучи», способны к развитию,
к неожиданным поворотам. Особенно интересна трак-
товка Конхобара, который у Синга переживает траге-
дию неразделенной любви и одиночества.
Метод Йейтса — иной. Его герои — персонификации
различных начал: деспотической воли (Конхобар), бла-
городства (Найси), любви (Дейрдре). При такой трак-
товке ни предыстория, ни обстоятельства не играют
большой роли в действии. Конфликт между Конхоба-
ром и четой влюбленных изначально неизбежен и не-
примирим. Исход его заранее предрешен в пользу Кон-
хобара — стоит только Дейрдре и Найси оказаться в
120
его власти. Как и в предыдущей пьесе Йейтса, герой
сам, неизбежно, в силу своего благородства идет на-
встречу гибели (в «Дейрдре» решение принимает Най-
си, героиня следует за любимым).
Источники трагизма у Йейтса и Синга различны,
хотя обе пьесы — трагедии любви. Дейрдре и Найси
Синга, как и все его герои, сопричастные ритмам приро-
ды, знают о конечности всего индивидуального, в том
числе и любви. Посланец Конхобара застает их в тот
момент, когда они уже предвидят ослабление своего
чувства. Эта «космическая печаль» в сочетании с мак-
симализмом является причиной, по которой герои сво-
бодно, из глубоких внутренних побуждений, делают вы-
бор, повернувший их судьбу:
Дейрдре. ...И не лучше ли нам самим пойти навстре-
чу близкой смерти, чем, опустив голову, волоча но-
ги, плестись по жизни в вечном страхе, что тление
коснется нашей любви там, где она была всего неж-
нее и сладостнее?
...Мы прожили семь лет без единого грубого
слова и еще не научились скучать. Семь лет, полных
такой ласки, такого света, что богам не под силу
было бы найти для нас еще семь дней таких. По-
тому-то нам лучше сейчас ехать в Эмайн, где нас
ждет или вечный покой, или забвение среди толпы
людей и людского шума 17.
Враждебность Конхобара играет в пьесе Синга роль
внешнего обстоятельства, которое Дейрдре и Найси ис-
пользуют, борясь вовсе не с Конхобаром, а с тем, что
сильнее и его, и их, и каждого человека. Поэтому в фи-
нале, когда герои гибнут, горечь растворяется в эпиче-
ском спокойствии и величии.
У Йейтса влюбленные, в сущности, тоже борются со
временем, но не с космическим, как у Синга, а с жесто-
кими новыми временами, с эрой Конхобара. В интер-
претации Йейтса Дейрдре и Найси — последние ари-
стократы духа и последние романтики. В мире, где цар-
ствует грубая сила, им остается одно — признать неиз-
бежность конца и умереть с достоинством: «...не бить-
ся/В бесплодной ярости о прутья клетки» (слова
Найси).
Вместо широкого эпического дыхания, которое ха-
рактерно для пьесы Синга, в «Дейрдре» Йейтса — душ-
ное, замкнутое пространство, неотвратимо сужающее-
ся, как железный обруч, вокруг героев.
121
У Йейтса действие начинается перед самой траги-
ческой развязкой — в тот момент, когда влюбленные
возвратились в страну Конхобара.
Как и в предыдущей пьесе, «На берегу Байле», ге-
рои не сразу выходят на сцену. Вначале зрители узнают
их предысторию из слов женщины-музыкантши (одной
из трех, странствующих по дорогам Ирландии и случай-
но попавших в королевство Конхобара), затем — из ее
диалога с приближенным Конхобара Фергусом, сопро-
вождающим беглецов. Еще до того, как появились Дейр-
дре и Найси и начался последний акт их трагедии, в
пьесе сгущается атмосфера неотвратимого рока. Дом
для приема гостей, куда Конхобар пригласил Дейрдре
и Найси, стоит в чаще леса, вдали от жилья; вокруг
него в надвигающихся сумерках собираются странные,
зловещего вида смуглые люди в восточных одеждах:
«...таких людей/Короли нанимают для кровавых дел,/На
которые не могут решиться их подданные,/Несмотря на
подкупы, приказы и обещания», — говорит Первая му-
зыкантша. Фергус возмущенно отвергает подозрения
женщин — ведь Конхобар дал королевское слово, — но
тоже чувствует что-то неладное. Недаром он предла-
гает музыкантшам спеть для Дейрдре и Найси песню
о любви знаменитого воина Лугайда — и тут же осе-
кается: Лугайд и его жена были предательски убиты.
Шахматная доска, приготовленная для игры и ждущая
гостей Конхобара, — та, за которой сидели Лугайд с
женой перед своей гибелью на этом самом месте.
С появлением Дейрдре и Найси мрачные предчув-
ствия усиливаются; Найси видит и мгновенно узнает
шахматную доску, его тревожит отсутствие вестей от
Конхобара; Дейрдре, едва войдя в дом, инстинктивно
чувствует западню и предательство. Первая музыкант-
ша, чья фраза «Но старики ревнивы» была сумрачным
рефреном начальной сцены, теперь открывает Дейрдре,
что во дворце Конхобара все готово к брачному торже-
ству. Предчувствия сбываются: Найси схвачен наемны-
ми убийцами; Конхобар является, чтобы увести Дейрдре
«Дейрдре». 1908 г. Театр «Нью», Лондон.
Четвертая слева — миссис Патрик Кэмпбелл в заглавной роли
Вверху слева — эскиз декорации к постановке «Дейрдре»
в Театре Аббатства 1906 г.
Художник Роберт Грегори
122
б свой дворец; узнав о гибели Найси, Дейрдре кончает
жизнь самоубийством.
Дейрдре и се избранник, при всей их исключительно-
сти, не отделены непроходимым барьером от простых
смертных. Бродячие музыкантши понимают Дейрдре
(«Для нас в этом мире/Не было другого привета, чем
поцелуи,/Запечатленные на наших губах, и когда мы
состаримся,/В воспоминаниях о них будет вся наша
жизнь»). Фергус разделяет представления Найси о чес-
ти; в финале он возвращается с войском на подмогу
влюбленным — трагически поздно. Однако история ра-
ботает на Конхобара. Йейтс запечатлел тот ее этап,
«когда отдельные великие люди сконцентрировали в се-
бе огонь, который раньше горел во всех» — пользуясь
словами, сказанными самим Йейтсом об эпохе Ренес-
санса, преддверии нового времени 18. В среде, окружаю-
щей героев Иейтса, уже нет силы и огня. Женщины ос-
меливаются выражать свое сочувствие влюбленным
лишь тайком: Первая музыкантша не хочет дать Дейр-
дре свой кинжал, боясь, что об этом узнают. Конхобар
не страшится восстания: он знает, что власть его креп-
ка и достаточно ему только появиться перед недоволь-
ными, как они придут в повиновение. В его мире цар-
ствуют не высокие чувства и идеалы, а прозаические
соображения и грубое насилие. Здесь нет места роман-
тикам и максималистам, как Дейрдре и Найси.
Гармония, о которой мечтал Иейтс, продолжала ос-
таваться недостижимой. «На Берегу Байле», «Дейрдре»,
даже «Кэтлин, дочь Хулиэна» — свидетельства расколо-
тое™ мира. Свой идеал Иейтс по-прежнему выражал
через его трагическую противоположность.
Не были решены и собственно творческие проблемы.
Йейтс колебался между образом пьесы, имеющим «ха-
рактер, удаленный от повседневности, духовный и
идеальный», и реальным образцом синговской «кресть-
янской драмы», находившейся, при всех ее особенно-
стях, в общем русле европейской реалистической дра-
матургии рубежа XIX и XX в. Стремление к бытовой
конкретности и характерности заметно в ряде пьес
Иейтса 900-х годов. Собственный художнический инс-
тинкт, однако, вел его в другом направлении. Чем даль-
ше, тем осознаннее драматург тяготеет к условности, в
которой была бы сконцентрирована сущность современ-
ной ему реальной жизни, и отказывается от воспроизве-
дения внешних признаков этой реальности.
124
«Дейрдре». 1908 г. Театр «Ныо», Лондон.
Дейрдре — миссис Патрик Кэмпбелл
Йейтс писал свои пьесы для исполнения на сцене
определенного театра, для определенных актеров.
Стиль игры Ирландского Национального театра — один
из главных компонентов сценической жизни пьес Иейт-
са. Важно понять, почему любительская труппа Фэев и
драматург Йейтс нашли друг друга и как протекало их
многолетнее творческое содружество.
АКТЕРЫ
В труппе Фэев профессиональный опыт в формальном
смысле слова был только у Вилли Фэя. Однако это
совсем не означало, что игра труппы была ниже требо-
ваний искусства. Когда в 1905 г. театр перешел на про-
фессиональную основу, труппа в принципе осталась той
же самой: те, кто ушли, руководствовались собственны-
ми соображениями (связанными вовсе не с их квали-
фикацией как актеров). С самого начала существова-
ния Ирландского Национального театра ни публика,
ни рецензенты (включая искушенных английских теат-
ральных критиков) не делали никакой скидки ирланд-
ской любительской труппе сравнительно с профессиона-
лами. Напротив: было признано, что актеры Ирланд-
ского Национального театра во многих отношениях
превосходят других, работающих в профессиональном
театре, и вносят новую ногу в сценическое искусство.
В европейской театральной ситуации конца XIX в.
высокий уровень актеров-любителей не был чем-то ис-
ключительным. Более того, именно из любительских
кружков и трупп формировались многие «свободные
театры», создававшие новое искусство, в противовес ру-
тине коммерческого театра (наиболее известные и зна-
менитые примеры — Театр Антуана и Московский Ху-
дожественный). Одна из причин тогдашнего соотноше-
ния любительского и профессионального искусства за-
ключается в социальных условиях последней трети
XIX в. Многие по-настоящему одаренные актеры, музы-
канты, певцы оставались формально любителями (т. е.
не «служили» за деньги) в силу предрассудков, которые
еще были широко распространены в образованном об-
ществе по отношению к «низкой» профессии комедиан-
та. Другие не шли на профессиональную сцену из-за
финансовых соображений; так, Вилли Фэй снова пре-
вратился в актера-любителя, вернувшись в Дублин и
поступив на службу, дававшую верный и достаточно вы-
126
сокий заработок. У многих членов труппы Фэеь была
и еще одна причина оставаться любителями: они счи-
тали своей главной миссией политическую деятельность
на благо Ирландии. Йейтс сказал в своей Нобелевской
речи, что даже лучших исполнителей Ирландского На-
ционального театра, которые и сами уверились, что они
созданы для сцены, явно мучила совесть, что они от-
дают слишком много времени искусству, в ущерб обще-
ственной и политической деятельности. Мод Гонн, по
свидетельствам всех, кто ее видел в роли Кэтлин, до-
чери Хулиэна, могла стать большой актрисой, но это
ее выступление на сцене осталось единственным; в
1903 г. она вообще вышла из состава Общества ирланд-
ского национального театра, чтобы целиком посвятить
свое время и силы политике (другой причиной ухода
Гонн было недовольство репертуаром театра — также
по чисто политическим причинам). Сходными мотива-
ми руководствовались те члены труппы, которые ушли
из театра, как только он стал профессиональным (уход
из театра в 1907 г. братьев Фэй был вызван конфликтом
из-за художественных принципов).
В любительском обществе Фэев дело с самого на-
чала было поставлено на серьезную основу. Братья
Фэй соединяли знание актерского мастерства с доста-
точной широтой кругозора. Они, особенно Фрэнк, вы-
полняли функции и режиссеров и театральных педаго-
гов. В воспоминаниях одной из актрис Национального
театра рассказывается, какую строгую школу проходи-
ли молодые любители у Фрэнка Фэя 19. Главное вни-
мание в технической подготовке уделялось голосу:
Фрэнк Фэй обучал будущих актеров по той системе,
которую уже испробовал с успехом на самом себе. В те-
чение первого периода существования театра ежеднев-
ные занятия голосом были обязательными. Но не толь-
ко голос был предметом забот Фрэнка Фэя. Он хотел,
чтобы его юные ученики овладели всеми секретами ма-
стерства и воспитывал их на самых высоких образцах.
Ни одно значительное театральное событие Дублина
(в том числе спектакли со знаменитыми гастролерами)
не проходило мимо внимания Фэя. Он непременно при-
сутствовал в зрительном зале вместе со своими учени-
ками, а потом они под его руководством самым деталь-
ным образом анализировали увиденное. Кроме того, и
ученики и учитель были воодушевлены идеей возрож-
дения ирландской культуры. Любительский театрик
127
Фэев, таким образом, сочетал в себе черты студии и
театрального училища. То разностороннее воспитание,
которое получали здесь молодые актеры, было в Анг-
лии и Ирландии уникальным.
Иейтс, который, по его словам, был поражен игрой
труппы Фэев даже в очень плохой пьесе (тогда он уви-
дел их впервые), в своих впечатлениях от постановки
«Дейрдре» (пьеса АЕ — Джорджа Рассела) отметил те
же черты, которые покорили английских театральных
критиков при первых гастролях театра в Лондоне
(1903) и затем считались основой стиля труппы. Иейтс
писал: «Она (пьеса. — В. Р.) исполнялась с большой
простотой; актеры почти не передвигались по сцене—
часто только меняли позу... Результатом было странное
ощущение покоя и призрачности»20. В описаниях лон-
донских рецензентов главное внимание также уделено
непривычному покою, присущему постановкам Ирланд-
ского Национального театра, и отсутствию натурали-
стичности в исполнении, в то время как для английско-
го театра были характерны, говоря словами Иейтса,
«жесты и интонации, копирующие случайную поверх-
ность жизни»21. Критики писали о том, что ирландские
актеры, сравнительно с английскими, почти неподвиж-
ны, что они не мешают речь с движением и, когда го-
ворит один из исполнителей, другие ничем не отвлекают
внимание зрителей от него: что при этой сдержанной
манере движения любой жест особенно выразителен и
весом, тем более, что актеры двигаются только в силу
художественной необходимости, чтобы подчеркнуть ка-
кой-либо момент действия, а не затем, чтобы «заполнить
сцену» или создать впечатление, «как в жизни» (чем
увлекался тогдашний английский театр).
Зрителей поражало и то, как звучит речь актеров
Ирландского Национального театра. В ней было достиг-
нуто единство музыкальности и естественности — то са-
мое, что когда-то восхитило Иейтса в исполнении Фло-
ренс Фарр и ее партнера по «Сицилийской идиллии».
При этом речь ирландских актеров не была «распевом»,
который Иейтс считал идеальным для чтения лириче-
ской поэзии и пытался применить к сценической стихотвор-
ной речи. Опыт с постановкой «Графини Кэтлин» убе-
дил его, что он ошибался; исполнение труппы Фэев ста-
ло практическим решением проблемы, над которой он
бился. В сценической речи обоих Фэев и молодых акте-
ров, ими воспитанных, было одно качество, присущее и
128
мелодекламации Фарр: отсутствие драматических пауз,
резких модуляций и т. п. Йейтс писал об этом: «Всякое
искусство и есть, по существу, монотонность внешнего
выражения ради внутреннего разнообразия, отказ от
грубых эффектов ради тонких, аскетизм воображе-
ния» 22. Эта мысль была высказана Йейтсом в связи
с поэтическим чтением Фарр, но сходным образом он
писал и об актерах своего театра. (Например, о Фрэн-
ке Фэе: «Эта его речь, такая мужественная и такая му-
зыкальная, могла казаться монотонной только слуху,
невосприимчивому к поэтическому ритму...»23.)
Среди части исследователей ирландского театра на-
чала века существует мнение, что актеры труппы Фэев
мало двигались, потому что, будучи любителями, не
умели держаться на сцене. Вряд ли это справедливо.
Если актеры могли говорить так, как было недоступно
многим профессионалам, трудно поверить в то, что они
просто «не умели двигаться». Дело было в определен-
ном стиле, которого руководители труппы сознательно
добивались от исполнителей. Так же, как не ставилось
цели сравняться с английскими актерами в воспроизве-
дении повседневной городской речи, не было и задачи
подражать распространенной на английской сцене ма-
нере сценического движения. Еще одно очень важное
отличце состояло в разнице репертуара. В Ирландском
Национальном театре не ставились пьесы о жизни «го-
родских улиц и гостиных» (Йейтс). Условные и поэти-
ческие пьесы самого Йейтса требовали стиля исполне-
ния, очищенного от натуралистической детализации.
Для крестьянских пьес Синга и других авторов, где тре-
бовалось воспроизведение бытовой реальности, манера
игры актеров Ирландского Национального театра так-
же подходила,— в силу предмета изображения. Йейтс
хорошо понимал, в чем тут суть. Он писал (по поводу
первой постановки «Кэтлин, дочери Хулиэна»): «Это
была первая пьеса нашей ирландской школы народной
драмы, и в ней впервые была продемонстрирована та
манера сдержанного движения и тщательно отработан-
ной речи, которая принесла нашим спектаклям некото-
рую славу... Я не могу представить себе эту пьесу или
любую другую крестьянскую пьесу нашей школы в ис-
полнении актеров, не знающих крестьянина и той не-
ловкости и неподвижности тела, которые появляются
после целого дня пахоты, или слишком заносчивых для
5 В. А. Ряполова
129
того, чтобы скопировать это, не впав в искусственность
или карикатурность» 24.
Вскоре после первого знакомства с труппой Фэев
Йейтс смотрел «Федру» в исполнении труппы Сары
Бернар, и его поразило сходство принципов игры: то же
музыкальное звучание речи, такая же медлительность и
скупость движений. Сходство не было случайным, так
как Фэи сознательно следовали примеру французских
актеров. Фрэнк Фэй особенно высоко ставил искусст-
во Коклена. В то время, как английский театр увле-
кался суетливым, чрезмерным движением, Коклен мог
оставаться совершенно неподвижным в течение несколь-
ких минут — и при этом приковывать к себе внимание
зала. И Коклен и Сара Бернар глубоко воздействовали
на зрителей своим голосом. При том исключительном
внимании, какое Фэи уделяли речи, было естественно,
что спектакли французских гастролеров становились для
ирландской труппы наглядными уроками.
Однако в игре актеров Ирландского Национального
театра было много такого, что отличалось от стиля Са-
ры Бернар или Коклена. Ирландские актеры не имели
за собой классицистской сценической традиции. То, что
в их исполнении выглядело условностью на фоне рас-
пространенной в английском театре манеры игры, часто
было довольно точным изображением определенной сфе-
ры реальности. К тому, что сказал об этом Йейтс,
можно добавить зрительские впечатления Джозефа
Холлоуэя от того же спектакля — «Кэтлин, дочь Ху-
лиэна». Холлоуэй восхищается естественностью игры
Сары Оллгуд (одной из лучших актрис театра) в роли
крестьянки и находит в ее исполнении много жизнен-
ных и разнообразных деталей: «Когда она сосредото-
ченно вязала... и совершенно естественно время от вре-
мени задавала вопросы мужу, не переставая быстро пе-
ребирать спицами, это уже была не игра, а жизнь. Но
я мог бы назвать столько тонких черточек «подлинного
образа природы» в ее простом и очень домашнем пор-
трете доброй матери-крестьянки, что это заняло бы
многие страницы. Достаточно сказать: было полное ощу-
щение, что она вовсе не играет» 25.
Очевидно, что зритель не мог бы получить подобно-
го впечатления от игры труппы Сары Бернар. Актеры
Ирландского Национального театра, при всей необыч-
ности их манеры исполнения и при всем умении произ-
носить стих, владели также реалистической характер-
но
ностью. Мастерство Сары Бернар, восхищавшее одних
ее современников, других раздражало (в числе послед-
них были, например, многие русские деятели искусст-
ва, из английских — Шоу и Арчер)—как воплощение
искусственности. Об ирландских актерах этого никто не
говорил. Правда, есть свидетельства, например, о том,
что в какой-то момент исполнители стали слишком ис-
кусственно «петь» стих, но это выглядело как небреж-
ность и недостаток, как отступление от принципов шко-
лы. В исполнительской манере Сары Бернар критике
подвергались как раз те черты, которые были самой ее
сутью.
Актеры Ирландского Национального театра умели
выражать на сцене поэзию, но им была гораздо ближе
«поэзия реальной жизни» Синга, чем поэзия «духов-
ных сущностей» Йейтса. Вилли Фэй, например, блестя-
щий исполнитель главных ролей в пьесах Синга, в по-
этических драмах Йейтса играл роли второго плана,
причем характерные или имеющие комедийный оттенок
(например, мэр — «На королевском пороге», Дурак —
«На Берегу Байле») и, по большей части, написанные
прозой; стих, судя по многим отзывам, Вилли Фэю не да-
вался. Но и его брат Фрэнк, основной исполнитель глав-
ных ролей в пьесах Йейтса, на которого драматург
ориентировался, создавая пьесы, и которому посвятил
некоторые из них в знак творческой признательности,
был актером в основе своей реалистического дарования.
Это видно хотя бы по тому, что он прекрасно умел во-
площать типы, почерпнутые из ирландской действитель-
ности, когда пьеса этого требовала. Но и когда Фрэнк
Фэй играл в драмах Йейтса, поэтичность его исполне-
ния вырастала из жизненных, конкретных черт.
Характерна переписка Йейтса с Фрэнком Фэем по
поводу работы над ролью Кухулина («На Берегу Бай-
ле») — эта роль стала одним из лучших созданий Фэя.
Йейтс объясняет актеру его задачу совершенно в духе
реалистического театра: пишет о том, сколько лет мо-
жет быть Кухулину и как важно это для роли, дает пси-
хологическое обоснование его поступков, его предысто-
рию,— словом, настраивает актера на создание опре-
деленного характера. Своим объяснениям Иейтс пред-
посылает такое важное замечание общего плана:
«Я знаю, что у вас есть книга леди Грегори (сборник
героических саг «Кухулин из долины Муртемне». —
В. Р.). Помните, однако, что эпос и фольклор могут
131
5*
игнорировать время так, как драма не может: Елена
никогда не стареет; Кухулии никогда не стареет. Я же
должен исходить из того, что у Кухулина есть опреде-
ленный возраст, потому что его сын уже достаточно
взрослый, чтобы с ним сражаться» 26. Далее Йейтс пря-
мо говорит о характере Кухулина (употребляя именно
это слово), об его отдельных чертах. Получается, что
и здесь на сцене предполагается воплотить «поэзию
реальной жизни», хотя в формах обобщенных и «удален-
ных от повседневности».
Сам Йейтс «авторизовал» такое прочтение своих
пьес (как это явствует из его объяснений). Однако его
работа в театре, а также теоретическое осмысление
театральных проблем были полны противоречий и со-
мнений. Идея «глубокой драмы» и соответствующего ей
поэтического театра оставалась, в представлении Иейт-
са, воплощенной только частично.
ПОИСКИ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕАТРА.
ЙЕЙТС И КРЭГ
В 900-е годы во взглядах Р1ейтса на драму и в его соб-
ственном драматургическом творчестве происходят из-
менения.
К началу работы в Ирландском Национальном теат-
ре Йейтс еще не сформулировал своего отношения к
характеру в драме. Шекспировские персонажи его вос-
хищают (статья «В Стратфорде-на-Эйвоне», 1901). Он
видит в них характеры, в которых (даже в ненавистном
ему Генрихе V) ценит энергию и страсть. В то же вре-
мя у самого Йейтса в драмах, созданных до 900-х го-
дов, не было характеров в собственном смысле слова.
Йейтс был склонен считать эту особенность своих пьес
принадлежностью «глубокой драмы», но не мог утверж-
дать этого вполне категорично; его суждения о живопи-
си и поэзии в этом смысле гораздо более определенны.
Йейтса сдерживало его незнание театра с практической
стороны. Специфика драмы, ее «сценичность» были для
него загадкой и предметом уважения, и очень хорошо
зная и отвергая дурную театральность, Йейтс не пред-
ставлял себе ясно, в чем же состоит театральность хо-
рошая. Он готов был учиться у театра, который не был
бы, в его представлении, поверхностным.
Пьесы Синга, нашедшие полное художественное во-
площение на сцене Ирландского Национального театра,
132
У. Б. Йейтс. 1907 г.
Портрет Огастеса Джона
показали Йейтсу, что возможен поэтический театр, не
удаленный от повседневности, а вырастающий из нее.
Цельные и значительные натуры, нарисованные Син-
гом, отвечали представлению Йейтса о глубокой дра-
ме: крестьяне Синга озабочены не вульгарным преуспе-
янием, не преходящими тревогами или удовольствиями,
а вопросами, которые составляют суть человеческого
бытия. В них живет могучая энергия, которую Йейтс
находил у героев древних ирландских саг. Ту же энер-
гию, только в ином качестве, Йейтс видел в крестьян-
ских комедиях Августы Грегори, основанных на фоль-
клорном материале. Таким образом, драмы и комедии
из крестьянской жизни стали для него реальным про-
тивовесом «поверхностной» драме. Такое искусство вы-
зывало его искреннее восхищение. Слова «энергия»,
«страсть», «сила», «личность» становятся ключевыми в
133
его статьях и выступлениях о театре. Йейтс размыш-
ляет о том, каким должен быть человек действующий.
В начале 900-х годов Йейтс всерьез занимается чте-
нием Ницше и находит в его философии опору для
своих новых устремлений. Его особенно увлекает идея
сильной личности, подвластной только своим собствен-
ным законам. Йейтс переживает увлечение и Ренессан-
сом 27— мощью и яркостью людей этой эпохи. В своем
собственном драматургическом творчестве он стремится
к созданию характеров, наделенных энергией и волей
к действию, не удаленных от «битвы жизни», а вовле-
ченных в самую ее гущу (конечно, понимая под «бит-
вой жизни» борьбу за значительные цели и между мо-
гучими антагонистами). Драматург теперь уделяет мно-
го внимания и тому,'что, по его недавним понятиям,
является внешним: бытовой характерности и правдопо-
добию, сюжетным перипетиям. Действие большинства
его пьес — даже на сюжеты саг — протекает в доста-
точно реальной обстановке. Закономерно, что чисто
стихотворных пьес у Йейтса в 900-е годы совсем немно-
го — «На королевском пороге» и «Дейрдре», все осталь-
ные написаны либо прозой, либо прозой и стихами.
Йейтс видел образцы драматической прозы в пьесах
своих товарищей, признавал за ними первенство в этой
области и прибегал к соавторству, не считая, что может
сам удовлетворительно справиться с речью, «которая
была бы. как в жизни»28. Постоянный его соавтор —
Августа Грегори, мастерски владеющая англо-ирланд-
ским диалектом. Как велико было желание Йейтса «при-
близиться к жизни», видно из того, что он даже снова
пошел на заведомо «несовместимое» сотрудничество с
Муром (в работе над пьесой «Где нет ничего»), — прав-
да, дальше первых шагов дело не продвинулось и кон-
чилось конфликтом.
Сюжеты и жанры пьес Йейтса в 900-е годы разно-
образны. Здесь и фарс из крестьянской жизни («Гор-
шок похлебки»), и драмы на сюжеты саг («Диармайд и
Грания», «Дейрдре» и др.), и опыт создания трагедии
на материале современной жизни («Где нет ничего»).
По сравнению с предыдущим периодом Йейтс «разбра-
сывается», он пробует свои силы то в одном то в дру-
гом, пытаясь нащупать единственно верную форму. При-
мером для Йейтса в это время становится Шекспир, а
из современиков — Синг. Йейтс пишет в 1903 г.: «Мое
творчество стало значительно мужественнее. В нем те-
134
перь больше соли»29. В том же 1903 г. по поводу нового
варианта своей пьесы «Где нет ничего» Р1ейтс с удовле-
творением замечает, что в герое теперь «больше эмо-
циональности и страсти»30. Дневниковая запись 1909 г.
кратко формулирует суть новых устремлений Йейтса:
«...До того, как начал писать Синг, я не понимал, что
мы должны отказаться от сознательного построения не-
коего Священного Города в нашем воображении — и
выражать индивидуальное»31. Это не противоречит идее
духовного объединения, центральной для Йейтса, по-
скольку «выражать индивидуальное», как Синг и Шекс-
пир, для Йейтса теперь и значит выражать то общее и
глубокое, что есть в людях, и в то же время не впадать
в умозрительность («сознательное построение некоего
Священного Города» — сознательность в данном случае
и есть основной порок).
Большую роль в переориентации Йейтса сыгра-
ли гастрольные поездки по провинциальным городам
Ирландии. Р1ейтс увидел там зрителей непредубежден-
ных, не испорченных штампами коммерческого театра,
способных к живому восприятию. Теми, кто приходил
на спектакли театра, он интересовался не только как
зрителями. Знакомясь с их повседневной жизнью, ра-
ботой, проблемами, Йейтс делал для себя новые от-
крытия, которые служили источником размышлений о
творчестве. Одна из программных статей Йейтса 900-х
годов — «Личность и духовные сущности» (1906) —на-
чинается словами: «Моя работа в Ирландии постоянно
ставит передо мной вопрос: как сделать, чтобы мое
творчество что-то значило для энергичных и простых
людей, чей главный интерес — не искусство, а мастер-
ская, или преподавание в государственной школе, или
врачевание?». Далее следуют очень знаменательные
признания: «Я все время прихожу к одному несомнен-
ному выводу: естественных людей в искусстве трогает
то же самое, что и в жизни, а это — интенсивность жиз-
ни личности, это интонации, раскрывающие — в книге
или в пьесе — силу, значительность такого человека,
который произвел бы впечатление и на рынке или во
врачебном кабинете. Они должны выходить из театра
с ощущением, что их собственная сила возросла от со-
зерцания страсти, которая могла бы, независимо от
избранной ею сферы бытия, сразить врага, набить день-
гами длинный чулок или тронуть сердце девушки»32.
Р1ейтс утверждает, что нежные и слабые чувства не
135
нужны таким людям ни в жизни, ни в искусстве: «хотя
любовь к цветам очаровательна, она не вытащит те-
легу, застрявшую в канаве!»33. Еще одно, заключи-
тельное, утверждение: «Мы должны постоянно спраши-
вать себя, когда создаем в своем воображении персона-
жи: дал ли я ему, если так можно выразиться, корни
всех качеств, необходимых для жизни?»34. По мнению
Йейтса, ирландцам понравился бы поэт типа Вийона, но
не Шелли, продукт цивилизации и разделения труда, —
и это Йейтс говорит о поэте, чей «Освобожденный Про-
метей» с юности был в числе его «священных книг»!
У Йейтса 900-х годов как будто бы произошла пол-
ная и благотворная перемена: внутренние конфликты
разрешены, путь к практическому воплощению самых
главных и заветных мыслей найден, — осталось только
творить, руководствуясь новыми идеями. Но никакой
бесконфликтности и гармонии не было. Противоречия и
сомнения пронизывают все, что Йейтс ни пишет, о чем
ни размышляет: теория противоречит практике, драма-
тургическое творчество — работе на посту руководителя
театра, одна пьеса или статья — другой. «Новая ве-
ра» Йейтса, вроде бы, должна его удовлетворять во
всем — но что-то в нем постоянно сопротивляется ее
принятию. Все, вроде бы, логично и стройно, — но что-то
заставляет Йейтса вновь и вновь, вопреки логике соб-
ственных текстов, высказывать мысли, опровергающие
только что построенную концепцию.
Статья «Личность и духовные сущности», написанная
столь убедительно и категорично, имеет неожиданный
конец. Противопоставив Вийона Шелли, Йейтс тут же
добавляет, что в современную эпоху больше шансов на
появление Шелли, чем Вийонов. Более того: путь Шел-
ли, скорее всего, и должен быть избран, так как он
пока единственный из возможных путей к глубокому
искусству: уже Берне—-это «выродившийся Вийон»,
душа уходит с «рыночной площади», и потому «Часов-
ня Утренней звезды» Шелли лучше, чем пивная Бёрн-
са35. Все постулаты относительно «силы», «энергии»,
укорененности в реальной жизни, страсти, которая мог-
ла бы «набить деньгами длинный чулок», и т. п. оказы-
ваются сомнительными и зыбкими.
Воплощение самого сильного и лучшего, что прису-
ще нации, народу, в отдельных ярких и сильных лично-
стях,— этот путь, казалось бы, разрешающий проблему
драмы глубокой и в то же время действенной, — ока-
136
зывается для Йейтса не выходом из противоречий, а но-
вым и очень острым противоречием.
Восхищение шекспировскими героями не отменило в
сознании Йейтса глубоко конфликтного восприятия эпо-
хи Ренессанса, которое было унаследовано им от пре-
рафаэлитов и укреплено чтением Ницше. «Шекспир
писал в такое время, когда отдельные великие люди
сконцентрировали в себе огонь, который раньше горел
во всех, когда индивидуализм в работе, в мысли, в
эмоциях разрушал старые ритмы жизни, когда обычные
люди, уже не находившие опоры в мифах христианства
и еще более ранних верований, погружались в зем-
лю» 36, — эти слова, написанные Йейтсом в заключение
статьи «В Стратфорде-на-Эйвонс», звучат пессимистиче-
ским контрастом всем предыдущим размышлениям.
Чтобы привести в гармонию свое отношение к Шекс-
пиру и ко всему, что за ним стоит, Йейтс пытается най-
ти разрешение проблемы в присутствии «эмоций масс»
(multitude). У Шекспира, пишет Йейтс, помимо главной
сюжетной линии и главных героев, есть боковые линии
и персонажи второго плана; они-то и спасают драмы
Шекспира от узкоиндивидуалистической направленно-
сти, создавая картину мира 37. Но и это решение проб-
лемы индивидуальности оказалось для Йейтса непроч-
ным -и временным. Как читатель, зритель и исследова-
тель драмы Йейтс не мог удовлетвориться тем, что
Шекспир — создатель Гамлета, Ричарда II, Клеопат-
ры — велик своими второстепенными персонажами. Как
художник Йейтс также не мог органично воспринять
«шекспиризацию» в том смысле, в каком она трактует-
ся в статье «Эмоции масс», — главное для него было
заключено в фигуре героя. Пьеса «Где нет ничего», со-
зданная по принципу «шекспиризации» — самое неудач-
ное произведение Йейтса, громоздкое, вымученное и
подражательное.
Драмы Синга, на первый взгляд, указывали выход из
конфликта, присущего Ренессансу и отраженного в ре-
нессансной драме: герои Синга — крестьяне, непосредст-
венные носители «эмоций масс», не противопоставленные
природе, а живущие с ней одной жизнью. Но Йейтс хо-
рошо понимал, что цельность героев Синга уникальна в
современном ему обществе, так как проистекает из
уникальности социально-исторического развития отдален-
ных областей Ирландии, где Синг черпал свой материал.
«Ирландское захолустье» помогло Сингу найти и уни-
137
кальный язык — прозу, проникнутую поэзией, непохожую
на речь буржуазного города. Йейтс не мог воспользо-
ваться этим примером: крестьянских драм он писать не
собирался и к тому же, в отличие от Синга, должен был
решить проблему стихотворной речи. Главное же, как и
в случае с Шекспиром, заключалось в противоречивом
отношении к самому методу Синга. Йейтс видит в своем
младшем современнике гениального драматурга, глубоко
выразившего самую душу народа. Не кто иной, как
Йейтс отстоял шедевр Синга, «Удалого молодца», от
националистов, когда вокруг спектакля разыгралась на-
стоящая битва. Однако Йейтсу принадлежит высказыва-
ние и о том, что Синг придал движению в ирландском
театре характер «индивидуальный, критический и воин-
ственный»38. В этой формуле совсем нет дорогой для
Иейтса идеи духовного объединения. В дневнике 1909 г.,
под свежим впечатлением от ранней трагической смерти
Синга, Йейтс записывает: «...Синг был вспышкой подав-
ленного пламени, взрывом всего, что запрещали и в чем
отказывали»39. Но здесь же есть сравнение Синга с
Бёрнсом, а отношение Иейтса к Бёрнсу — далеко не бе-
зоговорочное приятие и восхищение. Мысль, которая за
всем этим читается: Синг —самое лучшее и глубокое,
что может дать современная ирландская жизнь, но
достаточно ли глубокого осталось в самой этой
жизни?
Йейтс пребывал в состоянии скрытого — а то и явно-
го— конфликта и с Ирландским Национальным теат-
ром. Он думал, что создаст театр поэтической условно-
сти, «духовных сущностей». Но вышло не так, как меч-
тал по->т. На сцене Театра Аббатства 40 зрители видели
интерьеры крестьянских домов во всей их подлинности;
здесь царила земная многокрасочная реальность. Это не
был театр Йейтса-драматурга, но Йейтс, человек и ху-
дожник, не мог остаться нечувствительным к чарам
этого театра. Помимо всего прочего, Иейтса увлекал
театр как таковой и практическая работа в нем. Много
времени спустя, в конце жизни, семидесятилетний поэт
признавался (стихотворение «Бегство цирковых зве-
рей»):
Players and painted stage took all my love,
And not those things that they were emblems of.
(Вся моя любовь была отдана актерам и раскрашенной
сцене, /А не тому, что они символизировали).
138
Освободившись от эмоционального плена, в котором
его держали «актеры и раскрашенная сцена», Йейтс
выразил сущность своих претензий к Театру Аббатства:
«Наши актеры... производили яркое и волнующее впе-
чатление, потому что они копировали жизнь, им лично
известную... Несомненно, что это создание всего из сопе-
реживания и наблюдения и никогда — из страсти и оди-
нокого мечтания, эта объективность сделала наших акте-
ров, в лучшем случае, великолепными исполнителями ко-
медии...» 41
И все же Йейтс упорно добивался того, чтобы его
пьесы получили подлинное театральное воплощение. Он
не ограничивался работой с труппой. Не менее важны
были его поиски сценической среды для поэтического
спектакля. Главное в этих поисках связано с театраль-
ными идеями Гордона Крэга.
В 1901 г., в Лондоне, Йейтс увидел первые режиссер-
ские эксперименты Крэга: оперу Перселла «Дидона и
Эней» (ее премьера состоялась годом раньше) и «Маску
любви» — так Крэг назвал свою постановку «маски»
(т. е. театрализованной аллегории), заключающей му-
зыкальную драму Перселла «Диоклетиан». Йейтс сразу
и по достоинству оценил новаторство Крэга. «Он создал
идеальную страну, где возможно все, даже говорить сти-
хами, или говорить под музыку, или выразить всю жизнь
в танце»42, написал тогда Йейтс (в статье «В Стратфор-
де-на-Эйвоне»), а через год пророчески заявил: «Я убеж-
ден, что постановка «Дидоны и Энея» будет считаться
одним из важных событий нашего времени»43. Для твор-
ческих исканий Йейтса трагедийный спектакль «Дидона
и Эней», конечно, имел особенное значение. Йейтс считал
(и вполне справедливо), что существующие театральные
формы принципиально враждебны трагедии. Крэг одним
усилием вернул трагедию на сцену.
Зрители «Дидоны и Энея» увидели перед собой про-
странство, уходящее вдаль, казавшееся бескрайним. В
нем властвовали цвет, свет и движение, аккомпанирую-
щие музыкальному действию. Красота спектакля пленя-
ла: рецензенты восторгались изысканной простотой цве-
товых сочетаний, музыкальной пластикой хора. Особен-
ное впечатление производила «живопись светом» на
заднике: фон становился то нежно-сиреневым, то уль-
трамариновым, то багровым, то призрачно-серым, то
индиговым... Вся эта «идеальная страна» была создана
с помощью двух однотонных задников разного цвета,
139
серого тюля и прожекторов с цветными фильтрами,, рас-
положенных непосредственно над планшетом сцены, сле-
ва и справа от него и в глубине зрительного зала44.
Через неделю после премьеры «перселловской се-
рии» 1901 г. Крэг получил восхищенное письмо от Иейт-
са. Это положило начало их знакомству, которое быст-
ро переросло в дружбу. Крэг давно знал и любил твор-
чество ирландского поэта. Со своей стороны, Йейтс ни-
чего так не желал бы, как привлечь Крэга к работе в
ирландском театре и увидеть в его постановке свои пье-
сы (в проектах друзей фигурировали «Графиня Кэт-
лин», «Песочные часы», «Где нет ничего»). Эти замыслы
тогда не осуществились только из-за внешних причин:
финансовые проблемы, другие обязательства и планы
Крэга и т. п. Между тем Йейтс не только смотрел новые
лондонские работы Крэга и писал о них, но и подошел
к ним как театральный практик. Во время репетиций
музыкального спектакля Крэга «Вифлеем» (1902) Йейтс
даже проник за кулисы и изучил всю «кухню» постанов-
ки: систему освещения, костюмы, декорационные эффек-
ты. Начиная с 1903 г., Йейтс руководит постановкой всех
своих пьес в Ирландском Национальном театре; в этой
работе он использует уроки, преподанные сценографией
Крэга.
«Песочные часы» (премьера — 14 марта 1903 г.) ста-
ли первой пьесой Иейтса, в оформлении которой за осно-
ву был взят принцип не бытового правдоподобия, а те-
атральной условности и выразительности. Наконец-то
Йейтс выполнил свое давнее желание — поставить спек-
такль на фоне декоративного занавеса и убрать со сце-
ны все лишнее. Реквизит был сведен к минимуму, функ-
ционирующему по ходу действия: стол с массивным фо-
лиантом, стул, песочные часы на ажурной подставке, та-
бурет, сонетка (последние два предмета были нужны
для исполнителя роли Дурака). Но самое главное за-
ключалось в колористическом решении. Действие проис-
ходило перед темно-оливковым занавесом, большинство
костюмов — Мудреца, его жены и его учеников — было
выдержано в лиловой гамме. Гармония двух основных
цветов разбивалась третьим, контрастным: одежда и па-
рик Дурака, а также стол и стул были рыжего цвета.
Таким образом, место действия (кабинет Мудреца) в
спектакле обозначалось в самой лаконичной и условной
форме (занавес откровенно был занавесом, а не стеной),
а цвет вообще шел вразрез с требованиями жизнеподо-
140
бия, но зато своей сумрачной строгостью задавал эмо-
циональный тон сценической картине. На исполнителях
были однотипные, свободные и простые по очертаниям
костюмы (длинные одеяния Мудреца и его жены, ши-
рокие, доходящие до колен блузы учеников и Дурака);
они способствовали единству зрительного впечатления.
Ангел — высокая, тонкая красавица Мойра Мак-Хинли
с одухотворенным лицом — появлялся перед зрителями
в легких, струящихся одеждах и, конечно, без всяких
бутафорских крыльев (Иейтс сам сделал эскиз этого
костюма, взяв за образец женские фигуры Боттичелли).
После спектакля Йейтс произнес перед собравшими-
ся речь о необходимости реформы театра. Он не только
сформулировал те принципы, которые публика только
что видела в действии, но.и принес с собой крэговскую
модель сцены, чтобы на ней показать новую систему ос-
вещения. Правда, в тот вечер до демонстрации модели
дело не дошло, а в самом спектакле освещение было
традиционным, рамповым. Но уже в октябре того же
1903 г., в постановке своей пьесы «На королевском по-
роге», Иейтс применил и световые приемы Крэга. Рам-
па была погашена, главный источник света находился
в глубине зрительного зала, еще два — слева и справа
от планшета. С декабря 1904 г., когда был открыт Театр
Аббатства, для освещения в спектаклях Ирландского
Национального театра стали применяться и софиты,
расположенные высоко над сценой.
Иейтс далеко не всегда мог добиться нужного эф-
фекта. В принципе, художники, с которыми он работал,
хорошо понимали его (среди них были его брат Джек,
сын Августы Грегори, Роберт, друг Иейтса Стердж
Мур). Но случалось и так, что художник не удовлетво-
рял требованиям Иейтса — чаще всего потому что
предложенное решение было «недостаточно простым».
Так, Иейтс забраковал первый эскиз Стерджа Мура к
«Туманным водам» (1904), в котором предлагалось ис-
пользовать в декорации три контрастных цвета, а для
новой постановки этой пьесы (1906) Иейтс сам разра-
ботал цветовую гамму. В сезоне 1903 г. ему пришлось
смириться с тем, что костюмы к спектаклю «На коро-
левском пороге» полностью противоречили его замыслу:
спектакль костюмировала по собственным эскизам, за-
тратив много времени и денег, Энни Хорнимен, друг и
покровитель театра (именно от нее театр через год по-
лучил великолепный подарок — собственное здание ц$
141
улице Аббатства). Хорнимен была движима лучшими
чувствами, но не имела ни вкуса, ни театрального чутья;
ее костюмы, яркие, пестрые и богато украшенные, были
сделаны по трафаретам коммерческого театра. Поста-
новки пьес Йейтса часто страдали от грубого исполне-
ния декораций и костюмов. Ирландский Национальный
театр, со своими скудными средствами, мог позволить
себе только самые примитивные и дешевые материалы,
и требовалось много усилий, чтобы заставить их долж-
ным образом «заиграть» на сцене, а человека с теат-
ральной фантазией и изобретательностью Крэга в теат-
ре, увы, не было. Особенно остро Йейтс ощущал недо-
статки осветительной системы: именно они более всего
мешали ему применить все то, чему он научился у
Крэга.
Но и крэговские сценические идеи Йейтс не всегда
разделял полностью. Расхождение обнаружилось в
1903 г. Посмотрев в Лондоне «Воителей в Хельгеланде»
Ибсена в постановке Крэга, Йейтс, снова выразив вос-
хищение декорациями, нашел, что они «отвлекают мыс-
ли от текста»45. В устах Йейтса это серьезный упрек,
тем более, что «Воители», для него, при всех оговорках,—
поэтическая драма (в отличие от пьес Ибсена среднего
периода). А в 1904 г., в журнале Театра Аббатства «Са-
майн», Йейтс выступил с развернутой критикой Крэга:
«М-р Гордон Крэг достиг замечательных результатов в
освещении сцены, но его не очень интересует актер, и
его цветные световые потоки, хоть и прекрасны, всегда,
за исключением некоторых особых моментов действия,
будут выглядеть очередным внешним приемом. Мы бы
скорее хотели, чтобы сцена все время, кроме исключи-
тельных моментов, была освещена ровным светом, не
отбрасывающим тени,—таким, как полуденный свет»46.
Такой переход от оценок всех предыдущих крэгов-
ских работ выглядит резким и неожиданным, но объяс-
нение ему можно найти. Йейтс безоговорочно принимал
сценические решения Крэга, пока тот ставил музыкаль-
ные спектакли. Возражения появились, как только Крэг
взялся за постановку драмы, построенной не на музыке,
а на слове. Своего мнения о суверенной роли слова на
сцене Йейтс не изменил; актер для него — прежде всего
носитель слова, и именно этим объясняется желание
Йейтса выдвинуть актера на первое, исключительное
место в спектакле. Сценическое мышление Крэга было
с самого начала иным. Он вовсе не пренебрегал актером
142
(тут Йейтс ошибался, как и многие после него), но рас-
сматривал декорацию, освещение, исполнителей — все,
что есть на сцене,— как компоненты единого художест-
венного целого. Нужно заметить, однако, что упреки Йей-
гса были вызваны не только пристрастием поэта к слову.
В крэговских драматических спектаклях 1903 г. сравни-
тельно с музыкальными равновесие частей действитель-
но нарушилось. Возросла активность света; в декораци-
ях, где преобладающей стала вертикальная структура,
выявилось волевое начало. В то же время актеры ком-
мерческого театра, где Крэг, волею обстоятельств, осу-
ществлял теперь свои постановки, гораздо хуже энту-
зиастов-любителей из Перселловского общества выпол-
няли задания режиссера, не были на уровне его замыс-
ла, Сценическая среда действительно оказывалась инте-
реснее исполнителей и потому отвлекала внимание от
них и от произносимого ими текста.
Йейтса такой результат никак не удовлетворял. Он
использовал идеи Крэга в своей режиссерской практике,
но главным при этом для него оставалась проблема по-
этического слова на сцене и связанная с этим проблема
актера.
Свою более раннюю идею о том, что зритель должен
забыть о декорации, как только актер заговорит, Йейтс
в 1902 г. снова повторяет в несколько модифицирован-
ной форме: «Фон, особенно в маленьких театрах... дол-
жен быть таким же, как фон на портрете»47. В Театре
Аббатства была очень маленькая сцена: с зеркалом
приблизительно 6,4 м в ширину и 4,3 м в высоту, глубиной
менее пяти метров. До открытия собственного здания
труппе приходилось выступать на еще меньших сценах.
На эти конкретные условия и возможности Йейтс — со-
знательно и бессознательно — и ориентировал свои
сценографические концепции. Определенную роль сыг-
рала также школа портретной живописи, пройденная
им в юности. Влияние ранних постановок Крэга вырази-
лось в том, что сценические «портреты» предполагалось
исполнять в подчеркнуто декоративной манере, добива-
ясь «строгих, прекрасных, простых цветовых эффек-
тов»48. Йейтс стремится выдерживать принцип, впервые
примененный им в «Песочных часах»: всего два преоб-
ладающих цвета в сценической картине, один — для фо-
на, другой — для актеров. В основном Йейтс пользовал-
ся холодными цветами: синим, зеленым, лиловым; теп-
лый цвет (рыжий в «Песочных часах», медный в «Ту-
143
манных водах» и т. д.) выступал в качестве штриха или
цветового пятна. Исследователями творчества Йейтса
справедливо отмечено, что в своей сценографии он со-
хранял пристрастие к колориту прерафаэлитской жи-
вописи. Связь с традицией прерафаэлитов видна и в под-
черкнуто плоскостном характере его сценических компо-
зиций. Иейтс считал, что реальную плоскость задника
нужно открыто признать и акцентировать. Локальные
цвета, отсутствие светотени скрадывали объемность че-
ловеческих фигур и предметов на сцене и лишали про-
странство глубины (а сцена Театра Аббатства и так бы-
ла совсем неглубокой). Мизансцены, как правило, раз-
ворачивались фактически параллельно линии рампы,
как на фризе.
На протяжении 900-х годов взгляды Иейтса на ис-
кусство актера и на сценическое пространство менялись.
Если в 1902 г. он выступал с идеей сценической карти-
ны, то уже два года спустя критиковал рамочную сце-
ну, и хотя главное ее зло Иейтс видел в развитии нату-
ралистического жизнеподобия, он теперь, совершенно
явно, не был доволен и плоскостным эффектом сцены
своего театра и мирился с ним только по необходимости:
«...из-за технических затруднений строителя мы лиши-
лись выдвинутого просцениума, как ни сопротивлялись
этому... мы вынуждены подчиниться картинности совре-
менной сцены»49. Иейтс все больше думает о том, как
отойти от «картинности» и связанной с ней статики. Ха-
рактерно, что в его непосредственных откликах на теат-
ральные работы Крэга практически все внимание было
отдано декорациям, словно он не замечал динамики,
пронизывающей крэговские спектакли. Но когда Иейтс
сам стал режиссером, проблема движения не замедлила
возникнуть перед ним. На первых порах, придавая глав-
ное значение слову, Иейтс сводил движение к миниму-
му, но к концу первого десятилетия своей работы в теат-
ре понял, что он добивался от исполнителей «слишком
статуарных поз»50 и что для спектакля в це-
лом это не выход. Из драматурга по преимуществу
Иейтс превратился в драматурга-режиссера, думающего
не только о том, как донести до зрителей поэтический
текст, но и о передаче поэтического смысла и настроения
пьесы через все элементы спектакля. Он осознал необ-
ходимость не просто экономного, но художественно вы-
разительного движения, — здесь-то и пригодились твор-
ческие уроки Крэга. В постановке пьесы Иейтса «Золо-
144
той шлем» (1908) важнейшую роль играли динамичные
массовые сцены, решенные в духе крэговских музыкаль-
ных спектаклей: толпа исполнителей, одетых в костюмы
одинакового покроя и цвета, двигалась слитно, как одно
целое. Иейтс также отказался от идеи ровного, яркого
света в пользу свето-цветовых эффектов, сопряженных
с ритмом действия.
Пытаясь воплотить на сцене свой идеал поэтического
театра, Йейтс редко бывал доволен результатом. Тех-
нические трудности, консерватизм труппы и постановоч-
ной части, невозможность отдавать все свои силы одной
режиссуре (в своем театре Иейтс совмещал работу дра-
матурга, режиссера и одного из директоров — а ведь он
был еще и поэтом!) —все это, естественно, играло свою
роль. Но главное заключалось в самом Иейтсе. В режис-
серской практике у него было не меньше противоречи-
вости, чем в драмах или теоретических статьях. Все его
сомнения, вся непоследовательность (в том числе и по
отношению к идеям Крэга) сводились в общем, к одно-
му: он колебался между стремлением к непосредствен-
ному выражению на сцене «духовных сущностей» и ин-
тересом к особенному, индивидуальному. Это последнее
для него было воплощено в личности и характерности
актеров — конкретных актеров Театра Аббатства, в пер-
вую очередь. Он любих их, как художник любит свою
модель, и, несмотря на все их несовершенства, продол-
жал писать для них. Крэг, со своей стороны, упрекал
друга за это, считая, что он таким образом наносит
ущерб своему поэтическому таланту.
Однако дружба и творческое общение Иейтса и Крэ-
га продолжались, а в 1910 г. наступил момент их прак-
тического сотрудничества. Это оказалось возможно
прежде всего потому, что сблизились их общие взгляды
на театр.
После десятилетия колебаний и компромиссов Иейтс
делает выбор. В свой программной статье «Трагический
театр» (опубликованной в крэговском журнале «Маска»
в 1910 г.) Иейтс выступает против характера за «чис-
тую», т. е. надындивидуальную, страсть, которая, соглас-
но его концепции, является сутью трагедии. Формула
Иейтса «трагедия должна всегда разрушать и затоплять
плотины, которые отделяют человека от человека, а
...комедия обитает как раз на этих плотинах»51 снова
возвращает нас к метерлинковской мысли о единстве
душ, которую Йейтс всегда разделял, но еще не выражал
145
в такой категорической форме применительно к театру.
Йейтс не отказывается от идеи о том, что на сцене глав-
ное — актер как носитель поэзии, но теперь он требует
от актера искусства, лишенного всего случайного, ха-
рактерного, преходящего. Йейтс мог бы повторить при-
надлежащие Крэгу определения идеального актера-
сверхмарионетки: «не плоть и кровь, а скорее тело в со-
стоянии транса»52, «сверхмарионетка — это актер плюс
огонь минус эгоизм; огонь богов и демонов, без дыма и
пара смертной плоти»53, — он сам употребляет именно
эти слова: «огонь», «транс». В статье «Трагический
театр» Йейтс также выдвигает (в применении к изобра-
зительному искусству) концепцию маски, близкую к
крэговской: маска как символ, как выражение вечного,
переходящего из поколения в поколение, художествен-
ная и законченная форма, свободная от физического
или духовного несовершенства, которое всегда присуще
человеческому лицу. На Йейтса, как и на других теат-
ральных мыслителей Европы, произвело большое впе-
чатление знаменитое эссе Крэга «Актер и сверхмарио-
нетка», но важно подчеркнуть, что идеи, высказанные
Крэгом в 1907 г., всегда были близки Йейтсу. Статью
«Трагический театр» завершают размышления о сцене,
которая была бы идеальным инструментом для выраже-
ния надличного и духовного: на ней не нужно создавать
иллюзию жизнеподобия, «устройство этой сцены долж-
но, как можно меньше препятствовать свободной и тон-
кой игре света и тени», «режиссер... сможет... свободно
отдаться воображению, отбросив заботу о подробно-
стях» 54.
В начале января Йейтс встретился в Лондоне с Крэ-
гом, который рассказал об изобретенной им системе
ширм и показал на модели, как она действует. Йейтс
понял, что нашел свою идеальную сцену. Крэг не только
разрешил Йейтсу использовать свое изобретение, не
только подарил ему модель сцены с ширмами, но и обе-
щал свою помощь в постановке. У Крэга было только
дза условия: чтобы Йейтс не приступал к работе над
спектаклем, прежде чем не освоит модель, и чтобы он
ставил в ширмах все свои будущие пьесы. Йейтс с ра-
достью согласился на оба условия. В результате 12 ян-
варя 1911 г. Театр Аббатства первым в мире применил
ширмы Крэга (в постановке «Песочных часов» Йейтса
и «Избавителя» Августы Грегори).
146
Крэг выполнил свое обещание; он сделал эскизы де-
корации и костюмов к «Песочным часам» и помогал
Йейтсу, ставившему спектакль, во всем, что касалось
технической стороны. К сожалению, эта совместная те-
атральная работа Йейтса и Крэга освещена далеко не с
той полнотой, какой она заслуживает. Не хватает ма-
териалов, дающих представление о мизансценах, темпе
и ритме спектакля, об изменениях в конфигурации ширм.
Как ни странно, большинство историков Театра Аббат-
ства (в том числе и те, кто не только видели «Песочные
часы» в 1911 г., но и сами работали тогда в театре —
Августа Грегори, Леннокс Робинсон) вообще не рассма-
тривают эту постановку, даже не сообщают состава ис-
полнителей. Многое могли бы дать письма, которые
Йейтс писал Крэгу в период подготовки спектакля
(Крэг в 1910 г. жил во Флоренции, два месяца провел в
Москве, где вместе со Станиславским работал над по-
становкой «Гамлета») —но эти письма не опубликованы.
В середине 70-х годов впервые увидели свет некоторые
архивные материалы, относящиеся к постановке «Пе-
сочных часов», в том числе отрывки из писем Крэга
Йейтсу55. По ним, а также по эскизам Крэга, опублико-
ванным ранее, и можно, в основном, судить о замысле
и внешнем облике спектакля.
На эскизе Крэга к «Песочным часам» нет никакой
бытовой реальности: ни дома, ни кабинета, ни дверей.
Изображено пространство-метафора, раскрывающее дух
произведения. Оно резко разделено на две неравные ча-
сти вертикалью. Фокус композиции смещен вправо и
вперед, к зрителю: здесь в низкой, сводчатой нише, слов-
но придавленной мощной стеной, видна изображенная
в профиль фигура человека, сидящего за столом и чи-
тающего книгу. Стол и стул изображены предельно
обобщенно, их массивные, прямоугольные объемы ка-
жутся неотделимыми от каменной громады стен. Поза
читающего полна динамики: в ней угадывается вну-
тренняя энергия, напряженная работа мысли. Экспрес-
сия рисунка подчеркнута темной штриховкой: человек
одет в темную, длинную одежду; значительная часть
стены и ниши погружена в тень, которая сгущается на
границе с левой, большей частью рисунка. За этой гра-
ницей характер пространства меняется: стены перестают
давить, светлеют, обретают легкость, устремляются
ввысь и образуют коридор, который плавной дугой идет
вглубь и влево от зрителя, в конце загибаясь вправо и
147
VTsV" *• ^жйа**^?.
Гордон Крэг. Эскиз декорации для постановки «Песочных часов»
в Театре Аббатства. 1910 г.
уходя за поворот, к невидимому источнику света. В по-
верхности стен угадываются ребра ширм, из которых
они составлены, но в целом, благодаря очертаниям све-
товой дорожки коридора, стены воспринимаются как
округлые, что усиливает впечатление торжественного
спокойствия. В отличие от правой части рисунка, с ее
замкнутым пространством и центростремительным по-
строением (все собрано вокруг фигуры человека), в ле-
вой части пространство разомкнуто, композиция центро-
бежна. Глаз невольно следует за плавным движением
коридора, за поворот, из-за которого может появиться
некто — или нечто. Взгляд зрителя устремляется также
вверх —туда, где кончаются стены и открывается сво-
бодное пространство, из которого льется свет.
Рисунок Крэга как нельзя более подошел Иейтсу: в
нем содержалось и конкретное постановочное решение
(которое Йейтс и осуществил), и обобщенный образ
пьесы. Контрасты тени и света, тесноты и простора
очень много говорили воображению Иейтса. Поместив
Мудреца в подобие грота, Крэг нашел точный и много-
значный символ, усиливший то, что заложено в пьесе.
У Иейтса Мудрец — кабинетный ученый, фанатик науки.
Крэг выражает его суть зрительной метафорой; ученый-
фанатик сродни схимнику, затворившемуся в уединении
и полумраке пещеры. К тому же учение Мудреца ложно,
оно —не свет, а тьма. Грот, изображенный Крэгом, рож-
146
дает ассоциации и с символической платоновской пеще-
рой, в которой томятся узники, не видящие ничего, кро-
ме теней, скользящих по стене. Мудрец из «Песочных ча-
сов»— тот же узник, прикованный к своему столу, от-
вернувшийся от света; его философское кредо: «верить
лишь в свидетельства чувств» — то же, что у обитателей
платоновской пещеры — «мира чувственных вещей».
Свет и простор на рисунке Крэга — образы высшей,
духовной, реальности, в которую безотчетно верит Ду-
рак, вестником которой является Ангел. В то же время
это образы запредельности, небытия: светлый Ангел воз-
вещает Мудрецу о смерти, в финале душа Мудреца при-
общается к свету, но только ценой его гибели. Так в
пьесе, у Йейтса. Что касается Крэга, то образ смерти-
света уже возникал в его сценической фантазии: по его
замыслу, во время монолога Гамлета «Быть или не
быть» на сцене должна была происходить борьба света
и тени, причем свет и возникающая из него золотистая
фигура девушки символизировали смерть.
Кстати, ни Йейтс, ни Крэг не хотели, чтобы у Ангела
был женственный облик,— даже если бы эту роль приш-
лось отдать актрисе (что в результате и произошло).
Вместо прежней боттичеллиевской девушки на сцене
должна была возникнуть суровая удлиненная фигура в
светло-сером монашеском одеянии, с бесстрастным, как
у статуи, лицом, призрачно белеющим за вуалью (пред-
полагалось, что Ангел может носить маску). Карди-
нальным образом, по сравнению с постановкой 1903 г.,
изменился и внешний вид Дурака. На эскизе Крэга
Дурак — загадочное, полуреальное существо в маске,
идея которой лучше всего выражена в строчках, напи-
санных рукой Крэга на листе с эскизом:
«нечто от шута
нечто от Смерти
нечто от сфинкса
и от мальчишки».
Реальный спектакль, конечно, отличался от замысла.
Так, хотя Йейтса очень увлекла крэговская идея мас-
ки, в постановке 1911 года она реализована не была,
потому что Крэг категорически запретил делать и ис-
пользовать маски без своего непосредственного участия.
Но и в отсутствие Крэга, благодаря советам и инструк-
циям в его письмах, Йейтс смог выполнить многое из
того, что было задумано, и прежде всего — эффективно
Ш
применить систему ширм. Изготовить и установить их
на сцене было нелегко, но Крэг уже знал, как преодо-
леть некоторые трудности, потому что опирался на свой
московский опыт; в других своих решениях Крэг и
Йейтс исходили из условий Театра Аббатства. Ширмы
были сделаны так же, как в Москве: деревянные рамы,
обтянутые холстом. «Однако мне не очень-то нравится
естественная фактура холста. Я предложил бы нечто
более откровенно искусственное, чем краска (которая,
впрочем, может быть, вам подойдет и больше)»56, пи-
сал Крэг Йейтсу, предлагая покрыть ширмы «мозаи-
кой» из цветной бумаги очень светлых тонов. Как в ре-
зультате была обработана поверхность ширм, осталось
невыясненным, но известно, что они были цвета сло-
новой кости. Нужно было также подумать о том, как
добиться нужного зрительного эффекта ширм на кро-
шечной и неглубокой сцене Театра Аббатства. Крэг
сконструировал дополнительный внутренний портал, ко-
торый был подвижным и позволял то увеличивать, то
уменьшать зеркало сцены и по горизонтали, и по верти-
кали. Кроме того была сделана специальная система
освещения [с источниками света над планшетом сцены].
Пришлось, как и в Московском Художественном теат-
ре, устранить наклон сцены к линии рампы — иначе
ширмы [стоявшие на колесиках] могли бы сдвинуться
с места и упасть. Зато когда, несмотря на все много-
численные трудности, ширмы были поставлены на план-
шет и освещены, сцена Театра Аббатства стала неузна-
ваема. Сам Йейтс, долгие годы считавший, что подчерк-
нуто плоскостной эффект — единственный выход в усло-
виях неглубокой сцены, был, вероятно, не менее других
изумлен тем, какой глубины, монументальности и раз-
нообразия можно добиться на крайне ограниченном про-
странстве.
Постановка «Песочных часов» в январе 1911 г. име-
ла зрительский успех и в целом удовлетворила Йейтса.
Наибольшее впечатление произвели ширмы, по поводу
которых загодя высказывалось множество опасений и
недоумений. Йейтс с радостью сообщил Крэгу, что пуб-
лика оценила красоту декорации и костюмов и так опи-
сывал общий вид сцены: «Действие происходило словно
в сердцевине огромной жемчужины, которую пронизы-
вали лучи полуденного солнца, пропущенные сквозь
толщу моря. Большой стул и стол, скопированные с ва-
шего рисунка, тоже казались жемчужными. Я распоря-
150
Ширмы Крэга на сцене Театра Аббатства
дился окрасить их под цвет ширм...»57. Спектакль, про-
демонстрировав красоту абстрактных геометрических
форм, также опроверг предвзятое мнение о том, что де-
корации Крэга подавят актеров. Критик свидетельству-
ет: «В этом спектакле... оформление сцены сведено к
простейшим элементам, так что фигуры исполнителей
резче выделяются на этом примитивном фоне и внима-
ние концентрируется на человеческих и подлинно вы-
разительных элементах драмы»58. Рецензент также от-
метил художественную цельность зрительного впечатле-
ния, вполне оценив то, что достичь ее было совсем не
просто.
Крэг, соавтор постановки «Песочных часов», мог су-
дить о конечном результате лишь по письмам и рецен-
зиям. Документально зафиксировано, что полвека спус-
тя Крэг выразил неудовлетворение тем, как система
ширм применялась в Театре Аббатства, но его высказы-
вание цитируется настолько отрывочно, что причину не-
довольства понять трудно. Во всяком случае, после спек-
такля 1911 г. Крэг не возражал против того, чтобы дуб-
линский театр и дальше использовал его ширмы.
151
Энтузиазм Йейтса по поводу «революции», проис-
шедшей на сцене Театра Аббатства, был безграничен.
Он увидел перед собой широкое поле для эксперимен-
тов. В том же году Иейтс привлекает для работы в
театре молодого английского режиссера Ньюджента
Монка, составившего себе имя постановкой средневеко-
вых драм. С приходом Монка к сцене наконец-то была
пристроена площадка, вдававшаяся в зал. В течение
1911 г. Монк со специально образованной Второй труп-
пой театра ставит спектакли в ширмах Крэга, а также
использует просцениум. Тем временем Иейтс, окрылен-
ный постановкой «Песочных часов», решает опробовать
в системе ширм Крэга еще шесть своих старых пьес, с
тем, чтобы увидеть их недостатки и переделать. Сохра-
нилась записная книжка Йейтса с 35 эскизами сцен из
различных пьес, где даны всевозможные конфигурации
ширм, световая партитура и цветовое решение. В тече-
ние 1911 —1913 гг. вслед за «Песочными часами» в шир-
мах Крэга были поставлены три пьесы Йейтса: «Гра-
финя Кэтлин», «Страна блаженства» и «На королев-
ском пороге», причем две первые за это время стави-
лись дважды — Иейтс не замедлил их переработать.
Иейтс выражает желание приехать во Флоренцию, что-
бы там учиться в задуманной Крэгом Школе театра.
Другой проект — организовать театр в Лондоне под ру-
ководством Крэга, где Иейтс был бы литературным
консультантом.
Однако все проекты дальнейшей совместной работы
с Крэгом так и остались проектами. Многие исследова-
тели творчества Йейтса размышляют о том, почему это
произошло. Большинство версий не выглядит достаточ-
но убедительно. Очень популярны объяснения, связан-
ные с личностью Крэга: пишут о его неопределенности
и необязательности в отношениях с Йейтсом. Это значи-
тельное преувеличение и искажение фактов. В работе
с Йейтсом над постановкой «Песочных часов» Крэг, на-
ходясь далеко от Дублина, давал совершенно четкие и
практические инструкции — даже смог заочно разрешить
большинство технических трудностей. «Неопределен-
ность» Крэга в дальнейшем объяснялась вовсе не какими-
то отрицательными качествами его натуры, а направлени-
ем его исканий после опытов в Москве и Дублине. Делом,
которому Крэг отдавал теперь свои творческие силы, ста-
ла его Школа театра во Флоренции. Все остальные про-
екты могли быть чем-то подсобным, дополнительным, да
152
и то если бы на них нашлось свободное время,— оттого-
то Крэг, не отвергая в принципе планов Йейтса (и мно-
гих других предложений), не мог сказать точно, когда и
как он возьмется их осуществить. Что же касается неже-
лания Крэга взять Йейтса в свою Школу театра, то объ-
яснение здесь простое. Оно было дано самим Крэгом,
который писал Йейтсу: «Боюсь, что моя школа не для
таких, как вы. Вам нечему будет там учиться... О театре
вы знаете столько, что это просто пугает. Теперь мы
поучимся у вас тому, что вы знаете о феях и рыжих
собаках»59. Эти слова не были простой отговоркой.
Позднее Крэг заявил публично, в своем журнале «Мас-
ка»: «Мы будем надеяться, что своими методами и на
своем материале сделаем то, что Йейтс и Синг сделали
на своем»60.
Те, кто, рассуждая о несбывшемся проекте работы
Йейтса и Крэга в Лондоне, винят Крэга или внешние
обстоятельства, могли бы поставить один простой воп-
рос: а была ли эта идея осуществима — даже при на-
личии всех необходимых условий — для самого Йейтса?
На такой вопрос ответить иначе, чем отрицательно,
нельзя. Йейтс мог работать только в Ирландии и для
Ирландии — он доказал это всем своим творчеством.
В 1907 г., когда патронесса Театра Аббатства Энни
Хорнимен, недовольная положением дел и художествен-
ной политикой театра, а в частности — невниманием,
как она считала, к драматургии Йейтса, объявила о
том, что организует новый театр в Англии и настойчиво
звала туда Йейтса, предлагая идеальные условия для
работы, драматург ответил ей:
«Хотя я желал бы для себя как можно более ши-
рокой аудитории, для драматурга существует также
публика, к которой он обращается непосредственно.
Если я буду пытаться найти такую публику в Англии,
то потерплю неудачу из-за недостаточного понимания,
а возможно — и недостаточной симпатии с моей сто-
роны. Я понимаю мою собственную нацию, и я думаю
о ней во всех моих произведениях, и лирических, и дра-
матических. Если наш театр потерпит крах, может
быть, я буду продолжать писать пьесы, а может, и пе-
рестану,— но я буду писать для моих соотечественни-
ков, а уж из любви или из ненависти к ним, это не-
важно: возможно, что я и сам не смогу этого разли-
чить»61. Йейтс даже не согласился на предложение
Хорнимен ставить его новые пьесы в Англии.
153
В 1913 г. для Йейтса в этом отношении ничего внут-
ренне не изменилось. Самые благоприятные обстоятель-
ства— даже совместная работа с Крэгом — не смогли
бы заставить его покинуть Ирландию, театр, им создан-
ный, ирландскую публику. Из проекта работы с Крэ-
гом в Лондоне ничего бы не вышло.
Кульминацией театрального сотрудничества двух вы-
дающихся художников осталась постановка 1911г. В
творчестве Йейтса она фактически завершает большой
период поисков поэтического театра. Через несколько
лет Йейтс уже ищет новых путей и возможностей.
Примечания
1 Yeats W. В. Dramatis Personae. L., 1936, p. 181.
2 Fay W. G.f Carswell C. The Fays of the Abbey Theatre. L., 1935,
p. 109.
3 Fay G. The Abbey Theatre. Cradle of Genius. Dublin, 1958, p. 34.
* Samhain (1902).—In: Yeats W. B. Explorations. L., 1962, p. 86.
5 The Irish Literary Theatre.—The Freeman's Journal, 1901, 22 Oct.,
p. 4 — In: Hogan R., Kilroy J. The Irish Literary Theatre. Dublin,
1975, p. 103.
6 Джордж Рассел (1867—1935) был поэтом, художником, фило
софом, публицистом, крупным общественным деятелем (в 90-е
годы он стал пионером кооперативного движения в ирландской
деревне). Их с Иейтсом связывала тесная дружба еще с тех вре-
мен, когда они оба посещали художественное училище. Человек
высоких моральных принципов, разносторонне образованный, жи-
во откликающийся на все общественные начинания, Рассел поль-
зовался большим уважением и любовью в Дублине. Не удиви-
тельно, что актеры-любители хотели, чтобы он возглавил Об-
щество национального театра. Его литературный псевдоним рас-
шифровывается как первый слог слова «эон» (лат. aeon), упо-
требляемого в значении «человек как проявление божественного
начала» (понятие, взятое из платонизма).
7 Nic Shiubhlaigh М., Kenny Е. The Splendid Years. Dublin, 1955,
p. 22.
8 Полное имя — Эдмунд Джон Миллингтон Синг (1871 —1909).
9 Дневниковая запись 1908 г. Цит. по: Synge J. М. Collected Works.
L., 1962, v. 1, p. XV.
10 Synge J. M. Op. cit. L., 1966, v. 2, p. 3.
11 В подлиннике дословно: «Чувства, проходящие через нас». Этот
образ еще более усиливает ощущение единства мира и человека:
чувства представляются как бы волнами мирового океана.
12 Дата первой публикации. Первая постановка была осуществлена
в 1904 г. Сценическим обществом (Лондон).
13 Примечания к сборнику пьес Йейтса Plays in Prose and Verse. L.,
1922. Цит. no: The Variorum Edition of the Plavs of W. B. Yeats.
Ed. Alspach R. K. N. Y., 1966, p. 315.
14 Байле — герой ирландской саги, погубленный коварством злого
духа.
154
15 Все другие второстепенные персонажи также утратили имена,
йейтс снял все штрихи, придававшие им индивидуальность и
характерность с тем, чтобы не отвлекать внимания от основного
действия.
16 «Дейрдре» Йейтса была поставлена в 1906 г. Синг работал над
пьесой «Дейрдре — дочь печалей» с 1907 г. Работа была прерва-
на его смертью (год первой постановки и публикации—1910).
17 Синг Д. М. Драмы.—Л., М., 1964, с. 254, 255. Эмайн (полное
название — Эмайн-Маха)—столица древнего Ольстера, королев-
ства Конхобара.
18 At Stratford-on-Avon.— In: Yeats W. В. Essays and Introductions.
U 1961, p. 110.
19 Nic Shiubhlaigh M., Kenny E. Op. cit.
20 The Letters of W. B. Yeats. Ed. Wade A. L., 1954, p. 368.
21 Yeats W. B. Essays and Introductions, p. 18.
22 Ibid.
23 Yeats W. B. Explorations, p. 173.
24 Примечания в кн.: The Collected Works in Verse and Prose of
William Butler Yeats. Stratford-upon-Avon, 1908, v. 4.— In: The
Variorum Edition of the Plays of W. B. Yeats, p. 233.
25 Joseph Holloway's Abbey Theatre. Ed. Hogan R., O'Neill M. J. Car-
bondale, 1967, p. 28.
26 The Letters of W. B. Yeats, p. 424.
27 Этому способствовало его итальянское путешествие (1907).
28 Note to «The Pot of Broth» (Yeats W. B. Plays in Prose and Ver-
se. L., 1922).—In: The Variorum Edition of the Plays of
W. B. Yeats, p. 254.
29 В связи с пьесой «На берегу Байле» — письмо Августе Грегори.
(The Letters of W. В. Yeats, p. 397).
30 Письмо Джону Куину. Цит. по: The Variorum Editon of the Plays
of.W. B. Yeats, p. 1167.
31 Yeats W. B. Dramatis Personae, p. 111—112.
32 Yeats W. B. Essays and Introductions, p. 265.
33 Ibid., p. 265—266.
34 Ibid., p. 266.
35 Ibid., p. 267.
36 Yeats W. B. Essays and Introductions, p. 110.
37 Статья «Эмоции масс» (1903). Ibid., p. 215—216.
38 Preface to: Yeats W. B. The Unicorn from the Stars and Other
Plays. N. Y., 1908.—In: The Variorum Edition of the Plays of
W. B. Yeats, p. 1295.
39 Yeats W. B. Dramatis Personae, p. 138.
80 Так было названо здание на улице Аббатства в Дублине, в ко-
тором с 1904 г. обосновался Ирландский Национальный театр.
Это название стало его вторым именем.
41 Yeats W. В. Explorations, р. 248—249.
42 Yeats W. В. Essays and Introductions, p. 100—101.
43 Письмо, опубликованное в еженедельнике «Saturday Review»
5 марта 1902 г.— In: The Letters of W. В. Yeats, p. 366.
44 Подробное описание и анализ постановки «Дидоны и Энея» см.
в кн.: Бачелис Т. И. Шекспир и Крэг. М., 1983, с. 80—87; Образ-
цова А. Г. Синтез искусств и английская сцена на рубеже XIX—
XX вв. М., 1984, с. 124—138.
45 The Letters of W. В. Yeats, p. 398.
46 Yeats W. B. Explorations, p. 179.
47 Samhain (1902), p. 5.— Ibid., p. 88.
155
48 The Letters of W. B. Yeats, p. 366.
49 Samhain (1904)—In: Yeats W. B. Explorations, p. 173.
60 The Variorum Edition of the Plays of W. B. Yeats, p. 1299.
61 Ibid., p. 1297.
62 Craig E. G. The Actor and the Ober-Marionette, 1907.—In: Craig
E. G. On the Art of the Theatre. L., 1980, p. 84—85.
63 Craig E. G. Preface to «On the Art of the Theatre», 1924.—Ibid.,
p. IX—X.
54 The Variorum Edition of the Plays of W. B. Yeats, p. 1300.
55 Это сделано в статьях двух исследователей, Джеймса Флэннери
(W. В. Yeats, Gordon Craig and the Visual Arts of the Theatre)
и Карей Дорн (Dialogue Into Movement: W. B. Yeats's Theatre
Collaboration With Gordon Craig), вошедших в сборник Yeats
and the Theatre. Ed. O'Driscoll R. and Reynolds L. Niagara Falls,
1975. Статья Д. Флэннери в расширенном варианте вошла в его
книгу «W. В. Yeats and the Idea of a Theatre», опубликованную
в 1976 г. Ценный фактический материал содержится также в кн.:
Miller L. The Noble Drama of W. B. Yeats. Dublin, 1977.
56 Flannery J. W. W. B. Yeats and the Idea of a Theatre. Toronto,
1976, p. 269—270.
57 Ibid., p. 272.
58 The Irish Times, 1911, 13 Jan.— Ibid., p. 271. Тот же эффект ширм
Крэга был отмечен в «Гамлете» на сцене МХТ (премьера спек-
такля состоялась 23 декабря 1911 г.). См., напр.: Строева М. Н.
Режиссерские искания Станиславского, 1898—1917. М., 1973,
с. 284—285.
59 Письмо от 11 мая 1911 г. Цит. по: Flannery J. W. W. В. Yeals and
the Idea of a Theatre, p. 247. Рыжие собаки — один из символи-
ческих образов Иейтса, почерпнутый из саг; он встречается, на-
пример, в «Туманных водах» (ранний вариант)—в ремарке, со-
гласно которой на парусе корабля должны быть изображения
собак.
60 The Mask, V (1912—1913), p. 291.— Ibid.
61 The Letters of W. B. Yeats, p. 500—501. Письмо не датировано;
Д. Флэннери считает, что оно скорее всего написано в июне —
июле 1907 г.
с»
2
ВНЕ ТЕАТРА?
Q пьесы «У Ястребиного колодца» (1916) открывается
новый период в творчестве Йейтса, который длится
долго — вплоть до 1939 г.: в самые последние дни своей
жизни 74-летний писатель продолжает править рукопись
пьесы «Смерть Кухулина». Всего за 1916—1939 гг. Йейтс
написал 14 пьес — и это не считая переводов «Царя Эди-
па» и «Эдипа в Колоне» Софокла, а также новых редак-
ций более ранних произведений, которые во многих слу-
чаях представляют собой фактически новые пьесы. Этот
период драматургического творчества признан лучшим у
Йейтса всеми исследователями. Однако столь же едино-
душно мнение о том, что после 1916 г. Йейтс перестал
быть театральным драматургом. «Из публичного теат-
ра—.в гостиную» — это заглавие одного из разделов кни-
ги Джеймса Флэннери в высшей степени показательно.
Большинство изучающих творчество Йейтса склонно об-
винять не драматурга, а театр. Пишут о том, что Йейтс
обогнал свое время, что Театр Аббатства, в котором
утвердилась бытовая драма, не мог дать сценическую
жизнь произведениям поэта, что певцы и музыканты,
играющие в поздних пьесах Йейтса важнейшую роль, на
практике оказывались рутинерами, нечувствительными к
требованиям тонкой и глубокой музыкально-поэтической
драмы. В то же время принято считать, что поздние пье-
сы Йейтса имеют слишком эзотерический характер и по-
этому могли в свое время играться только перед избран-
ной, рафинированной публикой, посвященной в символи-
ку поэзии Йейтса.
Вопрос о сценичности и доступности зрелой драма-
тургии Йейтса — как и всех его пьес — непрост, но
прежде чем разбираться в существующих на этот счет
аргументах и выдвигать собственные, каждому исследо-
вателю необходимо обратиться к фактам, и тогда многие
установившиеся суждения — в частности, эффектная
157
формула «из публичного театра — в гостиную»,— пред-
стают в несколько ином свете.
Сценическая история пьес Р1ейтса, в том числе и
поздних, настолько мало разработана, сведения о ней в
печатных работах настолько отрывочны, что десятки
критиков по инерции повторяют легенду о «театре в
гостиной». Однако и всем доступных материалов доста-
точно, чтобы знать, что действительно поставлена в гос-
тиной была лишь одна пьеса Йейтса, и не случайно
это была первая проба его нового сценического стиля,
которую сам драматург рассматривал как экспери-
мент,— «У Ястребиного колодца». Возможно, в гости-
ной (в доме самого драматурга) была показана и еще
одна его пьеса, «Воскресение» (1927). Если добавить
к этому, что обе упомянутые пьесы были поставлены и
в Театре Аббатства, что там обрели сценическую жизнь
10 из 14 пьес Йейтса зрелого периода, что некоторые
из этих пьес до или после премьер в Театре Аббатства
были поставлены в профессиональных театрах Лондона
и Амстердама — словом, если представить себе сцени-
ческую историю поздней драматургии Йейтса в самом
элементарном и схематичном виде, то уже ясно, что
Йейтс-драматург не уходил ни из театра вообще, ни
из конкретного Театра Аббатства.
К тому же многие критики как-то забывают, что
Йейтс до конца жизни оставался практическим теат-
ральным деятелем. Об этой его деятельности после
1916 г. вспоминают в основном только в связи с конф-
ликтами вокруг пьес Шона О'Кейси «Плуг и звезды»
(1926) и «Серебряный кубок» (1928): в первом случае
Йейтс отважно защищал пьесу О'Кейси от ярости на-
ционалистов, во-втором — отказал О'Кейси в постановке
его новой драмы, что привело к публичному разрыву и
отъезду О'Кейси из Ирландии. Оба этих эпизода, дей-
ствительно, наиболее яркие и драматичные в деятель-
ности Йейтса на посту директора Театра Аббатства (их
можно сравнить только с публичным скандалом вокруг
постановки «Удалого молодца» Синга в 1907 г.), но ведь
и до и после них Йейтс руководил театром, активней-
шим образом участвуя во всех аспектах деятельности,
от творческой до финансовой. Образ мудреца и мисти-
ка, погруженного в создание собственной философской
системы, живущего в древней башне, вознесенной над
землей с ее обыденными проблемами, заслонил от не-
малого числа исследователей другой образ Йейтса —
158
человека, ведущего постоянную нелегкую практическую
работу в театре, формирующего репертуар, организую-
щего гастроли, думающего о подборе труппы и режис-
суры, поддерживающего театр материально, пишущего
пьесы с учетом возможностей этого театра и затем ста-
вящего эти пьесы.
Как и прежде, Йейтс открывает дорогу на сцену но-
вым поколениям ирландских драматургов, хотя они ис-
поведуют иные творческие принципы: О'Кейси— самый
блестящий, но вовсе не единственный пример. Как и
прежде, Йейтс в своих театральных исканиях не огра-
ничивается возможностями одного театра, лишь тем, что
его непосредственно окружает. Он привлекает к работе
в театре всех, в ком видит единомышленников, людей,
способных стимулировать творческую работу, внести в
нее новые идеи, дать глубокую интерпретацию его дра-
матургии. Английский композитор и художник Эдмунд
Дюлак, американский композитор Джордж Энтил, гол-
ландский скульптор Хильдо ван Кроп, английская тан-
цовщица и балетмейстер Нинетт де Валуа, японский
танцовщик Митио Ито — таков круг художников, прив-
лекаемых Иейтсом для совместной работы. Порази-
тельно, насколько восприимчив к новым веяниям этот
пожилой человек, молодость которого прошла в среде
культуры конца века, символистской поэзии. Напомним,
что новый и наиболее плодотворный период в творчестве
Йейтса начинается, когда ему уже исполнилось 50 лет.
Все те, кто сотрудничал с Иейтсом в постановке его
пьес,— люди значительно моложе его, некоторые сов-
сем молодые, как композитор-авангардист Энтил, чьи
джазовые сочинения восхитили Йейтса и оказались, по
его мнению, созвучными его драматургии. Нинетт де
Валуа не только танцует в постановках Йейтса, но и соз-
дает, при его содействии, балетную школу при Театре
Аббатства. Йейтс пишет пьесы в расчете на совершенно
конкретное и четко обрисованное театральное простран-
ство. По крайней мере, одна из пьес, «Актриса-короле-
ва» (1919), предназначается для исполнения в ширмах
Крэга: Йейтс работает над пьесой, имея под рукой крэ-
говскую модель сцены и «ставит» каждый эпизод, по
мере того, как пишет.
Таковы факты, разрушающие легенду о том, что
поздние пьесы Йейтса остались на бумаге или были
поставлены в аристократических салонах. Но основания
для этой легенды были — иначе она не возникла бы.
159
Дело заключается в некоторых принципиальных поло-
жениях театральной теории, выдвинутых Иейтсом в
10-е годы, и в еще большей, чем раньше, сложности его
отношений с театральной практикой, в особенности при
постановке собственных пьес. Йейтса удовлетворяли
лишь отдельные исполнители, очень редко — отдельные
постановки. Отдавая свои пьесы в театр, который ре-
ально существовал, поэт мечтал о театре, который мог
бы быть. Поэтому его театральная деятельность зрелого
периода предстает как бы в двойной экспозиции: с од-
ной стороны, его пьесы живут на сцене, с другой —
только лишь ожидают своего театрального рождения.
Линию развития творчества Йейтса нельзя не наз-
вать неожиданной и парадоксальной. Его «второе дыха-
ние» имеет мало прецедентов (отметим, что впоследст-
вии, среди поэтов XX в., это стало более обычным).
Перешагнув 50-летний рубеж, Йейтс не расстался с
поэзией, не утратил творческой активности, не стал пов-
торяться, а с новой энергией устремился по еще не про-
торенным путям и на них создал свои лучшие произве-
дения — это относится и к его драматургии и к его поэ-
зии. Многие из сверстников Йейтса, продолжавшие жить
и работать в 10-е годы и позже, так и остались худож-
никами рубежа веков и в новые времена перестали
играть сколько-нибудь значительную роль (тот же Ар-
тур Симоне или даже Метерлинк). Йейтс сумел занять
свое место и в культуре между двумя мировыми вой-
нами. Для молодых английских поэтов 20—30-х годов
он — не фигура из прошлого, а живой современник, вы-
зывающий острый интерес и полемику. Почти символи-
ческий факт: в 1916 г. на первом представлении «Ястре-
биного колодца» присутствует Т. С. Элиот, лидер нового
поколения англоязычных поэтов: он, считавший Йейтса
«полузабытым поэтом 90-х годов» \ с удивлением видит
перед собой современное и глубоко подействовавшее на
него произведение.
Возможно, когда-нибудь психологи творчества раз-
гадают для нас подобные парадоксы развития худож-
ника (или, напротив, тайну короткой творческой жиз-
ни). Пока мы можем обратиться к тому, что доступно
всем,— к жизни Йейтса, к действительности, окружав-
шей его и питавшей его творчество. Ирландская тема
оставалась в самой сердцевине поэзии и драматургии
Йейтса, и события, разразившиеся в Ирландии начиная
с 1916 г., глубочайшим образом повлияли на его твор-
чество.
160
Примечание
1 См.: W. В. Yeats. Images of a Poet. Manchester, Dublin, 1961, p. 63.
ПАСХА 1916 ГОДА
Было бы соблазнительно поставить начало нового эта-
па драматургии Йейтса в прямую зависимость от «Пас-
хального восстания» 1916 г., но факты не позволяют
сделать этого: премьера «Ястребиного колодца» состоя-
лась 2 апреля, и уже писалась новая пьеса, «Единст-
венная ревность Эмер», а Пасхальное восстание нача-
лось 24 апреля. Более того: Иейтс, как большинство
ирландцев, ничего не знал о готовящихся событиях. Он
еще в 1901 г. ушел из Ирландского республиканского
братства, а в пасхальные дни 1916 г. находился в Анг-
лии. Однако он был лично знаком почти со всеми ру-
ководителями восстания, принадлежал к тому же кругу,
постоянно с ними общался — и тем не менее восстание
было для него полной неожиданностью. Потрясение по-
эта запечатлено в знаменитом рефрене его знаменито-
го стихотворения «Пасха 1916 года»:
All changed, changed utterly:
A terrible beauty is born.
(«Все переменилось, переменилось полностью:/Роди-
лась страшная красота».)
Но если Иейтс не знал о том, что произойдет в ап-
реле 1916 г., и не предвидел этого, то нельзя сказать,
что он не ощущал атмосферу, которая предшествовала
восстанию. В стихотворном сборнике Йейтса «Ответст-
венность» (1914), где собраны произведения 1910—
1914 гг., преобладающие мотивы — тоска и гнев, кото-
рые вызваны убогостью ирландской жизни. Самые лич-
ные стихотворения — например, посвященные Мод Гонн
(«Чтобы пришла ночь», «Когда жила Елена» и др.) —
пронизаны этой же мыслью: современная действитель-
ность слишком ничтожна для Красоты и возвышенной
души. Тоска Йейтса по жизни достойной и проникнутой
идеальными стремлениями,— не меланхолия, не созер-
цательная грусть. В ряде стихотворений поэт говорит
«публичным» голосом: глубокие и горькие размышления
высказаны в интонациях почти ораторских — таков
«Сентябрь 1913 года». Пафос стихотворения «К тени»,
также написанного в сентябре 1913 г. и посвященного
6 В. А. Ряполова
161
памяти Парнелла,— страстное желание увидеть воз-
рождение идеалов и героизма. Через три года это ста-
ло явью — произошло Пасхальное восстание.
Восстание было совершено силами двух военных ор-
ганизаций — «Ирландские волонтеры» (военное крыло
Ирландского республиканского братства) и «Ирланд-
ская гражданская армия», возникшая в ходе Дублин-
ской забастовки и «великого локаута» 1913—1914 гг.
для вооруженной самообороны рабочих. Всего в вос-
стании приняло участие около 1800 бойцов обеих армий.
Предполагалось, что, начавшись в Дублине, восстание
перекинется в другие города, что захват главных прави-
тельственных зданий Дублина парализует связь с Анг-
лией и даже что ирландцам поможет немецкий десант.
Последняя надежда была основана на том, что Герма-
ния находилась в состоянии войны с Англией: ирланд-
ские повстанцы вооружались немецкими ружьями и пу-
леметами, тайно доставлявшимися морем на побережье
Ирландии.
Однако уже накануне восстания его руководителям
стало ясно, что можно рассчитывать на действия лишь
в самом Дублине. Ни военная, ни политическая орга-
низация Пасхального восстания не могли привести к
его успеху. Силы повстанцев были слишком разрознен-
ны, да и слишком малочисленны. Ими было захвачено
всего несколько зданий, что удалось сделать благодаря
внезапности нападения и отсутствию сколько-нибудь
значительной охраны: в городе царила беззаботная
праздничная атмосфера, английский гарнизон, разме-
щенный в Дублине, совершенно не ожидал каких-либо
враждебных выступлений. Но и первые успехи повстан-
цев были крайне ограниченными: не удалось занять ре-
зиденцию властей Дублинский замок, здания, где раз-
мещались полицейские и армейские подразделения, за-
хватить или ликвидировать склады оружия. Главные
силы восстания сосредоточились на почтамте. Отсюда,
со ступеней почтамта, Патрик Пирс провозгласил не-
зависимую Ирландскую республику: прокламация, под-
писанная им и еще шестью руководителями восстания,
была вывешена для всеобщего обозрения.
Восставшие практически не вели военных действий.
Несколько зданий, в том числе и почтамт, были заняты
без кровопролития: посетителям было приказано поки-
нуть помещение, а немногочисленных охранников — там,
где они были,— обезоруживали и отпускали. Бои нача-
162
Пасхальное восстание 1916 г.
Баррикада на Грейт-Бринсуик-стрит в Дублине
лись позже, когда английское командование оправи-
лось от растерянности и перешло в контрнаступление.
После безуспешных попыток взять почтамт, штаб-квар-
тиру восставших, штурмом, англичане пустили в ход
тяжелую артиллерию и бомбы. В субботу 29 апреля
группы бойцов-республиканцев, продолжавших сопро-
тивление, получили от руководства восстанием приказ
сдаться. Чтобы уничтожить центр сопротивления, анг-
лийские войска превратили в развалины и сожгли це-
лые кварталы, примыкающие к почтамту. По имеющим-
ся сведениям, за пасхальную неделю 1916 г. английские
войска потеряли 103 человека убитыми и 357 ранены-
ми. За это же время было убито 450 и ранено 2600 ир-
ландцев. Эта диспропорция в потерях объясняется не
только превосходящими силами и вооружением кара-
телей: жертвами английских пуль стали сотни мирных
жителей. В течение нескольких дней после восстания
были казнены его руководители.
Многие из бойцов-республиканцев знали, что их вос-
стание обречено, что сами они не останутся в живых,
но ими владела мысль: поднять дух народа, бросить
вызов английскому господству, начать дело, которое
продолжат другие. К смерти во имя свободы готовили
себя руководители восстания — Патрик Пирс, Томас
163
б*
Мак-Дона, Джозеф Планкетт. Все они были поэтами,
воспитанниками Гэльской лиги, и вдохновлялись обра-
зами реальных и легендарных ирландских героев. Так,
Кухулин был любимым героем Пирса. «Когда Пирс
призвал к себе Кухулина,/Что это величаво прошло че-
рез почтамт?» — писал Йейтс в 1938 г. в стихотворении
«Статуи», в который раз осознавая это «прекрасное и
страшное» претворение мечты и легенды в реальность.
Пасхальное восстание окрестили также «восстанием
поэтов»; одни произносили это с восторгом, другие — с
презрением. Среди тех, кто считал апрельские события
в Дублине бессмысленным бунтом горстки неумелых
террористов-любителей, было и множество деятелей со-
циалистических партий разных стран. Против этой по-
верхностной и близорукой оценки с негодованием выс-
тупал Ленин: он увидел в происшедшем подлинные ре-
волюционные черты и предсказал, что выступления, по-
добные Ирландскому восстанию, выльются во всеобщее
движение, «как отдельные стачки, демонстрации город-
ские и национальные, вспышки в войске, взрывы в кре-
стьянстве и т. д. подготовили общий натиск в 1905 го-
ду»1. «Общий натиск» патриотических сил Ирландии
против английского владычества начался в 1919 г.
В 1921 г. был подписан договор с Англией, который, при
всей его ущербности, положил начало независимому
существованию Ирландии.
Для Иейтса Пасхальное восстание стало событием,
определившим многое в его жизни и творчестве на все
последующие годы. Его непосредственная реакция отра-
жена в стихах, драмах и письмах 1916—1919 гг. Сти-
хотворение «Пасха 1916 года», написанное вскоре пос-
ле восстания, концентрирует в себе идеи и настроения,
характерные для всего позднего творчества Иейтса. Сти-
хотворение не только разнообразно по тональности, но
и противоречиво — одно из самых противоречивых у
Иейтса. Геройская смерть по-новому освещает людей,
казавшихся такими, как все, и поэт казнится сознанием
своей невольной вины — равнодушия, слепоты, поверх-
ностности. Герои воспеты, но трагический вопрос — не
была ли жертва напрасной? — не решен. В произведе-
ниях, созданных после 1916 г., вплоть до самых позд-
них, Йейтс напряженно размышляет о том, что проис-
ходит с душой человека, участвующего в политической
борьбе, о необходимости и моральной оправданности
радикального действия — и непрестанно спорит с собой.
164
Это отразилось уже в стихах, посвященных Пасхальному
восстанию 1916 г. Диапазон здесь широк — от пламенно-
го, агитационного пафоса, напоминающего поэзию «Мо-
лодой Ирландии» («Шестнадцать мертвых», «Роза»), до
открытого недоверия к нравственности общественных
движений («Вожди толпы») и горьких сожалений об ис-
сушающем действии политической борьбы на душу и кра-
соту («О политическом заключенном» — посвящено из-
вестной ирландской революционерке Констанс Марке-
вич).
Эта последняя тема была связана с новым актом
личной драмы Иейтса. В числе казненных в 1916 г. был
Джон Мак-Брайд, муж Мод Гонн (она вышла за него
замуж в 1903 г.). После гибели Мак-Брайда, летом
1916 г. Р1ейтс поспешил к Мод Гонн, которая жила тог-
да во Франции. Ей запретили въезд в Ирландию — был
подписан ордер на ее арест. Биограф Иейтса Джозеф
Хоун так описывает события личной жизни Иейтса,
последовавшие за разгромом Пасхального восстания:
«Первым импульсом Иейтса было сделать предложение
Мод Гонн теперь, когда она была свободна, однако пе-
ред поездкой во Францию он практически заключил до-
говор с леди Грегори — ради Театра Аббатства (кото-
рый в это время существовал в основном на пожертво-
вания богатых ирландских юнионистов), а также «что-
бы отрезать себе путь, зная свою слабость» — о том, что
он не женится, если Мод Гонн не откажется от всякого
участия в политике, включая кампанию за амнистию
для политических заключенных»2. В который раз на
протяжении почти тридцатилетней истории отношений
этих двух людей любовь, искусство и политика соеди-
нились для Иейтса в нерасторжимый узел. В который
раз Гонн разрубила этот узел, отказав Иейтсу. Тогда
52-летний поэт совершил поступок «трогательный, от-
чаянный и несколько смехотворный одновременно»3:
предложил руку внебрачной дочери Гонн, совсем юной
Изольде (в свое время, в 90-е годы, существование
этого ребенка было одним из предлогов очередного от-
каза Мод Гонн выйти замуж за Иейтса). Это действи-
тельно странное и «отчаянное» сватовство также не
увенчалось успехом, и в октябре 1917 года Иейтс же-
нился на Джорджи (или Джордж) Хайд-Лис, 26-лет-
ней англичанке. Первое время после женитьбы Иейтс
жил в Англии, но перед рождением первого ребенка
(1919) супруги переехали в Дублин: для Иейтса, с его
165
символическим мышлением, было крайне важно, чтобы
его первенец появился на свет в Ирландии.
Образ Тонн не оставляет поэзию Йейтса, но в нем
теперь появляются новые черты, те же, которые он ви-
дел в Констанс Маркевич: красота, иссушенная нена-
вистью и «самоуверенным умом»; богатая натура, от-
казавшаяся от вольной игры самовыражения и подчи-
нившаяся «абстракциям». Поэт как будто отрекается
от прежних символов — Елена Троянская, пламенеющее
облако, феникс, которые были связаны с личностью
Гонн. Но прорывается прежнее восхищение и прежняя
нежность, в строках стихов снова предстает образ воз-
вышенный и одухотворенный, натура, для которой борь-
ба — вольная стихия, а не плен абстракций. Поэт про-
должает тот же внутренний спор, которым отмечена
«Пасха 1916 года».
В пору зрелого творчества Иейтс не расстается с
символами своей ранней поэзии и драмы, почерпнутыми
из ирландских саг, но одновременно претворяет в сим-
волы людей и события современной жизни. Мод Гонн,
Констанс Маркевич, Флоренс Фарр, Синг и Августа
Грегори, друзья юности из Клуба стихотворцев, поли-
тические деятели, литераторы и просто родные и знако-
мые— личность и судьба каждого из них превращают-
ся Йейтсом в символ, занимают свое место в филосо-
фии бытия и истории. В «Автобиографии», создаваемой
в 1914—1922 гг., где столько разнообразных, блестяще
выполненных портретов современников, ярко выражена
и тенденция к символизации (в разделах, написанных
в конце 10-х — начале 20-х годов). Та же тенденция
проявляется в драматургии Йейтса и изменяет ее ха-
рактер.
Примечания
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 30, с. 56—57.
2 Hone J. М. W. В. Yeats, 1865-1939. L., 1962, р. 303.
3 Spivak G. С. Myself Must I Remake. The Life and Poetry of
W. B. Yeats. N. Y., 1974, p. 109.
166
ПЬЕСЫ В СТИЛЕ НО
ТЕОРИЯ
В апреле 1916 г. во вступительной статье к сборнику
пьес японского театра Но (перевод Эрнеста Феноллозы
иод редакцией Эзры Паунда) Йейтс заявил: «...С по-
мощью японских пьес... я изобрел утонченную, лишен-
ную буквальности и символическую форму драмы, ко-
торая не нуждается в толпе или Прессе, чтобы окупить
постановку,— аристократическую форму» К Годом рань-
ше в неопубликованном эссе «Поэт и актриса» Йейтс
также писал о сущности и некоторых главных чертах
новой формы, над которой он работал: «...Искусство, ко-
торого я жажду...— это борьба, но она происходит в
глубинах души, и один из антагонистов не имеет зем-
ного облика и не говорит на языке смертных»2. Пер-
вым опытом в новом духе стала пьеса «У Ястребиного
колодца». Ее персонажи безымянны, их лица закрыты
масками или загримированы так, что похожи на маски;
движения напоминают театр марионеток и совершаются
под аккомпанемент цитры, гонга и барабана; музыкан-
ты, также в гриме-маске, присутствуют на сцене и не
только аккомпанируют, но и выполняют функцию хора;
сама сцена — «любое свободное пространство у стены»,
единственная декорация — ширма со стилизованным
рисунком, стоящая у стены. Кульминация действия в
«Ястребином колодце» и последующих пьесах — танец,
обычно исполняемый персонажем, «не имеющим земно-
го облика». Последний момент особенно важен для
Иейтса (четыре пьесы 1916—1920 гг. он назвал «пьеса-
ми для танцовщиков»).
Все эти приемы, как и объяснил сам Йейтс, взяты
им из драмы Но, с которой он познакомился, в основ-
ном, благодаря Эзре Паунду (бывшему в 1913—1916 гг.
секретарем Иейтса). Однако не все в «пьесах для тан-
цовщиков» кажется радикально новым и непривычным
для драматургии Иейтса. И форма этих произведений,
и то, что ею выражается,— не разрыв с эстетическими
идеями предшествующих лет, а их развитие.
За несколько лет до знакомства Иейтса с текстами
Феноллозы и Паунда Гордон Крэг увидел в восточном
театре созвучие своим идеям, а в 1910 г. в своем жур-
нале «Маска» специально писал о Но. Дружеская и
творческая близость Крэга и Иейтса дает основания с
167
\
Гордон Крэг. Эскиз маски Слепого
для постановки «На Берегу Байле». 1911 г.
несомненностью заключить, что Йейтсу мысли Крэга о
Но были известны и близки (на это совершенно спра-
ведливо указывает Джеймс Флэннери3). Дело все же не
только в этом.
Хотя в своей статье 1910 г. «Трагический театр»
Иейтс еще и не упоминает о Но, его главный тезис яв-
ляется тем концептуальным основанием, на котором
спустя несколько лет выросла идея использования прие-
мов японского театра. Йейтс пишет: «Трагическое ис-
кусство, страстное искусство, затопляющее плотины, ко-
торые разделяют людей, разрушающее обычные пред-
ставления, воздействует на нас тем, что заставляет гре-
зить, почти что ввергает нас в транс. Люди, действую-
щие на сцене, как бы вырастают, и мы вдруг видим
перед собой само человечество»4. Близость этого выска-
зывания к идее «лишенной буквальности и символиче-
ской формы драмы», выдвинутой в 1916 г., очевидна.
Не нова для Иейтса и идея театральной маски. Как
мы помним, в «Трагическом театре» он писал о маске
как об одной из идеальных форм изобразительного ис-
кусства, а в 1911 г., в постановке «Песочных часов»,
168
уже мог бы (если бы не возражения Крэга) вывести
на сцену исполнителей в масках. В своей теоретической
работе нового периода, «Некоторые благородные пьесы
Японии»5, Йейтс говорит о маске как о принципиаль-
ном требовании своего театра: «Маска позволит мне
заменить лицо какого-нибудь посредственного актера
или то же самое лицо, но перекрашенное в соответствии
с его вульгарной фантазией, прекрасным творением
скульптора... Маска никогда не покажется всего лишь
грязным лицом, и как близко ни подойти к ней, она все
равно останется произведением искусства. В поэтиче-
ской живописи и скульптуре лицо кажется тем благо-
роднее, чем в нем меньше любопытства, оживленного
внимания, всего того, что заключено в знаменитом по-
нятии реалистов, «жизненная энергия». Возможно даже,
что полнотой бытия обладают только мертвые и что мы
каким-то образом понимаем это, когда так неотрывно
и с таким чувством смотрим на лицо сфинкса или
Будды»6.
Знаменательно, что весь отрывок о маске из статьи
1916 г. даже текстуально совпадает с тем, что Крэг за
девять лет до того писал о сверхмарионетке (включая
пассаж о реалистах и прославление «мертвенной кра-
соты»— так выразился Крэг7). Для понимания мысли
Йейтса и Крэга необходимо иметь в виду специфику
термина «реалист» в английском словоупотреблении, а
также полемический контекст высказываний обоих ху-
дожников. Йейтс и Крэг выступали против фальшивой
оживленности коммерческого театра, против натуралисти-
ческого копирования жизни, против случайного и мимо-
летного — за глубокое и серьезное искусство. Примеры,
которые приводит Йейтс,— великие произведения
скульптуры, вобравшие в себя духовный опыт целых
народов и поколений,— делают его парадоксально выра-
женную мысль абсолютно ясной. Очевидно, что идеи
«Трагического театра» вплотную подвели Йейтса к кон-
цепции маски, выдвинутой в 1916 г.: если трагедия —
это искусство «страсти» (в противовес комедии, искус-
ству «характера»), если страсть — выражение высшего
духовного напряжения человека («греза», транс»), при
котором индивидуальное и особенное поднимается до об-
щечеловеческого, растворяясь в нем, то не следует ли
трагическому театру отказаться от лица, выражающего
характер, и предпочесть маску, в которой художествен-
но запечатлена страсть?
169
Когда Йейтс создавал концепцию трагического как
надличного, он основывался не только на примерах из
драматической литературы (в «Трагическом театре» это
предсмертная речь Дейрдре из пьесы Синга, «великие
моменты» Шекспира, трагедии Греции, Рима, Корнеля
и Расина), но и на театральной практике. Это особенно
необходимо подчеркнуть, поскольку чисто театральные
наблюдения Иейтса нигде не сведены им воедино, а в
статьях теоретического характера главное внимание по
необходимости уделено общим формулам, мировоззрен-
ческим концепциям, что, в сочетании с поэтическим язы-
ком (иначе Йейтс не умел писать ни на какую тему),
навлекло на Йейтса совершенно незаслуженные обви-
нения в абстрактности и незнании живого театра. Мож-
но указать хотя бы на его слова в статье 1916 г. о преи-
муществах замены лица маской: так написать мог
только опытный режиссер, знающий, как достичь же-
лаемого эффекта практическими средствами. К тому
же Йейтс основывается на уже имеющемся опыте ис-
пользования маски в европейском театре — он описы-
вает незабываемое впечатление от Шаляпина, выступав-
шего в роли Кончака в полумаске, которая придала ему
облик «феникса, подходящего к концу своей тысячелет-
ней мудрой жизни»8.
Говоря о маске, Йейтс выдвигает еще один, сугубо
театральный тезис: «...Мы ничего не потеряем, сделав
черты лица застывшими, потому что глубокое чувство
выражается в движении всего тела»9. Это была под-
линно революционная идея для тогдашнего театра.
Йейтс пришел к ней не только через сценическую прак-
тику и не только благодаря влиянию Крэга: он исполь-
зовал и свои жизненные наблюдения. В частности, он
вынес театральные уроки из того, как вели себя на три-
буне, перед большой массой людей, лучшие политиче-
ские ораторы. Одно из важнейших наблюдений относит-
ся к Мод Гонн: «Ее лицо, подобно лицам греческих
статуй, выказывало мало мысли — все ее тело казалось
шедевром долгой мыслительной работы»10. Того же
Йейтс хотел и от актеров идеального театра, каким он
мыслил его себе в 1916 г. Модель театра Но оказалась
великолепной находкой, потому что дала возможность
связать маску с выразительностью тела в движении.
И снова Йейтс не столько шел от теории, сколько вдох-
новлялся живыми впечатлениями. Он видел танцы теат-
ра Но в исполнении японских актеров: его поразило
170
Гордон Крэг. Эскиз маски Дурака
для постановки «Песочных часов»
в Театре Аббатства. 1910 г.
сочетание статуарности и мускульного напряжения, ин-
тенсивность ритма и его теснейшая связь с содержани-
ем, мыслью. Именно эти качества, а не ориентальный
колорит пластики стали образцом для Иейтса, когда он
начал писать свои «пьесы для танцовщиков».
Сама по себе идея танца как выражения наиболее
глубоких пластов поэтической мысли была издавна близ-
ка Йейтсу. В тех художественных кругах Лондона и
Парижа, где он формировался, танцу отводилась важ-
ная роль в идеальном синтезе искусств. Не академиче-
ский танец, а танец-самовыражение души, танец-экстаз,
танец-транс, возрождение священных танцев древно-
сти,— таким виделось поэтам и композиторам конца
века новое искусство танца. Недаром, как отмечают
171
многие исследователи, легендарная Саломея — частый
образ поэзии символизма, а Оскар Уайльд написал
пьесу «Саломея», кульминация которой — знаменитый
«танец семи покрывал». В раннем творчестве Йейтса
«священный танец», в котором зримо является сверх-
обычная, высшая реальность,— нередкий образ. Куль-
минация «Страны блаженства» — магический танец феи:
являющий ее истинную природу и отторгающий зем-
ную душу героини от сферы обыденной жизни. Очень
вероятно, что Йейтс создал эту сцену, исходя из своего
опыта участия в обрядах одного из оккультных обществ,
Ордена Золотой Зари: их непременной частью был «свя-
щенный танец», заимствованный, как и многое другое (в
том числе и маски), из различных древних культов. Но,
при всех этих разнообразных влияниях, Йейтс долго не
знал такой живой модели театрального представления,
в которой танец был бы нерасторжимо связан с конф-
ликтом и действием. Такую модель он нашел наконец
в театре Но.
Если рассмотреть ту концепцию сценической среды,
которую Йейтс выработал в середине 10-х годов, то и
она своими корнями уходит в его более раннее творче-
ство. Стена в качестве фона, плоская ширма-задник,
ровный свет, одинаковый для сцены и зала, — о том,
другом или третьем Йейтс говорил много раз еще со
времен впечатлений от любительских спектаклей в клу-
бе Бедфорд-парка11.
Но возникает вопрос: почему же Йейтс отказывается
от «идеальной страны» крэговских ширм, да еще как
будто возвращается вспять?
В обширной литературе о Йейтсе суждения на этот
счет высказывались не раз. Наиболее серьезные из них
сводятся к тому, что Йейтса обескуражили практиче-
ские трудности работы с ширмами Крэга в Театре Аб-
батства. Приводимые факты сами по себе достаточно
весомы. Иейтсу действительно не удалось преодолеть
сопротивление консервативно настроенной труппы: уже
в 1912 г. режиссер Монк был вынужден уйти, а Вторая
(экспериментальная) труппа Театра Аббатства прекра-
тила существование. После 1913 г. спектакли в ширмах
Крэга изредка продолжали ставиться, но обещания пи-
сать все свои пьесы для системы ширм Йейтс не сдер-
жал (кстати, Крэг, которого поныне любят изображать
человеком с чрезмерным самолюбием и дурным харак-
тером, не стал упрекать Йейтса, требовать выполнения
172
их былого договора и т. п.). Справедливы указания на
то, что манипулировать ширмами на сцене Театра Аб-
батства было технически сложно и что этот театр, в
силу своего стесненного материального положения, не
мог позволить себе роскошь сделать экспериментальную
работу главным направлением своих усилий.
Все это вещи немаловажные, но суть, однако, не в
них. С техническими задачами Иейтс, когда брался за
дело, справлялся достаточно успешно. К тому же — ка-
кие внешние причины могли помешать ему создавать
пьесы в расчете на крэговскую сцену? Ведь они стави-
лись не настолько часто, чтобы нарушить всю обычную
работу Театра Аббатства. Никаких неустранимых пре-
пятствий, действительно, не было, и Йейтс доказал это.
Так, ,,Царя Эдипа» Софокла в своем переводе Иейтс
предназначал для постановки в ширмах. Премьера со-
стоялась в 1926 г., и Йейтс был доволен результатом (не-
смотря на отсутствие Крэга или режиссера хотя бы уров-
ня Монка, на все те же постановочные проблемы и пр.).
Йейтс отошел от крэговской идеи сцены внутренне —
в этом суть дела. В программной статье 1916 г., говоря
о различных видах декорации, которые он испробовал,
ища адекватную сценическую среду для своей драма-
тургии, Иейтс упоминает и об «этих восхитительных
ширмах цвета слоновой кости, изобретенных Гордоном
Крэгом», но далее заявляет: «Проем сцены, мощная
светотень, количество футов между мною и актерами
разрушили близость театра к публике. Я стал замечать,
что думаю о тех актерах, которым там, на Востоке,
вероятно, достаточно развернуть коврик в каком-нибудь
саду» 12. Ту же мысль, но еще более определенно Йейтс
выразил в предисловии к пьесе «У Ястребиного колод-
ца»: «Моя ошибка до сих пор была в том, что в юности
я еще не понял, что мой театр — это тот древний театр,
который возникает, как только разворачивают коврик
или втыкают в землю шест или ставят ширму у сте-
ны» 13. На первое место в сценическом мышлении Иейтса
снова выходит актер, человек, максимально прибли-
женный к зрителю. Цель и эффект этого приближения,
собственно, и составляют самую суть его новой концеп-
ции. Йейтс объясняет ее в статье «Некоторые благо-
родные пьесы Японии», отправляясь от впечатления, ко-
торое на него произвел Митио Ито, показавший танец
в обычной комнате («трагический образ, давший тол-
чок моему воображению»): «Там, где не было ни спе-
173
циального освещения, ни сценической рамки, которые
создали бы искусственный мир, он был способен, под-
нимаясь с пола, где он сидел по-турецки, или выбрасы-
вая руку, мгновенно удалиться от нас в какую-то бо-
лее значительную сферу жизни. Поскольку это удале-
ние было достигнуто только человеческими средствами,
он как будто погружался в глубины души...»
Искусство, интересующее меня, по видимости отде-
ляя от мира и от нас группу человеческих фигур, обра-
зов, символов, тем самым дает нам возможность на не-
сколько мгновений погрузиться в глубины души, кото-
рые до того были слишком тонки и неуловимы для
нас. Поскольку путь к глубинам души лежит только
через самое человеческое и самое тонкое, нам следует
недоверчиво относиться к внешним средствам отдале-
ния, машинерии и громкому шуму»14.
В этих нескольких фразах заключена целая обшир-
ная программа, в которой Иейтс отрицает многое из
своей прежней теории и практики. Действительно, толь-
ко на самый первый и поверхностный взгляд может
показаться, что, приняв новаторскую идею Крэга, Йейтс
затем повернул назад, к своим представлениям тех вре-
мен, когда у него еще не было сценического опыта.
Уничтожение рамочности сцены и приближение актеров
к публике совершенно меняют все дело. Теперь и яркий,
ровный свет, о котором Йейтс писал в 1904 г., нужен
ему для того, чтобы одинаково осветить сцену и зал,
актеров и зрителей: те и другие находятся не в спе-
циальном театральном помещении, а в комнате с ее
обычным освещением, и никакие внешние, механиче-
ские, средства не создают «искусственный мир» для ак-
теров. В идеале нет и собственно сцены в привычном
понимании, т. е. возвышения: актеры играют тут же, на
полу, в непосредственной близости от зрителей.
На новом этапе своего творчества Иейтс в своих
представлениях об идеальной сценической форме разо-
шелся с Крэгом, хотя устремления обоих были направ-
лены к философскому и поэтическому театру нового
типа. Трагедийное пространство Крэга огромно, в идеале
оно — макрокосм. В «театре души» Йейтса пространст-
во— микрокосм, и актеру в нем отведена исключитель-
ная роль: своей пластикой, жестом в широком смысле
слова он воздействует на воображение зрителей и от-
крывает им путь туда, где жест зародился,— в самые
сокровенные сферы духа.
174
Направление мысли Йейтса в это время ближе всего,
как это внешне ни парадоксально, к той линии в твор-
ческих поисках Станиславского, которая началась по-
становкой «Месяца в деревне» (1909). «Как обнажить
на сцене души актеров настолько, чтобы зрители могли
видеть их и понимать то, что в них происходит?»15 —
эгот вопрос, которым задался Станиславский, мог бы,
как эхо, повторить и Йейтс. Средства, которыми тот и
другой предполагали решить эту задачу, выглядели со-
вершенно различно: тончайшая психологическая техни-
ка — и резкая, вызывающая условность. Однако было
нечто общее и в средствах. Подобно Йейтсу, Станис-
лавский пришел к идее студии, интимности; это послед-
нее слово — одно из ключевых в театральном манифес-
те йейтса 1916 г. Правда, Станиславский, организуя
Первую студию в 1912 г., считал «театр в комнате»
промежуточным звеном, необходимым для пробы сил
начинающего артиста, который со временем перейдет на
большую сцену и вольется в основную труппу. Йейтс
был большим максималистом. В его представлении ин-
тимный театр — самостоятельная и наиболее радикаль-
ная форма нового театра. В этом заочном споре Йейтса
со Станиславским — оба правы. Студийцы Художест-
венного театра, действительно, затем переходили на его
сцену,— но как раз Первая студия превратилась в са-
мостоятельный театр и на определенном этапе своего
существования была воплощением идеи интимного те-
атра. Максималистский вариант Йейтса в разных фор-
мах осуществлялся спустя много десятилетий в запад-
ных экспериментальных театрах 60-х годов.
Йейтс, как это было ему свойственно всегда, выдви-
гая новаторские идеи, апеллирует к прошлому, давая
понять, что он лишь воскрешает традицию, от которой
отошло современное ему искусство. Однако «древний
театр», который он описывает в «Благородных пьесах
Японии», не похож ни на один из прежних видов теат-
ра: древнегреческий, средневековый или ренессансный.
Эта некая вечная квинтэссенция театральности, кото-
рая получается, если отбросить все, без чего можно
обойтись, включая специальное сооружение — сцену.
(Почти в таких же выражениях — упоминая и о ков-
рике,— говорил о сущности театра Немирович-Данчен-
ко; то же самое имел в виду Ежи Гротовский, выдви-
нув принцип «бедного театра».) Что касается реальных
форм старого театра, то Йейтс ясно — яснее многих
175
своих современников — сознает их историческую исчер-
панность. Еще в «Трагическом театре» он писал: «Если
мы желаем придать нашим театрам достоинство, кото-
рым обладали церковь, греческий театр на открытом
воздухе, елизаветинский театр, и не можем удовлетво-
риться ни одним из них...»]6. В предисловии к «Ястре-
биному колодцу» Йейтс дает развернутое обоснование
потребности в разрыве с ренессансной системой и в
создании новой формы театра: «Искусство Шекспира
было публичным, то громогласным и декламационным,
то лирическим и тонким, но всегда публичным, потому
что поэзия была частью общей жизни народа, который
был приучен церковью слушать трудные слова, а вместо
песенок мюзик-холла пел песни, прекрасные до сих пор.
Человек, который напевал «Барбару Аллен» в своем
собственном доме, не встретил бы любовные речи
Джульетты ироническим хихиканьем — чему я был сви-
детелем, сидя на галерке театра «Лицеум». Мы должны
признать, что произошла перемена, как признали ее
живописцы, когда увидели, что их больше не призывают
расписывать дворцы и церкви, и стали рисовать кар-
тины, чтобы вставить их в раму и повесить на стене.
Потеряв в мощи и размахе, мы возместим это изящест-
вом и тонкостью... Если наша современная поэтиче-
ская драма потерпела неудачу, так это, главным обра-
зом, потому, что, видя образец для подражания в Шек-
спире, она упорно пыталась восстановить невозврати-
мое прошлое» 17.
Йейтсу можно было бы возразить на это, что он так-
же занимается обреченным на неудачу реставраторст-
вом, взяв за образец японский средневековый театр.
Однако его целью было не воспроизведение Но на ев-
ропейской почве, а использование его как модели для
решения новых задач, в противовес ренессансной сис-
теме театра как в ее выродившемся, коммерческом ва-
рианте, так и в чистом, классическом выражении. Йейтс
утверждает, что такие черты театра Но, как отсутствие
жизнеподобия и прямого конфликта между персонажа-
ми, главенствующая роль ритма, тонкая нюансировка,
наконец, синтез нескольких искусств (речь, движение,
музыка), делают этот театр более созвучным новому ев-
ропейскому искусству (тут следуют уже знакомые и
ожидаемые имена: Пюви де Шаванн, Малларме, Вер-
лен), более современным, чем театр Корнеля или Шек-
спира или «риторическое» искусство XIX в. И снова, как
176
всегда у Иейтса, искания в области новых форм нераз-
дельны с задачей служения Ирландии. Театр Но вышел
из древних обрядов; сюжеты, особенно привлекающие
Йейтса, связаны со «священными местами», где когда-то
происходили легендарные события,— для Иейтса это об-
разец того, как ввести «мифологическую топографию»
Ирландии в свои собственные пьесы. Драматург мечта-
ет даже о том, что его драмы можно будет играть в тех
самых «священных местах», где происходит их дейст-
вие, что эти представления будут выполнять для совре-
менных ирландцев функцию ритуала, воскрешая в их
сознании самые глубокие и существенные образы — па-
мять нации. («Впрочем, я знаю, что лишь тешу себя
фантазиями», — тут же прибавляет, однако, Иейтс» 18.)
К различиям театра Но и «пьес для танцовщиков»
Йейтса еще предстоит обратиться, но один принципи-
ально важный момент необходимо выделить сразу же,
так как он имел большое значение для Иейтса уже на
стадии теории.
При всей своей стилизации и условности, театр Но,
как подчеркивают его японские и европейские исследо-
ватели, не ставит своей целью ошеломить зрителя стран-
ностью. Частично это объясняется тем, что в Японии
различные обряды с пением и танцами — до сих пор
часть жизни. Еще один важный момент: Япония никогда
не знала иного театра, кроме стилизованного и услов-
ного; маски, символические движения, антииллюзио-
низм сцены — все это присуще и Но и Кабуки, условен
и кукольный театр Бунраку. Стилизация и условность
в высшей степени присущи и всем другим видам япон-
ского искусства. Для японского зрителя, веками воспи-
тывавшегося в этой традиции, экзотическим и непри-
вычным выглядело как раз жизнеподобное искусство (в
том числе и театр), с которым Японию познакомила Ев-
ропа на рубеже XIX и XX в.
Желая использовать приемы Но в представлении, да-
ваемом в европейской гостиной, Иейтс сознательно доби-
вается эффекта остранения. В этом отличие и от Но и
от студийных опытов Станиславского в 10-е годы. «Бли-
зость артистов и зрителей сливала их. Смотрящим ка-
залось, что они помещены в самую комнату, в которой
живут действующие лица, и что они случайно присутст-
вуют при том, что совершается в жизни пьесы» — это
Первая студия в описании Станиславского 19. Ничего по-
хожего не может быть в интимном театре, каким его мыс-
177
лит себе Йейтс. «Я надеюсь, что добился той удаленности
от жизни, благодаря которой станут естественны стран-
ные события, замысловатые слова»20,— пишет Йейтс в
период подготовки к премьере «Ястребиного колодца».
В одной из самых известных пьес Элиота, «Семей-
ный съезд», есть ремарка: «Оконные шторы раздвига-
ются: на подоконнике видны Эвмениды». Элиот рассчи-
тывает на шоковое воздействие на зрителей: действие
пьесы происходит в гостиной современного английского
дома. Того же эффекта добивается и Йейтс: Кухулин в
гостиной — столь же странный пришелец, сколь фурии,
а поскольку гостиная — реальная и сама игровая пло-
щадка — ее часть, впечатление странности должно еще
усилиться. Камерный театр Иейтса рассчитан на то,
чтобы сразу выбить зрителя из «комнатного», домаш-
него, обыденного самочувствия.
Драма Но, которую Йейтс избрал своей моделью,
тесно связана со сценическим действием и построена
по определенным канонам.
Действие всегда происходит на деревянном помосте,
окруженном с трех сторон публикой (в современном
театре Но — с двух), с минимумом реквизита. Вначале
на эту сцену выходят музыканты и второстепенный пер-
сонаж (чаще всего королевский чиновник, пилигрим или
буддийский монах). Он представляется публике и назы-
вает цель своего прихода в какое-либо место, связан-
ное с легендарным или историческим событием. За этим
следует песня, описывающая его путешествие и место
действия. Появляется главный персонаж — как прави-
ло, представляющийся местным жителем, но особая
музыка, сопровождающая его выход, слОхМ ритма и тем-
па действия, странность его ответов и самого появле-
ния готовят публику к его последующей трансформа-
ции. Пока, еще скрывая свой истинный облик, прота-
гонист драмы рассказывает путешественнику об эпизо-
де, связанном с местом действия; он передает эмоцио-
нальную доминанту этого события через пантомиму и
танец. Затем главный персонаж удаляется со сцены,
чтобы вернуться в своем истинном облике; время его
отсутствия заполняется пением-раздумием об услышан-
ном. Второе появление протагониста — кульминация
представления. Теперь это сверхъестественное сущест-
во, дух (часто —дух того, чья драма когда-то разыгра-
178
лась на месте действия). В экстатическом танце, резко
отличном от первого, медленного, он вновь «пережи-
вает» драматический эпизод прошлого. Действие завер-
шается песней хора, в которой содержится моральное
поучение, вытекающее из того, что было представ-
лено.
Эта схема может иметь вариации и отступления, но
важно подчеркнуть, что Но всегда — театр без харак-
тера и без конфликта в европейском понимании. Драма
разыгралась в прошлом; в настоящем воссоздается не
столько ее событийная сторона, сколько чувство, испы-
танное тогда героем драмы. Поскольку драмы Но не
нуждаются в долгом развитии сюжета, в перипетиях и
побочных линиях, они всегда коротки (в одно представ-
ление включается несколько драм). Второй актер играет
роль ведущего; хор, в отличие от греческой драмы, слу-
жит посредником между зрителем и сценой, комменти-
рует действие, но не участвует в нем. В театре Но речь
естественно перетекает в пение; все действие подчинено
законам музыкального ритма. Протагонист всегда — не-
земное существо, и обнаружение его истинной природы
составляет кульминацию. Как выразился Поль Клодель:
«В западной драме нечто случается; в Но некто явля-
ется»21.
Иейтс знал о том, что театр Но — синтетическая
форма (помимо чтения пьес и комментариев к ним Фе-
ноллозы, большого знатока японского театра и вообще
искусства Японии, он слушал граммофонные записи
спектаклей Но и, благодаря японским танцовщикам,
имел представление о движении и танце). Свои «пьесы
для танцовщиков» он также предназначал прежде всего
для представления, для театра.
ПРАКТИКА
«I call to the eye of the mind
A well long choked up and dry
And boughs long stripped by the wind...»
(«Я вызываю перед мысленным взором/Давно засыпан-
ный и сухой колодец/И сучья, давно обнаженные вет-
ром...»)
Так начинается пьеса Йейтса «У Ястребиного ко-
лодца». Эти слова поют музыканты, разворачивая и
сворачивая черный прямоугольник ткани со стилизо-
179
ванным изображением ястреба. На пустой сцене — по-
крытая черным плащом неподвижная фигура Храни-
тельницы колодца и квадратный кусок синей ткани,
изображающий колодец. Но вступительная песня не
только описывает место действия. В ней сразу же по-
ставлен, пока еще глухим намеком, главный вопрос
драмы: в чем человеческое счастье — в самозабвенном
порыве или в самосохранении, в яркой, но короткой
жизни или в долгом и обыденном существовании?
У колодца, в котором несколько раз в столетие по-
является волшебная вода бессмертия, встречаются Ста-
рик и Юноша, олицетворяющие противоположные
устремления: Старик провел всю свою одинокую жизнь
у колодца, в диком и пустынном крае, надеясь, что его
долготерпение и смирение будут, наконец, вознаграж-
дены; Юноша, горделиво объявляющий, что его зовут
Кухулин, пришел к колодцу как завоеватель:
Why should the luck
Of Sualtim's son desert him now? For never
Have I had long to wait for anything.
(«Почему это вдруг удача/Покинет сейчас сына Суал-
тима22 Мне еще никогда/Не приходилось долго ждать
чего бы то ни было».)
Старик не только робок, но и познал на собственном
опыте горькие истины, не известные другим. Ему ведо-
мо, что «священные тени», танцующие на горах и ма-
нящие к себе людей, обманывают того, кто доверяется
им: приведя его к колодцу бессмертия, они погружали
его в сон каждый раз, когда оживал родник. Героиче-
ской и деятельной натуре Юноши не грозит опасность
впасть в оцепенение: когда Женщина-Ястреб, стерегу-
щая колодец, начинает шевелиться — что предвещает
появление волшебной воды, — Старик снова засыпает,
а Кухулин бросает вызов сверхъестественным силам:
Why do you fix those eyes of a hawk upon me?
I am not afraid of you, bird, woman, or witch.
Do what you will, I shall not leave this place
Till I have grown immortal like yourself.
Run where you will
Grey bird, you shall be perched upon my wrist.
Some were called queens and yet have been perched there.
(«Что ты устремила на меня свои ястребиные глаза?/Я
180
не боюсь тебя, птица ли ты, женщина или колдунья./Де-
лай, что хочешь, я не уйду отсюда,/Пока не стану бес-
смертным, как ты/...Куда ты ни устремишься,/Серая пти-
ца, ты прилетишь и сядешь мне на руку./Были некото-
рые, звавшиеся королевами, а и они покорно садились
там».)
Однако самая решимость и активность героя стано-
вятся причиной его трагической неудачи: в погоне за
Женщиной-Ястребом, в танце удаляющейся от колод-
ца, Кухулин пропускает момент, когда забил источник
бессмертия. Это еще не все: Старик предупреждал
Юношу, что осмелившийся поглядеть в немигающие
ястребиные глаза никогда не узнает спокойствия и сча-
стья. Проклятие Ястреба тут же сбывается: свирепая
воительница Айфе собрала войско и готова напасть
на Кухулина. С криком «Он идет! Кухулин, сын Суал-
тима, идет!» — герой бросается навстречу своей судьбе.
Символический и условный характер пьесы предо-
ставляет возможность для различных толкований. Сре-
ди западных исследователей Йейтса нашлось немало
авторов, стремящихся прочесть «Ястребиный колодец»
как некий зашифрованный философско-мистический
трактат. Крайнее выражение этой тенденции дает, на-
пример, Редж Скин, возводящий буквально каждый
образ и каждую фразу пьесы или к обрядам и верова-
ниям древнеирландской религии друидов, или к теосо-
фии, или к каббалистике, или к системе символов, при-
нятой в Ордене Золотой Зари, или к символике лунных
фаз, выработанной Иейтсом, и т. д.23 Некоторые из
этих догадок просто нелепы, с другими можно согла-
ситься, но порочен сам принцип такой интерпретации,
при которой уничтожается и цельность и художествен-
ность. Чего бы стоила поэзия и поэтическая драма
Йейтса, если бы ее можно было понять и воспринять,
лишь вооружившись многотомным глоссарием? Многим
интерпретаторам Йейтса, уверенным, что «архетипиче-
с*ая» расшифровка мельчайших деталей текста и есть
путь к глубинам смысла, следовало бы вспомнить о том,
что неустанно повторял Иейтс: символ должен воздей-
ствовать непосредственно на сознание, на те его пла-
сты, где отложилась «память человечества»: головное,
рассудочное восприятие делает символ олнознячньтм и
одномерным, сводит его к аллегории. Поэзия Йейтса —
не аллегорическая и не «ученая», а именно в такую она
181
превращается порой усилиями некоторых истолкова-
телей.
«У Ястребиного колодца» драматизирует ту дилем-
му, о которой говорится в самом начале пьесы, во
вступительной песне. Прав Питер Юр, видящий в стран-
ной пьесе ирландского драматурга сходство с ибсенов-
ским «Брандом»: в обеих пьесах речь идет о выборе
между героизмом и духовным прозябанием24. Но в
«Бранде» показаны следствия выбора, драматическая
реальность жизни человека, взявшего себе за прин-
цип — «все или ничего». В короткой пьесе Иейтса (по
своей продолжительности она равна одной сцене «Бран-
да») драматически заострен сам момент выбора. Юно-
ша Кухулин и Старик воплощают собой два голоса,
спорящие в человеческой душе: в лирических хорах
пьесы противоположные голоса звучат попеременно, не
сливаясь, не приходя к согласию:
Folly alone I cherish,
I choose it for my share;
Being but a mouthful of air,
I am content to perish;
I am but a mouthful of sweet air.
0 lamentable shadows,
Obscurity of strife!
1 choose a pleasant life
Among indolent meadows;
Wisdom must live a bitter life.
(Я ценю только безрассудство,/Я выбираю его своим
уделом:/Я — только вздох,/Я готов погибнуть;/Я — толь-
ко легкий вздох. //О жалкие тени,/Призрачность борь-
бы!/Я выбираю приятную лень/В безмятежных лугах:/
Мудрости суждена горькая жизнь.)
Дилемма человеческой жизни, как ее представляет
Йейтс, неразрешима. Достичь бессмертия не дано ни
единым героическим усилием, ни многолетним ожида-
нием. Старик предсказывает Юноше, что тот никогда
не узнает простых человеческих радостей, взаимности
в любви, счастья у семейного очага, но и сам Старик
лишил себя всего, что есть в жизни, ради бесплодного
ожидания. Обманна и губительна не только пляска
теней, ревниво оберегающих источник бессмертия, но и
само это бессмертие, которое глядит «немигающим и
нечеловеческим» взором Ястреба. Стать бессмертным,
182
как Ястреб, — не значит ли это для человека отринуть
земную жизнь? И не прав ли голос заключительного
хора, поющий хвалу обыденному существованию, в соб-
ственном доме, у очага, в кругу семьи —
Who but an idiot would praise
Dry stones in a well?
Who but an idiot would praise
A withered tree?
(Кто, кроме идиота, будет хвалить/Сухие камни в колод-
це?/... Кто, кроме идиота, будет хвалить/Высохшее де-
рево?)
Этот голос принадлежит пустому колодцу и высох-
шему дереву. Они самим своим обликом являют ту без-
надежность и опустошенность, которая ждет искателей
чего-то иного, кроме «уютной двери дома ... детей и
собак, играющих на полу». Но это не вывод и не мо-
раль пьесы — столь же сильно в финальном хоре зву-
чит совершенно иной голос, олицетворяющий порыв и
свободу от благоразумия, расчетов, благополучия. А в
первой песне хора поется о жалком итоге человеческой
жизни, в которой не было свершений.
Человеку в трагической концепции Йейтса не дано
достичь полноты счастья, осуществления мечты, какую
бы дорогу он ни избрал. Но среди всех путей есть один
достойный — путь героя. «Я встречу их лицом к ли-
цу»,— эти слова Кухулина, готовящегося к неравной
битве, могут служить девизом героического поведения.
Йейтс не принимал участия в Пасхальном восста-
нии и даже не подозревал, что нечто подобное может
произойти, но именно он выразил настроения, владев-
шие горсткой смельчаков, бросивших вызов могущест-
венному врагу. Вспомним снова, что восстание произо-
шло всего три недели спустя после премьеры драмы
Йейтса и что легендарный Кухулин вдохновлял рево-
люционеров, а после их гибели навсегда соединился с
ними в сознании ирландцев.
Закончив первую пьесу для танцовщиков, Йейтс уже
имел в общих чертах готовый замысел следующей пье-
сы о Кухулине, предполагая ею «закончить прославле-
ние жизни Кухулина в драме, которое было задумано
давно» 25. В этой новой пьесе («Единственная ревность
Эмер») Йейтс хотел также испробовать перемену ма-
ски как чисто театральный способ изображения на сце-
183
не трансформации персонажа: он обратился к легенде
о болезни Кухулина, добавив новое лицо — «...Яне
могу придумать, кем должен быть оборотень, занявший
место Кухулина, перенесенного на тот свет. В спектак-
ле будет две маски, менять их будут прямо на сцене.
Кто же это будет — дед Кухулина или какой-нибудь
бог, дьявол или женщина?» — размышлял Иейтс26.
Интерес Йейтса к идее трансформации личности, к
противоположности и диалектике различных начал в
человеке настолько устойчив и органичен для него,что
не требует специального объяснения. Пока Иейтс ду-
мал над своим новым произведением, произошли собы-
тия 1916 г., и доминантой поэтического отклика Йейтса
на них стало знаменитое «Переменились, полностью пе-
ременились». К 1917—1918 гг. относятся два важных
философских произведения Йейтса, эссе «Per Arnica
Silentia Lunae» («При дружелюбном молчании луны»)
и стихотворный диалог «Фазы луны», в которых поэт
метафорически излагает свое понимание диалектики
жизни человеческой души. Согласно Иейтсу, двигатель
духовной жизни (и поэзии)—диалектика Я и анти-Я.
Душа индивида, будучи частью и проявлением Миро-
вой Души, сравнивается с одной из 26 фаз луны (кро-
ме 15-й и 1-й). До 15-й фазы душа «субъективна», т. е.
стремится к наиболее полному, требующему напряже-
ния всех сил самовыражению. 15-я фаза, полнолуние,—
это предел «субъективности», которого человек не
может достичь, но к которому стремится. С 16-й фазы
душа становится все более «объективной»:
It would be the world's servant, and it serves,
Choosing whatever task's most difficult
Among tasks not impossible...
(Она хочет служить миру и служит./Выбирая самую
трудную задачу/Среди задач, которые не невозможны...)
«Субъективность» связана с физической красотой,
поскольку тело формирует себя по образу мечты (фазы
высшей земной красоты—14-я и 16-я), «объектив-
ность»— с ущербностью души и тела, потому что они
«грубеют от своей тяжелой работы». 1-я фаза луны,
невидимая человеческому глазу, знаменует полную
«объективность». Как и 15-я фаза, она невозможна в
реальности.
Эта философско-поэтическая концепция Йейтса от-
ражается во многих его произведениях, начиная с 1917 г.
184
Особенно част и важен мотив полнолуния (одна из
пьес Йейтса носит название «Мартовское полнолуние»).
«Единственная ревность Эмер» — первая пьеса, в кото-
рой присутствует «лунная символика» (впервые напе-
чатана в 1919 г.). Йейтс написал к изданию 1921 г.
(«Четыре пьесы для танцовщиков») специальные ком-
ментарии, но и в самом тексте пьесы символика про-
читывается достаточно ясно для тех, кто не знаком с
комментариями и философскими трактатами Йейтса. Не
очень легки для восприятия лирические хоры, но это
характерно для всей поздней лирики Йейтса: здесь дело
не в зашифрованности образов, а в сжатости мысли и
свободном синтаксическом членении. Пьеса же в це-
лом— одна из самых легких для непосредственного вос-
приятия у Йейтса. Идея оборотничества, градация чело-
веческих типов согласно символике фаз луны, взаимо-
отношения Я и анти-Я — все это служит только акком-
панементом для основного: темы женской красоты и
любви.
Судя по тому, как Йейтс излагал свой замысел в
1916 г., первоначально героем пьесы должен был стать
Кухулин, а его трансформации отводилось центральное
место в действии. Большинство исследователей счита-
ют, что в том, как замысел «Единственной ревности
Эмер» в конечном счете реализовался, отразились со-
бытия личной жизни Йейтса 1917 г. Эту гипотезу мож-
но принять, но только в самой общей форме, не пыта-
ясь, как это делается в большинстве западных работ о
Иейтсе, «распределить роли» в его пьесе между тремя
женщинами, принимавшими участие в реальной любов-
ной драме поэта. Помимо того, что прямолинейный био-
графический принцип анализа вообще вульгарен и не
учитывает самой природы искусства, он особенно не-
леп в применении к Йейтсу, который, подобно Данте
или своему любимому Блейку, претворяет всякую ин-
дивидуальность и конкретность в общечеловеческие
символы и типы. Три женских образа «Единственной
ревности Эмер» — три ипостаси Женщины, истинной ге-
роини этой проникновенной пьесы.
Йейтс, как известно, высоко ценил саги, но, обра-
щаясь к ним как к материалу, действовал со свободой,
присущей истинному художнику. Сюжет «На Берегу
Байле» в соответствующей сагр выглядит несколько
по-иному, а фигуры Слепого и Дурака введены Йейт-
с^м. Эпизода с источником бессмертия («У Ястребиного
185
колодца») в сагах о Кухулине вообще нет. «Единствен-
ная ревность Эмер» восходит к саге «Болезнь Кухулина»,
но лишь в общих чертах: фея Фанд держит Кухулина
в любовном плену в Стране блаженства: Эмер, жена
Кухулина, благодаря своей самоотверженности и любви,
возвращает его на землю. Йейтс к основному сюжет-
ному мотиву добавляет побочные и вводит новые пер-
сонажи, благодаря чему тема женственности приобре-
тает многозначность и многозвучность.
...За душу Кухулина, находящегося между жизнью
и смертью после исступленной битвы с волнами на ро-
ковом Берегу Байле, где он, того не ведая, убил собст-
венного сына, борются три женщины: королева Эмер,
его жена; юная возлюбленная Кухулина Этне Ингуба
и фея Фанд. Последняя — символ абсолютной красоты,
того идеала, к которому стремится «субъективная
душа»:
Shedding such ligth from limb and hair
As when the moon, complete at last
With every labouring crescent past,
And lonely with extreme delight,
Flings out upon the fifteenth night...
(От ее тела и волос исходит такое сияние,/Как от луны,
когда она наконец достигла полноты/После всех своих
трудов/И, одинокая, в безмерном восторге,/Ринулась в
пятнадцатую ночь.)
Фанд, танцуя, пытается увлечь душу Кухулина за
собой, в страну вечного совершенства и гармонии. Две
земные женщины, соперницы в любви, в борьбе против
нечеловеческой и неземной красоты, воплощенной в
Фанд, объединяются, пытаясь вернуть Кухулина к зем-
ной жизни. Эмер, верная и любящая, но уже более не
любимая, боится, что ее мольба не найдет отклика в
душе Кухулина. Поэтому она уступает место у ложа
умирающего Этне Ингубе, и та, склонившись над Ку-
хулином, взывает к памяти о наслаждениях страсти.
Однако душа Кухулина глуха к этим призывам: место
Кухулина занял оборотень, бог раздора Брикриу, а ду-
ша героя— Призрак Кухулина,— в это время внемлет
Фанд.
То, что Иейтс после долгих поисков ввел в сюжет
с оборотнем бога раздора (в саге этого нет), дало ему
возможность направить разрешение конфликта таким
образом, чтобы не смягчить, а обострить противоречия.
186
Борясь за душу и любовь Кухулина, каждая из ипоста-
сей женственности, воплощенная в отдельном персона-
же, в то же время стремится достичь хотя бы частич-
ной и относительной гармонии. Фанд добивается союза
с Кухулином, потому что идеальная красота достигает
абсолютного «полнолуния» только в соединении с зем-
ной любовью. Этне Ингуба, символизирующая любовь-
страсть, любовь-желание, пытается пробудить душу
любимого. Эмер, когда-то горячо любимая, живет меч-
той о том,что Кухулин
...in the end
Will love the woman best who loved him first
And loved him through the years when love seemed lost.
(...в конце концов /Будет сильнее всего любить ту жен-
щину, которая полюбила его первой/И любила все те
годы, когда казалось, что любовь утрачена.)
Но Брикриу — заклятый враг всякой гармонии. Ку-
хулин может быть спасен только ценой отказа от вос-
соединения земного и идеального, плотского и духовно-
го, а также — что самое жестокое — от малейшей на-
дежды на то, что великая, самоотверженная любовь
будет вознаграждена. Бог раздора ставит Эмер перед
страшным выбором: либо она навсегда расстанется с
надеждой на любовь Кухулина, либо Фанд навеки увле-
чет его в Страну блаженства — что для земных существ
означает смерть, небытие. Действие достигает драма-
тической кульминации — Эмер произносит роковые сло-
ва отречения. Развязка полна трагической иронии. Фанд
скрылась. Этне Ингуба, которой все происшедшее ос-
талось неведомо, обнимает пробудившегося к жизни
Кухулина и радостно восклицает, что спасла его. Эмер,
совершившая величайший подвиг любви, — в стороне,
одинокая и нелюбимая: об ее жертве никто никогда
не узнает.
Один из аспектов пьесы, наиболее очевидный и, мож-
но добавить, вызывающий наиболее непосредственный
эмоциональный отклик,— трагедия самоотверженной
любви. При таком прочтении протагонист драмы —
Эмер, борющаяся за любовь Кухулина, а все осталь-
ные персонажи — ее противники. Однако система обра-
зов и самая ткань пьесы обладают сложностью и мно-
гозначностью, доступной только поэзии, а лирические
строфы хоров, с их «темным», сложно-ассоциативным
образным строем, говорят не о чем-то конкретном, а о
187
вечной загадке и трагедии красоты, любви и женст-
венности:
A woman's beauty is like a while
Frail bird, like a white sea-bird alone
At daybreak after stormy night
Between two furrows upon the ploughed land:
A sudden storm, and it was thrown
Between dark furrows upon the ploughed land.
A strange, unserviceable thing,
A fragile, exquisite, pale shell,
That the vast troubled waters bring
To the loud sands before day has broken.
What death? What discipline?
What bonds no man could unbind,
Being imagined within
The labyrinth of the mind,
What pursuing or fleeing,
What wounds, what bloody press
Dragged into being
This loveliness?
(Женская красота подобна белой/Хрупкой птице, по-
добна белой морской птице, одиноко стоящей/На рас-
свете, после штормовой ночи/Между двумя бороздами
на вспаханной земле:/Внезапный шторм — и ее выбро-
сило/На вспаханную землю между двумя борозда-
ми/...//... Странный, бесполезный предмет — /Хрупкая,
изысканная, бледная раковина,/Которую выносят могу-
чие взбудораженные воды,/С ревом накатываясь на
песок, прежде чем настанет рассвет./...Какая смерть?
какие испытания?/Какие узы, порвать которые не мог
бы никто из людей,/Существующие в воображении вну-
три лабиринта души,/Какая погоня или бегство,/Какие
раны, какой окровавленный пресс/Надавил и вытолк-
нул из небытия/Эту красоту?)
Why does your heart beat thus?
Plain to be understood,
I have met in a man's house
A statue of solitude,
Moving there and walking;
Its strange heart beating fast
For all our talking.
О still that heart at last.
188
Although (he door he shut
And all seem well enough
Although wide world hold not
A man but will give you his love
The moment he has looked at you,
He that has loved the best
May turn from a statue
His too human breast.
(Почему так бьется твое сердце?/Легко понять./Я
встретил в доме мужчины/Статую одиночества./Она
двигалась и ходила;/Ее странное сердце часто билось,/
/Несмотря на все наши разговоры./О, успокой, наконец,
это сердце!//...Пусть дверь будет закрыта/И будет ка-
заться, что все благополучно,/Пусть в целом мире нет/
/Мужчины, который не подарил бы тебе своей люб-
ви,/Только лишь взглянув на тебя,/Но тот, кто любил
сильнее всех,/Может отвратить от статуи/Свою слиш-
ком человеческую грудь.)
Можно было бы, как это часто делается исследовате-
лями Иейтса, прокомментировать каждый образ и каж-
дую строку.этих хоров, исходя из символической систе-
мы Иейтса, и тем самым сделать поэтический текст ло-
гически понятным, «просветленным»,— но будут слиш-
ком велики потери, потому что исчезнет многомерность
и глубина поэтического смысла и останется плоская ал-
легория.
Поэтическое мышление не есть принадлежность од-
них только хоров пьесы. Все действие проникнуто им;
вся пьеса воспринимается как единая драматическая
поэма. При таком ее прочтении само собой отпадает
традиционное разделение персонажей (протагонист и его
противники), понимание конфликта как открытой борь-
бы между ними. Перед нами не драма ренессансного
типа, а произведение, лежащее в русле новой театраль-
ной системы. Йейтс продолжает исследовать конфликт-
ное состояние человеческой души, борьбу и диалектику
отношений между различными началами, стремление к
гармонии — и силы, враждебные этому.
Две из «пьес для танцовщиков», созданные Иейтсом,
были непосредственным откликом на грозные ирланд-
ские события. Уже в 1916 году он пишет «Грезы мерт-
вых» (и дает в этой пьесе специальное авторское указа-
189
ние: «Время действия — 1916 год»), 1920-м годом поме-
чено завершение «Голгофы». В «Грезах мертвых» дейст-
вие происходит в Ирландии, вторая пьеса, как видно по
ее названию, имеет евангельский сюжет, но, несмотря
на эти различия, в обоих произведениях запечатлено
одно и то же: трагизм ирландской действительности.
Пьесы созвучны стихотворениям Йейтса, написанным в
период после Пасхального восстания 1916 г. Кроме тех
и? них, что посвящены непосредственно «кровавой пасхе»,
значительной вехой здесь является стихотворение
«1919 год». Для ирландцев эта дата так же не требует
пояснений и рождает такие же драматические ассоциа-
ции, как 1916 г. В 1919 г. в Ирландии в открытую
вспыхнула освободительная война против англичан. Был
провозглашен ирландский парламент: по всей стране
действовала Ирландская республиканская армия, это
своеобразное порождение ирландской освободительной
борьбы — политическая партия и одновременно парти-
занская армия, образованная в 1919 г. из военной ор-
ганизации «Ирландские волонтеры». Английское пра-
вительство снова, как в 1916 г., объявило все происхо-
дящее бунтом, но теперь с бунтовщиками нельзя было
расправиться за одну неделю. В Ирландию перебрасы-
вались карательные войска; повседневной реальностью
жизни обычных людей стали ужасы, о которых Йейтс
писал в «1919 годе»:
Now days are dragon-ridden, the nightmare
Rides upon sleep: a drunken soldiery
Can leave the mother, murdered at her door,
To crawl in her own blood, and go scot-free;
The night can sweat with terror...
(Теперь дни отданы во власть дракона,/Кошмар вла-
ствует над сном: пьяная солдатня/Может, убив мать
у дверей ее дома,/Бросить ее там в луже крови,— /
/И остаться безнаказанной; /Ночь может источать страх
из своих пор...)
В этом же стихотворении поэт с горькой иронией
обрушивается на себя и своих былых единомышленни-
ков за то, что их идеальные представления оказались
прекраснодушием в свете кошмарной реальности 1919 г.
Вокруг себя он видит разрушение, хаос, забвение че-
ловеческих чувств, законов и идеалов:
We pieced our thoughts into philosophy,
And planned to bring the world under a rule,
190
Who are but weasels fighting in a hole.
We who seven years ago
Talked of honour and of truth,
Shriek with pleasure if we show
The weasel's twist, the weasel's tooth.
(Мы склеили из наших мыслей философию/И замыш-
ляли покорить целый мир,— /Мы, которые сейчас всего
лишь мелкие грызуны, дерущиеся в норе./...Мы, кото-
рые семь лет назад/Говорили о чести и об истине./Виз-
жим от восторга, если можем/Извернуться или оска-
литься, как мелкий грызун...)
Картины ужасов, почти репортерски точные, и гнев-
ные тирады, почти публицистические, перемежаются об-
разами, возникающими «в очах души», в поэтическом
воображении; их доминанта — вихревая пляска, бур-
ный порыв, внезапно налетевший ветер, стремительный
бег. В этом безостановочном движении, то вспыхиваю-
щем, то затухающем, возникают и вновь растворяются
в воздухе образы-символы; в гигантский водоворот во-
влечено все человечество и само время...
Сходный образный строй и сходные настроения — в
мрачных драмах Йейтса, созданных в конце 1910-х
годов.
Вступительный хор в «Грезах мертвых» дает как бы
двойной камертон действию: после сбивчивых, нервных
строк, выражающих страх перед ночными кошмарами,
тревожное ожидание, смятение, дается точное, объектив-
ное описание места действия:
The hour before dawn and the moon covered up;
The little village of Abbey is covered up;
The little narrow trodden way that runs
From the white road to the Abbey of Corcoinroe
Is covered up
Somewhere among grey rocks on the scarce grass
Birds cry, they cry their loneliness.
(Предрассветный час, и луна скрыта от глаз;/Малень-
кая деревня аббатства скрыта от глаз;/Узкая, протоп-
танная тропинка, которая бежит/От белеющей дороги
к аббатству Коркомро,/Скрыта от глаз.../...Где-то сре-
ди серых скал на скудной траве/Кричат птицы, они кри-
чат от одиночества).
191
Немного позже даются новые топографические дета-
ли: названо графство, где происходит действие, подлин-
ные имена близлежащих гор, деревень. Столь же кон-
кретно первое действующее лицо, которое появляется на
сцене. Это молодой человек, участник Пасхального вос-
стания. Он переодет рыбаком, чтобы скрыться от поли-
ции; к рассвету он должен попасть в условленное место
на побережье, где его будет ждать лодка. Юноша объ-
ясняет все это двум добровольным провожатым — Не-
знакомцу и Девушке, неожиданно появившимся перед
ним. На них старинные одежды, на лицах — маски; их
появление знаменует присутствие на сцене странной,
призрачной реальности, предчувствием которой был
проникнут вступительный хор:
Why does my heart beat so?
Did not a shadow pass?
Have not old writers said
That dizzy dreams can spring
From the dry bones of the dead?
And many a night it seems
That all the valley fills
With these fantastic dreams.
(Отчего так бьется сердце?/He тень ли промелькну-
ла?.../Не сказано ли у старинных писателей,/Что вы-
сохшие кости мертвых/Могут источать головокружи-
тельные грезы?/И ночь за ночью кажется,/Что вся до-
лина наполняется/Этими фантастическими грезами.)
Однако Юноша не замечает ничего странного в сво-
их спутниках до тех пор, пока они не обнаруживают
свою неземную природу в странном, экстатическом тан-
це. Это легендарные ирландские влюбленные, Дэрмид и
Дерворгилла, которые и по ту сторону земной жизни
существуют только друг для друга и для своей любви.
Когда-то, семь веков тому назад, Дэрмид призвал на
помощь чужеземцев-норманнов, чтобы с их помощью
одолеть короля, мужа Дерворгиллы, и с тех пор «эта
самая жалкая, самая проклятая чета, продавшая свою
родину в рабство», ненавистна живым и отвержена сре-
ди теней. Несчастные преступники молят лишь об од-
ном: если кто-то из их соотечественников произнесет
слова прощения, то вечное наказание будет смягчено;
всеми отверженные смогут хотя бы соединиться в по-
цечуе, потому что и в этом им было отказано в течение
192
«Грезы мертвых». 1949 г. Театр Аббатства.
Музыканты в масках
7 В. А. Ряполова
долгих столетий. Но Юноша, борец за освобождение
Ирландии от иноземцев, непреклонен. Трижды на про-
тяжении пьесы звучит его проклятие: «Никогда, никог-
да не будет прощения Дэрмиду и Дерворгилле!».
Юноша, с одной стороны, и легендарные влюблен-
ные— с другой, воплощают непримиримые, взаимоиск-
лючающие начала: чувство и действие, забвение всего
мира ради любви и забвение себя ради общего дела —
по символической системе Йейтса, крайнюю субъектив-
ность и крайнюю объективность. Страшная вина влюб-
ленных сделала их вечно отверженными, но и Юноша
трагически отторгнут от вечных ценностей — от жизни
сердца, от природы (в «Пасхе 1916 года» есть строки:
«Слишком долгое самоотречение/Может превратить
сердце в камень»). Тени Дэрмида и Дерворгиллы слиты
с окружающей природой: они словно отделяются от та-
инственного и прекрасного ночного пейзажа и вновь
растворяются в нем. Юноша глух и к красоте природы,
и к ее тайнам: горные тропы и долины для него — толь-
ко пересеченная местность, которую надо пройти, что-
бы достичь определенного пункта; развалины величе-
ственных и красивых зданий — только . свидетельства
разбоя захватчиков. К теням прошлого, присутствие ко-
торых так остро ощущает хор, у Юноши вполне одно-
значное отношение: «Они не могут посадить меня в
тюрьму или расстрелять», а оказавшись рядом с ними,
он до последнего момента не понимает, кто это. Речь
Юноши звучит диссонансом поэтическому тексту и хора,
и четы призраков: это плоские, бесцветные, стертые
слова.
«Луна скрыта от глаз» — для Йейтса многозначи-
тельные слова. Ущербность луны символизирует со-
стояние мира, наиболее удаленное от Единства Бытия.
Мир расколот; Ирландия расколота; надежды на гар-
монию нет.
Еще большей безнадежностью проникнута пьеса
«Голгофа». Можно делать различные предположения о
том, почему Йейтс, впервые на протяжении своей дол-
гой творческой жизни обратился к христианской ми-
фологии и конкретно к сюжету Страстей Христовых. Не-
сомненным же результатом этого выбора стало восприя-
тие картины, нарисованной драматургом как обобщен-
ного, символического изображения состояния мира и че-
ловечества.
194
Для своего времени метафорическая трактовка еван-
гельских персонажей и самого Христа в произведении
для театра была шагом новаторским и чрезвычайно сме-
лым, а в условиях католической Ирландии — просто бо-
гохульством. При жизни Йейтса пьеса не была — и не
могла быть — поставлена.
В «Голгофе» все происходит в воображении Христа,
который в годовщину своей смерти на кресте вновь
грезит о событиях страстной пятницы. У Йейтса кроме
насмешек и брани толпы Христос подвергается тяжким
душевным мукам сначала в диалоге с Лазарем, затем
с Иудой и, наконец, с тремя римскими солдатами. Ла-
зарь, вместо сочувствия и благодарности за воскресе-
ние, проклинает Христа и желает ему смерти, потому
что сам хотел укрыться от мира в смерти, как в норе,
и возвращение к жизни стало для него насилием и не-
померным бременем. Иуда, в трактовке Йейтса, предал
Христа из-за непомерного честолюбия — ради того, что-
бы возвыситься даже над Богом: он гордится и своим
предательством, и тем, что спаситель человечества его,
Иуду, спасти не может. Но самое горькое ожидает Хри-
ста уже на пороге смерти. Солдаты-римляне объясняют
ему, что им нечего просить у Бога, так как они всем
довольны: когда распятый умрет, они разыграют в кос-
ти его плащ, а тем двум, кто проиграет, повезет в сле-
дующий раз. Пока они даже готовы развлечь Христа
своей пляской — пляской игроков вокруг креста с уми-
рающим. Перед лицом этой непроницаемо самодоволь-
ной и торжествующей пошлости Христос впервые по-на-
стоящему ужасается: «Отче, почему ты меня оста-
вил?»27.
В «Голгофе» весь мир оставлен Богом, и зло торже-
ствует. Подвиг любви или ненавистен, или осмеян, или —
самое страшное — просто не нужен. В душе Христа
возникает один светлый образ — воспоминание о же-
нах-мироносицах, но это видение тает: собравшиеся
вокруг Христа в ужасе бегут, слыша приближение
Иуды.
В «Грезах мертвых» нет столь мрачной безнадеж-
ности, потому что действие окутано волшебной атмо-
сферой ночного пейзажа. Природа Ирландии, страстно
любимая поэтом, становится здесь едва ли не главным
действующим лицом. В природе все гармонично и пре-
красно, несмотря на трагедию в мире людей; природа —
источник поэзии и источник надежды. В «Голгофе»
195
7*
природа отсутствует, мир в этой пьесе сделан руками
людей — и он замкнут, опустошен и безысходен. Приро-
да, являющаяся в образах птиц, существует где-то вда-
леке от места, где разыгрывается мировая трагедия, и к
этой трагедии глуха: птицы погружены в свою индиви-
дуальную, «субъективную» жизнь:
The ger-eagle has chosen his part
In blue deep of the upper air
He is content with his savage heart.
What can a swan need but a swan?
God has not appeared to the birds.
'(Орел выбрал для себя/Темную синеву воздушной
шыси/...Ero дикое сердце довольно./... Что может быть
нужно лебедю, кроме лебедя?/—Бог не явился птицам.)
Создавая пьесу о распятом Христе, Иейтс, несомнен-
но, думал о расстрелянных героях Пасхального восста-
ния и о все новых жизнях, приносимых в жертву ради
национального освобождения. «Голгофа» знаменует со-
бой крайнее выражение отчаяния в мировосприятии
Иейтса. Этой мрачной пьесой завершаются 10-е годы в
творчестве драматурга.
Сценическая история «пьес для танцовщиков» в
1916—1920 гг. коротка, но чрезвычайно интересна.
Иейтс предназначал свои новые произведения не для чте-
ния, а для живого исполнения — стоит это подчеркнуть
еще раз; он и вдохновлялся такой формой, которая от-
дельно от исполнения, от театра просто не существует. От
сценической эффективности первой пьесы в новом стиле,
«У Ястребиного колодца», зависело очень многое, и к ее
постановке Иейтс подошел с большой тщательностью.
Место для спектакля предоставила в своем доме лон-
донская знакомая Иейтса леди Кьюнард. На премье-
ру были приглашены те, кто составлял цвет столичной
интеллигенции, многие из них — друзья Иейтса. Глав-
ное, на чем базировался будущий спектакль (и без чего
не возникла бы сама пьеса),— во-первых, танец Ито
и, во-вторых, участие Дюлака в качестве художника,
композитора и даже актера-музыканта. Оформление
Дюлака идеально подходило Иейтсу: его особенное вос-
196
хищение вызвала маска Кухулина. Драматург предста-
вил себе, что актер, «носящий это благородное, напо-
ловину азиатское лицо, будет, должно быть, подобен
образу, возникающему в грезах какого-нибудь участ-
ника орфических таинств»28. Ито как исполнитель тан-
цевальной партии Ястреба также полностью отвечал
идеалу Йейтса (драматург подумывал даже отказаться
от дальнейшей работы над пьесами в стиле Но, когда
Ито был приглашен в нью-йоркскую балетную труппу).
Совсем иначе обстояло дело с остальными участника-
ми спектакля.
Проблема заключалась в том, что, задумав театр-
студию, Йейтс позаботился почти обо всем: о пьесе,
о публике, о помещении, об оформлении, достаточно
ясно представлял себе облик будущего спектакля, но
не подготовил труппу, которая должна была выполнять
его замысел. Без этого, как показал весь опыт театра
XX в., успеха быть не может. И в современную Иейтсу
эпоху (вспомним снова Первую студию Московского
Художественного театра), и в самые недавние време-
на— скажем, в 60-е годы, отмеченные на Западе бур-
ным подъемом экспериментального студийного театра,
художественные результаты получались там, где поста-
новке предшествовала долгая режиссерски-педагогиче-
ская работа, где участники будущих спектаклей были
сплочены в группу единомышленников, вместе работаю-
щих во имя одного дела. Недаром большинство студий,
сыгравших заметную роль в развитии искусства теат-
ра, одновременно, естественным образом, были коллек-
тивами-коммунами. В случае Йейтса была фактически
предпринята попытка создать студию без студийцев.
Разумеется, в этом некого винить — таково было
неизбежное следствие объективно существовавшей си-
туации. Сам Йейтс не мог, отстранив от себя все другие
обязанности и занятия, начать работу по созданию и
воспитанию студийного коллектива, да и не имел необ-
ходимых для этого качеств (добавим, что один коллек-
тив— Театр Аббатства — он уже создал и вложил в
это максимум сил и умения). Рядом с ним не оказалось
режиссера единомышленника, вместе с которым можно
было бы практически осуществить новую театральную
идею на должном уровне. Йейтс был вынужден искать
подходящих исполнителей среди тех, кто работал в
обычном, т. е. коммерческом, театре, и попробовать
перевоспитать их в ходе репетиций (он не обратился к
197
«У Ястребиного колодца». 1916 г.
Хранительница колодца — Митио Ито.
Фото Э. Л. Коберна
любителям, так как для его пьесы требовалась слишком
высокая техническая подготовка).
На роль Кухулина был приглашен известный актер
Генри Эйнли. В ходе репетиций выяснилось, что, при
всем своем сценическом опыте и способностях, он не
в силах воспринять то новое, что несла пьеса Иейтса.
Судя по материалам, относящимся к истории постанов-
ки, Эйнли обладал тем же пороком, который Иейтс
в свое время увидел у исполнительницы графини Кэт-
лин, Мэй Уитти, также известной актрисы,— у актера не
было чувства ритма. Это особенно проявилось в движе-
нии. Иейтс добивался условных, стилизованных, как бы
марионеточных жестов (они акцентировались при по-
мощи специально написанной Дюлаком музыки)—ак-
тер же изображал страсть привычными ему средства-
ми: драматург раздраженно писал, что Эйнли разма-
хивал руками, «как утопающий котенок»29. О замене
было поздно думать, и Иейтс испробовал все, что толь-
ко мог. На одной из репетиций он попросил Эзру Паун-
да заменить Эйнли, с тем, чтобы актер мог увидеть со
стороны, чего добивается от него режиссер. Это не по-
198
могло, и в конце концов Иейтс сам разработал парти-
туру жестов от начала до конца, попросил Дюлака на-
глядно изобразить их в рисунках и вручил их Эйнли:
от последнего теперь требовалось просто все скопиро-
вать. Такой «метод» работы был, естественно, применен
в качестве отчаянной меры спасения спектакля, и об
исполнении роли в подлинном смысле слова уже не мог-
ло быть и речи.
Так же, если не хуже, обстояло дело с хором. Его
функция в спектакле настолько важна, что три музыкан-
та, участника хора, должны как драматические актеры
быть равными остальным исполнителям, если не пре-
восходить их, поскольку на долю хора приходится са-
мый сложный поэтический текст, который необходимо
произносить так, как это удавалось Флоренс Фарр. Она
и была бы идеальным выбором Иейтса, но к тому вре-
мени она покинула Англию и обратно уже никогда не
вернулась. Вместо нее в распоряжении Иейтса для по-
становки «Ястребиного колодца» были некие Фоулдс и
миссис Мэнн, оба профессиональные музыканты, кото-
рыми руководил Дюлак (в роли Первого музыканта).
Для характеристики их отношения к указаниям Дюлака
и Иейтса и степени понимания своей роли в спектак-
ле достаточно сказать, что Мэнн просвещала руководи-
телей постановки: «В больших лондонских театрах
действие время от времени останавливают, чтобы музы-
канты выступили со своим отдельным номером»30, а Фо-
улдс требовал, чтобы вместо цитры он играл на гитаре.
А ведь эти музыканты должны были еще выполнять
сложнейшую роль актеров-певцов! После первых двух
представлений Иейтс решил избавиться от этих испол-
нителей (как, впрочем, и от Эйнли) и писал Августе
Грегори: «Я могу даже взять на себя декламацию сти-
хов и обойтись без пения, а из всей музыки оставить
только гонг и барабан, на которых будет играть Дюлак,
и, может быть, цимбалы или флейту»31.
Этот проект не был осуществлен — к сожалению, по-
тому что чтение поэтом собственных стихов могло бы
стать лучшим из возможных вариантов. Свидетельства
тех, кто слышал Иейтса, подтверждают, что «естествен-
ный, страстный ритм»32, которого он требовал от дру-
гих, был в высшей степени свойствен ему самому как
чтецу. Английский поэт Джон Мейсфилд вспоминал:
«Он акцентировал ритм, пока чтение не превращалось
почти в распев. Он ускорял темп, фиксируя каждый
199
ударный слог и задерживаясь на гласных. Это экста-
тическое, вибрирующее пение... осталось у меня в памя-
ти на долгие годы» 33. Сходным образом описывают де-
кламацию Иейтса и другие его современники. Отсут-
ствие музыкального слуха не мешало Иейтсу чувство-
вать тончайшие нюансы обычной и поэтической речи
(то же самое было свойственно Блоку). Собственно, пе-
ния драматических стихов как такового он не призна-
вал, считая, подобно Вагнеру, что музыкальное исполне-
ние, утвердившееся в новое время, топит их в звуке (по
выражению Йейтса — «превращает в мед и масло»34.)
Напевная манера Йейтса и тех актеров, исполнением
которых он дорожил, шла не от вокала, а от выраже-
ния «глубинного смысла слов»35. Замечательно, что
Йейтс, выступая против голосовых фиоритур ради яс-
ности поэтического смысла, убедился, наблюдая за
ораторами и актерами, что подлинно страстная речь
звучит именно так, как ему хотелось бы в идеале: мело-
дический диапазон голоса сужается до одной-двух нот,
а разнообразие и акцентировка ритма усиливается36.
Позднее, слушая записи спектаклей Но, Йейтс мог убе-
диться, что этот же закон действует и в японском те-
атре37.
Таким образом, Йейтс в своих требованиях к декла-
мации лирики исходил не из теории, а из практики, но
они были не под силу большинству актеров, с которыми
ему случалось работать. В Театре Аббатства Йейтс не
смог добиться желаемого звучания лирических хоров
«Дейрдре» и «На Берегу Байле» — ему пришлось найти
компромиссные решения. При постановке пьесы «У Яст-
ребиного колодца» компромисс оказался невозможен и
в силу неудачного выбора исполнителей, и потому что
роль хора значительно усложнилась и возросла по срав-
нению с ранними пьесами.
И все же, несмотря на то, что большинство участ-
ников спектакля только портили замысел, общее впе-
чатление было сильным, и сам Йейтс кратко отметил,
что остался доволен. Зрительный облик спектакля, со-
зданный Дюлаком, его красота и странность произвели
именно тот эффект, который был задуман драматур-
гом. Магия поэтического текста преодолела все недо-
статки исполнения — мы имеем на этот счет авторитет-
ное свидетельство Элиота. А танец Ито, кульминация
действия, был способен заставить публику забыть о не-
совершенстве игры других.
200
«У Ястребиного колодца». 1916 г. Эскиз занавеса.
Художник Эдмунд Дюлак
Прочие «пьесы для танцовщиков» в 10-е годы по-
ставлены не были — они дожидались своего рождения
на большой профессиональной сцене, прежде всего — в
Театре Аббатства.
Иейтс лучше всех других мог оценить удачи и не-
удачи первого сценического воплощения своей поздней
драматургии, поскольку его требования были, как всег-
да, максималистскими, а, с другой стороны, будучи зре-
лым театральным практиком, он вынес из этого опыта
уроки на будущее. Самым важным следствием экспе-
римента с постановкой 1916 г. было то, что Йейтс не
отказался от новонайденной драматургической манеры.
Пьесами в стиле Но могут быть названы и два произ-
ведения 10-х годов, не вошедшие в сборник «Четыре
пьесы для танцовщиков» («Кошка и луна», 1916; «Акт-
риса-королева», 1919) 38, и все остальные драмы, вплоть
до самой последней («Смерть Кухулина», 1939).
Йейтс в обращении со своей японской моделью про-
явил большую творческую свободу. Интересно свиде-
тельство Ричарда Тейлора о постановке «Ястребиного
колодца» в Японии, в настоящем театре Но, где отступ-
ления от канона невозможны. Протагонистом драмы
стал Старик, Юноша в функции «Путешественника», со-
ответственно, превратился во второстепенное лицо, то
же произошло и с Хранительницей Колодца.
201
В театре Но все подчинено Главному Актеру; в чис-
ле его неотъемлемых атрибутов — маска, пение и, ко-
нечно, танец. У Йейтса маску носят все персонажи, пе-
ние отдано хору, а исполнитель танца и центральный
персонаж — совершенно не обязательно одно и то же
лицо. Можно назвать и много других отступлений Йейт-
са от японского образца. Главное же (что не раз отме-
чалось) состоит в том, что в основе драм Йейтса по-
прежнему лежит конфликт, а в канонической форме Но
конфликт в европейском понимании отсутствует. Если
воспользоваться формулировкой Клоделя, то у Йейтса,
в отличие от Но, и нечто происходит, и некто появля-
ется. В театре Но танец протагониста, в условной форме
воскрешающий былую драму, вернее, чувства, которые
сопровождали эту драму, и есть, собственно действие.
У Йейтса все действующие лица вовлечены в конфликт,
а танец — его эмоциональная кульминация. Обычно, как
и в Но, танец в пьесах Йейтса знаменует явление сверхъ-
естественного, но и от этого принципа в случае необхо-
димости драматург смело отступает: в «Голгофе» пля-
шут римские солдаты, воплощение плоского прагма-
тизма и бездуховности. Как ни восхищало Йейтса то,
что в театре Но танец изображает когда-то испытанное
персонажем чувство, сам драматург прибегнул к по-
добному приему только однажды, в «Грезах мертвых»,
где тени Дэрмида и Дерворгиллы в танце вновь пере-
живают высшие эмоциональные моменты своей любви39.
i$ остальных «пьесах для танцовщиков» танец имеет дру-
гой смысл.
Иейтс отступал от стиля, принятого в Но, и в отно-
шении пластического характера танца. Он вовсе не тре-
бовал, чтобы в постановках его пьес действительно вос-
производились движения, характерные для японского
театра. Японец Ито, например, не был актером Но: он
лрибыл в Европу учиться танцу-модерн, театр Но не
видел с семилетнего возраста и, чтобы помочь Йейтсу
и Паунду, специально выписал из Японии книги о Но
и по ним выучил условный язык танца. Разрозненные
свидетельства о постановке пьесы «У Ястребиного ко-
лодца» дают исследователям основания заключить, что
Ито танцевал скорее в духе «абстрактного экспрессио-
низма» (одно из направлений танца-модерн), чем в ка-
ноническом стиле Но. Известно, что Иейтс, готовя с Ито
танец Хранительницы Колодца, не гнушался копиро-
вать природу (что он в принципе отвергал): исполни-
202
тель и режиссер специально ходили в Лондонский зоо-
парк для изучения пластики ястреба, чтобы использовать
характерные движения в танце. Нинетт де Валуа, ис-
полнительница танцевальных партий в пьесах Иейтса
в конце 20-х годов, была тем более далека от стиля Но.
Она так описывала свой танец: «В общем, применялись
самые простые жесты, довольно-таки символические дви-
жения... Не могло быть и речи о псевдоориентальной
пластике... Конечно, все эти танцы исполнялись боси-
ком, но движения были стилизованы, чтобы выразить
дух вещи»/1(). Выражение духа, смысла и было для
Иейтса самым главным требованием к танцовщикам
(как и к певцам-декламаторам), а прочее не имело су-
щественного значения. Драматург считал, например, что
можно использовать ирландские народные танцы («Не-
которые благородные пьесы Японии»). Впоследствии,
применяясь к условиям реальной сцены, Йейтс допус-
кал также использование оркестра вместо флейты, цит-
ры и ударных.
Как писал сам Йейтс, главное, в чем он продолжал
следовать своей японской модели,— танец в качестве
кульминации действия и условность вместо прямого
жизнеподобия41 (в понятие условности входили маски,
характер движений, использование музыки). К этому
можно добавить, что Йейтс формально отменил хор, но
по существу передоверил его функцию другим персо-
нажам, а также, что место действия по-прежнему играет
в его пьесах 20-х и 30-х годов важнейшую роль: по
удачному выражению Питера Юра, «действующие лица
должны прийти именно в это место, и ни в какое другое
в целом мире, чтобы могло произойти именно это собы-
тие» 4\ И последнее: несмотря на значительные трудно-
сти сценического воплощения пьес в стиле Но, Йейтс
продолжал писать драмы не для чтения, а для театра.
Примечания
1 Yeats W. Я. Certain Noble Plays of Japan.—In: Yeats W. B. Es-
says and Introductions. L., 1961, p. 222.
2 Yeats W. B. The Poet and the Actress.— In: Ellman R. The Iden-
tity of Yeats. L., 1954, p. 105.
3 См.: Flannery J. W. W. B. Yeats and the Idea of a Theatre. To-
ronto, 1976, p. 266.
4 Yeats W. B. Essays and Introductions, p. 244.
5 Так назывался и сборник текстов Но, изданный Паундом, и уже
цитированное предисловие Иейтса в этой книге (см. примеч. 1).
6 Yeats W. В. Essays and Introductions, p. 226.
203
7 Craig E. G. On the Art of the Theatre. L., 1980, p. 84—85.
8 Yeats W. B. Essays and Introductions, p. 227.
9 Ibid., p. 226.
10 Yeats W. B. Autobiographies. L., 1955, p. 364.
11 Кстати, идея декоративного фона у Йейтса была связана не
только с гобеленами, но и с японской графикой, которая стала
известна и популярна в Европе с 70-х годов XIX в.: в 1904 г.
он подал художнику Роберту Грегори идею изобразить на зад-
нике стилизованное дерево в духе японских гравюр (для поста-
новки пьесы Синга «Источник святых»). Спустя десятилетие
Йейтс узнал, что стилизованное изображение сосны — постоянный
фон спектаклей театра Но.
12 Yeats W. В. Essays and Introductions, p. 222
13 Harper's Bazaar, 1917, March.— In: The Variorum Edition of the
Plays of W. B. Yeats. Ed. Alspach R. K. N. Y., 1966, p. 415.
14 Yeats W. B. Essays and Introductions, p. 224, 225.
15 Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. М., 1962, с. 393.
16 The Variorum Edition of the Plays of W. B. Yeats, p. 1300 (кур-
сив мой— В. P.).
17 Ibid., p. 417. «Барбара Аллен» — шотландская баллада елизаве-
тинских времен.
18 Yeats W. В. Essays and Introductions, p. 236.
19 Станиславский К. С. Указ. соч., с. 428.
20 Yeats W. В. Essays and Introductions, p. 221.
21 Nakamura Y. Noh. The Classical Theatre/Transl. by Don Kennv.
N. Y.; Tokyo, 1971, p. 29—30.
22 Имя отца Кухулина (более употребительная форма — Суалтам).
23 Skene R. The Cuchulain Plays of W. B. Yeats. A Study. L., 1974.
24 The Integrity of Yeats, Part II.— In: Ure P. Yeats and Anglo-Irish
Literature. Liverpool, 1974.
25 Certain Noble Plays of Japan.— In: Yeats W. B. Essays and Intro-
ductions, p. 222.
26 The Letters of W. B. Yeats. Ed. Wade A. L., 1954, p. 612.
27 йейтс предвосхищает здесь один из мотивов «Антигоны» Ануйя,
созданной много позже: героиня, выдержав самые жестокие испы-
тания, чувствует ужас и отчаяние не от ожидания казни, а от раз-
говора со стражником, который обрисован в том же духе, что
и легионеры в драме Йейтса.
28 Certain Noble Plays of Japan.— In: Yeats W. B. Essays and Intro-
ductions, p. 221.
29 The Letters of W. B. Yeats, p. 609.
30 Ibid.
31 Ibid., p. 611.
32 Комментарии к пьесе «Король Большой Часовой башни». The
King of the Great Clock Tower. Dublin, 1934.—In: The Variorum
Edition of the Plays of W. B. Yeats, p. 1008.
33 Цит. no: Matins E. Yeats and Music. Dublin, 1968, p. 484.
34 См. примеч. 32.
35 Speaking to the Psaltery.— In: Yeats W. B. Essays and Introduc-
tions, p. 22.
36 Yeats W. B. Explorations. L., 1962, p. 171—172.
37 Исследователь японского театра Ричард Тейлор пишет о так
называемой «сильной» манере произнесения в Но: «В «сильной»
системе перепады в высоте звука неточны и неустойчивы, и мож-
но различить только две основных ноты»; выразительность этой
манеры зависит от акцентировки, ударения, окраски звука; в
204
самых драматических местах действия применяется именно «силь-
ная» система. Taylor R. Assimilation and Accomplishment: No
Drama and An Unpublished Source for «At the Hawk's Well».—
In: Yeats and the Theatre. Ed. O'Driscoll R., Reynolds L. Niagara
Falls, 1975, p. 140.
38 Первая из этих пьес, комедия-фарс, была задумана Иейтсом как
часть цикла «пьес для танцовщиков» (хотя в конечном счете не
вошла в сборник): по традиции, принятой в театре. Но, в один
вечер исполняется несколько серьезных драм Но и, в качестве
комической разрядки, фарс — «кёгэн». Трагифарс «Актриса-коро-
лева» предназначался не для студии, а для постановки на сцене
Ирландского Национального театра в системе крэговских ширм,
однако ряд стилистических черт роднит его с пьесами в стиле Но,
хотя этот стиль (как и многие другие характерные особенности
собственного творчества) автором пародируется.
39 В данном случае на воображение поэта воздействовал один из
его любимых образов — эпизод Паоло и Франчески из «Божествен-
ной комедии» Данте. В кабинете Йейтса постоянно висела репро-
дукция гравюры Блейка, изображающей вихрь, в котором вечно
обречены носиться грешные влюбленные в дантовом аду.
40 Pincier G. М. A Dancer for Mr. Yeats.— Educational Theatre Jour-
nal, XXI, 4 (1969, Dec), p. 389.—In: Flannery J. W. W. B. Yeats
and the Idea of a Theatre, p. 208.
41 Комментарии к пьесе «Король Большой Часовой башни». См.:
The Variorum Edition of the Plays of W. B. Yeats, p. 1009.
42 Ure P. Yeats and Anglo-Irish Literature, p. 191.
ГОДЫ КРИЗИСА
Вступление в 20-е годы для Ирландии ознаменовалось
новыми кровавыми событиями — переходом националь-
но-освободительной войны в войну гражданскую. Пе-
реломными были 1921 —1922 гг. Ирландский парламент,
не признанный английским правительством, но опирав-
шийся на реальную силу общенационального сопротив-
ления, послал своих представителей в Лондон для пе-
реговоров. Ультраконсерваторы, стоявшие у власти, были
вынуждены согласиться на предоставление ирландцам
независимости, но сделали все возможное, чтобы эту
независимость урезать. Переговоры были долгими и
трудными. В конце концов английское правительство
выставило ультиматум: либо ирландская делегация при-
мет ряд условий, оговорок и ограничений, либо договор
вообще не будет подписан, и на Ирландию обрушится
вся мощь английской военной машины. В числе усло-
вий было отторжение от Ирландии шести северных
графств, наиболее промышленно развитых, подчинение
ирландского парламента, правительства и армии анг-
лийскому контролю и т. д. Форма «свободного государ-
205
ства», которая была предложена Ирландии, означала
статус доминиона. Поскольку альтернативой была ре-
альная угроза «немедленной и ужасной войны»1 про-
тив Ирландии, парламентеры подписали договор. В ян-
варе 1922 г. «свободное государство» было официально
провозглашено, а в апреле в Ирландии разразилась
гражданская война. Разделенные на «фристейтеров»2 и
республиканцев, вчерашние товарищи по освободитель-
ной борьбе обратили оружие друг против друга. Как
предатель национальных интересов был убит Майкл
Коллинз, руководитель делегации ирландского парламен-
та и герой освободительного движения.
Трудно сказать, что Иейтс воспринял острее и бо-
лезненнее— ожесточение гражданской войны или после-
довавший за ней период, в котором О'Кейси, ирониче-
ски отзываясь на знаменитую строку Иейтса, написал:
«Родилась ужасная красота цилиндров»3,— наступило
царство буржуазных дельцов и торгашей.
К этому необходимо добавить, что обстановка в Ир-
ландии накладывалась на общую для Запада атмосфе-
ру 20-х годов, в которой доминировала реакция на толь-
ко что минувшую мировую войну. Распространено мне-
ние, что Иейтс, погруженный в ирландские проблемы,,
остался равнодушен к войне и как бы ее и не заметил:
ссылаются на то, что он посвятил теме мировой войны
слишком мало стихотворений. Этот взгляд неверен.
Влияние того или иного события на художника не под-
дается бухгалтерскому учету, тем более, когда мы имеем
дело с таким художником, для которого опосредован-
ное отражение жизни — принцип. Впрочем и те, кому
необходимо, чтобы все было написано черным по бело-
му, могли бы обратить внимание, например, на радио-
выступление Иейтса «Современная поэзия» (1936), впо-
следствии вошедшее в сборник его статей. Йейтс делит
историю культуры XX в. на периоды до и после первой
мировой войны, чего уже достаточно, и говорит, в част-
ности, следующее: «Все установленное и привычное было
поколеблено Великой войной. Все цивилизованные люди
раньше верили в прогресс, в будущее без войн, в не-
уклонный рост достатка, но теперь молодые люди, ока-
зывающие влияние на умы, начали задавать вопрос:
а может ли хоть что-нибудь быть прочным и стоит ли
хоть за что-то воевать? Отныне ни слово, ни единый
звук не имели права быть романтическими; все, что
имело отпечаток традиции, стало неприемлемо... Поэ-
206
зия должна была уподобиться прозе и они обе — при-
нять лексику своего времени, а также отказаться от
какого-либо особого содержания. Тристан и Изольда
стали не более подходящей темой, чем Пэддингтонский
вокзал. Прошлое обмануло нас — так будем принимать
дрянное настоящее»4.
Как можно судить по этим словам, дух 20-х годов не
был созвучен Йейтсу. Поэт чувствовал себя одиноким
защитником культурных ценностей, не признаваемых
послевоенным поколением. Напомним, что в 20-е годы
он подошел к своему шестидесятилетнему рубежу и что
многих из друзей и единомышленников его юности уже
не было в живых: давно умерли ближайшие соратники-
поэты из Клуба стихотворцев и Джон Синг; в 1917 г.
на далеком Цейлоне скончалась Флоренс Фарр. Новые
утраты принесла мировая война и вооруженная борьба
на территории Ирландии. Погибли многие из тех, в ком
Иейтс надеялся увидеть продолжателей дела своего по-
коления. Да и для кого «веселые двадцатые» (так их
часто называют в западной исторической журналисти-
ке) были действительно веселыми? В известных про-
изведениях этого периода, написанных о молодых и с
точки зрения молодых, запечатлена атмосфера горячеч-
ная, судорожная, тревожная, даже когда речь идет о
времяпрепровождении праздной «золотой молодежи» —
тем более, если авторы рисуют душевный мир вчераш-
них фронтовиков. Недаром англичанин Ивлин Во, автор
комических романов о «веселых двадцатых», предсказы-
вал скорое начало новой мировой войны (роман «Греш-
ные тела», 1930). Нельзя забывать и того, что послево-
енное десятилетие завершилось для западного мира
катастрофой — всеобщим экономическим кризисом. Та-
ким образом, кризисность мироощущения Иейтса в эти
годы отвечала духу времени; она была точной реакцией
чуткого и глубокого художника.
К этому необходимо добавить, что Йейтс не стал все-
ми забытым отшельником, не утерял интереса к обще-
ственной жизни и не снизил творческой активности,— в
таких формах, к сожалению, часто представляется ду-
ховный кризис, и инерция мышления здесь настолько
велика, что творятся настоящие легенды, вопреки са-
мой бесспорной реальности.
Одна из устойчивых легенд, возникших вокруг име-
ни Иейтса, связана с пресловутой башней, в которой
поэт будто бы затворился от мирской суеты на целое
207
Башня Бэллили
десятилетие. На самом деле все было и проще и слож-
нее. Иейтс, действительно, с 1919 по 1929 г. жил не в
какой-то символической, а в самой что ни на есть ре-
альной каменной башне, построенной во времена нор-
маннов (она имела название «Башня Бэллили»). Поэт
купил это строение в середине 10-х годов с тем, чтобы
превратить его в летнее жилье: башня находилась в
живописной местности неподалеку от Кул-парка, име-
ния леди Грегори, в котором Иейтс, начиная с 90-х го-
дов, проводил почти каждое лето. Заброшенная башня
обошлась ему недорого — в этом заключалась одна из
практических причин выбора Иейтса, но, конечно, были
и причины романтические, связанные и с необычностью
здания, и с легендами об окрестных местах и людях,
живших в них. Иейтс за многие годы, проведенные в
Кул-парке, душой привязался к этим живописным и
поэтическим местам не меньше, чем к Слайго, родине
своего детства. В стихотворении «Башня» (1926) поэт
с увлечением рассказывает о бывших владельцах свое-
го дома, о прекрасной крестьянке, возлюбленной слепо-
го бродячего поэта; о шумных сельских пирушках и
яростных битвах былых времен... Естественно, что об-
208
раз башни у Иейтса приобретает многогранное симво-
лическое значение; в числе прочего говорится и о воз-
несенном над землей убежище одинокого мечтателя. Но
это поэзия, а не быт, и было бы наивно смешивать одно
с другим. Реально Башня Бэллили была для Иейтса
местом летнего отдыха и напряженной творческой ра-
боты. Литераторы с менее романтическим воображением
для тех же целей издавна снимают или покупают в сель-
ской местности обычные дома — и никто не обвиняет их
в бегстве от жизни. Видимо, само слово «башня» обла-
дает определенной магией (ассоциация с выражением
«башня из слоновой кости» просто неизбежна), да еще к
этому прибавляется соблазн перевести лирическую и фи-
лософскую поэзию на язык бытовых реалий.
В 20-е годы Иейтс живет большей частью в Дубли-
не, но по-прежнему бывает подолгу в Англии: в Лон-
доне, Оксфорде; в 1919—1920 гг. проводит около полу-
года в поездке по США, где выступает с чтением стихов
и лекциями; много путешествует по самой Ирландии;
уезжает на длительное время в Италию, Испанию, Фран-
цию (южный климат становится необходим из-за болез-
ни легких). Его семейная жизнь спокойна и счастлива;
у него много друзей (в том числе молодых) и искрен-
них почитателей. Иейтс активно работает в театре и в
сфере общественной деятельности: в 1922—1928 гг.
он — член сената, верхней палаты новообразованного
ирландского парламента. Углубленные занятия филосо-
фией не мешают ему быть широко осведомленным в ми-
ровой политике и проявлять к ней острый интерес. Ав-
торитет Иейтса в Ирландии высок как никогда — его с
полным основанием можно назвать общенациональным.
В сложнейшей политической обстановке Ирландии ру-
бежа 10—20-х годов, когда один неверно истолкован-
ный жест мог стоить общественной репутации или жиз-
ни, все враждующие группировки, казалось, негласно
постановили, что личность и поведение Иейтса вне по-
дозрений. В примечании к циклу «Размышления во
время гражданской войны» (1922) Иейтс пишет о един-
ственном инциденте, который коснулся лично его: «Я еще
не дописал их (стихотворения цикла.— В. Р.), когда
однажды в полночь республиканцы взорвали наш «ста-
ринный мост»5. Они запретили нам покидать дом, но в
остальном были вежливы и даже напоследок сказали:
«Спокойной ночи, спасибо»,— как будто получили мост
в подарок от нас»6.
8 В. А. Ряполова
209
Когда Йейтс занял место в сенате «Свободного го-
сударства», гражданская война еще продолжалась, но
и после ее окончания (лето 1923 г.) никто из «фристей-
теров», тем более высшие официальные лица, не был
застрахован от нападений республиканцев. В 1927 г.
был убит Кевин О'Хиггинс, вице-президент и министр
юстиции, по мнению Йейтса — «единственный выдаю-
щийся ум в ирландской общественной жизни»7. Член
сената Оливер Сент-Джон Гогарти, поэт, друг Йейтса,
во время гражданской войны чуть не погиб от руки рес-
публиканцев, а его дом был сожжен. Йейтс, и будучи
сенатором, продолжал пользоваться «правом неприкос-
новенности»— разумеется, в условном смысле: офици-
альных гарантий безопасности ему никто не давал. Его
поведение было, как всегда, абсолютно независимо,
а вероятность риска его только подогревала. Йейтс мог
гордиться завоеванным авторитетом: ведь он явно был
основан не на давнем участии в Ирландском республи-
канском братстве, а на всей его многолетней литера-
турной и театральной деятельности, которая — не пара-
докс ли! — когда-то вызывала яростные обвинения в
антипатриотизме и которая — опять парадокс! — воспи-
тала целое поколение ирландских революционеров, как
заявляли об этом они сами. В сенате Йейтс был пред-
ставителем и олицетворением Искусства. Один курьез-
ный и одновременно замечательный факт, вероятно, бес-
прецедентный в парламентской практике: при обсуж-
дении вопроса о новой судейской форме (1926) один из
сенаторов, возражая Йейтсу, прочел его же стихи
(о ценности традиции), а когда поэт заметил, что они
написаны давно, сенатор тут же процитировал другое,
более позднее стихотворение! Кстати, как ни было все
это, очевидно, приятно Йейтсу, он все-таки добился
принятия нетрадиционной формы одежды — в опровер-
жение собственных стихов.
Парадокс личности Йейтса — сочетание в нем чело-
века действия и самоуглубленного поэта-философа —
в 20-е годы проявляется как никогда. Дав согласие вой-
ти в сенат, Йейтс возлагал определенные надежды на
парламент и правительство новой Ирландии и сам был
одним из самых активных и добросовестных сенаторов.
Благодаря его инициативе и участию были приняты мно-
гие решения по вопросам культуры. Бодрость, энергия,
настойчивость — таков облик Йейтса — общественного
деятеля в глазах его современников. А в это же время
210
Иейтс-поэт иронически описывает «малые дела», в кото-
рые выливается культурное строительство в Ирландии,
и самого себя — «шестидесятилетнего улыбающегося
официального представителя», «нестрашное старое ого-
родное пугало» (стихотворение «Среди школьников»).
В своей общественной деятельности Иейтс практикует
«искусство возможного» (если употребить известное оп-
ределение дипломатии), что не мешает ему ясно видеть,
как далека реальность послереволюционной Ирландии
от идеала Единства Бытия.
Творчество Йейтса в 20-е годы посвящено «вечным»
темам: молодость, красота, любовь, жизнь, смерть.
С одной стороны, им движет импульс все до конца уяс-
нить и все привести в систему — появляется его итого-
вый философский трактат «Видение» (1925). С другой
стороны, он необычайно остро ощущает трагическую не-
упорядоченность бытия. Объединяющим же началом
этих двух, по-видимому, взаимоисключающих принци-
пов мышления и мироощущения является сама личность
поэта. Что бы он ни писал — философскую прозу «Ви-
дения», новые разделы автобиографии, стихотворения
или пьесы,— везде предметом изображения выступает
не сам объективный мир, а мысль автора о мире. Иног-
да Иейтс почти обманывает читателя мнимой объек-
тивностью картины, но с неизбежностью обнаружива-
ет — часто одним резким жестом — свою подлинную
тему: драму сознания современного человека. Спор раз-
ных «голосов души», сопровождавший Иейтса с начала
его творческого пути, все чаще открыто выявляется в
самой форме: многие из его стихотворений имеют вид
диалога-диспута, диалога-конфликта («Диалог Я и ду-
ши»— характерное название). Обе новые пьесы этого
периода, «Воскресение» (1927) и «Слова на оконном
стекле» (1930),— драмы-дискуссии.
В «Видении» Йейтс усложняет и расширяет систему,
которой он посвятил «Per Arnica Silentia Lunae». Диа-
лектику «объективности» и «субъективности» (и симво-
лику фаз луны) он распространяет на историю и куль-
туру. Один из его новых символов — Византия как во-
площение Единства Бытия, возможного в человеческом
обществе: «Я думаю, что в ранней Византии, возможно,
в первый и единственный раз в истории, религиозная,
эстетическая и практическая жизнь были одним це-
лым...»8 Это мнение Иейтса относится к Византии вре-
мен Юстиниана (VI в.); оно сложилось под влиянием
211
8*
ряда научных изысканий, которые доказали ошибочность
прежнего взгляда европейской историографии на Ви-
зантию как на закосневшее, неспособное к развитию го-
сударство. Как поэтический символ Византия для Иейт-
са также — Страна блаженства, остановленного пре-
красного мгновения, длящегося вечно; идеальный образ
Искусства и Воображения. Близок к Византии (в ее
конкретно-исторической ипостаси) Урбиио периода Вы-
сокого Ренессанса, завладевший воображением Иейтса
со времен его итальянского путешествия 1907 г.: в си-
стеме Йейтса это поворотный пункт истории, после ко-
торого человеческое общество стало деградировать и
мельчать — впадать в дурную «объективность». Диалек-
тика движения духа и истории изображается Йейтсом,
помимо уже знакомой метафоры фаз луны, фигурой,
напоминающей старинный ткацкий челнок: она состоит
из двух конусообразных спиралей, обращенных верши-
нами внутрь друг друга и непрестанно движущихся взад-
вперед и вокруг своей оси. «Челнок» и «спираль» — но-
вые многозначительные образы поэзии Йейтса. Дав
своему сборнику 1933 г. название «Винтовая лестница»,
он имел в виду все ту же символическую фигуру дви-
жения— хотя одновременно это реально существующая
лестница в его жилище-башне. Сама эта башня и чуть
ли не каждый предмет обихода в ней также поэтически
преображаются в символы, общий дух которых — устой-
чивость, постоянность, неизменность, нерасторжимая
связь с многовековой традицией:
Alexandria's was a beacon tower, and Babylon's
An image of the moving heavens, a log-book
of the sun's journey and the moon's;
And Shelley had his towers, thought's crowned
powers he called them once.
I declare this tower is my symbol; I declare
This winding, gyring, spiring treadmill of
a stair is my ancestral stair
That Goldsmith and the Dean, Berkeley and
Burke have travelled there.
(В Александрии башня была маяком, а в Вавилоне/Об-
разом движущихся небес, вахтенным журналом путеше-
ствия солнца и луны; /И у Шелли были свои башни —
он назвал их однажды коронованными державами мыс-
ли.//Я объявляю эту башню моим символом; я объяв-
212
ляю,/Что эта винтовая, спиральная, крутящаяся, по-
добная вороту лестница — лестница моих предков,/Что
но ней ходили Гольдсмит и Настоятель9, Беркли и Бёрк.
«Кровь и луна»).
Иейтс продолжает тенденцию, обозначившуюся в
предыдущий период его творчества,— увековечение в
символах людей, которых он близко знал. Так, эпи-
логом к «Видению» служит написанное в 1920 г. стихо-
творение «Ночь поминовения усопших», в котором умер-
шие друзья предстают в двойственном облике: как лю-
ди с неповторимыми живыми чертами (даже бытовы-
ми) и как маски — в том значении, которое придавали
этому слову Йейтс и Крэг. Та же тенденция в автобио-
графическом произведении «Дрожание завесы храма»
(1922). Недаром в нем так органичны переходы от опи-
сания собственной жизни к общефилософским и истори-
ко-философским размышлениям.
Систематизация и увековечение, однако, постоянно
соседствуют с противоположным импульсом: ощущени-
ем единственности, неповторимости и драгоценности
каждого мгновения жизни и каждого отдельного чело-
века. Вряд ли многочисленные стихотворения Йейтса,
посвященные тем, кого нет в живых, обладали бы вы-
сокой силой воздействия, если бы в них не было такой
боли невозвратимых утрат и такой любви — не к сим-
волам, а к конкретным, названным по именам людям.
Все образы Йейтса, связанные с идеальной красотой и
гармонией, амбивалентны: они таят угрозу неподвиж-
ности, смерти. Мечта о бессмертных, вечно прекрасных
формах, о вечной молодости может сбыться только по
ту сторону земной жизни («Плавание в Византию»).
Против этого восстает все человеческое существо: тор-
жественные картины и заявления сменяются криком
души:
What shall I do with this absurdity —
О heart, О troubled heart — this caricature,
Decrepit age that has been tied to me
As to a dog's tail?
Never had I more
Excited, passionate, fantastical
Imagination, nor an ear and eye
That more expected the impossible...
(Что мне делать с этой абсурдной нелепостью — /О,
сердце, о встревоженное сердце! — с этой карикатурой, /
213
С немощной старостью, которую привязали ко мне, /Как
будто к собачьему хвосту? — Еще никогда не было/Та-
ким возбужденным, страстным, фантастическим/Мое
воображение, никогда еще мое зрение и слух/Так не
ожидали невероятного... «Башня»).
Это экзистенциальное отчаяние — полная противопо-
ложность трактовке темы смерти у Джона Синга, с его
эпическим ощущением жизни и времени. Йейтс — поэт
индивидуального сознания, даже когда это индивиду-
альное сознание размышляет о вечном и бесконечном.
Однако, говоря от своего имени, Йейтс говорит и за
каждого из людей. Это, в сочетании с огромной интен-
сивностью чувства и мысли, делает его стихи 20-х го-
дов одной из вершин поэзии XX в.
Йейтс не раз вступает в спор с самим собой, преж-
ним. Еще недавно, на рубеже 10-х и 20-х годов, он скор-
бел о заблуждениях политических страстей, о судьбе
прекрасных женщин, поддавшихся «абстрактной нена-
висти» борьбы. В «Молитве за мою дочь» (1919) Йейтс
прославляет тихие добродетели — скромность, кротость,
учтивость — так громогласно и запальчиво, что даже без
косвенного упоминания о Мод Тонн понятно: это про-
граммное и полемическое заявление, сделанное против
тех, кто мыслит иначе. Спустя несколько лет появляет-
ся «Молитва за моего сына» — и тон совершенно иной.
Поэт ничего не провозглашает и никого не поучает: он
просто отец, такой, как все любящие отцы. В стихотво-
рении «Памяти Евы Гор-Бут и Кон Маркевич» (1927),
написанном под впечатлением недавней смерти обеих
сестер, находит место сожаление о том, что многие годы •
их жизни были напрасно потрачены, как думает поэт10,
однако главное здесь — горькая мудрость, пришедшая
с годами: «У невинных и прекрасных/Нет иного врага,
кроме времени»; боль утраты, нежность и навечно ос-
тавшееся в памяти сияющее видение юности и красоты:
The light of evening, Lissadell,
Great windows open to the south,
Two girls in silk kimonos, both
Beautiful, one a gazelle.
(Вечерний свет, Лиссадельи,/Большие открытые окна,
обращенные на юг,/Две девушки в шелковых кимоно,
обе/Прекрасны, одна из них — газель.)
214
В споре голосов души, который непрестанно идет в
поэзии Йейтса, наметились новые акценты. «Ego Domi-
nus Tuus» (стихотворение сборника «Дикие лебеди в
Куле», 1919) и «Диалог Я и души» (сборник «Винто-
вая лестница», 1933)—диалоги двух конфликтующих
начал, земного и возвышенного. В более раннем стихо-
творении последнее слово оставалось за идеальными,
метафизическими устремлениями. Противоположный го-
лос явно ассоциируется с вульгарным и поверхностным
взглядом на жизнь и искусство. «Диалог Я и души» оди-
наково сильно представляет обе точки зрения, и, не-
смотря на призывы души очиститься от земной сквер-
ны, устремиться на вершины духа, «я», в полном созна-
нии трагизма и «нечистоты» человеческого существова-
ния, отвечает: «Я готов снова и снова пережить все
это».
Страстный и напряженный спор, пронизывающий
поэзию Иейтса в 20-е годы, продолжается в драмах-дис-
куссиях.
За десятилетие Йейтс создает только две новые
пьесы — «Воскресение» (1927) и «Слова на оконном
стекле» (1930). Все остальное — новые редакции ста-
рого (в этой работе Йейтс всегда был неутомим до фа-
натизма) или переводы 12. Йейтс в основном переделы-
вает в своих стихах и пьесах то, что теперь ему кажет-
ся слишком абстрактным и орнаментальным. В одном
случае переработка пьесы была более радикальной.
Драматург заменил оптимистический финал пьесы «На
королевском пороге» на противоположный, трагический.
Поэт Шанахан умирает голодной смертью — король ос-
тался глух к голосу совести и справедливости. «Древнее
право умерло, остается новое,/И это — смерть»,— гово-
рит ученик Шанахана. Солдаты прогоняют учеников,
и они уходят с телом учителя прочь от королевского
двора. Все предыдущие варианты пьесы кончались про-
рочеством о грядущем «великом племени» людей и по-
бедными фанфарами. В редакции 1922 г. финальная
речь не оставляет никакой надежды, а вместо фанфар
пьесу заключает похоронная музыка:
...nor song, nor trumpet blast
Can call up races from the worsening world
To mend the wrong and mar the solitude
Of the great shade we follow to the tomb.
215
(...ни песня, ни фанфары/Не могут вызвать к жизни в
этом ухудшающемся мире племя людей, / Которое ис-
правит зло; Они не смеют нарушить одиночество/Ве-
ликой тени, которую мы провожаем в могилу.)
Раньше пафос утверждения в этой пьесе достигал
кульминации в развязке сюжета. Теперь он заключен
в самом поведении главных персонажей, Шанахана и
его учеников, которые держатся до конца, испытывая
трагическую радость от собственной стойкости и соли-
дарности, несмотря на исход. Открытое политическое
звучание пьесы в начале 20-х годов стало еще актуаль-
нее, чем в 1903 г.: к этому времени голодовки как сред-
ство политической борьбы стали реальностью (в 1920 г.
в лондонской тюрьме в результате голодовки погиб из-
вестный деятель национального движения Теренс Мак-
Суини). Иейтс писал в комментариях к изданию
1922 г., что он и в раннем варианте хотел окончить
пьесу трагически, но его отговорил друг (по всей види-
мости, Августа Грегори). Однако тот факт, что драма-
тург вернулся к своему первоначальному намерению
именно в 20-е годы, говорит сам за себя. Мрачные за-
ключительные строки пьесы перекликаются с трагиче-
скими строфами «1919-го года» и «Размышлений во вре-
мя гражданской войны».
Обе новые пьесы Иейтса, созданные между 1920
и 1930 г., написаны прозой. Еще одна особенность, свя-
занная с этим: и «Воскресение», и «Слова на оконном
стекле» почти до конца выдержаны в принципах жиз-
неподобия. В этом отношении контраст с предыдущими
пьесами разителен, особенно, когда Иейтс вторично
обращается к евангельскому сюжету.
«Голгофа» — драматизированная поэма, во многом
схожая со стихотворениями-диалогами Иейтса, ее атмо-
сфера— сумеречная, визионерская. «Воскресение» на-
писано так, что очень походит на историческую драму-
дискуссию типа «Цезаря и Клеопатры» Шоу. Уже всту-
пительная ремарка, описывающая место действия,
необычна для условной драматургии Иейтса: «Сцена
представляет собой комнату на верхнем этаже дома в
Иерусалиме; справа — дверь в другую комнату, в глу-
бине—дверь на лестницу, ведущую на улицу, в глуби-
не и слева — окна... В комнате стоит или сидит Иудей;
с улицы входит Египтянин — он вооружен».
216
Эти два персонажа и появляющийся позже Сириец —
тайные христиане, охраняющие дом, в котором собра-
лись ученики Христа (они находятся во внутреннем по-
кое, за правой дверью). Краткие и напряженные реп-
лики Иудея и Египтянина, открывающие действие пье-
сы, сразу приближают современного зрителя к древне-
му Иерусалиму. Об известных евангельских событиях —
распятии Христа, самоубийстве Иуды, отречении Пет-
ра— говорится как о жгучей злободневности; атмосфе-
ра проникнута тревогой — каждую минуту можно ожи-
дать нападения; речь Иудея и Египтянина — повседнев-
ная речь человека XX столетия.
Предмет их дискуссии — подлинная сущность Хрис-
та. Распятие и смерть — реальные факты, поколебавшие
веру в его божественность даже у ближайших учеников.
Иудей, мыслитель трезвого и реалистического склада,
также считает, что их учитель — просто человек: «Он
обманывал себя и нас, и я думаю, это все потому, что
он любил человечество... Возможно, он с такой скорбью
размышлял о наших несчастьях, что страстно желал
стать Богом ради нас; возможно, он постоянно думал,
что если станет нашим судьей, то сможет оказать нам
снисхождение...» По мнению Иудея, обман Христа, пусть
благородный и невольный, был разоблачен Иудой, и тот,
лишившись веры, отомстил за это предательством.
Противоположная, метафизическая, точка зрения вы-
ражена устами Египтянина: «Я считаю, что Иисус —
только видимость или фантом ... Как только я впер-
вые услышал речь Христа, я понял, что Бог превратил-
ся в фокусника и создал видимость, которую я назы-
вал Христом. Мы думаем, что его судили, казнили и по-
хоронили, но все это, может быть, лишь одна види-
мость... Сердце, кружение крови отделяют человечество
от божества. Что такое сердце, если не изменчивость,
разложение, смерть? Оно мрачно, глубоко невежествен-
но и ужасно».
Весть о чудесном воскресении Христа, которую при-
носит Сириец, позитивист Иудей встречает недоверием,
а схоласт Египтянин видит в ней подтверждение своей
теории иллюзии. Один Сириец верит в соединение бо-
жественного и человеческого, в реальность смерти и вос-
кресения Христа. Кульминация действия — чудесное по-
явление Христа в запертой комнате — разрешает спор,
представляя неоспоримое доказательство. Египтянин, са-
монадеянно полагавший, что, дотронувшись до тела
217
Христа, он ощутит лишь воздух, в ужасе восклицает:
«Сердце фантома бьется, сердце фантома бьется!».
Йейтс сказал о главной идее «Воскресения»: «Послед-
нее время я стал считать, что ощущение духовной ре-
альности приходит к отдельным людям и к толпам
благодаря какому-то резкому шоку, и эта мысль имеет
опору в традиции» 13. Связь с традицией демонстрирует-
ся в самой пьесе. Дискуссия идет под неумолчный ак-
компанемент дионисийского празднества, происходяще-
го за сценой, на улицах космополитического Иерусали-
ма. Эрудит Египтянин объясняет, что ритуал включает
в себя экстатические пляски и песни, а также убийство
жертвенного козла — участники обряда, считая это жи-
вотное воплощением Диониса, пожирают его сырое мясо
и пьют кровь. Иудей видит во всем этом лишь пережи-
ток варварства и предлог для разнузданности. У одного
Сирийца мелькает мысль о том, что древние обряды,
подобные Дионисиям, отражают подлинный процесс
рождения божества среди низменной реальности. В фи-
нале «Воскресения» Христос — живая высшая реаль-
ность— является в тот же момент, когда пьяные жре-
цы Диониса воскликнули, согласно своему ритуалу:
«Бог восстал!».
На публичной сцене (в Театре Аббатства) пьеса была
поставлена только в 1934 г., да и то после долгих ко-
лебаний автора. Это легко понять: евангельский миф
трактуется в ней не намного ортодоксальнее, чем в
«Голгофе» (хотя в «Воскресении» Йейтс в большей
степени следует традиционному сюжету). Он использу-
ется Йейтсом для резкой, драматической постановки
той проблемы, которую он снова и снова ставит в поэ-
зии «Башни» и «Винтовой лестницы»: проблемы духа и
плоти, вечного и преходящего. В драме, как и в поэ-
зии, Йейтс утверждает диалектическую связь двух про-
тивоположных начал. Характерно, что и здесь у него
меньше всего симпатии к абстрактному теоретическому
мышлению (Египтянин),— противоположная, также не-
истинная точка зрения (Иудей), по крайней мере, че-
ловеческая и человечная.
В «Воскресении» Йейтс по-прежнему придерживает-
ся принципов «пьес в стиле Но» в их широком пони-
мании. При всей несхожести с предыдущими пьесами,
его новая драма-дискуссия включает в себя явление
высшей духовной реальности, которая вторгается в при-
вычный, повседневный мир. По указанию Иейтса, маску
218
должен носить только один из персонажей — Христос;
остальные трое принадлежат сфере обыденности. Зву-
ки вакхического веселья, то служащие фоном действия,
то вторгающиеся в диалог, также напоминают о более
глубоких слоях реальности, чем тот, что непосредствен-
но представлен на сцене вплоть до явления Христа; свя-
щенная пляска участников празднества не показана, но
подробно описана. И, наконец, эта прозаическая пьеса
заключена в стихотворную рамку, образуемую вступи-
тельным и заключительным хорами. Песни хора испол-
няются снова тремя музыкантами в гриме-маске — как и
Христос, хор воплощает духовную реальность. В начале
музыканты поют о кровавом дионисийском обряде, в
конце — о воскресении Христа, этим параллелизмом
подчеркивая и утверждая кардинальную мысль пьесы.
В «Словах на оконном стекле» Йейтс вновь исполь-
зует найденную в «Воскресении» форму соотношения
между жизнеподобием и открытой условностью.
В этой пьесе нашел отражение глубокий интерес к
Ирландии XVIII в., пробудившийся у Йейтса в 20-е годы.
Имена, которые поэт с гордостью называет в «Винто-
вой лестнице», принадлежат знаменитым ирландцам,
жившим в XVIII в. Эти же имена Йейтс торжественно
произносит в своих публичных речах. К 1925 г. отно-
сится его крылатая фраза: «Мы люди Бёрка; мы люди
Грэттена; мы люди Свифта, люди Эммета, люди Пар-
нелла...»14 Как видно по этому заявлению, для Йейтса
XVIII в. связан с высшими в истории Ирландии дости-
жениями и литературы, и государственности, и револю-
ционного движения.
Так было не всегда; как мы помним, с юности
идеальные представления Йейтса были связаны с ирланд-
ской легендарной древностью и средневековьем. О пере-
мене во взглядах и ее причинах драматург пишет в пре-
дисловии к «Словам на оконном стекле»: «...Я отвер-
нулся от Гольдсмита и Бёрка, потому что они казались
частью английской системы, от Свифта — потому что,
будучи романтиком, я не признавал ни одного стихо-
творения, созданного в период от Каули до «Песни Да-
виду» Смарта, никакой прозы, написанной в период от
сэра Томаса Брауна до «Разговоров» Ландора. Но те-
перь Свифта я читаю месяцами, Бёрка и Беркли — не
так часто, но всегда с волнующим интересом. Гольд-
смит также притягивает меня и ждет своей очереди.
В этом единственном веке ирландской истории,
219
который избежал тьмы и смуты, я черпаю материал для
размышления и творчества, веру в то, что многие мои
убеждения выражают дух моего народа; я вижу в нем
ту неизменную форму, которую должно открыть для
себя современное сознание в качестве собственного об-
раза... Единство бытия тогда еще было возможно, хотя
в довольно-таки рациональной и абстрактной форме, бо-
лее похожей на схему, чем на живое тело...» 15
Идея упорядоченности, размеренности, регулярности,
связанная в сознании Йейтса с XVIII в., стала притяга-
тельной для него в период антианглийской и затем граж-
данской войны, когда вся ирландская жизнь была по-
колеблена до самого основания. В глазах Йейтса и дру-
гих деятелей культуры, его соотечественников, ценность
национального культурного наследия неизмеримо воз-
росла. Многое в нем было впрямую связано с XVIII в.,
когда ирландская культура, переработав английское
влияние, достигла первых в новое время выдающихся
результатов. В 20-е годы в домах англо-ирландской зна-
ти сохранялись ценнейшие библиотеки и произведения
искусства, унаследованные от прадедов; сами дома ча-
сто представляли собой немалую ценность как памят-
ники архитектуры XVIII в. Многие из них погибли в
огне войны, охватившем Ирландию. Для Йейтса это
было — и не без оснований — равносильно разрушению
живой традиции. В его поэзии 20-х годов постоянно воз-
никают образы «родовых домов», то собирательные, как
в одноименном стихотворении 1921 г. (и в более ран-
ней «Молитве за мою дочь»), то конкретные — Кул-
парк, Лиссадель, но всегда идеальные, символизирую-
щие великую культурную традицию. Необходимо под-
черкнуть, что в отношении к английской и вообще евро-
пейской культуре Иейтс остался «романтиком»: пере-
мена взглядов по отношению к XVIII столетию косну-
лась только Ирландии, и это было продиктовано глубо-
кими патриотическими чувствами.
Среди великих людей «золотого века» ирландской
истории Йейтса особенно привлекала фигура Свифта.
В уже цитированном предисловии читаем: «Свифт не-
отступно следует за мной; он всегда как будто рядом,
за углом... Этот инстинкт притяжения к тому, что близ-
ко и в то же время укрыто от глаз, есть не что иное,
как возвращение к истокам нашей силы и, следователь-
но, требование, предъявляемое к будущему. Мысль ка-
жется более верной, чувство — более глубоким, когда
220
они высказаны кем-то, кто вызывает мою гордость, кто
как будто заявляет о нашем кровном родстве и дела-
ет меня частью некой национальной мифологии...»16 Для
Иейтса — социального мыслителя и философа истории
были ценны и плодотворны многие мысли Свифта отно-
сительно государства, истории и политики; он видел в
них подтверждение собственных концепций. Естественно,
что он высоко ценил Свифта-писателя, автора «Путе-
шествий Гулливера», и преклонялся перед Свифтом—
политическим деятелем и патриотом. В его глазах
Свифт и был тем современным бардом, которым стре-
мился стать сам Йейтс,— стоящим на страже интересов
народа и заставляющим даже трон считаться с собой.
Для Иейтса-художника личность Свифта представляла
жгучий интерес. Он восхищался свободой, размахом и
многосторонней одаренностью натуры Свифта, казалось,
овеянной духом Ренессанса, а трагизм его последних
лет (тяжелая душевная болезнь) и загадка его личной
жизни волновали воображение Йейтса и делали Свиф-
та в его глазах не только национальным героем, но и
человеком с бесконечно сложной и драматической
судьбой.
Таким Свифт и предстает в пьесе «Слова на окон-
ном стекле», где он — центральная фигура, хотя на сце-
не, изображена гостиная современного дублинского до-
ма. Имя Свифта впервые упоминается потому, что в
этом доме, где собралось на спиритический сеанс не-
большое общество, в свое время бывали и великий ир-
ландец, и «Стелла» — под этим псевдонимом скрывает-
ся молодая женщина, сыгравшая большую роль в его
жизни. История живо присутствует в настоящем — на
одном из окон гостиной, где происходит действие, оста-
лись начертанные алмазным перстнем слова из стихо-
творения Стеллы к 54-летию Свифта; возможно, их на-
писала она сама:
You taught how I might youth prolong
By knowing what is right and wrong,
How from my heart to bring supplies
Of lustre to my fading eyes.
(Ты учил меня, как можно продлить юность/Знанием
того, что есть правда и что — ложь,/Как светом, иду-
щим из сердца,/Вернуть блеск потухающим глазам.)
Двое из присутствующих, Тренч и Корбет, с увлече-
нием говорят о Свифте и о других выдающихся ир-
221
ландцах XVIII в.— в их словах звучит национальная
гордость, которую разделяет сам автор. Эти два персо-
нажа размышляют и о трагедии жизни Свифта. Моло-
дой Джон Корбет, студент Кембриджа, пишущий иссле-
дование о Свифте, силится разгадать тайну, связанную
со Стеллой и с другой женщиной, которую Свифт назы-
вал Ванессой: «Как странно, что ученый, убежденный
холостяк, уже достаточно пожилой, был предметом люб-
ви двух таких женщин! Он встретил Ванессу в Лондо-
не, когда был на гребне своего политического влияния.
Она последовала за ним в Дублин. Она любила его де-
вять лет, возможно, умерла от любви, но Стелла любила
его всю свою жизнь».
Личная драма Свифта, которая в экспозиционной
части пьесы представлена опосредованно, неожиданно
разыгрывается прямо перед собравшимися в гостиной
(и перед зрителями): во время спиритического сеанса,
когда вновь звучат голоса давно умерших. В концеп-
ции Иейтса Ванесса олицетворяет собой земную любовь,
Стелла — платоническую. В то же время это глубоко
индивидуальные, выписанные с нежностью и теплотой,
женские образы. (Одухотворенность натуры Стеллы пе-
редана тонким приемом: в отличие от страстной Ванес-
сы, Стелла не произносит ни одного слова — ее трога-
тельный портрет возникает в монологе Свифта).
Ванесса умоляет Свифта о любви и браке — это голос
не только конкретной самозабвенно любящей женщины,
но самой природы, призывающей «надменный ум» сле-
довать ее законам. Но в диалоге с Ванессой Свифт —
носитель этого «надменного ума», он презирает земную
любовь и одновременно страшится ее. Есть и другая
причина его решения «передать потомству только свой
ум» — симптомы безумия, которое трактуется Йейтсом
как следствие мировой скорби, охватившей Свифта.
В отказе от брака и детей им движет не страх произвес-
ти на свет больное потомство, а глубокий исторический
пессимизм; «Что, я должен прибавить еще одно суще-
ство к этому здоровому миру негодяев и плутов?».
В разговоре со Стеллой, воплощением возвышенной
и самоотверженной любви, Свифт иной: нежный, любя-
щий, восхищенный — и земной. Он признается, что бо-
ится одиночества, и надеется, что Стелла будет рядом
с ним в его последний час. Но гармоническое, хотя и
грустное, впечатление от этой сцены, сменяющей диа-
лог с Ванессой, недолговечно; Йейтс не дает зрителю
222
забыть о трагизме личности и судьбы Свифта. Миссис
Хендерсон, медиум, «видит» Свифта оборванным, урод-
ливым, больным стариком. Джон Корбет подтверждает:
«Он выглядел таким в старости. Стелла к тому времени
уже давно умерла. Он лишился рассудка, друзья по-
кинули его. Человек, нанятый ходить за ним, бил его,
чтобы он вел себя тихо». Оставшись одна, миссис Хен-
дерсон возвращается к обыденной жизни, но страдаю-
щий дух Свифта не покинул ее. Снова звучит голос
Свифта, восклицающий, как библейский Иов: «Погиб-
ни день, в который я родился!».
Этот крик муки, завершающий пьесу, многократно
звучал в поэзии Иейтса в 20-е годы, выражая глубокий
душевный кризис, который он переживает в это время.
Все мотивы, характерные для его тогдашнего творчест-
ва,— конфликт физического и духовного, бессмертия и
бренности, разума и хаоса,— сошлись в краткой и дра-
матической пьесе о Свифте. В этом смысле «Слова на
оконном стекле» — произведение итоговое для 20-х го-
дов в творчестве Йейтса.
Особенную, и содержательную и структурную, роль
в пьесе играет контраст великого прошлого и ничтож-
ного настоящего. Родовой особняк XVIII в. превращен
в многоквартирный дом; спириты, которым дано стать
свидетелями драмы великой души,— люди бытовые и ор-
динарные. Тем поразительнее неожиданное явление ду-
ховной реальности в этой заурядной обстановке. В опре-
деленном смысле Йейтс в «Словах на оконном стекле»
ближе к театру Но, чем в своих «четырех пьесах для
танцовщиков» (возможно, за исключением «Грез мерт-
вых»). Здесь нет ни танца, ни хора, но выдержана глав-
ная линия действия Но: приход обычного человека на
место давних драматических событий и явление духа,
вновь переживающего наиболее интенсивные моменты
своей драмы. В пьесе Иейтса функцию «путешественни-
ка» выполняют все вместе обычные современные люди;
духи Свифта и Ванессы, невидимые, но заговорившие
устами медиума, производят столь же странное впе-
чатление, как явление Главного Актера в маске.
Свобода, с которой Йейтс пользуется открытым им
принципом, сказалась в том, что он не побоялся пой-
ти, казалось бы, на явный компромисс с бытовой дра-
мой, своим давним врагом номер один в театре. Ведь
реальная, жизнеподобная сторона «Слов на оконном
стекле» лишена той меры значительности, которая при-
223
сутствовала, благодаря евангельскому сюжету, в «Вос-
кресении», а то, что место действия пьесы о Свифте —
гостиная, кажется просто невероятным для Йейтса, счи-
тавшего «пьесы о гостиных» пределом тривиальности.
Но «Слова на оконном стекле» — не компромисс с са-
лонно-бытовой драмой, а ее компрометация. Подобно
тому, как Шоу в своих пьесах-дискуссиях выворачивал
наизнанку традиционную форму, обманывая ожидания
зрителей, Йейтс также начинает пьесу привычным обра-
зом, чтобы продолжить и кончить ее в прямо противо-
положном духе. Можно заметить, как рамка бытовой
драмы используется для усиления трагизма заключен-
ной в нее «пьесы в стиле Но». Напряжение не разре-
шается в наглядном физическом движении, в танце —
этот эстетический, зрелищный момент мог бы смягчить
драматизм. Отсутствие хора — комментирующего и стоя-
щего вне действия авторского голоса — в «Словах на
оконном стекле» равносильно отсутствию катарсиса:
пьеса как бы оборвана на крике отчаяния. Такая струк-
тура действия делает пьесу о Свифте я своем роде
такой же мрачной, как безысходная «Голгофа» 1920 г.
В 20-е годы Йейтс не создает новых теоретических
трудов о театре. «Некоторые благородные пьесы Япо-
нии»— последняя такая работа, вместе с «Трагическим
театром» определившая направление его поисков в дра-
матургии и театре на все время, начиная с 1916 г. В ка-
честве театрального практика Йейтс продолжает актив-
ную деятельность. Она, как и раньше, не ограничивает-
ся работой над постановкой собственных пьес. На пос-
ту одного из директоров Театра Аббатства Йейтс по-
прежнему— в центре всех крупных и мелких проблем.
Труппа пополняется и обновляется. В середине 20-х го-
дов молодая талантливая балерина Нинетт де Валуа
организует под эгидой театра школу танца. К началу
30-х годов у Театра Аббатства появляется студийная
сцена (названная «Пикок»).
Отношения с Театром Аббатства самого Йейтса как
драматурга чрезвычайно противоречивы.
Он остается «репертуарным» драматургом своего те-
атра. Постоянно идут пьесы прежних лет. Из всех этих
возобновлений наиболее примечательно одно. В октябре
1925 г. на сцене Театра Аббатства были снова показаны
«Песочные часы» в декорации Крэга. За годы, прошед-
224
шие с момента исторической постановки 1911 г., пьеса
возобновлялась не раз и каждый раз шла в ширмах и
костюмах Крэга; исполнялся новый вариант текста, со-
зданный Йейтсом после того, как пьеса была впервые
сыграна в крэговском оформлении. Но осенью 1925 г.
постановка была знаменательна еще и тем, что Дурак
теперь выступал в маске, а роль Мудреца исполнял
Фрэнк Фэй. Он, как и его брат Вилли, после разрыва
с Театром Аббатства в 1908 г. уехал работать в Англию,
однако через десять лет снова вернулся в Дублин, где,
в основном, занимался театрально-педагогической дея-
тельностью, но продолжал пристально и ревниво сле-
дить за всем, что происходило в Театре Аббатства. Лю-
бовь к Ирландии и к делу, которому он отдал так
много, превозмогли горечь былых обид, и хотя в труппу
Театра Аббатства Фрэнк Фэй снова не вступил, твор-
ческие и человеческие контакты были восстановлены.
Для Йейтса возвращение Фэя было радостным по мно-
гим причинам и особенно потому, что актер не утратил
своего поэтического таланта и поэтической речи, что
так ценил в нем Йейтс. 27 декабря того же 1925 г. Те-
атр Аббатства отметил 21-ю годовщину своего основания
гала-представлением трех пьес драматургов-основателей.
Были показаны пьеса Синга «В сумраке долины», ко-
медия Грегори «Гиацинт Хэлви», Иейтс же из своих
произведений снова выбрал «Песочные часы», постав-
ленные в оформлении Крэга и с участием Фрэнка Фэя,—
лучшее из возможного.
Среди пьес, написанных Иейтсом после 1916 г., наи-
более благополучной в своей сценической судьбе ока-
залась «Актриса-королева» — пьеса, создававшаяся в
расчете на сцену и труппу Театра Аббатства и на шир-
мы Крэга. «Актриса-королева» ставилась не раз на про-
тяжении 20-х годов и пользовалась успехом. Сцениче-
ская жизнь «четырех пьес для танцовщиков» сложи-
лась далеко не так удачно. Впоследствии Йейтс лако-
нично написал об этом: «Я... начал писать короткие пье-
сы с танцем по японскому образцу, которые не нужда-
ются ни в декорации, ни в реквизите и могут исполнять-
ся в студии или в гостиной, думая, что какая-нибудь
группа студентов, возможно, будет играть их за неболь-
шие деньги и постепенно выработает такую форму, в ко-
торой проявится одинаковое внимание к литературе и
музыке... Когда при Театре Аббатства была организо-
вана балетная школа, я ради опыта поставил эти пьесы
225
на сцене, где они оказались не на своем месте. Зачем
музыканту или актеру сворачивать и разворачивать ку-
сок материи, когда есть занавес; зачем нести на сцепу
барабан, гонг и флейту, когда есть оркестр? «Битва с
волнами» и данная пьеса («Король Большой Часовой
башни», 1934.— В. Р.) следуют своей японской модели
постольку, поскольку их кульминация — танец и прямое
изображение заменено косвенным и условным, но, как
и сами японские пьесы, это пьесы, предназначенные для
сцены» 17.
История постановки первой из «пьес для танцовщи-
ков», «У Ястребиного колодца», в студийных условиях
достаточно ясно показывает, какие трудности подстере-
гали труппу и постановщика. Йейтс не оставлял надеж-
ды на «какую-нибудь группу студентов» (в начале 20-х
годов, живя в Оксфорде, он думал создать в знамени-
том университете центр театра Но и ставить там свои
пьесы), но такая группа стихийно не возникла; собст-
венную же студию Йейтс не создал. После того, как Ми-
тио Ито уехал в Америку, Йейтс не нашел ему достой-
ной замены, а без исполнителя танцевальной партии
постановка «пьес в стиле Но» для него была невозмож-
на. Такую же сложную проблему представляла музы-
кальная часть спектакля — в особенности подбор испол-
нителей хоров. Труппа профессионалов, собранная «на
случай», как это было при постановке пьесы «У Ястре-
биного колодца», проблем не разрешала. За отсутствием
студии обращение Йейтса к собственному театру было
логичным и практическим шагом. Однако он сделал его
не раньше, чем появилась Нинетт де Валуа, возглавив-
шая балетную школу-студию при Театре Аббатства.
Йейтс увидел в молодой балерине полноправную преем-
ницу Ито и мог теперь быть спокоен хотя бы за танец
в постановке своих «пьес в стиле Но».
В 1920 г., когда все «пьесы в стиле Но» были уже
написаны, а поставлена только одна из них, Йейтс
писал о возможных будущих постановках: «...Труднее все-
го мне будет с танцем, поскольку я очень смутно пред-
ставляю, чего я хочу. Я не хочу ни одной из суще-
ствующих форм сценического танца, но чего-то с мень-
шим диапазоном выразительных средств, чего-то более
сдержанного, более собранного, как и подобает испол-
нителям, находящимся на расстоянии вытянутой руки
от публики» 18. Классический танец Йейтс ненавидел
так же, как коммерческий театр (в «Смерти Кухулина»
226
есть целая филиппика против балерин классического сти-
ля: «Я плюю на их короткие корсажи, на их жесткие
корсеты, на их пуанты, на которых они вертятся, как
волчок, более всего — на их лица горничных»). «Свобод-
ный танец» в стиле Дункан также не удовлетворял тем
требованиям, которые Йейтс, хотя и в самом общем
виде, сформулировал для себя. Нинетт де Валуа была
классической танцовщицей по своей профессиональной
подготовке, но в начале творческого пути увлекалась
танцем-модерн. В постановках пьес Йейтса она танце-
вала в стиле «абстрактного экспрессионизма», который
имел более жесткую форму, чем стиль Дункан. Но, как
и в случае Ито, главным для Йейтса было не то или
иное направление танца, а сама личность актера-тан-
цовщика, его чуткость к идее пьесы и умение выразить
ее в движении. С этой точки зрения де Валуа стала для
него идеальной исполнительницей: «трагикомедииная
танцовщица, трагическая танцовщица, соединившая лю-
бовь и ненависть, жизнь и смерть», как Йейтс говорит
о ней устами Старика в «Смерти Кухулина». С конца
20-х годов Нинетт де Валуа принимает участие в поста-
новках «пьес в стиле Но» в Театре Аббатства как хорео-
граф и танцовщица.
Однако проблема остальных исполнителей оставалась
острой, и не только из-за отсутствия актеров-певцов.
Драматические роли, Старик и Юноша-Кухулин, также
представляли трудность для нового поколения актеров
Театра Аббатства. В 900-е годы выучка Фрэнка Фэя
позволяла его молодым ученикам овладевать стихотвор-
ным текстом (хотя Йейтс считал, что в их исполнении,
как правило, было мало страсти); главные роли в поэти-
ческих пьесах Йейтса исполнял сам Фрэнк Фэй. С ухо-
дом Фэев поэтическая культура труппы упала, на что
не раз сетовал Йейтс. Отдавая «пьесы для танцовщиков»
в руки актеров своего театра, Йейтс шел на неизбеж-
ные потери. Было очень существенно и то обстоятельст-
во, которое он сам подчеркивает, говоря о сценической
истории своих поздних пьес: они не предназначались для
большой сцены (как ни условен эпитет «большая» в
применении к миниатюрной сцене Театра Аббатства);
принципиально важный для них эффект странности и
приближенности к публике в значительной степени те-
рялся.
Йейтс, как всегда, сделал практические выводы из
проблем, вставших перед ним при сценическом вопло-
227
щении его пьес. Во-первых, как уже говорилось, была
создана вторая, камерная, сцена в Театре Аббатства
(зал «Пикок»)—она, естественно, предназначалась не
для одних только «пьес для танцовщиков», а для всех
других произведений, требующих студийных условий и
экспериментирования. Одну из своих новых пьес, «Вос-
кресение», Йейтс предполагал поставить в этом камер-
ном зале.
Другим важным моментом были изменения в стиле
драматургии Йейтса 20-х годов. Его пьесы (включая
переводы трагедий Софокла об Эдипе) написаны про-
зой, а «Воскресение» и «Слова на оконном стекле» внеш-
не приближены к пьесам более привычного для тогдаш-
него театра типа, чем «драмы в стиле Но», созданные
Йейтсом в 1916—1919 гг. Тем самым драматург пошел
навстречу реальным возможностям той труппы, для ко-
торой он предназначал свои пьесы. Аналогичным обра-
зом Йейтс поступал и в прошлом. Его пьеса «Песочные
часы», претерпев изменения в результате постановки
1911 г., была переписана еще раз: специально для при-
глашенного в театр Ньюджента Монка (исполнившего
роль Мудреца в 1912 г.) Йейтс создал стихотворный
вариант, который, однако, не отменил более ранней,
прозаической, редакции,— пьеса стала существовать в
двух равноправных вариантах, причем прозаический, как
и предполагал сам Йейтс, ставился гораздо чаще.
Следующей задачей было приспособление к большой
сцене произведений, рассчитанных на «интимный театр».
Наиболее радикально Йейтс решил эту задачу приме-
нительно к «Единственной ревности Эмер». То, как он
это сделал, может также служить образцом практиче-
ского содружества драматурга с другими художниками
театра.
«Единственная ревность Эмер» была впервые постав-
лена в Амстердаме в 1922 г. молодым, впоследствии из-
вестным актером Альбертом ван Далсумом, кстати,
увлекавшимся тогда экспрессионизмом,— есть некото-
рый парадокс в том, что Йейтс, отвергавший экспрес-
сионизм, притягивал к себе людей, связанных с этим
направлением. В 1926 г. постановка ван Далсума была
возобновлена. Йейтсу были посланы фотографии сцен из
спектакля и масок, сделанных скульптором Хильдо ван
Кропом. Драматург не только был обрадован этим, но
и решил использовать опыт амстердамской постановки
для создания варианта пьесы, предназначенного для
228
«Битва с волнами». J 9 29 г. Театр Аббатства.
Режиссер Л. Робинсон, художник Д. Т. Смит,
маски — Хильдо ван Крон.
Сцена у ложа Кухулина. Слева направо: Эмер — М. Мур,
Этне Ингуба — Ш. Ричарде, Кухулин-Брикриу — М. Долан
обычной сцены. В его распоряжении была труппа Теат-
ра Аббатства и танцовщики во главе с Нинетт де Ва-
луа. Все это дало в результате новый вариант пьесы,
названный «Битва с волнами» и впервые поставленный
на основной сцене Театра Аббатства в 1929 г.
Пьеса, за исключением вступительного и заключи-
тельного хора, написана прозой. Из роли Фанд полно-
стью исключен текст, поскольку де Валуа, исполнитель-
ница этой роли, не могла выступать в качестве драма-
тической актрисы. Кроме того, спектакль имел танце-
вальный пролог, исполнявшийся учениками балетной сту-
дии Театра Аббатства. О его характере можно судить,
прочитав пространную ремарку Йейтса (пьеса была
издана после ее постановки): «Занавес с узором, изоб-
ражающим волны. С одного края сцены входит человек
в маске Кухулина, с мечом и щитом. Он танцует, изоб-
ражая человека, бьющегося с волнами (волны могут
изображаться другими танцовщиками). В своей ярости
он воображает, что волны — его враги; постепенно сни-
229
кает, как буд^о побежденный в битве; затем, как в ка-
талепсии, замирает, устремив взгляд на какой-то вооб-
ражаемый отдаленный предмет. Сцена темнеет, а когда
снова дают свет, она пуста. Входят музыканты. Двое из
них становятся по сторонам занавеса и поют». Затем
занавес отдергивался, и зрители видели простую деко-
рацию, приближенную к первоначальному варианту:
стена, кровать под пологом. В основном действии роль
Призрака Кухулина исполнял драматический актер, но-
сивший ту же маску, что и танцовщик в прологе. У спек-
такля был эпилог: музыканты задергивали занавес, зву-
чал заключительный хор, после чего следовала танце-
вальная сцена: «...Входит Фанд, женщина-фея, и танцу-
ет, выражая отчаяние из-за потери Кухулина. Как и
раньше, могут участвовать другие танцовщики, изобра-
жающие волны. Танец называется, для симметрии с
первым танцем, «Фанд скорбит среди волн». Этот та-
нец, как вода в гадальных книгах, символизирует го-
речь. Когда Фанд принимает финальную позу, выражаю-
щую отчаяние, опускается основной занавес».
О том, как выглядел пролог к спектаклю 1929 г.,
можно судить по фотографии, сделанной на премьере.
Занавес-задник расписан в стилизованном духе, близ-
ком к модерну: волны напоминают чайку на занавесе
МХТ и одновременно — волну с известной гравюры Хо-
кусая, что неудивительно, поскольку художники модер-
на увлекались японской гравюрой, а в постановке пьесы
в стиле Но, хотя бы и на ирландский сюжет, отдален-
ный намек на японский колорит вполне уместен. Облик
танцовщиков и хореография также чуть-чуть напоми-
нают о японском искусстве. Кордебалет, изображающий
волны, и солист, исполнитель партии Кухулина, запе-
чатлены в позе на полусогнутых ногах; при этом торс
не меняет своего вертикального положения, а движение
явно идет от бедра. Такая постановка тела характерна
для танца в театре Но. Однако руки танцовщиков и
постановка головы уже не имеют отношения к япон-
скому театру; общий характер танца, запечатленного на
фотографии, выдержан в стиле модерн, в котором «япон-
ский оттенок» — один из декоративных элементов. Инте-
ресно, что маска Кухулина также вызывает определен-
ные ассоциации с японским искусством: она больше по
размеру, чем лицо, сильно вытянута по вертикали, с вы-
соким продолговатым лбом, с узкими прорезями для
глаз. Танцовщик, одетый в подобие древнегреческой
230
«Битва с волнами». 1929 г. Театр Аббатства.
Художник Д. Т. Смит, хореограф Нинетт де Валуа. Пролог
туники, с наколенниками и шнуровкой на голых ногах,
одновременно похож на греческого воина-гоплита и на
самурая.
Музыкальное решение «Битвы с волнами» особенно
ярко демонстрирует способность Йейтса находить для
новых условий новые приемы. Музыку к спектаклю, по
просьбе Йейтса, написал молодой американский ком-
позитор-авангардист Джорд Энтил, широко использо-
вавший джазовые средства выразительности. Музыка в
«Битве с волнами» также исполнялась большим оркест-
ром, что было явным отходом от первоначальной идеи
Йейтса. Но, как оказалось, он умел жертвовать своими
сценическими идеями, если того требовала практическая
необходимость реального театра и если потери воспол-
нялись художественными приобретениями. Именно та-
кова была ситуация с музыкой при постановке «Битвы
с волнами». Решающую роль сыграло то, что Иейтс на-
шел в музыке Энтила глубокое созвучие характеру
своей драматургии. «Нечто героическое и варварское
и странное» 19, «чрезвычайно странная, чрезвычайно дра-
матическая музыка»20, «волнующая драматическая му-
зыка»21— таковы некоторые из оценок музыки Энтила
Иейтсом. Особенно много говорит одна фраза, характе-
ризующая музыку к «Битве с волнами»: «...Музыка, ко-
231
торая передавала не бесформенность, но ритм моря»22.
Ритм был для Иейтса первейшим условием исполнения
его пьес, о чем бы ни шла речь: о драматическом стихе
или о лирических хорах, о музыке или о танце. «Я не
музыкален: у меня точное чувство ритма, присущее поэ-
ту, и только самое приблизительное чувство тона» 2Л,—
писал Йейтс. Флоренс Фарр с ее «несравненным чув-
ством ритма» была для него идеальной исполнительницей
поэзии, несмотря на то, что в своих «распевах» она, как
утверждали музыкально чуткие слушатели, сбивалась с
тона24. Главная функция музыкальных инструментов,
которые должны были сопровождать действие «пьес в
стиле Но», состояла в том, чтобы держать ритм. Опре-
деленность ритмического рисунка в танцевальном сти-
ле Ито и де Валуа была одной из главных причин при-
влекательности этого стиля для Йейтса,— в то время
как танец Дункан был для него слишком аморфным.
Несомненно, что в «Битве с волнами» танцы и музыка
находились в гармоническом единстве.
Но музыка Энтила должна была бесконечно ослож-
нить ту проблему, которая и так представляла большую
трудность: исполнение лирических хоров. Ни при поста-
новке пьесы «У Ястребиного колодца», ни в более ран-
ние годы Йейтс не мог добиться того, чего он хотел.
В свое время (ставя «Дейрдре», «На Берегу Байле») он
находил выход, передавая текст хоров одному испол-
нителю, скажем, музыкально одаренной и чуткой Саре
Оллгуд, которая добивалась необходимого эффекта,— но
тоже, по мнению Йейтса, далеко не всегда. Теперь же,
с одной стороны, в труппе не было актеров с такой
поэтической культурой, а с другой, характер музыки
Энтила затруднил бы исполнение хоров и для самой
Флоренс Фарр.
Эта проблема уже вставала перед Йейтсом во вре-
мя постановки трагедий Софокла, и он решил ее, исхо-
дя из конкретных условий. В предисловии к изданию
«Царя Эдипа» Йейтс подробно написал об этом: «Этот
вариант пьесы Софокла был написан для дублинских
актеров, для дублинского литургического хора, для ма-
ленького зала, в котором хористы должны были непо-
движно стоять на том месте, где обычно ставят свои
стулья оркестранты, для зрителей, которые идут на
спектакль не с тем, чтобы просветиться, а единствен-
но для того, чтобы получить эмоциональное впечатление.
Иными словами, я выбросил из головы заботу о чита-
232
телях и ученых и писал так, чтобы мои слова можно
было петь и произносить...
Много лет назад я убедил Флоренс Фарр так подго-
товить исполнителей хоров в одной греческой пьесе, что-
бы слова, которые пелись, были почти так же отчетли-
вы и драматически полноценны, как слова, которые про-
износились; я посвятил этому ее искусству статью «Де-
кламация в сопровождении псалтериона». Я просил мое-
го дублинского постановщика Леннокса Робинсона пре-
небречь этим эссе,— частично потому, что в его распо-
ряжении были литургический хор, но главным образом
потому, что, если хор стоит неподвижно и в полутени,
музыка и пение должны, вероятно, обладать таким раз-
нообразием ритма и тона, которое несовместимо с от-
четливостью и драматическим эффектом слов. Главная
цель хора здесь — сохранять атмосферу и давать отдых
зрителю путем переключения внимания. Режиссеру, у ко-
торого есть пространство ниже уровня сцены, где хор
может двигаться, например, вокруг алтаря, я бы посо-
ветовал поэкспериментировать с этой моей давней мыс-
лью и держать своих певцов в обычном речевом диапа-
зоне— как если бы они пели «Запад проснулся» или как
моряки на палубе вокруг нактоуза. Однако у него будут
собственные певцы и собственные проблемы, и он дол-
жен довольствоваться тем, что есть в наличии»25.
Этот текст — свидетельство поражения, отступления
от очень дорогих принципов и одновременно — новых
художественных поисков. Хоры «Царя Эдипа» (и «Эди-
па в Колоне») заслуживают большего, чем та служеб-
ная роль, которую им отвел в спектакле Иейтс: это
высокие образцы поэзии, а их драматическая роль ни-
чуть не меньше, чем у прозы диалога. И все же, думая
о целостности впечатления, Иейтс пожертвовал слова-
ми ради музыки, которую ценил очень высоко. Иейтс в
данном случае мог с уверенностью рассчитывать на
желаемый музыкально-драматический эффект, так как
располагал профессиональным хором исполнителей ду-
ховной музыки. Мышление Йейтса глубоко театрально:
он учитывает форму и размеры сцены, а при определен-
ных условиях предусматривает иное, отвечающее его
первоначальным идеям решение. Разумеется, оно было
бы для него идеальным, но в последней фразе звучит
пессимистическая нота: Йейтс хорошо знал на собствен-
ном опыте, как часто, работая в театре, приходится
идти на компромисс. Результатом компромисса было и
233
решение проблемы хоров в постановке «Эдипов». Йейтс
не пишет здесь о том, что в начале он хотел реализовать
свою «давнюю идею» и привлек литургический хор
именно с этой целью. Но чуда не произошло — певцы
не превратились в декламаторов поэзии уровня Фло-
ренс Фарр. Тогда Йейтс нашел выход, о котором он
пишет в предисловии к «Царю Эдипу»26,— вполне созна-
вая, что таким образом было достигнуто и что утеряно.
Эта противоречивость и есть точное выражение по-
зиции Иейтса по отношению к своим театральным опы-
там 20-х годов. Мы находим ее и в других высказыва-
ниях драматурга на эту тему. Так, в предисловии к
«Битве с волнами» в сборнике «Колеса и бабочки»
(1934) Йейтс написал: «...Я переписал пьесу не только
для того, чтобы сделать ее пригодной для такой сцены
(публичной.— В. Р.), но и чтобы освободить ее от абст-
ракции и запутанности». Однако за этим тезисом сле-
дует почти антитезис: «Я не хочу сказать, что слова
диалога необходимо делать такими простыми и такими
обыденными всегда, когда пишешь для широкой пуб-
лики; но это необходимо, когда предполагается воздей-
ствие, в основном, на зрение, а на слух — через посред-
ство песен и музыки. «Битва с волнами» сама по себе —
ничто, просто повод для искусства скульптора и тан-
цовщика, для волнующей драматической музыки Джорд-
жа Энтила»27.
В другом месте (предисловие к однотомному собра-
нию пьес 1934 г.) Йейтс характеризует «Битву с вол-
нами» (не включенную в сборник) как «прозаический
вариант «Единственной ревности Эмер», написанный
так, чтобы сделать возможным участие многих танцов-
щиков и быть абсолютно понятным среднему театраль-
ному зрителю»28. Из двух последних высказываний явно
можно вывести, что переделки не пошли на пользу
пьесе.
При постановке «Битвы с волнами» литургический
хор не использовался, но, как видно из описаний Иейт-
са и других свидетельств, техника пения была такой же,
как в трагедиях Софокла. Об эффекте исполнения хо-
ров в этом спектакле можно судить снова по описанию
самого Йейтса: «Исполняемые под современную музы-
ку в современной манере, они воздействуют на слух
странным музыкальным рисунком, не загромождая его
своими сложными, не связанными с действием слова-
ми»29. Важно заметить, что подобный эффект, при всей
234
компромиссное™ решения, не вполне противоречил
принципам Йейтса. На это обратили внимание ряд ис-
следователей. В свое время, при первой постановке «На
Берегу Байле», Иейтс специально требовал от исполни-
телей ритуальной песни, чтобы их голоса были почти
не слышны, создавая фон для диалога, и выдвигал тот
же аргумент, что двадцать лет спустя: для театра под-
ходит именно такое решение, а читатель ничего не по-
теряет, поскольку текст пьесы напечатан. Идея «зате-
рянности», «спрятанности», сложного смысла среди «узо-
ров» действия и музыки, которую Йейтс выдвинул в
связи с постановками 20-х годов и повторял позже, со-
гласуется с одним из его глубоких и постоянных убеж-
дений, относящихся к символу: рациональное, сознатель-
ное осмысление — лишь небольшая и самая поверхност-
ная часть художественного восприятия; глубже, хотя
менее заметно, воздействует то, что апеллирует к под-
сознанию, к интуиции. Вероятно, «странный музыкаль-
ный рисунок» хоров «Битвы с волнами» мог быть от-
несен к этой категории.
В целом Иейтс был удовлетворен постановкой, в ко-
торой соединились таланты скульптора, композитора и
балерины. Он посвятил пьесу Хильду ван Кропу, а в
предисловии написал: «Я глубоко признателен за мас-
ку, отливающую серебром, как рыба, за танец, подоб-
ный водовороту, за музыку, которая передавала не бес-
форменность, но ритм моря» 30. Такова, при всех оговор-
ках, итоговая оценка Иейтсом спектакля 1929 г. Отклик
публики также принес драматургу удовлетворение: спек-
такль привлек большое внимание.
Постановка «Битвы с волнами» — наиболее смелый
и наиболее удачный театральный эксперимент Йейтса в
20-е годы. Однако он не разрешил всех проблем сцени-
ческого воплощения поздних пьес Йейтса. Избрать путь
переделок для всех своих «пьес в стиле Но» Иейтс не
мог — в этом отношении «Битва с волнами» осталась
единственным прецедентом. Кроме того, скромное финан-
совое положение театра не позволило продолжить по-
становки с большим оркестром: при жизни Йейтса «Бит-
ва с волнами» в Театре Аббатства больше не ставилась
(хотя в том же 1929 г. ее поставили в Лондоне, в экс-
периментальном театре «Лирик»). Ждали своего сце-
нического рождения «Голгофа», «Воскресение», «Грезы
мертвых». Парадокс драматурга, творчески существую-
щего одновременно в театре и вне театра, продолжался.
235
Примечания
1 Подлинные слона консервативного премьера Ллонд-Джорджа.
2 От английского «Free State» — «свободное государство».
3 В автобиографическом романе «Прощай, Ирландия» (1949). О'Са-
sey S. Inishfallen, Fare Thee Well. N. Y., 1949, p. 209.
4 Yeats W. B. Essays and Introductions. L., 1961, p. 499.
;' Мост через небольшую реку, протекающую мимо Башни Бэл-
лили.
fi The Collected Poems of W. В. Yeats. L., 1963, p. 534.
7 The Letters of W. B. Yeats. Ed. Wade A. L., 1954, p. 726—727.
8 Цит. no: Spivak G. C. Myself Must I Remake. The Life and Poetry
of W. B. Yeats. N. Y., 1974, p. 129.
& Т. е. Свифт, бывший настоятелем кафедрального собора св. Пат-
рика в Дублине.
,и Констанс (Кон) Маркевич после выхода из тюрьмы продолжала
политическую деятельность в Ирландии. Она умерла в 1927 г.
Ева (1870—1926), жила в Англии, где была видной суффражист-
кой и деятельницей рабочего движения.
11 Название родового имения семьи Гор-Бут.
12 В Театре Аббатства были поставлены две пьесы Софокла в пере-
воде Йейтса: «Царь Эдип» (1926) и «Эдип в Колоне» (1927),
причем работу над первой из них драматург в основном завер-
шил еще в начале 1910-х годов.
13 Предисловие к «Воскресению» в кн: Yeats W. В. Wheels and But-
terflies. L., 1934; N. Y., 1935.—In: The Variorum Edition of the
Plays of W. B. Yeats. Ed. Alspach R. K. N. Y., 1966, p. 935.
14 Цит. no: Fitzpatrick D. W. B. Yeats in Seanad Eireann.— In: Yeats
and the Theatre. Ed. O'Driscoll R., Reynolds L. Niagara Falls,
1975, p. 174. Генри Грэттен (1746—1820), Эдмунд Бёрк (1729—
1797) —политические деятели.
15 Предисловие написано в 1931 и впервые опубликовано в 1934 г.
(сб. «Wheels and Butterflies»). Цит. по: The Variorum Edition of
the Plays of W. B. Yeats, p. 957—958, 964. Творчество английских
поэтов и прозаиков, названных здесь Иейтсом, охватывает период
примерно от середины XVII до конца XVIII в.
w Ibid., р. 958.
17 Комментарии к пьесе «Король Большой Часовой Башни»
{Yeats W. В. The King of the Great Clock Tower. Dublin, 1934.—
Ibid., p. 1009).
18 Предисловие в кн.: Yeats W. В. Four Plays for Dancers. L.; N. Y.,
1921.—Ibid., p. 1304—1305.
19 The Letters of W. B. Yeats, p. 761—762.
20 Предисловие в кн.: Yeats W. В. Wheels and Butterflies.—In: The
Variorum Edition of the Plays of W. B. Yeats, p. 1308.
21 Предисловие к пьесе «Битва с волнами» в том же издании.—
Ibid., р. 567.
22 Ibid., р. 571.
23 Комментарии к пьесе «Король Большой Часовой башни».—
Ibid., р. 1008.
24 Ibid.
25 Yeats W. В. Sophocles' «King Oedipus». L.; N. Y., 1928 (Preface).—
Ibid., p. 851. «Запад проснулся» — популярная ирландская пат-
риотическая песня.
26 Историю музыкального решения «Царя Эдипа» рассказал дири-
жер оркестра Театра Аббатства Джон Ларше в интервью с
236
Джеймсом Флэннери (1966). См.: Flannery J. W. W. В. Yeats
and the Idea of a Theatre. Toronto, 1976, p. 202.
21 Yeats W. B. Wheels and Butterflies.-In: The Variorum Edition
of the Plays of W. B. Yeats, p. 567.
28 The Collected Plays of W. B. Yeats. L., 1934; N. Y., 1935 (Prefa-
ce).—Ibid., p. 1309.
29 Предисловие к «Битве с волнами» (Yeats W. В. Wheels and But-
terflies).— Ibid., p. 567. В оригинале по отношению к словам хо-
ров употреблено слово «irrelevant», что дало некоторым иссле-
дователям (например Реджу Скину) основания считать, что
Йейтс здесь уничижительно отозвался о своей поэзии, посколь-
ку это слово обычно значит: «ненужный», «неуместный». Однако
из контекста самой пьесы и ряда высказываний драматурга впол-
не ясно, что речь здесь идет не о ненужности, а о сложной, ассо-
циативной, непрямой связи того, что говорится в хорах, с тем,
что происходит в сюжете.
30 Ibid., р. 571.
ЗАВЕРШЕНИЕ ПУТИ
К концу 20-х годов в творчестве Иейтса наступил пе-
релом, знаменующий выход из кризиса. Вехами пере-
лома можно считать поэтический цикл «Слова, может
быть, для музыки», а также комментарии к «Словам
на оконном стекле» и отчасти саму эту пьесу. Те моти-
вы, которые здесь прозвучали, стали главными для
всего творчества Йейтса в завершающее десятилетие
его жизни.
Большинство стихотворений цикла «Слова, может
быть, для музыки», было написано Йейтсом весной
1929 г., после тяжелой болезни. Йейтс рассказывает о
том, как возник этот цикл: «Затем весной 1929 г.
жизнь вернулась ко мне как ощущение безграничной
энергии и дерзости великих создателей... Я написал
«Безумны, как туман и снег», механическую песенку,
а потом всю группу стихотворений, названную, в па-
мять этих недель ликования, «Слова, может быть, для
музыки»1. «Ликование» — то слово, которым можно оп-
ределить и основной тон цикла, — ликование, но не без-
мятежность, не гармония. Напротив: в этих двадцати
пяти коротких стихотворениях гармонические и мелодич-
ные интонации редки, преобладают диссонанс, гротеск,
резкие и пронзительные звуки. Такой поэту видится
жизнь, но он не проклинает ее, а страстно приемлет.
Авторский голос звучит в устах двух персонажей-
масок, Безумной Джейн и Безумного Тома. Существует
мнение, что у них были конкретные прототипы, люди из
237
У. Б. Йейтс во время выступления по радио Би-би-си
с лекцией о поэзии 3 июля 1937 г.
Фото Би-би-си
народа, и действительно, Том и Джейн сродни тем
жизнестойким и неукротимым крестьянским натурам,
которые до старости сохраняют вольный дух и радость
бытия, несмотря на голод, холод и нищету, — такова
старуха Мери в пьесе Синга «Свадьба лудильщика»,
таковы были реальные крестьяне, которых знал Йейтс.
Традиционный, часто балладный, размер большинства
стихотворений цикла естественен, как дыхание.
И все же эта простота «вторична», поскольку в ней
присутствуют, в снятом виде, сложности и противоре-
чия душевного мира самого поэта. «Механические пе-
сенки» то и дело открыто обнажают свою философскую
суть: Джейн говорит о древнегреческом мифе и о тай-
нах мироздания, Том — о Вечности и Времени. Один
из ведущих мотивов цикла близок к блейковскому «Все,
что живет, — священно»:
Whatever stands in field or flood
Bird, beast, fish or man,
Mare or stallion, cock or hen,
238
Stands in God's unchanging eye
In all the vigour of its blood;
In that faith I live or die.
(Все, что живет в поле или в воде,/Птица, зверь, рыба
пли человек,/Кобыла или конь, петух или курица,/Жи-
вет под неизменным взором бога / В полную силу своего
естества,/ В этой вере я живу и умру. «Безумный
Том».)
Не удивительно, что Блейк, кумир юности Иейтса,
остался спутником его поэзии и в старости. Однако
Йейтс оставался поэтом глубокого современного, реф-
лексирующего склада. Блейковская изначальная цель-
ность и непосредственность мироощущения Иейтсу чуж-
да. Ему гораздо ближе другая сторона Блейка — при-
знание и приятие диалектического единства противо-
положностей как мирового закона. Антиномичность в
восприятии мира сопровождала все творчество Йейтса,
по раньше доминировали два мотива: трагическое ощу-
щение дисгармонии, разрыва противоположных начал
и жажда их идеального союза. Теперь на первый план
вышла чисто блейковская тема: осознание того, что вы-
сокое и низменное, свет и тьма, добро и зло не суще-
ствуют одно без другого, что соединение полярных на-
чал — не идеальное, а реальное, жизненное, — и есть
высшее благо, потому что это сама жизнь.
Жизнеутверждающий пафос цикла «Слова, может
быть, для музыки» — в диалектике авторской мысли о
мире. Глубокий и неподдельный пафос приятия жиз-
ненных антитез, который пронизывает позднее творче-
ство Иейтса, выражен через идею соединения самых
крайних начал.
Другой мотив творчества Иейтса 30-х годов, с боль-
шой силой выраженный уже в «Словах на оконном стек-
ле», — стойкость и мужество личности, ее верность себе
до конца, несмотря ни на что. В пьесе о Свифте, в це-
лом глубоко пессимистичной, этот мотив переводит все
происходящее в тональность героическую. «Надменный
ум» Свифта борется до конца с морем враждебных об-
стоятельств и мнений, с соблазнами легкой и тихой част-
ной жизни, с собственными трагическими прозрениями
будущего — до тех пор, пока этот ум существует.
Необходимо добавить, что главным источником му-
жественной уверенности, обретенной йейтсом на склоне
лет, стало ощущение и осознание им себя как частицы
239
ирландской нации. Ничто другое: ни диалектическое
осмысление бытия, ни личностная концепция (предвос-
хищающая французский экзистенциализм в его герои-
ческом варианте) — при всей значительности обоих
этих мотивов в духовной жизни Йейтса — не давало ему
такого ощущения причастности к надындивидуальному
целому. Именно благодаря этому лирик Иейтс смог на-
конец, не насилуя своей человеческой и творческой при-
роды, выйти к эпическому мироощущению. Оно-то,
главным образом, и внесло качественно новую доми-
нанту в его творчество 30-х годов.
При этом Йейтс еще менее, чем раньше, склонен
примириться с ирландской послереволюционной дейст-
вительностью, увидеть в ней осуществление своих идеа-
лов. В его стихах звучит свифтовское «яростное негодо-
вание» (saeva indignatio — слова из латинской автоэпи-
тафии Свифта) против ничтожного настоящего, которое
не оправдало великих надежд. Тем величественнее в
глазах поэта образы тех, кто составил гордость ирланд-
ской нации; среди них и герои прошлого, и его друзья и
современники.
Различные, то сосуществующие, то спорящие друг с
другом голоса продолжают звучать в поэзии Йейтса,
какой бы темы он ни касался. Интеллектуальное ос-
мысление бытия в резких и грубых контрастах соче-
тается с поразительно свежим и трепетным ощущением
прелести каждого летучего мгновения жизни, подчерки-
вание физиологической подоплеки духовного — с нежно-
стью и тонкостью. Стремление к покою, гармонии, за-
конченности спорит с порывом, с живым несовершен-
ством, тяга к истокам и опора на традицию — с потреб-
ностью непрестанного движения вперед и обновления.
Тот же спор и то же многоголосье — непосредственно в
поэтической ткани, в стихе Йейтса: торжественная ин-
тонация чередуется с разговорной, одические строфы —
с уличной песней и балладой. В 30-е годы Йейтс под-
водит итоги, заново утверждает идеалы, которым слу-
жил всю жизнь, тщательно составляет свое духовное
завещание — и одновременно остается, как он выразил-
ся (в стихотворении «Молитва старости»), «глупым,
страстным человеком», способным на увлечения и не-
последовательность, на парадоксальные мысли и поступ-
ки, на самые неожиданные отступления от той системы,
которую он сам же так долго и последовательно вы-
страивал. Это касается и его творчества, и философских
240
и эстетических воззрений, и политических взглядов, и
просто человеческих симпатий и антипатин.
При оценке общественных и политических взглядов
Йейтса в конце его жизненного пути необходимо, не
закрывая глаза на противоречия в его позиции, ясно
сознавать, что было главным, а что — второстепенным,
что — сущностью и что — преходящими эпизодами. Тем,
кто при жизни Йейтса и позднее обвинял его в над-
менном аристократизме и реакционности, раз и навсег-
да ответил О'Кейси, человек страстных демократиче-
ских, антифашистских, коммунистических убеждений.
В статье, опубликованной вскоре после смерти Йейтса,
О'Кейси свидетельствует: «В последние годы своей жиз-
ни Йейтс сделался более человечен, ближе подошел к
окружающей жизни и, как он рассказывал мне сам, глу-
боко заинтересовался по-новому зазвучавшим голосом
рабочего класса, голосом, не похожим на другие, тре-
бующим земли и благосостояния для всех на этой зем-
ле» 2. А вот высказывание О'Кейси, приведенное его био-
графами: «Он (Йейтс. — В. Р.) ненавидел ирландскую
толпу, но любил ирландский народ» 3.
В критической литературе о Йейтсе можно нередко
встретить мнение, что Йейтс был внутренне отстранен
от напряженной атмосферы предвоенного десятилетия,
что он либо не чувствовал ее, либо был к ней равноду-
шен, занятый своими духовными и философскими поис-
ками или сугубо ирландскими делами. Собственно, это
суждение (в упрек или в похвалу Иейтсу — в зависи-
мости от позиции критика) уже высказывалось приме-
нительно к периоду первой мировой войны; в обоих
случаях оно одинаково прямолинейно и поверхностно.
В 30-е годы, так же, как и в предшествующие Йейтс
острейшим образом ощущал дух времени, и это нашло
выражение и в мотивах, и в тоне его поэзии. Упреки же
в глухоте нужно переадресовать тем исследователям,
которые выводят новое ощущение жизни в поэзии Йейт-
са и его концепцию героически стойкой личности в 30-е
годы исключительно из обстоятельств его частной жиз-
ни. Обычные ссылки на зашифрованное^, опосредован-
ность поэзии Йейтса несостоятельны: как раз в стихо-
творениях 30-х годов сколько угодно примеров, когда
поэт говорит открытым текстом. Знаменитое стихотво-
рение «Ляпис-лазурь» начинается с презрительных слов
о тех, кто паникует перед надвигающейся войной,—
им противопоставлены «исполнители» великих траги-
9 В. А. Ряполова
241
ческих ролей, люди, которые не дрогнут и не посрамят
себя на сцене истории, когда наступит «последняя сце-
на», требующая величайшего духовного напряжения.
В стихотворении «Политика» (1938), коротком, напи-
санном на одном дыхании шедевре, страстная тяга к
юности, любви, жизни дерзко и победоносно противо-
стоит военной угрозе — тому, что враждебно жизни:
How can I, that girl standing there,
My attention fix
On Roman or on Russian
Or on Spanish politics?
Yet here's a travelled man that knows
What he talks about,
And there's a politician
That has read and thought,
And maybe what they say is true
Of war and war's alarms,
But О that I were young again
And held her in my arms!
(Как могу я при этой девушке/ Сосредоточить свое вни-
мание/На римской, русской /Или испанской полити-
ке?/Вот, однако, человек, объехавший много стран и
знающий,/0 чем он говорит,/И вот политик,/ Который
много читал и размышлял,/И, возможно, верно то, что
они говорят/О войне и ее тревожных сигналах,— /Но,
боже, если б я снова был молод/И держал ее в своих
объятьях!).
В то же время Йейтс пристально следил за мировой
политикой и непрестанно размышлял о дальнейшем хо-
де истории и в особенности — о судьбе культуры. Идеа-
лы гармонического общества для него прежние: Визан-
тия эпохи Юстиниана, ренессансный Урбино, средневе-
ковая Япония (времени расцвета театра Но), Ирландия
XVIII в., — все эти слова надо было бы заключить в
кавычки, поскольку они гораздо более художественные
образы, чем конкретно-исторические понятия. Можно
заметить, что во всех этих образах присутствует идея
аристократизма; ее Иейтс хотел бы видеть воплощенной
и в настоящем, о чем неоднократно говорил и писал.
Казалось бы, все здесь ясно: убежденный консерва-
тизм, чуть ли не феодальные идеалы и симпатии, — но
тех, кто в этом уверится, поджидает очередной пара-
докс. Когда Йейтс в своих размышлениях о развитии
общества обращался к настоящему и переходил на кон-
242
кретную социальную и идеологическую почву, то выяс-
нялось, что надежды на воплощение своих идеалов он
связывал с теми, кого, по прямолинейной логике, дол-
жен был бы считать своими антагонистами. К автори-
тетному свидетельству О'Кейси о глубоком интересе к
рабочему классу, проявившемся у Йейтса в его послед-
ние годы, нужно прибавить многочисленные факты пря-
мого обращения Йейтса как социального мыслителя в
левой, радикальной интеллигенции, к «Чердакам и Под-
валам», как он образно ее называет.
Жизнь и общественная деятельность Йейтса в 30-е
годы по своему характеру — словно двойник его твор-
чества: несколько главных линий, при сложности и
разнообразии общей картины, диссонансы и парадоксы,
а главное — пронизывающая все живая, диалектическая
противоречивость, которая исключает возможность су-
дить о целом по какой-то одной стороне, по одному
изолированному, пусть даже яркому и значительному,
факту. И еще: неослабевающая энергия.
Парадокс Йейтса-драматурга в заключительный пе-
риод его творчества продолжался. Возобновляются по-
становки его старых пьес, идут новые (а также ранее
написанные, но еще не увидевшие сцены в 20-е годы:
«Воскресенье», «Грезы мертвых»), некоторые из этих
спектаклей доставляют ему подлинную радость, но
Театр Аббатства не становится «театром Йейтса», комп-
ромиссы с условиями сцены и возможностями труппы
не прекращаются. При этом Йейтс остается театраль-
но мыслящим автором и в самом общем, и в конкрет-
но-практическом смысле слова: он развивает свою мо-
дификацию театра Но и предназначает свои произведе-
ния для определенной сцены и определенных исполни-
телей. Пьеса «Король Большой Часовой башни», на-
пример, была написана специально для Нинетт де Ва-
луа — она исполняла безмолвную, построенную только
на пантомиме и танце роль Королевы, а новый вариант
этой же пьесы, «Мартовское полнолуние», был создан
в расчете на участие Маргарет Раддок, сочетавшей в
себе талант драматической актрисы и танцовщицы. Ма-
лая сцена Театра Аббатства, «Пикок», а также теат-
рально-балетное училище при театре — реальные ре-
зультаты неустанных новаторских исканий Йейтса, та
опора, которая была ему необходима для дальнейшей
работы над поэтической драмой.
243
о*
Насколько незавершенным и несовершенным Йейтс
считал то, что он сделал в драматургии и в театре, вид-
но хотя бы из написанного им в 1937 г. «Предисловия
к моим пьесам». Там, в частности, Иейтс с величайшей
теплотой и уважением пишет о Фрэнке Фэе и добав-
ляет знаменательные слова: «Если бы он сейчас был
жив и мы оба — молоды, я попросил бы.его помощи в
разработке новых драматургических и сценических
форм»4. Эти формы Иейтс продолжал искать и разра-
батывать па протяжении всех последних лет, несмотря
на то, что рядом с ним не было Фрэнка Фэя, несмотря
на редкие и частичные удачи постановок его пьес. Уход
Нинетт де Валуа, которую, как в свое время Ито, «от-
нял» у Йейтса балетный театр, означал прекращение
не только содружества с идеальной исполнительницей,
но и работы по созданию синтетического театра нового
типа (каковой, по замыслу Йейтса, должен был выра-
сти из училища при Театре Аббатства). Иейтс глубо-
ко ощущал эту потерю — свои сожаления он выразил
даже в тексте пьесы «Смерть Кухулина», — однако
поисков нового не прекратил. Свидетельство тому —
пьесы, созданные им в последние два года жизни:
«Яйцо Цапли», «Чистилище», «Смерть Кухулина». Как
и прежде, драматург не устает возвращаться к произ-
ведениям, уже завершенным, опубликованным и пока-
занным зрителю. В 1931 г. вышел из печати, а в 1934 г.
был поставлен новый вариант «Воскресения». Пьеса
«Король Большой Часовой башни» существует факти-
чески в трех редакциях: первая, в прозе и стихах, пред-
ставленная на сцене в 1934 г. вместе с «Воскресением»,
вторая — стихотворная, опубликованная под тем же на-
званием в 1935 г., и третья — «Мартовское полнолуние»,
созданная в 1934 г. и напечатанная в 1935 г. Текст
«Смерти Кухулина» Иейтс продолжал править в самые
последние дни своей жизни.
Старость и болезнь как будто не властны над дра-
матургом: интенсивность его работы в 30-е годы воз-
растает, а среди пьес, созданных в этот период, — его
самые совершенные и самые смелые по художествен-
ному замыслу произведения.
«Король Большой Часовой башни» по своим моти-
вам близок к лирическому циклу «Слова, может быть,
для музыки»: все три варианта пьесы выражают кон-
цепцию гармонии жизни как непременного и неизбеж-
ного соединения диаметрально противоположных начал.
244
В самом чистом и концентрированном виде это дано
в «Мартовском полнолунии»: убран «лишний», как пи-
сал сам Иейтс5, персонаж (Король, давший заглавие
предыдущим вариантам), противоположности заострены
до степени гротеска, снята ностальгическая тема идеаль-
ной Ирландии прошлого, открыто обнажена условность
сюжета. Все сведено к полярно противоположным сущ-
ностям: сверкающая чистота — и отвратительная, зло-
вонная грязь; разум — и «голая» эмоция; холодная дев-
ственность — и вожделение, красота — и безобразие,
культура — и варварство, самое высокое — и самое низ-
менное, короче — Королева и Свинопас. Их встреча и
есть содержание этой самой короткой среди коротких
пьес Иейтса (в ней всего 197 строк).
Драматург использовал популярный сказочный мо-
тив, видоизменив его для своих целей. В «Мартовском
полнолунии» прекрасная и гордая девственница Коро-
лева обещает свою руку и трон тому, кто сможет тро-
нуть ее сердце любовной песней. Является грязный,
оборванный, безобразный и разнузданный Свинопас, и
хотя Королева может прогнать его, не выслушав, или
покарать за дерзость смертью, как многочисленных пре-
тендентов до него, что-то необъяснимое заставляет ее
продолжать разговор со Свинопасом. Ему же не нужен
ни прекрасный дворец, ни трон: если Королева при-
знает его песню лучшей, то ее ждет:
A song — the night of love,
An ignorant forest and the dung of swine.
(Песня, ночь любви,/Дикий лес и свиной навоз.)
Только здесь оскорбленная гордость Королевы пове-
левает ей казнить Свинопаса. Однако после казни с
Королевой происходит метаморфоза: она исполняет та-
нец и песню любви для отрубленной головы, а в куль-
минации действия их уста сливаются, что символизи-
рует ночь любви, которую Свинопас обещал Королеве.
В заключительной песне Хора (его функцию несут двое
слуг, мужчина и женщина) прямо, подчеркнуто резко
дан смысл короткой притчи о Королеве и Свинопасе:
все самое совершенное, прекрасное, возвышенное не са-
модостаточно— оно жаждет «осквернения и ночи люб-
ви» (рефрен, повторенный трижды).
Несмотря на видимую схематическую простоту сю-
жета (что вообще характерно для позднего Иейтса),
«Мартовское полнолуние» представляет собой чрезвы-
245
чайно емкую метафору. Прежде и помимо всего про-
чего это бесстрашное исследование тайного тайных че-
ловеческого сердца, перекликающееся с многочислен-
ными стихотворениями Йейтса, посвященными теме люб-
ви и созданными в период с конца 20-х годов. «Мар-
товское полнолуние» как бы корректирует «Единствен-
ную ревность Эмер», этот апофеоз одухотворенной и
благородной любви, где физическому влечению отводи-
лась самая незначительная роль: в «космическом спо-
ре» за душу Кухулина (Этне Ингуба, олицетворение
чувственной страсти, была бессильна принять участие.
В пьесе 1935 г. космична сама эта страсть, выступаю-
щая в роли универсальной метафоры соединения про-
тивоположностей бытия. В то же время, будучи симво-
лом, а не аллегорией, страсть в «Мартовском полнолу-
нии» есть страсть, сметающая представления тех, кто
в своих помыслах о любви «горделив и высокомерен» 6,
кто не знает и боится ее темных, «подпольных» глу-
бин, кто думает, подобно Королеве, что красота может
вызывать лишь благоговение и поэтические похвалы с
«новаторскими сравнениями и фантастическими гипер-
болами», что красота всегда добра. Как и в лирических
произведениях этой поры, Йейтс бесстрашно глядит в
глаза жизни и приемлет ее всю, со светлыми и темны-
ми сторонами. Его гротескная и драматическая притча
о Королеве и Свинопасе имеет мажорную доминанту:
жизнь утверждает свои законы; начала, по отдельности
ущербные, достигают полноты в соединении друг с дру-
гом, — недаром действие происходит во время мартов-
ского полнолуния, фазы Единства Бытия, согласно сим-
волической системе Йейтса.
Иная тональность в «Яйце Цапли» (1938), хотя взя-
та вроде бы та же тема и есть сходство в сюжете: во
время полнолуния девственная жрица Аттракта, раз-
делив ложе с семью грубыми воинами-насильниками,
достигает духовного слияния с божеством, которому она
служит, — Великой Цаплей, а насильников — низмен-
ные орудия высшей воли — постигает кара. «Яйцо Цап-
ли»— одна из немногих пьес Йейтса в жанре фарса и
единственный жестокий фарс. В его кривом зеркале
глумливо-искаженный облик приобретает все, и в том
числе самые дорогие для Йейтса образы и мотивы.
Действующие в пьесе воины легендарной Ирландии ка-
рикатурны, фарс в целом — травестия поэтического мира
саг, запечатленного Йейтсом в ранних произведениях.
246
Нечто подобное было им сделано в пьесе 1908 г. «Зо-
лотой шлем» 7, но там был подлинный герой, Кухулин, и
автор с полным основанием обозначил жанр как «герои-
ческий фарс». Теперь же в центре действия Конгал —
травестированный Кухулин: грубый и хвастливый воин,
который делит свое время между бессмысленными воен-
ными стычками и пьянством и обжорством на пирах.
На все происходящее в своей пьесе автор смотрит хо-
лодным и отстраненным взглядом натуралиста, наблю-
дающего за суетливыми движениями насекомых; смех
его жесток своим бесчувствием. Когда же в финале, на-
конец, прорывается голос автора, то в нем звучит экзи-
стенциальное отчаяние. Конгал, во исполнение прокля-
тия Цапли погибающий от руки Дурака, произносит мо-
нолог о бренности и бесцельности жизни:
Though it begins well, is this a life?
It this is a man's life, is there any life
But a dog's life?
(Хотя начало хорошее, разве это жизнь? / Если это
жизнь мужчины, то есть ли иная жизнь кроме со-
бачьей?)
Миром правит слепая и бессмысленная случайность:
благодаря ей Конгалу суждено в следующем своем воп-
лощении явиться на землю в виде осла. Йейтс заклю-
чает пьесу словами жестокой насмешки над человече-
скими страстями и усилиями:
All that trouble and nothing to show for it,
Nothing but just another donkey.
(Столько треволнений — и все зазря: / В результате —
всего лишь еще один осел.)
Мотивы, заключенные в этом странном, как бы из-
ломанном произведении, нашли отзвук в двух последу-
ющих пьесах, нотам они получили мощное и полное вы-
ражение. В «Чистилище» и «Смерти Кухулина» Йейтс
возвращается в родную для него стихию трагического
лиризма. Гротесковые, пародийные, снижающие элемен-
ты в них не мешают цельности: они усиливают и отте-
няют трагическую тему.
Йейтс редко создавал пьесы на совершенно ориги-
нальный сюжет. Чаще всего он сознательно использо-
вал один или несколько источников, когда—довольно
точно следуя оригиналу, когда — отходя от него. На-
пример в «Мартовском полнолунии», помимо бродячей
247
сказочной фабулы есть явный отзвук нескольких из-
вестных литературных произведений: «Турандот» Гоц-
ци, андерсеновской сказки о принцессе и свинопасе,
пьесы Уайльда «Саломея» (не говоря уже о библей-
ской легенде о Саломее), а в первоначальной редакции
пьесы «Король Большой Часовой башни» можно ощу-
тить далекое эхо «Пелеаса и Мелисанды». Сюжет
«Яйца Цапли», при всей его причудливости, вырос из
поэмы Сэмюэла Фергюсона «Конгал». Создавая «Чис-
тилище», Йейтс отошел от своей обычной практики. Сю-
жет этой пьесы не имеет прямых источников. И все же
одно имя как бы осеняет трагическую поэму Йейтса.
Это имя Данте. Дело здесь не в каких-то осязаемых
аналогиях или заимствованиях (хотя есть и они: уже
само заглавие пьесы напоминает нам о «Божественной
комедии»). Нечто дантовское заключено более всего в
том неуловимом, что можно назвать музыкальным
строем произведения, в его суровом трагизме («Суровый
Дант...», — писал Пушкин). Йейтс претворяет материал
современной ему жизни в драматический сюжет, напо-
минающий о путешествии по кругам дантова ада (не
чистилища!). «Чистилище» Йейтса — это образ ада на
земле.
Пейзаж, описанный в первой ремарке — «развалины
дома и засохшее дерево», — выглядит вневременным и
:имволическим, как и два действующих лица пьесы,
Старик и Юноша, но все это также обладает реально-
стью и конкретностью: развалины — бывший ирланд-
ский помещичий дом, дерево засохло от удара молнии,
Старик — сын хозяйки дома, ныне бродячий торговец,
Юноша — его сын. Обозначив эти реалии, Йейтс тут
же сообщает им символический, многозначный смысл.
Дом и дерево — не просто фон, а безмолвные, но пол-
ноправные участники действия. Они — прошлое, кото-
рое встречается с настоящим, Стариком и Юношей.
В отношениях этих последних есть аналогия отноше-
ниям между Вергилием и Данте в «Божественной коме-
дии»: Старик приводит Юношу к дому, чтобы показать
ему ожившее, вновь разыгрывающее свою драму
прошлое:
...There are some
That do not care what's gone, what's left:
The souls in Purgatory that come back
To habitations and familiar spots.
948
Re-live
Their transgressions, and that not once
But many times; they know at last
The consequence of those transgressions
Whether upon others or upon themselves;
Upon others, others may bring help,
For when the consequence is at an end
The dream must end; if upon themselves,
There is no help but in themselves
And in the mercy of God.
(Есть такие,/Которым все равно, чего уж нет, что ос-
талось— /Души чистилища, которые возвращаются в
жилища и знакомые места. ...Вновь совершают/Свои
греховные поступки, и это не один,/А много раз; те-
перь, наконец, они знают,/Как сказались их грехи/
/ На других и на них самих; / Если на других, то те мо-
гут помочь,/Потому что, когда исчерпаны последст-
вия, / Должно кончиться и видение; если на них са-
мих,/То неоткуда ждать помощи, кроме как от самих
себя/И от божественного милосердия.)
Из всех пьес Иейтса «Чистилище», наряду с «Гре-
зами мертвых», по своей сюжетной структуре ближе
всего к японскому оригиналу драматурга. Однако флер
поэзии, красоты и таинственности, в котором предста-
вало видение прошлого в «Грезах мертвых», в «Чисти-
лище» безжалостно сорван. Взорам двух современных
людей предстает не легендарная чета, соединенная пре-
ступной, но великой любовью, а обыкновенные мужчи-
на и женщина, чья страсть низменна и постыдна; не
магический танец теней, а навязчивый кошмар, страш-
ный реальностью и прозаизмом деталей. Стук копыт,
женская фигура в освещенном окне, снова мрак, тиши-
на, и затем вновь свет в окне и мужчина, наливающий
себе стакан виски, — так воссоздается брачная ночь
юной владелицы поместья и грубого, пьяного конюха,
от союза которых родился Старик, проклинающий и эту
ночь, и отца. Старик с ненавистью вспоминает:
That he might keep me upon his level
He never sent me to school...
A gamekeeper's wife taught me to read...
(Чтобы удержать меня на своем уровне,/Он так и не
отдал меня в школу... /Меня выучила грамоте жена лес-
ничего...)
249
...I became a pedlar on the roads,
No good trade, but good enough
Because I am my father's son...
(...Я стал бродячим торговцем, — /Скверное ремесло, но
подходящее для меня,/Потому что я сын своего от-
ца...)
Порча передалась и дальше: сын Старика — «Ублю-
док, которого бродячий торговец/Зачал в канаве с до-
черью лудильщика».
К отцу у Старика не только личный счет. Он обви-
няет его в «убийстве дома», родового гнезда многих
славных поколений: грубый, невежественный пьяница
растратил все имущество, вырубил парк, чтобы запла-
тить долги, и наконец однажды ночью, в пьяном бес-
памятстве спалил дом. Теперешние развалины — остов
некогда прекрасного и живого тела — дело его рук.
Старик называет это «тягчайшим преступлением»: вме-
сте с домом умерла красота, культура, история, вели-
кая традиция, память поколений, а соучастницей пре-
ступления стала мать Старика с ее несчастной стра-
стью:
She never knew the worst, because
She died in giving birth to me,
But now she knows it all, being dead.
(Она так и не узнала худшего, потому что/Умерла, ро-
див меня, / Но теперь, мертвая, она знает все.)
Ночная сцена, свидетелями которой становятся Ста-
рик и Юноша, — видение греха, которым мучается ду-
ша умершей:
...she must live
Through everything in exact detail,
Driven to it by remorse.
(...Она снова должна пережить / Все до мельчайших
подробностей,/Движимая раскаянием.)
В «Чистилище» соединение благородного и низкого
ведет не к гармонии, а к деградации мира, потому что
историческая фаза «полнолуния» миновала. В ту роко-
вую ночь, как и в момент ее повторения, на луну набе-
гают облака, что знаменует эпоху смутную и ущерб-
ную, во время которой и «субъективность» и «объектив-
ность» равно усреднены, тронуты порчей и уродством.
По отношению к Королеве и Свинопасу из «Мартовско-
го полнолуния» мать и отец Старика — жалкие, выро-
дившиеся подобия. На их потомках также лежит пе-
чать проклятия. Жалкое положение Старика и Юно-
ши — не самое главное, они еще злобны и грубы, их
жизнь бесполезна, причем у Старика есть хотя бы тос-
ка по культуре, от которой он был отторгнут, и челове-
ческие, пусть искаженные, чувства: любовь к матери,
ненависть к отцу, а Юноша — настоящий современный
варвар, не знающий иных побуждений и потребностей,
кроме самых примитивных.
Подлинный трагический герой «Чистилища» — дом,
ставший жертвой наступившего железного века. Невоз-
можно не только поднять его из руин, но и разрешить
его трагедию примирением или актом возмездия. В эпо-
ху деградации сами средства восстановления справед-
ливости безнадежно извращены, когда-то совершенное
преступление порождает преступные же деяния. Ста-
рик открывает, что во время пожара он, шестнадцати-
летний подросток, убил своего ненавистного отца. Те-
перь же, ненавидящий и сына, одержимый мыслью по-
кончить с последствиями греха, он тем же ножом уби-
вает шестнадцатилетнего Юношу:
I killed that lad because had he grown up
He would have struck a woman's fancy,
Begot, and passed pollution on.
(Я убил этого парня, потому что, если бы он вырос, /
/То приглянулся бы какой-нибудь женщине, / Произвел
на свет потомство и понес порчу дальше.)
После убийства Юноши засохшее дерево озаряется
белым светом, и Старику кажется, что это успокоившая-
ся и очистившаяся душа его мученицы-матери. Но ему
подан ложный знак — как будто специально для того,
чтобы тут же ввергнуть в бездну отчаяния. Преступле-
ние нельзя загладить преступлением, поступь железно-
го века нельзя остановить, трагедия лишена катарсиса.
Под стук копыт возобновляется дурная бесконечность
кошмарного видения, и Старик исступленно взывает к
небесам:
О God,
Release my mother's soul from its dream!
Mankind can do no more. Appease
The misery of the living and the remorse of the dead.
(О боже,/Освободи душу моей матери от этого виде1-
ния!/ Человечество уже бессильно. Облегчи / Страда-
ния живых и муки раскаянья мертвых.)
Этот трагический аккорд ставит заключительную
точку в скорбной и мрачной пьесе Йейтса и окончатель-
но проясняет ее тему. Речь идет не об одной Ирлан-
дии — о состоянии всего мира, катящегося к катастро-
фе, о безумии, его охватившем. Есть закономерность
в том, что подобное произведение появилось в преддве-
рии второй мировой войны. Закономерно и то, что сра-
зу вслед за ним Йейтс пишет «Смерть Кухулина», пье-
су о конце.
В последний год своей жизни Йейтс подводит окон-
чательные итоги. В его лирике мысли о собственной
судьбе сливаются с темой Ирландии. Доминируют две
ноты: личное мужество перед лицом надвигающейся
смерти, готовность к этому последнему испытанию — и
призыв к живущим сохранить великие традиции:
That we in coming days may be
Still the indomitable Irishry.
(Чтобы в грядущем мы остались / По-прежнему неукро-
тимой ирландской нацией.)
В стихотворении «Под сенью Бен Балбена», откуда
взяты эти строки, обе темы сплавлены в органическое
единство. Написанное 4 сентября 1938 г., менее чем за
пять месяцев до смерти поэта, оно кончается строфой,
в которой Йейтс говорит о себе как об уже умершем,
описывает свою могилу и эпитафию:
Under bare Ben Bulben's head
In Drumcliff churchyard Yeats is laid.
An ancestor was rector there
Long years ago, a church stands near,
By the road an ancient cross.
No marble, no conventional phrase;
On limestone quarried near the spot
By his command these words are cut:
Cast a cold eye
On life, on death.
Horseman, pass by!
(Под сенью голой вершины Бен Балбена, / На кладби-
ще в Драмклиффе похоронен Йейтс./Здесь был свя-
щенником его предок/В далекие времена, рядом стоит
церковь,/У дороги —древний крест./Никакого мрамо-
Ла, никаких общепринятых фраз. — /На известняке, до-
бытом неподалеку, / По его приказу, высечены слова:/
/«Бросьте холодный взгляд/На жизнь, на смерть./
/Всадник, следуй мимо!)
В предыдущих же пяти строфах поэт размышляет
о внеличном: об истории мирового искусства, о необхо-
димости действия как вернейшего средства самопозна-
ния, о памяти поколений, о том, чем драгоценна Ир-
ландия для современных ирландцев и для всей чело-
веческой культуры. Поразительно, что момента проща-
ния с жизнью нет вообще, последняя строфа сразу, без
перехода, следует за той, в которой Йейтс с живой и
непосредственной горячностью обращается к ирланд-
ским поэтам как к согражданам и собратьям по перу.
В контексте всего стихотворения заключительная стро-
фа звучит эпически. В «Размышлениях о детстве и юно-
сти» Йейтс запечатлел сцену, запавшую ему в память
с отрочества: его дед Уильям Поллексфен, как всегда
деятельный и энергичный, среди прочих дел занимается
сооружением собственного надгробия. Так же посту-
пает и Йейтс, создавая свое стихотворение-завещание.
То, о чем здесь написано в конце, — не литературный
прием, не жест, а действительное последнее желание
поэта 8, и в то же время он продолжает вести себя как
полноправный участник жизни, наслаждаться ее радо-
стями, чувствовать себя ответственным за нее. В послед-
ний год жизни старым поэтом написаны дерзко жизне-
утверждающая, юная по духу «Политика» и стихотво-
рения, в которых вновь, в ореоле живой грусти и неж-
ности, возникает образ вечной музы поэта, Мод Гонн
(«Бегство цирковых зверей», «Бронзовая голова»), а
«Черная башня», самое последнее стихотворение Иейт-
са, написанное всего за 10 дней до смерти, дышит му-
жественной и упрямой энергией и горделивым созна-
нием силы. Всегда значительная для Иейтса тема ис-
кусства в последних стихотворениях приобретает осо-
бенное значение: перед лицом надвигающегося хаоса
искусство, антипод бесформенности и живая квинтэссен-
ция человеческого, призвано стать духовной опорой и
спасением человечества.
Все эти и другие мотивы звучат и в «Смерти Куху-
лина». Здесь (так же, как во всей лирике Иейтса кон-
ца 30-х годов) нет только одного: слабости ц страха пе-
ред физическим уничтожением.
Пьеса стала программным произведением Йейтса -4-
и так она и была задумана — по многим причинам. Этр
пьеса о завершении жизненного пути любимого героя
Йейтса; к тому же она завершала цикл о Кухулине и
могла оказаться завершающей все творчество автора
(что ясно сознавалось им).
На протяжении многих лет Кухулин сопровождал
поэта как образ-Маска, т. е., в системе мышления Йейт-
са, его анти-Я: символ полнейшей свободы и полноты
развития натуры, предельной действенности, могучей
жизненной силы. По мнению Йейтса, такой герой не
был созвучен духу Ирландии эпохи «свободного госу-
дарства». В 1932 г., в предисловии к «Битве с волна-
ми» Йейтс написал: «Если бы первая фаза нашего теат-
рального движения продлилась, я бы создал пьесы и о
других эпизодах его жизни»9. И снова, в 1934 г.: «Я бы
попробовал написать пьесу... о смерти Кухулина, но дух
Ирландии изменился» 10. Однако спустя четыре года
Йейтс пишет такую пьесу и начинает ее с открытой и
яростной полемики, с категорического утверждения до-
рогих ему принципов искусства наперекор всему. Уже
начальная ремарка содержит в себе вызов: «Пустая
сцена, не изображающая никакой исторический период.
Глубокий старик, смахивающий на что-то мифологиче-
ское». Этот старик — лицо от автора и от театра. Его
саркастический и раздраженный (но не лишенный са-
моиронии) монолог направлен против постоянных вра-
гов Йейтса в искусстве: коммерческой развлекательно-
сти и «журнализма», натуралистического копирования
и прозаической трезвости. Не надеясь ни на понимание
широкой публики, ни на качество исполнения, Старик,
тем не менее, тверд в решимости представить на сцене
пьесу, состоящую из «обветшалой романтической чепу-
хи». После живой, разговорной прозы вступительной
речи — резкая перебивка настроения. Когда упавший
занавес вновь поднимается над пустой сценой под зву-
ки волынки и барабана, он поднимается над последним
актом высокой трагедии.
Из всех пьес Йейтса о Кухулине эта, заключитель-
ная, наиболее близка к первоисточнику. Драматург ис-
пользовал и сюжет и мотивы конкретной саги, к чему
раньше не прибегал, но и здесь он обращается со своим
материалом свободно. В заключительный эпизод жизни
Кухулина он стягивает все важнейшие нити, связываю-
щие созданный им цикл. На сцену сходятся персонажи
254
из предыдущих пьес: из «Единственной ревности
Эмер» — Эмер и Этне Ингуба, из «На Берегу Байле» —
Слепой. Появляется и Айфе, мать единственного сына
Кухулина, не узнанного и убитого отцом на Берегу
Байле.
В пьесе Иейтса, как и в саге, Кухулин отправляется
на заведомо неравный бой, к тому же при зловещих
предзнаменованиях. Однако мотивы его поведения да-
леки от простой и монументальной цельности, прису-
щей герою древнего сказания. У Йейтса Кухулин зара-
нее, еще не выступив в поход, знает, что должен уме-
реть: дух его — уже по ту сторону жизни. В стихотво-
рении Йейтса «Привидения» есть строки, в которых го-
ворится о человеке, подошедшем к концу жизни:
...Не has need of all that strength
Because of the increasing Night
That opens her mystery and fright.
(...ему нужны все эти силы,/Потому что Ночь сгущает-
ся /И приоткрываются ее тайна и ужас.)
Это состояние героя «Смерти Кухулина». Он уже
недосягаем для земных чувств и стремлений. Этне Ин-
губа, первая, кто появляется перед ним, лишь только
поднялся занавес, напрасно пытается возбудить в нем
ревность, гнев, былую любовную страсть, чтобы вер-
нуть с дороги, ведущей к Ночи. Даже разгадав преда-
тельство своей бывшей возлюбленной (вольно или не-
вольно она желает его смерти — и страшится своего
желания), Кухулин не изменяет решения вступить в
смертельный бой: оно уже принято независимо ни от
кого, по внутреннему ощущению, что время его жизни
истекло.
Когда в следующем эпизоде Кухулин, уже смертель-
но раненный, встречается с другой женщиной из своего
прошлого, Айфе, он еще больше отрешен от жизни, что
особенно резко оттеняется контрастом с Айфе, в ко-
торой бушуют прежние страсти. Она приходит, чтобы
нанести Кухулину последний удар, а руководит ею да-
же не желание отомстить за смерть сына (Айфе знает,
что вина Кухулина была невольной), а оскорбленная
женская гордость, воспоминание о давней встрече с Ку-
хулином. «Я не понимаю» Кухулина и ответ Айфе:
«Потому что ты умираешь» — краткая и пронзительная
формула подходящей к финалу трагедии.
255
Но в финале в трагедию диссонансом вторгается
гротеск. На сцене появляется Слепой. Именно он дол-
жен убить великого героя — отрезать ему голову обык-
новеннейшим столовым ножом и получить за это ^пей-
сов. Слепой так же отвратителен своим полнейшим
утилитаризмом, как в пьесе «На Берегу Байле», а его
диалог с Кухулином, полный свирепой иронии, напоми-
нает недавнее произведение Йейтса «Яйцо Цапли»: Ду-
рак, пришедший убить Конгала, тоже надеялся зарабо-
тать свои пенсы и тоже подробно и с удовольствием
объяснял это своей жертве... Трагедия героя усугубле-
на тем, что его ждет смерть от руки обывателя и тру-
са, который не смел бы даже появиться на глаза Ку-
хулину, если бы тот не был уже на грани смерти. Но
для самого героя и это более не имеет значения. Сле-
пой, как до него Этне Ингуба и те, кто нанес Кухули-
ну в бою смертельные раны, и Айфе, запеленавшая его
своей вуалью (как смирительной рубашкой — и сава-
ном),— лишь орудие собственной воли Кухулина, ре-
шившегося на свое последнее великое испытание. Эта
воля незримо дирижирует его концом, словно материа-
лизуя тех, кто может этот конец ускорить, подчиняя се-
бе и чужую враждебную волю и случайность. Ощуще-
ние рока пронизывает «Смерть Кухулина», но рок
здесь — не надличная сила, а неуклонная решимость
человека, сделавшего выбор. Смысл происходящего на-
столько высок, что его не в силах опошлить даже низ-
менный Слепой (поистине слепое орудие судьбы!).
Когда, согласно ремарке, его руки ощупывают тело жерт-
вы, постепенно двигаясь вверх, это приобретает риту-
альный и торжественно-трагический характер. Как тонко
и точно комментирует Редж Скин: «Руки Слепого дви-
жутся по телу Кухулина как тьма, надвигающаяся на
солнце во время затмения»11. Затемнение — сценический
прием, скрывающий от зрителя момент убийства,— и вос-
принимается как затмение Солнца.
Когда занавес, упавший под пронзительный стон во-
лынки, вновь поднимается, на пустой сцене стоит черная
фигура с вороньей головой — богиня войны Морригу.
Семь черных параллелограммов изображают отрублен-
ную голову Кухулина и шестерых воинов, смертельно
ранивших его, а затем нашедших собственную гибель от
руки мстителя, друга Кухулина. Явление сверхъестест-
венного существа происходит вторично — Морригу воз-
никала на сцене еще в самом начале, во время диалога
256
Статуя Кухулина в Дублинском почтамте.
Скульптор Оливер Шеппард
Кухулина с Этне Ингубой, осеняя юную женщину своим
смертоносным черным крылом. Но в обоих случаях Мор-
ригу— не олицетворение могучей, неодолимой силы,
властвующей над героем (такова была бы ее функция
при традиционной разработке сюжета о роковой гибели).
У Иейтса зловещая богиня так же мало направляет ход
событий, как и смертные персонажи пьесы, окружающие
Кухулина. Она лишь вестница судьбы, избранной самим
героем, в первом эпизоде безмолвная, при новом появле-
нии — рассказывающая о том, что происходило за сценой.
Черное одеяние Морригу, черные параллелограммы—
знак скорби, траура. Богиня войны не могла распоря-
жаться судьбой героя, пока он был жив, но теперь, после
его смерти, она может отдать ему последние почести, а
затем — уступить место Эмер.
Наступает момент апофеоза — обещанный Стариком
в начале танец Эмер перед отрубленными головами. По
контрасту с суровым и условным фоном танец Эмер дол-
жен быть страстным, экстатическим, как танец Фанд в
«Единственной ревности Эмер» и Королевы в Мартов-
ском полнолунии»: в нем любовь к Кухулину и ненависть
к его врагам, в нем завершение и катарсис трагического
действия.
Но и это еще не все. ДраАматург снова делает рез-
кую перебивку тона. В пространной ремарке, где опи-
сан танец Эмер, читаем: «Сцена медленно темнеет. За-
тем раздается громкая музыка, но теперь она совсем
иная. Это музыка, которую можно услышать в наше
время на ирландской ярмарке. Сцена светлеет. Эмер и
голова Кухулина исчезли... На сцене нет никого, кроме
трех музыкантов. Они в рваной одежде уличных пев-
цов, двое из них начинают играть на волынке и бара-
бане. Затем музыка прекращается. Начинает петь
Уличная Певица».
Уличная Певица — та же Безумная Джейн, тем бо-
лее, что песню она поет не от своего имени, а переска-
зывает то, что «уличная девка пела нищему». Произ-
нося свое последнее слово в этом обличье, драматург
получает свободу сочетать размашистую лихость фор-
мы с серьезностью и глубиной содержания, использовать
грубые телесные образы как метафору идеального и ду-
ховного. Певица — уличная девка, Безумная Джейн, со-
временная Иейтсу Ирландия — поет о том, что Куху-
лин и героические времена, которые он олицетворяет,
стали достоянием прошлого, что современная реаль-
цость Ирландии далека от идеала. Но за тезисом сле-
дует антитезис: а не реальность ли сам идеал, если он
существует в сознании людей настоящего?
What stood in the Post Office
With Pearse and Connolly?
Who thought Cuchulain till it seemed
He stood where they had stood?
No body like his body
Has modern woman borne,
But an old man looking on life
Imagines it in scorn.
A statue's there to mark the place
By Oliver Sheppard done.
So ends the tale that the harlot
Sang to the beggar-man.
(Что это стояло в здании почтамта/Вместе с Пирсом
и Конноли? ...Кто думал о Кухулине, пока не почуди-
лось,/Что он стоит там же, где стояли они?//Тела, подоб-
ного его телу, / Не произвела на свет ни одна современ-
ная женщина, / Но один старик, который смотрит на
жизнь,/Полный презрения, создает его в воображении./
/На том месте стоит статуя, / Сделанная Оливером Шеп-
пардом 12. / Так кончается история, которую уличная дев-
ка/ Пела нищему).
Иейтс верен себе до конца. Он заканчивает свое ито-
говое произведение на «ноте иронической неопределен-
ности» 13, не зная вывода, который снял бы противоре-
чия и при этом не был бы фальшив. Смерть Кухулина и
его воскресение в героях Пасхального восстания — оди-
наково несомненные реальности, так же, как безуслов-
на реальность образа Кухулина в искусстве самого
Йейтса («старика» заключительной строфы).
Таким образом поэт, завершая труд всей своей жиз-
ни, поставил свое имя рядом с именами людей 1916 г.—
и с именем Кухулина.
Он имел на это право.
Примечания
1 Предисловие в поэтическом сборнике «Винтовая лестница и дру-
гие стихотворения> (Yeats W. В. The Winding Stair and Other Po-
ems. L., 1933). Цит. no: The Collected Poems of W. B. Yeats. L.f
1963, p. 537.
2 Статья О'Кейси «Ирландская литература», впервые напечатан-
ная в советском журнале «Интернациональная литература» (1939,
№ 12). Цит. по: О'Кейси Ш. За театральным занавесом. М., 1971,
с. 140.
3 Krause D. Sean O'Casey and His World. L., 1976, p. 62.
A Yeats W. B. Essays and Introductions. L., 1961, p. 529. При жизни
Йейтса статья опубликована не была.
5 Предисловие в кн.: Yeats W. В. A Full Moon in March. L., 1935.—
In: The Variorum Edition of the Plays of W. B. Yeats. Ed. Al-
spach R. K. N. Y., 1966, p. 1311.
6 См. стихотворение Йейтса «Безумная Джейн говорит с еписко-
пом».
7 Пьеса написана в прозе; ее стихотворный вариант (1910) имеет
название «Зеленый шлем».
8 Оно было неукоснительно выполнено его семьей, хотя, по воле
обстоятельств, только спустя девять лет после его смерти. Йейтс
умер 28 января 1939 г. на французском средиземноморском ку-
рорте Рокбрюн — Кап-Мартен, недалеко от Ниццы, где и был
похоронен: разразившаяся мировая война помешала тогда пере-
несению его праха в Ирландию.
9 Dublin Magazine, 1932, Apr.—June.—In: The Variorum Edition
of the Plays of W. B. Yeats, p. 574.
10 Предисловие к «Битве с волнами» в кн.: W. В. Yeats. Wheels and
Butterflies. L., 1934; N. Y., 1935.—Ibid., p. 568.
11 Skene R. The Cuchulain Plays of W. B. Yeats. A Study. L., 1974,
p. 236.
12 Статуя, изображающая Кухулина, памятник восстанию 1916 г.
13 Skene R. The Cuchulain Plays of W. B. Yeats, p. 239.
G.
£>e*
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ъ
Премя, все расставляющее по своим местам, уже дало
свою оценку Йейтсу-поэту: он признан значительней-
шим из тех, кто в нашем столетии писал на английском
языке, а обилие его стихотворных строк в «Оксфорд-
ском словаре цитат» — свидетельство широкой популяр-
ности поэта среди его потомков.
Вопрос о Йейтсе-драматурге еще не решен.
Его пьесы фактически не обрели жизни в современ-
ном театре. Те постановки последнего времени, о кото-
рых, например, упоминает Д. Флэннери в своей книге
о Йейтсе, вряд ли здесь что-либо радикально изменили
(большинство из них было учебными спектаклями теат-
ральных факультетов в американских и канадских уни-
верситетах). Можно надеяться, что театр еще скажет
свое решающее слово о драматургии Йейтса; можно,
напротив, не верить в это, но практическая проверка
и оптимистической и пессимистической точки зрения —
дело будущего. Пока этого еще не сделано, задачу оп-
ределить драматургическую природу пьес Йейтса долж-
на решать театроведческая наука. Данная книга — од-
на из попыток в этом направлении.
Изучение драматургии Йейтса подводит к некоторым
выводам и еще больше — к новым вопросам. Преобла-
дание вопросов вызвано как недостаточностью сведе-
ний о собственно театральной деятельности Йейтса, так
и сложностью его творчества. Первая трудность, воз-
можно, будет в значительной степени преодолена в не-
далеком будущем: уже опубликованы и готовятся к
публикации ценнейшие материалы, освещающие поста-
новки Ирландского Литературного и Ирландского На-
ционального театра, творческое содружество Йейтса с
Крэгом и другими театральными деятелями его вре-
мени. В этой работе, начатой совсем недавно, нако-
нец-то выразилось признание того факта, что драматур-
гия Йейтса, при всем ее своеобразии и сложности, не
есть кабинетное чтение, что изучать ее нужно з связи с
практикой того театра, для которого она создавалась
и где получала сценическую жизнь; что создатель этой
драматургии был также выдающимся театральным мыс-
лителем, стоявшим на уровне высших достижений но-
вого европейского театра.
Драматург и театр всегда, в самом идеальном слу-
чае — не только союзники, но и конфликтующие сторо-
ны (вспомним хотя бы взаимоотношения Чехова и Ху-
дожественного театра). Когда драматург — к тому же
и поэт, ситуация еще сложнее, чем обычно. Если снова
обратиться к русской театральной истории, то достаточ-
но указать на пример Блока, подтверждающий, что
случай Йейтса не уникален. В театре XX в. современ-
ный поэт-драматург — вообще редкость, и в этом смыс-
ле Иейтс (как и Блок) представляет собой исключение
и в общей картине драматургии XX в., и в «новой дра-
ме» рубежа XIX и XX столетия. В то же время творче-
ство Йейтса начиналось в русле «новой драмы» и отра-
зило ее общие закономерности. Это необходимо под-
черкнуть. До сих пор в работах о Иейтсе, созданных
на Западе, его пьесы рассматриваются в основном в
контексте «Ирландского возрождения», а связь с евро-
пейской драматургией прослеживается только в част-
ностях: конкретное влияние того или иного автора, от-
звук мотивов той или иной пьесы. Между тем дело не
в частностях, а в принадлежности всей драматургии
Йейтса новой театральной системе.
Как мы могли убедиться, Иейтс сам прекрасно со-
знавал это. Недаром во всех его теоретических трудах
и размышлениях о театре неизменно возникает имя
Шекспира — как точка отсчета и отталкивания. Все то,
что Иейтс писал об индивидуализме и фрагментарно-
сти культуры нового времени, возводя эти явления к
Ренессансу, также имеет прямое отношение к его кри-
тике драмы и театра ренессансного типа и к поискам
новой структуры. Не прямые конфликты персонажей-
антагонистов с четко очерченными и законченными ха-
рактерами, а конфликтное, дисгармоническое состояние
человеческой души, отражающее кризисность времени,—
источник драматизма и главный объект изображения у
Йейтса. Таким образом в его творчестве преломилась
присущая всей новой драме концепция драматического
конфликта. В дальнейшем своем развитии, используя
модель театра Но, Иейтс не изменил этой концепции, а
еще более углубил ее, так как пример японского театра
позволил ему отказаться от внешнего сходства с драмой
старого типа. Лирическое по преимуществу дарование
Иейтса, придавшее особый характер и его драматургии
(недаром почти все его пьесы — короткие, словно создан-
ные на одном душевном порыве), способствовало тому,
что новое качество драматического конфликта нашло у
него крайнее выражение.
В то же время у Йейтса не было полного разрыва с
ренессансной театральной системой — как нет его у
всей драмы XX в. Его заочный спор с Шекспиром об-
наруживает не только отталкивание, но и преемствен-
ность. Йейтс считал драматургию Шекспира противоре-
чивой, переходной по своей природе (по его концепции,
Шекспир — автор трагикомедий), и он видел остатки бы-
лой, цельной, культуры в лирической песенной стихии,
пронизывающей пьесы Шекспира, и в кульминационных
моментах трагедии шекспировских протагонистов (ког-
да индивидуальное вырастает до всеобщего). Теорети-
чески Йейтс до известной степени всегда «признавал»
Шекспира, а как художник несомненно испытывал
сильное воздействие шекспировского гения, что много-
образно проявилось в его творчестве. Когда в програм-
мном стихотворении «Ляпис-лазурь» Йейтсу понадоби-
лись образы, символизирующие все человечество, он
употребил театральную метафору, а в качестве дейст-
вующих лиц назвал шекспировских героев:
All perform their tragic play,
There struts Hamlet, there is Lear,
That's Ophelia, that Cordelia;
Yet they, should the last scene be there,
The great stage curtain about to drop,
If worthy their prominent part in the play,
Do not break up their lines to weep.
They know that Hamlet and Lear are gay;
Gaiety transforms all that dread.
(Все исполняют свою трагедию:/Вот расхаживает
Гамлет, вот Лир,/Вот Офелия, вот Корделия;/Но все
они, когда наступила последняя сцена/И огромный зана-
вес готов упасть, / Если они достойны своих значитель-
ных ролей в этой пьесе, / Не прерывают текст плачем. /
/ Они знают, что Гамлет и Лир веселы; / Веселость пре-
ображает весь этот страх.)
Стремясь создать «чистую» трагедию, Йейтс все же
вводил в свои произведения элементы «трагикомедии»,
и именно шекспировского типа: Слепой и Дурак, воз-
никающие то в одной, то в другой его пьесе, — не что
иное, как отдаленные потомки шекспировских шутов.
В предсмертном монологе Конгала из «Яйца Цапли»,
выражающем экзистенциальное отчаяние, есть прямая
перекличка со словами Макбета («Жизнь... — это по-
весть, / Которую пересказал дурак...»). У Йейтса много
и других шекспировских реминисценций. Как на глав-
ное здесь следует указать на трансформацию гамлетов-
ской темы, проявившуюся в цикле пьес о Кухулине.
Вспомним, что Гамлет был для Йейтса с самых юных
лет воплощением героического самообладания. Таким
предстает в его собственных пьесах легендарный Куху-
лин. Он — герой в полном смысле слова, сам избираю-
щий для себя свою славную и трагическую судьбу и
проявляющий себя непосредственно в деянии. Поставив
такую фигуру в центр драмы, Йейтс тем самым осуще-
ствил «связь времен» — драмы нового типа с ренессанс-
ной драмой, взятой в ее классическом выражении, а не
в эпигонском, измельчавшем виде, в котором она суще-
ствовала в XIX в.
Многие западные исследователи Йейтса увлекают-
ся его философской системой, созданной в 20-е годы и
совпавшей с его интересом к театру Но, а также к
поэзии и философии Востока. Философские построения
и мифологические образы проецируются на позднее (да
и на более раннее) творчество Йейтса таким образом,
что оно превращается в некое собрание трактатов на
эзотерические темы. При таком подходе драматургия
Йейтса выглядит безжизненной и умозрительной — или
ей приписывается некое особое качество драматизма,
идущее вразрез с европейской традицией. Вряд ли эта
точка зрения плодотворна. Об отличиях «пьес для тан-
цовщиков» Йейтса и подлинного театра Но речь уже
шла. У Йейтса есть высказывания, относящиеся к са-
мому разгару его увлечения Востоком, в которых он
как будто предусмотрел будущие «ориенталистские»
концепции своего позднего творчества. В 1935 г. Йейтс
пишет в письме к Дороти Уэлсли: «У Востока на все
есть решения, и поэтому он не знает трагедии. Мы, а
не Восток, должны бросить героический клич» {. А го-
дом раньше, в предисловии к книге индийского монаха-
йога «Священная гора»: «...каждый раз, когда у меня
возникает искушение отправиться за философией в Япо-
нию, Китай или Индию, Бальзак возвращает меня об-
9fi4
ратно, напоминает мне о моей поглощенности нацио-
нальными, социальными, личными проблемами, убеж-
дает меня, что я не могу уйти от нашей «Человеческой
комедии»2. Эти высказывания Йейтса имеют прямое
отношение к его концепции драматического, к природе
его поздних пьес. Созерцательность, квиетизм всегда
были чужды Иейтсу — нет их и в «пьесах в стиле Но».
Его произведения остались драмами европейского ти-
па, посвященными не абстрактным, а самым насущным
проблемам, и для их верного прочтения нужны не тома
ученых комментариев, а способность воспринимать ус-
ловный театральный язык, на котором Йейтс говорит
о «национальных, социальных, личных проблемах».
Эти проблемы, до крайней степени обостренные в ту
переломную эпоху, когда жил и творил Йейтс, вызва-
ли к жизни его драматургическое творчество и теат-
ральную деятельность. Главным стимулом и целью для
Йейтса на протяжении всей его жизни было ирландское
освободительное движение. Создавал ли он литератур-
ные общества или театр, выступал ли с речами в сенате
или погружался в дебри метафизики, писал ли о траге-
дии неразделенной любви или о гражданской войне, за
всем этим стояла высокая мечта о свободной и прекрас-
ной Ирландии, в которой реально осуществится Един-
ство Культуры и Единство Бытия. Художник по самой
природе своей деятельности — всегда созидатель, даже
если темой его творчества становится дисгармония.
Иейтс был художником такой темы: по образному за-
мечанию Питера Юра, он «превратил кораблекрушение
в новое приключение»3. Основание театра было выс-
шим актом созидательной деятельности Йейтса: здесь
объединились все его идеальные устремления. Служе-
ние — затертое слово, но трудно назвать работу Йейт-
са в театре иначе, чем служением Ирландии. В те самые
моменты, когда Театр Аббатства и Йейтс как его руко-
водитель подвергались самым ожесточенным нападкам
и обвинениям в антипатриотизме, этот театр в действи-
тельности достигал вершин в выполнении своей художе-
ственной и гражданской миссии. Так было во время
постановок «Удалого молодца» Синга и «Плуга и звезд»
О'Кейси.
В своем стихотворном завещании «Под сенью Бен
Балбена» Йейтс написал:
9А£
Many times man lives and dies
Between his two eternities
That of rase and that of soul...
(Человек много раз живет и умирает/Между двумя
своими вечными ценностями: / Нацией и душой...)
Поэт выразил здесь одну из острейших коллизий
своей жизни и творчества, коллизию мучительную, но и
плодотворную. Его глубокий и страстный патриотизм
исключал сектантство или рабское следование за тем,
что возобладает в настроениях большинства в тот или
иной момент. Погружаясь в глубины души (где, со-
гласно Иейтсу, происходит действие его драм), он не
отстранялся от борьбы за освобождение Ирландии, а,
напротив, вел ее своими средствами художника и при
этом ставил перед собой задачи не утилитарные и пре-
ходящие, а поистине грандиозные. Открытость Йейтса
всей европейской, а позднее и восточной культуре —
верное доказательство того, что патриотизм его не был
провинциальным и шовинистическим (чего не могли из-
бежать многие и многие из его современников). При-
мер Йейтса лишний раз убеждает в том, что подлинно
высокие образцы национального искусства нельзя соз-
дать, не впитав в себя достижений мировой культуры.
Как писал Йейтс, его душу художника создали великие
англичане, а силы этой души он отдал делу Ирландии.
Его драматургию можно рассматривать как духов-
ную историю Ирландии тех десятилетий, когда созрело,
разразилось и дало первые результаты национально-
освободительное движение. Йейтс, сам участник этой
борьбы, в отражении ее был бескомпромиссно честен и
создавал не панегирики, а правдивые свидетельства.
Его понятие о победах и поражениях в деле освобожде
ния Ирландии не совпадало с внешним ходом событий,
потому что он вглядывался в глубинный смысл процес-
са. Если бы это было иначе, то его творчество в пе-
риод «свободного государства» должно было бы воспе-
вать послереволюционную ирландскую действитель-
ность, — вместо этого Йейтс пишет свои наиболее тра-
гические произведения, в том числе пьесы.
Нет необходимости вновь перечислять заслуги Йейт-
са в создании и развитии ирландского национального
театра — теперь нет сомнения, что они огромны. Заме-
чательно, что театр, руководимый поэтом-драматургом
глубоко индивидуального склада, дал ирландской и ев-
266
ропейской культуре выдающихся драматических авто-
ров, ни один из которых не был похож на Йейтса. Сна-
чала Синг, потом О'Кейси, а между ними — драматурги
более скромного, но тоже оригинального дарования бы-
ли выдвинуты непрерывно меняющимся временем, и
всех их Иейтс поддерживал и предоставлял им сцену.
Он и сам непрерывно менялся и развивался — на свой
особый лад, не повторяя чужого пути и не требуя, что-
бы ему подражали. В этой чуткости к духу времени и
одновременно верности себе — главный завет Йейтса ир-
ландскому театру XX в.
Примечания
1 Письмо от 6 июля 1935 г.— В кн.: The Letters of W. В. Yeats. Ed.
Wade A. L., 1954, p. 837.
2 Yeats W. B. Essays and Introductions. L., 1961, p. 448.
3 Ure P. Yeats and Anglo-Irish Literature. Liverpool, 1974, p. 101.
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
У. Б. Иейтс. Фото Оппе 6
Окрестности Слайго. Гора Бен Балбеп . . .... 15
Мод Гони 35
«Туманные воды». 1904 г. Ирландский Национальный
театр. Дектора — Мойра Ник-Хинли, Форгэл — Фрэнк
Фэй 53
Флоренс Фарр с псалтерионом 66
«Страна блаженства». 1894 г. Театр «Авеню», Лондон.
Мойра — Уинифред Фрейзер, фея — Дороти Пэджет . . 71
Августа Грегори. 1903 г. Портрет Джона Батлера Иейтса 76
«М-р У. Б. Йейтс представляет м-ра Джорджа Мура
королеве фей». Карикатура Макса Бирбома 93
Театр Аббатства (здание, существовавшее до 1951 г.) 102
Зрительный зал Театра Аббатства 103
Джон Синг. 1895 г 104
Джон Синг. «Скачущие к морю». 1904 г. Ирландский На-
циональный театр 106
Джон Синг. «Удалой молодец, гордость Запада». Театр
Аббатства. Пегин Майк — Мойра О'Нил 107
«Кэтлин, дочь Хулиэна». 1902 г. Постановка У. Фэя и
Ф. Фэя. Справа—Мод Гонн в заглавной роли .... 110
«Песочные часы». 1903 г. Ирландский Национальный
театр. Слева направо: Мудрец — Фрэнк Фэй, Дурак —
Джордж Роберте 113
Участники постановки Ирландского Национального теат-
ра «На королевском пороге» (1903 г.) в костюмах, вы-
полненных по эскизам Э. Хорнимен 116
«Дейрдре». 1908 г. Театр «Нью», Лондон. Четвертая сле-
ва — миссис Патрик Кэмпбелл в заглавной роли. Вверху
слева — эскиз декорации к постановке «Дейрдре» в Теат-
ре Аббатства. 1906 г. Художник Роберт Грегори . . . 123
«Дейрдре». 1908 г. Театр «Нью», Лондон. Дейрдре —
миссис Патрик Кэмпбелл 125
У. Б. Иейтс. 1907 г. Портрет Огастеса Джона . . . 133
Гордон Крэг. Эскиз декорации для постановки «Песоч-
ных часов» в Театре Аббатства. 1910 г 148
268
Ширмы Крэга па сцене Театра Аббатства 151
Пасхальное восстание 1916 г. Баррикада на Грейт Бран-
суик-стрит в Дублине 163
Гордон Крэг. Эскиз маски Слепого для постановки «На
Берегу Байле». 1911 г 168
Гордон Крэг. Эскиз маски Дурака для постановки «Пе-
сочных часов» в Театре Аббатства. 1910 г 171
«Грезы мертвых». 1949 г. Театр Аббатства. Музыканты
в масках. Фото Т. Б. Холлимена 193
«У Ястребиного колодца». 1916 г. Хранительница колод-
ца— Митио Ито. Фото Э. Л. Коберна 198
«У Ястребиного колодца». 1916 г. Эскиз занавеса. Худож-
ник Эдмунд Дюлак 201
Башня Бэллили 208
«Битва с волнами». 1929 г. Театр Аббатства. Режиссер
Л. Робинсон, художник Д. Т. Смит, маски — Хильдо ван
Кроп. Сцена у ложа Кухулина. Слева направо: Эмер —
М. Мур, Этне Иигуба — Ш. Ричарде, Кухулин-Брик-
риу —М. Долан 229
«Битва с волнами». 1929 г. Театр Аббатства. Художник
Д. Т. Смит, хореограф Нинетт де Валуа. Пролог ... 231
У. Б. Иейтс во время выступления по радио Би-би-си с
лекцией о поэзии 3 июля 1937 г. Фото Би-би-си . . . 238
Статуя Кухулина в Дублинском почтамте. Скульптор
Оливер Шеппард 257
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ . . 5
ПУТЬ К ТЕАТРУ 12
В ТЕАТРЕ 64
Первые опыты 64
Ирландский Литературный театр 73
Ирландский Национальный театр — Театр Аббат-
ства 98
Начало 98
Йейтс и Синг 103
Актеры 126
Поиски поэтического театра. Йейтс и Крэг . 132
ВНЕ ТЕАТРА? 157
Пасха 1916 года ... 161
Пьесы в стиле Но . 167
Теория 167
Практика 179
Годы кризиса 205
Завершение пути 237
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 260
Список иллюстраций 268
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
РЯПОЛОВА
У. Б. ЙЕЙТС
И ИРЛАНДСКАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
КУЛЬТУРА
1890-е — 1930-е годы
Утверждена к печати
Всесоюзным научно-исследовательским
институтом искусствознания
Министерства культуры СССР
Редактор издательства
И. Г. Древлянская
Художник
Т. П. Поленова
Художественный редактор
Н. Н. Власик
Технический редактор
Н. П. Кузнецова
Корректоры
Б. И. Рывин, Е. В. Шевченко
И Б № 29522
Сдано в набор 26.03.85
Подписано к печати 6.06.85
Т-03479. Формат 84Х»Ю8,/э2
Бумага типографская № 1
Гарнитура литературная
Печать высокая
Усл. печ. л. 14,3
Усл. кр. отт. 14,94
Уч.-изд. л. 15,5
Тираж 1300 экз.
Тип. за к. 4394
Цена 2 р. 20 к.
Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Наука»
117864 ГСП-7, Москва В-485 Профсоюзная ул., 90
2-я типография издательства «Наука»
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6
2 p. 20 к.
J*C
Автором исследуется творчество извест-
ного деятеля ирландской культуры Йейт-
са — поэта, драматурга, общественного
деятеля, публициста, литературного кри-
тика, теоретика и практика театра. Твор-
ческое развитие йейтса рассматривается
в связи с этапами национально-освободи-
тельной борьбы ирландского народа, со-
ставной частью которой был мощный
подъем национальной культуры (так на-'
зываемое «ирландское возрождение»). |
~э<г
НАУКА