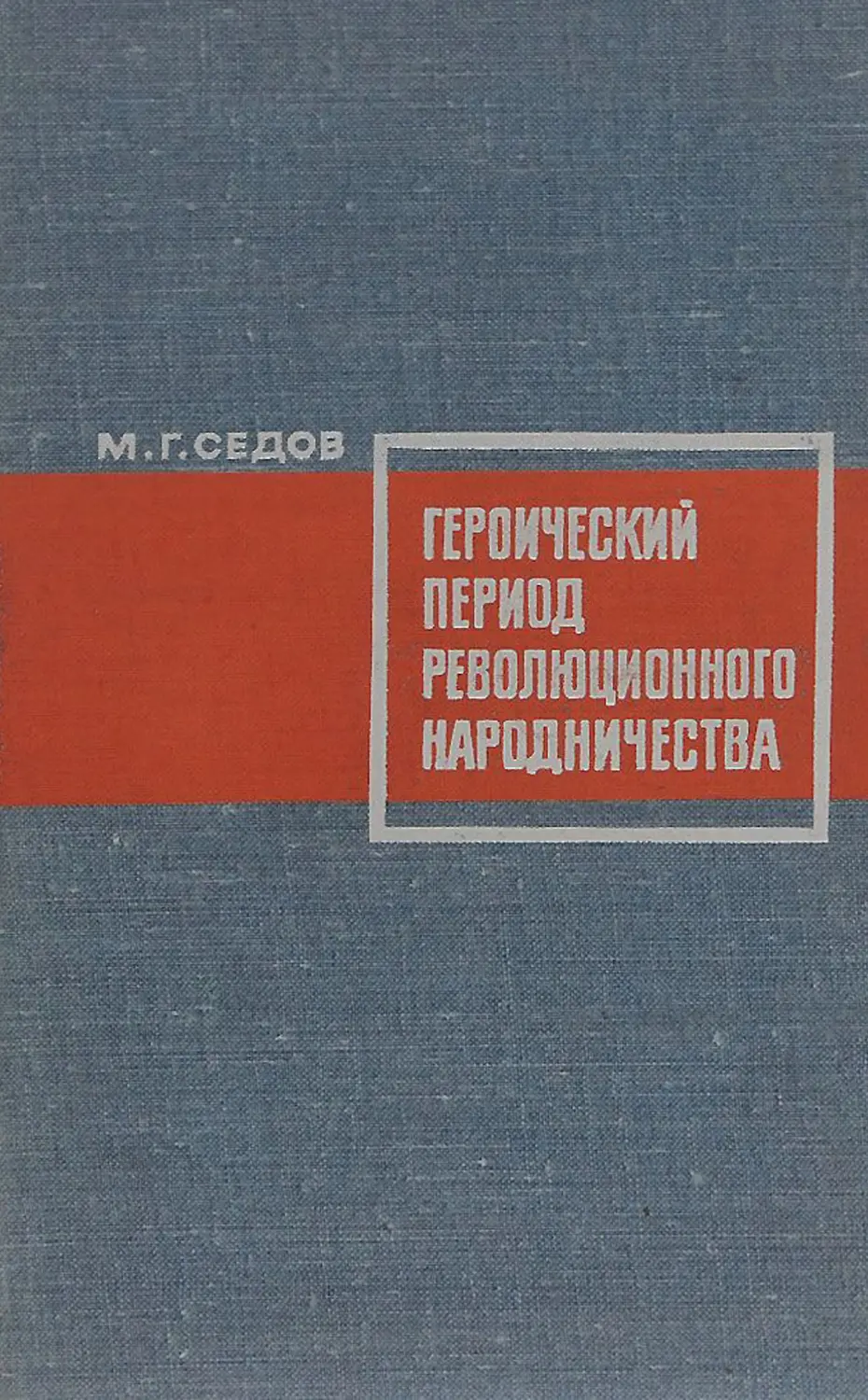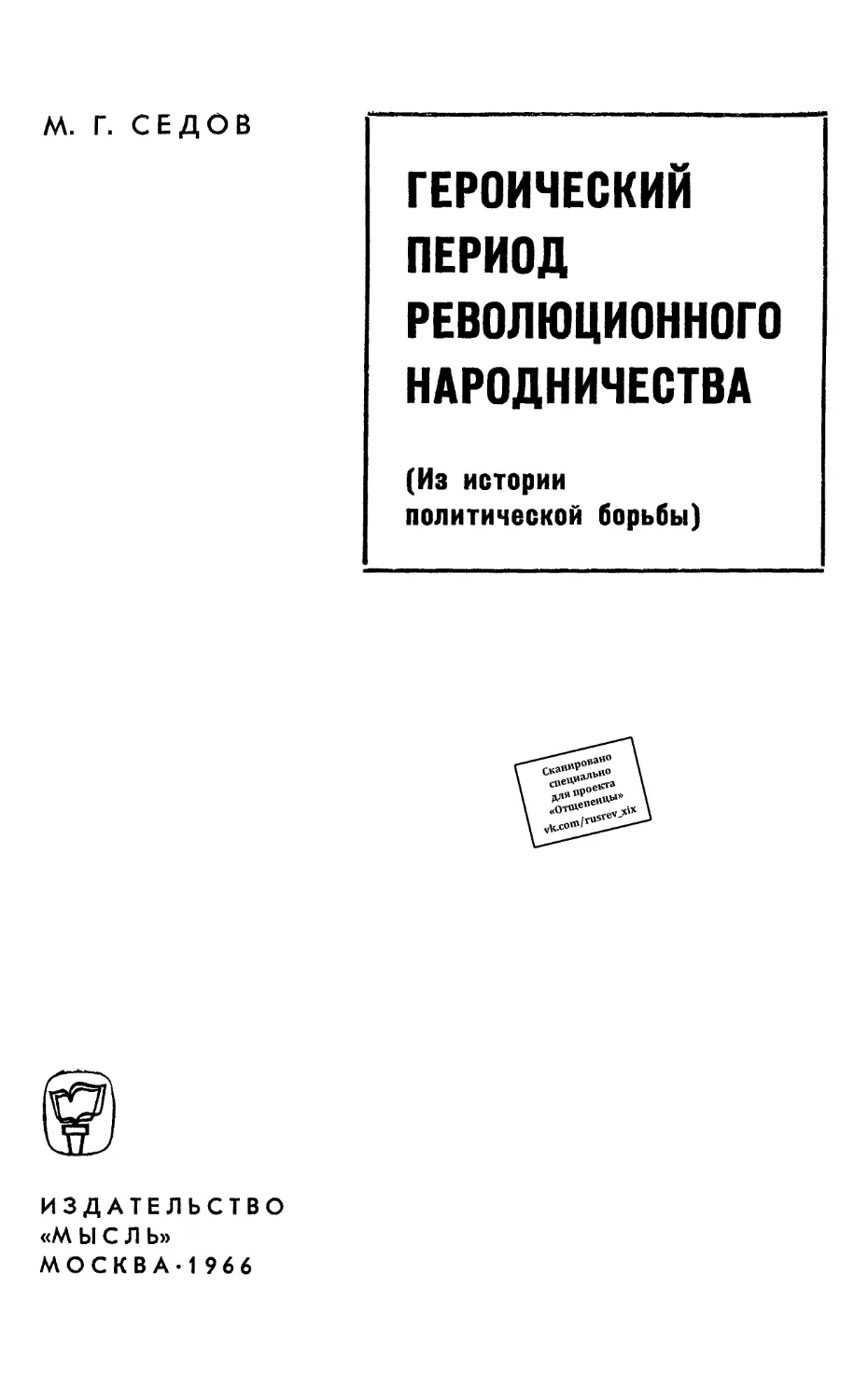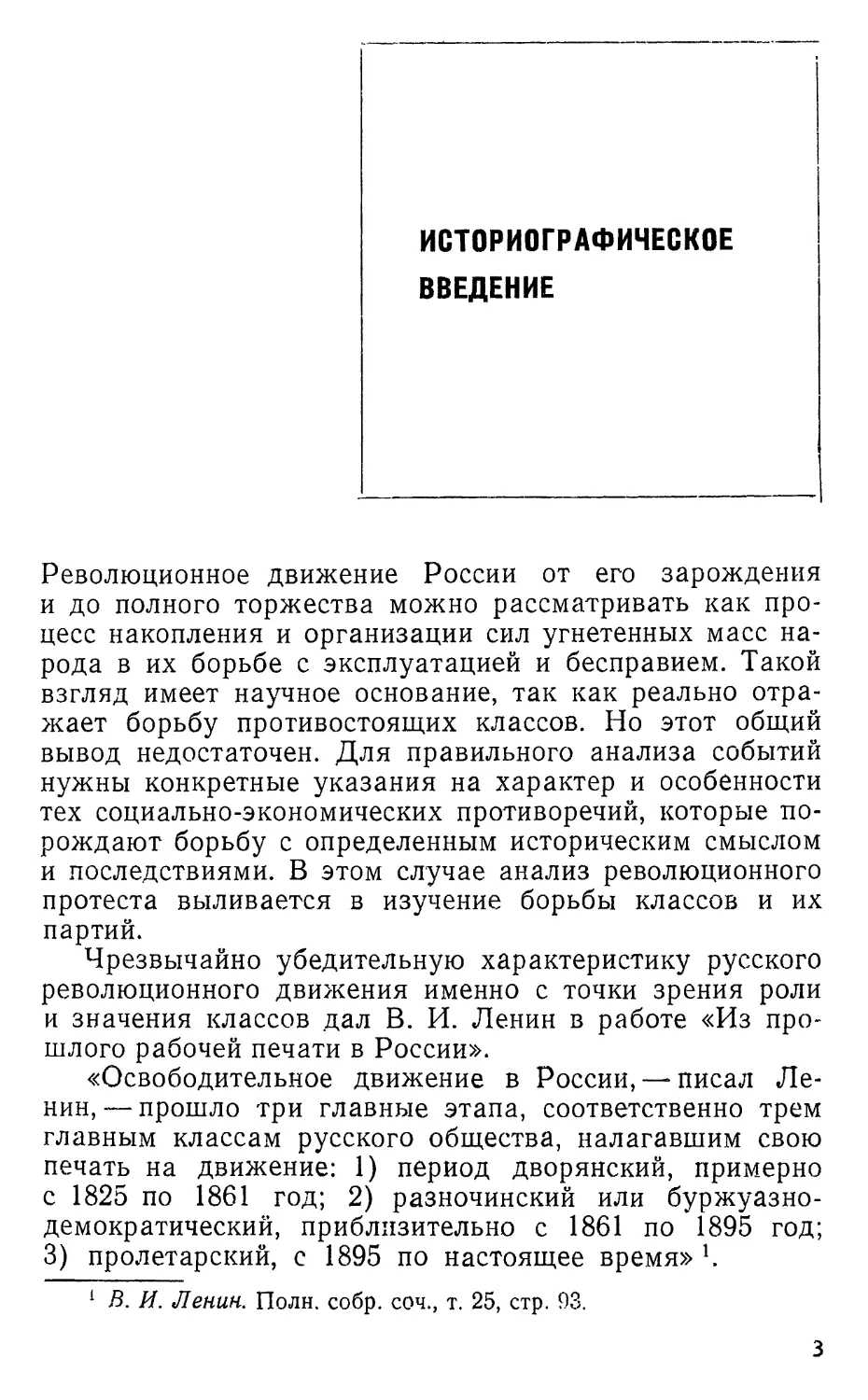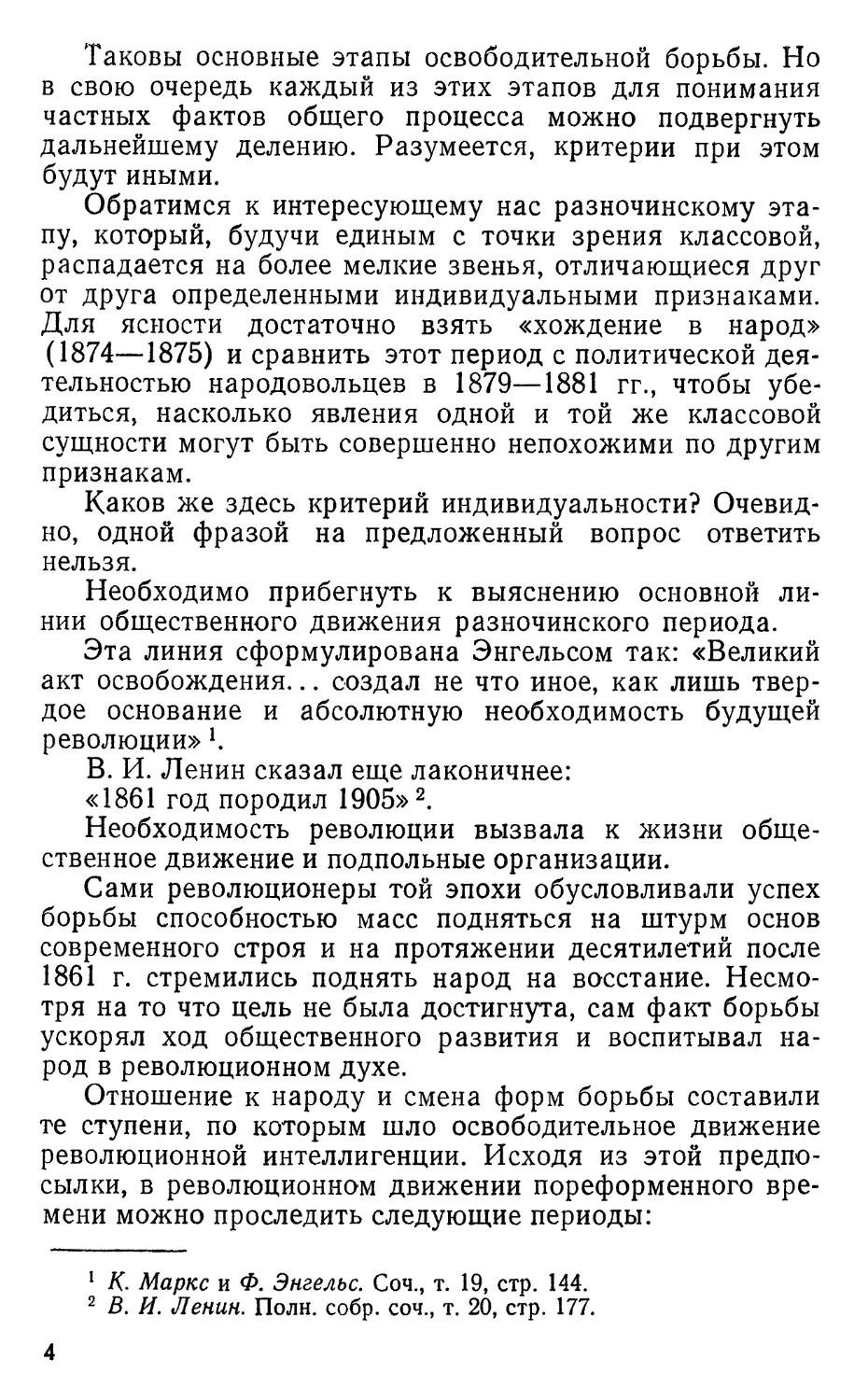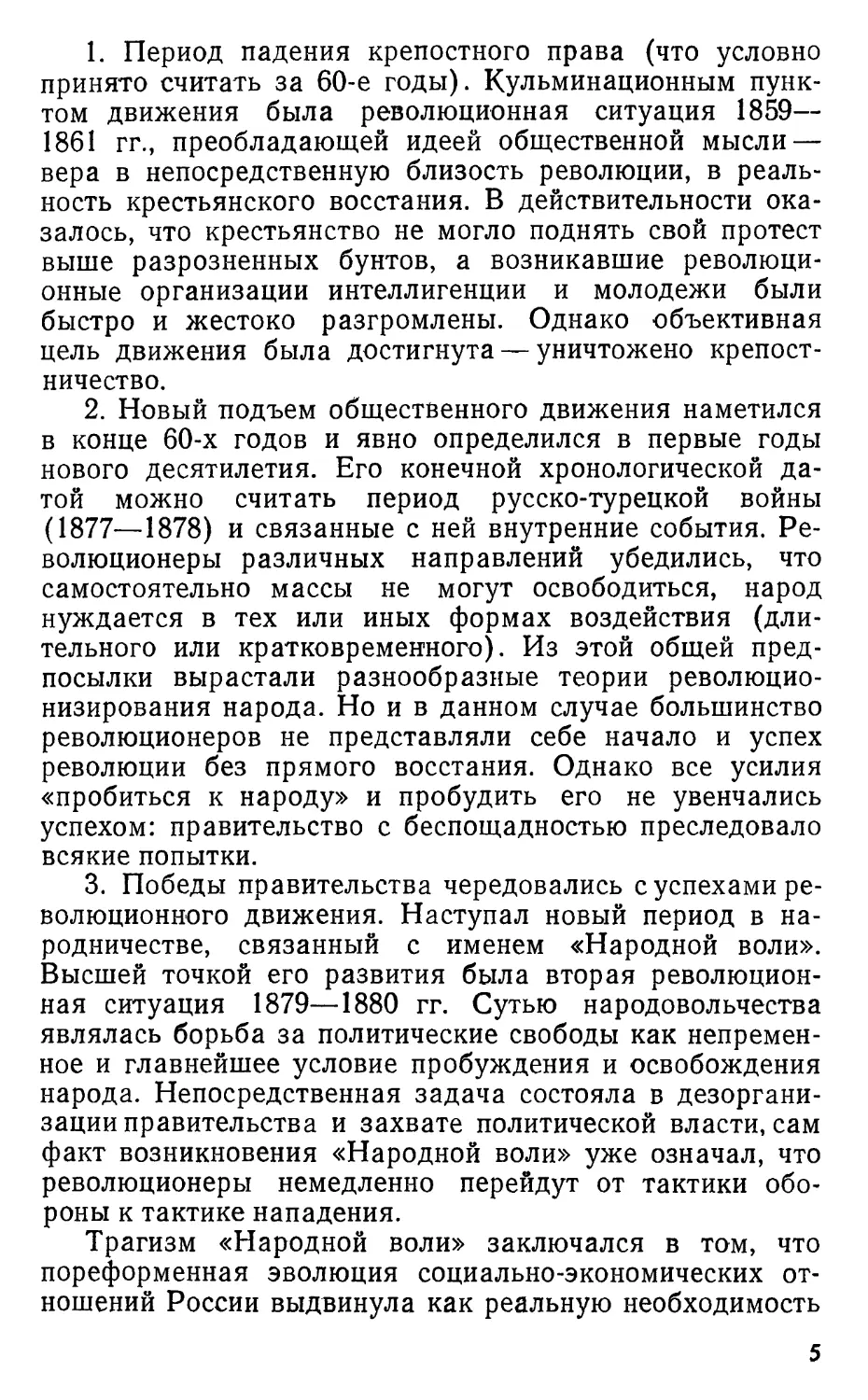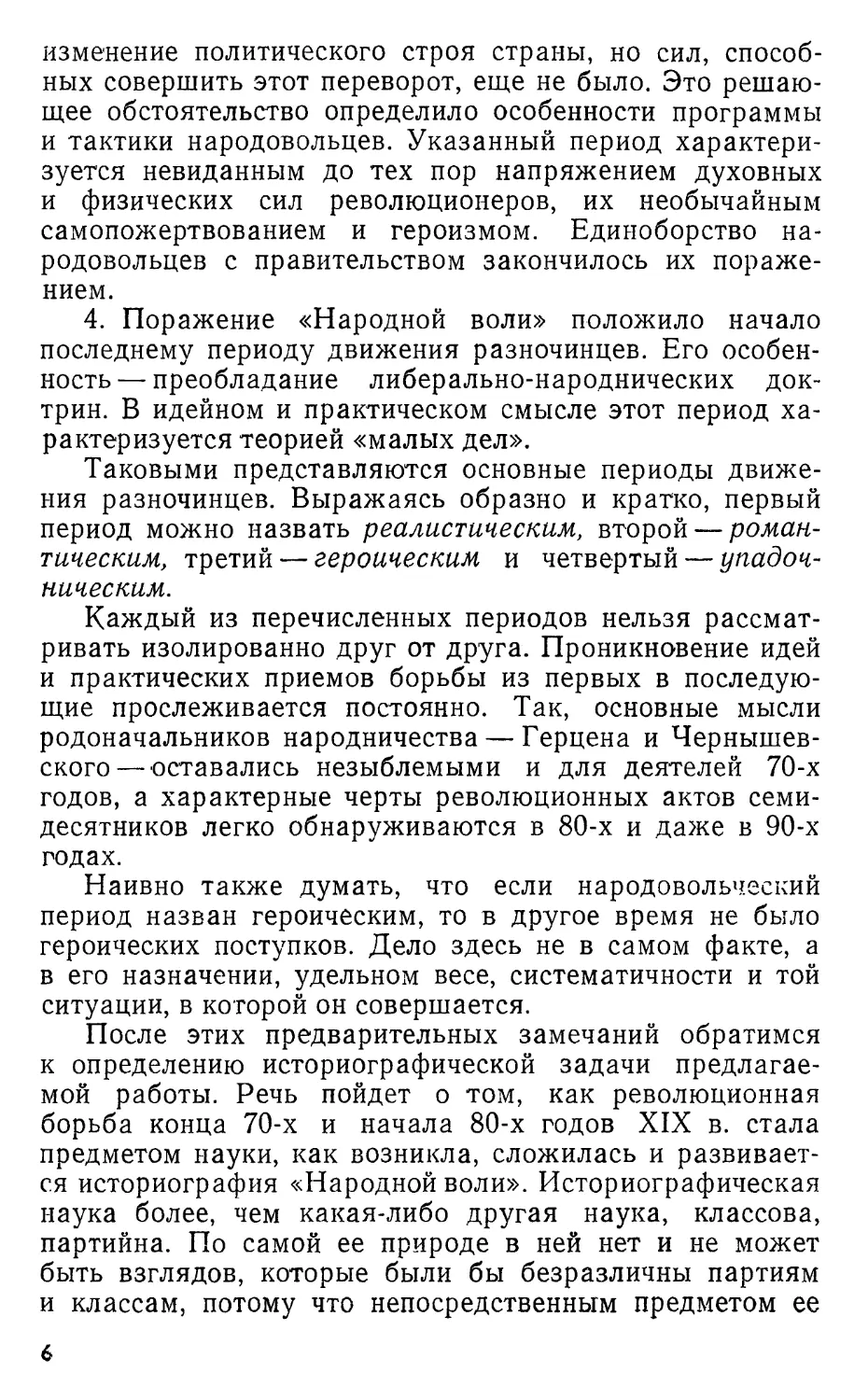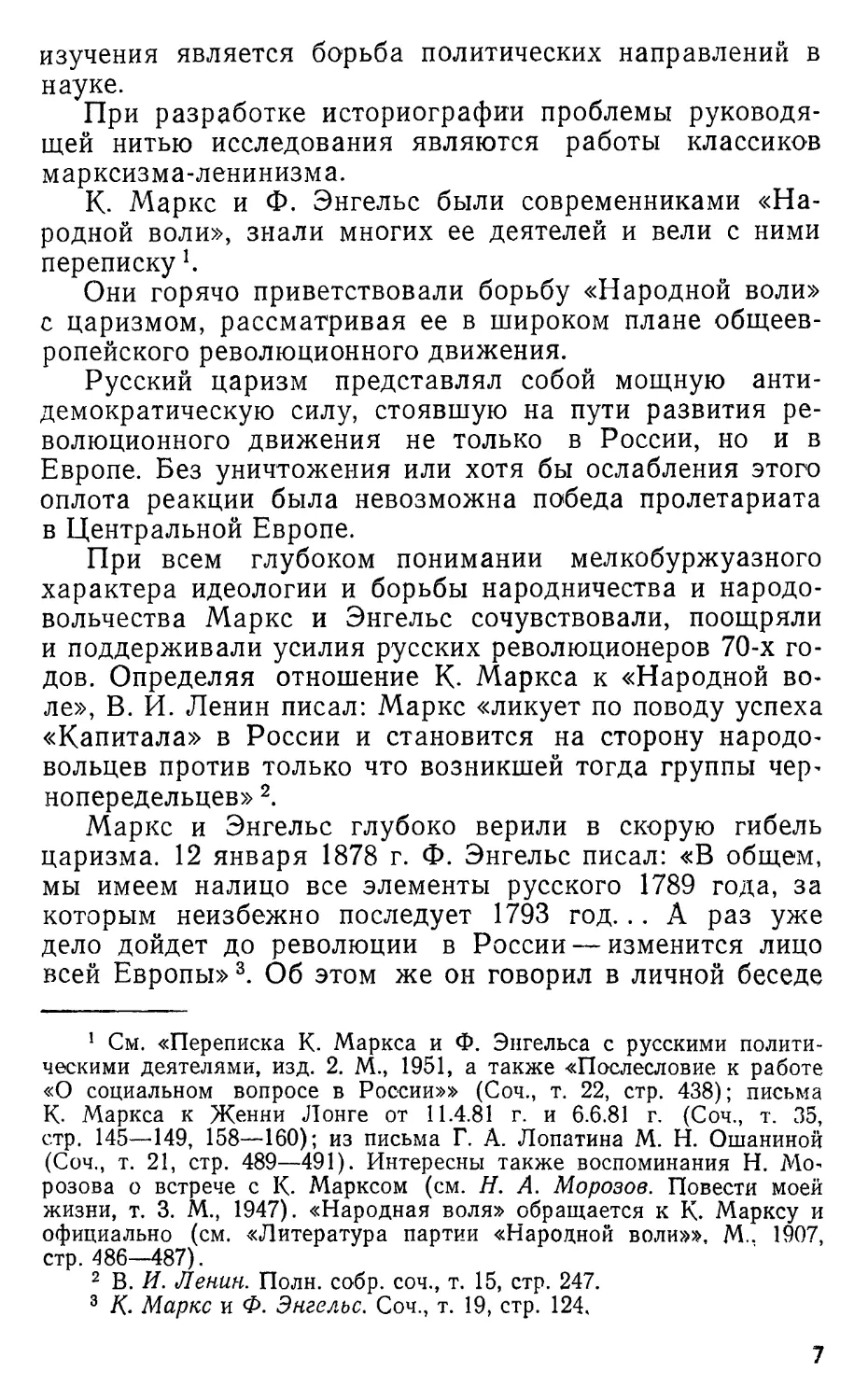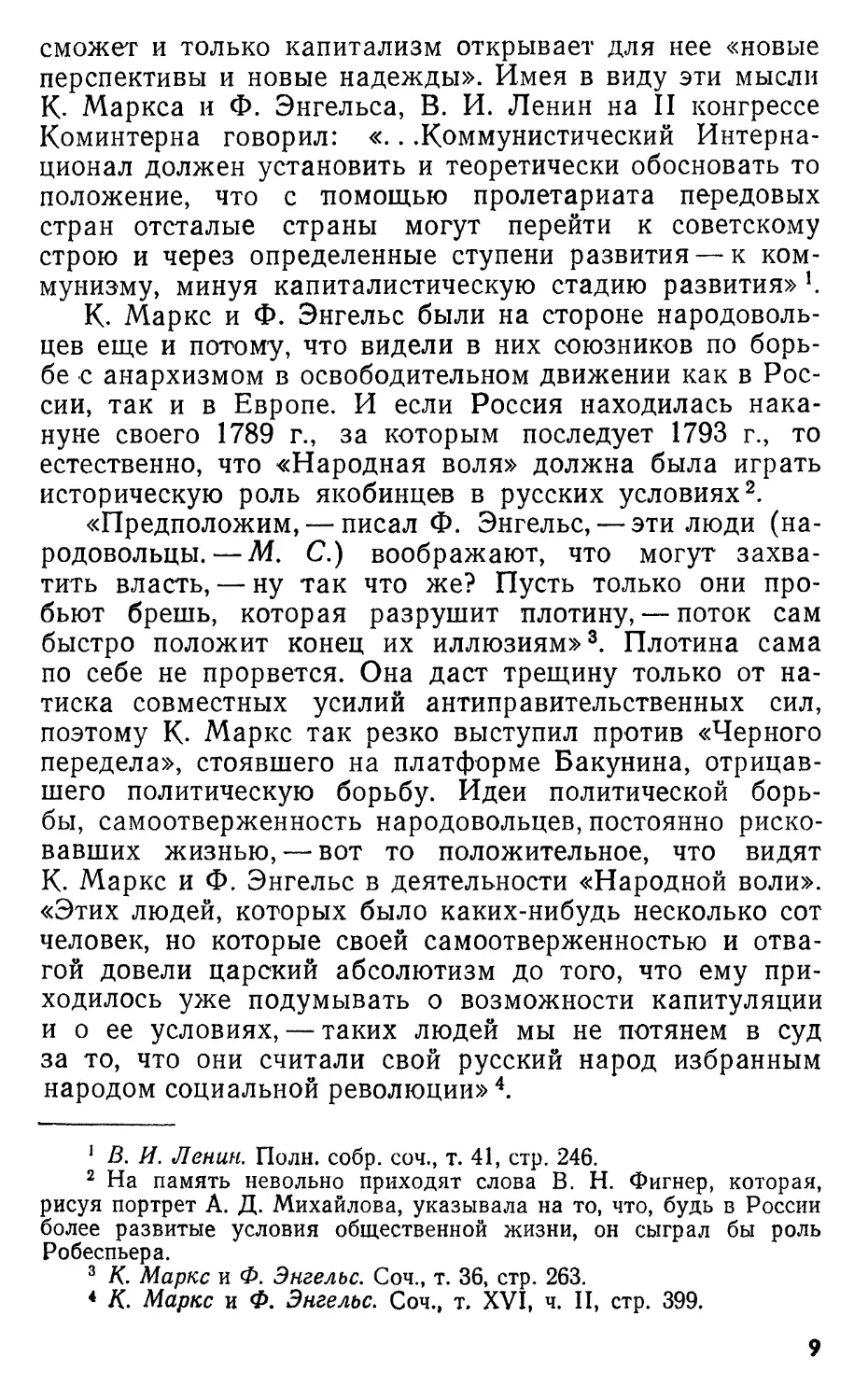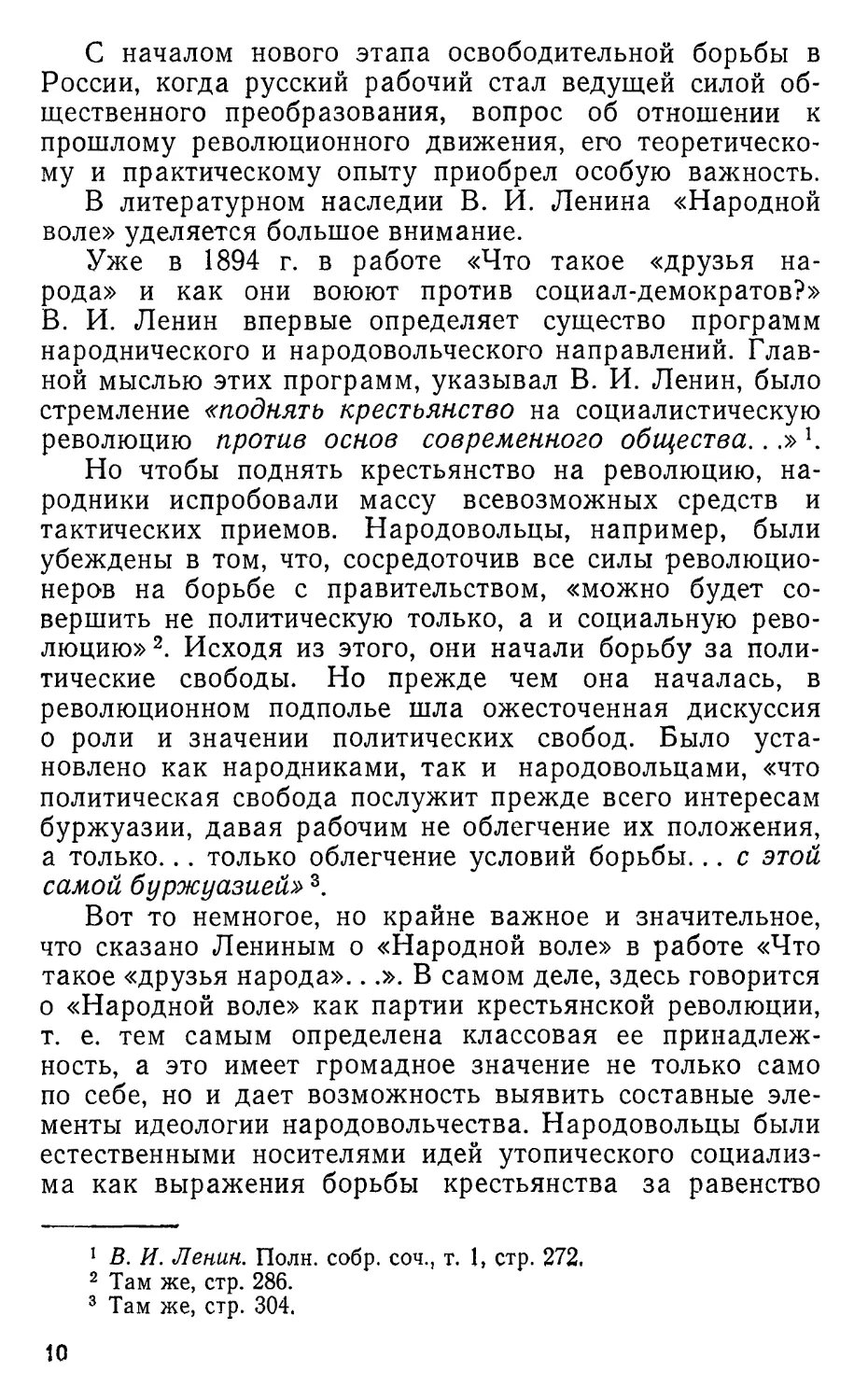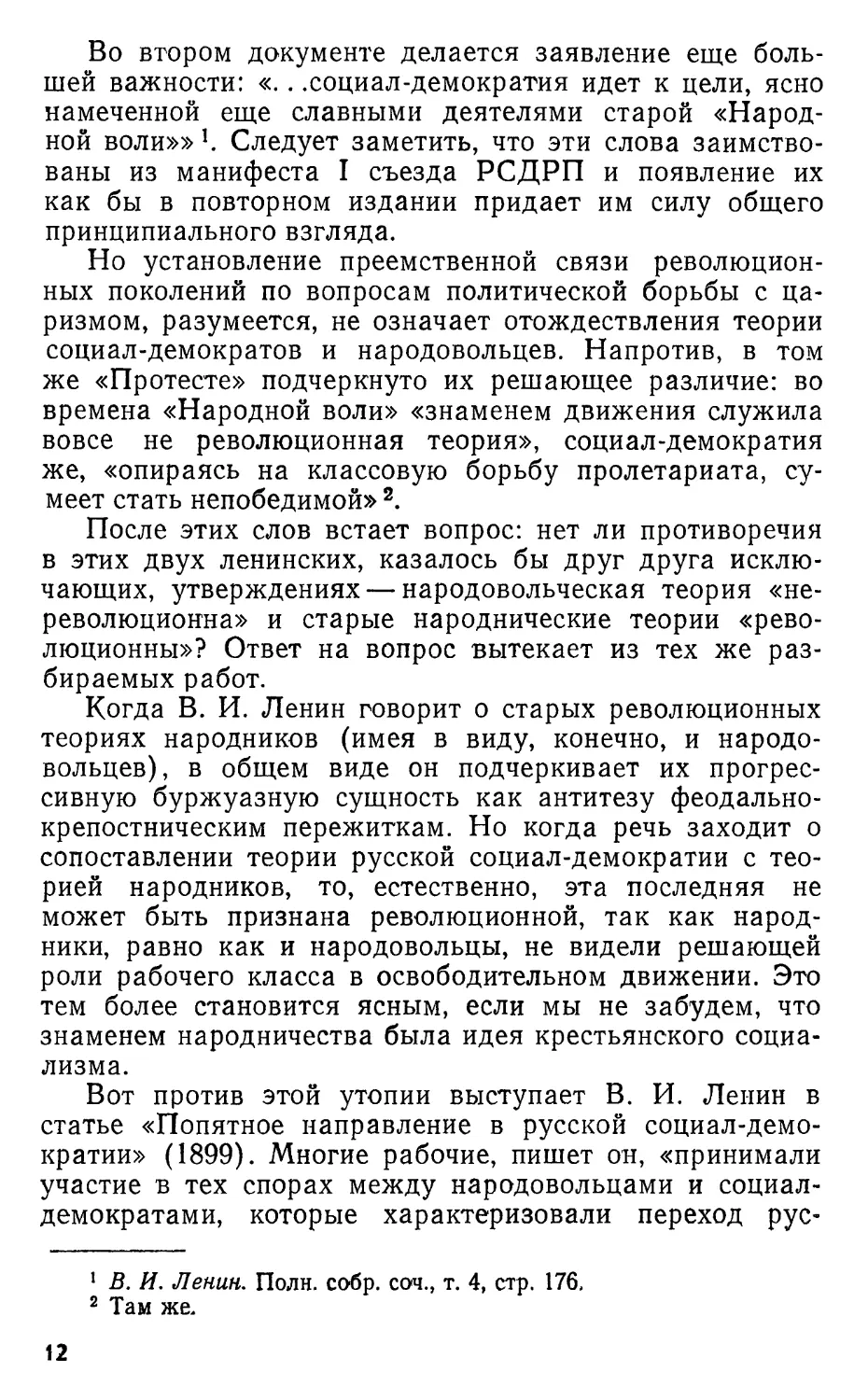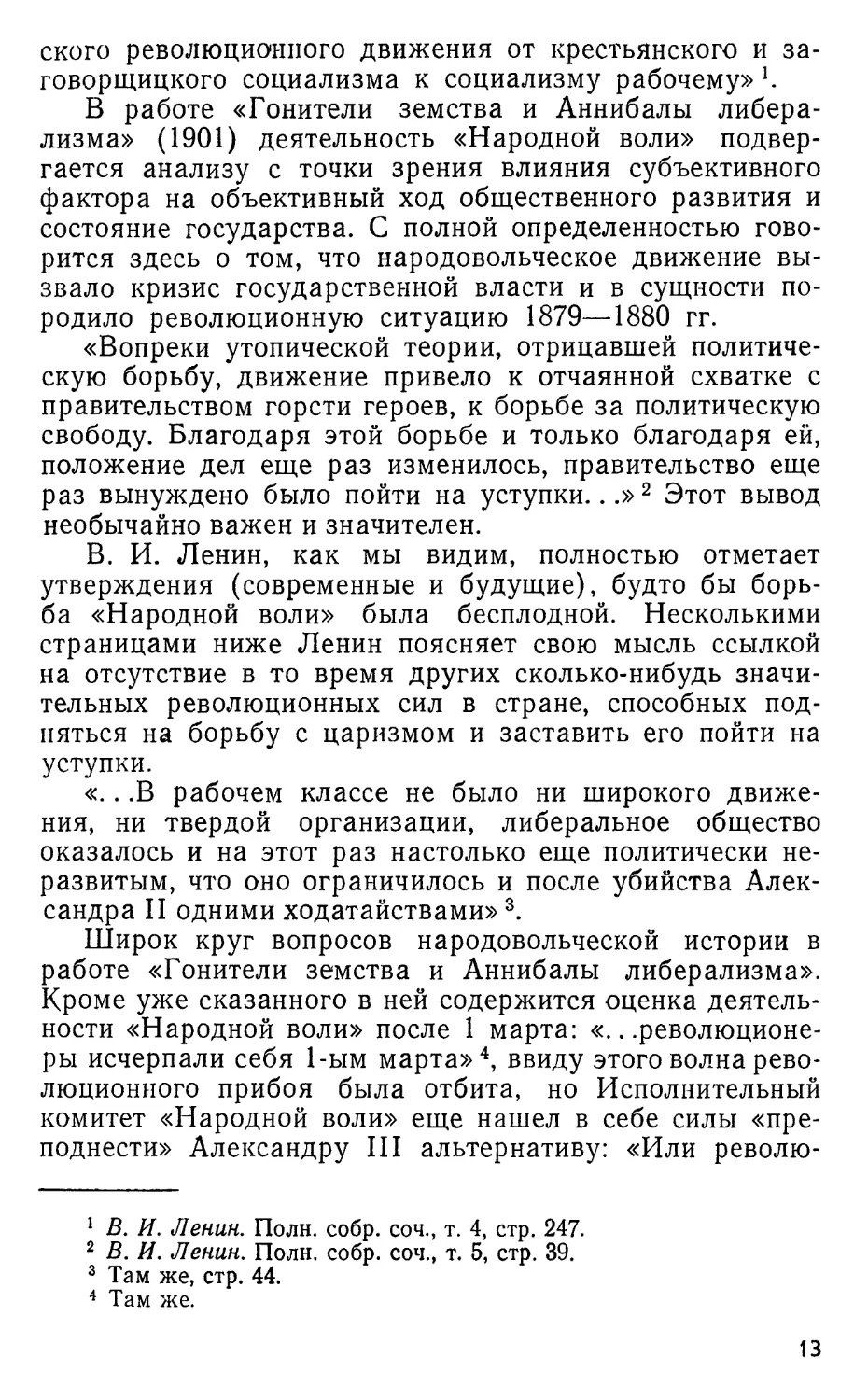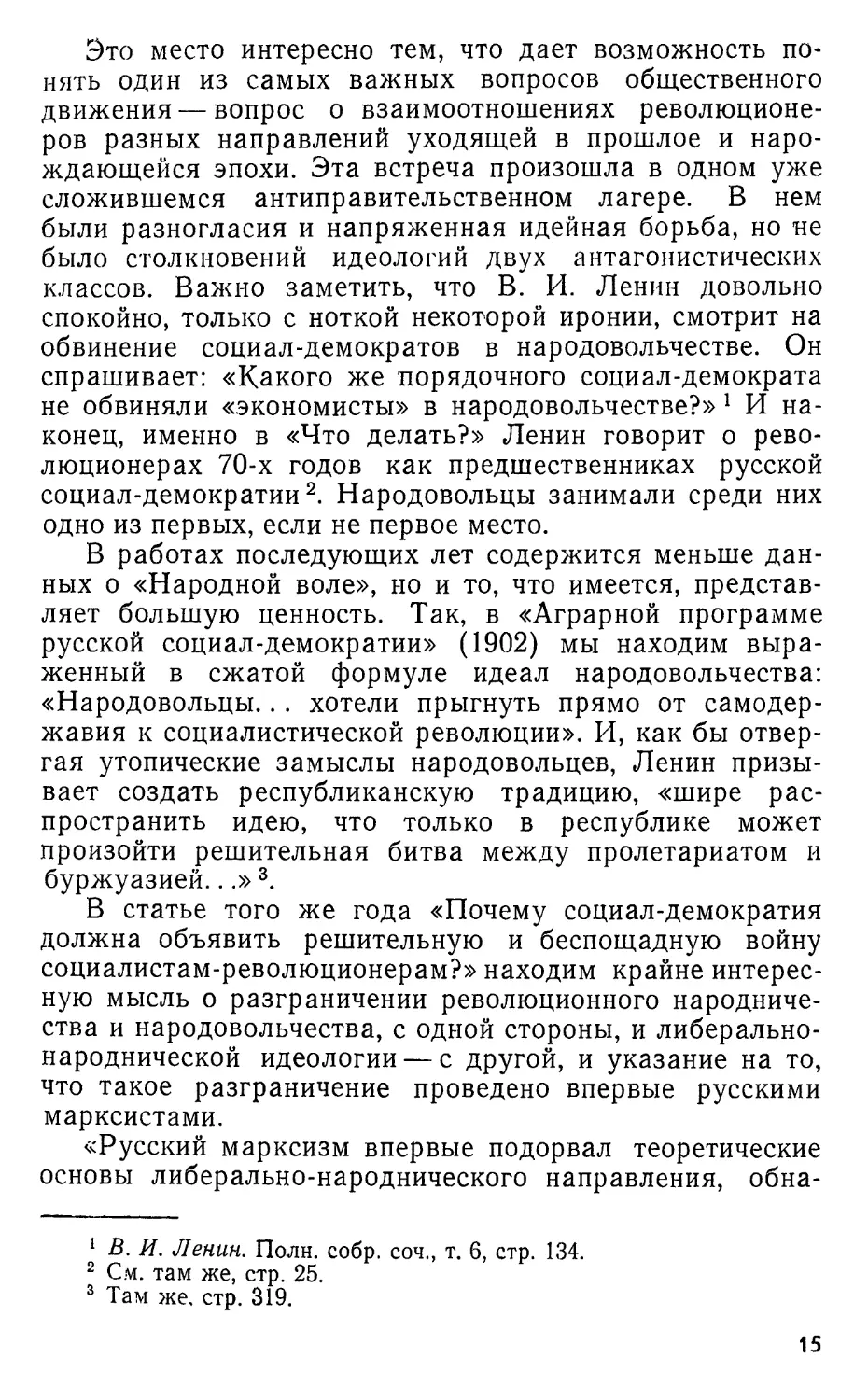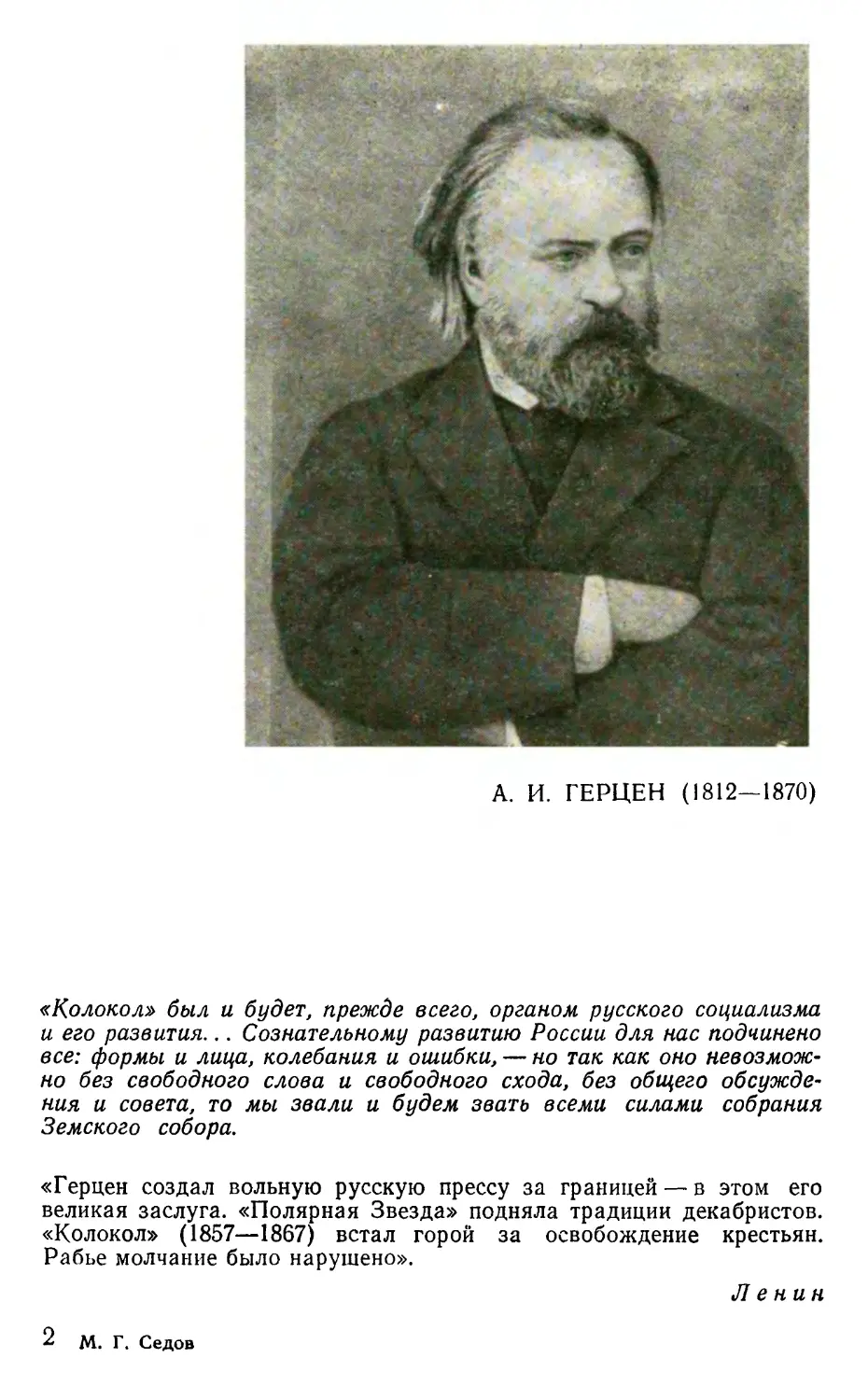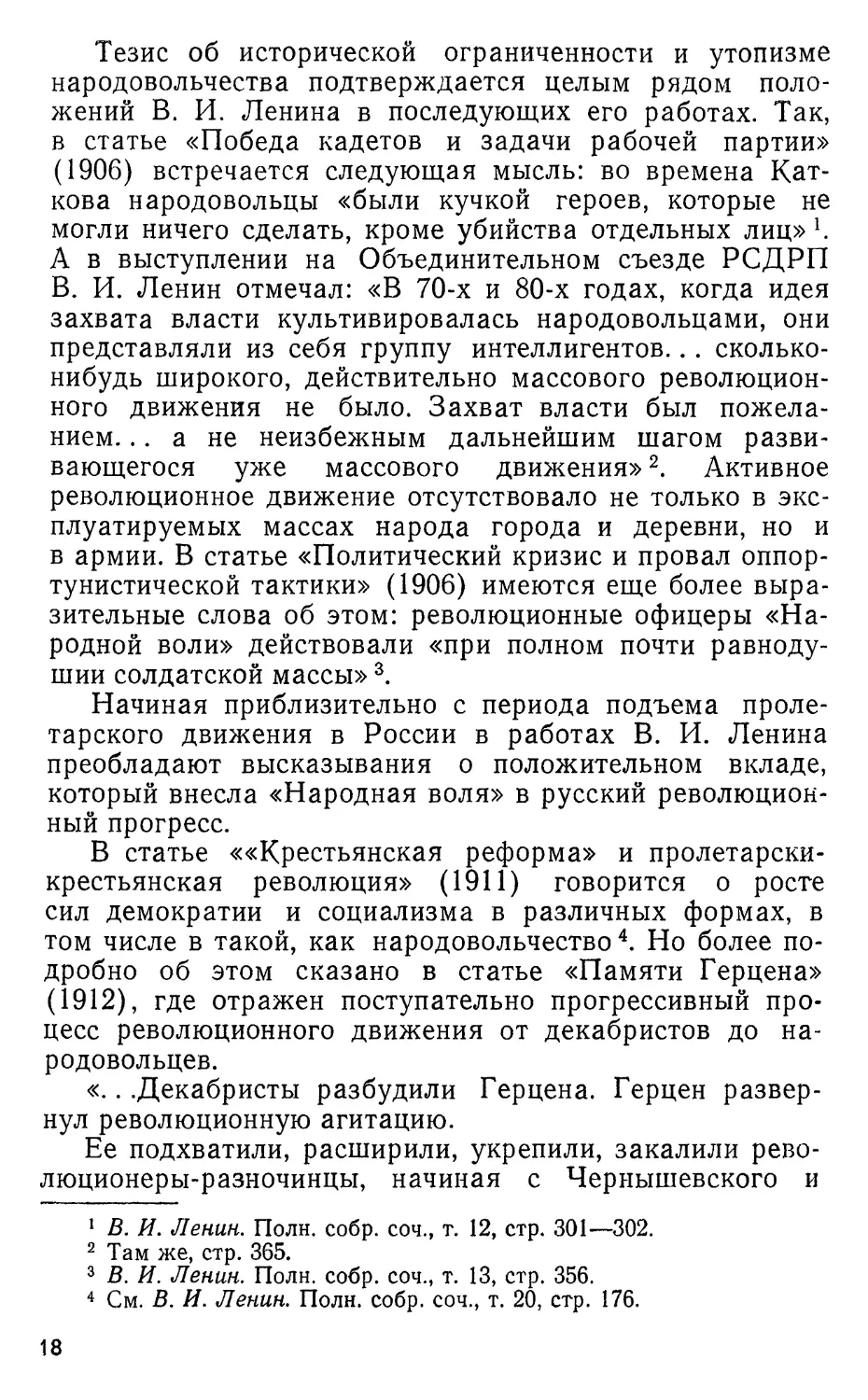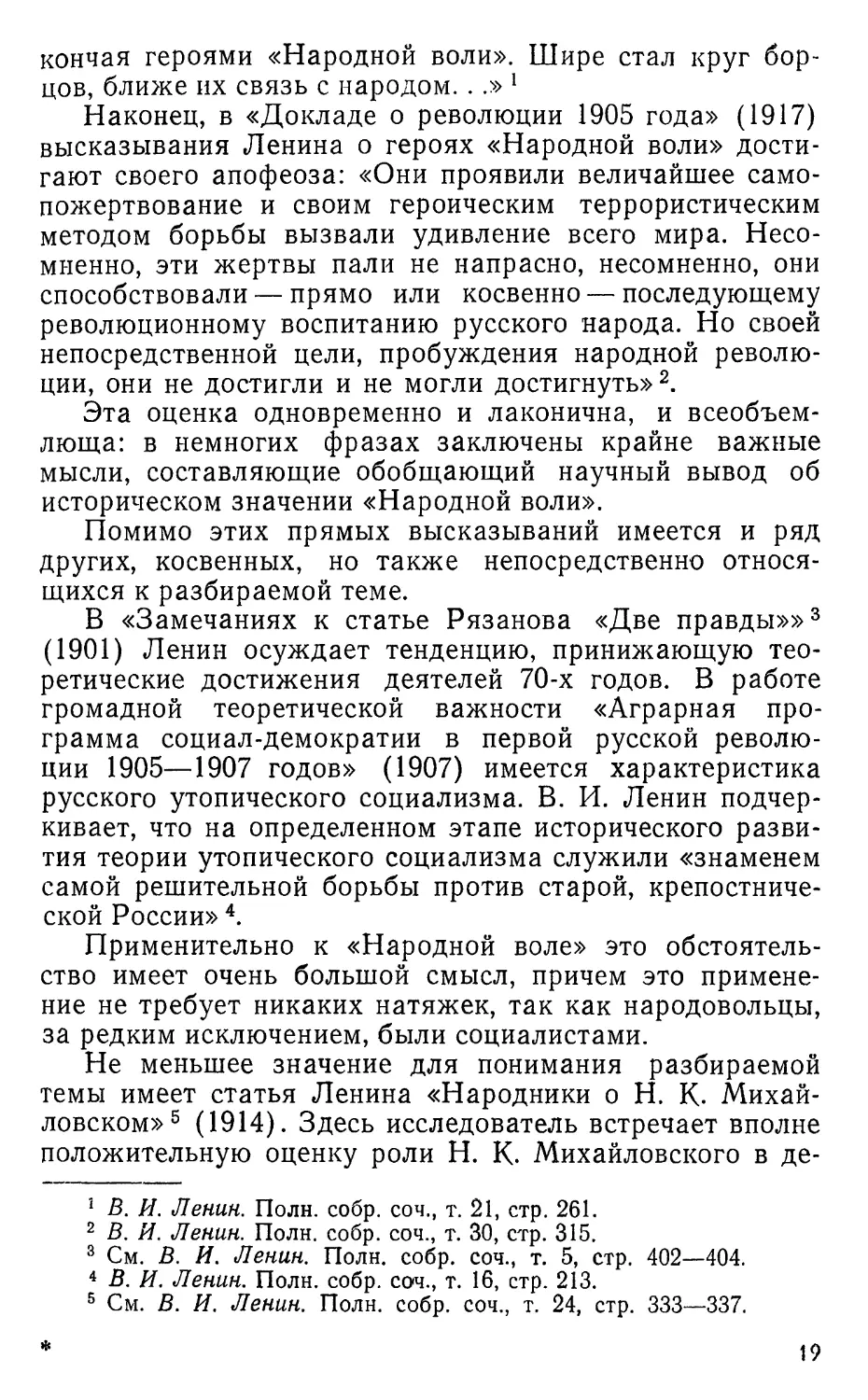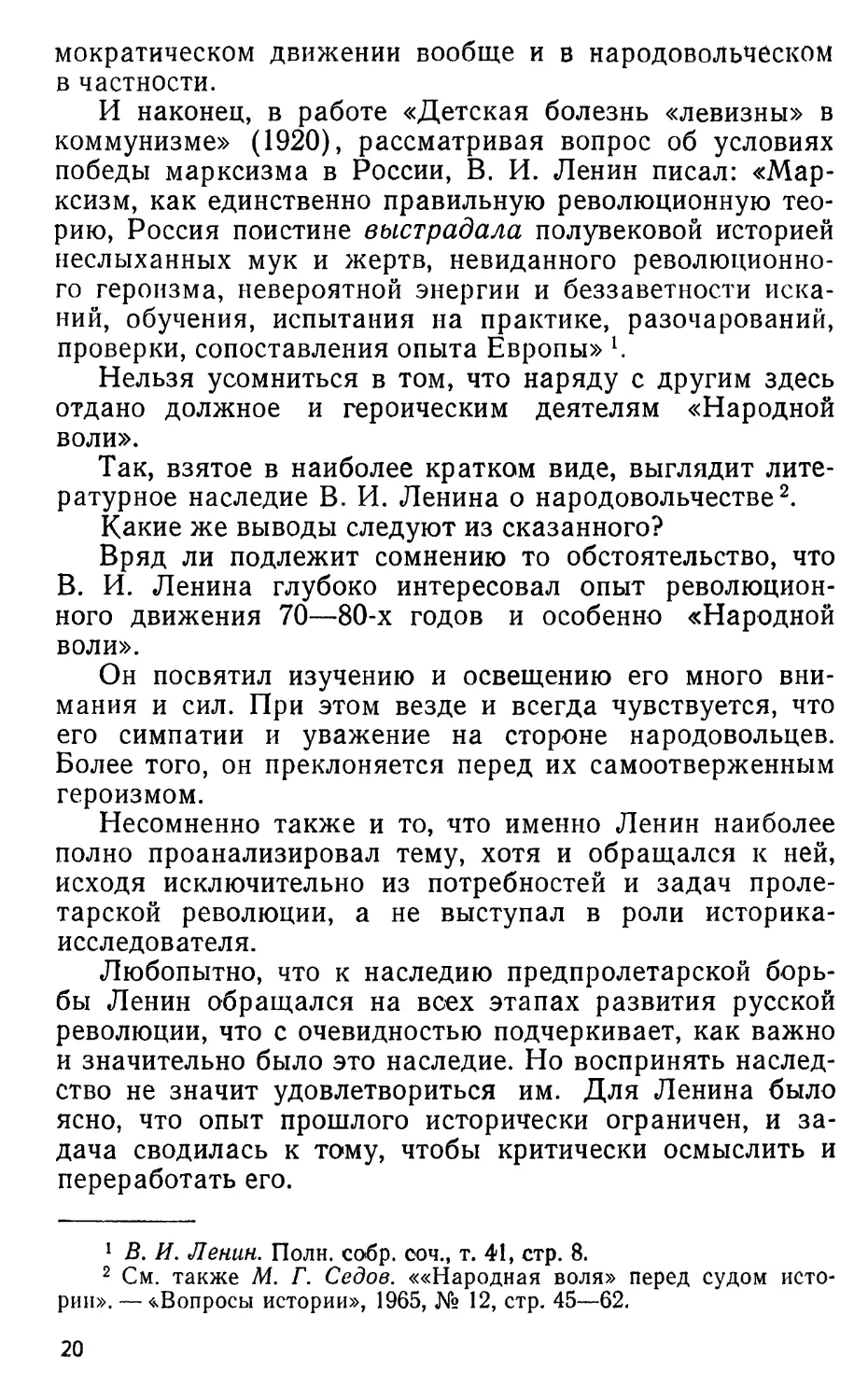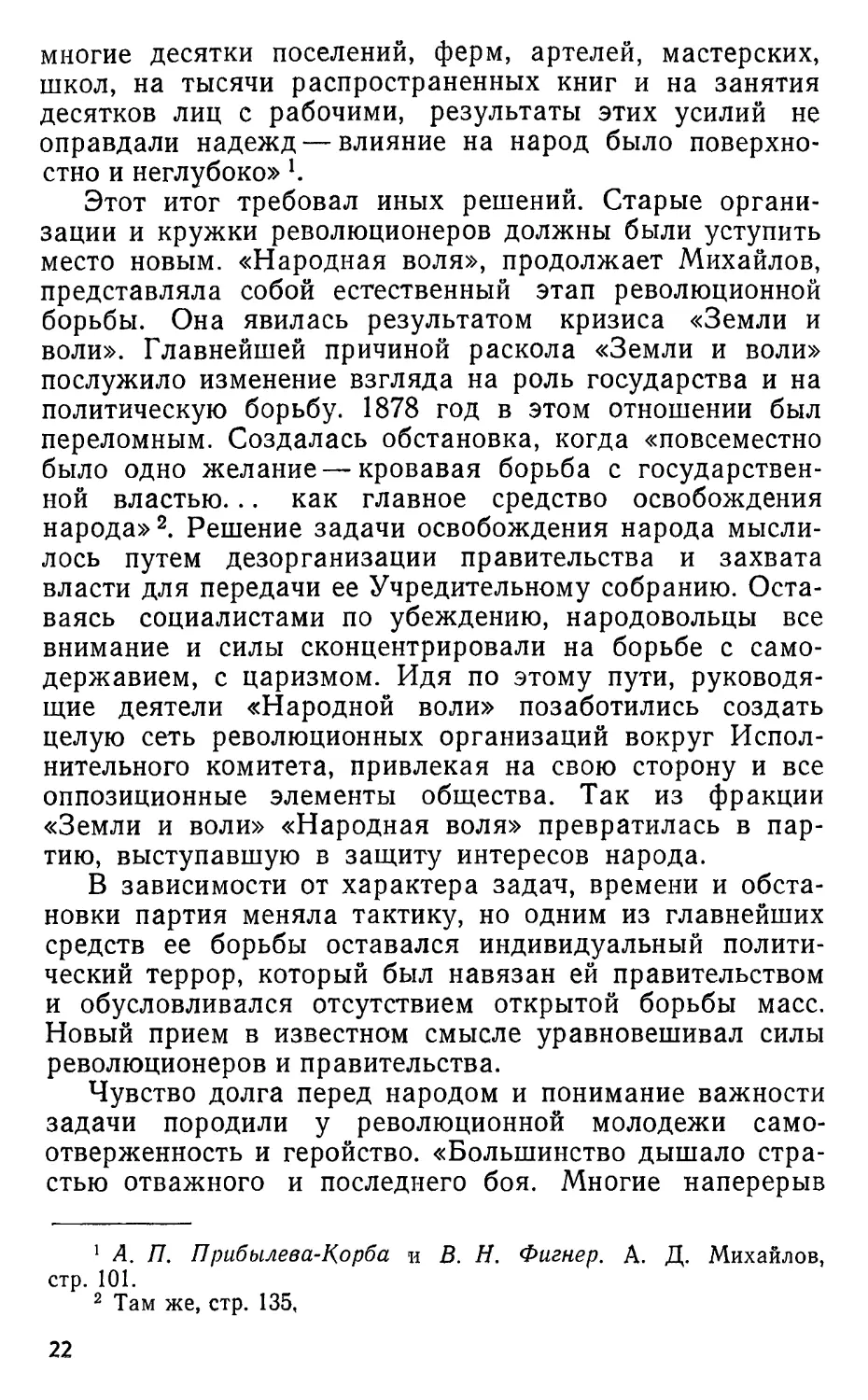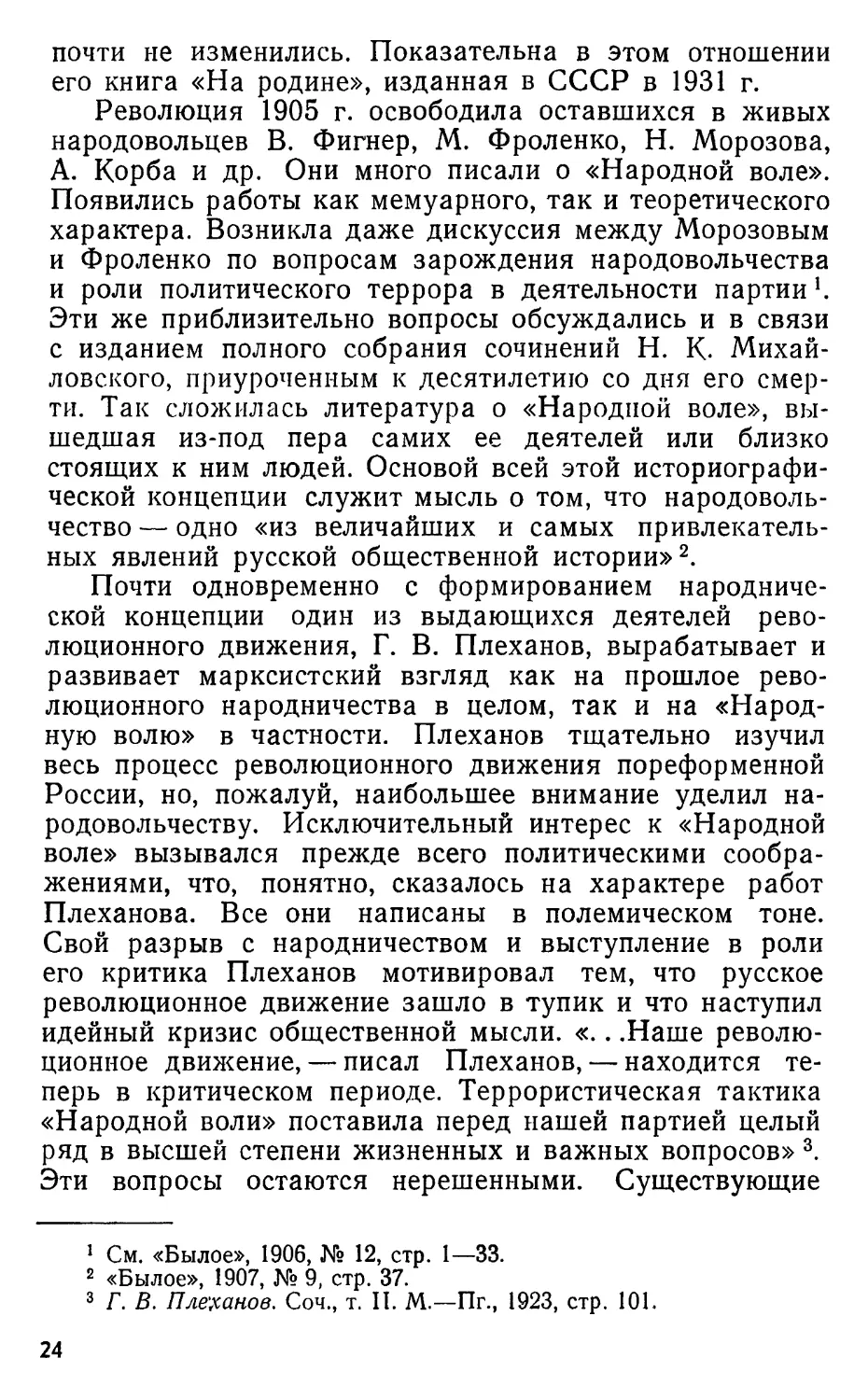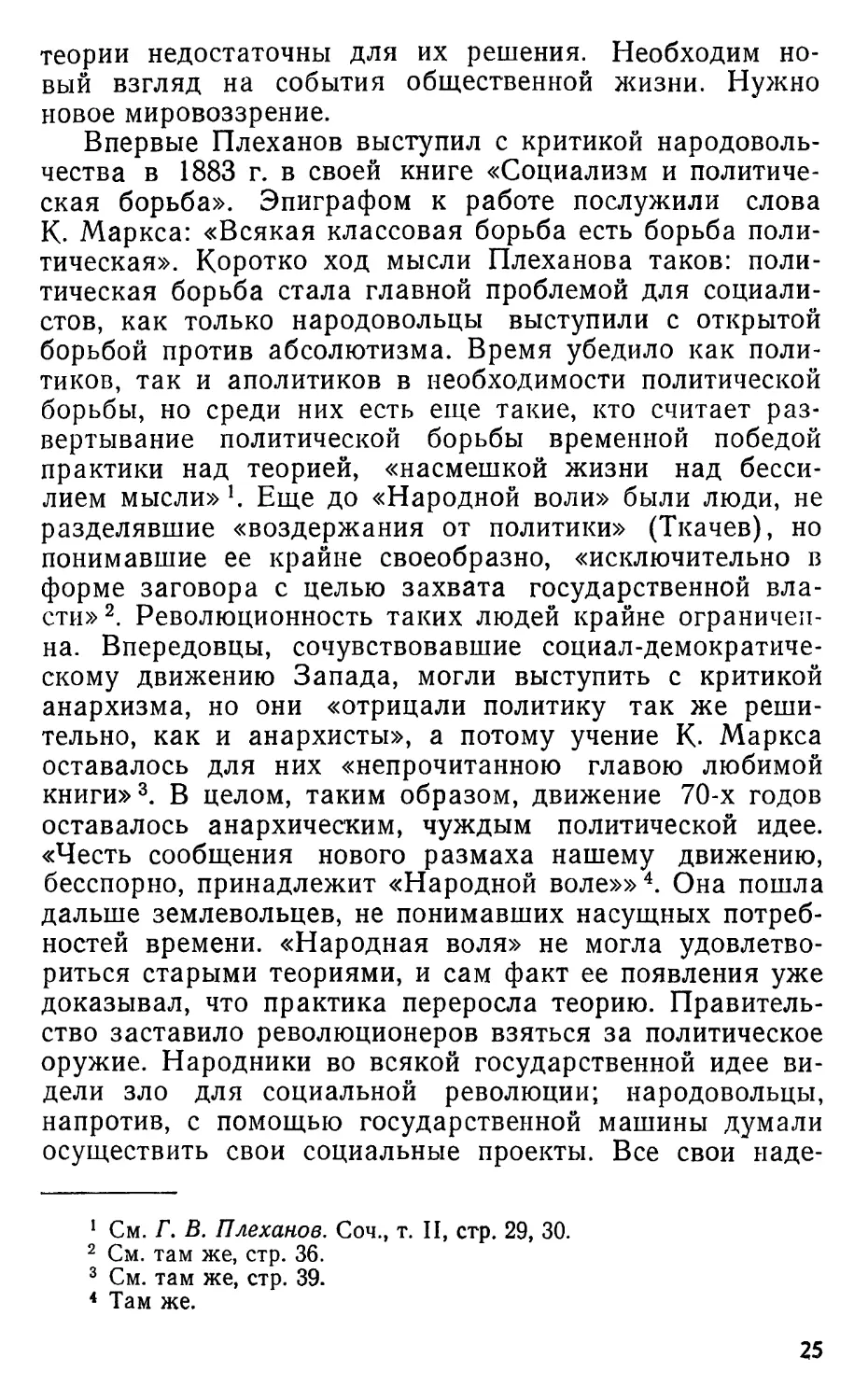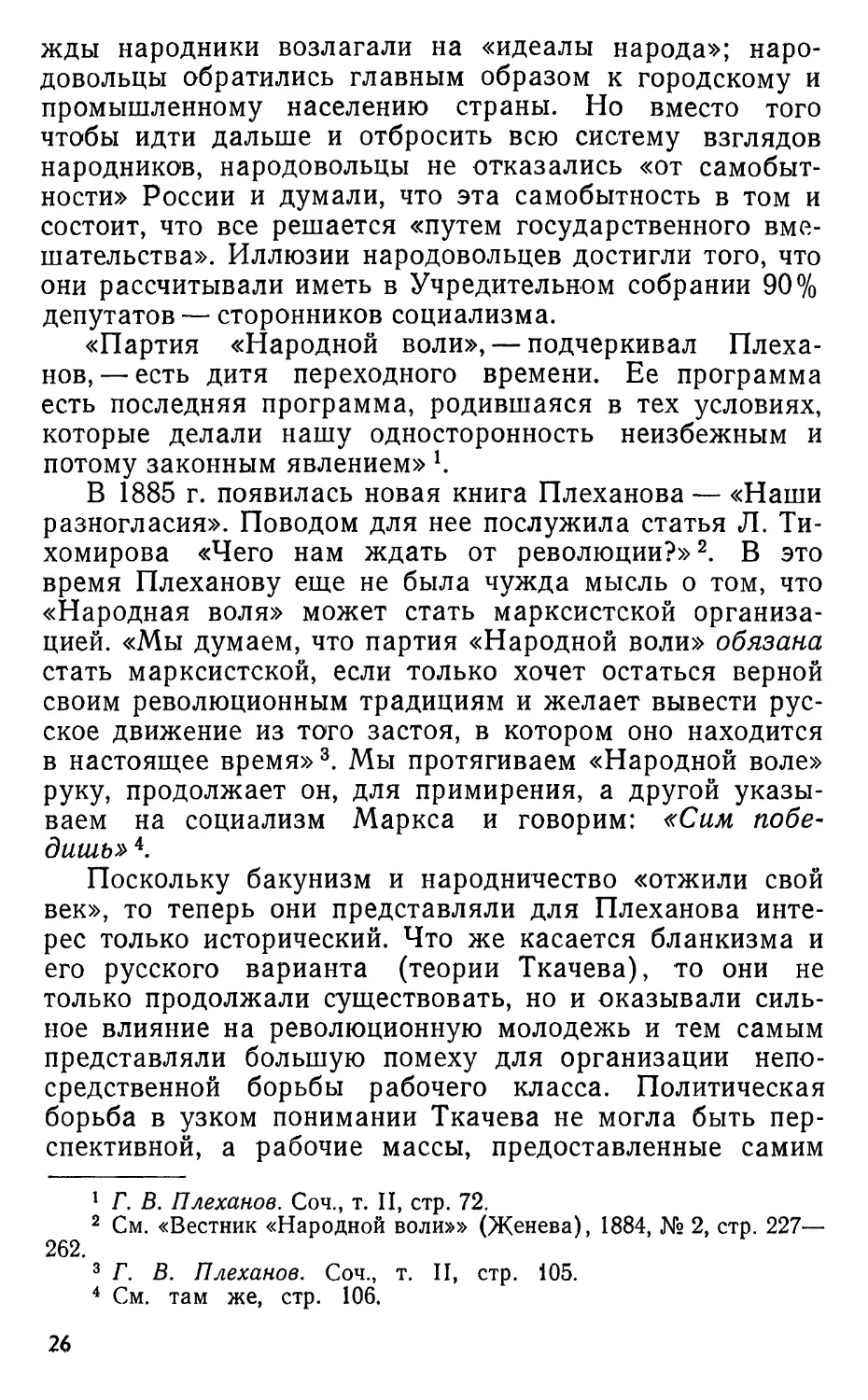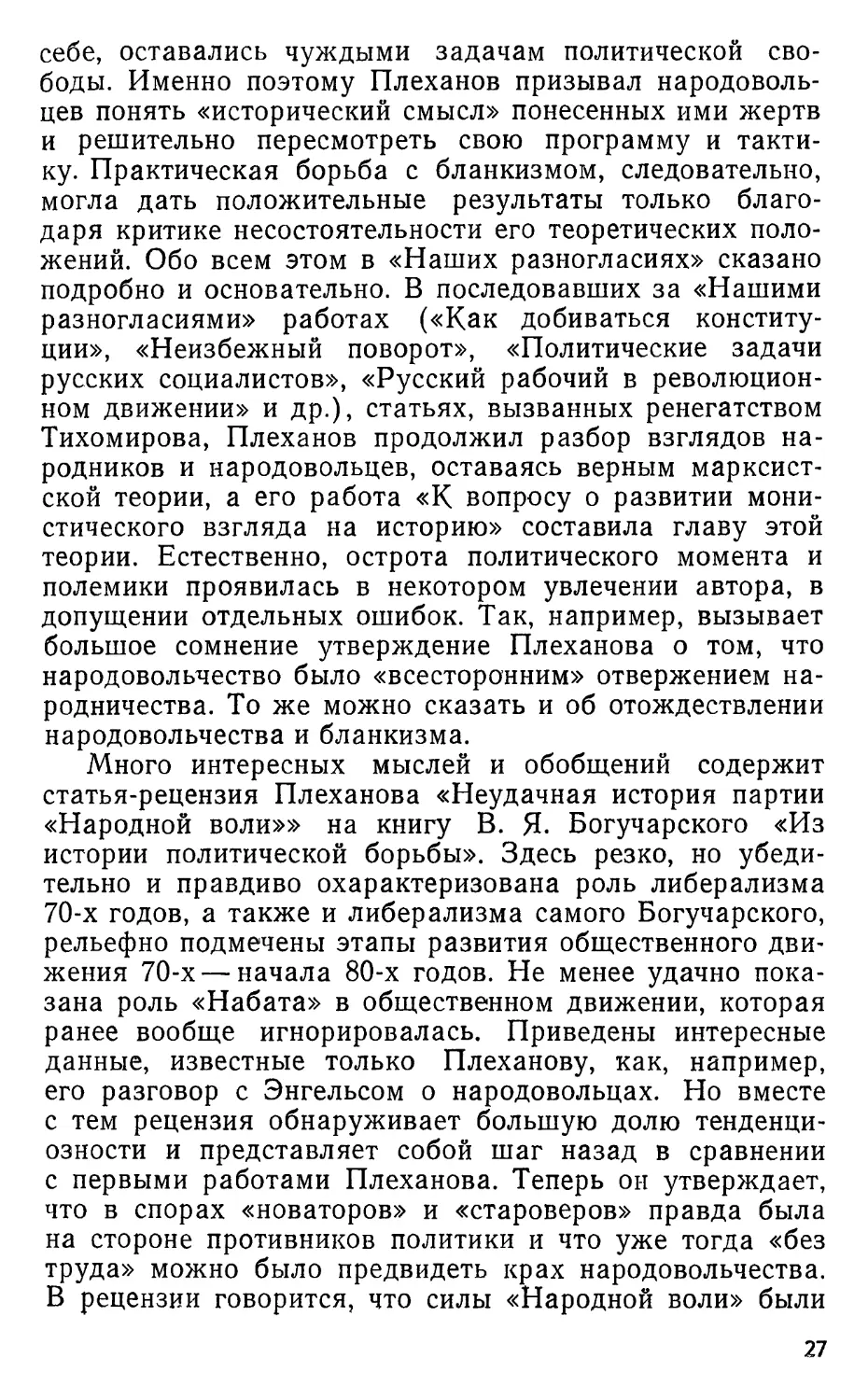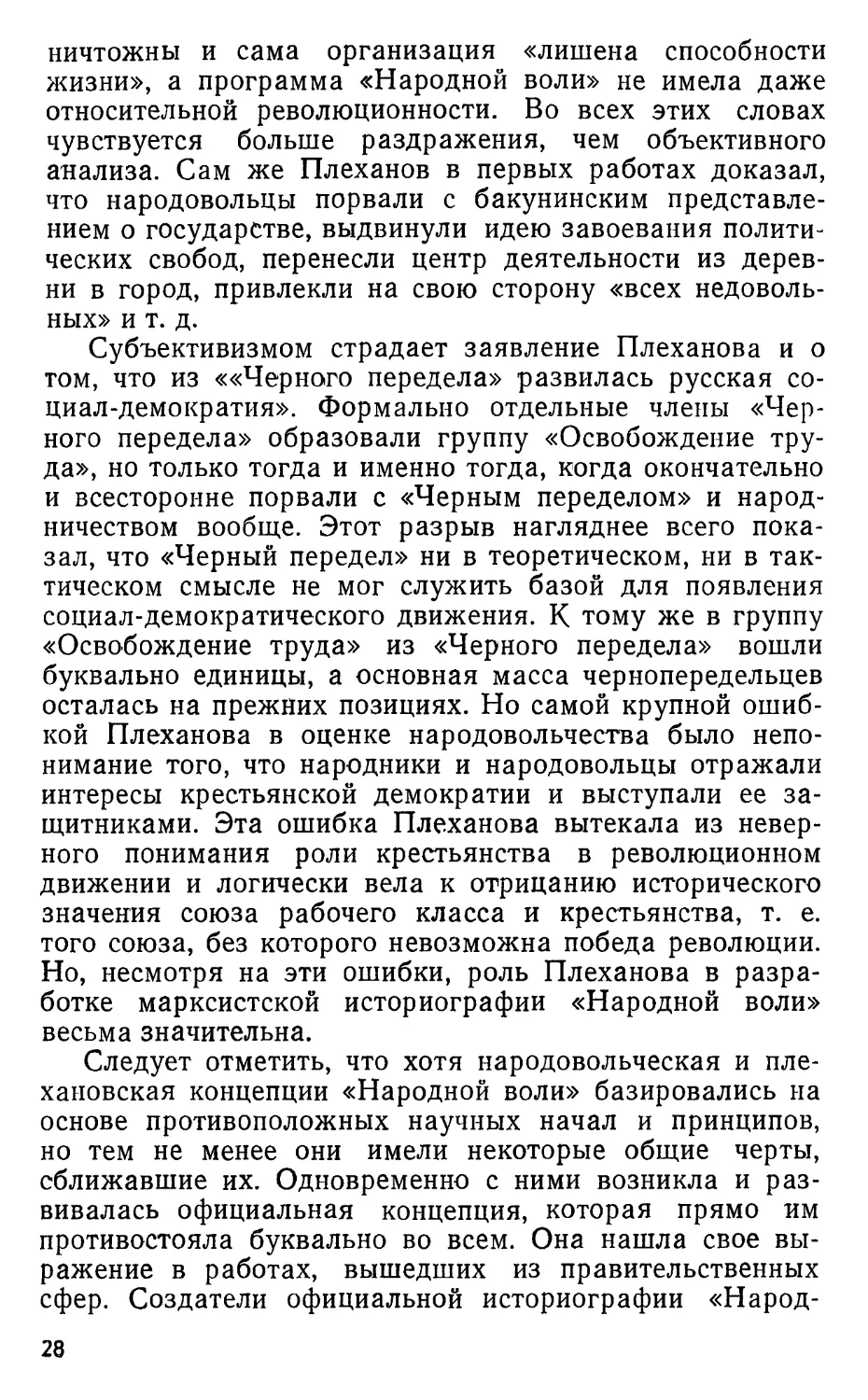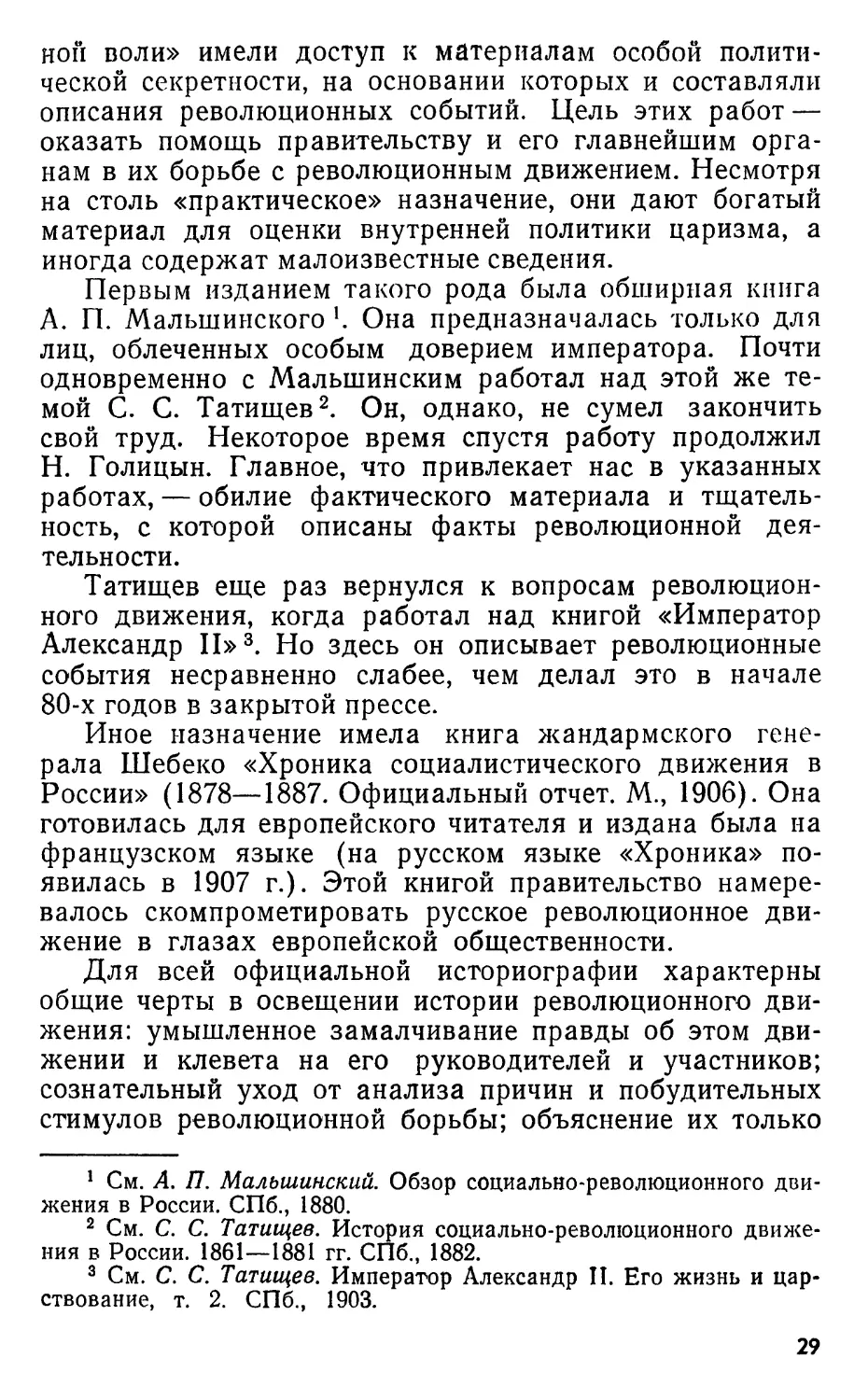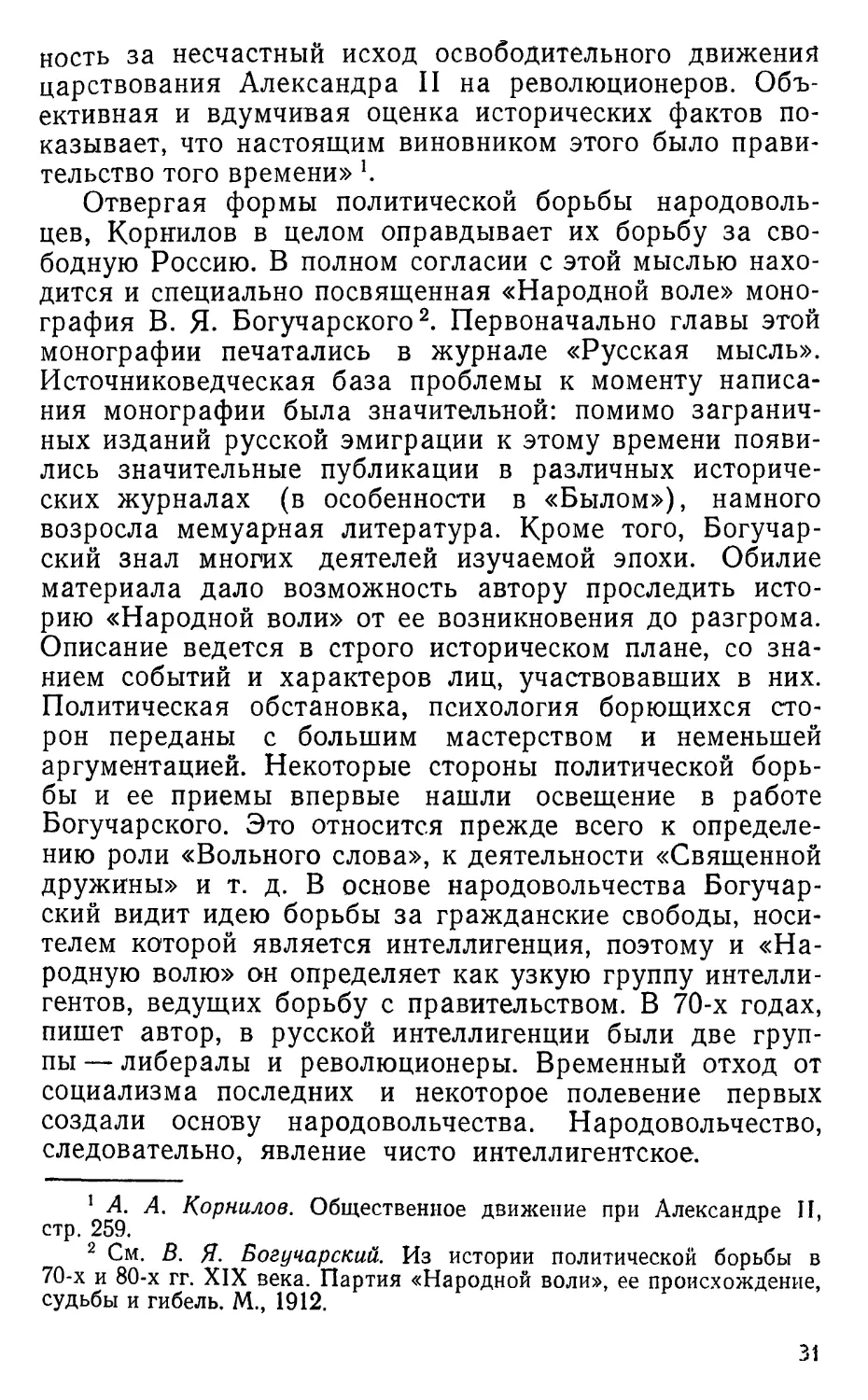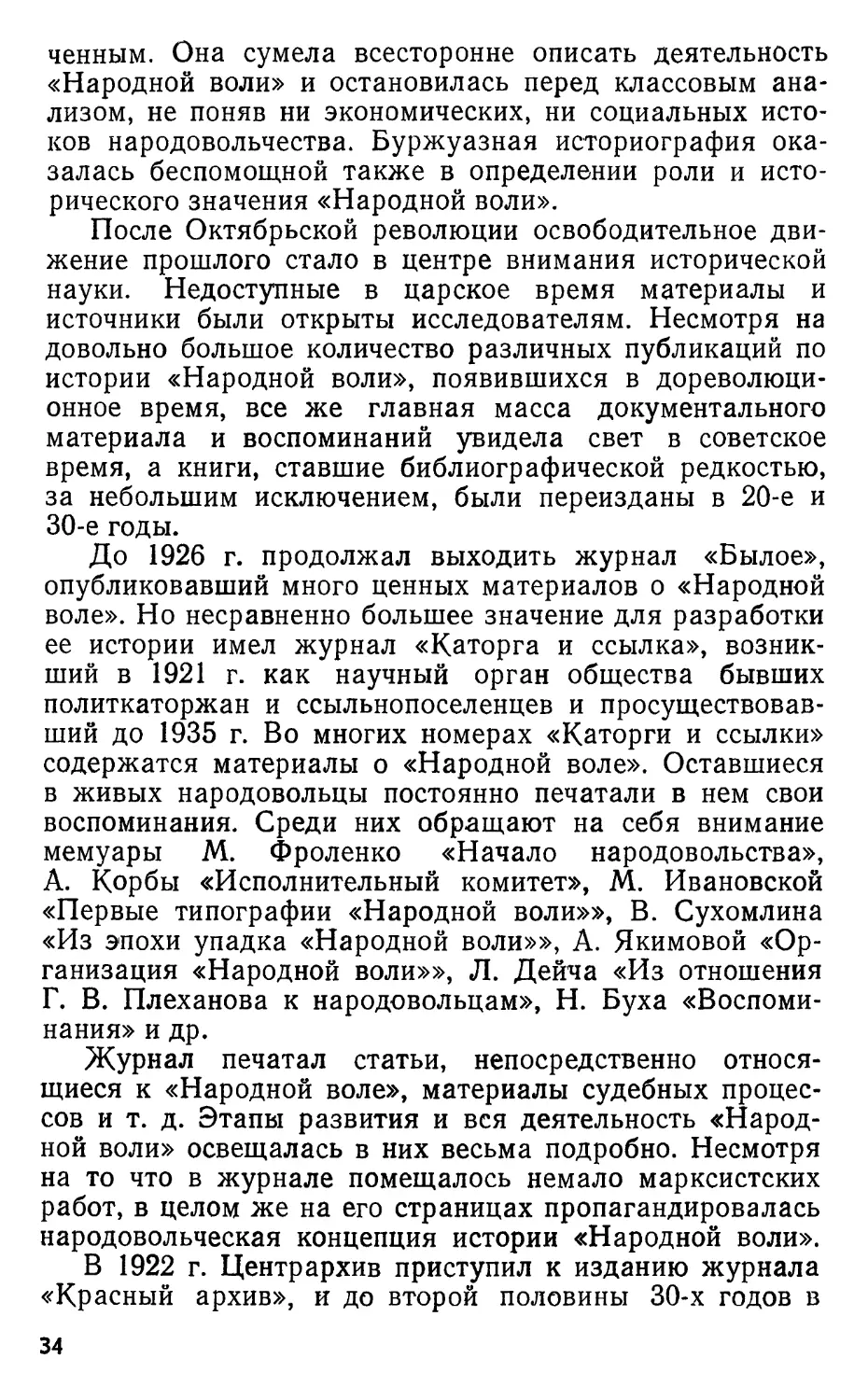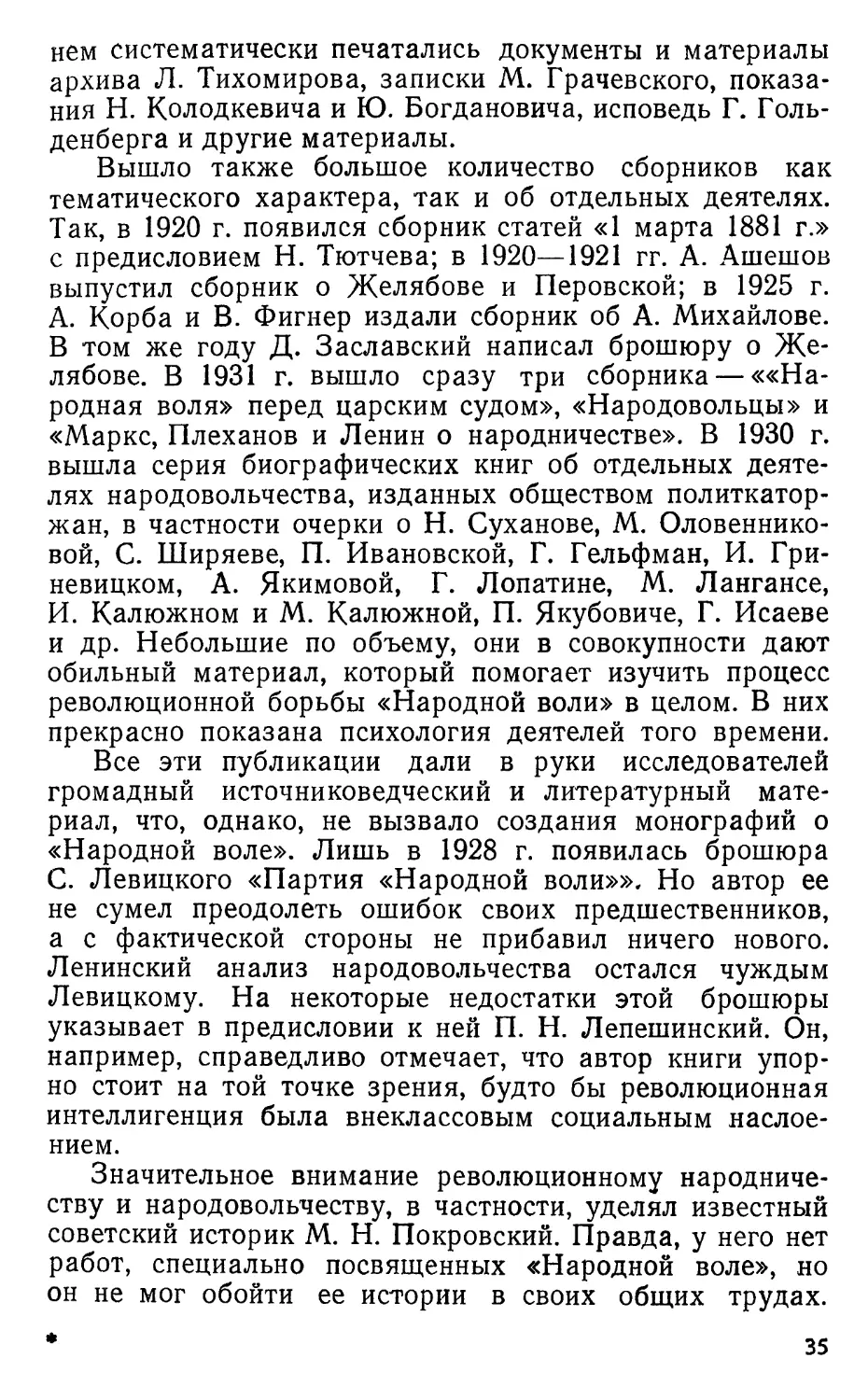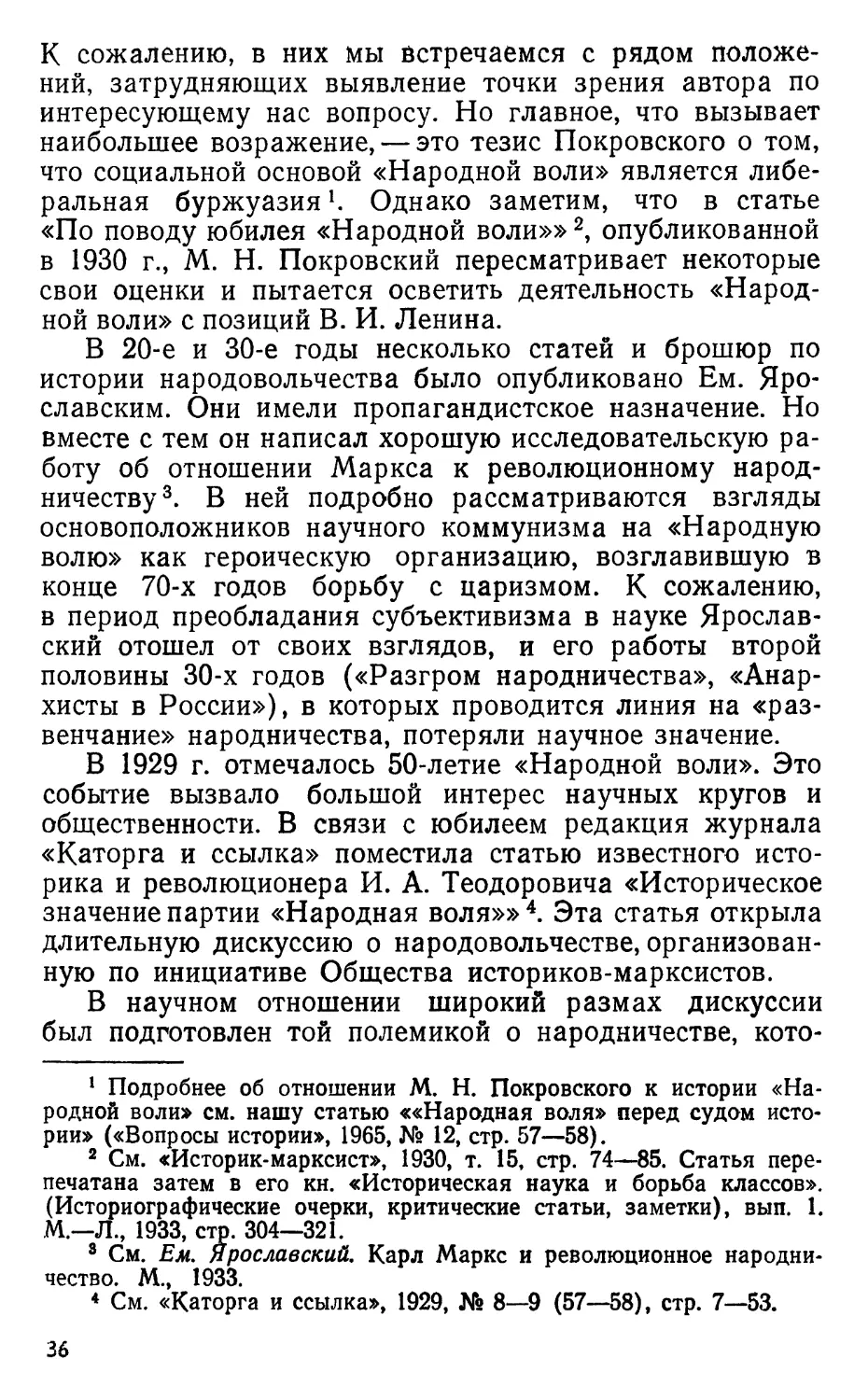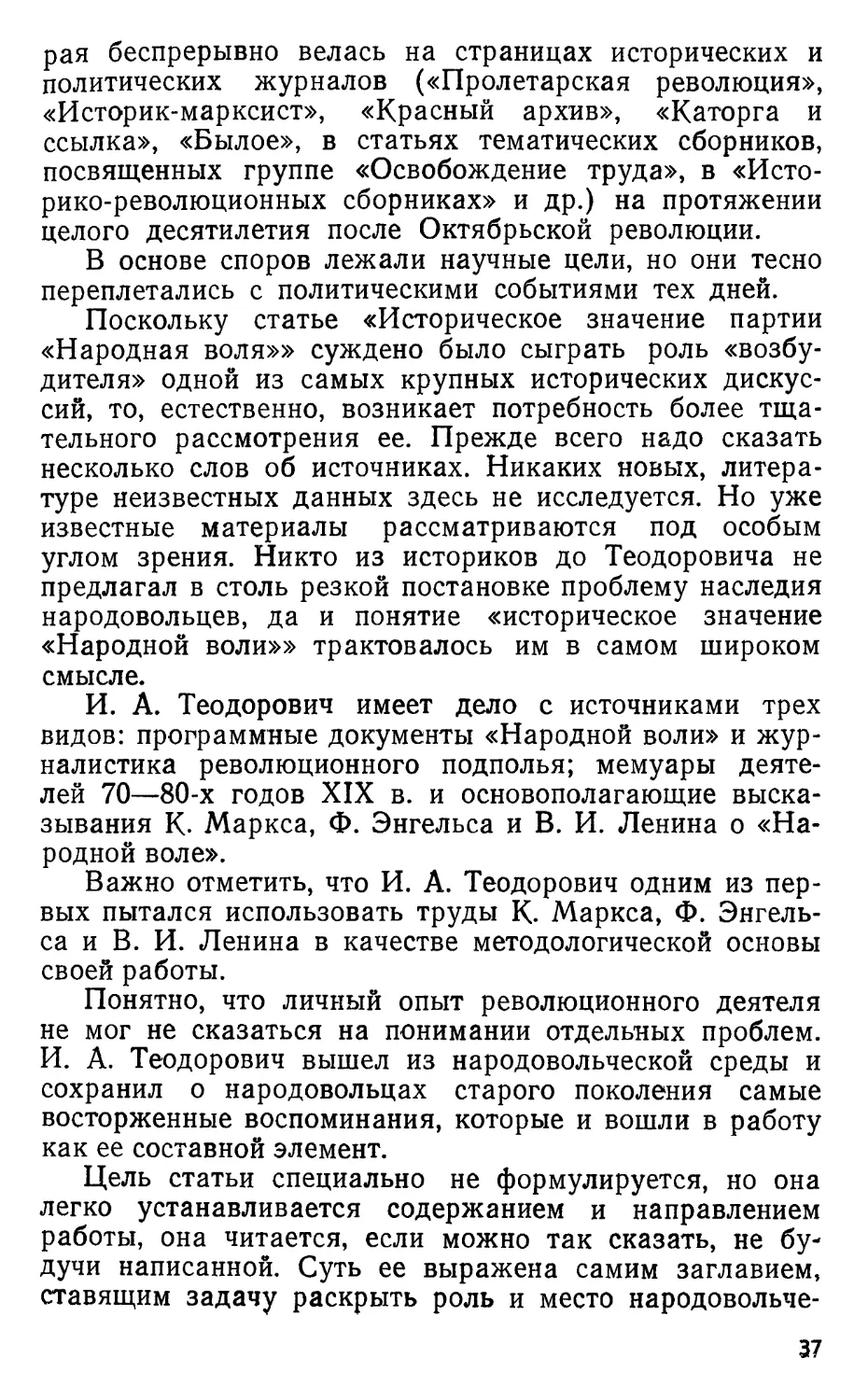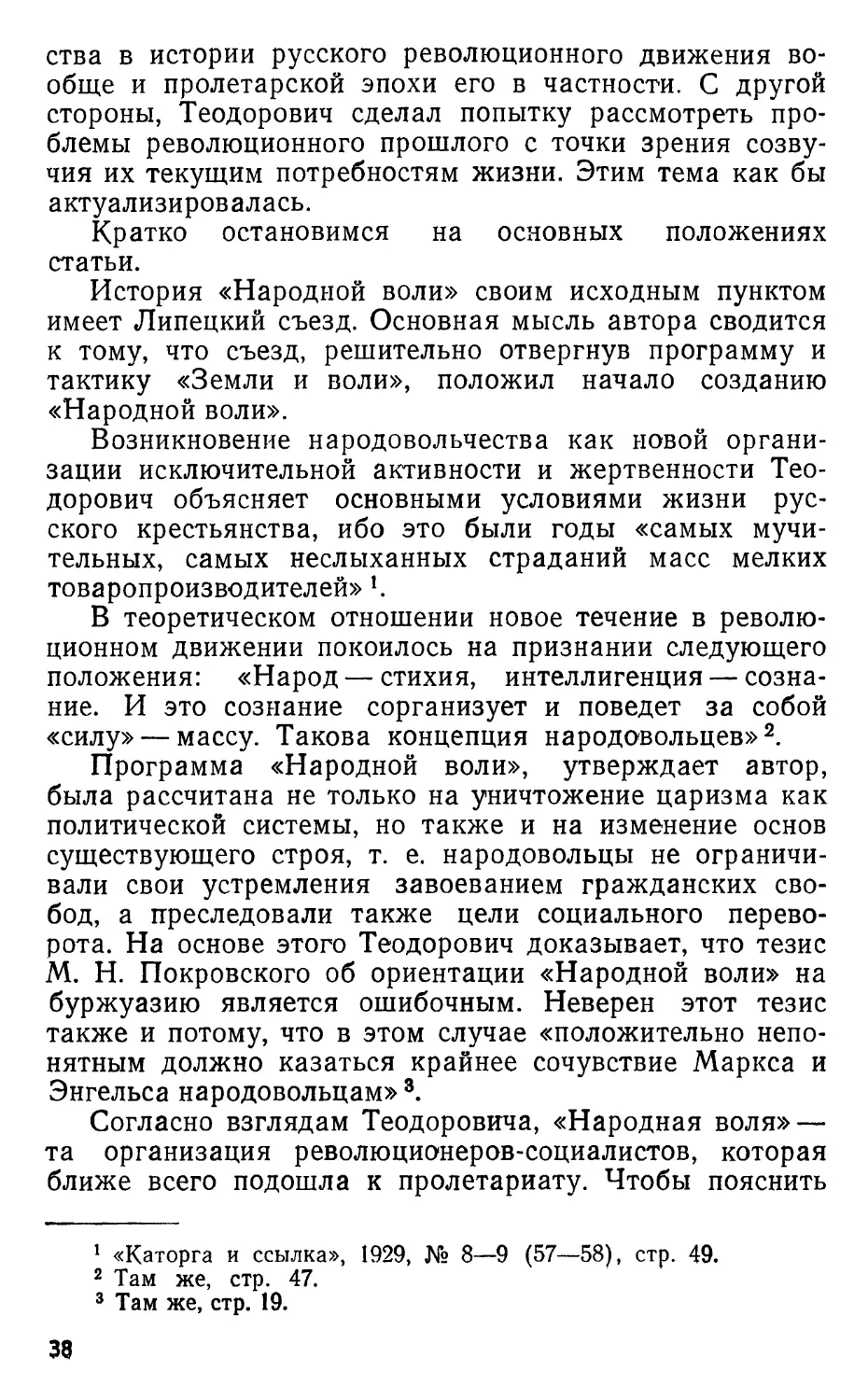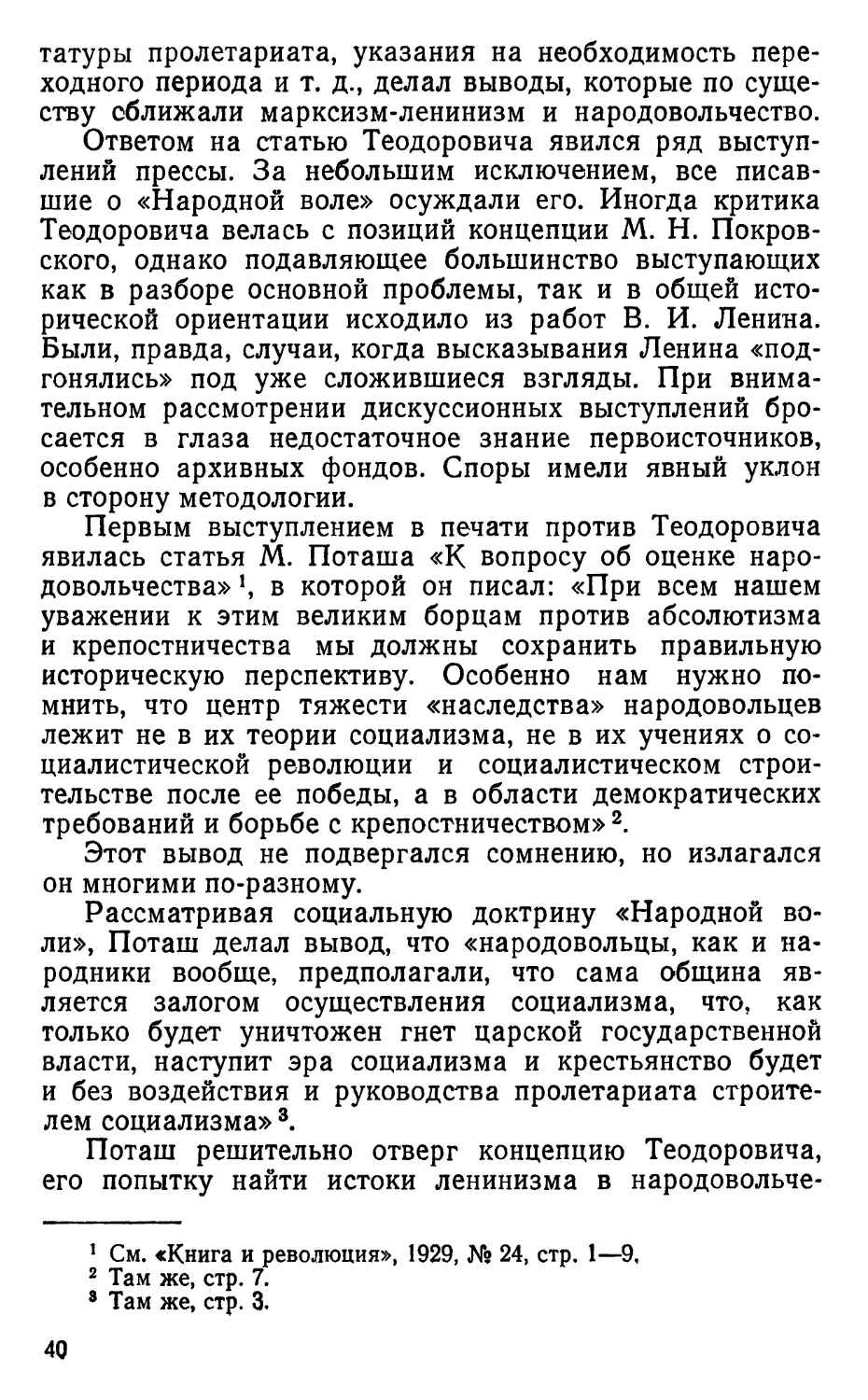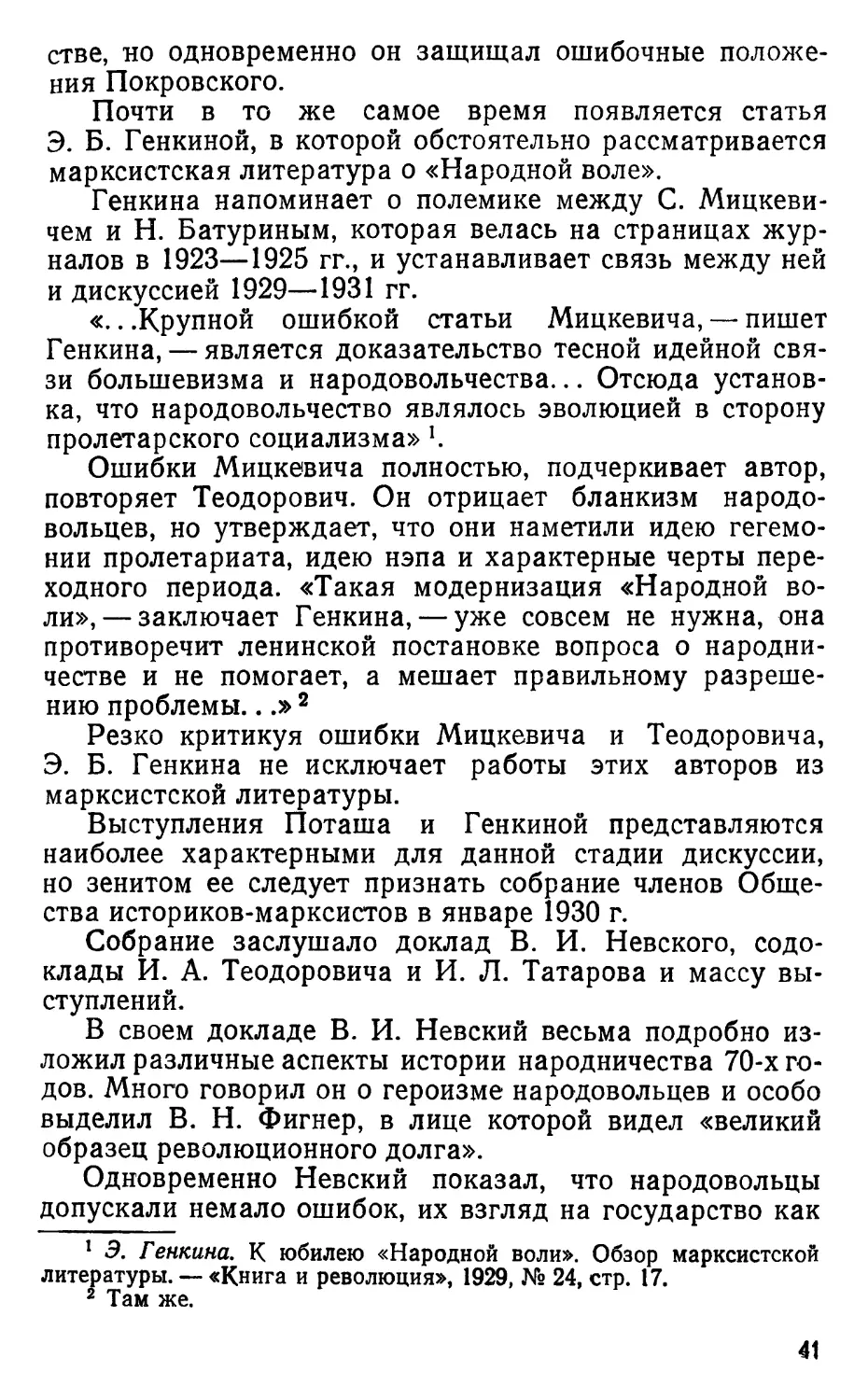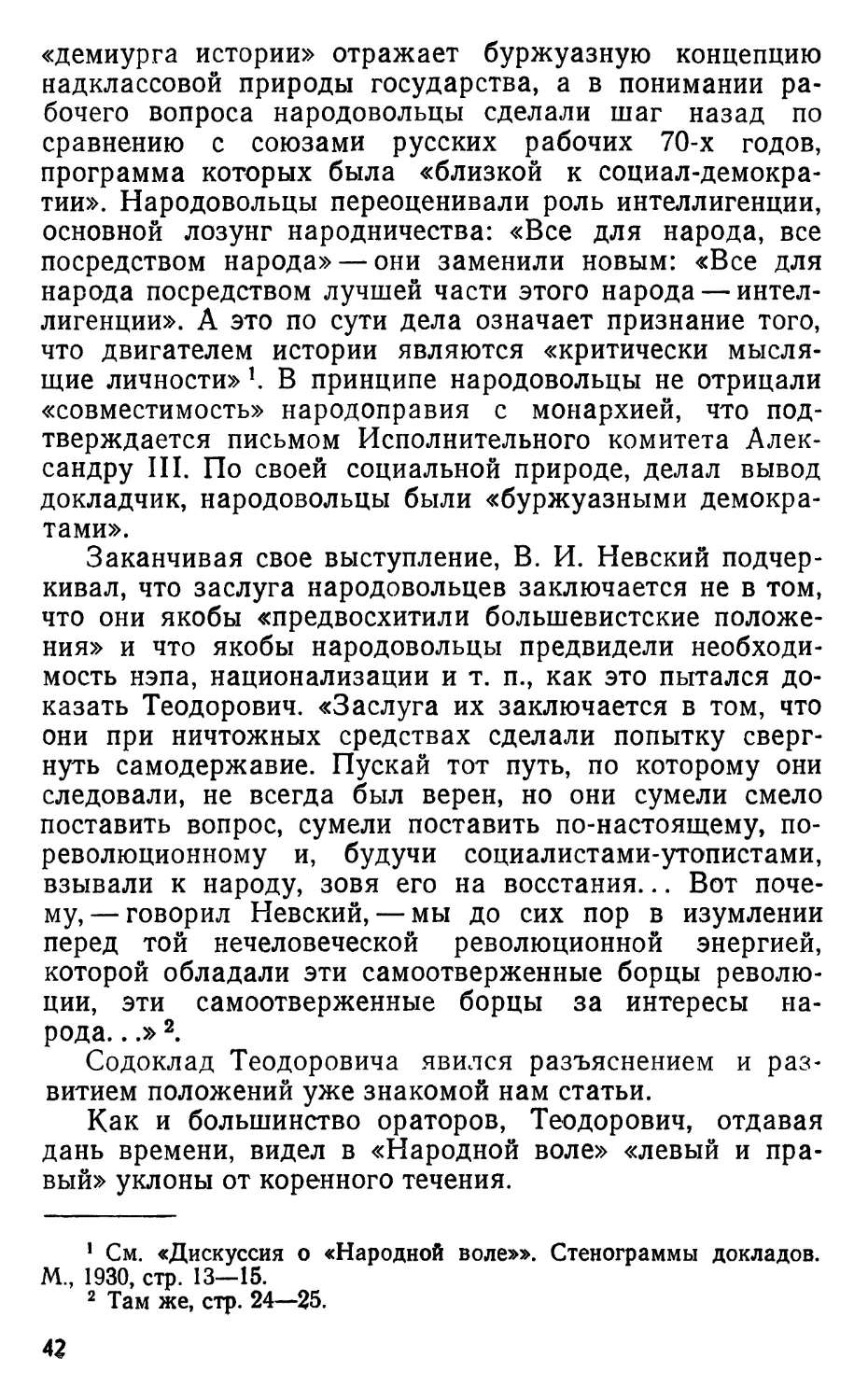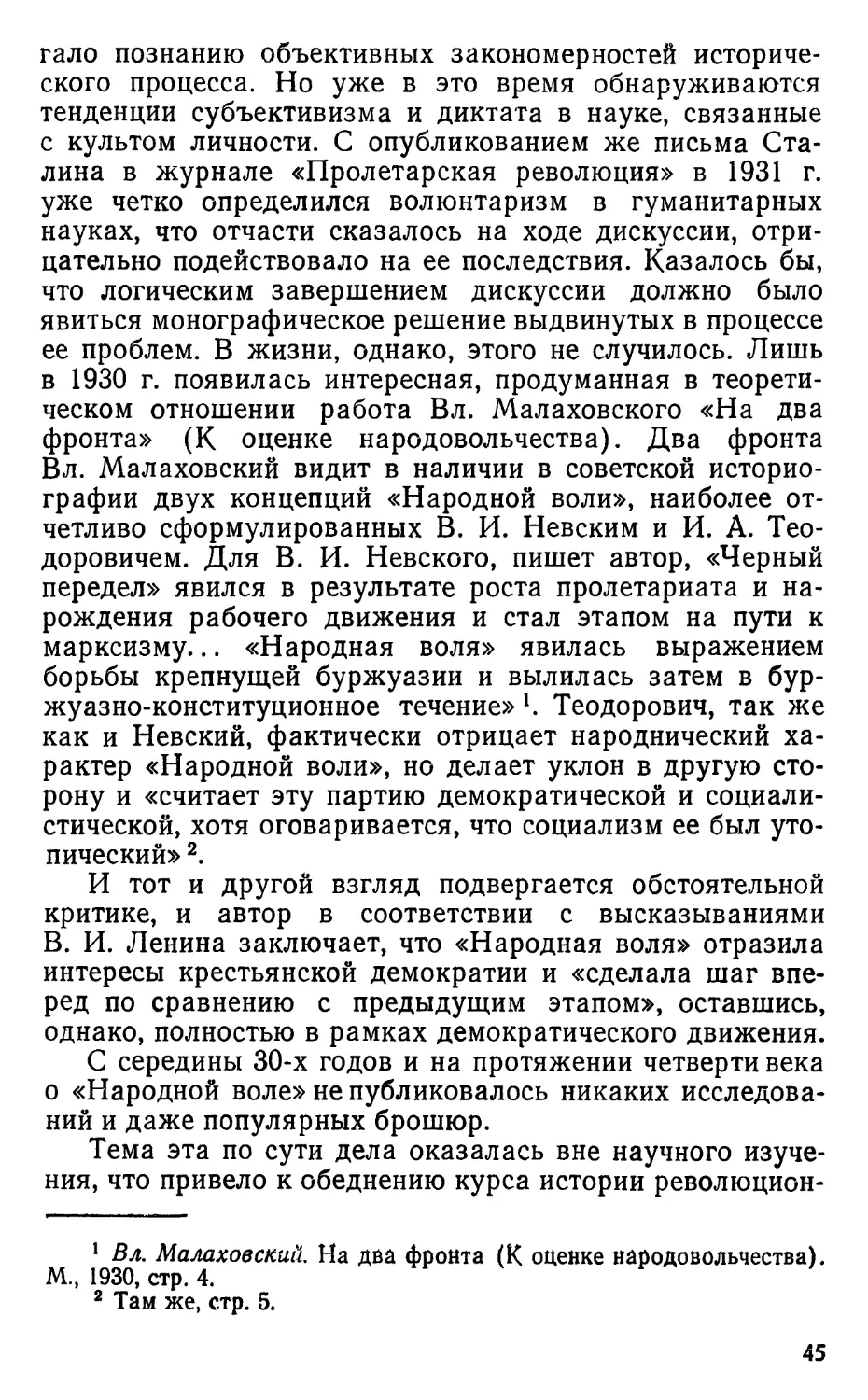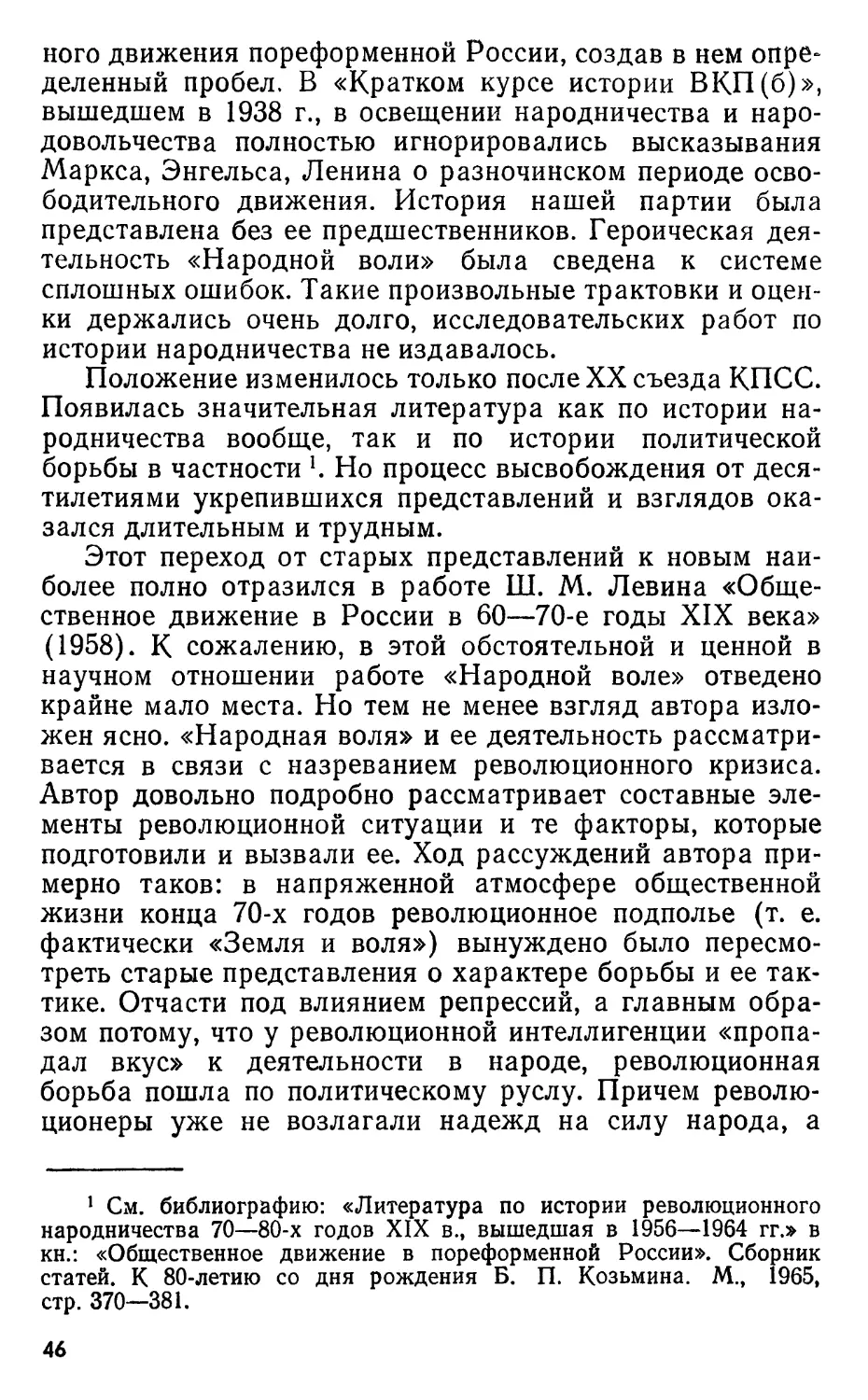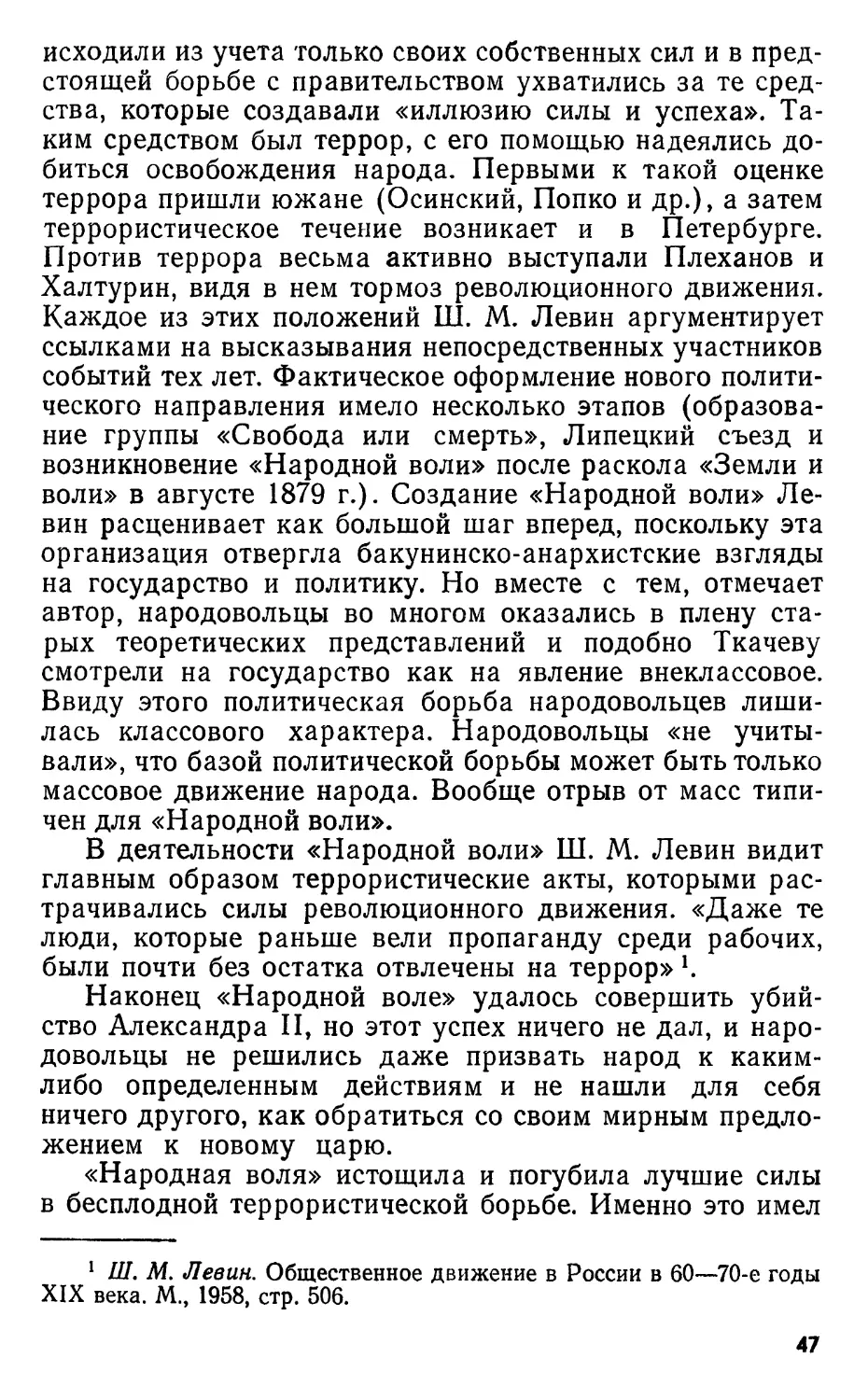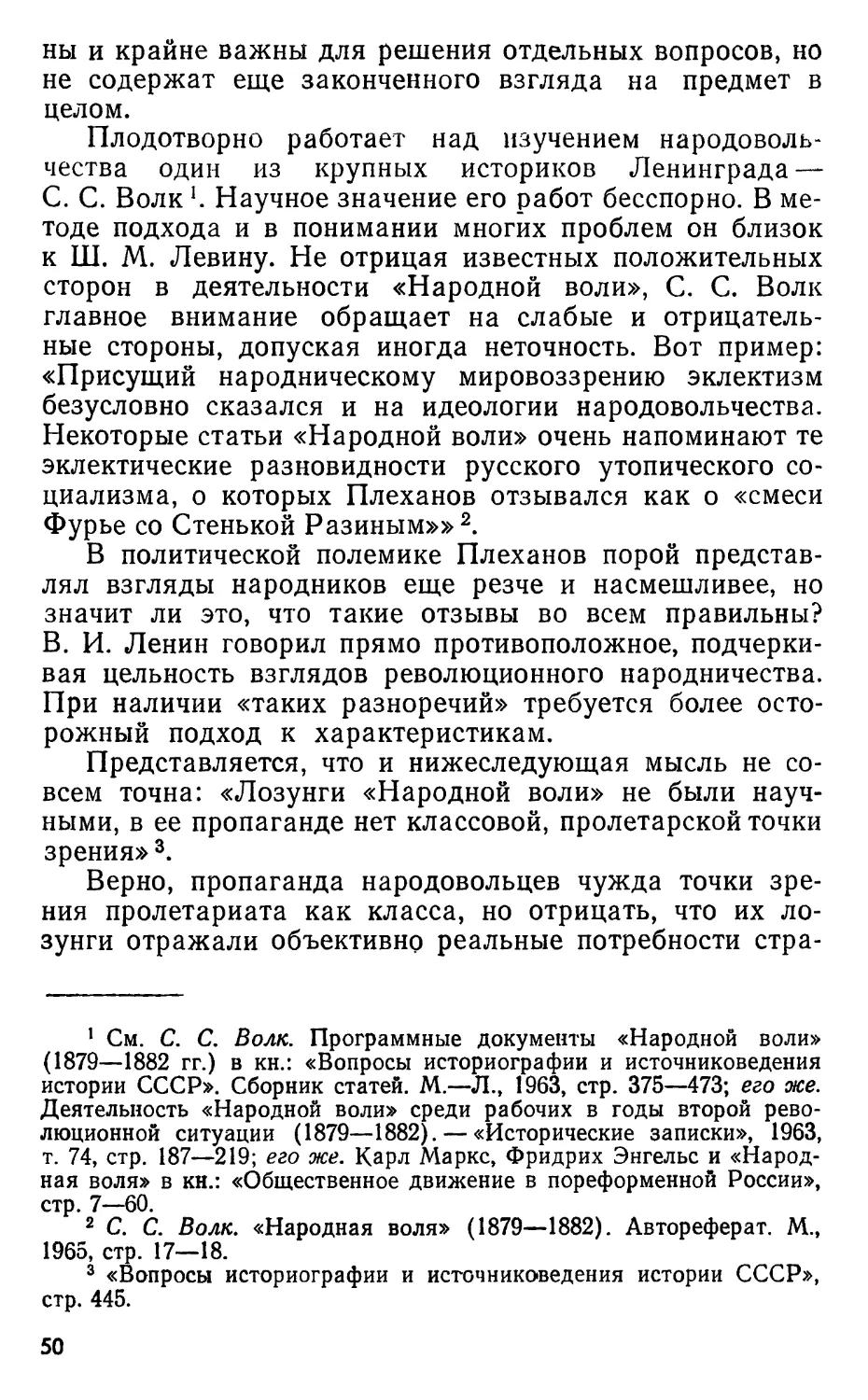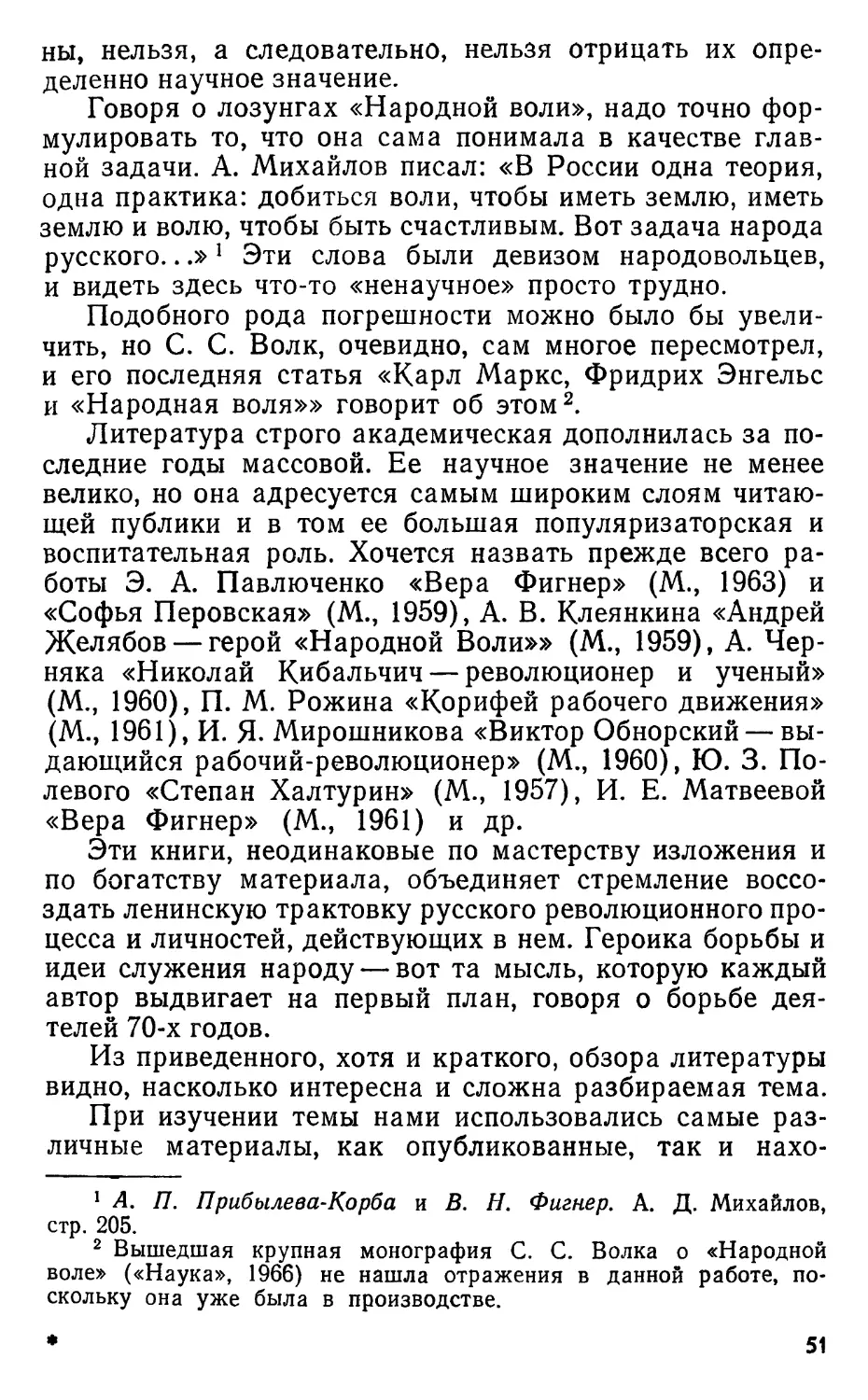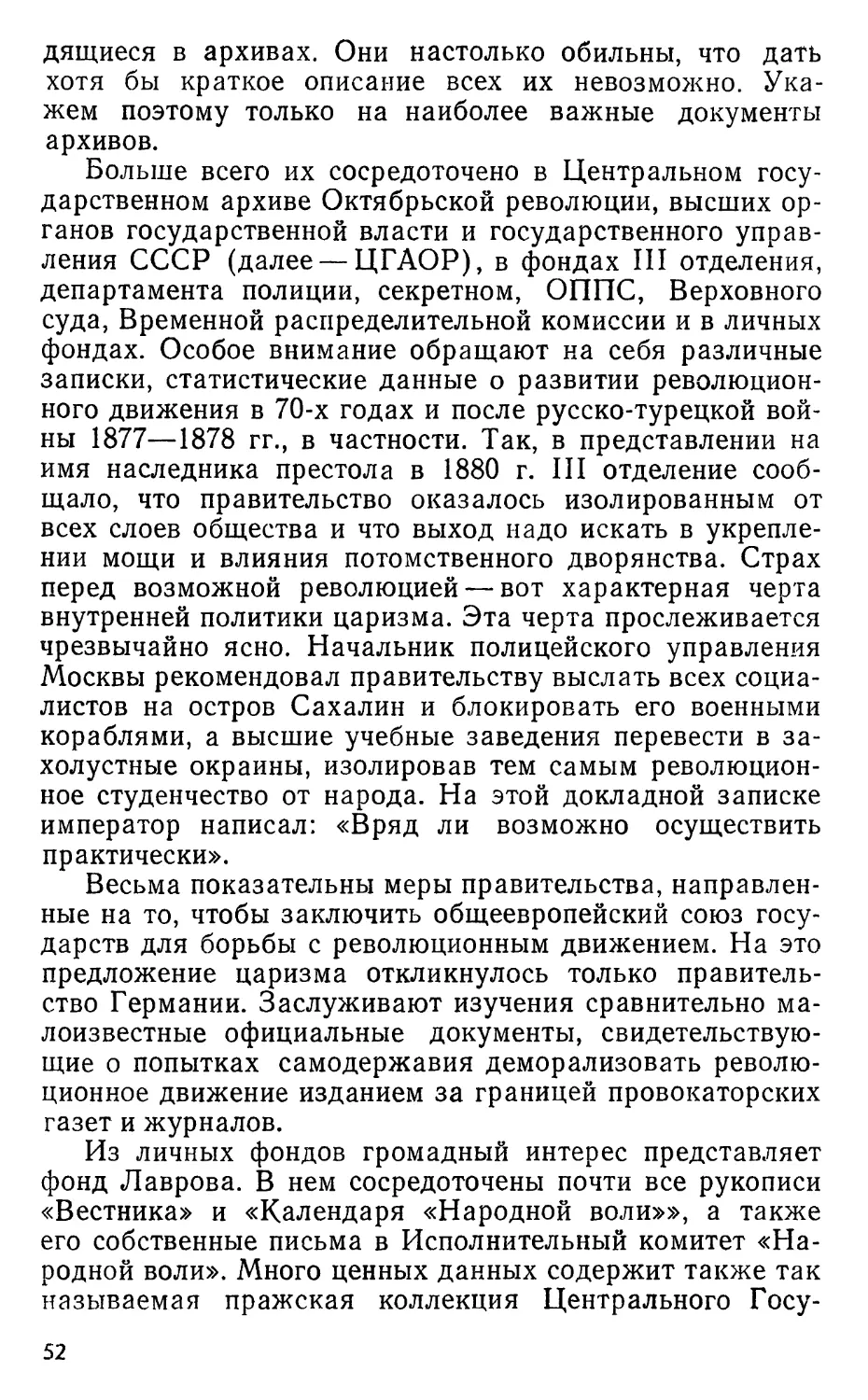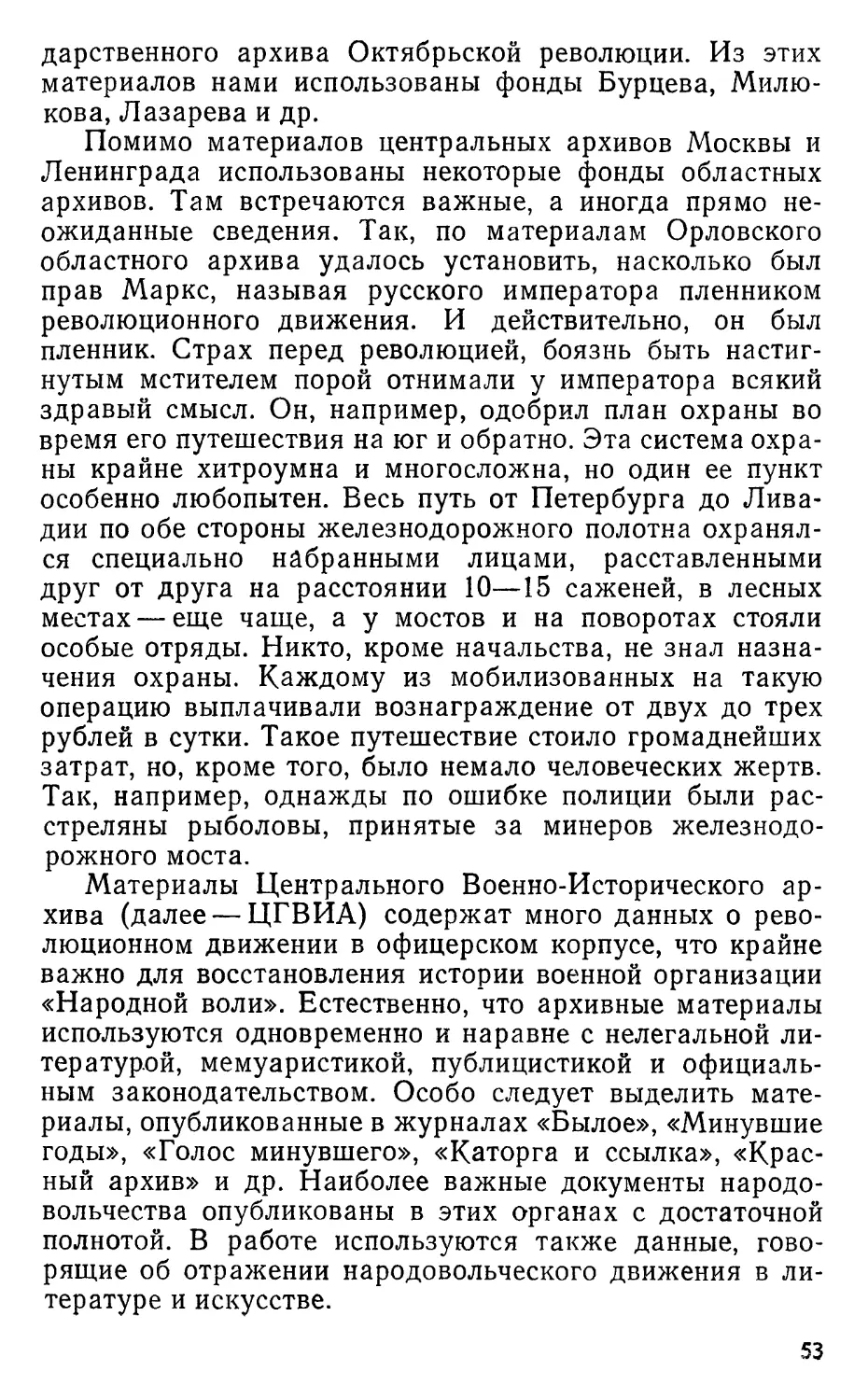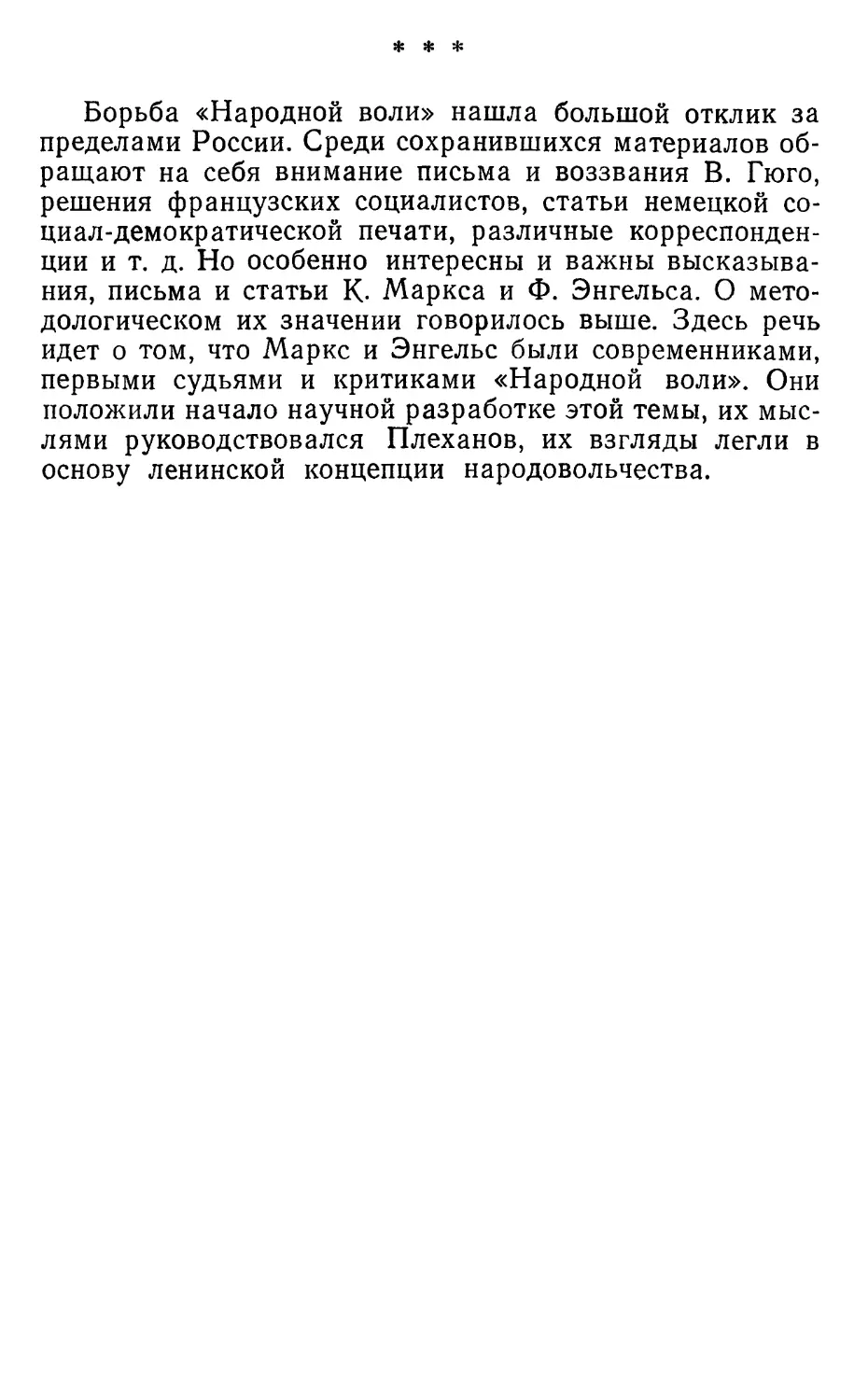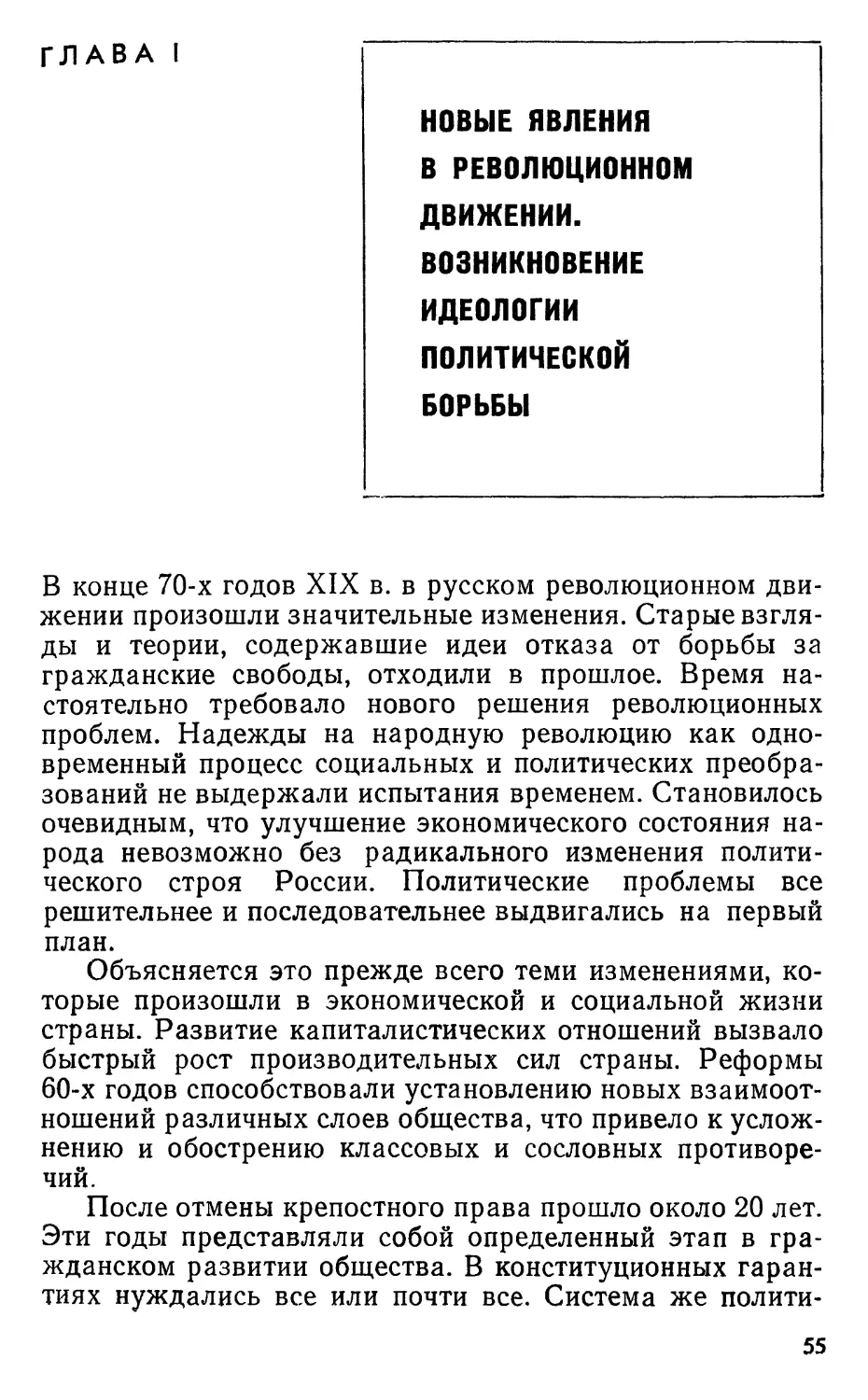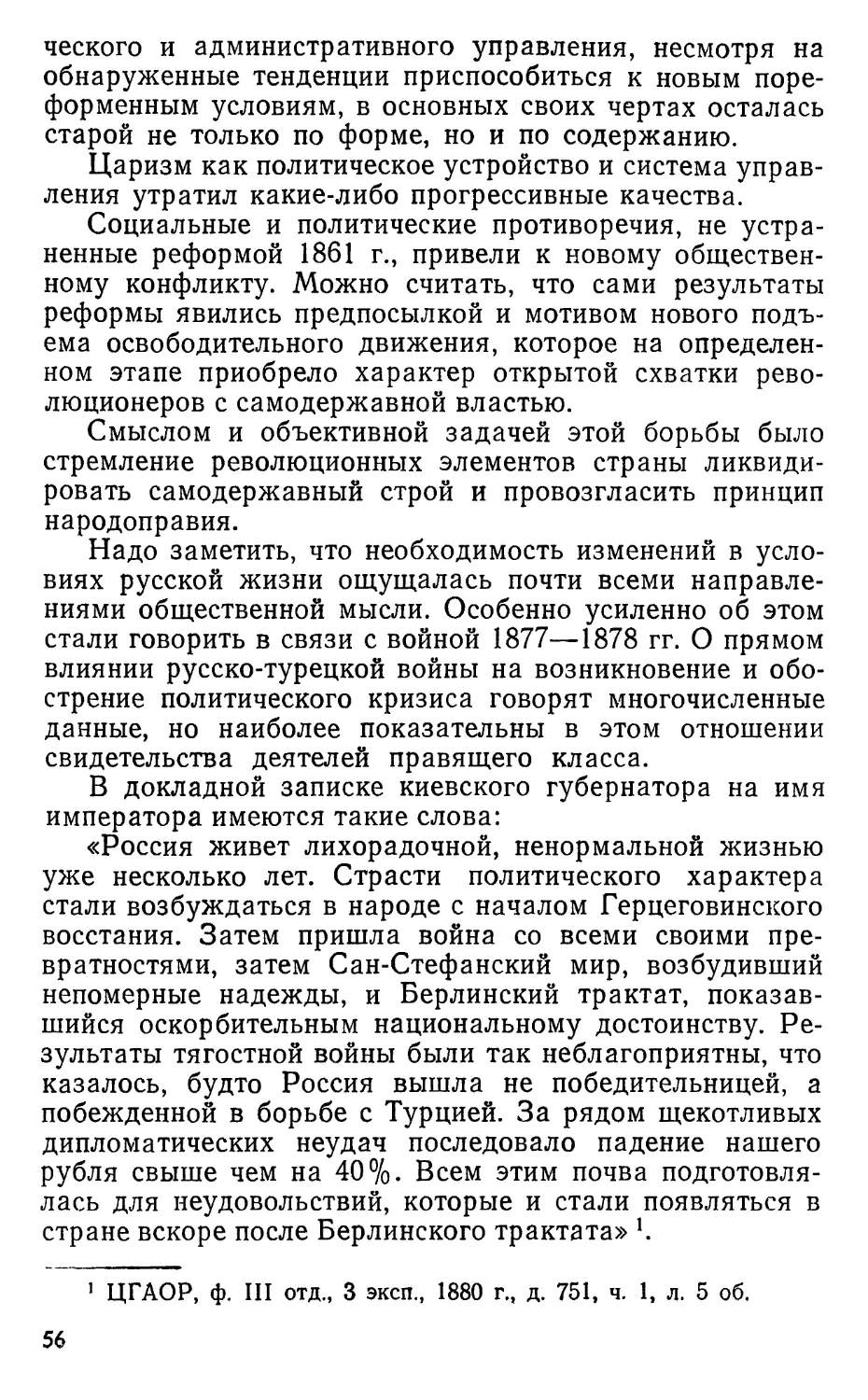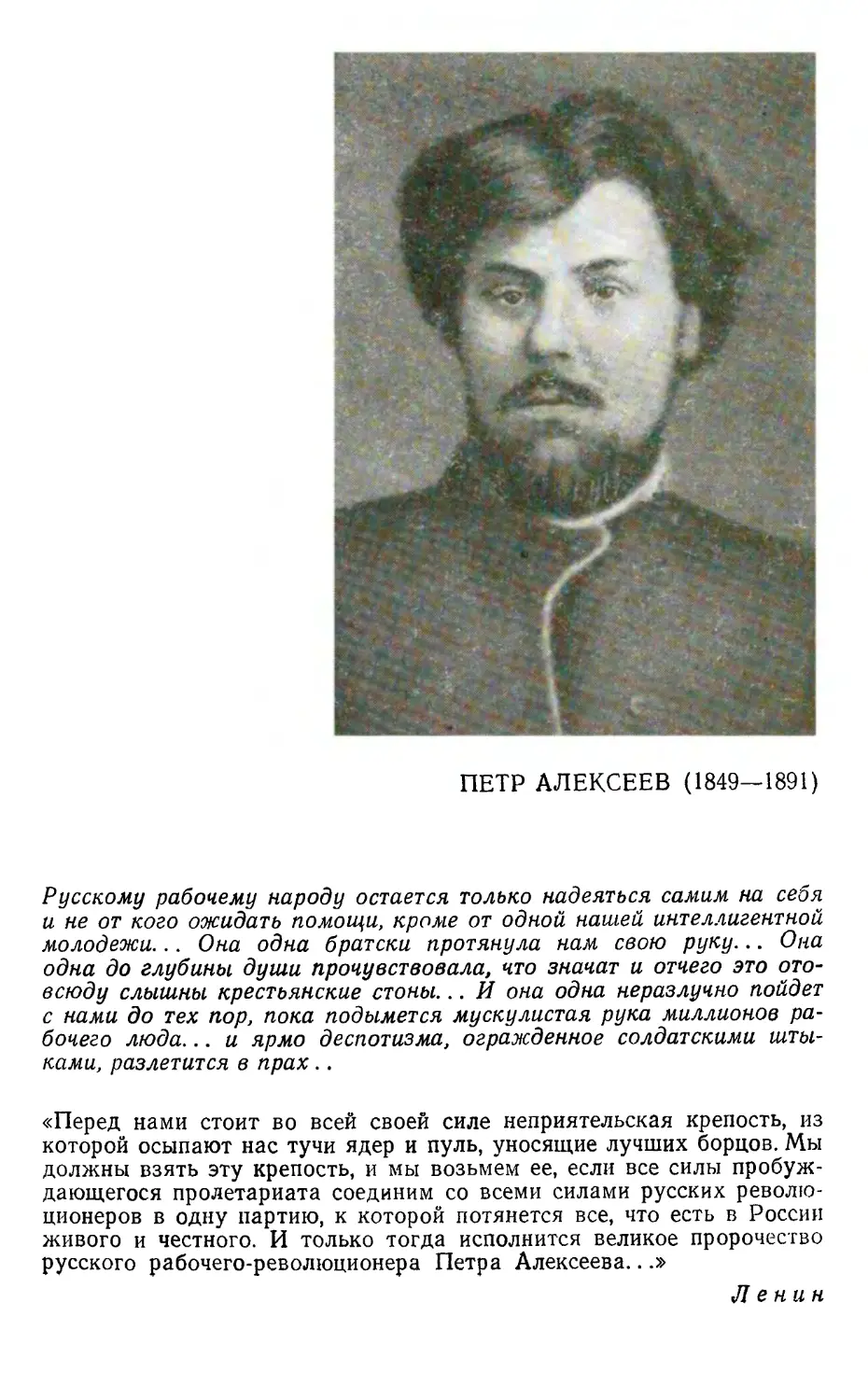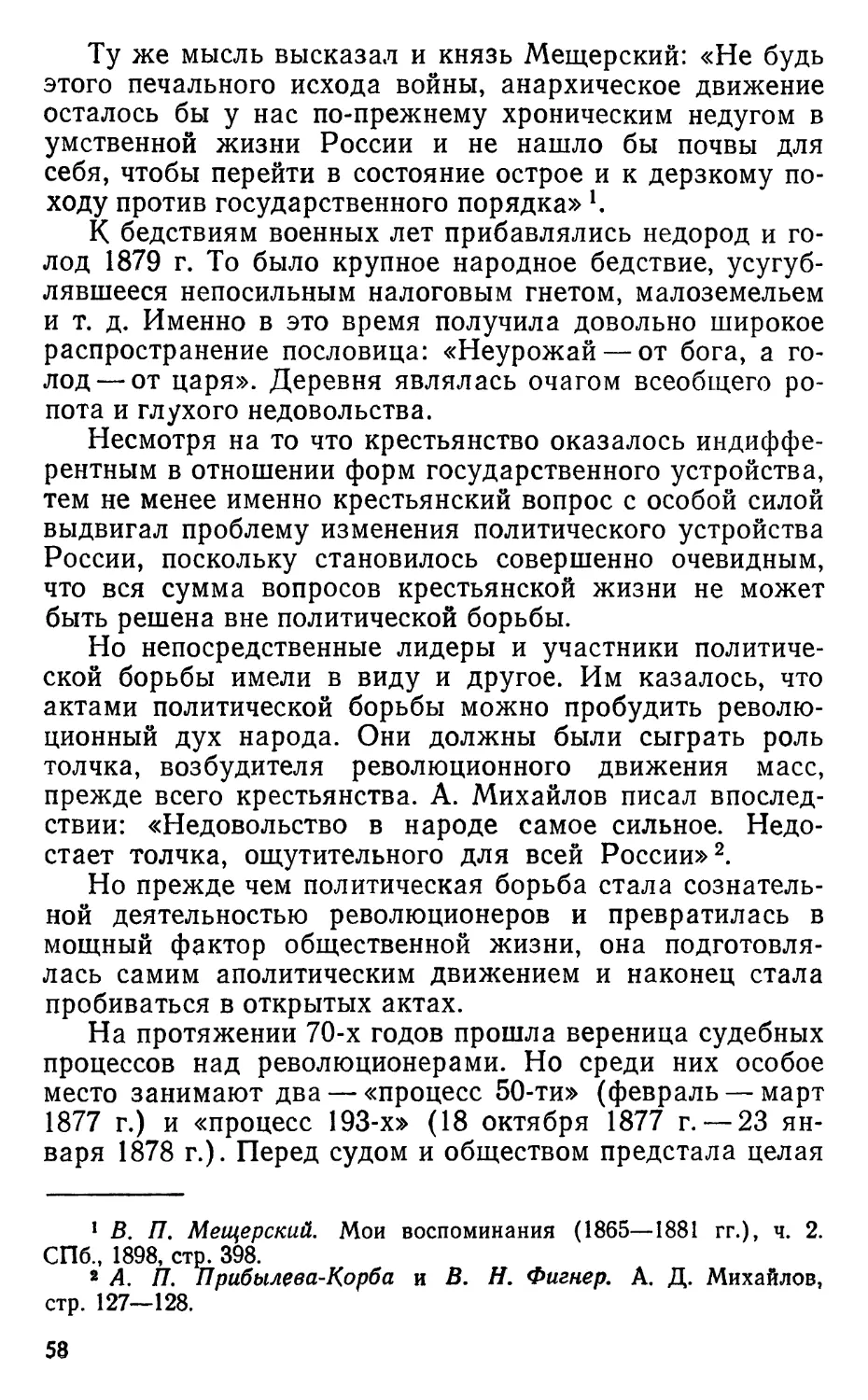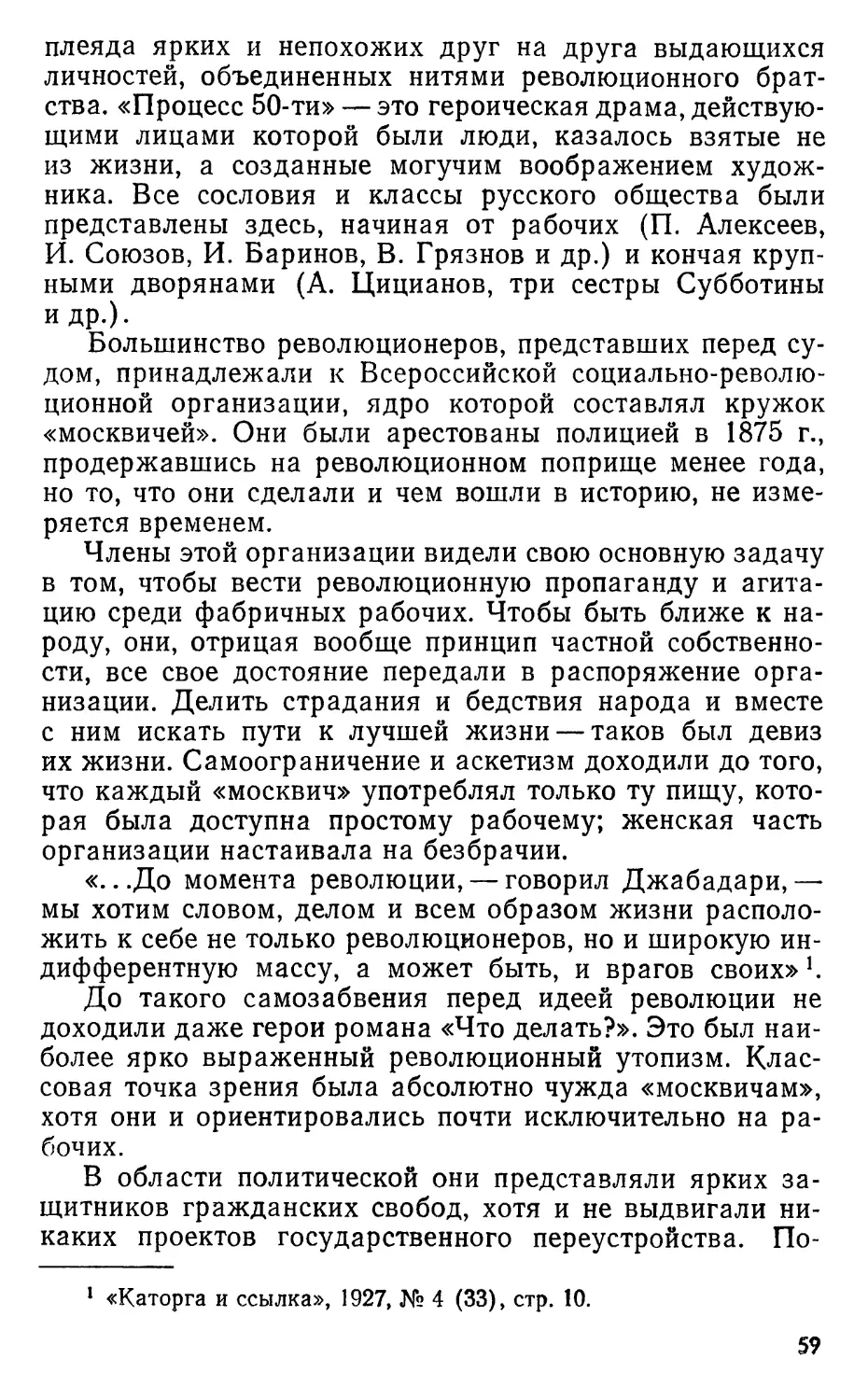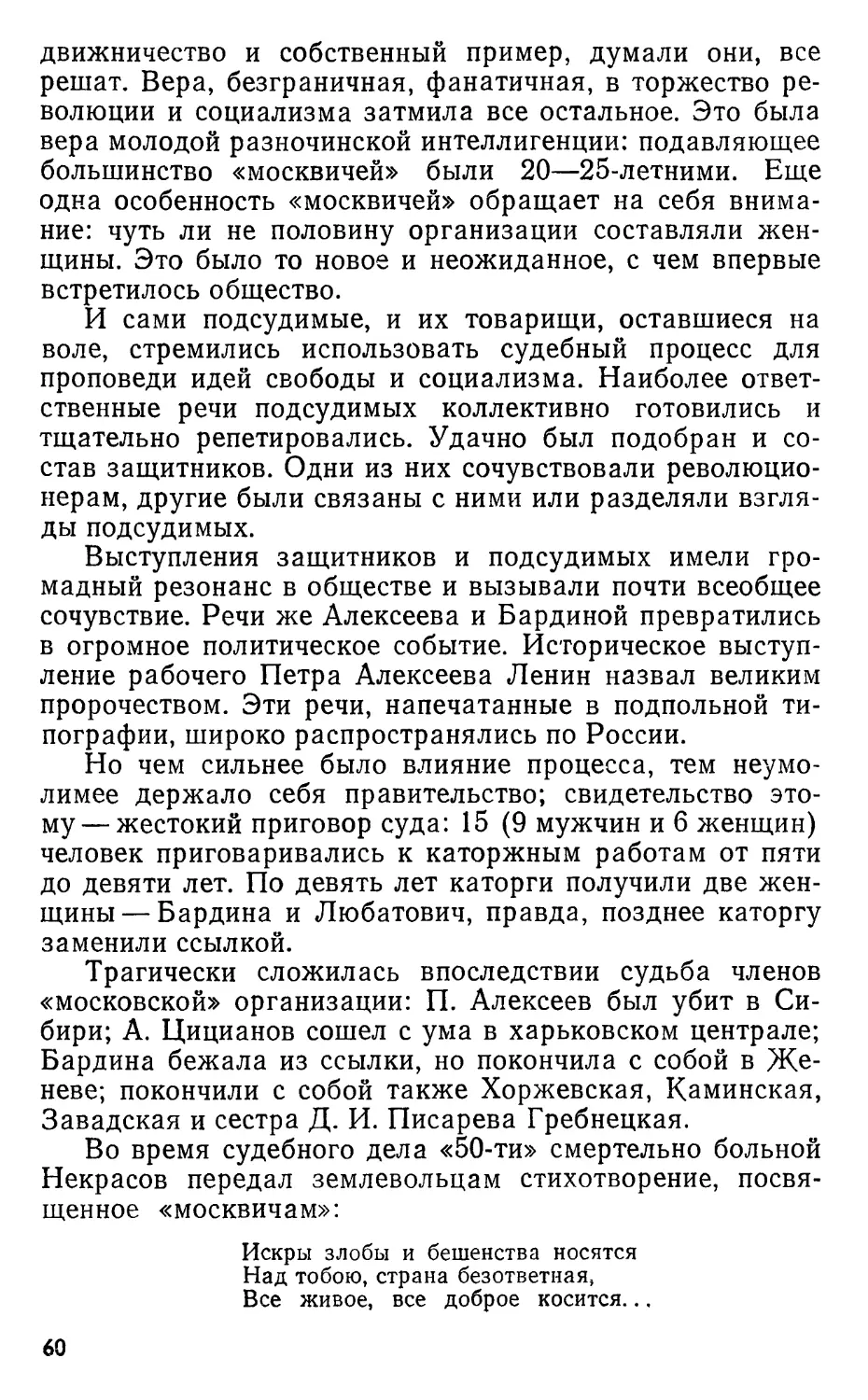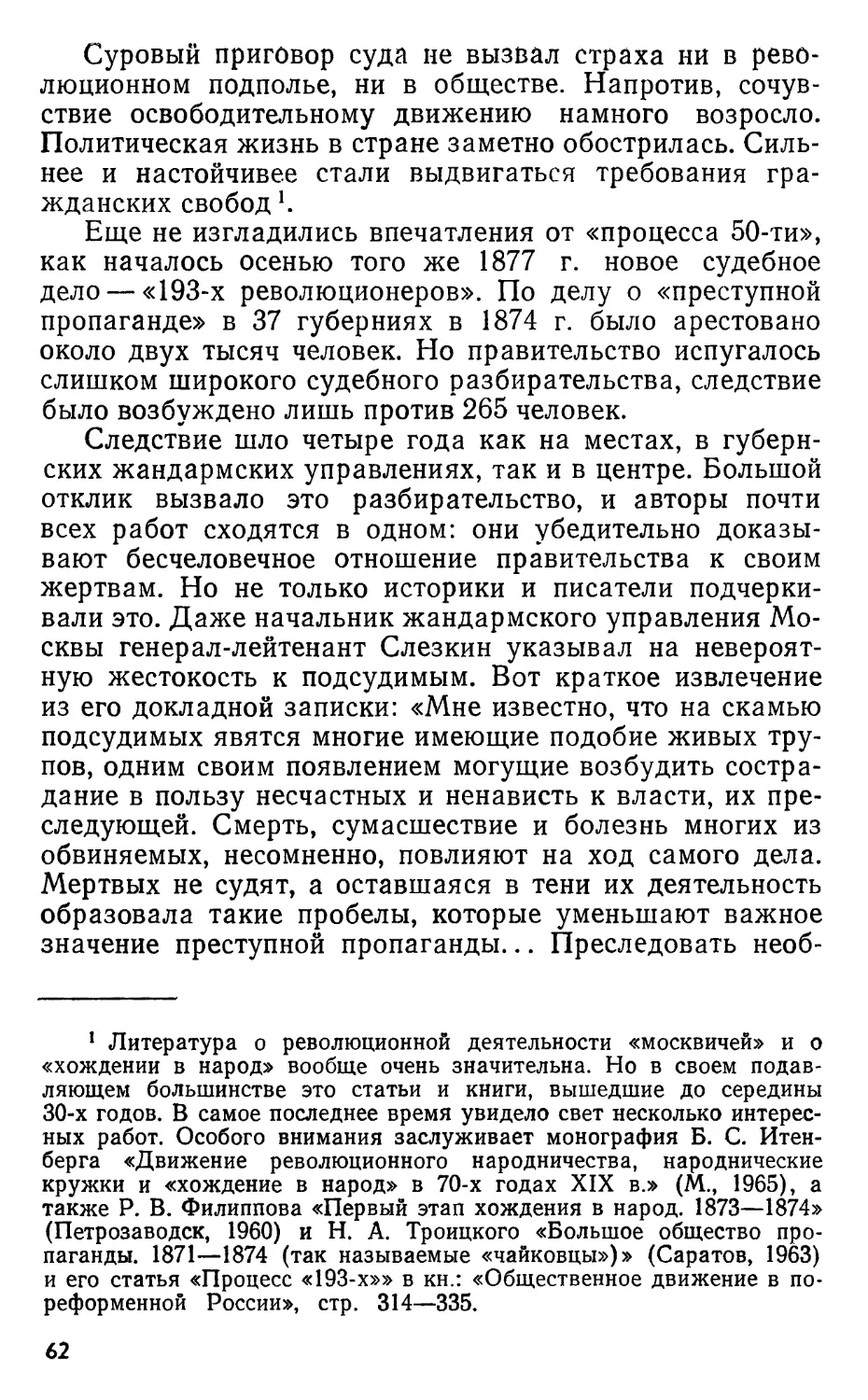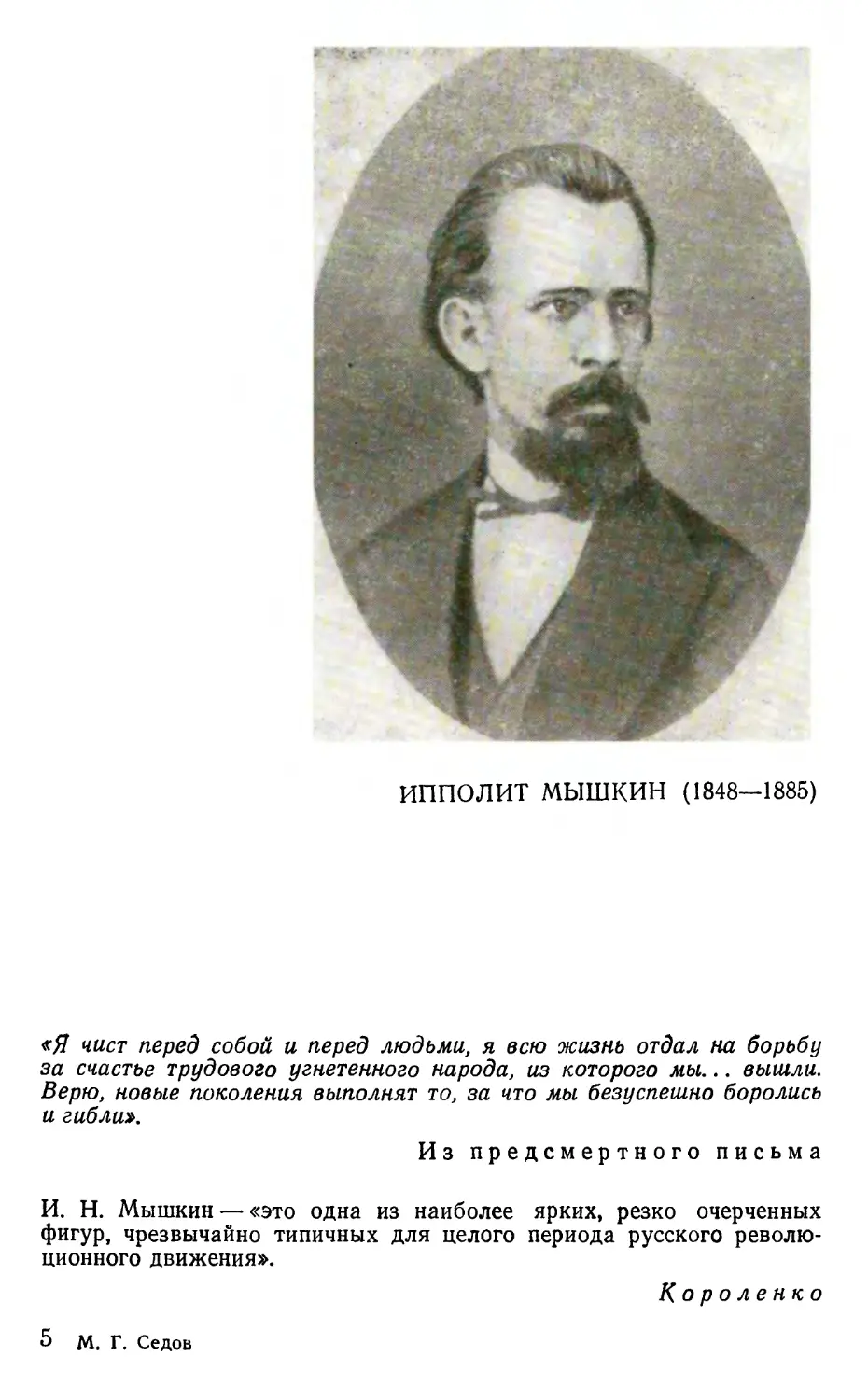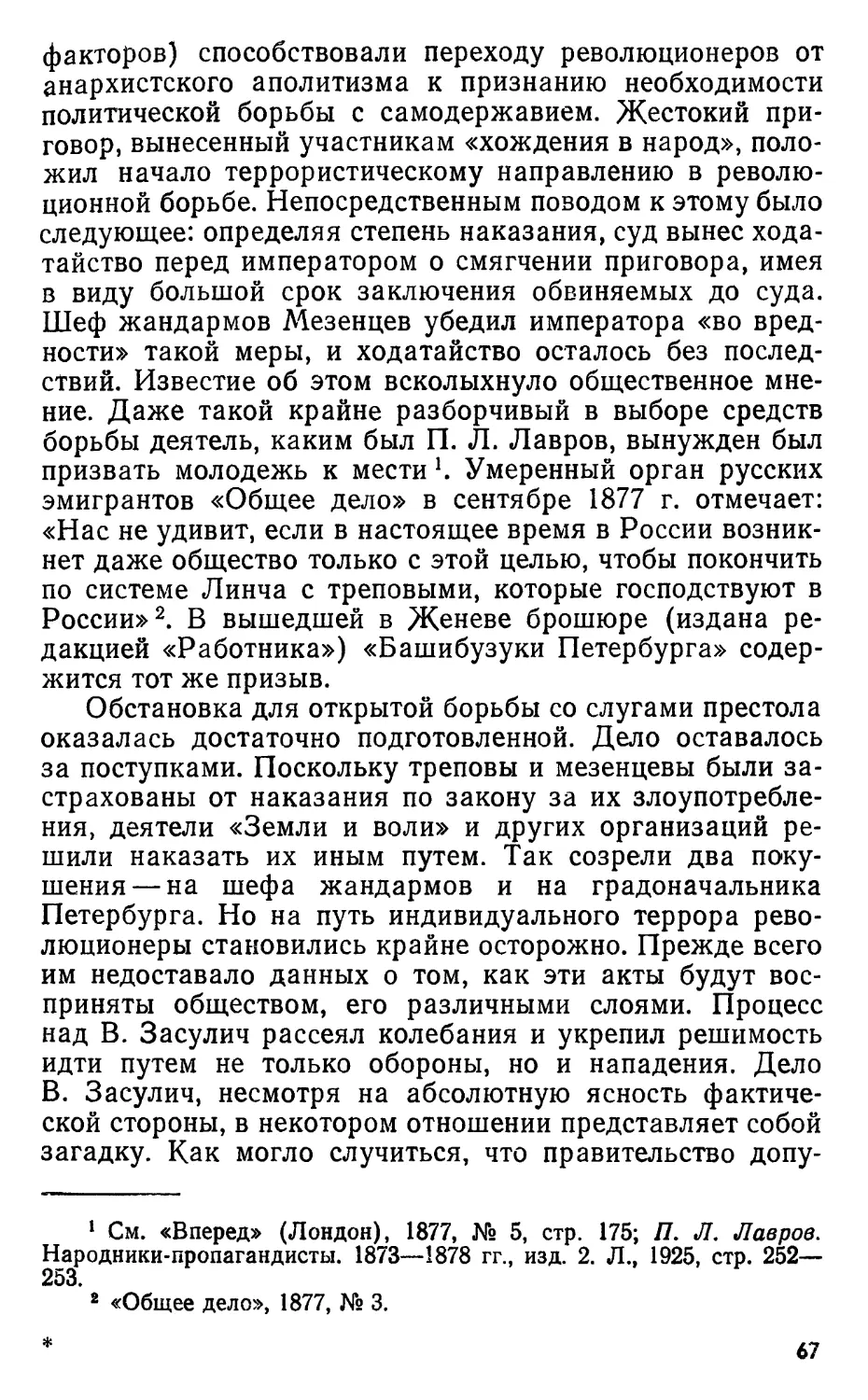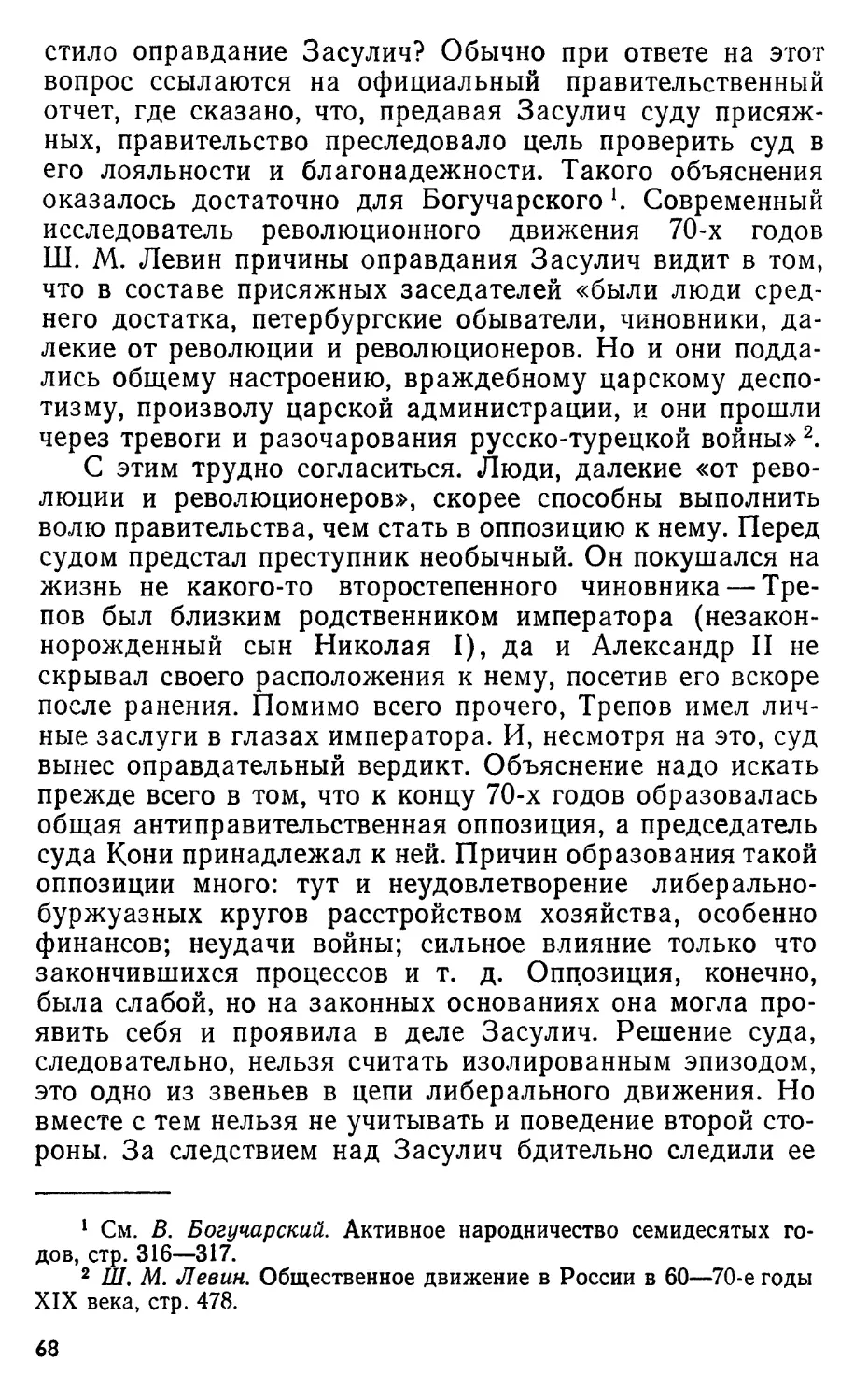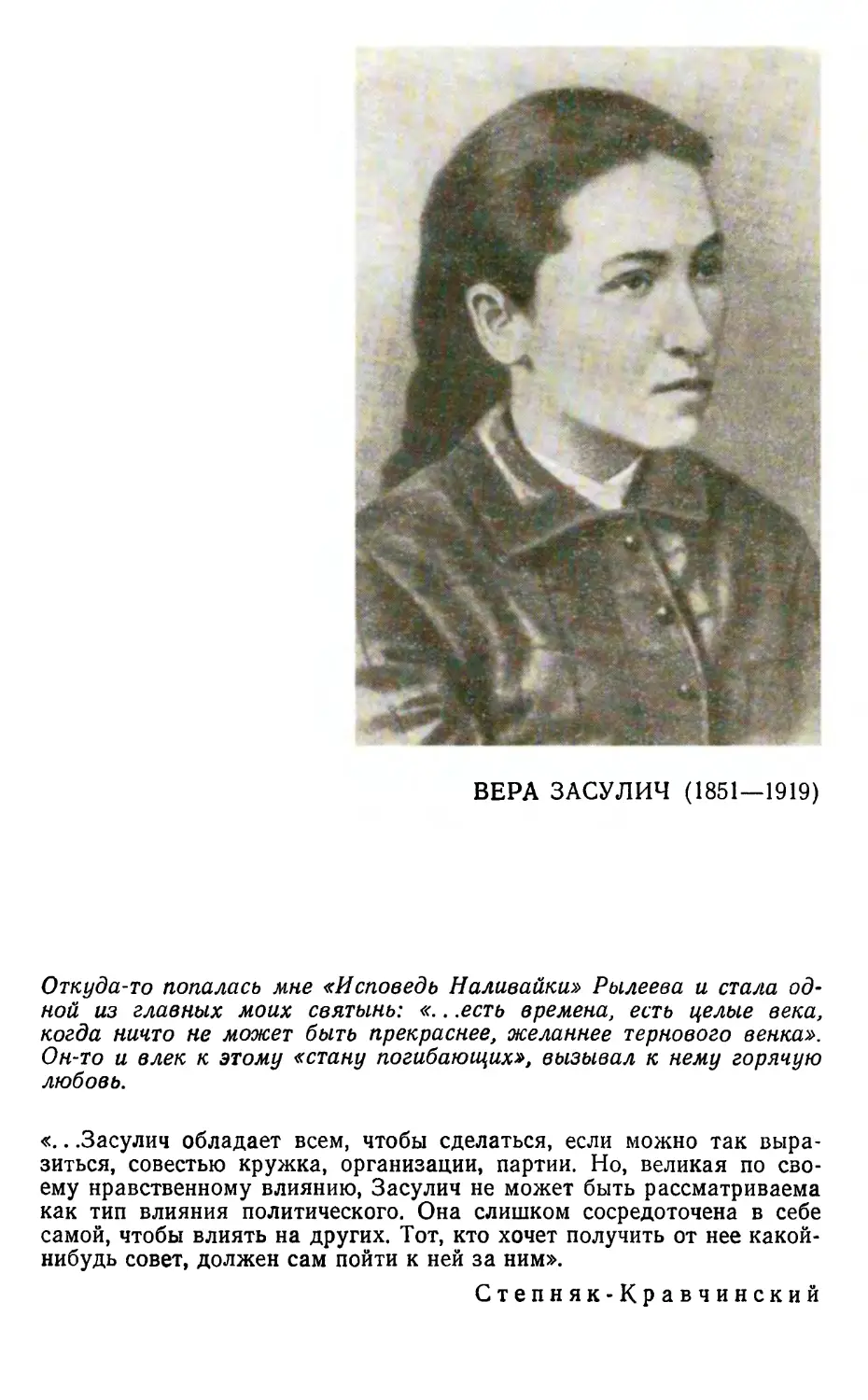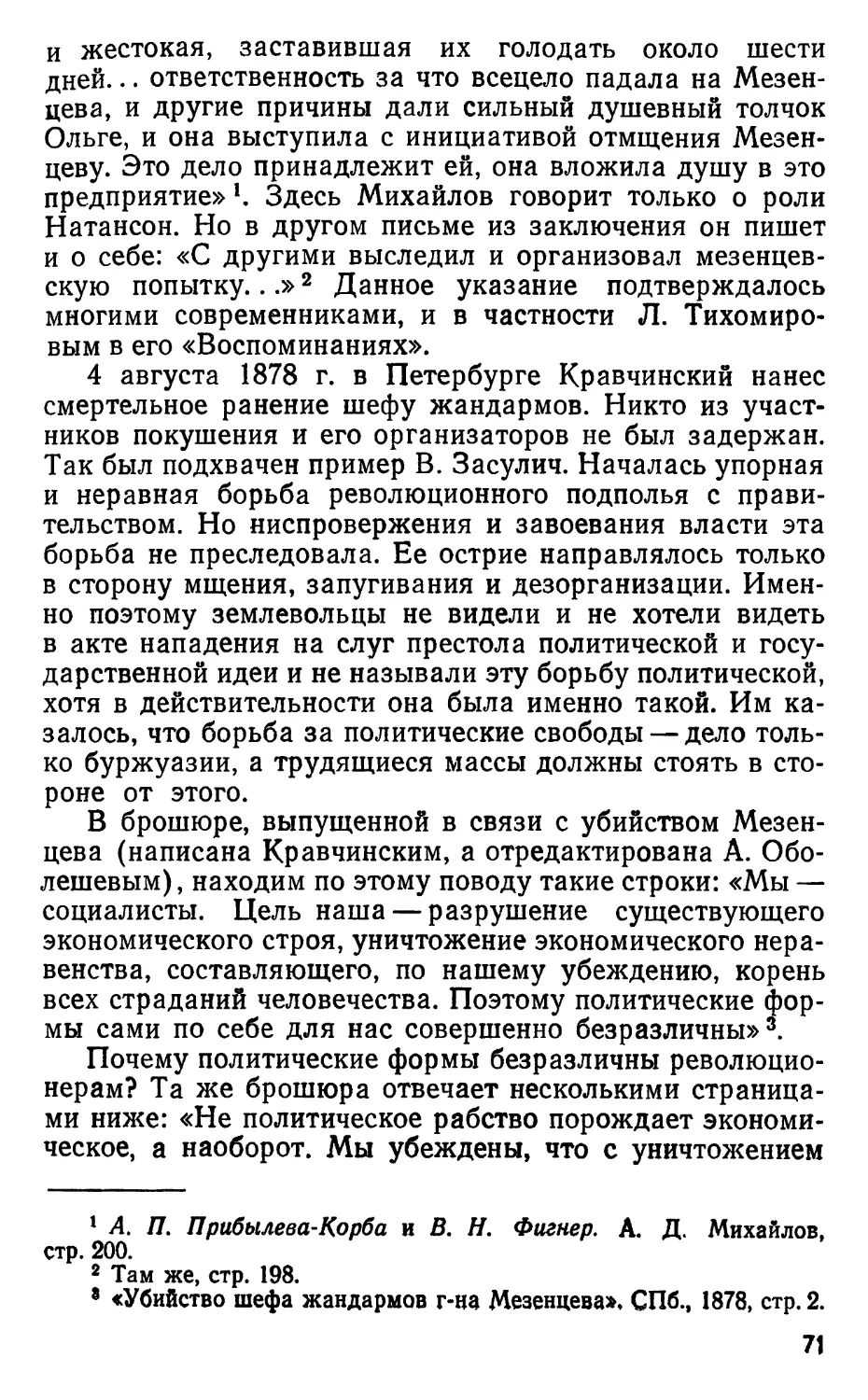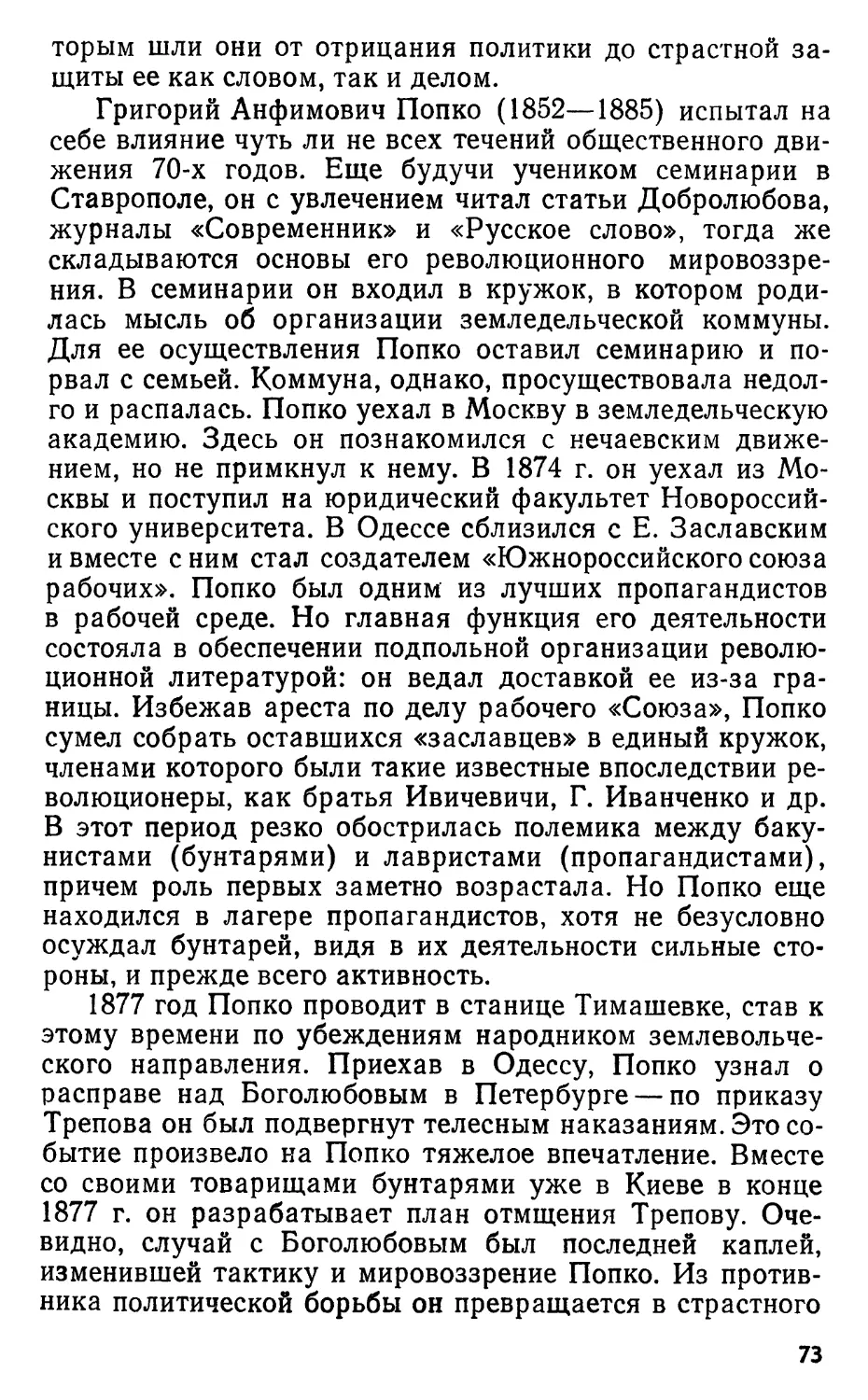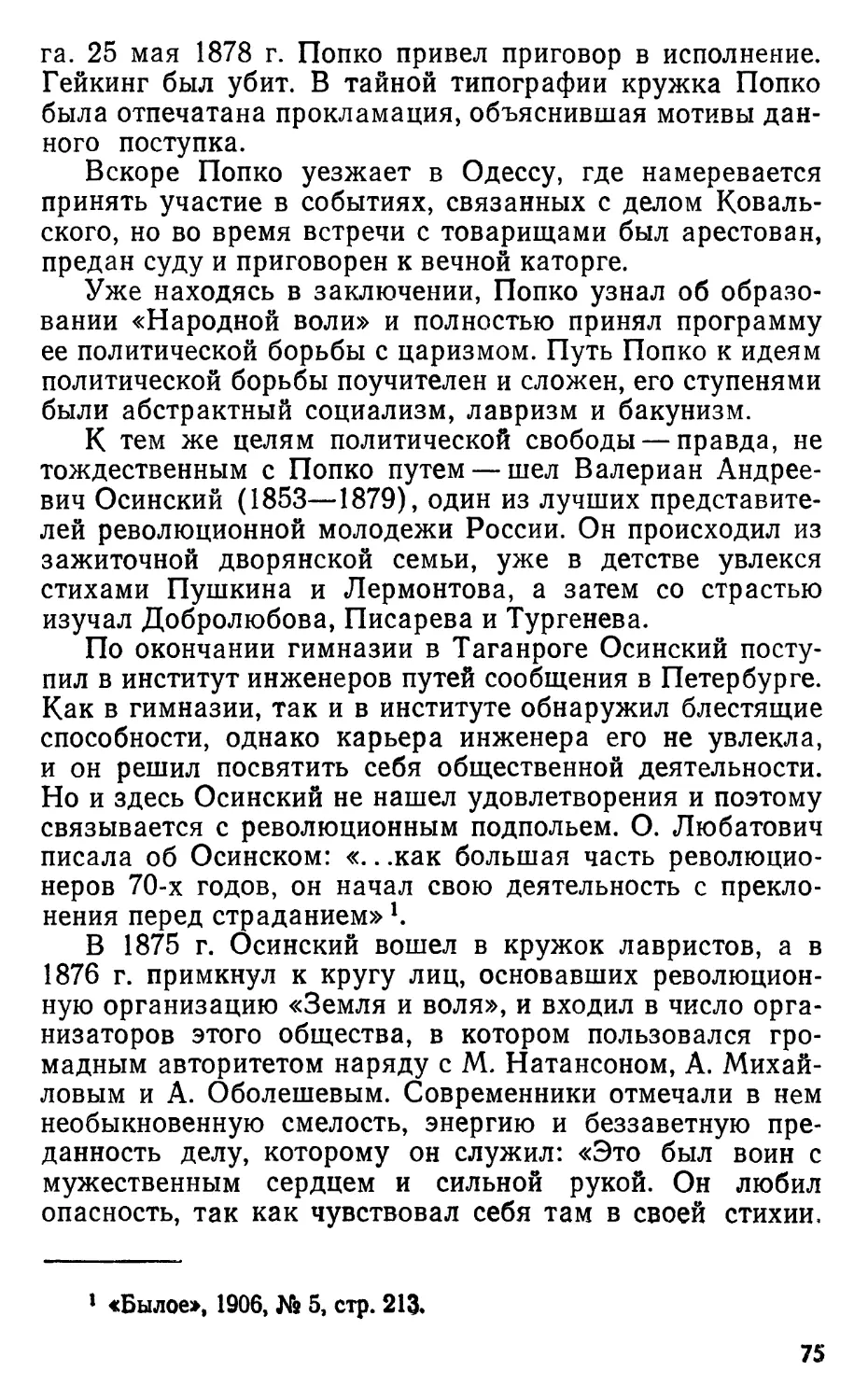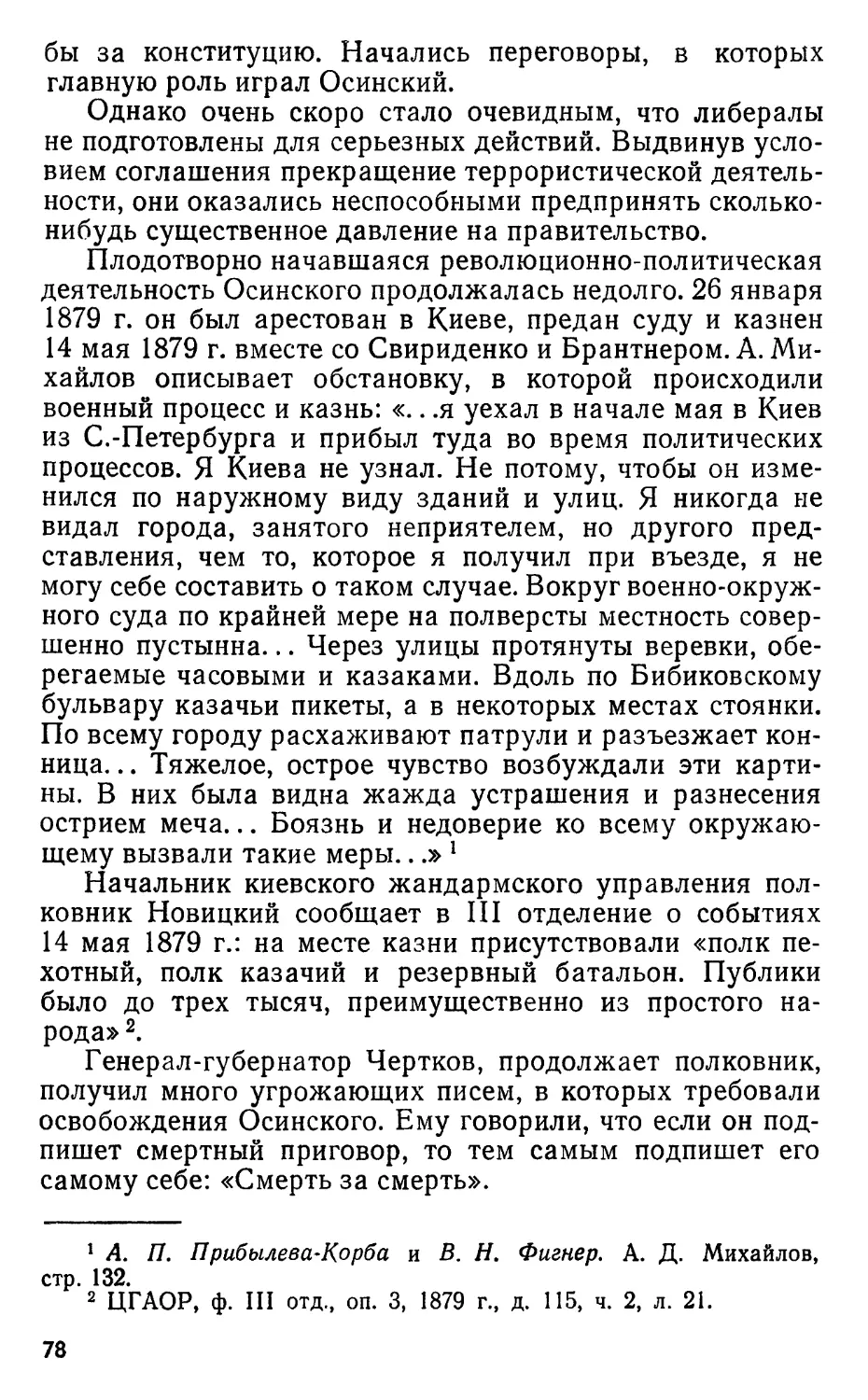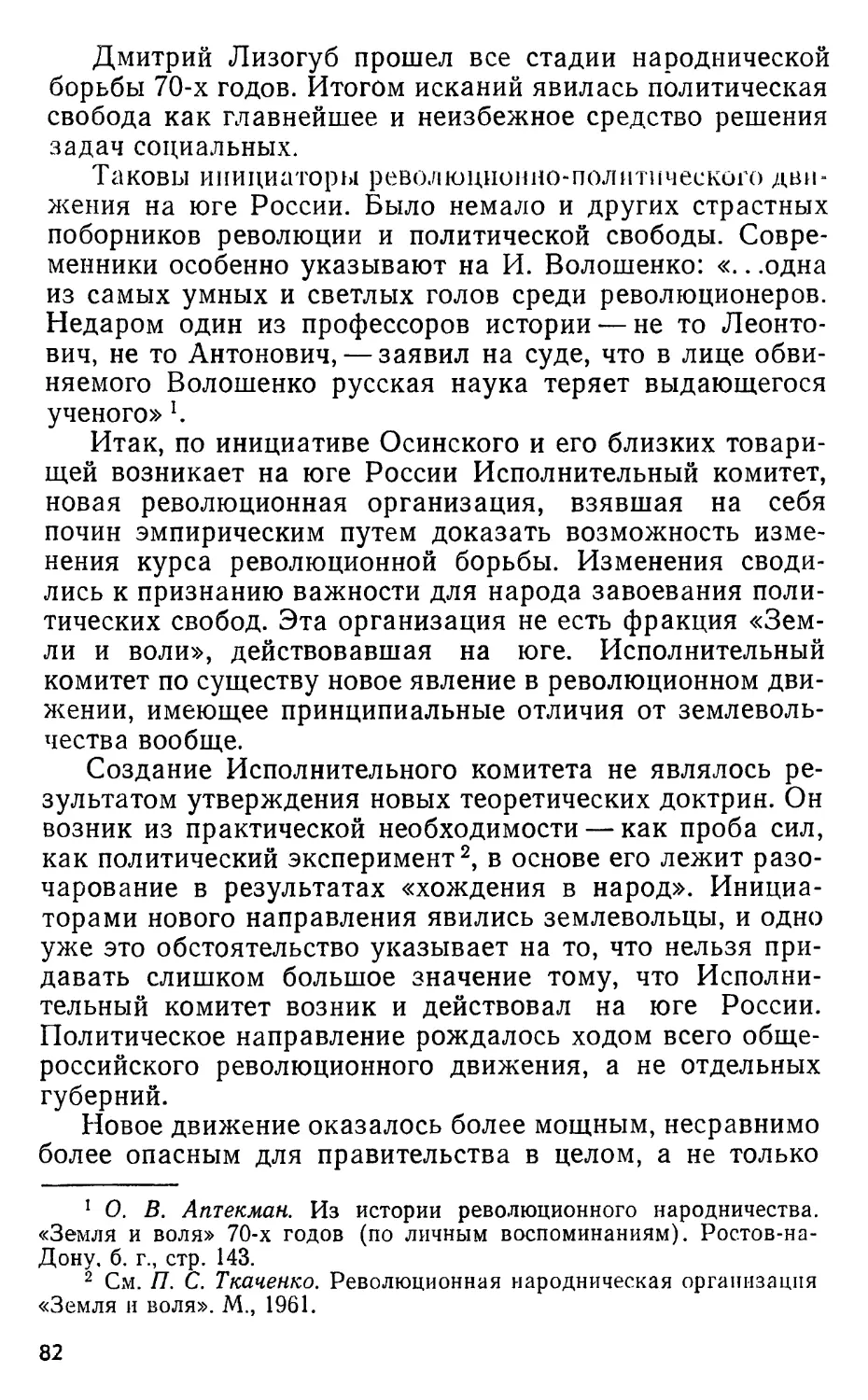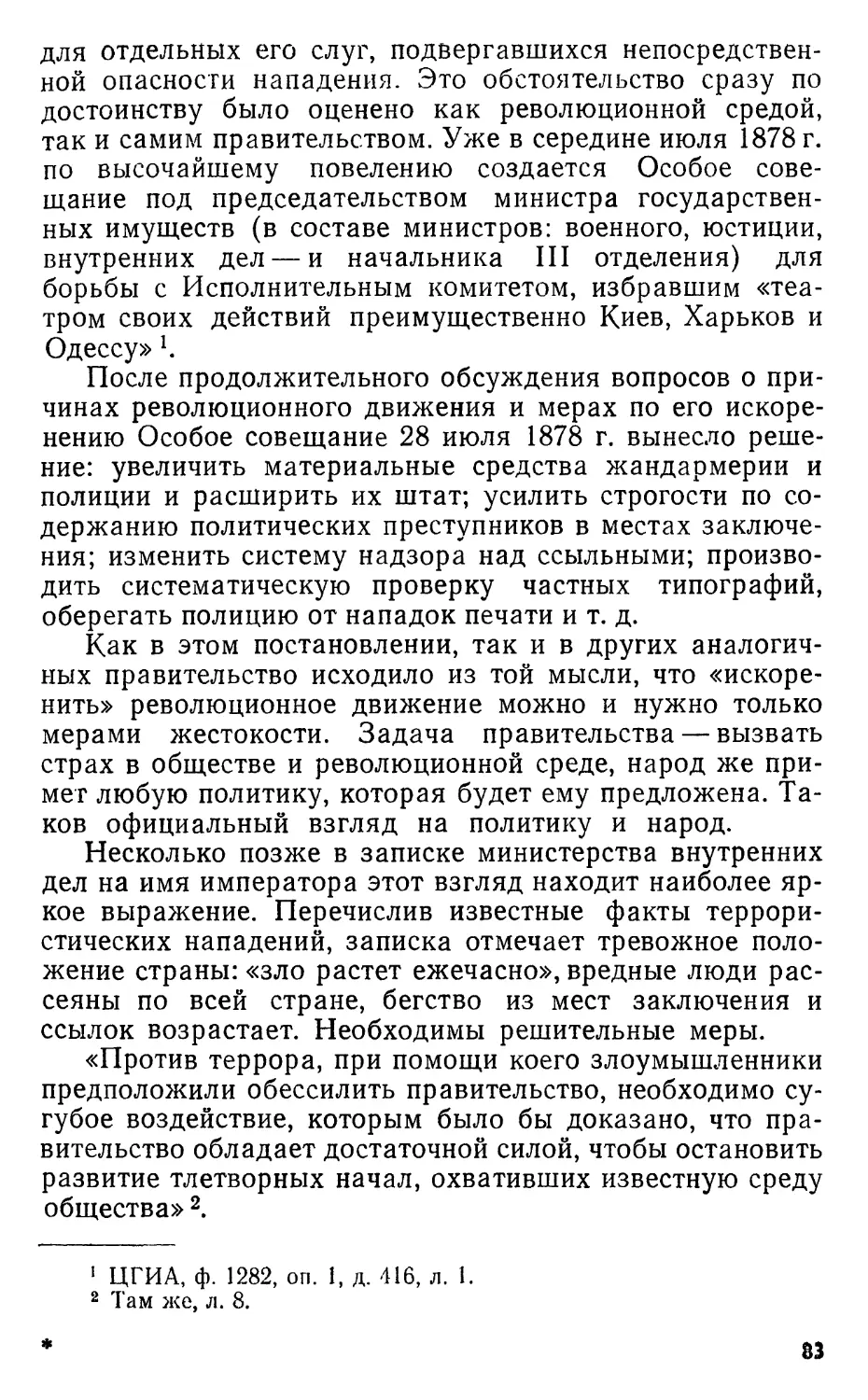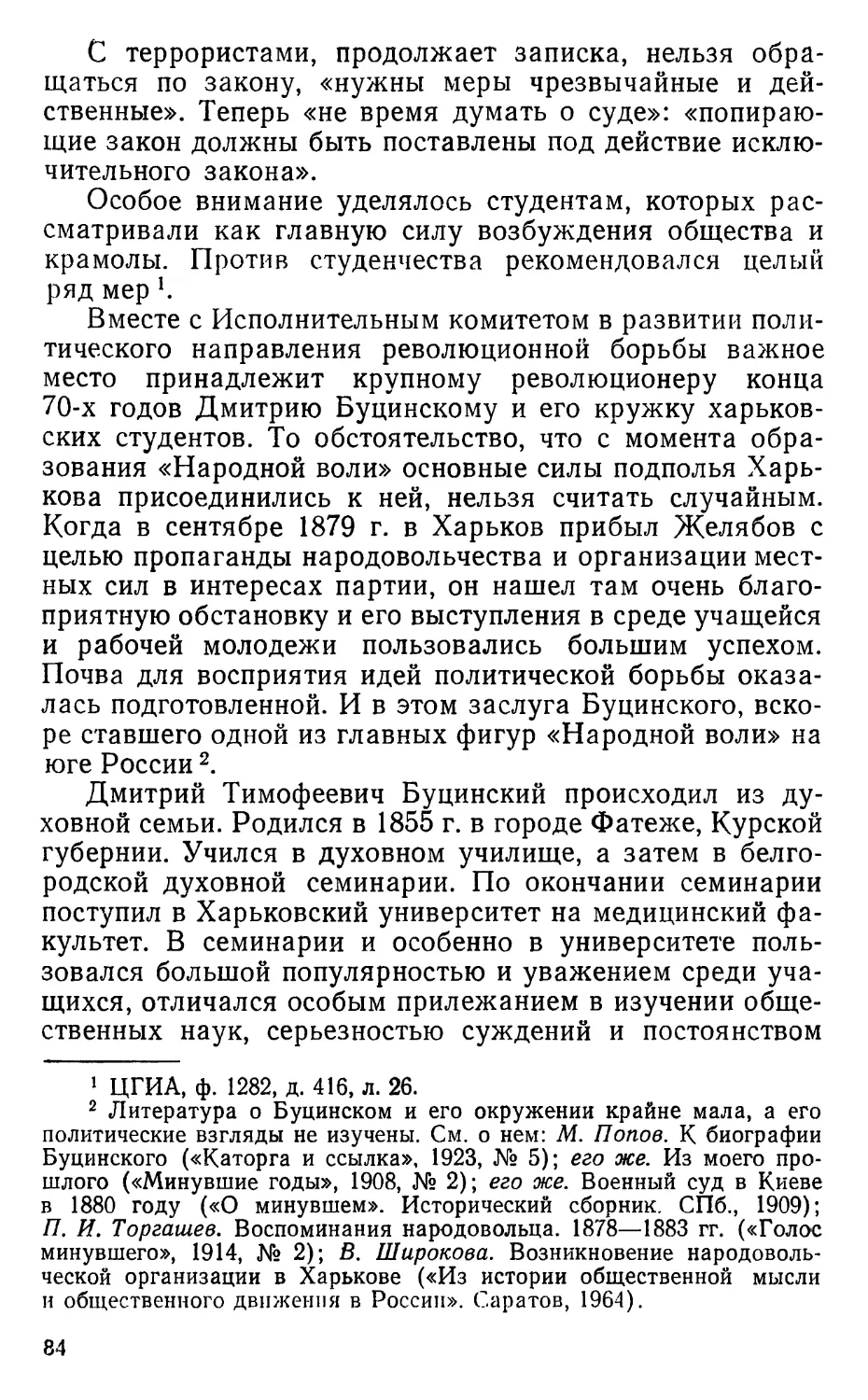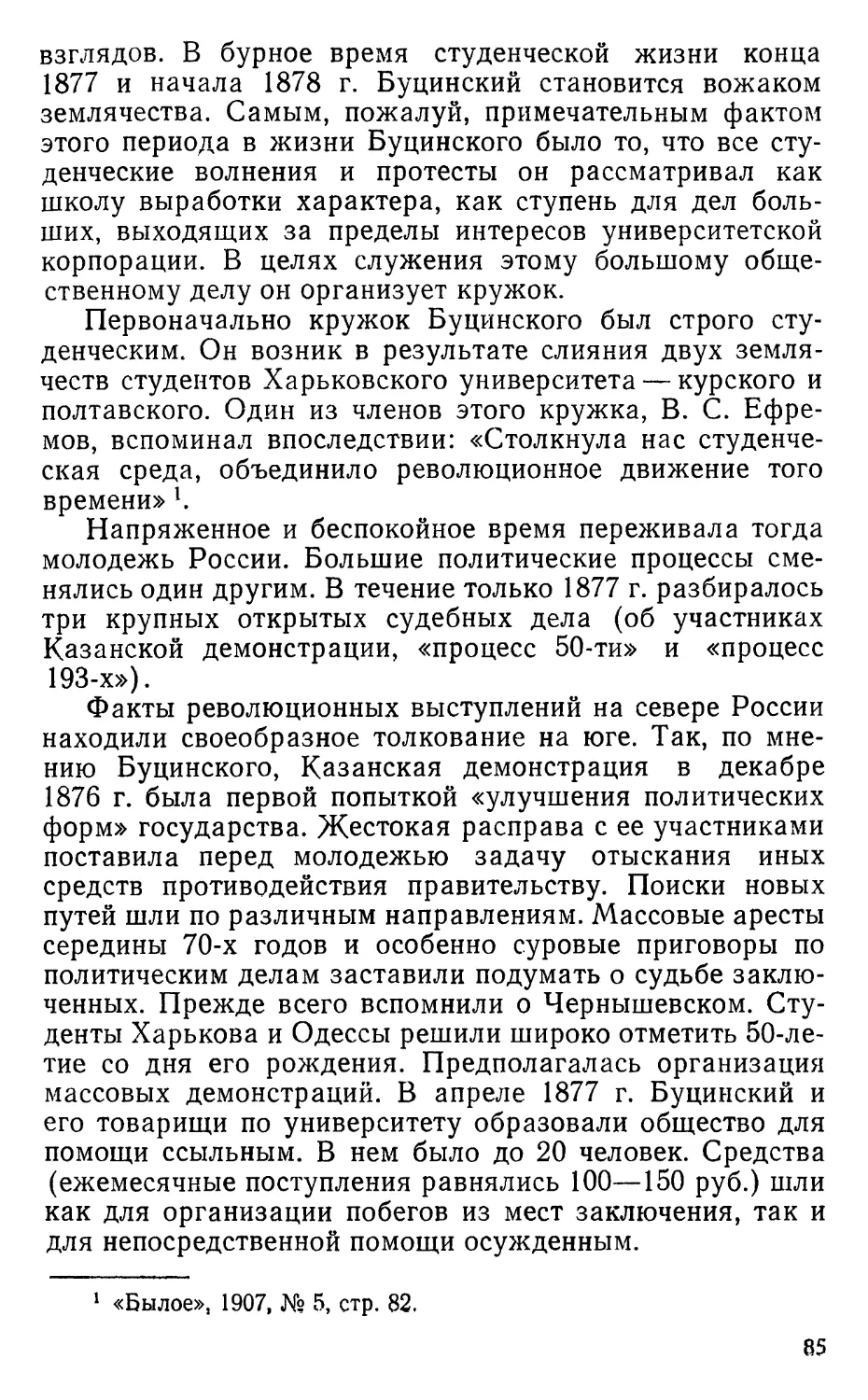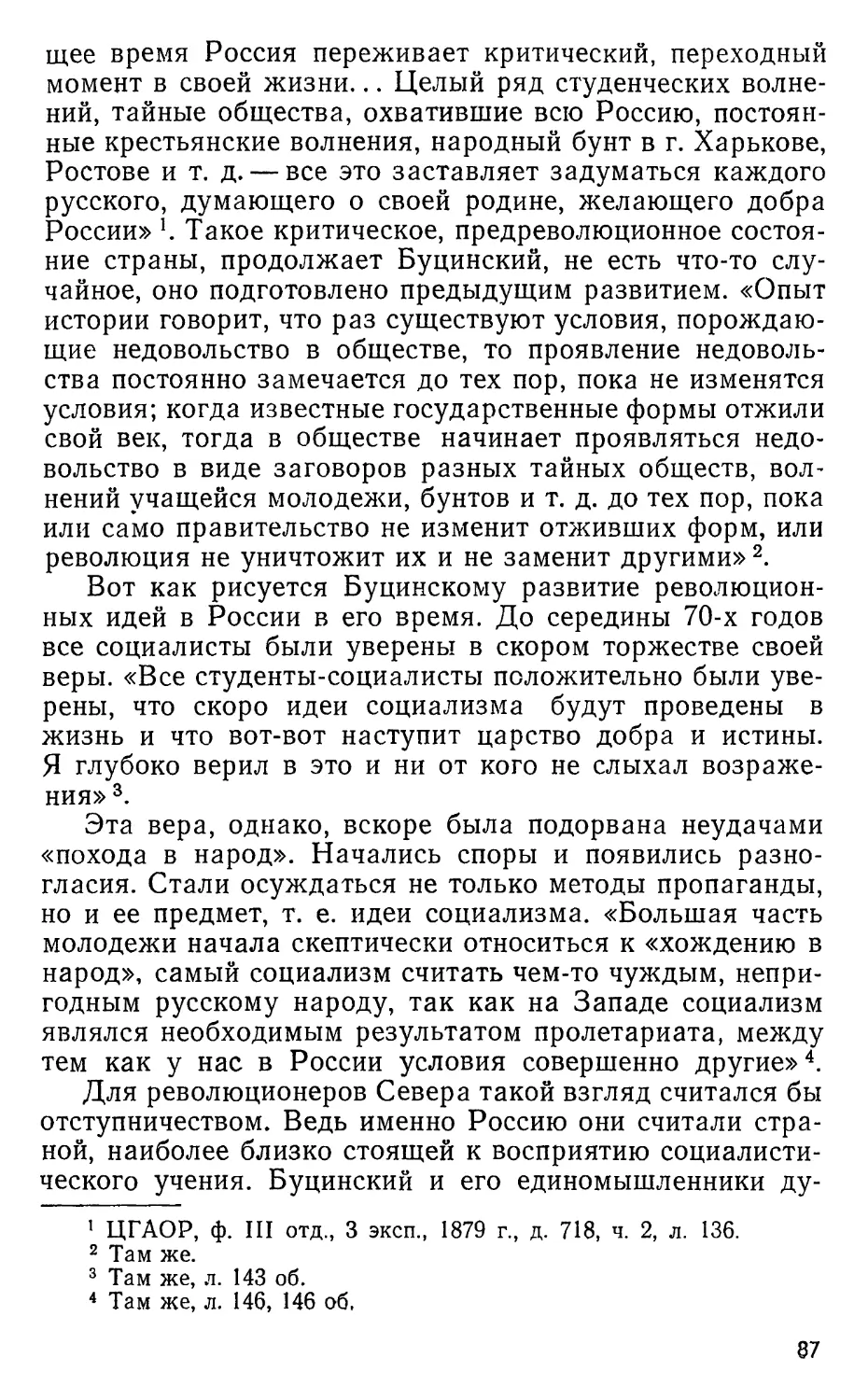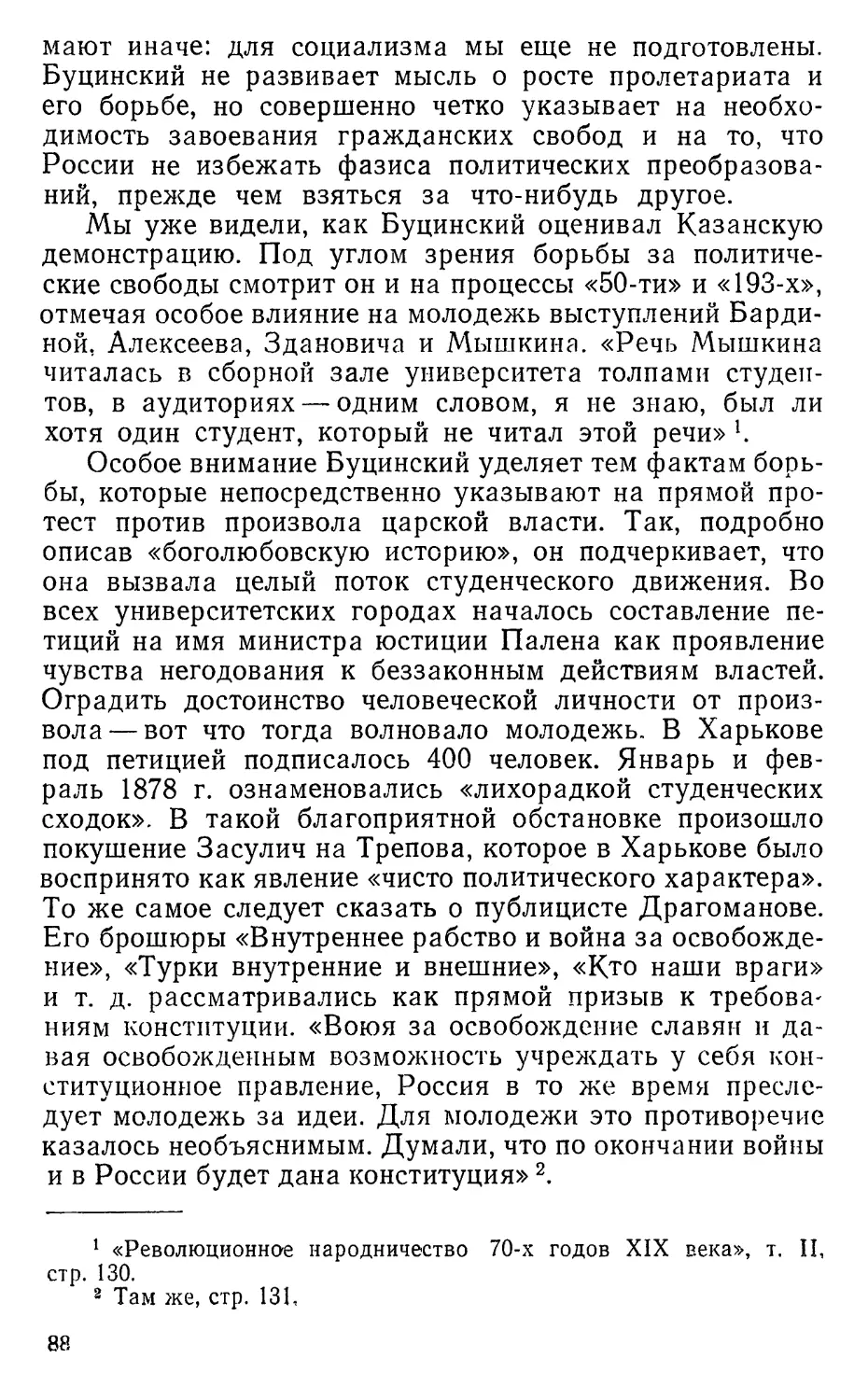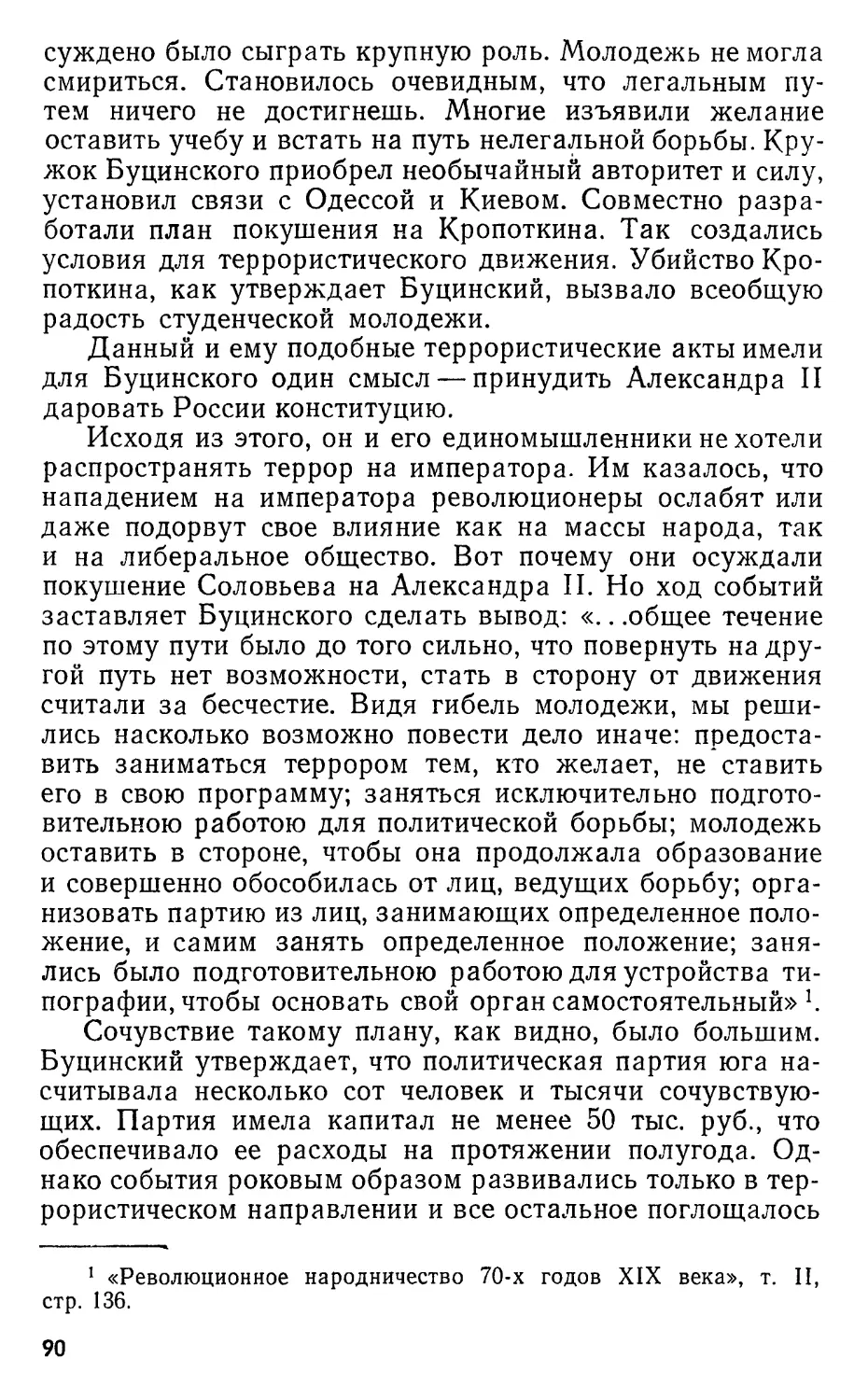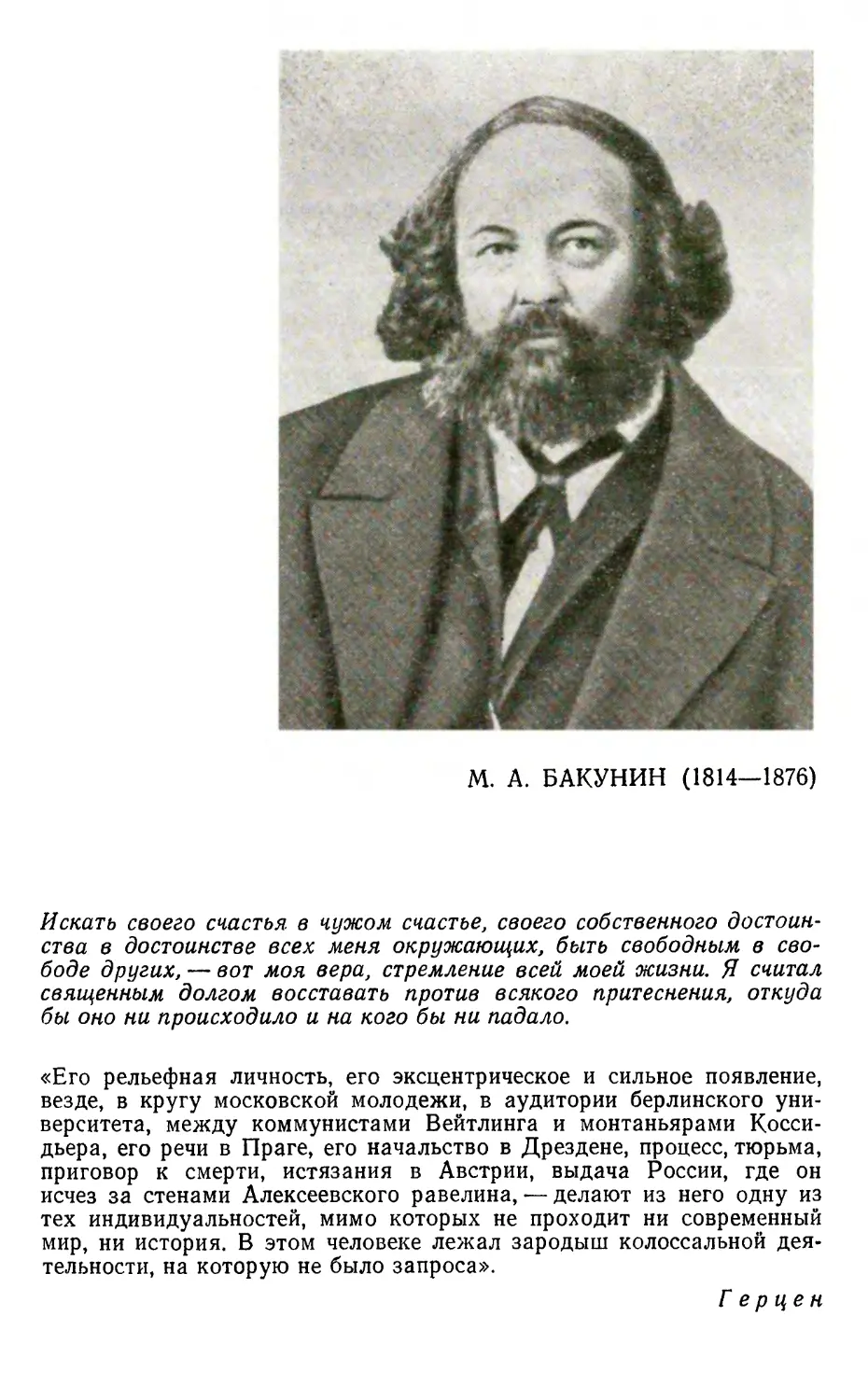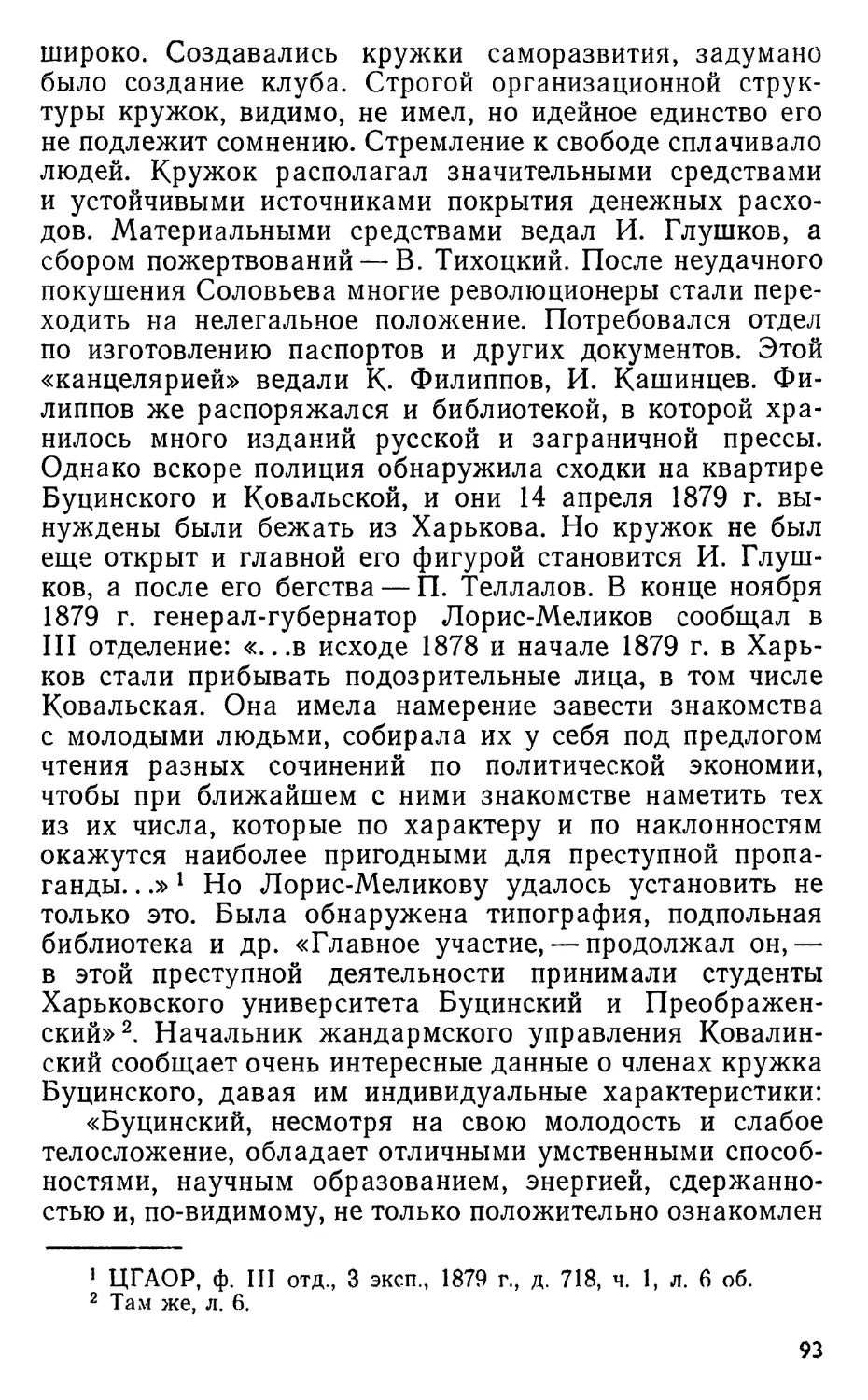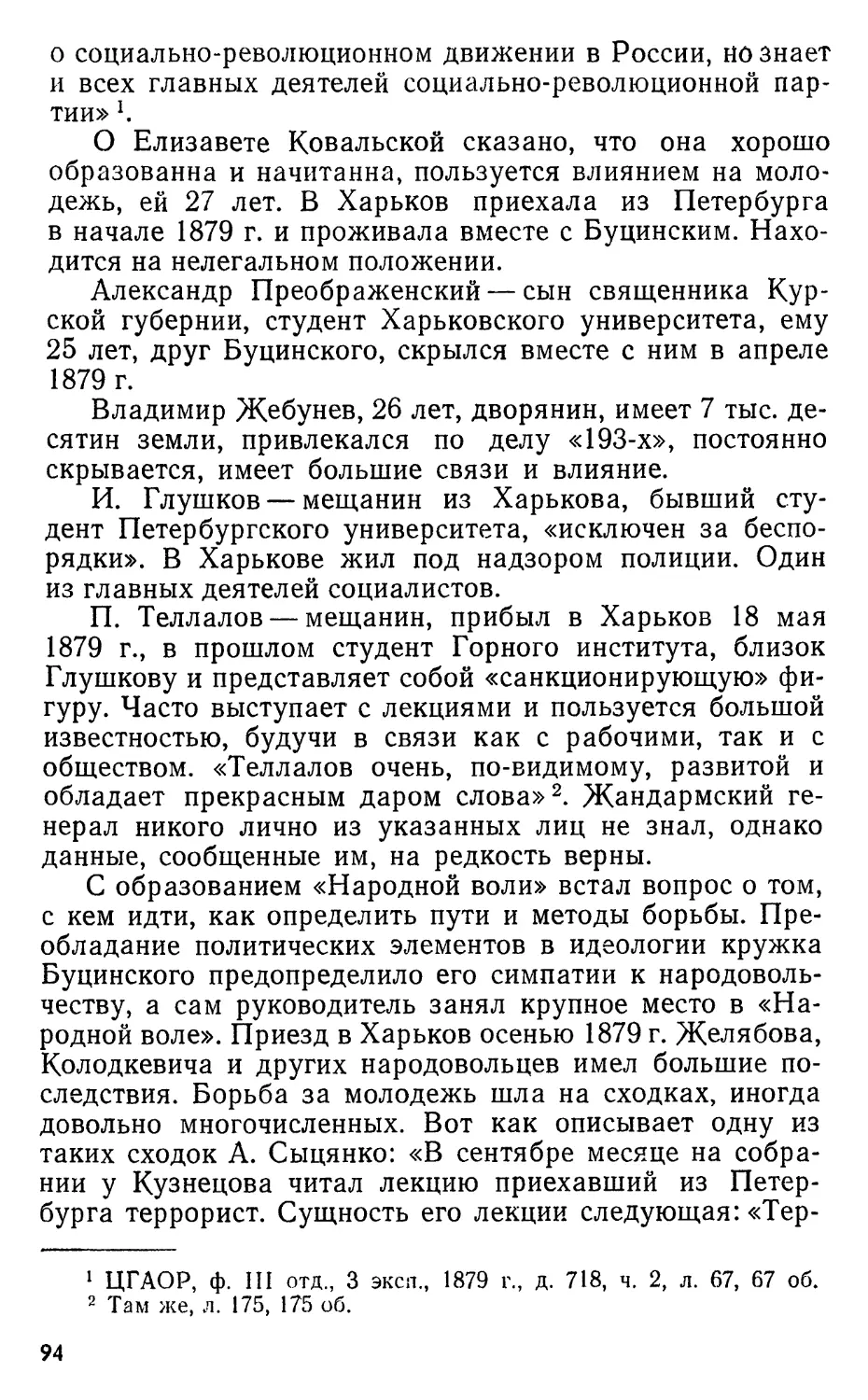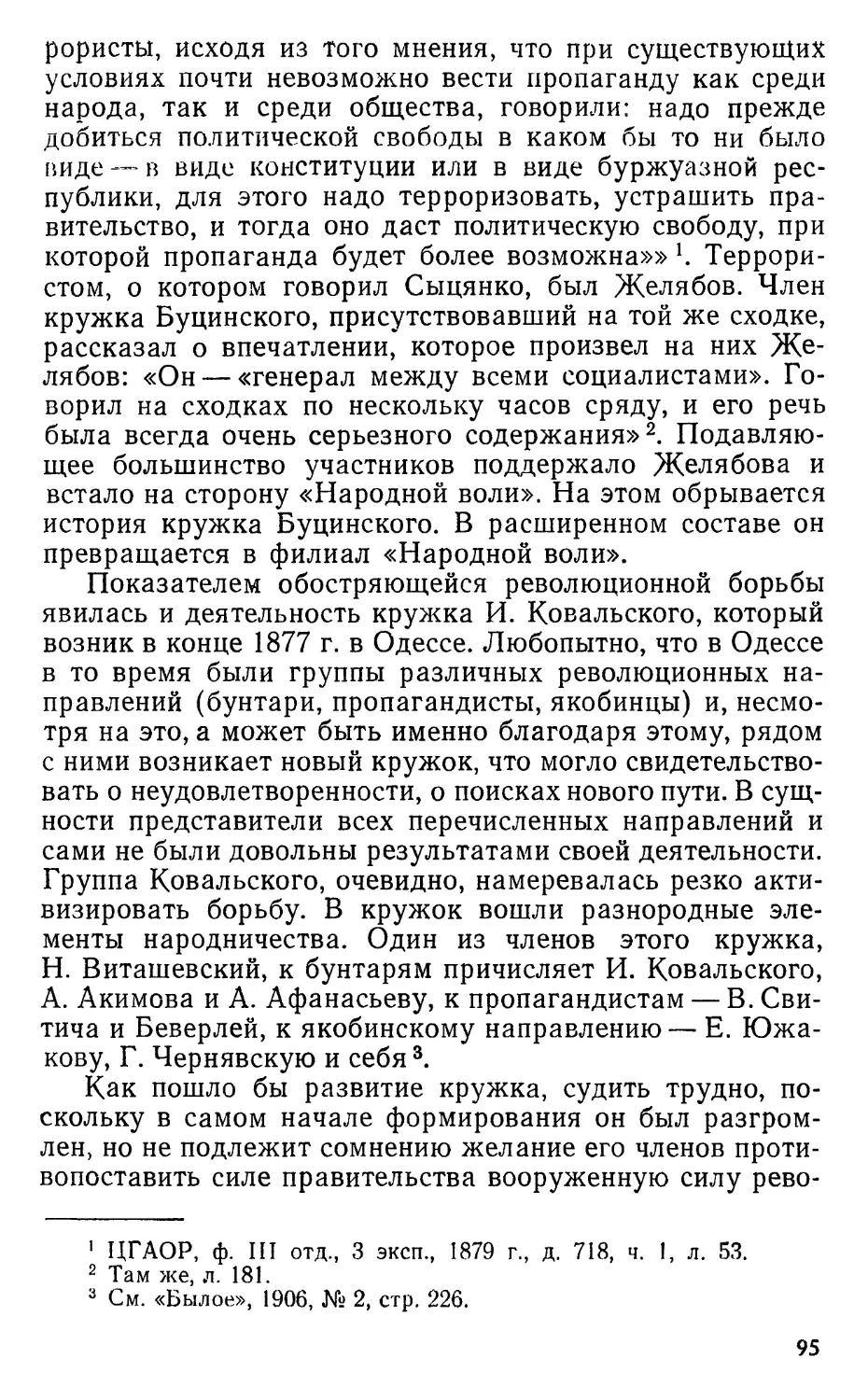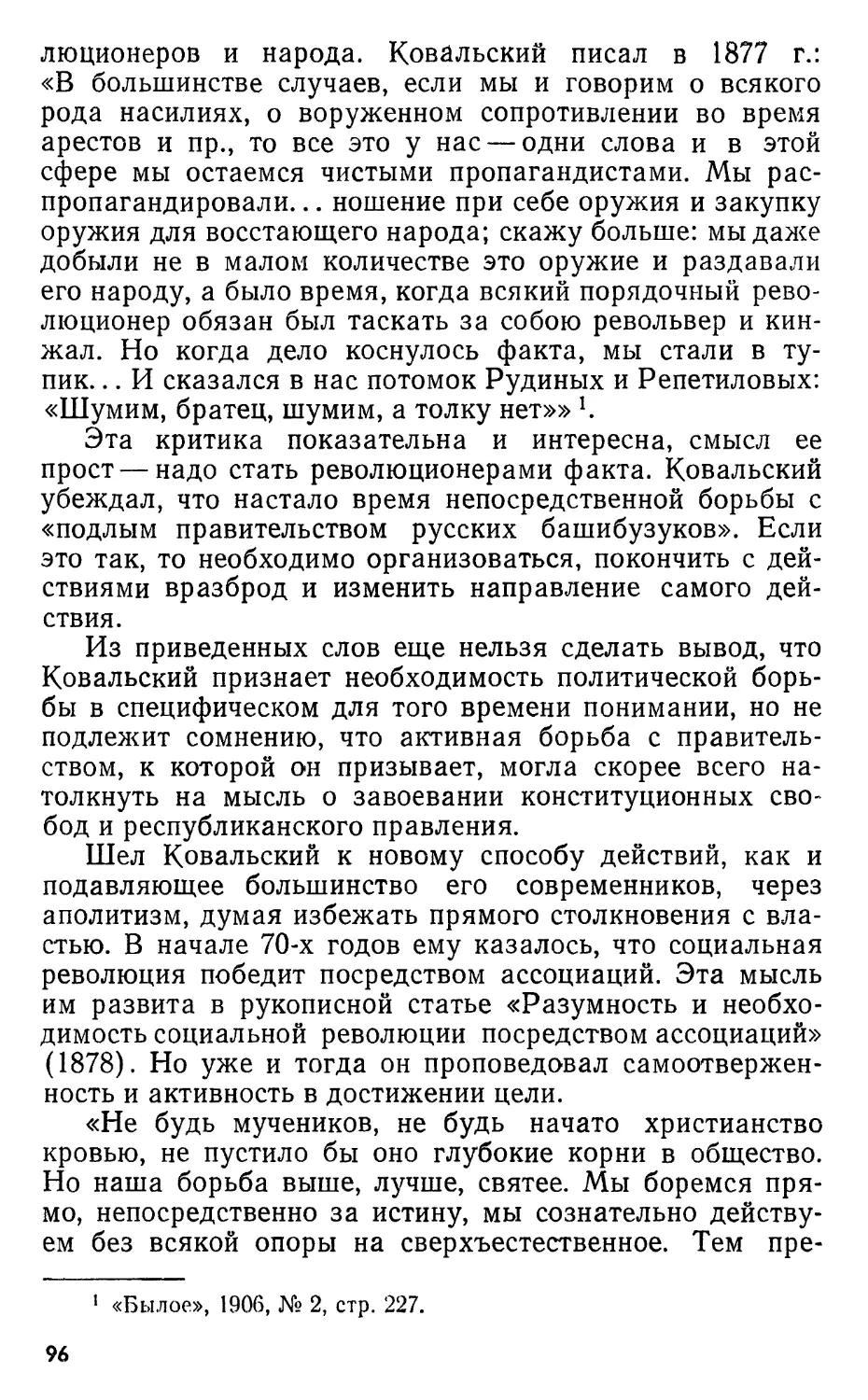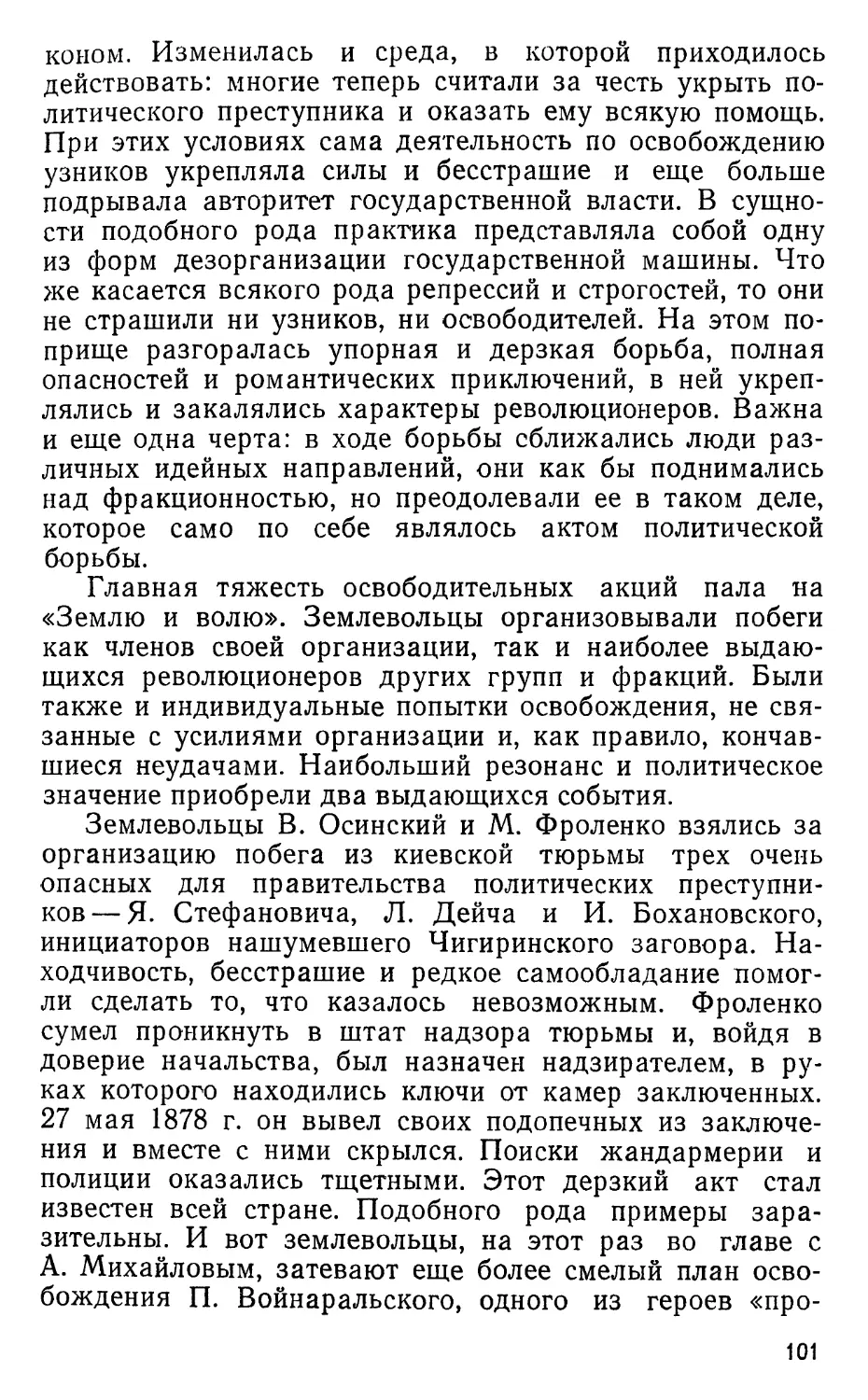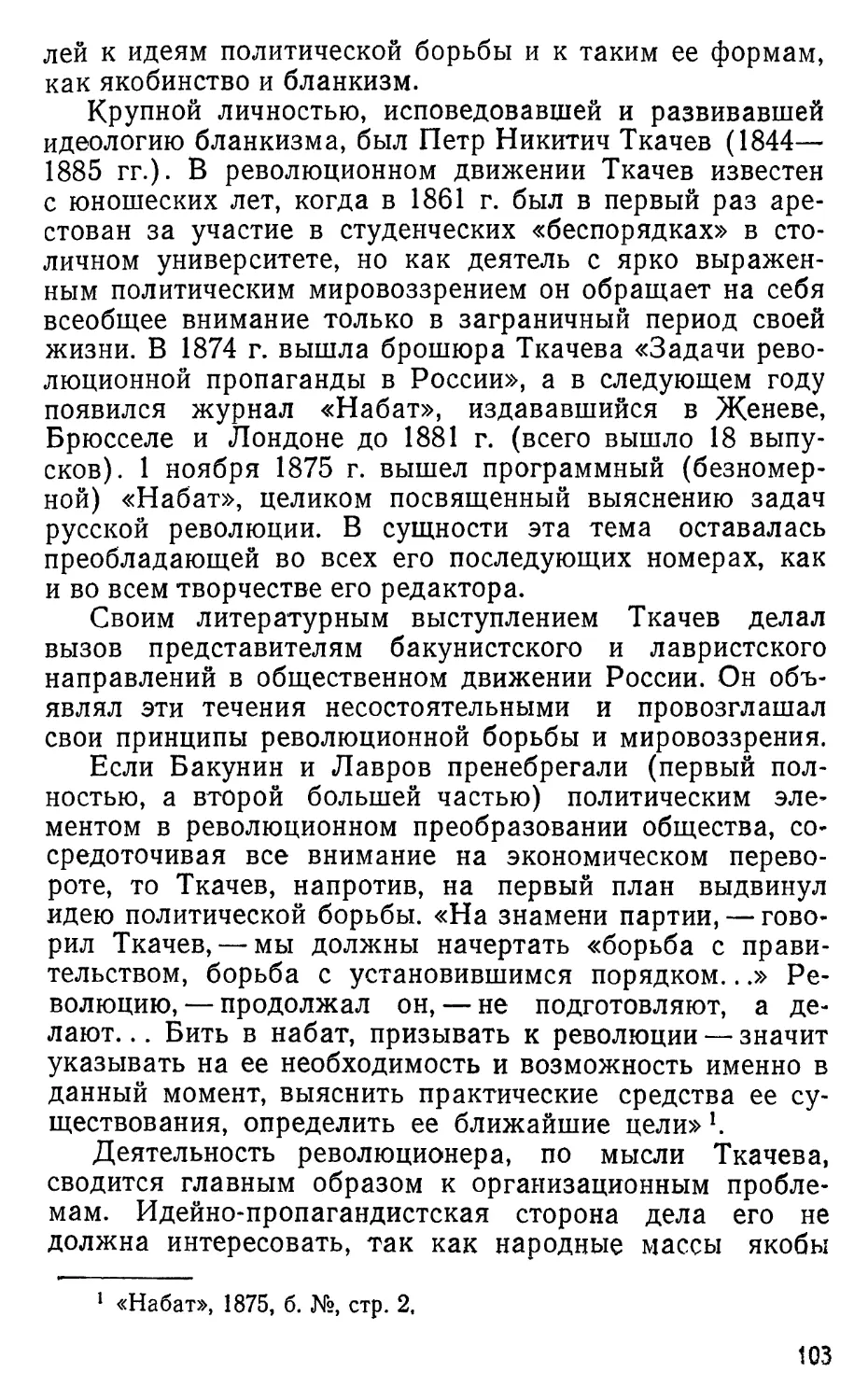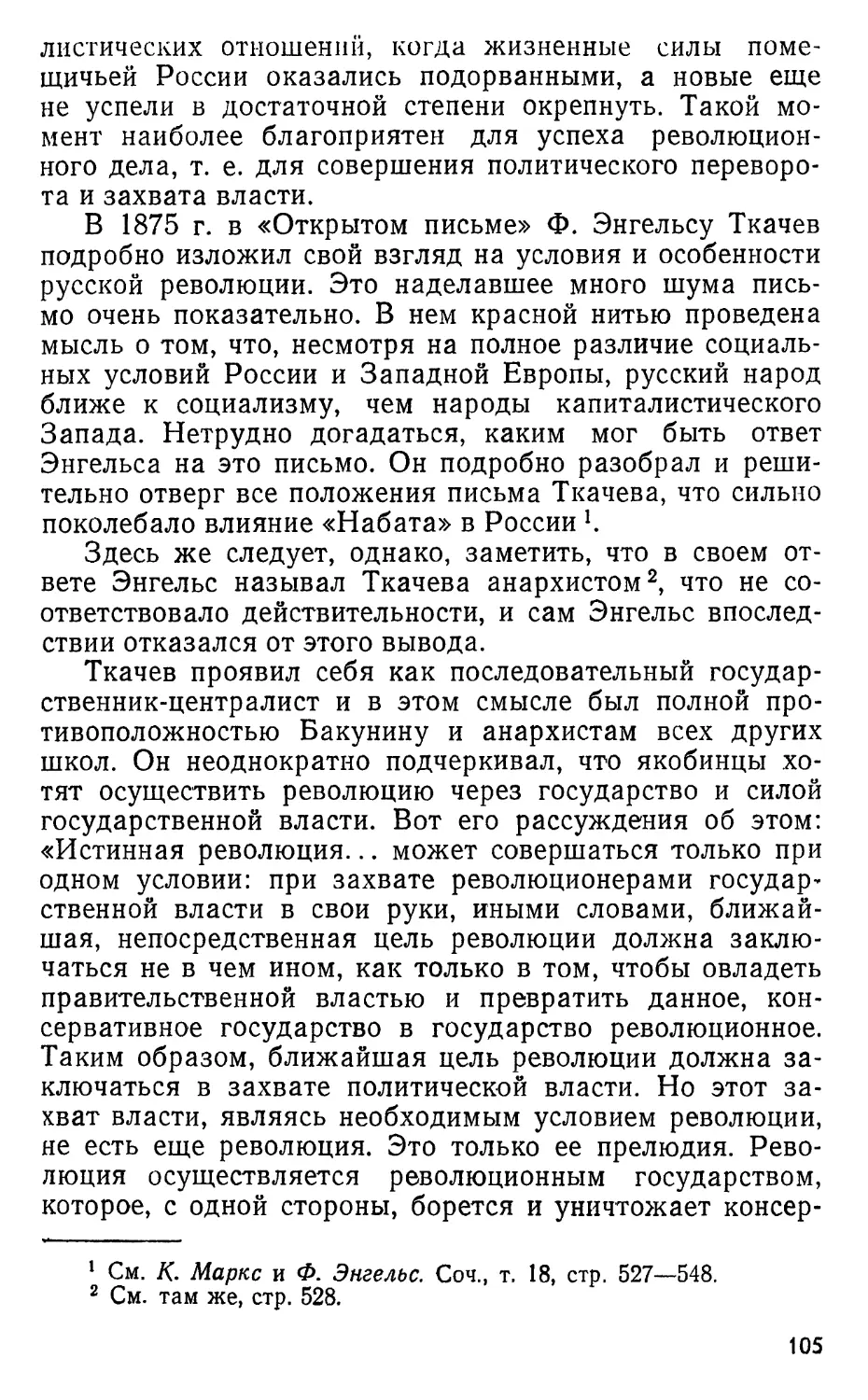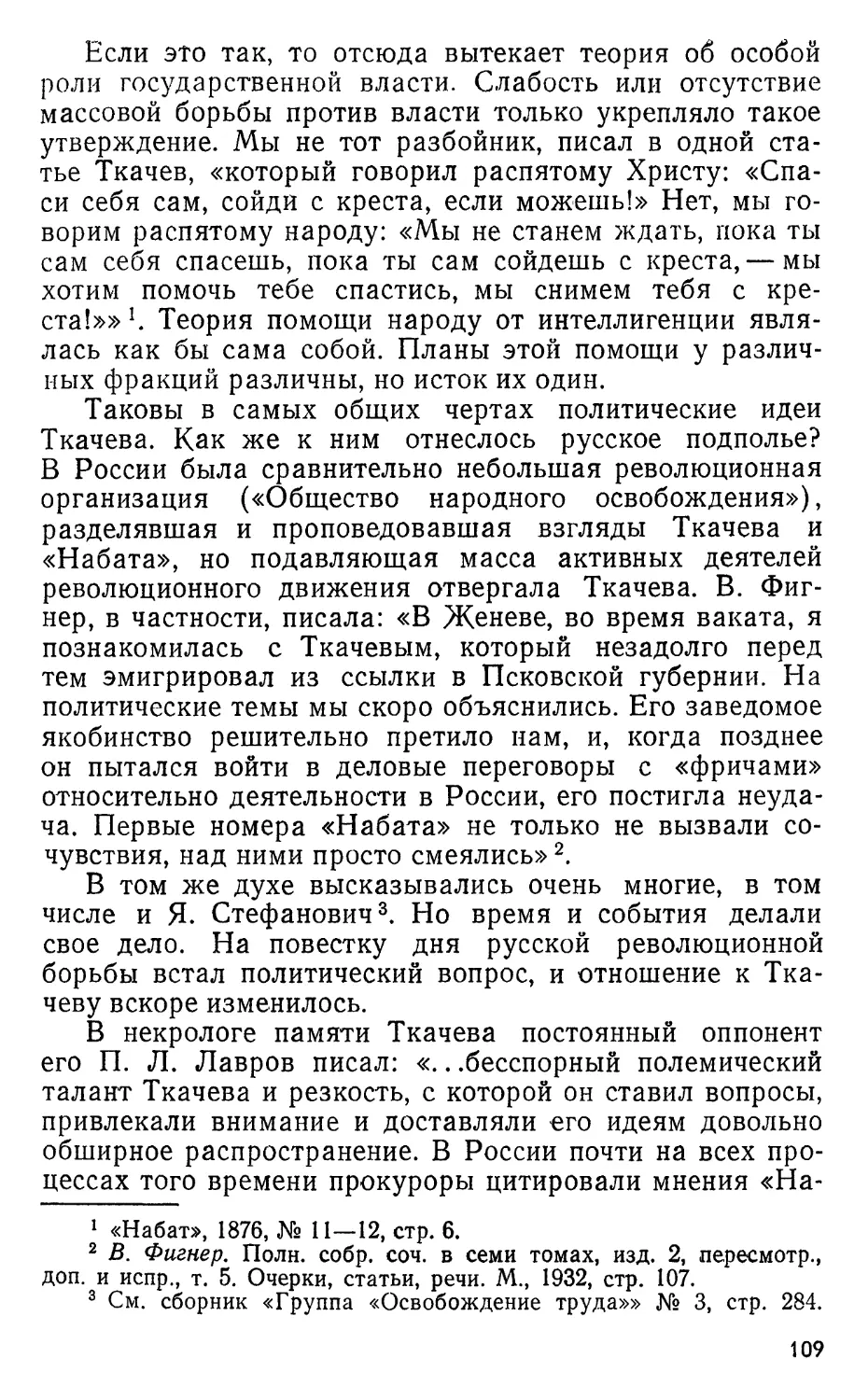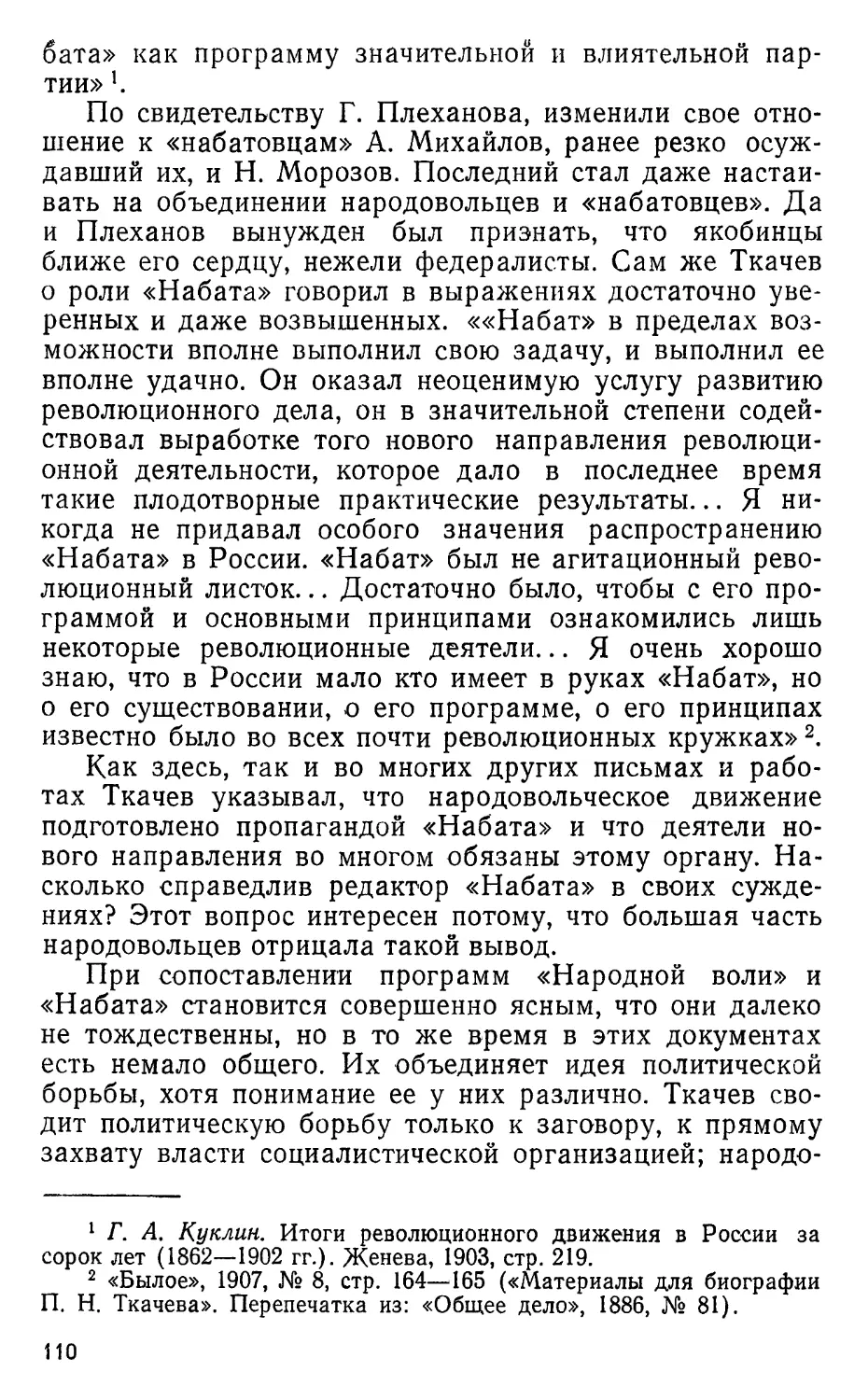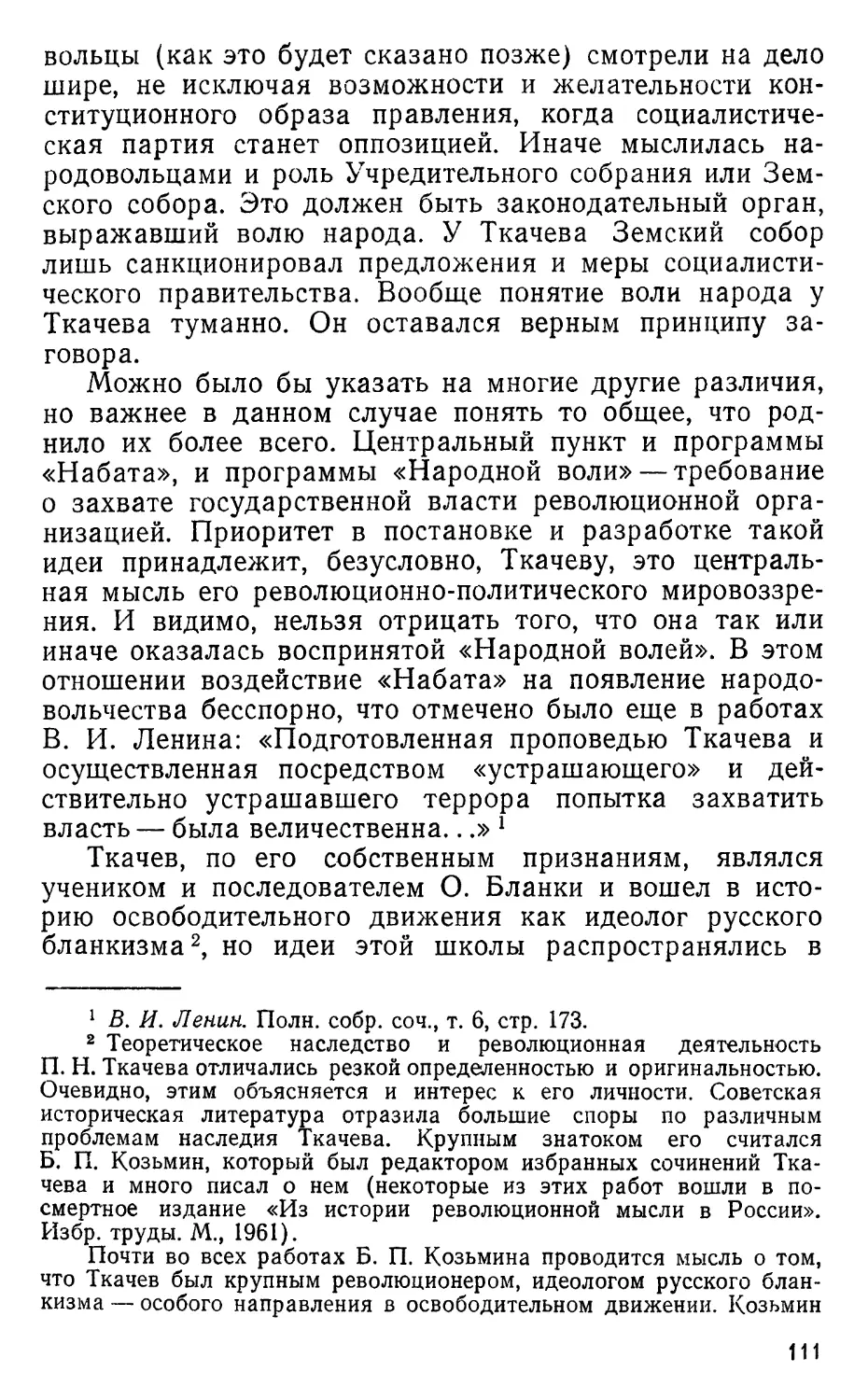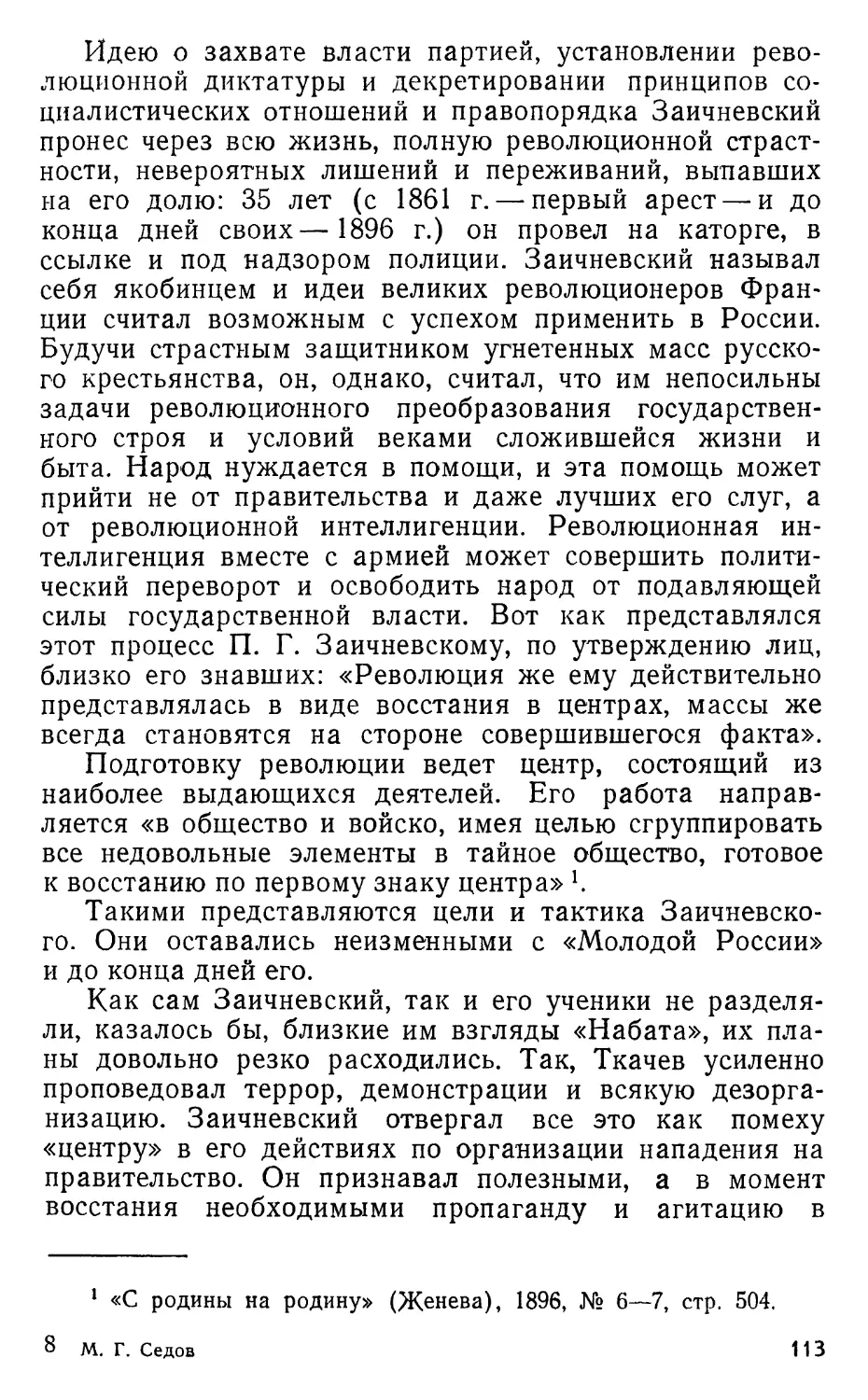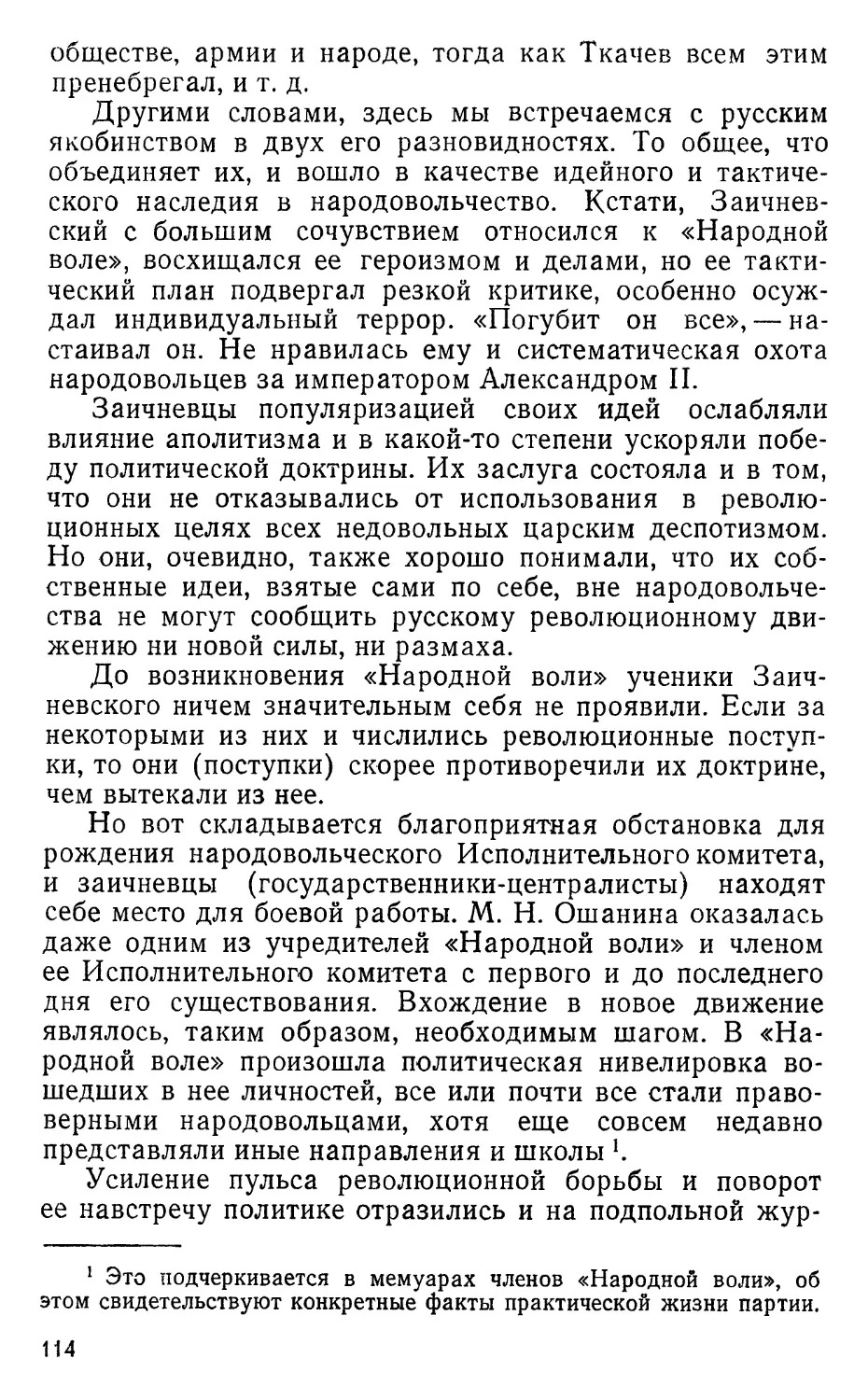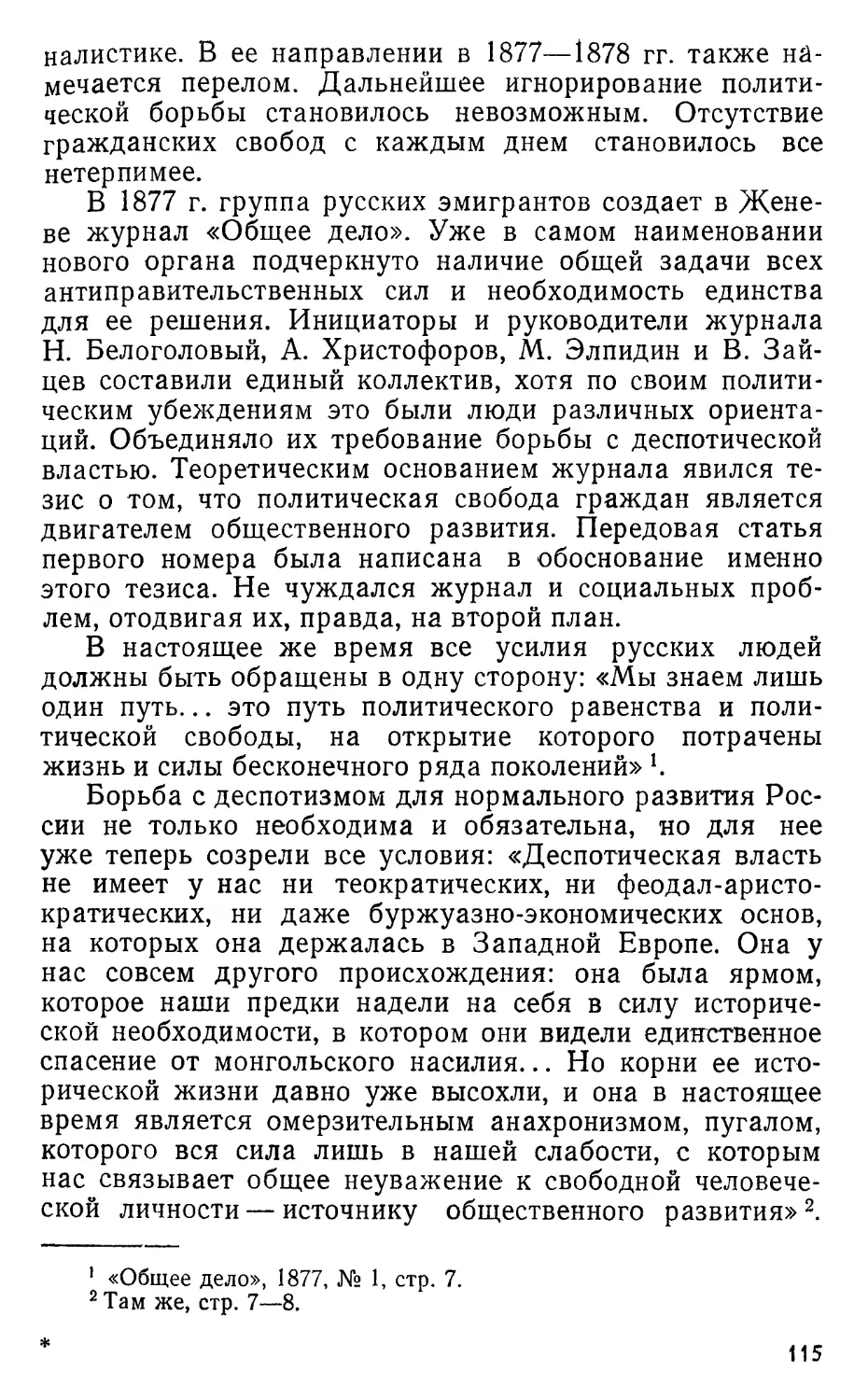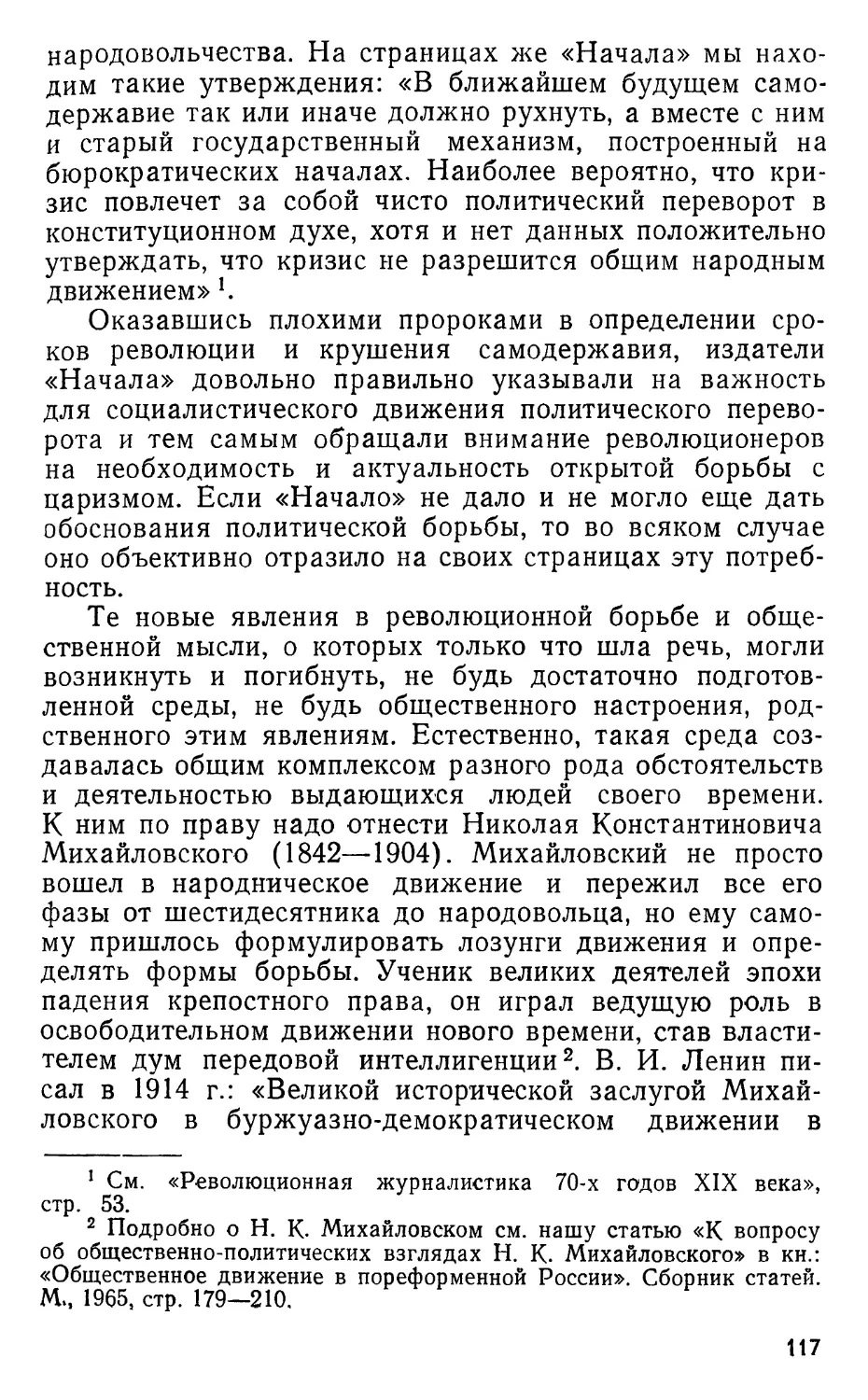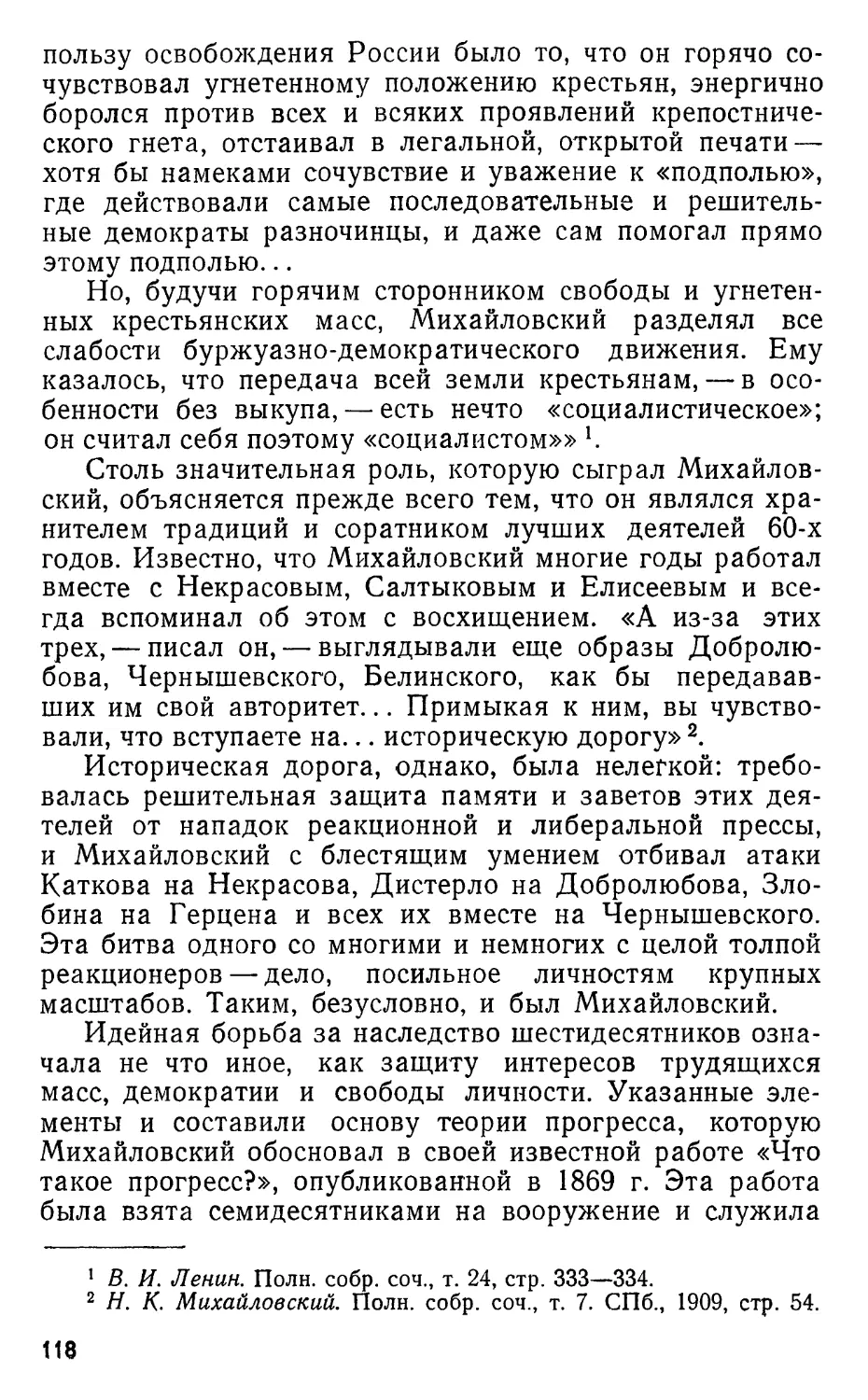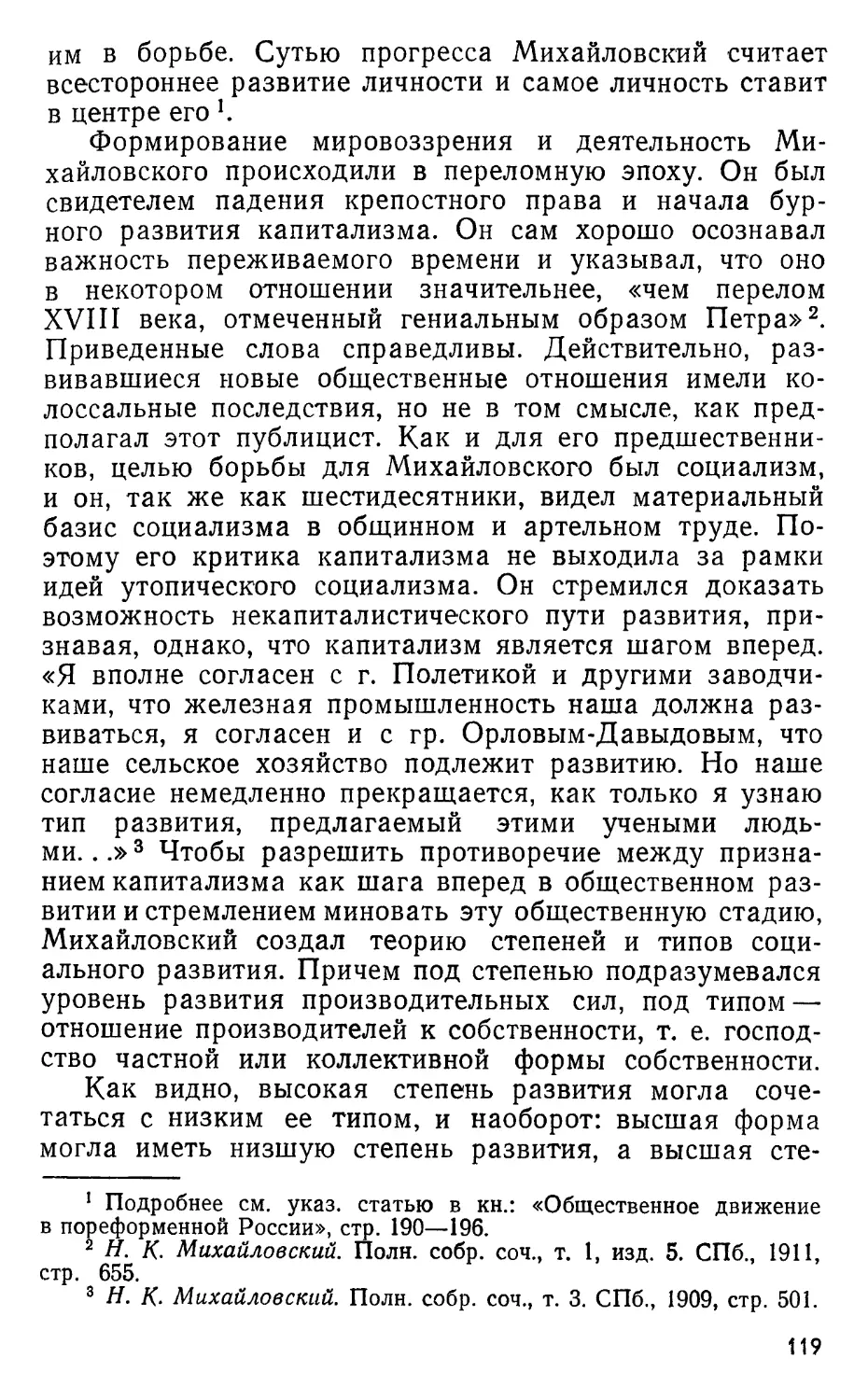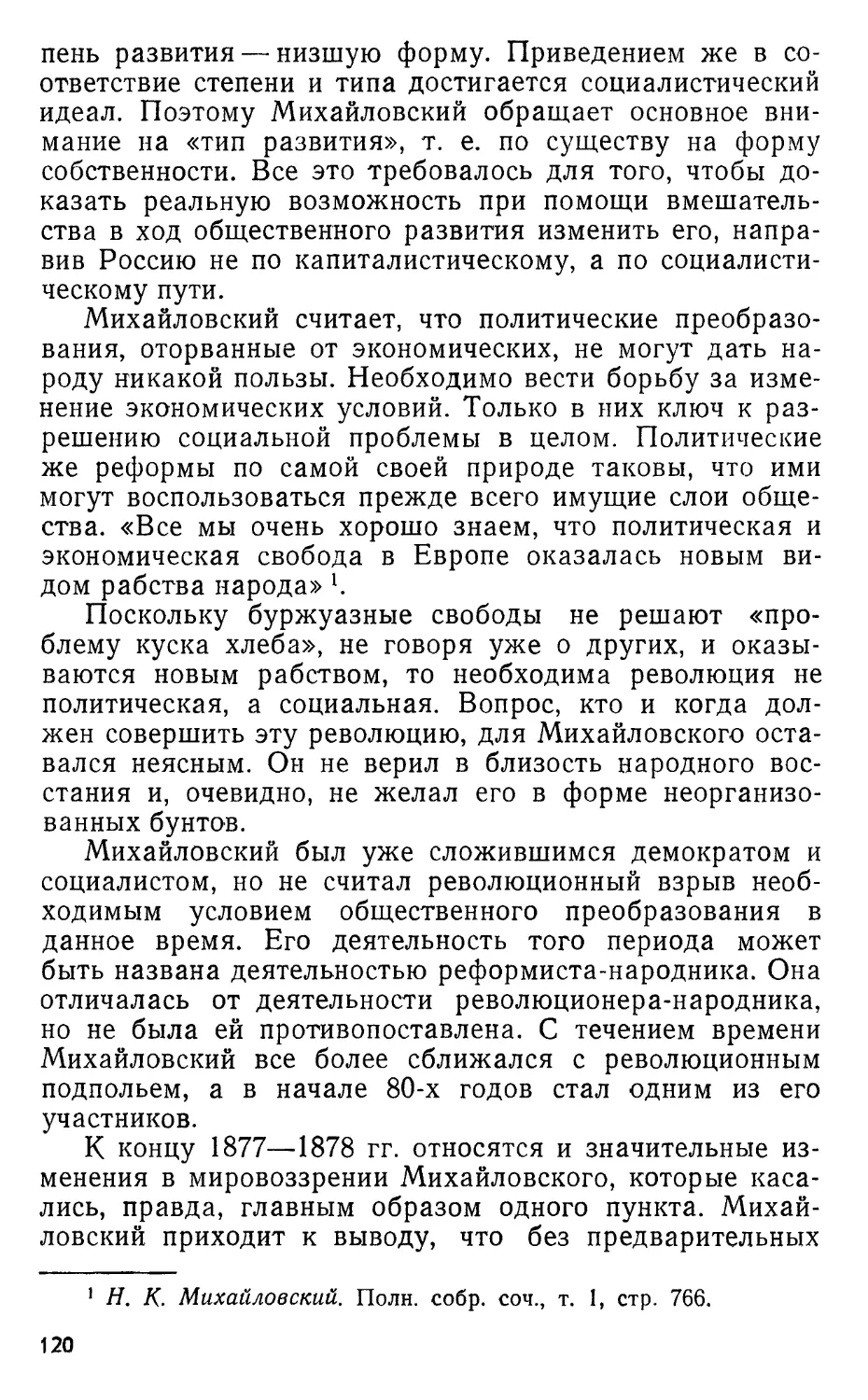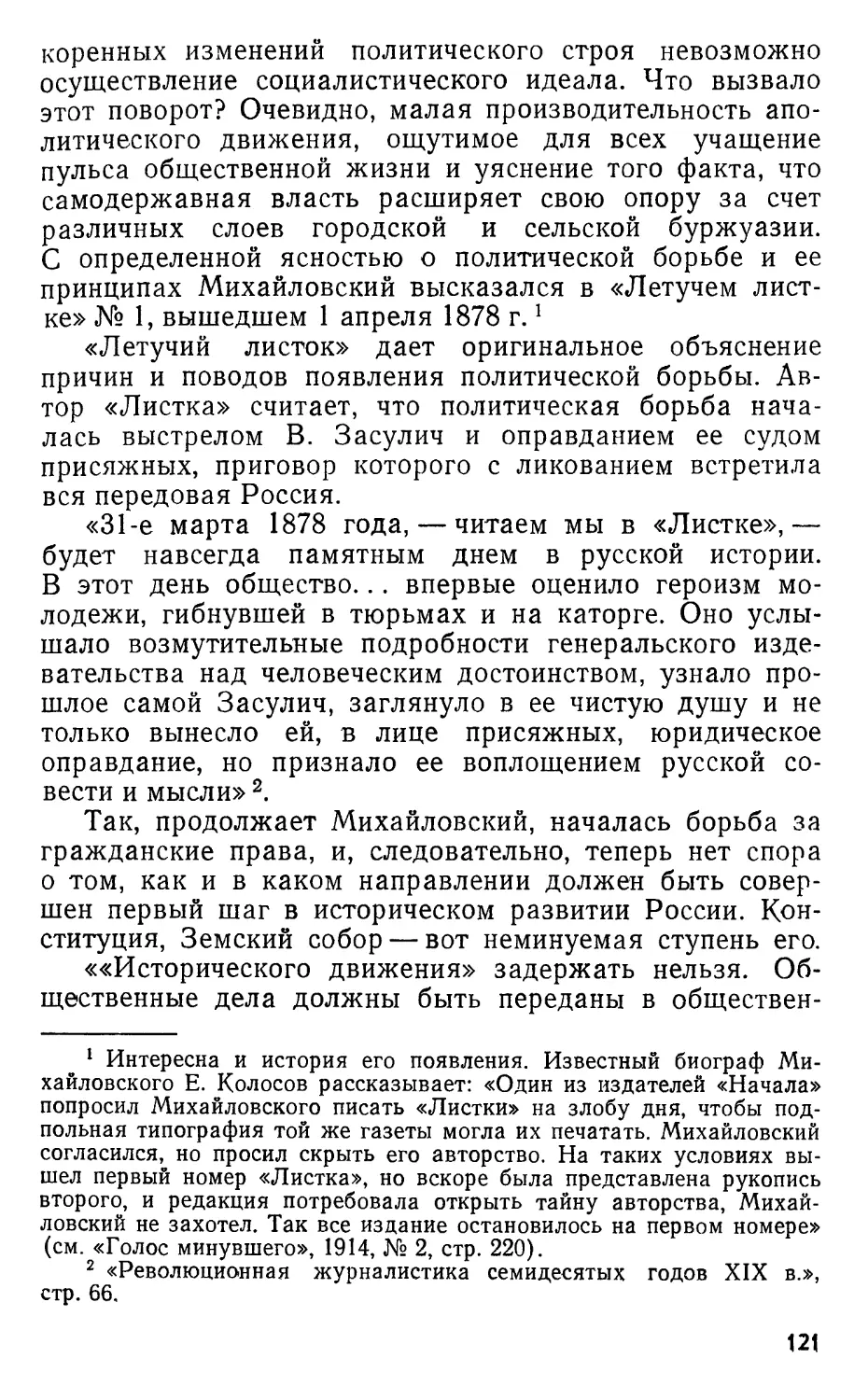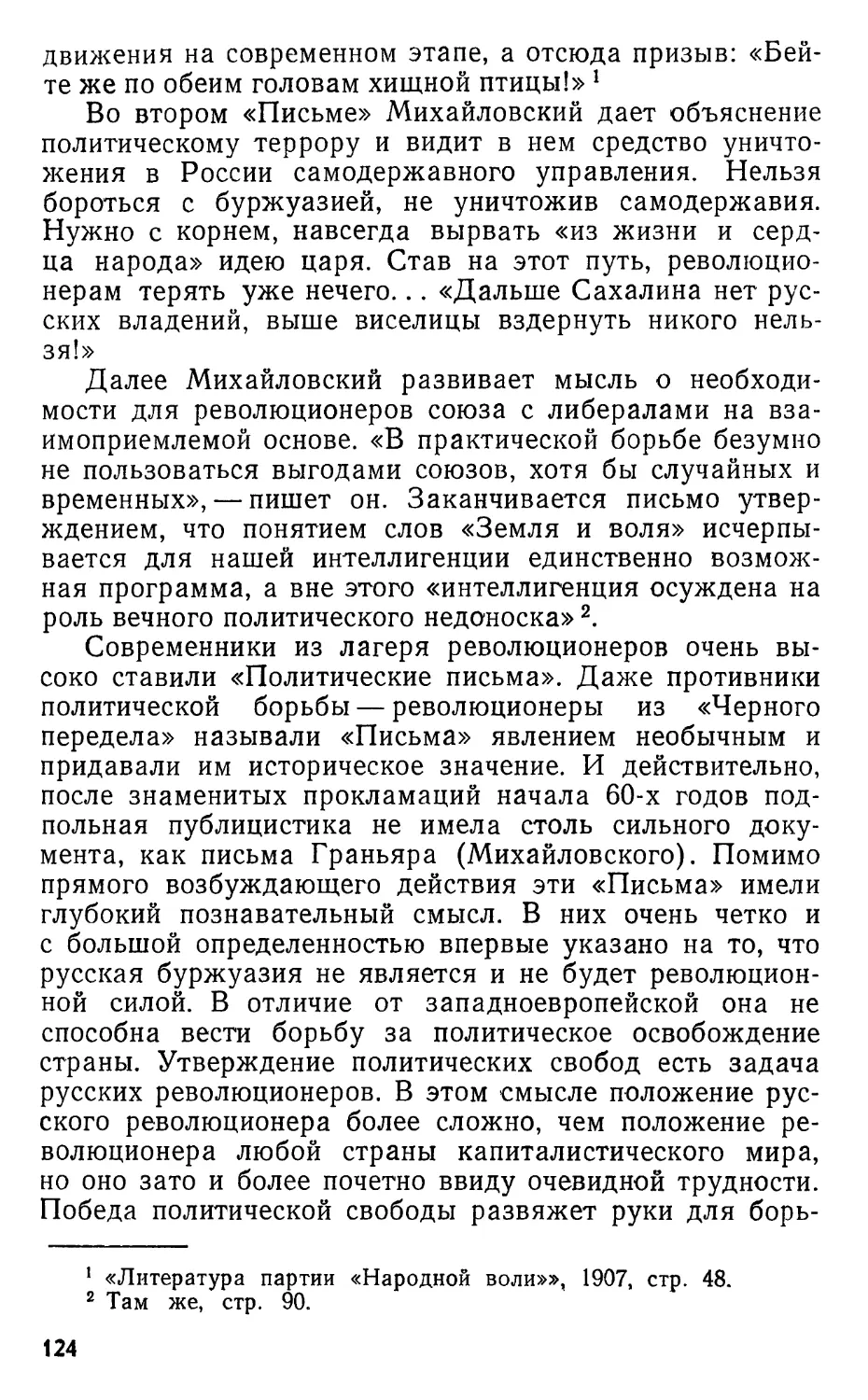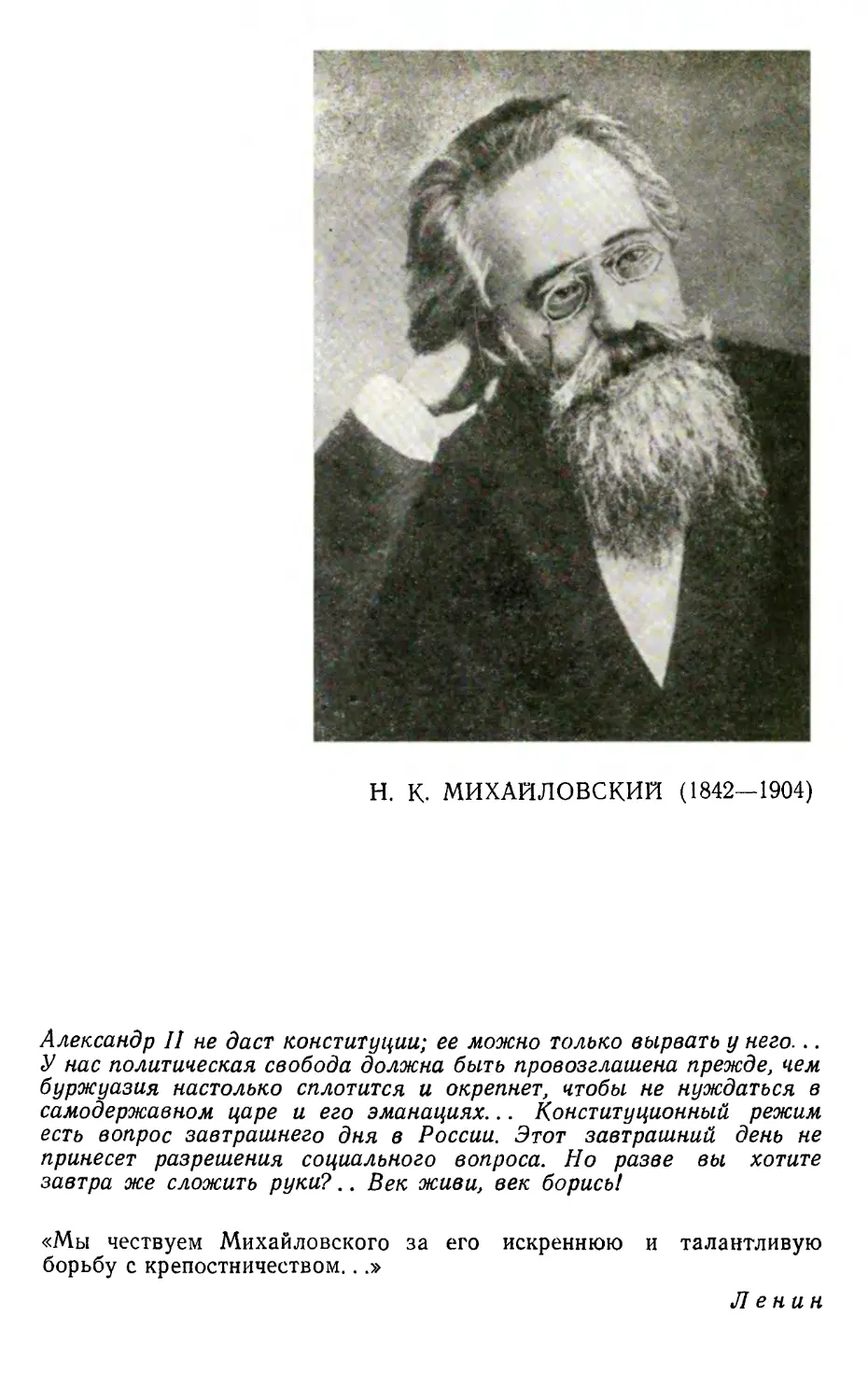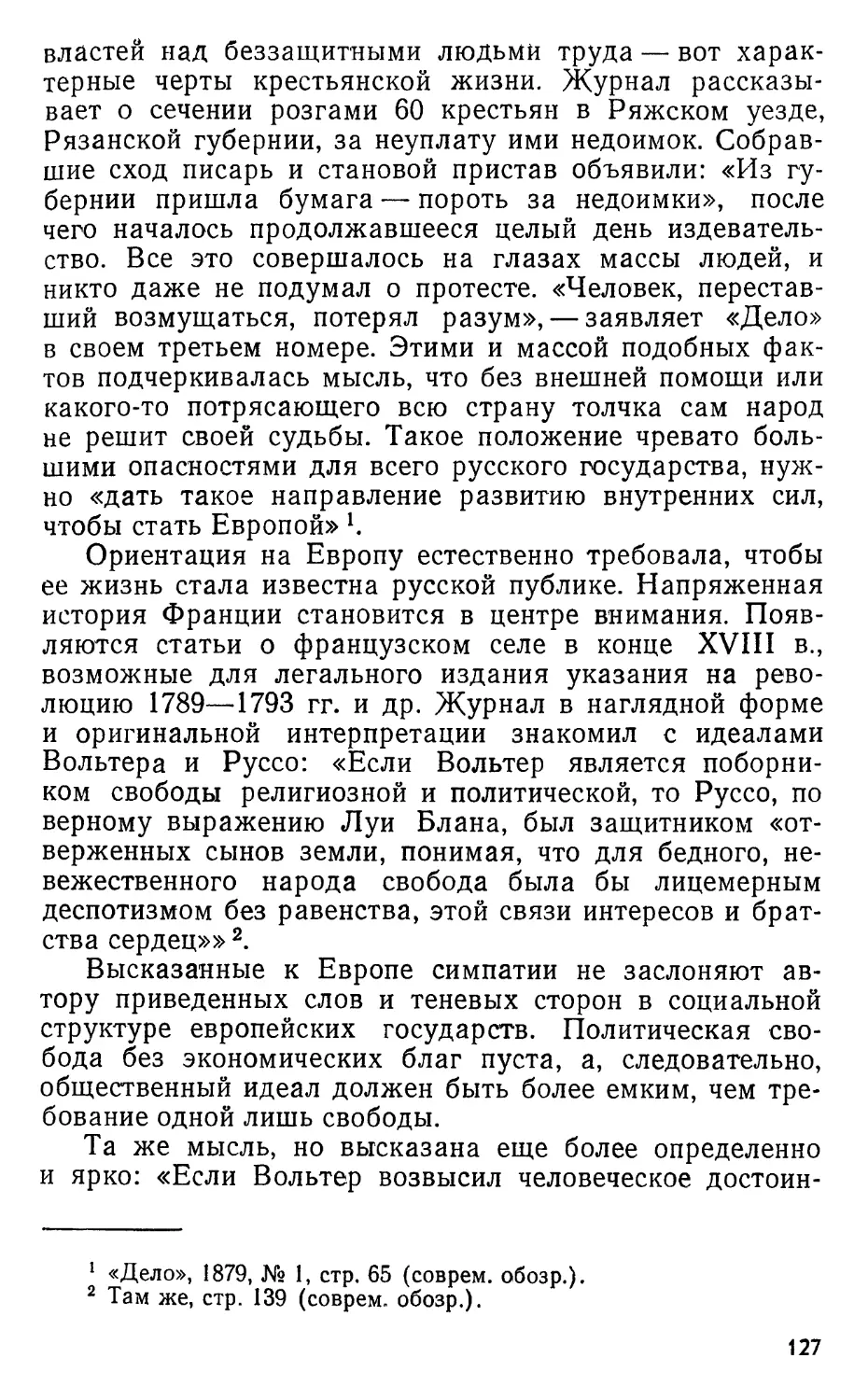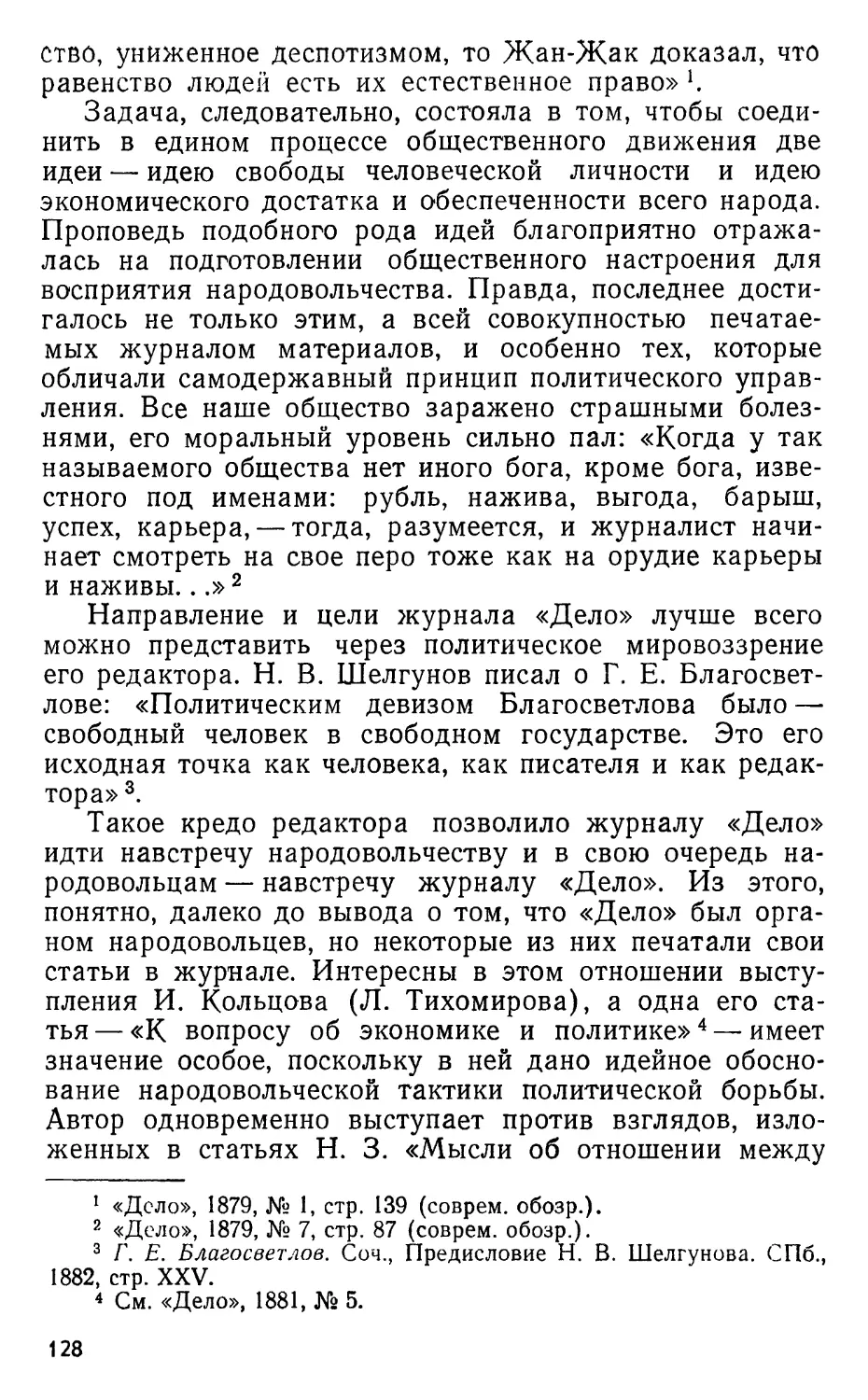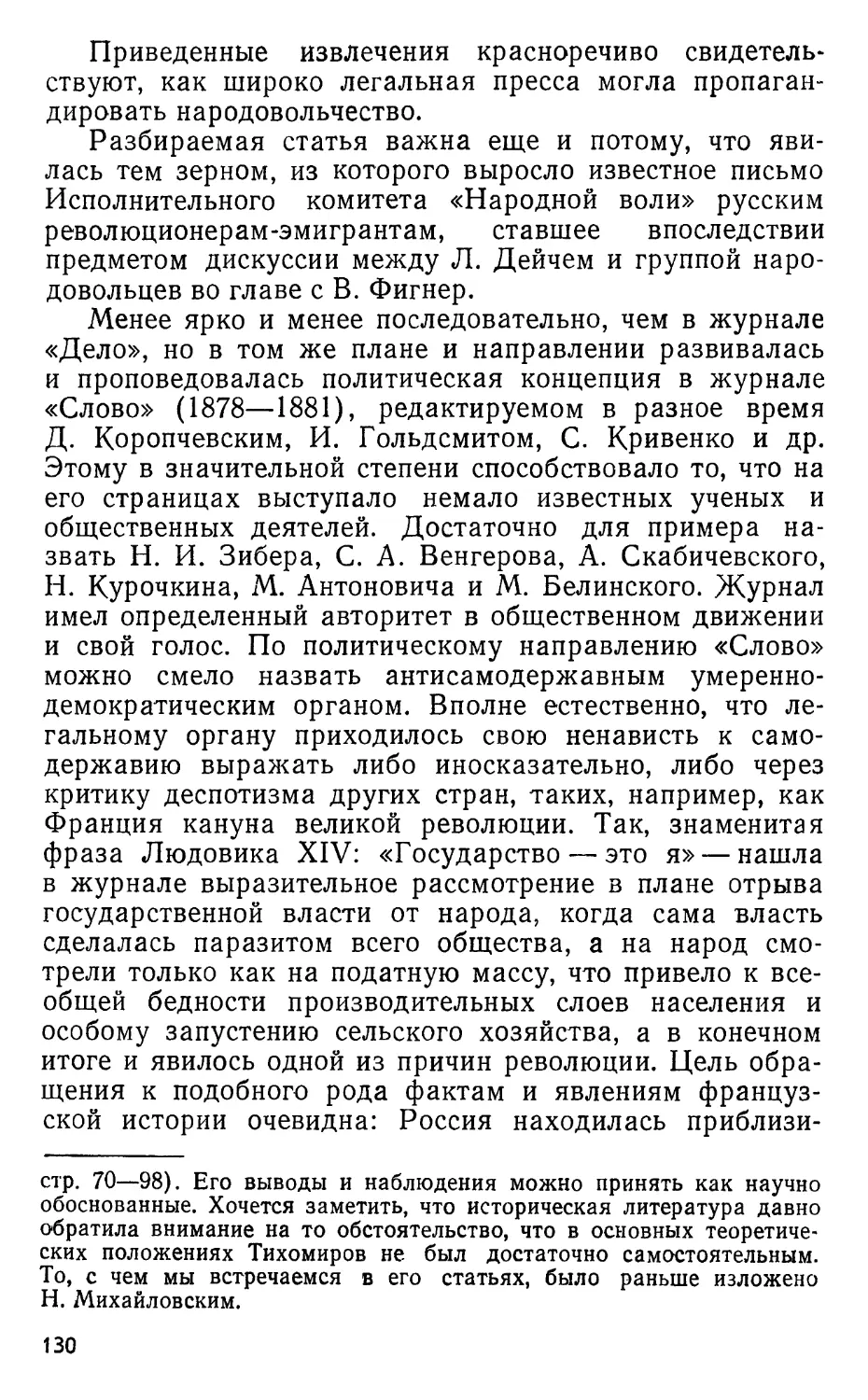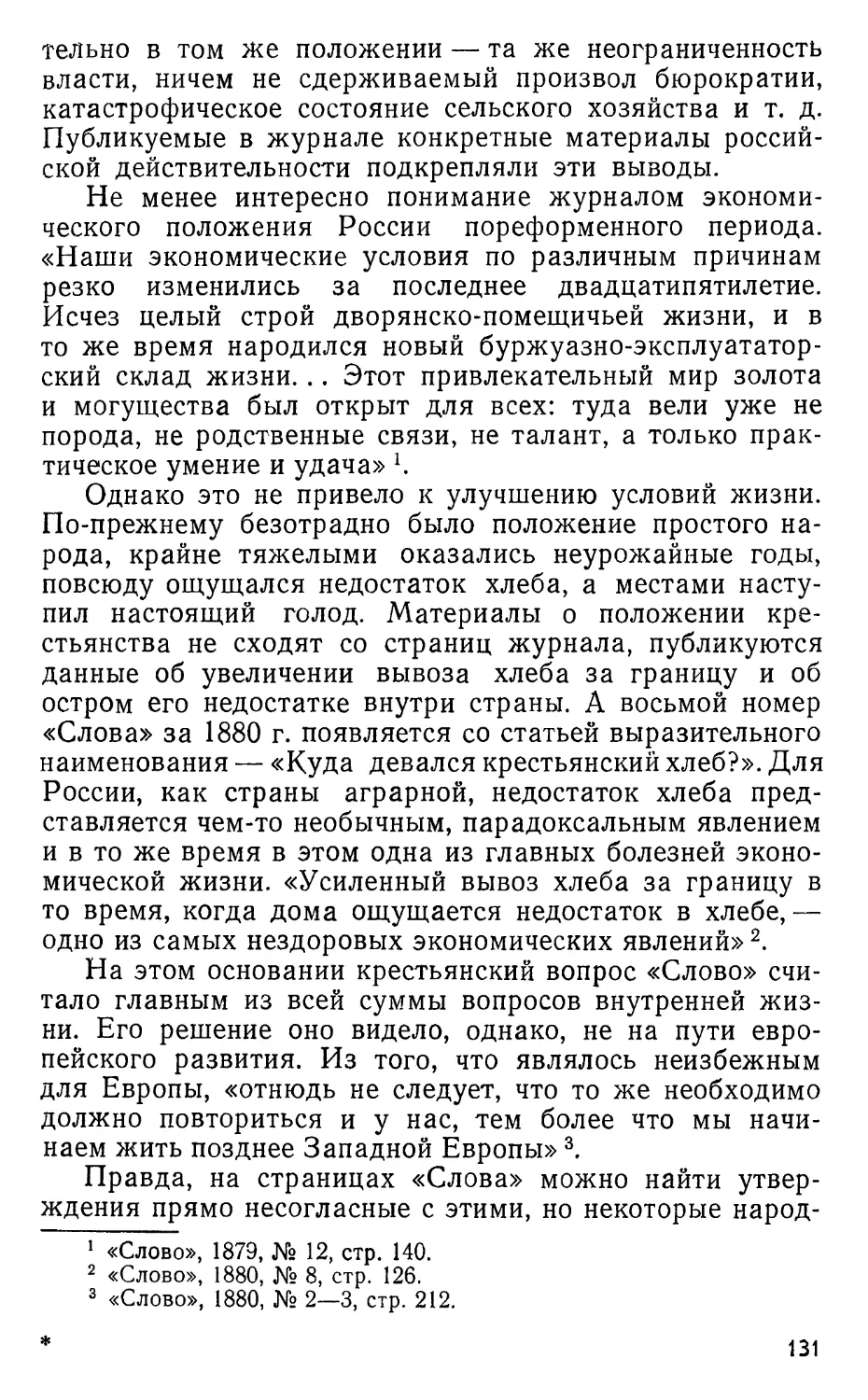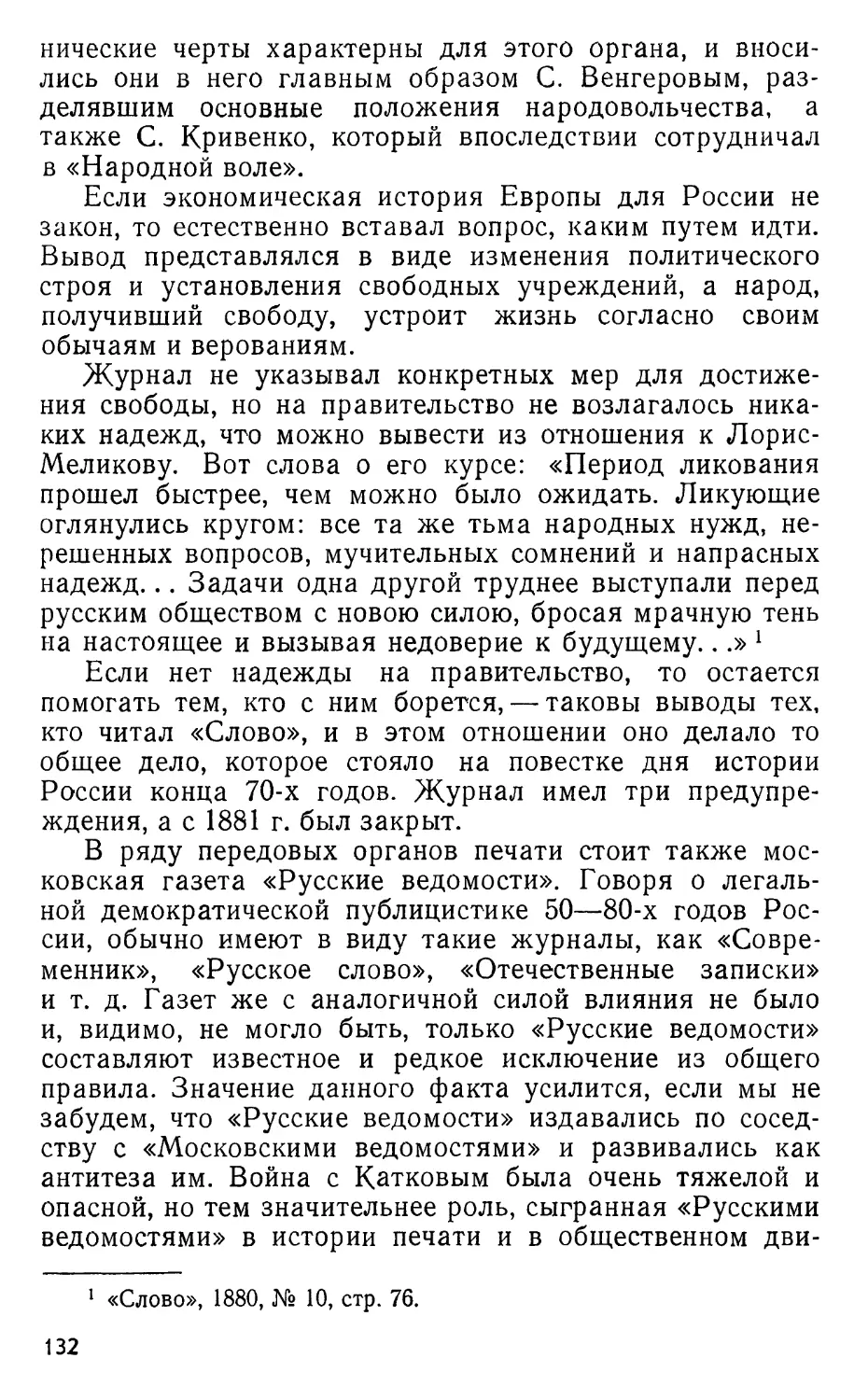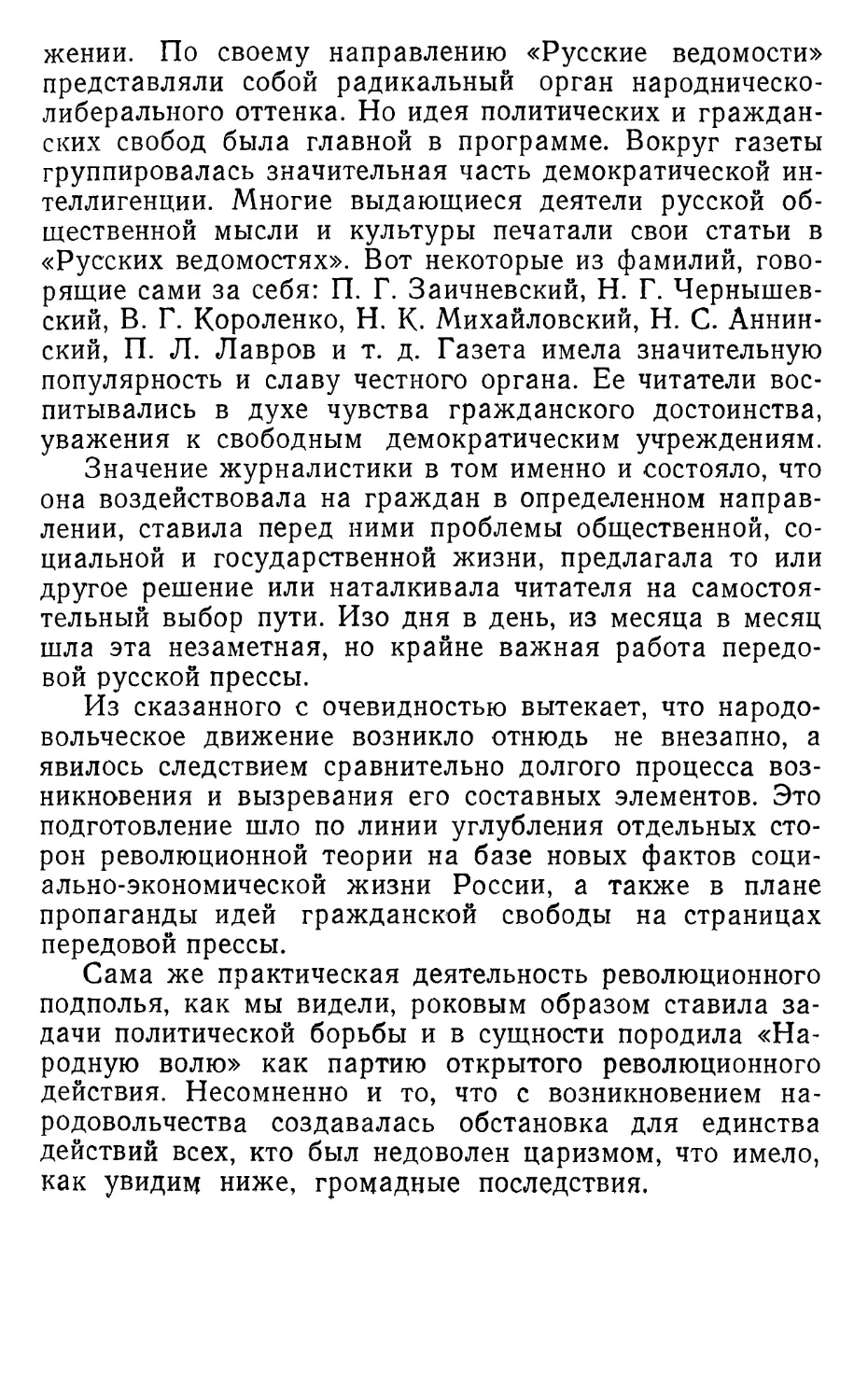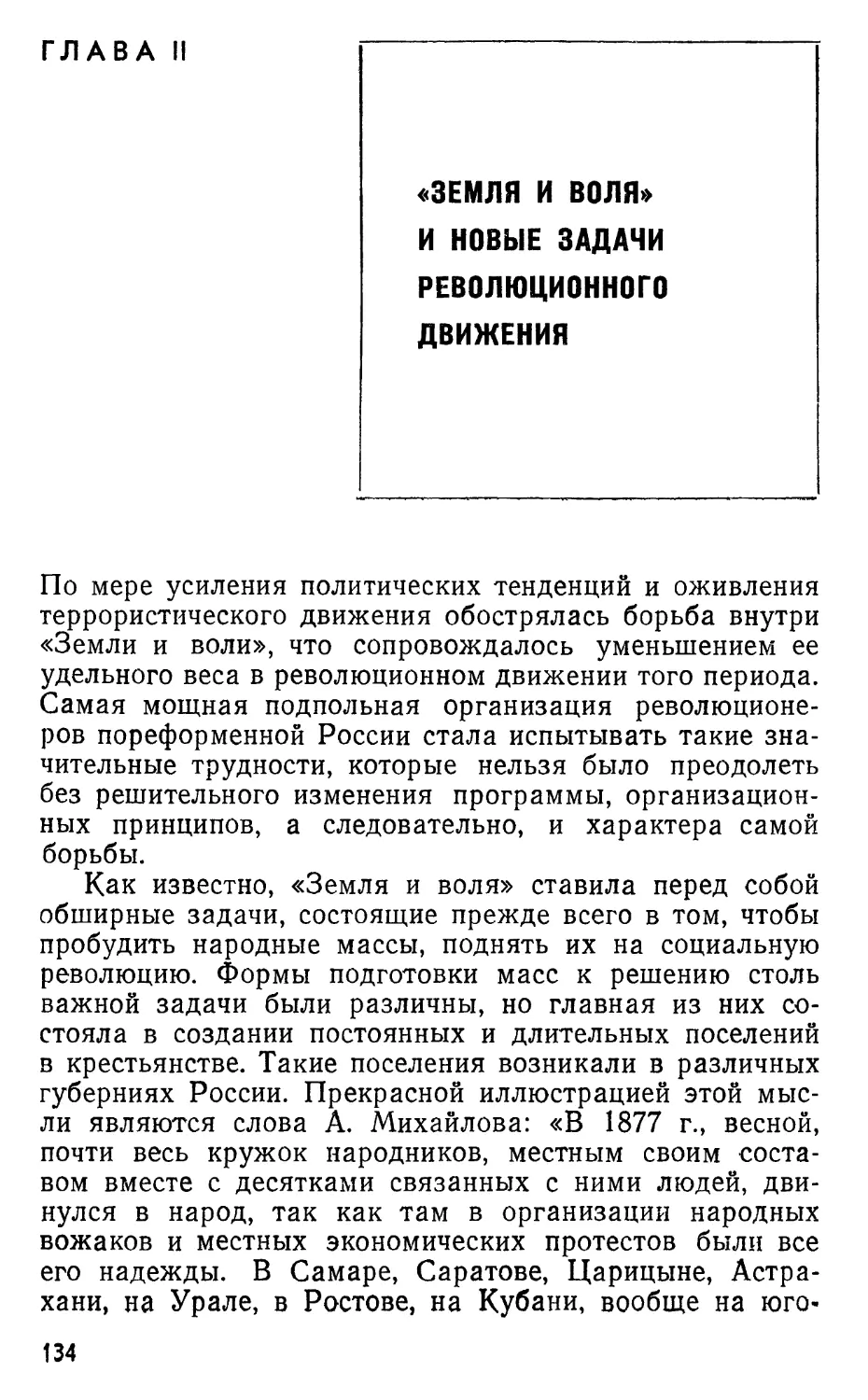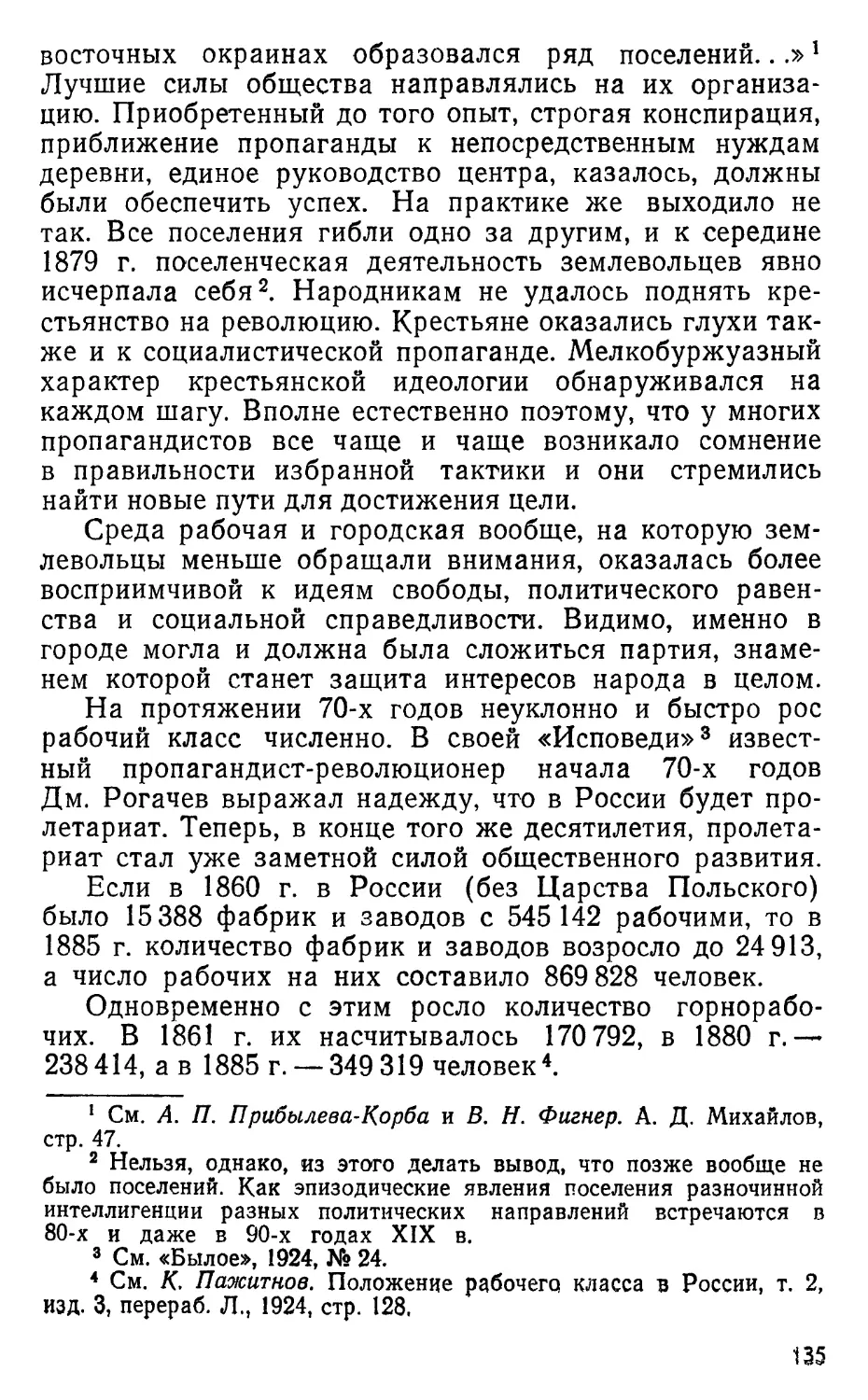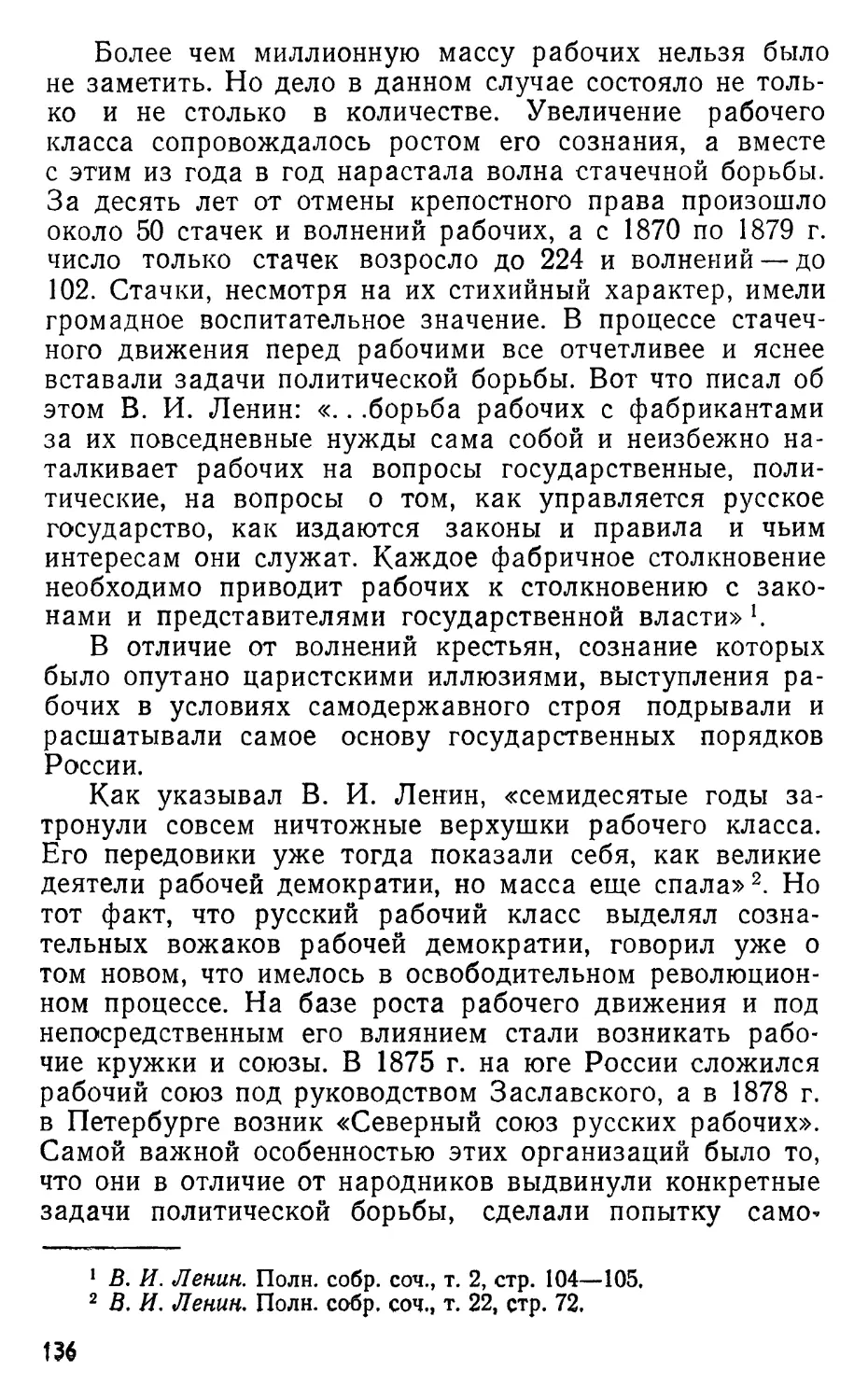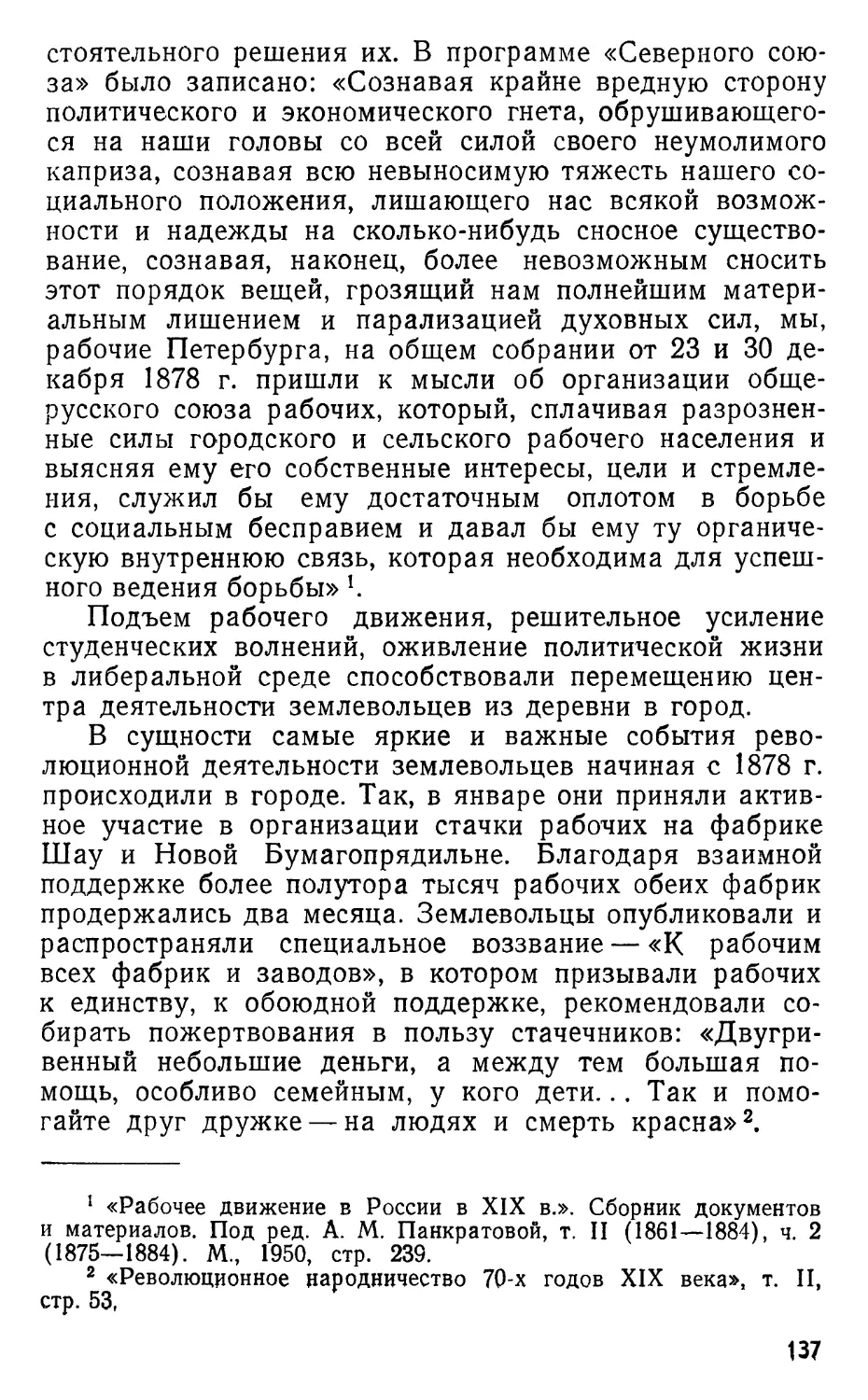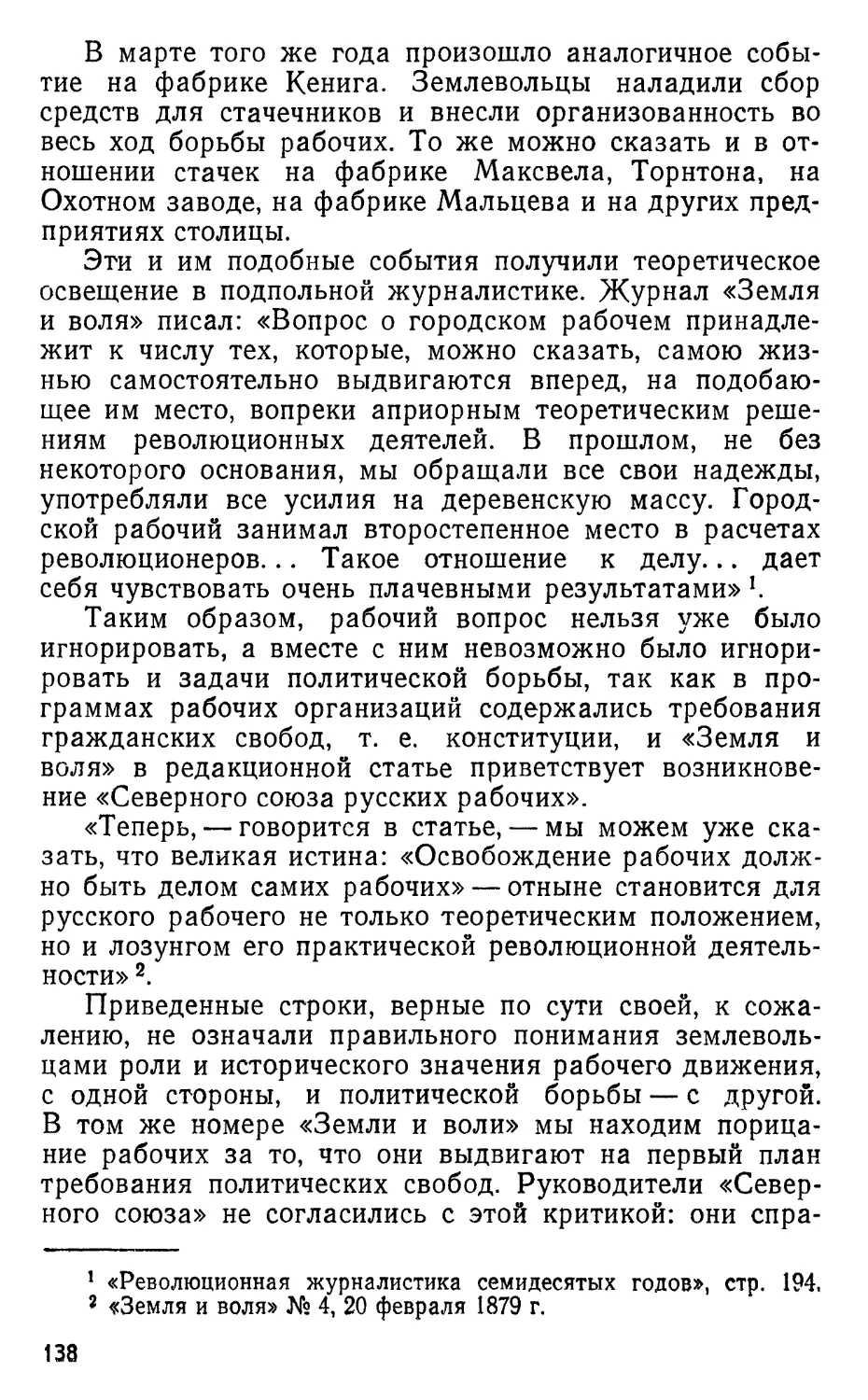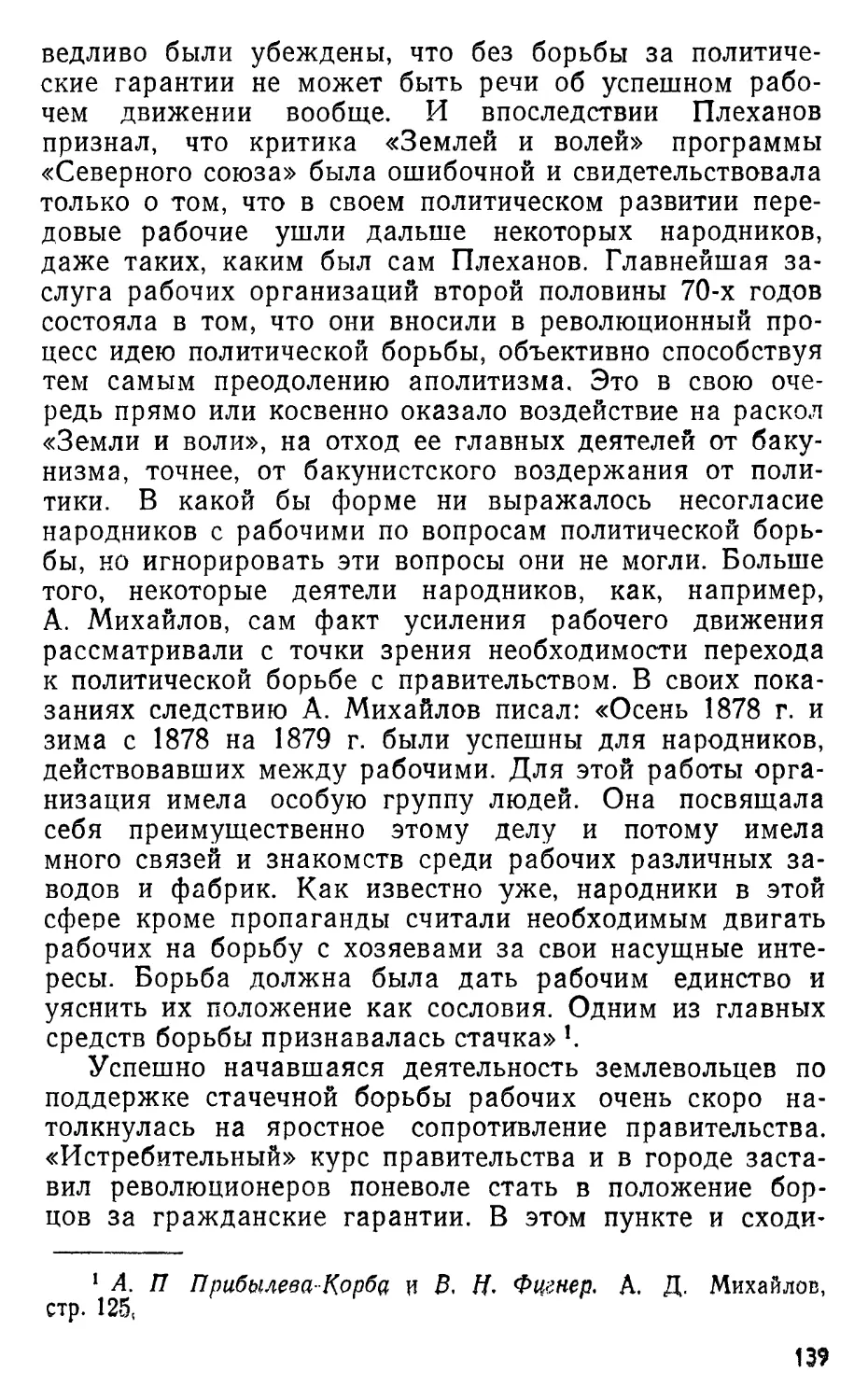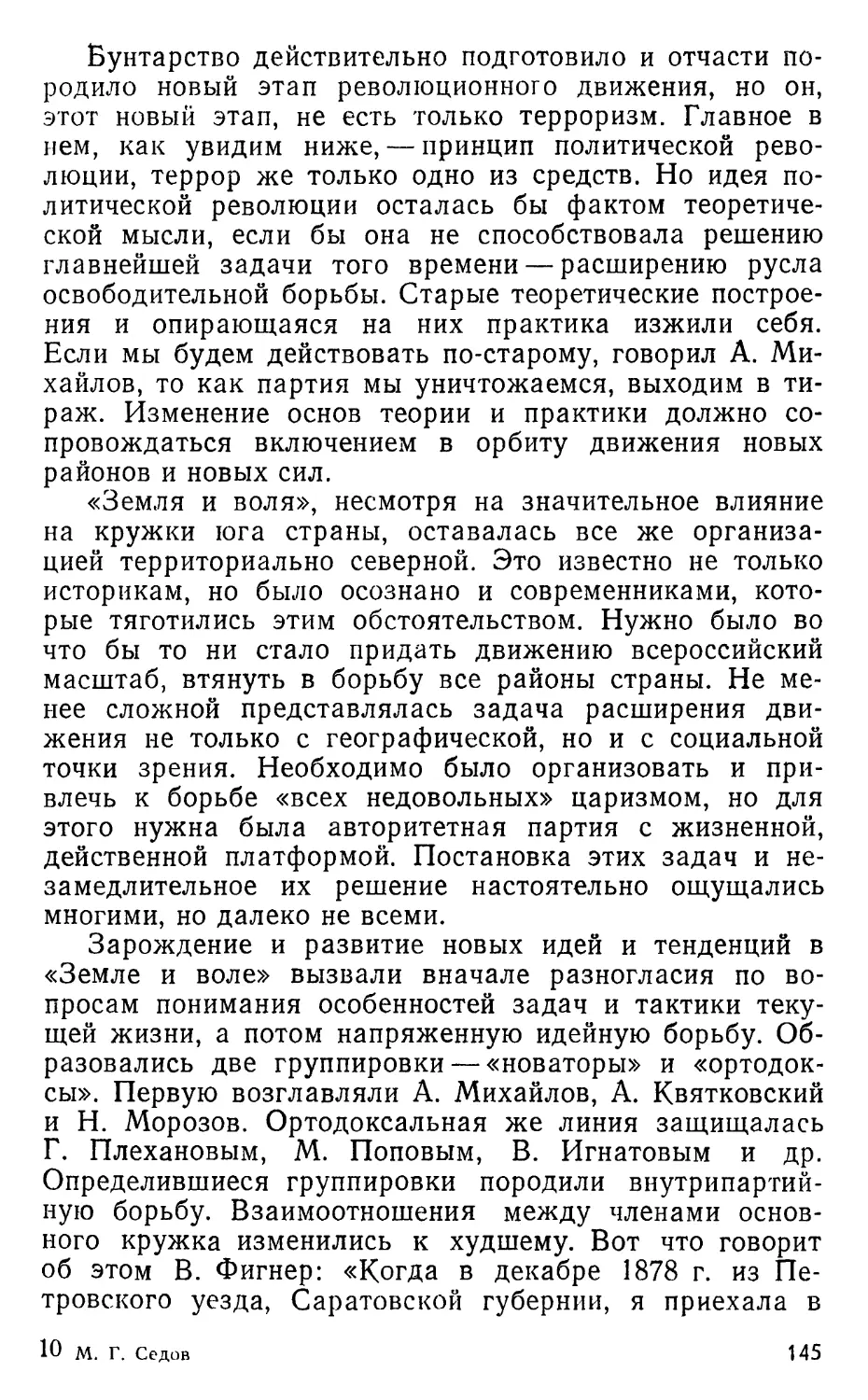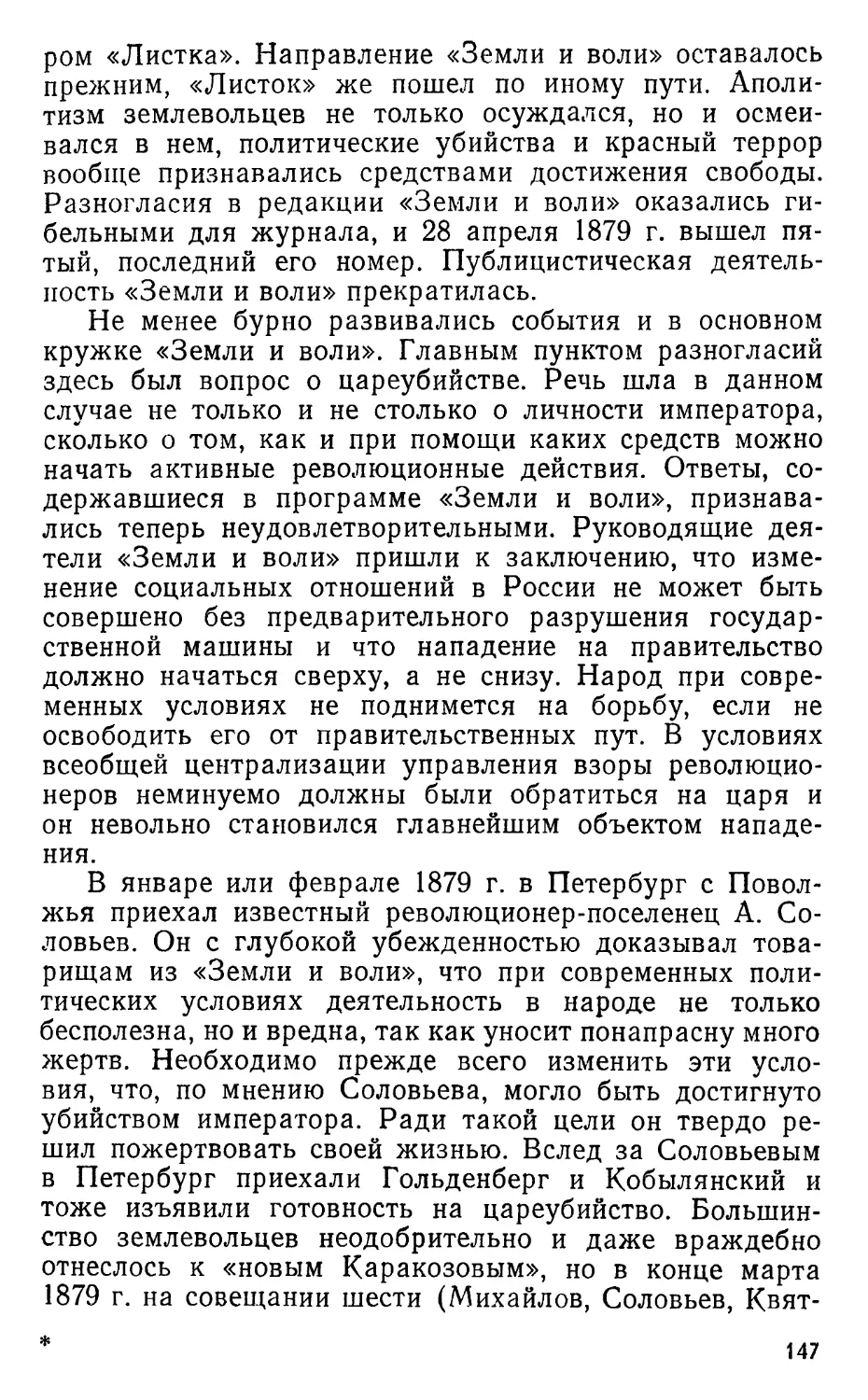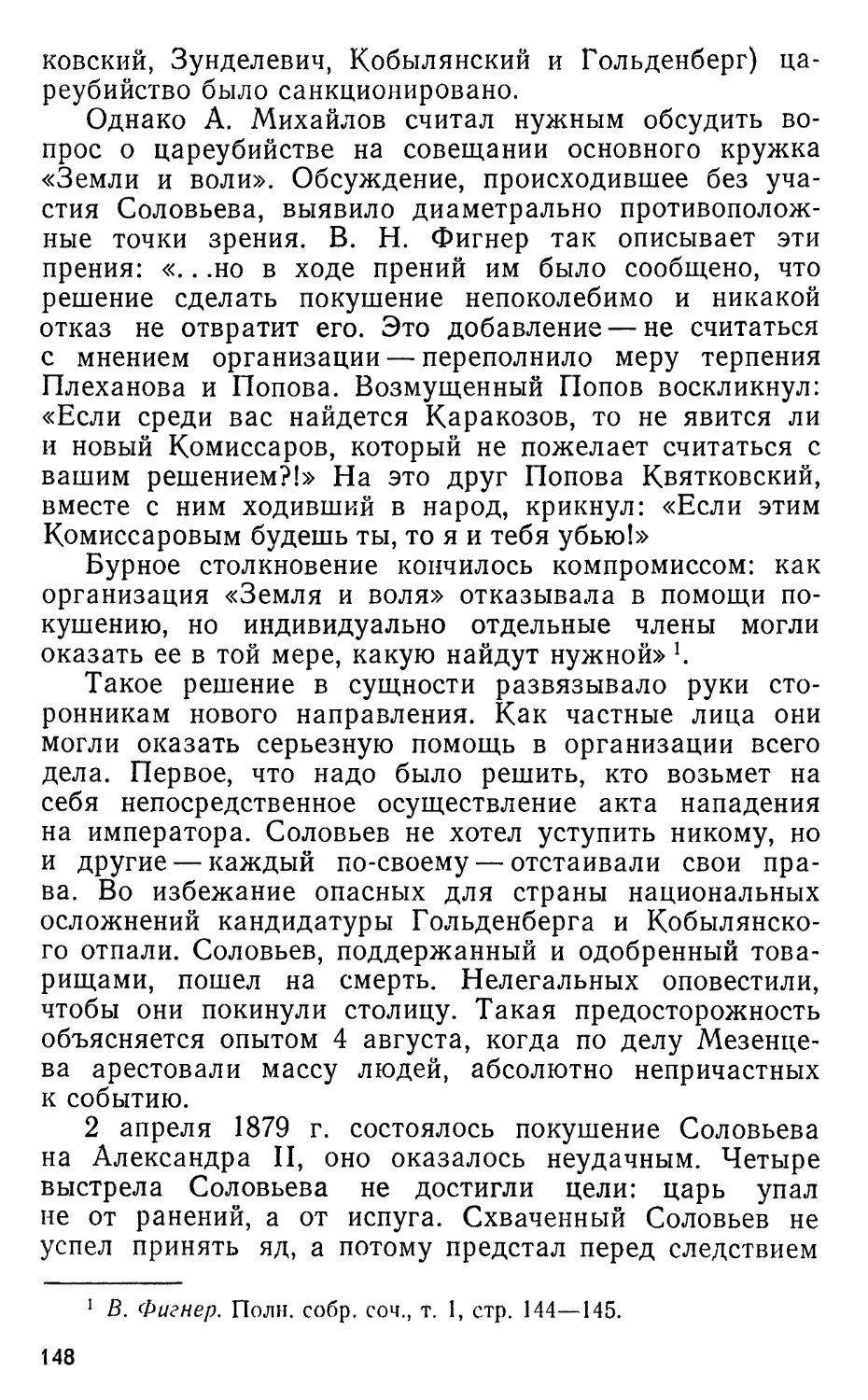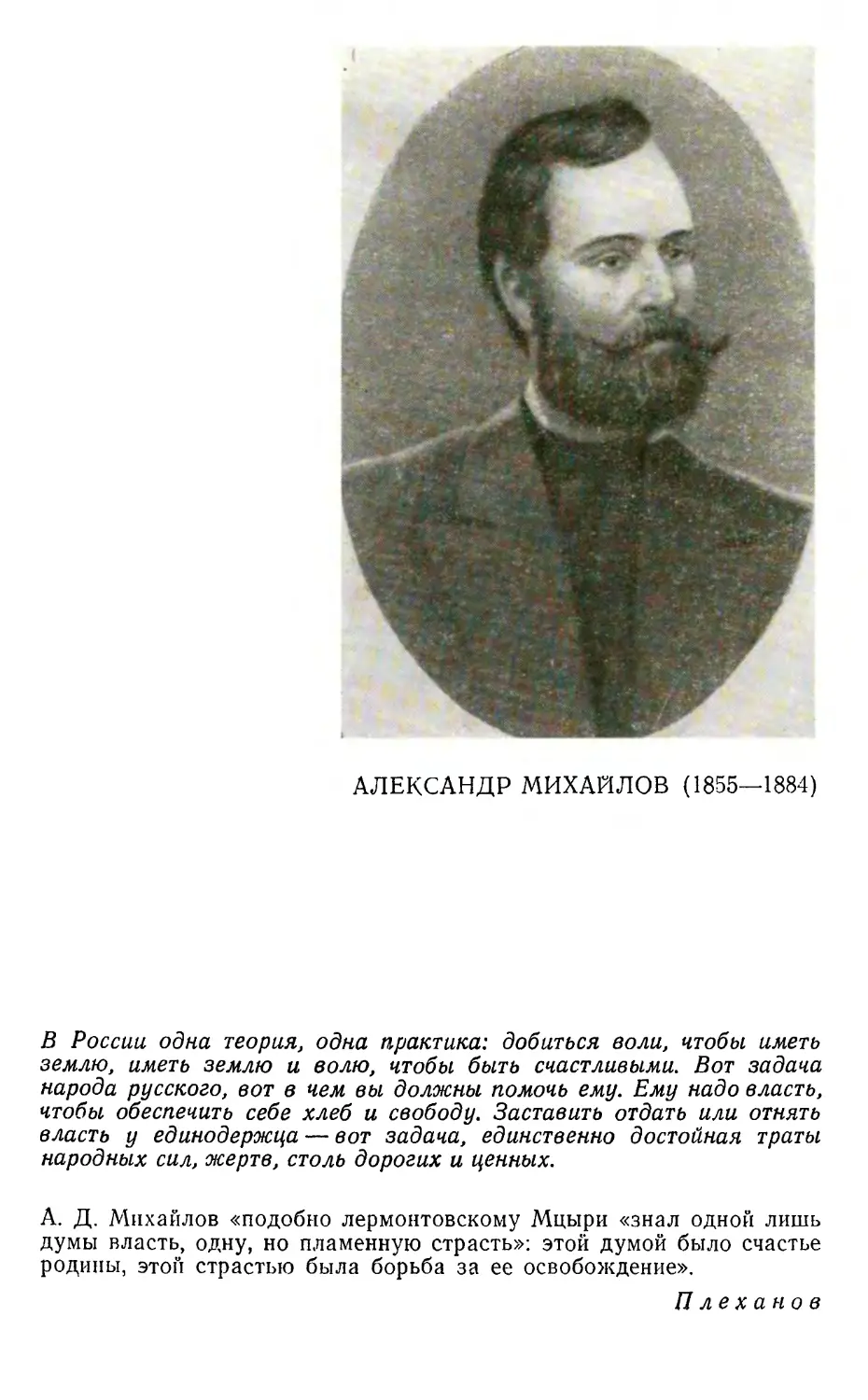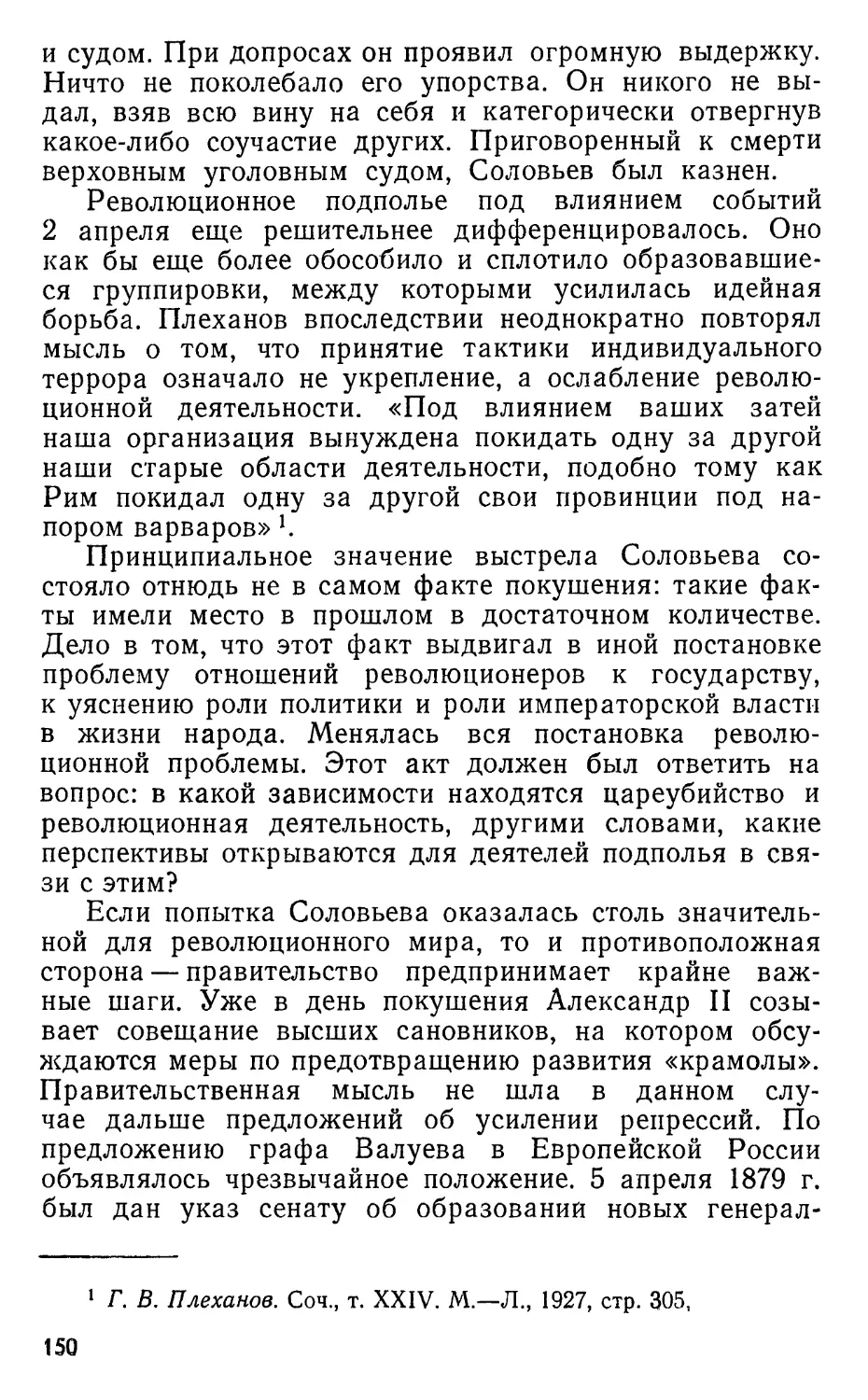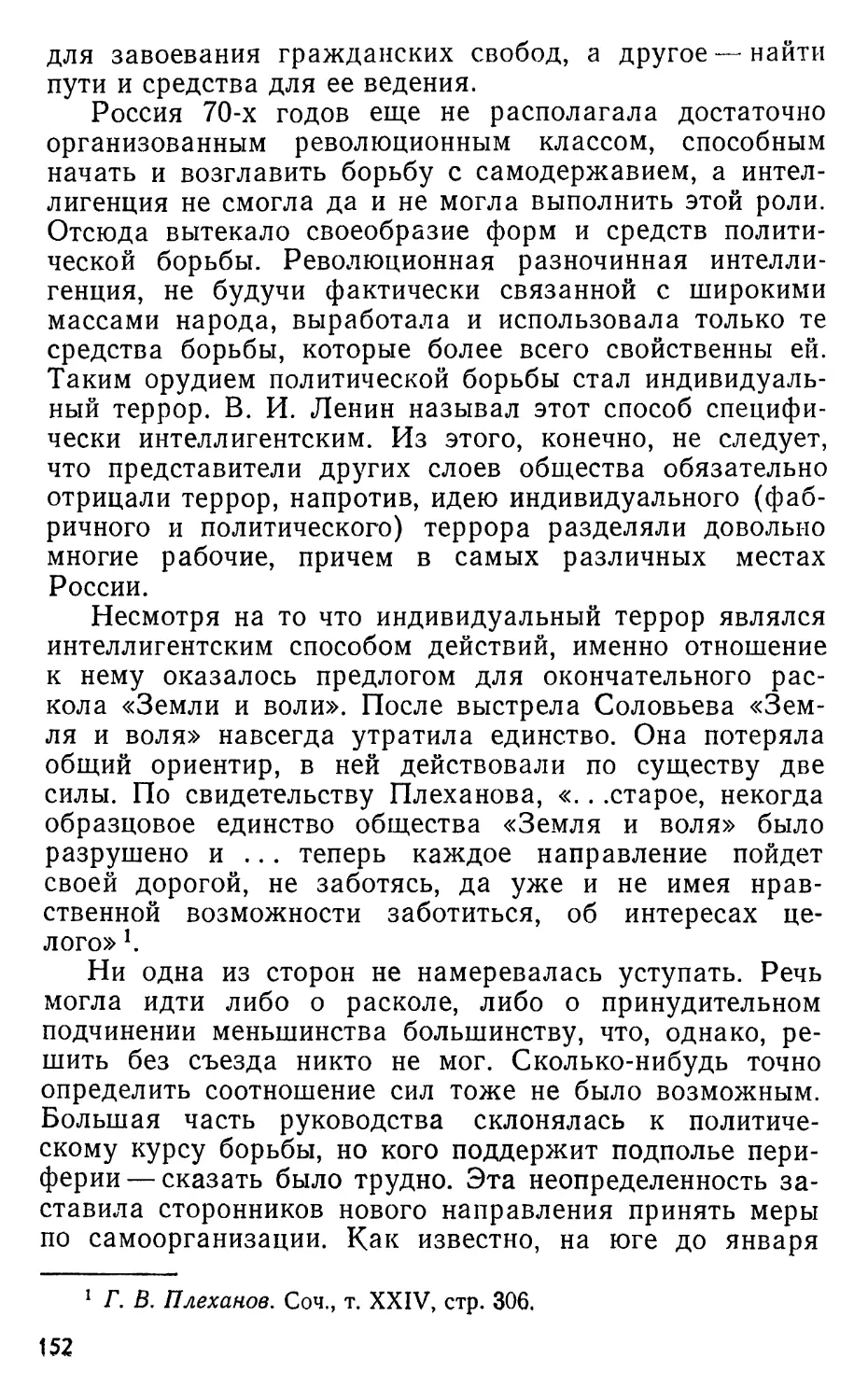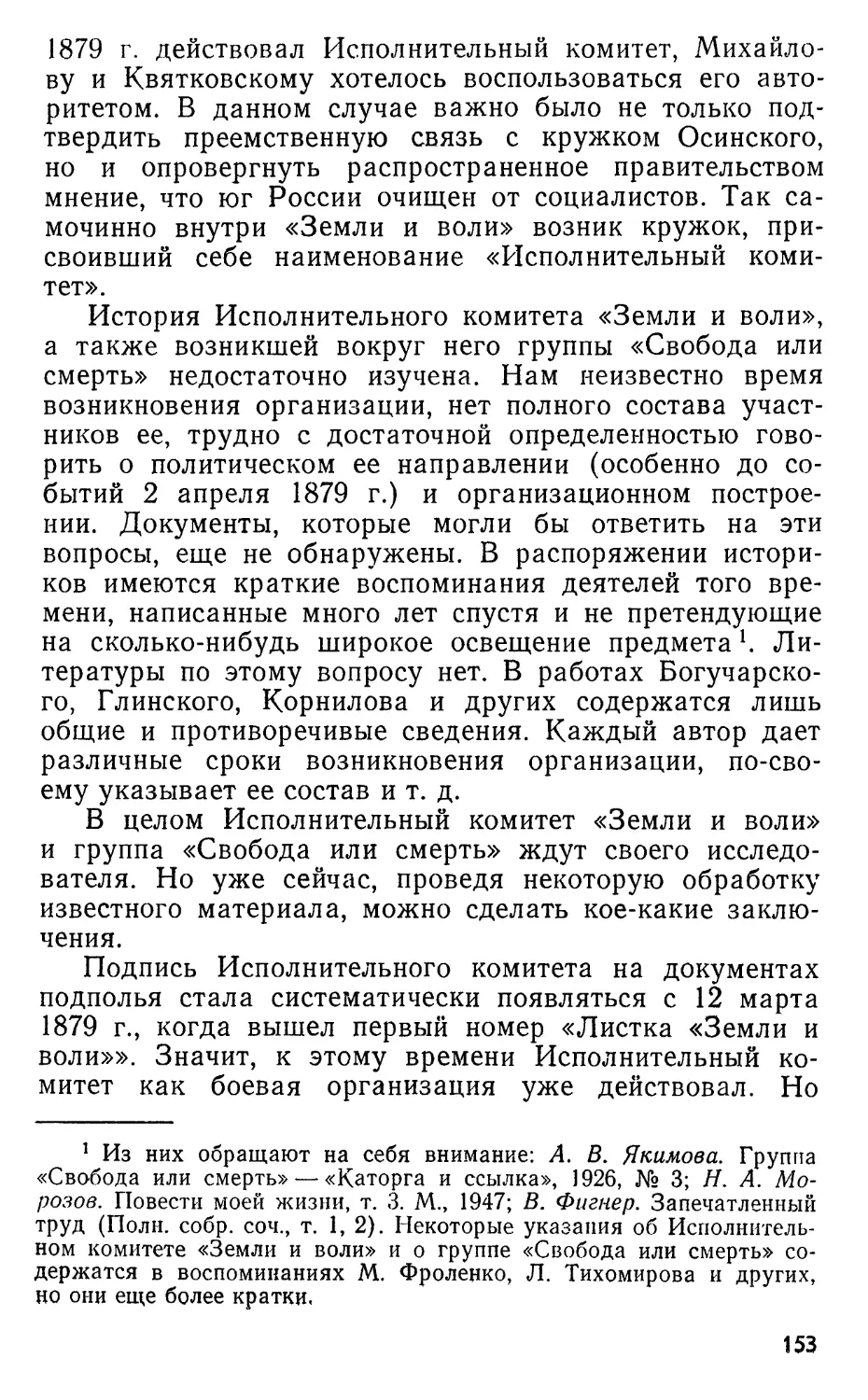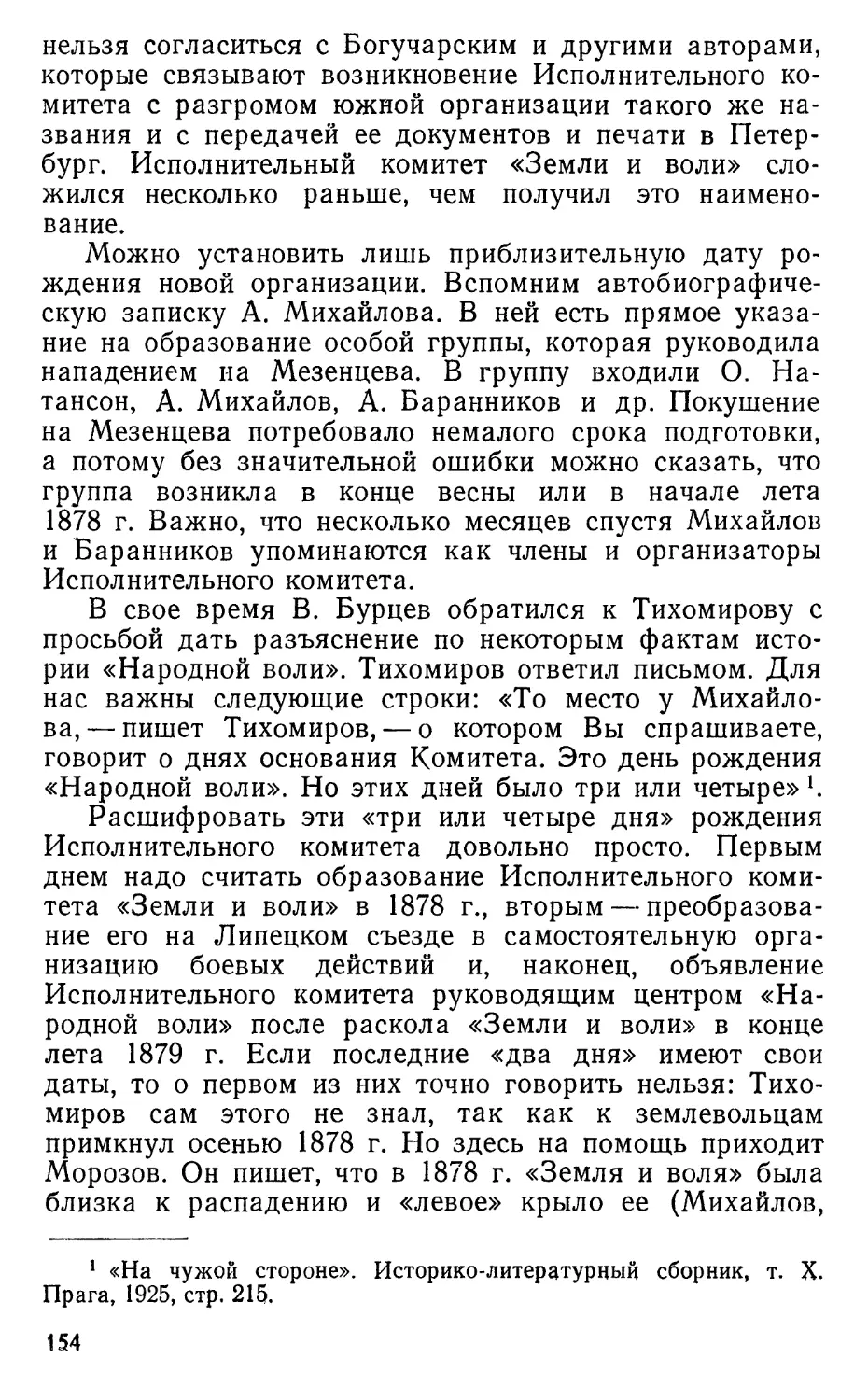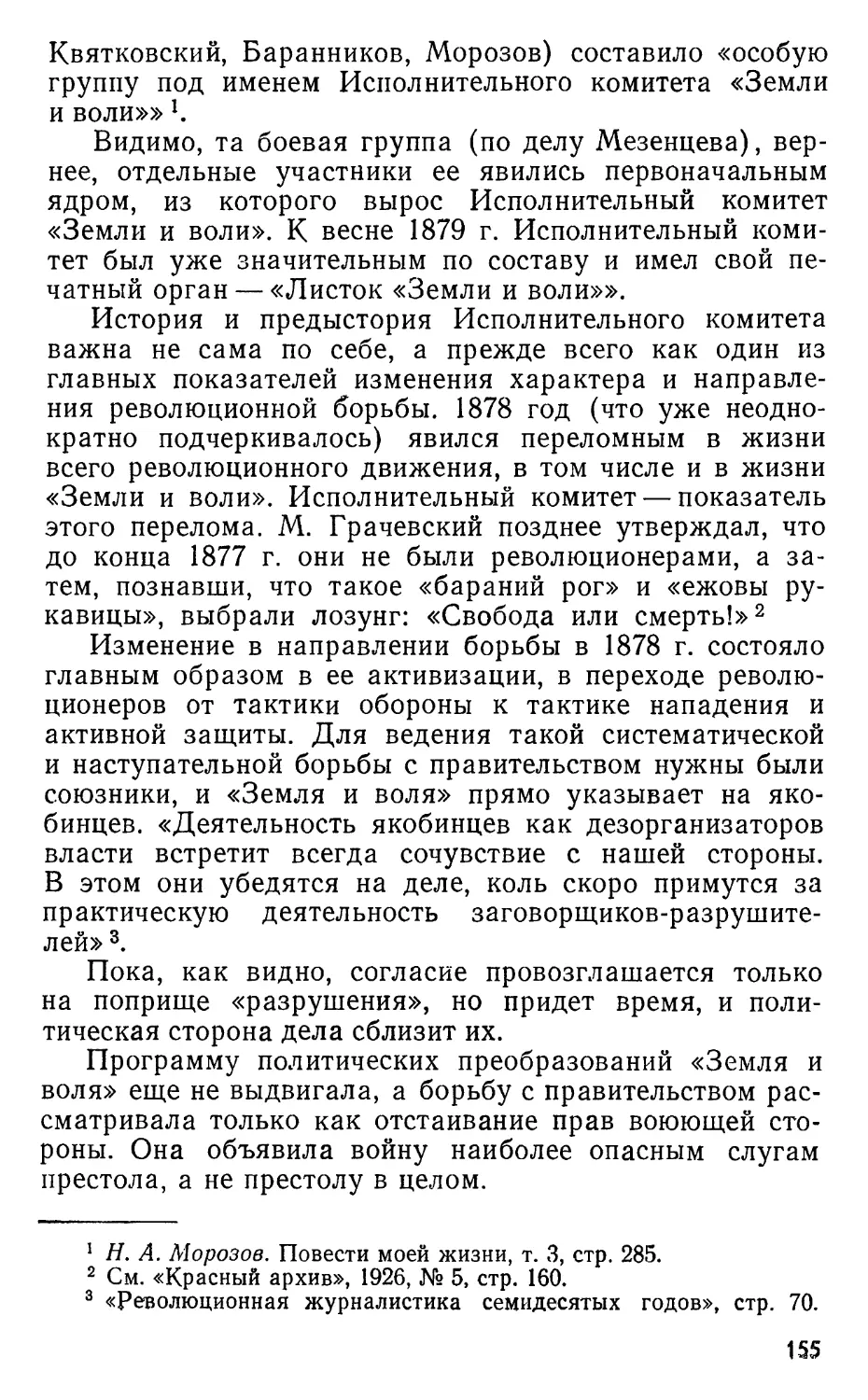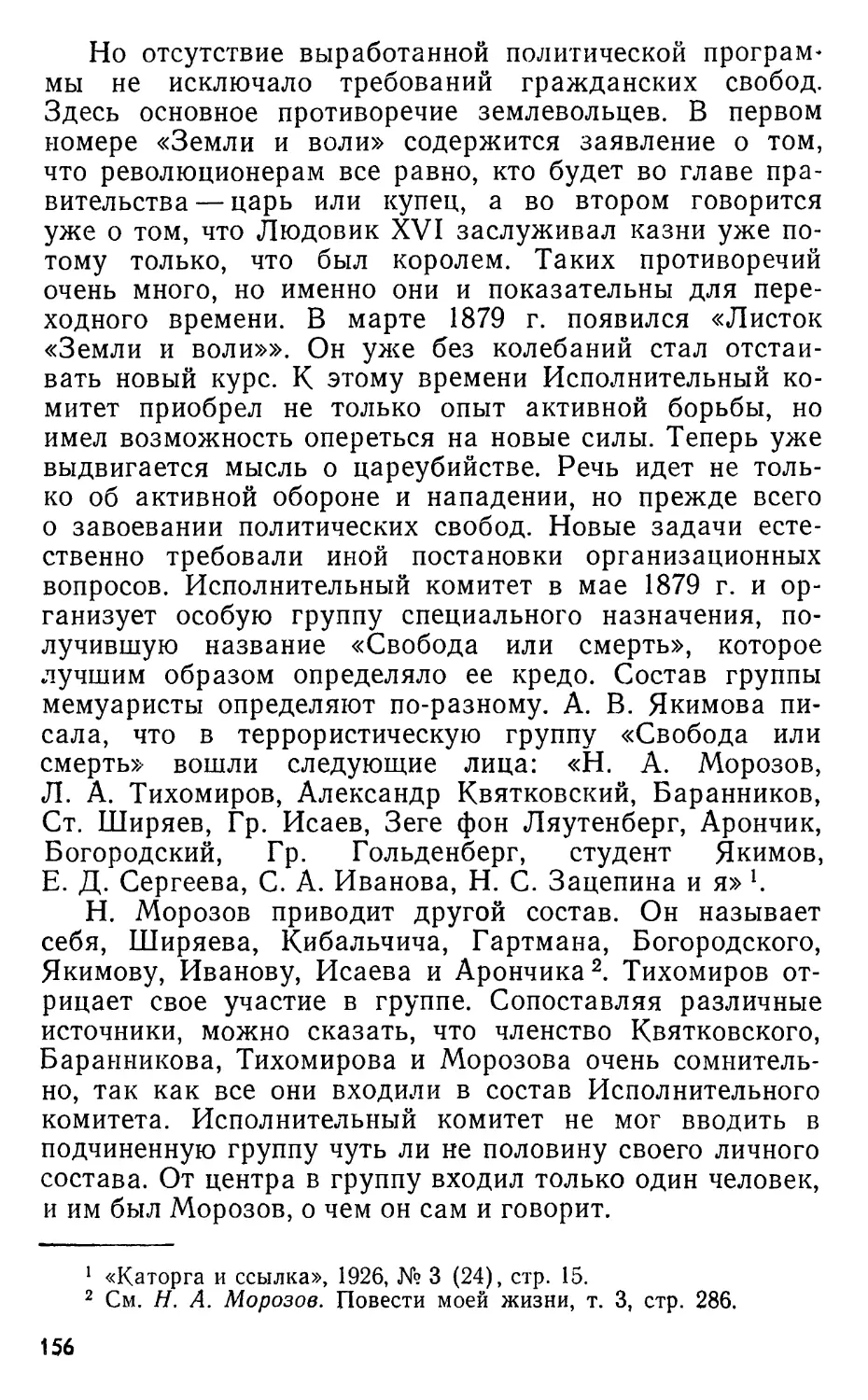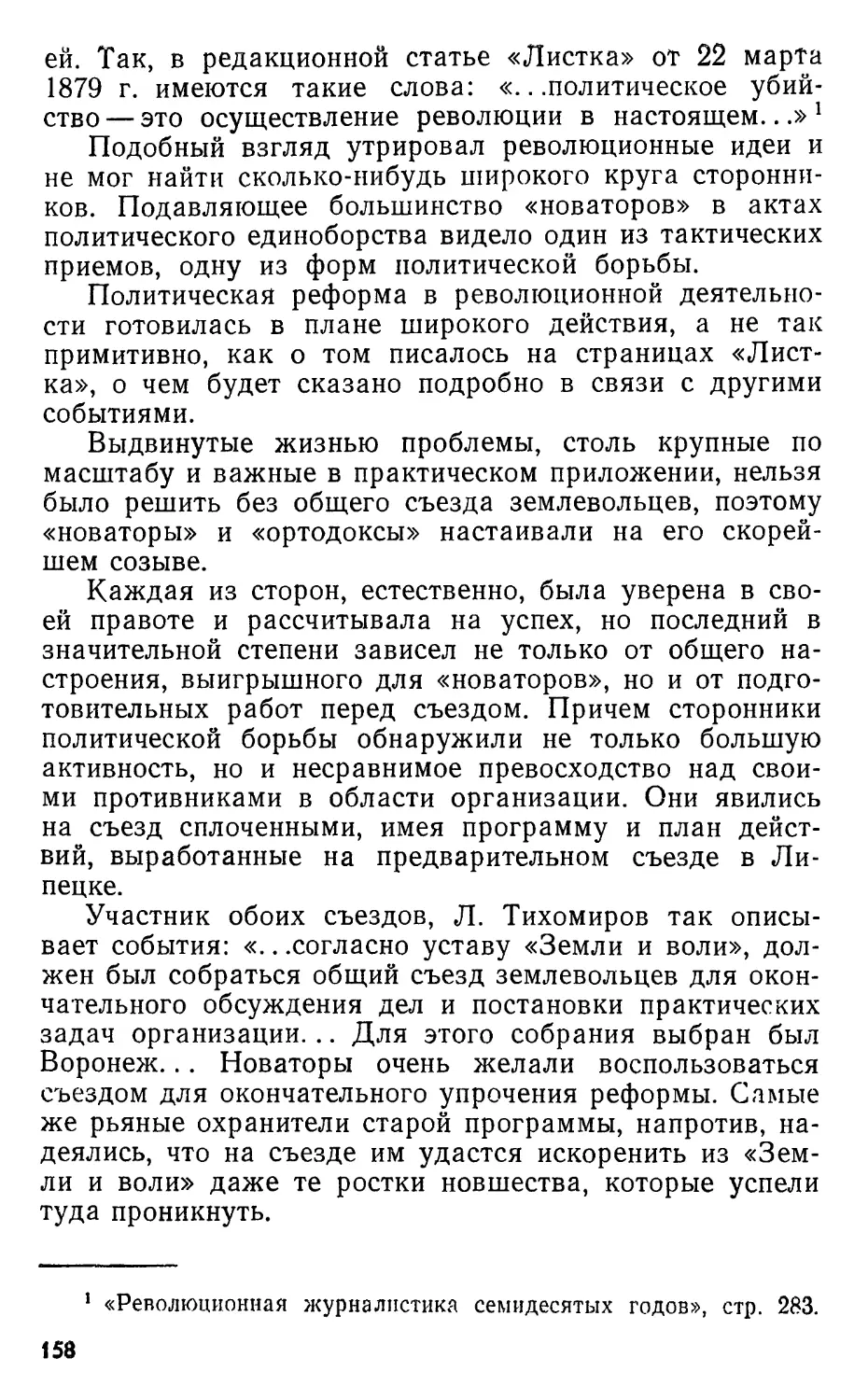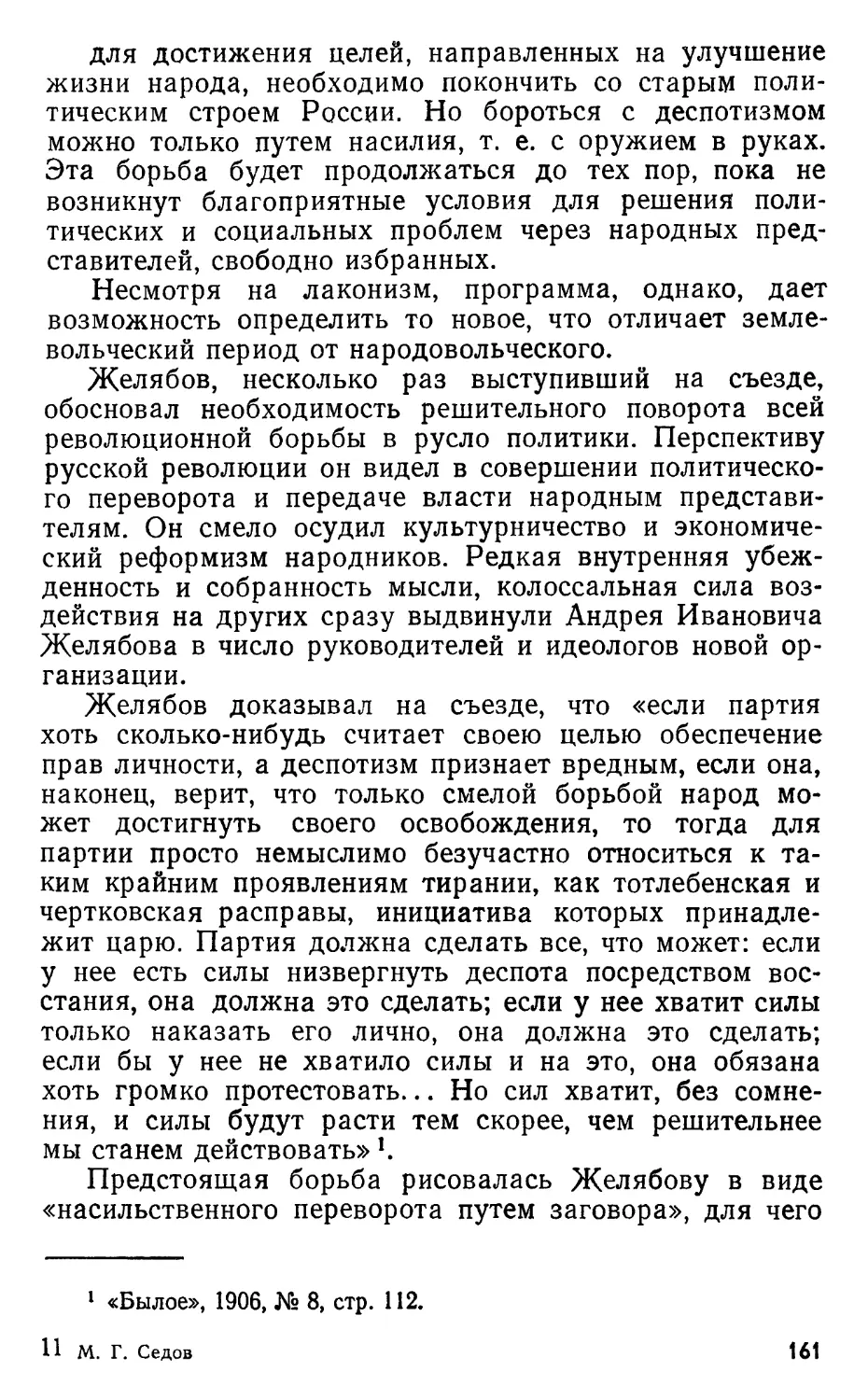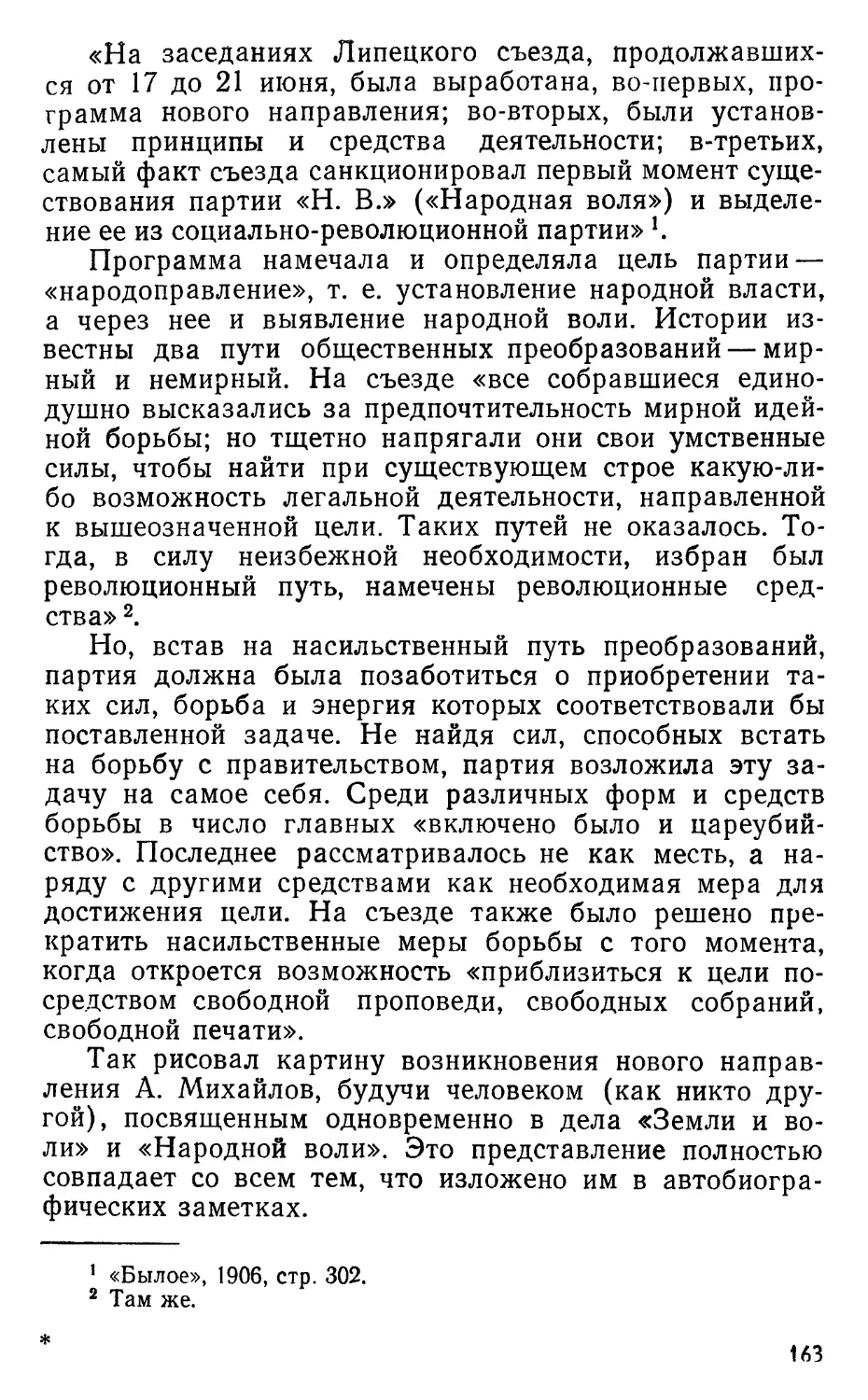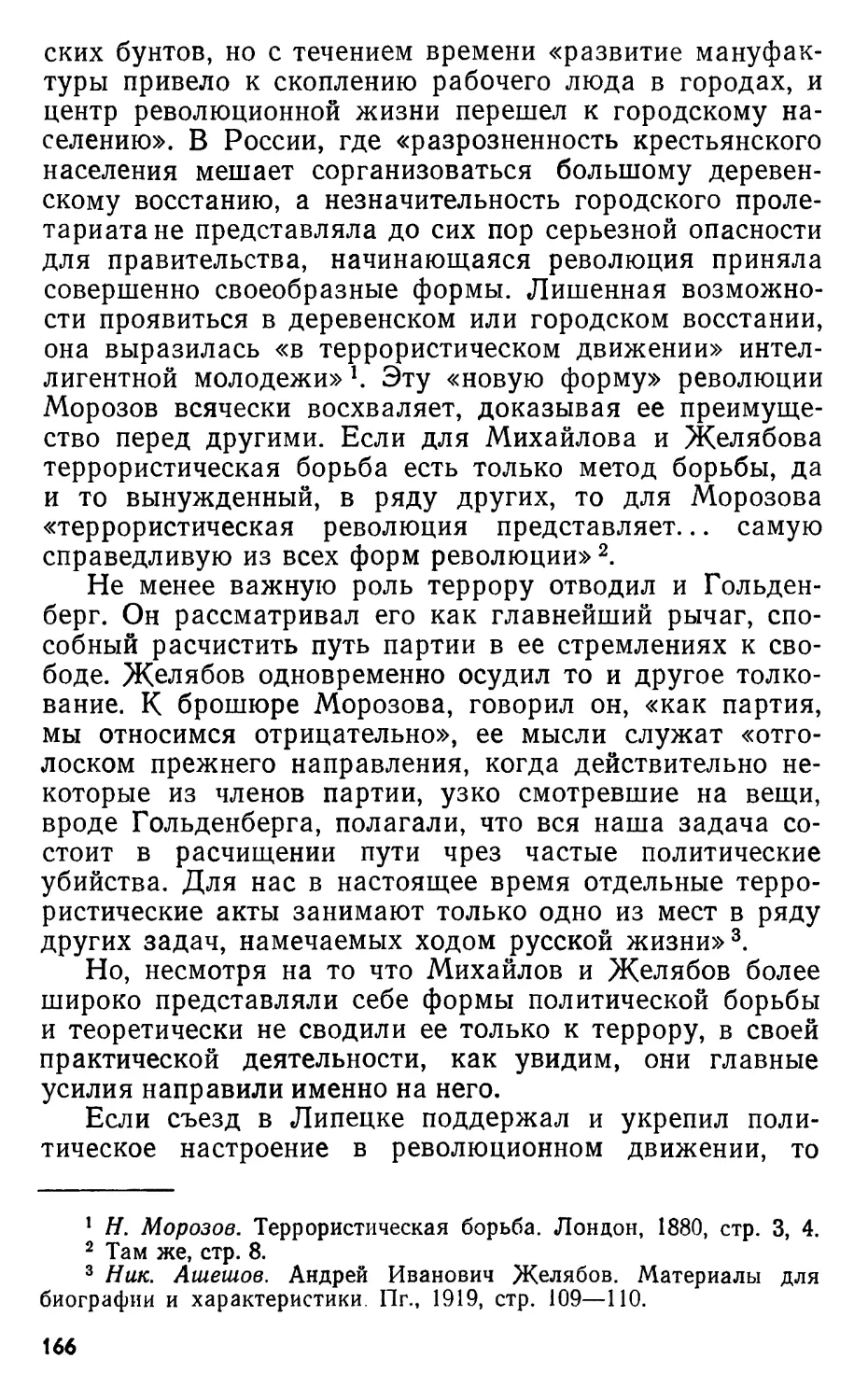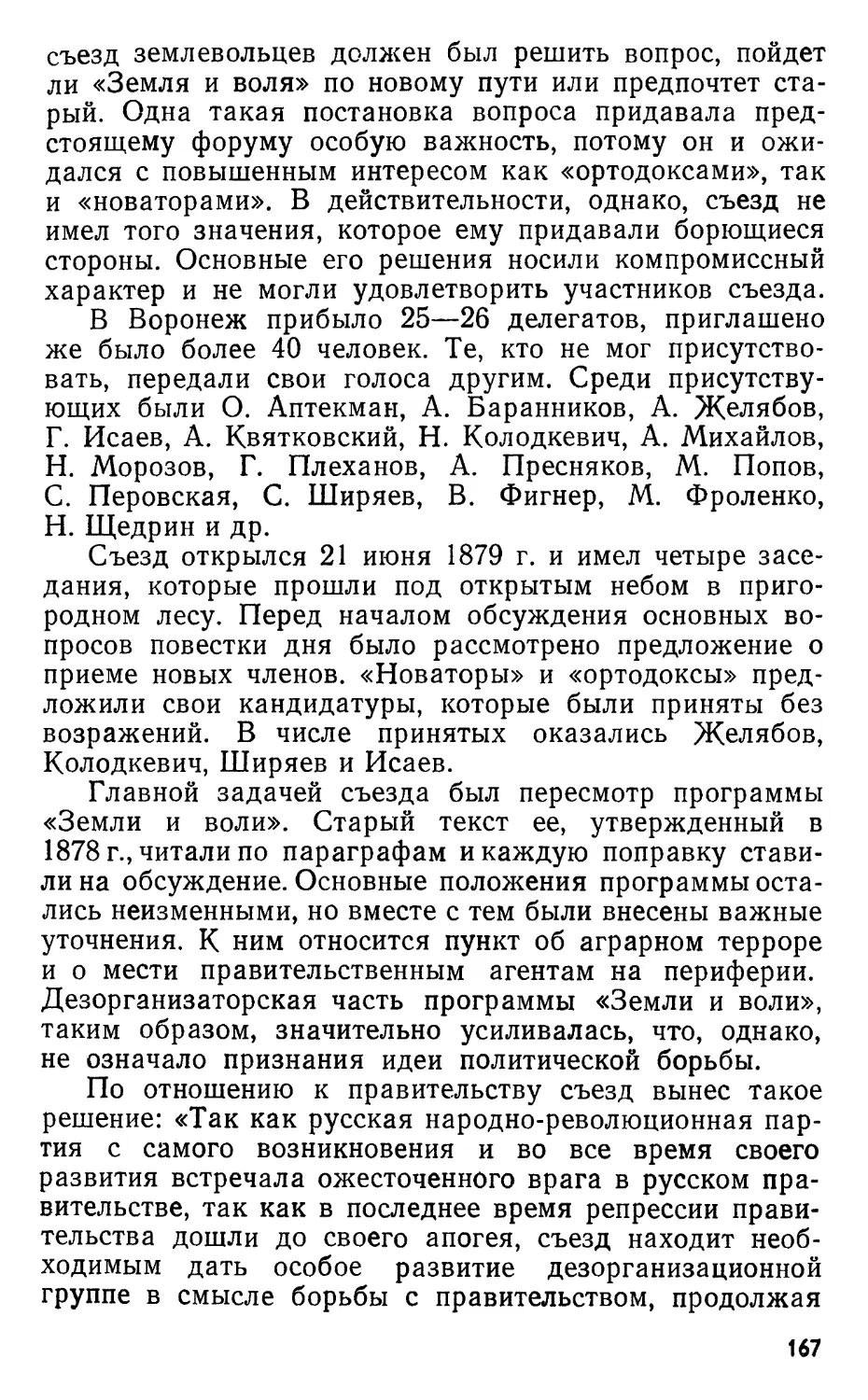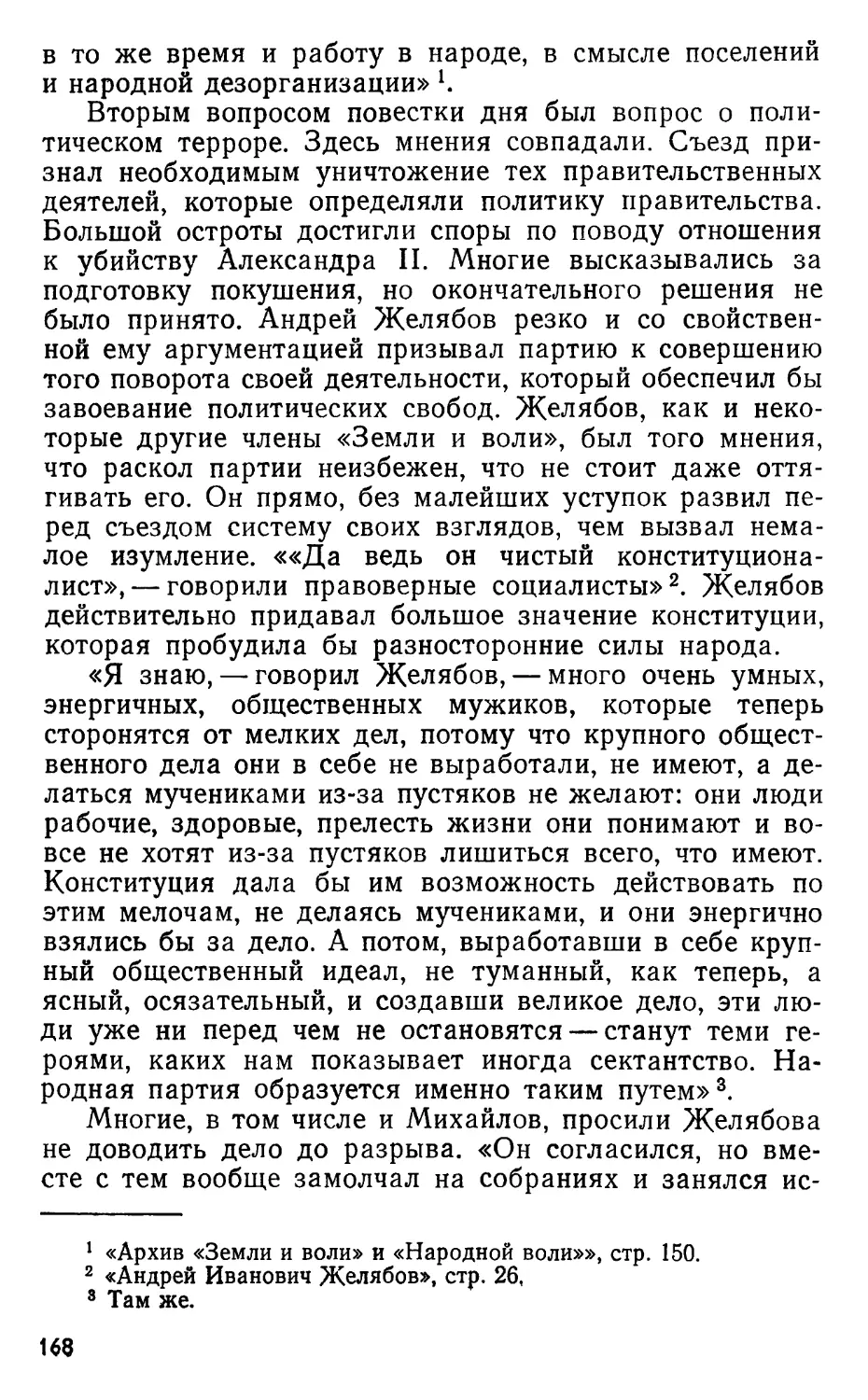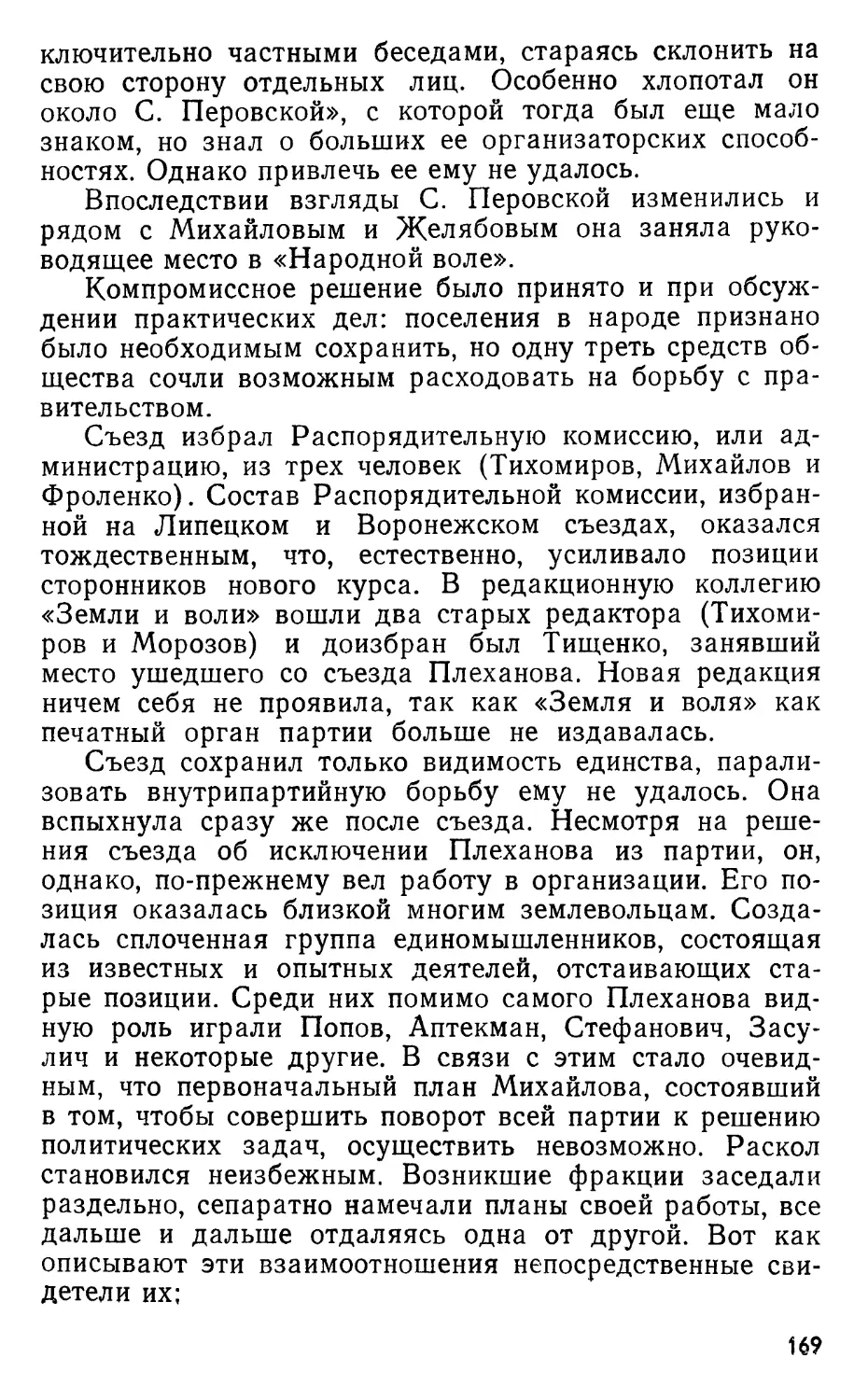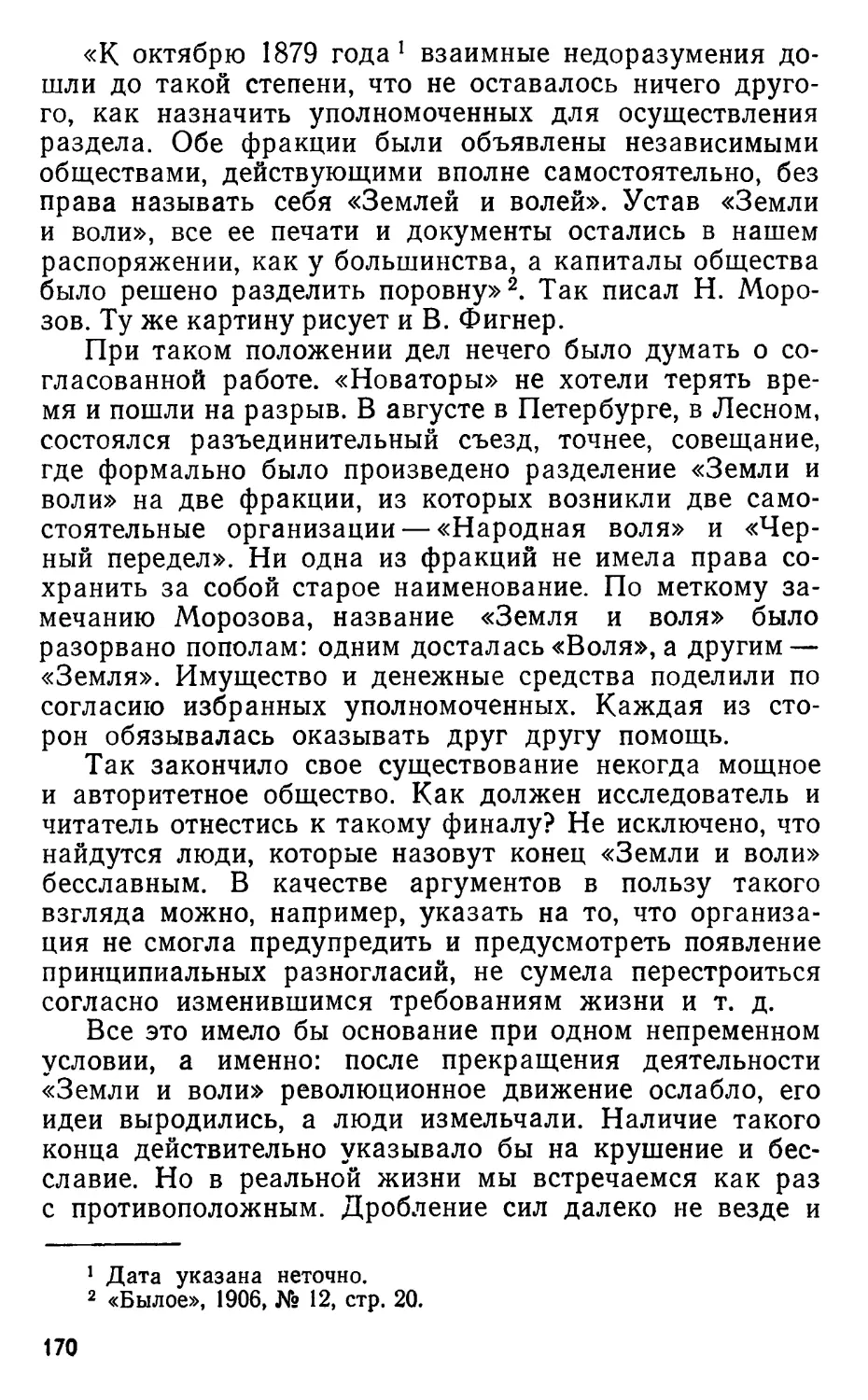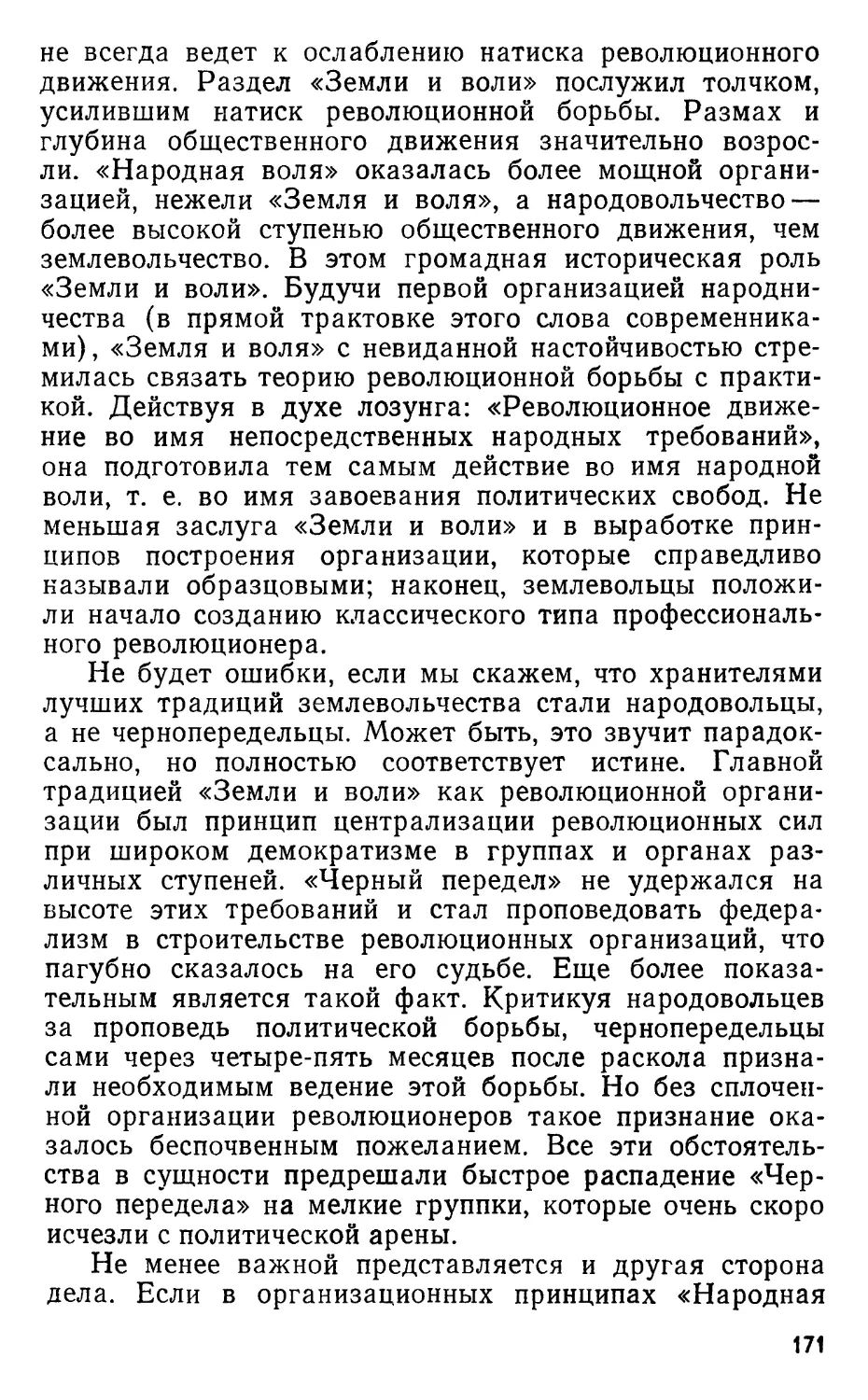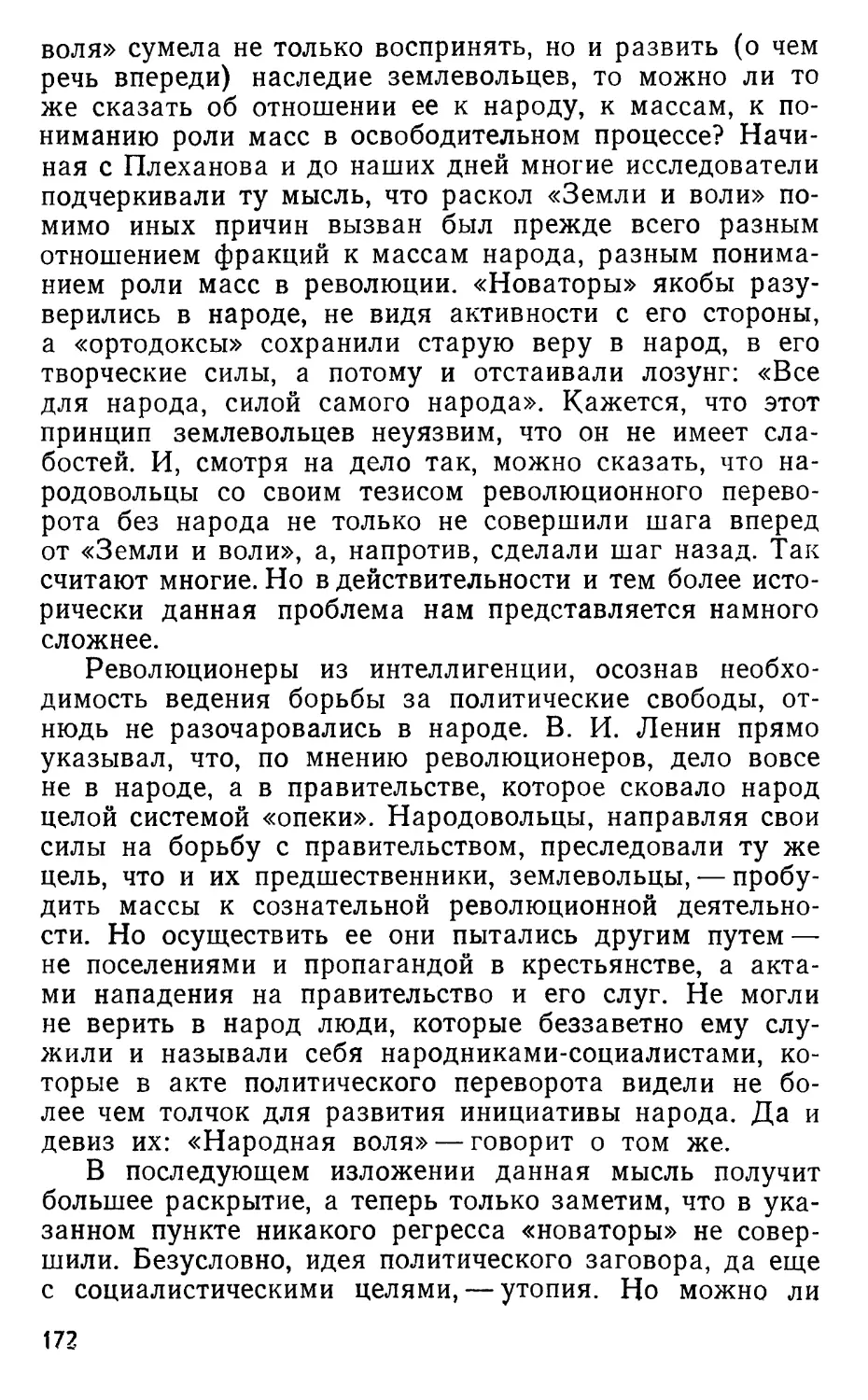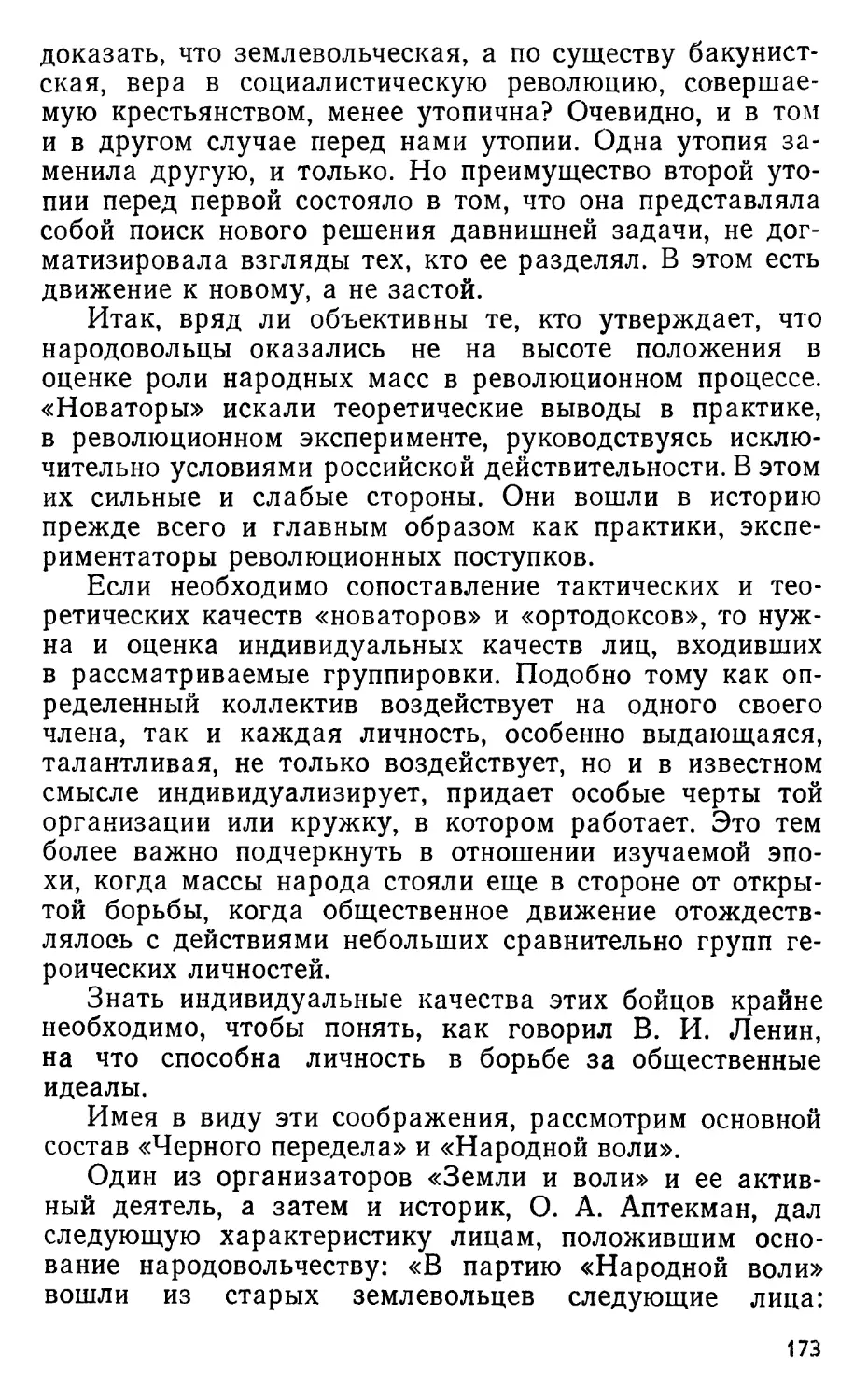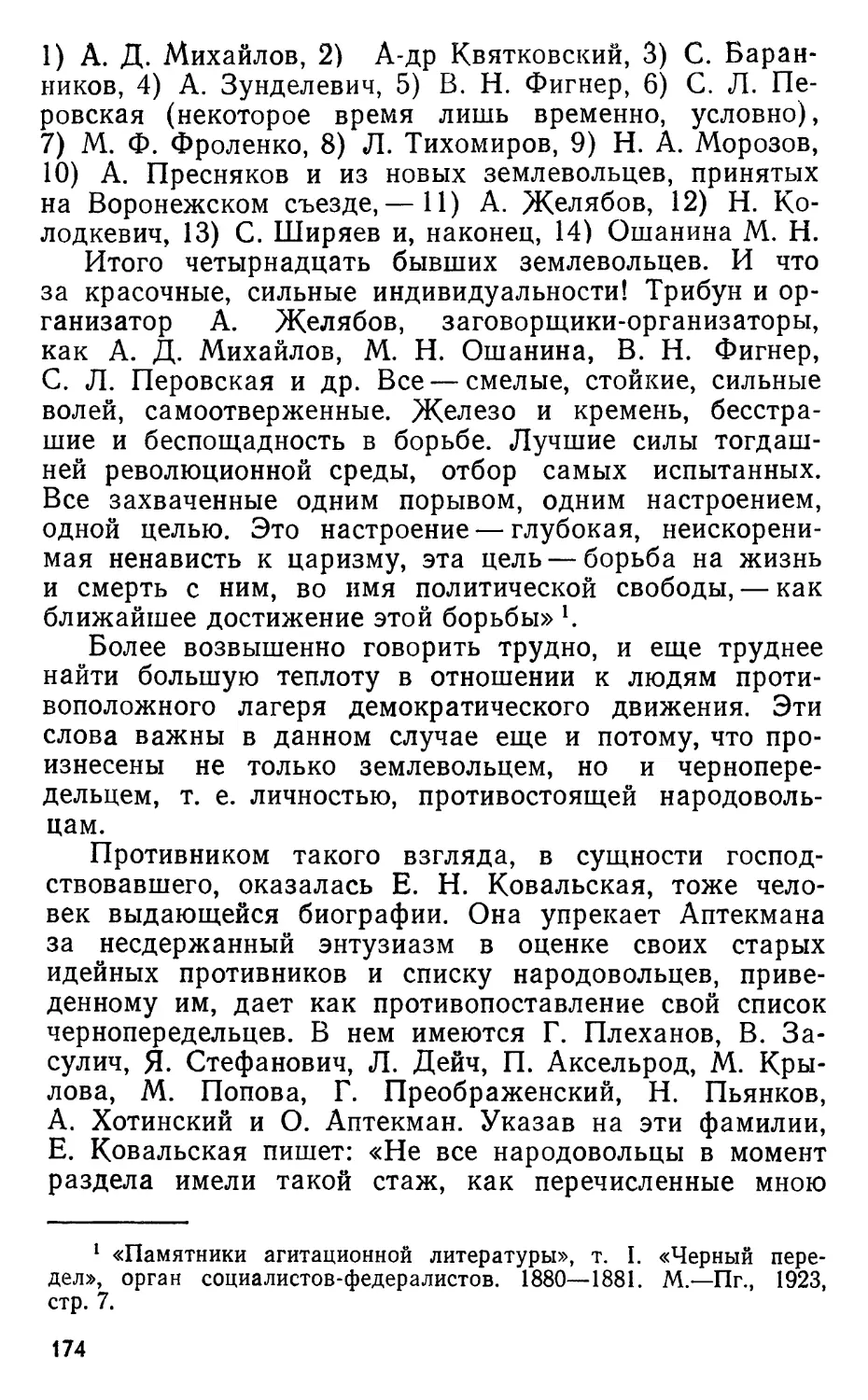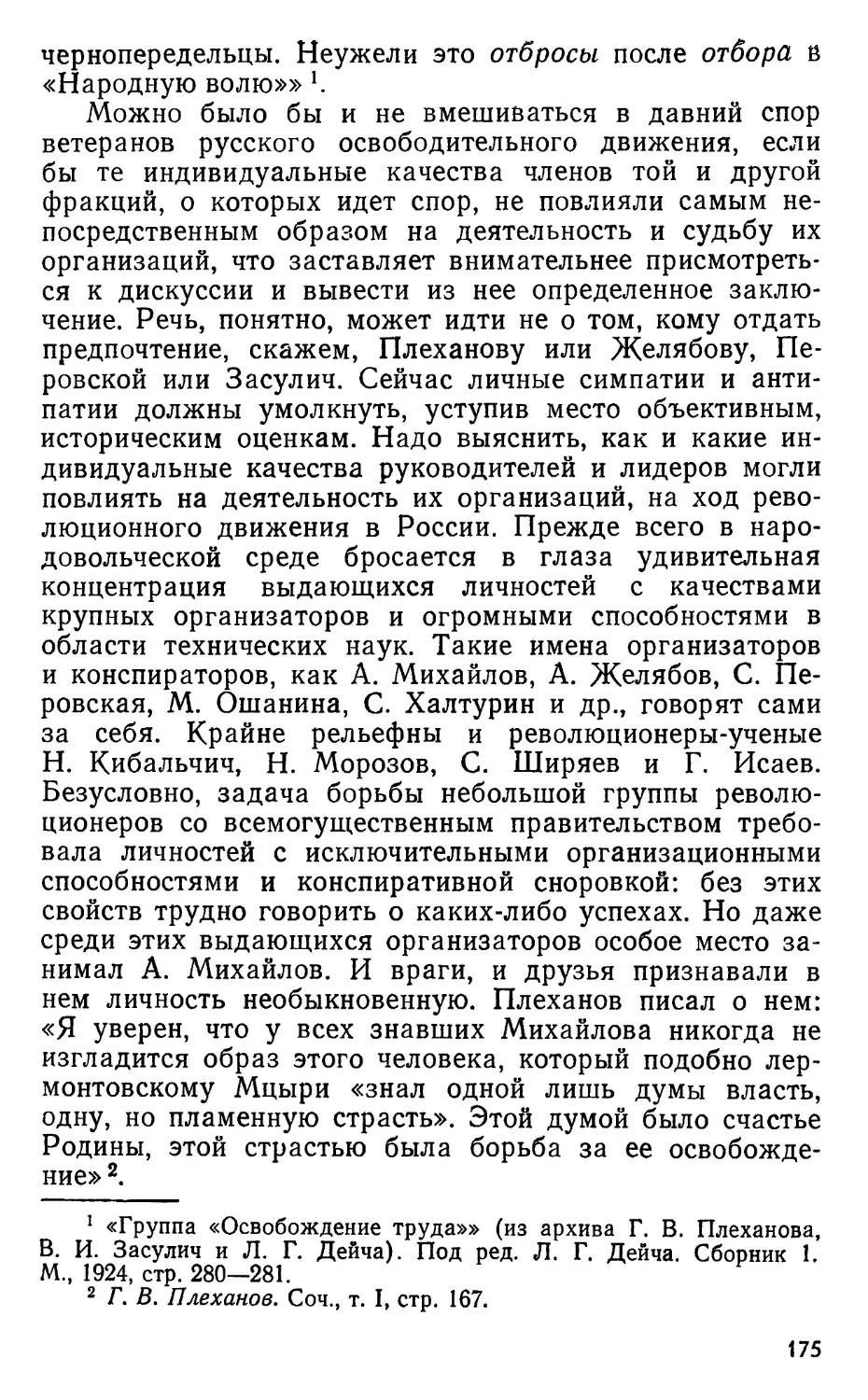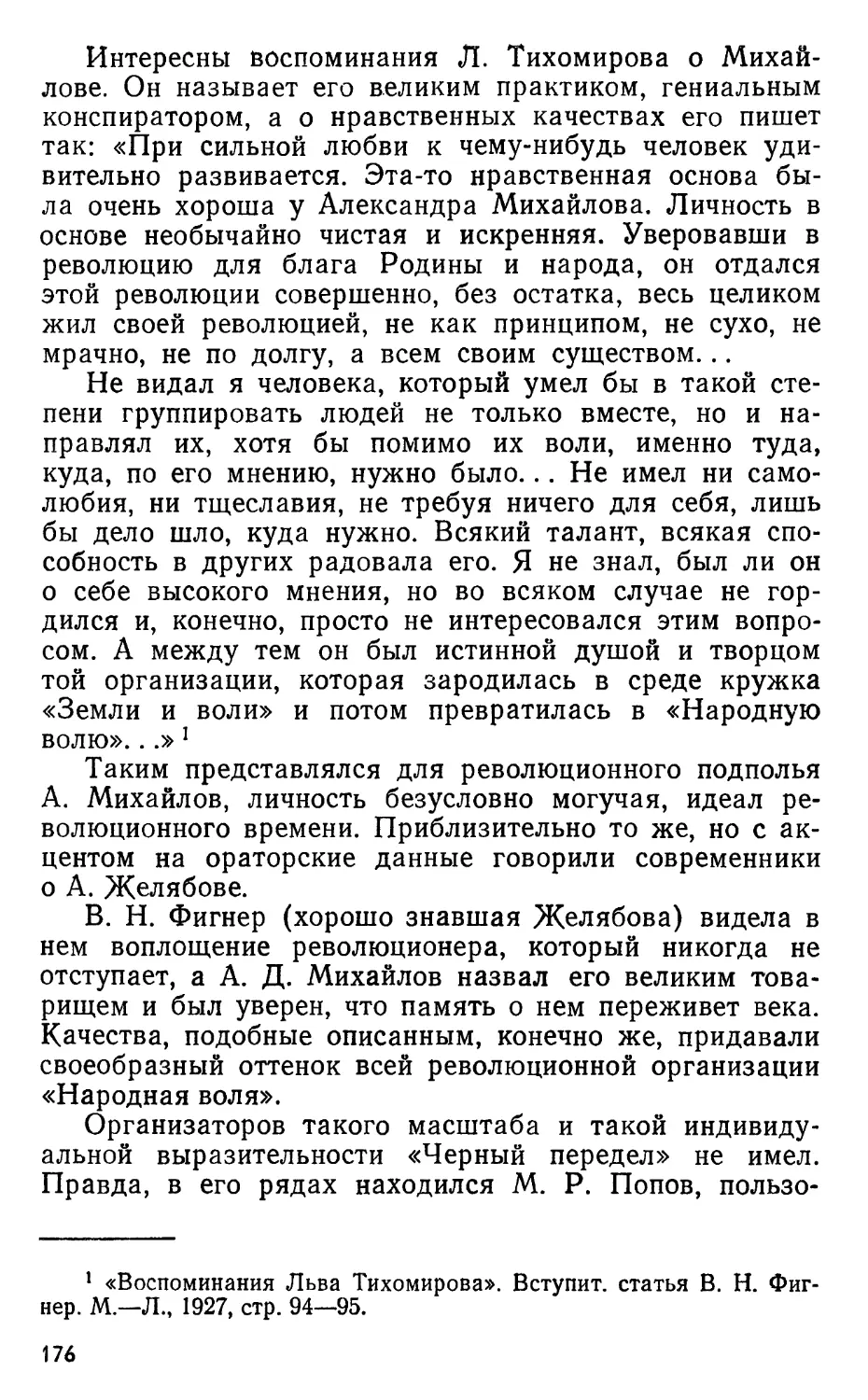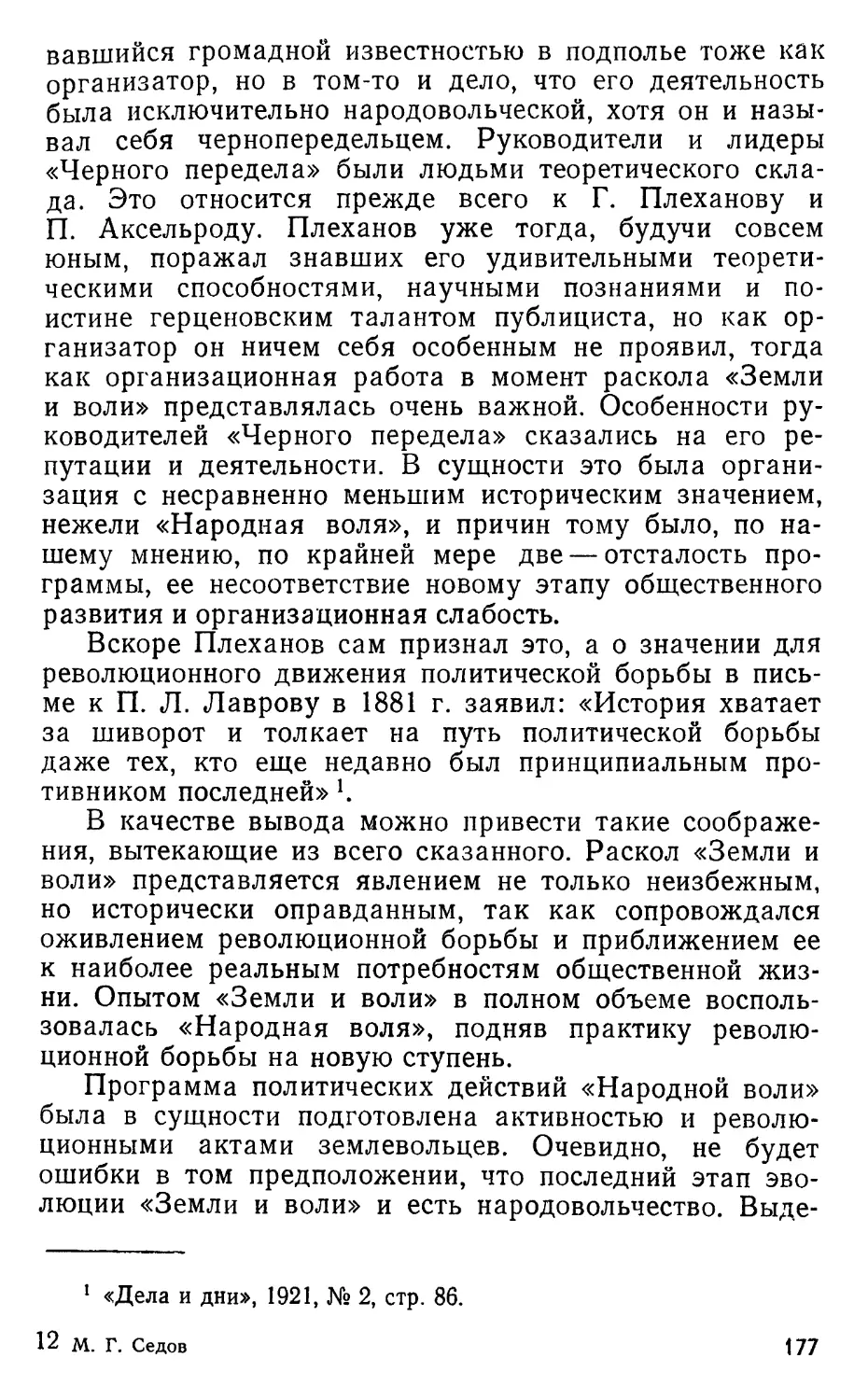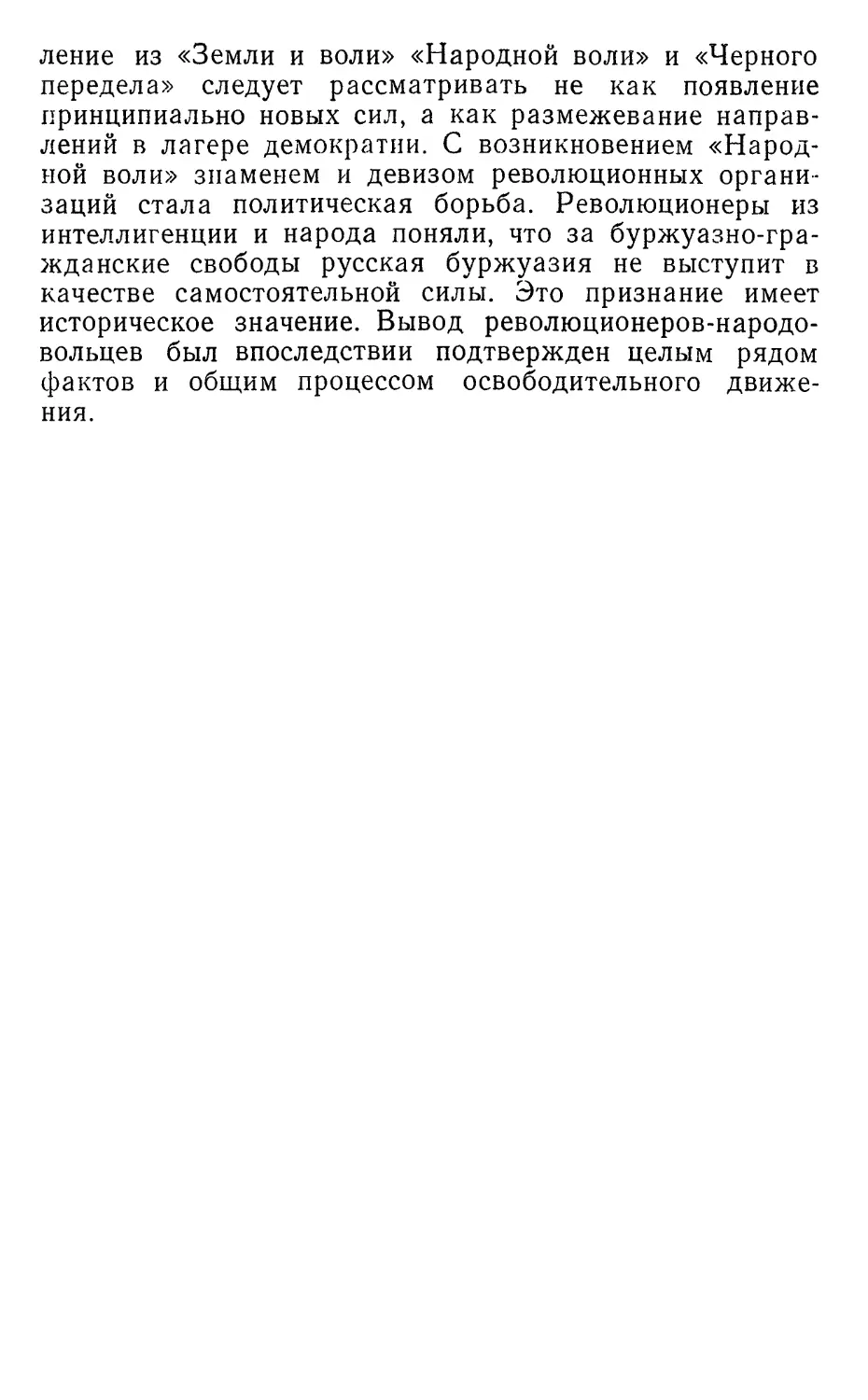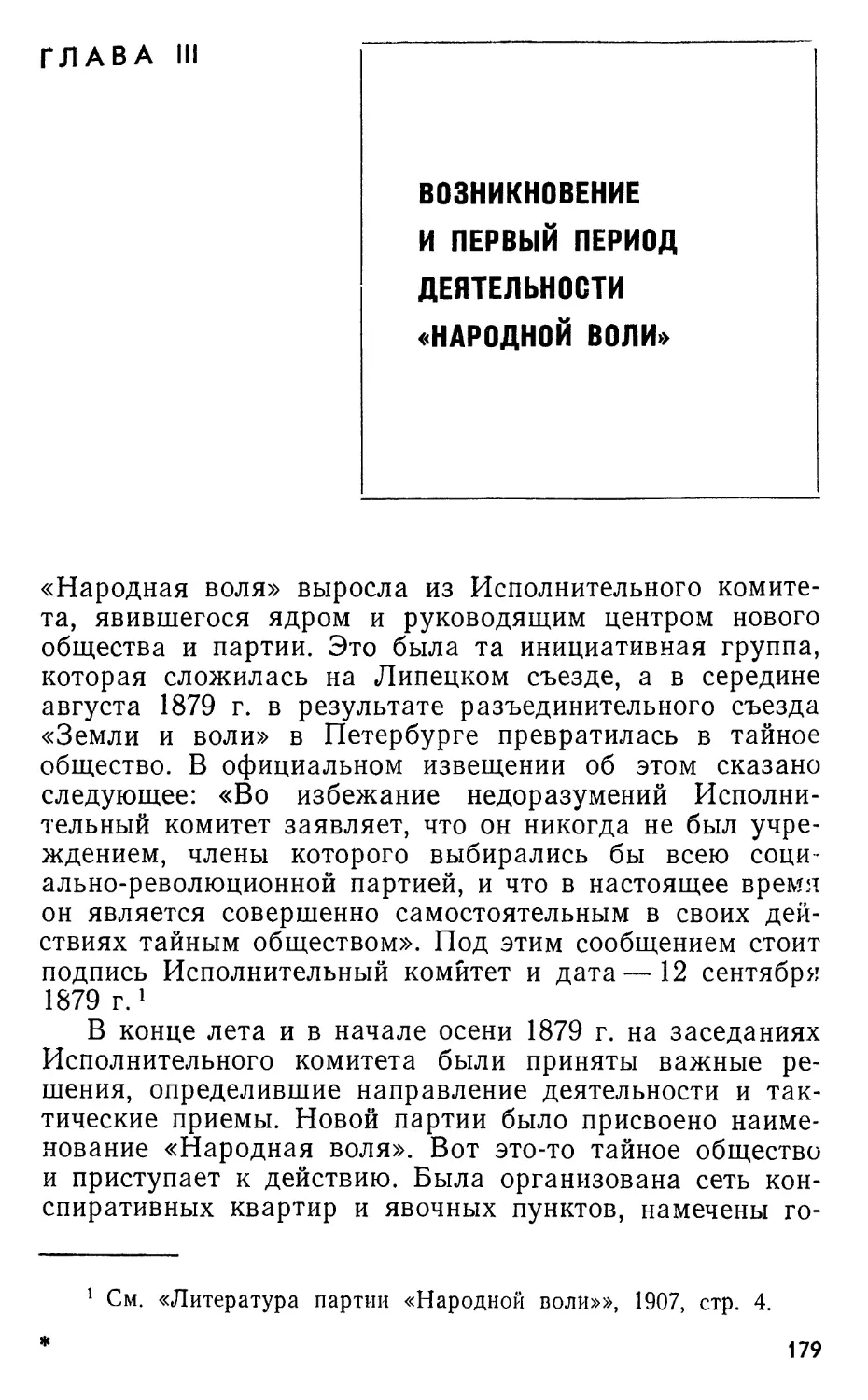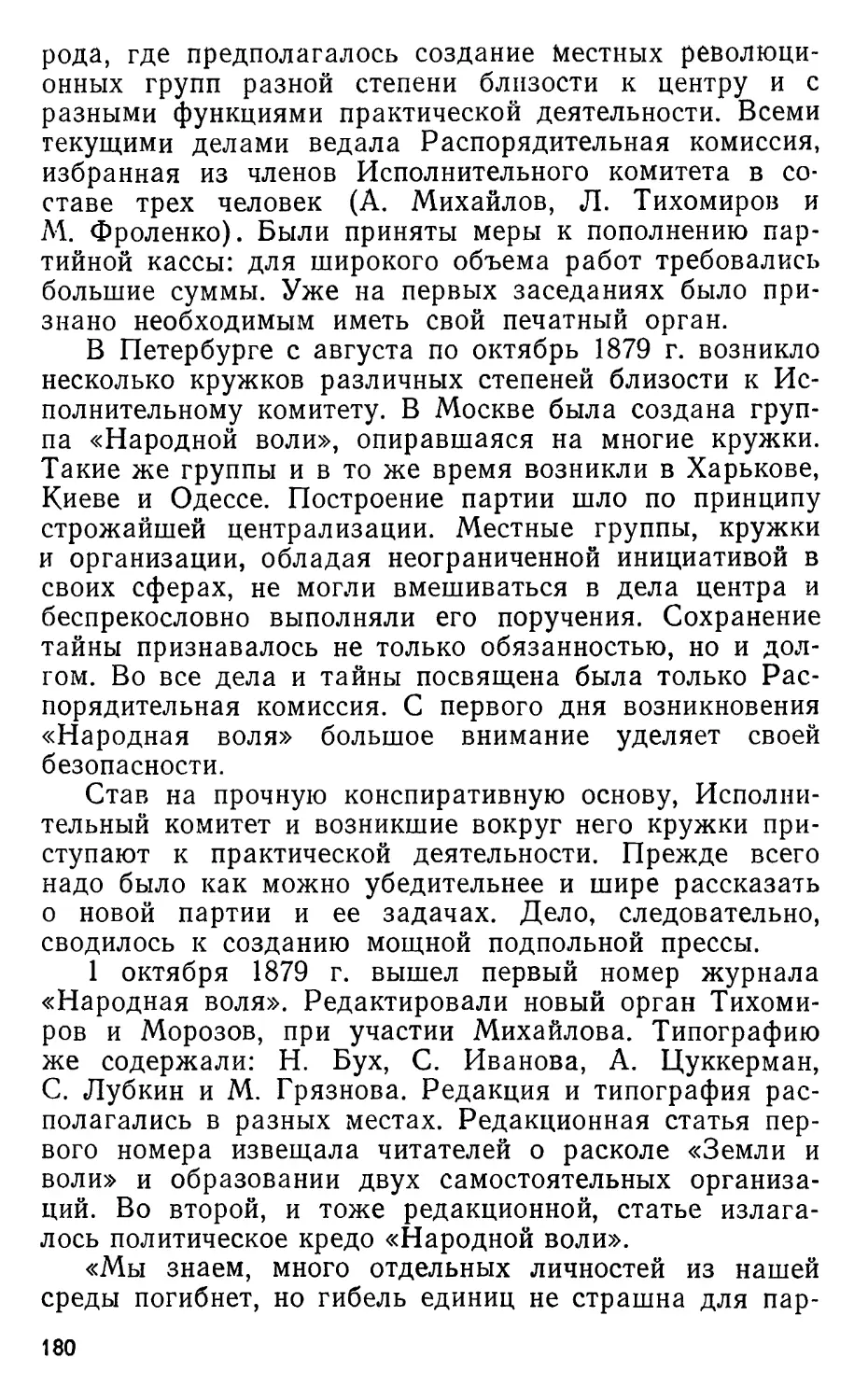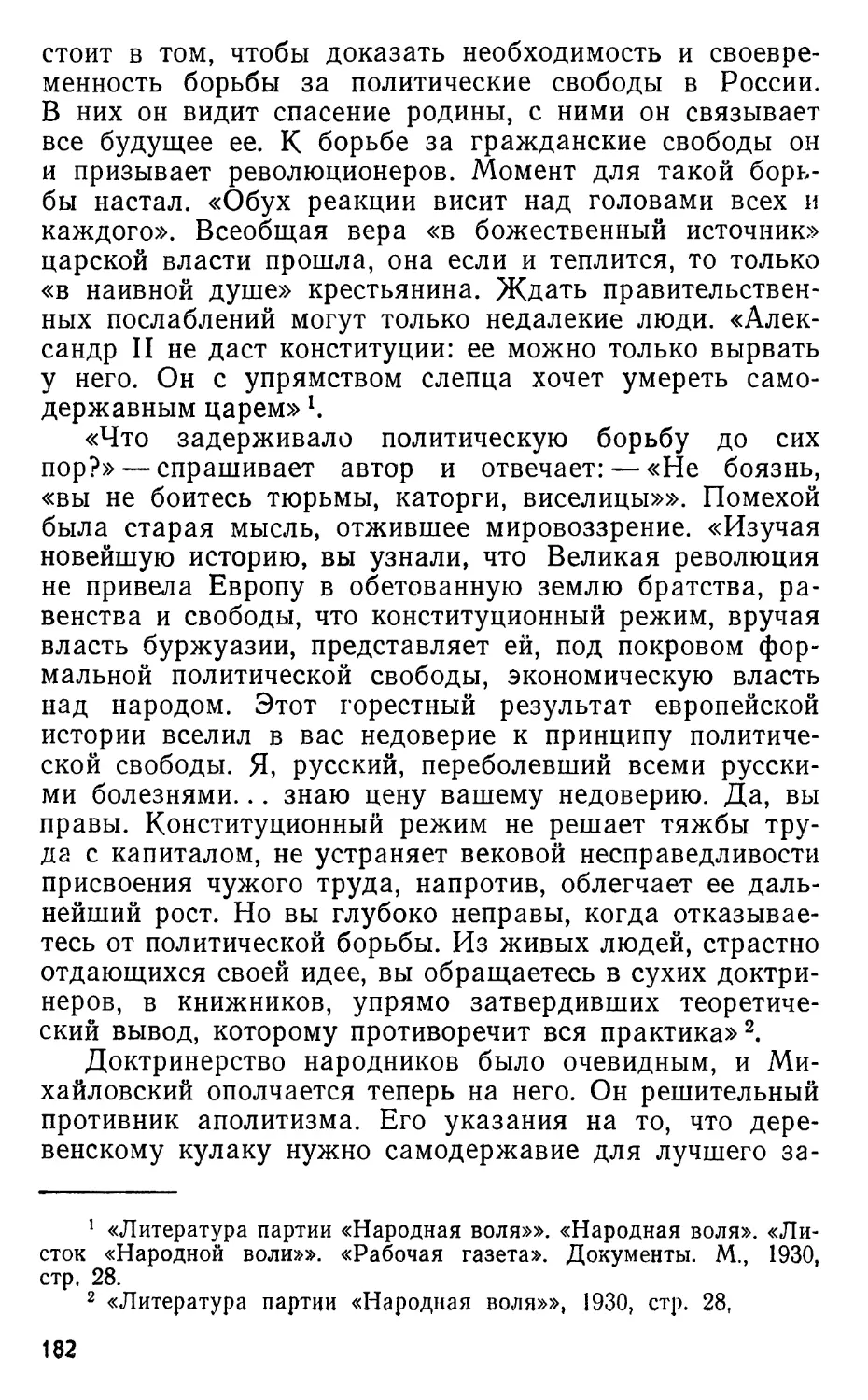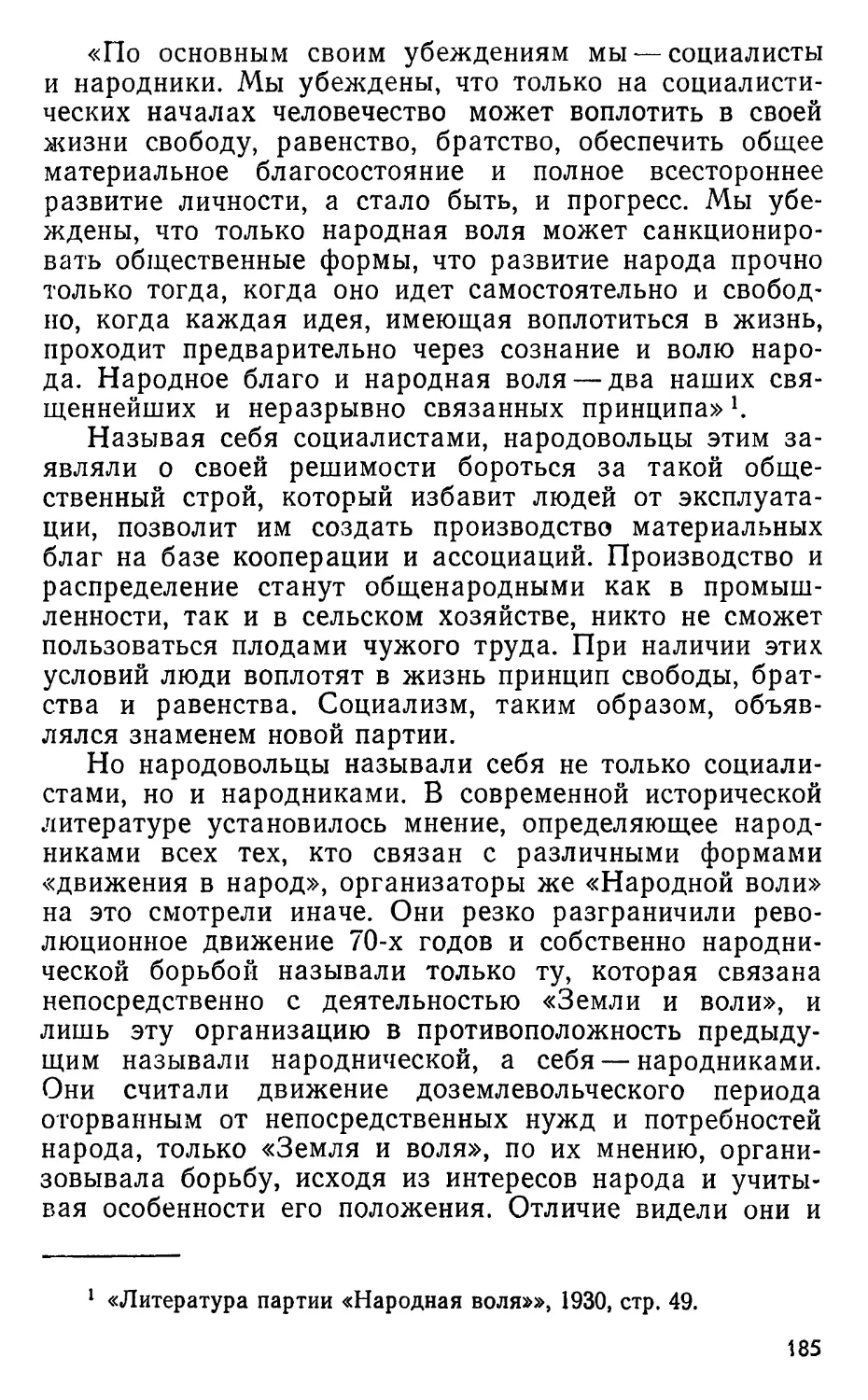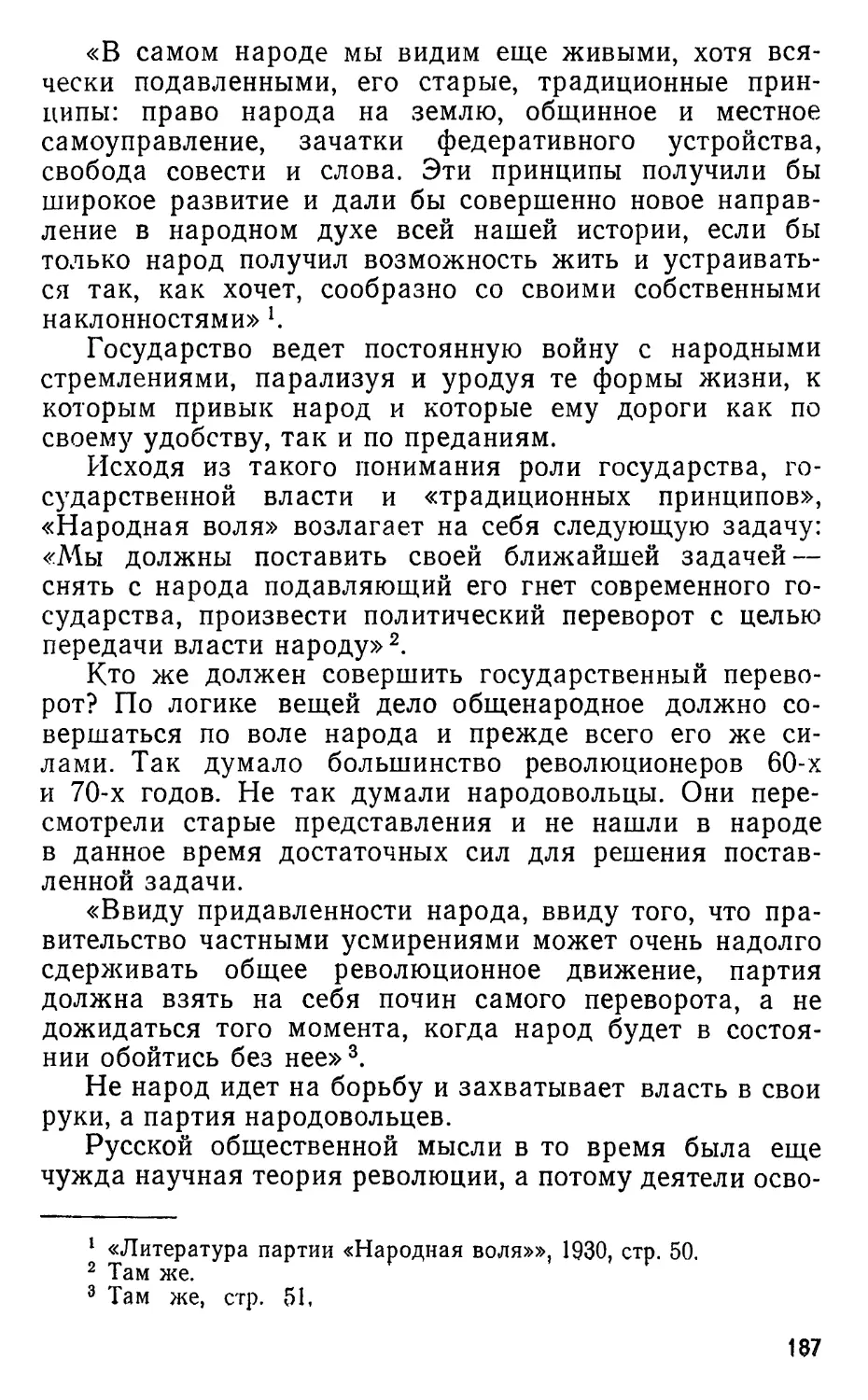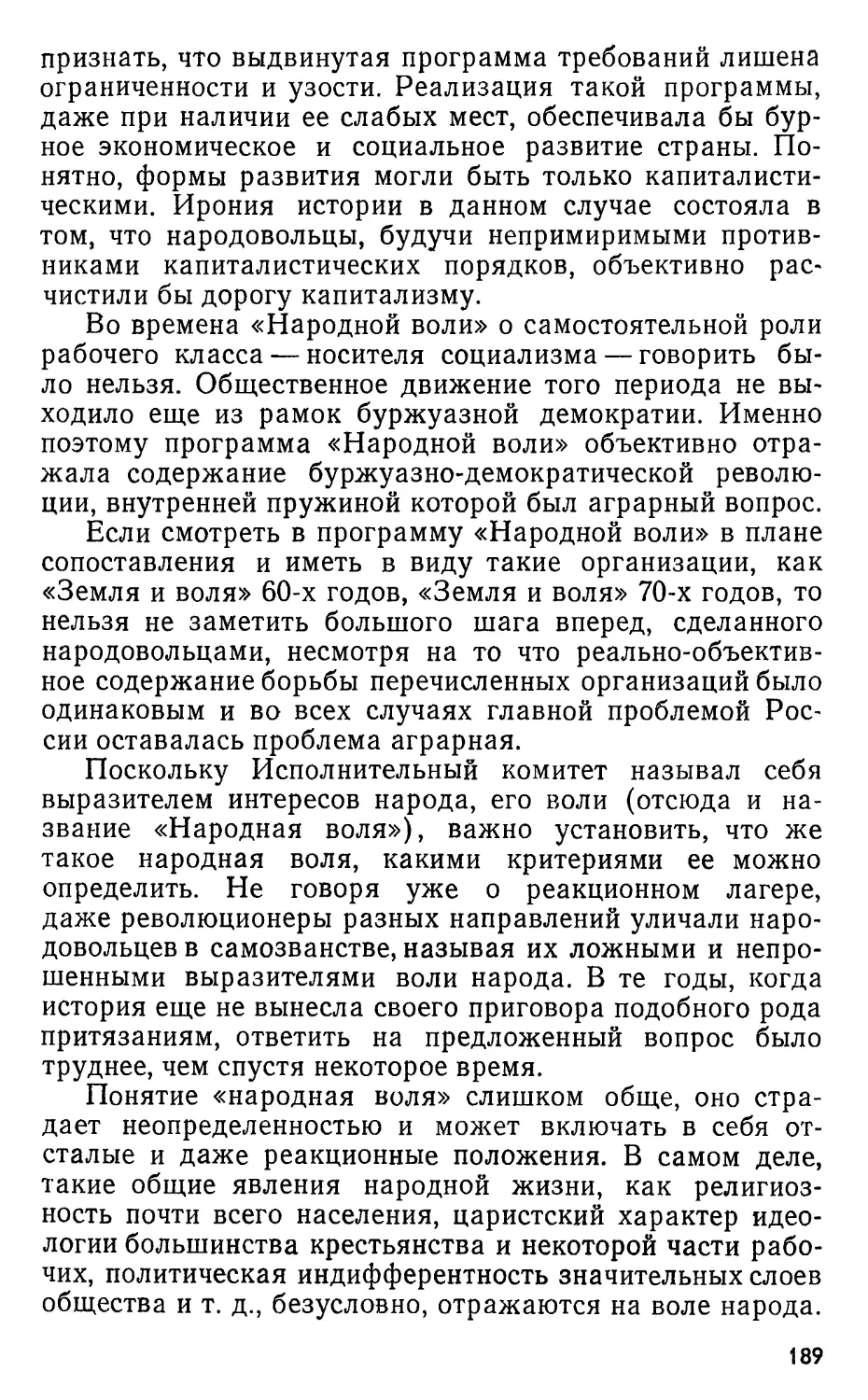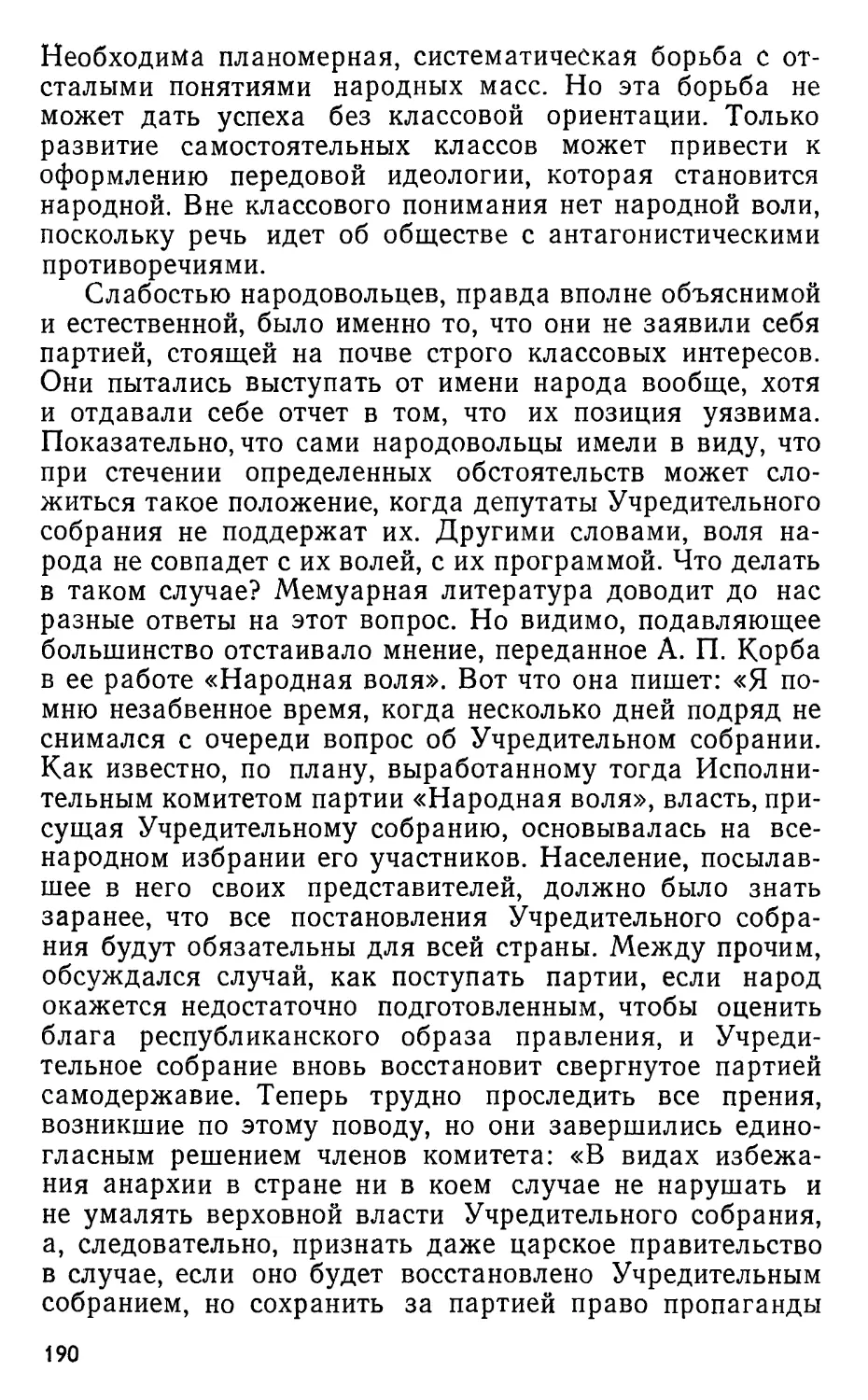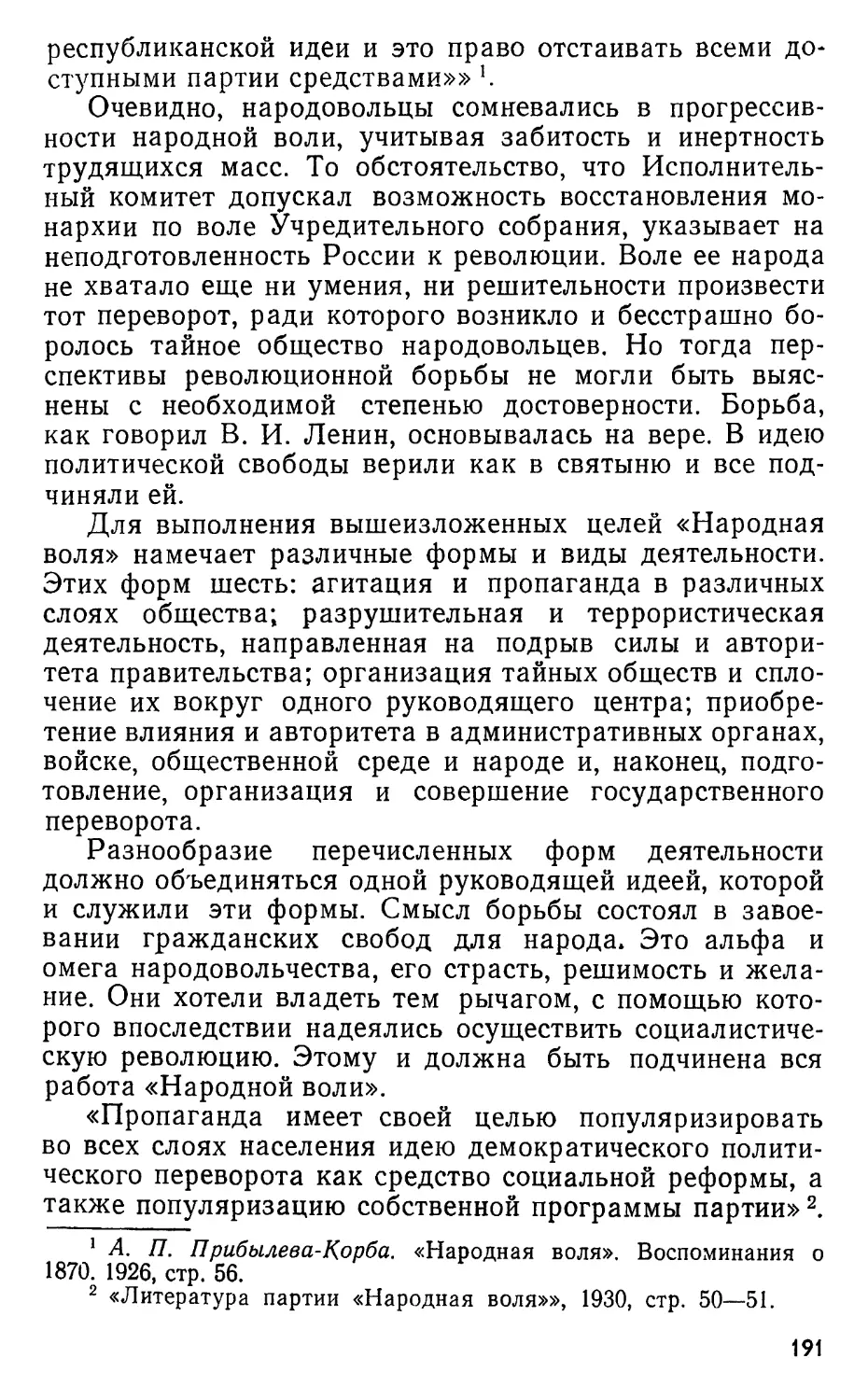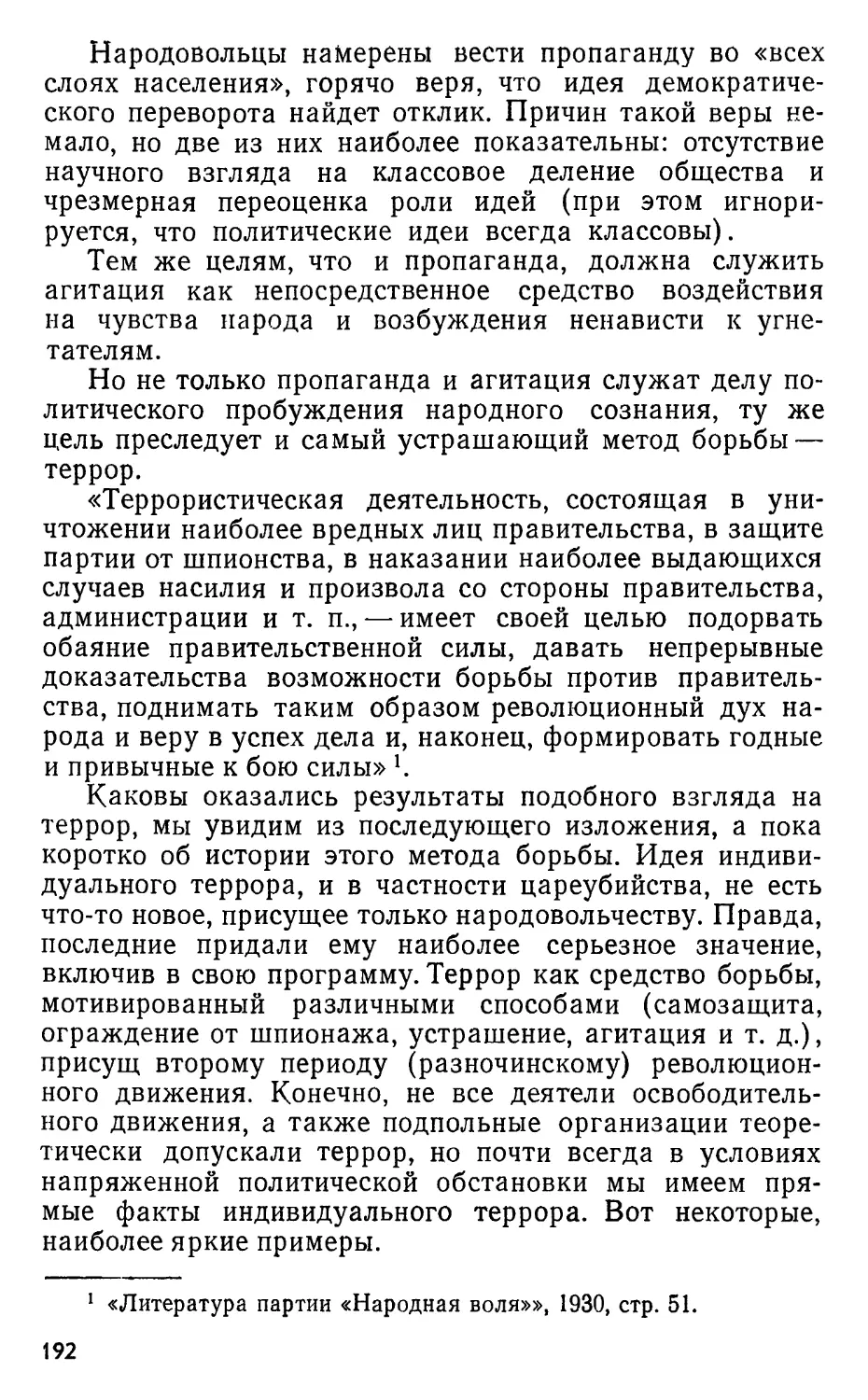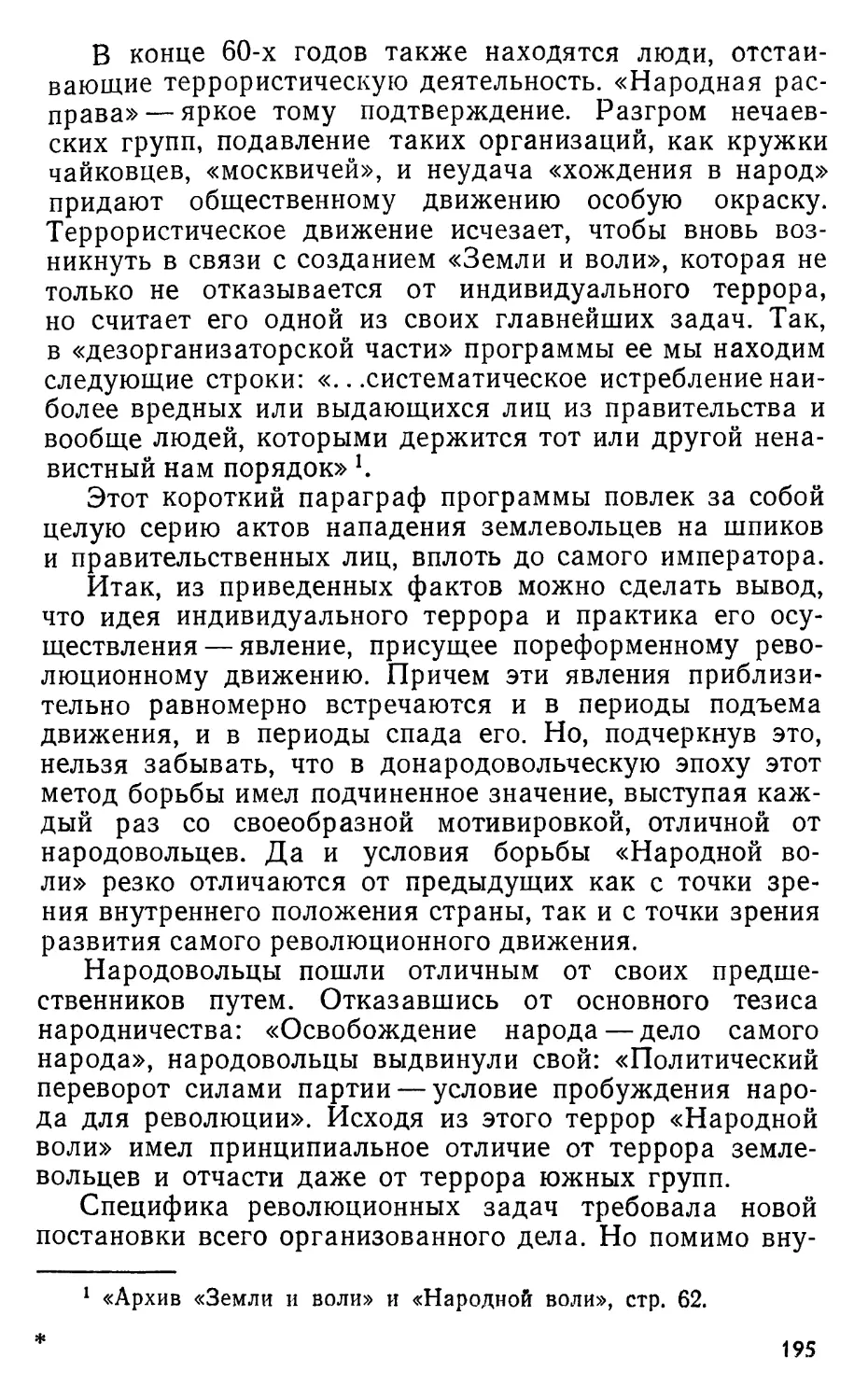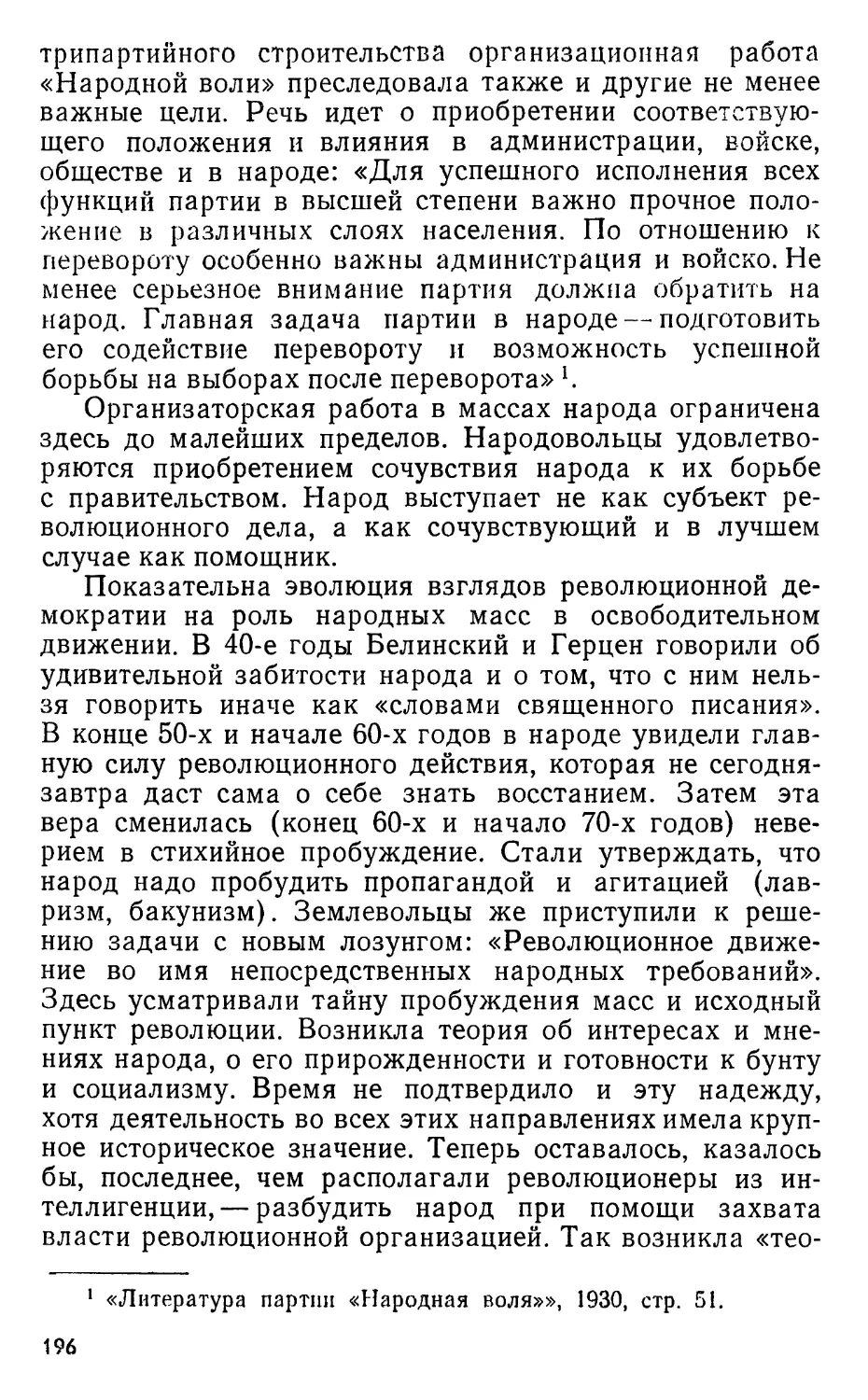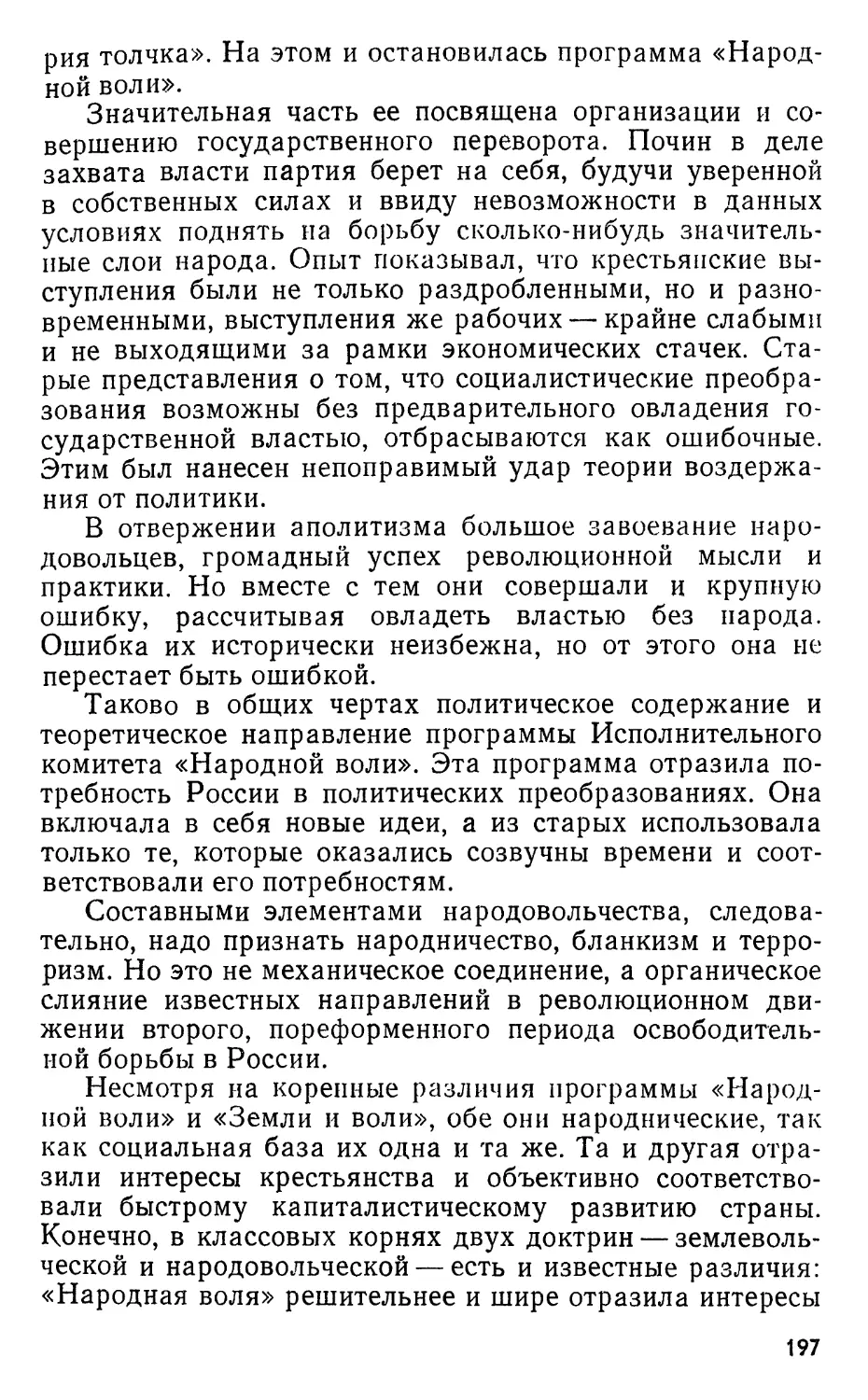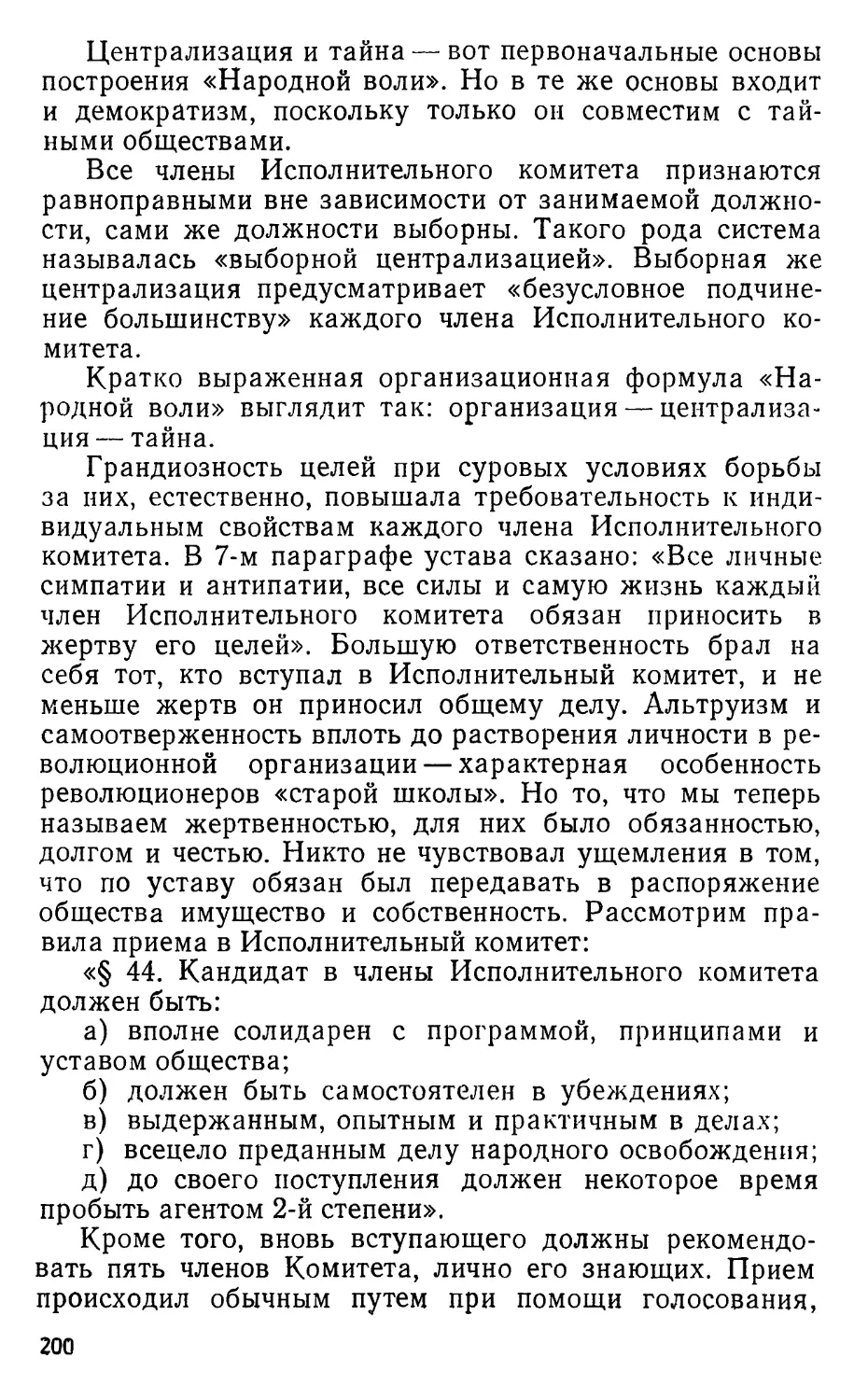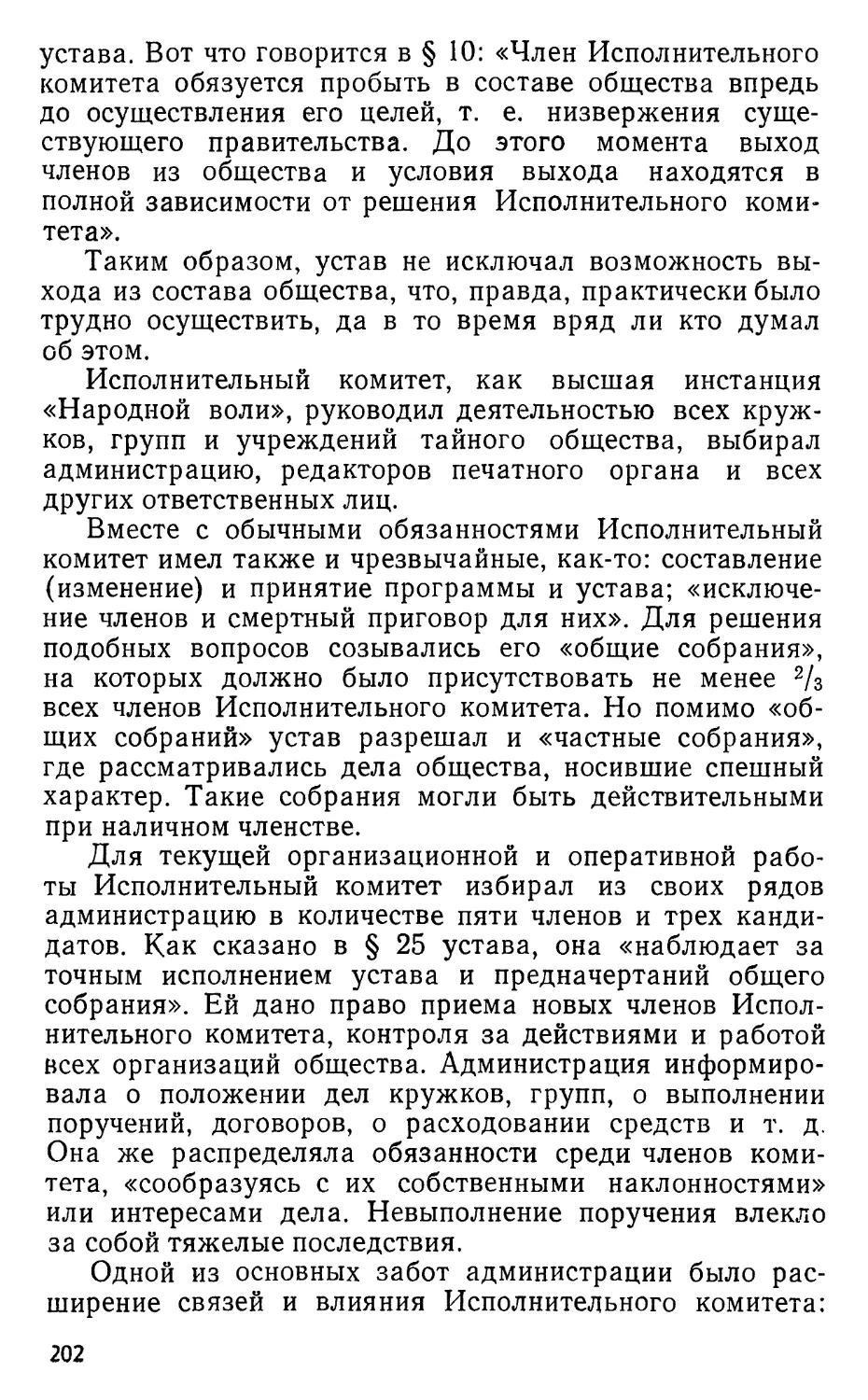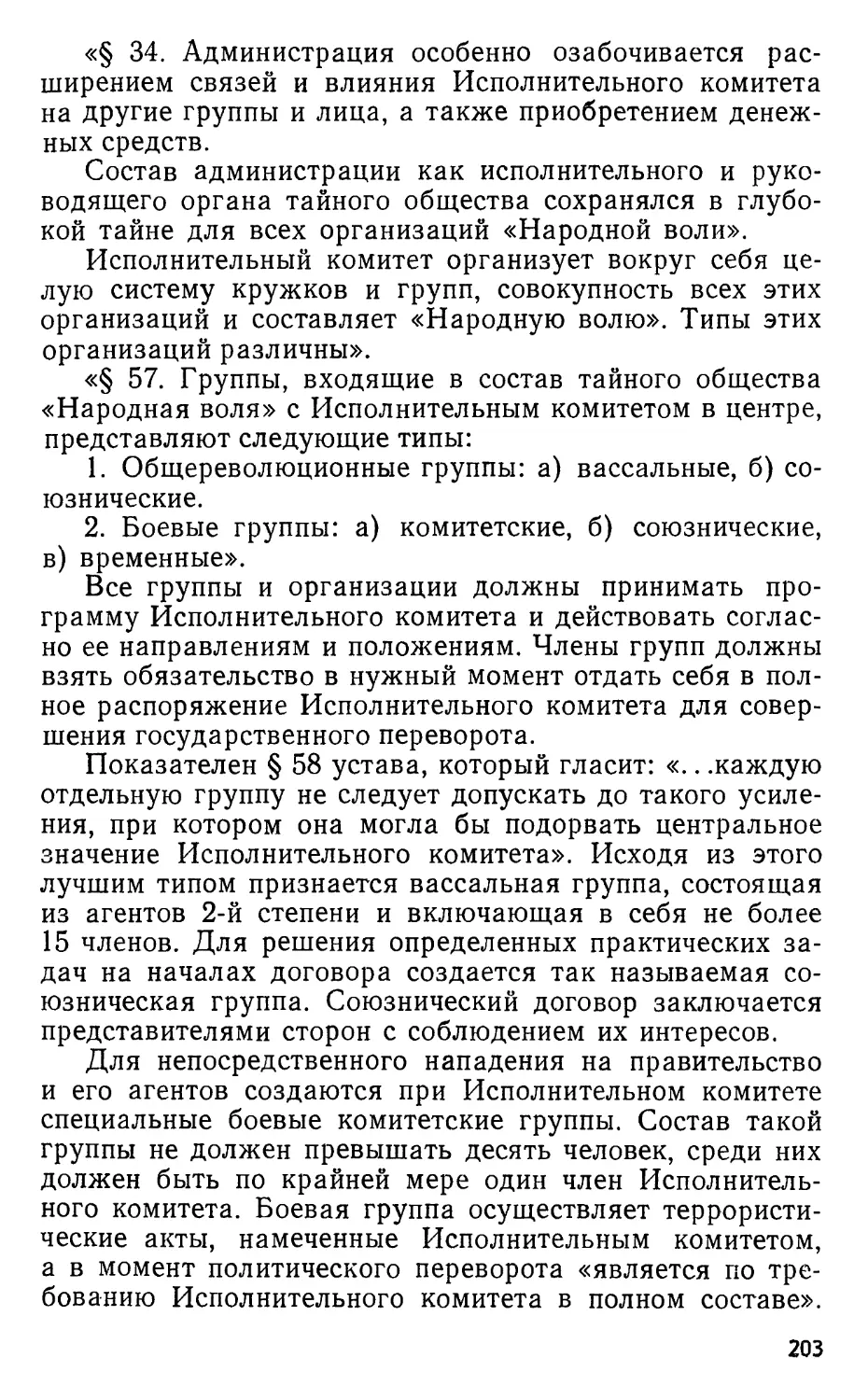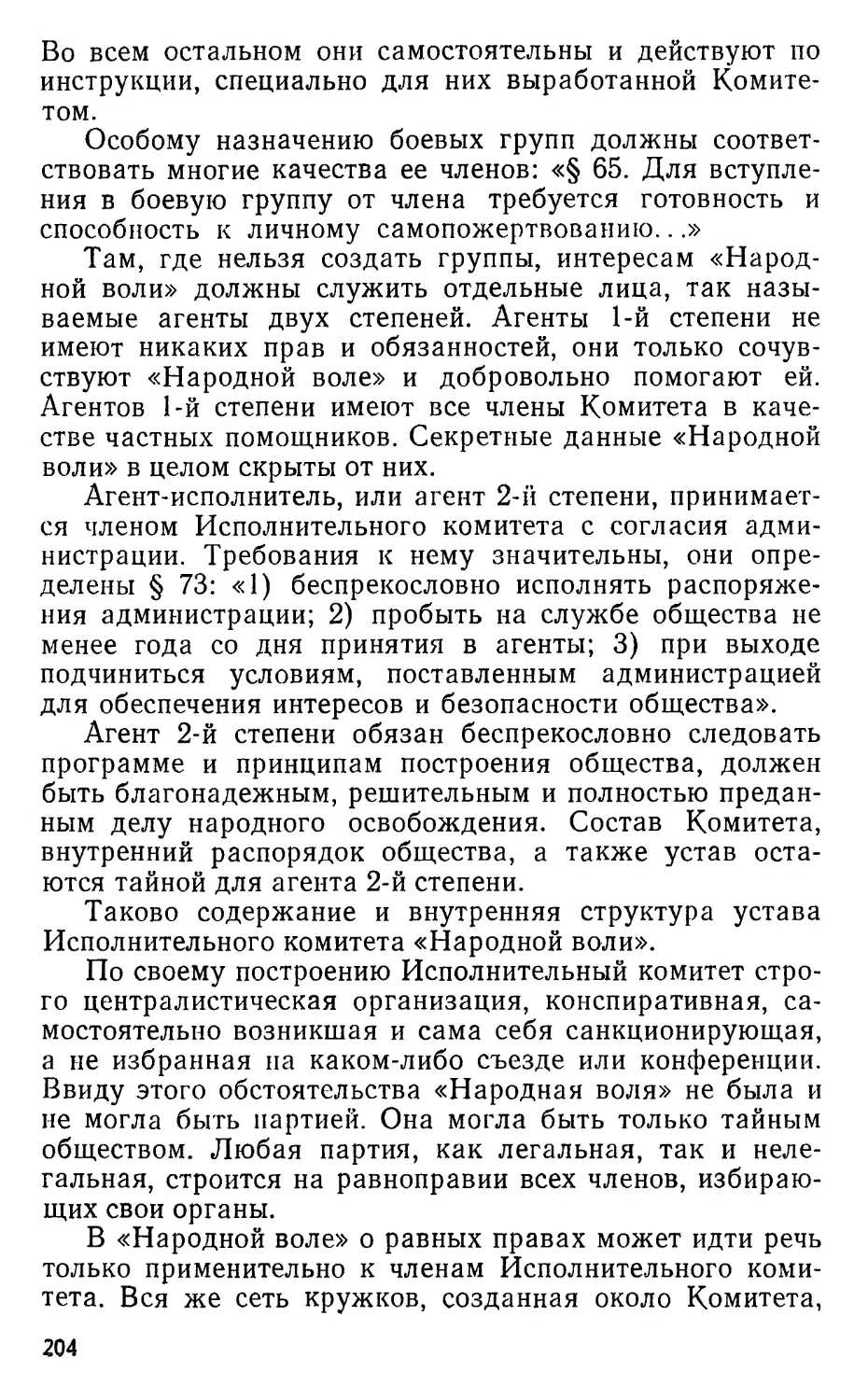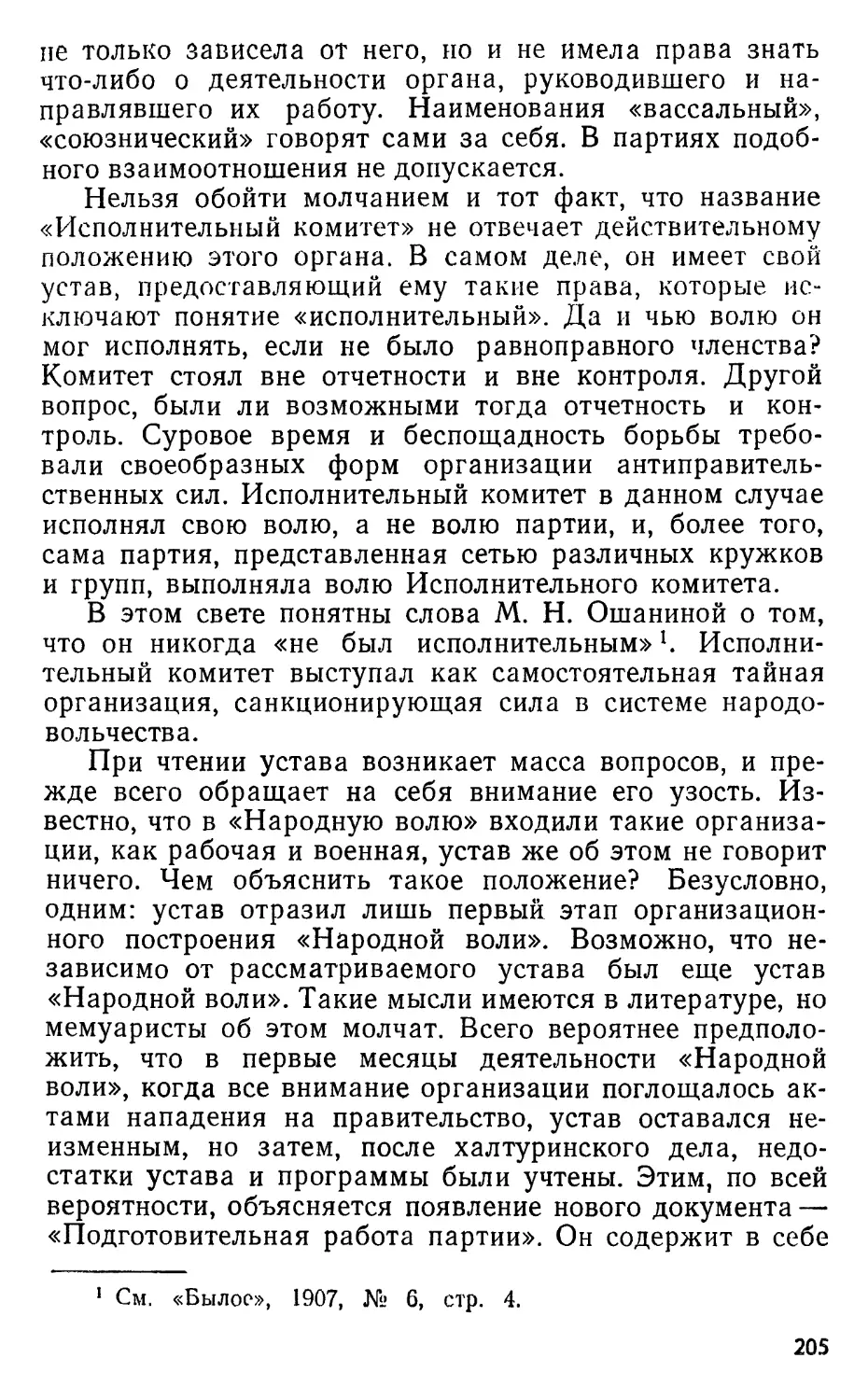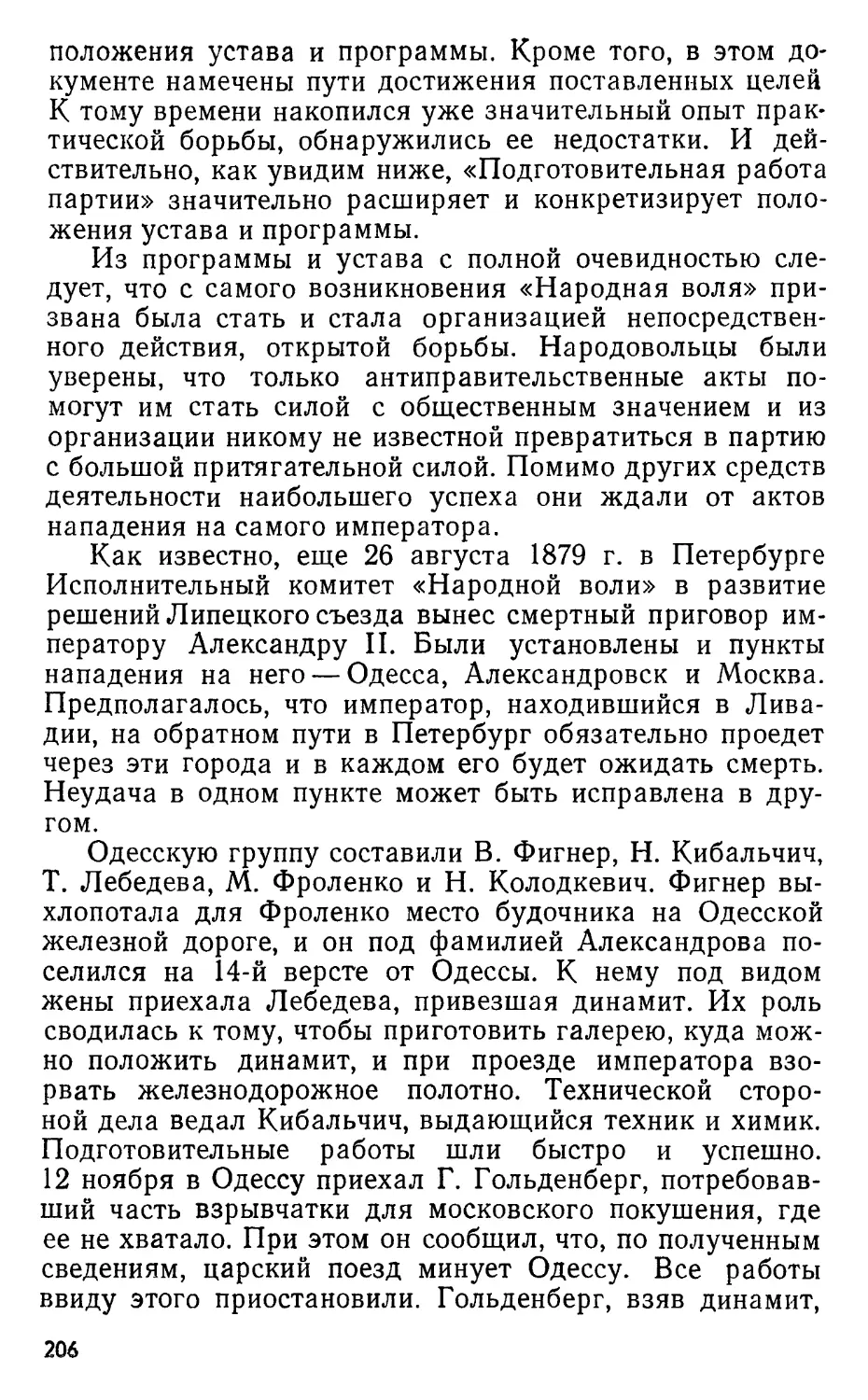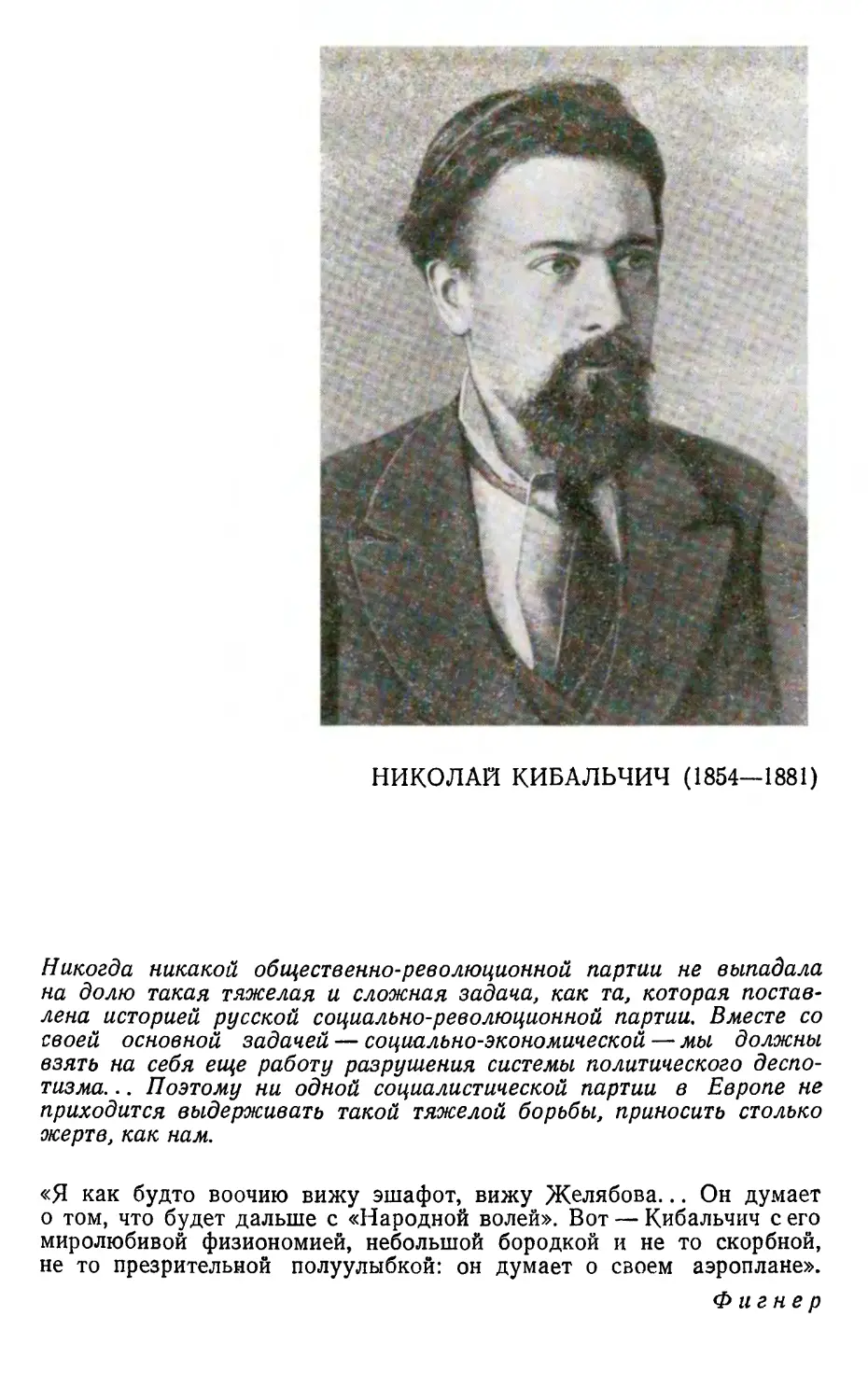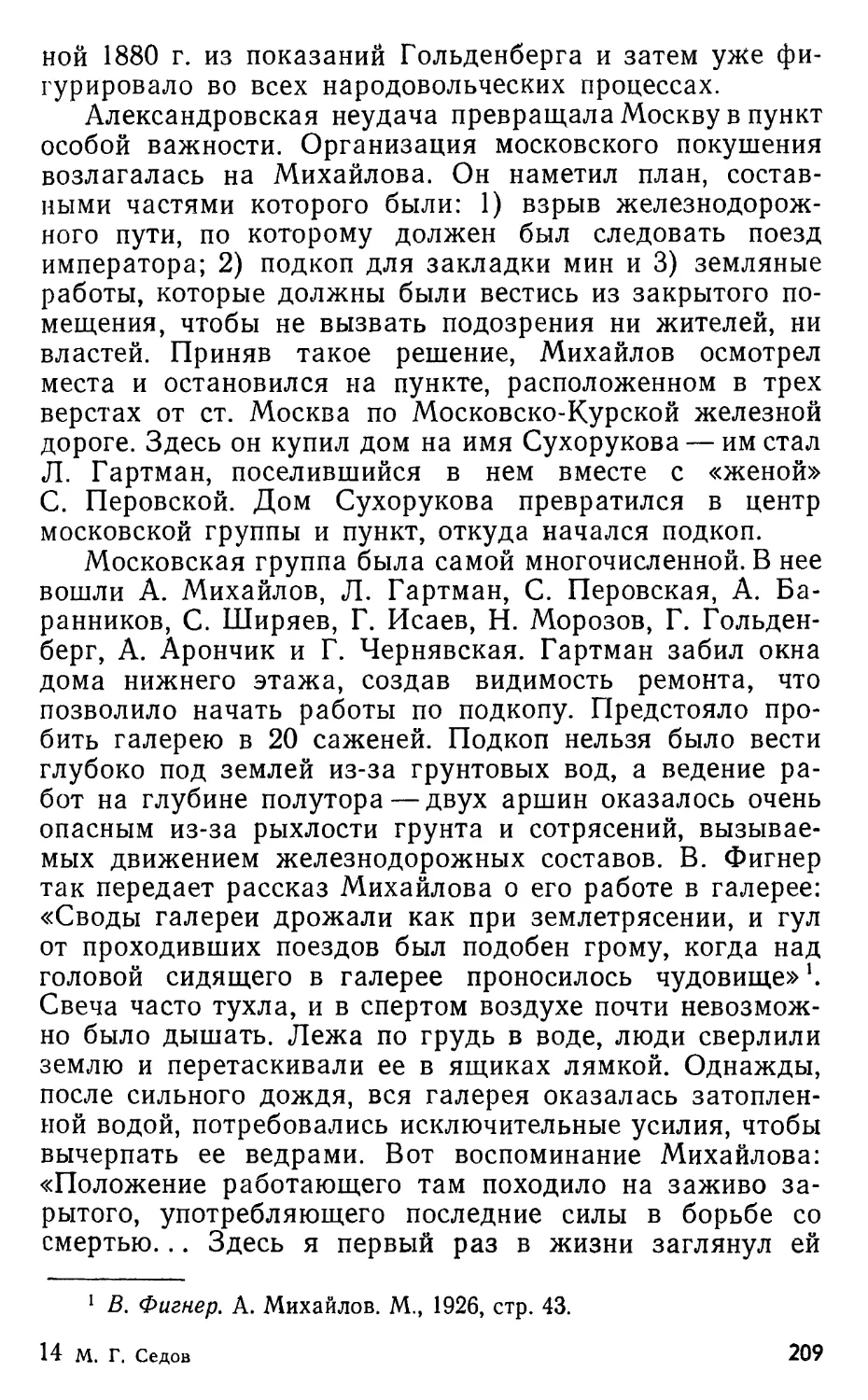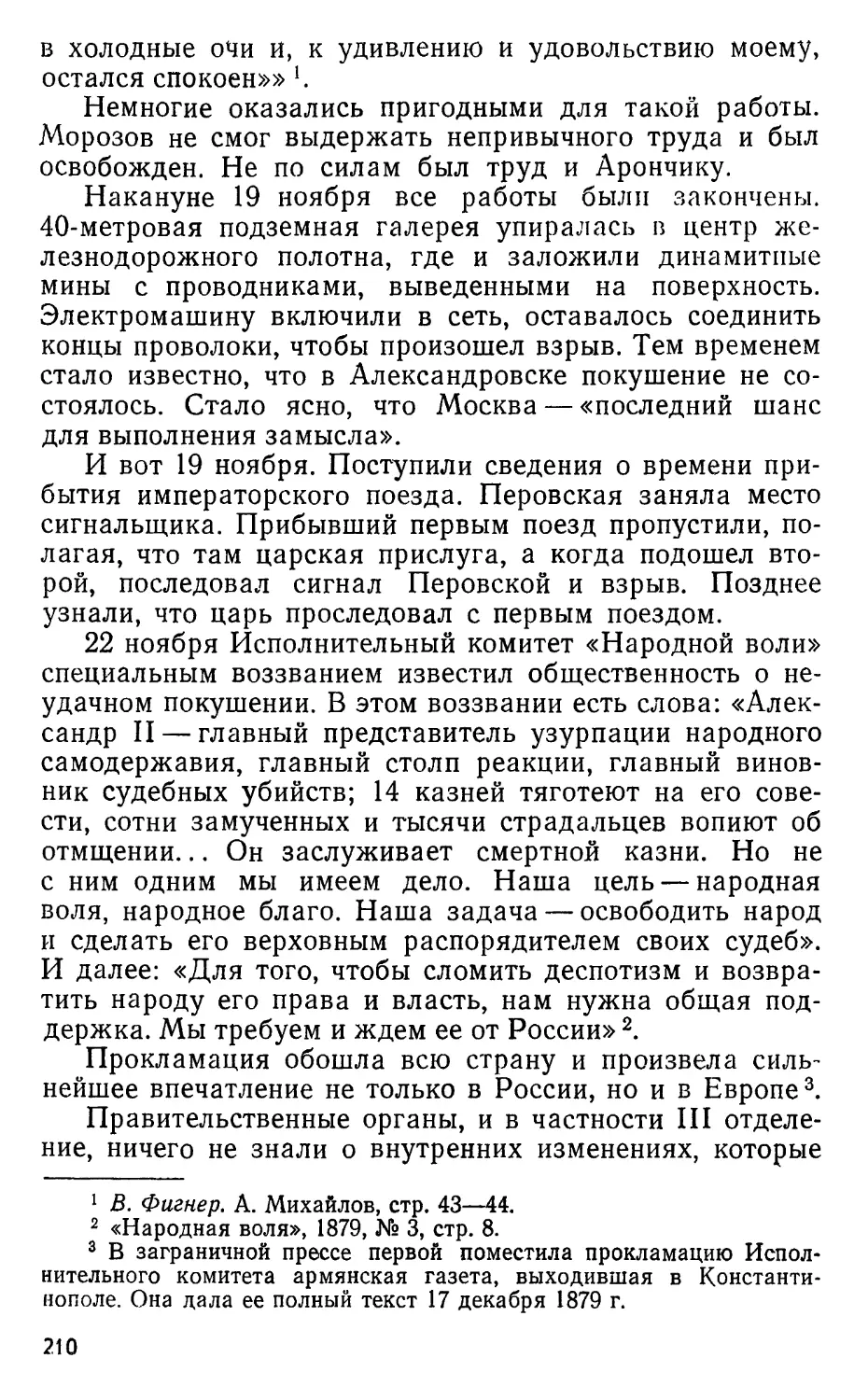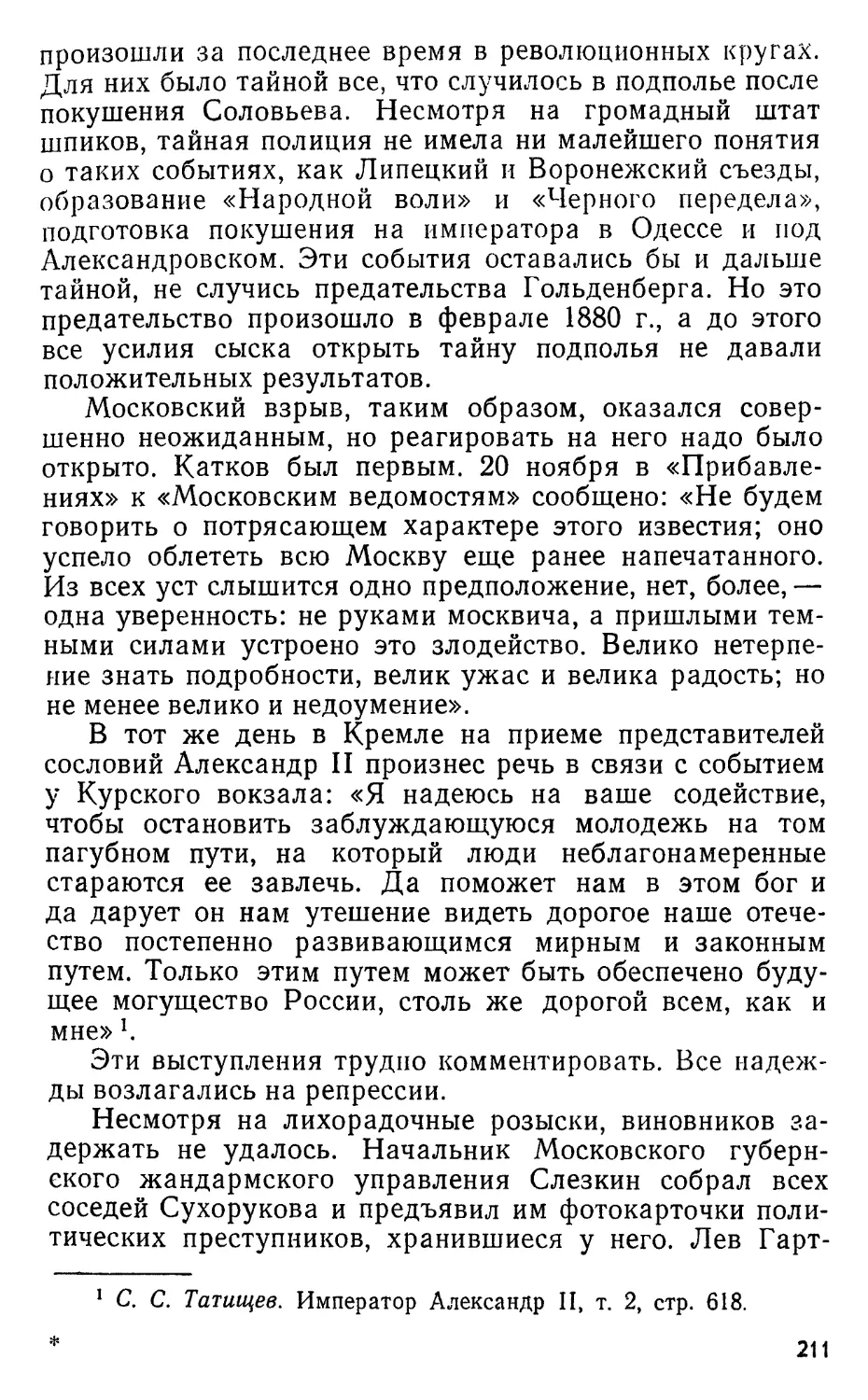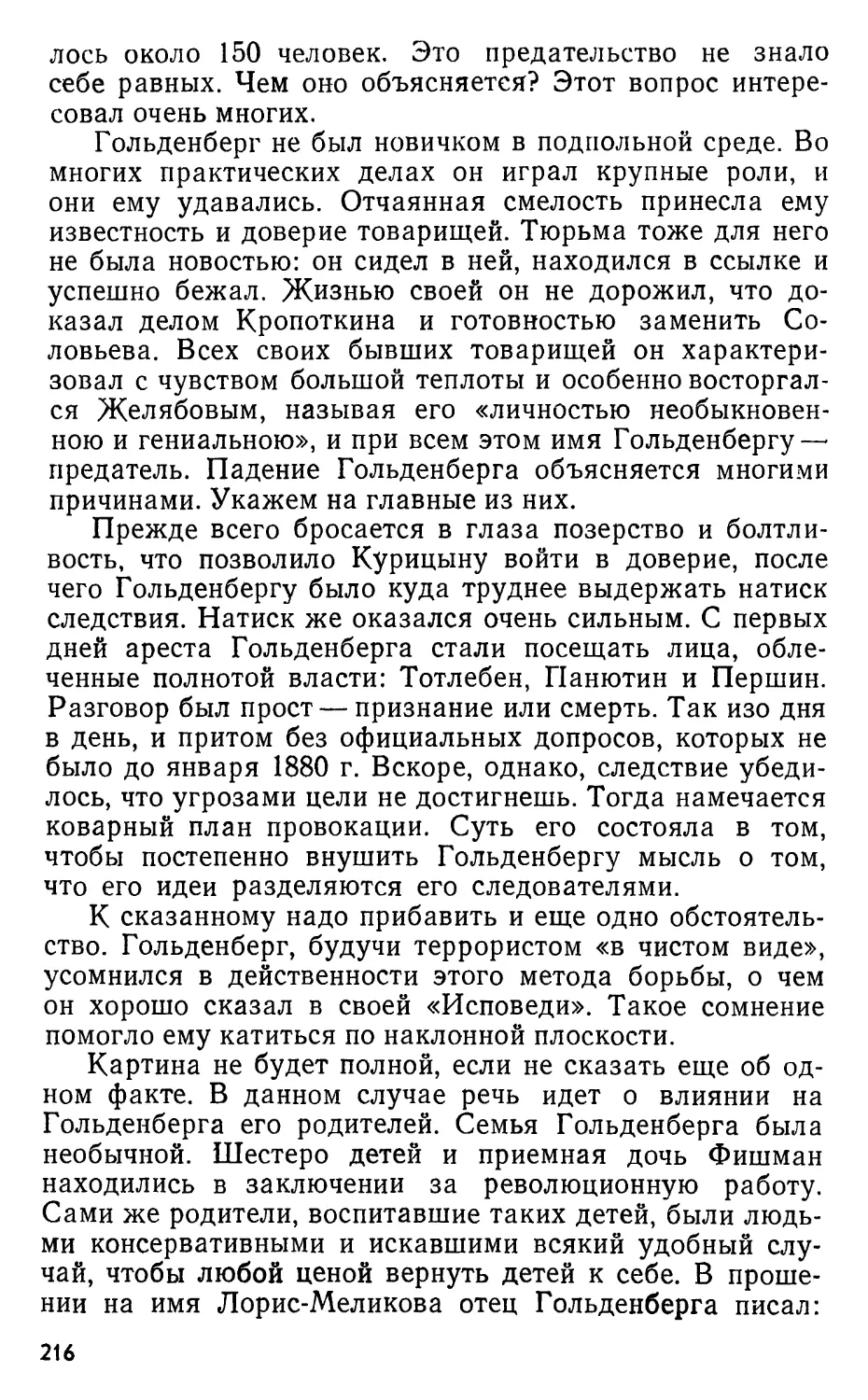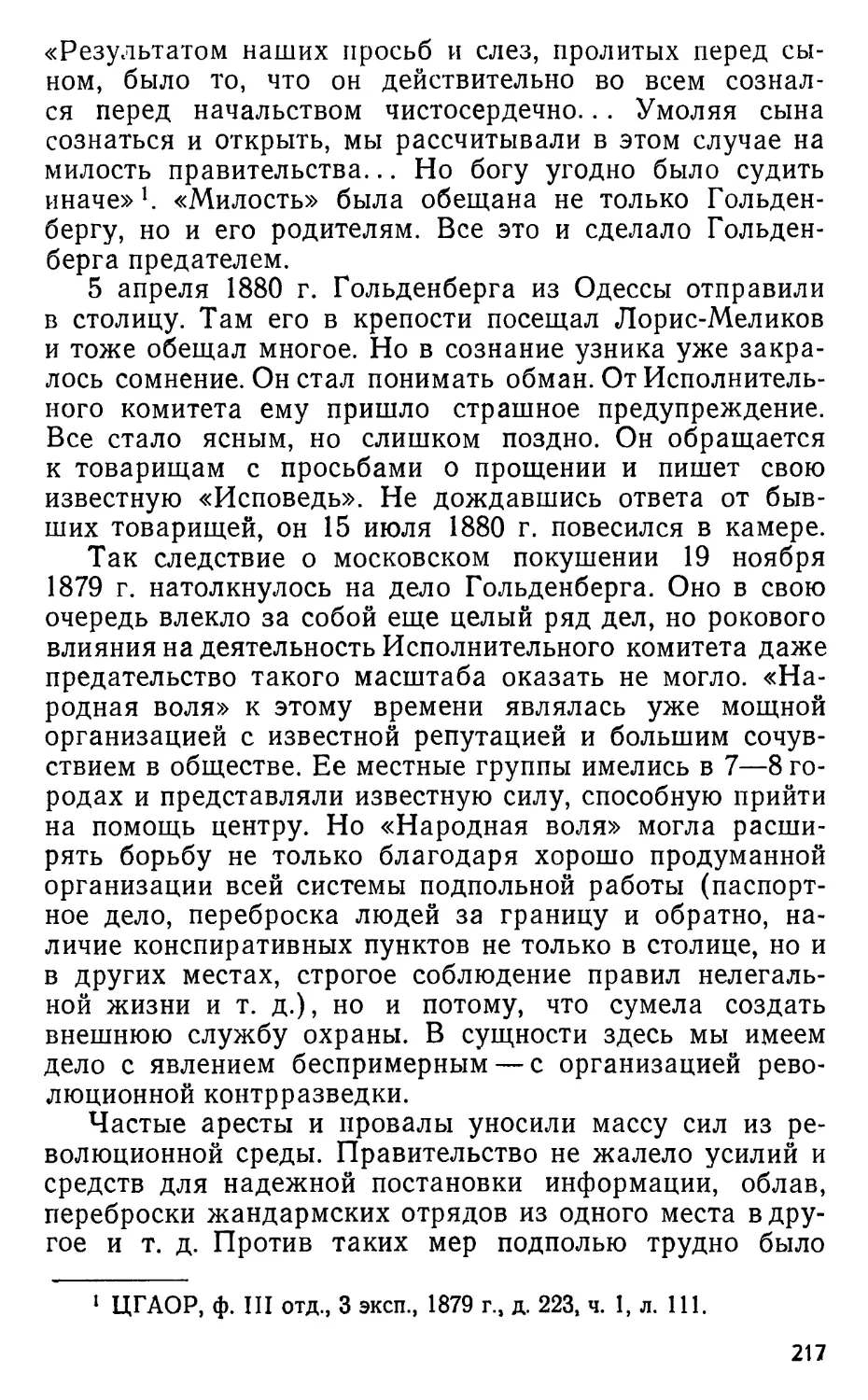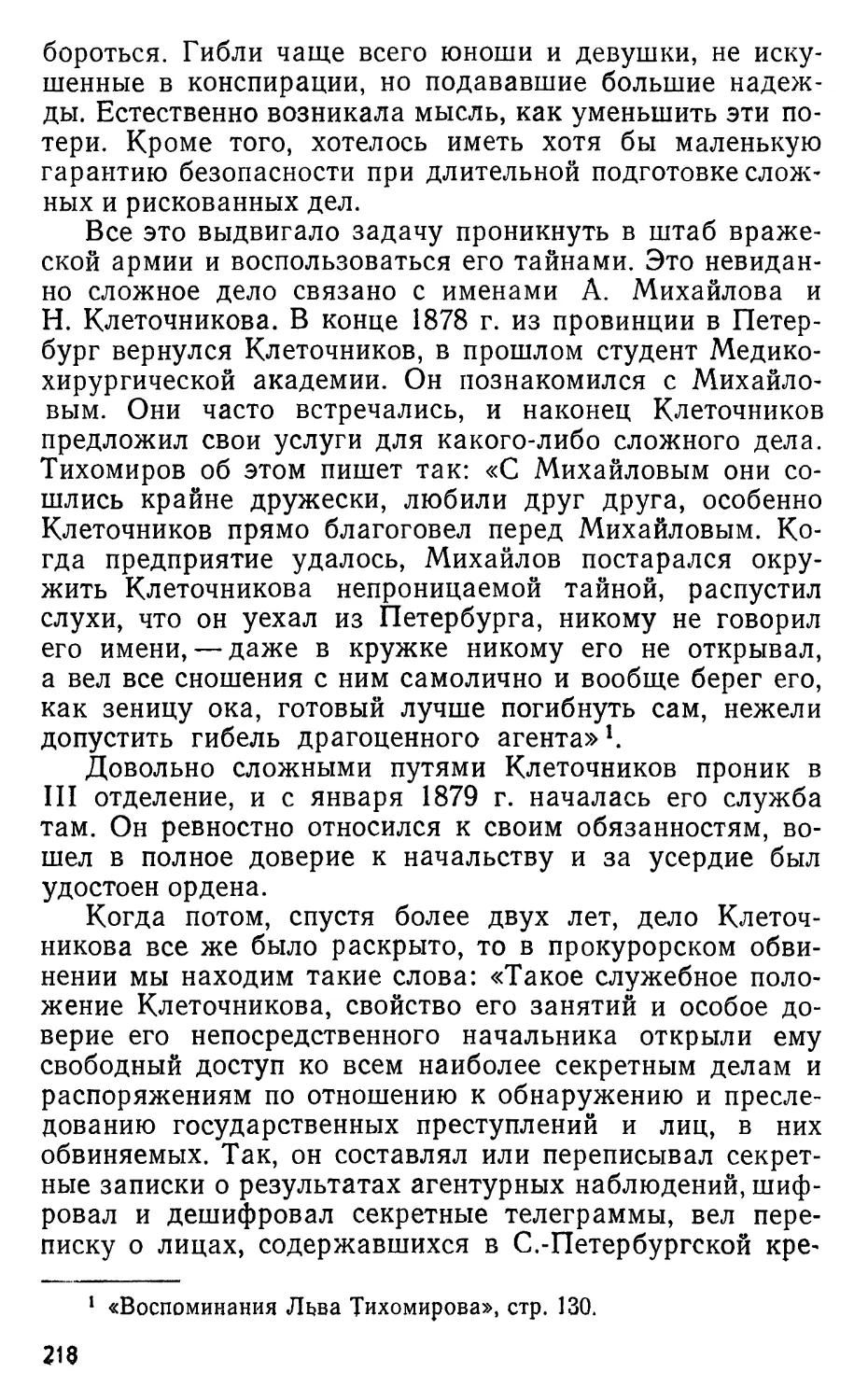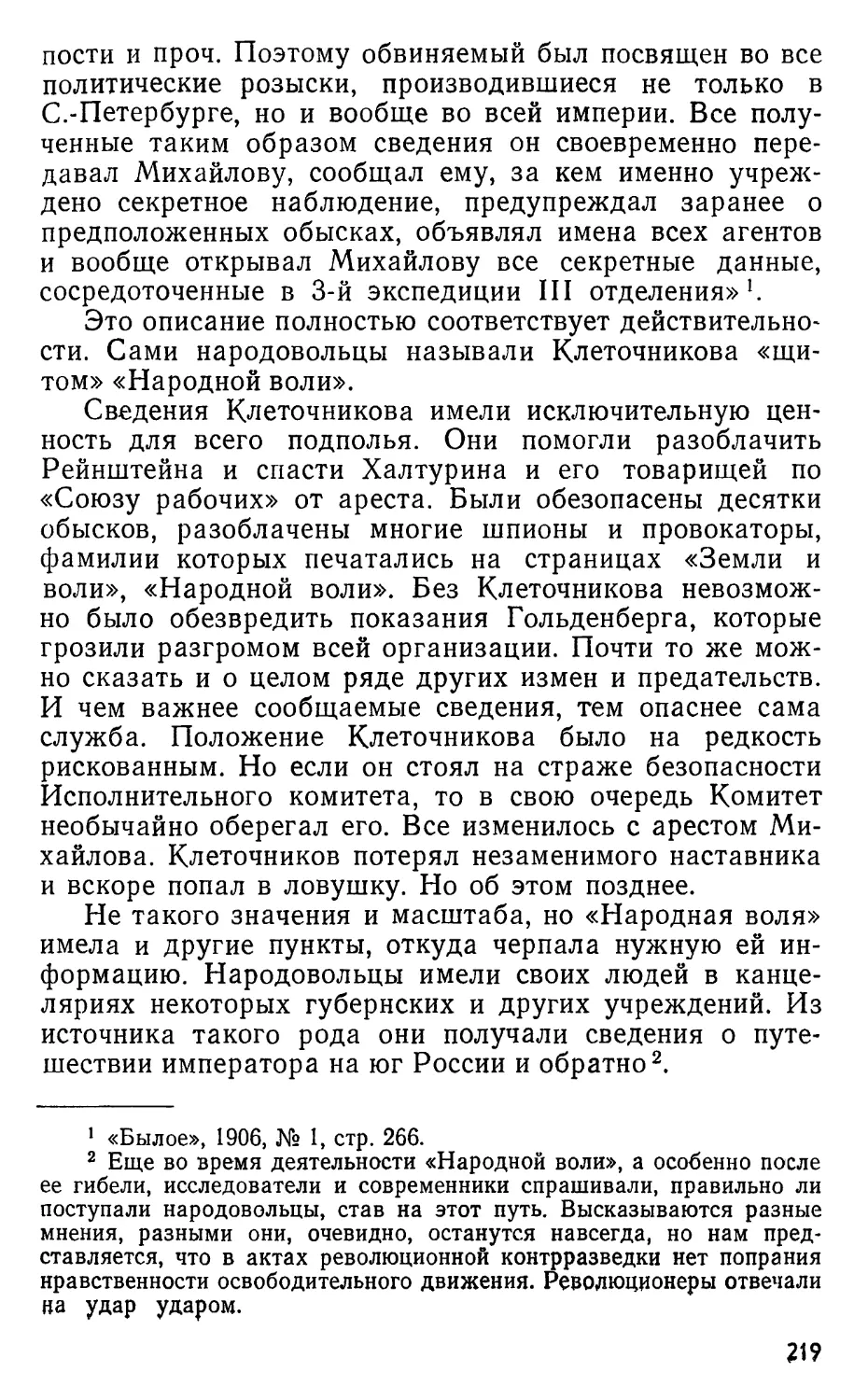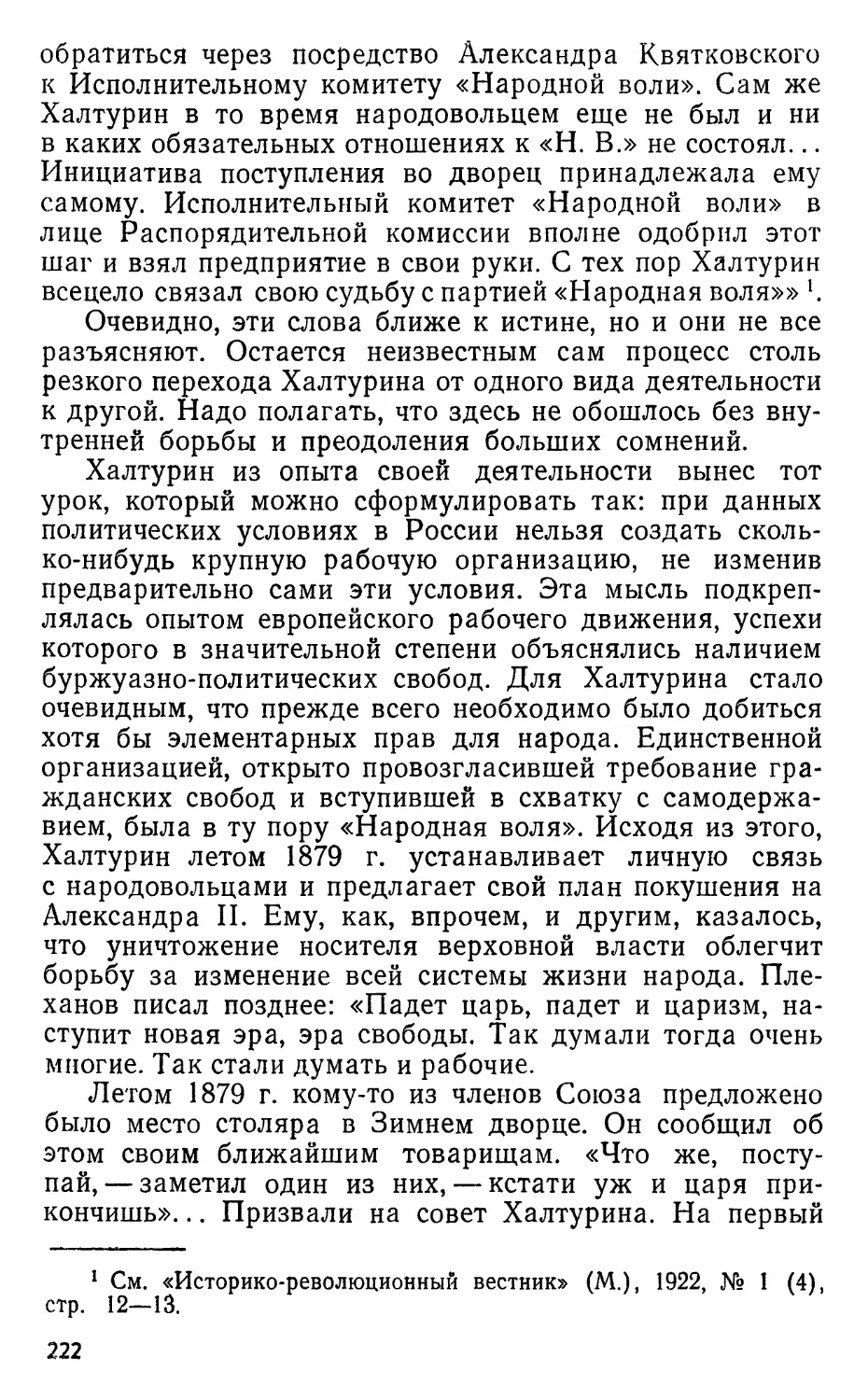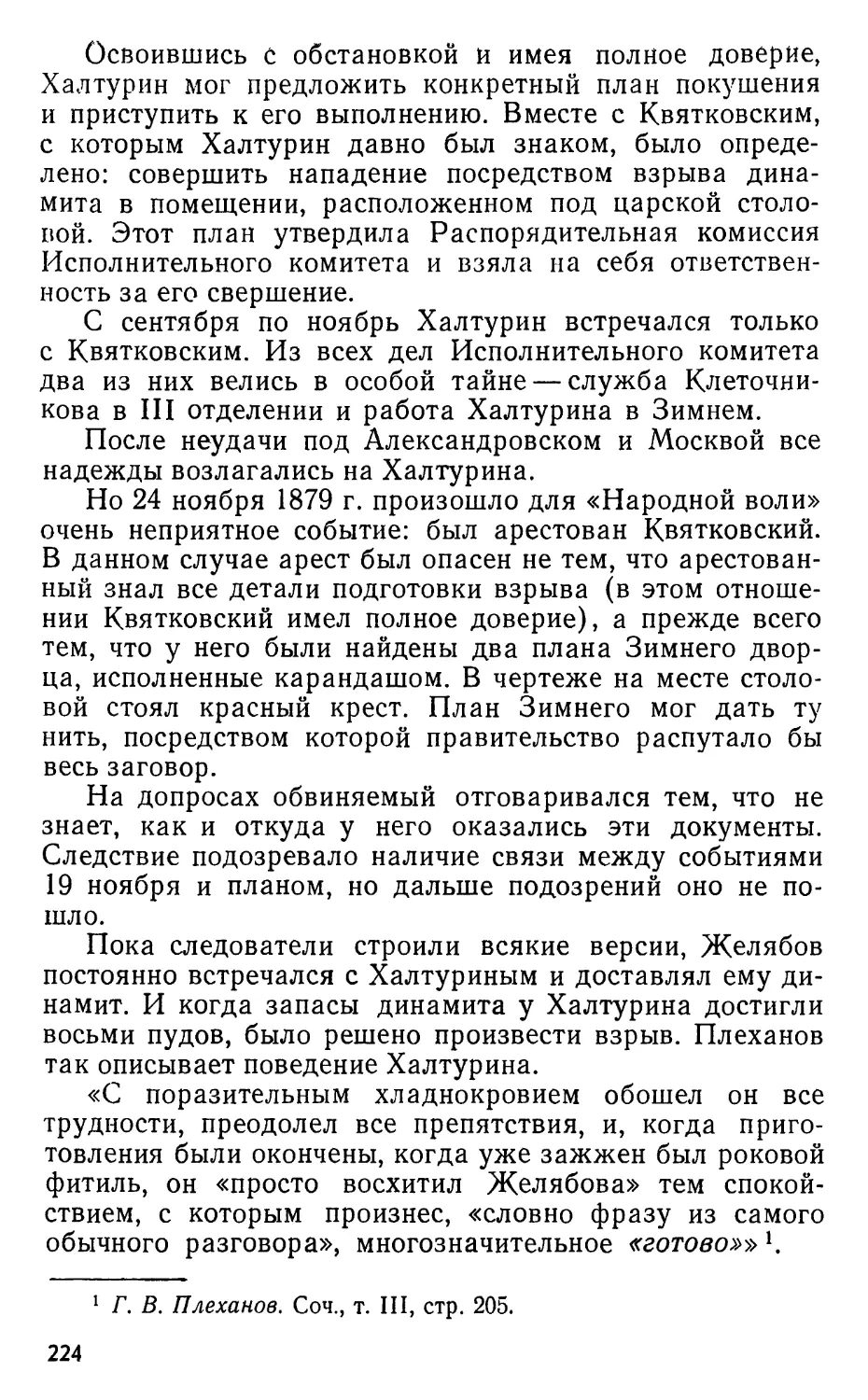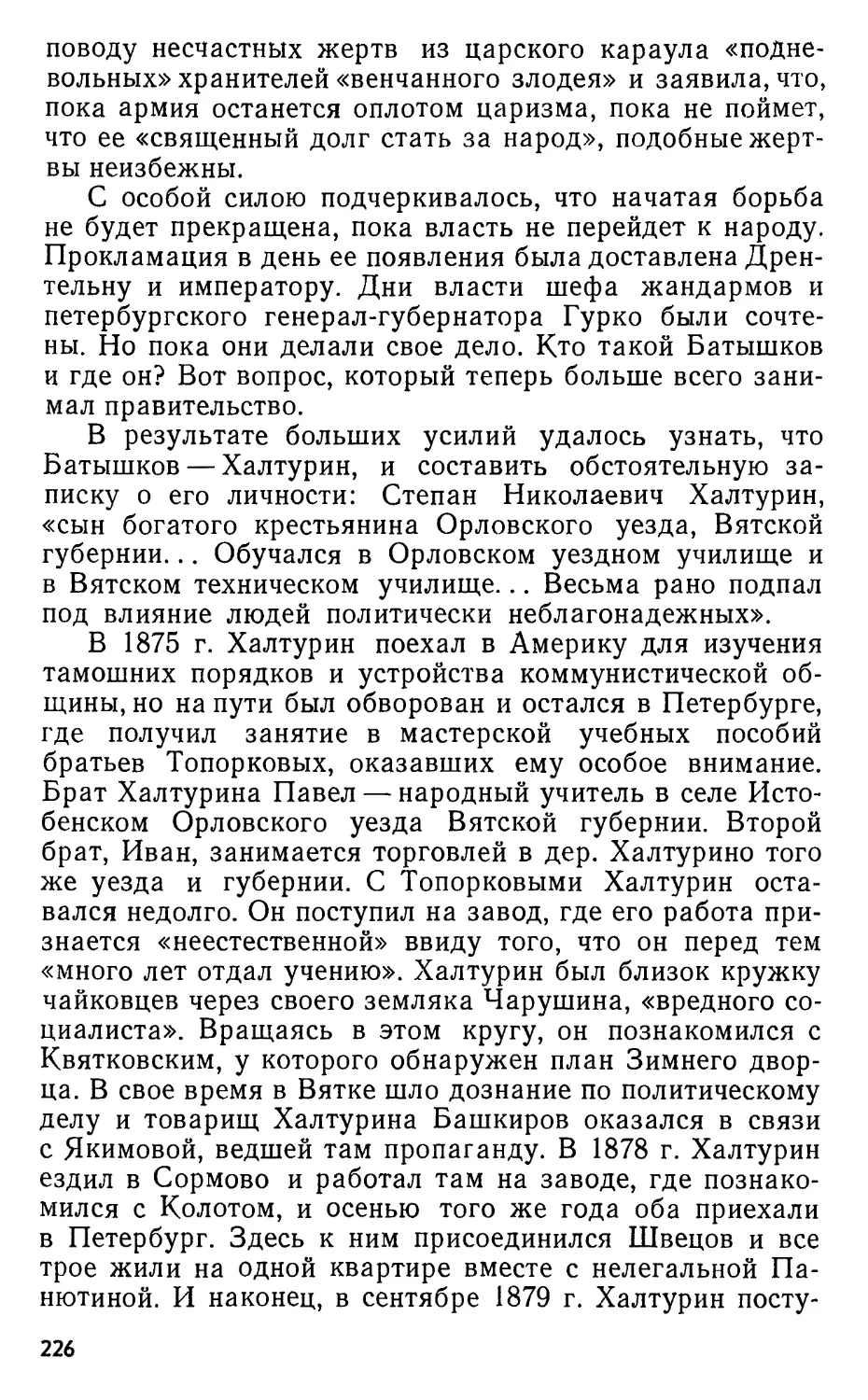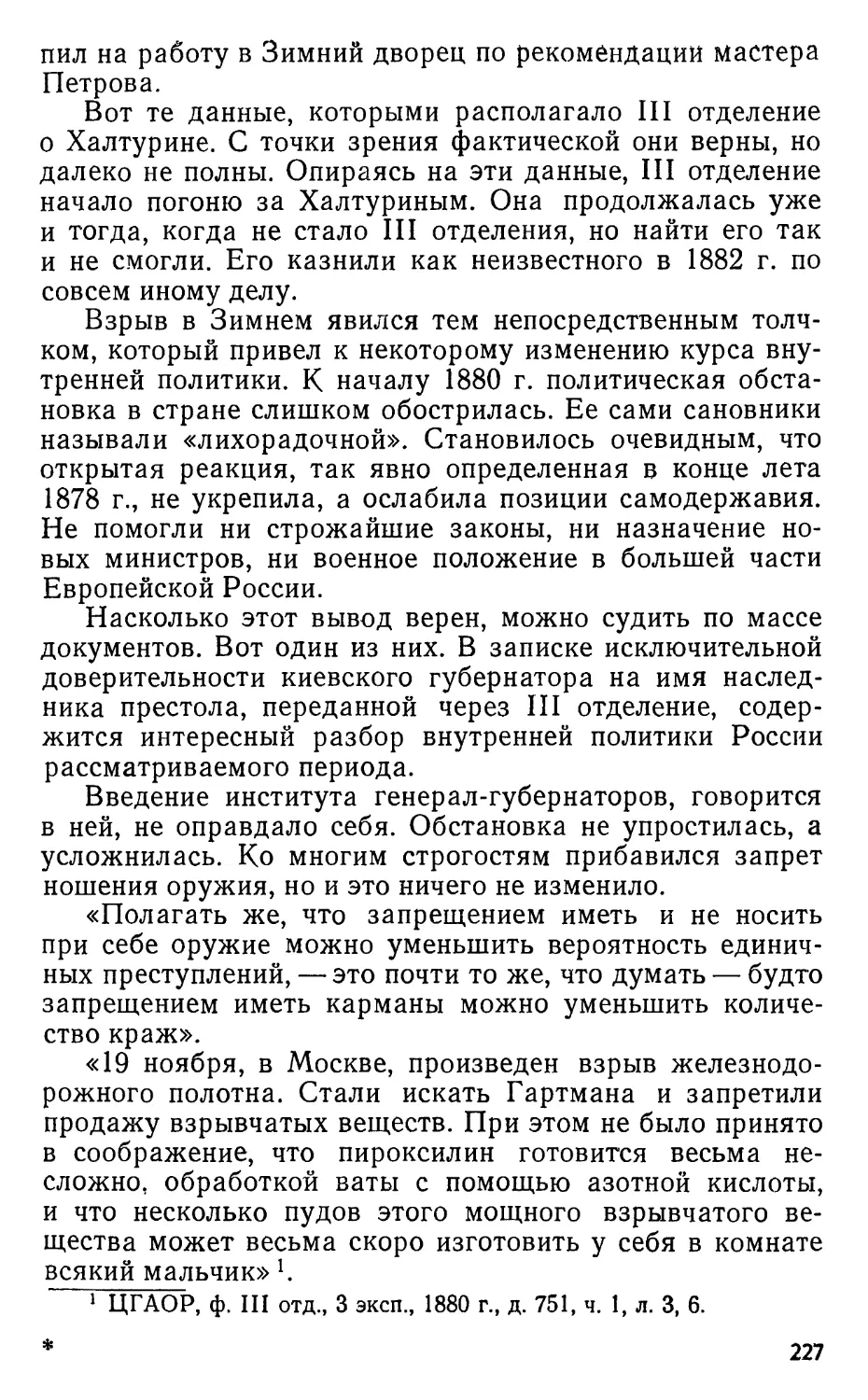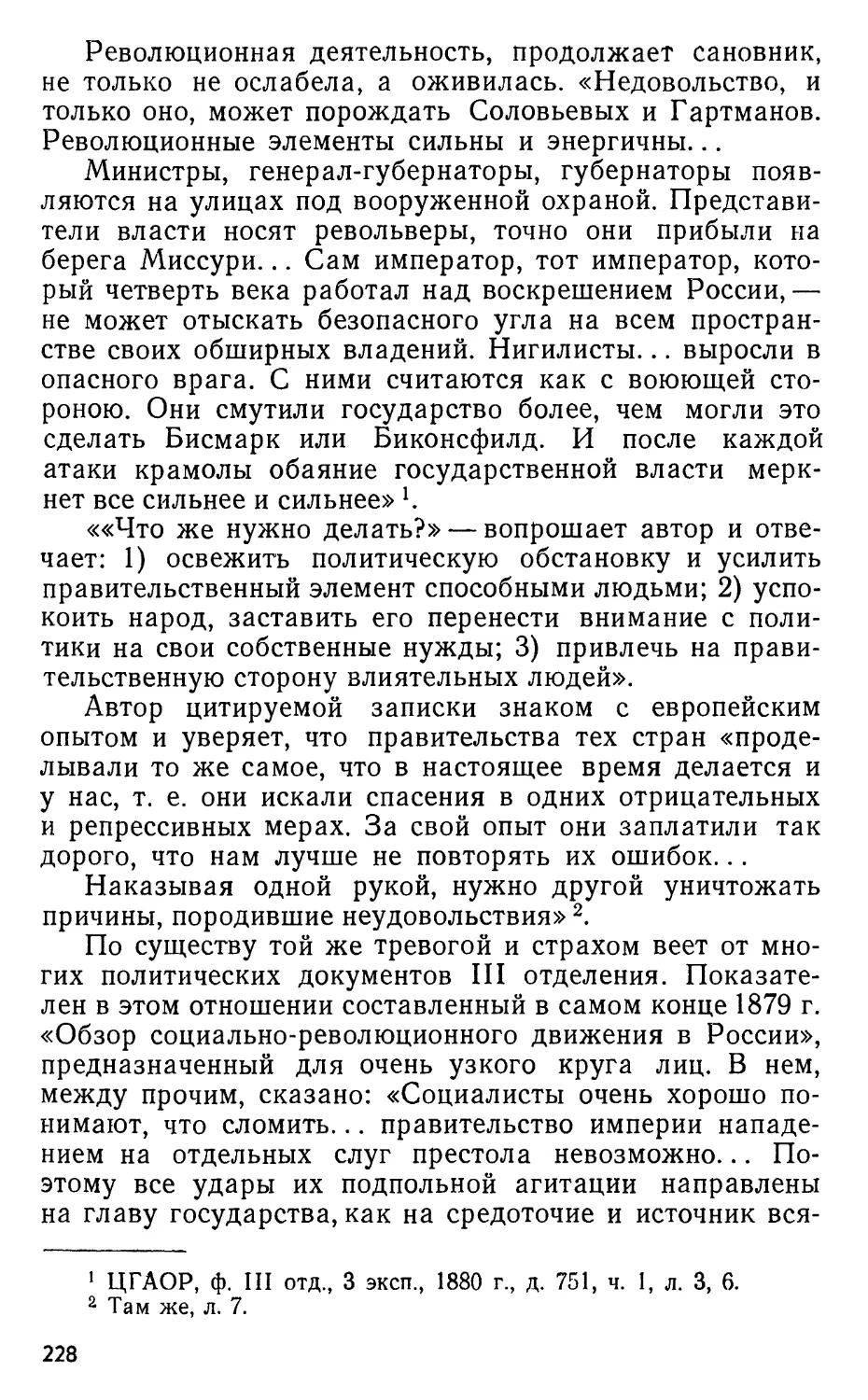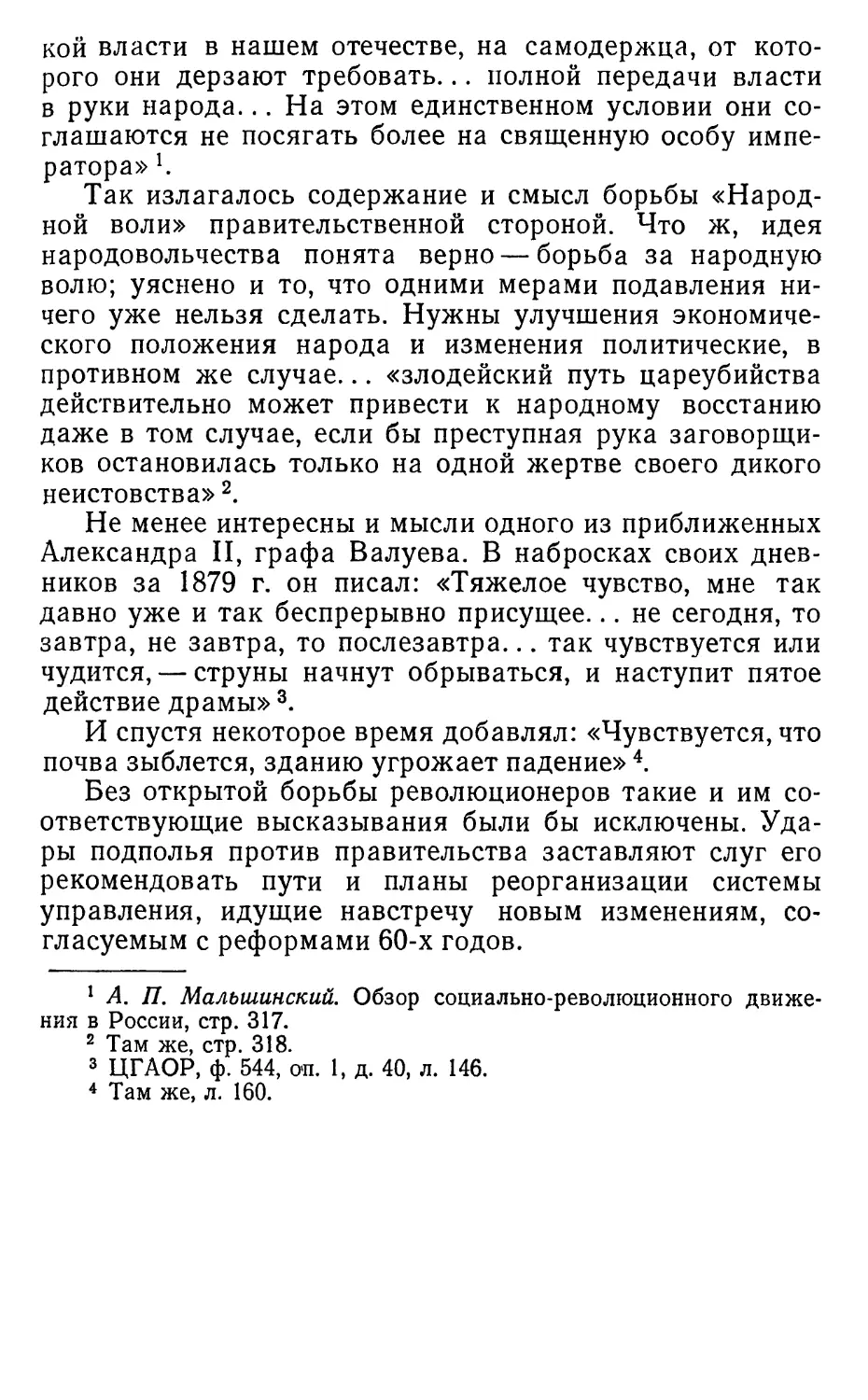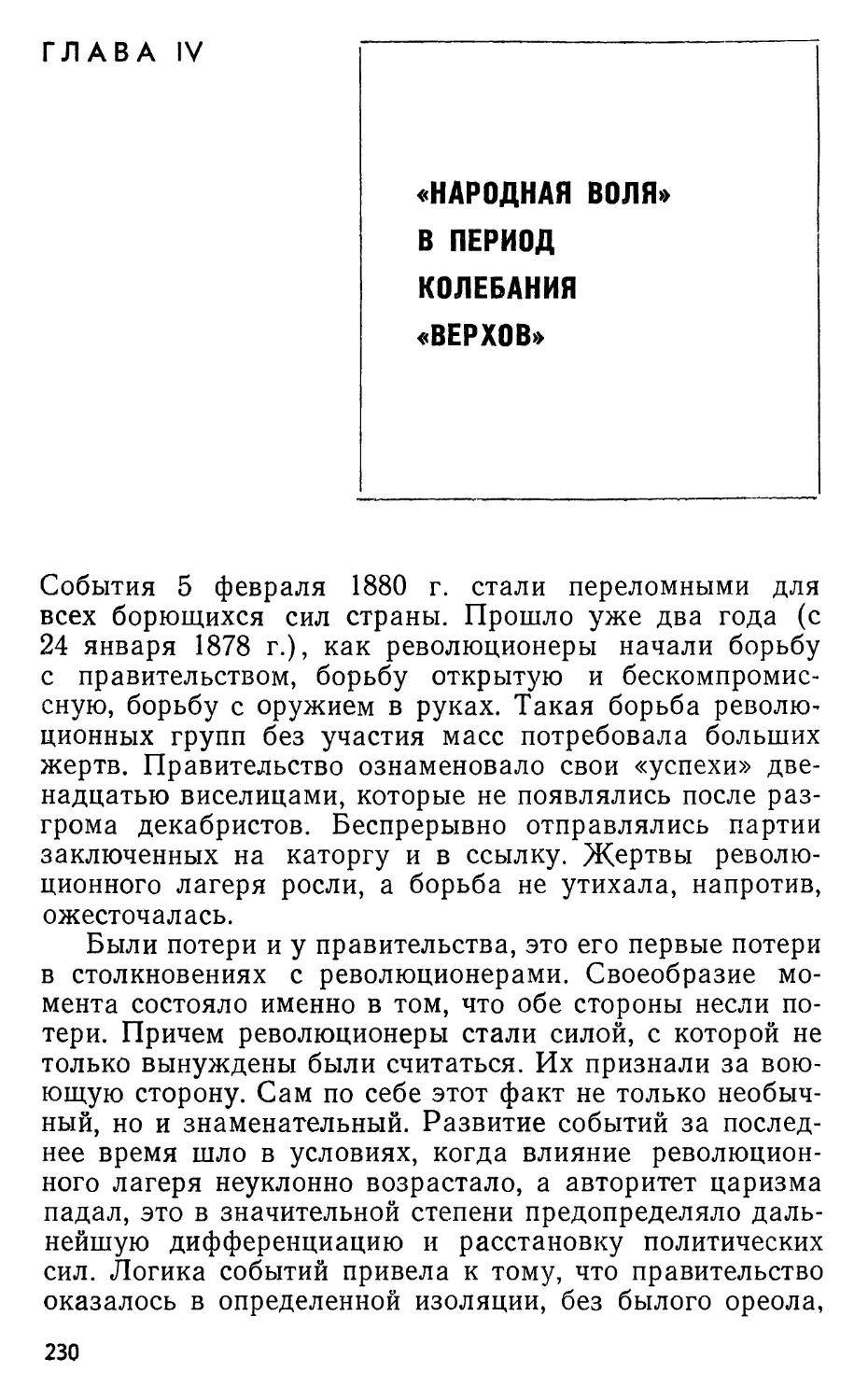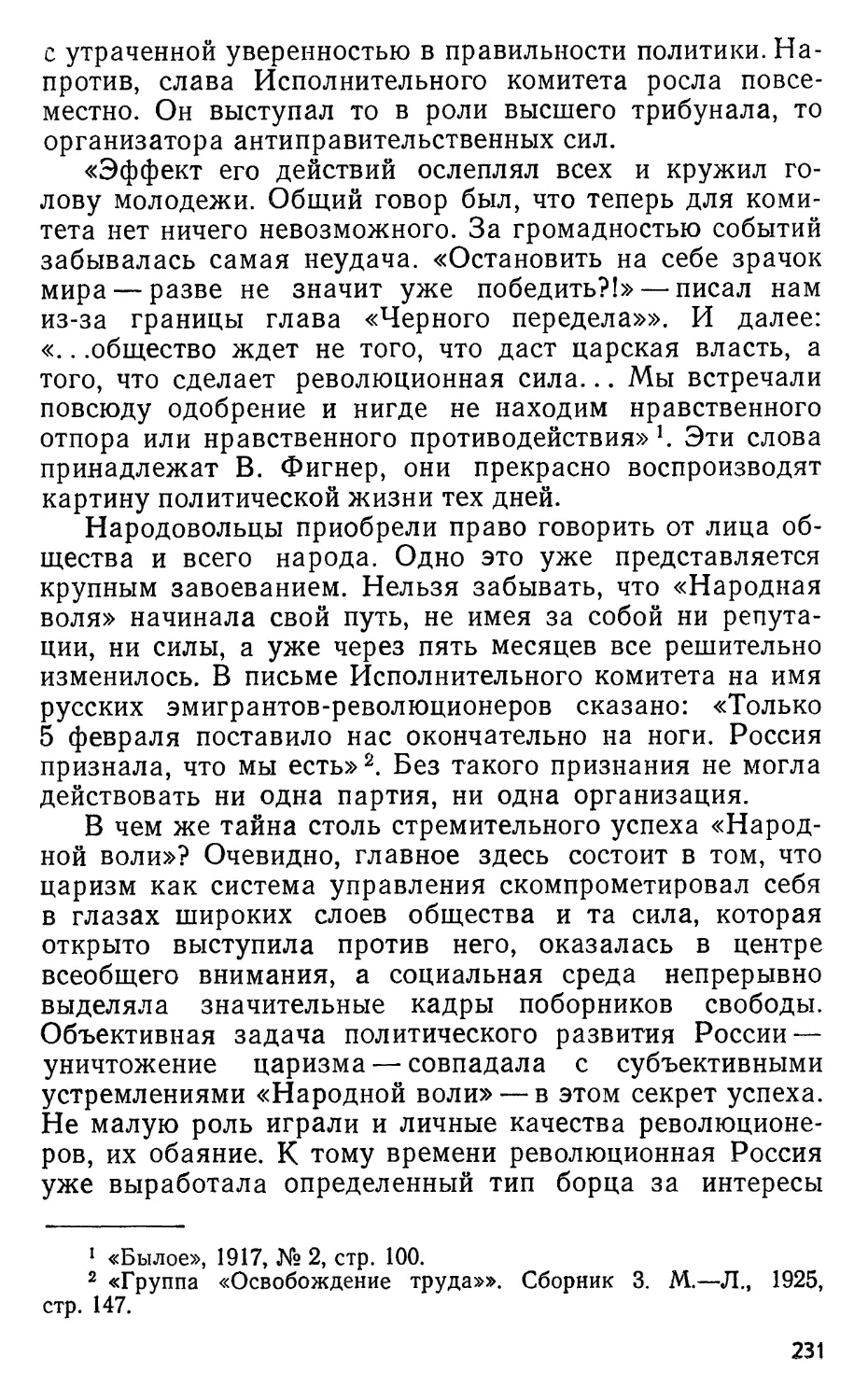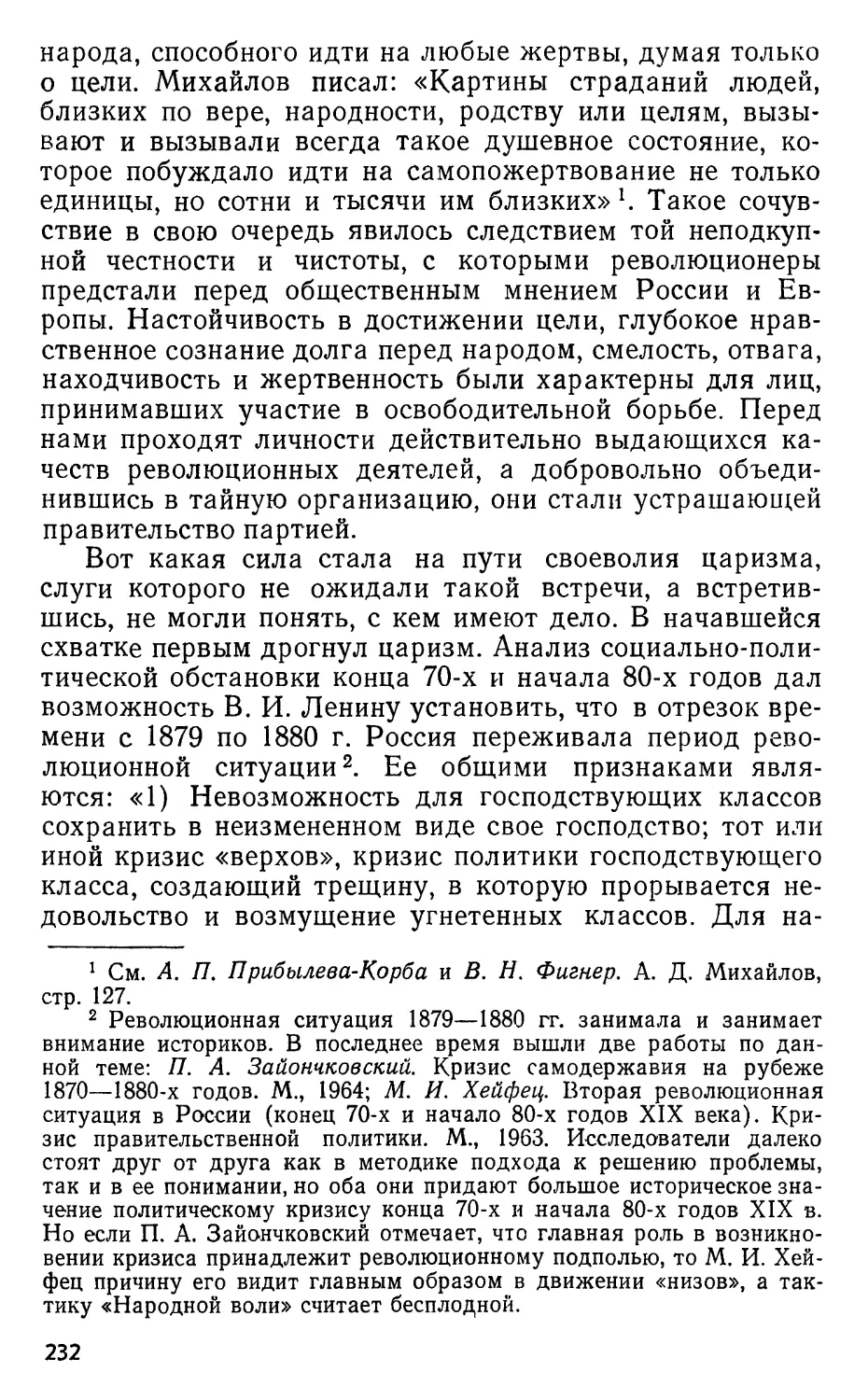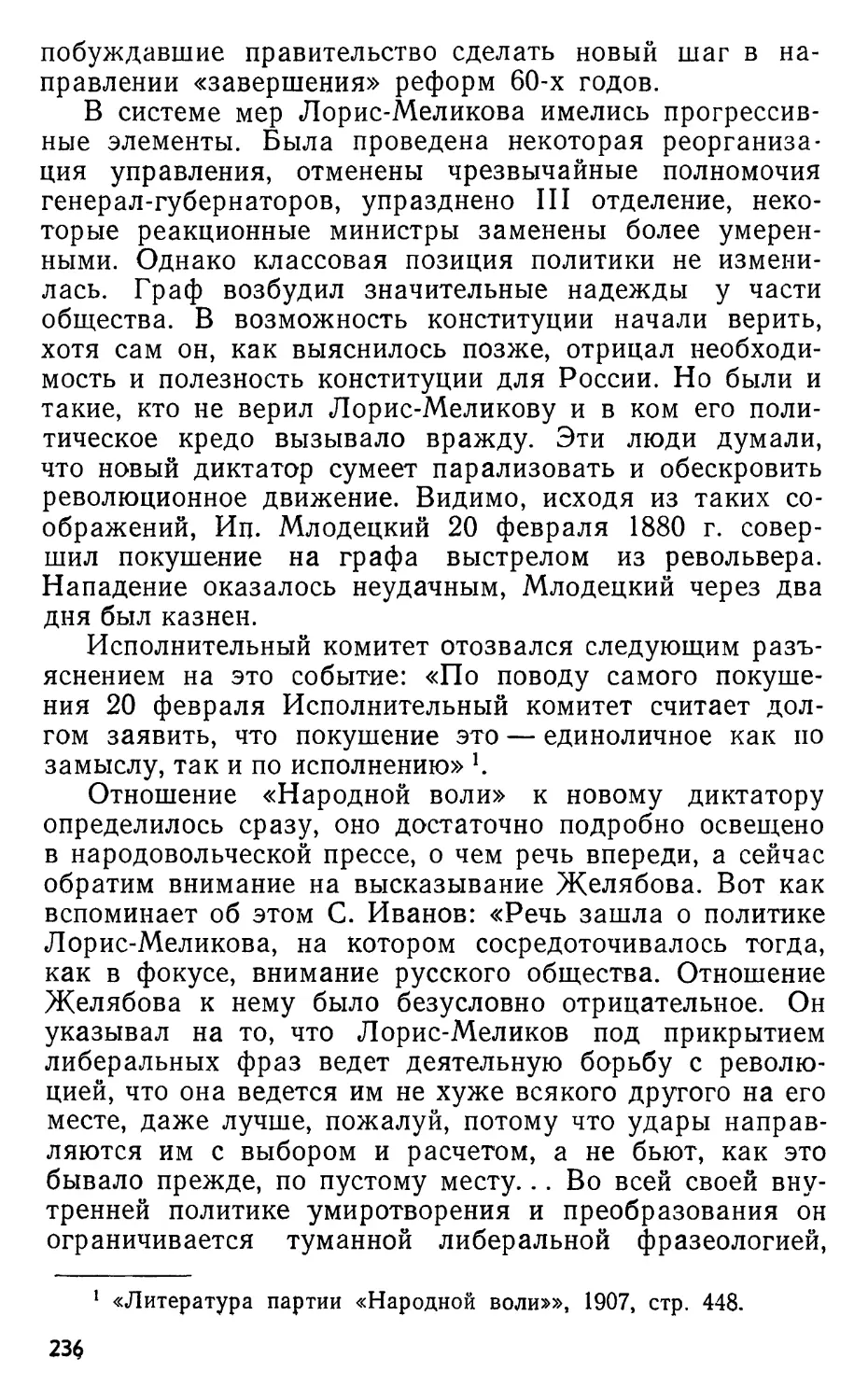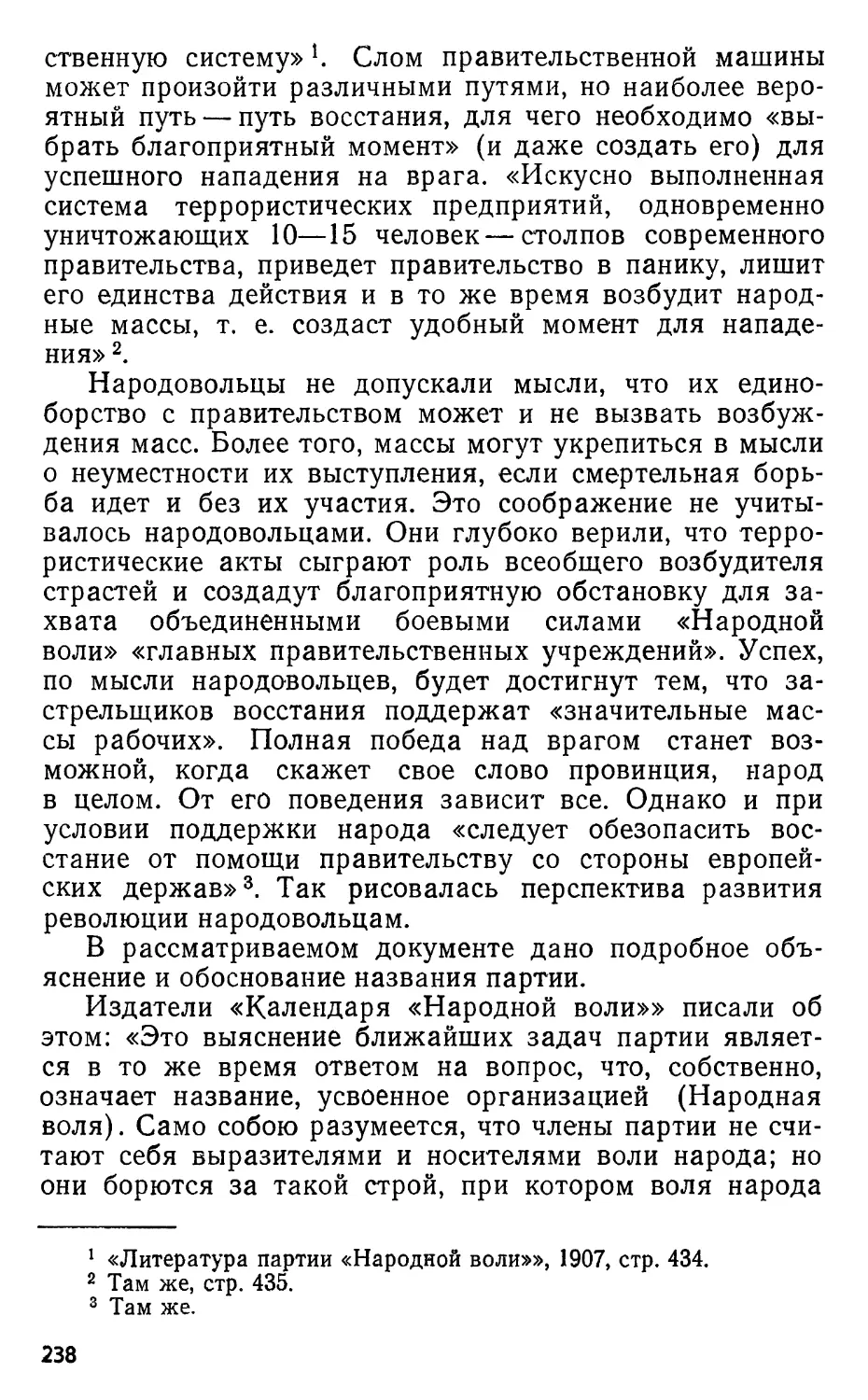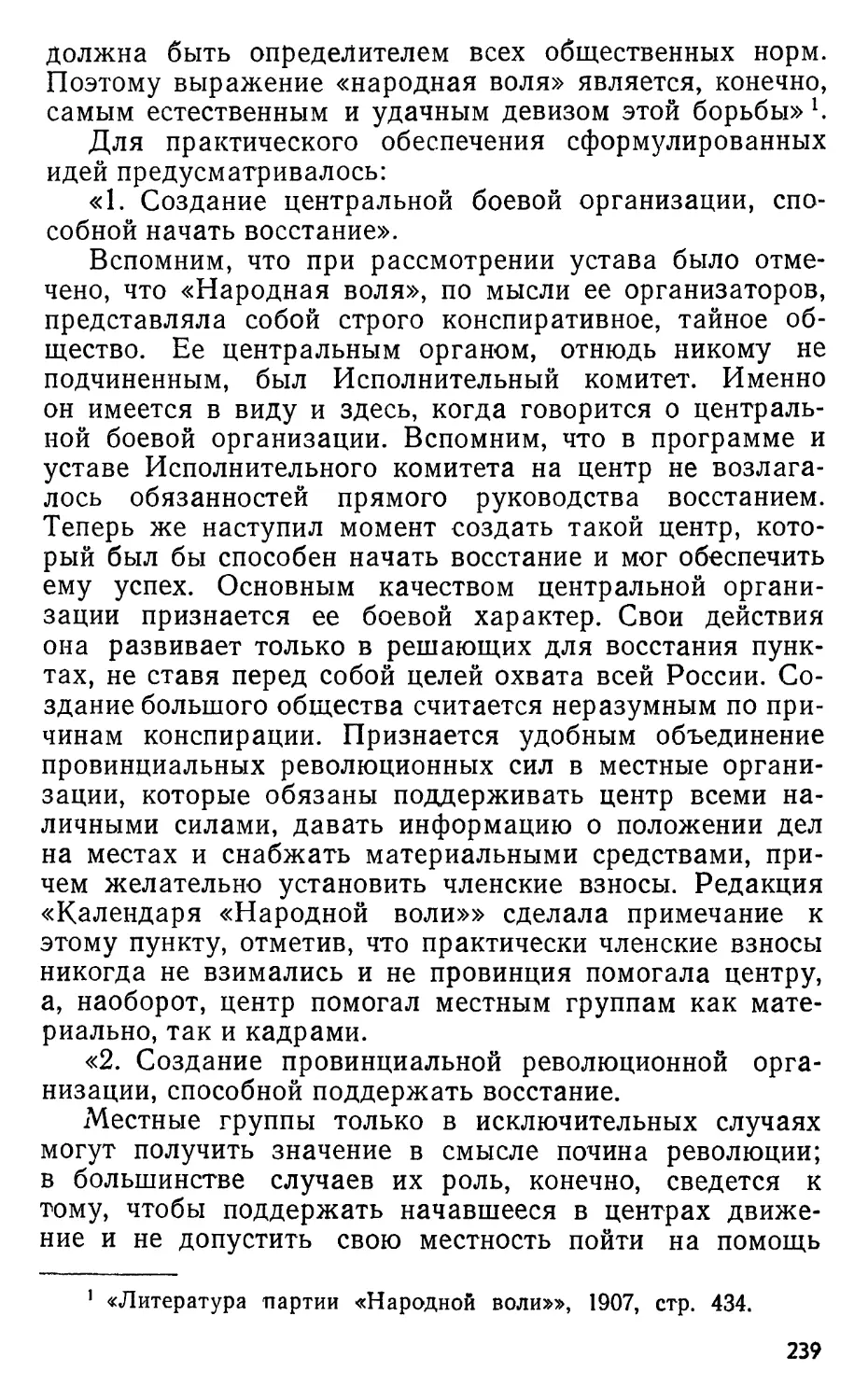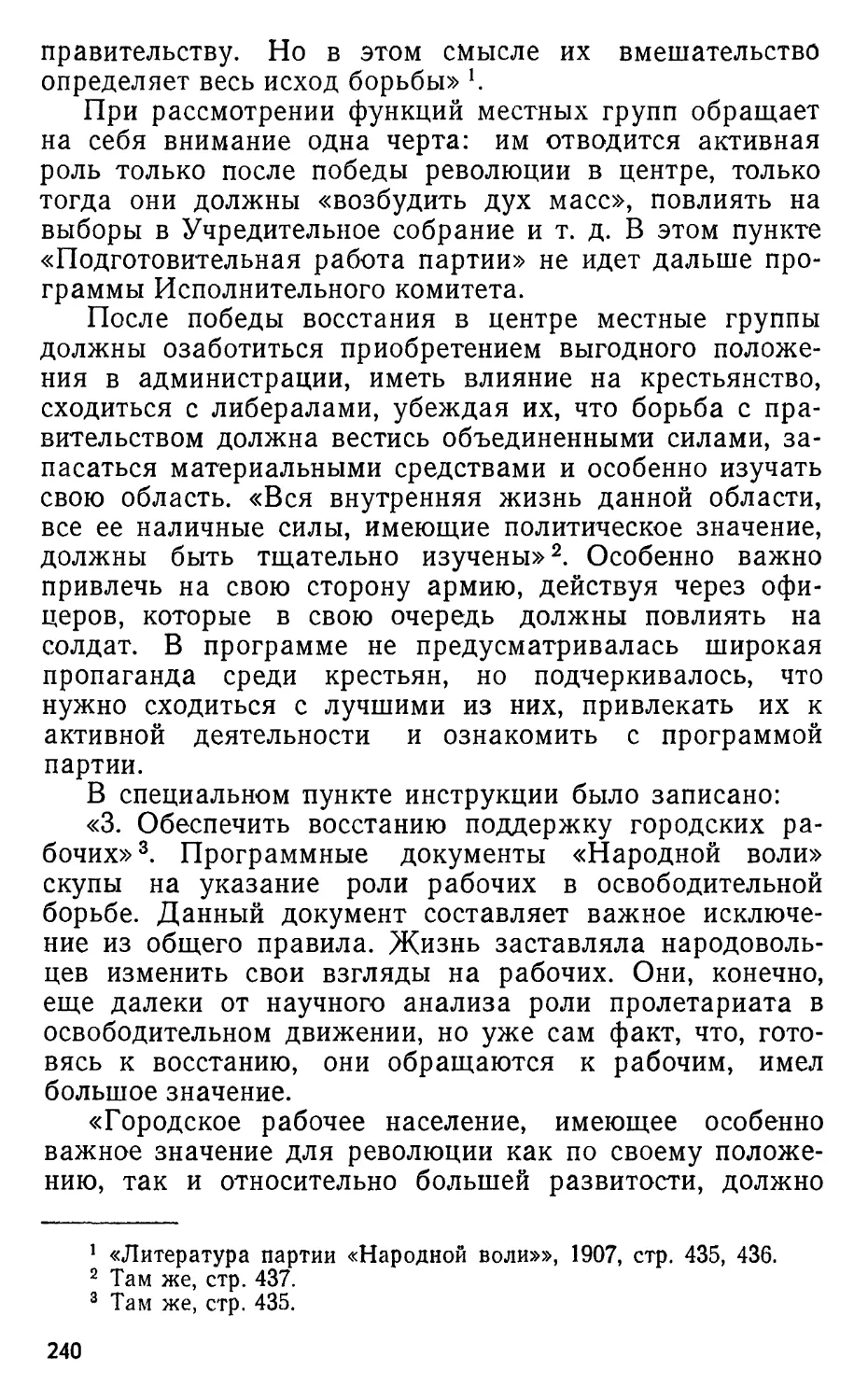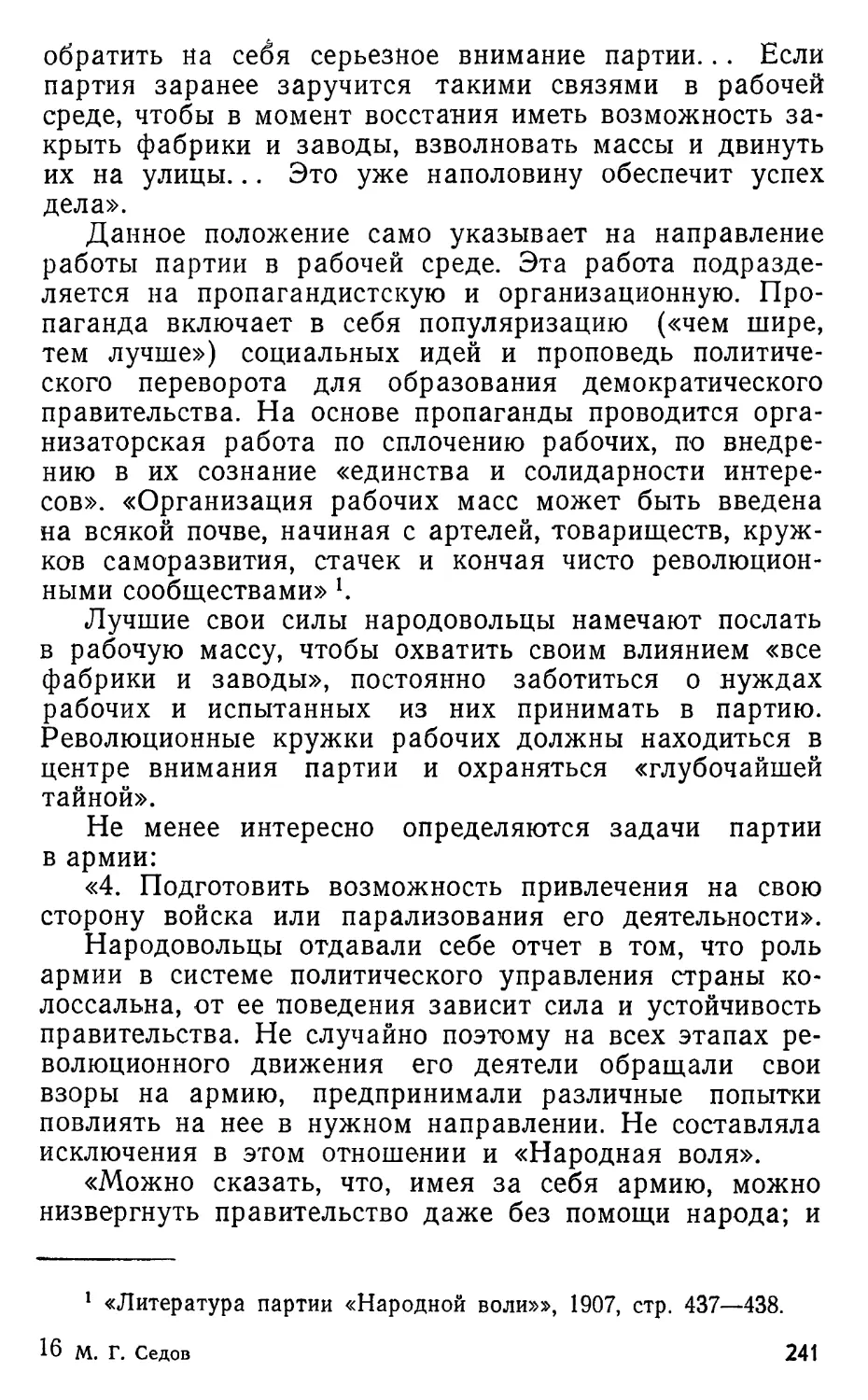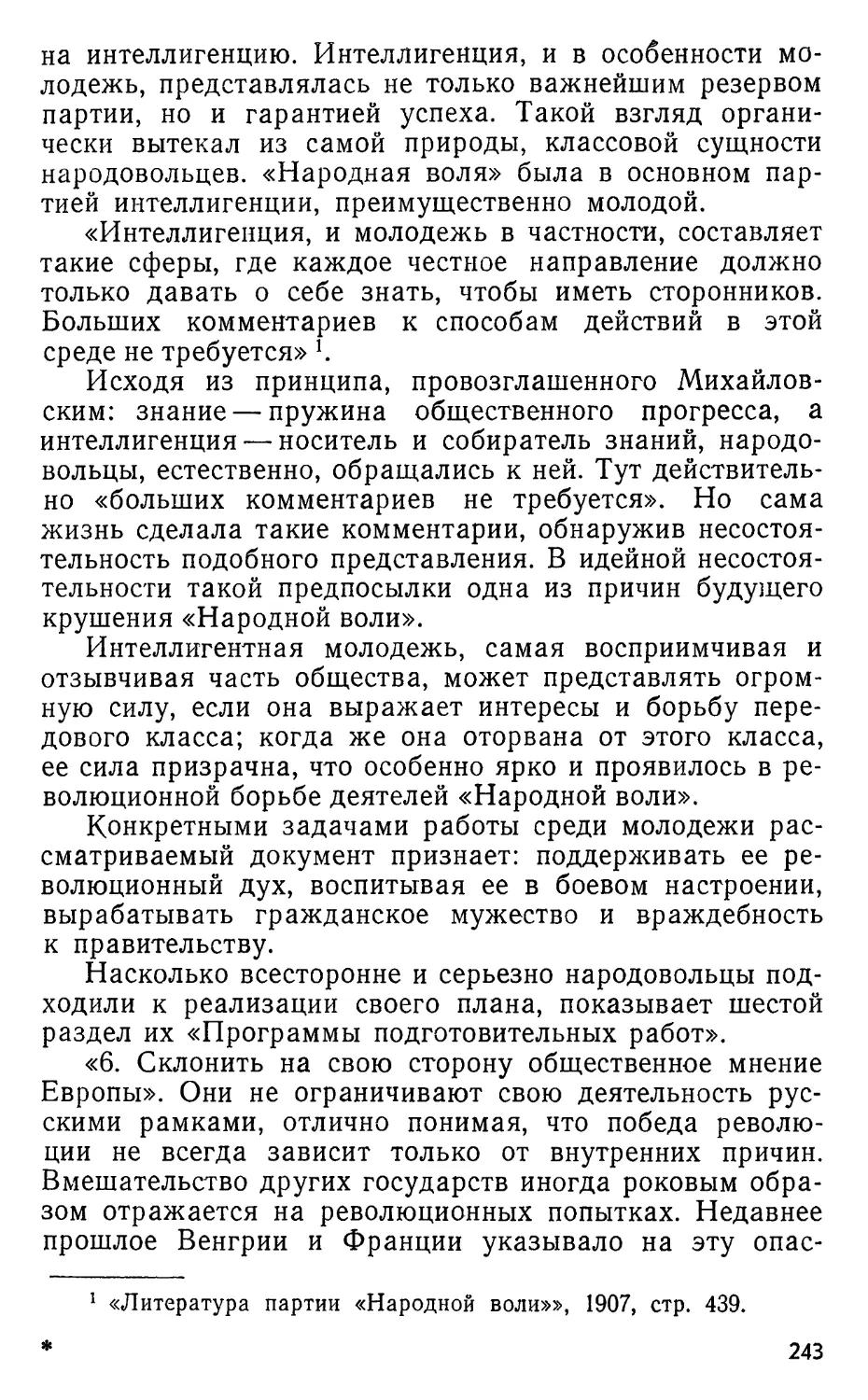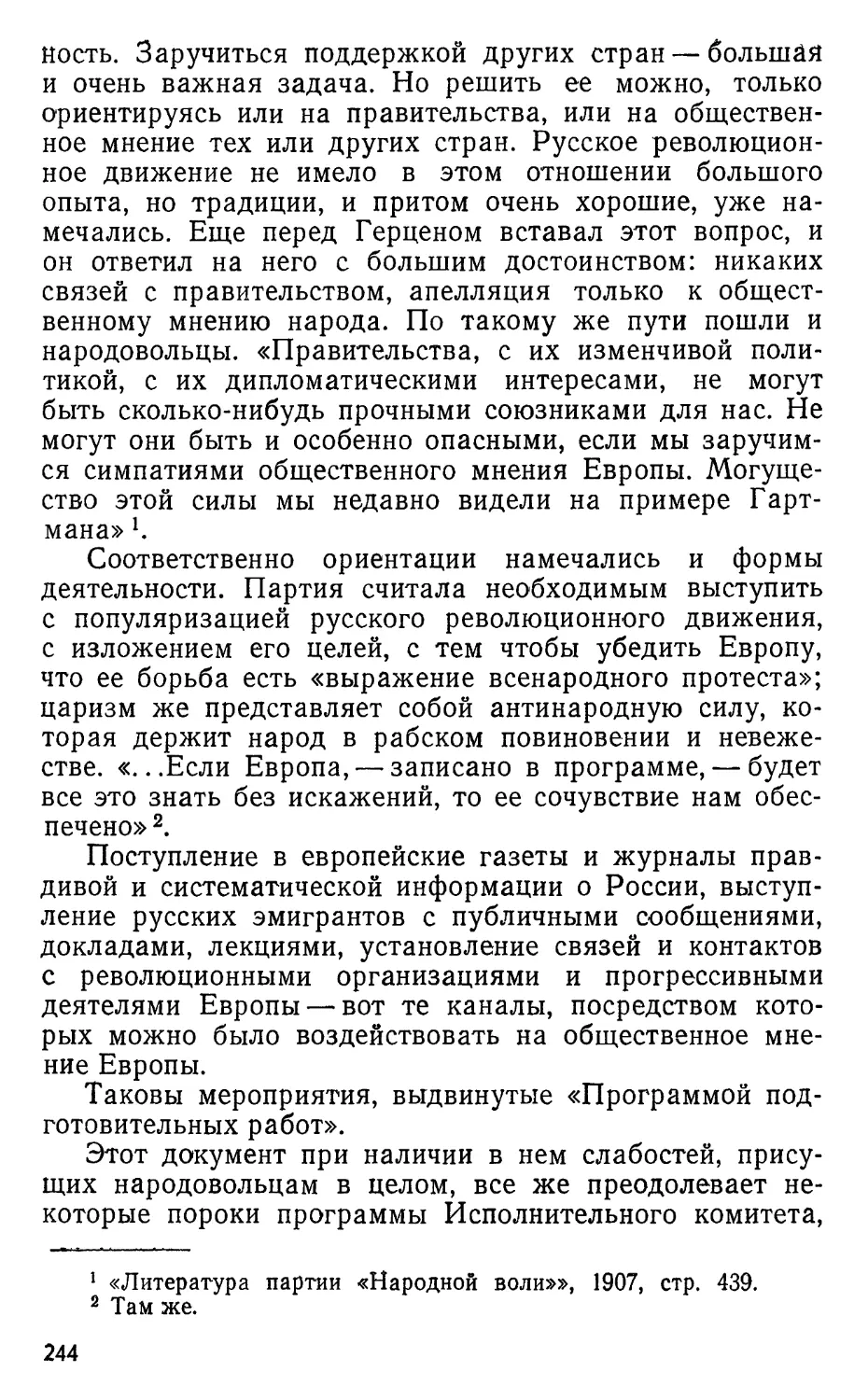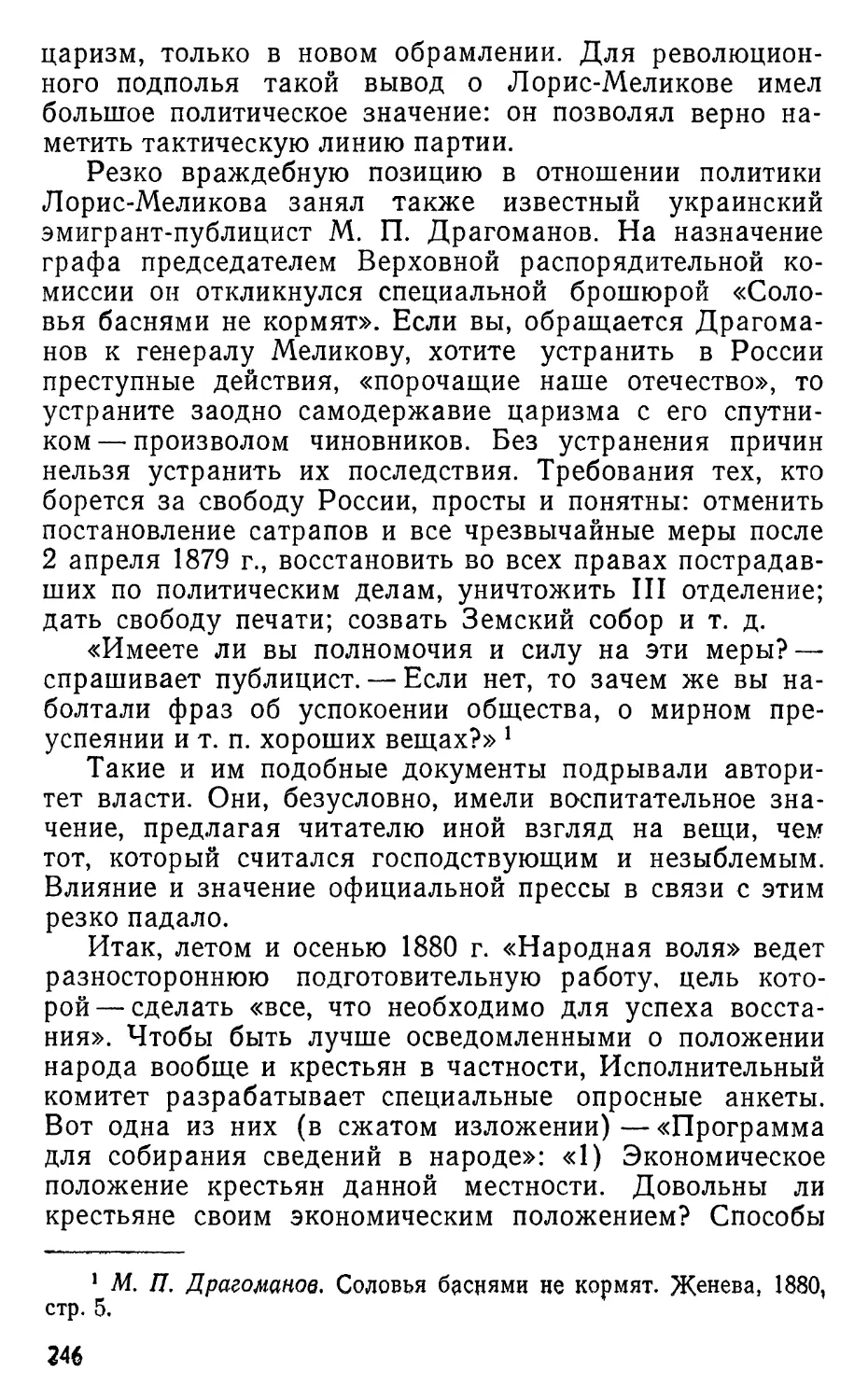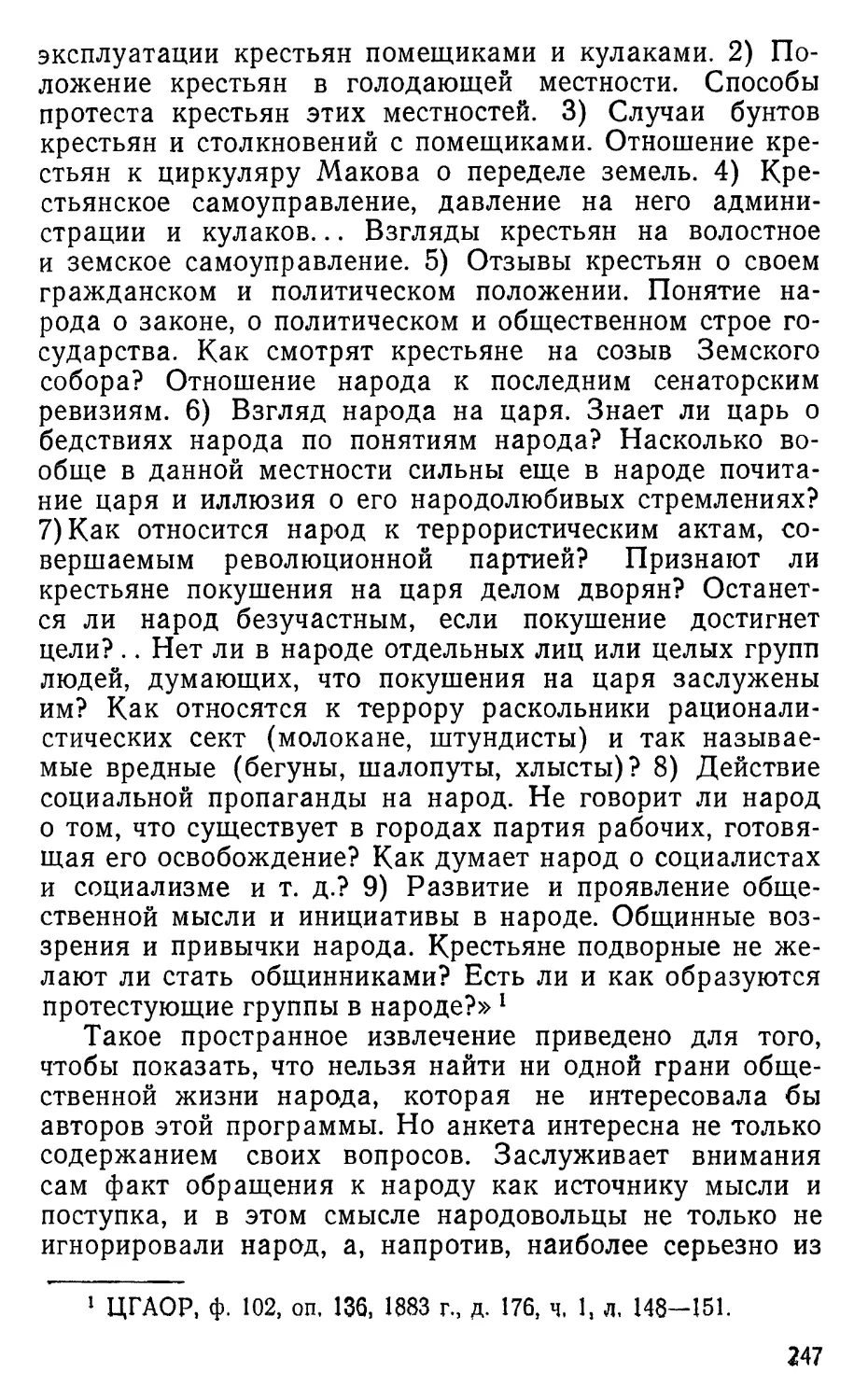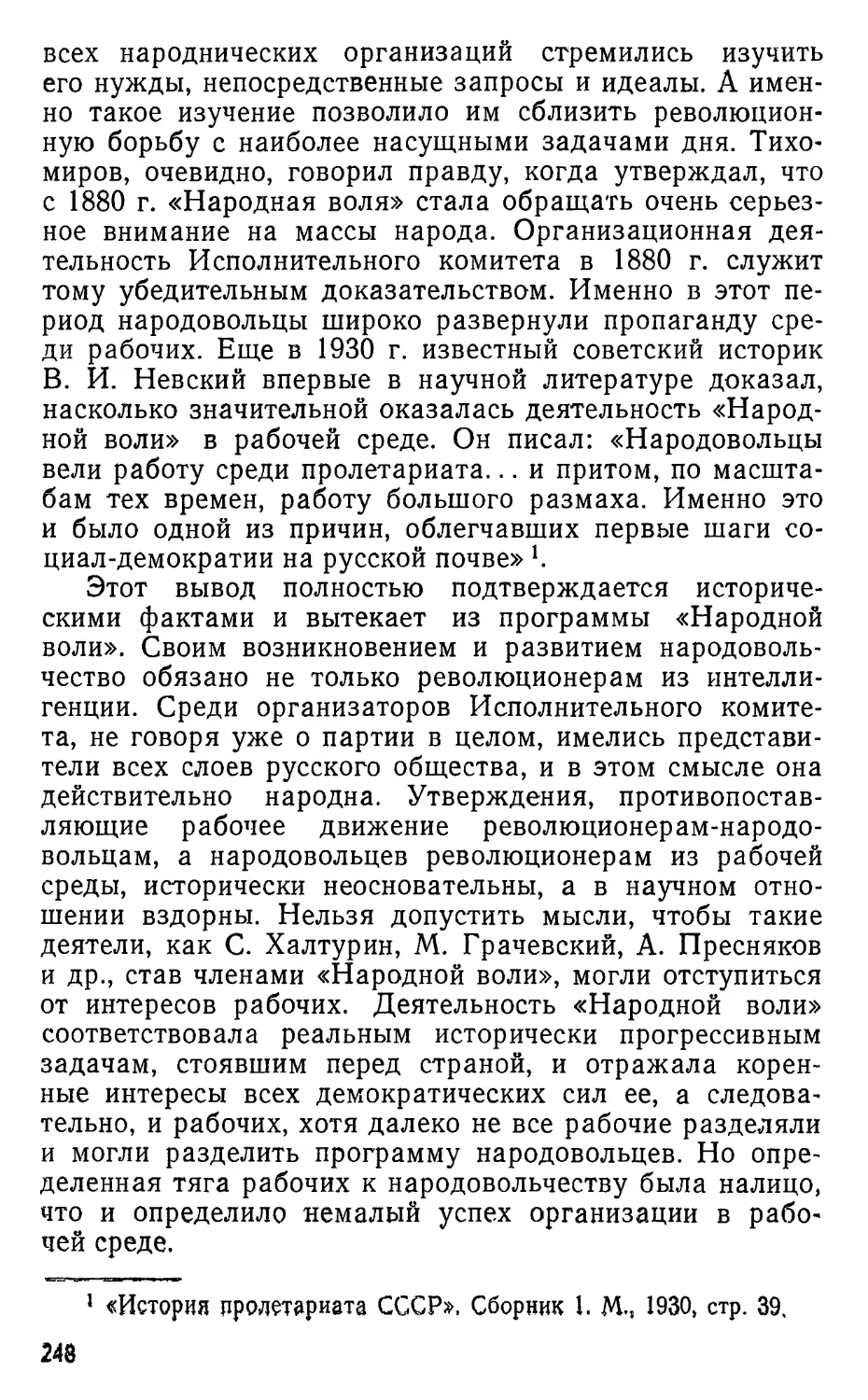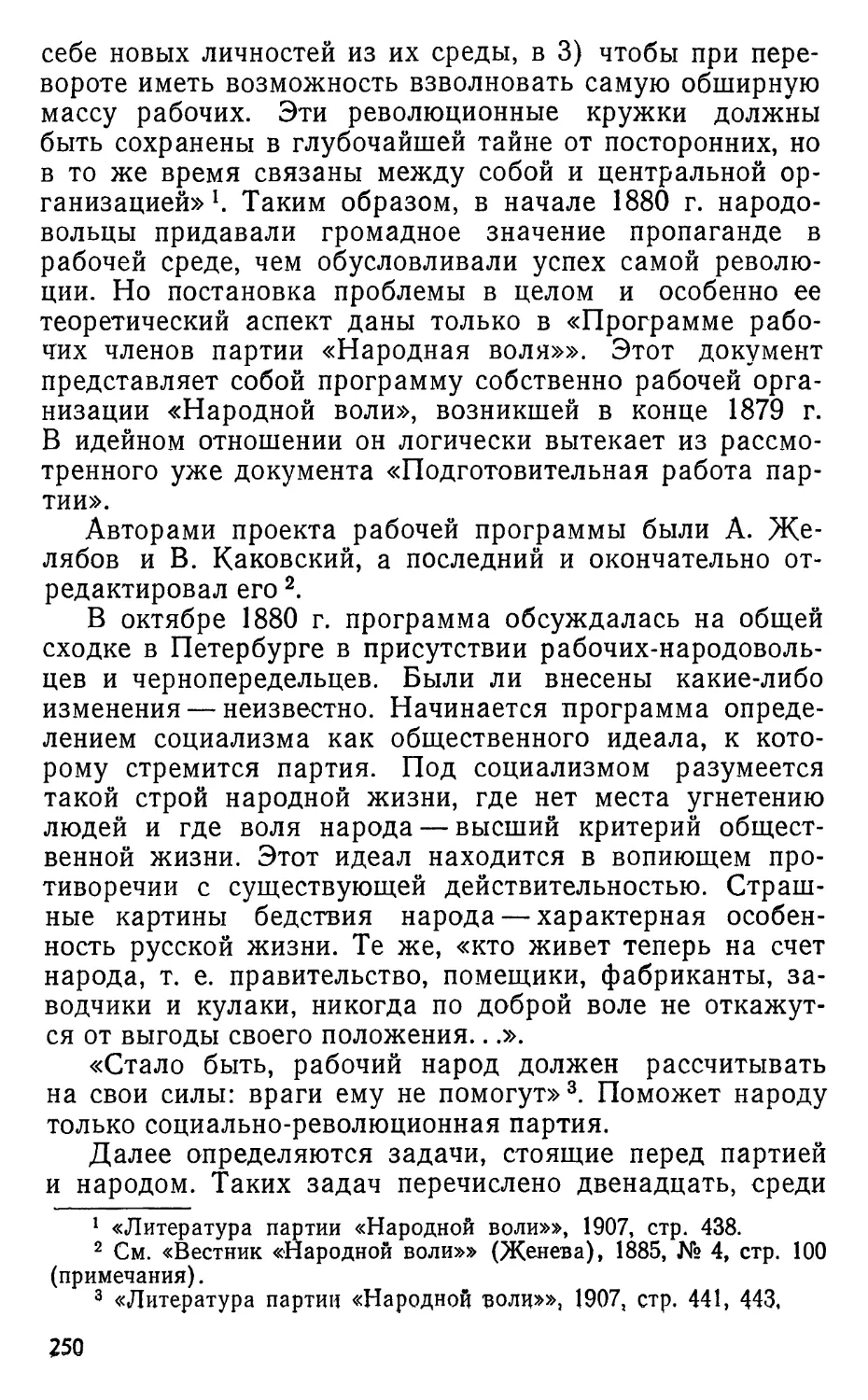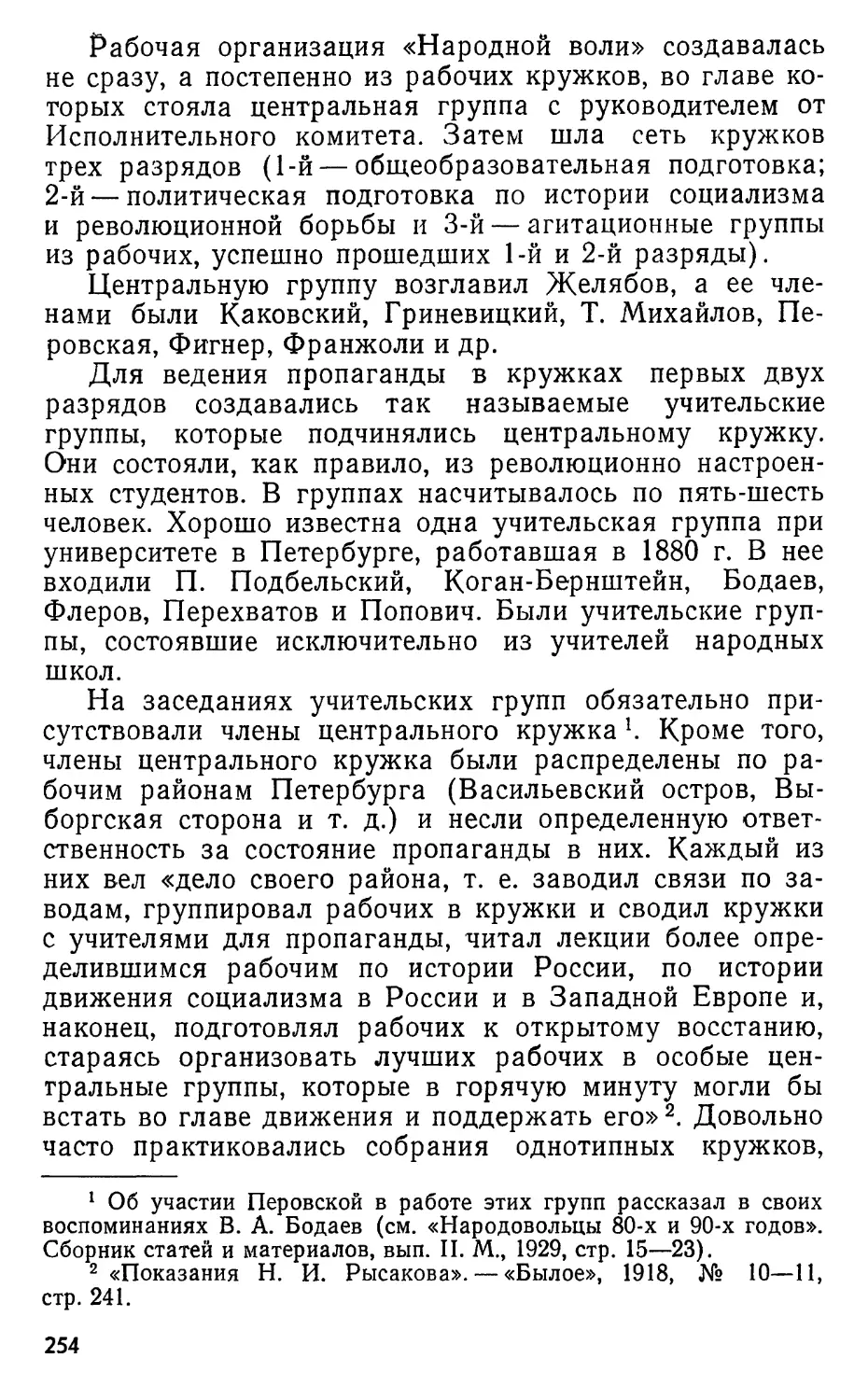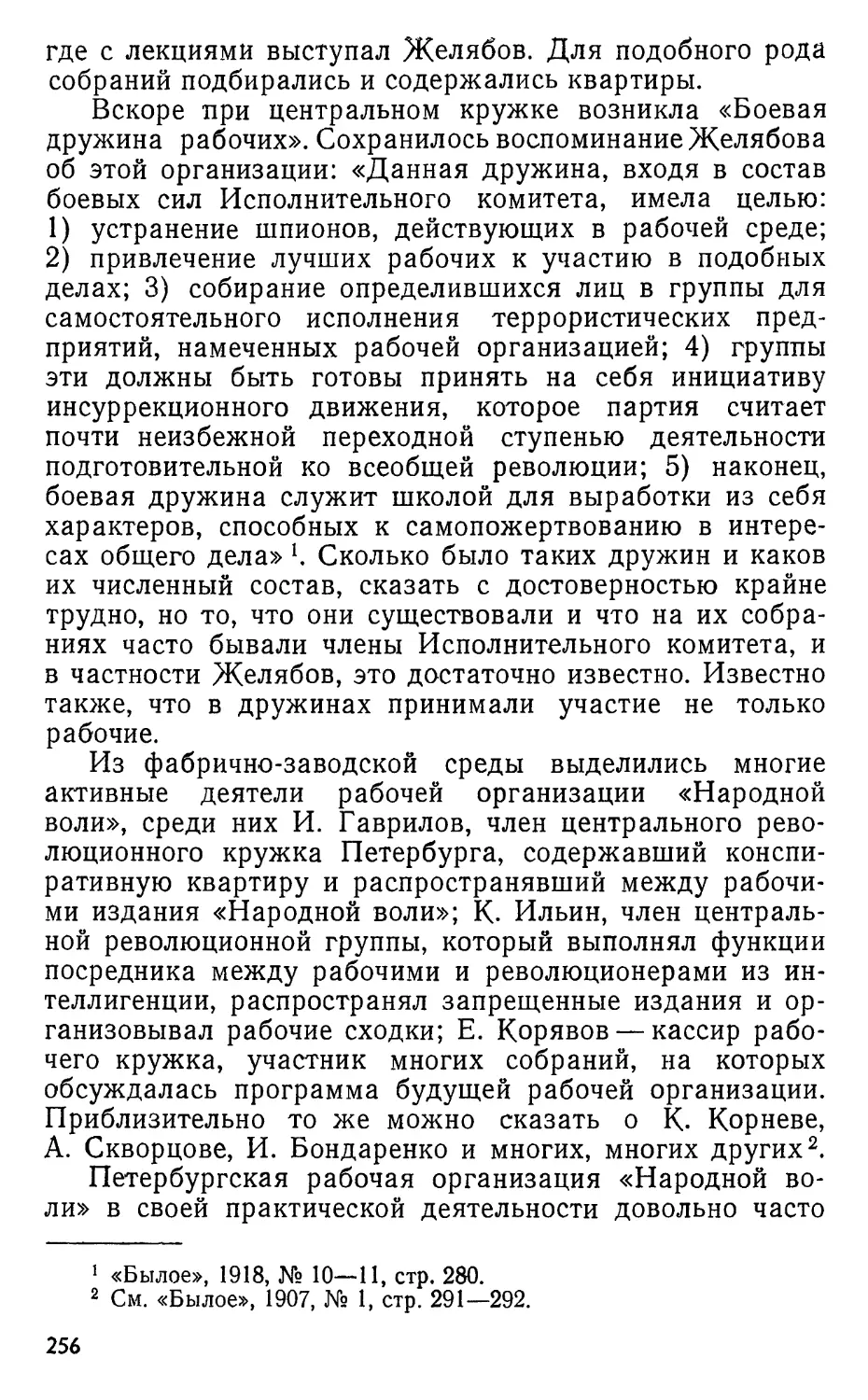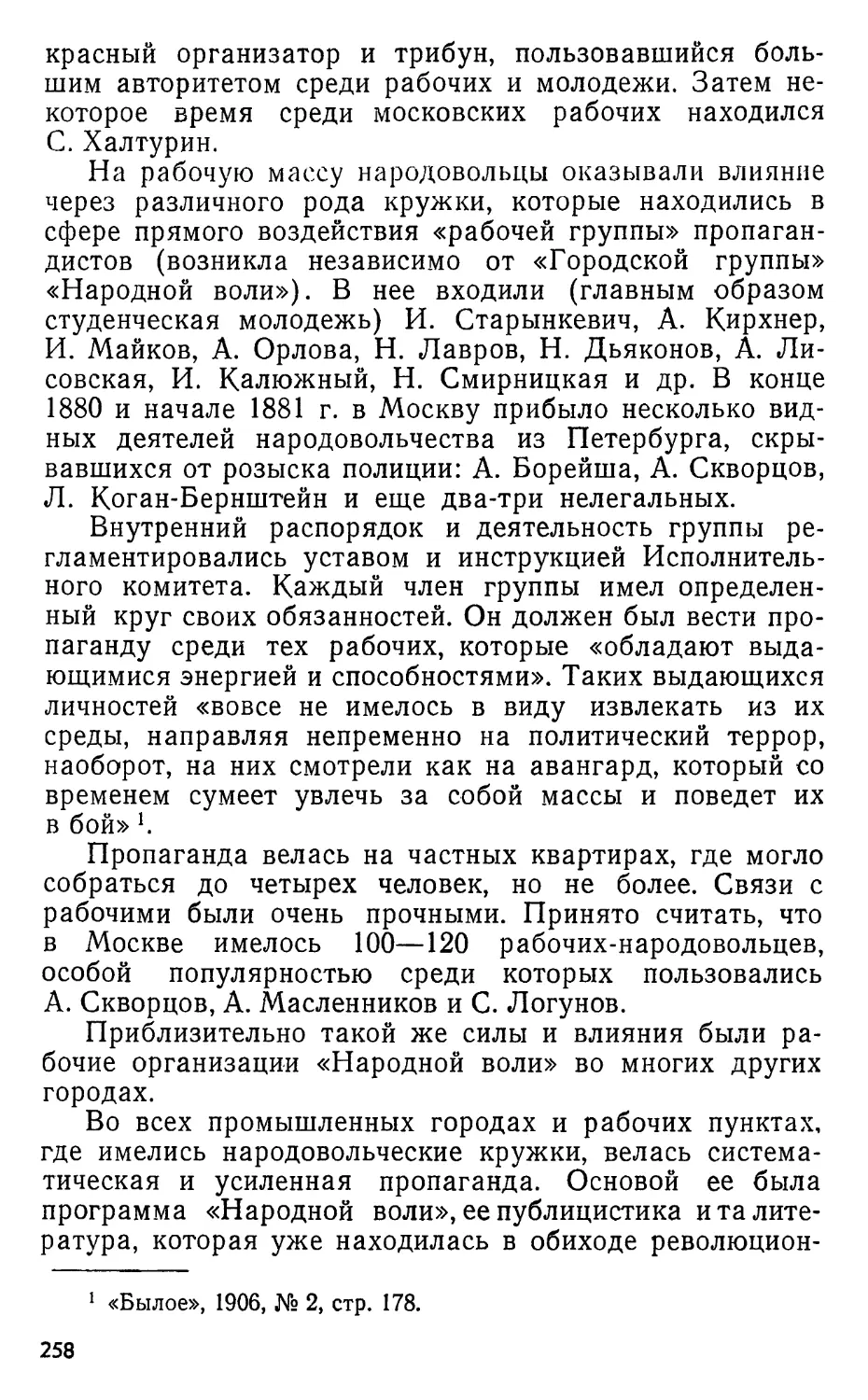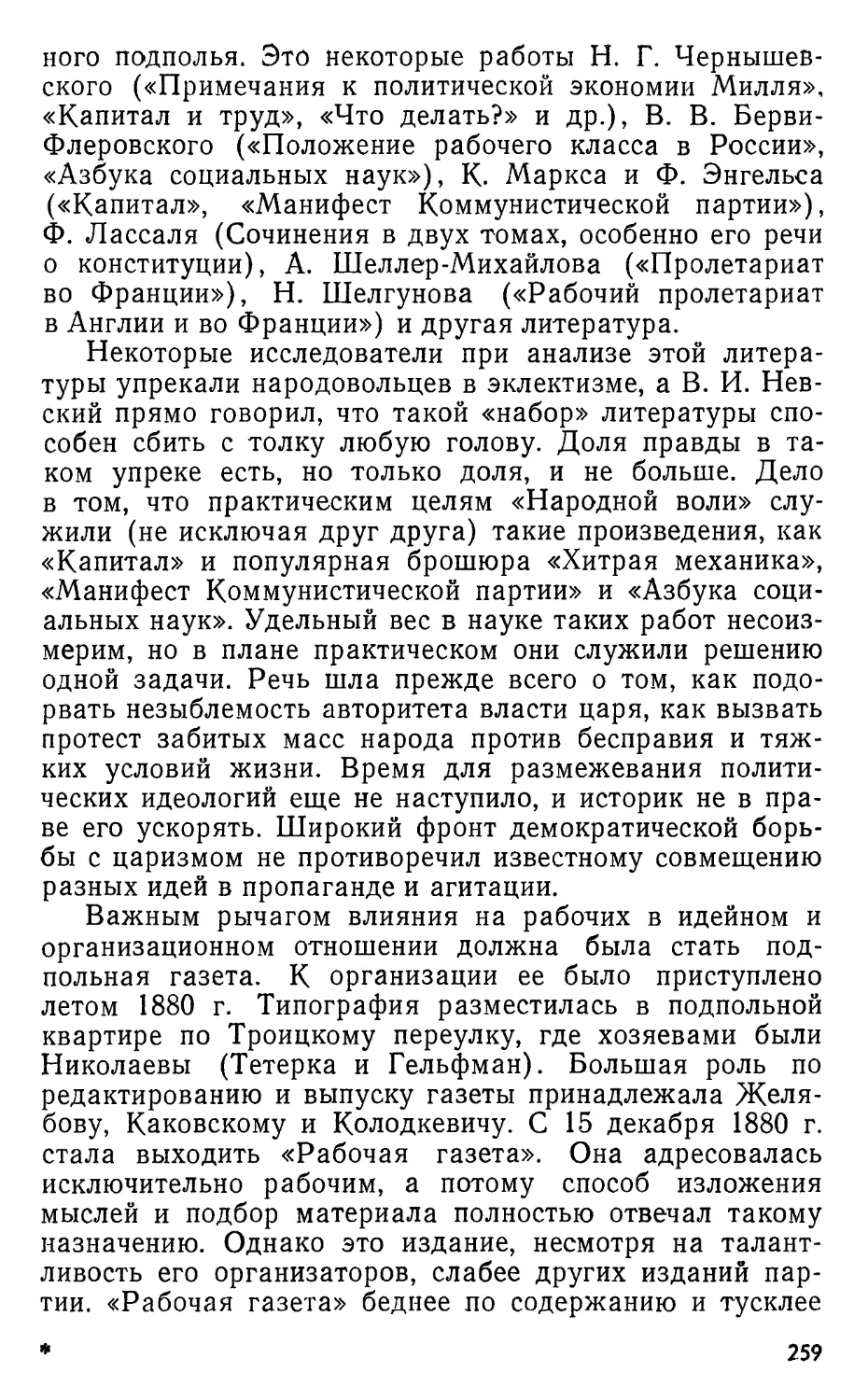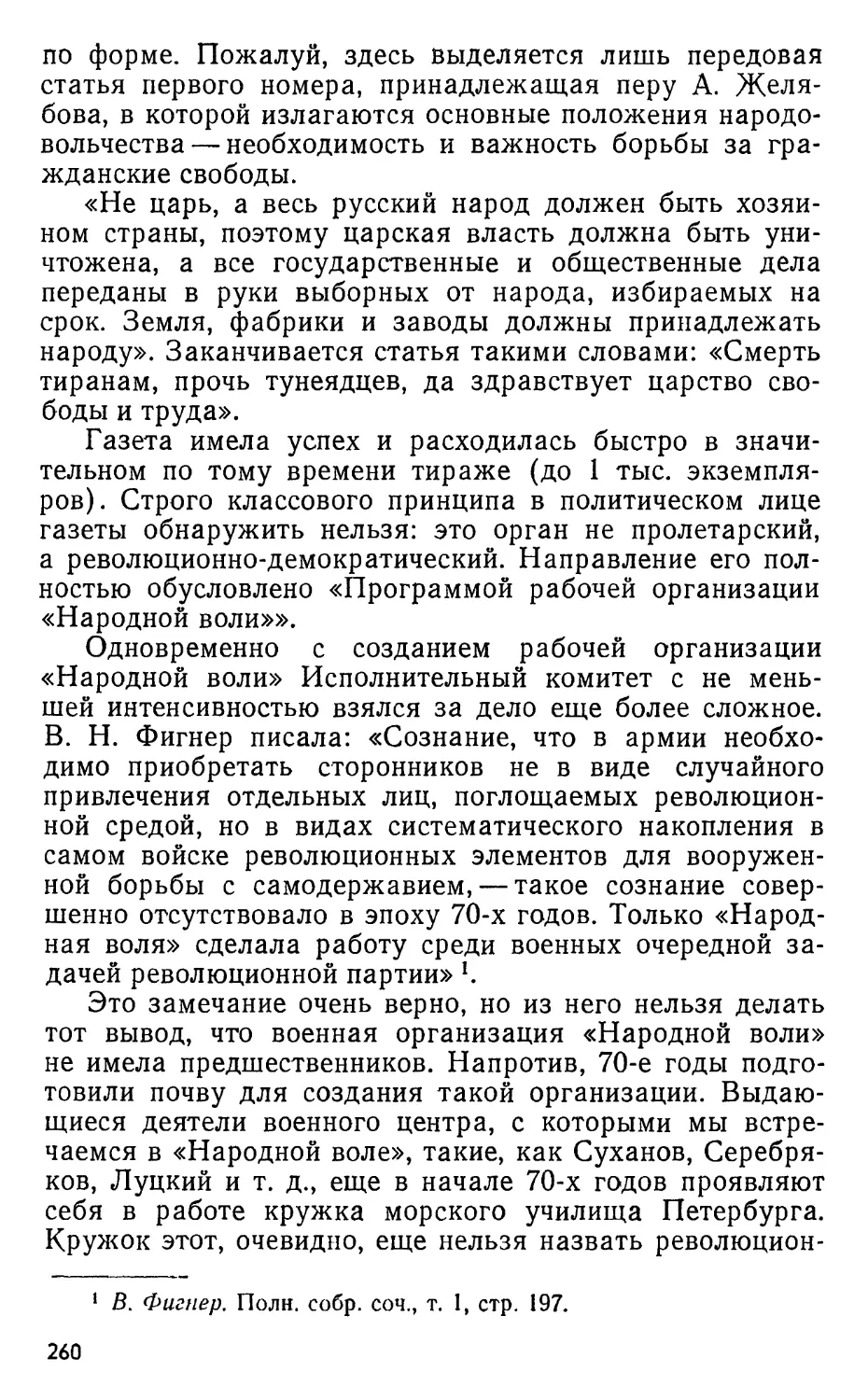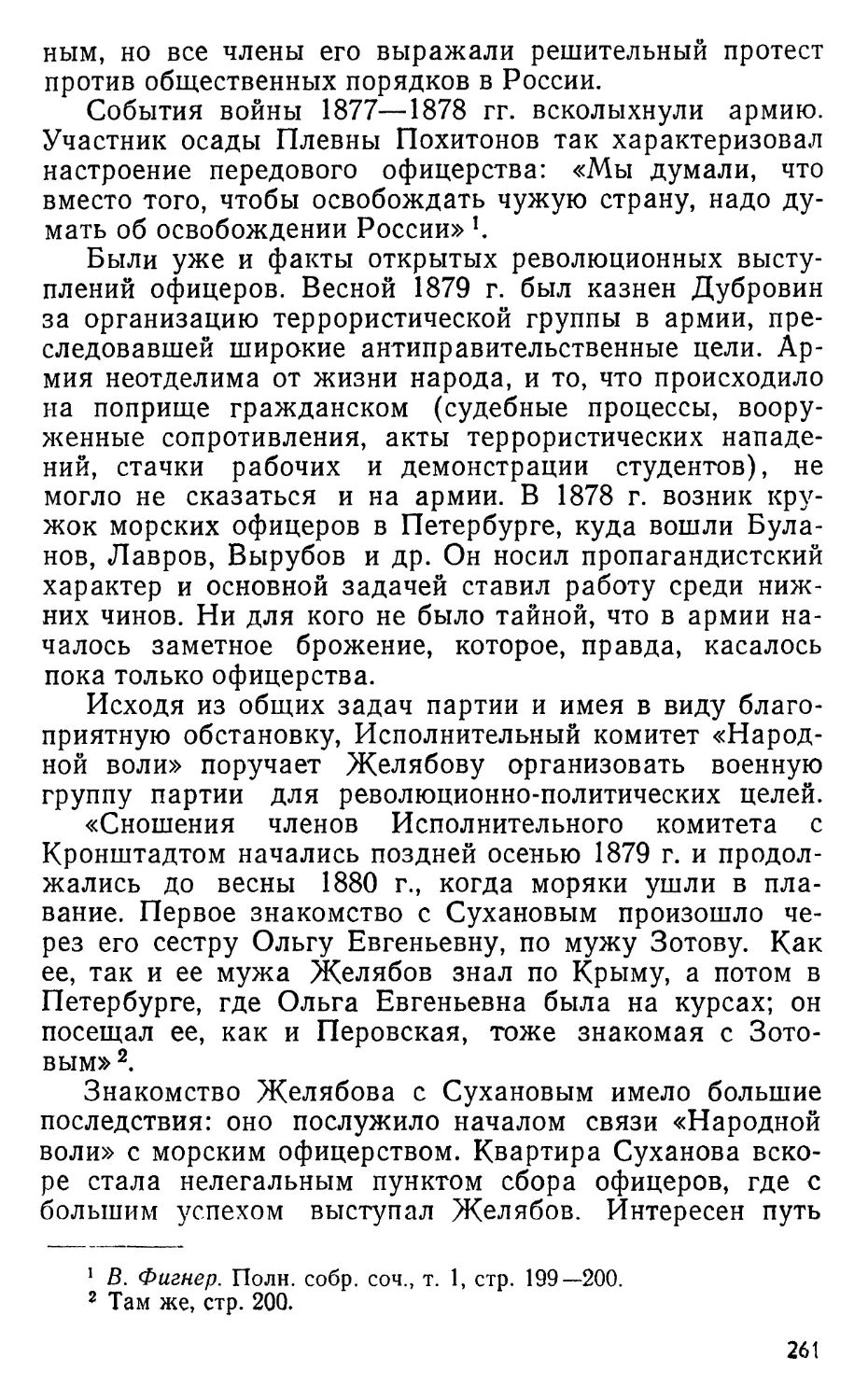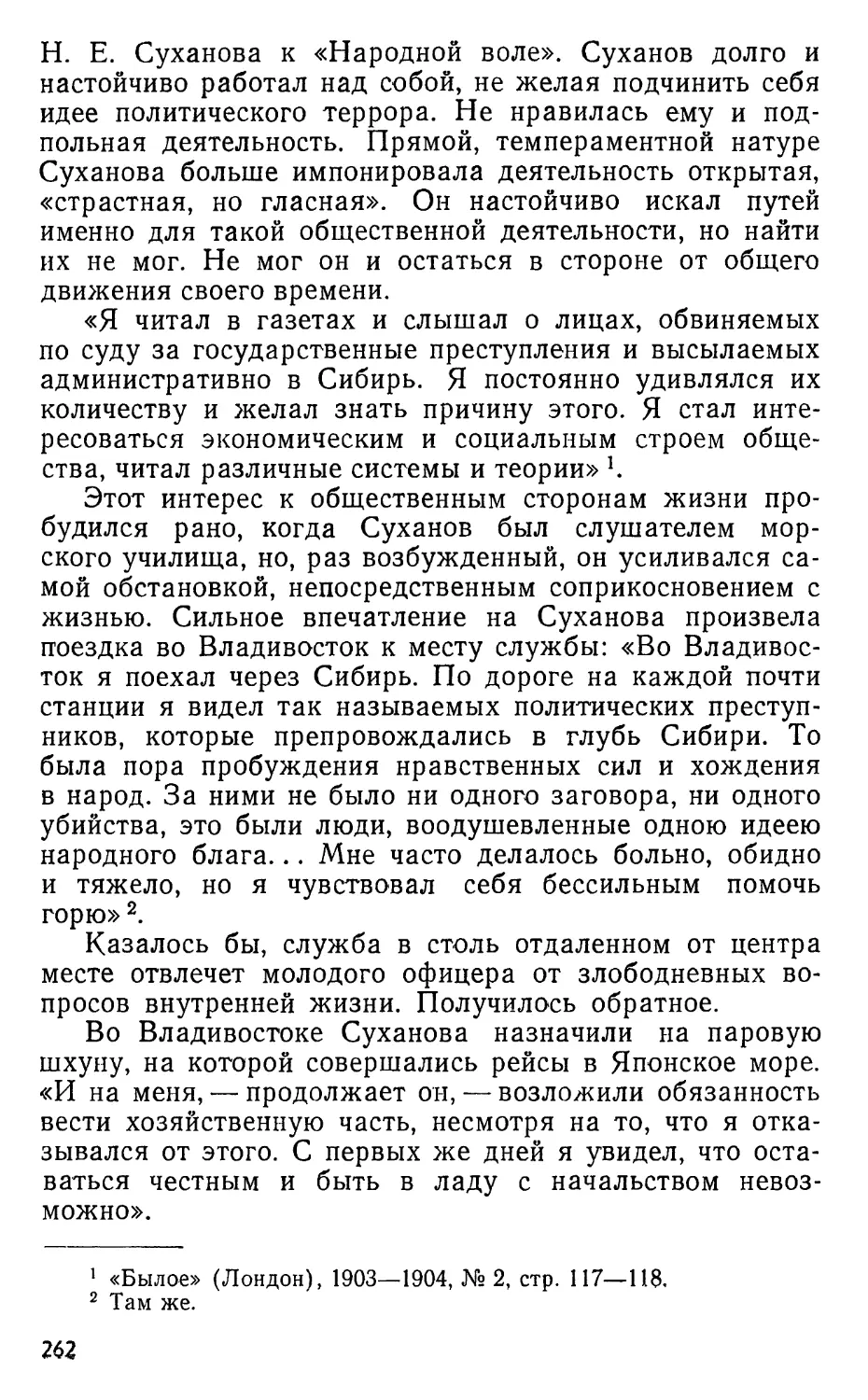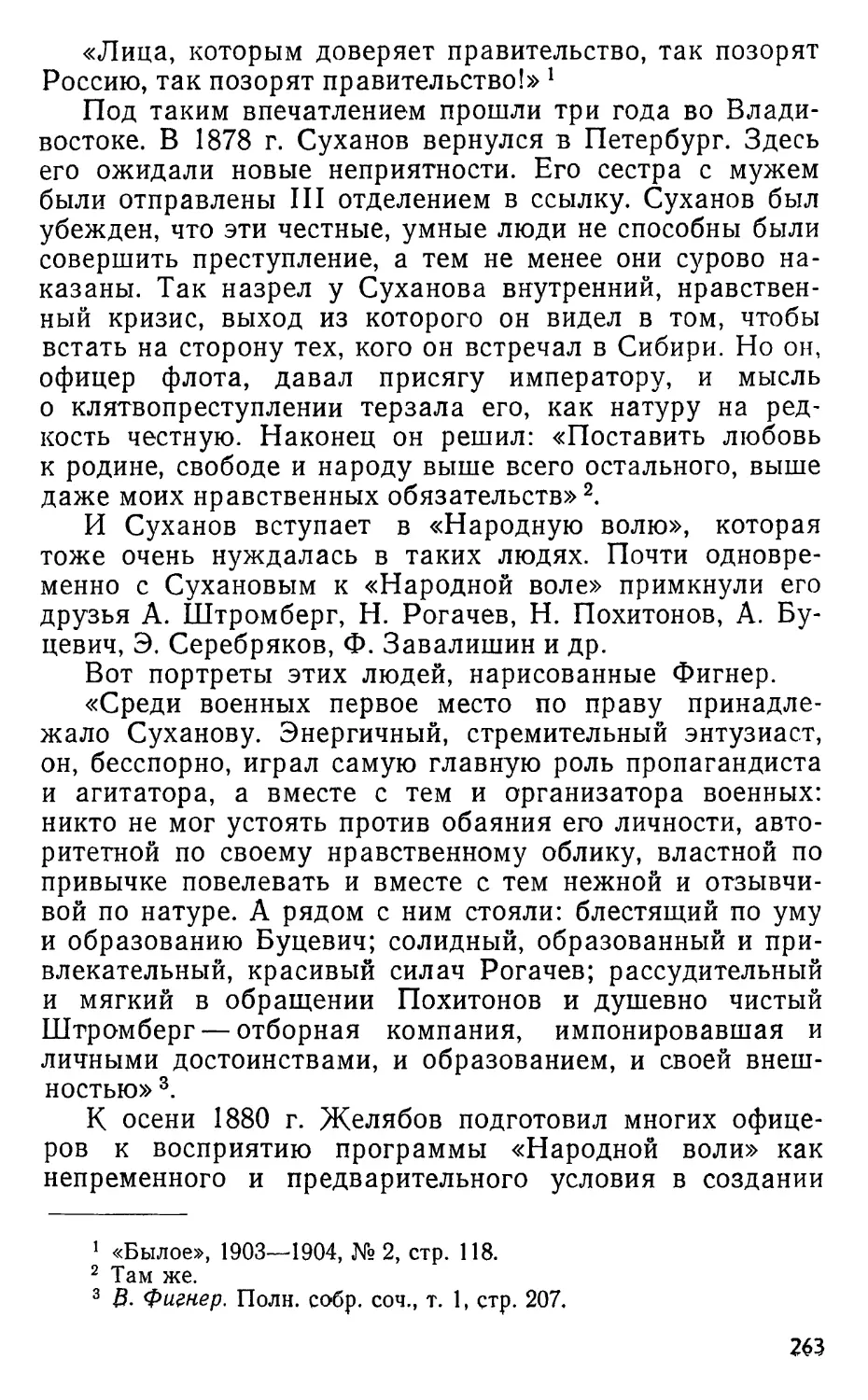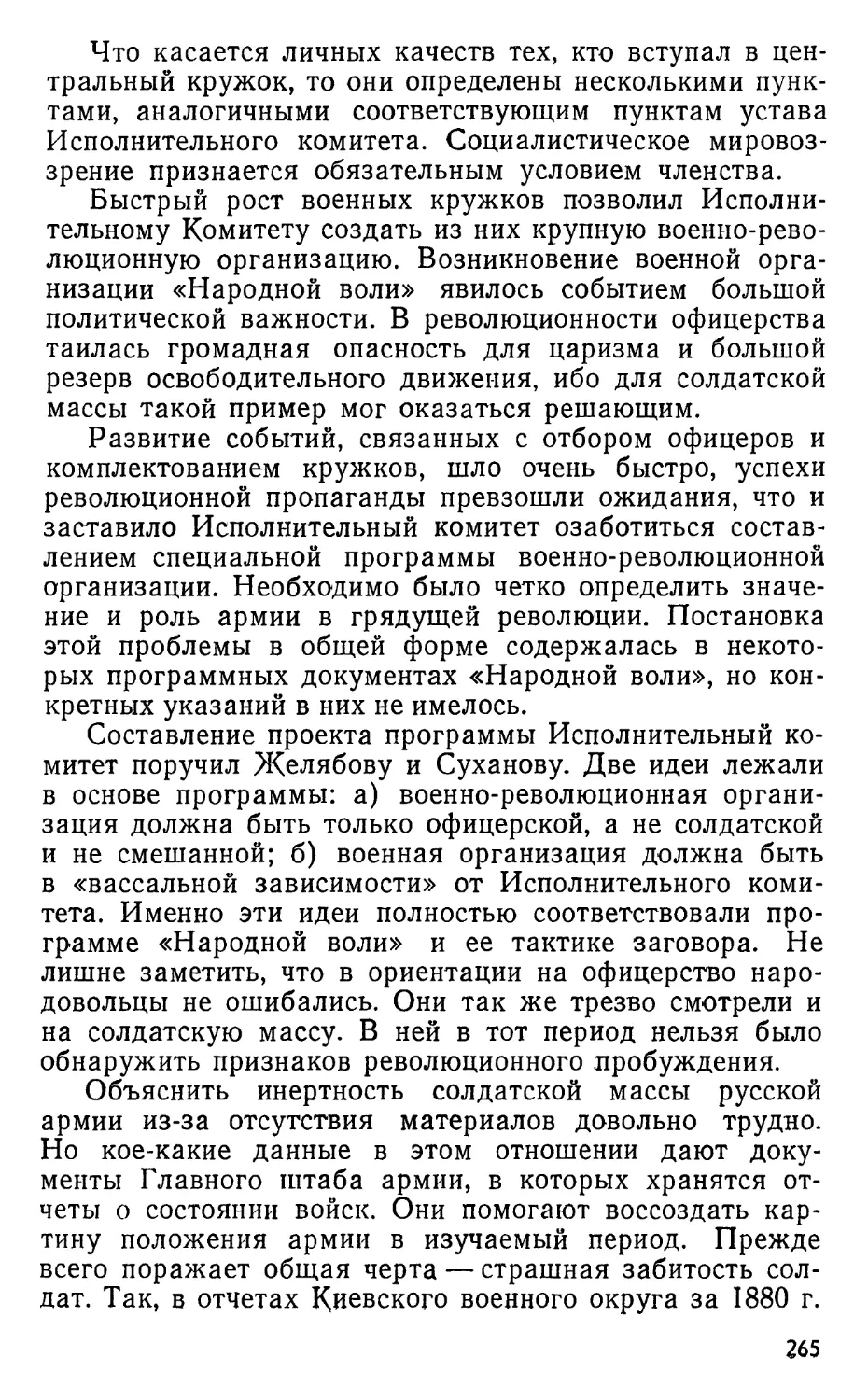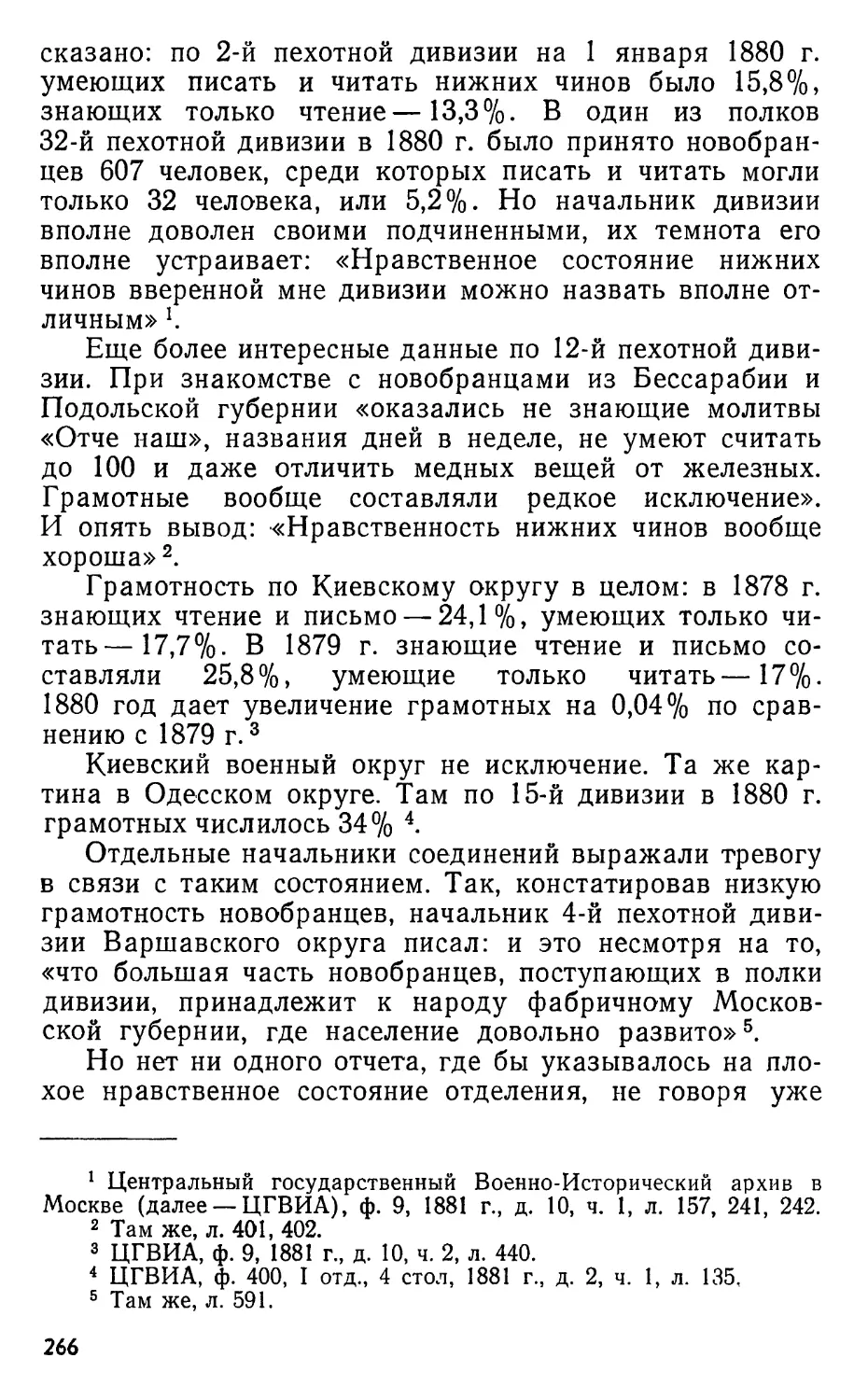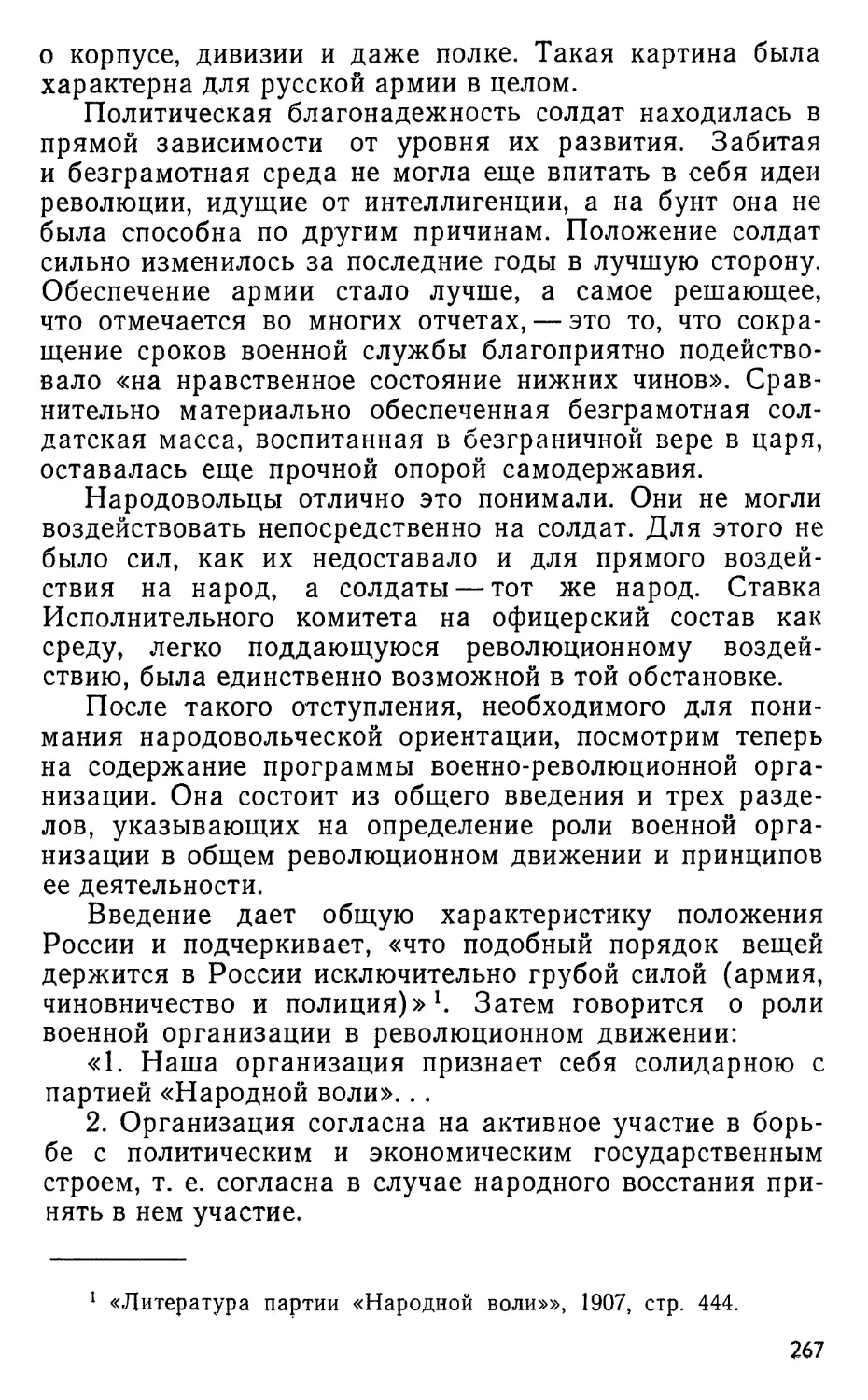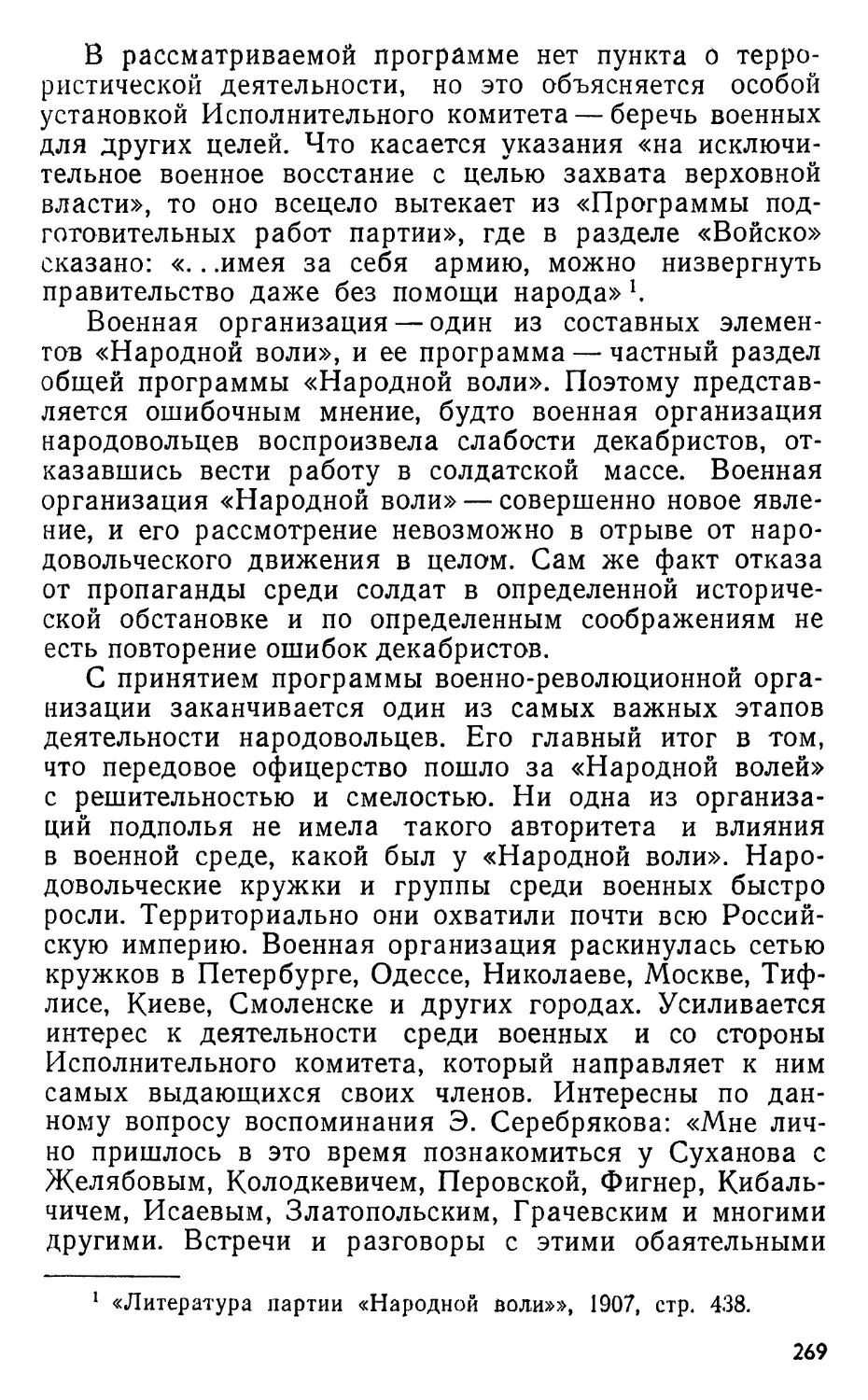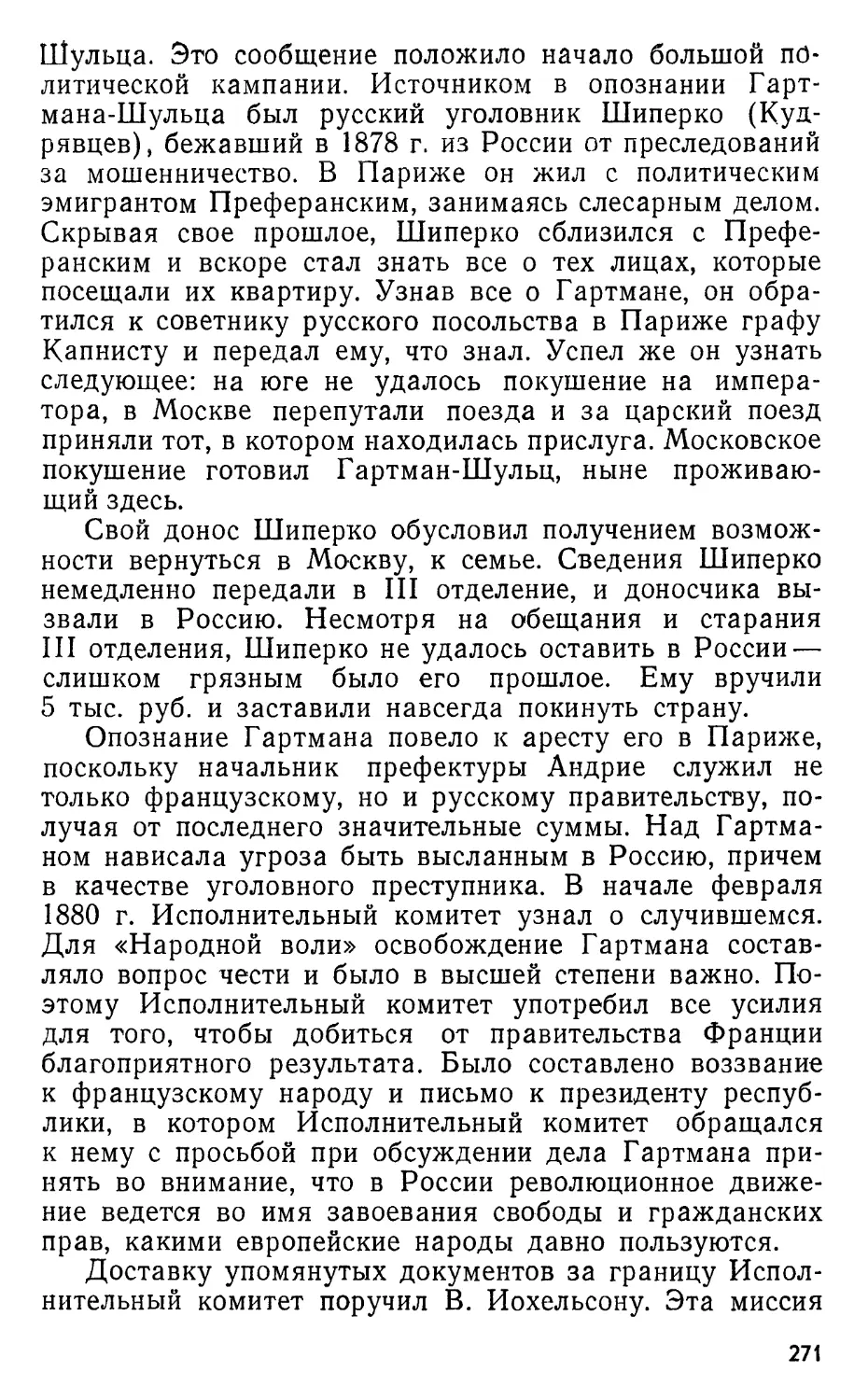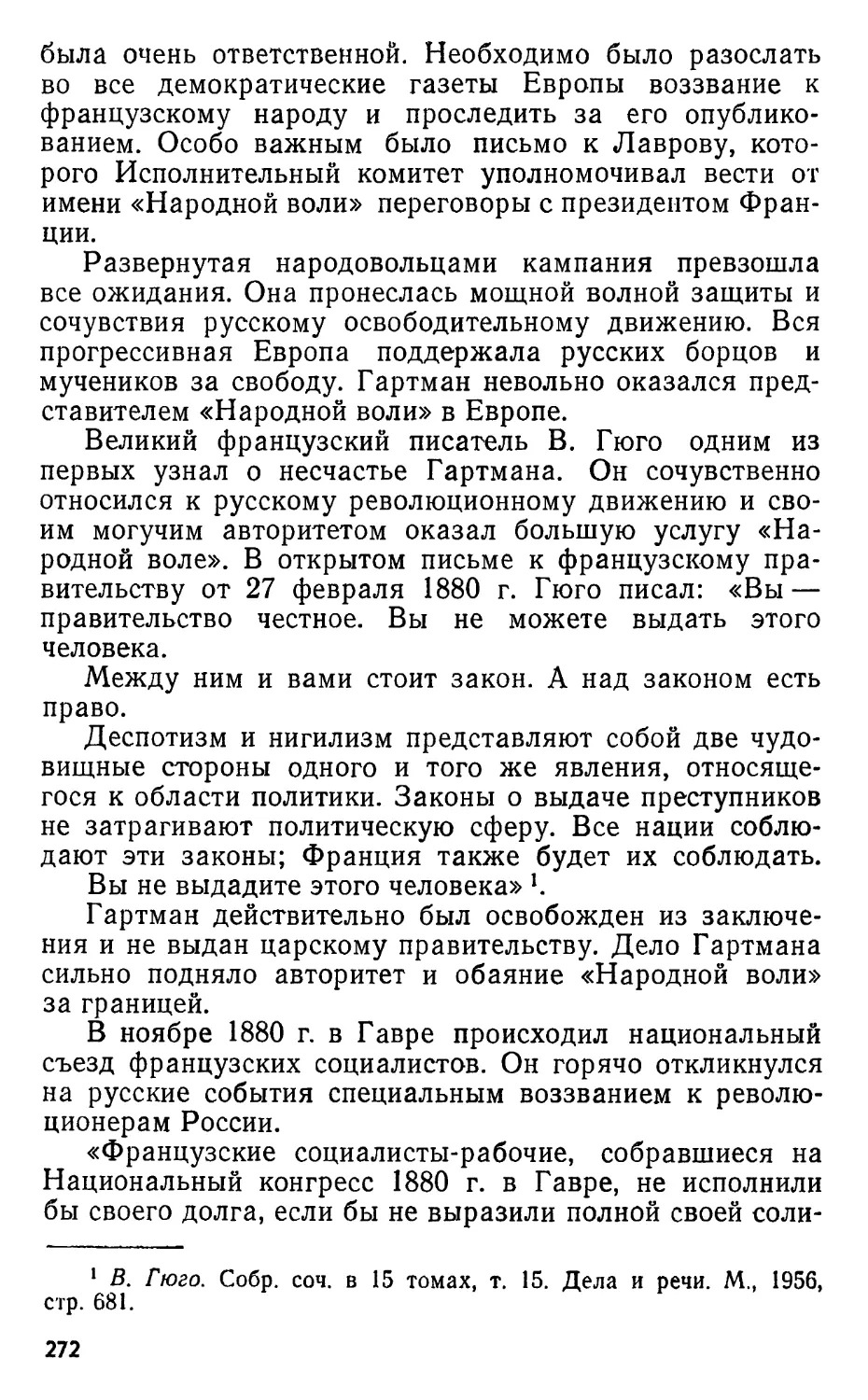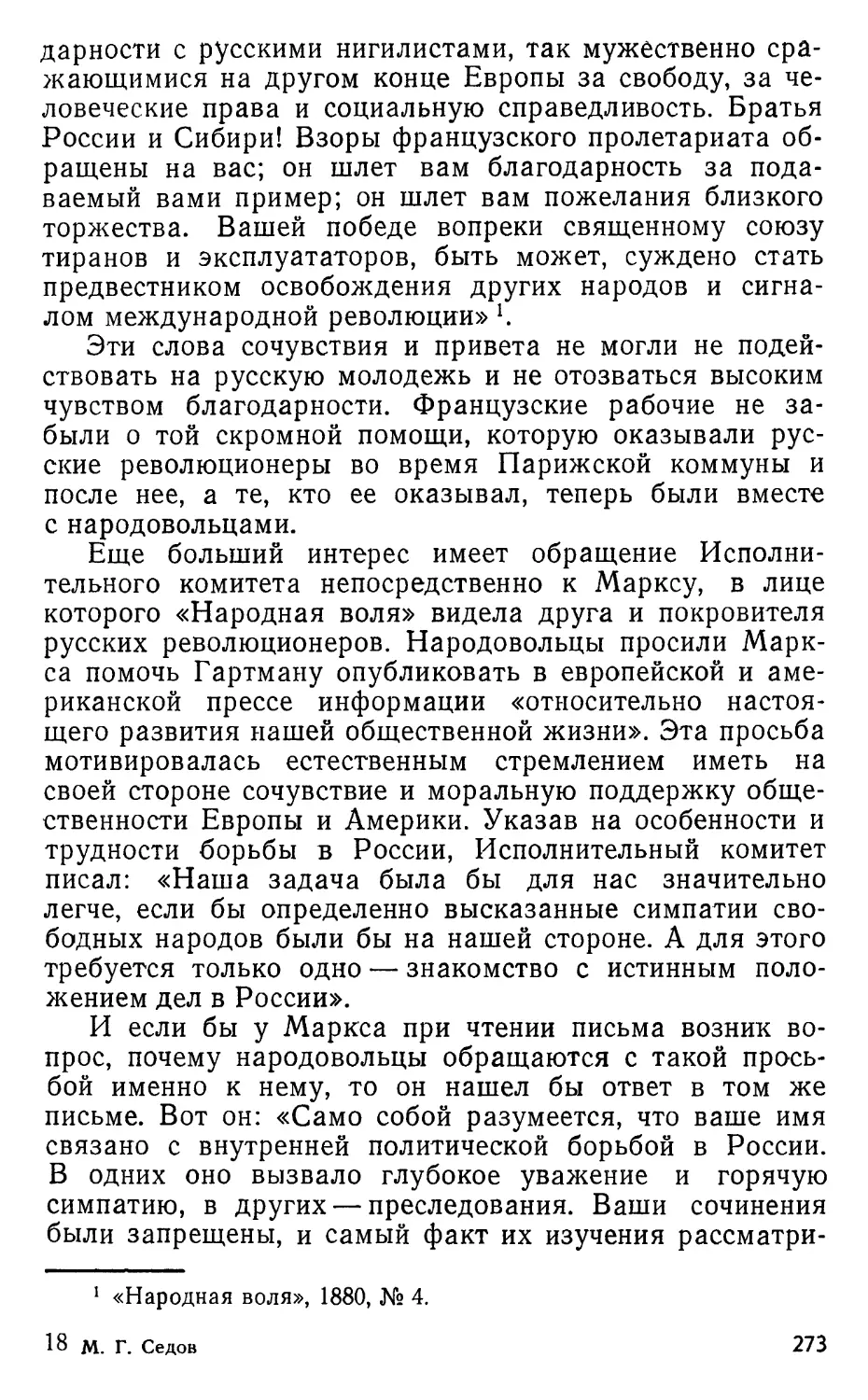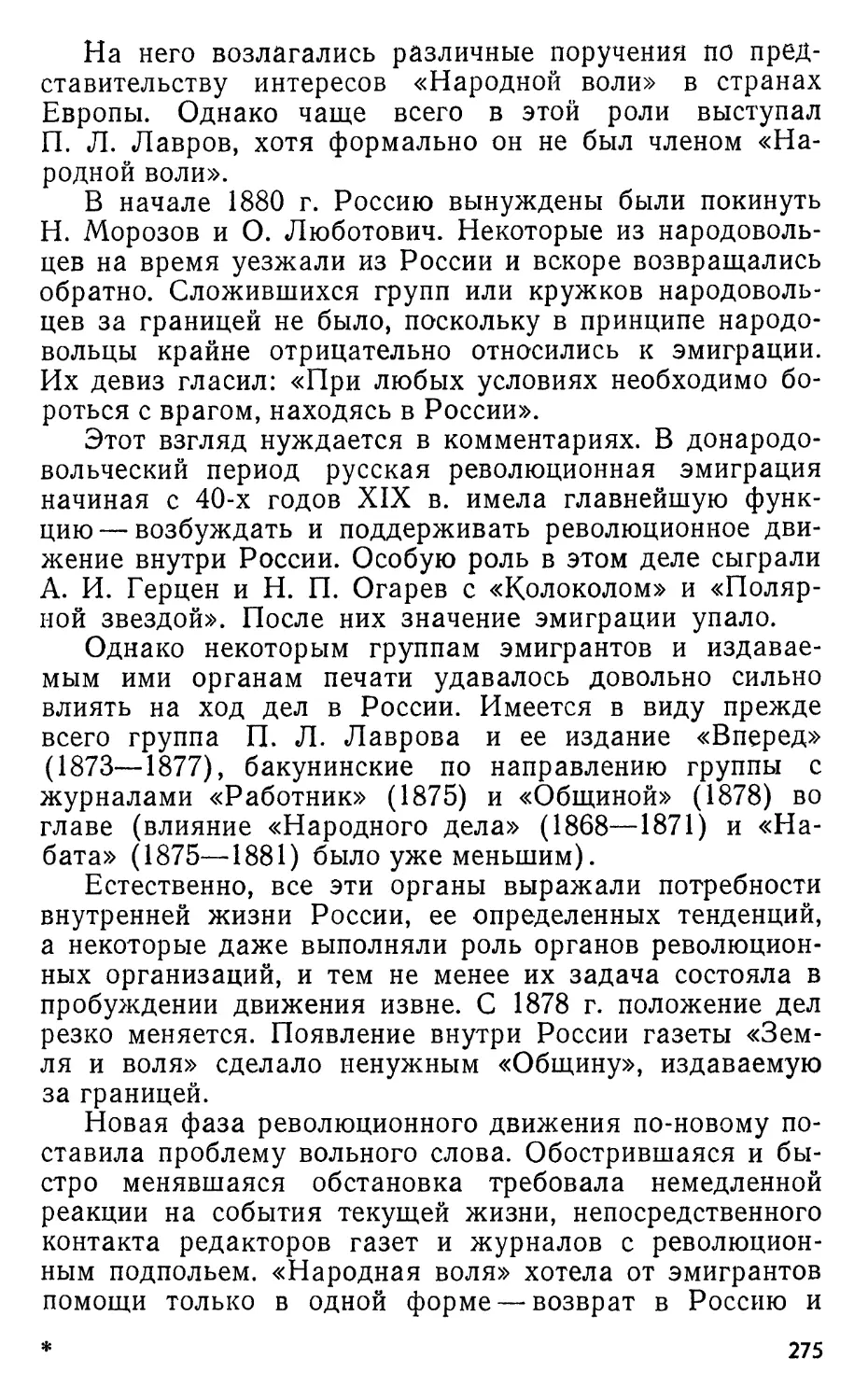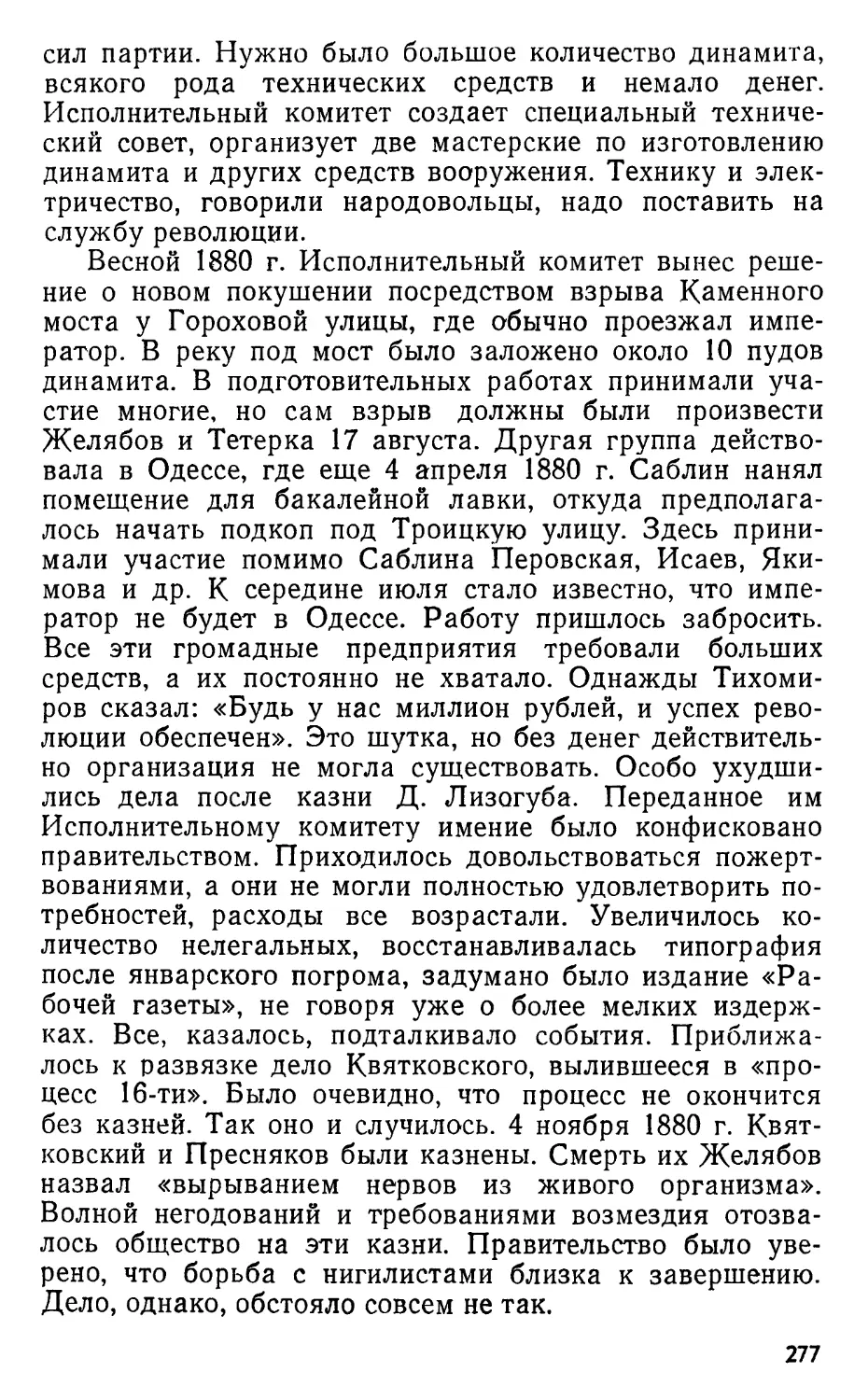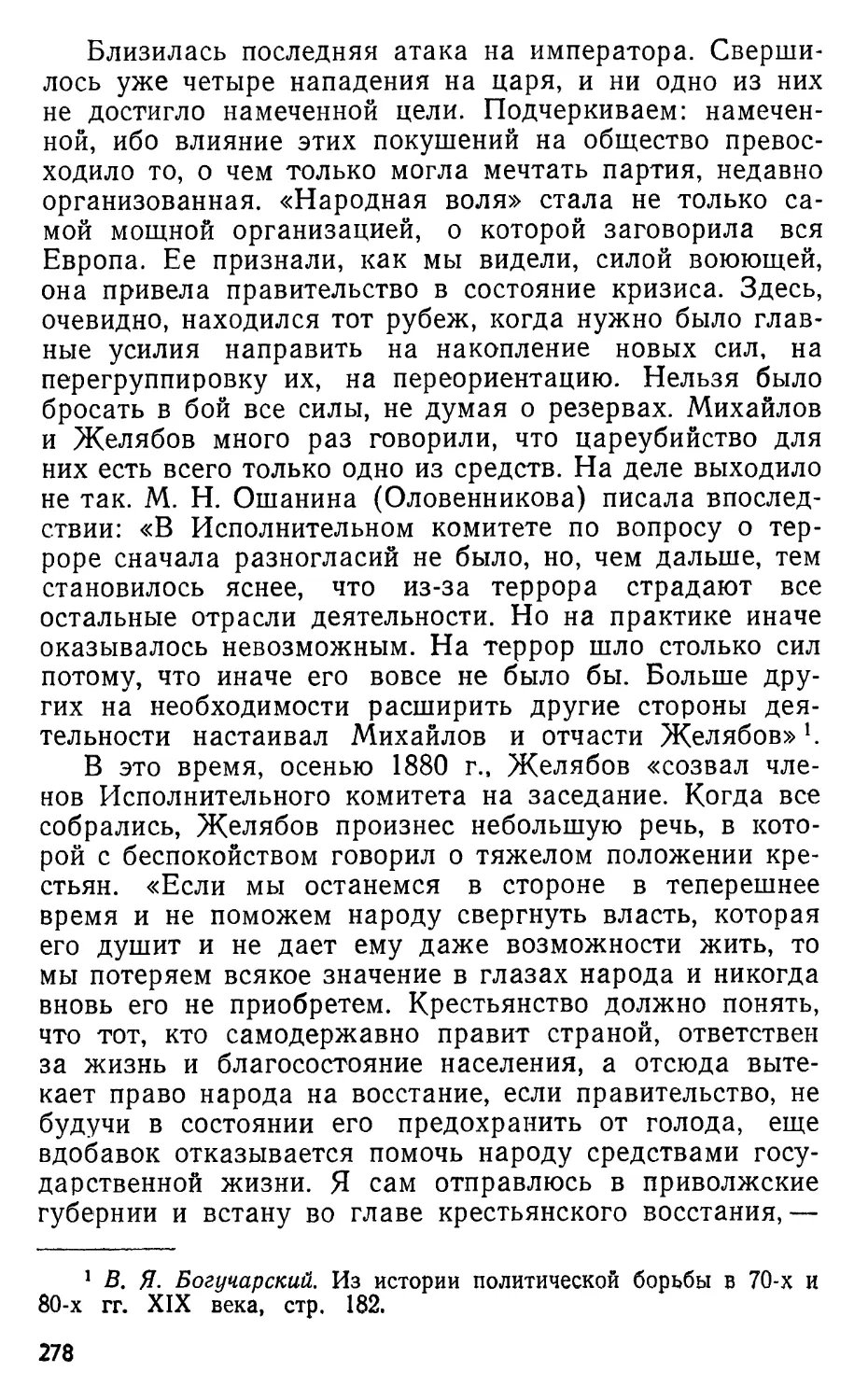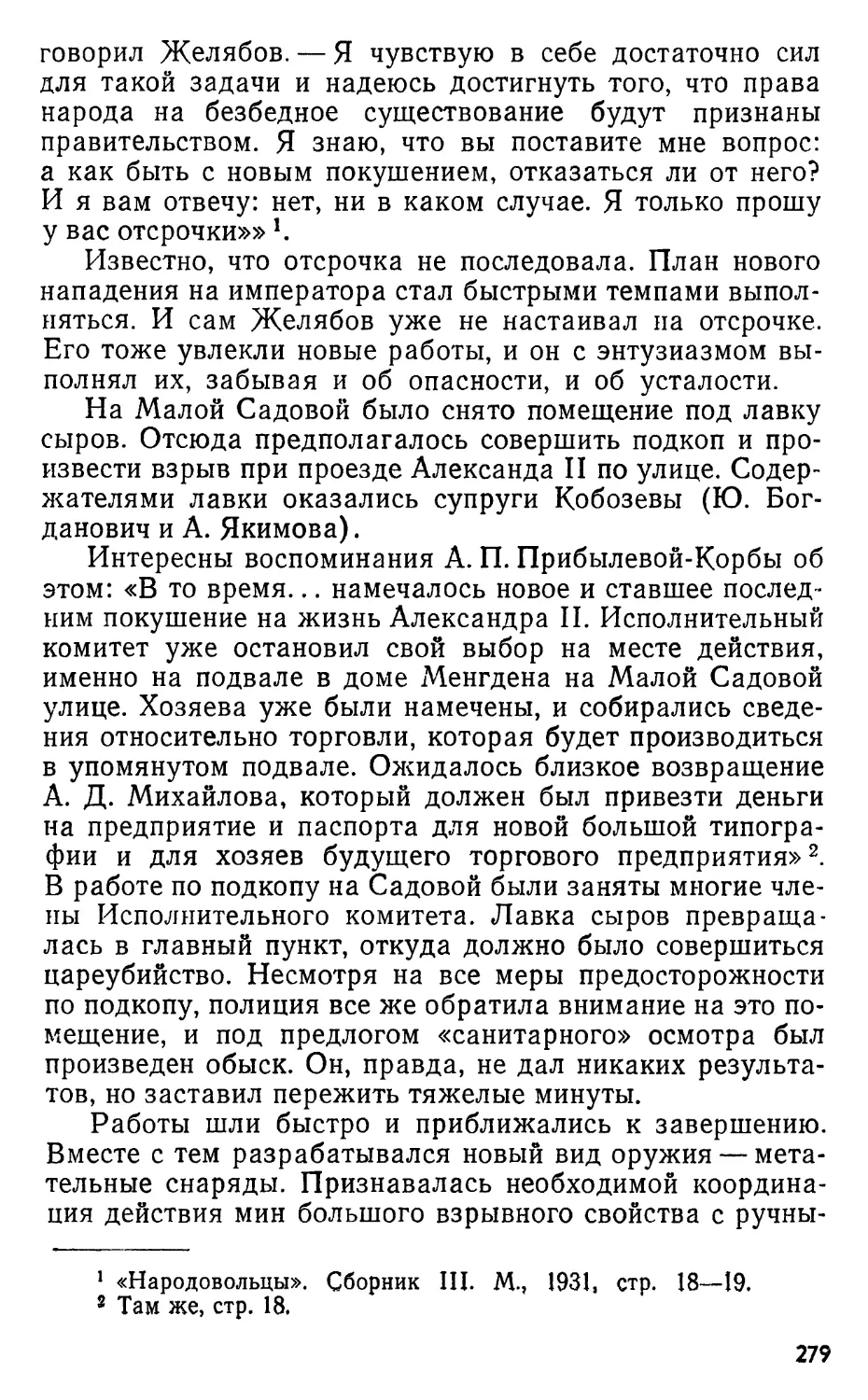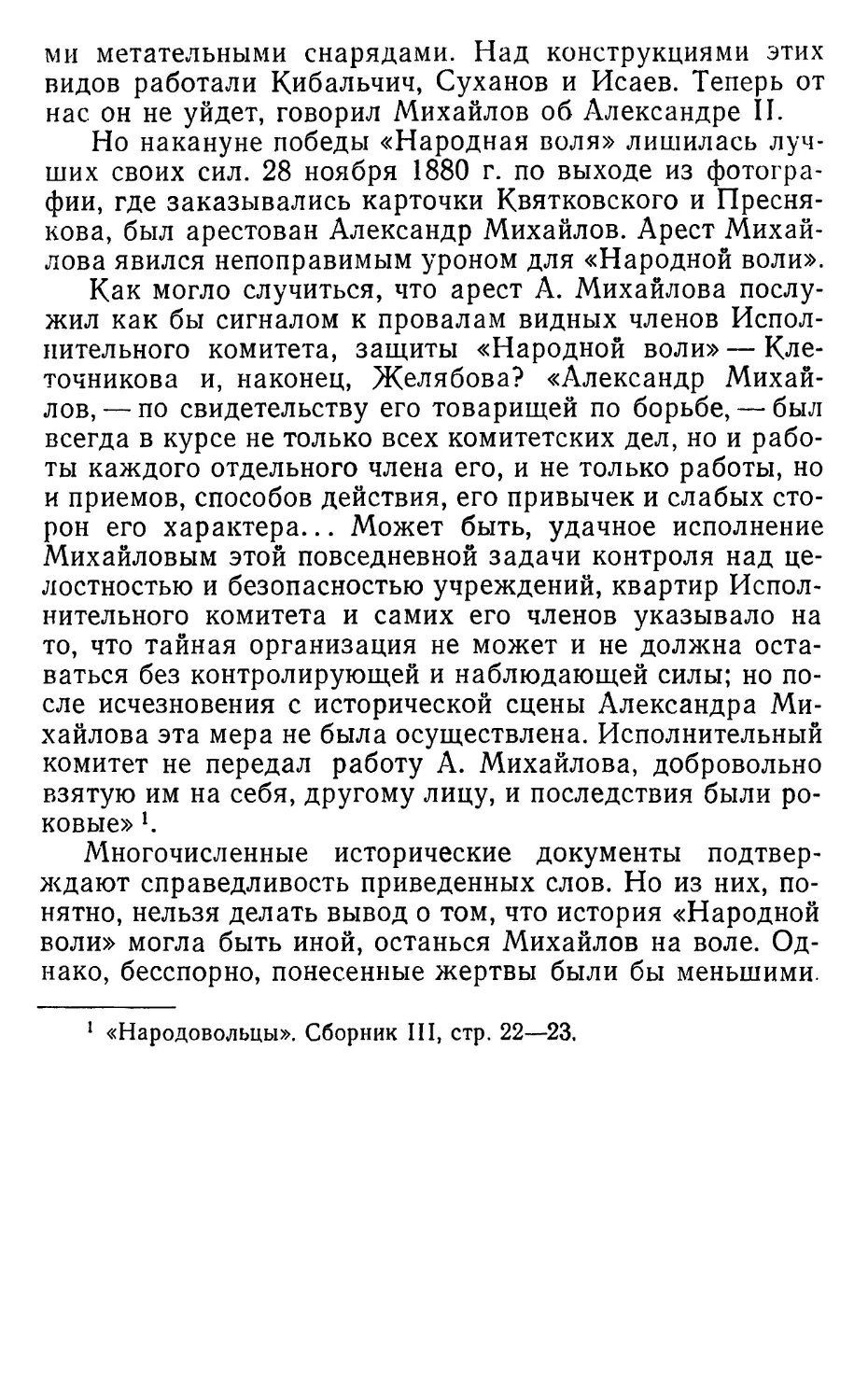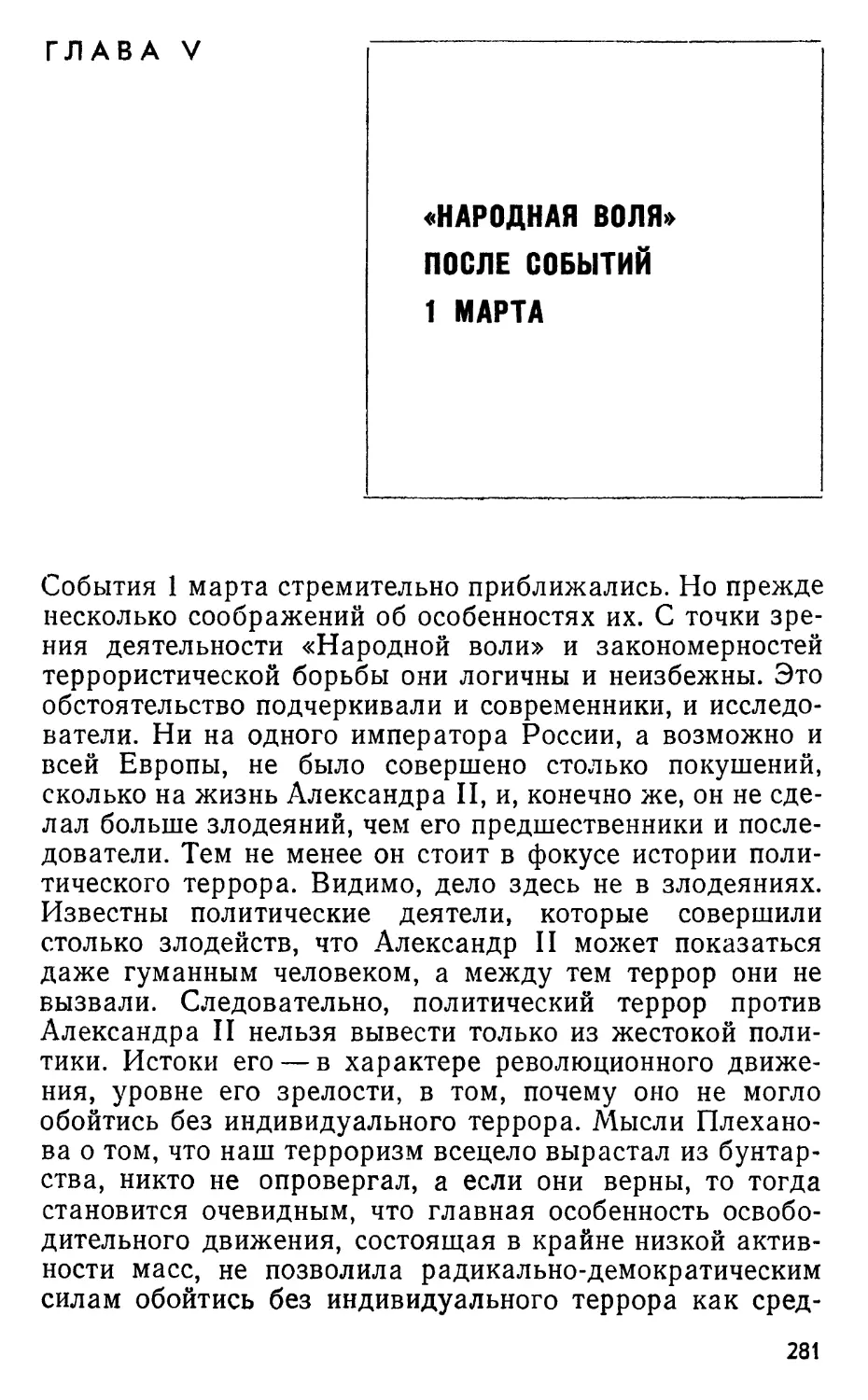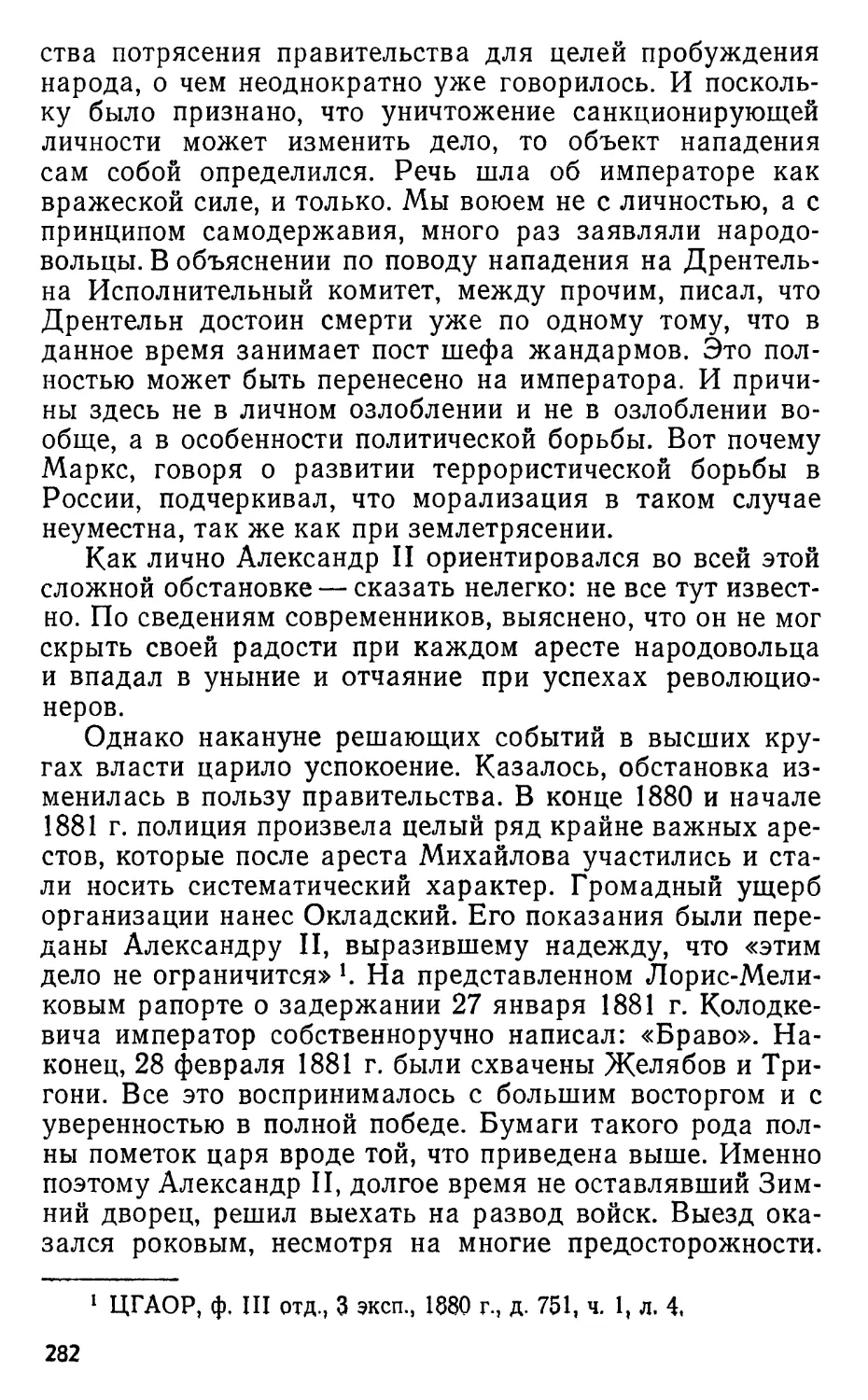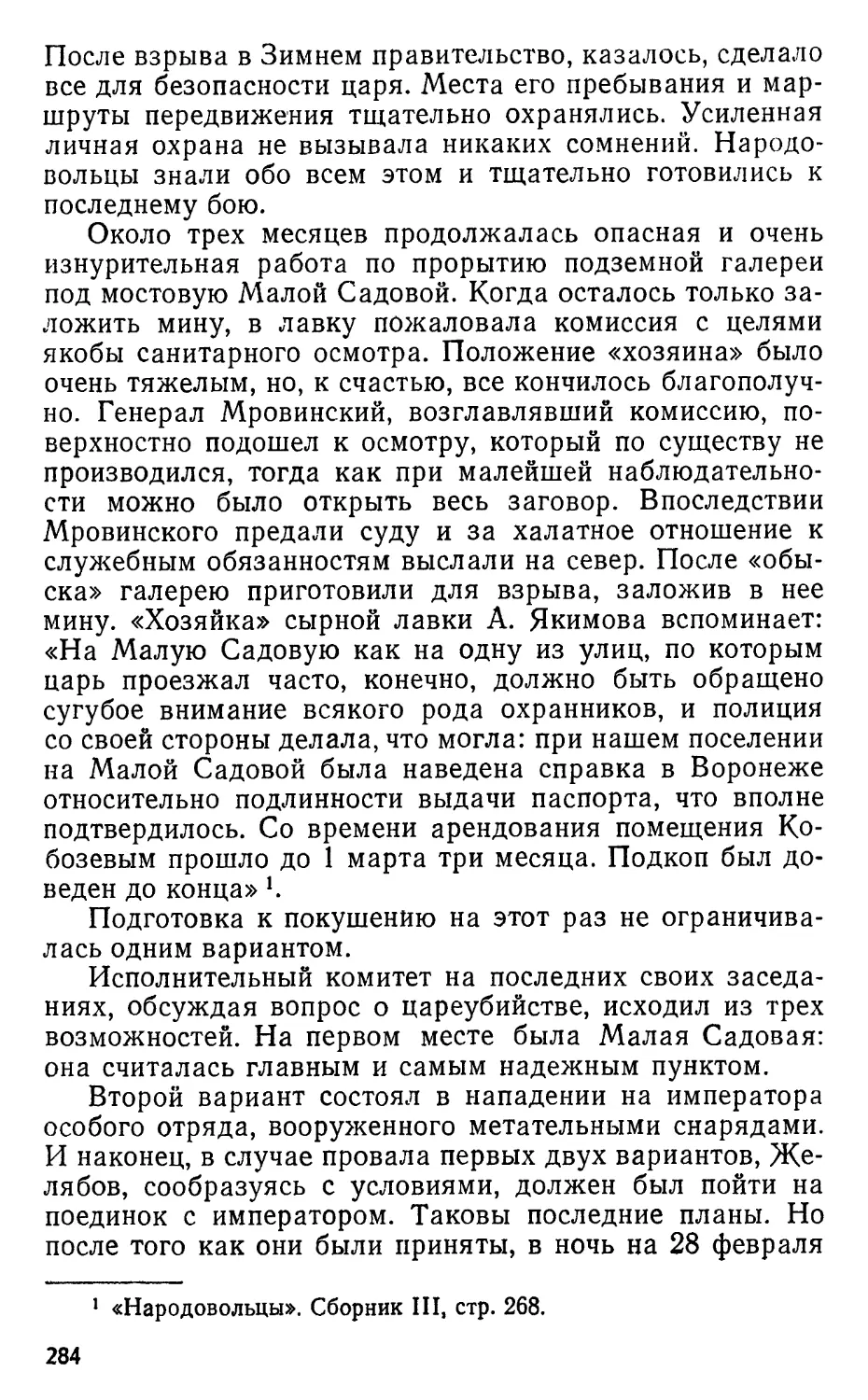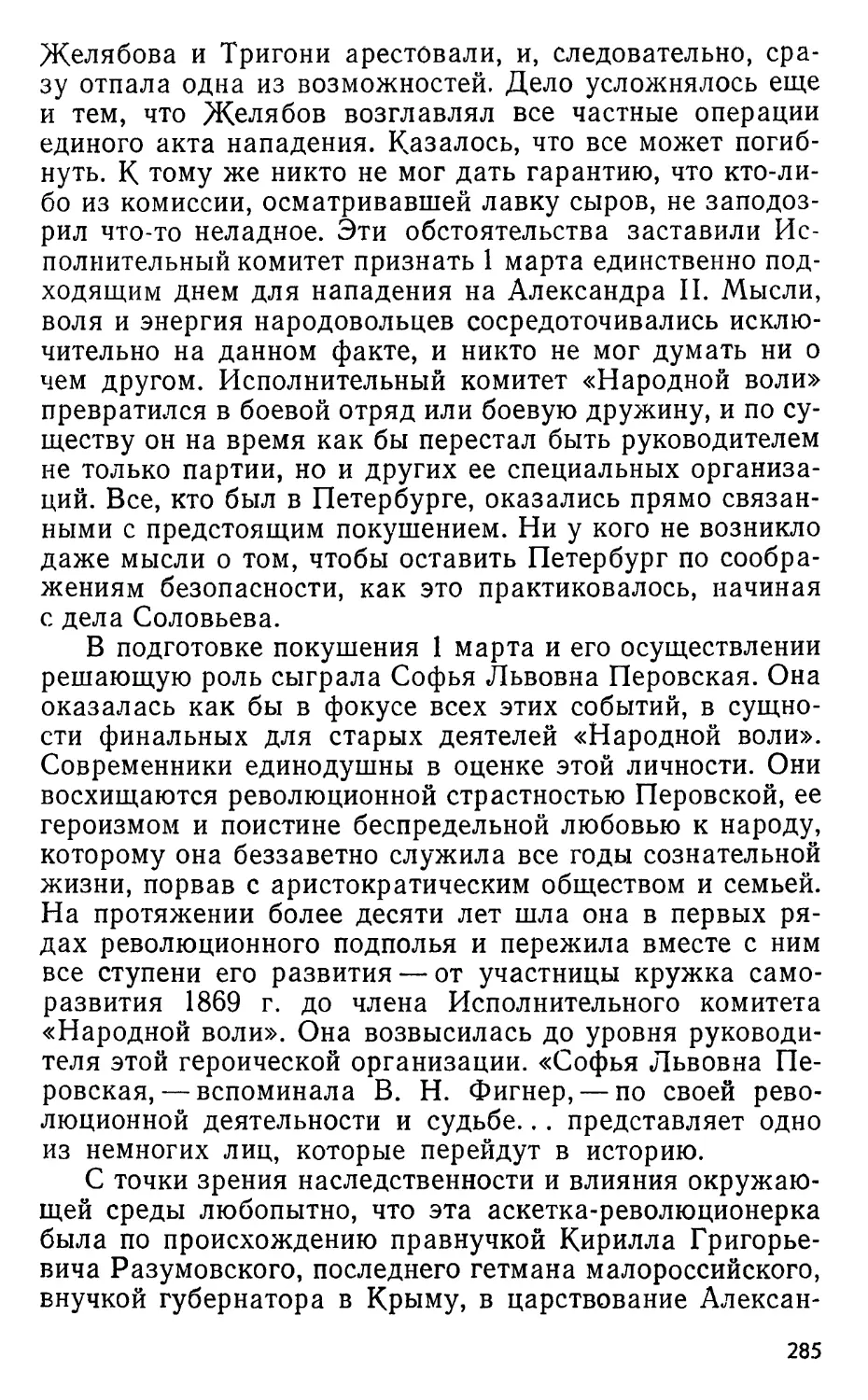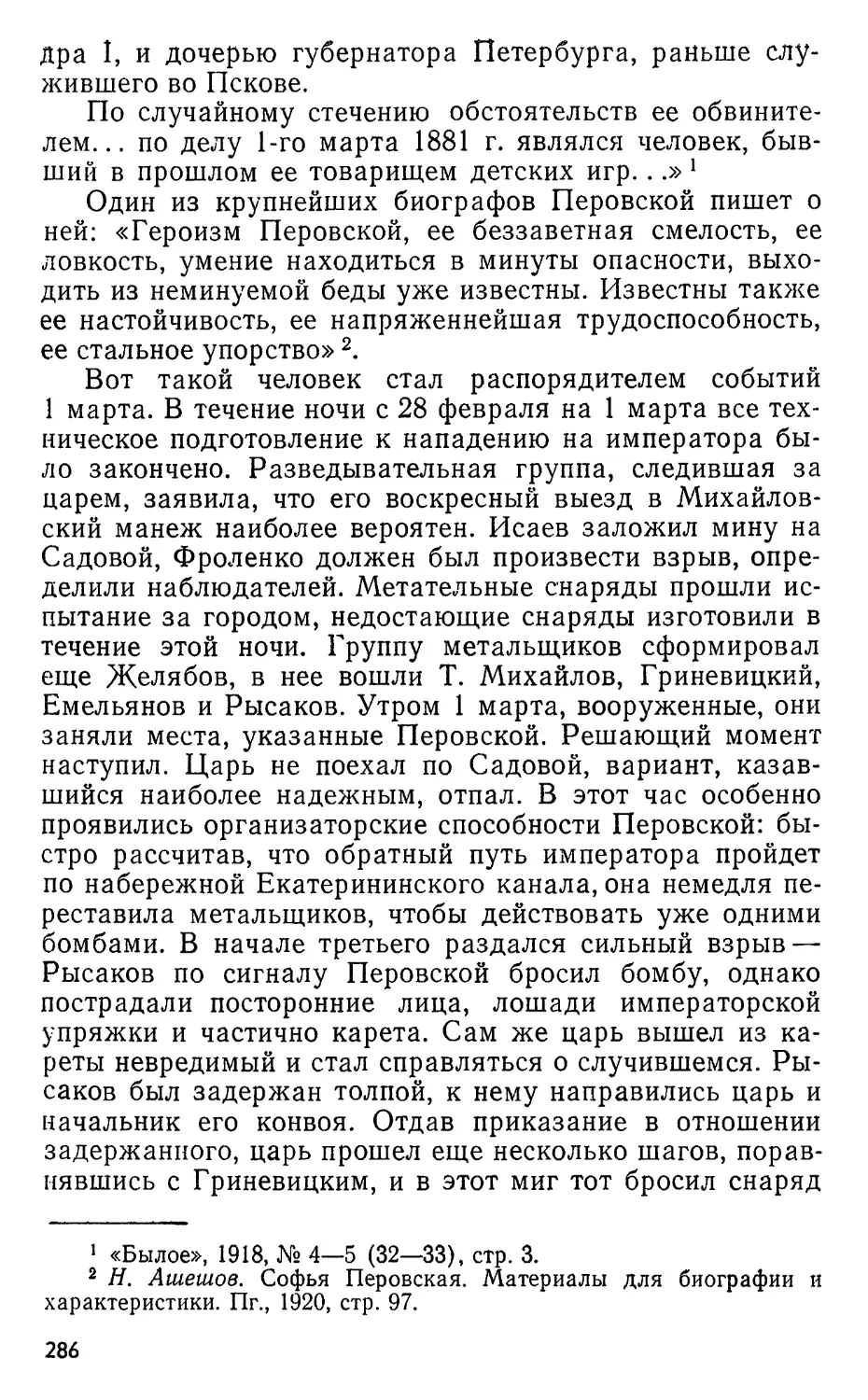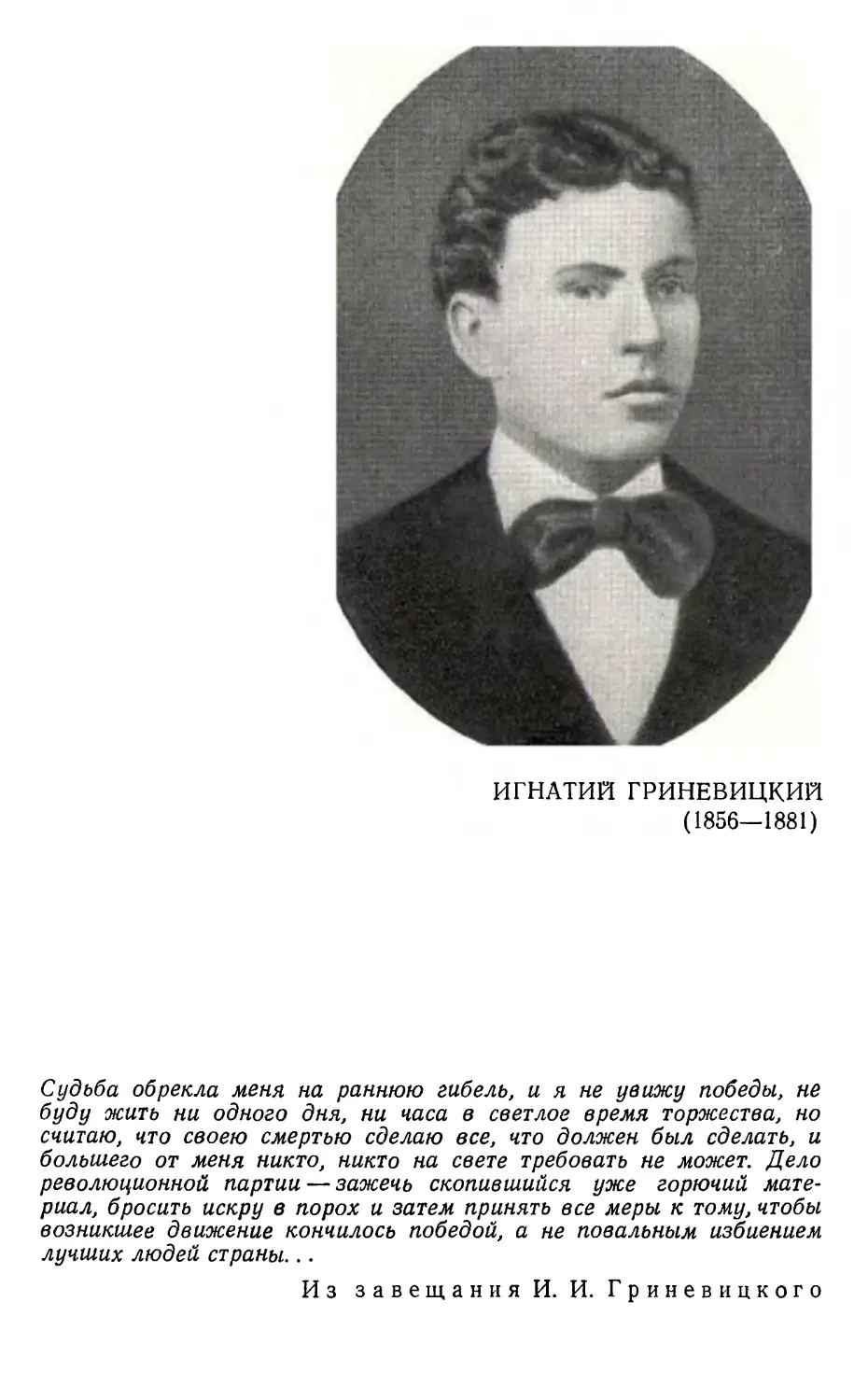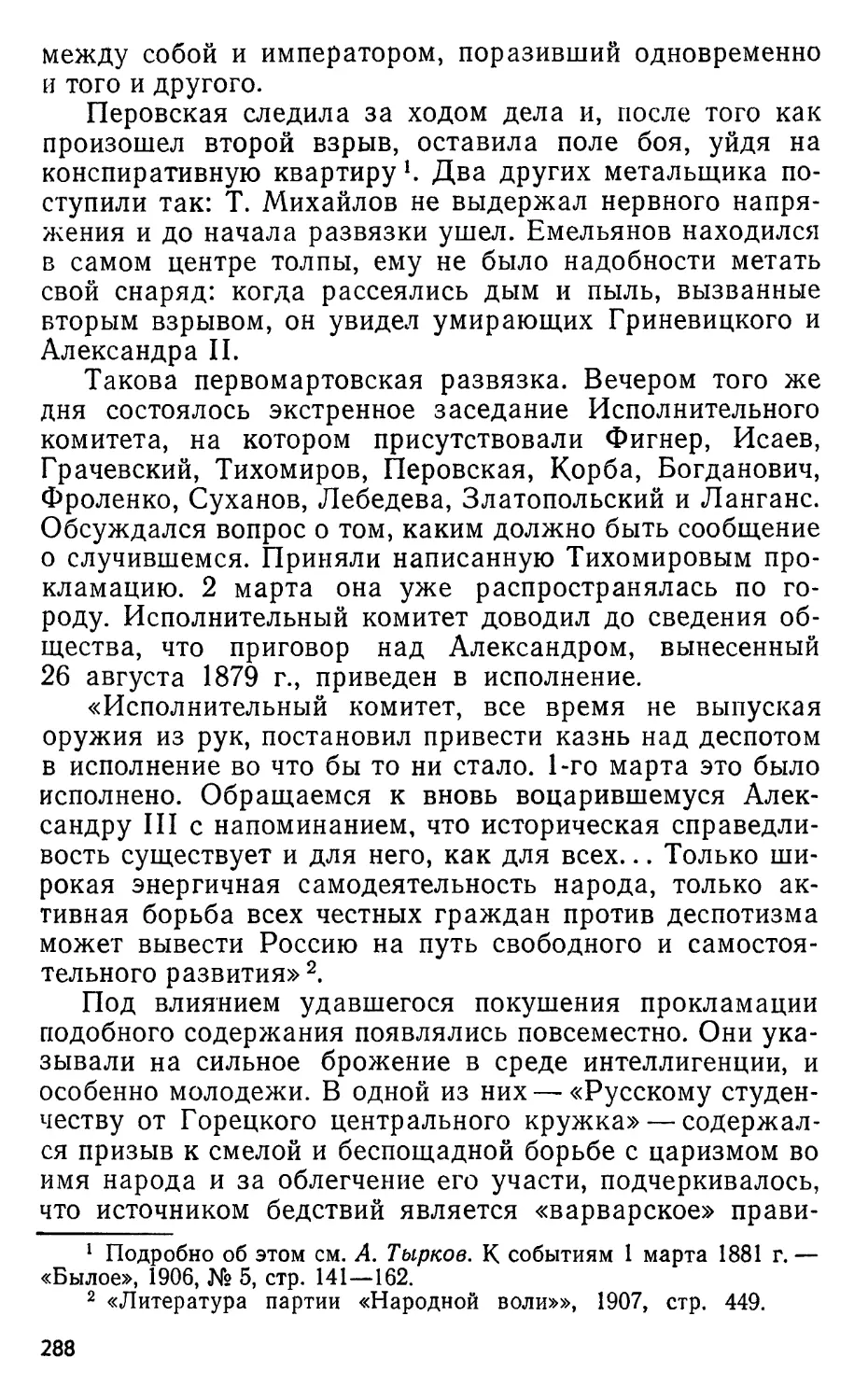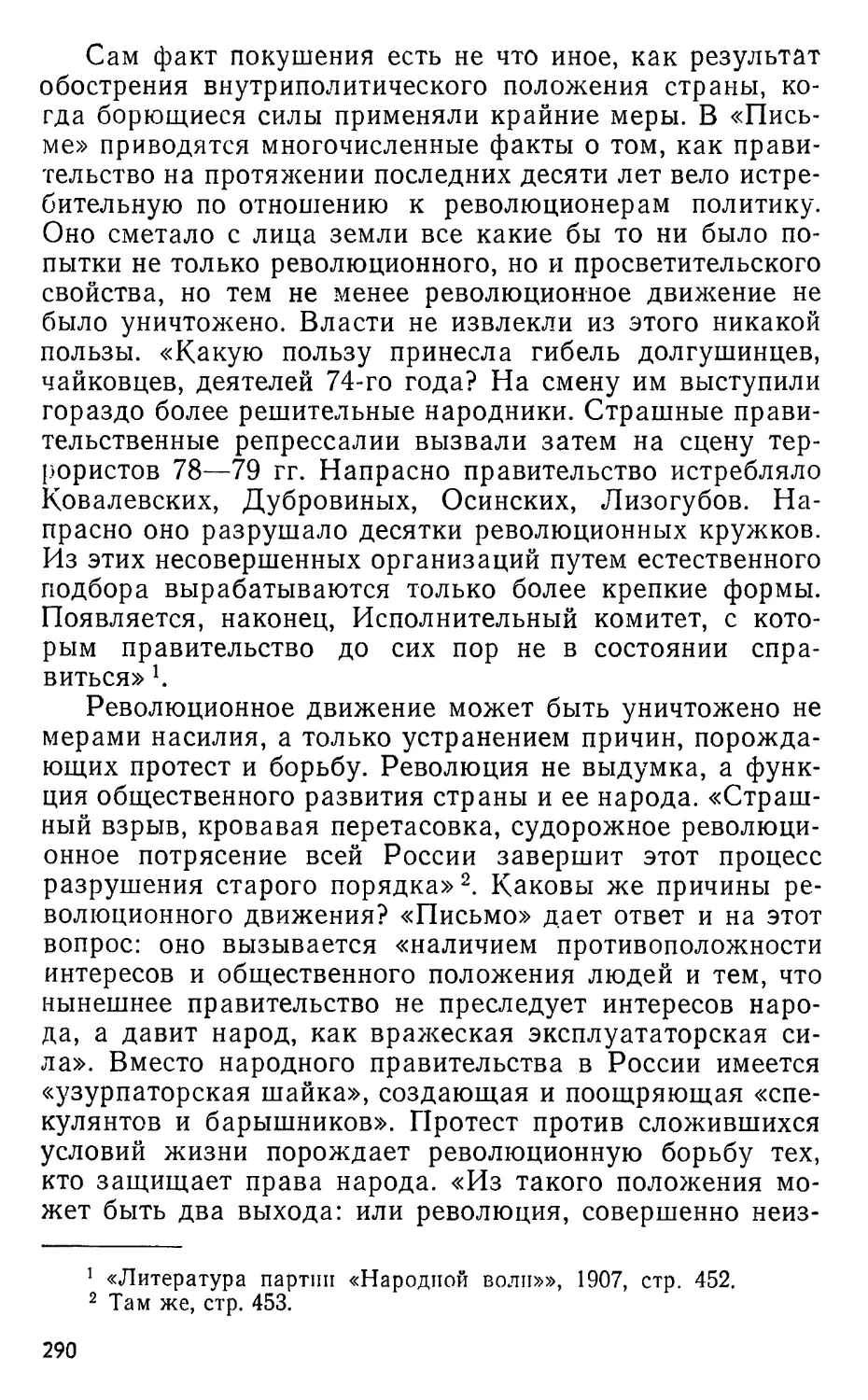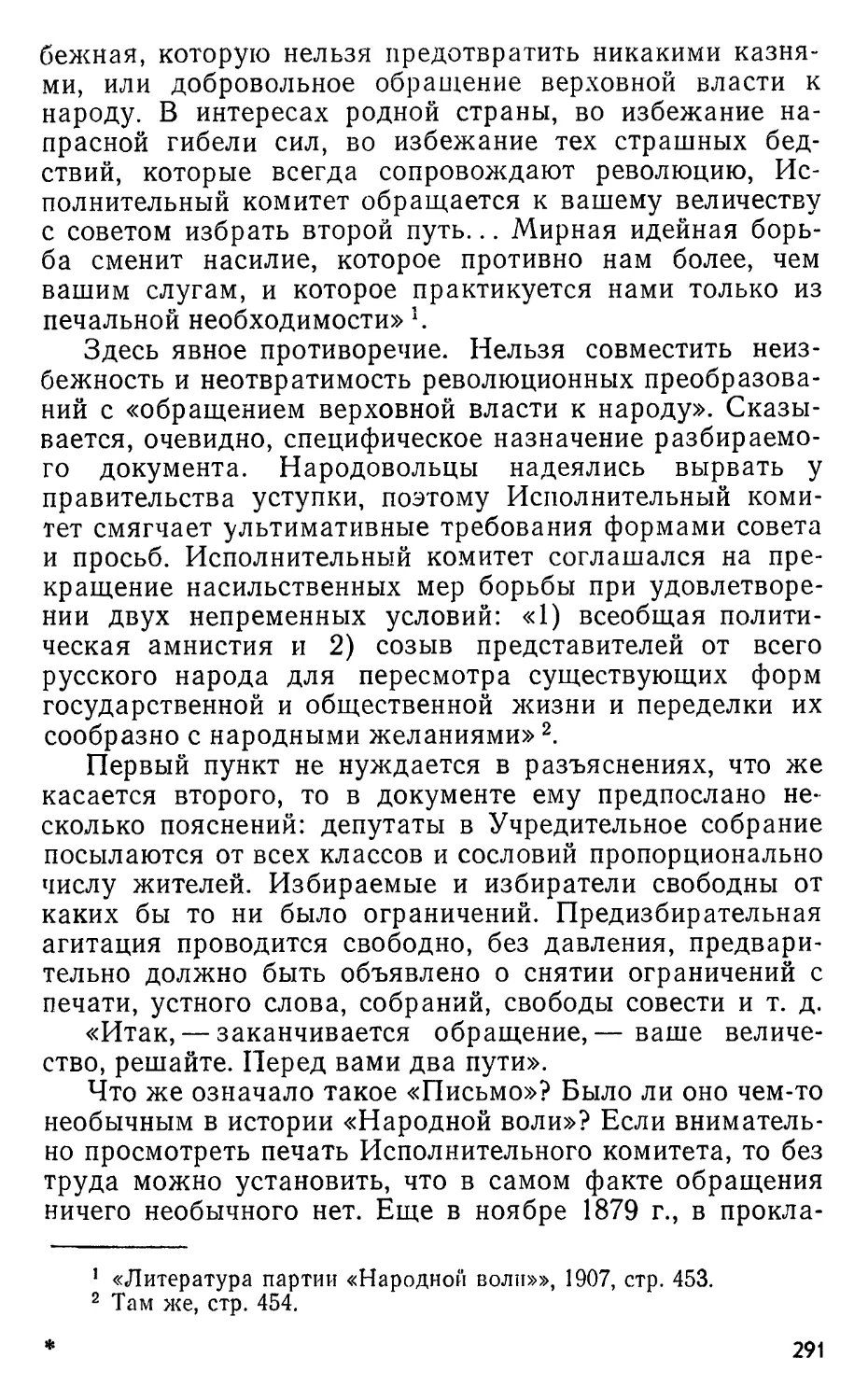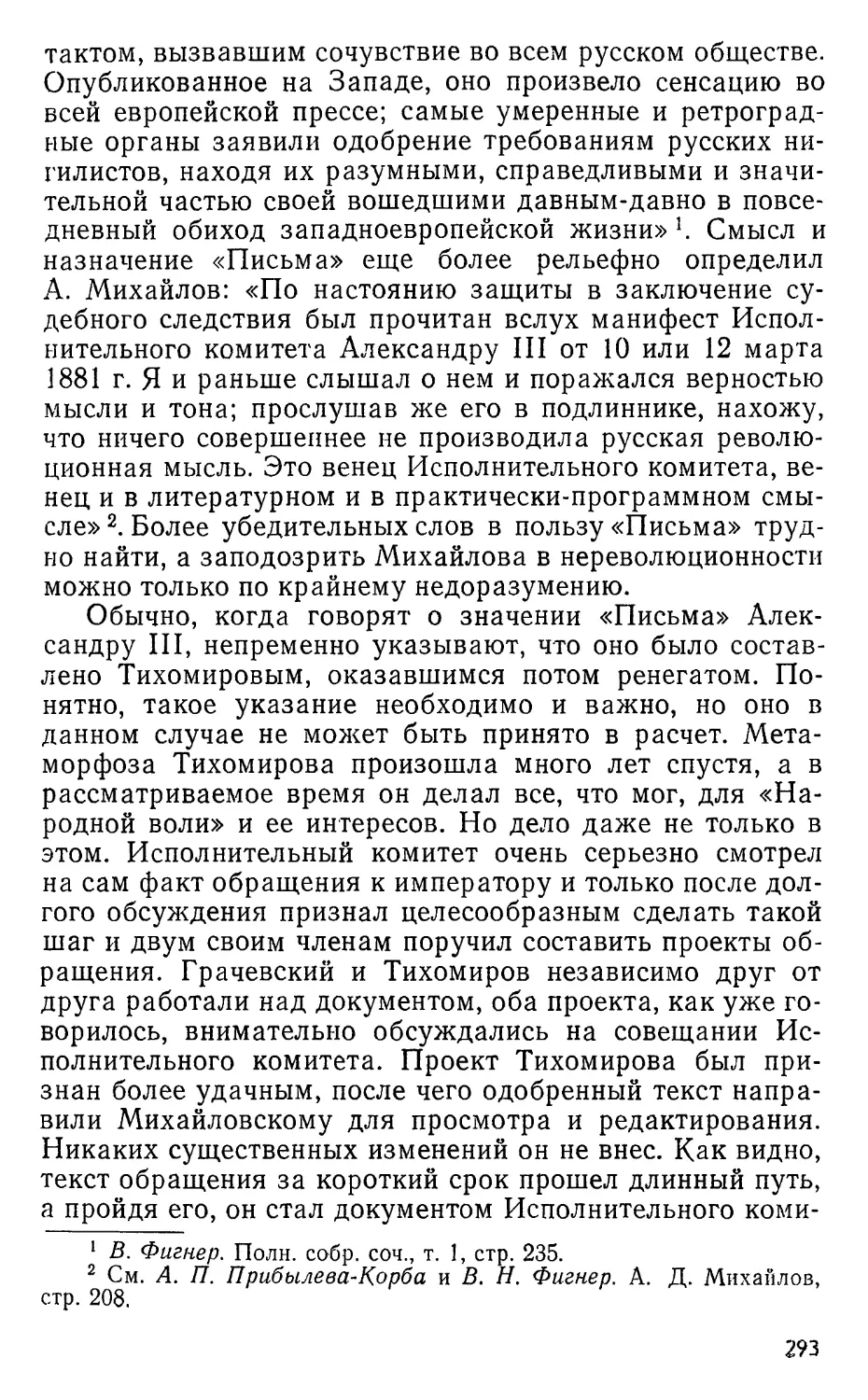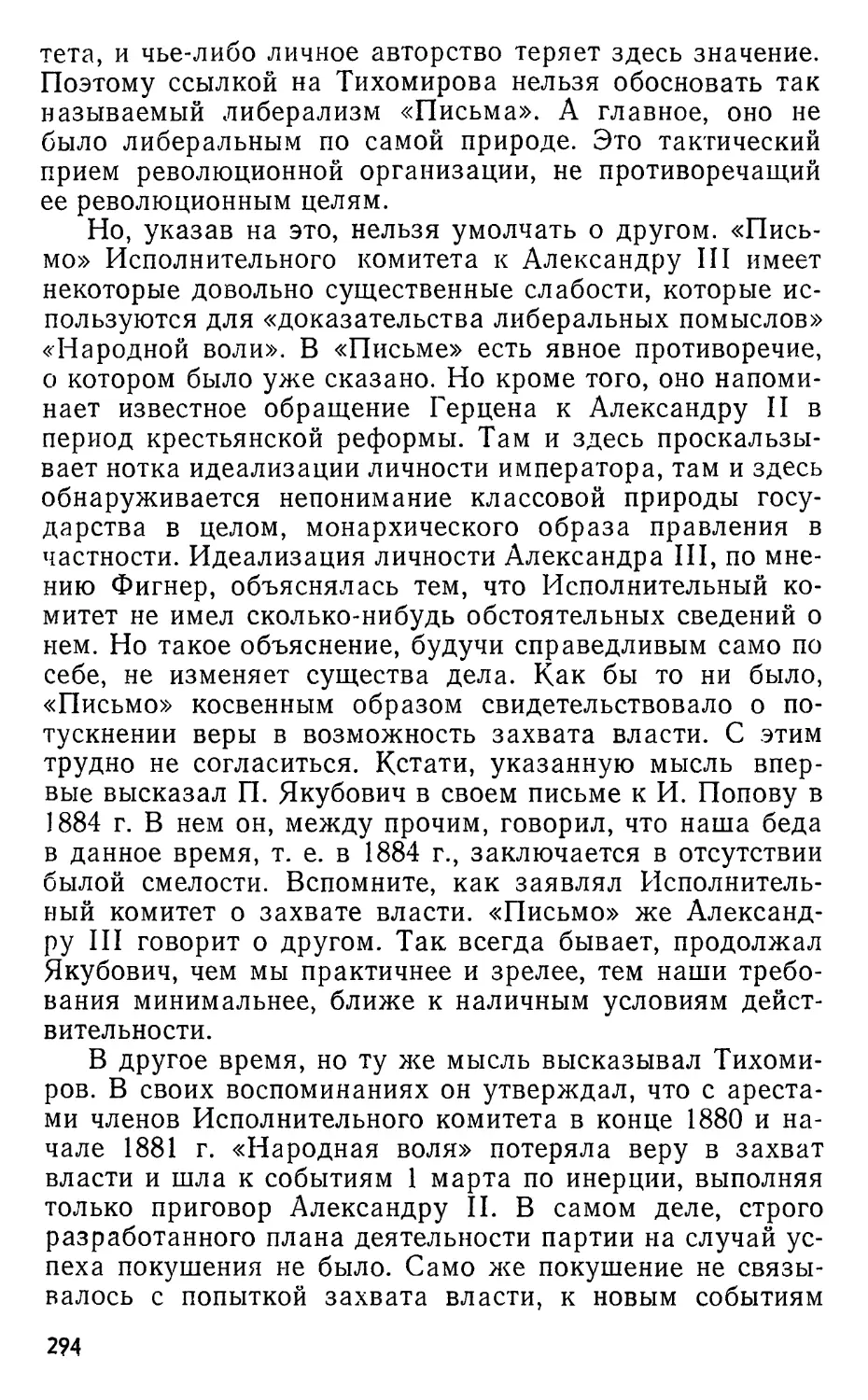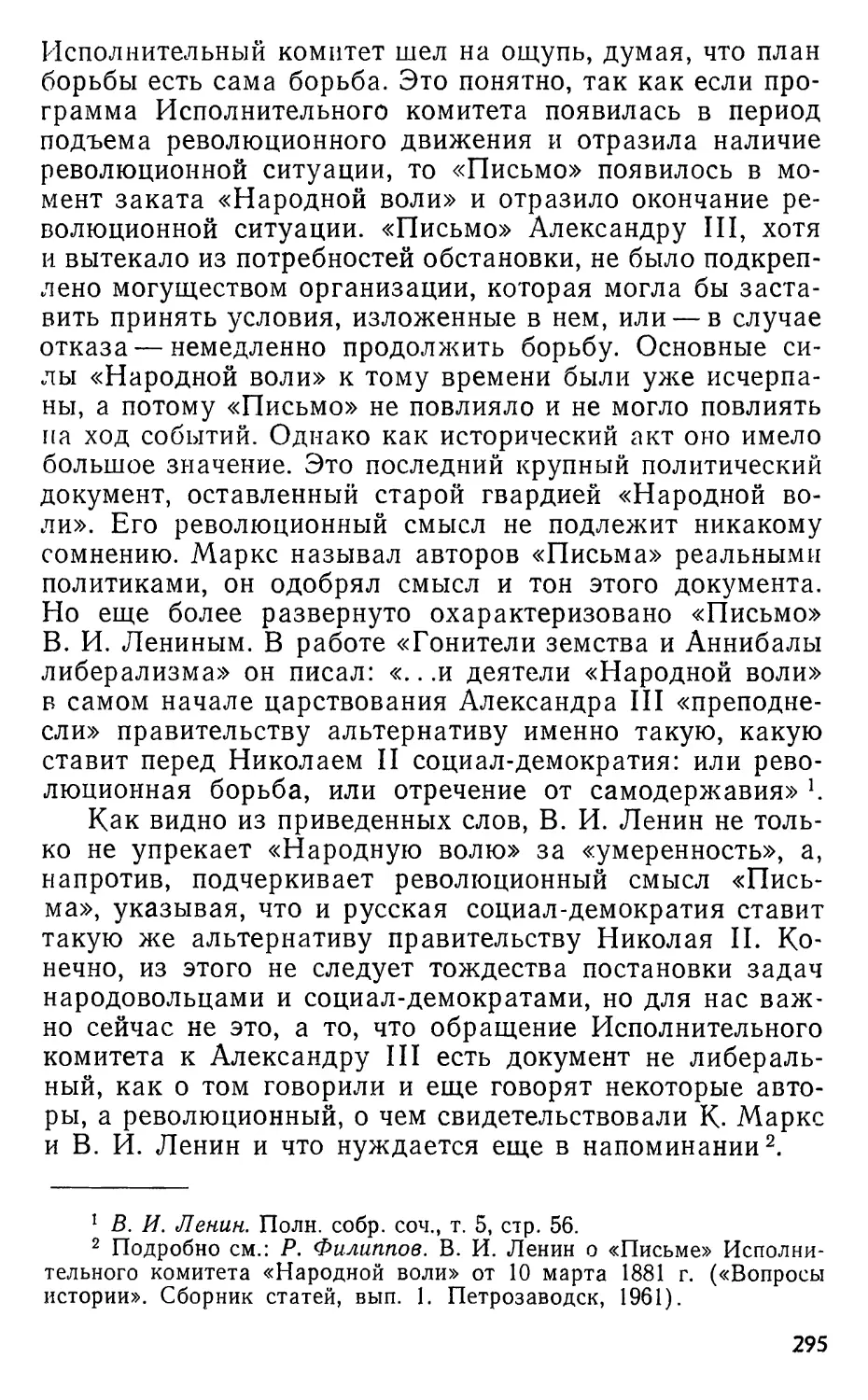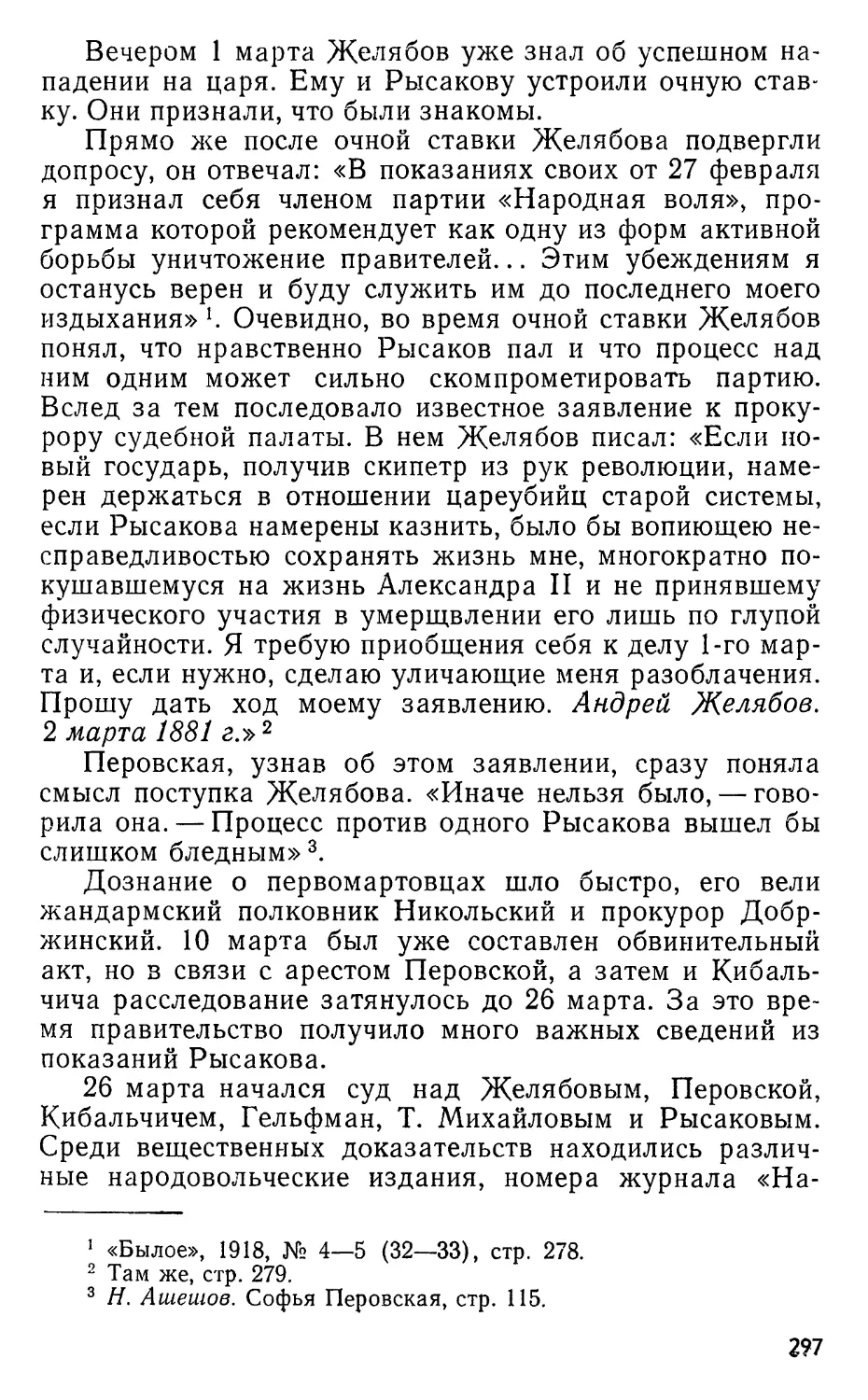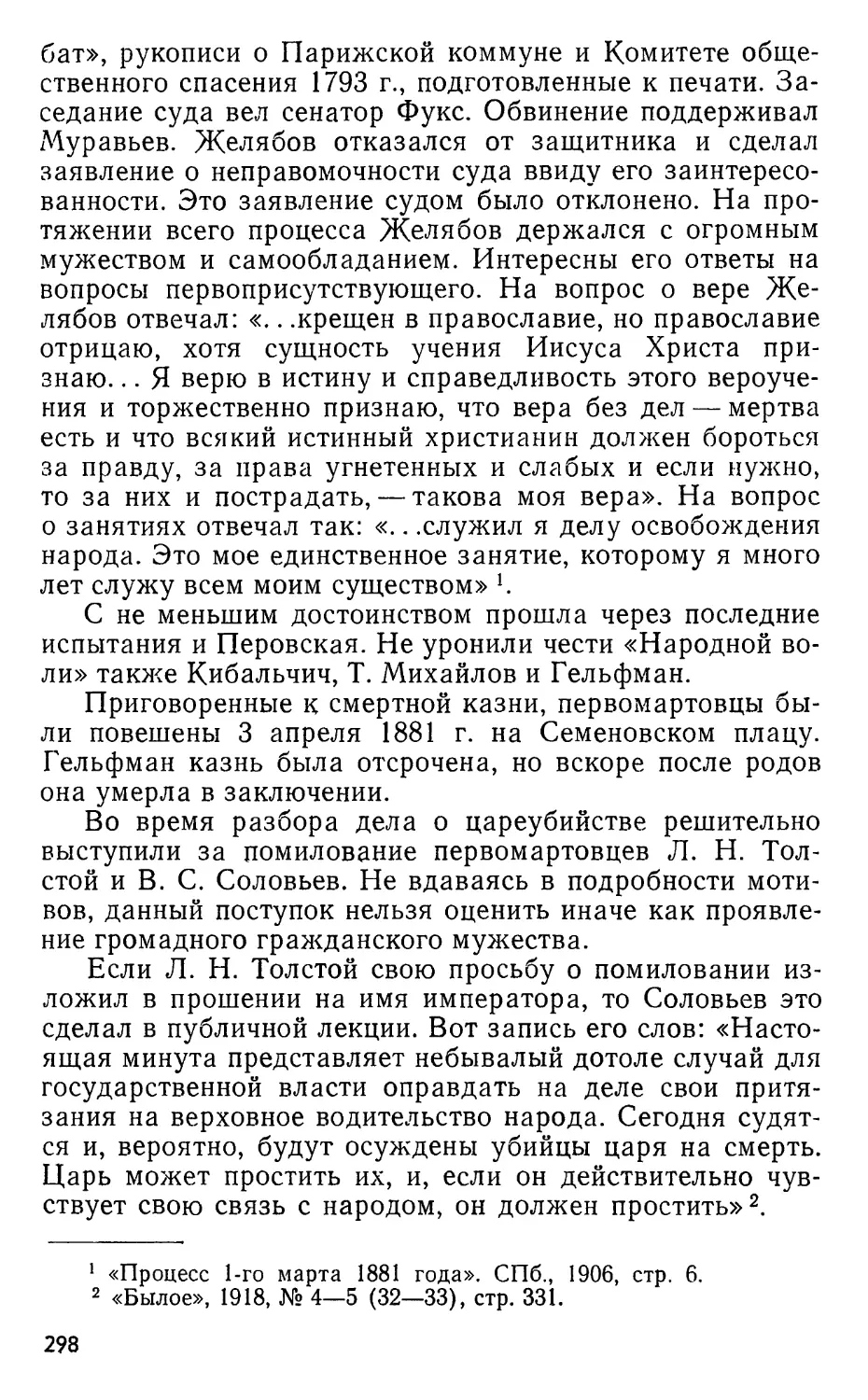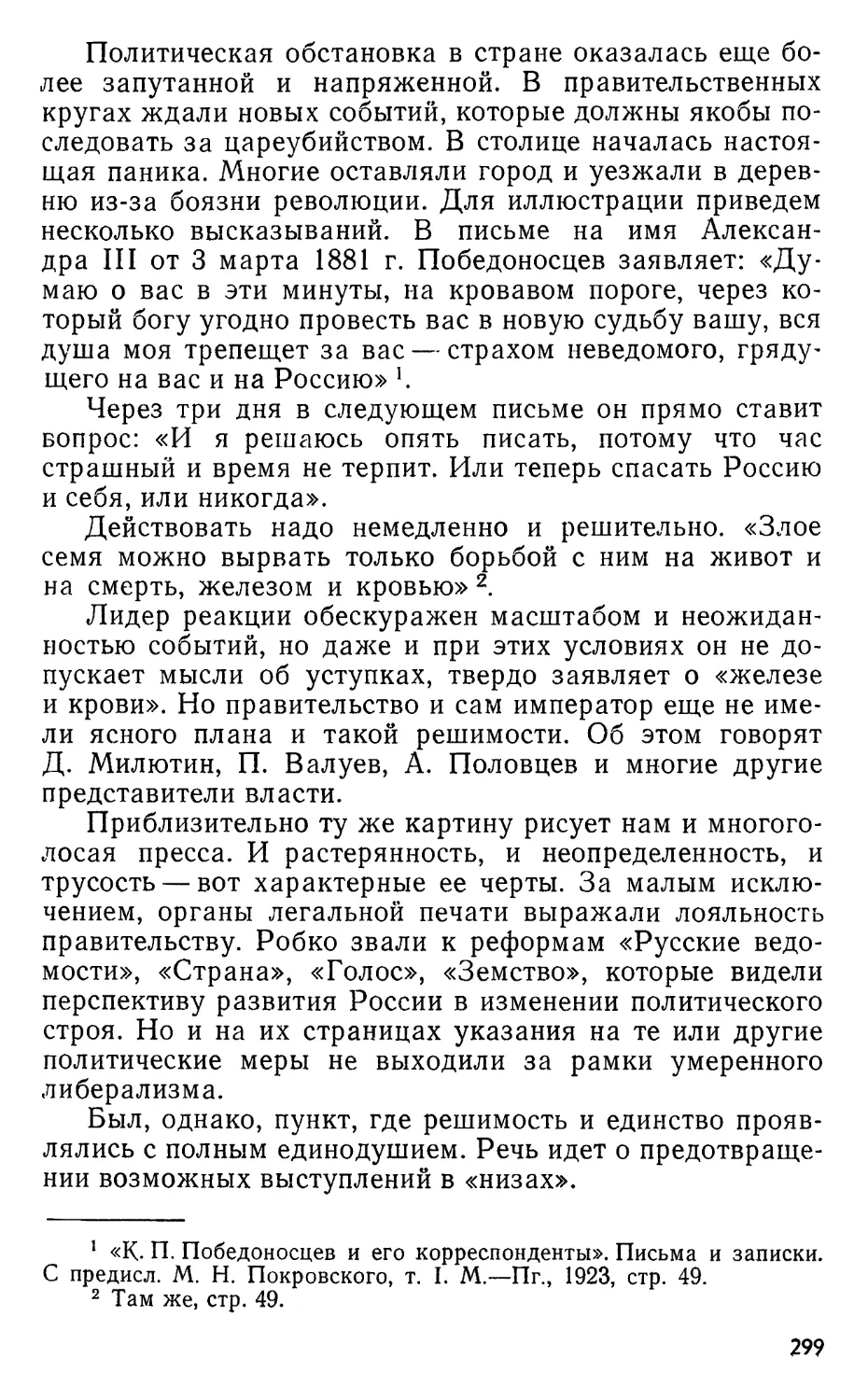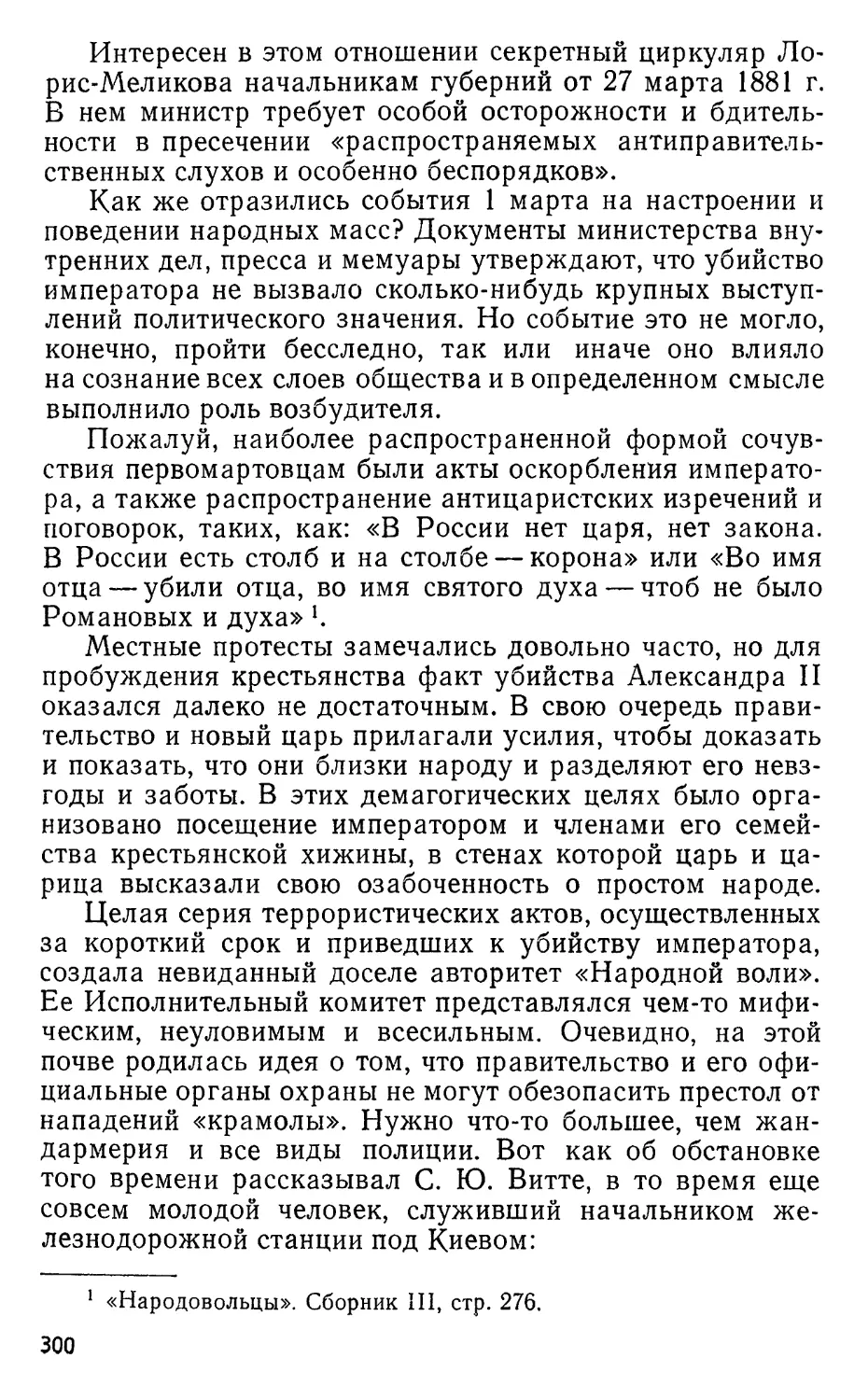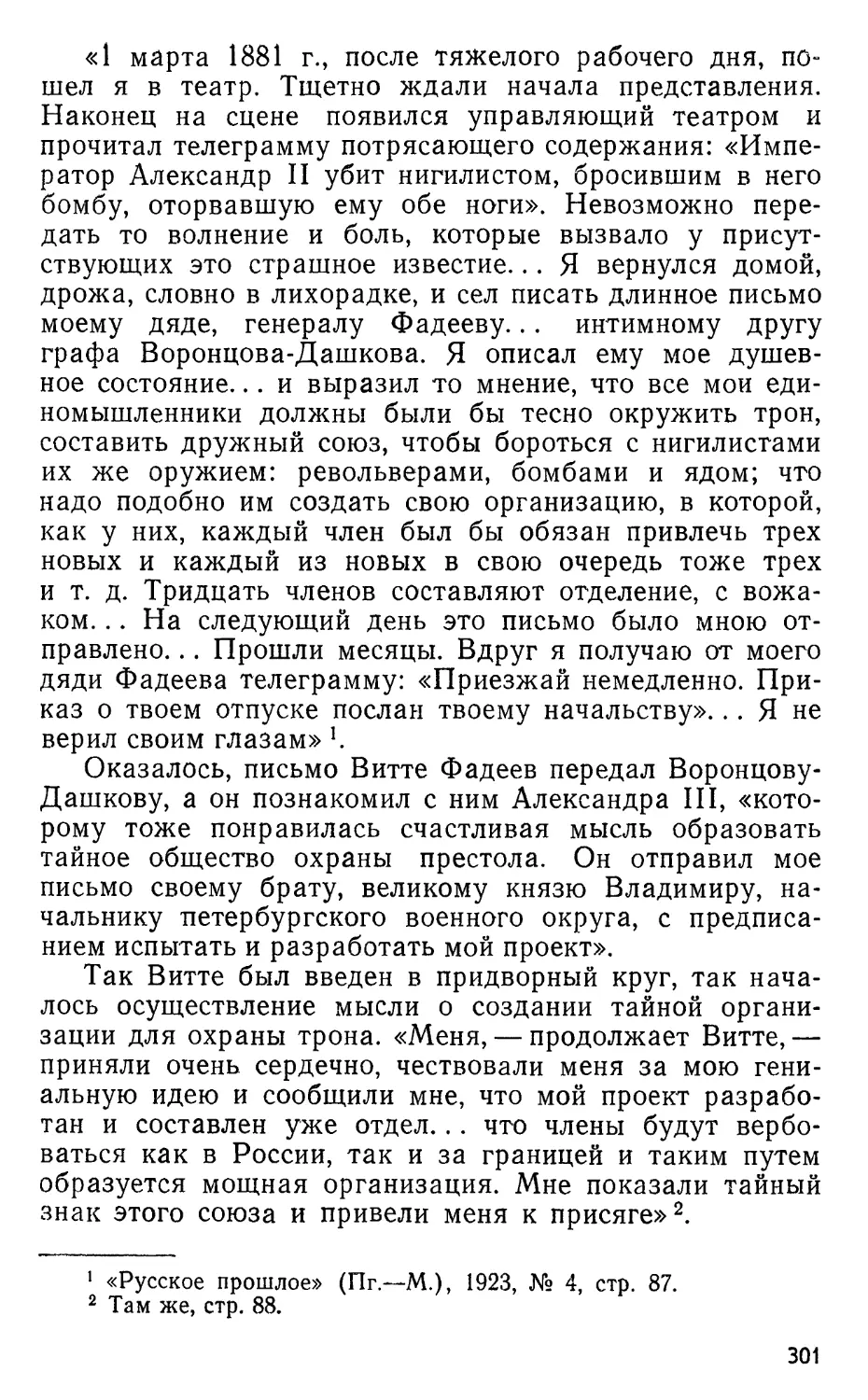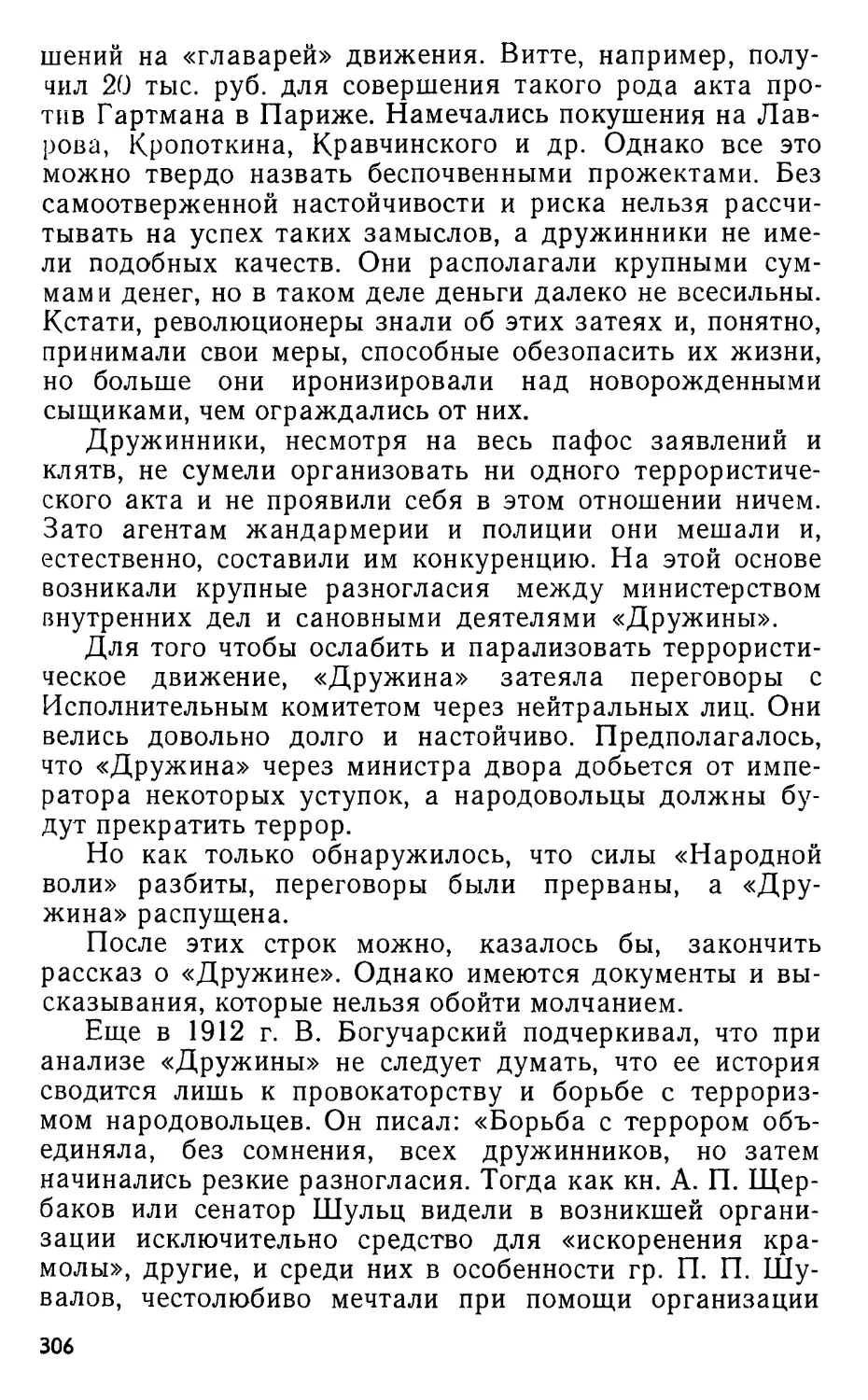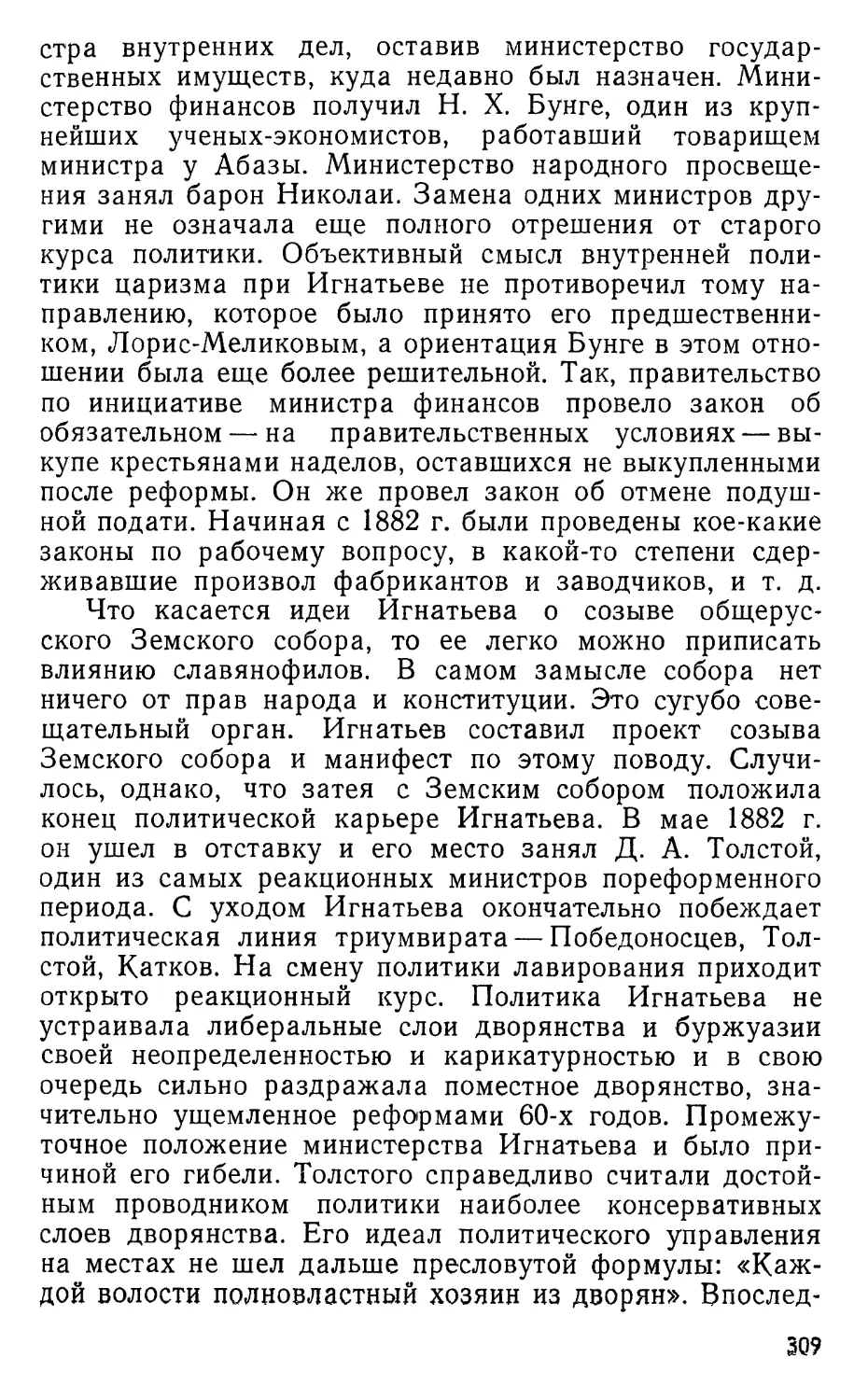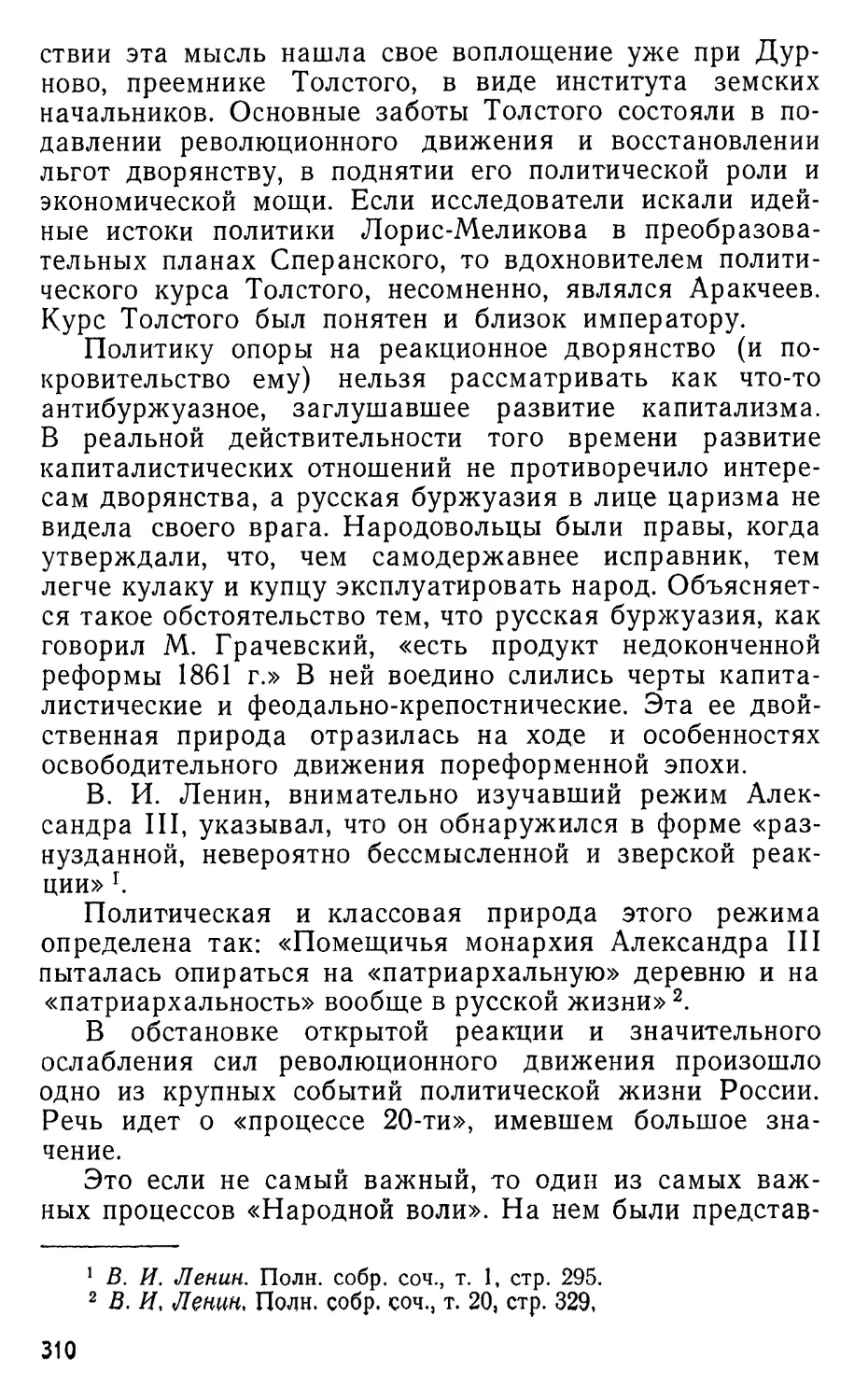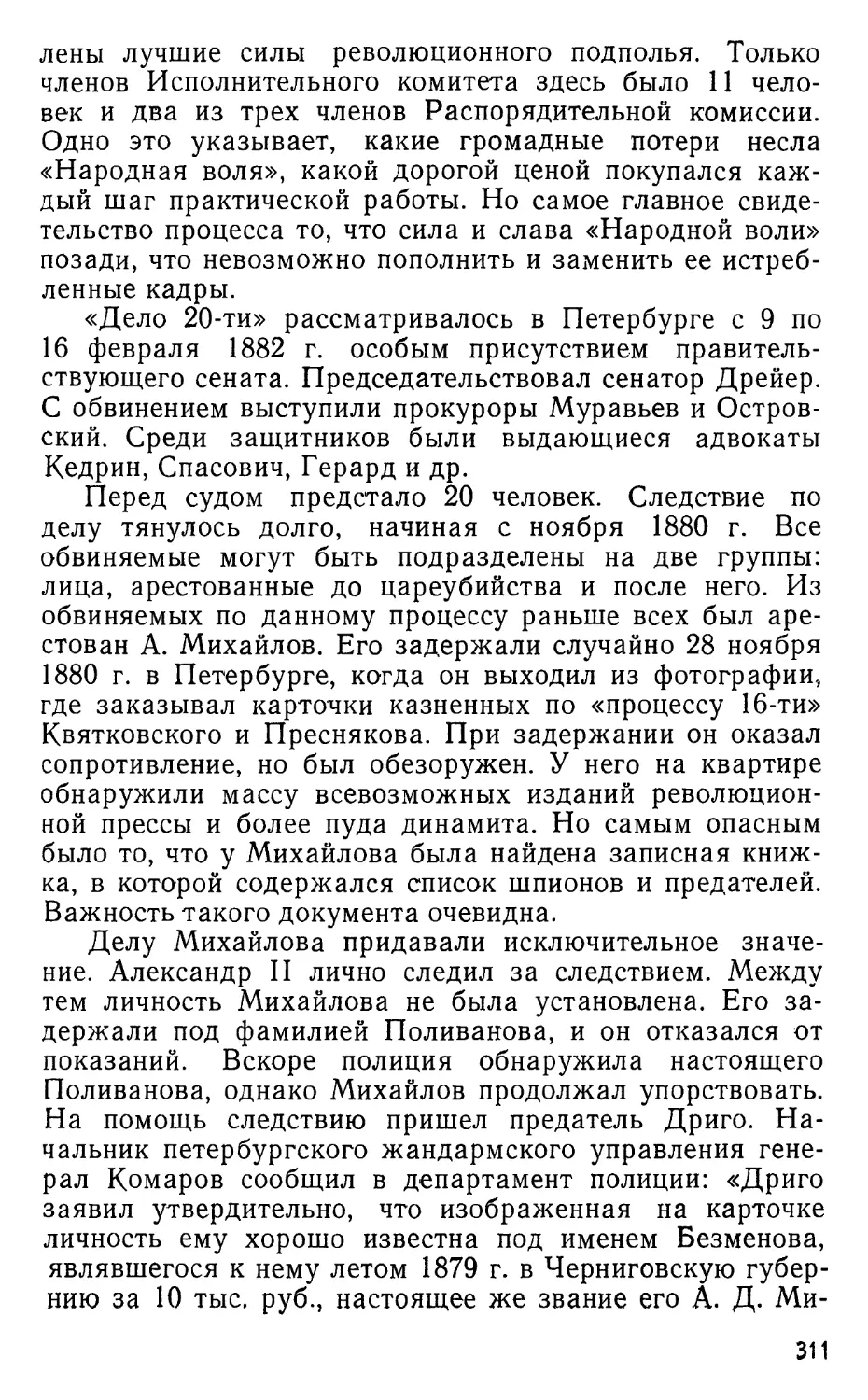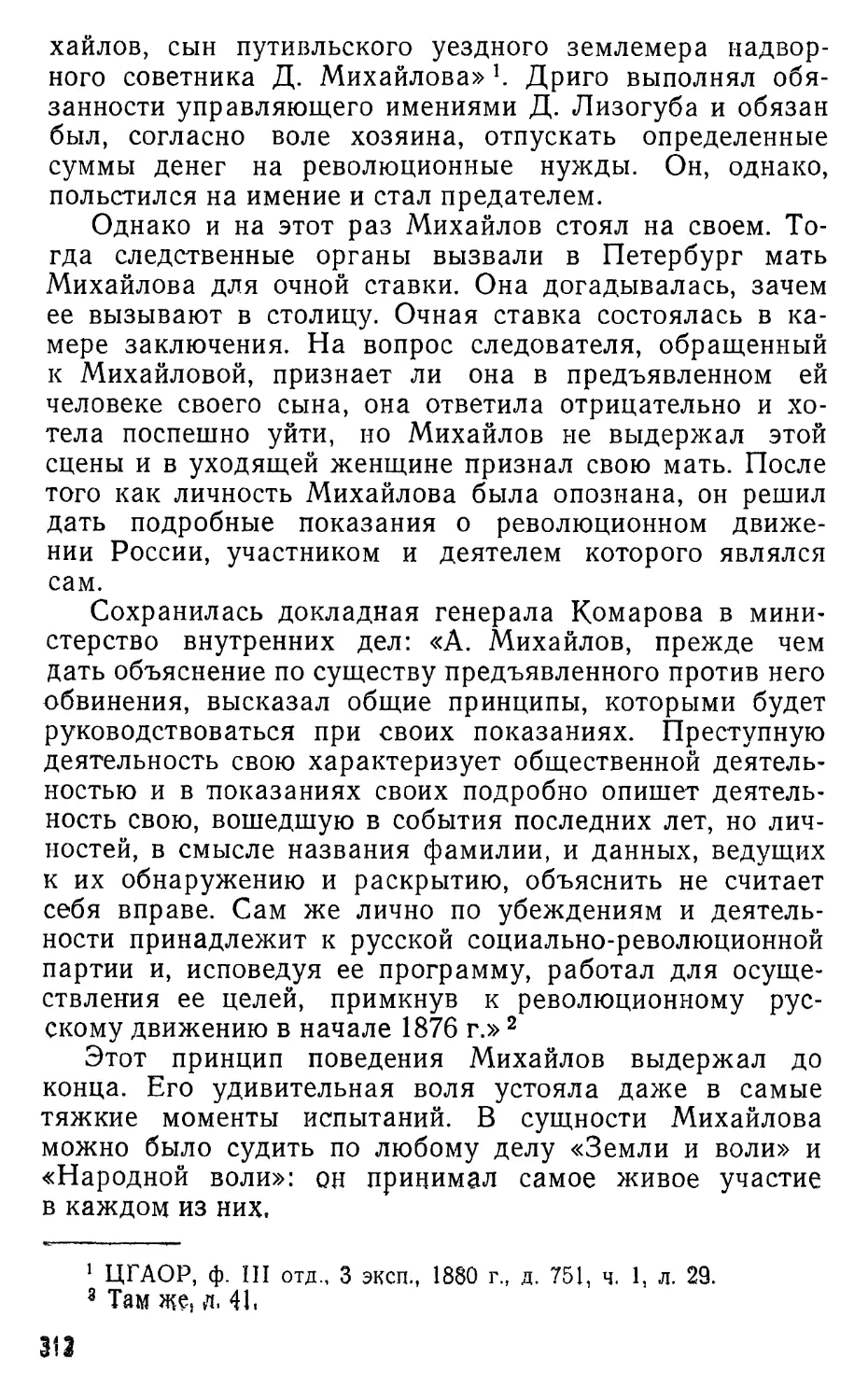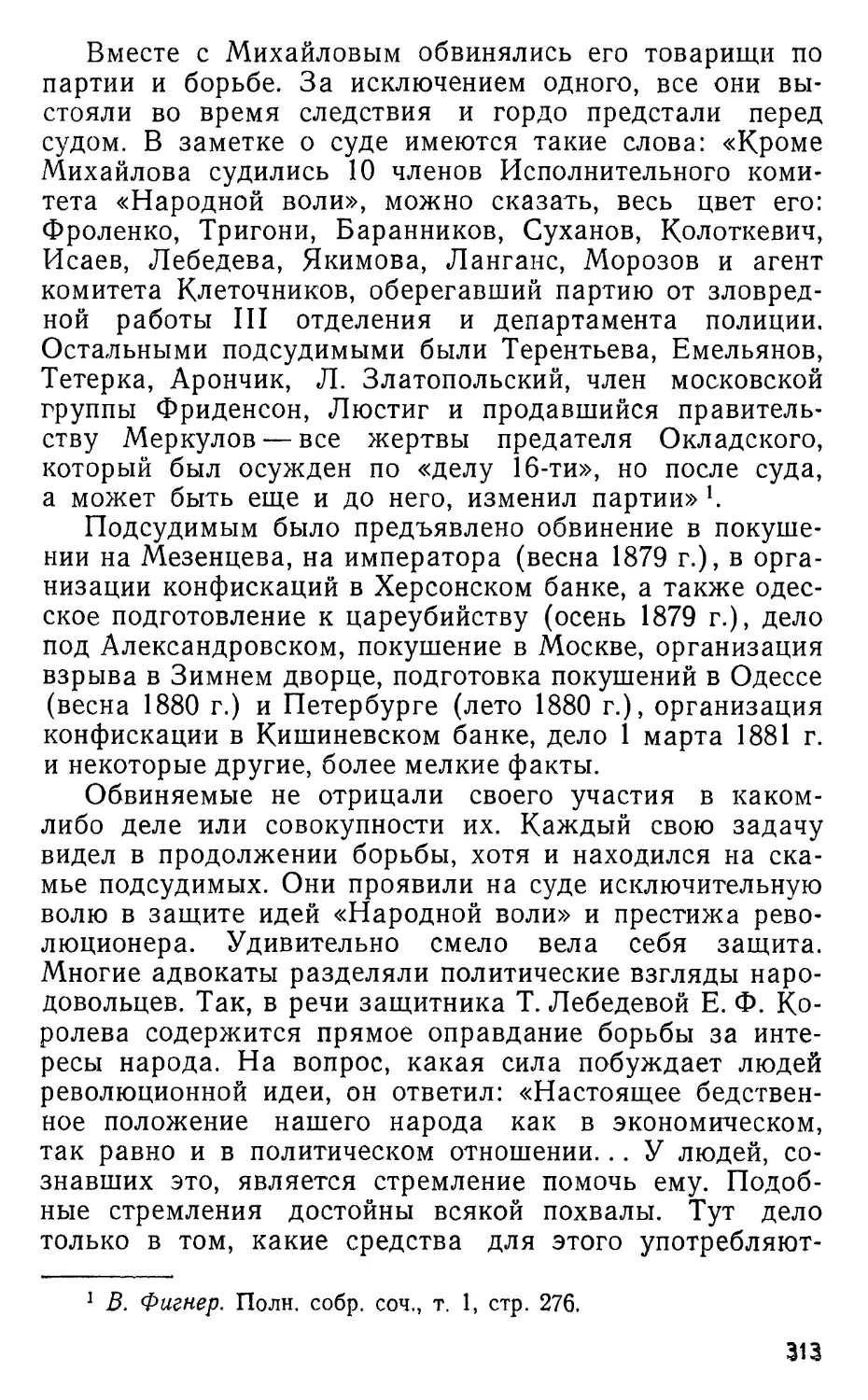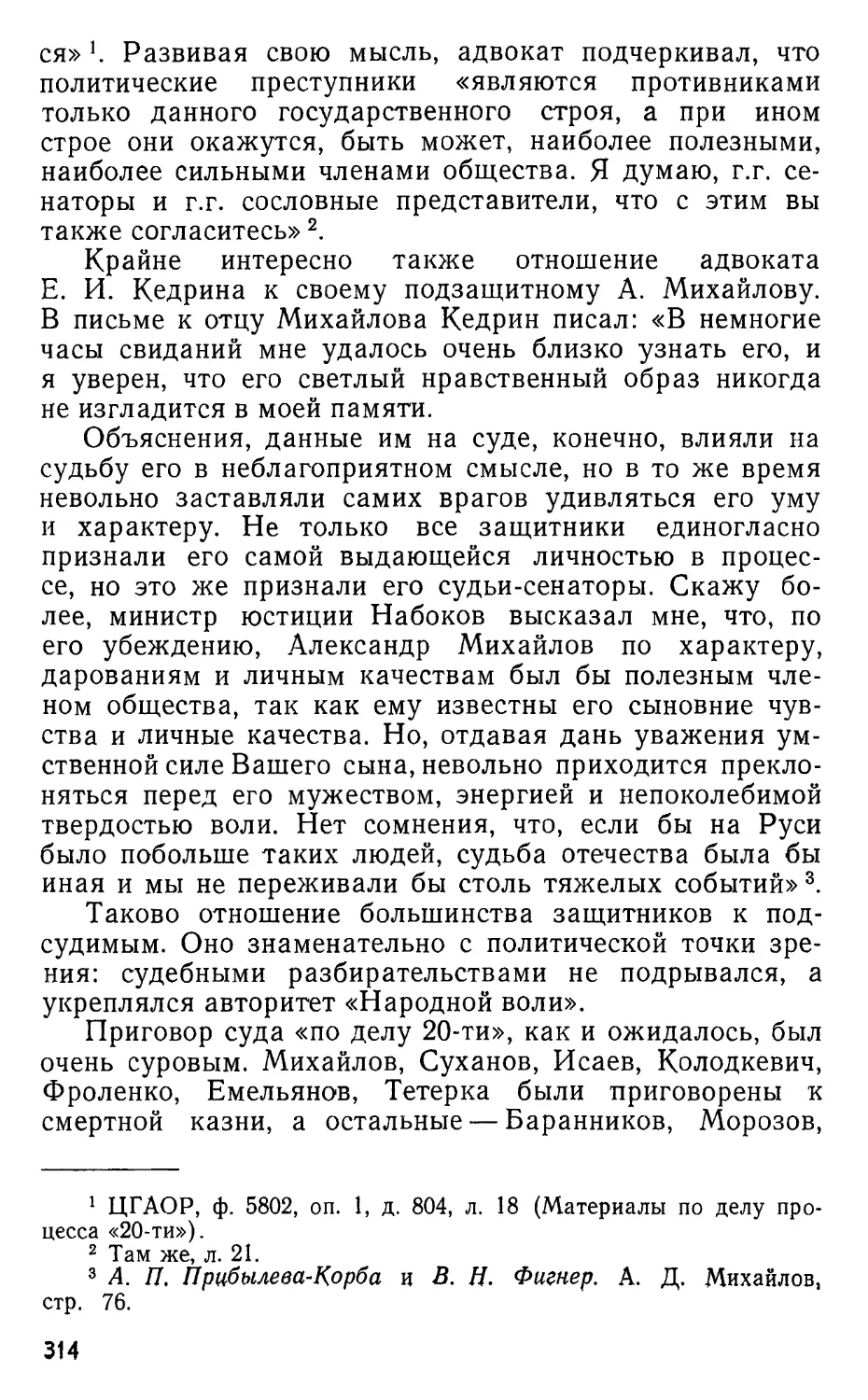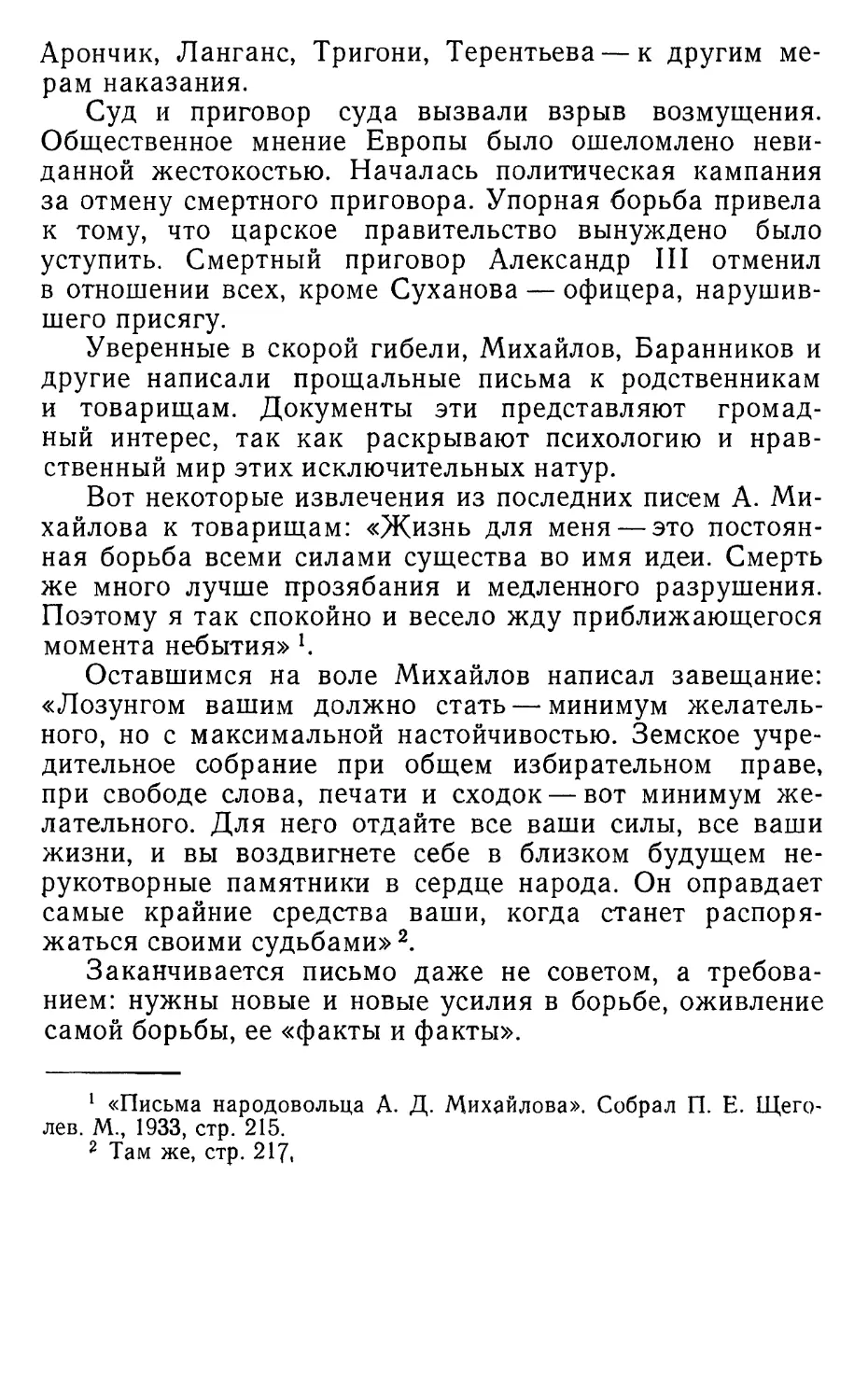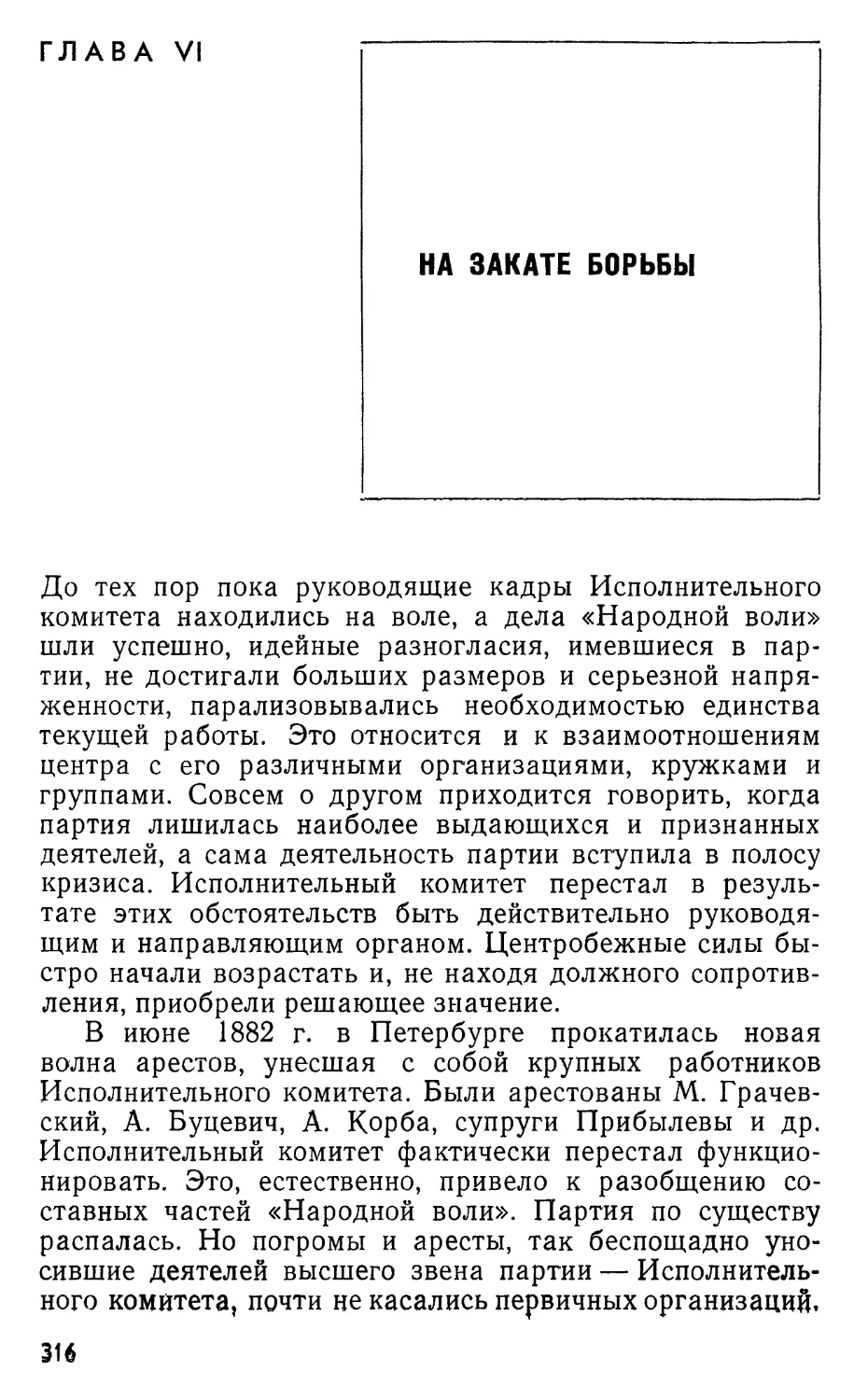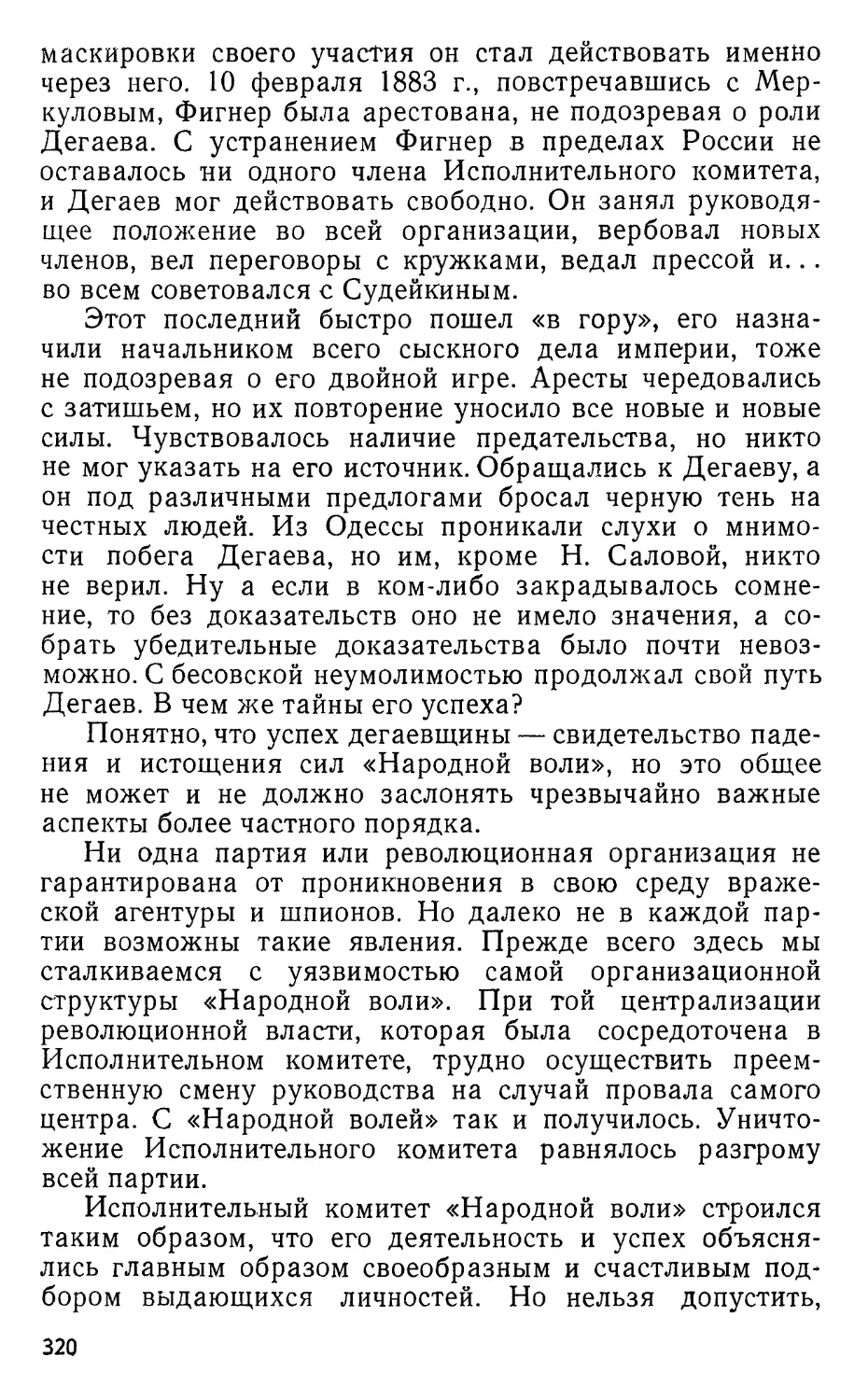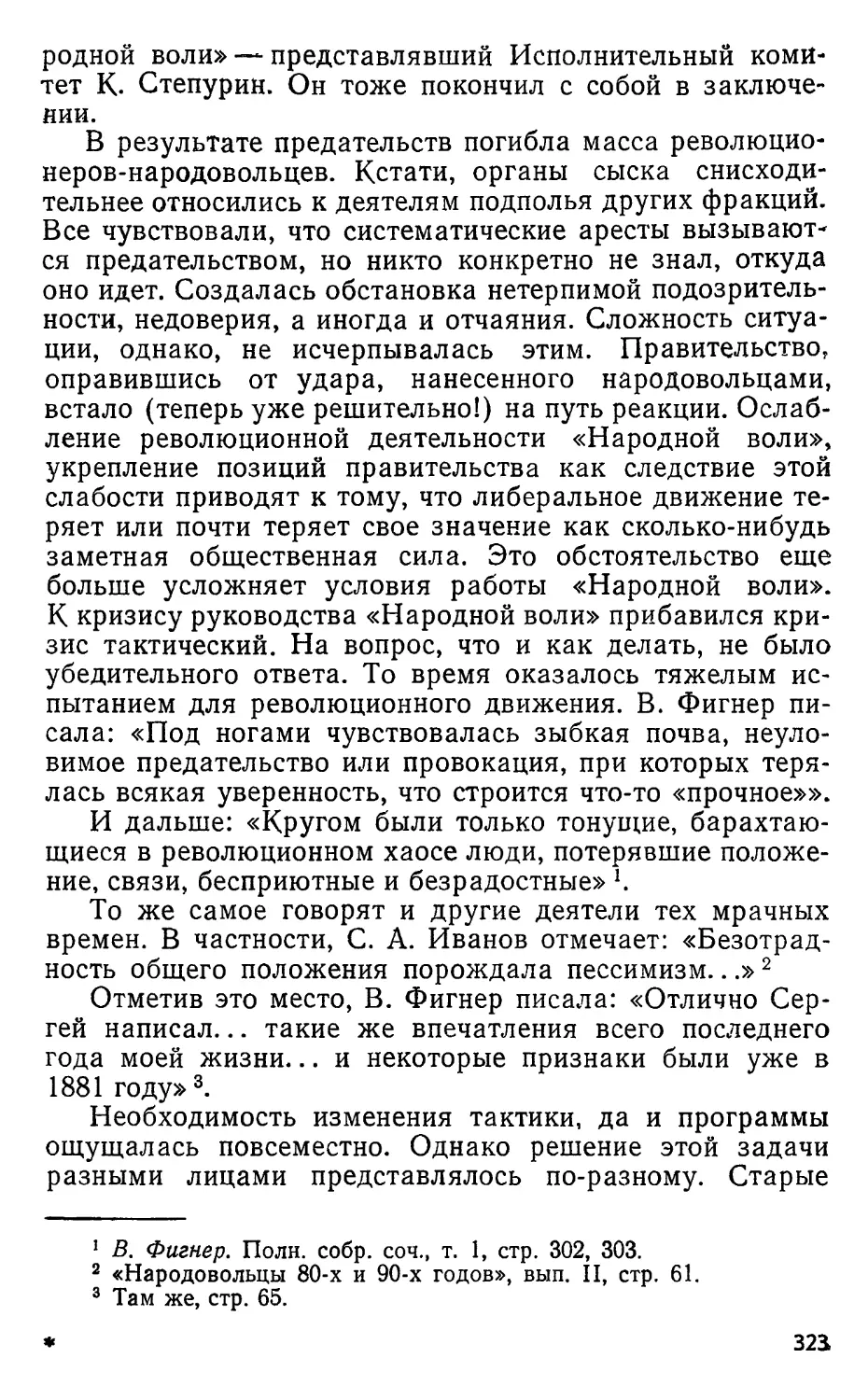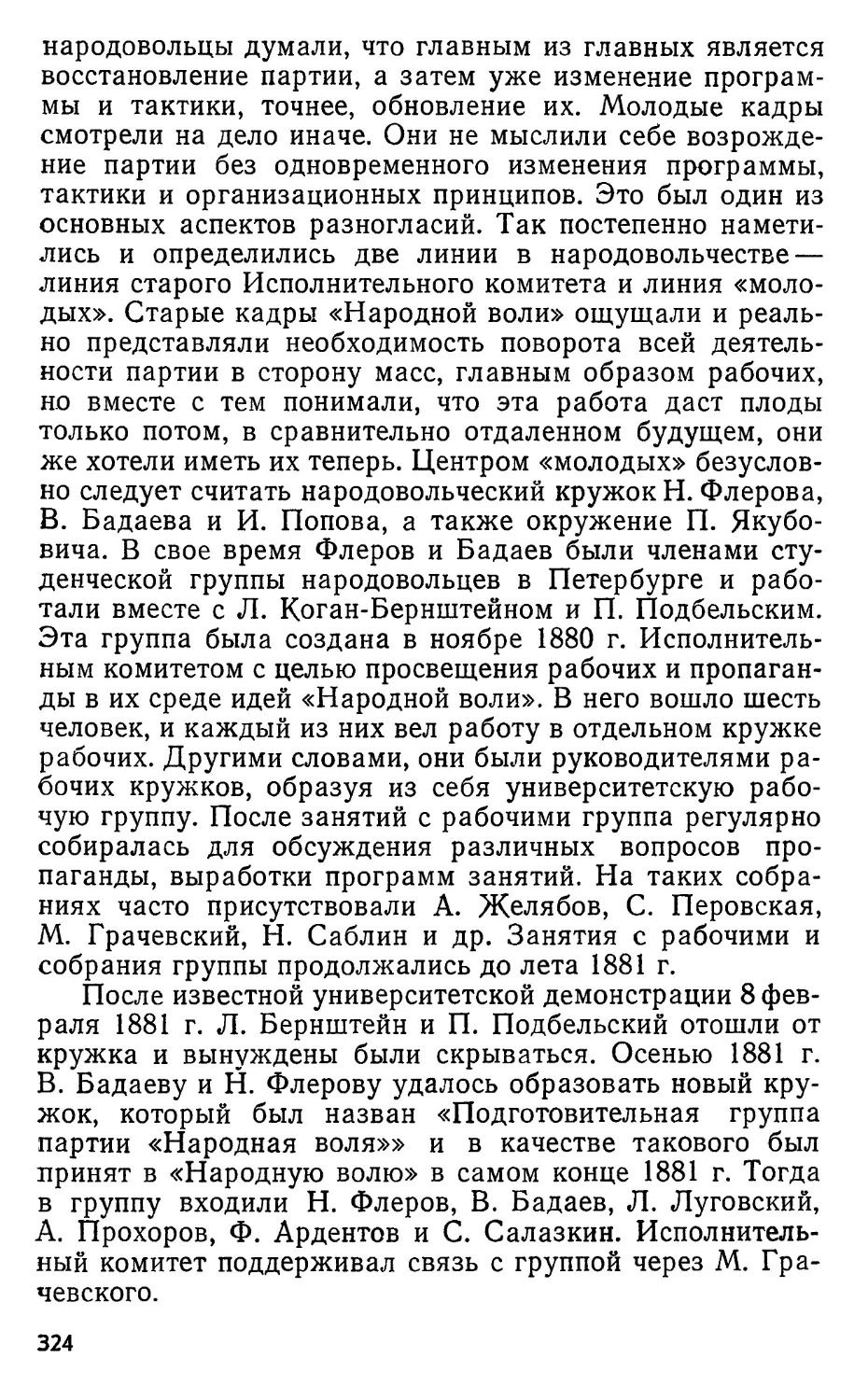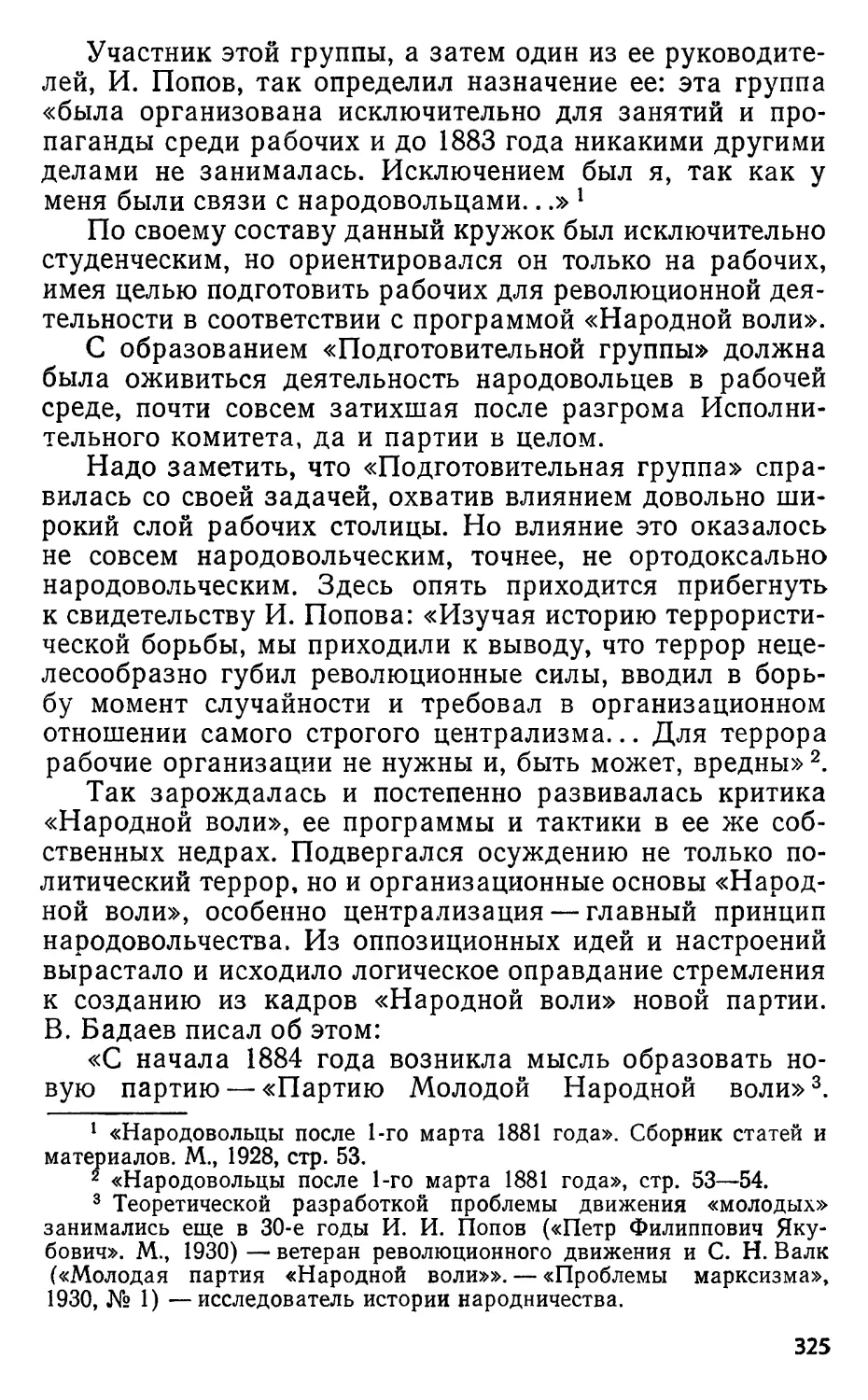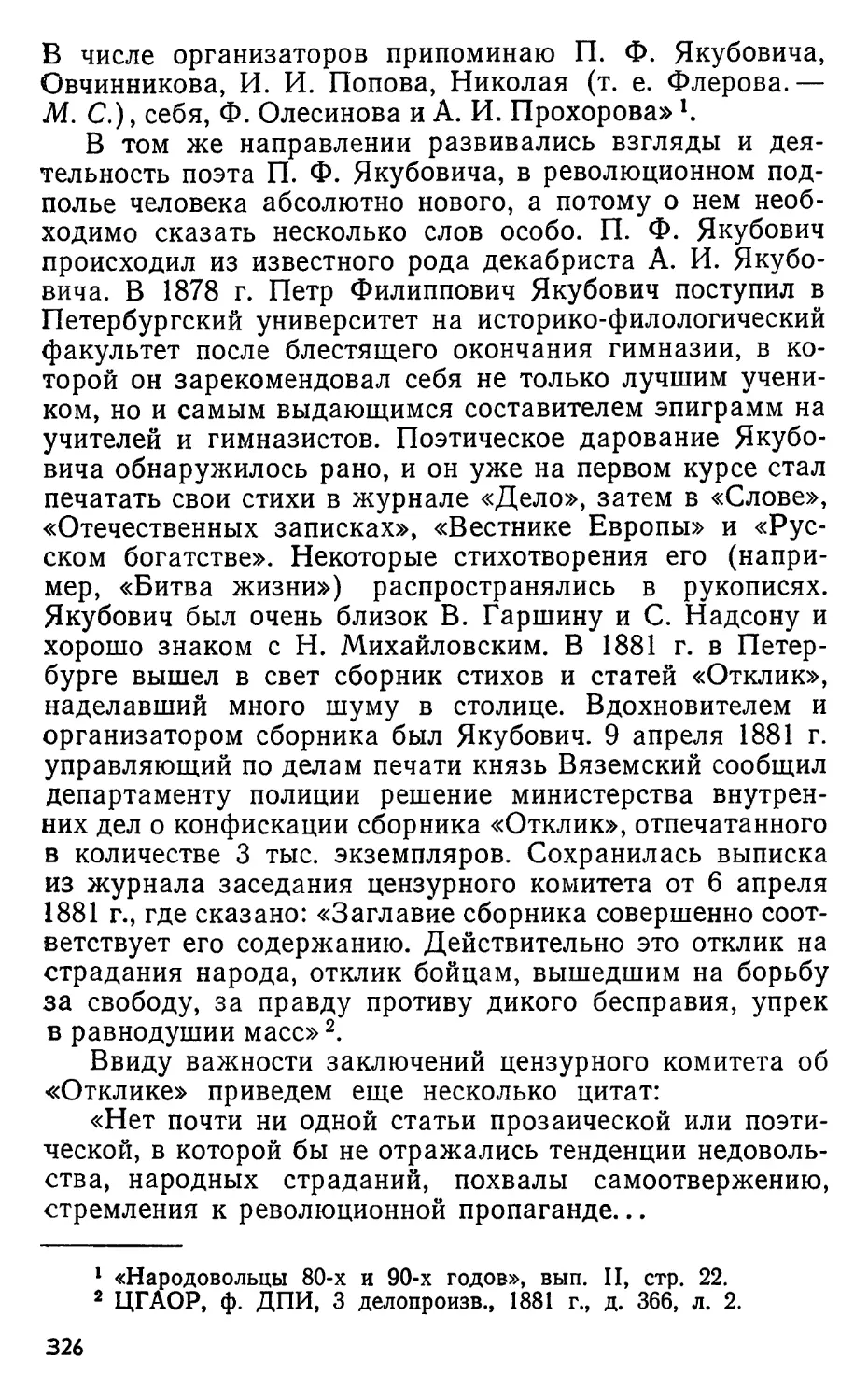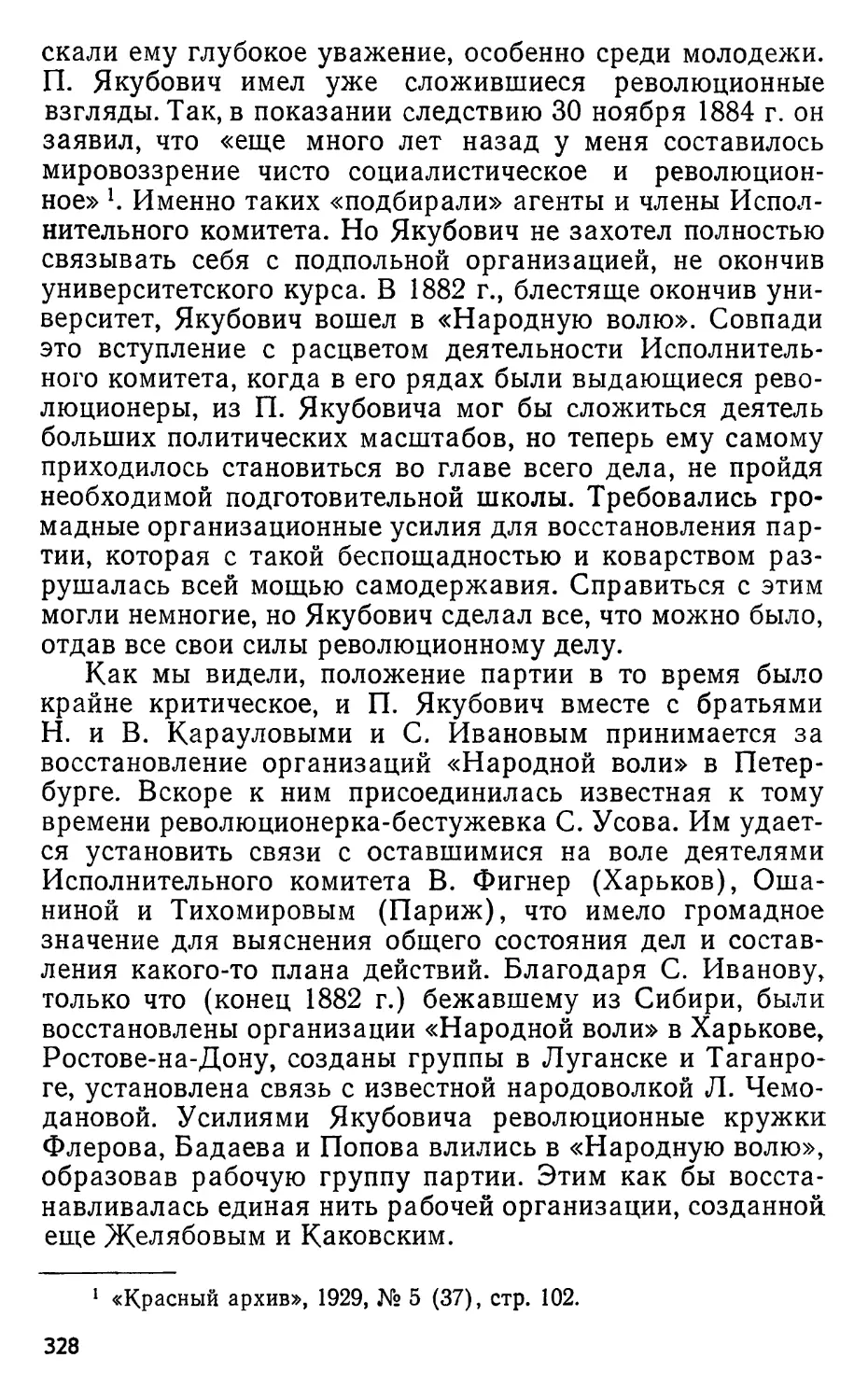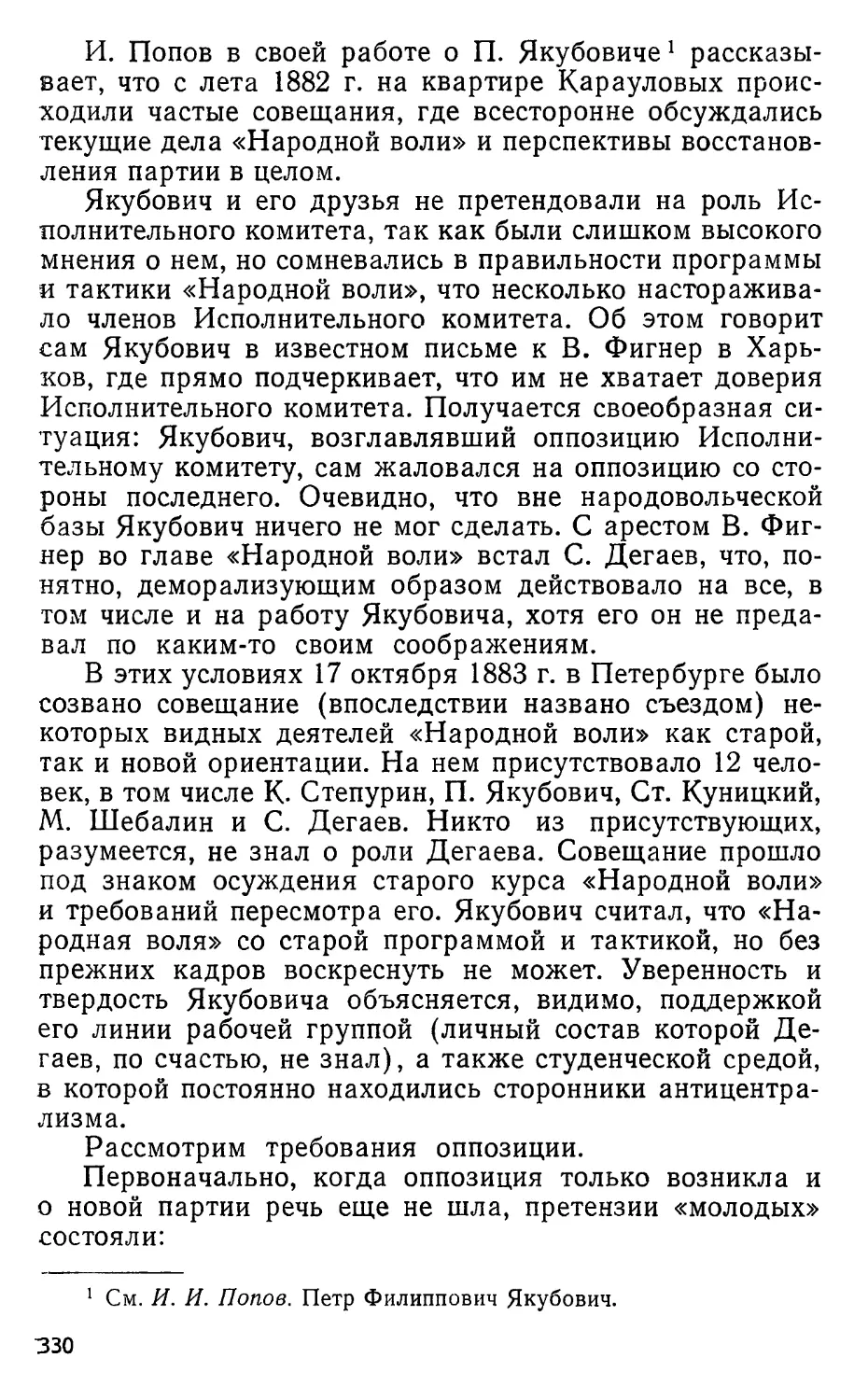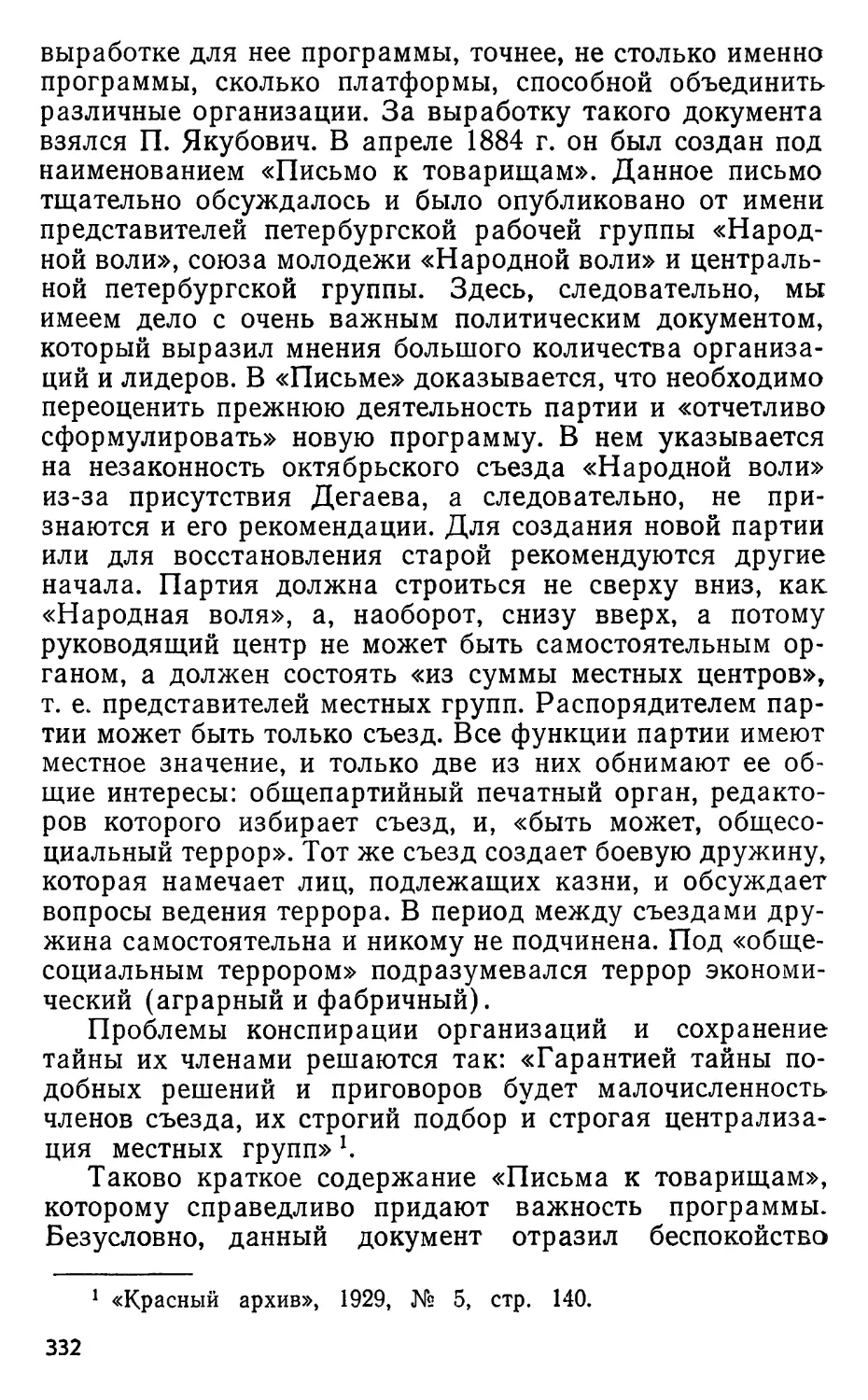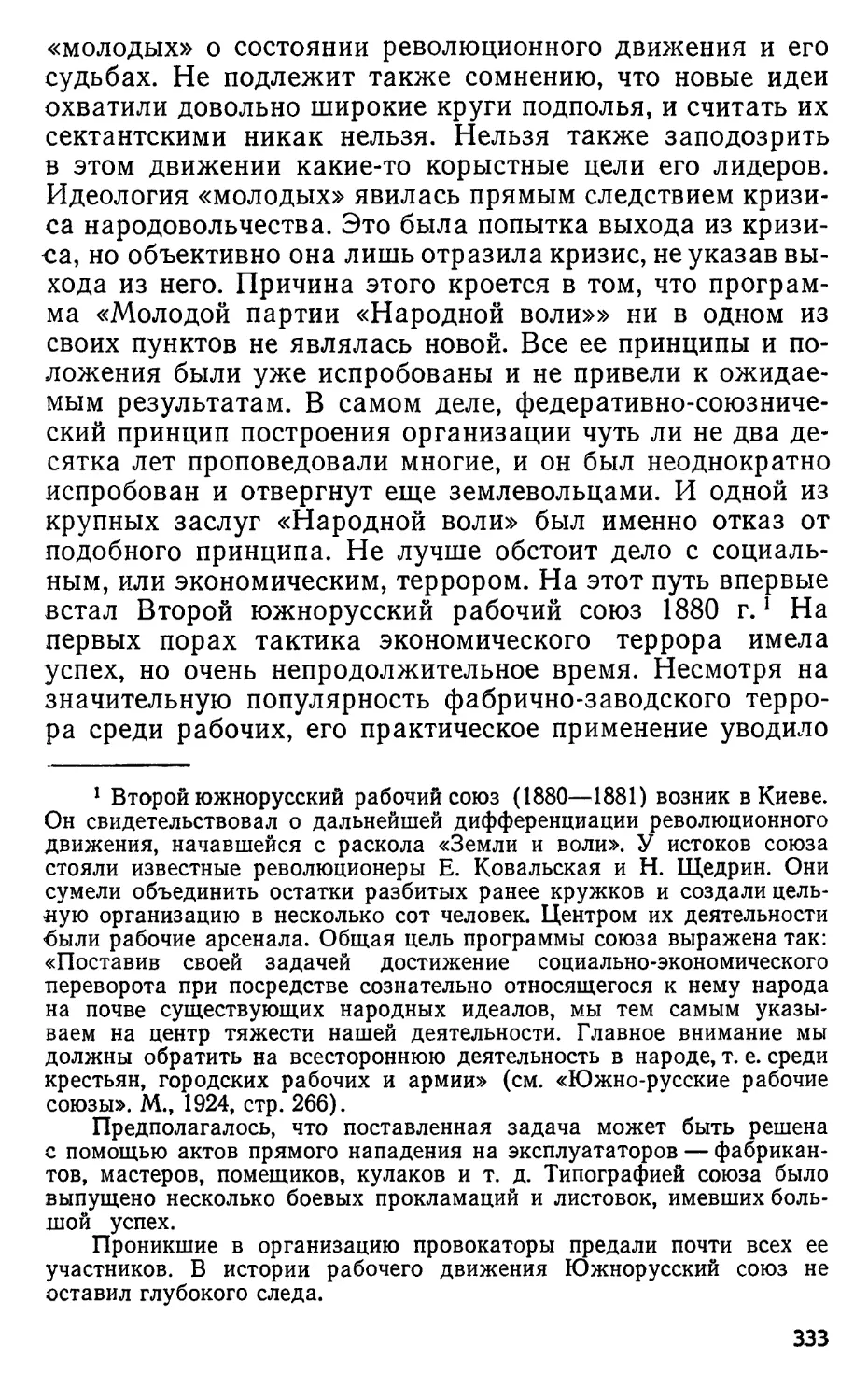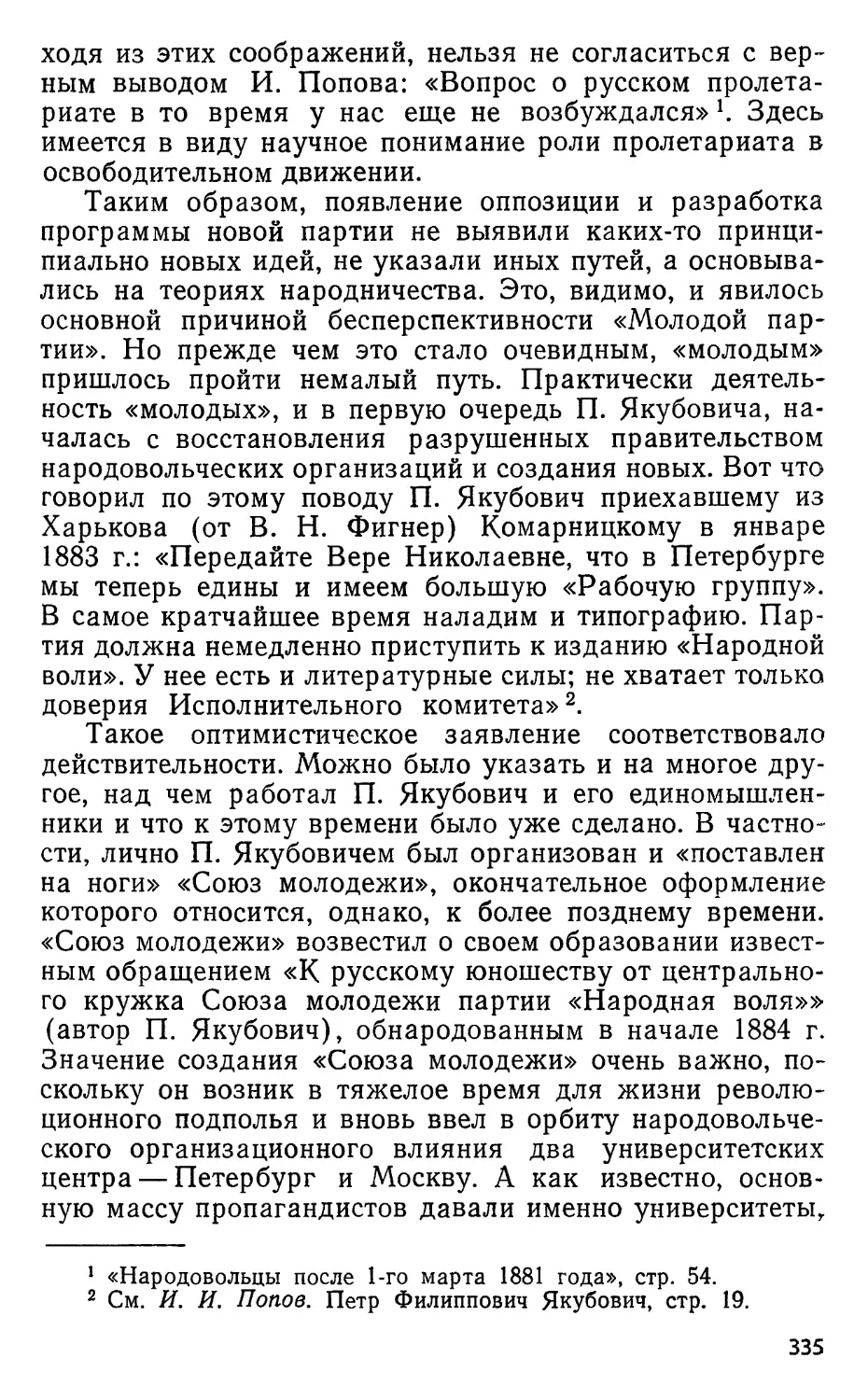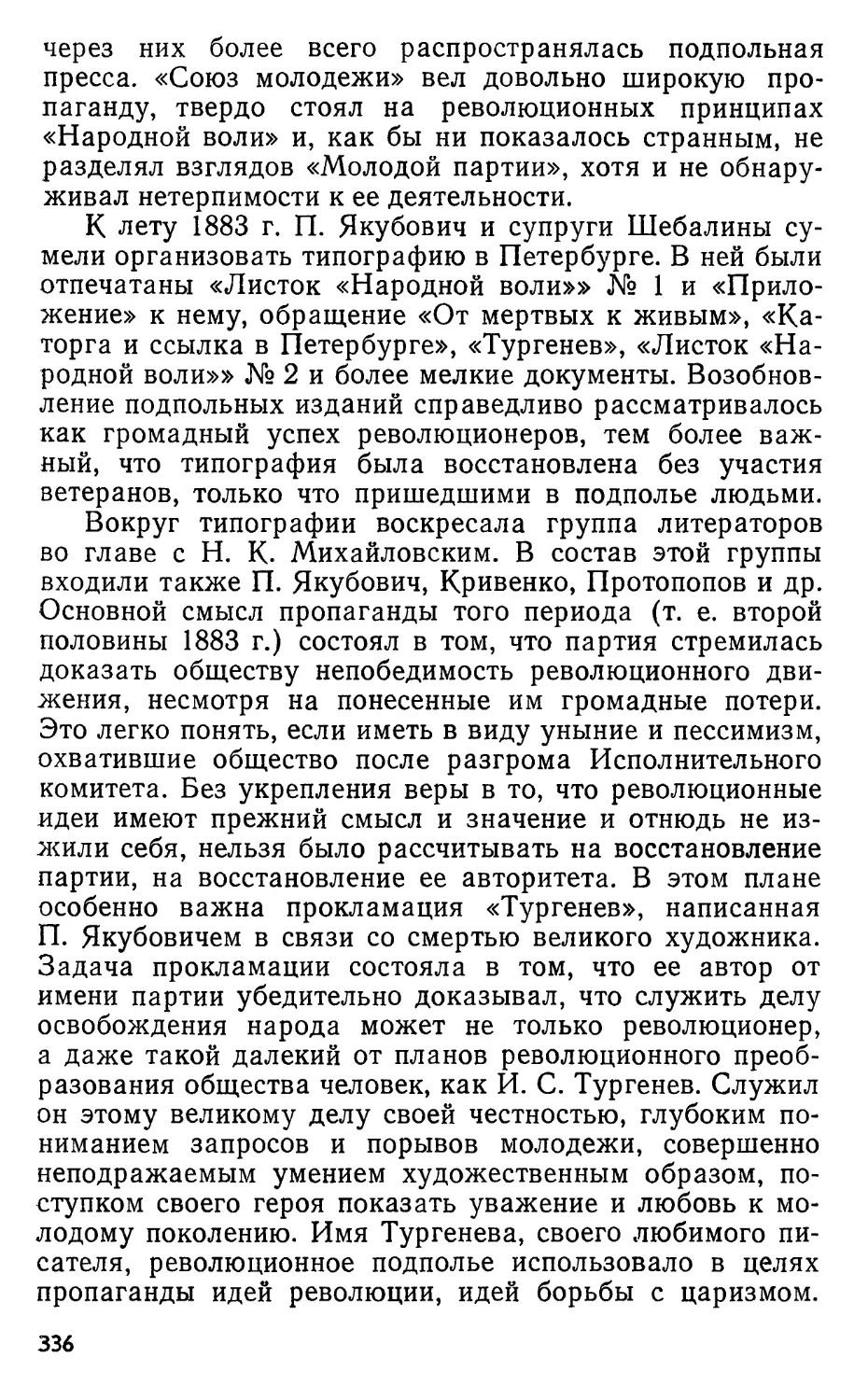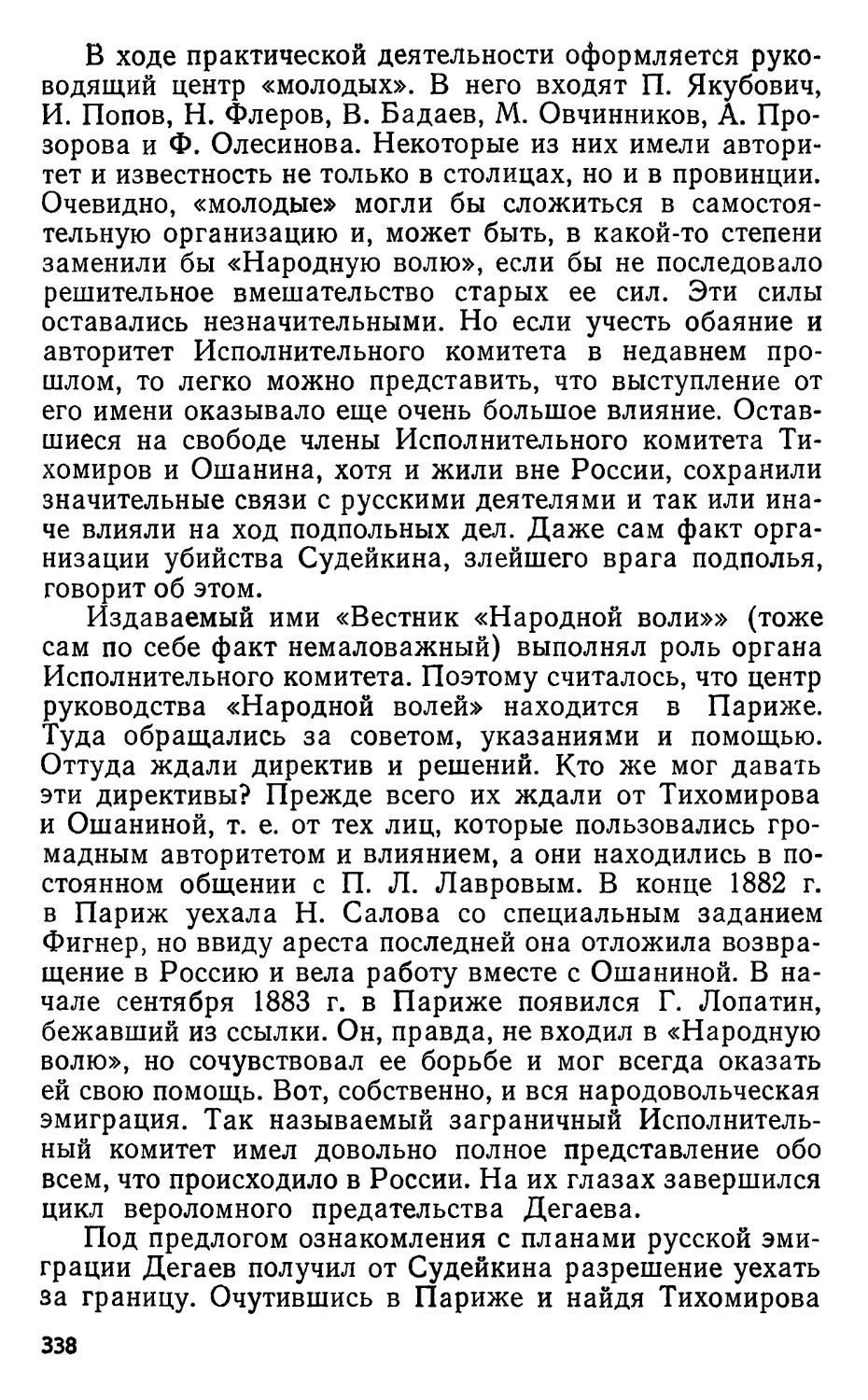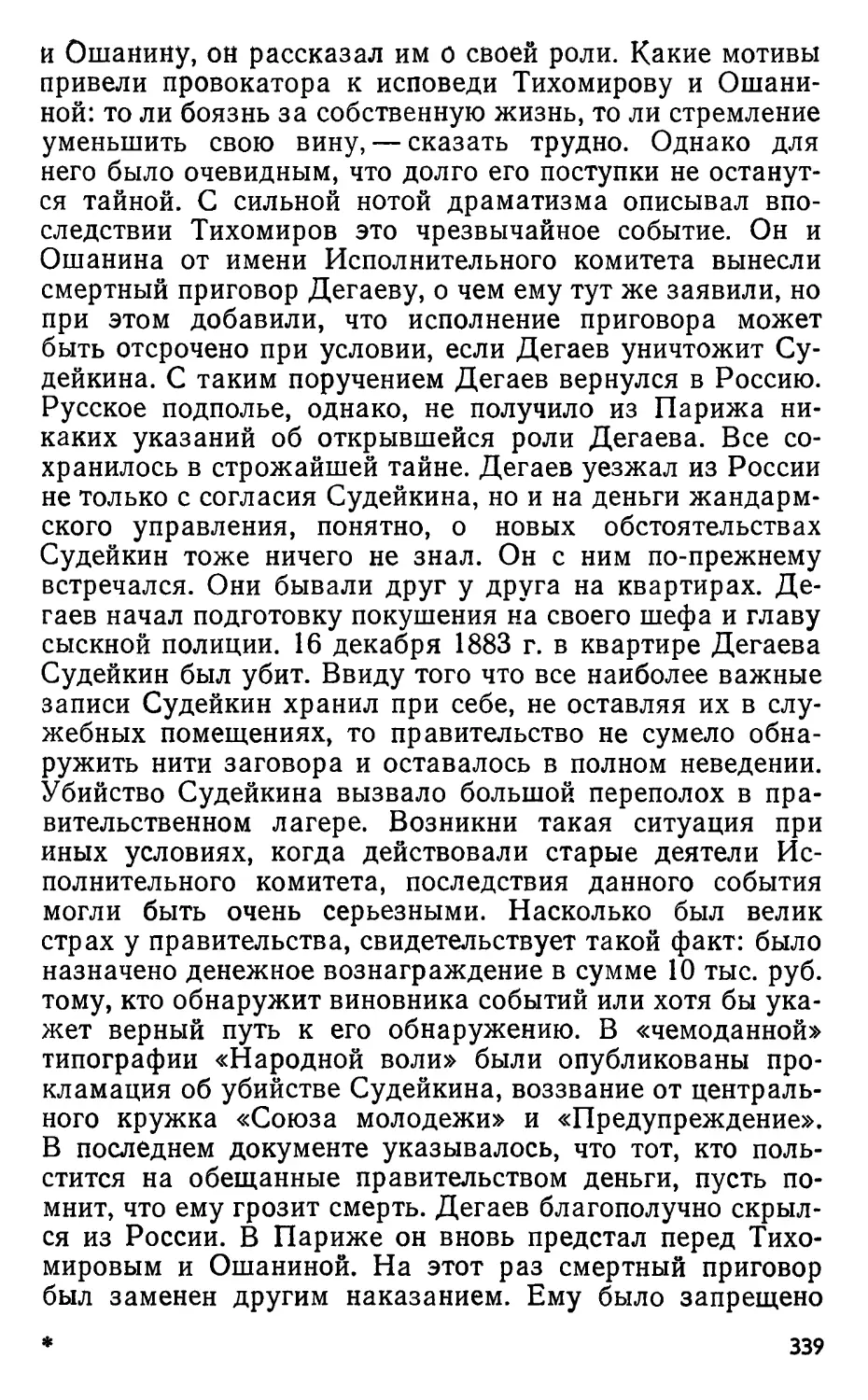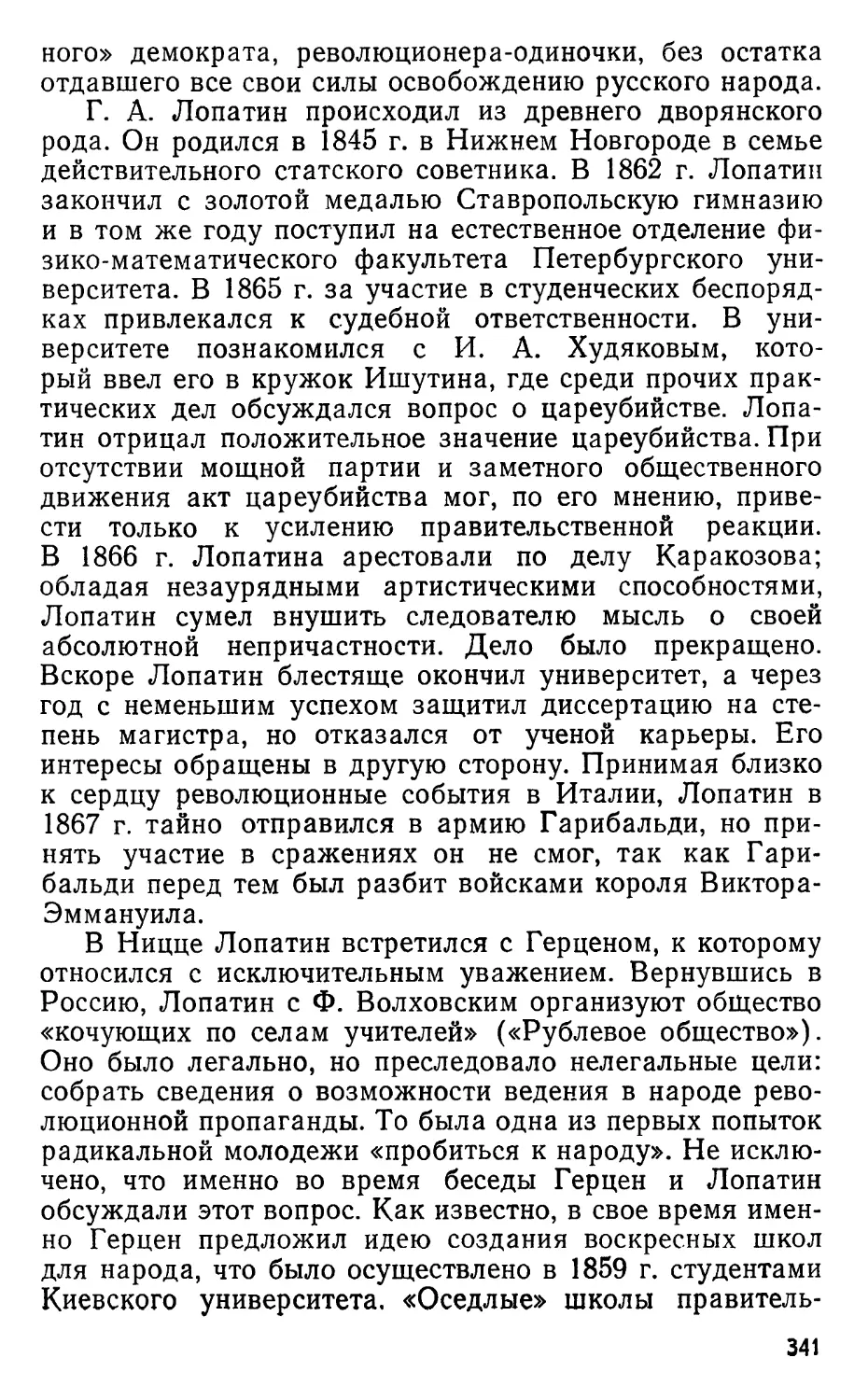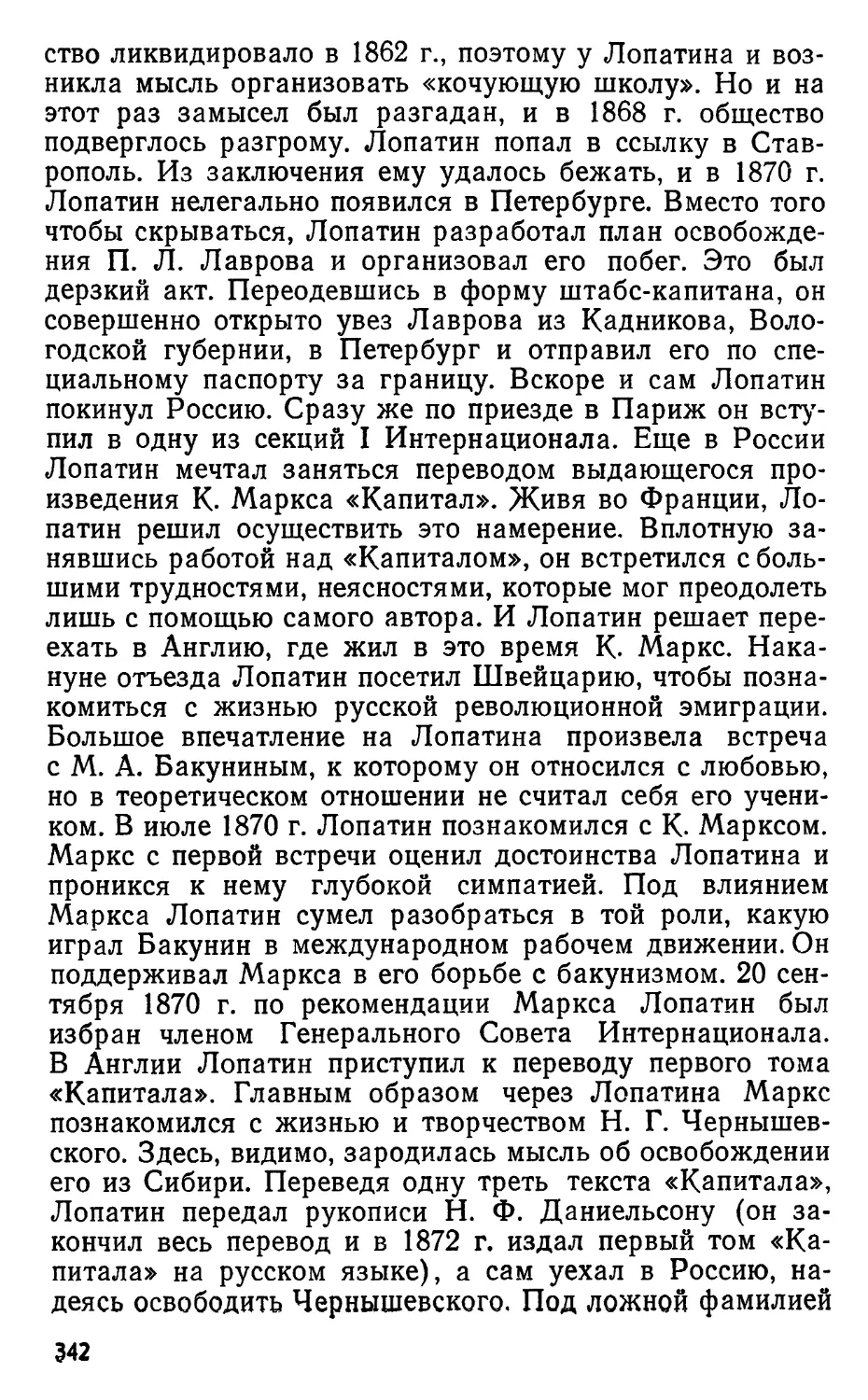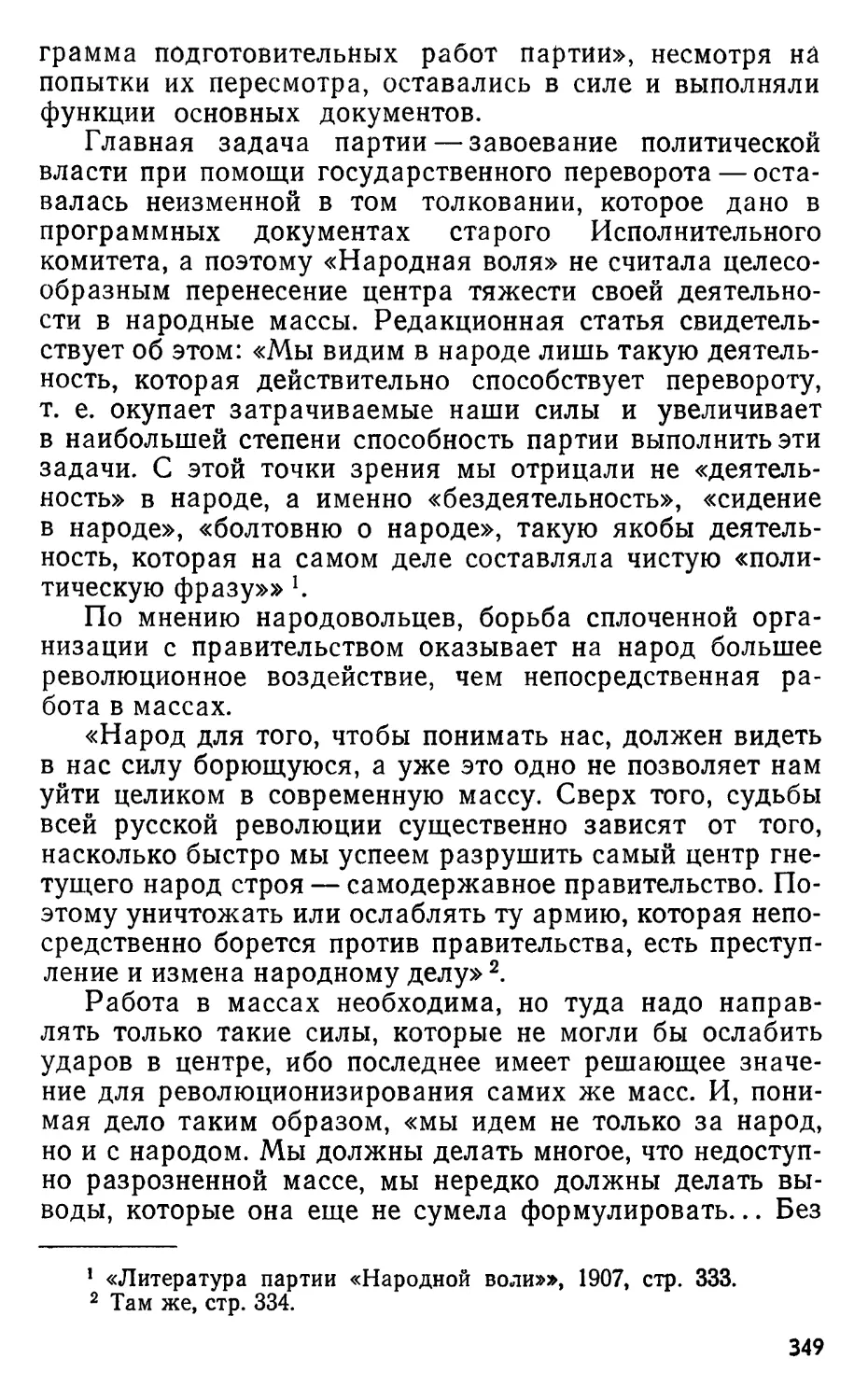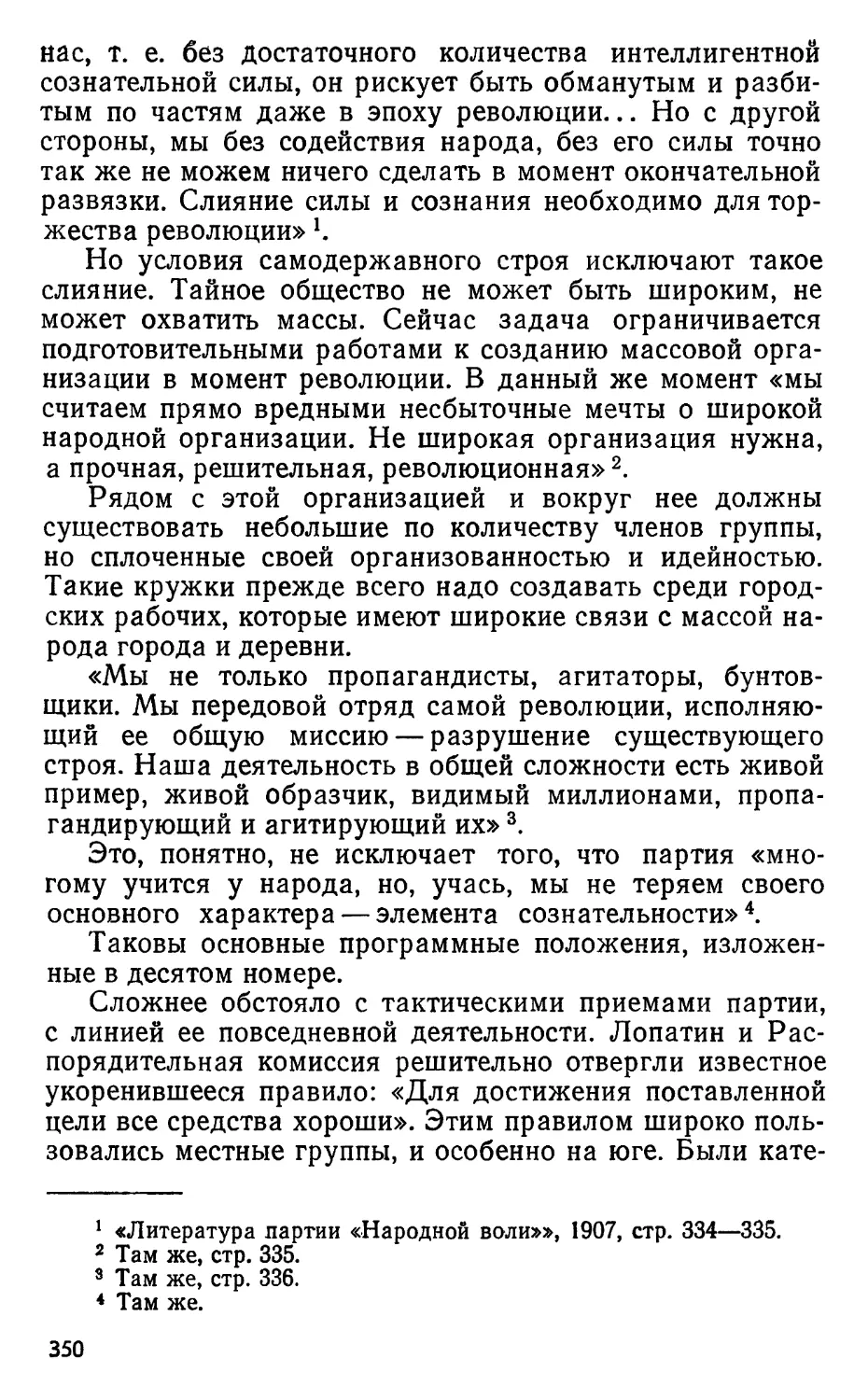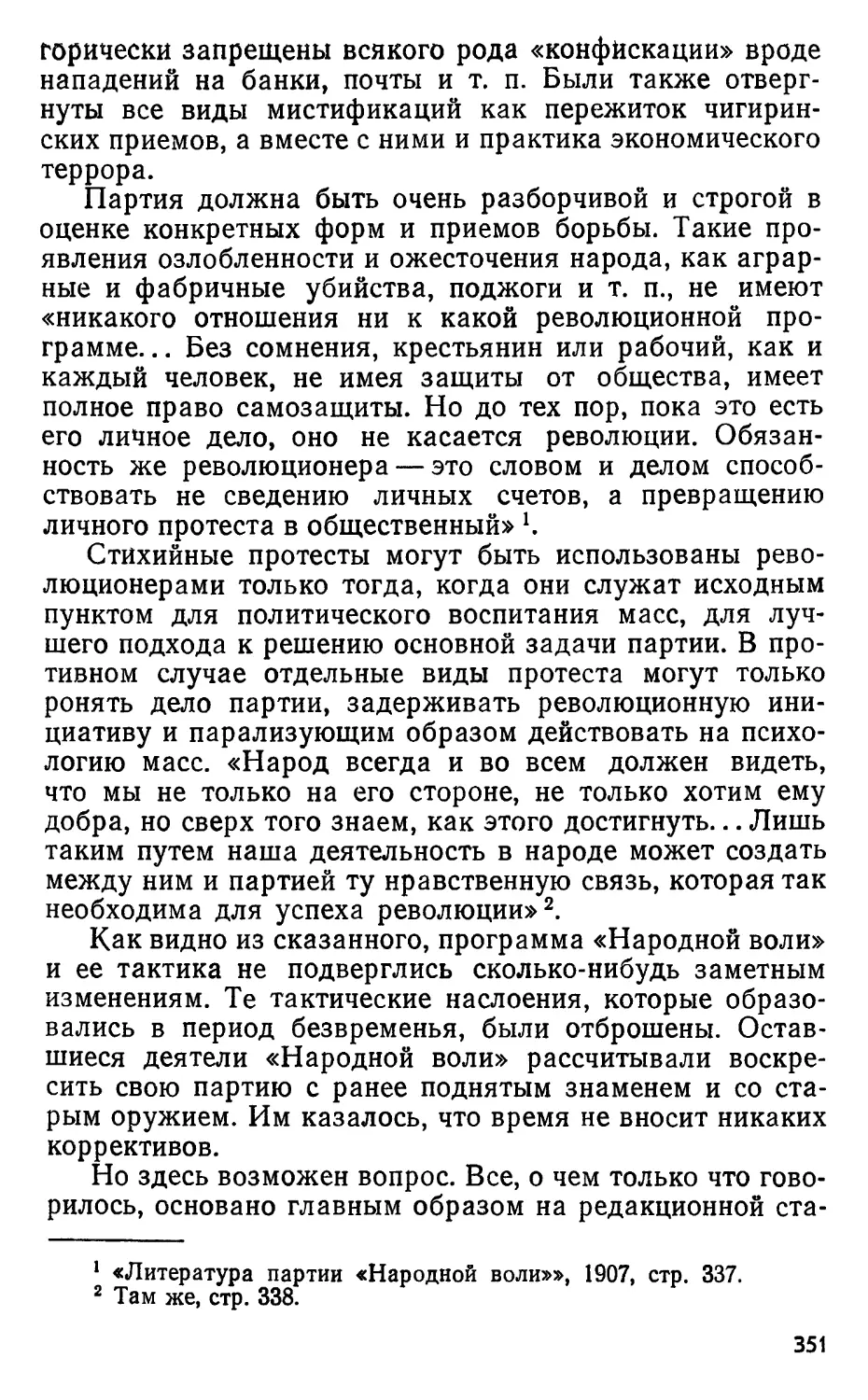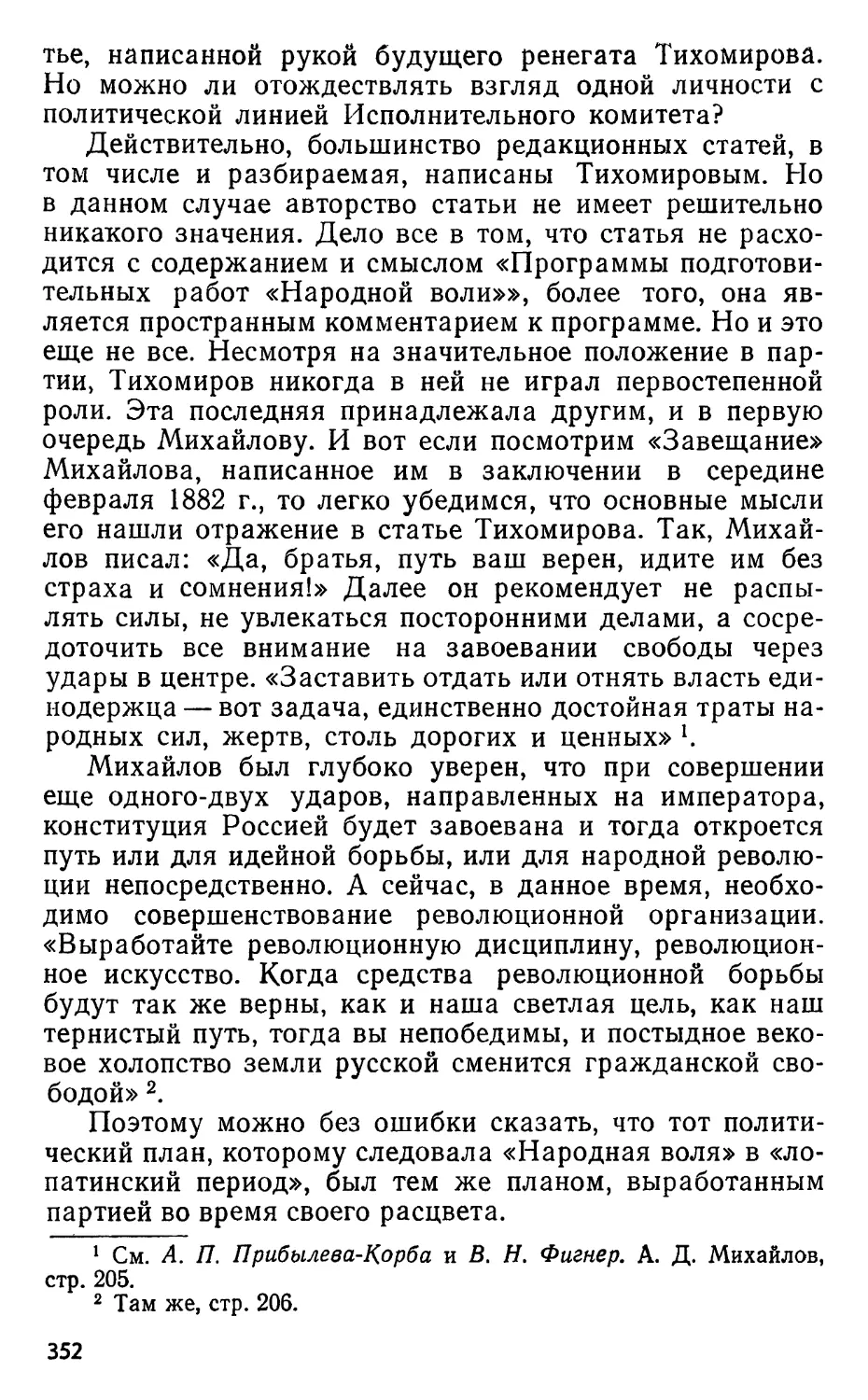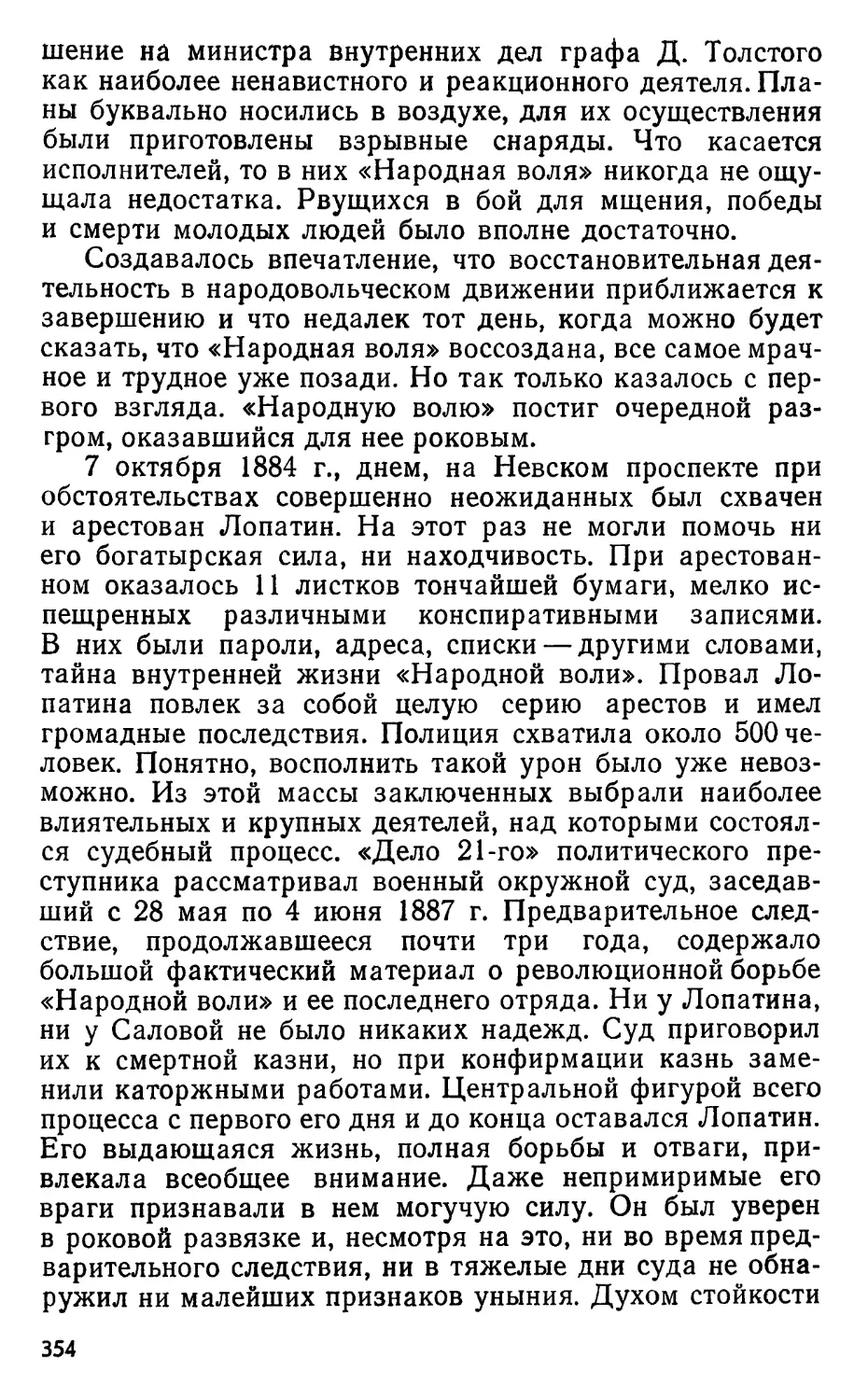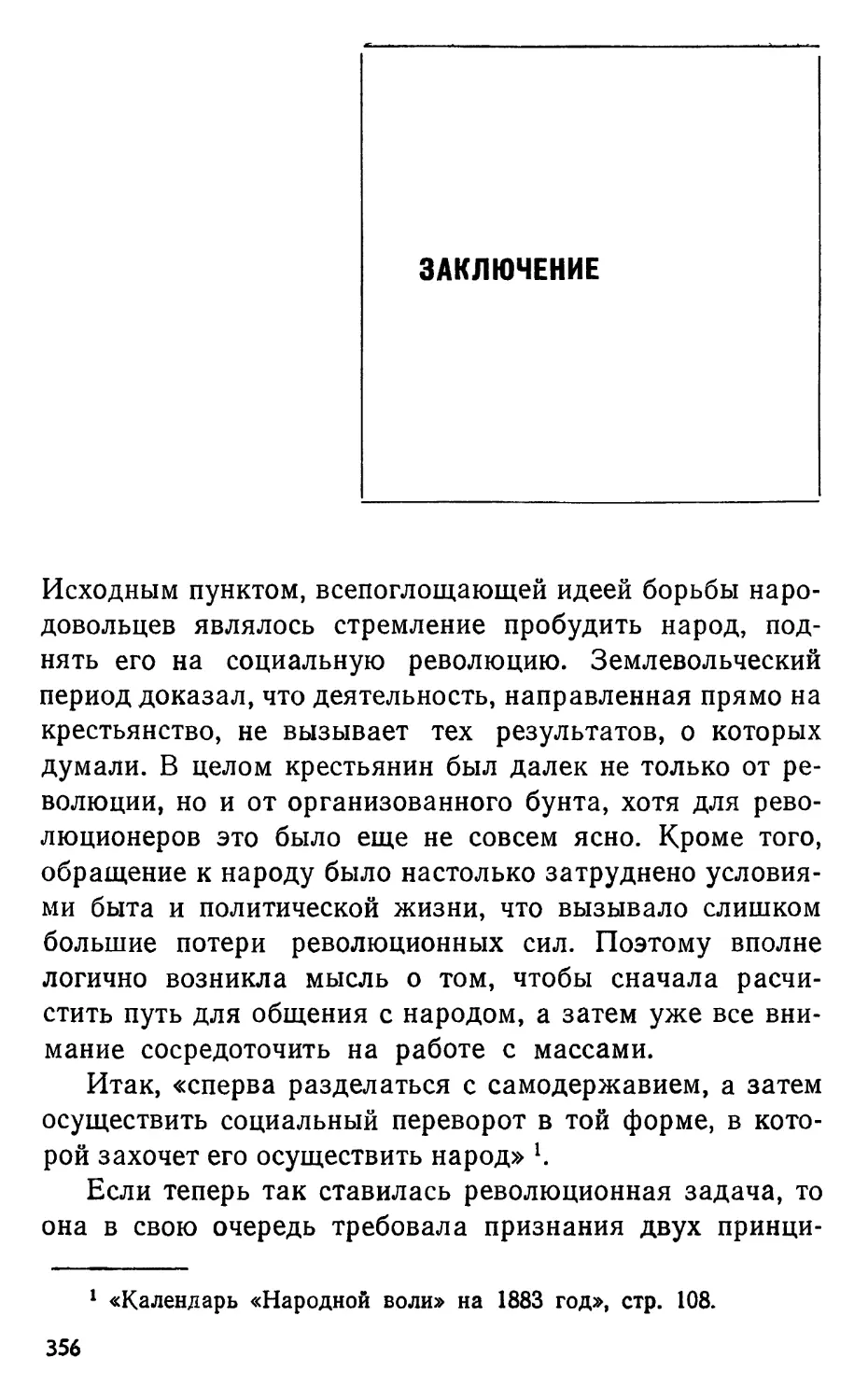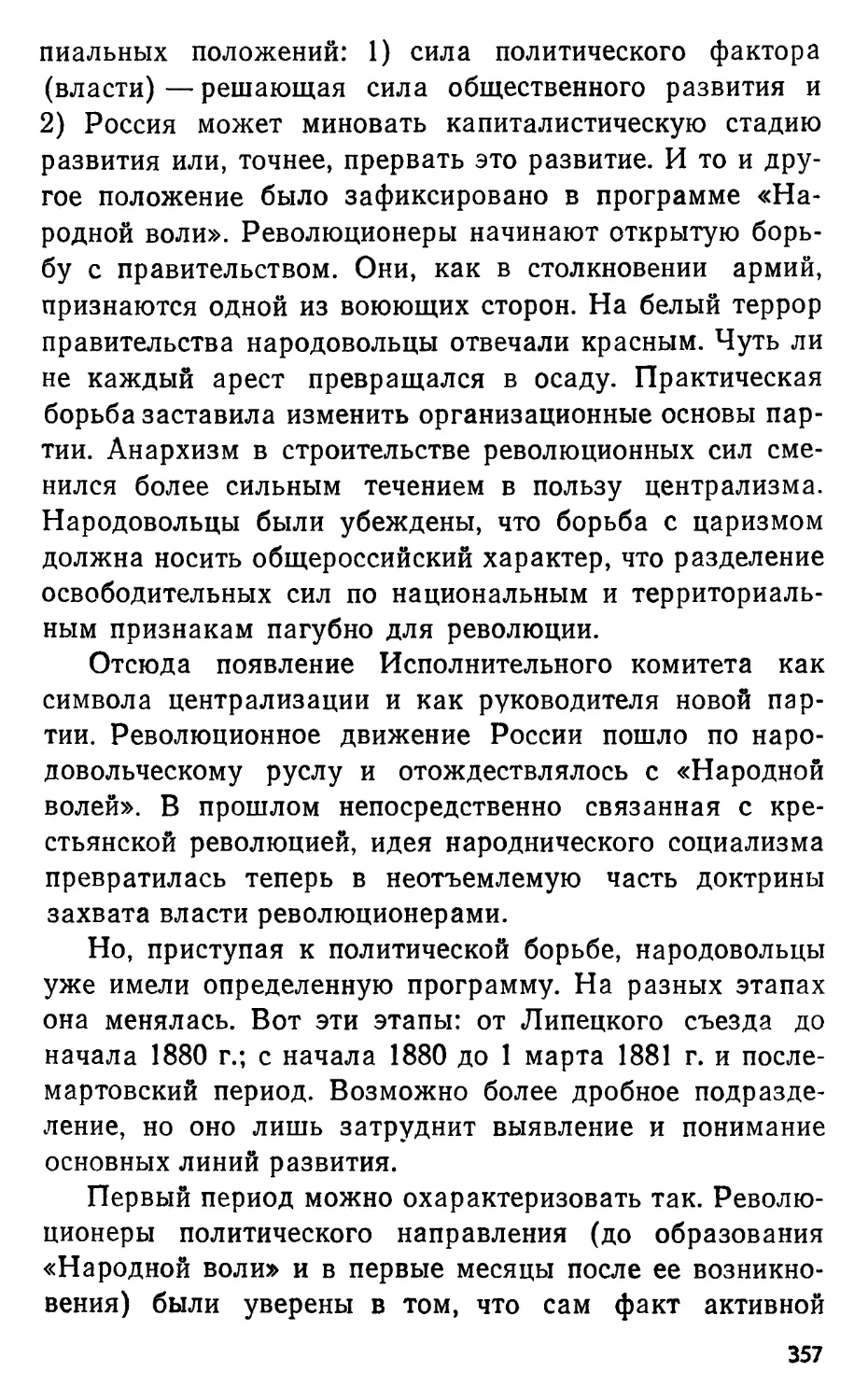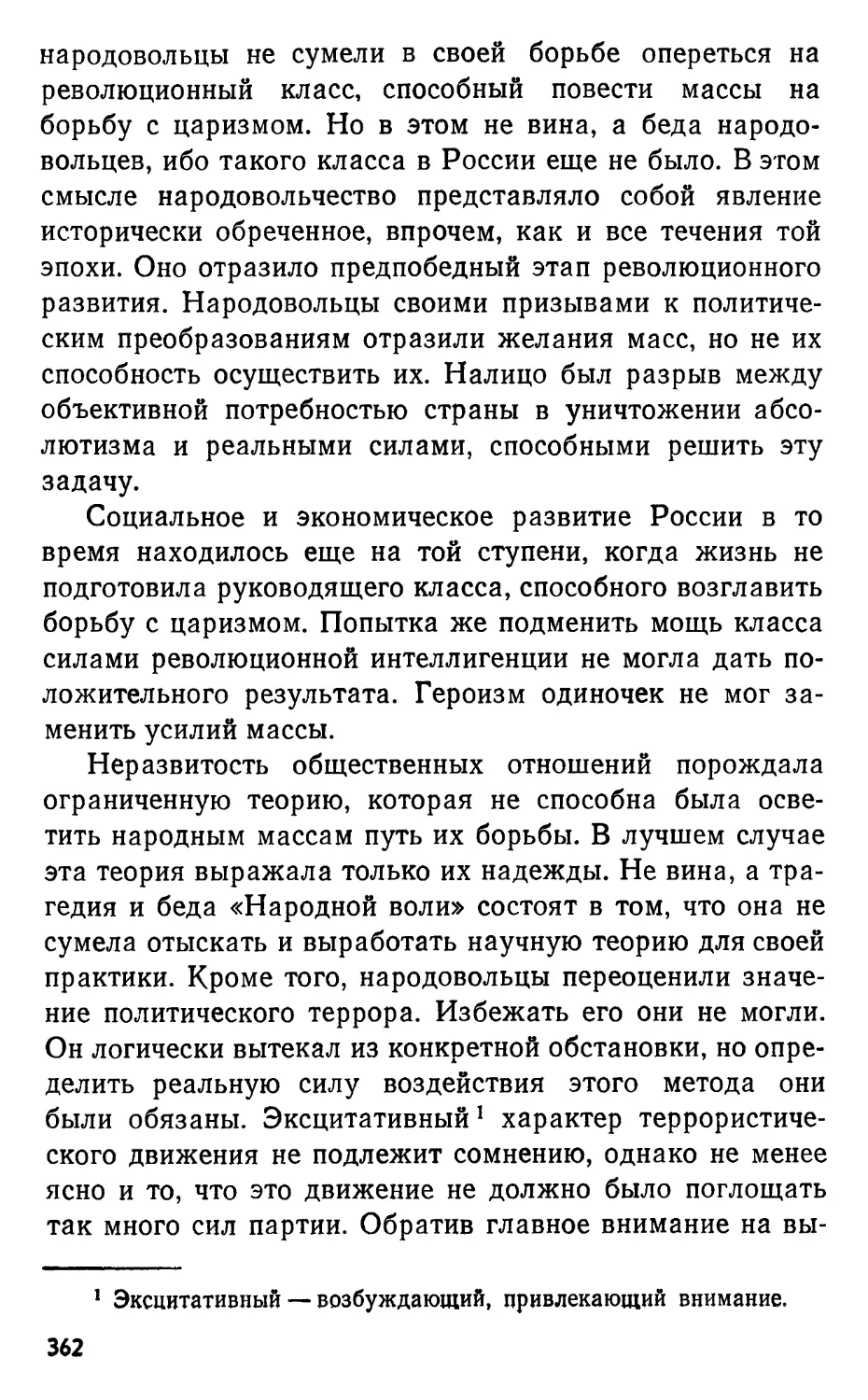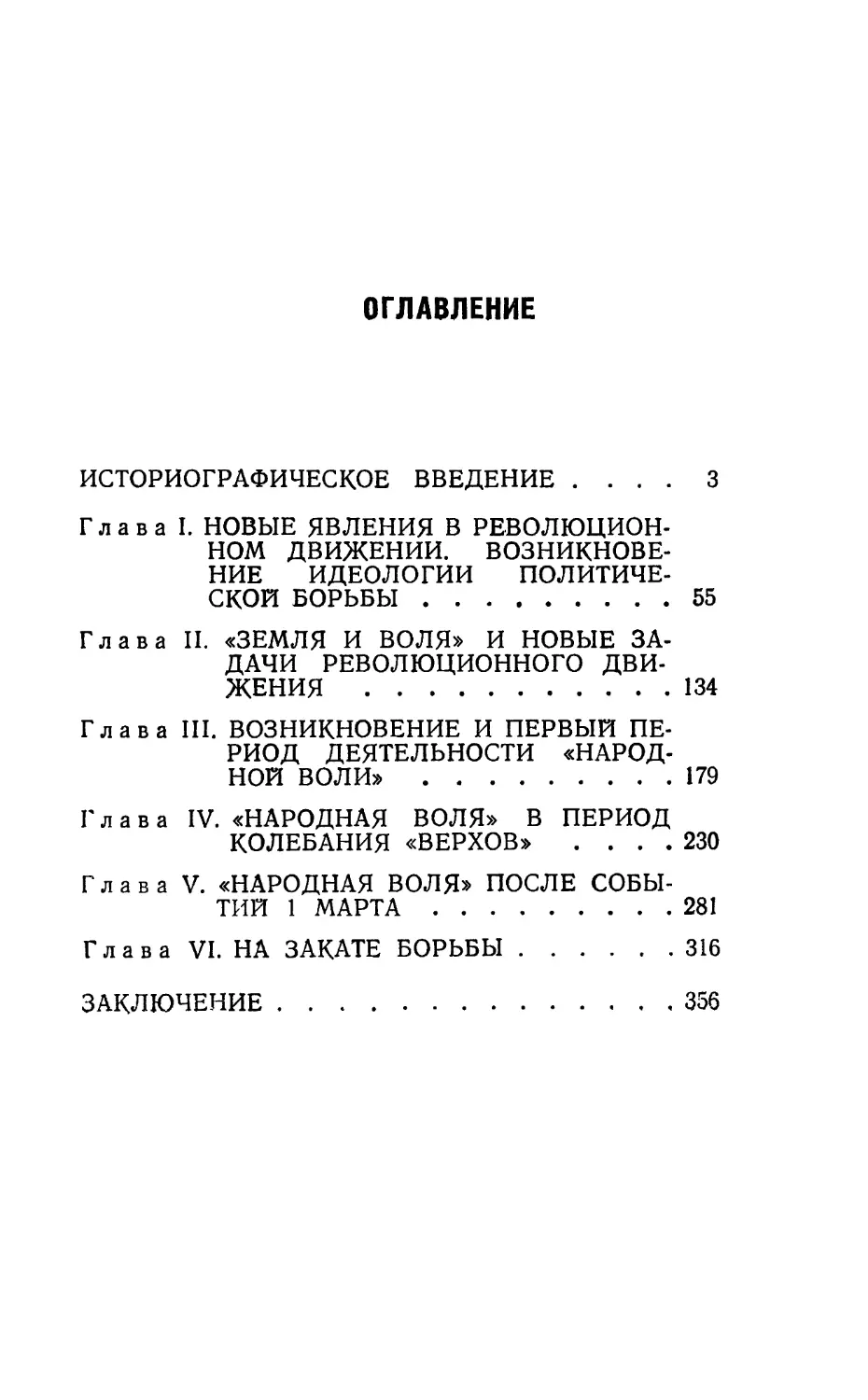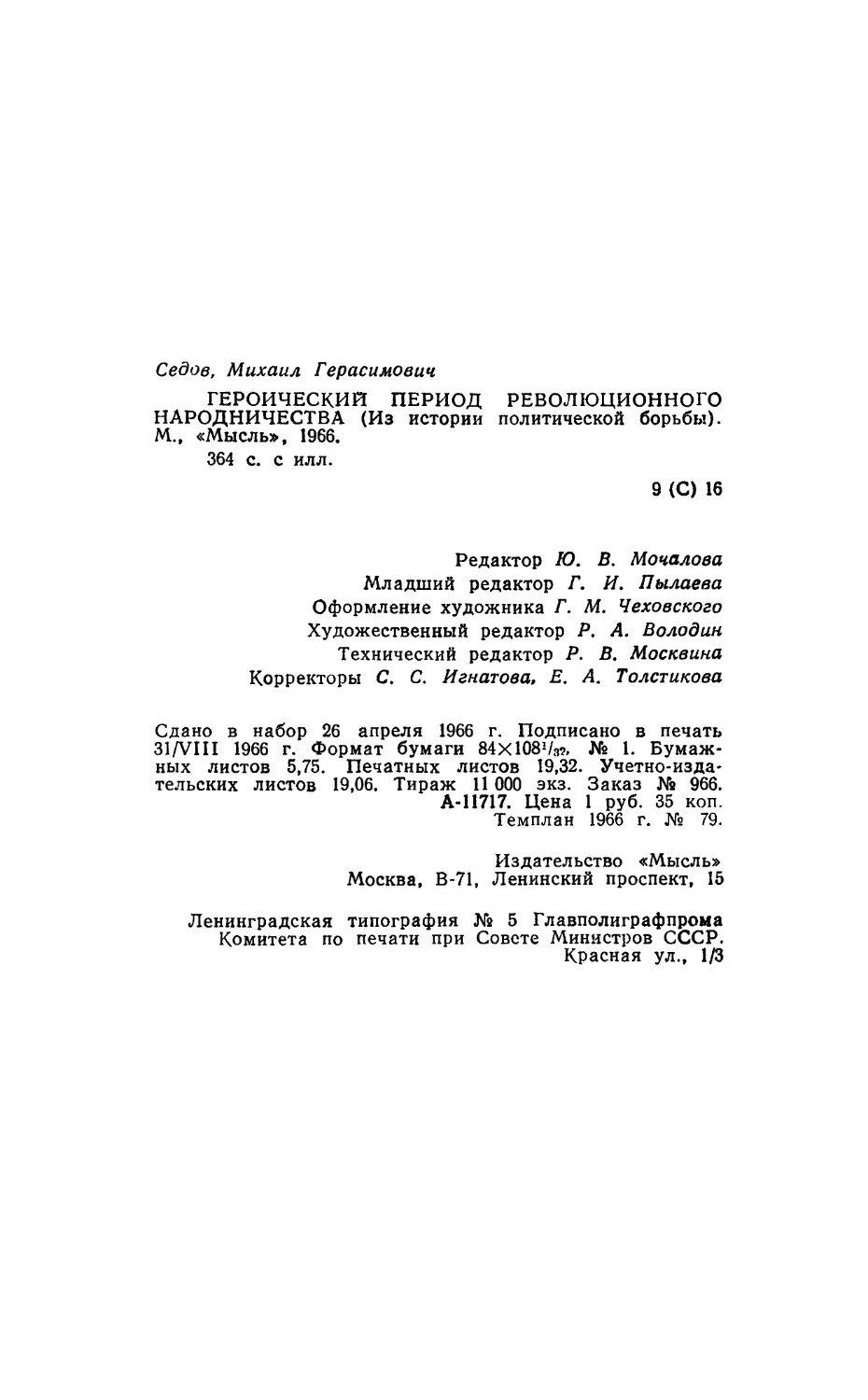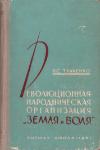Text
М.Г.СЕДОВ
ГЕРОИЧЕСКИЙ
ПЕРИОД
РЕВОЛЮЦИОННОГО
НАРОДНИЧЕСТВА
М. Г. СЕДОВ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«М Ы С Л Ь»
МОСКВА-1 966
ГЕРОИЧЕСКИЙ
ПЕРИОД
РЕВОЛЮЦИОННОГО
НАРОДНИЧЕСТВА
(Из истории
политической борьбы)
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЕ
ВВЕДЕНИЕ
Революционное движение России от его зарождения
и до полного торжества можно рассматривать как про-
цесс накопления и организации сил угнетенных масс на-
рода в их борьбе с эксплуатацией и бесправием. Такой
взгляд имеет научное основание, так как реально отра-
жает борьбу противостоящих классов. Но этот общий
вывод недостаточен. Для правильного анализа событий
нужны конкретные указания на характер и особенности
тех социально-экономических противоречий, которые по-
рождают борьбу с определенным историческим смыслом
и последствиями. В этом случае анализ революционного
протеста выливается в изучение борьбы классов и их
партий.
Чрезвычайно убедительную характеристику русского
революционного движения именно с точки зрения роли
и значения классов дал В. И. Ленин в работе «Из про-
шлого рабочей печати в России».
«Освободительное движение в России, — писал Ле-
нин,— прошло три главные этапа, соответственно трем
главным классам русского общества, налагавшим свою
печать на движение: 1) период дворянский, примерно
с 1825 по 1861 год; 2) разночинский или буржуазно-
демократический, приблизительно с 1861 по 1895 год;
3) пролетарский, с 1895 по настоящее время» L
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 25, стр. 93.
3
Таковы основные этапы освободительной борьбы. Но
в свою очередь каждый из этих этапов для понимания
частных фактов общего процесса можно подвергнуть
дальнейшему делению. Разумеется, критерии при этом
будут иными.
Обратимся к интересующему нас разночинскому эта-
пу, который, будучи единым с точки зрения классовой,
распадается на более мелкие звенья, отличающиеся друг
от друга определенными индивидуальными признаками.
Для ясности достаточно взять «хождение в народ»
(1874—1875) и сравнить этот период с политической дея-
тельностью народовольцев в 1879—1881 гг., чтобы убе-
диться, насколько явления одной и той же классовой
сущности могут быть совершенно непохожими по другим
признакам.
Каков же здесь критерий индивидуальности? Очевид-
но, одной фразой на предложенный вопрос ответить
нельзя.
Необходимо прибегнуть к выяснению основной ли-
нии общественного движения разночинского периода.
Эта линия сформулирована Энгельсом так: «Великий
акт освобождения... создал не что иное, как лишь твер-
дое основание и абсолютную необходимость будущей
революции» *.
В. И. Ленин сказал еще лаконичнее:
«1861 год породил 1905»1 2.
Необходимость революции вызвала к жизни обще-
ственное движение и подпольные организации.
Сами революционеры той эпохи обусловливали успех
борьбы способностью масс подняться на штурм основ
современного строя и на протяжении десятилетий после
1861 г. стремились поднять народ на восстание. Несмо-
тря на то что цель не была достигнута, сам факт борьбы
ускорял ход общественного развития и воспитывал на-
род в революционном духе.
Отношение к народу и смена форм борьбы составили
те ступени, по которым шло освободительное движение
революционной интеллигенции. Исходя из этой предпо-
сылки, в революционном движении пореформенного вре-
мени можно проследить следующие периоды:
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 19, стр. 144.
2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 20, стр. 177.
4
1. Период падения крепостного права (что условно
принято считать за 60-е годы). Кульминационным пунк-
том движения была революционная ситуация 1859—
1861 гг., преобладающей идеей общественной мысли —
вера в непосредственную близость революции, в реаль-
ность крестьянского восстания. В действительности ока-
залось, что крестьянство не могло поднять свой протест
выше разрозненных бунтов, а возникавшие революци-
онные организации интеллигенции и молодежи были
быстро и жестоко разгромлены. Однако объективная
цель движения была достигнута — уничтожено крепост-
ничество.
2. Новый подъем общественного движения наметился
в конце 60-х годов и явно определился в первые годы
нового десятилетия. Его конечной хронологической да-
той можно считать период русско-турецкой войны
(1877—1878) и связанные с ней внутренние события. Ре-
волюционеры различных направлений убедились, что
самостоятельно массы не могут освободиться, народ
нуждается в тех или иных формах воздействия (дли-
тельного или кратковременного). Из этой общей пред-
посылки вырастали разнообразные теории революцио-
низирования народа. Но и в данном случае большинство
революционеров не представляли себе начало и успех
революции без прямого восстания. Однако все усилия
«пробиться к народу» и пробудить его не увенчались
успехом: правительство с беспощадностью преследовало
всякие попытки.
3. Победы правительства чередовались с успехами ре-
волюционного движения. Наступал новый период в на-
родничестве, связанный с именем «Народной воли».
Высшей точкой его развития была вторая революцион-
ная ситуация 1879—1880 гг. Сутью народовольчества
являлась борьба за политические свободы как непремен-
ное и главнейшее условие пробуждения и освобождения
народа. Непосредственная задача состояла в дезоргани-
зации правительства и захвате политической власти, сам
факт возникновения «Народной воли» уже означал, что
революционеры немедленно перейдут от тактики обо-
роны к тактике нападения.
Трагизм «Народной воли» заключался в том, что
пореформенная эволюция социально-экономических от-
ношений России выдвинула как реальную необходимость
5
изменение политического строя страны, но сил, способ-
ных совершить этот переворот, еще не было. Это решаю-
щее обстоятельство определило особенности программы
и тактики народовольцев. Указанный период характери-
зуется невиданным до тех пор напряжением духовных
и физических сил революционеров, их необычайным
самопожертвованием и героизмом. Единоборство на-
родовольцев с правительством закончилось их пораже-
нием.
4. Поражение «Народной воли» положило начало
последнему периоду движения разночинцев. Его особен-
ность — преобладание либерально-народнических док-
трин. В идейном и практическом смысле этот период ха-
рактеризуется теорией «малых дел».
Таковыми представляются основные периоды движе-
ния разночинцев. Выражаясь образно и кратко, первый
период можно назвать реалистическим, второй — роман-
тическим, третий — героическим и четвертый — упадоч-
ническим.
Каждый из перечисленных периодов нельзя рассмат-
ривать изолированно друг от друга. Проникновение идей
и практических приемов борьбы из первых в последую-
щие прослеживается постоянно. Так, основные мысли
родоначальников народничества — Герцена и Чернышев-
ского—оставались незыблемыми и для деятелей 70-х
годов, а характерные черты революционных актов семи-
десятников легко обнаруживаются в 80-х и даже в 90-х
годах.
Наивно также думать, что если народовольческий
период назван героическим, то в другое время не было
героических поступков. Дело здесь не в самом факте, а
в его назначении, удельном весе, систематичности и той
ситуации, в которой он совершается.
После этих предварительных замечаний обратимся
к определению историографической задачи предлагае-
мой работы. Речь пойдет о том, как революционная
борьба конца 70-х и начала 80-х годов XIX в. стала
предметом науки, как возникла, сложилась и развивает-
ся историография «Народной воли». Историографическая
наука более, чем какая-либо другая наука, классова,
партийна. По самой ее природе в ней нет и не может
быть взглядов, которые были бы безразличны партиям
и классам, потому что непосредственным предметом ее
6
изучения является борьба политических направлений в
науке.
При разработке историографии проблемы руководя-
щей нитью исследования являются работы классиков
марксизма-ленинизма.
К. Маркс и Ф. Энгельс были современниками «На-
родной воли», знали многих ее деятелей и вели с ними
переписку
Они горячо приветствовали борьбу «Народной воли»
с царизмом, рассматривая ее в широком плане общеев-
ропейского революционного движения.
Русский царизм представлял собой мощную анти-
демократическую силу, стоявшую на пути развития ре-
волюционного движения не только в России, но и в
Европе. Без уничтожения или хотя бы ослабления этого
оплота реакции была невозможна победа пролетариата
в Центральной Европе.
При всем глубоком понимании мелкобуржуазного
характера идеологии и борьбы народничества и народо-
вольчества Маркс и Энгельс сочувствовали, поощряли
и поддерживали усилия русских революционеров 70-х го-
дов. Определяя отношение К. Маркса к «Народной во-
ле», В. И. Ленин писал: Маркс «ликует по поводу успеха
«Капитала» в России и становится на сторону народо-
вольцев против только что возникшей тогда группы чер-
нопередельцев»1 2.
Маркс и Энгельс глубоко верили в скорую гибель
царизма. 12 января 1878 г. Ф. Энгельс писал: «В общем,
мы имеем налицо все элементы русского 1789 года, за
которым неизбежно последует 1793 год... А раз уже
дело дойдет до революции в России — изменится лицо
всей Европы»3. Об этом же он говорил в личной беседе
1 См. «Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими полити-
ческими деятелями, изд. 2. М., 1951, а также «Послесловие к работе
«О социальном вопросе в России»» (Соч., т. 22, стр. 438); письма
К. Маркса к Женни Лонге от 11.4.81 г. и 6.6.81 г. (Соч., т. 35,
стр. 145—149, 158—160); из письма Г. А. Лопатина М. Н. Ошаниной
(Соч., т. 21, стр. 489—491). Интересны также воспоминания Н. Мо-
розова о встрече с К. Марксом (см. Н. А. Морозов. Повести моей
жизни, т. 3. М., 1947). «Народная воля» обращается к К. Марксу и
официально (см. «Литература партии «Народной воли»», М.. 1907,
стр. 486—487).
2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 15, стр. 247.
3 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 19, стр. 124,
7
Г. А. Лопатину в сентябре 1883 г.: «Россия, это — Фран-
ция нынешнего века. Ей законно и правомерно принад-
лежит революционная инициатива нового социального
переустройства» Ч
Что касается условий для революционного взрыва в
России, то, по мнению К. Маркса, они были налицо.
Так, в письме к Зорге от 27.IX.1877 г. Маркс отмечал:
«Россия... давно уже стоит на пороге переворота, и все
необходимые для этого элементы уже созрели»1 2.
Исторический опыт показал, что, верно определив
перспективу развития революции в России, К. Маркс и
Ф. Энгельс несколько переоценили реальные возмож-
ности антиправительственных сил страны. После смер-
ти К. Маркса прошло более 20 лет, прежде чем начался
настоящий штурм царизма.
Для К. Маркса и Ф. Энгельса проблема революци-
онного движения в России была в то же время пробле-
мой обоснования возможности некапиталистического пу-
ти развития слаборазвитых стран. Эта идея в научном
плане выдвигалась впервые, и Россия могла дать прак-
тическое обоснование ее. Понятно, что К. Маркс и
Ф. Энгельс исходили в данном случае из возможных, но
отнюдь не обязательных путей развития. Характерно,
что и сама возможность обусловливалась решающим
обстоятельством: «Если русская революция послужит
сигналом пролетарской революции на Западе, так что
обе они дополнят друг друга, то современная русская
общинная собственность на землю может явиться
исходным пунктом коммунистического развития»3.
Следовательно, согласно взглядам К. Маркса, отста-
лые в экономическом отношении страны могут перейти
к социализму, минуя капитализм, только тогда и только
в том случае, если диктатура пролетариата победит в
развитых странах. И в свете этой теории значение рево-
люционно-освободительного движения в России пред-
ставлялось очень большим и труднопереоценимым. Но
жизнь, однако, внесла свои коррективы в предполагае-
мые возможности. Анализируя положение России в
начале 90-х годов, Ф. Энгельс подчеркивал: миновать
капиталистическую стадию развития Россия уже не
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 21, стр. 490.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 34, стр. 229.
3 Д'. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 19, стр. 305.
8
сможет и только капитализм открывает для нее «новые
перспективы и новые надежды». Имея в виду эти мысли
К. Маркса и Ф. Энгельса, В. И. Ленин на II конгрессе
Коминтерна говорил: «.. .Коммунистический Интерна-
ционал должен установить и теоретически обосновать то
положение, что с помощью пролетариата передовых
стран отсталые страны могут перейти к советскому
строю и через определенные ступени развития — к ком-
мунизму, минуя капиталистическую стадию развития» I
К. Маркс и Ф. Энгельс были на стороне народоволь-
цев еще и потому, что видели в них союзников по борь-
бе с анархизмом в освободительном движении как в Рос-
сии, так и в Европе. И если Россия находилась нака-
нуне своего 1789 г., за которым последует 1793 г., то
естественно, что «Народная воля» должна была играть
историческую роль якобинцев в русских условиях1 2.
«Предположим, — писал Ф. Энгельс, — эти люди (на-
родовольцы.— М. С.) воображают, что могут захва-
тить власть, — ну так что же? Пусть только они про-
бьют брешь, которая разрушит плотину, — поток сам
быстро положит конец их иллюзиям»3. Плотина сама
по себе не прорвется. Она даст трещину только от на-
тиска совместных усилий антиправительственных сил,
поэтому К. Маркс так резко выступил против «Черного
передела», стоявшего на платформе Бакунина, отрицав-
шего политическую борьбу. Идеи политической борь-
бы, самоотверженность народовольцев, постоянно риско-
вавших жизнью, — вот то положительное, что видят
К. Маркс и Ф. Энгельс в деятельности «Народной воли».
«Этих людей, которых было каких-нибудь несколько сот
человек, но которые своей самоотверженностью и отва-
гой довели царский абсолютизм до того, что ему при-
ходилось уже подумывать о возможности капитуляции
и о ее условиях, — таких людей мы не потянем в суд
за то, что они считали свой русский народ избранным
народом социальной революции»4.
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 41, стр. 246.
2 На память невольно приходят слова В. Н. Фигнер, которая,
рисуя портрет А. Д. Михайлова, указывала на то, что, будь в России
более развитые условия общественной жизни, он сыграл бы роль
Робеспьера.
3 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 36, стр. 263.
4 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XVI, ч. II, стр. 399.
9
С началом нового этапа освободительной борьбы в
России, когда русский рабочий стал ведущей силой об-
щественного преобразования, вопрос об отношении к
прошлому революционного движения, его теоретическо-
му и практическому опыту приобрел особую важность.
В литературном наследии В. И. Ленина «Народной
воле» уделяется большое внимание.
Уже в 1894 г. в работе «Что такое «друзья на-
рода» и как они воюют против социал-демократов?»
В. И. Ленин впервые определяет существо программ
народнического и народовольческого направлений. Глав-
ной мыслью этих программ, указывал В. И. Ленин, было
стремление «поднять крестьянство на социалистическую
революцию против основ современного общества...»].
Но чтобы поднять крестьянство на революцию, на-
родники испробовали массу всевозможных средств и
тактических приемов. Народовольцы, например, были
убеждены в том, что, сосредоточив все силы революцио-
неров на борьбе с правительством, «можно будет со-
вершить не политическую только, а и социальную рево-
люцию»1 2. Исходя из этого, они начали борьбу за поли-
тические свободы. Но прежде чем она началась, в
революционном подполье шла ожесточенная дискуссия
о роли и значении политических свобод. Было уста-
новлено как народниками, так и народовольцами, «что
политическая свобода послужит прежде всего интересам
буржуазии, давая рабочим не облегчение их положения,
а только... только облегчение условий борьбы... с этой
самой буржуазией»3.
Вот то немногое, но крайне важное и значительное,
что сказано Лениным о «Народной воле» в работе «Что
такое «друзья народа»...». В самом деле, здесь говорится
о «Народной воле» как партии крестьянской революции,
т. е. тем самым определена классовая ее принадлеж-
ность, а это имеет громадное значение не только само
по себе, но и дает возможность выявить составные эле-
менты идеологии народовольчества. Народовольцы были
естественными носителями идей утопического социализ-
ма как выражения борьбы крестьянства за равенство
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 1, стр. 272.
2 Там же, стр. 286.
3 Там же, стр. 304.
10
в землепользовании. Итак, политический демократизм и
утопический социализм — вот главные элементы идеоло-
гии деятелей «Народной воли».
Спустя несколько лет, в 1897 г., в брошюре «Задачи
русских социал-демократов» В. И. Ленин рассматривает
народовольчество в его «новом издании». Он говорит о
группе народовольцев второй половины 90-х годов. От-
личительной особенностью этой группы было желание
«выделить демократические задачи в основу всей про-
граммы и всей революционной деятельности» L
Считая это выделение фактом безусловно положи-
тельным, указывающим на связь традиций старого и но-
вого, В. И. Ленин тут же подчеркивает различное пони-
мание политической борьбы народовольцами и социал-
демократами. «.. .Понятие «политическая борьба» имеет
различное значение для народовольца и народоправца,
с одной стороны, и для социал-демократа — с другой.
Социал-демократы иначе понимают политическую борь-
бу, они понимают ее гораздо шире, чем представители
старых революционных теорий»1 2. Ленин говорит о гро-
мадной силе традиций бланкизма, заговорщичества, ко-
торые неотделимы как от старого, так и от нового на-
родовольчества. «Для народовольца понятие политиче-
ской борьбы тождественно с понятием политического
заговора»3.
Таким образом, политический демократизм и утопи-
ческий социализм совмещаются с традициями бланкиз-
ма, создавая своеобразный сплав в виде народоволь-
чества.
В. И. Ленин показывает как слабые, так и сильные
стороны народовольчества. В обращении «К петербург-
ским рабочим и социалистам от «Союза борьбы»», а так-
же в «Протесте российских социал-демократов» (1899)
делается акцент на положительном наследии «Народной
воли». Так, в обращении говорится о народовольцах как
о «корифеях революционной практики в России» и вы-
сказывается надежда, «что у социал-демократов ока-
жется не меньше самоотвержения.. .»4.
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 2, стр. 446.
2 Там же, стр. 458.
3 Там же, стр. 459.
4 Там же, стр. 469.
11
Во втором документе делается заявление еще боль-
шей важности: «.. .социал-демократия идет к цели, ясно
намеченной еще славными деятелями старой «Народ-
ной воли»» Следует заметить, что эти слова заимство-
ваны из манифеста I съезда РСДРП и появление их
как бы в повторном издании придает им силу общего
принципиального взгляда.
Но установление преемственной связи революцион-
ных поколений по вопросам политической борьбы с ца-
ризмом, разумеется, не означает отождествления теории
социал-демократов и народовольцев. Напротив, в том
же «Протесте» подчеркнуто их решающее различие: во
времена «Народной воли» «знаменем движения служила
вовсе не революционная теория», социал-демократия
же, «опираясь на классовую борьбу пролетариата, су-
меет стать непобедимой» 1 2.
После этих слов встает вопрос: нет ли противоречия
в этих двух ленинских, казалось бы друг друга исклю-
чающих, утверждениях — народовольческая теория «не-
революционна» и старые народнические теории «рево-
люционны»? Ответ на вопрос вытекает из тех же раз-
бираемых работ.
Когда В. И. Ленин говорит о старых революционных
теориях народников (имея в виду, конечно, и народо-
вольцев), в общем виде он подчеркивает их прогрес-
сивную буржуазную сущность как антитезу феодально-
крепостническим пережиткам. Но когда речь заходит о
сопоставлении теории русской социал-демократии с тео-
рией народников, то, естественно, эта последняя не
может быть признана революционной, так как народ-
ники, равно как и народовольцы, не видели решающей
роли рабочего класса в освободительном движении. Это
тем более становится ясным, если мы не забудем, что
знаменем народничества была идея крестьянского социа-
лизма.
Вот против этой утопии выступает В. И. Ленин в
статье «Попятное направление в русской социал-демо-
кратии» (1899). Многие рабочие, пишет он, «принимали
участие в тех спорах между народовольцами и социал-
демократами, которые характеризовали переход рус-
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 4, стр. 176,
2 Там же.
12
ского революционного движения от крестьянского и за-
говорщицкого социализма к социализму рабочему»
В работе «Гонители земства и Аннибалы либера-
лизма» (1901) деятельность «Народной воли» подвер-
гается анализу с точки зрения влияния субъективного
фактора на объективный ход общественного развития и
состояние государства. С полной определенностью гово-
рится здесь о том, что народовольческое движение вы-
звало кризис государственной власти и в сущности по-
родило революционную ситуацию 1879—1880 гг.
«Вопреки утопической теории, отрицавшей политиче-
скую борьбу, движение привело к отчаянной схватке с
правительством горсти героев, к борьбе за политическую
свободу. Благодаря этой борьбе и только благодаря ей,
положение дел еще раз изменилось, правительство еще
раз вынуждено было пойти на уступки...»1 2 Этот вывод
необычайно важен и значителен.
В. И. Ленин, как мы видим, полностью отметает
утверждения (современные и будущие), будто бы борь-
ба «Народной воли» была бесплодной. Несколькими
страницами ниже Ленин поясняет свою мысль ссылкой
на отсутствие в то время других сколько-нибудь значи-
тельных революционных сил в стране, способных под-
няться на борьбу с царизмом и заставить его пойти на
уступки.
«.. .В рабочем классе не было ни широкого движе-
ния, ни твердой организации, либеральное общество
оказалось и на этот раз настолько еще политически не-
развитым, что оно ограничилось и после убийства Алек-
сандра II одними ходатайствами»3.
Широк круг вопросов народовольческой истории в
работе «Гонители земства и Аннибалы либерализма».
Кроме уже сказанного в ней содержится оценка деятель-
ности «Народной воли» после 1 марта: «...революционе-
ры исчерпали себя 1-ым марта»4, ввиду этого волна рево-
люционного прибоя была отбита, но Исполнительный
комитет «Народной воли» еще нашел в себе силы «пре-
поднести» Александру III альтернативу: «Или револю-
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 4, стр. 247.
2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 5, стр. 39.
3 Там же, стр. 44.
4 Там же.
13
ционная борьба, или отречение от самодержавия»1. Но
пожалуй, одной из самых интересных мыслей работы
является указание на положительное значение отрица-
тельного опыта. В связи с этим поневоле обращается
внимание не только на положительные завоевания «На-
родной воли», но и на весь процесс освобождения, точ-
нее, высвобождения революционного движения от неиз-
бежных, исторически обусловленных ошибок и иллюзий.
В прямой связи с изложенным находятся ленинские
высказывания о народовольчестве, содержащиеся в про-
граммной работе «Что делать?» (1902). Здесь прежде
всего рассматривается вопрос о роли революционной
личности в истории. Борьба с «кустарями» в рабочем
движении, отрицавшими необходимость создания рево-
люционной партии рабочего класса, облегчалась для
В. И. Ленина наличием в русском освободительном дви-
жении подлинных корифеев революционной борьбы, объ-
единенных в мощную организацию. В их числе Ленин
называет виднейших деятелей «Народной воли» А. Же-
лябова и С. Халтурина, пониманию которых были до-
ступны самые глубокие социальные вопросы, а их рево-
люционная энергия способна была свершить чудеса.
Воюя со сторонниками стихийности, Ленин как бы спра-
шивает: «Или вы думаете, что в нашем движении не
может быть таких корифеев, которые были в 70-х го-
дах? Почему бы это?»2
Понятно, революционеры старой школы имели гро-
мадное влияние на окружающих, но для нового поколе-
ния революционеров пролетарской эпохи народовольче-
ство представлялось уже исторически пройденным эта-
пом, и одно это вызывало необходимость критического
переосмысления их теорий и пересмотра их методов
борьбы.
«Почти все в ранней юности восторженно прекло-
нялись перед героями террора. Отказ от обаятельного
впечатления этой геройской традиции стоил борьбы, со-
провождался разрывом с людьми, которые во что бы то
ни стало хотели остаться верными «Народной воле» и
которых молодые социал-демократы высоко уважали»3.
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 5, стр. 56.
2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 6, стр. 107.
3 Там же, стр. 180—181.
14
Это место интересно тем, что дает возможность по-
нять один из самых важных вопросов общественного
движения — вопрос о взаимоотношениях революционе-
ров разных направлений уходящей в прошлое и наро-
ждающейся эпохи. Эта встреча произошла в одном уже
сложившемся антиправительственном лагере. В нем
были разногласия и напряженная идейная борьба, но не
было столкновений идеологий двух антагонистических
классов. Важно заметить, что В. И. Ленин довольно
спокойно, только с ноткой некоторой иронии, смотрит на
обвинение социал-демократов в народовольчестве. Он
спрашивает: «Какого же порядочного социал-демократа
не обвиняли «экономисты» в народовольчестве?» 1 И на-
конец, именно в «Что делать?» Ленин говорит о рево-
люционерах 70-х годов как предшественниках русской
социал-демократии2. Народовольцы занимали среди них
одно из первых, если не первое место.
В работах последующих лет содержится меньше дан-
ных о «Народной воле», но и то, что имеется, представ-
ляет большую ценность. Так, в «Аграрной программе
русской социал-демократии» (1902) мы находим выра-
женный в сжатой формуле идеал народовольчества:
«Народовольцы... хотели прыгнуть прямо от самодер-
жавия к социалистической революции». И, как бы отвер-
гая утопические замыслы народовольцев, Ленин призы-
вает создать республиканскую традицию, «шире рас-
пространить идею, что только в республике может
произойти решительная битва между пролетариатом и
буржуазией...» 3.
В статье того же года «Почему социал-демократия
должна объявить решительную и беспощадную войну
социалистам-революционерам?» находим крайне интерес-
ную мысль о разграничении революционного народниче-
ства и народовольчества, с одной стороны, и либерально-
народнической идеологии — с другой, и указание на то,
что такое разграничение проведено впервые русскими
марксистами.
«Русский марксизм впервые подорвал теоретические
основы либерально-народнического направления, обна-
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 6, стр. 134.
2 См. там же, стр. 25.
3 Там же, стр. 319.
15
ружил его буржуазное и мелкобуржуазное классовое
содержание, повел против него войну и ведет ее...»1
Приведенное место с полной категоричностью дока-
зывает, как далеко отходят от В. И. Ленина те, кто
стирает теоретическую грань между либеральным и ре-
волюционным народничеством.
Большое значение для понимания исторической роли
«Народной воли» в общем развитии народничества име-
ет статья «Рабочая и буржуазная демократия» (1905).
В ней проводится историческая параллель между народ-
ничеством донародовольческого периода и собственно
периодом «Народной воли». «Старое русское революци-
онное народничество стояло на утопической, полуанар-
хической точке зрения... Борьба за политическую сво-
боду отрицалась, как борьба за учреждения, выгодные
буржуазии. Народовольцы сделали шаг вперед, перейдя
к политической борьбе, но связать ее с социализмом им
не удалось»2.
Исследователь должен с большим вниманием отнес-
тись к этому указанию В. И. Ленина. Появление народо-
вольчества есть, безусловно, более высокая ступень в
истории общественной мысли и революционного движе-
ния, ознаменовавшая совершенно новую трактовку рево-
люционных проблем, новую стратегию и тактику. В це-
лом «Народная воля» превосходила все, что было до
нее в практике русского революционного движения. Но
безусловно прогрессивная деятельность «Народной во-
ли» оказалась ограниченной из-за неразвитости совре-
менных ей общественных отношений, слабой классовой
борьбы как в городе, так и в деревне. Несмотря на то
что «Народная воля» была действующей партией, вну-
шавшей страх правительству, в ее идеологии и тактике
слишком большое место занимал элемент утопии. Вера
народовольцев в то, что 90% крестьян в созванном «На-
родной волей» Учредительном собрании будут социали-
стами, привела бы их на деле к гибели, так как это
не соответствовало объективной действительности. «На
деле они проводили бы интересы буржуазной демокра-
тии. ..»3
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 6, стр. 372—373.
2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 9, стр. 179.
3 См. В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 10, стр. 6.
16
А. И. ГЕРЦЕН (1812—1870)
«Колокол» был и будет, прежде всего, органом русского социализма
и его развития... Сознательному развитию России для нас подчинено
все: формы и лица, колебания и ошибки, — но так как оно невозмож-
но без свободного слова и свободного схода, без общего обсужде-
ния и совета, то мы звали и будем звать всеми силами собрания
Земского собора.
«Герцен создал вольную русскую прессу за границей — в этом его
великая заслуга. «Полярная Звезда» подняла традиции декабристов.
«Колокол» (1857—1867) встал горой за освобождение крестьян.
Рабье молчание было нарушено».
Ленин
2 М. Г. Седов
Тезис об исторической ограниченности и утопизме
народовольчества подтверждается целым рядом поло-
жений В. И. Ленина в последующих его работах. Так,
в статье «Победа кадетов и задачи рабочей партии»
(1906) встречается следующая мысль: во времена Кат-
кова народовольцы «были кучкой героев, которые не
могли ничего сделать, кроме убийства отдельных лиц»1.
А в выступлении на Объединительном съезде РСДРП
В. И. Ленин отмечал: «В 70-х и 80-х годах, когда идея
захвата власти культивировалась народовольцами, они
представляли из себя группу интеллигентов... сколько-
нибудь широкого, действительно массового революцион-
ного движения не было. Захват власти был пожела-
нием. .. а не неизбежным дальнейшим шагом разви-
вающегося уже массового движения»2. Активное
революционное движение отсутствовало не только в экс-
плуатируемых массах народа города и деревни, но и
в армии. В статье «Политический кризис и провал оппор-
тунистической тактики» (1906) имеются еще более выра-
зительные слова об этом: революционные офицеры «На-
родной воли» действовали «при полном почти равноду-
шии солдатской массы»3.
Начиная приблизительно с периода подъема проле-
тарского движения в России в работах В. И. Ленина
преобладают высказывания о положительном вкладе,
который внесла «Народная воля» в русский революцион-
ный прогресс.
В статье ««Крестьянская реформа» и пролетарски-
крестьянская революция» (1911) говорится о росте
сил демократии и социализма в различных формах, в
том числе в такой, как народовольчество4. Но более по-
дробно об этом сказано в статье «Памяти Герцена»
(1912), где отражен поступательно прогрессивный про-
цесс революционного движения от декабристов до на-
родовольцев.
«.. .Декабристы разбудили Герцена. Герцен развер-
нул революционную агитацию.
Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили рево-
люционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 12, стр. 301—302.
2 Там же, стр. 365.
3 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 13, стр. 356.
4 См. В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 20, стр. 176.
18
кончая героями «Народной воли». Шире стал круг бор-
цов, ближе их связь с народом. ..» 1
Наконец, в «Докладе о революции 1905 года» (1917)
высказывания Ленина о героях «Народной воли» дости-
гают своего апофеоза: «Они проявили величайшее само-
пожертвование и своим героическим террористическим
методом борьбы вызвали удивление всего мира. Несо-
мненно, эти жертвы пали не напрасно, несомненно, они
способствовали — прямо или косвенно — последующему
революционному воспитанию русского народа. Но своей
непосредственной цели, пробуждения народной револю-
ции, они не достигли и не могли достигнуть»2.
Эта оценка одновременно и лаконична, и всеобъем-
люща: в немногих фразах заключены крайне важные
мысли, составляющие обобщающий научный вывод об
историческом значении «Народной воли».
Помимо этих прямых высказываний имеется и ряд
других, косвенных, но также непосредственно относя-
щихся к разбираемой теме.
В «Замечаниях к статье Рязанова «Две правды»»3
(1901) Ленин осуждает тенденцию, принижающую тео-
ретические достижения деятелей 70-х годов. В работе
громадной теоретической важности «Аграрная про-
грамма социал-демократии в первой русской револю-
ции 1905—1907 годов» (1907) имеется характеристика
русского утопического социализма. В. И. Ленин подчер-
кивает, что на определенном этапе исторического разви-
тия теории утопического социализма служили «знаменем
самой решительной борьбы против старой, крепостниче-
ской России» 4.
Применительно к «Народной воле» это обстоятель-
ство имеет очень большой смысл, причем это примене-
ние не требует никаких натяжек, так как народовольцы,
за редким исключением, были социалистами.
Не меньшее значение для понимания разбираемой
темы имеет статья Ленина «Народники о Н. К. Михай-
ловском»5 (1914). Здесь исследователь встречает вполне
положительную оценку роли Н. К. Михайловского в де-
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 21, стр. 261.
2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 30, стр. 315.
3 См. В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 5, стр. 402—404.
4 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 16, стр. 213.
5 См. В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 24, стр. 333—337.
*
19
мократическом движении вообще и в народовольческом
в частности.
И наконец, в работе «Детская болезнь «левизны» в
коммунизме» (1920), рассматривая вопрос об условиях
победы марксизма в России, В. И. Ленин писал: «Мар-
ксизм, как единственно правильную революционную тео-
рию, Россия поистине выстрадала полувековой историей
неслыханных мук и жертв, невиданного революционно-
го героизма, невероятной энергии и беззаветности иска-
ний, обучения, испытания на практике, разочарований,
проверки, сопоставления опыта Европы» Ч
Нельзя усомниться в том, что наряду с другим здесь
отдано должное и героическим деятелям «Народной
воли».
Так, взятое в наиболее кратком виде, выглядит лите-
ратурное наследие В. И. Ленина о народовольчестве1 2.
Какие же выводы следуют из сказанного?
Вряд ли подлежит сомнению то обстоятельство, что
В. И. Ленина глубоко интересовал опыт революцион-
ного движения 70—80-х годов и особенно «Народной
воли».
Он посвятил изучению и освещению его много вни-
мания и сил. При этом везде и всегда чувствуется, что
его симпатии и уважение на стороне народовольцев.
Более того, он преклоняется перед их самоотверженным
героизмом.
Несомненно также и то, что именно Ленин наиболее
полно проанализировал тему, хотя и обращался к ней,
исходя исключительно из потребностей и задач проле-
тарской революции, а не выступал в роли историка-
исследователя.
Любопытно, что к наследию предпролетарской борь-
бы Ленин обращался на всех этапах развития русской
революции, что с очевидностью подчеркивает, как важно
и значительно было это наследие. Но воспринять наслед-
ство не значит удовлетвориться им. Для Ленина было
ясно, что опыт прошлого исторически ограничен, и за-
дача сводилась к тому, чтобы критически осмыслить и
переработать его.
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 41, стр. 8.
2 См. также М. Г. Седов. ««Народная воля» перед судом исто-
рии».— «Вопросы истории», 1965, № 12, стр. 45—62.
20
В. И. Ленин в «Народной воле» видел партию кре-
стьянской демократии, выросшую из недр «Земли и
воли» и поставившую перед собой величественную за-
дачу революционного преобразования России, и уже
поэтому ее опыт представлялся исключительно важным
для пролетариата.
* * *
Первыми историографами «Народной воли» были
сами ее деятели. Издания материалов об А. Квятков-
ском, А. Преснякове, С. Перовской, А. Желябове, А. Ми-
хайлове и других, разборы политических процессов
(«16-ти», «первомартовцев», «20-ти» и т. д.) 1 и, безуслов-
но, публикации «Календаря «Народной воли»»2 и «Вест-
ника «Народной воли»»3 содержат в себе и оценку наро-
довольчества как общественного течения, и оценку ме-
тодов борьбы народовольцев.
Наиболее яркое выражение эта оценка получила в
знаменитом «Отчете» А. Д. Михайлова перед русским
обществом и историей о деятельности «Народной воли»
(так он назвал свои показания, составленные в 1881 г.
в заключении). Впервые этот документ увидел свет в
1925 г.4, но мысли, изложенные в нем, были широко
известны в начале 80-х годов.
В этом выдающемся документе содержится всесто-
роннее освещение истории «Народной воли» в домартов-
ский период. Прежде всего в нем определено место
«Народной воли» в общем процессе революционного
развития России и выражено отношение народовольцев
к своим предшественникам.
Воздав должное революционерам и их попыткам вы-
звать активную борьбу народа, Михайлов писал: «Не-
смотря на хождение в народ многих сотен людей, на
1 См. «Литература партии «Народной воли»», 1907, стр. 144—
145, 152—157, 189—194, 285—296; «Перовская». Лондон, 1882; «Андрей
Иванович Желябов». Лондон, 1882; «Александр Дмитриевич Михай-
лов».— «На родине» (Женева), 1883, № 3, стр. 5—51.
2 См. «Календарь «Народной воли» на 1883 год». Женева, 1883,
стр. 81—119 (статья П. Л. Лаврова «Взгляд на прошедшее и на-
стоящее русского социализма»).
3 Все номера «Вестников «Народной воли»» содержат те или
иные материалы по истории партии «Народная воля».
4 См. А. П. Прибылева-Корба и В. Н. Фигнер, А. Д. Михайлов.
Л.—М., 1925, стр. 79—157, 163—171.
21
многие десятки поселений, ферм, артелей, мастерских,
школ, на тысячи распространенных книг и на занятия
десятков лиц с рабочими, результаты этих усилий не
оправдали надежд — влияние на народ было поверхно-
стно и неглубоко» L
Этот итог требовал иных решений. Старые органи-
зации и кружки революционеров должны были уступить
место новым. «Народная воля», продолжает Михайлов,
представляла собой естественный этап революционной
борьбы. Она явилась результатом кризиса «Земли и
воли». Главнейшей причиной раскола «Земли и воли»
послужило изменение взгляда на роль государства и на
политическую борьбу. 1878 год в этом отношении был
переломным. Создалась обстановка, когда «повсеместно
было одно желание — кровавая борьба с государствен-
ной властью... как главное средство освобождения
народа»1 2. Решение задачи освобождения народа мысли-
лось путем дезорганизации правительства и захвата
власти для передачи ее Учредительному собранию. Оста-
ваясь социалистами по убеждению, народовольцы все
внимание и силы сконцентрировали на борьбе с само-
державием, с царизмом. Идя по этому пути, руководя-
щие деятели «Народной воли» позаботились создать
целую сеть революционных организаций вокруг Испол-
нительного комитета, привлекая на свою сторону и все
оппозиционные элементы общества. Так из фракции
«Земли и воли» «Народная воля» превратилась в пар-
тию, выступавшую в защиту интересов народа.
В зависимости от характера задач, времени и обста-
новки партия меняла тактику, но одним из главнейших
средств ее борьбы оставался индивидуальный полити-
ческий террор, который был навязан ей правительством
и обусловливался отсутствием открытой борьбы масс.
Новый прием в известном смысле уравновешивал силы
революционеров и правительства.
Чувство долга перед народом и понимание важности
задачи породили у революционной молодежи само-
отверженность и геройство. «Большинство дышало стра-
стью отважного и последнего боя. Многие наперерыв
1 А. П. Прибылева-Корба и В. Н. Фигнер. А. Д. Михайлов,
стр. 101.
2 Там же, стр. 135,
22
предлагали свои услуги на самые опасные роли. То был
момент самых глубоких и высоких чувств, дающих десят-
кам людей силу бороться с обладателями десятков мил-
лионов подданных, миллионов штыков и верных слуг...
Люди «Народной воли», как самая их идея, не знают
страха и преград» Г
Наиболее глубоким убеждением А. Михайлова было
то, что «Народная воля» должна была явиться и яви-
лась достаточно прочным для того времени базисом
революционного движения. Этим он объяснял ведущую
роль «Народной воли» в борьбе и из этого выводил все
преимущества своей партии перед другими организа-
циями или группами подполья.
Таковы взгляды А. Д. Михайлова на деятельность
«Народной воли». Не забудем, что они сложились в са-
мом начале 80-х годов и хотя бы уже поэтому представ-
ляют большой интерес. «Отчет» Михайлова явился впо-
следствии той основой, на которой создалась громадная
литература, выражавшая народовольческую концепцию
«Народной воли».
С начала XX в., и особенно после революции 1905—
1907 гг., ряд общественно-политических журналов («Бы-
лое», «Минувшие годы», «Русское богатство») освещал
историю «Народной воли» в ее «ортодоксальном» на-
правлении. С большим оттенком либерализма освеща-
лась история «Народной воли» в журнале «Голос минув-
шего». Из строго теоретических работ о «Народной
воле» заслуживает внимания статья известного публи-
циста Н. С. Русанова «Идейные основы «Народной
воли» (К истории народовольчества)»1 2. Автор ее не был
народовольцем, но идеи «Народной воли», по его сло-
вам, были ему близки. Статья посвящена разбору и
определению составных элементов идеологии «Народ-
ной воли». Таких элементов, по мнению Русанова, че-
тыре: народничество, политическая борьба, бланкизм и
терроризм. Исторический смысл деятельности «Народ-
ной воли» Н. Русанов усматривает в ее борьбе за сво-
боду. В последующие годы Н. Русанов неоднократно
возвращался к истории «Народной воли», и взгляды его
1 А. 77. Прибылева-Корба и В. Н, Фигнер. А. Д. Михайлов,
стр. 136.
2 См. «Былое», 1907, № 9, стр. 37—76.
23
почти не изменились. Показательна в этом отношении
его книга «На родине», изданная в СССР в 1931 г.
Революция 1905 г. освободила оставшихся в живых
народовольцев В. Фигнер, М. Фроленко, Н. Морозова,
А. Корба и др. Они много писали о «Народной воле».
Появились работы как мемуарного, так и теоретического
характера. Возникла даже дискуссия между Морозовым
и Фроленко по вопросам зарождения народовольчества
и роли политического террора в деятельности партии1.
Эти же приблизительно вопросы обсуждались и в связи
с изданием полного собрания сочинений Н. К. Михай-
ловского, приуроченным к десятилетию со дня его смер-
ти. Так сложилась литература о «Народной воле», вы-
шедшая из-под пера самих ее деятелей или близко
стоящих к ним людей. Основой всей этой историографи-
ческой концепции служит мысль о том, что народоволь-
чество— одно «из величайших и самых привлекатель-
ных явлений русской общественной истории»2.
Почти одновременно с формированием народниче-
ской концепции один из выдающихся деятелей рево-
люционного движения, Г. В. Плеханов, вырабатывает и
развивает марксистский взгляд как на прошлое рево-
люционного народничества в целом, так и на «Народ-
ную волю» в частности. Плеханов тщательно изучил
весь процесс революционного движения пореформенной
России, но, пожалуй, наибольшее внимание уделил на-
родовольчеству. Исключительный интерес к «Народной
воле» вызывался прежде всего политическими сообра-
жениями, что, понятно, сказалось на характере работ
Плеханова. Все они написаны в полемическом тоне.
Свой разрыв с народничеством и выступление в роли
его критика Плеханов мотивировал тем, что русское
революционное движение зашло в тупик и что наступил
идейный кризис общественной мысли. «.. .Наше револю-
ционное движение, — писал Плеханов, — находится те-
перь в критическом периоде. Террористическая тактика
«Народной воли» поставила перед нашей партией целый
ряд в высшей степени жизненных и важных вопросов» 3.
Эти вопросы остаются нерешенными. Существующие
1 См. «Былое», 1906, № 12, стр. 1—33.
2 «Былое», 1907, № 9, стр. 37.
3 Г. В. Плеханов. Соч., т. II. М.—Пг., 1923, стр. 101.
24
теории недостаточны для их решения. Необходим но-
вый взгляд на события общественной жизни. Нужно
новое мировоззрение.
Впервые Плеханов выступил с критикой народоволь-
чества в 1883 г. в своей книге «Социализм и политиче-
ская борьба». Эпиграфом к работе послужили слова
К. Маркса: «Всякая классовая борьба есть борьба поли-
тическая». Коротко ход мысли Плеханова таков: поли-
тическая борьба стала главной проблемой для социали-
стов, как только народовольцы выступили с открытой
борьбой против абсолютизма. Время убедило как поли-
тиков, так и аполитиков в необходимости политической
борьбы, но среди них есть еще такие, кто считает раз-
вертывание политической борьбы временной победой
практики над теорией, «насмешкой жизни над бесси-
лием мысли»1. Еще до «Народной воли» были люди, не
разделявшие «воздержания от политики» (Ткачев), но
понимавшие ее крайне своеобразно, «исключительно в
форме заговора с целью захвата государственной вла-
сти»2. Революционность таких людей крайне ограничен-
на. Впередовцы, сочувствовавшие социал-демократиче-
скому движению Запада, могли выступить с критикой
анархизма, но они «отрицали политику так же реши-
тельно, как и анархисты», а потому учение К. Маркса
оставалось для них «непрочитанною главою любимой
книги»3. В целом, таким образом, движение 70-х годов
оставалось анархическим, чуждым политической идее.
«Честь сообщения нового размаха нашему движению,
бесспорно, принадлежит «Народной воле»»4. Она пошла
дальше землевольцев, не понимавших насущных потреб-
ностей времени. «Народная воля» не могла удовлетво-
риться старыми теориями, и сам факт ее появления уже
доказывал, что практика переросла теорию. Правитель-
ство заставило революционеров взяться за политическое
оружие. Народники во всякой государственной идее ви-
дели зло для социальной революции; народовольцы,
напротив, с помощью государственной машины думали
осуществить свои социальные проекты. Все свои наде-
1 См. Г. В. Плеханов. Соч., т. II, стр. 29, 30.
2 См. там же, стр. 36.
3 См. там же, стр. 39.
4 Там же.
25
жды народники возлагали на «идеалы народа»; наро-
довольцы обратились главным образом к городскому и
промышленному населению страны. Но вместо того
чтобы идти дальше и отбросить всю систему взглядов
народников, народовольцы не отказались «от самобыт-
ности» России и думали, что эта самобытность в том и
состоит, что все решается «путем государственного вме-
шательства». Иллюзии народовольцев достигли того, что
они рассчитывали иметь в Учредительном собрании 90%
депутатов — сторонников социализма.
«Партия «Народной воли», — подчеркивал Плеха-
нов,— есть дитя переходного времени. Ее программа
есть последняя программа, родившаяся в тех условиях,
которые делали нашу односторонность неизбежным и
потому законным явлением»
В 1885 г. появилась новая книга Плеханова — «Наши
разногласия». Поводом для нее послужила статья Л. Ти-
хомирова «Чего нам ждать от революции?»1 2. В это
время Плеханову еще не была чужда мысль о том, что
«Народная воля» может стать марксистской организа-
цией. «Мы думаем, что партия «Народной воли» обязана
стать марксистской, если только хочет остаться верной
своим революционным традициям и желает вывести рус-
ское движение из того застоя, в котором оно находится
в настоящее время»3. Мы протягиваем «Народной воле»
руку, продолжает он, для примирения, а другой указы-
ваем на социализм Маркса и говорим: «Сим побе-
дишь» 4.
Поскольку бакунизм и народничество «отжили свой
век», то теперь они представляли для Плеханова инте-
рес только исторический. Что же касается бланкизма и
его русского варианта (теории Ткачева), то они не
только продолжали существовать, но и оказывали силь-
ное влияние на революционную молодежь и тем самым
представляли большую помеху для организации непо-
средственной борьбы рабочего класса. Политическая
борьба в узком понимании Ткачева не могла быть пер-
спективной, а рабочие массы, предоставленные самим
1 Г. В. Плеханов. Соч., т. II, стр. 72.
2 См. «Вестник «Народной воли»» (Женева), 1884, № 2, стр. 227—
262.
3 Г. В. Плеханов. Соч., т. II, стр. 105.
4 См. там же, стр. 106.
26
себе, оставались чуждыми задачам политической сво-
боды. Именно поэтому Плеханов призывал народоволь-
цев понять «исторический смысл» понесенных ими жертв
и решительно пересмотреть свою программу и такти-
ку. Практическая борьба с бланкизмом, следовательно,
могла дать положительные результаты только благо-
даря критике несостоятельности его теоретических поло-
жений. Обо всем этом в «Наших разногласиях» сказано
подробно и основательно. В последовавших за «Нашими
разногласиями» работах («Как добиваться конститу-
ции», «Неизбежный поворот», «Политические задачи
русских социалистов», «Русский рабочий в революцион-
ном движении» и др.), статьях, вызванных ренегатством
Тихомирова, Плеханов продолжил разбор взглядов на-
родников и народовольцев, оставаясь верным марксист-
ской теории, а его работа «К вопросу о развитии мони-
стического взгляда на историю» составила главу этой
теории. Естественно, острота политического момента и
полемики проявилась в некотором увлечении автора, в
допущении отдельных ошибок. Так, например, вызывает
большое сомнение утверждение Плеханова о том, что
народовольчество было «всесторонним» отвержением на-
родничества. То же можно сказать и об отождествлении
народовольчества и бланкизма.
Много интересных мыслей и обобщений содержит
статья-рецензия Плеханова «Неудачная история партии
«Народной воли»» на книгу В. Я. Богучарского «Из
истории политической борьбы». Здесь резко, но убеди-
тельно и правдиво охарактеризована роль либерализма
70-х годов, а также и либерализма самого Богучарского,
рельефно подмечены этапы развития общественного дви-
жения 70-х — начала 80-х годов. Не менее удачно пока-
зана роль «Набата» в общественном движении, которая
ранее вообще игнорировалась. Приведены интересные
данные, известные только Плеханову, как, например,
его разговор с Энгельсом о народовольцах. Но вместе
с тем рецензия обнаруживает большую долю тенденци-
озности и представляет собой шаг назад в сравнении
с первыми работами Плеханова. Теперь он утверждает,
что в спорах «новаторов» и «староверов» правда была
на стороне противников политики и что уже тогда «без
труда» можно было предвидеть крах народовольчества.
В рецензии говорится, что силы «Народной воли» были
27
ничтожны и сама организация «лишена способности
жизни», а программа «Народной воли» не имела даже
относительной революционности. Во всех этих словах
чувствуется больше раздражения, чем объективного
анализа. Сам же Плеханов в первых работах доказал,
что народовольцы порвали с бакунинским представле-
нием о государстве, выдвинули идею завоевания полити-
ческих свобод, перенесли центр деятельности из дерев-
ни в город, привлекли на свою сторону «всех недоволь-
ных» и т. д.
Субъективизмом страдает заявление Плеханова и о
том, что из ««Черного передела» развилась русская со-
циал-демократия». Формально отдельные члены «Чер-
ного передела» образовали группу «Освобождение тру-
да», но только тогда и именно тогда, когда окончательно
и всесторонне порвали с «Черным переделом» и народ-
ничеством вообще. Этот разрыв нагляднее всего пока-
зал, что «Черный передел» ни в теоретическом, ни в так-
тическом смысле не мог служить базой для появления
социал-демократического движения. К тому же в группу
«Освобождение труда» из «Черного передела» вошли
буквально единицы, а основная масса чернопередельцев
осталась на прежних позициях. Но самой крупной ошиб-
кой Плеханова в оценке народовольчества было непо-
нимание того, что народники и народовольцы отражали
интересы крестьянской демократии и выступали ее за-
щитниками. Эта ошибка Плеханова вытекала из невер-
ного понимания роли крестьянства в революционном
движении и логически вела к отрицанию исторического
значения союза рабочего класса и крестьянства, т. е.
того союза, без которого невозможна победа революции.
Но, несмотря на эти ошибки, роль Плеханова в разра-
ботке марксистской историографии «Народной воли»
весьма значительна.
Следует отметить, что хотя народовольческая и пле-
хановская концепции «Народной воли» базировались на
основе противоположных научных начал и принципов,
но тем не менее они имели некоторые общие черты,
сближавшие их. Одновременно с ними возникла и раз-
вивалась официальная концепция, которая прямо им
противостояла буквально во всем. Она нашла свое вы-
ражение в работах, вышедших из правительственных
сфер. Создатели официальной историографии «Народ-
28
ной воли» имели доступ к материалам особой полити-
ческой секретности, на основании которых и составляли
описания революционных событий. Цель этих работ —
оказать помощь правительству и его главнейшим орга-
нам в их борьбе с революционным движением. Несмотря
на столь «практическое» назначение, они дают богатый
материал для оценки внутренней политики царизма, а
иногда содержат малоизвестные сведения.
Первым изданием такого рода была обширная книга
А. П. Мальшинского L Она предназначалась только для
лиц, облеченных особым доверием императора. Почти
одновременно с Мальшинским работал над этой же те-
мой С. С. Татищев1 2. Он, однако, не сумел закончить
свой труд. Некоторое время спустя работу продолжил
Н. Голицын. Главное, что привлекает нас в указанных
работах, — обилие фактического материала и тщатель-
ность, с которой описаны факты революционной дея-
тельности.
Татищев еще раз вернулся к вопросам революцион-
ного движения, когда работал над книгой «Император
Александр II»3. Но здесь он описывает революционные
события несравненно слабее, чем делал это в начале
80-х годов в закрытой прессе.
Иное назначение имела книга жандармского гене-
рала Шебеко «Хроника социалистического движения в
России» (1878—1887. Официальный отчет. М., 1906). Она
готовилась для европейского читателя и издана была на
французском языке (на русском языке «Хроника» по-
явилась в 1907 г.). Этой книгой правительство намере-
валось скомпрометировать русское революционное дви-
жение в глазах европейской общественности.
Для всей официальной историографии характерны
общие черты в освещении истории революционного дви-
жения: умышленное замалчивание правды об этом дви-
жении и клевета на его руководителей и участников;
сознательный уход от анализа причин и побудительных
стимулов революционной борьбы; объяснение их только
1 См. А. П. Мальшинский. Обзор социально-революционного дви-
жения в России. СПб., 1880.
2 См. С. С. Татищев. История социально-революционного движе-
ния в России. 1861—1881 гг. СПб., 1882.
3 См. С. С. Татищев. Император Александр П. Его жизнь и цар-
ствование, т. 2. СПб., 1903.
29
«злым умыслом», «тлетворным влиянием» и «испорчен-
ностью нравов» и общий итог — отрицание неизбежности
революционной борьбы. Такой подход к изучению осво-
бодительного движения, конечно, нельзя назвать науч-
ным. Но то обстоятельство, что официальная историо-
графия не могла обойтись без изображения фактов
революционной борьбы и признания этих фактов состав-
ной частью истории, делает эти сочинения не лишенными
интереса.
Более противоречиво и сложно развивалась буржу-
азно-либеральная концепция «Народной воли». Ее родо-
начальником следует признать немецкого ученого про-
фессора Базельского университета А. Туна L Это обстоя-
тельство само по себе уже свидетельствует о слабости
в этом вопросе русской буржуазной исторической мысли.
Г. В. Плеханов, разбирая книгу А. Туна1 2, справедливо
подметил две ее особенности: правдивость в изложении
фактов и выражение сочувствия борьбе революционеров
за политические свободы. В целом же работа Туна
носит описательный характер, но, несмотря на это, она
имела большой успех. Из русских историков буржуаз-
ной школы первым сравнительно обстоятельно проанали-
зировал деятельность «Народной воли» А. А. Корнилов.
Определенные контуры его взглядов можно обнару-
жить в рецензии на книгу С. С. Татищева об Алек-
сандре II3, но более четко они выявились в работе,
посвященной общественному движению4. Эта книга —
своеобразная антитеза сочинению С. Татищева и пря-
мое продолжение Туна. Корнилов признает, что сильной
стороной «Народной воли» была политическая борьба,
которой отводилась все большая и большая роль, не-
смотря на «азартные» выпады против нее аполитиков5.
Возникновение же политической борьбы он объясняет
«неумной» политикой правительства в лице «господ
Валуевых и Тимашевых». «.. .Было бы в высшей степени
близоруко, — пишет Корнилов, — возлагать ответствен-
1 См. А. Тун. История революционного движения в России. Пер.
с нем. А. Н. Черновой. Под ред. и с примеч. Л. Э. Шишко. Пг., 1917.
2 См. Г. В. Плеханов. Соч., т. IX, стр. 5—29.
3 См. «Русское богатство», 1903, № 3.
4 См. А. А. Корнилов. Общественное движение при Александре II
(1855—1881). Исторические очерки. М., 1909.
5 См. там же, стр. 231—233.
30
ность за несчастный исход освободительного движений
царствования Александра II на революционеров. Объ-
ективная и вдумчивая оценка исторических фактов по-
казывает, что настоящим виновником этого было прави-
тельство того времени» L
Отвергая формы политической борьбы народоволь-
цев, Корнилов в целом оправдывает их борьбу за сво-
бодную Россию. В полном согласии с этой мыслью нахо-
дится и специально посвященная «Народной воле» моно-
графия В. Я. Богучарского1 2. Первоначально главы этой
монографии печатались в журнале «Русская мысль».
Источниковедческая база проблемы к моменту написа-
ния монографии была значительной: помимо загранич-
ных изданий русской эмиграции к этому времени появи-
лись значительные публикации в различных историче-
ских журналах (в особенности в «Былом»), намного
возросла мемуарная литература. Кроме того, Богучар-
ский знал многих деятелей изучаемой эпохи. Обилие
материала дало возможность автору проследить исто-
рию «Народной воли» от ее возникновения до разгрома.
Описание ведется в строго историческом плане, со зна-
нием событий и характеров лиц, участвовавших в них.
Политическая обстановка, психология борющихся сто-
рон переданы с большим мастерством и неменьшей
аргументацией. Некоторые стороны политической борь-
бы и ее приемы впервые нашли освещение в работе
Богучарского. Это относится прежде всего к определе-
нию роли «Вольного слова», к деятельности «Священной
дружины» и т. д. В основе народовольчества Богучар-
ский видит идею борьбы за гражданские свободы, носи-
телем которой является интеллигенция, поэтому и «На-
родную волю» он определяет как узкую группу интелли-
гентов, ведущих борьбу с правительством. В 70-х годах,
пишет автор, в русской интеллигенции были две груп-
пы — либералы и революционеры. Временный отход от
социализма последних и некоторое полевение первых
создали основу народовольчества. Народовольчество,
следовательно, явление чисто интеллигентское.
1 А. А. Корнилов. Общественное движение при Александре П,
стр. 259.
2 См. В. Я. Богучарский. Из истории политической борьбы в
70-х и 80-х гг. XIX века. Партия «Народной воли», ее происхождение,
судьбы и гибель. М., 1912.
Вслед за работами Богучарского в 1913 г. появи-
лась монография известного публициста и редактора
Б. Б. Глинского «Революционный период русской исто-
рии 1861—1881 гг.». Хронологическими рамками иссле-
дования явился период царствования Александра II.
В общих чертах взгляды Глинского на историю «Народ-
ной воли» повторяют концепцию Богучарского и Корни-
лова. Главное внимание автор обращает не на 60-е, а на
70-е годы и большую часть работы отводит народоволь-
честву. До событий 1 марта фактическая сторона пред-
ставлена с большой тщательностью, здесь Глинский
даже превосходит Богучарского. Работа изобилует из-
влечениями из различного рода литературы и источни-
ков. Некоторые документы приводятся полностью. Прав-
да, Глинский почти не использует новых документов, но
зато все известное приведено им в стройную систему.
Экономическая и социальная сторона истории «Народ-
ной воли» опущена, отсутствует и анализ сообщаемых
сведений, в книге тщательно завуалирована методоло-
гическая основа исследования. Читатель не найдет в
книге оригинальных мыслей, но составит довольно пол-
ное представление о том, как развивались события, ка-
кие люди участвовали в них.
Итак, работами А. А. Корнилова, В. Я. Богучарского,
Б. Б. Глинского и некоторых других была сформулиро-
вана буржуазная концепция истории «Народной воли».
Основные положения этой концепции: признание того,
что возникновение и специфика деятельности «Народ-
ной воли» являются реакцией на незавершенность ре-
форм и ошибки во внутренней политике правительства;
деятельность народовольцев рассматривается как борь-
ба молодой интеллигенции, стоявшей над народом и
обществом и преследовавшей свои цели. Буржуазные
историки осуждают идеалы «Народной воли» (социа-
лизм) и тактические приемы борьбы (террор), видя в
них причину того, что реформы Александра II не завер-
шились конституцией.
Буржуазная концепция «Народной воли», шедшая
на смену официальной, представляла собой шаг вперед.
Однако нельзя забывать, что эта концепция оформля-
лась тогда, когда в России уже укрепился исторический
материализм, и потому прогрессивное значение бур-
жуазной историографии представляется крайне ограни-
32
Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ (1828—1889)
Говорите с мужиком просто и непринужденно, и он поймет вас;
входите в его интересы, и вы приобретете его сочувствие. Это дело
совершенно легкое для того, кто в самом деле любит народ, — лю-
бит не на словах, а в душе.
«.. .Чернышевский был не только социалистом-утопистом. Он был
также революционным демократом, он умел влиять на все политиче-
ские события его эпохи в революционном духе, проводя — через пре-
поны и рогатки цензуры — идею крестьянской революции, идею борь-
бы масс за свержение всех старых властей».
Ленин
3 М. Г. Седов
ценным. Она сумела всесторонне описать деятельность
«Народной воли» и остановилась перед классовым ана-
лизом, не поняв ни экономических, ни социальных исто-
ков народовольчества. Буржуазная историография ока-
залась беспомощной также в определении роли и исто-
рического значения «Народной воли».
После Октябрьской революции освободительное дви-
жение прошлого стало в центре внимания исторической
науки. Недоступные в царское время материалы и
источники были открыты исследователям. Несмотря на
довольно большое количество различных публикаций по
истории «Народной воли», появившихся в дореволюци-
онное время, все же главная масса документального
материала и воспоминаний увидела свет в советское
время, а книги, ставшие библиографической редкостью,
за небольшим исключением, были переизданы в 20-е и
30-е годы.
До 1926 г. продолжал выходить журнал «Былое»,
опубликовавший много ценных материалов о «Народной
воле». Но несравненно большее значение для разработки
ее истории имел журнал «Каторга и ссылка», возник-
ший в 1921 г. как научный орган общества бывших
политкаторжан и ссыльнопоселенцев и просуществовав-
ший до 1935 г. Во многих номерах «Каторги и ссылки»
содержатся материалы о «Народной воле». Оставшиеся
в живых народовольцы постоянно печатали в нем свои
воспоминания. Среди них обращают на себя внимание
мемуары М. Фроленко «Начало народовольства»,
А. Корбы «Исполнительный комитет», М. Ивановской
«Первые типографии «Народной воли»», В. Сухомлина
«Из эпохи упадка «Народной воли»», А. Якимовой «Ор-
ганизация «Народной воли»», Л. Дейча «Из отношения
Г. В. Плеханова к народовольцам», Н. Буха «Воспоми-
нания» и др.
Журнал печатал статьи, непосредственно относя-
щиеся к «Народной воле», материалы судебных процес-
сов и т. д. Этапы развития и вся деятельность «Народ-
ной воли» освещалась в них весьма подробно. Несмотря
на то что в журнале помещалось немало марксистских
работ, в целом же на его страницах пропагандировалась
народовольческая концепция истории «Народной воли».
В 1922 г. Центрархив приступил к изданию журнала
«Красный архив», и до второй половины 30-х годов в
34
нем систематически печатались документы и материалы
архива Л. Тихомирова, записки М. Грачевского, показа-
ния Н. Колодкевича и Ю. Богдановича, исповедь Г. Голь-
денберга и другие материалы.
Вышло также большое количество сборников как
тематического характера, так и об отдельных деятелях.
Так, в 1920 г. появился сборник статей «1 марта 1881 г.»
с предисловием Н. Тютчева; в 1920—1921 гг. А. Ашешов
выпустил сборник о Желябове и Перовской; в 1925 г.
А. Корба и В. Фигнер издали сборник об А. Михайлове.
В том же году Д. Заславский написал брошюру о Же-
лябове. В 1931 г. вышло сразу три сборника — ««На-
родная воля» перед царским судом», «Народовольцы» и
«Маркс, Плеханов и Ленин о народничестве». В 1930 г.
вышла серия биографических книг об отдельных деяте-
лях народовольчества, изданных обществом политкатор-
жан, в частности очерки о Н. Суханове, М. Оловеннико-
вой, С. Ширяеве, П. Ивановской, Г. Гельфман, И. Гри-
невицком, А. Якимовой, Г. Лопатине, М. Лангансе,
И. Калюжном и М. Калюжной, П. Якубовиче, Г. Исаеве
и др. Небольшие по объему, они в совокупности дают
обильный материал, который помогает изучить процесс
революционной борьбы «Народной воли» в целом. В них
прекрасно показана психология деятелей того времени.
Все эти публикации дали в руки исследователей
громадный источниковедческий и литературный мате-
риал, что, однако, не вызвало создания монографий о
«Народной воле». Лишь в 1928 г. появилась брошюра
С. Левицкого «Партия «Народной воли»». Но автор ее
не сумел преодолеть ошибок своих предшественников,
а с фактической стороны не прибавил ничего нового.
Ленинский анализ народовольчества остался чуждым
Левицкому. На некоторые недостатки этой брошюры
указывает в предисловии к ней П. Н. Лепешинский. Он,
например, справедливо отмечает, что автор книги упор-
но стоит на той точке зрения, будто бы революционная
интеллигенция была внеклассовым социальным наслое-
нием.
Значительное внимание революционному народниче-
ству и народовольчеству, в частности, уделял известный
советский историк М. Н. Покровский. Правда, у него нет
работ, специально посвященных «Народной воле», но
он не мог обойти ее истории в своих общих трудах.
35
К сожалению, в них мы встречаемся с рядом положе-
ний, затрудняющих выявление точки зрения автора по
интересующему нас вопросу. Но главное, что вызывает
наибольшее возражение, — это тезис Покровского о том,
что социальной основой «Народной воли» является либе-
ральная буржуазия Ч Однако заметим, что в статье
«По поводу юбилея «Народной воли»»1 2, опубликованной
в 1930 г., М. Н. Покровский пересматривает некоторые
свои оценки и пытается осветить деятельность «Народ-
ной воли» с позиций В. И. Ленина.
В 20-е и 30-е годы несколько статей и брошюр по
истории народовольчества было опубликовано Ем. Яро-
славским. Они имели пропагандистское назначение. Но
вместе с тем он написал хорошую исследовательскую ра-
боту об отношении Маркса к революционному народ-
ничеству3. В ней подробно рассматриваются взгляды
основоположников научного коммунизма на «Народную
волю» как героическую организацию, возглавившую в
конце 70-х годов борьбу с царизмом. К сожалению,
в период преобладания субъективизма в науке Ярослав-
ский отошел от своих взглядов, и его работы второй
половины 30-х годов («Разгром народничества», «Анар-
хисты в России»), в которых проводится линия на «раз-
венчание» народничества, потеряли научное значение.
В 1929 г. отмечалось 50-летие «Народной воли». Это
событие вызвало большой интерес научных кругов и
общественности. В связи с юбилеем редакция журнала
«Каторга и ссылка» поместила статью известного исто-
рика и революционера И. А. Теодоровича «Историческое
значение партии «Народная воля»» 4. Эта статья открыла
длительную дискуссию о народовольчестве, организован-
ную по инициативе Общества историков-марксистов.
В научном отношении широкий размах дискуссии
был подготовлен той полемикой о народничестве, кото-
1 Подробнее об отношении М. Н. Покровского к истории «На-
родной воли» см. нашу статью ««Народная воля» перед судом исто-
рии» («Вопросы истории», 1965, № 12, стр. 57—58).
2 См. «Историк-марксист», 1930, т. 15, стр. 74—85. Статья пере-
печатана затем в его кн. «Историческая наука и борьба классов».
(Историографические очерки, критические статьи, заметки), вып. 1.
М,—Л., 1933, стр. 304—321.
3 См. Ем. Ярославский. Карл Маркс и революционное народни-
чество. М., 1933.
4 См. «Каторга и ссылка», 1929, № 8—9 (57—58), стр. 7—53.
36
рая беспрерывно велась на страницах исторических и
политических журналов («Пролетарская революция»,
«Историк-марксист», «Красный архив», «Каторга и
ссылка», «Былое», в статьях тематических сборников,
посвященных группе «Освобождение труда», в «Исто-
рико-революционных сборниках» и др.) на протяжении
целого десятилетия после Октябрьской революции.
В основе споров лежали научные цели, но они тесно
переплетались с политическими событиями тех дней.
Поскольку статье «Историческое значение партии
«Народная воля»» суждено было сыграть роль «возбу-
дителя» одной из самых крупных исторических дискус-
сий, то, естественно, возникает потребность более тща-
тельного рассмотрения ее. Прежде всего надо сказать
несколько слов об источниках. Никаких новых, литера-
туре неизвестных данных здесь не исследуется. Но уже
известные материалы рассматриваются под особым
углом зрения. Никто из историков до Теодоровича не
предлагал в столь резкой постановке проблему наследия
народовольцев, да и понятие «историческое значение
«Народной воли»» трактовалось им в самом широком
смысле.
И. А. Теодорович имеет дело с источниками трех
видов: программные документы «Народной воли» и жур-
налистика революционного подполья; мемуары деяте-
лей 70—80-х годов XIX в. и основополагающие выска-
зывания К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина о «На-
родной воле».
Важно отметить, что И. А. Теодорович одним из пер-
вых пытался использовать труды К. Маркса, Ф. Энгель-
са и В. И. Ленина в качестве методологической основы
своей работы.
Понятно, что личный опыт революционного деятеля
не мог не сказаться на понимании отдельных проблем.
И. А. Теодорович вышел из народовольческой среды и
сохранил о народовольцах старого поколения самые
восторженные воспоминания, которые и вошли в работу
как ее составной элемент.
Цель статьи специально не формулируется, но она
легко устанавливается содержанием и направлением
работы, она читается, если можно так сказать, не бу-
дучи написанной. Суть ее выражена самим заглавием,
ставящим задачу раскрыть роль и место народовольче-
37
ства в истории русского революционного движения во-
обще и пролетарской эпохи его в частности. С другой
стороны, Теодорович сделал попытку рассмотреть про-
блемы революционного прошлого с точки зрения созву-
чия их текущим потребностям жизни. Этим тема как бы
актуализировалась.
Кратко остановимся на основных положениях
статьи.
История «Народной воли» своим исходным пунктом
имеет Липецкий съезд. Основная мысль автора сводится
к тому, что съезд, решительно отвергнув программу и
тактику «Земли и воли», положил начало созданию
«Народной воли».
Возникновение народовольчества как новой органи-
зации исключительной активности и жертвенности Тео-
дорович объясняет основными условиями жизни рус-
ского крестьянства, ибо это были годы «самых мучи-
тельных, самых неслыханных страданий масс мелких
товаропроизводителей»
В теоретическом отношении новое течение в револю-
ционном движении покоилось на признании следующего
положения: «Народ — стихия, интеллигенция — созна-
ние. И это сознание сорганизует и поведет за собой
«силу» — массу. Такова концепция народовольцев»1 2.
Программа «Народной воли», утверждает автор,
была рассчитана не только на уничтожение царизма как
политической системы, но также и на изменение основ
существующего строя, т. е. народовольцы не ограничи-
вали свои устремления завоеванием гражданских сво-
бод, а преследовали также цели социального перево-
рота. На основе этого Теодорович доказывает, что тезис
М. Н. Покровского об ориентации «Народной воли» на
буржуазию является ошибочным. Неверен этот тезис
также и потому, что в этом случае «положительно непо-
нятным должно казаться крайнее сочувствие Маркса и
Энгельса народовольцам»3.
Согласно взглядам Теодоровича, «Народная воля» —
та организация революционеров-социалистов, которая
ближе всего подошла к пролетариату. Чтобы пояснить
1 «Каторга и ссылка», 1929, № 8—9 (57—58), стр. 49.
2 Там же, стр. 47.
3 Там же, стр. 19.
38
классовую принадлежность «Народной воли», Теодоро-
вич вводит новые социологические понятия — «пролета-
рий-отец» и «пролетарий-сын». «Народная воля», по его
мнению, представляла интересы общественного слоя,
названного им «пролетарием-отцом», другими словами,
той социальной категории, которая уже выделилась из
крестьянства, но еще не порвала окончательно с ним и
работу на капиталистическом предприятии рассматри-
вала как явление временное, подсобное для своего хо-
зяйства. Переходное и противоречивое положение этой
группы нашло свое отражение в противоречиях народо-
вольчества.
Сложная и пестрая социальная среда, в которой
приходилось действовать революционерам, явилась пи-
тательной базой для различных направлений в народо-
вольчестве. Их было два — «правое» и «левое». «Товар-
ный мужик» — породил правый уклон. «На левом флан-
ге образовывалась группа пролетария-отца, все более и
более переходившая в группу пролетария-сына, отчего
появлялся левый уклон, уклон «предсоциал-демократи-
ческий»» !.
«Правый» вел к кадетам, «левый» вырос потом в со-
циал-демократию 1 2.
Ответ на вопрос, почему Маркс высоко ставил «На-
родную волю», содержится в таких словах: «Понимая,
что пролетариат генетически связан с мелким товаро-
производителем, Маркс не мог не учесть опыта револю-
ционной борьбы этого промежуточного слоя, особенно
той его части, которая первой пришла к сознанию необ-
ходимости захвата политической власти для решения
своей социальной задачи» 3.
Наконец, Теодорович придавал громадное значение
типу революционера-народовольца как организатора,
конспиратора и героя. В этих немногих положениях су-
щество взглядов Теодоровича на историю «Народной
воли». Но только эти положения не вызвали бы серьез-
ных возражений. Спор разгорелся прежде всего потому,
что Теодорович модернизировал общие программные по-
ложения «Народной воли», находя в них элементы дик-
1 «Каторга и ссылка», 1928, № 8-—9 (57—58), стр. 50.
2 См. там же, стр. 51.
8 Там же, стр. 32.
39
татуры пролетариата, указания на необходимость пере-
ходного периода и т. д., делал выводы, которые по суще-
ству сближали марксизм-ленинизм и народовольчество.
Ответом на статью Теодоровича явился ряд выступ-
лений прессы. За небольшим исключением, все писав-
шие о «Народной воле» осуждали его. Иногда критика
Теодоровича велась с позиций концепции М. Н. Покров-
ского, однако подавляющее большинство выступающих
как в разборе основной проблемы, так и в общей исто-
рической ориентации исходило из работ В. И. Ленина.
Были, правда, случаи, когда высказывания Ленина «под-
гонялись» под уже сложившиеся взгляды. При внима-
тельном рассмотрении дискуссионных выступлений бро-
сается в глаза недостаточное знание первоисточников,
особенно архивных фондов. Споры имели явный уклон
в сторону методологии.
Первым выступлением в печати против Теодоровича
явилась статья М. Поташа «К вопросу об оценке наро-
довольчества» *, в которой он писал: «При всем нашем
уважении к этим великим борцам против абсолютизма
и крепостничества мы должны сохранить правильную
историческую перспективу. Особенно нам нужно по-
мнить, что центр тяжести «наследства» народовольцев
лежит не в их теории социализма, не в их учениях о со-
циалистической революции и социалистическом строи-
тельстве после ее победы, а в области демократических
требований и борьбе с крепостничеством»1 2 3.
Этот вывод не подвергался сомнению, но излагался
он многими по-разному.
Рассматривая социальную доктрину «Народной во-
ли», Поташ делал вывод, что «народовольцы, как и на-
родники вообще, предполагали, что сама община яв-
ляется залогом осуществления социализма, что, как
только будет уничтожен гнет царской государственной
власти, наступит эра социализма и крестьянство будет
и без воздействия и руководства пролетариата строите-
лем социализма»8.
Поташ решительно отверг концепцию Теодоровича,
его попытку найти истоки ленинизма в народовольче-
1 См. «Книга и революция», 1929, № 24, стр. 1—9.
2 Там же, стр. 7.
3 Там же, стр. 3.
4Q
стве, но одновременно он защищал ошибочные положе-
ния Покровского.
Почти в то же самое время появляется статья
Э. Б. Генкиной, в которой обстоятельно рассматривается
марксистская литература о «Народной воле».
Генкина напоминает о полемике между С. Мицкеви-
чем и Н. Батуриным, которая велась на страницах жур-
налов в 1923—1925 гг., и устанавливает связь между ней
и дискуссией 1929—1931 гг.
«.. .Крупной ошибкой статьи Мицкевича, — пишет
Генкина, — является доказательство тесной идейной свя-
зи большевизма и народовольчества... Отсюда установ-
ка, что народовольчество являлось эволюцией в сторону
пролетарского социализма» * *.
Ошибки Мицкевича полностью, подчеркивает автор,
повторяет Теодорович. Он отрицает бланкизм народо-
вольцев, но утверждает, что они наметили идею гегемо-
нии пролетариата, идею нэпа и характерные черты пере-
ходного периода. «Такая модернизация «Народной во-
ли»,— заключает Генкина, — уже совсем не нужна, она
противоречит ленинской постановке вопроса о народни-
честве и не помогает, а мешает правильному разреше-
нию проблемы...» 2
Резко критикуя ошибки Мицкевича и Теодоровича,
Э. Б. Генкина не исключает работы этих авторов из
марксистской литературы.
Выступления Поташа и Генкиной представляются
наиболее характерными для данной стадии дискуссии,
но зенитом ее следует признать собрание членов Обще-
ства историков-марксистов в январе 1930 г.
Собрание заслушало доклад В. И. Невского, содо-
клады И. А. Теодоровича и И. Л. Татарова и массу вы-
ступлений.
В своем докладе В. И. Невский весьма подробно из-
ложил различные аспекты истории народничества 70-х го-
дов. Много говорил он о героизме народовольцев и особо
выделил В. Н. Фигнер, в лице которой видел «великий
образец революционного долга».
Одновременно Невский показал, что народовольцы
допускали немало ошибок, их взгляд на государство как
1 Э. Генкина. К юбилею «Народной воли». Обзор марксистской
литературы. — «Книга и революция», 1929, № 24, стр. 17.
* Там же.
41
«демиурга истории» отражает буржуазную концепцию
надклассовой природы государства, а в понимании ра-
бочего вопроса народовольцы сделали шаг назад по
сравнению с союзами русских рабочих 70-х годов,
программа которых была «близкой к социал-демокра-
тии». Народовольцы переоценивали роль интеллигенции,
основной лозунг народничества: «Все для народа, все
посредством народа» — они заменили новым: «Все для
народа посредством лучшей части этого народа — интел-
лигенции». А это по сути дела означает признание того,
что двигателем истории являются «критически мысля-
щие личности» ’. В принципе народовольцы не отрицали
«совместимость» народоправия с монархией, что под-
тверждается письмом Исполнительного комитета Алек-
сандру III. По своей социальной природе, делал вывод
докладчик, народовольцы были «буржуазными демокра-
тами».
Заканчивая свое выступление, В. И. Невский подчер-
кивал, что заслуга народовольцев заключается не в том,
что они якобы «предвосхитили большевистские положе-
ния» и что якобы народовольцы предвидели необходи-
мость нэпа, национализации и т. п., как это пытался до-
казать Теодорович. «Заслуга их заключается в том, что
они при ничтожных средствах сделали попытку сверг-
нуть самодержавие. Пускай тот путь, по которому они
следовали, не всегда был верен, но они сумели смело
поставить вопрос, сумели поставить по-настоящему, по-
революционному и, будучи социалистами-утопистами,
взывали к народу, зовя его на восстания... Вот поче-
му,— говорил Невский, — мы до сих пор в изумлении
перед той нечеловеческой революционной энергией,
которой обладали эти самоотверженные борцы револю-
ции, эти самоотверженные борцы за интересы на-
рода. ..» 1 2.
Содоклад Теодоровича явился разъяснением и раз-
витием положений уже знакомой нам статьи.
Как и большинство ораторов, Теодорович, отдавая
дань времени, видел в «Народной воле» «левый и пра-
вый» уклоны от коренного течения.
1 См. «Дискуссия о «Народной воле»». Стенограммы докладов.
М., 1930, стр. 13—15.
2 Там же, стр. 24—25.
42
В содокладе Татаров поставил перед собой задачу
определить классовую сущность «Народной воли» и вы-
яснить, «что мы переняли» от народовольцев, что являет-
ся их «наследством». Татаров полемизировал с Теодоро-
вичем и защищал точку зрения Покровского.
Позитивная сторона его речи в основном соответство-
вала положениям «Тезисов Культпропа ЦК ВКП(б)»,
автором проекта которых он был.
Прения оказались очень оживленными, а порой и
резкими, обнаружили различные взгляды чуть ли не по
всем вопросам, затронутым докладчиками.
Немногие — только С. Мицкевич и А. Рындич — под-
держали Теодоровича, остальные или полностью отвер-
гали его концепцию, или оспаривали отдельные положе-
жения. Подвергался критике и доклад Невского, хотя
выступления против него не носили столь резкого харак-
тера. В. Малаховский заявил, что не согласен «со всем
тем, что и как говорили оба докладчика — и тов. Нев-
ский, и тов. Теодорович». Главный вопрос дискуссии —
историческое значение «Народной воли» — не получил
разрешения. Отвечая на него, Малаховский говорил, что,
по его мнению, «все историческое значение, весь смысл
существования «Народной воли» заключался как раз в
знаменитой террористической деятельности, в той поли-
тической борьбе, которую они подняли против самодер-
жавия» *.
Ем. Ярославский в большой речи затронул и осветил
многие вопросы дискуссии. Он подчеркнул, что до по-
следнего времени многие из историков, в том числе и он
сам, «грешили тем, что недостаточно уделяли внимания
тем оценкам, которые встречаются у Ленина»1 2. И эти
оценки нельзя отождествлять и смешивать с плеханов-
скими, так как Плеханов «оставил нам не одно только
ценное...», но «пытался привить нам меньшевистские
предрассудки против совершенно правильных положе-
ний народовольчества (имеется в виду отношение к кре-
стьянству как движущей силе революции. — М. С.), ре-
волюционного народничества...
И заслуга т. Теодоровича, — подчеркивает Ярослав-
ский,— заключается в том, что он, хотя и не во всем
1 «Дискуссия о «Народной воле»», стр. 56, 58.
2 Там же, стр. 120.
43
правильно, взял за основу изучения «Народной воли» то,
что писали о «Народной воле» Маркс, Энгельс и Ленин»1.
Нельзя также забывать, что проблемы революцион-
ного народничества есть проблемы крестьянские и в
1917 г. массы крестьянства пошли за большевиками, а
не за буржуазией потому, что именно большевики верно
понимали его задачи и нужды на всех этапах револю-
ционной борьбы.
Мы не должны умалять значение «Народной воли»,
что, однако, не дает права забывать, что «основа миро-
воззрения этой партии и большевиков — различная»2.
Интенсивное обсуждение проблем народовольчества
продолжалось более трех лет. Еще в ходе дискуссии под
руководством Культпропа ЦК ВКП(б) была создана ко-
миссия по выработке тезисов «К 50-летию «Народной
воли»». В опубликованном комиссией документе в основ-
ном давалась ленинская оценка «Народной воли», а
также подчеркивалось, что юбилей «Народной воли» вы-
шел за ранее намеченные рамки и превратился в круп-
ное не только научное, но и политическое событие. В «Те-
зисах Культпропа ЦК ВКП(б)» указывалось по этому
поводу: «Хотя борьба «Народной воли» представляет
собой пройденный и уже давно превзойденный пролетар-
ской борьбой этап в истории революционного движения
в России, тем не менее наша партия отмечает юбилей
«Народной воли», ибо, характеризуя революционное на-
родничество и «Народную волю», в частности, как партию
крестьянской революции, наша партия ставит еще раз на
данном примере кардинальный вопрос нашей револю-
ции— проблему взаимоотношения пролетариата и кре-
стьянства на разных этапах революционной борьбы»3.
Рассматриваемая дискуссия — один из интереснейших
историографических памятников, отразивших переломный
момент отечественной исторической науки. К этому вре-
мени в Советском Союзе уже сложился большой отряд
историков-марксистов. Главным направлением их творче-
ства было изучение истории революций и освободитель-
ного движения в целом. Такое направление отвечало
потребностям социалистического строительства, помо-
1 «Дискуссия о «Народной воле»», стр. 121—123.
2 Там же, стр. 123.
3 Там же, стр. 193.
44
гало познанию объективных закономерностей историче-
ского процесса. Но уже в это время обнаруживаются
тенденции субъективизма и диктата в науке, связанные
с культом личности. С опубликованием же письма Ста-
лина в журнале «Пролетарская революция» в 1931 г.
уже четко определился волюнтаризм в гуманитарных
науках, что отчасти сказалось на ходе дискуссии, отри-
цательно подействовало на ее последствия. Казалось бы,
что логическим завершением дискуссии должно было
явиться монографическое решение выдвинутых в процессе
ее проблем. В жизни, однако, этого не случилось. Лишь
в 1930 г. появилась интересная, продуманная в теорети-
ческом отношении работа Вл. Малаховского «На два
фронта» (К оценке народовольчества). Два фронта
Вл. Малаховский видит в наличии в советской историо-
графии двух концепций «Народной воли», наиболее от-
четливо сформулированных В. И. Невским и И. А. Тео-
доровичем. Для В. И. Невского, пишет автор, «Черный
передел» явился в результате роста пролетариата и на-
рождения рабочего движения и стал этапом на пути к
марксизму... «Народная воля» явилась выражением
борьбы крепнущей буржуазии и вылилась затем в бур-
жуазно-конституционное течение» *. Теодорович, так же
как и Невский, фактически отрицает народнический ха-
рактер «Народной воли», но делает уклон в другую сто-
рону и «считает эту партию демократической и социали-
стической, хотя оговаривается, что социализм ее был уто-
пический» 1 2.
И тот и другой взгляд подвергается обстоятельной
критике, и автор в соответствии с высказываниями
В. И. Ленина заключает, что «Народная воля» отразила
интересы крестьянской демократии и «сделала шаг впе-
ред по сравнению с предыдущим этапом», оставшись,
однако, полностью в рамках демократического движения.
С середины 30-х годов и на протяжении четверти века
о «Народной воле» не публиковалось никаких исследова-
ний и даже популярных брошюр.
Тема эта по сути дела оказалась вне научного изуче-
ния, что привело к обеднению курса истории революцион-
1 Вл. Малаховский. На два фронта (К оценке народовольчества).
М, 1930, стр. 4.
2 Там же, стр. 5.
45
кого движения пореформенной России, создав в нем опре-
деленный пробел. В «Кратком курсе истории ВКП(б)»,
вышедшем в 1938 г., в освещении народничества и наро-
довольчества полностью игнорировались высказывания
Маркса, Энгельса, Ленина о разночинском периоде осво-
бодительного движения. История нашей партии была
представлена без ее предшественников. Героическая дея-
тельность «Народной воли» была сведена к системе
сплошных ошибок. Такие произвольные трактовки и оцен-
ки держались очень долго, исследовательских работ по
истории народничества не издавалось.
Положение изменилось только после XX съезда КПСС.
Появилась значительная литература как по истории на-
родничества вообще, так и по истории политической
борьбы в частности L Но процесс высвобождения от деся-
тилетиями укрепившихся представлений и взглядов ока-
зался длительным и трудным.
Этот переход от старых представлений к новым наи-
более полно отразился в работе Ш. М. Левина «Обще-
ственное движение в России в 60—70-е годы XIX века»
(1958). К сожалению, в этой обстоятельной и ценной в
научном отношении работе «Народной воле» отведено
крайне мало места. Но тем не менее взгляд автора изло-
жен ясно. «Народная воля» и ее деятельность рассматри-
вается в связи с назреванием революционного кризиса.
Автор довольно подробно рассматривает составные эле-
менты революционной ситуации и те факторы, которые
подготовили и вызвали ее. Ход рассуждений автора при-
мерно таков: в напряженной атмосфере общественной
жизни конца 70-х годов революционное подполье (т. е.
фактически «Земля и воля») вынуждено было пересмо-
треть старые представления о характере борьбы и ее так-
тике. Отчасти под влиянием репрессий, а главным обра-
зом потому, что у революционной интеллигенции «пропа-
дал вкус» к деятельности в народе, революционная
борьба пошла по политическому руслу. Причем револю-
ционеры уже не возлагали надежд на силу народа, а
1 См. библиографию: «Литература по истории революционного
народничества 70—80-х годов XIX в., вышедшая в 1956—1964 гг.» в
кн.: «Общественное движение в пореформенной России». Сборник
статей. К 80-летию со дня рождения Б. П. Козьмина. М., 1965,
стр. 370—381.
46
исходили из учета только своих собственных сил и в пред-
стоящей борьбе с правительством ухватились за те сред-
ства, которые создавали «иллюзию силы и успеха». Та-
ким средством был террор, с его помощью надеялись до-
биться освобождения народа. Первыми к такой оценке
террора пришли южане (Осинский, Попко и др.), а затем
террористическое течение возникает и в Петербурге.
Против террора весьма активно выступали Плеханов и
Халтурин, видя в нем тормоз революционного движения.
Каждое из этих положений Ш. М. Левин аргументирует
ссылками на высказывания непосредственных участников
событий тех лет. Фактическое оформление нового полити-
ческого направления имело несколько этапов (образова-
ние группы «Свобода или смерть», Липецкий съезд и
возникновение «Народной воли» после раскола «Земли и
воли» в августе 1879 г.). Создание «Народной воли» Ле-
вин расценивает как большой шаг вперед, поскольку эта
организация отвергла бакунинско-анархистские взгляды
на государство и политику. Но вместе с тем, отмечает
автор, народовольцы во многом оказались в плену ста-
рых теоретических представлений и подобно Ткачеву
смотрели на государство как на явление внеклассовое.
Ввиду этого политическая борьба народовольцев лиши-
лась классового характера. Народовольцы «не учиты-
вали», что базой политической борьбы может быть только
массовое движение народа. Вообще отрыв от масс типи-
чен для «Народной воли».
В деятельности «Народной воли» Ш. М. Левин видит
главным образом террористические акты, которыми рас-
трачивались силы революционного движения. «Даже те
люди, которые раньше вели пропаганду среди рабочих,
были почти без остатка отвлечены на террор» Ч
Наконец «Народной воле» удалось совершить убий-
ство Александра II, но этот успех ничего не дал, и наро-
довольцы не решились даже призвать народ к каким-
либо определенным действиям и не нашли для себя
ничего другого, как обратиться со своим мирным предло-
жением к новому царю.
«Народная воля» истощила и погубила лучшие силы
в бесплодной террористической борьбе. Именно это имел
1 Ш. М. Левин. Общественное движение в России в 60—70-е годы
XIX века. М., 1958, стр. 506.
47
в виду В. И. Ленин, когда говорил, что «революционеры
исчерпали себя 1-м марта»».
Несмотря на полный разгром, народовольцы и после
1 марта продолжали пропагандировать идею захвата
власти, что уже свидетельствовало о полном их отрыве
от реальной жизни *.
Вот коротко концепция «Народной воли» Ш. М. Ле-
вина. В ней много достоинств, но есть и некоторые про-
белы. Обстановка, породившая «Народную волю», нари-
сованная исследователем, не вызывает возражений, но
выяснить непосредственную задачу народовольцев автору
не удалось. А без этого невозможно дать правильную
оценку деятельности «Народной воли». Между тем глав-
ной своей задачей народовольцы считали пробуждение
народа, об этом свидетельствуют программные документы
партии, на это указывает и В. И. Ленин.
Сами народовольцы неоднократно подчеркивали, что
роль партии сводится к роли возбудителя: «Дело револю-
ционной партии — зажечь скопившийся уже горючий ма-
териал, бросить искру в порох и затем принять все меры
к тому, чтобы возникшее движение кончилось победой,
а не повальным избиением лучших людей страны...»1 2
Эти слова из «завещания» Гриневицкого и уже по од-
ному этому крайне характерны.
Что же касается идеи захвата власти, то и она не де-
лает народовольцев отщепенцами от народа. Они стреми-
лись к этому, чтобы затем передать власть народу. Тео-
рия захвата власти, конечно, указывает на неумение
связать идею политической борьбы с массовым движе-
нием, но это неумение объясняется отсутствием самого
массового движения, а не субъективным игнорирова-
нием его.
Заканчивая рассказ о «Народной воле», автор приво-
дит высказывание В. И. Ленина о том, что благодаря
борьбе народовольцев правительство вынуждено было
пойти на уступки, и здесь же делает вывод о бесплодности
их деятельности. Как совместить это?
Хотелось бы в связи с этим напомнить одно место из
биографии В. И. Ленина.
1 См. Ш. М. Левин. Общественное движение в России в 60—
70-е годы XIX века, стр. 507, 509.
2 «Литература партии «Народной воли»», 1907, стр. 487.
48
«.. .Ленин, который всегда стремился учиться, брать
отовсюду все самое ценное и полезное, подолгу беседовал
с ветеранами «Народной воли», впитывая в себя и крити-
чески перерабатывая опыт прошлого революционного
движения. Его живо интересовали их рассказы о рево-
люционной работе, об условиях конспирации, поведении
на допросах и на судебных процессах. Не разделяя их
мировоззрения, он с глубоким уважением относился к
этим смелым, самоотверженным революционерам» \
Эти слова являются прекрасной иллюстрацией глубо-
кого исторического смысла деятельности «Народной
воли» и морального влияния ее героев на последующие
поколения русских революционеров.
Поскольку разбираемая тема многими своими аспек-
тами была и остается связанной с историей политиче-
ской жизни и борьбы нашей партии, то, естественно, ис-
следователи выдвигали на первый план вопрос об изуче-
нии взглядов В. И. Ленина по данному предмету.
Видное место среди этих работ занимает статья
В. В. Широковой «К вопросу об оценке деятельности «На-
родной воли»»2.
Основные положения Ленина изложены автором про-
сто и убедительно. Своим направлением и прямым смы-
слом статья разрушает концепцию «Краткого курса исто-
рии ВКП(б)» и рисует «Народную волю» как организа-
цию героических борцов против самодержавия, за
интересы народа, за прогрессивное развитие России.
Другие авторы, также исходя из марксистской мето-
дологии, приступили к воссозданию истории «Народной
воли», основываясь на большом фактическом материале.
Заслуживают большого внимания статьи В. А. Твардов-
ской «Воронежский съезд землевольцев (июнь 1879 г.)»3,
«Кризис «Земли и воли» в конце 70-х годов»4 и «Органи-
зационные основы «Народной воли»»5.Эти статьи рисуют
процесс возникновения «Народной воли», ее организа-
ционных форм и первые шаги деятельности. Они интерес-
1 «Владимир Ильич Ленин», Биография. М., 1960, стр. 18.
2 См. «Вопросы истории», 1959, № 8.
3 См. «Научные доклады высшей школы. Исторические науки»,
1959, № 2, стр. 27—46.
4 См. «История СССР», 1959, № 4, стр. 60—74.
5 См. «Исторические записки», 1960, т. 67, стр. 103—144.
4 М. Г. Седо:
49
ны и крайне важны для решения отдельных вопросов, но
не содержат еще законченного взгляда на предмет в
целом.
Плодотворно работает над изучением народоволь-
чества один из крупных историков Ленинграда —
С. С. Волк L Научное значение его работ бесспорно. В ме-
тоде подхода и в понимании многих проблем он близок
к Ш. М. Левину. Не отрицая известных положительных
сторон в деятельности «Народной воли», С. С. Волк
главное внимание обращает на слабые и отрицатель-
ные стороны, допуская иногда неточность. Вот пример:
«Присущий народническому мировоззрению эклектизм
безусловно сказался и на идеологии народовольчества.
Некоторые статьи «Народной воли» очень напоминают те
эклектические разновидности русского утопического со-
циализма, о которых Плеханов отзывался как о «смеси
Фурье со Стенькой Разиным»»1 2.
В политической полемике Плеханов порой представ-
лял взгляды народников еще резче и насмешливее, но
значит ли это, что такие отзывы во всем правильны?
В. И. Ленин говорил прямо противоположное, подчерки-
вая цельность взглядов революционного народничества.
При наличии «таких разноречий» требуется более осто-
рожный подход к характеристикам.
Представляется, что и нижеследующая мысль не со-
всем точна: «Лозунги «Народной воли» не были науч-
ными, в ее пропаганде нет классовой, пролетарской точки
зрения»3.
Верно, пропаганда народовольцев чужда точки зре-
ния пролетариата как класса, но отрицать, что их ло-
зунги отражали объективно реальные потребности стра-
1 См. С. С, Волк. Программные документы «Народной воли»
(1879—1882 гг.) в кн.: «Вопросы историографии и источниковедения
истории СССР». Сборник статей. М.—Л., 1963, стр. 375—473; его же.
Деятельность «Народной воли» среди рабочих в годы второй рево-
люционной ситуации (1879—1882). — «Исторические записки», 1963,
т. 74, стр. 187—219; его же. Карл Маркс, Фридрих Энгельс и «Народ-
ная воля» в кн.: «Общественное движение в пореформенной России»,
стр. 7—60.
2 С. С. Волк. «Народная воля» (1879—1882). Автореферат. М.,
1965, стр. 17—18.
3 «Вопросы историографии и источниковедения истории СССР»,
стр. 445.
50
ны, нельзя, а следовательно, нельзя отрицать их опре-
деленно научное значение.
Говоря о лозунгах «Народной воли», надо точно фор-
мулировать то, что она сама понимала в качестве глав-
ной задачи. А. Михайлов писал: «В России одна теория,
одна практика: добиться воли, чтобы иметь землю, иметь
землю и волю, чтобы быть счастливым. Вот задача народа
русского...»1 Эти слова были девизом народовольцев,
и видеть здесь что-то «ненаучное» просто трудно.
Подобного рода погрешности можно было бы увели-
чить, но С. С. Волк, очевидно, сам многое пересмотрел,
и его последняя статья «Карл Маркс, Фридрих Энгельс
и «Народная воля»» говорит об этом2.
Литература строго академическая дополнилась за по-
следние годы массовой. Ее научное значение не менее
велико, но она адресуется самым широким слоям читаю-
щей публики и в том ее большая популяризаторская и
воспитательная роль. Хочется назвать прежде всего ра-
боты Э. А. Павлюченко «Вера Фигнер» (М., 1963) и
«Софья Перовская» (М., 1959), А. В. Клеянкина «Андрей
Желябов — герой «Народной Воли»» (М., 1959), А. Чер-
няка «Николай Кибальчич — революционер и ученый»
(М., 1960), П. М. Рожина «Корифей рабочего движения»
(М., 1961), И. Я. Мирошникова «Виктор Обнорский — вы-
дающийся рабочий-революционер» (М., 1960), Ю. 3. По-
левого «Степан Халтурин» (М., 1957), И. Е. Матвеевой
«Вера Фигнер» (М., 1961) и др.
Эти книги, неодинаковые по мастерству изложения и
по богатству материала, объединяет стремление воссо-
здать ленинскую трактовку русского революционного про-
цесса и личностей, действующих в нем. Героика борьбы и
идеи служения народу — вот та мысль, которую каждый
автор выдвигает на первый план, говоря о борьбе дея-
телей 70-х годов.
Из приведенного, хотя и краткого, обзора литературы
видно, насколько интересна и сложна разбираемая тема.
При изучении темы нами использовались самые раз-
личные материалы, как опубликованные, так и нахо-
1 Я. П. Прибылева-Корба и В. Н. Фигнер. А. Д. Михайлов,
стр. 205.
2 Вышедшая крупная монография С. С. Волка о «Народной
воле» («Наука», 1966) не нашла отражения в данной работе, по-
скольку она уже была в производстве.
*
51
дящиеся в архивах. Они настолько обильны, что дать
хотя бы краткое описание всех их невозможно. Ука-
жем поэтому только на наиболее важные документы
архивов.
Больше всего их сосредоточено в Центральном госу-
дарственном архиве Октябрьской революции, высших ор-
ганов государственной власти и государственного управ-
ления СССР (далее — ЦГАОР), в фондах III отделения,
департамента полиции, секретном, ОППС, Верховного
суда, Временной распределительной комиссии и в личных
фондах. Особое внимание обращают на себя различные
записки, статистические данные о развитии революцион-
ного движения в 70-х годах и после русско-турецкой вой-
ны 1877—1878 гг., в частности. Так, в представлении на
имя наследника престола в 1880 г. III отделение сооб-
щало, что правительство оказалось изолированным от
всех слоев общества и что выход надо искать в укрепле-
нии мощи и влияния потомственного дворянства. Страх
перед возможной революцией — вот характерная черта
внутренней политики царизма. Эта черта прослеживается
чрезвычайно ясно. Начальник полицейского управления
Москвы рекомендовал правительству выслать всех социа-
листов на остров Сахалин и блокировать его военными
кораблями, а высшие учебные заведения перевести в за-
холустные окраины, изолировав тем самым революцион-
ное студенчество от народа. На этой докладной записке
император написал: «Вряд ли возможно осуществить
практически».
Весьма показательны меры правительства, направлен-
ные на то, чтобы заключить общеевропейский союз госу-
дарств для борьбы с революционным движением. На это
предложение царизма откликнулось только правитель-
ство Германии. Заслуживают изучения сравнительно ма-
лоизвестные официальные документы, свидетельствую-
щие о попытках самодержавия деморализовать револю-
ционное движение изданием за границей провокаторских
газет и журналов.
Из личных фондов громадный интерес представляет
фонд Лаврова. В нем сосредоточены почти все рукописи
«Вестника» и «Календаря «Народной воли»», а также
его собственные письма в Исполнительный комитет «На-
родной воли». Много ценных данных содержит также так
называемая пражская коллекция Центрального Госу-
52
дарственного архива Октябрьской революции. Из этих
материалов нами использованы фонды Бурцева, Милю-
кова, Лазарева и др.
Помимо материалов центральных архивов Москвы и
Ленинграда использованы некоторые фонды областных
архивов. Там встречаются важные, а иногда прямо не-
ожиданные сведения. Так, по материалам Орловского
областного архива удалось установить, насколько был
прав Маркс, называя русского императора пленником
революционного движения. И действительно, он был
пленник. Страх перед революцией, боязнь быть настиг-
нутым мстителем порой отнимали у императора всякий
здравый смысл. Он, например, одобрил план охраны во
время его путешествия на юг и обратно. Эта система охра-
ны крайне хитроумна и многосложна, но один ее пункт
особенно любопытен. Весь путь от Петербурга до Лива-
дии по обе стороны железнодорожного полотка охранял-
ся специально набранными лицами, расставленными
друг от друга на расстоянии 10—15 саженей, в лесных
местах — еще чаще, а у мостов и на поворотах стояли
особые отряды. Никто, кроме начальства, не знал назна-
чения охраны. Каждому из мобилизованных на такую
операцию выплачивали вознаграждение от двух до трех
рублей в сутки. Такое путешествие стоило громаднейших
затрат, но, кроме того, было немало человеческих жертв.
Так, например, однажды по ошибке полиции были рас-
стреляны рыболовы, принятые за минеров железнодо-
рожного моста.
Материалы Центрального Военно-Исторического ар-
хива (далее — ЦГВИА) содержат много данных о рево-
люционном движении в офицерском корпусе, что крайне
важно для восстановления истории военной организации
«Народной воли». Естественно, что архивные материалы
используются одновременно и наравне с нелегальной ли-
тературой, мемуаристикой, публицистикой и официаль-
ным законодательством. Особо следует выделить мате-
риалы, опубликованные в журналах «Былое», «Минувшие
годы», «Голос минувшего», «Каторга и ссылка», «Крас-
ный архив» и др. Наиболее важные документы народо-
вольчества опубликованы в этих органах с достаточной
полнотой. В работе используются также данные, гово-
рящие об отражении народовольческого движения в ли-
тературе и искусстве.
53
* * *
Борьба «Народной воли» нашла большой отклик за
пределами России. Среди сохранившихся материалов об-
ращают на себя внимание письма и воззвания В. Гюго,
решения французских социалистов, статьи немецкой со-
циал-демократической печати, различные корреспонден-
ции и т. д. Но особенно интересны и важны высказыва-
ния, письма и статьи К- Маркса и Ф. Энгельса. О мето-
дологическом их значении говорилось выше. Здесь речь
идет о том, что Маркс и Энгельс были современниками,
первыми судьями и критиками «Народной воли». Они
положили начало научной разработке этой темы, их мыс-
лями руководствовался Плеханов, их взгляды легли в
основу ленинской концепции народовольчества.
ГЛАВА I
НОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
В РЕВОЛЮЦИОННОМ
ДВИЖЕНИИ.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ
ИДЕОЛОГИИ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
БОРЬБЫ
В конце 70-х годов XIX в. в русском революционном дви-
жении произошли значительные изменения. Старые взгля-
ды и теории, содержавшие идеи отказа от борьбы за
гражданские свободы, отходили в прошлое. Время на-
стоятельно требовало нового решения революционных
проблем. Надежды на народную революцию как одно-
временный процесс социальных и политических преобра-
зований не выдержали испытания временем. Становилось
очевидным, что улучшение экономического состояния на-
рода невозможно без радикального изменения полити-
ческого строя России. Политические проблемы все
решительнее и последовательнее выдвигались на первый
план.
Объясняется это прежде всего теми изменениями, ко-
торые произошли в экономической и социальной жизни
страны. Развитие капиталистических отношений вызвало
быстрый рост производительных сил страны. Реформы
60-х годов способствовали установлению новых взаимоот-
ношений различных слоев общества, что привело к услож-
нению и обострению классовых и сословных противоре-
чий.
После отмены крепостного права прошло около 20 лет.
Эти годы представляли собой определенный этап в гра-
жданском развитии общества. В конституционных гаран-
тиях нуждались все или почти все. Система же полити-
55
ческого и административного управления, несмотря на
обнаруженные тенденции приспособиться к новым поре-
форменным условиям, в основных своих чертах осталась
старой не только по форме, но и по содержанию.
Царизм как политическое устройство и система управ-
ления утратил какие-либо прогрессивные качества.
Социальные и политические противоречия, не устра-
ненные реформой 1861 г., привели к новому обществен-
ному конфликту. Можно считать, что сами результаты
реформы явились предпосылкой и мотивом нового подъ-
ема освободительного движения, которое на определен-
ном этапе приобрело характер открытой схватки рево-
люционеров с самодержавной властью.
Смыслом и объективной задачей этой борьбы было
стремление революционных элементов страны ликвиди-
ровать самодержавный строй и провозгласить принцип
народоправия.
Надо заметить, что необходимость изменений в усло-
виях русской жизни ощущалась почти всеми направле-
ниями общественной мысли. Особенно усиленно об этом
стали говорить в связи с войной 1877—1878 гг. О прямом
влиянии русско-турецкой войны на возникновение и обо-
стрение политического кризиса говорят многочисленные
данные, но наиболее показательны в этом отношении
свидетельства деятелей правящего класса.
В докладной записке киевского губернатора на имя
императора имеются такие слова:
«Россия живет лихорадочной, ненормальной жизнью
уже несколько лет. Страсти политического характера
стали возбуждаться в народе с началом Герцеговинского
восстания. Затем пришла война со всеми своими пре-
вратностями, затем Сан-Стефанский мир, возбудивший
непомерные надежды, и Берлинский трактат, показав-
шийся оскорбительным национальному достоинству. Ре-
зультаты тягостной войны были так неблагоприятны, что
казалось, будто Россия вышла не победительницей, а
побежденной в борьбе с Турцией. За рядом щекотливых
дипломатических неудач последовало падение нашего
рубля свыше чем на 40%. Всем этим почва подготовля-
лась для неудовольствий, которые и стали появляться в
стране вскоре после Берлинского трактата»
1 ЦГАОР, ф. III отд., 3 эксп., 1880 г., д. 751, ч. 1, л. 5 об.
56
ПЕТР АЛЕКСЕЕВ (1849—1891)
Русскому рабочему народу остается только надеяться самим на себя
и не от кого ожидать помощи, кроме от одной нашей интеллигентной
молодежи... Она одна братски протянула нам свою руку... Она
одна до глубины души прочувствовала, что значат и отчего это ото-
всюду слышны крестьянские стоны... И она одна неразлучно пойдет
с нами до тех пор, пока подымется мускулистая рука миллионов ра-
бочего люда... и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими шты-
ками, разлетится в прах..
«Перед нами стоит во всей своей силе неприятельская крепость, из
которой осыпают нас тучи ядер и пуль, уносящие лучших борцов. Мы
должны взять эту крепость, и мы возьмем ее, если все силы пробуж-
дающегося пролетариата соединим со всеми силами русских револю-
ционеров в одну партию, к которой потянется все, что есть в России
живого и честного. И только тогда исполнится великое пророчество
русского рабочего-революционера Петра Алексеева...»
Ленин
Ту же мысль высказал и князь Мещерский: «Не будь
этого печального исхода войны, анархическое движение
осталось бы у нас по-прежнему хроническим недугом в
умственной жизни России и не нашло бы почвы для
себя, чтобы перейти в состояние острое и к дерзкому по-
ходу против государственного порядка» Ч
К бедствиям военных лет прибавлялись недород и го-
лод 1879 г. То было крупное народное бедствие, усугуб-
лявшееся непосильным налоговым гнетом, малоземельем
и т. д. Именно в это время получила довольно широкое
распространение пословица: «Неурожай — от бога, а го-
лод— от царя». Деревня являлась очагом всеобщего ро-
пота и глухого недовольства.
Несмотря на то что крестьянство оказалось индиффе-
рентным в отношении форм государственного устройства,
тем не менее именно крестьянский вопрос с особой силой
выдвигал проблему изменения политического устройства
России, поскольку становилось совершенно очевидным,
что вся сумма вопросов крестьянской жизни не может
быть решена вне политической борьбы.
Но непосредственные лидеры и участники политиче-
ской борьбы имели в виду и другое. Им казалось, что
актами политической борьбы можно пробудить револю-
ционный дух народа. Они должны были сыграть роль
толчка, возбудителя революционного движения масс,
прежде всего крестьянства. А. Михайлов писал впослед-
ствии: «Недовольство в народе самое сильное. Недо-
стает толчка, ощутительного для всей России»1 2.
Но прежде чем политическая борьба стала сознатель-
ной деятельностью революционеров и превратилась в
мощный фактор общественной жизни, она подготовля-
лась самим аполитическим движением и наконец стала
пробиваться в открытых актах.
На протяжении 70-х годов прошла вереница судебных
процессов над революционерами. Но среди них особое
место занимают два — «процесс 50-ти» (февраль — март
1877 г.) и «процесс 193-х» (18 октября 1877 г. — 23 ян-
варя 1878 г.). Перед судом и обществом предстала целая
1 В. П. Мещерский. Мои воспоминания (1865—1881 гг.), ч. 2.
СПб., 1898, стр. 398.
2 А. П. Прибылева-Корба и В. Н. Фигнер. А. Д. Михайлов,
стр. 127—128.
58
плеяда ярких и непохожих друг на друга выдающихся
личностей, объединенных нитями революционного брат-
ства. «Процесс 50-ти» — это героическая драма, действую-
щими лицами которой были люди, казалось взятые не
из жизни, а созданные могучим воображением худож-
ника. Все сословия и классы русского общества были
представлены здесь, начиная от рабочих (П. Алексеев,
И. Союзов, И. Баринов, В. Грязнов и др.) и кончая круп-
ными дворянами (А. Цицианов, три сестры Субботины
и др.).
Большинство революционеров, представших перед су-
дом, принадлежали к Всероссийской социально-револю-
ционной организации, ядро которой составлял кружок
«москвичей». Они были арестованы полицией в 1875 г.,
продержавшись на революционном поприще менее года,
но то, что они сделали и чем вошли в историю, не изме-
ряется временем.
Члены этой организации видели свою основную задачу
в том, чтобы вести революционную пропаганду и агита-
цию среди фабричных рабочих. Чтобы быть ближе к на-
роду, они, отрицая вообще принцип частной собственно-
сти, все свое достояние передали в распоряжение орга-
низации. Делить страдания и бедствия народа и вместе
с ним искать пути к лучшей жизни — таков был девиз
их жизни. Самоограничение и аскетизм доходили до того,
что каждый «москвич» употреблял только ту пищу, кото-
рая была доступна простому рабочему; женская часть
организации настаивала на безбрачии.
«...До момента революции, — говорил Джабадари,—
мы хотим словом, делом и всем образом жизни располо-
жить к себе не только революционеров, но и широкую ин-
дифферентную массу, а может быть, и врагов своих»1.
До такого самозабвения перед идеей революции не
доходили даже герои романа «Что делать?». Это был наи-
более ярко выраженный революционный утопизм. Клас-
совая точка зрения была абсолютно чужда «москвичам»,
хотя они и ориентировались почти исключительно на ра-
бочих.
В области политической они представляли ярких за-
щитников гражданских свобод, хотя и не выдвигали ни-
каких проектов государственного переустройства. По-
1 «Каторга и ссылка», 1927, № 4 (33), стр. 10.
59
движничество и собственный пример, думали они, все
решат. Вера, безграничная, фанатичная, в торжество ре-
волюции и социализма затмила все остальное. Это была
вера молодой разночинской интеллигенции: подавляющее
большинство «москвичей» были 20—25-летними. Еще
одна особенность «москвичей» обращает на себя внима-
ние: чуть ли не половину организации составляли жен-
щины. Это было то новое и неожиданное, с чем впервые
встретилось общество.
И сами подсудимые, и их товарищи, оставшиеся на
воле, стремились использовать судебный процесс для
проповеди идей свободы и социализма. Наиболее ответ-
ственные речи подсудимых коллективно готовились и
тщательно репетировались. Удачно был подобран и со-
став защитников. Одни из них сочувствовали революцио-
нерам, другие были связаны с ними или разделяли взгля-
ды подсудимых.
Выступления защитников и подсудимых имели гро-
мадный резонанс в обществе и вызывали почти всеобщее
сочувствие. Речи же Алексеева и Бардиной превратились
в огромное политическое событие. Историческое выступ-
ление рабочего Петра Алексеева Ленин назвал великим
пророчеством. Эти речи, напечатанные в подпольной ти-
пографии, широко распространялись по России.
Но чем сильнее было влияние процесса, тем неумо-
лимее держало себя правительство; свидетельство это-
му— жестокий приговор суда: 15 (9 мужчин и 6 женщин)
человек приговаривались к каторжным работам от пяти
до девяти лет. По девять лет каторги получили две жен-
щины— Бардина и Любатович, правда, позднее каторгу
заменили ссылкой.
Трагически сложилась впоследствии судьба членов
«московской» организации: П. Алексеев был убит в Си-
бири; А. Цицианов сошел с ума в харьковском централе;
Бардина бежала из ссылки, но покончила с собой в Же-
неве; покончили с собой также Хоржевская, Каминская,
Завадская и сестра Д. И. Писарева Гребнецкая.
Во время судебного дела «50-ти» смертельно больной
Некрасов передал землевольцам стихотворение, посвя-
щенное «москвичам»:
Искры злобы и бешенства носятся
Над тобою, страна безответная,
Все живое, все доброе косится...
60
СОФЬЯ БАРДИНА (1853—1883)
Какова бы ни была моя участь, я, господа судьи, не прошу у вас
милосердия и не желаю его. Преследуйте нас, как хотите, но я глу-
боко убеждена, что такое широкое движение, продолжающееся уже
несколько лет сряду и вызванное, очевидно, самим духом времени,
не может быть остановлено никакими репрессивными мерами.
«Много нравственных сил должно было скрываться в девушке,
которая в 23 года могла произнести такую речь. Много обещала она
дать в будущем».
Степняк-Кравчинский
Суровый приговор суда не вызвал страха ни в рево-
люционном подполье, ни в обществе. Напротив, сочув-
ствие освободительному движению намного возросло.
Политическая жизнь в стране заметно обострилась. Силь-
нее и настойчивее стали выдвигаться требования гра-
жданских свобод L
Еще не изгладились впечатления от «процесса 50-ти»,
как началось осенью того же 1877 г. новое судебное
дело — «193-х революционеров». По делу о «преступной
пропаганде» в 37 губерниях в 1874 г. было арестовано
около двух тысяч человек. Но правительство испугалось
слишком широкого судебного разбирательства, следствие
было возбуждено лишь против 265 человек.
Следствие шло четыре года как на местах, в губерн-
ских жандармских управлениях, так и в центре. Большой
отклик вызвало это разбирательство, и авторы почти
всех работ сходятся в одном: они убедительно доказы-
вают бесчеловечное отношение правительства к своим
жертвам. Но не только историки и писатели подчерки-
вали это. Даже начальник жандармского управления Мо-
сквы генерал-лейтенант Слезкин указывал на невероят-
ную жестокость к подсудимым. Вот краткое извлечение
из его докладной записки: «Мне известно, что на скамью
подсудимых явятся многие имеющие подобие живых тру-
пов, одним своим появлением могущие возбудить состра-
дание в пользу несчастных и ненависть к власти, их пре-
следующей. Смерть, сумасшествие и болезнь многих из
обвиняемых, несомненно, повлияют на ход самого дела.
Мертвых не судят, а оставшаяся в тени их деятельность
образовала такие пробелы, которые уменьшают важное
значение преступной пропаганды... Преследовать необ-
1 Литература о революционной деятельности «москвичей» и о
«хождении в народ» вообще очень значительна. Но в своем подав-
ляющем большинстве это статьи и книги, вышедшие до середины
30-х годов. В самое последнее время увидело свет несколько интерес-
ных работ. Особого внимания заслуживает монография Б. С. Итен-
берга «Движение революционного народничества, народнические
кружки и «хождение в народ» в 70-х годах XIX в.» (М., 1965), а
также Р. В. Филиппова «Первый этап хождения в народ. 1873—1874»
(Петрозаводск, 1960) и Н. А. Троицкого «Большое общество про-
паганды. 1871—1874 (так называемые «чайковцы»)» (Саратов, 1963)
и его статья «Процесс «193-х»» в кн.: «Общественное движение в по-
реформенной России», стр. 314—335.
62
ходимо, но обращать суд в мучительную пытку — про-
тивно нравственной совести человека»'.
Сейчас нет нужды разбирать мотивы признания Слез-
кина, кстати, зачинателя всего процесса. Но его слова
сами по себе очень красноречивы.
Не менее показательны записки и заметки известного
юриста А. Ф. Кони. В них мы находим данные о количе-
стве привлеченных по политическим делам. По подсчетам
Кони, с 1872 по 1878 г. велось следствие против 2500 че-
ловек. Только в 1877 г. было возбуждено около 950 дел о
«государственных преступлениях».
«Картина, рисуемая ими [этими делами. — М. С.], не
может быть признана утешительной. Она не дает удовле-
творения ни сердцу, жаждущему прежде всего правосу-
дия, ни разуму, дорожащему спокойным достоинством
внутренней политики государства. Она представляет
борьбу, ведомую без ясно сознанной цели и бездушно-
формальными средствами, — борьбу, бесплодность кото-
рой только увеличивает неправомерность употребляемых
в ней приемов... Будущий историк в грустном раздумье
остановится над этими данными. Он увидит в них, быть
может, одну из причин незаметного по внешности, но
почти ежедневно чувствуемого внутреннего разлада ме-
жду правительством и обществом»1 2.
Становится ясным, как революционное подполье могло
реагировать на произвол и жестокость властей. Даже
умеренные люди предлагали себе тот вопрос, который
некогда встал перед цензором николаевского времени
Никитенко: «Боже мой, да где же мы живем?»
«Процесс 193-х» проходил в обстановке напряженного
ожесточения: среди подсудимых были личности выдаю-
щиеся — И. Мышкин, А. Желябов, Д. Рогачев, С. Перов-
ская, М. Муравский, С. Ковалик, С. Синегуб, Ф. Волхов-
ский и многие другие.
Погиб в тюрьме, не дожив до процесса, прекрасный
юноша Михаил Куприянов, поражавший своих товари-
щей и своих слушателей исключительной образован-
ностью, чуткостью и аналитическими свойствами ума.
Близко знавший его Чудновский (член кружка Волхов-
ского) писал:
1 ЦГАОР, ф. 544, on. 1, 1878 г., д. 59, стр. 32.
2 ЦГАОР, ф. 564, on. 1, 1878 г., д. 195, л. 6—7.
63
«...Куприянов буквально поражал меня необычайной
мощью своего ума... 17—18-летний юноша... знал (и как
знал!) гигантское творение К. Маркса чуть не наизусть.
По целым часам он развивал передо мной разные поло-
жения теории Маркса, положительно поражая необыкно-
венной тонкостью анализа и поразительной логичностью
своих выводов... Когда я временами вспоминаю этого
удивительного юношу, я весь переполняюсь умилением к
этой симпатичной личности, чудным метеором пронесшей-
ся по нашей грешной земле; я проникаюсь к его светлой
памяти чувством, граничащим с благоговением. Но в то
же время мое стареющее сердце сжимается жгучей болью
при мучительной мысли: какую колоссальную умствен-
ную силу потеряла в этом юноше наша многострадальная
родина!..»1
На протяжении нескольких месяцев в стенах здания
суда шла упорная борьба. Заключенные обнаружили та-
кую стойкость духа и такое понимание государственных
задач, что, как свидетельствуют современники, временами
казалось, будто обвиняемые и обвинители поменялись
ролями. Среди подсудимых особое место занимает
И. Мышкин2. Его речь представляла собой выдающееся
явление. В ней было убедительно показано, что револю-
ционное движение есть неотвратимый процесс народного
развития. Выступление же интеллигенции соответствует
параллельному движению в народе и составляет «только
отголосок последнего». Революционная интеллигенция
питается соками народного протеста, способствует своей
борьбой освобождению народа, а не придумывает, как
об этом говорит обвинение, предлогов для недовольства
и возмущения.
Мышкин выразил глубокую уверенность, что револю-
ционная борьба увенчается успехом, что рычагом этой
борьбы является социально-революционная партия, цель
которой состоит в том, «чтобы создать на развалинах
существующего буржуазного строя тот порядок вещей,
который удовлетворял бы народным требованиям...».
«Такая цель может быть достигнута путем объединения
1 С. Л. Чудновский. Из давних лет. Воспоминания. М., 1934,
стр. 73.
2 См. В. С. Антонов, И. Мышкин—-один из блестящей плеяды
революционеров 70-х годов. М., 1959.
64
ИППОЛИТ МЫШКИН (1848—1885)
«Я чист перед собой и перед людьми, я всю жизнь отдал на борьбу
за счастье трудового угнетенного народа, из которого мы... вышли.
Верю, новые поколения выполнят то, за что мы безуспешно боролись
и гибли».
Из предсмертного письма
И. Н. Мышкин — «это одна из наиболее ярких, резко очерченных
фигур, чрезвычайно типичных для целого периода русского револю-
ционного движения».
Короленко
5 М. Г. Седов
всех революционных элементов, путем слияния двух глав-
нейших ее потоков: одного, недавно возникшего, но про-
явившегося уже с серьезной силой [в среде интеллиген-
ции], и другого потока — более широкого, более могучего
потока народной революции» *. Знавшие Мышкина и
слушавшие его речь, утверждали, что в нем были зало-
жены те элементы, развитие которых дало бы России мо-
гучего оратора. В. И. Ленин говорил, что таким деятелям,
как Мышкин, Алексеев, Желябов, «доступны политиче-
ские задачи в самом действительном, в самом практиче-
ском смысле этого слова...» 1 2.
После вынесения приговора 23 подсудимых перед от-
правкой на каторгу и в ссылку обратились к товарищам
по убеждениям с политическим завещанием. Этот силь-
ный по целеустремленности и непримиримости документ
произвел на современников огромное впечатление.
«.. .Уходя с поля битвы пленными, но честно испол-
нившими свой долг... — говорилось в нем, — уходя, быть
может, навсегда, подобно Куприянову, мы считаем нашим
правом и нашею обязанностью обратиться к вам, това-
рищи, с несколькими словами... Мы по-прежнему остаем-
ся врагами действующей в России системы, составляющей
несчастье и позор нашей родины, так как в экономическом
отношении она эксплуатирует трудовое начало в пользу
хищного тунеядства и разврата, а в политическом — от-
дает труд, имущество, свободу, жизнь и честь каждого
гражданина на произвол «личного усмотрения». Мы за-
вещаем нашим товарищам по убеждениям идти с преж-
ней энергией и удвоенной бодростью к той святой цели,
из-за которой мы подверглись преследованиям и ради ко-
торой готовы бороться и страдать до последнего вздоха» 3.
Ни многолетнее одиночное заключение, ни приговор
к каторге не устрашили бойцов, а на воле остались люди,
достойные нести дальше знамя освобождения народа. За-
вещание попало в надежные руки.
Но последствия «процесса 193-х» не ограничиваются
этим. Итоги процесса (в совокупности с рядом других
1 «Революционное народничество 70-х годов XIX века». Сборник
документов и материалов в 2-х томах. Под ред. С. С. Волка, т. 1
(1870—1875 гг.). М., 1964, стр. 372, 373.
2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 6, стр. 106.
3 В. Богучарский. Активное народничество семидесятых годов.
М„ 1912, стр. 305—306.
66
факторов) способствовали переходу революционеров от
анархистского аполитизма к признанию необходимости
политической борьбы с самодержавием. Жестокий при-
говор, вынесенный участникам «хождения в народ», поло-
жил начало террористическому направлению в револю-
ционной борьбе. Непосредственным поводом к этому было
следующее: определяя степень наказания, суд вынес хода-
тайство перед императором о смягчении приговора, имея
в виду большой срок заключения обвиняемых до суда.
Шеф жандармов Мезенцев убедил императора «во вред-
ности» такой меры, и ходатайство осталось без послед-
ствий. Известие об этом всколыхнуло общественное мне-
ние. Даже такой крайне разборчивый в выборе средств
борьбы деятель, каким был П. Л. Лавров, вынужден был
призвать молодежь к мести *. Умеренный орган русских
эмигрантов «Общее дело» в сентябре 1877 г. отмечает:
«Нас не удивит, если в настоящее время в России возник-
нет даже общество только с этой целью, чтобы покончить
по системе Линча с треповыми, которые господствуют в
России»1 2. В вышедшей в Женеве брошюре (издана ре-
дакцией «Работника») «Башибузуки Петербурга» содер-
жится тот же призыв.
Обстановка для открытой борьбы со слугами престола
оказалась достаточно подготовленной. Дело оставалось
за поступками. Поскольку треповы и мезенцевы были за-
страхованы от наказания по закону за их злоупотребле-
ния, деятели «Земли и воли» и других организаций ре-
шили наказать их иным путем. Так созрели два поку-
шения— на шефа жандармов и на градоначальника
Петербурга. Но на путь индивидуального террора рево-
люционеры становились крайне осторожно. Прежде всего
им недоставало данных о том, как эти акты будут вос-
приняты обществом, его различными слоями. Процесс
над В. Засулич рассеял колебания и укрепил решимость
идти путем не только обороны, но и нападения. Дело
В. Засулич, несмотря на абсолютную ясность фактиче-
ской стороны, в некотором отношении представляет собой
загадку. Как могло случиться, что правительство допу-
1 См. «Вперед» (Лондон), 1877, № 5, стр. 175; П. Л. Лавров.
Народники-пропагандисты. 1873—1878 гг., изд. 2. Л., 1925, стр. 252—
2 «Общее дело», 1877, № 3.
*
67
стило оправдание Засулич? Обычно при ответе на этот
вопрос ссылаются на официальный правительственный
отчет, где сказано, что, предавая Засулич суду присяж-
ных, правительство преследовало цель проверить суд в
его лояльности и благонадежности. Такого объяснения
оказалось достаточно для Богучарского *. Современный
исследователь революционного движения 70-х годов
Ш. М. Левин причины оправдания Засулич видит в том,
что в составе присяжных заседателей «были люди сред-
него достатка, петербургские обыватели, чиновники, да-
лекие от революции и революционеров. Но и они подда-
лись общему настроению, враждебному царскому деспо-
тизму, произволу царской администрации, и они прошли
через тревоги и разочарования русско-турецкой войны»1 2.
С этим трудно согласиться. Люди, далекие «от рево-
люции и революционеров», скорее способны выполнить
волю правительства, чем стать в оппозицию к нему. Перед
судом предстал преступник необычный. Он покушался на
жизнь не какого-то второстепенного чиновника — Тре-
пов был близким родственником императора (незакон-
норожденный сын Николая I), да и Александр II не
скрывал своего расположения к нему, посетив его вскоре
после ранения. Помимо всего прочего, Трепов имел лич-
ные заслуги в глазах императора. И, несмотря на это, суд
вынес оправдательный вердикт. Объяснение надо искать
прежде всего в том, что к концу 70-х годов образовалась
общая антиправительственная оппозиция, а председатель
суда Кони принадлежал к ней. Причин образования такой
оппозиции много: тут и неудовлетворение либерально-
буржуазных кругов расстройством хозяйства, особенно
финансов; неудачи войны; сильное влияние только что
закончившихся процессов и т. д. Оппозиция, конечно,
была слабой, но на законных основаниях она могла про-
явить себя и проявила в деле Засулич. Решение суда,
следовательно, нельзя считать изолированным эпизодом,
это одно из звеньев в цепи либерального движения. Но
вместе с тем нельзя не учитывать и поведение второй сто-
роны. За следствием над Засулич бдительно следили ее
1 См. В. Богучарский. Активное народничество семидесятых го-
дов, стр. 316—317.
2 Ш. М. Левин. Общественное движение в России в 60—70-е годы
XIX века, стр. 478.
68
ВЕРА ЗАСУЛИЧ (1851—1919)
Откуда-то попалась мне «Исповедь Наливайки» Рылеева и стала од-
ной из главных моих святынь: «.. .есть времена, есть целые века,
когда ничто не может быть прекраснее, желаннее тернового венка».
Он-то и влек к этому «стану погибающих», вызывал к нему горячую
любовь.
«.. .Засулич обладает всем, чтобы сделаться, если можно так выра-
зиться, совестью кружка, организации, партии. Но, великая по сво-
ему нравственному влиянию, Засулич не может быть рассматриваема
как тип влияния политического. Она слишком сосредоточена в себе
самой, чтобы влиять на других. Тот, кто хочет получить от нее какой-
нибудь совет, должен сам пойти к ней за ним».
Степняк-Кравчинский
товарищи. Связи с ней поддерживались через А. Корни-
лову. В кругах революционеров обсуждался вопрос о
предстоящем суде и его последствиях. Шли переговоры с
адвокатами, отыскивались лучшие из них. Первоначально
было решено поручить защиту Бордовскому и Александ-
рову, но затем от двойной защиты отказались. Александ-
ров заявил, что если ему будет оказана честь вести все
дело безраздельно, то он выполнит его с полным созна-
нием ответственности и важности. Можно не без основа-
ния предположить, что аналогичные меры предпринима-
лись и в отношении других лиц.
В дни процесса у здания суда проходила многотысяч-
ная демонстрация. Историческая речь Александрова, в
которой оправдывалась Засулич, а обвинялись Трепов и
самодержавная треповщина, стала известна всей России.
Голоса присяжных заседателей лишь отразили общее на-
строение. Правительство не заметило изменившейся об-
становки, а шеф жандармов Мезенцев просмотрел подго-
товительную работу революционеров, которые обошли его
ищеек, а когда все обнаружилось, не осталось уже вре-
мени для исправления упущений. Приказ об аресте
оправданной Засулич остался невыполненным: ее надеж-
но укрыли, а затем отправили за границу. Процесс был
выигран революционным подпольем. Значение этого фак-
та было огромно. Оправдав Засулич, суд как бы санкцио-
нировал активное направление в революционном движе-
нии. Для всех становилось очевидным, что прямое напа-
дение на слуг правительства получает не только
сочувствие, но и одобрение общества. И именно поэтому
уже весной 1878 г. группой лиц из руководящего центра
«Земли и воли» разрабатывается план устранения шефа
жандармов Мезенцева.
Обычно историческая литература связывает покуше-
ние на Мезенцева с именами Кравчинского, Баранникова
и А. Михайлова, а его непосредственной пружиной счи-
тает дело Ковальского. В действительности положение
было сложнее. Заговор против Мезенцева созревал посте-
пенно, и начало его относится к апрелю или первым чис-
лам мая 1878 г. Вдохновителем его были Ольга Натансон
и А. Михайлов. Что же касается вышеуказанных лиц, то
они являлись исполнителями. Убедиться в этом легко,
если мы вспомним заявление А. Михайлова своим товари-
щам: «Расправа с сидящими в крепости, возмутительная
70
и жестокая, заставившая их голодать около шести
дней... ответственность за что всецело падала на Мезен-
цева, и другие причины дали сильный душевный толчок
Ольге, и она выступила с инициативой отмщения Мезен-
цеву. Это дело принадлежит ей, она вложила душу в это
предприятие» *. Здесь Михайлов говорит только о роли
Натансон. Но в другом письме из заключения он пишет
и о себе: «С другими выследил и организовал мезенцев-
скую попытку...»* 2 Данное указание подтверждалось
многими современниками, и в частности Л. Тихомиро-
вым в его «Воспоминаниях».
4 августа 1878 г. в Петербурге Кравчинский нанес
смертельное ранение шефу жандармов. Никто из участ-
ников покушения и его организаторов не был задержан.
Так был подхвачен пример В. Засулич. Началась упорная
и неравная борьба революционного подполья с прави-
тельством. Но ниспровержения и завоевания власти эта
борьба не преследовала. Ее острие направлялось только
в сторону мщения, запугивания и дезорганизации. Имен-
но поэтому землевольцы не видели и не хотели видеть
в акте нападения на слуг престола политической и госу-
дарственной идеи и не называли эту борьбу политической,
хотя в действительности она была именно такой. Им ка-
залось, что борьба за политические свободы — дело толь-
ко буржуазии, а трудящиеся массы должны стоять в сто-
роне от этого.
В брошюре, выпущенной в связи с убийством Мезен-
цева (написана Кравчинским, а отредактирована А. Обо-
лешевым), находим по этому поводу такие строки: «Мы —
социалисты. Цель наша — разрушение существующего
экономического строя, уничтожение экономического нера-
венства, составляющего, по нашему убеждению, корень
всех страданий человечества. Поэтому политические фор-
мы сами по себе для нас совершенно безразличны» 3.
Почему политические формы безразличны революцио-
нерам? Та же брошюра отвечает несколькими страница-
ми ниже: «Не политическое рабство порождает экономи-
ческое, а наоборот. Мы убеждены, что с уничтожением
’ А. П. Прибылева-Корба и В. Н. Фигнер. А. Д. Михайлов,
стр. 200.
2 Там же, стр. 198.
2 «Убийство шефа жандармов г-на Мезенцева». СПб., 1878, стр. 2.
71
экономического неравенства уничтожится народная ни-
щета, а с нею вместе невежество, суеверие и предрас-
судки, которыми держится всякая власть. Вот почему
мы, как нельзя более, склонны оставить в покое вас, пра-
вительствующие. Наши настоящие враги — буржуазия,
которая теперь прячется за вашей спиной, хотя и ненави-
дит вас, потому, что ей вы связываете руки. Так посто-
ронитесь же! Не мешайте нам бороться с настоящими
нашими врагами, и мы оставим вас в покое» ’.
Ту же мысль о воздержании от политики мы находим
в статьях, публиковавшихся в официальном органе «Зем-
ли и воли» с аналогичным названием. В теории народни-
ков бакунизм был еще очень прочен. Но расширение ра-
мок борьбы вплоть до нападения на правительство уже
свидетельствовало о приближении конца анархистских
взглядов. Активное ведение борьбы с правительством при
отказе от стремлений изменить политический строй ста-
новилось очевидной бессмыслицей. Логика борьбы, сама
жизнь ставили перед революционерами политико-госу-
дарственную проблему в качестве первоочередной. Но для
окончательного понимания этого нужны были еще нема-
лые усилия мысли и практики революционной борьбы.
И прежде всего требовалось приведение в соответствие
объективного значения начавшейся борьбы с субъектив-
ными взглядами на нее, требовалось понять и решительно
заявить, что успех революционного дела невозможен без
овладения политической властью.
Сама идея политической борьбы в русском освободи-
тельном процессе теоретически созрела и была обосно-
вана давно, и главным образом П. Н. Ткачевым. Однако
программами и публицистикой революционных органи-
заций она решительно отвергалась. Больше того, деятели
русского подполья систематически и настойчиво подчер-
кивали свое отрицательное отношение к Ткачеву и его
теориям. Поворот в сторону политической борьбы проис-
ходил, таким образом, не столько от теоретических сооб-
ражений, сколько по причине настоятельных требований
самой жизни.
Первыми политиками в аполитическом движении были
южане Г. Попко, В. Осинский и Д. Лизогуб. Ввиду важ-
ности проблемы крайне интересно проследить путь, ко-
1 «Убийство шефа жандармов г-на Мезенцева», стр. 11.
72
торым шли они от отрицания политики до страстной за-
щиты ее как словом, так и делом.
Григорий Анфимович Попко (1852—1885) испытал на
себе влияние чуть ли не всех течений общественного дви-
жения 70-х годов. Еще будучи учеником семинарии в
Ставрополе, он с увлечением читал статьи Добролюбова,
журналы «Современник» и «Русское слово», тогда же
складываются основы его революционного мировоззре-
ния. В семинарии он входил в кружок, в котором роди-
лась мысль об организации земледельческой коммуны.
Для ее осуществления Попко оставил семинарию и по-
рвал с семьей. Коммуна, однако, просуществовала недол-
го и распалась. Попко уехал в Москву в земледельческую
академию. Здесь он познакомился с нечаевским движе-
нием, но не примкнул к нему. В 1874 г. он уехал из Мо-
сквы и поступил на юридический факультет Новороссий-
ского университета. В Одессе сблизился с Е. Заславским
и вместе с ним стал создателем «Южнороссийского союза
рабочих». Попко был одним из лучших пропагандистов
в рабочей среде. Но главная функция его деятельности
состояла в обеспечении подпольной организации револю-
ционной литературой: он ведал доставкой ее из-за гра-
ницы. Избежав ареста по делу рабочего «Союза», Попко
сумел собрать оставшихся «заславцев» в единый кружок,
членами которого были такие известные впоследствии ре-
волюционеры, как братья Ивичевичи, Г. Иванченко и др.
В этот период резко обострилась полемика между баку-
нистами (бунтарями) и лавристами (пропагандистами),
причем роль первых заметно возрастала. Но Попко еще
находился в лагере пропагандистов, хотя не безусловно
осуждал бунтарей, видя в их деятельности сильные сто-
роны, и прежде всего активность.
1877 год Попко проводит в станице Тимашевке, став к
этому времени по убеждениям народником землевольче-
ского направления. Приехав в Одессу, Попко узнал о
расправе над Боголюбовым в Петербурге — по приказу
Трепова он был подвергнут телесным наказаниям. Это со-
бытие произвело на Попко тяжелое впечатление. Вместе
со своими товарищами бунтарями уже в Киеве в конце
1877 г. он разрабатывает план отмщения Трепову. Оче-
видно, случай с Боголюбовым был последней каплей,
изменившей тактику и мировоззрение Попко. Из против-
ника политической борьбы он превращается в страстного
73
защитника ее необходимости, становясь, таким образом,
одним из зачинателей нового движения. Попко понимал
это движение как активную борьбу с государственной
властью и ее представителями за свободу личности и на-
рода в целом.
Своими мыслями Попко поделился с товарищами по
борьбе В. Осинским и Д. Лизогубом. Биограф и ближай-
ший друг Попко Р. Стеблин-Каменский так рассказывает:
«Попко не мог не видеть, что при конституционном об-
разе правления, предполагающем неотъемлемость неко-
торых прав личности, вряд ли был бы возможен такой
факт, как расправа с Боголюбовым. Далее, для Попко,
как для практического деятеля, и тогда уже было ясно,
что та работа, которая при абсолютизме всецело ложится
на активных работников революции, именно пропаганда
теории социализма, при существовании конституции отой-
дет от них и перейдет к мирным теоретикам, тогда как
настоящие революционеры направят все силы на орга-
низацию среди самого народа, что не могло, конечно, не
быть желательным... Наконец, Попко прямо поставил
перед Лизогубом и Осинским вопрос о терроре как об
орудии и мести, и политического переустройства. И Осин-
ский, и Лизогуб были согласны с Попко, что террор не-
обходим» *.
Попко из Киева едет в Петербург, чтобы личным при-
мером положить начало практической борьбе за поли-
тическую свободу. Он вместе с землевольцами готовит
покушение на Трепова. Почти одновременно В. Засулич
и М. Коленкина также оставили Киев и уехали в столицу
для тех же целей, но вели дело самостоятельно.
Выстрел 24 января 1878 г. В. Засулич в Трепова сде-
лал ненужными приготовления Попко, и он вернулся в
Киев. Между тем именно в Киеве складывался Исполни-
тельный комитет русской социально-революционной пар-
тии, ставивший своей целью возбудить и поддержать ре-
волюционное движение на политической основе. Сильное
студенческое движение в Киевском университете явилось
крупным актом этого направления.
Жандармский следователь барон Гейкинг был инициа-
тором высылки студентов. В ответ на репрессии Исполни-
тельный комитет принял решение об устранении Гейкин-
1 «Былое», 1907, Ns 5, стр. 187.
74
га. 25 мая 1878 г. Попко привел приговор в исполнение.
Гейкинг был убит. В тайной типографии кружка Попко
была отпечатана прокламация, объяснившая мотивы дан-
ного поступка.
Вскоре Попко уезжает в Одессу, где намеревается
принять участие в событиях, связанных с делом Коваль-
ского, но во время встречи с товарищами был арестован,
предан суду и приговорен к вечной каторге.
Уже находясь в заключении, Попко узнал об образо-
вании «Народной воли» и полностью принял программу
ее политической борьбы с царизмом. Путь Попко к идеям
политической борьбы поучителен и сложен, его ступенями
были абстрактный социализм, лавризм и бакунизм.
К тем же целям политической свободы — правда, не
тождественным с Попко путем — шел Валериан Андрее-
вич Осинский (1853—1879), один из лучших представите-
лей революционной молодежи России. Он происходил из
зажиточной дворянской семьи, уже в детстве увлекся
стихами Пушкина и Лермонтова, а затем со страстью
изучал Добролюбова, Писарева и Тургенева.
По окончании гимназии в Таганроге Осинский посту-
пил в институт инженеров путей сообщения в Петербурге.
Как в гимназии, так и в институте обнаружил блестящие
способности, однако карьера инженера его не увлекла,
и он решил посвятить себя общественной деятельности.
Но и здесь Осинский не нашел удовлетворения и поэтому
связывается с революционным подпольем. О. Любатович
писала об Осинском: «.. .как большая часть революцио-
неров 70-х годов, он начал свою деятельность с прекло-
нения перед страданием» *.
В 1875 г. Осинский вошел в кружок лавристов, а в
1876 г. примкнул к кругу лиц, основавших революцион-
ную организацию «Земля и воля», и входил в число орга-
низаторов этого общества, в котором пользовался гро-
мадным авторитетом наряду с М. Натансоном, А. Михай-
ловым и А. Оболешевым. Современники отмечали в нем
необыкновенную смелость, энергию и беззаветную пре-
данность делу, которому он служил: «Это был воин с
мужественным сердцем и сильной рукой. Он любил
опасность, так как чувствовал себя там в своей стихии.
1 «Былое», 1906, № 5, стр. 213.
75
Борьба воспламеняла его своим лихорадочным возбуж-
дением» !.
Несмотря на выдающееся положение в «Земле и
воле», а может быть именно благодаря этому обстоятель-
ству, Осинский не был вполне удовлетворен своей дея-
тельностью. Он все сильнее и сильнее ощущал ограничен-
ность землевольческой программы, исключавшей борьбу
за политические свободы, и одним из первых предлагал
восполнить этот пробел. Изменение взглядов Осинского
можно объяснить общими причинами созревания поли-
тического кризиса, но лично для него характерна неудо-
влетворенность, вызванная «малой производительностью»
революционной деятельности. Старые приемы и методы
уже изжили себя и потому не приближали — так ему
казалось, — а, скорее, отдаляли от цели. Два события —
дело Боголюбова и Чигиринское дело — каждое по-свое-
му ускорили решимость Осинского. Он бесповоротно ста-
новится сторонником политической борьбы, не отказы-
ваясь, понятно, от социалистических идеалов. Однако
взгляды и предложения Осинского не встретили поддерж-
ки землевольцев и были оценены ими как крамольные.
Вскоре Осинский уехал на юг, в Киев, где нашел доста-
точно подготовленными для новой деятельности как об-
щественное мнение, так и людей. Любопытно, здесь идеи
борьбы за гражданские права разделялись многими круп-
ными деятелями пропагандизма («башенцы»1 2 и кружок
киевских бунтарей). «Но душою этого нового, нарождав-
шегося в ту минуту течения, получившего название «тер-
рористического», несомненно, оказался Осинский»3.
Политическая борьба мыслилась Осинским не как от-
каз от задач социальной революции, а прежде всего сво-
дилась к созданию наиболее благоприятных условий для
нее: нужно в первую очередь завоевать гражданские сво-
боды, а затем уже думать о революции экономической.
Формами политической борьбы могут быть, по мнению
Осинского, вооруженное сопротивление, демонстрации,
отстаивание прав на существование кружков и организа-
1 С. Степняк. Подпольная Россия. СПб., 1905, стр. 69.
2 «Башенцы» — группа революционеров Одессы пропагандист-
ского направления; свое название получили от слова «башня», где
происходили их собрания.
3 Вл. Дебагорий-Мокриевич. Воспоминания, изд. 3. СПб., 1906,
стр. 319.
76
ций, решительная борьба с беззаконием и суровое нака-
зание наиболее усердных слуг престола. На каждый удар
правительства отвечать ударом не меньшей силы — так
обосновывалось террористическое направление в револю-
ционном движении. В начале 1878 г. вокруг Осинского
складывается Исполнительный комитет. В его состав вхо-
дили помимо Осинского Г. Попко, Д. Лизогуб, братья
Ивичевичи, И. Волошенко, А. Медведев (Фомин), В. Сви-
риденко (Антонов) и др.
Возникновение Исполнительного комитета в качестве
самостоятельной организации представляло собой не
только оппозицию преобладавшему течению революцион-
ного движения, но и означало своеобразный вызов ему.
Опорными пунктами деятельности комитета были города
Киев, Одесса, Харьков. Комитет не имел разработанной
и обоснованной программы, но зато руководствовался
планом действий, выдержанным в определенном направ-
лении. Суть этого плана сводилась к тому, чтобы, не те-
ряя напрасно времени, немедленно начать боевые выступ-
ления против правительства. Первыми шагами комитета
были: организация освобождения из киевской тюрьмы
руководителей Чигиринского дела, устранение провока-
торов, подготовка покушений на товарища прокурора
Котляревского, прославившегося невероятной жестоко-
стью, и жандармского офицера Гейкинга. Во всех этих
актах прямо или косвенно участвовал Осинский.
1 февраля 1878 г. в Ростове-на-Дону И. Ивичевичем
был убит шпион Никонов; 23 февраля 1878 г. в Киеве
Осинским, Медведевым, Ивичевичем было совершено не-
удачное покушение на Котляревского; 25 мая 1878 г. убит
Гейкинг; 27 мая того же года М. Фроленко, поступивший
надзирателем в киевскую тюрьму, вывел на свободу
Я. Стефановича, И. Бухановского и Л. Дейча. Имели ме-
сто и другие, менее значительные акты. Имя Исполнитель-
ного комитета — а от него исходили прокламации по по-
воду каждого события — приобрело широкую известность
и наводило страх на правительство. О революционерах
заговорили как о силе, способной постоять за свои инте-
ресы. Начавшаяся открытая борьба с правительством
ясно указывала на ее направление — завоевание полити-
ческих свобод.
Члены Исполнительного комитета делают попытку
объединить свои силы с либералами для совместной борь-
77
бы за конституцию. Начались переговоры, в которых
главную роль играл Осинский.
Однако очень скоро стало очевидным, что либералы
не подготовлены для серьезных действий. Выдвинув усло-
вием соглашения прекращение террористической деятель-
ности, они оказались неспособными предпринять сколько-
нибудь существенное давление на правительство.
Плодотворно начавшаяся революционно-политическая
деятельность Осинского продолжалась недолго. 26 января
1879 г. он был арестован в Киеве, предан суду и казнен
14 мая 1879 г. вместе со Свириденко и Брайтнером. А. Ми-
хайлов описывает обстановку, в которой происходили
военный процесс и казнь: «.. .я уехал в начале мая в Киев
из С.-Петербурга и прибыл туда во время политических
процессов. Я Киева не узнал. Не потому, чтобы он изме-
нился по наружному виду зданий и улиц. Я никогда не
видал города, занятого неприятелем, но другого пред-
ставления, чем то, которое я получил при въезде, я не
могу себе составить о таком случае. Вокруг военно-окруж-
ного суда по крайней мере на полверсты местность совер-
шенно пустынна... Через улицы протянуты веревки, обе-
регаемые часовыми и казаками. Вдоль по Бибиковскому
бульвару казачьи пикеты, а в некоторых местах стоянки.
По всему городу расхаживают патрули и разъезжает кон-
ница. .. Тяжелое, острое чувство возбуждали эти карти-
ны. В них была видна жажда устрашения и разнесения
острием меча... Боязнь и недоверие ко всему окружаю-
щему вызвали такие меры...» 1
Начальник киевского жандармского управления пол-
ковник Новицкий сообщает в III отделение о событиях
14 мая 1879 г.: на месте казни присутствовали «полк пе-
хотный, полк казачий и резервный батальон. Публики
было до трех тысяч, преимущественно из простого на-
рода» 2.
Генерал-губернатор Чертков, продолжает полковник,
получил много угрожающих писем, в которых требовали
освобождения Осинского. Ему говорили, что если он под-
пишет смертный приговор, то тем самым подпишет его
самому себе: «Смерть за смерть».
1 А. П. Прибылева-Корба и В. Н. Фигнер, А. Д. Михайлов,
стр. 132.
2 ЦГАОР, ф. III отд., оп. 3, 1879 г., д. 115, ч. 2, л. 21.
78
П. Л. ЛАВРОВ (1823—1900)
На первое место мы ставим положение, что перестройка русского
общества должна быть совершена не только с целью народного
блага, не только для народа, но и посредством народа.
П. Л. Лавров стоял, «как могучий кряжистый дуб, «светоч, возжен-
ный на верху горы», до самой своей смерти окруженный почтением
и симпатиями русских и иностранных социалистов, шедших к нему за
участием, советом и посильной помощью и никогда не встречавших
отказа в этом со стороны этого несокрушимого человека долга и
идеала...»
Л о пат ин
Правительство намеревалось терроризировать и напу-
гать революционеров и общество; революционеры же, на-
против, стремились доказать тщетность этих усилий и
разуверить власти в том, что насилие может быть все-
сильным.
Валериан Осинский оставил завещание товарищам, в
котором призывал продолжать новый курс борьбы и идти
наметившимся путем без колебаний.
«Мы ничуть не жалеем о том, что приходится умирать,
ведь мы же умираем за идею, и если жалеем, то един-
ственно о том, что пришлось погибнуть почти только для
позора умирающего монархизма, а не ради чего-либо
лучшего и что перед смертью не сделали того, чего хо-
тели. Желаю вам, дорогие, умереть производительнее
нас... Мы не сомневаемся в том, что ваша деятельность
теперь будет направлена в одну сторону... Ни за что
более, по-нашему, партия физически не может взяться.
Но для того чтобы серьезно повести дело террора, вам
необходимы люди и средства» Ч
Так пришел к идее политической борьбы В. Осинский.
Он начинал свой путь с «хождения в народ», стал одним
из основателей «Земли и воли» и был верен программе и
тактике землевольчества, но довольно скоро обнаружил,
что воздержание от политики вредно отражается на раз-
витии освободительного движения. Осинский был одним
из первых, кто понял, что первоочередной задачей рус-
ского революционного движения была задача завоевания
политических свобод для народа. И на осуществление ее
он отдал все свои силы и жизнь.
Рядом с Осинским постоянно был Дмитрий Андреевич
Лизогуб (1850—1879), его близкий друг и соратник по
борьбе. Это крайне своеобразная личность, с особым по-
ложением в революционной организации. Выходец из
дворян Черниговской губернии, после смерти родителей
он унаследовал громадное состояние, которое передал
подпольной организации для ведения революционной
борьбы.
В революционное движение Лизогуб вошел в начале
70-х годов, его мировоззрение складывалось в годы обу-
чения в гимназии и особенно в Петербургском универси-
тете под сильным влиянием нелегальной литературы раз-
1 «Революционная журналистика семидесятых годов». Ростов-на-
Дону, 1907, стр. 305.
80
личных направлений и конкретных условий общественной
жизни. Определенное воздействие, безусловно, оказали
поездки за границу, знакомство с русской политической
эмиграцией. Первым значительным актом подпольной
деятельности Лизогуба явилась его связь с журналом
Лаврова «Вперед». Позднее он входил поочередно в
кружки Фесенко и Жебуневых, а затем стал одним из
учредителей «Земли и воли». Землевольцы оберегали
Лизогуба от практических боевых дел, так как крайне
нуждались в его материальной помощи, которая прекра-
тилась бы с его арестом. Тем не менее Лизогуб находился
под наблюдением III отделения.
С конца 1877 или в начале 1878 г. в политическом
мировоззрении Лизогуба происходит резкий перелом: из
защитника бунтарской программы он становится ее кри-
тиком и вместе с Осинским и Попко создает Исполнитель-
ный комитет. Но по-прежнему Лизогуб остается в сто-
роне от практических боевых дел, отдавая, однако, много
сил популяризации «нового курса» борьбы. Вот портрет
Лизогуба, нарисованный Степняком-Кравчинским: «Под
внешностью спокойной и ясной... в нем скрывалась душа,
полная огня и энтузиазма. Для него убеждения были
религией, которой он посвящал не только всю свою жизнь,
но, что гораздо труднее, каждое свое помышление: он ни
о чем не думал, кроме служения делу» L
Осенью 1878 г. Лизогуб был арестован по делу Чуба-
рова в Одессе. Следственные органы не имели в отноше-
нии него сколько-нибудь серьезных обвинений, и каза-
лось, что этот арест не будет иметь значительных послед-
ствий. Получилось другое: военно-окружной суд при-
говорил Лизогуба к смертной казни и 10 августа 1879 г.
приговор был приведен в исполнение. Решающее значе-
ние в данном случае сыграли показания предателей
Дриго и Курицына. Лизогуб был обвинен в связи с Чу-
баровым и Осинским, в предоставлении средств на Чи-
гиринское дело и террористические акты последнего вре-
мени. Кроме того, Курицын показал, что Лизогуб поль-
зовался большим авторитетом в революционном мире и
постоянно говорил «о необходимости строгой органи-
зации в кружках с характером централизации»2.
1 С. Степняк. Подпольная Россия, стр. 80.
2 ЦГАОР, ф. III отд., 3 эксп., 1879 г., д 641, л. 9 об.
6 М. Г. Седов
81
Дмитрий Лизогуб прошел все стадии народнической
борьбы 70-х годов. Итогом исканий явилась политическая
свобода как главнейшее и неизбежное средство решения
задач социальных.
Таковы инициаторы революционно-политического дви-
жения на юге России. Было немало и других страстных
поборников революции и политической свободы. Совре-
менники особенно указывают на И. Волошенко: «.. .одна
из самых умных и светлых голов среди революционеров.
Недаром один из профессоров истории — не то Леонто-
вич, не то Антонович, — заявил на суде, что в лице обви-
няемого Волошенко русская наука теряет выдающегося
ученого»
Итак, по инициативе Осинского и его близких товари-
щей возникает на юге России Исполнительный комитет,
новая революционная организация, взявшая на себя
почин эмпирическим путем доказать возможность изме-
нения курса революционной борьбы. Изменения своди-
лись к признанию важности для народа завоевания поли-
тических свобод. Эта организация не есть фракция «Зем-
ли и воли», действовавшая на юге. Исполнительный
комитет по существу новое явление в революционном дви-
жении, имеющее принципиальные отличия от землеволь-
чества вообще.
Создание Исполнительного комитета не являлось ре-
зультатом утверждения новых теоретических доктрин. Он
возник из практической необходимости — как проба сил,
как политический эксперимент1 2, в основе его лежит разо-
чарование в результатах «хождения в народ». Инициа-
торами нового направления явились землевольцы, и одно
уже это обстоятельство указывает на то, что нельзя при-
давать слишком большое значение тому, что Исполни-
тельный комитет возник и действовал на юге России.
Политическое направление рождалось ходом всего обще-
российского революционного движения, а не отдельных
губерний.
Новое движение оказалось более мощным, несравнимо
более опасным для правительства в целом, а не только
1 О. В. Аптекман. Из истории революционного народничества.
«Земля и воля» 70-х годов (по личным воспоминаниям). Ростов-на-
Дону, б. г., стр. 143.
2 См. 77. С. Ткаченко. Революционная народническая организация
«Земля и воля». М., 1961.
82
для отдельных его слуг, подвергавшихся непосредствен-
ной опасности нападения. Это обстоятельство сразу по
достоинству было оценено как революционной средой,
так и самим правительством. Уже в середине июля 1878 г.
по высочайшему повелению создается Особое сове-
щание под председательством министра государствен-
ных имуществ (в составе министров: военного, юстиции,
внутренних дел — и начальника III отделения) для
борьбы с Исполнительным комитетом, избравшим «теа-
тром своих действий преимущественно Киев, Харьков и
Одессу»
После продолжительного обсуждения вопросов о при-
чинах революционного движения и мерах по его искоре-
нению Особое совещание 28 июля 1878 г. вынесло реше-
ние: увеличить материальные средства жандармерии и
полиции и расширить их штат; усилить строгости по со-
держанию политических преступников в местах заключе-
ния; изменить систему надзора над ссыльными; произво-
дить систематическую проверку частных типографий,
оберегать полицию от нападок печати и т. д.
Как в этом постановлении, так и в других аналогич-
ных правительство исходило из той мысли, что «искоре-
нить» революционное движение можно и нужно только
мерами жестокости. Задача правительства — вызвать
страх в обществе и революционной среде, народ же при-
мет любую политику, которая будет ему предложена. Та-
ков официальный взгляд на политику и народ.
Несколько позже в записке министерства внутренних
дел на имя императора этот взгляд находит наиболее яр-
кое выражение. Перечислив известные факты террори-
стических нападений, записка отмечает тревожное поло-
жение страны: «зло растет ежечасно», вредные люди рас-
сеяны по всей стране, бегство из мест заключения и
ссылок возрастает. Необходимы решительные меры.
«Против террора, при помощи коего злоумышленники
предположили обессилить правительство, необходимо су-
губое воздействие, которым было бы доказано, что пра-
вительство обладает достаточной силой, чтобы остановить
развитие тлетворных начал, охвативших известную среду
общества» 1 2.
1 ЦГИА, ф. 1282, on. 1, д. 416, л. 1.
2 Там же, л. 8.
83
С террористами, продолжает записка, нельзя обра-
щаться по закону, «нужны меры чрезвычайные и дей-
ственные». Теперь «не время думать о суде»: «попираю-
щие закон должны быть поставлены под действие исклю-
чительного закона».
Особое внимание уделялось студентам, которых рас-
сматривали как главную силу возбуждения общества и
крамолы. Против студенчества рекомендовался целый
ряд мер L
Вместе с Исполнительным комитетом в развитии поли-
тического направления революционной борьбы важное
место принадлежит крупному революционеру конца
70-х годов Дмитрию Буцинскому и его кружку харьков-
ских студентов. То обстоятельство, что с момента обра-
зования «Народной воли» основные силы подполья Харь-
кова присоединились к ней, нельзя считать случайным.
Когда в сентябре 1879 г. в Харьков прибыл Желябов с
целью пропаганды народовольчества и организации мест-
ных сил в интересах партии, он нашел там очень благо-
приятную обстановку и его выступления в среде учащейся
и рабочей молодежи пользовались большим успехом.
Почва для восприятия идей политической борьбы оказа-
лась подготовленной. И в этом заслуга Буцинского, вско-
ре ставшего одной из главных фигур «Народной воли» на
юге России1 2.
Дмитрий Тимофеевич Буцинский происходил из ду-
ховной семьи. Родился в 1855 г. в городе Фатеже, Курской
губернии. Учился в духовном училище, а затем в белго-
родской духовной семинарии. По окончании семинарии
поступил в Харьковский университет на медицинский фа-
культет. В семинарии и особенно в университете поль-
зовался большой популярностью и уважением среди уча-
щихся, отличался особым прилежанием в изучении обще-
ственных наук, серьезностью суждений и постоянством
1 ЦГИА, ф. 1282, д. 416, л. 26.
2 Литература о Буцинском и его окружении крайне мала, а его
политические взгляды не изучены. См. о нем: М. Попов. К биографии
Буцинского («Каторга и ссылка», 1923, № 5); его же. Из моего про-
шлого («Минувшие годы», 1908, № 2); его же. Военный суд в Киеве
в 1880 году («О минувшем». Исторический сборник. СПб., 1909);
77. И. Торгашев. Воспоминания народовольца. 1878—1883 гг. («Голос
минувшего», 1914, № 2); В. Широкова. Возникновение народоволь-
ческой организации в Харькове («Из истории общественной мысли
и общественного движения в России». Саратов, 1964).
84
взглядов. В бурное время студенческой жизни конца
1877 и начала 1878 г. Буцинский становится вожаком
землячества. Самым, пожалуй, примечательным фактом
этого периода в жизни Буцинского было то, что все сту-
денческие волнения и протесты он рассматривал как
школу выработки характера, как ступень для дел боль-
ших, выходящих за пределы интересов университетской
корпорации. В целях служения этому большому обще-
ственному делу он организует кружок.
Первоначально кружок Буцинского был строго сту-
денческим. Он возник в результате слияния двух земля-
честв студентов Харьковского университета — курского и
полтавского. Один из членов этого кружка, В. С. Ефре-
мов, вспоминал впоследствии: «Столкнула нас студенче-
ская среда, объединило революционное движение того
времени» Ч
Напряженное и беспокойное время переживала тогда
молодежь России. Большие политические процессы сме-
нялись один другим. В течение только 1877 г. разбиралось
три крупных открытых судебных дела (об участниках
Казанской демонстрации, «процесс 50-ти» и «процесс
193-х»).
Факты революционных выступлений на севере России
находили своеобразное толкование на юге. Так, по мне-
нию Буцинского, Казанская демонстрация в декабре
1876 г. была первой попыткой «улучшения политических
форм» государства. Жестокая расправа с ее участниками
поставила перед молодежью задачу отыскания иных
средств противодействия правительству. Поиски новых
путей шли по различным направлениям. Массовые аресты
середины 70-х годов и особенно суровые приговоры по
политическим делам заставили подумать о судьбе заклю-
ченных. Прежде всего вспомнили о Чернышевском. Сту-
денты Харькова и Одессы решили широко отметить 50-ле-
тие со дня его рождения. Предполагалась организация
массовых демонстраций. В апреле 1877 г. Буцинский и
его товарищи по университету образовали общество для
помощи ссыльным. В нем было до 20 человек. Средства
(ежемесячные поступления равнялись 100—150 руб.) шли
как для организации побегов из мест заключения, так и
для непосредственной помощи осужденным.
1 «Былое», 1907, № 5, стр. 82.
85
Несколькими месяцами спустя образуется новый кру-
жок с целью изучения революционного движения на За-
паде и в России. Сохранилось воспоминание самого Бу-
цинского о сходках этих кружков: «Читались рефераты
о крестьянских войнах в Германии, о Великой француз-
ской революции... Другой кружок... занимался разъяс-
нением вопросов... хода истории, борьбы партий. Эти
оба кружка существовали недолго, но благодаря им мо-
лодежь перезнакомилась друг с другом, узнала умствен-
ное развитие друг друга. Начались толки о более рацио-
нальном способе ведения пропаганды среди интеллиген-
ции, рабочих и народа» L
Первоначальное ядро кружка Буцинского составили
Дм. Буцинский, Р. Стеблин-Каменский, Н. Сажин,
А. Преображенский, Н. Яцевич и В. Ефремов. «Наш кру-
жок,— писал В. С. Ефремов, — возник и закончился в
периоде безвременья, когда интеллигенция разочарова-
лась в хождении в народ, в мирной идейной пропаганде
и нащупывала новые формы»1 2. С самого возникновения
кружок развивался на строго конспиративных началах,
хотя и не имел утвержденного устава. Главное направ-
ление деятельности — пропаганда среди рабочих, интел-
лигенции, учащейся молодежи и отчасти крестьян. Про-
паганда велась в форме бесед, чтения и распространения
подпольных изданий. Насколько сознательно шла вся
эта работа, свидетельствует записка Буцинского, состав-
ленная им в заключении в начале 1880 г. Это очень важ-
ный документ, крайне своеобразно описывающий поло-
жение России конца 70-х годов и поиски революционной
теории и тактики.
Прежде всего обращает на себя внимание глубокое
понимание Буцинским исторического момента: «В настоя-
1 ЦГАОР, ф. III отд., 3 эксп., 1873 г., д. 718, ч. 2, л. 149. Записка
Д. Буцинского частично опубликована в кн. «Революционное народ-
ничество 70-х годов XIX века». Сборник документов и материалов
в 2-х томах. Под ред. С. С. Волка, т. II. 1876—1882 гг. М.—Л., 1965,
стр. 125—136.
2 «Былое», 1907, № 5, стр. 97. Ефремов недолго оставался в
кружке, его арестовали за попытку освобождения из харьковской
тюрьмы Медведева (Фомина), поэтому он не мог дать полных све-
дений о развитии кружка. Верно охарактеризовав период возникнове-
ния кружка, Ефремов неверно говорит о том, когда он перестал
существовать. Кружок прекратил свою деятельность не в «безвре-
менье», а во время народовольчества, влившись в «Народную волю».
86
щее время Россия переживает критический, переходный
момент в своей жизни... Целый ряд студенческих волне-
ний, тайные общества, охватившие всю Россию, постоян-
ные крестьянские волнения, народный бунт в г. Харькове,
Ростове и т. д.— все это заставляет задуматься каждого
русского, думающего о своей родине, желающего добра
России» L Такое критическое, предреволюционное состоя-
ние страны, продолжает Буцинский, не есть что-то слу-
чайное, оно подготовлено предыдущим развитием. «Опыт
истории говорит, что раз существуют условия, порождаю-
щие недовольство в обществе, то проявление недоволь-
ства постоянно замечается до тех пор, пока не изменятся
условия; когда известные государственные формы отжили
свой век, тогда в обществе начинает проявляться недо-
вольство в виде заговоров разных тайных обществ, вол-
нений учащейся молодежи, бунтов и т. д. до тех пор, пока
или само правительство не изменит отживших форм, или
революция не уничтожит их и не заменит другими»1 2.
Вот как рисуется Буцинскому развитие революцион-
ных идей в России в его время. До середины 70-х годов
все социалисты были уверены в скором торжестве своей
веры. «Все студенты-социалисты положительно были уве-
рены, что скоро идеи социализма будут проведены в
жизнь и что вот-вот наступит царство добра и истины.
Я глубоко верил в это и ни от кого не слыхал возраже-
ния» 3.
Эта вера, однако, вскоре была подорвана неудачами
«похода в народ». Начались споры и появились разно-
гласия. Стали осуждаться не только методы пропаганды,
но и ее предмет, т. е. идеи социализма. «Большая часть
молодежи начала скептически относиться к «хождению в
народ», самый социализм считать чем-то чуждым, непри-
годным русскому народу, так как на Западе социализм
являлся необходимым результатом пролетариата, между
тем как у нас в России условия совершенно другие»4.
Для революционеров Севера такой взгляд считался бы
отступничеством. Ведь именно Россию они считали стра-
ной, наиболее близко стоящей к восприятию социалисти-
ческого учения. Буцинский и его единомышленники ду-
1 ЦГАОР, ф. III отд., 3 эксп., 1879 г., д. 718, ч. 2, л. 136.
2 Там же.
3 Там же, л. 143 об.
4 Там же, л. 146, 146 об,
87
мают иначе: для социализма мы еще не подготовлены.
Буцинский не развивает мысль о росте пролетариата и
его борьбе, но совершенно четко указывает на необхо-
димость завоевания гражданских свобод и на то, что
России не избежать фазиса политических преобразова-
ний, прежде чем взяться за что-нибудь другое.
Мы уже видели, как Буцинский оценивал Казанскую
демонстрацию. Под углом зрения борьбы за политиче-
ские свободы смотрит он и на процессы «50-ти» и «193-х»,
отмечая особое влияние на молодежь выступлений Барди-
ной, Алексеева, Здановича и Мышкина. «Речь Мышкина
читалась в сборной зале университета толпами студен-
тов, в аудиториях — одним словом, я не знаю, был ли
хотя один студент, который не читал этой речи» \
Особое внимание Буцинский уделяет тем фактам борь-
бы, которые непосредственно указывают на прямой про-
тест против произвола царской власти. Так, подробно
описав «боголюбовскую историю», он подчеркивает, что
она вызвала целый поток студенческого движения. Во
всех университетских городах началось составление пе-
тиций на имя министра юстиции Палена как проявление
чувства негодования к беззаконным действиям властей.
Оградить достоинство человеческой личности от произ-
вола— вот что тогда волновало молодежь. В Харькове
под петицией подписалось 400 человек. Январь и фев-
раль 1878 г. ознаменовались «лихорадкой студенческих
сходок». В такой благоприятной обстановке произошло
покушение Засулич на Трепова, которое в Харькове было
воспринято как явление «чисто политического характера».
То же самое следует сказать о публицисте Драгоманове.
Его брошюры «Внутреннее рабство и война за освобожде-
ние», «Турки внутренние и внешние», «Кто наши враги»
и т. д. рассматривались как прямой призыв к требова-
ниям конституции. «Воюя за освобождение славян и да-
вая освобожденным возможность учреждать у себя кон-
ституционное правление, Россия в то же время пресле-
дует молодежь за идеи. Для молодежи это противоречие
казалось необъяснимым. Думали, что по окончании войны
и в России будет дана конституция»1 2.
1 «Революционное народничество 70-х годов XIX века», т. II,
стр. 130.
2 Там же, стр. 131,
88
Подавляющая часть молодежи желала политических
преобразований. Это относится не только к Харькову, но
и к Одессе, Киеву. Между социалистами этих городов
в начале 1879 г. установились постоянные контакты, что
дало некоторую самостоятельность югу в ведении рево-
люционного дела: юг самостоятельно, независимо от Пе-
тербурга, выписывал из-за границы книги, типографские
принадлежности, думал завести свой орган и т. п.
Южане были довольны такой самостоятельностью,
но, как вскоре обнаружилось, дробление революционных
усилий не могло сулить успеха делу. Правительство до-
вольно легко подавило все революционные акты юга, не
имея прямых выступлений на севере. Ускоряя отход от
аполитизма землевольцев своими актами политической
деятельности, революционеры опережали развитие собы-
тий и этим как бы обессиливали себя. Но пока это еще
не было осознано. Осень 1878 г. характерна для Харькова
крупными волнениями студенчества. Предлогом для них
стало дело профессора ветеринарного института Журав-
ского, оскорбившего студента. Начались сходки. Студен-
ты требовали удаления профессора, начальство обвинило
студентов в неуважении к преподавательскому составу
и отказалось выполнить их претензии. Студентов-ветери-
наров поддержал университет. И там, и здесь занятия
прекратились. Буцинский об этом инциденте писал: «Сту-
денчество дорожит хорошими профессорами; нанести
оскорбление хорошему профессору — это факт неслыхан-
ный; хороший профессор может требовать точного зна-
ния предмета, преследовать за непосещение лекций, и
студенты не обижаются; но когда какая-нибудь научная
дрянь начнет репрессивными мерами заставлять посе-
щать лекции, тогда студенчество решается прогнать этого
профессора во что бы то ни стало»
Па одну из общих студенческих сходок явился губер-
натор князь Кропоткин. Он приказал студентам разой-
тись, угрожая применением силы. С ним было 200 каза-
ков. Студенты в свою очередь попросили объяснить при-
чину вызова казаков. Объяснение последовало действием:
казаки пустили в ход нагайки. Так произошло избиение
студентов казаками 14 декабря 1878 г. Этому событию
1 «Революционное народничество 70-х годов XIX века», т. И,
стр. 133.
89
суждено было сыграть крупную роль. Молодежь не могла
смириться. Становилось очевидным, что легальным пу-
тем ничего не достигнешь. Многие изъявили желание
оставить учебу и встать на путь нелегальной борьбы. Кру-
жок Буцинского приобрел необычайный авторитет и силу,
установил связи с Одессой и Киевом. Совместно разра-
ботали план покушения на Кропоткина. Так создались
условия для террористического движения. Убийство Кро-
поткина, как утверждает Буцинский, вызвало всеобщую
радость студенческой молодежи.
Данный и ему подобные террористические акты имели
для Буцинского один смысл — принудить Александра II
даровать России конституцию.
Исходя из этого, он и его единомышленники не хотели
распространять террор на императора. Им казалось, что
нападением на императора революционеры ослабят или
даже подорвут свое влияние как на массы народа, так
и на либеральное общество. Вот почему они осуждали
покушение Соловьева на Александра II. Но ход событий
заставляет Буцинского сделать вывод: «.. .общее течение
по этому пути было до того сильно, что повернуть на дру-
гой путь нет возможности, стать в сторону от движения
считали за бесчестие. Видя гибель молодежи, мы реши-
лись насколько возможно повести дело иначе: предоста-
вить заниматься террором тем, кто желает, не ставить
его в свою программу; заняться исключительно подгото-
вительною работою для политической борьбы; молодежь
оставить в стороне, чтобы она продолжала образование
и совершенно обособилась от лиц, ведущих борьбу; орга-
низовать партию из лиц, занимающих определенное поло-
жение, и самим занять определенное положение; заня-
лись было подготовительною работою для устройства ти-
пографии, чтобы основать свой орган самостоятельный» !.
Сочувствие такому плану, как видно, было большим.
Буцинский утверждает, что политическая партия юга на-
считывала несколько сот человек и тысячи сочувствую-
щих. Партия имела капитал не менее 50 тыс. руб., что
обеспечивало ее расходы на протяжении полугода. Од-
нако события роковым образом развивались только в тер-
рористическом направлении и все остальное поглощалось
1 «Революционное народничество 70-х годов XIX века», т. II,
стр. 136.
90
М. А. БАКУНИН (1814—1876)
Искать своего счастья в чужом счастье, своего собственного достоин-
ства в достоинстве всех меня окружающих, быть свободным в сво-
боде других, — вот моя вера, стремление всей моей жизни. Я считал
священным долгом восставать против всякого притеснения, откуда
бы оно ни происходило и на кого бы ни падало.
«Его рельефная личность, его эксцентрическое и сильное появление,
везде, в кругу московской молодежи, в аудитории берлинского уни-
верситета, между коммунистами Вейтлинга и монтаньярами Косси-
дьера, его речи в Праге, его начальство в Дрездене, процесс, тюрьма,
приговор к смерти, истязания в Австрии, выдача России, где он
исчез за стенами Алексеевского равелина, — делают из него одну из
тех индивидуальностей, мимо которых не проходит ни современный
мир, ни история. В этом человеке лежал зародыш колоссальной дея-
тельности, на которую не было запроса».
Ге р це н
этим. В условиях отсутствия непосредственной борьбы
народных масс активные элементы революционного под-
полья становились террористами. «Будь баррикады,—
с горечью восклицал Буцинский, — я бы пошел сражаться
на них, несмотря на смерть, так почему же бояться
повешения!» 1 Вся беда в том, что нет баррикад, а без них
одно из двух: либо отойти от всего, либо бороться на-
личными силами и стихийно возникшими формами. Для
тех, кто всерьез встал на путь борьбы с царизмом, вы-
бора уже не было. Стать против течения означало почти
то же, что отойти от всего дела. Уехать из России не
хотелось, так как «кто же здесь-то будет вести работу».
«Я бы хотел мирного, но постепенного прогресса России,
но я предпочитаю революционный переворот реакции...
Молодежь не жалеет, что она должна доставлять столько
жертв; она убеждена, что эти жертвы скоро или нет при-
несут счастье России... Мое единственное желание — ви-
деть Россию вышедшей из настоящего положения или
умереть»2. Подобно тому как молодежь в начале 70-х го-
дов глубоко верила в то, что скоро наступит царство
социализма, точно так же теперь выражается вера в тор-
жество свободы в России, опираясь на которую можно
думать о социализме. Вера в изменение условий жизни
России осталась незыблемой, но ее содержание значи-
тельно обогатилось. Старые формулы абстрактного со-
циализма были оставлены, на первый план выдвинута
идея завоевания политических свобод. Переломным мо-
ментом, отделяющим один этап движения от другого, Бу-
цинский называет 1878 год. Перелом, по его мнению, был
характерен для всей России и его кружка в частности.
На исходе 1878 и в начале 1879 г. в Харьков прибыли
Е. Ковальская, В. Жебунев, И. Глушков, П. Теллалов
и др. Это было большое пополнение подполья Харькова.
К этому времени и кружок Буцинского намного возрос
по численному составу, имея в своих рядах не менее
30 человек. На некоторых промышленных предприятиях,
во всех учебных заведениях, а также среди интеллиген-
ции было немало сочувствующих. На даче доцента
И. С. Сыцянко были организованы типография и склад
запрещенной литературы. Пропаганда велась довольно
1 ЦГАОР, ф. III отд., 3 эксп., 1879 г. д. 718, ч. 2, л. 168,
2 Там же, л. 171—172.
92
широко. Создавались кружки саморазвития, задумано
было создание клуба. Строгой организационной струк-
туры кружок, видимо, не имел, но идейное единство его
не подлежит сомнению. Стремление к свободе сплачивало
людей. Кружок располагал значительными средствами
и устойчивыми источниками покрытия денежных расхо-
дов. Материальными средствами ведал И. Глушков, а
сбором пожертвований — В. Тихоцкий. После неудачного
покушения Соловьева многие революционеры стали пере-
ходить на нелегальное положение. Потребовался отдел
по изготовлению паспортов и других документов. Этой
«канцелярией» ведали К. Филиппов, И. Кашинцев. Фи-
липпов же распоряжался и библиотекой, в которой хра-
нилось много изданий русской и заграничной прессы.
Однако вскоре полиция обнаружила сходки на квартире
Буцинского и Ковальской, и они 14 апреля 1879 г. вы-
нуждены были бежать из Харькова. Но кружок не был
еще открыт и главной его фигурой становится И. Глуш-
ков, а после его бегства — П. Теллалов. В конце ноября
1879 г. генерал-губернатор Лорис-Меликов сообщал в
III отделение: «...в исходе 1878 и начале 1879 г. в Харь-
ков стали прибывать подозрительные лица, в том числе
Ковальская. Она имела намерение завести знакомства
с молодыми людьми, собирала их у себя под предлогом
чтения разных сочинений по политической экономии,
чтобы при ближайшем с ними знакомстве наметить тех
из их числа, которые по характеру и по наклонностям
окажутся наиболее пригодными для преступной пропа-
ганды. ..»1 Но Лорис-Меликову удалось установить не
только это. Была обнаружена типография, подпольная
библиотека и др. «Главное участие, — продолжал он,—
в этой преступной деятельности принимали студенты
Харьковского университета Буцинский и Преображен-
ский»2. Начальник жандармского управления Ковалин-
ский сообщает очень интересные данные о членах кружка
Буцинского, давая им индивидуальные характеристики:
«Буцинский, несмотря на свою молодость и слабое
телосложение, обладает отличными умственными способ-
ностями, научным образованием, энергией, сдержанно-
стью и, по-видимому, не только положительно ознакомлен
1 ЦГАОР, ф. III отд., 3 эксп., 1879 г., д. 718, ч. 1, л. 6 об.
2 Там же, л. 6.
93
о социально-революционном движении в России, но знает
и всех главных деятелей социально-революционной пар-
тии» *.
О Елизавете Ковальской сказано, что она хорошо
образованна и начитанна, пользуется влиянием на моло-
дежь, ей 27 лет. В Харьков приехала из Петербурга
в начале 1879 г. и проживала вместе с Буцинским. Нахо-
дится на нелегальном положении.
Александр Преображенский — сын священника Кур-
ской губернии, студент Харьковского университета, ему
25 лет, друг Буцинского, скрылся вместе с ним в апреле
1879 г.
Владимир Жебунев, 26 лет, дворянин, имеет 7 тыс. де-
сятин земли, привлекался по делу «193-х», постоянно
скрывается, имеет большие связи и влияние.
И. Глушков — мещанин из Харькова, бывший сту-
дент Петербургского университета, «исключен за беспо-
рядки». В Харькове жил под надзором полиции. Один
из главных деятелей социалистов.
П. Теллалов — мещанин, прибыл в Харьков 18 мая
1879 г., в прошлом студент Горного института, близок
Глушкову и представляет собой «санкционирующую» фи-
гуру. Часто выступает с лекциями и пользуется большой
известностью, будучи в связи как с рабочими, так и с
обществом. «Теллалов очень, по-видимому, развитой и
обладает прекрасным даром слова»1 2. Жандармский ге-
нерал никого лично из указанных лиц не знал, однако
данные, сообщенные им, на редкость верны.
С образованием «Народной воли» встал вопрос о том,
с кем идти, как определить пути и методы борьбы. Пре-
обладание политических элементов в идеологии кружка
Буцинского предопределило его симпатии к народоволь-
честву, а сам руководитель занял крупное место в «На-
родной воле». Приезд в Харьков осенью 1879 г. Желябова,
Колодкевича и других народовольцев имел большие по-
следствия. Борьба за молодежь шла на сходках, иногда
довольно многочисленных. Вот как описывает одну из
таких сходок А. Сыцянко: «В сентябре месяце на собра-
нии у Кузнецова читал лекцию приехавший из Петер-
бурга террорист. Сущность его лекции следующая: «Тер-
1 ЦГАОР, ф. III отд., 3 эксл., 1879 г., д. 718, ч. 2, л. 67, 67 об.
2 Там же, л. 175, 175 об.
94
рористы, исходя из того мнения, что при существующих
условиях почти невозможно вести пропаганду как среди
народа, так и среди общества, говорили: надо прежде
добиться политической свободы в каком бы то ни было
виде — в виде конституции или в виде буржуазной рес-
публики, для этого надо терроризовать, устрашить пра-
вительство, и тогда оно даст политическую свободу, при
которой пропаганда будет более возможна»» Ч Террори-
стом, о котором говорил Сыцянко, был Желябов. Член
кружка Буцинского, присутствовавший на той же сходке,
рассказал о впечатлении, которое произвел на них Же-
лябов: «Он — «генерал между всеми социалистами». Го-
ворил на сходках по нескольку часов сряду, и его речь
была всегда очень серьезного содержания»1 2. Подавляю-
щее большинство участников поддержало Желябова и
встало на сторону «Народной воли». На этом обрывается
история кружка Буцинского. В расширенном составе он
превращается в филиал «Народной воли».
Показателем обостряющейся революционной борьбы
явилась и деятельность кружка И. Ковальского, который
возник в конце 1877 г. в Одессе. Любопытно, что в Одессе
в то время были группы различных революционных на-
правлений (бунтари, пропагандисты, якобинцы) и,несмо-
тря на это, а может быть именно благодаря этому, рядом
с ними возникает новый кружок, что могло свидетельство-
вать о неудовлетворенности, о поисках нового пути. В сущ-
ности представители всех перечисленных направлений и
сами не были довольны результатами своей деятельности.
Группа Ковальского, очевидно, намеревалась резко акти-
визировать борьбу. В кружок вошли разнородные эле-
менты народничества. Один из членов этого кружка,
Н. Виташевский, к бунтарям причисляет И. Ковальского,
А. Акимова и А. Афанасьеву, к пропагандистам — В. Сви-
тича и Беверлей, к якобинскому направлению — Е. Южа-
кову, Г. Чернявскую и себя3.
Как пошло бы развитие кружка, судить трудно, по-
скольку в самом начале формирования он был разгром-
лен, но не подлежит сомнению желание его членов проти-
вопоставить силе правительства вооруженную силу рево-
1 ЦГАОР, ф. Ш отд, 3 эксп, 1879 г, д. 718, ч. 1, л. 53.
2 Там же, л. 181.
3 См. «Былое», 1906, № 2, стр. 226.
95
люционеров и народа. Ковальский писал в 1877 г.:
«В большинстве случаев, если мы и говорим о всякого
рода насилиях, о воруженном сопротивлении во время
арестов и пр., то все это у нас — одни слова и в этой
сфере мы остаемся чистыми пропагандистами. Мы рас-
пропагандировали. .. ношение при себе оружия и закупку
оружия для восстающего народа; скажу больше: мы даже
добыли не в малом количестве это оружие и раздавали
его народу, а было время, когда всякий порядочный рево-
люционер обязан был таскать за собою револьвер и кин-
жал. Но когда дело коснулось факта, мы стали в ту-
пик. .. И сказался в нас потомок Рудиных и Репетиловых:
«Шумим, братец, шумим, а толку нет»» L
Эта критика показательна и интересна, смысл ее
прост — надо стать революционерами факта. Ковальский
убеждал, что настало время непосредственной борьбы с
«подлым правительством русских башибузуков». Если
это так, то необходимо организоваться, покончить с дей-
ствиями вразброд и изменить направление самого дей-
ствия.
Из приведенных слов еще нельзя сделать вывод, что
Ковальский признает необходимость политической борь-
бы в специфическом для того времени понимании, но не
подлежит сомнению, что активная борьба с правитель-
ством, к которой он призывает, могла скорее всего на-
толкнуть на мысль о завоевании конституционных сво-
бод и республиканского правления.
Шел Ковальский к новому способу действий, как и
подавляющее большинство его современников, через
аполитизм, думая избежать прямого столкновения с вла-
стью. В начале 70-х годов ему казалось, что социальная
революция победит посредством ассоциаций. Эта мысль
им развита в рукописной статье «Разумность и необхо-
димость социальной революции посредством ассоциаций»
(1878). Но уже и тогда он проповедовал самоотвержен-
ность и активность в достижении цели.
«Не будь мучеников, не будь начато христианство
кровью, не пустило бы оно глубокие корни в общество.
Но наша борьба выше, лучше, святее. Мы боремся пря-
мо, непосредственно за истину, мы сознательно действу-
ем без всякой опоры на сверхъестественное. Тем пре-
1 «Былое», 1906, № 2, стр. 227.
96
краснее будет наша борьба, тем плодотворнее будут
ее результаты. Свет и теплота восторжествуют над мра-
ком и холодом... Победа будет за нами» *.
Теперь в новой обстановке, да к тому же во время
войны, думать о том, что можно избежать столкнове-
ния с властью, оказалось абсолютно невозможным. Эту
истину он понял еще в 1877 г. в числе немногих и, по-
няв, приступил к делу. Но практически обосновать и
утвердить новый путь действий ему не удалось. Судьба
его кружка оказалась поистине трагичной: он был раз-
громлен чуть ли не в полном составе во время сходки
30 января 1878 г. Но этот разгром не стал торжеством
правительства. Группа революционеров, застигнутая
жандармами на конспиративной квартире, не растеря-
лась, и по почину Ковальского началось дерзкое воору-
женное сопротивление, в ходе которого оказались уби-
тые и раненые. Насколько серьезным было сопротивле-
ние, свидетельствует хотя бы то, что в его подавлении
принимали участие две роты солдат. Значение данного
факта состояло отнюдь не в самозащите. Случаи воору-
женной защиты при арестах политических преступников
встречались и в прошлом, например вооруженное сопро-
тивление Цицианова. Теперь же речь шла о другом.
Вооруженное сопротивление становилось нормой пове-
дения революционера, его обязанностью: оказывая врагу
вооруженное сопротивление, революционер отстаивал
свое право быть революционером, он защищал свои по-
литические права.
Еще больший резонанс имел судебный процесс над
Ковальским и его товарищами. В день вынесения приго-
вора, 24 июля 1878 г., в Одессе произошла крупнейшая
в ее истории антиправительственная демонстрация. Зда-
ние суда буквально осаждалось. Все симпатии находи-
лись на стороне обвиняемых. В адрес судей и суда от-
крыто высказывались проклятия. Сообщение из зала
суда о вынесении смертного приговора Ковальскому
было встречено всеобщим осуждением и негодованием,
произошло столкновение с военными частями. В этой
атмосфере всеобщего возбуждения и недовольства перед
одной из групп демонстрантов выступила с импровизи-
рованной речью 14-летняя девочка В. Гуковская, выра-
1 ЦГАОР, ф. ОППС, ф. 112, оп. 2, 1077 (вещ. док.), л. 5.
7 М. Г. Седов
97
зившая свое сочувствие революционерам-узникам. Юную
революционерку арестовали и сослали в Сибирь. Демон-
страцию разогнали, Ковальского повесили, но такие
события не могли остаться без последствий, они неиз-
бежно порождали и укрепляли чувства гнева и неукро
тимой мести. Первым, на кого обрушился гнев револю-
ционеров, был глава и оруженосец реакции шеф жан-
дармов Мезенцев.
Вне зависимости от того, видел ли сам И. Коваль-
ский в вооруженном сопротивлении начало борьбы за
политические свободы или нет, эта борьба уже стала
политической и явилась непосредственным толчком для
широкого осознания этого факта. Нельзя также забы-
вать, что вооруженное сопротивление и волнения, свя-
занные с ним, происходили во время войны и вблизи от
фронта. Это обстоятельство придает событиям особую
остроту, что прекрасно понимало и правительство, про-
водя жесткий курс политики в отношении «всяких зло-
умышленников». Виселица и каторга — вот девиз этой
политики. Так фактически началась борьба революцио-
неров с правительством, т. е. политическая борьба. Но
одно дело быть вынужденным выйти на поприще поли-
тической борьбы для завоевания гражданских свобод и
другое — найти пути и средства ведения такой борьбы.
Ковальский такую задачу решить еще не мог, зато его
почин вооруженного сопротивления получил всеобщее
признание
Первыми последователями его стали братья Влади-
слав и Генрих Избицкие (они оказали вооруженное со-
противление в Киеве 28 марта 1878 г.) и известный рево-
люционер Владимир Дубровин, служивший офицером в
Старой Руссе. По своему мировоззрению это был типич-
ный бунтарь, однако он, так же как и товарищи его,
пришел к убеждению, что бунтарская тактика может
дать положительные результаты, если будет дополнена
тактикой террора. Террором можно подтолкнуть народ
к революции. В рукописных «записках» Дубровина
имеются такие слова: «Если приходится погибать нашим
1 Научной разработкой истории кружка Ковальского и демон-
страции в Одессе занимался Ш. М. Левин (см. Ш. М. Левин. Обще-
ственное движение в России в 60—70-е годы XIX века. М., 1958, и
особенно его статью «Две демонстрации». — «Исторические записки»,
1955, т. 54, стр. 251—270).
98
дорогим товарищам-социалистам, то пусть они поги-
бают, производя насколько только возможно наиболь-
ший урон в рядах нашего бесчеловечного, дикого и гру-
бого врага» Ч
16 августа 1878 г. Дубровин оказал вооруженное со-
противление при аресте. На замечание жандармского
офицера: «Офицер не должен стрелять в офицера» —
Дубровин ответил: «С вами нельзя поступать иначе, «вы
служите опричнику»». Дубровин был предан военному
суду и приговорен к смертной казни, а 15 апреля 1879 г.
приговор был приведен в исполнение в Петропавловской
крепости. Могила Дубровина стала местом паломниче-
ства молодежи.
Большие последствия имела целая серия вооружен-
ных сопротивлений в Киеве. 11 февраля 1879 г. разра-
зилось настоящее сражение на Жилянской улице, где
группа революционеров (братья Ивичевичи, Н. Арм-
фельд, А. Брандтнер и др.) вела отчаянный бой с боль-
шими силами жандармерии и полиции, а также с при-
бывшими двумя ротами Старооскольского полка. 20 мар-
та 1879 г. оказал сопротивление Бильчанский и т. д.
Интересен текст правительственного сообщения о со-
бытии 11 февраля 1879 г., подготовленный для печати,
но, к сожалению, так и не увидевший свет. Вот строки
этого документа: «Из Киева сообщено, что вследствие
полученных сведений о существовании тайной типогра-
фии произведены были установленным порядком 11 фев-
раля, в 8-м часу вечера, обыски в двух квартирах. При
этом повторилась прискорбная одесская история воору-
женного сопротивления, но в более обширных размерах
и с результатами крайне печальными. При появлении
жандармов и полиции они встречены были градом вы-
стрелов, так что вынуждены были и с своей стороны
употребить в дело оружие. При этом убит на месте жан-
дармский унтер-офицер, контужен жандармский офицер,
ранены два городовых и один жандарм. Арестованы же
пять женщин и одиннадцать мужчин, из которых четверо
мужчин ранены тяжело».
17 февраля 1879 г. полковник Новицкий доложил в
III отделение: «Не скрою... что жизнь не столько наша,
сколько семейств наших в городе Киеве в высшей сте-
1 «Каторга и ссылка», 1929, № 5 (54), стр. 71—72.
*
99
пени тяжела в нравственном отношении... но духом не
падаем»
Таковы факты обострившейся борьбы революционе-
ров с правительством. Разумеется, нельзя сказать, что
все последовавшие вооруженные сопротивления явились
результатом прямого влияния поступка Ковальского, но
роль почина оказалась громадной. Как видно, вооружен-
ное сопротивление вошло в быт революционеров, оно
стало уже привычной формой борьбы, причем такой,
когда явно определилось направление ее. Теперь уже
участники подполья не могли сказать, как это было
раньше, что им нет дела до политики. Таким образом,
помимо прямого возбуждения общественности воору-
женные сопротивления углубляли процесс освободитель-
ного движения и безусловно явились одним из истоков
той политической программы, которая вскоре была при-
нята «Народной волей». Важно подчеркнуть и то, что в
самом процессе борьбы происходило «усовершенство-
вание» облика деятеля подполья, требования к нему по-
вышались, ореол революционера становился более яр-
ким, его авторитет и привлекательность возрастали. Две
главные черты русского революционера — геройство и
мученичество — получали как бы последующее разви-
тие.
Рядом с фактами вооруженного сопротивления все
шире и решительнее развивалась деятельность по осво-
бождению узников из мест заключения. Освобождение
товарищей из тюрьмы или ссылки всегда являлось обя-
занностью революционера, но теперь оно становилось
как бы принципом деятельности, приобретало характер
системы.
Один 1878 год дает столько примеров организации
побегов, сколько не знала до этого вся революционная
русская история, — явление само по себе крайне приме-
чательное. Оно подготовлялось многими обстоятельства-
ми, но основным из них следует признать то, что в под-
польной среде укрепилось мнение: революционер «всю-
ду и всегда» должен вести борьбу, тюрьма не снимает
с него этой обязанности. В свою очередь товарищи,
оставшиеся на воле, обязаны были помочь узникам в их
стремлении освободиться. Этот принцип становился за-
1 ЦГАОР, ф. III отд., 3 эксп., 1879 г., д. 115, ч. 1, л. 69, 86.
100
коном. Изменилась и среда, в которой приходилось
действовать: многие теперь считали за честь укрыть по-
литического преступника и оказать ему всякую помощь.
При этих условиях сама деятельность по освобождению
узников укрепляла силы и бесстрашие и еще больше
подрывала авторитет государственной власти. В сущно-
сти подобного рода практика представляла собой одну
из форм дезорганизации государственной машины. Что
же касается всякого рода репрессий и строгостей, то они
не страшили ни узников, ни освободителей. На этом по-
прище разгоралась упорная и дерзкая борьба, полная
опасностей и романтических приключений, в ней укреп-
лялись и закалялись характеры революционеров. Важна
и еще одна черта: в ходе борьбы сближались люди раз-
личных идейных направлений, они как бы поднимались
над фракционностью, но преодолевали ее в таком деле,
которое само по себе являлось актом политической
борьбы.
Главная тяжесть освободительных акций пала на
«Землю и волю». Землевольцы организовывали побеги
как членов своей организации, так и наиболее выдаю-
щихся революционеров других групп и фракций. Были
также и индивидуальные попытки освобождения, не свя-
занные с усилиями организации и, как правило, кончав-
шиеся неудачами. Наибольший резонанс и политическое
значение приобрели два выдающихся события.
Землевольцы В. Осинский и М. Фроленко взялись за
организацию побега из киевской тюрьмы трех очень
опасных для правительства политических преступни-
ков— Я. Стефановича, Л. Дейча и И. Бохановского,
инициаторов нашумевшего Чигиринского заговора. На-
ходчивость, бесстрашие и редкое самообладание помог-
ли сделать то, что казалось невозможным. Фроленко
сумел проникнуть в штат надзора тюрьмы и, войдя в
доверие начальства, был назначен надзирателем, в ру-
ках которого находились ключи от камер заключенных.
27 мая 1878 г. он вывел своих подопечных из заключе-
ния и вместе с ними скрылся. Поиски жандармерии и
полиции оказались тщетными. Этот дерзкий акт стал
известен всей стране. Подобного рода примеры зара-
зительны. И вот землевольцы, на этот раз во главе с
А. Михайловым, затевают еще более смелый план осво-
бождения П. Войнаральского, одного из героев «про-
101
цесса 193-х». Этой операции содействовали люди раз-
личных политических школ (землевольцы, якобинцы,
«чайковцы», бунтари). События развернулись в Харь-
кове, куда под строгим конвоем должны были переве-
сти Войнаральского. Решено было отбить его от стражи
в открытой схватке. Такой диверсионный акт требовал
очень тщательной подготовки и согласованности в по-
ступках всех звеньев действующего боевого отряда.
Было получено сообщение о сроке и месте прибытия за-
ключенного, о вооружении конвоя. Были приготовлены
конспиративные квартиры, где укрылся весь отряд, за-
куплены лошади и приобретено необходимое оружие.
Словом, готовились к серьезному сражению на поле
брани. Нападение свершилось 1 июля 1878 г., но освобо-
дить Войнаральского не удалось. Неудача была вызвана
стечением обстоятельств: во время обстрела конвоя не
удалось остановить получивших ранение жандармских
лошадей, везших Войнаральского и его охрану.
Участник этих событий М. Фроленко писал: «.. .хотя
таким образом наши попытки и не увенчались успехом,
но шум, поднятый безумно-дерзким нападением на жан-
дармов днем, на проезжей дороге, в виду людей, быв-
ших в поле, взбудоражил и жандармов, и публику не-
измеримо больше, чем тихая, мирная пропаганда какого-
нибудь поселенца, имевшего дело с одним, двумя, тремя
крестьянами на дому. Тут же заговорила, можно ска-
зать, вся Россия. Одни ругали, другие дивились, третьи
делались сами революционерами» ’.
К этим словам трудно что-либо прибавить. Прямым
результатом столь активной боевой деятельности яви-
лось укрепление идей политической борьбы.
Новые явления в революционной деятельности всего
подполья, а не только отдельных его групп повлекли за
собой значительное, а иногда решительное изменение
взглядов на те направления в освободительном движе-
нии, которые до сих пор порицались или отвергались
большинством. Приблизительно к 1878 г. надо отнести
начало переоценки ценностей. В данном случае имеется
в виду отношение большинства революционных деяте-
! М. Ф. Фроленко. Собр. соч. в 2-х томах. Под ред. и с прим.
И. А. Теодоровича, т. I. М., 1930, стр. 302.
102
лей к идеям политической борьбы и к таким ее формам,
как якобинство и бланкизм.
Крупной личностью, исповедовавшей и развивавшей
идеологию бланкизма, был Петр Никитич Ткачев (1844—
1885 гг.). В революционном движении Ткачев известен
с юношеских лет, когда в 1861 г. был в первый раз аре-
стован за участие в студенческих «беспорядках» в сто-
личном университете, но как деятель с ярко выражен-
ным политическим мировоззрением он обращает на себя
всеобщее внимание только в заграничный период своей
жизни. В 1874 г. вышла брошюра Ткачева «Задачи рево-
люционной пропаганды в России», а в следующем году
появился журнал «Набат», издававшийся в Женеве,
Брюсселе и Лондоне до 1881 г. (всего вышло 18 выпу-
сков). 1 ноября 1875 г. вышел программный (безномер-
ной) «Набат», целиком посвященный выяснению задач
русской революции. В сущности эта тема оставалась
преобладающей во всех его последующих номерах, как
и во всем творчестве его редактора.
Своим литературным выступлением Ткачев делал
вызов представителям бакунистского и лавристского
направлений в общественном движении России. Он объ-
являл эти течения несостоятельными и провозглашал
свои принципы революционной борьбы и мировоззрения.
Если Бакунин и Лавров пренебрегали (первый пол-
ностью, а второй большей частью) политическим эле-
ментом в революционном преобразовании общества, со-
средоточивая все внимание на экономическом перево-
роте, то Ткачев, напротив, на первый план выдвинул
идею политической борьбы. «На знамени партии, — гово-
рил Ткачев, — мы должны начертать «борьба с прави-
тельством, борьба с установившимся порядком...» Ре-
волюцию, — продолжал он, — не подготовляют, а де-
лают. .. Бить в набат, призывать к революции — значит
указывать на ее необходимость и возможность именно в
данный момент, выяснить практические средства ее су-
ществования, определить ее ближайшие цели» ’.
Деятельность революционера, по мысли Ткачева,
сводится главным образом к организационным пробле-
мам. Идейно-пропагандистская сторона дела его не
должна интересовать, так как народные массы якобы
1 «Набат», 1875, б. №, стр. 2,
103
уже подготовлены к революции. Как известно, Ткачев
очень резко выступал против Бакунина, но в этом пункте
его взгляд ничем не отличается от бакунинского. У Тка-
чева, таким образом, политическая идея соединена с
идеей Бакунина о готовности русского народа принять
революцию и социализм.
Само название журнала Ткачева многое объясняет
и ко многому обязывает. «Бить в набат» означало при-
зывать к революции, и притом немедленной. Медлить
нельзя! Чем же объясняется такая поспешность? «При-
шло время ударить в набат! Смотрите! Огонь «экономи-
ческого прогресса» уже коснулся коренных основ нашей
народной жизни. Под его влиянием уже разрушаются
старые формы нашей общинной жизни... На развали-
нах перегорающих форм нарождаются новые формы —
формы буржуазной жизни... Огонь подбирается и к на-
шим государственным формам... Сегодня мы сила...
Сегодня наши враги слабы, разъединены, разрозненны.
Против нас одно правительство со своими чиновниками
и солдатами... Завтра государство из самодержавного,
которое все ненавидят, превратится в конституционное,
которое все будут поддерживать, и тогда благоприятный
момент будет упущен»
Как видим, проблема капитализма поставлена очень
остро. Для Ткачева не является тайной начавшийся про-
цесс формирования новых, капиталистических отноше-
ний. «Огонь» капитализма сжигает все устои старой
России. Задача в данном случае состояла в том, чтобы
определить отношение революционной партии к новым
явлениям экономической эволюции России. Для Ткачева
успехи капитализма находятся в обратной зависимости
от успехов революции, ее перспектив. Капитализм не
подготовляет, а разрушает базу революции. Правильно
поставив вопрос о развитии капитализма в России, Тка-
чев решает его в консервативном смысле. Превращение
государственной власти из самодержавной в конститу-
ционную, по его мнению, лишает революцию шансов на
успех. Поэтому Ткачев призывает немедленно прервать
путь капиталистического развития, не допустить торже-
ства капитализма в целом. В данное время, указывал
Ткачев, Россия переживает период становления капита-
1 «Набат», 1875, б. №, стр. 1—2.
104
диетических отношений, когда жизненные силы поме-
щичьей России оказались подорванными, а новые еще
не успели в достаточной степени окрепнуть. Такой мо-
мент наиболее благоприятен для успеха революцион-
ного дела, т. е. для совершения политического переворо-
та и захвата власти.
В 1875 г. в «Открытом письме» Ф. Энгельсу Ткачев
подробно изложил свой взгляд на условия и особенности
русской революции. Это наделавшее много шума пись-
мо очень показательно. В нем красной нитью проведена
мысль о том, что, несмотря на полное различие социаль-
ных условий России и Западной Европы, русский народ
ближе к социализму, чем народы капиталистического
Запада. Нетрудно догадаться, каким мог быть ответ
Энгельса на это письмо. Он подробно разобрал и реши-
тельно отверг все положения письма Ткачева, что сильно
поколебало влияние «Набата» в России
Здесь же следует, однако, заметить, что в своем от-
вете Энгельс называл Ткачева анархистом1 2, что не со-
ответствовало действительности, и сам Энгельс впослед-
ствии отказался от этого вывода.
Ткачев проявил себя как последовательный государ-
ственник-централист и в этом смысле был полной про-
тивоположностью Бакунину и анархистам всех других
школ. Он неоднократно подчеркивал, что якобинцы хо-
тят осуществить революцию через государство и силой
государственной власти. Вот его рассуждения об этом:
«Истинная революция... может совершаться только при
одном условии: при захвате революционерами государ-
ственной власти в свои руки, иными словами, ближай-
шая, непосредственная цель революции должна заклю-
чаться не в чем ином, как только в том, чтобы овладеть
правительственной властью и превратить данное, кон-
сервативное государство в государство революционное.
Таким образом, ближайшая цель революции должна за-
ключаться в захвате политической власти. Но этот за-
хват власти, являясь необходимым условием революции,
не есть еще революция. Это только ее прелюдия. Рево-
люция осуществляется революционным государством,
которое, с одной стороны, борется и уничтожает консер-
1 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 18, стр. 527—548.
2 См. там же, стр. 528.
105
вативные и реакционные элементы общества, упраздняя
все те учреждения, которые препятствуют установлению
равенства и братства, а с другой — вводит в жизнь
учреждения, благоприятствующие их развитию. Таким
образом, деятельность революционного государства
должна быть двоякая — революционно-разрушительная
и революционно-устроительная... Первая осуществляет-
ся насилием, а вторая — убеждением»
В этом пространном изречении суть политического
взгляда Ткачева. Сотни раз он повторял эти мысли, и
они стали его верой. Первая функция государства — на-
силие не требует особого обоснования: враждебные со-
циализму элементы должны быть подавлены. Но «на-
сильственным переворотом, — неоднократно подчерки-
вал Ткачев, — не оканчивается дело революционеров,
напротив, им оно начинается. Захватив в свои руки
власть, они должны суметь удержать ее и воспользовать-
ся ею для осуществления своих идеалов»1 2. Поэтому ре-
волюционное меньшинство обязано позаботиться о раз-
работке гибкой тактики убеждения народных масс и о
постепенных мерах социалистических преобразований,
которые необходимо санкционировать законодательными
органами Народной думы, создаваемой из представите-
лей народа. Громадное значение на этой стадии рево-
люции приобретают пропаганда и агитация. Они не
предшествуют насильственному перевороту, а, наоборот,
насильственный переворот делает их необходимыми и
производительными. До захвата революционерами госу-
дарственная власть имеет антинародное назначение и
служит целям эксплуатации. С момента превращения
государства в орудие революционеров оно встает на
службу делу реализации принципов революции. По-
скольку само понимание Ткачевым подготовления рево-
люции исключает какие бы то ни было формы деятель-
ности, кроме захвата власти, то все усилия революцион-
ного подполья должны быть обращены только на сам
акт завоевания власти. Не обучать массы, а группиро-
вать готовые революционные элементы, — вот практиче-
ский вывод, который логически следовал из теории Тка-
чева.
1 «Набат», 1875, б. №, стр. 4.
2 Там же, стр. 5.
106
П. Н. ТКАЧЕВ (1844—1885)
Ближайшая цель революции должна заключаться в захвате полити-
ческой власти, в создании революционного государства. Но захват
власти, являясь необходимым условием революции, не есть еще ре-
волюция. Это только ее прелюдия...
Деятельность революционного государства должна быть двоя-
кая: революционно-разрушительная и революционно-устроительная...
Первая осуществляется насилием, вторая — убеждением.
«.. .Бесспорный полемический талант Ткачева и резкость, с которой
он ставил вопросы, привлекали внимание и доставляли его идеям
довольно обширное распространение. В России почти на всех про-
цессах того времени прокуроры цитировали мнения «Набата» как
программу значительной и влиятельной партии...»
Лавров
Что касается конечных целей революционного плана
Ткачева, то они мало чем отличаются от целей других
социалистов. Как социалист-революционер, он рекомен-
дует революционному правительству следующее: посте-
пенное преобразование современной общины в общину-
коммуну; проведение системы мер, направленных на
экспроприацию орудий и средств производства, находя-
щихся в частном владении, и передачу их в распоряже-
ние общества; устранение причин неравенства физи-
ческого, умственного и нравственного существования
между людьми, взаимоотношения в обществе должны
быть основаны на принципах любви, братства и равен-
ства; развитие местного самоуправления и постепенное
упразднение функций государственной власти и т. д.
Проведение перечисленных мер обеспечит, согласно тео-
рии Ткачева, торжество нового общественного строя,
строя социалистического, который является не выдумкой
мыслителей, а «формулой и выводом науки».
Еще более важна и крайне характерна в мировоз-
зрении Ткачева его безграничная вера в силу и возмож-
ности революционно-конспиративной организации, «осно-
ванной на централизации власти и децентрализации
революционных функций». «Теперь мы, — говорил Тка-
чев,— держим в руках судьбу русской истории. Мы мо-
жем ее изменить, если только захотим. А чтобы захо-
теть, нам нужно иметь немножко энергии, немножко
смелости и как можно больше согласия и единства в
действиях» *.
Особенности и своеобразие доктрины Ткачева вполне
объяснимы. Ткачев весьма последовательно рассуждал:
Если при помощи государственной власти оказалось
возможным держать в повиновении и эксплуатировать
миллионы людей, то, очевидно, и освобождение их зави-
сит от того, в чьих руках власть. Сам же по себе народ
ввиду неразвитости и забитости не может решить своей
судьбы: «ни в настоящем, ни в будущем народ, сам себе
предоставленный, не в силах осуществить социальную
революцию. Только мы, революционное меньшинство,
можем это сделать, и мы должны это сделать, сделать
как можно скорее!»1 2
1 «Набат», 1875, № 1, стр. 8.
2 «Набат», 1876, № 4, стр. 6.
108
Если это так, то отсюда вытекает теория об особой
роли государственной власти. Слабость или отсутствие
массовой борьбы против власти только укрепляло такое
утверждение. Мы не тот разбойник, писал в одной ста-
тье Ткачев, «который говорил распятому Христу: «Спа-
си себя сам, сойди с креста, если можешь!» Нет, мы го-
ворим распятому народу: «Мы не станем ждать, пока ты
сам себя спасешь, пока ты сам сойдешь с креста, — мы
хотим помочь тебе спастись, мы снимем тебя с кре-
ста!»» *. Теория помощи народу от интеллигенции явля-
лась как бы сама собой. Планы этой помощи у различ-
ных фракций различны, но исток их один.
Таковы в самых общих чертах политические идеи
Ткачева. Как же к ним отнеслось русское подполье?
В России была сравнительно небольшая революционная
организация («Общество народного освобождения»),
разделявшая и проповедовавшая взгляды Ткачева и
«Набата», но подавляющая масса активных деятелей
революционного движения отвергала Ткачева. В. Фиг-
нер, в частности, писала: «В Женеве, во время ваката, я
познакомилась с Ткачевым, который незадолго перед
тем эмигрировал из ссылки в Псковской губернии. На
политические темы мы скоро объяснились. Его заведомое
якобинство решительно претило нам, и, когда позднее
он пытался войти в деловые переговоры с «фричами»
относительно деятельности в России, его постигла неуда-
ча. Первые номера «Набата» не только не вызвали со-
чувствия, над ними просто смеялись»1 2.
В том же духе высказывались очень многие, в том
числе и Я. Стефанович3. Но время и события делали
свое дело. На повестку дня русской революционной
борьбы встал политический вопрос, и отношение к Тка-
чеву вскоре изменилось.
В некрологе памяти Ткачева постоянный оппонент
его П. Л. Лавров писал: «.. .бесспорный полемический
талант Ткачева и резкость, с которой он ставил вопросы,
привлекали внимание и доставляли его идеям довольно
обширное распространение. В России почти на всех про-
цессах того времени прокуроры цитировали мнения «На-
1 «Набат», 1876, № 11—12, стр. 6.
2 В. Фигнер. Поли. собр. соч. в семи томах, изд. 2, пересмотр.,
доп. и испр., т. 5. Очерки, статьи, речи. М., 1932, стр. 107.
3 См. сборник «Группа «Освобождение труда»» № 3, стр. 284.
109
бата» как программу значительной и влиятельной пар-
тии» 1.
По свидетельству Г. Плеханова, изменили свое отно-
шение к «набатовцам» А. Михайлов, ранее резко осуж-
давший их, и Н. Морозов. Последний стал даже настаи-
вать на объединении народовольцев и «набатовцев». Да
и Плеханов вынужден был признать, что якобинцы
ближе его сердцу, нежели федералисты. Сам же Ткачев
о роли «Набата» говорил в выражениях достаточно уве-
ренных и даже возвышенных. ««Набат» в пределах воз-
можности вполне выполнил свою задачу, и выполнил ее
вполне удачно. Он оказал неоценимую услугу развитию
революционного дела, он в значительной степени содей-
ствовал выработке того нового направления революци-
онной деятельности, которое дало в последнее время
такие плодотворные практические результаты... Я ни-
когда не придавал особого значения распространению
«Набата» в России. «Набат» был не агитационный рево-
люционный листок... Достаточно было, чтобы с его про-
граммой и основными принципами ознакомились лишь
некоторые революционные деятели... Я очень хорошо
знаю, что в России мало кто имеет в руках «Набат», но
о его существовании, о его программе, о его принципах
известно было во всех почти революционных кружках»2.
Как здесь, так и во многих других письмах и рабо-
тах Ткачев указывал, что народовольческое движение
подготовлено пропагандой «Набата» и что деятели но-
вого направления во многом обязаны этому органу. На-
сколько справедлив редактор «Набата» в своих сужде-
ниях? Этот вопрос интересен потому, что большая часть
народовольцев отрицала такой вывод.
При сопоставлении программ «Народной воли» и
«Набата» становится совершенно ясным, что они далеко
не тождественны, но в то же время в этих документах
есть немало общего. Их объединяет идея политической
борьбы, хотя понимание ее у них различно. Ткачев сво-
дит политическую борьбу только к заговору, к прямому
захвату власти социалистической организацией; народо-
1 Г. А. Куклин. Итоги революционного движения в России за
сорок лет (1862—1902 гг.). Женева, 1903, стр. 219.
2 «Былое», 1907, № 8, стр. 164—165 («Материалы для биографии
П. Н. Ткачева». Перепечатка из: «Общее дело», 1886, № 81).
110
вольцы (как это будет сказано позже) смотрели на дело
шире, не исключая возможности и желательности кон-
ституционного образа правления, когда социалистиче-
ская партия станет оппозицией. Иначе мыслилась на-
родовольцами и роль Учредительного собрания или Зем-
ского собора. Это должен быть законодательный орган,
выражавший волю народа. У Ткачева Земский собор
лишь санкционировал предложения и меры социалисти-
ческого правительства. Вообще понятие воли народа у
Ткачева туманно. Он оставался верным принципу за-
говора.
Можно было бы указать на многие другие различия,
но важнее в данном случае понять то общее, что род-
нило их более всего. Центральный пункт и программы
«Набата», и программы «Народной воли» — требование
о захвате государственной власти революционной орга-
низацией. Приоритет в постановке и разработке такой
идеи принадлежит, безусловно, Ткачеву, это централь-
ная мысль его революционно-политического мировоззре-
ния. И видимо, нельзя отрицать того, что она так или
иначе оказалась воспринятой «Народной волей». В этом
отношении воздействие «Набата» на появление народо-
вольчества бесспорно, что отмечено было еще в работах
В. И. Ленина: «Подготовленная проповедью Ткачева и
осуществленная посредством «устрашающего» и дей-
ствительно устрашавшего террора попытка захватить
власть — была величественна...» 1
Ткачев, по его собственным признаниям, являлся
учеником и последователем О. Бланки и вошел в исто-
рию освободительного движения как идеолог русского
бланкизма2, но идеи этой школы распространялись в
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 6, стр. 173.
2 Теоретическое наследство и революционная деятельность
П. Н. Ткачева отличались резкой определенностью и оригинальностью.
Очевидно, этим объясняется и интерес к его личности. Советская
историческая литература отразила большие споры по различным
проблемам наследия Ткачева. Крупным знатоком его считался
Б. П. Козьмин, который был редактором избранных сочинений Тка-
чева и много писал о нем (некоторые из этих работ вошли в по-
смертное издание «Из истории революционной мысли в России».
Избр. труды. М., 1961).
Почти во всех работах Б. П. Козьмина проводится мысль о том,
что Ткачев был крупным революционером, идеологом русского блан-
кизма — особого направления в освободительном движении. Козьмин
111
России не только посредством работ Ткачева и «Наба-
та». Был и другой, может быть даже более значитель-
ный, источник, через который русская молодежь знако-
милась с революционным движением Франции, пытаясь
использовать его опыт в условиях российской действи-
тельности. Речь идет об одном из выдающихся револю-
ционеров-шестидесятников, первом русском якобинце
Петре Григорьевиче Заичневском. Многие крупные дея-
тели революционного подполья 70-х годов, народоволь-
чество как идеология и «Народная воля» как организа-
ция в известном смысле связаны со школой Заичнев-
ского и его учениками. Редакция сборника «О минувшем»
писала: «Имя Петра Григорьевича Заичневского тесно
вплетено во всю историю освободительного движения
60-х, 70-х, 80-х и частью 90-х годов; появившись на рево-
люционной арене в самом начале 60-х годов, он не схо-
дил с нее в течение 35 лет» Г
Еще в 1862 г. Заичневским была написана проклама-
ция «Молодая Россия». В этом документе впервые ста-
вилась проблема захвата власти сплоченной партией
революционного меньшинства: «Мы даже твердо убеж-
дены, что революционная партия, которая станет во
главе правительства, если только движение будет удач-
но, должна сохранить теперешнюю централизацию, без
сомнения политическую, а не административную, чтобы
при помощи ее ввести другие основания экономического
и общественного быта в наивозможно скорейшем вре-
мени. Она должна захватить диктатуру в свои руки и
не останавливаться ни перед чем. Выборы в Националь-
ное собрание должны происходить под влиянием прави-
тельства, которое тотчас же позаботится, чтобы в состав
его не вошли сторонники современного порядка»1 2.
подчеркивал значительное влияние «Набата» на молодежь. Однако,
по нашему мнению, Б. П. Козьмин сильно преувеличивал воздей-
ствие работ К. Маркса на творчество Ткачева (в чем, по-видимому,
сказалось влияние М. Н. Покровского, который называл Ткачева
первым русским марксистом) и необоснованно отрывал его наследие
от народнического.
Подробно об этом см. нашу статью «Советская литература о
теоретиках народничества» в сборнике «История и историки». М.,
1965, стр. 246—269.
1 «О минувшем». Исторический сборник. СПб., 1909, стр. 122.
2 «Материалы для истории революционного движения в России
в 60-х гг.». Париж, 1905, стр. 62.
112
Идею о захвате власти партией, установлении рево-
люционной диктатуры и декретировании принципов со-
циалистических отношений и правопорядка Заичневский
пронес через всю жизнь, полную революционной страст-
ности, невероятных лишений и переживаний, выпавших
на его долю: 35 лет (с 1861 г. — первый арест — и до
конца дней своих— 1896 г.) он провел на каторге, в
ссылке и под надзором полиции. Заичневский называл
себя якобинцем и идеи великих революционеров Фран-
ции считал возможным с успехом применить в России.
Будучи страстным защитником угнетенных масс русско-
го крестьянства, он, однако, считал, что им непосильны
задачи революционного преобразования государствен-
ного строя и условий веками сложившейся жизни и
быта. Народ нуждается в помощи, и эта помощь может
прийти не от правительства и даже лучших его слуг, а
от революционной интеллигенции. Революционная ин-
теллигенция вместе с армией может совершить полити-
ческий переворот и освободить народ от подавляющей
силы государственной власти. Вот как представлялся
этот процесс П. Г. Заичневскому, по утверждению лиц,
близко его знавших: «Революция же ему действительно
представлялась в виде восстания в центрах, массы же
всегда становятся на стороне совершившегося факта».
Подготовку революции ведет центр, состоящий из
наиболее выдающихся деятелей. Его работа направ-
ляется «в общество и войско, имея целью сгруппировать
все недовольные элементы в тайное общество, готовое
к восстанию по первому знаку центра» L
Такими представляются цели и тактика Заичневско-
го. Они оставались неизменными с «Молодой России»
и до конца дней его.
Как сам Заичневский, так и его ученики не разделя-
ли, казалось бы, близкие им взгляды «Набата», их пла-
ны довольно резко расходились. Так, Ткачев усиленно
проповедовал террор, демонстрации и всякую дезорга-
низацию. Заичневский отвергал все это как помеху
«центру» в его действиях по организации нападения на
правительство. Он признавал полезными, а в момент
восстания необходимыми пропаганду и агитацию в
1 «С родины на родину» (Женева), 1896, № 6—7, стр. 504.
8 М. Г. Седов 113
обществе, армии и народе, тогда как Ткачев всем этим
пренебрегал, и т. д.
Другими словами, здесь мы встречаемся с русским
якобинством в двух его разновидностях. То общее, что
объединяет их, и вошло в качестве идейного и тактиче-
ского наследия в народовольчество. Кстати, Заичнев-
ский с большим сочувствием относился к «Народной
воле», восхищался ее героизмом и делами, но ее такти-
ческий план подвергал резкой критике, особенно осуж-
дал индивидуальный террор. «Погубит он все», — на-
стаивал он. Не нравилась ему и систематическая охота
народовольцев за императором Александром II.
Заичневцы популяризацией своих идей ослабляли
влияние аполитизма и в какой-то степени ускоряли побе-
ду политической доктрины. Их заслуга состояла и в том,
что они не отказывались от использования в револю-
ционных целях всех недовольных царским деспотизмом.
Но они, очевидно, также хорошо понимали, что их соб-
ственные идеи, взятые сами по себе, вне народовольче-
ства не могут сообщить русскому революционному дви-
жению ни новой силы, ни размаха.
До возникновения «Народной воли» ученики Заич-
невского ничем значительным себя не проявили. Если за
некоторыми из них и числились революционные поступ-
ки, то они (поступки) скорее противоречили их доктрине,
чем вытекали из нее.
Но вот складывается благоприятная обстановка для
рождения народовольческого Исполнительного комитета,
и заичневцы (государственники-централисты) находят
себе место для боевой работы. М. Н. Ошанина оказалась
даже одним из учредителей «Народной воли» и членом
ее Исполнительного комитета с первого и до последнего
дня его существования. Вхождение в новое движение
являлось, таким образом, необходимым шагом. В «На-
родной воле» произошла политическая нивелировка во-
шедших в нее личностей, все или почти все стали право-
верными народовольцами, хотя еще совсем недавно
представляли иные направления и школы L
Усиление пульса революционной борьбы и поворот
ее навстречу политике отразились и на подпольной жур-
1 Это подчеркивается в мемуарах членов «Народной воли», об
этом свидетельствуют конкретные факты практической жизни партии.
114
налистике. В ее направлении в 1877—1878 гг. также на-
мечается перелом. Дальнейшее игнорирование полити-
ческой борьбы становилось невозможным. Отсутствие
гражданских свобод с каждым днем становилось все
нетерпимее.
В 1877 г. группа русских эмигрантов создает в Жене-
ве журнал «Общее дело». Уже в самом наименовании
нового органа подчеркнуто наличие общей задачи всех
антиправительственных сил и необходимость единства
для ее решения. Инициаторы и руководители журнала
Н. Белоголовый, А. Христофоров, М. Элпидин и В. Зай-
цев составили единый коллектив, хотя по своим полити-
ческим убеждениям это были люди различных ориента-
ций. Объединяло их требование борьбы с деспотической
властью. Теоретическим основанием журнала явился те-
зис о том, что политическая свобода граждан является
двигателем общественного развития. Передовая статья
первого номера была написана в обоснование именно
этого тезиса. Не чуждался журнал и социальных проб-
лем, отодвигая их, правда, на второй план.
В настоящее же время все усилия русских людей
должны быть обращены в одну сторону: «Мы знаем лишь
один путь... это путь политического равенства и поли-
тической свободы, на открытие которого потрачены
жизнь и силы бесконечного ряда поколений» *.
Борьба с деспотизмом для нормального развития Рос-
сии не только необходима и обязательна, но для нее
уже теперь созрели все условия: «Деспотическая власть
не имеет у нас ни теократических, ни феодал-аристо-
кратических, ни даже буржуазно-экономических основ,
на которых она держалась в Западной Европе. Она у
нас совсем другого происхождения: она была ярмом,
которое наши предки надели на себя в силу историче-
ской необходимости, в котором они видели единственное
спасение от монгольского насилия... Но корни ее исто-
рической жизни давно уже высохли, и она в настоящее
время является омерзительным анахронизмом, пугалом,
которого вся сила лишь в нашей слабости, с которым
нас связывает общее неуважение к свободной человече-
ской личности — источнику общественного развития»1 2.
1 «Общее дело», 1877, № 1, стр. 7.
2 Там же, стр. 7—8.
115
Подобное мнение, столь открытое для критики в наши
дни, в то время имело всеобщее распространение и мно-
гими считалось аксиомой.
Из номера в номер («Общее дело» издавалось до
1891 г., всего вышло 112 номеров) пропагандировались
принципы политических свобод и необходимость борьбы
за них. Журнал «Общее дело» не был органом партии
или сложившейся организации. Как орган «Общее
дело» подходит под понятие общедемократического, в
котором были представители и либеральных (Н. Бело-
головый), и революционных (В. Зайцев), и смешанных
течений (А. Христофоров). Его влияние, прямое и опо-
средованное, несомненно. Обоснование и систематиче-
ское распространение материалов процессов, воззваний,
обращений и листовок русских революционеров — боль-
шая заслуга редакции «Общего дела».
В марте — мае 1878 г. в России группой революци-
онно настроенной молодежи (братья Бух, А. Венцков-
ский, А. Астафьев, В. Луцкий и др.) издавалась газета
«Начало». По своему направлению и программе это ти-
пично народническое издание с ярко выраженной анар-
хической (бакунистской) окраской. Но даже этот орган с
твердой, казалось бы, линией аполитизма вынужден был
прийти к выводам явно политической программы. К это-
му «Начало» подошло незаметно, освещая события, свя-
занные с процессом В. Засулич, акты индивидуального
террора на юге и массовые демонстрации в Петербурге,
свидетельствовавшие о начале кризиса системы полити-
ческого управления. Причем отмеченные события нашли
в газете сочувственный отклик. Необходимость полити-
ческой борьбы ощущалась довольно сильно редакцией
в целом, а некоторые из членов редакции прямо настаи-
вали на ней. Впоследствии А. Астафьев писал Н. Моро-
зову: «Мне как одному из участников первого свобод-
ного журнала «Начало» всегда было дорого верное сво-
бодное слово... Я во многом не сходился в программе
журнала «Начало» и принадлежал к меньшинству, ко-
торое защищало программу, высказанную вами в «На-
родной воле»...»1
Это заявление показательно, и говорит оно о том, что
еще весной 1878 г. налицо были некоторые элементы
1 ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, д. 603, л. 52 (Архив Лаврова).
116
народовольчества. На страницах же «Начала» мы нахо-
дим такие утверждения: «В ближайшем будущем само-
державие так или иначе должно рухнуть, а вместе с ним
и старый государственный механизм, построенный на
бюрократических началах. Наиболее вероятно, что кри-
зис повлечет за собой чисто политический переворот в
конституционном духе, хотя и нет данных положительно
утверждать, что кризис не разрешится общим народным
движением»
Оказавшись плохими пророками в определении сро-
ков революции и крушения самодержавия, издатели
«Начала» довольно правильно указывали на важность
для социалистического движения политического перево-
рота и тем самым обращали внимание революционеров
на необходимость и актуальность открытой борьбы с
царизмом. Если «Начало» не дало и не могло еще дать
обоснования политической борьбы, то во всяком случае
оно объективно отразило на своих страницах эту потреб-
ность.
Те новые явления в революционной борьбе и обще-
ственной мысли, о которых только что шла речь, могли
возникнуть и погибнуть, не будь достаточно подготов-
ленной среды, не будь общественного настроения, род-
ственного этим явлениям. Естественно, такая среда соз-
давалась общим комплексом разного рода обстоятельств
и деятельностью выдающихся людей своего времени.
К ним по праву надо отнести Николая Константиновича
Михайловского (1842—1904). Михайловский не просто
вошел в народническое движение и пережил все его
фазы от шестидесятника до народовольца, но ему само-
му пришлось формулировать лозунги движения и опре-
делять формы борьбы. Ученик великих деятелей эпохи
падения крепостного права, он играл ведущую роль в
освободительном движении нового времени, став власти-
телем дум передовой интеллигенции1 2. В. И. Ленин пи-
сал в 1914 г.: «Великой исторической заслугой Михай-
ловского в буржуазно-демократическом движении в
1 См. «Революционная журналистика 70-х годов XIX века»,
стр. 53.
2 Подробно о Н. К. Михайловском см. нашу статью «К вопросу
об общественно-политических взглядах Н. К. Михайловского» в кн.:
«Общественное движение в пореформенной России». Сборник статей.
М., 1965, стр. 179—210.
117
пользу освобождения России было то, что он горячо со-
чувствовал угнетенному положению крестьян, энергично
боролся против всех и всяких проявлений крепостниче-
ского гнета, отстаивал в легальной, открытой печати —
хотя бы намеками сочувствие и уважение к «подполью»,
где действовали самые последовательные и решитель-
ные демократы разночинцы, и даже сам помогал прямо
этому подполью...
Но, будучи горячим сторонником свободы и угнетен-
ных крестьянских масс, Михайловский разделял все
слабости буржуазно-демократического движения. Ему
казалось, что передача всей земли крестьянам, — в осо-
бенности без выкупа, — есть нечто «социалистическое»;
он считал себя поэтому «социалистом»» Г
Столь значительная роль, которую сыграл Михайлов-
ский, объясняется прежде всего тем, что он являлся хра-
нителем традиций и соратником лучших деятелей 60-х
годов. Известно, что Михайловский многие годы работал
вместе с Некрасовым, Салтыковым и Елисеевым и все-
гда вспоминал об этом с восхищением. «А из-за этих
трех, — писал он, — выглядывали еще образы Добролю-
бова, Чернышевского, Белинского, как бы передавав-
ших им свой авторитет... Примыкая к ним, вы чувство-
вали, что вступаете на... историческую дорогу»1 2.
Историческая дорога, однако, была нелегкой: требо-
валась решительная защита памяти и заветов этих дея-
телей от нападок реакционной и либеральной прессы,
и Михайловский с блестящим умением отбивал атаки
Каткова на Некрасова, Дистерло на Добролюбова, Зло-
бина на Герцена и всех их вместе на Чернышевского.
Эта битва одного со многими и немногих с целой толпой
реакционеров — дело, посильное личностям крупных
масштабов. Таким, безусловно, и был Михайловский.
Идейная борьба за наследство шестидесятников озна-
чала не что иное, как защиту интересов трудящихся
масс, демократии и свободы личности. Указанные эле-
менты и составили основу теории прогресса, которую
Михайловский обосновал в своей известной работе «Что
такое прогресс?», опубликованной в 1869 г. Эта работа
была взята семидесятниками на вооружение и служила
1 В. И. Ленин, Поли. собр. соч., т. 24, стр. 333—334.
2 Н. К. Михайловский. Поли. собр. соч., т. 7. СПб., 1909, стр. 54.
118
им в борьбе. Сутью прогресса Михайловский считает
всестороннее развитие личности и самое личность ставит
в центре его
Формирование мировоззрения и деятельность Ми-
хайловского происходили в переломную эпоху. Он был
свидетелем падения крепостного права и начала бур-
ного развития капитализма. Он сам хорошо осознавал
важность переживаемого времени и указывал, что оно
в некотором отношении значительнее, «чем перелом
XVIII века, отмеченный гениальным образом Петра»1 2.
Приведенные слова справедливы. Действительно, раз-
вивавшиеся новые общественные отношения имели ко-
лоссальные последствия, но не в том смысле, как пред-
полагал этот публицист. Как и для его предшественни-
ков, целью борьбы для Михайловского был социализм,
и он, так же как шестидесятники, видел материальный
базис социализма в общинном и артельном труде. По-
этому его критика капитализма не выходила за рамки
идей утопического социализма. Он стремился доказать
возможность некапиталистического пути развития, при-
знавая, однако, что капитализм является шагом вперед.
«Я вполне согласен с г. Полетикой и другими заводчи-
ками, что железная промышленность наша должна раз-
виваться, я согласен и с гр. Орловым-Давыдовым, что
наше сельское хозяйство подлежит развитию. Но наше
согласие немедленно прекращается, как только я узнаю
тип развития, предлагаемый этими учеными людь-
ми. ..»3 Чтобы разрешить противоречие между призна-
нием капитализма как шага вперед в общественном раз-
витии и стремлением миновать эту общественную стадию,
Михайловский создал теорию степеней и типов соци-
ального развития. Причем под степенью подразумевался
уровень развития производительных сил, под типом —
отношение производителей к собственности, т. е. господ-
ство частной или коллективной формы собственности.
Как видно, высокая степень развития могла соче-
таться с низким ее типом, и наоборот: высшая форма
могла иметь низшую степень развития, а высшая сте-
1 Подробнее см. указ, статью в кн.: «Общественное движение
в пореформенной России», стр. 190—196.
2 Н. К. Михайловский. Поли. собр. соч., т. 1, изд. 5. СПб., 1911,
стр. 655.
3 Н. К- Михайловский. Поли. собр. соч., т. 3. СПб., 1909, стр. 501.
119
пень развития — низшую форму. Приведением же в со-
ответствие степени и типа достигается социалистический
идеал. Поэтому Михайловский обращает основное вни-
мание на «тип развития», т. е. по существу на форму
собственности. Все это требовалось для того, чтобы до-
казать реальную возможность при помощи вмешатель-
ства в ход общественного развития изменить его, напра-
вив Россию не по капиталистическому, а по социалисти-
ческому пути.
Михайловский считает, что политические преобразо-
вания, оторванные от экономических, не могут дать на-
роду никакой пользы. Необходимо вести борьбу за изме-
нение экономических условий. Только в них ключ к раз-
решению социальной проблемы в целом. Политические
же реформы по самой своей природе таковы, что ими
могут воспользоваться прежде всего имущие слои обще-
ства. «Все мы очень хорошо знаем, что политическая и
экономическая свобода в Европе оказалась новым ви-
дом рабства народа» Ч
Поскольку буржуазные свободы не решают «про-
блему куска хлеба», не говоря уже о других, и оказы-
ваются новым рабством, то необходима революция не
политическая, а социальная. Вопрос, кто и когда дол-
жен совершить эту революцию, для Михайловского оста-
вался неясным. Он не верил в близость народного вос-
стания и, очевидно, не желал его в форме неорганизо-
ванных бунтов.
Михайловский был уже сложившимся демократом и
социалистом, но не считал революционный взрыв необ-
ходимым условием общественного преобразования в
данное время. Его деятельность того периода может
быть названа деятельностью реформиста-народника. Она
отличалась от деятельности революционера-народника,
но не была ей противопоставлена. С течением времени
Михайловский все более сближался с революционным
подпольем, а в начале 80-х годов стал одним из его
участников.
К концу 1877—1878 гг. относятся и значительные из-
менения в мировоззрении Михайловского, которые каса-
лись, правда, главным образом одного пункта. Михай-
ловский приходит к выводу, что без предварительных
1 Н. К. Михайловский. Поли. собр. соч., т. 1, стр. 766.
120
коренных изменений политического строя невозможно
осуществление социалистического идеала. Что вызвало
этот поворот? Очевидно, малая производительность апо-
литического движения, ощутимое для всех учащение
пульса общественной жизни и уяснение того факта, что
самодержавная власть расширяет свою опору за счет
различных слоев городской и сельской буржуазии.
С определенной ясностью о политической борьбе и ее
принципах Михайловский высказался в «Летучем лист-
ке» № 1, вышедшем 1 апреля 1878 г.1
«Летучий листок» дает оригинальное объяснение
причин и поводов появления политической борьбы. Ав-
тор «Листка» считает, что политическая борьба нача-
лась выстрелом В. Засулич и оправданием ее судом
присяжных, приговор которого с ликованием встретила
вся передовая Россия.
«31-е марта 1878 года, — читаем мы в «Листке»,—
будет навсегда памятным днем в русской истории.
В этот день общество... впервые оценило героизм мо-
лодежи, гибнувшей в тюрьмах и на каторге. Оно услы-
шало возмутительные подробности генеральского изде-
вательства над человеческим достоинством, узнало про-
шлое самой Засулич, заглянуло в ее чистую душу и не
только вынесло ей, в лице присяжных, юридическое
оправдание, но признало ее воплощением русской со-
вести и мысли»2.
Так, продолжает Михайловский, началась борьба за
гражданские права, и, следовательно, теперь нет спора
о том, как и в каком направлении должен быть совер-
шен первый шаг в историческом развитии России. Кон-
ституция, Земский собор — вот неминуемая ступень его.
««Исторического движения» задержать нельзя. Об-
щественные дела должны быть переданы в обществен-
1 Интересна и история его появления. Известный биограф Ми-
хайловского Е. Колосов рассказывает: «Один из издателей «Начала»
попросил Михайловского писать «Листки» на злобу дня, чтобы под-
польная типография той же газеты могла их печатать. Михайловский
согласился, но просил скрыть его авторство. На таких условиях вы-
шел первый номер «Листка», но вскоре была представлена рукопись
второго, и редакция потребовала открыть тайну авторства, Михай-
ловский не захотел. Так все издание остановилось на первом номере»
(см. «Голос минувшего», 1914, № 2, стр. 220).
2 «Революционная журналистика семидесятых годов XIX в.»,
стр. 66.
121
ные руки. Если этого не будет достигнуто в формах
представительного правления с выборными от русской
земли, в стране должен возникнуть тайный комитет
общественной безопасности... Решительные минуты со-
здают решительных людей» Ч
В приведенных извлечениях совмещено много важ-
ных мыслей. Тут и оправдание террора как средства
борьбы за ближайшие цели, и восхищение поступками
революционной молодежи, которая на своих плечах нес-
ла всю тяжесть борьбы, и указание на пробуждение
общественного мнения, и, наконец, предсказание зарож-
дения новой организации, в составе которой окажутся
действительно решительные люди. Высказав свое поли-
тическое кредо, Михайловский с редкой настойчивостью
стал пропагандировать его. Осуществление своей бли-
жайшей мечты он связывает с политической борьбой
передовой интеллигенции. Михайловский становится чле-
ном революционного подполья, действуя одновременно
на двух фронтах — легальном и нелегальном — в одном
и том же направлении.
В 1878 г. в «Отечественных записках» появилась
статья Михайловского «Утопия Ренана и теория авто-
номии личности Дюринга», в которой обосновываются
любые формы борьбы с насилием, в том числе и терро-
ристические: «Раз обида нанесена, раз насилие совер-
шено, надо видеть во враге врага, причем оказываются
дозволительными орудия хитрости и насилия... Зло су-
ществует, и с ним надо бороться, бороться иногда жесто-
кими, даже террористическими средствами»1 2.
Приведенные выписки не есть исключение. Можно
утверждать, что к началу 1878 г. взгляды Михайлов-
ского становятся взглядами политического революцио-
нера, сохранившего в качестве идеала социализм. С воз-
никновением «Народной воли» он сотрудничает с ней
и на протяжении шести лет так или иначе помогает на-
родовольцам. Этот период — один из самых ярких и
знаменательных в жизни публициста. Он начинается с
опубликования в «Народной воле» № 2 и 3 «Политиче-
ских писем социалиста». В них широко и ясно изложена
1 «Революционная журналистика семидесятых годов XIX в.»,
стр. 67.
2 Н. К. Михайловский. Поли. собр. соч., т. 3, стр. 233.
122
политическая программа Михайловского. Кратко суть
ее такова: Михайловский выступает глашатаем полити-
ческих свобод и идеалы Руссо считает своими. «Привет
вам с родины Руссо и во имя Руссо, чье широкое сердце
умело ненавидеть и политическое, и экономическое раб-
ство, чей широкий ум охватывал и принцип политиче-
ской свободы, и принцип социализма «Земли и воли»» L
За эти идеалы молодая Россия уже давно ведет
борьбу. Уже выросли бесстрашные борцы. Но до сих пор
борьба шла не так, как надо было ее вести. Вы боитесь,
обращается он к молодежи, конституционного режима
из-за его буржуазности, но эта буржуазность уже есть
в России. «У русского гербового орла две головы, два
жадных клюва» — один династически-полицейский, а
другой буржуазный; «они связаны единством ненасыт-
ного желудка»1 2.
При этих условиях конституция нужна народу в це-
лом, а потому Александр II ее не даст, «ее можно
только вырвать у него». В России уже есть буржуазия,
и ей царизм ближе свободы, «она прячется в складках
царской порфиры, но только потому, что ей так удобнее
исполнять свою историческую миссию расхищения на-
родного достояния и присвоения народного труда»3.
В Европе буржуазии нужна была свобода, потому что
третье сословие сложилось в самостоятельную силу еще
в недрах крепостничества, — «в этом горе Европы и урок
нам». Нам надо добиться свободы раньше, чем сможет
окрепнуть буржуазия. Давно надо было уяснить, что по-
литический деспотизм выгоден «только врагам народа».
«Конституционный режим есть вопрос завтрашнего
дня в России. Этот завтрашний день не принесет раз-
решения социального вопроса. Но разве вы хотите зав-
тра же сложить руки? Разве вы устали бороться? Верь-
те мне, что даже самое единодушное народное восста-
ние, если бы оно было возможно, не даст вам почить на
лаврах и потребует нового напряжения, новой борьбы.
Век живи, век борись!» 4
Покончить с политическим произволом, завоевать
свободы — такова главнейшая задача революционного
1 «Литература партии «Народной воли»», 1907, стр. 45.
2 Там же, стр. 46.
3 Там же, стр. 47.
4 Там же.
123
движения на современном этапе, а отсюда призыв: «Бей-
те же по обеим головам хищной птицы!» 1
Во втором «Письме» Михайловский дает объяснение
политическому террору и видит в нем средство уничто-
жения в России самодержавного управления. Нельзя
бороться с буржуазией, не уничтожив самодержавия.
Нужно с корнем, навсегда вырвать «из жизни и серд-
ца народа» идею царя. Став на этот путь, революцио-
нерам терять уже нечего... «Дальше Сахалина нет рус-
ских владений, выше виселицы вздернуть никого нель-
зя!»
Далее Михайловский развивает мысль о необходи-
мости для революционеров союза с либералами на вза-
имоприемлемой основе. «В практической борьбе безумно
не пользоваться выгодами союзов, хотя бы случайных и
временных», — пишет он. Заканчивается письмо утвер-
ждением, что понятием слов «Земля и воля» исчерпы-
вается для нашей интеллигенции единственно возмож-
ная программа, а вне этого «интеллигенция осуждена на
роль вечного политического недоноска»2.
Современники из лагеря революционеров очень вы-
соко ставили «Политические письма». Даже противники
политической борьбы — революционеры из «Черного
передела» называли «Письма» явлением необычным и
придавали им историческое значение. И действительно,
после знаменитых прокламаций начала 60-х годов под-
польная публицистика не имела столь сильного доку-
мента, как письма Граньяра (Михайловского). Помимо
прямого возбуждающего действия эти «Письма» имели
глубокий познавательный смысл. В них очень четко и
с большой определенностью впервые указано на то, что
русская буржуазия не является и не будет революцион-
ной силой. В отличие от западноевропейской она не
способна вести борьбу за политическое освобождение
страны. Утверждение политических свобод есть задача
русских революционеров. В этом смысле положение рус-
ского революционера более сложно, чем положение ре-
волюционера любой страны капиталистического мира,
но оно зато и более почетно ввиду очевидной трудности.
Победа политической свободы развяжет руки для борь-
1 «Литература партии «Народной воли»», 1907, стр. 48.
2 Там же, стр. 90.
124
Н. К. МИХАЙЛОВСКИЙ (1842—1904)
Александр II не даст конституции; ее можно только вырвать у него...
У нас политическая свобода должна быть провозглашена прежде, чем
буржуазия настолько сплотится и окрепнет, чтобы не нуждаться в
самодержавном царе и его эманациях... Конституционный режим
есть вопрос завтрашнего дня в России. Этот завтрашний день не
принесет разрешения социального вопроса. Но разве вы хотите
завтра же сложить руки?.. Век живи, век борись!
«Мы чествуем Михайловского за его искреннюю и талантливую
борьбу с крепостничеством...»
Ленин
бы за социализм. Михайловский прямо обусловливает
успехи в социалистической пропаганде политическими
свободами. Проповедь подобной идеи уже не была но-
вой, но, преподнесенная с таким публицистическим ма-
стерством и блеском, эта идея сильно способствовала
популяризации народовольчества. Имя Михайловского
как бы сливалось с «Народной волей», оно становилось
идейной силой народовольцев. В сущности благодаря
Михайловскому наиболее передовой и массовый жур-
нал того времени «Отечественные записки» во многом
служил «Народной воле», что означало уже само по
себе очень многое. Идеи «Политических писем социа-
листа» в той или другой форме проповедовались на
страницах «Отечественных записок».
Наряду с «Отечественными записками» большое
влияние на разночинную интеллигенцию оказывали де-
мократические журналы «Дело» и «Слово». Журнал
«Дело» издавался в 1866—1888 гг., редакторами и вдох-
новителями его многие годы были Г. Е. Благосветлов и
Н. В. Шелгунов, а сотрудничали в нем такие лица, как
Д. И. Писарев и П. Н. Ткачев. Одно упоминание этих
имен уже указывает на направление, которого придер-
живался журнал. Это был легальный литературно-поли-
тический орган с программой, выдержанной в демокра-
тическом духе. Он сохранил единство взгляда и если
подвергал изменению, то не программу, а только так-
тические приемы. И даже переломный 1878 год не был
переломом в его теории. «Дело» имел сравнительно
большую аудиторию и уступал в популярности только
«Отечественным запискам». Он находился в центре со-
бытий русской жизни и отражал потребности ее на
своих страницах. Журнал систематически освещал поло-
жение народных масс, и в первую очередь крестьянства.
Если судить о внутренней жизни народа, говорилось в
первом номере 1878 г., по идеям, которые им разрабаты-
ваются «или которыми он живет в данную эпоху, то
нужно согласиться, что 1878 год прошел у нас совер-
шенно бесследно, мертвенно и пусто», таким же, оче-
видно, будет и 1879 год Г
Голод, страшная нищета и забитость, болезни и са-
мое возмутительное — систематическое издевательство
1 См. «Дело», 1879, № 1, стр. 77, 80 (соврем, обозр.).
126
властей над беззащитными людьми труда — вот харак-
терные черты крестьянской жизни. Журнал рассказы-
вает о сечении розгами 60 крестьян в Ряжском уезде,
Рязанской губернии, за неуплату ими недоимок. Собрав-
шие сход писарь и становой пристав объявили: «Из гу-
бернии пришла бумага — пороть за недоимки», после
чего началось продолжавшееся целый день издеватель-
ство. Все это совершалось на глазах массы людей, и
никто даже не подумал о протесте. «Человек, перестав-
ший возмущаться, потерял разум», — заявляет «Дело»
в своем третьем номере. Этими и массой подобных фак-
тов подчеркивалась мысль, что без внешней помощи или
какого-то потрясающего всю страну толчка сам народ
не решит своей судьбы. Такое положение чревато боль-
шими опасностями для всего русского государства, нуж-
но «дать такое направление развитию внутренних сил,
чтобы стать Европой» L
Ориентация на Европу естественно требовала, чтобы
ее жизнь стала известна русской публике. Напряженная
история Франции становится в центре внимания. Появ-
ляются статьи о французском селе в конце XVIII в.,
возможные для легального издания указания на рево-
люцию 1789—1793 гг. и др. Журнал в наглядной форме
и оригинальной интерпретации знакомил с идеалами
Вольтера и Руссо: «Если Вольтер является поборни-
ком свободы религиозной и политической, то Руссо, по
верному выражению Луи Блана, был защитником «от-
верженных сынов земли, понимая, что для бедного, не-
вежественного народа свобода была бы лицемерным
деспотизмом без равенства, этой связи интересов и брат-
ства сердец»»1 2.
Высказанные к Европе симпатии не заслоняют ав-
тору приведенных слов и теневых сторон в социальной
структуре европейских государств. Политическая сво-
бода без экономических благ пуста, а, следовательно,
общественный идеал должен быть более емким, чем тре-
бование одной лишь свободы.
Та же мысль, но высказана еще более определенно
и ярко: «Если Вольтер возвысил человеческое достоин-
1 «Дело», 1879, № 1, стр. 65 (соврем, обозр.).
2 Там же, стр. 139 (соврем, обозр.).
127
ство, униженное деспотизмом, то Жан-Жак доказал, что
равенство людей есть их естественное право»
Задача, следовательно, состояла в том, чтобы соеди-
нить в едином процессе общественного движения две
идеи — идею свободы человеческой личности и идею
экономического достатка и обеспеченности всего народа.
Проповедь подобного рода идей благоприятно отража-
лась на подготовлении общественного настроения для
восприятия народовольчества. Правда, последнее дости-
галось не только этим, а всей совокупностью печатае-
мых журналом материалов, и особенно тех, которые
обличали самодержавный принцип политического управ-
ления. Все наше общество заражено страшными болез-
нями, его моральный уровень сильно пал: «Когда у так
называемого общества нет иного бога, кроме бога, изве-
стного под именами: рубль, нажива, выгода, барыш,
успех, карьера, — тогда, разумеется, и журналист начи-
нает смотреть на свое перо тоже как на орудие карьеры
и наживы...»1 2
Направление и цели журнала «Дело» лучше всего
можно представить через политическое мировоззрение
его редактора. Н. В. Шелгунов писал о Г. Е. Благосвет-
лове: «Политическим девизом Благосветлова было —
свободный человек в свободном государстве. Это его
исходная точка как человека, как писателя и как редак-
тора» 3.
Такое кредо редактора позволило журналу «Дело»
идти навстречу народовольчеству и в свою очередь на-
родовольцам — навстречу журналу «Дело». Из этого,
понятно, далеко до вывода о том, что «Дело» был орга-
ном народовольцев, но некоторые из них печатали свои
статьи в журнале. Интересны в этом отношении высту-
пления И. Кольцова (Л. Тихомирова), а одна его ста-
тья— «К вопросу об экономике и политике»4 — имеет
значение особое, поскольку в ней дано идейное обосно-
вание народовольческой тактики политической борьбы.
Автор одновременно выступает против взглядов, изло-
женных в статьях Н. 3. «Мысли об отношении между
1 «Дело», 1879, № 1, стр. 139 (соврем, обозр.).
2 «Дело», 1879, № 7, стр. 87 (соврем, обозр.).
3 Г. Е. Благосветлов. Соч., Предисловие Н. В. Шелгунова. СПб.,
1882, стр. XXV.
4 См. «Дело», 1881, № 5.
128
общественной экономией и правом»1 и Н. Русанова
«Экономика и политика»2. И тот и другой, как думает
критик, преувеличивают силу воздействия экономиче-
ского фактора как на жизнь отдельного человека, так и
на исторический ход событий. Нельзя, пользуясь только
экономическим критерием, понять роль политических
факторов в жизни народов. «Политические учрежде-
ния. .. — отмечает Кольцов, — не простое отражение
экономики, а до некоторой степени самостоятельная сила
или имеют позади себя какую-то другую силу»3.
Эта сила может влиять на все стороны жизни людей
и на самое экономику, т. е. на производство в широком
смысле слова. Экономические побуждения — это только
то, что восстанавливает органическую силу, но за этими
пределами и лежит совокупность человеческой жизни,
которая может быть объяснена взаимодействием различ-
ных сил.
В сложной системе взаимоотношений людей важную,
если не решающую, роль играет сила, простое подчи-
нение. «Стремление к организации сил для захвата по-
литической власти составляет в высшей степени важную
черту в истории французских сословий. А что это стре-
мление не было ошибкой, за это ручается опыт тысяче-
летий: политическая власть оказала могучее влияние на
производство»4.
Так трактуется проблема о возможности и важности
захвата власти. В этом суть всей статьи Тихомирова и
в то же время, как мы знаем, прямая цель «Народной
воли». Но идея захвата власти, как известно, пропаган-
дировалась и раньше, сейчас же речь идет не о повторе-
нии известного, а о том, что овладение властью не есть
только изменение формы политического господства,
дальнейший его шаг — преобразование основ обще-
ственной жизни. Потому-то, заключает Кольцов, Н. Ру-
санов совершает историческую ошибку, когда заявляет,
что политические перевороты не изменяют общественной
жизни5.
1 См. «Слово», 1880, № 7.
2 См. «Дело», 1881, № 3, стр. 41—74 (соврем, обозр.).
3 «Дело», 1881, № 5, стр. 17 (соврем, обозр.).
4 Там же, стр. 36.
5 См. об этом интересную работу Д. Кузьмина «Народоволь-
ческая журналистика» с послесловием В. Н. Фигнер (М., 1930, гл. 5,
9 м. Г. Седов 129
Приведенные извлечения красноречиво свидетель-
ствуют, как широко легальная пресса могла пропаган-
дировать народовольчество.
Разбираемая статья важна еще и потому, что яви-
лась тем зерном, из которого выросло известное письмо
Исполнительного комитета «Народной воли» русским
революционерам-эмигрантам, ставшее впоследствии
предметом дискуссии между Л. Дейчем и группой наро-
довольцев во главе с В. Фигнер.
Менее ярко и менее последовательно, чем в журнале
«Дело», но в том же плане и направлении развивалась
и проповедовалась политическая концепция в журнале
«Слово» (1878—1881), редактируемом в разное время
Д. Коропчевским, И. Гольдсмитом, С. Кривенко и др.
Этому в значительной степени способствовало то, что на
его страницах выступало немало известных ученых и
общественных деятелей. Достаточно для примера на-
звать Н. И. Зибера, С. А. Венгерова, А. Скабичевского,
Н. Курочкина, М. Антоновича и М. Белинского. Журнал
имел определенный авторитет в общественном движении
и свой голос. По политическому направлению «Слово»
можно смело назвать антисамодержавным умеренно-
демократическим органом. Вполне естественно, что ле-
гальному органу приходилось свою ненависть к само-
державию выражать либо иносказательно, либо через
критику деспотизма других стран, таких, например, как
Франция кануна великой революции. Так, знаменитая
фраза Людовика XIV: «Государство — это я» — нашла
в журнале выразительное рассмотрение в плане отрыва
государственной власти от народа, когда сама власть
сделалась паразитом всего общества, а на народ смо-
трели только как на податную массу, что привело к все-
общей бедности производительных слоев населения и
особому запустению сельского хозяйства, а в конечном
итоге и явилось одной из причин революции. Цель обра-
щения к подобного рода фактам и явлениям француз-
ской истории очевидна: Россия находилась приблизи-
стр. 70—98). Его выводы и наблюдения можно принять как научно
обоснованные. Хочется заметить, что историческая литература давно
обратила внимание на то обстоятельство, что в основных теоретиче-
ских положениях Тихомиров не был достаточно самостоятельным.
То, с чем мы встречаемся в его статьях, было раньше изложено
Н. Михайловским.
130
тельно в том же положении — та же неограниченность
власти, ничем не сдерживаемый произвол бюрократии,
катастрофическое состояние сельского хозяйства и т. д.
Публикуемые в журнале конкретные материалы россий-
ской действительности подкрепляли эти выводы.
Не менее интересно понимание журналом экономи-
ческого положения России пореформенного периода.
«Наши экономические условия по различным причинам
резко изменились за последнее двадцатипятилетие.
Исчез целый строй дворянско-помещичьей жизни, и в
то же время народился новый буржуазно-эксплуататор-
ский склад жизни... Этот привлекательный мир золота
и могущества был открыт для всех: туда вели уже не
порода, не родственные связи, не талант, а только прак-
тическое умение и удача» L
Однако это не привело к улучшению условий жизни.
По-прежнему безотрадно было положение простого на-
рода, крайне тяжелыми оказались неурожайные годы,
повсюду ощущался недостаток хлеба, а местами насту-
пил настоящий голод. Материалы о положении кре-
стьянства не сходят со страниц журнала, публикуются
данные об увеличении вывоза хлеба за границу и об
остром его недостатке внутри страны. А восьмой номер
«Слова» за 1880 г. появляется со статьей выразительного
наименования — «Куда девался крестьянский хлеб?». Для
России, как страны аграрной, недостаток хлеба пред-
ставляется чем-то необычным, парадоксальным явлением
и в то же время в этом одна из главных болезней эконо-
мической жизни. «Усиленный вывоз хлеба за границу в
то время, когда дома ощущается недостаток в хлебе,—
одно из самых нездоровых экономических явлений»1 2.
На этом основании крестьянский вопрос «Слово» счи-
тало главным из всей суммы вопросов внутренней жиз-
ни. Его решение оно видело, однако, не на пути евро-
пейского развития. Из того, что являлось неизбежным
для Европы, «отнюдь не следует, что то же необходимо
должно повториться и у нас, тем более что мы начи-
наем жить позднее Западной Европы»3.
Правда, на страницах «Слова» можно найти утвер-
ждения прямо несогласные с этими, но некоторые народ-
1 «Слово», 1879, Ко 12, стр. 140.
2 «Слово», 1880, № 8, стр. 126.
3 «Слово», 1880, № 2—3, стр. 212.
* 131
нические черты характерны для этого органа, и вноси-
лись они в него главным образом С. Венгеровым, раз-
делявшим основные положения народовольчества, а
также С. Кривенко, который впоследствии сотрудничал
в «Народной воле».
Если экономическая история Европы для России не
закон, то естественно вставал вопрос, каким путем идти.
Вывод представлялся в виде изменения политического
строя и установления свободных учреждений, а народ,
получивший свободу, устроит жизнь согласно своим
обычаям и верованиям.
Журнал не указывал конкретных мер для достиже-
ния свободы, но на правительство не возлагалось ника-
ких надежд, что можно вывести из отношения к Лорис-
Меликову. Вот слова о его курсе: «Период ликования
прошел быстрее, чем можно было ожидать. Ликующие
оглянулись кругом: все та же тьма народных нужд, не-
решенных вопросов, мучительных сомнений и напрасных
надежд... Задачи одна другой труднее выступали перед
русским обществом с новою силою, бросая мрачную тень
на настоящее и вызывая недоверие к будущему...» 1
Если нет надежды на правительство, то остается
помогать тем, кто с ним борется, — таковы выводы тех,
кто читал «Слово», и в этом отношении оно делало то
общее дело, которое стояло на повестке дня истории
России конца 70-х годов. Журнал имел три предупре-
ждения, а с 1881 г. был закрыт.
В ряду передовых органов печати стоит также мос-
ковская газета «Русские ведомости». Говоря о легаль-
ной демократической публицистике 50—80-х годов Рос-
сии, обычно имеют в виду такие журналы, как «Совре-
менник», «Русское слово», «Отечественные записки»
и т. д. Газет же с аналогичной силой влияния не было
и, видимо, не могло быть, только «Русские ведомости»
составляют известное и редкое исключение из общего
правила. Значение данного факта усилится, если мы не
забудем, что «Русские ведомости» издавались по сосед-
ству с «Московскими ведомостями» и развивались как
антитеза им. Война с Катковым была очень тяжелой и
опасной, но тем значительнее роль, сыгранная «Русскими
ведомостями» в истории печати и в общественном дви-
1 «Слово», 1880, № 10, стр. 76.
132
жении. По своему направлению «Русские ведомости»
представляли собой радикальный орган народническо-
либерального оттенка. Но идея политических и граждан-
ских свобод была главной в программе. Вокруг газеты
группировалась значительная часть демократической ин-
теллигенции. Многие выдающиеся деятели русской об-
щественной мысли и культуры печатали свои статьи в
«Русских ведомостях». Вот некоторые из фамилий, гово-
рящие сами за себя: П. Г. Заичневский, Н. Г. Чернышев-
ский, В. Г. Короленко, Н. К. Михайловский, Н. С. Аннин-
ский, П. Л. Лавров и т. д. Газета имела значительную
популярность и славу честного органа. Ее читатели вос-
питывались в духе чувства гражданского достоинства,
уважения к свободным демократическим учреждениям.
Значение журналистики в том именно и состояло, что
она воздействовала на граждан в определенном направ-
лении, ставила перед ними проблемы общественной, со-
циальной и государственной жизни, предлагала то или
другое решение или наталкивала читателя на самостоя-
тельный выбор пути. Изо дня в день, из месяца в месяц
шла эта незаметная, но крайне важная работа передо-
вой русской прессы.
Из сказанного с очевидностью вытекает, что народо-
вольческое движение возникло отнюдь не внезапно, а
явилось следствием сравнительно долгого процесса воз-
никновения и вызревания его составных элементов. Это
подготовление шло по линии углубления отдельных сто-
рон революционной теории на базе новых фактов соци-
ально-экономической жизни России, а также в плане
пропаганды идей гражданской свободы на страницах
передовой прессы.
Сама же практическая деятельность революционного
подполья, как мы видели, роковым образом ставила за-
дачи политической борьбы и в сущности породила «На-
родную волю» как партию открытого революционного
действия. Несомненно и то, что с возникновением на-
родовольчества создавалась обстановка для единства
действий всех, кто был недоволен царизмом, что имело,
как увидим ниже, громадные последствия.
ГЛАВА II
«ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ»
И НОВЫЕ ЗАДАЧИ
РЕВОЛЮЦИОННОГО
ДВИЖЕНИЯ
По мере усиления политических тенденций и оживления
террористического движения обострялась борьба внутри
«Земли и воли», что сопровождалось уменьшением ее
удельного веса в революционном движении того периода.
Самая мощная подпольная организация революционе-
ров пореформенной России стала испытывать такие зна-
чительные трудности, которые нельзя было преодолеть
без решительного изменения программы, организацион-
ных принципов, а следовательно, и характера самой
борьбы.
Как известно, «Земля и воля» ставила перед собой
обширные задачи, состоящие прежде всего в том, чтобы
пробудить народные массы, поднять их на социальную
революцию. Формы подготовки масс к решению столь
важной задачи были различны, но главная из них со-
стояла в создании постоянных и длительных поселений
в крестьянстве. Такие поселения возникали в различных
губерниях России. Прекрасной иллюстрацией этой мыс-
ли являются слова А. Михайлова: «В 1877 г., весной,
почти весь кружок народников, местным своим соста-
вом вместе с десятками связанных с ними людей, дви-
нулся в народ, так как там в организации народных
вожаков и местных экономических протестов были все
его надежды. В Самаре, Саратове, Царицыне, Астра-
хани, на Урале, в Ростове, на Кубани, вообще на юго-
134
восточных окраинах образовался ряд поселений...»1
Лучшие силы общества направлялись на их организа-
цию. Приобретенный до того опыт, строгая конспирация,
приближение пропаганды к непосредственным нуждам
деревни, единое руководство центра, казалось, должны
были обеспечить успех. На практике же выходило не
так. Все поселения гибли одно за другим, и к середине
1879 г. поселенческая деятельность землевольцев явно
исчерпала себя2. Народникам не удалось поднять кре-
стьянство на революцию. Крестьяне оказались глухи так-
же и к социалистической пропаганде. Мелкобуржуазный
характер крестьянской идеологии обнаруживался на
каждом шагу. Вполне естественно поэтому, что у многих
пропагандистов все чаще и чаще возникало сомнение
в правильности избранной тактики и они стремились
найти новые пути для достижения цели.
Среда рабочая и городская вообще, на которую зем-
левольцы меньше обращали внимания, оказалась более
восприимчивой к идеям свободы, политического равен-
ства и социальной справедливости. Видимо, именно в
городе могла и должна была сложиться партия, знаме-
нем которой станет защита интересов народа в целом.
На протяжении 70-х годов неуклонно и быстро рос
рабочий класс численно. В своей «Исповеди»3 извест-
ный пропагандист-революционер начала 70-х годов
Дм. Рогачев выражал надежду, что в России будет про-
летариат. Теперь, в конце того же десятилетия, пролета-
риат стал уже заметной силой общественного развития.
Если в 1860 г. в России (без Царства Польского)
было 15388 фабрик и заводов с 545142 рабочими, то в
1885 г. количество фабрик и заводов возросло до 24 913,
а число рабочих на них составило 869828 человек.
Одновременно с этим росло количество горнорабо-
чих. В 1861 г. их насчитывалось 170792, в 1880 г.—
238 414, а в 1885 г. — 349 319 человек4.
1 См. А. П. Прибылева-Корба и В. Н. Фигнер. А. Д. Михайлов,
стр. 47.
2 Нельзя, однако, из этого делать вывод, что позже вообще не
было поселений. Как эпизодические явления поселения разночинной
интеллигенции разных политических направлений встречаются в
80-х и даже в 90-х годах XIX в.
3 См. «Былое», 1924, № 24.
4 См. К. Пажитнов. Положение рабочего класса в России, т. 2,
изд. 3, перераб. Л., 1924, стр. 128.
135
Более чем миллионную массу рабочих нельзя было
не заметить. Но дело в данном случае состояло не толь-
ко и не столько в количестве. Увеличение рабочего
класса сопровождалось ростом его сознания, а вместе
с этим из года в год нарастала волна стачечной борьбы.
За десять лет от отмены крепостного права произошло
около 50 стачек и волнений рабочих, а с 1870 по 1879 г.
число только стачек возросло до 224 и волнений — до
102. Стачки, несмотря на их стихийный характер, имели
громадное воспитательное значение. В процессе стачеч-
ного движения перед рабочими все отчетливее и яснее
вставали задачи политической борьбы. Вот что писал об
этом В. И. Ленин: «.. .борьба рабочих с фабрикантами
за их повседневные нужды сама собой и неизбежно на-
талкивает рабочих на вопросы государственные, поли-
тические, на вопросы о том, как управляется русское
государство, как издаются законы и правила и чьим
интересам они служат. Каждое фабричное столкновение
необходимо приводит рабочих к столкновению с зако-
нами и представителями государственной власти»1.
В отличие от волнений крестьян, сознание которых
было опутано царистскими иллюзиями, выступления ра-
бочих в условиях самодержавного строя подрывали и
расшатывали самое основу государственных порядков
России.
Как указывал В. И. Ленин, «семидесятые годы за-
тронули совсем ничтожные верхушки рабочего класса.
Его передовики уже тогда показали себя, как великие
деятели рабочей демократии, но масса еще спала»2. Но
тот факт, что русский рабочий класс выделял созна-
тельных вожаков рабочей демократии, говорил уже о
том новом, что имелось в освободительном революцион-
ном процессе. На базе роста рабочего движения и под
непосредственным его влиянием стали возникать рабо-
чие кружки и союзы. В 1875 г. на юге России сложился
рабочий союз под руководством Заславского, а в 1878 г.
в Петербурге возник «Северный союз русских рабочих».
Самой важной особенностью этих организаций было то,
что они в отличие от народников выдвинули конкретные
задачи политической борьбы, сделали попытку само-
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 2, стр. 104—105,
2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 22, стр. 72.
136
стоятельного решения их. В программе «Северного сою-
за» было записано: «Сознавая крайне вредную сторону
политического и экономического гнета, обрушивающего-
ся на наши головы со всей силой своего неумолимого
каприза, сознавая всю невыносимую тяжесть нашего со-
циального положения, лишающего нас всякой возмож-
ности и надежды на сколько-нибудь сносное существо-
вание, сознавая, наконец, более невозможным сносить
этот порядок вещей, грозящий нам полнейшим матери-
альным лишением и парализацией духовных сил, мы,
рабочие Петербурга, на общем собрании от 23 и 30 де-
кабря 1878 г. пришли к мысли об организации обще-
русского союза рабочих, который, сплачивая разрознен-
ные силы городского и сельского рабочего населения и
выясняя ему его собственные интересы, цели и стремле-
ния, служил бы ему достаточным оплотом в борьбе
с социальным бесправием и давал бы ему ту органиче-
скую внутреннюю связь, которая необходима для успеш-
ного ведения борьбы» ’.
Подъем рабочего движения, решительное усиление
студенческих волнений, оживление политической жизни
в либеральной среде способствовали перемещению цен-
тра деятельности землевольцев из деревни в город.
В сущности самые яркие и важные события рево-
люционной деятельности землевольцев начиная с 1878 г.
происходили в городе. Так, в январе они приняли актив-
ное участие в организации стачки рабочих на фабрике
Шау и Новой Бумагопрядильне. Благодаря взаимной
поддержке более полутора тысяч рабочих обеих фабрик
продержались два месяца. Землевольцы опубликовали и
распространяли специальное воззвание — «К рабочим
всех фабрик и заводов», в котором призывали рабочих
к единству, к обоюдной поддержке, рекомендовали со-
бирать пожертвования в пользу стачечников: «Двугри-
венный небольшие деньги, а между тем большая по-
мощь, особливо семейным, у кого дети... Так и помо-
гайте друг дружке — на людях и смерть красна»1 2.
1 «Рабочее движение в России в XIX в.». Сборник документов
и материалов. Под ред. А. М. Панкратовой, т. II (1861—1884), ч. 2
(1875—1884). М„ 1950, стр. 239.
2 «Революционное народничество 70-х годов XIX века», т. II,
стр. 53,
137
В марте того же года произошло аналогичное собы-
тие на фабрике Кенига. Землевольцы наладили сбор
средств для стачечников и внесли организованность во
весь ход борьбы рабочих. То же можно сказать и в от-
ношении стачек на фабрике Максвела, Торнтона, на
Охотном заводе, на фабрике Мальцева и на других пред-
приятиях столицы.
Эти и им подобные события получили теоретическое
освещение в подпольной журналистике. Журнал «Земля
и воля» писал: «Вопрос о городском рабочем принадле-
жит к числу тех, которые, можно сказать, самою жиз-
нью самостоятельно выдвигаются вперед, на подобаю-
щее им место, вопреки априорным теоретическим реше-
ниям революционных деятелей. В прошлом, не без
некоторого основания, мы обращали все свои надежды,
употребляли все усилия на деревенскую массу. Город-
ской рабочий занимал второстепенное место в расчетах
революционеров... Такое отношение к делу... дает
себя чувствовать очень плачевными результатами»
Таким образом, рабочий вопрос нельзя уже было
игнорировать, а вместе с ним невозможно было игнори-
ровать и задачи политической борьбы, так как в про-
граммах рабочих организаций содержались требования
гражданских свобод, т. е. конституции, и «Земля и
воля» в редакционной статье приветствует возникнове-
ние «Северного союза русских рабочих».
«Теперь, — говорится в статье, — мы можем уже ска-
зать, что великая истина: «Освобождение рабочих долж-
но быть делом самих рабочих» — отныне становится для
русского рабочего не только теоретическим положением,
но и лозунгом его практической революционной деятель-
ности» 2.
Приведенные строки, верные по сути своей, к сожа-
лению, не означали правильного понимания землеволь-
цами роли и исторического значения рабочего движения,
с одной стороны, и политической борьбы — с другой.
В том же номере «Земли и воли» мы находим порица-
ние рабочих за то, что они выдвигают на первый план
требования политических свобод. Руководители «Север-
ного союза» не согласились с этой критикой: они спра- * 3
1 «Революционная журналистика семидесятых годов», стр. 194,
3 «Земля и воля» № 4, 20 февраля 1879 г.
138
ведливо были убеждены, что без борьбы за политиче-
ские гарантии не может быть речи об успешном рабо-
чем движении вообще. И впоследствии Плеханов
признал, что критика «Землей и волей» программы
«Северного союза» была ошибочной и свидетельствовала
только о том, что в своем политическом развитии пере-
довые рабочие ушли дальше некоторых народников,
даже таких, каким был сам Плеханов. Главнейшая за-
слуга рабочих организаций второй половины 70-х годов
состояла в том, что они вносили в революционный про-
цесс идею политической борьбы, объективно способствуя
тем самым преодолению аполитизма. Это в свою оче-
редь прямо или косвенно оказало воздействие на раскол
«Земли и воли», на отход ее главных деятелей от баку-
низма, точнее, от бакунистского воздержания от поли-
тики. В какой бы форме ни выражалось несогласие
народников с рабочими по вопросам политической борь-
бы, но игнорировать эти вопросы они не могли. Больше
того, некоторые деятели народников, как, например,
А. Михайлов, сам факт усиления рабочего движения
рассматривали с точки зрения необходимости перехода
к политической борьбе с правительством. В своих пока-
заниях следствию А. Михайлов писал: «Осень 1878 г. и
зима с 1878 на 1879 г. были успешны для народников,
действовавших между рабочими. Для этой работы орга-
низация имела особую группу людей. Она посвящала
себя преимущественно этому делу и потому имела
много связей и знакомств среди рабочих различных за-
водов и фабрик. Как известно уже, народники в этой
сфере кроме пропаганды считали необходимым двигать
рабочих на борьбу с хозяевами за свои насущные инте-
ресы. Борьба должна была дать рабочим единство и
уяснить их положение как сословия. Одним из главных
средств борьбы признавалась стачка» !.
Успешно начавшаяся деятельность землевольцев по
поддержке стачечной борьбы рабочих очень скоро на-
толкнулась на яростное сопротивление правительства.
«Истребительный» курс правительства и в городе заста-
вил революционеров поневоле стать в положение бор-
цов за гражданские гарантии. В этом пункте и сходи-
1 А. П Прибылева-Корби и В, И, Фигнер, А, Д. Михайлов,
стр. 125;
139
лись взгляды революционеров-политиков из интеллиген-
ции и представителей рабочей демократии. Именно
поэтому многие рабочие (и даже руководитель «Северно-
го союза» С. Халтурин) примкнули к «Народной воле» и
в ее рядах боролись за политические свободы. Само-
стоятельно же — без народников — рабочие не могли
в то время возглавить эту борьбу, так как рабочее дви-
жение еще не выделилось из общедемократического, а
потому повторяло этапы последнего.
Что же касается студенческого и либерального дви-
жения, то они были городскими по самой своей при-
роде.
Так, вопреки первоначальным намерениям «Земля и
воля» стала действовать главным образом и прежде
всего в городе. М. Фроленко утверждал, что 1878 год
был переломным для землевольцев и именно в это время
началась их городская деятельность *.
Вернемся к вышесказанному. Перенесению центра
тяжести революционной деятельности в город в силь-
ной степени способствовали начавшийся отлив сил из
деревни и серьезные провалы осенью 1878 г.
В половине октября оказались опознанными и под-
верглись аресту в Петербурге крупные деятели «Земли
и воли» О. Натансон, А. Оболешев, А. Малиновская,
Л. Буланов, Л. Бердников, В. Трощанский и некоторые
другие. Этот провал был тяжелым ударом для всего
революционного движения 70-х годов, что хорошо пони-
мали борющиеся стороны. Донесения III отделения на
имя императора полны нескрываемого торжества по это-
му поводу. Серьезность сложившейся обстановки очень
трезво оценивали революционеры, оставшиеся на воле.
Процесс восстановления организации прекрасно опи-
сан Плехановым: «Михайлов принялся восстанавливать
полуразрушенную организацию. С утра до вечера бе-
гал он по Петербургу, доставая деньги, приготовляя
паспорта, заводя новые связи, — словом, поправлял все,
что было поправимо в нашем тогдашнем положении.
Скоро наши дела пришли в некоторый порядок, и об-
1 См. М. Ф. Фроленко. Комментарий к статье Н. А. Морозова
«Возникновение «Народной воли»» («Былое», 1906, № 12, стр. 24),
а также «Липецкий и Воронежский съезды» («Былое», 1907, № 4,
стр. 81),
140
щество «Земля и воля» не только не распалось, но при-
ступило даже к изданию своей газеты. Неутомимая дея-
тельность Михайлова за этот период времени состав-
ляет одну из самых главных заслуг его перед русским
революционным движением... В принципе Михайлов
по-прежнему признавал деятельность в народе главною
задачею общества «Земля и воля», но он думал, что
при наличных силах этого общества нельзя было на-
деяться на сколько-нибудь серьезный успех в крестьян-
ской среде. «В настоящую минуту нам, находящимся в
городах, нечего и думать об отъезде в деревню, — гово-
рил он по возвращении из Ростова, — мы слишком сла-
бы для работы в народе»» *.
О той же исключительной роли Михайлова в вос-
становлении «Земли и воли» наряду с деятельностью
С. Кравчинского, Г. Плеханова, М. Зундилевича,
А. Квятковского и других говорит и О. Аптекман1 2.
Восстановление центра «Земли и воли» было не про-
стым воссозданием старого. В плане организации меня-
лись ориентиры, среда и объекты деятельности.
Вызванный из Воронежской губернии в Петербург
для укрепления центра организации М. Р. Попов увидел
в столице совсем иное настроение, чем до осенних погро-
мов. Он писал об этом: «Провал в Питере, который
стоил нам таких людей, как О. А. Натансон, Оболешев,
Адриан Михайлов и другие видные члены организации,
требовал мести и революционизировал людей в этом
направлении. Многие, правда, еще стояли в нереши-
тельности перед этими вопросами, вызванными погро-
мом, но другие во главе с А. Д. Михайловым оконча-
тельно решили, что революционное движение должно
пойти новым путем»3.
Речь могла идти в данном случае не о чем ином,
как только об открытой и активной борьбе с правитель-
ством. На одном из совещаний центра Михайлов прямо
подчеркнул это: «.. .мы должны отныне вступить с пра-
вительством в борьбу, разбираясь в средствах только
по указанию самой борьбы. Мы должны прежде всего
1 Г. В. Плеханов. Соч., т. I. М.—Пг., 1923, стр. 163—164.
2 См. О. В. Аптекман. Из истории революционного народниче-
ства. «Земля и воля» 70-х годов, стр. 163.
3 «Былое», 1907, № 7, стр. 269.
141
бороться всеми средствами за наше существование, за
существование революционной партии в России» *.
В качестве непосредственных дел Михайлов предло-
жил убрать Н. Рейштейна, оказавшегося шпионом и
провокатором, но слывшего за революционера в рабо-
чей среде, и отомстить шефу жандармов Дрентельну за
издевательства над заключенными революционерами и
за гонения на студентов. Известно, что Дрентельну при-
надлежит фраза, ставшая нарицательной: «Где сила,
там и насилие». Это была формула обращения прави-
тельства со своими жертвами. Понятно, оставаться рав-
нодушными к такому курсу правительства революцио-
неры не могли.
Итак, признав город центром деятельности, а город-
ское население ее объектом и субъектом, революцион-
ное движение уже по одному этому начинало терять
старую народническую основу: оно становилось на по-
литические рельсы и значительно расширяло масшта-
бы борьбы.
В практической жизни революционного подполья на-
мечаются и становятся очевидными большие перемены.
Многие из поселенцев оставляют деревни и переезжают
в города. Так поступили сестры Фигнер, Квятковский,
Попов, Аптекман и др.
А. Квятковский в своей записке центру «Земли и
воли» весной 1879 г. указывает на напрасную трату сил
на поселения в деревне при данных политических усло-
виях 1 2.
Обильный материал, указывающий на то, что старая
доктрина народничества перестала удовлетворять по-
требности боевой революционной организации на но-
вом этапе ее развития, дает и публицистика «Земли и
воли» конца 1878 и начала 1879 г.
Вот несколько примеров, взятых из множества им по-
добных. Автор фельетона «Письмо чистосердечного рос-
сиянина» в № 1 «Земли и воли», разбирая возможные
политические изменения в стране, пишет:
«Вот другое дело, если бы нам не пожаловали, а
мы сами добыли себе конституцию. Добытое своим тру-
1 «Былое», 1907, № 7, стр. 270.
2 См. «Архив «Земли и воли» и «Народной воли»». Ред. и пре-
дисл. С. Н. Валка. М., 1930, стр. 103.
142
дом, во-первых, дороже ценится приобретателем, во-вто-
рых, мы стали бы себе добывать то, что нам нужно, а
не принимать с благодарностью пожалованное, утешая
себя тем, что «даровому коню в зубы не смотрят».
В-третьих, такую конституцию и похерить труднее, чем
пожалованную»
Как видно из этих слов, редакция официального ор-
гана «Земли и воли» не была столь непримиримой к
конституционному строю. В принципе она даже не от-
вергала его. Правда, такой взгляд не мог еще быть
преобладающим, но тем показательнее защита его при
господстве аполитики.
Не так строга была редакция и в отношении идеи
цареубийства, хотя это относилось к покушениям Геде-
ля и Нобилинга на Вильгельма I. Но то, что одобря-
лось применительно к Германии, далеко не всеми могло
осуждаться, когда имелась в виду уже Россия.
«Текущий 1878 год долго будет памятен челове-
честву как один из этапов поступательного шествия
революции. Никем не судимые, никому не подсуд-
ные земные — боги-цари и царские временщики — убе-
ждаются на собственной шкуре, что и на них есть
суд.
Решавшие одним почерком пера вопрос о жизни и
смерти человека с ужасом увидали, что и они подле-
жат смертной казни»1 2.
Террористические акты в Западной Европе имели,
очевидно, определенный отклик в России. Во всяком
случае там и здесь 1878 год оказался крайне показа-
тельным. Документы III отделения решительно подчер-
кивают связь этих явлений, хотя она (эта связь) со-
стояла, по-видимому, только в наличии некоторых об-
щих причин, их породивших.
Если террор в отношении санкционирующей лично-
сти государства «Земля и воля» прямо еще не пропо-
ведует, то террор, направленный против активных слуг
престола, она полностью одобряет и рекомендует.
«.. .Бьем тех, кто нас бьет, кто нам опасен, и потому,
что он нам опасен»3.
1 «Революционная журналистика семидесятых годов», стр. 83.
2 Там же, стр. 103.
3 Там же, стр. 104.
143
Наконец, показательным является и то, что на стра-
ницах «Земли и воли» появляются заявления, призы-
вающие подполье к поддержке Ткачева, до того посто-
янно осуждаемого и бойкотируемого.
Очевидно, приведенных примеров достаточно для
того, чтобы понять, насколько систематично и последо-
вательно пробивали себе дорогу идеи политической
борьбы, программа завоеваний политических свобод.
В ноябре 1878 г. Г. Лопатин писал Ф. Энгельсу:
«Социалистическая пропаганда среди крестьян, по-види-
мому, почти прекратилась. Наиболее энергичные из ре-
волюционеров перешли инстинктивно на путь чисто
политической борьбы, хотя и не имеют еще нравствен-
ного мужества открыто сознаться в этом» Ч
К этим словам трудно что-либо добавить, настолько
они верно характеризуют состояние русского револю-
ционного движения к концу 1878 г.
Итак, в содержании революционной борьбы явно
наметились изменения: аполитика уступала место по-
литике. Внешние условия, реальные потребности реаль-
ной жизни брали верх над доктринами чисто экономи-
ческой борьбы во имя социальной революции, минуя
революцию политическую.
Но здесь необходимо видеть и внутреннюю сторону
дела. Русское землевольческое бунтарство, как опреде-
ленная система взглядов и действий, объективно не ис-
ключало возможности политической борьбы, напротив,
его сторонники подготавливали почву для такой борьбы
самим фактом активных действий. В этом отношении
бакунизм на русской почве не представлял собой за-
стывшего учения, он не статичен, а динамичен. Его
надо рассматривать как неизбежную и прогрессивную
ступень в органическом развитии революционного про-
гресса. Вчерашние аполитики становились политиками
и в этом переходе видели естественный поступательный
шаг, а не бегство от одной доктрины к другой. Плеханов
был прав, когда говорил, что террористическое движение
в России логически выросло из бунтарства, но он допу-
скал ошибку, когда все изменения в революционном
движении отождествлял с терроризмом.
1 «Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политиче-
скими деятелями», стр. 230.
144
Бунтарство действительно подготовило и отчасти по-
родило новый этап революционного движения, но он,
этот новый этап, не есть только терроризм. Главное в
нем, как увидим ниже, — принцип политической рево-
люции, террор же только одно из средств. Но идея по-
литической революции осталась бы фактом теоретиче-
ской мысли, если бы она не способствовала решению
главнейшей задачи того времени — расширению русла
освободительной борьбы. Старые теоретические построе-
ния и опирающаяся на них практика изжили себя.
Если мы будем действовать по-старому, говорил А. Ми-
хайлов, то как партия мы уничтожаемся, выходим в ти-
раж. Изменение основ теории и практики должно со-
провождаться включением в орбиту движения новых
районов и новых сил.
«Земля и воля», несмотря на значительное влияние
на кружки юга страны, оставалась все же организа-
цией территориально северной. Это известно не только
историкам, но было осознано и современниками, кото-
рые тяготились этим обстоятельством. Нужно было во
что бы то ни стало придать движению всероссийский
масштаб, втянуть в борьбу все районы страны. Не ме-
нее сложной представлялась задача расширения дви-
жения не только с географической, но и с социальной
точки зрения. Необходимо было организовать и при-
влечь к борьбе «всех недовольных» царизмом, но для
этого нужна была авторитетная партия с жизненной,
действенной платформой. Постановка этих задач и не-
замедлительное их решение настоятельно ощущались
многими, но далеко не всеми.
Зарождение и развитие новых идей и тенденций в
«Земле и воле» вызвали вначале разногласия по во-
просам понимания особенностей задач и тактики теку-
щей жизни, а потом напряженную идейную борьбу. Об-
разовались две группировки — «новаторы» и «ортодок-
сы». Первую возглавляли А. Михайлов, А. Квятковский
и Н. Морозов. Ортодоксальная же линия защищалась
Г. Плехановым, М. Поповым, В. Игнатовым и др.
Определившиеся группировки породили внутрипартий-
ную борьбу. Взаимоотношения между членами основ-
ного кружка изменились к худшему. Вот что говорит
об этом В. Фигнер: «Когда в декабре 1878 г. из Пе-
тровского уезда, Саратовской губернии, я приехала в
Ю м, г. Седов
145
Петербург, — разлад между членами центра был очеви-
ден: они тянули в разные стороны. Морозов и Михай-
лов горячо убеждали меня оставить деревню и перебрать-
ся в Петербург, доказывая бесполезность дальнейшей
жизни среди крестьян, а на собрании членов группы
Плеханов говорил с таким раздражением, таким тоном,
что враждебность к Михайлову и Морозову коробила
меня, непривыкшей к подобным отношениям» L
Разногласия в основном кружке перенеслись в ре-
дакционную коллегию «Земли и воли», что вполне есте-
ственно хотя бы потому, что в составе ее были Моро-
зов и Плеханов, не разделявшие взглядов друг друга.
Морозов выражал идеи и практику южных революци-
онных групп, солидаризируясь с Осинским. Плеханов,
напротив, самым отрицательным образом относился к
идеям политической борьбы и являлся рупором север-
ных и центральных народовольческих групп. Тихомиров
пока не примыкал ни к тому, ни к другому, считая, что
и деятельность в народе, и политическая борьба в рав-
ной степени важны. В этом смысле он в редакции пред-
ставлял силу примирения, а иногда и силу авторитет-
ного воздействия: Тихомиров был старше и опытнее
своих соредакторов. Так обстояло дело зимой 1878 г.
Весной же 1879 г. положение изменилось. Под влия-
нием многих событий резко обнаружилось «якобинство»
Тихомирова. Мысли о политическом перевороте и за-
хвате власти партией овладели им. Плеханов остался
единственным выразителем идей народничества в их
землевольческом понимании. Противоположные взгля-
ды в одном и том же органе излагать было невозможно:
написанная для журнала «Земля и воля» статья Тихо-
мирова об аграрном терроре вызвала протест как Мо-
розова, так и Плеханова. Обнаружились три точки зре-
ния, и раскол в редакции становился неизбежным. Те-
перь уже речь шла не о разногласиях, а о вражде.
Михайлов предложил создать новый орган как приложе-
ние к «Земле и воле», который отражал бы новые
взгляды. Этим новым и в то же время параллельным
органом явился «Листок «Земли и воли»», первый но-
мер которого вышел 12 марта 1879 г. Морозов, оста-
ваясь редактором «Земли и воли», сделался и редакто-
1 В. Фигнер. Поли. собр. соч, в семи томах, т. 1. М., 1932, стр. 144.
146
ром «Листка». Направление «Земли и воли» оставалось
прежним, «Листок» же пошел по иному пути. Аполи-
тизм землевольцев не только осуждался, но и осмеи-
вался в нем, политические убийства и красный террор
вообще признавались средствами достижения свободы.
Разногласия в редакции «Земли и воли» оказались ги-
бельными для журнала, и 28 апреля 1879 г. вышел пя-
тый, последний его номер. Публицистическая деятель-
ность «Земли и воли» прекратилась.
Не менее бурно развивались события и в основном
кружке «Земли и воли». Главным пунктом разногласий
здесь был вопрос о цареубийстве. Речь шла в данном
случае не только и не столько о личности императора,
сколько о том, как и при помощи каких средств можно
начать активные революционные действия. Ответы, со-
державшиеся в программе «Земли и воли», признава-
лись теперь неудовлетворительными. Руководящие дея-
тели «Земли и воли» пришли к заключению, что изме-
нение социальных отношений в России не может быть
совершено без предварительного разрушения государ-
ственной машины и что нападение на правительство
должно начаться сверху, а не снизу. Народ при совре-
менных условиях не поднимется на борьбу, если не
освободить его от правительственных пут. В условиях
всеобщей централизации управления взоры революцио-
неров неминуемо должны были обратиться на царя и
он невольно становился главнейшим объектом нападе-
ния.
В январе или феврале 1879 г. в Петербург с Повол-
жья приехал известный революционер-поселенец А. Со-
ловьев. Он с глубокой убежденностью доказывал това-
рищам из «Земли и воли», что при современных поли-
тических условиях деятельность в народе не только
бесполезна, но и вредна, так как уносит понапрасну много
жертв. Необходимо прежде всего изменить эти усло-
вия, что, по мнению Соловьева, могло быть достигнуто
убийством императора. Ради такой цели он твердо ре-
шил пожертвовать своей жизнью. Вслед за Соловьевым
в Петербург приехали Гольд енберг и Кобыл янский и
тоже изъявили готовность на цареубийство. Большин-
ство землевольцев неодобрительно и даже враждебно
отнеслось к «новым Каракозовым», но в конце марта
1879 г. на совещании шести (Михайлов, Соловьев, Квят-
*
147
ковскнй, Зунделевич, Кобыл янский и Гольденберг) ца-
реубийство было санкционировано.
Однако А. Михайлов считал нужным обсудить во-
прос о цареубийстве на совещании основного кружка
«Земли и воли». Обсуждение, происходившее без уча-
стия Соловьева, выявило диаметрально противополож-
ные точки зрения. В. Н. Фигнер так описывает эти
прения: «.. .но в ходе прений им было сообщено, что
решение сделать покушение непоколебимо и никакой
отказ не отвратит его. Это добавление — не считаться
с мнением организации — переполнило меру терпения
Плеханова и Попова. Возмущенный Попов воскликнул:
«Если среди вас найдется Каракозов, то не явится ли
и новый Комиссаров, который не пожелает считаться с
вашим решением?!» На это друг Попова Квятковский,
вместе с ним ходивший в народ, крикнул: «Если этим
Комиссаровым будешь ты, то я и тебя убью!»
Бурное столкновение кончилось компромиссом: как
организация «Земля и воля» отказывала в помощи по-
кушению, но индивидуально отдельные члены могли
оказать ее в той мере, какую найдут нужной»
Такое решение в сущности развязывало руки сто-
ронникам нового направления. Как частные лица они
могли оказать серьезную помощь в организации всего
дела. Первое, что надо было решить, кто возьмет на
себя непосредственное осуществление акта нападения
на императора. Соловьев не хотел уступить никому, но
и другие — каждый по-своему — отстаивали свои пра-
ва. Во избежание опасных для страны национальных
осложнений кандидатуры Гольденберга и Кобыл янско-
го отпали. Соловьев, поддержанный и одобренный това-
рищами, пошел на смерть. Нелегальных оповестили,
чтобы они покинули столицу. Такая предосторожность
объясняется опытом 4 августа, когда по делу Мезенце-
ва арестовали массу людей, абсолютно непричастных
к событию.
2 апреля 1879 г. состоялось покушение Соловьева
на Александра II, оно оказалось неудачным. Четыре
выстрела Соловьева не достигли цели: царь упал
не от ранений, а от испуга. Схваченный Соловьев не
успел принять яд, а потому предстал перед следствием
1 В. Фигнер. Поли. собр. соч., т. 1, стр. 144—145.
148
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ (1855—1884)
В России одна теория, одна практика: добиться воли, чтобы иметь
землю, иметь землю и волю, чтобы быть счастливыми. Вот задача
народа русского, вот в чем вы должны помочь ему. Ему надо власть,
чтобы обеспечить себе хлеб и свободу. Заставить отдать или отнять
власть у единодержца — вот задача, единственно достойная траты
народных сил, жертв, столь дорогих и ценных.
А. Д. Михайлов «подобно лермонтовскому Мцыри «знал одной лишь
думы власть, одну, но пламенную страсть»: этой думой было счастье
родины, этой страстью была борьба за ее освобождение».
Плеханов
и судом. При допросах он проявил огромную выдержку.
Ничто не поколебало его упорства. Он никого не вы-
дал, взяв всю вину на себя и категорически отвергнув
какое-либо соучастие других. Приговоренный к смерти
верховным уголовным судом, Соловьев был казнен.
Революционное подполье под влиянием событий
2 апреля еще решительнее дифференцировалось. Оно
как бы еще более обособило и сплотило образовавшие-
ся группировки, между которыми усилилась идейная
борьба. Плеханов впоследствии неоднократно повторял
мысль о том, что принятие тактики индивидуального
террора означало не укрепление, а ослабление револю-
ционной деятельности. «Под влиянием ваших затей
наша организация вынуждена покидать одну за другой
наши старые области деятельности, подобно тому как
Рим покидал одну за другой свои провинции под на-
пором варваров»
Принципиальное значение выстрела Соловьева со-
стояло отнюдь не в самом факте покушения: такие фак-
ты имели место в прошлом в достаточном количестве.
Дело в том, что этот факт выдвигал в иной постановке
проблему отношений революционеров к государству,
к уяснению роли политики и роли императорской власти
в жизни народа. Менялась вся постановка револю-
ционной проблемы. Этот акт должен был ответить на
вопрос: в какой зависимости находятся цареубийство и
революционная деятельность, другими словами, какие
перспективы открываются для деятелей подполья в свя-
зи с этим?
Если попытка Соловьева оказалась столь значитель-
ной для революционного мира, то и противоположная
сторона — правительство предпринимает крайне важ-
ные шаги. Уже в день покушения Александр II созы-
вает совещание высших сановников, на котором обсу-
ждаются меры по предотвращению развития «крамолы».
Правительственная мысль не шла в данном слу-
чае дальше предложений об усилении репрессий. По
предложению графа Валуева в Европейской России
объявлялось чрезвычайное положение. 5 апреля 1879 г.
был дан указ сенату об образований новых генерал-
1 Г. В. Плеханов. Соч., т. XXIV. М.—Л., 1927, стр. 305,
150
губернаторств (С.-Петербургского, Харьковского и
Одесского). Генерал-губернаторами назначались соот-
ветственно военные лица — генерал-адъютанты Гурко,
Лорис-Меликов и Тотлебен. Они получили диктатор-
ские полномочия. Подобные неограниченные права рас-
пространялись также и на московского, киевского и
варшавского генерал-губернаторов. Новый институт ге-
нерал-губернаторов должен был проводить политику
военного времени в условиях мира, и это несмотря на
то, что верховный уголовный суд над Соловьевым не
смог обнаружить, кто стоял за личностью покушавше-
гося. В истории внутренней политики России началась
полоса жестокого произвола. Под председательством
графа Валуева было создано особое совещание из ми-
нистров различных министерств для исследования при-
чин широкого распространения среди молодежи «разру-
шительных учений». Забегая вперед, нужно сказать, что
ничего существенного совещание не обнаружило и его
рекомендации не имели последствий, что объясняется
их поверхностным характером.
В таких условиях перед «Землей и волей», един-
ственной мощной организацией революционеров того
времени, вставала чрезвычайной важности дилемма:
либо самоустраниться от активной деятельности, либо,
изменив направление деятельности и перестроив орга-
низацию, принять вызов правительства и на его удар
отвечать ударом. Что вопрос стоял именно в этой пло-
скости и так резко, свидетельствуют многие участники
тех событий. Так обстояли дела и с точки зрения объ-
ективной.
Устранение от активной деятельности и открытой
борьбы обрекало бы революционное движение на из-
мельчание и затухание. Примером тому был опыт «Зем-
ли и воли» 60-х годов, которая самоликвидировалась,
не выдержав напора реакции.
Нужны были, следовательно, новые пути, иные ре-
шения. И те из лидеров движения, кто признавал, что
программа нынешней «Земли и воли» уже не отвечает
запросам времени, прямо стали указывать на необхо-
димость и своевременность активной политической борь-
бы с самодержавием для достижения гражданских
прав, имея в виду принцип «воли народов». Но одно
дело — заявить о необходимости политической борьбы
151
для завоевания гражданских свобод, а другое —- найти
пути и средства для ее ведения.
Россия 70-х годов еще не располагала достаточно
организованным революционным классом, способным
начать и возглавить борьбу с самодержавием, а интел-
лигенция не смогла да и не могла выполнить этой роли.
Отсюда вытекало своеобразие форм и средств полити-
ческой борьбы. Революционная разночинная интелли-
генция, не будучи фактически связанной с широкими
массами народа, выработала и использовала только те
средства борьбы, которые более всего свойственны ей.
Таким орудием политической борьбы стал индивидуаль-
ный террор. В. И. Ленин называл этот способ специфи-
чески интеллигентским. Из этого, конечно, не следует,
что представители других слоев общества обязательно
отрицали террор, напротив, идею индивидуального (фаб-
ричного и политического) террора разделяли довольно
многие рабочие, причем в самых различных местах
России.
Несмотря на то что индивидуальный террор являлся
интеллигентским способом действий, именно отношение
к нему оказалось предлогом для окончательного рас-
кола «Земли и воли». После выстрела Соловьева «Зем-
ля и воля» навсегда утратила единство. Она потеряла
общий ориентир, в ней действовали по существу две
силы. По свидетельству Плеханова, «.. .старое, некогда
образцовое единство общества «Земля и воля» было
разрушено и ... теперь каждое направление пойдет
своей дорогой, не заботясь, да уже и не имея нрав-
ственной возможности заботиться, об интересах це-
лого» !.
Ни одна из сторон не намеревалась уступать. Речь
могла идти либо о расколе, либо о принудительном
подчинении меньшинства большинству, что, однако, ре-
шить без съезда никто не мог. Сколько-нибудь точно
определить соотношение сил тоже не было возможным.
Большая часть руководства склонялась к политиче-
скому курсу борьбы, но кого поддержит подполье пери-
ферии— сказать было трудно. Эта неопределенность за-
ставила сторонников нового направления принять меры
по самоорганизации. Как известно, на юге до января
1 Г. В. Плеханов. Соч., т. XXIV, стр. 306.
152
1879 г. действовал Исполнительный комитет, Михайло-
ву и Квятковскому хотелось воспользоваться его авто-
ритетом. В данном случае важно было не только под-
твердить преемственную связь с кружком Осинского,
но и опровергнуть распространенное правительством
мнение, что юг России очищен от социалистов. Так са-
мочинно внутри «Земли и воли» возник кружок, при-
своивший себе наименование «Исполнительный коми-
тет».
История Исполнительного комитета «Земли и воли»,
а также возникшей вокруг него группы «Свобода или
смерть» недостаточно изучена. Нам неизвестно время
возникновения организации, нет полного состава участ-
ников ее, трудно с достаточной определенностью гово-
рить о политическом ее направлении (особенно до со-
бытий 2 апреля 1879 г.) и организационном построе-
нии. Документы, которые могли бы ответить на эти
вопросы, еще не обнаружены. В распоряжении истори-
ков имеются краткие воспоминания деятелей того вре-
мени, написанные много лет спустя и не претендующие
на сколько-нибудь широкое освещение предмета I Ли-
тературы по этому вопросу нет. В работах Богучарско-
го, Глинского, Корнилова и других содержатся лишь
общие и противоречивые сведения. Каждый автор дает
различные сроки возникновения организации, по-сво-
ему указывает ее состав и т. д.
В целом Исполнительный комитет «Земли и воли»
и группа «Свобода или смерть» ждут своего исследо-
вателя. Но уже сейчас, проведя некоторую обработку
известного материала, можно сделать кое-какие заклю-
чения.
Подпись Исполнительного комитета на документах
подполья стала систематически появляться с 12 марта
1879 г., когда вышел первый номер «Листка «Земли и
воли»». Значит, к этому времени Исполнительный ко-
митет как боевая организация уже действовал. Но
1 Из них обращают на себя внимание: А. В. Якимова. Группа
«Свобода или смерть» — «Каторга и ссылка», 1926, № 3; Н. А. Мо-
розов. Повести моей жизни, т. 3. М., 1947; В. Фигнер. Запечатленный
труд (Поли. собр. соч., т. 1, 2). Некоторые указания об Исполнитель-
ном комитете «Земли и воли» и о группе «Свобода или смерть» со-
держатся в воспоминаниях М. Фроленко, Л. Тихомирова и других,
но они еще более кратки.
153
нельзя согласиться с Богучарским и другими авторами,
которые связывают возникновение Исполнительного ко-
митета с разгромом южной организации такого же на-
звания и с передачей ее документов и печати в Петер-
бург. Исполнительный комитет «Земли и воли» сло-
жился несколько раньше, чем получил это наимено-
вание.
Можно установить лишь приблизительную дату ро-
ждения новой организации. Вспомним автобиографиче-
скую записку А. Михайлова. В ней есть прямое указа-
ние на образование особой группы, которая руководила
нападением на Мезенцева. В группу входили О. На-
тансон, А. Михайлов, А. Баранников и др. Покушение
на Мезенцева потребовало немалого срока подготовки,
а потому без значительной ошибки можно сказать, что
группа возникла в конце весны или в начале лета
1878 г. Важно, что несколько месяцев спустя Михайлов
и Баранников упоминаются как члены и организаторы
Исполнительного комитета.
В свое время В. Бурцев обратился к Тихомирову с
просьбой дать разъяснение по некоторым фактам исто-
рии «Народной воли». Тихомиров ответил письмом. Для
нас важны следующие строки: «То место у Михайло-
ва,— пишет Тихомиров, — о котором Вы спрашиваете,
говорит о днях основания Комитета. Это день рождения
«Народной воли». Но этих дней было три или четыре»1.
Расшифровать эти «три или четыре дня» рождения
Исполнительного комитета довольно просто. Первым
днем надо считать образование Исполнительного коми-
тета «Земли и воли» в 1878 г., вторым — преобразова-
ние его на Липецком съезде в самостоятельную орга-
низацию боевых действий и, наконец, объявление
Исполнительного комитета руководящим центром «На-
родной воли» после раскола «Земли и воли» в конце
лета 1879 г. Если последние «два дня» имеют свои
даты, то о первом из них точно говорить нельзя: Тихо-
миров сам этого не знал, так как к землевольцам
примкнул осенью 1878 г. Но здесь на помощь приходит
Морозов. Он пишет, что в 1878 г. «Земля и воля» была
близка к распадению и «левое» крыло ее (Михайлов,
1 «На чужой стороне». Историко-литературный сборник, т. X.
Прага, 1925, стр. 215.
154
Квятковский, Баранников, Морозов) составило «особую
группу под именем Исполнительного комитета «Земли
и воли»» L
Видимо, та боевая группа (по делу Мезенцева), вер-
нее, отдельные участники ее явились первоначальным
ядром, из которого вырос Исполнительный комитет
«Земли и воли». К весне 1879 г. Исполнительный коми-
тет был уже значительным по составу и имел свой пе-
чатный орган — «Листок «Земли и воли»».
История и предыстория Исполнительного комитета
важна не сама по себе, а прежде всего как один из
главных показателей изменения характера и направле-
ния революционной борьбы. 1878 год (что уже неодно-
кратно подчеркивалось) явился переломным в жизни
всего революционного движения, в том числе и в жизни
«Земли и воли». Исполнительный комитет — показатель
этого перелома. М. Грачевский позднее утверждал, что
до конца 1877 г. они не были революционерами, а за-
тем, познавши, что такое «бараний рог» и «ежовы ру-
кавицы», выбрали лозунг: «Свобода или смерть!»1 2
Изменение в направлении борьбы в 1878 г. состояло
главным образом в ее активизации, в переходе револю-
ционеров от тактики обороны к тактике нападения и
активной защиты. Для ведения такой систематической
и наступательной борьбы с правительством нужны были
союзники, и «Земля и воля» прямо указывает на яко-
бинцев. «Деятельность якобинцев как дезорганизаторов
власти встретит всегда сочувствие с нашей стороны.
В этом они убедятся на деле, коль скоро примутся за
практическую деятельность заговорщиков-разрушите-
лей» 3.
Пока, как видно, согласие провозглашается только
на поприще «разрушения», но придет время, и поли-
тическая сторона дела сблизит их.
Программу политических преобразований «Земля и
воля» еще не выдвигала, а борьбу с правительством рас-
сматривала только как отстаивание прав воюющей сто-
роны. Она объявила войну наиболее опасным слугам
престола, а не престолу в целом.
1 Н. А. Морозов. Повести моей жизни, т. 3, стр. 285.
2 См. «Красный архив», 1926, № 5, стр. 160.
3 «Революционная журналистика семидесятых годов», стр. 70.
155
Но отсутствие выработанной политической програм*
мы не исключало требований гражданских свобод.
Здесь основное противоречие землевольцев. В первом
номере «Земли и воли» содержится заявление о том,
что революционерам все равно, кто будет во главе пра-
вительства — царь или купец, а во втором говорится
уже о том, что Людовик XVI заслуживал казни уже по-
тому только, что был королем. Таких противоречий
очень много, но именно они и показательны для пере-
ходного времени. В марте 1879 г. появился «Листок
«Земли и воли»». Он уже без колебаний стал отстаи-
вать новый курс. К этому времени Исполнительный ко-
митет приобрел не только опыт активной борьбы, но
имел возможность опереться на новые силы. Теперь уже
выдвигается мысль о цареубийстве. Речь идет не толь-
ко об активной обороне и нападении, но прежде всего
о завоевании политических свобод. Новые задачи есте-
ственно требовали иной постановки организационных
вопросов. Исполнительный комитет в мае 1879 г. и ор-
ганизует особую группу специального назначения, по-
лучившую название «Свобода или смерть», которое
лучшим образом определяло ее кредо. Состав группы
мемуаристы определяют по-разному. А. В. Якимова пи-
сала, что в террористическую группу «Свобода или
смерть» вошли следующие лица: «Н. А. Морозов,
Л. А. Тихомиров, Александр Квятковский, Баранников,
Ст. Ширяев, Гр. Исаев, Зеге фон Ляутенберг, Арончик,
Богородский, Гр. Гольденберг, студент Якимов,
Е. Д. Сергеева, С. А. Иванова, Н. С. Зацепина и я» \
Н. Морозов приводит другой состав. Он называет
себя, Ширяева, Кибальчича, Гартмана, Богородского,
Якимову, Иванову, Исаева и Арончика1 2. Тихомиров от-
рицает свое участие в группе. Сопоставляя различные
источники, можно сказать, что членство Квятковского,
Баранникова, Тихомирова и Морозова очень сомнитель-
но, так как все они входили в состав Исполнительного
комитета. Исполнительный комитет не мог вводить в
подчиненную группу чуть ли не половину своего личного
состава. От центра в группу входил только один человек,
и им был Морозов, о чем он сам и говорит.
1 «Каторга и ссылка», 1926, № 3 (24), стр. 15.
2 См. Н. А. Морозов. Повести моей жизни, т. 3, стр. 286.
156
По свидетельству Морозова, группа имела устав, а
Фроленко утверждает, что группа имела и программу1.
Якимова ничего не говорит о программе, но помнит, что
был устав, и характеризует его особенности. В уставе,
пишет она, проведена мысль о строжайшей дисциплине
и абсолютной подчиненности группы Исполнительному
комитету. Группа действовала только по указаниям цен-
тра. Если Якимова верно указала на отношение группы
к Исполнительному комитету, то такая связь на Липец-
ком съезде получила наименование «вассальной».
По своему идейному направлению группа «Свобода
или смерть» была организацией политической. Крае-
угольным камнем ее работы должна быть «граждан-
ская свобода и представительный образ правления»2.
Практическая деятельность группы, просуществовавшей
едва ли более двух-трех месяцев, не могла быть значи-
тельной. Она обзавелась двумя конспиративными квар-
тирами, организовала для террористических актов изго-
товление динамита и снарядов, в чем достигла больших
успехов.
Появление группы «Свобода или смерть» в тайне от
«Земли и воли» и с целями, в сущности несовместимыми
с ее традициями и программой, наряду с существовани-
ем Исполнительного комитета лишний раз подтвержда-
ет, насколько жизненными оказались требования поли-
тической борьбы.
Итак, сторонники нового курса борьбы с весны 1879 г.
все более и более консолидировали свои силы и смело
вступали на путь практической деятельности. Они под-
держали Соловьева и решили продолжать его дело до
конца, создали Исполнительный комитет, организовали
покушение на Рейнштейна и Дрентельна, привлекли к
себе и объединили в кружок «Свобода или смерть» све-
жие силы, надеясь воздействовать на все общество
«Земля и воля». Новые взгляды открыто излагались на
страницах «Листка «Земли и воли»», однако перспекти-
вы освободительного движения трактовались очень уз-
ко. Все сводилось к индивидуальному политическому
террору. Больше того, в нем акты индивидуального на-
падения на слуг престола отождествлялись с революци-
1 См. «Каторга и ссылка», 1926, № 3 (24), стр. 20.
2 11. А. Морозов. Повести моей жизни, т. 3, стр. 286,
157
ей. Так, в редакционной статье «Листка» от 22 марта
1879 г. имеются такие слова: «...политическое убий-
ство— это осуществление революции в настоящем...»1
Подобный взгляд утрировал революционные идеи и
не мог найти сколько-нибудь широкого круга сторонни-
ков. Подавляющее большинство «новаторов» в актах
политического единоборства видело один из тактических
приемов, одну из форм политической борьбы.
Политическая реформа в революционной деятельно-
сти готовилась в плане широкого действия, а не так
примитивно, как о том писалось на страницах «Лист-
ка», о чем будет сказано подробно в связи с другими
событиями.
Выдвинутые жизнью проблемы, столь крупные по
масштабу и важные в практическом приложении, нельзя
было решить без общего съезда землевольцев, поэтому
«новаторы» и «ортодоксы» настаивали на его скорей-
шем созыве.
Каждая из сторон, естественно, была уверена в сво-
ей правоте и рассчитывала на успех, но последний в
значительной степени зависел не только от общего на-
строения, выигрышного для «новаторов», но и от подго-
товительных работ перед съездом. Причем сторонники
политической борьбы обнаружили не только большую
активность, но и несравнимое превосходство над свои-
ми противниками в области организации. Они явились
на съезд сплоченными, имея программу и план дейст-
вий, выработанные на предварительном съезде в Ли-
пецке.
Участник обоих съездов, Л. Тихомиров так описы-
вает события: «...согласно уставу «Земли и воли», дол-
жен был собраться общий съезд землевольцев для окон-
чательного обсуждения дел и постановки практических
задач организации... Для этого собрания выбран был
Воронеж... Новаторы очень желали воспользоваться
съездом для окончательного упрочения реформы. Самые
же рьяные охранители старой программы, напротив, на-
деялись, что на съезде им удастся искоренить из «Зем-
ли и воли» даже те ростки новшества, которые успели
туда проникнуть.
1 «Революционная журналистика семидесятых годов», стр. 283.
158
МАРИЯ ОШАНИНА (1853—1898)
Строго централистический тип организации на весь период борьбы
до первой прочной победы революции, мы считаем за наилучший,
единственно ведущий к цели.
«Я полюбила эту выдающуюся по уму и энергии женщину, предан-
ную освободительному движению всецело и без остатка».
А. Ко рб а
Ввиду такого положения вещей новаторы решили за
несколько дней до Воронежского съезда собрать свой
поблизости, в Липецке, с тем, чтобы взвесить силы и
явиться в Воронеж уже с ясно определенной программой
и с полным представлением о том, насколько обстоя-
тельства позволяют быть требовательными» Г
Заседания съезда «новаторов» в Липецке проходили
с 17 по 21 июня 1879 г. В нем приняли участие 11 че-
ловек: А. Михайлов, А. Квятковский, А. Желябов, Л. Ти-
хомиров, А. Баранников, М. Ошанина, М. Фроленко,
Н. Морозов, С. Ширяев, Н. Колодкевич и Г. Гольден-
берг. Они были представителями различных револю-
ционных организаций России — «Земли и воли», группы
«Свобода или смерть», кружков Украины: необходи-
мость новой платформы деятельности ощущалась повсе-
местно и разными по направлению организациями.
Среди делегатов преобладали люди выдающихся
способностей и с большим революционным опытом. Не-
смотря на резкое различие их взглядов вчера, сегодня
установилось единство мыслей и действий. Главное, что
объединяло их, — это общая осознанность необходимо-
сти политических преобразований, так остро ощущае-
мых страной. Тем же объясняется и то, почему «Народ-
ная воля» приобрела за короткий срок громадную из-
вестность и сочувствие. Свобода в полном и глубоком
значении слова была тем магнитом, который привлекал
к партии широкие слои общества. Народная воля — со-
держание и цель борьбы нарождающейся партии.
На заседаниях съезда были рассмотрены: проекты
программы и устава, отношение партии к курсу прави-
тельственной политики, который определился после со-
бытий 2 апреля 1879 г., и тип организации революцион-
ных сил в связи с новыми задачами.
Проект программы, подготовленный Морозовым, был
кратким и содержал в себе следующие положения:
современное состояние общественной жизни таково,
что наличие царского деспотизма делает невозможным
деятельность, направленную на благо народа;
ввиду отсутствия гражданских свобод (свободы сло-
ва, печати, собраний и т. д.) мирный путь — пропаган-
да и убеждение — исключается;
1 «Былое», 1906, № 8, стр. 109.
160
для достижения целей, направленных на улучшение
жизни народа, необходимо покончить со старым поли-
тическим строем России. Но бороться с деспотизмом
можно только путем насилия, т. е. с оружием в руках.
Эта борьба будет продолжаться до тех пор, пока не
возникнут благоприятные условия для решения поли-
тических и социальных проблем через народных пред-
ставителей, свободно избранных.
Несмотря на лаконизм, программа, однако, дает
возможность определить то новое, что отличает земле-
вольческий период от народовольческого.
Желябов, несколько раз выступивший на съезде,
обосновал необходимость решительного поворота всей
революционной борьбы в русло политики. Перспективу
русской революции он видел в совершении политическо-
го переворота и передаче власти народным представи-
телям. Он смело осудил культурничество и экономиче-
ский реформизм народников. Редкая внутренняя убеж-
денность и собранность мысли, колоссальная сила воз-
действия на других сразу выдвинули Андрея Ивановича
Желябова в число руководителей и идеологов новой ор-
ганизации.
Желябов доказывал на съезде, что «если партия
хоть сколько-нибудь считает своею целью обеспечение
прав личности, а деспотизм признает вредным, если она,
наконец, верит, что только смелой борьбой народ мо-
жет достигнуть своего освобождения, то тогда для
партии просто немыслимо безучастно относиться к та-
ким крайним проявлениям тирании, как тотлебенская и
чертковская расправы, инициатива которых принадле-
жит царю. Партия должна сделать все, что может: если
у нее есть силы низвергнуть деспота посредством вос-
стания, она должна это сделать; если у нее хватит силы
только наказать его лично, она должна это сделать;
если бы у нее не хватило силы и на это, она обязана
хоть громко протестовать... Но сил хватит, без сомне-
ния, и силы будут расти тем скорее, чем решительнее
мы станем действовать»
Предстоящая борьба рисовалась Желябову в виде
«насильственного переворота путем заговора», для чего
1 «Былое», 1906, № 8, стр. 112.
И М. Г. Седов
161
нужна «организация революционных сил в самом ши-
роком смысле» \
Как понять эти слова? Ведь заговор потому так и
называется, что противостоит организации революцион-
ных сил в широком смысле. Для заговора не нужна
широкая организация. Заговорщики сторонятся широ-
кого движения и считают возможным совершение поли-
тической революции небольшой группой лиц. Желябов
отлично понимал это и, так же как и бланкисты, думал,
что конспиративная революционная организация может
захватить власть путем заговора. Однако захват вла-
сти, как образно выразился Кравчинский, не есть акт
овладения министерскими бланками. Захватить власть
менее сложно, чем использовать ее в целях революции
и народа. Вот отсюда-то и начинается отличие Желя-
бова-бланкиста от Желябова-народовольца.
Для заговора широкая сеть революционных органи-
заций не нужна и может быть даже вредной, а для
удержания власти и развития революции и хотя бы да-
же для созыва Учредительного собрания после взятия
власти крайне необходима. В этой постановке перед
нами выступает не бланкист, а революционер, «имею-
щий право выступить от имени всего народа», — так го-
ворил о Желябове В. И. Ленин.
Именно такая, а не иная трактовка дает нам воз-
можность понять те высказывания В. И. Ленина о на-
родовольцах, которые, казалось бы, исключают друг
друга: первое — «для народовольца понятие политиче-
ской борьбы тождественно с понятием политического
заговора»1 2} второе — великая историческая заслуга на-
родовольцев состояла в том, что они объединяли и
старались привлечь к себе всех недовольных, чтобы
направить их энергию на борьбу с царизмом 3. В дейст-
вительности здесь нет никаких противоречий, речь идет
о двух сторонах народовольческой постановки «револю-
ционного вопроса»: о захвате власти (к чему сводилась
политическая борьба у «Народной воли») и ее исполь-
зовании для преобразования страны.
Очень интересны высказывания А. Михайлова по по
воду обсуждавшейся на съезде новой программы:
1 «Процесс 1-го марта 1881 года». СПб., 1906, стр. 223.
2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 2, стр. 459.
3 См. В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 6, стр. 135.
162
«На заседаниях Липецкого съезда, продолжавших-
ся от 17 до 21 июня, была выработана, во-первых, про-
грамма нового направления; во-вторых, были установ-
лены принципы и средства деятельности; в-третьих,
самый факт съезда санкционировал первый момент суще-
ствования партии «Н. В.» («Народная воля») и выделе-
ние ее из социально-революционной партии» L
Программа намечала и определяла цель партии —
«народоправление», т. е. установление народной власти,
а через нее и выявление народной воли. Истории из-
вестны два пути общественных преобразований — мир-
ный и немирный. На съезде «все собравшиеся едино-
душно высказались за предпочтительность мирной идей-
ной борьбы; но тщетно напрягали они свои умственные
силы, чтобы найти при существующем строе какую-ли-
бо возможность легальной деятельности, направленной
к вышеозначенной цели. Таких путей не оказалось. То-
гда, в силу неизбежной необходимости, избран был
революционный путь, намечены революционные сред-
ства» 1 2.
Но, встав на насильственный путь преобразований,
партия должна была позаботиться о приобретении та-
ких сил, борьба и энергия которых соответствовали бы
поставленной задаче. Не найдя сил, способных встать
на борьбу с правительством, партия возложила эту за-
дачу на самое себя. Среди различных форм и средств
борьбы в число главных «включено было и цареубий-
ство». Последнее рассматривалось не как месть, а на-
ряду с другими средствами как необходимая мера для
достижения цели. На съезде также было решено пре-
кратить насильственные меры борьбы с того момента,
когда откроется возможность «приблизиться к цели по-
средством свободной проповеди, свободных собраний,
свободной печати».
Так рисовал картину возникновения нового направ-
ления А. Михайлов, будучи человеком (как никто дру-
гой), посвященным одновременно в дела «Земли и во-
ли» и «Народной воли». Это представление полностью
совпадает со всем тем, что изложено им в автобиогра-
фических заметках.
1 «Былое», 1906, стр. 302.
2 Там же.
163
Как видно, развитие мысли по вопросам новой ори-
ентации революционного движения у Михайлова и Же-
лябова совпадает, хотя их высказывания не зависели
друг от друга. Это для нас важно, чтобы сделать следу-
ющее заключение: несмотря на то что принятая на Ли-
пецком съезде программа до нас не дошла, мемуари-
сты, говоря о ней, в целом верно воссоздают ее.
Съезд действительно констатировал, что ближайшая
цель революционной деятельности может быть опреде-
лена как народоволие, выявленное и определенное ре-
шениями Учредительного собрания, созванного из на-
родных депутатов при свободном волеизъявлении и без
каких бы то ни было ограничений.
На съезде значительное время заняло обсуждение
устава. В отличие от программы устав был простран-
ным, содержащим много различных пунктов. Членом
партии мог быть всякий, кто сочувствует ей и оказыва-
ет помощь непосредственной работой и материально.
Тщательно определились те критерии, которые необхо-
димо иметь в виду при приеме новых членов в Испол-
нительный комитет, численность которого не ограничи-
валась. В Исполнительный комитет мог быть принят
только человек, отдающий в его распоряжение как всю
свою жизнь, так и все свое имущество. О выходе из со-
става Исполнительного комитета речи быть не могло:
принятые в него становились профессиональными ре-
волюционерами. Непременным условием вступления в
Исполнительный комитет являлась активная революци-
онная деятельность и поручительство не менее трех чле-
нов. При вступлении нового члена ему читали устав по
параграфам и после прочтения каждого из пунктов тре-
бовалось согласие принимаемого. По прочтении всего
устава с поступающего бралась клятва вечно хранить
тайну. Членам Исполнительного комитета строжайше
запрещалось называть себя таковыми, Комитет должен
был быть «невидимым и недосягаемым» (разрешалось
называть себя агентом Исполнительного комитета раз-
ных степеней). Член Исполнительного комитета при со-
гласии комитета мог вступать и в другие тайные орга-
низации, но с тем, однако, условием, чтобы направлять
их деятельность в духе своей партии.
Исполнительный комитет являлся руководящим ор-
ганом будущей партии «Народная воля». Он издавал
164
свой печатный орган, получивший то же наименование,
что и партия. Для руководства текущей оперативной
деятельностью избиралась Распорядительная комиссия;
для ведения и хранения документации, денежных
средств и т. д. — секретарь Исполнительного комитета.
Таковы основные положения устава Исполнительного
комитета.
Все участники съезда, за исключением Гольденбер-
га, составили Исполнительный комитет. В Распоряди-
тельную комиссию избрали Михайлова, Фроленко и Ти-
хомирова. В редакционную коллегию будущей газеты
«Народная воля» как равноправные редакторы вошли
Тихомиров и Морозов. Секретарем органа Исполнитель-
ного комитета оказался избранным Морозов.
Третий день заседаний съезда был посвящен обсуж-
дению неотложных практических дел Исполнительного
комитета. Михайлов выступил с обвинительной речью
против Александра II. Речь эта произвела очень силь-
ное впечатление на присутствующих. В качестве прак-
тической меры Михайлов рекомендовал продолжать де-
ло Соловьева. Все поддержали это предложение, и в
принципе вопрос о цареубийстве был решен уже тогда.
После трех дней съезд закончил свою работу, и деле-
гаты группами направились в Воронеж, где 21 июня
предполагалось открытие съезда «Земли и воли» Ч
При обсуждении как теоретических вопросов, так и
в особенности направлений и оттенков практической
работы обнаружились различные точки зрения. Боль-
шинство из них было сглажено и преодолено решения-
ми съезда, но некоторые отстаивались в последующее
время. Собственно, здесь следует остановиться на взгля-
дах Н. Морозова и Г. Гольденберга. В брошюре «Тер-
рористическая борьба» Морозов рассматривал террори-
стическое движение, начавшееся в России в 1878 г., не
как один из методов борьбы, а как новую форму рево-
люции. По его мнению, революции всегда и везде по-
рождаются одними и теми же причинами, хотя являют-
ся в мир каждый раз «в новом неожиданном виде».
В прошлом революции проявлялись в форме крестьян-
1 О Липецком съезде см. воспоминания М. Фроленко («Былое»,
1907, № 1, стр. 67—86) и Н. Морозова («Былое», 1906, № 12, стр. 1 —
165
ских бунтов, но с течением времени «развитие мануфак-
туры привело к скоплению рабочего люда в городах, и
центр революционной жизни перешел к городскому на-
селению». В России, где «разрозненность крестьянского
населения мешает сорганизоваться большому деревен-
скому восстанию, а незначительность городского проле-
тариата не представляла до сих пор серьезной опасности
для правительства, начинающаяся революция приняла
совершенно своеобразные формы. Лишенная возможно-
сти проявиться в деревенском или городском восстании,
она выразилась «в террористическом движении» интел-
лигентной молодежи» Ч Эту «новую форму» революции
Морозов всячески восхваляет, доказывая ее преимуще-
ство перед другими. Если для Михайлова и Желябова
террористическая борьба есть только метод борьбы, да
и то вынужденный, в ряду других, то для Морозова
«террористическая революция представляет... самую
справедливую из всех форм революции»1 2.
Не менее важную роль террору отводил и Гольден-
берг. Он рассматривал его как главнейший рычаг, спо-
собный расчистить путь партии в ее стремлениях к сво-
боде. Желябов одновременно осудил то и другое толко-
вание. К брошюре Морозова, говорил он, «как партия,
мы относимся отрицательно», ее мысли служат «отго-
лоском прежнего направления, когда действительно не-
которые из членов партии, узко смотревшие на вещи,
вроде Гольденберга, полагали, что вся наша задача со-
стоит в расчищении пути чрез частые политические
убийства. Для нас в настоящее время отдельные терро-
ристические акты занимают только одно из мест в ряду
других задач, намечаемых ходом русской жизни»3.
Но, несмотря на то что Михайлов и Желябов более
широко представляли себе формы политической борьбы
и теоретически не сводили ее только к террору, в своей
практической деятельности, как увидим, они главные
усилия направили именно на него.
Если съезд в Липецке поддержал и укрепил поли-
тическое настроение в революционном движении, то
1 Н. Морозов. Террористическая борьба. Лондон, 1880, стр. 3, 4.
2 Там же, стр. 8.
3 Ник. Ашешов. Андрей Иванович Желябов. Материалы для
биографии и характеристики. Пг., 1919, стр. 109—ПО.
166
съезд землевольцев должен был решить вопрос, пойдет
ли «Земля и воля» по новому пути или предпочтет ста-
рый. Одна такая постановка вопроса придавала пред-
стоящему форуму особую важность, потому он и ожи-
дался с повышенным интересом как «ортодоксами», так
и «новаторами». В действительности, однако, съезд не
имел того значения, которое ему придавали борющиеся
стороны. Основные его решения носили компромиссный
характер и не могли удовлетворить участников съезда.
В Воронеж прибыло 25—26 делегатов, приглашено
же было более 40 человек. Те, кто не мог присутство-
вать, передали свои голоса другим. Среди присутству-
ющих были О. Аптекман, А. Баранников, А. Желябов,
Г. Исаев, А. Квятковский, Н. Колодкевич, А. Михайлов,
Н. Морозов, Г. Плеханов, А. Пресняков, М. Попов,
С. Перовская, С. Ширяев, В. Фигнер, М. Фроленко,
Н. Щедрин и др.
Съезд открылся 21 июня 1879 г. и имел четыре засе-
дания, которые прошли под открытым небом в приго-
родном лесу. Перед началом обсуждения основных во-
просов повестки дня было рассмотрено предложение о
приеме новых членов. «Новаторы» и «ортодоксы» пред-
ложили свои кандидатуры, которые были приняты без
возражений. В числе принятых оказались Желябов,
Колодкевич, Ширяев и Исаев.
Главной задачей съезда был пересмотр программы
«Земли и воли». Старый текст ее, утвержденный в
1878 г., читали по параграфам и каждую поправку стави-
ли на обсуждение. Основные положения программы оста-
лись неизменными, но вместе с тем были внесены важные
уточнения. К ним относится пункт об аграрном терроре
и о мести правительственным агентам на периферии.
Дезорганизаторская часть программы «Земли и воли»,
таким образом, значительно усиливалась, что, однако,
не означало признания идеи политической борьбы.
По отношению к правительству съезд вынес такое
решение: «Так как русская народно-революционная пар-
тия с самого возникновения и во все время своего
развития встречала ожесточенного врага в русском пра-
вительстве, так как в последнее время репрессии прави-
тельства дошли до своего апогея, съезд находит необ-
ходимым дать особое развитие дезорганизационной
группе в смысле борьбы с правительством, продолжая
167
в то же время и работу в народе, в смысле поселений
и народной дезорганизации» L
Вторым вопросом повестки дня был вопрос о поли-
тическом терроре. Здесь мнения совпадали. Съезд при-
знал необходимым уничтожение тех правительственных
деятелей, которые определяли политику правительства.
Большой остроты достигли споры по поводу отношения
к убийству Александра II. Многие высказывались за
подготовку покушения, но окончательного решения не
было принято. Андрей Желябов резко и со свойствен-
ной ему аргументацией призывал партию к совершению
того поворота своей деятельности, который обеспечил бы
завоевание политических свобод. Желябов, как и неко-
торые другие члены «Земли и воли», был того мнения,
что раскол партии неизбежен, что не стоит даже оття-
гивать его. Он прямо, без малейших уступок развил пе-
ред съездом систему своих взглядов, чем вызвал нема-
лое изумление. ««Да ведь он чистый конституциона-
лист»,— говорили правоверные социалисты»1 2. Желябов
действительно придавал большое значение конституции,
которая пробудила бы разносторонние силы народа.
«Я знаю, — говорил Желябов, — много очень умных,
энергичных, общественных мужиков, которые теперь
сторонятся от мелких дел, потому что крупного общест-
венного дела они в себе не выработали, не имеют, а де-
латься мучениками из-за пустяков не желают: они люди
рабочие, здоровые, прелесть жизни они понимают и во-
все не хотят из-за пустяков лишиться всего, что имеют.
Конституция дала бы им возможность действовать по
этим мелочам, не делаясь мучениками, и они энергично
взялись бы за дело. А потом, выработавши в себе круп-
ный общественный идеал, не туманный, как теперь, а
ясный, осязательный, и создавши великое дело, эти лю-
ди уже ни перед чем не остановятся — станут теми ге-
роями, каких нам показывает иногда сектантство. На-
родная партия образуется именно таким путем»3.
Многие, в том числе и Михайлов, просили Желябова
не доводить дело до разрыва. «Он согласился, но вме-
сте с тем вообще замолчал на собраниях и занялся ис-
1 «Архив «Земли и воли» и «Народной воли»», стр. 150.
2 «Андрей Иванович Желябов», стр. 26,
3 Там же.
168
ключительно частными беседами, стараясь склонить на
свою сторону отдельных лиц. Особенно хлопотал он
около С. Перовской», с которой тогда был еще мало
знаком, но знал о больших ее организаторских способ-
ностях. Однако привлечь ее ему не удалось.
Впоследствии взгляды С. Перовской изменились и
рядом с Михайловым и Желябовым она заняла руко-
водящее место в «Народной воле».
Компромиссное решение было принято и при обсуж-
дении практических дел: поселения в народе признано
было необходимым сохранить, но одну треть средств об-
щества сочли возможным расходовать на борьбу с пра-
вительством.
Съезд избрал Распорядительную комиссию, или ад-
министрацию, из трех человек (Тихомиров, Михайлов и
Фроленко). Состав Распорядительной комиссии, избран-
ной на Липецком и Воронежском съездах, оказался
тождественным, что, естественно, усиливало позиции
сторонников нового курса. В редакционную коллегию
«Земли и воли» вошли два старых редактора (Тихоми-
ров и Морозов) и доизбран был Тищенко, занявший
место ушедшего со съезда Плеханова. Новая редакция
ничем себя не проявила, так как «Земля и воля» как
печатный орган партии больше не издавалась.
Съезд сохранил только видимость единства, парали-
зовать внутрипартийную борьбу ему не удалось. Она
вспыхнула сразу же после съезда. Несмотря на реше-
ния съезда об исключении Плеханова из партии, он,
однако, по-прежнему вел работу в организации. Его по-
зиция оказалась близкой многим землевольцам. Созда-
лась сплоченная группа единомышленников, состоящая
из известных и опытных деятелей, отстаивающих ста-
рые позиции. Среди них помимо самого Плеханова вид-
ную роль играли Попов, Аптекман, Стефанович, Засу-
лич и некоторые другие. В связи с этим стало очевид-
ным, что первоначальный план Михайлова, состоявший
в том, чтобы совершить поворот всей партии к решению
политических задач, осуществить невозможно. Раскол
становился неизбежным. Возникшие фракции заседали
раздельно, сепаратно намечали планы своей работы, все
дальше и дальше отдаляясь одна от другой. Вот как
описывают эти взаимоотношения непосредственные сви-
детели их;
169
«К октябрю 1879 года1 взаимные недоразумения до-
шли до такой степени, что не оставалось ничего друго-
го, как назначить уполномоченных для осуществления
раздела. Обе фракции были объявлены независимыми
обществами, действующими вполне самостоятельно, без
права называть себя «Землей и волей». Устав «Земли
и воли», все ее печати и документы остались в нашем
распоряжении, как у большинства, а капиталы общества
было решено разделить поровну»2. Так писал Н. Моро-
зов. Ту же картину рисует и В. Фигнер.
При таком положении дел нечего было думать о со-
гласованной работе. «Новаторы» не хотели терять вре-
мя и пошли на разрыв. В августе в Петербурге, в Лесном,
состоялся разъединительный съезд, точнее, совещание,
где формально было произведено разделение «Земли и
воли» на две фракции, из которых возникли две само-
стоятельные организации — «Народная воля» и «Чер-
ный передел». Ни одна из фракций не имела права со-
хранить за собой старое наименование. По меткому за-
мечанию Морозова, название «Земля и воля» было
разорвано пополам: одним досталась «Воля», а другим —
«Земля». Имущество и денежные средства поделили по
согласию избранных уполномоченных. Каждая из сто-
рон обязывалась оказывать друг другу помощь.
Так закончило свое существование некогда мощное
и авторитетное общество. Как должен исследователь и
читатель отнестись к такому финалу? Не исключено, что
найдутся люди, которые назовут конец «Земли и воли»
бесславным. В качестве аргументов в пользу такого
взгляда можно, например, указать на то, что организа-
ция не смогла предупредить и предусмотреть появление
принципиальных разногласий, не сумела перестроиться
согласно изменившимся требованиям жизни и т. д.
Все это имело бы основание при одном непременном
условии, а именно: после прекращения деятельности
«Земли и воли» революционное движение ослабло, его
идеи выродились, а люди измельчали. Наличие такого
конца действительно указывало бы на крушение и бес-
славие. Но в реальной жизни мы встречаемся как раз
с противоположным. Дробление сил далеко не везде и
1 Дата указана неточно.
2 «Былое», 1906, № 12, стр. 20.
170
не всегда ведет к ослаблению натиска революционного
движения. Раздел «Земли и воли» послужил толчком,
усилившим натиск революционной борьбы. Размах и
глубина общественного движения значительно возрос-
ли. «Народная воля» оказалась более мощной органи-
зацией, нежели «Земля и воля», а народовольчество —
более высокой ступенью общественного движения, чем
землевольчество. В этом громадная историческая роль
«Земли и воли». Будучи первой организацией народни-
чества (в прямой трактовке этого слова современника-
ми), «Земля и воля» с невиданной настойчивостью стре-
милась связать теорию революционной борьбы с практи-
кой. Действуя в духе лозунга: «Революционное движе-
ние во имя непосредственных народных требований»,
она подготовила тем самым действие во имя народной
воли, т. е. во имя завоевания политических свобод. Не
меньшая заслуга «Земли и воли» и в выработке прин-
ципов построения организации, которые справедливо
называли образцовыми; наконец, землевольцы положи-
ли начало созданию классического типа профессиональ-
ного революционера.
Не будет ошибки, если мы скажем, что хранителями
лучших традиций землевольчества стали народовольцы,
а не чернопередельцы. Может быть, это звучит парадок-
сально, но полностью соответствует истине. Главной
традицией «Земли и воли» как революционной органи-
зации был принцип централизации революционных сил
при широком демократизме в группах и органах раз-
личных ступеней. «Черный передел» не удержался на
высоте этих требований и стал проповедовать федера-
лизм в строительстве революционных организаций, что
пагубно сказалось на его судьбе. Еще более показа-
тельным является такой факт. Критикуя народовольцев
за проповедь политической борьбы, чернопередельцы
сами через четыре-пять месяцев после раскола призна-
ли необходимым ведение этой борьбы. Но без сплочен-
ной организации революционеров такое признание ока-
залось беспочвенным пожеланием. Все эти обстоятель-
ства в сущности предрешали быстрое распадение «Чер-
ного передела» на мелкие группки, которые очень скоро
исчезли с политической арены.
Не менее важной представляется и другая сторона
дела. Если в организационных принципах «Народная
171
воля» сумела не только воспринять, но и развить (о чем
речь впереди) наследие землевольцев, то можно ли то
же сказать об отношении ее к народу, к массам, к по-
ниманию роли масс в освободительном процессе? Начи-
ная с Плеханова и до наших дней многие исследователи
подчеркивали ту мысль, что раскол «Земли и воли» по-
мимо иных причин вызван был прежде всего разным
отношением фракций к массам народа, разным понима-
нием роли масс в революции. «Новаторы» якобы разу-
верились в народе, не видя активности с его стороны,
а «ортодоксы» сохранили старую веру в народ, в его
творческие силы, а потому и отстаивали лозунг: «Все
для народа, силой самого народа». Кажется, что этот
принцип землевольцев неуязвим, что он не имеет сла-
бостей. И, смотря на дело так, можно сказать, что на-
родовольцы со своим тезисом революционного перево-
рота без народа не только не совершили шага вперед
от «Земли и воли», а, напротив, сделали шаг назад. Так
считают многие. Но в действительности и тем более исто-
рически данная проблема нам представляется намного
сложнее.
Революционеры из интеллигенции, осознав необхо-
димость ведения борьбы за политические свободы, от-
нюдь не разочаровались в народе. В. И. Ленин прямо
указывал, что, по мнению революционеров, дело вовсе
не в народе, а в правительстве, которое сковало народ
целой системой «опеки». Народовольцы, направляя свои
силы на борьбу с правительством, преследовали ту же
цель, что и их предшественники, землевольцы, — пробу-
дить массы к сознательной революционной деятельно-
сти. Но осуществить ее они пытались другим путем —
не поселениями и пропагандой в крестьянстве, а акта-
ми нападения на правительство и его слуг. Не могли
не верить в народ люди, которые беззаветно ему слу-
жили и называли себя народниками-социалистами, ко-
торые в акте политического переворота видели не бо-
лее чем толчок для развития инициативы народа. Да и
девиз их: «Народная воля» — говорит о том же.
В последующем изложении данная мысль получит
большее раскрытие, а теперь только заметим, что в ука-
занном пункте никакого регресса «новаторы» не совер-
шили. Безусловно, идея политического заговора, да еще
с социалистическими целями, — утопия. Но можно ли
172
доказать, что землевольческая, а по существу бакунист-
ская, вера в социалистическую революцию, совершае-
мую крестьянством, менее утопична? Очевидно, и в том
и в другом случае перед нами утопии. Одна утопия за-
менила другую, и только. Но преимущество второй уто-
пии перед первой состояло в том, что она представляла
собой поиск нового решения давнишней задачи, не дог-
матизировала взгляды тех, кто ее разделял. В этом есть
движение к новому, а не застой.
Итак, вряд ли объективны те, кто утверждает, что
народовольцы оказались не на высоте положения в
оценке роли народных масс в революционном процессе.
«Новаторы» искали теоретические выводы в практике,
в революционном эксперименте, руководствуясь исклю-
чительно условиями российской действительности. В этом
их сильные и слабые стороны. Они вошли в историю
прежде всего и главным образом как практики, экспе-
риментаторы революционных поступков.
Если необходимо сопоставление тактических и тео-
ретических качеств «новаторов» и «ортодоксов», то нуж-
на и оценка индивидуальных качеств лиц, входивших
в рассматриваемые группировки. Подобно тому как оп-
ределенный коллектив воздействует на одного своего
члена, так и каждая личность, особенно выдающаяся,
талантливая, не только воздействует, но и в известном
смысле индивидуализирует, придает особые черты той
организации или кружку, в котором работает. Это тем
более важно подчеркнуть в отношении изучаемой эпо-
хи, когда массы народа стояли еще в стороне от откры-
той борьбы, когда общественное движение отождеств-
лялось с действиями небольших сравнительно групп ге-
роических личностей.
Знать индивидуальные качества этих бойцов крайне
необходимо, чтобы понять, как говорил В. И. Ленин,
на что способна личность в борьбе за общественные
идеалы.
Имея в виду эти соображения, рассмотрим основной
состав «Черного передела» и «Народной воли».
Один из организаторов «Земли и воли» и ее актив-
ный деятель, а затем и историк, О. А. Аптекман, дал
следующую характеристику лицам, положившим осно-
вание народовольчеству: «В партию «Народной воли»
вошли из старых землевольцев следующие лица:
173
1) А. Д. Михайлов, 2) А-др Квятковский, 3) С. Баран-
ников, 4) А. Зунделевич, 5) В. Н. Фигнер, 6) С. Л. Пе-
ровская (некоторое время лишь временно, условно),
7) М. Ф. Фроленко, 8) Л. Тихомиров, 9) Н. А. Морозов,
10) А. Пресняков и из новых землевольцев, принятых
на Воронежском съезде,—11) А. Желябов, 12) Н. Ко-
лодкевич, 13) С. Ширяев и, наконец, 14) Ошанина М. Н.
Итого четырнадцать бывших землевольцев. И что
за красочные, сильные индивидуальности! Трибун и ор-
ганизатор А. Желябов, заговорщики-организаторы,
как А. Д. Михайлов, М. Н. Ошанина, В. Н. Фигнер,
С. Л. Перовская и др. Все — смелые, стойкие, сильные
волей, самоотверженные. Железо и кремень, бесстра-
шие и беспощадность в борьбе. Лучшие силы тогдаш-
ней революционной среды, отбор самых испытанных.
Все захваченные одним порывом, одним настроением,
одной целью. Это настроение — глубокая, неискорени-
мая ненависть к царизму, эта цель — борьба на жизнь
и смерть с ним, во имя политической свободы, — как
ближайшее достижение этой борьбы» *.
Более возвышенно говорить трудно, и еще труднее
найти большую теплоту в отношении к людям проти-
воположного лагеря демократического движения. Эти
слова важны в данном случае еще и потому, что про-
изнесены не только землевольцем, но и чернопере-
дельцем, т. е. личностью, противостоящей народоволь-
цам.
Противником такого взгляда, в сущности господ-
ствовавшего, оказалась Е. Н. Ковальская, тоже чело-
век выдающейся биографии. Она упрекает Аптекмана
за несдержанный энтузиазм в оценке своих старых
идейных противников и списку народовольцев, приве-
денному им, дает как противопоставление свой список
чернопередельцев. В нем имеются Г. Плеханов, В. За-
сулич, Я. Стефанович, Л. Дейч, П. Аксельрод, М. Кры-
лова, М. Попова, Г. Преображенский, Н. Пьянков,
А. Хотинский и О. Аптекман. Указав на эти фамилии,
Е. Ковальская пишет: «Не все народовольцы в момент
раздела имели такой стаж, как перечисленные мною
1 «Памятники агитационной литературы», т. I. «Черный пере-
дел», орган социалистов-федералистов. 1880—1881. М.—Пг., 1923,
стр. 7.
174
чернопередельцы. Неужели это отбросы после отбора в
«Народную волю»» L
Можно было бы и не вмешиваться в давний спор
ветеранов русского освободительного движения, если
бы те индивидуальные качества членов той и другой
фракций, о которых идет спор, не повлияли самым не-
посредственным образом на деятельность и судьбу их
организаций, что заставляет внимательнее присмотреть-
ся к дискуссии и вывести из нее определенное заклю-
чение. Речь, понятно, может идти не о том, кому отдать
предпочтение, скажем, Плеханову или Желябову, Пе-
ровской или Засулич. Сейчас личные симпатии и анти-
патии должны умолкнуть, уступив место объективным,
историческим оценкам. Надо выяснить, как и какие ин-
дивидуальные качества руководителей и лидеров могли
повлиять на деятельность их организаций, на ход рево-
люционного движения в России. Прежде всего в наро-
довольческой среде бросается в глаза удивительная
концентрация выдающихся личностей с качествами
крупных организаторов и огромными способностями в
области технических наук. Такие имена организаторов
и конспираторов, как А. Михайлов, А. Желябов, С. Пе-
ровская, М. Ошанина, С. Халтурин и др., говорят сами
за себя. Крайне рельефны и революционеры-ученые
Н. Кибальчич, Н. Морозов, С. Ширяев и Г. Исаев.
Безусловно, задача борьбы небольшой группы револю-
ционеров со всемогущественным правительством требо-
вала личностей с исключительными организационными
способностями и конспиративной сноровкой: без этих
свойств трудно говорить о каких-либо успехах. Но даже
среди этих выдающихся организаторов особое место за-
нимал А. Михайлов. И враги, и друзья признавали в
нем личность необыкновенную. Плеханов писал о нем:
«Я уверен, что у всех знавших Михайлова никогда не
изгладится образ этого человека, который подобно лер-
монтовскому Мцыри «знал одной лишь думы власть,
одну, но пламенную страсть». Этой думой было счастье
Родины, этой страстью была борьба за ее освобожде-
ние» 1 2.
1 «Группа «Освобождение труда»» (из архива Г. В. Плеханова,
В. И. Засулич и Л. Г. Дейча). Под ред. Л. Г. Дейча. Сборник 1.
М., 1924, стр. 280—281.
2 Г. В. Плеханов. Соч., т. I, стр. 167.
175
Интересны воспоминания Л. Тихомирова о Михай-
лове. Он называет его великим практиком, гениальным
конспиратором, а о нравственных качествах его пишет
так: «При сильной любви к чему-нибудь человек уди-
вительно развивается. Эта-то нравственная основа бы-
ла очень хороша у Александра Михайлова. Личность в
основе необычайно чистая и искренняя. Уверовавши в
революцию для блага Родины и народа, он отдался
этой революции совершенно, без остатка, весь целиком
жил своей революцией, не как принципом, не сухо, не
мрачно, не по долгу, а всем своим существом...
Не видал я человека, который умел бы в такой сте-
пени группировать людей не только вместе, но и на-
правлял их, хотя бы помимо их воли, именно туда,
куда, по его мнению, нужно было... Не имел ни само-
любия, ни тщеславия, не требуя ничего для себя, лишь
бы дело шло, куда нужно. Всякий талант, всякая спо-
собность в других радовала его. Я не знал, был ли он
о себе высокого мнения, но во всяком случае не гор-
дился и, конечно, просто не интересовался этим вопро-
сом. А между тем он был истинной душой и творцом
той организации, которая зародилась в среде кружка
«Земли и воли» и потом превратилась в «Народную
волю»...»1
Таким представлялся для революционного подполья
А. Михайлов, личность безусловно могучая, идеал ре-
волюционного времени. Приблизительно то же, но с ак-
центом на ораторские данные говорили современники
о А. Желябове.
В. Н. Фигнер (хорошо знавшая Желябова) видела в
нем воплощение революционера, который никогда не
отступает, а А. Д. Михайлов назвал его великим това-
рищем и был уверен, что память о нем переживет века.
Качества, подобные описанным, конечно же, придавали
своеобразный оттенок всей революционной организации
«Народная воля».
Организаторов такого масштаба и такой индивиду-
альной выразительности «Черный передел» не имел.
Правда, в его рядах находился М. Р. Попов, пользо-
1 «Воспоминания Льва Тихомирова». Вступит, статья В. Н. Фиг-
нер. М.—Л., 1927, стр. 94—95.
176
вавшийся громадной известностью в подполье тоже как
организатор, но в том-то и дело, что его деятельность
была исключительно народовольческой, хотя он и назы-
вал себя чернопередельцем. Руководители и лидеры
«Черного передела» были людьми теоретического скла-
да. Это относится прежде всего к Г. Плеханову и
П. Аксельроду. Плеханов уже тогда, будучи совсем
юным, поражал знавших его удивительными теорети-
ческими способностями, научными познаниями и по-
истине герценовским талантом публициста, но как ор-
ганизатор он ничем себя особенным не проявил, тогда
как организационная работа в момент раскола «Земли
и воли» представлялась очень важной. Особенности ру-
ководителей «Черного передела» сказались на его ре-
путации и деятельности. В сущности это была органи-
зация с несравненно меньшим историческим значением,
нежели «Народная воля», и причин тому было, по на-
шему мнению, по крайней мере две — отсталость про-
граммы, ее несоответствие новому этапу общественного
развития и организационная слабость.
Вскоре Плеханов сам признал это, а о значении для
революционного движения политической борьбы в пись-
ме к П. Л. Лаврову в 1881 г. заявил: «История хватает
за шиворот и толкает на путь политической борьбы
даже тех, кто еще недавно был принципиальным про-
тивником последней» \
В качестве вывода можно привести такие соображе-
ния, вытекающие из всего сказанного. Раскол «Земли и
воли» представляется явлением не только неизбежным,
но исторически оправданным, так как сопровождался
оживлением революционной борьбы и приближением ее
к наиболее реальным потребностям общественной жиз-
ни. Опытом «Земли и воли» в полном объеме восполь-
зовалась «Народная воля», подняв практику револю-
ционной борьбы на новую ступень.
Программа политических действий «Народной воли»
была в сущности подготовлена активностью и револю-
ционными актами землевольцев. Очевидно, не будет
ошибки в том предположении, что последний этап эво-
люции «Земли и воли» и есть народовольчество. Выде-
1 «Дела и дни», 1921, № 2, стр. 86.
12 М. Г. Седов
177
ление из «Земли и воли» «Народной воли» и «Черного
передела» следует рассматривать не как появление
принципиально новых сил, а как размежевание направ-
лений в лагере демократии. С возникновением «Народ-
ной воли» знаменем и девизом революционных органи-
заций стала политическая борьба. Революционеры из
интеллигенции и народа поняли, что за буржуазно-гра-
жданские свободы русская буржуазия не выступит в
качестве самостоятельной силы. Это признание имеет
историческое значение. Вывод революционеров-народо-
вольцев был впоследствии подтвержден целым рядом
фактов и общим процессом освободительного движе-
ния.
ГЛАВА III
ВОЗНИКНОВЕНИЕ
И ПЕРВЫЙ ПЕРИОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«НАРОДНОЙ ВОЛИ»
«Народная воля» выросла из Исполнительного комите-
та, явившегося ядром и руководящим центром нового
общества и партии. Это была та инициативная группа,
которая сложилась на Липецком съезде, а в середине
августа 1879 г. в результате разъединительного съезда
«Земли и воли» в Петербурге превратилась в тайное
общество. В официальном извещении об этом сказано
следующее: «Во избежание недоразумений Исполни-
тельный комитет заявляет, что он никогда не был учре-
ждением, члены которого выбирались бы всею соци-
ально-революционной партией, и что в настоящее время
он является совершенно самостоятельным в своих дей-
ствиях тайным обществом». Под этим сообщением стоит
подпись Исполнительный комитет и дата—12 сентября
1879 г.1
В конце лета и в начале осени 1879 г. на заседаниях
Исполнительного комитета были приняты важные ре-
шения, определившие направление деятельности и так-
тические приемы. Новой партии было присвоено наиме-
нование «Народная воля». Вот это-то тайное общество
и приступает к действию. Была организована сеть кон-
спиративных квартир и явочных пунктов, намечены го-
1 См. «Литература партии «Народной воли»», 1907, стр. 4.
*
179
рода, где предполагалось создание Местных революци-
онных групп разной степени близости к центру и с
разными функциями практической деятельности. Всеми
текущими делами ведала Распорядительная комиссия,
избранная из членов Исполнительного комитета в со-
ставе трех человек (А. Михайлов, Л. Тихомиров и
М. Фроленко). Были приняты меры к пополнению пар-
тийной кассы: для широкого объема работ требовались
большие суммы. Уже на первых заседаниях было при-
знано необходимым иметь свой печатный орган.
В Петербурге с августа по октябрь 1879 г. возникло
несколько кружков различных степеней близости к Ис-
полнительному комитету. В Москве была создана груп-
па «Народной воли», опиравшаяся на многие кружки.
Такие же группы и в то же время возникли в Харькове,
Киеве и Одессе. Построение партии шло по принципу
строжайшей централизации. Местные группы, кружки
и организации, обладая неограниченной инициативой в
своих сферах, не могли вмешиваться в дела центра и
беспрекословно выполняли его поручения. Сохранение
тайны признавалось не только обязанностью, но и дол-
гом. Во все дела и тайны посвящена была только Рас-
порядительная комиссия. С первого дня возникновения
«Народная воля» большое внимание уделяет своей
безопасности.
Став на прочную конспиративную основу, Исполни-
тельный комитет и возникшие вокруг него кружки при-
ступают к практической деятельности. Прежде всего
надо было как можно убедительнее и шире рассказать
о новой партии и ее задачах. Дело, следовательно,
сводилось к созданию мощной подпольной прессы.
1 октября 1879 г. вышел первый номер журнала
«Народная воля». Редактировали новый орган Тихоми-
ров и Морозов, при участии Михайлова. Типографию
же содержали: Н. Бух, С. Иванова, А. Цуккерман,
С. Лубкин и М. Грязнова. Редакция и типография рас-
полагались в разных местах. Редакционная статья пер-
вого номера извещала читателей о расколе «Земли и
воли» и образовании двух самостоятельных организа-
ций. Во второй, и тоже редакционной, статье излага-
лось политическое кредо «Народной воли».
«Мы знаем, много отдельных личностей из нашей
среды погибнет, но гибель единиц не страшна для пар-
180
тии, когда весь ход истории ведет к революции» L Ря-
дом с этими строками помещено предсмертное письмо
Виттенберга, в котором сказано: «.. .Если для того,
чтобы восторжествовал социализм необходимо, чтобы
пролилась кровь моя, если переход из настоящего строя
в лучший невозможен иначе, как только перешагнувши
через наши трупы, то пусть наша кровь проливается»1 2.
Появление нового журнала, нелегально издаваемого
в столице, вызвало большой переполох в правитель-
ственных кругах. Император в то время находился в
Ливадии. Регулярные информации шефа жандармов
Дрентельна о положении дел в стране были спокойны
и уверенны. За последние месяцы было произведено
много арестов и как будто наступило затишье, и вдруг
появляется орган, смело заявивший об образовании но-
вой партии, которая прямо формулирует задачу унич-
тожения самодержавной власти в России. «С тяжелым
и скорбным чувством вижу себя обязанным всеподдан-
нейше донести вашему императорскому величеству,—
писал Дрентельн, — что вчера появился первый номер
новой подпольной газеты под названием «Народная
воля»3.
Против этих слов Александр II заметил: «Да, оно
действительно и стыдно и досадно!»
Сам факт появления нового органа, продолжает
Дрентельн, «представляет явление в высшей степени
прискорбное, а лично для меня крайне обидное»4.
Издание «Народной воли» тут же вызвало 43 обы-
ска и 13 арестов, но поиск ничего не дал.
Со второго номера начали выходить политические
письма Михайловского, имевшие большой успех, несмо-
тря даже на то, что с некоторыми их положениями ре-
дакция не соглашалась. Аптекман так пишет о значе-
нии выступления Михайловского: «Его «Политические
письма социалиста» в «Народной воле» составляли
подлинную эпоху в революционной прессе того време-
ни»5. Основная идея, пронизывающая всю статью Ми-
хайловского (Гроньяра — так подписано письмо), со-
1 «Народная воля», 1879, № 1.
2 Там же.
3 «Красный архив», 1930, № 3, стр. 157—158.
4 Там же, стр. 158.
5 «Памятники агитационной литературы», т. 1, стр. 25.
181
стоит в том, чтобы доказать необходимость и своевре-
менность борьбы за политические свободы в России.
В них он видит спасение родины, с ними он связывает
все будущее ее. К борьбе за гражданские свободы он
и призывает революционеров. Момент для такой борь-
бы настал. «Обух реакции висит над головами всех и
каждого». Всеобщая вера «в божественный источник»
царской власти прошла, она если и теплится, то только
«в наивной душе» крестьянина. Ждать правительствен-
ных послаблений могут только недалекие люди. «Алек-
сандр II не даст конституции: ее можно только вырвать
у него. Он с упрямством слепца хочет умереть само-
державным царем» L
«Что задерживало политическую борьбу до сих
пор?» — спрашивает автор и отвечает: — «Не боязнь,
«вы не боитесь тюрьмы, каторги, виселицы»». Помехой
была старая мысль, отжившее мировоззрение. «Изучая
новейшую историю, вы узнали, что Великая революция
не привела Европу в обетованную землю братства, ра-
венства и свободы, что конституционный режим, вручая
власть буржуазии, представляет ей, под покровом фор-
мальной политической свободы, экономическую власть
над народом. Этот горестный результат европейской
истории вселил в вас недоверие к принципу политиче-
ской свободы. Я, русский, переболевший всеми русски-
ми болезнями... знаю цену вашему недоверию. Да, вы
правы. Конституционный режим не решает тяжбы тру-
да с капиталом, не устраняет вековой несправедливости
присвоения чужого труда, напротив, облегчает ее даль-
нейший рост. Но вы глубоко неправы, когда отказывае-
тесь от политической борьбы. Из живых людей, страстно
отдающихся своей идее, вы обращаетесь в сухих доктри-
неров, в книжников, упрямо затвердивших теоретиче-
ский вывод, которому противоречит вся практика»1 2.
Доктринерство народников было очевидным, и Ми-
хайловский ополчается теперь на него. Он решительный
противник аполитизма. Его указания на то, что дере-
венскому кулаку нужно самодержавие для лучшего за-
1 «Литература партии «Народная воля»». «Народная воля». «Ли-
сток «Народной воли»». «Рабочая газета». Документы. М., 1930,
стр, 28.
2 «Литература партии «Народная воля»», 1930, стр. 28,
182
крепощения голытьбы, фабриканту — для большей и
безнаказанной эксплуатации рабочих, звучали ориги-
нально и убедительно. Кулак и фабрикант делают свое
дело закабаления народа с помощью царского аппа-
рата, слуг царя и самого царя. «Чем самодержавнее
исправник, тем легче кулаку грабить». «Отстраняясь от
политики, — говорит Гроньяр, — вы не задержали раз-
вития капитализма, а помогли ему». Но боязнь поли-
тики вредна не только с этой стороны. Она помеха и
с точки зрения веры в народное восстание. Сам Ми-
хайловский не верит в восстание масс, но, теоретиче-
ски встав на точку зрения революционеров, он спрашива-
ет: «Когда народное восстание вероятнее — при деспотиз-
ме или представительном правлении?» Ответ очевиден.
При вере темного народа в царя меньше шансов на
широкое движение масс. Социальная «болезнь» Европы
проистекает не от политических свобод, а от других
причин. России же нужны именно политические сво-
боды. Это вопрос «завтрашнего дня». Но завтрашний
день не даст решения «социального вопроса». Тогда на-
ступит новый этап борьбы и в новых условиях. Вы не
остановитесь после первого шага, а пойдете дальше:
«век живи, век борись!» Ради завтрашнего дня нельзя
забывать сегодняшнего.
Развив мысль о политических свободах, о необходи-
мости борьбы за них, Михайловский спрашивает: «За-
чем оставили вы свой прекрасный девиз: «Земля и
воля»? Одна половина его — «Воля» сближает вас со
всеми, кто уважает себя, но другая часть — «Земля» вы-
деляет вас из всего либерального хора. Конституцию
сочинить просто. Ее напишут Валуев, Шувалов, Побе-
доносцев. Но так же легко ее можно и порвать, «если
в сохранении ее не заинтересована миллионная масса
народа». Русский народ грудью встанет только за та-
кую волю, которая гарантирует ему землю»
Вот какая нужна воля для русского народа. Сле-
дует отметить, что этот упрек народовольцам неспра-
ведлив, ибо они не отказывались от борьбы за землю
и выдвинули широкую аграрную программу, в данном
случае важна та мысль автора, которая подчеркивает
неразрывную связь борьбы за свободу с борьбой за
1 «Литература партии «Народная воля»», 1930, стр. 29.
103
землю. Нужна не «призрачная», а действительная воля.
Актуальность проблем и талантливое их изложение
придали «письмам» исключительную известность. Они
были очень ценны для «Народной воли» и сильно укреп-
ляли авторитет народовольчества.
Так начала действовать подпольная пресса народо-
вольцев. Сам факт существования и регулярного появ-
ления прекрасно оформленного печатного органа рево-
люционной партии под боком полиции представлялся
событием выдающимся и несомненно неотразимо дей-
ствовавшим на интеллигенцию и особенно молодежь.
Насколько журнал считался опасным для правитель-
ства, свидетельствует хотя бы то, что только за хране-
ние экземпляров «Народной воли» людей отправляли
в Сибирь на многие годы. «Народная воля» распростра-
нялась по всей России. Появляется она и в странах За-
падной Европы, а в библиотеки некоторых европейских
академий народовольцы сами ее переправляли.
Центральной проблемой, обсуждавшейся на страни-
цах «Народной воли», была, безусловно, программа
партии.
Программа «Народной воли» создалась не сразу.
В основу ее положена программа, принятая в Липецке.
Но в дальнейшем, когда Исполнительный комитет из
инициативной группы превратился в руководящий центр
партии, липецкий набросок программы не мог удовле-
творять народовольцев. Решено было составить новую
программу. Проекты ее должны были представить Мо-
розов, Желябов и Тихомиров. Обсуждение их проходи-
ло бурно и сильно затянулось, а потому первый номер
«Народной воли» вышел вопреки предложениям без
программы. В результате обсуждений проекты Морозо-
ва и Желябова оказались отвергнутыми, был принят
после внесенных поправок и изменений проект Тихо-
мирова.
1 января 1880 г. программа Исполнительного коми-
тета была опубликована. Этот очень важный в полити-
ческом отношении документ, будучи небольшим по объ-
ему, включает в себя все основные положения идеоло-
гии и практической деятельности недавно возникшей
организации «Народной воли».
В начале программы дается определение народо-
вольчества и его главнейшей цели.
184
«По основным своим убеждениям мы — социалисты
и народники. Мы убеждены, что только на социалисти-
ческих началах человечество может воплотить в своей
жизни свободу, равенство, братство, обеспечить общее
материальное благосостояние и полное всестороннее
развитие личности, а стало быть, и прогресс. Мы убе-
ждены, что только народная воля может санкциониро-
вать общественные формы, что развитие народа прочно
только тогда, когда оно идет самостоятельно и свобод-
но, когда каждая идея, имеющая воплотиться в жизнь,
проходит предварительно через сознание и волю наро-
да. Народное благо и народная воля — два наших свя-
щеннейших и неразрывно связанных принципа» Ч
Называя себя социалистами, народовольцы этим за-
являли о своей решимости бороться за такой обще-
ственный строй, который избавит людей от эксплуата-
ции, позволит им создать производство материальных
благ на базе кооперации и ассоциаций. Производство и
распределение станут общенародными как в промыш-
ленности, так и в сельском хозяйстве, никто не сможет
пользоваться плодами чужого труда. При наличии этих
условий люди воплотят в жизнь принцип свободы, брат-
ства и равенства. Социализм, таким образом, объяв-
лялся знаменем новой партии.
Но народовольцы называли себя не только социали-
стами, но и народниками. В современной исторической
литературе установилось мнение, определяющее народ-
никами всех тех, кто связан с различными формами
«движения в народ», организаторы же «Народной воли»
на это смотрели иначе. Они резко разграничили рево-
люционное движение 70-х годов и собственно народни-
ческой борьбой называли только ту, которая связана
непосредственно с деятельностью «Земли и воли», и
лишь эту организацию в противоположность предыду-
щим называли народнической, а себя — народниками.
Они считали движение доземлевольческого периода
оторванным от непосредственных нужд и потребностей
народа, только «Земля и воля», по их мнению, органи-
зовывала борьбу, исходя из интересов народа и учиты-
вая особенности его положения. Отличие видели они и
1 «Литература партии «Народная воля»», 1930, стр. 49.
185
в организационных формах. «Земля и воля» явилась
как бы новой вехой в собирании разрозненных револю-
ционных сил в единое централизованное общество.
Следовательно, авторы программы Исполнительного
комитета под словом «народники» подразумевали нечто
отличное от установившегося впоследствии понимания
этого термина.
Вот наиболее конкретные определения социализма
и народничества, данные А. Д. Михайловым: «Общая
цель всех социалистов: экономическое и политическое
освобождение народа, т. е. освобождение труда и его
орудий от эксплуатации капитализмом и учреждение
политических форм жизни на основаниях личной сво-
боды и народного самоуправления». Практически это
означает: «Переход земель как казенных, так и частных
в руки крестьян-работников; переход фабрик, заводов
и других орудий труда в руки фабричных, заводских и
других рабочих. Разрушение существующего государ-
ственного монархического строя и замена его другим,
соответствующим воле народа и его исконным тради-
циям— общинному и областному самоуправлению»1.
Рассматривая социализм как единственно разум-
ное общественное устройство человеческого общества,
программа обусловливает торжество его народной во-
лей, свободно выраженной всеми гражданами через
своих депутатов. Главнейшей предпосылкой социализ-
ма, следовательно, может служить свобода народа,
воля которого санкционирует те или иные экономиче-
ские формы народного хозяйства, в том числе и социа-
листические.
Поэтому, несмотря на то что народовольцы назы-
вают себя народниками, они отходят от народничества
землевольческого понимания, для которого аполитизм
был характернейшей особенностью.
Если в понимании необходимости ведения политиче-
ской борьбы «Народная воля» сделала крупный шаг
вперед в сравнении с «Землей и волей», то в раскры-
тии природы и функций государственной власти, а так-
же в указании на народные «традиционные принципы»
она всецело осталась на старых позициях.
1 А. 77, Прибылева-Корба и В. Н. Фигнер. А. Д. Михайлов,
стр. 89,
186
«В самом народе мы видим еще живыми, хотя вся-
чески подавленными, его старые, традиционные прин-
ципы: право народа на землю, общинное и местное
самоуправление, зачатки федеративного устройства,
свобода совести и слова. Эти принципы получили бы
широкое развитие и дали бы совершенно новое направ-
ление в народном духе всей нашей истории, если бы
только народ получил возможность жить и устраивать-
ся так, как хочет, сообразно со своими собственными
наклонностями» Ч
Государство ведет постоянную войну с народными
стремлениями, парализуя и уродуя те формы жизни, к
которым привык народ и которые ему дороги как по
своему удобству, так и по преданиям.
Исходя из такого понимания роли государства, го-
сударственной власти и «традиционных принципов»,
«Народная воля» возлагает на себя следующую задачу:
«Мы должны поставить своей ближайшей задачей —
снять с народа подавляющий его гнет современного го-
сударства, произвести политический переворот с целью
передачи власти народу»1 2.
Кто же должен совершить государственный перево-
рот? По логике вещей дело общенародное должно со-
вершаться по воле народа и прежде всего его же си-
лами. Так думало большинство революционеров 60-х
и 70-х годов. Не так думали народовольцы. Они пере-
смотрели старые представления и не нашли в народе
в данное время достаточных сил для решения постав-
ленной задачи.
«Ввиду придавленности народа, ввиду того, что пра-
вительство частными усмирениями может очень надолго
сдерживать общее революционное движение, партия
должна взять на себя почин самого переворота, а не
дожидаться того момента, когда народ будет в состоя-
нии обойтись без нее»3.
Не народ идет на борьбу и захватывает власть в свои
руки, а партия народовольцев.
Русской общественной мысли в то время была еще
чужда научная теория революции, а потому деятели осво-
1 «Литература партии «Народная воля»», 1930, стр. 50.
2 Там же.
3 Там же, стр. 51,
187
бодительного движения полагали, что Россия созрела для
революционных преобразований, и при помощи соб-
ственных сил пытались немедленно начать их, рассчиты-
вая на поддержку общества, армии, рабочих и крестьян.
Выдвинув идею политического освобождения народа
от самодержавия, «Народная воля» готовила государ-
ственный переворот с целью захвата власти и передачи ее
Учредительному собранию. Избрание депутатов от на-
рода и созыв Учредительного собрания должны быть га-
рантированы от какого-либо давления извне. Каждый
депутат должен иметь наказ-инструкцию от своих из-
бирателей. Собранные со всей страны депутаты выразят
волю народа Учредительному собранию, которое и санк-
ционирует хозяйственно-политические реформы жизни
государства.
«Таким образом, наша цель: отнять власть у суще-
ствующего правительства и передать ее Учредительному
собранию, которое должно пересмотреть все наши госу-
дарственные и общественные учреждения и перестроить
их согласно инструкциям своих избирателей» Ч
Передавая власть (после ее захвата) Учредительному
собранию, партия не устраняется от последующей борь-
бы за свои идеалы, она продолжает агитацию за свою
программу социалистического переустройства общества.
Основные положения этой программы таковы: «1) по-
стоянное народное представительство, составленное, как
выше сказано, и имеющее полную власть во всех обще-
государственных вопросах; 2) широкое областное само-
управление, обеспеченное выборностью всех должностей,
самостоятельностью мира и экономической независи-
мостью народа; 3) самостоятельность мира, как эконо-
мической и административной единицы; 4) принадлеж-
ность земли народу; 5) система мер, имеющих передать
в руки рабочих все фабрики и заводы; 6) полная свобода
совести, слова, печати, сходок, ассоциаций и избиратель-
ной агитации; 7) всеобщее избирательное право, без
сословных и имущественных ограничений; 8) замена по-
стоянной армии территориальной»1 2.
Имея в виду социально-экономическое и политическое
положение русской империи конца 70-х годов, нельзя не
1 «Литература партии «Народная воля»», 1930, стр. 50.
2 Там же.
188
признать, что выдвинутая программа требований лишена
ограниченности и узости. Реализация такой программы,
даже при наличии ее слабых мест, обеспечивала бы бур-
ное экономическое и социальное развитие страны. По-
нятно, формы развития могли быть только капиталисти-
ческими. Ирония истории в данном случае состояла в
том, что народовольцы, будучи непримиримыми против-
никами капиталистических порядков, объективно рас-
чистили бы дорогу капитализму.
Во времена «Народной воли» о самостоятельной роли
рабочего класса — носителя социализма — говорить бы-
ло нельзя. Общественное движение того периода не вы-
ходило еще из рамок буржуазной демократии. Именно
поэтому программа «Народной воли» объективно отра-
жала содержание буржуазно-демократической револю-
ции, внутренней пружиной которой был аграрный вопрос.
Если смотреть в программу «Народной воли» в плане
сопоставления и иметь в виду такие организации, как
«Земля и воля» 60-х годов, «Земля и воля» 70-х годов, то
нельзя не заметить большого шага вперед, сделанного
народовольцами, несмотря на то что реально-объектив-
ное содержание борьбы перечисленных организаций было
одинаковым и во всех случаях главной проблемой Рос-
сии оставалась проблема аграрная.
Поскольку Исполнительный комитет называл себя
выразителем интересов народа, его воли (отсюда и на-
звание «Народная воля»), важно установить, что же
такое народная воля, какими критериями ее можно
определить. Не говоря уже о реакционном лагере,
даже революционеры разных направлений уличали наро-
довольцев в самозванстве, называя их ложными и непро-
шенными выразителями воли народа. В те годы, когда
история еще не вынесла своего приговора подобного рода
притязаниям, ответить на предложенный вопрос было
труднее, чем спустя некоторое время.
Понятие «народная воля» слишком обще, оно стра-
дает неопределенностью и может включать в себя от-
сталые и даже реакционные положения. В самом деле,
такие общие явления народной жизни, как религиоз-
ность почти всего населения, царистский характер идео-
логии большинства крестьянства и некоторой части рабо-
чих, политическая индифферентность значительных слоев
общества и т. д., безусловно, отражаются на воле народа.
189
Необходима планомерная, систематическая борьба с от-
сталыми понятиями народных масс. Но эта борьба не
может дать успеха без классовой ориентации. Только
развитие самостоятельных классов может привести к
оформлению передовой идеологии, которая становится
народной. Вне классового понимания нет народной воли,
поскольку речь идет об обществе с антагонистическими
противоречиями.
Слабостью народовольцев, правда вполне объяснимой
и естественной, было именно то, что они не заявили себя
партией, стоящей на почве строго классовых интересов.
Они пытались выступать от имени народа вообще, хотя
и отдавали себе отчет в том, что их позиция уязвима.
Показательно, что сами народовольцы имели в виду, что
при стечении определенных обстоятельств может сло-
житься такое положение, когда депутаты Учредительного
собрания не поддержат их. Другими словами, воля на-
рода не совпадет с их волей, с их программой. Что делать
в таком случае? Мемуарная литература доводит до нас
разные ответы на этот вопрос. Но видимо, подавляющее
большинство отстаивало мнение, переданное А. П. Корба
в ее работе «Народная воля». Вот что она пишет: «Я по-
мню незабвенное время, когда несколько дней подряд не
снимался с очереди вопрос об Учредительном собрании.
Как известно, по плану, выработанному тогда Исполни-
тельным комитетом партии «Народная воля», власть, при-
сущая Учредительному собранию, основывалась на все-
народном избрании его участников. Население, посылав-
шее в него своих представителей, должно было знать
заранее, что все постановления Учредительного собра-
ния будут обязательны для всей страны. Между прочим,
обсуждался случай, как поступать партии, если народ
окажется недостаточно подготовленным, чтобы оценить
блага республиканского образа правления, и Учреди-
тельное собрание вновь восстановит свергнутое партией
самодержавие. Теперь трудно проследить все прения,
возникшие по этому поводу, но они завершились едино-
гласным решением членов комитета: «В видах избежа-
ния анархии в стране ни в коем случае не нарушать и
не умалять верховной власти Учредительного собрания,
а, следовательно, признать даже царское правительство
в случае, если оно будет восстановлено Учредительным
собранием, но сохранить за партией право пропаганды
190
республиканской идеи и это право отстаивать всеми до-
ступными партии средствами»» L
Очевидно, народовольцы сомневались в прогрессив-
ности народной воли, учитывая забитость и инертность
трудящихся масс. То обстоятельство, что Исполнитель-
ный комитет допускал возможность восстановления мо-
нархии по воле Учредительного собрания, указывает на
неподготовленность России к революции. Воле ее народа
не хватало еще ни умения, ни решительности произвести
тот переворот, ради которого возникло и бесстрашно бо-
ролось тайное общество народовольцев. Но тогда пер-
спективы революционной борьбы не могли быть выяс-
нены с необходимой степенью достоверности. Борьба,
как говорил В. И. Ленин, основывалась на вере. В идею
политической свободы верили как в святыню и все под-
чиняли ей.
Для выполнения вышеизложенных целей «Народная
воля» намечает различные формы и виды деятельности.
Этих форм шесть: агитация и пропаганда в различных
слоях общества; разрушительная и террористическая
деятельность, направленная на подрыв силы и автори-
тета правительства; организация тайных обществ и спло-
чение их вокруг одного руководящего центра; приобре-
тение влияния и авторитета в административных органах,
войске, общественной среде и народе и, наконец, подго-
товление, организация и совершение государственного
переворота.
Разнообразие перечисленных форм деятельности
должно объединяться одной руководящей идеей, которой
и служили эти формы. Смысл борьбы состоял в завое-
вании гражданских свобод для народа* Это альфа и
омега народовольчества, его страсть, решимость и жела-
ние. Они хотели владеть тем рычагом, с помощью кото-
рого впоследствии надеялись осуществить социалистиче-
скую революцию. Этому и должна быть подчинена вся
работа «Народной воли».
«Пропаганда имеет своей целью популяризировать
во всех слоях населения идею демократического полити-
ческого переворота как средство социальной реформы, а
также популяризацию собственной программы партии»1 2.
1 А. П. Прибылева-Корба. «Народная воля». Воспоминания о
1870. 1926, стр. 56.
2 «Литература партии «Народная воля»», 1930, стр. 50—51.
191
Народовольцы намерены вести пропаганду во «всех
слоях населения», горячо веря, что идея демократиче-
ского переворота найдет отклик. Причин такой веры не-
мало, но две из них наиболее показательны: отсутствие
научного взгляда на классовое деление общества и
чрезмерная переоценка роли идей (при этом игнори-
руется, что политические идеи всегда классовы).
Тем же целям, что и пропаганда, должна служить
агитация как непосредственное средство воздействия
на чувства народа и возбуждения ненависти к угне-
тателям.
Но не только пропаганда и агитация служат делу по-
литического пробуждения народного сознания, ту же
цель преследует и самый устрашающий метод борьбы —
террор.
«Террористическая деятельность, состоящая в уни-
чтожении наиболее вредных лиц правительства, в защите
партии от шпионства, в наказании наиболее выдающихся
случаев насилия и произвола со стороны правительства,
администрации и т. п., — имеет своей целью подорвать
обаяние правительственной силы, давать непрерывные
доказательства возможности борьбы против правитель-
ства, поднимать таким образом революционный дух на-
рода и веру в успех дела и, наконец, формировать годные
и привычные к бою силы» Ч
Каковы оказались результаты подобного взгляда на
террор, мы увидим из последующего изложения, а пока
коротко об истории этого метода борьбы. Идея индиви-
дуального террора, и в частности цареубийства, не есть
что-то новое, присущее только народовольчеству. Правда,
последние придали ему наиболее серьезное значение,
включив в свою программу. Террор как средство борьбы,
мотивированный различными способами (самозащита,
ограждение от шпионажа, устрашение, агитация и т. д.),
присущ второму периоду (разночинскому) революцион-
ного движения. Конечно, не все деятели освободитель-
ного движения, а также подпольные организации теоре-
тически допускали террор, но почти всегда в условиях
напряженной политической обстановки мы имеем пря-
мые факты индивидуального террора. Вот некоторые,
наиболее яркие примеры.
1 «Литература партии «Народная воля»», 1930, стр. 51.
192
После Крымской войны и в значительной степени под
влиянием поражения России в этой войне на юге страны
возникло в 1856 г. Харьковско-Киевское тайное общество
студентов. Наряду с различными методами борьбы и
деятельности членами общества пропагандировалась и
мысль о цареубийстве. П. Завадский, один из главных
деятелей этого общества, говорил на следствии: «Ма-
ленькое затруднение состояло в том, что русский народ
очень привязан к царю... но для этого положено: в то
самое время, как только подымется бунт, истребить всю
царскую фамилию» *.
Царистские иллюзии крестьянства представляли боль-
шую помеху политической борьбе. Революционные дея-
тели отлично понимали это, и потому многие из них ду-
мали, что убийство царя может привести к высвобожде-
нию революционной энергии масс.
В начале 1861 г. агентура III отделения обнаружила
распространявшуюся в рукописных списках проклама-
цию «Роковой год дома Романовых». В ней между
прочим имеются слова: «Для окончательного разрыва
с кровожадным деспотизмом русского императорства
торжествующая революция должна уничтожить права
наследственной короны, и громадная социальная пар-
тия, питающая ненависть к дому Романовых, будет пер-
вой представительницей в его неизбежном истребле-
нии. .. Мы утвердительно можем сказать, что уже насту-
пил роковой год для дома Романовых»2.
Читателя не должно смущать указание на «громад-
ную социальную партию» и на «торжествующую рево-
люцию» — ничего подобного тогда еще не было и не мог-
ло быть. Дело сводилось к тому, чтобы уничтожить им-
ператора и тем самым лишить крестьян предмета их
веры, поколебать убеждение, что царская власть от бога,
а не от людей.
Шеф жандармов придавал очень серьезное значение
прокламации. В записке по этому поводу говорится, что
манифест 19 февраля 1861 г. сделал отношения между
крестьянами и их владельцами «если не враждебными,
то далеко не спокойными. Как бы пользуясь этими от-
ношениями, некоторая часть русского молодого поколе-
1 ЦГАОР, ф. 109, 1860 г., д. 24, ч. 7, л. 17.
2 ЦГАОР, ф. 109, 1861 г., д. 464, л. 6—7.
13 м. Г. Седов
193
ния, ложно направленная, под влиянием идей и событий
Запада, мечтает об изменении существующего порядка.
Безопасность государя никогда не была столь важна для
России, как в настоящее время... Нельзя при этом не
упомянуть о влиянии, которое имеет примеры: недавнее
покушение в Европе на жизнь двух государей может
поселить подобную мысль в какой-нибудь голове, ослеп-
ленной безрассудной мечтательностью или политическим
фанатизмом»
Любопытная особенность. Устремления революцио-
неров и защитников самодержавия, развиваясь в диа-
метрально противоположных направлениях, совпадали
в одном выводе: как те, так и другие утверждали: личная
безопасность императора неразрывно связана с устоями
существующего порядка.
В другой обстановке и под влиянием других обстоя-
тельств та же мысль об индивидуальном терроре, на-
правленном против императора и его ближайших слуг,
возникает после подавления польского восстания. 4 ап-
реля 1866 г. Дм. Каракозов совершил неудачное покуше-
ние на Александра II. В революционных кругах выска-
зываются противоположные мнения о данном способе
борьбы. Старая русская эмиграция в принципе осуждала
индивидуальный террор. Герцен утверждал, что только
у слабых и диких народов история пробивается путем
убийств1 2. Молодая эмиграция, наоборот, осуждала кри-
тику Герцена. Александр Серно-Соловьевич в брошюре
«Наши домашние дела» резко упрекал Герцена за это.
Несмотря на неудачу Каракозова, сторонники инди-
видуального террора не отказывались от избранного ме-
тода борьбы. Так, во время следствия по делу «4-го ап-
реля» распространилась рукописная прокламация, адре-
сованная графу М. Н. Муравьеву. В ней подчеркивалась
необходимость продолжения борьбы теми же методами,
какими начал Каракозов. В список осужденных на
смерть были включены Александр II, шеф жандармов
и Муравьев. «Никакая тайная полиция, — писали авторы
прокламаций, — не отстранит сего приговора. Не помо-
гут и кольчуги. Будут целить наверняка» 3.
1 ЦГАОР, ф. 109, 1861 г., д. 464, стр. 3.
2 Там же.
3 ЦГАОР, ф. 109, 1866 г., д. 310, л. 1, 2.
194
В конце 60-х годов также находятся люди, отстаи-
вающие террористическую деятельность. «Народная рас-
права» — яркое тому подтверждение. Разгром нечаев-
ских групп, подавление таких организаций, как кружки
чайковцев, «москвичей», и неудача «хождения в народ»
придают общественному движению особую окраску.
Террористическое движение исчезает, чтобы вновь воз-
никнуть в связи с созданием «Земли и воли», которая не
только не отказывается от индивидуального террора,
но считает его одной из своих главнейших задач. Так,
в «дезорганизаторской части» программы ее мы находим
следующие строки: «...систематическое истребление наи-
более вредных или выдающихся лиц из правительства и
вообще людей, которыми держится тот или другой нена-
вистный нам порядок» Ч
Этот короткий параграф программы повлек за собой
целую серию актов нападения землевольцев на шпиков
и правительственных лиц, вплоть до самого императора.
Итак, из приведенных фактов можно сделать вывод,
что идея индивидуального террора и практика его осу-
ществления— явление, присущее пореформенному рево-
люционному движению. Причем эти явления приблизи-
тельно равномерно встречаются и в периоды подъема
движения, и в периоды спада его. Но, подчеркнув это,
нельзя забывать, что в донародовольческую эпоху этот
метод борьбы имел подчиненное значение, выступая каж-
дый раз со своеобразной мотивировкой, отличной от
народовольцев. Да и условия борьбы «Народной во-
ли» резко отличаются от предыдущих как с точки зре-
ния внутреннего положения страны, так и с точки зрения
развития самого революционного движения.
Народовольцы пошли отличным от своих предше-
ственников путем. Отказавшись от основного тезиса
народничества: «Освобождение народа — дело самого
народа», народовольцы выдвинули свой: «Политический
переворот силами партии — условие пробуждения наро-
да для революции». Исходя из этого террор «Народной
воли» имел принципиальное отличие от террора земле-
вольцев и отчасти даже от террора южных групп.
Специфика революционных задач требовала новой
постановки всего организованного дела. Но помимо вну-
1 «Архив «Земли и воли» и «Народной воли», стр. 62.
*
195
трипартийного строительства организационная работа
«Народной воли» преследовала также и другие не менее
важные цели. Речь идет о приобретении соответствую-
щего положения и влияния в администрации, войске,
обществе и в народе: «Для успешного исполнения всех
функций партии в высшей степени важно прочное поло-
жение в различных слоях населения. По отношению к
перевороту особенно важны администрация и войско. Не
менее серьезное внимание партия должна обратить на
народ. Главная задача партии в народе — подготовить
его содействие перевороту и возможность успешной
борьбы на выборах после переворота» Г
Организаторская работа в массах народа ограничена
здесь до малейших пределов. Народовольцы удовлетво-
ряются приобретением сочувствия народа к их борьбе
с правительством. Народ выступает не как субъект ре-
волюционного дела, а как сочувствующий и в лучшем
случае как помощник.
Показательна эволюция взглядов революционной де-
мократии на роль народных масс в освободительном
движении. В 40-е годы Белинский и Герцен говорили об
удивительной забитости народа и о том, что с ним нель-
зя говорить иначе как «словами священного писания».
В конце 50-х и начале 60-х годов в народе увидели глав-
ную силу революционного действия, которая не сегодня-
завтра даст сама о себе знать восстанием. Затем эта
вера сменилась (конец 60-х и начало 70-х годов) неве-
рием в стихийное пробуждение. Стали утверждать, что
народ надо пробудить пропагандой и агитацией (лав-
ризм, бакунизм). Землевольцы же приступили к реше-
нию задачи с новым лозунгом: «Революционное движе-
ние во имя непосредственных народных требований».
Здесь усматривали тайну пробуждения масс и исходный
пункт революции. Возникла теория об интересах и мне-
ниях народа, о его прирожденное™ и готовности к бунту
и социализму. Время не подтвердило и эту надежду,
хотя деятельность во всех этих направлениях имела круп-
ное историческое значение. Теперь оставалось, казалось
бы, последнее, чем располагали революционеры из ин-
теллигенции,— разбудить народ при помощи захвата
власти революционной организацией. Так возникла «тео-
1 «Литература партии «Народная воля»», 1930, стр. 51.
196
рия толчка». На этом и остановилась программа «Народ-
ной воли».
Значительная часть ее посвящена организации и со-
вершению государственного переворота. Почин в деле
захвата власти партия берет на себя, будучи уверенной
в собственных силах и ввиду невозможности в данных
условиях поднять на борьбу сколько-нибудь значитель-
ные слои народа. Опыт показывал, что крестьянские вы-
ступления были не только раздробленными, но и разно-
временными, выступления же рабочих — крайне слабыми
и не выходящими за рамки экономических стачек. Ста-
рые представления о том, что социалистические преобра-
зования возможны без предварительного овладения го-
сударственной властью, отбрасываются как ошибочные.
Этим был нанесен непоправимый удар теории воздержа-
ния от политики.
В отвержении аполитизма большое завоевание наро-
довольцев, громадный успех революционной мысли и
практики. Но вместе с тем они совершали и крупную
ошибку, рассчитывая овладеть властью без народа.
Ошибка их исторически неизбежна, но от этого она не
перестает быть ошибкой.
Таково в общих чертах политическое содержание и
теоретическое направление программы Исполнительного
комитета «Народной воли». Эта программа отразила по-
требность России в политических преобразованиях. Она
включала в себя новые идеи, а из старых использовала
только те, которые оказались созвучны времени и соот-
ветствовали его потребностям.
Составными элементами народовольчества, следова-
тельно, надо признать народничество, бланкизм и терро-
ризм. Но это не механическое соединение, а органическое
слияние известных направлений в революционном дви-
жении второго, пореформенного периода освободитель-
ной борьбы в России.
Несмотря на коренные различия программы «Народ-
ной воли» и «Земли и воли», обе они народнические, так
как социальная база их одна и та же. Та и другая отра-
зили интересы крестьянства и объективно соответство-
вали быстрому капиталистическому развитию страны.
Конечно, в классовых корнях двух доктрин — землеволь-
ческой и народовольческой — есть и известные различия:
«Народная воля» решительнее и шире отразила интересы
197
населения города, интересы прогрессивных элементов
мелкой буржуазии, либерального движения.
После выявления идейных основ «Народной воли»
необходимо обратить внимание на ее организационную
структуру. В программе «Народной воли» имеется осо-
бый параграф: «Организация тайных обществ и сплоче-
ние их вокруг одного центра. Организация мелких тай-
ных обществ со всевозможными революционными це-
лями необходима как для исполнения многочисленных
функций партии, так и для политической выработки ее
членов. Но эти мелкие организации для более стройного
ведения дела, особенно же при организации переворота,
необходимо должны группироваться вокруг одного об-
щего центра на началах полного слияния или федера-
тивного союза» Ч
В организационном отношении «Народная воля» вос-
принимает, как мы видели, наследие землевольцев, но
значительно усиливает принцип централизации. Несмо-
тря на сходство «Основного кружка» с Исполнительным
комитетом, эти органы отличаются как по месту в си-
стеме кружков и групп, так по методам управления, не
говоря уже о ближайших целях. На структуру Исполни-
тельного комитета и его ответвлений оказала какое-то
влияние мысль П. Г. Заичневского, мечтавшего о такой
организации, которая стояла бы «во главе всякого дви-
жения» антиправительственного направления. Это сход-
ство не отождествляет, но значительно сближает точку
зрения шестидесятника и народовольцев.
Исследователи «Народной воли» на протяжении не-
скольких десятков лет не имели в своем распоряжении
устава Исполнительного комитета, что, разумеется, не
позволило сколько-нибудь подробно и точно изложить
организационные принципы народовольчества. В какой-
то степени пробел этот восполняли мемуаристы1 2. Но
ввиду того что воспоминания писались много лет спустя,
трудно рассчитывать на точность воспроизводимых до-
кументов. Н. А. Морозов был автором устава, но, несмо-
тря на это, ему не удалось восстановить его.
1 «Литература партии «Народная воля»», 1930, стр. 51.
2 См. Н. Морозов. Возникновение «Народной воли». — «Былое»,
1906, № 12; А. П. Прибылева-Корба. «Народная воля». М., 1926;
В. Фигнер. Запечатленный труд. (Поли. собр. соч., т. 1, 2), и неко-
торые другие.
198
Устав считали особо секретным документом, его тща-
тельно хранили, но все же в середине 1882 г. он был за-
хвачен у Грачевского при его аресте. С тех пор о нем
мало что знали. Копия его хранилась у жандармского
генерала Новицкого. От Новицкого устав попал в руки
В. Бурцева, который намеревался опубликовать его в
«Былом», что, однако, не исполнил, но передал устав
в редакцию периодического сборника «На чужой сто-
роне», где он и был опубликован в 1924 г. Б. Николаев-
ским
Устав Исполнительного комитета «Народной воли»
обсуждался еще на Липецком съезде, где и был утвер-
жден. Затем в связи с расколом «Земли и воли» и обра-
зованием «Народной воли», когда последняя преобразо-
валась в самостоятельную организацию, устав вновь под-
вергался рассмотрению и, по заявлению Н. А. Морозова,
был принят без дополнений и изменений. В. Н. Фигнер,
например, не помнит, вносились ли в устав какие-либо
поправки или нет. А. П. Корба и М. Ф. Фроленко ничего
об этом не говорят. Таким образом, вопрос о том, были
или нет изменения в уставе после Липецкого съезда,
остается в какой-то степени открытым. Была ли потреб-
ность в этих изменениях, сказать нельзя, не разобрав са-
мого устава.
Обращает на себя внимание прежде всего то обстоя-
тельство, что рассматриваемый документ не есть устав
«Народной воли» как партии; это только устав Испол-
нительного комитета.
Он начинается с определения общих организацион-
ных принципов и указания места Исполнительного ко-
митета в структуре «Народной воли»: § 1. Исполнитель-
ный комитет должен быть центром и руководителем пар-
тии в достижении целей, поставленных в программе;
§11. Исполнительный комитет конкретно представляется
общим собранием его членов. Общему собранию принад-
лежит высшая законодательная и исполнительная власть.
Создатели «Народной воли» отлично представляли
себе условия своей деятельности, а потому их общество
строилось на началах, совсем отличных от обычных
партий.
1 См. «На чужой стороне», 1924, № 7. В 1965 г. устав был вос-
произведен в сборнике «Революционное народничество семидесятых
годов XIX века», т. II, стр. 200—211.
199
Централизация и тайна — вот первоначальные основы
построения «Народной воли». Но в те же основы входит
и демократизм, поскольку только он совместим с тай-
ными обществами.
Все члены Исполнительного комитета признаются
равноправными вне зависимости от занимаемой должно-
сти, сами же должности выборны. Такого рода система
называлась «выборной централизацией». Выборная же
централизация предусматривает «безусловное подчине-
ние большинству» каждого члена Исполнительного ко-
митета.
Кратко выраженная организационная формула «На-
родной воли» выглядит так: организация — централиза-
ция— тайна.
Грандиозность целей при суровых условиях борьбы
за них, естественно, повышала требовательность к инди-
видуальным свойствам каждого члена Исполнительного
комитета. В 7-м параграфе устава сказано: «Все личные
симпатии и антипатии, все силы и самую жизнь каждый
член Исполнительного комитета обязан приносить в
жертву его целей». Большую ответственность брал на
себя тот, кто вступал в Исполнительный комитет, и не
меньше жертв он приносил общему делу. Альтруизм и
самоотверженность вплоть до растворения личности в ре-
волюционной организации — характерная особенность
революционеров «старой школы». Но то, что мы теперь
называем жертвенностью, для них было обязанностью,
долгом и честью. Никто не чувствовал ущемления в том,
что по уставу обязан был передавать в распоряжение
общества имущество и собственность. Рассмотрим пра-
вила приема в Исполнительный комитет:
«§ 44. Кандидат в члены Исполнительного комитета
должен быть:
а) вполне солидарен с программой, принципами и
уставом общества;
б) должен быть самостоятелен в убеждениях;
в) выдержанным, опытным и практичным в делах;
г) всецело преданным делу народного освобождения;
д) до своего поступления должен некоторое время
пробыть агентом 2-й степени».
Кроме того, вновь вступающего должны рекомендо-
вать пять членов Комитета, лично его знающих. Прием
происходил обычным путем при помощи голосования,
200
причем «каждый отрицательный голос уравновешивался
двумя положительными голосами, не считая голосов по-
ручителей».
В практической работе член Исполнительного коми-
тета не называется таковым, его официальное звание в
этих случаях — агент 3-й степени.
Вот почему неправ Богучарский, который в своей ра-
боте «Из истории политической борьбы» говорит, что
Желябов произвольно называл себя следственным орга-
нам агентом 3-й степени. Желябов в данном случае
строго соблюдал 56-й параграф устава Исполнительного
комитета. По тем же причинам и Александр Михайлов
отрицал, что был членом Комитета.
Каждый член Исполнительного комитета ответствен
не только за свою непосредственную работу, но и за дея-
тельность Исполнительного комитета в целом.
Взаимоотношения между членами строились по прин-
ципу полной солидарности и взаимной поддержки.
«Все за каждого, — записано в § 5 устава, — и каж-
дый за всех». Самообладание в самых сложных условиях,
смелость, отвага, настойчивость, презрение к смерти —
вот что требует устав от членов организации.
«Эти требования, — писала В. Н. Фигнер, — были ве-
лики, но они были легки для того, кто был одушевлен
революционным чувством, тем напряженным чувством,
которое не знает ни преград, ни препятствий и идет пря-
мо, не озираясь ни назад, ни направо, ни налево. Если
бы они, эти требования, были меньше, если бы они не
затрагивали так глубоко личности человека, они остав-
ляли бы неудовлетворенность, а теперь своею строгостью
и высотой они приподнимали личность и уводили ее от
всякой обыденности; человек живее чувствовал, что в нем
живет и должен жить идеал» Ч
В мемуарной литературе содержится утверждение,
что устав запрещал выход из Исполнительного комитета.
Так, А. П. Корба говорила: «Что касается до организа-
ции самого комитета, то выход из его членов признавал-
ся уставом недопустимым»1 2.
Это и им подобные утверждения не совсем верны, и
они объясняются тем, что их авторы забыли содержание
1 В. Фигнер. Поли. собр. соч., т. 1, стр. 172.
2 А. П. Прибылева-Корба. «Народная воля», стр. 50.
201
устава. Вот что говорится в § 10: «Член Исполнительного
комитета обязуется пробыть в составе общества впредь
до осуществления его целей, т. е. низвержения суще-
ствующего правительства. До этого момента выход
членов из общества и условия выхода находятся в
полной зависимости от решения Исполнительного коми»
тета».
Таким образом, устав не исключал возможность вы-
хода из состава общества, что, правда, практически было
трудно осуществить, да в то время вряд ли кто думал
об этом.
Исполнительный комитет, как высшая инстанция
«Народной воли», руководил деятельностью всех круж-
ков, групп и учреждений тайного общества, выбирал
администрацию, редакторов печатного органа и всех
других ответственных лиц.
Вместе с обычными обязанностями Исполнительный
комитет имел также и чрезвычайные, как-то: составление
(изменение) и принятие программы и устава; «исключе-
ние членов и смертный приговор для них». Для решения
подобных вопросов созывались его «общие собрания»,
на которых должно было присутствовать не менее 2/3
всех членов Исполнительного комитета. Но помимо «об-
щих собраний» устав разрешал и «частные собрания»,
где рассматривались дела общества, носившие спешный
характер. Такие собрания могли быть действительными
при наличном членстве.
Для текущей организационной и оперативной рабо-
ты Исполнительный комитет избирал из своих рядов
администрацию в количестве пяти членов и трех канди-
датов. Как сказано в § 25 устава, она «наблюдает за
точным исполнением устава и предначертаний общего
собрания». Ей дано право приема новых членов Испол-
нительного комитета, контроля за действиями и работой
всех организаций общества. Администрация информиро-
вала о положении дел кружков, групп, о выполнении
поручений, договоров, о расходовании средств и т. д.
Она же распределяла обязанности среди членов коми-
тета, «сообразуясь с их собственными наклонностями»
или интересами дела. Невыполнение поручения влекло
за собой тяжелые последствия.
Одной из основных забот администрации было рас-
ширение связей и влияния Исполнительного комитета:
202
«§ 34. Администрация особенно озабочивается рас-
ширением связей и влияния Исполнительного комитета
на другие группы и лица, а также приобретением денеж-
ных средств.
Состав администрации как исполнительного и руко-
водящего органа тайного общества сохранялся в глубо-
кой тайне для всех организаций «Народной воли».
Исполнительный комитет организует вокруг себя це-
лую систему кружков и групп, совокупность всех этих
организаций и составляет «Народную волю». Типы этих
организаций различны».
«§ 57. Группы, входящие в состав тайного общества
«Народная воля» с Исполнительным комитетом в центре,
представляют следующие типы:
1. Общереволюционные группы: а) вассальные, б) со-
юзнические.
2. Боевые группы: а) комитетские, б) союзнические,
в) временные».
Все группы и организации должны принимать про-
грамму Исполнительного комитета и действовать соглас-
но ее направлениям и положениям. Члены групп должны
взять обязательство в нужный момент отдать себя в пол-
ное распоряжение Исполнительного комитета для совер-
шения государственного переворота.
Показателен § 58 устава, который гласит: «.. .каждую
отдельную группу не следует допускать до такого усиле-
ния, при котором она могла бы подорвать центральное
значение Исполнительного комитета». Исходя из этого
лучшим типом признается вассальная группа, состоящая
из агентов 2-й степени и включающая в себя не более
15 членов. Для решения определенных практических за-
дач на началах договора создается так называемая со-
юзническая группа. Союзнический договор заключается
представителями сторон с соблюдением их интересов.
Для непосредственного нападения на правительство
и его агентов создаются при Исполнительном комитете
специальные боевые комитетские группы. Состав такой
группы не должен превышать десять человек, среди них
должен быть по крайней мере один член Исполнитель-
ного комитета. Боевая группа осуществляет террористи-
ческие акты, намеченные Исполнительным комитетом,
а в момент политического переворота «является по тре-
бованию Исполнительного комитета в полном составе».
203
Во всем остальном они самостоятельны и действуют по
инструкции, специально для них выработанной Комите-
том.
Особому назначению боевых групп должны соответ-
ствовать многие качества ее членов: «§ 65. Для вступле-
ния в боевую группу от члена требуется готовность и
способность к личному самопожертвованию...»
Там, где нельзя создать группы, интересам «Народ-
ной воли» должны служить отдельные лица, так назы-
ваемые агенты двух степеней. Агенты 1-й степени не
имеют никаких прав и обязанностей, они только сочув-
ствуют «Народной воле» и добровольно помогают ей.
Агентов 1-й степени имеют все члены Комитета в каче-
стве частных помощников. Секретные данные «Народной
воли» в целом скрыты от них.
Агент-исполнитель, или агент 2-й степени, принимает-
ся членом Исполнительного комитета с согласия адми-
нистрации. Требования к нему значительны, они опре-
делены § 73: «1) беспрекословно исполнять распоряже-
ния администрации; 2) пробыть на службе общества не
менее года со дня принятия в агенты; 3) при выходе
подчиниться условиям, поставленным администрацией
для обеспечения интересов и безопасности общества».
Агент 2-й степени обязан беспрекословно следовать
программе и принципам построения общества, должен
быть благонадежным, решительным и полностью предан-
ным делу народного освобождения. Состав Комитета,
внутренний распорядок общества, а также устав оста-
ются тайной для агента 2-й степени.
Таково содержание и внутренняя структура устава
Исполнительного комитета «Народной воли».
По своему построению Исполнительный комитет стро-
го централистическая организация, конспиративная, са-
мостоятельно возникшая и сама себя санкционирующая,
а не избранная на каком-либо съезде или конференции.
Ввиду этого обстоятельства «Народная воля» не была и
не могла быть партией. Она могла быть только тайным
обществом. Любая партия, как легальная, так и неле-
гальная, строится на равноправии всех членов, избираю-
щих свои органы.
В «Народной воле» о равных правах может идти речь
только применительно к членам Исполнительного коми-
тета. Вся же сеть кружков, созданная около Комитета,
204
не только зависела от него, но и не имела права знать
что-либо о деятельности органа, руководившего и на-
правлявшего их работу. Наименования «вассальный»,
«союзнический» говорят сами за себя. В партиях подоб-
ного взаимоотношения не допускается.
Нельзя обойти молчанием и тот факт, что название
«Исполнительный комитет» не отвечает действительному
положению этого органа. В самом деле, он имеет свой
устав, предоставляющий ему такие права, которые ис-
ключают понятие «исполнительный». Да и чью волю он
мог исполнять, если не было равноправного членства?
Комитет стоял вне отчетности и вне контроля. Другой
вопрос, были ли возможными тогда отчетность и кон-
троль. Суровое время и беспощадность борьбы требо-
вали своеобразных форм организации антиправитель-
ственных сил. Исполнительный комитет в данном случае
исполнял свою волю, а не волю партии, и, более того,
сама партия, представленная сетью различных кружков
и групп, выполняла волю Исполнительного комитета.
В этом свете понятны слова М. Н. Ошаниной о том,
что он никогда «не был исполнительным» *. Исполни-
тельный комитет выступал как самостоятельная тайная
организация, санкционирующая сила в системе народо-
вольчества.
При чтении устава возникает масса вопросов, и пре-
жде всего обращает на себя внимание его узость. Из-
вестно, что в «Народную волю» входили такие организа-
ции, как рабочая и военная, устав же об этом не говорит
ничего. Чем объяснить такое положение? Безусловно,
одним: устав отразил лишь первый этап организацион-
ного построения «Народной воли». Возможно, что не-
зависимо от рассматриваемого устава был еще устав
«Народной воли». Такие мысли имеются в литературе, но
мемуаристы об этом молчат. Всего вероятнее предполо-
жить, что в первые месяцы деятельности «Народной
воли», когда все внимание организации поглощалось ак-
тами нападения на правительство, устав оставался не-
изменным, но затем, после халтуринского дела, недо-
статки устава и программы были учтены. Этим, по всей
вероятности, объясняется появление нового документа —
«Подготовительная работа партии». Он содержит в себе
1 См. «Былое», 1907, № 6, стр. 4.
205
положения устава и программы. Кроме того, в этом до-
кументе намечены пути достижения поставленных целей
К тому времени накопился уже значительный опыт прак-
тической борьбы, обнаружились ее недостатки. И дей-
ствительно, как увидим ниже, «Подготовительная работа
партии» значительно расширяет и конкретизирует поло-
жения устава и программы.
Из программы и устава с полной очевидностью сле-
дует, что с самого возникновения «Народная воля» при-
звана была стать и стала организацией непосредствен-
ного действия, открытой борьбы. Народовольцы были
уверены, что только антиправительственные акты по-
могут им стать силой с общественным значением и из
организации никому не известной превратиться в партию
с большой притягательной силой. Помимо других средств
деятельности наибольшего успеха они ждали от актов
нападения на самого императора.
Как известно, еще 26 августа 1879 г. в Петербурге
Исполнительный комитет «Народной воли» в развитие
решений Липецкого съезда вынес смертный приговор им-
ператору Александру II. Были установлены и пункты
нападения на него — Одесса, Александровск и Москва.
Предполагалось, что император, находившийся в Лива-
дии, на обратном пути в Петербург обязательно проедет
через эти города и в каждом его будет ожидать смерть.
Неудача в одном пункте может быть исправлена в дру-
гом.
Одесскую группу составили В. Фигнер, Н. Кибальчич,
Т. Лебедева, М. Фроленко и Н. Колодкевич. Фигнер вы-
хлопотала для Фроленко место будочника на Одесской
железной дороге, и он под фамилией Александрова по-
селился на 14-й версте от Одессы. К нему под видом
жены приехала Лебедева, привезшая динамит. Их роль
сводилась к тому, чтобы приготовить галерею, куда мож-
но положить динамит, и при проезде императора взо-
рвать железнодорожное полотно. Технической сторо-
ной дела ведал Кибальчич, выдающийся техник и химик.
Подготовительные работы шли быстро и успешно.
12 ноября в Одессу приехал Г. Гольденберг, потребовав-
ший часть взрывчатки для московского покушения, где
ее не хватало. При этом он сообщил, что, по полученным
сведениям, царский поезд минует Одессу. Все работы
ввиду этого приостановили. Гольденберг, взяв динамит,
206
НИКОЛАЙ КИБАЛЬЧИЧ (1854—1881)
Никогда никакой общественно-революционной партии не выпадала
на долю такая тяжелая и сложная задача, как та, которая постав-
лена историей русской социально-революционной партии. Вместе со
своей основной задачей — социально-экономической — мы должны
взять на себя еще работу разрушения системы политического деспо-
тизма. .. Поэтому ни одной социалистической партии в Европе не
приходится выдерживать такой тяжелой борьбы, приносить столько
жертв, как нам.
«Я как будто воочию вижу эшафот, вижу Желябова... Он думает
о том, что будет дальше с «Народной волей». Вот — Кибальчич с его
миролюбивой физиономией, небольшой бородкой и не то скорбной,
не то презрительной полуулыбкой: он думает о своем аэроплане».
Фигнер
отправился в Москву, но 14 ноября 1879 г. в Елизавет-
граде был арестован.
Одновременно с подготовкой покушения в Одессе шли
работы и в Александровске. Желябов под видом купца
Черемисова приобрел вблизи железной дороги участок
земли для кожевенного завода. «Строительство» прикры-
вало приезд к нему «мастеровых». Роль хозяйки дома
выполняла А. Якимова (Баска). Александровская группа
была довольно большой—-А. Желябов, А. Якимова,
А. Пресняков, Г. Исаев, Я. Тихонов, М. Тетерка, С. Ши-
ряев и И. Окладский. Пресняков и Ширяев выполняли
еще другие функции. Первый большую часть времени
жил в Симферополе, где получал сведения о выезде
царя, а второй консультировал по технической части
участников московского покушения. Земляные работы
заняли около месяца и закончились ко дню получения
извещения о прибытии 18 ноября царского поезда. Утром
того же дня Желябов, Пресняков, Тихонов и Окладский,
погрузив все необходимое для взрыва на телегу, отпра-
вились к пункту предстоящего покушения. По прибытии
на место батарея и мина были подсоединены, отходящие
в сторону проводники взял Желябов. Окладский занял
сигнальный пост. По его знаку надо было замкнуть цепь.
Императорский поезд приближался к мине. Окладский
подал сигнал — и Желябов замкнул цепь, но... взрыв не
последовал. Поезд прошел благополучно.
Спустя некоторое время Исполнительный комитет
«Народной воли» создал комиссию под председатель-
ством Михайлова для расследования причин неудачи.
Комиссия не могла выехать на место происшествия по
понятным причинам, а расследование вела по допросам
участников. Злого умысла в деле, конечно, не было,
а техническую причину установить не удалось. Предпо-
лагали, что взрыв не последовал из-за плохо изолирован-
ного проводника. После неудачи участники уехали в
Петербург L
Органы суда и следствия ничего не знали об алексан-
дровской попытке, и все это дело получило огласку вес-
1 Много десятилетий спустя, уже в послереволюционное время,
когда советский суд привлекал Складского за шпионаж в револю-
ционной среде, прокуратура вернулась к неудаче александровского
покушения, но и на этот раз ничего нового не обнаружила. В то
время Окладский еще не был предателем, он стал им в 1881 г.
208
ной 1880 г. из показаний Гольденберга и затем уже фи-
гурировало во всех народовольческих процессах.
Александровская неудача превращала Москву в пункт
особой важности. Организация московского покушения
возлагалась на Михайлова. Он наметил план, состав-
ными частями которого были: 1) взрыв железнодорож-
ного пути, по которому должен был следовать поезд
императора; 2) подкоп для закладки мин и 3) земляные
работы, которые должны были вестись из закрытого по-
мещения, чтобы не вызвать подозрения ни жителей, ни
властей. Приняв такое решение, Михайлов осмотрел
места и остановился на пункте, расположенном в трех
верстах от ст. Москва по Московско-Курской железной
дороге. Здесь он купил дом на имя Сухорукова — им стал
Л. Гартман, поселившийся в нем вместе с «женой»
С. Перовской. Дом Сухорукова превратился в центр
московской группы и пункт, откуда начался подкоп.
Московская группа была самой многочисленной. В нее
вошли А. Михайлов, Л. Гартман, С. Перовская, А. Ба-
ранников, С. Ширяев, Г. Исаев, Н. Морозов, Г. Гольден-
берг, А. Арончик и Г. Чернявская. Гартман забил окна
дома нижнего этажа, создав видимость ремонта, что
позволило начать работы по подкопу. Предстояло про-
бить галерею в 20 саженей. Подкоп нельзя было вести
глубоко под землей из-за грунтовых вод, а ведение ра-
бот на глубине полутора—двух аршин оказалось очень
опасным из-за рыхлости грунта и сотрясений, вызывае-
мых движением железнодорожных составов. В. Фигнер
так передает рассказ Михайлова о его работе в галерее:
«Своды галереи дрожали как при землетрясении, и гул
от проходивших поездов был подобен грому, когда над
головой сидящего в галерее проносилось чудовище» \
Свеча часто тухла, и в спертом воздухе почти невозмож-
но было дышать. Лежа по грудь в воде, люди сверлили
землю и перетаскивали ее в ящиках лямкой. Однажды,
после сильного дождя, вся галерея оказалась затоплен-
ной водой, потребовались исключительные усилия, чтобы
вычерпать ее ведрами. Вот воспоминание Михайлова:
«Положение работающего там походило на заживо за-
рытого, употребляющего последние силы в борьбе со
смертью... Здесь я первый раз в жизни заглянул ей
1 В. Фигнер. А. Михайлов. М., 1926, стр. 43.
14 М. Г. Седов
209
в холодные очи и, к удивлению и удовольствию моему,
остался спокоен»»
Немногие оказались пригодными для такой работы.
Морозов не смог выдержать непривычного труда и был
освобожден. Не по силам был труд и Арончику.
Накануне 19 ноября все работы были закончены.
40-метровая подземная галерея упиралась в центр же-
лезнодорожного полотна, где и заложили динамитные
мины с проводниками, выведенными на поверхность.
Электромашину включили в сеть, оставалось соединить
концы проволоки, чтобы произошел взрыв. Тем временем
стало известно, что в Александровске покушение не со-
стоялось. Стало ясно, что Москва — «последний шанс
для выполнения замысла».
И вот 19 ноября. Поступили сведения о времени при-
бытия императорского поезда. Перовская заняла место
сигнальщика. Прибывший первым поезд пропустили, по-
лагая, что там царская прислуга, а когда подошел вто-
рой, последовал сигнал Перовской и взрыв. Позднее
узнали, что царь проследовал с первым поездом.
22 ноября Исполнительный комитет «Народной воли»
специальным воззванием известил общественность о не-
удачном покушении. В этом воззвании есть слова: «Алек-
сандр II — главный представитель узурпации народного
самодержавия, главный столп реакции, главный винов-
ник судебных убийств; 14 казней тяготеют на его сове-
сти, сотни замученных и тысячи страдальцев вопиют об
отмщении... Он заслуживает смертной казни. Но не
с ним одним мы имеем дело. Наша цель — народная
воля, народное благо. Наша задача — освободить народ
и сделать его верховным распорядителем своих судеб».
И далее: «Для того, чтобы сломить деспотизм и возвра-
тить народу его права и власть, нам нужна общая под-
держка. Мы требуем и ждем ее от России»1 2.
Прокламация обошла всю страну и произвела силь-
нейшее впечатление не только в России, но и в Европе3.
Правительственные органы, и в частности III отделе-
ние, ничего не знали о внутренних изменениях, которые
1 В. Фигнер. А. Михайлов, стр. 43—44.
2 «Народная воля», 1879, № 3, стр. 8.
3 В заграничной прессе первой поместила прокламацию Испол-
нительного комитета армянская газета, выходившая в Константи-
нополе. Она дала ее полный текст 17 декабря 1879 г.
210
произошли за последнее время в революционных кругах.
Для них было тайной все, что случилось в подполье после
покушения Соловьева. Несмотря на громадный штат
шпиков, тайная полиция не имела ни малейшего понятия
о таких событиях, как Липецкий и Воронежский съезды,
образование «Народной воли» и «Черного передела»,
подготовка покушения на императора в Одессе и под
Александровском. Эти события оставались бы и дальше
тайной, не случись предательства Гольденберга. Но это
предательство произошло в феврале 1880 г., а до этого
все усилия сыска открыть тайну подполья не давали
положительных результатов.
Московский взрыв, таким образом, оказался совер-
шенно неожиданным, но реагировать на него надо было
открыто. Катков был первым. 20 ноября в «Прибавле-
ниях» к «Московским ведомостям» сообщено: «Не будем
говорить о потрясающем характере этого известия; оно
успело облететь всю Москву еще ранее напечатанного.
Из всех уст слышится одно предположение, нет, более, —
одна уверенность: не руками москвича, а пришлыми тем-
ными силами устроено это злодейство. Велико нетерпе-
ние знать подробности, велик ужас и велика радость; но
не менее велико и недоумение».
В тот же день в Кремле на приеме представителей
сословий Александр II произнес речь в связи с событием
у Курского вокзала: «Я надеюсь на ваше содействие,
чтобы остановить заблуждающуюся молодежь на том
пагубном пути, на который люди неблагонамеренные
стараются ее завлечь. Да поможет нам в этом бог и
да дарует он нам утешение видеть дорогое наше отече-
ство постепенно развивающимся мирным и законным
путем. Только этим путем может быть обеспечено буду-
щее могущество России, столь же дорогой всем, как и
мне»
Эти выступления трудно комментировать. Все надеж-
ды возлагались на репрессии.
Несмотря на лихорадочные розыски, виновников за-
держать не удалось. Начальник Московского губерн-
ского жандармского управления Слезкин собрал всех
соседей Сухорукова и предъявил им фотокарточки поли-
тических преступников, хранившиеся у него. Лев Гарт-
1 С. С. Татищев. Император Александр II, т. 2, стр. 618.
ман сразу был опознан. Все жандармские управления
империи получили приказы о его аресте. Но Гартман,
как известно, проживал с «женой», которую соседи на-
зывали Марией Семеновной. Кто она такая? Поиски
в Петербурге не дали результатов, а выписанные из до-
мовых книг лица с именем и отчеством «Мария Семенов-
на» составили цифру 500, поэтому узнать, кто из них
жил в Москве, не удалось. Все Марии Семеновны Мо-
сквы тоже были проверены, но и здесь тот же результат.
Поиски виновников покушения сопровождались изу-
чением настроений различных слоев общества. Предмет
особых забот составляло поведение крестьян. Подавляю-
щее большинство донесений из губерний, в которых
дается общая оценка настроения крестьян, свидетель-
ствовало о сравнительном спокойствии. Но вместе с тем
имелись и тревожные сигналы. Так, из Псковской губер-
нии сообщали о беседе одного помещика с местными
крестьянами: «Вот опять хотели извести батюшку-царя
и который уже раз. Все это делают господа, которым не
хочется уступить нам свою землю. Не сдобровать бы им,
если бы они извели нашего царя, пришлось бы тогда и
нам поработать».
Крестьянам стали разъяснять обратное, указывая,
что передела земель не будет, о чем сам министр сказал.
Они же стояли на своем: «Что, барин, толкуешь. Ведь
перед волей нам говорили, что воли не будет, а царь все-
таки дал волю; а перед общим призывом дворяне гово-
рили, что их сыновей в солдаты брать не будут. Царь
велел — и дворян берут. Так и теперь — говорят, что
передела земель не будет, а батюшка царь прикажет и
передел будет... Пускай баре не затевают злого дела
с царем, а то им не сдобровать» Г
Следует заметить, что подобные известия поступали
и из других губерний. Все они говорят о незатронутой
еще сомнениями вере крестьян в царя, причем она прочно
уживалась с их борьбой за землю. Последние слова до-
несения представляли особое значение и указывали
властям на удвоенную опасность; покушение могло раз-
вязать руки крестьян в борьбе с помещиками под пред-
логом защиты царя от нападения. В то же время в дру-
гих слоях общества покушения могли подорвать веру в
1 ЦГАОР, ф. III отд., 3 эксп., д. 680, ч. 1, л. 201 об.
212
незыблемость царской власти вообще. Народовольцев
устраивала и та и другая перспектива.
Поиски виновников московских событий привели жан-
дармерию к Эдуарду Пекарскому, который в свое время
работал вместе с Гартманом в Тамбовской губернии.
Какими были взаимоотношения Гартмана и Пекарского
в Москве — сказать трудно. В прошлом друзья, они од-
новременно оставили Тамбовскую губернию и посели-
лись в Москве. 23 декабря 1879 г. у Пекарского был
произведен обыск, давший в руки следствия большое
количество запрещенных книг и «вредных» рукописей.
Особый интерес среди них представляла рукопись «Наша
цель». Этот в целом интересный документ имеет для нас
пока одно назначение: в нем содержится попытка найти
среднюю линию между деятельностью «Земли и воли» и
«Народной воли». Дело Пекарского сразу разбиралось
двумя комиссиями — в Москве и Тамбове. Привлечь его
по делу 19 ноября не удалось, но открывшиеся обстоя-
тельства обнаружили наличие в Тамбове кружка Да-
веля с довольно широким составом (Мощенков, Федо-
ров, Скуратова и др.). С Гартманом все они были зна-
комы, но не сознались, и их дело было выделено в особое
производство.
18 декабря 1879 г. из Одессы в Москву прибыл про-
курор Добржинский. Он сообщил, что располагает до-
стоверными сведениями о московском покушении. Эти
сведения получены от Гольденберга через агента, поса-
женного к нему в камеру. Гольденберг рассказал о деле
Сухорукова и своем участии в работах. Нечего говорить,
какой интерес вызвало у властей это открытие, но и в
Москве III отделение знало уже немало.
Вспомним, как был арестован Гольденберг. 14 ноября
1879 г. из Елизаветграда жандармский майор Полыпау
телеграфировал в III отделение: «Сегодня на Елизавет-
градском вокзале задержан жандармами прибывший
одесским поездом неизвестный человек, ехавший в Курск,
назвавшийся Ефремовым, при задержании оказал со-
противление револьвером. В багаже Ефремова найдено
более пуда взрывчатого вещества. На допросе Ефремов
объявил себя социалистом. Произвожу дознание, подроб-
ности почтой» *.
1 ЦГАОР, ф. III отд., 3 эксп., 1879 г., д. 663, ч. 1, л. 1.
213
Рукою Дрентельна на депеше карандашом написано:
«Прикажите снять фотографию, не к приезду ли импе-
раторского поезда он готовился?» Шеф жандармов не
ошибся. Ефремов (Гольденберг) готовился к приезду
именно императорского поезда. При задержании Голь-
денберг отчаянно сопротивлялся, уничтожил некоторые
бумаги, но воззвание «Братьям рабочим» осталось. По-
сле первых допросов, впрочем ничего не давших, Голь-
денберга отправили в Одессу. 19 ноября произошел мо-
сковский взрыв, и одесский заключенный стал централь-
ной фигурой следствия. Этому в значительной степени
способствовал тот факт, что поиски Гартмана не дали
результатов. Но и в Одессе Гольденберг продолжал
молчать. 5 декабря 1879 г. начальник Одесского жан-
дармского управления Першин писал Дрентельну: «До
настоящего времени обвиняемый положительно укло-
няется от всяких объяснений, которые могли бы служить
разъяснению дела» Г Вскоре, однако, была установлена
личность задержанного Ефремова. Из Киева начальник
губернского жандармского управления Новицкий сооб-
щил, что он предъявил присланную ему карточку Ефре-
мова купцу 2-й гильдии Гольденбергу, который признал
в нем своего сына Григория. По наведенным справкам
оказалось, что Г. Гольденберг был приговорен к ссылке
в Архангельскую губернию, но оттуда бежал и проживал
нелегально.
Теперь задача состояла в том, чтобы заставить Голь-
денберга дать показания. Первое, что пришло на ум и
что так хорошо характеризует нравы органов дознания,
относится к полковнику Першину: «В интересах получе-
ния сведений от Гольденберга и ввиду отказа его от
правдивых показаний, я поместил с ним в одной камере
раскаявшегося политического преступника...»1 2
Провокация удалась как нельзя лучше. В подсажен-
ном человеке Гольденберг увидел не шпиона, а близкого
товарища, с которым был хорошо знаком, и рассказал
ему многое о последних событиях. Провокатором ока-
зался Курицын, который уже около трех лет сидел в
заключении по делу подпольного кружка. Давно его
содержали уже не как преступника, а как шпиона,
1 ЦГАОР, ф. III отд., 3 эксп., 1879 г., д. 663, ч. 1, л. 40.
2 Там же, л. 41 об.
214
выдавшего Попко, Лизогуба, Дробязгина, Виттен и др.
Сведения, сообщенные Гольденбергом Курицыну, пред-
ставлялись настолько важными, что на основании их со-
ставлялись очень пространные докладные записки и рас-
сылались во все губернские жандармские управления для
руководства и дознаний. Генерал-губернатор Тотлебен
все из того же источника узнал еще о более важном —
о подготовке взрыва в Петербурге. 27 декабря 1879 г. он
писал: «Получены сведения, что у террористов уже со-
зрел план подкопа на Малой Садовой и что они наме-
рены воспользоваться частыми выездами государя им-
ператора в Манеж Инженерного замка».
Рукою императора на этом сообщении карандашом
написано: «Это согласуется со сведениями из Женевы»1.
Тотлебен утверждал, что его сведения имеют характер
достоверных фактов и добыты от «самого» Гольденберга.
Гольденберг, конечно, ничего не знал, да и не мог знать,
ни о Зимнем дворце, ни о Малой Садовой, он много фан-
тазировал, но правда и ложь сослужили ему одну служ-
бу: он стал невольным предателем. Но этим не закончи-
лась его трагедия. Как ни важны сведения, добытые Ку-
рицыным, они не могли быть, однако, официальными
документами. Надо было заставить самого Гольден-
берга дать показания. Этим занялся товарищ прокурора
одесского военного окружного суда Добржинский. Ар-
тистически играя роль человека, близко принимающего
к сердцу нужды «народа и отечества», он сумел овладеть
волей своей жертвы и вызвал Гольденберга на «откро-
венный разговор», не занося сказанного в протокол.
2 февраля 1880 г. Гольденберг сознался в убийстве
князя Кропоткина и изложил все подробности, но все
еще скрывал соучастников 2.
Интерес к Гольденбергу возрастал с каждым днем.
В Петербурге совершилось то, что предсказывал Голь-
денберг, не зная о существе дела, т. е. произошел взрыв
в Зимнем дворце. Следственный нажим усилился, и
10 марта 1880 г. Гольденберг окончательно сдался. Он
рассказал все, начиная с дела В. Засулич и кончая мо-
сковским покушением. При этом было рассказано не
только о событиях, но и о лицах, в числе которых значи-
1 ЦГАОР, ф. III отд., 3 эксп., 1879 г., д. 641, д. 158.
г Там же, л. 109,
215
лось около 150 человек. Это предательство не знало
себе равных. Чем оно объясняется? Этот вопрос интере-
совал очень многих.
Гольденберг не был новичком в подпольной среде. Во
многих практических делах он играл крупные роли, и
они ему удавались. Отчаянная смелость принесла ему
известность и доверие товарищей. Тюрьма тоже для него
не была новостью: он сидел в ней, находился в ссылке и
успешно бежал. Жизнью своей он не дорожил, что до-
казал делом Кропоткина и готовностью заменить Со-
ловьева. Всех своих бывших товарищей он характери-
зовал с чувством большой теплоты и особенно восторгал-
ся Желябовым, называя его «личностью необыкновен-
ною и гениальною», и при всем этом имя Гольденбергу —
предатель. Падение Гольденберга объясняется многими
причинами. Укажем на главные из них.
Прежде всего бросается в глаза позерство и болтли-
вость, что позволило Курицыну войти в доверие, после
чего Гольденбергу было куда труднее выдержать натиск
следствия. Натиск же оказался очень сильным. С первых
дней ареста Гольденберга стали посещать лица, обле-
ченные полнотой власти: Тотлебен, Панютин и Першин.
Разговор был прост — признание или смерть. Так изо дня
в день, и притом без официальных допросов, которых не
было до января 1880 г. Вскоре, однако, следствие убеди-
лось, что угрозами цели не достигнешь. Тогда намечается
коварный план провокации. Суть его состояла в том,
чтобы постепенно внушить Гольденбергу мысль о том,
что его идеи разделяются его следователями.
К сказанному надо прибавить и еще одно обстоятель-
ство. Гольденберг, будучи террористом «в чистом виде»,
усомнился в действенности этого метода борьбы, о чем
он хорошо сказал в своей «Исповеди». Такое сомнение
помогло ему катиться по наклонной плоскости.
Картина не будет полной, если не сказать еще об од-
ном факте. В данном случае речь идет о влиянии на
Гольденберга его родителей. Семья Гольденберга была
необычной. Шестеро детей и приемная дочь Фишман
находились в заключении за революционную работу.
Сами же родители, воспитавшие таких детей, были людь-
ми консервативными и искавшими всякий удобный слу-
чай, чтобы любой ценой вернуть детей к себе. В проше-
нии на имя Лорис-Меликова отец Гольденберга писал:
216
«Результатом наших просьб и слез, пролитых перед сы-
ном, было то, что он действительно во всем сознал-
ся перед начальством чистосердечно... Умоляя сына
сознаться и открыть, мы рассчитывали в этом случае на
милость правительства... Но богу угодно было судить
иначе»1. «Милость» была обещана не только Гольден-
бергу, но и его родителям. Все это и сделало Гольден-
берга предателем.
5 апреля 1880 г. Гольденберга из Одессы отправили
в столицу. Там его в крепости посещал Лорис-Меликов
и тоже обещал многое. Но в сознание узника уже закра-
лось сомнение. Он стал понимать обман. От Исполнитель-
ного комитета ему пришло страшное предупреждение.
Все стало ясным, но слишком поздно. Он обращается
к товарищам с просьбами о прощении и пишет свою
известную «Исповедь». Не дождавшись ответа от быв-
ших товарищей, он 15 июля 1880 г. повесился в камере.
Так следствие о московском покушении 19 ноября
1879 г. натолкнулось на дело Гольденберга. Оно в свою
очередь влекло за собой еще целый ряд дел, но рокового
влияния на деятельность Исполнительного комитета даже
предательство такого масштаба оказать не могло. «На-
родная воля» к этому времени являлась уже мощной
организацией с известной репутацией и большим сочув-
ствием в обществе. Ее местные группы имелись в 7—8 го-
родах и представляли известную силу, способную прийти
на помощь центру. Но «Народная воля» могла расши-
рять борьбу не только благодаря хорошо продуманной
организации всей системы подпольной работы (паспорт-
ное дело, переброска людей за границу и обратно, на-
личие конспиративных пунктов не только в столице, но и
в других местах, строгое соблюдение правил нелегаль-
ной жизни и т. д.), но и потому, что сумела создать
внешнюю службу охраны. В сущности здесь мы имеем
дело с явлением беспримерным — с организацией рево-
люционной контрразведки.
Частые аресты и провалы уносили массу сил из ре-
волюционной среды. Правительство не жалело усилий и
средств для надежной постановки информации, облав,
переброски жандармских отрядов из одного места в дру-
гое и т. д. Против таких мер подполью трудно было
1 ЦГАОР, ф. III отд., 3 эксп, 1879 г, д. 223, ч. I, л. Ill.
217
бороться. Гибли чаще всего юноши и девушки, не иску-
шенные в конспирации, но подававшие большие надеж-
ды. Естественно возникала мысль, как уменьшить эти по-
тери. Кроме того, хотелось иметь хотя бы маленькую
гарантию безопасности при длительной подготовке слож-
ных и рискованных дел.
Все это выдвигало задачу проникнуть в штаб враже-
ской армии и воспользоваться его тайнами. Это невидан-
но сложное дело связано с именами А. Михайлова и
Н. Клеточникова. В конце 1878 г. из провинции в Петер-
бург вернулся Клеточников, в прошлом студент Медико-
хирургической академии. Он познакомился с Михайло-
вым. Они часто встречались, и наконец Клеточников
предложил свои услуги для какого-либо сложного дела.
Тихомиров об этом пишет так: «С Михайловым они со-
шлись крайне дружески, любили друг друга, особенно
Клеточников прямо благоговел перед Михайловым. Ко-
гда предприятие удалось, Михайлов постарался окру-
жить Клеточникова непроницаемой тайной, распустил
слухи, что он уехал из Петербурга, никому не говорил
его имени, — даже в кружке никому его не открывал,
а вел все сношения с ним самолично и вообще берег его,
как зеницу ока, готовый лучше погибнуть сам, нежели
допустить гибель драгоценного агента»1.
Довольно сложными путями Клеточников проник в
III отделение, и с января 1879 г. началась его служба
там. Он ревностно относился к своим обязанностям, во-
шел в полное доверие к начальству и за усердие был
удостоен ордена.
Когда потом, спустя более двух лет, дело Клеточ-
никова все же было раскрыто, то в прокурорском обви-
нении мы находим такие слова: «Такое служебное поло-
жение Клеточникова, свойство его занятий и особое до-
верие его непосредственного начальника открыли ему
свободный доступ ко всем наиболее секретным делам и
распоряжениям по отношению к обнаружению и пресле-
дованию государственных преступлений и лиц, в них
обвиняемых. Так, он составлял или переписывал секрет-
ные записки о результатах агентурных наблюдений, шиф-
ровал и дешифровал секретные телеграммы, вел пере-
писку о лицах, содержавшихся в С.-Петербургской кре-
1 «Воспоминания Льва Тихомирова», стр. 130.
216
пости и проч. Поэтому обвиняемый был посвящен во все
политические розыски, производившиеся не только в
С.-Петербурге, но и вообще во всей империи. Все полу-
ченные таким образом сведения он своевременно пере-
давал Михайлову, сообщал ему, за кем именно учреж-
дено секретное наблюдение, предупреждал заранее о
предположенных обысках, объявлял имена всех агентов
и вообще открывал Михайлову все секретные данные,
сосредоточенные в 3-й экспедиции III отделения»1.
Это описание полностью соответствует действительно-
сти. Сами народовольцы называли Клеточникова «щи-
том» «Народной воли».
Сведения Клеточникова имели исключительную цен-
ность для всего подполья. Они помогли разоблачить
Рейнштейна и спасти Халтурина и его товарищей по
«Союзу рабочих» от ареста. Были обезопасены десятки
обысков, разоблачены многие шпионы и провокаторы,
фамилии которых печатались на страницах «Земли и
воли», «Народной воли». Без Клеточникова невозмож-
но было обезвредить показания Гольденберга, которые
грозили разгромом всей организации. Почти то же мож-
но сказать и о целом ряде других измен и предательств.
И чем важнее сообщаемые сведения, тем опаснее сама
служба. Положение Клеточникова было на редкость
рискованным. Но если он стоял на страже безопасности
Исполнительного комитета, то в свою очередь Комитет
необычайно оберегал его. Все изменилось с арестом Ми-
хайлова. Клеточников потерял незаменимого наставника
и вскоре попал в ловушку. Но об этом позднее.
Не такого значения и масштаба, но «Народная воля»
имела и другие пункты, откуда черпала нужную ей ин-
формацию. Народовольцы имели своих людей в канце-
ляриях некоторых губернских и других учреждений. Из
источника такого рода они получали сведения о путе-
шествии императора на юг России и обратно2.
1 «Былое», 1906, № 1, стр. 266.
2 Еще во время деятельности «Народной воли», а особенно после
ее гибели, исследователи и современники спрашивали, правильно ли
поступали народовольцы, став на этот путь. Высказываются разные
мнения, разными они, очевидно, останутся навсегда, но нам пред-
ставляется, что в актах революционной контрразведки нет попрания
нравственности освободительного движения. Революционеры отвечали
на удар ударом.
219
Московское покушение, как мы видели, имело огром-
ный резонанс, резко активизировало общественное дви-
жение, но сами народовольцы уже не удовлетворялись
этим.
Ноябрьские неудачи только усилили жажду идти из-
бранным путем. Недаром после московского покушения
«Народная воля» писала: «.. .наши агенты и вся наша
партия не будут обескуражены неудачей, а почерпнут
из настоящего случая только новую опытность, урок
осмотрительности, а вместе с тем новую уверенность в
свои силы и возможность успешной борьбы»1.
Пресса, общественность еще были полны впечатле-
ний, вызванных московским взрывом, когда то же са-
мое совершилось в самой столице при обстоятельствах
еще более неожиданных. Произошел взрыв в Зимнем
дворце.
Инициатором и исполнителем всего дела был Степан
Николаевич Халтурин, человек исключительных личных
данных и необычной судьбы. Он был организатором и
руководителем «Северного союза русских рабочих», и
казалось, роль террориста для него случайна. Высказы-
валось даже мнение, что Халтурина народовольцы при-
нудили стать террористом. Это, разумеется, неверно, и,
как увидим позже, сама обстановка исключала подобное
«принуждение», но тем не менее в политической ориен-
тации Халтурина есть еще белые пятна. Так, остаются
неизвестными время и обстоятельства вступления его
в «Народную волю». Мемуаристы высказывают разные
предположения. Возьмем для примера два из них.
В. Н. Фигнер говорит, что к моменту поступления Хал-
турина на работу в Зимний дворец он уже был народо-
вольцем. Она, правда, не сообщает при этом никаких по-
дробностей. А. В. Якимова отрицает это утверждение,
поясняя мысль так: «До отъезда моего на юг для под-
готовки покушения около Крыма из народовольцев
с Халтуриным вела переговоры только я одна, и перед
самым моим отъездом Халтурин говорил мне, что ему,
как искусному столяру, работавшему на царской яхте,
предлагают место во дворце, но что он еще не решил
окончательно — возьмет его или нет. Я советовала ему
при положительном решении вопроса, если потребуется,
1 «Народная воля», 1879, № 3, стр. 7.
220
СТЕПАН ХАЛТУРИН (1857—1882)
Смерть Александра 11 принесет с собою политическую свободу, а при
политической свободе рабочее движение пойдет у нас не по-преж-
нему. Тогда у нас будут не такие союзы, с рабочими же газетами
не нужно будет прятаться.
«Тайна огромного влияния своего рода диктатуры Степана заклю-
чалась в неутомимом внимании его ко всякому делу... Халтурин
отличался большой начитанностью... Он всегда хорошо знал, зачем
именно раскрывал такую-то книгу. К тому же мысль постоянно шла
у него рука об руку с делом... Все внимание его было поглощено
общественными вопросами...»
Плеханов
обратиться через посредство Александра Квятковского
к Исполнительному комитету «Народной воли». Сам же
Халтурин в то время народовольцем еще не был и ни
в каких обязательных отношениях к «Н. В.» не состоял...
Инициатива поступления во дворец принадлежала ему
самому. Исполнительный комитет «Народной воли» в
лице Распорядительной комиссии вполне одобрил этот
шаг и взял предприятие в свои руки. С тех пор Халтурин
всецело связал свою судьбу с партией «Народная воля»» '.
Очевидно, эти слова ближе к истине, но и они не все
разъясняют. Остается неизвестным сам процесс столь
резкого перехода Халтурина от одного вида деятельности
к другой. Надо полагать, что здесь не обошлось без вну-
тренней борьбы и преодоления больших сомнений.
Халтурин из опыта своей деятельности вынес тот
урок, который можно сформулировать так: при данных
политических условиях в России нельзя создать сколь-
ко-нибудь крупную рабочую организацию, не изменив
предварительно сами эти условия. Эта мысль подкреп-
лялась опытом европейского рабочего движения, успехи
которого в значительной степени объяснялись наличием
буржуазно-политических свобод. Для Халтурина стало
очевидным, что прежде всего необходимо было добиться
хотя бы элементарных прав для народа. Единственной
организацией, открыто провозгласившей требование гра-
жданских свобод и вступившей в схватку с самодержа-
вием, была в ту пору «Народная воля». Исходя из этого,
Халтурин летом 1879 г. устанавливает личную связь
с народовольцами и предлагает свой план покушения на
Александра II. Ему, как, впрочем, и другим, казалось,
что уничтожение носителя верховной власти облегчит
борьбу за изменение всей системы жизни народа. Пле-
ханов писал позднее: «Падет царь, падет и царизм, на-
ступит новая эра, эра свободы. Так думали тогда очень
многие. Так стали думать и рабочие.
Летом 1879 г. кому-то из членов Союза предложено
было место столяра в Зимнем дворце. Он сообщил об
этом своим ближайшим товарищам. «Что же, посту-
пай,— заметил один из них, — кстати уж и царя при-
кончишь». .. Призвали на совет Халтурина. На первый
1 См. «Историко-революционный вестник» (М.), 1922, № 1 (4),
стр. 12—13.
222
раз он высказался неопределенно: посоветовал только
не болтать, да разузнать получше о предлагаемом ме-
сте. .. Степан недолго колебался» Ч
Такую же картину рисует и Тихомиров: «Александр II
должен пасть от руки рабочего, — говорил Халтурин,—
пусть знают все цари, что мы —рабочие — не такие глу-
пые, что не можем оценить достойно те услуги, какие
цари оказывают по отношению к народу.
Эта мысль, что царь — изменник народа —должен
погибнуть от руки его представителя, сделалась настоя-
щею idee fixe для Халтурина.
Говорят, что Халтурин по этому поводу советовался
с некоторыми из своих товарищей и получил от них
полное одобрение. Он говорил даже одному лицу, что
действовал по поручению рабочего кружка»1 2.
Не менее показательным является и свидетельство
Н. Волкова, одного из крупных деятелей рабочего дви-
жения 80-х годов. Он писал: «Халтурин, в противополож-
ность Теллалову, при всей своей преданности рабочему
делу, под влиянием быстро развивавшейся правитель-
ственной реакции, стоял в то время на чисто террористи-
ческой точке зрения»3. Эта характеристика относится
к послемартовскому периоду и потому представляется
наиболее показательной и важной.
В середине сентября 1879 г. по рекомендации мастера
Петрова Халтурин с паспортом на имя Батышкова по-
ступил в Зимний столяром. Обстановка, с которой он
столкнулся на новом месте работы, не могла не поразить
любого человека. Распущенность слуг и чиновников, об-
служивающих дворец, была беспримерной. Кражи, раз-
гул и даже дебоши были обычным явлением в царских
чертогах.
Человек малообщительный, на первый взгляд даже
очень простоватый, но обладавший свойством подчинять
других своему влиянию, Халтурин быстро приобрел пол-
ное доверие в новой среде. Но для выполнения задуман-
ного требовалось особое доверие определенных лиц из
прислуги. С этой целью Халтурин затевает знакомство,
а потом становится «женихом» дочери дворцового жан-
дарма.
1 Г. В. Плеханов. Соч., т. III. М.—Л., 1928, стр. 204, 205.
2 Л. Тихомиров. Заговорщики и полиция. М.—Л., б. г., стр. 170.
3 «Былое», 1906, № 2, стр. 181—182.
223
Освоившись с обстановкой и имея полное доверие,
Халтурин мог предложить конкретный план покушения
и приступить к его выполнению. Вместе с Квятковским,
с которым Халтурин давно был знаком, было опреде-
лено: совершить нападение посредством взрыва дина-
мита в помещении, расположенном под царской столо-
вой. Этот план утвердила Распорядительная комиссия
Исполнительного комитета и взяла на себя ответствен-
ность за его свершение.
С сентября по ноябрь Халтурин встречался только
с Квятковским. Из всех дел Исполнительного комитета
два из них велись в особой тайне — служба Клеточни-
кова в III отделении и работа Халтурина в Зимнем.
После неудачи под Александровском и Москвой все
надежды возлагались на Халтурина.
Но 24 ноября 1879 г. произошло для «Народной воли»
очень неприятное событие: был арестован Квятковский.
В данном случае арест был опасен не тем, что арестован-
ный знал все детали подготовки взрыва (в этом отноше-
нии Квятковский имел полное доверие), а прежде всего
тем, что у него были найдены два плана Зимнего двор-
ца, исполненные карандашом. В чертеже на месте столо-
вой стоял красный крест. План Зимнего мог дать ту
нить, посредством которой правительство распутало бы
весь заговор.
На допросах обвиняемый отговаривался тем, что не
знает, как и откуда у него оказались эти документы.
Следствие подозревало наличие связи между событиями
19 ноября и планом, но дальше подозрений оно не по-
шло.
Пока следователи строили всякие версии, Желябов
постоянно встречался с Халтуриным и доставлял ему ди-
намит. И когда запасы динамита у Халтурина достигли
восьми пудов, было решено произвести взрыв. Плеханов
так описывает поведение Халтурина.
«С поразительным хладнокровием обошел он все
трудности, преодолел все препятствия, и, когда приго-
товления были окончены, когда уже зажжен был роковой
фитиль, он «просто восхитил Желябова» тем спокой-
ствием, с которым произнес, «словно фразу из самого
обычного разговора», многозначительное «готово»»1.
1 Г. В. Плеханов. Соч., т. III, стр. 205.
224
Последние встречи Халтурина с Желябовым были
очень короткими. Халтурин на ходу, не останавливаясь,
поравнявшись с Желябовым в условленном месте, про-
износил короткие слова: «Нельзя было». И так много раз.
Это роковое «нельзя было» объяснялось тем, что очень
трудно было найти тот момент для зажигания фитиля,
чтобы в общежитии никого не было, а император нахо-
дился в столовой. Наконец, 5 февраля 1880 г. Халтурин
зажег фитиль и ушел. Он встретился с Желябовым и
произнес: «Готово». Через несколько мгновений произо-
шел взрыв.
Желябов доставил Халтурина в безопасное место.
Столь необычное напряжение нервной системы и воли
при хронической болезни легких сильно отразилось на
здоровье Халтурина. «Усталый, больной, он едва мог
стоять и только немедленно справился, есть ли в квар-
тире достаточно оружия. Живой я не отдамся, — гово-
рил он» Г
Через некоторое время стало известно, что царь
остался жив и невредим. 6 февраля правительство опуб-
ликовало сообщение о случившемся. Официальная Рос-
сия служила молебны о благополучном избавлении го-
сударя от опасности. Сведения об этом шли из всех гу-
берний. Взрыв вызвал большую панику в столице.
Носились самые невероятные слухи, довольно многие
уезжали из города. 8 февраля император получил записку
от М. А. Павлова. В ней автор пишет: «Дошло, наконец,
до того, что российский император и члены его августей-
шей фамилии не только лишены свободы пройтись по
улицам столицы без опасения злодейского покушения на
свою жизнь, но даже подвергаются этим демонским по-
кушениям и во время путешествий по Империи, и
в своем, царском жилище»2. Далее в записке рекомендо-
валось реорганизовать полицию и ввести пытки в прак-
тику дознания. Таким образом, к мнению о высылке всех
социалистов на остров Сахалин прибавилось предложе-
ние о введении пыток.
«Народная воля» 7 февраля опубликовала сообще-
ние, в котором указывала, что покушение произведено
Исполнительным комитетом, выразила сожаление по
1 Г. В. Плеханов. Соч., т. III, стр. 205.
2 ЦГАОР, ф. III отд., 3 эксп., 1880 г., д. 168, ч. I, л. 38.
15 М. Г. Седов
225
поводу несчастных жертв из царского караула «подне-
вольных» хранителей «венчанного злодея» и заявила, что»
пока армия останется оплотом царизма, пока не поймет,
что ее «священный долг стать за народ», подобные жерт-
вы неизбежны.
С особой силою подчеркивалось, что начатая борьба
не будет прекращена, пока власть не перейдет к народу.
Прокламация в день ее появления была доставлена Дрен-
тельну и императору. Дни власти шефа жандармов и
петербургского генерал-губернатора Гурко были сочте-
ны. Но пока они делали свое дело. Кто такой Батышков
и где он? Вот вопрос, который теперь больше всего зани-
мал правительство.
В результате больших усилий удалось узнать, что
Батышков — Халтурин, и составить обстоятельную за-
писку о его личности: Степан Николаевич Халтурин,
«сын богатого крестьянина Орловского уезда, Вятской
губернии... Обучался в Орловском уездном училище и
в Вятском техническом училище... Весьма рано подпал
под влияние людей политически неблагонадежных».
В 1875 г. Халтурин поехал в Америку для изучения
тамошних порядков и устройства коммунистической об-
щины, но на пути был обворован и остался в Петербурге,
где получил занятие в мастерской учебных пособий
братьев Топорковых, оказавших ему особое внимание.
Брат Халтурина Павел — народный учитель в селе Псто-
бенском Орловского уезда Вятской губернии. Второй
брат, Иван, занимается торговлей в дер. Халтурине того
же уезда и губернии. С Топорковыми Халтурин оста-
вался недолго. Он поступил на завод, где его работа при-
знается «неестественной» ввиду того, что он перед тем
«много лет отдал учению». Халтурин был близок кружку
чайковцев через своего земляка Чарушина, «вредного со-
циалиста». Вращаясь в этом кругу, он познакомился с
Квятковским, у которого обнаружен план Зимнего двор-
ца. В свое время в Вятке шло дознание по политическому
делу и товарищ Халтурина Башкиров оказался в связи
с Якимовой, ведшей там пропаганду. В 1878 г. Халтурин
ездил в Сормово и работал там на заводе, где познако-
мился с Колотом, и осенью того же года оба приехали
в Петербург. Здесь к ним присоединился Швецов и все
трое жили на одной квартире вместе с нелегальной Па-
нютиной. И наконец, в сентябре 1879 г. Халтурин посту-
226
пил на работу в Зимний дворец по рекомендации мастера
Петрова.
Вот те данные, которыми располагало III отделение
о Халтурине. С точки зрения фактической они верны, но
далеко не полны. Опираясь на эти данные, III отделение
начало погоню за Халтуриным. Она продолжалась уже
и тогда, когда не стало III отделения, но найти его так
и не смогли. Его казнили как неизвестного в 1882 г. по
совсем иному делу.
Взрыв в Зимнем явился тем непосредственным толч-
ком, который привел к некоторому изменению курса вну-
тренней политики. К началу 1880 г. политическая обста-
новка в стране слишком обострилась. Ее сами сановники
называли «лихорадочной». Становилось очевидным, что
открытая реакция, так явно определенная в конце лета
1878 г., не укрепила, а ослабила позиции самодержавия.
Не помогли ни строжайшие законы, ни назначение но-
вых министров, ни военное положение в большей части
Европейской России.
Насколько этот вывод верен, можно судить по массе
документов. Вот один из них. В записке исключительной
доверительности киевского губернатора на имя наслед-
ника престола, переданной через III отделение, содер-
жится интересный разбор внутренней политики России
рассматриваемого периода.
Введение института генерал-губернаторов, говорится
в ней, не оправдало себя. Обстановка не упростилась, а
усложнилась. Ко многим строгостям прибавился запрет
ношения оружия, но и это ничего не изменило.
«Полагать же, что запрещением иметь и не носить
при себе оружие можно уменьшить вероятность единич-
ных преступлений, — это почти то же, что думать — будто
запрещением иметь карманы можно уменьшить количе-
ство краж».
«19 ноября, в Москве, произведен взрыв железнодо-
рожного полотна. Стали искать Гартмана и запретили
продажу взрывчатых веществ. При этом не было принято
в соображение, что пироксилин готовится весьма не-
сложно, обработкой ваты с помощью азотной кислоты,
и что несколько пудов этого мощного взрывчатого ве-
щества может весьма скоро изготовить у себя в комнате
всякий мальчик»Ч
1 ЦГАОР, ф. III отд., 3 эксп., 1880 г., д. 751, ч. 1, л. 3, 6.
*
227
Революционная деятельность, продолжает сановник,
не только не ослабела, а оживилась. «Недовольство, и
только оно, может порождать Соловьевых и Гартманов.
Революционные элементы сильны и энергичны...
Министры, генерал-губернаторы, губернаторы появ-
ляются на улицах под вооруженной охраной. Представи-
тели власти носят револьверы, точно они прибыли на
берега Миссури... Сам император, тот император, кото-
рый четверть века работал над воскрешением России, —
не может отыскать безопасного угла на всем простран-
стве своих обширных владений. Нигилисты... выросли в
опасного врага. С ними считаются как с воюющей сто-
роною. Они смутили государство более, чем могли это
сделать Бисмарк или Биконсфилд. И после каждой
атаки крамолы обаяние государственной власти мерк-
нет все сильнее и сильнее» Ч
««Что же нужно делать?» — вопрошает автор и отве-
чает: 1) освежить политическую обстановку и усилить
правительственный элемент способными людьми; 2) успо-
коить народ, заставить его перенести внимание с поли-
тики на свои собственные нужды; 3) привлечь на прави-
тельственную сторону влиятельных людей».
Автор цитируемой записки знаком с европейским
опытом и уверяет, что правительства тех стран «проде-
лывали то же самое, что в настоящее время делается и
у нас, т. е. они искали спасения в одних отрицательных
и репрессивных мерах. За свой опыт они заплатили так
дорого, что нам лучше не повторять их ошибок...
Наказывая одной рукой, нужно другой уничтожать
причины, породившие неудовольствия» 1 2.
По существу той же тревогой и страхом веет от мно-
гих политических документов III отделения. Показате-
лен в этом отношении составленный в самом конце 1879 г.
«Обзор социально-революционного движения в России»,
предназначенный для очень узкого круга лиц. В нем,
между прочим, сказано: «Социалисты очень хорошо по-
нимают, что сломить... правительство империи нападе-
нием на отдельных слуг престола невозможно... По-
этому все удары их подпольной агитации направлены
на главу государства, как на средоточие и источник вся-
1 ЦГАОР, ф. III отд., 3 эксп., 1880 г., д. 751, ч. 1, л. 3, 6.
2 Там же, л. 7.
228
кой власти в нашем отечестве, на самодержца, от кото-
рого они дерзают требовать... полной передачи власти
в руки народа... На этом единственном условии они со-
глашаются не посягать более на священную особу импе-
ратора» Ч
Так излагалось содержание и смысл борьбы «Народ-
ной воли» правительственной стороной. Что ж, идея
народовольчества понята верно — борьба за народную
волю; уяснено и то, что одними мерами подавления ни-
чего уже нельзя сделать. Нужны улучшения экономиче-
ского положения народа и изменения политические, в
противном же случае... «злодейский путь цареубийства
действительно может привести к народному восстанию
даже в том случае, если бы преступная рука заговорщи-
ков остановилась только на одной жертве своего дикого
неистовства»1 2.
Не менее интересны и мысли одного из приближенных
Александра II, графа Валуева. В набросках своих днев-
ников за 1879 г. он писал: «Тяжелое чувство, мне так
давно уже и так беспрерывно присущее... не сегодня, то
завтра, не завтра, то послезавтра... так чувствуется или
чудится, — струны начнут обрываться, и наступит пятое
действие драмы»3.
И спустя некоторое время добавлял: «Чувствуется, что
почва зыблется, зданию угрожает падение» 4.
Без открытой борьбы революционеров такие и им со-
ответствующие высказывания были бы исключены. Уда-
ры подполья против правительства заставляют слуг его
рекомендовать пути и планы реорганизации системы
управления, идущие навстречу новым изменениям, со-
гласуемым с реформами 60-х годов.
1 А. П. Малыиинский. Обзор социально-революционного движе-
ния в России, стр. 317.
2 Там же, стр. 318.
3 ЦГАОР, ф. 544, on. 1, д. 40, л. 146.
4 Там же, л. 160.
ГЛАВА IV
«НАРОДНАЯ ВОЛЯ»
В ПЕРИОД
КОЛЕБАНИЯ
«ВЕРХОВ»
События 5 февраля 1880 г. стали переломными для
всех борющихся сил страны. Прошло уже два года (с
24 января 1878 г.), как революционеры начали борьбу
с правительством, борьбу открытую и бескомпромис-
сную, борьбу с оружием в руках. Такая борьба револю-
ционных групп без участия масс потребовала больших
жертв. Правительство ознаменовало свои «успехи» две-
надцатью виселицами, которые не появлялись после раз-
грома декабристов. Беспрерывно отправлялись партии
заключенных на каторгу и в ссылку. Жертвы револю-
ционного лагеря росли, а борьба не утихала, напротив,
ожесточалась.
Были потери и у правительства, это его первые потери
в столкновениях с революционерами. Своеобразие мо-
мента состояло именно в том, что обе стороны несли по-
тери. Причем революционеры стали силой, с которой не
только вынуждены были считаться. Их признали за вою-
ющую сторону. Сам по себе этот факт не только необыч-
ный, но и знаменательный. Развитие событий за послед-
нее время шло в условиях, когда влияние революцион-
ного лагеря неуклонно возрастало, а авторитет царизма
падал, это в значительной степени предопределяло даль-
нейшую дифференциацию и расстановку политических
сил. Логика событий привела к тому, что правительство
оказалось в определенной изоляции, без былого ореола,
230
с утраченной уверенностью в правильности политики. На-
против, слава Исполнительного комитета росла повсе-
местно. Он выступал то в роли высшего трибунала, то
организатора антиправительственных сил.
«Эффект его действий ослеплял всех и кружил го-
лову молодежи. Общий говор был, что теперь для коми-
тета нет ничего невозможного. За громадностью событий
забывалась самая неудача. «Остановить на себе зрачок
мира — разве не значит уже победить?!» — писал нам
из-за границы глава «Черного передела»». И далее:
«.. .общество ждет не того, что даст царская власть, а
того, что сделает революционная сила... Мы встречали
повсюду одобрение и нигде не находим нравственного
отпора или нравственного противодействия»1. Эти слова
принадлежат В. Фигнер, они прекрасно воспроизводят
картину политической жизни тех дней.
Народовольцы приобрели право говорить от лица об-
щества и всего народа. Одно это уже представляется
крупным завоеванием. Нельзя забывать, что «Народная
воля» начинала свой путь, не имея за собой ни репута-
ции, ни силы, а уже через пять месяцев все решительно
изменилось. В письме Исполнительного комитета на имя
русских эмигрантов-революционеров сказано: «Только
5 февраля поставило нас окончательно на ноги. Россия
признала, что мы есть»2. Без такого признания не могла
действовать ни одна партия, ни одна организация.
В чем же тайна столь стремительного успеха «Народ-
ной воли»? Очевидно, главное здесь состоит в том, что
царизм как система управления скомпрометировал себя
в глазах широких слоев общества и та сила, которая
открыто выступила против него, оказалась в центре
всеобщего внимания, а социальная среда непрерывно
выделяла значительные кадры поборников свободы.
Объективная задача политического развития России —
уничтожение царизма — совпадала с субъективными
устремлениями «Народной воли» — в этом секрет успеха.
Не малую роль играли и личные качества революционе-
ров, их обаяние. К тому времени революционная Россия
уже выработала определенный тип борца за интересы
1 «Былое», 1917, № 2, стр. 100.
2 «Группа «Освобождение труда»». Сборник 3. М.—Л., 1925,
стр. 147.
231
народа, способного идти на любые жертвы, думая только
о цели. Михайлов писал: «Картины страданий людей,
близких по вере, народности, родству или целям, вызы-
вают и вызывали всегда такое душевное состояние, ко-
торое побуждало идти на самопожертвование не только
единицы, но сотни и тысячи им близких»1. Такое сочув-
ствие в свою очередь явилось следствием той неподкуп-
ной честности и чистоты, с которыми революционеры
предстали перед общественным мнением России и Ев-
ропы. Настойчивость в достижении цели, глубокое нрав-
ственное сознание долга перед народом, смелость, отвага,
находчивость и жертвенность были характерны для лиц,
принимавших участие в освободительной борьбе. Перед
нами проходят личности действительно выдающихся ка-
честв революционных деятелей, а добровольно объеди-
нившись в тайную организацию, они стали устрашающей
правительство партией.
Вот какая сила стала на пути своеволия царизма,
слуги которого не ожидали такой встречи, а встретив-
шись, не могли понять, с кем имеют дело. В начавшейся
схватке первым дрогнул царизм. Анализ социально-поли-
тической обстановки конца 70-х и начала 80-х годов дал
возможность В. И. Ленину установить, что в отрезок вре-
мени с 1879 по 1880 г. Россия переживала период рево-
люционной ситуации2. Ее общими признаками явля-
ются: «1) Невозможность для господствующих классов
сохранить в неизмененном виде свое господство; тот или
иной кризис «верхов», кризис политики господствующего
класса, создающий трещину, в которую прорывается не-
довольство и возмущение угнетенных классов. Для на-
1 См. А. П. Прибылева-Корба и В. Н. Фигнер. А. Д. Михайлов,
стр. 127.
2 Революционная ситуация 1879—1880 гг. занимала и занимает
внимание историков. В последнее время вышли две работы по дан-
ной теме: П. А. Зайончковский. Кризис самодержавия на рубеже
1870—1880-х годов. М., 1964; М. И. Хейфец. Вторая революционная
ситуация в России (конец 70-х и начало 80-х годов XIX века). Кри-
зис правительственной политики. М., 1963. Исследователи далеко
стоят друг от друга как в методике подхода к решению проблемы,
так и в ее понимании, но оба они придают большое историческое зна-
чение политическому кризису конца 70-х и начала 80-х годов XIX в.
Но если П. А. Зайончковский отмечает, что главная роль в возникно-
вении кризиса принадлежит революционному подполью, то М. И. Хей-
фец причину его видит главным образом в движении «низов», а так-
тику «Народной воли» считает бесплодной.
232
ступления революции обычно бывает недостаточно, чтобы
«низы не хотели», а требуется еще, чтобы «верхи не
могли» жить по-старому. 2) Обострение, выше обычного,
нужды и бедствий угнетенных классов. 3) Значительное
повышение, в силу указанных причин, активности масс,
в «мирную» эпоху дающих себя грабить спокойно, а
в бурные времена привлекаемых, как всей обстановкой
кризиса, так и самими «верхами», к самостоятельному
историческому выступлению» L
Известно, что революционная ситуация возникает
постепенно и подготовляется всем ходом исторического
развития, будучи процессом объективным. Известно так-
же, что лишь совокупность всех признаков революцион-
ной ситуации представляется необходимой предпосыл-
кой революции, хотя далеко не всегда и не всякая рево-
люционная ситуация перерастает в революцию. Отсут-
ствие революционного класса, способного пойти на
штурм старого строя, исключает возможность такого
перерастания.
В своем развитии революционная ситуация конца
70-х и начала 80-х годов прошла определенные этапы.
Очевидно, ее исходным пунктом следует признать собы-
тия весны 1879 г. В политике правительства в это время
произошли резкие изменения. Оно встало на путь чрез-
вычайных мер в управлении, введя в мирное время воен-
ное положение чуть ли не на всей территории Европей-
ской России. В положении же масс эксплуатируемого
народа города и деревни ничего необычного не произо-
шло. Оно было так же безотрадно и невыносимо. Не
наблюдалось существенных изменений в крестьянском
движении, оно не достигло того размаха, как в период
первой революционной ситуации. Зато значительно ожи-
вилась борьба рабочих. Возрастало значение студенче-
ского движения и либеральной оппозиции. Особенно
поднялся авторитет подполья. Борьба правительства с
революционным подпольем, а по сути дела со всеми
прогрессивными силами страны, при отказе от мирных
форм управления государством и явилась выражением
глубокого политического кризиса в стране. В данном
случае правительство не только исходило из непосред-
ственного стремления уничтожить революционное дви-
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 26, стр. 218.
233
жение, но и хотело мерами устрашения предотвратить
возможное превращение глубокого недовольства масс
в открытый протест, в открытую борьбу. Однако меры,
принятые правительством, привели к обратным резуль-
татам. Возмущение в стране возросло, и революционное
движение окрепло. Правительство еще больше изолиро-
вало себя от прогрессивных сил общества, а недовольство
стало всеобщим. Период открытой реакции продол-
жался около года. За это время произошло дальней-
шее размежевание общественных сил. Программа либе-
ральной буржуазии и либерального дворянства отдели-
лась от реакционно-правительственной. В основном она
сформулирована в адресах различных земств, где на-
ряду с верноподданническими чувствами есть элементы
критики существующих порядков и просьбы о введении
конституции. Призванные к управлению страной гене-
ралы не укрепили, а подорвали авторитет царской вла-
сти. Ни один из генерал-губернаторов не смог справиться
с задачами «искоренения крамолы». Государственная
политика через военных полностью обанкротилась.
Между тем опасность борьбы и непосредственная
борьба усиливались. Ранее выдвинутый революционе-
рами девиз: «Свобода или смерть!» — стал законом их
поведения.
Своеобразие обстановки состояло в том, что обо-
стрение политической борьбы не дополнялось достаточ-
ной активностью масс. В связи с таким положением
В. И. Ленин писал: русский мужик «привык к своей безы-
сходной нищете, привык жить, не задумываясь над ее
причинами и возможностью ее устранения» !. При таких
обстоятельствах основной источник политического кри-
зиса надо искать не в сфере борьбы крестьян, а в про-
явлении иных сил, специфических для данного време-
ни,— в борьбе интеллигенции и частично рабочих.
«Вопреки утопической теории, отрицавшей политиче-
скую борьбу, движение привело к отчаянной схватке
с правительством горсти героев, к борьбе за политиче-
скую свободу. Благодаря этой борьбе и только благо-
даря ей, положение дел еще раз изменилось, правитель-
ство еще раз вынуждено было пойти на уступки, и либе-
ральное общество еще раз доказало свою политическую
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 5, стр. 25.
234
незрелость, неспособность поддержать борцов и оказать
настоящее давление на правительство» \
Но в то время правительство не могло знать, что
народ останется вне рамок борьбы, и учитывало воз-
можное развитие революции с участием широких масс.
Однако революционеры сами по себе представляли
большую угрозу. Создав «в верхах» обстановку страха,
колебания, они принудили самодержавие подумать об
уступках. Так постепенно стал вырисовываться новый
политический курс Александра II.
Приближалось 19 февраля 1880 г. — 25-летие цар-
ствования Александра II. Слухи о восстании в этот
день ставили втупик правительство. После долгих сове-
щаний император решил образовать Верховную распо-
рядительную комиссию по охране государственного
порядка и общественного спокойствия под председатель-
ством Лорис-Меликова, о чем последовал указ 12 фев-
раля 1880 г.
Появление новой личности в сфере высшей политики
представляло собой попытку царизма подавить рево-
люционное движение обновленными приемами, соче-
тающими жестокость с либеральными посулами.
Начинался новый этап в политической истории Алек-
сандра II и высшая точка революционной ситуации.
Образование Верховной распорядительной комиссии со-
провождалось установлением так называемой диктату-
ры сердца, т. е. сочетание диктаторских полномочий с
игрой в либерализм.
Если декретирование генерал-губернаторов в апреле
1879 г. представляло собой акт известного дробления
власти и ослабление его централизованного начала, то
сейчас происходит обратный процесс: вся полнота вла-
сти вновь сосредоточивается в центре и в одних руках.
Но очевидно, нельзя все дело свести к технической
концентрации функции власти. Как в политической ори-
ентации графа, так и в расчетах личностей, поддержи-
вавших его, несомненно, были элементы либерального
реформизма, того реформизма, идейные истоки кото-
рого надо искать в преобразовательных планах Сперан-
ского, в деятельности по освобождению крестьян Ростов-
цева и Н. Милютина. В России созревали условия,
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 5, стр. 39.
235
побуждавшие правительство сделать новый шаг в на-
правлении «завершения» реформ 60-х годов.
В системе мер Лорис-Меликова имелись прогрессив-
ные элементы. Была проведена некоторая реорганиза-
ция управления, отменены чрезвычайные полномочия
генерал-губернаторов, упразднено III отделение, неко-
торые реакционные министры заменены более умерен-
ными. Однако классовая позиция политики не измени-
лась. Граф возбудил значительные надежды у части
общества. В возможность конституции начали верить,
хотя сам он, как выяснилось позже, отрицал необходи-
мость и полезность конституции для России. Но были и
такие, кто не верил Лорис-Меликову и в ком его поли-
тическое кредо вызывало вражду. Эти люди думали,
что новый диктатор сумеет парализовать и обескровить
революционное движение. Видимо, исходя из таких со-
ображений, Иц. Млодецкий 20 февраля 1880 г. совер-
шил покушение на графа выстрелом из револьвера.
Нападение оказалось неудачным, Млодецкий через два
дня был казнен.
Исполнительный комитет отозвался следующим разъ-
яснением на это событие: «По поводу самого покуше-
ния 20 февраля Исполнительный комитет считает дол-
гом заявить, что покушение это — единоличное как по
замыслу, так и по исполнению» Г
Отношение «Народной воли» к новому диктатору
определилось сразу, оно достаточно подробно освещено
в народовольческой прессе, о чем речь впереди, а сейчас
обратим внимание на высказывание Желябова. Вот как
вспоминает об этом С. Иванов: «Речь зашла о политике
Лорис-Меликова, на котором сосредоточивалось тогда,
как в фокусе, внимание русского общества. Отношение
Желябова к нему было безусловно отрицательное. Он
указывал на то, что Лорис-Меликов под прикрытием
либеральных фраз ведет деятельную борьбу с револю-
цией, что она ведется им не хуже всякого другого на его
месте, даже лучше, пожалуй, потому что удары направ-
ляются им с выбором и расчетом, а не бьют, как это
бывало прежде, по пустому месту... Во всей своей вну-
тренней политике умиротворения и преобразования он
ограничивается туманной либеральной фразеологией,
1 «Литература партии «Народной воли»», 1907, стр. 448.
236
способной тем не менее вводить в заблуждение довер-
чивых людей» \
Сути этих мыслей Желябова соответствовала такти-
ческая линия «Народной воли» на новом этапе ее раз-
вития, когда обновился и курс политики правительства.
Началом его следует считать принятие Исполнительным
комитетом «Программы подготовительных работ пар-
тии», которая определила направление деятельности
«Народной воли».
Прошло совсем мало времени со дня опубликования
«Программы Исполнительного комитета», а перед руко-
водством «Народной воли» возникала необходимость
дать новый документ программно-организационного на-
значения. Документ этот получил наименование «Подго-
товительная работа партии». Проект его был написан,
по словам Л. Тихомирова, в начале 1880 г. и сразу же
разослан для обсуждения в местные организации «На-
родной воли». Через два месяца были получены отзывы
и замечания, включая некоторые из них, документ был
утвержден Исполнительным комитетом и таким образом
приобрел официальное значение. Каждая группа руко-
водствовалась им, хотя строго программной силы он не
имел1 2.
Само название документа в значительной степени
объясняет его назначение и даже смысл. Речь шла об
общем плане и конкретных направлениях деятельности
партии, после того как эта партия накопила уже опре-
деленный опыт и перешагнула через начальный этап
своего развития. «Подготовительная работа партии
имеет своей задачею развить количество силы, необхо-
димое для осуществления ее целей. Цели же эти сво-
дятся прежде всего к созданию в ближайшем будущем
такого государственного и общественного строя, при
котором воля народа сделалась бы единственным источ-
ником закона».
На пути такой цели стоял царизм, а отсюда вытека-
ла задача — «сломить ныне существующую правитель-
1 «Былое», 1906, № 4, стр. 230.
2 Инструкция «Подготовительная работа партии» была совер-
шенно секретным документом и впервые опубликована в «Календаре
«Народной воли» на 1883 год» в Женеве. Впоследствии переизда-
валась неоднократно наряду с другими материалами «Народной
воли».
237
ственную систему» *. Слом правительственной машины
может произойти различными путями, но наиболее веро-
ятный путь — путь восстания, для чего необходимо «вы-
брать благоприятный момент» (и даже создать его) для
успешного нападения на врага. «Искусно выполненная
система террористических предприятий, одновременно
уничтожающих 10—15 человек — столпов современного
правительства, приведет правительство в панику, лишит
его единства действия и в то же время возбудит народ-
ные массы, т. е. создаст удобный момент для нападе-
ния» 1 2.
Народовольцы не допускали мысли, что их едино-
борство с правительством может и не вызвать возбуж-
дения масс. Более того, массы могут укрепиться в мысли
о неуместности их выступления, если смертельная борь-
ба идет и без их участия. Это соображение не учиты-
валось народовольцами. Они глубоко верили, что терро-
ристические акты сыграют роль всеобщего возбудителя
страстей и создадут благоприятную обстановку для за-
хвата объединенными боевыми силами «Народной
воли» «главных правительственных учреждений». Успех,
по мысли народовольцев, будет достигнут тем, что за-
стрельщиков восстания поддержат «значительные мас-
сы рабочих». Полная победа над врагом станет воз-
можной, когда скажет свое слово провинция, народ
в целом. От его поведения зависит все. Однако и при
условии поддержки народа «следует обезопасить вос-
стание от помощи правительству со стороны европей-
ских держав»3. Так рисовалась перспектива развития
революции народовольцам.
В рассматриваемом документе дано подробное объ-
яснение и обоснование названия партии.
Издатели «Календаря «Народной воли»» писали об
этом: «Это выяснение ближайших задач партии являет-
ся в то же время ответом на вопрос, что, собственно,
означает название, усвоенное организацией (Народная
воля). Само собою разумеется, что члены партии не счи-
тают себя выразителями и носителями воли народа; но
они борются за такой строй, при котором воля народа
1 «Литература партии «Народной воли»», 1907, стр. 434.
2 Там же, стр. 435.
3 Там же.
238
должна быть определителем всех общественных норм.
Поэтому выражение «народная воля» является, конечно,
самым естественным и удачным девизом этой борьбы» Ч
Для практического обеспечения сформулированных
идей предусматривалось:
«1. Создание центральной боевой организации, спо-
собной начать восстание».
Вспомним, что при рассмотрении устава было отме-
чено, что «Народная воля», по мысли ее организаторов,
представляла собой строго конспиративное, тайное об-
щество. Ее центральным органом, отнюдь никому не
подчиненным, был Исполнительный комитет. Именно
он имеется в виду и здесь, когда говорится о централь-
ной боевой организации. Вспомним, что в программе и
уставе Исполнительного комитета на центр не возлага-
лось обязанностей прямого руководства восстанием.
Теперь же наступил момент создать такой центр, кото-
рый был бы способен начать восстание и мог обеспечить
ему успех. Основным качеством центральной органи-
зации признается ее боевой характер. Свои действия
она развивает только в решающих для восстания пунк-
тах, не ставя перед собой целей охвата всей России. Со-
здание большого общества считается неразумным по при-
чинам конспирации. Признается удобным объединение
провинциальных революционных сил в местные органи-
зации, которые обязаны поддерживать центр всеми на-
личными силами, давать информацию о положении дел
на местах и снабжать материальными средствами, при-
чем желательно установить членские взносы. Редакция
«Календаря «Народной воли»» сделала примечание к
этому пункту, отметив, что практически членские взносы
никогда не взимались и не провинция помогала центру,
а, наоборот, центр помогал местным группам как мате-
риально, так и кадрами.
«2. Создание провинциальной революционной орга-
низации, способной поддержать восстание.
Местные группы только в исключительных случаях
могут получить значение в смысле почина революции;
в большинстве случаев их роль, конечно, сведется к
тому, чтобы поддержать начавшееся в центрах движе-
ние и не допустить свою местность пойти на помощь
1 «Литература партии «Народной воли»», 1907, стр. 434.
239
правительству. Но в этом смысле их вмешательство
определяет весь исход борьбы» L
При рассмотрении функций местных групп обращает
на себя внимание одна черта: им отводится активная
роль только после победы революции в центре, только
тогда они должны «возбудить дух масс», повлиять на
выборы в Учредительное собрание и т. д. В этом пункте
«Подготовительная работа партии» не идет дальше про-
граммы Исполнительного комитета.
После победы восстания в центре местные группы
должны озаботиться приобретением выгодного положе-
ния в администрации, иметь влияние на крестьянство,
сходиться с либералами, убеждая их, что борьба с пра-
вительством должна вестись объединенными силами, за-
пасаться материальными средствами и особенно изучать
свою область. «Вся внутренняя жизнь данной области,
все ее наличные силы, имеющие политическое значение,
должны быть тщательно изучены»1 2. Особенно важно
привлечь на свою сторону армию, действуя через офи-
церов, которые в свою очередь должны повлиять на
солдат. В программе не предусматривалась широкая
пропаганда среди крестьян, но подчеркивалось, что
нужно сходиться с лучшими из них, привлекать их к
активной деятельности и ознакомить с программой
партии.
В специальном пункте инструкции было записано:
«3. Обеспечить восстанию поддержку городских ра-
бочих»3. Программные документы «Народной воли»
скупы на указание роли рабочих в освободительной
борьбе. Данный документ составляет важное исключе-
ние из общего правила. Жизнь заставляла народоволь-
цев изменить свои взгляды на рабочих. Они, конечно,
еще далеки от научного анализа роли пролетариата в
освободительном движении, но уже сам факт, что, гото-
вясь к восстанию, они обращаются к рабочим, имел
большое значение.
«Городское рабочее население, имеющее особенно
важное значение для революции как по своему положе-
нию, так и относительно большей развитости, должно
1 «Литература партии «Народной воли»», 1907, стр. 435, 436.
2 Там же, стр. 437.
3 Там же, стр. 435.
240
обратить на себя серьезное внимание партии... Если
партия заранее заручится такими связями в рабочей
среде, чтобы в момент восстания иметь возможность за-
крыть фабрики и заводы, взволновать массы и двинуть
их на улицы... Это уже наполовину обеспечит успех
дела».
Данное положение само указывает на направление
работы партии в рабочей среде. Эта работа подразде-
ляется на пропагандистскую и организационную. Про-
паганда включает в себя популяризацию («чем шире,
тем лучше») социальных идей и проповедь политиче-
ского переворота для образования демократического
правительства. На основе пропаганды проводится орга-
низаторская работа по сплочению рабочих, по внедре-
нию в их сознание «единства и солидарности интере-
сов». «Организация рабочих масс может быть введена
на всякой почве, начиная с артелей, товариществ, круж-
ков саморазвития, стачек и кончая чисто революцион-
ными сообществами» L
Лучшие свои силы народовольцы намечают послать
в рабочую массу, чтобы охватить своим влиянием «все
фабрики и заводы», постоянно заботиться о нуждах
рабочих и испытанных из них принимать в партию.
Революционные кружки рабочих должны находиться в
центре внимания партии и охраняться «глубочайшей
тайной».
Не менее интересно определяются задачи партии
в армии:
«4. Подготовить возможность привлечения на свою
сторону войска или парализования его деятельности».
Народовольцы отдавали себе отчет в том, что роль
армии в системе политического управления страны ко-
лоссальна, от ее поведения зависит сила и устойчивость
правительства. Не случайно поэтому на всех этапах ре-
волюционного движения его деятели обращали свои
взоры на армию, предпринимали различные попытки
повлиять на нее в нужном направлении. Не составляла
исключения в этом отношении и «Народная воля».
«Можно сказать, что, имея за себя армию, можно
низвергнуть правительство даже без помощи народа; и
1 «Литература партии «Народной воли»», 1907, стр. 437—438.
16 м. Г. Седов
241
имея армию против себя, ничего, пожалуй, не достиг-
нешь и с поддержкой народа» L
Удачных фактов распропагандирования воинских ча-
стей и обращения их силы против правительства в исто-
рии России было немного, поэтому народовольцам при-
ходилось изыскивать свои приемы, полагаясь не столько
на опыт, сколько на собственное умение, идя в этом
направлении ощупью.
При этом надо было считаться с особенностями рус-
ской армии, недавно пережившей крупную реформу и
только что вышедшей из войны с Турцией. Условия
строгой дисциплины, почти поголовная безграмотность
солдат и бдительное наблюдение командиров за своими
частями слишком затрудняли, а чаще всего просто
исключали возможность прямого пропагандистского воз-
действия на солдатскую массу. Оставалось одно сред-
ство — «воздействие на офицерство». Оно более сво-
бодно, развито и культурно, затронуто влияниями пере-
довых идей. «Ввиду всего этого офицерство должно
быть предметом самого внимательного воздействия»1 2.
На офицеров, принятых в партию, возлагаются две
задачи: «1) или выслуживаться, занимать важные ме-
ста, 2) или обращать все внимание на приобретение
популярности между солдатами». Вступив в «Народную
волю», офицеры должны были подготовить армию к аю
тивному участию в предстоящем политическом перево-
роте или по меньшей мере нейтрализовать ее. Организа-
ционные формы вовлечения офицеров в партию в «Про-
грамме подготовительных работ» не намечены, они
определились позже, осенью 1880 г., когда Сухановым
и Желябовым вырабатывалась программа военной орга-
низации партии «Народная воля».
Следующий пункт программы касается интеллиген-
ции:
«5. Заручиться сочувствием и содействием интелли-
генции — главного источника сил при подготовительной
работе».
Какие бы цели ни ставила «Народная воля» перед
собой, в какие бы сферы деятельности она ни обраща-
лась, везде и всюду ее главные надежды возлагались
1 «Литература партии «Народной воли»», 1907, стр. 438.
2 Там же.
242
на интеллигенцию. Интеллигенция, и в особенности мо-
лодежь, представлялась не только важнейшим резервом
партии, но и гарантией успеха. Такой взгляд органи-
чески вытекал из самой природы, классовой сущности
народовольцев. «Народная воля» была в основном пар-
тией интеллигенции, преимущественно молодой.
«Интеллигенция, и молодежь в частности, составляет
такие сферы, где каждое честное направление должно
только давать о себе знать, чтобы иметь сторонников.
Больших комментариев к способам действий в этой
среде не требуется» L
Исходя из принципа, провозглашенного Михайлов-
ским: знание — пружина общественного прогресса, а
интеллигенция — носитель и собиратель знаний, народо-
вольцы, естественно, обращались к ней. Тут действитель-
но «больших комментариев не требуется». Но сама
жизнь сделала такие комментарии, обнаружив несостоя-
тельность подобного представления. В идейной несостоя-
тельности такой предпосылки одна из причин будущего
крушения «Народной воли».
Интеллигентная молодежь, самая восприимчивая и
отзывчивая часть общества, может представлять огром-
ную силу, если она выражает интересы и борьбу пере-
дового класса; когда же она оторвана от этого класса,
ее сила призрачна, что особенно ярко и проявилось в ре-
волюционной борьбе деятелей «Народной воли».
Конкретными задачами работы среди молодежи рас-
сматриваемый документ признает: поддерживать ее ре-
волюционный дух, воспитывая ее в боевом настроении,
вырабатывать гражданское мужество и враждебность
к правительству.
Насколько всесторонне и серьезно народовольцы под-
ходили к реализации своего плана, показывает шестой
раздел их «Программы подготовительных работ».
«6. Склонить на свою сторону общественное мнение
Европы». Они не ограничивают свою деятельность рус-
скими рамками, отлично понимая, что победа револю-
ции не всегда зависит только от внутренних причин.
Вмешательство других государств иногда роковым обра-
зом отражается на революционных попытках. Недавнее
прошлое Венгрии и Франции указывало на эту опас-
1 «Литература партии «Народной воли»», 1907, стр. 439.
*
243
йость. Заручиться поддержкой других стран — большая
и очень важная задача. Но решить ее можно, только
ориентируясь или на правительства, или на обществен-
ное мнение тех или других стран. Русское революцион-
ное движение не имело в этом отношении большого
опыта, но традиции, и притом очень хорошие, уже на-
мечались. Еще перед Герценом вставал этот вопрос, и
он ответил на него с большим достоинством: никаких
связей с правительством, апелляция только к общест-
венному мнению народа. По такому же пути пошли и
народовольцы. «Правительства, с их изменчивой поли-
тикой, с их дипломатическими интересами, не могут
быть сколько-нибудь прочными союзниками для нас. Не
могут они быть и особенно опасными, если мы заручим-
ся симпатиями общественного мнения Европы. Могуще-
ство этой силы мы недавно видели на примере Гарт-
мана» *.
Соответственно ориентации намечались и формы
деятельности. Партия считала необходимым выступить
с популяризацией русского революционного движения,
с изложением его целей, с тем чтобы убедить Европу,
что ее борьба есть «выражение всенародного протеста»;
царизм же представляет собой антинародную силу, ко-
торая держит народ в рабском повиновении и невеже-
стве. «...Если Европа, — записано в программе, — будет
все это знать без искажений, то ее сочувствие нам обес-
печено» 1 2.
Поступление в европейские газеты и журналы прав-
дивой и систематической информации о России, выступ-
ление русских эмигрантов с публичными сообщениями,
докладами, лекциями, установление связей и контактов
с революционными организациями и прогрессивными
деятелями Европы — вот те каналы, посредством кото-
рых можно было воздействовать на общественное мне-
ние Европы.
Таковы мероприятия, выдвинутые «Программой под-
готовительных работ».
Этот документ при наличии в нем слабостей, прису-
щих народовольцам в целом, все же преодолевает не-
которые пороки программы Исполнительного комитета,
1 «Литература партии «Народной воли»», 1907, стр. 439.
2 Там же.
244
расширяет сферу деятельности «Народной воли» и ука-
зывает новые организационные формы, отсутствующие
в уставе.
Вся последующая работа партии строилась теперь,
исходя из «Программы подготовительных работ» и в со-
ответствии с ее мыслями и духом. Начинался новый и
самый плодотворный этап в деятельности «Народной
воли». Успех в значительной степени зависел от того, как
отнестись к политике новоявленного диктатора России.
Граф Лорис-Меликов возбудил надежды у некоторой
части общества. В его либерализм и даже «конститу-
цию» начали верить. «Народная воля», однако, не поз-
волила себя обмануть. Ее руководители, как уже гово-
рилось, поняли лицемерие Лорис-Меликова и поставили
перед собой задачу развенчать «спасителя России», си-
стематически обличая курс его политики. Трудность со-
стояла в отсутствии вольной типографии. Случилось так,
что приход к власти Лорис-Меликова совпал с разгро-
мом вольной прессы внутри России Ч Понятно, что для
него сложилась благоприятная обстановка. Потому
главная задача Исполнительного комитета состояла в
восстановлении типографии, и, как только стало воз-
можным, «Народная воля» сказала свое слово об оче-
редном маневре царизма.
В двух номерах «Листка «Народной воли»» за 1880 г.
опубликованы статьи, специально посвященные разбору
политики Лорис-Меликова и его личных качеств. «Новый
курс» графа назван в этих статьях политикой «лисьего
хвоста и волчьей пасти». Эта характеристика стала на-
рицательной. Автор статьи разоблачает Лорис-Мели-
кова в насаждении шпионажа, применении репрессий к
заключенным и т. д. в сочетании с внешней лаской, с
различными обещаниями. «Пусть Европа узнает, что
такое либеральный азиат... Пусть же Россия и Европа
заглянут за кулисы!»1 2 За кулисами оставался все тот же
1 Провал типографии «Народной воли» произошел в ночь с
17 на 18 января 1880 г. Работники типографии оказали вооруженное
сопротивление полиции. Борьба продолжалась несколько часов. Были
убитые и раненые. Печать широко освещала это событие, привлекшее
внимание всего Петербурга. Арестованные при разгроме типографии
Н. Бух, С. Иванова и другие были привлечены к «делу 16-ти». Але-
ксандр II щедро наградил каждого участвовавшего в подавлении
вооруженного сопротивления крупной суммой — от 750 до 2000 руб.
«Литература партии «Народной воли»», 1907, стр. 127.
245
царизм, только в новом обрамлении. Для революцион-
ного подполья такой вывод о Лорис-Меликове имел
большое политическое значение: он позволял верно на-
метить тактическую линию партии.
Резко враждебную позицию в отношении политики
Лорис-Меликова занял также известный украинский
эмигрант-публицист М. П. Драгоманов. На назначение
графа председателем Верховной распорядительной ко-
миссии он откликнулся специальной брошюрой «Соло-
вья баснями не кормят». Если вы, обращается Драгома-
нов к генералу Меликову, хотите устранить в России
преступные действия, «порочащие наше отечество», то
устраните заодно самодержавие царизма с его спутни-
ком— произволом чиновников. Без устранения причин
нельзя устранить их последствия. Требования тех, кто
борется за свободу России, просты и понятны: отменить
постановление сатрапов и все чрезвычайные меры после
2 апреля 1879 г., восстановить во всех правах пострадав-
ших по политическим делам, уничтожить III отделение;
дать свободу печати; созвать Земский собор и т. д.
«Имеете ли вы полномочия и силу на эти меры? —
спрашивает публицист. — Если нет, то зачем же вы на-
болтали фраз об успокоении общества, о мирном пре-
успеянии и т. п. хороших вещах?» 1
Такие и им подобные документы подрывали автори-
тет власти. Они, безусловно, имели воспитательное зна-
чение, предлагая читателю иной взгляд на вещи, чем
тот, который считался господствующим и незыблемым.
Влияние и значение официальной прессы в связи с этим
резко падало.
Итак, летом и осенью 1880 г. «Народная воля» ведет
разностороннюю подготовительную работу, цель кото-
рой— сделать «все, что необходимо для успеха восста-
ния». Чтобы быть лучше осведомленными о положении
народа вообще и крестьян в частности, Исполнительный
комитет разрабатывает специальные опросные анкеты.
Вот одна из них (в сжатом изложении) — «Программа
для собирания сведений в народе»: «I) Экономическое
положение крестьян данной местности. Довольны ли
крестьяне своим экономическим положением? Способы
1 AL П. Драгоманов, Соловья баснями не кормят. Женева, 1880,
стр. 5.
246
эксплуатации крестьян помещиками и кулаками. 2) По-
ложение крестьян в голодающей местности. Способы
протеста крестьян этих местностей. 3) Случаи бунтов
крестьян и столкновений с помещиками. Отношение кре-
стьян к циркуляру Макова о переделе земель. 4) Кре-
стьянское самоуправление, давление на него админи-
страции и кулаков... Взгляды крестьян на волостное
и земское самоуправление. 5) Отзывы крестьян о своем
гражданском и политическом положении. Понятие на-
рода о законе, о политическом и общественном строе го-
сударства. Как смотрят крестьяне на созыв Земского
собора? Отношение народа к последним сенаторским
ревизиям. 6) Взгляд народа на царя. Знает ли царь о
бедствиях народа по понятиям народа? Насколько во-
обще в данной местности сильны еще в народе почита-
ние царя и иллюзия о его народолюбивых стремлениях?
7) Как относится народ к террористическим актам, со-
вершаемым революционной партией? Признают ли
крестьяне покушения на царя делом дворян? Останет-
ся ли народ безучастным, если покушение достигнет
цели? .. Нет ли в народе отдельных лиц или целых групп
людей, думающих, что покушения на царя заслужены
им? Как относятся к террору раскольники рационали-
стических сект (молокане, штундисты) и так называе-
мые вредные (бегуны, шалопуты, хлысты)? 8) Действие
социальной пропаганды на народ. Не говорит ли народ
о том, что существует в городах партия рабочих, готовя-
щая его освобождение? Как думает народ о социалистах
и социализме и т. д.? 9) Развитие и проявление обще-
ственной мысли и инициативы в народе. Общинные воз-
зрения и привычки народа. Крестьяне подворные не же-
лают ли стать общинниками? Есть ли и как образуются
протестующие группы в народе?» 1
Такое пространное извлечение приведено для того,
чтобы показать, что нельзя найти ни одной грани обще-
ственной жизни народа, которая не интересовала бы
авторов этой программы. Но анкета интересна не только
содержанием своих вопросов. Заслуживает внимания
сам факт обращения к народу как источнику мысли и
поступка, и в этом смысле народовольцы не только не
игнорировали народ, а, напротив, наиболее серьезно из
1 ЦГАОР, ф. 102, оп. 136, 1883 г., д. 176, ч. 1, л. 148-151.
247
всех народнических организаций стремились изучить
его нужды, непосредственные запросы и идеалы. А имен-
но такое изучение позволило им сблизить революцион-
ную борьбу с наиболее насущными задачами дня. Тихо-
миров, очевидно, говорил правду, когда утверждал, что
с 1880 г. «Народная воля» стала обращать очень серьез-
ное внимание на массы народа. Организационная дея-
тельность Исполнительного комитета в 1880 г. служит
тому убедительным доказательством. Именно в этот пе-
риод народовольцы широко развернули пропаганду сре-
ди рабочих. Еще в 1930 г. известный советский историк
В. И. Невский впервые в научной литературе доказал,
насколько значительной оказалась деятельность «Народ-
ной воли» в рабочей среде. Он писал: «Народовольцы
вели работу среди пролетариата... и притом, по масшта-
бам тех времен, работу большого размаха. Именно это
и было одной из причин, облегчавших первые шаги со-
циал-демократии на русской почве»
Этот вывод полностью подтверждается историче-
скими фактами и вытекает из программы «Народной
воли». Своим возникновением и развитием народоволь-
чество обязано не только революционерам из интелли-
генции. Среди организаторов Исполнительного комите-
та, не говоря уже о партии в целом, имелись представи-
тели всех слоев русского общества, и в этом смысле она
действительно народна. Утверждения, противопостав-
ляющие рабочее движение революционерам-народо-
вольцам, а народовольцев революционерам из рабочей
среды, исторически неосновательны, а в научном отно-
шении вздорны. Нельзя допустить мысли, чтобы такие
деятели, как С. Халтурин, М. Грачевский, А. Пресняков
и др., став членами «Народной воли», могли отступиться
от интересов рабочих. Деятельность «Народной воли»
соответствовала реальным исторически прогрессивным
задачам, стоявшим перед страной, и отражала корен-
ные интересы всех демократических сил ее, а следова-
тельно, и рабочих, хотя далеко не все рабочие разделяли
и могли разделить программу народовольцев. Но опре-
деленная тяга рабочих к народовольчеству была налицо,
что и определило немалый успех организации в рабо-
чей среде.
1 «История пролетариата СССР», Сборник I. М., 1930, стр. 39.
248
Попытаемся разобраться в теоретической постановке
рабочего вопроса народовольцами, для чего обратимся
к программным документам «Народной воли». Таких
документов три. В первом из них — «Программе Испол-
нительного комитета» — нет сколько-нибудь широкого
освещения проблемы и даже ее постановки. Лишь в раз-
деле будущих преобразований говорится о том, что не-
обходима «система мер, имеющих передать в руки ра-
бочих все фабрики и заводы», все же другие задачи и
нужды рабочих объединены в общих требованиях. Про-
грамма, таким образом, не выделяет рабочих в само-
стоятельную силу и не отводит им отдельной от других
классов роли. Но тем не менее «Народная воля» не пред-
ставляет осуществления своих планов без указания за-
дач в области «рабочего дела». В другом документе —
«Подготовительная работа партии» — есть уже специ-
альный раздел — «Городские рабочие». В нем, правда,
кратко, как мы только что видели, но с достаточной опре-
деленностью говорится о роли рабочих в предстоящей
революции. Безусловно, положительным является то
обстоятельство, что начало революции и ее ход в целом
обусловливаются поведением рабочих, степенью их ак-
тивности и организованности. Более того, «народность»
революции (т. е. соответствие ее интересам народных
масс) прямо обусловлена активностью рабочих фабрик
и заводов. Эта важная роль рабочих вытекает из «осо-
бого» их положения в обществе. Но вместе с тем «На-
родная воля» как партия стремится поставить себя над
рабочим классом, как, впрочем, и над другими клас-
сами. Рабочие лишь помощники партии, в качестве прак-
тических мер в их среде рекомендуется ведение пропа-
ганды социалистических идей и политического перево-
рота.
Пропаганда, как мы видели, дополняется и закреп-
ляется организацией рабочих с целью создания единой
солидарной силы, способной нанести удар правитель-
ству.
«Члены партии должны составлять из развитых лю-
дей (интеллигенции или рабочих — все равно) кружки
последнего рода и рассеивать членов этих кружков по
всем фабрикам и заводам для образования групп пер-
вого рода, с тем чтобы, во 1) повышать постепенно уро-
вень рабочих масс, во 2) намечать и присоединять к
249
себе новых личностей из их среды, в 3) чтобы при пере-
вороте иметь возможность взволновать самую обширную
массу рабочих. Эти революционные кружки должны
быть сохранены в глубочайшей тайне от посторонних, но
в то же время связаны между собой и центральной ор-
ганизацией» L Таким образом, в начале 1880 г. народо-
вольцы придавали громадное значение пропаганде в
рабочей среде, чем обусловливали успех самой револю-
ции. Но постановка проблемы в целом и особенно ее
теоретический аспект даны только в «Программе рабо-
чих членов партии «Народная воля»». Этот документ
представляет собой программу собственно рабочей орга-
низации «Народной воли», возникшей в конце 1879 г.
В идейном отношении он логически вытекает из рассмо-
тренного уже документа «Подготовительная работа пар-
тии».
Авторами проекта рабочей программы были А. Же-
лябов и В. Каковский, а последний и окончательно от-
редактировал его1 2.
В октябре 1880 г. программа обсуждалась на общей
сходке в Петербурге в присутствии рабочих-народоволь-
цев и чернопередельцев. Были ли внесены какие-либо
изменения — неизвестно. Начинается программа опреде-
лением социализма как общественного идеала, к кото-
рому стремится партия. Под социализмом разумеется
такой строй народной жизни, где нет места угнетению
людей и где воля народа — высший критерий общест-
венной жизни. Этот идеал находится в вопиющем про-
тиворечии с существующей действительностью. Страш-
ные картины бедствия народа — характерная особен-
ность русской жизни. Те же, «кто живет теперь на счет
народа, т. е. правительство, помещики, фабриканты, за-
водчики и кулаки, никогда по доброй воле не откажут-
ся от выгоды своего положения...».
«Стало быть, рабочий народ должен рассчитывать
на свои силы: враги ему не помогут»3. Поможет народу
только социально-революционная партия.
Далее определяются задачи, стоящие перед партией
и народом. Таких задач перечислено двенадцать, среди
1 «Литература партии «Народной воли»», 1907, стр. 438.
2 См. «Вестник «Народной воли»» (Женева), 1885, № 4, стр. 100
(примечания).
3 «Литература партии «Народной воли»», 1907, стр. 441, 443,
250
них замена царской власти народоправием, передача
земли, фабрик и заводов в собственность всего народа,
провозглашение политических свобод (слова, собраний,
совести, самоопределение областей и народов), свобод-
ное и бесплатное обучение и т. п. Для достижения этих
целей рабочие должны идти вместе с крестьянами, ибо
«отдельно от крестьянства они всегда будут подавлены
правительством, фабрикантами и кулаками, потому что
главная народная сила не в них, а в крестьянстве»;
нужно вести дело заодно, «общими усилиями, тогда весь
рабочий народ станет несокрушимой силой».
В программе особенно подчеркивается мысль, «что
из теперешнего губительного порядка один выход — на-
сильственный переворот, что переворот необходим и воз-
можен». Рабочим кружкам вменяется в обязанность про-
паганда этой идеи среди широких трудящихся масс.
В одном из пунктов программы рабочей организации
подробно рассматривается план деятельности партии во
время переворота. В соответствии с этим планом «рабо-
чие должны составлять силу, способную напасть на пра-
вительство и при надобности готовую поддержать свои
требования с оружием в руках». Выступить против вра-
гов «с надеждою на победу может только вся социально-
революционная партия, в которую рабочая организация
входит как часть». Партия принимает необходимые
меры, чтобы объединить начавшиеся волнения «в одно
общее восстание и расширить его на всю Россию» *.
Значительная роль в общем плане осуществления
переворота отводилась политическому террору: «Одно-
временно нужно расстроить правительство, уничтожив
крупных чиновников его (чем крупнее, тем лучше), как
гражданских, так и военных; нужно перетянуть войско
на сторону народа...»1 2 Наконец, в программе подчерк-
нуто, что необходимо выбрать такой момент для нападе-
ния на правительство, который обеспечил бы полный
успех дела.
Таковы наиболее важные положения и мысли, за-
ключенные в «Программе рабочей организации «Народ-
ной воли»». Если при сличении этого документа с другими
вышеразобранными и обнаруживается его зависимость
1 «Литература партии «Народной воли»», 1907, стр. 443.
2 Там же, стр. 443,
251
от ранее появившихся, то в основном он безусловно
оригинален и своеобразен. Это первая широкая трак-
товка «Народной волей» рабочего вопроса в России. При
всей узости взгляда на рабочий класс народовольцы от-
лично понимали, что без его активной борьбы револю-
ционное движение не достигнет успеха. Несмотря на
утопическую основу, очень важно также указание на
необходимость единства рабочих и крестьян в их борьбе
со своими врагами.
Интересна сама по себе и мысль об отношении рабо-
чих, а следовательно, и партии к либеральному движе-
нию: его надо поддерживать и идти вместе с либералами
лишь до определенного предела.
В истории русского революционного движения
домарксистского периода «Программа рабочей организа-
ции «Народной воли»» — один из самых важных и инте-
ресных в теоретическом отношении документов. Извест-
но, что он был направлен К. Марксу. В литературе встре-
чается на этот счет немало предположений и домыслов.
Неоспоримым является то, что на документе имеются
пометки (отчеркивание и подчеркивание отдельных по-
ложений и формулировок), характерные именно для
Маркса L Они свидетельствуют о том, что Маркс внима-
тельно изучил один из важнейших программных доку-
ментов «Народной воли» и подчеркнул наиболее сущест-
венные места его, что, по-видимому, можно принять как
одобрение.
В теоретической постановке рабочего вопроса наро-
довольцы не смогли и не могли сделать многое. Это объ-
ясняется главным образом слабостью самого рабочего
класса и его борьбы, а также верой «Народной воли»,
что основной силой революционного движения в соци-
альном преобразовании общества по-прежнему остается
крестьянство. А отсюда и задачи русской революции
формулировались, исходя из «всей той совокупности
классов, интересы которых расходятся с интересами
самодержавия»1 2. Эта мысль принадлежит Желябову, и
она справедливо адресовалась Плехановым не только
ему, но и «Народной воле» в целом.
1 ЦПА ИМЛ, ф. 1, on. 1, д. 4033. Этот документ опубликован в
сборнике «Революционное народничество 70-х годов XIX века», Т, П,
стр. 184—191.
2 Г. В. Плеханов, Соч., т. XXIV, стр. 104;
252
Имея в виду эти соображения, очевидно, можно ска-
зать, что «Программа рабочей организации «Народной
воли»» есть шаг назад в сравнении с программой «Се-
верного союза русских рабочих», который исходил из
признания за рабочими самостоятельной роли в полити-
ческой жизни России.
Несколько слов об истории создания рабочей органи-
зации «Народной воли», поскольку не все исследователи
единодушны в определении даты ее возникновения. По
всей вероятности, деятельность народовольцев в рабочей
массе началась сразу же после образования партии. Пе-
тербург стал родиной рабочей организации, — об этом
свидетельствует передовая в «Народной воле» № 10,
где сказано: «Первая рабочая группа народовольческой
партии в Петербурге образовалась в конце 1879 г.; а в
1880 г. и около нее как центра тайной организации пар-
тии группировались многие сотни рабочих» *.
На 1879 год как год усиленной пропаганды народо-
вольцев среди рабочих указывает также В. Фигнер в
своих воспоминаниях.
Один из рабочих, В. Панкратов, участник тех собы-
тий, впоследствии писал: «Напряженная боевая борьба
Исполнительного комитета «Народной воли» с самодер-
жавием вызвала широкое пробуждение революционной
мысли в рабочих массах по всей России, а в особенности
в Петербурге. Здесь почти по всем заводам стали обра-
зовываться революционные кружки и группы, правда
немногочисленные, но более или менее сознательные и
активные, из уцелевших от прежнего народнического
движения рабочих. Эти группы находили поддержку в
толще широких рабочих масс, хотя и несознательных, но
недовольных тогдашними политическими и особенно
экономическими условиями жизни»1 2.
Приведенные свидетельства современников очень
убедительны. Исходным временем начала деятельности
народовольцев в среде рабочих и создания ими рабочей
организации надо считать осень 1879 г., а оформление,
принятие программы, расцвет деятельности падают на
1880 г.
1 «Литература партии «Народной воли»», 1907, стр. 334.
2 «Рабочее Движение в России в описании самих рабочих (от
70-х до 90-х годов)». С предисл. Вл. Малаховского. М., 1933, стр. 46.
253
Рабочая организация «Народной воли» создавалась
не сразу, а постепенно из рабочих кружков, во главе ко-
торых стояла центральная группа с руководителем от
Исполнительного комитета. Затем шла сеть кружков
трех разрядов (1-й — общеобразовательная подготовка;
2-й — политическая подготовка по истории социализма
и революционной борьбы и 3-й — агитационные группы
из рабочих, успешно прошедших 1-й и 2-й разряды).
Центральную группу возглавил Желябов, а ее чле-
нами были Каковский, Гриневицкий, Т. Михайлов, Пе-
ровская, Фигнер, Франжоли и др.
Для ведения пропаганды в кружках первых двух
разрядов создавались так называемые учительские
группы, которые подчинялись центральному кружку.
Они состояли, как правило, из революционно настроен-
ных студентов. В группах насчитывалось по пять-шесть
человек. Хорошо известна одна учительская группа при
университете в Петербурге, работавшая в 1880 г. В нее
входили П. Подбельский, Коган-Бернштейн, Бодаев,
Флеров, Перехватов и Попович. Были учительские груп-
пы, состоявшие исключительно из учителей народных
школ.
На заседаниях учительских групп обязательно при-
сутствовали члены центрального кружка L Кроме того,
члены центрального кружка были распределены по ра-
бочим районам Петербурга (Васильевский остров, Вы-
боргская сторона и т. д.) и несли определенную ответ-
ственность за состояние пропаганды в них. Каждый из
них вел «дело своего района, т. е. заводил связи по за-
водам, группировал рабочих в кружки и сводил кружки
с учителями для пропаганды, читал лекции более опре-
делившимся рабочим по истории России, по истории
движения социализма в России и в Западной Европе и,
наконец, подготовлял рабочих к открытому восстанию,
стараясь организовать лучших рабочих в особые цен-
тральные группы, которые в горячую минуту могли бы
встать во главе движения и поддержать его»1 2. Довольно
часто практиковались собрания однотипных кружков,
1 Об участии Перовской в работе этих групп рассказал в своих
воспоминаниях В. А. Бодаев (см. «Народовольцы 80-х и 90-х годов».
Сборник статей и материалов, вып. II. М., 1929, стр. 15—23).
2 «Показания Н. И. Рысакова». — «Былое», 1918, № 10—11,
стр. 241.
254
АНДРЕИ ЖЕЛЯБОВ (1851-1881)
Служил я делу освобождения народа. Это мое единственное заня-
тие, которому я много лет служу всем моим существом.
«Кружку корифеев, вроде Алексеева и Мышкина, Халтурина и Же-
лябова, доступны политические задачи в самом действительном, в
самом практическом смысле этого слова...»
Ленин
где с лекциями выступал Желябов. Для подобного рода
собраний подбирались и содержались квартиры.
Вскоре при центральном кружке возникла «Боевая
дружина рабочих». Сохранилось воспоминание Желябова
об этой организации: «Данная дружина, входя в состав
боевых сил Исполнительного комитета, имела целью:
1) устранение шпионов, действующих в рабочей среде;
2) привлечение лучших рабочих к участию в подобных
делах; 3) собирание определившихся лиц в группы для
самостоятельного исполнения террористических пред-
приятий, намеченных рабочей организацией; 4) группы
эти должны быть готовы принять на себя инициативу
инсуррекционного движения, которое партия считает
почти неизбежной переходной ступенью деятельности
подготовительной ко всеобщей революции; 5) наконец,
боевая дружина служит школой для выработки из себя
характеров, способных к самопожертвованию в интере-
сах общего дела» Сколько было таких дружин и каков
их численный состав, сказать с достоверностью крайне
трудно, но то, что они существовали и что на их собра-
ниях часто бывали члены Исполнительного комитета, и
в частности Желябов, это достаточно известно. Известно
также, что в дружинах принимали участие не только
рабочие.
Из фабрично-заводской среды выделились многие
активные деятели рабочей организации «Народной
воли», среди них И. Гаврилов, член центрального рево-
люционного кружка Петербурга, содержавший конспи-
ративную квартиру и распространявший между рабочи-
ми издания «Народной воли»; К. Ильин, член централь-
ной революционной группы, который выполнял функции
посредника между рабочими и революционерами из ин-
теллигенции, распространял запрещенные издания и ор-
ганизовывал рабочие сходки; Е. Корявов — кассир рабо-
чего кружка, участник многих собраний, на которых
обсуждалась программа будущей рабочей организации.
Приблизительно то же можно сказать о К. Корневе,
А. Скворцове, И. Бондаренко и многих, многих других1 2.
Петербургская рабочая организация «Народной во-
ли» в своей практической деятельности довольно часто
1 «Былое», 1918, № 10—11, стр. 280.
2 См. «Былое», 1907, № 1, стр. 291—292.
256
сталкивалась с пропагандистами «Черного передела»,
велись даже переговоры об объединении сил для сов-
местных действий. Было организовано несколько общих
собраний, где обсуждалась программа рабочих-народо-
вольцев. Переговоры, однако, не дали удовлетворитель-
ных результатов, и практически чернопередельцы ото-
шли от ведения революционной пропаганды среди ра-
бочих.
Показательно в этом отношении высказывание
С. Иванова о взаимоотношении чернопередельцев и на-
родовольцев: «Заговорили о чернопередельцах и о вза-
имных отношениях их и народовольцев. О моем знаком-
стве с чернопередельцами Желябов, очевидно, знал от
Е. Н. Оловенниковой. Отзывался он о них иронически
и желчно; в особенности указывал он на несоответствие
программы и практической постановки дела. Пропаган-
дируя идею о деятельности среди крестьянства, об орга-
низации его, они сидят в больших городах, где и облика
крестьянского не увидишь. Получается, таким образом,
не простое доктринерство, а одна болтовня под народ-
ническим флагом, что и служит показателем разложения
партии, которая при таком положении теряет всякий
raison d’etre (резон. — Af. С.) своего существования,
принимая особенно во внимание то, что принципиальные
разногласия ее с «Народной волей» (вопрос о терроре
и о значении политической свободы) уже значительно
сгладились» *.
В меньших масштабах, но тоже значительной была
рабочая организация «Народной воли» в Москве. По
своему характеру и идейной направленности они абсо-
лютно тождественны, но есть немало того, что отличает
одну организацию от другой. В Москве рабочие народо-
вольческие группы возникли позже, чем в Петербурге,
и оказались менее активными. Участник и историк наро-
довольческого рабочего движения в Москве Н. Волков
писал: «Еще в 1880 г. рабочее дело велось народоволь-
цами в Петербурге, Одессе, Киеве, Харькове, Саратове,
а в конце 80-го года начало оно зарождаться и в Мос-
кве»2. Возглавлял рабочую группу П. Теллалов, один из
самых известных революционеров-народовольцев, пре-
1 «Былое», 1906, № 4, стр. 230.
2 «Былое», 1906, № 2, стр. 176.
17 М. Г. Седов
257
красный организатор и трибун, пользовавшийся боль-
шим авторитетом среди рабочих и молодежи. Затем не-
которое время среди московских рабочих находился
С. Халтурин.
На рабочую массу народовольцы оказывали влияние
через различного рода кружки, которые находились в
сфере прямого воздействия «рабочей группы» пропаган-
дистов (возникла независимо от «Городской группы»
«Народной воли»), В нее входили (главным образом
студенческая молодежь) И. Старынкевич, А. Кирхнер,
И. Майков, А. Орлова, Н. Лавров, Н. Дьяконов, А. Ли-
совская, И. Калюжный, Н. Смирницкая и др. В конце
1880 и начале 1881 г. в Москву прибыло несколько вид-
ных деятелей народовольчества из Петербурга, скры-
вавшихся от розыска полиции: А. Борейша, А. Скворцов,
Л. Коган-Бернштейн и еще два-три нелегальных.
Внутренний распорядок и деятельность группы ре-
гламентировались уставом и инструкцией Исполнитель-
ного комитета. Каждый член группы имел определен-
ный круг своих обязанностей. Он должен был вести про-
паганду среди тех рабочих, которые «обладают выда-
ющимися энергией и способностями». Таких выдающихся
личностей «вовсе не имелось в виду извлекать из их
среды, направляя непременно на политический террор,
наоборот, на них смотрели как на авангард, который со
временем сумеет увлечь за собой массы и поведет их
в бой» *.
Пропаганда велась на частных квартирах, где могло
собраться до четырех человек, но не более. Связи с
рабочими были очень прочными. Принято считать, что
в Москве имелось 100—120 рабочих-народовольцев,
особой популярностью среди которых пользовались
А. Скворцов, А. Масленников и С. Логунов.
Приблизительно такой же силы и влияния были ра-
бочие организации «Народной воли» во многих других
городах.
Во всех промышленных городах и рабочих пунктах,
где имелись народовольческие кружки, велась система-
тическая и усиленная пропаганда. Основой ее была
программа «Народной воли», ее публицистика и та лите-
ратура, которая уже находилась в обиходе революцион-
1 «Былое», 1906, № 2, стр. 178.
258
ного подполья. Это некоторые работы Н. Г. Чернышев-
ского («Примечания к политической экономии Милля»,
«Капитал и труд», «Что делать?» и др.), В. В. Берви-
Флеровского («Положение рабочего класса в России»,
«Азбука социальных наук»), К. Маркса и Ф. Энгельса
(«Капитал», «Манифест Коммунистической партии»),
Ф. Лассаля (Сочинения в двух томах, особенно его речи
о конституции), А. Шеллер-Михайлова («Пролетариат
во Франции»), Н. Шелгунова («Рабочий пролетариат
в Англии и во Франции») и другая литература.
Некоторые исследователи при анализе этой литера-
туры упрекали народовольцев в эклектизме, а В. И. Нев-
ский прямо говорил, что такой «набор» литературы спо-
собен сбить с толку любую голову. Доля правды в та-
ком упреке есть, но только доля, и не больше. Дело
в том, что практическим целям «Народной воли» слу-
жили (не исключая друг друга) такие произведения, как
«Капитал» и популярная брошюра «Хитрая механика»,
«Манифест Коммунистической партии» и «Азбука соци-
альных наук». Удельный вес в науке таких работ несоиз-
мерим, но в плане практическом они служили решению
одной задачи. Речь шла прежде всего о том, как подо-
рвать незыблемость авторитета власти царя, как вызвать
протест забитых масс народа против бесправия и тяж-
ких условий жизни. Время для размежевания полити-
ческих идеологий еще не наступило, и историк не в пра-
ве его ускорять. Широкий фронт демократической борь-
бы с царизмом не противоречил известному совмещению
разных идей в пропаганде и агитации.
Важным рычагом влияния на рабочих в идейном и
организационном отношении должна была стать под-
польная газета. К организации ее было приступлено
летом 1880 г. Типография разместилась в подпольной
квартире по Троицкому переулку, где хозяевами были
Николаевы (Тетерка и Гельфман). Большая роль по
редактированию и выпуску газеты принадлежала Желя-
бову, Каковскому и Колодкевичу. С 15 декабря 1880 г.
стала выходить «Рабочая газета». Она адресовалась
исключительно рабочим, а потому способ изложения
мыслей и подбор материала полностью отвечал такому
назначению. Однако это издание, несмотря на талант-
ливость его организаторов, слабее других изданий пар-
тии. «Рабочая газета» беднее по содержанию и тусклее
*
259
по форме. Пожалуй, здесь выделяется лишь передовая
статья первого номера, принадлежащая перу А. Желя-
бова, в которой излагаются основные положения народо-
вольчества— необходимость и важность борьбы за гра-
жданские свободы.
«Не царь, а весь русский народ должен быть хозяи-
ном страны, поэтому царская власть должна быть уни-
чтожена, а все государственные и общественные дела
переданы в руки выборных от народа, избираемых на
срок. Земля, фабрики и заводы должны принадлежать
народу». Заканчивается статья такими словами: «Смерть
тиранам, прочь тунеядцев, да здравствует царство сво-
боды и труда».
Газета имела успех и расходилась быстро в значи-
тельном по тому времени тираже (до 1 тыс. экземпля-
ров). Строго классового принципа в политическом лице
газеты обнаружить нельзя: это орган не пролетарский,
а революционно-демократический. Направление его пол-
ностью обусловлено «Программой рабочей организации
«Народной воли»».
Одновременно с созданием рабочей организации
«Народной воли» Исполнительный комитет с не мень-
шей интенсивностью взялся за дело еще более сложное.
В. Н. Фигнер писала: «Сознание, что в армии необхо-
димо приобретать сторонников не в виде случайного
привлечения отдельных лиц, поглощаемых революцион-
ной средой, но в видах систематического накопления в
самом войске революционных элементов для вооружен-
ной борьбы с самодержавием, — такое сознание совер-
шенно отсутствовало в эпоху 70-х годов. Только «Народ-
ная воля» сделала работу среди военных очередной за-
дачей революционной партии» !.
Это замечание очень верно, но из него нельзя делать
тот вывод, что военная организация «Народной воли»
не имела предшественников. Напротив, 70-е годы подго-
товили почву для создания такой организации. Выдаю-
щиеся деятели военного центра, с которыми мы встре-
чаемся в «Народной воле», такие, как Суханов, Серебря-
ков, Луцкий и т. д., еще в начале 70-х годов проявляют
себя в работе кружка морского училища Петербурга.
Кружок этот, очевидно, еще нельзя назвать революцион-
1 В. Фигнер. Поли. собр. соч., т. 1, стр. 197.
260
ным, но все члены его выражали решительный протест
против общественных порядков в России.
События войны 1877—1878 гг. всколыхнули армию.
Участник осады Плевны Похитонов так характеризовал
настроение передового офицерства: «Мы думали, что
вместо того, чтобы освобождать чужую страну, надо ду-
мать об освобождении России»
Были уже и факты открытых революционных высту-
плений офицеров. Весной 1879 г. был казнен Дубровин
за организацию террористической группы в армии, пре-
следовавшей широкие антиправительственные цели. Ар-
мия неотделима от жизни народа, и то, что происходило
на поприще гражданском (судебные процессы, воору-
женные сопротивления, акты террористических нападе-
ний, стачки рабочих и демонстрации студентов), не
могло не сказаться и на армии. В 1878 г. возник кру-
жок морских офицеров в Петербурге, куда вошли Була-
нов, Лавров, Вырубов и др. Он носил пропагандистский
характер и основной задачей ставил работу среди ниж-
них чинов. Ни для кого не было тайной, что в армии на-
чалось заметное брожение, которое, правда, касалось
пока только офицерства.
Исходя из общих задач партии и имея в виду благо-
приятную обстановку, Исполнительный комитет «Народ-
ной воли» поручает Желябову организовать военную
группу партии для революционно-политических целей.
«Сношения членов Исполнительного комитета с
Кронштадтом начались поздней осенью 1879 г. и продол-
жались до весны 1880 г., когда моряки ушли в пла-
вание. Первое знакомство с Сухановым произошло че-
рез его сестру Ольгу Евгеньевну, по мужу Зотову. Как
ее, так и ее мужа Желябов знал по Крыму, а потом в
Петербурге, где Ольга Евгеньевна была на курсах; он
посещал ее, как и Перовская, тоже знакомая с Зото-
вым» 1 2.
Знакомство Желябова с Сухановым имело большие
последствия: оно послужило началом связи «Народной
воли» с морским офицерством. Квартира Суханова вско-
ре стала нелегальным пунктом сбора офицеров, где с
большим успехом выступал Желябов. Интересен путь
1 В. Фигнер. Поли. собр. соч., т. 1, стр. 199—200.
2 Там же, стр. 200.
261
Н. Е. Суханова к «Народной воле». Суханов долго и
настойчиво работал над собой, не желая подчинить себя
идее политического террора. Не нравилась ему и под-
польная деятельность. Прямой, темпераментной натуре
Суханова больше импонировала деятельность открытая,
«страстная, но гласная». Он настойчиво искал путей
именно для такой общественной деятельности, но найти
их не мог. Не мог он и остаться в стороне от общего
движения своего времени.
«Я читал в газетах и слышал о лицах, обвиняемых
по суду за государственные преступления и высылаемых
административно в Сибирь. Я постоянно удивлялся их
количеству и желал знать причину этого. Я стал инте-
ресоваться экономическим и социальным строем обще-
ства, читал различные системы и теории» Ч
Этот интерес к общественным сторонам жизни про-
будился рано, когда Суханов был слушателем мор-
ского училища, но, раз возбужденный, он усиливался са-
мой обстановкой, непосредственным соприкосновением с
жизнью. Сильное впечатление на Суханова произвела
поездка во Владивосток к месту службы: «Во Владивос-
ток я поехал через Сибирь. По дороге на каждой почти
станции я видел так называемых политических преступ-
ников, которые препровождались в глубь Сибири. То
была пора пробуждения нравственных сил и хождения
в народ. За ними не было ни одного заговора, ни одного
убийства, это были люди, воодушевленные одною идеею
народного блага... Мне часто делалось больно, обидно
и тяжело, но я чувствовал себя бессильным помочь
горю»1 2.
Казалось бы, служба в столь отдаленном от центра
месте отвлечет молодого офицера от злободневных во-
просов внутренней жизни. Получилось обратное.
Во Владивостоке Суханова назначили на паровую
шхуну, на которой совершались рейсы в Японское море.
«И на меня, — продолжает он, — возложили обязанность
вести хозяйственную часть, несмотря на то, что я отка-
зывался от этого. С первых же дней я увидел, что оста-
ваться честным и быть в ладу с начальством невоз-
можно».
1 «Былое» (Лондон), 1903—1904, № 2, стр. 117—118.
2 Там же.
262
«Лица, которым доверяет правительство, так позорят
Россию, так позорят правительство!» 1
Под таким впечатлением прошли три года во Влади-
востоке. В 1878 г. Суханов вернулся в Петербург. Здесь
его ожидали новые неприятности. Его сестра с мужем
были отправлены III отделением в ссылку. Суханов был
убежден, что эти честные, умные люди не способны были
совершить преступление, а тем не менее они сурово на-
казаны. Так назрел у Суханова внутренний, нравствен-
ный кризис, выход из которого он видел в том, чтобы
встать на сторону тех, кого он встречал в Сибири. Но он,
офицер флота, давал присягу императору, и мысль
о клятвопреступлении терзала его, как натуру на ред-
кость честную. Наконец он решил: «Поставить любовь
к родине, свободе и народу выше всего остального, выше
даже моих нравственных обязательств»2.
И Суханов вступает в «Народную волю», которая
тоже очень нуждалась в таких людях. Почти одновре-
менно с Сухановым к «Народной воле» примкнули его
друзья А. Штромберг, Н. Рогачев, Н. Похитонов, А. Бу-
цевич, Э. Серебряков, Ф. Завалишин и др.
Вот портреты этих людей, нарисованные Фигнер.
«Среди военных первое место по праву принадле-
жало Суханову. Энергичный, стремительный энтузиаст,
он, бесспорно, играл самую главную роль пропагандиста
и агитатора, а вместе с тем и организатора военных:
никто не мог устоять против обаяния его личности, авто-
ритетной по своему нравственному облику, властной по
привычке повелевать и вместе с тем нежной и отзывчи-
вой по натуре. А рядом с ним стояли: блестящий по уму
и образованию Буцевич; солидный, образованный и при-
влекательный, красивый силач Рогачев; рассудительный
и мягкий в обращении Похитонов и душевно чистый
Штромберг — отборная компания, импонировавшая и
личными достоинствами, и образованием, и своей внеш-
ностью» 3.
К осени 1880 г. Желябов подготовил многих офице-
ров к восприятию программы «Народной воли» как
непременного и предварительного условия в создании
1 «Былое», 1903—1904, № 2, стр. 118.
2 Там же.
3 Я Фигнер. Поли. собр. соч., т. 1, стр. 207.
263
военной организации партии. Теперь необходимо было
организационно закрепить достигнутое. С этой целью
Исполнительный комитет образует военный центр из
представителей военной группы (Суханов, Штромберг и
Рогачев) и двух членов из своего состава (Желябов и
Колодкевич). Так возникло то ядро, которое положило
начало сильной военной организации «Народной воли».
В официальном дознании о распространении и «преступ-
ной пропаганде среди военных» есть следующее заклю-
чение:
«Первая военная группа создалась в конце 1880 г. и
получила название центральной... Месяца через два
после образования центральной группы число членов
центрального военного кружка достигло 10—15 человек,
а в Петербурге и его окрестностях составилось 7 круж-
ков, число членов которых в общей сложности доходило
до 50 человек»!.
Образование центрального военного кружка, есте-
ственно, потребовало выработки и принятия устава.
Рассмотрим три наиболее важных его пункта: «1) цен-
тральный военный кружок, имея своей целью полное
политическое и экономическое освобождение народа,
вполне разделяет программу партии «Народной воли»,
отпечатанную в № 3 ее органа; 2) составляя разветвле-
ние существующей революционной организации, кружок,
как специально военный, ставит себе задачи: а) орга-
низовать в войске силу для активной борьбы с прави-
тельством и б) парализовать остальную часть войска,
почему-либо неспособную к активной борьбе; 3) в пре-
делах программы центральный кружок безусловно под-
чиняется решению Исполнительного комитета, оставляя
за собой право совещательного голоса: а) при начер-
тании политики партии на следующий период, б) во всех
случаях, когда исполнение возлагается на военную орга-
низацию» 1 2.
Как видно из этих пунктов, организация военных
всецело зависит от Исполнительного комитета «Народ-
ной воли». Фактически Исполнительный комитет есть
своеобразный штаб военной организации, которая обя-
зана беспрекословно выполнять его приказания.
1 «Былое», 1906, № 8, стр. 159—161,
2 Там же, стр. 160.
264
Что касается личных качеств тех, кто вступал в цен-
тральный кружок, то они определены несколькими пунк-
тами, аналогичными соответствующим пунктам устава
Исполнительного комитета. Социалистическое мировоз-
зрение признается обязательным условием членства.
Быстрый рост военных кружков позволил Исполни-
тельному Комитету создать из них крупную военно-рево-
люционную организацию. Возникновение военной орга-
низации «Народной воли» явилось событием большой
политической важности. В революционности офицерства
таилась громадная опасность для царизма и большой
резерв освободительного движения, ибо для солдатской
массы такой пример мог оказаться решающим.
Развитие событий, связанных с отбором офицеров и
комплектованием кружков, шло очень быстро, успехи
революционной пропаганды превзошли ожидания, что и
заставило Исполнительный комитет озаботиться состав-
лением специальной программы военно-революционной
организации. Необходимо было четко определить значе-
ние и роль армии в грядущей революции. Постановка
этой проблемы в общей форме содержалась в некото-
рых программных документах «Народной воли», но кон-
кретных указаний в них не имелось.
Составление проекта программы Исполнительный ко-
митет поручил Желябову и Суханову. Две идеи лежали
в основе программы: а) военно-революционная органи-
зация должна быть только офицерской, а не солдатской
и не смешанной; б) военная организация должна быть
в «вассальной зависимости» от Исполнительного коми-
тета. Именно эти идеи полностью соответствовали про-
грамме «Народной воли» и ее тактике заговора. Не
лишне заметить, что в ориентации на офицерство наро-
довольцы не ошибались. Они так же трезво смотрели и
на солдатскую массу. В ней в тот период нельзя было
обнаружить признаков революционного пробуждения.
Объяснить инертность солдатской массы русской
армии из-за отсутствия материалов довольно трудно.
Но кое-какие данные в этом отношении дают доку-
менты Главного штаба армии, в которых хранятся от-
четы о состоянии войск. Они помогают воссоздать кар-
тину положения армии в изучаемый период. Прежде
всего поражает общая черта — страшная забитость сол-
дат. Так, в отчетах Киевского военного округа за 1880 г.
265
сказано: по 2-й пехотной дивизии на 1 января 1880 г.
умеющих писать и читать нижних чинов было 15,8%,
знающих только чтение—13,3%. В один из полков
32-й пехотной дивизии в 1880 г. было принято новобран-
цев 607 человек, среди которых писать и читать могли
только 32 человека, или 5,2%. Но начальник дивизии
вполне доволен своими подчиненными, их темнота его
вполне устраивает: «Нравственное состояние нижних
чинов вверенной мне дивизии можно назвать вполне от-
личным» I
Еще более интересные данные по 12-й пехотной диви-
зии. При знакомстве с новобранцами из Бессарабии и
Подольской губернии «оказались не знающие молитвы
«Отче наш», названия дней в неделе, не умеют считать
до 100 и даже отличить медных вещей от железных.
Грамотные вообще составляли редкое исключение».
И опять вывод: «Нравственность нижних чинов вообще
хороша»1 2.
Грамотность по Киевскому округу в целом: в 1878 г.
знающих чтение и письмо — 24,1 %, умеющих только чи-
тать— 17,7%. В 1879 г. знающие чтение и письмо со-
ставляли 25,8%, умеющие только читать—17%.
1880 год дает увеличение грамотных на 0,04% по срав-
нению с 1879 г.3
Киевский военный округ не исключение. Та же кар-
тина в Одесском округе. Там по 15-й дивизии в 1880 г.
грамотных числилось 34% 4-
Отдельные начальники соединений выражали тревогу
в связи с таким состоянием. Так, констатировав низкую
грамотность новобранцев, начальник 4-й пехотной диви-
зии Варшавского округа писал: и это несмотря на то,
«что большая часть новобранцев, поступающих в полки
дивизии, принадлежит к народу фабричному Москов-
ской губернии, где население довольно развито»5.
Но нет ни одного отчета, где бы указывалось на пло-
хое нравственное состояние отделения, не говоря уже
1 Центральный государственный Военно-Исторический архив в
Москве (далее — ЦГВИА), ф. 9, 1881 г., д. 10, ч. 1, л. 157, 241, 242.
2 Там же, л. 401, 402.
3 ЦГВИА, ф. 9, 1881 г., д. 10, ч. 2, л. 440.
4 ЦГВИА, ф. 400, I отд., 4 стол, 1881 г., д. 2, ч. 1, л. 135,
5 Там же, л. 591.
266
о корпусе, дивизии и даже полке. Такая картина была
характерна для русской армии в целом.
Политическая благонадежность солдат находилась в
прямой зависимости от уровня их развития. Забитая
и безграмотная среда не могла еще впитать в себя идеи
революции, идущие от интеллигенции, а на бунт она не
была способна по другим причинам. Положение солдат
сильно изменилось за последние годы в лучшую сторону.
Обеспечение армии стало лучше, а самое решающее,
что отмечается во многих отчетах, — это то, что сокра-
щение сроков военной службы благоприятно подейство-
вало «на нравственное состояние нижних чинов». Срав-
нительно материально обеспеченная безграмотная сол-
датская масса, воспитанная в безграничной вере в царя,
оставалась еще прочной опорой самодержавия.
Народовольцы отлично это понимали. Они не могли
воздействовать непосредственно на солдат. Для этого не
было сил, как их недоставало и для прямого воздей-
ствия на народ, а солдаты — тот же народ. Ставка
Исполнительного комитета на офицерский состав как
среду, легко поддающуюся революционному воздей-
ствию, была единственно возможной в той обстановке.
После такого отступления, необходимого для пони-
мания народовольческой ориентации, посмотрим теперь
на содержание программы военно-революционной орга-
низации. Она состоит из общего введения и трех разде-
лов, указывающих на определение роли военной орга-
низации в общем революционном движении и принципов
ее деятельности.
Введение дает общую характеристику положения
России и подчеркивает, «что подобный порядок вещей
держится в России исключительно грубой силой (армия,
чиновничество и полиция)»1. Затем говорится о роли
военной организации в революционном движении:
«1. Наша организация признает себя солидарною с
партией «Народной воли»...
2. Организация согласна на активное участие в борь-
бе с политическим и экономическим государственным
строем, т. е. согласна в случае народного восстания при-
нять в нем участие.
1 «Литература партии «Народной воли»», 1907, стр. 444.
267
3. Члены организации согласны на исключительно
военное восстание с целью захвата верховной власти
для устройства народного представительства» L
Это центральная часть всей программы, ее суть. Да-
лее следует характеристика организационных принципов
построения военной организации. Здесь прежде всего
бросается в глаза заявление, что в военную организа-
цию «могут входить только офицеры». Даже пропаганду
среди солдат не могут вести члены военной организации,
а могут ее вести только «члены союза рабочих». Рево-
люционные офицерские кружки, таким образом, были
полностью изолированы от солдатской массы1 2.
В целом структура военной организации такова:
«Организация составляется из кружков в отдельных
воинских частях, высшую же инстанцию местной орга-
низации представляет местная центральная группа; на-
конец, для объединения деятельности во всей русской
армии возникает Военный революционный центр»3.
Принцип построения организации определен словом
«централизм» с военным подчинением низших высшим.
Предусматривается соблюдение как дисциплины, так и
тайны, а также систематическое внесение членских взно-
сов в размерах, посильных каждому. И наконец, послед-
ний раздел определяет пути и методы деятельности воен-
ной организации. Эта деятельность мыслится в контакте
с Исполнительным комитетом и под его руководством.
Она, эта деятельность, состоит в руководстве всей сетью
военных кружков и местных организаций по определен-
ной системе, принятой центром. Предусмотрены боль-
шие требования к членству в военной организации. «Чле-
ны кружка, — говорится в одном из пунктов, — должны
быть обязательно самыми исполнительными по службе,
вместе с тем пользоваться симпатией товарищей и лю-
бовью и авторитетом между солдатами»4.
Если мы сопоставим эти положения программы во-
енных народовольцев с другими документами подобного
назначения, то без труда обнаружим, что они базиру-
ются на одних и тех же теоретических принципах и
составляют безусловное единство.
1 «Литература партии «Народной воли»», 1907, стр. 444.
2 См. там же, стр. 445.
3 Там же.
4 Там же, стр. 446.
268
В рассматриваемой программе нет пункта о терро-
ристической деятельности, но это объясняется особой
установкой Исполнительного комитета — беречь военных
для других целей. Что касается указания «на исключи-
тельное военное восстание с целью захвата верховной
власти», то оно всецело вытекает из «Программы под-
готовительных работ партии», где в разделе «Войско»
сказано: «.. .имея за себя армию, можно низвергнуть
правительство даже без помощи народа»
Военная организация — один из составных элемен-
тов «Народной воли», и ее программа — частный раздел
общей программы «Народной воли». Поэтому представ-
ляется ошибочным мнение, будто военная организация
народовольцев воспроизвела слабости декабристов, от-
казавшись вести работу в солдатской массе. Военная
организация «Народной воли» — совершенно новое явле-
ние, и его рассмотрение невозможно в отрыве от наро-
довольческого движения в целом. Сам же факт отказа
от пропаганды среди солдат в определенной историче-
ской обстановке и по определенным соображениям не
есть повторение ошибок декабристов.
С принятием программы военно-революционной орга-
низации заканчивается один из самых важных этапов
деятельности народовольцев. Его главный итог в том,
что передовое офицерство пошло за «Народной волей»
с решительностью и смелостью. Ни одна из организа-
ций подполья не имела такого авторитета и влияния
в военной среде, какой был у «Народной воли». Наро-
довольческие кружки и группы среди военных быстро
росли. Территориально они охватили почти всю Россий-
скую империю. Военная организация раскинулась сетью
кружков в Петербурге, Одессе, Николаеве, Москве, Тиф-
лисе, Киеве, Смоленске и других городах. Усиливается
интерес к деятельности среди военных и со стороны
Исполнительного комитета, который направляет к ним
самых выдающихся своих членов. Интересны по дан-
ному вопросу воспоминания Э. Серебрякова: «Мне лич-
но пришлось в это время познакомиться у Суханова с
Желябовым, Колодкевичем, Перовской, Фигнер, Кибаль-
чичем, Исаевым, Златопольским, Грачевским и многими
другими. Встречи и разговоры с этими обаятельными
1 «Литература партии «Народной воли»», 1907, стр. 438.
269
личностями производили на нас неизгладимое впечатле-
ние. .. Влияние этих апостольских натур я чувствую на
себе и до сих пор, несмотря на прошедшие многие
годы» L
В свою очередь начался процесс выделения из кор-
пуса офицеров выдающихся народовольцев. Исполни-
тельный комитет с большим уважением относился к Су-
ханову, Ашенбреннеру, Штромбергу, Рогачеву, Буцевичу
и многим другим, видя в них преданных делу революции
бойцов и деятелей.
В ходе напряженных организационных дел, повсе-
дневной непрекращающейся борьбы с правительством
народовольцы должны были много сил и времени уде-
лить своевременной и правильной информации обще-
ственности Европы о происходящей борьбе в России.
Дело в том, что царское правительство, проводя поли-
тику «истребления» в отношении революционеров-наро-
довольцев, раздвинуло рамки ее за пределы России. Оно
не хотело мириться с тем, что некоторые европейские
государства предоставляют политическое убежище рус-
ским революционерам. «Народная воля» в свою очередь,
как воюющая сторона, не хотела проиграть в сражении
на новом поприще. Заручиться поддержкой Европы она
считала своей обязанностью и в известном смысле мо-
ральным правом.
Определенным толчком для такого рода деятель-
ности послужило парижское дело Гартмана, а оно ведет
свою историю от московского покушения на Алексан-
дра II 19 ноября 1879 г.
Узнав от Гольденберга все, что касалось подготовки
московского покушения, правительство не могло, есте-
ственно, узнать от него то, что случилось после этих со-
бытий. Оно искало Сухорукова (Гартмана), которого
по неизвестным причинам считало главной фигурой всех
дел, не подозревая даже, что он не входил в Исполни-
тельный комитет и был связан с «Народной волей»
только по этому уже исполненному им делу. Несмотря
на все усилия, Гартман не был обнаружен, не найден и
след его. Но вот 21 января 1880 г. из Парижа от рус-
ского посла Орлова была получена шифровка, сообщав-
шая, что Гартман находится во Франции под именем
1 «Былое», 1907, № 9, стр. 37.
270
Шульца. Это сообщение положило начало большой по-
литической кампании. Источником в опознании Гарт-
мана-Шульца был русский уголовник Шиперко (Куд-
рявцев), бежавший в 1878 г. из России от преследований
за мошенничество. В Париже он жил с политическим
эмигрантом Преферанским, занимаясь слесарным делом.
Скрывая свое прошлое, Шиперко сблизился с Префе-
ранским и вскоре стал знать все о тех лицах, которые
посещали их квартиру. Узнав все о Гартмане, он обра-
тился к советнику русского посольства в Париже графу
Капнисту и передал ему, что знал. Успел же он узнать
следующее: на юге не удалось покушение на импера-
тора, в Москве перепутали поезда и за царский поезд
приняли тот, в котором находилась прислуга. Московское
покушение готовил Гартман-Шульц, ныне проживаю-
щий здесь.
Свой донос Шиперко обусловил получением возмож-
ности вернуться в Москву, к семье. Сведения Шиперко
немедленно передали в III отделение, и доносчика вы-
звали в Россию. Несмотря на обещания и старания
III отделения, Шиперко не удалось оставить в России —
слишком грязным было его прошлое. Ему вручили
5 тыс. руб. и заставили навсегда покинуть страну.
Опознание Гартмана повело к аресту его в Париже,
поскольку начальник префектуры Андрие служил не
только французскому, но и русскому правительству, по-
лучая от последнего значительные суммы. Над Гартма-
ном нависала угроза быть высланным в Россию, причем
в качестве уголовного преступника. В начале февраля
1880 г. Исполнительный комитет узнал о случившемся.
Для «Народной воли» освобождение Гартмана состав-
ляло вопрос чести и было в высшей степени важно. По-
этому Исполнительный комитет употребил все усилия
для того, чтобы добиться от правительства Франции
благоприятного результата. Было составлено воззвание
к французскому народу и письмо к президенту респуб-
лики, в котором Исполнительный комитет обращался
к нему с просьбой при обсуждении дела Гартмана при-
нять во внимание, что в России революционное движе-
ние ведется во имя завоевания свободы и гражданских
прав, какими европейские народы давно пользуются.
Доставку упомянутых документов за границу Испол-
нительный комитет поручил В. Иохельсону. Эта миссия
271
была очень ответственной. Необходимо было разослать
во все демократические газеты Европы воззвание к
французскому народу и проследить за его опублико-
ванием. Особо важным было письмо к Лаврову, кото-
рого Исполнительный комитет уполномочивал вести от
имени «Народной воли» переговоры с президентом Фран-
ции.
Развернутая народовольцами кампания превзошла
все ожидания. Она пронеслась мощной волной защиты и
сочувствия русскому освободительному движению. Вся
прогрессивная Европа поддержала русских борцов и
мучеников за свободу. Гартман невольно оказался пред-
ставителем «Народной воли» в Европе.
Великий французский писатель В. Гюго одним из
первых узнал о несчастье Гартмана. Он сочувственно
относился к русскому революционному движению и сво-
им могучим авторитетом оказал большую услугу «На-
родной воле». В открытом письме к французскому пра-
вительству от 27 февраля 1880 г. Гюго писал: «Вы —
правительство честное. Вы не можете выдать этого
человека.
Между ним и вами стоит закон. А над законом есть
право.
Деспотизм и нигилизм представляют собой две чудо-
вищные стороны одного и того же явления, относяще-
гося к области политики. Законы о выдаче преступников
не затрагивают политическую сферу. Все нации соблю-
дают эти законы; Франция также будет их соблюдать.
Вы не выдадите этого человека» 1.
Гартман действительно был освобожден из заключе-
ния и не выдан царскому правительству. Дело Гартмана
сильно подняло авторитет и обаяние «Народной воли»
за границей.
В ноябре 1880 г. в Гавре происходил национальный
съезд французских социалистов. Он горячо откликнулся
на русские события специальным воззванием к револю-
ционерам России.
«Французские социалисты-рабочие, собравшиеся на
Национальный конгресс 1880 г. в Гавре, не исполнили
бы своего долга, если бы не выразили полной своей соли-
1 В. Гюго. Собр. соч. в 15 томах, т. 15. Дела и речи. М., 1956,
стр. 681.
272
дарности с русскими нигилистами, так мужественно сра-
жающимися на другом конце Европы за свободу, за че-
ловеческие права и социальную справедливость. Братья
России и Сибири! Взоры французского пролетариата об-
ращены на вас; он шлет вам благодарность за пода-
ваемый вами пример; он шлет вам пожелания близкого
торжества. Вашей победе вопреки священному союзу
тиранов и эксплуататоров, быть может, суждено стать
предвестником освобождения других народов и сигна-
лом международной революции» L
Эти слова сочувствия и привета не могли не подей-
ствовать на русскую молодежь и не отозваться высоким
чувством благодарности. Французские рабочие не за-
были о той скромной помощи, которую оказывали рус-
ские революционеры во время Парижской коммуны и
после нее, а те, кто ее оказывал, теперь были вместе
с народовольцами.
Еще больший интерес имеет обращение Исполни-
тельного комитета непосредственно к Марксу, в лице
которого «Народная воля» видела друга и покровителя
русских революционеров. Народовольцы просили Марк-
са помочь Гартману опубликовать в европейской и аме-
риканской прессе информации «относительно настоя-
щего развития нашей общественной жизни». Эта просьба
мотивировалась естественным стремлением иметь на
своей стороне сочувствие и моральную поддержку обще-
ственности Европы и Америки. Указав на особенности и
трудности борьбы в России, Исполнительный комитет
писал: «Наша задача была бы для нас значительно
легче, если бы определенно высказанные симпатии сво-
бодных народов были бы на нашей стороне. А для этого
требуется только одно — знакомство с истинным поло-
жением дел в России».
И если бы у Маркса при чтении письма возник во-
прос, почему народовольцы обращаются с такой прось-
бой именно к нему, то он нашел бы ответ в том же
письме. Вот он: «Само собой разумеется, что ваше имя
связано с внутренней политической борьбой в России.
В одних оно вызвало глубокое уважение и горячую
симпатию, в других — преследования. Ваши сочинения
были запрещены, и самый факт их изучения рассматри-
1 «Народная воля», 1880, № 4.
18 М. Г. Седов
273
вается теперь как признак политической неблагонадеж-
ности»
Между К- Марксом и «Народной волей» установи-
лись дружеские отношения. Маркс дал согласие на ока-
зание помощи Гартману и в знак своего уважения к
«Народной воле» прислал Исполнительному комитету
свой портрет, сопроводив его достойной данного случая
надписью. К сожалению, портрет Маркса погиб вместе
с архивом «Народной воли». Маркс так близко принял
предложение народовольцев, что изъявлял даже согла-
сие принять участие в заграничном журнале русской
эмиграции, однако это предприятие не было осуществ-
лено.
С аналогичным письмом обратился также Исполни-
тельный комитет к известному общественному деятелю
Франции Рошфору. В письме к Льву Гартману Испол-
нительный комитет уполномочивает его представлять
«Народную волю» за границей. Письмо к нему закан-
чивается так: «Хотя мы решились вести нашу активную
борьбу против русского правительства только исклю-
чительно при помощи сил и средств русского народа,
однако мы вас уполномочиваем, дорогой товарищ, прини-
мать денежную помощь от других народов: 1) для мест-
ной пропаганды (за границей), 2) для гуманитарных
целей внутри России, 3) пожертвования рабочих для
русских рабочих-стачечников.
Мы убеждены, что Европа и Америка, помня тяже-
лую борьбу за их собственное освобождение, не замед-
лят встретить вашу миссию, дорогой товарищ, с глубо-
ким интересом»1 2.
Героическая борьба «Народной воли» за освобожде-
ние России, установление связей с всемирно известными
деятелями позволили русской народовольческой эмигра-
ции в короткий срок завоевать симпатии европейского
общественного мнения. Престиж русского революцио-
нера сильно поднялся. Интерес к России и русским про-
блемам приобретал особую остроту.
Народовольческая эмиграция стала складываться с
осени 1879 г. Первым бежал (как уже говорилось) из
России Л. Гартман.
1 «Литература партии «Народной воли»», 1907, стр. 486—487.
2 Там же, стр. 486.
274
На него возлагались различные поручения по пред-
ставительству интересов «Народной воли» в странах
Европы. Однако чаще всего в этой роли выступал
П. Л. Лавров, хотя формально он не был членом «На-
родной воли».
В начале 1880 г. Россию вынуждены были покинуть
Н. Морозов и О. Люботович. Некоторые из народоволь-
цев на время уезжали из России и вскоре возвращались
обратно. Сложившихся групп или кружков народоволь-
цев за границей не было, поскольку в принципе народо-
вольцы крайне отрицательно относились к эмиграции.
Их девиз гласил: «При любых условиях необходимо бо-
роться с врагом, находясь в России».
Этот взгляд нуждается в комментариях. В донародо-
вольческий период русская революционная эмиграция
начиная с 40-х годов XIX в. имела главнейшую функ-
цию— возбуждать и поддерживать революционное дви-
жение внутри России. Особую роль в этом деле сыграли
А. И. Герцен и Н. П. Огарев с «Колоколом» и «Поляр-
ной звездой». После них значение эмиграции упало.
Однако некоторым группам эмигрантов и издавае-
мым ими органам печати удавалось довольно сильно
влиять на ход дел в России. Имеется в виду прежде
всего группа П. Л. Лаврова и ее издание «Вперед»
(1873—1877), бакунинские по направлению группы с
журналами «Работник» (1875) и «Общиной» (1878) во
главе (влияние «Народного дела» (1868—1871) и «На-
бата» (1875—1881) было уже меньшим).
Естественно, все эти органы выражали потребности
внутренней жизни России, ее определенных тенденций,
а некоторые даже выполняли роль органов революцион-
ных организаций, и тем не менее их задача состояла в
пробуждении движения извне. С 1878 г. положение дел
резко меняется. Появление внутри России газеты «Зем-
ля и воля» сделало ненужным «Общину», издаваемую
за границей.
Новая фаза революционного движения по-новому по-
ставила проблему вольного слова. Обострившаяся и бы-
стро менявшаяся обстановка требовала немедленной
реакции на события текущей жизни, непосредственного
контакта редакторов газет и журналов с революцион-
ным подпольем. «Народная воля» хотела от эмигрантов
помощи только в одной форме — возврат в Россию и
*
275
активная деятельность по борьбе с правительством.
Однако этот категорический принцип не всегда отвечал
интересам партии. Были люди, которые не могли вер-
нуться в Россию, но горели желанием приносить боль-
шую пользу освободительному движению.
Теперь их силы, знания, опыт решили использовать
для пропаганды идей «Народной воли» за рубежом.
Связь Исполнительного комитета с агентами «Народной
воли» в Европе осуществлялась В. Н. Фигнер, которая
писала об этом: партия «решила организовать за гра-
ницей пропаганду своих истинных целей и стремлений
и завоевать симпатии европейского общества... Таким
путем, потрясая трон взрывами внутри государства, мы
могли дискредитировать его извне... Вскоре Гартман и
Лавров были приглашены комитетом в качестве упол-
номоченных партии предпринять за границей агитацию
в духе программы «Народной воли»» L
Такова задача народовольческой эмиграции. Агита-
ция в пользу «Народной воли» имела, как мы видели,
довольно широкий размах и крупный успех, прогрессив-
ная и революционная общественность Европы была при-
влечена на сторону народовольцев. Однако такое поло-
жение оказалось кратковременным. После разгрома Ис-
полнительного комитета положение дел резко измени-
лось. Обстоятельства оказались выше воли людей.
Несмотря на то что численный состав эмигрантов-народо-
вольцев возрастал (покинули Россию Ошанина, Тихоми-
ров и некоторые другие), роль народовольческой эмигра-
ции слабела, а функции менялись. Падение партии внутри
России роковым образом сказалось на ее эмиграции.
Выпустив в свет «Календарь «Народной воли»» (1883—
1884) и пять выпусков «Вестника «Народной воли»»,
народовольческая эмиграция фактически сходит с обще-
ственной арены.
Ведя большую организаторскую работу в армии, в
рабочей среде, в высших учебных заведениях и обще-
стве, главное внимание «Народная воля» сосредоточила
все же на одном цареубийстве, в котором народовольцы
усматривали начало конца самодержавия. Они разраба-
тывали планы двух новых нападений в Петербурге и
Одессе. Реализация их потребовала напряжения всех
1 «Былое», 1917, № 4, стр. 68.
276
сил партии. Нужно было большое количество динамита,
всякого рода технических средств и немало денег.
Исполнительный комитет создает специальный техниче-
ский совет, организует две мастерские по изготовлению
динамита и других средств вооружения. Технику и элек-
тричество, говорили народовольцы, надо поставить на
службу революции.
Весной 1880 г. Исполнительный комитет вынес реше-
ние о новом покушении посредством взрыва Каменного
моста у Гороховой улицы, где обычно проезжал импе-
ратор. В реку под мост было заложено около 10 пудов
динамита. В подготовительных работах принимали уча-
стие многие, но сам взрыв должны были произвести
Желябов и Тетерка 17 августа. Другая группа действо-
вала в Одессе, где еще 4 апреля 1880 г. Саблин нанял
помещение для бакалейной лавки, откуда предполага-
лось начать подкоп под Троицкую улицу. Здесь прини-
мали участие помимо Саблина Перовская, Исаев, Яки-
мова и др. К середине июля стало известно, что импе-
ратор не будет в Одессе. Работу пришлось забросить.
Все эти громадные предприятия требовали больших
средств, а их постоянно не хватало. Однажды Тихоми-
ров сказал: «Будь у нас миллион рублей, и успех рево-
люции обеспечен». Это шутка, но без денег действитель-
но организация не могла существовать. Особо ухудши-
лись дела после казни Д. Лизогуба. Переданное им
Исполнительному комитету имение было конфисковано
правительством. Приходилось довольствоваться пожерт-
вованиями, а они не могли полностью удовлетворить по-
требностей, расходы все возрастали. Увеличилось ко-
личество нелегальных, восстанавливалась типография
после январского погрома, задумано было издание «Ра-
бочей газеты», не говоря уже о более мелких издерж-
ках. Все, казалось, подталкивало события. Приближа-
лось к развязке дело Квятковского, вылившееся в «про-
цесс 16-ти». Было очевидно, что процесс не окончится
без казней. Так оно и случилось. 4 ноября 1880 г. Квят-
ковский и Пресняков были казнены. Смерть их Желябов
назвал «вырыванием нервов из живого организма».
Волной негодований и требованиями возмездия отозва-
лось общество на эти казни. Правительство было уве-
рено, что борьба с нигилистами близка к завершению.
Дело, однако, обстояло совсем не так.
277
Близилась последняя атака на императора. Сверши-
лось уже четыре нападения на царя, и ни одно из них
не достигло намеченной цели. Подчеркиваем: намечен-
ной, ибо влияние этих покушений на общество превос-
ходило то, о чем только могла мечтать партия, недавно
организованная. «Народная воля» стала не только са-
мой мощной организацией, о которой заговорила вся
Европа. Ее признали, как мы видели, силой воюющей,
она привела правительство в состояние кризиса. Здесь,
очевидно, находился тот рубеж, когда нужно было глав-
ные усилия направить на накопление новых сил, на
перегруппировку их, на переориентацию. Нельзя было
бросать в бой все силы, не думая о резервах. Михайлов
и Желябов много раз говорили, что цареубийство для
них есть всего только одно из средств. На деле выходило
не так. М. Н. Ошанина (Оловенникова) писала впослед-
ствии: «В Исполнительном комитете по вопросу о тер-
роре сначала разногласий не было, но, чем дальше, тем
становилось яснее, что из-за террора страдают все
остальные отрасли деятельности. Но на практике иначе
оказывалось невозможным. На террор шло столько сил
потому, что иначе его вовсе не было бы. Больше дру-
гих на необходимости расширить другие стороны дея-
тельности настаивал Михайлов и отчасти Желябов»1.
В это время, осенью 1880 г„ Желябов «созвал чле-
нов Исполнительного комитета на заседание. Когда все
собрались, Желябов произнес небольшую речь, в кото-
рой с беспокойством говорил о тяжелом положении кре-
стьян. «Если мы останемся в стороне в теперешнее
время и не поможем народу свергнуть власть, которая
его душит и не дает ему даже возможности жить, то
мы потеряем всякое значение в глазах народа и никогда
вновь его не приобретем. Крестьянство должно понять,
что тот, кто самодержавно правит страной, ответствен
за жизнь и благосостояние населения, а отсюда выте-
кает право народа на восстание, если правительство, не
будучи в состоянии его предохранить от голода, еще
вдобавок отказывается помочь народу средствами госу-
дарственной жизни. Я сам отправлюсь в приволжские
губернии и встану во главе крестьянского восстания,—
1 В. Я. Богучарский. Из истории политической борьбы в 70-х и
80-х гг. XIX века, стр. 182.
278
говорил Желябов. — Я чувствую в себе достаточно сил
для такой задачи и надеюсь достигнуть того, что права
народа на безбедное существование будут признаны
правительством. Я знаю, что вы поставите мне вопрос:
а как быть с новым покушением, отказаться ли от него?
И я вам отвечу: нет, ни в каком случае. Я только прошу
у вас отсрочки»»
Известно, что отсрочка не последовала. План нового
нападения на императора стал быстрыми темпами выпол-
няться. И сам Желябов уже не настаивал на отсрочке.
Его тоже увлекли новые работы, и он с энтузиазмом вы-
полнял их, забывая и об опасности, и об усталости.
На Малой Садовой было снято помещение под лавку
сыров. Отсюда предполагалось совершить подкоп и про-
извести взрыв при проезде Александа II по улице. Содер-
жателями лавки оказались супруги Кобозевы (Ю. Бог-
данович и А. Якимова).
Интересны воспоминания А. П. Прибылевой-Корбы об
этом: «В то время... намечалось новое и ставшее послед-
ним покушение на жизнь Александра II. Исполнительный
комитет уже остановил свой выбор на месте действия,
именно на подвале в доме Менгдена на Малой Садовой
улице. Хозяева уже были намечены, и собирались сведе-
ния относительно торговли, которая будет производиться
в упомянутом подвале. Ожидалось близкое возвращение
А. Д. Михайлова, который должен был привезти деньги
на предприятие и паспорта для новой большой типогра-
фии и для хозяев будущего торгового предприятия»1 2.
В работе по подкопу на Садовой были заняты многие чле-
ны Исполнительного комитета. Лавка сыров превраща-
лась в главный пункт, откуда должно было совершиться
цареубийство. Несмотря на все меры предосторожности
по подкопу, полиция все же обратила внимание на это по-
мещение, и под предлогом «санитарного» осмотра был
произведен обыск. Он, правда, не дал никаких результа-
тов, но заставил пережить тяжелые минуты.
Работы шли быстро и приближались к завершению.
Вместе с тем разрабатывался новый вид оружия — мета-
тельные снаряды. Признавалась необходимой координа-
ция действия мин большого взрывного свойства с ручны-
1 «Народовольцы». Сборник III. М., 1931, стр. 18—19.
г Там же, стр. 18.
279
ми метательными снарядами. Над конструкциями этих
видов работали Кибальчич, Суханов и Исаев. Теперь от
нас он не уйдет, говорил Михайлов об Александре II.
Но накануне победы «Народная воля» лишилась луч-
ших своих сил. 28 ноября 1880 г. по выходе из фотогра-
фии, где заказывались карточки Квятковского и Пресня-
кова, был арестован Александр Михайлов. Арест Михай-
лова явился непоправимым уроном для «Народной воли».
Как могло случиться, что арест А. Михайлова послу-
жил как бы сигналом к провалам видных членов Испол-
нительного комитета, защиты «Народной воли» — Кле-
точникова и, наконец, Желябова? «Александр Михай-
лов, — по свидетельству его товарищей по борьбе, — был
всегда в курсе не только всех комитетских дел, но и рабо-
ты каждого отдельного члена его, и не только работы, но
и приемов, способов действия, его привычек и слабых сто-
рон его характера... Может быть, удачное исполнение
Михайловым этой повседневной задачи контроля над це-
лостностью и безопасностью учреждений, квартир Испол-
нительного комитета и самих его членов указывало на
то, что тайная организация не может и не должна оста-
ваться без контролирующей и наблюдающей силы; но по-
сле исчезновения с исторической сцены Александра Ми-
хайлова эта мера не была осуществлена. Исполнительный
комитет не передал работу А. Михайлова, добровольно
взятую им на себя, другому лицу, и последствия были ро-
ковые» *.
Многочисленные исторические документы подтвер-
ждают справедливость приведенных слов. Но из них, по-
нятно, нельзя делать вывод о том, что история «Народной
воли» могла быть иной, останься Михайлов на воле. Од-
нако, бесспорно, понесенные жертвы были бы меньшими.
1 «Народовольцы». Сборник III, стр. 22—23.
ГЛАВА V
«НАРОДНАЯ ВОЛЯ»
ПОСЛЕ СОБЫТИЙ
1 МАРТА
События 1 марта стремительно приближались. Но прежде
несколько соображений об особенностях их. С точки зре-
ния деятельности «Народной воли» и закономерностей
террористической борьбы они логичны и неизбежны. Это
обстоятельство подчеркивали и современники, и исследо-
ватели. Ни на одного императора России, а возможно и
всей Европы, не было совершено столько покушений,
сколько на жизнь Александра II, и, конечно же, он не сде-
лал больше злодеяний, чем его предшественники и после-
дователи. Тем не менее он стоит в фокусе истории поли-
тического террора. Видимо, дело здесь не в злодеяниях.
Известны политические деятели, которые совершили
столько злодейств, что Александр II может показаться
даже гуманным человеком, а между тем террор они не
вызвали. Следовательно, политический террор против
Александра II нельзя вывести только из жестокой поли-
тики. Истоки его — в характере революционного движе-
ния, уровне его зрелости, в том, почему оно не могло
обойтись без индивидуального террора. Мысли Плехано-
ва о том, что наш терроризм всецело вырастал из бунтар-
ства, никто не опровергал, а если они верны, то тогда
становится очевидным, что главная особенность освобо-
дительного движения, состоящая в крайне низкой актив-
ности масс, не позволила радикально-демократическим
силам обойтись без индивидуального террора как сред-
281
ства потрясения правительства для целей пробуждения
народа, о чем неоднократно уже говорилось. И посколь-
ку было признано, что уничтожение санкционирующей
личности может изменить дело, то объект нападения
сам собой определился. Речь шла об императоре как
вражеской силе, и только. Мы воюем не с личностью, а с
принципом самодержавия, много раз заявляли народо-
вольцы. В объяснении по поводу нападения на Дрентель-
на Исполнительный комитет, между прочим, писал, что
Дрентельн достоин смерти уже по одному тому, что в
данное время занимает пост шефа жандармов. Это пол-
ностью может быть перенесено на императора. И причи-
ны здесь не в личном озлоблении и не в озлоблении во-
обще, а в особенности политической борьбы. Вот почему
Маркс, говоря о развитии террористической борьбы в
России, подчеркивал, что морализация в таком случае
неуместна, так же как при землетрясении.
Как лично Александр II ориентировался во всей этой
сложной обстановке — сказать нелегко: не все тут извест-
но. По сведениям современников, выяснено, что он не мог
скрыть своей радости при каждом аресте народовольца
и впадал в уныние и отчаяние при успехах революцио-
неров.
Однако накануне решающих событий в высших кру-
гах власти царило успокоение. Казалось, обстановка из-
менилась в пользу правительства. В конце 1880 и начале
1881 г. полиция произвела целый ряд крайне важных аре-
стов, которые после ареста Михайлова участились и ста-
ли носить систематический характер. Громадный ущерб
организации нанес Окладский. Его показания были пере-
даны Александру II, выразившему надежду, что «этим
дело не ограничится» На представленном Лорис-Мели-
ковым рапорте о задержании 27 января 1881 г. Колодке-
вича император собственноручно написал: «Браво». На-
конец, 28 февраля 1881 г. были схвачены Желябов и Три-
гони. Все это воспринималось с большим восторгом и с
уверенностью в полной победе. Бумаги такого рода пол-
ны пометок царя вроде той, что приведена выше. Именно
поэтому Александр II, долгое время не оставлявший Зим-
ний дворец, решил выехать на развод войск. Выезд ока-
зался роковым, несмотря на многие предосторожности.
1 ЦГАОР, ф. III отд., 3 эксп., 1880 г., д. 751, ч. 1, л. 4,
282
СОФЬЯ ПЕРОВСКАЯ (1854—1881)
Мы затеяли большое дело. Быть может, двум поколениям придется
лечь на нем. Но сделать его надо...
Наши цели и тактика не имеют ничего общего с якобинским прин-
ципом— с идеей о насильственном разрешении сверху главных во-
просов общественной жизни, о навязывании народу тех или иных
социально-политических форм. Наш девиз — «Народная воля» — не
является пустым звуком, а действительно выражает собою сущность
нашей программы и наших стремлений.
«Чувство долга было самой выдающейся чертой ее характера... она
сумела выработать из себя истинного стоика, способного выносить,
не согнувшись, самые ужасные удары судьбы...
Софья Перовская была не только руководителем и организатором;
она первая шла в огонь, жаждала наиболее опасных постов. Это-то
и давало ей, быть может, такую власть над сердцами».
Степняк-Кравчи некий
После взрыва в Зимнем правительство, казалось, сделало
все для безопасности царя. Места его пребывания и мар-
шруты передвижения тщательно охранялись. Усиленная
личная охрана не вызывала никаких сомнений. Народо-
вольцы знали обо всем этом и тщательно готовились к
последнему бою.
Около трех месяцев продолжалась опасная и очень
изнурительная работа по прорытию подземной галереи
под мостовую Малой Садовой. Когда осталось только за-
ложить мину, в лавку пожаловала комиссия с целями
якобы санитарного осмотра. Положение «хозяина» было
очень тяжелым, но, к счастью, все кончилось благополуч-
но. Генерал Мровинский, возглавлявший комиссию, по-
верхностно подошел к осмотру, который по существу не
производился, тогда как при малейшей наблюдательно-
сти можно было открыть весь заговор. Впоследствии
Мровинского предали суду и за халатное отношение к
служебным обязанностям выслали на север. После «обы-
ска» галерею приготовили для взрыва, заложив в нее
мину. «Хозяйка» сырной лавки А. Якимова вспоминает:
«На Малую Садовую как на одну из улиц, по которым
царь проезжал часто, конечно, должно быть обращено
сугубое внимание всякого рода охранников, и полиция
со своей стороны делала, что могла: при нашем поселении
на Малой Садовой была наведена справка в Воронеже
относительно подлинности выдачи паспорта, что вполне
подтвердилось. Со времени арендования помещения Ко-
бозевым прошло до 1 марта три месяца. Подкоп был до-
веден до конца» Ч
Подготовка к покушению на этот раз не ограничива-
лась одним вариантом.
Исполнительный комитет на последних своих заседа-
ниях, обсуждая вопрос о цареубийстве, исходил из трех
возможностей. На первом месте была Малая Садовая:
она считалась главным и самым надежным пунктом.
Второй вариант состоял в нападении на императора
особого отряда, вооруженного метательными снарядами.
И наконец, в случае провала первых двух вариантов, Же-
лябов, сообразуясь с условиями, должен был пойти на
поединок с императором. Таковы последние планы. Но
после того как они были приняты, в ночь на 28 февраля
1 «Народовольцы». Сборник III, стр. 268.
284
Желябова и Тригони арестовали, и, следовательно, сра-
зу отпала одна из возможностей. Дело усложнялось еще
и тем, что Желябов возглавлял все частные операции
единого акта нападения. Казалось, что все может погиб-
нуть. К тому же никто не мог дать гарантию, что кто-ли-
бо из комиссии, осматривавшей лавку сыров, не заподоз-
рил что-то неладное. Эти обстоятельства заставили Ис-
полнительный комитет признать 1 марта единственно под-
ходящим днем для нападения на Александра II. Мысли,
воля и энергия народовольцев сосредоточивались исклю-
чительно на данном факте, и никто не мог думать ни о
чем другом. Исполнительный комитет «Народной воли»
превратился в боевой отряд или боевую дружину, и по су-
ществу он на время как бы перестал быть руководителем
не только партии, но и других ее специальных организа-
ций. Все, кто был в Петербурге, оказались прямо связан-
ными с предстоящим покушением. Ни у кого не возникло
даже мысли о том, чтобы оставить Петербург по сообра-
жениям безопасности, как это практиковалось, начиная
с дела Соловьева.
В подготовке покушения I марта и его осуществлении
решающую роль сыграла Софья Львовна Перовская. Она
оказалась как бы в фокусе всех этих событий, в сущно-
сти финальных для старых деятелей «Народной воли».
Современники единодушны в оценке этой личности. Они
восхищаются революционной страстностью Перовской, ее
героизмом и поистине беспредельной любовью к народу,
которому она беззаветно служила все годы сознательной
жизни, порвав с аристократическим обществом и семьей.
На протяжении более десяти лет шла она в первых ря-
дах революционного подполья и пережила вместе с ним
все ступени его развития — от участницы кружка само-
развития 1869 г. до члена Исполнительного комитета
«Народной воли». Она возвысилась до уровня руководи-
теля этой героической организации. «Софья Львовна Пе-
ровская,— вспоминала В. Н. Фигнер, — по своей рево-
люционной деятельности и судьбе... представляет одно
из немногих лиц, которые перейдут в историю.
С точки зрения наследственности и влияния окружаю-
щей среды любопытно, что эта аскетка-революционерка
была по происхождению правнучкой Кирилла Григорье-
вича Разумовского, последнего гетмана малороссийского,
внучкой губернатора в Крыму, в царствование Алексан-
285
дра 1, и дочерью губернатора Петербурга, раньше слу-
жившего во Пскове.
По случайному стечению обстоятельств ее обвините-
лем... по делу 1-го марта 1881 г. являлся человек, быв-
ший в прошлом ее товарищем детских игр...»1
Один из крупнейших биографов Перовской пишет о
ней: «Героизм Перовской, ее беззаветная смелость, ее
ловкость, умение находиться в минуты опасности, выхо-
дить из неминуемой беды уже известны. Известны также
ее настойчивость, ее напряженнейшая трудоспособность,
ее стальное упорство»2.
Вот такой человек стал распорядителем событий
1 марта. В течение ночи с 28 февраля на 1 марта все тех-
ническое подготовление к нападению на императора бы-
ло закончено. Разведывательная группа, следившая за
царем, заявила, что его воскресный выезд в Михайлов-
ский манеж наиболее вероятен. Исаев заложил мину на
Садовой, Фроленко должен был произвести взрыв, опре-
делили наблюдателей. Метательные снаряды прошли ис-
пытание за городом, недостающие снаряды изготовили в
течение этой ночи. Группу метальщиков сформировал
еще Желябов, в нее вошли Т. Михайлов, Гриневицкий,
Емельянов и Рысаков. Утром 1 марта, вооруженные, они
заняли места, указанные Перовской. Решающий момент
наступил. Царь не поехал по Садовой, вариант, казав-
шийся наиболее надежным, отпал. В этот час особенно
проявились организаторские способности Перовской: бы-
стро рассчитав, что обратный путь императора пройдет
по набережной Екатерининского канала, она немедля пе-
реставила метальщиков, чтобы действовать уже одними
бомбами. В начале третьего раздался сильный взрыв —
Рысаков по сигналу Перовской бросил бомбу, однако
пострадали посторонние лица, лошади императорской
упряжки и частично карета. Сам же царь вышел из ка-
реты невредимый и стал справляться о случившемся. Ры-
саков был задержан толпой, к нему направились царь и
начальник его конвоя. Отдав приказание в отношении
задержанного, царь прошел еще несколько шагов, порав-
нявшись с Гриневицким, и в этот миг тот бросил снаряд
1 «Былое», 1918, № 4—5 (32—33), стр. 3.
2 Н. Ашешов. Софья Перовская. Материалы для биографии и
характеристики. Пг., 1920, стр. 97.
286
ИГНАТИЙ ГРИНЕВИЦКИЙ
(1856—1881)
Судьба обрекла меня на раннюю гибель, и я не увижу победы, не
буду жить ни одного дня, ни часа в светлое время торжества, но
считаю, что своею смертью сделаю все, что должен был сделать, и
большего от меня никто, никто на свете требовать не может. Дело
революционной партии — зажечь скопившийся уже горючий мате-
риал, бросить искру в порох и затем принять все меры к тому, чтобы
возникшее движение кончилось победой, а не повальным избиением
лучших людей страны...
Из завещания И. И. Гринев и цкого
между собой и императором, поразивший одновременно
и того и другого.
Перовская следила за ходом дела и, после того как
произошел второй взрыв, оставила поле боя, уйдя на
конспиративную квартиру Ч Два других метальщика по-
ступили так: Т. Михайлов не выдержал нервного напря-
жения и до начала развязки ушел. Емельянов находился
в самом центре толпы, ему не было надобности метать
свой снаряд: когда рассеялись дым и пыль, вызванные
вторым взрывом, он увидел умирающих Гриневицкого и
Александра II.
Такова первомартовская развязка. Вечером того же
дня состоялось экстренное заседание Исполнительного
комитета, на котором присутствовали Фигнер, Исаев,
Грачевский, Тихомиров, Перовская, Корба, Богданович,
Фроленко, Суханов, Лебедева, Златопольский и Лангане.
Обсуждался вопрос о том, каким должно быть сообщение
о случившемся. Приняли написанную Тихомировым про-
кламацию. 2 марта она уже распространялась по го-
роду. Исполнительный комитет доводил до сведения об-
щества, что приговор над Александром, вынесенный
26 августа 1879 г., приведен в исполнение.
«Исполнительный комитет, все время не выпуская
оружия из рук, постановил привести казнь над деспотом
в исполнение во что бы то ни стало. 1-го марта это было
исполнено. Обращаемся к вновь воцарившемуся Алек-
сандру III с напоминанием, что историческая справедли-
вость существует и для него, как для всех... Только ши-
рокая энергичная самодеятельность народа, только ак-
тивная борьба всех честных граждан против деспотизма
может вывести Россию на путь свободного и самостоя-
тельного развития»1 2.
Под влиянием удавшегося покушения прокламации
подобного содержания появлялись повсеместно. Они ука-
зывали на сильное брожение в среде интеллигенции, и
особенно молодежи. В одной из них — «Русскому студен-
честву от Горецкого центрального кружка» — содержал-
ся призыв к смелой и беспощадной борьбе с царизмом во
имя народа и за облегчение его участи, подчеркивалось,
что источником бедствий является «варварское» прави-
1 Подробно об этом см. А. Тырков. К событиям 1 марта 1881 г. —
«Былое», 1906, № 5, стр. 141—162.
2 «Литература партии «Народной воли»», 1907, стр. 449.
288
тельство. Ни мирные уступки, ни даже дарованная кон-
ституция не помогут делу. Только совместное и повсе-
местное выступление с оружием в руках разрубит узел
противоречий русской жизни и выведет Россию на дорогу
прогресса. «Надо готовиться к бою!» — так заканчива-
лось воззвание, обнаруженное в конце марта в Демидов-
ском лицее в Ярославле.
Как повели себя сами народовольцы? Первоначально
предполагалось, что Исполнительный комитет обратится
с воззваниями к различным слоям общества, где изложит
свой взгляд на стоящие перед страной задачи и опреде-
лит роль этих слоев в их решении. Но затем взяло верх
иное мнение: составить один общий документ в виде об-
ращения к главе государства, в котором изложить взгля-
ды партии на происходящую борьбу и предъявить требо-
вания, в выполнении которых нуждается вся страна. Про-
екты такого документа обсуждались Исполнительным
комитетом 7 и 8 марта. Был принят текст Тихомирова с
незначительными поправками Н. К. Михайловского. Так
появилось письмо Исполнительного комитета «Народной
воли» к Александру III от 10 марта 1881 г.
12 марта 1881 г. в Петербурге, а затем по всей Рос-
сии публика познакомилась с необычным документом —
с обращением революционеров к новому, только что всту-
пившему на престол императору Александру III. Оно вы-
звало сенсацию и долгое время порождало всевозмож-
ные разговоры и толки. И современники, и историки оце-
нивали этот документ по-разному. Понять интерес к
документу можно, только выяснив важнейшие его идеи
и определив место, которое он занимал в тактическом
плане Исполнительного комитета. Основная мысль, ко-
торая проходит красной нитью через все «Письмо», сво-
дится к доказательству неизбежности и неотвратимости
событий 1 марта.
«Кровавая трагедия, — читаем мы в «Письме»,—
разыгравшаяся на Екатерининском канале, не была слу-
чайностью и ни для кого не была неожиданной. После
всего происшедшего в течение последнего десятилетия
она являлась совершенно неизбежной, и в этом ее глубо-
кий смысл, который обязан понять человек, поставлен-
ный судьбою во главе правительственной власти» L
1 «Литература партии «Народной воли»», 1907, стр. 452.
19 М. Г. Седов
289
Сам факт покушения есть не что иное, как результат
обострения внутриполитического положения страны, ко-
гда борющиеся силы применяли крайние меры. В «Пись-
ме» приводятся многочисленные факты о том, как прави-
тельство на протяжении последних десяти лет вело истре-
бительную по отношению к революционерам политику.
Оно сметало с лица земли все какие бы то ни было по-
пытки не только революционного, но и просветительского
свойства, но тем не менее революционное движение не
было уничтожено. Власти не извлекли из этого никакой
пользы. «Какую пользу принесла гибель долгушинцев,
чайковцев, деятелей 74-го года? На смену им выступили
гораздо более решительные народники. Страшные прави-
тельственные репрессалии вызвали затем на сцену тер-
рористов 78—79 гг. Напрасно правительство истребляло
Ковалевских, Дубровиных, Осинских, Лизогубов. На-
прасно оно разрушало десятки революционных кружков.
Из этих несовершенных организаций путем естественного
подбора вырабатываются только более крепкие формы.
Появляется, наконец, Исполнительный комитет, с кото-
рым правительство до сих пор не в состоянии спра-
виться»
Революционное движение может быть уничтожено не
мерами насилия, а только устранением причин, порожда-
ющих протест и борьбу. Революция не выдумка, а функ-
ция общественного развития страны и ее народа. «Страш-
ный взрыв, кровавая перетасовка, судорожное революци-
онное потрясение всей России завершит этот процесс
разрушения старого порядка»1 2. Каковы же причины ре-
волюционного движения? «Письмо» дает ответ и на этот
вопрос: оно вызывается «наличием противоположности
интересов и общественного положения людей и тем, что
нынешнее правительство не преследует интересов наро-
да, а давит народ, как вражеская эксплуататорская си-
ла». Вместо народного правительства в России имеется
«узурпаторская шайка», создающая и поощряющая «спе-
кулянтов и барышников». Протест против сложившихся
условий жизни порождает революционную борьбу тех,
кто защищает права народа. «Из такого положения мо-
жет быть два выхода: или революция, совершенно неиз-
1 «Литература партии «Народной воли»», 1907, стр. 452.
2 Там же, стр. 453.
290
бежная, которую нельзя предотвратить никакими казня-
ми, или добровольное обращение верховной власти к
народу. В интересах родной страны, во избежание на-
прасной гибели сил, во избежание тех страшных бед-
ствий, которые всегда сопровождают революцию, Ис-
полнительный комитет обращается к вашему величеству
с советом избрать второй путь... Мирная идейная борь-
ба сменит насилие, которое противно нам более, чем
вашим слугам, и которое практикуется нами только из
печальной необходимости» \
Здесь явное противоречие. Нельзя совместить неиз-
бежность и неотвратимость революционных преобразова-
ний с «обращением верховной власти к народу». Сказы-
вается, очевидно, специфическое назначение разбираемо-
го документа. Народовольцы надеялись вырвать у
правительства уступки, поэтому Исполнительный коми-
тет смягчает ультимативные требования формами совета
и просьб. Исполнительный комитет соглашался на пре-
кращение насильственных мер борьбы при удовлетворе-
нии двух непременных условий: «1) всеобщая полити-
ческая амнистия и 2) созыв представителей от всего
русского народа для пересмотра существующих форм
государственной и общественной жизни и переделки их
сообразно с народными желаниями»1 2.
Первый пункт не нуждается в разъяснениях, что же
касается второго, то в документе ему предпослано не-
сколько пояснений: депутаты в Учредительное собрание
посылаются от всех классов и сословий пропорционально
числу жителей. Избираемые и избиратели свободны от
каких бы то ни было ограничений. Предизбирательная
агитация проводится свободно, без давления, предвари-
тельно должно быть объявлено о снятии ограничений с
печати, устного слова, собраний, свободы совести и т. д.
«Итак, — заканчивается обращение,— ваше величе-
ство, решайте. Перед вами два пути».
Что же означало такое «Письмо»? Было ли оно чем-то
необычным в истории «Народной воли»? Если вниматель-
но просмотреть печать Исполнительного комитета, то без
труда можно установить, что в самом факте обращения
ничего необычного нет. Еще в ноябре 1879 г., в прокла-
1 «Литература партии «Народной воли»», 1907, стр. 453.
2 Там же, стр. 454.
* 291
мации Исполнительного комитета, появившейся в связи
с московским покушением, прямо указывалось, что если
император Александр II созовет Учредительное собрание,
избранное свободно и посредством всеобщей подачи го-
лосов, то народовольцы «оставили бы в покое Алексан-
дра II и простили бы ему его преступления» L
Не забудем, что эти слова были сказаны в начале дея-
тельности «Народной воли». В последующее же время
они тем более естественны. Основной смысл «Письма» в
признании желательности мирного развития при готов-
ности правительства на радикальные реформы, идущие
навстречу желаниям народа. В «Письме» подчеркивает-
ся, что возможность мирного пути создается наличием
мощной революционной силы. А это дает основание
утверждать, что уступки верховной власти надо рассмат-
ривать не как «дар», а как вынужденную меру, как вы-
полнение революционного ультиматума.
Таково содержание «Письма» Исполнительного коми-
тета. Казалось бы, все ясно. Однако в 30-е годы появи-
лись работы, в которых усиленно подчеркивалась мысль
о том, что «Народная воля» после 1 марта отказалась от
революционной борьбы и скатилась к либерализму, сви-
детельством чего и явилось «Письмо» к Александру III1 2.
Такой взгляд отражает смешение тактики с конечными
целями партии, непонимание того, что «Народная воля»
допускала возможность завоевания свободы, т. е. консти-
туции, без непосредственного революционного взрыва.
Теоретически в этом нет ничего либерального. Правда,
история исключила такую возможность в приложении к
России, но из этого не следует, что люди, разделявшие
подобную точку зрения, переставали быть революционе-
рами. Кроме того, нельзя забывать, что «Письмо» появи-
лось в тот момент, когда основной состав Исполнитель-
ного комитета был уже арестован, а сам факт убийства
императора требовал всесторонней политической оценки.
Оставшиеся на свободе считали необходимым подчерк-
нуть, что события 1 марта вызваны исключительно отсут-
ствием элементарных гражданских прав, которыми дав-
ным-давно пользуется Европа. В. Н. Фигнер писала в
связи с этим: «Письмо» «составлено с умеренностью и
1 «Литература партии «Народной воли»», 1907, стр. 86—87.
2 См. Е. Ярославский. Разгром народничества. М., 1937, стр. 86—
292
тактом, вызвавшим сочувствие во всем русском обществе.
Опубликованное на Западе, оно произвело сенсацию во
всей европейской прессе; самые умеренные и ретроград-
ные органы заявили одобрение требованиям русских ни-
гилистов, находя их разумными, справедливыми и значи-
тельной частью своей вошедшими давным-давно в повсе-
дневный обиход западноевропейской жизни»1. Смысл и
назначение «Письма» еще более рельефно определил
А. Михайлов: «По настоянию защиты в заключение су-
дебного следствия был прочитан вслух манифест Испол-
нительного комитета Александру III от 10 или 12 марта
1881 г. Я и раньше слышал о нем и поражался верностью
мысли и тона; прослушав же его в подлиннике, нахожу,
что ничего совершеннее не производила русская револю-
ционная мысль. Это венец Исполнительного комитета, ве-
нец и в литературном и в практически-программном смы-
сле»2. Более убедительных слов в пользу «Письма» труд-
но найти, а заподозрить Михайлова в пореволюционное™
можно только по крайнему недоразумению.
Обычно, когда говорят о значении «Письма» Алек-
сандру III, непременно указывают, что оно было состав-
лено Тихомировым, оказавшимся потом ренегатом. По-
нятно, такое указание необходимо и важно, но оно в
данном случае не может быть принято в расчет. Мета-
морфоза Тихомирова произошла много лет спустя, а в
рассматриваемое время он делал все, что мог, для «На-
родной воли» и ее интересов. Но дело даже не только в
этом. Исполнительный комитет очень серьезно смотрел
на сам факт обращения к императору и только после дол-
гого обсуждения признал целесообразным сделать такой
шаг и двум своим членам поручил составить проекты об-
ращения. Грачевский и Тихомиров независимо друг от
друга работали над документом, оба проекта, как уже го-
ворилось, внимательно обсуждались на совещании Ис-
полнительного комитета. Проект Тихомирова был при-
знан более удачным, после чего одобренный текст напра-
вили Михайловскому для просмотра и редактирования.
Никаких существенных изменений он не внес. Как видно,
текст обращения за короткий срок прошел длинный путь,
а пройдя его, он стал документом Исполнительного коми-
1 В. Фигнер. Поли. собр. соч., т. 1, стр. 235.
2 См. А. П. Прибылева-Корба и В. Н. Фигнер. А. Д. Михайлов,
стр. 208.
293
тета, и чье-либо личное авторство теряет здесь значение.
Поэтому ссылкой на Тихомирова нельзя обосновать так
называемый либерализм «Письма». А главное, оно не
было либеральным по самой природе. Это тактический
прием революционной организации, не противоречащий
ее революционным целям.
Но, указав на это, нельзя умолчать о другом. «Пись-
мо» Исполнительного комитета к Александру III имеет
некоторые довольно существенные слабости, которые ис-
пользуются для «доказательства либеральных помыслов»
«Народной воли». В «Письме» есть явное противоречие,
о котором было уже сказано. Но кроме того, оно напоми-
нает известное обращение Герцена к Александру II в
период крестьянской реформы. Там и здесь проскальзы-
вает нотка идеализации личности императора, там и здесь
обнаруживается непонимание классовой природы госу-
дарства в целом, монархического образа правления в
частности. Идеализация личности Александра III, по мне-
нию Фигнер, объяснялась тем, что Исполнительный ко-
митет не имел сколько-нибудь обстоятельных сведений о
нем. Но такое объяснение, будучи справедливым само по
себе, не изменяет существа дела. Как бы то ни было,
«Письмо» косвенным образом свидетельствовало о по-
тускнении веры в возможность захвата власти. С этим
трудно не согласиться. Кстати, указанную мысль впер-
вые высказал П. Якубович в своем письме к И. Попову в
1884 г. В нем он, между прочим, говорил, что наша беда
в данное время, т. е. в 1884 г., заключается в отсутствии
былой смелости. Вспомните, как заявлял Исполнитель-
ный комитет о захвате власти. «Письмо» же Александ-
ру III говорит о другом. Так всегда бывает, продолжал
Якубович, чем мы практичнее и зрелее, тем наши требо-
вания минимальнее, ближе к наличным условиям дейст-
вительности.
В другое время, но ту же мысль высказывал Тихоми-
ров. В своих воспоминаниях он утверждал, что с ареста-
ми членов Исполнительного комитета в конце 1880 и на-
чале 1881 г. «Народная воля» потеряла веру в захват
власти и шла к событиям 1 марта по инерции, выполняя
только приговор Александру II. В самом деле, строго
разработанного плана деятельности партии на случай ус-
пеха покушения не было. Само же покушение не связы-
валось с попыткой захвата власти, к новым событиям
294
Исполнительный комитет шел на ощупь, думая, что план
борьбы есть сама борьба. Это понятно, так как если про-
грамма Исполнительного комитета появилась в период
подъема революционного движения и отразила наличие
революционной ситуации, то «Письмо» появилось в мо-
мент заката «Народной воли» и отразило окончание ре-
волюционной ситуации. «Письмо» Александру III, хотя
и вытекало из потребностей обстановки, не было подкреп-
лено могуществом организации, которая могла бы заста-
вить принять условия, изложенные в нем, или — в случае
отказа — немедленно продолжить борьбу. Основные си-
лы «Народной воли» к тому времени были уже исчерпа-
ны, а потому «Письмо» не повлияло и не могло повлиять
па ход событий. Однако как исторический акт оно имело
большое значение. Это последний крупный политический
документ, оставленный старой гвардией «Народной во-
ли». Его революционный смысл не подлежит никакому
сомнению. Маркс называл авторов «Письма» реальными
политиками, он одобрял смысл и тон этого документа.
Но еще более развернуто охарактеризовано «Письмо»
В. И. Лениным. В работе «Гонители земства и Аннибалы
либерализма» он писал: «.. .и деятели «Народной воли»
в самом начале царствования Александра III «преподне-
сли» правительству альтернативу именно такую, какую
ставит перед Николаем II социал-демократия: или рево-
люционная борьба, или отречение от самодержавия» Г
Как видно из приведенных слов, В. И. Ленин не толь-
ко не упрекает «Народную волю» за «умеренность», а,
напротив, подчеркивает революционный смысл «Пись-
ма», указывая, что и русская социал-демократия ставит
такую же альтернативу правительству Николая II. Ко-
нечно, из этого не следует тождества постановки задач
народовольцами и социал-демократами, но для нас важ-
но сейчас не это, а то, что обращение Исполнительного
комитета к Александру III есть документ не либераль-
ный, как о том говорили и еще говорят некоторые авто-
ры, а революционный, о чем свидетельствовали К. Маркс
и В. И. Ленин и что нуждается еще в напоминании1 2.
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 5, стр. 56.
2 Подробно см.: Р. Филиппов. В. И. Ленин о «Письме» Исполни-
тельного комитета «Народной воли» от 10 марта 1881 г. («Вопросы
истории». Сборник статей, вып. 1. Петрозаводск, 1961).
295
Для правительства события 1 марта были не только
тяжелым, но и опасным ударом. Наступил момент де-
прессии. Власти не знали, что делать и как делать. Каза-
лось, все уже испробовано, а положение не улучшается,
а ухудшается. Департамент полиции терял доверие и ав-
торитет. Собственно, работа жандармерии и вообще
службы безопасности потеряла былую уверенность в
своих силах с образования Верховной распределитель-
ной комиссии. Система координации, подбора людей,
традиции, созданные еще Бенкендорфом, нарушились.
Ликвидация III отделения лишь усилила эту неуверен-
ность.
Сам Лорис-А1еликов не пользовался в среде жандарм-
ских кадров тем почтением, каким пользовались шефы
жандармов. Он чувствовал, что главный механизм ца-
ризма— разведка работает не так, как ему хотелось, и
всюду берет инициативу на себя, вмешиваясь даже в де-
ла мелких провокаций, однако служба департамента по-
лиции не становилась от этого совершеннее. В ее арсена-
ле в сущности один преобладающий прием — действие
через изменников, службистов-фанатиков уже нет или
почти нет.
При таких обстоятельствах начался разбор дела пер-
вомартовцев. Задержанный на месте покушения Рысаков
явился первоначальным источником сведений, с него на-
чалось дознание о самом крупном акте народовольцев.
Остаться на высоте задач партии и держать ответ за та-
кое событие смог бы далеко не каждый. Для такой роли
нужны были качества выдающегося деятеля. Рысаков не
обладал такими качествами: в партию он вступил совсем
недавно. И он оказался недостойным такой роли. Следо-
ватели сразу почувствовали слабости Рысакова, они за-
пугали и подавили его. Представляется парадоксальным,
как мог виновник убийства императора думать, что ему
могут сохранить жизнь, если он назовет своих товарищей,
а он серьезно думал, что будет именно так. С первых же
допросов Рысаков встал на путь предательства. Он не
только рассказал все, что знал, но и стал шпионом. Его
возили по конспиративным квартирам, где он когда-то
бывал, и Рысаков выслеживал тех, кого знал как народо-
вольцев. При такой «помощи» правительству удалось
сразу же произвести много новых арестов. Приблизитель-
но в это же время предателем стал Меркулов,
296
Вечером 1 марта Желябов уже знал об успешном на-
падении на царя. Ему и Рысакову устроили очную став-
ку. Они признали, что были знакомы.
Прямо же после очной ставки Желябова подвергли
допросу, он отвечал: «В показаниях своих от 27 февраля
я признал себя членом партии «Народная воля», про-
грамма которой рекомендует как одну из форм активной
борьбы уничтожение правителей... Этим убеждениям я
останусь верен и буду служить им до последнего моего
издыхания» L Очевидно, во время очной ставки Желябов
понял, что нравственно Рысаков пал и что процесс над
ним одним может сильно скомпрометировать партию.
Вслед за тем последовало известное заявление к проку-
рору судебной палаты. В нем Желябов писал: «Если но-
вый государь, получив скипетр из рук революции, наме-
рен держаться в отношении цареубийц старой системы,
если Рысакова намерены казнить, было бы вопиющею не-
справедливостью сохранять жизнь мне, многократно по-
кушавшемуся на жизнь Александра II и не принявшему
физического участия в умерщвлении его лишь по глупой
случайности. Я требую приобщения себя к делу 1-го мар-
та и, если нужно, сделаю уличающие меня разоблачения.
Прошу дать ход моему заявлению. Андрей Желябов.
2 марта 1881 г.»1 2
Перовская, узнав об этом заявлении, сразу поняла
смысл поступка Желябова. «Иначе нельзя было, — гово-
рила она. — Процесс против одного Рысакова вышел бы
слишком бледным»3.
Дознание о первомартовцах шло быстро, его вели
жандармский полковник Никольский и прокурор Добр-
жинский. 10 марта был уже составлен обвинительный
акт, но в связи с арестом Перовской, а затем и Кибаль-
чича расследование затянулось до 26 марта. За это вре-
мя правительство получило много важных сведений из
показаний Рысакова.
26 марта начался суд над Желябовым, Перовской,
Кибальчичем, Гельфман, Т. Михайловым и Рысаковым.
Среди вещественных доказательств находились различ-
ные народовольческие издания, номера журнала «На-
1 «Былое», 1918, № 4—5 (32—33), стр. 278.
2 Там же, стр. 279.
3 Н. Ашеиюв. Софья Перовская, стр. 115.
297
бат», рукописи о Парижской коммуне и Комитете обще-
ственного спасения 1793 г., подготовленные к печати. За-
седание суда вел сенатор Фукс. Обвинение поддерживал
Муравьев. Желябов отказался от защитника и сделал
заявление о неправомочности суда ввиду его заинтересо-
ванности. Это заявление судом было отклонено. На про-
тяжении всего процесса Желябов держался с огромным
мужеством и самообладанием. Интересны его ответы на
вопросы первоприсутствующего. На вопрос о вере Же-
лябов отвечал: «.. .крещен в православие, но православие
отрицаю, хотя сущность учения Иисуса Христа при-
знаю. .. Я верю в истину и справедливость этого вероуче-
ния и торжественно признаю, что вера без дел — мертва
есть и что всякий истинный христианин должен бороться
за правду, за права угнетенных и слабых и если нужно,
то за них и пострадать, — такова моя вера». На вопрос
о занятиях отвечал так: «.. .служил я делу освобождения
народа. Это мое единственное занятие, которому я много
лет служу всем моим существом» Г
С не меньшим достоинством прошла через последние
испытания и Перовская. Не уронили чести «Народной во-
ли» также Кибальчич, Т. Михайлов и Гельфман.
Приговоренные к смертной казни, первомартовцы бы-
ли повешены 3 апреля 1881 г. на Семеновском плацу.
Гельфман казнь была отсрочена, но вскоре после родов
она умерла в заключении.
Во время разбора дела о цареубийстве решительно
выступили за помилование первомартовцев Л. Н. Тол-
стой и В. С. Соловьев. Не вдаваясь в подробности моти-
вов, данный поступок нельзя оценить иначе как проявле-
ние громадного гражданского мужества.
Если Л. Н. Толстой свою просьбу о помиловании из-
ложил в прошении на имя императора, то Соловьев это
сделал в публичной лекции. Вот запись его слов: «Насто-
ящая минута представляет небывалый дотоле случай для
государственной власти оправдать на деле свои притя-
зания на верховное водительство народа. Сегодня судят-
ся и, вероятно, будут осуждены убийцы царя на смерть.
Царь может простить их, и, если он действительно чув-
ствует свою связь с народом, он должен простить»1 2.
1 «Процесс 1-го марта 1881 года». СПб., 1906, стр. 6.
2 «Былое», 1918, № 4—5 (32—33), стр. 331.
298
Политическая обстановка в стране оказалась еще бо-
лее запутанной и напряженной. В правительственных
кругах ждали новых событий, которые должны якобы по-
следовать за цареубийством. В столице началась настоя-
щая паника. Многие оставляли город и уезжали в дерев-
ню из-за боязни революции. Для иллюстрации приведем
несколько высказываний. В письме на имя Алексан-
дра III от 3 марта 1881 г. Победоносцев заявляет: «Ду-
маю о вас в эти минуты, на кровавом пороге, через ко-
торый богу угодно провесть вас в новую судьбу вашу, вся
душа моя трепещет за вас — страхом неведомого, гряду-
щего на вас и на Россию» Г
Через три дня в следующем письме он прямо ставит
вопрос: «И я решаюсь опять писать, потому что час
страшный и время не терпит. Или теперь спасать Россию
и себя, или никогда».
Действовать надо немедленно и решительно. «Злое
семя можно вырвать только борьбой с ним на живот и
на смерть, железом и кровью» 1 2.
Лидер реакции обескуражен масштабом и неожидан-
ностью событий, но даже и при этих условиях он не до-
пускает мысли об уступках, твердо заявляет о «железе
и крови». Но правительство и сам император еще не име-
ли ясного плана и такой решимости. Об этом говорят
Д. Милютин, П. Валуев, А. Половцев и многие другие
представители власти.
Приблизительно ту же картину рисует нам и многого-
лосая пресса. И растерянность, и неопределенность, и
трусость — вот характерные ее черты. За малым исклю-
чением, органы легальной печати выражали лояльность
правительству. Робко звали к реформам «Русские ведо-
мости», «Страна», «Голос», «Земство», которые видели
перспективу развития России в изменении политического
строя. Но и на их страницах указания на те или другие
политические меры не выходили за рамки умеренного
либерализма.
Был, однако, пункт, где решимость и единство прояв-
лялись с полным единодушием. Речь идет о предотвраще-
нии возможных выступлений в «низах».
1 «К. П. Победоносцев и его корреспонденты». Письма и записки.
С предисл. М. Н. Покровского, т. I. М.—Пг., 1923, стр. 49.
2 Там же, стр. 49.
299
Интересен в этом отношении секретный циркуляр Ло-
рис-Меликова начальникам губерний от 27 марта 1881 г.
В нем министр требует особой осторожности и бдитель-
ности в пресечении «распространяемых антиправитель-
ственных слухов и особенно беспорядков».
Как же отразились события 1 марта на настроении и
поведении народных масс? Документы министерства вну-
тренних дел, пресса и мемуары утверждают, что убийство
императора не вызвало сколько-нибудь крупных выступ-
лений политического значения. Но событие это не могло,
конечно, пройти бесследно, так или иначе оно влияло
на сознание всех слоев общества и в определенном смысле
выполнило роль возбудителя.
Пожалуй, наиболее распространенной формой сочув-
ствия первомартовцам были акты оскорбления императо-
ра, а также распространение антицаристских изречений и
поговорок, таких, как: «В России нет царя, нет закона.
В России есть столб и на столбе — корона» или «Во имя
отца — убили отца, во имя святого духа — чтоб не было
Романовых и духа» L
Местные протесты замечались довольно часто, но для
пробуждения крестьянства факт убийства Александра II
оказался далеко не достаточным. В свою очередь прави-
тельство и новый царь прилагали усилия, чтобы доказать
и показать, что они близки народу и разделяют его невз-
годы и заботы. В этих демагогических целях было орга-
низовано посещение императором и членами его семей-
ства крестьянской хижины, в стенах которой царь и ца-
рица высказали свою озабоченность о простом народе.
Целая серия террористических актов, осуществленных
за короткий срок и приведших к убийству императора,
создала невиданный доселе авторитет «Народной воли».
Ее Исполнительный комитет представлялся чем-то мифи-
ческим, неуловимым и всесильным. Очевидно, на этой
почве родилась идея о том, что правительство и его офи-
циальные органы охраны не могут обезопасить престол от
нападений «крамолы». Нужно что-то большее, чем жан-
дармерия и все виды полиции. Вот как об обстановке
того времени рассказывал С. Ю. Витте, в то время еще
совсем молодой человек, служивший начальником же-
лезнодорожной станции под Киевом:
1 «Народовольцы». Сборник III, стр. 276.
300
«1 марта 1881 г., после тяжелого рабочего дня, по-
шел я в театр. Тщетно ждали начала представления.
Наконец на сцене появился управляющий театром и
прочитал телеграмму потрясающего содержания: «Импе-
ратор Александр II убит нигилистом, бросившим в него
бомбу, оторвавшую ему обе ноги». Невозможно пере-
дать то волнение и боль, которые вызвало у присут-
ствующих это страшное известие... Я вернулся домой,
дрожа, словно в лихорадке, и сел писать длинное письмо
моему дяде, генералу Фадееву... интимному другу
графа Воронцова-Дашкова. Я описал ему мое душев-
ное состояние... и выразил то мнение, что все мои еди-
номышленники должны были бы тесно окружить трон,
составить дружный союз, чтобы бороться с нигилистами
их же оружием: револьверами, бомбами и ядом; что
надо подобно им создать свою организацию, в которой,
как у них, каждый член был бы обязан привлечь трех
новых и каждый из новых в свою очередь тоже трех
и т. д. Тридцать членов составляют отделение, с вожа-
ком. .. На следующий день это письмо было мною от-
правлено. .. Прошли месяцы. Вдруг я получаю от моего
дяди Фадеева телеграмму: «Приезжай немедленно. При-
каз о твоем отпуске послан твоему начальству»... Я не
верил своим глазам» !.
Оказалось, письмо Витте Фадеев передал Воронцову-
Дашкову, а он познакомил с ним Александра III, «кото-
рому тоже понравилась счастливая мысль образовать
тайное общество охраны престола. Он отправил мое
письмо своему брату, великому князю Владимиру, на-
чальнику петербургского военного округа, с предписа-
нием испытать и разработать мой проект».
Так Витте был введен в придворный круг, так нача-
лось осуществление мысли о создании тайной органи-
зации для охраны трона. «Меня, — продолжает Витте,—
приняли очень сердечно, чествовали меня за мою гени-
альную идею и сообщили мне, что мой проект разрабо-
тан и составлен уже отдел... что члены будут вербо-
ваться как в России, так и за границей и таким путем
образуется мощная организация. Мне показали тайный
знак этого союза и привели меня к присяге»1 2.
1 «Русское прошлое» (Пг.—М.), 1923, № 4, стр. 87.
2 Там же, стр. 88.
301
Эти извлечения крайне важны для понимания исто-
ков «Священной дружины». Очевидно, что столь «сча-
стливая» мысль не получила бы развития, не будь бла-
гоприятных для того условий. Эти условия суть следую-
щие: еще задолго до события 1 марта министр двора
Воронцов-Дашков и ближайший круг его лиц с большим
недоверием относились к руководству министерства
внутренних дел и всей системе политической безопас-
ности. Само же цареубийство явилось как бы подтвер-
ждением правоты их взгляда, и именно вокруг них сло-
жился центр новой организации. О возможной пользе
затеваемой организации говорил также и граф Валуев.
В его дневнике имеются такие строки:
«Против крамольников образуется — не знаю, по чьей
инициативе, — дружина, именуемая святою и предназна-
чающая себя для охраны государя и общественного по-
рядка. .. На проезде государя с железной дороги и
обратно члены дружины были распределены по улицам
на пути следования...
Первоначальная идея св. дружины была при данных
обстоятельствах правильная. Члены дружины принимали
на себя, так сказать, роль «специальных констеблей», но
негласно, потому что цель заключалась в отпоре тай-
ным покушениям, а не явным нарушениям обществен-
ного порядка. На первых порах к дружине примкнули
многие офицеры, так понимавшие цель учреждения. Но
вскоре под влиянием неумелых, легкомысленных и тще-
славных вожаков дела (графа Воронцова, графа Шува-
лова и пр.) она приняла другой характер. Св. дружина
обратилась в соперника государственной полиции и при-
няла тип бывшего III отделения по части разных доно-
сов и сплетней. От нее отшатнулись порядочные эле-
менты, и вместо них к ней примкнули элементы непри-
глядные и недобросовестные» L
Хронологическими рамками истории «Дружины» сле-
дует считать период с 12 марта 1881 (организационное
заседание) по 26 ноября 1882 г. (распоряжение импе-
ратора о роспуске ее). К моменту роспуска «Дружина»
имела в своих рядах 729 членов, а в охране насчитыва-
лось 14 672 постоянных добровольца1 2.
1 П. А. Валуев, Дневник. 1877—1884. Ред. и примеч. В. Я. Яков-
лева-Богучарского и П. Е. Щеголева. Пг., 1919, стр. 165—166.
2 См. «Красный архив», 1927, № 2 (21), стр. 202—203.
302
«Дружина» строилась по сложной системе конспи-
ративных организаций, правда, с той только разницей,
что этим конспираторам никто из представителей власти
не угрожал. Во главе организации стоял совет из пер-
вых старших членов. По замыслу никто из членов «Дру-
жины» не должен был знать состав совета, но его при-
казы и указания были обязательны для всех. Этот
высший орган свою волю изъявлял через промежуточ-
ную инстанцию, названную центральным комитетом, чле-
ны которого назначались советом. Исполнительная же
работа лежала на организационном комитете и исполни-
тельном комитете: первый ведал комплектованием и
личным составом, второй — разведкой. Члены этих коми-
тетов назывались попечителями. В руководящих органах
«Дружины» принимали участие товарищ министра вну-
тренних дел и петербургский обер-полицмейстер. Этим
в сущности устанавливалась непосредственная связь
«Дружины» с официальными органами власти. К завер-
шающим звеньям данной лестницы относится вспомога-
тельная организация — «Добровольная охрана» с двумя
отделениями: в Москве и Петербурге.
Были образованы местные комитеты в ряде горо-
дов— Нижнем Новгороде, Харькове, Киеве и др.
Вся деятельность «Дружины» распадалась на охра-
ну императора и агентурную, подрывную работу в рево-
люционной среде.
«Деятельность внутренней охраны была направлена
к проникновению в самую глубь социально-революцион-
ной партии для выяснения как личного состава ее дея-
телей, так и их преступной работы».
Для достижения целей старались «добыть таких лю-
дей, которые или вращались по какому-либо случаю
в революционной среде, или через имеющиеся знаком-
ства могли туда проникнуть» !.
Эта чисто шпионская работа признавалась важной,
но недостаточной. Намечалось также идеологическое
провокаторство. С этой целью были созданы три печат-
ных периодических органа, «действующих каждый в раз-
ных революционных группах, питающих народовольче-
скую террористическую партию»1 2.
1 «Красный архив», 1927, №2 (21), стр. 208.
2 Там же, стр. 209.
303
Назначение печатных органов — «дискредитировать»
народовольчество, породить сомнение в возможности
осуществления идей «Народной воли» и добиться рас-
кола в «личном составе партии». Такие функции при-
давались «Вольному слову», «Правде» и «Московскому
телеграфу».
Обязанности распределялись так: «Вольное слово»
должно было «путем анализа и критики русского рево-
люционного движения обездомить беспочвенных народо-
вольцев» L
Роль же «Правды» определена еще более показа-
тельно. Если «Вольное слово» в качестве приманки име-
ло «либеральное направление», то «Правда» «утриро-
вала народовольческую программу, доводила ее до оче-
видной нелепости даже для политически отуманенных
лиц... Карикатурность этого факта имела на крайнее
движение отрезвляющее действие как доказательство
от противного» 1 2.
1 «Красный архив», 1927, № 2 (21), стр. 210.
Революционеры-эмигранты с подозрением относились к полити-
ческой роли «Вольного слова» с самого момента его возникновения.
Редакция же «Календаря «Народной Воли»» имела даже сведения
о провокаторской роли газеты. Не изменилось это мнение и тогда,
когда во главе «Вольного слова» был поставлен М. П. Драгоманов,
известный украинский ученый и общественный деятель. Сам Драго-
манов в автобиографии указывал, что «Вольное слово» основано
«в августе 1881 года обществом «Земский союз» с целью пропаганды
начал либерально-политической реформы и административной де-
централизации в России. Я принимал деятельное участие в этой га-
зете. .. В ней я подверг историческому и политическому обзору
революционное движение в России с 60-х гг. в связи с польским и
украинским вопросом и вообще вопросом политической свободы и
децентрализации в России и закончил ее программой политической
и административной реформы России на началах автономии земских
единиц — общин, уездов, губерний или областей... В конце 1882 года
мне было предложено специальным делегатом «3. С.» принять на
себя редакцию «В. Слова». Я согласился...» («Былое», 1906, № 6,
стр. 206).
Много лет спустя исследователь общественного движения в
России В. Я. Богучарский установил, что «Земский союз» явился
ширмой для «Священной дружины», а «Вольное слово» было ее
своеобразным органом. Как же при этом выглядит роль Драгома-
нова? По мнению Богучарского, Драгоманов не знал, кому он слу-
жил, так как был введен в заблуждение (см. В. Я. Богучарский.
Из истории политической борьбы. М., 1912, стр. 417).
В последнее время этот вопрос вновь приобрел известный инте-
рес и вызывает разногласия среди историков.
2 Там же.
304
Так, газета рекомендовала революционерам-практи-
кам поджоги, убийства, отравление скота, ограбления
с целью якобы запугивания врага и ожесточения на-
рода.
Понятно, «Вольное слово» и «Правда» вели между
собой ожесточенную полемику, что и требовалось дру-
жинникам. Создавалось, таким образом, впечатление
самостоятельности и независимости органов. «Правда»
выходила в Женеве в 1882—1883 гг. и все время под
редакцией агента тайной полиции Климова. Она вела
систематическую провокаторскую деятельность. Ее уси-
ленно распространяли как в России, так и за ее преде-
лами. Цель ее состояла в компрометации революцион-
ного движения: она именовала себя «террористическим
и анархическим» органом. Борьба «Вольного слова» и
«Правды» должна была подготовить почву для торже-
ства «Московского телеграфа».
«Главное, чем предполагалось произвести потрясе-
ние, — это обнаружением факта, что «Московский теле-
граф» служит агентурным целям «Священной дру-
жины»» 1.
Последнее дело не было закончено. «Дружину» лик-
видировали раньше, чем она могла завершить свои «лите-
ратурные» планы. Вот общие контуры провокаций и
шпионажа «Священной дружины». Современники, а за-
тем и историки называли организаторов и членов дру-
жины «лоботрясами» и бездельниками. Трудно согла-
ситься с такими характеристиками. Их поступки не
были забавой бездельников. Здесь мы имеем дело с од-
ной из форм оживления и концентрации реакционных
сил. Помимо прямого своего назначения «Дружина» на-
меревалась выработать «положительную» программу
консервативного движения, свободного от инонациональ-
ных примесей. В этом указании есть намек на то, что
впоследствии обнаружилось в виде движения черносо-
тенцев.
Главная функция «Дружины» состояла в разведыва-
тельной работе, во всестороннем изучении всего того,
что делается в подпольной народовольческой среде.
Предполагалось, что эта работа должна идти по двум
линиям. Одна из них заключалась в организации поку-
1 «Красный архив», 1927, №2 (21), стр. 210.
20 М. Г. Седов
305
шений на «главарей» движения. Витте, например, полу-
чил 20 тыс. руб. для совершения такого рода акта про-
тив Гартмана в Париже. Намечались покушения на Лав-
рова, Кропоткина, Кравчинского и др. Однако все это
можно твердо назвать беспочвенными прожектами. Без
самоотверженной настойчивости и риска нельзя рассчи-
тывать на успех таких замыслов, а дружинники не име-
ли подобных качеств. Они располагали крупными сум-
мами денег, но в таком деле деньги далеко не всесильны.
Кстати, революционеры знали об этих затеях и, понятно,
принимали свои меры, способные обезопасить их жизни,
но больше они иронизировали над новорожденными
сыщиками, чем ограждались от них.
Дружинники, несмотря на весь пафос заявлений и
клятв, не сумели организовать ни одного террористиче-
ского акта и не проявили себя в этом отношении ничем.
Зато агентам жандармерии и полиции они мешали и,
естественно, составили им конкуренцию. На этой основе
возникали крупные разногласия между министерством
внутренних дел и сановными деятелями «Дружины».
Для того чтобы ослабить и парализовать террористи-
ческое движение, «Дружина» затеяла переговоры с
Исполнительным комитетом через нейтральных лиц. Они
велись довольно долго и настойчиво. Предполагалось,
что «Дружина» через министра двора добьется от импе-
ратора некоторых уступок, а народовольцы должны бу-
дут прекратить террор.
Но как только обнаружилось, что силы «Народной
воли» разбиты, переговоры были прерваны, а «Дру-
жина» распущена.
После этих строк можно, казалось бы, закончить
рассказ о «Дружине». Однако имеются документы и вы-
сказывания, которые нельзя обойти молчанием.
Еще в 1912 г. В. Богучарский подчеркивал, что при
анализе «Дружины» не следует думать, что ее история
сводится лишь к провокаторству и борьбе с террориз-
мом народовольцев. Он писал: «Борьба с террором объ-
единяла, без сомнения, всех дружинников, но затем
начинались резкие разногласия. Тогда как кн. А. П. Щер-
баков или сенатор Шульц видели в возникшей органи-
зации исключительно средство для «искоренения кра-
молы», другие, и среди них в особенности гр. П. П. Шу-
валов, честолюбиво мечтали при помощи организации
306
не террор только прекратить, но и «представительного
образа правления с двумя палатами... добиться»»1.
Так, в письме неизвестного из Москвы от середины
1882 г. на имя народовольца В. Иохельсона имеются
такие слова: «Общество утверждено Александром III
с целью подготовить часть русского общества к рефор-
мам, которые имелись совершиться года через три. На
знамени этого общества было начертано: 1) свобода со-
вести и слова; 2) свобода печати; 3) созыв Земского
собора; 4) всевозможные экономические реформы и т. д.;
5) борьба с крамолой»2.
На основании указанного далеко идущих выводов
делать нельзя, но допустить мысль, что подобного рода
план мог обсуждаться, вполне возможно. Как видно,
с историей «Священной дружины» пока не все ясно,
исследователям еще предстоит вынести «окончательный
приговор».
После событий 1 марта новый император должен был
что-то сказать России. В кругу правительства и за его
пределами началась упорная борьба двух направлений.
Выразителями их стали Лорис-Меликов и Победоносцев.
Около них сразу же сложились две группировки, кото-
рые и определили характер последующей борьбы за
выявление нового курса политики. Какая из группиро-
вок быстрее смогла бы заручиться поддержкой импера-
тора— той и победа. Очевидно, в первые дни нового
царствования шансы сторон были равными. Лорис-Мели-
ков предлагал обнародовать проект так называемой
конституции, который перед кончиной подписал Алек-
сандр II. Александр III не разрешил это сделать и пред-
ложил обсудить все вопросы на специальном совещании,
которое состоялось 8 марта 1881 г. На нем развернулись
шумные дебаты. Заявление графа Строганова о том,
что он не желает конституции ни для императора Алек-
сандра III, ни для России, произвело нужное впечатле-
ние на главу государства и как бы вселило уверенность
в сторонников реакции. Особый успех выпал на долю
Победоносцева, поддержавшего Строганова и угадав-
шего тайные мысли царя.
1 В. Я. Богучарский. Из истории политической борьбы в 70-х
и 80-х гг. XIX века, стр. 437.
2 ЦГАОР, ф. 1167, оп. 2, д. 3992, л. 3 об, 4 об.
*
307
Последующие выступления Лорис-Меликова, Валуе-
ва, Милютина, Абазы, Сабурова, Набокова, Сольского
и великого князя Константина Николаевича не могли
уже изменить дела. Проект, правда, еще не был отвер-
гнут, но и не принят. Александр III предложил обсудить
его еще раз в особой комиссии. Становилось ясным, что
император сделал свой выбор, но его нельзя еще счи-
тать окончательным: он мог быть изменен, будь какое-
либо давление снизу. В одном из писем Александр III
писал Победоносцеву: «Сегодняшнее наше совещание
сделало на меня грустное впечатление. Лорис, Милютин
и Абаза положительно продолжают ту же политику и
хотят так или иначе довести нас до представительного
правительства, но, пока я не буду убежден, что для сча-
стья России это необходимо, конечно, этого не будет, я
не допущу. Вряд ли, впрочем, я когда-нибудь убеждусь
в пользе подобной меры, слишком я уверен в ее вреде...
Более и более убеждаюсь, что добра от этих министров
ждать я не могу» L
В свою очередь Победоносцев доказывал царю, что
в обществе не наступит успокоения, пока правительство
не проявит себя решительными действиями, обвинял
Лорис-Меликова как честолюбца, не сумевшего оградить
императора от опасности. В закулисной борьбе прави-
тельственных группировок истекал второй месяц после
смерти Александра II. Специальная комиссия, на кото-
рой должна была быть обсуждена конституционная за-
писка Лорис-Меликова, не была создана, и все предве-
щало приближение отставки министра внутренних дел.
27 апреля 1881 г. Александр III в письме брату Влади-
миру сообщил, что поручил Победоносцеву составить
манифест, «в котором бы выяснено было ясно, какое
направление желаю я дать делам и что никогда не до-
пущу ограничения самодержавной власти, которую на-
хожу нужной и полезной России».
29 апреля 1881 г. этот манифест был опубликован.
Министр внутренних дел Лорис-Меликов и все, кто его
поддерживал, ушли в отставку, правда не в один день.
На главных политических постах появились новые лица.
Известный в прошлом главным образом на дипломати-
ческом поприще, граф Н. П. Игнатьев занял пост мини-
1 «К. П. Победоносцев и его корреспонденты», т. I, стр. 49.
308
стра внутренних дел, оставив министерство государ-
ственных имуществ, куда недавно был назначен. Мини-
стерство финансов получил Н. X. Бунге, один из круп-
нейших ученых-экономистов, работавший товарищем
министра у Абазы. Министерство народного просвеще-
ния занял барон Николаи. Замена одних министров дру-
гими не означала еще полного отрешения от старого
курса политики. Объективный смысл внутренней поли-
тики царизма при Игнатьеве не противоречил тому на-
правлению, которое было принято его предшественни-
ком, Лорис-Меликовым, а ориентация Бунге в этом отно-
шении была еще более решительной. Так, правительство
по инициативе министра финансов провело закон об
обязательном — на правительственных условиях — вы-
купе крестьянами наделов, оставшихся не выкупленными
после реформы. Он же провел закон об отмене подуш-
ной подати. Начиная с 1882 г. были проведены кое-какие
законы по рабочему вопросу, в какой-то степени сдер-
живавшие произвол фабрикантов и заводчиков, и т. д.
Что касается идеи Игнатьева о созыве общерус-
ского Земского собора, то ее легко можно приписать
влиянию славянофилов. В самом замысле собора нет
ничего от прав народа и конституции. Это сугубо сове-
щательный орган. Игнатьев составил проект созыва
Земского собора и манифест по этому поводу. Случи-
лось, однако, что затея с Земским собором положила
конец политической карьере Игнатьева. В мае 1882 г.
он ушел в отставку и его место занял Д. А. Толстой,
один из самых реакционных министров пореформенного
периода. С уходом Игнатьева окончательно побеждает
политическая линия триумвирата — Победоносцев, Тол-
стой, Катков. На смену политики лавирования приходит
открыто реакционный курс. Политика Игнатьева не
устраивала либеральные слои дворянства и буржуазии
своей неопределенностью и карикатурностью и в свою
очередь сильно раздражала поместное дворянство, зна-
чительно ущемленное реформами 60-х годов. Промежу-
точное положение министерства Игнатьева и было при-
чиной его гибели. Толстого справедливо считали достой-
ным проводником политики наиболее консервативных
слоев дворянства. Его идеал политического управления
на местах не шел дальше пресловутой формулы: «Каж-
дой волости полновластный хозяин из дворян». Впослед-
309
ствии эта мысль нашла свое воплощение уже при Дур-
ново, преемнике Толстого, в виде института земских
начальников. Основные заботы Толстого состояли в по-
давлении революционного движения и восстановлении
льгот дворянству, в поднятии его политической роли и
экономической мощи. Если исследователи искали идей-
ные истоки политики Лорис-Меликова в преобразова-
тельных планах Сперанского, то вдохновителем полити-
ческого курса Толстого, несомненно, являлся Аракчеев.
Курс Толстого был понятен и близок императору.
Политику опоры на реакционное дворянство (и по-
кровительство ему) нельзя рассматривать как что-то
антибуржуазное, заглушавшее развитие капитализма.
В реальной действительности того времени развитие
капиталистических отношений не противоречило интере-
сам дворянства, а русская буржуазия в лице царизма не
видела своего врага. Народовольцы были правы, когда
утверждали, что, чем самодержавнее исправник, тем
легче кулаку и купцу эксплуатировать народ. Объясняет-
ся такое обстоятельство тем, что русская буржуазия, как
говорил М. Грачевский, «есть продукт недоконченной
реформы 1861 г.» В ней воедино слились черты капита-
листические и феодально-крепостнические. Эта ее двой-
ственная природа отразилась на ходе и особенностях
освободительного движения пореформенной эпохи.
В. И. Ленин, внимательно изучавший режим Алек-
сандра III, указывал, что он обнаружился в форме «раз-
нузданной, невероятно бессмысленной и зверской реак-
ции» г.
Политическая и классовая природа этого режима
определена так: «Помещичья монархия Александра III
пыталась опираться на «патриархальную» деревню и на
«патриархальность» вообще в русской жизни»1 2.
В обстановке открытой реакции и значительного
ослабления сил революционного движения произошло
одно из крупных событий политической жизни России.
Речь идет о «процессе 20-ти», имевшем большое зна-
чение.
Это если не самый важный, то один из самых важ-
ных процессов «Народной воли». На нем были представ-
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 1, стр. 295.
2 В. И, Ленин, Поли. собр. соч., т. 20, стр. 329,
310
лены лучшие силы революционного подполья. Только
членов Исполнительного комитета здесь было И чело-
век и два из трех членов Распорядительной комиссии.
Одно это указывает, какие громадные потери несла
«Народная воля», какой дорогой ценой покупался каж-
дый шаг практической работы. Но самое главное свиде-
тельство процесса то, что сила и слава «Народной воли»
позади, что невозможно пополнить и заменить ее истреб-
ленные кадры.
«Дело 20-ти» рассматривалось в Петербурге с 9 по
16 февраля 1882 г. особым присутствием правитель-
ствующего сената. Председательствовал сенатор Дрейер.
С обвинением выступили прокуроры Муравьев и Остров-
ский. Среди защитников были выдающиеся адвокаты
Кедрин, Спасович, Герард и др.
Перед судом предстало 20 человек. Следствие по
делу тянулось долго, начиная с ноября 1880 г. Все
обвиняемые могут быть подразделены на две группы:
лица, арестованные до цареубийства и после него. Из
обвиняемых по данному процессу раньше всех был аре-
стован А. Михайлов. Его задержали случайно 28 ноября
1880 г. в Петербурге, когда он выходил из фотографии,
где заказывал карточки казненных по «процессу 16-ти»
Квятковского и Преснякова. При задержании он оказал
сопротивление, но был обезоружен. У него на квартире
обнаружили массу всевозможных изданий революцион-
ной прессы и более пуда динамита. Но самым опасным
было то, что у Михайлова была найдена записная книж-
ка, в которой содержался список шпионов и предателей.
Важность такого документа очевидна.
Делу Михайлова придавали исключительное значе-
ние. Александр II лично следил за следствием. Между
тем личность Михайлова не была установлена. Его за-
держали под фамилией Поливанова, и он отказался от
показаний. Вскоре полиция обнаружила настоящего
Поливанова, однако Михайлов продолжал упорствовать.
На помощь следствию пришел предатель Дриго. На-
чальник петербургского жандармского управления гене-
рал Комаров сообщил в департамент полиции: «Дриго
заявил утвердительно, что изображенная на карточке
личность ему хорошо известна под именем Безменова,
являвшегося к нему летом 1879 г. в Черниговскую губер-
нию за 10 тыс, руб., настоящее же звание его А. Д. Ми-
311
хайлов, сын путивльского уездного землемера надвор-
ного советника Д. Михайлова» !. Дриго выполнял обя-
занности управляющего имениями Д. Лизогуба и обязан
был, согласно воле хозяина, отпускать определенные
суммы денег на революционные нужды. Он, однако,
польстился на имение и стал предателем.
Однако и на этот раз Михайлов стоял на своем. То-
гда следственные органы вызвали в Петербург мать
Михайлова для очной ставки. Она догадывалась, зачем
ее вызывают в столицу. Очная ставка состоялась в ка-
мере заключения. На вопрос следователя, обращенный
к Михайловой, признает ли она в предъявленном ей
человеке своего сына, она ответила отрицательно и хо-
тела поспешно уйти, ио Михайлов не выдержал этой
сцены и в уходящей женщине признал свою мать. После
того как личность Михайлова была опознана, он решил
дать подробные показания о революционном движе-
нии России, участником и деятелем которого являлся
сам.
Сохранилась докладная генерала Комарова в мини-
стерство внутренних дел: «А. Михайлов, прежде чем
дать объяснение по существу предъявленного против него
обвинения, высказал общие принципы, которыми будет
руководствоваться при своих показаниях. Преступную
деятельность свою характеризует общественной деятель-
ностью и в показаниях своих подробно опишет деятель-
ность свою, вошедшую в события последних лет, но лич-
ностей, в смысле названия фамилии, и данных, ведущих
к их обнаружению и раскрытию, объяснить не считает
себя вправе. Сам же лично по убеждениям и деятель-
ности принадлежит к русской социально-революционной
партии и, исповедуя ее программу, работал для осуще-
ствления ее целей, примкнув к революционному рус-
скому движению в начале 1876 г.»2
Этот принцип поведения Михайлов выдержал до
конца. Его удивительная воля устояла даже в самые
тяжкие моменты испытаний. В сущности Михайлова
можно было судить по любому делу «Земли и воли» и
«Народной воли»: он принимал самое живое участие
в каждом из них. * 8
1 ЦГАОР, ф. III отд., 3 эксп., 1880 г„ д. 751, ч. 1, л. 29.
8 Там же, л. 41.
313
Вместе с Михайловым обвинялись его товарищи по
партии и борьбе. За исключением одного, все они вы-
стояли во время следствия и гордо предстали перед
судом. В заметке о суде имеются такие слова: «Кроме
Михайлова судились 10 членов Исполнительного коми-
тета «Народной воли», можно сказать, весь цвет его:
Фроленко, Тригони, Баранников, Суханов, Колоткевич,
Исаев, Лебедева, Якимова, Лангане, Морозов и агент
комитета Клеточников, оберегавший партию от зловред-
ной работы III отделения и департамента полиции.
Остальными подсудимыми были Терентьева, Емельянов,
Тетерка, Арончик, Л. Златопольский, член московской
группы Фриденсон, Люстиг и продавшийся правитель-
ству Меркулов — все жертвы предателя Складского,
который был осужден по «делу 16-ти», но после суда,
а может быть еще и до него, изменил партии» L
Подсудимым было предъявлено обвинение в покуше-
нии на Мезенцева, на императора (весна 1879 г.), в орга-
низации конфискаций в Херсонском банке, а также одес-
ское подготовление к цареубийству (осень 1879 г.), дело
под Александровском, покушение в Москве, организация
взрыва в Зимнем дворце, подготовка покушений в Одессе
(весна 1880 г.) и Петербурге (лето 1880 г.), организация
конфискации в Кишиневском банке, дело 1 марта 1881 г.
и некоторые другие, более мелкие факты.
Обвиняемые не отрицали своего участия в каком-
либо деле или совокупности их. Каждый свою задачу
видел в продолжении борьбы, хотя и находился на ска-
мье подсудимых. Они проявили на суде исключительную
волю в защите идей «Народной воли» и престижа рево-
люционера. Удивительно смело вела себя защита.
Многие адвокаты разделяли политические взгляды наро-
довольцев. Так, в речи защитника Т. Лебедевой Е. Ф. Ко-
ролева содержится прямое оправдание борьбы за инте-
ресы народа. На вопрос, какая сила побуждает людей
революционной идеи, он ответил: «Настоящее бедствен-
ное положение нашего народа как в экономическом,
так равно и в политическом отношении... У людей, со-
знавших это, является стремление помочь ему. Подоб-
ные стремления достойны всякой похвалы. Тут дело
только в том, какие средства для этого употребляют-
1 В. Фигнер. Поли. собр. соч., т. 1, стр. 276.
313
ся» L Развивая свою мысль, адвокат подчеркивал, что
политические преступники «являются противниками
только данного государственного строя, а при ином
строе они окажутся, быть может, наиболее полезными,
наиболее сильными членами общества. Я думаю, г.г. се-
наторы и г.г. сословные представители, что с этим вы
также согласитесь» 1 2.
Крайне интересно также отношение адвоката
Е. И. Кедрина к своему подзащитному А. Михайлову.
В письме к отцу Михайлова Кедрин писал: «В немногие
часы свиданий мне удалось очень близко узнать его, и
я уверен, что его светлый нравственный образ никогда
не изгладится в моей памяти.
Объяснения, данные им на суде, конечно, влияли на
судьбу его в неблагоприятном смысле, но в то же время
невольно заставляли самих врагов удивляться его уму
и характеру. Не только все защитники единогласно
признали его самой выдающейся личностью в процес-
се, но это же признали его судьи-сенаторы. Скажу бо-
лее, министр юстиции Набоков высказал мне, что, по
его убеждению, Александр Михайлов по характеру,
дарованиям и личным качествам был бы полезным чле-
ном общества, так как ему известны его сыновние чув-
ства и личные качества. Но, отдавая дань уважения ум-
ственной силе Вашего сына, невольно приходится прекло-
няться перед его мужеством, энергией и непоколебимой
твердостью воли. Нет сомнения, что, если бы на Руси
было побольше таких людей, судьба отечества была бы
иная и мы не переживали бы столь тяжелых событий»3.
Таково отношение большинства защитников к под-
судимым. Оно знаменательно с политической точки зре-
ния: судебными разбирательствами не подрывался, а
укреплялся авторитет «Народной воли».
Приговор суда «по делу 20-ти», как и ожидалось, был
очень суровым. Михайлов, Суханов, Исаев, Колодкевич,
Фроленко, Емельянов, Тетерка были приговорены к
смертной казни, а остальные — Баранников, Морозов,
1 ЦГАОР, ф. 5802, on. 1, д. 804, л. 18 (Материалы по делу про-
цесса «20-ти»).
2 Там же, л. 21.
3 А. П, Прабылева-Корба и В. Н. Фигнер. А. Д. Михайлов,
стр. 76.
314
Арончик, Лангане, Тригони, Терентьева — к другим ме-
рам наказания.
Суд и приговор суда вызвали взрыв возмущения.
Общественное мнение Европы было ошеломлено неви-
данной жестокостью. Началась политическая кампания
за отмену смертного приговора. Упорная борьба привела
к тому, что царское правительство вынуждено было
уступить. Смертный приговор Александр III отменил
в отношении всех, кроме Суханова — офицера, нарушив-
шего присягу.
Уверенные в скорой гибели, Михайлов, Баранников и
другие написали прощальные письма к родственникам
и товарищам. Документы эти представляют громад-
ный интерес, так как раскрывают психологию и нрав-
ственный мир этих исключительных натур.
Вот некоторые извлечения из последних писем А. Ми-
хайлова к товарищам: «Жизнь для меня — это постоян-
ная борьба всеми силами существа во имя идеи. Смерть
же много лучше прозябания и медленного разрушения.
Поэтому я так спокойно и весело жду приближающегося
момента небытия» L
Оставшимся на воле Михайлов написал завещание:
«Лозунгом вашим должно стать — минимум желатель-
ного, но с максимальной настойчивостью. Земское учре-
дительное собрание при общем избирательном праве,
при свободе слова, печати и сходок — вот минимум же-
лательного. Для него отдайте все ваши силы, все ваши
жизни, и вы воздвигнете себе в близком будущем не-
рукотворные памятники в сердце народа. Он оправдает
самые крайние средства ваши, когда станет распоря-
жаться своими судьбами»1 2.
Заканчивается письмо даже не советом, а требова-
нием: нужны новые и новые усилия в борьбе, оживление
самой борьбы, ее «факты и факты».
1 «Письма народовольца А. Д. Михайлова». Собрал П. Е. Щего-
лев. М., 1933, стр. 215.
2 Там же, стр. 217,
ГЛАВА VI
НА ЗАКАТЕ БОРЬБЫ
До тех пор пока руководящие кадры Исполнительного
комитета находились на воле, а дела «Народной воли»
шли успешно, идейные разногласия, имевшиеся в пар-
тии, не достигали больших размеров и серьезной напря-
женности, парализовывались необходимостью единства
текущей работы. Это относится и к взаимоотношениям
центра с его различными организациями, кружками и
группами. Совсем о другом приходится говорить, когда
партия лишилась наиболее выдающихся и признанных
деятелей, а сама деятельность партии вступила в полосу
кризиса. Исполнительный комитет перестал в резуль-
тате этих обстоятельств быть действительно руководя-
щим и направляющим органом. Центробежные силы бы-
стро начали возрастать и, не находя должного сопротив-
ления, приобрели решающее значение.
В июне 1882 г. в Петербурге прокатилась новая
волна арестов, унесшая с собой крупных работников
Исполнительного комитета. Были арестованы М. Грачев-
ский, А. Буцевич, А. Корба, супруги Прибылевы и др.
Исполнительный комитет фактически перестал функцио-
нировать. Это, естественно, привело к разобщению со-
ставных частей «Народной воли». Партия по существу
распалась. Но погромы и аресты, так беспощадно уно-
сившие деятелей высшего звена партии — Исполнитель-
ного комитета, почти не касались первичных организаций,
316
ВЕРА ФИГНЕР (1852—1942)
Я считаю самым главным, самым существенным, чтобы явились та-
кие условия, при которых личность имела бы возможность всесто-
ронне развивать свои силы и всецело отдавать ах на пользу обще-
ства.
«Для нас, примкнувших к революции, В. Н. Фигнер являлась, я бы
сказал, сверхреволюционером. Много говорилось о ее красоте, изя-
ществе, воспитанности, уме, умении держать себя во всех кругах
общества, не исключая аристократических. Как революционер, она
являлась для нас идеалом, женщиной с железной волей, одним, а
с 1882 г. единственным вождем и водителем партии «Народной воли»,
не желающим покидать Россию и обрекшим себя на служение на-
роду».
Попов
Общий состав партии оставался вполне достаточ-
ным для большой работы. Реакция как бы подхлесты-
вала усиление борьбы. Везде ощущалась потребность
деятельности, а следовательно, остро вставали вопросы
о ее направлении. Определить же это направление было
некому. Наступил так называемый период безвременья.
Но «Народная воля» должна была пережить не толь-
ко кризис руководства, ее ожидало еще худшее. В ее
рядах в роли одного из лидеров оказался провокатор
С. Дегаев. Будучи посвященным чуть ли не во все тайны
организации, он беспощадно предавал правительству
бывших своих товарищей. Им было предано большин-
ство личного состава военной организации и оставшаяся
на воле член Исполнительного комитета В. Фигнер.
Как могло случиться, что в «Народной воле» ока-
зался такой провокатор? Известно, что ликвидация ти-
пографий в столице и Москве вынудила партию поду-
мать о новом месте, где можно было бы наладить вы-
пуск газеты и листовок. Выбор пал на Одессу. Там
довольно успешно шло восстановление местной органи-
зации. Прибывшая туда после ареста М. Грачевского
Н. Салова с помощью В. Сухомлина создала две активно
действующие группы (университетская и рабочая).
В студенческой среде вел работу В. Сухомлин, а среди
рабочих — И. Бердичевский, специально вызванный для
этой цели из Харькова. Налаживались и укреплялись
связи между революционерами, центром этих связей
была квартира С. Г. Рубинштейн (сестра знаменитого
композитора Антона Рубинштейна). На Одессу ввиду
всего этого возлагались большие надежды. Туда напра-
вили типографские принадлежности, была найдена
квартира для типографии, а ее хозяином назначен
С. Дегаев. Но 20 декабря 1882 г. произошел провал.
Дегаев и его помощники по типографии, в том числе и
М. Калюжная, были арестованы. Данный арест имел
зловещие последствия. Находясь в заключении, Дегаев
стал предателем. Но и этим, однако, дело не ограничи-
лось. Жандармский офицер Судейкин, который вел дело
Дегаева, разработал коварный план провокации. По
этому плану предусматривалась организация ложного
побега Дегаева из заключения и возвращение его в под-
польную среду. Теперь Дегаев обязан был выступить не
только предателем, но и провокатором. Он соглашался
318
вербовать новых членов в «Народную волю», организо-
вывать новые предприятия и выдавать все это жандар-
мерии. Судейкин и Дегаев договорились и о том, что
двухсторонними провокациями они, с одной стороны,
парализуют революционное движение, а с другой — де-
морализуют правительство и, уничтожив из его среды
нескольких лиц, смогут сами приблизиться к власти.
Судейкин не скрывал от Дегаева своей ненависти к не-
которым деятелям самодержавной власти, прямо ука-
зывая на необходимость уничтожения их. Дегаева оболь-
стила нарисованная Судейкиным перспектива. Завя-
зался, таким образом, омерзительный клубок провока-
ции. Распутать этот клубок представлялось делом
крайне сложным, так как главнейшие жандармские
нити сыска находились в руках Судейкина, а нити свя-
зей подполья — в руках Дегаева. И тот и другой —
каждый в своей сфере — обладали достаточным автори-
тетом и влиянием. Создавался тот заколдованный круг,
из которого не видно выхода. История революционного
движения 70-х годов знала не один случай провокации.
Они представляли громадную опасность, но быстро пре-
секались благодаря хорошо поставленной контрразвед-
ки. Так, Рейнштейн был казнен революционерами за
шпионаж, а Гольденберг покончил с собой. Теперь же
этот узел некому было разрубить. В начале января
1883 г. Дегаеву был устроен фальшивый побег. «Беглец»
прежде всего хотел найти В. Фигнер. Он нашел ее в
Харькове 23 января 1883 г., куда вскоре прибыла
Г. Ф. Чернявская. Дегаева приняли как старого и испы-
танного в борьбе товарища. В. Фигнер писала об этом:
«Ни я, ни Галина Федоровна не задумывались над фак-
том побега Дегаева и не анализировали всех обстоя-
тельств, при которых он был совершен: ведь доверие друг
к другу всегда было основой отношения между рево-
люционерами, связанными в одну организацию, а Де-
гаев не был человеком новым, за ним было несколько лет
деятельности, которая не раз ставила его в рискованное
положение, из которого он выходил с честью» Г
Положение В. Фигнер в Харькове считалось неуяз-
вимым. Из агентов и предателей, кроме Меркулова, ее
никто не знал в лицо. Это хорошо знал Дегаев, и для
1 В. Фигнер. Поли. собр. соч., т. 1, стр. 325—326.
319
маскировки своего участия он стал действовать именно
через него. 10 февраля 1883 г., повстречавшись с Мер-
куловым, Фигнер была арестована, не подозревая о роли
Дегаева. С устранением Фигнер в пределах России не
оставалось ни одного члена Исполнительного комитета,
и Дегаев мог действовать свободно. Он занял руководя-
щее положение во всей организации, вербовал новых
членов, вел переговоры с кружками, ведал прессой и...
во всем советовался с Судейкиным.
Этот последний быстро пошел «в гору», его назна-
чили начальником всего сыскного дела империи, тоже
не подозревая о его двойной игре. Аресты чередовались
с затишьем, но их повторение уносило все новые и новые
силы. Чувствовалось наличие предательства, но никто
не мог указать на его источник. Обращались к Дегаеву, а
он под различными предлогами бросал черную тень на
честных людей. Из Одессы проникали слухи о мнимо-
сти побега Дегаева, но им, кроме Н. Саловой, никто
не верил. Ну а если в ком-либо закрадывалось сомне-
ние, то без доказательств оно не имело значения, а со-
брать убедительные доказательства было почти невоз-
можно. С бесовской неумолимостью продолжал свой путь
Дегаев. В чем же тайны его успеха?
Понятно, что успех дегаевщины — свидетельство паде-
ния и истощения сил «Народной воли», но это общее
не может и не должно заслонять чрезвычайно важные
аспекты более частного порядка.
Ни одна партия или революционная организация не
гарантирована от проникновения в свою среду враже-
ской агентуры и шпионов. Но далеко не в каждой пар-
тии возможны такие явления. Прежде всего здесь мы
сталкиваемся с уязвимостью самой организационной
структуры «Народной воли». При той централизации
революционной власти, которая была сосредоточена в
Исполнительном комитете, трудно осуществить преем-
ственную смену руководства на случай провала самого
центра. С «Народной волей» так и получилось. Уничто-
жение Исполнительного комитета равнялось разгрому
всей партии.
Исполнительный комитет «Народной воли» строился
таким образом, что его деятельность и успех объясня-
лись главным образом своеобразным и счастливым под-
бором выдающихся личностей. Но нельзя допустить,
320
чтобы революционная молодежь из месяца в месяц вы-
двигала из своей среды таких деятелей, как А. Михай-
лов, А. Желябов, С. Перовская, М. Грачевский, и дру-
гих, им равных. Оставшись без руководителей, «Народ-
ная воля» на глазах таяла, что нельзя объяснить только
гонениями. Гонения не новость для России, да и их наи-
большая напряженность относилась к 1879 г., когда вся
европейская часть страны оказалась на военном поло-
жении, а силы «Народной воли» тем не менее росли и
крепли. Дело, следовательно, не в репрессиях или во вся-
ком случае не только в них. Правда, Герцен в свое
время заметил, что бывают эпохи такого реакционного
разгула, когда всякая активная борьба исключается. Но
если это верно применительно к николаевскому вре-
мени, то вряд ли это можно отнести к началу царство-
вания Александра III. Организационные формы «Народ-
ной воли», как, очевидно, и ее общие доктрины, оказа-
лись непригодными для новой фазы революционной
борьбы. Чрезмерная централизация при отсутствии ее
ведущих творцов стала помехой, сковывала инициативу
местных организаций. Дегаев, будучи уже известным
членом «Народной воли», хорошо знал ее внутреннюю
жизнь. Устранив В. Фигнер, он пробрался к руководству
партии и, как провокатор, воспользовался ее же ору-
дием— централизацией сил и принципом беспрекослов-
ного подчинения низших ступеней высшим. Укоренив-
шаяся традиция — как можно меньше спрашивай, а
больше делай, не зная источника того или другого рас-
поряжения,— сослужила дурную службу. Нельзя забы-
вать и такую сторону дела. Когда Дегаев после своего
«побега» встретился с Фигнер и Чернявской, то у них
даже не возникло мысли о каком бы то ни было сомне-
нии. Они признали бегство за несомненный факт. Объяс-
няется это только верой в силу «морально-нравствен-
ного принципа». Они не могли допустить мысли, что в их
среде возможно такое падение и тем более провокатор-
ство. А между тем случаев подобного падения было уже
много. Достаточно вспомнить о Рейнштейне, Гольден-
берге, Рысакове, Меркулове, Складском и др. Именно
исходя из этих приведенных примеров и как будто пред-
видя такое в будущем, А. Михайлов писал свое завеща-
ние, которое хорошо было известно всем членам Испол-
нительного комитета. Вот слова этого документа:
21 м. Г. Седов
321
«.. .Завещаю вам, братья, контролируйте один дру-
гого во всякой практической деятельности, во всех ме-
лочах, в образе жизни. Это спасет вас от неизбежных
для каждого отдельного человека, но гибельных для
всей организации ошибок. Надо, чтобы контроль вошел
в сознание и принцип, чтобы он перестал быть обид-
ным, чтобы личное самолюбие замолкало перед требова-
ниями разума. Необходимо знать всем ближайшим това-
рищам, как человек живет, что он носит с собой, как
записывает и что записывает, насколько он осторожен,
наблюдателен, находчив. Изучайте друг друга. В этом
сила, в этом совершенство отправлений организа-
ции. ..»1
В. Фигнер и Г. Чернявская читали это завещание и
преклонялись перед его автором, но вера «в нравствен-
ную чистоту» брала верх над разумом, а не наоборот,
как того требовал Михайлов. Дегаев сумел воспользо-
ваться оплошностью бывших своих товарищей.
Дегаев, к сожалению, был не один. Рядом с ним та-
кую же роль — правда, открытых предателей — играли
И. Окладский и В. Меркулов, недавние члены партии и,
казалось, активные помощники А. Желябова и А. Прес-
някова. Предательство С. Дегаева жандармерия прикры-
вала провокациями. Весной 1883 г. был распространен
слух, что вина за систематические аресты падает на
М. Калюжную (родная сестра И. Калюжного). Находи-
лись люди, которые верили этому. Понятно, Калюжная
оказалась отторгнутой от людей и изолированной от дел.
А. В. Прибылев такую ситуацию справедливо называл
«одурением среды». Снять с себя подозрение в таких
условиях было очень трудно. Но Калюжная сумела дока-
зать свою преданность идее и верность товарищам. Она
решилась на крайнюю меру. Выхлопотав разрешение на
прием к жандармскому полковнику в Одессе Катанскому,
она выстрелом из револьвера 8 августа 1884 г. ранила
его. Этот поступок стоил ей 20 лет каторги, но клевета
окончательно рассеялась. Сосланная в Сибирь, она по-
кончила с собой.
При приблизительно таких же условиях оказался
оклеветанным один из активных и видных деятелей «На-
1 См. А. П. Прибылева-Корба и В. Н. Фигнер. А. Д. Михайлов,
стр. 210—211.
322
родной воли» — представлявший Исполнительный коми-
тет К. Степурин. Он тоже покончил с собой в заключе-
нии.
В результате предательств погибла масса революцио-
неров-народовольцев. Кстати, органы сыска снисходи-
тельнее относились к деятелям подполья других фракций.
Все чувствовали, что систематические аресты вызывают-
ся предательством, но никто конкретно не знал, откуда
оно идет. Создалась обстановка нетерпимой подозритель-
ности, недоверия, а иногда и отчаяния. Сложность ситуа-
ции, однако, не исчерпывалась этим. Правительство,
оправившись от удара, нанесенного народовольцами,
встало (теперь уже решительно!) на путь реакции. Ослаб-
ление революционной деятельности «Народной воли»,
укрепление позиций правительства как следствие этой
слабости приводят к тому, что либеральное движение те-
ряет или почти теряет свое значение как сколько-нибудь
заметная общественная сила. Это обстоятельство еще
больше усложняет условия работы «Народной воли».
К кризису руководства «Народной воли» прибавился кри-
зис тактический. На вопрос, что и как делать, не было
убедительного ответа. То время оказалось тяжелым ис-
пытанием для революционного движения. В. Фигнер пи-
сала: «Под ногами чувствовалась зыбкая почва, неуло-
вимое предательство или провокация, при которых теря-
лась всякая уверенность, что строится что-то «прочное»».
И дальше: «Кругом были только тонущие, барахтаю-
щиеся в революционном хаосе люди, потерявшие положе-
ние, связи, бесприютные и безрадостные»
То же самое говорят и другие деятели тех мрачных
времен. В частности, С. А. Иванов отмечает: «Безотрад-
ность общего положения порождала пессимизм...»1 2
Отметив это место, В. Фигнер писала: «Отлично Сер-
гей написал... такие же впечатления всего последнего
года моей жизни... и некоторые признаки были уже в
1881 году»3.
Необходимость изменения тактики, да и программы
ощущалась повсеместно. Однако решение этой задачи
разными лицами представлялось по-разному. Старые
1 В. Фигнер. Поли. собр. соч., т. 1, стр. 302, 303.
2 «Народовольцы 80-х и 90-х годов», вып. II, стр. 61.
3 Там же, стр. 65.
32S
народовольцы думали, что главным из главных является
восстановление партии, а затем уже изменение програм-
мы и тактики, точнее, обновление их. Молодые кадры
смотрели на дело иначе. Они не мыслили себе возрожде-
ние партии без одновременного изменения программы,
тактики и организационных принципов. Это был один из
основных аспектов разногласий. Так постепенно намети-
лись и определились две линии в народовольчестве —
линия старого Исполнительного комитета и линия «моло-
дых». Старые кадры «Народной воли» ощущали и реаль-
но представляли необходимость поворота всей деятель-
ности партии в сторону масс, главным образом рабочих,
но вместе с тем понимали, что эта работа даст плоды
только потом, в сравнительно отдаленном будущем, они
же хотели иметь их теперь. Центром «молодых» безуслов-
но следует считать народовольческий кружок Н. Флерова,
В. Бадаева и И. Попова, а также окружение П. Якубо-
вича. В свое время Флеров и Бадаев были членами сту-
денческой группы народовольцев в Петербурге и рабо-
тали вместе с Л. Коган-Бернштейном и П. Подбельским.
Эта группа была создана в ноябре 1880 г. Исполнитель-
ным комитетом с целью просвещения рабочих и пропаган-
ды в их среде идей «Народной воли». В него вошло шесть
человек, и каждый из них вел работу в отдельном кружке
рабочих. Другими словами, они были руководителями ра-
бочих кружков, образуя из себя университетскую рабо-
чую группу. После занятий с рабочими группа регулярно
собиралась для обсуждения различных вопросов про-
паганды, выработки программ занятий. На таких собра-
ниях часто присутствовали А. Желябов, С. Перовская,
М. Грачевский, Н. Саблин и др. Занятия с рабочими и
собрания группы продолжались до лета 1881 г.
После известной университетской демонстрации 8 фев-
раля 1881 г. Л. Бернштейн и П. Подбельский отошли от
кружка и вынуждены были скрываться. Осенью 1881 г.
В. Бадаеву и Н. Флерову удалось образовать новый кру-
жок, который был назван «Подготовительная группа
партии «Народная воля»» и в качестве такового был
принят в «Народную волю» в самом конце 1881 г. Тогда
в группу входили Н. Флеров, В. Бадаев, Л. Луговский,
А. Прохоров, Ф. Ардентов и С. Салазкин. Исполнитель-
ный комитет поддерживал связь с группой через М. Гра-
чевского.
324
Участник этой группы, а затем один из ее руководите-
лей, И. Попов, так определил назначение ее: эта группа
«была организована исключительно для занятий и про-
паганды среди рабочих и до 1883 года никакими другими
делами не занималась. Исключением был я, так как у
меня были связи с народовольцами...» 1
По своему составу данный кружок был исключительно
студенческим, но ориентировался он только на рабочих,
имея целью подготовить рабочих для революционной дея-
тельности в соответствии с программой «Народной воли».
С образованием «Подготовительной группы» должна
была оживиться деятельность народовольцев в рабочей
среде, почти совсем затихшая после разгрома Исполни-
тельного комитета, да и партии в целом.
Надо заметить, что «Подготовительная группа» спра-
вилась со своей задачей, охватив влиянием довольно ши-
рокий слой рабочих столицы. Но влияние это оказалось
не совсем народовольческим, точнее, не ортодоксально
народовольческим. Здесь опять приходится прибегнуть
к свидетельству И. Попова: «Изучая историю террористи-
ческой борьбы, мы приходили к выводу, что террор неце-
лесообразно губил революционные силы, вводил в борь-
бу момент случайности и требовал в организационном
отношении самого строгого централизма... Для террора
рабочие организации не нужны и, быть может, вредны»2.
Так зарождалась и постепенно развивалась критика
«Народной воли», ее программы и тактики в ее же соб-
ственных недрах. Подвергался осуждению не только по-
литический террор, но и организационные основы «Народ-
ной воли», особенно централизация — главный принцип
народовольчества. Из оппозиционных идей и настроений
вырастало и исходило логическое оправдание стремления
к созданию из кадров «Народной воли» новой партии.
В. Бадаев писал об этом:
«С начала 1884 года возникла мысль образовать но-
вую партию — «Партию Молодой Народной воли»3.
1 «Народовольцы после 1-го марта 1881 года». Сборник статей и
материалов. М., 1928, стр. 53.
2 «Народовольцы после 1-го марта 1881 года», стр. 53—54.
3 Теоретической разработкой проблемы движения «молодых»
занимались еще в 30-е годы И. И. Попов («Петр Филиппович Яку-
бович». М., 1930) — ветеран революционного движения и С. Н. Валк
(«Молодая партия «Народной воли»». — «Проблемы марксизма»,
1930, № 1) —исследователь истории народничества.
325
В числе организаторов припоминаю П. Ф. Якубовича,
Овчинникова, И. И. Попова, Николая (т. е. Флерова.—
М. С.), себя, Ф. Олесинова и А. И. Прохорова» *.
В том же направлении развивались взгляды и дея-
тельность поэта П. Ф. Якубовича, в революционном под-
полье человека абсолютно нового, а потому о нем необ-
ходимо сказать несколько слов особо. П. Ф. Якубович
происходил из известного рода декабриста А. И. Якубо-
вича. В 1878 г. Петр Филиппович Якубович поступил в
Петербургский университет на историко-филологический
факультет после блестящего окончания гимназии, в ко-
торой он зарекомендовал себя не только лучшим учени-
ком, но и самым выдающимся составителем эпиграмм на
учителей и гимназистов. Поэтическое дарование Якубо-
вича обнаружилось рано, и он уже на первом курсе стал
печатать свои стихи в журнале «Дело», затем в «Слове»,
«Отечественных записках», «Вестнике Европы» и «Рус-
ском богатстве». Некоторые стихотворения его (напри-
мер, «Битва жизни») распространялись в рукописях.
Якубович был очень близок В. Гаршину и С. Надсону и
хорошо знаком с Н. Михайловским. В 1881 г. в Петер-
бурге вышел в свет сборник стихов и статей «Отклик»,
наделавший много шуму в столице. Вдохновителем и
организатором сборника был Якубович. 9 апреля 1881 г.
управляющий по делам печати князь Вяземский сообщил
департаменту полиции решение министерства внутрен-
них дел о конфискации сборника «Отклик», отпечатанного
в количестве 3 тыс. экземпляров. Сохранилась выписка
из журнала заседания цензурного комитета от 6 апреля
1881 г., где сказано: «Заглавие сборника совершенно соот-
ветствует его содержанию. Действительно это отклик на
страдания народа, отклик бойцам, вышедшим на борьбу
за свободу, за правду противу дикого бесправия, упрек
в равнодушии масс» 1 2.
Ввиду важности заключений цензурного комитета об
«Отклике» приведем еще несколько цитат:
«Нет почти ни одной статьи прозаической или поэти-
ческой, в которой бы не отражались тенденции недоволь-
ства, народных страданий, похвалы самоотвержению,
стремления к революционной пропаганде...
1 «Народовольцы 80-х и 90-х годов», вып. II, стр. 22.
2 ЦГАОР, ф. ДПИ, 3 делопроизв., 1881 г., д. 366, л. 2.
326
.. .С особенной яркостью выражается это тенденциоз-
ное направление сборника в стихотворениях: 1) «Поэзия»,
где поэт так определяет назначение своих стихотворений,
что они должны «нести силу бойцам за свободу и огла-
сить славою их дела и возбуждать на святой подвиг»...
Встань, проснись, отребье народное!
Ополчимся мы в войско свободное,
Завоюем мы счастье и долюшку
Да веселую вольную волюшку...
.. .Братство всем, кто выйдет ныне
На борьбу с царящим злом.
.. .Вышеприведенные стихотворения с таким откро-
венным цинизмом высказывают поставленные себе гра-
жданские задачи, говорят о своей борьбе с бесправием, о
своих героях, павших в битве, так явно зовут к себе сочув-
ствие и содействие толпы, что всякое комментирование
к этим стихотворениям было бы излишне» L
И далее, сборник «Отклик» «не согласен» с настоящим
строем нашего отечества. В нем почти все статьи «выра-
жают недовольство настоящими условиями государствен-
ного и общественного строя, а стихотворения имеют зна-
чение вызовов к ожесточенной борьбе против дикого бес-
правия, под которым, очевидно, разумеется проявление
всякой власти и авторитета»1 2.
Лучшей аттестации П. Якубовичу трудно придумать.
Он быстро занял видное место в революционной среде,
став, правда, в положение определенной оппозиции к ста-
рому направлению.
П. Якубович начал сочувствовать «Народной воле»
приблизительно с 1880 г., был одним из составителей
прокламации центрального кружка университета о «бес-
порядках в Харьковском университете», возможно даже,
что он входил в этот кружок. Но от Исполнительного ко-
митета и близко к нему стоящих организаций он все же
был далек, хотя А. Желябов намеревался вовлечь его в
практическую деятельность «Народной воли». П. Якубо-
вич подкупал людей безукоризненной честностью, прямо-
той суждений и развитым чувством долга. Исключитель-
ное трудолюбие при явно незаурядных способностях сни-
1 ЦГАОР, ф. ДПИ, 3 делопроизв., 1881 г., д. 366, л. 3—4.
2 Там же, л. 6 об.
327
скали ему глубокое уважение, особенно среди молодежи.
П. Якубович имел уже сложившиеся революционные
взгляды. Так, в показании следствию 30 ноября 1884 г. он
заявил, что «еще много лет назад у меня составилось
мировоззрение чисто социалистическое и революцион-
ное» *. Именно таких «подбирали» агенты и члены Испол-
нительного комитета. Но Якубович не захотел полностью
связывать себя с подпольной организацией, не окончив
университетского курса. В 1882 г., блестяще окончив уни-
верситет, Якубович вошел в «Народную волю». Совпади
это вступление с расцветом деятельности Исполнитель-
ного комитета, когда в его рядах были выдающиеся рево-
люционеры, из П. Якубовича мог бы сложиться деятель
больших политических масштабов, но теперь ему самому
приходилось становиться во главе всего дела, не пройдя
необходимой подготовительной школы. Требовались гро-
мадные организационные усилия для восстановления пар-
тии, которая с такой беспощадностью и коварством раз-
рушалась всей мощью самодержавия. Справиться с этим
могли немногие, но Якубович сделал все, что можно было,
отдав все свои силы революционному делу.
Как мы видели, положение партии в то время было
крайне критическое, и П. Якубович вместе с братьями
Н. и В. Карауловыми и С. Ивановым принимается за
восстановление организаций «Народной воли» в Петер-
бурге. Вскоре к ним присоединилась известная к тому
времени революционерка-бестужевка С. Усова. Им удает-
ся установить связи с оставшимися на воле деятелями
Исполнительного комитета В. Фигнер (Харьков), Оша-
ниной и Тихомировым (Париж), что имело громадное
значение для выяснения общего состояния дел и состав-
ления какого-то плана действий. Благодаря С. Иванову,
только что (конец 1882 г.) бежавшему из Сибири, были
восстановлены организации «Народной воли» в Харькове,
Ростове-на-Дону, созданы группы в Луганске и Таганро-
ге, установлена связь с известной народоволкой Л. Чемо-
дановой. Усилиями Якубовича революционные кружки
Флерова, Бадаева и Попова влились в «Народную волю»,
образовав рабочую группу партии. Этим как бы восста-
навливалась единая нить рабочей организации, созданной
еще Желябовым и Каковским.
1 «Красный архив», 1929, № 5 (37), стр. 102.
328
ПЕТР ЯКУБОВИЧ (1860-1911)
Да, товарищи! давно уже сознается и чувствуется молодежью по-
требность в организации. Недостает нам сплоченности, недостает
тесной нравственной солидарности, которых в свою очередь нет по-
тому, что нет у нас общей всем кружкам и группам теоретической и
практической программы, нет общих задач и целей, нет общесозна-
тельных средств их достижения.
«В черное безвременье... прожил большую часть своей жизни Яку-
бович. И бодрость его духа, не подчинявшегося веяниям времени,
но терпеливо ждавшего красной доли грядущего и настойчиво рабо-
тавшего на ее приближение, должна служить примером в настоящее
время».
«Звезда», 19 марта 1911г.
И. Попов в своей работе о П. Якубовиче1 рассказы-
вает, что с лета 1882 г. на квартире Карауловых проис-
ходили частые совещания, где всесторонне обсуждались
текущие дела «Народной воли» и перспективы восстанов-
ления партии в целом.
Якубович и его друзья не претендовали на роль Ис-
полнительного комитета, так как были слишком высокого
мнения о нем, но сомневались в правильности программы
и тактики «Народной воли», что несколько насторажива-
ло членов Исполнительного комитета. Об этом говорит
сам Якубович в известном письме к В. Фигнер в Харь-
ков, где прямо подчеркивает, что им не хватает доверия
Исполнительного комитета. Получается своеобразная си-
туация: Якубович, возглавлявший оппозицию Исполни-
тельному комитету, сам жаловался на оппозицию со сто-
роны последнего. Очевидно, что вне народовольческой
базы Якубович ничего не мог сделать. С арестом В. Фиг-
нер во главе «Народной воли» встал С. Дегаев, что, по-
нятно, деморализующим образом действовало на все, в
том числе и на работу Якубовича, хотя его он не преда-
вал по каким-то своим соображениям.
В этих условиях 17 октября 1883 г. в Петербурге было
созвано совещание (впоследствии названо съездом) не-
которых видных деятелей «Народной воли» как старой,
так и новой ориентации. На нем присутствовало 12 чело-
век, в том числе К. Степурин, П. Якубович, Ст. Куницкий,
М. Шебалин и С. Дегаев. Никто из присутствующих,
разумеется, не знал о роли Дегаева. Совещание прошло
под знаком осуждения старого курса «Народной воли»
и требований пересмотра его. Якубович считал, что «На-
родная воля» со старой программой и тактикой, но без
прежних кадров воскреснуть не может. Уверенность и
твердость Якубовича объясняется, видимо, поддержкой
его линии рабочей группой (личный состав которой Де-
гаев, по счастью, не знал), а также студенческой средой,
в которой постоянно находились сторонники антицентра-
лизма.
Рассмотрим требования оппозиции.
Первоначально, когда оппозиция только возникла и
о новой партии речь еще не шла, претензии «молодых»
состояли:
1 См. И. И. Попов. Петр Филиппович Якубович.
330
1) в уничтожении принципа централизма и введении
в организационную структуру партии союзно-федератив-
ного начала. При этом само понятие руководящего цен-
тра менялось и Исполнительный комитет становился фак-
тически ненужным. Центр тяжести всей работы револю-
ционного подполья переносился в местные организации,
а руководители их время от времени должны были встре-
чаться для согласования своей деятельности. Нападки на
централизм мотивировались фактами провалов, появле-
нием предательства и ренегатства, невозможностью для
одного Исполнительного комитета обнять всю сложность
и разнообразность революционных обязанностей партии;
2) в отказе от «центрального» политического террора,
требующего непосильных затрат энергии и вызывающего
неоправданные жертвы. Политический террор, по мнению
оппозиции, убил партию. Самое опасное состояло в том,
что террор развивался вне участия сколько-нибудь ши-
роких кругов населения. Природа этого способа борьбы
вела к отрыву руководства от «низов» и не давала воз-
можности сосредоточить внимание на пропаганде и аги-
тации в массах народа;
3) в стремлении связать революционно-террористиче-
скую деятельность партии с массовым движением, а сами
террористические акты сделать понятными каждому, что
возможно только в том случае, если террор будет иметь
не политический, а фабрично-аграрный или вообще эко-
номический характер и будет направлен на непосред-
ственных и постоянно зримых угнетателей народа. На
языке «молодых» это означало сближение революцион-
ного движения с требованиями масс как города, так и де-
ревни.
С течением времени и с изменением обстановки выше-
приведенные требования и пожелания видоизменялись и
расширялись. На повестку дня вставал новый вопрос —
об отношении партии к рабочему движению. «Молодые»
утверждали, что главной силой революционного движе-
ния теперь становятся рабочие. Рабочий вопрос, казалось,
выдвигался как главный пункт разногласий в подпольной
среде.
К тому времени, когда «молодые» узнали о гнусной
роли Дегаева, несогласия их с Исполнительным комите-
том достигли предела и выражались уже в полном недо-
верии ему. Теперь речь шла о создании новой партии и
331
выработке для нее программы, точнее, не столько именно
программы, сколько платформы, способной объединить
различные организации. За выработку такого документа
взялся П. Якубович. В апреле 1884 г. он был создан под
наименованием «Письмо к товарищам». Данное письмо
тщательно обсуждалось и было опубликовано от имени
представителей петербургской рабочей группы «Народ-
ной воли», союза молодежи «Народной воли» и централь-
ной петербургской группы. Здесь, следовательно, мы
имеем дело с очень важным политическим документом,
который выразил мнения большого количества организа-
ций и лидеров. В «Письме» доказывается, что необходимо
переоценить прежнюю деятельность партии и «отчетливо
сформулировать» новую программу. В нем указывается
на незаконность октябрьского съезда «Народной воли»
из-за присутствия Дегаева, а следовательно, не при-
знаются и его рекомендации. Для создания новой партии
или для восстановления старой рекомендуются другие
начала. Партия должна строиться не сверху вниз, как
«Народная воля», а, наоборот, снизу вверх, а потому
руководящий центр не может быть самостоятельным ор-
ганом, а должен состоять «из суммы местных центров»,
т. е. представителей местных групп. Распорядителем пар-
тии может быть только съезд. Все функции партии имеют
местное значение, и только две из них обнимают ее об-
щие интересы: общепартийный печатный орган, редакто-
ров которого избирает съезд, и, «быть может, общесо-
циальный террор». Тот же съезд создает боевую дружину,
которая намечает лиц, подлежащих казни, и обсуждает
вопросы ведения террора. В период между съездами дру-
жина самостоятельна и никому не подчинена. Под «обще-
социальным террором» подразумевался террор экономи-
ческий (аграрный и фабричный).
Проблемы конспирации организаций и сохранение
тайны их членами решаются так: «Гарантией тайны по-
добных решений и приговоров будет малочисленность
членов съезда, их строгий подбор и строгая централиза-
ция местных групп» !.
Таково краткое содержание «Письма к товарищам»,
которому справедливо придают важность программы.
Безусловно, данный документ отразил беспокойство
1 «Красный архив», 1929, № 5, стр. 140.
332
«молодых» о состоянии революционного движения и его
судьбах. Не подлежит также сомнению, что новые идеи
охватили довольно широкие круги подполья, и считать их
сектантскими никак нельзя. Нельзя также заподозрить
в этом движении какие-то корыстные цели его лидеров.
Идеология «молодых» явилась прямым следствием кризи-
са народовольчества. Это была попытка выхода из кризи-
са, но объективно она лишь отразила кризис, не указав вы-
хода из него. Причина этого кроется в том, что програм-
ма «Молодой партии «Народной воли»» ни в одном из
своих пунктов не являлась новой. Все ее принципы и по-
ложения были уже испробованы и не привели к ожидае-
мым результатам. В самом деле, федеративно-союзниче-
ский принцип построения организации чуть ли не два де-
сятка лет проповедовали многие, и он был неоднократно
испробован и отвергнут еще землевольцами. И одной из
крупных заслуг «Народной воли» был именно отказ от
подобного принципа. Не лучше обстоит дело с социаль-
ным, или экономическим, террором. На этот путь впервые
встал Второй южнорусский рабочий союз 1880 г.1 На
первых порах тактика экономического террора имела
успех, но очень непродолжительное время. Несмотря на
значительную популярность фабрично-заводского терро-
ра среди рабочих, его практическое применение уводило
1 Второй южнорусский рабочий союз (1880—1881) возник в Киеве.
Он свидетельствовал о дальнейшей дифференциации революционного
движения, начавшейся с раскола «Земли и воли». У истоков союза
стояли известные революционеры Е. Ковальская и Н. Щедрин. Они
сумели объединить остатки разбитых ранее кружков и создали цель-
ную организацию в несколько сот человек. Центром их деятельности
были рабочие арсенала. Общая цель программы союза выражена так:
«Поставив своей задачей достижение социально-экономического
переворота при посредстве сознательно относящегося к нему народа
на почве существующих народных идеалов, мы тем самым указы-
ваем на центр тяжести нашей деятельности. Главное внимание мы
должны обратить на всестороннюю деятельность в народе, т. е. среди
крестьян, городских рабочих и армии» (см. «Южно-русские рабочие
союзы». М., 1924, стр. 266).
Предполагалось, что поставленная задача может быть решена
с помощью актов прямого нападения на эксплуататоров — фабрикан-
тов, мастеров, помещиков, кулаков и т. д. Типографией союза было
выпущено несколько боевых прокламаций и листовок, имевших боль-
шой успех.
Проникшие в организацию провокаторы предали почти всех ее
участников. В истории рабочего движения Южнорусский союз не
оставил глубокого следа.
333
массы от тех форм борьбы, которые были апробированы
опытом и историей. Экономический террор не имел по-
бедного будущего, и о нем можно сказать приблизитель-
но то же, что о поломке рабочими машин, оборудования,
поджогах помещений и т. д.
Может показаться, что рациональным зерном в про-
грамме «молодых» является рабочий вопрос. Некоторые
исследователи даже считали, что здесь основной пункт
противоречий между «молодыми» и «старыми». Обыч-
ным аргументом в пользу высказанного мнения являются
слова П. Якубовича о том, что организационные во-
просы могли иметь только повод для раскола, но не объ-
яснить его, «главной же причиной раскола был рабочий
вопрос» L
Для формального подтверждения такие слова как
будто действительно являются решающими, но что ка-
сается объяснения по существу, то они мало что дают.
Известно, что «молодые» и много говорили о рабочих, и
немало работали с ними. Они даже указывали, что масса
рабочих является основной силой революционного дви-
жения, упрекая противников в непонимании и игнориро-
вании столь очевидной истины. Все это, однако, кажется
убедительным только с внешней стороны. Исполнитель-
ный комитет в свое время тоже признавал решающую
роль рабочих в момент самой революции. Об этом прямо
сказано в «Программе подготовительных работ партии».
И в то же время народовольцы смотрели на рабочих не
как на авангард революционного движения (это, между
прочим, относится и к самим рабочим — членам партии
«Народной воли»), способный возглавить и организовать
все недовольные царизмом элементы, а как на обычную
статическую, материальную силу, которая больше всех
недовольна существующим порядком и поддается скорее,
чем другие силы, организации. Так по существу смотрели
на дело и «молодые», с той только разницей, что теперь
рабочим рекомендовалась иная тактика, иная не в изме-
нении принципов, а в изменении объектов нападения.
В первом случае речь шла о политическом терроре, т. е. о
нападении на представителей государственной власти;
теперь рекомендовался тот же индивидуальный террор,
только уже против прямых носителей эксплуатации. Ис-
1 «Красный архив», 1930, № 1 (38), стр. 74.
334
ходя из этих соображений, нельзя не согласиться с вер-
ным выводом И. Попова: «Вопрос о русском пролета-
риате в то время у нас еще не возбуждался» I Здесь
имеется в виду научное понимание роли пролетариата в
освободительном движении.
Таким образом, появление оппозиции и разработка
программы новой партии не выявили каких-то принци-
пиально новых идей, не указали иных путей, а основыва-
лись на теориях народничества. Это, видимо, и явилось
основной причиной бесперспективности «Молодой пар-
тии». Но прежде чем это стало очевидным, «молодым»
пришлось пройти немалый путь. Практически деятель-
ность «молодых», и в первую очередь П. Якубовича, на-
чалась с восстановления разрушенных правительством
народовольческих организаций и создания новых. Вот что
говорил по этому поводу П. Якубович приехавшему из
Харькова (от В. Н. Фигнер) Комарницкому в январе
1883 г.: «Передайте Вере Николаевне, что в Петербурге
мы теперь едины и имеем большую «Рабочую группу».
В самое кратчайшее время наладим и типографию. Пар-
тия должна немедленно приступить к изданию «Народной
воли». У нее есть и литературные силы; не хватает только
доверия Исполнительного комитета»1 2.
Такое оптимистическое заявление соответствовало
действительности. Можно было указать и на многое дру-
гое, над чем работал П. Якубович и его единомышлен-
ники и что к этому времени было уже сделано. В частно-
сти, лично П. Якубовичем был организован и «поставлен
на ноги» «Союз молодежи», окончательное оформление
которого относится, однако, к более позднему времени.
«Союз молодежи» возвестил о своем образовании извест-
ным обращением «К русскому юношеству от центрально-
го кружка Союза молодежи партии «Народная воля»»
(автор П. Якубович), обнародованным в начале 1884 г.
Значение создания «Союза молодежи» очень важно, по-
скольку он возник в тяжелое время для жизни револю-
ционного подполья и вновь ввел в орбиту народовольче-
ского организационного влияния два университетских
центра — Петербург и Москву. А как известно, основ-
ную массу пропагандистов давали именно университеты,
1 «Народовольцы после 1-го марта 1881 года», стр. 54.
2 См. И. И. Попов. Петр Филиппович Якубович, стр. 19.
335
через них более всего распространялась подпольная
пресса. «Союз молодежи» вел довольно широкую про-
паганду, твердо стоял на революционных принципах
«Народной воли» и, как бы ни показалось странным, не
разделял взглядов «Молодой партии», хотя и не обнару-
живал нетерпимости к ее деятельности.
К лету 1883 г. П. Якубович и супруги Шебалины су-
мели организовать типографию в Петербурге. В ней были
отпечатаны «Листок «Народной воли»» № 1 и «Прило-
жение» к нему, обращение «От мертвых к живым», «Ка-
торга и ссылка в Петербурге», «Тургенев», «Листок «На-
родной воли»» № 2 и более мелкие документы. Возобнов-
ление подпольных изданий справедливо рассматривалось
как громадный успех революционеров, тем более важ-
ный, что типография была восстановлена без участия
ветеранов, только что пришедшими в подполье людьми.
Вокруг типографии воскресала группа литераторов
во главе с Н. К. Михайловским. В состав этой группы
входили также П. Якубович, Кривенко, Протопопов и др.
Основной смысл пропаганды того периода (т. е. второй
половины 1883 г.) состоял в том, что партия стремилась
доказать обществу непобедимость революционного дви-
жения, несмотря на понесенные им громадные потери.
Это легко понять, если иметь в виду уныние и пессимизм,
охватившие общество после разгрома Исполнительного
комитета. Без укрепления веры в то, что революционные
идеи имеют прежний смысл и значение и отнюдь не из-
жили себя, нельзя было рассчитывать на восстановление
партии, на восстановление ее авторитета. В этом плане
особенно важна прокламация «Тургенев», написанная
П. Якубовичем в связи со смертью великого художника.
Задача прокламации состояла в том, что ее автор от
имени партии убедительно доказывал, что служить делу
освобождения народа может не только революционер,
а даже такой далекий от планов революционного преоб-
разования общества человек, как И. С. Тургенев. Служил
он этому великому делу своей честностью, глубоким по-
ниманием запросов и порывов молодежи, совершенно
неподражаемым умением художественным образом, по-
ступком своего героя показать уважение и любовь к мо-
лодому поколению. Имя Тургенева, своего любимого пи-
сателя, революционное подполье использовало в целях
пропаганды идей революции, идей борьбы с царизмом.
336
Восстановление типографии оказало на партию опти-
мистическое влияние. «В это время, — писал Попов, —
у всех нас настроение было превосходное. Мы думали,
что лихолетье миновало, партия вновь оправилась от
июньского удара, имеет такую военную организацию, да,
пожалуй, и «рабочую группу», каких у нее раньше не бы-
вало» *.
В этих словах немало преувеличений, но не в них
суть дела, а в том, что автор был абсолютно прав, когда
указывал на возрастание веры в революционном под-
полье, на оживление народовольческой деятельности.
Когда «молодые» приступили к практическим делам,
они встретились с «благоевцами», членами одного из
первых марксистских кружков в России. «Благоевцы»
вели пропаганду среди рабочих, опираясь на учение
К. Маркса, и для них этот вид деятельности был основ-
ным. Однако в тот период они не выдвигали еще обшир-
ных планов революционных преобразований, дело сво-
дилось пока к распространению идей марксизма и опыта
европейского рабочего движения. И хотя «благоевцы» и
«молодые» исходили из принципиально различных про-
грамм, враг у них был один, трудности в работе прибли-
зительно одинаковы, тождественны также и конечные
цели. Этого оказалось вполне достаточно для того, чтобы
между «благоевцами» и «молодыми» установились самые
дружеские отношения взаимной поддержки и помощи
на общем поприще борьбы с царизмом. Различные теоре-
тические позиции кружков не мешали придерживаться
принципа: «Разными путями — к одной цели». Нельзя не
признать разумность и практичность такого взгляда. При-
близительно то же можно сказать и о взаимоотношениях
«молодых» с польским «Пролетариатом». У них устано-
вились тесные взаимоотношения, которые потом выли-
лись в образование союза, правда уже между «Пролета-
риатом» и «Народной волей», а не «Молодой партией
«Народной воли»», признавшей полностью к тому вре-
мени правоту Исполнительного комитета и влившейся в
ряды восстановленной «Народной воли».
Что касается других подпольных организаций, дей-
ствующих параллельно с «молодыми», то они не имели
с ними никаких связей и не отразились на их судьбе.
1 И. И. Попов. Петр Филиппович Якубович, стр. 20.
22 М. Г. Седов
337
В ходе практической деятельности оформляется руко-
водящий центр «молодых». В него входят П. Якубович,
И. Попов, Н. Флеров, В. Бадаев, М. Овчинников, А. Про-
зорова и Ф. Олесинова. Некоторые из них имели автори-
тет и известность не только в столицах, но и в провинции.
Очевидно, «молодые» могли бы сложиться в самостоя-
тельную организацию и, может быть, в какой-то степени
заменили бы «Народную волю», если бы не последовало
решительное вмешательство старых ее сил. Эти силы
оставались незначительными. Но если учесть обаяние и
авторитет Исполнительного комитета в недавнем про-
шлом, то легко можно представить, что выступление от
его имени оказывало еще очень большое влияние. Остав-
шиеся на свободе члены Исполнительного комитета Ти-
хомиров и Ошанина, хотя и жили вне России, сохранили
значительные связи с русскими деятелями и так или ина-
че влияли на ход подпольных дел. Даже сам факт орга-
низации убийства Судейкина, злейшего врага подполья,
говорит об этом.
Издаваемый ими «Вестник «Народной воли»» (тоже
сам по себе факт немаловажный) выполнял роль органа
Исполнительного комитета. Поэтому считалось, что центр
руководства «Народной волей» находится в Париже.
Туда обращались за советом, указаниями и помощью.
Оттуда ждали директив и решений. Кто же мог давать
эти директивы? Прежде всего их ждали от Тихомирова
и Ошаниной, т. е. от тех лиц, которые пользовались гро-
мадным авторитетом и влиянием, а они находились в по-
стоянном общении с П. Л. Лавровым. В конце 1882 г.
в Париж уехала Н. Салова со специальным заданием
Фигнер, но ввиду ареста последней она отложила возвра-
щение в Россию и вела работу вместе с Ошаниной. В на-
чале сентября 1883 г. в Париже появился Г. Лопатин,
бежавший из ссылки. Он, правда, не входил в «Народную
волю», но сочувствовал ее борьбе и мог всегда оказать
ей свою помощь. Вот, собственно, и вся народовольческая
эмиграция. Так называемый заграничный Исполнитель-
ный комитет имел довольно полное представление обо
всем, что происходило в России. На их глазах завершился
цикл вероломного предательства Дегаева.
Под предлогом ознакомления с планами русской эми-
грации Дегаев получил от Судейкина разрешение уехать
за границу. Очутившись в Париже и найдя Тихомирова
338
и Ошанину, он рассказал им о своей роли. Какие мотивы
привели провокатора к исповеди Тихомирову и Ошани-
ной: то ли боязнь за собственную жизнь, то ли стремление
уменьшить свою вину, — сказать трудно. Однако для
него было очевидным, что долго его поступки не останут-
ся тайной. С сильной нотой драматизма описывал впо-
следствии Тихомиров это чрезвычайное событие. Он и
Ошанина от имени Исполнительного комитета вынесли
смертный приговор Дегаеву, о чем ему тут же заявили, но
при этом добавили, что исполнение приговора может
быть отсрочено при условии, если Дегаев уничтожит Су-
дейкина. С таким поручением Дегаев вернулся в Россию.
Русское подполье, однако, не получило из Парижа ни-
каких указаний об открывшейся роли Дегаева. Все со-
хранилось в строжайшей тайне. Дегаев уезжал из России
не только с согласия Судейкина, но и на деньги жандарм-
ского управления, понятно, о новых обстоятельствах
Судейкин тоже ничего не знал. Он с ним по-прежнему
встречался. Они бывали друг у друга на квартирах. Де-
гаев начал подготовку покушения на своего шефа и главу
сыскной полиции. 16 декабря 1883 г. в квартире Дегаева
Судейкин был убит. Ввиду того что все наиболее важные
записи Судейкин хранил при себе, не оставляя их в слу-
жебных помещениях, то правительство не сумело обна-
ружить нити заговора и оставалось в полном неведении.
Убийство Судейкина вызвало большой переполох в пра-
вительственном лагере. Возникни такая ситуация при
иных условиях, когда действовали старые деятели Ис-
полнительного комитета, последствия данного события
могли быть очень серьезными. Насколько был велик
страх у правительства, свидетельствует такой факт: было
назначено денежное вознаграждение в сумме 10 тыс. руб.
тому, кто обнаружит виновника событий или хотя бы ука-
жет верный путь к его обнаружению. В «чемоданной»
типографии «Народной воли» были опубликованы про-
кламация об убийстве Судейкина, воззвание от централь-
ного кружка «Союза молодежи» и «Предупреждение».
В последнем документе указывалось, что тот, кто поль-
стится на обещанные правительством деньги, пусть по-
мнит, что ему грозит смерть. Дегаев благополучно скрыл-
ся из России. В Париже он вновь предстал перед Тихо-
мировым и Ошаниной. На этот раз смертный приговор
был заменен другим наказанием. Ему было запрещено
*
339
навсегда входить в какие бы то ни было сношения с ре-
волюционным миром и приказано также навсегда оста-
вить Россию и Европу. Требования были приняты и вы-
полнены. Дегаевщина кончилась.
Ошанина узнала также о недостойном поведении
Я. Стефановича. Она вместе с Тихомировым вела пере-
говоры с Николадзе, выступавшим от имени правитель-
ства, а в действительности от «Священной дружины», об
условиях заключения перемирия. Другими словами, не-
смотря на то что из старого состава оставалось только
два члена Исполнительного комитета, все же подполье
считало, что существует Исполнительный комитет, и по-
этому игнорировать его никто не мог. В свою очередь
члены Исполнительного комитета и их единомышленники
считали своей обязанностью и долгом сделать все воз-
можное для восстановления «Народной воли». Главный
вопрос, который вставал в связи с этим, сводился к тому,
кто может возглавить организацию внутри России. Оша-
нина не могла вернуться в Россию из-за тяжелой хрони-
ческой болезни. Что же касается Тихомирова, то он не
мог справиться со столь ответственной обязанностью. Это
сознавали все, близко знавшие его. А. Михайлов в из-
вестном «Завещании» писал о нем: «Он не должен уча-
ствовать в практических предприятиях: он к ним не спо-
собен. Вам надо сознавать это, а ему не следует себя
обманывать» L
Н. М. Салова при многих ее выдающихся способно-
стях была еще очень юна. Подвергалась всестороннему
обсуждению и кандидатура П. Якубовича. При большой
энергии, безграничной преданности делу он был слишком
горяч и не имел опыта подпольной работы, недостаточно
хорошо разбирался в людях.
Затруднение само собой отпало, когда свои услуги
предложил Герман Александрович Лопатин.
В истории освободительного движения личность Ло-
патина проявилась на редкость своеобразно и ярко. Сви-
детель и участник чуть ли не всех революционных собы-
тий 60—70-х годов, он не связывал, однако, своего имени
ни с одной организацией и ни с одним направлением. Это
редкий, крайне своеобразный и сложный тип «беспартий-
1 См. А. П. П рибылева-Корба и В. Н. Фигнер. К. Д. Михайлов,
стр. 210.
340
ного» демократа, революционера-одиночки, без остатка
отдавшего все свои силы освобождению русского народа.
Г. А. Лопатин происходил из древнего дворянского
рода. Он родился в 1845 г. в Нижнем Новгороде в семье
действительного статского советника. В 1862 г. Лопатин
закончил с золотой медалью Ставропольскую гимназию
и в том же году поступил на естественное отделение фи-
зико-математического факультета Петербургского уни-
верситета. В 1865 г. за участие в студенческих беспоряд-
ках привлекался к судебной ответственности. В уни-
верситете познакомился с И. А. Худяковым, кото-
рый ввел его в кружок Ишутина, где среди прочих прак-
тических дел обсуждался вопрос о цареубийстве. Лопа-
тин отрицал положительное значение цареубийства. При
отсутствии мощной партии и заметного общественного
движения акт цареубийства мог, по его мнению, приве-
сти только к усилению правительственной реакции.
В 1866 г. Лопатина арестовали по делу Каракозова;
обладая незаурядными артистическими способностями,
Лопатин сумел внушить следователю мысль о своей
абсолютной непричастности. Дело было прекращено.
Вскоре Лопатин блестяще окончил университет, а через
год с неменьшим успехом защитил диссертацию на сте-
пень магистра, но отказался от ученой карьеры. Его
интересы обращены в другую сторону. Принимая близко
к сердцу революционные события в Италии, Лопатин в
1867 г. тайно отправился в армию Гарибальди, но при-
нять участие в сражениях он не смог, так как Гари-
бальди перед тем был разбит войсками короля Виктора-
Эммануила.
В Ницце Лопатин встретился с Герценом, к которому
относился с исключительным уважением. Вернувшись в
Россию, Лопатин с Ф. Волховским организуют общество
«кочующих по селам учителей» («Рублевое общество»).
Оно было легально, но преследовало нелегальные цели:
собрать сведения о возможности ведения в народе рево-
люционной пропаганды. То была одна из первых попыток
радикальной молодежи «пробиться к народу». Не исклю-
чено, что именно во время беседы Герцен и Лопатин
обсуждали этот вопрос. Как известно, в свое время имен-
но Герцен предложил идею создания воскресных школ
для народа, что было осуществлено в 1859 г. студентами
Киевского университета. «Оседлые» школы правитель-
341
ство ликвидировало в 1862 г., поэтому у Лопатина и воз-
никла мысль организовать «кочующую школу». Но и на
этот раз замысел был разгадан, и в 1868 г. общество
подверглось разгрому. Лопатин попал в ссылку в Став-
рополь. Из заключения ему удалось бежать, и в 1870 г.
Лопатин нелегально появился в Петербурге. Вместо того
чтобы скрываться, Лопатин разработал план освобожде-
ния П. Л. Лаврова и организовал его побег. Это был
дерзкий акт. Переодевшись в форму штабс-капитана, он
совершенно открыто увез Лаврова из Кадникова, Воло-
годской губернии, в Петербург и отправил его по спе-
циальному паспорту за границу. Вскоре и сам Лопатин
покинул Россию. Сразу же по приезде в Париж он всту-
пил в одну из секций I Интернационала. Еще в России
Лопатин мечтал заняться переводом выдающегося про-
изведения К. Маркса «Капитал». Живя во Франции, Ло-
патин решил осуществить это намерение. Вплотную за-
нявшись работой над «Капиталом», он встретился с боль-
шими трудностями, неясностями, которые мог преодолеть
лишь с помощью самого автора. И Лопатин решает пере-
ехать в Англию, где жил в это время К. Маркс. Нака-
нуне отъезда Лопатин посетил Швейцарию, чтобы позна-
комиться с жизнью русской революционной эмиграции.
Большое впечатление на Лопатина произвела встреча
с М. А. Бакуниным, к которому он относился с любовью,
но в теоретическом отношении не считал себя его учени-
ком. В июле 1870 г. Лопатин познакомился с К. Марксом.
Маркс с первой встречи оценил достоинства Лопатина и
проникся к нему глубокой симпатией. Под влиянием
Маркса Лопатин сумел разобраться в той роли, какую
играл Бакунин в международном рабочем движении. Он
поддерживал Маркса в его борьбе с бакунизмом. 20 сен-
тября 1870 г. по рекомендации Маркса Лопатин был
избран членом Генерального Совета Интернационала.
В Англии Лопатин приступил к переводу первого тома
«Капитала». Главным образом через Лопатина Маркс
познакомился с жизнью и творчеством Н. Г. Чернышев-
ского. Здесь, видимо, зародилась мысль об освобождении
его из Сибири. Переведя одну треть текста «Капитала»,
Лопатин передал рукописи Н. Ф. Даниельсону (он за-
кончил весь перевод и в 1872 г. издал первый том «Ка-
питала» на русском языке), а сам уехал в Россию, на-
деясь освободить Чернышевского. Под ложной фамилией
342
ГЕРМАН ЛОПАТИН (1845—1918)
Все приводит нас к одному и тому же выводу: самодержавие отжило
свой век — оно не в силах больше принести ничего хорошего ни на-
роду, ни обществу, — всякая дальнейшая минута его существования
только безнужно удлиняет муки неопределенного переходного поло-
жения и увеличивает сумму народных и общественных бедствий;
а потому неустанная, неумолимая борьба против него в лице всех
его представителей, борьба без отдыха, без пощады и без перемирия
есть священнейший долг всего живого и честного на Руси.
«У него очень живой критический ум, веселый характер, стоический,
как у русского крестьянина...
Немногих людей я так люблю и так уважаю, как его...»
Маркс
члена географического общества Лопатин прибыл в Си-
бирь, но после многих испытаний в феврале 1871 г. был
арестован в Иркутске. Из заключения снова бежал, но
был настигнут в пути и вновь посажен в тюрьму. В авгу-
сте 1872 г. Лопатин снова бежал таким путем, который
представляется немыслимым для побега. В одноместной
лодке-душегубке вниз по стремительной Ангаре он про-
плыл более тысячи верст, однако в Томске был опознан
и задержан, а затем перевезен в Иркутск. Но и в этот раз
он бежал прямо из здания суда (где предполагалось
слушание дела), воспользовавшись верховой лошадью,
стоявшей на привязи. В костюме простого крестьянина
Лопатин явился в Петербург. Появление его в Петер-
бурге совпало с началом массового «хождения» моло-
дежи в народ. Лопатин не примкнул ни к одной из фрак-
ций: ни пропагандисты, ни бунтари не овладели его
вниманием. Вскоре он оставил Россию, о чем известил
предварительно Маркса. Не разделяя направления Лав-
ровского журнала «Вперед», Лопатин отказался войти в
состав его редакции, но время от времени публиковал на
его страницах статьи и корреспонденции. В Париже Ло-
патин познакомился с Тургеневым. Для великого рома-
ниста это была большая находка. Он задумал роман,
нравственной и жизненной канвой которого была жизнь
Лопатина. Продолжительная болезнь, а затем смерть
помешали писателю осуществить замысел. Каждый год
Лопатин тайно приезжал в Россию, главным образом для
свидания с матерью, которую нежно любил. Он остана-
вливался у Лизогуба, Веймара, Успенского, Михайлов-
ского. Успенский называл его «удалой добрый молодец».
Под вымышленной фамилией в 1878 г. Лопатин высту-
пил как адвокат в Московском коммерческом суде в за-
щиту изобретения П. Н. Яблочкова, с которым был бли-
зок по Парижу, где помещалась знаменитая мастерская
ученого-электрика.
III отделение было уверено, что убийство Мезенцева
совершено Лопатиным. Во время этого события он дей-
ствительно находился в столице. Лопатину многие и
очень часто указывали на его безрассудный риск. Обычно
он отговаривался шуточками. Ему нравилась игра с ог-
нем. Приключения неотделимы от его натуры. В 1879 г.
он вновь посетил Россию. В это время появилась «На-
родная воля», которая привлекла его своей активной
344
борьбой. Он хотел остаться «дома», но вскоре и неожи-
данно подвергся аресту и на этот раз просидел в заключе-
нии долго, но все же 24 февраля 1883 г. вновь бежал.
В Париже он встретил уже умирающего Тургенева,
к которому постоянно чувствовал «необъяснимое» тяго-
тение. Между этими совсем не похожими личностями
были какие-то невидимые нити взаимной связи. Маркса
он уже не застал в живых. В Париже Лопатин узнал
о положении дел «Народной воли» и сразу же предложил
Ошаниной и Тихомирову свои услуги.
Таков был Г. А. Лопатин1. О нем слагались легенды,
хотя и без них его жизнь подобна легенде. Имя его всегда
с уважением произносилось в среде подполья. Казалось,
что более подходящей кандидатуры для собирания раз-
битых сил «Народной воли» нельзя и придумать. Но дело
зависело, как мы увидим, не только и, может быть, даже
не столько от личности, хотя и сама личность Лопатина
имела немало уязвимых сторон. Прежде всего романти-
ческая жизнь приучила его пренебрегать опасностями
нелегальной жизни и борьбы. Его риск часто был не-
оправданным, с налетом авантюризма. Лопатин всегда и
везде надеялся на собственные силы и часто переоцени-
вал их. Для руководителя подпольной борьбой партии
эти качества губительны. Не менее губительно и прене-
брежение к конспирации как к системе, как к искусству.
Лопатин не был приучен к этому. Широта русской на-
туры, необузданная жажда непременной победы сказы-
вались на каждом шагу. Он, как былинный богатырь,
хотел сражаться и побеждать сам, тогда как революцион-
ный успех — результат коллективных усилий, результат
синтеза силы и воли многих. Пока, однако, эти слабые
стороны характера и привычек не были столь ощутимы,
Лопатин из всех положений выходил победителем.
Осенью 1883 г. в Париже проходило совещание на-
родовольцев. В нем приняли участие Тихомиров, Оша-
нина, Салова, Лопатин, В. Сухомлин и др. На совещании
было достигнуто и утверждено соглашение с «Пролета-
риатом» о совместных действиях, а также рассмотрены
меры по восстановлению «Народной воли».
После долгих обсуждений совещание не нашло воз-
можным изменить программу Исполнительного комитета.
1 Подробно о Г. А. Лопатине см.: В. Антонов. Русский друг
Маркса Герман Александрович Лопатин (М., 1962).
345
Оно признало ее отвечающей потребностям современ-
ного этапа борьбы. Критика программы, шедшая со сто-
роны «молодых», была оставлена без последствий. Орга-
низационную же структуру «Народной воли» сочли
необходимым несколько изменить. Вместо Исполнитель-
ного комитета была образована центральная группа в
составе 17 человек, здесь же утвержденных, в их числе
Лопатин, Салова, В. Сухомлин, Н. и В. Карауловы,
С. Иванов и К. Степурин. Во главе всей практической
деятельности «Народной воли» находилась Распоряди-
тельная комиссия из трех человек. Членами ее оказались
Лопатин, Салова и Сухомлин. «Молодые», таким обра-
зом, были отстранены от руководства, но это отнюдь не
означало, что «старые» члены «Народной воли» хотели
действовать собственными силами, без «молодых». Вы-
сказывались о том, чтобы включить всю «Молодую пар-
тию «Народной воли»» в состав «Народной воли» на
базе программы и устава Исполнительного комитета,
т. е. ни о каких уступках не могло быть речи. С этими
целями Распорядительная комиссия во главе с Лопати-
ным вернулась в Россию. Начинался так называемый
лопатинский период «Народной воли», последний ее этап
как партии активного революционного действия. В марте
1884 г. Распорядительная комиссия прибыла в Петер-
бург. Появление ее в России связывалось с большими
надеждами и не меньшими ожиданиями. Прежде всего
необходимо было парализовать или ликвидировать раз-
ногласия внутри действующих революционных сил. Ло-
патин занял совершенно непримиримую позицию в отно-
шении «Молодой партии» и ее членов, называя их не
иначе как «красными петухами». Надо заметить, что
лица, сочувствовавшие «Народной воле», тоже отрица-
тельно относились к «молодым» за их аграрный и фа-
бричный террор. И. И. Попов в своих воспоминаниях
писал о высказываниях Михайловского по этому поводу:
««Став на этот скользкий путь, легко докатиться до гра-
бежа и разбоев...» — говорил он с раздражением»г.
По этим соображениям Распорядительная комиссия
сразу же запретила всякие конфискации, которые систе-
матически практиковались на юге. Справедливое возму-
щение вызывали факты еврейских погромов, некоторые
1 «Народовольцы после 1-го марта 1881 года», стр. 77.
346
из них получали санкцию от народовольцев. Были даже
листовки, призывавшие к антиеврейскому движению под
тем предлогом, что, начавшись против евреев, народное
возмущение обратится против эксплуататоров. Под угро-
зой отстранения от всякого революционного дела антиев-
рейские настроения были парализованы. В сущности
«Народная воля» как партия не была причастна к этим
антиреволюционным и антидемократическим явлениям,
хотя правительство спекулировало этим, беря под свою
«защиту» евреев. С большим упорством и последователь-
ностью «Народная воля» очищалась от уродливых и на-
носных явлений, появившихся после разгрома Исполни-
тельного комитета. Лопатин был особенно щепетилен.
Однако самой важной задачей, которая стояла перед
новым руководством, было объединение разрозненных
сил революционного подполья, установление политиче-
ского и организационного единства. Центробежные силы
обнаружились с полной очевидностью. Единство оказа-
лось утраченным. Задача в значительной мере усложня-
лась тем, что Лопатин сам не разделял некоторых про-
граммных положений «Народной воли». Идеи бланкизма
ему были чужды, он избегал до времени споров по
программным вопросам. Лопатин прямо говорил, что
сейчас дело сводится к тому, чтобы воскресить орга-
низацию, теперь не время для споров, их нужно отло-
жить.
Еще до приезда Лопатина в Россию по требованию
Якубовича, выступавшего от имени «молодых», К. А. Сте-
пурин (оставался в России как представитель Исполни-
тельного комитета на время отъезда остальных членов)
дал согласие на созыв совещания для обсуждения про-
граммы «Молодой партии «Народной воли»». На совеща-
нии присутствовали как «молодые», так и «старые»: от
«молодых» — Якубович, Бадаев, Попов, Флеров, Мануй-
лов и др.; от «старых» — Степурин, С. Иванов, Бах и Ге-
деоновский. С приездом из-за границы участников па-
рижского совещания к ним присоединились Лопатин, Са-
лона и Сухомлин. Совещания начались в начале марта
1884 г., но 9 марта того же года многие участники их
были арестованы. От «молодых» на совещании остались
только двое — Якубович и Мануйлов. Дебаты, несмотря
на неравенство сил (преобладали «старые»), носили очень
напряженный характер. Особенно горячились Лопатин и
347
Якубович. Бах и Иванов в какой-то степени сдерживали
страсти. После многодневных упорных дебатов страсти
улеглись и «молодые» подчинились решению Парижского
съезда «Народной воли», Якубович стал фактическим
членом Распорядительной комиссии. Теперь задача со-
стояла в том, чтобы оповестить общество обо всех изме-
нениях, происшедших за последнее время как внутри
организации, так и за ее пределами. Очередной, десятый
номер «Народной воли» должен был восстановить пре-
стиж партии, воскресить ее лозунги и цели. Срочно надо
было найти типографию (к тому времени типография
«молодых» уже была разгромлена). Первоначально пред-
полагалось основать ее в Киеве, куда было направ-
лено оборудование и где уже находились ее «хозяева»
супруги Шебалины, но они оказались вскоре выслежен-
ными и арестованными. Пришлось начать все сначала.
На этот раз с огромными предосторожностями работы по
созданию типографии повели одновременно в двух горо-
дах — в Дерпте и Ростове-на-Дону.
В Дерпте Якубович довел дело до конца, хотя в среде
его «помощников» находился шпион Геккельман. Он не
выдал ни Якубовича, ни типографии из-за боязни смерти,
так как замаскировать донос не было возможности:
с типографией сносились только Якубович и Геккельман.
Ростовская типография была организована С. Ивановым
при участии Добрускиной, Гончарова и др. Какое значе-
ние придавали народовольцы восстановлению типогра-
фии, свидетельствует хотя бы тот факт, что «хозяева»
типографии решили в случае провала погибнуть вместе
с ней и для этой цели обзавелись бомбами. Однако до
таких мер дело не дошло.
Наконец, в сентябре 1884 г. появился долгожданный
десятый номер «Народной воли». Трудно передать вос-
торг, с которым революционная интеллигенция встретила
появление этого номера.
Казалось, что после долгого молчания вновь загово-
рил знаменитый Исполнительный комитет. Успех газеты
был несомненным и в либеральной среде.
Какая же политическая линия определена газетой?
Как указано выше, очищение партии от дегаевщины и
уничтожение Судейкина означало преодоление страш-
ного периода в истории народовольчества. Известно, что
программа Исполнительного комитета, а также «Про-
348
грамма подготовительных работ партии», несмотря на
попытки их пересмотра, оставались в силе и выполняли
функции основных документов.
Главная задача партии — завоевание политической
власти при помощи государственного переворота — оста-
валась неизменной в том толковании, которое дано в
программных документах старого Исполнительного
комитета, а поэтому «Народная воля» не считала целесо-
образным перенесение центра тяжести своей деятельно-
сти в народные массы. Редакционная статья свидетель-
ствует об этом: «Мы видим в народе лишь такую деятель-
ность, которая действительно способствует перевороту,
т. е. окупает затрачиваемые наши силы и увеличивает
в наибольшей степени способность партии выполнить эти
задачи. С этой точки зрения мы отрицали не «деятель-
ность» в народе, а именно «бездеятельность», «сидение
в народе», «болтовню о народе», такую якобы деятель-
ность, которая на самом деле составляла чистую «поли-
тическую фразу»» *.
По мнению народовольцев, борьба сплоченной орга-
низации с правительством оказывает на народ большее
революционное воздействие, чем непосредственная ра-
бота в массах.
«Народ для того, чтобы понимать нас, должен видеть
в нас силу борющуюся, а уже это одно не позволяет нам
уйти целиком в современную массу. Сверх того, судьбы
всей русской революции существенно зависят от того,
насколько быстро мы успеем разрушить самый центр гне-
тущего народ строя — самодержавное правительство. По-
этому уничтожать или ослаблять ту армию, которая непо-
средственно борется против правительства, есть преступ-
ление и измена народному делу» 1 2.
Работа в массах необходима, но туда надо направ-
лять только такие силы, которые не могли бы ослабить
ударов в центре, ибо последнее имеет решающее значе-
ние для революционизирования самих же масс. И, пони-
мая дело таким образом, «мы идем не только за народ,
но и с народом. Мы должны делать многое, что недоступ-
но разрозненной массе, мы нередко должны делать вы-
воды, которые она еще не сумела формулировать... Без
1 «Литература партии «Народной воли»», 1907, стр. 333.
2 Там же, стр. 334.
349
нас, т. е. без достаточного количества интеллигентной
сознательной силы, он рискует быть обманутым и разби-
тым по частям даже в эпоху революции... Но с другой
стороны, мы без содействия народа, без его силы точно
так же не можем ничего сделать в момент окончательной
развязки. Слияние силы и сознания необходимо для тор-
жества революции» *.
Но условия самодержавного строя исключают такое
слияние. Тайное общество не может быть широким, не
может охватить массы. Сейчас задача ограничивается
подготовительными работами к созданию массовой орга-
низации в момент революции. В данный же момент «мы
считаем прямо вредными несбыточные мечты о широкой
народной организации. Не широкая организация нужна,
а прочная, решительная, революционная»1 2.
Рядом с этой организацией и вокруг нее должны
существовать небольшие по количеству членов группы,
но сплоченные своей организованностью и идейностью.
Такие кружки прежде всего надо создавать среди город-
ских рабочих, которые имеют широкие связи с массой на-
рода города и деревни.
«Мы не только пропагандисты, агитаторы, бунтов-
щики. Мы передовой отряд самой революции, исполняю-
щий ее общую миссию — разрушение существующего
строя. Наша деятельность в общей сложности есть живой
пример, живой образчик, видимый миллионами, пропа-
гандирующий и агитирующий их»3.
Это, понятно, не исключает того, что партия «мно-
гому учится у народа, но, учась, мы не теряем своего
основного характера — элемента сознательности» 4.
Таковы основные программные положения, изложен-
ные в десятом номере.
Сложнее обстояло с тактическими приемами партии,
с линией ее повседневной деятельности. Лопатин и Рас-
порядительная комиссия решительно отвергли известное
укоренившееся правило: «Для достижения поставленной
цели все средства хороши». Этим правилом широко поль-
зовались местные группы, и особенно на юге. Были кате-
1 «Литература партии «Народной воли», 1907, стр. 334—335.
г Там же, стр. 335.
’Там же, стр. 336.
4 Там же.
350
горически запрещены всякого рода «конфискации» вроде
нападений на банки, почты и т. п. Были также отверг-
нуты все виды мистификаций как пережиток Чигирин-
ских приемов, а вместе с ними и практика экономического
террора.
Партия должна быть очень разборчивой и строгой в
оценке конкретных форм и приемов борьбы. Такие про-
явления озлобленности и ожесточения народа, как аграр-
ные и фабричные убийства, поджоги и т. п., не имеют
«никакого отношения ни к какой революционной про-
грамме. .. Без сомнения, крестьянин или рабочий, как и
каждый человек, не имея защиты от общества, имеет
полное право самозащиты. Но до тех пор, пока это есть
его личное дело, оно не касается революции. Обязан-
ность же революционера — это словом и делом способ-
ствовать не сведению личных счетов, а превращению
личного протеста в общественный» *.
Стихийные протесты могут быть использованы рево-
люционерами только тогда, когда они служат исходным
пунктом для политического воспитания масс, для луч-
шего подхода к решению основной задачи партии. В про-
тивном случае отдельные виды протеста могут только
ронять дело партии, задерживать революционную ини-
циативу и парализующим образом действовать на психо-
логию масс. «Народ всегда и во всем должен видеть,
что мы не только на его стороне, не только хотим ему
добра, но сверх того знаем, как этого достигнуть... Лишь
таким путем наша деятельность в народе может создать
между ним и партией ту нравственную связь, которая так
необходима для успеха революции»1 2.
Как видно из сказанного, программа «Народной воли»
и ее тактика не подверглись сколько-нибудь заметным
изменениям. Те тактические наслоения, которые образо-
вались в период безвременья, были отброшены. Остав-
шиеся деятели «Народной воли» рассчитывали воскре-
сить свою партию с ранее поднятым знаменем и со ста-
рым оружием. Им казалось, что время не вносит никаких
коррективов.
Но здесь возможен вопрос. Все, о чем только что гово-
рилось, основано главным образом на редакционной ста-
1 «Литература партии «Народной воли»», 1907, стр. 337.
2 Там же, стр. 338.
351
тье, написанной рукой будущего ренегата Тихомирова.
Но можно ли отождествлять взгляд одной личности с
политической линией Исполнительного комитета?
Действительно, большинство редакционных статей, в
том числе и разбираемая, написаны Тихомировым. Но
в данном случае авторство статьи не имеет решительно
никакого значения. Дело все в том, что статья не расхо-
дится с содержанием и смыслом «Программы подготови-
тельных работ «Народной воли»», более того, она яв-
ляется пространным комментарием к программе. Но и это
еще не все. Несмотря на значительное положение в пар-
тии, Тихомиров никогда в ней не играл первостепенной
роли. Эта последняя принадлежала другим, и в первую
очередь Михайлову. И вот если посмотрим «Завещание»
Михайлова, написанное им в заключении в середине
февраля 1882 г., то легко убедимся, что основные мысли
его нашли отражение в статье Тихомирова. Так, Михай-
лов писал: «Да, братья, путь ваш верен, идите им без
страха и сомнения!» Далее он рекомендует не распы-
лять силы, не увлекаться посторонними делами, а сосре-
доточить все внимание на завоевании свободы через
удары в центре. «Заставить отдать или отнять власть еди-
нодержца — вот задача, единственно достойная траты на-
родных сил, жертв, столь дорогих и ценных» L
Михайлов был глубоко уверен, что при совершении
еще одного-двух ударов, направленных на императора,
конституция Россией будет завоевана и тогда откроется
путь или для идейной борьбы, или для народной револю-
ции непосредственно. А сейчас, в данное время, необхо-
димо совершенствование революционной организации.
«Выработайте революционную дисциплину, революцион-
ное искусство. Когда средства революционной борьбы
будут так же верны, как и наша светлая цель, как наш
тернистый путь, тогда вы непобедимы, и постыдное веко-
вое холопство земли русской сменится гражданской сво-
бодой» 1 2.
Поэтому можно без ошибки сказать, что тот полити-
ческий план, которому следовала «Народная воля» в «ло-
патинский период», был тем же планом, выработанным
партией во время своего расцвета.
1 См. А. П. Прибылева-Корба и В. Н. Фигнер. А. Д. Михайлов,
стр. 205.
2 Там же, стр. 206.
352
Работы по воссозданию типографии шли одновре-
менно с восстановлением и укреплением местных орга-
низаций «Народной воли» и установлением контактов и
договорных начал с другими, не народовольческими, но
подпольно действующими кружками и группами. Так,
вслед за соглашением с «Пролетариатом» велись пере-
говоры и было достигнуто соглашение с московским
кружком «милитаристов». От «Народной воли» перего-
воры вел Сабунеев, а от «милитаристов» — Распопин.
Кружок «милитаристов», по всей вероятности, возник
еще в 1880 г. независимо от военной организации «На-
родной воли». «Милитаристы» не верили в возможность
народной революции и самое работу в массах отрицали.
Цель кружка «милитаристов» — государственный пере-
ворот путем заговора военных по образцу декабристов,
но в более широких размерах и с большей решительно-
стью. Первоначальным ядром этого кружка были сту-
денты Московского университета В. Распопин, П. Соко-
лов, П. Аргунов и братья Вигилевы. Создать мощный
«военный кулак» и направить его разрушительную силу
на правительство — такова идея «милитаристов». Затем
они несколько изменили, точнее, расширили свои взгля-
ды. К идеям военного заговора добавили пропаганду
социально-революционных доктрин в сфере интеллиген-
ции и рабочих. С этой целью они издавали переводы ра-
бот Л. Блана, К- Маркса, Ф. Энгельса и др. Заметным
общественным влиянием «милитаристы» не пользовались,
тем не менее игнорировать их не было смысла. Они имели
свой кружок в Александровском юнкерском училище.
Народовольцы считали нужным присоединить «милита-
ристов» к своей партии. Переговоры не были доведены до
конца из-за арестов всех руководителей кружка «мили-
таристов», которые позднее, летом 1884 г., судились по
процессу студенческого союза.
Распорядительная комиссия с большим напряжением
сил, но с энтузиазмом и самоотверженностью вела дела
по восстановлению и оживлению революционной борьбы.
Лопатин совершал поездки в Москву, Ростов, Киев,
Одессу и везде наблюдал определенный подъем. Пред-
полагалось, что партия, оправившаяся от столь серьезных
потерь, заявит о себе каким-либо крупным политическим
актом, который вновь заставит говорить о ней как о борю-
щейся и непобедимой силе. Для начала намечалось поку-
23 М, Г. Седов
353
шение на министра внутренних дел графа Д. Толстого
как наиболее ненавистного и реакционного деятеля. Пла-
ны буквально носились в воздухе, для их осуществления
были приготовлены взрывные снаряды. Что касается
исполнителей, то в них «Народная воля» никогда не ощу-
щала недостатка. Рвущихся в бой для мщения, победы
и смерти молодых людей было вполне достаточно.
Создавалось впечатление, что восстановительная дея-
тельность в народовольческом движении приближается к
завершению и что недалек тот день, когда можно будет
сказать, что «Народная воля» воссоздана, все самое мрач-
ное и трудное уже позади. Но так только казалось с пер-
вого взгляда. «Народную волю» постиг очередной раз-
гром, оказавшийся для нее роковым.
7 октября 1884 г., днем, на Невском проспекте при
обстоятельствах совершенно неожиданных был схвачен
и арестован Лопатин. На этот раз не могли помочь ни
его богатырская сила, ни находчивость. При арестован-
ном оказалось 11 листков тончайшей бумаги, мелко ис-
пещренных различными конспиративными записями.
В них были пароли, адреса, списки — другими словами,
тайна внутренней жизни «Народной воли». Провал Ло-
патина повлек за собой целую серию арестов и имел
громадные последствия. Полиция схватила около 500 че-
ловек. Понятно, восполнить такой урон было уже невоз-
можно. Из этой массы заключенных выбрали наиболее
влиятельных и крупных деятелей, над которыми состоял-
ся судебный процесс. «Дело 21-го» политического пре-
ступника рассматривал военный окружной суд, заседав-
ший с 28 мая по 4 июня 1887 г. Предварительное след-
ствие, продолжавшееся почти три года, содержало
большой фактический материал о революционной борьбе
«Народной воли» и ее последнего отряда. Ни у Лопатина,
ни у Садовой не было никаких надежд. Суд приговорил
их к смертной казни, но при конфирмации казнь заме-
нили каторжными работами. Центральной фигурой всего
процесса с первого его дня и до конца оставался Лопатин.
Его выдающаяся жизнь, полная борьбы и отваги, при-
влекала всеобщее внимание. Даже непримиримые его
враги признавали в нем могучую силу. Он был уверен
в роковой развязке и, несмотря на это, ни во время пред-
варительного следствия, ни в тяжелые дни суда не обна-
ружил ни малейших признаков уныния. Духом стойкости
354
и уверенности веяло от последних слов его: «Пощады
просить не буду и сумею умереть мужественно, как и
жил».
Эти события и связанные с арестами Г. Лопатина и
Н. Саловой последствия нанесли «Народной воле» смер-
тельный удар. Как партия, она уже не могла воскреснуть.
Однако попытки, и довольно решительные, предполага-
лись в этом отношении. Они связаны главным образом
с именами Б. Оржиха и Вл. Богораза. В 1885 г. им
удалось связать между собой некоторых деятелей народо-
вольчества и даже созвать в Екатеринославе совеща-
ние из представителей южных организаций народоволь-
чества. Было вынесено решение об объединении уцелев-
ших после погромов кружков и групп «Народной воли» и
о возобновлении издания газеты. В том же году типогра-
фия была создана в Таганроге на квартире супругов
А. и Н. Сигида. Предполагалось также введение терро-
ристической деятельности, после того как мало-маль-
ски окрепнут организации. С громадным напряжением
сил этому кружку народовольцев удалось собрать мате-
риал и выпустить последний, 11—12 номер «Народной
воли», помеченный октябрем 1885 г. Вскоре, однако, типо-
графия была разгромлена, ее хозяева арестованы, а через
некоторое время та же участь постигла Оржиха и Бого-
раза. Они в 1887 г. были приговорены к каторжным ра-
ботам. Судьба большинства членов этого кружка народо-
вольцев оказалась трагичной: они погибли в Сибири.
Оржиху удалось скрыться в Японию, и он там смог за-
нять известное общественное положение и успешно вел
русскую революционную газету, имевшую успех. Старым
взглядам «Народной воли» он служил и вне России.
После кружка Оржиха, Богораза и других уже не
было попыток восстановить «Народную волю», она окон-
чательно сошла с арены борьбы. Что же касается вторых
первомартовцев, то их организация совсем новая, хотя
в идейном отношении между старой «Народной волей» и
группой Шевырева — Ульянова есть прямая и непосред-
ственная связь.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исходным пунктом, всепоглощающей идеей борьбы наро-
довольцев являлось стремление пробудить народ, под-
нять его на социальную революцию. Землевольческий
период доказал, что деятельность, направленная прямо на
крестьянство, не вызывает тех результатов, о которых
думали. В целом крестьянин был далек не только от ре-
волюции, но и от организованного бунта, хотя для рево-
люционеров это было еще не совсем ясно. Кроме того,
обращение к народу было настолько затруднено условия-
ми быта и политической жизни, что вызывало слишком
большие потери революционных сил. Поэтому вполне
логично возникла мысль о том, чтобы сначала расчи-
стить путь для общения с народом, а затем уже все вни-
мание сосредоточить на работе с массами.
Итак, «сперва разделаться с самодержавием, а затем
осуществить социальный переворот в той форме, в кото-
рой захочет его осуществить народ» *.
Если теперь так ставилась революционная задача, то
она в свою очередь требовала признания двух принци-
1 «Календарь «Народной воли» на 1883 год», стр. 108.
356
пиальных положений: 1) сила политического фактора
(власти) — решающая сила общественного развития и
2) Россия может миновать капиталистическую стадию
развития или, точнее, прервать это развитие. И то и дру-
гое положение было зафиксировано в программе «На-
родной воли». Революционеры начинают открытую борь-
бу с правительством. Они, как в столкновении армий,
признаются одной из воюющих сторон. На белый террор
правительства народовольцы отвечали красным. Чуть ли
не каждый арест превращался в осаду. Практическая
борьба заставила изменить организационные основы пар-
тии. Анархизм в строительстве революционных сил сме-
нился более сильным течением в пользу централизма.
Народовольцы были убеждены, что борьба с царизмом
должна носить общероссийский характер, что разделение
освободительных сил по национальным и территориаль-
ным признакам пагубно для революции.
Отсюда появление Исполнительного комитета как
символа централизации и как руководителя новой пар-
тии. Революционное движение России пошло по наро-
довольческому руслу и отождествлялось с «Народной
волей». В прошлом непосредственно связанная с кре-
стьянской революцией, идея народнического социализма
превратилась теперь в неотъемлемую часть доктрины
захвата власти революционерами.
Но, приступая к политической борьбе, народовольцы
уже имели определенную программу. На разных этапах
она менялась. Вот эти этапы: от Липецкого съезда до
начала 1880 г.; с начала 1880 до 1 марта 1881 г. и после-
мартовский период. Возможно более дробное подразде-
ление, но оно лишь затруднит выявление и понимание
основных линий развития.
Первый период можно охарактеризовать так. Револю-
ционеры политического направления (до образования
«Народной воли» и в первые месяцы после ее возникно-
вения) были уверены в том, что сам факт активной
357
борьбы с правительством даст громадный эффект, про-
изойдет расширение и углубление русла революционного
движения, активизируется все общество. Поэтому внима-
ние обращалось на создание такой организации боевых
сил, которая способна была вести эту борьбу. Главным
средством борьбы признавался террор, направленный на
наиболее важных лиц правительства и самого монарха.
Предполагалось, что, действуя таким образом, можно
будет подорвать авторитет и незыблемость самодержав-
ного правления; дезорганизовать систему управления,
что вызовет растерянность представителей власти, а мас-
сы и общество убедятся, что положение не столь безна-
дежно, можно вести борьбу с определенным успехом;
возрастет авторитет революционера и революционной
организации и усилится приток свежих сил в ее ряды.
Поставленные в порядок дня проблемы оказались по-
пулярными в широких слоях интеллигенции, учащейся
молодежи и отчасти в рабочей среде. «Народную волю»
поддержали все наиболее известные и влиятельные дея-
тели русского освободительного движения. Характерны
слова Берви-Флеровского: «Социального переворота по-
мимо революции не будет и быть не может... Другое
дело конституция. Конечно, не бывало примера, чтобы
конституция вынуждалась террором... но, с другой сто-
роны, не бывало также примера, чтоб на высшие сферы
был наведен террором такой страх, какой был наведен
теперь... Неограниченные государи нигде не уступали
требованию конституции добровольно, всюду такое усо-
вершенствование в управлении сопровождалось кровопро-
литиями и большими страданиями народных масс. Если
бы несколько смелых людей могли сделать это дело,
рискуя только собою, чего же лучше... Мысль эта созре-
вала в головах деятелей и наконец превратилась в реши-
мость» Ч
1 Н. Флеровский. Три политических системы: Николай I, Але-
ксандр П и Александр III, Женева, 1897, стр, 336—367,
358
Постановка проблемы борьбы за свободу у народо-
вольцев была более сложной, чем она представлялась
Берви-Флеровскому, но мысль о сочувствии «Народной
воле» приведенные слова подчеркивают очень хорошо. На
стороне народовольцев, как мы видели, выступали также
многие деятели революционной мысли европейских госу-
дарств.
«Народная воля» сложилась из разнородных элемен-
тов демократии и, несмотря на наличие в ней нескольких
групп и течений, сохранила полное единство и монолит-
ность: объединяла идея политической борьбы. Нападе-
нием на правительство предполагалось создать условия
для краха политической системы царизма и высвободить
тем самым эксплуатируемые массы от сковывающих
их пут.
В этот отрезок времени революционеры не возлагали
на народ никаких особых надежд. Массы в данном слу-
чае представлялись объектом, а не субъектом револю-
ционного дела. Программа Исполнительного комитета
«Народной воли» так и писала об этом.
Второй период деятельности «Народной воли» начи-
нался в новой обстановке. Правительство разуверилось
в системе традиционной борьбы с революционным дви-
жением. Оно явно заколебалось. Произошли изменения
и в народовольчестве. «Народная воля» стала значитель-
ной силой, она из группы революционеров превратилась
в могущественную для того времени партию. Ей было уже
по плечу ведение разнообразных форм борьбы и деятель-
ности, что нашло отражение в «Программе подготови-
тельных работ партии». Это документ широких полити-
ческих задач. Он появился не только как результат неко-
торой разочарованности в политическом терроре, но и
как прямое следствие возрастания силы и уверенности
самой партии. Народовольцы создают рабочую, воен-
ную, студенческую организации, устанавливают связи
с выдающимися деятелями Европы и т. д.
359
Усиление партии, активизация ее борьбы совпали с
резким ухудшением экономического положения народа.
Недород 1879 г. и неурожай 1880 г. вызвали в стране го-
лод, а с ним и всеобщее недовольство, а кризисные явле-
ния в промышленности усилили забастовочное движе-
ние среди рабочих. Эти обстоятельства, естественно,
заставили Исполнительный комитет повнимательнее по-
смотреть на соотношение сил и признать возможным
активное выступление рабочих в городе, а крестьян в де-
ревне. Рамки политической борьбы могли значительно
расшириться, в ее орбиту стали включаться рабочие, кре-
стьяне и даже офицерский состав армии. Но эти новые
обстоятельства ни в малейшей степени не изменили
взгляда народовольцев на целесообразность и необходи-
мость захвата власти революционной организацией. При
расширении русла революционного движения под эту
идею подводилось только более прочное основание. От-
сюда вытекали различные варианты возможных путей
развития революционных событий.
Третий период можно назвать периодом упадка. Он
наметился осенью 1880 г., но явно определился после со-
бытий 1 марта. В это время партия подверглась страш-
ным испытаниям. Все ее руководство погибло или в
результате прямых действий правительства, или через про-
вокации и измены. Насколько велики потери народоволь-
цев, свидетельствуют хотя бы политические процессы.
Если даже оставить в стороне судебные разбиратель-
ства, по которым проходили одновременно народоволь-
цы и представители других политических течений, то
«Народная воля» за семь лет подверглась массе гонений.
Вот наиболее крупные и исторически важные процессы
над ней: «16-ти» (1880), первомартовцев (1881), «20-ти»
(1882), «17-ти» (1883), «14-ти» (1884), лопатинский
(1887) и Оржиха (1887).
Они унесли лучшие силы тогдашней революционной
России и обескровили «Народную волю». До событий
360
первого марта Исполнительный комитет «Народной воли»
имел в своем распоряжении не менее 12 местных групп
и несколько специальных, которые охватывали своим
влиянием несколько тысяч человек *.
Пожалуй, еще большая сила народовольчества сосре-
доточивалась в ее рабочей организации, общая числен-
ность которой доходила до 1500 человек1 2. Надо пола-
гать, что их влияние распространялось на еще большее
число лиц. И все эти кадры революционного движения
оказались разбитыми и рассеянными. Для большей на-
глядности потерь «Народной воли» посмотрим на них в
сопоставлении. Интересны в этом отношении сводные
данные департамента полиции:
«С августа 1873 по 1876 г. у нас производились дозна-
ния по 17 процессам (не считая военных)... За весь этот
период привлекалось к дознанию в качестве обвиняемых
1611 человек (85% мужчин, 15% женщин). Из них осво-
бождено 557 человек.
С 1875 по апрель 1879 г. возникло новых дел и пере-
дано министерству юстиции 1498 человек.
За 1879 по январь 1880 г. еще возникли дела на 992
человека. С 1 марта 1881 по 1894 г. привлекался 5851
обвиняемый, из них 27 казнено, 342 заключено в крепость
и на каторгу и 5482 человека административно решено» 3.
Если иметь в виду, что с 1879 и до середины 90-х го-
дов более 90% обвиняемых привлекались к ответственно-
сти за деятельность народовольческую, то получается
(несмотря на отсутствие данных за 1880 г.), что жертвы
«Народной воли» в 2 раза превышают жертвы всех дру-
гих революционных организаций и антиправительствен-
ных течений.
Причины неудач «Народной воли», ее гибели много-
сложны. Очевидно, главной из них надо признать то, что
1 См. «Календарь «Народной воли» на 1883 год», стр. ИЗ.
2 См. «История пролетариата СССР». Сборник 1, стр. 58.
* ЦГАОР, ф. ДПИ, д. 173, 1900 г., пакет 1, л. 47.
361
народовольцы не сумели в своей борьбе опереться на
революционный класс, способный повести массы на
борьбу с царизмом. Но в этом не вина, а беда народо-
вольцев, ибо такого класса в России еще не было. В этом
смысле народовольчество представляло собой явление
исторически обреченное, впрочем, как и все течения той
эпохи. Оно отразило предпобедный этап революционного
развития. Народовольцы своими призывами к политиче-
ским преобразованиям отразили желания масс, но не их
способность осуществить их. Налицо был разрыв между
объективной потребностью страны в уничтожении абсо-
лютизма и реальными силами, способными решить эту
задачу.
Социальное и экономическое развитие России в то
время находилось еще на той ступени, когда жизнь не
подготовила руководящего класса, способного возглавить
борьбу с царизмом. Попытка же подменить мощь класса
силами революционной интеллигенции не могла дать по-
ложительного результата. Героизм одиночек не мог за-
менить усилий массы.
Неразвитость общественных отношений порождала
ограниченную теорию, которая не способна была осве-
тить народным массам путь их борьбы. В лучшем случае
эта теория выражала только их надежды. Не вина, а тра-
гедия и беда «Народной воли» состоят в том, что она не
сумела отыскать и выработать научную теорию для своей
практики. Кроме того, народовольцы переоценили значе-
ние политического террора. Избежать его они не могли.
Он логически вытекал из конкретной обстановки, но опре-
делить реальную силу воздействия этого метода они
были обязаны. Эксцитативный1 характер террористиче-
ского движения не подлежит сомнению, однако не менее
ясно и то, что это движение не должно было поглощать
так много сил партии. Обратив главное внимание на вы-
1 Эксцитативный — возбуждающий, привлекающий внимание.
362
полнение программы и создание народной партии, о чем
так прекрасно говорил Желябов на Воронежском съезде,
народовольческое движение могло бы прийти к иным
результатам.
Несмотря, однако, на поражение и ошибки, роль «На-
родной воли» в истории русского революционного движе-
ния громадна. Не подлежит сомнению, что «Народная
воля» нанесла серьезный удар царизму, подорвала его
авторитет и престиж. Она поставила как очередную за-
дачу политическую борьбу и тем самым указала то глав-
ное, чем должны заняться все революционеры, все под-
полье. Эта задача, как подчеркивал В. И. Ленин, осталась
в силе и для социал-демократии.
Организационная деятельность «Народной воли» во
многих случаях поучительна, а иногда достойна подра-
жания и восприятия.
Борьба народовольцев прямо и косвенно действовала
на воспитание русского народа в революционном духе
и оказала влияние на всю культуру России. Революцион-
ная мораль народовольцев основана на удивительной
преданности раз принятой идее, на безграничной верно-
сти народу. Особо обращает на себя внимание в поведе-
нии революционера-народовольца единение слова с делом
и дела со словом. Народовольцы дали образцы взаи-
моотношений революционеров между собой, построен-
ных на высших принципах доверия, контроля и самокон-
троля, на бережном отношении к способностям товарища,
к его таланту.
«Народная воля» подняла на небывалую до тех пор
высоту авторитет и славу русского революционера и
стала источником неугасаемого интереса со стороны тех,
кто изучает прошлое, кто интересуется им.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ . . . . 3
Глава I. НОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ В РЕВОЛЮЦИОН-
НОМ ДВИЖЕНИИ. ВОЗНИКНОВЕ-
НИЕ ИДЕОЛОГИИ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ БОРЬБЫ......................55
Глава II. «ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ» И НОВЫЕ ЗА-
ДАЧИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИ-
ЖЕНИЯ ..........................134
Глава III. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ПЕРВЫЙ ПЕ-
РИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «НАРОД-
НОЙ ВОЛИ».......................179
Глава IV. «НАРОДНАЯ ВОЛЯ» В ПЕРИОД
КОЛЕБАНИЯ «ВЕРХОВ» . ... 230
Глава V. «НАРОДНАЯ ВОЛЯ» ПОСЛЕ СОБЫ-
ТИЙ 1 МАРТА.....................281
Глава VI. НА ЗАКАТЕ БОРЬБЫ......316
ЗАКЛЮЧЕНИЕ......................356
Седов, Михаил Герасимович
ГЕРОИЧЕСКИЙ ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИОННОГО
НАРОДНИЧЕСТВА (Из истории политической борьбы).
М., «Мысль», 1966.
364 с. с илл.
9 (С) 16
Редактор Ю. В. Мочалова
Младший редактор Г. И. Пылаева
Оформление художника Г. М. Чеховского
Художественный редактор Р. А. Володин
Технический редактор Р. В, Москвина
Корректоры С. С. Игнатова, Е. А. Толстикова
Сдано в набор 26 апреля 1966 г. Подписано в печать
31/VHI 1966 г. Формат бумаги 84Х1082/32, № 1. Бумаж-
ных листов 5,75. Печатных листов 19,32. Учетно-изда-
тельских листов 19,06. Тираж 11 000 экз. Заказ Хе 966.
А-11717. Цена 1 руб. 35 коп.
Темплан 1966 г. № 79.
Издательство «Мысль»
Москва, В-71, Ленинский проспект, 15
Ленинградская типография № 5 Главполиграфпрома
Комитета по печати при Совете Министров СССР.
Красная ул., 1/3